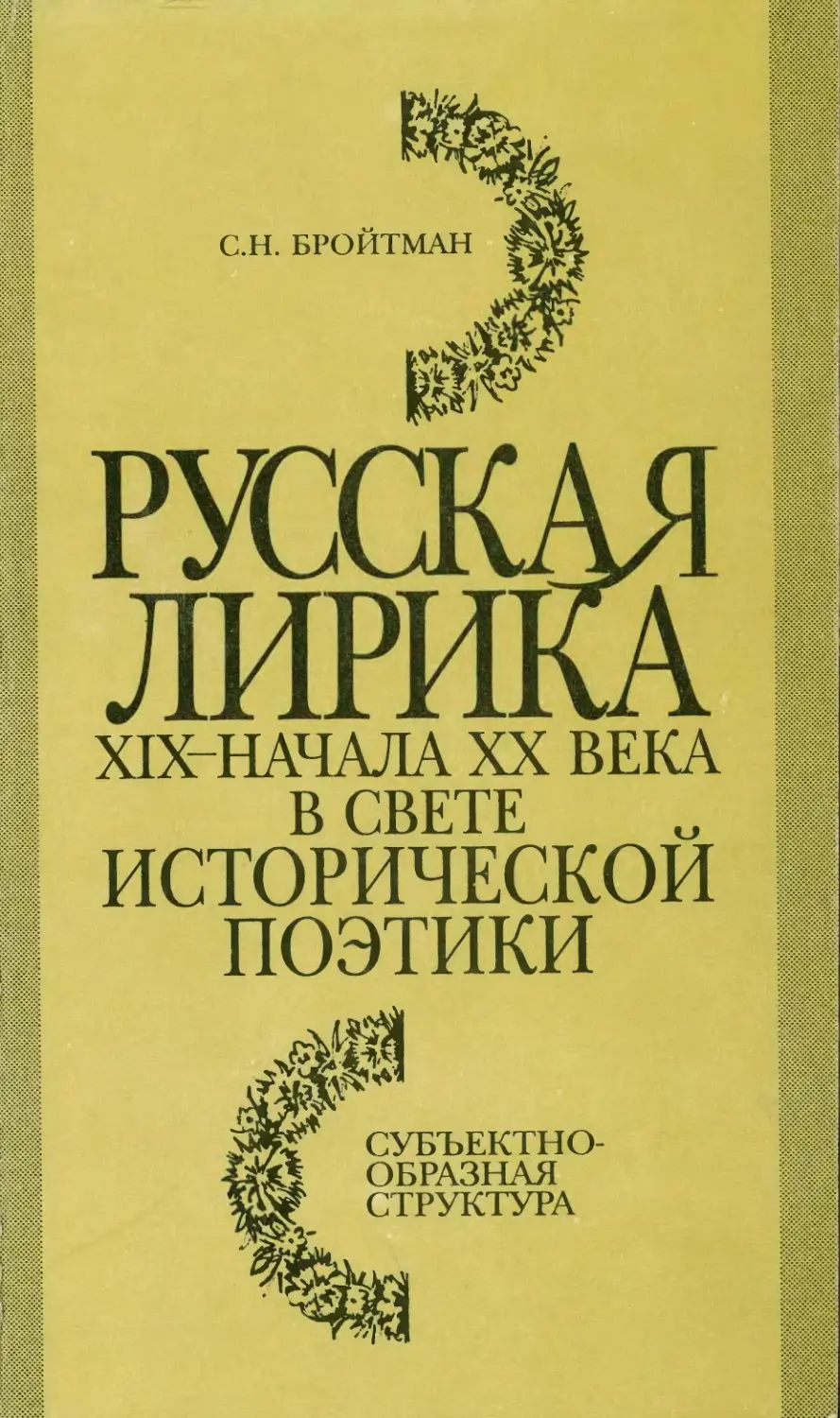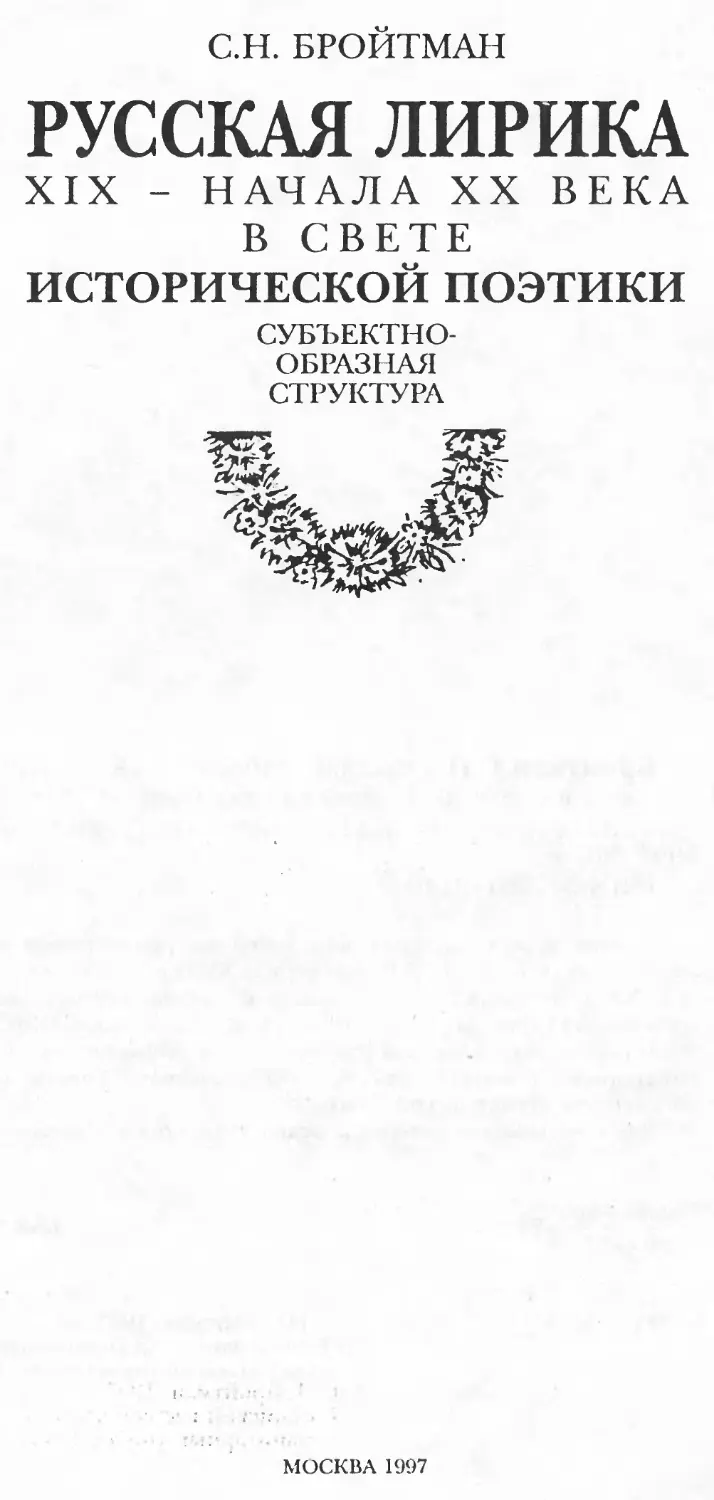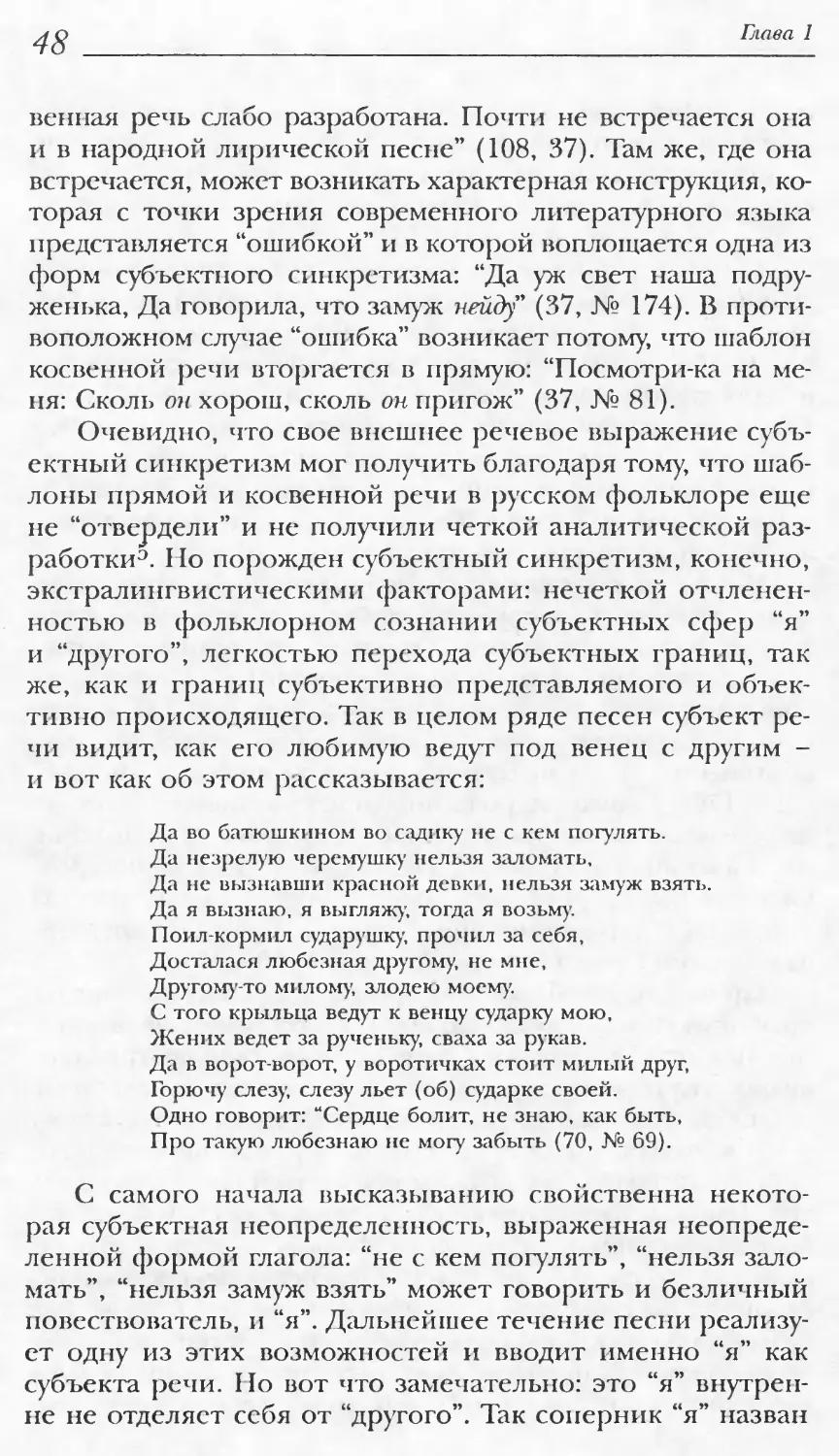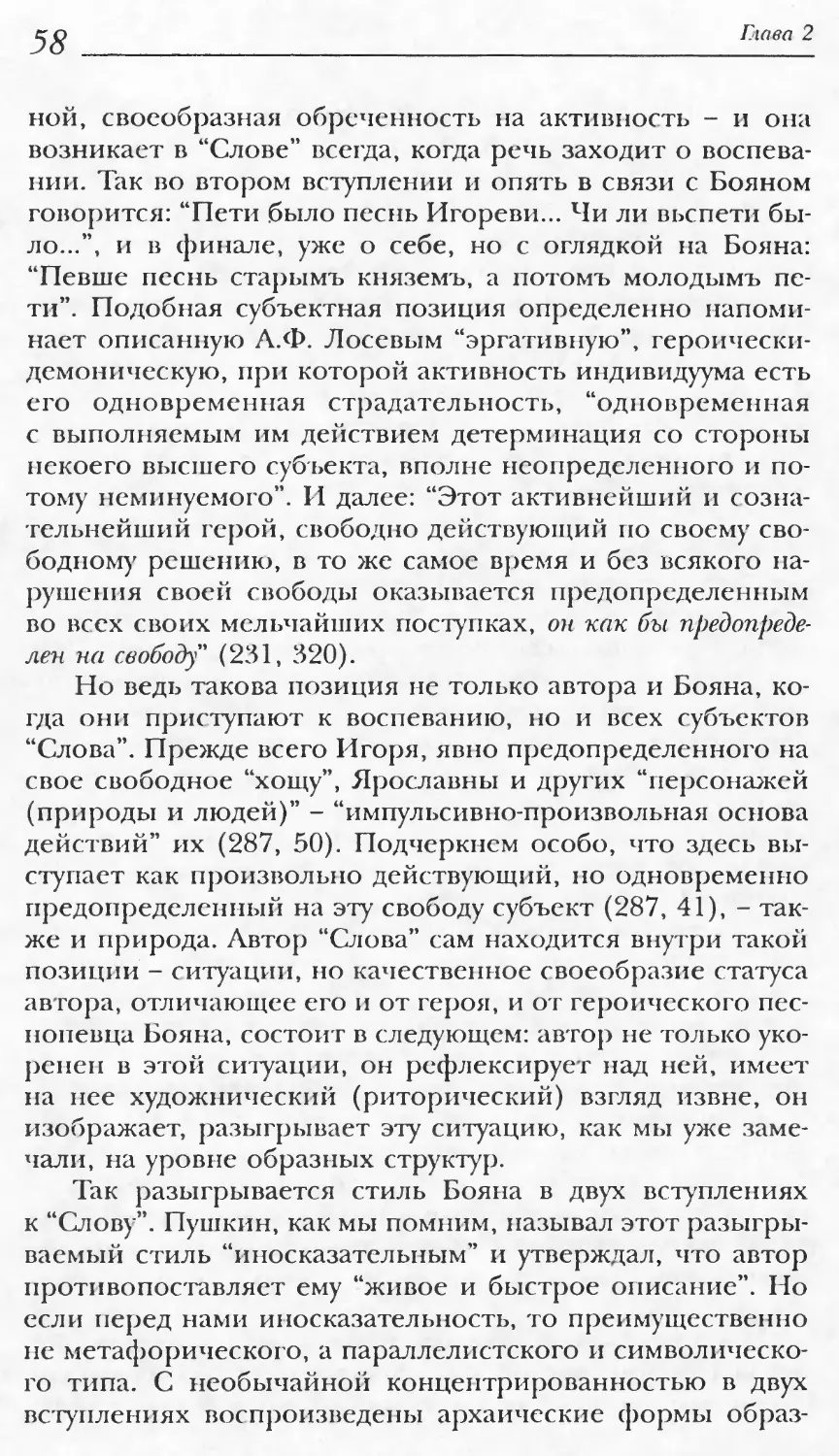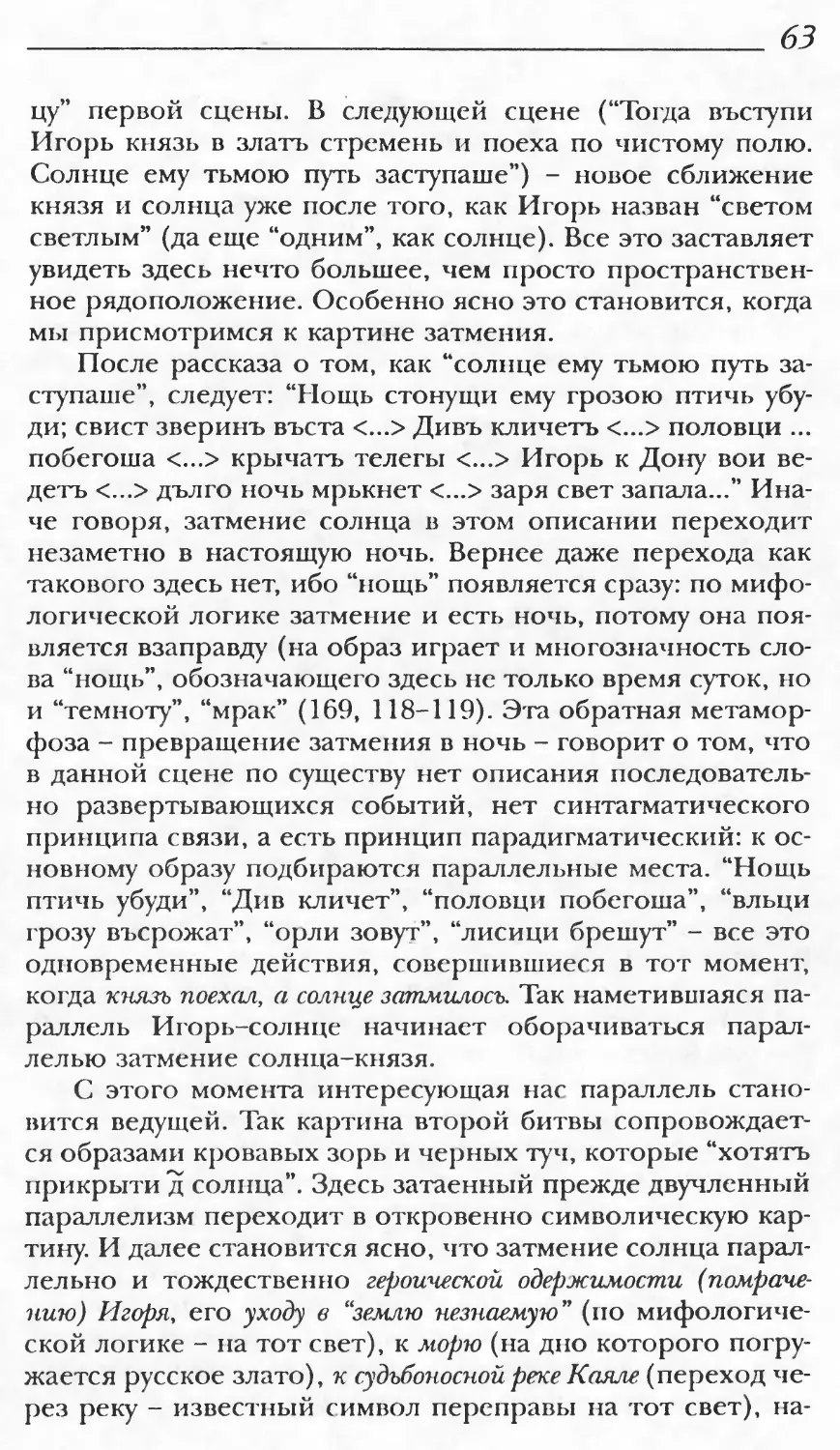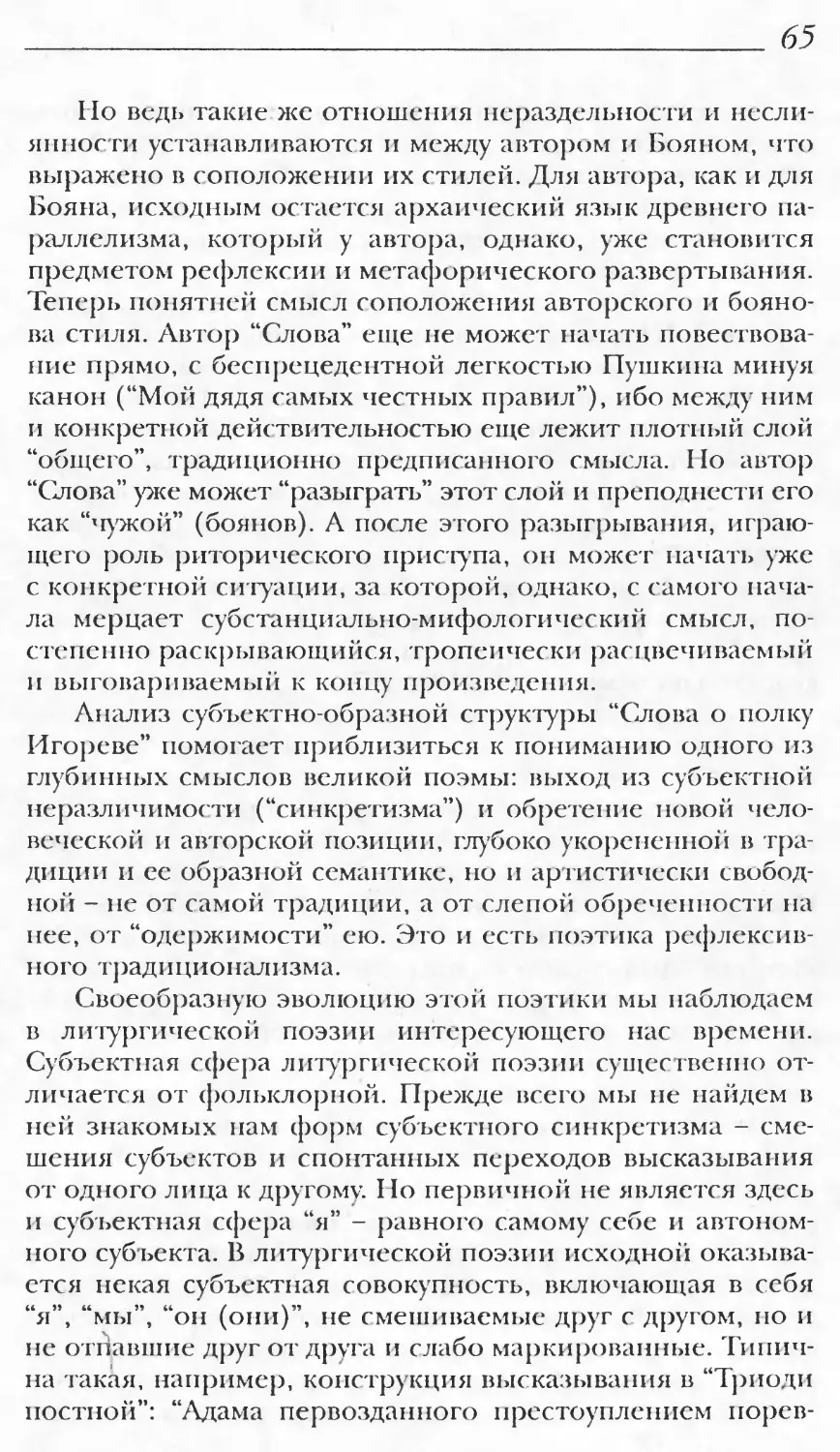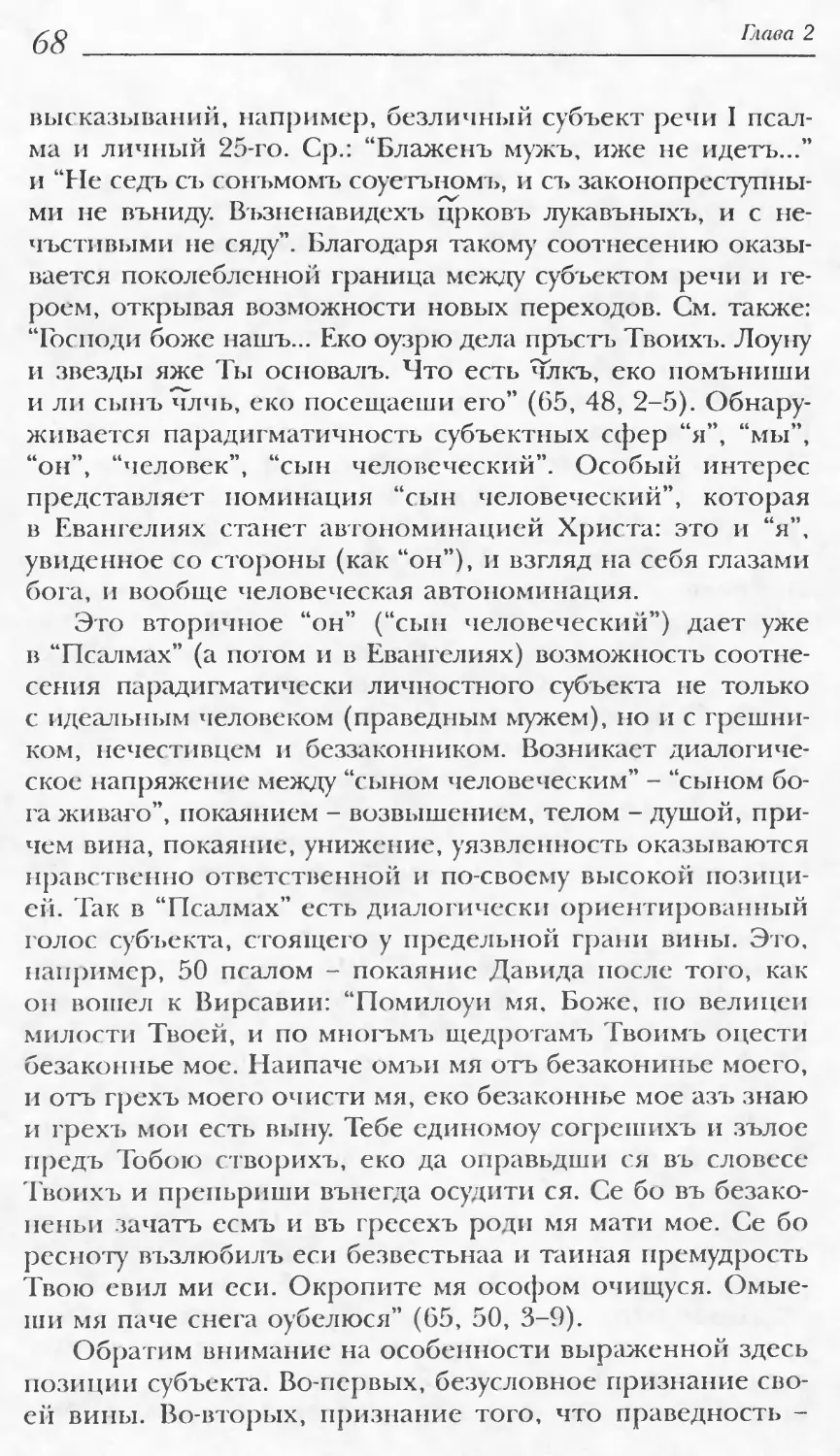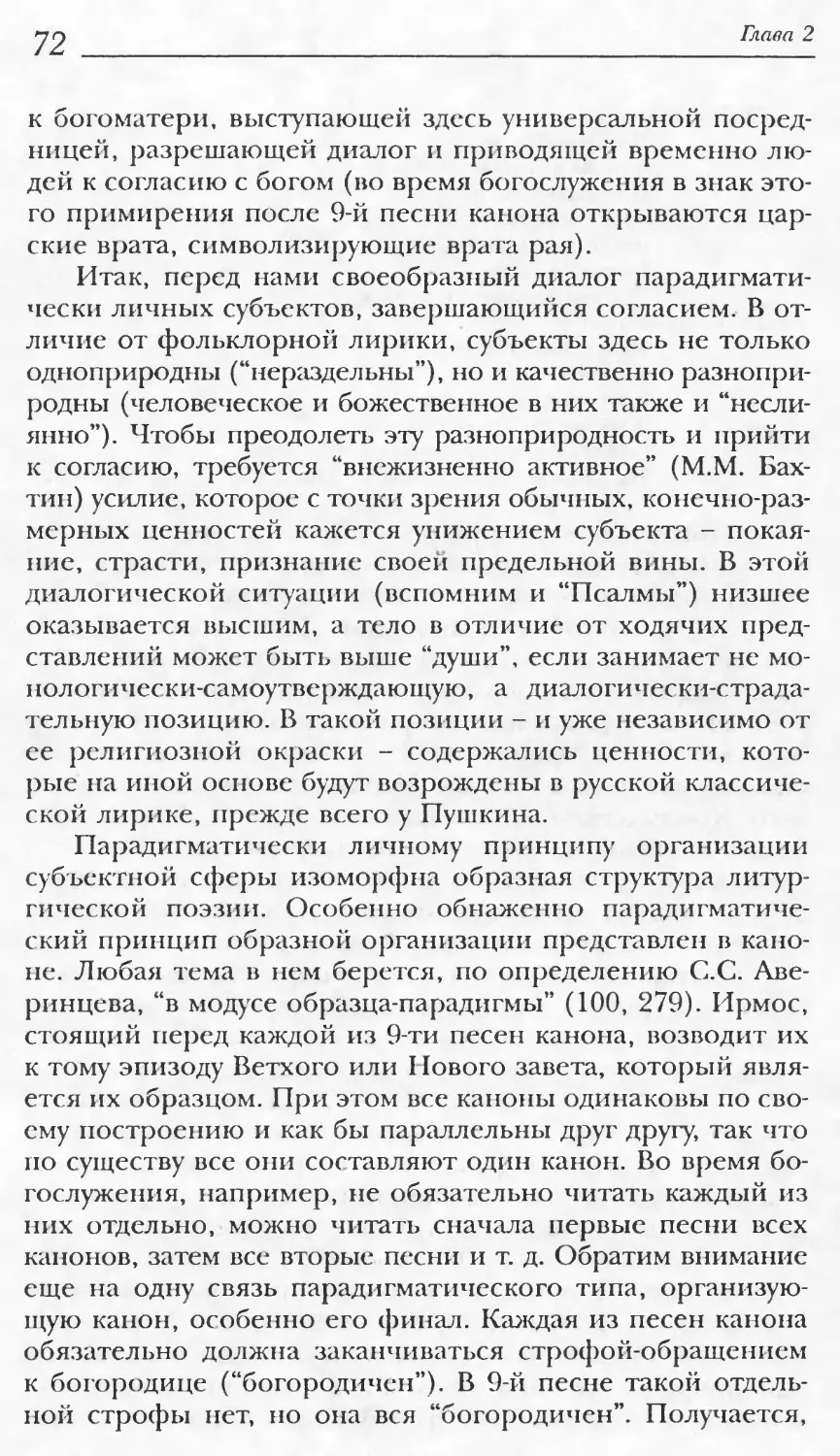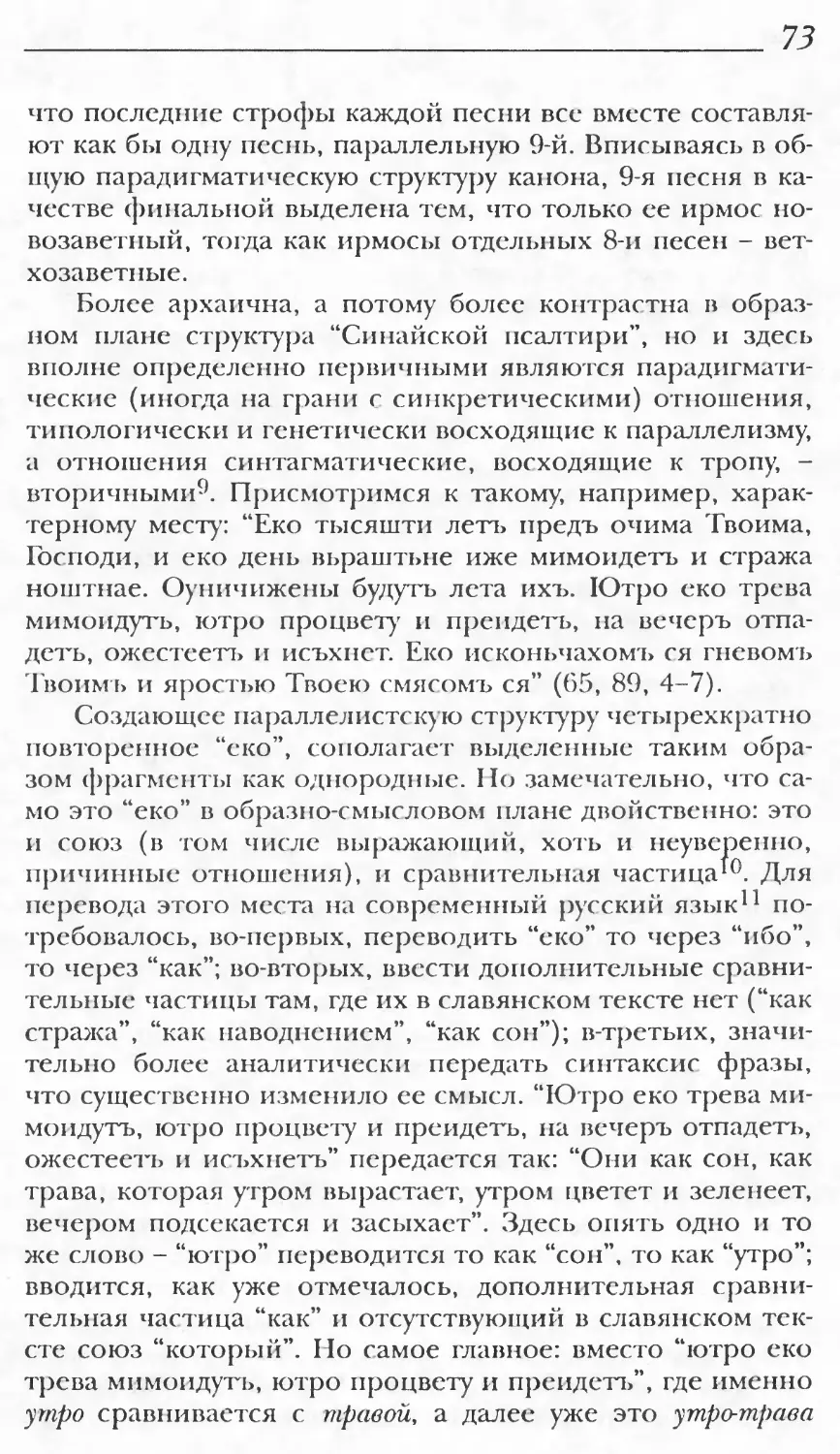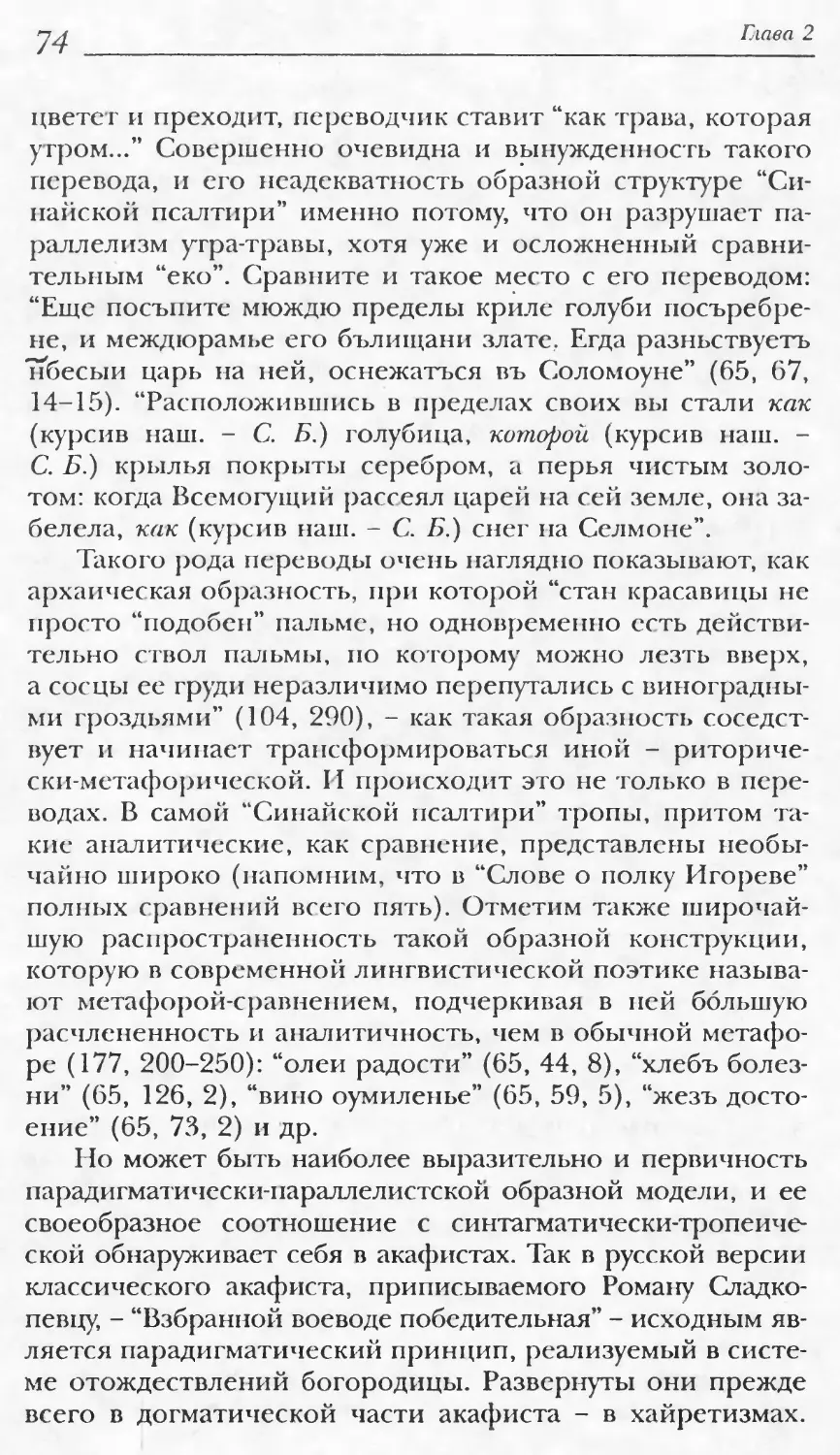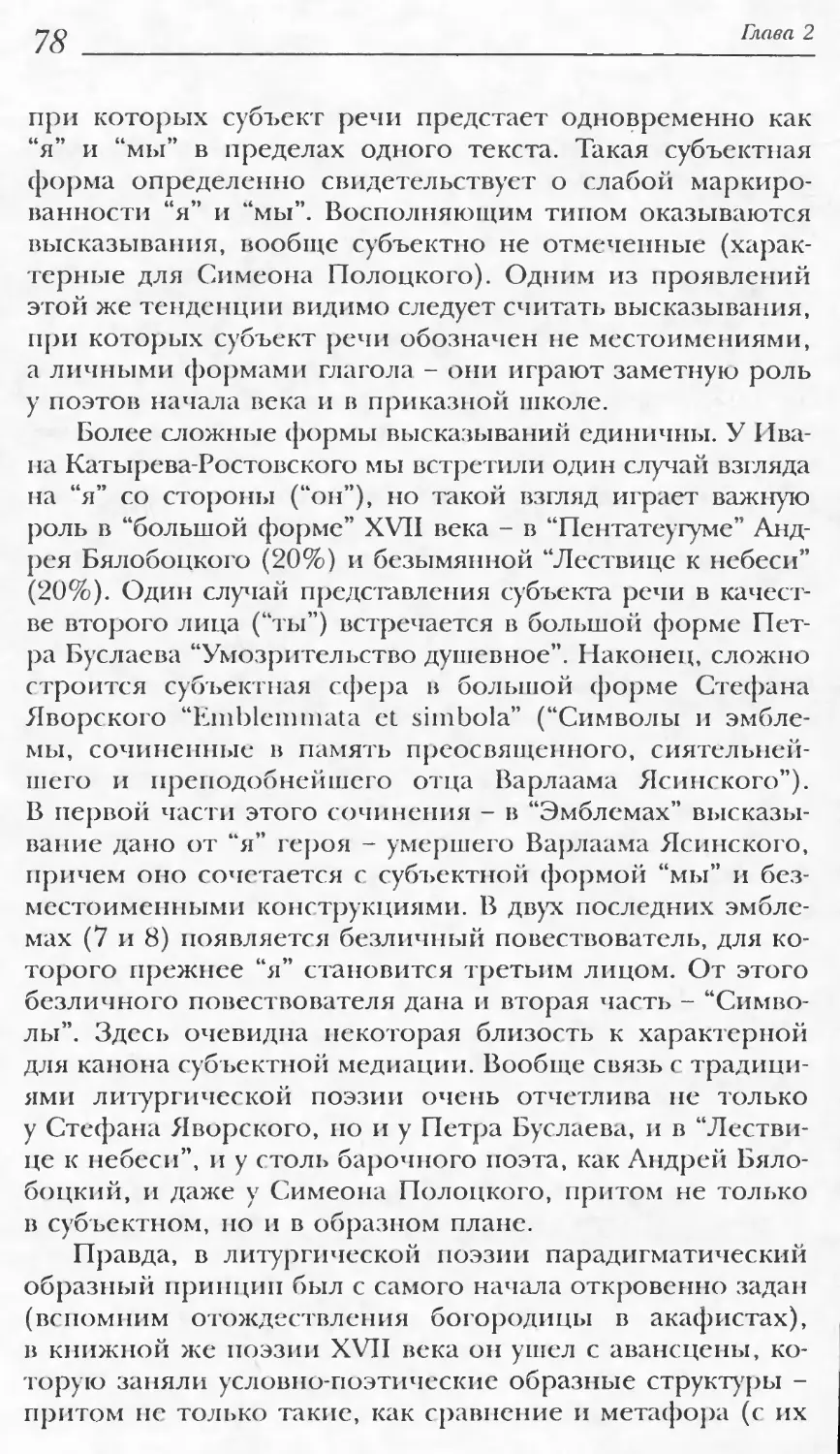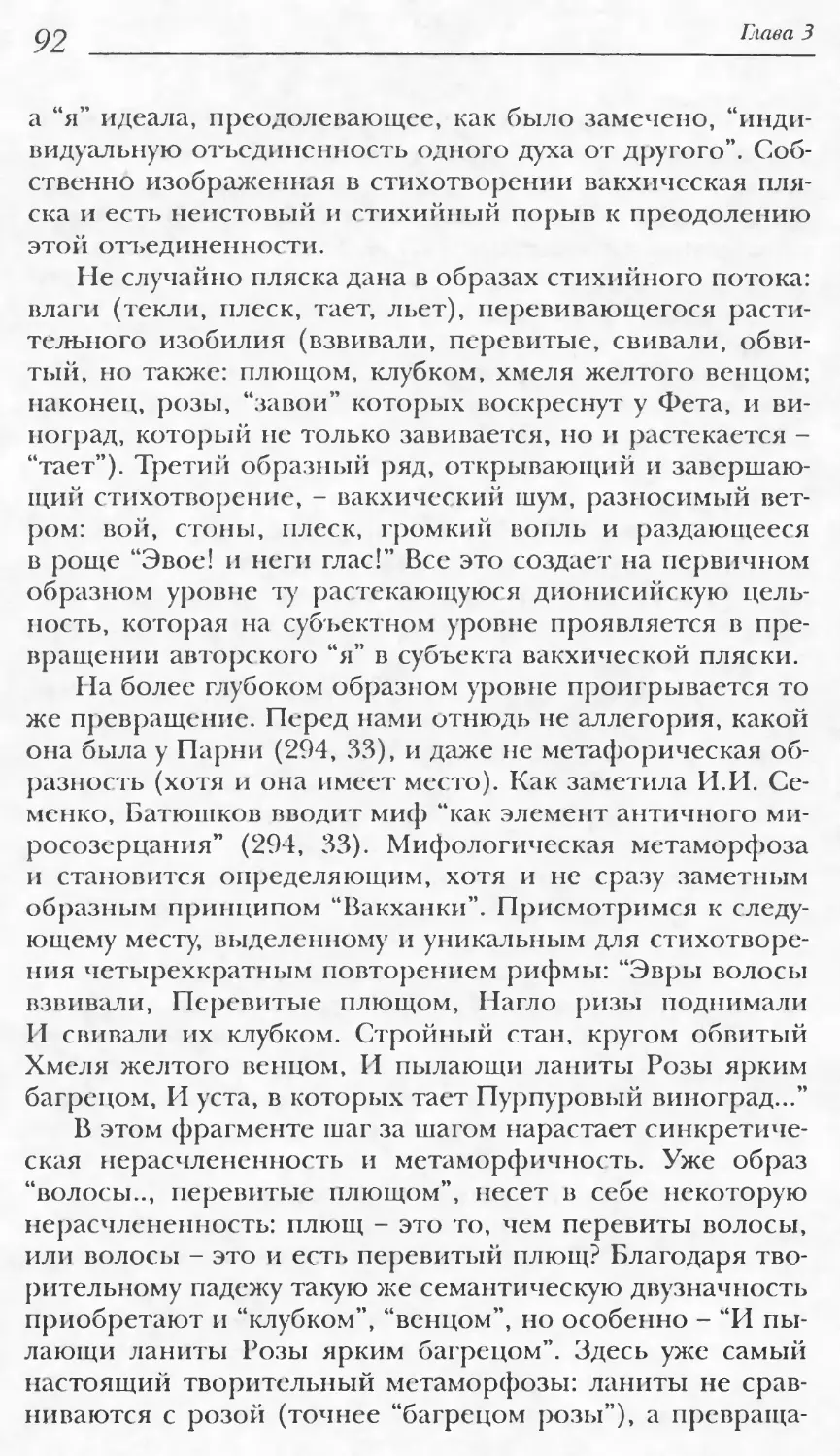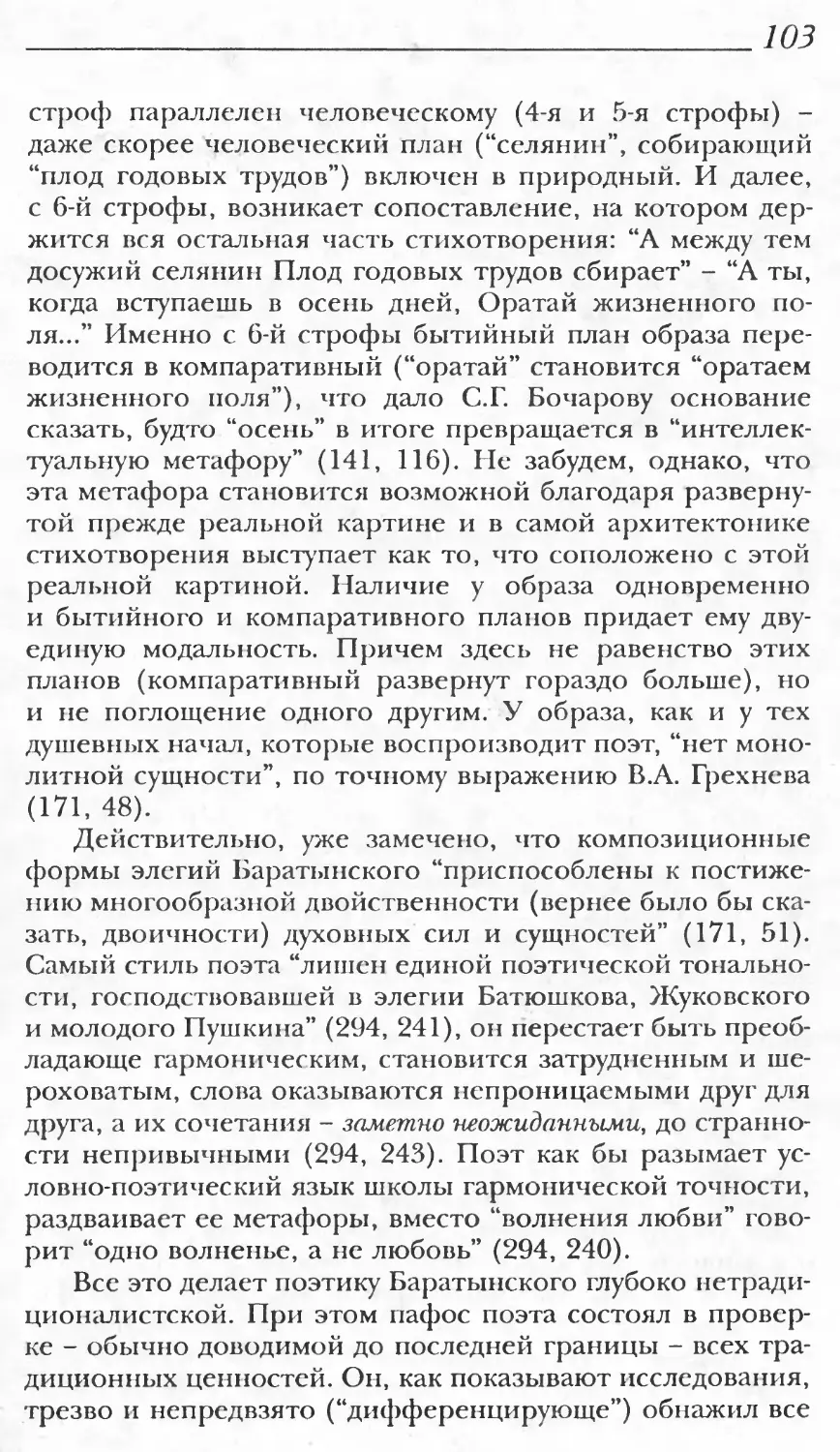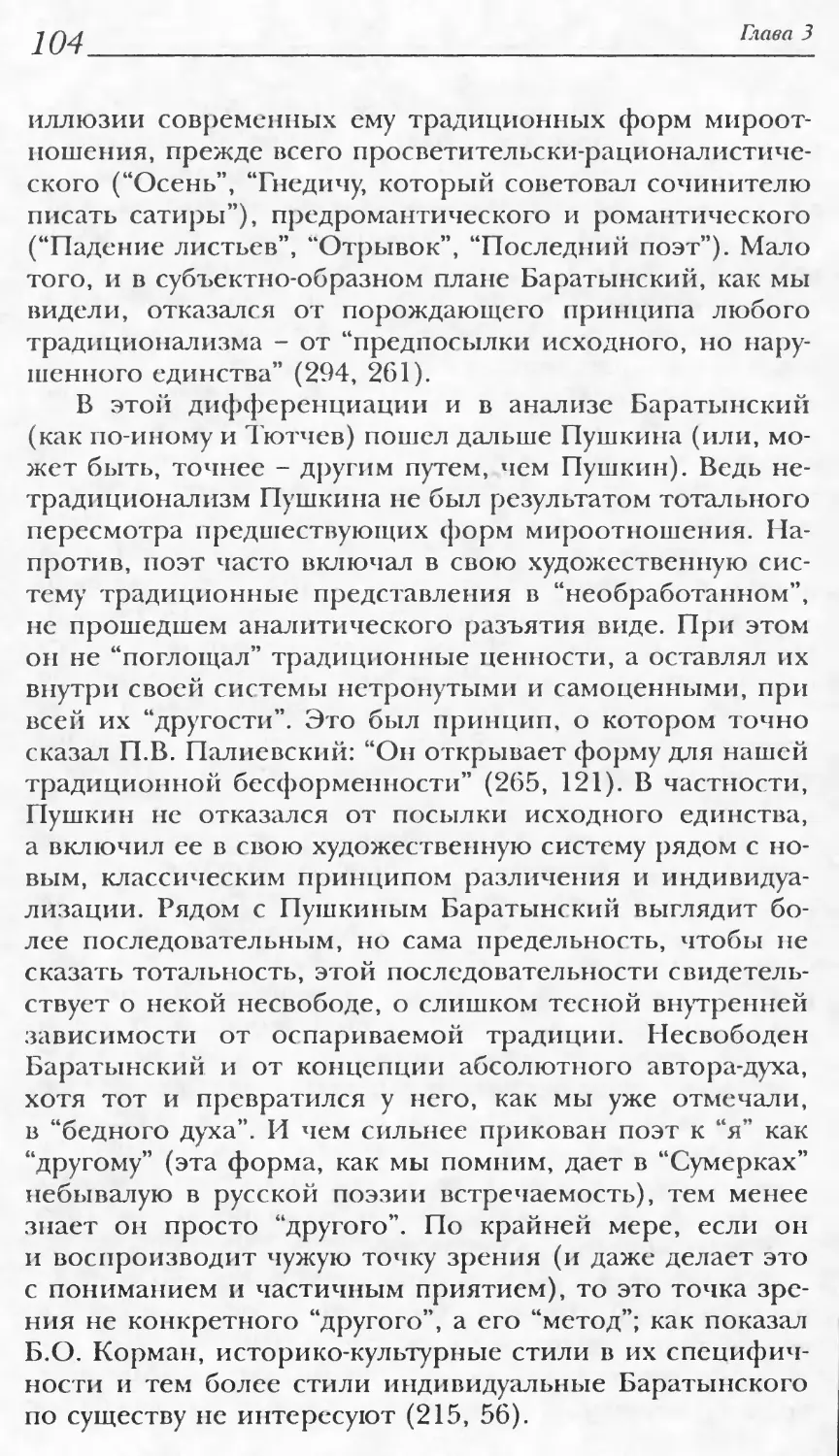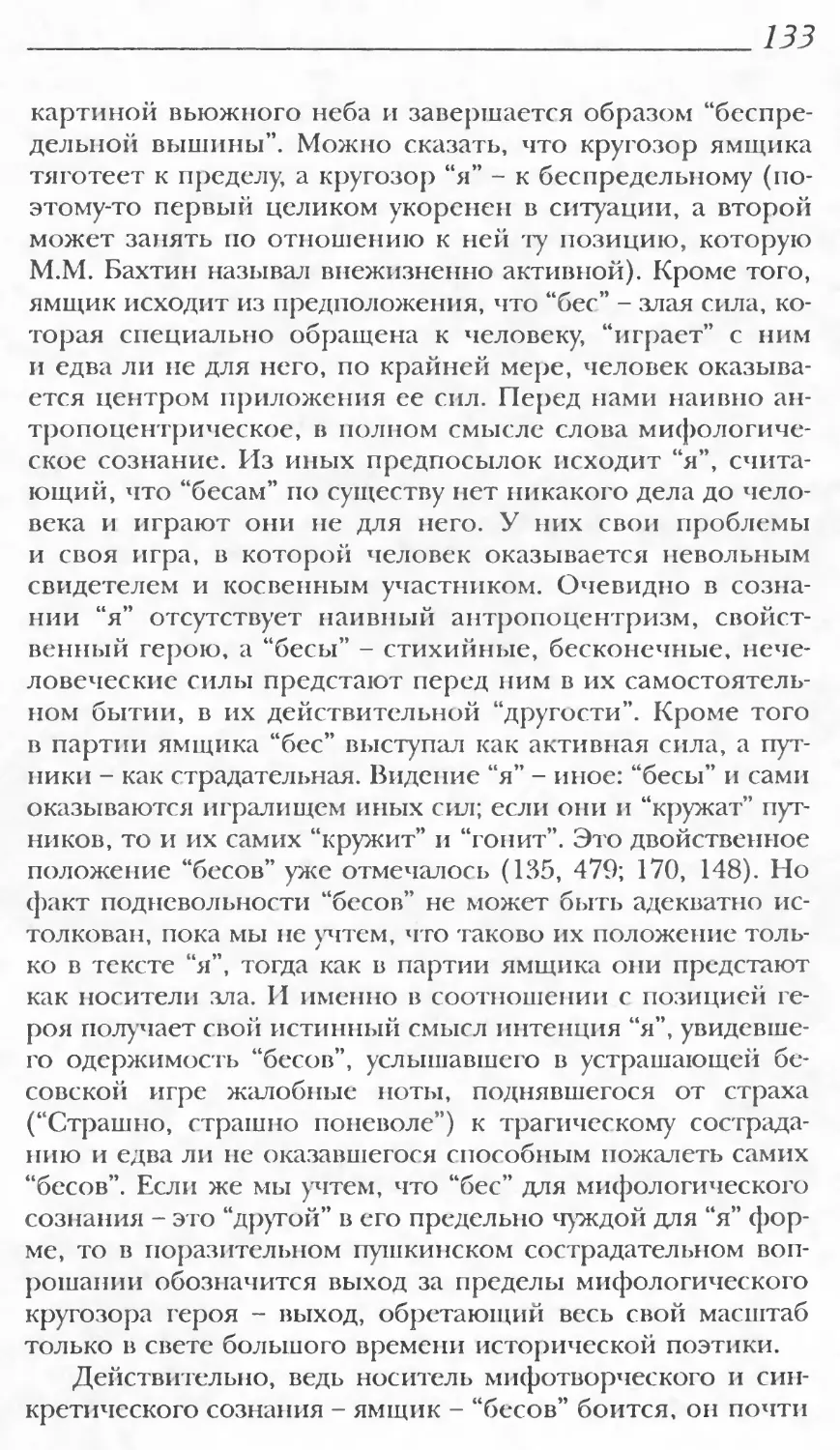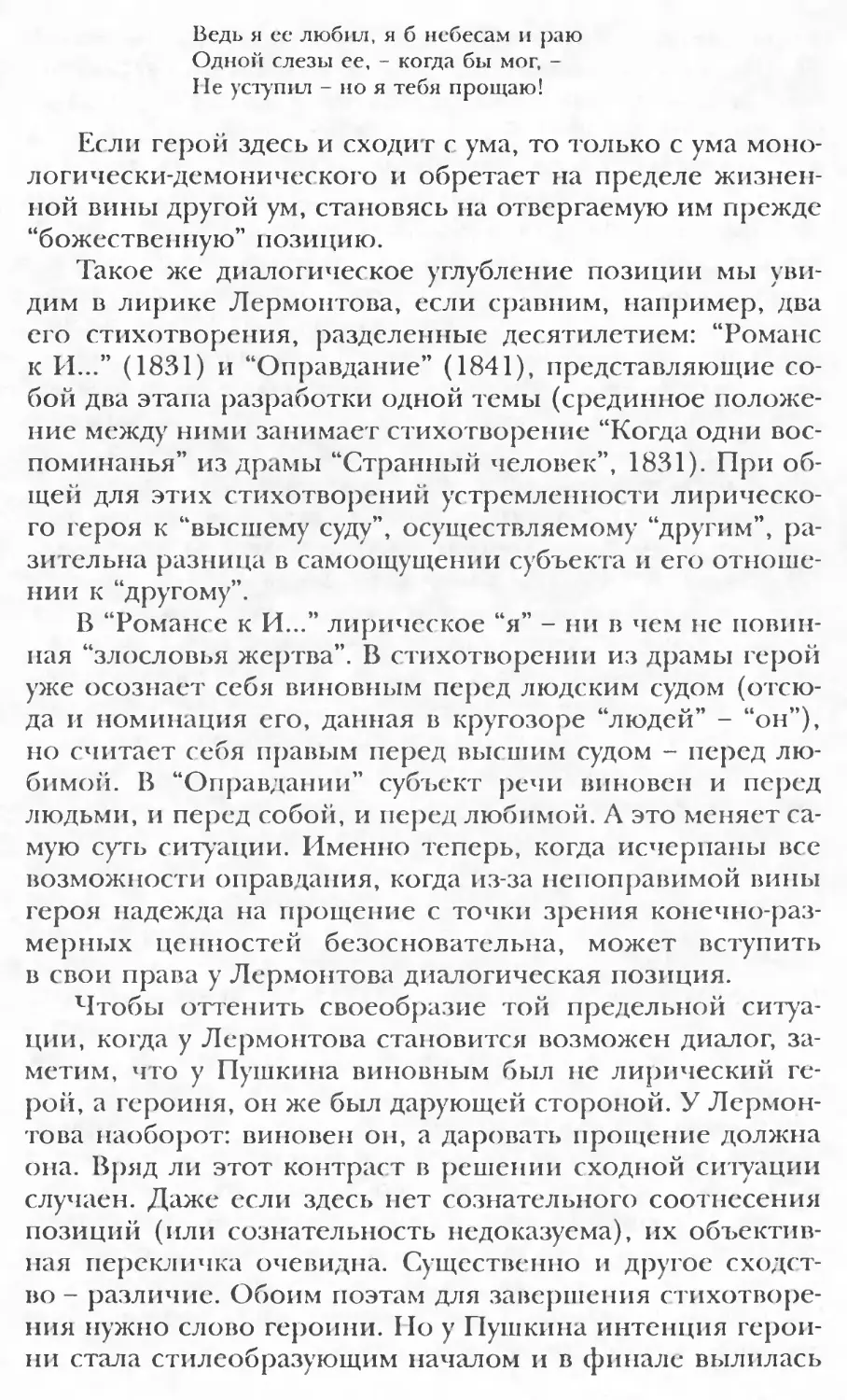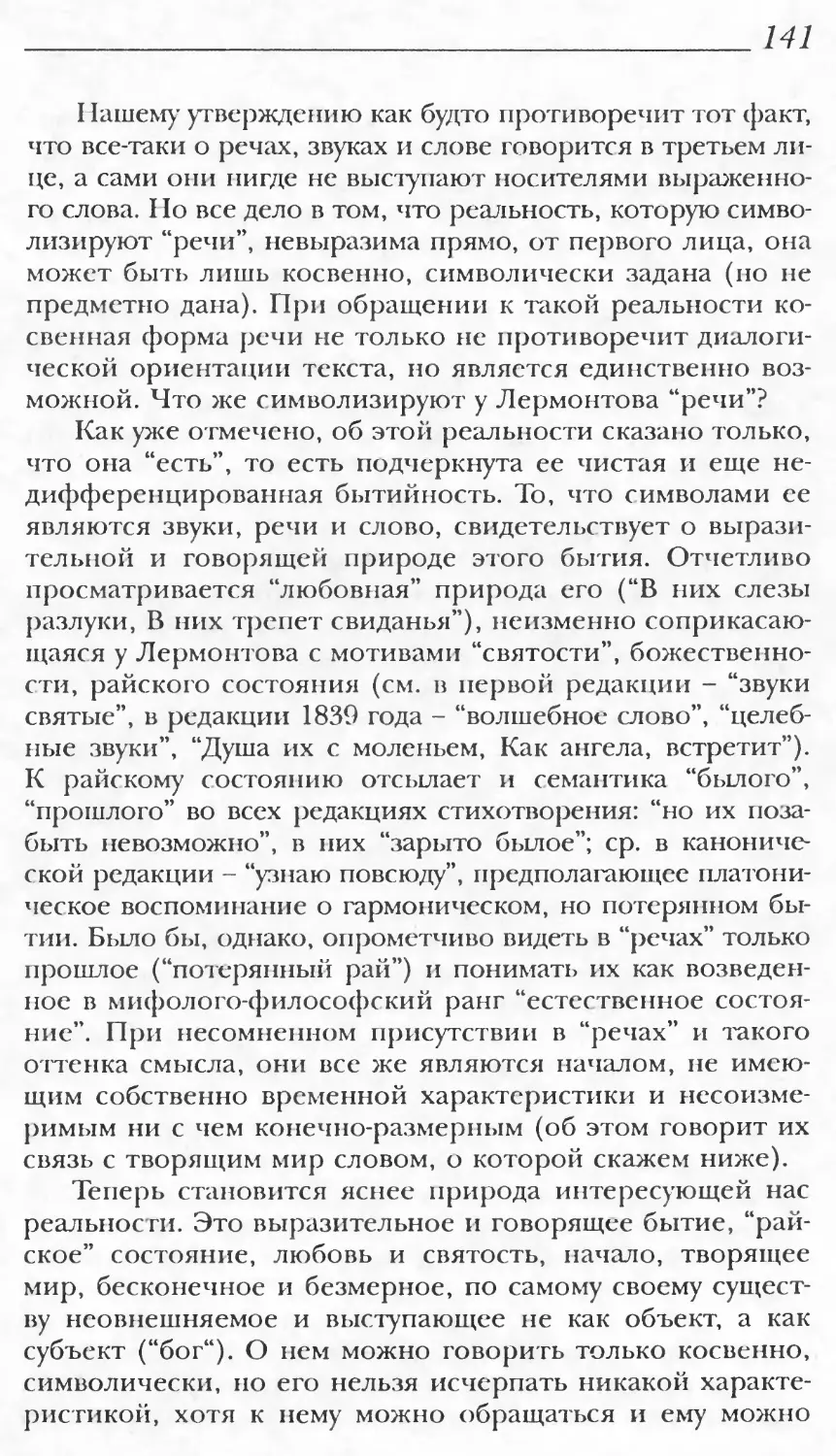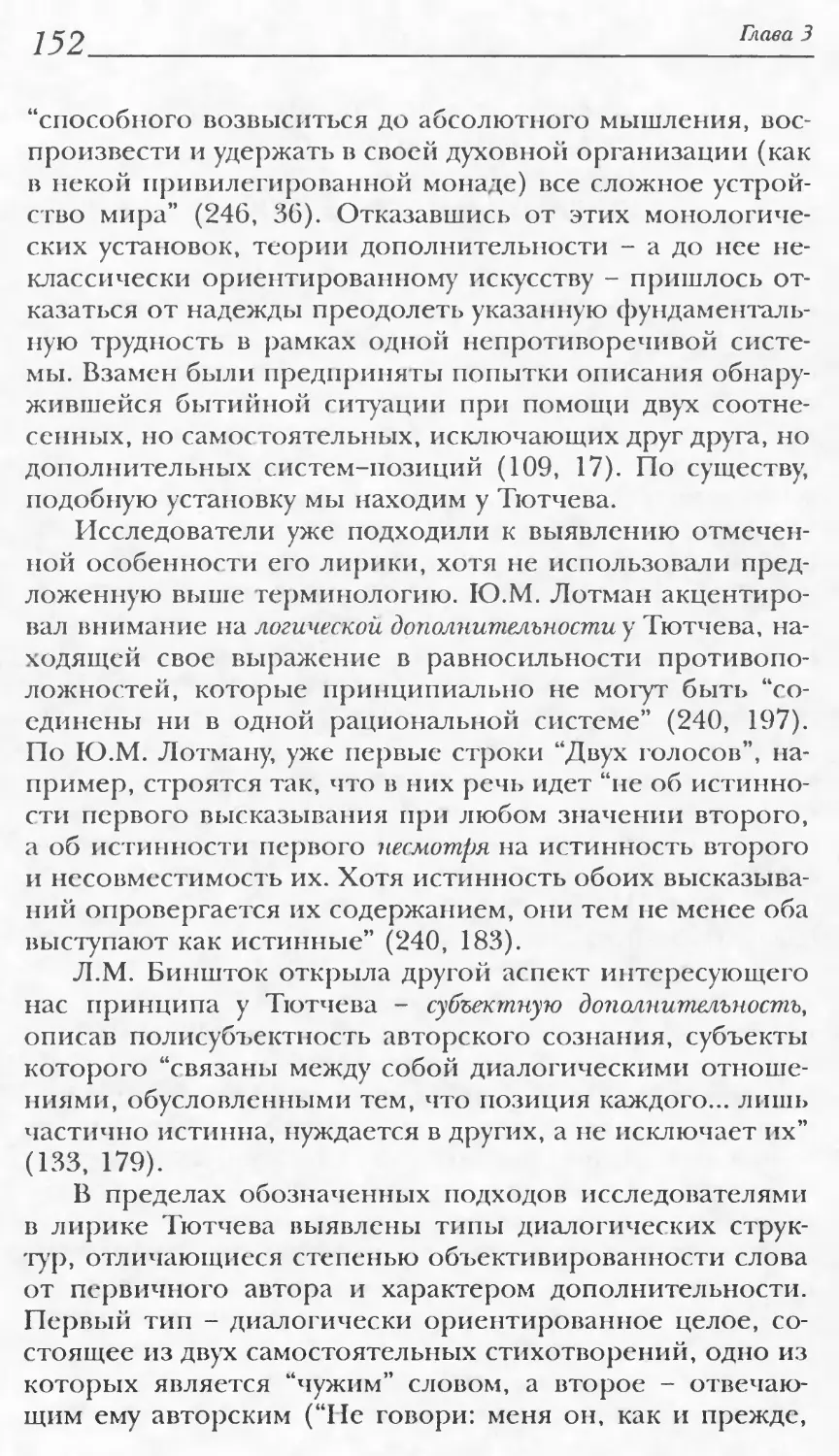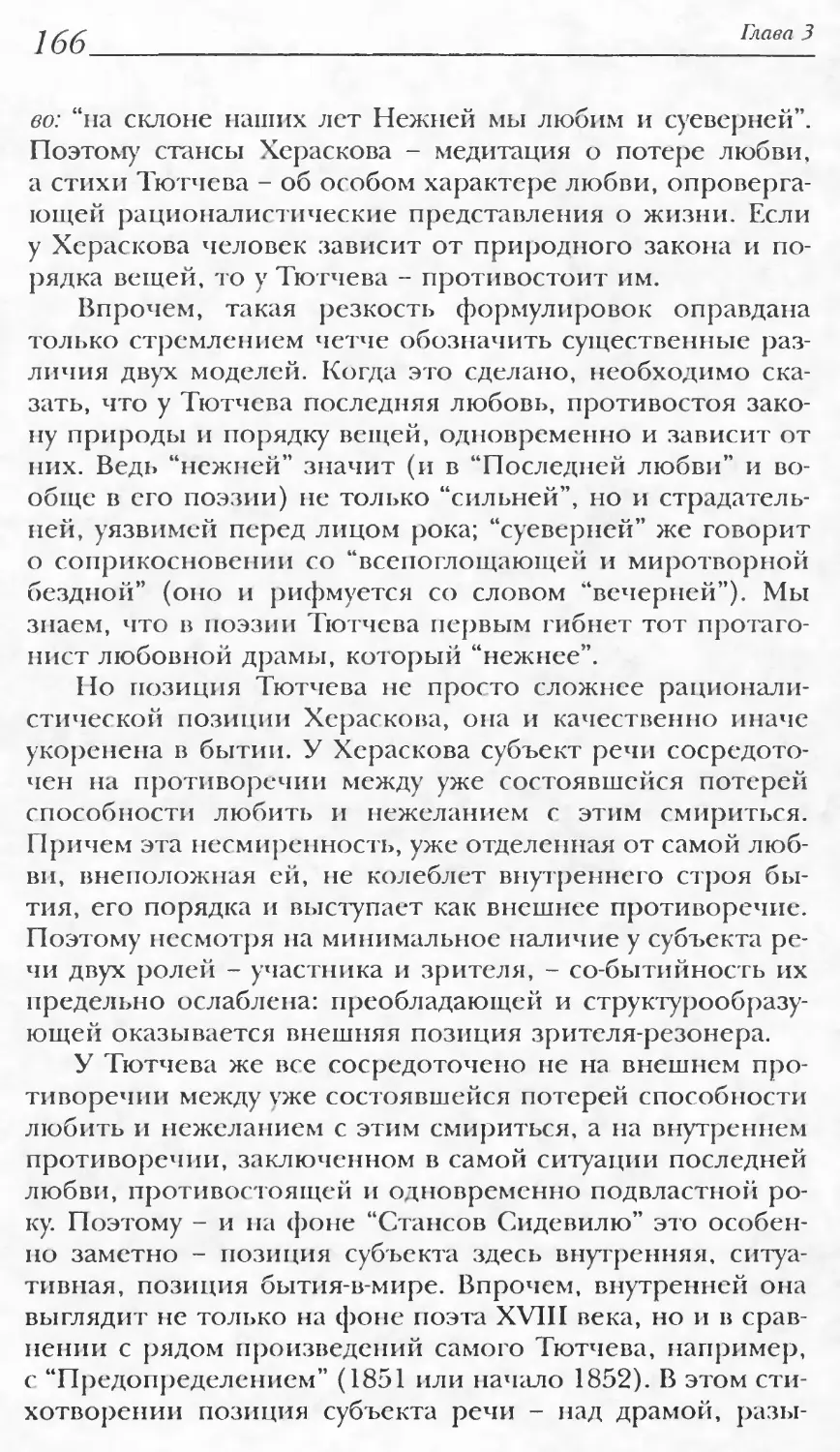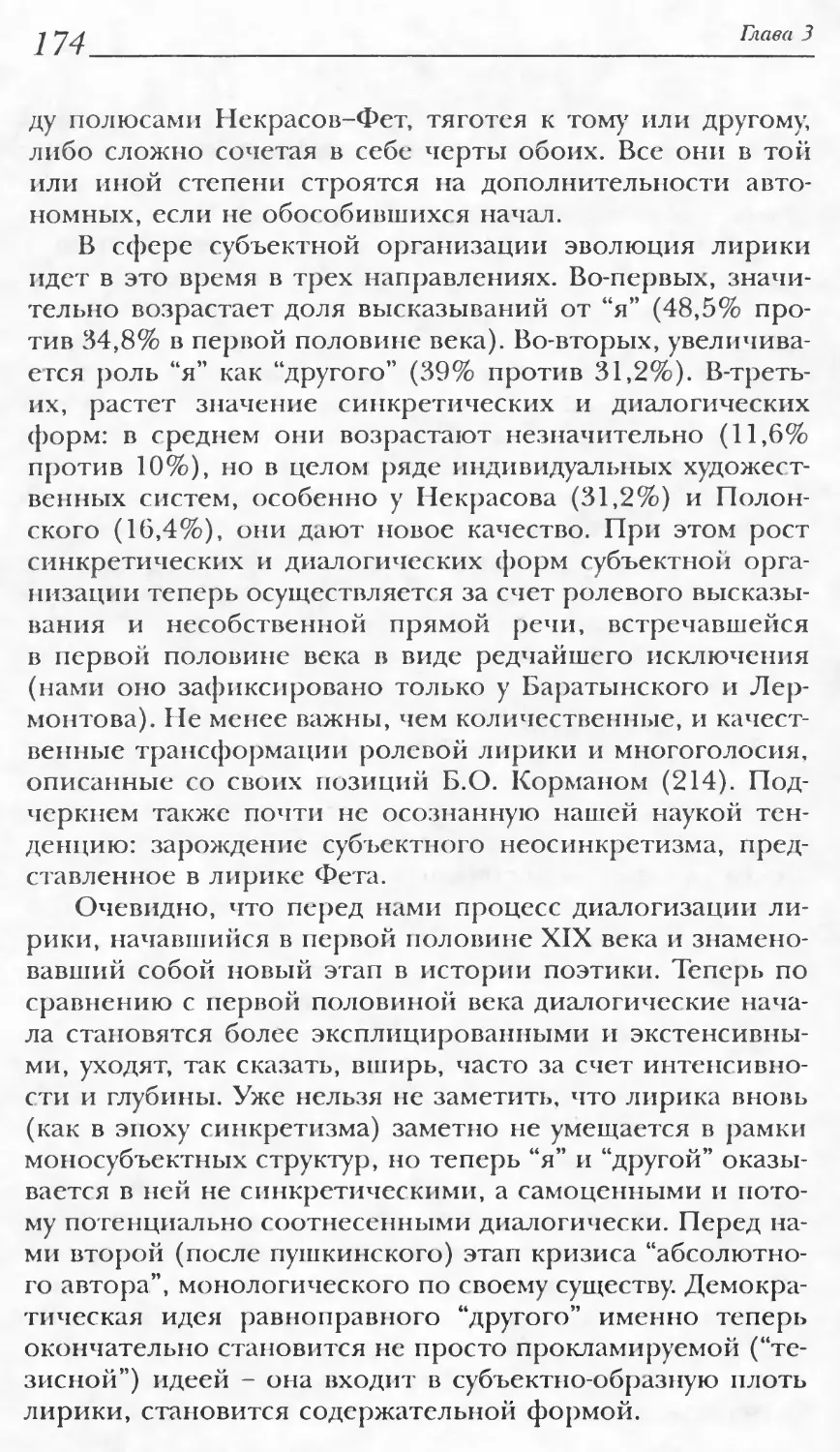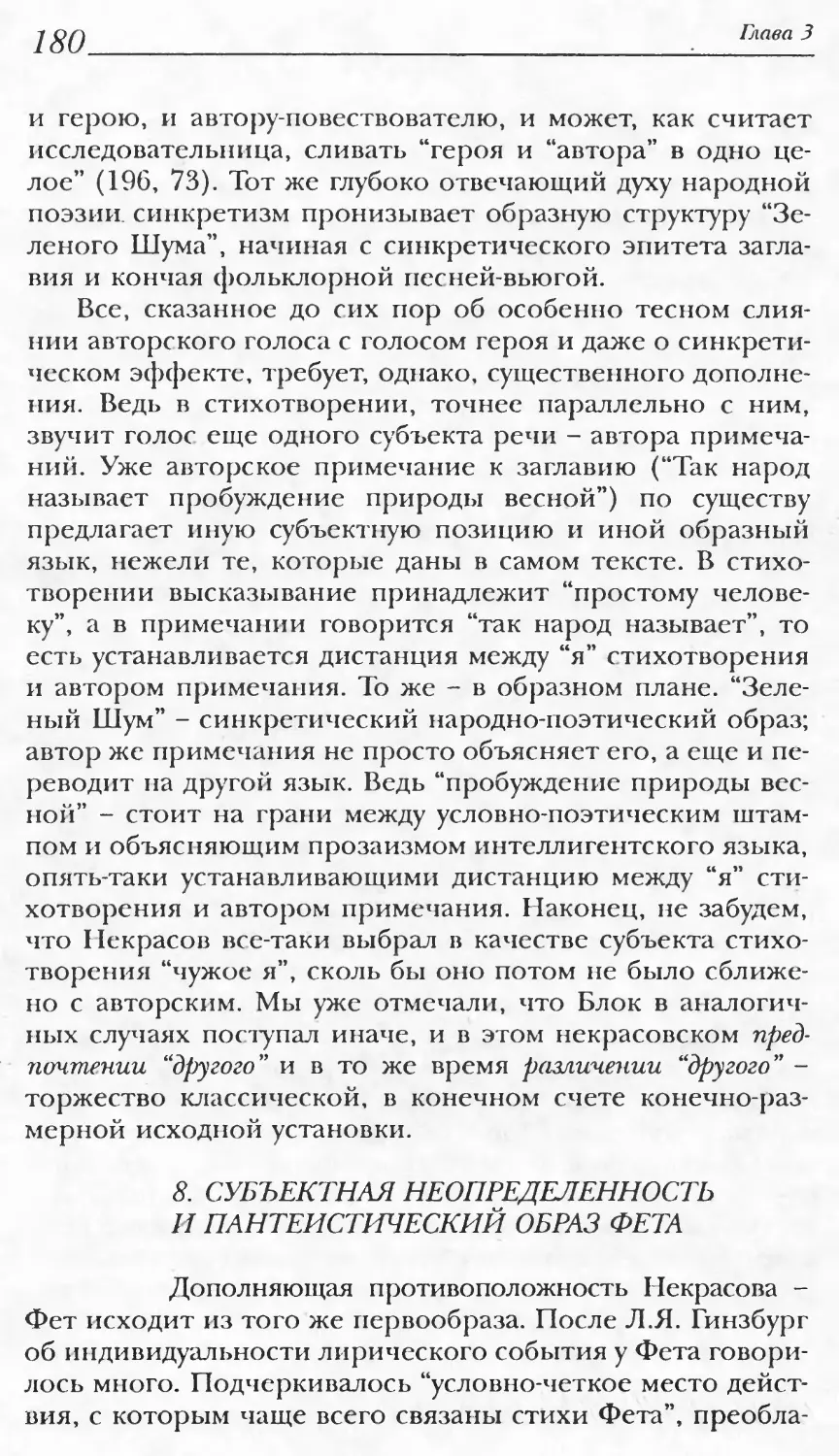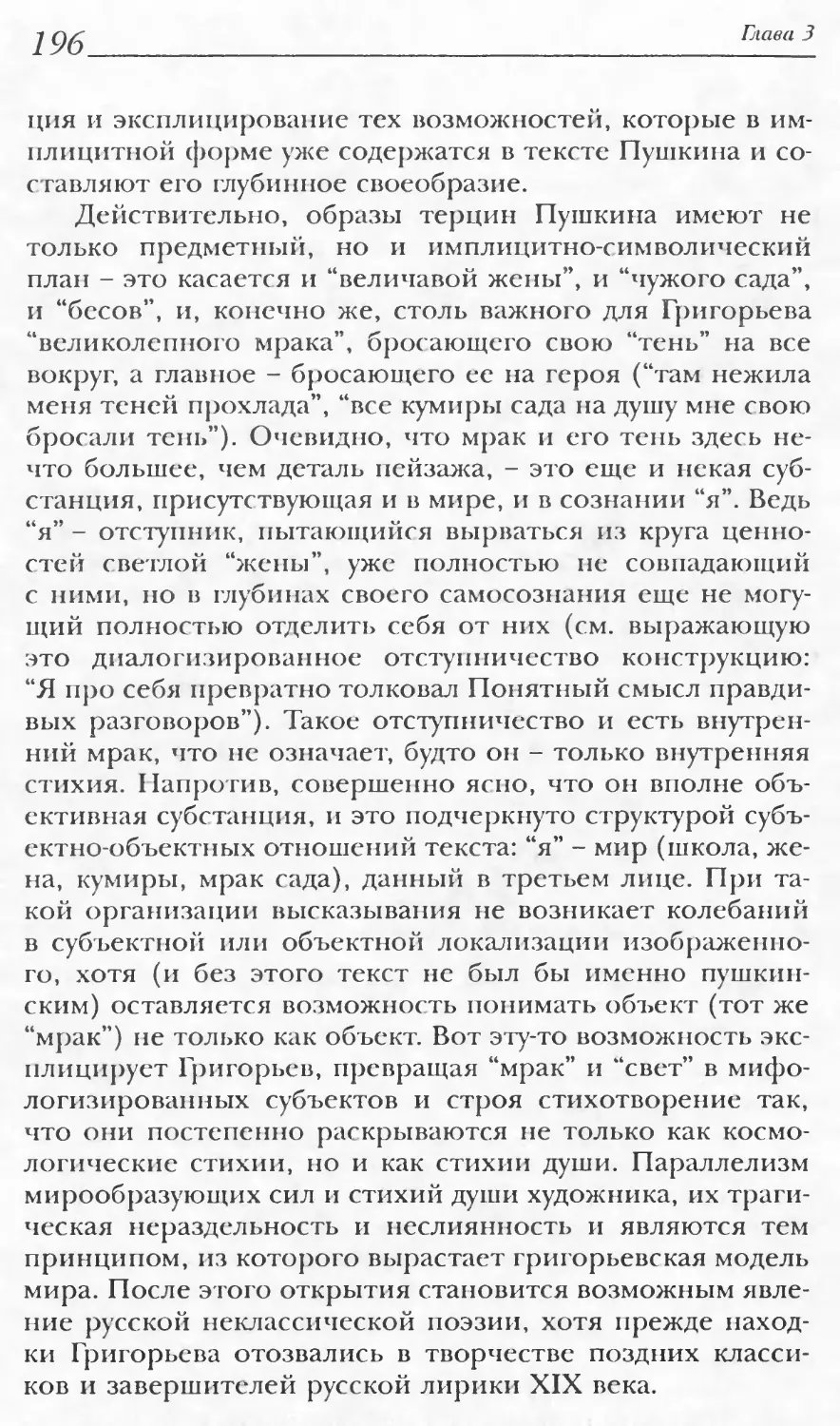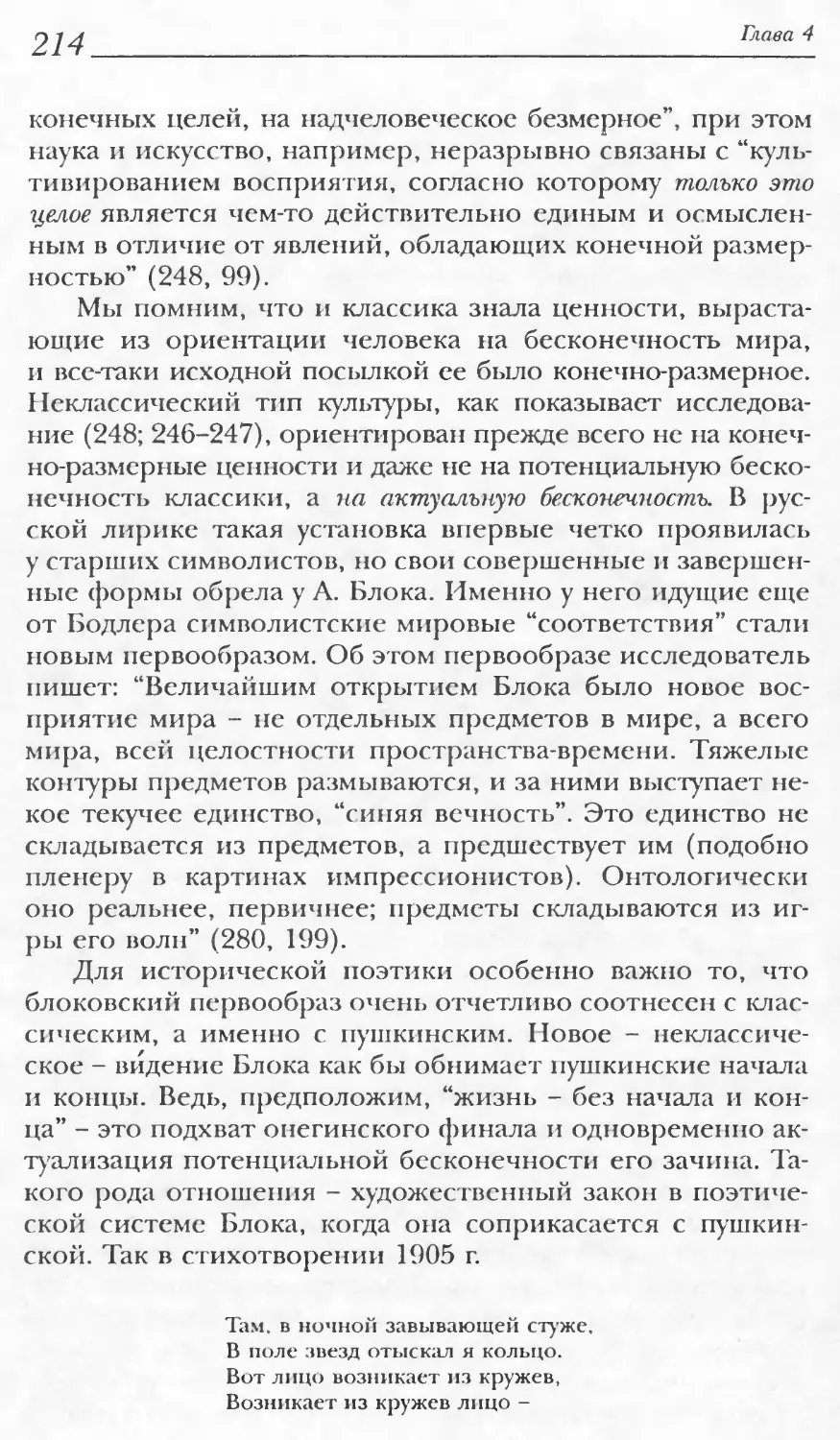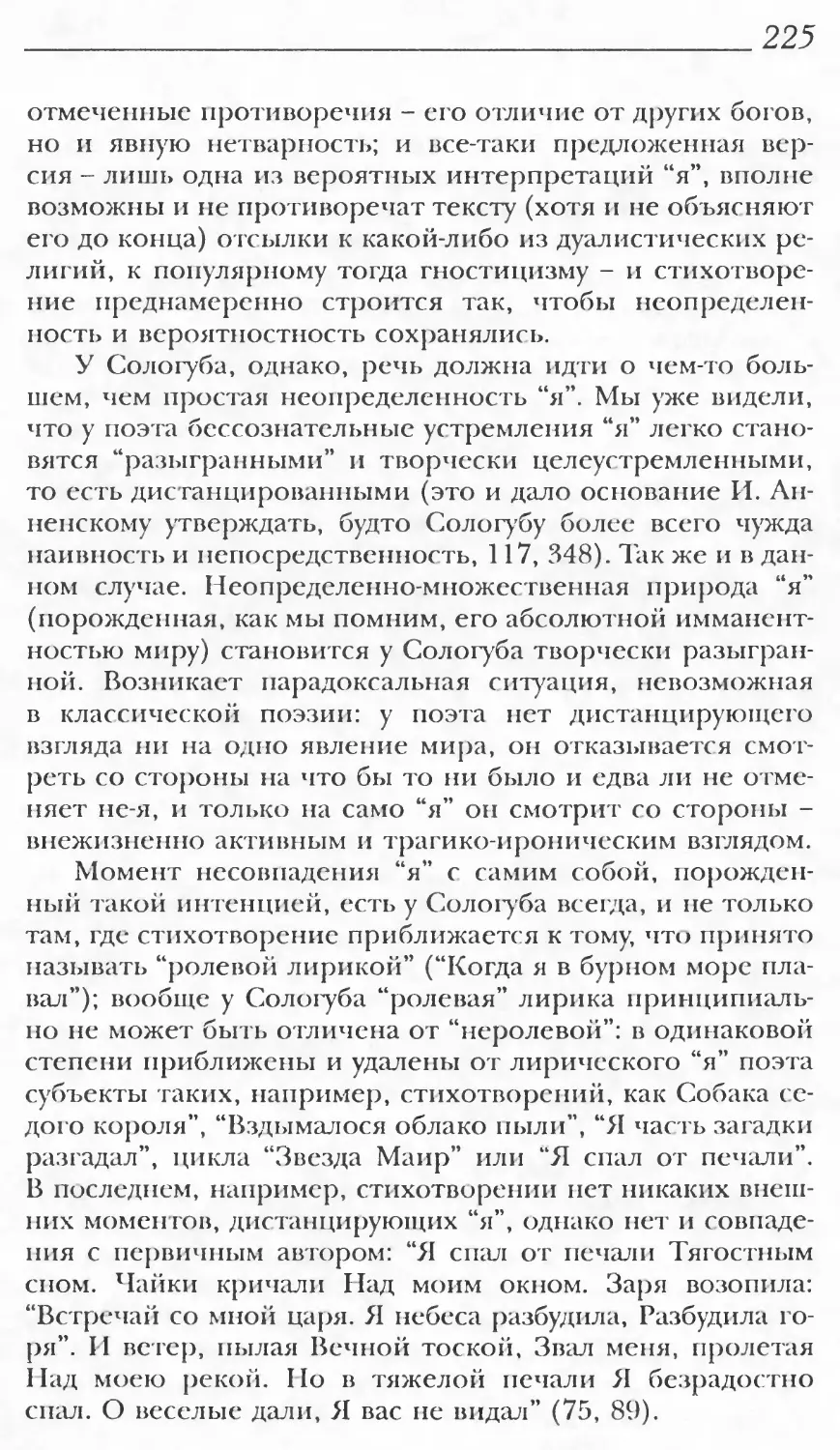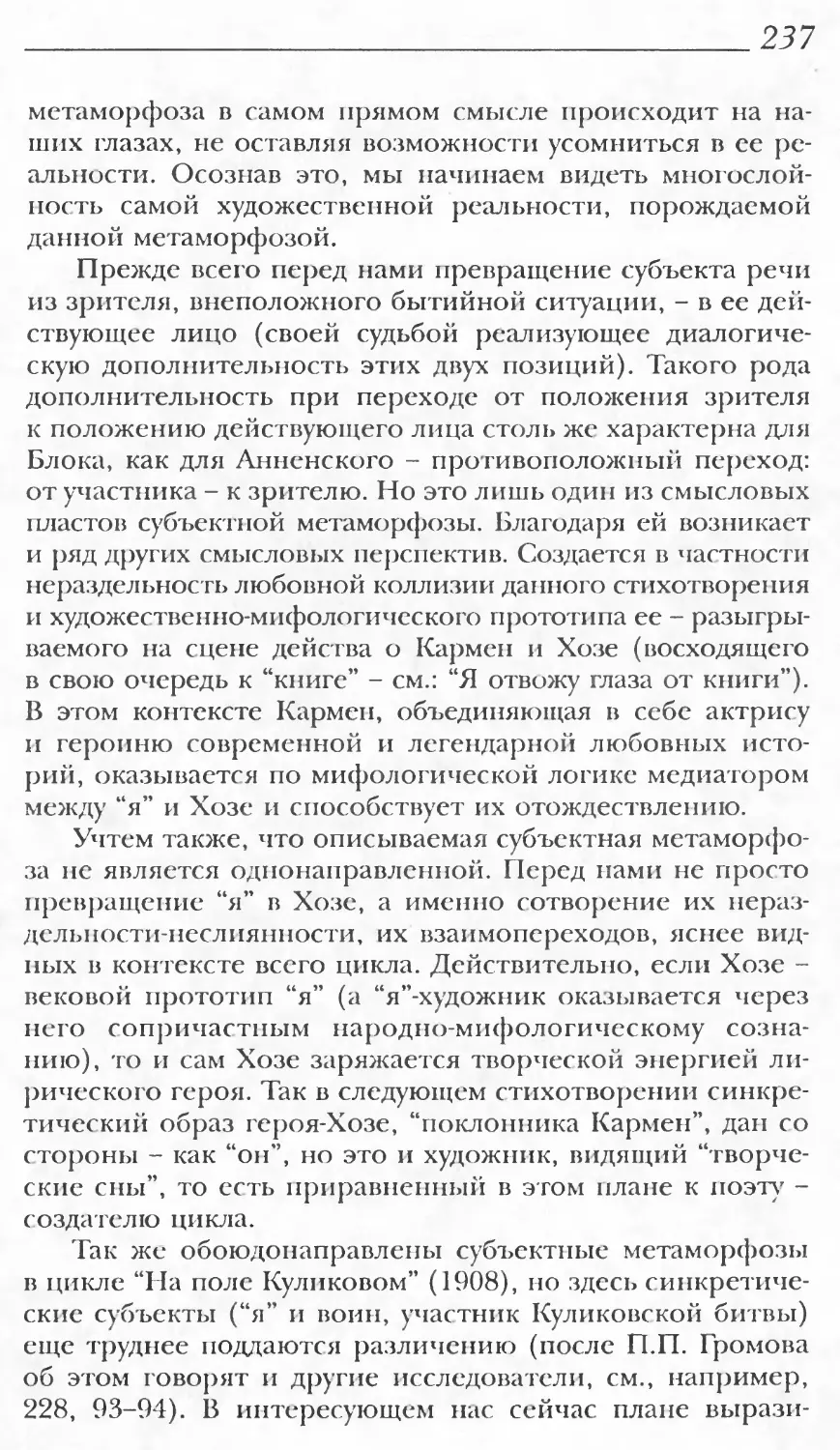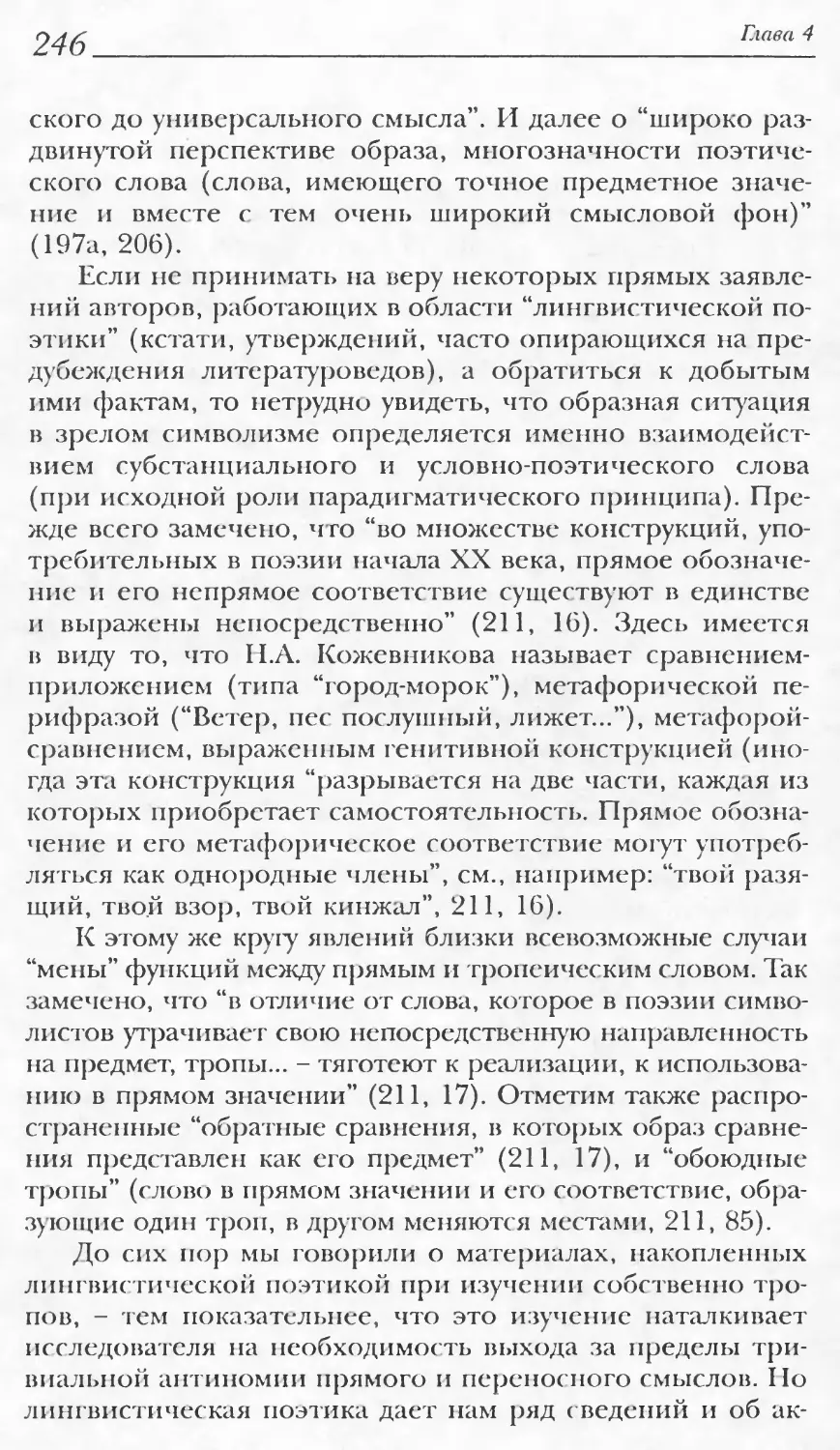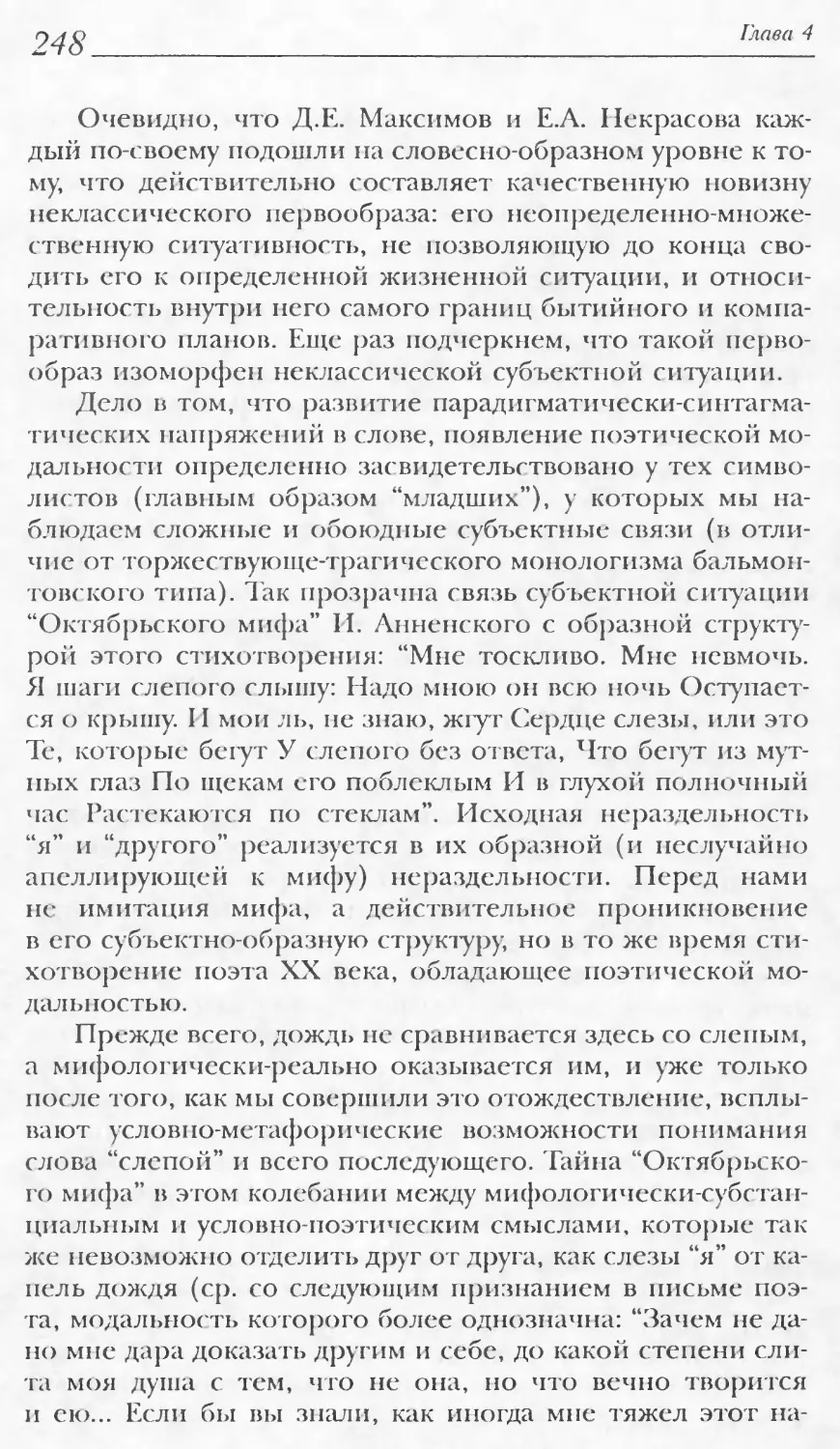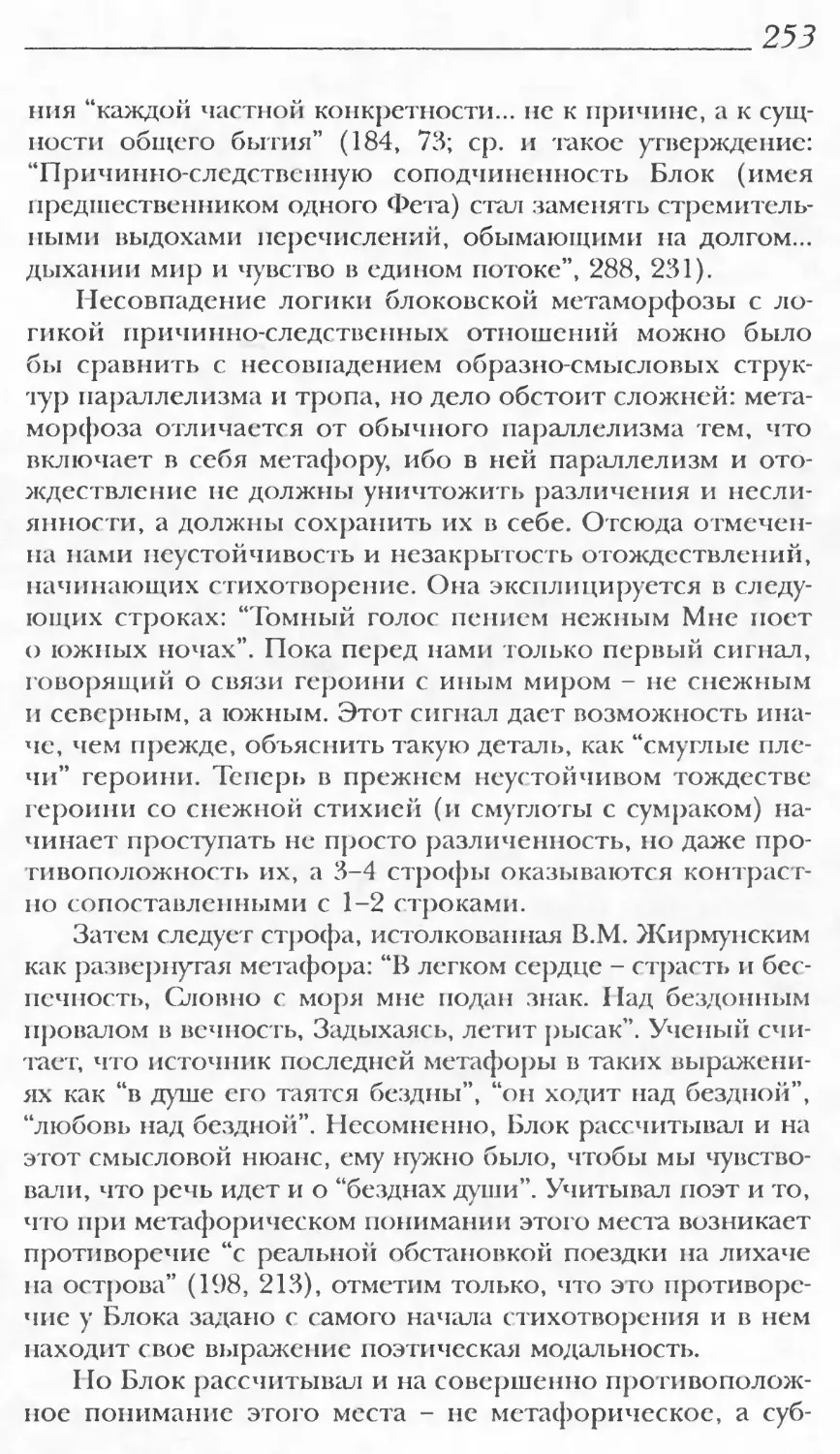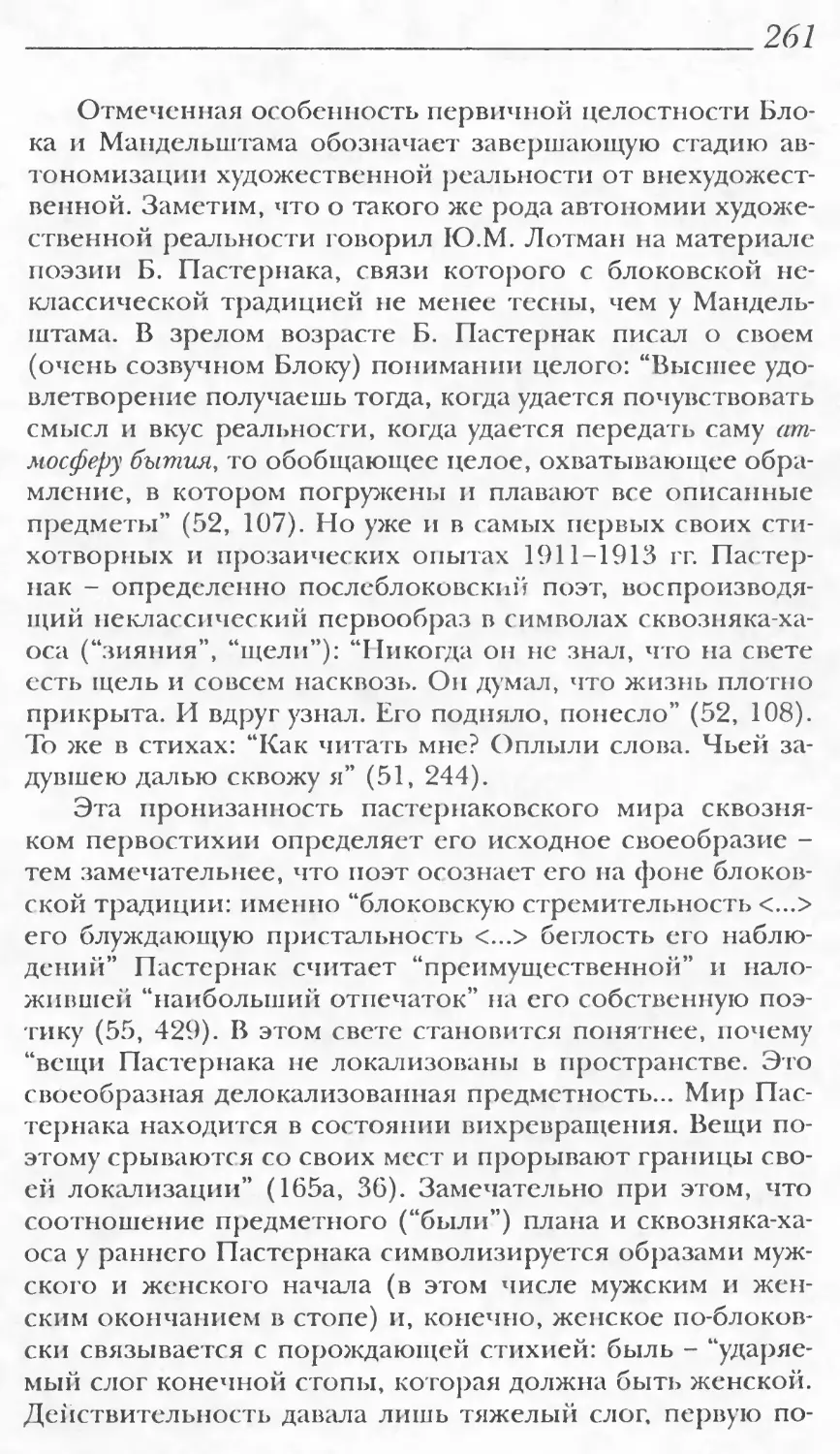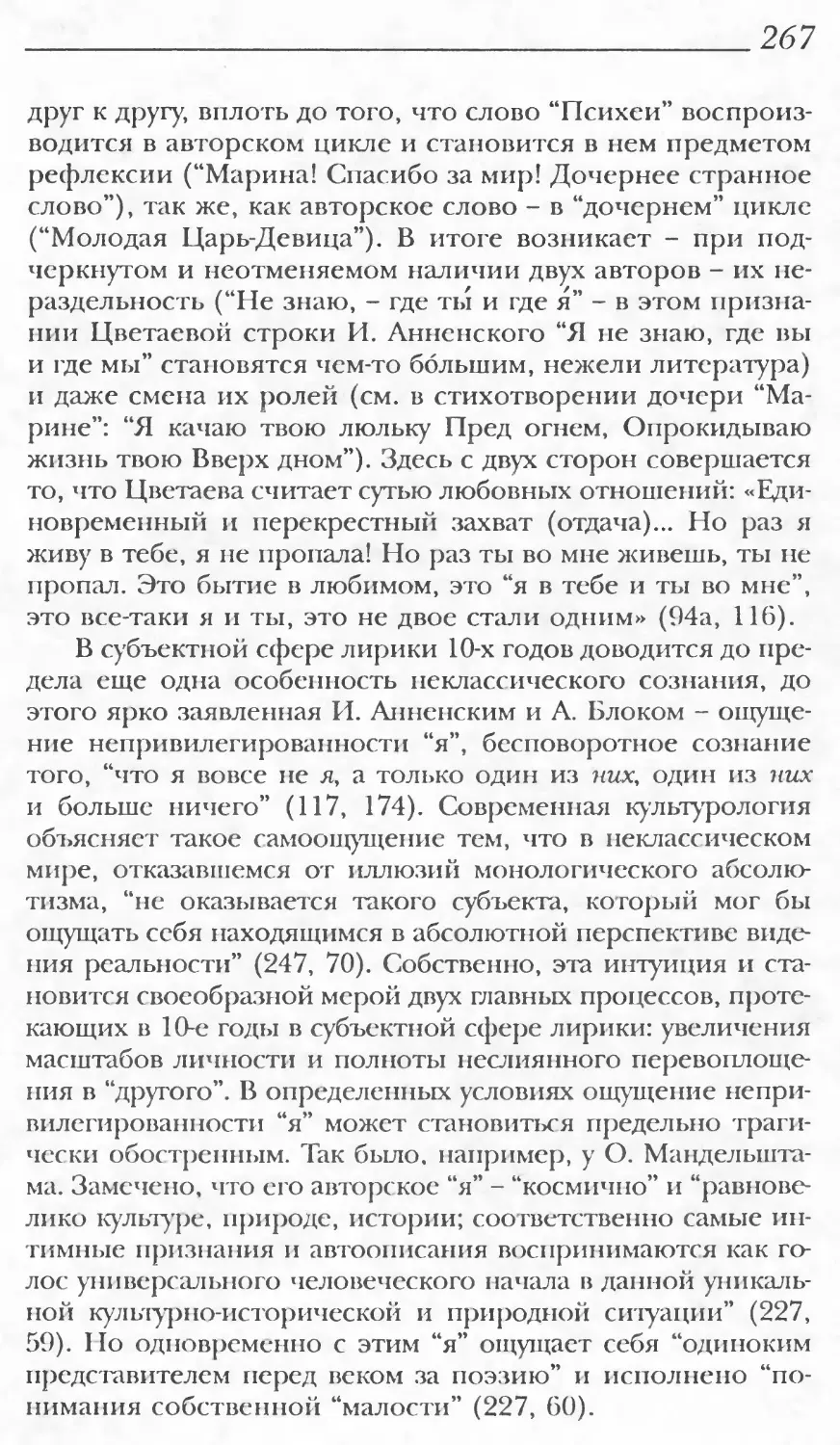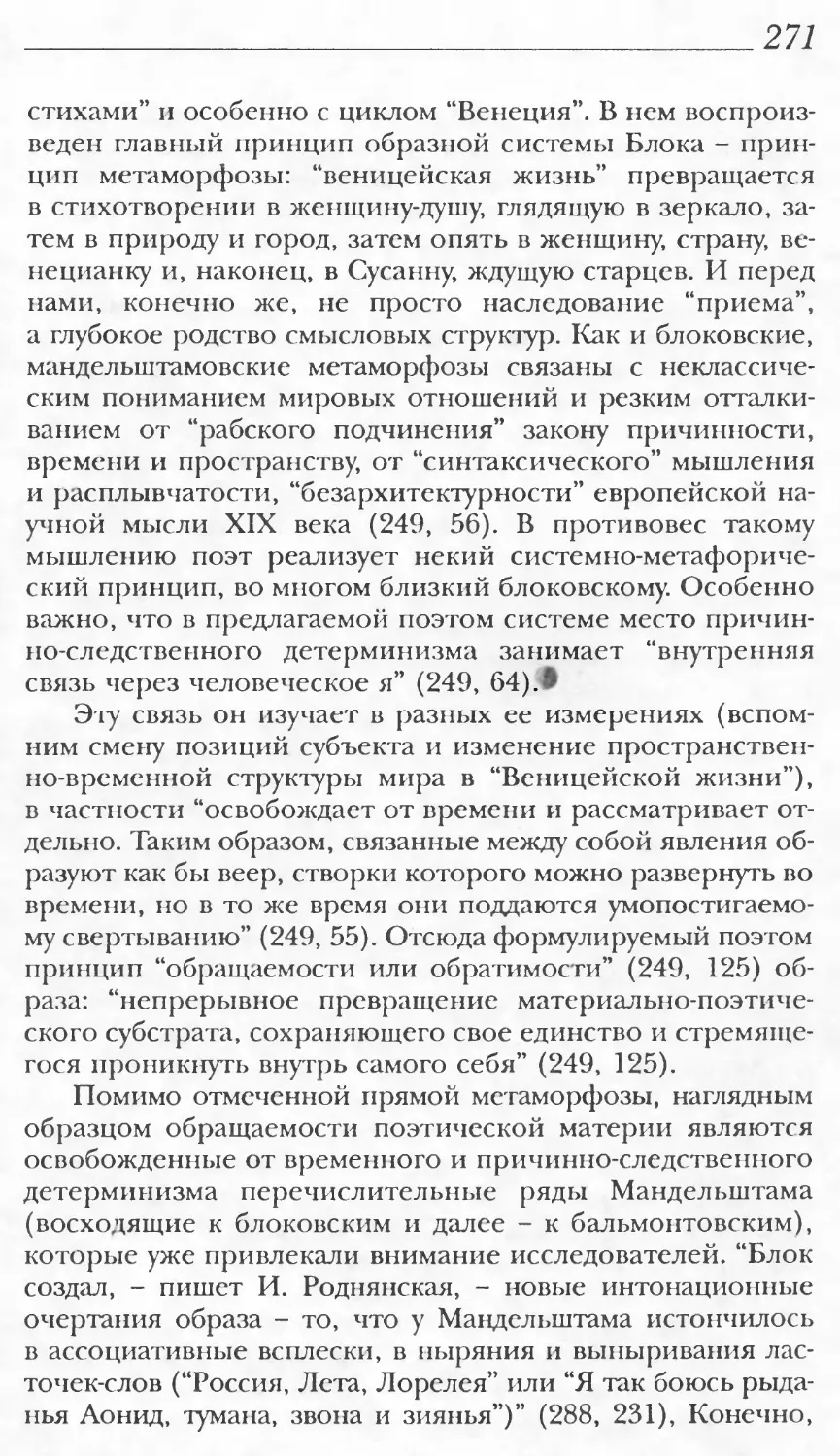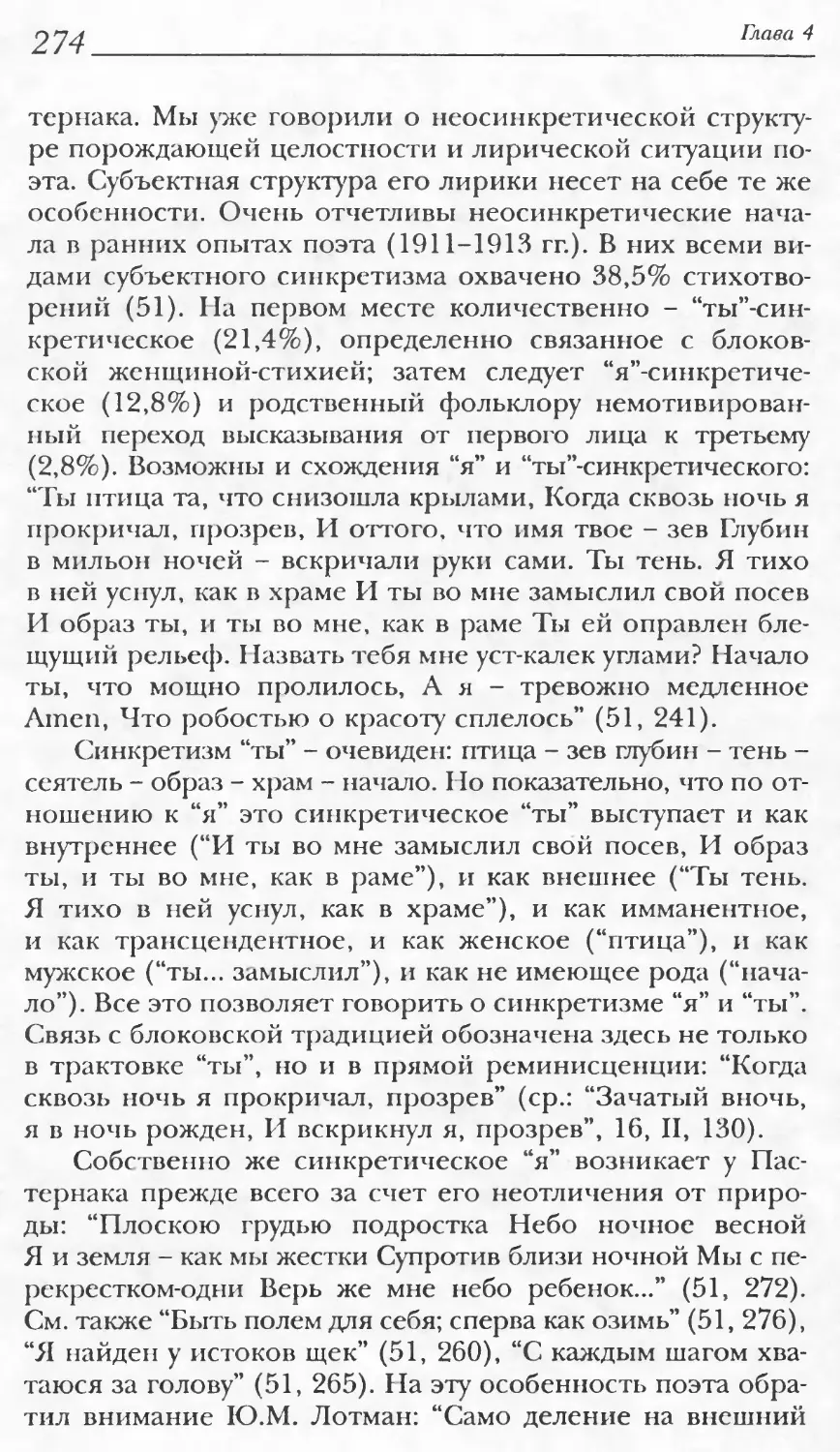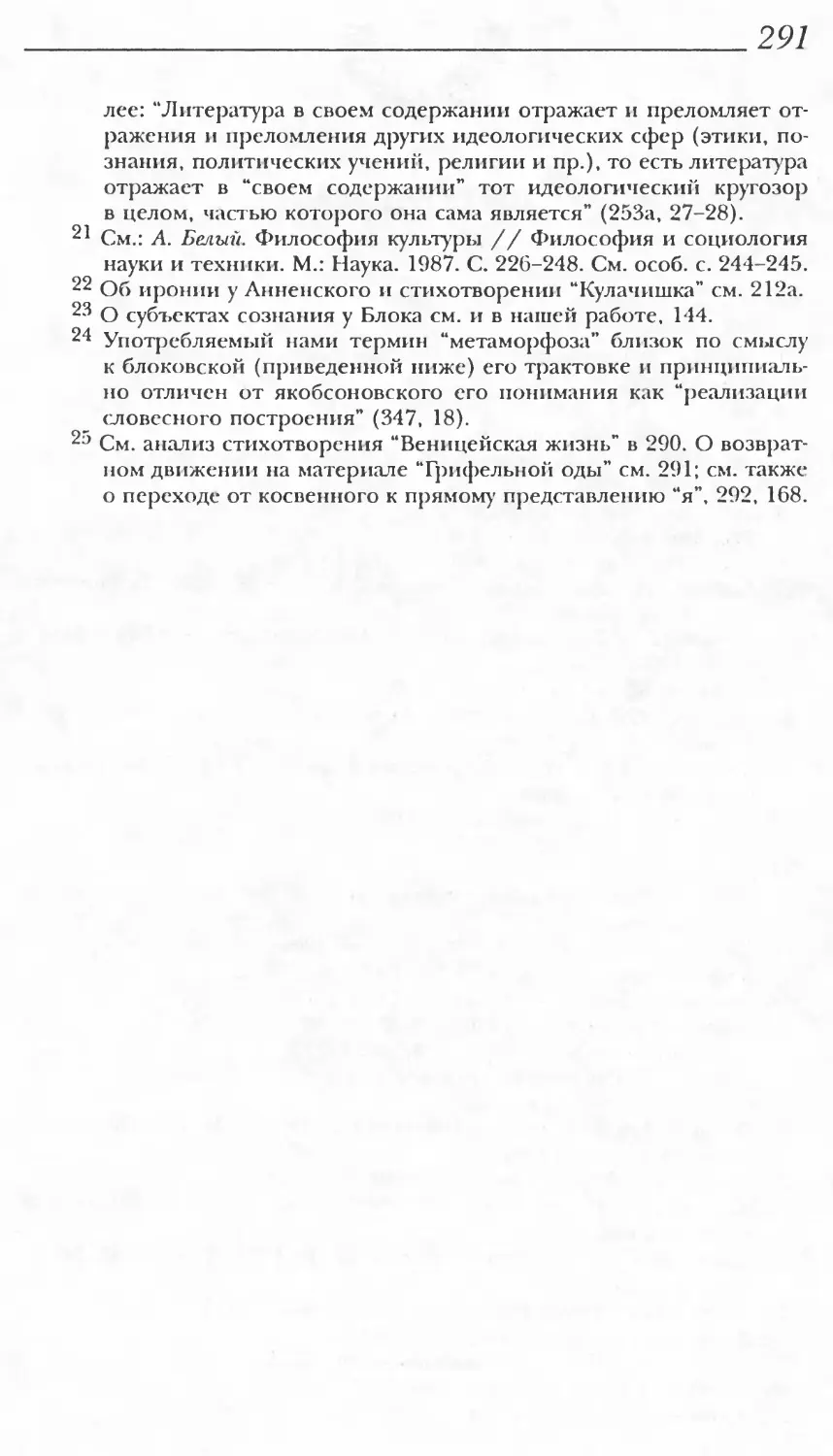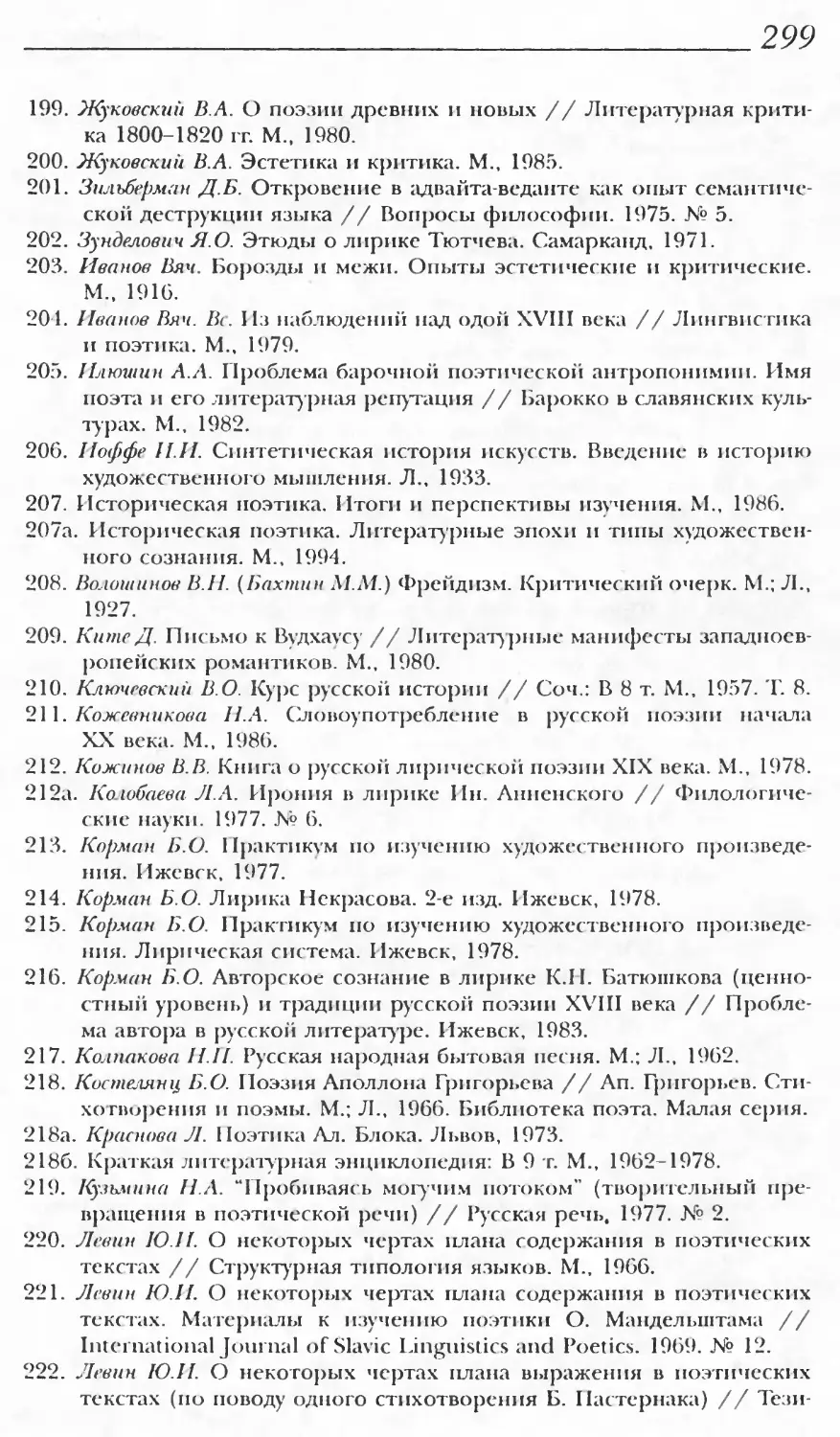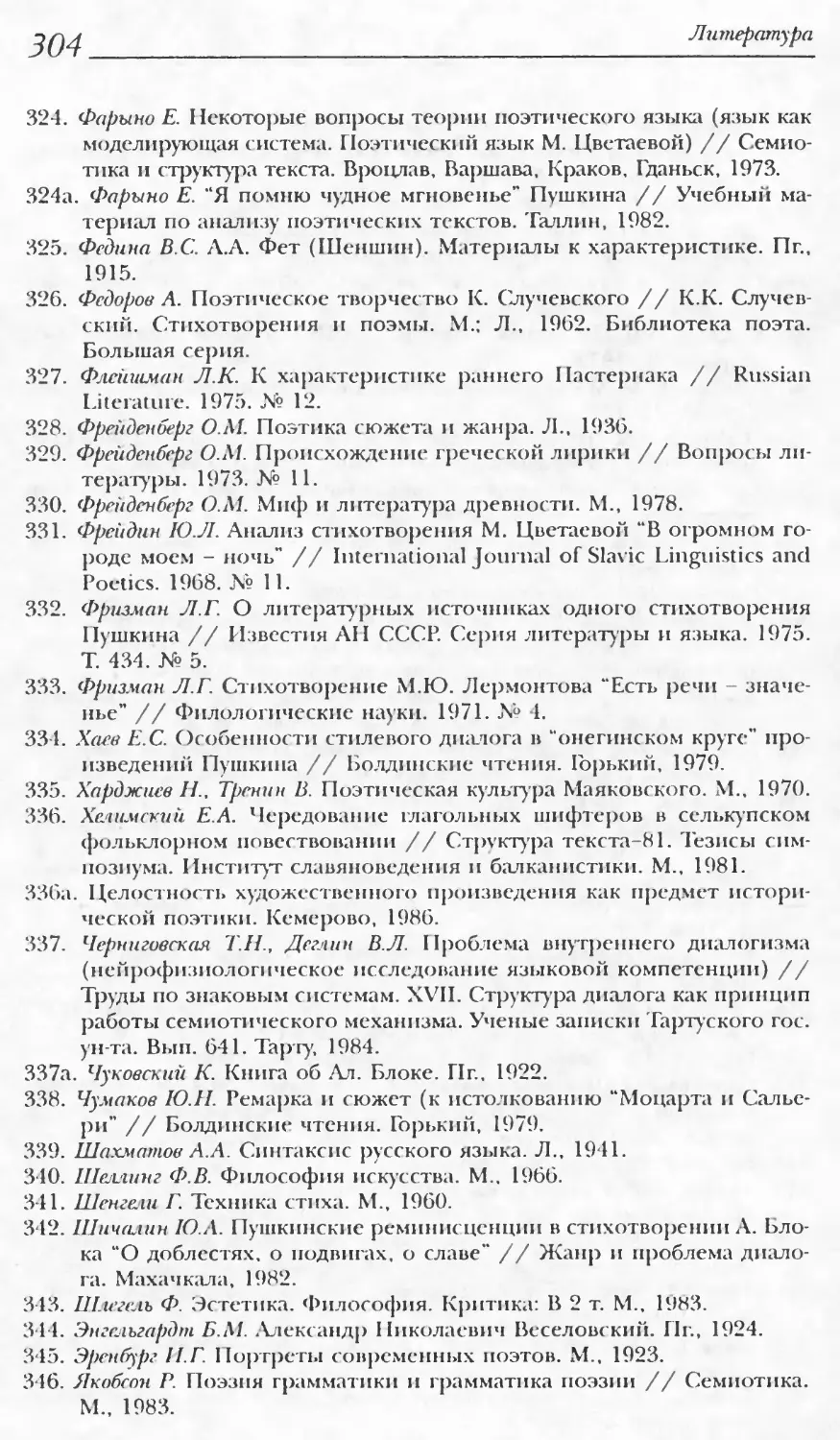Автор: Бройтман С.Н.
Теги: теория литературы русская литература лирика
ISBN: 5-7281-0140-2
Год: 1997
Текст
РУС
ЛИРИ
XIX НАЧАЛА XX ВЕКА
В СВЕ ТЕ
ИСТОРИЧЕСКОЙ
ПОЭТИКИ
СУБЪЕКТНО-
ОБРАЗНАЯ
СТРУКТУРА
Таблица 1
ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА
Формы высказывания в % %
Количество стихотворений от “я” от “мы” без “я” от “я—мы” Реплицированность “Я” как “другой” (со стороны) Синкретические и диалогические формы
реплика обмен репли- ками всего “он” “ты” отделе- ние со- стоян. обоб- щен, инфи- нит. всего немес- тоим. я- ро- левое -я- син- кретич. | -ты син- кретич. чужое слово несоб. прямая речь голоса игра т.з. курсив всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1) Н. Карамзин 178 18.0 13.5 30.0 10.6 23.0 3.4 26.4 16.3 8.4 10.0 34.7 2.1 - - - 3.4 - 5.5
2) К. Батюшков 133 24.0 8.2 20.0 26.3 28.0 7.5 35.5 21.8 — — — 21.8 — 2.0 — — — — — 1.5 — 3.5
3) В. Жуковский 500 26.6 15.6 23.6 18.0 20.6 9.4 30.0 16.8 3.4 12.0 15.4 47.6 - 7.8 - - - - - - 31.0 38.8
4) А. Пушкин 1813-1817 815 30.5 3.5 15.6 10.6 30.0 18.0 1.4 19.4 2.1 2.1
1817-1823 42.0 9.0 19.3 12.6 11.6 13.5 2.4 1.0 — 15.9 — 1.0 - - — - — — - 1.0
1824-1829 46.4 7.4 30.0 10.1 11.6 6.0 2.0 1.4 - 9.4 — 3.4 — — — - - 1.4 - 4.8
1830-1836 40.0 10.7 32.7 10.0 30.0 7.0 2.3 1.7 — 11.0 - 2.3 - — - - - 4.6 — 6.9
Среднее 46.7 8.8 20.9 12.4 11.1 7.3 18.4 11.7 2.8 0.4 - 13.9 - 2.4 - - - - - 1.0 - 3.4
5) А. Дельвиг 197 44.0 12.0 13.0 12.0 23.0 14.0 37.0 16.5 3.0 7.5 6.0 33.0 4.5 5.5 — — — - - — 4.5 14.5
6) Е. Баратынский Стих-я ПО 40.0 3.6 15.0 9.6 18.0 18.0 31.4 6.0 2.4 39.2 10.8 10.8
Сумерки 11.3 11.1 37.0 - 3.7 - 3.7 28.0 25.0 11.0 - 72.0 - - - - - 3.7 - 7.4 - 11.1
Среднее 7) М. Лермонтов 430 32.7 5.4 20.9 7.2 14.5 - 14.5 46.3 5.5
1828-1835 60.0 6.0 21.8 8.0 11.0 — 11.0 20.0 4.2 5.0 — 29.2 — 0.3 — — — — — — — 0.3
1836-1841 46.5 2.3 36.1 9.3 8.0 8.1 16.1 16.3 4.6 11.6 — 32.5 — 2.3 - - — 2.3 - 5.8 — 8.1
Стих-я 1840 46.0 - 15.4 15.4 15.4 7.7 23.1 - 7.7 7.7 — — 15.4 - 4.0 - - — — — — - 4.0
Среднее 56.0 5.1 25.0 9.0 12.5 0.3 12.8 18.0 4.0 7.0 — 29.0 - 0.7 - — — — — 3.5 - 4.2
8) Ф. Тютчев 378 25.0 21.5 35.7 6.3 9.0 4.2 13.2 1.8 4.0 1.6 — 7.4 — 1.3 — — - — — 3.7 — 3.7
9) Ф. Глинка 194 47.0 17.0 17.1 9.7 30.9 4.1 35.0 11.8 3.0 17.0 5.6 37.4 2.0 2.5 1.5 - — — — 1.0 37.0 44.0
10) А. Хомяков 100 40.0 15.0 20.0 11.0 14.0 6.0 20.0 27.0 7.0 23.0 7.0 64.0 5.0 - - - - - - - 1.0 6.0
Всего: 3035
Среднее 34.8 11.6 21.8 13.1 24.4 31.2 10.0
Таблица 2
ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА
Формы высказывания в % %
Количество стихотворений от “я” от “мы” без “я” от “я—мы” Реплицированность “Я” как “другой” (со стороны) Синкретические и диалогические формы
реплика обмен репли- ками всего “он” “ты” отделе- ние со- стоян. обоб- щен, инфи- нит. всего немес- тоим. -я- ро- левое -я- син- кретич. —ты— синкре- тич. чужое слово несоб. прямая речь голоса игра т.з. курсив всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1) К. Павлова 111 37.7 14.4 17.1 18.0 13.5 6.3 19.8 7.2 2.7 25.2 2.7 37.8 1.4 5.4 — 6.8
2) А. Фет 457 64.3 5.3 20.0 1.0 3.1 4.0 7.1 0.7 2.7 2.7 0.7 6.8 1.4 2.8 - 2.7 - - 1.3 1.0 — 9.2
3) Н. Некрасов Мечты и звуки 272 49.0 7.2 29.0 3.6 10.9 9.0 19.9 12.6 5.8 9.0 27.4 3.6 3.6
1845-1856 52.5 9.1 19.2 6.1 19.2 7.7 26.9 23.2 5.1 6.1 - 34.4 — 15.4 — — — 15.4 - 7.7 — 38.5
1856—1877 28.0 14.4 14.4 18.7 18.0 18.0 36.0 13.6 21.5 15.2 11.5 61.8 — 9.0 — - - 10.3 - 12.1 — 31.2
Среднее 4) Я. Полонский 232 40.0 11.3 18.4 12.1 18.5 12.5 29.0 14.3 13.6 7.7 5.8 41.4 - 8.8 - - - 10.3 - 12.1 - 31.2
1840-1851 55.4 — 23.0 7.7 17.0 9.2 26.2 13.9 9.2 3.1 7.7 33.9 — 9.2 — - - 10.7 - 6.3 — 26.2
1850-1870 45.0 8.6 12.4 7.7 21.7 10.0 31.7 10.0 7.0 14.7 1.5 33.2 — 10.0 — - - 1.5 - 3.8 — 15.3
1880-1899 40.0 8.0 8.0 21.0 18.0 5.0 23.0 13.0 5.0 13.0 2.6 33.6 — 2.6 - - - - - 5.0 — 7.6
Среднее 5) А.К. Толстой 200 47.0 6.0 14.6 10.0 20.0 9.0 29.0 11.7 7.3 11.2 3.5 33.7 - 8.6 - - - 3.9 - 3.9 - 16.4
Лир. стих-я 51.5 7.5 12.1 9.0 6.0 3.7 9.7 7.2 3.5 22.5 7.5 40.7 1.5 1.5 0.7 - — — 1.7 1.5 — 6.9
Юмор, стих-я 28.3 6.0 18.0 7.1 24.0 13.3 37.3 4.4 2.0 1.5 1.5 7.4 3.0 20.8 — - — — — - — 23.8
Среднее 43.5 7.0 14.0 8.5 12.0 7.0 19.0 7.5 3.0 15.0 5.5 31.6 2.0 8.0 0.5 - - - 1.5 1.0 - 13.0
6) А. Майков 367 37.6 8.4 27.2 6.8 18.3 4.6 22.9 4.9 9.2 13.0 3.5 30.3 2.7 8.4 — - — - - 1.9 — 12.0
7) Ап. Григорьев 104 66.3 6.7 9.6 6.7 7.6 1.8 9.4 17.2 5.8 31.7 17.2 71.9 - 1.8 - 0.9 - - 0.9 - 9.6 14.1
8) С. Надсон 77 66.2 10.4 6.5 8.0 18.1 - 18.1 11.7 17.0 17.0 11.7 57.4 — — — — — — 4.0 — — 4.0
9) А. Апухтин 190 55.2 10.5 18.9 9.4 22.6 3.3 25.9 5.2 2.6 26.3 4.2 38.8 0.5 5.2 0.5 — - 1.0 - 3.6 - 10.8
10) К. Случевский Стихи 238 31.0 13.4 30.2 5.0 10.5 2.9 13.4 0.8 6.2 12.1 19.7 38.8 1.6 3.8 1.2 0.8 2.9 10.7
Песни из Уголка 49.5 10.4 19.0 12.3 14.2 1.9 16.1 - 11.4 14.2 13.3 38.9 2.8 - 1.9 - — — - 13.3 — 18.0
Среднее 36.7 15.4 26.8 7.2 11.6 2.6 14.2 0.5 7.0 12.8 17.7 38.0 2.0 2.6 1.4 - - 0.5 - 6.1 - 12.6
Всего: 2248
Среднее 48.5 10.1 18.0 9.4 21.8 39.0 11.6
Таблица 3
КОНЕЦ XIX - НАЧАЛО XX ВЕКА
Формы высказывания в % %
Количество стихотворений от “я” от “мы” без “я” от “я—мы” Реплицированность “Я” как “другой” (со стороны) Синкретические и диалогические формы
реплика обмен репли- ками всего “он” “ты” отделе- ние со- стоян. обоб- щен, инфи- нит. всего немес- тоим. -я- ро- левое -я- син- кретич. —ты- синкре- тич. чужое слово несоб. прямая речь голоса игра т.з. курсив всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1) К. Бальмонт Литургия красоты 130 31.5 17.7 20.0 17.7 17.7 4.6 22.3 5.3 10.0 23.8 7.7 46.8 2.3 23.0 — — 9.1 13.7
2) В. Брюсов 90 52.2 14.4 7.7 12.2 13.3 5.5 18.8 3.3 4.4 13.3 7.7 28.8 - 13.3 — 3.3 — — — 1.1 2.2 19.9
3) А. Добролюбов 73 32.3 5.8 17.6 - 11.7 - 11.7 9.1 9.1 - 20.5 38.0 11.7 11.7 5.8 - - - - 2.9 - 31.2
Собр. стих. 46.1 10.2 2.5 2.5 7.7 — 7.7 10.2 7.7 — 28.1 46.0 5.1 7.7 23.0 — — — - - - 35.8
Среднее 39.7 8.2 9.5 1.3 9.5 — 9.5 9.5 8.2 — 24.5 42.2 8.2 9.5 15.0 — — — - 1.3 - 34.0
4) И. Коневской 136 44.1 16.1 7.5 11.0 5.1 0.7 5.8 2.8 8.2 24.1 10.3 45.4 11.0 1.4 15.0 2.8 — 0.7 — 1.4 1.4 33.7
5) Ф. Сологуб 1 книга 353 52.3 9.2 27.6 1.5 6.1 1.5 7.6 3.2 4.6 12.3 17.0 37.1 6.1 1.5 1.5 9.1
3—4 книги 31.6 5.0 9.3 2.8 5.7 0.7 6.4 3.0 8.6 10.7 15.0 37.3 6.0 1.4 35.2 6.4 - — - - - 49.0
Пламенный круг 43.3 6.0 8.9 0.6 6.6 0.6 7.2 1.3 8.0 6.6 18.2 34.1 4.0 5.3 22.6 9.3 - - - - - 41.2
Среднее 6) И. Анненский 242 40.5 6.2 13.4 1.7 6.2 0.8 7.0 2.5 7.6 9.3 16.5 36.1 5.6 2.8 23.5 6.5 - 0.2 - - - 38.6
Тихие песни 41.6 7.5 17.0 7.5 5.6 5.6 11.2 3.7 7.5 17.0 19.0 47.2 3.7 1.8 7.5 1.8 - - - 3.7 - 18.5
Кипарисовый ларец Не вошедшие 52.7 8.3 8.0 11.1 12.0 10.2 22.2 3.6 6.4 25.9 13.0 48.9 8.0 1.8 5.5 2.7 - - - 9.2 3.6 30.8
в сборники 48.1 14.8 12.3 11.1 8.6 3.7 12.3 4.9 6.1 23.4 13.5 47.9 3.7 3.7 7.4 6.1 — — — 2.5 8.6 32.0
Среднее 48.7 10.3 11.1 10.3 9.5 7.0 16.5 4.1 6.6 23.1 14.4 48.7 5.7 2.4 6.5 3.7 — — — 5.7 4.5 28.5
7) Вяч. Иванов 197 26.5 17.0 17.5 5.0 15.0 4.0 19.0 4.0 4.0 20.0 14.5 42.5 - 3.0 18.5 1.0 — — — — 5.0 27.5
8) А. Белый Пепел 159 21.5 3.7 20.5 1.8 26.1 4.7 30.8 5.6 3.7 6.5 11.2 27.0 10.2 20.5 29.0 4.7 64.4
Звезда 40.0 24.0 10.0 16.0 6.0 — 6.0 2.0 2.0 24.0 16.0 44.0 16.0 - 4.0 - - — — — 4.0 24.0
Среднее 25.8 9.6 16.2 6.0 18.6 3.0 21.6 4.2 3.0 11.4 12.0 30.6 11.4 13.2 19.8 - — 3.0 — — 1.2 48.6
9) А. Блок 749 55.0 4.3 4.7 7.1 5.8 — 5.8 14.4 7.1 30.4 10.1 62.0 18.8 1.4 — — — — — — - 20.2
сопд 58.0 6.8 4.8 6.0 4.3 0.6 4.9 9.2 8.0 20.1 12.0 49.3 28.8 3.0 - — — — - — - 31.8
Распутья 56.2 8.7 16.2 11.2 17.5 5.0 22.5 14.0 1.2 8.7 3.7 27.6 23.7 8.7 — - — — — - - 39.4
II том 50.5 6.9 16.1 3.5 15.0 7.0 22.0 9.0 4.5 16.6 6.9 37.0 12.0 9.0 — 1.5 — 5.0 2.0 9.5 1.0 41.0
III том 48.2 9.2 6.3 8.8 6.3 4.1 10.4 9.0 19.7 21.8 16.0 67.1 19.3 4.1 9.6 3.0 — 3.8 6.7 7.1 12.1 65.7
Среднее 52.6 7.3 9.4 7.0 9.3 3.8 13.1 10.2 10.0 19.6 10.6 50.4 20.0 5.4 3.0 1.3 0.4 2.8 2.1 5.0 4.1 44.1
10) Н. Гумилев Жемчуга 67 20.8 10.4 20.8 3.0 20.8 3.0 23.8 4.4 4.4 14.7 29.7 53.2 11.9 26.8 38.7
11) А. Ахматова Вечер 208 62.6 3.6 9.0 26.8 14.3 41.1 3.6 36.5 17.8 57.9 5.3 16.0 7.2 28.5
Четки 76.3 — 7.2 9.0 14.4 9.0 23.4 — 1.8 20.0 9.0 30.8 3.6 — — — — — — 1.8 — 5.4
Белая стая 79.5 7.2 4.8 3.6 18.0 3.6 21.6 7.2 4.8 13.2 26.4 51.6 7.2 2.0 1.2 — - - - 5.1 - 15.5
Среднее 72.7 3.6 7.0 4.2 19.7 8.9 28.7 3.6 2.2 23.2 17.8 50.1 7.2 4.3 1.2 — — — — 4.0 - 15.5
12) О. Мандельштам Камень 120 38.3 8.2 31.5 12.3 9.5 4.1 13.6 5.4 8.2 9.5 26.4 49.5 9.5 2.7 1.3 4.1 1.3 18.9
Вторая книга 23.4 12.7 17.0 21.2 8.5 2.1 10.6 14.8 4.2 17.0 43.8 79.8 17.0 - 17.0 4.2 - 4.2 2.2 21.2 — 65.8
Среднее 32.5 9.9 25.6 15.8 9.1 3.2 12.3 8.8 6.4 12.5 32.5 60.2 12.5 — 8.3 2.4 — 1.6 4.0 8.3 - 37.1
13) В. Ходасевич Молодость 34 67.6 9.0 9.0 11.6 5.8 5.8 9.0 14.7 14.7 38.4 2.0 2.0
14) Б. Пастернак Ранние опыты 238 20.0 4.2 38.5 1.4 1.4 1.4 8.5 4.2 7.1 21.4 74.0 1.4 1.4 15.6 21.4 39.8
Поверх барьеров 41.0 4.3 3.5 - 19.5 4.3 23.8 10.7 32.6 6.5 17.2 58.3 6.5 - 2.1 8.6 - - 2.1 4.3 - 23.6
Сестра моя - жизнь 34.0 8.0 16.0 14.0 26.0 — 26.0 4.0 14.0 18.0 38.0 67.0 24.0 — — — — - — — — 38.0
Темы и вариации 40.3 13.0 21.0 6.4 14.5 3.2 17.7 8.2 14.5 8.2 27.4 41.2 6.4 - - - - 3.2 — - - 9.6
Среднее 47.0 10.1 38.0 6.0 19.0 2.0 21.0 9.3 20.2 13.0 35.1 77.6 11.9 0.5 5.3 11.9 .2.9 1.0 0.5 1.5 - 35.5
15) М. Цветаева Версты (I—II) 218 51.6 6.0 6.0 12.0 20.1 3.3 23.4 10.9 3.3 5.0 13.0 32.2 33.0 40.6 0.8 6.7 3.3 80.1
Романтика Психея 39.0 10.0 22.0 9.0 14.0 6.6 20.0 8.0 4.0 3.0 6.0 21.0 18.0 2.0 4.0 23.0 29.0 41.0 100.0
Среднее 45.8 7.7 7.7 8.7 15.1 4.5 19.6 9.5 3.7 4.1 10.0 27.3 26.1 0.8 23.8 0.4 4.9 - 6.9 4.5 1.6 69.0
16) Т. Чурилин Весна после смерти 17) В. Маяковский 63 42.9 4.7 22.2 4.7 22.2 6.4 28.6 7.5 3.2 6.4 7.5 24.5 14.3 - 11.1 6.4 - 1.1 6.4 9.4 - 48.7
1 том ПСС 70 37.1 8.5 27.1 10.0 38.5 8.5 47.0 6.9 11.0 4.2 11.2 33.3 11.0 — 7.0 — — — — 4.2 — 22.2
18) С. Есенин 168 69.0 0.6 10.7 12.5 14.2 2.9 17.1 17.7 4.1 21.4 17.1 60.3 7.7 - - - - - - 6.6 - 8.3
Всего: 3453
Среднее 43.7 9.7 7.9 50.4 30.2
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
С.Н. БРОИТМАН
РУССКАЯ ЛИРИКА
XIX - НАЧАЛА XX ВЕКА
В СВЕТЕ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОЭТИКИ
СУБЪЕКТНО-
ОБРАЗНАЯ
СТРУКТУРА
МОСКВА 1997
ББК 83.0
Б 88
Бройтман С.Н. Русская лирика XIX - начала
Б 88 XX века в свете исторической поэтики. (Субъектно-
образная структура). М.: Российск. гос. гуманит. ун-т.,
1997. 307 с.
ISBN 5-7281-0140-2
В книге на основании большого материала (фольклорная лири-
ка, книжная поэзия XII-XVIII вв., лирика XVIII в., поэзия XIX - на-
чала XX в.) раскрывается своеобразие и особенности образной и
субъектной структуры русской лирики в историческом развитии.
В работе использован и разработан ряд теоретических поня-
тий и принципов анализа текста, способствующих изучению лири-
ки в аспекте исторической поэтики.
Для специалистов-литературоведов, студентов и аспирантов.
Б 4603000000-001 29 97
ОТ8(03)-97
ББК 83.0
ISBN 5-7281-0140-2
© С.Н. Бройтман, 1997
© Российский государственный
гуманитарный университет. 1997
СТАЛИНЕ БАЧИНСКОЙ,
без которой эта книга не была бы написана
ВВЕДЕНИЕ
ЛИРИЧЕСКИЙ ОБРАЗ
КАК ОТНОШЕНИЕ
СУБЪЕКТОВ
(ИСТОРИЯ ВОПРОСА)
Идея исторической поэти-
ки как она сложилась в классических трудах ее основателя
А.Н. Веселовского связана прежде всего с выявлением
больших стадий развития всемирной литературы и созда-
нием исторической типологии художественных форма-
ций. Выполняя первую из этих взаимосвязанных задач,
ученый выделил две стадии мировой литературы: синкре-
тизма и личного творчества (147). Теоретическое осозна-
ние и описание стадии образного синкретизма представ-
ляется сегодня крупнейшей научной заслугой А.Н. Весе-
ловского, какие бы ни делались уточнения и корректиров-
ки его теории (см. 328, а из последних работ 207, особен-
но статью Е.М. Мелетинского). Что же касается стадии
личного творчества, то ее обоснование было сделано уче-
ным эскизно и требовало дальнейшей разработки и диф-
ференциации.
Сегодня уже очевидно, что личное творчество само
прошло такие стадии развития, границы между которыми
сопоставимы по значению с отличием каждой из них от
стадии синкретизма. Обозревая открывающиеся с точки
зрения исторической топики “горизонты европейских ли-
тератур” за “двадцать шесть веков” (от Гомера до Гете)
(352, 19, 22), Э.Р. Курциус пришел к необходимости разли-
чения большой эпохи риторической поэтики, охватываю-
щей период от античности до XVII-XVIII вв., и современ-
ного этапа поэтики, открывающегося “литературной рево-
люцией XVIII века” (352, 89).
Если основное внимание Э.Р. Курциуса было уделено
риторической поэтике, то М.М. Бахтин сосредоточил
свои научные интересы прежде всего на современном эта-
пе поэтики, связанном с тем “сдвигом внутри социально-
8
Введение
речевого общения” (157, 140), который обусловил “пере-
ход больших прозаических жанров на немой регистр”, по-
явление несобственной прямой речи (157, 154) и подъем
романа (125). Так в работах крупных исследователей, каж-
дый из которых научно освоил одну из больших эпох ху-
дожественного развития, были заложены предпосылки
выделения трех стадий в истории поэтики.
В 60-е годы авторы трехтомной “Теории литературы.
Основные проблемы в историческом освещении” (С.Г. Бо-
чаров, В.В. Кожинов, Г.Д. Гачев, П.В. Палиевский, Н.К. Гей,
М.М. Гиршман и др.) предложили различать “эпохи”
фольклора, поэзии и прозы. В 80-е годы С.С. Аверинцев
пишет о трех качественно отличных состояниях культуры
европейского круга - “дорефлексивно-традиционалист-
ском, преодоленном греками в V-IV вв. до н.э.; рефлексив-
но-традиционалистском, оспоренном к концу XVIII века
и упраздненном индустриальной эпохой; конце традицио-
налистской установки как таковой” (102, 7). В самое послед-
нее время предложено называть эти три стадии типами ху-
дожественного сознания: мифопоэтическим, традициона-
листским и индивидуально-творческим (207а, с. 3-38). Не-
сколько в стороне от наметившейся здесь традиции ока-
зывается предложенное Ю.М. Лотманом двучленное раз-
граничение стадий поэтики: эстетика тождества - эстети-
ка противопоставления (237, с. 350-359). Мы в данной ра-
боте будем исходить из представляющегося на сегодняш-
ний день наиболее убедительным и обоснованным выделе-
ния трех больших стадий в истории поэтики, называя
первую из них вслед за А.Н. Веселовским стадией синкре-
тизма, вторую и третью вслед за С.С. Аверинцевым - ста-
диями рефлексивного традиционализма (“риторической”)
и нетрадиционалистской (неканонической).
Предмет нашего исследования - русская лирика XIX -
начала XX века - относится к современному этапу разви-
тия поэтики. У разных исследователей он именуется, как
мы убедились, по-разному: стадия личного творчества, ин-
дивидуально-творческая, эстетика противопоставления,
эпоха прозы, нетрадиционалистская поэтика. Но несмот-
ря на разнобой обозначений, в понимании этой стадии се-
годня есть определенное конструктивное единство. Вслед
за М.М. Бахтиным и авторы трехтомной “Теории литера-
туры”, и С.С. Аверинцев исходят из того, что эта эпоха
9
поэтики проходит под знаком первого неканонического
жанра - романа - и связанной с ним деканонизации литера-
туры. Для осознания современной лирики важен такой
центральный момент этой деканонизации, как отказ от ап-
риорно данной и авторитарно-монологической концепции
мира и человека и рождающееся понимание их как диало-
гического (в бахтинском смысле этого слова) целого.
Этот процесс, идущий в современной литературе, по-
требовал и от литературоведения кардинальной перестрой-
ки своей методологии. Можно сказать, что методологиче-
ская переориентация произошла (и происходит) на наших
глазах. Еще А.Н. Веселовский понимал художественный
образ как некую данность по аналогии с природными яв-
лениями, что приводило, как заметил Б.М. Энгельгардт,
к его “овеществлению” (344, 61) или, как сказал бы М.М. Бах-
тин, к “монологизации” его. Сам М.М. Бахтин предложил
качественно иное понимание образа - не как вещно-при-
родпого феномена, а как социальной и псрсопологиче-
ской целостности - как отношения между субъектами.
Известно, что различая три типа отношений (между
объектами, субъектом и объектом, между субъектами),
М.М. Бахтин именно отношения между субъектами считал
специфическими для эстетической сферы: “Отношения
между субъектами - личностные, персоналистские отно-
шения: диалогические отношения между высказывания-
ми, этические отношения и др. Сюда относятся и всякие
персонифицированные смысловые связи. Отношения ме-
жду7 сознаниями, правдами, взаимовлияния, ученичество,
любовь, ненависть, ложь, дружба, уважение, благогове-
ние, доверие, недоверие и т. п. Но если отношения дспер-
сонализовапы (между высказываниями и стилями при
лингвистическом подходе и т. п.), то они переходят в пер-
вый тип (отношений между объектами. - С. Б.). С другой
стороны, возможна персонификация многих объектных
отношений и их переход в третий тип” (отношений меж-
ду субъектами. - С. Б.) (126, 343).
Именно межличностные отношения порождают, по
М.М. Бахтину, реальность эстетическую (см. об этом 321,
40-41; 311, 64), по также реальность искусства и литерату-
ры, в том числе центрального жанра современной литера-
туры - романа (см. 311, 65-66), изучение которого в дан-
ном аспекте уже стало серьезной научной традицией. Мс-
10
Введение
нее обращалось внимания на то, что и лирика для М.М. Бах-
тина выражает “не отношение переживающей души к себе
самой, но ценностное отношение к ней другого как такового”
(126, 145). Ученый утверждает: “Не высказать свою жизнь,
а высказать о своей жизни устами другого необходимо для
создания художественного целого, даже лирической пьесы”
(126, 77). По мысли М.М. Бахтина, этот “другой” (“герой”)
реально присутствует в лирическом произведении. В ли-
рике “автор” растворяется во внешней звучащей и внут-
ренней живописно-скульптурной и ритмической форме,
отсюда кажется, что его нет, что он сливается с героем
или, наоборот, нет героя, а только автор. На самом же де-
ле и здесь герой и автор противостоят друг другу и в каж-
дом слове звучит реакция на реакцию” (127, 146).
Приведенные высказывания вполне определенно го-
ворят, что ученый понимал лирический образ именно как
отношение субъектов - “я” и “другого” (“героя”). Правда,
он считал, что в лирике эти межсубъектные отношения,
как правило, не принимают диалогического характера, но
это уже другой вопрос, которого мы коснемся позднее. Те-
перь же заметим, что если анализ эпических жанров (осо-
бенно романа) в свете межсубъектных отношений уже дал
свои плоды, то попытка подойти с этой методологиче-
ской установкой к лирике порождает ряд принципиаль-
ных теоретических проблем и требует пересмотра некото-
рых положений, воспринимаемых сегодня как фундамен-
тальные и сами co6oii разумеющиеся. Мы имеем в виду
прежде всего постулат моносубъектности лирики, из кото-
рого исходит “добахтинская” теория этого рода литерату-
ры. Чтобы лучше понять сильные и слабые стороны это-
го постулата, рассмотрим, как он сформировался и эволю-
ционировал.
Известно, что Платон и Аристотель, стоящие у исто-
ков современного понимания литературных родов, раз-
граничивали их1 по способу выражения: “Или путем про-
стого повествования, или посредством подражания, либо
того и другого вместе” (273, 111, 1, 174). “Один род поэ-
зии и мифотворчества весь целиком складывается из под-
ражания - это, как ты говоришь, трагедия и комедия; дру-
гой род состоит из высказываний самого поэта - это ты
найдешь преимущественно в дифирамбах; а в эпической
поэзии и во многих других видах - оба эти приема” (273,
11
111, 1, 175-176). Близкое понимание родов у Аристотеля:
“(Автор) или то ведет повествование (со стороны), то ста-
новится в нем кем-то иным подобно Гомеру; или (все вре-
мя остается) самим собой и не меняется; или (выводит)
всех подряжаемых (в виде лиц) действующих и деятель-
ных” (118, IV, 648).
И у Платона, и у Аристотеля, таким образом, лирика
связана с “простым повествованием” (“высказывание самого
поэта”, поэт “остается самим собой”). При таком понима-
нии лирики упор делается вовсе не на ее субъективности
(как это будет в новоевропейской эстетике), а на том, что
в лирике иное, чем в других родах, отношение “я” и “дру-
гого”: в ней не происходит превращения субъекта речи в героя
(“другого"), что обязательно в драме и возможно в эпосе2.
Именно из этой особенности вытекает важное для Плато-
на качество лирики - она менее подражательна, чем дру-
гие роды, за что и пользуется большей благосклонностью
философа.
Тем не менее, по Платону, лирика все же (хоть и менее
других родов) подражательна, и мы вовсе не имеем в ней
чистое и беспримесное высказывание самого поэта. Дело
в том, что лирический поэт не свободен от “другого”, по-
нимаемого греком как божество: «И один поэт зависит от
одной Музы, другой - от другой. Мы обозначаем это сло-
вом “одержим”, и это почти то же самое: ведь Муза дер-
жит его» (273, 1, 140). Получается, что, по Платону, в ли-
рике по меньшей мерс два субъекта (или субъект и сверх-
субъект) - поэт и муза, а отношение между ними опреде-
ляется как “одержание”.
Итак, у самых истоков теории лирики мы, во-первых,
застаем ее истолкование не как моносубъектного, а как по
крайней мерс бисубъектного рода; во-вторых, сталкиваем-
ся с представлением о се специфической подражательно-
сти, при которой, однако, не происходит превращения
субъекта речи в “другого”; в-третьих, находим понимание
лирика как “одержимого”, что опять-таки говорит о его
неразвито-напряженном, еще синкретическом соотноше-
нии с “другим”. О том, что этот синкретизм субъектов не
измышлен Платоном, а был реальностью художественной
практики древнегреческой литературы, свидетельствует
и современная наука: “В каждой лирической песне не один,
а двое участников: тот, кто поет, и тот, кому он поет. И оба
12
Введение
эти лица нерасторжимы, хотя их раздельность вполне
осознана” (330, 425).
Помимо прочего Платон и Аристотель не могли наста-
ивать на моносубъсктности лирики потому, что они еще за-
стали живой ее хоровую форму. Только новоевропейская эс-
тетика, забывшая о хоровых истоках лирики и ставшая тео-
рией лирики личной, начала исходить из убеждения в ее
моносубъектности. Нельзя, однако, сказать, что новоевро-
пейское прочтение Платона в вопросе о природе лирики
было чисто произвольным. Просто из сложного (и даже
синкретического) учения философа было извлечено и ак-
центировано то, что отвечало новой парадигме мышления.
Известно, что исторической заслугой новоевропейской
мысли было открытие равного самому себе и автономного
субъекта, платой же за этот прорыв субъектного синкретиз-
ма оказалась прогрессирующая (по крайней мере до начала
XIX века) монологизация его. Поэтому естественно, что ко-
гда в возрожденческой Европе после долгого перерыва за-
говорили о родовых свойствах лирики, то она в представ-
лении теоретиков была прикреплена не к области межлич-
ностных отношений, а к сфере внутреннего мира субъекта,
поначалу к области чувств. Складывается некая парадигма,
общая для теоретиков позднего Возрождения, барокко и
классицизма, но также для просветителей, предромантиков
и романтиков. Движение внутри этой парадигмы состояло
во все более последовательной интериоризации лирики.
Первоначально речь шла о том, что она есть выражение
чувств (301, 78), которые, однако, для возрожденческого,
барочного и даже классицистического человека еще “недос-
таточно укоренены внутри него” (256, 14). Затем у предро-
мантиков и романтиков речь начинает идти о “внутреннем
человеке” (Жуковский), единственном и индивидуальном
(Ф. Шлегель), особенном (Шеллинг), субъективном (Шел-
линг, Гегель). Но романтизм на этом не остановится. Он
свяжет лирику не просто с внутренним, но с “внутренней-
шим” миром: Ф. Шлегель приложит гностическую дефи-
ницию духа, души и тела к классификации родов и лирику
свяжет, конечно, с духом, заявив, что “подлинно духовные
поэтические создания мыслимы, вероятно, только в лири-
ческом роде” (343, 11, 333). Одна из вершин этого процес-
са - осознания самоценности субъекта и в то же время
монологизации его - эстетика Шеллинга.
13
В его системе, строящейся на диалектике бесконечного
и конечного, всеобщего и особенного, тождества и разли-
чия, лирика соотнесена с конечным, различимым, особен-
ным. Ведь она более других родов “вытекает из субъекта,
а следовательно, из особенного” (340, 345). Интересно, од-
нако, что расставив окончательно все акценты, безогово-
рочно связав лирику с субъектом, философ счел необходи-
мым обратиться к понятию диалога. Поскольку, рассуждает
Шеллинг, лирика есть особенное, то в ней неразличимость
и “непрерывность устранены” (340, 346), а формообразую-
щую роль играет “момент различия, разделения и обособле-
ния”, самосозерцания и самопознания (340, 349). Но ведь
и диалог “преимущественно исходит из самосознания и на-
правлен на самосознание”, поэтому он “по своей природе
и предоставленный себе тяготеет к лирике” (340, 359).
Не менее интересно, что диалог здесь понимается все-таки
не “диалогически”, а монологически (в бахтинском смысле
этих терминов). Ведь действительный диалог не может вра-
щаться в сфере само - созерцания и сознания - ему необхо-
дим другой субъект. Но вот “другого” не знает лирический
субъект не только по Шеллингу, но и по Гегелю.
Действительно, по Гегелю, в поэзии “духовное содер-
жание уходит... из чувственного материала”, а “роль внеш-
него и объективного элемента” играет “само внутреннее
представление и созерцание'. Иначе говоря, “дух становится
предметным на почве самого же духа” (160, III, 347). В ли-
рике же, по Гегелю, дух делает еще один шаг в сторону ин-
териоризации: он отказывается от своей духовной предмет-
ности и “нисходит внутрь самого себя, созерцает собствен-
ное сознание” (160, III, 492). Это и есть излечение духа, ос-
вобождение его от пленения, от бессознательного, темного
и непосредственного единства с субъектом. Благодаря тако-
му акту содержание сознания превращается, по 1егелю,
в “объект, очищенный от всякой случайности настроения,
объект, в котором освобожденный внутренний мир свобод-
но, в удовлетворенном самосознании возвращается к себе
и пребывает у себя самого” (160, III, 493).
В этом построении великого философа субъект обре-
тает высокую самоценность, осененный ореолом “духа”.
Но, во-первых, этот дух всегда имеет дело только с самим
собой, он не знает (и в данной системе не может знать)3
никого “другого”. Во-вторых, дух не имеет тут иного спо-
14
Введение
соба преодолеть стихийное совпадение с самим собой, как
став объектом (а не субъектом) самого себя. Так в конкрет-
ном вопросе о природе лирики проявилась не только вы-
сочайшая оценка субъекта, по и монологизм Гегеля и за-
вершаемой им европейской философской традиции
(см. 122, а также специальное исследование: 246-247).
Послегегелевская теория надолго принимает как саму
собой разумеющуюся идею о том, что лирика является вы-
ражением субъекта - при этом имелся в виду именно ново-
европейский самоценный и равный самому себе субъект,
то, что Г. Гессе резко назвал “фикцией”, а М.М. Бахтин мяг-
че - “абстракцией” “я”. Следующий шаг к выяснению при-
роды лирики оказался возможным только тогда, когда воз-
ник исторический подход к проблеме. Этот подход позволил
А.Н. Веселовском)’ выйти из уже ставшего заколдованным
круга построений (типа “эпос-объект, лирика-субъект”)
(147, 271), в которых исходным моментом была внеистори-
чески понятая личность, и подойти к исторической почве
лирики - синкретизму как лону развития образа и особой
стадии субъектных отношений. Объективно получается
так, что Веселовский исходит уже нс от изолированного
субъекта, а из особого исторического типа межсубъектных
отношений, названного им “синкретическим”.
Исторический взгляд на лирику позволил А.Н. Веселов-
скому поставить вопрос о се изначально хоровой природе
(147, 200-201), исключающей мопосубъектность. Само вы-
деление лирики из исходного синкретизма и эволюция ее
образных форм от собственно синкретических (разные ти-
пы параллелизма) к художественно-аналитическим (тропы)
у А.Н. Веселовского осознается как результат двусторонне-
го процесса. С одной стороны, перед нами прогрессирую-
щее развитие личности (совершающееся постепенными
“групповыми выделениями культурного характера”) (147,
273). Но - и эта вторая сторона чрезвычайно важна - выяс-
нение собственного “я” происходит, по А.Н. Веселовскому,
путем “прислонения к миру лежащей вне его объективно-
сти” (147, 272). И хотя эту вне субъекта лежащую бытийную
сферу ученый определяет в “объектных” терминах, импли-
цитно она выступает у него в роли второго субъекта, осо-
бенно тогда, когда речь идет об архаическом мировосприя-
тии и архаическом типе образа - двучленном параллелиз-
ме, склоняющемся к “уравнению, если нс тождеству” чело-
15
века и природы (147, 129). Действительно, ведь, по А.Н. Ве-
селовскому, при этом типе образа первым членом паралле-
ли является картина природы - та самая вне субъекта лежа-
щая объективность, через которую он “выясняет” себя;
сам же человек выступает в качестве второго члена парал-
лели. Из всей концепции ученого явствует, что первый
член параллели - природа - здесь вовсе не “объект” в стро-
гом смысле слова: для носителя синкретического сознания
природа параллельна и тождественна человеку, то есть,
по существу, субъектна.
Непреходящей заслугой А.Н. Веселовского является
и создание исторической типологии художественного
образа - в значительной степени на материале лирики.
Об этой типологии мы будем подробнее говорить позже,
сейчас же заметим, что глубокая и составившая эпоху в на-
уке разработка образной структуры лирики в исторической
поэтике А.Н. Веселовского оказалась все-гаки в значитель-
ной степени изолированной от изучения субъектных отно-
шений - и тут сказался гот “овеществляющий” и “моноло-
гизирующий” подход к художественному феномену, о кото-
ром мы уже упоминали. Ведь хотя ученый связал генезис
и развитие лирического рода с эволюцией личности и да-
же (имплицитно) с межличностными отношениями, но, во-
первых, эти отношения для него были межличностными
только на стадии синкретизма, а потом стали субъект-объ-
ектными; во-вторых, ученый сосредоточил свое внимание
на обусловленности образа этими отношениями, а сами по
себе межсубъектные связи нс рассматривались им как факт
внутренней структуры произведения, факт собственно поэ-
тики. Непосредственно выраженный в тексте субъектный
строй произведения (то, что сегодня называют его субъект-
ной организацией) еще ие существовал для Веселовского
как художественная реальность - его открытие будет совер-
шено позднее. Так и открытия ученого, и неизбежные гра-
ницы его концепции выявили актуальную - до сих пор - на-
учную задачу: рассмотреть образную и субъектную структуру
лирики как взаимосвязанные, что позволит на порядок более
целостно осознать интересующий нас род литературы.
Хотя эта задача до сих пор не выполнена, развитие науки
XX века неоднократно подводило к ней.
Своими путями шла к этой задаче европейская научная
традиция, исходившая из классических представлений
16
Введение
о лирике как выражении субъекта. Представительным для
этой линии развития является подход, разработанный
Э. Штайгером, который подверг теорию субъективности
лирики логическому анализу и попытался наметить “но-
вые связи” ее основных понятий (359, 58). По Э. Штайге-
ру, идеалистическая эстетическая мысль (прежде всего Ге-
гель и Фишер) недостаточно строго проанализировала
свои центральные категории, такие, как “субъективный
и “объективный”, “внешний” и “внутренний” и др. Само
представление, согласно которому лирика субъективна
и выражает внутренний мир человека, по Э. Штайгеру, ре-
зультат некритического приятия эпического взгляда
на мир, глубоко в нас укорененного: «В эпическом бытии
вещи идут к нам из внешнего мира. В лирическом бытии -
не так. Здесь еще нет противопоставления. Но поскольку
еще нет никакого противостояния и никакого объекта, то
нет еще никакого субъекта. Теперь мы понимаем ошибку,
которая приводила к смешению понятий. Если лириче-
ское стихотворение не объективно, то это еще не значит,
что оно должно называться субъективным. И если оно
не представляет внешний мир, то поэтому вовсе не обяза-
но изображать мир внутренний. “Внутри” и “снаружи”,
“субъективно” и “объективно” в лирической поэзии вооб-
ще не отделены друг от друга» (359, 60).
Сам Э. Штайгер строит свою концепцию лирики
на этой именно основе - на идее отсутствия в этом роде
литературы субъект-объектной дистанции (359, 51).
Из этого качества лирики выводятся исследователем ее
признаки и основные понятия, такие, как “настроение”
(Stimmung) и “воспоминание” (Errinnerung). Ведь “на-
строение”, например, это “вовсе не то, что в нас находит-
ся. Напротив, в настроении мы пребываем”, “не напротив
вещи, а в ней, а она - в нас” (359, 61). Так же и “воспоми-
нание” не означает вхождения мира в субъект, а, напро-
тив, постоянное их нахождение друг в друге настолько,
что можно с одинаковым правом сказать: “поэт вспомина-
ет природу” и “природа вспоминает поэта” (359, 63).
На этой же основе строится характеристика лирического
субъекта как инертно-безвольного и вдохновенного, “со-
вершающего ничто” (359, 78), “преодолевающего ничто”
и “не имеющего ничего противостоящего, на чем можно
было бы испробовать силу” (359, 81).
17
Само по себе отсутствие в лирике субъект-объсктной
дистанции после работ Штайгера вряд ли может подвер-
гаться сомнению. Но отсутствие такой дистанции, говоря-
щее о том, что в этом роде литературы невозможны эпи-
ческие формы объективации, еще не есть доказательство
отсутствия в лирике дистанции субъект-объектной. М.М. Бах-
тин, как мы помним, предполагал ее наличие, хотя считал
межсубъектные границы в лирике чрезвычайно тонкими
и зыбкими (126, 151). Таким образом, сама логика научно-
го поиска подвела Э. Штайгера к проблеме межсубъект-
ных отношений, ио этот аспект исследования остался уче-
ному чужд. Как справедливо заметил его критик, Э. Штай-
гер исходил в конечном счете из гегелевски-фишеровской
концепции субъективности лирики и при этом довел до
предела обозначенный уже у них процесс редукции меж-
личностных связей лирического субъекта (349, 84). Нако-
нец, и сам этот субъект оказался у Штайгера редуцирован-
ным - его место заняло “настроение”.
В современных западных исследованиях, посвящен-
ных проблемам лирики, продолжается анализ основных
категорий (“субъективность”, “лирическая субъектив-
ность”, “лирическое я”, “внутреннее” и др.) (349; 353; 358;
360) и в то же время намечается серьезное отталкивание
от штайгсровской теории. Ойо идет тремя соприкасаю-
щимися путями.
Первый состоит в акцентировании исторического
подхода к литературному роду и к самой концепции лири-
ческой субъективности (которая, как заметил Г. Марке-
вич, объединяет классиков эстетики XVIII-XIX веков с со-
временными исследователями) (252, 173-174). Это напра-
вление исследований четко осознает исторические грани-
цы данной концепции - то, что она локализована в ново-
европейской научной традиции и пришла на смену антич-
ной теории лирики, которая была качественно иной (349,
126). Само зарождение принципа “лирической субъектив-
ности” исследователи относят к XVIII веку (когда выдели-
лась “лирика переживаний”) (353, 1-2; 349, 130) и связы-
вают с осознанием личностью своей автономии. С этой
точки зрения, хотя и «барочная поэзия есть создание субъ-
екта, она все же не является выражением принципа лири-
ческой субъективности, ибо здесь “я” еще не осознает се-
бя как свободную индивидуальность в противоположность
18
Введение
мощи объективной данности, а свою натуру - как проти-
востоящую традиционным нормам» (353, 3). Проводится
также грань между классическими формами лирической
субъективности и ее трансформациями во второй полови-
не XIX века (Бодлер, Малларме, Ницше), когда “она ради-
кально изменилась, и ее уже больше нельзя определять че-
рез понятие “внутреннего” (353, 2), а также между этими
двумя формами и “новой” субъективностью” (353, 1).
Исторический подход к проблеме позволил увидеть
и то, что становление “лирической субъективности” было
оплачено монологизацией лирики. Показательно, напри-
мер, такое утверждение Б. Асмута: “То, что для лирики в го-
рацианском смысле слова было определяющим - Ты - Дру-
гой, стало у Клопштока энтузиастическими призывами
к умершему другу и абстрактными понятиями.., в которых
одно монологизирование, принимаемое всеми нами за сущ-
ность лирического” (349, 126-127. См. также высказывания
Г. Бенна о монологизме современной лирики, 350, 44).
Отталкивание от штайгеровской концепции прояви-
лось и в том, что вместо его понятия “настроение” вновь
в центр внимания выдвинулось понятие “лирический
субъект”. Сам же по себе этот субъект начал осознаваться
как “истинный и единственный конституент лирики”
(358, 9). С этим связано и третье направление отталкива-
ния - переосмысление самого понятия лирического “я”.
Оно началось с преодоления наивно-реалистического
представления, «согласно которому лирическое стихотво-
рение является непосредственным высказыванием лири-
ческого “я”, в конечном счете более или менее автобио-
графическим высказыванием поэта» (349, 130). Теперь ли-
рическое “я” рассматривается прежде всего как факт поэ-
тики - как функциональная величина в структуре текста
(360, 26), учитывается его художественно “фикциональ-
пая” природа (360, 17) и знаково-языковой характер (360,
12; см. также 252; 346).
Параллельно этому процессу, идущему в западной нау-
ке (и даже с опережением его), интерес к субъектной струк-
туре лирики как факту поэтики возникает и в отечествен-
ной филологии. Именно теперь научное открытие и осво-
ение проблемы субъектного строя этого рода литературы
создает возможность (которой, как мы отмечали, не было
у А.П. Веселовского) рассмотреть образную и субъектную
19
структуру лирики как взаимосвязанные. Присмотримся
к тому, как шла реализация этой возможности.
Первая попытка анализа субъектной структуры лири-
ки была предпринята М.М. Бахтиным в первой половине
20-х годов (в работах, опубликованных совсем недавно -
“К философии поступка” и “Автор и герой в эстетической
деятельности”). Ученый опередил современные взгляды
па лирику и предложил качественно новый, принципиаль-
но отличный от новоевропейского подход к ней. Откры-
тие состояло в том, что М.М. Бахтин впервые начал рас-
сматривать лирику как отногиение субъектов'. через голову ев-
ропейской науки он как бы вернулся к Платон}; “вспомнил”
об изначально хоровой природе лирики (во многом опреде-
лившей ее “генотип”) и даже воспроизвел по отношению
к лирике платоновское слово “одержание”. Правда, Платон
считал “одержимым” любого художника, а М.М. Бахтин -
прежде всего лирика, и это связано со сложностью отноше-
ния ученого к данному роду литературы.
Во взглядах М.М. Бахтина на лирику надо четко разли-
чать два момента, которые, как правило, смешиваются.
Прежде всего, ученый безоговорочно считал, что лири-
ка - как и литература вообще - выражает не изолирован-
ного субъекта, нс абстракцию “я”, а реальную форму сущест-
вования человека - отношения между “я” и “другим” (126,
319). Помимо приведенных выше ранних высказываний
ученого, об этом свидетельствуют и его поздние рассужде-
ния на эту тему: «Не является ли всякий писатель (даже
чистый лирик) всегда “драматургом” в том смысле, что все
слова он раздает чужим голосам, в том числе и образу ав-
тора (и другим авторским маскам)? Может быть всякое
безобъектное, одноголосое слово является наивным и не-
годным для подлинного творчества. Всякий подлинно
творческий голос всегда может быть только вторым голо-
сом в слове» (126, 288-289).
Но рассматривая лирику в плане межсубъектпых отно-
шений, М.М. Бахтин считал, что в ней эти отношения спе-
цифичны, в частности они очень редко и в ограниченных
формах могут подняться до собственно диалогических. Та-
ким образом, вопрос о возможности или невозможности
диалогических отношений в лирике - это самостоятель-
ная проблема, которую нельзя смешивать с самоочевид-
ной для Бахтина межсубъектной локализацией этого рода
20
Введение
литературы. Когда же мы разграничили эти моменты, нуж-
но сказать, что ученый в принципе признает: и в лирике
межсубъектные отношения могут принять наиболее разви-
тую свою форму - стать диалогическими. Так М.М. Бахтин
считает, что “и в поэзии целый ряд существенных проблем
не может быть разрешен без привлечения указанной (диа-
логической. - С. Б.) плоскости рассмотрения слова” (123,
342). Диалогизированный образ имеет место, по М.М. Бах-
тину, в столь хронологически удаленных друг от друга худо-
жественных феноменах, как горацианская лирика, лирика
Ф. Вийона, Г. Гейне, О. Барбье, Ж. Лафорга, К. Случевско-
го, И. Анненского, А. Белого, отчасти Н. Некрасова (123,
342; 126, 91, 105, 149-150).
Но не отрицая принципиальной возможности диало-
гического начала в лирике, ученый считает, что, во-пер-
вых, оно в ней “редко и специфично” (обусловлено проза-
изацией ее, 123, 341); во-вторых, оно не может “развер-
нуться, достигнуть сложности и глубины и в то же время
художественной завершенности” - это возможно только в
условиях романного жанра (125, 91). Иначе говоря, в ли-
рике, по М.М. Бахтину, при том, что она выражает отно-
шения субъектов, действуют существенные внутренние ог-
раничения на диалог. Что это за ограничения?
Во-первых, в лирике, считает исследователь, невоз-
можна существенная объективация, ибо в ней “другой”
(герой) нс обладает автономией, необходимой для того,
чтобы возникло диалогическое co-бытие. В этом смысле
лирика еще слишком бытийна, слишком тесно связана
с органической жизнью тела (125, 68), а в плане истори-
ческом - с родовой, “хоровой” жизнью, восходя к “прими-
тивному естественному самоощущению”, при котором “я”
И “другой” слиты (126, 351-352). Поэтому в лирике нет
принципиальных и существенных “границ героя, а, следо-
вательно, и принципиальных границ между автором и ге-
роем” (126, 151). Во-вторых, в лирике, по М.М. Бахтину,
невозможна и существенная самообъективация, ибо лири-
ческое “я” еще не выступило “из хора как герой-протаго-
нист его... В лирике я еще весь в хоре и говорю из хора”
(126, 149). В-третьих, столь же синкретична, по М.М. Бах-
тину, позиция третьего участника лирического творчест-
ва - слушателя-читателя, установка на которого изнутри
определяет форму произведения. Это хоровой слуша-
21
тель - и основным условием лирической интонации явля-
ется “неколебимая уверенность в сочувствии слушающих”
(156, 264).
Из этих трех моментов вытекает специфическое отно-
шение лирики к языку. Язык дан лирическому поэту, утвер-
ждает исследователь, “только изнутри, а не извне, в своей
объективной специфичности и ограниченности” (125, 99).
Отсюда “монологическая выдержанность”, никакой дистан-
ции между поэтом и его словом нс должно быть (125,
99-100). Слово лирика - “единое и бесспорное слово”, оно
“довлеет одному языку и одному языковому сознанию” (125,
99), ему чужда “оглядка на чужие языки, на возможность
иных языковых точек зрения” (125, 98). Наконец, принци-
пиальная двузначность (и многозначность) поэтического
слова, отождествляемого М.М. Бахтиным с “символом-тро-
пом”, качественно иная, чем двузначность слова прозаиче-
ского: “Как ни понимать взаимоотношение смыслов в по-
этическом символе (тропе), - это взаимоотношения во
всяком случае не диалогического рода, и никогда и пи при
каких условиях нельзя представить себе троп/.../, развер-
нутым в две реплики диалога, то есть оба смысла разде-
ленными между разными голосами” (125, 141).
Завершая обзор концепции М.М. Бахтина, мы вновь
должны выделить в ней два самостоятельных момента.
Первый касается самого подхода к лирике как отношению
субъектов. Здесь М.М. Бахтин выступил как первооткры-
ватель и заслуга его неоценима. Второй момент касается
степени убедительности его концепции “ограниченного”
диалога в лирике. Те ограничения на диалог, которые уче-
ный видит в этом роде литературы, вырастают из самого
по себе неоспоримого факта: в лирике дистанция между
субъектами, граница между “я” и “другим” тоньше и труд-
ней уловима, чем в эпосе и драме (это в своих терминах
подчеркивал и Э. Штайгер), и во многих случаях (в так на-
зываемой “чистой лирике”) “я” не может быть жестко от-
делено от “другого”, ибо вступает с ним в интенциональ-
ные отношения “нераздельности-неслиянности”. Однако
граница эта в лирике - исторически меняющаяся величина,
поэтому для корректного решения проблемы необходимо
рассмотреть ее в свете исторической поэтики.
М.М. Бахтин недооценил, на наш взгляд, диалогиче-
ские возможности лирики потому, что не подверг меж-
22
Введение
субъектные отношения в ней историческому анализу. Се-
годня видно, что он недостаточно исторично подходил
и к художественному образу в лирике. Ученый, как мы по-
мним, идентифицировал его с “тропом (символом)”, и в этом
вопросе он оказался уязвимым, так как не учел уже достиг-
нутых в исторической поэтике А.Н. Веселовского резуль-
татов. IТеразвернутость концепции лирического образа
привела к тому, что глубоко перспективное понимание
субъектной структуры лирики оказалось в этой научной
системе по существу изолированным от изучения образ-
ной структуры (А.Н. Веселовский, наоборот, был сосредо-
точен на образной структуре за счет субъектной). Так мы
вновь подходим к проблеме субъектно-образной целостности
лирики. Но прежде чем непосредственно обратиться
к ней, скажем о сегодняшнем методологическом уровне
изучения субъектной структуры этого рода литературы.
Симптоматична в интересующем нас плане книга
В.Р. Джонсона, в которой субъектная проблематика пред-
стает как центральная для раскрытия самой “идеи лири-
ки” (354). Ученый создает классификацию лирических со-
общений, исходя из анализа личных местоимений в тек-
сте и характера соотношения местоименных форм.
На этой основе он выделяет четыре типа лирики: хоро-
вую (обращающуюся к коллективному слушателю); класси-
ческую сольную, или монодию (строящуюся на обраще-
нии “я” к аудитории; местоменная структура: я - ты (вы);
медитативную поэзию (в которой “я” обращено к самому
себе или не имеет адресата); наконец, повествовательную
и драматизированную (в которых отсутствуют местоимен-
ные формы выражения субъекта речи). Интерес предста-
вляет и историческая локализация этих типов, в частно-
сти тот факт, что, по В.Р. Джонсону, в XVII веке в Европе
медитативная лирика вытесняет классическую монодию
(которая наряду с хоровой была господствующей в антич-
ной литературе). Причиной смены ведущего типа являет-
ся то, что теперь слушатель перестает быть определяю-
щим компонентом лирического высказывания (354, 13, ср.
с уже приводившимися высказываниями о монологизации
европейской лирики, 349, 126-127).
Однако значение интересной книги В.Р. Джонсона
уменьшает то, что межсубъектные связи он понимает как
отношение “я” и “адресата”, тогда как еще М.М. Бахтиным
23
было открыто наличие трех субъектов в ситуации лириче-
ского высказывания: автора, героя и слушателя-читателя
(156, 255). Поэтому у В.Р. Джонсона в “я” по существу не
разграничены автор и герой, а в адресате - герой и слуша-
тель. Интересно, что так же плохо различаются субъекты
ситуации в предложенном раньше тезисном проспекте
Л.Ю. Максимова, согласно которому основными элемента-
ми лирического стихотворения являются “лирический ге-
рой (Г), лирический адресат (Л), лирические объекты
(О), лирическая модальность (+)”. Все многообразие стру-
ктур лирических стихотворений может быть сведено, по
Л.Ю. Максимову, “к трем основным типам: 1) Г + А (+О);
2) Г± О; 3) ±О” (242, 503).
Дело не только в том, что при подобных подходах
субъектная структура лирики упрощается, так сказать, ко-
личественно: она подвергается качественной деформа-
ции. Вместо центральных в лирике и в наибольшей мере
субъектных отношений автора и героя, упор начинает де-
латься на отношениях нерасчлененного автора-героя
с нерасчлененным же героем-слушателем, что искажает
смысловую перспективу лирики. Кроме того, что связь ге-
рой-адресат менее расчленена и менее важна, чем связь
автор-герой и во многом опосредована ей, она и менее
субъектна, а потому легче поддается формализации и ове-
ществляющему, объектному истолкованию; это обычно
и происходит при структурно-семиотическом подходе
(предложение Л.Ю. Максимова учитывать “лирическую
модальность” не спасает положения, ибо не прояснена ее
субъектная природа). Ведущийся на таком уровне анализ
нс доходит до “человека в человеке” в лирике, до “я”
в “другом” и “другого” в “я”, оставаясь на уровне поверхно-
стных субъект-объектных, а не субъект-субъектных структур.
Тенденция к объектному и овеществляющему понима-
нию лирических субъектов является сегодня распростра-
ненным методологическим просчетом; это видно даже
в тех работах, которые претендуют на изучение наиболее
сложной формы субъектных отношений - диалога в лири-
ке. Укоренившиеся научные навыки и сам категориаль-
ный аппарат, выработанный с преобладающей монологи-
ческой (осознанной или неосознанной) установкой, меша-
ют нам адекватно подойти к проблеме межсубъектных от-
ношений, в том числе и диалогических.
24
Введение
Так Ю.М. Лотман, чрезвычайно много сделавший для
изучения субъектного плана в лирике, объясняет возмож-
ность диалога в ней тем, что возникает “перемещение се-
мантических единиц в общем поле построения значения.
В тексте все время идет полилог различных систем” (240,
ПО). Но в том-то и дело, что этот “полилог“ мыслится ис-
следователем в категориях объектных и деперсонализиро-
ванных - “семантических единиц”, “систем”. В этих же ка-
тегориях ведется анализ конкретных произведений, в кото-
рых ученый видит диалогические отношения. В стихотво-
рении И. Анненского “Еще лилии” диалог, но Ю.М. Лотма-
ну, создается посредством введения в текст чужого слова
и совмещения сигналов разных литературных стилей
с внелитературным словом. Но ведь сами по себе эти фе-
номены диалога не создают, в лучшем случае они лишь
подготавливают его возможность. Сам же диалог возника-
ет только в том случае, если сигналы стилей станут выра-
жением самоценных субъектных позиций. До собственно
диалога в своем анализе стихотворения ученый, к сожале-
нию, не дошел, а между тем “Еще лилии” действительно
диалогическое стихотворение. И диалог в нем рождается
благодаря встрече двух интенций: сложной, но целостной
интенции субъекта речи (“я”), и интенции собственно ав-
тора. Ю.М. Лотман соотнесенность “лилеи” текста и “ли-
лии” заглавия интерпретировал так: “Название цветка пре-
вратилось в поэтическую ассоциацию” (240, 113). Предста-
вляется, что отношения здесь обратные: условно-поэтиче-
ская “лилея” субъекта речи в заглавии превратилась в иро-
ническую “еще лилию” собственно автора. Это резко остра-
нило текст и дало неожиданный взгляд на самого субъек-
та речи, сделав его не только изображающим, но и изобра-
женным (подобный ход характерен для И. Анненского,
см., например, “Кулачишка”, иначе “Смычок и струны”).
По существу так же “объектно” понят Ю.М. Лотманом
диалог в “Двух голосах” Тютчева. Это стихотворение стро-
ится так, говорит ученый, что в нем “речь идет не об ис-
тинности (курсив наш. - С. Б.) первого высказывания при
любом значении второго, а об истинности первого несмо-
тря на истинность второго и несовместимость их” (240,
183). При таком подходе ученый вскрывает логическую
25
дополнительность голосов у Тютчева, но проходит мимо
их субъектной дополнительности. Родственная установка
лежит в основе интересной статьи Р.Д. Тименчика, посвя-
щенной принципам цитирования у А. Ахматовой. И для
него уже сам по себе факт введения в текст чужого слова
становится свидетельством диалогичности, независимо
от наличия или отсутствия его субъектной локализации
(317, 124).
Видимо, проблема диалога (в том числе диалога в лири-
ке) выявляет границы возможностей структурно-семиоти-
ческого подхода. По крайней мере кажется симптоматич-
ным, что первая (хотя весьма щадящая) попытка самокри-
тики была предпринята семиотиками (точнее Ю.М. Лотма-
ном) в сборнике под названием “Структура диалога как
принцип работы семиотического механизма”. Однако
и здесь (что видно даже из заглавия) логицистское пони-
мание диалога не преодолено. По-прежнему в качестве диа-
логических рассматриваются объектные и субъскт-объект-
ные отношения: человека и машины, полушарий мозга,
разных логик или лингвистических единиц текста (337,
220, 260, 261). Диалог интерпретируется в сборнике как
фундаментальнейшая категория, как “основа всех смысло-
порождающих процессов” (241, 23), но только не как от-
ношения между субъектами.
Между тем признание межсубъектной природы диало-
гических отношений - первый реальный шаг по пути их
изучения. Когда он сделан, необходимо поставить вопрос
о специфике субъектных отношений именно в лирике по
сравнению с другими родами литературы. Это тем более
необходимо сделать, что обычно молчаливо предполагает-
ся, будто мерой и образцом межсубъектпых (в том числе
и диалогических) отношений в лирике являются те фор-
мы, которые характерны для эпических жанров. Естест-
венно, когда мы ждем от лирики соответствия тому, что
есть в эпосе и прилагаем к ней мерки эпических форм
объективации, мы обрекаем себя на то, чтобы увидеть
в лирике либо “неполноценную” форму субъектных отно-
шений, либо неполноценный диалог, а в лучшем случае
только тенденцию к нему. Между тем инородовые формы
объективации нс могут быть мерой для лирики, потому
26
Введение
что отношения субъектов в ней не количественно, а каче-
ственно отличаются и от драмы, где “уже реально действу-
ющих лиц по меньшей мере двое” (330, 426), и от прозы
с ее изощренным аналитизмом.
Для выявления специфики этих отношений слишком
грубой и имплицитной, привносящей с собой объектные
отношения (и эпические формы объективации), является
популярная ныне категория “точка зрения”. Действитель-
но, ведь по самому своему определению “точка зрения”
(даже если она “внутренняя”) предполагает наличие более
или менее однозначной дистанцированности, неслиянно-
сти, пространственно-смысловой объективации. Подобно-
го рода объективации лирика (особенно “чистая”) часто
не знает, хотя неслиянность субъектов в ней присутствует,
но одновременно и вместе с “нераздельностью”, которая
не может быть уловлена категорией “точка зрения”. Поэ-
тому представляется для лирики слишком жестким требо-
вание, предъявляемое к диалогу Ю.М. Лотманом: “Непре-
менным условием существования диалога является воз-
можность существования двух выраженных точек зрения”
(238, 101).
Собственно на понятии “точка зрения” зиждится науч-
ная система “теории автора”, или системно-субъектный
подход, разработанный Б.О. Корманом и его учениками.
Показательно при этом, что “точка зрения” определяется
как “единичное (разовое, “точечное”) отношение субъекта
к объекту' (курсив наш. - С. Б.) (213, 12). Эта “объектность”,
лежащая в самом основании категориального аппарата
и привносимая в субъектные отношения, создает некото-
рую прямолинейность и механистичность подхода, с тру-
дом и не всегда преодолеваемую таким крупным исследо-
вателем, как Б.О. Корман. Поэтому несомненные достиже-
ния этого подхода, открывшего реальную многомерность
и многосубъектность авторского плана в лирике, тесно пе-
реплелись с его слабостью, в частности с недооценкой
субъектной природы “другого” (героя) и стремлением из-
лишне жестко объективировать в качестве “героя” автор-
ские интенции.
В научной литературе уже поднимался вопрос об огра-
ниченной применимости понятия “точка зрения” при ис-
27
следовании диалогических отношений (310, 43). Особую
силу это имеет применительно к межсубъектным отноше-
ниям в лирике, где не всегда применимо даже более тон-
кое, чем “точка зрения”, понятие “голоса”, на котором на-
стаивает 11.Д. Тамарченко, говоря о романе. Так в уже упо-
минавшемся нами стихотворении И. Анненского “Еще ли-
лии” голосов фактически нет, а есть лишь две интенции -
субъекта и речи и первичного автора. Видимо понятие
“интенции” - ценностной экспрессии субъекта, направ-
ленной не па объект, а на другого субъекта - наиболее аде-
кватно природе межсубъектных отношений в лирике. Ин-
тересно, что так понятая интенция сознания “соответству-
ет высшему уровню традиционной индийской семанти-
ки” - “дхвани” (201, 126). Вероятно эта параллель не слу-
чайна. Возможно, с подходом к изучению межсубъектных
и диалогических отношений в лирике мы подошли в опре-
деленной мере к границам возможностей европейского
типа культуры, начиная с античности, развивавшейся
в русле прогрессирующе монологических установок. Ин-
дийский тип культуры развивался на иных основаниях, по-
этому обращение к его категориям может существенно по-
мочь нам. По крайней мерс следует учитывать, что выс-
шая форма интенции, связанная у М.М. Бахтина с диало-
гом, - “внежизненно активная позиция” (126, 165) - имен-
но в индийской культуре была плодом многовекового куль-
тивирования.
У индусов “дхвани” - не только высшая форма интен-
ции, но одновременно “особого рода поэтическое выска-
зывание, где содержание или выражение проявляет ... зна-
чение, отступая при этом на второй план” (113, 71). Для
Лнандавардханы “дхвани” - проявление образно-стилевой
специфики поэзии. Но если верно, что за каждой образно-
стилевой формой стоит определенное отношение субъек-
тов, то следует думать, что специфическое соотношение
выраженного и проявленного значений высказывания
в лирике порождено соответствующей структурой се субъект-
ного плана, наличием в ней выраженного и проявляемого
субъектов - “человека в человеке”.
Чтобы уловить именно эту сторону лирики (увидеть
“другого” в “я” и “я” в “другом”, а также эксплицированных
28
Введение
“я” и “другого”), мы сосредоточим внимание не на внеш-
ней адресованное™ высказываний, а на их внутренней
форме. Во-первых, мы выделим прямые формы высказы-
ваний - от “я”, от “мы”, от “я” и “мы” в пределах одного
текста, без выраженного (местоименно или иным спосо-
бом) лица. Во-вторых, вычленим косвенные формы выска-
зываний, при которых субъект речи смотрит на себя со
стороны - как на “другого”: как на “ты”, “он”, обобщенно-
неопределенного субъекта, выраженного инфинитивом
или наречием, как на состояние, отделенное от его носи-
теля. В-третьих, рассмотрим синкретические и диалогиче-
ские формы высказываний: разные типы субъектного син-
кретизма, несобственная прямая речь, игра точками зре-
ния, голосами и интенциями, ролевые стихотворения. За-
тем проследим, как соотносятся между собой эти формы
высказываний в русской лирике XIX века (для статистики
нами учтено 5 283 стихотворения наиболее крупных поэ-
тов, см. таблицы 1-2) и начала XX века (3 453 стихотворе-
ния, см. таблицу 3). Представляется, что такой подход
даст возможность увидеть эволюцию субъектных структур
в лирике интересующего пас периода, притом на строгой
статистической основе (мы разделяем мнение, согласно
которому при изучении искусства статистика применима
лишь в некоторых сферах, но именно субъектная органи-
зация, как и область метрики и ритмики, в своих количе-
ственных параметрах поддается такому подходу).
Полученные таким путем факты позволят восполнить
важный пробел, существующий сегодня в изучении субъ-
ектного плана лирики - дадут возможность увидеть его ис-
торическое развитие. Для осмысления открывшейся кар-
тины в свете истории поэтики мы рассмотрим данные
XIX - начала XX века на фоне русской фольклорной лири-
ки (1 811 стихотворений) и поэзии эпохи рефлексивного
традиционализма (1 480 произведений XI-XVIII веков).
Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что содержание
понятий, составляющих субъектную сферу (“я”, “он” и др.)
существенно различно в разные эпохи, и в прямой форме
это различие мы не уловим, обозначая одним и тем же
словом “я” фольклорного субъекта и субъекта поэзии
XX века. Но в косвенной (в чем-то более существенной,
29
чем прямая) форме мы это различие надеемся сделать
очевидным. Ведь если, например, в каждую эпоху склады-
вается свое понимание “я”, то глубинным выражением
этого каждый раз нового понимания является та система
отношений, в которые оно вступает с другими субъекта-
ми, а именно эти отношения наш подход выявляет.
При изучении собственно образных структур приме-
нение столь же надежных статистических методов, види-
мо, невозможно. Обеспечить достоверность результатов
здесь может выявление некоторых фактов, обладающих
достоинством самоочевидности, в частности, выявление
для поэзии интересующего нас периода типов исходной це-
лостности или первообраза, по терминологии М.М. Гирш-
мана (166). Дополнительным подтверждением верности
выводов, касающихся образной структуры, мог бы быть
факт ее изоморфности со структурой субъектной, данные
о которой добыты статистически.
Так в нашей науке общепринято положение, согласно
которому в русской классической лирике XIX века, преж-
де всего у Пушкина, исходным началом или первообразом
является конкретное и конечно-размерное. Дополнитель-
ным доказательством верности данного положения оказы-
вается то, что и в субъектной сфере поэзии этого време-
ни мы находим аналогичную исходную установку. Обнару-
живает корреляты в субъектной сфере и та смена перво-
образа, которая происходит в лирике начала XX века: вы-
движение в качестве исходного начала бесконечного
и безмерного. Изоморфность субъектной и образной стру-
ктур лирики XIX века позволяет понять ее как некую цело-
стность, которую мы обозначим словом “классический”. Но
качественно отличные от классических субъектная и образ-
ная структуры лирики начала XX века тоже изоморфны
друг другу и представляют собой иного типа целостность,
которую мы обозначим термином “неклассический”, заме-
тив, что понимаем термины “классический” и “неклассиче-
ский” в строго определенном смысле вслед за М.К. Мамар-
дашвили и его соавторами и по аналогии с классической
и неклассической физикой и философией (246-247).
В то же время факты, полученные при изучении субъ-
ектной структуры, говорят о том, что при всем качествен-
Введение
ном различии классической лирики XIX века и некласси-
ческой лирики начала XX века, перед нами - некое цело-
стное образование, целая и единая поэтическая эпоха
со своими полюсами, но и единой поступательной логи-
кой развития. То, что в плане историко-литературном
иногда кажется несовместимым и взаимоисключающим,
в свете исторической поэтики предстает как сложное
единство, основанное на принципе дополнительности,
а неклассические начала поэзии XX века (в частности, его
первообраз - бесконечное и безмерное) оказываются
своеобразной экспликацией того, что в иных формах
и связях существовало в классике.
СУБЪЕКТНЫЙ И ОБРАЗНЕЙ
СИНКРЕТИЗМ В РУССКОЙ НАРОДНОЙ
ЛИРИКЕ
Глава
Для того, чтобы исторически понять субъект-
но-образную структуру русской лирики XIX - начала XX века,
мало соотнести се классическую и неклассическую формы.
Необходимо сопоставить ее с предшествующими стадиями
художественного развития, оживающими в ней. В этой свя-
зи особый интерес представляет проблема исходной формы
и последующей эволюции субъектно-образных структур. Рус-
ская фольклорная лирика дошла до нас в поздних записях,
поэтому многовековая эволюция субъектной сферы народ-
ной поэзии еще должна быть реконструирована - такого ро-
да попытки, насколько вам известно, пока не предпринима-
лись. Однако в изучении образа в интересующем нас плане
уже многое сделано, поэтому мы начнем с него.
Впервые к выявлению наиболее архаической из из-
вестных сегодня образных форм приблизился А.А. Потеб-
ня. Он отказывался видеть в двучленном параллелизме
(в его терминах - “параллелизм выражения”) исходную об-
разную структуру: ведь сама внутренняя форма такого па-
раллелизма уже “указывает на затемнение смысла симво-
лов, потому что если эти последние понятны, то и объяс-
нять их незачем” (277, 3). Нельзя не признать методологи-
ческой тонкости такой постановки вопроса - ученый ста-
вит вопрос не только о “выраженном”, но и (если восполь-
зоваться терминологией индийской поэтики) “проявлен-
ном” смысле образа. Известно, что сова Минервы вылета-
ет ночью, и сам факт появления поэтической формы сви-
32
Глава 1
детельствует, что отношения, выраженные в ней, перестали
быть очевидными и сами собой разумеющимися, но стали
проблематичными. По А.А. Потебне, большей архаикой,
чем “параллелизм выражения” обладает символ-приложе-
ние и обстоятельство в творительном падеже. Эти образные
формы являются отражением того времени, когда “человек
не отделял себя от внешней природы”: ведь символ-прило-
жение “сливается с обозначаемым в одно целое, а твори-
тельный падеж напоминает превращения” (277, З)4.
Без видимых связей с А.А. Потебней к обнаружению
образной структуры, родственной символу-приложению,
подошла О.М. Фрейденберг на материале древнегрече-
ской литературы. Речь идет об “аппозиции”, порожденной
в языковом плане тем, что “в архаическом синтаксисе нет
формально-логической мотивации. “Композиционным со-
юзом” здесь является “и”. Простое присоединение выпол-
няет те функции, которые со временем будут вручены
причинно-следственным, условным и прочим союзам-мо-
тивировкам” (143, 565). По О.М. Фрейденберг, “аппози-
ция - очень древняя мыслительная категория. Она тавто-
логична тому, что определяет, но отличается от прилага-
тельного тем, что служит именем существительным (тако-
ва же именная форма символа-приложения А.А. Потебни,
279, 37 и др. - С. Б.), то есть определением-состоянием, но
еще не определением-свойством” (330, 384). Далее исследо-
вательница характеризует аппозицию как нечто, не имею-
щее длительности, плоскостное, точкообразное, не связан-
ное с предыдущим и последующим “и само внутри себя
не знающее связности” (330, 369), “не вскрывающее качест-
венных признаков, не развертывающее никаких новых черт
и не способствующее движению темы” (330, 384).
Сходную с символом-приложением и аппозицией об-
разную структуру нельзя не увидеть в восходящих к палео-
литу архаичнейших формах, ставших известными сравни-
тельно недавно. Подводя итог целому ряду специальных
работ, В.Н. Топоров акцентировал внимание на том, что
в палеолитической живописи “каждое изображение дается
отдельно... Многофигурные композиции., редки, и, по-види-
мому, нет оснований настаивать на том, что в них существо-
вала какая-нибудь иная связь, нежели “присоединитель-
ная” (319, 81). Тот же тип связи “отмечен в одном из архаич-
нейших заговорных текстов, относимом по ряду соображе-
33
ний к каменному веку, сравни: “стикася, страстися тело с те-
лом, кость с костью, жила с жилой” (319, 82). Исследователь
предполагает структурное родство описанных явлений с
“многочисленными фольклорными текстами с участием
групп животных (типа “Теремок”), основанными на “последо-
вательном присоединении или изъятии объекта” (319, 82).
Наконец, авторы специальной работы “Опыт системно-
аналитического исследования исторической поэтики народ-
ных песен”, споставив разностадиальные тексты (якутские,
ядыгские, молдавские, украинские и русские), приходят
к следующему выводу: “Можно было предполагать, что сопо-
ставление образов (в частности, параллель человек-приро-
да) будет изначальным. Во всяком случае, такая идея разви-
валась А.Н. Веселовским, А.А. Потебней и др. (относитель-
но А.А. Потебни это утверждение, как мы видели, не совсем
точно. - С. Б.). Однако данные привлеченного материала за-
ставляют думать, что это нс совсем так. В якутских текстах
находим, по существу, не параллелизм, а последователь-
ность действий и перечислений... “накопительный”, описа-
тельный способ изображения... На гаком фоне то стадиаль-
ное состояние, которое наблюдается в остальных нацио-
нальных сериях, воспринимается как существенно новое ка-
чество. Именно этой сфере принадлежат типичные явления
параллелизма, хорошо известные по “Исторической поэти-
ке” А.Н. Веселовского” (110, 86-87).
Этот архаический тип образной структуры, основанный
на принципе присоединительно-сочинительного перечисле-
ния, мы будем в дальнейшем называть кумулятивным, ввиду
его близости, если не тождества, с уже известным принци-
пом построения сказочного (281а, 241-257) и вообще эпиче-
ского (336а, 47-54) сюжета. При всей неизученности данно-
го феномена две особенности его сейчас более или менее
очевидны. Во-первых, его, так сказать, “дообразная приро-
да”: перед нами еще не “образ”, не особый условно-поэтиче-
ский мир, требующий иносказательного понимания, а ми-
фологическое слово, имеющее для его носителей субстанци-
альный характер и являющееся для них “действительно-
стью в буквальном смысле” (231, 417). Во-вторых, присоеди-
нительно-сочинительный принцип связи. Его глубокая арха-
ика заставляет по-новому взглянуть на целый ряд более позд-
них, но генетически и типологически родственных кумуля-
тивному типу образной структуры фактов художественного
34
Глава 1
формообразования (бессоюзное и союзное сочинение в от-
личие от подчинительных связей, поэтика перечислений,
“реестров” и “каталогов”, родственных том}; что Пушкин на-
зывал “живым и быстрым описанием” и считал качественно
отличным от поэтического иносказания (60, V, 286).
При современном уровне наших знаний следует думать,
что кумулятивная поэтика - первая стадия той эпохи худо-
жественного развития, которую А.Н. Веселовский называл
эпохой синкретизма и образным выражением которой он
считал психологический параллелизм. Приведенные вы-
ше данные заставляют внести поправку в ту картину эво-
люции художественного образа, которая была намечена
великим ученым. Не параллелизм, а именно кумуляция
претендует теперь на роль исходной формы образа. Па-
раллелизм же оказывается следующей большой стадией в
развитии поэтики - все еще в рамках эпохи синкретизма.
Очевидна преемственность этих двух стадий: паралле-
лизм не только сохранил в своей внутренней структуре куму-
лятивный принцип присоединительного сочинения, но впер-
вые по-настоящему и выявил его, сделав фактом собственно
искусства. Понять это помогает аналогия с архаической (па-
леолитической) живописью. В.Н. Топоров отмечал, что и ри-
туальное назначение этой живописи, и ее сюжеты, и даже
композиция вынесены “за скобки... изображения, лежат во-
вне”, вне семиотической сферы (319, 86). “Задача последую-
щих периодов в развитии изобразительного искусства и за-
ключалась, в частности, в том, чтобы композицию и сюжет
извне, из несемиотической сферы, ввести в скобки, в живо-
писное пространство, в семиотическую сферу искусства”
(319, 86). В искусстве слова параллелизм и оказался такого ро-
да способом и сохранения самого принципа кумуляции (два
члена параллели сочинительно присоединены друг к другу),
и его введения во внутреннюю сферу искусства, в скобки уже
собственно образной конструкции, выявившей сам принцип
соположения, неощутимый в чистой кумуляции.
В отличие от “дообразной” кумуляции, параллелизм
уже собственно образ, но еще не современный, не услов-
но-поэтический, а синкретический, порожденный, как по-
казал А.Н. Веселовский, своеобразием общественного бы-
тия и мифологического сознания первобытного человека,
воспринимающего мир в системе рационально нерасчле-
нимых параллелей. Исторически наиболее ранней и исход-
35
ной формой параллелизма ученый считал двучленный па-
раллелизм, “склоняющийся к идее уравнения, если не тож-
дества” (147, 129). При этом параллелизм прошел многове-
ковой путь развития и отложился в последовательно возни-
кавших исторических типах образных структур - за двучлен-
ным следует одночленный параллелизм и вырастающий из
него символ, затем отрицательный параллелизм. Такая пос-
ледовательность форм обусловлена, как показал ученый,
эволюцией синкретического образного сознания и рождаю-
щимися в его лоне аналитическими тенденциями.
В чем же содержательность формы параллелизма?
А.Н. Веселовский, как мы помним, видел идею двучленного
параллелизма в “уравнении, если не тождестве”. Не только
“тождество”, но и “уравнение” для основателя исторической
поэтики были структурой, качественно отличной от сравне-
ния: последнее предполагало исходную различенность сопо-
лагаемых явлений, тогда как уравнение (и его более сильная
степень - тождество) является продуктом синкретизма, то
есть такого отношения, когда нет абсолютного неразличе-
ния, но нет и четкого различения, когда сами идеи тождест-
ва и различия еще не оформились как нечто самостоятельное
и определенное. Ученый показал, что подобного рода образ-
но-смысловая структура - исторически возникший феномен:
в нем запечатлены отношения, которые могли сформировать-
ся только на определенной стадии образного сознания. Исто-
рически подходил к “параллелизму выражения” и А.А. Потеб-
ня. По его концепции, эта образная форма несет в себе идею
тождества, но в тот исторический момент развития созна-
ния, когда эта идея перестала быть сама собой разумеющейся
и стала проблематичной: выраженность двух членов паралле-
ли говорит о том, что тождество стремится быть представ-
ленным, а следовательно оно уже нуждается в доказательстве.
Если использовать выработанное индийской поэтикой
разграничение “выраженного” и “проявленного”, то следу-
ет сказать, что в двухчленном параллелизме выраженным
является различие, оба сопоставляемых явления по своей
внешней форме самостоятельны, разделены в пространстве
и связаны сочинительной (а не подчинителыюй) связью.
По “проявляемым”, то есть внутренней возможностью само-
го существования этого выраженного различия, здесь явля-
ется именно тождество. Иными словами, тождество в дву-
членном параллелизме - исторически и логически пер-
36
Глава 1
вичный и более глубокий смысловой пласт, тогда как
принцип различия еще нс обладает самостоятельностью
и является лишь внешней формой, под который зияет глу-
бокая, еще “допараллел истекая”, кумулятивная архаика.
Недоучет этой исторически конкретной особенности
параллелизма может привести к стиранию его образно-
смысловой специфики и смешению его с более поздними
и качественно от него отличными образными формами.
Так Ю.М. Лотман определенно модернизирует паралле-
лизм, игнорируя его связь с синкретизмом и утверждая, что
в нем “подчеркивается в отличие от тождества и полной не-
раздельности состояние аналогии” (235, 38). Акцентирова-
ние в параллелизме “аналогии” (не синкретической, а ана-
литической структуры) естественно приводит ученого к не-
различению параллелизма и тропа: “Там, где мы будем
иметь дело с параллелизмом на уровне слов и словосочета-
ний, между членом-объектом и членом-моделью будут воз-
никать отношения тропа” (235, 89). Столь же неисторичс-
ски истолкована “поэтика психологического параллелиз-
ма” В.С. Баевским, который настаивает на универсально-
сти его для всех веков, жанров и видов искусства, совер-
шенно размывая специфику и границы явления (121).
Если же придерживаться исторического подхода к изу-
чению содержательных образных структур, то следует вслед
за А.Н. Веселовским признать качественно различие парал-
лелизма и тропа, между которыми проходит граница двух
больших эпох художественного развития - синкретизма и
личного творчества по А.Н. Веселовскому, или рефлексив-
ного традиционализма, по принятой нами терминологии.
Троп сущностно связан с различением, рефлексией, вообще
с новой моделью мира, сформировавшейся в результате раз-
ложения синкретизма. В этот период сознание преодолева-
ет абсолютизацию тождества и выходит “из смутности сплы-
вающихся впечатлений к утверждению единичного” (147,
188). В сфере поэтической образности этот процесс завер-
шается возникновением сравнения и метафоры, которые
являются уже “прозаическим актом сознания, расчленив-
шего природу” (147, 189). Сама возможность рождения
тропеических образных структур обусловлена тем, что
для нового типа сознания важным становится принцип
различения, и молчаливо предполагается именно разли-
чие сополагаемых явлений.
31
Мы уже говорили, что и в параллелизме оба его члена
были самостоятельны, но только на уровне внешней фор-
мы. Исторический смысл тропа заключается в том, что в
нем эта самостоятельность и различенность явлений была
переведена в план проявления, а потому принцип разли-
чия окончательно отпочковался от принципа тождества.
Произошло это в масштабах большого времени историче-
ской поэтики совсем недавно. Образный синкретизм, как
показывают факты, был преодолен гораздо позже синкре-
тизма видов искусства и поэтических родов. Еще в древне-
греческой лирике, как показала О.М. Фрейденберг, мета-
фора “не имеет самостоятельного характера и находится
в полной зависимости от мифологической семантики об-
раза. До создания тропа, до создания чисто поэтической
фигуры греческая лирика не доходит” (329, 123).
Подводя итог уже добытым наукой данным об эволюции
художественного образа, мы получаем три исторически оп-
ределенные и последовательно возникавшие образные стру-
ктуры: кумуляцию, параллелизм и троп. Хотя А.Н. Веселов-
ский не учитывал стадию кумулятивной поэтики, но его
положение о дальнейшей эволюции форм образности от
мифопоэтического параллелизма к понятийно-художест-
венном}7 тропу подтверждено другими исследованиями.
И по А.А. Потебне, мифологический образ приходит в ко-
нечном счете к тому, что бывший символ-приложение вы-
ражается “в виде полного или сокращенного придаточно-
го предложения с сравнительным союзом..: присутствие
союза доказывает, что между сравниваемыми предметами
ставится большое различие, и напоминает приемы искус-
ственного языка” (277, 3). Тот же путь развития видит
О.М. Фрейденберг в античной литературе: «Начавшись
с двучленного рядоположного “перенесения”, античная
метафора (в принятой нами терминологии следовало бы
сказать “параллелизм”. - С. Б.) пошла через сравнения
и эпитет к такому иносказанию, двойственность которого
слилась в единую фигуральность» (330, 204). В последнее
время на эволюции от мифологической (субстанциальной)
к метафорической (условно-поэтической) образности и на их
качественном различии настаивает А.Ф. Лосев (231, 408-452).
Но несмотря на существенную общность в понимании
интересующей нас проблемы, до сих пор в исследованиях по
исторической поэтике не выработана общая терминология,
38
Глава 1
что затрудняет работу и часто приводит к взаимонепонима-
нию. Выработка же терминологии сама упирается в пробле-
му историзма. Ведь исторической искомая поэтика будет толь-
ко в том случае, если ее категориальный аппарат сам будет
пропитан духом историзма (с учетом большого времени,
в котором протекает ее развитие). Между тем в историзации
категорий поэтики делаются только первые шаги, которым
противостоит стихия неисторического мышления.
Это противостояние в значительной мере обозначилось
уже в ситуации А.Н. Веселовский - А.А. Потебня. Если для
А.Н. Веселовского “символ” или “сравнение”, например, бы-
ли категориями историческими, а обозначаемые каждым из
них явления мыслились возникшими в определенный мо-
мент становления образного сознания и невозможными до
этого, то у А.А. Потебни это категории в первую очередь уни-
версально-логические (278, 47). Так если символ, по А.Н. Ве-
селовскому, исторически возникает как одна из форм одно-
членного параллелизма, то у Потебни он исконно присутст-
вует в народной поэзии (символом-приложением, как мы по-
мним, названа даже исходная форма образа). То же следу-
ет сказать о “сравнении”. У А.П. Веселовского это истори-
чески конкретный троп, возникший в результате разложе-
ния первобытного синкретизма и изживания параллелизма,
у А.А. Потебни - это один из вечных законов душевной дея-
тельности (потому сравнение у него может включать в себя
то, что никогда не могло бы у A.IL Веселовского - мифоло-
гические формы образности (277, 3). По существу таким же
вечным законом душевной деятельности человека является
для О.М. Фрейденберг метафора, например, исследователь-
ница пользуется термином “первобытная метафора”, хотя по
ее же собственной теории, метафора в строгом смысле это-
го слова рождается лишь в греческой прозе.
Термины неупорядочнены и сегодня, что видно из приво-
дившихся фактов смешения параллелизма и тропа или из ут-
верждения М.М. Бахтина о том, что ядром лирического об-
раза является символ (троп). Позже эта мысль была повторе-
на П.В. Палиевским, который распространил ее на образ во-
обще, но конкретизировал вид тропа, считая, что “элемен-
тарной моделью художественной мысли” и образа является
именно сравнение (264, 75). То же утверждается в “Крат-
кой литературной энциклопедии” в статье В.В. Кожинова
и И.Б. Роднянской, посвященной образу: «Ее (структуры
39
образа. - С. Б.) “элементарной моделью”, исходным момен-
том ее возникновения является сравнение» (2186, V, 366).
Вновь перед нами универсально-логический подход к ка-
тегориям поэтики. При историческом же подходе к ним,
становится совершенно очевидным, во-первых, качествен-
ное различие между параллелизмом и тропом, во-вторых,
то, что троп в строгом смысле этого термина (в том чис-
ле и сравнение) не может быть признан “элементарной
моделью” лирического образа (как и образа вообще), ибо
он является лишь одной из исторически бытовавших об-
разных структур, притом генетически не первичной, а, на-
против, самой молодой. Вообще проблема образа сегодня
не может быть сколько-нибудь прояснена без учета трех
известных нам исторических, но для позднейшего разви-
тия - первичных, “архетипических” образных структур -
кумуляции, параллелизма и тропа.
Завершая исследование развития форм образности,
А.Н. Веселовский писал: “Метафора, сравнение дали содер-
жание и некоторым группам эпитетов; с ними мы обошли
весь круг развития психологического параллелизма, насколь-
ко он обусловил материал нашего словаря и его образов”
(147, 194). Ученый акцентирует здесь некую данность, некую
совокупность содержательных образных структур. Это не слу-
чайный акцент, он вытекает из уже отмечавшейся нами мето-
дологической позиции ученого. После работ М.М. Бахтина,
предложившего понимать художественный образ не как дан-
ность, а как заданность, как систему межсубъектных отноше-
ний, к сказанному Л.Н. Веселовским следовало бы добавить: с
появлением тропа сложилось не просто совокупность содер-
жательных образных форм, данных нам сегодня как художе-
ственный язык, но появилась некая целостность, основанная
на определенном типе отношений. Эта целостность складыва-
ется из трех больших сменяющих (но не отменяющих друг
друга, а потому и синхронных) во времени типов образа, то
есть она не моно-, а полиструктурна. Здесь не отношение эле-
ментов внутри одной системы, а отношение самостоятель-
ных систем-моделей внутри сложного целого, своеобразная
дополнительность их.
Чтобы увидеть, как складываются отношения между
образными моделями в русском фольклоре, присмотримся к
небольшой группе песен святочных гаданий (61, № 100-107).
Эти тексты удобны для нас потому, что будучи достаточно
40
Глава 1
устойчивыми и еще живыми в обиходе, они восходят к до-
вольно архаическому субстрату.
Прежде всего, мы находим в анализируемых песнях
довольно развитую метафористику: олицетворения (“на-
ехали святые вечера”), собственно метафоры “пололи зла-
чены перстни”, “хоронили мы золото”), метафорическая
перифраза (“бильице, змеяное крылыще”), метонимия
(“мое золото отдайте”, “чисто золото ронили”, “мое золо-
то пропало”). Отдельно отметим творительный метамор-
фозы (“белым порохом запало”), который затруднительно
отнести к тропам; если прав А.А. Потебня, перед нами од-
на из самых архаических форм образа.
Необычайно богаты в интересующих нас текстах символы
(“мак”, “калина”, “малина”, “черная смородина”, “сад” и др.).
Двучленный параллелизм на первый взгляд играет меньшую
роль, да и встречается реже. Кроме 105 песни (“Куда утка
ушла, Туда пыль прошла, Куда я молода, Туда рожь густа”) он
в явном виде встречается в песне 107: “Былица достанется,
Жизнь пойдет, покатится, Попригожей срядится, молодцу
достанешься, Выживешь, состаришься”. “Былица достанет-
ся, Не ладная выскользнет, Негаданно выплывет, Жизнь
пойдет, покатится Не но жемчугу-золоту”. “Былица на золо-
те, На жемчуге, серебре, С молодцем повяжешься, Пожи-
вешь изведаешь, С горя нс наплачешься”.
Кумулятивных образов в явном виде в наших текстах
нет, они “сняты” параллелизмом, что соответствует данным
специального исследования (110), поэтому присмотримся к
соотношению параллелизма (в разных его формах) и трона.
Прежде всего бросается в глаза, что и метафоры, и метафо-
рическая перифраза для нас совершенно непривычны, как
будто они созданы не по метафорической логике современ-
ной литературы, а по какой-то другой логике. Нам нс удает-
ся увидеть основу (сходство), из которой возникли, напри-
мер, метафоры “полоть снег“ или “полоть перстни”, а также
такая перифраза, как “бильице, змеяное крыльице”.
Собственно нам это и нс может удаться, ибо они сов-
сем не основаны на сходстве: ключ к ним мы получаем не
из них самих (как в современной метафоре), а из паралле-
лизма и мифологической семантики. На самом деле, пес-
ни - гадания о женитьбе (“Пособите мне отгадывати, От-
гадаете - не сказывайте”). “Перстень”, “бильице”, “золото”
должны указать жениха:
41
А кому выпадет злачен перстень -
А то ты, девка, за тем женихом.
Так устанавливается параллелизм-тождество: пер-
стень - девка. Это тождество многообразно проводится
в наших песнях.
1. Перстень падает “В мак да во мак, да во маков цвет”,
“В калину, в малину, В черную смородину” - все это симво-
лы невесты в свадебных песнях. Перстень роняют “в сад”,
“в зелен виноград”, идучи (или “летучи”) через поле. Все
эти образы объединены семантикой плодородия (см. 155,
6-17; 106, 50-58, 94-96).
2. Прямо выговорена эта семантика в параллелизме,
в котором девица-уточка связана с плодородием (рожыо-рож-
дением): “Куда утка ушла, Туда пыль прошла, Куда я молода,
Туда рожь густа”. Эта параллель объясняет и метафору “поло-
ли злачены перстни”: ведь если девка-перстень-i юле еще
и растение (рожь), то ее можно полоть (связь в фольклоре
“любить” с “пахать” и “полоть” общеизвестна, см. и 217, 213).
3. То, что перстень “хоронят” (ибо он - зерно) говорит
о связи девки-поля с порождающим лоном земли, х рониче-
ским миром. Эта параллель объясняет метафорическую
перифразу: кольцо - “змеяное крыльице”; ведь змея (и крыла-
тая змея) - персонаж хтонического мира. Об этом же гово-
рит и другая номинация кольца - “золото”, ибо золото свя-
зано в мифологических представлениях с подземным ми-
ром (281; 323, 60-64).
4. Просматривается и связь девки с водной стихией,
также отсылающей к плодородию: параллель с уткой, та-
кая деталь, как “пыль” (видимо, водяная), сопровождаю-
щая ее, и “снежный порох”, в который превращается коль-
цо благодаря творительному метаморфозы; наконец, гуси-
лебеди, которые несут и роняют кольцо - в воду, в сад.
Следует заметить, что если в первичной параллели (на-
пример, девка-перстень) еще можно усмотреть некую (эро-
тическую) наглядность, го в вырастающих на этой основе
метафорах именно наглядность предельно ослаблена. Перед
нами отнюдь не построенные на сходстве образы, а система
мифологических тождеств, угадываемая благодаря памяти
мифа. Определенно первична и исходна здесь именно эта
система параллелей, а не тропы, которые могут быть поня-
ты только из нее, а не сами из себя. Но и тропы играют
42
Глава 1
в наших текстах немаловажную роль: они создают художест-
венную расцветку и атмосферу глубинной семантики, свое-
образного утаивания ее, ее иного сказывания, как точно за-
метила О.М. Фрейденберг; здесь тропеическая перенос-
ность «еще не есть фигуральность, а только “иное сказыва-
ние” (330, 191) - “прежний мифологический образ приобре-
тет еще один, “иной” смысл самого себя, своей собственной
семантики. Он получает функцию иносказания. Но иного
сказания чего? Самого себя, образа» (330, 189).
Первичность образной модели параллелизма, то есть еще
синкретического типа образа, имеет свои соответствия
в субъектной сфере наших песен. Речь идет о субъектном
синкретизме в его непосредственной, хоровой форме. Дело
нс только в нсотчлененности “я” от “другого” внутри хора, но
и в недостаточной (с нашей нынешней точки зрения, разуме-
ется) различенности разных хоров, а также “я” хорового и “я”
индивидуального, когда они становятся носителями самостоя-
тельных реплик. Подобный синкретический эффект при яв-
ной разно-гол оси це связан с особой природой хоровой речи,
с тем, что это именно прямая речь. Как показала О.М. Фрейден-
берг, прямая речь, по существу своему, синкретична (и этим
изоморфна архаическим формам образа): в ней “субъект - он
же объект - передает непосредственно себя и не-себя, еще не
имея обособленного объекта рассказа” (330, 213), иначе гово-
ря, в ней высказывание еще “не опосредовано третьим лицом
(автором, рассказчиком)” (330, 213).
Недостаточная отчлененность авторского третьего ли-
ца от первого лица героя сохраняется и тогда, когда вы-
сказывание ведется от субъектно немаркированного лица,
внешне похожего на третье лицо позднейшей литературы.
Это проявляется в необычайной легкости перехода от тако-
го высказывания к прямой речи, внешним выражением че-
го является чрезвычайно высокая реплицированность обря-
довой поэзии. По нашим подсчетам, в хоровых песнях рус-
ской свадьбы (37) реплицировано 66,6% текстов, а в обря-
довых хоровых и игровых песнях с любовными мотивами
(70) - 80,6% (для сравнения: реплицированность текстов
Пушкина - 22,2%), Некрасова - 29%, Блока - 13,1%). Мало
того, такая авторитетная исследовательница, как О.М. Фрей-
денберг, считает, что диалог как композиционная форма
развертывания художественной речи рождается не в дра-
ме - “его рождение именно в лирике” (330, 425).
43
Как бы то ни было, высокая реплицирован!юсть архаиче-
ской лирики несомненна, как и то, что в ней выражается спе-
цифический для фольклора синкретический характер меж-
субъектных отношений. Приведем несколько свидетельств
специалистов об уже не греческой, а восточной традиции.
А.М. Дубянекий считает “глубинным принципом древнета-
лильской поэзии - принцип диалогичности” (187, 12), связы-
вая его с хоровым исполнением (противопоставление групп,
амебейность), апеллятивностыо, а позже с посреднической
ролью поэта, вступающего как субъект речи с героями в от-
ношения нераздельности и неслиянности (187, 15-17). О “ди-
алоге не в бытовом, но в поэтическом смысле” говорит при-
менительно к древнейшей пракритской поэзии В. Вертогра-
дова (149, 23). Причем и здесь просматривается глубинная
связь с фольклорно-песенным исполнением и композицион-
ными формами архаики: “В значительной части случаев сти-
хи в антологии сгруппированы по два, и каждые такие два
стиха имеют в основе одну тему, подходя к ней с разных сто-
рон, либо они противопоставлены как описание должного
идеального порядка... и недолжного, нарушающего этот поря-
док. Эти парные стихи, выражающие прение, позволяют
предположить, что размещение стихов в неупорядоченных
пракритских кошах в какой-то мере воспроизводит порядок
(вернее, следы такого порядка) исполнения песен-стихов во
время праздника” (149, 22-23). Специфические межсубъект-
ные отношения пронизывают архаическую корейскую поэ-
зию хянга (VI-X вв.). Здесь может быть особенно нагляден
один из истоков диалогичности архаической лирики - отно-
шение к миру как к субъекту (“облику старшего”, 262, 24-44).
Хянга и оказывается своеобразным диалогом поэта-жреца
(“младшего”) с социально значимым лицом (“старшим”), ото-
ждествляемым с космосом. Притом в отличие от китайской
культурной традиции, которую мы застаем уже “монологизи-
рованной”, в хянга “ритуально равноправными являются
и старший, и младший, одинаково воздействующие на мир
в целом” (262, 36).
В свете всего сказанного о синкретическом характере
межсубъектных отношений в обрядовой лирике особый ин-
терес представляют открытые недавно факты речевого пове-
дения в архаических обрядах. Мы помним, что М.М. Бахтин
высказал предположение, что в лирике (как и в других родах
литературы) “всякий подлинно творческий голос всегда мо-
44
Глава 1
жет быть только вторым голосом в слове” (126, 289). Сегодня
стало яснее, что представляет собой этот второй голос
(и второй субъект), когда речь идет об архаической поэзии.
Известна ритуальная приуроченность разных форм ре-
чевсдения в древности, в частности, у славян: собственно го-
ворения, шепота, молчания, крика, голошения, плача, стона,
пения, смеха, скороговорки, невнятного бормотания, речи-
татива, подражания детскому языку, языку животных, изме-
нения голоса (186, 48). Известны также композиционные
формы сакрализации речи - повторы, магическое отрица-
ние, чтение текста наоборот (от конца к началу), прямой
и обратный счет, ритуальные, в том числе риторические ди-
алоги и риторические вопросы с предполагаемым намерен-
но неверным ответом. “Особенно выделяются драматизиро-
ванные диалоги в свадебном обряде и разного рода играх,
преимущественно аграрной тематики” (186, 48). Все эти фа-
кты предстали в новом свете в связи с открытием “знако-
вой функции пения в архаической культуре как способа
маркировать чей-то голос, передать прямую речь какого-
то персонажа” (263, 272). Оказалось, что пение (в его раз-
ных формах, частично названных выше, но также и в фор-
ме имитации голосов природы, небного и горлового пе-
ния, звукоподражания, чревовещания, языка духов - иско-
верканного языка и зауми) - это своего рода персоналоги-
ческое “двуголосие”, своеобразная несобственная прямая
речь, необходимая для общения с духами (263, 30). Оказы-
вается, что истоком того второго голоса в лирике, о кото-
ром говорил М.М. Бахтин, была сама певучая субстанция
древнейшего поэтического языка, разыгрывающая голос
“другого” и синкретически неотделимая от него. И только
в лирике связь с пением (и через него - с голосом “другого”)
не была преодолена (как в десакрализованной прозе), а со-
хранилась в формах уже стихотворного ритма и особой зву-
ковой организации, заставляющих и сегодня говорить о ка-
чественном отличии фонетики поэтического языка от фо-
нетики языка первичного (267, 227-243).
Факт нераздельности субъектов в обрядовой лирике
и наличие глубоких корней этого явления в архаическом по-
этическом языке ставит перед наукой в полный рост пробле-
му не только образного (теоретически осознанного прежде все-
го A.II. Веселовским), но и субъектного синкретизма, до сих
пор не осознанного теоретически, хотя и эмпирические, и ме-
45
тодологические предпосылки для этого уже существуют. Без
всякого сомнения, фольклорная лирика как художественная
система, как исходная стадия поэтики предстанет перед нами
в более полном и целостном своем облике тогда, когда нам
удастся увидеть единство ее образной и субъектной структу-
ры. Но неизученность проблемы заставляет нас сначала оста-
новиться на самом явлении субъектного синкретизма.
Мы уже отмечали, что в обрядовой лирике субъектный
синкретизм выступает в своей непосредственной, хоровой
форме. В лирике необрядовой он живет в иных формах, уди-
вительным образом обойденный вниманием исследовате-
лей, хотя сам по себе факт его существования уже был (прав-
да, в иных терминах) отмечен как в мировом, так и в русском
фольклоре. Так Е.А. Хелимский писал о селькупском фоль-
клоре: “Особый интерес представляет спонтанный переход в
повествовании от третьего лица к первому (наблюдается при
описании действий центрального персонажа), не связанный
с введением прямой речи, ср.: Ича поехал на лодочке из ко-
ры. Ича к озеру спустился, к большому озеру. У меня живот
заболел” (336, 103). Такого же рода спонтанные переходы от
третьего лица к первому, но и наоборот - от первого лица
к третьему при описании действий главного героя являются
наиболее распространенной формой субъектного синкре-
тизма в русской необрядовой лирике:
На речке на быстрай
Девка платья мыла...
Дружка поджидала...
Едит мой любезный (70, № 548).
См. также: “У нашей у Шашиньки, У ней легинькай ду-
шок <...> Стала любовь признавать. Стал мой милый отста-
вать” (70, № 523). Такая структура высказывания встреча-
ется, как уже отмечалось, тогда, когда речь идет о главном
герое и выражает собой его потенциальную неотчленеп-
ность от субъекта речи. Сама конструкция здесь говорит
о том, что в “лирической песне не один, а двое участни-
ков: тот, кто поет, и тот, кому он поет. И оба этих лица не-
расторжимы, хотя их раздельность вполне осознана” (330,
425). У этого типа высказываний есть два переходных ва-
рианта. При первом - лицо выражается субъектно двойст-
венной неопределенной формой глагола (так “Думать не-
чего, любить девке некого” (70, № 328), может одинаково
46
Глава 1
читаться и как “любить ей, девке, некого”, и как “любить
мне, девке, некого”). При втором варианте третье лицо
создает эффект взгляда субъекта речи на самого себя со
стороны - как на “он”: “Не велят Маше (мне. - С. Б.) на
улицу ходить... Как вечер побили Машу за тебя... Я с тех
пор во постелюшку слегла” (70, № 271).
Широко распространена в русской народной лирике та-
кая форма субъектного синкретизма, при которой высказы-
вание спонтанно переходит от первого лица к третьему:
“Я вечор дружка милого йувмала ночевать... Как на этом на
стружечке мыла девка полотно. Она мыла, размывала, сдума-
ла худо над собой” (70, № 267). “Как жа мне, голубчикю, млад-
цу быть..? Праснулся, прабудился - галубушки нет! Кидался,
бросался па всем дальним сторонам. Нашел он сударушку
у купца ли вы сад}7” (70, № 528). У этой формы субъектного
синкретизма тоже есть переходный тип: субъект речи гово-
рит о себе так, как о нем должны были бы говорить другие,
приближаясь к взгляду на себя со стороны - как на “он”. Осо-
бенно распространен этот тип в духовных стихах. Здесь Ва-
силий Кесарийский (кстати, еще будучи грешником, а не чу-
дотворцем) может сказать о себе: “Прости мене, прасвятая
богородица, и помилуй Василия великого, Кесаримского чу-
дотворца” (70, № 503), а Христос говорит: “Господа нашего
Иисуса Христа” (70, № 502).
Помимо взаимозаменяемости первого и третьего лица,
субъектный синкретизм проявляется в спонтанных перехо-
дах высказываний от лица героя к героине (и наоборот). Сам
факт такого рода переходов уже отмечался фольклористами:
“Своеобразной чертой целого ряда песен-раздумий, - пишет
Н.П. Колпакова о протяжных песнях, - является внутренний
переход от героя к героине (или обратно), при котором вы-
сказывание дается то от мужского, то от женского лица...
Иногда песня, начатая от лица девушки или парня, продол-
жается как бы лицом, смотрящим на них со стороны” (217,
178). Замечено также, что в народной “лирической песне по-
вествование легко переходит от одного лица к другому без
специальных грамматических или стилистических связей и
обозначений” (108, 37). Особо подчеркнем, что фольклори-
сты признают органичность такого рода конструкций выска-
зывания для фольклора. Н.П. Колпакова пишет: “Все эти
особенности встречаются как в классических сборниках пе-
сен, так и в современном живом народном песенном быту
41
и в записях советских фольклористов, причем они нис-
колько не кажутся исполнителям странными или нелогич-
ными: такое строение текста воспринимается как вполне
естественное. Вряд ли можно говорить о какой-нибудь
порче, об искажении песни” (217, 179).
Будучи странными для современного эстетического со-
знания, такого рода конструкции высказываний не только
органичны для фольклора, но и широко распространены
в нем. По нашим подсчетам, чаще всего они встречаются
в любовно-бытовых (29%) и воинских песнях (21,6%),
в балладах, разбойничьих и тюремных песнях (23,6%). Все
это говорит о том, что мы прикоснулись к весьма распро-
страненному количественно, но еще более важному качест-
венно феномену народной лирики, представляющему пер-
востепенный интерес для исторической поэтики.
К сожалению, существующие объяснения интересующе-
го нас феномена совершенно неубедительны прежде всего
потому, что неисторичны. “Очевидно то состояние разду-
мья, то сплетение отрывочных воспоминаний и чувств, ко-
торые выражены в песнях этого типа, - пишет Н.П. Колпа-
кова, - допускают какую-то свою особую логику, которая
объясняется и оправдывается силой лирических эмоций”
(217, 179). Такого же рода модернизированно психологи-
ческое объяснение предлагает Т.М. Акимова: “Песня начи-
нается от лица девушки. Ее речь включается в речь героя.
Она как бы представляет мысли героя или его рассказ
о прошлом... Воспоминание героя о прежнем времени
включило и слова его возлюбленной” (108, 37).
Приведенные объяснения предполагают в фольклоре со-
временную интериоризацию чувства и современное понима-
ние личности. Между тем в свете исторической поэтики оче-
видно, что народное творчество есть отражение качествен-
но иной, чем нынешняя, эпохи поэтического творчества,
и мы не имеем права приписывать ему особенностей позд-
нейшей литературы, а должны попытаться понять его изну-
три. Именно этим путем пошла в свое время О.М. Фрейден-
берг при изучении перехода от фольклора к древнегрече-
ской литературе, и ее наблюдения над нераздельностью и не-
слиянностью субъектов в архаической лирике, а также над
субъектной структурой прямой речи - проливают свет на ин-
тересующую нас проблему. В этом контексте важный смысл
приобретает тот факт, что “в народном русском языке кос-
48
Глава 1
венная речь слабо разработана. Почти не встречается она
и в народной лирической песне” (108, 37). Там же, где она
встречается, может возникать характерная конструкция, ко-
торая с точки зрения современного литературного языка
представляется “ошибкой” и в которой воплощается одна из
форм субъектного синкретизма: “Да уж свет наша подру-
женька, Да говорила, что замуж нейду” (37, № 174). В проти-
воположном случае “ошибка” возникает потому, что шаблон
косвенной речи вторгается в прямую: “Посмотри-ка на ме-
ня: Сколь он хорош, сколь он пригож” (37, № 81).
Очевидно, что свое внешнее речевое выражение субъ-
ектный синкретизм мог получить благодаря тому, что шаб-
лоны прямой и косвенной речи в русском фольклоре еще
не “отвердели” и не получили четкой аналитической раз-
работки3. Но порожден субъектный синкретизм, конечно,
экстралингвистическими факторами: нечеткой отчленен-
ностью в фольклорном сознании субъектных сфер “я”
и “другого”, легкостью перехода субъектных границ, так
же, как и границ субъективно представляемого и объек-
тивно происходящего. Так в целом ряде песен субъект ре-
чи видит, как его любимую ведут под венец с другим -
и вот как об этом рассказывается:
Да во батюшкином во садику не с кем погулять.
Да незрелую черемушку нельзя заломать.
Да не вызнавши красной девки, нельзя замуж взять.
Да я вызнаю, я выгляжу, тогда я возьму’.
Поил-кормил сударушку; прочил за себя,
Досталася любезная другому, не мне,
Другому-то милому; злодею моему;
С того крыльца ведут к венцу сударку мою.
Жених ведет за рученьку, сваха за рукав.
Да в ворот-ворот, у воротичках стоит милый друг,
Горючу слезу, слезу льет (об) сударке своей.
Одно говорит: “Сердце болит, не знаю, как быть,
Про такую любезнаю не могу забыть (70, № 69).
С самого начала высказыванию свойственна некото-
рая субъектная неопределенность, выраженная неопреде-
ленной формой глагола: “не с кем погулять”, “нельзя зало-
мать”, “нельзя замуж взять” может говорить и безличный
повествователь, и “я”. Дальнейшее течение песни реализу-
ет одну из этих возможностей и вводит именно “я” как
субъекта речи. По вот что замечательно: это “я” внутрен-
не не отделяет себя от “другого”. Так соперник “я” назван
49
“милым” - в кругозоре героини и других людей, но и сам
субъект речи говорит о себе в третьем лице - “милый
друг“, и даже видит себя в качестве “другого” со стороны -
присутствующим при уводе собственной невесты и гово-
рящим при этом. Возникает причудливая (с нашей нынеш-
ней точки зрения) речь в речи, специфически фольклор-
ное наложение “я” на “другого”, героя на автора, времени
рассказа на время происшествия.
Еще отчетливей субъектный синкретизм в одном из ва-
риантов нашей песни, построенном как диалог:
- С чего же. молодчик мой, не весел сидишь?
- С чего ж мне, молодчику, веселому быть? (70, № 253).
Весь остальной текст - ответ героя, притом сначала
высказывание дано от лица “я” (героя), но затем его фор-
ма спонтанно изменяется: “Сказали молодчику (Здесь еще
все субъектно неопределенно, можно одинаково пони-
мать это место, как “сказали мне” и “сказали ему”. - С. Б.)
нерадостну весть, Нерадостну ему, невеселую”. После то-
го, как на наших глазах произошла субъектная трансфор-
мация “я” в “он”, это “он” вновь появляется в конце песни:
“Милый у ворот зовет в огород”. И все-таки нельзя гово-
рить о том, что он - другой окончательно отделился от “я”:
ведь это “он” включен в реплику “я” и неразделен с ним. Та-
кой сложной субъектной игре могла бы позавидовать са-
мая утонченная современная литература, обнаружившая
склонность к неосинкретизму уже в начале XX века (и да-
же, как мы увидим, еще раньше). Но если в фольклоре
субъектный синкретизм был связан с тем, что в нем автор
еще не отделился полностью от героя, “я” от “другого”, то
в современной литературе неосинкретизм порожден уже
кризисом монологически понимаемого автора.
Есть основания считать, что субъектный синкретизм
не является специфической особенностью только русской
народной лирики. Укажем в качестве параллели лишь на
несколько достаточно удаленных друг от друга явлений
мирового фольклора - скандинавскую балладу, цыганскую
и аварскую народную песни.
Так одна из песен цыган-кэлдэрарей - “Дур ме дрому
севилем” (Долгий путь я прошел - подчеркнуто нами. -
С. Б.) - дает уже знакомый нам спонтанный переход от “я”
к “он”: “Лела во тай телярел, Андо форо во кай жял” (Взял
50
Глава 1
он и отправился, В город он вошел). Еще более сложное
нарушение субъектных границ, создающее эффект, близ-
кий к проанализированному нами “Да во батюшкином во
садику”, в песне “Сидит парень под мостом” (49, № 22
и 38, см. также 66, №№ 6, 7, 41 и др.). В скандинавских
балладах явление субъектного синкретизма получает как
бы вторичную художественную мотивировку. Баллада
“Мертвец”, например, сначала строится как высказывание
“я”: “Солнце взошло, отдохнуть пора, Завтра опять мне в
путь пора. Я па поляне стреножил коня, Тут сон глубокий
сморил меня”. Во сне к “я” является мертвец, рассказыва-
ет свою историю и просит отомстить за себя. После про-
буждения “я” происходит субъектная метаморфоза: герой
перестает быть субъектом речи, а становится третьим ли-
цом, “рыцарем”, на которого новый субъект речи смотрит
со стороны: “Рыцарь видения гонит прочь... Рыцарь в лес
прискакал наконец” (66а, 110-112). Здесь связь субъект-
ной метаморфозы с психологическим заданием песни -
изображением психической перестройки героя - более
очевидна, чем в проанализированной Н.П. Колпаковой
русской песне, хотя, конечно, субъектный синкретизм не
порожден этим заданием, а лишь использован им.
Своеобразную форму субъектного синкретизма мы на-
блюдаем в аварском фольклоре. В песне “Къурулъ хут!арав
Пали (Али, оставшийся на скале)” композиционным
стержнем оказывается обмен репликами между Али и
братьями, Али и птицей, Али и матерью; такими реплика-
ми текст и открывается, что сразу ограничивает инициа-
тиву и роль повествователя. Последний появляется в тек-
сте трижды (10 строк из 88), причем два раза из трех он
оказывается синкретически неотчлененным - один раз от
Али, другой раз - от матери. Возможны в аварских песнях
случаи, когда повествователь появляется лишь в финале, а
текст строится как высказывания героев и обмен реплика-
ми между героями. И тут синкретический эффект возни-
кает благодаря переходу от “я” к “он” внутри самой репли-
ки героя. Так в песне “Цо чу бач!ун буго азбаралъубе
(Один конь въехал во двор)” в реплику героини без введе-
ния косвенной речи вторгается интенция повествователя:
“Вит1едила, эбел, гъав гьобол нухда, Къасиселги сардал
гьанир ранани Я гьобол сурила, я дун сурила” (буквально:
Провожай говорит, мать, этого гостя в дорогу, И сегодняш-
51
нюю ночь, если он здесь проведет, Или гость опозорится,
или я опозорюсь). Интересно и то, что реплики героев об-
ращены не только друг к другу, но и к слушателю, а часто
именно к слушателю, который становится на время глав-
ным адресатом - и это тоже является выражением синкре-
тической природы героя-повествователя6.
Все приведенные данные говорят о том, что та исход-
ная историческая эпоха поэтики, которую А.Н. Веселов-
ский называл эпохой синкретизма, характеризуется не
только образным, но и субъектным синкретизмом. Мы
убедились также в изоморфности субъектной и образной
структур в обрядовой лирике. Посмотрим, как обстоит де-
ло в лирике необрядовой, избрав для анализа песню “Ни-
чего ты, поле, не спородило”, до этого рассмотренную
в образном плане В.И. Ереминой:
Ничего ты. поле, не спородило!
Спородило. поле, част ракитов куст.
Как во этом кусту тело белое,
Тело белое молодецкое;
Во главах у него - сабля вострая.
В ретивом у него - пуля быстрая.
Во ногах у него конь вороний его.
“Уж ты, конь, ты, мой конь, ты, товарищ мой.
Ты беги, беги по дорожке вдоль.
По дорожке вдоль, к отцу, к матери,
К отцу, к матери, к молодой жене!
Ты жене скажи, что женился я.
Что женила меня пуля быстрая.
Обвенчала меня сабля вострая.
Отмстив перекличку 5-6 и 13-14 строк, исследовательни-
ца замечает: “В начале песни: пуля в сердце, сабля в головах -
иносказания здесь нет. Затем реальный образ метафоризует-
ся по аналогии: пуля в сердце - женщина в сердце; отсюда:
пуля женила; в головах сабля - на голове венец; отсюда: саб-
ля обвенчала”. И далее: «Образы в целом построены по ана-
логии со свадебным обрядом, но смысл каждой отдельной
метафоры приводит к отрицанию этого обряда... Внешняя
строго соблюдаемая форма обряда оборачивается невозмож-
ностью его осуществления, его полным отрицанием. Все это
создает особый эффект “скрытой” метафоры» (195, 46-47).
Здесь глубоко и интересно сопоставление со свадебным об-
рядом, но образная система увидена односторонне и никак
не учтена субъектная структура произведения. Постараем-
52
Глава 1
ся увидеть песню в единстве ее субъектного и образного
планов. Особый интерес ее в том, что она знаменует со-
бой одну из границ субъектно-образного синкретизма
в его специфически фольклорных формах.
В “Ничего ты, поле, не спородило” нет явных форм субъ-
ектного синкретизма, и это очень важно. Между речью авто-
ра и героя (и, как мы увидим далее, между их образным стро-
ем) есть четкая граница, а внутри каждой из них нет синкре-
тических субъектных переходов. И в то же время сама смена
авторской речи речью героя воспринимается как уже знако-
мый нам спонтанный переход от третьего лица к первому в
акте высказывания. Дело, конечно, не только в неподготов-
ленности и внезапности введения прямой речи героя, а в са-
мой специфике фольклорного высказывания.
Прежде всего обратим внимание на идеальную сим-
метрию речей автора и героя: 7 на 7 строк. Но симметрия
тут не только количественная. Перед нами две прямые ре-
чи. Ведь песня не только завершается прямой речью ге-
роя, к тому же имеющей апострофу, но и открывается апо-
строфой - “авторской прямой речью, принимающей вид
обращения” (ПО, 99). В обоих случаях апострофа задает
тон высказыванию и является показателем “субъективиза-
ции и диалогизации лирики” (ПО, 101). Все это - и пря-
мая речь, и ее обращенность, и идеальная симметрия
сближает авторское высказывание с высказыванием героя
и создает их параллелизм, подчеркнутый параллелизмом
мотивов и образов. Мы имеем в виду именно параллелизм,
а не простую перекличку: образы речи героя оказываются
вторыми членами параллели, первые члены которой -
в авторской речи, и этот образный синкретизм (о котором
мы подробнее скажем чуть ниже) окончательно выявляет
синкретизм субъектный. Если учесть и специфику прямой
речи, не имеющей обособленного объекта рассказа (330,
213), то очевидно, что на наших глазах протекает еще не за-
вершившийся процесс “возникновения предмета рассказа
из самого рассказчика” (330, 213), героя из автора.
Присмотримся внимательней к параллелизму образов,
разведенных ио синкретическим голосам. Здесь опять-таки
строгая, но обратная симметрия. Авторский фрагмент за-
вершается мотивом коня, геройный - им начинается. За-
тем в речи героя возникает мотив отца и матери, в автор-
ской речи ему соответствовал мотив поля и порождения. На-
53
конец, завершающим партию героя мотивам “женила пуля”
и “обвенчала сабля” соответствует центральная часть автор-
ского фрагмента (в головах - сабля, в ретивом - нуля). Со-
отнесенность мотивов пули и сабли в двух частях песни,
но без учета их субъектной локализации, отметила В.И. Ере-
мина. Между тем очень важно, что в первый раз слова о саб-
ле и пуле входят в авторскую речь и именно в ней имеют не-
иносказательный смысл, а второй раз они повторены в ре-
чи героя, где приобретают скрыто иносказательный! харак-
тер. Это говорит нам, что в песне с самого начала намечена
граница не только между субъектно-речевой, но и между
образной сферами автора и героя. В сфере героя мы ви-
дим зачатки тропеичности (“скрытую метафору”), в сфере
автора - неиносказательный образ. Но (как и в субъект-
ной сфере) в структуре образа синкретический принцип
все еще остается исходным.
Если взять песню как целое, то совершенно очевидно,
что в ней первично задана мифологическая семантика пло-
дородия и порождения: “Ничего ты, поле, не спородило,
Спородило, поле, част ракитов куст”. Исходя из нашего зна-
ния мифологической логики и законов параллелизма, мы
можем с уверенностью говорить, что приведенный член па-
раллели предполагает второй, который должен был бы зву-
чать примерно так: “Ничего вы, отец с матерью, нс споро-
дили! Спородили вы, отец с матерью, доброго молодца”.
Прямо в такой форме второй! член параллели в нашей пес-
не не встречается, но он подразумевается, а во второй! час-
ти по-своему реализуется благодаря обращению молодца к
отцу и матери, подчеркнутому уже отмечавшейся симметри-
ей. Очевидно также, что куст и молодец, оказавшиеся в на-
шей песне лишь в пространственной связи, когда-то предпо-
лагали (и благодаря памяти параллелизма сохранили) связь
более глубокую - параллелизм-тождество.
Из этой же мифологической семантики плодородия
и порождения возникает вторая основная параллель нашей
песни, члены которой тоже разведены по синкретическим
голосам: смерть-женитьба. То, что В.И. Еремина называет
скрытой метафорой, является тропом лишь в пределах изо-
лированного голоса героя, а в контексте всей песни она вы-
ступает вторым членом параллели. II эта ее ипостась первич-
на, тогда как метафорическая - производна от параллелизма.
Мало того, параллелизм смерть-женитьба ведет к мифологи-
54
Глава I
ческой семантике, лежащей в основе свадебного обряда, род-
ство которого с обрядами плодородия, но одновременно
и с похоронными, общеизвестно. Сама ситуация - молодец
лежит в поле у куста - имеет аналогии в свадебной обрядно-
сти и лирике: молодец перед свадьбой лежит в саду7 (37,
№№ 144-148). Молодец нашей песни лежит в поле - вдали от
дома; жених в свадебном обряде и свадебной песне должен
отправиться за женой “в путь-дорожку7 дальнюю” (37, № 205),
по исконной мифологической семантике - на тот свет
(ср. смерть, ожидающая нашего героя). В контексте всех этих
перекличек не может быть речи о “полном отрицании” пред-
находимого обрядового жанра: образная структура нашей
песни, се метафористика рождается не сама из себя, не из
чувственно видимого или понятийно усматриваемого сходст-
ва смерти и женитьбы, а из их традиционного параллелизма.
И только увидев глубинную связь “Ничего ты, поле, не
спородило” со свадебной обрядовой песней и се образной
струкзурой, мы сможем попять их различие, ибо создатели
песни действительно вступили со свадебной лирикой в свое-
образный диалог, спроецировав на нее не только сизуацию,
но и образную систему. Сохранив семантику параллелизма
(и превратив даже метафору в один из членов параллели),
они все же нуждались в различающем и условном языке мета-
форы. И хотя это еще, совсем по О.М. Фрейденберг, иное
сказание самого же себя (параллелизма и его семантики), но
все-таки “иное”. Прежде всего более личное, не только со-
гласное, по и разно гласящее с обрядово-обязательным, а так-
же более условное, причем условность (мездфоризм) и лич-
ностность корреспондируют друг с другом. По существу, пе-
ред нами граница синкретизма: уже появилась субъектная
рефлексия и различение (автор-герой) и изоморфная ей
рефлексия образная (метафора), но это еще только симпто-
мы рефлексивной революции. Пока еще рефлексивная об-
разная модель (метафора) не окончательно отделена от па-
раллелизма и выступает одним из его членов, а один субъект
(автор) не отделен окончательно от другого субъекта (героя),
который зато не стал и объектом. Вместо четких субъектно-
объектных отношений, к которым приводит последователь-
ное развитие компарации и наррации в эпосе и драме, в ли-
рике сохраняются су^бъект-субъсктные отношения, платой же
за сохранение субъектности оказывается особая нераздель-
ность и неслиянность субъектов.
ТРАДИЦИЯ И РЕФЛЕКСИЯ
В СУБЪЕКТНО-ОБРАЗНОЙ СТРУКТУРЕ
РУССКОЙ ПОЭЗИИ XI-XVIII ВЕКОВ
Глава
Качественные изменения в субъектно-об-
разной структуре лирики, связанные с возрастающей ро-
лью рефлексии, происходят в новую историческую эпоху
поэтики - эпоху рефлексивного традиционализма. Ее гра-
ницы пролегают в Европе с VII-VI века до н.э., и в России
с XI - но XVIII век7. Анализ складывающейся в русской по-
эзии того времени субъектно-образной ситуации целесо-
образно начать со “Слова о полку Игореве” ввиду его осо-
бого положения между фольклором и литературой и лиро-
эпического синкретизма, не дающего возможности обой-
ти “Слово” при историческом изучении поэтики русской
лирики. Сделать это тем более целесообразно, что в “Сло-
ве” принято, начиная с Пушкина и даже еще раньше, ви-
деть один из первых в русской литературе диалогов с тра-
дицией, воплощенной здесь в образе Бояна.
В своей незавершенной статье “Песнь о полку Игоре-
ве”, предлагая новое прочтение первых фраз текста, Пуш-
кин утверждал: «Неизвестный творец “Слова о полку Иго-
реве” не преминул объявить в начале своей поэмы, что он
будет петь по-своему.., а не тащиться по следам старого Бо-
яна» (60, V, 283). Но Пушкин прекрасно видит неоднознач-
ное отношение между позициями автора и Бояна вплоть
до невозможности проведения четкой грани между ирони-
ческой и восторженной интонацией и до своеобразных
стилевых перевоплощений. “Не решу, - пишет поэт в од-
ном месте, - упрекает ли здесь Бояна или хвалит, но,
56
Глава 2
во всяком случае, поэт приводит сие место в пример того,
каким образом слагали песни в старину” (60, V, 284). Нако-
нец, Пушкин прямо сопоставляет иносказательный язык
Бояна с качественно иным языком автора “Слова”. Приве-
дя строки “пети было песь Игореви, того (Олга) внуку”, он
замечает: «Поэт повторяет опять соображения Бояновы
и, обращаясь к Бояну, вопрошает: “Или, не так ли петь бы-
ло, вещий Бояне, Велесов внуче? Комони ржут за Сулою;
звенит слава в Кыеве; трубы трубят в Новеграде; стоят
стязи въ Путивле; Игорь ждет мила брата Всеволода”. Те-
перь поэт говорит сам от себя не по вымыслу Бояню, по
былинам сего времени. Должно признаться, что это живое
и быстрое описание стоит иносказаний соловья старого вре-
мени» (60, V, 286, подчеркнуто нами. - С. Б.). Таким обра-
зом, Пушкин видит в данном месте своеобразный диалог
автора “Слова” с Бояном, притом диалог, ведущийся на
уровне образных структур, - “живого и быстрого описа-
ния” и “иносказания”.
Существует и иная точка зрения на это место, рельеф-
но выраженная О.В. Твороговым: “Обычно считается, что
во вступлении автор противопоставляет свою художест-
венную систему традиционной, воплощенной, например,
в песнях Бояна. Но едва ли на Руси XII века, в эпоху бла-
гоговейного отношения к литературному этикету и жанро-
вым канонам, автор, решивший нарушить традицию, стал
бы открыто заявлять о своем новаторстве. Вероятней дру-
гое: вступление... имеет чисто риторический характер”
(313, 82). Сам по себе риторический характер вступления
несомненен, но в интересующую пас эпоху поэтики рито-
рика - глубоко содержательная форма, не исключающая
личной позиции. Заметим, что в византийской литерату-
ре этого же времени (литературный “этикет” и риториче-
ская традиция здесь были по крайней мере не менее импе-
ративны, чем па Руси) существовала возможность прямо
заявленной и критической личной позиции.
Современник автора “Слова” Евстафий Солунский,
приступая к рассказу о поражении родного города, писал:
“Те, кто описывает завоевания городов и в далеком про-
шлом, и в настоящем, в большинстве случаев используют
одни и те же приемы... При повествовании историческом
и беспристрастном писатель пространно богословствует:
он и о причинах бытия говорит, и обильными риториче-
57
скими прикрасами свою речь изощряет, и экфразами,
и описаниями различных мест свое повествование укра-
шает... Но тот, кто изображает события современные и на ко-
го несчастье наложило отпечаток (подчеркнуто нами. -
С. Б.), тот, конечно, воспользуется всеми указанными сред-
ствами, но не перейдет границы. Ему следует только пре-
исполниться сострадания обязательно в соответствии со
своими личными склонностями” (77, 239). Замечательна
еще одна перекличка со “Словом”: “Один раз оно (повест-
вование. - С. Б.) начнется без прикрас, как бы по-делово-
му, в другой - более искусно и от времен, которые умест-
но вспомнить” (77, 240) - здесь нельзя не вспомнить два
вступления к “Слову”.
Речь идет, конечно, не о тривиальном подражании,
а о самой возможности заявленной личной позиции, мо-
жет быть даже о наличии определенной традиции наруше-
ния “этикета” в особых ситуациях - поражения, гибели,
личной уязвленности общенародным бедствием. При
этом, конечно, необходимо учитывать, что эта личная по-
зиция будет существенно отличаться от новоевропейской.
Действительно, диалог, который ведет автор “Слова” с Бо-
яном, диалог именно средневековый, не просто отрицаю-
щий позицию “другого”, по и приемлющий ее, исходящий
из общих с ней традиционных оснований и создающий
в конечном счете нераздельность и неслиянность тради-
ционной и личной точек зрения.
Уже первая фраза “Слова” задает эту субъектно-образ-
ную позицию: “Не лепо ли ны бящеть, братие, начяти...
Начата же ся тъй песни...” (67). Об этом месте ВТ. Смо-
лицкий пишет, что в нем обычно видят свободу выбора,
“в то время как автор самой конструкцией фразы эту сво-
боду у себя отрицает. Необходимо обратить внимание на
безлично-страдательный оборот в этой фразе. Не автор
начнет, а самой песне начаться по былинам сего времени”.
Замечательно еще одно точное наблюдение исследовате-
ля: «Этот же самый оборот и в том же значении неизбеж-
ности мы встречаем в “Слове” в приведенной автором за-
певке Бояна: “Ни хытру, ни горазду... суда божия не мину-
та» (300, 13).
Неверно, было бы, однако, понять такую конструкцию
как выражение чистой пассивности и страдательности.
Перед нами особый род активности, хотя и страдатель-
58
Гтва 2
ной, своеобразная обреченность на активность - и она
возникает в “Слове” всегда, когда речь заходит о воспева-
нии. Так во втором вступлении и опять в связи с Бояном
говорится: “Пети было песнь Игореви... Чи ли вьспети бы-
ло...”, и в финале, уже о себе, но с оглядкой на Бояна:
“Певше песнь старымъ княземъ, а потомъ молодымъ ле-
ти”. Подобная субъектная позиция определенно напоми-
нает описанную Л.Ф. Лосевым “эргативную”, героически-
демоническую, при которой активность индивидуума есть
его одновременная страдательность, “одновременная
с выполняемым им действием детерминация со стороны
некоего высшего субъекта, вполне неопределенного и по-
тому неминуемого”. И далее: “Этот активнейший и созна-
тельнейший герой, свободно действующий по своему сво-
бодному решению, в то же самое время и без всякого на-
рушения своей свободы оказывается предопределенным
во всех своих мельчайших поступках, он как бы предопреде-
лен на свободу” (231, 320).
Но ведь такова позиция не только автора и Бояна, ко-
гда они приступают к воспеванию, по и всех субъектов
“Слова”. Прежде всего Игоря, явно предопределенного на
свое свободное “хощу”, Ярославны и других “персонажей
(природы и людей)” - “импульсивно-произвольная основа
действий” их (287, 50). Подчеркнем особо, что здесь вы-
ступает как произвольно действующий, но одновременно
предопределенный на эту свободу субъект (287, 41), - так-
же и природа. Автор “Слова” сам находится внутри такой
позиции - ситуации, но качественное своеобразие статуса
автора, отличающее его и от героя, и от героического пес-
нопевца Бояна, состоит в следующем: автор не только уко-
ренен в этой ситуации, он рефлексирует над ней, имеет
на нее художнический (риторический) взгляд извне, он
изображает, разыгрывает эту ситуацию, как мы уже заме-
чали, на уровне образных структур.
Так разыгрывается стиль Бояна в двух вступлениях
к “Слову”. Пушкин, как мы помним, называл этот разыгры-
ваемый стиль “иносказательным” и утверждал, что автор
противопоставляет ему “живое и быстрое описание”. Но
если перед нами иносказательность, то преимущественно
не метафорического, а параллелистского и символическо-
го типа. С необычайной концентрированностью в двух
вступлениях воспроизведены архаические формы образ-
59
ности. Во-первых, творительный метаморфозы (который
А.А. Потебня, как мы помним, считал одним из исходных
типов образа): “мыслию по древу, серымъ вълком по земли,
шизымъ орломъ подъ облакы”; явные следы метаморфозы,
го есть реального превращения Бояна в орла (“летая... подъ
облакы”) и волка (“рища в тропу Трояню”), есть во втором
вступлении. Во-вторых, в обоих случаях за творительным
метаморфозы следует отрицательный параллелизм - в пер-
вом вступлении в своей полной форме, с начальным утвер-
ждением и последующим отрицанием, во втором - в^сокра-
щенной форме, без утверждения (“тогда пущашеть I соко-
лов на стадо лебедей; который дотечаше, та преди песнь по-
яше... Боянъ же, братие, не I соколовъ на стадо лебедей пу-
щаше, нъ своя вещия персты на живая струны въскладаше;
они же сами княземъ славу рокотаху”, “не буря соколы зане-
се чрезъ поля широкая; галици стады бежать к Дону велико-
му”. В-третьих, в этом контексте принимает архаический
вид и хочет быть прочитано как символ-приложение то, что
в ином окружении показалось бы метафорической пери-
фразой - “О Бояне, соловию...”, “ты...славию”.
Подчеркнем, что торжественный архаизм бояновых
образов здесь подан с особой концентрацией, с нажимом,
еще чуть-чуть и они превратятся в откровенную орнамен-
тику. Это и произошло в “Задонщине”, автор которой, уже
нс ощущая игры автора “Слова”, всерьез, с чрезвычайной
и наивной тщательностью воспроизводит самый броский
боянов ход - отрицательный параллелизм. По самое пока-
зательное, что в “Задонщине” такой параллелизм может
вводиться сравнением, то есть качественно иной и несоче-
таемой с ним структурой, что говорит о полном забвении
древней семантики образа и превращении его в чистую ус-
ловность (см.: “Уже бо яко орлы слетешася со всея полу-
нощныя страны. То ти не орлы слетошася, съсхалися вси
князи русские”. Или: “И тогда яко соколи отлеташа на бы-
стрый Дон. То тс не соколи полеташа за быстрый Дон, по-
скакивает князь Дмитрий с своими полкы...”).
Автор “Слова” далек от такой бессознательной паро-
дии на стиль Бояна, нс пародирует (в нашем смысле сло-
ва) он его и сознательно, но разыгранность, демонстра-
тивность и некоторый нажим тут несомненны, и именно
это Пушкин почувствовал. Почувствовал Пушкин и то, что
после этой демонстрации и разыгрывания чужого стиля,
60
Глава 2
автор резко меняет тон и стиль, причем происходит это
в обоих вступлениях (поэт проанализировал только вто-
рое). Что же сонолагает автор с бояновым стилем?
Во втором вступлении, проанализированном Пушки-
ным, творец “Слова” прибегает к “живому и быстрому опи-
санию”: “Комони ржут за Сулою; звенитъ слава в Кыеве;
трубы трубят въ Новеграде; стоять стязи въ Путивле”. Ху-
дожественный эффект такого описания состоит, очевид-
но, в следующем: детали, названные неукрашенным сло-
вом, данные в движении и связанные бессоюзной присое-
динительной связью, начинают восприниматься как внут-
ренне соотнесенные; в самом факте их соположения уга-
дывается некий смысл, хотя он невыразим прямо и несво-
дим к иносказательно-метафорическому, что подчеркнуто
Пушкиным. Мы склонны видеть в “живом и быстром опи-
сании” возрождение и переосмысление архаической, еще
“дообразиой” кумуляции.
После первого вступления автор “Слова” меняет стиль
нс менее резко, стремительно переходя к описанию: “Тог-
да Игорь възре на светлое солнце и виде отъ него тьмою
вся своя воя прикрыты”. Вспомним соотнесенное с этим
второе описание: “Тогда вступи Игорь князь въ злать стре-
мень и поеха по чистому полю. Солнце ему тьмою путь за-
ступаше; нощь стонуще ему грозою, птичь убуди; свисть
зверинь въета. Збися Дивъ, кличеть връху древа...” В чем
образно-стилевое своеобразие этих описаний? Что здесь
сопоставлено с бояновым образным миром?
Описание затмения солнца перед походом многократ-
но истолковывалось в научной литературе, но все толко-
вания так или иначе склонялись к рационалистическому:
затмение солнца - предсказание неудачи похода. Наличие
этого смысла в данном описании и вообще в “Слове” - бес-
спорно, но он открывает лишь самый верхний образно-
смысловой пласт интересующего нас места. За конкрет-
ной, хотя и символической, картиной угадывается нечто
большее, чем простое предсказание, когда мы всматрива-
емся в то, как описаны солнце и князь. О солнце подроб-
но написал Л.Н. Робинсон. Анализируя имманентный
язык образа, ученый пришел к выявлению мифологиче-
ских корней образа солнца в поэме. “Солнце самостоя-
тельно”, “оно выступает как активный субъект, для вос-
произведения действий которого употребляется падеж об-
61
раза действия, то есть творительный орудийный” (287, 41;
речь идет об оборотах “виде от него тьмою вся своя воя
прикрыты” и “солнце ему тьмою путь заступаше”. - С. Б.).
Заметим, что творительный орудийный определенно
родственен бояновому творительному метаморфозы и тому
“обстоятельству в творительном падеже”, который А.А. По-
тебня считал одной из исходных форм образа. Подчеркнем
также качественное отличие такого творительного падежа
от сравнения, которое А.Н. Веселовский считал аналитиче-
ским типом образа, преодолевшим образный синкретизм.
В свете этих данных исторической поэтики глубокий инте-
рес представляет наблюдение А.Н. Робинсона: “Никаких
сравнений солнца с чем-либо... здесь нет, потому что, во-пер-
вых, солнце представляется действующим произвольно, а,
во-вторых, - в архаических анимистических представлени-
ях господствующее над миром солнце, как равная себе
сущность, так же несравнима, как несравним с кем-либо
бог в христианских представлениях” (287, 41 )8. По сущест-
ву, исследователь вскрывает здесь исконную мифологиче-
скую субстанциальность образа солнца в “Слове”.
Но он хорошо видит и “разнотипность функционирова-
ния” этого мифологического образа, разворачивание его
в целый ряд иных, в том числе уже собственно поэтических
образов. По А.Н. Робинсону, солнце сначала выступает в ви-
де произвольно действующего мифологического субъекта,
затем в виде аллегории (“четыре солнца”) и в форме своих
атрибутов (Даждь-бог, Хоре); кроме того солнце, оставаясь
символом, становится также и реалией, гибельно влияю-
щей на воинство Игоря; наконец, оно превращается в “про-
извольный символ” (“светится на небесе”). Общий вывод ис-
следователя о соотношении мифологического и собствен-
но поэтического пластов образности “Слова” таков: для
стиля “Слова” характерно “предложение слушателям ряда
символов, замкнутых в своей сущности (традиционной
языческой мифологии), с последующим постепенным и,
очевидно, интересующим слушателей их раскрытием (но
только частичным) при помощи метафорической конкре-
тизации” (287, 58).
С точки зрения исторической поэтики, важнейшим
результатом проведенного анализа является открытие то-
го, что в “Слове” существуют и взаимодействуют два каче-
ственно различных и разностадиальных типа образа: ми-
62
Глава 2
фологический, претендующий на субстанциальность, и соб-
ственно поэтический, не требующий признания за дейст-
вительность. Вне этого факта непонятны (и поддаются
лишь рационалистическому истолкованию) ключевые мо-
менты произведения, в том числе интересующая нас кар-
тина солнечного затмения. Но предложенным анализом
нельзя полностью удовлетвориться, потому что в центре
внимания исследователя оказалась сама по себе солнечная
символика, тогда как в образной системе “Слова” солнце -
только один из членов исходной параллели, вторым чле-
ном которой является по всем законам древнего искусства
человек (князь Игорь). Нельзя сказать, что А.Н. Робинсон со-
всем этого не видит, один раз он даже прямо говорит о “со-
зданной символической параллели (солнце-Игорь)” (287,
50), но говорит об этом применительно к концу произведе-
ния. Между тем данная параллель мерцает за, казалось бы, су-
губо конкретным описанием затмения уже с самого начала
поэмы и обусловливает ее глубинную образную композицию.
“Тогда Игорь възрс на светлое солнце и виде отъ него
тьмою вся своя воя прикрыты”. Здесь солнце и Игорь про-
сто поставлены рядом, но это их сближение (как и при по-
следующем “живом и быстром описании”) не оформлено
как параллелизм или символ. Перед нами еще вполне нейт-
ральные и неукрашенные слова, разве лишь “светлое солн-
це” - фольклорный поэтизм, который отзовется в следую-
щей картине. Но возможность глубинной параллели просма-
тривается уже здесь. Солнце, как уже замечено, выступает
тут не как объект, а как субъект, притом действующий про-
извольно. Обратим внимание, что не оно прикрыло тьмою
войска, а “от него” они прикрыты. Вместо равного самому
себе субъекта в именительном падеже здесь стоит родитель-
ный с предлогом, самой своей формой говорящий, что
солнце порождает тьму как бы независимо от себя, что дей-
ствие не только активно им совершается, но и безлично-пас-
сивно от него исходит. Мы помним, что эта лично-безлич-
ная “пассивная активность” - характернейшая форма прояв-
ления субъекта в “Слове” - и именно через нее сближается
с солнцем Игорь, произносящий в этой сиене свое “хощу”.
В следующей сцене эта скрытая пока (и лишь мерцаю-
щая сквозь действие) параллель начинает проговариваться:
“Одинъ брать, одинъ светь светлый”, - обращается к Игорю
Всеволод, и это обращение отсылает нас к “светлому солн-
63
цу” первой сцены. В следующей сцене (“Тогда въступи
Игорь князь в златъ стремень и поеха по чистому полю.
Солнце ему тьмою путь заступаше”) - новое сближение
князя и солнца уже после того, как Игорь назван “светом
светлым” (да еще “одним”, как солнце). Все это заставляет
увидеть здесь нечто большее, чем просто пространствен-
ное рядоположение. Особенно ясно это становится, когда
мы присмотримся к картине затмения.
После рассказа о том, как “солнце ему тьмою путь за-
ступаше”, следует: “Нощь стону щи ему грозою птичь убу-
ди; свист зверинъ въста <...> Дивъ кличеть <...> половци ...
побегоша <...> крычатъ телегы <...> Игорь к Дону вой ве-
детъ <...> дълго ночь мрькнет <...> заря свет запала...” Ина-
че говоря, затмение солнца в этом описании переходит
незаметно в настоящую ночь. Вернее даже перехода как
такового здесь нет, ибо “нощь” появляется сразу: по мифо-
логической логике затмение и есть ночь, потому она поя-
вляется взаправду (на образ играет и многозначность сло-
ва “нощь”, обозначающего здесь не только время суток, но
и “темноту”, “мрак” (169, 118-119). Эта обратная метамор-
фоза - превращение затмения в ночь - говорит о том, что
в данной сцене по существу нет описания последователь-
но развертывающихся событий, нет синтагматического
принципа связи, а есть принцип парадигматический: к ос-
новному образу подбираются параллельные места. “Нощь
птичь убуди”, “Див кличет”, “половци побегоша”, “вльци
грозу въсрожат”, “орли зовут”, “лисици брешут” - все это
одновременные действия, совершившиеся в тот момент,
когда князь поехал, а солнце затмилось. Так наметившаяся па-
раллель Игорь-солнце начинает оборачиваться парал-
лелью затмение солнца-князя.
С этого момента интересующая нас параллель стано-
вится ведущей. Так картина второй битвы сопровождает-
ся образами кровавых зорь и черных туч, которые “хотять
прикрыта д солнца”. Здесь затаенный прежде двучленный
параллелизм переходит в откровенно символическую кар-
тину. И далее становится ясно, что затмение солнца парал-
лельно и тождественно героической одержимости (помраче-
нию) Игоря, его уходу в “землю незнаемую” (по мифологиче-
ской логике - на тот свет), к морю (на дно которого погру-
жается русское злато), к судьбоносной реке Каяле (переход че-
рез реку - известный символ переправы на тот свет), на-
64
Глава 2
конец, поражению и пленению (закату) князя. Эта основная
символическая парадигма имеет многочисленные микрооб-
разные параллели. Так в ответе бояр Святославу “два солнца
померкоста”, “тьма свет покрыла”. В отрывке о Всеславе ге-
рой-оборотень затмевает солнце (“Хръсови влъкомъ путь
прерыскаше”). Еще до этого своеобразно затмевается русская
земля (“уже за шеломянемъ еси”), а дружину князя “птиц кры-
лья приоде” и т. д. Завершающий этап развития интересую-
щего нас образа таков. После плача-заклинания Ярославны,
в полночь (когда солнце перестает “западать” и должно начи-
нать подниматься) “Игореви князю богь путь кажеть из зем-
ли Половецкой на землю Рускую”; наконец, возникает впер-
вые открыто и без утайки названная двучленная параллель:
“Солнце светится на небесе, Игорь князь на Руской земли”.
Обнаружение и анализ исходной образной параллели
князь-солнце, затмение солнца-помрачение князя позволя-
ют кое в чем по-новому прочитать “Слово”. Во-первых, сол-
нечное затмение перестает казаться только предсказанием
неудачи похода, а становится наряду с этим и на большей
смысловой глубине параллельно и тождественно этой не-
удаче и помрачению князя. Во-вторых, затмение солнца
оказывается не просто средством подчеркнуть героическую
одержимость князя, который вышел в поход несмотря на
знамение. Параллель говорит о большем: героическая одер-
жимость Игоря есть одновременно и “помрачение” его, на-
поминающее трагическое ослепление, гибрис античных ге-
роев или, если быть ближе к современной “Слову” почве,
Роланда с его “deinesure” - сумасбродством, необузданной
безрассудной смелостью, буквально - безмерностью (302,
149). В-третьих, сам факт наличия в “Слове” двух образных
языков (субстанциально-мифологического и условно-поэ-
тического), при первичности языка параллелизма, не поз-
воляет подходить к определению авторской позиции с
точки зрения современных нам представлений. Прежде
всего должны быть оставлены как модернизаторские вер-
сии безусловного воспевания героя или безусловного по-
рицания его. Вторая не может быть верна потому, что сам
образный язык параллелизма не создает нужной для нее
абсолютной границы между автором и героем. Первая -
потому, что второй (“различающий”) образный язык все-
таки разрушает тождество между автором и героем и дела-
ет границу между ними предметом рефлексии.
65
Ио ведь такие же отношения нераздельности и несли-
янности устанавливаются и между автором и Бояном, что
выражено в соположении их стилей. Для автора, как и для
Бояна, исходным остается архаический язык древнего па-
раллелизма, который у автора, однако, уже становится
предметом рефлексии и метафорического развертывания.
Теперь понятней смысл соположения авторского и бояно-
ва стиля. Автор “Слова” еще не может начать повествова-
ние прямо, с беспрецедентной легкостью Пушкина минуя
канон (“Мой дядя самых честных правил”), ибо между ним
и конкретной действительностью еще лежит плотный слой
“общего”, традиционно предписанного смысла. Но автор
“Слова” уже может “разыграть” этот слой и преподнести его
как “чужой” (боянов). А после этого разыгрывания, играю-
щего роль риторического приступа, он может начать уже
с конкретной ситуации, за которой, однако, с самого нача-
ла мерцает субстанциально-мифологический смысл, по-
степенно раскрывающийся, тропеически расцвечиваемый
и выговариваемый к концу произведения.
Анализ субъектно-образной структуры “Слова о полку
Игореве” помогает приблизиться к пониманию одного из
глубинных смыслов великой поэмы: выход из субъектной
неразличимости (“синкретизма”) и обретение новой чело-
веческой и авторской позиции, глубоко укорененной в тра-
диции и се образной семантике, но и артистически свобод-
ной - не от самой традиции, а от слепой обреченности па
нее, от “одержимости” сю. Это и есть поэтика рефлексив-
ного традиционализма.
Своеобразную эволюцию этой поэтики мы наблюдаем
в литургической поэзии интересующего нас времени.
Субъектная сфера литургической поэзии существенно от-
личается от фольклорной. Прежде всего мы не найдем в
ней знакомых нам форм субъектного синкретизма - сме-
шения субъектов и спонтанных переходов высказывания
от одного лица к другому. По первичной не является здесь
и субъектная сфера “я” - равного самому себе и автоном-
ного субъекта. В литургической поэзии исходной оказыва-
ется некая субъектная совокупность, включающая в себя
“я”, “мы”, “он (они)”, не смешиваемые друг с другом, по и
нс отдавшие друг от друга и слабо маркированные. Типич-
на такая, например, конструкция высказывания в “Триоди
постной”: “Адама первозданного престоуплением норов-
66
Глава 2
новавъ изгнан быхъ отпища окаянный темже припадаютъ
покаяниемъ и плачемъ господи спаси мя” (83, 24). Здесь
субъект речи выступает и как “я”, и как “мы”, и в то же вре-
мя смотрит на это “я-мы” со стороны - как на “других”, что
не исключает его внутринаходимости по отношению к ним.
Такого рода субъектная структура - абсолютная норма еще
в “Каноннике” середины XVII века (31). В древнерусских же
переводах “Псалмов” высказывания от лица немаркирован-
ных “я-мы” - составляют 17,2%, а взгляд субъекта речи на
себя как на “другого” (“он”) встречается в 21,1% хвалений,
хотя высока и сопоставима с лирикой ХЕХ века доля выска-
зываний от “я” (47%). Показательно, что в “Псалмах” при
обращении к “другому” (богу) ведущим является сочетание
“ты” и “он” в пределах одного высказывания (58%, при толь-
ко “он” - 27% и только “ты” - 15%). Все это способствует со-
зданию эффекта, отмеченного С.С. Аверинцевым: порожда-
ет личный характер высказывания в “Псалмах”, но и делает
субъекта речи «своего рода парадигмой для скорбей и на-
дежд коллективного “я”» (104, 287).
Этот парадигматически-личный субъект, включающий
в себя “я”, “мы” и “он” и ориентированный на “другого”
(“ты-он”), существенно отличается и от синкретических
отношений между субъектами в фольклоре, и от того со-
отношения уже автономных субъектов, которое мы встре-
тим в неканонической лирике XIX - начала XX века.
И в то же время интересующие нас сейчас специфические
субъектные отношения, уходя своими корнями в глубо-
кую, еще граничащую с синкретизмом архаику, порожда-
ют сложнейшие формы рефлексии, ставшие почвой для
последующего развития поэзии. Особенно заметны эти
полюса в “Синайской псалтири” XI века - одном из древ-
нейших памятников славянского языка.
Прежде всего мы встречаемся здесь с многообразны-
ми формами слабой субъектной расчлененности. Во-пер-
вых, с естественной для архаического языка невыделенно-
стью лично-местоименных форм: “Глаголаша... Оупова на
Гда” (65, 21, 8; “Говорят..: Он уповал на Господа”). “Красенъ
добротою паче сыновъ человеческихъ” (65, 44, 3; “Ты пре-
краснее...”). Во-вторых, с синтаксической неразвитостью
форм, выражающих отношения подчинения (в том числе
и субъектного): “И въсхождаше видеть, соуе глаголаше”
(65, 40, 7; “И если приходит кто вместо меня, говорит
67
ложь”). В-третьих, с неразвитостью шаблона косвенной
речи и ее недостаточной отчлененностью от речи пря-
мой. Наряду с более или менее четким введением прямой
речи при помощи слова “рече”, есть масса случаев, когда
с нашей нынешней точки зрения субъектная принадлеж-
ность высказывания неопределенна: “Еко къто слыша”
(65, 58, 8; “Ибо, думают они, кто слышит”); “Еко ты еси
Господи оупование мое, вышьнего положилъ еси прибе-
жиште твое” (65, 90, 9); «Ибо ты сказал: “Господь - упова-
ние мое”, всевышнего ты избрал прибежищем своим”»).
Все это несомненно облегчает субъектные переходы от
“я” к “мы” и “он”, когда эти субъектные формы выражены.
Отмеченная способность парадигматически личного
субъекта смотреть с разных сторон (“я”, “мы”, “я и мы”,
“он”) на себя, а также на собеседника (“ты”, “он”) оказыва-
ется чреватой диалогическими возможностями. Ведь взгляд
субъекта речи на себя со стороны (как на “он”) есть по суще-
ству учет взгляда на себя “другого”: “Огь тайныхъ моихъ
очисти мя и оть тоуждыхъ поштьади раба твоего” (65, 18,
13-14). Получается, что “он” - автономинация “я”, данная
с точки зрения “другого”, а именно “другого” сверхсубъекта
(Бога). Видимо зерно этой интенции сохраняется в последу-
ющих модификациях этой субъектной формы, сыгравшей,
как мы увидим, важную роль в диалогизации лирики.
Другая форма представления “я” со стороны - отделение
от “я” его субститутов (“души”, “сердца”, “утробы” и т. д.) -
восходит к глубочайшей древности. Видимые очертания ее
теряются в культурах шумерской (“Человек и бог“), египет-
ской (“Размышления Хахекерра-секбу Анху, или Разговор
Хахексрра-секбу Анху со своим сердцем”, “Спор человека
и Ба”), вавилонской (“Невинный старец”, “Вавилонская тео-
дицея” 138, 17-29). В древнерусской литературе эта тради-
ция “при” между человеком и его душой (либо между телом
и душой), восходящая к древнейшим иемонологическим
концепциям мира, была весьма популярна (см., например,
“Повести о споре жизни и смерти”, 56). Без нее также недо-
статочно понятны многие факты русской классической ли-
рики (см., например, “На что вы, дни” Баратынского).
Помимо отмеченных простых форм взгляда на субъек-
та речи со стороны, в “Псалмах” важную роль играют бо-
лее сложные субъектные конструкции. Так в них соприка-
саются и освещают друг друга безличная и личная формы
68
Глава 2
высказываний, например, безличный субъект речи I псал-
ма и личный 25-го. Ср.: “Блаженъ мужъ, иже не идетъ...”
и “Не седъ съ сонъмомъ соуетъномъ, и съ закопопреступны-
ми не въниду. Възненавидехъ црковъ лукавъныхъ, и с не-
чъстивыми не сяду”. Благодаря такому соотнесению оказы-
вается поколебленной граница между субъектом речи и ге-
роем, открывая возможности новых переходов. См. также:
“1осподи боже нашъ... Еко оузрю дела пръетъ Твоихъ. Лоуну
и звезды яже Ты основалъ. Что есть члкъ, еко помъниши
и ли сынъчлчь, еко посещаеши его” (65, 48, 2-5). Обнару-
живается парадигматичность субъектных сфер “я”, “мы”,
“он”, “человек”, “сын человеческий”. Особый интерес
представляет номинация “сын человеческий”, которая
в Евангелиях станет автономинацией Христа: это и “я”,
увиденное со стороны (как “он”), и взгляд на себя глазами
бога, и вообще человеческая автономинация.
Эго вторичное “он” (“сын человеческий”) дает уже
в “Псалмах” (а потом и в Евангелиях) возможность соотне-
сения парадигматически личностного субъекта не только
с идеальным человеком (праведным мужем), но и с грешни-
ком, нечестивцем и беззаконником. Возникает диалогиче-
ское напряжение между “сыном человеческим” - “сыном бо-
га живаго”, покаянием - возвышением, телом - душой, при-
чем вина, покаяние, унижение, уязвленность оказываются
нравственно ответственной и по-своему высокой позици-
ей. Так в “Псалмах” есть диалогически ориентированный
голос субъекта, стоящего у предельной грани вины. Это,
например, 50 псалом - покаяние Давида после того, как
он вошел к Вирсавии: “Помилоуи мя. Боже, по велинеи
милости Твоей, и по многъмъ щедротамъ Твоимъ оцести
безаконнье мое. Наипаче омъи мя отъ безакониньс моего,
и отъ трехъ моего очисти мя, еко безаконнье мое азъ знаю
и трехъ мои есть выну. Тебе единомоу согрешихъ и зълое
предъ Тобою створихъ, еко да оправьдши ся въ словесе
Твоихъ и препьриши въпегда осудити ся. Се бо въ безако-
нсньи зачать есмъ и въ грессхъ роди мя мати мое. Се бо
ресноту възлюбилъ еси безвестьнаа и тайная премудрость
Твою свил ми оси. Окропите мя ософом очищуся. Омые-
ши мя паче снега оубелюся” (65, 50, 3-9).
Обратим внимание на особенности выраженной здесь
позиции субъекта. Во-первых, безусловное признание сво-
ей вины. Во-вторых, признание того, что праведность -
69
э го мудрость “другого”, явленная внутрь “я”. В-третьих, па-
радоксальная надежда на прощение именно в силу пре-
дельности вины и покаяния. В-четвертых, представление
о возможности “другого” извне очистить “я”, но очистить
не внешне, а внутренне. Беспощадность самоосуждения
“я” перед лицом “другого” может доводиться в “Псалмах”
до рефлексии второго порядка - рефлексии над рефлекси-
ей: “Глаголетъ законопреступъии къда согрешаетъ въ себе:
несть бо страха Божия предъ очима его. Еко волъсти
предъ нимъ, обрести безаконние свое и възненавидети.
Глаголи оустъ его безаконние и лесть, и не изволи разо-
умети да оублажитъ” (65, 35, 2-4). Здесь “нечестию беза-
конного” дан голос, чтобы говорить в сердце “я”, становя-
щегося третьим лицом (вспомним древнюю традицию
“при”), причем говорить до конца и заглянуть в такие глу-
бины мотивировок личности, в которые иным путем ход
закрыт. Этот голос подводит кающегося к сомнению в соб-
ственном покаянии. Так открывается возможность беско-
нечной рефлексии и даже - дурной бесконечности ее. Ста-
новится ясно, что стоя на точке зрения сознания и само-
сознания, субъект не может найти твердых опор (208,
104-105). Их может дать только выход за пределы самосоз-
нания - соотнесение себя с “другим”. В данной культурной
традиции этот “другой” мог осознаваться только как “бог“,
но само открытие необходимости “другого” для становле-
ния “я” имело непреходящее значение и многоразлично
преломилось в последующей культуре, в том числе в рус-
ской лирике. Показательно, однако, что в конце эпохи реф-
лексивного традиционализма - в XVII-XVIII веках - имен-
но эта обращенность к “другому” и способность субъекта
смотреть на себя со стороны (как на “он”) резко падает.
Поэты XVII века смотрят па себя со стороны разве что в ак-
ростихах. В XVIII веке эта субъектная форма исчезающе ма-
ла (у Ломоносова - 5,1%, у Сумарокова - 0,8%, у Хемнице-
ра - 2,3%, у Державина - 2,4%. Только с Карамзина начина-
ется новый взлет ее - какая роль ей предстояла в русской
лирике XIX - начала XX века, мы увидим позднее).
Наконец, отметим подобного же рода парадигматиче-
ски личностную субъектную организацию такого популяр-
ного жанра, как канон, а также различного рода субъект-
ные медиации в нем. Так в “Предисловии пред каноном за
едино умершего” говорится: “Духовный отче и господине,
70
Глава 2
имярек, сотвори со мною Бога ради последнюю любовь
(вспомним одноименное стихотворение Тютчева. - С. Б.)
и милость сицевую, помилуй мя Бога ради, пой за меня
сии канон”. Получается, что одно “я” (медиатора) выступа-
ет от лица второго “я” (умершего, варианты - болящего
и не могущего говорить), возникает их нераздельность
и временами резкие выходы на авансцену то одного, то
другого. См., например, такое место в “Каноне задушю
оумершего”: “Молитву пролию ко господу и тому возвещю
печаль мою, яко зол душа моя наполнися и живот мой аду
приближися. И молюся яко Иона, от тления, Боже мой,
возведи мя. Ада испроверг владыко Христе, и воскресил
еси оумершыя от века, и ныне проставленного от нас, на
лоне Авраамли, Боже, всели”. Здесь сначала “я” умершего
и молящегося совпадали, но в последней фразе произош-
ло их отделение и выступил голос медиатора-молящегося.
Присмотримся лишь к одному случаю реализации диало-
гических возможностей канона - к 9-й песне “Канона-молеб-
на к Господу нашем}7 Иисусу Христу, певаемы в общенуждие,
в бездождие, и неблагорастворение времен, и в противление
ветрам, и в нашествие варварское”. После первой строфы,
содержащей просьбу людей быть посредницей между ними
и Христом, Мария обращается к сыну. Следует диалог:
IX.2. Владычицы:
Благоутробный сыну мой!
Сих руками воздвиг еси
умерших
и пропитал еси своею плотню.
Матерь мя сим преславно сделал еси праведну.
Тем же приими, Слове мои, моление.
IX.3. Владычно:
Дьльгъ кой, мати, ныне просиши?
Милость которым
спешили от мене?
Недостойни сии человеколюбия
всякого суть,
божественному’ сродству солгавше.
IX.4. Владычицы:
Вем се, Владыко и сыне,
но, раскаявшсся, ныне припадают,
яко же видеши,
плачютъ,
рыдають,
растерзающеся вси.
Не терпит ми утроба сих язвы.
IX.5. Владычно:
Послушають, мати,
и раны почивают ныне.
Припадают же зле.
Аз же тебе ради
и сию человеколюбие
благодать ныне
обычно яко матери подаю.
IX.6. Владычицы:
Паче слова, Слове,
все твои
въплощение, страсть
и обожение страшное -
богатьство велико общааго покаяния.
Их же ради и покланяемся, сыну, славе Твоей (19, 300).
В этом диалоге главную роль играют не логические по-
строения и доводы, а личные позиции участников. С уче-
том природы говорящих эти позиции точнее было бы на-
звать парадигматически личными. Люди просят Марию
“яко мати”, и “яко матери” уступает ей сын. Второй “аргу-
мент” Марии опять обращен к природе Христа: “Благоут-
робный сыну” (в греческом оригинале здесь стоит просто
“сыну мой”), сам “препитавший” их “своею плотню”, то есть
ставший для людей тем, кем Мария в свое время была для
него. Замечательно, что возражения Христа, Мария, при-
знавая их правоту, отклоняет не аргументами (“Вем се”),
а опять-таки ссылкой на свою (но, получается, и его приро-
ду - “не терпит ми утроба сих язвы”, а также на покаяние
людей, точнее на “богатьство общааго покаяния”.
Обратим внимание на словесно-образные лейтмотивы.
Сначала “утроба” (“благоутробный”, “утроба”, а также свя-
занные с ними “плоть”, “воплощение”, “мать”), затем “бог“
(“божественному”, “богатство”, “обожение”), потом “сло-
во” (“слове”, “паче слова, Слове”, “славе”) и, наконец,
“страсть” - “страшное”. Эта корневая игра смыслами при-
надлежит в целом переводчику, в греческом оригинале
она не выражена, естественно, именно в этих формах. Пе-
ред нами риторическое и глубоко серьезное переживание
слова. “Покаяние” - это “богатьство”, так как оно прибли-
жает к “богу”, в пределе - к “обожению страшному” (что
произошло с Иисусом). То, что “обожение” - “страшное”,
связывает “страсти” бога с “покаянием” людей, выявляет их
одноприродность (при различии в степени, разумеется),
усиленную “сыновностью” людей и Христа по отношению
72
Глава 2
к богоматери, выступающей здесь универсальной посред-
ницей, разрешающей диалог и приводящей временно лю-
дей к согласию с богом (во время богослужения в знак это-
го примирения после 9-й песни канона открываются цар-
ские врата, символизирующие врата рая).
Итак, перед нами своеобразный диалог парадигмати-
чески личных субъектов, завершающийся согласием. В от-
личие от фольклорной лирики, субъекты здесь не только
одноприродны (“нераздельны”), но и качественно разнопри-
родны (человеческое и божественное в них также и “несли-
янно”). Чтобы преодолеть эту разноприродность и прийти
к согласию, требуется “внежизненно активное” (М.М. Бах-
тин) усилие, которое с точки зрения обычных, конечно-раз-
мерных ценностей кажется унижением субъекта - покая-
ние, страсти, признание своей предельной вины. В этой
диалогической ситуации (вспомним и “Псалмы”) низшее
оказывается высшим, а тело в отличие от ходячих пред-
ставлений может быть выше “души”, если занимает не мо-
нологичсски-самоутверждающую, а диалогически-страда-
тельную позицию. В такой позиции - и уже независимо от
ее религиозной окраски - содержались ценности, кото-
рые на иной основе будут возрождены в русской классиче-
ской лирике, прежде всего у Пушкина.
Парадигматически личному принципу организации
субъектной сферы изоморфна образная структура литур-
гической поэзии. Особенно обнаженно парадигматиче-
ский принцип образной организации представлен в кано-
не. Любая тема в нем берется, по определению С.С. Аве-
ринцева, “в модусе образца-парадигмы” (100, 279). Ирмос,
стоящий перед каждой из 9-ти песен канона, возводит их
к тому эпизоду Ветхого или Нового завета, который явля-
ется их образцом. При этом все каноны одинаковы по сво-
ему построению и как бы параллельны друг другу, так что
по существу все они составляют один канон. Во время бо-
гослужения, например, не обязательно читать каждый из
них отдельно, можно читать сначала первые песни всех
канонов, затем все вторые песни и т. д. Обратим внимание
еще на одну связь парадигматического типа, организую-
щую канон, особенно его финал. Каждая из песен канона
обязательно должна заканчиваться строфой-обращением
к богородице (“богородичен”). В 9-й песне такой отдель-
ной строфы нет, но она вся “богородичен”. Получается,
73
что последние строфы каждой песни все вместе составля-
ют как бы одну песнь, параллельную 9-й. Вписываясь в об-
щую парадигматическую структуру канона, 9-я песня в ка-
честве финальной выделена тем, что только ее ирмос но-
возаветный, тогда как ирмосы отдельных 8-и песен - вет-
хозаветные.
Более архаична, а потому более контрастна в образ-
ном плане структура “Синайской псалтири”, но и здесь
вполне определенно первичными являются парадигмати-
ческие (иногда на грани с синкретическими) отношения,
типологически и генетически восходящие к параллелизму,
а отношения синтагматические, восходящие к тропу, -
вторичными9. Присмотримся к такому, например, харак-
терному месту: “Еко тысяшти летъ предъ очима Твоима,
Господи, и еко день вьраштьне иже мимоидеть и стража
ноштнае. Оуничижены будуть лета ихъ. Ютро еко трева
мимоидутъ, ютро процвету и преидетъ, на вечеръ отпа-
детъ, ожсстеетъ и исъхиет. Еко исконьчахомъ ся гневомъ
Твоим ь и яростью Твоею смясомъ ся” (65, 89, 4-7).
Создающее параллелистскую структуру четырехкратно
повторенное “еко”, сополагает выделенные таким обра-
зом фрагменты как однородные. Но замечательно, что са-
мо это “еко” в образно-смысловом плане двойственно: это
и союз (в том числе выражающий, холь и неуверенно,
причинные отношения), и сравнительная частица*0. Для
перевода этого места на современный русский язык11 по-
требовалось, во-первых, переводить “еко” то через “ибо”,
то через “как”; во-вторых, ввести дополнительные сравни-
тельные частицы там, где их в славянском тексте нет (“как
стража”, “как наводнением”, “как сон”); в-третьих, значи-
тельно более аналитически передать синтаксис фразы,
что существенно изменило ее смысл. “Югро еко трева ми-
моидутъ, ютро процвету и преидетъ, на вечеръ отпадетъ,
ожестеслъ и исъхнетъ” передастся так: “Они как сон, как
трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет,
вечером подсекается и засыхает”. Здесь опять одно и то
же слово - “ютро” переводится то как “сон”, то как “утро”;
вводится, как уже отмечалось, дополнительная сравни-
тельная частица “как” и отсутствующий в славянском тек-
сте союз “который”. Но самое главное: вместо “ютро еко
трева мимоидутъ, ютро процвету и преидетъ”, где именно
утро сравнивается с травой, а далее уже это утро-трава
74
Глава 2
цветет и преходит, переводчик ставит “как трава, которая
утром...” Совершенно очевидна и вынужденность такого
перевода, и его неадекватность образной структуре “Си-
пайской псалтири” именно потому, что он разрушает па-
раллелизм угра-травы, хотя уже и осложненный сравни-
тельным “еко”. Сравните и такое место с его переводом:
“Еще посъпитс мюждю пределы криле голуби посъребре-
не, и междюрамье его бълищани злате. Егда разньствуетъ
ТГбесыи царь на ней, оснежатъся въ Соломоуне” (65, 67,
14-15). “Расположившись в пределах своих вы стали как
(курсив наш. - С. Б.) голубица, которой (курсив наш. -
С. Б.) крылья покрыты серебром, а перья чистым золо-
том: когда Всемогущий рассеял царей на сей земле, она за-
белела, как (курсив наш. - С. Б.) снег на Селмоне”.
Такого рода переводы очень наглядно показывают, как
архаическая образность, при которой “стан красавицы нс
просто “подобен” пальме, но одновременно есть действи-
тельно ствол пальмы, по которому можно лезть вверх,
а сосцы ее груди неразличимо перепутались с виноградны-
ми гроздьями” (104, 290), - как такая образность соседст-
вует и начинает трансформироваться иной - риториче-
ски-метафорической. И происходит это не только в пере-
водах. В самой “Синайской псалтири” тропы, притом та-
кие аналитические, как сравнение, представлены необы-
чайно широко (напомним, что в “Слове о полку Игореве”
полных сравнений всего пять). Отметим также широчай-
шую распространенность такой образной конструкции,
которую в современной лингвистической поэтике называ-
ют метафорой-сравнением, подчеркивая в ней большую
расчлененность и аналитичность, чем в обычной метафо-
ре (177, 200-250): “олеи радости” (65, 44, 8), “хлебъ болез-
ни” (65, 126, 2), “вино оумиленье” (65, 59, 5), “жезъ досто-
ение” (65, 73, 2) и др.
Но может быть наиболее выразительно и первичность
парадигматически-параллелистской образной модели, и ее
своеобразное соотношение с синтагматически-тропеиче-
ской обнаруживает себя в акафистах. Так в русской версии
классического акафиста, приписываемого Роману Сладко-
певцу, - “Взбранной воеводе победительная” - исходным яв-
ляется парадигматический принцип, реализуемый в систе-
ме отождествлений богородицы. Развернуты они прежде
всего в догматической части акафиста - в хайретизмах.
75
Так, например, в шестом икосе читаем: “Радуйся, древо
благословеннолиственнос, имже покрываются мнози: ра-
дуйся, древо светлоплодовитое, имже питаются вернии.
Радуйся, покрове миру, ширшии облака: радуйся, земле
обетованная, из нея же течет мед и млеко. Радуйся, свет-
лый облаче, верныя непрестанно освещающий: радуйся,
столпе огненный, паставляяй избранные к небесному на-
следию. Радуйся, пиво, растящая обилие щедрот: радуйся,
подательница всякие благости.” (1).
Прежде всего перед нами именно отождествления: бо-
городица не сравнивается с землей, например, земля не
является метафорой или какой-либо другой формой ино-
сказания по отношению к богородице, напротив, прямо
утверждается, что богородица есть земля. Однако эта сис-
тема отождествлений - многослойна и разноприродна.
Древнейший пласт этой образной структуры - отождест-
вление богородицы с землей и тем, что на ней произраста-
ет (земля, нива, древо, цвет, купина), с водой и тем, что
с ней связано (источник, купель, баня, чаша, сосуд), с небом
(покров, облак) и огнем (столп огненный, купина неопали-
мая). Более поздний, но не менее важный пласт - отождест-
вления, связанные с ее посреднической ролью. Она медиа-
тор между7 землей и водой (мост, корабль, камень, напоив-
ший..; земля, из нес течет мед и млеко), а также между не-
бом и землей (древо, столп, лествица небесная и др.). Так
выявляется архаическое и архаизирующее христианские
представления тождество богородицы с землей и природной
плодовитостью, с водой (ср. мать-сыр a-земля), огнем, небом, а
также ее медиаторская роль между всеми ими и богом; наконец,
между богом и людьми. Эта универсально медиаторская роль
богородицы подчеркивается не только в догматической,
но и в исторической частях акафиста. Она - заступница,
ходатаи ца, бога с человеком соединившая; она - примиря-
ющая, охраняющая, защищающая, помогающая, спасаю-
щая, избавляющая, исцеляющая, очищающая и г. д.
Ио эта бытийно-природная и посредническая ипо-
стась богородицы - лишь первый из се смыслов. Природ-
ные образы, чтобы адекватнее отождествить богородицу,
должны для средневекового сознания подняться по лест-
нице смыслов и прссуществить свою “тварность”. Один из
способов осуществления этого - метафоризация изначаль-
но заданного тождества. Поэтому богородица нс просто
76
Глава 2
“древо”, “чаша”, “нива”, “баня”, а “баня, омывающая сквер-
ну”; “древо, услаждающее волны”, притом еще “волны мо-
ря житейского”; “чаша, черпающая радость” к тому же “из
источника бессмертия”; “нива, растящая обилие щедрот”,
и даже “одежда нагих дерзновения”. Во всех этих случаях
метафоризация осуществляется путем перенесения при-
знаков вещественных на невещественные. Показательно,
что в более поздних акафистах (“Акафист Пресвятой Бо-
городице в честь чудотворной иконы Ея Владимирской”
и “Акафист Персвятей Богородице в честь чудотворныя
иконы Ея Донские”) сохраняется та же в принципе образ-
ная структура, только количественно и качественно
уменьшается роль предметных уподоблений, а роль неве-
щественных и метафорических возрастает. Не останавли-
ваясь подробно на других способах пресуществления
“тварности” образа (оксюмороне, апофатических опреде-
лениях и т. д.), подчеркнем, что все эти сложно риториче-
ски украшенные и преизбыточно метафорические постро-
ения держатся именно па исходной системе отождествле-
ний и читаются только вместе с ней.
На протяжении всей эпохи рефлексивного традициона-
лизма литургическая поэзия была той областью, где консер-
вировались парадигматически-личные формы субъектно-об-
разной структуры. Вырастали они, как сегодня ясно, на це-
лой системе эстетических принципов создателей этой поэ-
зии, прежде всего на бытийной установке (101, 56), прима-
те общего над частным (102, 8) и субстанциальной концеп-
ции текста. Согласно последней, “слово само по себе рав-
няется обозначаемой субстанции, предмету; слово и бог
составлены из одной материи, и читать такой текст - зна-
чит войти в сферу влияния той же материи, так что раз-
ница между субъектом и объектом восприятия исчезает”
(253, 273). Но наряду с этой поэтической традицией
в XVII-XVIII веках складывается иная лирика, в субъектно-
образной сфере которой происходят изменения, в конце
концов приведшие к рождению неканонической поэзии.
На этой завершающей стадии эпохи рефлексивного
традиционализма парадигматические отношения, хотя
они продолжают оставаться исходными, уходят в проявля-
емые глубины художественного целого, тогда как на уров-
не выраженных форм преобладание получает личностная
рефлексия и условно-поэтические, а не бытийно-субстан-
77
циальные формы образности. Именно теперь впервые воз-
никает наряду с бытийной и субстанциальной концепцией
текста - концепция рационалистическая и критическая, по-
мещающая между словом и обозначаемым им предметом
субъекта (253, 274-283). Этот субъект, правда, совсем не но-
воевропейский тип личности, он не посягает на традицию
и на извечный порядок, но он может (как Иван Грозный, на-
пример) посягать “на особое место в этом порядке” (268,
78). В.О. Ключевский, говоря об Алексее Михайловиче, за-
метил, что “властный человек в древней Руси так легко за-
бывал, что он нс единственный человек на свете, и нс заме-
чал рубежа, до которого простирается его воля и за кото-
рым начинается чужое право и общеобязательное прили-
чие” (210, 111, 323). Видимо, этой границы еще и не было,
по крайней мере в поэзии XVII века “я” и “мы” еще недоста-
точно маркированы.
Мы уже отмечали, что парадигматически личные субъ-
ектные отношения литургической поэзии предполагали сла-
бую маркированность “я”, “мы”, “он” и что в XVII-XVIII ве-
ках сначала преодолевается немаркированность третьего ли-
ца (“он”). Но слабая маркированность “я” и “мы” сохраняет-
ся на всем протяжении эпохи рефлексивного традициона-
лизма, и выражается это в следующих фактах.
Прежде всего в книжной поэзии XVII века чрезвычайно
велика доля лирических высказываний, отмеченных личны-
ми местоимениями (“я”, “мы”, “я-мы”): 85,6% у поэтов нача-
ла века (Евстратий, Семен Шаховской, Иван Наседка, Иван
Хворостинин, Иван Катырев-Ростовский), 99% у версифи-
каторов приказной школы, 58,3% у Симеона Полоцкого
в “Рифмологионе”. Но при этом высказывание от “я” ведет-
ся крайне редко: оно вообще не встречается у поэтов нача-
ла века, в приказной школе дает лишь 5,2%, а в “Вертогра-
де многоцветном” и “Рифмологионе” соответственно 1,2%
и 8,3%. Только от “мы” высказывание строится гораздо ча-
ще - соответственно 28,6%, 21%, 12%, 41,7%. Но наиболее
часто встречаются высказывания, в которых в пределах од-
ного текста сочетаются субъектные формы “я” и “мы”:
57% у поэтов начала века; 78,6 - в приказной школе и
лишь у Симеона Полоцкого эта форма редка (8,3%), вос-
полняясь безличными типами высказываний.
Преобладающая тенденция, таким образом, статисти-
чески вырисовывается довольно четко: это высказывания,
78
Глава 2
при которых субъект речи предстает одновременно как
“я” и “мы” в пределах одного текста. Такая субъектная
форма определенно свидетельствует о слабой маркиро-
ванности “я” и “мы”. Восполняющим типом оказываются
высказывания, вообще субъектно не отмеченные (харак-
терные для Симеона Полоцкого). Одним из проявлений
этой же тенденции видимо следует считать высказывания,
при которых субъект речи обозначен не местоимениями,
а личными формами глагола - они играют заметную роль
у поэтов начала века и в приказной школе.
Более сложные формы высказываний единичны. У Ива-
на Катырсва-Ростовского мы встретили один случай взгляда
на “я” со стороны (“он”), но такой взгляд играет важную
роль в “большой форме” XVII века - в “Пентатеугумс” Анд-
рея Бялобоцкого (20%) и безымянной “Лествице к небеси”
(20%). Один случай представления субъекта речи в качест-
ве второго лица (“ты”) встречается в большой форме Пет-
ра Буслаева “Умозритсльство душевное”. Наконец, сложно
строится субъектная сфера в большой форме Стефана
Яворского “Embleimnata el siinbola” (“Символы и эмбле-
мы, сочиненные в память преосвященного, сиятельней-
шего и преподобнейшего отца Варлаама Ясинского”).
В первой части этого сочинения - в “Эмблемах” высказы-
вание дано от “я” героя - умершего Варлаама Ясинского,
причем оно сочетается с субъектной формой “мы” и без-
местоименными конструкциями. В двух последних эмбле-
мах (7 и 8) появляется безличный повествователь, для ко-
торого прежнее “я” становится третьим лицом. От этого
безличного повествователя дана и вторая часть - “Симво-
лы”. Здесь очевидна некоторая близость к характерной
для канона субъектной медиации. Вообще связь с традици-
ями литургической поэзии очень отчетлива не только
у Стефана Яворского, по и у Петра Буслаева, и в “Лестви-
це к небеси”, и у столь барочного поэта, как Андрей Бяло-
боцкий, и даже у Симеона Полоцкого, притом не только
в субъектном, но и в образном плане.
Правда, в литургической поэзии парадигматический
образный принцип был с самого начала откровенно задан
(вспомним отождествления богородицы в акафистах),
в книжной же поэзии XVII века он ушел с авансцены, ко-
торую заняли условно-поэтические образные структуры -
притом не только такие, как сравнение и метафора (с их
79
равновесием конкретного и абстрактного, 231, 434), но и
такие подчеркнуто абстрактные, как олицетворение, алле-
гория и эмблема (231, 430-431). Но неизживаемая до конца
под самыми изощренными метафорами и эмблемами суб-
станциальность - существенная черта барочного образа рус-
ской поэзии этого времени, связанная с его переходной
природой. Так, за риторическим уподоблением жены - яб-
локу (“Тому леть яблоку жену подобити”) у Симеона Полоц-
кого, явно просматривается их параллелизм: “Оле жены
льстивы! О яблока лестна!” Между таким образом и, предпо-
ложим, известным местом о плачущей жене из “Сказания о
Мамаевом побоище” - разница огромная. Ведь в последнем
жена - это сама мать-сыра-земля, “ни о каком “олицетворе-
нии”, измышленном абстрактном уподоблении и речи тут
быть нс может: земля для древнерусского народно-языческо-
го сознания, как и для древнеэллинского, была доподлин-
ной матерью, без всяких аллегорических натяжек” (269,
198). У Симеона Полоцкого здесь есть и аллегорические на-
тяжки, но есть и неизжитые следы былой субстанциально-
сти, так же, как, например, у Андрея Бялобоцкого:
Розжми, аде, рот собачий, покажи страсти гегены.
Цербере, з нуры выскочи, троезубный псе бесенный (64, 231),
где метафорой “рот собачий” (ада) проглядывает древнее
тождество ада с глоткой Цербера. В другом его описании
явно сквозит древняя метаморфоза:
Темна, вечна ночь восстанет, солнце з далека обходит.
Туман мрачный ад сполняет, дым в очах болести родит.
Проказ страшных умножится, жильцы убо подземный
Сами в мрак, в дым претворятся, всп в аде заключении (64, 234).
Часто эмблемы и символы Стефана Яворского тоже
пробиваются к архаическому языку параллелизма:
Светлост свещи, проходя сквозе сосуд склянный,
множится и болшия осязает страны.
Варлаам свет смерти ума чистотою
прием и зело того умножи собою (64, 261).
Это и понятно. Ведь метафористика и эмблематика ба-
рокко - нс самоцель. Как и сравнение, они должны приве-
сти к “установлению параллельности явлений” (306, 81).
Эмблемы, метафорическая перифраза, непомерно разрос-
80
Глава 2
шаяся вторая часть сравнения, заменившая собой ее пер-
вую часть - все это, как показывает исследование, прояв-
ление барочного принципа “отражения”, косвенной под-
становки, восходящей к незабытой и неизжитой символи-
ке, а через нее - к архетипу параллелизма (306, 78-79).
Русский XVIII век тоже тесно связан с барочной тради-
цией, начиная с Тредиаковского и Ломоносова и кончая
Державиным. Присмотримся сначала к преемственности
и к новациям в субъектной сфере. Высказывания, отме-
ченные личными местоимениями 1-го лица, дают теперь
следующую картину.
Автор от “я” от “мы” от “я-мы” Всего
Тредиаковскнй 34% 17% 19% 70%
Ломоносов 18,9% 31% 17,2% 67,1%
Сумароков 38% 7% 17% 62%
Хемницер 18,9% 11,1% 32,3% 62,3%
Державин 25% 16% 21,5% 62.5%
Сравнивая эти данные с показателями XVII века, мы
видим следующее. Прежде всего, доля высказываний, от-
меченных личными местоимениями, у поэтов XVIII века
ниже, чем у их предшественников. По если в XVII веке
роль высказываний от собственно “я” была крайне незна-
чительной (наибольшей у Симеона Полоцкого - 8,3%), то
теперь именно эта форма делает качественный скачок,
поднимаясь в среднем до 26,9%. Одновременно уменьша-
ется значение высказываний от “я-мы”, а следовательно,
их немаркированность - последний остаток субъектного
синкретизма - начинает проблсматизироваться. В свое
время Б.О. Корман утверждал, что в одах Тредиаковского
и Ломоносова функции субъекта “являются общими для
личного субъекта сознания, обозначаемого местоимением
“я”, и обобщенно-личного сознания, обозначаемого место-
имением “мы”. У личности нет здесь ничего, что отличало
бы се от “мы” (215, 15). Еще раньше подобное обобщение
было сделано над образным строем Ломоносова: Л.В. Пум-
пянский писал о характерном для него “парадоксальном
сочетании крайней общности с крайней же бытовой еди-
ничностью. “Молчите, пламенные звуки, И колебать пре-
станьте свет” переводится: “пусть умолкнут артиллерий-
ские орудия”. II далее исследователь замечает: “Это не
81
единство общего и единичного, а (в пределе) полное их
неразличение, крайний случай догматического (докрити-
ческого, докантовского. - С. Б.) мышления эпохи” (285,
31). Положения Б.О. Кормана и Л.В. Пумпянского могут
быть приняты лишь с поправкой на то, что нерасчленен-
ность “я” и “мы” в этих художественных системах уже про-
блематизирована и является в той или иной форме пред-
метом рефлексии, в чем мы убедимся, рассмотрев “Разго-
вор с Анакреоном”.
Окидывая теперь общим взглядом эволюцию субъект-
ной структуры русской лирики эпохи рефлексивного тра-
диционализма, мы видим, во-первых, ее парадигматиче-
ски личный характер; во-вторых, постепенное отслоение
от этой парадигматической основы разных субъектных
форм - сначала отказ субъекта речи смотреть на себя со
стороны (как на “он”), затем уменьшение доли и пробле-
матизация единства “я-мы”, подводящая к границе субъ-
ектного синкретизма. В-третьих, возрастание роли лири-
ческого “я”. Мы в преддверии рождения в русской лирике
не синкретического и не парадигматически личного, а ав-
тономного и самоценного субъекта. Кризис и проблемати-
зация прежней системы субъектных отношений, высвобо-
ждение “я” из “иносубъектных” оболочек - оказываются
чреваты разными возможностями. Одна из них - тенден-
ция к монологическому самодовлению “я”, отмечаемая ис-
следователями в европейской литературе (349; 354), но ха-
рактерная и для русской литературы XVIII века. Приме-
ром другой возможности является “Разговор с Анакрео-
ном” Ломоносова, в котором Б.О. Корман видит предвес-
тие диалогических форм русской лирики XIX века.
Анализ этого диалога приводит исследователя к выводу
о неабсолютпости позиций его участников - “Анакреона”
и “Ломоносова”, ибо каждый из них допускает для себя воз-
можность иной творческой программы, хотя и предпочита-
ет данную. При этом отвергаемая “Ломоносовым” позиция
не безусловно плоха, по крайней мере, она предпочтитель-
нее ригористической установки Сенеки. По существу же,
считает Б.О. Корман, “Разговором” утверждается третья по-
зиция: колебания, сомнения, выбора, и именно она сотво-
рена самой композиционной формой диалога. В то же вре-
мя исследователь подчеркивает существенное отличие “Раз-
говора с Анакреоном” от более поздних художественных
82
Глава 2
явлений этого типа: “Разница здесь качественная (даже ес-
ли сравнивать не с поэтическим многоголосием, а с диало-
гическими формами в русской лирике XIX века)”. Это от-
личие состоит прежде всего в том, что у Ломоносова “про-
тивостоящие друг другу позиции разведены, они разные
роли, разные партии в диалоге” (215, 20).
Но что же за позиции разведены здесь, хотя и разведены
неабсолютно? Ответ очевиден: это те же “я” и “мы”. Действи-
тельно, не подлежит сомнению личная окраска спорящих го-
лосов - “Анакреона” и “Ломоносова”, и в этом отличие “Раз-
говора” от од Ломоносова, в которых по остроумному заме-
чанию Вяч. Вс. Иванова, аноним обращен к псевдониму
(204, 175). Но личностность здесь неотделима от стоящего
над именами более общего плана. “Анакреон” вписан в диа-
логе в парадигму “певец любви”. “Ломоносов” (наряду с дру-
гими именами - “Сенека”, “Катон”) - в иную парадигму: “пе-
вец славы”. Таким образом, личноименная коллизия “Ана-
креон-Ломоносов” принимает форму коллизии между лю-
бовью как сферой личного и славой как сферой общего.
Эта коллизия, известная уже рыцарскому роману (257, 30
и др.) и средневековой лирике и унаследованная Петрар-
кой (символизировавшим ее в образах Лауры и лавра,
148), была, как известно, ключевой и в классицизме - бли-
жайшей традиции, от которой идет Ломоносов.
Итак, в “Разговоре” разведены, хотя и неабсолютно, “я” -
личное, любовь, “Анакреон” и - “мы”, общее, слава, “Ломо-
носов”. Причем, в каждом из этих со-противопоставлений
имя (например, “Анакреон”) и то, что стоит за ним (лю-
бовь), хотя и входят в одну парадигму (“личное”), но входят
непрерывно рефлексируя. Рефлексирует над своей позици-
ей сначала сам “Анакреон” (“Мне петь было о Трое”), затем
“другие” - пытающиеся “окликнуть” его - “девушки” (дающие
ему зеркало, глядя в которое он должен, по мифологической
логике, смотреть в инобытие), “Катон” (опять же видящий
героя в зеркале!), наконец, сам “Ломоносов”. Едва ли не бо-
лее рефлексивна позиция “Ломоносова”. Помимо самореф-
лексии, от исходной позиции певца славы отслаиваются
и отвергаются (“Сенека”) или неполностью принимаются
(“Катон”) разные героические установки. Но самое важное
то, что и “Ломоносов” оказывается в художественном целом
диалога лишь одним из героев-голосов, то есть выступает как
“другой” по отношению к первичному автору.
83
Уже такая субъектная постановка героя, отделенного
от первичного автора, не дает нам возможности иденти-
фицировать позиции “Ломоносова” и Ломоносова (хотя
не дает нам и только противопоставлять их), заставляя ис-
кать собственно авторскую интенцию в самом соположе-
нии голосов. Для целей нашего исследования чрезвычай-
но важно, что подобная субъектная структура имеет изо-
морфное собственно образное воплощение в завершаю-
щем диалог творческом споре-описании.
“Анакреон” описывает свою возлюбленную. “Ломоно-
сов”, как заметил Л.В. Пумпянский (не отличавший, одна-
ко, автора от героя), “создает из накопленного им же “ели-
заветина” материала” - эротизированный образ женщи-
ны-России (285, 26). Если же смотреть не на каждое сти-
хотворение отдельно, а увидеть их как художественную це-
лостность, то станет ясно, что в их совокупности оживает
древний параллелизм женщины-страны:
Напиши любезну мне - Изобрази Россию мне.
И если дальше действительно возникает эротизиро-
ванный образ женщины-России (от которого, как замече-
но, идет Державин, 285, 26, но, добавим, в какой-то мере
и Пушкин, и Некрасов, и - особенно - Блок), то он оказы-
вается развитием заданной параллели и без нее был бы не-
возможен (правда, минимальная дополнительность жен-
щины-страны есть у самого “Ломоносова”, но в пределах
его голоса Россия выступает только как “мать”, отнюдь не
как возлюбленная - действительно “эротический” мотив в
диалог входит лишь благодаря указанному параллелизму).
Получается, что древний параллелизм-тождество возвра-
щается в лирику разделенный на разные голоса, и только в сово-
купности этих голосов он является именно параллелизмом. Вну-
три одного голоса - того же голоса “Ломоносова” - он
стремительно теряет свой архаический и субстанциаль-
ный характер и превращается в условно-поэтический об-
раз - аллегорию или эмблему. Так у истоков новой русской
лирики выявилась глубокая внутренняя взаимосвязь струк-
туры образа и позиции субъектов: и субъекты, и оба чле-
на параллели, во-первых, сошлись как самостоятельные
начала, а во-вторых, оказались разделенными и невмести-
мыми в пределы одного сознания. Здесь они нсвместимы
еще буквально, но ведь этот диалог стоит в преддверии
новой русской лирики.
84
Глава 2
В интересующем нас сейчас плане роль Державина, за-
вершающего “ломоносовский период”, заключалась в том,
что он, подхватив эротизированный образ женщины-Рос-
сии (285, 26), сделал лирическое “я” (а не “другого” - “Ана-
креона”) ее собеседником. Это лирическое “я”, однако,
было весьма своеобразно. С одной стороны, замечено,
что “традиционное одическое “я” приобретает у Держави-
на сложную конкретность, ранее ему не свойственную”
(296, 82). Мало того, как показал Г.А. Гуковский, “до Дер-
жавина поэта как образного единства не знали” (181, 208).
Но с другой стороны, это конкретное “я”, уже не раство-
ряющееся в “мы” (296, 82), еще не новоевропейский само-
ценный и автономный субъект. Замечено, что державин-
ское “я” включает в себя “мы”; в “Фелице”, например, “я” -
это целая галерея портретов (296, 82). Такая постановка
субъекта и дала возможность Державину “лирически вос-
певать свою эпоху как свою жизнь” (299, 142).
В этом контексте приобретает глубокий смысл шутка
поэта, связанная с обнаружением “другого” Державина:
“Един есть бог, един Державин...” Державинское “я” дейст-
вительно едино как “бог“, то есть парадигматически еди-
но, так что его единство не исключает множественности.
Такое субъектно-образное единство в последний раз уда-
лось русской лирике именно у Державина. Поэтам, кото-
рые выступили после него, приходилось искать иных
форм единства “я” и “другого”12.
СУБЪЕКТНО-ОБРАЗНАЯ СТРУКТУРА
РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИРИКИ
XIX ВЕКА
Глава
1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Русская классическая лирика как художествен-
ная система и особого рода целостность рождается в пред-
пушкинскую и пушкинскую эпохи. Прежде, чем очертить
ее завершенные формы, проследим, как она начинала
складываться. Точкой отправления нам послужит субъект-
ная структура лирики первой и второй половины XIX ве-
ка (таблицы № 1 и № 2).
В субъектной организации русской лирики XIX века
по сравнению с XVIII веком заметны четыре взаимосвязанных
процесса. Во-первых, продолжающееся уменьшение доли
и значения высказываний от лица “я-мы”. Эта субъектная фор-
ма, господствовавшая в XVII веке, игравшая важную роль в
XVni веке (21,4% в среднем) и свидетельствовавшая о слабой
маркированности “я” и “мы”, теперь все более уступает свои
позиции, падая в первой половине XIX до 13,1%, во второй -
до 9,4%, а в начале XX века до 7,9%. Параллельно этому идет
второй процесс - прогрессирующее возрастание значения по
вествования от “я”: XVIII век - 26,9%, первая половина XIX ве-
ка - 34,8%, вторая половина - 48,1% (это пик данной формы,
в начале XX века она уже несколько снижается - 43,7%).
Едва ли не важнее третий процесс, еще более четко ста-
тистически выраженный: резкое возрастание роли такого
типа высказываний, при котором субъект речи смотрит на себя
86
Глава 3
со стороны как на “другого” (как на “ты”, “он”, обобщенно-не-
определенного субъекта, выраженного инфинитивом и на-
речием, как на состояние, отделенное от его носителя). Иг
равшая, как мы уже отмечали, важную роль в эпоху рефлек-
сивного традиционализма (но входившая в сферу ее субъект-
ного синкретизма), эта субъектная форма в XVIII веке соста-
вляла всего 4,4%. В первой половине XIX века она делает
мощный рывок вперед - 31,2% (доходя в некоторых случаях,
например, в “Сумерках” Баратынского до 72%!), а затем про-
должает неуклонно подниматься: 36,1 % во второй половине
XIX века и 50,4% в начале XX века.
Собственно перед нами статистическое отражение изжи-
вания субъектного синкретизма, прогрессирующего возрас-
тания роли личного начала и рождение нового качества са-
моощущения субъекта, стремящегося видеть себя со сторо-
ны - как “другого”. Последняя тенденция выступает как про-
тивоположная и дополнительная первой: отказ от абстракт-
но-канонического единства “я” и “другого” в лоне всеобщего
“мы” сопровождается соотнесением “я” с “другим” - пока
в пределах самоощущения личности. Этот факт свидетельств
вует также о том, что в лирике принципиально невозможно
изолированное “я”: оно всегда существует только в единстве
с другими субъектными формами. Важнейшей приметой ли-
рики XIX века следует считать то, что теперь основные ин-
тенции “я” направлены не на “мы”, а на “другого”, о чем го-
ворит и четвертый процесс: возрастание роли синкретиче-
ских и собственно диалогических форм высказывания.
Речь идет не о композиционных формах диалога - обмене
репликами или односторонней рсплицированности лириче-
ской речи: эта сторона лирики как раз отличается редкой ста-
тистической устойчивостью на протяжении XVIII-XX веков
(20,7% в ХУШ веке, а в первой, второй половине XIX и нача-
ле XX века соответственно 24,4%, 21,8%, 20,9%). Мы же име-
ем в виду разные типы субъектного синкретизма, несобствен-
ную прямую речь, игру точками зрения, голосами и интенция-
ми, ролевые стихотворения, разные формы использования
“чужого” слова. Такие формы высказываний, по нашим подсче-
там, в XVIII веке давали лишь 1,1%. В первой половине ХЕХ ве-
ка происходит качественный скачок - 10%, во второй - 11,6%,
в начале XX века - второй качественный скачок - 30,2%.
Следует заметить, что помимо всего сказанного выше,
важнейшую роль в XIX веке играет трудно поддающееся
87
учету и нами не просчитанное использование реминисцен-
ций, являющееся (особенно у Пушкина) едва ли не ведущим
способом диалогизации лирики. С учетом этого приведен-
ные нами показатели встречаемости диалогических форм
высказывания следует считать существенно заниженными.
Но даже они говорят со всей очевидностью о вхождении
в русскую лирику не только такого “я ”, которое умеет видеть се-
бя со стороны (как “другого”), но и реального “другого”.
Описанные процессы помогают лучше понять то явле-
ние, которое Н.Я. Берковский называл “лирикой чужого
я” и которое он считал выражением национального свое-
образия именно русской лирики (129, 172). Становится яс-
но, что под “лирикой чужого я” ученый понимал прежде
всего ролевую лирику, почему он и начинал ее историю с
Лермонтова, а затем называл имена Некрасова и Блока
(129, 172-173). Все, что говорит ученый по этому вопросу,
неоспоримо, но явление, к которому он подошел, - лишь
одна грань процесса диалогизации лирики, получившего
свои первые завершенные формы уже у Пушкина.
Описанный нами феномен родственен и “поэтическому
многоголосию”, изучаемому Б.О. Корманом и его ученика-
ми, но опять-таки не идентичен ему. Ведь Б.О. Корман под
“поэтическим многоголосием” понимает те “явления в ли-
рике, которые соответствуют несобственно-прямой речи
в эпосе” (214, 157), а потому ученый должен начинать его ис-
торию с Некрасова, у которого эти явления впервые начали
играть заметную роль. Но несобственная прямая речь и ее
лирические отражения и аналоги, так же, как ролевая лири-
ка, лишь частный случай более широкого процесса диалоги-
зации лирики, получившего свои первые завершенные фор-
мы не у Некрасова или Лермонтова, а у Пушкина, но подго-
товлявшегося исподволь уже с конца прошлого века.
2. СТАНОВЛЕНИЕ
СУБЪЕКТНО-ОБРАЗНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ
РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИРИКИ
Особую роль в вызревании новых начал сыграла
лирика Н.М. Карамзина, K.IL Батюшкова и В А. Жуковского.
Именно у Карамзина впервые взгляд субъекта речи на се-
бя со стороны - как на “другого” - делает после XVIII века
качественный скачок (с 4,4% до 34,7%), оказываясь даже
88
Глава 3
выше среднего показателя для первой половины XIX века.
У него же впервые резко падает доля высказываний от
“я-мы” - вдвое по сравнению с XVIII веком. Вообще проте-
изм субъекта речи оказывается у Карамзина осознанным
принципом, достаточно указать на “Протей, или несогла-
сия стихотворца” (1798) или столь же программную вещь
“К самому себе” (1795), в которой проигрываются всевоз-
можные варианты оглядки говорящего на самого себя. На-
чинается стихотворение с эмоционального, но еще субъ-
ектно не привязанного к определенному лицу восклицания:
“Прости, надежда!., и навек!”. Затем возникает отделенное
от субъекта состояние (“сердце”), которое вскоре обретает
своего носителя (“душе моей”). И сразу же после этого воз-
никает взгляд на новообретенного субъекта со стороны -
как на “он” (“слабый человек”), чтобы тут же обернуться
вторым лицом (“Что станешь делать?.. Что пользы?.. Рока
и небес Не тронешь ты своей тоскою”). И только после это-
го в тексте появляется “я”, но вслед за вводящим его фраг-
ментом идет сравнение, опять дающее взгляд на субъекта
речи со стороны (“Так некий зодчий...”). Показательно, что
такое же протеическое опробование сразу всех форм пред-
ставления субъекта речи мы встречаем в прозе Карамзина:
“Расстался я с вами, милые, расстался!.. О сердце, сердце!
Кто знает, чего ты хочешь? Нс с удовольствием ли засыпал,
думая: ты поедешь?.. Минуты, в которую мы прощались...
Колокольчик зазвенел, лошади помчались, и друг ваш оси-
ротел в мире” (“Письма русского путешественника”).
Поэт, однако, идет дальше. Едва ли не впервые в рус-
ской литературе он с одинаковой убедительной силой вос-
певает то, что казалось взаимоотрицающим, например, ес-
тественное состояние и цивилизацию (“Протей...”), а так-
же демонстрирует “возможность рассказать об одном
и том же с диаметрально противоположных точек зрения”
(“Кладбище”). Ю.М. Лотман по этому поводу замечает, что
окружающий поэта мир “и он сам не умещаются в грани-
цы логических антитез” (234, 32), что мир Карамзина на-
ходится “прежде всего вне теорий и теоретического мыш-
ления. Это обычная жизнь” (234, 33). Перед нами одна из
первых в новой русской лирике реакций на рационализм,
одна из первых “критик отвлеченных начал”.
Разведенные по голосам реплики “Кладбища” заранее
нс предполагают возможности логического синтеза, их
89
единственное обоснование в том, что есть два таких взгляда
на мир. Так же логически не примирены война и любовь
в стихотворении “К Мслодору в ответ на его песнь любви”
(1795) или героизм и гуманизм в “Военной песне” (1788).
Эти противоположности просто существуют, и в стихотво-
рении “К Мслодору...” эту бытийность наивно и лукаво под-
черкивают прозаические примечания.
Когда бледнеет все в подлунном мрачном мире
И жертвы плавают в дымящейся крови.
Тогда, о Мелодор! на кроткой нежной лире
Играя, ты поешь о сладостях любви?
К двум первым строкам сделано примечание: “Тогда
была война”.
Но нет! играй и пой, любезнейший Орфей!
Поет и в страшный гром на миртах соловей!
Эти строки имеют примечание: “Сии стихи писались
во время грому - и в самую ту минуту пел соловей”.
Мы помним, что Л.В. Пумпянский отмечал в ломоно-
совском образе парадоксальное сочетание крайней общ-
ности с крайней же бытовой единичностью и считал не-
различение этих начал проявлением докритического, до-
кантовского мышления. У Карамзина - картина обратная.
Перед нами образец критического мышления, для которо-
го общее (“Когда бледнеет все в подлунном мрачном мире
И жертвы плавают в дымящейся крови”) и конкретное
(“Тогда была война”), метафорическая перифраза и неук-
рашенное (“нестилевое”) слово не просто перестали быть
неразличимыми, но превратились в художественные анти-
номии, исключающие (почти пародийно) друг друга, но
и поставленные рядом, хотя бы в форме текста и приме-
чаний к нему. Когда Пушкин иронизировал над перифра-
стическим стилем карамзинистов и спрашивал, “зачем не
сказать просто лошадь” (60, V, 10), то эта пародийная ре-
плика уже имела своим предшественником прозаические
примечания самого Карамзина.
По существу мы подошли к антонимичности самой об-
разной системы поэта. Стало общепринятым мнение о гос-
подстве в карамзинистском стиле “условных перифраз и от-
влеченных описательно-метафорических выражений”
90
Глава 3
(152, 132). С другой стороны, замечено, что “Карамзин чу-
ждался картинности стиля, нарочито избегая метафор...
На фоне поэзии Державина лирика Карамзина должна бы-
ла производить впечатление обедненной. Но... эта наро-
читая “бедность” входила в замысел автора” (234, 30-31).
В другом месте исследователь говорит о карамзинском
требовании художественной простоты и об эстетике “от-
казов” - “неупотреблении привычных читателю художест-
венных средств”, “минус-приемах” (234, 38). Обе отмечен-
ные и антиномичные по отношению друг к другу стороны
образной системы совмещены в поэтике Карамзина, как
совмещены в ней выделившиеся из ломоносовской нераз-
личимости общее и единичное и протеически изменчи-
вые субъекты авторского плана.
Как следует интерпретировать приоткрывшуюся нам
в поэтике Карамзина субъектную и образную ситуацию?
В исследованиях, посвященных стилю Карамзина и карам-
зинистов, высказана мысль, что ему еще недостает орга-
ничности, что широта здесь граничит с отсутствием “глу-
бокого внутреннего семантического центра, вокруг кото-
рого группировались бы все эти разнородные фразеологи-
ческие серии” (152, 139), и даже граничит с эклектизмом
(234, 12). С учетом принятого нами субъектно-образного
критерия к сказанному следует добавить, что широта, кажу-
щаяся неорганичность и эклектизм связаны у Карамзина -
и это впервые в русской лирике - с отказом от центральной
установки всякого традиционалистского и канонического
искусства, от предпосылки исходного единства. В данной ху-
дожественной системе единство предстало уже изначально
различенным, критически оцененным и принявшим форму
антиномии, и такой вывод хорошо согласуется с описанны-
ми особенностями поэтики Карамзина - с его отталкивани-
ем от рационализма и всякой предвзятости, со стремлением
поставить поэзию “вообще вне системы заранее данных оп-
позиций и норм” (234, 29), с отказом от абстрактно-канони-
ческого принципа формотворчества и заменой его бытий-
но-субъектным. Ощущение же неорганичности и чуть ли
не эклектизма его стиля связано со своеобразием субъект-
ной ситуации в лирике Карамзина.
Дело в том, что утвердив бытийно-субъектный прин-
цип образотворчества поэт (как заметил Г.А. Гуковский
о М.Н. Муравьеве), создал систему уже субъектную, но еще
91
пе индивидуальную (181, 284), не знающую еще художест-
венного лица, которое своей поэтической судьбой так или
иначе разрешало бы бытийные противоположности, во-
площенные в образных антиномиях. Не случайно именно
параллельно с Карамзиным (Н.М. Муравьев) и стадиально
после пего (К.Н. Батюшков, В.А. Жуковский) идут поиски
такого лица - формируется лирический герой (215, 30).
Появление в русской поэзии лирического героя - но-
вой формы бытия лирического субъекта - связано с глубо-
кими изменениями во всей субъектно-образной системе
поэзии. Впервые со всей отчетливостью они обнаружива-
ются у К.Н. Батюшкова.
Еще Г.А. Гуковский заметил, что у Батюшкова “все эле-
менты поэтики (и сама тема) призваны характеризовать
субъект, а не объект поэзии”. Ему же принадлежит тонкое
наблюдение: в поэзии Батюшкова “два субъекта: душа са-
мого поэта, темная и трагическая, и душа его идеала, свет-
лая и жизненная. Вторая из них - это тоже субъект его по-
эзии, так как пе о ней говорится, а от ее лица говорится”
(183, 168). Это второе “я” тяготеет, как показано ученым,
к своеобразной объективации, к выходу “за пределы инди-
видуальной отъединенности одного духа от другого” (183,
171). Здесь прекрасно схвачены едва ли не важнейшие осо-
бенности лирического “я” поэта: во-первых, двусубъект-
ность этого “я”; во-вторых, то, что субъектом у Батюшкова -
и в этом качественное отличие его от всех предшествующих
русских поэтов - является именно дух (а не “душа”), то есть
последняя смысловая позиция личности, если воспользо-
ваться формулировкой М.М. Бахтина; в-третьих, то, что пе-
ред нами герой в необычном и только теперь рождающем-
ся смысле - он не объект изображения, а субъект его.
От лица такого субъекта дается лирическое высказыва-
ние в знаменитой “Вакханке” (1814-1815). Показательно,
что в “Переодеваниях Венеры” Парни, с которыми тема-
тически связана “Вакханка”, высказывание было дано от
третьего лица, а потому введение “я” - осознанный акт Ба-
тюшкова. Это “я” принципиально отлично и от традици-
онного жанрового автора, и от карамзинского протея, хо-
тя оно и есть одно из превращений авторского “я”. Преж-
де всего субъект речи максимально удален от эмпириче-
ского автора (294, 31-32) и является античным героем -
участником вакхической пляски. Но это и нс ролевое “я”,
92
Глава 3
а “я” идеала, преодолевающее, как было замечено, “инди-
видуальную отъединенность одного духа от другого”. Соб-
ственно изображенная в стихотворении вакхическая пля-
ска и есть неистовый и стихийный порыв к преодолению
этой отъединенности.
Не случайно пляска дана в образах стихийного потока:
влаги (текли, плеск, тает, льет), перевивающегося расти-
тельного изобилия (взвивали, перевитые, свивали, обви-
тый, но также: плющом, клубком, хмеля желтого венцом;
наконец, розы, “завой” которых воскреснут у Фета, и ви-
ноград, который не только завивается, но и растекается -
“тает”). Третий образный ряд, открывающий и завершаю-
щий стихотворение, - вакхический шум, разносимый вет-
ром: вой, стоны, плеск, громкий вопль и раздающееся
в роще “Эвое! и неги глас!” Все это создает на первичном
образном уровне ту растекающуюся дионисийскую цель-
ность, которая на субъектном уровне проявляется в пре-
вращении авторского “я” в субъекта вакхической пляски.
На более глубоком образном уровне проигрывается то
же превращение. Перед нами отнюдь не аллегория, какой
она была у Парни (294, 33), и даже нс метафорическая об-
разность (хотя и она имеет место). Как заметила И.И. Се-
менко, Батюшков вводит миф “как элемент античного ми-
росозерцания” (294, 33). Мифологическая метаморфоза
и становится определяющим, хотя и не сразу заметным
образным принципом “Вакханки”. Присмотримся к следу-
ющему месту, выделенному и уникальным для стихотворе-
ния четырехкратным повторением рифмы: “Эвры волосы
взвивали, Перевитые плющом, Нагло ризы поднимали
И свивали их клубком. Стройный стан, кругом обвитый
Хмеля желтого венцом, И пылающи ланиты Розы ярким
багрецом, И уста, в которых тает Пурпуровый виноград...”
В этом фрагменте шаг за шагом нарастает синкретиче-
ская нерасчленснность и метаморфичность. Уже образ
“волосы.., перевитые плющом”, несет в себе некоторую
нерасчленснность: плющ - это то, чем перевиты волосы,
или волосы - это и есть перевитый плющ? Благодаря тво-
рительному падежу такую же семантическую двузначность
приобретают и “клубком”, “венцом”, но особенно - “И пы-
лающи ланиты Розы ярким багрецом”. Здесь уже самый
настоящий творительный метаморфозы: ланиты не срав-
ниваются с розой (точнее “багрецом розы”), а превраща-
93
ются в них, подготавливая тонко замеченное Г.А. Гуковским
превращение губ вакханки в виноград (183, 102). Таким об-
разом, Батюшков нс просто использует античный миф - он
воспроизводит его образную структуру и едва ли не первый
в русской поэзии овладевает самим языком другой культу-
ры - привилегия, которая обычно приписывается Путпкину.
Тем не менее разница в этом плане между Батюшковым
и Пушкиным - очень существенна. И заключается она пре-
жде всего в соотношении у обоих поэтов “я” и “другого”.
Батюшковскос “я” - дух, и как дух библейский, он ды-
шит, где хочет, преобразуя все, к чему прикасается. В каче-
стве духа это “я” может созерцать себя со стороны - как “он”
или лирического героя, стоящего на грани с лирическим
персонажем (“античным” или “северным”, 294, 29 и 38-39),
и в то же время не превращаться в объект, а оставаться
субъектом. Точнее было бы сказать, что он не может не со-
зерцать себя со стороны, ибо прямое представление “духа”
невозможно, мыслимо только косвенно-символическое его
проявление. Такая постановка субъекта влияет па образную
структуру батюшковской лирики, порождая се тяготение
к особого рода символической вещественности-невещест-
венности (294, 45-47), превращая предметный мир и друго-
го человека в формы косвенного изображения “я”.
Таково, например, “Воспоминание (Я чувствую, мой
дар в поэзии погас)” (1815). Хотя стихотворение начина-
ется прямо от “я”, состояния субъекта речи все время от-
деляются от него и предстают в виде неких субстанций
(“опытность”, “гений”, “скорбь”, “глас любви” и др.), даю-
щих возможность косвенного взгляда на “я”. Символиче-
ским изображением “я” оказывается и пейзаж. “Пустыня”,
“бесплодные поля”, (непроходимы сени” - это, конечно,
“пейзаж души”, именно в ней “счастья нет следов”. И все-
таки точнее было бы сказать не “пейзаж души”, а “пейзаж
духа”, ибо речь идет не просто о внутреннем мире, а о ми-
ре внутреннейшем, о таких глубинах души, на которых “я”
не совпадает с самим собой (“Пет, нет! себя не узнаю Под
новым бременем печали”). И это несовпадение подчерки-
вается сравнением, теперь уже окончательно дающим
взгляд на субъекта речи со стороны: “Как странник, бро-
шенный на брег из ярых волн...”
Пе случайно именно сравнение (самый аналитический
из тропов) избрано здесь в качестве содержательной фор-
94
Глава 3
мы, доводящей до предела отстранение субъекта речи от
самого себя. Обратим внимание и на то, что образ стран-
ника, появившийся в сравнении, - одна из постоянных
формул, которыми пользуется в стихах Батюшкова субъ-
ект речи, рассматривая себя со стороны (эти формулы
очень устойчивы и немногочисленны: поэт, безвестный
певец, любимец Киприды, странник, твой друг). И в на-
шем стихотворении вслед за приведенным фрагментом
вводится взгляд на субъекта речи со стороны - именно как
на “странника”, уже без опосредующей условности сравне-
ния (“С печальным странником он неразлучен стал”, “Ты
часто странника задумчивость питала”).
Так возникает тонкая взаимообусловленность субъект-
ной и образной структуры стихотворения: одно и то же сло-
во (“странник”) становится и субъектно (“я” - “он”)
и образно неоднозначно, обретает различную поэтическую
модальность13 и проводится по разным смысловым уровням
стихотворения. В исследованиях по лингвистической поэ-
тике замечено, что подобное дублирование объекта сравне-
ния в других фрагментах текста приводит (уже у Вяземско-
го - младшего современника Батюшкова) к “взаимопроник-
новению двух планов изложения - компаративного и бы-
тийного. Лексическое дублирование... активно участвует
в видоизменениях лирического сюжета, создавая, наряду
с другими приемами, особый образный рисунок, при кото-
ром лирический герой приобретает как бы свое зеркаль-
ное отражение, как бы раздваивается, получая возмож-
ность посмотреть на себя со стороны” (258а, 105). Своеоб-
разие Батюшкова заключается в том, что у него нет одно-
значно бытийного плана. Рядом с компарацией у него сто-
ит, дублируя объект сравнения, не “простое” слово, а про-
стая перифраза (“странник”). Возникает эффект поэтиче-
ской относительности: на фоне сравнения такая перифра-
за звучит почти как неукрашенное слово, но сама по себе
она не похожа на те же карамзинские прозаизмы. Собст-
венно, Батюшков снимает карамзинские антиномии за
счет поэтизации слова и создания гармонии слов, но так-
же за счет особого рода поэтической относительности.
Рассмотрим последнюю на примере послания “К Тас-
су” (1808). Субъект речи здесь с самого начала смотрит на
себя со стороны - как на “он”, и это оказывается непо-
средственно связанным с образным языком:
95
Позволь, священна тень, безвестному певцу
Коснуться к твоему бессмертному венцу
И сладость пения твоей авзонской Музы,
Достойной берегов прозрачной Аретузы,
Рукою слабою на лире повторить
И новым языком с тобою говорить.
Новизна этого языка - в поэтической относительности,
как субъектной, так и образной. Прежде всего, субъект ре-
чи, хотя он такой же “певец”, как и Торкват (только “без-
вестный”), становится образом - героем торкватовой песни,
и именно в качестве героя он впервые говорит о себе “я”:
Воспел ты бурну брань, и бледны эвмениды
Всех ужасов войны открыли мрачны виды:
Бегут среди полей и топчут знамена...
Я сам среди смертей... И Марс со мною медный...
Я слышу вдалеке пастушечьи свирели...
Очевидно, что субъект речи попадает внутрь песни Тас-
со и изнутри нее обращается к другим ее героям: “Постой-
те, воины!..” Во второй части послания совершается выход
субъекта речи из тассовой песни: “Что ж было для тебя на-
градою, Торкват? И еще отстраненней: “Имело ли конец не-
счастие поэта?” Так создается поэтическая относитель-
ность не только субъекта (автора-героя), но и самой художе-
ственной реальности: границы разных сфер ее оказывают-
ся проницаемыми, становится возможна эстетическая игра
этими границами, предвещающая пушкинскую поэтику.
Однако отличие от Пушкина здесь очень существенно.
Поэтическая относительность необходима Батюшкову для
расцветки прежде всего “я” - духа: действительно “друго-
го”, действительной относительности позиций субъектов
поэт еще не знает, и в этом смысле перед нами еще моно-
логическая поэтика. Каждый “другой” - и “я” как “другой”,
и возлюбленная, и природа становятся у Батюшкова пре-
жде всего “образом”. В том же “Воспоминании” о любимой
говорится: “Твой образ следовал с любовию за мною” -
не “ты”, а именно “твой образ”. То же самое в “Моем ге-
нии”: не сама любимая, а ее “образ милый” неразлучен с
поэтом. Превращение “другого” в “образ” есть по сущест-
ву превращение его в символ уже известного нам “я”-духа,
в идеал, преодолевающий, по Г.А. Гуковскому, “пределы
индивидуальной отъединенности одного духа от другого”.
96
Глава 3
Но такое монологическое преодоление отъединенно-
сти оказывается чревато серьезными последствиями. Не
получивший в художественном мире самостоятельного су-
ществования, другой “дух” тем не менее живет в “я” и про-
являет себя двумя способами - взаимоисключающими и
дополнительными по отношению друг к другу. Во-первых,
в “аполлоническом” принципе поэтизирования - это то,
что Л.Я. Гинзбург назвала “школой гармонической точно-
сти” (164, 13-43). Из этого принципа рождается “совер-
шенная система прекрасных формул”, притом формул
именно условно-поэтических, чаще всего перифрастиче-
ских, - “чистейшее выражение некой ценности душевной
жизни человека” (164, 36). В то же время это “образец ус-
тойчивого, замкнутого стиля, непроницаемого для сыро-
го, эстетически не обработанного... слова” (164, 23). Но,
во-вторых, другой “дух” проявляет себя у Батюшкова в ди-
онисийской одержимости, делающей лирического героя,
как уже замечено, похожим на корифея античного хора, а
стихи “мелодически и ритмически” (мы добавим - и об-
разно) “действительно приближенными к хороводной
пляске” (294, 38). В этом образном мире господствует рас-
текающаяся цельность и метаморфоза, ланиты превраща-
ются в розы, а губы - в виноград.
Иначе говоря, не сумев дать “другому” действительно
самостоятельного существования, “я” у Батюшкова оказа-
лось “одержимо” другим, а прекрасный и гармонический,
но условный мир поэтических перифраз был воздвигнут
над дионисийским миром метаморфоз (Батюшков, если
воспользоваться словом Блока, “строил на хаосе”). Обра-
зом подобной одержимости стала пляска. Как сказал по
аналогичному поводу М.М. Бахтин, “в пляске все внутрен-
нее во мне стремится выйти наружу..; пляшет во мне моя
наличность.., моя софийность, другой пляшет во мне” (126,
120). Так развитие русской лирики привело к необходимо-
сти дать свободу “другому”. Совершил это Пушкин, опирав-
шийся па опыт не только Батюшкова, но и Жуковского.
Качественная новизна поэтики Жуковского в том, что
субъект его поэзии, как и поэзии Батюшкова, - нс “душа”,
а “дух”. Но этот “дух” дан у него совершенно иначе, чем
у Батюшкова. Наиболее характерная для Жуковского фор-
ма субъектной организации состоит в следующем. Выска-
зывание обычно ведется от лица “я”, от которого отделя-
97
ются его атрибуты, чаще всего “душа”. Хотя связь “души”
с “я” вполне очевидна, Жуковский избегает называть субъ-
екта речи личным местоимением. Субъектом высказыва-
ния оказывается “душа”, очень личная, но жестко не при-
вязанная к субъекту, как бы неопределенно-личная: “Ах!
нежная душа, природу покидая, Надеется друзьям оставить
пламень свой” (“Сельское кладбище”, 1802). Или в “Невыра-
зимом” (1819): “Когда душа смятенная полна Пророчеством
великого виденья И в беспредельное унесена”. И дальше:
“Сей внемлемый одной душою Обворожающего глас...”
Перед нами, собственно, не просто душа, а неопреде-
ленный (как абсолют романтиков) и в то же время лич-
ный “дух” - это сам “пламень” души или “голос”. На лице
этого духа, как и на лице рафаэлевской мадонны в трак-
товке Жуковского, “ничего не выражено, то есть на нем
нет выражения понятного, имеющего определенное имя\
но в нем находишь в каком-то таинственном соединении
все” (200, 310). Это само “всеобщее”, которое, как замеча-
ет И. Семенко, “перестало быть внешним”, ибо поэт заста-
вляет “человека отнестись к всеобщим понятиям как к до-
стоянию своей личной, внутренней жизни” (294, 88).
Достигается эта позиция созданием особой и субъект-
ной, и образной ситуации. Для исторической поэтики она
имеет первостепенный интерес ввиду того, что в ней пер-
вичные образные модели доходят до одной из своих мыс-
лимых границ. Проследим это на “Невыразимом” - очень
представительном стихотворении Жуковского, в свое вре-
мя блестяще проанализированном Г.А. Гуковским.
За “Невыразимым” достаточно определенно просмат-
ривается архетипическая образная структура двучленного
параллелизма: здесь сохранено и художественно играет
именно наличие двух начал: природы и человека, пейзажа
и души. Но как заметил А.Н. Веселовский, древний парал-
лелизма пейзажа и души здесь принял совершенно новую
форму - стал “пейзажем души”. Что это значит? В трактов-
ке Г.А. Гуковского, пейзаж в стихотворении не имеет само-
стоятельного значения, а передает лишь “состояние соз-
нания”, “состояние души” (183, 49-50). “Объективное уто-
плено в словах эмоций; величественно переживанье вечера,
а не сам вечер; преображенье - это слово не внешней приро-
ды, а молитвенного экстаза” (183, 49). В описаниях приро-
ды у Жуковского, как показал исследователь, приглушены
98
Глава 3
(иногда - предельно) предметные значения слов и усиле-
ны их эмоциональные обертоны, говорящие о душевном,
а не природном плане. Поэтому природа дается “сплошь
в метафорах” (183, 50). Итак, древний параллелизм пре-
вратился в метафору?
Роль метафорической образности в “Невыразимом” до-
статочно очевидна, но она не абсолютна. Уже в первой ча-
сти стихотворения, где говорится о видимых чертах приро-
ды, начинают возникать какие-то иные, неметафорические
образные связи. Прежде всего очевидно, что здесь нет пос-
ледовательного развития метафорического плана, но есть
нечто вроде реестра метафор (образов одного и того же
“невыразимого”). Еще определеннее этот тип связи в конце
стихотворения, где речь идет уже не о видимых чертах при-
роды, а о том, что слито с ее видимыми чертами. Здесь ме-
тафор собственно говоря и нет, а главным принципом ста-
новится простое называние и присоединение: “Сие столь
смутное, волнующее нас, Сей внемлемый одной душою Об-
ворожающего глас, Сие к далекому стремленье, Сей мино-
вавшего привет...”
Г.А. Гуковский отчетливо видел отличие этого типа типа
образа от метафорически-иносказательного: “Здесь... слово
не означает вовсе другое слово, не заменяет его, не указыва-
ет на него. Здесь слово... остается самим собой, оно вызыва-
ет эмоцию своими вторыми и третьими значениями, своим
субъективным семантическим ореолом” (183, 52). В другом
месте ученый называет подобную структуру музыкальным,
“целостным внесинтаксическим единством: дуновение, ро-
дина, цвет, святая, упованья и т. д. - это словесные ноты, ор-
ганизованные музыкально, а не синтаксически; ведь здесь
важно и то, что синтаксические связи стали зыбкими; мож-
но их при желании и обдумывании найти, установить, но
в восприятии они сливаются.., и Жуковский не стремится
к их прояснению (скорее наоборот)” (183, 51).
Совершенно очевидно, что перед нами парадигматиче-
ский тип образа, восходящий к архетипу параллелизма, но
при этом крайне своеобразный. Ведь парадигматическими
отношениями связаны у поэта не первичные слова, а их ме-
тафорические преобразования, не “облака” и “воды”, напри-
мер, а “пламень облаков” и “дрожанье вод блестящих . Первич-
ное слово для Жуковского - “тело” и материал его поэзии;
тропеическое преобразование - “душа” и форма его образа,
99
а парадигматическое отношение этих тропеически преоб-
разованных душ-форм - “дух” и глубинное содержание об-
раза. Все известные нам сегодня особенности поэтики Жу-
ковского - развсществляющая мир метафористика, слож-
нейшие субъективные преломления восприятий, эмоцио-
нальные обертоны, вторые и третьи оттенки смысла - все
это служит тому, чтобы вывести образ на тот уровень худо-
жественного бытия, на котором обнаруживается тождество
явлений (“Все необъятное в единый вздох теснится”) и на-
чинают действовать парадигматические связи, выражаю-
щие невыразимое. Но ведь именно парадигматические от-
ношения “души” с “духом” акцентированы и в субъектной
сфере поэзии Жуковского, и именно за счет них у поэта ре-
дуцированы межличностные отношения “я” и “другого”.
Итак, через карамзинского “протея” (субъектного, но
еще не индивидуального) русская лирика начала XIX века
пришла к романтизированным формам абсолютного авто-
ра - к аполлоничсски-дионисийскому духу Батюшкова и не-
определенно-личному7 духу Жуковского. У Баратынского от-
четливо обнаружился кризис абсолютного автора, ставшего
“бедным духом”. Правда симптомы такого самоощущения
были уже у Батюшкова, чей герой, по замечанию исследова-
теля, “выделен из мира” и “поражен своим бедственным по-
ложением и своей нетитанической сущностью” (216, 10).
У Баратынского же это в пределе “бедный дух, ничтожный
дух” - “недоносок”. Важна и принципиальная двойствен-
ность и неопределенность его природы, то, что он возника-
ет из “непредставимого смешения признаков”, это некий
“человеко-дух”, поэтому7 он “так душевен и психологичен
и так гротескно невесомо-материален” (141, 117-118).
“Душевность” духа у Баратынского выявлена в непре-
станной оглядке его на себя со стороны. Уже в сборнике
стихотворений 1827 года эта субъектная форма играла боль-
шую роль, чем у кого-либо из русских поэтов первой поло-
вины XIX века (39,2%); в “Сумерках” же она стала абсолют-
но преобладающей (72%). По количественным показателям
из поэтов этого времени в данном отношении приближает-
ся к Баратынскому лишь А.С. Хомяков, начинавший гораздо
позже. Тем более интересно различие в содержательном на-
полнении этой субъектной формы у обоих поэтов.
У Хомякова в полном соответствии с его монологиче-
ски-учительным пафосом, взгляд на себя со стороны (пре-
100
Eiaea 3
жде всего как на “он”) является одной из форм косвенно-
го самовозвеличения “я”-поэта (кстати, “поэт” - абсолют-
но преобладающая номинация субъекта речи при таком
взгляде на него у Хомякова): “Века прошли, и племена дру-
гие Покрыли край, где прах певца лежал... Я видел сон,
что будто я певец, И что певец пречудное явленье, И что
в певце на все свое творенье Всевышний возложил венец”
(“Сон”, 1828). “Но что же? Стройный глас поэта Его до-
сель не освятил” (“На Новый 1828 год”). “И как вздрогнул
нетерпеливо, Как вспрянул дремлющий поэт!” (“Лампада
поздняя горела”, 1837?). Не случайно именно эту субъект-
ную форму выбирает у Хомякова бог: “Твой скуден дар -
Есть дар бесценный, Дар нужный богу твоему” (реплика
бога в стихотворении “По прочтении псалма”).
В противоположность Хомякову у Баратынского (как
позже у Лермонтова) представление субъекта речи как “он”
(или “ты”) связано обычно с беспощадной самооценкой
и судом “я” над самим собой, отчуждаемым в качестве “он”,
а потому ставшим “другим” по отношению к самому себе.
Перед нами вполне определенный симптом кризиса абсо-
лютного автора, кризиса, представленного в своей крайней
форме, как уже отмечалось, в “Недоноске” (1835).
Стихотворение строится как высказывание “я” (обла-
дающего способностью видеть себя и со стороны - “Бед-
ный дух! Ничтожный дух!”). Это прямое “я”, как заметила
И.Л. Альми, в “Сумерках” встречается крайне редко, а по-
тому оно особенно заметно в соединении с откровенно ус-
ловным образом субъекта (111, 45). Субъект же этот -
единственный раз у Баратынского - почти ролевой (С.Г. Бо-
чаров считает даже, что создан его характер, 141, 117), но
все-таки не ролевой: это именно оживление предельного
субъекта лирики Баратынского.
Прежде всего, он “дух” (“Я из племени духов”), хотя
и “бедный”, “ничтожный”. Но он же “вздох11 (“И ношусь, кры-
латый вздох”). Его стихия - воздух (“Пью счастливо воздух
тонкой”). Ненастье для него - “дуновенье роковое”, а прах ле-
тучий его “удушает11. Так обнаруживается его промежуточ-
ное положение в мироздании: он есть и сама стихия (воз-
дух), и выделившийся из нее, но одержимый ею субъект.
Это видно и из другого ряда образов. Пределом “недоно-
ска” являются “облака” (“тучи”): “И, едва до облаков Воз-
летев, паду слабея”. И это нс только пространственный,
101
но и внутренний его предел: ведь он дух, “но не житель
эмпирея”, а “эмпирей” - “за их (облаков. - С. Б.) волнами”.
Так проясняется не только пространственная, по и сущно-
стная локализация “недоноска” - он собственно и есть “об-
лако” и в то же время оживленная “оболочка” того, что от-
было от бытия. Вновь перед нами и сама стихия, и одер-
жимый ею субъект.
Этот образный ряд Баратынский проводит не менее
тщательно, чем первый (нельзя не увидеть и смысловой
близости “воздушного” и “облачного” планов: само облако
тоже воздух и нечто, им одержимое). Сначала “облака”,
как уже отмечалось, выступали как внешний пространст-
венный предел “я”, а само слово имело как будто только
прямой смысл. Но тут же “облака” метафоризуются, при-
чем возникает излюбленная Баратынским - назовем ее
разъятой, или дифференцирующей - метафора: вместо
“волны облаков”, поэт сначала просто говорит “облака”,
а потом “за их волнами”. Возникает уже отмечавшаяся на-
ми у Батюшкова игра бытийного и компаративного пла-
нов образа, удивительно соответствующая природе самого
субъекта, сочетающего в себе бытийность (стихия, воздух,
облако) и условность (недовоплощенность, одержимость
бытием, “образ”). Далее компаративный план развивает-
ся: “Ластюсь к ним, как облачко”. Но развивается и план
бытийный: “И до облак...”.
Наконец, возникает неустойчивое равновесие бытий-
ного и компаративного планов образа, отражающее саму
его субъектную природу: “В тучу кроюсь я, и в ней Мчуся,
чужд земного края, Страшный глас людских скорбей Гла-
сом бури заглушая”. Мы уже отмечали, что “недоносок” -
и “облако”, “туча”, и одержимый ими субъект, здесь это
еще раз обнаруживается с новым оттенком благодаря смы-
словой двузначности творительного падежа последней
строки. “Недоносок” заглушает глас людских скорбей “гла-
сом бури”: при помощи этого голоса как чего-то внешнего
себе или являясь сам этим голосом? Иначе говоря, надо
понимать эти строки как выражение причинно-логиче-
ских или бытийных отношений, а образ как условно-поэ-
тический или субстанциальный?
В иной форме с той же смысловой двузначностью мы
встречаемся в “Недоноске” неоднократно. “Но ненастье за-
ревет” и “Вопль унылый я подъемлю”. “Я” подымает унылый
102
Глава 3
вопль потому, что началась буря или потому, что он одер-
жим этой бурей, что у него нет по отношению к ней ни
внутренней, ни внешней вненаходимости, что он в конце
концов в своей субстанциальной глубине сам есть эта бу-
ря? Или: “Плач недужного младенца” и “Слезы льются из
очей” - здесь “недоносок” плачет потому, что жалеет мла-
денца (как он сам это объясняет) или потому, что он сам
и есть этот младенец, по крайней мере он неотделим от
него? (тут один шаг до “Октябрьского мифа” И. Анненско-
го: “И мои ль, не знаю, жгут Слезы сердце или это Те, ко-
торые бегут У слепого без ответа”). Совершенно очевид-
но, что ни одно из этих прочтений в отдельности не ис-
черпывает смысла стихотворения. Как сам “недоносок” -
“человеко-дух”, так и его образное воплощение и условно,
и субстанциально, и метафорично, и мифологично.
Следует видеть, что субстанциально-мифологический
образный план, обычно принимающий форму паралле-
лизма, как правило, присутствует в стихотворениях Бара-
тынского наряду с его дифференцирующими метафора-
ми. Так в стихотворении “Были бури, непогоды” (1839)
перед нами и метафоры душевной жизни, и параллелизм
природы и духа. “Бури”, “непогоды”, “день ненастный”
(других образов этого плана в стихотворении нет) мини-
мально природны, они стоят на грани превращения
в “пейзаж души”, но не становятся только им. Происходит
это благодаря неявному параллелизму: бури-непогоды //
младые годы; день ненастный// час гнетучий; буря//
вздох могучий - явно связаны еще и отношениями тождест-
ва. И если природа очеловечена (“бури” становятся в 3-й
строфе “скорбью-невзгодой”), то и человек “оприроден”:
это “могучий вздох” едва ли не самой природы, превраща-
ющийся благодаря творительному метаморфозы (“воль-
ной песней”) в ее голос; за образами “разольется”, “распо-
ется” стоит смысловой ореол птичьего и стихийно-при-
родного пения. Получается, что между человеческим
и природным планами не только логически-причинные
и метафорические, но и бытийные отношения: моло-
дость и “обручена” со стихийным своеволием, и сама есть
это стихийное своеволие, как старость - “с лютой карой”,
и сама есть эта кара.
По существу та же образная структура в “Осени”
(1836-1837). Развернутый природный план первых трех
103
строф параллелен человеческому (4-я и 5-я строфы) -
даже скорее человеческий план (“селянин”, собирающий
“плод годовых трудов”) включен в природный. И далее,
с 6-й строфы, возникает сопоставление, на котором дер-
жится вся остальная часть стихотворения: “А между тем
досужий селянин Плод годовых трудов сбирает” - “А ты,
когда вступаешь в осень дней, Оратай жизненного по-
ля...” Именно с 6-й строфы бытийный план образа пере-
водится в компаративный (“оратай” становится “оратаем
жизненного поля”), что дало С.Г. Бочарову основание
сказать, будто “осень” в итоге превращается в “интеллек-
туальную метафору” (141, 116). Нс забудем, однако, что
эта метафора становится возможной благодаря разверну-
той прежде реальной картине и в самой архитектонике
стихотворения выступает как то, что соположено с этой
реальной картиной. Наличие у образа одновременно
и бытийного и компаративного планов придает ему дву-
единую модальность. Причем здесь не равенство этих
планов (компаративный развернут гораздо больше), но
и не поглощение одного другим. У образа, как и у тех
душевных начал, которые воспроизводит поэт, “нет моно-
литной сущности”, по точному выражению В.А. Грехнева
(171, 48).
Действительно, уже замечено, что композиционные
формы элегий Баратынского “приспособлены к постиже-
нию многообразной двойственности (вернее было бы ска-
зать, двоичности) духовных сил и сущностей” (171, 51).
Самый стиль поэта “лишен единой поэтической тонально-
сти, господствовавшей в элегии Батюшкова, Жуковского
и молодого Пушкина” (294, 241), он перестает быть преоб-
ладающе гармоническим, становится затрудненным и ше-
роховатым, слова оказываются непроницаемыми друг для
друга, а их сочетания - заметно неожиданными, до странно-
сти непривычными (294, 243). Поэт как бы разымает ус-
ловно-поэтический язык школы гармонической точности,
раздваивает се метафоры, вместо “волнения любви” гово-
рит “одно волненье, а не любовь” (294, 240).
Все это делает поэтику Баратынского глубоко нетради-
ционалистской. При этом пафос поэта состоял в провер-
ке - обычно доводимой до последней границы - всех тра-
диционных ценностей. Он, как показывают исследования,
трезво и непредвзято (“дифференцирующе”) обнажил все
104
Diaea 3
иллюзии современных ему традиционных форм мироот-
ношения, прежде всего просветительски-рационалистиче-
ского (“Осень”, “Гнедичу, который советовал сочинителю
писать сатиры”), предромантического и романтического
(“Падение листьев”, “Отрывок”, “Последний поэт”). Мало
того, и в субъектно-образном плане Баратынский, как мы
видели, отказался от порождающего принципа любого
традиционализма - от “предпосылки исходного, но нару-
шенного единства” (294, 261).
В этой дифференциации и в анализе Баратынский
(как по-иному и Тютчев) пошел дальше Пушкина (или, мо-
жет быть, точнее - другим путем, чем Пушкин). Ведь не-
традиционализм Пушкина не был результатом тотального
пересмотра предшествующих форм мироотношения. На-
против, поэт часто включал в свою художественную сис-
тему традиционные представления в “необработанном”,
не прошедшем аналитического разъятия виде. При этом
он не “поглощал” традиционные ценности, а оставлял их
внутри своей системы нетронутыми и самоценными, при
всей их “другости”. Это был принцип, о котором точно
сказал П.В. Палиевский: “Он открывает форму для нашей
традиционной бесформенности” (265, 121). В частности,
Пушкин не отказался от посылки исходного единства,
а включил ее в свою художественную систему рядом с но-
вым, классическим принципом различения и индивидуа-
лизации. Рядом с Пушкиным Баратынский выглядит бо-
лее последовательным, но сама предельность, чтобы не
сказать тотальность, этой последовательности свидетель-
ствует о некой несвободе, о слишком тесной внутренней
зависимости от оспариваемой традиции. Несвободен
Баратынский и от концепции абсолютного автора-духа,
хотя тот и превратился у него, как мы уже отмечали,
в “бедного духа”. И чем сильнее прикован поэт к “я” как
“другому” (эта форма, как мы помним, дает в “Сумерках”
небывалую в русской поэзии встречаемость), тем менее
знает он просто “другого”. По крайней мере, если он
и воспроизводит чужую точку зрения (и даже делает это
с пониманием и частичным приятием), то это точка зре-
ния не конкретного “другого”, а его “метод”; как показал
Б.О. Корман, историко-культурные стили в их специфич-
ности и тем более стили индивидуальные Баратынского
по существу не интересуют (215, 56).
105
3. СУБЪЕКТНО-ОБРАЗНАЯ
ЦЕЛОСТНОСТЬ ЛИРИКИ ПУШКИНА.
ЗАРОЖДЕНИЕ ДИАЛОГА В РУССКОЙ ЛИРИКЕ
Реальный “другой” вошел в художественный
мир русской лирики прежде всего у Пушкина, который во-
обще отказался от предпосылки абсолютного автора-духа
и задал совершенно новый авторский облик. По сделал он
это, заняв глубоко диалогическую позицию по отношению
к традиции. Привилегированность автора-бога и его “бо-
жественную свободу” Пушкин сохранил, но поглощающая
“другого” привилегированность была преобразована им
в привилегированность дарующую и порождающую “дру-
гого” как самоценное “я”. Именно у Пушкина впервые ав-
тор перестал быть “единственным субъектом в мире объек-
тов” (247, 68), рядом с ним возник другой полноправный
субъект - не просто “я” в качестве “другого”, не просто ли-
рический герой, а реальный и конкретный “другой”.
Происходит это без резкого сдвига всей системы субъект-
ной организации лирики. Поэзия Пушкина отмечена все-
ми изменениями, которые происходят в это время
в субъектной структуре поэзии, и в то же время в ней как
бы воплощен “срединный путь”. Можно говорить лишь
об одной уникальной (хотя и трудно поддающейся коли-
чественному учету) особенности поэта: небывалой доселе
концентрации чужих слов, реминисценций, аллюзий
и других форм потенциальной диалогизации текста. Бла-
годаря этой особенности едва ли не каждое слово Пушки-
на становится не только способом, но и предметом изо-
бражения, не только изображающим, но и изображен-
ным. При этом Пушкина (в отличие от Баратынского) ин-
тересуют именно историко-культурные и индивидуальные
стили, которые он протеически воспроизводит и диало-
гически разыгрывает. В этом одно из проявлений проте-
изма и конкретности авторского “я”, переставшего быть
только “духом”, и ставшего конкретно-историческим
человеком, сохранившим все завоевания романтической
духовности. О пушкинской конкретности написано очень
много, но она еще не осознана в большом времени исто-
рической поэтики. В частности, недостаточно прояснена
ее связь с новой, нстрадиционалистской поэтикой: между7
поэтом и его предметом уже нет промежуточного и не-
106
Глава 3
прозрачного слоя традиционно-должного и предписание
общего смысла, как это было не только для автора “Сло-
ва”, но еще для Батюшкова, Жуковского и в какой-то
мере Баратынского. Эта конкретность, различение, инди-
видуация, особенное, конечно-размерное в противопо-
ложность абстрактному, неразличимости, родовому, об-
щему, бесконечному и безмерному становится первообра-
зом, порождающим принципом субъектно-образной целостно-
сти лирики Пушкина.
Общепризнано мнение, согласно которому именно
Пушкин впервые утвердил в русской лирике неповтори-
мую ситуацию, “единичное, психологически конкретное
событие” в отличие от “суммарной эмоции или вечной те-
мы” (164, 213)14. Об этом говорят и типы пушкинских за-
чинов 30-х годов. 1. В зачине может фиксироваться кон-
кретное действие, совершающееся в настоящее время,
в данный момент, час, в этот раз или однажды (“Мне не
спится, нет огня”). 2. Конкретная картина, часто с точным
указанием на положение наблюдателя в пространстве
(“Кавказ подо мною...”). 3. Зачин, организованный так,
чтобы подчеркнуть конкретное и единичное в противопо-
ложность общему (“Не множеством картин старинных ма-
стеров Украсить я всегда желал свою обитель... - Одной
картины я желал быть вечно зритель...”). 4. Внезапное,
с полуслова, начало, мгновенно выхватывающее какой-то
момент из потока жизни (“Да, слава в прихотях вольна”).
Во всех этих случаях конкретное и конечно-размерное
оказывается первообразом и точкой отсчета.
Однако при всем этом эпохальном и основополагаю-
щем значении пушкинской конкретности, своеобразие
первообраза поэта ею не ограничивается. Дело в том, что
в эксплицированном и выдвинутом на первый план конеч-
но-размерном у Пушкина всегда имплицитно (Блок гово-
рил - “тайно”, 16, VI, 167) присутствует бесконечное и без-
мерное. Сколько-нибудь отчетливые очертания оно полу-
чает обычно в финале, будь то последняя строфа элегии
(“И пусть у гробового входа Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа Красою вечною сиять”) или ко-
нец романа, где говорится о незавершимости Жизни. По
ведь начать произведение с любого момента, как бы слу-
чайно выхваченного из потока жизни, значит молчаливо
предполагать бесконечность жизни и известную равно-
107
правность ее моментов; в финале, таким образом, только
отчетливо выговаривается то, что потенциально сущест-
вовало в первообразе.
Отмеченным (пока еще в общем плане) особенностям
постановки субъекта и первообраза у Пушкина соответст-
вует своеобразие его художественной речи. Л.Я. Гинзбург
описала одну из главных стилевых новаций поэта - “про-
стое”, или “нестилевое” слово, “прозаизм” (164, 32). Что
же такое “простое” слово в свете исторической поэтики?
У самого Пушкина “простое” слово было со-противо-
поставлено условно-поэтическому, доведенному до совер-
шенства школой гармонической точности. По первые от-
талкивания от этого условного в своем совершенстве язы-
ка начались много раньше Пушкина. Известно, что уже
Денис Давыдов “пошел вразрез с установленными Батюш-
ковым и Жуковским принципами поэтизации и гармонии.
Он извлекает художественные эффекты из дисгармонии, из
разного столкновения неподходящих друг к другу слов”,
причем поэт явно стремится к тому, чтобы эти контрасты
были заметны (294, 107-108). Подобные поэтические хо-
ды у Д. Давыдова не были, однако, качественным отрица-
нием традиционных стилистических форм, ибо умеря-
лись входящими в замысел поэта комическими и фамиль-
ярно-разговорными эффектами. В этих границах и как вы-
ражение резко индивидуального стиля - его новации ока-
зывались приемлемыми для школы.
Иной характер носили дисгармонические тенденции у
П. Катенина, также отталкивавшегося от школы гармони-
ческой точности. В истории русской поэзии осталась бал-
лада “Ольга”, в которой Катенин попытался противопос-
тавить гармоническому и условно-перифрастическому
стилю Жуковского иное художественное решение:
Казни столп; над ним за тучей
Брезжит трепетно луна;
Чьей-то сволочи летучей
Пляска вкруг его видна.
Путь, по которому пошел Катенин, предполагал рез-
кое, диссонирующее совмещение высокой перифразы
(“казни столп”) с прозаизмом (“сволочь”). Такое совмеще-
ние в принципе нс выпадало из романтической манеры
мышления антитезами и не выходило за его пределы.
108
Глава 3
Прозаизм здесь оставался именно прозаизмом, то есть
грубым (“просторечным”) словом, противостоящим высо-
кому поэтическому стилю, образец которого предлагался
тут же. Можно сказать, что катенинский прозаизм “одер-
жим” высокой перифразой и без нее немыслим (так же
почти, как давыдовский), ибо самостоятельного бытия он
не имеет.
В сходном направлении шли эксперименты Ф. Глинки.
Он также сталкивает поэтизмы с прозаизмами: “И уж
вертлявое вертится В твоих перстах веретено” (“Хозяй-
ка”, 1826), “И горький сведала покой” (“Псалом 62”, 1826),
“И быстрый ветр не облетит Полета ангелов посыльных”
(“Псалом 103”, 1831). “Создатель неба! Отпахни покров”,
“На шумном кипятке волненья” (“Признание”, 1826 или
1827), “Так в засухе мирского счастья Душа томна, душа
болит” (“Засуха”, между 1827-1829). Возможны у Ф. Глин-
ки и прозаизмы не столь прямо соседствующие со слова-
ми иной стилистической окраски, но все они предвосхи-
щают бенедиктовское смешение стилей, в котором дис-
гармонирующие тенденции нашли почти комически за-
остренное завершение. Более сдержаны опыты в этом на-
правлении Н. Языкова, также любившего разъединять
значения и создавать эффект разлада слов (294, 210).
Эти поиски, расшатывая замкнутый стиль школы гар-
монической точности, подготавливали рождение “просто-
го” слова, но еще не создавали его. Так же подготавлива-
ли, но не создавали простого слова отмечавшиеся уже яв-
ления - игра компаративным и бытийным планом, поэти-
ческая относительность. Ибо простое слово - это не узко
стилистическая проблема. Для того, чтобы оно родилось,
был необходим качественный переворот во всей системе
мироотношспия, и прежде всего - нетрадиционалистское
и неканоническое, непредвзято-конкретное видение ми-
ра. Ведь что представляет собой это слово? По точному
определению С.Г. Бочарова, «пушкинское простое слово...
вообще выходит за границы какого-либо определенного
стиля, уже не является “стилем”, но именно противостоит
ярко выраженному стилю как простой язык самой реаль-
ности» (140, 28). Что же может означать столь радикаль-
ное преодоление условно-поэтического языка и стремле-
ние внедрить в лирику “язык самой реальности”? Очевид-
но, перед нами выход к качественно иному, чем традици-
109
онно-поэтическое (тропеическое в своем принципе), суб-
станциальному слову, отдаленным прообразом которого
было слово мифологическое.
Здесь необходима, однако, большая осторожность. Глу-
боко неверным было бы утверждение, будто Пушкин про-
сто возвращается к мифологическому слову. Родство про-
стого слова и слова-мифа - только в их субстанциальной
природе: они претендуют на то, чтобы быть не поэтиче-
ской условностью, а самой настоящей реальностью.
Во всем остальном миф и простое слово противоположны
друг другу, представляя собой два крайних полюса истори-
ческого развития языка лирики.
С учетом этого факта значимость появления у Пушки-
на простого слова необычайно возрастает. Его рождение
можно рассматривать как переломный момент в истории
русской (а возможно и не только русской) поэзии. И все
же не менее важно, в какие отношения стало простое сло-
во к традиционному поэтическому языку. На диалогиче-
ский характер этого отношения в пушкинском романе
в стихах указал С.Г. Бочаров (140). По и в лирике простое
слово не было тривиальным отрицанием условно-поэтиче-
ского языка. Напротив, по Л.Я. Гинзбург, “Пушкин свел
и заставил служить друг другу две великие силы эстетиче-
ского воздействия: традиционные формулы, уже окружен-
ные поэтическим ореолом (от них Пушкин не отказывал-
ся никогда), и непредвиденные прозаизмы” (164, 236).
Дело, конечно, не в простом сложении языков, а в их
субъектно-образном разыгрывании. Встретившись в опре-
деленной ситуации с простым словом, слово условно-поэ-
тическое теряет свой самодовлеющий характер и стано-
вится лишь одним из мыслимых языков. Благодаря этому
оно перестает быть только изображающим, но предстает
и как изображенное, впервые становясь само для себя
предметом рефлексии и осознавая свою образно-условную
природу, свои границы и ограниченность. То же самое
происходит и с простым (“субстанциальным”) словом:
встретившись с “другим” словом, оно вынуждено увидеть
себя не как саму реальность, а как определенный язык этой
реальности, хотя и качественно отличный от традиционно-
поэтического.
Рассмотрим сначала зрелый образец пушкинского про-
стого слова в его отношении к тропу - стихотворение
ио
Глава 3
“Осень (Отрывок)” (1833). Ключевая ситуация этого сти-
хотворения находит свое художественное претворение
в соположении и разыгрывании поэтического и простого
слова. Их отношения с самого начала не предустановлены
и принципиально непредсказуемы. Простое слово (“Ок-
тябрь уж наступил”) может быть как бы непредумышленно
поставлено рядом с поэтическим оборотом (“уж роща от-
ряхает Последние листы с нагих своих ветвей”), причем
контраст между ними не акцентируется. Затем идут стро-
ки, начинающиеся, напротив, поэтическим оборотом,
за которым следует простое слово (“Дохнул осенний
хлад” - “дорога промерзает”). Иногда отношения между7
языками могут быть подчеркнуто контрастны: “лето крас-
ное” (фольклорный по происхождению поэтизм, освящен-
ный в высокой поэзии Державиным - “вид лета красного
нам Александров век”) - “зной, да пыль, да комары, да му-
хи”. Возможны случаи, когда простое слово (“медведь”),
да еще в прозаическом контексте, наделяется перифра-
зой, получающей пародийное по отношению к определен-
ному стилю звучание (“житель берлоги”). Иногда пери-
фраза может оказаться более простым словом, чем пери-
фразируемое (“железо острое” и “коньки”), но зато рядом
будет поставлена уже самая настоящая поэтическая пери-
фраза (“Скользить по зеркалу стоячих ровных рек”). Нако-
нец, поэт доводит контраст языков до почти откровенно
комических форм (“Кататься нам в санях с Армидами мла-
дыми Иль киснуть у печей за стеклами двойными”), но
способен в совершенно серьезном тоне дать такое сочета-
ние поэтического и простого слова, которое, как замети-
ла Л.Я. Гинзбург, прежде было возможно только в комике
(“блистающее копыто”).
На новый уровень подымается взаимное разыгрыва-
ние языков с того момента, когда в стихотворении прямо
начинает звучать тема творчества. Переходя от творче-
ского акта к рефлексии по его поводу и к воссозданию это-
го творческого акта, Пушкин подымается от обычного по-
этического высказывания к метавысказыванию. В процес-
се такого перехода само “я” становится для метаповсство-
вателя “другим” (героем), а творческие принципы - в том
числе рассматриваемое нами двуязычие - становятся изо-
браженными и разыгранными. Первый сигнал о переходе
к метаповествовательному плану дастся в строфе восьмой:
Ill
II с каждой осенью я расцветаю вновь;
Желания кипят - я снова счастлив, молод,
Я снова жизни ноли - таков мой организм
(Извольте мне простить ненужный прозаизм).
Простое слово с отчетливо прозаической окраской
(“организм”) прямо соотнесено здесь с поэтизмами, услов-
ность которых особенно обнажена, ибо они являются стер-
тыми словарными метафорами (“я расцветаю”, “желания ки-
пят”). Соположение с подчеркнутым прозаизмом делает
данные поэтизмы уже откровенно изображенными и как бы
предлагает другой язык описания. Но этот другой язык,
хотя он и вполне самостоятелен, тоже не абсолютен. Он
не может и не призван заменить собой поэтический язык
(даже самую условную его форму), ибо и сам является не
только изображающим, но и изображенным: ведь “орга-
низм” имеет у Пушкина стилевое клеймо (“прозаизм”), гово-
рящее о том, что простое слово стало в свою очередь пред-
метом творческой рефлексии. Получается, что в “Осени”
нет одного языка, внутри которого находилось бы творче-
ское сознание субъекта речи: оно локализуется на грани-
цах поэтического и простого слова, в зоне их контакта -
взаимоосвещения и парадоксального совмещения.
С введением метаповествовательного плана отноше-
ния между языками становятся еще более сложными. Уже
в начале стихотворения эпизодически возникали случаи,
когда изменялась “валентность” слова: оно могло высту-
пать то как простое (“отъезжие поля”), то как поэтиче-
ское (“Как поля, мы страждаем от засухи”). Введение мета-
повествования придаст таким переключениям особую ин-
тенсивность и новый смысл. Приведем некоторые словес-
ные повторы и переключения (они буквально “прошива-
ют” текст).
- Дохнул осенний хлад - в их сенях ветра шум и свежее
дыханье - паруса надулись, ветром полны;
- бежит... ручей - бег саней - рифмы... навстречу им бегут;
- легкий бег саней - легко и радостно играет в сердце
кровь - и рифмы легкие... бегут;
- будит лай собак уснувшие дубравы - чредой слетает
сон - пробуждается поэзия во мне - и ищет, как во сне - так
дремлет недвижим корабль (ср. эпиграф из Державина -
“чего в мой дремлющий тогда не входит ум”;
112
Глава 3
- и мглой волнистою покрыты небеса - душа стесняет-
ся лирическим волненьем - и мысли в голове волнуются
в отваге - громада двинулась и рассекает волны - плывет.
Куда ж нам плыть?
- иной в пас мысли нет - и мысли в голове волнуются
в отваге; - Я снова жизни полн - паруса надулись, ветра полны.
С.Г. Бочаров показал, что стилевое поле пушкинского
романа в стихах возникает благодаря соотнесению поэти-
ческой перифразы и простого слова. Но в описанных уче-
ным случаях, как бы тесно ни сближались оба языка, пери-
фраза все-таки остается перифразой, а простое слово -
простым словом. Перед нами же случай (можно предполо-
жить, что он имеет место и в “Евгении Онегине”) более
тесного единства разных языков - своеобразный лириче-
ский аналог речевой интерференции (описанный на мате-
риале прозы М.М. Бахтиным). При речевой интерферен-
ции слово входит одновременно в два пересекающихся
контекста, в пашем случае - в высказывание и метавыска-
зывание, то есть предстает одновременно и как условно-
поэтическое и как простое. Именно такое слово является
“плодом” пушкинской “Осени”:
Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге,
Ио »гу! - матросы вдруг кидаются, ползут
Вверх, вниз - и паруса надулись, ветра полны.
Громада двинулась и рассекает волны.
Плывет. Куда ж нам плыть?..
Что перед нами такое? Очевидно, условно-поэтиче-
ский образ творческого акта - развернутое сравнение
(“литературность” этого образа усилена тем, что сравне-
ние создания произведения с плаванием по морю - один
из древних топосов, см. 352, 138-141). По столь же оче-
видно, что это и реализация творческого акта - новое сти-
хотворение, вобравшее в себя прежнее, стихотворение
стихотворения. Таков итог двуязычия “Осени”. Оставаясь
стихотворением (то есть условной реальностью), “Осень”
становится реальностью субстанциальной, обладающей
способностью порождения нового текста, превращается
в стихотворение стихотворения, как “Евгений Онегин” -
в роман романа.
Подводя некоторый итог тому, что сказано выше о по-
этике Пушкина, мы видим, что первообразом поэта явля-
113
ется конкретное, особенное, индивидуальное, конечно-
размерное. Именно оно эксплицировано в данной художе-
ственной системе. Но уже в первообразе рядом с этим
конкретным, реалистическим предметно выписанным
планом, а точнее - внутри него, в его скрытой глубине -
всегда присутствует бесконечное и безмерное, некоторая
принципиальная “неопределенность”, некая вероятност-
но-множественная импликация. Именно ее присутствие
делает знаменитую пушкинскую простоту (в том числе
и его простое слово) - “головокружительной”.
Вероятностно-множественную структуру у Пушкина мы
видим и на следующей стадии развития образа - на стадии
развивающейся целостности. Показательно в этом отноше-
нии стихотворение “Я помню чудное мгновенье” (1825).
Давно замечено, что в этом стихотворении поэт ведет
две темы (хотя оценки места каждой из них колеблются
у разных исследователей) - любви и творчества. При этом
долгое время преобладающим было биографическое про-
чтение послания с подчеркиванием в нем именно любов-
ной проблематики. В свое время пытался резко изменить
подход к стихотворению А.И. Белецкий: “Любовная тема-
тика в данном стихотворении явно подчинена другой, фи-
лософско-психологической тематике, и основной его те-
мой является тема о разных состояниях внутреннего мира
поэта в соотношении этого мира с действительностью”
(128, 399). Если А.И. Белецкий просто пытался пересмот-
реть значимость тем, но все же одну из них считал “основ-
ной”, то В.В. Виноградов уже предпочитает говорить
о “слиянии” двух тем, создающем беспредельную смысло-
вую перспективу (151, 402).
При своем бесспорном преимуществе над односторон-
ними (биографическим или философско-психологиче-
ским) прочтениями послания, “синтетический” подход
В.В. Виноградова все же не учитывает вероятностно-мно-
жественной природы художественного мира Пушкина
и предполагает в стихотворении одну (хотя и бесконечную)
смысловую перспективу. На почве такого подхода сложи-
лась и определенная версия лирического сюжета посла-
ния - представление о том, что отношения между’ “я” и “ты”
у Пушкина выстраиваются в единый причинно-следствен-
ный ряд: встреча с героиней вызывает творческий восторг
“я”, затем под влиянием разлуки и житейских обстоятельств
114
Eiaea 3
“я” забывает о героине, и, наконец, новое появление ее “вы-
звало пробуждение в душе поэта, знаменовало рождение
того могучего и возвышенного чувства, которое пробуди-
ло его творческое вдохновение” (307, 332-333).
Такое прочтение имеет основания в пушкинском тек-
сте. В известном смысле можно сказать, что на такое по-
нимание стихотворения поэт тоже рассчитывал, по край-
ней мере он учитывал возможность его (и, видимо, даже
сам подталкивал к нему читателя, принимая во внимание
инерцию нашего восприятия). И в то же время пушкин-
ское стихотворение принципиально не укладывается в по-
добную интерпретацию, как “Моцарт и Сальери”, напри-
мер, принципиально не может быть исчерпан версией
тайного отравления (что показано Ю.Н. Чумаковым, как
бы ни относиться к выводам, сделанным ученым из этого
факта, см. 338). Особенно ясно это становится, когда мы
обращаемся к сюжетному ходу предпоследней строфы:
“Душе настало пробужденье: И вот опять явилась ты”. Не-
давно замечено (324а, 62; 259, 336), что здесь совершенно
недвусмысленно говорится совсем не то, что принято ду-
мать: не появление героини “вызвало пробуждение в душе
поэта”, а пробуждение его души сделало возможным появ-
ление ее. Такое прочтение, кстати, имеет опору и в одном
из текстов-источников Пушкина - в “Далле Рук” Жуковско-
го, где о “гении чистой красоты” сказано: “Он лишь в чи-
стые мгновенья Бытия бывает к нам”. Здесь, однако, надо
быть осторожным, чтобы из одной односторонности ин-
терпретации стихотворения не впасть в другую.
Совершенно очевидно, что в приведенных строках
речь идет не о логических, причинно-следственных отно-
шениях. Это место нельзя понять так, будто героиня поя-
вилась потому, что пробудилась его душа. Подобной ин-
терпретации не допускает сама синтаксическая форма ин-
тересующей нас фразы - присоединительная или сдвину-
тая конструкция с союзом “и”, при которой, по В.В. Вино-
градову, “части не умещаются сразу в одну смысловую пло-
скость, логически не объединяются в целостное, хотя
и сложное представление, но образуют ряд последователь-
ных присоединений” (151, 286). По самому смыслу подоб-
ной конструкции пробуждение души и появление герои-
ни - два вполне самостоятельных и логически невыводи-
мых друг из друга момента, которые, однако, оказываются
115
в определенных бытийных отношениях друг с другом. Что
это за отношения?
Их характер связан с особенностями тех “чудных” или
“чистых” мгновений, о которых идет речь. По Пушкину,
они имеют своеобразный бытийный статус: они независи-
мы и свободны, им “нет закона”, они не могут быть с не-
обходимостью выведены ни из каких внешних или внут-
ренних обстоятельств. Иначе говоря, они случайны или,
точнее, вероятностны. Вероятностными отношениями
и связано в анализируемом фрагменте пробуждение души
с появлением героини.
Обнаружение этого позволяет по-новому понять все
стихотворение. Так становится очевидным параллелизм
приведенных строк и начала послания (подчеркнутый
и рифменными повторами):
Я помню чудное мгновенье: Душе настало пробужденье:
Передо мной явилась ты... И вот опять явилась ты...
Получается, что уже начало стихотворения можно было
понять не только в ключе причинно-следственной логики
(встреча с героиней - причина необычного состояния “я”),
по и в качественно ином: “чудное” (“чистое”) мгновение -
это особое состояние души, неслиянное и нераздельное
с появлением “ты” (нс случайно “ты” с самого начала дано
в зоне внутреннего мира “я” - “помню”, хотя, конечно, им
не поглощается). Также и строки “Шли годы. Бурь порыв
мятежный Рассеял прежние мечты, И я забыл твой голос
нежный” - будут означать не только то, что “я” забывает
о героине под влиянием разлуки и житейских обстоя-
тельств, но и нечто иное: забвение о ней - процесс не при-
чинно обусловленный, но параллельный помрачению души
и замутнению чистых мгновений бытия. За такое понима-
ние этого места говорит и явная интериоризация мятежно-
го порыва бурь (рассеивающего именно “мечты”), и уже oi^
мечавшаяся присоединительная конструкция с союзом “и”.
Очевидно, что вероятностно-множественная логика
послания качественно отлична от логики причинно-след-
ственной. Она означает не синтез двух тем, но их парал-
лелизм, не сведение их в конечном счете к одной (хотя
и бесконечно глубокой) смысловой перспективе, а нали-
чие двух принципиально разных систем значений, причем
116
Глава 3
их совместное существование не регулируется ничем еди-
ным и единственным, никакой заранее заданной традици-
онно-канонической картиной мира. Эта особенность образ-
ного мира стихотворения глубоко связана со своеобразием
его субъектной структуры. Рассмотрим эту связь на фоне
той ближайшей традиции, от которой идет Пушкин, - по-
эзии Батюшкова и Жуковского (опираясь на “Мой гений”
и “Лалла Рук”, переклички с которыми есть в пушкинском
послании).
В “Моем гении” Батюшкова героиня принципиально
лишена слова и выступает как “она” - как третье лицо,
на которое “я” смотрит со стороны. Субъектом же речи
и вообще единственным субъектом стихотворения являет-
ся у него “я” (для точности заметим, что в тексте есть
и “ты”, ио это “память сердца” лирического “я”, а отнюдь
не героиня). Объектная по сути дела форма, в которой вы-
ступает “она”, призвана подчеркнуть ее высокий ценност-
ный ранг, соответствующий мифологизированному образу
хранителя-гения (то же в “Лалле Рук” - “Ах, не с нами оби-
тает Гений чистой красоты”). В то же время объектность
героини способствует ее поглощению и растворению в со-
знании “я”: она “мой гений”, факт моего внутреннего ми-
ра, не просто “милая”, а “образ милый”, неизменно пребы-
вающий в моей памяти. Происходит, как заметил по ана-
логичному поводу М.М. Бахтин, “умерщвление” героини
и возрождение ее в памяти, которая одна владеет “золотым
ключом эстетического завершения личности” (126, 95).
“Мой гений” и реализует именно монологический тип
завершения стихотворения и личности “другого”: “другой”
принципиально дается в кругозоре “я”, растворяется в его
субъективности, а потому не может стать носителем своих
собственных оценок. Стихотворение Батюшкова именно
о “я” и его памяти, героиня же - безгласный объект его ин-
тенции. Стиль “Моего гения” и служит задаче последователь-
ного распредмечивания реальности - в том числе и “друго-
го” - и превращения его во внутреннюю реальность духа. От-
сюда характерная образная конструкция: “память сердца”,
“голос слов” - метафора мира “внутреннейшего”, глубин ду-
ши человеческой. Такой язык со всей его духовностью - след-
ствие поисков глубины и истины внутри одного сознания.
Авторская позиция в послании к Керн значительно от-
личается от описанной у Батюшкова. Прежде всего изме-
117
няется статус “другого”. Героиня представлена не в объект-
ной форме третьего лица, а во втором лице (“ты”). Кроме
того, она демифологизирована: она уже не “гений”, а “как
гений”, не “виденье”, а “как виденье” (192, 124). Сравне-
ние переводит последние следы мифологической субстан-
циальности в план условно-поэтической аналогии. Нако-
нец, “ты” получает у Пушкина некую самостоятельность,
став наряду с “я” “одним из устоев стихотворной компози-
ции”; отголоски этого “ты” “и в прямых повторах, и в риф-
менной цепи звучат почти во всех строфах. В “ты” свобод-
но и естественно включаются “и божество, и вдохновенье,
и жизнь, и слезы, и любовь”, оно становится синонимом
лирического мира” (167, 107).
Итак, в субъектном, как и в собственно образном плане,
пушкинское послание принципиально выходит за рамки мо-
нологической концепции мира и человека, как бы освещая
сам момент исторического перехода к качественно новой
художественной модели. Вглядимся внимательно в следую-
щий шаг, сделанный Пушкиным в этом направлении - в сти-
хотворение “Что в имени тебе моем?” (1830), тоже связан-
ное с “Моим гением” Батюшкова прямой реминисценцией.
Мы отмечали принципиальную самостоятельность “я”
и “ты” в пушкинском послании, но нельзя обойти внима-
нием то, что активным началом здесь выступает прежде
всего “я”. Мы видим именно “его” реакцию на “ты”, само
же “ты”, хотя оно и излучает идеальный свет, не является
здесь участником диалога и носителем ответной реакции.
Поэтому, хотя реальность и “другость” “ты” ни на минуту
не подвергаются сомнению, сюжетное движение стихо-
творения состоит в выведении “ты” из одной ценностной
зоны “я” (“памяти”) в иную ценностную зону (“душу”,
“сердце” - мы уже отмечали, что только пробуждение ду-
ши сделало возможным появление героини, хотя это во-
все не значит, что героиня лишь порождение его интен-
ций). Заметим, что начальная и конечная точки этого дви-
жения (“память” и “сердце”) у Батюшкова были даны изна-
чально в метафорическом единстве и неподвижности
(“память сердца”). Пушкин раздвинул это единое состоя-
ние “я” и тем самым драматизировал сюжет, но в посла-
нии он не разомкнул “я” окончательно навстречу “друго-
му”, ибо не сделал еще “ты” носителем направленной и лич-
ностной интенции. Этот шаг поэт делает в “Что в имени
118.
Глава 3
тебе моем?” (1830), вступая в диалог не только с героиней
своего стихотворения, но и с романтической концепцией
отношений “я” и “другого”, еще не до конца преодоленной
в послании.
Свидетельство обращения к романтической тради-
ции - необычайное (даже для Пушкина) обилие в “Что
в имени тебе моем?” реминисценций из произведений по-
этов-романтиков, но особенно рельефно объединяющая
все реминисценции проблема “я” и “другого” видна в пе-
рекличке с “Моим гением” Батюшкова13. Известно, что
оценка, данная Пушкиным знаменитому стихотворению
одного из своих учителей, была неоднозначной. В своих
заметках на полях 2-ой части “Опытов в стихах и прозе
К.Н. Батюшкова” поэт подверг эстетическому сомнению
как раз строки о “памяти сердца”, написав о стихотворе-
нии: “Прелесть кроме первых 4” (60, V, 322). Неудивитель-
но, что в своем стихотворении Пушкин демонстративно
разводит метафору Батюшкова “память сердца”, но по-сво-
ему соотносит ее составляющие (“память” и “сердце”),
а главное - превращает их в слово “другого” и тем самым
радикально меняет их смысл:
Скажи: есть память обо мне,
Есть в мире сердце, где живу я...
Мы уже отмечали, что Батюшков ищет глубину и исти-
ну внутри одного сознания. Пушкин же ищет их в со-бы-
тий сознаний - и это приводит к перестройке всей лири-
ческой системы. В частности, в финальной строфе проис-
ходит смысловой взрыв, аналогичный описанному нами
в послании к Керн (и столь же скрытый от невнимательно-
го глаза), но еще более радикальный, ибо теперь он связы-
вается не только с диалогической позицией “я”, но и с от-
ветной диалогической активностью “другого”.
Особую обращенность к собеседнику отмечали все ин-
терпретаторы “Что в имени тебе моем?” (229; 346; 332;
подробнее об этом - в нашей работе 145а, 162-163). Но ис-
толковывали они эту обращенность в терминах формаль-
ного диалога, по учитывая принципиального совмещения
в авторском слове двух ценностных экспрессий и двух ин-
тенций. Действительно, на первый взгляд может показать-
ся, что 1-я строфа, например, представляет собой прямое
119
монологическое высказывание, что сравнение имени с шу-
мом волны, звуком в лесу, семантика и тон целого обуслов-
лены интенцией одного сознания (субъекта речи). При та-
ком подходе строфа может быть прочитана как элегическое
размышление о смертности человека, о горестном раство-
рении его в прекрасной, но равнодушной природе. И этот
смысловой пласт в стихотворении действительно есть,
как есть в послании к Керн тот конечно-размерный
смысл, который связан с причинно-следственной логикой.
Но совершенно очевидно, что им принципиально
не исчерпывается смысл 1-й строфы, - стихотворение
с самого начала диалогически ориентировано и поднято
на уровень, где начинает действовать вероятностно-може-
ственная модель отношений. Во-первых, здесь речь идет
не просто о смертности человека, но о смерти имени, то
есть о духовной смерти. Во-вторых, рядом с равнодушной
природой - как ее параллель-тождество - возникает рав-
нодушное сознание другого человека (“ее”). Проблема
смерти переносится таким образом и в сферу духовную.
Но ведь смерть имени, духовная смерть - факт уже не
“природы” только, а прежде всего “культуры”, она может
осуществиться лишь в другом сознании. И поэт воссозда-
ет протекание этого процесса. Сначала имя сравнивается
с шумом волны, звуком в лесу, то есть с наиболее быстро
исчезающими звуковыми образами. При этом в самом вы-
боре сравнений сказывается формообразующая сила не
только “я”, но и героини: ведь именно для нее “имя” - звук
(для субъекта речи, как это будет видно из финала, имя -
не только “звук”, но и “память”, “сердце”).
Третье сравнение, развернутое на всю строфу, сопола-
гает “имя” уже не со звуковым образом, а с начертанным
словом, “узором надписи надгробной”. И здесь выбор
сравнения обусловлен встречей двух интенций - субъекта
речи и героини, но роль ее ценностной экспрессии замет-
нее, чем в 1-й строфе. Здесь “имя” - начертанное слово, -
не отрываясь окончательно от природной жизни, тем не
менее переносится почти целиком в сферу культуры,
в сферу другого сознания, и может умереть, то есть быть
забыто, именно в нем. Так в движении строф творится
процесс смерти-забвения: сначала умирает и забывается
недолговечный звук, затем - долговечное слово, забывается
как язык, на котором оно написано. В начале 3-й строфы
120
Глава 3
смерть-забвение констатируется как давно совершившее-
ся событие:
Что в нем? Забытое давно...
Своеобразие диалогических отношений, возникающих
в 1-2 строфах, заключается в том, что ценностная экспрес-
сия героини, ставшая одной из формообразующих сил тек-
ста, не выражена в се слове. Перед нами тот случай, когда
“чужое слово остается за пределами авторской речи, но
авторская речь его учитывает и к нему отнесена” (123,
334). Интенция героини формирует текст не прямо, а от-
раженно, изнутри влияя на слово субъекта речи, которое
становится благодаря этому имплицитно двуголосым. По-
лучается, что будучи по своей внешней форме монологи-
ческим высказыванием, 1-2 строфы становятся по сущест-
ву диалогической встречей двух интенций. То, что заклю-
ченные в них две ценностные экспрессии не разведены
и не приняли форму внешне выраженного диалога (с са-
мостоятельными репликами героев), не сразу дает увидеть
их истинно диалогическую природу. В то же время имен-
но такая, внешне монологическая, имплицитная форма
диалога, конечно, глубоко содержательна и внутренне со-
ответствует тому, что мы знаем сегодня о поэтике Пушки-
на, о ее вероятностно-множественных, “виртуальных” мо-
делях (338; 334). Видимо, применительно к данному слу-
чаю следует говорить о своеобразной форме имплицитно-
го диалога, уходящего своими корнями в глубины языка
лирики. Присмотримся внимательней к этому моменту.
Мы уже отмечали, что интенция героини проявляется
в самом выборе сравнений. Теперь самое время сказать, что
она проявляет себя и в самом акте сравнения, ибо в нем по-
эт находит такой художественно-аналитический и расчле-
няющий язык (147, 189), в котором рассказываемое собы-
тие (превращение духовного в вещное, имени - в звук,
шум, узор) может наиболее адекватно воплотиться в собы-
тие самого рассказывания. Забегая вперед, заметим, что,
начиная с 3-й строфы (то есть с того места, где на первый
план выходит ценностная экспрессия самого субъекта ре-
чи), происходит очень ощутимый стилевой поворот. Поэт
переходит к точной, почти “голой” речи, сравнения сов-
сем исчезают, а немногочисленные метафоры стерты
и тяготеют к языковым. Главную же стилсобразующую роль
121
начинает играть имплицитный параллелизм, скрытый
за простым словом. В целом стилевые полюса 1-2 и 3-4
строф родственны отмеченному С.Г. Бочаровым соотно-
шению поэтического (перифраза) и простого слова в “Ев-
гении Онегине”, хотя эти полюса не выражены столь от-
четливо, как в романе.
По крайне важно, что уже в первой части стихотворе-
ния, в которой дается серия сравнений, несущих интен-
цию героини и расчленяющих “имя”, скрыто присутству-
ет другой образный язык. Возникает он потому, что, вклю-
чаясь в игру героини, глядя на себя ее глазами, субъект ре-
чи сам тоже оценивает ее позицию. Но характер и язык
этой оценки - качественно иные: вглубь расчленяющего
сравнения внедряется скрытый параллелизм, сама внут-
ренняя структура которого несет в себе символическую
эквивалентность:
Шум печальный волны / берег дальний,
звук ночной / лес глухой.
Соответствующие части каждой половины сравнения па-
раллельны друг другу. Благодаря такой структуре расчленяю-
щее сравнение, оставаясь самим собой, в то же время преоб-
разуется: сквозь него начинает проглядывать “непонятный
язык” мифологического тождества. Правая часть парадигмы
обнаруживает символическое соответствие с “ней”, левая -
с “ним”. Ведь “берег дальный” и “лес глухой”, это, конечно
же, символические параллели к “ней” - равнодушной приро-
де и равнодушному сознанию, среде, наиболее способствую-
щей безответному исчезновению имени-звука.
Итак, уже в 1-2 строфах возникает скрытое взаимоос-
вещение интенций и языков двух субъектов диалога. С 3-й
строфы диалог вступает в новую фазу. Прежде речь шла
о “его” мире, данном в свете “ее” экспрессии (и оценки
этой “ее” экспрессии). В 3-4 строфах речь идет уже о ми-
ре героини, освещенном “его” отношением к ней. При
этом изменяется, как мы уже отмечали, сам язык образа:
тропы приглушаются, а параллелизм, скрытый за простым
словом, берет на себя главную стилеобразующую роль. Па-
раллели возникают между рассказываемыми событиями:
его мир - ее мир.
122
Глава 3
Между интенциями:
ее мироотношение - его мироотношение.
Между образами его мира (рожденными ее отношени-
ем к нему) и образами ее мира (рожденными его отноше-
нием к ней):
волна - волнения новые и мятежные,
шум печальный - день печали,
звук, шум - тишина,
ночной - день,
Имя - шум, звук, узор - имя - память, сердце,
оно умрет - живу я (см. и 346, 412-413).
Наконец, соотнесенными оказываются номинации
субъектов диалога:
оно - я,
а также языки двух интенций:
расчленяющий троп - сопрягающий параллелизм.
Иначе говоря, “ее” интенции, ставшей языком, со-про-
тивопоставлена “его” интенция, тоже ставшая языком, а
овеществленным образам “его” мира (рожденным “ее” мо-
нологическим отношением к “нему”) соответствуют духов-
ные образы се мира, рожденные “его” отношением к
“ней” как к субъекту (а не объекту). Если ее отношение оп-
редмечивало его и несло ему смерть, то его отношение
одухотворяет ее и несет ей жизнь.
Подчеркнем, что здесь не тривиальное противопоста-
вление двух позиций, а именно диалогическое отношение
между ними. Субъект речи не просто выдвигает в проти-
вовес героине более высокую точку зрения, дающую ему
некие привилегии. Высота этой точки зрения как раз и со-
стоит в отказе от всяких привилегий, в том числе от чес-
ти быть главным субъектом сотворенного мира.
Дело в том, что стилевой перелом, начавшийся в 3-й
строфе, выдвижение на авансцену образов “ее” мира пере-
мещают смысловой акцент стихотворения с его смерти на
ее жизнь (в этом и состоит кульминационный смысловой
взрыв, напоминающий предпоследнюю строфу послания).
Вопрос о нем и смерти его имени, так напряженно начи-
навший стихотворение, самоотверженно снимается и от-
раженно оживает в вопросе о ней и ее жизни. Мало того,
происходит смена ролей: “другим”, условием се жизни ока-
123
зывастся субъект речи, а действительным субъектом текста,
его единственно названным “я” оказывается героиня.
Еще Р. Якобсон заметил, что субъект речи “Что в имени
тебе моем?” выступает до конца в безликих терминах,
а единственное в тексте местоимение “я” - номинация геро-
ини. Правда, при этом ученый утверждал, активно-личност-
ная позиция “навязана героине авторским императивом”,
“автором ей предписана” (346, 411, 416). Скажем точнее, да-
рована, и диалогическое своеобразие этого дарующего ав-
торского сознания отчетливо выступает па фоне позиции
героини и романтической авторской позиции, показанной
нами на примере Батюшкова. Диалог с романтизмом так ес-
тественно вошел в стихотворение потому, что жизненная
ориентация его героини - романтически монологическая.
Пушкин вступает здесь в диалог и с романтической лично-
стью героини, и с жизненно-творческой установкой роман-
тического монологизма, вырабатывая понимание “другого”
нс как объекта, а как субъекта, как условия существования
самого “я”. При этом взаимоориентированность “я” и “дру-
гого” дорастает у Пушкина до взаимообратимости их ро-
лей. И, может быть, самая поразительная особенность
стихотворения в том, что “другим” здесь оказывается сам
субъект речи, а героиня становится “я”.
Анализ стихотворения, в котором вероятностно-мно-
жественная модель образа и диалогические отношения
нашли достаточно репрезентативную для Пушкина фор-
му, позволяет сделать некоторые предварительные выво-
ды. Существенно отличаясь от того типа диалога, кото-
рый описан М.М. Бахтиным на материале романной про-
зы Достоевского, “Что в имени тебе моем?” все же явля-
ется именно диалогическим созданием. Общим у Пушки-
на и Достоевского является субъектность “я” и “другого”,
принципиально уравнивающая их и создающая возмож-
ности их взаимоосвсщения, вплоть до смены ролей. Раз-
личия начинаются дальше. Во-первых, диалог у Достоев-
ского обычно эксплицирован, у Пушкина в нашем приме-
ре он имплицитен. Во-вторых, у Достоевского “нет над-
кругозорной точки зрения” на единство события (308,
134), а у Пушкина она есть. Иными словами, у Пушкина
есть высшая инстанция - но эта инстанция высшая имен-
но потому, что она диалогична. Ее диалогизм проявляет-
ся в следующем:
124
Глава 3
1. Перед нами позиция, если воспользоваться опреде-
лением М.М. Бахтина, “внежизненно активная”, дарующая
“другому” жизнь, позволяющая ему стать “я”, а собствен-
ное “я” осознающая как “другого”.
2. Будучи диалогической, эта позиция устремлена к тому,
чтобы диалогизировать монологическую интенцию героини.
С возможностью диалогизации ее мироотношения оказыва-
ется связанной сама возможность художественного заверше-
ния стихотворения. Иначе говоря, действительно диалогиче-
ской является у Пушкина позиция субъекта речи, но она по-
ставлена в художественную зависимость от возможности ге-
роини занять ответную диалогическую позицию. Поэтому по-
эт, вопреки мнению Р. Якобсона, на самом деле нуждается
в “чужом слове” для завершения диалога, а прямая речь геро-
ини, венчающая стихотворение, становится у Пушкина из
“условности” условием диалогизации художественного мира.
3. Диалогический характер принимает у Пушкина со-
отношение двух образных моделей-языков лирики - рас-
членяющего тропа и сопрягающего параллелизма, скры-
того за простым словом.
4. Диалог у Пушкина отличается особой нераздельно-
стью и неслиянностью субъектов и языков, предельной им-
плицитностью, крайне затрудняющей его анализ. Эта имп-
лицитность во многом сохраняется даже тогда, когда диалог
принимает более выраженную, чем в проанализированном
огучае, внешнюю форму. Это наблюдаем мы, например,
в “Бесах” (1830), чрезвычайно интересных для историче-
ской поэтики тем, что они концентрируют в себе крайние
исторические полюса лирического образа и сводят в диало-
ге фольклорно-мифологическую и современную (постро-
мантическую, неканоническую) модели мира.
По чтобы увидеть это, присмотримся сначала к ближай-
шему, исторически актуальному в пушкинские времена сре-
зу поэтики “Бесов”. На необходимость такого подхода поэт
намекнул, дав по своему' обыкновению целый ряд реминис-
ценций из современной ему поэзии, прежде всего из роман-
тической баллады16. Присмотримся к открывающей “Бесов”
реминисценции из баллады П. Катенина “Ольга”:
Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
Казни столп; над ним за тучей
Брезжит трепетно луна;
Чьей-то сволочи летучей
Пляска вкруг его видна.
125
Интересно, что в своей более поздней статье “Сочине-
ния и переводы в стихах Павла Катенина” (1833), Пушкин
останавливается и на этом месте из “Ольги”. Вспоминая
о состязании Катенина с Жуковским в переводе “Леноры”
Бюргера и говоря о его стремлении противопоставить “не-
верному и прелестному подражанию Жуковского” - “энер-
гичную красоту... первобытного создания”, поэт замечает:
“Но сия простота и даже грубость выражений, сия сволочь, за-
менившая воздушную цепь теней, сия виселица вместо сельских
картин, озаренных летнею луною, неприятно поразили не-
привычных читателей” (60, V, 154-155). “Сволочь” и “висели-
ца” - из процитированного места “Ольги”. “Воздушная цепь
теней” - сборная цитата из “Людмилы” (1808) Жуковского:
“Слышат шорох тихих теней” и “в цепь воздушную свились”.
Из статьи видно, что Пушкин видел в свойственной
Катенину “простоте и даже грубости выражений” антите-
зу метафорически-перифрастическому стилю Жуковского.
Если же учеть, что давний спор Катенина и Жуковского,
воскрешаемый Пушкиным, был по существу спором о народ-
ности, о соотношении современного образа с “первобыт-
ным созданием”, то проблема языка, воплощающего народ-
ное сознание, предстанет во всей своей значимости. В этом
контексте реминисценция из “Ольги” в начале “Бесов” ока-
зывается выражением затаенного диалога не только с Кате-
ниным, но и с Жуковским, а еще шире - с условно-поэтиче-
ским языком романтического иносказания и предложенным
путем его преодоления. Катенинский прозаизм, как мы от-
мечали выше, “одержим” романтической перифразой и без
нее немыслим, ибо самостоятельного бытия он не имеет.
Пушкин же, как бы заново переписывая Катенина в начале
“Бесов”, предлагает качественно иное решение.
Зачин, задающий тон стихотворению и трижды повто-
ренный в качестве рефрена, держится у Пушкина на точных
предметных де галях, данных в движении. Стилевых контра-
стов здесь нет, но само их отсутствие чрезвычайно вырази-
тельно на фоне подразумеваемого текста. Создается ощуще-
ние поэтической простоты, близкой к прозе, но отнюдь не
прозаизированной, не сниженной. Причем близость к пос-
ледующей пушкинской прозе здесь так велика, что многие
более поздние прозаические описания выглядят как реми-
нисценции из “Бесов”: “Погода была ужасная: ветер выл;
мокрый снег падал хлопьями; фонари светились тускло;
126.
Глава 3
улицы были пусты” (“Пиковая дама”). “Пошел мелкий снег -
и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл; сделалась метель”
(“Капитанская дочка”). По существу перед нами ранняя
форма того, что Л.Я. Гинзбург называет простым, или не-
стилевым словом, однако оно качественно отлично от не-
обработанного “эмпирического” прозаизма Катенина.
Мы уже отмечали, что родство простого и мифологиче-
ского слова в их субстанциальности, в остальном же они
представляют собой два крайних полюса исторического раз-
вития языка лирики. Эти полюса поэт свел в “Бесах”, сделав
их языками двух типов сознания. В зачине возможность та-
кого сведения еще только угадывается. Самостоятельные
и быстро сменяющие друг друга картины 1-й строфы похо-
жи па отдельные мазки, положенные рядом. Между ними ус-
танавливается не подчинительная (причинно-следственная),
а сочинительно-присоединительная связь: бессоюзные кон-
струкции оставляют между соположенными предложениями
незаполненное, пустое пространство. Перед нами художни-
чески осознанный принцип, на языке самого поэта - “живое
и быстрое описание”, качественно отличное, по Пушкину;
как мы помним, от поэтического иносказания.
Один из главных художественных эффектов, извлекае-
мых Пушкиным из “живого и быстрого описания” состоит
в следующем: пейзажные детали, связанные сочинитель-
но-присоединительной связью, начинают восприниматься
и как параллельные друг другу; в самом факте их сополо-
жения угадывается некий смысл, хотя он невыразим пря-
мо и несводим к иносказательно-метафорическому. Усиле-
нию этого эффекта способствует и синтаксический парал-
лелизм: “Мчатся тучи, вьются лучи”, “Мутно небо, ночь
мутна”. Заметим, что “снег летучий”, данный на фоне под-
разумеваемой катенинской “сволочи летучей”, содержит
в себе скрытую параллель между “снегом” и “бесом”. Нако-
нец, начальные строки в контексте всего стихотворения
прочитываются как один из членов параллели - природ-
ный ряд, перекликающийся затем с рядом человеческим:
Мчатся тучи, вьются тучи / Еду, еду в чистом поле.
Далее эта параллель эксплицируется, в нее вовлекают-
ся и “бесы”:
Мчатся тучи, вьются тучи / Мчатся бесы рой за роем.
127
Естественно, перед нами не простое воспроизведение
фольклорного параллелизма, но вряд ли можно считать
случайным, что в поисках языка, адекватного народному
сознанию, поэт обращается к этой первичной образной
форме. Заметим, что в отличие от развернутого фольклор-
ного параллелизма, параллелизм “Бесов” имплицитен (осо-
бенно в зачине). Это вообще особенность данной образной
формы у Пушкина - и именно в ее недрах рождается обыч-
но смысловой взрыв, обнажающий вероятностно-множест-
венную природу пушкинского художественного мира. Кро-
ме того, в фольклорном параллелизме, синкретическом по
своей природе, ни пейзаж, ни картина человеческой жизни
не имели самостоятельного значения. У Пушкина же каж-
дый из членов параллели стал самоценен, что привело
к смысловому преобразованию традиционной образной
структуры, самого ее синкретического ядра. Поскольку
подобное же преобразование просматривается не только
в образной, но и в жанровой структуре “Бесов”, для пони-
мания дальнейшего следует присмотреться к их жанру.
Не подлежит никакому сомнению связь стихотворе-
ния Пушкина с балладой (170, 31-48). Помимо балладного
четырехстопного хорея, помимо отмеченной реминис-
ценции из “Ольги”, в “Бесах” содержатся многочисленные
отсылки к балладам современников (“Людмиле” и “Светла-
не” Жуковского, к той же “Ольге”), в том числе к одной из
их сюжетных ситуаций: мертвый жених, скачущий со сво-
ей невестой, видит нечистую силу и слышит ее пение:
Слышат шорох тихих теней;
В час полуночных видений,
В дыме облака, толпой,
Прах оставя гробовой
С легким месяца восходом,
В цепь воздушную свились;
Вот за ними понеслись;
Вот поют воздушны лики...
(“Людмила”)
“Кто там! сволочь! все за мною!
Вслед бегите все толпою,
Чтоб под пляску вашу мне
Веселей прилечь к жене”.
Сволочь с песнью заунывной
Понеслись за седоком,
Словно вихорь бы порывной
Зашумел в бору сыром.
(“Ольга”).
В свете этой переклички становится ясно, что, сохра-
нив одну из сюжетных ситуаций баллады своих предшест-
венников - встреча героев с нечистой силой - и сделав ее
центральной в своем стихотворении, Пушкин как будто
отсек центральный для своих предшественников сюжет
о мертвом женихе и его невесте. Однако - и здесь перед
128
Глава 3
нами существеннейшая особенность пушкинского метода,
связанная с вероятностно-множественной моделью об-
раза, - сюжет о мертвом женихе не уходит окончательно
из “Бесов”, но сохраняется в них в имплицитной форме,
благодаря многочисленным перекличкам с подразумевае-
мыми текстами, поддержанными темой свадьбы-похорон.
Можно сказать, что мотив мертвого жениха у Пушкина не
отсекается, а “вытесняется”.
Помимо художнически сознательных причин этого “вы-
теснения”, связанных с литературной полемикой, тут, веро-
ятно, действовали и бессознательные механизмы, в том чис-
ле неосознанное желание поэта заслониться от слитком на-
прашивающихся параллелей сюжета о мертвом женихе
с его собственным положением жениха, которому угрожает
“колера морбус”. Но и вытесненная, эта связь прорывается
в светлое поле стихотворения - в замене героя-жениха
на “я” (история этой замены зафиксирована в черновиках:
“Путник едет в чистом поле”, “едем, едем в чистом поле”,
наконец - “еду, еду в чистом поле”).
Как бы то ни было, введение повествования от перво-
го лица оказалось решающим моментом в жанровом само-
определении “Бесов”. Баллада, как известно, жанр лиро-
эпический. Она предполагает наличие повествовательно-
го мотива и героя, не совпадающего с субъектом речи (та-
ков мертвый жених в переводах Жуковского и Катенина).
Пушкин же резко нарушил балладный канон, сделав героем
(по крайней мере, одним из героев своего стихотворения)
лирическое “я”. Какие последствия имела эта новация?
В.А. Грехнсв, подробно описавший отмеченную жанро-
вую трансформацию, считает, что выбором подобной рече-
вой установки поэт взрывает “жанровые устои романтиче-
ской баллады изнутри” и превращает “Бесов” из баллады
в лирическое стихотворение (170, 44). Это не значит, что
исчезает балладный субстрат, но он, по мнению ученого,
переосмысляется и подчиняется лирическому принципу:
в конечном итоге “балладное начало в “Бесах” подчинено
воплощению иной, не балладной концепции мира” (170,
31). Нам представляется, что точнее было бы говорить не
о подчинении балладного начала лирическому, а о таком
преобразовании жанра, при котором между этими начала-
ми устанавливаются диалогические отношения, заменив-
шие собой отношения традиционного синкретизма.
129
Баллада, как известно, жанр, сохраняющий в себе чер-
ты очень древнего лиро-эпического и драматического
синкретизма, предшествовавшего обособлению поэтиче-
ских родов (147, 281). Уже на заре своего возникновения
“балладный стиль” предполагает: 1) наличие повествова-
тельного мотива - рассказа о чудесном с “зачатками эпиче-
ского схематизма”, “любовью к троичности” (147, 264); 2)
“лирическое, эмоциональное освещение” этого мотива
(147, 260-261); 3) диалогическую композицию, основан-
ную на обмене репликами между героями и восходящую
к фольклорному нраисточнику жанра - к весенним хоро-
вым и плясовым песням (147, 241). Синкретизм трех родо-
вых начал в балладе был в пушкинское время еще вполне
ощутимым и непосредственно переживаемым, но и эсте-
тически осознаваемым фактом. В трактате лицейского
учителя Пушкина - А. Галича (как известно, высоко цени-
мого поэтом) мы читаем: “Романтическая элегия, в кото-
рой внутреннее состояние души выражается не прямо,
а именно по поводу какой-нибудь истории или приключе-
ния, есть романс или баллада - стихотворение, которое
по причине господствующих в нем особых чувствований
поэта имеет значение лирическое, по причине игрового
движения - музыкальное, а по причине простонародного
рассказа, часто чудесного - эпическое” (158, 262-263).
Ко времени появления “Бесов” в русской поэзии уста-
новилось противостояние двух типов романтической бал-
лады, которые помимо прочего отличались тем, что дела-
ли акцент на разных сторонах ее родового синкретизма -
на лирической (Жуковский) и эпической (Катенин) (154,
27-29). Но эти акценты (доходящие у Жуковского, напри-
мер, до прямого обнажения условности эпического сюже-
та в той же “Светлане”) не посягали на главное - на исход-
ный синкретизм жанра. Пушкин посягнул именно на него
и преобразовал синкретическую художественную структу-
ру в диалогическую, обозначив тем самым качественно но-
вый этап в истории поэтики баллады.
Действительно, каждая из родовых составляющих ис-
ходного синкретизма приобрела в “Бесах” автономию,
благодаря которой стало возможным возникновение диа-
логических отношений в художественном целом. Во-пер-
вых, была снята условность эпического сюжета баллады,
зато повествовательный мотив (“я” с ямщиком в дороге)
130.
Глава 3
приобрел самостоятельное значение и реалистическую
мотивировку (сохранив сюжетные подтексты жанра).
Во-вторых, “лирическое, эмоциональное освещение” ока-
залось поднято до прямого преобразования одного из ге-
роев в лирическое “я”. В-третьих, драматический обмен
репликами, бывший прежде прерогативой героев и дан-
ный в твердой оправе авторского голоса, обернулся обме-
ном репликами между7 “я” и героем.
Давно замечено, что обмен репликами между ямщи-
ком и “я” играет в “Бесах” важную роль. Отталкиваясь от
этого факта, Д.Д. Благой писал о фольклорном сознании
ямщика (в котором мчащиеся туши, порывы вьюги, вихри
снега “оборачиваются привычными образами народных
поверий - “бесами”) и противопоставлял ему сознание
путника-поэта, который мыслит “не столько фольклорны-
ми, сколько отчетливо литературными ассоциациями”
(135, 476). Тоньше подошел к вопросу В.А. Грехпев, уви-
девший в стихотворении и использование, и переосмыс-
ление традиционного жанрового языка баллады, в том
числе ее диалогической композиции (бывшей еще для ро-
мантиков “омертвевшим ликом жанровой традиции,
смысл которой выветрило время” (170, 39). К сожалению,
В.А. Грехпев сам не придал серьезного значения диалоги-
ческой форме “Бесов”, в частности, вне поля его зрения
оказалось соотношение слова “я” и ямщика.
Реальные отношения, возникающие в стихотворении,
говорят не о тривиальном противопоставлении, а именно
о диалоге, предполагающем исходную общую почву. Сти-
хотворение строится так, что фольклорно-мифологиче-
ское сознание и слово ямщика не отрицается, а, наоборот,
подхватывается словом “я” и входит в его кругозор. Преж-
де всего, именно в речи ямщика, и как слово его языка по-
является ключевой образ “беса”, чтобы потом перейти
в речь “я” (оказывается и заглавие стихотворения - отра-
женное “чужое” слово). Далее, в речи ямщика появляется
слово-субститут “он” (о “бесе”), тоже подхваченное “я”.
Из уст в уста переходит и другое ключевое слово - “кру-
жит”: “В поле бес нас водит, видно, Да кружит по сторо-
нам” - “Сил нам нет кружиться боле”, “Закружились бесы
разны”. Обратим внимание и на вариацию “кружения” -
“игру”: “Посмотри, вон, вон играет” - “В мутной месяца
игре”. При этом “я” не только принимает слово ямщика,
131
но и варьирует им в том же фольклорно-мифологическом
ключе. Так вариацией “беса” становятся “духи”, “домовой”,
“ведьма”; вариацией “игры” - пение, вой, свадьба-похороны.
Художественный смысл этих подхватов и вариаций в том,
что “я” подключается благодаря им к фольклорно-мифо-
творческому сознанию и слову своего героя.
Это слово нетрудно идентифицировать, если вспом-
нить то, что уже говорилось о параллелизме и мифологи-
ческом слове. Именно это слово стало в “Бесах” языком
народно-мифологического сознания героя. Совершенно
очевидно, что в устах ямщика “бес” (“он”) звучит не как
“образ”, не как троп, а как субстанциально-мифологиче-
ское слово, требующее прямого понимания. Точно так же
должны быть поняты данные через восприятие и слово
ямщика метаморфозы “беса”: “верста небывалая”, “искра
малая”, “пень”, “волк”. В ином контексте и в ином струк-
турном оформлении эти превращения могли бы быть вос-
приняты как условно-поэтические образы, но здесь они
имеют субстанциальное значение, выявленное и имма-
нентными особенностями языка. Ведь в строках
Там верстою небывалой
Он торчал передо мной;
Там сверкнул он искрой малой... -
перед нами нс собственно сравнения, а творительный ме-
таморфозы, при котором “можно говорить о превраще-
нии или перевоплощении субъекта в объект... Само дейст-
вие в этом случае существует реально” (219, 32). Иначе го-
воря, перед нами не тропеическое, а мифологически суб-
станциальное слово.
Для понимания двуязычия “Бесов” крайне важно, что
“я” принимает слово ямщика не просто как “чужое”, а как
свое-другое, как нечто, уже имплицитно присутствующее
в его сознании, но как бы дремлющее в нем, ожидая про-
буждения. Ведь уже в 1-й строфе, предшествующей репли-
ке ямщика, просматривается, как мы отмечали, скрытый
параллелизм и целый ряд образно-смысловых отсылок
к фольклорной стихии: и в балладно-песенной ситуации,
и в перекличке с “народным” зачином “Руслана и Людмилы”
(ср.: Там на неведомых дорожках Следы невиданных зве-
рей” и “неведомых равнин”, “невидимкою луна”), и в народ-
но-поэтической формуле “в чистом поле”. Слово ямщика
132
Глава 3
пробуждает имплицитные параллели (вьюга - пряжа,
снег- бес) и актуализирует последующие отождествления:
туч и бесов с волком, отмеченные в фольклоре еще АН. Афа-
насьевым; вьюги - со “свадебными гульбищами” чертей
и ведьм и одновременно с их похоронами; даже сравнение
бесов с листьями, казалось бы, уже самой формой сравнения
выпадающее из этого ряда отождествлений, имеет фольк-
лорные соответствия в представлениях о нечистой силе, “ис-
чезающей осенью в дни месяца листопада” (119, II, 328).
Именно эта внутренняя структура мифологических отожде-
ствлений, параллелизма и всеобщих метаморфоз, заданная
в зачине, эксплицированная в слове ямщика и подхвачен-
ная “я”, была увидена Мариной Цветаевой, которая писа-
ла о “Бесах”: “Странное стихотворение (состояние), где
сразу можно быть (нельзя не быть) всем: луной, ездоком,
шарахающимся конем и - о, сладкое обмирание! - ими...
И еще: я ведь знала, что они - тучи! Что они - серые, мяг-
кие, что их даже как-то нет, что их тронуть нельзя, обнять
нельзя, что между ними, с ними, ими - можно только
мчаться. Что это - воздух, который воет” (95, 78, 80).
Все сказанное проясняет поразительный эффект сти-
хотворения, состоящий в том, что оно исключает возмож-
ность только условно-поэтического (в том числе аллегори-
ческого или символического) понимания нарисованной
в нем картины. Сам язык образа вынуждает нас воспри-
нять “Бесов” не просто как художественную условность,
а как самую настоящую реальность, и в этом смысле мож-
но сказать, что Пушкин создал национальный миф, разви-
тый впоследствии русской литературой от Достоевского
до Блока и Булгакова.
Но будучи всерьез и до конца мифом, пушкинское тво-
рение - и не миф в его традиционной форме, ибо автор-
ское сознание в “Бесах”, хотя и погружено в мифологиче-
скую ситуацию и пользуется его языком, обладает и свобо-
дой выхода из них, в отличие от сознания героя-ямщика,
целиком укорененного в ситуации. На самом деле, круго-
зор ямщика ограничен пространственной горизонталью.
Герой видит только то, что находится в одной плоскости
с ним: поле, овраг, коней, беса. Пространственная верти-
каль, ценностно окрашенная (“верх”), остается вне поля
его зрения. Напротив, взору “я” с самого начала доступно
то, что закрыто для героя: стихотворение открывается
133
картиной вьюжного неба и завершается образом “беспре-
дельной вышины”. Можно сказать, что кругозор ямщика
тяготеет к пределу, а кругозор “я” - к беспредельному (по-
этому-то первый целиком укоренен в ситуации, а второй
может занять по отношению к ней ту позицию, которую
М.М. Бахтин называл внежизненно активной). Кроме того,
ямщик исходит из предположения, что “бес” - злая сила, ко-
торая специально обращена к человеку, “играет” с ним
и едва ли не для него, по крайней мере, человек оказыва-
ется центром приложения се сил. Перед нами наивно ан-
тропоцентрическое, в полном смысле слова мифологиче-
ское сознание. Из иных предпосылок исходит “я”, счита-
ющий, что “бесам” по существу пет никакого дела до чело-
века и играют они не для него. У них свои проблемы
и своя игра, в которой человек оказывается невольным
свидетелем и косвенным участником. Очевидно в созна-
нии “я” отсутствует наивный антропоцентризм, свойст-
венный герою, а “бесы” - стихийные, бесконечные, нече-
ловеческие силы предстают перед ним в их самостоятель-
ном бытии, в их действительной “другости”. Кроме того
в партии ямщика “бес” выступал как активная сила, а пут-
ники - как страдательная. Видение “я” - иное: “бесы” и сами
оказываются игралищем иных сил; если они и “кружат” пут-
ников, то и их самих “кружит” и “гонит”. Это двойственное
положение “бесов” уже отмечалось (135, 479; 170, 148). Но
факт подневольности “бесов” не может быть адекватно ис-
толкован, пока мы не учтем, что таково их положение толь-
ко в тексте “я”, тогда как в партии ямщика они предстают
как носители зла. И именно в соотношении с позицией ге-
роя получает свой истинный смысл интенция “я”, увидевше-
го одержимость “бесов”, услышавшего в устрашающей бе-
совской игре жалобные ноты, поднявшегося от страха
(“Страшно, страшно поневоле”) к трагическому сострада-
нию и едва ли пе оказавшегося способным пожалеть самих
“бесов”. Если же мы учтем, что “бес” для мифологического
сознания - это “другой” в его предельно чуждой для “я” фор-
ме, то в поразительном пушкинском сострадательном воп-
рошании обозначится выход за пределы мифологического
кругозора героя - выход, обретающий весь свой масштаб
только в свете большого времени исторической поэтики.
Действительно, ведь носитель мифотворческого и син-
кретического сознания - ямщик - “бесов” боится, он почти
134
Глава 3
“одержим” ими. Собственно, синкретизм и одержимость -
явления близкого структурно-смыслового порядка: отсут-
ствия четких границ между “я” и “другим” и потому невоз-
можности их автономного существования. Поэтика син-
кретизма или одержимости и реализуется в мифологиче-
ском слове героя, в следах фольклорного параллелизма
и отзвуках древнего жанра баллады. Но это не последнее
слово пушкинского творения.
Утверждение совершенно нового типа отношений “я”
к предельно “другому” сотворяется в описанных диалоги-
ческих чертах поэтики “Бесов”. В самой природе этой по-
этики заложена возможность того, что “я” начинает про-
зревать в разгуле “бесов” не просто мировую бессмыслицу'
и не чью-то злую волю, а стихию, имеющую “другой” - нече-
ловеческий и бесконечный смысл, а главное - начинает ди-
алогически вопрошать этот неантропоцентристски поня-
тый мир, пытаясь осмыслить его во всей его “другости” (ср.
“Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы”). Иначе
говоря, “я” у Пушкина перестает быть “одержимым”, и это
позволило ему по-новому отнестись к “другому” - и к ямщи-
ку, и к самим “бесам”, одержимым стихией бесконечности.
М.М. Бахтин писал о Достоевском: “То, к чему романтик
подходил изнутри в категориях своего “я”, чем он был одер-
жим (курсив наш. - С. Б.), к тому Достоевский подошел извне,
но при этом так, что этот объективный подход ни на одну
йоту не снизил духовной проблематики романтизма” (126,
183). Но то, что сделал романист, казалось М.М. Бахтину
невозможным для лирика, который, якобы, всегда более
или менее “одержимый”. Мы видели, однако, что у Пушки-
на лирик перестал быть одержимым, и этим открытием
обозначается новая историческая эпоха поэтики.
4. “НА ЗВУК ТОТ ОТВЕЧУ'.
СУБЪЕКТНО-ОБРАЗНАЯ СИТУАЦИЯ
В ЛИРИКЕ ЛЕРМОНТОВА
В высших достижениях послепушкииской поэ-
зии развивается то, что было найдено поэтом. Имплицит-
ность пушкинского диалогизма и вероятностно-множест-
венной картины мира (очевидна их изоморфность как
субъектной и образной структур) была глубоко содержа-
тельной особенностью, обусловленной историческим мес-
135
том этой лирики. После Пушкина наступает время экспли-
кации возможностей, заложенных в его художественной
целостности. По существу первым ответом Пушкину
в большом диалоге русской поэзии стала зрелая лирика
Лермонтова. Именно у него мы видим первую эксплика-
цию субъектной (диалогической) и образной (вероятност-
но-множественной) структур пушкинской поэзии.
В субъектной структуре лирики Лермонтова выделя-
ются три особенности, которые могут быть поняты как
послепушкинские. Во-первых, новое возрастание доли ли-
рических высказываний от “я” (56% - самый высокий
уровень в 1-й половине XIX века и один из самых высоких
в русской поэзии вообще). Во-вторых, значительное уве-
личение роли косвенного представления субъекта речи -
взгляда на него со стороны как на “другого”. Эта субъект-
ная форма встречается у Лермонтова более чем в два раза
чаще, нежели у Пушкина (29% против 13,9%). Уже для
раннего Лермонтова характерен взгляд на субъекта речи как
на “он” (реже - “ты”), тесно связанный с косвенными фор-
мами образной речи. Так, “он” может быть субъектом мета-
форической перифразы типа “Злословья жертву пощади”
(“Романс к И...”) - и в этом поэт ближе всего к Батюшкову
(по существу перед нами тот же набор косвенных номина-
ций субъекта: певец, поэт, страдалец, певец-страдалец, не-
счастливец, пришелец, странник). Для раннего Лермонтова
характерно и сочетание высказывания от лица “я” со срав-
нением, которое дает взгляд на это “я” со стороны (“Я видел
вас, холмы и нивы”, где есть такие строки: “Так дух раская-
ния, звуки Послышав райские, летит”; см. также, “Русская
мелодия”, “Стансы к Д...”, “Я не люблю тебя; страстей” и др.
Здесь намечаются возможности многообразных переходов
от “я” к “он” и наоборот, осуществляющиеся в зрелой лири-
ке (“Я не хочу, чтоб свет узнал”, 1837; <”М.П. Соломирской”,
1840> и др.). Заданность и привычность для Лермонтова та-
кого проведения “я-он” через компаративный и бытийный
планы делает возможным оличнение символов, говорящих
как будто бы о “другом”, - таких как “парус”, “утес”, “тучи”,
но также и “демон”. Эта тенденция поддерживается и тем,
что уже у раннего Лермонтова появляются стихотворения,
представляющие собой косвенный автопортрет лирическо-
го героя, хотя тот предстает в субъектной форме “он” (“Он
не красив и не высок”, 1829; “Видение”, 1831; “Сон”,
136.
Глава 3
1830-1831, ср. “Оправдание” как образец зрелой лирики).
Заданная здесь инерция косвенной характеристики “я” как
“другого” опять-таки способствует выявлению личных аспек-
тов в стихах, посвященных реальному “другому”, например
в “Смерти поэта” или “Памяти А.И. О<доевско>го”.
Тут мы подошли к третьей особенности субъектной сфе-
ры лирики Лермонтова - к ее диалогическим и синкретиче-
ским формам. Уже в ранних стихах поэта мы встречаем ед-
ва ли не впервые в русской поэзии такое сближение круго-
зоров “я” и “он”, которое стоит на грани несобственной пря-
мой речи. Так в “Видении” (1831) “он” - юноша, косвенно
представляющий “я”, - изображен не только со стороны,
но и изнутри благодаря тому, что субъект речи представлен
через неопределенную форму глагола: “Как воротиться, не
прижав к устам Пленительную руку, не слыхав Волшебный
голос тот, хотя б укор Произнесли уста ее? О! Нет! - Он
вздрогнул...”. (См. также приближение к крутозору героя
в “Наполеоне” (1830): “Прости, о слава! Обманувший друг“.)
Позже, например, в “Умирающем гладиаторе” (1836) перед
нами вновь несобственная прямая речь: “Вот луч воображе-
нья Сверкнул в его душе... Пред ним шумит Дунай... 14 ро-
дина цветет... свободной жизни край... Прости, разврат-
ный Рим, - прости, о край родной...”. Наконец, у Лермон-
това возможны слабо отчлененные от авторской речи
и субъектно немаркированные потенциальные реплики,
как в “<Валерикс>”: “Шум, говор. Где вторая рота? Что
вьючить? - Что же капитан? Повозки выдвигайте живо!
“Савельич!” - “Ой ли?” - “Дай огниво!” Что? ранен!.. Ниче-
го, безделка.” Нельзя обойти вниманием также того факта,
что мы встречаем у поэта уникальные для 1-й половины
XIX века синкретические формы субъектной организации,
находящие выражение в субъектной субституции (“Ребенку”,
1840; “Нет, не тебя так пылко я люблю”, 1841), либо (преиму-
щественно в ранней лирике) в странностях прямой речи,
в которую вторгаются шаблоны речи косвенной (“К***”,
1830: “Не говори: я трус, глупец!”; “Песнь барда”, 1830: “Вдруг
кто-то у меня спросил: “Зачем я часто слезы лью, Где человек
так вольно жил? О ком бренчу? О ком пою?”).
Из сказанного очевидно, что в субъектной структуре
лирики Лермонтова заложена возможность представле-
ния пе только “я” как “другого” (“Он не красив и нс вы-
сок”), но и “другого” как “я” (“Парус”, “Демон”), делающая
137
позицию поэта потенциально диалогической. При этом
меняется по сравнению с Пушкиным роль диалогизиро-
ванного субъекта - он становится отвечающим, а не просто
говорящим (в том числе отвечающим и Пушкину). Описан-
ной особенности субъектной сферы лермонтовской лирики
эквивалентна се собственно образная структура, в частности
развитые косвенные, символические формы, по своем}7 экс-
плицирующие имплицитный параллелизм Пушкина. Фоку-
сом, в котором сходятся диалогизированная субъектная стру-
ктура и символическая вероятностно-множественная образ-
ная модель этой лирики, становится миф о “демоне”.
Известно, что переживая глухоту наличного состоя-
ния мира как историческое проклятие своего поколения,
Лермонтов не считал эту данность единственно возмож-
ной и изначальной. Напротив, изначально для Лермонто-
ва, как показал Д.Е. Максимов, иное состояние мира - гар-
моническое, “райское”, “золотой век” (одной из его исто-
рических реализаций было для поэта пушкинское и пред-
пушкинское время, о чем, например, говорится устами
старого солдата в “Бородино”). Это время всеобщей связи
и глубокой отзывчивости, еще нс нарушенного и нерефлек-
сирующего единства человека с миром. В начале поэмы
“Демон” дается воспоминание:
Тех дней, когда в жилище света
Блистал он, чистый херувим,
Когда бегущая комета
Улыбкой ласковой привета
Спешила поменяться с ним.
По затем герой переживает “трагедию утраты этого
райского состояния” (243, 281-282) и отпадает от миро-
вой целокупности. Так рождается характерная для совре-
менного состояния мира разъединенность и глухота:
Лишь только божие проклятье
Исполнилось, с того же дня
Природы жаркие объятья
Навек остыли для меня.
Мир для меня стал глух и нем.
Мятеж Демона, отстаивающего свою привилегию
быть “я” и находиться вне другого (“божественного”) соз-
138
Глава 3
нания, осознается как закономерный и даже героический,
но и трагический одновременно, ибо результатом его ста-
новится отпадение героя от мирового единства и превра-
щение мира для него в безгласный и немой объект. Поло-
жение, онако, осложнено тем, что за безгласным для ге-
роя бытием-объектом звучит голос “бога” (утраченной
полноты, райского состояния), его “Слово”, которое явля-
ется для демона вечной проблемой и к которому он обра-
щен в самых глубинах своего существа.
Для понимания специфики субъектно-образной цело-
стности лирики Лермонтова важно, что его лирическое
“я” оказывается в сложных и диалогизированных отноше-
ниях с двумя другими субъектами (точнее - сверхсубъекта-
ми) его поэзии - “демоном” и “богом”. В исторической эм-
пирии “я” выступает как “демон”, а “бог“ - как “другой”,
причем оба субъекта диалога оказываются в последней
глубине открытыми друг для друга. Но в метаисториче-
ской заданности “я-демон”, не теряя своей индивидуально-
сти, должен вернуться к утраченной полноте и стать “дру-
гим”, то есть “богом”. Правда, такая заданность заложена
в поэтической системе Лермонтова как скрытая и пре-
дельная возможность, которая может быть реализована
только в особой ситуации, приближение к которой мы ви-
дим, например, в “Маскараде”.
Известно, что в якушкинской копии “Маскарада” Арбе-
нин, признавая за богом возможность простить Нину, сам
занимает подчеркнуто демоническую позицию: “По я нс
бог и не прощаю”. И в финале этого варианта драмы ге-
рой прочно стоит на том же. Иначе завершается четырех-
актная редакция “Маскарада”. Здесь, узнав о невинности
Пипы, герой восклицает:
Прости меня, о боже - мне прощенье.
(Хохочет.)
А слезы, жалобы, моленья?
А ты простил?
Ответом на беспощадно обращенное к себе “а ты про-
стил?” и является неожиданный монолог героя, обычно
объясняемый его внезапным умопомрачением. Обращаясь
к Неизвестному, Арбенин говорит:
Не я ее убийца. Ты, скорей...
О милый друг, зачем ты был жесток?
Ведь я ее любил, я б небесам и раю
Одной слезы ее, - когда бы мог, -
Не уступил - но я тебя прощаю!
Если герой здесь и сходит с ума, то только с ума моно-
логически-демонического и обретает на пределе жизнен-
ной вины другой ум, становясь на отвергаемую им прежде
“божественную” позицию.
Такое же диалогическое углубление позиции мы уви-
дим в лирике Лермонтова, если сравним, например, два
его стихотворения, разделенные десятилетием: “Романс
к И...” (1831) и “Оправдание” (1841), представляющие со-
бой два этапа разработки одной темы (срединное положе-
ние между ними занимает стихотворение “Когда одни вос-
поминанья” из драмы “Странный человек”, 1831). При об-
щей для этих стихотворений устремленности лирическо-
го героя к “высшему суду”, осуществляемому “другим”, ра-
зительна разница в самоощущении субъекта и его отноше-
нии к “другому”.
В “Романсе к И...” лирическое “я” - ни в чем не повин-
ная “злословья жертва”. В стихотворении из драмы герой
уже осознает себя виновным перед людским судом (отсю-
да и номинация его, данная в кругозоре “людей” - “он”),
но считает себя правым перед высшим судом - перед лю-
бимой. В “Оправдании” субъект речи виновен и перед
людьми, и перед собой, и перед любимой. А это меняет са-
мую суть ситуации. Именно теперь, когда исчерпаны все
возможности оправдания, когда из-за непоправимой вины
героя надежда на прощение с точки зрения конечно-раз-
мерных ценностей безосновательна, может вступить
в свои права у Лермонтова диалогическая позиция.
Чтобы оттенить своеобразие той предельной ситуа-
ции, когда у Лермонтова становится возможен диалог, за-
метим, что у Пушкина виновным был не лирический ге-
рой, а героиня, он же был дарующей стороной. У Лермон-
това наоборот: виновен он, а даровать прощение должна
опа. Вряд ли этот контраст в решении сходной ситуации
случаен. Даже если здесь пет сознательного соотнесения
позиций (или сознательность недоказуема), их объектив-
ная перекличка очевидна. Существенно и другое сходст-
во - различие. Обоим поэтам для завершения стихотворе-
ния нужно слово героини. По у Пушкина интенция герои-
ни стала стилсобразующим началом и в финале вылилась
140
Глава 3
в прямую речь. У Лермонтова же интенция героини не вы-
явлена, ее предполагаемая речь в финале представлена
в косвенной форме (“Скажи, что судит нас иной”) и объя-
та авторским словом. Видимо, для осуществления диалога
в художественной системе Лермонтова ситуация предела
личной вины еще не достаточна: за ее конкретностью обя-
зательно должна проглядывать метаисторическая симво-
лика, в свете которой ситуация только и получает свой ис-
тинный смысл, а реальный “другой” оказывается в симво-
лической перспективе - сверхсубъектом. “Оправдание”
подводит нас к такой ситуации, но оставляет на ее поро-
ге. Стихотворение обращено к любимой, а предписывае-
мая ей позиция (“прощать святое право”) не выходит
принципиально за границы сознания “я”. Собственно, дару-
ющее прощение, которое должна осуществить героиня, -
это человеческий субститут высшего суда, а не сам высший
суд, который обоим героям еще предстоит за пределами
“Оправдания”. Совсем иное дело, когда “я” оказывается
непосредственно перед лицом высшего суда, когда оно от-
вечает “другому”, стоящему за пределами сознания и сло-
ва “я” и выявляющему эти пределы. Именно такова ситуа-
ция стихотворения “Есть речи - значенье” (1840). Остано-
вимся на этом стихотворении подробней, ибо оно пред-
ставляется образцовой моделью диалогической и вероят-
ностно-множественной структуры лирики Лермонтова.
Два интерпретатора “Есть речи - значенье”, почти не
соприкасаясь в конкретном анализе, пришли к одному
сходному выводу. Оно, пишет о стихотворении С. Ломи-
надзе, “существует как те речи именно, о которых гово-
рит” (232, 124). Л.Г Фризман замечает: “Оно само - вопло-
щение идеи, в нем выраженной” (333, 36). В этих высказы-
ваниях схвачена “отвечающая” природа лермонтовского
слова, стремящегося стать адекватным тому, к чему оно об-
ращено (см. и 232, 125). Действительно, приблизиться
к пониманию стихотворения, отвечающему его природе,
значит прежде всего увидеть, что оно не просто говорит
о “речах”, “звуках”, “слове”, но диалогически обращено
к ним и является ответом на них. Ведь еще до специально-
го анализа ясно, что фраза “на звук тот отвечу” обронена
не случайно - она выражает определенную жизненно-
творческую позицию и противостоит иной позиции, при
которой “слово” “не встретит ответа”.
141
Нашему утверждению как будто противоречит тот факт,
что все-таки о речах, звуках и слове говорится в третьем ли-
це, а сами они нигде не выступают носителями выраженно-
го слова. Но все дело в том, что реальность, которую симво-
лизируют “речи”, невыразима прямо, от первого лица, она
может быть лишь косвенно, символически задана (но не
предметно дана). При обращении к такой реальности ко-
свенная форма речи не только не противоречит диалоги-
ческой ориентации текста, но является единственно воз-
можной. Что же символизируют у Лермонтова “речи”?
Как уже отмечено, об этой реальности сказано только,
что она “есть”, то есть подчеркнута ее чистая и еще не-
дифференцированная бытийность. То, что символами ее
являются звуки, речи и слово, свидетельствует о вырази-
тельной и говорящей природе этого бытия. Отчетливо
просматривается “любовная” природа его (“В них слезы
разлуки, В них трепет свиданья”), неизменно соприкасаю-
щаяся у Лермонтова с мотивами “святости”, божественно-
сти, райского состояния (см. в первой редакции - “звуки
святые”, в редакции 1839 года - “волшебное слово”, “целеб-
ные звуки”, “Душа их с моленьем, Как ангела, встретит”).
К райскому состоянию отсылает и семантика “былого”,
“прошлого” во всех редакциях стихотворения: “но их поза-
быть невозможно”, в них “зарыто былое”; ср. в канониче-
ской редакции - “узнаю повсюду”, предполагающее платони-
ческое воспоминание о гармоническом, но потерянном бы-
тии. Было бы, однако, опрометчиво видеть в “речах” только
прошлое (“потерянный рай”) и понимать их как возведен-
ное в мифолого-философский ранг “естественное состоя-
ние”. При несомненном присутствии в “речах” и такого
оттенка смысла, они все же являются началом, не имею-
щим собственно временной характеристики и несоизме-
римым ни с чем конечно-размерным (об этом говорит их
связь с творящим мир словом, о которой скажем ниже).
Теперь становится яснее природа интересующей нас
реальности. Это выразительное и говорящее бытие, “рай-
ское” состояние, любовь и святость, начало, творящее
мир, бесконечное и безмерное, по самому своему сущест-
ву нсовнешняемое и выступающее не как объект, а как
субъект (“бог“). О нем можно говорить только косвенно,
символически, но его нельзя исчерпать никакой характе-
ристикой, хотя к нему можно обращаться и ему можно
142
Глава 3
отвечать. Собственно, все эти косвенно восстанавливае-
мые предикаты искомой реальности уже являются ее ин-
терпретацией, а потому и определенным ответом на нее,
характеризующим не только ее, но и того, кто ее так ин-
терпретирует. Поэтому субъект речи выступает в стихо-
творении и как изображающий, и как изображенный.
С учетом всего контекста творчества Лермонтова, изо-
браженный здесь тип сознания должен быть определен
как “демонический”. Хотя демон нигде прямо не назван,
в стихотворении воспроизведено и разыграно то воспри-
ятие “слова”, которое возможно только для отпавшего
от целокупности мира. Только в кругозоре такого субъек-
та единое и неделимое первотворящее слово может пред-
стать расчлененным на значение и звук, а значение его
может казаться “темным иль ничтожным”, хотя за ним
прозревается невыразимая полнота мира. Интересно, что
аналогичным восприятием “живой жизни” наделил своего
героя (тоже своеобразного демона, вспоминающего о поте-
рянном рае) Достоевский: “Это должно быть нечто ужасно
простое, самое обыкновенное и в глаза бросающееся, еже-
дневное и ежеминутное, и до того простое, что мы никак нс
можем поверить, чтоб оно было так просто, и, естественно,
проходим мимо вот уже многие тысячи ле г, не замечая и не
узнавая” (“Подросток”). У Лермонтова подобные слова гово-
рит не эпически объективированный герой, но субъект ре-
чи, одновременно изображающий и изображенный, и совпа-
дающий, и нс совпадающий с автором. Это, конечно же, де-
мон, вновь услышавший голос потерянной бытийной полно-
ты, “бога” и вступивший с ним в диалог.
Поскольку Лермонтов особо подчеркивает вырази-
тельно-говорящую и звуковую природу реальности, симво-
лизируемой “речами”, носительницей глубокого смысла
становится сама ритмико-мелодическая структура стихо-
творения. Содержателен размер его - двухстопный амфи-
брахий, в лирике Лермонтова обычно связанный с обла-
стью смехового (помимо “Есть речи...” этим размером на-
писаны у поэта лишь два стихотворения - мадригалы-эпи-
граммы “Э.К. Мусиной-Пушкиной” и “Надежда Петров-
на”). Конечно, не случайно, что творение, исполненное
глубочайшего смысла и говорящее о “невыразимом”, напи-
сано размером, ассоциирующимся для автора с комиче-
ским. “Несерьезность” размера здесь и разыгрывает и пре-
143
одолевает ничтожность “речей”, ибо выбранный размер
начинает у Лермонтова вопреки всему звучать страстно
и торжественно. Важна и редкость употребления двух-
стопного амфибрахия в поэзии, и трудность овладения
им. Известно, что он (как и все двухстопники) встречает-
ся “редко, ибо тесен (в строку можно вложить только два
слова) и кроме того создает затруднения с рифмой, так
как рифмовать приходится каждое второе слово” (341,
46). Преодоленная трудность становится и разыгрывани-
ем и одновременно преодолением “тесноты” и несерьез-
ности размера, в который не может вместиться поэтиче-
ская мысль, как смысл “речей” не может вместиться в че-
ловечески-демоническое восприятие их.
Расчлененность подобного восприятия и нерасчленимая
целостность “речей” создают особую ритмико-мелодическую
структуру стихотворения. Предельная расчлененность обо-
рачивается в нем предельной же слитностью звучания.
Сначала стихотворение членится на строфы. Затем
внутри каждой строфы на полустрофия (двустишия). Каж-
дое двустишие 1,2 и 4 строф является либо самостоятель-
ным предложением, либо простым предложением, входя-
щим в состав сложного. В 5-й строфе двустишия тоже вы-
делены и синтаксически завершены - это симметрично
расположенные однородные группы сказуемого. И даже
в 3-й строфе, где нет разбивки па предложения, есть четкая
разделенность па группу сказуемого (1-2 строки) и группу
подлежащего (3-4 строки). Следующая ритмико-мелодиче-
ская единица - строка - не имеет столь четкой синтаксиче-
ской завершенности. Здесь, напротив, законом является не-
совпадение ритмической и синтаксической конструкции,
провоцируемое к тому же “короткостью” размера. Но при
этом анжамбеман - естественное завершение такого не-
совпадения - появляется в стихотворении только дважды
(в 1 и 4 строфах).
Помимо членения на строфы, полустрофия и особым
образом организованные строки, необычайно сильна тен-
денция к выделению еще более мелких ритмико-мелодиче-
ских единиц. Так постоянное совпадение стопо- и слово-
разделов (в 18 случаях из 20) ведет к тому, что строка -
уже сама по себе короткая - стремится расчлениться на
полустишие-стопу, то есть на мельчайшую при данном раз-
мере ритмическую единицу. Отсюда проходящая через все
144
Глава 3
стихотворение тенденция к внутристиховым паузам, одна-
ко весьма редко реализуемая до конца. Строго обязатель-
ны лишь три таких паузы (в 1-й строке первой строфы
и в 1-й и 3-й четвертой строфы). Опять, как и в случае
с анжамбеманом, мы сталкиваемся с несовпадением тен-
денции и ее осуществления.
Однако и на этом не завершается членимость текста.
Уже сама выделепность стоп-полустиший придает особую
весомость и выделенность их ударным звукам. И вот тут,
на пределе расчлененности, на уровне звука (“как полны
их звуки”) расчленяющие (“демонические”) тенденции ме-
лодического движения оборачиваются слитностью и пол-
нотой. Дело в том, что ударные звуки в “Есть речи...” соз-
дают единораздельный музыкальный поток, в котором аб-
солютно преобладают три звука - Э, У, О (они составляют
79% всех ударных гласных). Смысловая значимость этого
станет ясна, если учесть, что выделенные таким образом
гласные - ударные звуки ключевых слов-символов: речи,
звуки и слово. Получается, что ударные гласные, в которых
анаграмматически утаены символы перасчлененно-слитной
реальности, оказываются мельчайшей мелодической кон-
стантой, со-противопоставлеппой расчлененности.
Подчеркнем, что мелодическая тенденция к слитно-
сти возникает нс вслед за тенденцией к расчлененности, а
одновременно с ней. Благодаря этому с самого начала ак-
тивизируются моменты, противостоящие дробимости -
редкая реализация внутристиховых пауз и анжамбемана, о
которых мы говорили. Если же присмотреться к ритмико-
мелодическому движению, связанному со слитностью, то
бросается в глаза нарастающее с 3-й строфы (эта строфа
является, как увидим, переломной и в других планах) на-
растание величины выделенных единиц. Так 3-4 строфы
являются одним большим предложением, и эта конструк-
ция выглядит особенно внушительной на фоне дробности
предшествующих строф. Впечатление усиливает и то, что
соотношение между 3-й и 4-й строфой симметрично соот-
ношению, возникающему внутри первой строфы:
Есть речи - значенье Не встретит ответа
Темно иль ничтожно. Средь шума мирского
Из пламя и света
Рожденное слово.
но но
145
им без волненья в храме, средь боя
Внимать невозможно. И где я ни буду,
Услышав его я
Узнаю повсюду.
Подобный параллелизм указывает на смысловую пере-
кличку в пределах четырех строф, то есть почти всего текста.
В 4-й строфе кульминируют еще две тенденции. Во-
первых, именно здесь постоянное несовпадение ритмиче-
ских и синтаксических единиц дает единственный закоп-
ченный анжамбеман (“Его я Узнаю”). Содержательность
этого переноса несомненна: он связан с “я”, появляющим-
ся в тексте впервые как раз в данной строфе. Во-вторых,
4-я строфа доводит до кульминации уже отмеченные тен-
денции к наличию-отсутствию паузировки. В завершаю-
щей 5-й строфе, звучащей на фоне контрастной 4-й, разно-
направленные тенденции уравновешены, создавая эффект
единораздельного ритмико-мелодического потока.
Звуковые символы “речей”, ритмико-мелодическая
слитность звучания - глубоко содержательны. Благодаря
этой своей особенности, “речи”, не имеющие своего чле-
нораздельно выраженного слова, озвучивают и тайно се-
мантизируют стихотворение. Столь же содержательны
и расчленяющие ритмико-мелодические тенденции, ассо-
циирующиеся с демоническим началом. Однако обе про-
тивоположности пе существуют у Лермонтова изолиро-
ванно, а вступают в отношения дополнительности, смысл
которых отчетливее прочитывается на других уровнях
стихотворения - на собственно образном и субъектном.
Субъект речи и является у Лермонтова воплощением
этой дополнительности. Прежде всего субъект речи здесь
не только изображающий (и тем самым тяготеющий к полю-
су авторского начала), но и изображенный, (то есть тяготе-
ющий к плану геройному). В качестве изображенного он -
носитель определенного типа сознания (“демонического”).
Ведь с самого начала он не выступает в субъектной форме
“я”, а предстает в какой-то мере отодвинутым от автора син-
кретическим субъектом. Особенно заметным это становит-
ся при сопоставлении разных редакций стихотворения:
Есть звуки - значенье ничтожно
И презрено гордой толпой.
Есть речи - значенье
Порою ничтожно.
146
Глава 3
Есть речи - значенье
Темно иль ничтожно.
Своеобразие первой редакции в том, что в ней носите-
лем - по крайней мере одним из носителей оценки - явля-
ется толпа (паша оговорка объясняется тем, что полной
определенности здесь нет. Несомненно, что “презрены”
звуки толпой, но является ли и слово “ничтожно” выраже-
нием ее точки зрения, или это общее мнение, разделяе-
мое и субъектом речи? Как бы то ни было, “толпа” участ-
вует здесь в оценке звуков). В последующих редакциях по-
эт уже нс делает “толпу” прямой носительницей точки
зрения, но не устраняет окончательно ее экспрессию.
“Порою ничтожно” - это мнении общее, принадлежащее
и субъекту речи, и людям, это человеческая реакция на не-
выразимое. Однако след того, что прежде подобная оцен-
ка принадлежала чужом)7 сознанию, сохранился в слове
“порою”, которое не дает безусловно идентифицировать
слово “ничтожно” с авторским мнением и считать “ни-
чтожность” непременным и объективным атрибутом “ре-
чей”. В канонической редакции снимается и эта оговорка.
Оценка “речей” теперь принадлежит субъекту речи, вы-
ступающему, однако, не от лица “я”, а выражающему не-
кую общую точку зрения, одновременно и “авторскую”,
и “человеческую”. При этом “авторская” и “человеческая”
точки зрения в начале стихотворения предельно сближе-
ны, но не покрывают друг друга и имеют тенденцию к рас-
слоению, осуществляемую с 3-й строфы.
Общность “авторской” и “человеческой” позиций - в их
расчленяющей (“демонической”) природе. Притом подоб-
ное восприятие предстает не как “ошибочное”, которому
противостоит “истинное”, привилегированное сознание,
а как отвечающее природе человека и обладающее разны-
ми возможностями. В первых строфах эти возможности
только намечены, но они высветляются в контексте всего
стихотворения.
После строк “значенье Темно или ничтожно” следует
противостоящее утверждение: “Но им без волненья Вни-
мать невозможно”. Как и первое, второе утверждение при-
надлежит синкретическому субъекту; Но разница между
фразами есть, пока только в малозаметных акцентах. Пер-
вая посылка чуть ближе к полюсу “человеческого”, вторая -
“авторского”. Эта пока едва заметная акцентированность
147
поддержана в дальнейшем параллелизмом между 1-2 стро-
ками первой строфы и всей третьей строфой, а также ме-
жду 3-4 строками первой строфы и всей четвертой стро-
фой (см. об этом на с. 40). Благодаря этому параллелизму
“значенье темно иль ничтожно” сближается с позицией
“шума мирского”, при которой слово “не встретит ответа”,
а “им без волненья внимать невозможно” - с позицией “я”
(“узнаю повсюду”, “отвечу”).
Итак, мы видим, что уже в 1-2 строфах субъект речи,
будучи по своей природе расчленяющим (человечески-де-
моническим), в то же время по-своему синкретичен: в нем
слабо отделены друг от друга (хотя принципиально при-
сутствуют) разные субъекты. Один из них тяготеет к демо-
нической неслиянности и разрыву контакта с миром, дру-
гой - к “божественной” нераздельности и отзывчивости.
Своеобразие исходной ситуации “Есть речи...” в том, что
этот демонический, но и синкретический субъект дан в зо-
не контакта с невыразимой мировой целокупностью. Об-
разным выражением этой ситуации стала своеобразная
лермонтовская антитеза - “значенье темно иль ничтожно,
Но им без волненья Внимать невозможно”, “В них слезы
разлуки, В них трепет свиданья” и др.
Сама по себе антитеза, очевидно, расчленяющая образ-
ная конструкция. Но уже замечена ее особенность у Лермон-
това - “присутствие в изображаемом предмете обоих час-
тей антитезы, причем ни один из полюсов антитезы в ху-
дожественной системе поэта нс превалирует над другими,
а сливается со своей противоположностью, не представ-
ляя при этом единого разрешения антитезы” (272, 33).
Иначе говоря, расчленяющая по своей природе антитеза
оказывается у Лермонтова, как это ни парадоксально, спо-
собом синкретического совмещения противоположно-
стей и погружения демонического сознания (в предельно
возможной ддя него форме) в бытийную полноту невырази-
мого. Ведь различая значение и звук, невыразимое и внут-
ренне переживаемое, “слезы разлуки” и “трепет свиданья”,
субъект речи мыслит их не развернутыми во времени,
а одновременными (“есть”), а потому и сам еще как бы жи-
вет во времени и мире “речей”. Так окончательно выясня-
ется место первых двух строф в художественном мире сти-
хотворения: в них “отпавший” изображен в ситуации кос-
венного (ограниченного его демоничсски-человсчсской
148
Глава 3
природой) контакта с невыразимой полнотой бытия, сим-
волизируемой “речами”.
С 3-й строфы диалог вступает в новую фазу. Теперь
субъект речи оказывается во внешнем по отношению
к “Слову” пространстве - “средь шума мирского” и его про-
явлений. Одновременно произошло расслоение прежнего
синкретического субъекта на “я” и остающегося неопреде-
ленным субъекта третьей строфы. Оба они занимают по
отношению к “речам” и “слову” позицию вненаходимости,
но вненаходимости качественно различной. Позиция
субъекта третьей строфы, целиком погруженного в ценно-
сти “шума мирского”, означает прекращение контакта со
“словом” и замыкание в кругозоре отъединенного бытия.
Здесь находит свое завершение “человеческая” ипостась
прежнего синкретического субъекта.
Впснаходимость “я”, напротив, не означает прекраще-
ния co-бытия со “словом”, а является, если использовать
формулировку М.М. Бахтина, “особым и оправданным ви-
дом причастности событию бытия” (126, 166). Такую пози-
цию ученый называет “внежизненпо активной”. Дело в том,
что находясь вне “слова”, в сфере мирских ценностей, “я”
у Лермонтова активно устремлено к “слову”, преодолевая
в этом устремлении все, даже самые высшие жизненные
ценности, снимая антитезы обыденного сознания (храм -
бой, молитва - битва) и вообще все конечно-размерное
и оказываясь причастным безмерному - бесконечной ми-
ровой целокупности (см. 248, 209). Сопоставление разных
редакций стихотворения показывает, как целенаправлен-
но шел поэт к сотворению именно такой внежизненно ак-
тивной позиции “я”.
В редакции 1832 года позиция героев скорее пассивна:
она состоит в понимании звуков (“И в мире поймут их
лишь двое”) и спонтанном душевном движении (“И двое
лишь вздрогнут от них”). В этой редакции контакт со зву-
ками на профанном (“толпа”) уровне отсутствует совсем.
Иное дело в редакции 1839 года. Здесь толпа (“многие”)
уже не изъята совсем из контакта с “речами” (“Их многие
слышут”). Настоящая же связь состоит, как и прежде, в по-
нимании (“один понимает”) и в более активном душевном
движении (“душа их с моленьем... встретит”, “долгим би-
еньем им сердце ответит”). Уже найдено слово “ответит”,
но ответ этот еще только внутренний. В канонической
149
редакции позиция “я” вновь меняется. “Я” не ограничивает-
ся внутренней, душевной активностью, а выражает готов-
ность ответить на “слово” и словом и делом (“услышав..,
узнаю”, “отвечу”, “брошусь навстречу”). Так от редакции
к редакции высветлялась тема внежизиенно-активного от-
вета. Решающим моментом ее художественного претворе-
ния оказалось введение 3-й строфы - о слове, “рожденном
из пламя и света” (этой строфы нет ни в одной из преды-
дущих редакций).
Третья строфа со всей очевидностью отсылает нас к ши-
роко известному тексту о начале мира и творящем “Сло-
ве” - к евангелию от Иоанна. Последовательно проведен-
ная перекличка с 1-12 строфоидами евангелия позволяет
увидеть стихотворение Лермонтова в новом свете. Стано-
вится ясно, что слово в “Есть речи...” обращено к творя-
щему мир “Слову” и является ответом на него. Проясняет-
ся и суть отвергаемой в стихотворении позиции “шума
мирского”1?, и суть утверждаемой позиции “я”18, которая
предполагает творческий ответ словом и делом на творя-
щее “Слово”. “Я” стихотворения, поскольку оно осуществ-
ляет такую позицию, оказывается тем, кто “принял Его”
и, ответив ему, стал его “чадом”.
Такая позиция и противоположна той, которая задана
в начале стихотворения, и является развитием ее. Стано-
вится очевидным, что в “Есть речи...” воспроизведен, ес-
ли воспользоваться мифолого-поэтическими образами по-
эта, диалог “демона” с “богом”, приводящий к тому, что
“демон” в трансцендирующем его акте творческого и вне-
жизненно активного деяния превращается в “чадо” бога,
нс поглощаясь им и оставаясь самим собой. Будущее вре-
мя, притом вечное будущее, в котором развертывается
действие стихотворения начиная с 3-й строфы, выявляет
вечную открытость диалога и никогда предметно не пре-
одолеваемую инаковость “демона” и “бога”. В прагматике
текста “демон” до конца остается самим собой. Творцом
(“чадом бога”) он становится на выходе из текста (в пере-
кличке с евангелием) и через текст как реализованный
творческий акт, как ответ словом и делом на творящее
“Слово”. Таким образом, решающим аргументом в диалоге
является само стихотворение как сотворенный мир.
Анализ субъектной и образной структуры лирики Пуш-
кина и Лермонтова позволяет сделать некоторые выводы,
150
Глава 3
проясняющие и общие черты их художественных систем,
и их специфические особенности.
1. Перед нами диалогические отношения субъектов,
своеобразная “нераздельность и неслиянность” “я” и “дру-
гого”, вступающих в эстетические отношения взаимоори-
ентации и взаимоосвещения.
2. Эти отношения становятся возможными благодаря
том); что “я” и “другой” выступают как языки разных типов
образного сознания. О том, что так обстоит дело у Пушки-
на, мы говорили подробно. Но ведь и за лермонтовскими
мифологемами “демона” и “бога” (ив самом языке этих
мифологем) стоит соотношение современного (“расчле-
няющего”) и дорефлексивного образных сознаний, ориен-
тированных друг на друга как слово на слово.
3. В обеих художественных системах сотворяется вне-
жизненно активная, направленная поверх всех конечно-раз-
мерных ценностей авторская позиция. Однако конкретные
формы проявления такой позиции у Пушкина и Лермонто-
ва своеобразны. Автор у Пушкина выступает в роли говоряще-
го и дарующего “другому” возможность стать “я” (ценой само-
отверженного превращения субъекта речи в “другого”). Ав-
тор у Лермонтова выступает в роли отвечающего и завоевыва-
ющего возможность стать “другим”.
4. В обоих случаях диалогическое двуголосие проявля-
ется в определенной форме: авторское слово ориентирова-
но на слово “другого”, лежащее за пределами авторской ре-
чи, но активно преобразующее эту речь. У Пушкина при
этом границы между своим и чужим словом проницаемы,
и слово “другого” может быть прямо выражено в стихотво-
рении. У Лермонтова эти границы более жестки: слово
“другого” лежит в этой художественной системе не только
за пределами авторской, но и за пределами любой мысли-
мой “человеческой” речи, а потом)’ его выраженность не-
мыслима, оно может быть только символически проявлено.
5. С этим связано самое резкое различие двух поэтиче-
ских систем. У Пушкина диалогические отношения между
субъектами существуют в рамках единого мира, выступающего
как их общая мера. У Лермонтова же диалог возникает меж-
ду двумя мирами, ценностно-иерархически-несоизмеримыми
и трансцендентными друг для друга: их общей мерой (точ-
нее, создающей их соизмеримость безмерностью) может
стать только трансцендирующий личность творческий акт.
151
5. ЗРИТЕЛЬ И ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЛИЦО
В ДРАМЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ.
ДИАЛОГ И ПРИНЦИП
ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ В ЛИРИКЕ ТЮТЧЕВА
Качественно своеобразной по сравнению с пуш-
кинской и лермонтовской является субъектно-образная си-
туация в лирике Тютчева. Благодаря целому ряду исследова-
ний, посвященных этой проблеме, сегодня можно с доста-
точной определенностью говорить, что для Тютчева тоже
характерны диалогические отношения субъектов и что воз-
никают они на основе принципа дополнительности. Собст-
венно, своеобразная дополнительность имеет место в лю-
бой диалогической ситуации, поскольку она исходит по
М.М. Бахтину, из конкретной формы бытия человека - “я”
и “другой”. По в описанных нами типах диалога акценти-
ровалась позиция говорящего (Пушкин) или отвечающего
(Лермонтов). Тютчев же сделал предметом жизненно-эсте-
тического переживания саму дополнительность позиций
говорящего созерцателя и отвечающего участника бытий-
ной ситуации (тем самым создав свой вариант вероятност-
но-множественной образной модели мира).
Нельзя не заметить, что поэт подошел к проблеме,
при попытках решения которой человек сталкивается
с фундаментальной трудностью. Создатель теории допол-
нительности Н. Бор сформулировал ее так: “Согласовать
наше положение как зрителей и как действующих лиц
в великой драме существования” (139, II, 256). Ученый
имеет в виду те ситуации существования, аналогичные
тютчевской, в которых человек является одновременно
и зрителем, и участником и в которых нельзя отвлечься
от личного начала, ибо оно входит в характеристику само-
го феномена, составляя с ним индивидуализированное
единство. Классическая наука, как известно, в своем стре-
млении к объективности пыталась абстрагироваться от ак-
тивности наблюдателя и представить его как внеситуатив-
ного зрителя. Но для этого ей пришлось, как показывает
историко-методологическое исследование, во-первых, от-
влечься от конкретной формы существования человека
(“я-другой”), заменив ее абстракцией “я”, во-вторых, вве-
сти две имплицитные монологические посылки: идею
“провиденциально-разумного” бытия и идею индивида,
152
Глава 3
“способного возвыситься до абсолютного мышления, вос-
произвести и удержать в своей духовной организации (как
в некой привилегированной монаде) все сложное устрой-
ство мира” (246, 36). Отказавшись от этих монологиче-
ских установок, теории дополнительности - а до нее не-
классически ориентированному искусству - пришлось от-
казаться от надежды преодолеть указанную фундаменталь-
ную трудность в рамках одной непротиворечивой систе-
мы. Взамен были предприняты попытки описания обнару-
жившейся бытийной ситуации при помощи двух соотне-
сенных, но самостоятельных, исключающих друг друга, но
дополнительных систем-позиций (109, 17). По существу,
подобную установку мы находим у Тютчева.
Исследователи уже подходили к выявлению отмечен-
ной особенности его лирики, хотя не использовали пред-
ложенную выше терминологию. Ю.М. Лотман акцентиро-
вал внимание на логической дополнительности у Тютчева, на-
ходящей свое выражение в равносильности противопо-
ложностей, которые принципиально не могут быть “со-
единены ни в одной рациональной системе” (240, 197).
По Ю.М. Лотману, уже первые строки “Двух голосов”, на-
пример, строятся так, что в них речь идет “нс об истинно-
сти первого высказывания при любом значении второго,
а об истинности первого несмотря на истинность второго
и несовместимость их. Хотя истинность обоих высказыва-
ний опровергается их содержанием, они тем не менее оба
выступают как истинные” (240, 183).
Л.М. Биншток открыла другой аспект интересующего
нас принципа у Тютчева - субъектную дополнительность,
описав полисубъектность авторского сознания, субъекты
которого “связаны между собой диалогическими отноше-
ниями, обусловленными тем, что позиция каждого... лишь
частично истинна, нуждается в других, а не исключает их”
(133, 179).
В пределах обозначенных подходов исследователями
в лирике Тютчева выявлены типы диалогических струк-
тур, отличающиеся степенью объективированности слова
от первичного автора и характером дополнительности.
Первый тип - диалогически ориентированное целое, со-
стоящее из двух самостоятельных стихотворений, одно из
которых является “чужим” словом, а второе - отвечаю-
щим ему авторским (“Пе говори: меня он, как и прежде,
153
любит” - “О, не тревожь меня укором справедливой!”).
Второй тип - стихотворение, состоящее из двух объекти-
вированных от первичного автора и самостоятельных го-
лосов (“Два голоса”). Третий тип лишен внешней объекти-
вированности голосов от первичного автора, но построен
на отношении разных интенций с их ценностными кругозо-
рами. (“Кончен пир, умолкли хоры”, не позднее начала
1850; “Накануне годовщины 4 ашуста 1864 г.”, 1865 и др.).
Наиболее репрезентативен для лирики Тютчева третий
тип, тогда как первые два но существу уникальны и обозна-
чают предел данной художественной системы. Поэтому для
уяснения своеобразия субъектно-образной ситуации лирики
Тютчева, мы остановимся на одном из предельных ее вари-
антов (“Два голоса”, 1850) и на более представительном
(“Последняя любовь”, между 1852 и началом 1854).
Обращение к “Двум голосам” целесообразно и потому,
что именно на их материале возникла полемика о харак-
тере художественного завершения в лирике Тютчева.
Ю.М. Лотман считает, что в данном случае у Тютчева “зна-
чение дается нс словами или сегментами текста, а отноше-
нием между точками зрения” (240, 183), а “окончательная
смысловая конструкция создается не путем победы одного
из голосов, а их соотношением” (240, 185). Иными словами,
признавая единство художественного мира анализируемого
стихотворения, ученый считает, что в нем (если воспользо-
ваться формулировкой другого исследователя) пег надкру-
гозор! юй точки зрения на это единство. Л.М. Биншток, на-
против, настаивает на наличии в “Двух голосах” последней
авторской позиции и конечной интерпретации, воплощен-
ной не только “как программа, но и как реальная позиция
субъекта сознания” (131, 93). Иначе говоря, исследова-
тельница считает, что диалогическая дополнительность
сочетается у Тютчева с наличием “одного самого высоко-
го сознания - авторского, которое вбирает в себя вводи-
мые чужие, знает больше, чем они, знает все” (131, 98).
Последнее утверждение тесно связано с положением ис-
следовательницы о том, что Тютчев “как правило, не зна-
ет чужих сознаний, которые нс могли бы выступать в дру-
гих случаях как его собственное” (131, 100).
Чтобы разобраться в этом споре, следует прежде все-
го поставить вопрос: действительно ли Тютчев не знает
“другого” как такового? Е.Г. Неумоиной описано стихотво-
154
Глава 3
рение (“Не говори: меня он, как и прежде, любит”, 1851
или начало 1852 г.), в котором “другой” дан именно как
“другой”. Правда, данный случай в лирике Тютчева уника-
лен, но уникальна здесь полная отделенность чужого сло-
ва от слова авторского, а не само наличие “другого”, кото-
рый всегда присутствует у поэта, хотя не всегда является
человеком. Ведь в лирике (это мы видели у Лермонтова,
а теперь видим у Тютчева) “другой” может выступать и как
вероятностно-множественный сверхсубъект, в данном слу-
чае как “рок”.
Действительно, “Два голоса” вполне определенно диало-
гически ориентированы на “рок”, хотя в прямой форме -
как протагонист героев - он выступает только во втором
голосе. По и не названный еще прямо в первой части сти-
хотворения “рок” является именно субъектом (сверхсубъ-
ектом) его. К тому, что “рок” - нечто большее, чем просто
объект изображения, подходит Л.М. Биншток, когда гово-
рит о первом голосе, что это “голос силы объективных об-
стоятельств” (131, 93). Ю.М. Лотман тоже видит в стихо-
творении “трагический конфликт с неизбежностью” и по
существу показывает, что интенция этой неизбежности из-
нутри определяет характер художественной речи, отража-
ясь в “структуре произведения, с одной стороны, постоян-
но устанавливающей путем жесткого параллелизма зако-
номерности построения текста, и, с другой - ведущей по-
стоянную борьбу с этими закономерностями, оспаривая
их целым арсеналом перестановок и вариаций, создаю-
щих на фоне повторения картину богатого разнообразия”
(240, 184-185).
Однако последовательно проведенного понимания “ро-
ка” именно как второго субъекта стихотворения исследова-
тели не дают, что побуждает присмотреться к этой пробле-
ме внимательней. Совершенно очевидно, что “рок” - сверх-
субъект особого типа, существующий в тексте вполне ре-
ально, но не как данность, а как заданность. Он не может
(по самому роду своего бытия) выступать прямо, от перво-
го лица (как и “Слово” у Лермонтова) и быть носителем
выраженного слова. Но он может говорить косвенно, сим-
волически, через язык своих субститутов, совокупным об-
разом которых является противостоящий голосам мир -
с его молчанием и выразительной пространственно-вре-
менной структурой. Сложность заключается еще и в том,
155
что, хотя субъекты диалога (человек и “рок”) в обоих голо-
сах нераздельны и неслиянны, в каждом из голосов обнару-
живается акцент на одной из сторон этого отношения.
Так первый голос - и это становится ясно при его
сравнении со вторым - прежде всего внутринаходим по
отношению к “року”, хотя и неслиянен с ним. Поэтому
“рок” здесь еще не назван по имени и пе представлен пря-
мо как протагонист человека, и в то же время он изнутри
определяет ценностную экспрессию голоса, подчеркивая
“безнадежность” положения людей. Впутринаходимость
голоса по отношению к року проявляется и в его отстра-
ненности от людей, выраженной в их номинации: “над ва-
ми”, “под вами”, а пе “над нами”, как заметила Л.М. Бин-
шток (131, 93), отчуждающее “для них”. Все это ставит го-
лос в позицию, сходную с положением внеситуативного
зрителя. По сближаясь с ценностным кругозором “рока”
в отмеченном плане, первый голос пе сливается с ним
и даже оспаривает его. Ведь призыв к борьбе, исход кото-
рой заведомо безнадежен, принадлежит слову, самим фак-
том своего существования прерывающему мировое молча-
ние и ночь и утверждающему смысл, трансцендентный
изображенному миру. В этом свете призыв к безнадежной
борьбе оказывается призывом к человеку и даже требова-
нием трапецепдировать себя перед лицом “рока”, выйти
за своп собственные пределы. Возможность такого выхо
да (отрицаемая картиной изображенного мира) удостове-
ряется самим фактом существования голоса и осуществля-
ется в его диалогическом двуязычии.
Один из языков первого голоса уже зафиксирован ис-
следователями. Это язык античной культуры с се ценно-
стями (бой, борьба, победа, венец, боги, Олимп, олимпий-
цы, рок). IO.M. Лотман писал по интересующему пас воп-
росу: “То, что концепция трагического героизма, которая
в понятиях собственно тютчевской этики была бы выра-
жена другими терминами, здесь дана голосом античности,
подлежащим эмоциональному переводу, создает дополни-
тельный полифонизм между текстом и читателем” (240,
181-182). Показательно в этом высказывании и признание
“голоса античности”, и убеждение, что он единственный
в стихотворении: его перевод на язык самого поэта проис-
ходит, по мнению ученого, уже за текстом. Но язык антич-
ной культуры является лишь одним из языков стихотворе-
156
Глава 3
ния, и суть не в его перекодировании, а в том, что в самом
тексте возникает особого рода соотношение античного и
“другого” сознаний, ставших языками.
К выявлению этого другого языка был близок Ю.М. Лот-
ман, когда он заметил, что слово “мужайтесь” у Тютчева не-
сет “ту семантику, которую оно получило в широком кругу’
церковных текстов” (240, 181). Однако ученый не придал
замеченному факту должного значения. Между тем, перед
нами только одно из слов второго - “христианского” - язы-
ка стихотворения, несущего в себе иные ценности, нежели
античный. Античное сознание как известно, отличалось
и убежденностью во всевластии рока, и рокоборческим
пафосом. Христианское сознание, напротив, не пережива-
ло столь остро проблемы рока и не было отмечено роко-
борчеством. Последнее было трансформировано идеалом
душевной - “страдательной” - твердости в испытаниях
жизни (“мужайтесь”), усердием и “прилежанием” в земных
“трудах и тревогах”. Так выстраивается цепочка ключевых
слов второго языка: мужайтесь, прилежно, тревога и труд.
Как же соотносятся в первом голосе языки античной
и христианской культур? Прежде всего обращает па себя
внимание оксюморонное сочетание “боритесь прилежно”.
Подобная конструкция активизирует два взаимоотрицаю-
щих смысла: античной героической борьбе придается от-
тенок христианского страдательного “прилежания” (“тру-
да”, как будет сказано позже), ио само “прилежание” геро-
изируется. Взаимоотрицающие смыслы не сведены здесь
к одному знаменателю, но они парадоксально соприкасают-
ся, а потому начинают знать друг друга. “Горний Олимп” -
такой же христианско-античный оксюморон, и он тоже -
сигнал соотнесения двух ценностных кругозоров, осуществ-
ленного во второй строфе.
Если само но себе взаимоосвещсние разных культур
в данном случае несомненно, то особый интерес приобре-
тает образная структура его. Достаточно очевидно, что
функцию соположения языков берет на себя в первом го-
лосе параллелизм. Уже в первой строке христианское “му-
жайтесь” и античное “боритесь” благодаря ритмико-синтак-
сической конструкции оказываются самостоятельными
частями целого, связанными отношениями параллелизма.
Такая конструкция, как заметил Ю.М. Лотман, сближает
слова, выделяя в них общее семантическое ядро (делая их
157
синонимами), и в то же время активизирует в них призна-
ки, свойственные другому (240, 181-182). Следует добавить,
что сама отнесенность “мужайтесь” и “боритесь” к разным
частям параллели, сближая их, все-таки акцентирует их раз-
личие. В соответствующей строке второго голоса (“Му-
жайтесь, боритесь, о храбрые други”) картина совершен-
но иная: здесь оба слова входят в первую половину строки
и вместе отделены от второй ее половины. Такое постро-
ение, приглушая различие, усиливает момент тождества.
В целом получается, что в первой строке первого голоса
и в отношениях между частями параллели (мужайтесь-бо-
ритесь), и внутри второй части се (“боритесь прилежно”)
создается сопряжение именно неслиянных и освещающих
друг друга античного и христианского сознаний и языков.
Этот же тип отношений возникает и во второй строке
благодаря параллелизму между “боем” и “борьбой” (пос-
ледняя уже окрашена христианской семантикой в первой
строке через связь со словом “прилежно”). Аналогичный
принцип действует в 3-4 строках, хотя композиционная
форма параллелизма здесь иная. В отличие от “горизон-
тального” параллелизма внутри 1-2 строк в данном случае
связь устанавливается между строками по вертикали:
Над вами светила молчат в вышине.
Под вами могилы - молчат и оне.
Каждое слово 3-й строки либо повторено в 4-й (вами,
молчат), либо зарифмовано в пей (светила - могилы, вы-
шине - оне). Это вместе с ритмико синтаксической двуча-
стностью каждой из соотнесенных строк создает такую
связь между ними, при которой признаки неслиянности
(светила - могилы) выдвинуты на первое место (и зариф-
мованы), тогда как черты сходства следуют за ними. Важ-
но, что соответствующие строки 2-го голоса построены и
на этот раз иначе:
Над вами безмолвные звездные круги.
Под вами немые, глухие гроба.
Здесь на первое место поставлены и “горизонтально”
зарифмованы внутри каждой отдельной строки именно
общие свойства сополагасмых явлений (безмолвные -
звездные, немые - глухие), а противоположности (звезд-
ные круги - гроба) нс поддержаны рифмой, отодвинуты
158.
Глава 3
в тень и в значительной мере деполяризованы, благодаря
объединяющей их семантике “замкнутого пространства”.
Получается, что акцентируя в первом голосе неслиян-
ность и разомкпутость смыслов, поэт вместе с тем создает
ощущение потенциальной бесконечности и расходящейся
пространственно-смысловой глубины и высоты (в отличие
от замкнутых пространств второго голоса).
На сложном параллелизме строится вся вторая строфа
первого голоса. Прежде всего она членится на две соотне-
сенные части (1-2 и 3-4 строки), одна из которых завер-
шается словами “труда и тревоги”, а другая начинается
этими же словами, но перевернутыми (“тревога и труд”).
Этим перевернутым повтором к богам и людям прилагает-
ся единая (“христианская”) мера, “чужая” для античных
богов, но “своя” для людей. Данная мера обнаруживает ог-
раниченность и “богов” (поскольку для них есть нечто “чу-
ждое”), и людей. И в то же время создается возможность
трактовать ограниченность богов как иерархически выс-
шую и предпочтительную. Но остановиться на такой трак-
товке строфа нам не даст: в последней строке (“Для них нет
победы, для них есть конец”) к людям прилагается еще од-
на, на этот раз “античная” мера: победа. В связи с этим ро-
ждается новый разрез параллелизма.
Дело в том, что, прилагая “христианскую” меру и к бо-
гам, и к людям, “античную” меру первый голос прилагает
только к людям - о возможности или невозможности “по-
беды” для богов текст прямо не говорит. Но этот опущен-
ный смысл подразумевается и вводится в текст косвенно,
способом бриколажа: говоря о невозможности победы для
людей, первый голос скрыто свидетельствует (а второй
голос, как мы увидим, прямо удостоверяет), что победите-
лями не являются и боги, что “блаженство” и “бессмер-
тие” суждены им взамен “победы”, как людям взамен нее -
“тревога и труд”. Фактически перед нами два параллельных
субститута победы: блаженство и бессмертие с одной сторо-
ны, тревога и труд - с другой, но второй из них дан как суб-
ститут прямо, а первый - косвенно, что создает видимую
определенность при глубокой внутренней проблематично-
сти положения пе только людей, но и богов. Отсюда нере-
шенность последнего целого и возможность ценностной
переориентации позиции людей и богов, нал и чествующая
в первом, но прямо осуществленная во втором голосе.
159
Подводя итог анализу первого голоса, следует сказать,
что в нем, во-первых, акцентирована (по сравнению со
вторым) внутринаходимость но отношению к “року”, а во-
вторых, неслиянность двух ценностных экспрессий и язы-
ков, которые, однако, парадоксально соприкасаются друг
с другом и знают друг друга. При такой структуре роковая
безнадежность положения человека соотносится с нере-
шенностью последнего целого, с потенциальной беско-
нечностью и смысловой глубиной, со всем трепетом бы-
тийной неопределенности и непредсказуемой сложности.
Во втором голосе диалог с “роком” вступает в новую
фазу, противоположную, но и дополнительную по отноше-
нию к прежней. Поэтому второй голос может быть рас-
смотрен и как развитие первого (на этот синтагматиче-
ский аспект сделала упор Л.М. Биншток), и как самостоя-
тельное целое (этот парадигматический аспект подчерк-
нул Ю.М. Лотман) одновременно. Следует увидеть при
этом, что новый голос не является только логической оп-
позицией первого, а новой и целостной личной позицией
по отношению к сверхсубъекту диалога. Теперь говоря-
щий занимает по отношению к “року” позицию вненахо-
димости, что порождает резкие изменения в художествен-
ном мире стихотворения.
Именно извне, с точки зрения лица, отделившего себя
от сверхсубъекта диалога, ситуация второй части стихо-
творения может быть прямо осознана как ситуация борь-
бы с “роком”, а сам он впервые отчетливо обозначается
в слове как главный протагонист человека. Одновременно
происходит титаническое укрупнение человека, разруша-
ющее его иерархическую несоизмеримость с богами, уста-
навливающее его связь с ними и резко меняющее их отно-
шения: олимпийцы “завистливым оком глядят”, люди “вы-
рывают” у них венец, предназначенный победителю. Под-
черкнем, что мировая связь, которую в первом голосе осу-
ществляло слово, теперь осуществляется прежде всего че-
рез героическое дело.
Совершенно очевидно, что во втором голосе преоблада-
ющей становится одна из двух прежних тенденций - тенден-
ция античного героизма. Это сказывается в господстве ан-
тичной героической семантики, ослаблении и почти пол-
ном выпадении из текста семантических полей “христиан-
ского” языка. Так выпадает комплекс “прилежно - тревога -
160
Глава 3
труд”, заменяясь героическим “храбрые - непреклонные -
ратуя”. Там же, где “христианский” язык сохранен, он де-
поляризован и сближен с античным (“жесток” и “упорна”
вместо “неравен” и “безнадежна”, отнесение “мужайтесь,
боритесь” к одной части параллели, изменение характера
параллелизма в 3-4 строках первой строфы по сравнению
с первым голосом).
Как должна быть интерпретирована описанная осо-
бенность второго голоса? Прежде всего очевидно, что во-
зобладавшая героическая позиция обладает самостоятель-
ной ценностью. Но столь же очевидно, что опа не являет-
ся последним словом “Двух голосов”, ибо сама является
изображенной. Победа над ‘фоком”, оказывается, нс про-
ходит бесследно, опа порождает свой “рок”, который вы-
рисовывается на фоне диалогического двуязычия и нере-
шенности первого голоса. Иными словами, Тютчев пре-
красно видит как моральную высоту впежизпенно актив-
ной героической позиции, так и ее специфическую огра-
ниченность, предполагающую моиологизацию целого, от-
каз от живой бытийной неопределенности, от глубины и
открытости. В параллель к песлиянпым, но знающим друг
друга языкам первого голоса, во втором акцептируется
центростремительное движение, резко сокращается дис-
танция между языками и смыслами, вплоть до замеченно-
го Ю.М. Лотманом снятия противоположностей (пал - вы-
рвал, победа - конец, 240, 184). Семантика замкнутого круга
начинает господствовать в характеристике пространства
(“звездные круги”, “гроба”). Усиливается момент духовной
неконгактности (“безмолвные”, “глухие”, “немые” вместо
просто молчащих пространств первого голоса). Все это сви-
детельствует о том, что героическая позиция не только утвер-
ждает человека в мире, но одновременно затрудняет духов-
ные контакты его с миром. Получается, что если “безнадеж-
ность” первого голоса порождаема напряженную духовность,
то не знающая сомнений героика преодолевает “безнадеж-
ность” вместе с сопутствующими ей духовными ценностями.
Итак, мы убедились, что, будучи вполне самостоятель-
ным, второй голос раскрывает свой смысл и в соположе-
нии с первым. Очевидно, что параллелизм между голоса-
ми порожден рефлексией автора над стихотворением как
целым. Об этой универсальной рефлексии свидетельству-
ет и последняя позиция первичного автора - его отделен-
161
ность от субъектов голосов, повторенная в отделенности
самих субъектов голосов от действующих лиц. Па указан-
ные отношения обратила внимание Л.М. Биншток, интер-
претировав их как выражение характерной для Тютчева
дополнительности позиций действующего лица и созерца-
теля с акцентом па положении последнего (“созерцание
возвышает над ситуацией, даже если ты являешься в ней
действующим лицом”, 131, 93). Применительно к уникаль-
ной структуре “Двух голосов” следует говорить о созерца-
нии самой дополнительности позиций созерцателя и дей-
ствующего лица, то есть о той универсальной рефлексии,
которая составляет специфику последнего целого интере-
сующего нас стихотворения.
Какую, однако, форму примет последнее целое у Тют-
чева, если субъект речи не будет объективирован от авто-
ра так, как это было в данном случае? Этот вопрос мы рас-
смотрим на стихотворении “Последняя любовь”.
Сразу заметим, что ослабление внешних композицион-
ных признаков диалогической дополнительности (по
сравнению с “Двумя голосами”) компенсировано в “Пос-
ледней любви” заметным усилением этого начала в ее жан-
ровой и стилевой структуре, а также в ее ритмике и мело-
дике. В ритмике этот образный принцип выражен непо-
средственнее, чем на других уровнях целого. Бросается
в глаза то, что ритмическая структура интересующего нас
стихотворения - результат взаимодействия двух самостоя-
тельных ритмических парадигм: четырехстопного ямба
и стиха, обычно интерпретируемого как дольник на двух-
сложной основе, то есть не просто двух разных размеров,
но двух разных систем стихосложения, семантизирован-
ных как “современное” и “архаическое” начала (подроб-
ней о ритмико-синтаксической структуре “Последней люб-
ви” см. 145, 54-57). Параллелизм двух парадигм порожда-
ет координацию двух самостоятельных ритмических усто-
ев, создает и выражает на уровне ритма ту дополнитель-
ность, которая характерна для всего художественного ми-
ра стихотворения, в частности для его жанра.
Па жанровую неодносоставность “Последней любви”
обратил внимание Я.О. Зунделович. Он писал: “Тут и пе-
реживание конца и сознавание его. По мучительность из-
живания конца не поддается полностью смирению этого
изживания мыслью. Отсюда двойственная тональность
162
Глава 3
стихотворения, выражающаяся в том, что мысль не склоня-
ется смиренно перед неизбежностью конца, а ищет выход
в продлении последних мигов дня (и жизни)” (202, 160).
И хотя ученый относил “Последнюю любовь” к жанрово не-
определенной сфере “интимной лирики”, но он, опираясь
на отмеченную двойственность, говорил об особом “строе
стихотворения как заклинания”. Притом, закл и нательному
начал}’ Я.О. Зунделович придавал столь большое значение,
что, завершая анализ, утверждал: “Так выдерживается до по-
следней строки струклура стихотворения как своего рода за-
клинания” (202, 160, 163). И все же ученый не сделал всех вы-
водов из своего наблюдения, а “заклинание” он понимал ско-
рее фигурально, а не как научное определение одной из жан-
ровых парадигм стихотворения (связанных с “архаическим”
началом, выявленным в его ритмике). Второй же жанровой
парадигмой его является элегия. Художественное целое тво-
рения Тютчева - результат взаимоосвещения двух жанров,
принадлежащих к тому’ же к качественно различным жанро-
вым системам - фольклорной и собственно литературной
(тс же отношения мы видели в ритмике).
Параллелизм двух жанровых парадигм проведен в сти-
хотворении с предельной отчетливостью: 1-2 строки каж-
дой строфы - элегические, 3-4 - заклинательные (исклю-
чение составляет последняя строка, о которой ниже). Ка-
ждый жанр представлен своей формой высказывания.
Субъект элегии - “мы”. Субъект заклинания не имеет вы-
раженных форм лица - он безличен. Оба субъекта предла-
гают разные понимания события взаимодействия челове-
ка и рока, и предлагают не просто прямым содержанием
своих высказываний, но и самим фактом своей жанрово-
смысловой ориентации в мире.
Элегия, преобразованная в литературный жанр из
фольклорного плача над покойником, генетически связа-
на с мотивами старости и смерти, с медитацией по пово-
ду неотвратимого бега времени. Не менее важно и следу-
ющее. Элегия (как и другие собственно литературные
жанры, обязанные своим возникновением античности)
по-своему укоренена в бытии: она является эстетической
реальностью, не требующей признания своих образов за
действительность. Стихию жизненного диалога элегия
(подобно другим литературным жанрам) перемещает
внутрь литературного произведения и делает предметом
163
самоценного эстетического созерцания (98, 215). Так эле-
гическая медитация -
О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней... -
обращена сама на себя, а нс к “другому” (“року”), ибо он уже
перенесен внутрь ее собственной структуры. Другими слова-
ми, эта медитация замещает собой чу ситуацию, о которой
говорит, превращает эту ситуацию в предмет самоценного
созерцания и таким способом объективирует се. Соответст-
венно все, попадающее в поле зрения субъекта элегии
(в том числе его собственный внутренний мир), предстает
в объектных, а пе субъектных формах. Наконец, образы эле-
гической медитации (“склон лет”) мы не должны отождест-
влять с действительностью, а обязаны понять их собствен-
ный (метафорический в данном случае) язык.
В заклинании качественно иная ориентация на бытие.
Будучи фольклорным жанром, заклинание живет внутри
стихии жизненного диалога и не вычленимо из него (а по-
тому не может его замещать). Субъект заклинания обра-
щен пе к себе, а к “другому” (“року”), причем этот “другой”
воспринимается не в объектных, а в субъектных формах
(“ты”). В стихотворении субъект, к которому обращаются,
предстает последовательно как “свет...”, “вечерний день”,
“очарованье”, “последняя любовь”, “ты”. Во всех случаях
это синкретическая, космически-чсловеческая стихия, яв-
ляющаяся одновременно и внутренним состоянием чело-
века, и внеположной ему силой. II если элегический субъ-
ект интериоризирует эту стихию, превращая се в факт
своего переживания (“мы любим”), то субъект заклинания
сам находится внутри нес и обращается к ней как к субъек-
ту, стремясь на нее воздействовать. Заметим, что стремле-
ние управлять одушевленными силами бытия является
дифференциальным признаком заклинания как жанра
(191, 29). Наконец, в отличие от метафорического (услов-
но-поэтического) языка элегии, не требующего признания
своих образов за действительность, язык заклинания как
раз ориентирован на то, чтобы быть воспринятым нс как
условность, а как нечто, имеющее субстанциальное значе-
ние. Л.В. Пумпянский писал о тяготении Тютчева к такой
субстанциальности и даже утверждал, что понимание поэ-
зии как вымысла Тютчева нс коснулось (283, 57).
164
Глава 3
Теперь становится яснее смысл дополнительности
двух жанров в художественном мире “Последней любви”.
Как элегия она исходит из своей жанровой “идеи” - при-
знания зависимости человека от внеположной ему реаль-
ности и стремления заместить собой эту реальность. Как
заклинание она исходит из оспаривающей первую идеи -
из стремления управлять силами жизни. Подобное разно-
речие вообще характерно для Тютчева. Замечено, что,
признавая всеобщность и объективность законов действи-
тельности, поэт “все же не хотел полностью подчиниться
их власти, несущей зло, искал и отстаивал зону романти-
ческой свободы” (133, 179). Но было бы неверно думать,
что признание Тютчевым детерминированности человека
только логически противоречило признанию его свобо-
ды. Противоречие здесь было не логическое, а бытийно-
субъектное, причем субъекты, выражающие его, были та-
кими же исключающими друг друга, но и дополнительны-
ми мирами, как “день” и “ночь” в образной системе поэта.
Собственно, представителями этих двух миров и являют-
ся два жанра, соположенные в “Последней любви”: совре-
менное (“дневное”) сознание говорит в элегии о своей за-
висимости от объективных законов бытия, а мифопоэти-
ческое (“ночное”) сознание отстаивает свою свободу и пы-
тается управлять силами бытия в заклинании.
Данная здесь дефиниция двух жанров “Последней люб-
ви” была необходимой, но неполной, ибо она отражает
только исходную ситуацию диалога. 11а завершающей его
стадии указанные отношения меняются. В 3-й строфе
субъект элегии утверждает свою независимость от “рока”:
Пускай скудеет в жилах кровь,
11о в сердце не скудеет нежность...
Субъект же заклинания отказывается, как писал Я.О. Зун-
делович, от “императивности” и соприкасается с областью
невыразимого. Возникает “напряженная недосказанность”
(“О ты, последняя любовь!”), ибо поэт “не раскрывает то-
го, с чем он обращается к последней любви. Но именно
поэтому в предпоследнюю строку можно вложить самые
многообразные заклинательные мотивы” (202, 162). Обра-
тим внимание па сходство последнего заклинания с пер-
вой элегической медитацией - и по восклицательному то-
ну, и по самососрсдоточенности.
165
Такое сближение и в то же время такое переворачива-
ние двух жанровых парадигм оказывается осуществимым
благодаря тому, что каждая из них с самого начала таила
в себе возможности, отрицающие ее жанровую “идею”.
Уже первое элегическое восклицание утверждало не толь-
ко зависимость от “рока”, но содержало в себе в перазвер-
нутой еще форме противостояние ему (“нежней мы лю-
бим”, хотя и на склоне лет), которое стало доминантным
в элегической парадигме последней строфы. В свою оче-
редь, первое заклинание с самого начала было ориентиро-
вано нс на изменение ситуации, а на продление ее, что
и привело к последующему ослаблению в нем признаков
активного действия, вплоть до превращения в чистую про-
тяженность и повелительное умолчание (сияй - помедли -
продлись - о ты...). Видимо эта внутренняя открытость каж-
дой из жанровых парадигм и воссоздана ритмически тем,
что в 1-2 строках стихи разных типов не локализованы по
жанрам (элегия - ямб, заклинание - дольник), а рассредото-
чены: одна из элегических строк обязательно ямбическая,
другая - дольниковая; то же самое в заклинательных строках.
Лишь в финальной строфе, где резко перевернуты прежние
отношения, изменено и привычное соотношение жанрового
и ритмического начал: ямб объединяет элегические и закли-
нательные строки, а дольник (“Ты и блаженство и безна-
дежность”) завершает стихотворение.
Чтобы лучше увидеть тот диалогический эффект, кото-
рый возникает благодаря взаимоисключающей дополнитель-
ности двух самостоятельных и открытых жанровых пара-
дигм, сопоставим “Последнюю любовь” с элегией, написан-
ной в XVIII веке (а этот век является, как известно, тем куль-
турно-историческим фоном, на котором отчетливее просту-
пает своеобразие нашего поэта), - с переводом-подражанием
М. Хераскова вольтеровским “Стансам Сидевилю” (“Если то
тебе приятно”). Важны тут историко-типологические схож-
дения и расхождения, независимо от того, действительно ли
Тютчев знал это стихотворение и отталкивался от него.
Па фоне сходных мотивов и образов (любовь и ста-
рость, огонь любви и вечер жизни, нежность и др.) отчетли-
вее проступает различие стихотворений. У Хераскова ста-
рость - вечер жизни - приводит к потере способности любить'.
исчезают “игры, нежности, красы”, “любови прежней нет”.
У Тютчева наоборот: вечер жизни обостряет любовное чу ест-
166.
Глава 3
во: “на склоне наших лет Нежней мы любим и суеверней”.
Поэтом}7 стансы Хераскова - медитация о потере любви,
а стихи Тютчева - об особом характере любви, опроверга-
ющей рационалистические представления о жизни. Если
у Хераскова человек зависит от природного закона и по-
рядка вещей, то у Тютчева - противостоит им.
Впрочем, такая резкость формулировок оправдана
только стремлением четче обозначить существенные раз-
личия двух моделей. Когда это сделано, необходимо ска-
зать, что у Тютчева последняя любовь, противостоя зако-
ну природы и порядку вещей, одновременно и зависит от
них. Ведь “нежней” значит (ив “Последней любви” и во-
обще в его поэзии) нс только “сильней”, но и страдатель-
ней, уязвимей перед лицом рока; “суеверней” же говорит
о соприкосновении со “всепоглощающей и миротворной
бездной” (оно и рифмуется со словом “вечерней”). Мы
знаем, что в поэзии Тютчева первым гибнет тот протаго-
нист любовной драмы, который “нежнее”.
По позиция Тютчева нс просто сложнее рационали-
стической позиции Хераскова, она и качественно иначе
укоренена в бытии. У Хераскова субъект речи сосредото-
чен на противоречии между уже состоявшейся потерей
способности любить и нежеланием с этим смириться.
Причем эта несмиренность, уже отделенная от самой люб-
ви, внеположная ей, не колеблет внутреннего строя бы-
тия, его порядка и выступает как внешнее противоречие.
Поэтому несмотря на минимальное наличие у субъекта ре-
чи двух ролей - участника и зрителя, - со-бытийность их
предельно ослаблена: преобладающей и структурообразу-
ющей оказывается внешняя позиция зрителя-резонера.
У Тютчева же все сосредоточено не на внешнем про-
тиворечии между уже состоявшейся потерей способности
любить и нежеланием с этим смириться, а на внутреннем
противоречии, заключенном в самой ситуации последней
любви, противостоящей и одновременно подвластной ро-
ку. Поэтому - и на фоне “Стансов Сидевилю” это особен-
но заметно - позиция субъекта здесь внутренняя, ситуа-
тивная, позиция бытия-в-мире. Впрочем, внутренней она
выглядит не только на фоне поэта XVIII века, но и в срав-
нении с рядом произведений самого Тютчева, например,
с “Предопределением” (1851 или начало 1852). В этом сти-
хотворении позиция субъекта речи - над драмой, разы-
167
гравшейся между двумя любящими, хотя преимуществен-
ное внимание отдано тому, чье сердце “нежнее” и уязви-
мее. Но в “Последней любви” ситуация освещена как раз
изнутри, с позиции того любящего, чье сердце “нежнее”
и о ком в “Предопределении” говорилось со стороны.
Всячески акцентируя роль этой исходной внутренней
точки зрения, необходимо в то же время видеть, что она
не является единственной, а дана во взаимодействии с по-
зицией вненаходимости, качественно отличной, однако,
от монологической вненаходимости у Хераскова. Рассмот-
рим этот вопрос подробней.
То, что о любви рассказано изнутри, с точки зрения
одного из любящих, создает ощущение присутствия в тек-
сте “я”, хотя эксплицитно оно не выражено и субъект ре-
чи выступает от лица “мы” (показательно, что для такого
опытного исследователя, как Я.О. Зунделович, наличие
“я” здесь настолько несомненно, что он позволяет себе
формально неточное утверждение, будто в стихотворении
“есть только охваченное тревожной тоской “я”, 202, 160).
Кто же это “мы” у Тютчева? Прежде всего это проекция
подразумеваемого “я” на всех людей, находящихся в ана-
логичной ситуации. Ненавязчиво, но довольно определен-
но возникает (подкрепленное всей художественной систе-
мой поэта) соположение “мы” - людей, стоящих перед ли-
цом рока, и “их” - “блаженных богов”, внеситуативных
зрителей. Наконец, эта форма выражения авторского соз-
нания обозначает и некое отстранение от “я”, некую опо-
средованность и зрительский взгляд со стороны (112, 84).
Этот взгляд следует сопоставить с точкой зрения созерца-
теля у Тютчева, описанной Л.М. Бин шток. Но нужно еще
раз подчеркнуть, что позиция созерцателя в художествен-
ной системе поэта совсем нс означает монологической
вненаходимости: в отличие от действительно монологиче-
ской позиции субъекта речи у Хераскова, субъект речи
“Последней любви” до конца остается внутри ситуации,
является в ней действующим лицом, но одновременно
и созерцателем. Все дело здесь в совмещении двух пози-
ций. В полной мере такое совмещение осуществляется
уже в пределах 1-й строфы, две первые строки которой ак-
центируют созерцательную вненаходимость, а две после-
дующие - пребывание в событии. Нов имплицитной фор-
ме соположение двух точек зрения наличествует уже в на-
168
Глава 3
чальных строках: “я”, не выявленное в прагматике текста,
но скрыто присутствующее как внутренняя, ситуативная
точка зрения, соотнесено с “мы” и даже выступает в его
форме, хотя и не совпадает с ним целиком. Возникает не
единоцельная, а единораздельная структура, предполагаю-
щая дополнительность двух позиций: внутренней (пребы-
вающего в ситуации действующего лица) и внешней (вне-
находимого и внежизненно активного зрителя).
Эта дополнительность находит свое образное выраже-
ние в языке “Последней любви”. Элегия в ней говорит на
метафорическом языке. Заклинание - на более древнем язы-
ке параллелизма, причем используя наиболее архаическую
его форму - двучленный параллелизм-тождество. Открыва-
ется стихотворение элегической медитацией и метафорой
“склон лет”. Сама по себе эта метафора не требует призна-
ния своего образа за действительность, но Я.О. Зунделович
заметил, что она в контексте (подчеркнуто нами. - С. Б.)
“воспринимается не фигурально, а конкретно” (202, 163).
Происходит это потому, что последующий параллелизм
актуализирует в метафоре ее древнюю семантику, восходя-
щую к тождеству “склоняться-умирать”. Следующие затем
за кл и нательные строки вводят параллелизм “любовь пос-
ледняя, заря вечерняя”. Все последующее развитие стихо-
творения - и развитие, и оспаривание этого параллелиз-
ма (он отбрасывает свой свет, как мы видели, и на пред-
шествующую ему метафору). Присмотримся, как вводится
этот ключевой параллелизм:
Сияй, сияй, прощальный свет
Любви последней, зари вечерней!
Сначала - как переход от элегического языка - возни-
кает новая метафора: “свет любви”. Но тут же слову “свет”
возвращается его прямой смысл: “свет зари”. Параллелизм
“любви последней, зари вечерней” осложнен, таким обра-
зом, тем, что отношениями тождества связываются не
просто “любовь” и “заря”, но и метафорический “свет
любви” и имеющий прямой смысл “свет зари”, то есть па-
раллелизм связывает не только сами явления, но прямой
и метафорический смыслы этих явлений. Тем самым паралле-
лизм перерастает в символическую эквивалентность (по-
скольку единство вещи и се смысла - первичный признак
символа, 230, 65-66). Пока речь шла об использовании
169
параллелизма (хотя и фольклорного но своему генезису),
еще рано было говорить о действительном оживлении ар-
хаических структур образа. Но когда такой параллелизм
начинает нести специфическую для мифопоэтического
мышления (в частности, для заклинания) нагрузку, когда
он становится способом “овладеть законом символиче-
ской эквивалентности и тем самым подчинить себе дейст-
вительность*’ (191, 29), тогда всякие сомнения в его при-
роде отпадают.
Во второй строфе развернут природный член паралле-
ли - “заря вечерняя”. Олицетворения (“обхватила тень”,
“бродит сиянье”) слегка антропоморфизируют природу,
напоминая о человеческом плане и метафорическом язы-
ке элегии. Но главный художественный эффект, конечно,
не в этом. Благодаря уже установленной символической
эквивалентности, все, что говорится о “вечерней заре”,
говорится одновременно и о “последней любви”. Так
вновь сквозь метафорический язык современного созна-
ния проглядывает его “родовое наследие” - архаический
язык мифопоэтического тождества.
3-я строфа, как мы уже отмечали, означает кардиналь-
ный поворот темы, хотя внешне она развивает заданную
символическую эквивалентность. Теперь развернут второй
член параллели - “любовь последняя”, и все, что говорится
о любви, должно иметь отношение и к се природной ипо-
стаси. И эта логика действует в данной строфе, но уже не яв-
ляется в ней безраздельной: ведь прямой смысл строк “Пус-
кай скудеет в жилах кровь, Но в сердце не скудеет неж-
ность” - отрицает тождество природного и душевного в са-
мом человеке. Получается, что 3-я строфа и продолжает
первые две, и отрицает сам принцип символической экви-
валентности и язык параллелизма, который играл столь
важную роль прежде. Видимо, не случайно отрицание со-
вершается в элегической части строфы, которая выступает
как язык современного, “дневного”, различающего сознания
в противоположность архаическому, “ночному”, отождеств-
ляющему. По “ночной” язык исчезает не совсем: он затаен-
но слышится и в опущенном члене параллели, и в напря-
женной недосказанности заклинательной строки (“о ты...).
Разрешение описанная ситуация получает в финале:
Ты и блаженство и безнадежность.
170
Глава 3
Какому из субъектов речи она принадлежит? По фор-
ме обращения (“ты”) она должна принадлежать субъекту
заклинания, но по отсутствию прямой императивности
и по созерцательной отстраненности - субъекту элегии.
По существу же здесь впервые в стихотворении сошлись
и стали рядом - в микромире одной строки - элегическая
и за кл и нательная параллели, успевшие к этому времени
пройти свой путь и перейти в свою противоположность.
Поэтому есть все основания считать данную строку выра-
жением надкругозорной точки зрения на событие.
Туг мы подходим к моменту, чрезвычайно важному для
понимания специфики субъектно-образной ситуации ли-
рики Тютчева. Мы помним, что в предельных для художе-
ственной системы поэта случаях (“Два голоса”) диалогиче-
ский эффект возникал благодаря универсальной рефлек-
сии и отделенности первичного автора от субъекта речи.
Собственно эта отстраняющая рефлексия, вылившаяся
в форму параллелизма голосов, и заменяла в данном слу-
чае надкругозорную точку зрения на событие. В “Послед-
ней любви” нет отстраненности субъекта речи от первич-
ного автора, а потому оказывается возможной надкруго-
зорная точка зрения. По она отличается тем же диалоги-
чески дополнительным характером и осуществляется в об-
разной форме параллелизма.
Последняя строка стихотворения, в которой выражена
надкрутозорная точка зрения, концентрирует в себе смысло-
вую, жанровую, субъектную, стилевую, образную и ритмико-
фоническую дополнительность. Сам принцип ритмико-инто-
национного и образного параллелизма, на котором построе-
на “Последняя любовь”, проведен здесь с последней отчетли-
востью. Строго симметричны в строке полустишия, разде-
ленные цезурой. Симметрична каденция двух соединитель-
но-усилительных “и”, приходящихся на сильные места ямба
(ожидаемого благодаря ритмической инерции трех предше-
ствующих строк), но интонационно выделенных с равной
силой ввиду отсутствия на них ударения. В каждом полусти-
шии - 13 звуков, из них 10 повторяющихся. Это делает зна-
менательные слова полустиший богатыми паронимами, то
есть сближает их (о паронимии в этом плане см. 176, 189).
Особенно значимо, что все эти способы создания па-
раллелизма, симметрии и звуко-смыслового сближения об-
ращены па взаимоисключающие смыслы, выражающие до-
171
полнительность позиций созерцателя (“блаженство”) и уча-
стника (“безнадежность”) драмы существования. Если вый-
ти за пределы данного стихотворения, нетрудно увидеть,
что “блаженство” и “безнадежность” у Тютчева всегда ино-
мирны по отношению друг к другу. “Блаженство” принадле-
жит сфере внеситуативных зрителей - “богов”, а “безнадеж-
ность” - сфере смертных, действующих лиц драмы (см., на-
пример, “Два голоса”). В “Последней любви” эти иномир-
ные позиции и смыслы, оставаясь иномирными, совмеще-
ны в событии жизни как диалогически дополнительные.
6. ЭВОЛЮЦИЯ СУБЪЕКТНО-ОБРАЗНОЙ
СТРУКТУРЫ РУССКОЙ ЛИРИКИ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА
Творчество Тютчева предстает связующим зве-
ном между поэзией первой и второй половины XIX века.
Оно несет на себе печать “пушкинской” эпохи и свойст-
венной ей поэтической целостности, и в то же время
в нем четко обозначились процессы, характерные для по-
этики тех лириков, которые вступили в литературу в 40-е
годы и создали поэзию второй половины XIX века, - для
К. Павловой, А. Фета, II. Некрасова, Ап. Григорьева, Я. По-
лонского, А. Майкова, А.К. Толстого и других. Центральный
для поэтики Тютчева принцип диалогической дополни-
тельности становится теперь чрезвычайно актуальным
и приобретает большие моделирующие возможности.
Отличие интересующей нас новой поэтической эпохи от
пушкинской отмечалось неоднократно. Сточки зрения исто-
рической поэтики, эта эпоха характеризуется прежде всего
дальнейшим высвобождением для самостоятельного бытия,
дальнейшей автономизацией тех начал, которые в предшест-
вующую эпоху были еще “связаны” и недостаточно диффе-
ренцированы (но зато были и более цельны). По существу
перед нами углубление и развитие исходного принципа клас-
сики: конкретного, конечно-размерного, индивидуального,
в том числе индивидуально лирического события, введенного
Пушкиным, открывшим тем самым дорогу “лирике Тютчева,
Лермонтова, Фета, 11екрасова и всей последующей” (164, 214).
Но во второй половине XIX века принцип конечной
размерности доведен до такой границы, за которой авто-
номия начал грозит перейти в их обособление и даже рас-
172
Глава 3
падение, - и не случайно самые большие художники этого
времени вплотную подходят к пределам возможностей
классики. Возобладание центробежных тенденций наблю-
дается на самых разных уровнях художественных систем.
Если три великих поэта предшествующей эпохи (Пушкин,
Лермонтов, Тютчев) естественно составляли полную три-
аду субъектов диалога, то два великих поэта новой эпохи
(Некрасов и Фет) - прежде всего воспринимаются как яв-
ления взаимоисключающие; то, что они при этом и допол-
нительны по отношению друг к друг); наука осознала толь-
ко в самое последнее время (см. 212; 298 и др.). Но эти же
центробежные тенденции действуют и внутри индивиду-
альной художественной целостности. Автономизация
и едва ли не обособление сфер жизни и искусства, прозы
и поэзии, человека и поэта с почти мифологической вы-
разительностью происходит у Фета, возведшего свою тра-
гическую двуимянность в творческий принцип: “Я среди
плачущих Шеншин. И Фет я только средь поющих” (см.:
325, 60-66). Но ведь то, что “жизнь и поэзия” уже не “од-
но”, ощущал с неменыпей силой и Некрасов (“Мне борьба
мешала быть поэтом, Песни мне мешали быть бойцом”).
Обоими поэтами фиксируется по существу один факт -
разделение начал, лишь отношение к нему - разное.
Ио хотя у Фета, Некрасова и других поэтов второй по-
ловины века пушкинское непосредственное единство ко-
нечно-размерного и бесконечного превратилось в допол-
нительность взаимоисключающих начал, у них остается
еще островок дорефлексивной целостности, позволяю-
щий им оставаться именно классиками. У Фета - это “при-
рода”, у Некрасова - “народ”, у Ап. Григорьева - “почва”
и т. д. Вот как выглядит этот мотив у Полонского в его сти-
хотворении “В саду”:
Мы празднуем в саду прощальный наш досуг.
Прощай! Пью за твое здоровье, милый друг! -
И солнцу, что на все наводит зной, не жарко,
И льду не холодно, и этот пышный куст
Своих не знает роз, и даже эта чарка
Не знает, чьих она касалась жарких уст.
И блеск, и шорохи, и это колыханье
Деревьев - все полно блаженного незнанья;
А мы осуждены отпраздновать страданье.
И холод сознаем, и пламенный недуг...
Прощай! Пью за твое здоровье, милый друг.
173
Здесь дорефлексивный мир природы, не осознающий
себя и потому продолжающий оставаться “садом” и в ми-
фологическом смысле, то есть “раем”, такая же реаль-
ность, как и человеческий мир рефлексии. Оба этих мира
и противоположны, и дополнительны по отношению друг
к другу. Структура стихотворения не дает возможности ак-
центирования или предпочтения одного из миров (в прин-
ципе так же строятся у Полонского и другие стихотворе-
ния, в которых соположены дорефлексивное и рефлекси-
рующее сознание - “Дорога”, “Старый сазандар”, “В сте-
пи”, “Тени и сны” и др.). Но чрезвычайно важно, что для
Полонского, как и для каждого значительного поэта инте-
ресующей нас эпохи, реальное существование дорефлек-
сивного “рая” несомненно и исполнено глубокого смысла,
хотя не менее глубокого смысла исполнено и противопо-
ложное состояние мира. Перед нами одно из проявлений
уже описанного философами глубоко двойственного онто-
логического переживания, которое окончательно оформ-
ляет “классический” образ мысли: “это и патетическое
чувство естественной упорядоченности бытия и простого
порядка в нем, существующего независимо от человека
и его сознательного вмешательства, но соразмерного са-
мым глубоким актам его ума и его отношения к себе...
и вместе с тем это и ощущение враждебности, “антиидей-
ности” косных вещественных сил, на деле господствую-
щих в действительности, ощущение трагической стихий-
ности социальных процессов” (246, 36).
Некрасов и Фет, собственно, реализуют художествен-
ные системы, исходящие из подобного онтологического
переживания, хотя и делающие из него разные выводы.
Фет принимает эту двойственность как данность, но стре-
мится в конечном счете ее преодолеть волевым и мужест-
венным разделением начал - отделением хаоса от гармо-
нии. Если сама жизнь стала нецельной, то цельность мож-
но сохранить, лишь отделив космос души и искусства
от хаоса социальной жизни - отсюда горацианское бегст-
во Фета от “зла общественной жизни на лоно природы”
(233, 136). Некрасов, напротив, стремится сохранить все-
объемлемость, хотя бы ценой цельности и гармонии. Он
впускает в свою поэзию неприрученную стихию социаль-
ной и душевной жизни. Другие художественные системы
интересующей нас эпохи располагаются по существу меж-
174
Глава 3
ду полюсами Некрасов-Фет, тяготея к том}7 или другому,
либо сложно сочетая в себе черты обоих. Все они в той
или иной степени строятся на дополнительности авто-
номных, если не обособившихся начал.
В сфере субъектной организации эволюция лирики
идет в это время в трех направлениях. Во-первых, значи-
тельно возрастает доля высказываний от “я” (48,5% про-
тив 34,8% в первой половине века). Во-вторых, увеличива-
ется роль “я” как “другого” (39% против 31,2%). В-треть-
их, растет значение синкретических и диалогических
форм: в среднем они возрастают незначительно (11,6%
против 10%), но в целом ряде индивидуальных художест-
венных систем, особенно у Некрасова (31,2%) и Полон-
ского (16,4%), они дают новое качество. При этом рост
синкретических и диалогических форм субъектной орга-
низации теперь осуществляется за счет ролевого высказы-
вания и несобственной прямой речи, встречавшейся
в первой половине века в виде редчайшего исключения
(нами оно зафиксировано только у Баратынского и Лер-
монтова). Не менее важны, чем количественные, и качест-
венные трансформации ролевой лирики и многоголосия,
описанные со своих позиций Б.О. Корманом (214). Под-
черкнем также почти нс осознанную нашей наукой тен-
денцию: зарождение субъектного неосинкретизма, пред-
ставленное в лирике Фета.
Очевидно, что перед нами процесс диалогизации ли-
рики, начавшийся в первой половине XIX века и знамено-
вавший собой новый этап в истории поэтики. Теперь по
сравнению с первой половиной века диалогические нача-
ла становятся более эксплицированными и экстенсивны-
ми, уходят, так сказать, вширь, часто за счет интенсивно-
сти и глубины. Уже нельзя не заметить, что лирика вновь
(как в эпоху синкретизма) заметно не умещается в рамки
моносубъектных структур, но теперь “я” и “другой” оказы-
вается в ней не синкретическими, а самоценными и пото-
му потенциально соотнесенными диалогически. Перед на-
ми второй (после пушкинского) этап кризиса “абсолютно-
го автора”, монологического по своему существу. Демокра-
тическая идея равноправного “другого” именно теперь
окончательно становится нс просто прокламируемой (“те-
зисной”) идеей - она входит в субъектно-образную плоть
лирики, становится содержательной формой.
_____________________________________________175
7. “Я” - “ДРУГОЙ”
И СОВМЕЩЕНИЕ НЕСОВМЕСТИМОГО
В ОБРАЗНОЙ СТРУКТУРЕ НЕКРАСОВА
Особенно отчетливо “неабсолютный” и некано-
нический автор выступил в лирике Некрасова. “Лириче-
ские стихотворения Некрасова, - писал С. Андреевский, -
отличаются той особенностью, что за которое бы вы
в них ни взялись, вы в нем найдете только одного Некра-
сова, - не широкую индивидуальность поэта, не то “я”, ко-
торым многие поэты начинают свои стихотворения с об-
щего голоса всего человечества, но именно - одного толь-
ко Некрасова с исключительными чертами его жизни и
личности” (114, 185). Речь идет, конечно, не о том, что ин-
дивидуальность поэта не широка и не общечеловечна: она
нетрадиционна, конкретна и неидеальна. Об этом же пи-
шут и современные исследователи. «Некрасов впервые
вводит в поэзию бытового человека, всего человека, в том
числе в состоянии непоэтическом. Он впервые представ-
ляет поэта как человека, находящегося “иод игом” всевоз-
можных... “мелочных” житейских “забот”, с душой непро-
светленной, не поднятой над ними» (196, 49). И это не
“эмпирическая”, а принципиальная позиция: Некрасов
“отвергал для себя самую возможность выглядеть безуко-
ризненным в реальных современных условиях” (137, 47).
Отмечено также, что это “новое поэтическое “я”, заведо-
мо неидеальное, во многом противостоящее классической
традиции” (137, 49).
Менее ясно, как соотносится некрасовское “я” с “дру-
гим”. Б.О. Корман, показавший сложность и неодносо-
ставность авторского плана у Некрасова, исходя из своей
методики, склонен был понимать субъектов авторского
плана объектно. Исследователь различал у поэта собствен-
но автора, автора повествователя, лирического героя и ге-
роя ролевой лирики. И хотя он подчеркивал “единство ав-
торского сознания”, а указанные субъектные сферы счи-
тал разными формами выражения единого авторского со-
знания, но именно для описания этого единства категори-
альный аппарат ученого мало приспособлен, ибо в основе
его лежат, как мы уже отмечали, не субъект-субъектные,
а субъект-объектные отношения. Получалось, что, описы-
вая отношения субъектов, ученый вместе с терминологи-
176
Глава 3
ей вносил в эти отношения овеществляющие и монологи-
зирующие оттенки, иногда довольно резкие. То же отно-
сится к пониманию соотношения авторского и геройного
планов. Ученый склонен те оттенки интонаций, которые
не умещались в выделенные им формы выражения автор-
ского сознания, объективировать в качестве “героев”.
Возражения, которые были сделаны Б.О. Корману,
к сожалению, недостаточно конструктивны, хотя в них за-
частую подмечались действительно слабые стороны его
отдельных трактовок. М. Бойко, например, возражала
против “строгой классификации” и подчеркивала услов-
ность и подвижность границ между субъектами авторско-
го плана (137, 70), а также принципиальную незавершен-
ность субъекта у Некрасова (137, 73). Но как исследова-
тельски уловить эту незавершенность и подвижность гра-
ниц? Б.О. Корман пытается дать определенный научный
аппарат, пусть не всегда достаточно гибкий и адекватный
предмету. Его критик ничего подобного не предлагает.
Е.В. Ермилова тоже указала на действительно огрубляющее
прочтение Б.О. Корманом некрасовской “Тройки” (по мне-
нию ученого, здесь “голос повествователя все время переби-
вается голосами героев, вмещенных в его сознание”, 214,
167). Исследовательница считает, что героев как таковых
здесь нет, хотя кормановская трактовка является “заост-
ренным выражением реального факта” - взгляда поэта на
героиню со стороны: именно это и порождает “стилизо-
ванно отчужденное” изображение и диссонирующие инто-
нации (196, 69). Но ограничивается ли дело только отчуж-
денным авторским взглядом? Пролить некоторый свет на
интересующую нас проблему может наблюдение над об-
разно-стилевой структурой более позднего некрасовского
текста, сделанное Ю.М. Лотманом. Ученый видит специ-
фику стилевой структуры Некрасова в наличии в ней
“двух несовместимых систем, каждая из которых внутри
себя вполне органична, и их, вопреки всему, совмещение
в различных стилистико-семантических отношениях”
(240, 207). Ученый, правда, не говорит, как становится
возможным такое совмещение несовместимого. С нашей
точки зрения, дело в том, что у Некрасова сведены не ло-
гико-семантические, а бытийно-субъектные позиции и их
образные языки. Ведь за стилевой проблемой всегда сто-
ит, как показал М.М. Бахтин, отношение к “другому”. Как,
177
например, объяснить, что Некрасов не уклонялся “от штам-
пованных, традиционных, опошленных стилистических
форм, а смело использовал их, “что” некрасовский стиль
раскрыл пошлость поэтических штампов, но не отбросил
их после этого, обнаруживая поэтическое в пошлом?” (240,
213). Очевидно, это результат некрасовского рефлексив-
ного и в то же время приемлющего отношения к “друго-
му”, признания за ним самостоятельной ценности.
В “Тройке” (1846) мы тоже видим не просто смену автор-
ского ракурса изображения, но и столкновение двух несов-
местимых языков: “Взгляд один чернобровой дикарки, Пол-
ный чар, зажигающих кровь” - “Завязавши под мышки пе-
редник, Перетянешь уродливо грудь”. Ведь перед нами ус-
ловно-поэтическое слово в своем предельном, едва ли не
действительно “бенедиктовском” виде, и резко противопос-
тавленное ему демонстративно прозаическое, простое сло-
во. И это не единичный контраст: на условно-поэтической
образности и романсовой интонации строится вся первая
половина “Тройки” (1-6 строфы), а на простом слове и про-
заической интонации - вся вторая ее часть (7-12 строфы),
причем обе интонации и образности резко сталкиваются
в месте их встречи (во второй половине 6-й строфы).
Чувствуя стилевую и интонационную неоднородность
стихотворения, Б.О. Корман склонен был ее объектиро-
вать в голосах героев. Е.В. Ермилова объяснила ее автор-
ским взглядом со стороны. На наш взгляд, здесь меняют-
ся не “герои” и не “точка зрения”, а интенция. Образец
такого совмещения интенций Некрасов дал еще до “Трой-
ки” - в “Песне” (“Мало на долю мою бесталанную”)
из сборника “Мечты и звуки”. Высказывание в “Песне”
строится от “я”, сначала данного в ореоле народно-поэти-
ческой образности (“доля моя бесталанная” и др.). Затем
субъект речи начинает смотреть на себя со стороны - как
на “он”. Вводится это “он” перифразой - “Ах, уж страдаль-
ца краса благосклонная Другом давно нс звала, И поцелу-
ем живым раскаленная, Грудь его грудью не жгла. В свете
как лишний, как кем опозоренный, Вечно один он гру-
стит...” Замечательно, что переход к взгляду субъекта ре-
чи на себя со стороны корреспондирует с переходом
к иному, чем прежде, образному языку - к условно-поэти-
ческому, взвинченно метафорическому языку жестокого
мещанского романса.
178
Глава 3
Но ведь и в своих более поздних и зрелых стихах Не-
красов может строить высказывание от такого “я”, в кото-
ром совмещены “простой” человек, данный в ореоле на-
родно-поэтической образности, и городской то ли полуин-
теллигент, то ли мещанин со своим (“пошлым”) языком.
В стихотворении “Где твое личико смуглое” (1855) субъект
речи оказывается не только изображающим, но и изобра-
женным благодаря резко выраженным контрастам своего
языка. Крестьянски-просторечное “посулю” и “особливо”
сочетается в его речи с красивостями мещанского роман-
са (“Как выражала ты живо Милые чувства свои”). Самое
замечательное, что перед нами вовсе не ролевая лирика,
а интимное стихотворение. Такой меры приятия в себя
“другого” русская лирика до Некрасова не знала. Поэт, как
пишет Л.Я. Гинзбург, придал “общезначимую поэтичность,
эстетическую действенность просторечию не только кре-
стьянскому, но - что гораздо труднее - городскому, то ме-
щанскому, то интеллигентскому” (164, 253). В лирике это
было возможно только путем приятия сознания носителя
этого просторечия - приятия в виде “героя” (ролевая ли-
рика или лирика чужого “я”), в виде голоса или голосов
(стихи с несобственной прямой речью или многоголосие,
по Б.О. Корману), наконец, в форме интенции, как в про-
анализированных случаях. Представляется, что именно
интенциональная форма введения “другого” более всего
важна для Некрасова (и более отвечает природе лирики),
хотя другие формы, особенно многоголосие, привлекли
к себе больше внимания исследователей.
Возвращаясь к вопросу, как же связано у Некрасова “я”
с “другим”, мы теперь можем сказать, что, во-первых, “дру-
гой” в этой художественной системе принят внутрь “я”
(как одна из его интенций), а во-вторых, он всегда сохра-
няет в той или другой форме и степени свою ощутимую
“другость”. “Я” стихотворения “Где твое личико смуглое”,
конечно, не ролевое, а “авторское” “я”, но момент “друго-
сти” здесь не может быть устранен, не разрушив эстетиче-
ской специфики текста. Несколько забегая вперед, заме-
тим, что у Блока, например, там, где у него сближаются
“я” и “другой” (хотя бы в цикле “На поле Куликовом”),
именно “другость”, “неслиянность” оказывается в тени, а
на первый план выходит нераздельность. Некрасовское
единство “я” и “другого” оказывается более аналитичным
179
и различающим, чем блоковское, и, видимо, это связано
с самой природой классики и ее первообраза - с исходной
ролью в ней конечно-размерного и различающего начала.
Проанализированные нами стихотворения принадле-
жат к относительно раннему творчеству поэта. В своих бо-
лее поздних созданиях Некрасов как раз шел к менее дис-
сонирующему совмещению собственного и чужого “я” (то же
самое в ролевой лирике, например, в “Зеленом Шуме”,
1862). Но ощутимая “другость” и изображенность этого
“я” остаются специфическими особенностями его. Некра-
сов более, чем кто-либо из русских поэтов, разыгрывает
субъектный и образный мир носителя речи: образом у него
становится не только “я” ролевой лирики, как это заметил
Н.Я. Берковский (129, 173), но и любой субъект, сколь бы
тесно он ни был сближен с собственно автором. Этот
принцип поэзии Некрасова проявляется и в одном из са-
мых совершенных его созданий, в котором поэт, по мне-
нию исследователей, достиг едва ли пе самого полного
слияния с народным духом, - в “Зеленом Шуме”.
Е.В. Ермилова считает, что в “Зеленом Шуме”, “хоть
и написанном от лица “простого человека”, явственно
ощущается присутствие лирического субъекта, в ходе по-
вествования и особенно к концу подменяющего собой ге-
роя”. И далее: «Разумеется, нельзя считать, что это прямо
“голос Некрасова” или психологическая реальность ос-
новного его лирического героя-разночинца. Но “голос Не-
красова” сливается здесь с народным, принимает его в се-
бя, обогащаясь и расширяясь, вплоть до завершающей
песни, которая не принадлежит уже ни “простому челове-
ку”, пи лирическому субъекту, а, сливая их в одно, предста-
вляет голос самой жизни, ее высшей правды» (196, 72-73).
Действительно, Некрасов достигает здесь совершенно
особых отношений с “другим”. “Зеленый Шум” открывает-
ся высказыванием, субъектная принадлежность которого
неопределенна, но сам образный язык которого отсылает
к народной поэзии (к ней же отсылают и авторские при-
мечания). Последующий переход высказывания - его при-
надлежность “я”-гсрою - отдаленно напоминает спонтан-
ные переходы от одного лица к другому в фольклоре.
В финале стихотворения вновь возникает субъектная не-
определенность; хотя личное местоимение здесь и названо
(“И все мне песня слышится...”), оно может принадлежать
180
Глава 3
и герою, и автору-повествователю, и может, как считает
исследовательница, сливать “героя и “автора” в одно це-
лое” (196, 73). Тот же глубоко отвечающий духу народной
поэзии, синкретизм пронизывает образную структуру “Зе-
леного Шума”, начиная с синкретического эпитета загла-
вия и кончая фольклорной песней-вьюгой.
Все, сказанное до сих пор об особенно тесном слия-
нии авторского голоса с голосом героя и даже о синкрети-
ческом эффекте, требует, однако, существенного дополне-
ния. Ведь в стихотворении, точнее параллельно с ним,
звучит голос еще одного субъекта речи - автора примеча-
ний. Уже авторское примечание к заглавию (“Так народ
называет пробуждение природы весной”) по существу
предлагает иную субъектную позицию и иной образный
язык, нежели те, которые даны в самом тексте. В стихо-
творении высказывание принадлежит “простому челове-
ку”, а в примечании говорится “так народ называет”, то
есть устанавливается дистанция между “я” стихотворения
и автором примечания. То же - в образном плане. “Зеле-
ный Шум” - синкретический народно-поэтический образ;
автор же примечания не просто объясняет его, а еще и пе-
реводит на другой язык. Ведь “пробуждение природы вес-
ной” - стоит на грани между условно-поэтическим штам-
пом и объясняющим прозаизмом интеллигентского языка,
опять-таки устанавливающими дистанцию между “я” сти-
хотворения и автором примечания. Наконец, не забудем,
что Некрасов все-таки выбрал в качестве субъекта стихо-
творения “чужое я”, сколь бы оно потом не было сближе-
но с авторским. Мы уже отмечали, что Блок в аналогич-
ных случаях поступал иначе, и в этом некрасовском пред-
почтении “другого” и в то же время различении “другого” -
торжество классической, в конечном счете конечно-раз-
мерной исходной установки.
8. СУБЪЕКТНАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ
И ПАНТЕИСТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ФЕТА
Дополняющая противоположность Некрасова -
Фет исходит из того же первообраза. После Л.Я. Гинзбург
об индивидуальности лирического события у Фета говори-
лось много. Подчеркивалось “условно-четкое место дейст-
вия, с которым чаще всего связаны стихи Фета”, преобла-
181
дание настоящего времени (297, 155) и фиксированность
точки зрения (233, 139).
Но наряду с этим отмечались и тенденции, противопо-
ложные принципу конечной размерности. Еще Ап. Гри-
горьев говорил об особом синкретизме фетовского мира:
“То был страшный, непостижимый, противоречивый рас-
судку возврат первоначальных детских снов, розовых сия-
ний, какими окружен мир для едва пробудившегося созна-
ния” (172, 152). Позже Ю. Айхенвальд видел своеобразие
Фета в том, что в его стихах возникает “нераздельное
единство несказанных впечатлений” (107, 77): “среди пау-
тинных сплетающихся нитей этой мировой совокупности
нужно ли различать что-нибудь отдельное?” (107, 79). Сов-
ременными исследователями принято положение об осо-
бом месте параллелизма природного и душевного планов
в лирике Фета (180: 233, 141 и др.), притом говорится о та-
ком слиянии параллелей, которое “доходит до неразличи-
мости” (297, 153). Те же тенденции описываются в слово-
употреблении поэта. А.Д. Григорьева подчеркивает, что
в языке Фета стушевана “логика непосредственных номи-
наций” (175, 52), а слово может иногда совмещать в себе
“два значения - прямое и переносное в зависимости
от точки зрения на субъект стихотворения” (175, 59).
Последнее наблюдение, приоткрывающее связь образ-
ной и субъектной структуры у Фета, подводит нас к важ-
нейшей особенности данной художественной системы -
к неопределенному субъекту, иногда подходящему к самой
границе субъектного синкретизма. П.П. Громов подчерки-
вал, что Фета интересует “сама причудливая логика чело-
веческих чувств, само движение чувств, сама неоформлен-
ность, нечеткость эмоций. Его меньше всего интересует
характер человека, переживающего это чувство, поэтому,
конечно, здесь нет и героя” (179, 58). По П.П. Громову, “я”
у Фета растворено в лирическом потоке. Об отсутствии
у Фета лирического героя говорит и Л.Я. Гинзбург (164, 165),
а Б.О. Корман важной особенностью поэта считает “принци-
пиальную субъектную неопределенность” (214, НО).
Она может принимать самые разные формы. Одна из
особенностей субъектной организации стихотворений по-
эта состоит в том, что даже там, где субъект речи выступа-
ет как “я”, он обычно в этом качестве появляется не сра-
зу - чаще всего во второй половине стихотворения или
182
Глава 3
к его концу. Любит Фет и неместоименные формы выра-
жения субъекта. А.Д. Григорьевой описано совмещение
в одном стихотворении двух “я” (“Ракета”, 1888; “Фонтан”,
1891), причем, если в “Ракете” можно понимать текст
и как высказывание “я”, и как монолог ракеты, то в “Фонта-
не” такими, по существу синкретическими, отношениями
связаны сначала “я” и “ночь”, а затем “я” как субъект, отде-
ляясь от ночи, “вступает в новую слиянность с другим объ-
ектом по общности судьбы; теперь “мы” - это “я”... и фон-
тан” (175, 55). Одна из интересующих нас форм выраже-
ния субъектной неопределенности - неявное совмещение
двух интенций - в стихотворениях “Младенческой ласки
доступен мне лепет” (1847), “Нежданный дождь” (1866),
“За горами, песками, лесами” (1881). Отметим и случаи
имплицитной реплики (“На книжке стихотворений Тют-
чева”, 1883), а также графическое выделение одной реп-
лики, которая заставляет и остальную речь воспринимать
как неявную реплику (“Полуразрушенный, полужилец мо-
гилы”, 1888 “Давно ль на шутки вызывала”, 1880).
Важными для русской поэзии оказались и те формы
сближения разных интенций, которые Фет нашел уже
в начале своего творческого пути - в цикле “К Офелии”
(1842-1847). Здесь субъект речи и герой стихотворения
синкретически неотделен от Гамлета, хотя он одновремен-
но и пишущий о нем поэт (само название цикла говорит
об обращенности к героине этих двух нерасчленимых
субъектов). Видимо, можно говорить, что приливы и от-
ливы, схождения и расхождения “я” то с Гамлетом, то с по-
этом, организуют композицию цикла. В первом и послед-
нем стихотворениях субъект речи в наибольшей мере на-
делен признаками “поэта” (“вдохновенье”, “мой гений”,
“И много мне чувства и песен, И слез, и мечтаний дано”).
В двух средних стихотворениях черты собственно поэта
приглушены и идет явное сближение “я” с Гамлетом,
вплоть до реминисценций из его реплики (“Ты помолись
душою нежной...”), хотя в то же время возможен взгляд
субъекта речи на Гамлета со стороны (“О, спой мне, как
носится ветер вокруг Его одинокой могилы”). Подобное
же сближение субъекта речи и героя становится времена-
ми возможно в балладе “1ёро и Леандр” (1847).
Эту субъективную неопределенность следует осознать
в ряду с такими явлениями поэтики, о которых мы уже го-
183
ворили: с имплицитной вероятностно-множественной моде-
лью мира у Пушкина и ее экспликациями: вероятностно-мно-
жественным “другим” у Лермонтова и Тютчева, с “я” у Некра-
сова, в котором совмещены социально и культурно разные
субъекты, с “я” Ал. Григорьева, как мы увидим дальше. Инте-
ресно, что если в первой половине века вероятностно-
множественным оказывался “другой” (и именно сверх-
субъект), то теперь таковым становится “я”. Мы - в пред-
верии нового синкретического “я”, которое станет одной
из важнейших особенностей русской неклассической ли-
рики начала XX века.
Пограничной между двумя большими поэтическими
эпохами оказывается и образная структура фетовской лири-
ки. Присмотримся к тому, как соотнесено у поэта конечно-
размерное классическое начало и “нераздельное единство”.
Типичный фетовский параллелизм природного и ду-
шевного начал возникает, например, в стихотворении
“В лунном сиянии” (1885). Вначале оба плана контрастны:
“лунное сияние” природы противостоит “темному молча-
нию” души. При этом душевный план сразу метафоризо-
ван и самим выбором метафорического эпитета прибли-
жен к природе. В следующих же строках метафоризуется
и тем самым одушевляется уже природный план (“травы
в рыдании”). Получается, что природный и душевный
планы сближаются друг с другом в метафорическом про-
странстве, и именно в нем возникает то сплетение двух
перебивающих друг друга тем, те два “узора, причудливая
игра которых образует характерную особенность структу-
ры фетовского стиха” (180, 21). В конце стихотворения
сближение двух планов приводит к предчувствию их гар-
монии: “обаяние” природы обусловливает намечающееся
изменение душевного состояния героев. В стихотворе-
нии “На рассвете” (1886) мы видим те же два плана, но
развернут природный, душевный же сконцентрирован
в одной заключительной строке (“А на душе благодать”).
И вновь мы видим прямую метафоризацию природного
ряда, его очеловечение (“чело ночи”, “тень жмется”,
“выйти стыдится заря”). Эта метафоризация сближает
природный и душевный планы, создает возможность их
соположения в качестве двух членов параллели и в то же
время как бы объясняет, рационально обосновывает саму
возможность параллелизма.
184
Глава 3
Замеченная особенность образной структуры Фета за-
ставляет нас вспомнить Жуковского, у которого тоже вы-
ход к парадигматически-параллелистскому плану осущест-
влялся через метафоризацию членов параллели. Однако
у Фета налицо не только более причудливая игра двух узо-
ров, но и большая их различепность, а главное - большая
необходимость в их рациональном обосновании. Даже
в тех случаях, когда оба параллельных ряда сближены
очень тесно, метафоризация (и вообще тропеический
план) и связанная с ней неявная рационализация, некое
рациональное обоснование параллелизма в той или дру-
гой форме у Фета, как правило, присутствуют. Так в стихо-
творении “С солнцем склоняясь за темную землю” (1887)
отчетливо намечен параллелизм “я” и “солнца”, однако он
приобретает такую форму, что его можно истолковать
и как тождество, и как условно-поэтическое сближение
(“я” с солнцем вместе мысленно склоняюсь за темную зем-
лю). Глубинный параллелизм должен ощущаться в стихо-
творении все время, но развернут план метафорический:
“миллионы... слез”, рассыпанных “горем” - это метафора
звезд. Фелу, однако, нужно назвать и второй член паралле-
ли (“звезды”), и он их называет, но лишь перифрастиче-
ски (“туманные пятна”), так что двузначность их как “слез”
и “звезд” сохраняется в этом метафорическом пространст-
ве. Аналогичная структура в “Alter ego” (1878): “Та трава,
что вдали, на могиле твоей, Здесь, на сердце, чем старе
оно, тем свежей...”. Параллелизм “могилы” - “сердца”, ос-
ложняется здесь метафоризацией душевного плана, скон-
центрированной в слове “свежей”. Эта метафора говорит
не только о сердце, но и о траве, и о могиле - в ее про-
странстве сходятся в конечном счете параллели.
Очевидно, перед нами некий закон образной системы
Фета. Важно, однако, что такие рационализированные и ме-
тафоризированные формы параллелизма характерны для
других поэтов второй половины века - Некрасова (“Стихи
мои! Свидетели живые...”, 1858; “В столицах шум, гремят ви-
тии...”, 1857 и др.). Полонского (“Писатель, если только он”,
“Весна”, “Заплетя свои темные косы венцом” и др.). У Фета
интересующая нас сейчас образная структура лишь доведе-
на до некоего предела. Показательно в этом отношении сти-
хотворение “Моего тот безумства желал, кто смежал” (1887).
Начинается оно прямо заявленным параллелизмом:
185
Моего тот безумства желал, кто смежал
Этой розы завой, и блестки, и росы;
Моего тот безумства желал, кто свивал
Эти тяжким узлом набежавшие косы.
Но эта образная структура, долженствующая говорить
о нераздельном единстве природного и душевного, не яв-
ляется единственным законом интересующего нас стихотво-
рения. К ней поэт прибегает, когда он говорит о пластиче-
ском, “телесном” в природе и человеке. Во всем остальном
тексте неявный параллелизм (душа - пчела, смерть - закат)
осложнен аналитическим различением сближаемых явле-
ний. Об этом может говорить структура сравнения (“приле-
тела б со стоном сюда, как пчела” - речь идет о “душе”), ме-
нее заметное расчленение “я” и “жизни” - в самом утвержде-
нии их единства (“Стану буйства я жизни живым отголо-
ском”), наконец, четкое различение “я” и “другого” в фина-
ле: “Этот мед благовонны!! - он мой, для меня. Пусть другим
он останется топким лишь воском”.
Фет вообще любит такие образные структуры, в кото-
рых метафорическая условность и параллелистская опто-
логичность мерцают друг сквозь друга. Так в своем пере-
воде стихотворения Катулла “К мальчику прислужнику”,
переведенного до того Пушкиным, Фет примечанием вы-
деляет строки: “Такой закон дала Постумия пирам, Пьянее
ягоды налившись виноградной”. О последней строке Фет
пишет: “Один из замечательнейших стихов по смелости,
сжатости и образности сравнения, жаль, что Пушкин со-
вершенно его выпустил в своем переводе” (33, 50). Заме-
чательно, видимо, здесь то, что Постумия сравнивается
с виноградной лозой, то есть отличается от нее, но за
этим сравнением мерцает мифологическое тождество По-
стумии и виноградной ягоды (Вакх, которого представля-
ет здесь героиня, как известно, был в мифологической глу-
бине самим виноградом, а не просто сравнивался с ним).
Подобная структура образа (как и изоморфная ей субъ-
ектная структура) знаменует одну из границ классики: еще
сохраняется исходный принцип рационального различе-
ния, но уже огромное обаяние имеет “нераздельное един-
ство”. Фет (наряду с Полонским) был одним из последних
классиков, которым удалось гармонически построить об-
раз на разломе двух больших эпох истории поэтики. Поэ-
тому его художественный опыт стал чрезвычайно притяга-
186
Глава 3
тельным для поэтов, уже неклассических по типу своей
образности, но искавших новой гармонии, - для И. Аннен-
ского, А. Блока, О. Мандельштама, Б. Пастернака.
9. ПАРАЛЛЕЛИЗМ КОСМОГОНИЧЕСКИХ
СТИХИЙ И СТИХИЙ ДУШИ
Ап. ГРИГОРЬЕВ
Так же как Некрасов и Фет, к границам класси-
ческой поэзии подходит Ап. Григорьев. Его художествен-
ные находки связаны прежде всего с углублением некото-
рых классических представлений о мире и человеке. Поэт
однажды сказал о славянофилах: “Они не верят в силу, то
есть в двойственность.., а верят в искусственное единст-
во” (173, 196). Сам Григорьев умел отказаться от искуст-
венного единства и рационалистических синтезов и даже
сделал такой отказ одной из тем своего творчества. О его
цикле “Борьба” П.П. Громов пишет: «Контрастные темы
с высоким искусством слиты в одну тему трагического раз-
рыва. Найден особый “быт”, особый тип “простонародно-
сти”, который позволяет достичь художественного един-
ства в рассказе о том, как не состоялось жизненное един-
ство. Иначе говоря, строго организованный (и в этой ор-
ганизованности сказался еще в Григорьеве рационализи-
рующий и гармонизирующий классик - С. Б.) сюжет “Борь-
бы” приводит к крушению идеала жизненной цельности,
“синтеза”» (179, 56). Следующий шаг к новой трагической
гармонии делает поэт в цикле “Импровизации странству-
ющего романтика”. Одно из стихотворений этого цикла -
“Глубокий мрак, но из него возник...” (1860) - мы рассмо-
трим подробно, ибо в нем представлена одна из границ не
только поэтики Григорьева, но и всей классики (см. 254).
Особый интерес этого создания поэта для исторической
поэтики в том, что в нем воскрешены весьма архаические
пласты художественной традиции. Прежде всего, Григорь-
ев подключается через терцины и ряд образных особенно-
стей к дантовской картине мира. Но при этом он не вос-
производит основного принципа подразумеваемой худо-
жественной системы - принципа оппозиции. Поэт, напро-
тив, снимает оппозиции, создавая принципиально иную,
но соотнесенную с космосом Данте модель. Темное и свет-
лое начала в “Глубоком мраке...” амбивалентны и связаны
187
немыслимыми в мире Дайте порождающе-эротическими
отношениями: “мрак” сам порождает “идеал”, эротически
объемлет его и вновь способен растворить его в себе (“по-
жрать”). Получается, если перефразировать выражение
Г. Гессе, что по ту сторону противоположности мрака
и света и под ней существует их единство. Поэтому мрак
парадоксальным образом создаст светлое, светлое же не
только окружено мраком, но и в самом себе воплощает
трагически непримиримые начала: несет “семя разруше-
нья”. Не расчленение добра и зла, светлого и темного, как
в дантовской картине мира, а, напротив, амбивалентность
этих начал - такова модель, возникающая в “Глубоком мра-
ке...” Как следует понимать ее?
Эта модель многозначна и многослойна. Ближайший
исторический слой ее значений связан с романтической
реакцией на предшествующую европейскую культуру. Дан-
ная культура, как показывает современное историко-мето-
дологическое исследование, отличалась рационалистиче-
ской и монологической установкой, при которой из “он-
тологии мира исключаются посторонние (“сверхъестест-
венные”) и инородные силы, силы, неизвестно откуда
взявшиеся или не поддающиеся объяснению, однородно-
му с объяснением других сил” (246, 28). При таком подхо-
де “гармония сознания и действительности обеспечива-
лась и сохранялась”, но это происходило за счет рациона-
лизации, под которой продолжало жить “вытесненное
ощущение хаоса, прикрытого спекулятивными идеологи-
ческими абстракциями” (246, 38).
Операция вытеснения и отмысливания хаоса долгое
время удавалась европейской мысли. Еще Гете, для которо-
го, как известно, хаотическое и демоническое начало бы-
ло серьезной внутренней проблемой, считал необходи-
мым сохранить доверие к бытию и веру в безусловное
и единовластное господство благого начала - пантеисти-
чески понятой природы: “Она ввела меня в жизнь, она
и уведет. Я доверяю ей. Она нс возненавидит своего тво-
рения” (163, 39). Очевидно, что в стихотворении Ап. Гри-
горьева отношения между творящим и сотворенным суще-
ственно иные. И это различие - прежде всего результат
романтического “освобождения” хаотически-демониче-
ских сил, которые олимпиец Гете считал необходимым
обуздывать и вытеснять.
188
Глава 3
Бесспорным доказательством наличия романтическо-
го слоя в григорьевской модели мира является не только
название цикла (“Импровизации странствующего роман-
тика”), но и насыщенность “Глубокого мрака...” автоцита-
тами из ранней романтической прозы поэта. Так, все дета-
ли, воссоздающие двойственность облика героини уже бы-
ли заданы в прозе: “слабое воздушное дитя” (172, 109),
“как чудно хороша, как светла и прозрачна вошла она”
(172, 133), “тонко очерченный, до невозможности про-
зрачный профиль” (172, 183), “прекрасный и легкий при-
зрак” (172, 236), “этот детский профиль”, “прозрачно-
бледные черты” (172, 236) и т. д. Здесь же был сформули-
рован чрезвычайно важный для стихотворения принцип:
“в тебе самой есть семя разрушенья”. Сравните: “Жизнь
Виталина была двойственна, как жизнь каждого из нас...
В нем самом, в его характере лежало зерно страдания”
(172, 112); “к чему убеждать меня, что мои верования но-
сят в себе семена разрушения...” (172, 157).
Но, пожалуй, наиболее знаменательно романтическое
решение в прозе Григорьева ключевого для стихотворе-
ния мотива “создания женщины”: “я чувствовал... вижу я
в ее глазах создающуюся душу. И верилось мне, что на мою
долю выпало вызвать эту живую душу женщины из небы-
тия в жизнь” (172, 134). Причем, этот акт у раннего Гри-
горьева осуществляется демоном, получившим такую
власть ценой проступания всех границ. Таков Званинцев
(“Один из многих”), который в главе под характерным на-
званием “Создание женщины” выступает в ситуации, по-
вторенной (вплоть до словесных перекличек) в интересу-
ющем пас стихотворении: “Да, я люблю тебя, мой светлый
ангел, - сказал он, страстно сжимая ее в объятиях. - Я те-
бя люблю потому, что я тебя создал” (172, 260). В “Глубо-
ком мраке...” демонически-хаотическое начало тоже созда-
ст светлый женский лик, “обвивает” его своей “любовью
страстной”, заковывает в “свои объятья”, чтобы вновь рас-
творить его в себе (“пожрать”).
В этом узловом моменте, однако, особенно заметно ка-
чественное отличие “Глубокого мрака...” от ранней прозы
поэта, говорящее о том, что модель мира, создаваемая
в стихотворении, полемична не только по отношению
к Данте и предшествующей романтизму традиции, но и по
отношению к самому романтизму. Очевидно также, что
189
Григорьев становится к романтизму в позицию диалогиче-
ской вненаходимости, сходную с той, которую охаракте-
ризовал М.М. Бахтин, говоря о Достоевском.
Сочетание авторской внутри- и вненаходимости изо-
бражаемому задано уже в названии цикла, в который вхо-
дит “Глубокий мрак...”, - “Импровизации странствующего
романтика”. Подобное заглавие, утверждая принадлеж-
ность цикла романтической системе мировосприятия,
в то же время разыгрывает это мировосприятие, отделяет
автора цикла от первичного автора и представляет его
не в терминах “я”, а со стороны - как “другого” (романти-
ка). Тот же принцип действует и внутри стихотворения:
романтическое “создание женщины” осуществляет здесь
демоническая сила, которая выступает как “другой” по от-
ношению к субъекту речи. Одновременно позиции этого
“другого” противостоит позиция самого “я”, тоже, как мы
увидим, совершающего акт творения.
Свое воплощение данный подхрд получает и в субъект-
ной организации. В стихотворении три субъекта, данных
в определенной последовательности: “он”, “ты”, “я”. Важно,
что “он” и “ты” появляются уже в Гой строке и сразу стано-
вятся активными действующими лицами изображенного
события, в то время как “я” в качестве формально выра-
женного субъекта появляется лишь к концу стихотворе-
ния и ему в разворачивающемся событии отведена роль
не действующего лица, а сопереживающего созерцателя.
Подобная субъектная организация оказывается содержа-
тельной формой объективного подхода к теме: “создание
женщины” предстает как результат активности отделен-
ной от “я” демонической силы.
Эга демоническая сила становится героем произведе-
ния, но героем особого рода. “Мрак” - космогоническая сти-
хия, но он и антропоморфен, хотя антропоморфность эта не
условно-поэтическая, а мифологическая. «Мрак назван “не-
мым”», что также должно свидетельствовать о его дочелове-
ческой и дословесной природе. Это мифолого-космологиче-
ская первостихия, обладающая безусловной субстанциаль-
ной реальностью и говорящая лишь языком дела. Последний
момент необходимо подчеркнуть особо: разворачивающиеся
в стихотворении действия мрака - порождение, брачная
связь-сочетание и пожирание - не просто действия в обыч-
ном смысле слова, но и некий язык “немой” первостихии.
190
Eiaea 3
В этом свете событие самого рассказывания оказывается
своеобразным ответом мраку, а субъект речи, становящий-
ся к концу стихотворения “я”, совершает свой акт созда-
ния женщины, диалогически ориентированный на созида-
юще-разрушающую интенцию мрака. При этом слово
единственного в тексте субъекта речи обретает диалоги-
ческое двуголосие: оно обращено к слову “другого” (точ-
нее - к дословесному языку дела), содержит его в себе
и отвечает ему. Для понимания смысла и структуры такой
позиции обратимся к композиции, четко членящейся на три
симметричные части по 7-8-7 строк.
В первой части стихотворения (строки 1-7) воспроиз-
водится описанный во многих мифологических текстах
элементарный космогонический акт: отделение от изна-
чального хаоса гармонического лика (света). Высказыва-
ние дано от лица, формально не выраженного и впенахо-
димого изображаемому (что вполне вписывается в мифо-
логическую природу фрагмента). Речевой формой выра-
жения вненаходимости субъекта речи становится приня-
тая повествовательная норма - прошедшее разговорное
(с глаголами прошедшего времени совершенного вида -
возник, сочеталась).
Отмеченные особенности высказывания создают эпи-
ческую дистанцию между субъектом речи и событием,
о котором рассказывается, а также задают мифологиче-
ский язык описания. Слово в этом языке - не условно-по-
этическое, не “образное”, а именно субстанциальное. В са-
мом деле, “мрак” - не образ в обычном смысле слова, а не-
кое “начало”. Обе его номинации во фрагменте - “глубо-
кий мрак” и “мрачная бездна” - не только лексически,
но и структурно перекликаются с номинацией первости-
хии в таком репрезентативном мифологическом тексте,
как “Ригведа”, например: “глубокая бездна”, “мрак был по-
крыт мраком вначале” (63, 263). В обоих случаях перво-
стихия выступает как амбивалентное начало: и мужское
и женское, и предмет и признак. Очевидно, что когда ха-
рактеризуются действия такого “начала”, то они тоже
должны быть поняты в соответствии с языком мифа. Если
Григорьев пишет:
Глубокий мрак, ио из него возник...
Но связью страшной, неразрывно-брачной
С тобой навеки сочеталась мгла,
191
то здесь у него не “образ”, не условно-поэтический оборот,
а столь же прямое мифологическое называние явлений,
как, например, у Гесиода:
Черная Ночь и угрюмый Эреб родились из Хаоса.
Ночь же Эфир родила и сияющий День иль Гемеру:
Их зачала она в браке, с Эребом в любви сочетавшись.
Важно увидеть, что мифологическая образность связа-
на в анализируемом фрагменте именно с “мраком” и его
действиями. В устах субъекта речи слово эстетически ра-
зыгрывает прежде всего мифологическую, причем досло-
весно-деятелыгую реальность “мрака”, соответствует ему.
Но отмеченные особенности языка высказывания не
являются единственными или безраздельно господствую-
щими в первой части стихотворения. Наряду с эпически
дистанцированным, мы видим во фрагменте иной способ
высказывания - резко субъективный и экспрессивно окра-
шенный. Субъект речи в таком случае оказывается гораз-
до более активным, чем это принято в ортодоксально ми-
фологических текстах. Становится возможным кардиналь-
ное нарушение эпической дистанции и появление рече-
вой конструкции (глагол настоящего времени несовер-
шенного вида - “выходишь”), создающей эффект присут-
ствия субъекта речи в одном времени с героями и соприсут-
ствия его в акте творения. Такое положение субъекта ре-
чи задает стихотворению иной образный язык, качествен-
но отличный от описанного выше. Этот иной язык ориен-
тирован на героиню и так же соответствует ей, как язык
мифологический - мраку.
Номинации героини как будто бы тоже мифологичны:
она - лик, связанный с космическим светом (“как лучи за-
ри светла”). Но здесь обращает на себя внимание то, что
“лик” дан в ореоле экспрессивных тропов, то есть образов
уже в точном смысле слова: девственный лик, дышащий
тайной, глубокой тайной. Значим и сам факт сравнения:
в ортодоксальном мифологическом тексте героиня была
бы не условно-поэтическим “как лучи зари”, а самими лу-
чами зари. Наконец, сама номинация героини должна вос-
приниматься не только как слово, имеющее прямое значе-
ние, но и как метафора (“лик” - мадонна).
Совершенно очевидно, что перед нами не прямое ми-
фологическое слово, а слово образное, поэтическое, то
192
Глава 3
есть иной, чем прежде, художественный язык. Из сказан-
ного следует, что “мрак” и “лик” у Григорьева не просто
две стихии, но и два языка, точнее - две стихии (“приро-
да” и “культура”), ставшие языками. Ясно также, что ни
один из этих языков (как ни одна из стихий) не является
в “Глубоком мраке...” господствующим: они совмещены в
голосе субъекта речи как самостоятельные начала, хотя и
связанные отношениями порождения.
Некоторый свет на смысл подобной структуры могут
пролить эстетические суждения поэта, в частности его по-
ложение об “органических”, “рожденных, а не деланных со-
зданиях искусства” (174, 113). Такие создания (“глубокие
и вместе прозрачные”, ср.: “...прозрачный и дышащий глу-
бокой тайной лик”) говорят о себе: “Есть тайна в нашем ро-
ждении, тайна, которой вы не исследуете. Мы не то, что са-
ма жизнь, ибо мы не сколки с нее: жизнь сама по себе - но
мы так же самостоятельны и необходимы и живы, как само-
стоятельны, необходимы и живы се явления” (174, 153).
Такая творческая установка делает понятней, почему
ни один из соотнесенных образных языков не должен
стать в творении Григорьева односторонне преобладаю-
щим. Господство мифологического языка вело бы в пер-
спективе к превращению изображенного в саму стихию
жизни, а в мире произведения - к поглощению “лика” “мра-
ком” (“культуры” - “природой”). Господство языка “образ-
ного” сделало бы изображение условным (“сколком с жиз-
ни”). Искомый же “рожденный” художественный мир мог
возникнуть только на границе - в событии встречи сти-
хии и культуры, субстанции и образа, ставших самостоя-
тельными. Заметим, что уже само по себе подобное по-
строение художественного мира является ответом на мо-
нологические притязания “мрака”, стремящегося к погло-
щению героини. Ответ этот осуществлен в первой части
стихотворения субъектом речи, который и вненаходим,
и внутринаходим по отношению к героям, он еще не “я”,
но он не безличная стихия; он - слово, а учитывая мифо-
логическую семантику фрагмента, даже - Слово.
Во второй части стихотворения (строки 8-15) отноше-
ния между субъектами вступают в новую фазу. Рассказыва-
емое событие (“брачная связь”) по-прежнему выступает в
ореоле мифологической семантики. Новым же здесь явля-
ется предельная активность мрака, становящегося субъек-
193
том действия: он эротически объемлет героиню, чтобы
растворить ее в себе (“пожрать”). Но именно теперь ста-
новится более выявленной и ответная реакция субъекта
речи па демоническую позицию героя. Эта ответная ак-
тивность проявляется пока только в том, как рассказыва-
ется о событии. Именно в событии рассказывания предла-
гается иное, чем у “мрака”, отношение к героине: она не
поглощается, а, напротив, последовательно одухотворяет-
ся. Если раньше она была пластическим (хоть и экспрес-
сивно окрашенным) ликом, то теперь она предстает как
“чело”, “образ”, “идеал”. Мало того, ответная активность
субъекта речи более прямо распространяется и на “мрак”,
и на все рассказываемое событие. Ведь во фрагменте речь
идет не о самих по себе действиях “мрака”, а о том, на что
они похожи с точки зрения субъекта речи: вся вторая
часть стихотворения является одним развернутым сравне-
нием (“Как будто он, сей бездны мрак ужасный” - и далее).
Активность субъекта речи здесь выражена столь явно,
что может показаться, будто вторая часть стихотворения
чисто субъективна, будто действие в ней переносится во
внутреннее пространство сознания, а сам язык образов
(сравнительный союз “как будто”, отнесенный ко всему
фрагменту, и серия олицетворений) придает изображен-
ному условно-поэтический характер. Это не совсем так.
Ведь само рассказываемое событие - “связь страшная, не-
разрывно брачная” - остается мифологически окрашен-
ным, а образы продолжают нести мифологическую семан-
тику брака и пожирания. В пространство сознания и в соб-
ственно условно-поэтический план здесь переносится не
то, что сравнивается, а то, с чем сравнивается. Иначе го-
воря, сама “связь” остается во фрагменте вполне объек-
тивной, субъективно же соотнесенными являются два раз-
ных способа ее осуществления: монологически поглощаю-
щий (свойственный “мраку”) и идеализирующе-одухотво-
ряющий (свойственный субъекту речи).
Развернутое сравнение заканчивается на 15-ой строке.
Третья часть стихотворения (строки 16-22) задает новую
субъектно-образную ситуацию. Во-первых, доводится до
предела и осознается разрушительная функция “мрака”,
прежде бывшего порождающим началом (слово “разруше-
ние” дважды повторено во фрагменте: “семя разрушенья”,
“хаос разрушительный”). Но, во-вторых, именно здесь
194
Глава 3
впервые появляется “я” как выраженный субъект, продол-
жающий спор с творяще-разрушающей демонической си-
лой. Последнюю ясность приобретает и отношение “я”
к героине - в его противостоянии отношению к ней “мра-
ка”. Интенция “я” утверждает самоценность героини: при-
знается и ее органическая связь с породившей стихией
(“в тебе самой есть семя разрушенья”), и свобода ее воли
(“О, как могла ты...”), а главное - созидается дарующая и бла-
городно-страдательная позиция, при которой “я” отступает
на второй план перед героиней (“я за тебя дрожу...”).
Тут нельзя не увидеть воспроизведения пушкинского
отношения к женщине, которое Григорьев отстаивает
в борьбе и автополемике с “болезненной”, то есть эгоисти-
чески-монологической, поэзией и в своих статьях (см., на-
пример, 174, 212), и в стихах (ср. мотивы ряда стихотворе-
ний из цикла “Борьба”, например, “будь счастлива... Забудь
о том, что было, Не отравлю я счастья твоего”, открыто пе-
рекликающееся с “Я вас любил...”). Переклички эти, как под-
тверждает и поздняя проза поэта, несут глубокий смысл -
они касаются сокровеннейшей проблемы пушкинского на-
следия: его диалогического отношения к “другому”. К пуш-
кинским мотивам “Глубокого мрака...” мы еще вернемся,
сейчас же обратим внимание на чрезвычайно важный мо-
мент, который, казалось бы, находится в противоречии
с диалогическим отношением “я” к героине.
Дело в том, что в анализируемой части стихотворе-
ния завершается дематериализация героини: из “лика”,
“образа”, “идеала” она превращается в “призрак”, “виде-
нье”, то есть становится частью внутреннего мира лири-
ческого субъекта (“призрак мой”). Но тогда и “мрак”, из
которого выступает героиня, тоже следует считать ча-
стью внутреннего мира “я”? Косвенным подтверждением
этого может служить интерпретация “Мадонны” Мури-
льо, звучащая как самопризнание Григорьева: “Мрак, ок-
ружающий этот прозрачный, бесконечно-нежный, девст-
венно строгий и задумчивый лик, играет в картине столь
же важную роль, как и сама Мадонна и младенец. Для ме-
ня нет ни малейшего сомнения, что мрак этот есть мрак
души самого живописца, из которого... отделился, улету-
чился божественный сон” (173, 175-176).
Если это так, то не следует ли в конечном счете пони-
мать “Глубокий мрак...” как чисто романтическое созда-
195
ние? He следует ли думать, что полемика с романтизмом
завершается у Григорьева романтическим же “созданием
женщины” и монологическим поглощением ее? Ответить
на этот вопрос нам поможет параллель с терцинами Пуш-
кина “В начале жизни школу помню я”, содержащаяся
в “Глубоком мраке...”.
Помимо соответствий в ритмике и строфике, между
двумя текстами есть очевидные лексические переклички -
их так много и они столь системны, что случайность сов-
падений исключается. Перекликаются и тематические по-
ля - “светлое” и “темное”, эротическая тема, переживания
“я”. При этом между тематическими полями (“темное”
и “светлое”) у Пушкина уже заданы те отношения амбива-
лентности, которые разыграны и у Григорьева: “светлые,
как небеса”, очи “жены”, но “белые” же и изображения
“бесов”; “мрак” же назван “великолепным” - и это по суще-
ству описание языческого (“бесовского”) рая (“сада”).
Описание двух статуй в саду обнаруживает те же внутрен-
ние противоречия, что и описание темного и светлого на-
чал в стихотворении Григорьева (и с многочисленными
лексическими перекличками, подчеркнутыми нами):
Один (Дельфийский идол) лик младой -
Был гневен, полон гордости ужасной,
И весь дышал он силой неземной.
Другой женообразный, сладострастный,
Сомнительный и лживый идеал -
Волшебный демон - лживый и прекрасный.
Существенна еще одна особенность перекликающихся
описаний.
Дело в том, что у Пушкина все образы получают недву-
смысленную реалистическую и предметную мотивировку:
“мрак” - это “мрак чужого сада”, куда убегал герой; “лик
младой” - скульптура в саду, которую он видит. Иначе
строится образный мир Григорьева: “мрак” и возникаю-
щий из него светлый “лик” здесь лишены конкретно-пред-
метной отнесенности и должны воспринимать как мифо-
логические субстанции в их всеобщности. Иначе говоря,
образы у Григорьева, как и у Пушкина, объективны, но эта
объективность другого плана - не предметная, а субстан-
циальная.
Однако, присмотревшись внимательно, начинаешь ви-
деть, что григорьевская субстанциальность есть реализа-
196
Глава 3
ция и эксплицирование тех возможностей, которые в им-
плицитной форме уже содержатся в тексте Пушкина и со-
ставляют его глубинное своеобразие.
Действительно, образы терцин Пушкина имеют не
только предметный, но и имплицитно-символический
план - это касается и “величавой жены”, и “чужого сада”,
и “бесов”, и, конечно же, столь важного для Григорьева
“великолепного мрака”, бросающего свою “тень” на все
вокруг, а главное - бросающего се на героя (“там нежила
меня теней прохлада”, “все кумиры сада па душу мне свою
бросали тень”). Очевидно, что мрак и его тень здесь не-
что большее, чем деталь пейзажа, - это еще и некая суб-
станция, присутствующая и в мире, и в сознании “я”. Ведь
“я” - отступник, пытающийся вырваться из круга ценно-
стей светлой “жены”, уже полностью нс совпадающий
с ними, но в глубинах своего самосознания еще не могу-
щий полностью отделить себя от них (см. выражающую
это диалогизпровапное отступничество конструкцию:
“Я про себя превратно толковал Попятный смысл правди-
вых разговоров”). Такое отступничество и есть внутрен-
ний мрак, что нс означает, будто он - только внутренняя
стихия. Напротив, совершенно ясно, что он вполне объ-
ективная субстанция, и это подчеркнуто структурой субъ-
ектно-объектных отношений текста: “я” - мир (школа, же-
на, кумиры, мрак сада), данный в третьем лице. При та-
кой организации высказывания не возникает колебаний
в субъектной или объектной локализации изображенно-
го, хотя (и без этого текст не был бы именно пушкин-
ским) оставляется возможность понимать объект (тот же
“мрак”) не только как объект. Вот эту-то возможность экс-
плицирует Григорьев, превращая “мрак” и “свет” в мифо-
логизированных субъектов и строя стихотворение так,
что они постепенно раскрываются не только как космо-
логические стихии, но и как стихии души. Параллелизм
мирообразующих сил и стихий души художника, их траги-
ческая нераздельность и неслиянность и являются тем
принципом, из которого вырастает григорьевская модель
мира. После этого открытия становится возможным явле-
ние русской неклассической поэзии, хотя прежде наход-
ки Григорьева отозвались в творчестве поздних класси-
ков и завершителей русской лирики XIX века.
197
10. ГРАНИЦЫ “Я”
И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА
В ПОЗДНЕКЛАССИЧЕСКОЙ ЛИРИКЕ
(АПУХТИН И СЛУЧЕВСКИЙ)
Трагический параллелизм Григорьева, его контра-
сты и диссонансы стали у Апухтина и Случевского отражени-
ем музыки “безвременья” и слились, как заметила Е.В. Ерми-
лова, в “стройную систему” (197, 269). С точки зрения исто-
рической поэтики, очевидно, что эти диссонансы и контра-
сты - пе что иное как все тот же исходный принцип класси-
ки - конечно-размерное и конкретное, но, во-первых, дове-
денный до своего логического конца и, во-вторых, потеряв-
ший посылку исходного мирового единства, некогда скреп-
лявшую его и обеспечивавшую его гармоничность.
Мы помним, что эта посылка была значимой у Пушки-
на настолько, что она выступала как головокружительная
глубина той же самой конкретности. У поэтов середины ве-
ка конечно-размерное и безмерное стали автономны, но
у каждого из художников еще был свой островок гармонии,
где единство мира сохранялось в своем первичном и дореф-
лексивном виде. Этот островок был последней опорой “по-
сылки, лежащей в основаниях классической конструкции
абсолютного самосознания” - “представления о гармонии
между организацией бытия и субъективной организацией
человека, мысли о том, что самой этой организацией он
укоренен в бесконечном миропорядке и имеет в нем гаран-
тированное место” (246, 29-30). Но поскольку подобный
антропоцентризм был одним из последних мифов и его не-
соответствие реальности становилось все более очевид-
ным, то “гармония сознания и действительности обеспечи-
валась... (особенно в поздней классической философии) за
счет рационализации, под которой продолжало жить вы-
тесненное ощущение хаоса, прикрытого спекулятивными
идеологическими абстракциями” (246, 38).
Мы видели, что уже Ап. Григорьев начал отказываться
от этой умозрительной гармонизации мира и от искусст-
венного единства ради того, что он называл силой, то
есть двойственностью. Апухтин и Случевский уже строят
свои художественные системы на этой “двойственности”,
на этой конечной размерности, отказавшейся от утеши-
тельной иллюзии исходного единства. Но последователь-
198
Глава 3
но проведенная “двойственность” сама становится новой
системой, особенно если в эстетическом сознании еще
жива память о той музыке, по отношению к которой но-
вая звучит контрастом и диссонансом. Наконец, ведь сами
эти диссонансы предполагают потерянное единство, но
оно в них звучит в самих разрывах гармонии, в подголо-
сках, в зиянии, в той самой первостихии, которая из умо-
зрительной и гармонизирующей иллюзии вновь становит-
ся грозной и животворной силой.
Не случайно излюбленным жанром поздней русской
классики был романс (в том числе романс цыганский), бо-
лее всего приспособленный для выражения душевных дис-
сонансов и в то же время связанный с музыкой, в подголо-
сках которой звучала стихия и самые переходы которой от
последнего страдания к высшей радости были непредусмот-
ренными и животворными. Романс создал и собственно
поэтическую музыку - ритм и симметрию образов, осно-
ванные опять-таки прежде всего на разрывах и переходах.
В знаменитом романсе И.С. Тургенева “В дороге” (“Утро
туманное, утро седое”) (1843) именно цезурное зияние
становится центром стиха. Как бы случайно вырванные из
мрака памяти, образы присоединяются друг к другу при
помощи бессоюзных синтаксических конструкций так,
что между словами, неплотно пригнанными друг к другу,
остается щель. Из нее-то и сквозит самое главное, что при-
даст смысл всему сказанному, может быть даже несказан-
ному. Не случайно романс Апухтина “Ночи безумные, но-
чи бессонные...” (1876) повторяет и ритмический ход “Утра
туманного...” с его цезурой, и бессоюзное рядоположенис
образов, найдя для него определение - “несвязные речи”
(вместо “обильных, страстных речей” у Тургенева). Эти
речи заглушают у поэта “звуки дневные” (подчеркнуто на-
ми. - С. Б.), не хватает только “из пламя и света рожденно-
го слова”, но его романс не может выговорить, хотя умеет
слышать за “шумом мирским” условно-поэтических слов,
ставших штампами.
Романсовый штамп - последний предел условно-поэти-
ческого (тропеического) слова в русской лирике XIX века,
и он остался бы просто штампом, если бы сквозь него не
сквозило временами несказанное, животворное и стихий-
ное единство. Тяготение Апухтина к романсовому штампу
имело еще один глубокий смысл. Е.В. Ермилова заметила,
199
что “слово романса значит так неопределенно много, что
любая конкретизация может его начисто скомпрометиро-
вать” (197, 275). Такой же множественно-неопределенный
характер имеет и сама романсовая ситуация. О “Ночи бе-
зумные”, например, исследовательница замечает: “Не име-
ет никакого значения конкретная ситуация, с которой
могла бы ассоциироваться эта атмосфера, - это может
быть любая из его ночей” (197, 276). С точки зрения исто-
рической поэтики, такая ситуативность оказывается пося-
гающей на сам первообраз классики - на конкретность
и индивидуализированность лирической ситуации, и это
посягательство будет иметь для лирики далеко идущие по-
следствия, как мы увидим, когда будем говорить о русской
неклассической поэзии начала XX века.
Наконец, романсовое “я” ведь тоже по существу неоп-
ределенно-множественное, и не случайно Апухтин (вслед
за Фетом) дает один из первых образцов синкретического
“я” в русской поэзии, и именно в романсе “Цыганская пес-
ня” (70-е гг.). К стихотворению взят эпиграф - “Я вновь
пред тобою стою очарован...” - тоже из цыганского роман-
са. И этот эпиграф вместе с его “я” входит в текст:
О, пой, моя милая, пой, не смолкая.
Любимую песню мою
О том, как тревожно той песне внимая,
Я вновь пред тобою стою!
Так возникает синкретическое неразличение субъекта
речи сочиняемого сейчас романса и уже сочиненного, на-
поминающее нам аналогичные явления не только в рус-
ском, но и в цыганском фольклоре. Мало того, здесь ста-
новятся возможными (опять-таки знакомые и русскому,
и цыганскому фольклору) немотивированные субъектные
переходы, видные хотя бы по такой детали. “Боюсь я, что
голос мой, скорбный и нежный, Тебя своей страстью сму-
тит”, - говорит субъект речи, хотя песню должен петь
нс он, а она, и звучать его голос будет не в реальности,
а в той предполагаемой ее песне. Таким образом, возника-
ет, как в фольклоре, синкретизм не только субъектов, но
самой жизни и искусства, которые оказываются проница-
емыми друг для друга.
Описанное явление у Апухтина не случайно. Оно питает-
ся его постоянным интересом (выраженным и в прозе -
200.
Diaea 3
“Между жизнью и смертью. Фантастический рассказ”) к гра-
ницам и переходным состояниям “я”. Подробно всматрива-
ется поэт в эти явления, например, в “Памятной ночи”
(1880): “И вдруг, среди раздумья, - То было ль забытье, иль
тяжкий миг безумья - Замолкло, замерло, потухло все кру-
гом. Луна, как мертвый лик, глядела в мертвый дом, Сигара
выпала из рук, и мне казалось, Что жизнь во мне самом вне-
запно оборвалась... Я все тогда забыл: кто я, зачем я тут? Ка-
залось, что не я - другие люди ждут Другого поезда на стан-
ции убогой. Пе мог я разобрать, их мало или много, Мне бы-
ло все равно, что медлит поезд тот, Что опоздает он, что во-
все нс придет... Не знаю, долго ли то длилось испытанье,
Но тяжко и теперь о нем воспоминанье!”.
Укажем и на стихотворение “Швейцарке” (1873), в ко-
тором проницаемой для “другого” оказывается область
сна, а лирический субъект видит чужой сон: “Вдруг пробу-
дился я. День начинался, Билося сердце, объято Страш-
ной тоской; Снова заснул я, и вновь продолжался Виден-
ный кем-то, когда-то Сон мне чужой”. Все это, конечно, не
“мистика”, а отражение реального процесса изменения са-
моощущения личности и границ между “я” и “другим”.
И здесь Апухтин, как уже отмечалось, предшественник
русских поэтов начала XX века (197, 270).
Его современник К.К. Случевский тоже пристально
вглядывается в границы “я” и “другого”, и границы эти ока-
зываются трудно определимыми. По сравнению с конкрет-
ным “я” предшествующей лирики, у Случевского изменяют-
ся прежде всего внешние масштабы субъекта. Он может
быть уравнен по масштабу с природой и поставлен с ней на
одну плоскость (“В бурю”, “Я задумался - и одинок остался”,
“Снежною степью лежала душа одинокая” и др.). Он вмеща-
ет в себя то, что произошло в исторической жизни челове-
чества (“Во мне спокойно спят гиганты”) и вообще все че-
ловеческое (“Я видел Рим, Париж и Лондон”).
До Случевского с подобным укрупнением “я” мы встреча-
лись в некоторых стихотворениях А.С. Хомякова. В “Русской
песне” (1-я пол. 1830-х г.) перед нами предстает обобщенно-
национальное “я” (“От меня ль в степях мужички пошли..,
От меня ль в судах правда-суд пошла”). В “Труженике” возни-
кает “я” общечеловеческое, призванное грозным словом бо-
га. Элемент обобщенности есть и в субъекте Случевского,
но главное в нем не рационалистически общее и типич-
201
ное, а неповторимо личное начало, хотя и не совпадаю-
щее с самим собой. Этот субъект сближен с “другим” как
“душа”, которая не равна “я”: “Что тут писано, писал сов-
сем не я, - Оставляла за собою жизнь моя; Это - куколки
от бабочек былых, След мгновенный превращений вре-
менных. А души моей - что бабочки искать! Хорошо ей
где-нибудь теперь порхать, Никогда ее, нигде не обрести,
Потому что в ней, беспутной, нет пути”.
Эти метаморфозы души, сдвигающие границы “я” и “дру-
гого”, составляют глубинный слой личностной проблемати-
ки Случсвского. Особенно интенсивно переживается пре-
вращение “я” в “другого” во времени: “Меня здесь нет.
Я там , далеко, Там где-то в днях пережитых! За далью их не
видит око, И нет свидетелей живых. Я там, весь там, за се-
рой мглою! Здесь нет меня; другим я стал, Забыв, где был я
сам собою, Где быть собою перестал”. Постоянно и остро
ощущая собственную “другость”, поэт через нее ощущает
и “другого” как того “я”, каким он был когда-то, явно пред-
восхищая здесь проблематику более поздней “Гармонии”
И. Анненского: “Когда бы как-нибудь для нас возможным
стало Вдруг сблизить то, что в жизни возникало На рассто-
яньях многих, многих лет - При дикой красоте негаданных
сближений Для многих чувств хотелось бы прощений...
Прощенья нет, но и забвенья нет. Вот отчего всегда, везде
необходимо Прощать других... Для них проходит мимо То,
что для пас давным-давно прошло, Что было куплено боль-
ши м-болып им страданьем, что стало ложью, бывши упо-
ваньем, Явилось светлым, темным отошло”.
Сравнение с Анненским помогает увидеть и “классич-
ность” Случевского. В отличие от “Гармонии” и особенно
с “Октябрьского мифа”, где “я” оказывается трудно отли-
чимым от “другого” (“И мои ль, не знаю, жгут Слезы серд-
це, или это Те, которые бегут У слепого без ответа”), Слу-
чевский четко различает субъектов, и все-таки в глубинах
этой системы уже зреют субъектные и образные формы
поэзии неклассической. В частности, для метаморфоз ду-
ши Случевский уже умеет найти не совсем привычный для
классики язык.
Исследователями выделены две, как будто взаимоис-
ключающие особенности образной системы поэта. Пер-
вая из них отчетливо связана с моделью параллелизма. Так
замечено, что у Случевского, по сравнению с его предше-
202
Глава 3
ственниками, сопоставление природы и человека “резче,
решительнее, а природа не делится на живую и неживую”
(271, 20). Замечено также, что “пейзаж выдвигается у Слу-
чевского на первый план, а душевные состояния поэта
лишь подразумеваются... В некоторых случаях он делает
лишь намек на такое сопоставление или противопоставле-
ние, не доводя его до конца, и сила Случевского как лири-
ка природы именно в том, что он не настаивает на этих
сопоставлениях, которые, будь они логически сформули-
рованы, ничем не выделялись бы и казались бы почти ба-
нальностями” (326, 34-35). В этом же ряду стоит одна из
любимейших образных структур поэта - необычайно ши-
роко используемый творительный метаморфозы (“Снеж-
ною степью лежала душа одинокая”, “Налетела ты бурею
в дебри души”, “Как ты чиста в покое ясном” и мн. др.,
вспомним хотя бы знаменитое “И став звенящею чувстви-
тельной струной” из “После казни в Женеве”).
Вторая особенность образной системы поэта - почти
гипертрофия сравнения, притом весьма своеобразного.
По мнению Е.В. Ермиловой, “прием сравнения - цент-
ральный у Случевского. Обе части сравнения - равнознач-
ны, равноценны. И приравниваются они обычно по обще-
му для них признаку - напряжению, дисгармоничности”
(197, 245). При этом “исчезает подчиненный характер
второй части сравнения” (197, 246) и оно начинает тяго-
теть к метафоре, а метафора, в свою очередь, к реализа-
ции (197, 247). В целом отношение Случевского к приро-
де, по Е.В. Ермиловой, очень отлично от отношения к ней
“поэтов XIX века, каковы бы ни были различия между ни-
ми. Мир его природы населен “обликами”, маленькими не-
довоплощенными существами; возникая из сравнения,
они приобретают самостоятельный характер”, становятся
реализованными метафорами (197, 247). По мнению ис-
следовательницы, “Случевский нарушает реалистическую
меру образа. Создается своего рода натуралистическая
фантастика” (197, 247), «однако - и это всегда у поэтов
XIX века - тоненький мостик “как” несет огромную нагруз-
ку, не позволяя метафоре уничтожить грань между дейст-
вительностью и поэзией» (197, 244).
Нарисованная исследовательницей картина, во мно-
гом верно и тонко схваченная, все-таки неполна. Она
должна быть дополнена с учетом роли параллелизма у Слу-
203
невского. В контексте указанных двух образных структур
функции самого сравнения тоже обнаружат, как мы уви-
дим, новые стороны. Обратимся непосредственно к тек-
стам и сначала к одному из программных для поэта -
“В немолчном говоре природы”, представляющему для нас
особый интерес ввиду его соотнесенности с художествен-
ным миром Тютчева.
Прежде всего останавливает на себе внимание пере-
кличка со стихотворением Тютчева “Не то, что мните вы,
природа...”. Сравним, например:
В ней есть душа, в ней есть свобода, Есть звуки рабства и свободы
В ней есть любовь, в ней есть язык... В великом хоре голосов.
Показательно, что воспринимая вслед за Тютчевым
природу как живую, Случевский, в отличие от Тютчева,
подчеркивает в ней не только “свободу”, но и “рабство”.
На отмеченную перекличку накладывается еще одна, на
сей раз со стихотворением “Смотри, как на речном про-
сторе” (не позднее весны 1851), особенно с его финалом:
Коронки всех иван-да-марий,
Вероник, кашек и гвоздик
Идут в стога, в большой гербарий,
Утратив каждая свой лик!
Поют о чудных грезах мая,
О счастьи, о любви живой,
Поют, совсем не замечая
Орудий смерти под собой.
Все вместе - малые, большие.
Утратив прежний образ свой,
Все - безразличны, как стихия, -
Сольются с бездной роковой!..
О, нашей мысли обольщенье.
Ты, человеческое Я,
Не таково ль твое значенье,
Не такова ль судьба твоя?
Главное тут, конечно, не в простых тематических пере-
кличках, а в самой внутренней структуре образных миров
двух поэтов.
“Смотри, как на речном просторе...” построено на чет-
ком и слегка рационализированном параллелизме: карти-
на природы - картина человеческой жизни. Показатель-
но, что тютчевский параллелизм выявляет в данном слу-
чае как раз отсутствие “свободы” и у человека, и у приро-
ды, в отличие от апологии природной свободы в стихо-
творении “Не то, что мните вы, природа...” Но именно
эти два взаимоотрицающие (хотя и разведенные по разным
текстам) утверждения Тютчева Случевский свел в одно:
“Есть звуки рабства и свободы В великом хоре голосов”.
204
Глава 3
Такой хор, конечно, диссонирующий, и он возник не просто
потому, что Случевский оспорил тезисные идеи своего пред-
шественника о рабстве и свободе; Случевский переосмыслил
саму внутреннюю структуру тютчевского образа, сделав ее
диссонирующей (ив этом были не только художественные
потери, как принято думать, но и приобретения).
Внешне это переосмысление выглядит так, будто Слу-
чевский отказался от тютчевского параллелизма, собствен-
но, от второго (“человеческого”) члена параллели (“О, на-
шей мысли обольщенье” и далее). Действительно, в интере-
сующем нас стихотворении нет деления на две (“человече-
скую” и “природную”) части, нет отдельно существующего че-
ловеческого члена параллели, извне соположенного с при-
родным. Но человеческий план “В немолчном говоре при-
роды” есть, есть и параллелизм, хотя он принял здесь не-
традиционную и глубоко содержательную форму.
Человек появляется в стихотворении уже со 2-й стро-
фы - как раз в том месте, где идет перекличка с Тютчевым:
“Идут в стога, в большой гербарий, Утратив каждая свой
лик”) ср.: “Утратив прежний образ свой... Сольются с безд-
ной роковой”). Именно параллель с Тютчевым проясняет,
что человек у Случевского выступает как некая внеличная
сила: не он отправляет цвет природы в стога-гербарий (ва-
риант тютчевской “роковой бездны”), а сами коронки цве-
тов “идут” туда, как бы независимо от его воли. Иначе гово-
ря, у Случевского человек делает то, что у Тютчева делает са-
ма природа, он не извне привносится в мир, а выступает как
имманентная сила самого этого мира. В следующей строфе
появляются уже сами “усталые косари”, и с этого момента че-
ловек и природа оказываются в одном, притом пространст-
венно сближенном ряду: “Нередко видны на покосах Вблизи
усталых косарей - Сидят на граблях и на косах Певцы воз-
душные полей”. “Усталые косари” - вполне конкретный об-
раз, по в то же самое время в контексте стихотворения (и да-
же двух соотнесенных стихотворениях разных поэтов) это,
конечно, и сама смерть; в руках у них “орудия смерти”, как
будет сказано позже, но они и сами ее орудия, что было вид-
но уже в первых строфах. И опять человек не извне входит
в мир природы, а является имманентно ей присущей силой,
через которую она вершит свои дела.
В последней строфе человек и природа еще более
сближены (и не только в материальном, но и в смысловом
205
пространстве). Но они не слиты, а именно предельно
близко, но и диссонирующе соположены. Сокращение
расстояния между ними связано с очеловечиванием “пев-
цов”, не случайно, однако, выдержанном в нарочито стер-
тых поэтических формулах. “Чудные грезы мая”, “сча-
стье”, “любовь живая” - старый, как мир, язык условно-по-
этических образов, ничей и общий (“хоровой”). Очелове-
чивание природы, выдержанное в таких образах, стано-
вится разыгранным и условным, мы не должны прини-
мать эти образы за действительность, хотя и не должны
игнорировать их. Человеческий план входит в последнюю
строфу и еще раз, по теперь через простое (а потому рез-
ко диссонирующее с условно-поэтическими штампами)
слово - “орудия смерти”, над которыми, не замечая их, со
святой банальностью ликует хор.
Сближение человека и природы, как мы уже отмечали,
вовсе не ведет у Случевского к их слиянию: ощутимая раз-
ность их должна сохраняться, но это разность явлений не
трансцендентных, а имманентных по отношению друг к дру-
гу, а потому лежащих в одном ряду. То, что перед нами еди-
ный, хотя и внутренне диссонирующий ряд, еще раз подчер-
кивает параллель с финалом стихотворения Тютчева. В кон-
тексте отмеченных перекличек совершенно очевидно,
“обольщеньем” нашей мысли является не только слепая сво-
бода природы, близкая к рабству, но и свобода человека, че-
рез которого на самом деле природа вершит свои дела. Поэ-
тому и сближены “певцы” полей с человеком: он тоже лику-
ет “не замечая Орудий смерти под собой”, не замечая даже
большего - того, что он-то и может по замыслу природы
стать этим орудием смерти, “усталым косарем”.
Подчеркнем еще раз качественное отличие паралле-
лизма у Случевского от Тютчева: человеческий план вве-
ден Случевским в мир природы не извне, а изнутри, при-
рода и человек (как и “рабство” и “свобода”) оказались
у него не в двух разных рядах, а в одном, хотя и внутренне дис-
сонирующем ряду - и в этом состояло художественное откры-
тие, сделанное поэтом с первых шагов его творческого
пути. Такие его стихи, как “На кладбище (Я лежу себе на
гробовой плите)” или “Ходит ветер избочась”, опублико-
ванные в 1860 году в “Современнике”, вызвали бурю него-
дования и пародий как раз потому, что нарушали привыч-
ную иерархию ценностей и ставили в диссонирующий,
206
Глава 3
но единый ряд то, что было принято расставлять по раз-
ным плоскостям.
Таков творческий принцип Случевского. Проницаемы-
ми и лежащими в одной плоскости являются у него не
только субъектные сферы “я” и “другого”, но и запечатлен-
ные в образе феномены мира. В чистой форме подобная
модель воспроизведена в поэме “Элоа”, где отношения ме-
жду “богом” и “сатаной” оформлены так:
Мы два враждебных брата,
Предвечные эоны высшей силы.
Нам неизвестной, детища ее.
Заметим, что единство (“два... брата”, “детища”) здесь,
по крайней мере, не менее представительно, чем противо-
положность (“враждебных”), что достаточно нетрадици-
онно (апокрифично, по Случевскому) в применении к “бо-
гу” и “сатане”. Ио самое главное, эти сверхсубъекты поста-
влены на одну плоскость (как человек-природа и рабст-
во-свобода в проанализированном стихотворении), благо-
даря чему и возник характерный для поэта диссонанс. Ио
в “Элоа” заметнее еще одна важная деталь, которая в сти-
хотворении выявлена не так четко. “Бог“ и “сатана” пото-
му и оказались лежащими в одном ряду, что оба они в рав-
ной мере являются порождениями трансцендентной по
отношению к ним, “неизвестной”, “высшей силы” (отно-
шения трансцендентности возникали, как мы помним,
и у Лермонтова, но у него трансцендентным демону был
бог, здесь же они имманентны друг другу, а им обоим
трансцендентно некое “неизвестное”).
Здесь Случевский вплотную подошел не просто к гра-
ницам классики, но и почти вступил во владения неклас-
сической лирики. Ведь эта порождающая и “неизвестная”
стихия - уже не конечно-размерное и конкретное начало,
которое является точкой отсчета в классическом искусст-
ве, а та нерасчленимая целостность, из которой исходит,
как мы увидим, лирика неклассическая. И все-таки Случев-
ский остается поэтом классическим, потому, что эта сти-
хия входит в мир его образа еще прежним путем: через
разрывы и диссонансы конкретных явлений, поставлен-
ных в один ряд. Теперь нам становится понятней диссони-
рующий параллелизм поэта. Смысл его не просто в под-
черкивании противоречий бытия (“брюсовская формула
207
“поэт противоречий” недостаточно корректна), но и не
только в разрушении иерархии ценностей, утверждении
абсолютного релятивизма и своеобразном бодлерианст-
ве19. Суть ее (как это видится сегодня) - в новом понима-
нии единства мира и обретении некоей новой бытийно-
сти, которая будет унаследована неклассической лирикой.
Ведь описанный нами диссонирующий параллелизм Слу-
чевского ставит в один ряд то, что прежде казалось разно-
мирным и внеположным друг другу. При такой структуре
образа воспринимающее сознание находится внутри это-
го единого мира - не остается ничего, что лежало бы за
его пределами, находилось бы извне и было извне оцени-
ваемо. Такая образная структура коррелирует с субъект-
ной позицией, которая состоит в отказе от монологиче-
ской вненаходимости изображаемому.
Тем не менее Случевский отказывается только от вне-
находимости монологической и вырабатывает вненаходи-
мость иного рода - внежизненно активную (особенно кон-
цептуально она утверждается в «Песнях из “Уголка”», но
свойственна всей его зрелой лирике. “В немолчном гово-
ре природы” такая позиция проявляется в том, что, во-
первых, здесь нет риторических форм авторского вмеша-
тельства (столь важных для упомянутых стихотворений
Тютчева); во-вторых, исключена прямая активность “я”
(эта субъектная форма в стихотворении вообще не появ-
ляется, да и в целом у Случевского она гораздо ниже сре-
днего показателя для 2-й половины XIX века); в-третьих,
хотя высказывание субъектно окрашено, -
Нередко видны на покосах...
но субъект речи как бы претерпевает это видение, а не
сам порождает его (так и травы “идут” в стога у Случевско-
го сами по себе - направляющая воля человека не акцен-
тирована).
Такая организация высказывания создает еще один
очень важный эффект. Изображенная картина перестает
быть просто существующей, главное в ней не то, что она
есть, а то, что она видна. “Видение” становится не только
предметом рассказываемого события, но и героем собы-
тия самого рассказывания, то есть переносится в метапо-
вествовательный план (усиленный благодаря указанным
перекличкам с Тютчевым). Тут мы подходим к пониманию
208.
Глава 3
новых аспектов образной системы Случевского, в частно-
сти, к пониманию особой роли в его поэтике сравнений
и их реализаций (“обликов”). Дело не просто в том, что у
поэта много сравнений, а в том, что они у него тоже перене-
сены в метаповествовательный план и являются не только
изображающими, но и изображенными. Присмотримся к это-
му на материале стихотворения “Ты не гонись за рифмой
своенравной”, тоже одного из программных для Случевского.
Здесь многократно акцентируется условность поэзии
и ее образов - “нелепости оне”, “но это вздор, обманное со-
зданье”, “к чему они? Чтобы людей морочить... Вздор риф-
мы, вздор стихи, нелепости оне”. Однако перед нами не
просто условность, а как бы условность в квадрате, она вво-
дится сравнением и остается все время реальностью этого
сравнения. “Я их сравню с княгиней Ярославной” (подчеркну-
то нами. - С. Б.). Так же строится целый ряд других стихотво-
рений: “Славный вождь годов далеких! С кем, скажи, тебя
сравню?” - все последующее становится перебором сравне-
ний: “Был костер - в тебе я вижу Сиротинку-головню. Все
еще она пылает... Нет, не то! Ты старый дуб”. На подобном
переборе сравнений строится проанализированное Е.В. Ер-
миловой стихотворение “В листопад”: “Листья скачут вдоль
дороги, Как бессчетные пигмеи К великану, мне под ноги.
Нет, неправда! То не листья, Это маленькие люди... Нет не
люди, не пигмеи! Это - бывшие страданья...”
Анализируя эту образную структуру, нельзя оставаться
на первичном уровне высказывания, иначе мы не поймем
его глубинного смысла. Здесь необходимо увидеть именно
метаповествовательные функции сравнения. Не умножая
примеров (см. хотя бы “Забыт обычай похоронный”, “Го-
рящий лес”, “Снега” и др.), обратим внимание на такое ме-
таповествовательное, но “обратное” сравнение: “На сце-
нах царские палаты Вдруг превращают в лес и дол; Часть
тащат кверху за канаты, Другую тянут вниз, под пол. Вес-
ной так точно льдины тают: Отчасти их луч солнца пьет,
Отчасти вглубь земли сбегают, Шумя ручьями теплых вод!
Знать с нас пример берет природа: Чтоб изменить черты
лица И поюнеть к цветенью года - Весну торопит в два
конца!” Очевидно, что сравнение само тут становится
предметом рефлексии (“Знать с нас пример берет приро-
да”, видимо, подсказало Н.С. Гумилеву его “Мне думать ве-
село, что вечная Природа учится у нас”). Замечательно,
209
что у Случевского природа берет пример с декораций, то
есть с условности в квадрате, условности в самом предель-
ном ее выражении. По ведь так же было и в стихотворе-
нии “Ты нс гонись за рифмой своенравной...” (1898): буду-
чи условностью в квадрате, оставаясь сравнением, поэзия
одновременно оказывалась несомненнейшей и неистреби-
мой реальностью:
Нельзя, нельзя... Однако преисправно
Заря затеплилась; смотрю: стоит стена;
На ней, я вижу, ходит Ярославна
(см. и в финале: “А Ярославна все-таки тоскует В урочный
час на городской стене”).
Мы помним, что игра компаративным и бытийным
планом образа возникла уже у Батюшкова и была подхва-
чена Пушкиным, у которого условность и расчленяющая
природа сравнения стала разыгрываемым языком: в нем
рассказываемое событие претворялось в событие самого
рассказывания (“Что в имени тебе моем?”). Последний из
классических поэтов - Случевский - уже как бы имеет де-
ло только с компаративным планом, он делает сравнение
(а в его лице искусство) условным и разыгранным настоль-
ко, что уже отделяет его от высказывания в качестве мета-
высказывания. Но предельное подчеркивание условности
становится ее преодолением, парадоксальным утвержде-
нием особого бытийного статута художественной реально-
сти. Видимо, роль сравнения у Случевского не только
в том, чтобы быть последним мостиком, не позволяющим
уничтожить тонкую грань между действительностью и по-
эзией, а еще и в том, чтобы утвердить несомненный бы-
тийный статус поэзии, не уничтожаемый ее столь же не-
сомненной условностью. Такая образная ситуация должна
быть понята в большом времени исторической поэтики.
Из уже добытых исторической поэтикой фактов оче-
видно, что существовало три исторических типа соотно-
шения художественной и внехудожественной реальности.
Первый тип - их синкретизм, при котором обе реально-
сти не отделены друг от друга и одинаково субстанциаль-
ны. Второй тип - различение и отделение друг от друга ху-
дожественной и внехудожественной реальностей. Его на-
чало в эпоху7 рефлексивного традиционализма и зрелые
формы - в неканонической поэтике. При этом типе худо-
210
Глава 3
жсственная реальность нс смешивается с внехудожествен-
ной, но эстетическое сознание склонно рассматривать ху-
дожественную реальность как нечто лишенное бытийно-
сти и едва ли не призрачное, в отличие от субстанциаль-
ной внехудожественной реальности: критическая и раци-
оналистическая концепция текста, пришедшая на смену
субстанциальной (как уже отмечалось), не только помеща-
ет между словом и обозначаемым им предметом субъекта
(см. 253), но и утверждает условность в качестве сущностно-
го признака художественного образа.
Ситуация, которую мы застаем в русской классике
от Пушкина до Случевского, обозначает переход к третьем)'
историческому типу взаимоотношения художественной
и внехудожественной реальностей: простое различение их
начинает перерастать в сознание их самоценности и авто-
номности. Переход этот окончательно совершится в XX ве-
ке, породив целый ряд необратимых революционных изме-
нений в искусстве, но истоки его лежат уже в русской клас-
сике. Случевский, в частности, всей субъектно-образной
структурой своей поэзии утверждал, что искусство имеет
свой особый, незаместимый никаким другим и автономный
бытийный статус. Это и было наследием, которое поздняя
классика передала XX веку с его неклассической поэзией.
Последняя приняла эту посылку уже как нечто само собой
разумеющееся, настолько, что В.Я. Брюсов, например, уже
плохо понимал некоторые проблемы Случевского и удив-
лялся, зачем тому нужно было ломиться в открытые двери,
доказывая необходимость поэзии (18, VI, 232).
ПОЭТИКА РУССКОЙ НЕКЛАССИЧЕСКОЙ
ЛИРИКИ КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВЕКА
(СУБЪЕКТНО-ОБРАЗНАЯ СТРУКТУРА)
Глава
1. СМЕНА ПЕРВООБРАЗА В РУССКОЙ ЛИРИКЕ
Конец XIX - начало XX века в истории русской
лирики - новый этап. Именно теперь подверглась корен-
ному пересмотру классическая поэтика и возник новый
тип художественной целостности - со своим бытийно-эс-
тетическим статутом, субъектно-образной структурой, со
своим исходным принципом (первообразом) и закономер-
ностями его развертывания и завершения. По аналогии
с другими областями культуры, в которых в это время так-
же происходят революционные изменения всей системы
представлений, мы вслед за отечественными культуроло-
гами (246-247) называем этот тип “неклассическим”.
Прежде всего следует сказать об утвержденном новом
статусе поэзии и вообще искусства: в интересующую нас
эпоху внехудожественная и художественная реальности
окончательно разграничиваются, причем каждая из реаль-
ностей предстает как специфическая и самоценная, но
“автономно причастная” (М.М. Бахтин) другой. С художе-
ственной реальности снимается, таким образом, презумп-
ция “условности” и несубстанциальности (порожденная
кризисом субстанциальной концепции текста, см. 253),
а само искусство осознается по-новому: теперь оно не слу-
жанка других форм идеологии (и не временно исполняю-
щий обязанности философии, как это виделось Гегелю),
а одна из автономных форм духовно-практической дея-
212
Глава 4
тельности, то есть уже не объект , а субъект ее20. Это, конеч-
но, результат важных изменений, происшедших в соци-
альных, межсубъектных отношениях и в жизни, и в искус-
стве. В силу специфики данной работы, нас будут интере-
совать не причины этих изменений, а их отражение в со-
держательных художественных формах, а именно в субь-
ектно-образной структуре лирики.
Прежде всего в интересующее нас время внехудожест-
венная реальность перестает быть мерой и образцом для ху-
дожественной - у последней появляется своя собственная
мера. Едва ли не первым отметил это И. Анненский. Чтобы
понравилась современная лирическая пьеса, писал он, “на-
до все же отказаться, читая ее, от непосредственных аналогий
с действительностью" (117, 339, курсив поэта. - С. Б.). Мы пом-
ним, что конкретность классического первообраза была ве-
ликим завоеванием искусства, но эта конкретность исход-
ной ситуации облегчала ее идентификацию с наивной поня-
той “жизнью”, а эстетическое сознание классической эпохи
было ориентировано (если воспользоваться уточняющим
термином Ю.И. Левина) прежде всего на “осмысление”
образа, то есть на корреляцию его с определенной внеху-
дожественной ситуацией. Между тем неклассический пер-
вообраз (как это в иных терминах замечено Ю.И. Леви-
ным на материале поэзии Мандельштама) может не подда-
ваться так понятому “осмыслению”, а требовать “интер-
претации”, то есть “реконструкции ситуации, описанием
фрагмента которой мог бы быть данный текст” (223, 227).
Однако в классике была исконно дана не только вне-
текстовая ситуация, но и нормы, обеспечивающие “пра-
вильность” образа “с точки зрения данного естественного
языка”, “законов здравого смысла” и “бытового сознания”
(239, 213). В пеклассической поэзии снимается и эта апри-
орная установка. По наблюдению Ю.М. Лотмана, у футу-
ристов “привычная картина мира вообще, в принципе пе-
рестает быть регулятором поэтического текста” (239,
214), а “исследователь, наблюдающий стиль Пастернака,
с удивлением убеждается, что правила, сопутствующие по-
строению поэтического текста на значительном участке
его истории, перестают работать” (239, 219). С этой точ-
ки зрения, “системы Пушкина и Пастернака могут рассма-
триваться как реализация двух полярных принципов гене-
ративного построения текста” (239, 238).
213
Принципы, о которых говорит Ю.М. Лотман, мы на-
зываем “классическими” и “неклассическими”, а происхо-
ждение их, как показывают факты, следует вести не от Па-
стернака или Мандельштама, а от символистов, прежде
всего от И. Анненского и А. Блока. Уточнено должно быть
и представление о “полярности” двух указанных принци-
пов: мы предпочитаем говорить об их дополнительности,
ибо этим термином схватывается не только противопо-
ложность, но и глубинное единство классической и не-
классической поэтики. Это касается и первообраза двух
интересующих нас художественных целостностей.
Действительно, уже в классике первообраз при всей
его конкретности, обладал, как мы видели у Пушкина, не-
коей имплицитной “неопределенностью”, потенциальной
бесконечностью, не позволяющей до конца сводить его
к строго определенной жизненной ситуации. Мы видели
также, что на протяжении всей истории классической по-
этики принцип художественной “неопределенности” эво-
люционировал, приобретая формы неопределенно-мно-
жественного “другого” у Тютчева и Лермонтова или тако-
го же “я” у Фета и Некрасова, а в поэзии 70-80-х годов
рождая начало новой ситуативное™ и синкретического
“я”. По существу неклассическая поэзия подхватывает то,
что уже зрело и почти созрело в классике, однако для то-
го, чтобы был сделан решающий шаг, приведший к смене
первообраза, должно было радикально измениться пони-
мание “я” в его отношении к “другому”, вызванное пере-
ориентацией культуры с конечно-размерных ценностей на
иной аксиологический уровень.
“В образовании и развитии человеческого существа, -
пишет современный философ, - участвуют прежде всего
явления, имеющие конечную размерность, - это конкрет-
ные и всегда локальные человеческие (социальные, куль-
турные, этические) установления... и связанная с ними
упорядоченность. Они формируют человека и дают ту кар-
тину разброса локальных культур и общежитий по геогра-
фической и временной осям, которую мы наблюдаем в ми-
ровой истории. Но это не единственные человекообразу-
ющие силы и человеческие смыслы, упорядоченность су-
ществования формируется не только таким путем”. Чело-
век, как показывает философ, формируется еще и благода-
ря своей ориентации на явления, “выходящие за пределы
214
Глава 4
конечных целей, на надчеловеческое безмерное”, при этом
наука и искусство, например, неразрывно связаны с “куль-
тивированием восприятия, согласно которому только это
целое является чем-то действительно единым и осмыслен-
ным в отличие от явлений, обладающих конечной размер-
ностью” (248, 99).
Мы помним, что и классика знала ценности, выраста-
ющие из ориентации человека на бесконечность мира,
и все-таки исходной посылкой ее было конечно-размерное.
Нсклассический тип культуры, как показывает исследова-
ние (248; 246-247), ориентирован прежде всего не на конеч-
но-размерные ценности и даже не на потенциальную беско-
нечность классики, а на актуальную бесконечность. В рус-
ской лирике такая установка впервые четко проявилась
у старших символистов, но свои совершенные и завершен-
ные формы обрела у А. Блока. Именно у него идущие еще
от Бодлера символистские мировые “соответствия” стали
новым первообразом. Об этом первообразе исследователь
пишет: “Величайшим открытием Блока было новое вос-
приятие мира - не отдельных предметов в мире, а всего
мира, всей целостности пространства-времени. Тяжелые
контуры предметов размываются, и за ними выступает не-
кое текучее единство, “синяя вечность”. Это единство нс
складывается из предметов, а предшествует им (подобно
плейеру в картинах импрессионистов). Онтологически
оно реальнее, первичнее; предметы складываются из иг-
ры его волн” (280, 199).
Для исторической поэтики особенно важно то, что
блоковский первообраз очень отчетливо соотнесен с клас-
сическим, а именно с пушкинским. Новое - неклассиче-
ское - видение Блока как бы обнимает пушкинские начала
и концы. Ведь, предположим, “жизнь - без начала и кон-
ца” - это подхват онегинского финала и одновременно ак-
туализация потенциальной бесконечности его зачина. Та-
кого рода отношения - художественный закон в поэтиче-
ской системе Блока, когда она соприкасается с пушкин-
ской. Так в стихотворении 1905 г.
Там. в ночной завывающей стуже,
В поле звезд отыскал я кольцо.
Вот лицо возникает из кружев,
Возникает из кружев лицо -
215
перед нами актуальная бесконечность, онтологически
первичная стихия: из игры ее волн (“кружев”) возникают
на наших глазах конкретные и отдельные предметы. При
всей разительной непохожести этих строк на начало “Бе-
сов”, между стихотворениями есть тайное родство, яснее
обнаруживаемое в контексте статьи Блока “Безвременье”,
где “Там в ночной завывающей стуже” полностью проци-
тировано. Перед ним же в статье стоит фраза, отсылаю-
щая к “Бесам” и вообще к пушкинскому зимнему и вьюж-
ному миру: “В глубинах открывается звездный узор; его
разрывают снежные хлопья, мчатся, слепя глаза” (ср.:
“мчатся тучи”, “вьюга мне слипает очи”). После стихотво-
рения в статье вновь возникают пушкинские мотивы: “бес-
конечная равнина”, “путь бесконечный”, “игра”, “круже-
ние среди хлопьев, улетающих во мрак”, полосатые вер-
сты”, “колокольчик” (об этом см. и 255, 207). Интересно,
что к Пушкину отсылает нас и “кольцо”, которым Руслан
расколдовывает Людмилу (342, 133-134), а герой нашего
стихотворения вызывает свою возлюбленную (“душу ми-
ра”) из ее родимой стихии. Наконец, есть здесь и пушкин-
ское “кружение” вьюги. И в то же время у Блока все пре-
образовано-актуализовано: вьюга откровенно стала всеоб-
щей порождающей стихией, “кружение” превратилось
в “кружево” (впрочем, “вились” тучи уже у Пушкина), а за-
тем - в лицо. Все неузнаваемо изменилось, но тайное род-
ство с Пушкиным - неизгладимо.
Когда речь заходит о новом качестве неклассической
лирики, становится очевидным структурное родство трех
моментов: во-первых, установки на бесконечность как на
некое целое; во-вторых, первообраза, который стал воспро-
изведением не отдельных предметов, а “всего мира”, “всей
целостности пространства-времени”; в-третьих, субъект-
ной сферы, которая теперь тоже имеет началом не “я”
(или “я-другой”), а некую парадигматическую межсубъект-
ную гделостностъ. Рассмотрим, однако, сначала субъектную,
а потом образную структуру неклассической лирики сим-
волистов, помня при этом, что перед нами два аспекта це-
лого, абсолютное разграничение которых невозможно, да
и не нужно.
216
Тлава 4
2. СУБЪЕКТНАЯ СИТУАЦИЯ
В РУССКОЙ НЕКЛАССИЧЕСКОЙ ЛИРИКЕ.
СИМВОЛИЗМ
Окинем общим взглядом эволюцию субъектных
структур русской лирики до конца XIX - начала XX века.
Мы помним, что до XVIII века включительно постепенно
изживались разные формы субъектного синкретизма, воз-
растала роль лирического “я”, высвобождавшегося из ино-
субъектных оболочек, а в XVII-XVIII веках резко умень-
шилась способность “я” видеть себя со стороны - как “дру-
гого”, что свидетельствовало о монологических тенденци-
ях в лирике.
Качественно иные тенденции мы наблюдали в поэзии
XIX века. Теперь дальнейшее возрастание роли “я” сопро-
вождается его диалогической ориентацией на “другого”.
Конец XIX - начало XX векгг доводит эти тенденции клас-
сики до определенного завершения, но в то же время обо-
значает ряд новых процессов, заставляющих вспомнить
доклассические субъектные структуры.
Во-первых, интересующее нас время дает самый низкий
за всю историю русской лирики показатель встречаемости
высказываний от “я-мы” (7,9%), что свидетельствует о едва
ли не полном изживании традиционных форм субъектного
синкретизма. Во-вторых, несколько приостанавливается
процесс возрастания доли высказываний от “я”: 43,7% - это
больше, чем в первой, но немного меньше, чем во второй
половине XIX века. Зато значительно возрастает доля и зна-
чение тех форм высказываний, при которых “я” смотрит на
себя со стороны - как на “другого” - 50,4%. Второй за всю
историю качественный скачок делают неосинкретические
и диалогические формы: 30,2%, то есть почти в три раза
больше, чем во второй половине XIX века.
За этими цифрами - революция в субъектной сфере
лирики (столь же ощутимая интуитивно, как, например,
революция в ритмике): ее исходным началом становится
не аналитическое различение “я” и “другого”, а их изна-
чально нерасчленимая целостность, их неосинкретизм.
Он принимает разные, часто парадоксальные формы
(внешне выступая даже в оболочке эпатирующего индивиду-
ализма), но отчетливо представлен уже у старших символи-
стов - у А. Добролюбова (34%), И. Коневского (33,7%),
217
у Ф. Сологуба (38,6%), не столь впечатляюще, но замет-
но - у К. Бальмонта и В. Брюсова.
На первых порах поиски новой субъектной целостно-
сти идут через медитации на популярную в те годы тему
наследственности, культивирование идеи человека как ро-
дового существа и утверждение его пантеистического род-
ства с природой. Эти мотивы характерны для А. Добролю-
бова и И. Коневского. Выразительно такое, например, ме-
сто из стихотворения Добролюбова “Я предвижу, о отда-
леннейший из потомков моих”: “О! пусть и смех надо
мною, если он нужен, пусть и лихорадочное недоверие мо-
ей сравнительной неподвижности и ужасному бесчувст-
вию скал. Но вспомни, хотя на мгновенье, что во мне ле-
жали и только случайно не вспыхнули зародыши всех мыс-
лей и движений твоих, что я так подробно предвидел те-
бя и воссоздал заране живого тебя и твою удесятеренную
жизнь” (27, 17). Перед нами не просто поэтическая деклара-
ция, но способ видения мира и субъекта как мира (см. особен-
но: “моей сравнительной недвижности и ужасному бесчувст-
вию скал” - с его творительным метаморфозы, при котором
мы «имеем дело не с чисто словесными метафорами, а с от-
голосками “мифологического мышления”» (153, 411-412).
Этот тип образа, по наблюдению исследователей, принадле-
жит к излюбленным в поэзии XX века и нс имевшим широ-
кого распространения в веке XIX (211, 16).
Глубоко родственными такому миро- и самоощущению
оказываются и медитации И. Коневского (“Наследие ве-
ков”, “Памяти встречи”, “В крови моей великое боренье”
и др.), и те поиски превращения “интимного” во “всемир-
ное”, которые предпринимает в это время Ф. Сологуб:
“Что вчера пробежало во мне, Что вчера называл я собою,
Вот оно в голубой вышине Забелелося тучкой сквозною.
Тот порыв, что призывной тоской В этом сердце вчера
отозвался, Это он перед близкой грозой Над шумящею ни-
вой промчался. Та мечта, что в безрадостной мгле Дарова-
ла вчера мне забвенье, Па иной и далекой земле Снова
ищет себе воплощенья” (73, 9).
Уже к середине 90-х годов намечается несколько линий
развития субъектных структур, объединенных, однако, по-
исками нового “я” и его новых отношений с “другим”.
А. Добролюбов идет от пантеизма к снятию субъект-
объектных противоположностей и созданию субъектной
218
Глава 4
неопределенности (неосинкретизма). Уже в первой книге
его оказываются возможными “Стихи о Мадонне”, по-сво-
сму разыгрывающие архаический синкретизм мадонны
и земли. Иисус же выступает здесь как свет, но одновре-
менно вода и растение. В своей второй книге поэт осуще-
ствляет сходный поэтический ход в стихотворении “Встал
ли я ночью? Утром ли встал?” более демонстративно: “Я ль
в поле темном? я ль поле темно?” (27, 19; см. в вариантах:
“Я ль о тебе? или ты обо мне?”). Современник поэта -
Иван Коневский - видел в подобном построении “необы-
чайное по осязательности и кровности ощущение всех ос-
новных мировых противоположностей” и говорил, что
оно “невольно поражает широтой ощущения” (27, 5-6).
Современный исследователь тоже видит здесь прежде все-
го столкновение противоположностей, а именно “дезорга-
низацию смысловых антитез”: «“Тексты бытия” утратили
свои значения, почему и члены семантических оппозиций
оказались для Добролюбова принципиально неразличи-
мыми» (304, 39). Между тем подход к этому стихотворе-
нию с точки зрения субъектной структуры позволяет уви-
деть его в ином смысловом ракурсе, не только деструктив-
ном, но и конструктивном. Действительно, перед нами не
просто дезорганизация субъектных антитез, но и их новая
организация, во многом предсказывающая будущее разви-
тие поэзии. От пантеистического “я” лирика движется
здесь к неосинкретическому.
Может быть еще отчетливей (ибо он не заслонен игрой
мыслительных противоположностей) этот путь просматри-
вается в другом стихотворении второй книги Добролюбо-
ва - “Сегодня, если хотите, мне близко безумье всего”. Начи-
нается оно с уже знакомого по другим стихам поэта пантеи-
стического “я”, притом в образном оформлении творитель-
ного метаморфозы: “Как растение, скучную жизнь я стара-
юсь вести, мерно шепчутся листья; Песочным пластом
я способен тяготеть к средоточью; В беспорядочных чувст-
вах вращаться светилом земли”. Но вот это-то пантеистиче-
ское самозабвение и подготавливает “я” к синкретическому
неразличению или, как скажет позже Добролюбов, “соеди-
нению” субъектов - “я”, “ты”, “мы” и “они”: “Но грустно
быть близко, действительно забывая себя, И горько про-
никнуть в сухое теченье вещей... Но свет твой увидишь не
ты (здесь и далее подчеркнуто нами. - С. Б.) - Обитель
219
блестящих за тучами чудных светил, Но в нашем стремле-
ньи друг к другу указан путь совершенства, И друг друга ко-
гда-нибудь очами навеки поймут' (27, 33-34).
Следующим шагом в том же направлении оказывается
провозглашенный поэтом уже после “ухода” принцип “со-
единения” (“Соединенье, соединенье - вот слово, которое я на-
шел в народе. Вместо разделения соединенье всего”, 27а,
4), а также порожденная им субъектно-образная формула
“сестра моя - жизнь”, давшая, как известно, заглавие зна-
менитой книге Б. Пастернака (27а, 54; см. и: “сестрица
весна”, “сестрица заря”, “сестра вода”, “сестры звездочки”,
“горы, холмы земли - братцы, сестры мои” и др.). В свете
этого принципа естественным выглядит возвращение Доб-
ролюбова к субъектному синкретизму традиционно фольк-
лорного типа, например в “Жалобе березки под Тройцын
день”: “Под самый под корень ^подрезал он... Принесли ме-
ня в жертву богу невидимому” (27а, 38). На языке того вре-
мени способность к такого рода “соединению” называлась
“мистическим чувством”, но о его реальном смысле точно
сказал И. Консвский: “Это ощущение пребывания лично-
сти в таких состояниях сознания, которые находятся вне
доступного обычным условиям восприятия предметов. Это
соединение личного сознания с бытием его предметов, уве-
личение сферы его самочувствия” (34, 199).
Если “я” у Добролюбова было синкретическим в своем
пределе, то у других старших символистов - у И. Коиев-
ского, К. Бальмонта, Ф. Сологуба - оно, хоть и не будучи
синкретическим, становится парадигматически личным,
что качественно отличает его от конкретного и индивиду-
ального классического “я”.
И. Коневский не пошел по пути Добролюбова потому,
что попытался сочетать принцип “соединенья” с “демони-
ческой силой отчетливой членораздельности или индивиду-
альности, возмугившейся против первобытного всссливаю-
щего единства” (34, 226). Отсюда идеал поэта - “цельная од-
носторонность”, соответствующая “прежней русской безза-
ветности и самозабвению в безличном соединении с единст-
вом” (34, 159). “Цельность” - результат парадигматической
личностности “я”, “односторонность” - в его противостоя-
нии стихии нерасчлененности: “Проснулся я средь ночи.
Что за мрак! Со всех сторон гнетущая та цельность, В ко-
торой тонет образов раздельность: Все - хаоса единовла-
220
Глава 4
стный зрак. Пошел бродить по горницам я: так, В себе
чтоб чуять воли нераздельность, Чтоб не влекла потемок
беспредельность Смешаться с нею в беспросветный брак.
Нет, не ликуй, коварная пучина! Я - человек, ты - бытия
причина, Но мне святыня - цельный мой состав. Пусть
мир сулит безличия пустыня - Стоит и в смерти стойкая
твердыня, Мой лик, стихии той себя не сдав” (34, 17).
Дополняющей противоположностью “цельной одно-
сторонности” И. Коневского оказывается “разорванная
слитность” “я” у К. Бальмонта. Согласно мифу, который со-
здает Бальмонт, “слитность” - в предыстории его лириче-
ского “я” (“стихийного духа”), путь которого начинается
в книгах “Под северным небом” (1894), “В безбрежности”
(1895), “Тишина” (1898). В самих названиях этих книг сим-
волизирована та исходная всесливающая стихия, от кото-
рой отталкивается, например, И. Консвский. Бальмонт же
самим строем своих созданий и многочисленными (осо-
бенно в “Тишине”) эпиграфами-декларациями утверждает
необходимость слияния с ней: “Прежде, чем душа найдет
возможность постигать и дерзнет припоминать, она долж-
на соединиться с Безмолвным Глаголом” (10, ИЗ). Это
слияние с бесконечностью, это пассивное состояние рас-
творения в стихии, готовит, по Бальмонту, душу к ее ак-
тивному проявлению, расширяя сферу ее самочувствия.
Поэтому активизм лирического “я” в последующих книгах
Бальмонта - “Горящие здания” (1900), “Будем как солнце”
(1903), “Только любовь” (1903), “Литургия красоты” (1905) -
неправомерно воспринимать как заурядно индивидуалисти-
ческий: он мыслится как с самого начала оплодотворен-
ный изначальной целостностью, в нем должны сниматься
противоположности конечного и бесконечного, своево-
лия протеического “я” и говорящей через него стихий
бесконечно изменчивой жизни. По существу перед нами
парадигматическое “я”.
По точному замечанию И. Анненского, “я” у Бальмонта
“нс личное и не собирательное (не классическое и не до-
классическое. - С. Б.)у а прежде всего наше я, только сознан-
ное и выраженное Бальмонтом” (117, 99; см. в другом месте:
“Не столько внешним <...> биографическим я писателя,
сколько его истинным неразложимым я, которое, в сущно-
сти, одно мы и можем, как адекватное нашему, переживать
в поэзии”, 117, 102-103). Не случайно И. Анненский имен-
221
но на материале поэзии Бальмонта считал возможным го-
ворить о появлении в поэзии начала века нового типа ли-
рического субъекта, качественно отличного от того, кото-
рый мы называем классическим: “Прежде, у тех, у предте-
чей нашего стиха и нашего я, природа была объектом, люби-
мым существом, может быть, иногда даже идолом <...>
Наш стих, хотя он, может быть, и не открывает новой по-
этической эры, но идет уже от бесповоротно-сознанного
стремления символически стать самою природою <...> и при
этом поэт не навязывает природе своего я, он не думает,
что красоты природы должны группироваться вокруг это-
го я, а напротив, скрывает и как бы растворяет это я во
всех впечатлениях бытия. Пьеса Бальмонта (речь идет
о стихотворении “Я - изысканность русской медлитель-
ной речи”. - С. Б.) волшебно слила все пленившие стих
подвижности и блески, и поэт сумел сделать это без едино-
го разобщающего сравнения” (117, 100).
Перед нами прекрасное введение в поэтику лирики на-
чала XX века, когда, во-первых, природа перестала быть
для художника объектом, а стала субъектом; во-вторых, са-
мо “я” символически стремится стать природою; в-треть-
их, образ начинает строиться не на различающем и разоб-
щающем сравнении, а на каком-то ином принципе. К это-
му принципу мы вернемся, говоря о собственно образной
структуре, теперь же обратимся к специфической субъект-
ной ситуации, которую прочитывает Анненский в лирике
Бальмонта: “Здесь, напротив, мелькает я, которое хотело
бы стать целым миром, раствориться, разлиться в нем, я -
замученное сознанием своего безысходного одиночества
<...> Я - среди природы, где немо и незримо упрекая его,
живут такие же я...” (117, 102).
Действительно, в отличие от “цельной односторонно-
сти” “я” Коневского, для которого проблема “другого” еще
не стояла сколько-нибудь остро, для Бальмонта отноше-
ние к “другому” - чрезвычайно актуально (об этом говорит
и сама напряженность переживания себя и “границ своего
“я”, см. стихотворение “Границы” в “Литургии красоты”).
Своеобразие бальмонтовского “разорванно-слитного” ге-
ния в том, что он “слит” с единым в парадигме бытия, но
разорван с конкретным “другим” в синтагматике межлич-
ностных отношений. Последнее и обусловливает трагиче-
скую сторону поэзии Бальмонта: его постоянные порыва-
222
Глава 4
ния к миру оказываются биением в стекло собственной ду-
ши. В свое время И. Эренбург иронически писал о Баль-
монте, что “переплыв все моря и пройдя все дороги, он
ничего... не заметил, кроме своей души” (345, 17). В этом
и была трагедия поэта.
Более осознанно трагический, по одновременно иро-
нический налет приобретает субъектная ситуация у Ф. Со-
логуба. Он последовательнее других старших символистов
шел к созданию парадигматического “я” и в то же время
к нему более, чем к кому-нибудь применимо то понимание
символизма, которое предлагает И. Анненский: “Символи-
стами справедливее всего называть, по-моему, тех поэтов,
которые не столько заботятся о выражении я или изобра-
жения не-я, как стараются усвоить и отразить их вечно
сменяющиеся взаимопаложения” (117, 339). Своеобразие
этих взаимоналожений у Сологуба состоит в том, что па-
радигматическое, или “наше я” (117, 354), обретает в его
художественном мире некую абсолютность, как бы исклю-
чающую возможность существования “другого”, но и поро-
ждающую его.
Действительно, Сологуб создает миф, согласно которо-
му “я”, наподобие орфического Эроса, существовало уже
в первобытном хаосе - рапыпе создания мира: “В первона-
чальном мерцаиьи, Раньше светил и огня, Думать, гадать
о созданьи Боги воззвали меня. И совещались мы трое, Ра-
достно жизнь расцвела, Но на благое и злое Я разделил все
дела. Боги во гневе суровом Прокляли злое и злых, И разде-
ляющим словом Был я отторжен от них” “В первоначальном
мерцаиьи...” (74, 120). Замечательно, однако, что если орфи-
ческий Эрос есть стремление к соединению, то “я”, или “Я”
у Сологуба (они часто присутствуют в одном тексте, будучи
слабо маркированы), оказывается началом разделяющим, са-
мой своей природой порождающим “другое”.
Это разделяющее начало - нс только в бессознатель-
ной природе “я”, оно и акт его сознательного решения,
ибо эротическое “соединение” им тоже не приемлется:
“Соединить себя с другим собою, - Великая ошибка бы-
тия. Все дышит здесь насильем и борьбою, Дубравы шум,
и ветра гул, и плеск ручья”. Именно для исправления этой
“ошибки бытия” совершает “я” акт творчества-разделения,
которое оказывается тоже в конечном счете неприемлемым:
“Разъединить себя с другим собою - О, для чего придумал я!
223
И был я долго очарован Моей печальною и лживою меч-
той, Нетленной цепью, временем окован, Пространством
сжат - могильною плитой. И был я тяжко очарован Мно-
гообразной и мгновенной красотой. И, наконец, игра мне
надоела, - Пустая, глупая, напрасная игра. Ниспали чары
с творческого дела, Развенчаны властители добра, - Игра
бесцельная мне надоела, Соединить себя с другим собой
пора” (74, 148). Итак, круг завершается: “я” приходит к не-
обходимости “соединения”, то есть к необходимости соз-
нательно повторить “великую ошибку бытия”.
В более поздней книге - “Пламенный круг“ (1908) - Со-
логуб будет декларировать: “Ибо все и во всем - Я, только Я,
и нет иного, и не было, и не будет” (75, 7). Как правило, по-
добные утверждения Сологуба (см., например, и такое: “Но
мне светила возвестили, Что я природу создал сам, 75, 177)
до недавнего времени было принято истолковывать как вы-
ражение солипсизма. По более осторожной формулировке,
«у Сологуба “я” нередко поглощает собой окружающую сре-
ду, внешнее трасиформируется во внутреннее, но нс наобо-
рот (ср. лирику Пастернака): Я всем земным простором Бла-
женно замолчу» (304, 47). Так ли это?
В приведенном И.П. Смирновым примере перед нами
творительный метаморфозы, благодаря которому “я” пре-
вращается в “земной простор”, то есть не внешнее транс-
формируется во внутреннее, а наоборот. См. другие приме-
ры такой субъектно-образной структуры: “Солнцем на небе
сердце горит, И расширилась небом душа, И мечта моя вет-
ром летит.., И на небе моем облака” (75, 157). Или: “Я пою
в ночах зимовья Соловьем у изголовья” (75, 102). В этих слу-
чаях, конечно, не соловей становится “я”, а “я” - соловьем,
не небо - душой, а душа - небом, вообще не мир становит-
ся “я”, а “я” - миром. Отсюда такие образные формы, как
“и на небе моем облака”, “что в моих неподвижных тума-
нах” (75, 153), “и созерцая даль мою...”, “я снова слит с мо-
ей природой” (75, 177) и т. д. Нас уже нисколько не удив-
ляют подобные образно-субъектные конструкции у Блока
или Маяковского - мы понимаем, что здесь речь идет нс
о том, что мир нереален или порожден “я”, а о неотдели-
мости “я” от мира, об имманентности “я” миру.
По существу своей декларацией, а затем и стихами
“Пламенного круга” Сологуб пытается на новом уровне
преодолеть “великую ошибку бытия”, о которой уже шла
224
Глава 4
речь. Поэт становится на ту позицию, которая в индий-
ской традиции именуется “недуальностыо”. С этой пози-
ции одинаково ложным актом будет не только разделение,
но и соединение (поскольку последнее молчаливо исходит из
предположения, что мир исходно расчленен). Единствен-
ной интенцией, не вносящей разделения в мир и сохраня-
ющей его исходную целостность, оказывается позиция
бытия в-мире, взгляд на него изнутри, выражающий имма-
нентность “я” миру. Сологуб и отказывается на что бы то
ни было смотреть со стороны - как на “чужое”, “другое”,
“трансцендентное”; он находит внутреннюю точку зрения
даже на смерть и на зло - на феномены, которые класси-
ческий поэт обычно стремился дистанцировать. Поэтому
зло, например, в этом художественном мире перестало
быть локализовано вовне, в “другом”, что и заставило Со-
логуба строить такие стихотворения, как “Нюрнбергский
палач”, “Собака седого короля” или “Когда я в бурном мо-
ре плавал”, как высказывании от лица “я” (хотя для балла-
ды более привычно повествование от третьего лица).
Эта же последовательная имманентность “я” миру ста-
новится у Сологуба источником неопределенной множеств
вечности “я”, еще более мощной, чем неопределенность
изменчивого бальмонтовского протея. Действительно,
эго “я” никогда нельзя определенно локализовать. Кем
оно является, например, в уже приводившемся стихотво-
рении “В первоначальном мерцаньи...”? Очевидно, что
это не “бог“, но и не совсем “тварное” существо. От богов
его отличает то, что они “воззвали” его (здесь вероятна
пушкинская реминисценция: “Кто меня враждебной вла-
стью Из ничтожества воззвал, Душу мне наполнил стра-
стью, Ум сомненьем взволновал?” - “Дар напрасный, дар
случайный”). См. в другом случае: “Восставил бог меня из
влажной глины, Но от земли не отделил” (74, 112), хотя
в мире Сологуба возможно рождение “я” и без видимого
участия богов: “И я возник из бездны дикой И вот цвету”
(74, 112). Однако и “тварным” существом в нашем стихо-
творении “я” не является хотя бы уже потому, что присут-
ствует в мире еще до отделения света от тьмы и обсужда-
ет с богами “творение”. Учитывая то, что богов оказывает-
ся лишь двое, а “я” - третий, можно предполагать, что пе-
ред нами бог отец, бог дух и бог сын (сыновность богу, но
и дьяволу, частый у Сологуба мотив). Это примирило бы
225
отмеченные противоречия - его отличие от других богов,
но и явную нетварность; и все-таки предложенная вер-
сия - лишь одна из вероятных интерпретаций “я”, вполне
возможны и не противоречат тексту (хотя и не объясняют
его до конца) отсылки к какой-либо из дуалистических ре-
лигий, к популярному тогда гностицизму - и стихотворе-
ние преднамеренно строится так, чтобы неопределен-
ность и вероятностность сохранялись.
У Сологуба, однако, речь должна идти о чем-то боль-
шем, чем простая неопределенность “я”. Мы уже видели,
что у поэта бессознательные устремления “я” легко стано-
вятся “разыгранными” и творчески целеустремленными,
то есть дистанцированными (это и дало основание И. Ан-
ненскому утверждать, будто Сологубу более всего чужда
наивность и непосредственность, 117, 348). Так же и в дан-
ном случае. Неопределенно-множественная природа “я”
(порожденная, как мы помним, его абсолютной имманент-
ностью миру) становится у Сологуба творчески разыгран-
ной. Возникает парадоксальная ситуация, невозможная
в классической поэзии: у поэта пет дистанцирующего
взгляда ни па одно явление мира, он отказывается смот-
реть со стороны на что бы то ни было и едва ли не отме-
няет не-я, и только па само “я” он смотрит со стороны -
внежизненно активным и трагико-ироническим взглядом.
Момент несовпадения “я” с самим собой, порожден-
ный такой интенцией, есть у Сологуба всегда, и не только
там, где стихотворение приближается к тому, что принято
называть “ролевой лирикой” (“Когда я в бурном море пла-
вал”); вообще у Сологуба “ролевая” лирика принципиаль-
но не может быть отличена от “неролевой”: в одинаковой
степени приближены и удалены от лирического “я” поэта
субъекты таких, например, стихотворений, как Собака се-
дого короля”, “Вздымалося облако пыли”, “Я часть загадки
разгадал”, цикла “Звезда Майр” или “Я спал от печали”.
В последнем, например, стихотворении пет никаких внеш-
них моментов, дистанцирующих “я”, однако нет и совпаде-
ния с первичным автором: “Я спал от печали Тягостным
сном. Чайки кричали Над моим окном. Заря возопила:
“Встречай со мной царя. Я небеса разбудила, Разбудила го-
ря”. И ветер, пылая Вечной тоской, Звал меня, пролетая
Над моею рекой. Но в тяжелой печали Я безрадостно
спал. О веселые дали, Я вас не видал” (75, 89).
226
Глава 4
Ситуация этого стихотворения, несомненно глубоко
интимного и отнюдь не “ролевого”, отсылает нас благодаря
евангельским реминисценциям к той ночи, когда Иисус, уда-
лившись с учениками в Гефсиманский сад, просил их: “Буди-
те зде и бдите”. Но трижды застал их спящими, “бяху бо
очеса им тяготна” (От Марка, 14, 34-40). Отсюда, несом-
ненно “тягостный сон” лирического “я”, сближаемого
с впавшим в искушение апостолом Петром (именно к не-
му обращает у Марка свой упрек Христос: “Спиши ли; не
возмогл еси единого часа побдети”, 14, 37). В подобных
случаях перед нами нечто большее, чем ролевая лирика,
но было бы неосторожно воспринимать их как выраже-
ние позиции первичного автора. Даже предельно прибли-
женное к прямому выражению авторских интенций стихо-
творение (например, “Все было беспокойно и стройно,
как всегда...”) обязательно имеет у Сологуба некий зазор,
часто трагико-иронический (“И я, прежде думал, что я боль-
шой поэт, Что миру будет явлен мой незакатный свет”), де-
лающий носителя речи нераздельным и неслиянным с пер-
вичным автором. Своеобразие своей позиции поэт хоро-
шо сознавал: в конце своего творческого пути он горько
констатировал, что скрыл от людей свое настоящее ли-
цо - “И двойника они узнали злого, А не меня” (“Я сози-
дал пленительные были”, 1923). Но - таков закон художе-
ственного мира поэта - и это последнее утверждение не-
осторожно было бы без всяких оговорок принять за выра-
жение последней авторской позиции.
Так Сологуб приходит к столь же трагическому, как
у Бальмонта, финалу - к невозможности установить дейст-
вительно диалогические отношения с “другим”. Но если
у Бальмонта “я” нс могло пробиться к “другому”, то здесь
оно не может пробиться к самому себе: став абсолютно
имманентным “другому”, “я”, как оказывается, не откры-
ло, а скрыло самого себя.
Трагический опыт старших символистов актуализиро-
вал поиски иного отношения к “другому”, предпринятые
младшими символистами. Так Вяч. Иванов вырабатывает
глубокое понимание ограниченности монологической по-
зиции. Опираясь на философию жизни Вл. Соловьева,
Иванов выдвигает в противовес отвлеченному пафосу сво-
их предшественников диалогически понятую любовь:
“Любовь говорит другому: гы еси, растворяя мое собствен-
227
ное бытие в бытии этого ты. Акт любви, только любви, по-
лагающей другого ие как объект, а как второй субъект (под-
черкнуто нами. - С. Б.) есть акт веры и воли, акт жизни,
акт спасения, возврат к Матери, несущей нас обоих (мое я
и мое ты) в своем лоне” (203, ПО).
Тем пе менее в своей творческой практике Вяч. Иванов
шел путем искусственного синтезирования, а не диалогиче-
ского разрешения проблемы “я” и “другого”. Это сказалось
и в заданно рационалистической ориентации его “я” либо
па конкретного мифологического персонажа (например,
Тезея в “Песнях из лабиринта”), либо на отвлеченного но-
сителя мифологического сознания (см. в “Псалме солнеч-
ном”: “И я славословлю тебя, Двуединое Сердце.., Тебя,
двуединое солнце Горящего мира В моей многозвездной,
В моей всесвятой глубине” (30, 17). Несмотря на глубокие
философские спекуляции на темы “я” и “другого” (напри-
мер, в “Сне Мелампа”: Ведай, что душу живую до дна вы-
пивает зерцало, Если в борьбе Ты Другой пе падешь от Се-
бя же Другого - Жертвою правды, Себя Самому возвраща-
ющей вечно”, 30, 102), реального “другого” поэзия Вяч.
Иванова не знает.
Более драматическими оказываются отношения “я”
и “другого” у А. Белого, также ищущего синтеза, но не мо-
гущего отказаться от реальной разъятости “я” и “ты”, ко-
торой спокойно пренебрегал Иванов. В стихотворении
“Я” (1917, книга “Звезда”) Белый писал: “В себе, - собой
объятый (Как мглой небытия), - В себе самом разъятый,
Светлею светом “я”... Я - это Ты, Грядущий Из дней во
мне - ко мне”. Здесь важны два аспекта. Во-первых, реаль-
ная разъятость субъекта на “я” и “ты”. Во-вторых, то, что
эта разъятость объемлется с двух сторон их единством:
сначала они были едины “во мгле небытия” (об этом Бе-
лый писал в “Котике Летаевс”), а затем будут слиты в гря-
дущем (“Я - это Ты, Грядущий”: из времени - в вечность).
В более раннем стихотворении “Я”, завершающем цикл
“Философическая грусть” в “Урне”, “я” и “ты” тоже сближа-
ются через мотив пути настолько, что становятся трудно
дифференцируемы: “Далек твой путь; далек, суров... Приду:
скажу. И ты поймешь. Приди. - Да, да: иду я в ночь”. Такое
понимание подкрепляется выкладками поэта в области фи-
лософии культуры21, и толкованием “Воскресения”: тогда
«каждое Я или “Ich” становится I.Ch. - монограммой бо-
228
Глава 4
жесгвенного “Я”» (15, 557). Таким образом реальностью
и данностью у Белого остается расчлененность “я” и “дру-
гого”, а их слиянность (но отнюдь не диалог) мыслится
как нечто трансцендентное наличному бытию - это и оп-
ределяет своеобразие субъектно-образной структуры поэ-
та. Андрей Белый, конечно, прежде всего расчленяющий
поэт, но он поэт и неклассический, верящий, что нерас-
члененность все-таки первична (и конечна). Поэтому выс-
шая похвала для него: “Слиянно, нераздельно” (136, 20).
В устах эрудита и теоретика А. Белого эта формула
важна вдвойне. Во-первых, она афористически выявляет
исходную позицию пеклассической поэзии (вожделенную
для нашего поэта) - нераздельность, слиянность “я” и “друго-
го”. Во-вторых, важна ее полемическая нацеленность на
широко известную формулу догмата “нераздельность и не-
слиянность”, выражающую отношения божественного
и человеческого естеств в Христе. Очевидна близость Бе-
лого к одной из важнейших тенденций символизма - по-
искам умозрительно синтетических решений бытийной
ситуации. Не случайно А. Блок, принципиально отказав-
шийся от такого рода искуственных решений и видевший
в них “проклятие отвлеченности”, обратился как раз к ос-
поренной Белым догматической формуле. Блока привлек-
ла в ней равноценность и равносильность противополож-
ностей, несводимых к одному знаменателю, амбивалент-
ность целого. Поэт увидел в “нераздельности и неслиянно-
сти” освященное традицией и в то же время неклассиче-
скос понимание отношений “я” и “другого”, принципиаль-
но родственное тому, к чему он сам пришел в период “ан-
титезы” (подробнее см. об этом в нашей статье, 146). Нес-
лучайность блоковского предпочтения подтверждает
и творческий опыт другого крупнейшего поэта, связанно-
го с символизмом, И. Анненского, давшего близкое пони-
мание новой субъектной ситуации в формулах “абсурд
цельности” и “реальность совместительства”.
И. Анненский приходит к глубокому пониманию того,
что классическое представление об “я” - это гармонизиру-
ющая абстракция (“абсурд цельности”) и что реальной
формой существования человека является элементарное
двуединство (“совместительство”) “я-другой”. Иллюзия
классической единоцельности, считает он, “безвозвратно
потеряна.., душа поэта, его я кажутся теперь несравненно
229
менее согласованными с его сознанием и подчиненными
его воле, менее, так сказать, ему принадлежащими, чем
было я у поэтов-романтиков” (117, 108). Но и современная
поэзия (в статье речь идет о Бальмонте), “в силу абсурда
цельности, стремится объединить или, по крайней мере,
проявить иллюзорно единым и цельным душевный мир...”
(117, 108-109). Живым отрицанием “абсурда цельности”
является, по Анненскому, “реальность совместительства” -
“бессознательность жизней, кем-то помещенных бок о бок,
в одном призрачно-цельном я” (117, 109).
Замечательно, что в своей поэзии Анненский не отка-
зывается и от классического “абсурда цельности”, но худо-
жественно разыгрывает его, сведя с “реальностью совмес-
тительства”. Отсюда характерная для Анненского исход-
ная нерасчленимость “я” и “другого”, невозможность про-
вести границу между ними. В “Тихих песнях” закончен-
ным выражением этой особенности поэта стало стихотво-
рение “Двойник”: “Не я, и не он, и не ты, И то же, что я,
и не то же: Так были мы где-то похожи, Что наши смеша-
лись черты”. В “Кипарисовом ларце” - это сквозная тема, -
“Свечку внесли”, “Дождик”, “Октябрьский миф”, “Умира-
ние”, “Другому”, “Он и я”, “Стансы ночи”, “Гармония” (из
стихотворений, не вошедших в сборники, особенно “Пе-
тербург*, “Когда б не смерть, а забытье...”, “Сумрачные
слова”, “Поэту”). Вот несколько поэтических формул тако-
го “совместительства”: “И мои ль не знаю, жгут Сердце
слезы, или это Те, которые бегут У слепого без ответа”
(“Октябрьский миф”); “А где-то там мятутся средь огня Та-
кие ж я, без счета и названья, И чье-то молодое за меня
Кончается в тоске существованье” (“Гармония”), “Я не
знаю, где вы и где мы, Только знаю, что крепко мы слиты”
(“Петербург*), “Но в самом Я от глаз - Не-//Ты никуда уйти
не можешь” (“Поэту”).
На этой основе возникает у Анненского синкретиче-
ское “я” и синкретическое “ты”, сложная игра интенция-
ми и трудно локализуемыми в субъектном плане голосами,
а также особый (обычно трагико-иронический ход), дела-
ющий предметом рефлексии самого рефлексирующего,
изображающий самого изображающего. Мы уже упомина-
ли о подобном ходе, диалогизировавшем стихотворение
“Еще лилии”. Столь же глубокий смысл получает смена ин-
тенций в “Смычке и струнах”. Это стихотворение начинает-
230
Глава 4
ся как высказывание субъектно немаркированного лица,
выраженного неопределенной формой глагола (“касать-
ся”, “узнать”); ко второй строфе он получает субъектную
экспликацию (“мы”) и оказывается “героем” (“смычком”),
в кругозоре которого ведется рассказ: “Какой тяжелый,
темный бред! Как эти выси мутно-лунны! Касаться скрип-
ки столько лет И не узнать при свете струны! Кому ж нас
надо? Кто зажег Два желтых лика, два унылых...” Речь ге-
роя окрашена в трагические тона, а “тяжелый темный
бред” души освещен параллелью с “мутно-лунными” выся-
ми. Создается ощущение открытых и безграничных, едва
ли не космических пространств и беспамятно-бесконечно-
го времени. Субъект же, как платоновская душа, нс пом-
нит своего начала и лишь смутно припоминает то, что
с ним было, как некое предсуществование. Это определя-
ет своеобразие его интенции - перед нами последняя смы-
словая позиция личности, которую М.М. Бахтин называл
внежизненно-активной. Она и позже будет врываться
в стихотворение в репликах смычка (“О, как давно!
Сквозь эгу тьму Скажи одно: ты та ли, та ли?” и др.).
Однако после 6-й строки появляется, как бы отделив-
шись от первоначальной неразличимости с “другим”, но-
вый субъект речи - некий объективный повествователь
(“И вдруг почувствовал смычок, Что кто-то взял и кто-то
слил их”). Правда, объективность его - особая: он вненахо-
дим но отношению к героям, но при этом видит мир их
глазами, изнутри их жизненной ситуации (“И было мукою
для них, Что людям музыкой казалось”). Как могут соче-
таться вненаходимость с внутренней точкой зрения? Все
дело в том, что вненаходимость здесь нс монологическая
(какова, например, вненаходимость “человека”: “Но чело-
век не погасил До угра свеч... И струны пели... Лишь солн-
це их нашло без сил На черном бархате постели”), а диа-
логическая. Новый субъект речи находит на героя такой
взгляд со стороны, который не разрывает их прежней сли-
янности, не превращает героя в объект. Будучи активно
приобщен к последней смысловой позиции героя, повест-
вователь смотрит на эту позицию с трагико-иронической
и тоже впежизненпо-активпой точки зрения. Такой взгляд
внезапно освещает новым светом открывавшую стихотво-
рение картину (данную, как мы помним, в кругозоре ге-
роя): космическое пространство оказывается комнатой,
231
мировая и бредовая темнота - “черным бархатом постели”,
“мутно-лунное” освещение - эффектом зажженных свечей,
а сознание, переживающее мировую трагедию, - всего
лишь смычком.
Подобный завершающий поворот - специфическая
особенность субъектной ситуации в лирике Анненского.
В “Смычке и струнах” внежизненно-активной и трагико-иро-
нической трансформации подверглась интенция “другого”
(хотя и неотделимого от “я”, являющегося его косвенной
формой). В “Еще лилии” таким же светом было освещено
собственно “я”. Еще сложнее, например, в “Кулачишке”.
Здесь дается (благодаря заглавию) второе освещение даже
не “я”, а позиции самого творца стихотворения. Читатель
должен пройти три этапа. Во-первых, увидеть изнутри кар-
тину скудной жизни героя (субъект речи выражен в тексте
неопределенной формой глагола, а потому неотделим от “я”
и “каждого”). Во-вторых, интерпретировать позицию авто-
ра, жалеющего героя и проклинающего жизнь, показываю-
щего ей кулак. В-третьих, осознать, что этот-то кулак назван
в заглавии трагико-иронически “кулачишкой” (вспомним
“Старых эстонок”: “На что ж твоя жалость, Если пальцы ру-
ки твоей тонки, И ни разу она не сжималась?”)22.
Неверно было бы во всех этих случаях видеть в завер-
шающем повороте отмену прежней интенции или моноло-
гическую дискредитацию ее. В том-то и дело, что Аннен-
ский реализует в самой субъектной структуре “абсурд” мо-
нологической цельности и “реальность” диалогического
“совместительства” “я” и “другого”. К принципиально род-
ственной смысловой структуре - к “нераздельности и не-
слиянности” “я” и “другого” - приходит А. Блок.
Размывание четких субъектных границ, характерных
для классики, началось уже в первой книге Блока. Броса-
ющейся в глаза особенностью “Стихов о Прекрасной Даме”
является особая роль неместоименных форм выражения
субъекта речи. Наивысшая она - в “Стихах о Прекрасной
Даме” (28,8%, большую встречаемость этой формы в рус-
ской лирике дают лишь “Версты” - самая “блоковская” кни-
га М. Цветаевой). Неместоименность (как и семантика
неопределенно-субъектных предложений, 263а, 161-214)
способствует разрушению классического представления
о четко очерченной и ограниченной, единой и единствен-
ной личности как субъекте лирики. Она подчеркивает
232
Глава 4
и принципиальную нелокализуемость многих интенций
носителя речи в субъектных терминах. Показательно, что
эта форма возвращает нас на новом уровне к архаическим
структурам синкретического выражения лица, характер-
ным для древнерусского языка и фольклора.
Во втором томе лирики Блока немсстоименность уже
не играет столь важной роли (она и количественно пада-
ет до 12%, правда, вновь поднимаясь в третьем томе до
19,3%), хотя в целом доля синкретических и диалогиче-
ских форм субъектной организации здесь возрастает. Про-
исходит это за счет появления отсутствовавшей прежде
у Блока несобственной прямой речи и субъектно нелока-
лизуемых (“интерсубъектных”) “голосов”. Наконец, в тре-
тьем томе резко возрастают формы субъектной организа-
ции, связанные со взглядом на субъекта речи со стороны -
как на “другого” (67,1%) и синкретические и диалогиче-
ские способы представления лица (65,7%). Именно те-
перь (к 1908 году) Блок находит специфические (но став-
шие после него неотъемлемым свойством неклассической
поэзии) субъектные структуры, принципиально не умеща-
ющиеся в рамки классических представлений и до сих пор
остающиеся предметом научных дискуссий.
Непривычность блоковского лиризма ощущали его сов-
ременники. В. Брюсов, например, утверждал, что “А. Блок
скорее эпик, чем лирик, и творчество его особенно полно
выражается в двух формах: в драме и в песне. Его маленькие
диалоги и песни, сложенные от чужого лица, вызывают
к жизни вереницы душ” (18, VI, 330). Здесь начало тради-
ции, объясняющей неклассическую субъектную структуру
лирики Блока привычными категориями, в частности ее
эпическими или лиро-эпическими (136а, 260) качествами.
Несомненно, более перспективен подход П.П. Громова,
утверждавшего, что “это лирика, но это в то же время осо-
бенная, необычная лирика” (180, 333; ср. и утверждение
Л.И. Тимофеева: “Мы, вероятно, еще не полно сознаем
новый характер этого его лиризма”, 315, 53).
Одну из важнейших предпосылок этого нового лиризма
заметил (хотя и с неодобрением) другой современник поэ-
та: “Блок никогда не бывает один. Не за ним следует тень,
а он следует за тенью, светлой или темной, голубой или
белой, или черной, преследует Незнакомку, кого-то ищет,
кого-то слышит, с кем-то говорит... Блок... не настолько
233
умеет оставаться наедине с собою, чтобы потом расска-
зать себя вне своих соотношений с другими, с друзьями,
с Другой” (107а, 49). По существу об этом же говорит сов-
ременный исследователь: “Для лирика у него относитель-
но мало речи о “я”, рассказа о себе, и много речи о мире...;
или у него “ты”, преобладающее над “я”, опять другой,
объективно предстоящий поэту человек, или общие, без-
ликие формулы лирического раскрытия темы” (184, 83).
Эта ориентация на “другого”, ключевая для субъектной
ситуации в лирике Блока, получила в нашей науке глубокое
освещение, хотя осознавалась, как правило, не в субъект-
ных терминах, а в логизированных категориях “личного”
и “общего”. Пожалуй лишь Г.Л. Гуковский в одном месте
прямо сказал, что у Блока личность соотнесена не с раци-
оналистически понятой “средой” (“общим”), а с другой
личностью, ибо “у Блока мощь среды... - это мощь лично-
сти” (184, 72). В других местах исследователь продолжает
употреблять логизированные категории, но за ними по-
стоянно ощущается не нашедшая эксплицированного вы-
ражения субъектная проблематика: “Блок ищет язык для
того, чтобы человек стал голосом целого, истории..; и он
обретает этот язык. Он находит поэтический принцип
возведения каждой... конкретности бытия не к причине,
а к сущности общего бытия народа, истории, мира” (184, 75;
в другом месте ученый несколько иначе формулирует эту
мысль, заменив логизированную “сущность” “взаимопроник-
новением”: “Пе в порядке причинности, а в порядке взаимо-
проникновения”, 184, 81). Здесь важно нс только то, что от-
мечается взаимопроникновение у Блока “личного” и “обще-
го”, но и то, что отношение их понимается нс как логиче-
ски-причинное, а как экзистенциальное. Ведь взаимопрони-
кают здесь, по Гуковскому, не классические человек и сре-
да, нс субъект и объект, а почти два субъекта - “я” и “душа
мира” (“его герой-поэт - это человек с душой мира, а не
только данная неповторимая личность”, 184, 83; до этого
ученый говорит о лирическом герое Блока как “носителе
конкретного чувства человечества в человеке”, 184, 82).
Естественно, что такое взаимопроникновение приводит
“к интсгралыюсти самого образа лирического героя или,
иначе говоря, к отходу Блока от принципа индивидуально-
го характера, замкнутого и твердо определенного” (184,
82). Наконец, с этим взаимопроникновением связано едва
234
Глава 4
ли не самое новаторское открытие Блока, названное ис-
следователем “гетерономией лирической темы”.
В классической поэзии XIX века, как показывает уче-
ный, устанавливались “между ситуацией лирического ге-
роя и лирическим содержанием стихотворения - отноше-
ния прямого соответствия и даже прямой причинности; от-
дельные дурные, трагические явления жизни обусловлива-
ют трагизм стихов и наоборот. Даже гражданская поэзия...
требовала формальной логики этого же типа” (184, 80). Все
попытки поэзии XIX века преодолеть эту “формальную ло-
гику”, по мнению Г.А. Гуковского, успехом не увенчались,
качественный сдвиг произошел лишь у Блока. У него впер-
вые “лирическая тема стихотворения свободна от подчи-
нения его сюжетной ситуации, может не совпадать с нею”
(184, 80). Так в “Трех посланиях” “любовная ситуация пер-
вого и второго стихотворения цикла - совершенно и без-
мятежно счастливая, а стихи трагичны, и лирическая те-
ма их окрашена ужасом страшного мира” (184, 81). Проис-
ходит это художественное открытие, по Г.А. Гуковскому,
потому, что Блок заменяет в отношениях личного и обще-
го формально-логический принцип причинности - экзи-
стенциальным принципом “взаимопроникновения”.
Совершенно очевидно, что Г.А. Гуковский вплотную
подходит к субъектной ситуации в лирике Блока, но столь
же очевидно, что субъектная проблематика скорее просве-
чивает у пего сквозь логизированную проблему личного
и общего. Даже там, где исследователь использует как буд-
то экзистенциальную терминологию - “человек с душой
мира”, “человечество в человеке”, - он не может отре-
шиться от логизирующего понимания ее. Так он говорит
именно о “человечестве”, то есть об “общем” в человеке,
а ведь это совсем не то, что “человек в человеке”. Неизжи-
тый логицизм сказывается и в понимании ученым исход-
ной интенции Блока. Несмотря на приведенные выше на-
ми высказывания ученого о том, что среда у Блока - это
личность, все же отношения “я” со средой у Г.А. Гуковско-
го не только логизированы, но и однонаправлены: акцен-
тируется готовность Блока “отдать самого себя и свою
личность миру, раствориться в нем, сначала как в косми-
ческой душе, затем как в реальности души народа, и в этой
жертвенной самоотдаче обрести нравственное удовлетво-
рение” (184, 70). Между тем интенция “нераздельности”,
235
хотя она и исходная у Блока, не существует у него без сво-
ей дополняющей противоположности - “неслиянности”,
а главное, эти отношения у него не логические, а бытий-
но-субъективные.
Следующий шаг в раскрытии природы этих отноше-
ний сделан П.П. Громовым. Так же, как и Г.А. Гуковский,
он исходит из того, что основной предмет поисков Бло-
ка - “соединение лично-душевных начал с общественно-ис-
торическими” (180, 50), по он еще активнее подчеркива-
ет, что у Блока социальное и историческое (“общее”) -
“не некая внеположная единичному человеку схема, по-
сторонняя по отношению к личности, но один из важней-
ших элементов ее существования” (180, 276). Поэтому, по
П.П. Громову, непосредственные переходы между “лич-
ным” и “общим” осуществляются у Блока не в сфере отвле-
ченных идей, а в субъектной сфере - в “лирических пер-
сонажах-характерах” (180, 171). Отсюда одна из главных
новаторских особенностей этой поэзии - “выделившийся
из лирического потока субъект лирики” (180, 41).
Совершенно очевидно, что П.П. Громов своим путем
подошел к тому же факту поэтики Блока, который ГА. Гуков-
ский назвал “гетерономией лирической темы”. И там и там
речь идет об автономии субъекта от ситуации и о диалогиче-
ском усложнении позиции этого субъекта. Уже ГА. Гуков-
ским было замечено, что благодаря гетерономии лириче-
ской темы “я” превращается у Блока не только в “воспри-
нимающий внешние впечатления центр”, но и в “элемент
мира, вне его лежащего” (то есть “я” обретает взгляд на се-
бя со стороны, преодолевая “культ своей личности”, 184,
80). П.П. Громов уже видит, что обе эти позиции и их вза-
имопсреходы - это позиции и взаимопереходы субъектов.
Приведенные нами статистические данные о роли у Бло-
ка высказываний, при которых субъект речи смотрит на
себя со стороны, а также неосинкретических и диалогиче-
ских форм высказываний, подтверждают эти наблюдения.
Последние данные говорят о том, что выделены из ли-
рического потока и “гетерономии” у Блока нс только
субъекты, но и субъектно нслокализусмыс “голоса”: “Голо-
са неожиданно возникают, переплетаются, приходят неиз-
вестно откуда и не получают ответа и в этом своем псре-
прелстении создают предельно драматические картины
жизненных явлений. Они и выходят за пределы лпричс-
236
Глава 4
ского “я”, и в то же время ему сопричастны, его обогаща-
ют и сливаются с ним” (315, 55-56). Исследователь объяс-
няет такую постановку голосов у Блока - “со-личностно-
стью” его лирического героя (315, 57), предполагающей
возможность некоего “общего голоса”: “он-и голос поэта,
и не только его голос, это и их голоса, и вместе с тем не
только их. Здесь они и не они, здесь он и не он” (315, 57).
Так вырисовываются контуры неклассической субъект-
ной структуры лирики Блока. Особенно перспективными
для проникновения в ее исторический смысл представля-
ются наблюдения П.П. Громова над циклами “Па поле Ку-
ликом, “Итальянские стихи”, “Кармен”. Именно в них, по
мнению исследователя, рождается небывалая до того в рус-
ской поэзии нераздельность, но одновременно историче-
ская дистанцированность, “неслиянность” в субъекте речи
“я” и “другого” (участника Куликовской битвы; субъекта ис-
тории в “Итальянских стихах”; героя мифа о Кармен). Даль-
нейшее углубление в проблему требует пристального анали-
за собственно субъектной организации стихотворения Бло-
ка, П.П. Громовым по существу только начатого. Просле-
дим, как осуществляются замеченные исследователем пере-
ходы на материале собственно субъектной структуры.
Наиболее наглядная и в то же время простая форма
субъектных метаморфоз представлена в четвертом стихо-
творении цикла “Кармен” (1914): “Бушует снежная весна.
Я отвожу глаза от книги... О, страшный час, когда она,
Читая по руке Цуниги, В глаза Хозе метнула взгляд! Нас-
мешкой засветились очи, Блеснул зубов жемчужный ряд,
И я забыл все дни, все ночи, И сердце захлестнула кровь,
Смывая память об отчизне... А голос пел: Ценою жизни Ты
мне заплатишь за любовь!
Очевидно, что одним и тем же местоимением “я” в сти-
хотворении назван не один, а два субъекта. Первый (“Я от-
вожу глаза от книги”) - лирический герой цикла, вспомина-
ющий сцену, в которой Хозе является “другим” по отноше-
нию к субъекту речи. Второй раз “я” (“И я забыл все дни,
все ночи”) - это уже сам Хозе, точнее нераздельность-
неслиянность лирического героя и Хозе. Перед нами, ко-
нечно, нечто большее, чем тривиальное, условно-поэтиче-
ское перевоплощение “я” в героя (Хозе). Собственно истол-
кование события как художественной условности исключа-
ется самой художественной структурой: ведь субъектная
231
метаморфоза в самом прямом смысле происходит на на-
ших глазах, не оставляя возможности усомниться в ее ре-
альности. Осознав это, мы начинаем видеть многослой-
ность самой художественной реальности, порождаемой
данной метаморфозой.
Прежде всего перед нами превращение субъекта речи
из зрителя, внеположного бытийной ситуации, - в ее дей-
ствующее лицо (своей судьбой реализующее диалогиче-
скую дополнительность этих двух позиций). Такого рода
дополнительность при переходе от положения зрителя
к положению действующего лица столь же характерна для
Блока, как для Анненского - противоположный переход:
от участника - к зрителю. Но это лишь один из смысловых
пластов субъектной метаморфозы. Благодаря ей возникает
и ряд других смысловых перспектив. Создается в частности
нераздельность любовной коллизии данного стихотворения
и художественно-мифологического прототипа ее - разыгры-
ваемого на сцене действа о Кармен и Хозе (восходящего
в свою очередь к “книге” - см.: “Я отвожу глаза от книги”).
В этом контексте Кармен, объединяющая в себе актрису
и героиню современной и легендарной любовных исто-
рий, оказывается по мифологической логике медиатором
между “я” и Хозе и способствует их отождествлению.
Учтем также, что описываемая субъектная метаморфо-
за нс является однонаправленной. Перед нами не просто
превращение “я” в Хозе, а именно сотворение их нераз-
дельности-неслиянности, их взаимопереходов, яснее вид-
ных в контексте всего цикла. Действительно, если Хозе -
вековой прототип “я” (а “я”-художник оказывается через
него сопричастным народно-мифологическому созна-
нию), то и сам Хозе заряжается творческой энергией ли-
рического героя. Так в следующем стихотворении синкре-
тический образ героя-Хозе, “поклонника Кармен”, дан со
стороны - как “он”, но это и художник, видящий “творче-
ские сны”, то есть приравненный в этом плане к поэт}7 -
создателю цикла.
Так же обоюдонаправлены субъектные метаморфозы
в цикле “На поле Куликовом” (1908), но здесь синкретиче-
ские субъекты (“я” и воин, участник Куликовской битвы)
еще труднее поддаются различению (после П.П. Громова
об этом говорят и другие исследователи, см., например,
228, 93-94). В интересующем нас сейчас плане вырази-
238
Глава 4
тельпа и субъектная динамика “Итальянских стихов”
(1909). В первой половине цикла (1-2 стихотворения) вы-
сказывание ведется почти исключительно от лица “я”
(кроме одного стихотворения - “Перуджия”; правда, само
это “я” достаточно сложно и в принципе тоже синкретич-
но, см., например, подцикл “Венеция”: “Я в эту ночь -
больной и юный - Простерт у львиного столба <...> Таясь,
проходит Саломея С моей кровавой головой”). Но ровно
в середине цикла (после двенадцатого стихотворения) ме-
няется ведущая форма высказывания. Из оставшихся две-
надцати стихотворений лишь два представляют из себя
высказывания от “я” и одно - от “мы”. В остальных случа-
ях перед нами либо местоименно не маркированный субъ-
ект, либо “ты”, “он”, неопределенная форма глагола, либо
сочетание этих субъектных форм, либо, наконец, другое
“я” (Фра Филиппо Липни в своей эпитафии). При этом по-
казательно, что к концу цикла (“Искусство - ноша на пле-
чах”, “Глаза опущенные скромно”, “Благовещение”, “Эпи-
тафия Фра Филиппо Липпи”) субъект речи прямо или ко-
свенно назван поэтом или художником в четырех из пяти
стихотворений. Иными словами, в “Итальянских стихах”
акцентировано го, что просматривалось и в других цик-
лах Блока: субъектный синкретизм, нераздельность “я”
и “другого” и в то же время взаимопереходы в этом син-
кретическом субъекте “я”, носителя народно-мифологиче-
ского сознания и “художника”-3. В творческом самосозна-
нии Блока именно такой субъект - нераздельность и не-
слиянность “я” и “другого”, “простого человека” и “худож-
ника” - есть полный, а не частичный человек. По сущест-
ву это тот будущий “человек-артист”, который немыслим
без “двойственного отношения к явлению, знания дистан-
ций, умения ориентироваться” (16, VIII, 365) - именно эти
качества демонстрирует проанализированная неклассиче-
ская субъектная структура.
Уникальная даже для Блока нераздельность и неслиян-
ность субъектов возникает в “Шагах командора” (1912):
здесь субъект речи, оставаясь самим собой, совмещает
в себе интенции противостоящих друг друг}' героев (Дон
Жуана и Командора), чьи голоса время от времени почти
отделяются от объемлющего их сложного единства и на-
чинают звучать самостоятельно, для того, чтобы затем
вновь перейти в голос субъекта речи. Подобная свобода
239
переходов достигается несобственной прямой речью и тем,
что субъект речи местоименно не маркирован. Единствен-
ная в стихотворении номинация “я” принадлежит Коман-
дору и дана в его высказывании (“Я пришел. А ты готов?”).
Но интенция Командора еще до того, как она прямо прозву-
чала в его прямой речи, уже ощущалась в тексте. “Что те-
перь твоя постылая свобода, Страх познавший Дон Жу-
ан?” - это ведь несобственная прямая речь автора-Командо-
ра. С четвертой строфы интенция субъекта речи, напротив,
начинает сближаться с интенцией Дон Жуана, а затем пере-
ходит в несобственную прямую речь, где оба голоса принци-
пиально неотчленимы друг от друга. “Жизнь пуста, безумна
и бездонна! Выходи на битву, старый рок!” - это говорят од-
новременно субъект речи и Дон Жуан. Затем следует уже от-
мечавшаяся прямая речь Командора, но за ней опять несоб-
ственная прямая речь автора - Дон Жуана (“Дева Света! Где
ты, донна Анна? Анна, Анна!”). Но ведь подобные субъект-
ные метаморфозы удивительным образом соответствуют ме-
таморфическому принципу образной структуры Блока, тоже
глубоко неклассическому.
3. ОБРАЗНАЯ СТРУКТУРА
РУССКОЙ НЕКЛАССИЧЕСКОЙ ЛИРИКИ.
СИМВОЛИЗМ
Это соответствие, конечно, глубоко закономер-
но: мы уже отмечали, что и субъектная, и образная струк-
туры неклассической лирики имеют общий порождающий
первопринцип - актуальную бесконечность в ее отличии
от конечно-размерного начала классики. Как же реализу-
ется данный первопринцип в собственно образной сфере?
Первой значительной постановкой указанной пробле-
мы была небольшая работа М.В. Панова. Как показал уче-
ный, у старших символистов произошел переход от пре-
обладавшего прежде в поэзии синтагматического принци-
па словесно-образной связи к принципу парадигматиче-
скому (266, 100). Включенное в бесконечный парадигмати-
ческий ряд слово в этой художественной системе получа-
ет бесконечное количество синонимов, а его значение
в стихе допускает неопределенное количество переосмыс-
лений. В то же время его синтагматические связи предель-
но ослаблены, оно существует при нейтрализованном кон-
240
Глава 4
тексте (266, 101). Здесь ученым схвачена важнейшая осо-
бенность неклассического образа, буквально взывающая
к интерпретации в свете исторической поэтики. Сначала,
однако, разберемся в одном упреке, обращенном к кон-
цепции М.В. Панова.
Признавая, что “идея М.В. Панова обладает большей
разъяснительной силой, чем предположения его предше-
ственников”, И.П. Смирнов тем не менее считает, что уче-
ный “описал не исторически определенные поэтические
системы, но два таких типа словесного искусства, кото-
рые откреплены от исторического времени и могут быть
обнаружены в различных временных слоях, ибо проведен-
ное им разделение поэтических подходов к слову покоит-
ся на крайне абстрактной дихотомии, характеризующей
реализацию любой знаковой системы” (304, 16-17). Исхо-
дя из этих соображений, И.П. Смирнов отказывается при
эволюционном рассмотрении художественных систем ис-
ходить из категорий синтагматики и парадигматики и за-
меняет их чисто семиотическими отношениями знака
и означаемого. Пам же представляется, что следует пе от-
казываться от универсалий М.В. Панова, а исторически
развернуть и конкретизировать их, связав с уже добыты-
ми исторической поэтикой результатами.
Ощущение того, что перед нами “крайне абстрактная
дихотомия”, “открепленная от исторического времени”,
возникает потому, что М.В. Панов не выяснил, как катего-
рии синтагматики и парадигматики соотносятся с истори-
чески бытовавшими образными формами, в том числе
с архетипами параллелизма и тропа, хотя связи здесь доста-
точно прозрачные. Очевидна, например, соотнесенность
парадигматического принципа и параллелизма как одной из
его исторических форм (собственно, параллелизм в своей
исходной форме и есть элементарная и в то же время архе-
типическая парадигма, поскольку он предполагает нали-
чие образца-единого, или нерасчленимой целостности, пред-
шествующей всякому различению). Столь же очевидно,
структурное родство синтагматического принципа и тро-
па, который является элементарной и архетипической об-
разной синтагмой: соединяя два явления или замещая од-
но из них другим, троп, как и любая синтагма, подразуме-
вает их наличную различенность. В этом свете понятно,
что метафора (как и сравнение), вопреки некоторым вы-
241
сказываниям М.В. Панова (266, 100), не есть выражение
парадигматического принципа, а потому она в образной
системе символизма вторична, хотя может играть важную
роль внутри отношений, уже заданных парадигматикой.
Отчетливо это видно в образной целостности Баль-
монта, который, как уже замечено И. Анненским, умеет
слить разные явления “без единого разобщающего сравнения'
(117, 100). Осуществляется же такое слияние па языке пара-
дигматических уподоблений-параллелей: “Я - внезапный
излом, Я - играющий гром, Я - прозрачный ручей... Я -
изысканный стих” (“Я - изысканность русской медлитель-
ной речи...”). В этом стихотворении, очень характерном
для Бальмонта, “иерархическая вершина парадигмы - “я”;
это опорное слово текста, оно обладает широким набором
валентностей и объединяет остальные элементы в общий
класс” (304, 15). Однако в соответствии с описанными осо-
бенностями субъектной структуры поэта, парадигма у него
может быть выражением не “я”, а “безмолвного глагола”
(“единого”): “Был Змеем каждый дух когда-нибудь, И в ми-
ре все, в уродстве и прикрасе Не явь ли сна? Все лики -
ипостаси Единого. Рассыпанная ртуть. Змеится травка
к солнцу. И вздохнуть Не может лес не змейно в вешнем
часе. Отлив змеи в играющем атласе. Волна змеей спешит
перехлестнуть. Когда огонь любви чарует в теле, В живой
и мудройт храмине своей, Не Змей ли ворожит на том пре-
деле - Где страстный Он желанен страстной Ей? Гроза зме-
ит свой знак, меж туч алея, Змеина стеблем белая лился”
(“Был Змеем каждый дух когда-нибудь”, 9, 35).
Достаточно очевидно, что в первом из приведенных
примеров образная парадигма строится не па тропеиче-
ском принципе, а на параллельных уподоблениях: “я” не
сравнивается с “изломом”, “громом”, “ручьем”, “стихом”, а
именно отождествляется с ними. Сложнее выглядит кар-
тина во втором стихотворении. Здесь в каждом конкрет-
ном случае есть метафора, связанная с перенесением при-
знака змеи на разные явления. На первый взгляд кажется,
что именно эти метафоры (“змеится травка”, “змейно”
вздыхает лес, “гроза змеит свой знак” и т. д.) реализуют па-
радигматическую образную связь между “змеем” и “тра-
вой”, “змеем” и “лесом” и т.д., а косвенно между самими ле-
сом, травой, грозой и другими образами. На самом же де-
ле слово “змеится”, например, в образно-смысловом плане
242
Глава 4
двузначно. Первое - образно-мифологическое, а не услов-
но-поэтическое - значение оно получает от “Змея” первой
строки, где перед нами была отнюдь не метафора, а мифо-
логическое прямое слово. Второе - метафорическое - зна-
чение оно получает в изолированном сочетании “змеится
травка”. То есть в отношении к “Змею”-образцу и в его
большом мифологическом контексте перед нами субстан-
циальное слово, а в отношении к реалиям и в малом кон-
тексте - метафора. Важнее все-таки первое значение -
именно благодаря ему каждый отдельный образ стихотво-
рения возводится, если воспользоваться формулировкой
Г.А. Гуковского, “нс к причине, а к сущности общего бы-
тия” (184, 73). К Бальмонту эта формулировка более при-
менима, чем к Блоку, потому что у Бальмонта речь идет не
о личности, а как раз о сущности, о принципе. В стихотво-
рении “Я - изысканность русской медлительной речи...” -
это принцип “разорванной слитности”, и именно к нему
возводится каждый конкретный образ (“уклоны”, “пере-
певные, гневные, нежные звоны”, “внезапный излом”, “иг-
рающий гром” и т. д.). В стихотворении “Был Змеем каж-
дый дух когда-нибудь” таким общим принципом оказывает-
ся “змейность” - в ее парадигме предстают образы травы,
леса, атласа, грозы, соположенные в форме многочленно-
го параллелизма.
Не всегда парадигматическая структура образа представ-
лена у Бальмонта столь очевидно, как в проанализирован-
ных стихотворениях, но она как правило организует его ху-
дожественный мир. Парадигматические уподобления, раз-
вернутые в наших стихотворениях по вертикали, могут сво-
диться горизонтально в пределах строки. Так возникают
изысканно-музыкальные перечисления Бальмонта, отдален-
но предсказывающие Блока, а потом и Мандельштама:
“О, Неаполь! Волны Моря! Афродиты колыбель!”, “Губы -
нежный цвет коралла, очерк бледного лица, Струи, струи,
поцелуи, струи, струи без конца” (8, 41). Или: “Сон Жизни,
Изумруд, Весна, Зеленый Свет” (“Земля”, 8, 136).
Парадигматическая слитность сочетается у Бальмонта
(как и у других старших символистов, по наблюдениям
М.В. Панова) с разорванностью связей синтагматических.
Действительно, в приведенных нами примерах образы
не соприкасались друг с другом синтагматически: “трава”
здесь непосредственно не связана с “лесом”, а “лес” с “вол-
243
ной” и т. д., но каждый образ порознь возведен к общему
принципу “змейности”. Так возникает, как точно сказано
у самого поэта, “рассыпанная ртуть” единого - весьма вы-
разительный образ парадигматической слитности и син-
тагматической разорванности. Совершенно прозрачно
структурное родство такого типа образа с субъектной си-
туацией Бальмонта, “я” которого, как мы отмечали, слито
с единым в парадигме бытия, но разорвано с конкретным
“другим” в синтагматике межличностных отношений.
Бальмонт очень отчетливо выразил в субъектно-образ-
ной структуре своей лирики принципы, общие для многих
старших и некоторых младших символистов. Характерная
для школы установка на исходную целостность и символ
как функцию бесконечности (об этой особенности симво-
ла см. 230) обрела у него, как мы видели, не только пози-
тивную форму, но обернулась и “дурной бесконечно-
стью” - именно в силу синтагматической несвязанности
образного целого. Ведь ряд образов у Бальмонта сам по се-
бе не может быть органически завершен, а может продол-
жаться бесконечно. Почему именно на “лилее” исчерпыва-
ется набор параллелей в стихотворении “Был Змеем каж-
дый дух когда-нибудь...”? Здесь (как и в порядке следова-
ния параллелей друг за другом) нет никакой видимой за-
кономерности. Там же, где она есть, она более или менее
внешняя, продиктованная стремлением искусственно за-
круглить и внешне завершить по существу нескончаемый
ряд. Так “Я - изысканность русской медлительной речи...”
замыкается строкой, перекликающейся с началом: “Я -
изысканный стих”: сведены начало и конец, “речь” и “стих”,
но внутри этого кольца все равно нет никакого закономер-
ного внутреннего развития.
Такого рода “дурную бесконечность” следует понимать
как оборотную сторону главной интенции символизма.
Когда И. Анненский, например, пишет в “Декорации” -
“Дальше? Вырваны дальше страницы”, то в этом финале
невыразимость последнего смысла символа, его размыка-
ние в бесконечность и “совершающуюся тайну” выступают
как органическое завершение образа. В приведенных ха-
рактерных образных конструкциях Бальмонта как раз ор-
ганического завершения нет, как нет его обычно у В. Брю-
сова при всей искусной закругленности его образных ком-
позиций. Так в “Сонете к форме” (1895), например, Брю-
244
Глава 4
сов создает парадигматический ряд уподоблений: цветок,
бриллиант, фраза, сонет. Между собой эти образы непо-
средственно нс соприкасаются (как и у Бальмонта), но ка-
ждый из них порознь (как и у Бальмонта) возводится к об-
щему принципу “предельного совершенства” (это брюсов-
ская форма ориентации на бесконечность, 245, 109). “Со-
нет к форме” артистически замкнут образом самого соне-
та (“Упьется в нем и стройностью сонета, И буквами спо-
койной красоты”), а внутри этого образного кольца про-
сматривается - в отличие от прихотливой бессвязности
Бальмонта - восходящее смысловое движение: от совер-
шенства природного создания (цветок) к совершенству,
которое придает природному материалу человек (брилли-
ант), и, наконец, к чисто человеческим совершенным соз-
даниям - “отточенной и завершенной фразе” и сонету.
Очевиден как артистизм этого завершения, так и его ра-
ционалистический привкус.
Принципиально родственную структуру образа мы
встречаем и у Вяч. Иванова. В его стихотворении “Лю-
бовь” также выстраивается вереница парадигматических
параллелей-уподоблений. Нагнетаются образы по принци-
пу “два в одном”: “Мы - два грозой зажженные ствола, Два
пламени полуночного бора. Мы два в ночи летящих метео-
ра, Одной судьбы двужалая стрела”. Далее следуют два ко-
ня, удерживаемые одной рукой, два ока единственного
взора, два крыла одной мечты и т. д. Внутренней синтагма-
тической связи между конкретными обарзами опять-таки
нет, но в финале предлагается два обобщающих символа
такого “любовного” двуединства: языческий (сфинкс)
и христианский (крест). Оба этих символа по образной
логике стихотворения уже самим читателем должны быть
сотворчески соединены в ту самую структуру “два в од-
ном”, которая задана с самого начала. Так символически
создается изысканно ученое, хотя и “любовное” соедине-
ние язычества и христианства, плоти и духа в любви.
Мы рассмотрели лишь одну (хотя и очень представи-
тельную) тенденцию развития образной структуры у симво-
листов, но уже она заставляет усомниться в распространен-
ном мнении, согласно которому тропеический принцип
(особенно метафора) является господствующим в этом ли-
тературном направлении. Мы увидели, что исходным
принципом символизма - по крайней мерс той его линии,
245
которая нами выделена (это “старшие” символисты, но не
только они) - является парадигматический принцип па-
раллелизма, который, однако, не всегда является односто-
ронне господствующим: он может вступать в определен-
ные отношения с метафорическим рядом, разрешаясь
в образно-смысловую двузначность субстанциального и ус-
ловно-поэтического слова (см. “Был Змеем каждый дух ко-
гда-нибудь...”). Мнение же о приоритете метафоры долж-
но быть оспорено тем настоятельней, что оно получило
широкое распространение и принимается как аксиома,
опираясь на высказывания весьма авторитетных ученых.
Очень категорически оно было сформулировано Р. Якоб-
соном еще в 1919 году: “На обращении в троп реальных
образов, их метафоризации основан символизм как поэти-
ческая школа” (347, 23). Разделяет это представление
и В.М. Жирмунский (отсюда его известное определение
“Блок - поэт метафоры”, о котором мы еще будем гово-
рить). Не свободны от такого понимания и современные ис-
следователи (М.В. Панов и представители “лингвистиче-
ской поэтики” - А.Д. Григорьева, Е.Л. Некрасова, Н.А, Ко-
жевникова и др.), хотя их труды дают материал для более
глубокого решения проблемы.
Так М.В. Панов показал, что у “младших символистов”
в целом сохраняется господство парадигматического прин-
ципа, по он начинает вступать во взаимодействие с принци-
пом синтагматическим: “Семантическая вариативность
словесных единиц становится ограниченной. В ткань сти-
ха вводятся конкретные слова быта, они пронизываются
общим семантическим тоном стиха. С другой стороны,
они контрастируют с общим мстафоричсски-символиче-
ским фоном... Возникают синтагматические контрасты и на-
пряжения в поэтическом слове”. Теперь, как замечает да-
лее исследователь, “сочетаются метафорическое переос-
мысление и конкретно-назывное значение: одно мерцает
сквозь другое” (266, 102).
К близким выводам приходит, исходя из иной методо-
логии, Е.В. Ермилова, говоря о “теургах” и особо выделяя
“блоковский способ постижения мира”: “Напряженность
существования явлений сразу в двух планах, с одинаковой
реальностью в обоих... Каждое жизненное явление как бы
окружается, обволакивается воздушной струей, равно про-
текающей на всем необъятном пространстве от эмпиричс-
246
Глава 4
ского до универсального смысла”. И далее о “широко раз-
двинутой перспективе образа, многозначности поэтиче-
ского слова (слова, имеющего точное предметное значе-
ние и вместе с тем очень широкий смысловой фон)”
(197а, 206).
Если нс принимать на веру некоторых прямых заявле-
ний авторов, работающих в области “лингвистической по-
этики” (кстати, утверждений, часто опирающихся на пре-
дубеждения литературоведов), а обратиться к добытым
ими фактам, то нетрудно увидеть, что образная ситуация
в зрелом символизме определяется именно взаимодейст-
вием субстанциального и условно-поэтического слова
(при исходной роли парадигматического принципа). Пре-
жде всего замечено, что “во множестве конструкций, упо-
требительных в поэзии начала XX века, прямое обозначе-
ние и его непрямое соответствие существуют в единстве
и выражены непосредственно” (211, 16). Здесь имеется
в виду то, что Н.А. Кожевникова называет сравнением-
приложением (типа “город-морок”), метафорической пе-
рифразой (“Ветер, пес послушный, лижет...”), метафорой-
сравнением, выраженным генитивной конструкцией (ино-
гда эта конструкция “разрывается на две части, каждая из
которых приобретает самостоятельность. Прямое обозна-
чение и его метафорическое соответствие могут употреб-
ляться как однородные члены”, см., например: “твой разя-
щий, твои взор, твой кинжал”, 211, 16).
К этому же Kpyiy явлений близки всевозможные случаи
“мены” функций между прямым и тропеическим словом. Так
замечено, что “в отличие от слова, которое в поэзии симво-
листов утрачивает свою непосредственную направленность
на предмет, тропы... - тяготеют к реализации, к использова-
нию в прямом значении” (211, 17). Отметим также распро-
страненные “обратные сравнения, в которых образ сравне-
ния представлен как его предмет” (211, 17), и “обоюдные
тропы” (слово в прямом значении и его соответствие, обра-
зующие один троп, в другом меняются местами, 211, 85).
До сих пор мы говорили о материалах, накопленных
лингвистической поэтикой при изучении собственно тро-
пов, - тем показательнее, что это изучение наталкивает
исследователя на необходимость выхода за пределы три-
виальной антиномии прямого и переносного смыслов. По
лингвистическая поэтика дает нам ряд ( ведений и об ак-
241
тивизации в символизме разных форм субстанциального
слова - архаического творительного метаморфозы (258,
35-39; 211, 16) и собственно параллелизма (211, 86; 211,
119-124; см. также: “Помимо текстов, основанных на парал-
лелизме, в поэзии начала века распространены стихотворе-
ния, организованные соположением и чередованием двух
непосредственно не связанных рядов изображения, самый
факт существования которых заставляет искать точки со-
прикосновения между ними”, 211, 124). Для большей кор-
ректности следует, однако, заметить, что в работах по линг-
вистической поэтике параллелизм и троп недостаточно
строго отличаются друг от друга (см., например, 211, 86).
Все сказанное делает неслучайным тот факт, что самое
крупное открытие, сделанное лингвистической поэтикой,
оказалось связанным с изучением связи тропа с его контек-
стным окружением. Усиление этой связи в символизме (211,
129) привело к рождению в мире образа качественно нового
явления, лишь подготовлявшегося в XIX веке, - поэтической
модальности (258а, 106). Сам этот термин Е.А. Некрасова по-
заимствовала у Д.Е. Максимова, который им обозначал про-
странственно-временную неопределенность и относитель-
ность в символистской поэзии. Д.Е. Максимов заметил, что
в “Двойнике” Блока, например, городская сфера и призрач-
ный мир зеркал изображены так, что “воспринимающее
сознание балансирует между этими мирами, не зная, к ка-
кому из них прочнее прикрепить ситуацию стихотворе-
ния” (244, 168). Это “создает в стихотворении особый вид
поэтической модальности... Стихотворение по своей со-
держательной фактуре связано с материальным миром
и немыслимо без него, но оно в то же время вносит в этот
мир психологически достоверную условность, подвиж-
ность “модального сознания”, относительность, и тем са-
мым не умещается в границах этого мира, расшатывает
его” (244, 169). Е.А. Некрасова же под поэтической мо-
дальностью понимает такое отношение форм речи к дей-
ствительности, при котором неопределенными и относи-
тельными становятся границы бытийного и компаратив-
ного планов слова (эти планы, как показывает исследова-
тельница, могут выступать как самостоятельные, могут ве-
стись параллельно, сближаясь, но не сливаясь друг с дру-
гом, могут становиться принципиально относительными:
258, 12, 35 и др.; 258а, 106, 111).
248
Глава 4
Очевидно, что Д.Е. Максимов и Е.А. Некрасова каж-
дый по-своему подошли на словесно-образном уровне к то-
му, что действительно составляет качественную новизну
неклассического первообраза: его неопределенно-множе-
ственную ситуативпость, не позволяющую до конца сво-
дить его к определенной жизненной ситуации, и относи-
тельность внутри пего самого границ бытийного и компа-
ративного планов. Еще раз подчеркнем, что такой перво-
образ изоморфен неклассической субъектной ситуации.
Дело в том, что развитие парадигматически-спнтагма-
тических напряжений в слове, появление поэтической мо-
дальности определенно засвидетельствовано у тех симво-
листов (главным образом “младших”), у которых мы на-
блюдаем сложные и обоюдные субъектные связи (в отли-
чие от торжествующе-трагического монологизма бальмон-
товского типа). Так прозрачна связь субъектной ситуации
“Октябрьского мифа” II. Анненского с образной структу-
рой этого стихотворения: “Мне тоскливо. Мне невмочь.
Я шаги слепого слышу: Надо мною он всю ночь Оступает-
ся о крышу. II мои ль, не знаю, жгут Сердце слезы, или это
Тс, которые бегут У слепого без ответа, Что бегут из мут-
ных глаз По щекам его поблеклым И в глухой полночный
час Растекаются по стеклам”. Исходная нераздельность
“я” и “другого” реализуется в их образной (и неслучайно
апеллирующей к мифу) нераздельности. Перед нами
пс имитация мифа, а действительное проникновение
в его субъектно-образную струкзуру, но в то же время сти-
хотворение поэта XX века, обладающее поэтической мо-
дальностью.
Прежде всего, дождь пс сравнивается здесь со слепым,
а мифологически-реально оказывается им, и уже только
после того, как мы совершили это отождествление, всплы-
вают условно-метафорические возможности понимания
слова “слепой” и всего последующего. Тайна “Октябрьско-
го мифа” в этом колебании между мпфологичсски-субстап-
циальпым и условно-поэтическим смыслами, которые так
же невозможно отделить друг о г друга, как слезы “я” от ка-
пель дождя (ср. со следующим признанием в письме поэ-
та, модальность которого более однозначна: “Зачем не да-
но мне дара доказать другим и себе, до какой степени сли-
та моя душа с тем, что не она, но что вечно творится
и сю... Если бы вы знали, как иногда мне тяжел этот на-
249
плыв мыслей, настроений, желаний - эти минуты полного
отождествления души с внешним миром” (117, 467).
В научной литературе уже отмечалась необычно тес-
ная связь между человеком и предметным миром в поэзии
Анненского. Л.Я. Гинзбург писала об их “сцеплении” (ис-
пользуя образ самого же поэта) и отмечала, что у Аннен-
ского “предмет не сопровождает человека и не замещает
его иносказательно; оставаясь самим собою, он как бы дуб-
лирует человека” (164, 351). Здесь хорошо схвачена и суб-
станциальность предмета у Анненского, его неметафорич-
ность и его связь с субъектом. Мы бы только добавили,
что предмет высгупает у поэта не просто как человек,
а именно как “другой” человек (обычно страдающий), па-
раллельный “я”. И этот параллелизм нечто большее, чем
обычное в классической поэзии условное очеловечивание
(“олицетворение”) природы. Не случайно же у Анненско-
го становятся возможными настоящие образные метамор-
фозы (“Ты опять со мной, подруга осень”), родственные
блоковским метаморфозам природы-любимой, но также
“нищенке подруге” Мандельштама и “сестре - моей - жиз-
ни” Пастернака.
Своеобразная мифологическая метаморфоза24, обладаю-
щая одновременно поэтической модальностью, становится
определяющим принципом образной структуры Блока. При
этом у нас есть все основания считать, что поэт художниче-
ски сознательно выбирает этот образный язык, глубоко отве-
чающий субъектной структуре его лирики. “Когда-то в древ-
ности явление превращения, метаморфозы, - писал Блок, -
было известно людям, оно входило в жизнь”, но позже (в эпо-
ху цивилизации и государственности) метаморфоза “вышла
из жизни”, о ней стало “трудно думать”, она “стала метафо-
рой, достоянием литературы” (16, VI, 60). Таким образом,
поэт возводит метаморфозу к первичным формам народно-
поэтического сознания и подчеркивает ее качественное от-
личие от позднейших условно-поэтических (метафора)
форм образности. Подчеркнем, что для Блока метаморфо-
за - мгновенное превращение одного явления в другое, ми-
нуя “длинную цепь диалектических и чувственных посы-
лок”, закон причинности, пространство и время (16, VI, 69) -
это способ преодоления раздробленности и несубстанци-
альности современного сознания и одновременно путь воз-
рождения народно-поэтического сознания и образа.
250
Глава 4
Мы уже говорили о метаморфозах субъекта речи
у Блока. По ведь метаморфично и “ты” блоковских сти-
хов, и об этом в иных терминах писал едва ли не каждый
блоковед. В превращениях героини из стихии-природы
в женщину (любимую, невесту, жену), из нее - в родину
и, наконец, в “душу мира” обычно состоит движение лири-
ческого образа, причем эти облики героини не только
сменяют друг друга, но и присутствуют в ней одновремен-
но, мерцая друг сквозь друга и создавая ее особую поэти-
ческую модальность. Такой образ (собственно перераста-
ющий границы “образа” и претендующий, как древняя ме-
таморфоза, на субстанциальное значение) - одна из самых
заметных особенностей неклассической поэтики Блока.
В его лирике необычен (с точки зрения классики) и вы-
бор соположенных субъектов, и содержательная структу-
ра этого соположения.
Для поэта XIX века было естественно, например, на-
звать родину матерью, но никак не женой, тем более не “ма-
терью, сестрой и супругой” в одном лице (16, V, 314). Прав-
да, нельзя сказать, что блоковские образы совсем не имели
прецедентов: и в русской классике изредка были возможны
строки типа пушкинских “Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой, Как ждет любовник молодой
Минуту верного свиданья” или некрасовских “Как женщи-
ну ты родину любил”. Есть, однако, качественное разли-
чие между этими образами и образом у Блока. В приведен-
ных классических строках любовь к родине сравнивается
с любовью к женщине, то есть предполагается (молчаливо)
исходное различие между ними. У Блока нет различающего
(и разобщающего, как сказал по аналогичному поводу И. Ан-
ненский) сравнения: у него родина не “как” любимая, она
и есть любимая - и оба этих облика ее нераздельны и не-
слиянны (эта формула помимо прочего является и выра-
жением блоковской поэтической модальности).
Метаморфоза может принимать у Блока форму класси-
чески-фольклорного двучленного параллелизма:
О. нищая моя страна,
Что ты для сердца значишь?
О, бедная моя жена,
О чем ты горько плачешь?
(“Осенний день”, 1909)
251
Параллелизм может быть сжат в пределах одной строки:
“О, Русь моя! Жена моя!”, “Дыша духами и туманами”. Он
может быть совсем почти имплицитен (“Как поют твои со-
ловьи...”) или, напротив, развернут па весь текст. Во всех
случаях перед нами отнюдь не тропеический принцип (хо-
тя блоковская метаморфоза, как мы увидим, может вклю-
чать в себя и троп), а потому следует признать некоррект-
ным и сильно упрощающим реальную картину то опреде-
ление, которое было дано В.М. Жирмунским и потом час-
то повторялось: “Блок - поэт метафоры” (198, 206).
Это не значит, конечно, что у поэта мало метафор или
что они не играют важной роли в его поэтике. Однако ис-
ходным принципом у Блока является именно метаморфо-
за, генетически восходящая к параллелизму с его парадиг-
матической структурой. Чтобы убедиться в этом, рассмот-
рим одно из “Трех посланий”, которое В.М. Жирмунский
особенно часто приводит в пример метафоризма у Блока.
Речь идет о стихотворении “Черный ворон в сумраке снеж-
ном” (1910). Открывается оно отчетливым параллелизмом:
Черный ворон //в сумраке снежном.
Черный бархат //на смуглых плечах.
Во-первых, здесь параллельны и вторят друг другу кар-
тина природы (1-я строка) и картина человеческой жизни
(2-я строка). Во-вторых, благодаря цезуре параллельными
оказываются соответствующие части каждой строки: “чер-
ный ворон” // “черный бархат” с одной стороны, а с дру-
гой - “сумрак снежный” // “смуглые плечи”. Этот парал-
лелизм полустиший подчеркнут анафорой: повторены
(“черный”) или паронимически соотнесены (“сумрак” -
“смуглый”) слова, начинающие полустишия. Благодаря
этому фактически соотнесенным оказывается каждое сло-
во: черный // черный, ворон // бархат, сумрак // смуг-
лый, снежный // плечи. Обратим внимание, что в обеих
строках движение начинается с “черного”, а завершается
прямо не названным “белым” (снежный и плечи).
Но этот контраст действует не только в двух первых
строках, айв парадигме всего стихотворения: в нем
сверхсхемными ударениями па первой стопе выделены по
вертикали слова “черный”, “черный”, “страшный”, “тем-
ный”, по и “томный”, “легкий”, “снежный”. Таким образом,
252
Глава 4
и в микромире первых строк, и в макромире всего текста за-
дается с самого начала соположение тем черного-страшного
(“страстного”) и белого-снежного (“легкого”). Но и в микро,
и в макромире перед нами не обычные классические конт-
расты. Ведь чернота и белизна у Блока сходятся и становят-
ся нераздельны и неслиянны в “сумраке” (который
и есть взаимопропизанность черного и белого), так же, как
во второй строке - в “смуглом” (и не случайно “сумрак”
и “смуглый” в свою очередь паронимически соотнесены).
Эти сплошные параллели исключают возможность ус-
ловно-поэтического (метафорического) прочтения начала
стихотворения. Они не дают нам ограничиться и рациона-
лизированным (условно-символическим) истолкованием
картины природы (например, ворона) как предвестия не-
счастия, которое должно произойти с людьми. Структура
образа вынуждает нас к большему: за пространственной
рядоположностью, за условным предвестием мы должны
прочитывать сплошные соответствия двух стихий - при-
родной и человеческой (в этой связи естественно вспом-
нить Ап. Григорьева, у которого подобная структура, была
доведена до предельной для классической поэзии грани;
о роли и смысле этого соположения см. 180). Все дальней-
шее развитие стихотворения разворачивает и реализует
данную с самого начала параллель природы-женщины.
Но наряду с этим параллелизмом, создающим нераз-
дельность двух стихий, Блок создает и неслиянность их,
и именно для этого ему нужен метафорический язык, ко-
торый В.М. Жирмунский считал единственным образным
языком поэта, в том числе и этого стихотворения. Уже
в первых двух строках есть некая неустойчивость: мы не
можем не видеть, что нас заставили отождествить вещи
очень разные (не имеющие между собой привычных,
в том числе причинно-следственных связей), если не про-
тивоположные друг другу. Здесь, как писал по аналогично-
му поводу сам Блок, “выброшена длинная цепь диалекти-
ческих и ’гувственных посылок”, благодаря чему “выводы
ума и сердца кажутся дикими, случайными и пи на чем не
основанными... Жизнь протекает, как бы подчиняясь дру-
гим законам причинности, пространства и времени” (16,
VI, 69). Благодаря такому образному взлету поэт, как заме-
чено исследователями, подымается над поверхностью
причинно-следственных связей и находит метод возведе-
253
ния “каждой частной конкретности... не к причине, а к сущ-
ности общего бытия” (184, 73; ср. и какое утверждение:
“Причинно-следственную соподчиненность Блок (имея
предшественником одного Фета) стал заменять стремитель-
ными выдохами перечислений, обымающими на долгом...
дыхании мир и чувство в едином потоке”, 288, 231).
Несовпадение логики блоковской метаморфозы с ло-
гикой причинно-следственных отношений можно было
бы сравнить с несовпадением образно-смысловых струк-
тур параллелизма и тропа, но дело обстоит сложней: мета-
морфоза отличается от обычного параллелизма тем, что
включает в себя метафору, ибо в ней параллелизм и ото-
ждествление не должны уничтожить различения и несли-
янности, а должны сохранить их в себе. Отсюда отмечен-
иа нами неустойчивость и незакрыгость отождествлений,
начинающих стихотворение. Она эксплицируется в следу-
ющих строках: “Томный голос пением нежным Мне ноет
о южных ночах”. Пока перед нами только первый сигнал,
говорящий о связи героини с иным миром - не снежным
и северным, а южным. Этот сигнал даст возможность ина-
че, чем прежде, объяснить такую деталь, как “смуглые пле-
чи” героини. Теперь в прежнем неустойчивом тождестве
героини со снежной стихией (и смуглоты с сумраком) на-
чинает проступать нс просто различенность, но даже про-
тивоположность их, а 3-4 строфы оказываются контраст-
но сопоставленными с 1-2 строками.
Затем следует строфа, истолкованная В.М. Жирмунским
как развернутая метафора: “В легком сердце - страсть и бес-
печность, Словно с моря мне подан знак. Пад бездонным
провалом в вечность, Задыхаясь, летит рысак”. Ученый счи-
тает, что источник последней метафоры в таких выражени-
ях как “в душе его таятся бездны”, “он ходит над бездной”,
“любовь над бездной”. Несомненно, Блок рассчитывал и на
этот смысловой нюанс, ему нужно было, чтобы мы чувство-
вали, что речь идет и о “безднах души”. Учитывал поэт и то,
что при метафорическом понимании этого места возникает
противоречие “с реальной обстановкой поездки на лихаче
на острова” (198, 213), отмстим только, что это противоре-
чие у Блока задано с самого начала стихотворения и в нем
находит свое выражение поэтическая модальность.
Но Блок рассчитывал и на совершенно противополож-
ное понимание этого места - не метафорическое, а суб-
254
Глава 4
станциальное. Мы должны видеть, что речь идет и о са-
мом настоящем бездонном провале. Любовь не сравнива-
ется с полетом над бездной, она и есть полет над бездной,
над онтологически первичной стихией (так орфический
Эрос носился над хаосом) - и в глубине этого первообра-
за должна мерцать конкретная ситуация полета на рысаке
(как в глубине ситуации стихотворения “Миры летят. Года
летят. Пустая...” (1912) просматривается катание на “чер-
товом колесе”). Очевидно, что ни один из этих смыслов
сам по себе принципиально пе исчерпывает блоковского
текста: только нераздельность и неслиянность субстанци-
ального и метафорического языков и смыслов приближа-
ет нас к его действительному пониманию.
Это подтверждает и вторая часть стихотворения, кото-
рую В.М. Жирмунский тоже прочитывает метафорически
односторонне, не учитывая его поэтической модальности.
Так ученый считает, что Блок в 3-4 строфах “вводит мета-
форический ряд в последовательное развитие реального ря-
да совершенно неожиданно и неподготовленно, без всякого
логического оправдания и явственной связи” (198, 214).
Такими метафорами он считает “Как поют твои соловьи”
и “Темный морок цыганских песен, Торопливый полет ко-
мет”. На самом же деле перед нами не метафоры, а типич-
ные блоковские метаморфозы, но в них еще очевиднее,
чем в проанализированных раньше образах, двойная - па-
раллелистская и метафорическая одновременно - приро-
да (это своеобразные “сфинксы” или “кентавры”).
Присмотримся сначала к первой из них в контексте
третьей строфы: “Снежный ветер, твое дыханье, Опья-
ненные губы мои... Валентина, звезда, мечтанье! Как поют
твои соловьи...”. Эта строфа развивает параллели, наме-
ченные в первой строфе. Параллелизм женщины-стихии
здесь дан предельно отчетливо: “Снежный ветер, твое ды-
ханье”. Тут, естественно, пе троп, снежный ветер не срав-
нивается с ее дыханием, он и есть се дыхание, потому что
она - сама стихия, сам “сумрак снежный”. И далее опа пе
сравнивается со звездой и в то же время с мечтанием: са-
ма образная структура обымающего перечисления требует
от нас именно отождествить эти облики. Обратим внима-
ние, что (как и в первой строфе) Блок демонстрирует од-
новременно внешне-внутреннюю природу героини: она пе
только звезда, но и мечтанье. В этом контексте последняя
255
строка строфы, трактуемая В.М. Жирмунским как метафо-
ра, вовсе не покажется только метафорой. Очевидно, что
если героиня - сама стихия, то и соловьи - ее, и не в ме-
тафорическом, а в самом прямом смысле. Но этот прямой
смысл нс отрицает, а, наоборот, предполагает, что соло-
вьи могут прочитываться и как метафора любовного при-
зыва и страстей героини. Иначе говоря, перед нами
и вполне субстанциальные соловьи, принадлежащие жен-
щине-природе, и метафора, одним словом, перед нами оче-
редная блоковская метаморфоза, имеющая поэтическую
модальность. Заметим попутно, что и странно было бы
ожидать, чтобы “поэтом метафоры” был человек, утвер-
ждавший: “Что такое “цивилизованное одичание?” Мета-
форичность мышления, вот что; это она нас заела и поныне
ест... За ним стоит сама смерть (16, VI, 142).
Наконец, последняя строфа завершает полифонический
параллелизм и движение метаморфоз, сведя в одном обыма-
ющем перечислении все самостоятельные и нсслиянные об-
разы: “Страшный мир! Он для сердца тесен! В нем - твоих
поцелуев бред, Темный морок цыганских песен, Торопли-
вый полет комет!” Благодаря последовательно проведенно-
му перечислительно-параллслистскому принципу, отноше-
ния тождества устанавливаются не только между рядом
стоящими образами, но и между образами, далеко разве-
денными: “Мне поет о южных ночах” - “Как поют твои со-
ловьи”; “Задыхаясь, летит рысак” - “Торопливый полет ко-
мет”. И в этом контексте “Торопливый полет комет”, на-
пример, вовсе не простая метафора, как считал В.М. Жир-
мунский, а одна из метаморфоз женщины-стихии.
Проведенный анализ позволяет сделать два вывода.
Во-первых, исходным началом блоковского образа является
именно параллелизм. Сам поэт, как известно, прекрасно от-
давал себе отчет в особенностях своего метода: “Я привык
сопоставлять факты из всех областей жизни, доступных мо-
ему зрению в данное время, и уверен, что все они вместе
всегда создают единый музыкальный напор” (16, III, 297).
Это важное самонаблюдение Блока у всех на устах, но до
сих пор оно не было всерьез приложено к анализу образ-
ной структуры его лирики. Во-вторых, не была принята
всерьез и неслиянность, самостоятельность блоковских
образных перечислений, а также вытекающая из этой не-
раздельности-неслиянности - двойная, метаморфическая
256
Глава 4
природа его образов-кентавров, впервые в русской лири-
ке соединивших в себе, но не сливших параллелистскую
субстанциальность и метафорическую условность.
Это свойство блоковского образа и сделало его поэзию
способной выразить те новые отношения и ту новую слож-
ность жизни, которые принесла с собой нсклассическая си-
туация. Современники, остро чувствовавшие интересую-
щую нас особенность поэта, осознавали и называли ее по-
разному, но часто были принципиально близки в ее оцен-
ке. Когда А. Ахматова в “Поэме без героя” (1940-1962) го-
ворит о лирическом субъекте Блока - “Демон сам с улыб-
кой Тамары”, или когда Пастернак пишет о “святом демо-
низме Блока” (270а, 451), то они близки не только друг
другу, но и К. Чуковскому, писавшему сразу после смерти
Блока: “Такой двойственности еще не было в русской ли-
тературе, и нужно быть великим поэтом, чтобы выразить
эту двойственность в лирике” (337а, 44). Речь идет, естест-
венно, не о тривиальной! двойственности, а об особом ка-
честве неклассического мировидения, как бы его ни назы-
вать - амбивалентностью, нераздельностью-неслиянно-
стью или поэтической модальностью. Пе забудем, однако,
что перед нами прежде всего новая целостность, созда-
тель которой, подобно “народной душе” (и это особенно
интересно для исторической поэтики), “непостижимо для
нас... ощущает как единое и цельное все, что мы сознаем
как различное и враждебное друг другу” (16, V, 36).
4. ПЕРВООБРАЗ
В ПОСТСИМВОЛИСТСКОЙ ЛИРИКЕ
В последнее время в работах, посвященных по-
этике постсимволистской лирики, обсуждаются две взаи-
мосвязанных проблемы. Во-первых, “были ли в поэтике
русских символистов (нс в их эстетическом мировоззре-
нии) такие общие черты, которые позволяли бы говорить
о достаточно единообразном “каноне”. Во-вторых, если
даже о таком “каноне” говорить можно, то была ли “реак-
ция” против этого “канона” достаточно единообразной,
или же открывались “два пути” дальнейшего развития...
или, наконец, наступивший примерно после 1910-1912 гг.
новый этап развития русской поэзии (а в наличии такого
этапа сомнений быть не может) характеризовался нс толь-
257
ко не сводимою ни к двум, ни к трем или к четырем путям
пестротою и полным отсутствием единообразной поэти-
ки” (168а, 264; см. и 304, 9-18). Очень определенно выска-
зался об этих проблемах еще в 20-х годах такой видный
участник литературного процесса, как О. Мандельштам.
Он был уверен в существовании символистского канона
и считал символизм “лоном всей новой русской поэзии”,
“родовой эпохой”, “влившей новую кровь, провозгласив-
шей канон необычайной емкости” (249, 45). То, что было
после символизма, осознается поэтом как переход от “ро-
да” к “особи”: “из широкого лона символизма вышли инди-
видуально-законченные поэтические явления... род рас-
пался и наступило царство личности” (249, 45).
С точки зрения исторической поэтики, говорить о ка-
ноне в точном смысле этого слова применительно к сим-
волизму - течению петрадиционалистскому - рисковало.
И тем не менее у символизма действительно есть некий
органический принцип, хотя и не создающий канона, но
отличающий это течение от классики и наследуемый са-
мыми крупными художниками носа символистской эпохи,
к каким бы литературным течениям они ни принадлежа-
ли. Речь идет о неклассическом первообразе, порожден-
ном ориентацией на бесконечное и безмерное как некую
актуальную целостность.
Болес всего подобная ориентация и вырастающий на се
основе первообраз изучены на материале поэзии О. Ман-
дельштама. Замечено, что, отталкиваясь от символизма,
поэт одновременно стремился установить прямой контакт
с тем же самым (отныне уже блоковским) первоединым.
О стихотворении “Я слово позабыл, что я хотел сказать...”
(1920) исследователь пишет: “Мы ощущаем не столько чув-
ственно осязаемые образы, сколько разрывы между ними,
паузы между словами, ритмические интервалы, в которых
всплывает дух целого, не выразимого никакими нагромо-
ждениями частностей... То, что описывается, только по-
плавки, колебания которых намекают иа какое-то скры-
тое, незримое течение” (280, 200).
11аследованис блоковского первообраза проявляется
у Мандельштама в разных формах. Прежде всего, младший
поэт часто прибегает к утке знакомым нам блоковским (и об-
щесимволистским) символам единого: тишине (молчанию,
немоте, пустоте), музыке, душе (Психее) и т. д. Па первый
258
Глава 4
взгляд кажется, что полной противоположностью этому ря-
ду символов является мандельштамовско-акмеистский “ка-
мень”. Но если внимательнее всмотреться, то видно, что “ка-
мень” глубоко родственен “туману” Блока, и эту родствен-
ность вскрыл сам Мандельштам: “Камень как бы дневник по-
годы, как бы метеорологический сгусток. Камень не что
иное, как сама погода, выключенная из атмосферического
и упрятанная в функциональное пространство” (249, 148).
Обнаружение принципиального родства первообразов
Блока и Мандельштама позволяет лучше увидеть своеобра-
зие каждого из них. Очевидна стихийно-космическая при-
рода мировой “туманности” и мировой “души” у Блока. Пе-
ред нами нечто бесконечно большое (“большая вселен-
ная”, если воспользоваться словом Мандельштама). На-
против, “Камень” - это мировая “туманность”, сжатая до
размеров бесконечно малого, это “маленькая вечность”,
в которой сконцентрирована и спит “большая вселенная”.
Иначе говоря, оба поэта работают с одним и тем же акр-
альным мировым целым, но с разными состояниями его,
что обусловливает сходство и различие лирических ситуа-
ций в их художественных системах.
Мы помним, что русская классическая лирика XIX ве-
ка освоила индивидуальную ситуацию, конкретное психо-
логическое событие. Неклассическая же ситуация Блока
нс то, чтобы неконкретна, а как бы еще доконкретнег. она
еще не отделилась от мировой “туманности” первоедино-
го и только мерцает и угадывается в его глубине. Всякая
попытка излишне конкретизировать такого рода ситуа-
цию ведет к явной профанации. Г.А. Гуковский в свое вре-
мя отстаивал мысль о конкретности и даже бытовой при-
крсплениости ситуаций в зрелой лирике Блока (184,
73-74). И он был прав в том смысле, что ситуации Блока
не отвлеченны, в них всегда угадывается некая конкрет-
ность (так же, как у Пушкина, например, в глубине кон-
кретности угадывается бесконечное). Но (так же, как бес-
конечное у Пушкина) конкретность ситуации у Блока не
поддается сколько-нибудь однозначному эксплицирова-
нию. Попробуем, например, в упомянутых Г.А. Гуковским
“Трех посланиях” свести “бездонный провал в вечность”
к выбоине в мостовой (хотя и без этой эмпирической при-
вязки блоковский образ не существует), а начало этого
стихотворения представить как вполне определенную кар-
259
тину: в снежном сумраке мчится рысак, над ним черный
ворон, а на рысаке герой с женщиной в черном платье
(бархатном и открывающем плечи), при этом женщина
поет. Получается бессмыслица или безвкусие - и в том,
и в другом упрекали Блока те, кто нс ощущал законов его
художественного мира. Так же и в стихотворении “Миры
летят. Года летят. Пустая...”, рассмотренном Г.А. Гуков-
ским, за полетом миров и лет должно только смутно уга-
дываться (как одна из возможностей) “чертово колесо”,
но вполне определенно и однозначно конкретизировать
изображенную в нем ситуацию, разумеется, нельзя.
У Мандельштама неклассические черты первообраза
и художественной ситуации выступают еще резче, чем
у Блока, а потому они не прошли мимо внимания исследо-
вателей, хотя и нс были осознаны в свете блоковской
(и шире - неклассичсской) традиции.
Во-первых, было отмечено изменение статуса художе-
ственного образа по отношению к внехудожественной ре-
альности: “С одной стороны, поэтический текст приобре-
тает столь высокую организацию, окультурснность, что
внеположный мир не может более претендовать на опре-
деление структуры поэтического текста, достигающего ма-
ксимальной независимости; с другой стороны, поэтиче-
ский текст (как бы в добровольном смирении) стремится
к тому, чтобы стать прямым, откликом па внеположную си-
туацию” (227, 74; см. также 224, 147). Во-вторых, было за-
мечено, что достигаемое в стихах Мандельштама “чудо-
вищное уплотнение реальности”, ведет на всех уровнях
целого к “семантической неопределенности” (227, 61).
Прежде всего - к “неопределенной модальности описыва-
емого события”, причем подчеркивается, что такая мо-
дальность носит принципиальный характер: «она не нуж-
дается в “доопределении”, <...> неопределенна только
с точки зрения здравого смысла: это новая неузуальная мо-
дальность, конституирующая бытие того, что “описано”
в тексте, в особом синкретическом пространстве» (224,
149). Так анализ “крымско-эллинских” стихов поэта обна-
руживает, что их действие происходит “в некоем “синкре-
тическом” пространстве, совмещающем в себе, прежде
всего, черты Крыма п Эллады, но также одновременно
и “царства мертвых”, п, в более слабой степени, внутрен-
нее психологическое пространство” (226, 5-6; см. там же:
260
Глава 4
“Можно предположить существование еще одной состав-
ляющей - своего рода “царства идей” в духе Платона, как
бы фундирующего остальные компоненты этого синкре-
тического пространства”). При такой структуре принци-
пиально нельзя сказать, «идет ли речь о “действительном”
или “возможном”, воображаемом, о реальной или метафо-
рической вещи; “истинной” модальностью является имен-
но “неопределенное”» (224, 149; см. и 227, 62).
Наконец, из “семантической неопределенности” ман-
дельштамовского образа вытекает “большая возможность
интерпретирования”, чем это бывает обычно (227, 61).
Но если у Блока необходимость именно “интерпретации”
(в отличие от “осмысления”) диктовалась “доконкретностыо”
лирической ситуации, то у Мандельштама она порождается
“сверхконкретностыо” ее - “чудовищной уплотненностью” ее
структур, в которых - “сгустки истории” (180, 389), “архитек-
тоника культур” (165а, 250). По наблюдению Л.Я. Гинзбург,
Мандельштам “вообще мыслил действительность архитек-
тонически, в виде законченных структур” (165а, 249; см.
также: «Специфика “Камня”, отделяющая раннего Ман-
дельштама от тех, у кого он учился, - в резкой структурно-
сти», 165а, 254).
Именно “сверхконкретны”, структурны ситуации в та-
ких разных стихотворениях, как, например, “Сестры - тя-
жесть и нежность...” (1920) с его движением первоэлемен-
тов, или “Мастерица виноватых взоров...” (1934), где
сквозь “семантическую неопределенность” прочитывается
и конкретное событие, наконец, в “Вепицейской жизни”
(1920), ситуативная основа которой как будто вполне от-
четлива. Но в последнем случае особенно очевидно, что
перед нами концентрированно целостный и внутри себя
бесконечный ряд художественных событий. Так зеркало,
в которое глядится “веницейская жизнь”, - это “маленькая
вечность”, “квант” инобытия, но и мира явлений и стано-
вления (ср. со стихотворением “Когда Психея-жизнь спус-
кается к теням...” (1920). Та же, кто глядит в зеркало,
одновременно является женщиной, душой-Психеей, Вене-
цией и венецианкой, жизнью, глядящейся в свое-другое
и т.д. Никакая классически конкретная ситуация не может
обнять такую ситуативную структуру, напротив, из этой
“маленькой вечности” выводимы бесконечные в принци-
пе сюжетные реализации.
261
Отмеченная особенность первичной целостности Бло-
ка и Мандельштама обозначает завершающую стадию ав-
тономизации художественной реальности от внехудожест-
венной. Заметим, что о такого же рода автономии художе-
ственной реальности говорил Ю.М. Лотман на материале
поэзии Б. Пастернака, связи которого с блоковской не-
классической традицией не менее тесны, чем у Мандель-
штама. В зрелом возрасте Б. Пастернак писал о своем
(очень созвучном Блоку) понимании целого: “Высшее удо-
влетворение получаешь тогда, когда удается почувствовать
смысл и вкус реальности, когда удается передать саму ат-
мосферу бытия, то обобщающее целое, охватывающее обра-
мление, в котором погружены и плавают все описанные
предметы” (52, 107). Но уже и в самых первых своих сти-
хотворных и прозаических опытах 1911-1913 гг. Пастер-
нак - определенно послеблоковский поэт, воспроизводя-
щий неклассический первообраз в символах сквозняка-ха-
оса (“зияния”, “щели”): “Никогда он не знал, что на свете
есть щель и совсем насквозь. Он думал, что жизнь плотно
прикрыта. И вдруг узнал. Его подняло, понесло” (52, 108).
То же в стихах: “Как читать мне? Оплыли слова. Чьей за-
дувшею далью сквожу я” (51, 244).
Эта пронизанность пастернаковского мира сквозня-
ком первостихии определяет его исходное своеобразие -
тем замечательнее, что поэт осознает его на фоне блоков-
ской традиции: именно “блоковскую стремительность <...>
его блуждающую пристальность <...> беглость сто наблю-
дений” Пастернак считает “преимущественной” и нало-
жившей “наибольший отпечаток” на его собственную поэ-
тику (55, 429). В этом свете становится понятнее, почему
“вещи Пастернака не локализованы в пространстве. Это
своеобразная делокализованная предметность... Мир Пас-
тернака находится в состоянии вихревращения. Вещи по-
этому срываются со своих мест и прорывают границы сво-
ей локализации” (165а, 36). Замечательно при этом, что
соотношение предметного (“были”) плана и сквозняка-ха-
оса у раннего Пастернака символизируется образами муж-
ского и женского начала (в этом числе мужским и жен-
ским окончанием в стопе) и, конечно, женское по-блоков-
ски связывается с порождающей стихией: быль - “ударяе-
мый слог конечной стопы, которая должна быть женской!.
Действительность давала лишь тяжелый слог, первую по-
262
Глава 4
ловину стопы; какая-то певучая осмысленность требовала
второй части, вечера, сумерек (вновь блоковские обра-
зы. - С. Б.)”. И далее: “Жаждой неударяемого хаоса, тоску-
ющей волей быть женственной бывает проникнута быль
(это странное слово мужского рода), когда она на пороге
вдохновения” (51, 110-111).
В последующем творчестве Пастернака исходная роль
сквозняка-хаоса (и его женственная природа) не деклари-
ровались столь отчетливо, но были порождающим прин-
ципом его стиля. От “женственного” хаоса прямой путь ве-
дет к “Сестре моей - жизни” (с учетом и ее добролюбов-
ской генеалогии), в том числе к эпиграфу ее, который
в буквальном переводе звучит так: “Шумит лесом, небом
пролетают грозовые гучи, тогда я прозреваю в недрах бури,
О, девочка, твое движенье (или - “твои черты” - С. Б.)”. Пе-
ред нами Н. Ленау, прочитанный младшим современни-
ком Блока и Добролюбова. Уже знакомая нам неклассиче-
ская ситуативность характеризует эту книгу Пастернака,
ио в отличие от “доконкретной” событийности Блока
и “сверхконкретной” Мандельштама, мы бы назвали ее
неосинкретической.
Еще в 30-е годы И.И. Иоффе заметил, что у Пастернака
“нет рационалистической обособленности явлений... Обра-
зы - невыделенные элементы целой темы, сами по себе они
мало понятны” (206, 468). Так в приводимых исследователем
строках “И брешет пес и бьет в луну Цепной кудлатой коло-
тушкой” синкретически нерасчленены сторож и пес - и эта
нерасчленснность у поэта принципиальна: “Его метафоры
пренебрегают дуализмом пространства-времени и рассече-
нием мира на различные планы восприятия - слух, зрение,
обоняние” (206, 468). Современный исследователь также за-
мечает в этой поэзии особую слитность внешнего и внутрен-
него, рождающую уже в ранних стихах Пастернака “некий
единый портрет-пейзаж” (239, 234). Он же говорит о харак-
терном для Пастернака убеждении, “что разделение на “ве-
щи”, диктуемое здравым смыслом, лишь скрывает сущность
мира” (239, 230); на самом деле “действительность слитна,
и то, что в языке выступает как отгороженная от других
предметов вещь, па самом деле представляет собою одно из
определений общего мира” (239, 226).
Наконец, еще одна неклассическая особенность пастер-
наковского первообраза: он перестает быть лишь “второй
263
реальностью, моделирующей реальность эмпирического
мира; он делается как бы частью этого мира: явление, вы-
ступающее в качестве объекта изображения, активно
влияет на создание самого изображения; метель мешает
автору-герою нс только выбраться из “посада”, но и рас-
сказать о попытках сделать это” (303, 248). По существу
перед нами та автономия неклассического образа по отно-
шению к внехудожественной реальности, о которой уже
шла речь раньше, причем именно у Пастернака это каче-
ство первообраза выявлено рельефнее, чем даже у Блока
и Мандельштама. И тем не менее Пастернак и тут видел
свою преемственную связь с Блоком, у которого казалось,
“страницу покрывают не стихи о ветре и лужах, фонарях
и звездах, но фонари и лужи сами гонят по поверхности
журнала свою ветреную рябь, сами оставили в нем сырые,
могучие, воздействующие следы” (55, 428).
Неклассический первообраз наследуется и А. Ахмато-
вой, хотя у нее он не столь очевиден, как у Мандельштама
и Пастернака. Первые исследователи поэтессы были
склонны как раз противопоставлять Ахматову - в интере-
сующем нас плане - символистам (в том числе Блоку).
“У символистов, - писал В.М. Жирмунский, - стихотворе-
ния рождаются из душевного напряжения почти экстати-
ческого, из душевной глубины, еще не разделенной; все
отдельные стороны души слиты, и говорит более глубоко
лежащее целостное и творческое единство духа. У Ахмато-
вой целостность и неразд елейность заменяются разделен-
ностью, сопровождаемой отчетливым строгим и точным
самонаблюдением” (198, 119). Г.С. Померанц также скло-
нен считать, что Ахматова приходит к незнакомой симво-
листам конкретности и простоте выражения чувств, “от-
брасывая вместе с неясным, недостоверным словом сим-
волизма и его онтологические глубины” (280, 199). Для
Л.Я. Гинзбург тоже кажется очевидным, что ранняя Ахма-
това исходила из “частного и неповторимого” (165а, 36).
По еще в 20-е годы В.В. Виноградов сделал наблюде-
ние, позволяющее говорить, что онтологические глубины
символистского (и прежде всего блоковского) первоеди-
ного Ахматовой не отброшены, а ее конкретность - сов-
сем нс классическая. Ученый показал, что определенность
и раздельность ахматовского художественного мира скры-
вают в себе исходную неопределенность, ибо в начале сти-
264
Глава 4
хотворепия его “апперцепционный фон ничем не предо-
пределен”, “слова сперва скользят по сознанию, готовые
направиться то в одну, то в другую сторону и сплестись
в разнородные гирлянды” (153, 452). На этой основе возни-
кает ахматовская “постперцепция”: “Ахматова обычно стро-
ит речь так, что значение словесного ряда, се организующе-
го, представляется целиком заложенным в его символике
и формах его синтаксического построения. Но вдруг в кон-
це выступают новые факторы, новые “обстоятельства” ре-
чи, которые, несмотря на свою затушеванность и как бы
случайность, существенно... изменяют восприятие ранних
строк и их эмоциональный тон” (153, 436). Современные
исследователи тоже пишут об отказе Ахматовой от “ли-
нейно упорядоченных” образных структур: у нее “распря-
мление” сюжета “предполагает повторные чтения, с каж-
дым из которых синтезируется все более длинные сюжет-
ные цепи” (237, 56).
Своеобразие первообраза Ахматовой! отчетливо высту-
пает на фоне пушкинской поэтики, на которую поэтесса
творчески ориентирована. Мы помним, что Блок экспли-
цировал пушкинскую “тайную” бесконечность, но импли-
цировал его конечно-размерное начало. Ахматова поступа-
ет немного иначе: она сохраняет пушкинскую конкрет-
ность, но высвобождает и безмерное, а в художественной
ситуации акцентирует не одно из этих начал, но само про-
странство их встречи, то место, где они пронизывают
друг друга, как бы сам “стык” между ними (о “стыке” у Ахма-
товой в свете несколько иных категорий “субстанциально-
го” и “меонального” - см. 227, 55-56). Так в стихотворении
“Смуглый отрок бродил по аллеям...” (1911), посвященном
Пушкину, одинаково важны как конечно-предметные детали
реального присутствия героя, так и “сверхреальность” его
бессмертия - на “стыке” этих начал, на том пространстве,
где они сходятся и проникают друг в друга, и держится ху-
дожественное целое. Пространство здесь объединяет вре-
мена, но одновременно просвечивается и как бы раздвига-
ется вечностью пушкинского бессмертия.
Так же взаимопронизаны конечно-размерное и безмер-
ное в “Разлуке” (1914), например. Излюбленные Ахматовой
предметные детали (“ветры”, “крики пастухов”, “взволнован-
ные кедры”), сквозь которые прочитывается смятенность
природы и души, даны здесь на фоне и в одном пространст-
265
венном ряду с “чистыми родниками” незамутненной беско-
нечности и ее высокого покоя. Между первыми тремя дета-
лями и “чистыми родниками” пролегает незримая “заветная
черта” (см. стихотворение “Есть в близости людей заветная
черта, Ее не перейти влюбленности и страсти...” (1915), ко-
торая в лирике Ахматовой всегда соединяет и в то же время
раздвигает конечно-размерное и бесконечное, внешнее
и внутреннее, природу и душу, “другого” и “я”.
Неклассический первообраз наследуется и на другом
полюсе постсимволической поэзии - в лирике В. Хлебни-
кова. Это показано в исследованиях RB. Дуганова и сфор-
мулировано следующим образом: “Хлебников берет мир
в его первозданной целостности, предшествующей всяко-
му становлению и всякой завершенной раздельности, мир
в его изначальном (или, что то же, в окончательном)
единстве” (189, 435).
Проанализированное исследователем “единое” (см. так-
же 189, 432) самим поэтом осознается как “мнимое число”,
“некоторое много, неопределенно протяженное многооб-
разие, непрерывно изменяющееся, которое по отноше-
нию к... пяти чувствам (то есть к конечно-размерному. -
С. Б.) находится в таком же положении, в каком двупротя-
женное непрерывное пространство находится по отноше-
нию к треугольнику, кругу...” Как у Блока первоединое он-
тологически первичнее отдельных предметов (они и рож-
даются из игры его волн), так и у Хлебникова конкретные
и различенные явления суть “случайные обмолвки... одно-
го великого протяженного многообразия” (88, 319).
Р.В. Дуганов не только описал первообраз Хлебникова,
но и проницательно указал на родство исходных принци-
пов Блока, Хлебникова и Маяковского (хотя видел сущест-
венную разницу между поэтами в реализации “общей эсте-
тической установки”, 189, 434-435). Это родство он объяс-
нял мифопоэтической природой сознания названных поэ-
тов. Видимо, корректнее говорить не просто о мифопоэ-
тической, а именно о неклассической (включающей в се-
бя и мифопоэтическое начало) природе интересующего
нас первообраза, роднящей между собой не только Блока,
Хлебникова и Маяковского, но и Мандельштама, Пастер-
нака, Ахматову (в этом же ряду, несомненно, стоят М. Цве-
таева и С. Есенин).
266
Глава 4
5. СУБЪЕКТНО-ОБРАЗНАЯ ЦЕЛОСТНОСТЪ
ПОСТСИМВОЛИСТСКОЙ ЛИРИКИ
Постсимволическая лирика 10-х годов XX века
наследует не только неклассический первообраз, но и не-
которые (оригинально реализуемые) принципы субъект-
но-образной целостности, притом, как правило, наследует
художнически сознательно, понимая, какие “безмерные
горизонты в области поэзии” открывают находки Блока
(185, 133-134). Наиболее очевидна преемственность в
субъектной структуре двух неклассических периодов рус-
ской поэзии. ГТри этом поэты 10-х годов доводят откры-
тия своих предшественников до неких пределов, зачастую
подходя к самым границам (и даже тупикам) лирики. Пре-
жде всего наследуются и доводятся до предела нераздель-
ность-неслиянность “я” и “другого” и сам масштаб неклас-
сического субъекта - “человека с душой мира”.
Один из этих пределов - в поэзии В. Хлебникова, у ко-
торого “лирический субъект может раскрываться как сама
Природа”, “Земной Шар”, государство (189, 428-429). За
этим, как замечает исследователь, “угадывается то состоя-
ние личности, когда человеческое я в своей субстанциаль-
ной глубине смыкается с бесконечностью мира” (189, 429).
Другой предел - полнота нераздельности-неслиянности
с “другим” обозначен в лирике М. Цветаевой. У нее оказы-
вается возможным то, что совершенно немыслимо в клас-
сике: включение в собственную книгу’ стихотворений “дру-
гого”. Речь идет прежде всего о цикле “Психея (Стихи мо-
ей дочери)” в книге “Психея. Романтика” (одним из пер-
вых и еще робких прецедентов подобного рода было вве-
дение А. Добролюбовым в свою первую книгу стихотворе-
ния Вл. Гиппиуса, посвященного автору, 26, 5).
Самое поразительное, что как Хлебников, так и Цвета-
ева добиваются органических переходов одного в другое.
Если у Хлебникова “природа может являться как личность
и личность - как природа, в зависимости от смыслового
строя” (189, 430), то у Цветаевой так же естественно сов-
мещаются и сополагаются “я” и “другой”. Их связь задана
уже в заглавии книги - двухчастном и двуедином: “Психея.
Романтика”. Во-вторых, начинающий книгу цикл “я”
(“Стихи к дочери”) и завершающий ее цикл “другого”
(“Психея / Стихи моей дочери”) диалогически обращены
261
друг к другу, вплоть до того, что слово “Психеи” воспроиз-
водится в авторском цикле и становится в нем предметом
рефлексии (“Марина! Спасибо за мир! Дочернее странное
слово”), так же, как авторское слово - в “дочернем” цикле
(“Молодая Царь-Девица”). В итоге возникает - при под-
черкнутом и неотменяемом наличии двух авторов - их не-
раздельность (“Не знаю, - где ты и где я” - в этом призна-
нии Цветаевой строки И. Анненского “Я не знаю, где вы
и где мы” становятся чем-то большим, нежели литература)
и даже смена их ролей (см. в стихотворении дочери “Ма-
рине”: “Я качаю твою люльку Пред огнем, Опрокидываю
жизнь твою Вверх дном”). Здесь с двух сторон совершается
то, что Цветаева считает сутью любовных отношений: «Еди-
новременный и перекрестный захват (отдача)... Но раз я
живу в тебе, я не пропала! Но раз ты во мне живешь, ты не
пропал. Это бытие в любимом, это “я в тебе и ты во мне”,
это все-таки я и ты, это не двое стали одним» (94а, 116).
В субъектной сфере лирики 10-х годов доводится до пре-
дела еще одна особенность пеклассического сознания, до
этого ярко заявленная И. Анненским и А. Блоком - ощуще-
ние непривилегированное™ “я”, бесповоротное сознание
того, “что я вовсе не я, а только один из них, один из них
и больше ничего” (117, 174). Современная культурология
объясняет такое самоощущение тем, что в пеклассическом
мире, отказавшемся от иллюзий монологического абсолю-
тизма, “не оказывается такого субъекта, который мог бы
ощущать себя находящимся в абсолютной перспективе виде-
ния реальности” (247, 70). Собственно, эта интуиция и ста-
новится своеобразной мерой двух главных процессов, проте-
кающих в 10-е годы в субъектной сфере лирики: увеличения
масштабов личности и полноты песлиянного перевоплоще-
ния в “другого”. В определенных условиях ощущение непри-
вилегирован! юсти “я” может становиться предельно траги-
чески обостренным. Так было, например, у О. Мандельшта-
ма. Замечено, что его авторское “я” - “космичпо” и “равнове-
лико культуре, природе, истории; соответственно самые ин-
тимные признания и автоописания воспринимаются как го-
лос универсального человеческого начала в данной уникаль-
ной культурно-исторической и природной ситуации” (227,
59). По одновременно с этим “я” ощущает себя “одиноким
представителем перед веком за поэзию” и исполнено “по-
нимания собственной “малости” (227, 60).
268
Глава 4
Подобное противоречие разрешается у Мандельштама
“приближением к собеседнику” (227, 60; см. о “направлен-
ной на собеседника интонации”) обилие аппелятивов,
формы императива, вторжение в стих прямой речи”
и т. д., 227, 59). Мало того, исследователями зафиксирова-
на у поэта не только неопределенная модальность описы-
ваемого события, но и неопределенная модальность “я”,
свидетельствующая о неосинкретизме “я” и “другого” и яв-
ляющаяся приметой неклассической субъектной структу-
ры: «Кем, скажем, является носитель первого лица
в “Я изучил науку расставанья...” (лирическое я, Мандель-
штам, или Овидий, или греческий колонист), в “За то, что
я руки твои не сумел удержать...” (Мандельштам или тро-
янский воин), или в “На розвальнях, уложенных соло-
мой...” “мы ехали”, “меня везут без шапки”, “царевича ве-
зут”)? В “Слышу, слышу ранний лед...” и “Заблудился я в не-
бе, - что делать...” лица автора и Данте сливаются до не-
различимости (как в первом из этих стихотворений Ле-
нинград и Флоренция). Иногда неясен (“Ничего, голубка
Эвридика”) или вовсе неопределен (“Эта ночь непоправи-
ма”, а у нас еще светло) адресат обращения. Авторская
речь или речь героя (декабриста) в 3, 4, 6 строфах “Дека-
бриста”?» (224, 150).
Статистические данные (особенно по “Второй книге”)
подтверждают эти наблюдения. Во “Второй книге” разные
формы высказывания, при которых “я” смотрит на себя
со стороны - как на “другого”, составляют 79,8% и сравни-
мы лишь с третьим томом Блока (67,1%). Очень высок
и процент неосинкретических и диалогических форм вы-
сказывания - 65,8% (у Блока в третьем томе - 65,7%), при-
чем внутри этой субъектной структуры у Мандельштама бо-
лее, чем у кого-либо из его современников, представлена
игра интенциями и точками зрения (21,2%). Все это сбли-
жает субъектную структуру Мандельштама и Блока. В свое
время П.П. Громов заметил, что определяюще важную роль
для младшего поэта сыграли найденные Блоком в “Италь-
янских стихах” и “На поле Куликовом” формы нераздельно-
сти-неслиянности “я” и исторического персонажа (180, 385
и т. д.). Наследует Мандельштам и связанную с этой фор-
мой субъектной организации “скользящую” интенцию, поз-
воляющую автору переходить с позиции “я” на позицию
“другого”, сохраняя их неклассическое единство. Это вид-
269
но при сопоставлении стихотворений “Холодный ветер
от лагуны” Блока и “На розвальнях, уложенных соло-
мой...” Мандельштама.
В обоих стихотворениях мы наблюдаем вживание в ис-
торического (или мифологического) персонажа (Иоанна
Крестителя у Блока и царевича Дмитрия у Мандельшта-
ма). И там и тут повествование ведется от первого лица
(“Я в эту ночь - больной и юный - Простерт у львиного
столба”, “Таясь, проходит Саломея С моей кровавой голо-
вой” - “По улицам меня везут без шапки”). Но в обоих слу-
чаях не происходит ни окончательного превращения
субъекта речи в исторического персонажа, ни полного
слияния его с “я”. В финале стихотворений появляется
взгляд на прежнее “я” со стороны: “Лишь голова на чер-
ном блюде Глядит с тоской в окрестный мрак” - “Цареви-
ча везут, немеет страшно тело” (заметим при этом, что
внешняя точка зрения - “царевича” - сочетается с глаго-
лом внутреннего состояния - “немеет страшно тело” -
а это не дает точке зрения стать окончательно внешней).
До сих пор мы говорили о преемственности в области
субъектной структуры у двух поэтов. Теперь следует ска-
зать, что наследуемый блоковский принцип младший поэт
разрабатывает глубоко оригинально. Открытая личност-
ность Блока у Мандельштама обычно преобразована в тра-
гическую игру “я” и его субститутов. Как правило, в нача-
ле стихотворения у поэта субъект речи местоименно не
маркирован, а говорится не о “я”, а о “другом”. Не “я”, а
“человек” умирает в “Сестры - тяжесть и нежность...”
(1920). Но затем оказывается, что “другой”, “человек” был
субститутом “я” и что на самом деле “я” - не только зри-
тель, но и участник драмы существования - и это и о нем
говорилось с самого начала. Развитие стихотворения вы-
носит эту изначальную, но скрытую личностность наружу
(“У меня остается одна забота на свете”, “Словно темную
воду, я пью помутившийся воздух”, курсив наш. - С. Б.).
Так же строится и “Веницейская жизнь”. Субъект речи
вначале наблюдает за “веницейской жизнью” и рефлекси-
рует над ней как зритель. Эта зрительская позиция удвое-
на мотивом женщины-Венеции (жизни-Психеи), глядя-
щейся в зеркало. И в зеркале мира становления вновь (как
и в “Сестрах...”) “умирает человек” - не “я”, а “другой”, но
все-таки “я” - субститут “я”. Становится ясно, что и первая
270
Глава 4
часть стихотворения (1-3 строфы) - наиболее объективиро-
ванная и описательная его часть - утке пронизана личной
интонацией, а сама “описательность” есть по существу “дру-
гой язык” выражения внутреннего состояния “я” (как “дру-
гой” - умирающий - человек есть иное обозначение “я”).
Во второй части стихотворения, после того, как завершает-
ся тема смерти “другого”, интонация личного обращения
и личной причастности “я” веницейской жизни нарастают
прямо и открыто: “Тяжелы твои, Венеция, уборы”, “Адриа-
тика зеленая, прости! - Что же ты молчишь, скажи, венеци-
анка, Как от этой смерти праздничной уйти?”
Во второй части стихотворения вновь проигрываются
все главные темы и образы, уже возникающие в 1-3 стро-
фах, но теперь они предстают как образы личной судьбы
“я”. Завершается “Веницсйская жизнь”, как и началась, об-
разом зеркала, но если вначале в него смотрелась Психея-
Венеция, то теперь в него глядит само (хоть прямо и не
названное) “я”. И если раньше для “я” значение жизни бы-
ло “светло”, то теперь - “Черный Веспер в зеркале мерцает.
Все проходит, истина темна”. Звезда “Веспер” черна (как
солнце в ряде стихов Мандельштама) потому; что она звезда
Аида, солнце того света. И все-таки у поэта речь идет не
просто о смерти, а еще и о возвратном движении бытия
(вспомним “волну возвратного прилива”, которой завер-
шается блоковская “Венеция”). Ведь в последней строфе
в зеркале все начинает течь вспять, к своему началу (то же
в конце “Сестры - тяжесть и нежность”: Время вспахано
плугом, и роза землею была”), как бы проходит перед взо-
ром “я” в обратном порядке: здесь человек не умирает, а,
напротив, родится (умирает же долговечный жемчуг),
здесь не старцы из Библии поджидают Сусанну, а, наобо-
рот, она сама ждет их еще до того, как они решили подгля-
дывать за нею. Порождено это возвратное движение бы-
тия сменой позиции субъекта, и тут особенно очевидна
внутренняя связь субъектной структуры с образной23.
Принципиальное родство субъектной структуры Ман-
дельштама и Блока приводит к глубинным перекличкам
в собственно образной структуре их лирики (нс противо-
речащим, естественно, оригинальности младшего поэта).
Так одно из своеобразнейших стихотворений Мандель-
штама “Веницейская жизнь” вполне определенно связано
с блоковской традицией - в частности с “Итальянскими
271
стихами” и особенно с циклом “Венеция”. В нем воспроиз-
веден главный принцип образной системы Блока - прин-
цип метаморфозы: “веницейская жизнь” превращается
в стихотворении в женщину-душу, глядящую в зеркало, за-
тем в природу и город, затем опять в женщину, страну, ве-
нецианку и, наконец, в Сусанну, ждущую старцев. И перед
нами, конечно же, не просто наследование “приема”,
а глубокое родство смысловых структур. Как и блоковские,
мандельштамовские метаморфозы связаны с неклассиче-
ским пониманием мировых отношений и резким отталки-
ванием от “рабского подчинения” закону причинности,
времени и пространству, от “синтаксического” мышления
и расплывчатости, “безархитектурности” европейской на-
учной мысли XIX века (249, 56). В противовес такому
мышлению поэт реализует некий системно-метафориче-
ский принцип, во многом близкий блоковскому. Особенно
важно, что в предлагаемой поэтом системе место причин-
но-следственного детерминизма занимает “внутренняя
связь через человеческое я” (249, 64).•
Эту связь он изучает в разных ее измерениях (вспом-
ним смену позиций субъекта и изменение пространствен-
но-временной структуры мира в “Веницейской жизни”),
в частности “освобождает от времени и рассматривает от-
дельно. Таким образом, связанные между собой явления об-
разуют как бы веер, створки которого можно развернуть во
времени, но в то же время они поддаются умопостигаемо-
му свертыванию” (249, 55). Отсюда формулируемый поэтом
принцип “обращаемости или обратимости” (249, 125) об-
раза: “непрерывное превращение материально-поэтиче-
ского субстрата, сохраняющего свое единство и стремяще-
гося проникнуть внутрь самого себя” (249, 125).
Помимо отмеченной прямой метаморфозы, наглядным
образцом обращаемости поэтической материи являются
освобожденные от временного и причинно-следственного
детерминизма перечислительные ряды Мандельштама
(восходящие к блоковским и далее - к бальмонтовским),
которые уже привлекали внимание исследователей. “Блок
создал, - пишет И. Роднянская, - новые интонационные
очертания образа - то, что у Мандельштама истончилось
в ассоциативные всплески, в ныряния и выныривания лас-
точек-слов (“Россия, Лета, Лорелея” или “Я так боюсь рыда-
нья Аонид, тумана, звона и зиянья”)” (288, 231), Конечно,
212
Глава 4
своеобразие Мандельштама не только в утончении ассоциа-
тивных ходов. Блоковскую нераздельность-неслиянность
субъектов и образов Мандельштам развернул в то, что в вос-
точной философской традиции называют “недуальностью”.
Блок не был дуалистом в европейском смысле слова.
Он, как мы помним, исходил из единого. Тем не менее
у Блока ощутимо важна была “неслиянность” самостоя-
тельных начал, вплоть до их трансцендентности по отно-
шению друг к другу. У Мандельштама же эти начала, сохра-
няя свою самостоятельность, оказываются более обрати-
мыми. В его перечислительных рядах единое и единич-
ное, порождающее и порожденное, жизнь и смерть, тя-
жесть и нежность - не трансцендентны по отношению
друг к другу, а лежат в одной плоскости (мы помним, что
в русской лирике подобный прецедент уже был у Случев-
ского). Но каждое из этих начал и внутри себя, как показы-
вают исследования, “амбивалентно-антитетично” (об этом
семантическом принципе см. 221, 113-114 и д.; 226, 24-26
и др.). Это создаетЧюзможность “сплошного” параллелиз-
ма, не только типа “Россия, Лета, Лорелея”, но и менее за-
метного, примером которого может быть стихотворение
“Я слово позабыл, что я хотел сказать...” (1920). В нем, как
уже замечено, 1 и 2 строки “реально и логически никак не
связаны друг с другом”. “Но именно эта внутренняя конт-
растность и заставляет читателя - как в силу “презумпции
осмысленности” и связности, так и ввиду наличия готовой
“воспринимательной” модели параллелизма (фольклорного
типа) - воспринимать 2-ю строку (“Слепая ласточка в чертог
теней вернется”. - С. Б.) как параллельную 1-й и устанав-
ливать связь исходя из этого параллелизма” (226, 28). Как
особенно важное обстоятельство исследователь при этом
подчеркивает, что “мы имеем здесь дело не с метафорой
или сравнением, где замещающий объект (или “правая
часть” сравнения) не обладают самостоятельным бытием,
как бы ни был развернут троп... У Мандельштама... ласточ-
ка и чертог теней так же реальны, как забытое слово” (226,
29). Примером такого же типа связи является и стихотво-
рение “Сестры - тяжесть и нежность...”, см. хотя бы пер-
вую строфу: “Сестры - тяжесть и нежность, одинаковы ва-
ши приметы. Медуницы и осы тяжелую розу сосут, Чело-
век умирает, Песок остывает согретый, И вчерашнее солн-
це на черных носилках несут”. Присмотримся к отличию
273
подобной смысловой структуры от классической и от бло-
ковской.
Мы, говоря о параллелизме у Фета, отмечали, что у него
“двойные венки” сплетались из образов жизни, а смерть с са-
мого начала выступала как нечто, внешнее венку. У Мандель-
штама - неклассического поэта - его двойные венки сплета-
ются из жизни и смерти, оказавшихся в одном ряду' (в при-
веденных строках из “Сестры - тяжесть и нежность...” вслед
за образом созревшей жизни идут в едином обымающем пе-
речислении три образа, объединенных мотивом смерти). По
аналогичному поводу М.М. Бахтин писал: “Мир, где противо-
поставлены рождение и смерть, и мир, где сопоставлены ро-
ждение и могила, это два разных мира” (124, 58).
Но неклассический мир Мандельштама, в котором со-
поставлены рождение и могила, отличается и от блоков-
ского. У Мандельштама они не столько противоположно-
сти, сколько взаимообратимые архетипы (поэт любит
строить образ так, что каждое явление может быть мгно-
венно проброшено к своему архетипу, так слово у него “То
вдруг прокинется безумной Антигоной, То мертвой лас-
точкой бросается к ногам”). В приведенном выше приме-
ре “тяжесть” - пластически-телесный (“эллинский”) прин-
цип жизни и природно-космический архетип того, что
в сфере духовной предстает как “нежность”. Но и “неж-
ность” тоже первична как начало, из которого возникло
все пластически предметное, подобно тому, как из тиши-
ны рождается звук (см. открывающее “Камень” стихотво-
рение “Звук осторожный и глухой”, 1908). В конечном
итоге оба этих начала взаимно обозначают друг друга
и оказываются взаимообратимыми. Очень четко такая вза-
имообратимая модель образа представлена в стихотворе-
нии “И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме” (1934):
“Быть может, прежде губ уже родился шепот, И в бездре-
вссности кружилися листы, И тс, кому мы посвящаем
опыт, До опыта приобрели черты”. Нет нужды специаль-
но подчеркивать ни близость этого образного хода тому,
который мы наблюдали в финале “Всницейской жизни”
и “Сестры - тяжесть и нежность...”, ни глубинную связь
образных и субъектных метаморфоз в неклассической це-
лостности Мандельштама.
Столь же отчетливы, как у О. Мандельштама, неклас-
сические черты в субъектно-образной структуре Б. Пас-
214
Глава 4
тернака. Мы уже говорили о неосипкретической структу-
ре порождающей целостности и лирической ситуации по-
эта. Субъектная структура его лирики несет на себе те же
особенности. Очень отчетливы неосинкретические нача-
ла в ранних опытах поэта (1911-1913 гг.). В них всеми ви-
дами субъектного синкретизма охвачено 38,5% стихотво-
рений (51). На первом месте количественно - “тьГ-син-
кретическое (21,4%), определенно связанное с блоков-
ской женщиной-стихией; затем следует “я”-синкретиче-
ское (12,8%) и родственный фольклору немотивирован-
ный переход высказывания от первого лица к третьему
(2,8%). Возможны и схождения “я” и “ты”-синкретического:
“Ты птица та, что снизошла крылами, Когда сквозь ночь я
прокричал, прозрев, И оттого, что имя твое - зев Глубин
в мпльон ночей - вскричали руки сами. Ты тень. Я тихо
в ней уснул, как в храме И ты во мне замыслил свой посев
И образ ты, и ты во мне, как в раме Ты ей оправлен бле-
щущий рельеф. Назвать тебя мне уст-калек углами? Начало
ты, что мощно пролилось, А я - тревожно медленное
Amen, Что робостью о красоту сплелось” (51, 241).
Синкретизм “ты” - очевиден: птица - зев глубин - тень -
сеятель - образ - храм - начало. Но показательно, что по от-
ношению к “я” это синкретическое “ты” выступает и как
внутреннее (“И ты во мне замыслил свой посев, И образ
ты, и ты во мне, как в раме”), и как внешнее (“Ты тень.
Я тихо в ней уснул, как в храме”), и как имманентное,
и как трансцендентное, и как женское (“птица”), и как
мужское (“ты... замыслил”), и как не имеющее рода (“нача-
ло”). Все это позволяет говорить о синкретизме “я” и “ты”.
Связь с блоковской традицией обозначена здесь не только
в трактовке “ты”, но и в прямой реминисценции: “Когда
сквозь ночь я прокричал, прозрев” (ср.: “Зачатый впочь,
я в ночь рожден, И вскрикнул я, прозрев”, 16, II, 130).
Собственно же синкретическое “я” возникает у Пас-
тернака прежде всего за счет его неотличения от приро-
ды: “Плоскою грудью подростка Небо ночное весной
Я и земля - как мы жестки Супротив близи ночной Мы с пе-
рекрестком-одни Верь же мне небо ребенок...” (51, 272).
См. также “Быть полем для себя; сперва как озимь” (51, 276),
“Я найден у истоков щек” (51, 260), “С каждым шагом хва-
таюся за голову” (51, 265). На эту особенность поэта обра-
тил внимание Ю.М. Лотман: “Само деление на внешний
________________________________________________275
и внутренний мир у Пастернака снято: внешний мир наде-
лен одушевленностью, внутренний - картинностью и пред-
метностью. Граница между “я” и “не-я”, сильно маркирован-
ная в любой системе субъективизма”, “демонстративно
снята” (239, 234).
У нас есть достаточно оснований утверждать, что опи-
санная неклассическая особенность ранних опытов доста-
точно ясно осознавалась поэтом (см. его статью “Симво-
лизм и бессмертие” (1913), как бы ни относиться к выска-
занной идее о феноменологическом совпадении у раннего
Пастернака чистой объективности (предметности) и чис-
той субъективности (интенциональности, 327, 85). По край-
ней мерс в “Охранной грамоте” Пастернак называет эту осо-
бенность по имени: “Я узнал далее, какой синкретизм (под-
черкнуло нами. - С. Б.) сопутствует расцвету мастерства, ко-
гда при достигнутом тождестве художника и живописной
стихии, становится невозможным сказать, кто из троих и в
чью пользу проявляет себя всего деятельнее на полотне: ис-
полнитель, исполненное или предмет исполнения” (55, 250).
Столь резко выраженный в первых опытах Пастерна-
ка субъектный синкретизм порождает синкретизм и об-
разный - в данном случае связь между этими сторонами
художественного целого просто лежит на поверхности.
Достаточно упомянуть уже называвшееся “Быть полем для
себя” или такую запись: “Карий гнедой зрачок (мальчик)
зерна снегу. А ближе брови переходят в кусты и птиц (чер-
ту), под ними (капель) благовеста...” (51, 252). Пе метафо-
рическая, а метаморфическая, субстанциальная природа
такого типа образности не нуждается в специальных дока-
зательствах. В последующих книгах Пастернака связь
субъектных и образных форм, лежащая здесь на поверхно-
сти, пе будет столь же явной, но останется вполне опреде-
ленной, что видно, например, по “Сестре моей - жизни”.
Образ, лежащий в основе и заглавия, и эпиграфа (о кото-
ром мы упоминали), несомненно сродни блоковским мета-
морфозам (кстати, сама формула заглавия в более синкре-
тической форме есть уже в ранних опытах: “Я лежу с мо-
ей жизнью неслышною”, 51, 279).
Исходная роль метаморфического, субстанциального
типа образности у Пастернака в иных терминах фиксиро-
валась многими исследователями. Замечено, например,
что принцип пастернаковских превращений обнажен
216
Глава 4
в “Повести”: “Разумеется, весь переулок в его сплошной су-
мрачности был крутом и целиком Анною. Тут Сережа не
был одинок и знал это. И правда, с кем до него этого не бы-
вало. Однако чувство было еще шире и точнее, и тут по-
мощь друзей и предшественников кончалась. Он видел, как
больно и трудно Анне быть городским утром... Она молча
красовалась в его присутствии и не звала его на помощь.
И, помирая с тоски по настоящей Арильд.., он смотрел, как,
обложенная тополями, точно ледяными полотенцами, она
засасывается облаками и медленно закидывает назад свои
кирпичные готические башни” (55, 184; 54, 18). Отмечались
и характернейшие для Пастернака обнимающие ряды пере-
числений, и их связь с блоковским принципом сопоставле-
ния явлений, взятых из разных сфер жизни (54, 42-43; 288,
231). По строит свой “полифонический” параллелизм
и своп метаморфозы Пастернак глубоко своеобразно.
Один из первых об этом своеобразии написал И.И. Иоф-
фе: “Пастернак даст одновременно несколько рядов движе-
ния” (206, 471). При этом, по наблюдению исследователя, по-
эт редко ведет две темы “простой параллелью”, типа
(Сейчас там ночь.) За душный твой затылок.
(И спать легли.) Под царства плеч твоих.
(И тушат свет.) Я б утром возвратил их.
Обычно он применяет, по И.И. Иоффе, узловые слова,
позволяющие поворачивать и переключать темы (206, 471).
Благодаря этому’ образы Пастернака становятся “функция-
ми, каждая с большим полем напряжения, беспрерывно пе-
реключающиеся в новые смысловые системы и... ведущие не-
сколько линий одновременно” (206, 469). Эту же особен-
ность образной системы поэта констатирует М.В. Панов уже
в 60-е годы, говоря о лирике Пастернака и Цветаевой, по-
строенных “на многолинейном сочетании словесных цепей;
синтагматические единства становятся сложными и переби-
вают друт друга... Слово, преобразованное в одной синтагме,
перекликается с другим словом, преобразованным в другой
синтагме, - и так создается цепная соотносительность син-
тагм” (266, 105). В самое последнее время Е.А. Некрасова
описала у Пастернака сосуществование двух или несколь-
ких образных тем, каждая из которых “представляет как
бы автономный образный фрагмент, объединенный общ-
ностью ассоциаций” (258, 110).
271
Собственно тут мы подошли к проблеме соотношения
в образе у Пастернака “полифонического” параллелизма и
тропа. Интересное ее решение было намечено И.И. Иоф-
фе. Он подчеркнул, что если романтическая поэзия от-
крыла обертоны слов (прежде всего, конечно, метафори-
ческие обертоны. - С. Б.), если символисты противопоста-
вили обертон основному тону (у Блока они стали, напро-
тив, как мы знаем, “кентаврами”. - С. Б.), то Пастернак де-
лает равноценными все возможные смыслы и ведет фразу,
отправляясь то от одного, то от другого оттенка смысла.
Возникает переключение из одного ряда в другой, “мир
замкнутых смыслов перестал существовать; смыслы пере-
крывают друг друга; текут одновременно и рядом” (206,
470). Позже Л.Я. Гинзбург заметила, что “у Пастернака
слова, означающие предметы, душевные состояния и со-
храняющие свое основное значение, и слова-метафоры,
слова-члены сравнений - эквивалентны” (165а, 36). Нако-
нец, в самое последнее время Е.А. Некрасова отмечает,
что поэту “присуще специальное внимание к элементам
общности прямого и переносного значения” (258, 95).
Все эти наблюдения позволяют говорить, что Пастер-
нак реализует возможности, намеченные уже блоковской
нераздельностью-неслиянностью субстанциального и ме-
тафорического смыслов, но вместо блоковских образов-
кентавров, создает некий неосинкретизм их, выражаю-
щий то, что составляет индивидуальнейшую особенность
поэта и что он сам назовет впоследствии “единством жиз-
ненных событий” (55, 247). Присмотримся к этому образ-
ному феномену на материале такого программного стихо-
творения, как “Про эти стихи”.
Здесь между стихами и природой устанавливается осо-
бого рода двусторонняя связь: “На тротуарах истолку
С стеклом и солнцем пополам. Зимой открою потолку
И дам читать сырым углам. Задекламирует чердак С покло-
ном рамам и зиме...”. Заметим, что стихи не просто поста-
влены в один перечислительный ряд со стеклом и солн-
цем, благодаря чему они начинают взаимно окрашивать
друг друга (так в значении “стекло индуцируется ядро зна-
чения солнце (яркое, горячее и т. д.) и обратно, в значении
солнце индуцируются семы хрупкость, прозрачность. Акцен-
тируется общая сема блеск”, 220, 213). Далее, здесь не про-
сто снята граница между явлением природы (солнце),
278
Глава 4
человеческим предметом (стекло) и явлением искусства -
стихами. Пастернак идет дальше других поэтов своего
времени в онтологизации явлений искусства: стихи у него
сами производят изменения в природе в качестве се ре-
ального и самостоятельного предмета: “К карнизам пря-
нет чехарда Чудачеств, бедствий и замет. Буран не месяц
будет месть, Концы, начала заметет. Внезапно вспомню:
солнце есть. Увижу: свет давно не тот”.
Было бы неверно понимать это место в духе причин-
но-следственного детерминизма: якобы буран поднялся по-
тому, что поэт написал и дал чердаку прочесть эти стихи,
а далее денек разгулялся потому, что поэт вспомнил
о солнце. Связь здесь, разумеется, более сложная, бытий-
но-вероятностная (ее имплицитные формы мы отмечали
уже у Пушкина, а развернуты они были у Блока и Мандель-
штама). В своей прозе Пастернак раскрыл один из секре-
тов этого типа связи. Рассказывая в “Охранной грамоте”
о марбургском оберксльнере и о встреченном в Венеции
человеке, к которому герой обратился по какому-то наи-
тию, связавшему этих совершенно разных людей, Пастер-
нак замечает: «Тут нет ничего удивительного. Наши невин-
нейшие “здравствуйте” и “прощайте” нс имели бы никако-
го смысла, если бы время не было пронизано единством жиз-
ненных событий» (55, 247, подчеркнуто нами. - С. Б.).
В пашем примере “единством жизненных событий” ох-
вачена природа и стихи, и основано такое единство нс на
причинно-следственных отношениях, но и не на случай-
ности в се классическом понимании (истолкование слу-
чайности у Пастернака лишь как формы причинно-следст-
венного детерминизма составляет как раз слабую сторону
концепции И.П. Смирнова, см. 304а, 231), а на нскласси-
ческом, принципиально вероятностном понимании жиз-
ни. Расшифровку своего понимания “единства жизненных
событий” Пастернак дал далее в той же “Охранной грамо-
те”: Я понял, “что таково все вековечное. Что оно жизнен-
но не тогда, когда оно обязательно (причинно обусловле-
но. - С.Б.), а когда оно восприимчиво ко всем уподоблени-
ям, которыми на пего озираются исходящие века” (55, 252).
Совершенно очевидно, что для поэта “единство жизненных
событий” есть выражение нс логических, а бытийно-веро-
ятностных отношений - уподобления, оглядки, восприимчи-
вости, диалогического окликания, “перекрестных действий
219
бытового гипноза” (55, 247). Такое единство не отрицает,
а предполагает полную самостоятельность самих событий и
возможность их несинхронного движения. Так в “Охранной
грамоте” - “временами любовь обгоняла солнце” (55, 230).
В интересующем нас стихотворении тоже наступает мо-
мент, когда синхронность жизненных событий (но не их
единство) нарушается: стихи и буран, сначала совпадавшие
во времени, задают, однако, разное его течение. И когда со-
бытия совпадают вторично, когда “я” вспоминает о солнце
и день действительно разгуливается, то это уже совсем не
тот день: за то время, пока “я с Байроном курил, Пока я пил
с Эдгаром По”, замело “концы и начала”, прошли неизвест-
ные тысячелетия и свет стал “давно не тот”. В 30-е годы это
стихотворение рассматривалось как образец пастернаков-
ской отрешенности от времени. Сегодня, однако, ясно,
что здесь речь идет об эйнштейновской относительности
времени - о разной скорости его течения в разных систе-
мах. Показательно, что здесь Пастернак перекликается
(скорее всего - непроизвольно) с Блоком, сделавшим от-
носительность течения времени основой сюжета ряда сво-
их произведений (“Моей матери”, 218а, 221-222; “Ночной
фиалки”, “Соловьиного сада” и др.). Но в отличие от Бло-
ка Пастернак онтологизирует образы настолько, что сти-
хи не просто отражают у него свой предмет, но становят-
ся сами системой - точнее одной из систем - отсчета вре-
мени, притом не объектом, а субъектом относительности.
Для исторической поэтики важно, что осознавая “един-
ство жизненных событий” (и более раннее именование это-
го же феномена - “откровение объективности”, 190а, 252)
в большом времени, Пастернак видел оригинальность сво-
его и цветаевского решения вековечной задачи искусства
именно в превращении образа из объекта в субъект изображения.
Иначе говоря, внутренняя связь субъектного и образного
планов лирики, являющаяся предметом исследования
в нашей работе, у Пастернака приходит к самоосознанию
и переносится в метаповествовательный план.
Истоки превращения образа из объекта в субъект изо-
бражения Пастернак проницательно видел у Пушкина:
«Когда Пушкин сказал... “а знаете, моя Татьяна собирается
замуж”, то в его времена это было, вероятно, новым, све-
жим выражением этого чувства» (190а, 252). У Пушкина
в данном случае субъектом начинает становиться герой.
280
Etaea 4
В нынешнее же время, по Пастернаку, “парадоксальность
объективности” “перевернулась на другой бок”; “для выра-
жения того чувства, о котором я говорю, Пушкин должен
был бы сказать не о Татьяне, а о поэме: знаете, я считал
Онегина, как... когда-то Байрона. Я не представляю себе,
кто се написал. Как поэт он выше меня” (190а, 252), Итак,
по Пастернаку, теперь (в частности у пего и Цветаевой)
субъектом изображения становится не просто герой, но
и само произведение, сам макрообраз, “самоуправствующий
в жизненности, как его парадоксальная Татьяна, - но тут
нельзя останавливаться и надо прибавить: и ты вечно со
всем этим, там среди этого всего, в этом Пражском прито-
пе или на мосту, с которого бросаются матери с незаконно-
рожденными, и в их именно час. И этим именно ты больше
себя: что ты там в произведении, а не в авторстве. Потому
что этим твоим гощением в произведении эмпирика по-
ставлена на голову. Дни идут и не уходят и не сменяются”
(190а, 252). То же самое происходит в анализируемом на-
ми стихотворении. Как видно из его структуры и подчерк-
нуто заглавием - “Про эти стихи”, - интересующая нас
особенность образа дорастает в нем до самоосознания
и переносится с первичного, изображенного, на вторич-
ный, изображающий мстауровепь.
Тенденция к экспликации связи субъектной и образ-
ной структур и к выходу субъектно-образной целостности
на уровень метаизображения, столь ярко проявившаяся
у Пастернака, характерна и для других поэтов 10-х годов -
М. Цветаевой, В. Маяковского, В. Хлебникова. Относи-
тельно Цветаевой это отметил сам Пастернак в только
что приведенном отрывке. Он же писал о трагедии “Вла-
димир Маяковский”, в которой связь субъектной и образ-
ной структур была эксплицирована с эпатирующей опре-
деленностью: “Заглавье скрывало гениально простое от-
крытье, что поэт нс автор, но предмет лирики, от перво-
го лица обращающейся к миру. Заглавье было по именем
сочинителя, а фамилией содержания” (55, 264).
У Хлебникова интересующий нас феномен оказался
определеннее, чем у других поэтов, связан с неомифоло-
гической установкой его творчества, в частности с утвер-
ждаемой им эквивалентностью “я” и мира. Уже замечено,
что “в эстетической системе Хлебникова поэтическое вы-
ражение я всегда есть выражение не-я, выражение не-я все-
281
гда есть выражение я, потому что поэт всегда говорит об
Едином, но взятом с разных сторон или в разных его со-
стояниях” (189, 432). Действительно поэт понимает лич-
ность как неопределенный абсолют, как сам космос в его
личноименном аспекте, в том числе как “совокупность
многих личных жизней” (88, 320). Отсюда не только хлеб-
никовские гиперболы, в которых “я” предстает как космос
(“Я, волосатый реками... Смотрите! Дунай течет у меня по
плечам”), но и “ономатоморфный” пейзаж (188, 422) и по-
стоянные переходы “я” и “не-я”, выявляющие их относи-
тельность. Присмотримся специально к этой особенности
субъектно-образной структуры поэта на материале одного
из его стихотворений: “В этот день голубых медведей,
Пробежавших по тихим ресницам, Я провижу за синей во-
дой В чаше глаз приказанье проснуться. На серебряной
ложке протянутых глаз Мне протянуто море и на нем бу-
ревестник; И к шумящему морю, вижу, птичая Русь Меж
ресниц пролетит неизвестных. Но моряной любес опро-
кинут Чей-то парус в воде кругло-синей, Но за то в безна-
дежное канут Первый гром и путь дальше весенний”
(“В этот день голубых медведей”).
На первый план здесь как будто выдвинуты метафори-
ческие образы, прежде всего генитивные сравнения-мета-
форы - “день голубых медведей”, “чаша глаз”, “ложка
глаз”, “моряна любес”. Но совершенно очевидно, что это
не самый глубинный образный пласт стихотворения. За
метафорическим планом сквозит иной, главная особен-
ность которого - принципиальная субъектно-образная не-
определенность.
Действительно, возможность истолкования, например,
“голубых медведей” столь велика, что ни одно из них не мо-
жет быть признано преимущественным. Мы нс можем даже
отдать предпочтения метафорическому или прямому смыс-
лам слов. Все дело в том, что смысл образа у Хлебникова не
абсолютен, а относителен и зависит от его субъектной лока-
лизации, которая, в свою очередь вероятностна. Какой-то
ключ к этой субъектно-образной целостности может дать
лишь мифологическая семантика, которой пронизано все
стихотворение, начиная с образов пробуждения и кончая
финалом (“Первый гром и путь дальше весенний”).
Согласно мифологическим представлениям, первый гром
размыкает ирей (языческий рай) и отпирает небо (в том
282
Глава 4
числе небесные воды), а также пробуждает животных, под-
верженных зимней спячке (в нашем стихотворении - медве-
дей), но и птиц (см. “буревестник” и “птичая Русь”; 323, 89,
146). Связаны мифологической логикой и другие образы
стихотворения. Так “медведь” связан с водой: известно, что
упоминание медведя табуировано не только в лесу, но и на
воде (323, 98); показателен также обычай при первом громе
умываться с серебра и пить воду с громовой стрелки или
медвежьего когтя (323, 62-63). Еще определеннее связь
“медведя” с любовью: известна роль жениха-медведя в сва-
дебном обряде, восходящая к его отождествлению с Веле-
сом - женихом Матери-Земли (323, 86; см. и с. 100, 146).
В этом свете “медведь” с самого начала предстает не
только как метафора, но и как мифологическая параллель
“я”. Сначала казалось, что между ними связь только про-
странственная: “день голубых медведей” лишь “пробегает”
по ресницам “я”. Но далее проясняется, что речь идет
о пробуждении “я” (и природы), а это заставляет увидеть не
только пространственную сближенность, но и тождество
образов-субъектов. По существу на наших глазах происходит
смена субъектной позиции, ведущая к перемене смысла об-
раза: то, что сначала, при взгляде со стороны, было приро-
дой-медведем, то при внутреннем “провидении” предстает
как “я”. Точно так же и “я” и “не-я” принадлежат “глаза” (“ча-
ша глаз” и “на серебряной ложке протянутых глаз Мне про-
тянуто море”) и “ресницы” (в первый раз они “тихие”, вто-
рой раз - “неизвестные”). Наконец, сама любовь, связанная
с пробуждением природы, является внешне-внутренней сти-
хией: единственное место, где любовь прямо названа (“мо-
ряна любес”), заставляет понимать чувство и как природ-
ный ветер “небес” и как ветер любви - внутренний Эрос;
эти субъектно-образные ипостаси мы вынуждены держать
в сознании в цельно-раздельном виде - как некое “неопреде-
ленно протяженное многообразие”.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Описанная тенденция - экс-
пликация связи субъектной и образной структур, выход
субъектно-образной целостности на уровень метаизобра-
жения - по-своему завершает не только “малый” круг поэ-
зии конца XIX - начала XX века, но и “большой” круг рус-
ской лирики, начинающийся в эпоху рефлексивного тра-
диционализма (не случайна, конечно, ориентация многих
поэтов начала XX века как на лирику XVIII века, так и на
литургическую поэзию).
После субъектного и образного синкретизма русской
народной лирики, в лоне которой связь интересующих
нас структур была очевидной и непосредственной, насту-
пила длительная эпоха субъектно-образной рефлексии, на
протяжении которой лирика эволюционировала от бы-
тийно-субстанциальных к условно-поэтическим формам
образности и от слабой местоименной маркированности
субъекта речи к сложным формам субъектных отношений.
Ис менее важно, что теперь образные формы изнутри
“оличняются” и становятся но своей имманентной струк-
туре выразителями рефлексии - таковы тропы, само воз-
никновение которых было связано с “различением” и вы-
ходом из синкретической нсрасчлененности. Глубинное
содержание этой эпохи - постепенное освобождение субъ-
ектно-образной рефлексии, но не от самой традиции, а от
синкретизма с ней, от невольной обреченности на тради-
цию. В перспективе этого процесса, завершающегося
в иную эпоху поэтики, - превращение рефлексии в авто-
номное начало, которое может вступить с традицией в от-
ношения равноправных партнеров диалога.
Это происходит в русской классической лирике XIX ве-
ка, начинающей собой качественно новый - неканониче-
ский - этап в развитии поэзии. Впервые субъектно-образ-
ная ситуация русской классики предсказана еще в недрах
рефлексивного традиционализма - в “Разговоре с Лнакре-
284
Заключение
оном” Ломоносова. И два субъекта, и два образных языка
здесь уже самостоятельны и невместимы в пределы одно-
го сознания, но именно в своей совокупности они состав-
ляют единство нового типа. Древний параллелизм возвра-
тился в лирику, разделенный на разные голоса, и только
в совокупности этих голосов он является параллелизмом,
а внутри каждого из них образ не имеет субстанциального
характера, обретая, напротив, самые условные и рациона-
лизированные формы. Как и автор “Слова о полку Игоре-
ве”, бывший одним из зачинателей эпохи рефлексивного
традиционализма, Ломоносов - один из ее завершите-
лей - нуждается в традиционном “другом” (и именно пев-
це: Боян-Анакреон), не вместимом в сознание “я”, нагляд-
но демонстрируя как неразрывную связь с традицией, так
и рефлексию над ней.
В русской классической лирике XIX века “другой” ста-
новится уже не традиционно данным, а неканонически за-
данным “человеком в человеке”. В co-бытии с этим автори-
тетным “другим” автор теряет свою абсолютность, пере-
стает быть “единственным субъектом в мире объектов”
и обретает возможность стать “другим” для самого себя.
Кризис абсолютного, или монологического автора, как
мы уже отмечали, - результат глубокой демократизации
эстетического сознания. Для русских классиков - а вслед
за ними и для неклассических поэтов - идея равноправно-
го “другого” уже не просто прокламируемая (“тезисная”)
идея - она вошла в плоть и кровь их лирики, отложилась
в субъектно-образной структуре ее, стала содержательной
формой.
В соотнесении с демократизацией эстетического соз-
нания идет процесс расширения диапазона творческого
“я”. Монологический (“допушкинский”) автор, будучи
субъективно, для себя, только изображающим творцом
(“богом”), объективно, для слушателей-читателей, был
и изображенным “другим” (“имеющим умереть”, как ска-
зал М.М. Бахтин о “другом”). Но собственная изображен-
ность, “другость” (смертность) не входила в эстетическое
сознание такого автора. Иными словами, он знал, что пи-
шет стихи, но не знал, что и сами эти стихи “пишут” его,
285
если воспользоваться известным образом Тициана Табид-
зе. Но и не зная о собственной “другости”, монологиче-
ский автор не мог уйти от нее как от объективного факта.
Это рождало тот тип отношений, который М.М. Бахтин
справедливо назвал “одержанием”, но несправедливо счел
непременной особенностью лирического творчества.
Пушкинский диалогический автор уже не “одержим” дру-
гим, а неразделен и неслиян с ним. Пушкин знает о собст-
венной изображенности, “другости” (смертности) и, как
это ему свойственно, принимает ее так, чтобы ее преодо-
леть: она входит в его эстетическое сознание и находит
выраженные формы в его стиле. Послепушкинская поэзия
в ее высших образцах вбирает в себя это открытие: автор
все более превращается из объекта в субъект изображения
и творчески сознательно становится и изображающим,
и изображенным. Для Пастернака автор уже больше само-
го себя потому, что он “там в произведении, а не в автор-
стве” (190а, 252).
Такая постановка автора эксплицирует исходную
(и особенно значимую именно для лирики) связь субъект-
ной и образной структур: произведение теперь не может
восприниматься как некая данность (по аналогии с веще-
ственно-природными явлениями), а должна быть понята
как персонологическая и межсубъектная заданность. “Об-
раз” оказывается инобытием субъектных отношений. Пе-
ред нами неканоническая поэтика в своем развитии от
классики XIX века к неклассической поэзии начала XX ве-
ка. В заключение подчеркнем две особенности этой поэ-
тики, важные для понимания се исторического смысла.
Прежде всего в интересующую нас художественную
эпоху субъектно-образная целостность перестала быть
предрешенно данной, а стала неканонически заданной:
реализация этой заданности каждый раз определяется
конкретной и заранее непредсказуемой индивидуально-ли-
рической ситуацией (именно таков, как мы помним, пер-
вообраз классики). Прекрасную формулировку7 такой нека-
нонической установки дал Пушкин: “Никакого предрассуд-
ка любимой мысли. Свобода” (60, V, 367). Ю.М. Лотман,
характеризуя своеобразие неканонической поэтики (в при-
286
Заключение
нятых им терминах - “эстетики противопоставления”)»
сравнил ее с игрой, правила которой устанавливаются
в процессе игры (237, 354). Такая степень свободы и от-
крытости-непредрешенности соответствует, как мы могли
убедиться, самой природе классической художественной
ситуации с ее эксплицированным конечно-размерным на-
чалом и имплицитной бесконечностью.
Для осознания целостности русской поэзии XIX - на-
чала XX века необходимо учесть, что эта же установка на
становящееся (а не готовое) и настоящее-будущее (а не
прошлое) наследуется и неклассической лирикой, только
в ней данная особенность более заметна, ибо имплицит-
ная бесконечность классики здесь актуализирована. Блок,
например, уже откровенно видит не только незавершен-
ное настоящее, но и как будто бы уже ставшее прошлое -
в заданной перспективе актуальной бесконечности:
“Итальянская старина ясно показывает, что искусство еще
страшно молодо, что не сделано еще почти ничего, а со-
вершенного - вовсе ничего: так что искусство всякое (и
великая литература в том числе) еще все впереди” (16,
VIII, 283). Об этом же говорит и Мандельштам: “Вчераш-
ний день еще не родился. Его еще не было по-настояще-
му... Итак, ни одного поэта еще не было. Мы свободны от
груза воспоминаний. Зато сколько радостных предчувст-
вий: Пушкин, Овидий, Гомер” (249, 41). Замечательно, что
здесь, как и в проанализированных нами стихотворениях
Мандельштама, движение имен - “возвратное”, от настоя-
щего ко все более далекому прошлому, и тем не менее это
возвратное движение ориентировано на будущее.
Эта неканоническая заданность субъектно-образной
структуры новой лирики реализуется в глубинных рече-
вых структурах. Мы помним, что в допушкинской поэзии
образный язык был некоей данностью: слово в нем имело
заранее данную и предрешенную стилевую окраску и ус-
ловную (тропеическую по преимуществу) модальность.
Появление простого слова сняло абсолютизацию этих
особенностей языка и создало возможность поэтического
двуязычия, дораставшего в ряде случаев до лирического
диалога. Для нашего исследования важно, что возникшее
287
в лирике Пушкина и развивавшееся на протяжении века,
простое слово именно в 10-е годы завершило период сво-
ей экспансии. Теперь оно “из исключения становится пра-
вилом - тем самым в сущности отменяется прозаизм в ка-
честве принципиального стилистического факта” (165,
159). Но все дело в том, что, отменившись в качестве про-
заизма, простое слово перестроило всю систему языка ли-
рики - прежде всего окончательно отменило специаль-
ный поэтический язык как некую данность и заставило
осознать его как заданность особого типа - как сам язык
в его поэтической модальности.
Эта поэтическая модальность есть по существу утвер-
ждение специфической художественной реальности, каче-
ственно отличной от внехудожественной: принципиально
вероятностной и держащейся на относительности и до-
полнительности бытийного и компаративного планов. Та-
кая модальность означает нераздельность и неслиянность
субстанциального и условно-поэтического начал, и для то-
го, чтобы она родилась, каждое из этих начал должно бы-
ло пройти весь цикл своего развития - от монологической
абсолютизации до диалогической относительности и го-
товности вступить с другим началом в отношения допол-
нительности.
Подготовлявшаяся уже в классической лирике, поэти-
ческая модальность именно в неклассичсской лирике об-
ретает свои законченные формы, свидетельствующие о за-
вершении процесса автономизации художественной ре-
альности от внехудожественной (само собой разумеется,
что автономия не означает отсутствия связи искусства
с другими формами идеологии и вообще с “жизнью”. Речь
идет только о том, что отныне искусство уже не служанка
других форм идеологии, а самостоятельная идеологиче-
ская форма, не объект, а субъект общественного сознания
и практики).
Видимо исторический смысл неканонической поэти-
ки, становление которой мы пытались проследить на ма-
териале русской лирики XIX - начала XX века, помимо
прочего состоит и в утверждении искусства как начала,
“автономно причастного” (М.М. Бахтин) целому жизни,
288
Заключение
как субъекта ее. В конечном счете все описанные особен-
ности поэтики новой лирики так или иначе связаны с экс-
пликацией в ней субъектного начала, позволившего уви-
деть сам художественный образ как межсубъектную цело-
стность.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Мы нс оговариваем специально, что во времена Платона (и Ари-
стотеля) еще не было термина “лирика” и философы пользова-
лись для обозначения третьего рода терминами “мелнческая по-
эзия” или “дифирамб” (см., например, 318).
- Возникает градация родов по данному признаку: обязательное пре-
вращение “я” в “другого” - драма, возможное превращение - эпос,
невозможность превращения “я” в “другого” - лирика.
По этому поводу М.М. Бахтин заметил: “Гегелиански понятый еди-
ный диалектически становящийся дух ничего, кроме философ-
ского монолога, породить не может. Менее всего на почве мони-
стического идеализма может расцвести множественность несли-
янных сознаний” (122, 41).
** Как явствует из других работ А.А. Потебни, под символом-прило-
жением он понимал архаические конструкции типа “конь со-
кол” - сочетание двух существительных, отражающее тот этап
развития языкового сознания, когда существительное было более
атрибутивным, чем нынешнее, и разница между существитель-
ным и прилагательным была меньше, чем теперь (279, 218).
3 Как отмечал в свое время М.М. Бахтин, некоторая аморфность
шаблонов прямой и косвенной речи осталась характерной осо-
бенностью русского языка: “В истории нашего языка не было кар-
тезианского рационалистического периода, когда разумно-само-
уверенный и объективный “авторский контекст” анализировал
и расчленял предметный состав чужой речи... Эти особенности
русского языка создают чрезвычайно благоприятную обстановку
для живописной? стиля передачи чужой речи, правда, несколько
дряблого и расплывчатого, без ощущения преодолеваемых гра-
ниц и сопротивлений (как в других языках). Господствует чрезвы-
чайная легкость взаимодействия и взаимопроникновения автор-
ской и чужой речи” (157, 124-125).
6 Дословный перевод и стилистический комментарии к приведен-
ным аварским песням сделан А.М, Черчневым, которому я выра-
жаю свою благодарность. Вторая песня не опубликована, записа-
на в I960 году в селении Могох Кахибского района ДАССР от Ма-
гомедова Гасана (1890 года рождения) фольклорной экспедици-
ей, организованной нами.
7 Об этом периоде как особой эпохе поэтики, теснейшим образом
связанной с риторической культурой, которая вплоть до
XVII-XVIII веков “чеканила не только литературную продукцию,
но и изобразительное искусство и музыку” (352, 87), см. в капи-
тальном исследовании Э.Р. Курциуса (352), а также в работах
С.С. Аверинцева (102; 103 и др.), А.В. Михайлова (314а), M.IO. Луч-
никова (336а).
® Нужно заметить, однако, что аналогия с христианскими предста-
влениями явно хромает, ибо в мифологии отсутствие сравнения
объясняется не “несравнимостью”, а просто отсутствием того ис-
ходного различения явлений, которое только и может стать ос-
новой сравнения.
9 Как показал Ю.М. Лотман, при парадигматическом типе внутрен-
ней организации текста “вся картина мира представляется как
некоторая вневременная парадигма, элементы которой распола-
290
Примечания
гаются на разных уровнях, представляя собой различные вариан-
ты некоторого единого инвариантного значения”. При синтагма-
тическом же типе организации “картина мира представляет со-
бой последовательность располагающихся на одном уровне,
в единой временной плоскости разных элементов, получающих
значение во взаимном отношении друг к друг}” (236, 103-104).
В свете исторической поэтики параллелизм есть не что иное, как
первичная и элементарная модель парадигматических отноше-
ний, а троп - синтагматических.
1° О внутренней смысловой связи сравнительных частиц с выражени-
ем логических, в том числе причинных отношений см. у О.М. Фрей-
денберг (330, 214).
И См. синодальный перевод: “Ибо пред очами Твоими тысяча лет,
как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи. Ты
как наводнением уносишь их; они как сон, как трава, которая ут-
ром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и
засыхает, ибо мы исчезаем от гнева Твоего, и от ярости Твоей мы
в смятении”.
12 Мы не касаемся специально вопроса о творческом методе Держа-
вина и его отношениях с реализмом (на этот счет существуют раз-
ные мнения, см., например, 181; 299), но, исходя из выбранного
аспекта исследования, склонны думать, что поэт скорее заверша-
ет “ломоносовский” период русской литературы и стоит в пред-
дверии русской классической лирики.
1 *1 Понятие “поэтическая модальность” было предложено Д.Е. Мак-
симовым (244, 167-169), а затем использовано и развито в линг-
вистической поэтике (242, 503; 258; 258а).
I4 Уже Г.А. Гуковский связывал конкретность Пушкина с его реализ-
мом. Это же делает в специальной работе о становлении реализ-
ма в русской лирике В.Д. Сквозников (299, 302).
15 Подробнее об этом см. в нашей работе (145а, 158-159); см. 120; 332.
16 Помимо указанных ниже реминисценций в тексте Пушкина, вероят-
но, содержатся отсылки к еще двум произведениям: к “Фауст}'” Гете
(97, 197) и к “Кибитке” из “Зимних карикатур” II. А. Вяземского.
17 Ср. в Евангелии от Иоанна: “В мире был, и мир через Него начал
быть, и мир Его не познал; пришел к своим, и свои Его не приня-
ли” (1, 10-11) и “Пе встретит ответа Средь шума мирского Из пла-
мя и света Рожденное слово”.
1® Ср. в Евангелии от Иоанна: “А тем, которые приняли Его... дал
власть быть чадами Божиими” (1, 12) и “Услышав, его я Узнаю по-
всюду... На звук тот отвечу И брошусь из битвы Ему я навстречу”.
19 О “бодлерианстве” К. Случевского говорил А.Б. Муратов, в спец-
курсе о русской поэзии конца XIX века, читанном в 1887 году.
2° Теоретическое осознание этой автономности искусства идет па-
раллельно литературном}' процессу. Уже в 20-е годы было сформу-
лировано: “Литература входит в окружающую идеологическую
действительность как самостоятельная часть ее, занимая в ней
особое место в виде определенно организованных словесных
произведений со специфической, им лишь свойственной структу-
рой. Эта структура, как и всякая идеологическая структура, пре-
ломляет становящееся бытие и преломляет его по-своему”. И да-
291
лее: “Литература в своем содержании отражает и преломляет от-
ражения и преломления других идеологических сфер (этики, по-
знания, политических учений, религии и пр.), то есть литература
отражает в “своем содержании” тот идеологический кругозор
в целом, частью которого она сама является” (253а, 27-28).
См.: А. Белый. Философия культуры // Философия и социология
науки и техники. М.: Наука. 1987. С. 226-248. См. особ. с. 244-245.
22 Об иронии у Анненского и стихотворении “Кулачишка” см. 212а.
23 О субъектах сознания у Блока см. и в нашей работе, 144.
24 Употребляемый нами термин “метаморфоза” близок по смыслу
к блоковской (приведенной ниже) его трактовке и принципиаль-
но отличен от якобсоновского его понимания как “реализации
словесного построения” (347, 18).
2^ См. анализ стихотворения “Веницейская жизнь” в 290. О возврат-
ном движении на материале “Грифельной оды” см. 291; см. также
о переходе от косвенного к прямому' представлению “я”, 292, 168.
ЛИТЕРАТУРА
I. Источники
1. Акафист Пресвятей владычице нашей Богородице, всех скорбящих радости.
10-е изд. СПб., б.г.
2. Анненский И.Ф. Стихотворения и трагедии. 2-е изд. Л., 1959. Библи-
отека поэта. Большая серия.
3. (Апухтин А.Н.) Сочинения Ал.Н. Апухтина. 4-е изд., посмертное до-
поли. СПб., 1900.
4. Ахматова А. Вечер. СПб., 1912.
5. Ахматова А. Четки. СПб., 1914.
6. Ахматова А. Белая стая. 2-е изд. СПб., 1918.
7. Ахматова А. Стихотворения и поэмы. 2-е изд. Л., 1976. Библиотека
поэта. Большая серия.
8. Бальмонт К.Д. Литургия красоты // Поли. собр. стихов: В Ют. 2-е изд.
М., 1911. Т. 5.
9. Бальмонт К.Д. Семь поэм. М., 1920.
10. Бальмонт К.Д. Стихотворения. 2-е изд. Л., 1969. Библиотека поэта.
Большая серия.
11. Баратынский Е.А. Полн. собр. стихотв. 2-е изд. Л., 1957. Библиотека
поэта. Большая серия.
12. Батюшков К.Н. Сочинения. М., 1955.
13. Белый А. Пепел. СПб., 1909.
14. Белый А. Звезда. Пг., 1922.
15. Белый А. Стихотворения и поэмы. М.; Л., 1966. Библиотека поэта.
Большая серия.
16. Блок А.А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1960-1963.
17. Блок А.А. Записные книжки. М., 1965.
18. Брюсов В.Я. Собр. соч.: В 7 т. М., 1973-1975.
19. Гимны на ратные темы эпохи Куликовской битвы // Труды отдела
древнерусской литературы. Т. 38. Л., 1983.
20. Глинка Ф.Н. Избранные произведения. 2-е изд. Л., 1957. Библиотека
поэта. Большая серия.
21. Григорьев А.А. Избранные произведения. 2-е изд. Л., 1959. Библиоте-
ка поэта. Большая серия.
22. Гумилев Н.С. Фарфоровый павильон. Пг., 1918.
24. Дельвиг А.А. Полн. собр. стихотв. 2-е изд. Л., 1959. Библиотека
поэта. Большая серия.
25. Державин Г.Р. Стихотворения. 2-е изд. Л., 1957. Библиотека поэта.
Большая серия.
26. Добролюбов A. Natura naturans. Natura naturata. СПб., 1895.
27. Добролюбов А. Собр. стихов. М., 1900.
27а. Добролюбов А. Из книги невидимой. М., 1905.
28. Есенин С.А. Собр. соч.: В 3 т. М., 1983.
29. Жуковский В.А. Полн. собр. соч.: В 12 т. СПб., 1902.
293
30. Иванов Вяч. Cor ardens. Speculum speculorum. Золотые завесы.
М., 1911.
31. Канонник. М., 1636.
32. Карамзин Н.М. Поли. собр. стихотв. 2-е изд. М.; Л., 1966. Библиоте-
ка поэта. Большая серия.
33. (Катулл). Стихотворения Катулла в переводе и с объяснениями
А.А. Фета. 2-е изд. СПб., 1899.
34. Коневской Ив. Стихи и проза. М., 1904.
35. (Лермонтов М.Ю.) Стихотворения М. Лермонтова. СПб., 1840.
36. Лермонтов М.Ю. Поли. собр. соч.: В 4 т. М., 1953.
37. Лирика русской свадьбы / Изд. подгот. Н.П. Колпакова. Л., 1973.
38. Ломоносов М.В. Поли. собр. соч. М.; Л., 1959. Т. 8.
39. (Майков А.И.). Поли. собр. соч. А.Н. Майкова: В 4 т. 7-е изд. СПб.,
1901. Т. 1.
40. Мандельштам О. Камень. М.; Пг., 1923.
41. Мандельштам О. Tristia. Пг.; Берлин, 1922.
42. Мандельштам О. Вторая книга. Пг., 1923.
43. Мандельштам О. Стихотворения. М.; Л., 1928.
44. Мандельштам О. Стихотворения. Л., 1973. Библиотека поэта. Боль-
шая серия.
45. Маяковский В.В. Поли. собр. соч.: В 13 т. М. 1955-1961.
46. Мережковский Д.С. Символы (Песни и поэмы). СПб., 1892.
47. (Надсон СЛ.) Стихотворения С.Я. Надсона. 23-е изд. Пг., 1917.
48. Некрасов Н.А. Поли. собр. соч. и писем. М., 1948.
49. Образцы фольклора цыган-калдэрарей. М., 1981.
50. Павлова К.К. Поли. собр. стихотв. М.; Л., 1964. Библиотека поэта.
Большая серия.
51. (Пастернак Б.Л.) Первые опыты Б. Пастернака // Труды по знаковым
системам. IV. Ученые записки Тартуского ун-та. Вып. 236. Тарту, 1963.
52. (Пастернак Б.Л.) Из ранних прозаических опытов Б. Пастернака //
Памятники культуры. Новые открытия. М., 1977.
53. Пастернак Б. Поверх барьеров. М., 1917.
54. Пастернак Б.Л. Стихотворения и поэмы. 2-е изд. М.; Л., 1965. Библи-
отека поэта. Большая серия.
55. Пастернак Б.Л. Воздушные пути. Проза разных лет. М., 1983.
56. Повести о споре жизни и смерти. М.; Л., 1964.
57. Полоцкий Симеон. Избр. соч. М.; Л.. 1953.
58. Полонский Я.П. Стихотворения. 2-е изд. Л., 1954. Библиотека поэта.
Большая серия.
59. Псалтирь. М., ок. 1555.
60. Пушкин А.С. Поли. собр. соч.: В 8 т. М., 1854.
61. Поэзия крестьянских праздников / Подгот. текста И.И. Земцовско-
го, 2-е изд. Л., 1970. Библиотека поэта. Большая серия.
62. Поэты-радищевцы. Л., 1979. Библиотека поэта. Большая серия.
63. Ригведа. М., 1972.
64. Русская силлабическая поэзия XVII-XVIII вв. 2-е изд. Л., 1970. Биб-
лиотека поэта. Большая серия.
65. Синайская псалтирь. Глаголический памятник XI века / Подгот.
к печ. С. Северьянов. Отд. рус. яз. и словесности РАН. Пг., 1922.
66. Сказки и песни, рожденные в дороге / Сост. и пер. Е. Друц и А. 1ес-
лер. М., 1985.
294
Литература
66а. Скандинавская баллада. М., 1978.
67. Слово о полку Игореве // Орлов А.С. Слово о полку Игореве. М.;
Л., 1938.
68. Случевский К.К. Стихи и поэмы. М.; Л., 1962. Библиотека поэта. Боль-
шая серия.
69. Собрание народных песен Киреевского / Записи Языковых в Сим-
бирской и Оренбургской губерниях. Л., 1977. Т. I.
70. Собрание народных песен П.В. Киреевского / Записи П.И. Якушки-
на. Л., 1983. Т. I.
71. Собрание народных песен П.В. Киреевского / Записи П.И. Якушки-
на. Л., 1986. Т. 2.
72. Соловьев В.С. Стихотворения и шуточные пьесы. 2-е изд. Л., 1974.
Библиотека поэта. Большая серия.
73. Сологуб Ф. Стихи. Книга первая. СПб., 1896.
74. Сологуб Ф. Собрание стихов. Кн. Ill—IV. М., 1904.
75. Сологуб Ф. Пламенный круг. М., 1908.
76. СологубФ. Стихотворения. 2-е изд. Л., 1975. Библиотека поэта. Боль-
шая серия.
77. Солунский Евстафий. О пленении латинянами города Фесалоникн //
Памятники Византийской литературы IX-XIV вв. М., 1969.
78. Сумароков А.П. Стихотворения. М.; Л., 1935. Библиотека поэта. Боль-
шая серия.
79. Сумароков А.П. Избранные произведения. 2-е изд. Л., 1957. Библио-
тека поэта. Большая серия.
80. Толстой А.К. Собр. соч.: В 4 т. М., 1980.
81. Тредиаковский В.К. Стихотворения. Л., 1934. Библиотека поэта. Боль-
шая серия.
82. Тредиаковский В.К. Избр. произв. 2-е изд. М.; Л., 1963. Библиотека по-
эта. Большая серия.
83. Триодь постная. М., ок. 1556.
84. Тютчев Ф.И. Поли. собр. стихотв. 2-е изд. Л., 1957. Библиотека поэ-
та. Большая серия.
85. Фет А.А. Соч.: В 2 т. М., 1982.
86. Хемницер И.И. Поли. собр. стихотв. 2-е изд. М.; Л., 1963. Библиотека
поэта. Большая серия.
87. Хаебников В.В. Собр. произв.: В 5 т. Л., 1928-1933.
88. Хлебников В.В. Неизданные произведения. М., 1940.
89. Ходасевич В. Молодость. М., 1908.
90. Хомяков А.С. Стихотворения и драмы. 2-е изд. Л., 1969. Библиотека
поэта. Большая серия.
91. Цветаева М. Версты. М., 1921.
92. Цветаева М. Версты. Вып. I. М., 1922.
93. Цветаева М. Психея. Романтика. Берлин, 1923.
94. Цветаева М.И. Избр. произв. 2-е изд. М.; Л., 1965. Библиотека поэта.
Большая серия.
94а. Цветаева М. Избранная проза: В 2 т. Нью-Йорк, 1979.
95. Цветаева М. Мой Пушкин. М., 1967.
96. Чурилин Т. Весна после смерти. М., 1915.
97. Goethe I.W. Faust I/II. Urfaust. Berlin; Weimar, 1975.
295
II. Научная литература
98. Аверинцев С.С. Греческая литература и ближневосточная “словес-
ность” (противостояние и встреча двух творческих принципов) //
Типология и взаимосвязи литератур древнего мира. М., 1971.
99. Аверинцев С.С. Символ художественный // Краткая литературная эн-
циклопедия: В 9 т. М., 1971. Т. 6.
100. Аверинцев С.С. Порядок космоса и порядок истории в мировоззре-
нии раннего средневековья // Античность и Византия. М., 1975.
101. Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977.
102. Аверинцев С.С. Древнегреческая поэтика и мировая литература //
Поэтика древнегреческой литературы. М., 1981.
103. Аверинцев С.С. Между “изъяснением” и “прикровением”: ситуация об-
раза в поэзии Ефрема Сирина // Восточная поэтика. Специфика
художественного образа. М., 1983.
104. Аверинцев С.С. Древнееврейская литература // История всемирной
литературы: В 9 т. М., 1983. Т. 1.
105. Аверинцев С.С. Византийская литература // История всемирной ли-
тературы: В 9 т. М.» 1984. Т. 2.
106. Автономов Я. Символика растений в великорусских песнях // Журнал
министерства народного просвещения. 1902, ноябрь, декабрь.
107. Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. Вып. 2. 3-е изд. М.,
1908-1913.
107а. Айхенвальд Ю. Поэзия Блока // Слово и культура. Сборник крити-
ческих и философских статей. М., 1918.
108. Акимова Т.М. О поэтической природе народной лирической песни.
Саратов, 1966.
109. Алексеев И.С. Концепция дополнительности. Историко-методологи-
ческий анализ. М., 1978.
110. Алиева А.И., Астафьева Л.А., Гацак В.М., Кирдан В.П., Пухов М.В. Опыт
системно-аналитического исследования исторической поэтики на-
родных песен // Фольклор. Поэтическая система. М., 1977.
111. Альми И.Л. Сборник Е.А. Баратынского “Сумерки” как лирическое
единство // Вопросы литературы. Метод. Стиль. Поэтика. Вып. 8.
Владимир, 1973.
112. Альми И.Л. О внесубъектных формах выражения авторского созна-
ния в лирике Баратынского и Тютчева // Вопросы литературы. Ху-
дожественный метод. Художественное своеобразие. Вып. 9. Влади-
мир, 1975.
113. Анандавардхана. Дхваньялока. М., 1974.
114. Андреевский С. Литературные очерки. 3-е изд. СПб., 1902.
115. Андроников И.Л. Лермонтов. Исследования и находки. 3-е изд. М.. 1969.
116. Аникин В.П. Генезис необрядовой лирики // Русский фольклор.
Вып. XII. Из истории русской народной поэзии. Л., 1971.
117. Анненский И.Ф. Книги отражений. М., 1979.
118. Аристотель. Поэтика // Соч.: В 4 т. М., 1984. Т. 4.
119. Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. М.,
1865-1869. Т. 1-3.
120. Ахматова А. Неизданные заметки о Пушкине // Вопросы литерату-
ры. 1970. № 1.
296
Литература
121. Баевский В.С. Поэтика психологического параллелизма // Сибир-
ский фольклор. Вып. 4. Новосибирск, 1977.
122. Бахтин М.М. Проблемы творчества Достоевского. Л., 1929.
123. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. 3-е изд. М., 1972.
124. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средне-
вековья и Ренессанса. М., 1965.
125. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.
126. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
127. Бахтин М.М. К философии поступка // Философия и социология
науки и техники. М., 1986.
128. Белецкий А.Н. Из наблюдений над стихотворными текстами Пушкина //
Л.П. Белецкий Избранные труды по теории литературы. М., 1964.
128а. Белый А. Философия культуры // Философия и социология науки
и техники. М., 1987.
129. Берковский Н.Я. Мировое значение русской литературы. Л., 1975.
130. Берковский Н.Я. Принципы лирики (к Лермонтову) // Лермонтов-
ский сборник. Л., 1985.
131. Биншток Л.М. К вопросу о мироотношении Тютчева // Вопросы
теории и истории литературы. Труды Самаркандского ун-та. Новая
серия. Вып. 254. Самарканд, 1974.
132. Биншток Л.М. Субъектные формы выражения авторского сознания
в лирике Ф.И. Тютчева // Проблема автора в художественной ли-
тературе. Вып. 1. Ижевск, 1974.
133. Бититок Л.М. О целостности лирической системы Ф.И. Тютчева //
Целостность художественного произведения и проблемы его анали-
за в школьном и вузовском изучении литературы. Донецк, 1977.
134. Биншток Л.М. Лирическая система Тютчева // Поэтика русского
реализма 2-й половины XIX века. Ижевск, 1978.
135. Благой Д.Д. Творческий путь Пушкина (1826-1830). М., 1963.
136. Блок А. и Белый А. Переписка. М., 1940.
136а. Блоковский сборник. Вып. 2. Тарту, 1972.
137. Бойко М. Лирика Некрасова. М„ 1977.
138. Большаков А.О. О диалогизме “Спора человека с Ба” // Культурное
наследие Востока. Л., 1985.
139. Бор II. Биология и атомная физика // Н.Н. Бор. Избр. науч, тр.:
В 2 т. М., 1971. Т. 2.
140. Бочаров С.Г. Поэтика Пушкина. М.. 1974.
141. Бочаров С.Г. “Обречен борьбе верховной” (лирический мир Баратын-
ского) // С.Г. Бочаров. О художественных мирах. М., 1985.
142. Брагинский В.И. Об одном виде звуковой организации малайских за-
клинаний // Классическая литература Востока. М., 1972.
143. Брагинская II.В. Комментарий. От составителя // О.М. Фрейден-
берг. Миф и литература древности. М., 1978.
144. Бройтман С.Н. Роман в стихах 910-х годов // Жанр романа в клас-
сической и современной литературе. Махачкала, 1983.
145. Бройтман С.Н. Проблема диалога в русской лирике первой полови-
ны XIX века. Махачкала. 1983.
145а. Бройтман С.Н. К проблеме диалога в реалистической лирике Пуш-
кина // Вопросы историзма и реализма в русской литературе
XIX- начала XX века. Л., 1985.
146. Бройтман С.Н. Об источниках формулы “нераздельность и неслиян-
ность” у Блока // А. Блок. Исследования и материалы. Л., 1987.
297
147. Веселовский А.Н. Историческая поэтика. Л., 1940.
148. Веселовский А.Н. Петрарка в поэтической исповеди “Canzoniere” //
А.Н. Веселовский. Избр. ст. Л., 1939.
149. Вертоградова В., Алиханова Ю. Предисловие // Индийская лирика
П-Х вв. М., 1978.
150. Вигелъ Ф.Ф. Записки. М., 1928. Т. 2.
151. Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. М.; Л.,
1947.
152. Виноградов В.В. Стиль Пушкина. М., 1940.
153. Виноградов В.В. О поэзии Анны Ахматовой // В.В. Виноградов.
Избр. тр. Поэтика русской литературы. М., 1976.
154. Власенко Т.Л. Типология сюжетов романтической баллады // Проб-
лемы типологии литературного процесса. Пермь, 1982.
155. Водарски й В.А. Символика великорусских народных песен // Рус-
ский филологический вестник. М., 1916. № 1-2. Т. LXXY.
156. Волошиной В.Н. {Бахтин М.М.}. Слово в жизни и слово в поэзии.
К вопросам социологической поэтики // Звезда. 1926. N° 6.
157. Волошинов В.Н. {Бахтин М.М.}. Марксизм и философия языка. Ос-
новные проблемы социологического метода в науке о языке.
2-е изд. Л., 1930.
158. Галич А. Опыт науки изящного // Русские эстетические трактаты
первой трети XIX века: В 2 т. М., 1974. Т. 2.
159. Гаспаров М.Л. Современный русский стих. М.. 1974.
160. Гегель. Эстетика: В 4 т. М., 1968-1973.
161. П>йне. Смерть Тассо // Литературные манифесты западноевропей-
ских романтиков. М., 1980.
162. Герштейн Э. Судьба Лермонтова. 2-е изд. М., 1986.
163. Гете П.В. Избранные философские произведения. М., 1964.
164. Гинзбург Л.Я. О лирике. М.: Л., 1964.
165. Гинзбург Л.Я. О прозаизмах в лирике Блока // Блоковский сборник.
Вып. 1. Тарту, 1964.
165а. Гинзубрг Л.Я. О старом и новом. Л., 1982.
166. Гиршман М., Громяк Р. Целостный анализ художественного произве-
дения. Донецк, 1970.
167. Гиршман М.М. Анализ поэтических произведений А.С. Пушкина.
М.Ю. Лермонтова. Ф.И. Тютчева. М., 1981.
168. Гиршман М.М. Диалектика жанра и стиля в художественной целост-
ности // Жанр и проблема диалога. Махачкала, 1982.
168а. Горнунг Б.В. Черты русской поэзии 910-х годов (к постановке вопро-
са о реакции против поэтического канона символистов) // Поэти-
ка и стилистика русской литературы. Л., 1971.
169. Гребнева Э.Я. К прочтению темных мест “Слова о полку Игореве” //
Исследования “Слова о полку Игореве”. Л., 1988.
170. Грехнев В.А. Болдинская лирика Пушкина (1830). 2-е изд. Горький,
1980.
171. Грехнев В.А. О жанровых связях и композиционных принципах ран-
ней элегии Баратынского // Вопросы сюжета и композиции. Горь-
кий, 1982.
172. Григорьев А.А. Воспоминания. Л., 1970.
173. Григорьев А.А. Материалы для биографии. Иг., 1917.
174. Григорьев А.А. Литературная критика. М., 1967.
298
Литература
175. Григорьева А.Д., Иванова И.Н. Язык поэзии XIX-XX веков. Фет. Сов-
ременная лирика. М., 1985.
176. Григорьев В.II. Паронимия // Языковые процессы современной ху-
дожественной литературы. Поэзия. М., 1977.
178. Григорьев В.П. Словотворчество и смежные проблемы языка поэта.
М., 1988.
179. Громов П.П. Аполлон Григорьев // Ап. Григорьев. Избр. произв. Л.,
1959. Библиотека поэта. Большая серия.
180. Громов П.П. А. Блок. Его предшественники и современники. М.; Л.,
1966.
181. Гуковский Гр. Очерки по истории русской литературы и обществен-
ной мысли XVIII века. Л., 1938.
182. Гуковский Г.А. О стиле Маяковского // Звезда. 1940. № 7.
183. Гуковский Г.А. Пушкин и русские романтики. М., 1965.
184. Гуковский Г.А. К вопросу о творческом методе Блока //А. Блок.
Новые материалы и исследования. Литературное наследство. М.,
1980. Т. 92. Ч. 1.
185. Гумилев И.С. Письма о русской поэзии. Пг., 1923.
186. Гура А.В., Терновская О.А. ТолсЧпая С.М. К характеристике ритуальных
форм речи у славян // Структура текста-81. Тезисы симпозиума.
Институт' славяноведения и балканистики. М.» 1981.
187. Лубянский А.М. Проблема жанра в древнетамильской любовной ли-
рике // Теория жанров литератур Востока. М., 1985.
188. Дуганов Р.В. Краткое “искусство поэзии” В. Хлебникова // Известия
АН СССР. Серия литературы и языка. 1974. Т. 33. № 5.
189. Дуганов Р.В. Проблема эпического в поэтике В. Хлебникова // Из-
вестия АН СССР. Серия литературы и языка. 1975. Т. 35. № 5.
190. Дуганов Р.В. Два метода поэтики В. Хлебникова // Тезисы межвузов-
ской теоретической конференции “Проблемы русской критики и
поэзии XX века”. Ереван, 1973.
190а. Дыхание лирики. Из переписки Р.М. Рильке, М. Цветаевой и Б. Па-
стернака // Дружба народов. 1987. № 6.
191. Елизаренкова Т.Я. Об Атхарваведе // Атхарваведа. М.. 1977.
192. Елкин В.Г. Опыты логико-диалектического анализа художественного
произведения. Ч. 1. Владимир, 1976.
193. Еремин И.П. “Слово о полку Игореве” как памятник политического
красноречия Киевской Руси // “Слово о полку Игореве”. Сборник
исследований. М.; Л.. 1950.
194. Еремина В.И. Специфика художественного образа в песнях земле-
дельческого календаря // Русский фольклор. XIV. Проблемы худо-
жественной формы. Л., 1974.
195. Еремина В.И. Поэтический строп русской народной лирики. Л., 1978.
196. Ермилова Е.В. Народно-поэтическое мышление в поэтическом сти-
ле // Теория литературных стилей. Типология стилевого развития
XIX века. М., 1977.
197а. Ермилова Е.В. Поэзия “теургов” и принцип “верности вещам” //
Литературно-эстетические концепции в России конца XIX - начала
XX века. М., 1975.
197. Ермилова Е.В. Лирика безвременья // В.В. Кожинов. Книга о рус-
ской лирической поэзии XIX века. М., 1978.
198. Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977.
299
199. Жуковский В.А. О поэзии древних и новых // Литературная крити-
ка 1800-1820 гг. М., 1980.
200. Жуковский В.А. Эстетика и критика. М., 1985.
201. Зильберман Д.Б. Откровение в адвайта-веданте как опыт семантиче-
ской деструкции языка // Вопросы философии. 1975. № 5.
202. Зунделович Я.О. Этюды о лирике Тютчева. Самарканд, 1971.
203. Иванов Вяч. Борозды и межи. Опыты эстетические и критические.
М., 1916.
201. Иванов Вяч. Вс. Из наблюдений над одой XVIII века // Лингвистика
и поэтика. М., 1979.
205. Илюшин Л.А. Проблема барочной поэтической антропонимии. Имя
поэта и его литературная репутация // Барокко в славянских куль-
турах. М., 1982.
206. Иоффе ИИ. Синтетическая история искусств. Введение в историю
художественного мышления. Л., 1933.
207. Историческая поэтика. Итоги и перспективы изучения. М., 1986.
207а. Историческая поэтика. Литературные эпохи и тины художествен-
ного сознания. М., 1994.
208. Волошинов В.И. (Бахтин М.М.) Фрейдизм. Критический очерк. М.; Л.,
1927.
209. Ките Д. Письмо к Вудхаусу // Литературные манифесты западноев-
ропейских романтиков. М., 1980.
210. Ключевский В О. Курс русской истории // Соч.: В 8 т. М., 1957. Т. 8.
211. Кожевникова И.А. Словоупотребление в русской поэзии начала
XX века. М., 1986.
212. Кожинов В.В. Книга о русской лирической поэзии XIX века. М., 1978.
212а. КолобаеваЛ.А. Ирония в лирике Ин. Анненского // Филологиче-
ские науки. 1977. К? 6.
213. Корман Б.О. Практикум по изучению художественного произведе-
ния. Ижевск, 1977.
214. Корман Б.О. Лирика Некрасова. 2-е изд. Ижевск, 1978.
215. Корман Б.О. Практикум по изучению художественного произведе-
ния. Лирическая система. Ижевск, 1978.
216. Корман Б.О. Авторское сознание в лирике K.II. Батюшкова (ценно-
стный уровень) и традиции русской поэзии XVIII века // Пробле-
ма автора в русской литературе. Ижевск, 1983.
217. Колпакова И.П. Русская народная бытовая песня. М.: Л., 1962.
218. Костелянц Б.О. Поэзия Аполлона Григорьева // Ап. Григорьев. Сти-
хотворения и поэмы. М.; Л., 1966. Библиотека поэта. Малая серия.
218а. Краснова Л. Поэтика Ал. Блока. Львов, 1973.
2186. Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. М., 1962-1978.
219. Кузьмина НА. “Пробиваясь могучим потоком" (творительный пре-
вращения в поэтической речи) // Русская речь. 1977. № 2.
220. Левин Ю.И. О некоторых чертах плана содержания в поэтических
текстах // Структурная типология языков. М., 1966.
221. Левин Ю.И. О некоторых чертах плана содержания в поэтических
текстах. Материалы к изучению поэтики О. Мандельштама //
International Journal of Slavic Linguistics and Poetics. 1969. № 12.
222. Левин Ю.И. О некоторых чертах плана выражения в поэтических
текстах (по поводу одного стихотворения Б. Пастернака) // Тези-
300
Литература
сы докладов во Второй летней школе по вторичным моделирую-
щим системам. Тарту, 1966.
223. Левин Ю.И. Лексико-семантический анализ одного стихотворения
О. Мандельштама // Слово в советской поэзии. М., 1975.
224. Левин Ю.И. О соотношении между семантикой поэтического текста
и внетекстовой реальностью (заметки о поэтике О. Мандельшта-
ма) // Russian Literature. 1975. № 10.
225. Левин Ю.И. “Мастерица виноватых взоров” О. Мандельштама //
Учебный материал по анализу поэтических текстов. Таллин, 1982.
226. Левин Ю.И. Заметки о “крымско-эллинских” стихах О. Мандельшта-
ма // Russian Literature. 1975. № 10-11.
227. Левин Ю.И., Сегал Д.М., Тименчик Р.Д., Топоров В.И., Цивьян ТВ. Рус-
ская семантическая поэтика как потенциальная культурная парадиг-
ма // Russian Literature. 1974. № 7-8.
228. Левинтон Г.А., Смирнов И.И. “На поле Куликовом” Блока и памятни-
ки куликовского цикла // Куликовская битва и подъем националь-
ного самосознания. Труды отдела древнерусской литературы. Вып.
XXXIV. Л., 1979.
229. Лернер И. Заметки о Пушкине // Русский библиофил. 1911. № 5.
230. Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1976.
231. Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф. М., 1982.
232. Ломинадзе С. “Не кончив молитвы" // Вопросы литературы. 1970. № 1.
233. Лотман Ю.М. Лирическая и историческая поэзия 50-70-х годов //
История русской поэзии: В 2 т. Л., 1969. Т. 2.
234. Лотман Ю.М. Поэзия Карамзина // Н.М. Карамзин. Поли. собр.
стихотв. М.; Л., 1966. Библиотека поэта. Большая серия.
235. Лотман Ю.М. Лекции по структурной поэтике (Введение. Теория
стиха). Вып. I. Тарту, 1964.
236. Лотман Ю.М. Семантика числа и тип культуры // III летняя школа
по вторичным моделирующим системам. Тезисы докладов. Тарту;
1968.
237. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М., 1970.
238. Лотман Ю.М. К структуре диалогического текста в поэмах Пушки-
на // Пушкин и сто современники. Ученые записки ЛГПИ им. Гер-
цена. Т. 434. Псков, 1970.
239. Лотман Ю.М. Стихотворения раннего Пастернака и некоторые воп-
росы структурного изучения текста // Труды по знаковым систе-
мам. IV. Ученые записки Тартуского гос. ун-та. Вып. 236. Тарту, 1969.
240. Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. Л., 1972.
241. Лотман Ю.М. О семиосфере // Труды по знаковым системам. XVII.
Ученые записки Тартуского гос. ун-та. Вып. 641. Тарту, 1984.
242. Максимов Л.Ю. О некоторых особенностях в развитии русской сти-
хотворной лирической речи XIX-XX вв. // Основные проблемы
эволюции языка. Материалы всесоюзной конференции по общему’
языкознанию. Ч. 2. Самарканд, 1966.
243. Максимов Д.Е. Поэзия Лермонтова. Л., 1959.
244. Максимов Д.Е. Поэзия и проза Ал. Блока. Л., 1981.
245. Макаемое Д.Е. Русские поэты начала века. Л., 1986.
246. Мамардашвили М.К., Соловьев Э.Ю., Швырев В.С. Классическая и сов-
ременная буржуазная философия (опыт эпистемологического сопо-
ставления). Статья первая // Вопросы философии. 1970. № 12.
301
247. Мамардашвили М.К., Соловьев Э.Ю., Швырев В.С. Классическая и сов-
ременная буржуазная философия (опыт эпистемологического сопо-
ставления). Статья вторая // Вопросы философии. 1971. № 4.
248. Мамардашвили М.К. Наука и ценности - бесконечное и конечное //
Вопросы философии. 1973. № 8.
249. Мандельштам О.Э. Слово и культура. М., 1987.
252. Маркевич Г. Основные проблемы науки о литературе. М., 1980.
253. Матхаузерова С. Две теории текста в русской литературе XVII в. //
Труды отдела древнерусской литературы. Вып. XXXI. Л., 1976.
253а. Медведев П.Н. (Бахтин М.М.) Формальный метод в литературоведе-
нии. Критическое введение в социологическую поэтику. Л., 1928.
254. Магомедова Д.М., Брайтман С.Н. Структура стихотворения Ап. Гри-
горьева “Глубокий мрак, но из него возник” // Внутренняя органи-
зация художественного произведения. Махачкала, 1987.
255. Минц З.Г. Блок и Пушкин // Труды по русской и славянской фило-
логии. XXI. Литературоведение. Ученые записки Тартуского гос. ун-
та. Вып. 306. Тарту; 1973.
256. Михайлов Ал. В. Эстетический мир Шефтсбери // Шсфтсбери. Эс-
тетические опыты. М., 1975.
257. Мелетинский Е.М. Средневековый роман. М., 1983.
258. Некрасова Е.А. Сравнение в стихотворных текстах // Е.А. Некрасо-
ва, М.А. Бакина. Языковые процессы в современной русской поэ-
зии. М., 1982.
258а. Некрасова Е.А. Функциональная роль сравнения в стихотворных иди-
осгилях различных типов // МА.. Бакина, ЕА. Некрасова. Эволюция
поэтической речи XIX-XX вв. Перифраза. Сравнение. М., 1986.
259. Непомнящий В.С. Поэзия и судьба. Статьи и заметки о Пушкине. М., 1983.
260. Николенко Н.Н., Деглин В.Л. Семиотика пространства и функциональ-
ная ассиметрия мозга // Труды по знаковым системам. XVII. Уче-
ные записки Тартуского гос. ун-та. Вып. 641. Тарту; 1984.
261. Николаева Т.М. “Слово о полку' Игореве”. Лингвотекстологический диа-
лог: русские - половцы // Труды по знаковым системам. XVII. 1984.
262. Никитина М.И. Сиджо и хянга. Проблема взаимодействия (на примере
пейзажной поэзии) // Теория жанров литератур Востока. М., 1985.
263. Новик Е.С. Обряд и фольклор в сибирском шаманизме. Опыт сопос-
тавления структур. М., 1984.
263а. Образное слово А. Блока. М., 1980.
264. Палиевский П.В. Внутренняя структура образа // Теория литерату-
ры. Основные проблемы в историческом освещении. М., 1962.
265. Палиевский П.В. Пушкин как классическая мера русского стилевого
развития // Теория литературных стилей. Типология стилевого
развития Нового времени. М., 1976.
266. Панов М.В. Стилистика // Русский язык и советское общество. Ал-
ма-Ата, 1962.
267. Панов М.В. Современный русский язык. Фонетика. М., 1979.
268. Панченко А.М., Успенский Б.А. Иван Грозный и Петр Великий: кон-
цепция первого монарха. Статья 1 // Труды отдела древнерусской
литературы. Вып. XXXVII. Л., 1983.
269. Панченко А.М. Русская стихотворная культура XVII века. Л., 1977.
270. Пастернак Б. Символизм и бессмертие // Russian Literature. 1975. N° 12.
270а. Пастернак Б.Л. К характеристике Блока // Блоковский сборник.
Вып. 2. Тарту; 1972.
302
Литература
271. Перелъмутер В. Из двух эпох // К.К. Случевский. Стихотворения. М., 1983.
272. Песков А.М., Турбин В.Н. Антитеза // Лермонтовская энциклопедия.
М., 1981.
273. Платон. Государство // Соч.: В 3 т. М., 1971. Т. 3. Ч. 1.
274. Плюханова М.В. О некоторых чертах личностного сознания в России
XVIII века // Художественный язык средневековья. М., 1972.
275. Поспелов Т.Н. Теория литературы. И., 1978.
276. Поспелов ГН. Лирика с реди других литературных родов. М., 1976.
277. Потебня А.А. О некоторых символах в славянской народной поэзии.
2-е изд. Харьков, 1911.
278. Потебня А.А. Мысль и язык. 2-е изд. Харьков, 1892.
279. Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. Об изменениях зна-
чения и заменах существительного. М., 1968. Т. 3.
280. Померанц ГС. Басе и Мандельштам // Теоретические проблемы изу-
чения литератур Дальнего Востока. М., 1970.
281. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1986.
281а. Пропп В.Я. Фольклор и действительность. М., 1976.
282. Прохоров ГМ. Гимны на ратные темы эпохи Куликовской битвы //
Труды отдела древнерусской литературы. Вып. XXXVII. Л.. 1983.
283. Пумпянский Л.В. Поэзия Тютчева // Урания. Тютчевский альманах.
Л., 1928.
284. Пумпянский Л.В. К истории русского классицизма (поэтика Ломоно-
сова) // Контекст, 1982. М., 1983.
285. Пумпянский Л.В. Ломоносов и немецкая школа разума // XVIII век.
Русская литература XVIII - начала XIX века в общественно-культур-
ном контексте. Л., 1983.
286. Ревзина О.Г. Некоторые особенности синтаксиса поэтического язы-
ка М. Цветаевой // Семантика устной речи. Ученые записки Тар-
туского гос. ун-та. Вып. 481. Тарту, 1979.
287. Робинсон А.Н. Солнечная символика в “Слове о полку Игореве” //
“Слово о полку Игореве’’ и памятники литературы и искусства
XI-XVII века. М., 1978.
288. Роднянская И. Муза А. Блока // Новый мир. 1980. № И.
289. Руднев П.А. Из истории метрического репертуара русских поэтов
XIX - начала XX века // Теория стиха. Л., 1968.
290. Сегал Д.М. Фрагмент семантической поэтики О. Мандельштама //
Russian Literature. 1968. N° 10-11.
291. Сегал Д.М. О некоторых чертах смысловой структуры “Грифельной
оды” О.Э. Мандельштама // Russian Literature. 1972. № 2.
292. Сегал Д.М. Наблюдения над семантической структурой поэтическо-
го произведения // International Journal of Slavic Linguistics and
Poetics. 1968. № 11.
293. Семантика номинации и семиотика устной речи // Ученые запис-
ки Тартуского гос. ун-та. Вып. 142. Тарту, 1978.
294. Семенко И. Поэты пушкинской поры. М.. 1970.
295. Сериков Н.П. К вопросу о “чужой речи” в произведении Евстафия Солуи-
ского “О захвате Солуни” // Византийский временник. М., 1982. Т. 43.
296. Серман Н.З. Русский классицизм. Поэзия. Драма. Сатира. Л., 1973.
297. Силъман Т. Заметки о лирике. Л., 1977.
303
298. Скатов Н.Н. Некрасов. Современники и продолжатели. М., 1986.
299. Сквозников В.Д. Реализм лирической поэзии. Становление реализма
в русской лирике. М., 1975.
300. Смолицкий В.Г. Вступление в “Слове о полку Игореве” // Труды от-
дела древнерусской литературы. XII. М.; Л., 1956.
301. Смирнов А.А. Литературная теория русского классицизма. М., 1981.
302. Смирнов А.А. Старофранцузский героический эпос и “Песнь о Ролан-
де” // Песнь о Роланде. Л., 1965.
303. Смирнов Н.П. Пастернак. “Метель” // Поэтический строй русской
лирики. Л., 1973.
304. Смирнов И.П. Художественный смысл и эволюция поэтических сис-
тем. М., 1977.
304а. Смирнов И.П. Причинно-следственные структуры поэтических про-
изведений // Исследования по поэтике и стилистике. Л., 1972.
305. Соколова Н.К. Слово в русской лирике начала XX века. Из опыта кон-
текстологического анализа. Воронеж, 1980.
306. Софронова Л.А. Принцип отражения в поэтике барокко // Барокко
в славянских культурах. М., 1982.
307. Степанов Н.Л. Лирика Пушкина. М., 1969.
308. Тамарченко Н.Д. К проблеме целого полифонического романа // Це-
лостность художественного произведения и проблемы его анализа
в школьном и вузовском изучении литературы. Донецк. 1977.
309. Тамарченко Н.Д. Целостность как проблема этики и формы в произ-
ведениях русской литературы XIX века. Кемерово, 1977.
310. Тамарченко Н.Д. Художественный диалог и проблема завершения реали-
стического романа // Жанр и проблема диалога. Махачкала, 1982.
311. Тамарченко Н.Д. Реалистический тип романа. Кемерово, 1985.
312. Тарановский К. Разбор одного “заумного” стихотворения Мандель-
штама // Russian Literature. 1972. № 4.
313. Творогов О.В. Литература периода феодальной раздробленности XII -
первой четверти XIII века // История русской литературы: В 4 т.
Л., 1980. Т. 1.
314. Теория литературы. Основные проблемы в историческом освеще-
нии. М., 1962, 1964, 1965.
315. Тимофеев Л. И. Наследие Блока //А. Блок. Новые материалы и ис-
следования. Литературное наследство. М., 1980. Т. 92. Ч. 1.
316. Тимофеев Л.И. Основы теории литературы. М., 1959.
317. Тименчик Р.Д. Принципы цитирования у Ахматовой в сопоставлении
с Блоком // Тезисы I Всесоюзной (III) - конференции “Творчест-
во А.А. Блока и русская культура XX века". Тарту, 1975.
318. Толстой И.И. Аэды. М., 1958.
319. Топоров В.Н. К происхождению некоторых поэтических символов.
Палеолитическая эпоха // Ранние формы искусства. М., 1972.
320. Тудоровская Е.Н. О внепесенных связях народной обрядовой песни //
Фольклор и этнография. Обряды и обрядовый фольклор. Л., 1974.
321. Тюпа В.Н. Художественность литературного произведения. Красно-
ярск, 1987.
322. Удодов Б.Т. К вопросу о лирическом герое Лермонтова // Вопросы
поэтики литературы и фольклора. Воронеж, 1974.
323. Успенский Б.А. Филологические разыскания в области славянских
древностей. М., 1982.
304
Литература
324. Фарыно Е. Некоторые вопросы теории поэтического языка (язык как
моделирующая система. Поэтический язык М. Цветаевой) // Семио-
тика и структура текста. Вроцлав, Варшава, Краков, Гданьск, 1973.
324а. Фарыно Е. “Я помню чудное мгновенье" Пушкина // Учебный ма-
териал по анализу поэтических текстов. Таллин, 1982.
325. Федина В.С. А.А. Фет (Шеншин). Материалы к характеристике. Пг.,
1915.
326. Федоров А. Поэтическое творчество К. Случевского // К.К. Случев-
ский. Стихотворения и поэмы. М.: Л., 1962. Библиотека поэта.
Большая серия.
327. Флсишман Л.К. К характеристике раннего Пастернака // Russian
Literature. 1975. № 12.
328. Фройденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. Л., 1936.
329. Фройденберг О.М. Происхождение греческой лирики // Вопросы ли-
тературы. 1973. № 11.
330. Фреиденберг О.М. Миф и литература древности. М., 1978.
331. Фрейдин Ю.Л. Анализ стихотворения М. Цветаевой “В огромном го-
роде моем - ночь" // International Journal of Slavic Linguistics and
Poetics. 1968. № 11.
332. Фризман Л.Г. О литературных источниках одного стихотворения
Пушкина // Известия АП СССР. Серия литературы и языка. 1975.
Т. 434. № 5.
333. Фризман Л.Г. Стихотворение М.Ю. Лермонтова “Есть речи - значе-
нье” // Филологические науки. 1971. № 4.
334. Хаев Е.С. Особенности стилевого диалога в “онегинском круге" про-
изведений Пушкина // Болдинские чтения. Горький, 1979.
335. Харджиев Н., Тренин В. Поэтическая культура Маяковского. М.. 1970.
336. Хечимский Е.А. Чередование глагольных шифтеров в селькупском
фольклорном повествовании // Структура текста-81. Тезисы сим-
позиума. Институт славяноведения и балканистики. М., 1981.
336а. Целостность художественного произведения как предмет истори-
ческой поэтики. Кемерово, 1986.
337. Черниговская Т.Н., Деглин В.Л. Проблема внутреннего диалогизма
(нейрофизиологическое исследование языковой компетенции) //
Труды по знаковым системам. XVII. Структура диалога как принцип
работы семиотического механизма. Ученые записки Тартуского гос.
ун-та. Вып. 641. Тарту, 1984.
337а. Чуковский К. Книга об .Ап. Блоке. Пг., 1922.
338. Чумаков Ю.Н. Ремарка и сюжет (к истолкованию “Моцарта и Салье-
ри” // Болдинские чтения. Горький, 1979.
339. Шахматов А.А. Синтаксис русского языка. Л., 1941.
340. Шеллинг Ф.В. Философия искусства. М.. 1966.
341. Шенгели Г. Техника стиха. М., 1960.
342. Шичалин Ю.А. Пушкинские реминисценции в стихотворении А. Бло-
ка “О доблестях, о подвигах, о славе” // Жанр и проблема диало-
га. Махачкала, 1982.
343. Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика: В 2 т. М., 1983.
344. Энгельгардт В.М. Александр Николаевич Веселовский. Пг., 1924.
345. Эренбург И.Г. Портреты современных поэтов. хМ., 1923.
346. Якобсон Р. Поэзия грамматики и грамматика поэзии // Семиотика.
М., 1983.
305
347. Якобсон Р. Новейшая русская поэзия. Набросок первый. Прага, 1921.
349. Asmuth В. Aspekte der Lyrik // Grundstudium Literaturwissenschaft
Hochschuldidaktische Arbeitsmaterialen: Heransgegeben von Heing
Geiger u s.w. Bd. 6, 1976.
350. Benn G. Probleme der Lyrik. 3 Anflage. Wiesbaden, 1954.
351. Bazzarelli E. Aleksandr Blok. L’ Armonia e il caos nel suo inondo poeti-
co. Milano, 1968.
352. Curtins E. Europaische Literatur und Lateinisches Mittelalter. Zehnte
Anflage. Bern: Munchen, 1954.
353. Gniig H. Entstehung nnd Krisc lyrischer Subjektivitat vom klassischen
lyrischen Ich zur inodernen Erfahrungswirklichkeit. Stuttgart, 1983.
354. Johnson W.R. The idea of lyric: Lyric modes in ancient and modern poet-
ry. Berkley, 1982.
355. Kleiner J. Studia z zakresu Teorii Literatnry. Lublin, 1956.
356. Kommcrel M. Gedanken uber Gedichte. Zweite Anflage. Frankfurt am
Main, 1956.
357. Pongs H. Das Bild in der Dichtung. Zweite verbesserte Anflage, I Band.
Marburg, 1960.
358. Sorg B. Das lyrische Ich. Untersuchungen zu dentschen Gedichten von
Griphius bis Benn. Stndien zur Dentschen Literatur, Bd. 80, Tiipingen,
1984.
359. Steiger E. Grundbegriffe der Poetik. Achte zViflage Zurich: Freiburg,
1968.
360. Spinner K.H. Zur Stmktur des lyrisches Ich. Stndien zur Germanistik.
Frahkfurt am Main, 1975, 5.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение
Лирический образ как отношение субъектов
(история вопроса)
7
Глава 1
Субъектный и образный синкретизм
в русской народной лирике
31
Глава 2
Традиция и рефлексия в субъектно-образной
структуре русской поэзии XI-XVIII веков
55
Глава 3
Субъектно-образная структура
русской классической лирики XIX века
1. Основные тенденции
развития субъектных отношений
85
2. Становление субъектно-образной
целостности русской классической лирики
87
3. Субъектно-образная
целостность лирики Пушкина.
Зарождение диалога в русской лирике
105
4. “На звук тот отвечу”.
Субъектно-образная ситуация
в лирике Лермонтова
134
5. Зритель и действующее лицо в драме существования.
Диалог и принцип дополнительности
в лирике Тютчева
151
6. Эволюция субъектно-образной структуры
русской лирики во второй половине XIX века
171
7. “Я” - “другой” и совмещение несовместимого
в образной структуре Некрасова
175
8. Субъектная неопределенность
и пантеистический образ Фета
180
9. Параллелизм космогонических
стихий и стихий души. Ап. Григорьев
186
10. Границы “я” и художественного образа
в позднеклассической лирике (Апухтин и Случевский)
197
Глава 4
Поэтика русской неклассической лирики
конца XIX - начала XX века
(субъектно-образная структура)
1. Смена первообраза в русской лирике
211
2. Субъектная ситуация
в русской неклассической лирике. Символизм
216
3. Образная структура русской неклассической лирики.
Символизм
239
4. Первообраз в постсимволистской лирике
256
5. Субъектно-образная
целостность постсимволистской лирики
266
Заключение
283
Примечания
289
Литература
292
Приложения: таблицы 1-3
306
С.Н. БРОЙТМАН
РУССКАЯ ЛИРИКА
XIX - НАЧАЛА XX ВЕКА
В СВЕТЕ
ИСТОРИЧЕСКОЙ
ПОЭТИКИ
СУБЪЕКТНО-ОБРАЗНАЯ СТРУКТУРА
РЕДАКТОР
Л. И. ДОРОГОВА
ХУДОЖНИК
Е.О. МАЦИЕВСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕН! 1ЫЙ
РЕДАКТОР
В.В. СУРКОВ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
РЕДАКТОР
Г.И. КАРЕНИНА
КОРРЕКТОРЫ
Ф.И. ГРУШКОВСКАЯ,
Н.В. МОСКВИНА
КОМПЬЮТЕРНАЯ
ВЕРСТКА И ГРАФИКА
СЮ. ЛАПИНА
ЛР № 020219 от 25.09.96.
Подписано в печать 12.03.97.
Формат 84x108^/32
Гарнитура Ньюбаскервиль.
Усл. печ. л. 16,2 + 0,84 вкл.
Уч-изд. л. 18,5.
Тираж 1 000 экз.
Заказ № 166
Издательский центр
Российского государственного
гуманитарного университета
125267 Москва, Миусская пл., 6