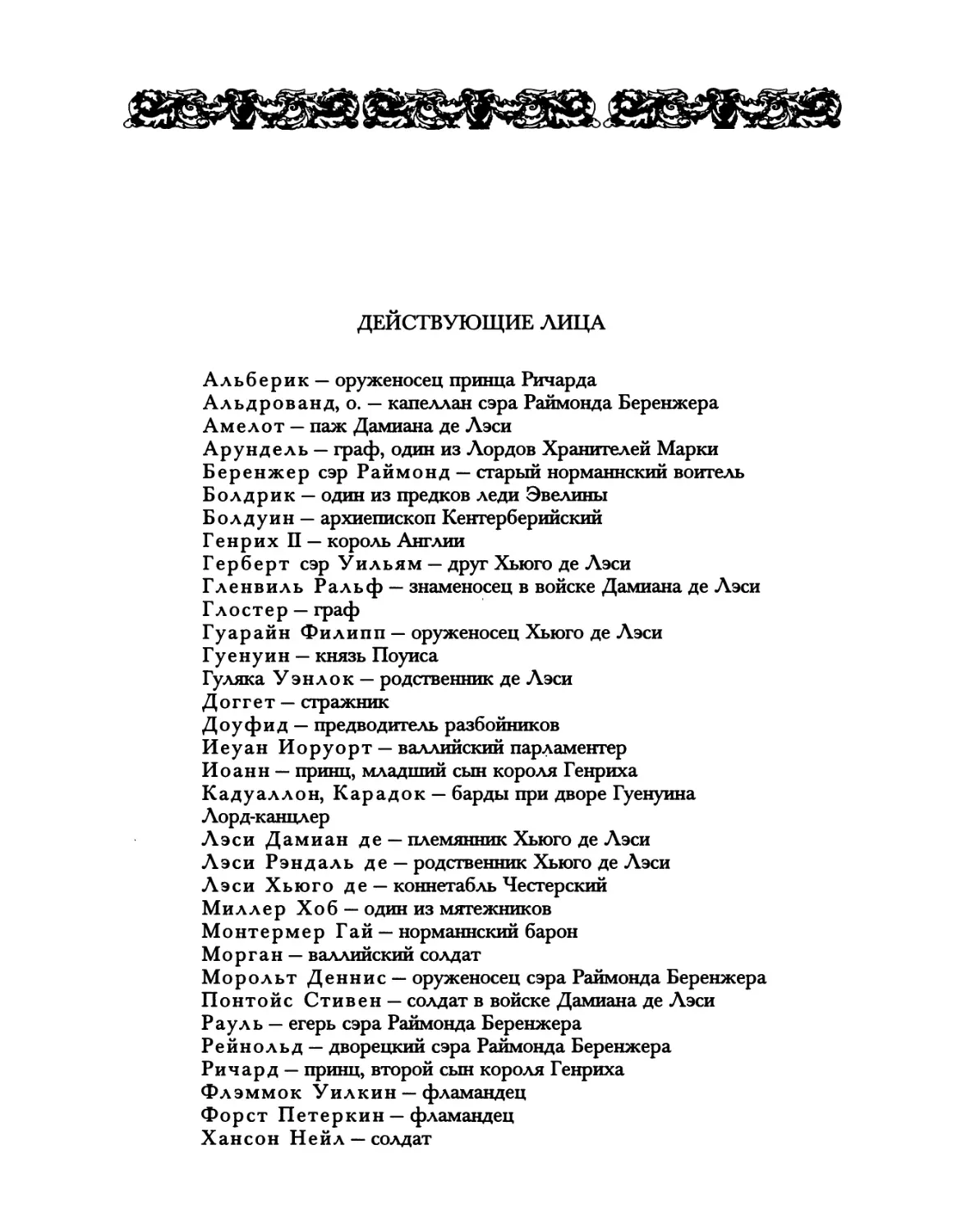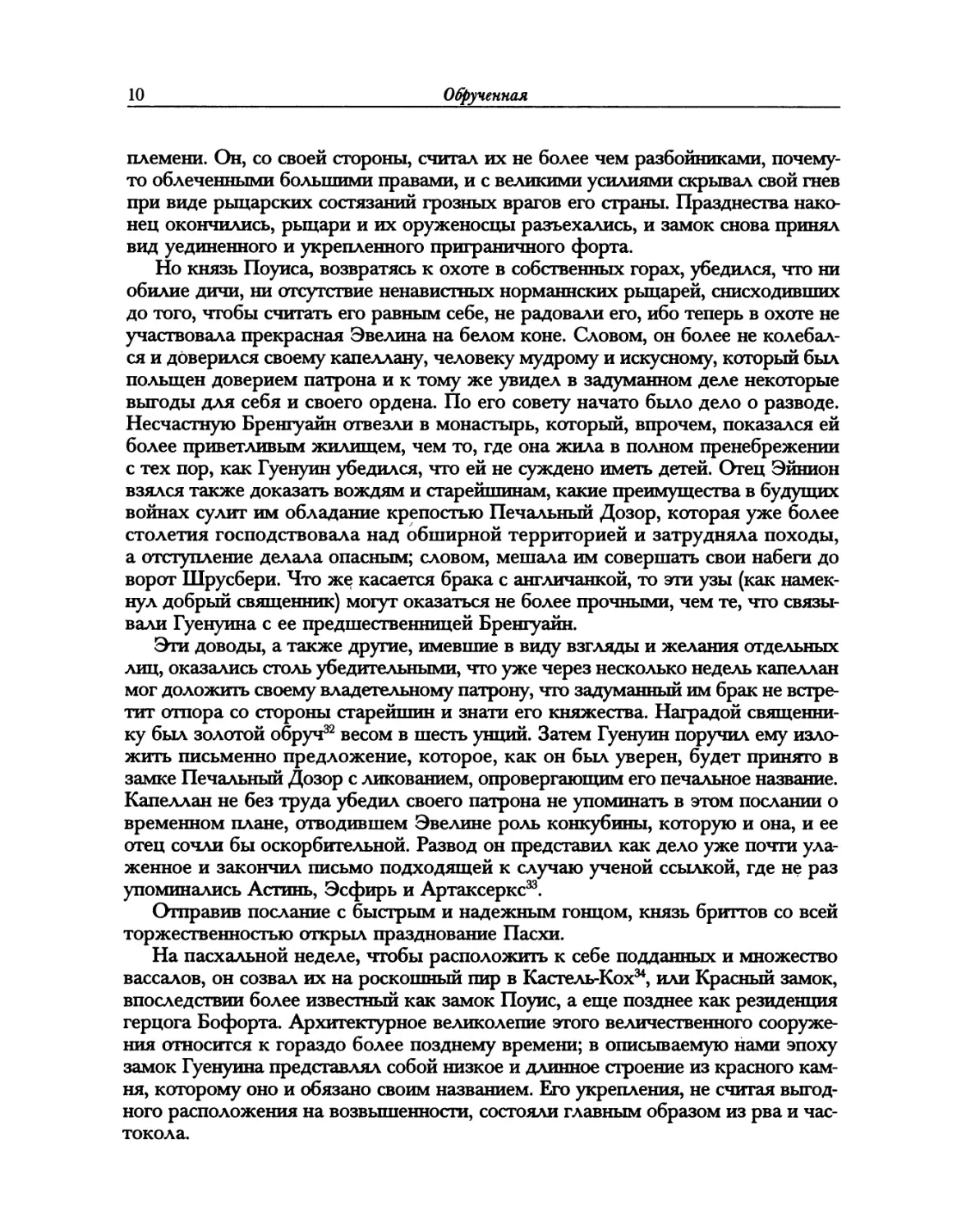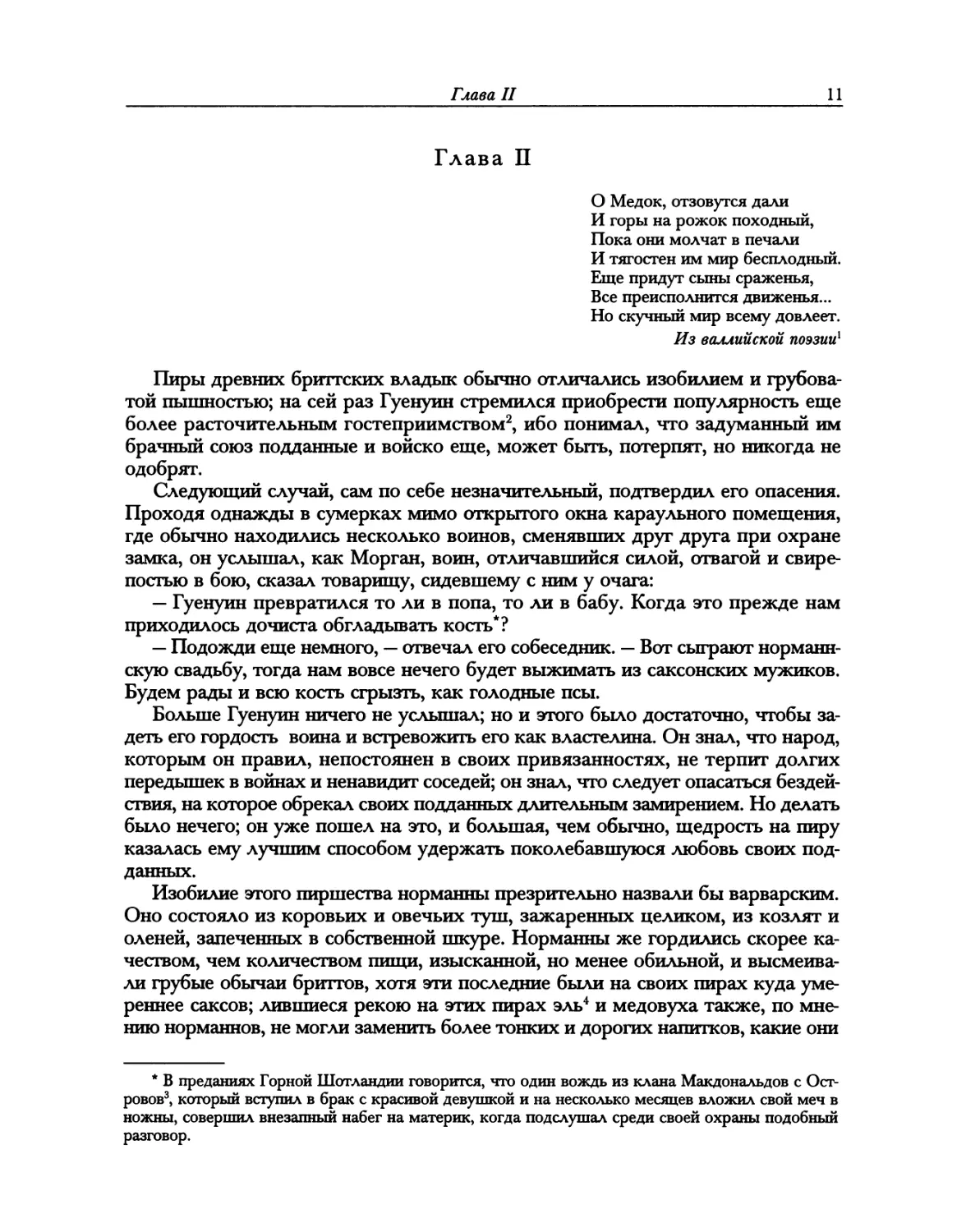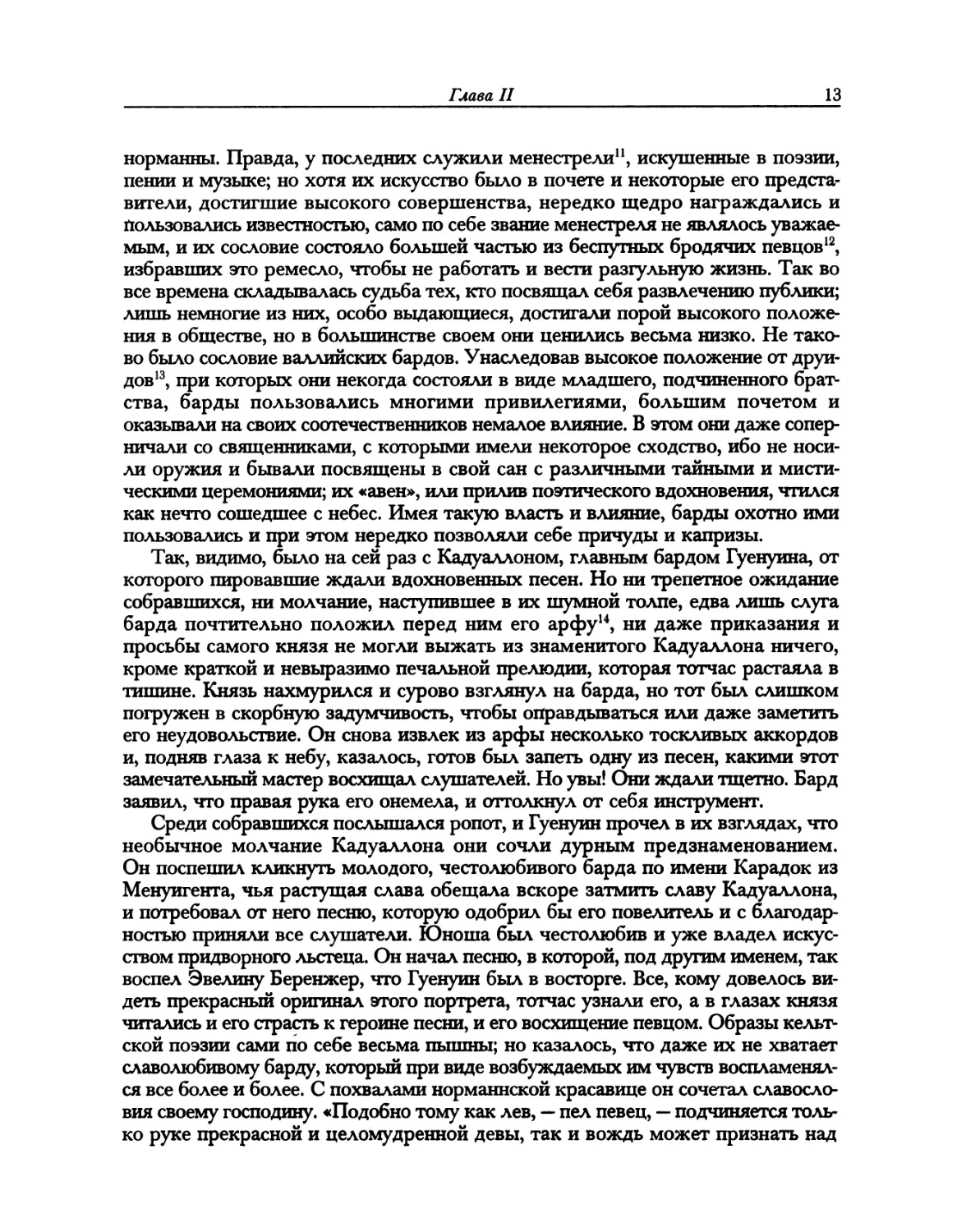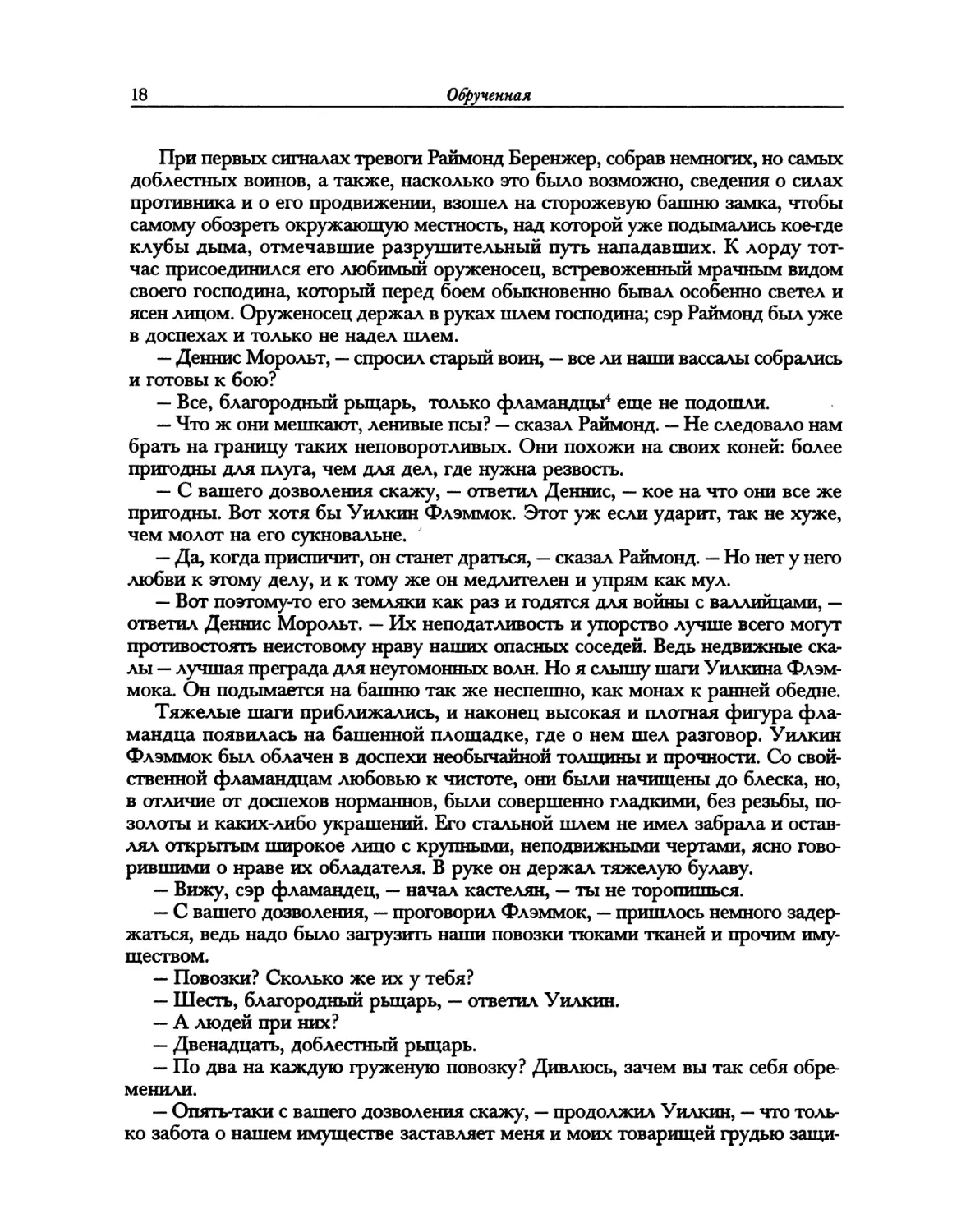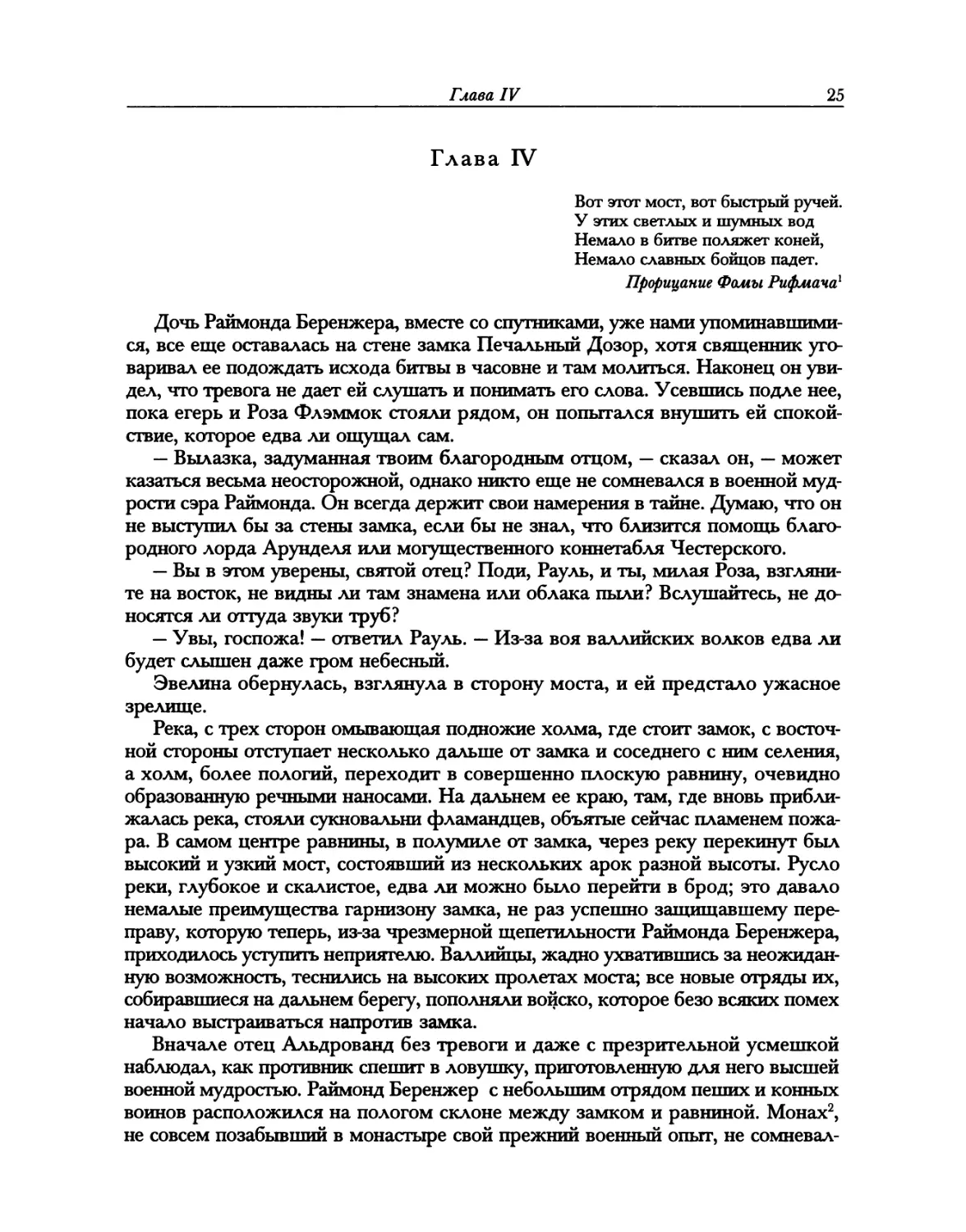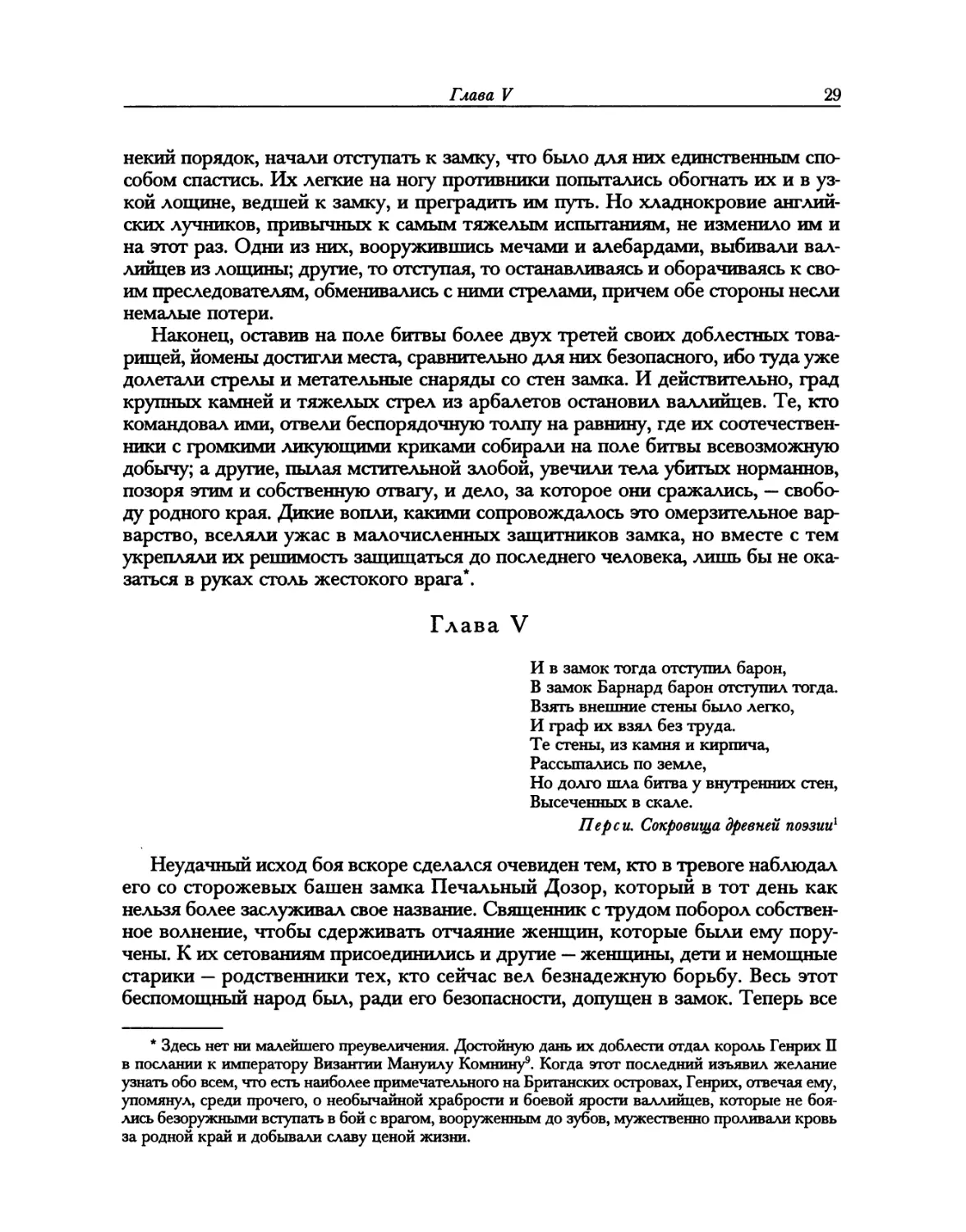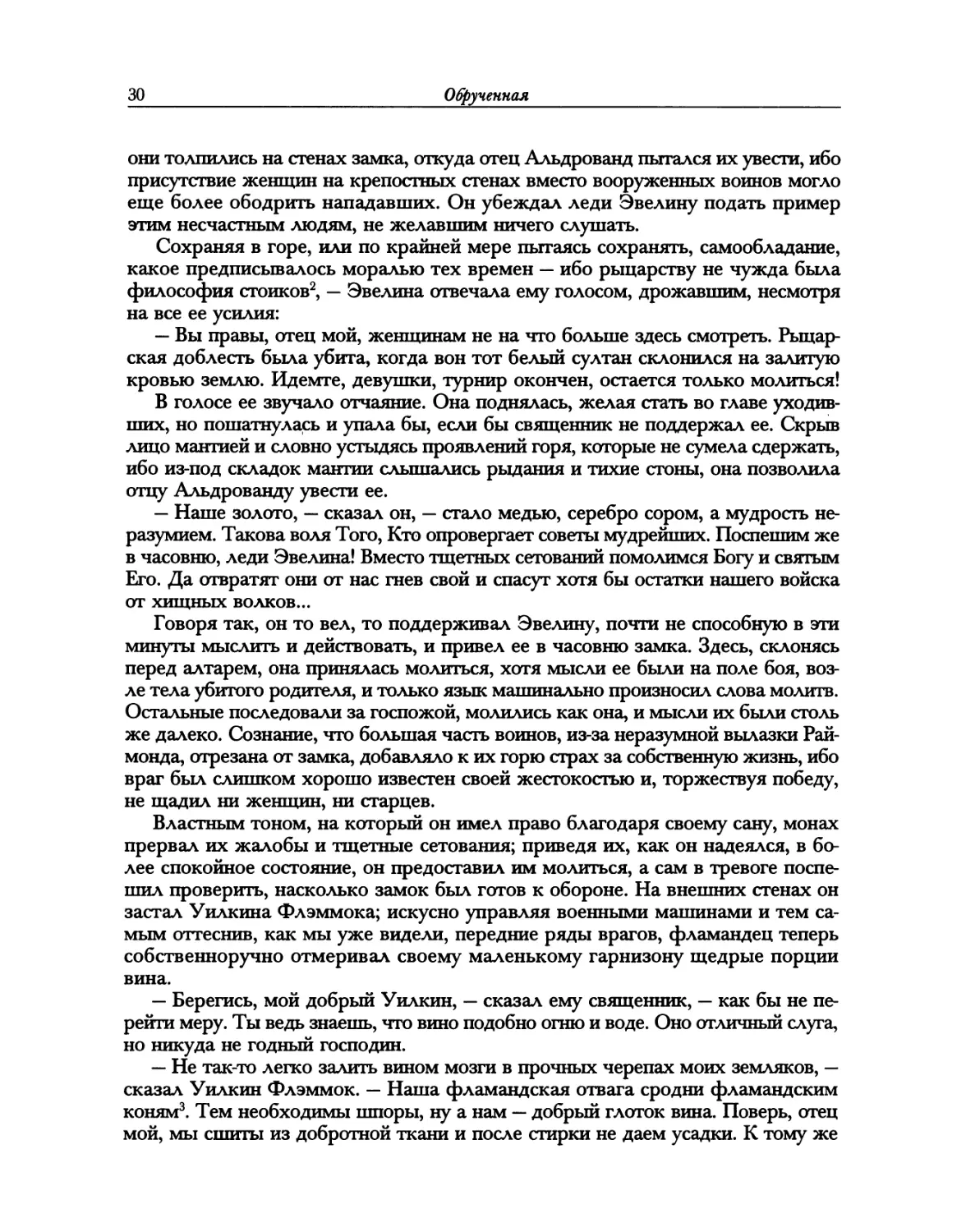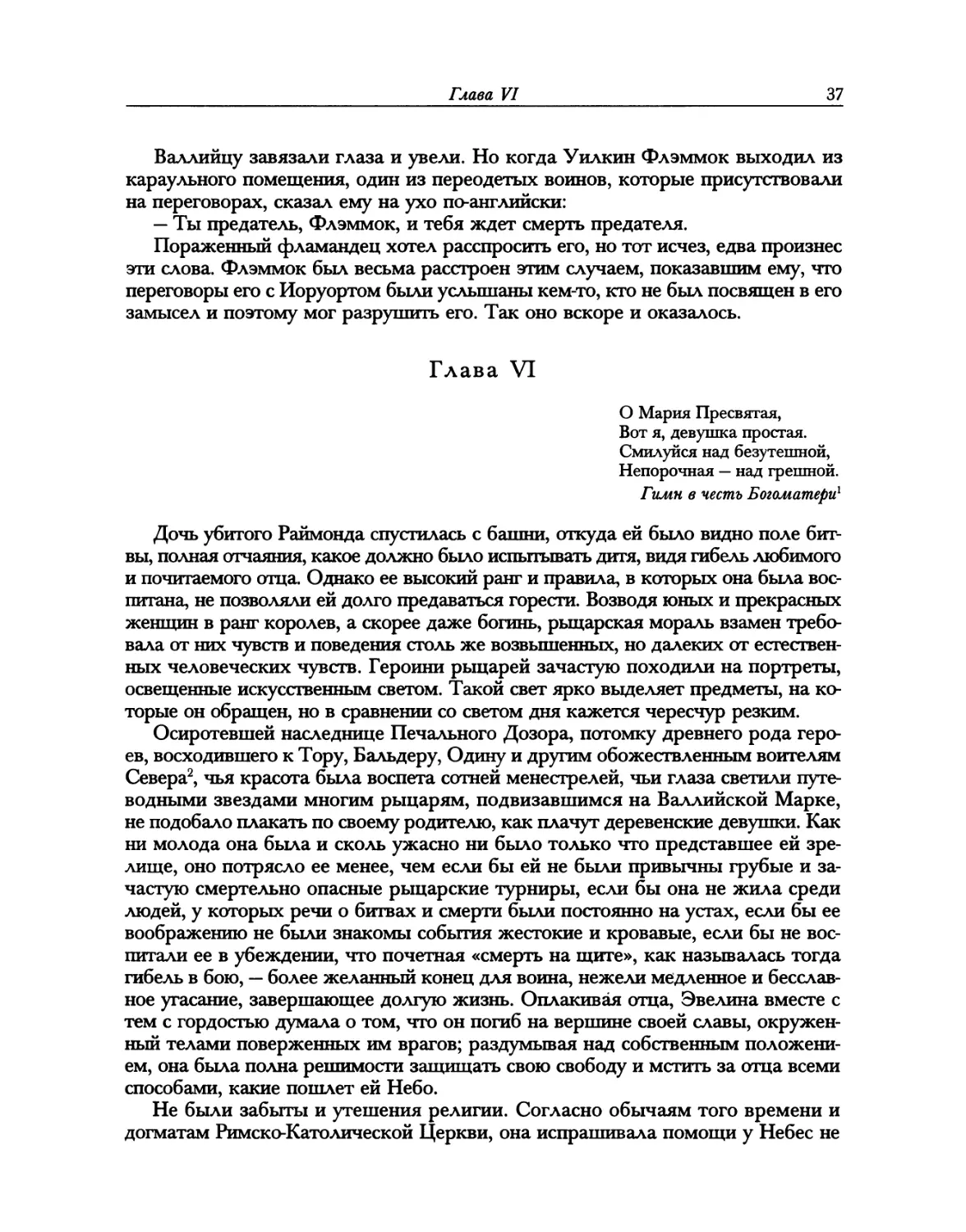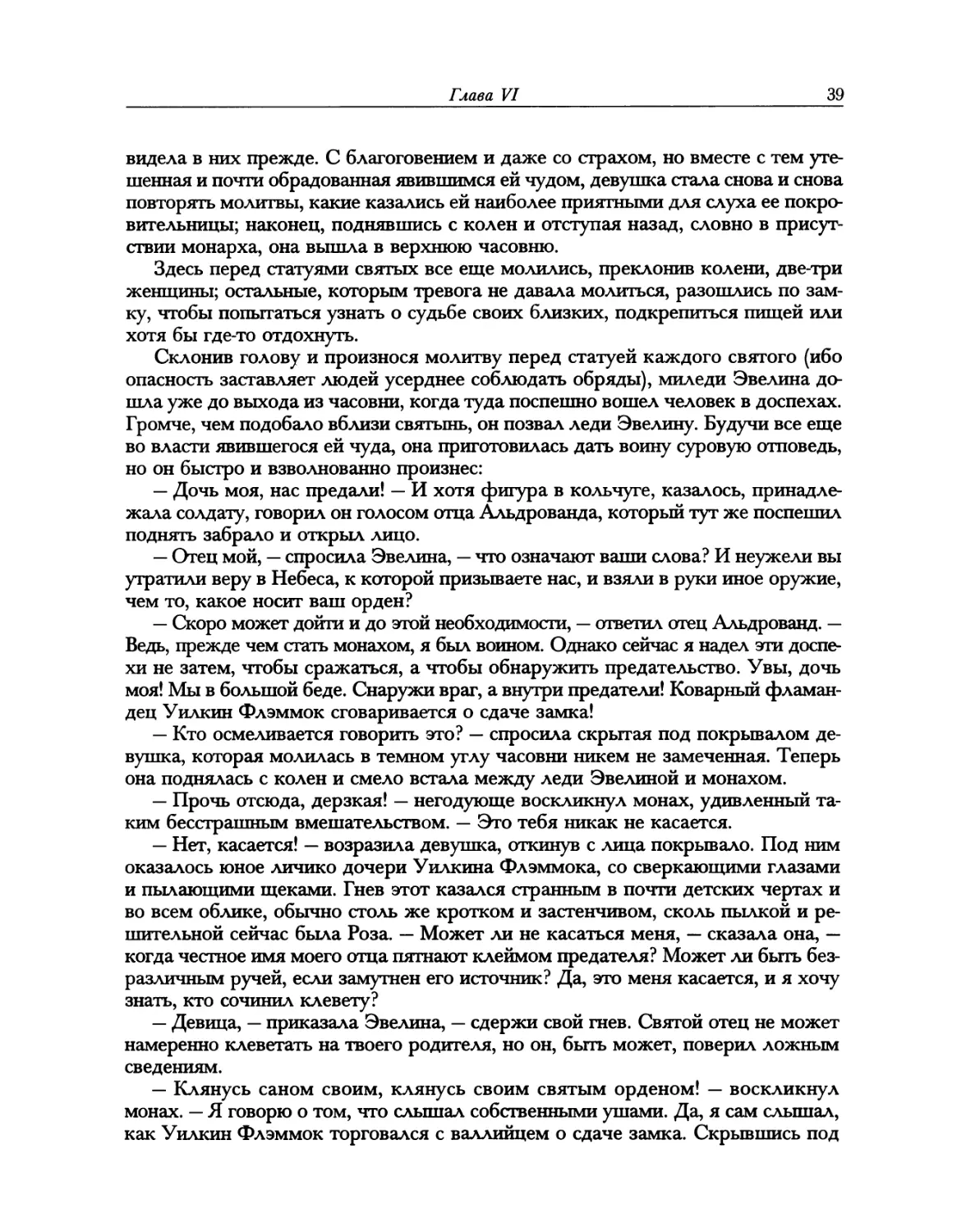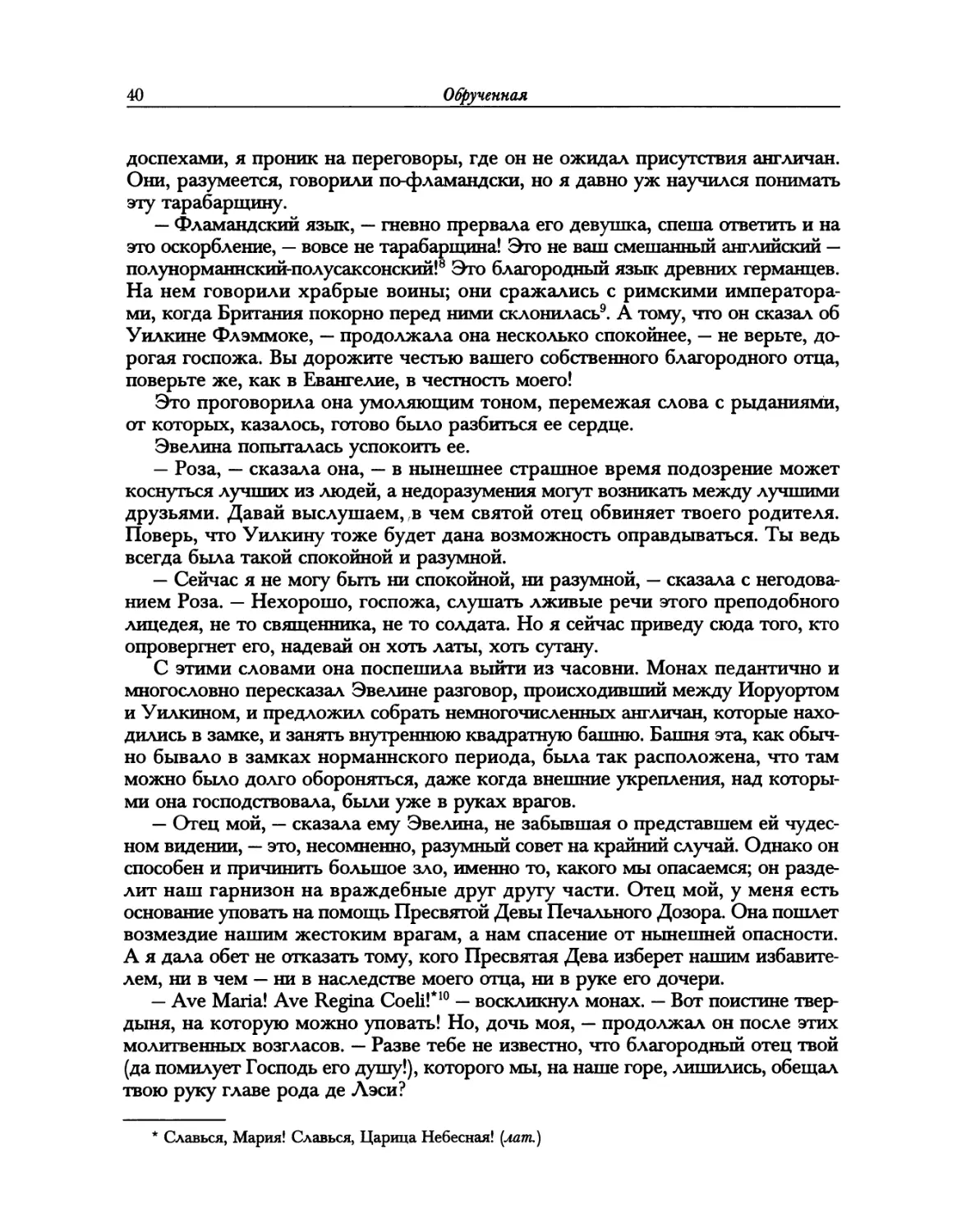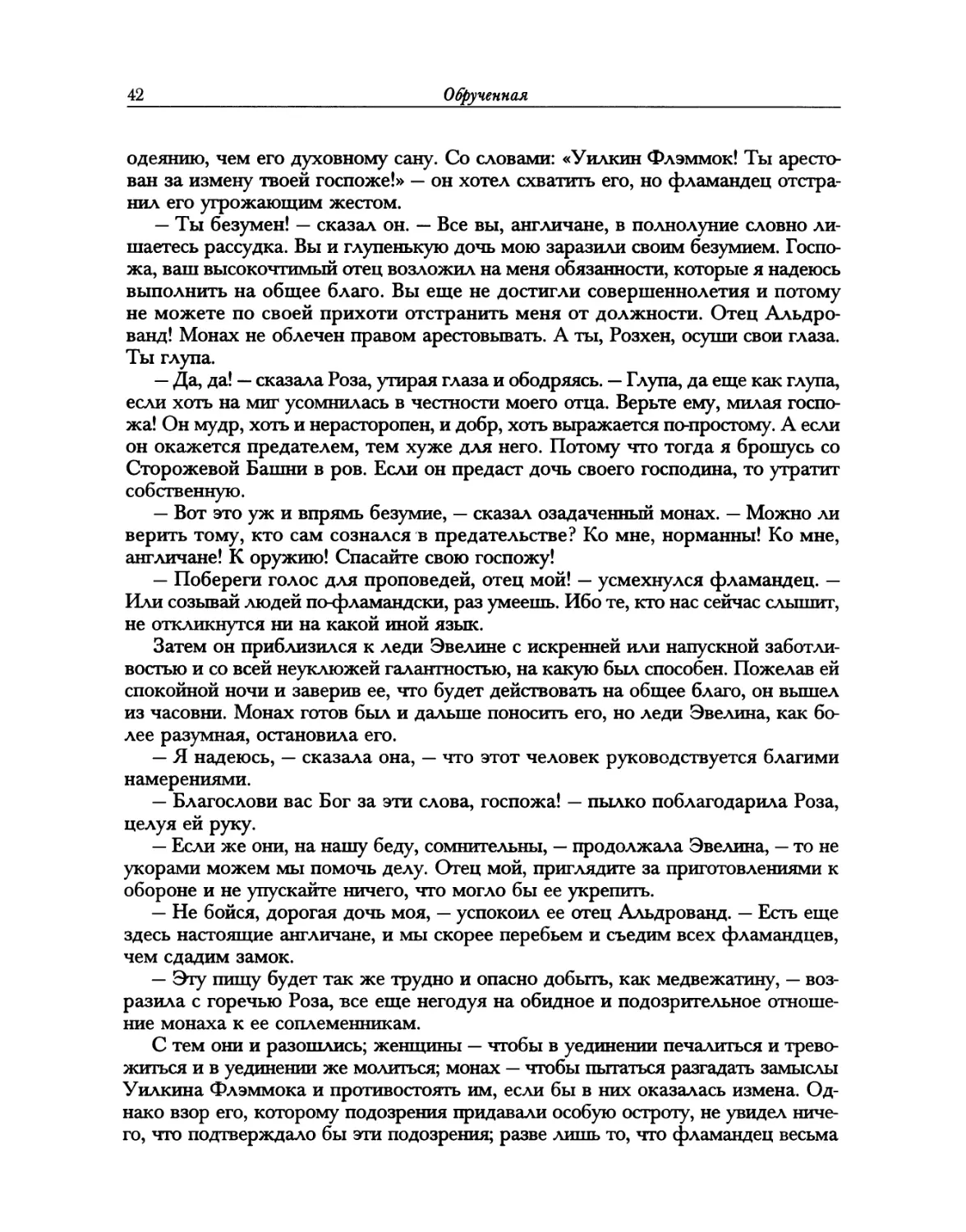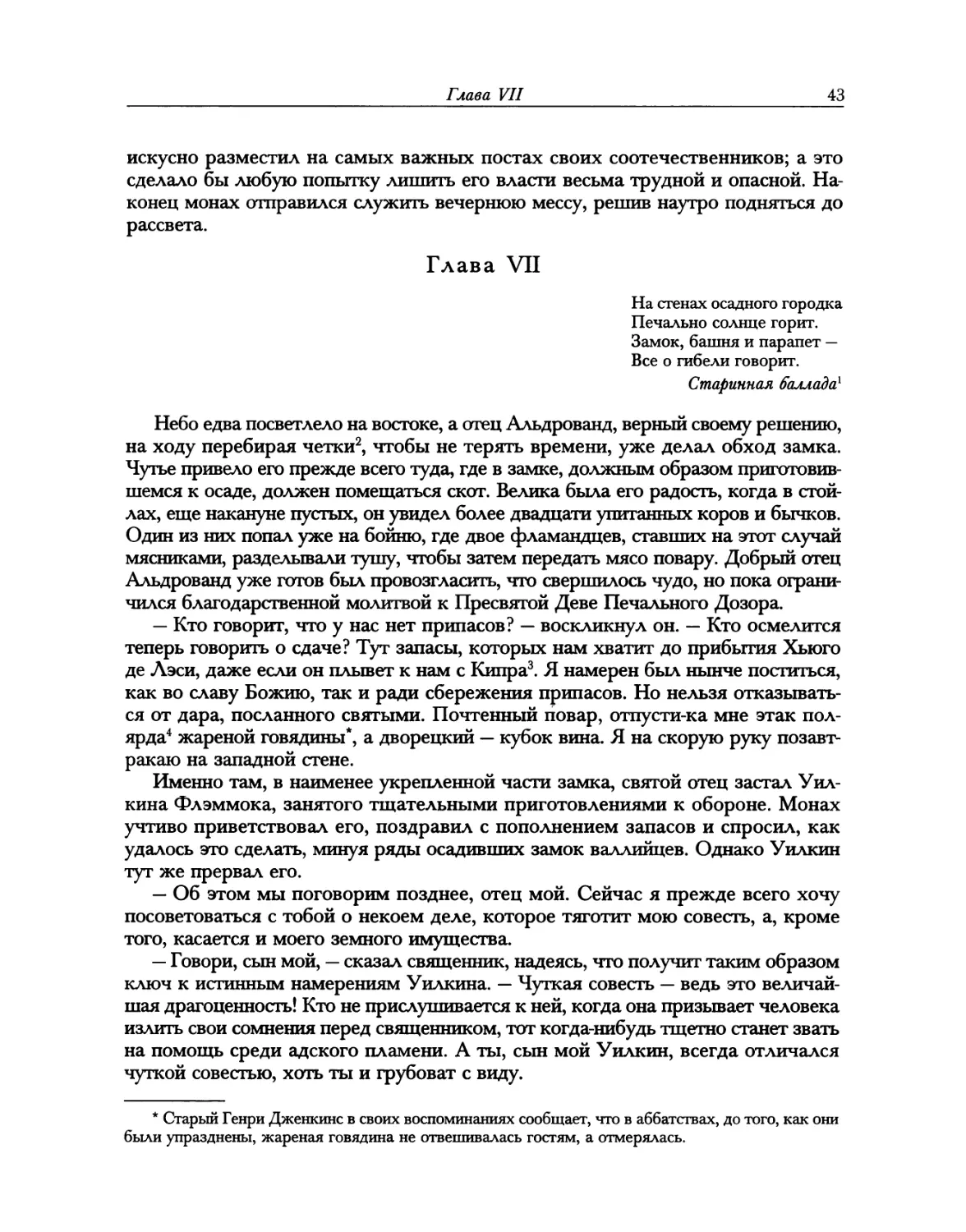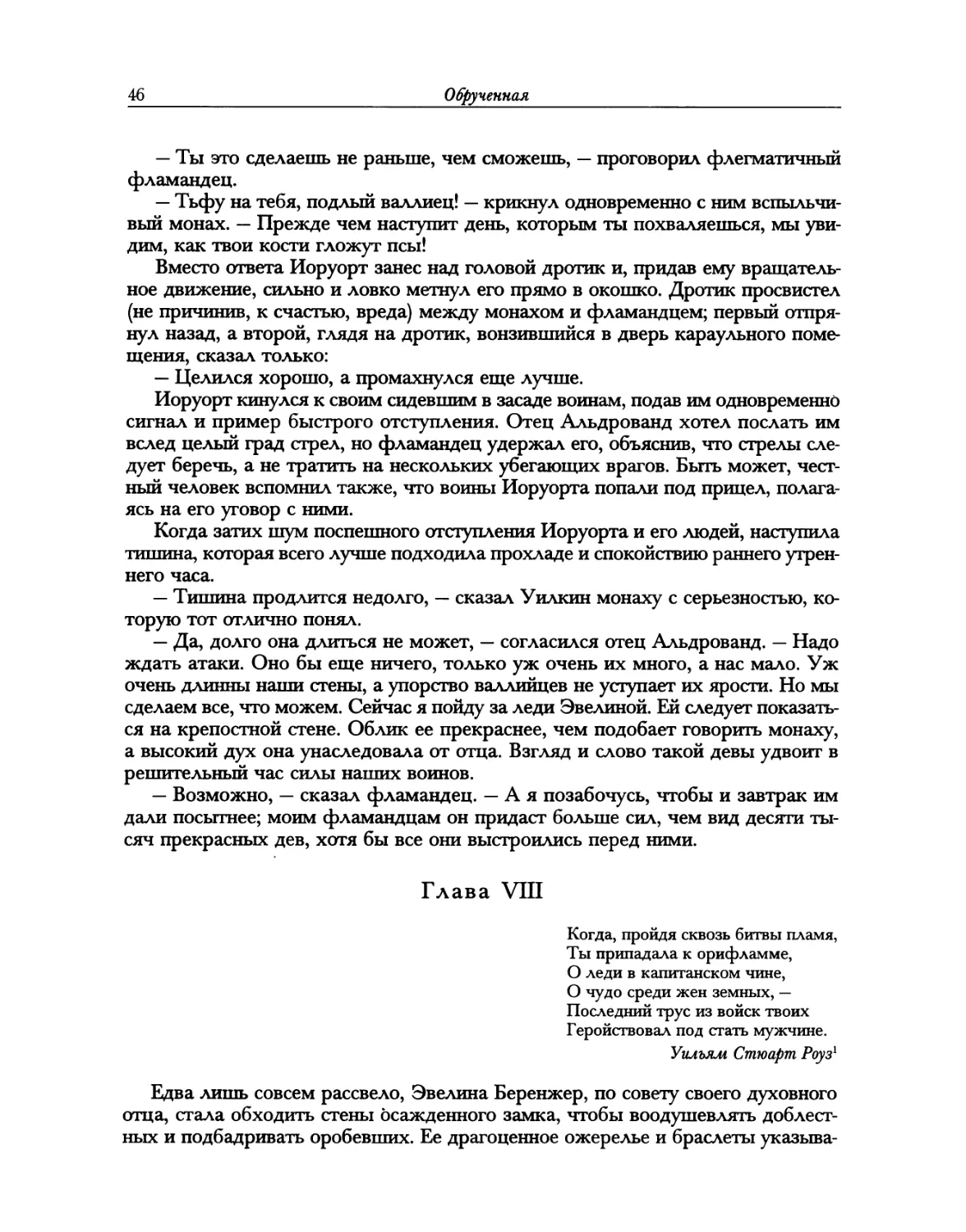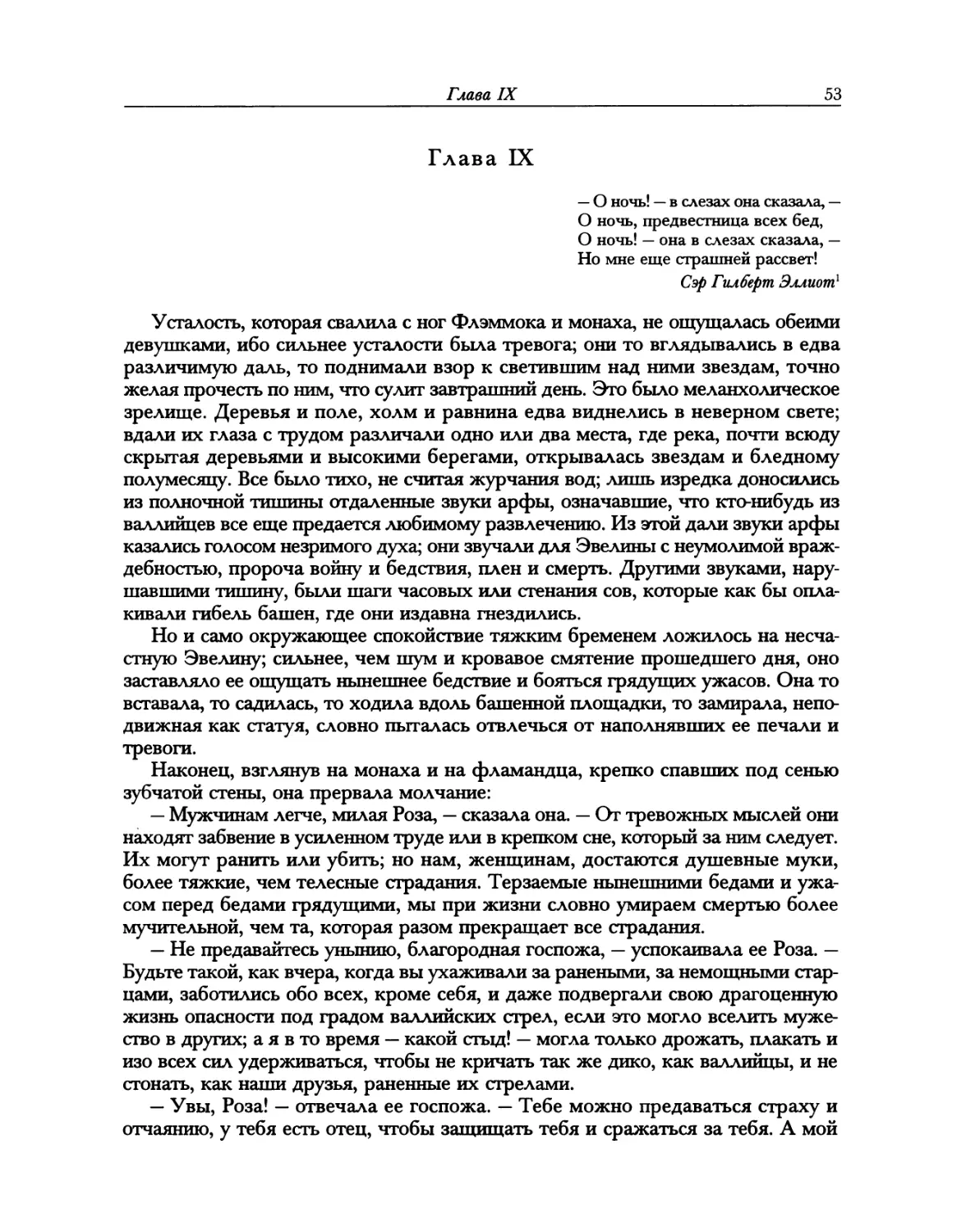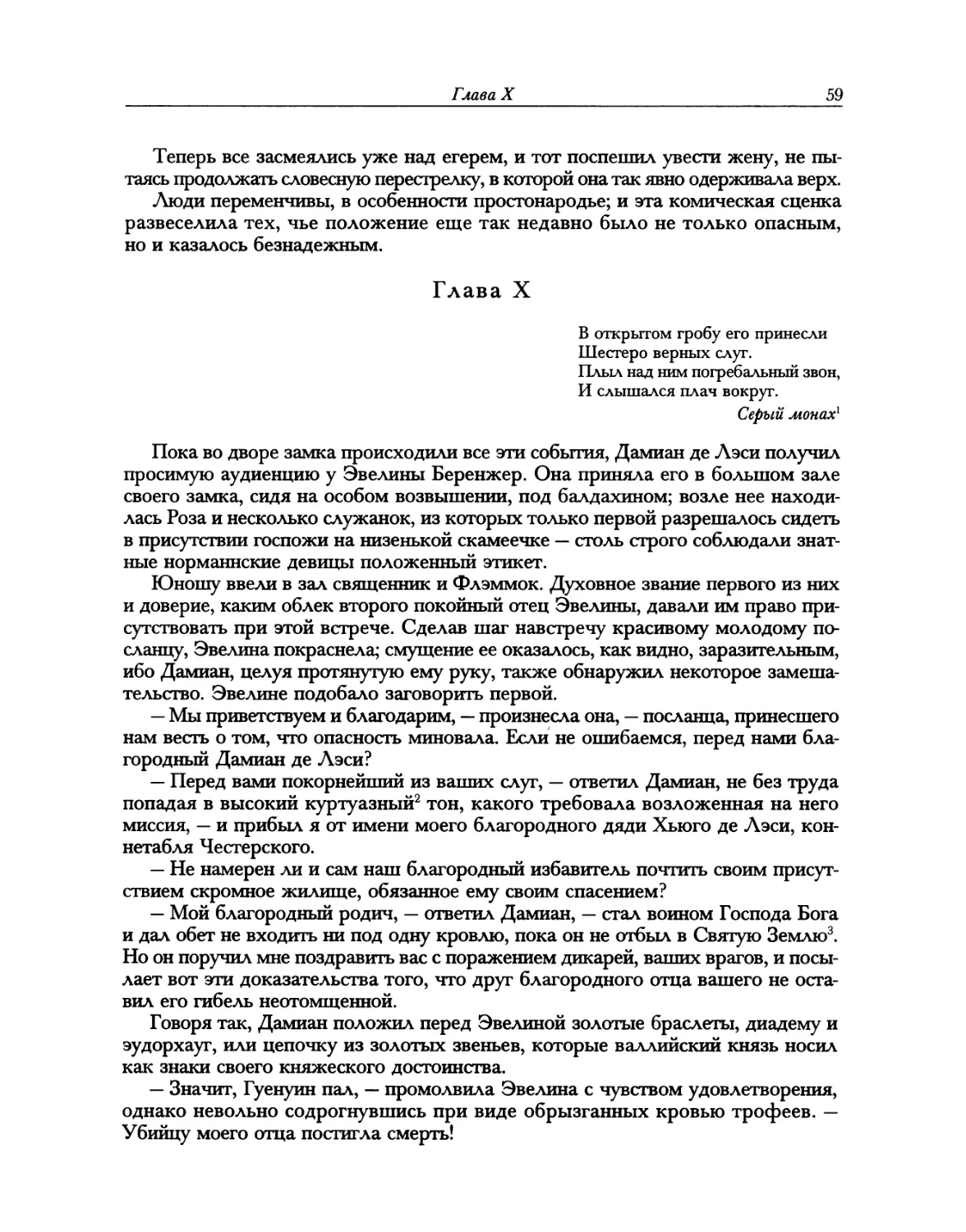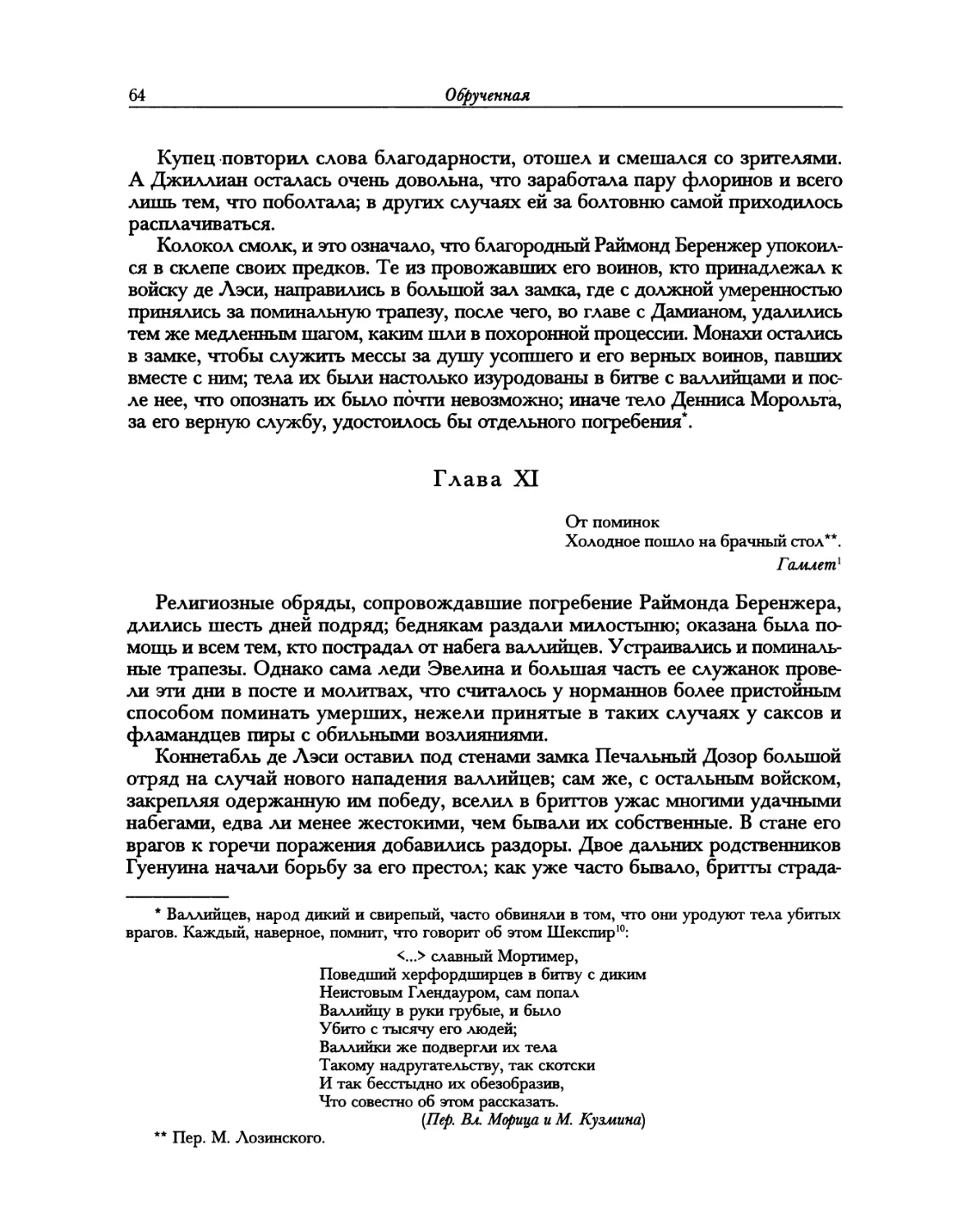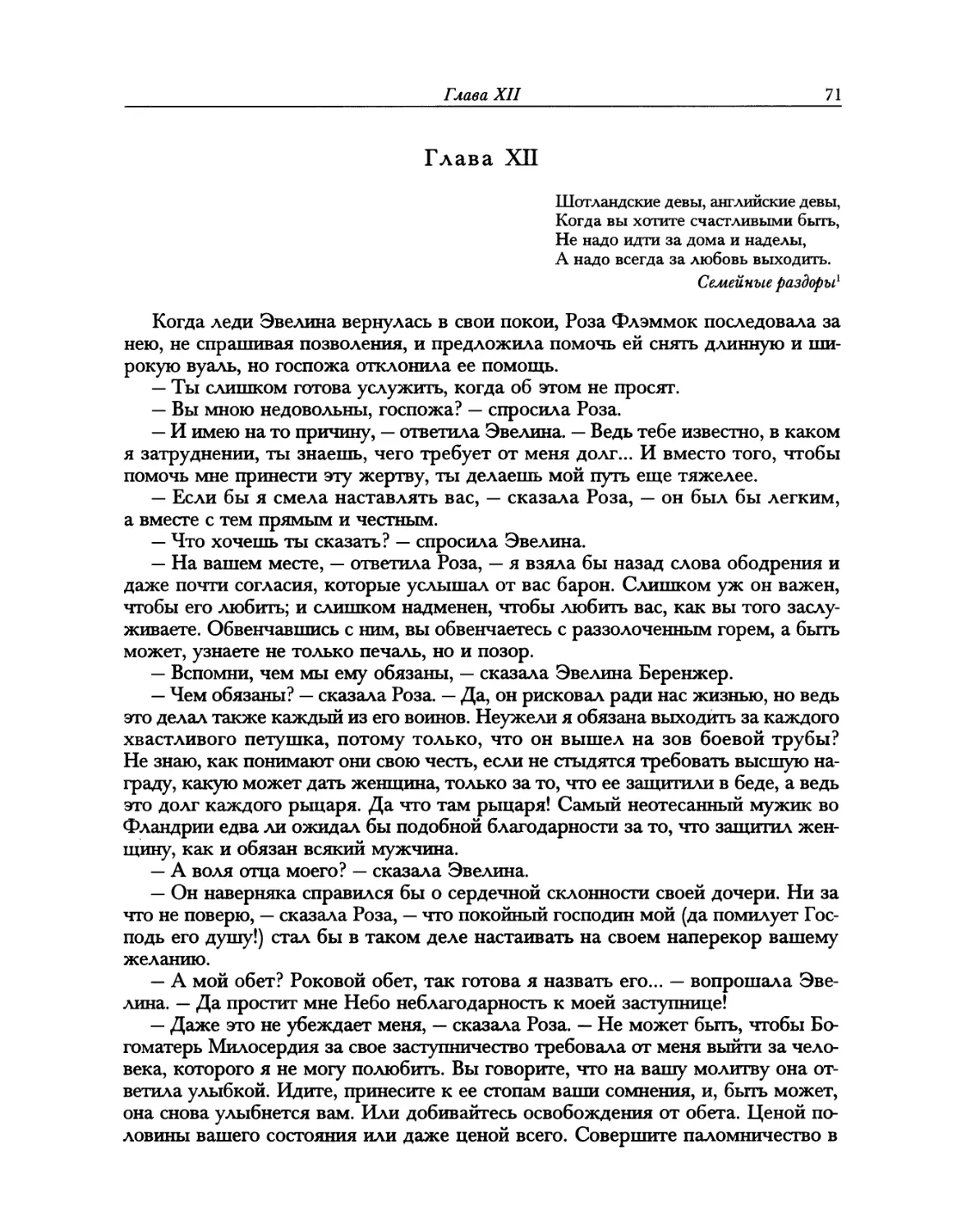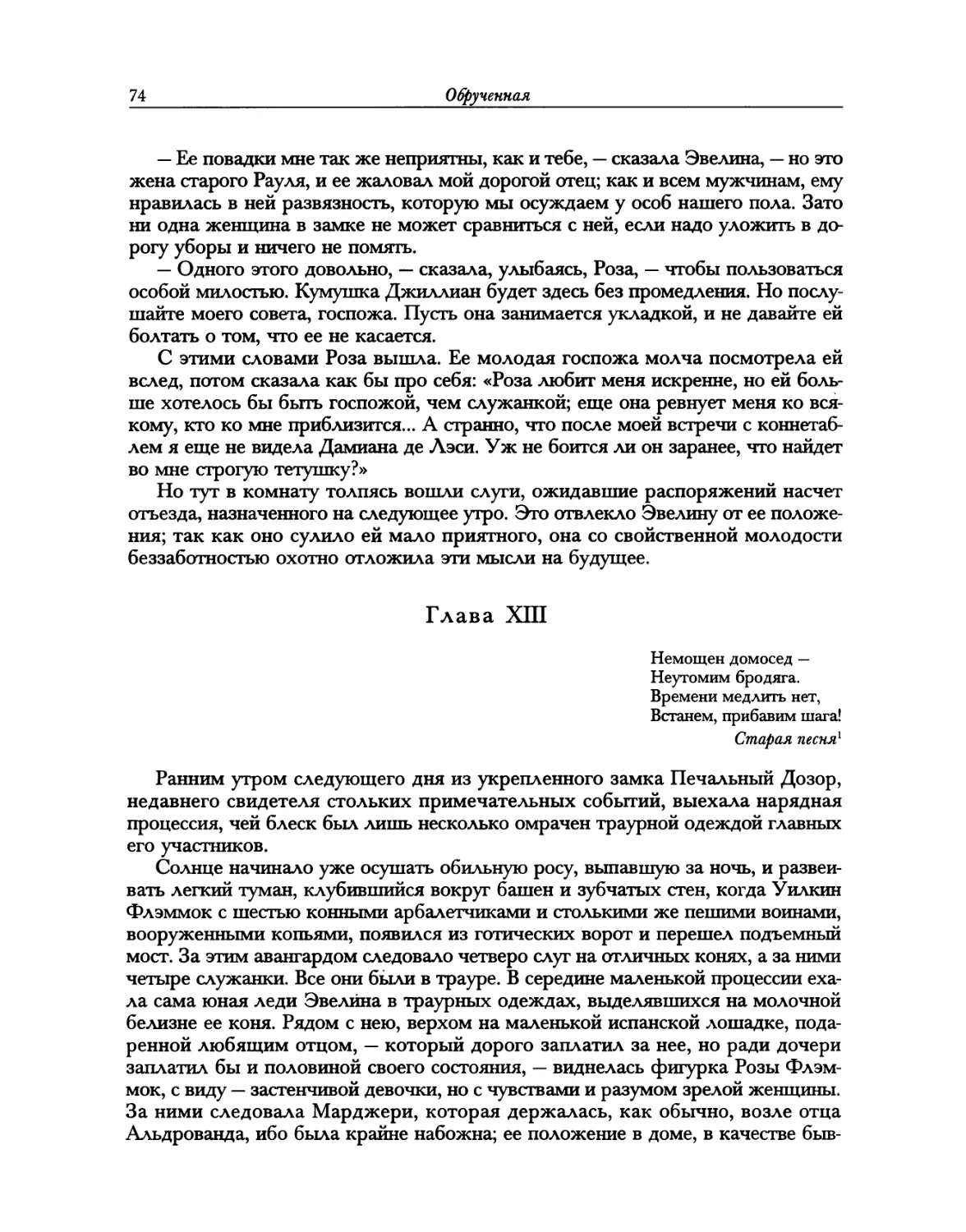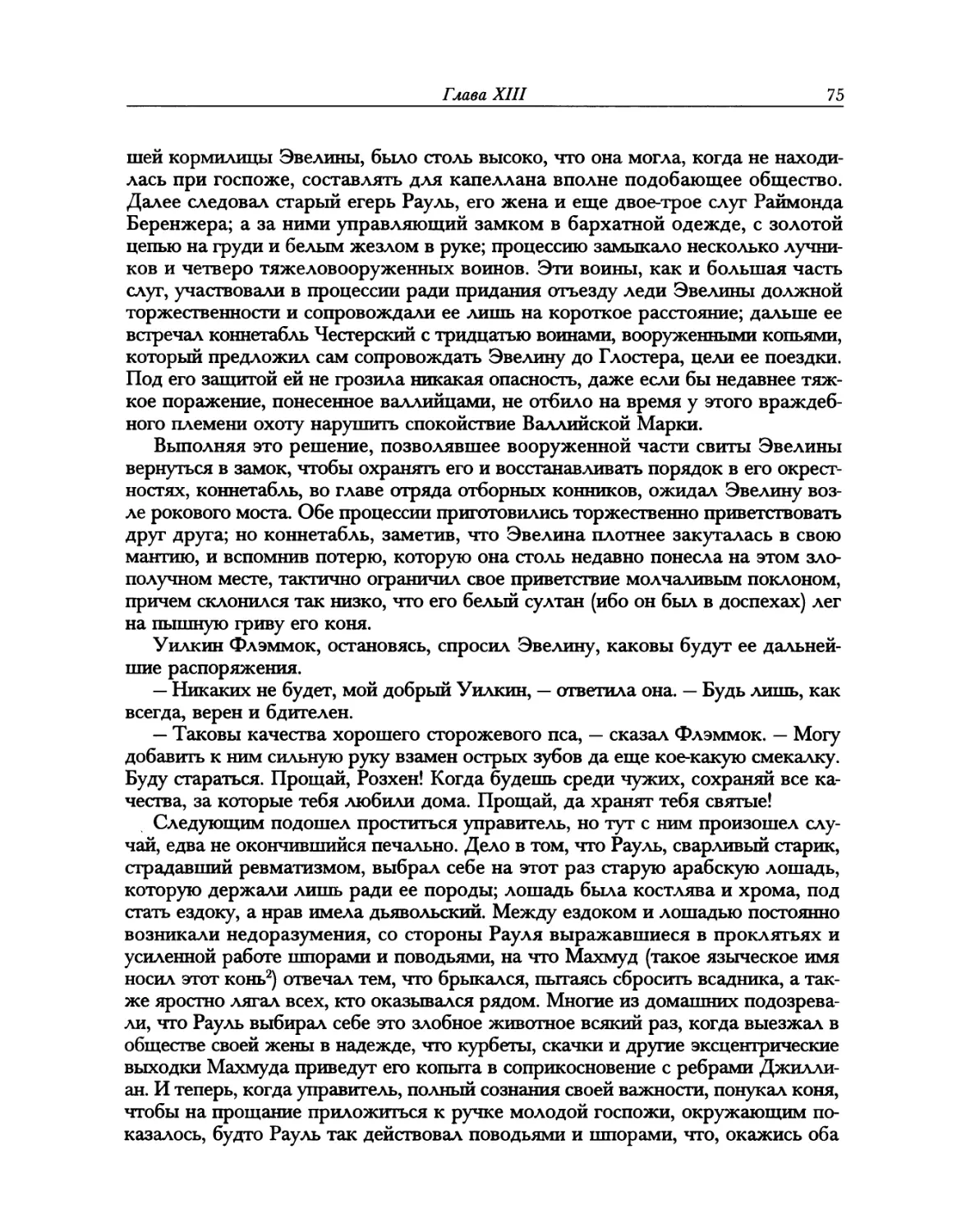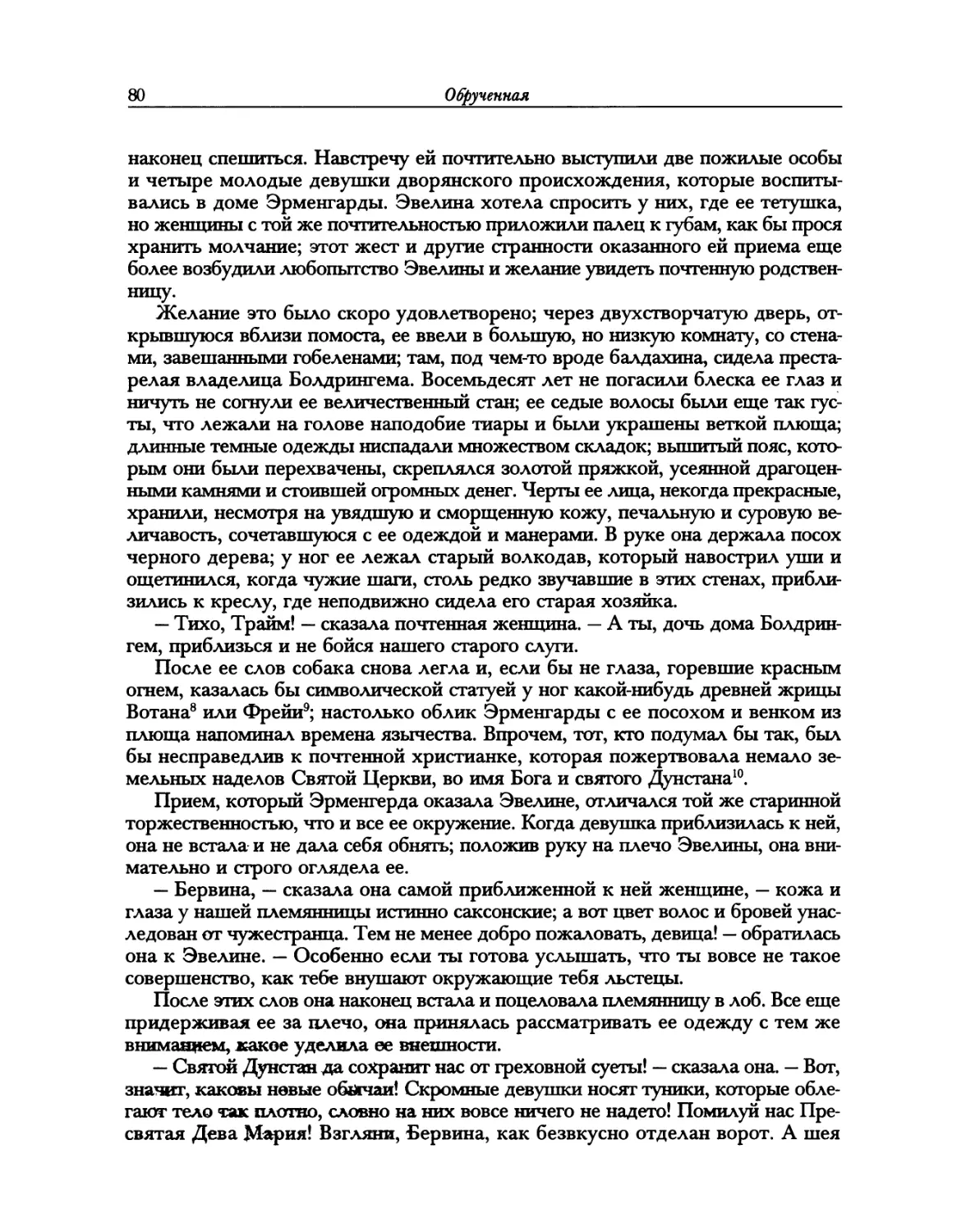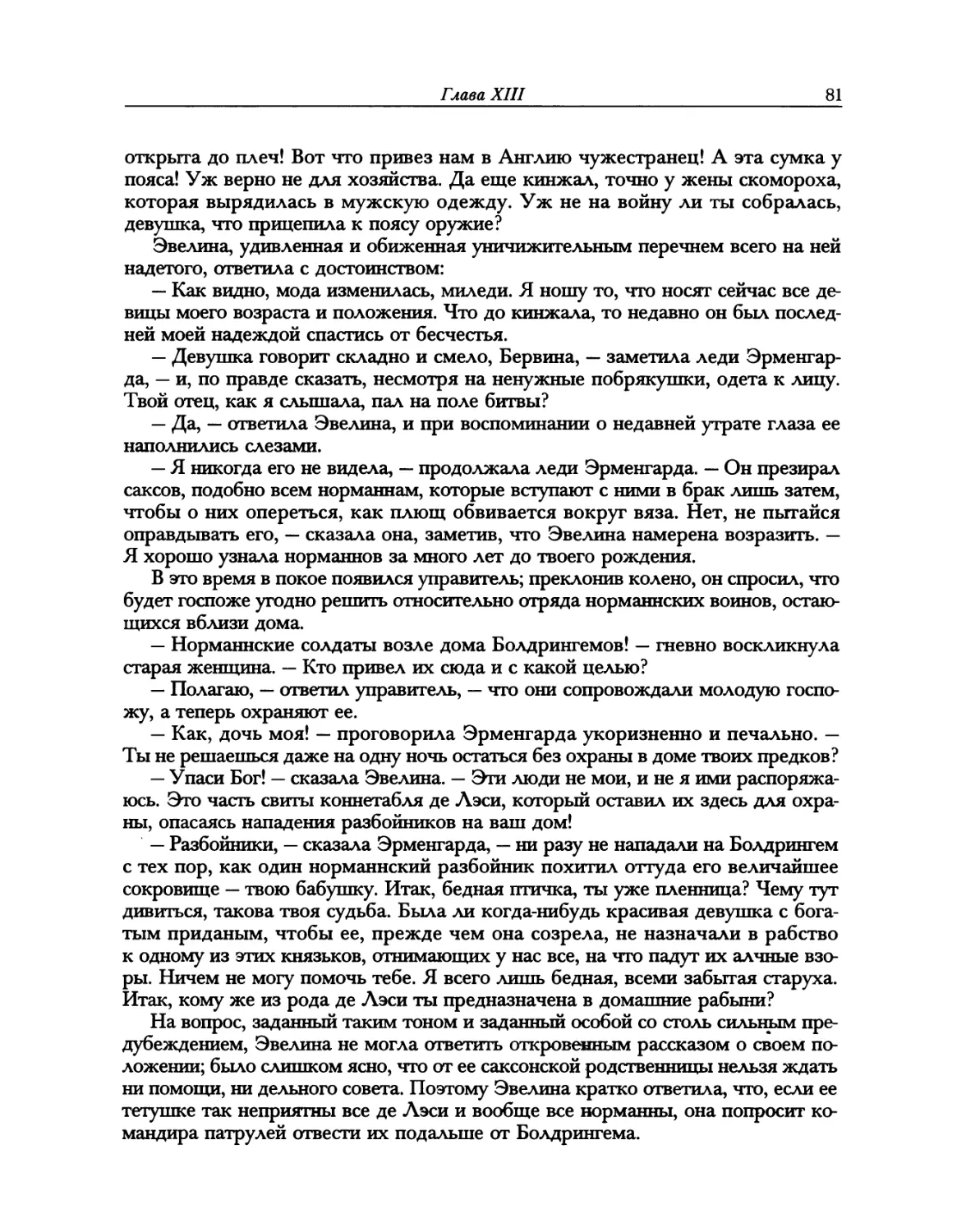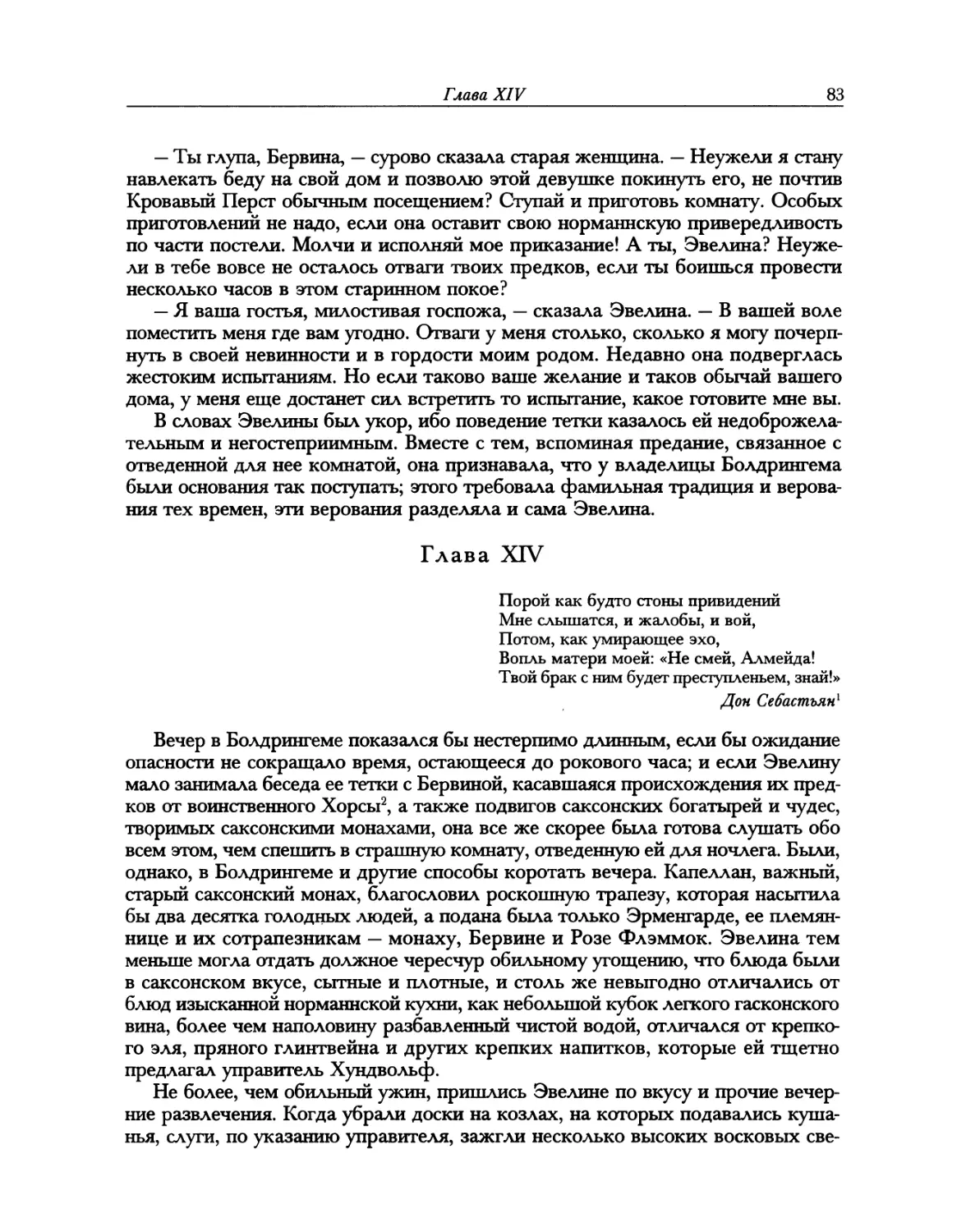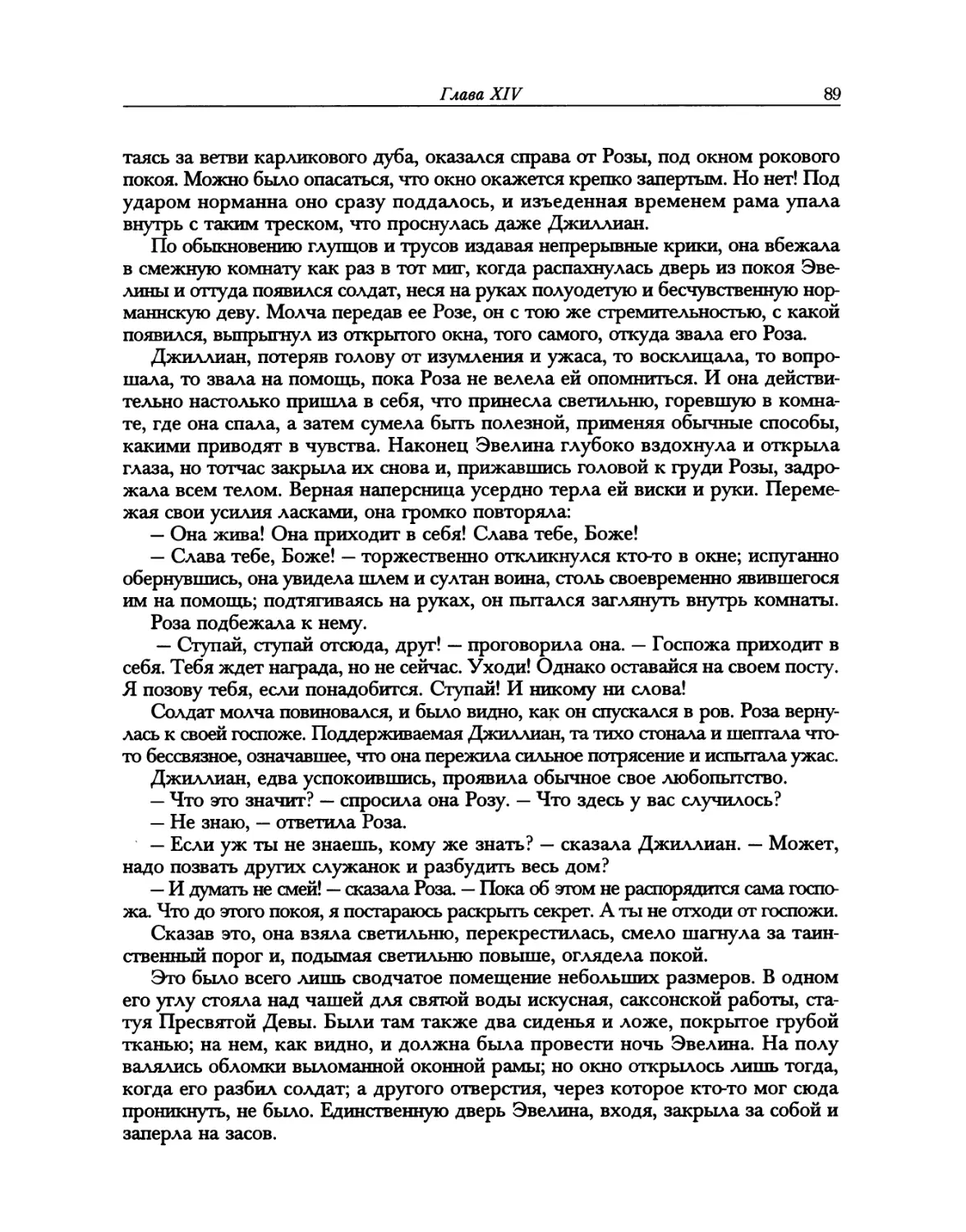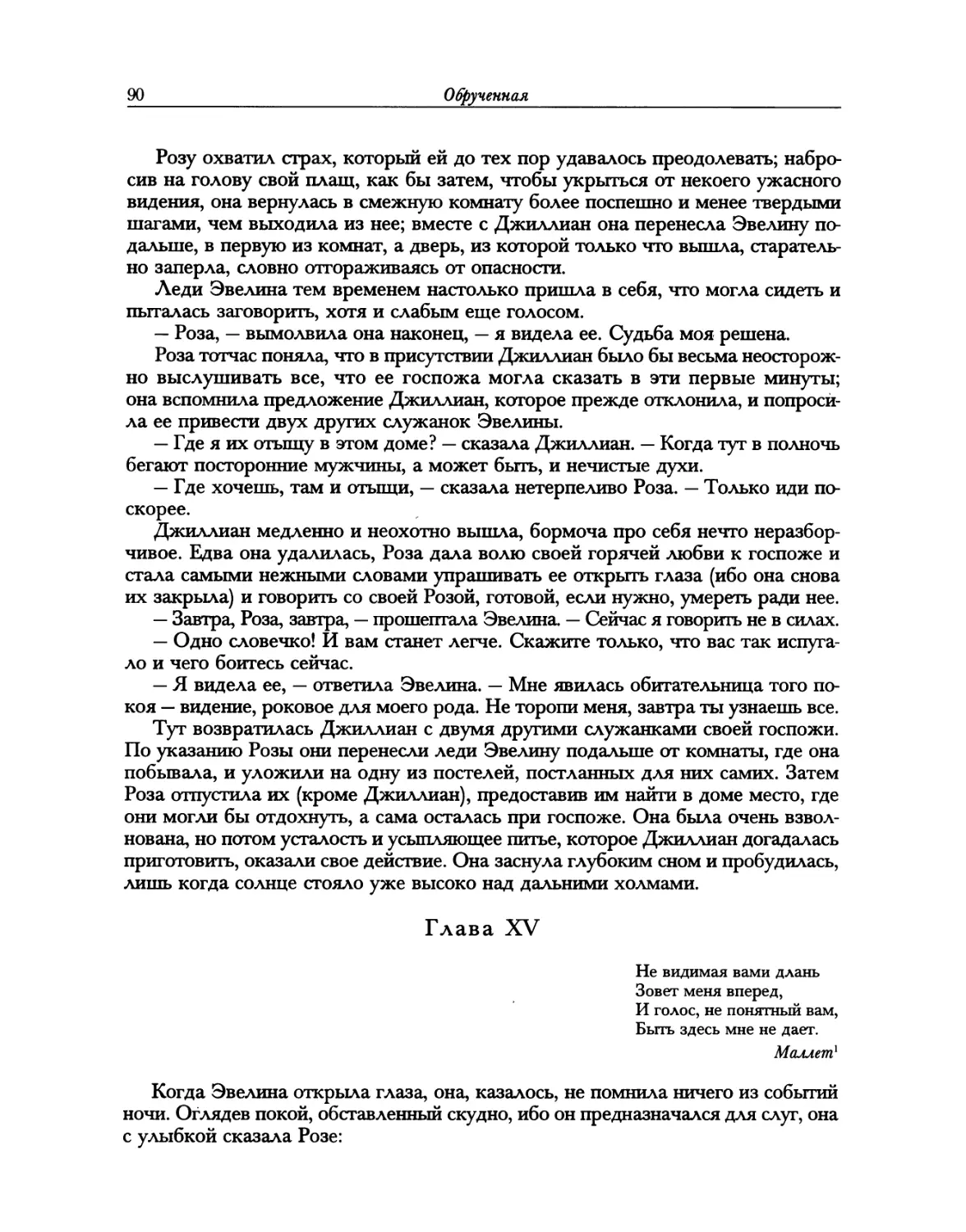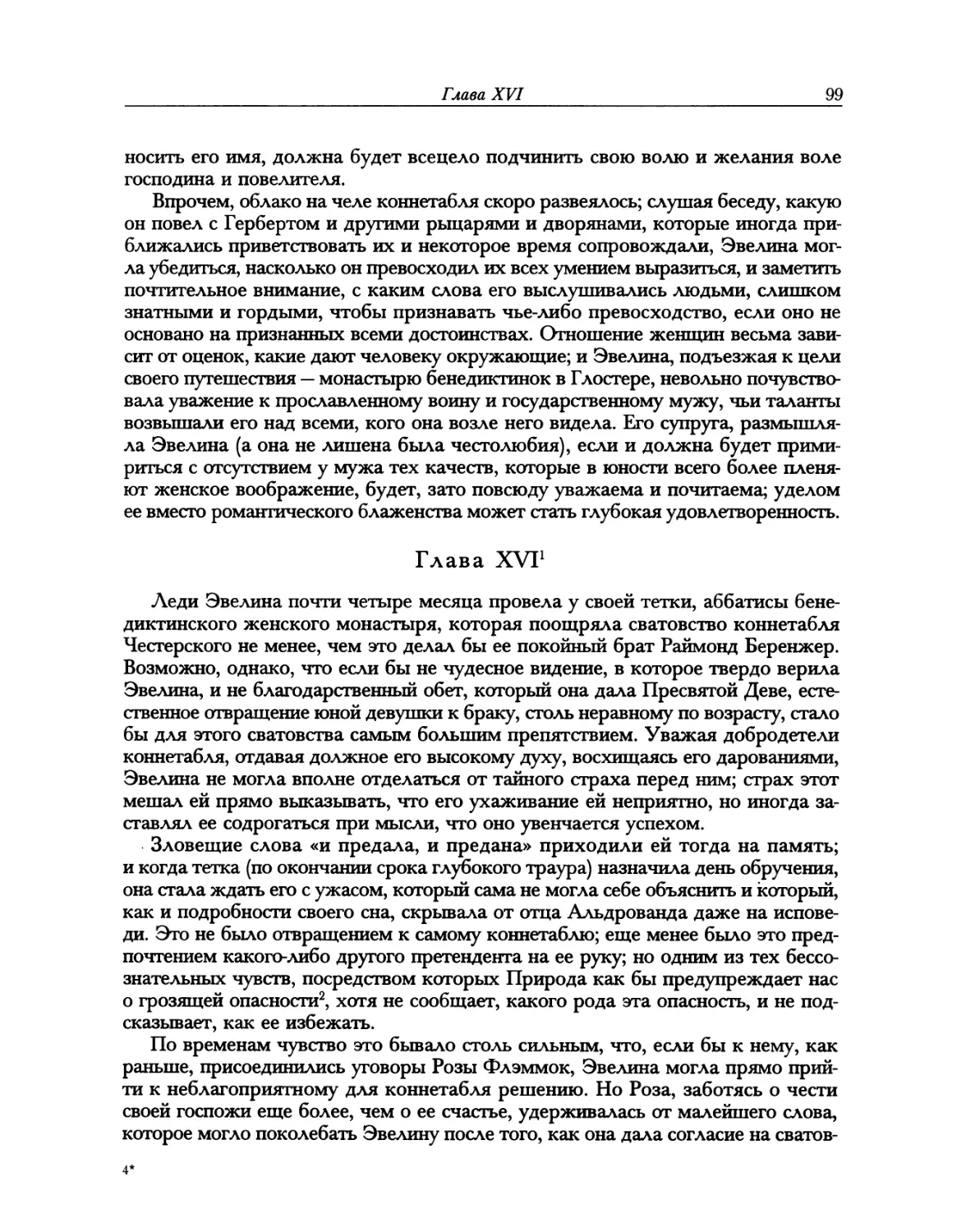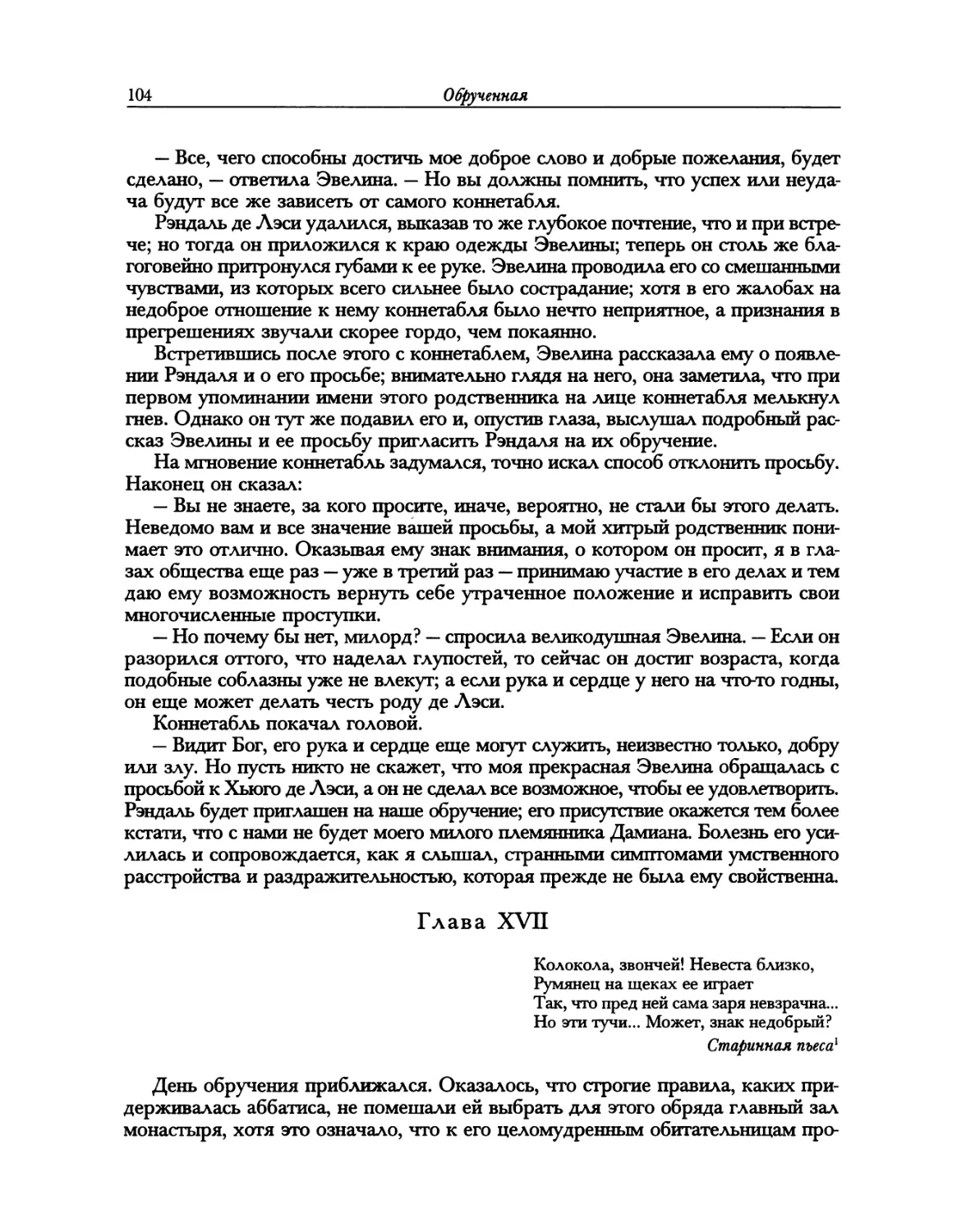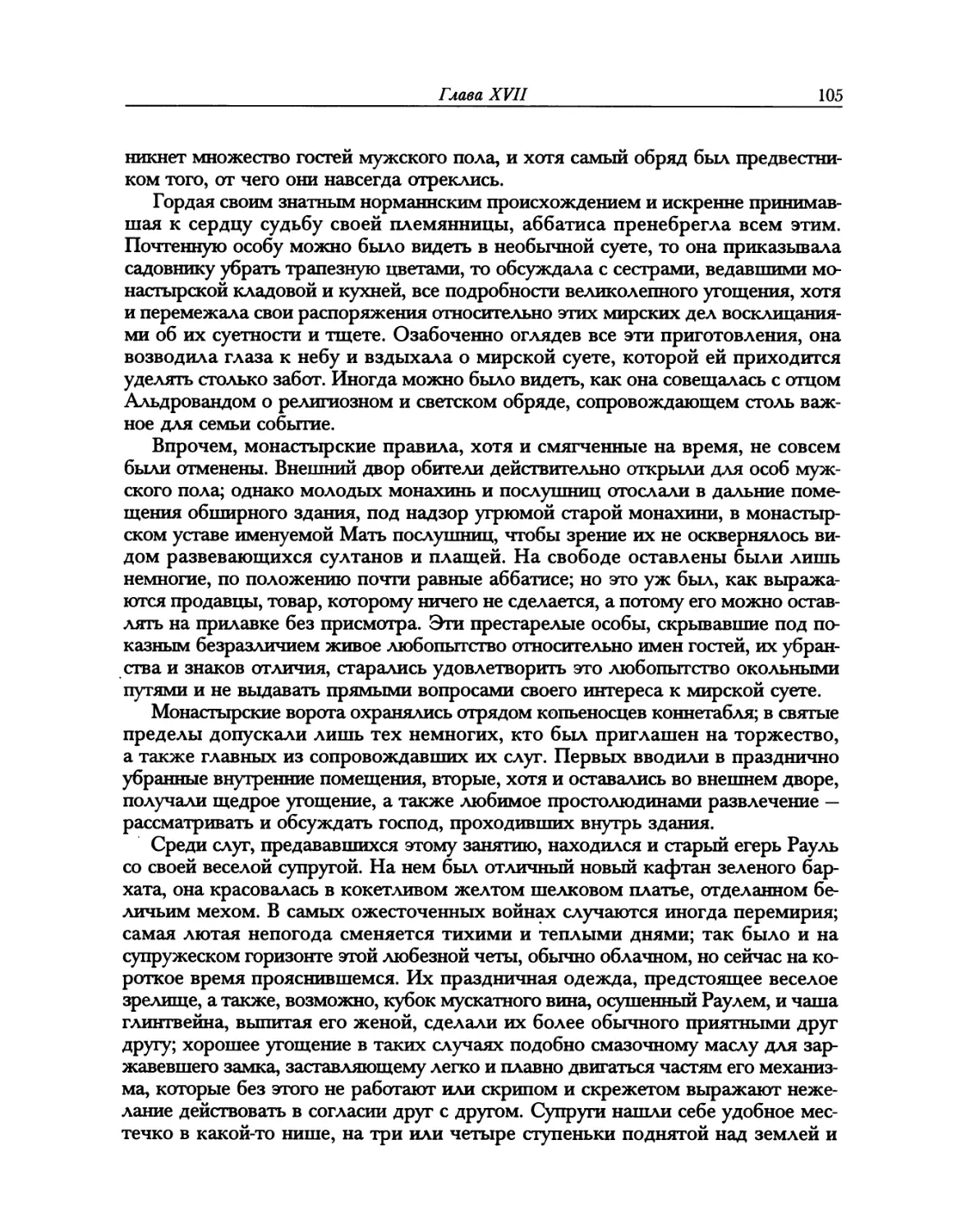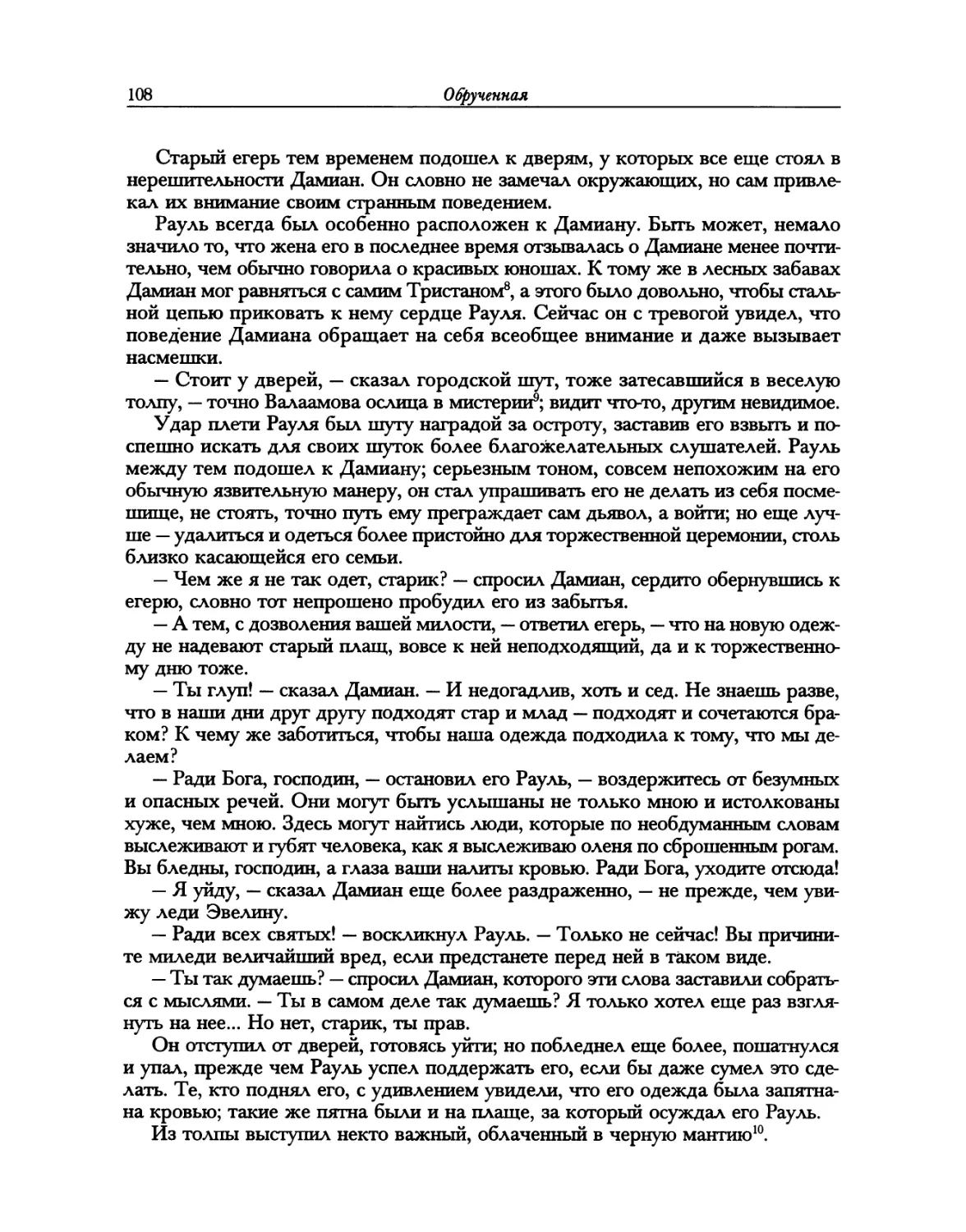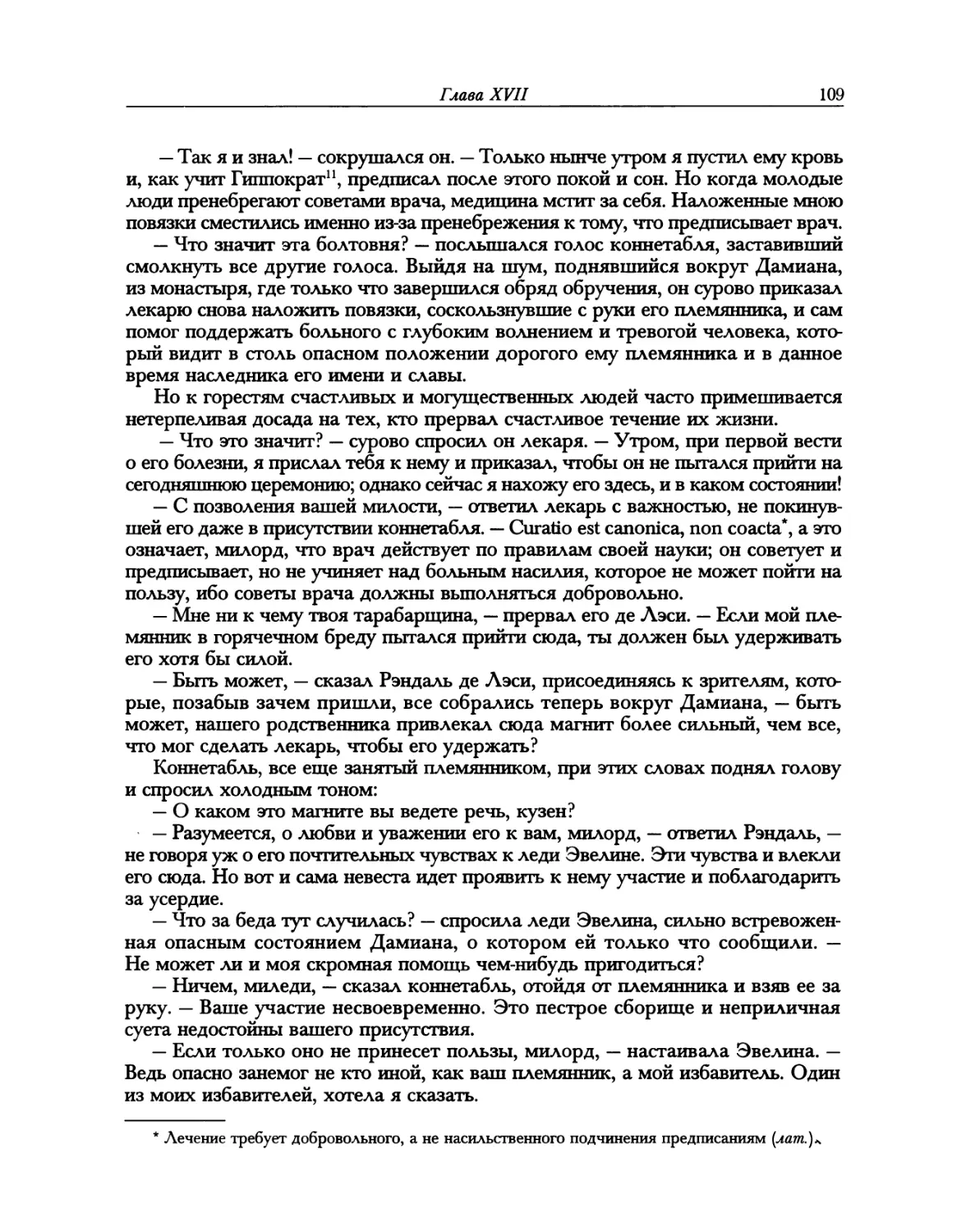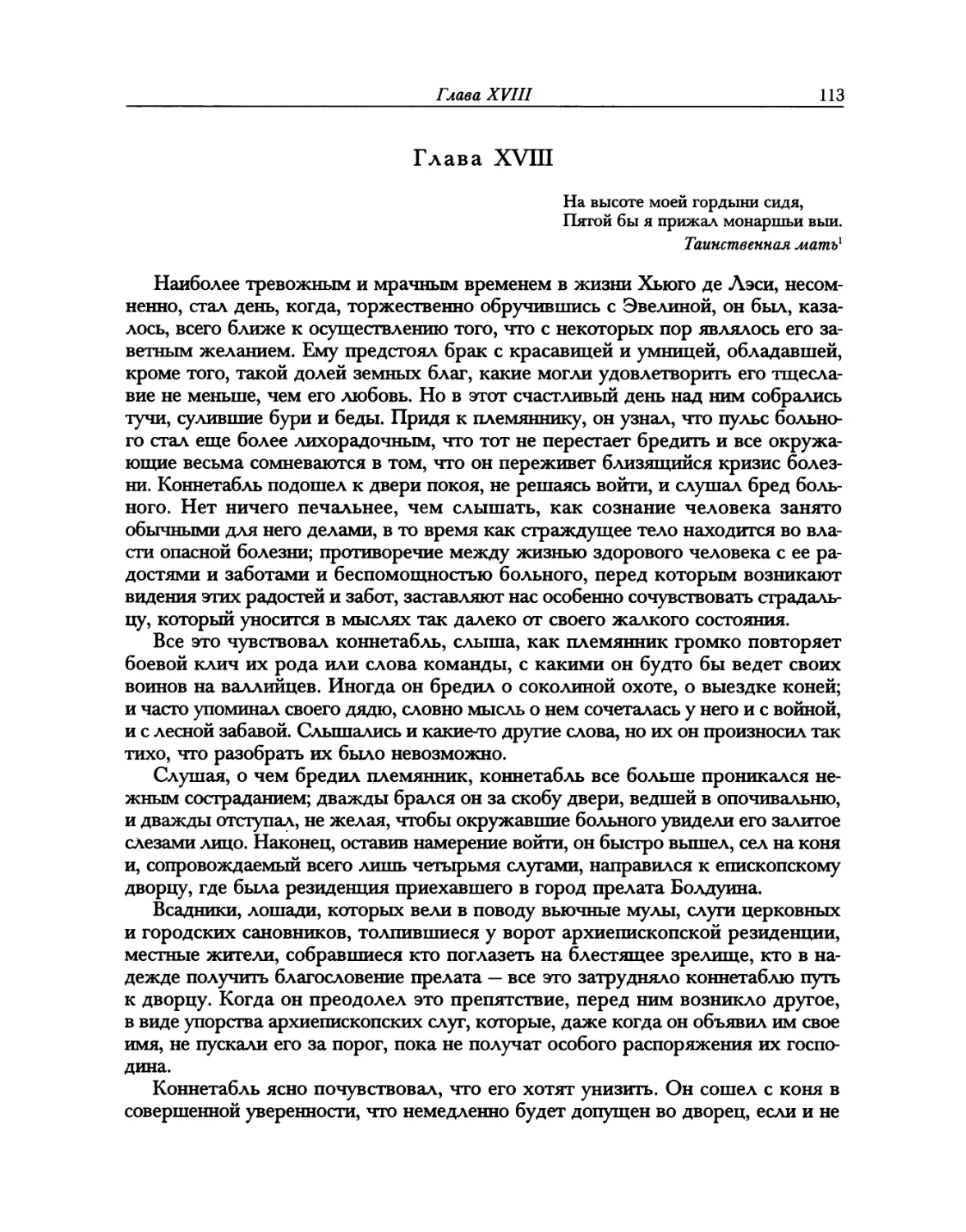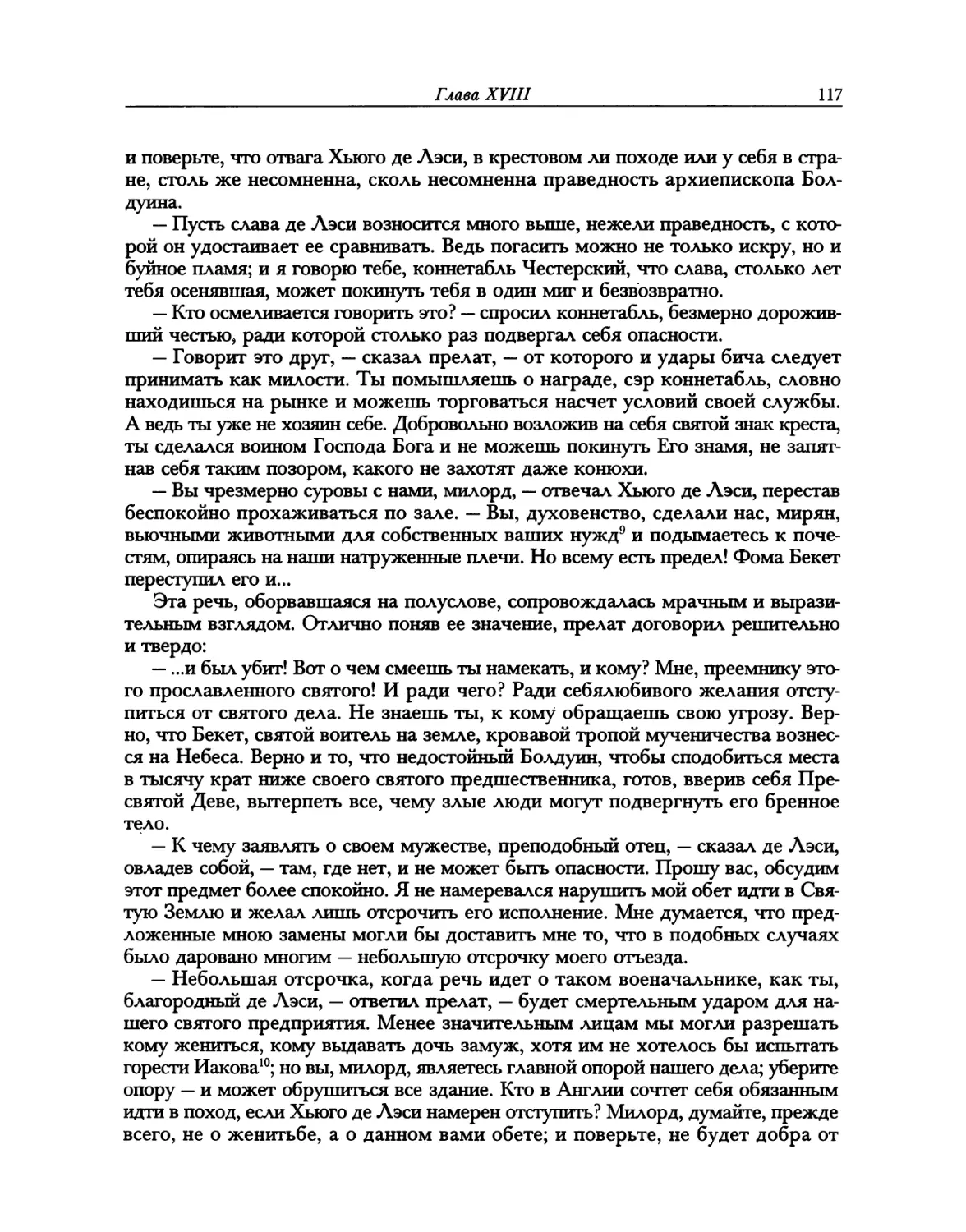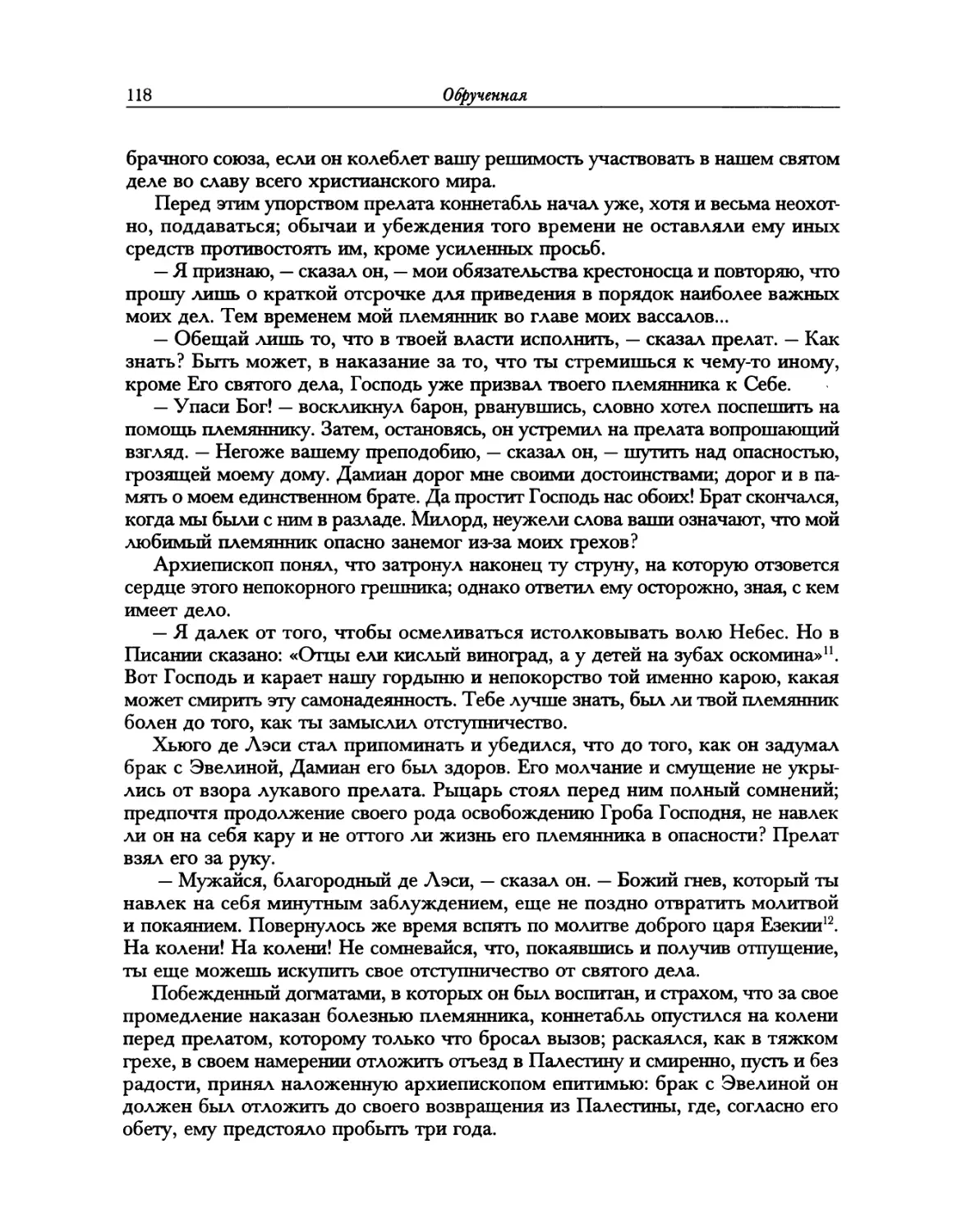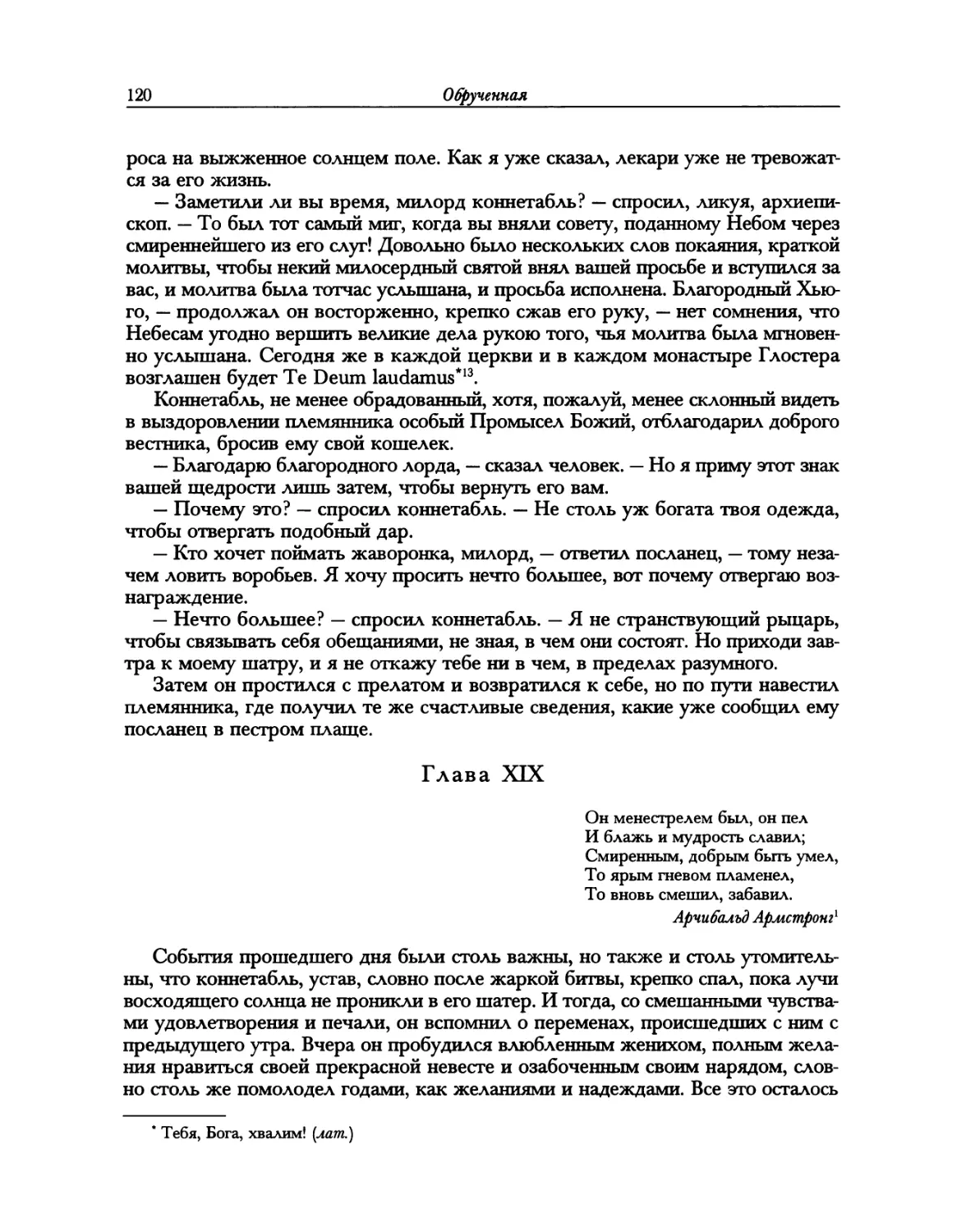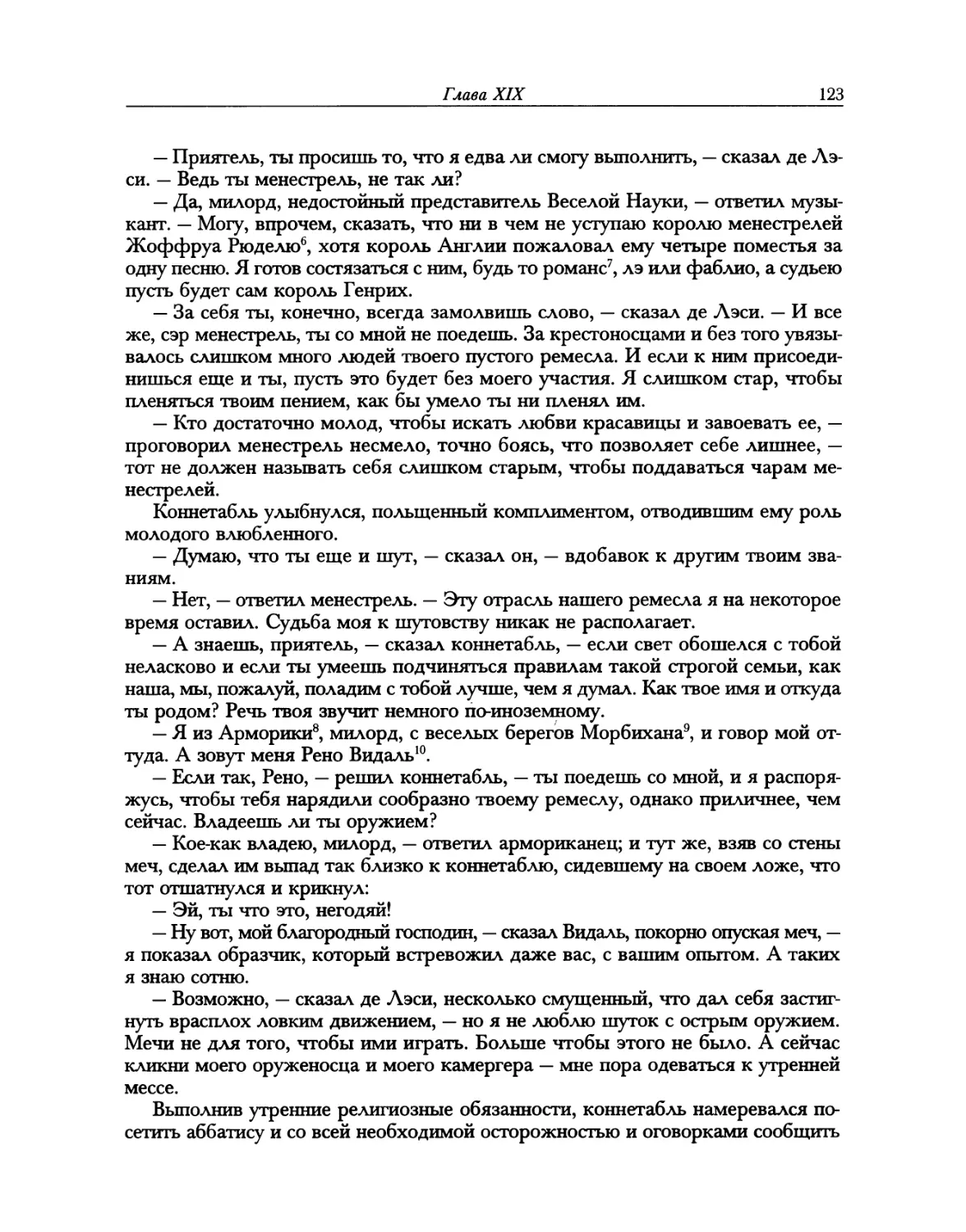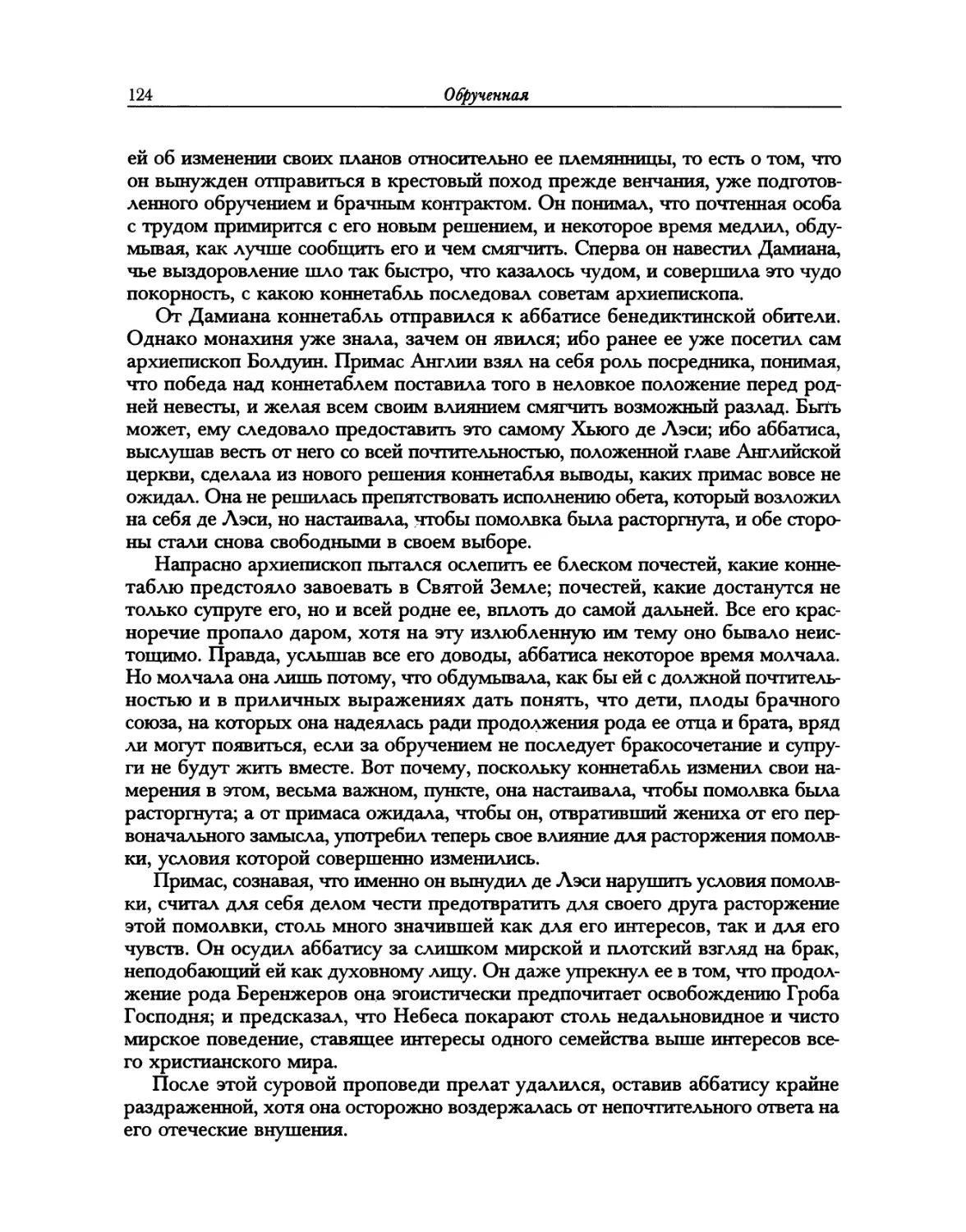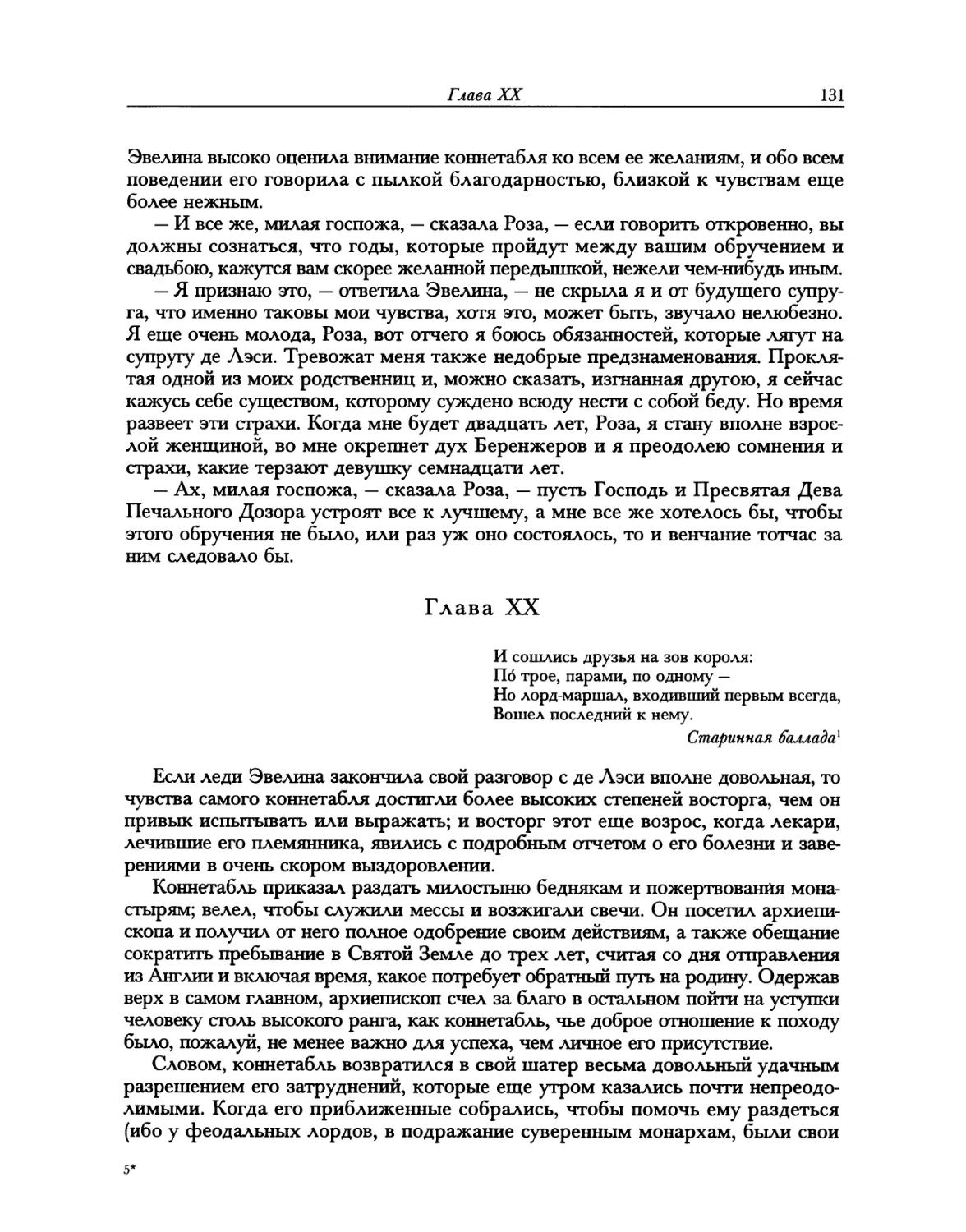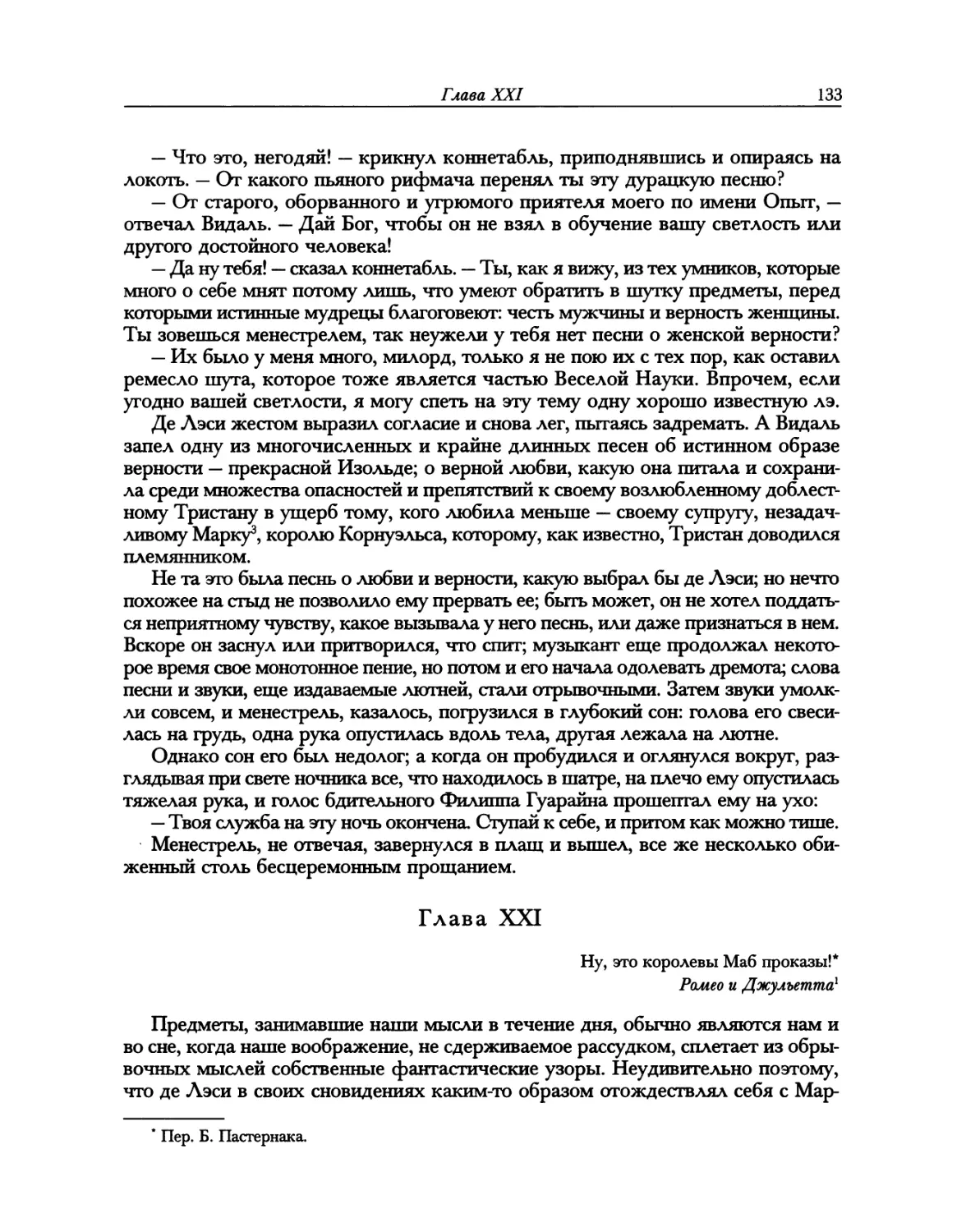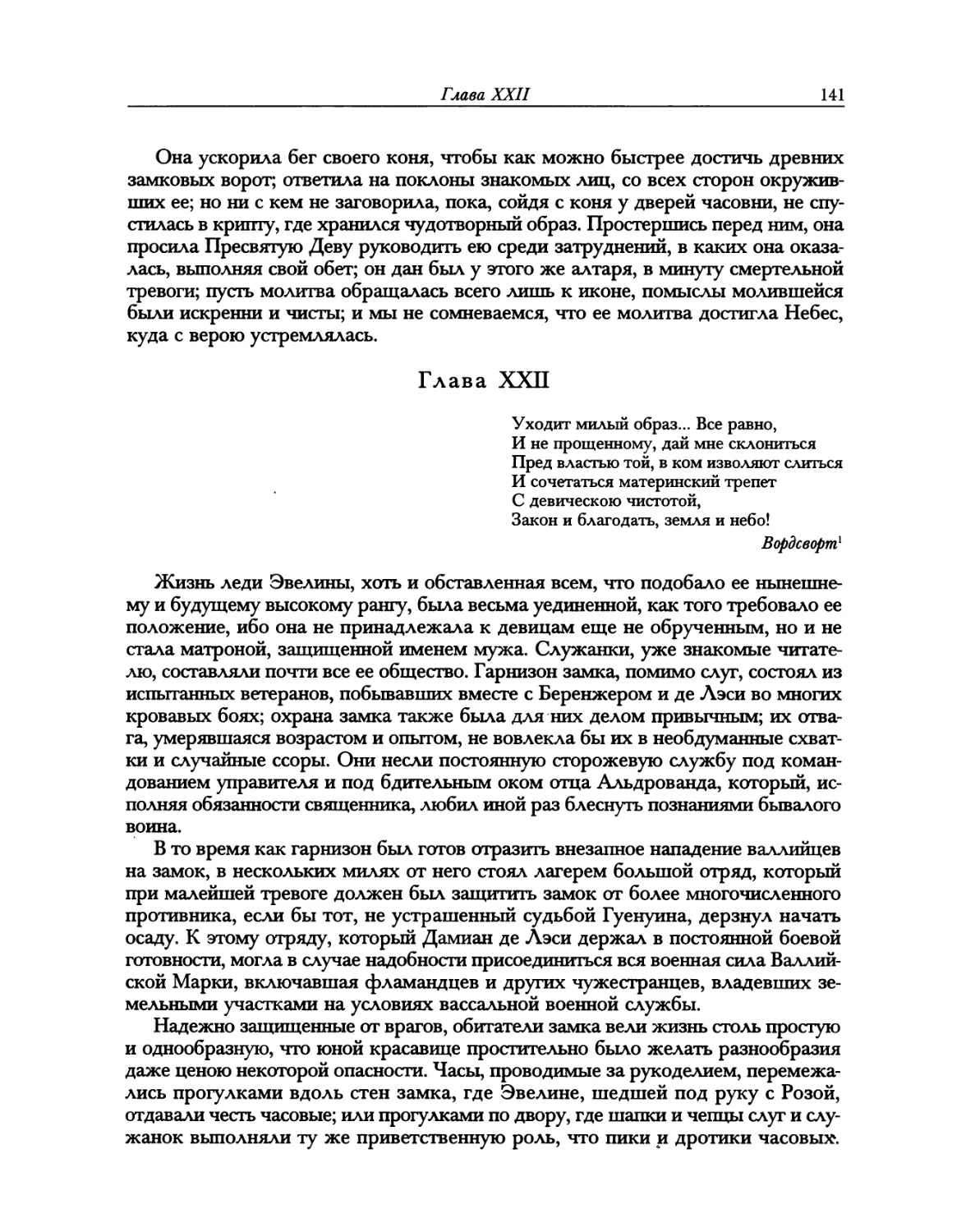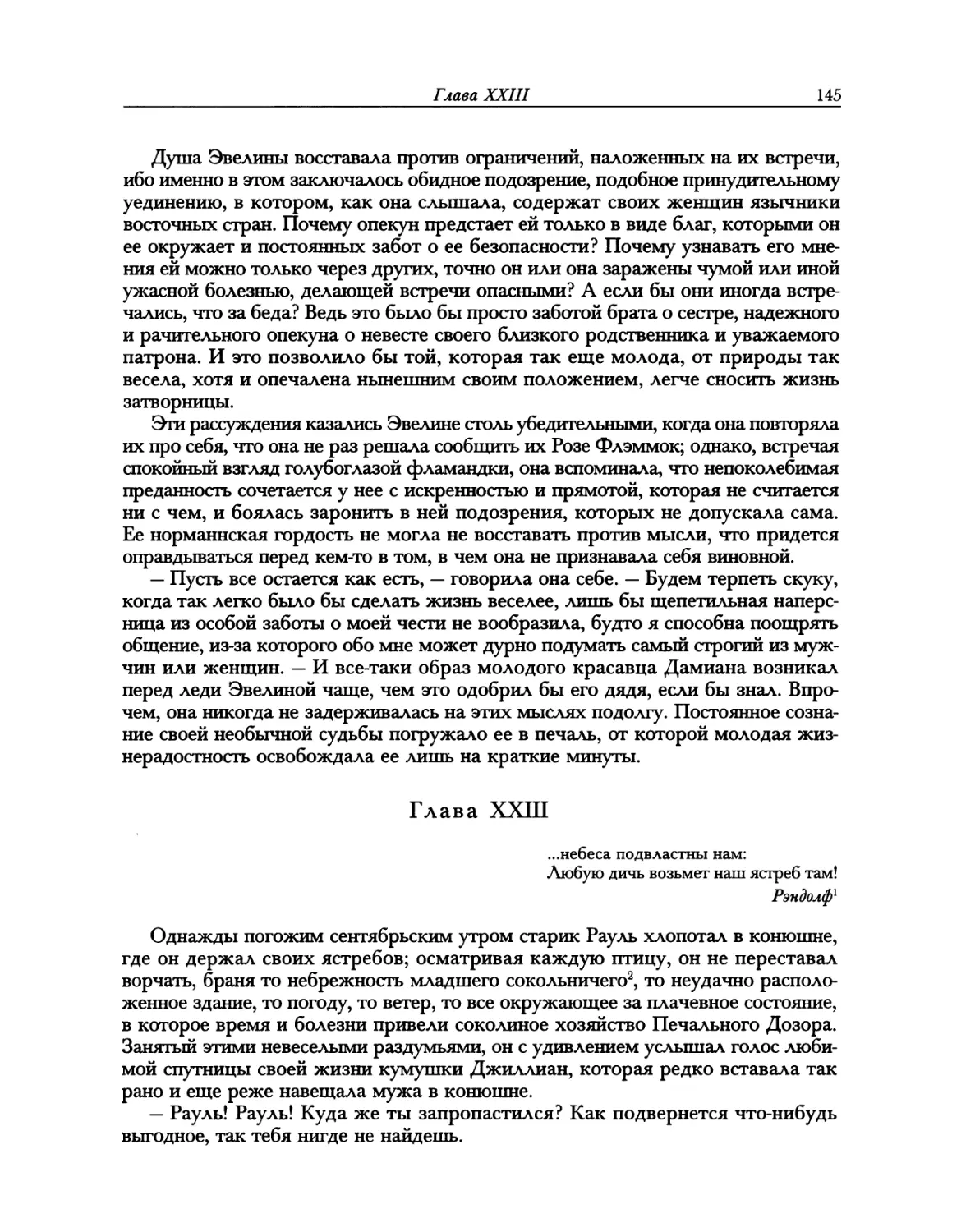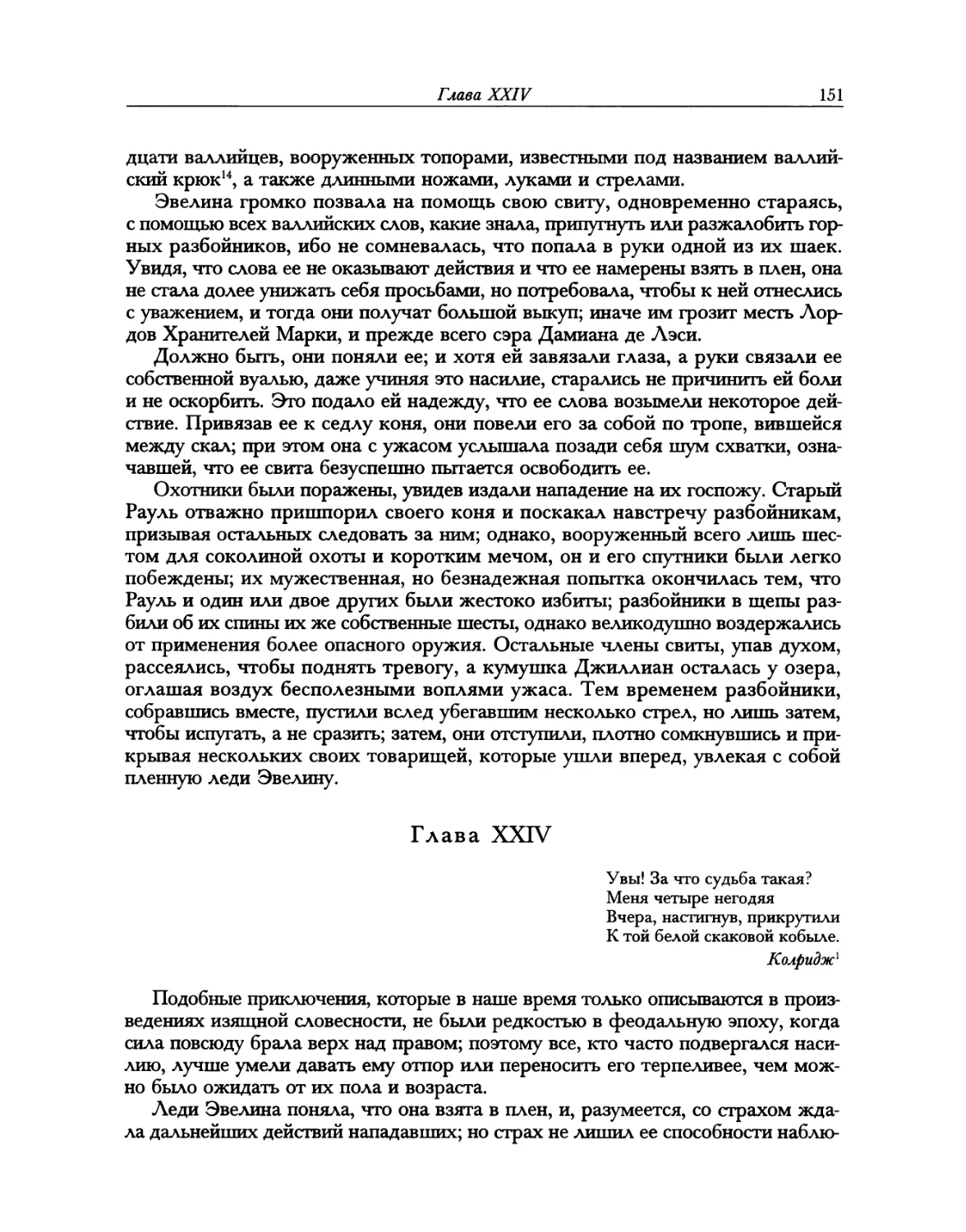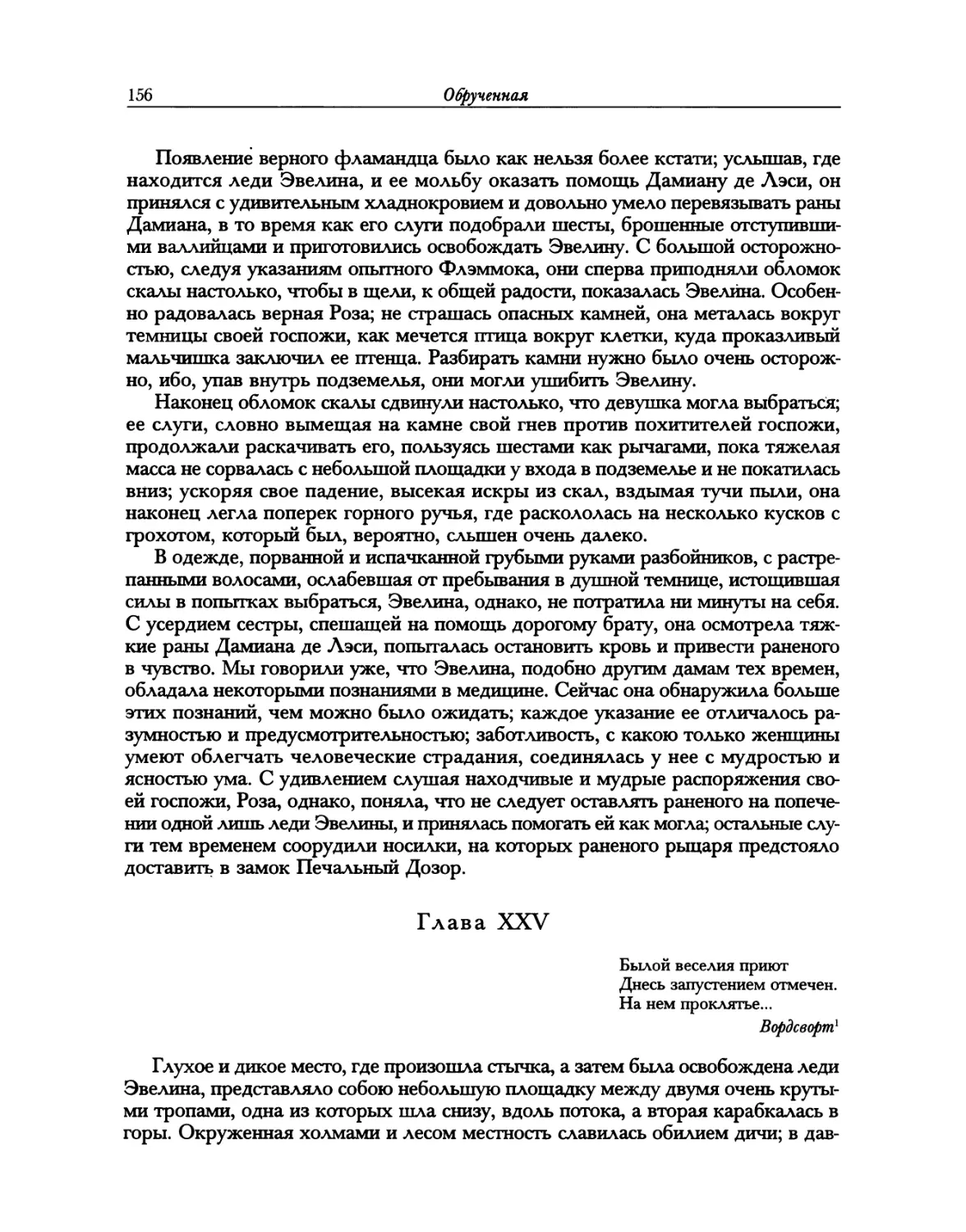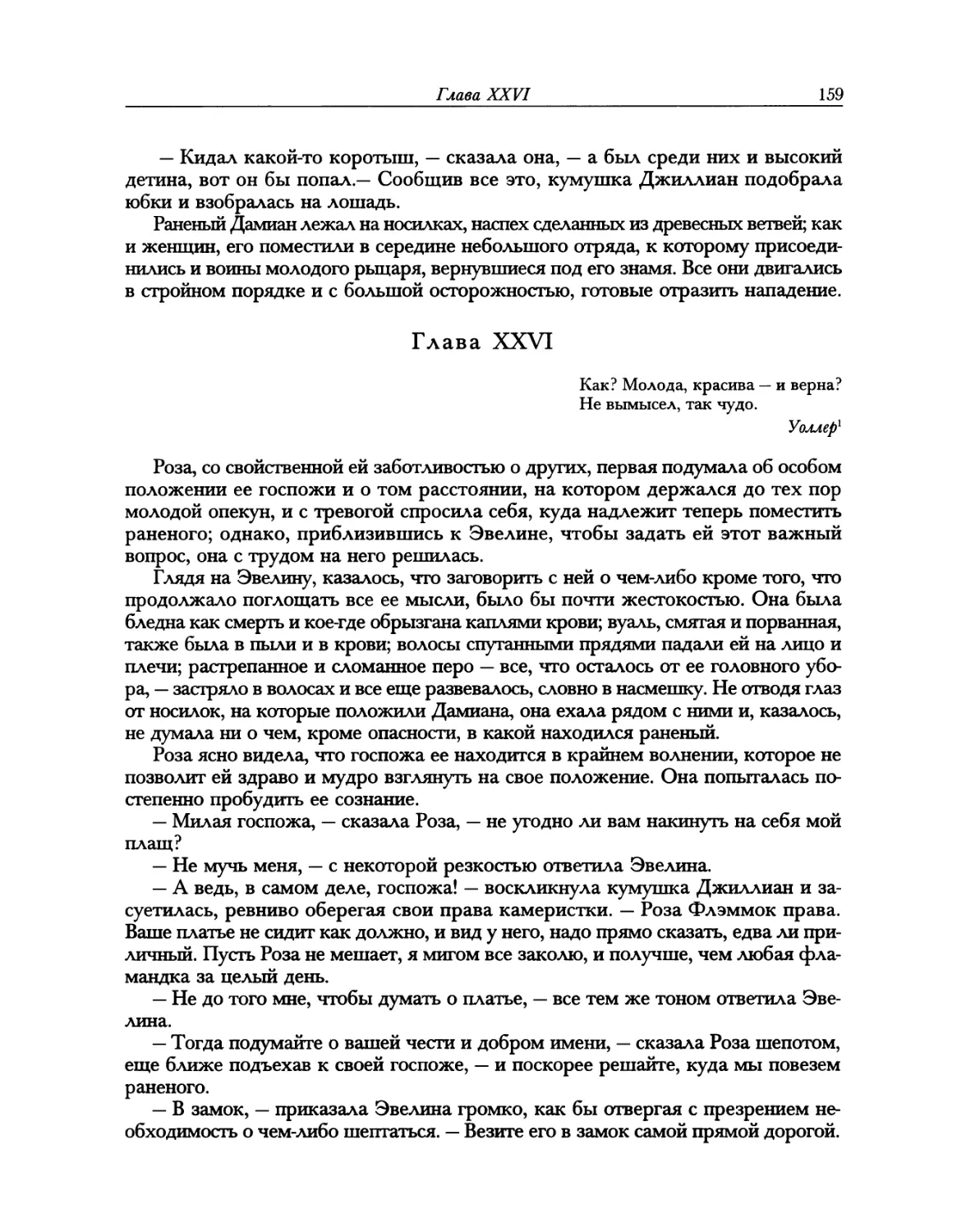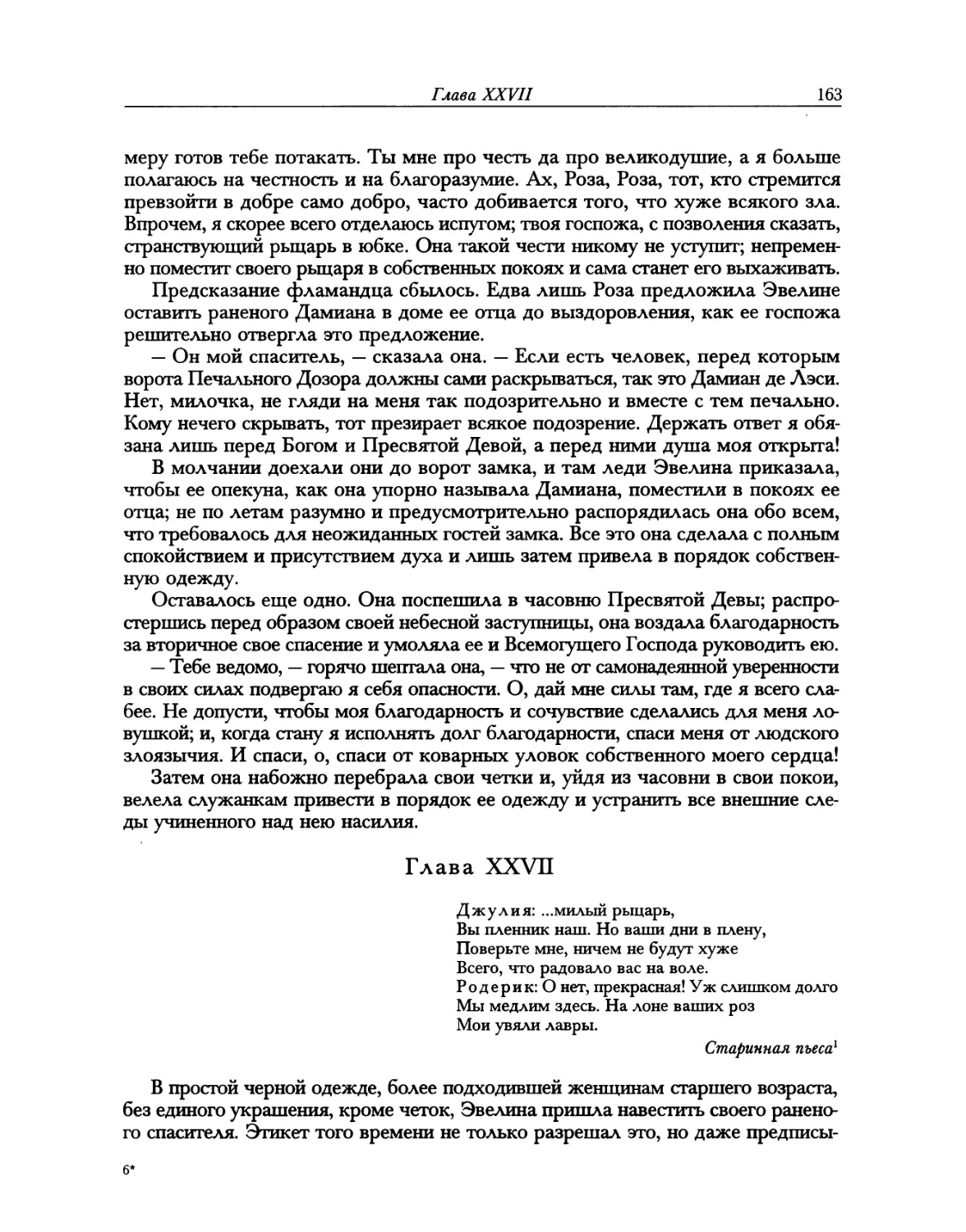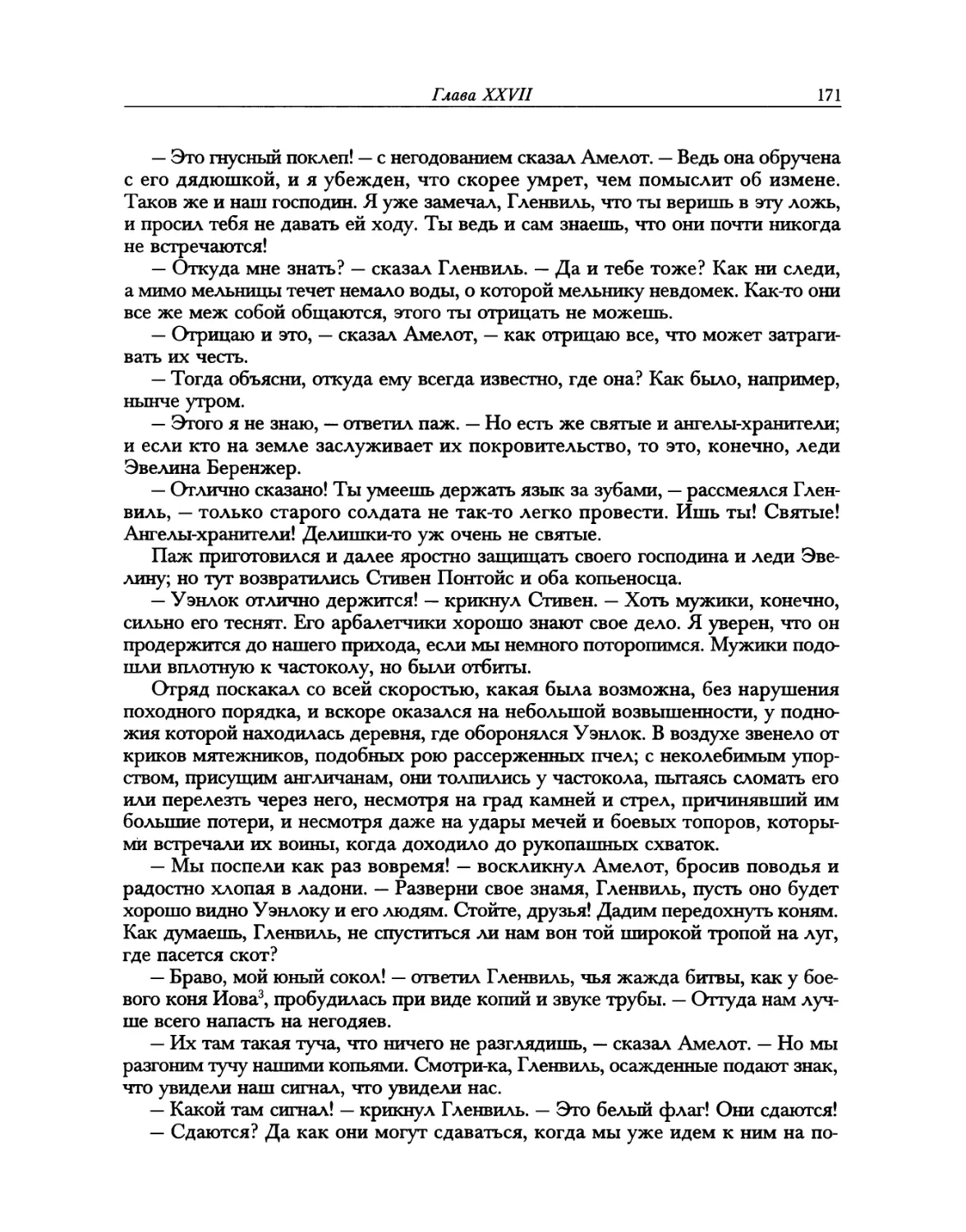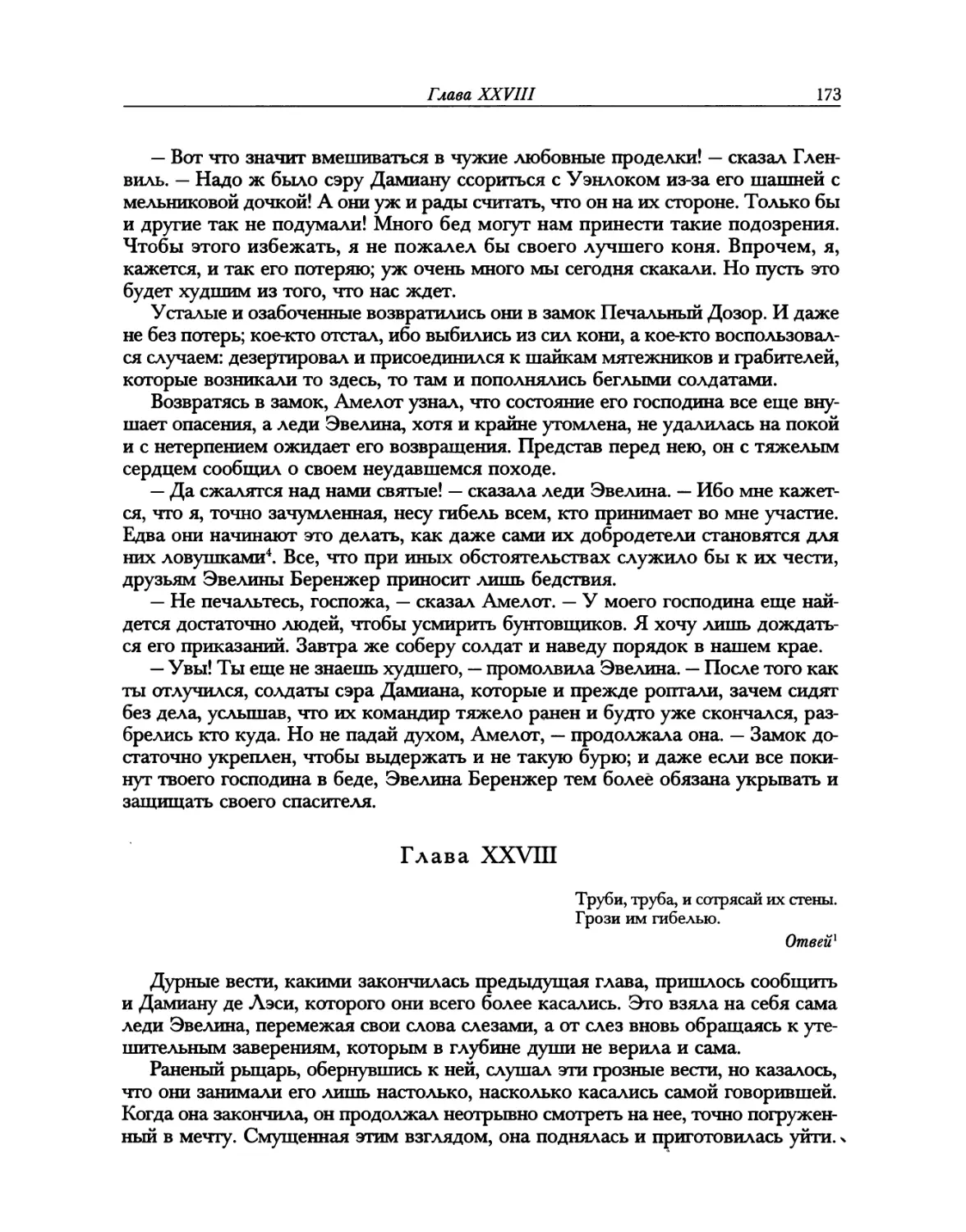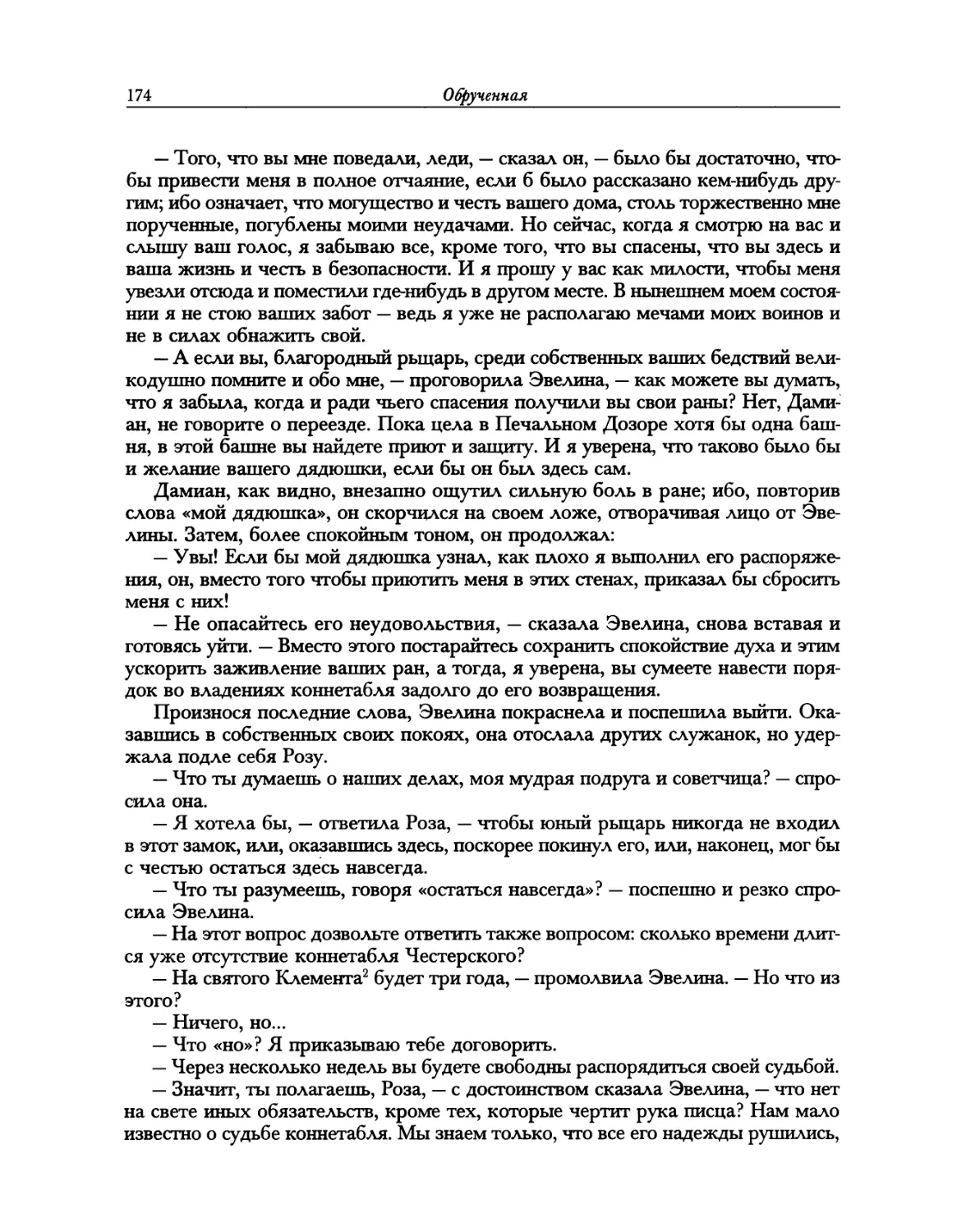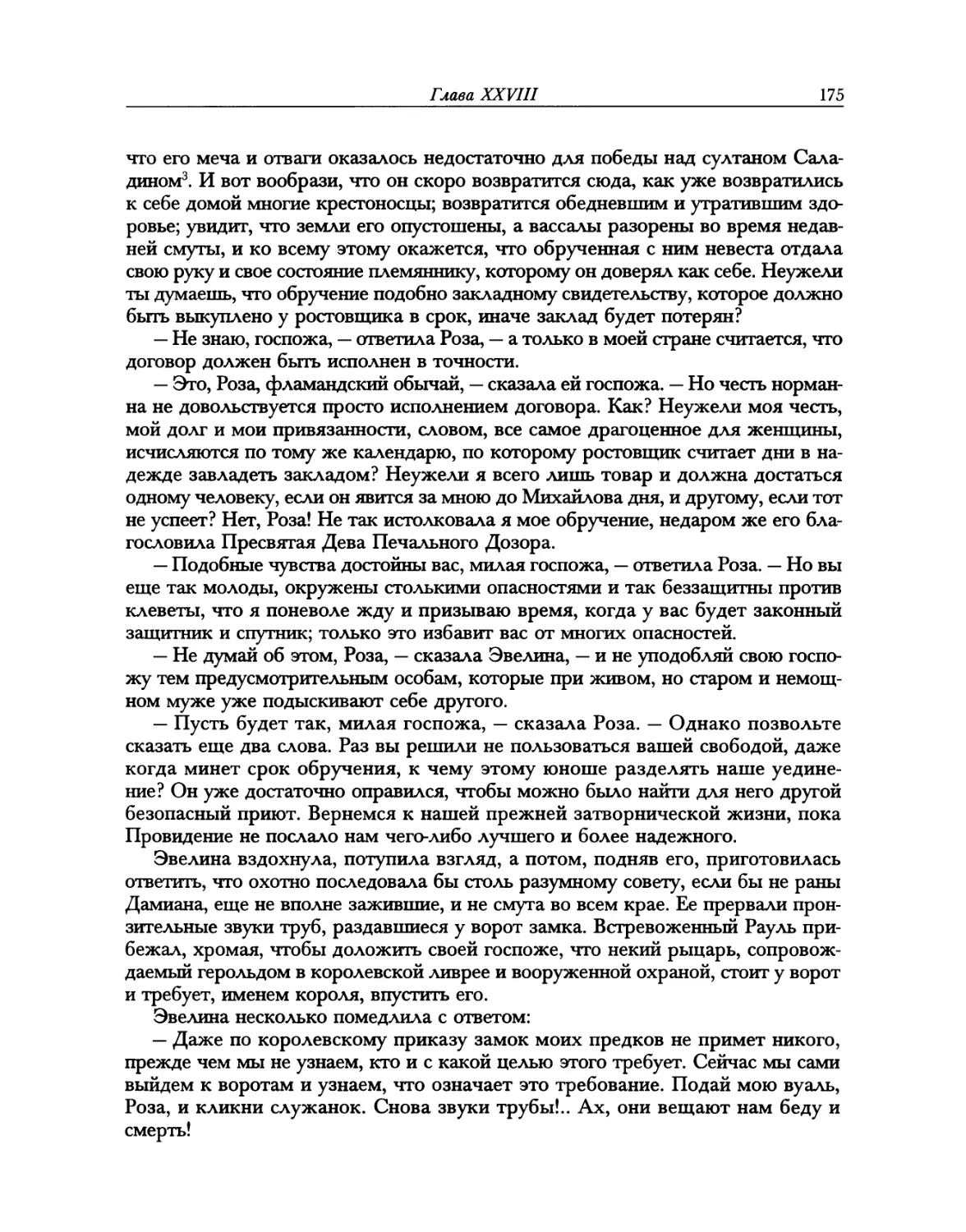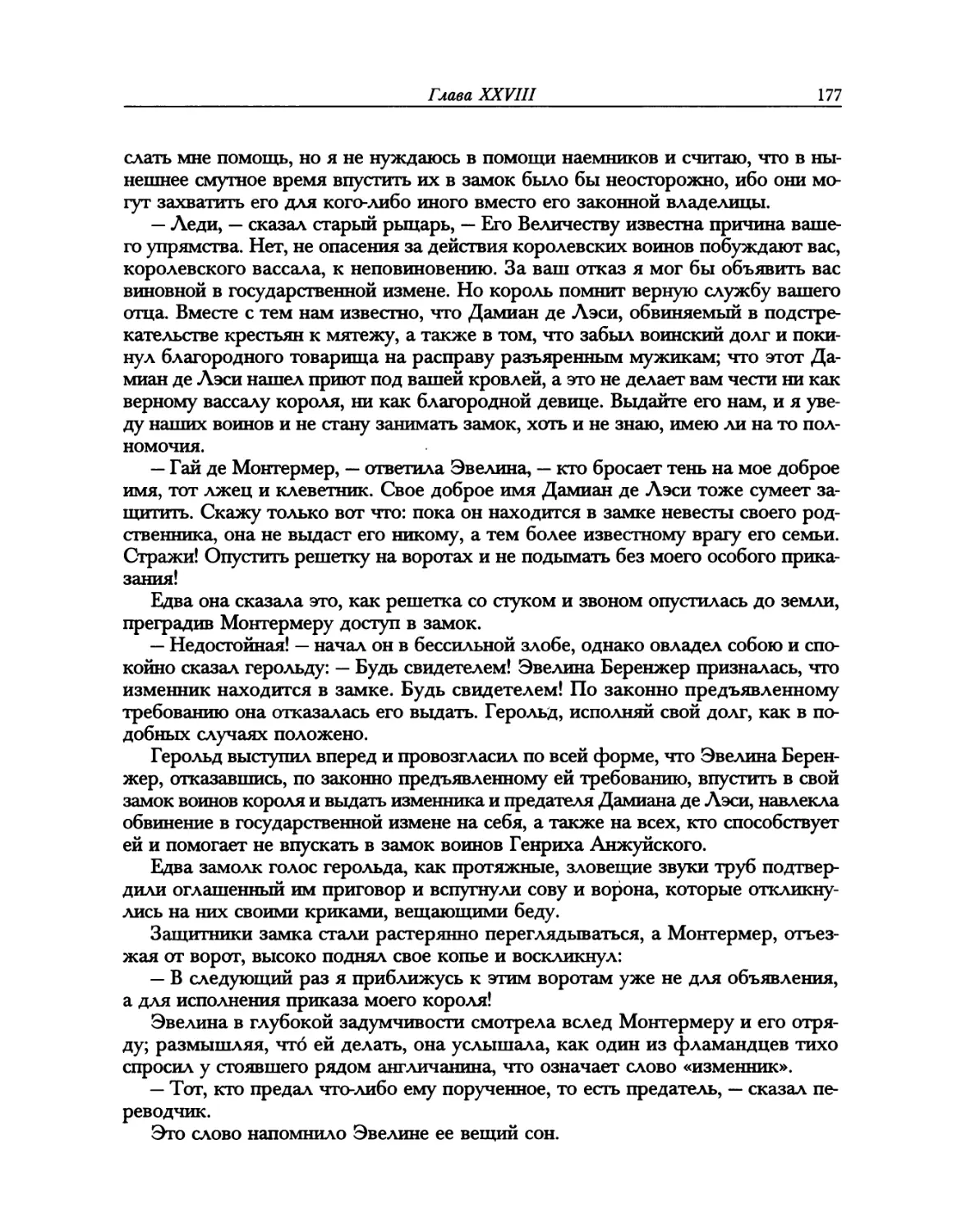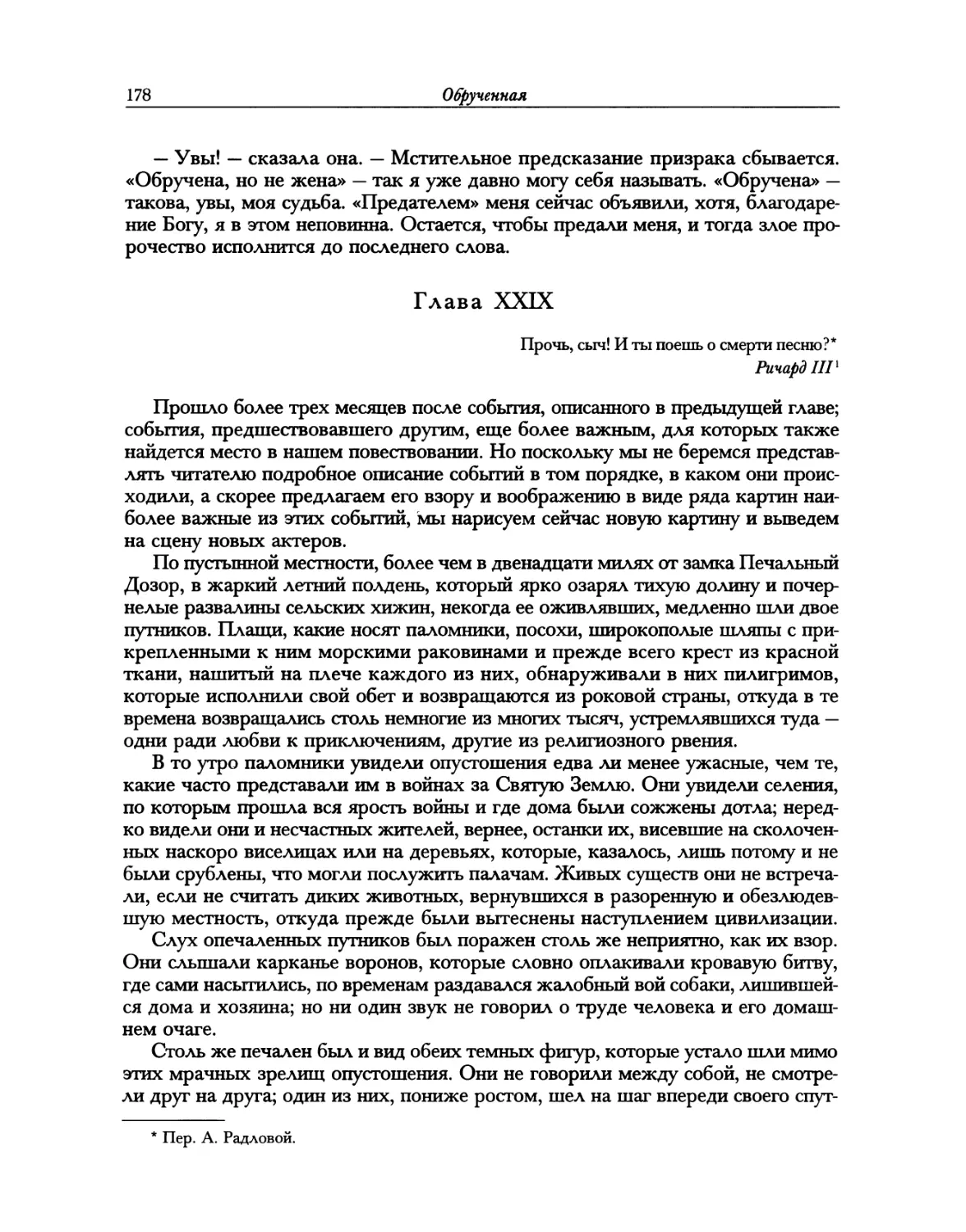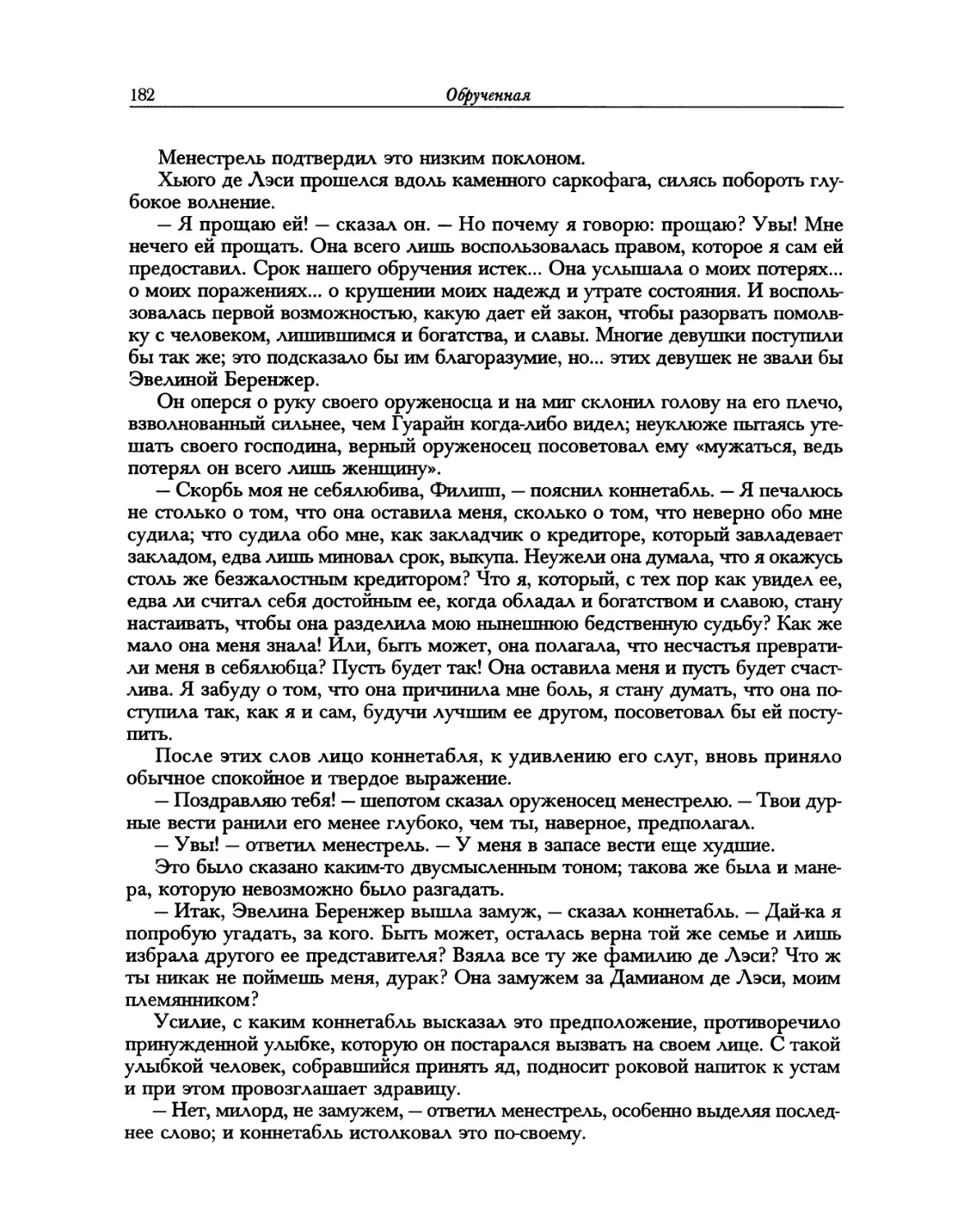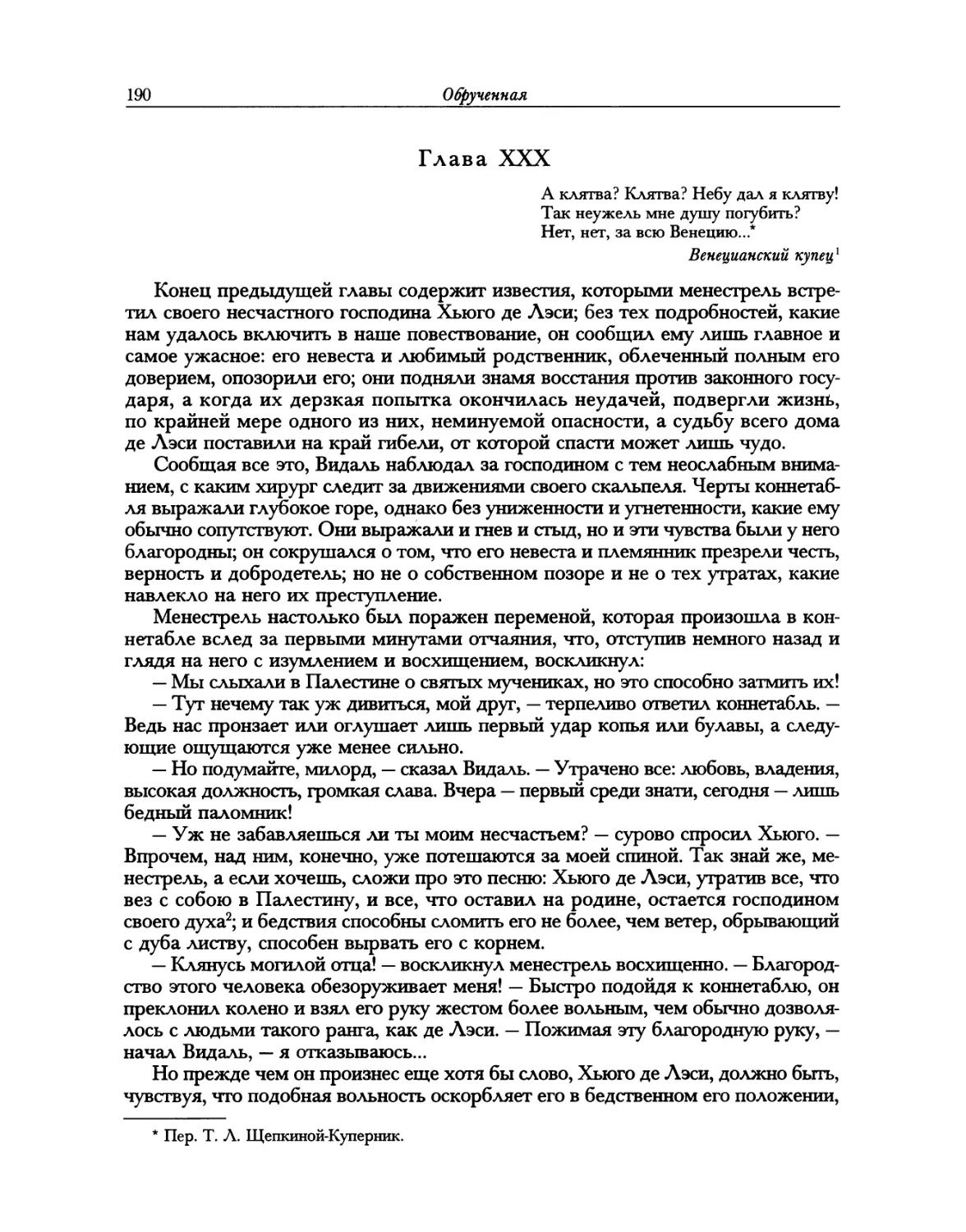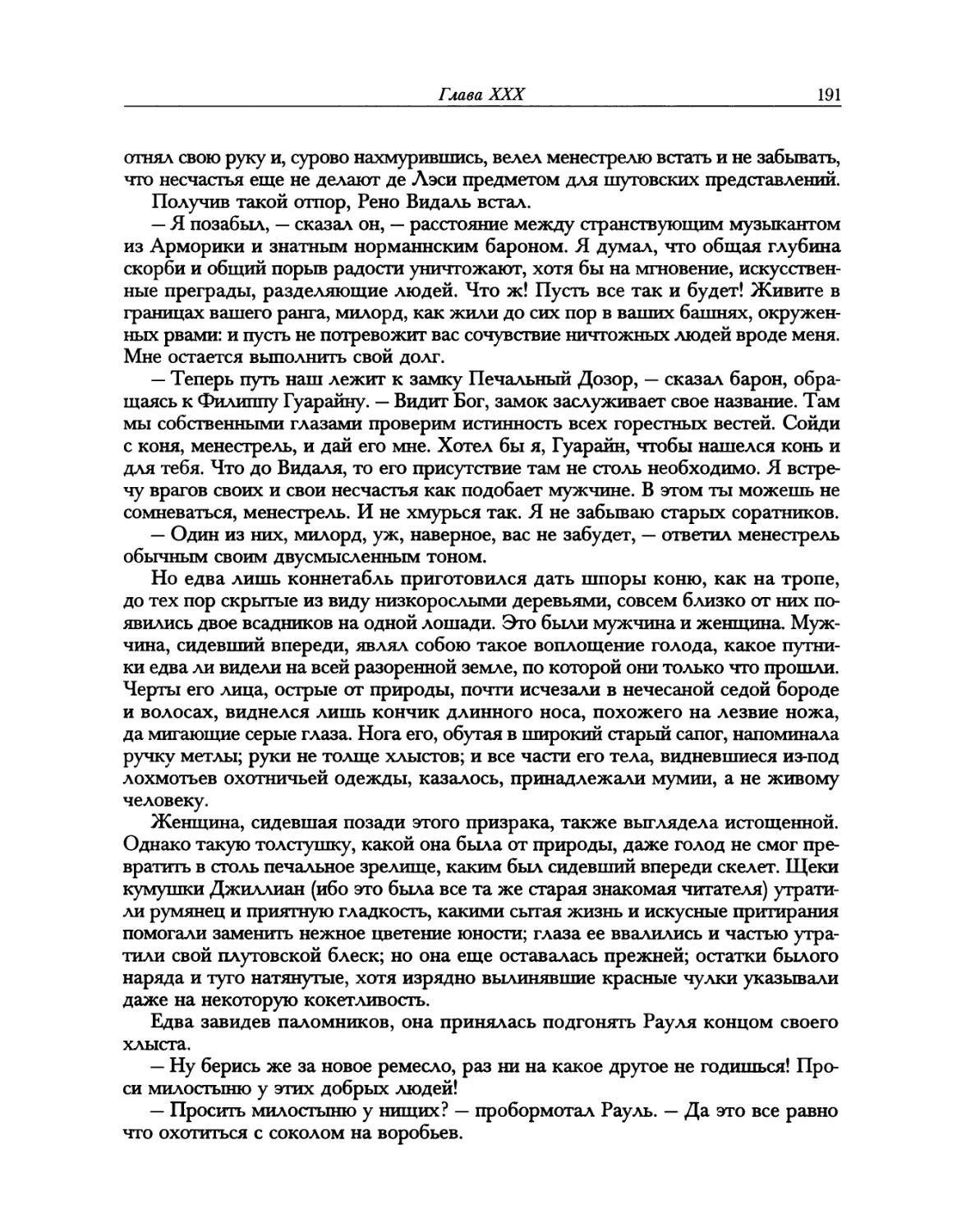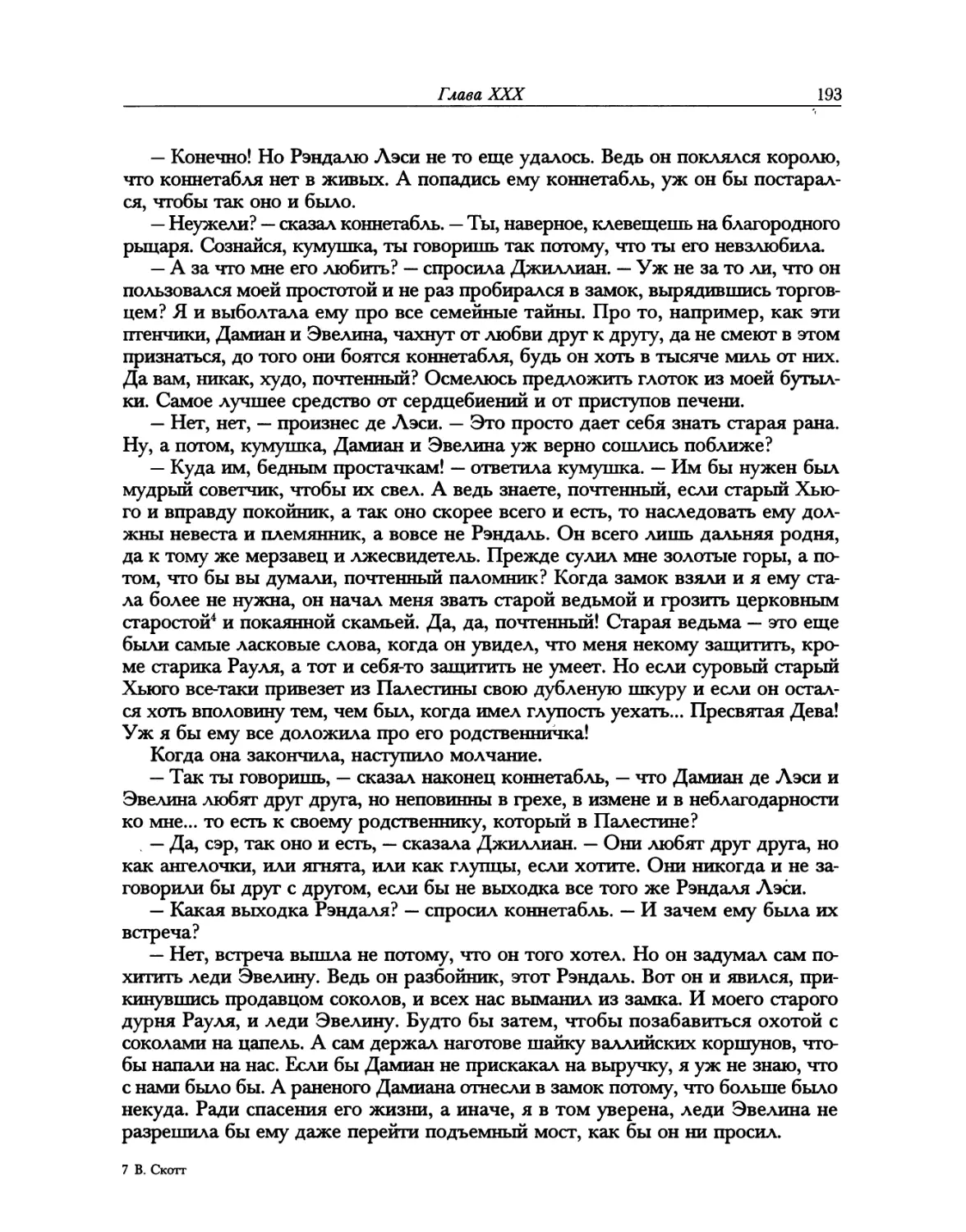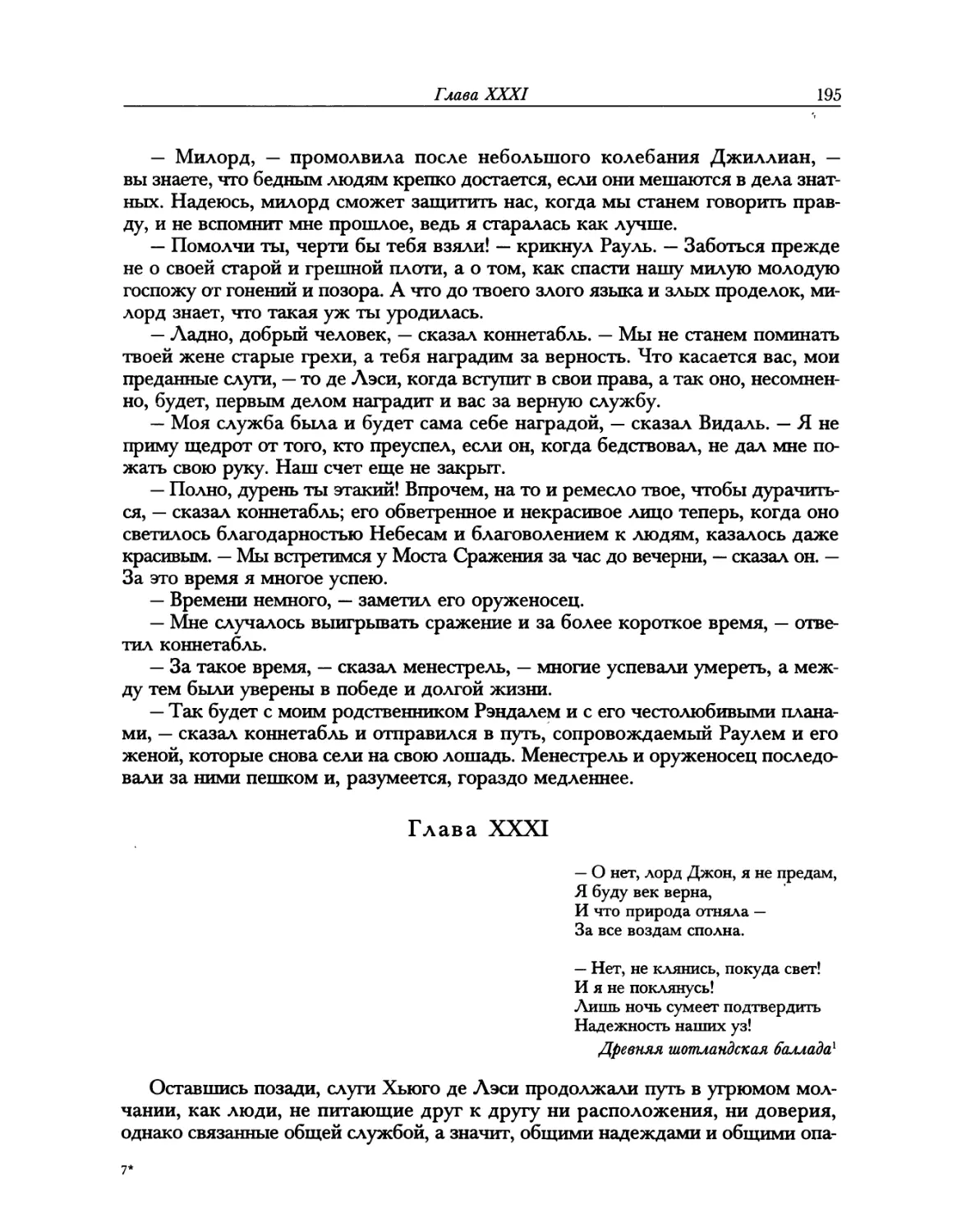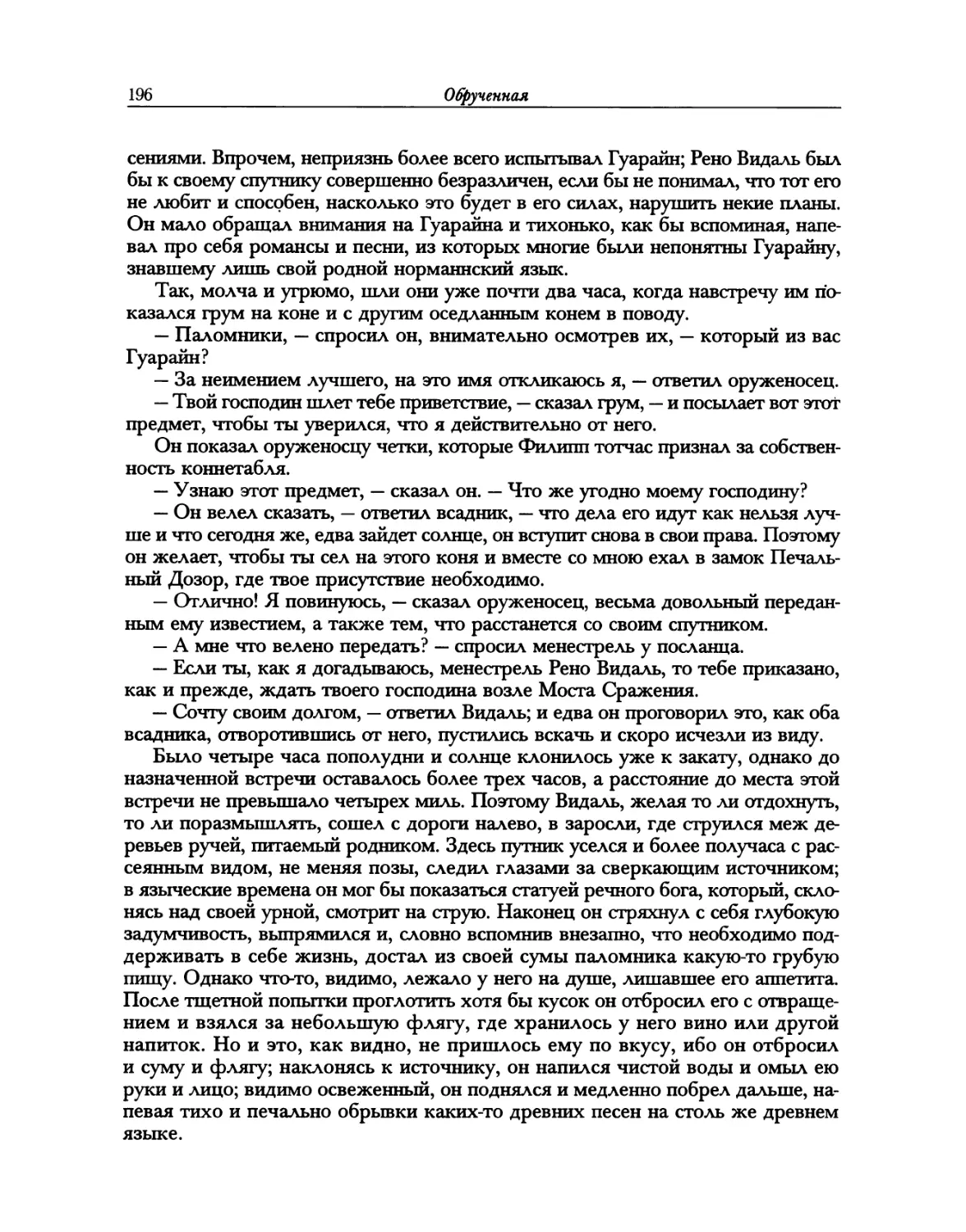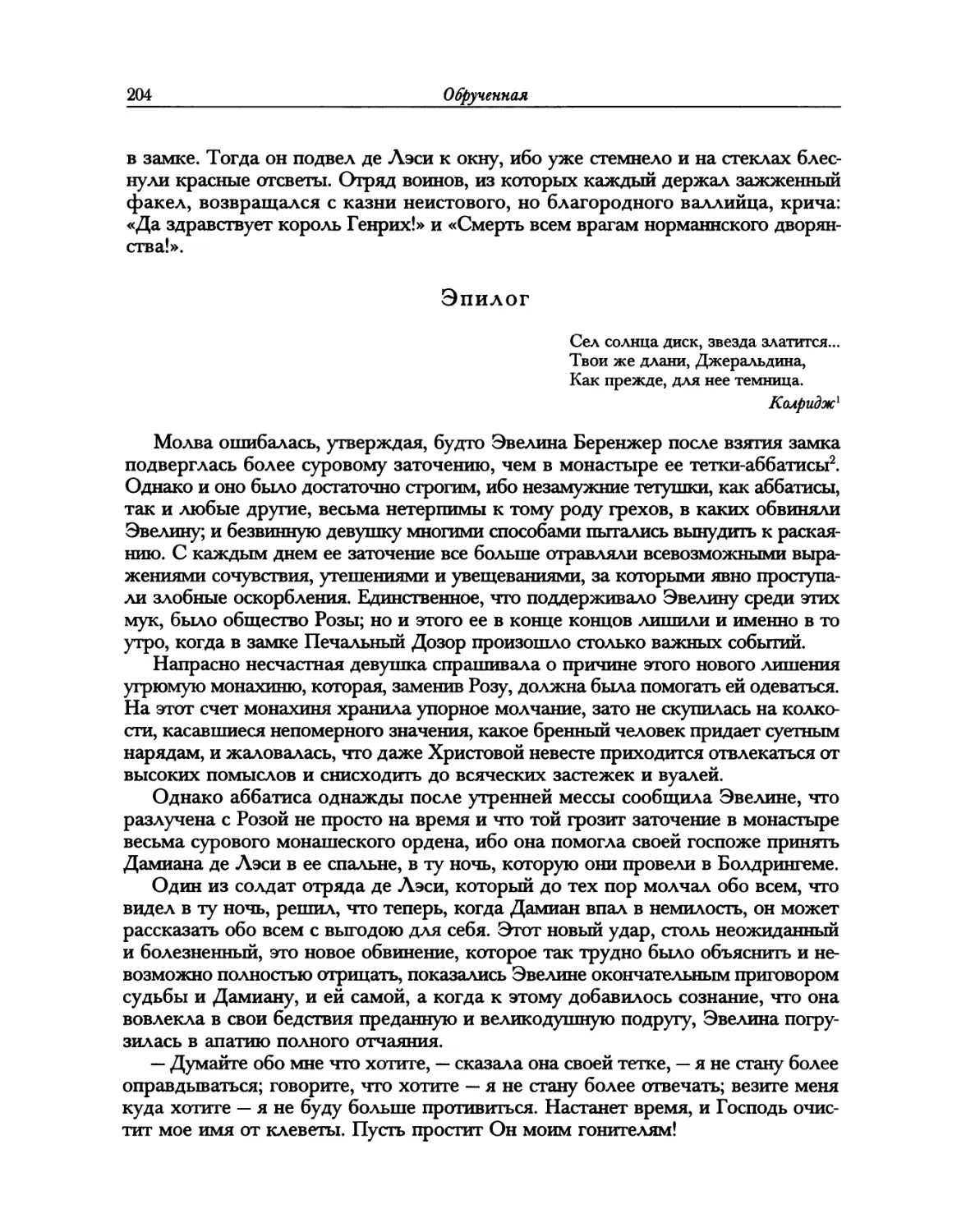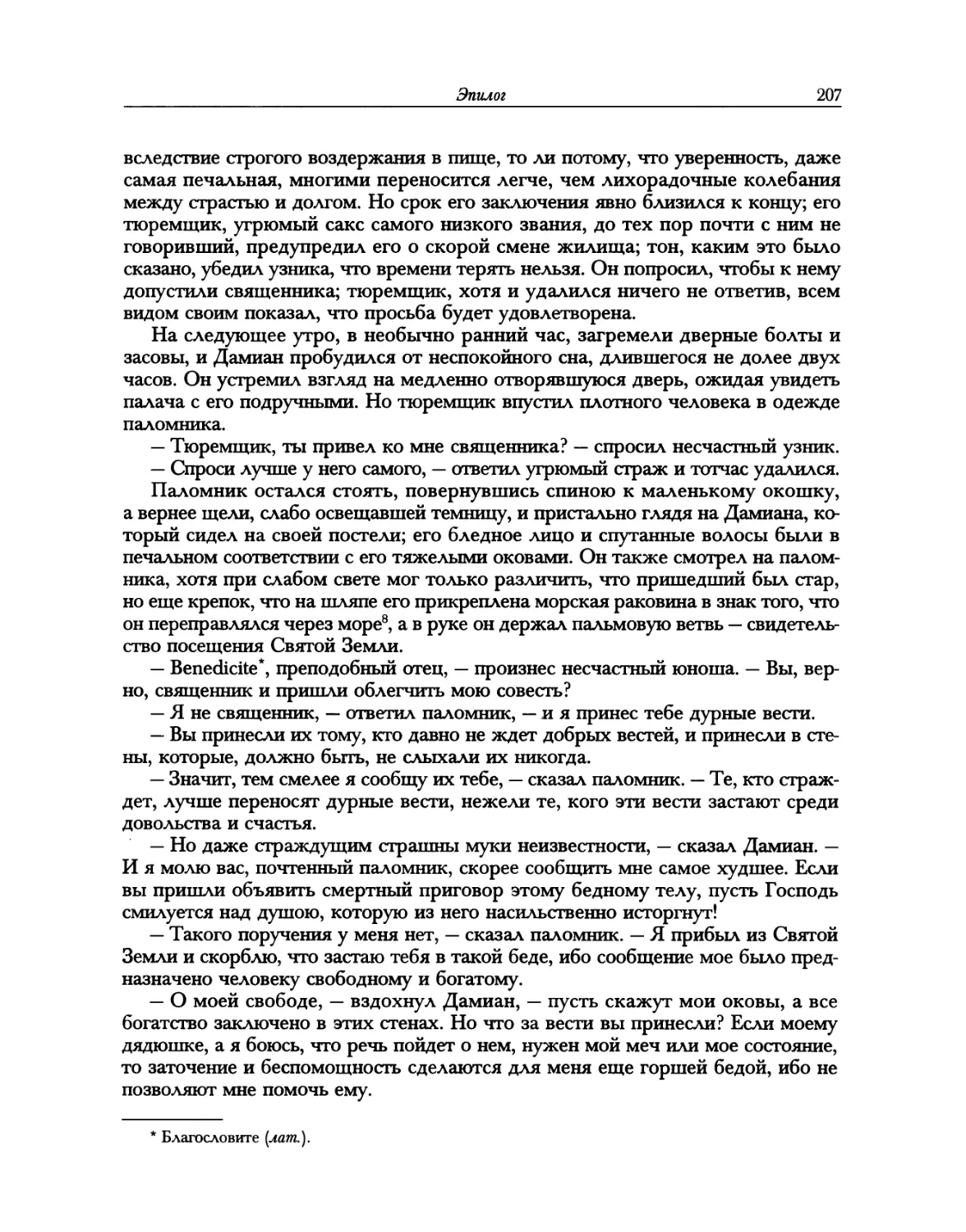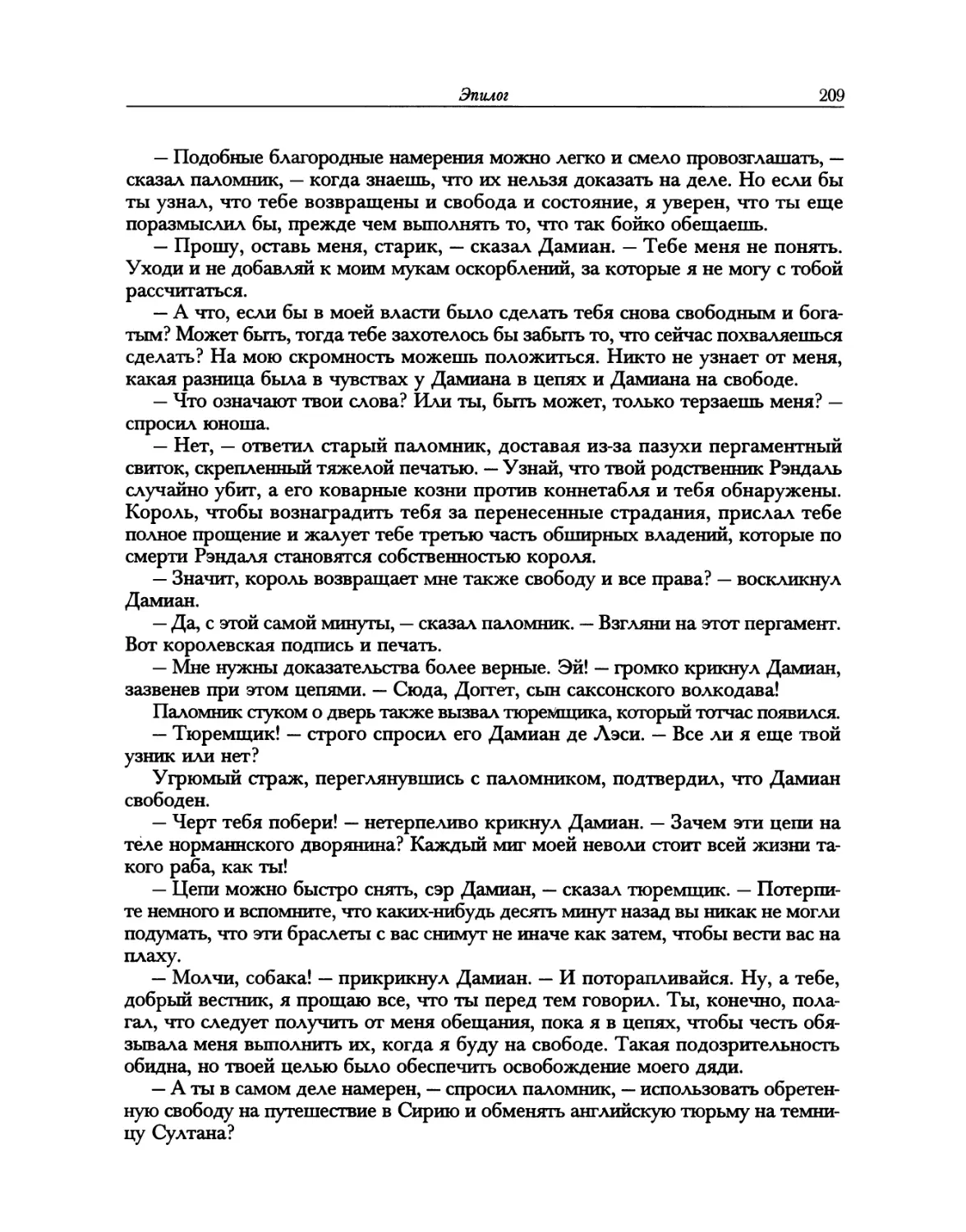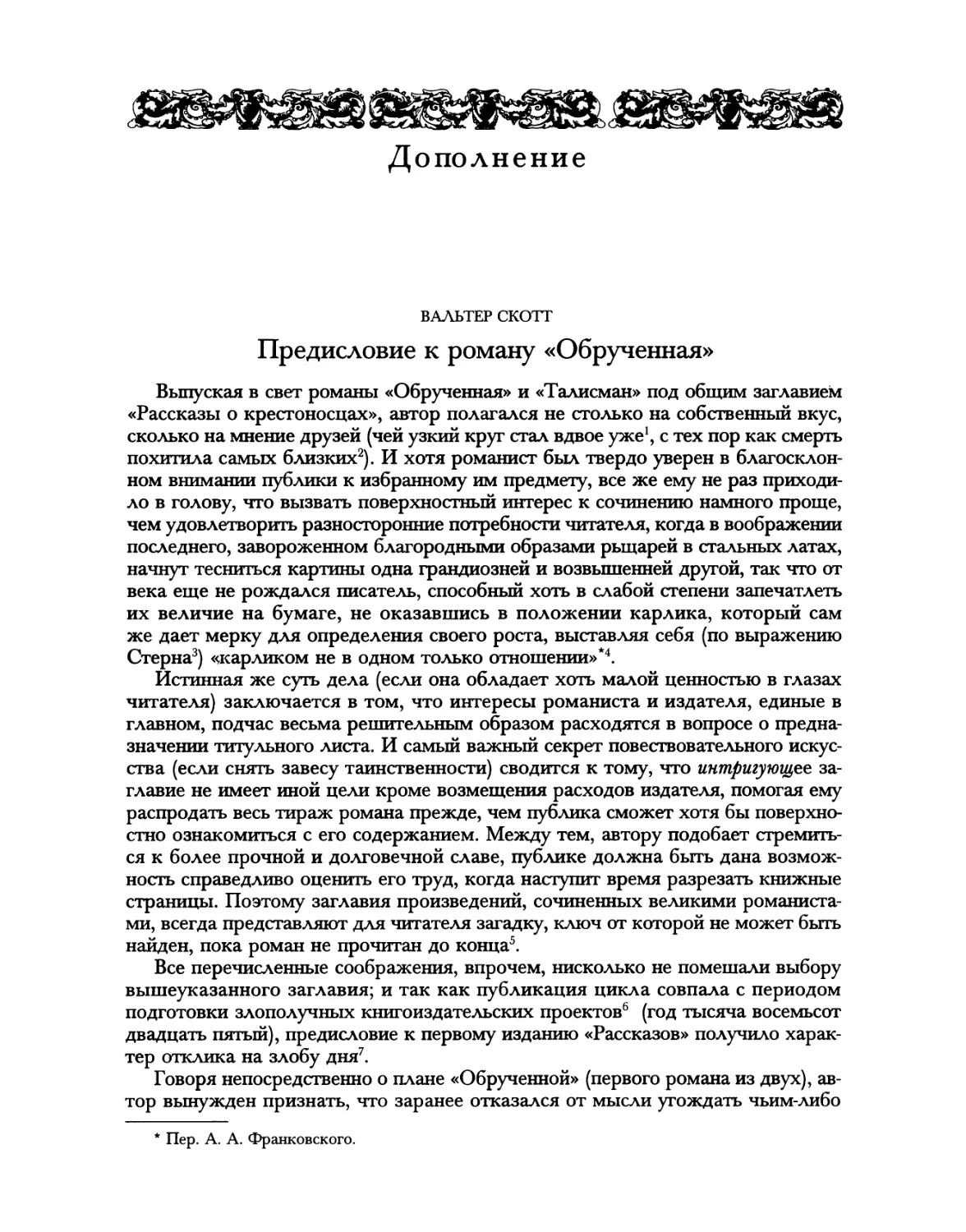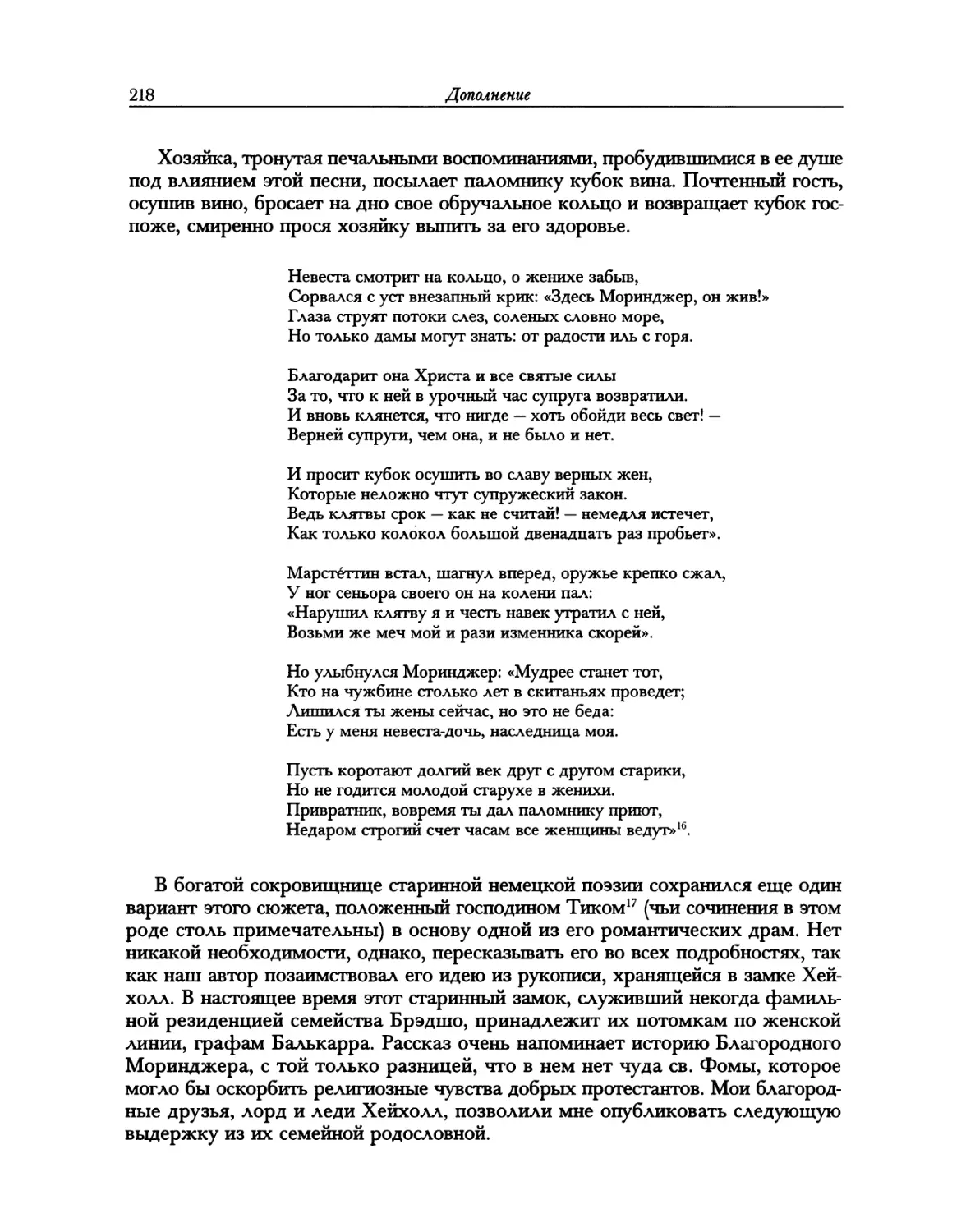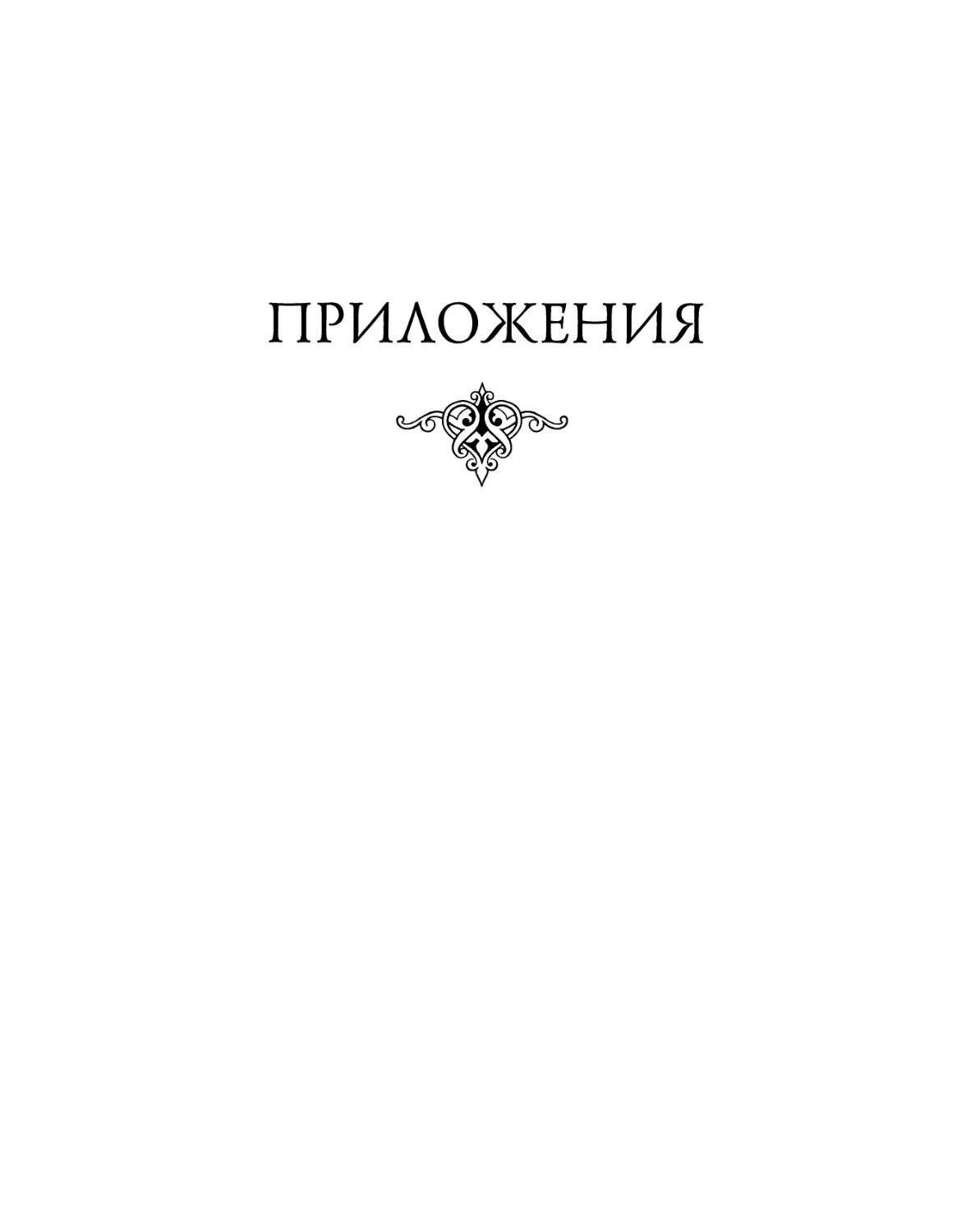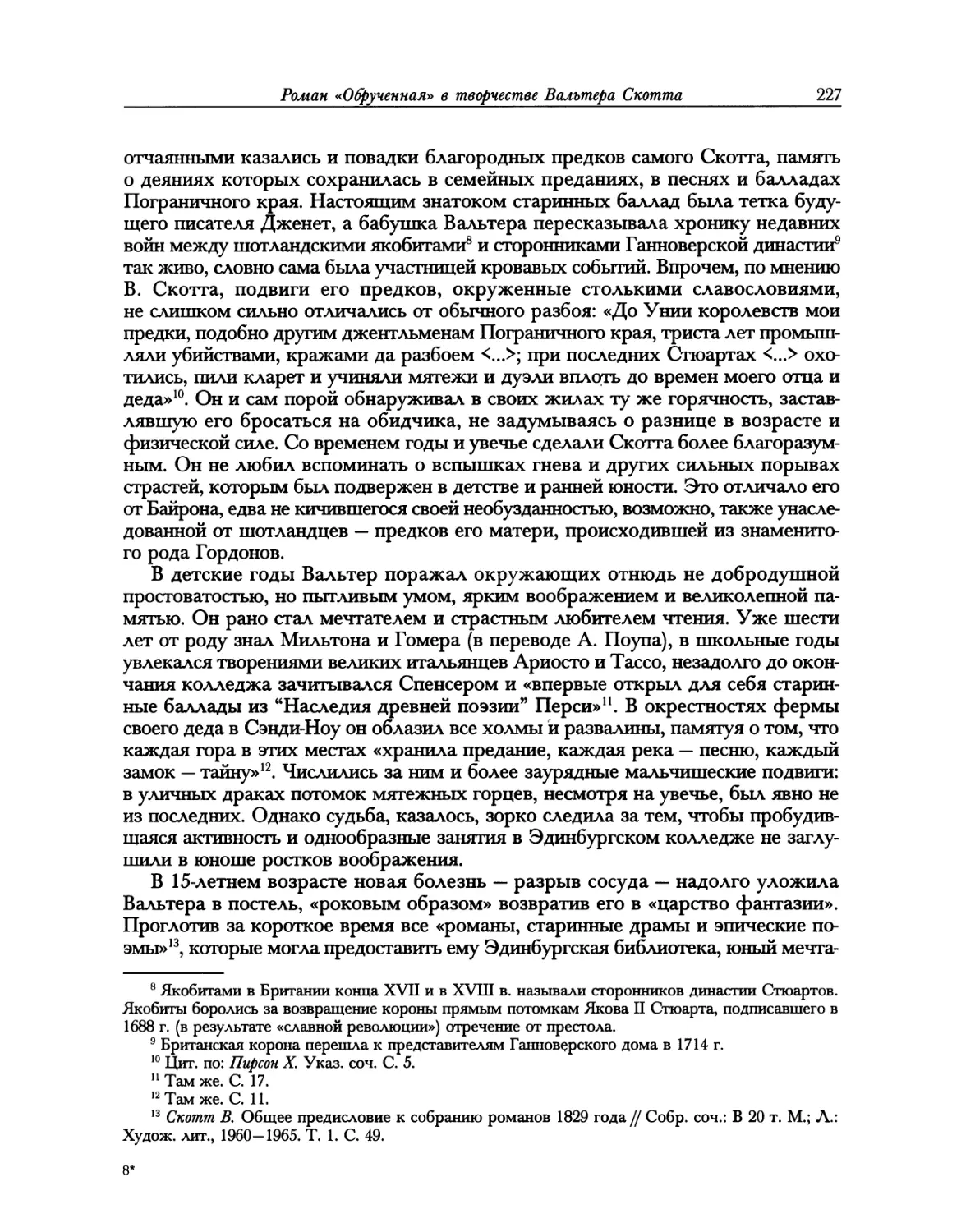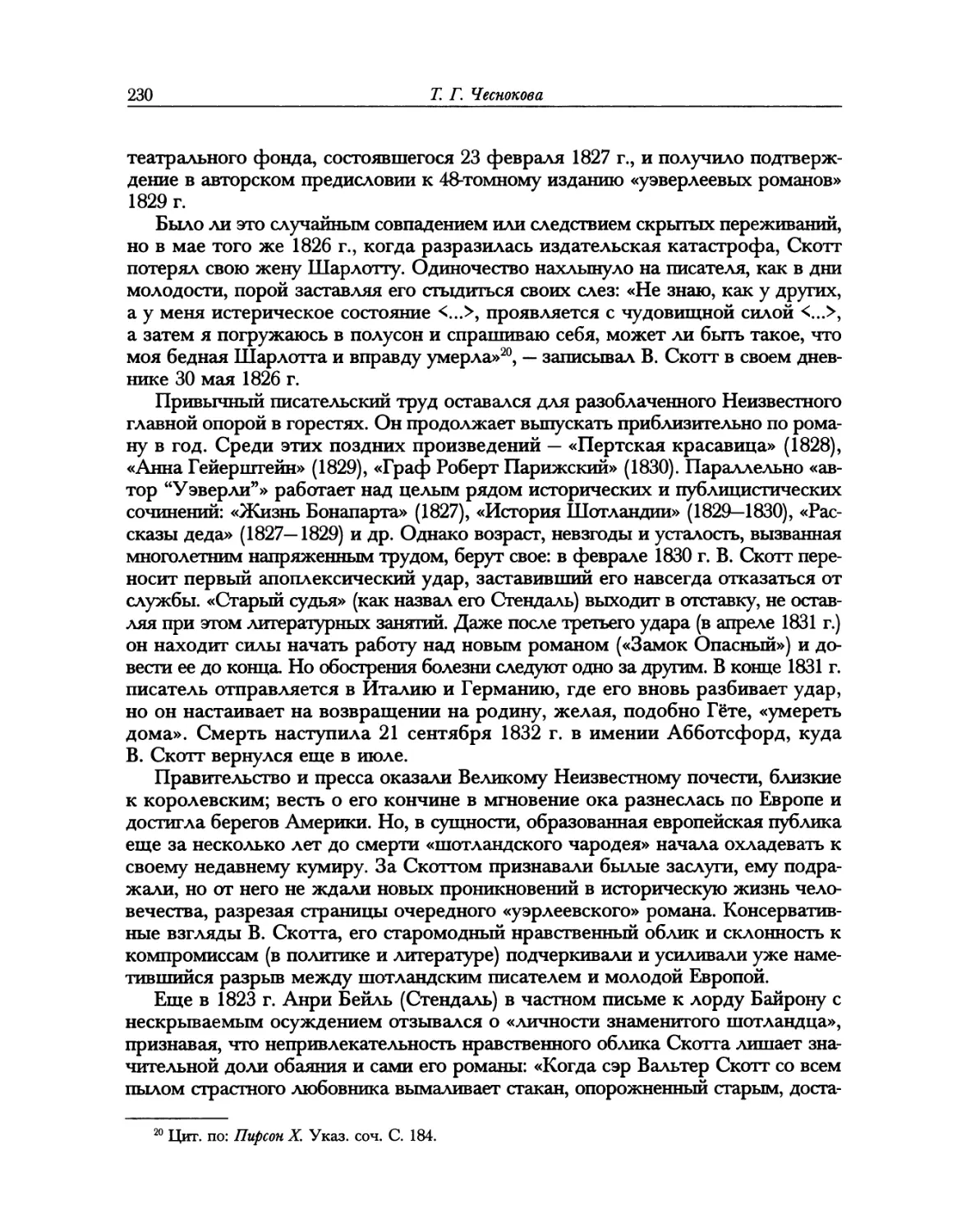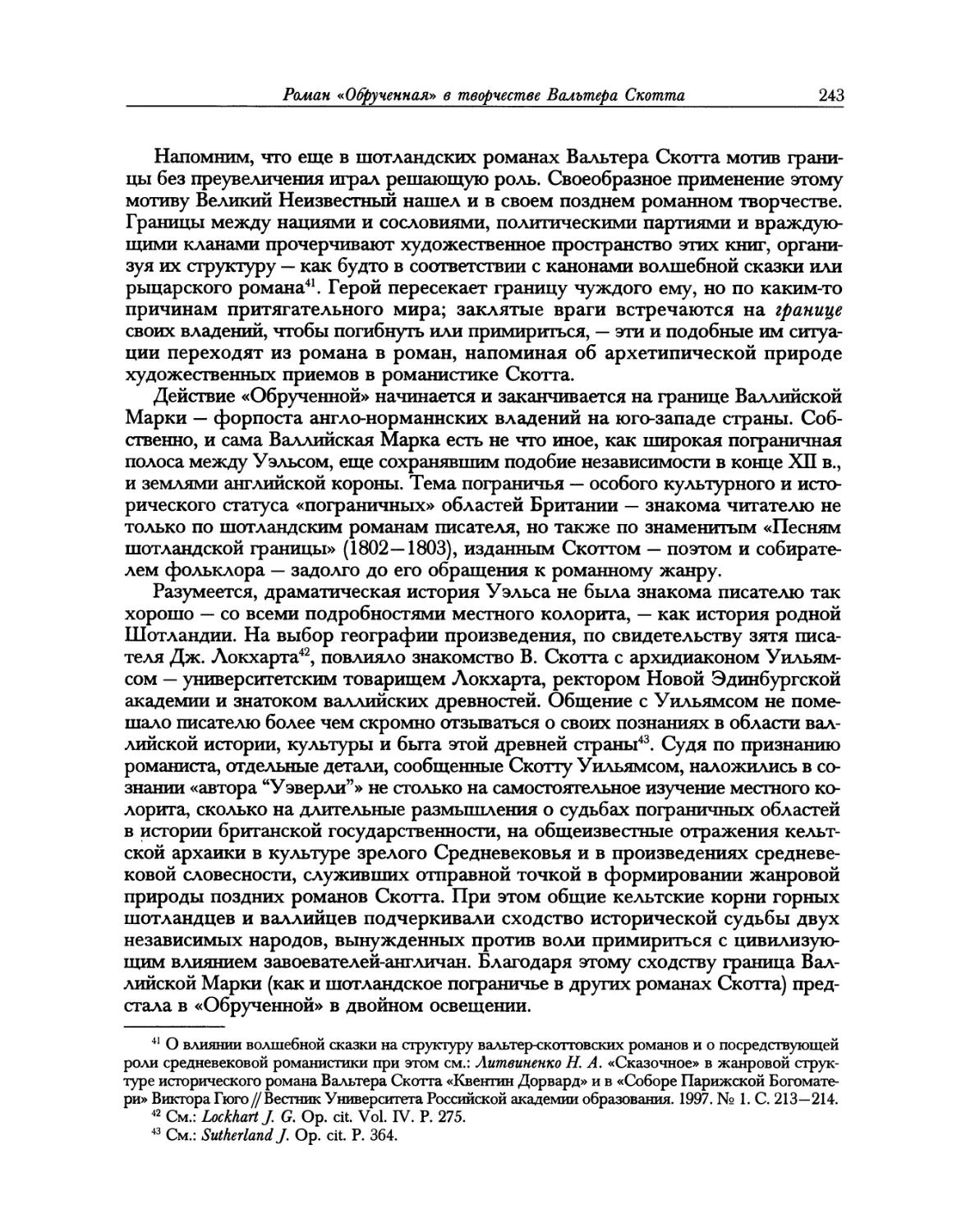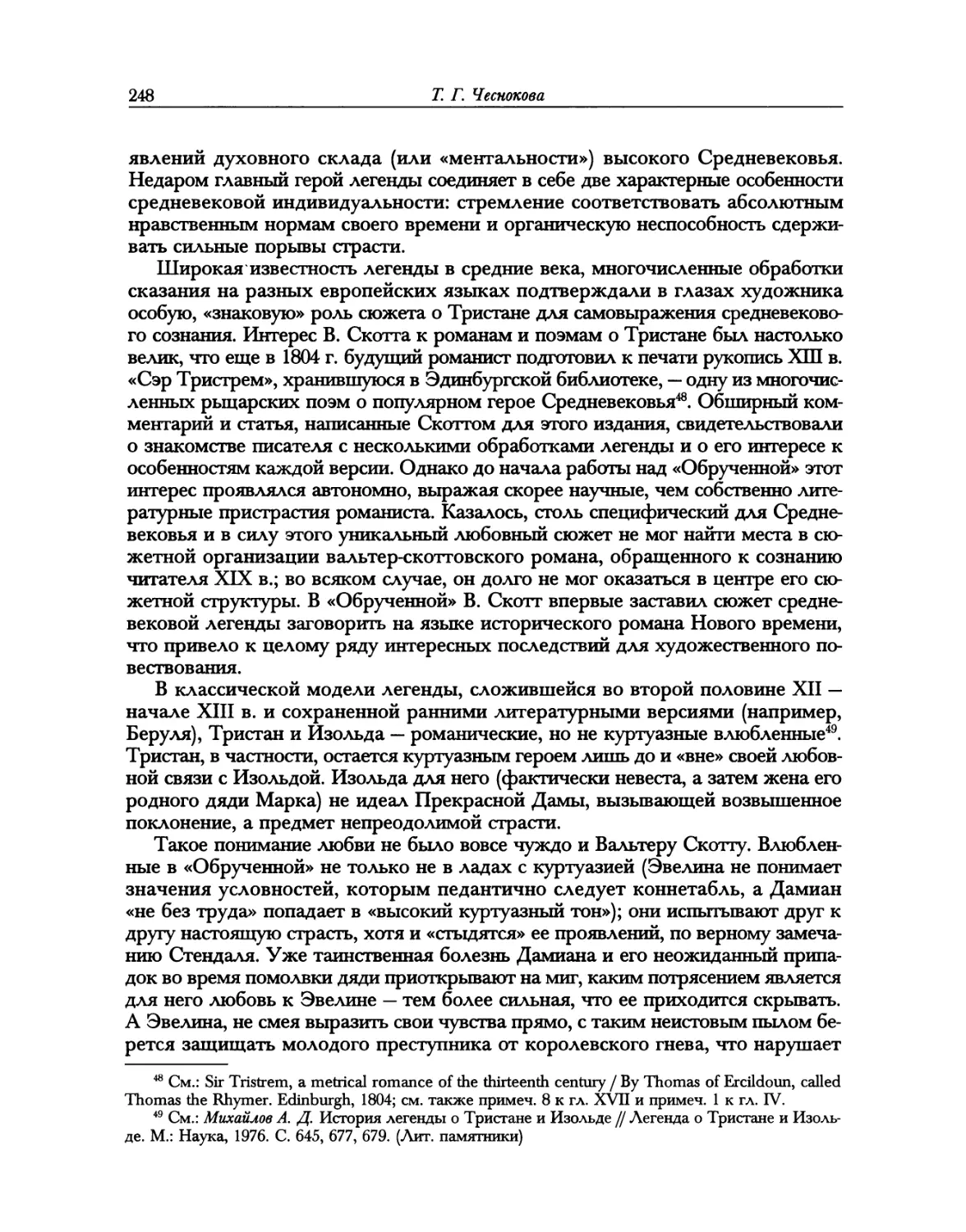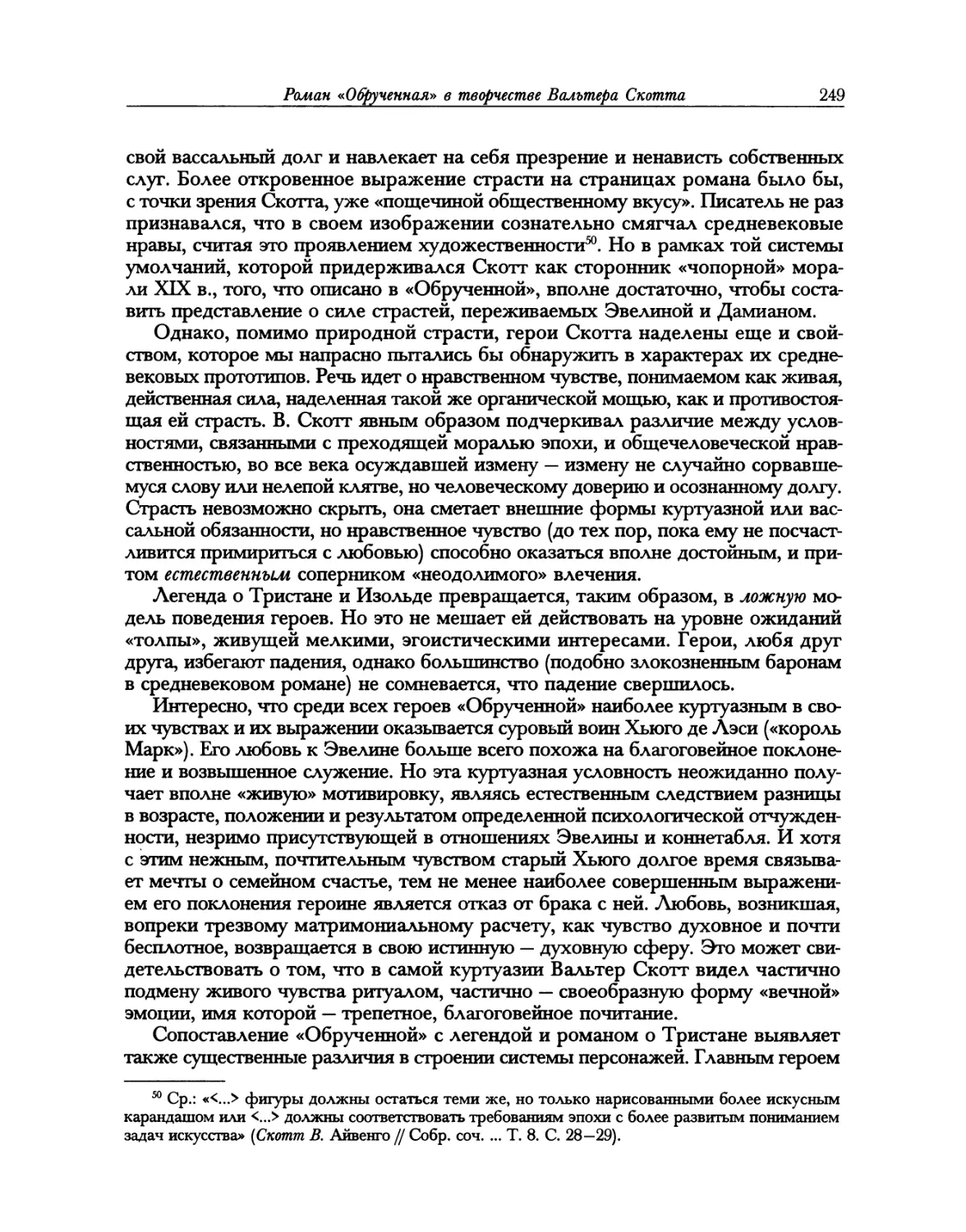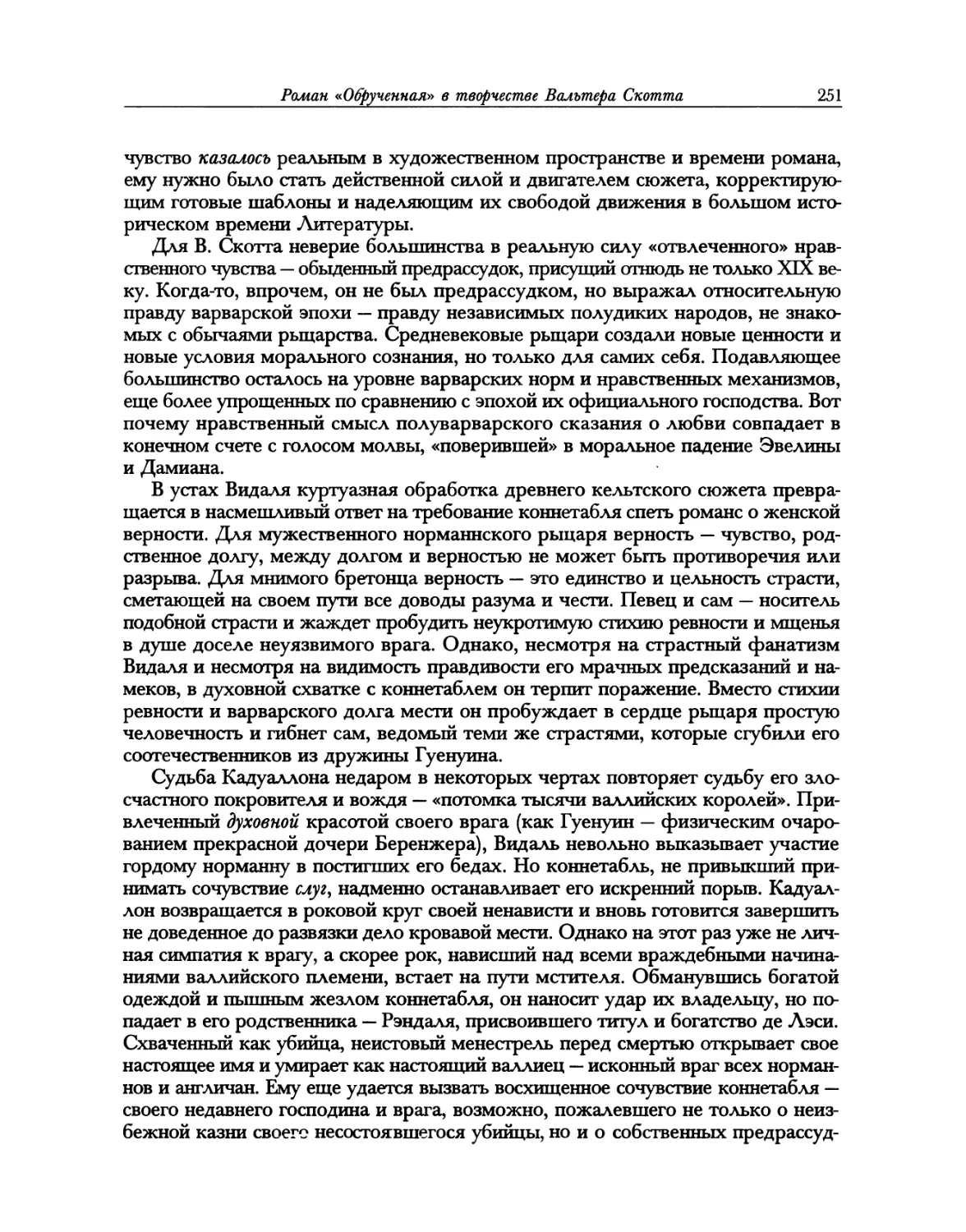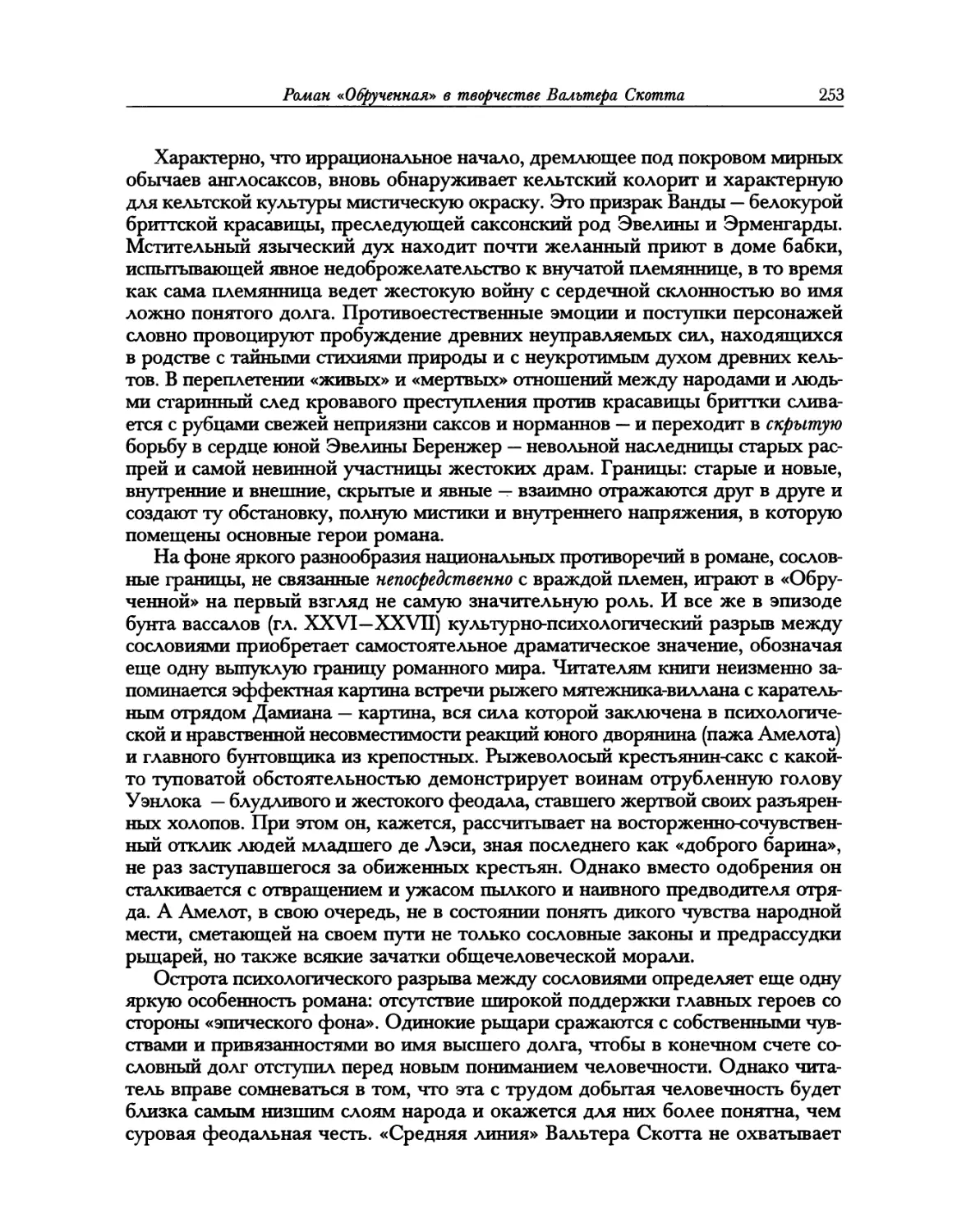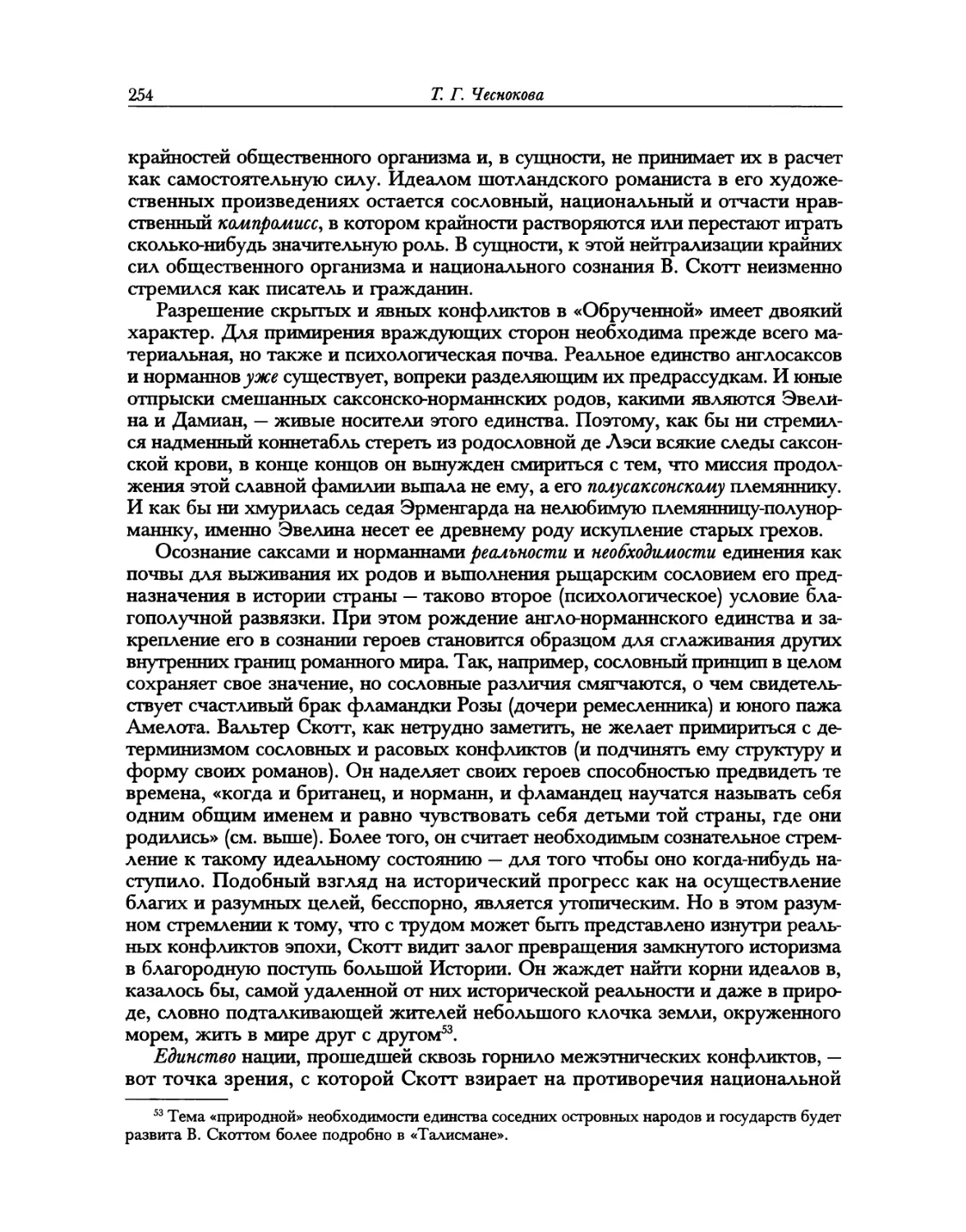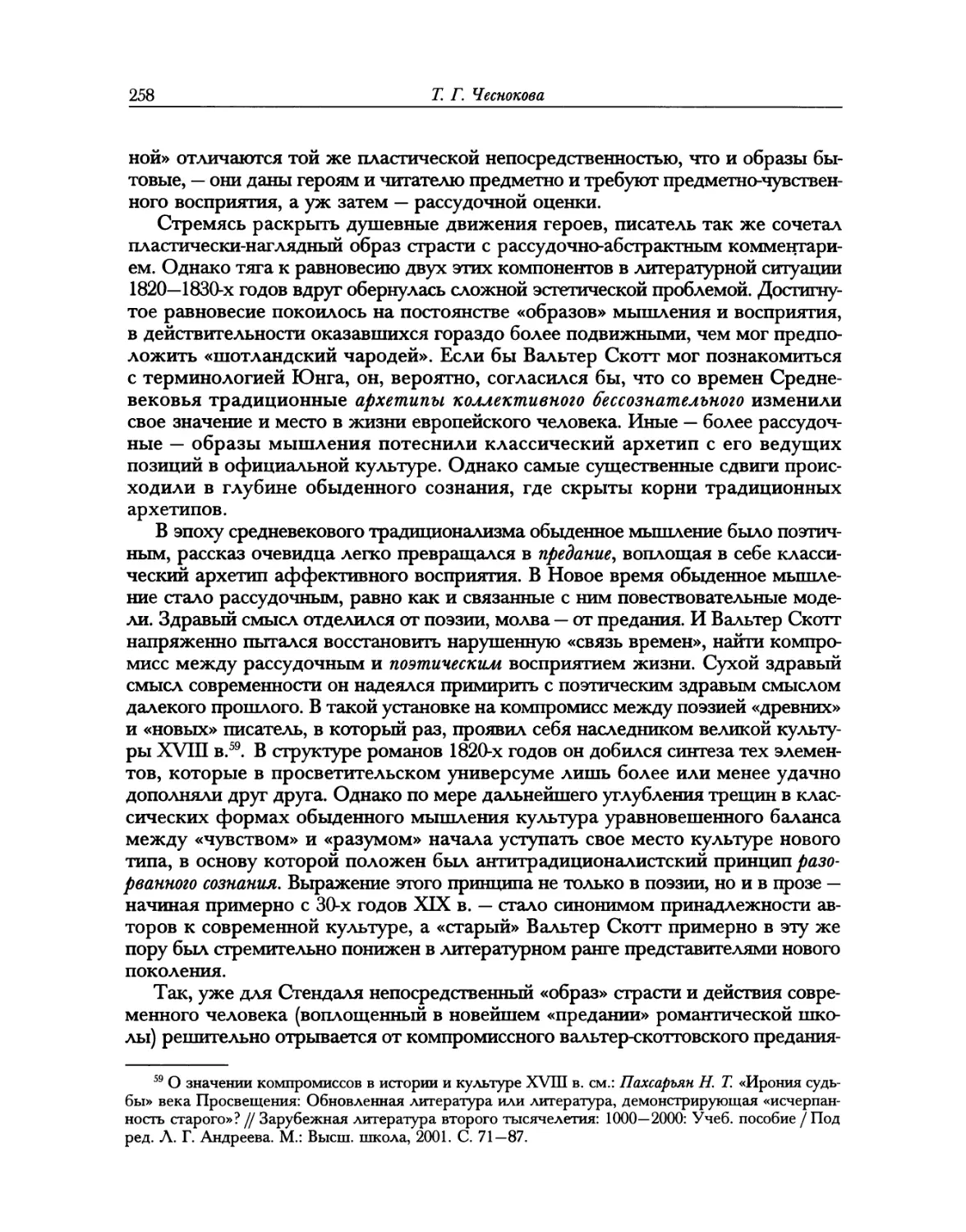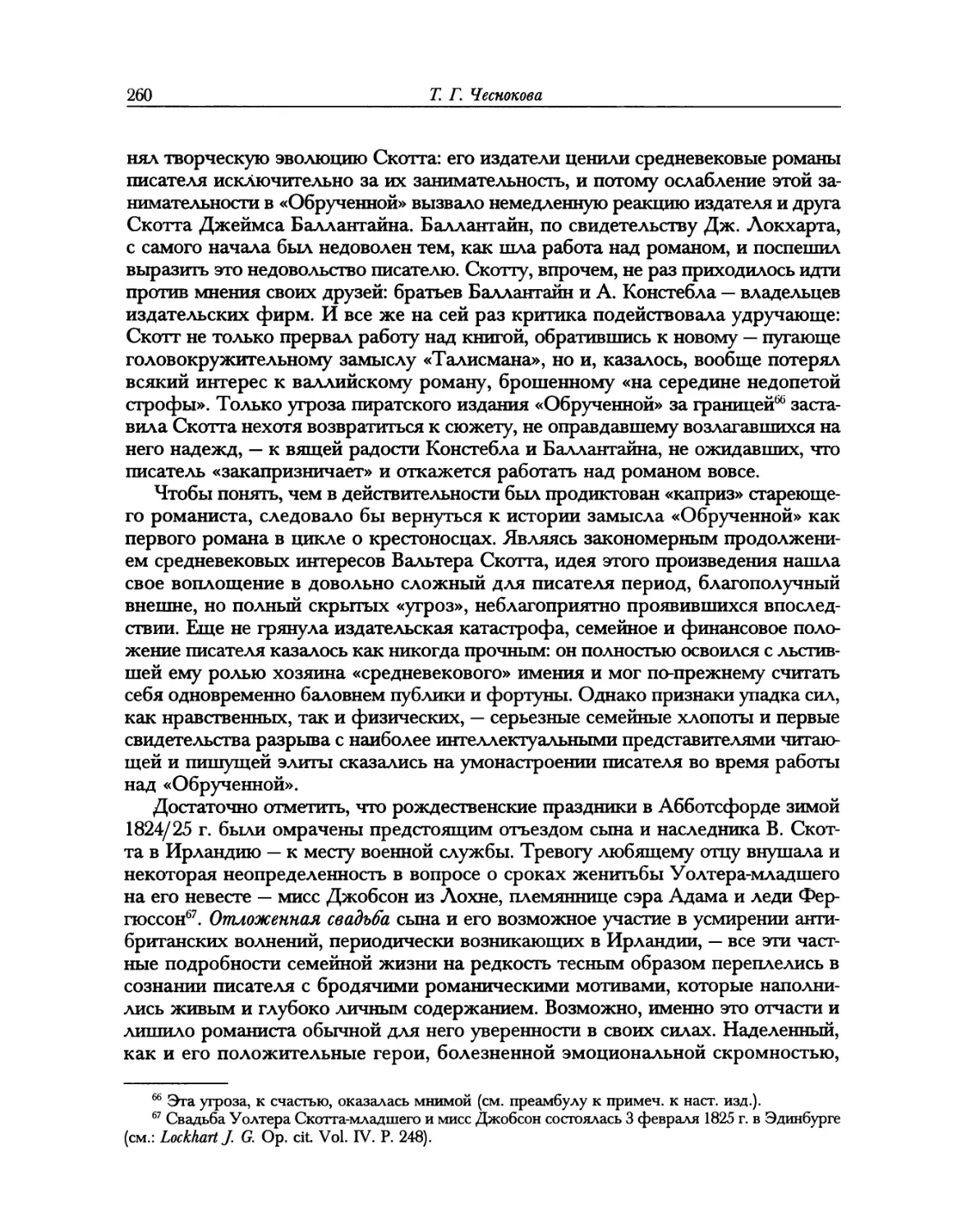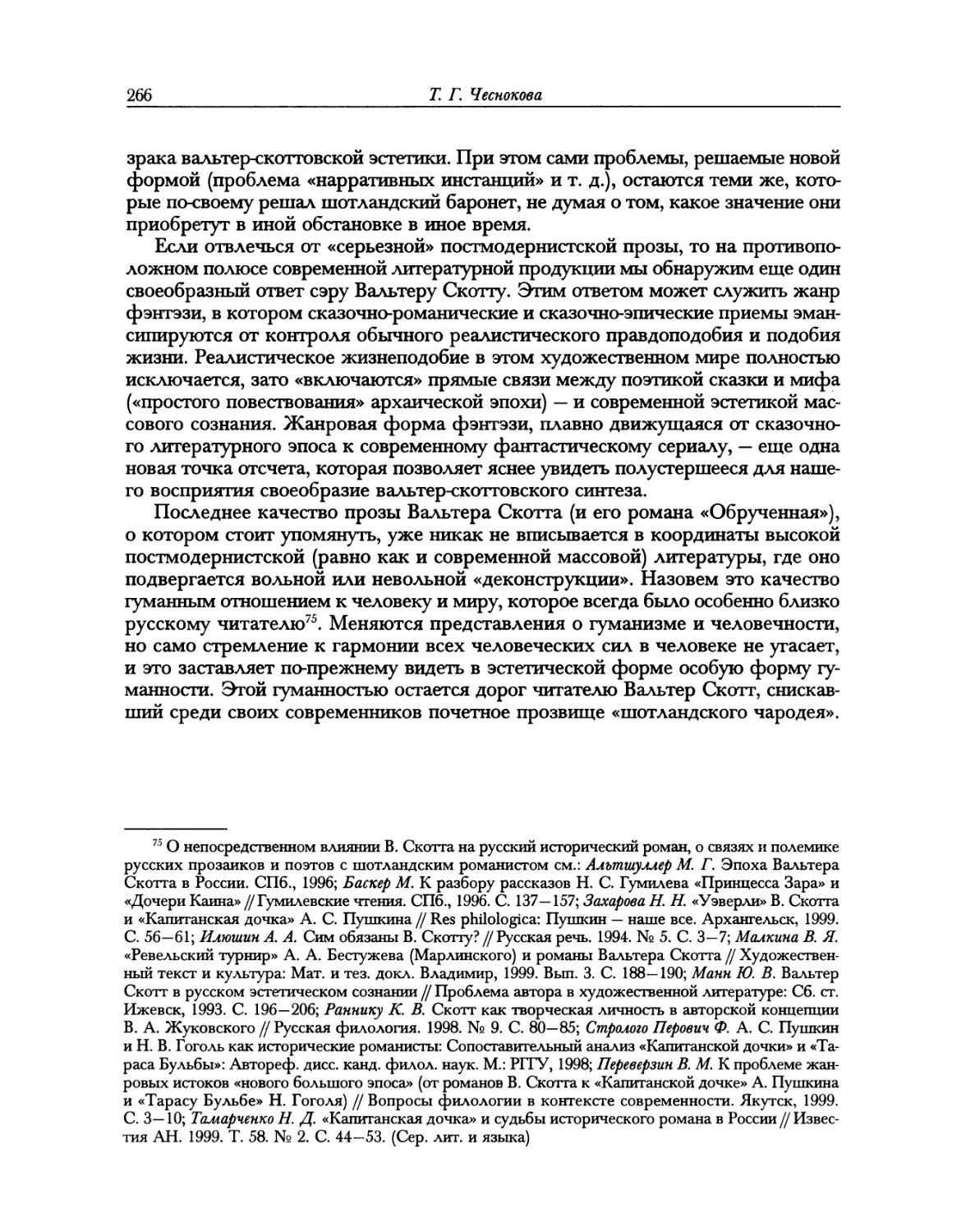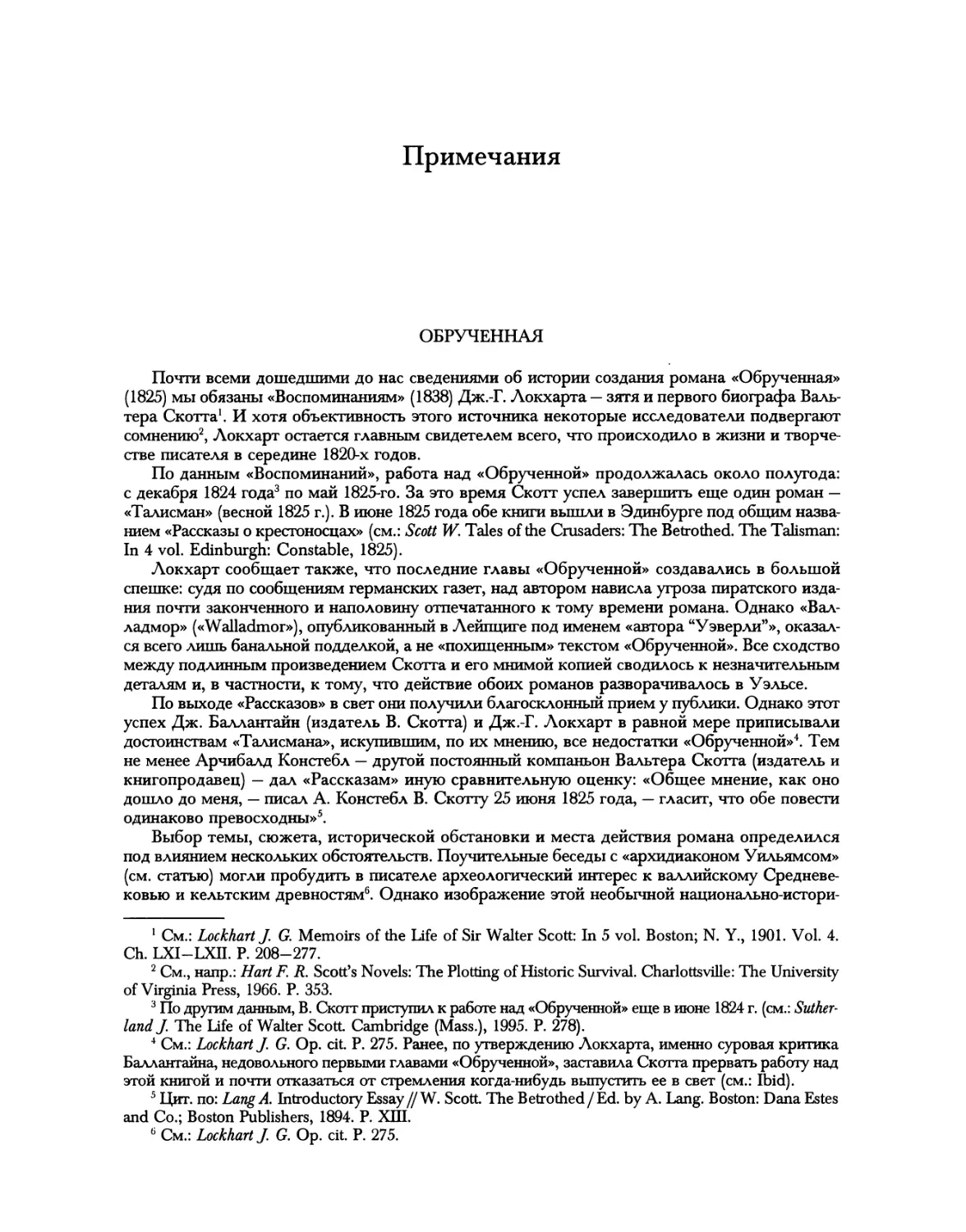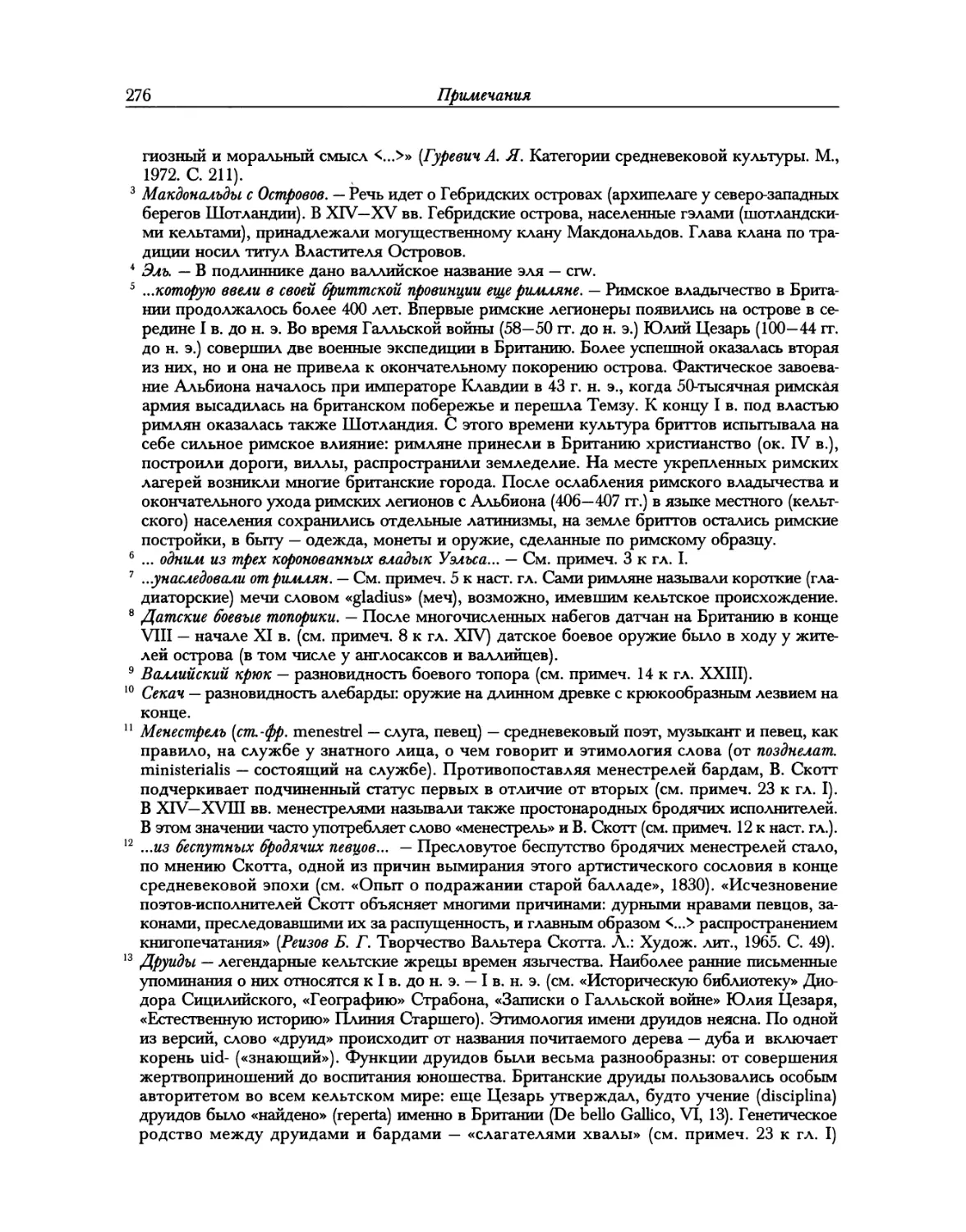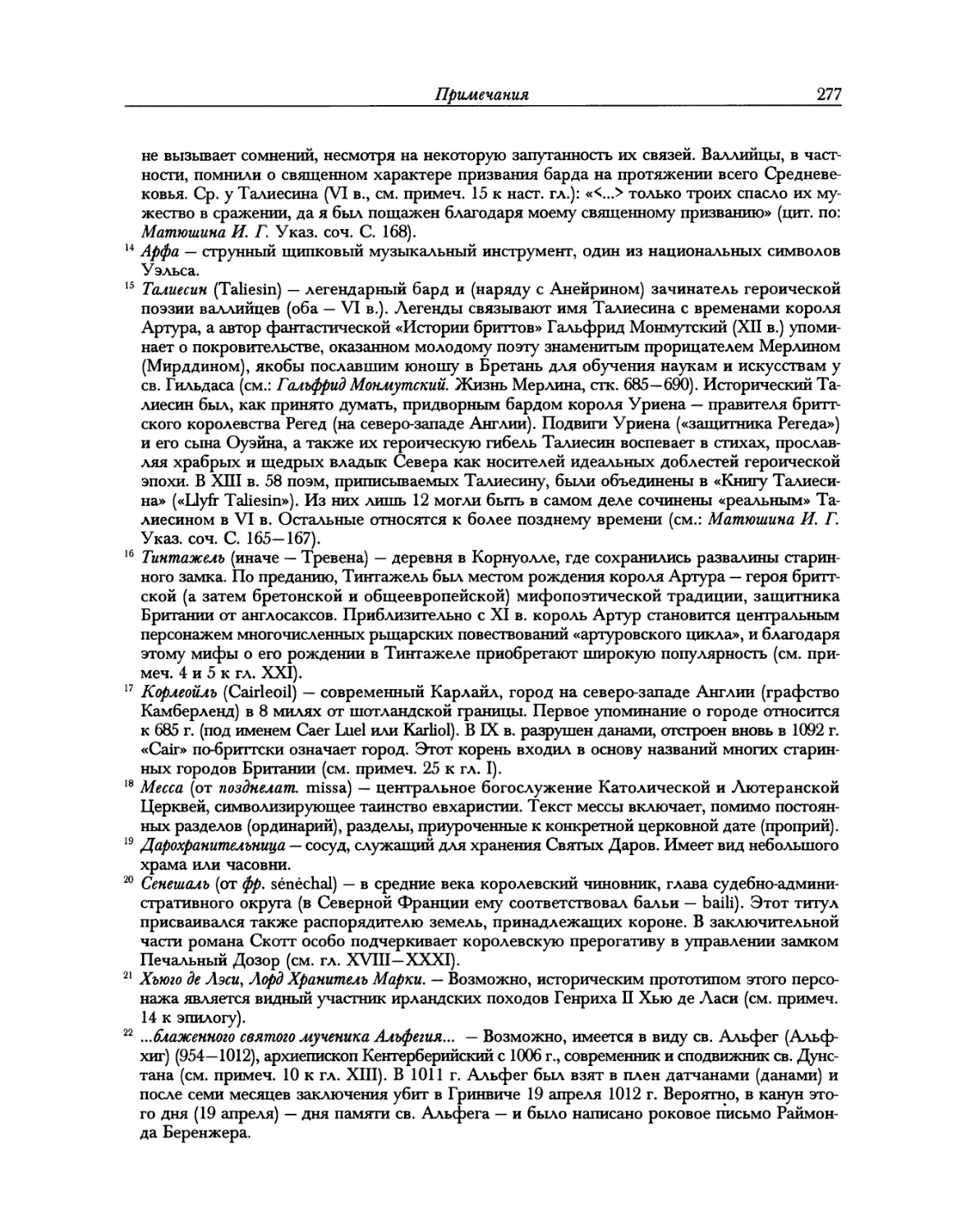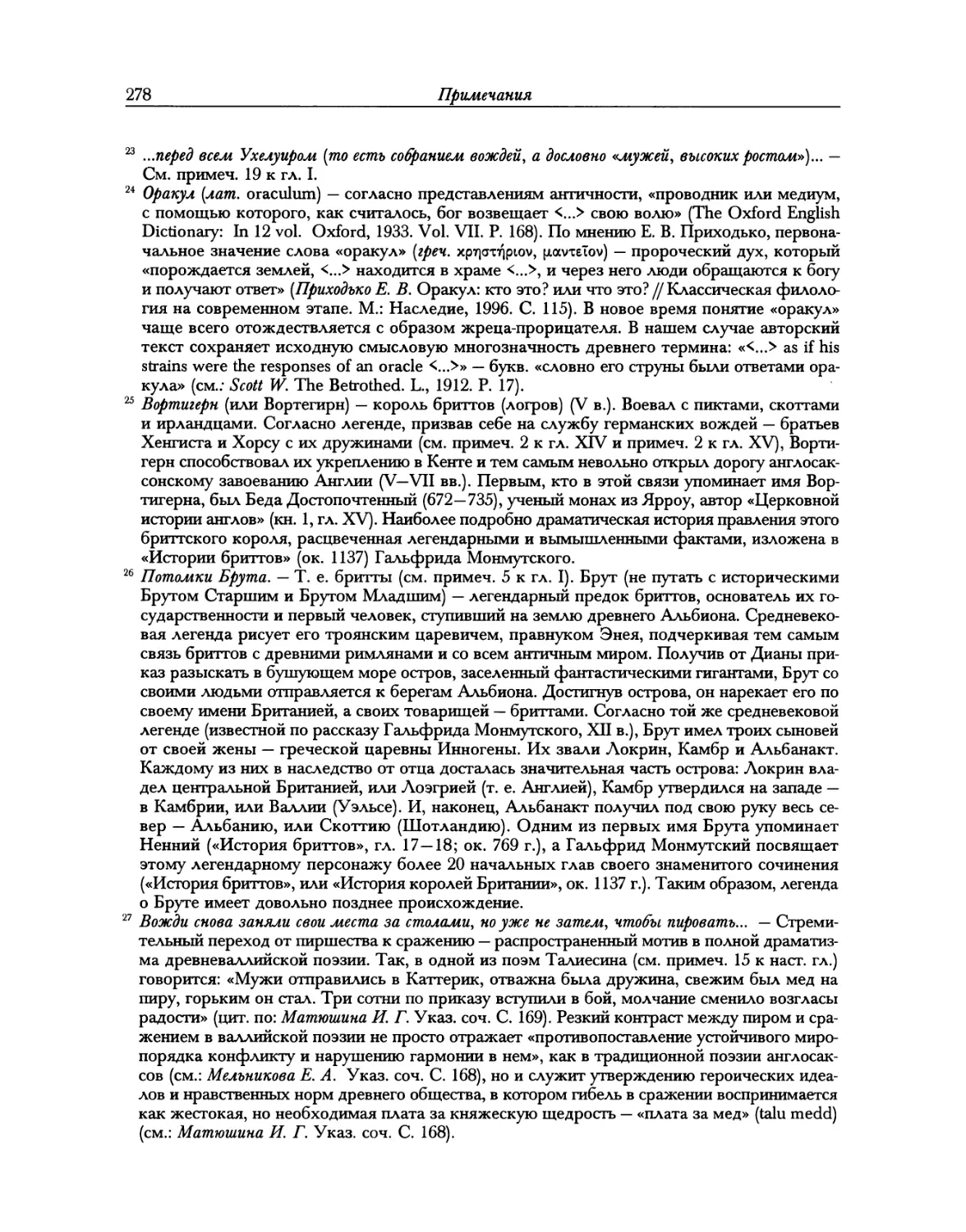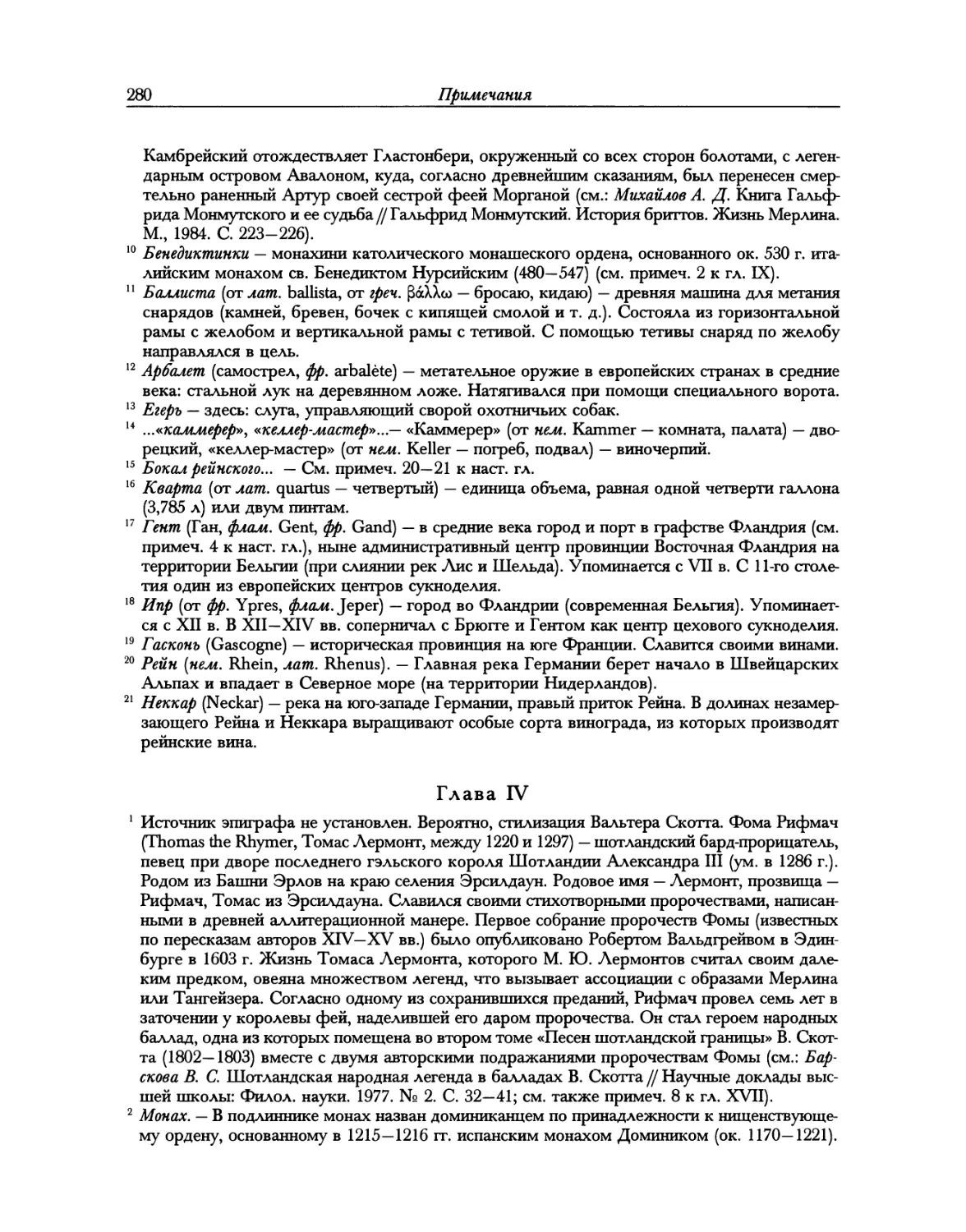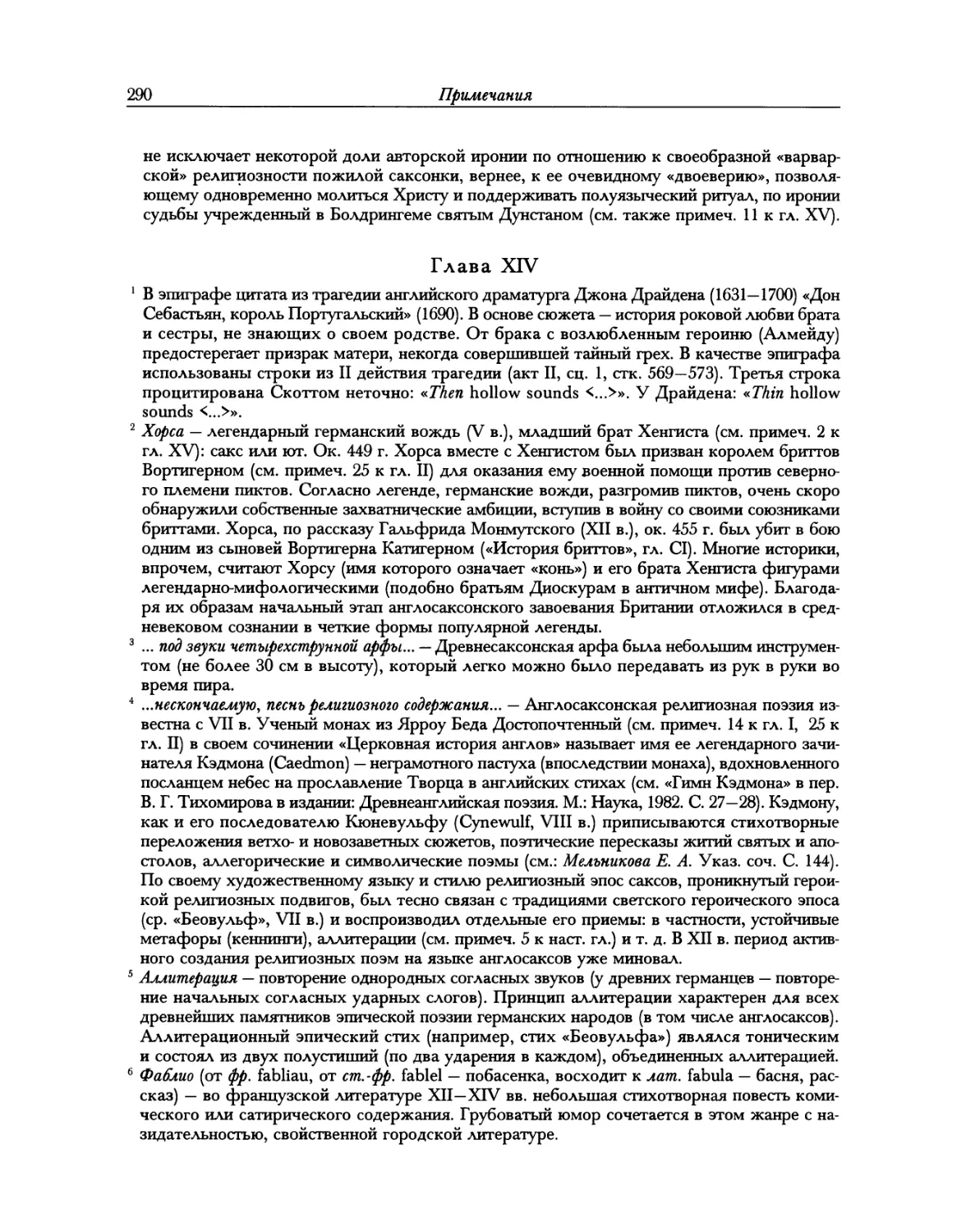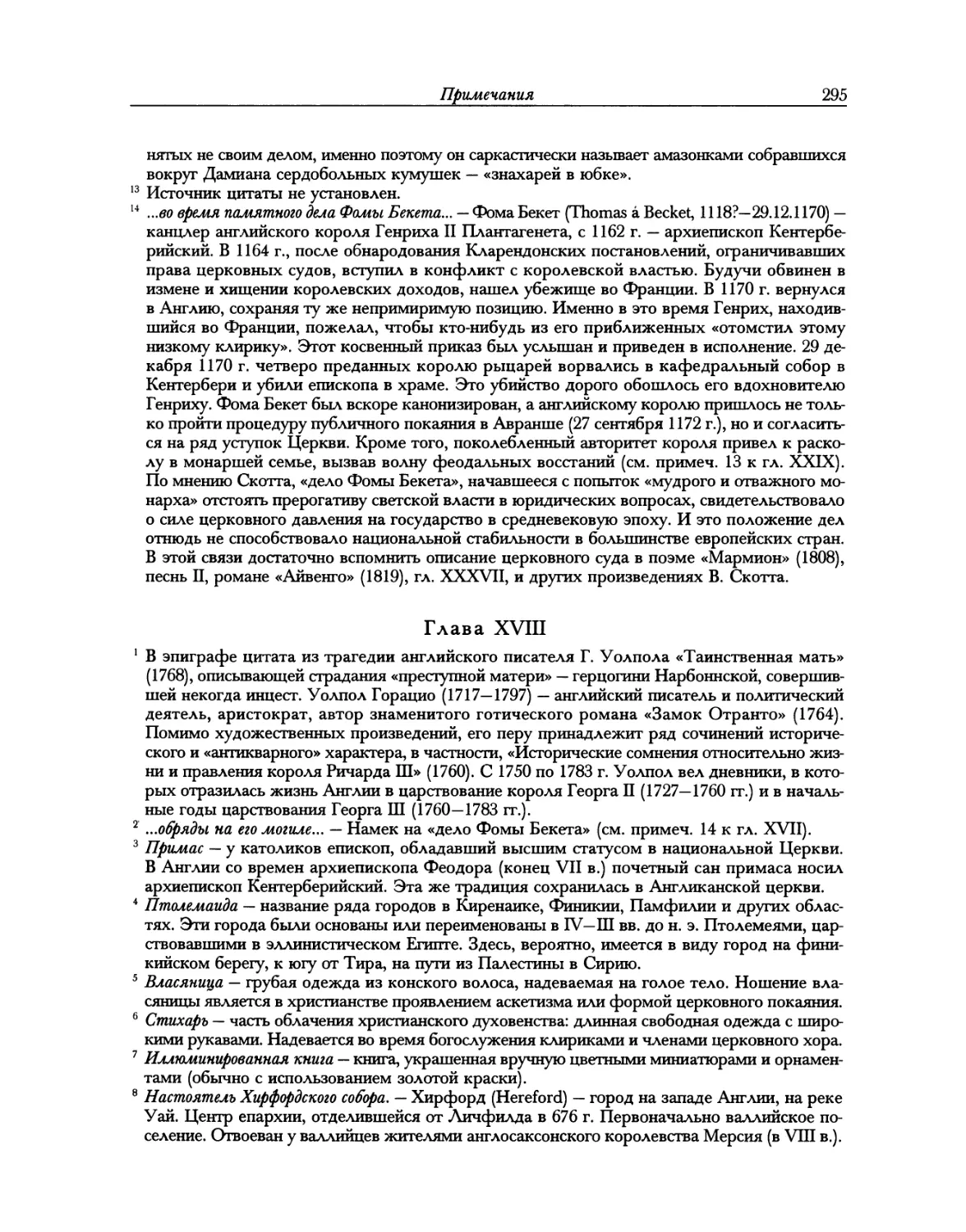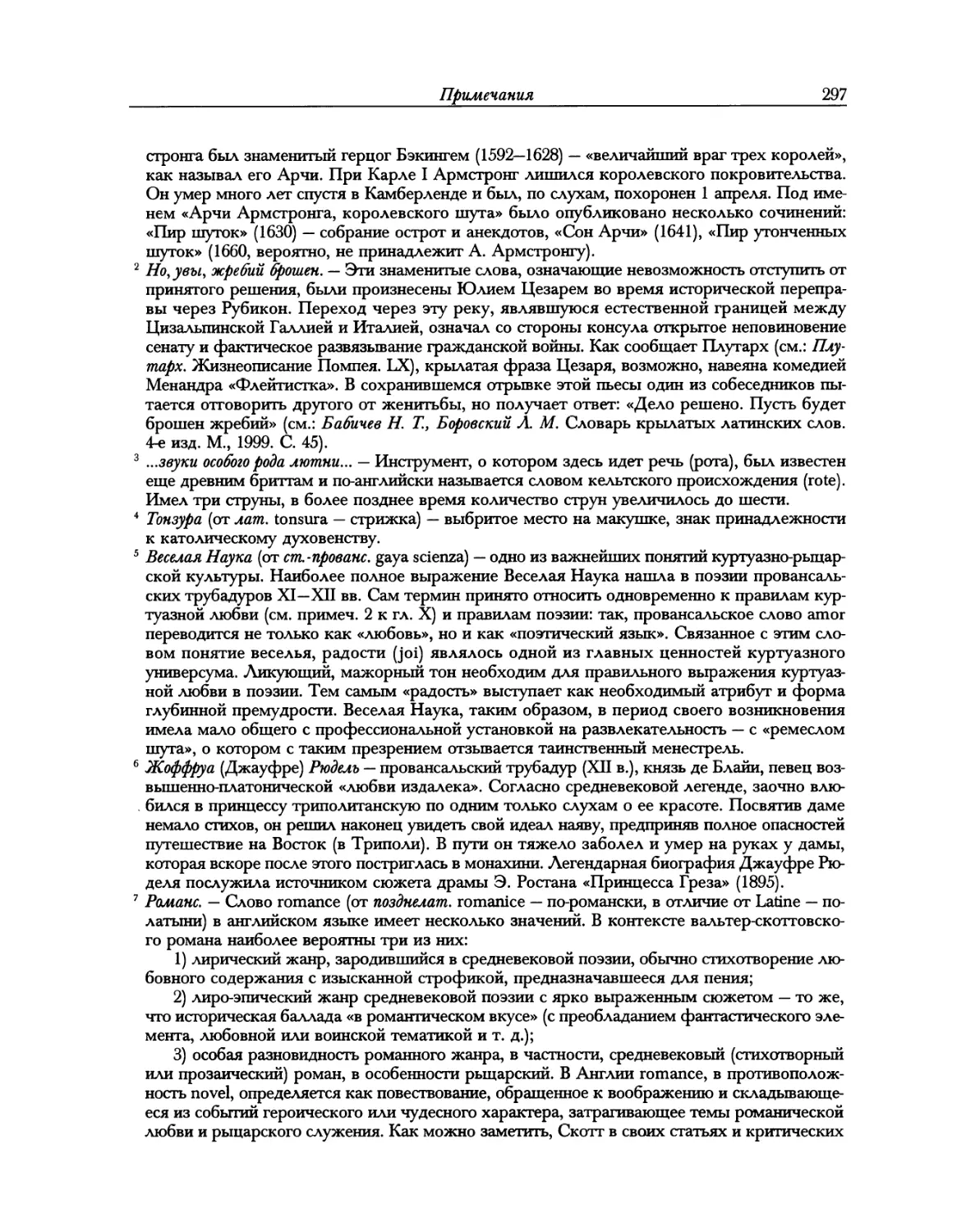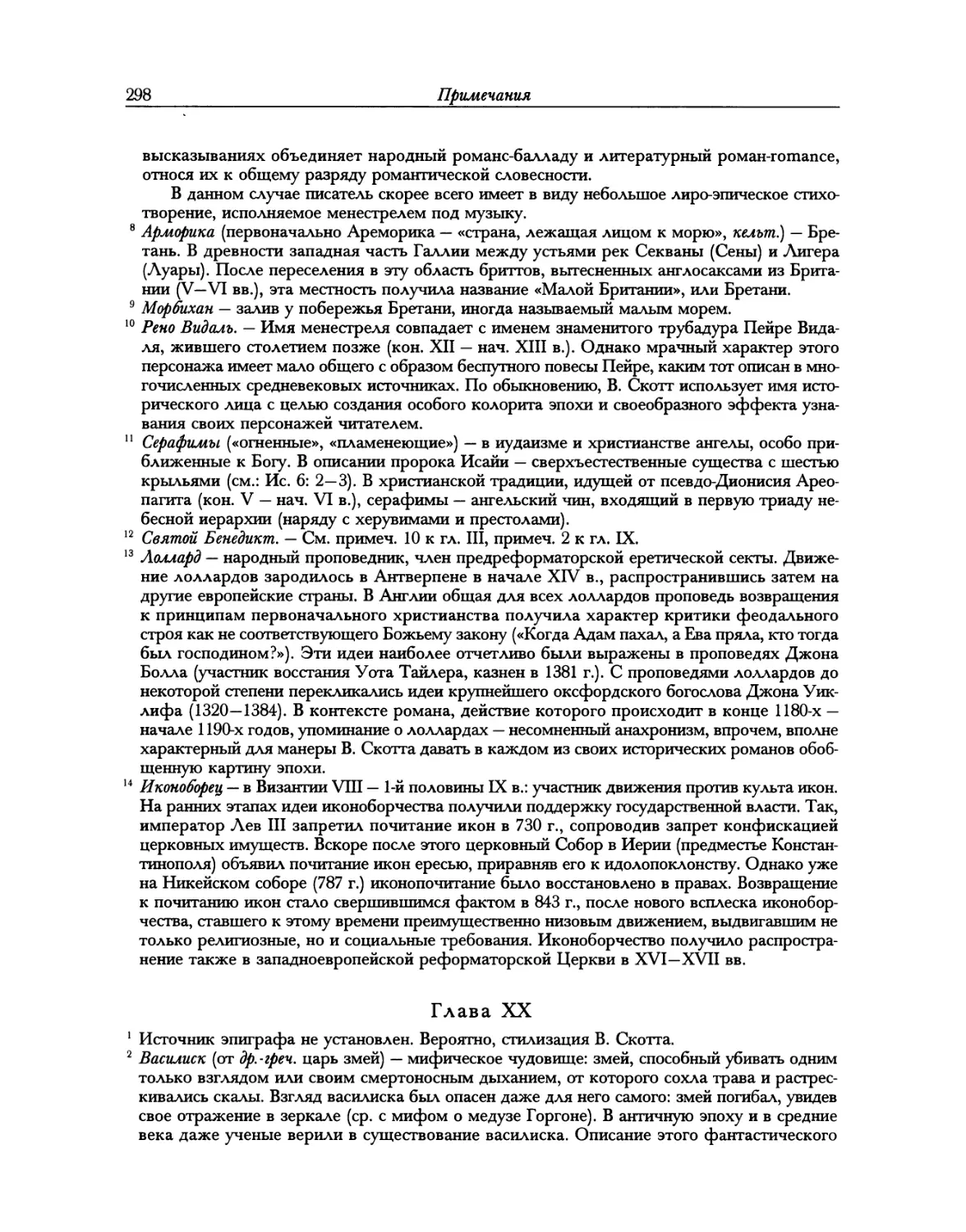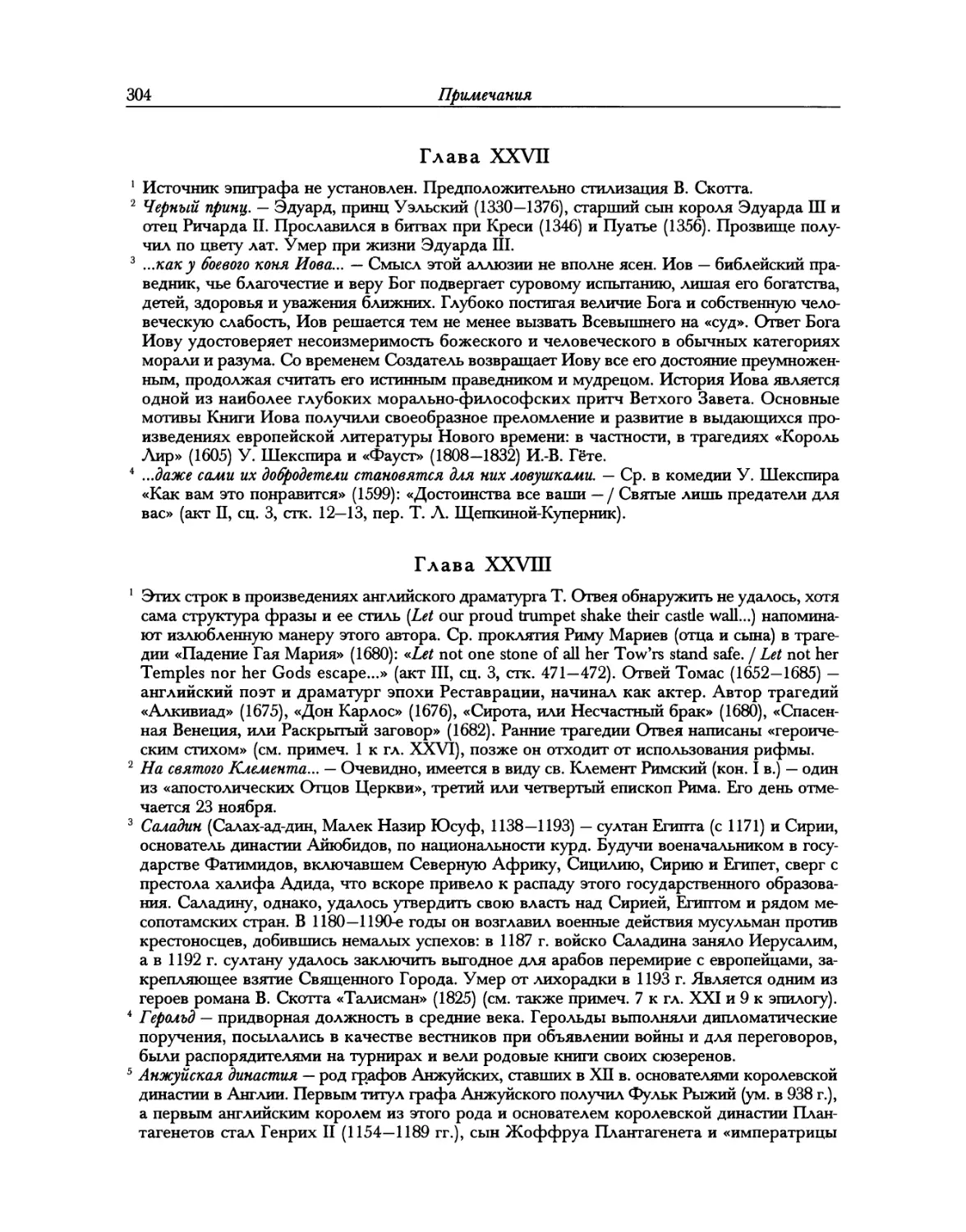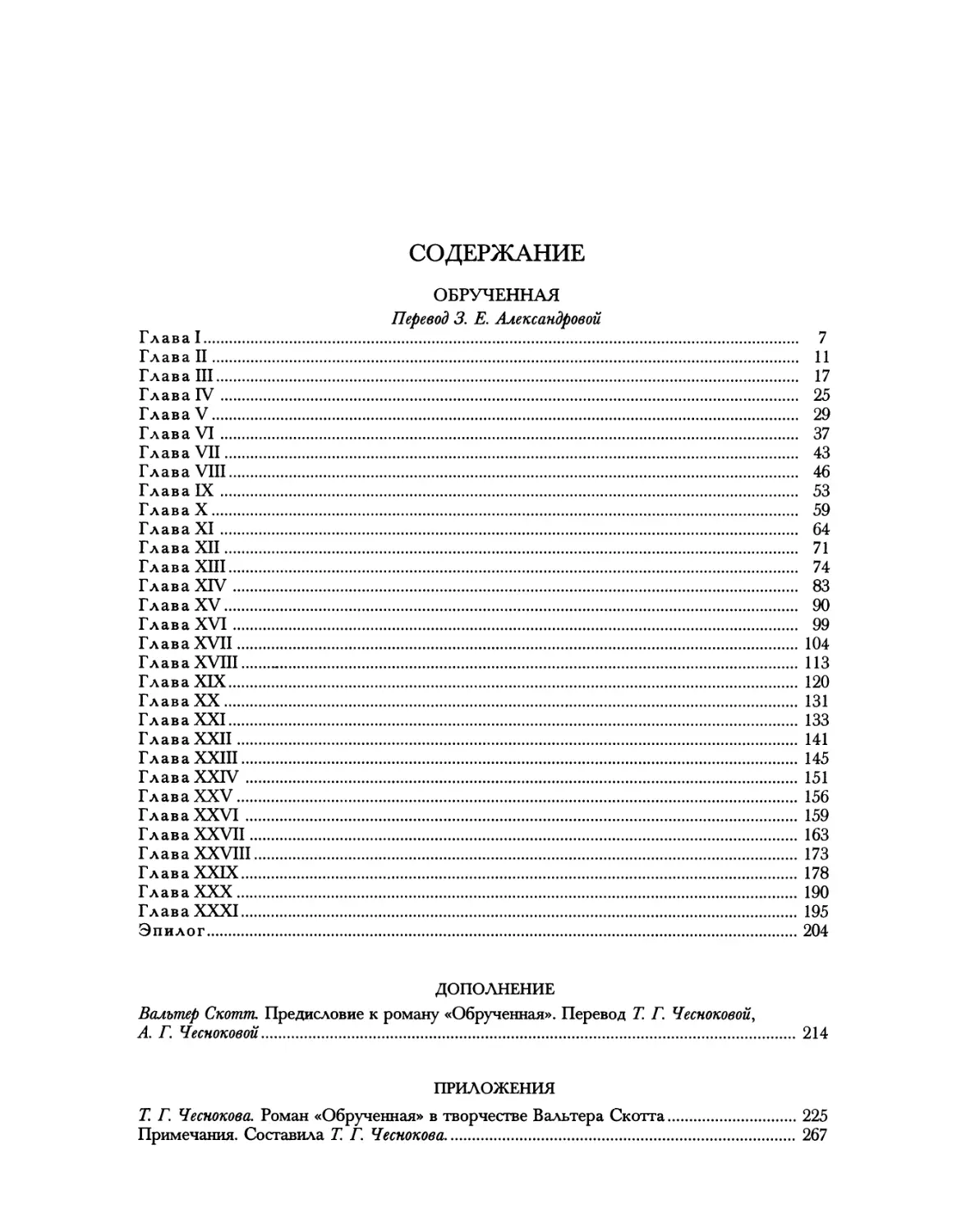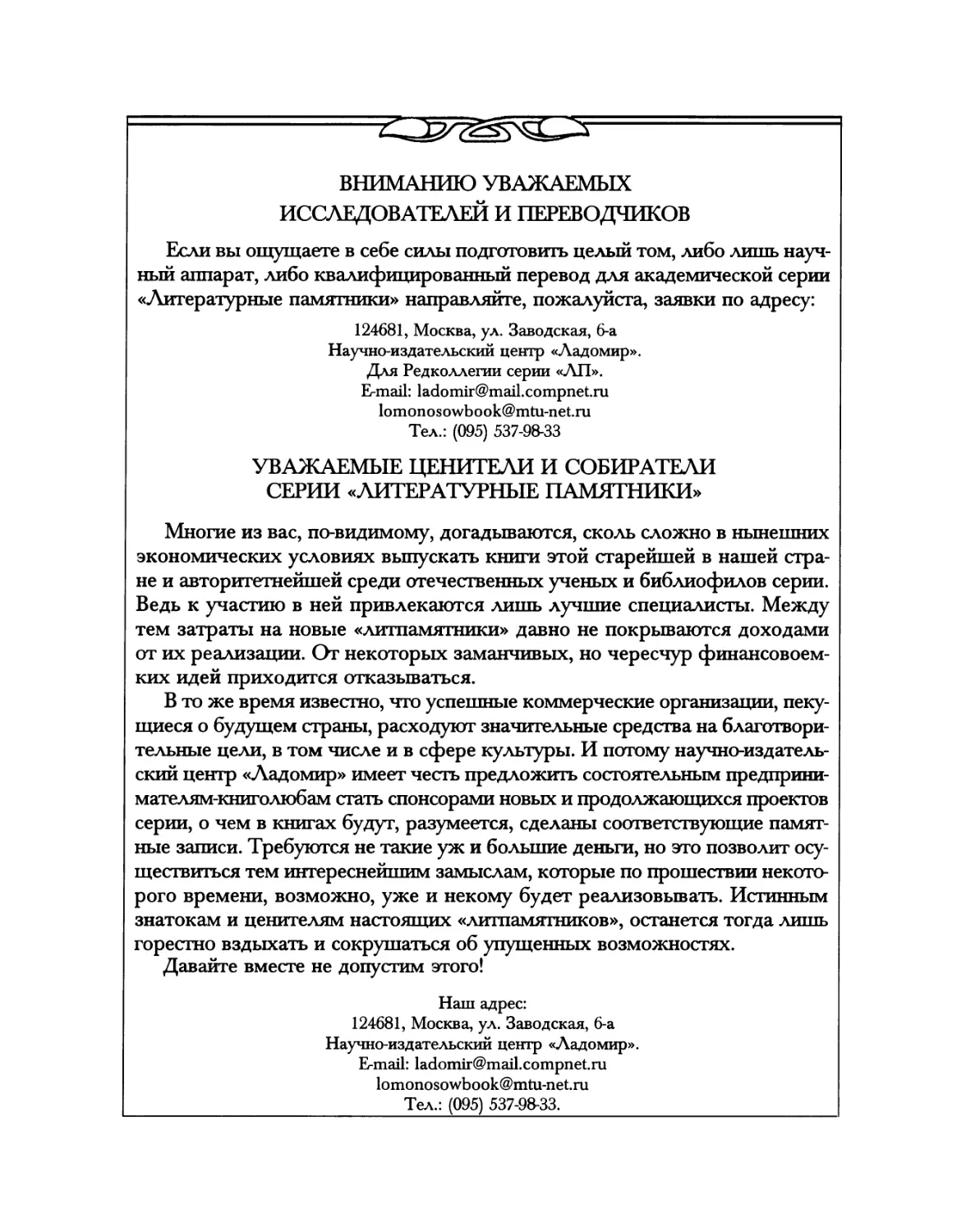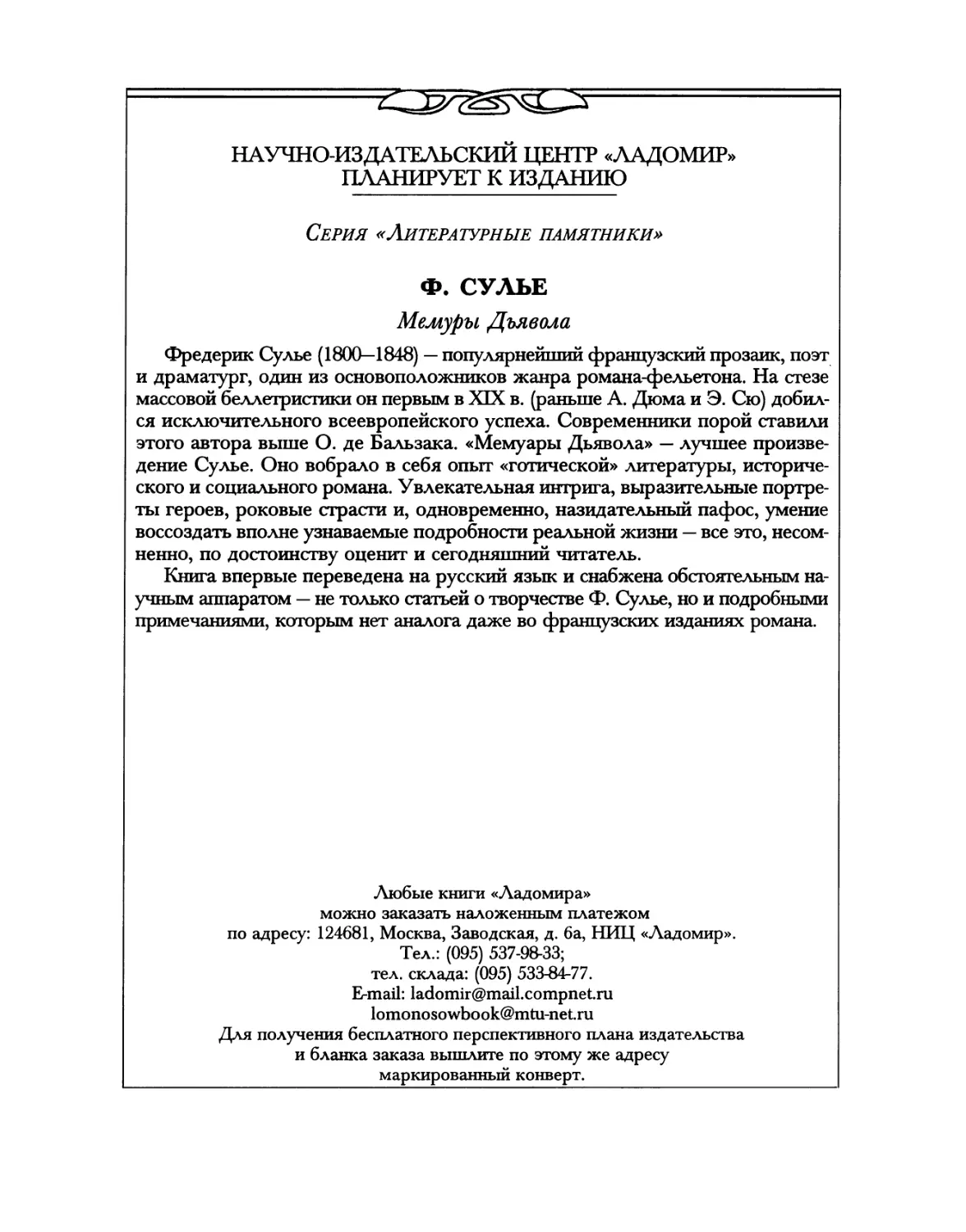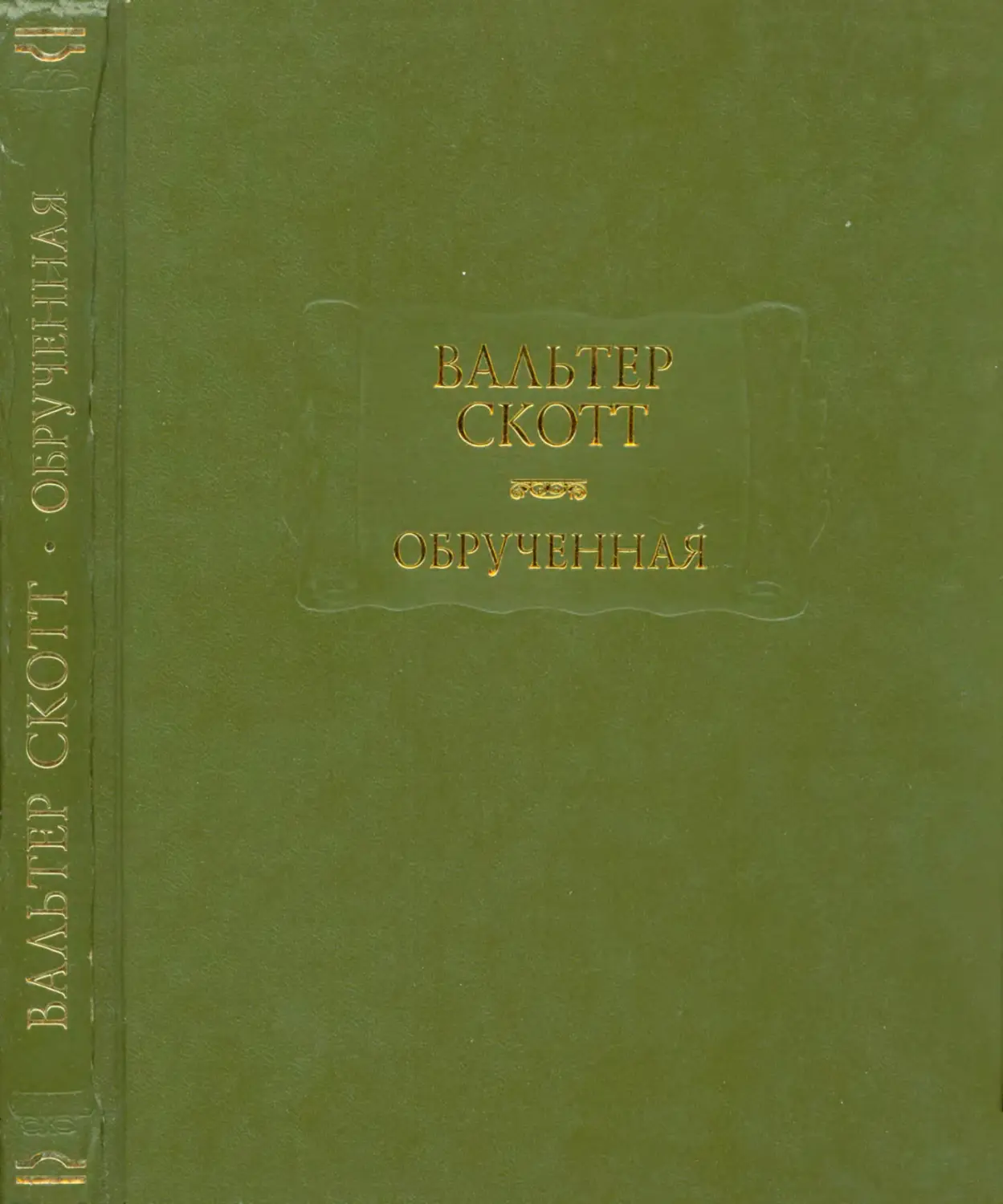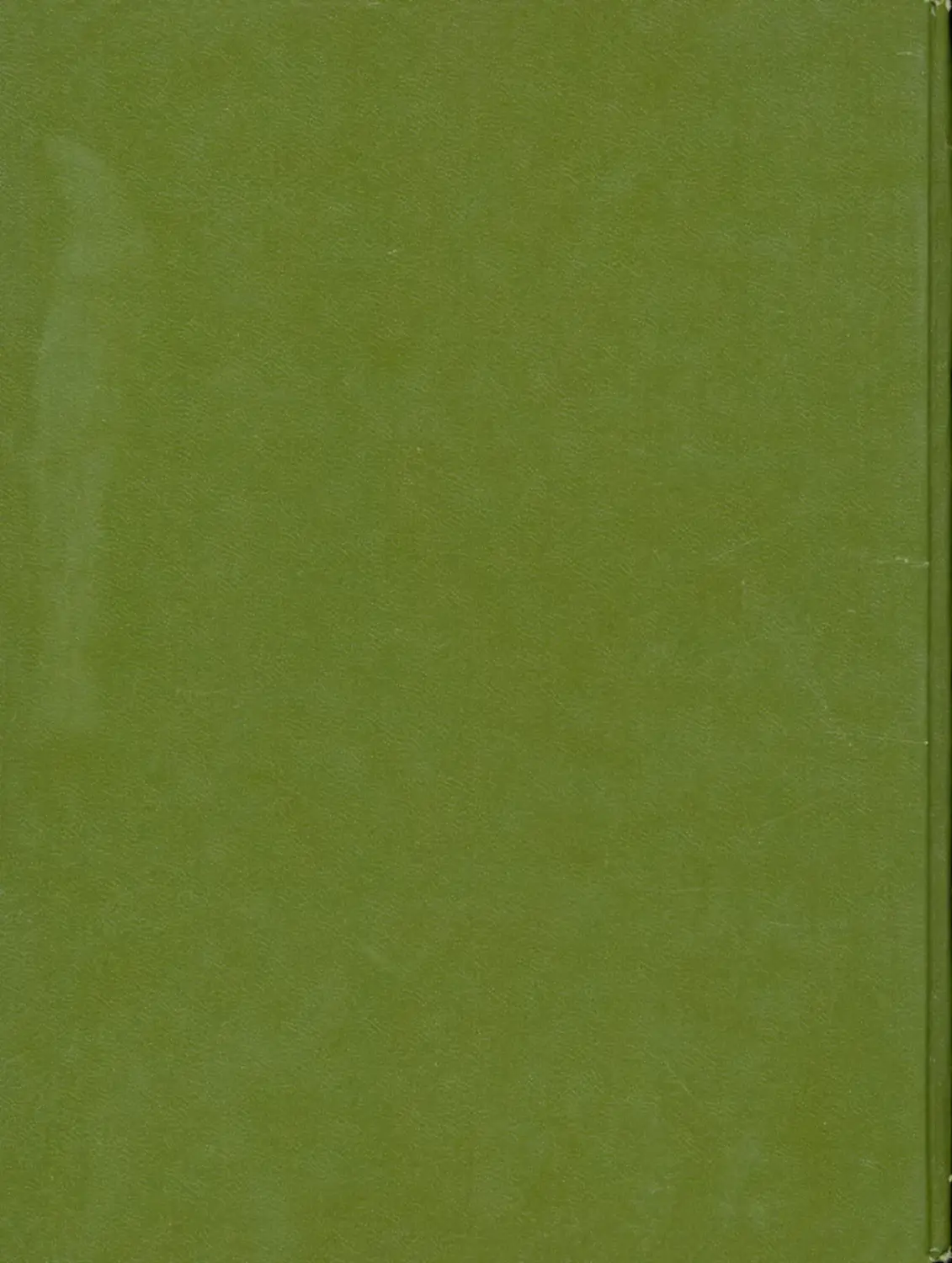Текст
^a^6t^i^r>i^r-
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
.Литературные Памятники
WALTER SCOTT
THE BETROTHED
ВАЛЬТЕР СКОТТ
ОБРУЧЕННАЯ
Издание подготовили
3. Е. АЛЕКСАНДРОВА, Т. Г. ЧЕСНОКОВА
Научно-издательский центр
«Ладомир»
«Наука»
Москва
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ
«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ»
А Е. Багно, К И. Балашов (председатель), М. Л Гаспаров,
А. К Горбунов, А. А Гришунин, Р. Ю. Данилевский, К Я. Дьяконова,
Б. Ф. Егоров (заместитель председателя), Н. А Корниенко, Г. К Косиков,
А. Б. Куделин, А. А Лавров, А. Д Михайлов (заместитель председателя),
Ю. С. Осипов, М. А. Островский, К Г. Птушкина {ученый секретарь),
Ю. А. Рыжов, К М. Стеблин-Каменский, С. 0. Шмидт
Ответственный редактор
А. Н. ГОРБУНОВ
© 3. Е. Александрова. Перевод, 2005.
© Т. Г. Чеснокова. Перевод, статья, примечания, 2005.
ISBN 5-86218-449-Х © А. Г. Чеснокова. Перевод, 2005.
Репродуцирование (воспроизведение) данного издания любым способом
без договора с издательством запрещается
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Альберик — оруженосец принца Ричарда
Альдрованд, о. — капеллан сэра Раймонда Беренжера
Амелот — паж Дамиана де Лэси
Арундель — граф, один из Лордов Хранителей Марки
Беренжер сэр Раймонд — старый норманнский воитель
Болдрик — один из предков леди Эвелины
Болдуин — архиепископ Кентерберийский
Генрих П — король Англии
Герберт сэр Уильям — друг Хьюго де Лэси
Гленвиль Ральф — знаменосец в войске Дамиана де Лэси
Глостер — граф
Гуарайн Филипп — оруженосец Хьюго де Лэси
Гуенуин — князь Поуиса
Гуляка У энлок — родственник де Лэси
Доггет — стражник
Доуфид — предводитель разбойников
Иеуан Иоруорт — валлийский парламентер
Иоанн — принц, младший сын короля Генриха
Кадуаллон, Карадок — барды при дворе Гуенуина
Лорд-канцлер
Лэси Дамиан де— племянник Хьюго де Лэси
Лэси Рэндаль де — родственник Хьюго де Лэси
Лэси Хьюго де— коннетабль Честерский
Миллер Хоб — один из мятежников
Монтермер Гай — норманнский барон
Морган — валлийский солдат
Морольт Деннис — оруженосец сэра Раймонда Беренжера
Понтойс Стивен — солдат в войске Дамиана де Лэси
Рауль — егерь сэра Раймонда Беренжера
Рейнольд — дворецкий сэра Раймонда Беренжера
Ричард — принц, второй сын короля Генриха
Флэммок Уилкин — фламандец
Форст Петеркин — фламандец
Хансон Нейл — солдат
6
Действующие лица
Хундвольф — управитель в Болдрингеме
Эйнион, о. — капеллан Гуенуина
Аббатиса монастыря в Глостере — тетка Эвелины Беренжер
Бервина — служанка в Болдрингеме
Беренжер Эвелина — дочь сэра Раймонда Беренжера
Бланш — служанка леди Эвелины
Бренгуайн — жена Гуенуина
Банда — жена Болдрика, одного из предков леди Эвелины
Джиллиан — жена егеря Рауля
Марджери — кормилица леди Эвелины
Тернотта — служанка леди Эвелины
Флэммок Роза —дочь Уилкина Флэммока
Эрменгардаиз Болдрингема — родственница леди Эвелины
Глава I
Жаркие шли в ту пору битвы
на Валлийской Марке.
«История» Льюиса1
Исторические хроники, откуда извлекли мы это повествование2, уверяют, что
именно в году 1187-м властители Уэльса3, так долго сражавшиеся за
независимость, были особенно близки к миру со своими воинственными соседями,
Лордами Хранителями Марки4, обитавшими на границе владений древних бриттов5,
в укрепленных замках, руины которых доныне изумляют путешественников.
То было время, когда архиепископ Кентерберийский Болдуин6,
сопровождаемый высокоученым Жиральдом де Барри7, впоследствии епископом Св. Давида8,
переезжал от замка к замку, из города в город, оглашая долины родной Камб-
рии9 призывами к крестовому походу10. Осуждая междоусобицы, раздиравшие
христианский мир, он указывал рыцарям цель куда более достойную их
воинственного пыла и честолюбивых замыслов — с оружием в руках освободить Гроб
Господень, заслужив тем самым и милость Небес, и земную славу.
Однако среди многих тысяч воинов, которых его вдохновенные увещевания
звали из родного края в далекий и опасный поход, у вождей британских кланов
Пбыло, пожалуй, всего больше оснований не откликаться на эти призывы. Англо-
норманнские воины11, будучи более искусными, в непрерывных набегах на
рубежи Уэльса обычно одерживали победы; захватывая немало земель, они
стремились упрочить свою власть и строили укрепленные замки; бритты мстили
завоевателям еще более яростными набегами, неся гибель и разрушение, но,
подобно волнам отлива, при отступлении всякий раз оставляли неприятелю
часть собственных владений.
Объединение местных властителей, не враждуй они между собой так же,
как и с норманнами12, могло воздвигнуть перед иноземцами прочный заслон;
но, к несчастью, постоянные междоусобицы шли на пользу лишь их общему
врагу.
Крестовый поход сулил хотя бы нечто новое народу, отличавшемуся столь
воинственным пылом; и многие откликались на этот призыв, не задумываясь
о последствиях такого решения для страны, которую оставляли
незащищенной13. Даже самые заклятые враги саксов14 и норманнов, позабыв о
ненависти к завоевателям родной земли, встали вместе с ними под знамена
крестоносцев.
В числе их оказался Гуенуин (а точнее Гуенуинуин)15, сохранявший непрочную
власть над той частью области Поуис16, что еще не была завоевана
Мортимерами, Гуарайнами, Лэтимерами, Фиц-Аланами17 и другими представителями
8
Обрученная
норманнской знати, которые под различными предлогами, а то и просто по
праву сильнейшего присвоили немалую часть некогда обширного
независимого княжества, при злополучном разделе Уэльса по смерти Родерика Маура18
доставшуюся его младшему сыну Мервину. Решимость, бесстрашие и свирепость
Гуенуина, потомка этого князя, надолго сделали его любимцем «Высоких
мужей»19, как именовали себя защитники Уэльса. Благодаря не столько мощи
своих владений, изрядно разоренных, сколько численности воинов, привлеченных
его славой, Гуенуину долго удавалось мстить англичанам опустошительными
набегами.
Но теперь даже Гуенуин, казалось, забывал глубоко укоренившуюся
ненависть к опасным соседям. Факел Пенгуэрна20 (так прозвали Гуенуина, не раз
предававшего огню всю провинцию Шрусбери21) стал гореть столь же ровно, как
светильник в покоях знатной леди. «Плинлиммонский Волк22» (то было еще одно
имя, под которым прославляли Гуенуина барды23) дремал так же мирно, как
пастуший пес у домашнего очага.
Не одно лишь красноречие Болдуина или Жиральда укротило столь
неугомонный и воинственный дух. Конечно, сила этих увещеваний оказалась сильнее,
чем ожидали его воины. Архиепископ убедил вождя бриттов разделить
трапезу и охотничью забаву с ближайшим соседом и непримиримым врагом, старым
норманнским воином сэром Раймондом Беренжером, который, то побеждая, то
терпя поражение, но не сдаваясь, удерживал, несмотря на яростные атаки
Гуенуина, свой замок на Валлийской Марке, называвшийся Печальным Дозором24.
Этот замок, удачно расположенный и искусно укрепленный, бриттскому
князю не удавалось взять ни силой, ни хитростью; оставаясь сильным гарнизоном
в тылу неприятеля, он мешал вражьим набегам, ибо грозил отрезать
отступление.
Вот почему Гуенуин, князь Поуиса, сто раз клялся, что убьет Раймонда Бе-
ренжера и разрушит его замок; однако мудрость старого воина и долгий
военный опыт позволяли ему, с помощью более могущественных соотечественников,
пренебрегать угрозами воинственного соседа. Если жил в Англии человек,
которого Гуенуин ненавидел более других, то это был Раймонд Беренжер. И все
же архиепископ Болдуин сумел убедить князя бриттов стать Раймонду другом
и союзником в общем деле крестоносцев. И Гуенуин даже пригласил Раймонда
на осенние празднества в свой замок; принятый с почетом старый рыцарь более
недели пировал и охотился во владениях давнего неприятеля.
В ответ Раймонд в том же году пригласил к себе князя Поуиса с небольшой
свитой на Рождество в замок Печальный Дозор, который некоторые историки
отождествляют с замком Кольюн на реке того же названия25. Однако
отдаленность во времени и ряд географических несовпадений заставляют усомниться
в этом предположении.
Когда валлийский гость проезжал по подъемному мосту, его верный бард
Кадуаллон26, отлично знавший своего господина, заметил, что тот явно не прочь
воспользоваться случаем и, пусть ценою предательства, захватить крепость,
столь долго бывшую предметом его вожделения.
Глава I
9
Опасаясь, что эта борьба между совестью и честолюбием может плохо
окончиться для доброй славы господина, бард шепотом сказал ему на их родном
языке, что «страшен камень за пазухой, а кинжал в рукаве»; и Гуенуин,
оглядевшись вокруг, убедился, что хотя во дворе замка собрались одни лишь
безоружные слуги и пажи, но на башнях и зубчатых стенах стоят лучники и
тяжеловооруженные воины.
Гости вступили в пиршественный зал, где Гуенуин впервые увидел Эвелину
Беренжер, единственное дитя норманнского кастеляна27, наследницу его
владений и предполагаемых богатств28; ей исполнилось всего шестнадцать лет, и она
слыла прекраснейшей из всех девиц Валлийской Марки. Немало копий
оказалось уже сломано во славу ее красоты. Доблестный Хьюго де Лэси, коннетабль29
Чесгерский, один из самых грозных воинов того времени, оставил у ног Эвелины
приз, завоеванный на большом турнире, состоявшемся близ Честера30. Для
честолюбивого Гуенуина все это служило липшим доводом в пользу Эвелины.
Красавица была к тому же наследницей крепости, которой он жаждал обладать
и которую, казалось, мог приобрести теперь более мирным способом, нежели
те, какими обычно удовлетворял свои желания.
Однако ненависть, существовавшая между бриттами и их саксонскими и
норманнскими завоевателями; его собственная еще не угасшая вражда с самим
Раймондом Беренжером; мысль о том, что брачные союзы валлийцев с
англичанами редко бывали счастливыми; сознание, что задуманный брак не
придется по нраву его воинам и покажется отступлением от всех принципов, которыми
он доныне руководствовался, — все это помешало ему тут же сделать
предложение дочери Раймонда. Он ни на миг не усомнился в том, что может получить
отказ, — конечно же наследница норманнского кастеляна, отнюдь не самого
знатного в порубежном краю, сочтет за честь вступить в брак с повелителем ста
горных вершин.
Имелось, правда, еще одно препятствие, которое в более поздние времена
сочли бы весьма серьезным: Гуенуин уже был женат. Однако Бренгуайн
оказалась бесплодной, а ведь владетельный князь (каким считал себя Гуенуин)
женится ради продолжения рода. И Папа Римский едва ли окажется чрезмерно
щепетильным, когда речь зайдет о князе, возложившем на себя Крест (хотя, по
правде сказать, больше помышлявшем о замке Печальный Дозор, чем о
Иерусалиме). А если бы Раймонд Беренжер (как можно было подозревать)
оказался недостаточно свободных взглядов, чтобы допустить для Эвелины временную
роль конкубины31, которую, по валлийским обычаям, Гуенуин мог ей
предложить, то Гуенуину пришлось бы подождать каких-нибудь несколько месяцев и
начать дело о разводе через посредство епископа собора Св. Давида или другого
своего заступника в Риме.
Размышляя над всем этим, Гуенуин продлил свое пребывание в замке Берен-
жера с Рождества до Крещения и терпел общество норманнских рыцарей,
съехавшихся в пиршественные залы Раймонда; считая рыцарское звание равным
титулу самых могущественных монархов, они ни во что не ставили древность рода
валлийского князя, который был в их глазах всего лишь вождем полудикого
10
Обрученная
племени. Он, со своей стороны, считал их не более чем разбойниками, почему-
то облеченными большими правами, и с великими усилиями скрывал свой гнев
при виде рыцарских состязаний грозных врагов его страны. Празднества
наконец окончились, рыцари и их оруженосцы разъехались, и замок снова принял
вид уединенного и укрепленного приграничного форта.
Но князь Поуиса, возвратясь к охоте в собственных горах, убедился, что ни
обилие дичи, ни отсутствие ненавистных норманнских рыцарей, снисходивших
до того, чтобы считать его равным себе, не радовали его, ибо теперь в охоте не
участвовала прекрасная Эвелина на белом коне. Словом, он более не
колебался и доверился своему капеллану, человеку мудрому и искусному, который был
польщен доверием патрона и к тому же увидел в задуманном деле некоторые
выгоды для себя и своего ордена. По его совету начато было дело о разводе.
Несчастную Бренгуайн отвезли в монастырь, который, впрочем, показался ей
более приветливым жилищем, чем то, где она жила в полном пренебрежении
с тех пор, как Гуенуин убедился, что ей не суждено иметь детей. Отец Эйнион
взялся также доказать вождям и старейшинам, какие преимущества в будущих
войнах сулит им обладание крепостью Печальный Дозор, которая уже более
столетия господствовала над обширной территорией и затрудняла походы,
а отступление делала опасным; словом, мешала им совершать свои набеги до
ворот Шрусбери. Что же касается брака с англичанкой, то эти узы (как
намекнул добрый священник) могут оказаться не более прочными, чем те, что
связывали Гуенуина с ее предшественницей Бренгуайн.
Эти доводы, а также другие, имевшие в виду взгляды и желания отдельных
лиц, оказались столь убедительными, что уже через несколько недель капеллан
мог доложить своему владетельному патрону, что задуманный им брак не
встретит отпора со стороны старейшин и знати его княжества. Наградой
священнику был золотой обруч32 весом в шесть унций. Затем Гуенуин поручил ему
изложить письменно предложение, которое, как он был уверен, будет принято в
замке Печальный Дозор с ликованием, опровергающим его печальное название.
Капеллан не без труда убедил своего патрона не упоминать в этом послании о
временном плане, отводившем Эвелине роль конкубины, которую и она, и ее
отец сочли бы оскорбительной. Развод он представил как дело уже почти
улаженное и закончил письмо подходящей к случаю ученой ссылкой, где не раз
упоминались Астинь, Эсфирь и Артаксеркс33.
Отправив послание с быстрым и надежным гонцом, князь бриттов со всей
торжественностью открыл празднование Пасхи.
На пасхальной неделе, чтобы расположить к себе подданных и множество
вассалов, он созвал их на роскошный пир в Кастель-Кох34, или Красный замок,
впоследствии более известный как замок Поуис, а еще позднее как резиденция
герцога Бофорта. Архитектурное великолепие этого величественного
сооружения относится к гораздо более позднему времени; в описываемую нами эпоху
замок Гуенуина представлял собой низкое и длинное строение из красного
камня, которому оно и обязано своим названием. Его укрепления, не считая
выгодного расположения на возвышенности, состояли главным образом из рва и
частокола.
Глава II
11
Глава П
О Медок, отзовутся дали
И горы на рожок походный,
Пока они молчат в печали
И тягостен им мир бесплодный.
Еще придут сыны сраженья,
Все преисполнится движенья...
Но скучный мир всему довлеет.
Из валлийской поэзии1
Пиры древних бриттских владык обычно отличались изобилием и
грубоватой пышностью; на сей раз Гуенуин стремился приобрести популярность еще
более расточительным гостеприимством2, ибо понимал, что задуманный им
брачный союз подданные и войско еще, может быть, потерпят, но никогда не
одобрят.
Следующий случай, сам по себе незначительный, подтвердил его опасения.
Проходя однажды в сумерках мимо открытого окна караульного помещения,
где обычно находились несколько воинов, сменявших друг друга при охране
замка, он услышал, как Морган, воин, отличавшийся силой, отвагой и
свирепостью в бою, сказал товарищу, сидевшему с ним у очага:
— Гуенуин превратился то ли в попа, то ли в бабу. Когда это прежде нам
приходилось дочиста обгладывать кость*?
— Подожди еще немного, — отвечал его собеседник. — Вот сыграют
норманнскую свадьбу, тогда нам вовсе нечего будет выжимать из саксонских мужиков.
Будем рады и всю кость сгрызть, как голодные псы.
Больше Гуенуин ничего не услышал; но и этого было достаточно, чтобы
задеть его гордость воина и встревожить его как властелина. Он знал, что народ,
которым он правил, непостоянен в своих привязанностях, не терпит долгих
передышек в войнах и ненавидит соседей; он знал, что следует опасаться
бездействия, на которое обрекал своих подданных длительным замирением. Но делать
было нечего; он уже пошел на это, и большая, чем обычно, щедрость на пиру
казалась ему лучшим способом удержать поколебавшуюся любовь своих
подданных.
Изобилие этого пиршества норманны презрительно назвали бы варварским.
Оно состояло из коровьих и овечьих туш, зажаренных целиком, из козлят и
оленей, запеченных в собственной шкуре. Норманны же гордились скорее
качеством, чем количеством пищи, изысканной, но менее обильной, и
высмеивали грубые обычаи бриттов, хотя эти последние были на своих пирах куда
умереннее саксов; лившиеся рекою на этих пирах эль4 и медовуха также, по
мнению норманнов, не могли заменить более тонких и дорогих напитков, какие они
* В преданиях Горной Шотландии говорится, что один вождь из клана Макдональдов с
Островов3, который вступил в брак с красивой девушкой и на несколько месяцев вложил свой меч в
ножны, совершил внезапный набег на материк, когда подслушал среди своей охраны подобный
разговор.
12
Обрученная
узнали и полюбили на юге Европы. Не одобряли они и непременных у бриттов
молочных блюд, хотя в краю, богатом стадами, но бедном возделанной землею,
такие кушанья в обычные дни часто заменяли его древним обитателям все
остальное.
Пиршество было устроено в длинном и низком помещении из нетесаных
бревен, кое-где обшитых щепой. В обоих его концах пылал в очагах огонь; дым,
не находя достаточного выхода через отверстия, проделанные в крыше,
стлался над головами пирующих, сидевших на лавках, которые были нарочно
сделаны низкими, чтобы людям не задыхаться в удушливых клубах*. Внешний вид
собравшихся был диким и даже в подобной мирной обстановке мог
показаться устрашающим. Их хозяин обладал гигантским ростом и грозным взглядом,
способным держать в повиновении буйный народ, более всего любивший
сражения. Длинные усы, такие же как и у большинства его воинов, придавали ему еще
более грозный вид. Как и они, Гуенуин был одет в простую тунику из белой
льняной ткани, сходную с одеждой, которую ввели в своей бриттской
провинции еще римляне5. На шее у него висел эудорхауг, или цепь из переплетенных
золотых звеньев, которой кельтские племена украшали своих вождей. Такое
ожерелье, своей формой напоминавшее те, что дети плетут из тростника, носили
и вожди менее высокого ранга, обозначавшие этим знатность своего рода или
свои воинские заслуги. Но золотой обруч на голове Гуенуина — ибо он считал
себя одним из трех коронованных владык Уэльса6 — и такие же браслеты
на руках и на щиколотках отличали князя Поуиса как суверенного монарха.
За спиной у него стояли два телохранителя, находившиеся при нем неотлучно;
а у ног сидел паж, чьей обязанностью было растирать ему ноги и согревать их,
кутая в свой плащ. Тот же сан, который давал Гуенуину право на золотую
диадему, позволял ему иметь и особого слугу, который лежал на стружках,
устилавших пол, и держал ноги владыки у себя на груди.
Несмотря на воинственный дух гостей и постоянные распри между ними,
лишь очень немногие из пирующих имели при себе какие-либо средства
защиты кроме легкого щита из козьей шкуры, висевшего позади каждого из них.
Зато в оружии для нападения у них не было недостатка; свои широкие и
короткие обоюдоострые мечи они опять-таки унаследовали от римлян7. Большинство
добавляло к этому кинжал. Немало было здесь и дротиков, луков и стрел,
копий, алебард, датских боевых топориков8 и валлийских крюков9 и секачей10.
Словом, на случай ссоры, которая могла вспыхнуть на пиру, здесь было
достаточно оружия, чтобы натворить немало бед.
Но хотя пиршество выглядело несколько беспорядочным и пирующие не
стесняли себя правилами поведения, принятыми среди рыцарей, пасхальный пир
у Гуенуина имел благодаря двенадцати прославленным бардам источник более
возвышенного наслаждения, чем те, какими могли похвастать и сами гордые
* Дома валлийцев, как и дома родственных им племен в Ирландии и в горной Шотландии,
имеют весьма несовершенные дымоходы. В «Истории рода Гвидир» приведены примечательные
слова некоего валлийского вождя; когда нападавшие на него враги подожгли его дом, он призвал
своих друзей продолжать обороняться, заявив, что в рождественский сочельник дыму у него
бывает ничуть не меньше.
Глава II
13
норманны. Правда, у последних служили менестрели11, искушенные в поэзии,
пении и музыке; но хотя их искусство было в почете и некоторые его
представители, достигшие высокого совершенства, нередко щедро награждались и
пользовались известностью, само по себе звание менестреля не являлось
уважаемым, и их сословие состояло большей частью из беспутных бродячих певцов12,
избравших это ремесло, чтобы не работать и вести разгульную жизнь. Так во
все времена складывалась судьба тех, кто посвящал себя развлечению публики;
лишь немногие из них, особо выдающиеся, достигали порой высокого
положения в обществе, но в большинстве своем они ценились весьма низко. Не
таково было сословие валлийских бардов. Унаследовав высокое положение от
друидов13, при которых они некогда состояли в виде младшего, подчиненного брат-
ства, барды пользовались многими привилегиями, большим почетом и
оказывали на своих соотечественников немалое влияние. В этом они даже
соперничали со священниками, с которыми имели некоторое сходство, ибо не
носили оружия и бывали посвящены в свой сан с различными тайными и
мистическими церемониями; их «авен», или прилив поэтического вдохновения, чтился
как нечто сошедшее с небес. Имея такую власть и влияние, барды охотно ими
пользовались и при этом нередко позволяли себе причуды и капризы.
Так, видимо, было на сей раз с Кадуаллоном, главным бардом Гуенуина, от
которого пировавшие ждали вдохновенных песен. Но ни трепетное ожидание
собравшихся, ни молчание, наступившее в их шумной толпе, едва лишь слуга
барда почтительно положил перед ним его арфу14, ни даже приказания и
просьбы самого князя не могли выжать из знаменитого Кадуаллона ничего,
кроме краткой и невыразимо печальной прелюдии, которая тотчас растаяла в
тишине. Князь нахмурился и сурово взглянул на барда, но тот был слишком
погружен в скорбную задумчивость, чтобы оправдываться или даже заметить
его неудовольствие. Он снова извлек из арфы несколько тоскливых аккордов
и, подняв глаза к небу, казалось, готов был запеть одну из песен, какими этот
замечательный мастер восхищал слушателей. Но увы! Они ждали тщетно. Бард
заявил, что правая рука его онемела, и оттолкнул от себя инструмент.
Среди собравшихся послышался ропот, и Гуенуин прочел в их взглядах, что
необычное молчание Кадуаллона они сочли дурным предзнаменованием.
Он поспешил кликнуть молодого, честолюбивого барда по имени Карадок из
Менуигента, чья растущая слава обещала вскоре затмить славу Кадуаллона,
и потребовал от него песню, которую одобрил бы его повелитель и с
благодарностью приняли все слушатели. Юноша был честолюбив и уже владел
искусством придворного льстеца. Он начал песню, в которой, под другим именем, так
воспел Эвелину Беренжер, что Гуенуин был в восторге. Все, кому довелось
видеть прекрасный оригинал этого портрета, тотчас узнали его, а в глазах князя
читались и его страсть к героине песни, и его восхищение певцом. Образы
кельтской поэзии сами по себе весьма пышны; но казалось, что даже их не хватает
славолюбивому барду, который при виде возбуждаемых им чувств
воспламенялся все более и более. С похвалами норманнской красавице он сочетал
славословия своему господину. «Подобно тому как лев, — пел певец, — подчиняется
только руке прекрасной и целомудренной девы, так и вождь может признать над
14
Обрученная
собой власть лишь самой добродетельной и самой прекрасной. Разве спросит кто
у полуденного солнца, из какого края земли оно восходит? И разве спросит кто
у столь прелестного создания, в каком краю она родилась?»
Неистовые в наслаждениях, как и в битвах, наделенные живым
воображением, которое возбуждается от пламенных песен бардов, валлийцы дружно
рукоплескали певцу; а он славил брачный союз, задуманный его господином,
приводя все доводы, какие прежде него приводил священник.
Сам Гуенуин, в порыве восторга, сорвал с себя золотые браслеты, чтобы
наградить ими певца, который произвел столь нужное ему впечатление на
собравшихся, и укоризненно сказал, глядя на угрюмого Кадуаллона:
— Никогда у безмолвной арфы не будет золотых струн.
— Господин, — отозвался бард, не уступавший гордостью самому Гуенуину, —
поговорку Талиесина15 ты привел навыворот. Она гласит: «Только у льстивой
арфы струны всегда золотые».
Гуенуин уже приготовился гневно возразить ему, но туг его отвлекло
внезапное появление Иоруорта, гонца, которого он посылал к Раймонду Беренжеру.
Гонец, вступивший в пиршественный зал, был обут в сандалии из козьей
шкуры, одет в плащ из таких же шкур, а в руке держал короткий дротик. Пыль на
его одежде и раскрасневшееся лицо указывали, как усердно спешил он
выполнить поручение. Гуенуин нетерпеливо обратился к нему:
— Какие же вести несешь ты из замка Печальный Дозор, Иоруорт, сын
Иеуана?
— Вести я принес у себя на груди, — сказал сын Иеуана. И он почтительно
вручил князю свиток, перевязанный шелковым шнуром и запечатанный
печатью с изображением лебедя, древнего герба Беренжеров. Гуенуин, не умевший
ни читать, ни писать, поспешно передал послание Кадуаллону, обычно
исполнявшему обязанности секретаря в отсутствии священника, которого как раз не было
в зале. Взглянув на послание, Кадуаллон коротко сказал:
— По-латыни я не читаю. Горе норманну, который смеет писать к князю
Поуиса на ином языке, нежели язык бриттов! Славное было время, когда один
лишь этот благородный язык звучал от Тинтажеля16 до Корлеойля17!
Гуенуин ответил на это гневным взглядом.
— Где же отец Эйнион? — нетерпеливо спросил он.
— Он служит мессу18, — ответил один из слуг. — Ведь нынче день святого...
— Пусть хоть самого святого Давида! — закричал Гуенуин. — И пусть хоть с
дарохранительницей19 в руках, но явится сюда немедля!
Один из оруженосцев кинулся выполнять приказание. Гуенуин тем временем
разглядывал письмо, которое возвещало его судьбу, но нуждалось в чтеце и
переводчике, с такой тревогой и нетерпением, что Карадок, упоенный своим
успехом, решил развлечь господина и заполнить минуты ожидания. Слегка
коснувшись струн, словно не осмеливаясь прерывать размышления патрона, он
запел, на легкий и живой мотив, песню, прямо касавшуюся всего происходившего.
— О свиток! — обратился он к посланию, лежавшему на столе перед Гуенуи-
ном. — Пусть ты говоришь на языке чужеземцев. Что из того? Голос кукушки
звучит печально, но вещает нам о зеленых почках и расцветающих цветах. Если
Глава II
15
ты говоришь на языке священников, разве это не тот язык, что соединяет у
алтаря руки и сердца? И если ты медлишь раскрыть свои сокровища, то
разве любая радость не усиливается от ожидания ее? Много ли удовольствия от
охоты, когда олень падает к нашим ногам едва выскочив из укрытия? И
велика ли цена девичьей любви, когда она достается нам без стыдливого
промедления?
Тут песнь барда была прервана появлением капеллана; спеша на зов своего
нетерпеливого господина, он даже не успел снять облачение, в котором
отправлял церковную службу; и многие из старейшин сочли это за дурной знак, ибо
не подобает в таком облачении появляться там, где пируют и где звучит
музыка, отнюдь не церковная.
Священник пробежал глазами послание норманнского барона и,
пораженный его содержанием, молча возвел взор к небу.
— Читай же! — грозно приказал Гуенуин.
— Осмелюсь сказать, — пробормотал осторожный священник, — что лучше
бы не читать этого при всех.
— Читай вслух! — потребовал князь, еще более повысив голос. — Здесь нет
никого, кто не дорожит честью своего господина, и никого, кто не заслуживает
его доверия. Читай вслух, говорят тебе! Клянусь святым Давидом, если норманн
Раймонд осмелился...
Он не договорил и, откинувшись в кресле, приготовился слушать; однако его
приближенным нетрудно было мысленно досказать то, что осторожность велела
ему оставить недосказанным.
Тихим и неуверенным голосом капеллан прочел следующее послание:
Раймонд Беренжер, норманнский рыцарь, сенешаль20 замка Печальный
Дозор, Гуенуину, князю Поуиса (да будет между ними мир!) с пожеланиями
здравствовать.
Послание твое с просьбой о руке нашей дочери Эвелины было нам
благополучно доставлено твоим слугою Иоруортом, сыном Иеуана, и мы сердечно
благодарим за добрые пожелания нам и нашему дому. Однако, приняв в
соображение кровные меж нами различия и многие обиды, в подобных случаях
происходящие, сочли мы за лучшее выдать нашу дочь за человека из нашего
народа; и не в обиду тебе, но единственно ради блага твоего, нашего и наших
подданных, чтобы им не страдать из-за наших раздоров, а таковые неизбежны,
если свяжем мы себя узами более тесными, чем нам подобает. Овцы и козы
мирно пасутся на тех же самых пастбищах, но кровь свою не смешивают. К тому
же к дочери нашей Эвелине уже посватался благородный и могущественный
Хьюго де Лэси, Лорд Хранитель Марки21, коннетабль Честерский, и получил
наше согласие. Поэтому просьбу твою мы удовлетворить не можем. Во всем же
прочем мы во всякое время готовы твоим желаниям благоприятствовать. О чем
призываем в свидетели Господа, Пресвятую Деву и Святую Марию Магдалину
Куотфордскую, коим и тебя поручаем.
По приказанию нашему писано в нашем замке Печальный Дозор на
Валлийской Марке преподобным отцом Альдровандом, монахом монастыря в Уэнло-
16
Обрученная
ке. К сему приложили мы нашу гербовую печать. Писано в канун дня
блаженного святого мученика Альфегия22, да святится Имя его.
Голос отца Эйниона прерывался и свиток в его руке дрожал, пока он читал
послание. Достаточно было и меньших оскорблений, чтобы в жилах Гуенуина
закипела кровь бритта. Так и оказалось. Оставив спокойную позу, в которой он
слушал послание, князь начал медленно подыматься. Когда чтение окончилось,
он вскочил словно разъяренный лев, оттолкнув ногою пажа.
— Святой отец, — грозно спросил он, — верно ли прочел ты проклятый
свиток? Ибо если ты прибавил или убавил в нем хотя бы одно слово или одну букву,
я прикажу выколоть тебе глаза и ты уж больше никогда ничего не прочтешь!
Монах задрожал (ибо хорошо знал, что духовный сан не всегда защищает от
гнева скорых на руку валлийцев).
— Святым орденом своим, — ответил он, — клянусь, могущественный князь,
что я все прочел слово в слово и буква в букву.
Наступило молчание, ибо ярость Гуенуина при неожиданном оскорблении,
нанесенном ему перед всем Ухелуиром (то есть собранием вождей, а дословно
«мужей, высоких ростом»)23 была такова, что, казалось, не сразу могла найти
себе выражение. Тишину нарушило несколько звуков до того безмолвной арфы
Кадуаллона. Гуенуин обернулся к нему с неудовольствием, ибо сам собрался
заговорить; но при виде вдохновенного барда, склонившегося над своей арфой
и с несравненным искусством извлекавшего из нее пламенные звуки, он, вместо
того чтобы говорить, стал слушать. Уже не он, а Кадуаллон сделался центром
всеобщего внимания; на него устремились все взоры; его, точно оракула24,
слушали все собравшиеся.
— Не надо нам браков с чужеземцами, — пел бард. — В подобный брак
вступил некогда Вортигерн25, отсюда и пришла в Британию первая беда. Мечом
сражены были ее вожди, молнией сожжены их чертоги. Не надо нам браков с
порабощенными саксами; благородный и свободный олень не ищет себе подругу
среди телок, чья шея натерта ярмом. Не надо нам браков и с алчными
норманнами; благородный гончий пес не ищет себе подругу в стае хищных волков. /
С каких пор потомки Брута26, истинные дети прекрасной бриттской земли,
ограблены, угнетены, бесправны и оскорбляемы в последних своих убежищах? /
С тех самых пор, как протянули руку дружбы чужеземцу и заключили в свои
объятия дочерей саксов. / Который из двух более грозен? / Пересыхающий
летний ручей или бурный зимний поток? / Высохший летний ручей шутя
переходит девушка, но в зимние воды боится вступить даже боевой конь со своим
седоком. / Станьте же грозным зимним потоком, мужи Матравеля и Поуиса!
Гуенуин, сын Киверлиока! Пусть твой белый султан будет самой высокой из его
волн!
Все помыслы о мире, сами по себе чуждые сердцам воинственных бриттов,
исчезли после песни Кадуаллона, словно прах, сметенный ураганом.
Собравшиеся дружными возгласами потребовали немедленно начать войну. Сам князь
ничего не сказал, лишь гордо огляделся вокруг и взмахнул рукой, точно ведя
своих воинов в бой.
Глава III
17
Священник, если бы осмелился, мог напомнить Гуенуину, что знак креста,
возложенный им на себя, означает обет сражаться за Гроб Господень и
запрещает участие в войнах за мирские цели. Но для этого у отца Эйниона
недоставало храбрости, и он удалился в свой монастырь. Карадок, чей краткий миг
успеха миновал, также удалился, смиренный и понурый, но, уходя, бросил
злобный взгляд на счастливого соперника, который столь мудро приберег свое
искусство, чтобы прославить войну — предмет, который всегда пользовался у его
слушателей самым большим успехом.
Вожди снова заняли свои места за столами, но уже не затем, чтобы
пировать27, а чтобы с обычной для этих неутомимых воителей поспешностью решать,
где именно надлежит собрать войско, которое в подобных случаях включало
почти всех мужчин, способных носить оружие, — ибо воинами были все, за
исключением священников и бардов, — и откуда начать опустошительный набег
на область Марки, где они намеревались, разоряя все на своем пути, мстить
оскорбителям, отвергнувшим сватовство их господина.
Глава Ш
Песчинки жизни сочтены в часах;
Здесь я останусь, здесь окончу жизнь*.
Генрих VI. Ч. III, акт I, сц. 41
Отправив свое послание князю Поуиса, Раймонд Беренжер предвидел все
последствия, но нимало их не боялся. Он послал гонцов к нескольким своим
вассалам, владевшим землями на условиях «корнажа2», то есть обязанности
оповещать об опасности, и велел им быть настороже, чтобы немедленно дать
ему знать о приближении неприятеля. Как известно, такие вассалы жили в
башнях, которые, подобно соколиным гнездам, были сооружены в местах, наиболее
удобных для охраны границы; трубя в рог, эти рыцари должны были извещать
о каждом вторжении валлийцев; звуки рога, передаваясь от башни к башне, от
одного сторожевого поста к соседнему, были общим сигналом тревоги и
призывом к обороне. Хотя Раймонд счел такие предосторожности необходимыми как
из-за вероломства своих ненадежных соседей, так и ради своей репутации
опытного воина, но немедленного нападения он не ждал; ибо военные приготовления
валлийцев, даже более обширные, чем обычно в последнее время, делались
столь же тайно, сколь внезапным было их решение выступить.
Гроза на норманнской границе разразилась через два дня после памятного
пиршества в Касгель-Кохе. О приближении врага известил сперва одиночный
долгий и громкий звук рога; затем сигналы тревоги прозвучали в каждом замке и
каждой сторожевой башне вдоль границы Шропшира3, где в те времена крепостью
было всякое человеческое жилье. На возвышенностях зажглись сигнальные огни,
в церквах зазвонили колокола; этот общий призыв к оружию говорил об
опасности, какую до тех пор не испытывали даже жители этого неспокойного края.
* Пер. Е. Бируковой.
18
Обрученная
При первых сигналах тревоги Раймонд Беренжер, собрав немногих, но самых
доблестных воинов, а также, насколько это было возможно, сведения о силах
противника и о его продвижении, взошел на сторожевую башню замка, чтобы
самому обозреть окружающую местность, над которой уже подымались кое-где
клубы дыма, отмечавшие разрушительный путь нападавших. К лорду
тотчас присоединился его любимый оруженосец, встревоженный мрачным видом
своего господина, который перед боем обыкновенно бывал особенно светел и
ясен лицом. Оруженосец держал в руках шлем господина; сэр Раймонд был уже
в доспехах и только не надел шлем.
— Деннис Морольт, — спросил старый воин, — все ли наши вассалы собрались
и готовы к бою?
— Все, благородный рыцарь, только фламандцы4 еще не подошли.
— Что ж они мешкают, ленивые псы? — сказал Раймонд. — Не следовало нам
брать на границу таких неповоротливых. Они похожи на своих коней: более
пригодны для плуга, чем для дел, где нужна резвость.
— С вашего дозволения скажу, — ответил Деннис, — кое на что они все же
пригодны. Вот хотя бы Уилкин Флэммок. Этот уж если ударит, так не хуже,
чем молот на его сукновальне.
— Да, когда приспичит, он станет драться, — сказал Раймонд. — Но нет у него
любви к этому делу, и к тому же он медлителен и упрям как мул.
— Вот поэтому-то его земляки как раз и годятся для войны с валлийцами, —
ответил Деннис Морольт. — Их неподатливость и упорство лучше всего могут
противостоять неистовому нраву наших опасных соседей. Ведь недвижные
скалы — лучшая преграда для неугомонных волн. Но я слышу шаги Уилкина Флэм-
мока. Он подымается на башню так же неспешно, как монах к ранней обедне.
Тяжелые шаги приближались, и наконец высокая и плотная фигура
фламандца появилась на башенной площадке, где о нем шел разговор. Уилкин
Флэммок был облачен в доспехи необычайной толщины и прочности. Со
свойственной фламандцам любовью к чистоте, они были начищены до блеска, но,
в отличие от доспехов норманнов, были совершенно гладкими, без резьбы,
позолоты и каких-либо украшений. Его стальной шлем не имел забрала и
оставлял открытым широкое лицо с крупными, неподвижными чертами, ясно
говорившими о нраве их обладателя. В руке он держал тяжелую булаву.
— Вижу, сэр фламандец, — начал кастелян, — ты не торопишься.
— С вашего дозволения, — проговорил Флэммок, — пришлось немного
задержаться, ведь надо было загрузить наши повозки тюками тканей и прочим
имуществом.
— Повозки? Сколько же их у тебя?
— Шесть, благородный рыцарь, — ответил Уилкин.
— А людей при них?
— Двенадцать, доблестный рыцарь.
— По два на каждую груженую повозку? Дивлюсь, зачем вы так себя
обременили.
— Опять-таки с вашего дозволения скажу, — продолжил Уилкин, — что
только забота о нашем имуществе заставляет меня и моих товарищей грудью защи-
Глава HI
19
щать его; а если бы неминуемо пришлось оставить наши сукна грабителям,
зачем нам тогда и быть здесь? Затем, чтобы нас не только ограбили, а еще и
убили? Я бы тогда бежал без остановки до самого Глостера5.
Норманнский рыцарь взглянул на фламандского ремесленника, каким был
Уилкин Флэммок, с презрением, даже не оставлявшим места негодованию.
— Много я всякого слышал, — проговорил он, — но впервые слышу, чтобы
мужчина признавался в трусости.
— Не услышали вы этого и сейчас, — ответил невозмутимый Флэммок. —
Я всегда готов сразиться за свою жизнь и имущество. Поселившись в стране, где
тому и другому постоянно грозит опасность, я тем самым доказал, что воевать
готов сколько нужно. Однако целая шкура все же лучше продырявленной.
— Ну что ж, — вздохнул Раймонд Беренжер. — Бейся на свой лад, лишь бы
бился крепко. Недаром ведь ты такой здоровяк. Нам, как видно, понадобится
пустить в ход все, что имеем. Хорошо ли ты разглядел валлийских каналий?
Видел ли у них знамя самого Гуенуина?
— А как же! Видел его знамя с белым драконом, — ответил Уилкин. — Мне
ли не узнать его? Ведь оно выткано на моем станке.
При этом сообщении Раймонд нахмурился так грозно, что Деннис Морольт,
не желая, чтобы фламандец это заметил, счел нужным отвлечь его внимание.
— Могу только сказать, — обратился он к Флэммоку, — что, когда
подоспеет к нам коннетабль Честерский со своими копьеносцами, сработанный тобою
дракон улетит восвояси быстрее, чем летал челнок, который его выткал.
— Надо, чтобы он улетел еще до прибытия коннетабля, Деннис, — сказал
Беренжер. — Иначе он победно взлетит над нашими телами.
— Во имя Господа и Пресвятой Девы! — воскликнул Деннис Морольт. — Что
означают ваши слова, рыцарь? Неужели нам сражаться с валлийцами, не
дождавшись подкрепления? — Он умолк, но, встретив твердый и печальный взгляд,
которым его господин ответил на этот вопрос, продолжал с еще большим
волнением: — Не может быть! Не может быть, чтобы вы намеревались выйти за
стены замка, где мы столько раз давали отпор врагу; чтобы встретились с ним
в открытом поле, когда у него тысячи воинов против наших двух сотен.
Одумайтесь, дорогой мой господин! Пусть на старости лет безрассудный поступок не
запятнает славу мудрого и искусного военачальника, которую вы заслужили.
— Я не сержусь, Деннис, если ты осуждаешь мое намерение, — ответил
Раймонд. — Ибо знаю, что в тебе говорит любовь ко мне и к моему роду. Но так
должно быть, Деннис Морольт. Не позднее чем через три часа нам надо
сразиться с валлийцами, иначе имя Раймонда Беренжера придется вычеркнуть из его
собственной родословной.
— Ну что ж, значит, мы сразимся с ними, мой благородный господин, —
сказал оруженосец. — Когда речь идет о битве, Деннис Морольт отговаривать не
станет. Но сражаться мы будем под стенами замка, а честный Уилкин Флэммок
со своими арбалетчиками прикроет наши фланги на стенах и хоть как-то
уравняет чересчур неравные силы.
— Нет, Деннис, — ответил его господин. — Сражаться нам придется в
открытом поле, иначе господин твой окажется клятвопреступником. Знай, что, когда
20
Обрученная
пировал у меня этот хитрый дикарь и вино лилось рекою, он принялся
расхваливать мою неприступную крепость, намекая, что только это и спасало меня
доныне от поражений и плена. Лучше бы я промолчал; но я ответил ему, и
теперь мое хвастовство вынуждает меня к безумному поступку. Если, сказал я,
князь валлийцев когда-либо пойдет войной на этот замок, пусть он водрузит свое
знамя в поле возле моста, и вот мое слово рыцаря и христианина, что я
встречу его там, сколько бы войска он с собой ни привел.
Услышав о роковом безрассудном обещании, Деннис утратил дар речи. Он не
умел привести доводов, какие могли бы освободить его господина от оков,
которые тот наложил на себя неосторожными словами. Иначе отнесся ко всему
этому Уилкин Флэммок. Он широко раскрыл глаза и готов был расхохотаться, хотя
питал должное уважение к кастеляну да и сам от природы не был смешлив.
— Только и всего? — воскликнул он. — Вот если бы ваша честь обязалась
уплатить сто флоринов6 еврею или ломбардцу7, тогда, конечно, надо было бы
внести их день в день или потерять заклад. Но обещание сразиться? Да не все
ли равно, когда его выполнить? А лучше всего выбрать день наиболее выгодный
тому, кто обещал. Впрочем, так ли уж важно обещание, данное за кубком вина?8
— Оно столь же важно, как любое другое, — сказал Раймонд. — Нарушение
слова всегда грех, пусть даже это слово давал пьяный хвастун.
— Что до греха, — усмехнулся Деннис, — то, скорее чем допустить такое
безрассудство, аббат в Гласгонбери9 наверняка отпустит вам его, и всего за флорин.
— А что может смыть позор? — спросил Беренжер. — Как я покажусь среди
рыцарей, если нарушу обещание сразиться, оробев перед валлийцем и его
голыми дикарями? Нет, Деннис Морольт, ни слова больше! На счастье или на горе,
но мы сойдемся с ними нынче же и в открытом поле.
— А может быть, — предположил Флэммок, — Гуенуин и сам обо всем
позабыл и не появится в назначенном месте? Мы слышали, что французские вина
порядком затуманили в тот день его валлийские мозги.
— Он напомнил мне о моем обещании на следующее утро, — возразил
кастелян. — Поверь, он не упустит шанс навсегда со мной покончить.
Тут они заметили, что облака пыли, подымавшиеся то тут, то там на
равнине, начали стягиваться к дальнему берегу реки и к старому мосту, месту
назначенной встречи. Гуенуин собирал свои отряды, и собирал их все возле моста.
— Поспешим же туда, — предложил Деннис Морольт, — и не дадим ему
перейти мост — тогда у нас будет хоть какое-то подобие равенства. Вы обязались
сражаться с ним в поле, но не обязывались отказаться от такого преимущества,
как переправа по мосту. У нас готовы и кони и люди. Пусть наши лучники
целятся по мосту, и я жизнью своей ручаюсь за победу.
— Давая обещание встретиться с валлийцем в открытом поле, — объяснил
Раймонд Беренжер, — я имел в виду дать ему равные со мной возможности.
Именно это я подразумевал, и именно так он меня понял. Следовать только
букве, но не духу моего обещания — значит не сдержать его. Мы не выступим,
пока последний из валлийцев не перейдет мост. А тогда...
— А тогда, — продолжил Деннис, — мы выйдем навстречу своей смерти. Да
простит Господь наши грехи!.. Но...
Глава HI
21
— Что еще ты хочешь сказать, — спросил Беренжер, — но никак не
выговоришь?
— ...но судьба молодой госпожи, вашей дочери леди Эвелины...
— Я не скрыл от нее, чтб нам предстоит. Она останется в замке с
несколькими отборными воинами, и ты, Деннис, будешь командовать ими. Через сутки
осада замка будет снята. Нам случалось защищать его и дольше, с меньшими
силами. А там мы отправим ее к тетке аббатисе, в монастырь бенедиктинок10,
где честь ее будет в безопасности; и я полагаюсь на мудрость моей сестры, чтобы
устроить ее судьбу.
— Как? Чтобы я покинул своего господина в такой крайности! — воскликнул
Деннис Морольт и заплакал. — Чтобы я заперся в этих стенах, когда мой
господин вступит в свой последний бой! Чтобы я сделался пажом при даме, хоть бы
и при самой леди Эвелине, когда он будет лежать мертвым под своим щитом!
Раймонд Беренжер! Для того ли я столько раз застегивал на тебе доспехи?
Слезы струились из глаз старого воина, словно у девушки, плачущей о
своем любимом.
— Не думай, верный старый слуга, — ласково взяв друга за руку, успокаивал
его Раймонд, — что я не дал бы тебе места рядом со мной, если б мы шли за
воинской славой. Но мы идем на безумное, безрассудное дело, уготованное мне
судьбой или собственной моей глупостью. Я погибну, чтобы спасти свое имя от
бесчестья. Но, увы, оставлю память о своем безрассудстве.
— Дозвольте же мне разделить ваше безрассудство, дорогой мой господин, —
горячо умолял Деннис Морольт. — Бедному оруженосцу не подобает быть умнее
своего господина. Во многих боях доставалось и мне немного славы. Не лишайте
меня права разделить с вами и порицания, какие может вызвать ваше безумство.
Пусть никто не скажет, что поступок ваш был столь неразумен, что даже
старому оруженосцу непозволительно в нем участвовать. Ведь я — часть вас самого.
Беда каждому, кого вы возьмете с собой, если не возьмете и меня!
— Деннис! — воскликнул Беренжер. — Ты заставляешь меня еще горше
раскаиваться в моей глупости. Я исполнил бы твою просьбу, как она ни печальна.
Но что будет с моей дочерью?
— Рыцарь, — сказал фламандец, слушавший их разговор несколько менее
флегматически, чем ему было свойственно. — Я не намерен нынче
отлучаться из замка, и если вы доверите мне, простому человеку, попечение о леди
Эвелине...
— То есть как? — спросил Раймонд. — Ты не намерен отлучаться из замка?
Кто дал тебе право решать это, пока ты не знаешь, какова будет моя воля?
— Я не хотел бы препираться с вами, сэр кастелян, — ответил невозмутимый
фламандец. — Но у меня в здешнем городе дома, мануфактуры и прочее. За них
я несу службу по защите замка Печальный Дозор и служить готов. Однако, если
вы прикажете мне идти отсюда, оставив замок без защиты, и рисковать жизнью
в бою, который вы сами считаете проигранным, приходится мне заявить, что к
этому моя служба меня не обязывает.
— Подлый ремесленник! — крикнул Морольт, схватившись за кинжал.
Но Раймонд Беренжер остановил его словом и жестом.
22
Обрученная
— Не тронь его, Морольт, и не осуждай. У него есть чувство долга, хотя и
отличное от нашего. Ему и его людям лучше сражаться за этими стенами.
Фламандцы весьма опытны в защите городских стен и крепостей. Особенно искусны они
в обращении с баллистами11 и другими военными машинами. Кроме его слуг в
замке сейчас находится еще несколько его соотечественников. Их я и хочу здесь
оставить. И подчинятся они охотнее именно ему, не считая, конечно, тебя. Как ты
думаешь? Знаю, что ради ложно понятой чести или из слепой любви ко мне ты
не оставил бы столь важный пост и безопасность Эвелины в ненадежных руках.
— Благородный рыцарь, — ответил Деннис, радуясь полученному
разрешению, словно большой удаче, — Уилкин Флэммок всего лишь фламандский
мужик, но я должен сказать, что он надежен и верен не менее любого из тех, кому
вы доверяете. К тому же он смекалист и поймет, что ему выгоднее защищать
такой замок, чем сдать его противнику, который едва ли станет соблюдать
условия сдачи, что бы ни сулил.
— Что ж, решено! — сказал Раймонд Беренжер. — Ты, Деннис, будешь при мне,
а его мы оставим здесь. Уилкин Флэммок, — продолжал он, обращаясь к
фламандцу, — я не стану говорить с тобой на языке рыцарей, ибо он тебе неведом. Но как
честного человека и верующего христианина заклинаю тебя: защищай замок!
Пусть никакие посулы врага не соблазнят тебя, никакие его угрозы не склонят
сдаться. Подкрепление должно скоро прибыть. Если верно послужишь мне и моей
дочери, Хьюго де Лэси щедро тебя вознаградит. Если предашь — сурово покарает.
— Сэр рыцарь, — ответил Флэммок, — я рад, что вы доверились простому
ремесленнику. Что до валлийцев, то ведь я родом из земли, за которую нам с
ранних лет приходится бороться с морем. А тем, кто умеет справляться с
бурными волнами, не страшна и ярость дикарей. Дочь ваша будет мне столь же
дорога, как моя собственная. Так что будьте спокойны за нее, идя на бой. А еще
лучше и мудрее было бы запереть ворота, опустить решетки, поднять мост,
выставить на стенах ваших лучников и моих людей с арбалетами12 и показать
негодяям, что вы не столь безумны, как они полагают.
— Это невозможно, добрый человек, — сказал рыцарь. — Но я слышу
голос мой дочери, — добавил он поспешно. — Я не хочу видеть ее, чтобы тотчас
расстаться. Да хранит тебя Небо, честный фламандец. За мной, Деннис Морольт!
Старый кастелян торопливо спустился с южной башни; Эвелина подымалась
в это время на восточную, чтобы еще раз проститься с отцом. Ее
сопровождали Альдрованд, капеллан отца, старый немощный егерь13, отслуживший свое на
охоте, а теперь присматривающий на псарне за любимыми собаками
господина, и Роза Флэммок, дочь Уилкина, голубоглазая, пухленькая фламандка,
которую с некоторых пор приставили к знатной норманнской девице в качестве
то ли смиренной подруги, то ли доверенной служанки.
Эвелина, взбежав на стену замка с распущенными волосами и лицом,
залитым слезами, взволнованно спросила фламандца, где ее отец.
Флэммок отвесил ей неуклюжий поклон и хотел ответить, но голос ему не
повиновался. Он бесцеремонно отвернулся от Эвелины и, не слушая тревожных
расспросов егеря и капеллана, сказал своей дочери на родном языке:
Глава HI
23
— Безумство! Чистое безумство! Ты уж позаботься о бедной девушке, Розхен.
Der alter Herr ist verruckt*.
He сказав больше ничего, он спустился вниз и поспешил в кладовую. Там он
стал громовым голосом звать хозяина этих мест, называя его «каммерер»,
«келлер-мастер»14 и тому подобными званиями, на которые старый норманн
Рейнольд, разумеется, не откликался, пока фламандец не вспомнил наконец его
англо-норманнское звание «дворецкий». Только это звание и открыло двери
кладовой. Старик тотчас явился — в своем сером кафтане, в рейтузах и с
увесистой связкой ключей, подвешенной на серебряной цепочке к широкому
кожаному поясу. Так как время было тревожное, он счел нужным пристегнуть к
поясу с другого боку огромную саблю, казавшуюся чересчур тяжелой для его
старческих рук.
— Что тебе, Флэммок? — спросил он. — А вернее, каковы будут твои
приказания, раз мой господин велел им повиноваться.
— Всего лишь кубок вина, добрый господин келлер-мастер, то бишь дворецкий.
— Рад, что ты помнишь мое звание, — заметил Рейнольд с досадой
доверенного слуги, полагающего, что повиноваться чужаку ему все же не пристало.
— Бокал рейнского15, уж будь так добр, — сказал фламандец, — ибо на
сердце у меня печаль, и вино мне надобно самое лучшее.
— Будет тебе лучшее вино, — пообещал Рейнольд, — если оно придаст тебе
отваги, которой тебе, может быть, не хватает.
Он спустился в потайной погреб, вверенный его хранению, и принес
серебряный сосуд, вмещавший, должно быть, кварту16.
— Вот вино, какое тебе редко доводилось пробовать. — И он приготовился
отлить оттуда в кубок.
— Нет уж, давай всю бутыль, друг Рейнольд. Перед важным делом я люблю
выпить, — объявил Уилкин.
Взяв в руки серебряный сосуд, он сперва отпил глоток, как бы пробуя
крепость и аромат напитка. Видимо, довольный, он одобрительно кивнул
дворецкому и, снова поднеся сосуд ко рту, стал медленно наклонять его, пока дно
бутыли не оказалось параллельным потолку; при этом он не давал ни одной
капле пролиться мимо.
— Да, вкус тут есть, господин келлер-мастер, — признал он, медленно
переводя дух. — Но, да простит тебя Бог, если ты полагаешь, будто это вино
лучшее из всего, что мне доводилось пить. Плохо же ты знаешь погреба Гента17
и Ипра18!
— И знать их не желаю! — проворчал Рейнольд. — Благородные норманны
предпочитают выдержанные вина Гаскони19 и Франции, бодрящие и легкие, всей
кислятине Рейна20 и Неккара21.
— Дело вкуса, — возразил фламандец. — Но скажи, много ли этого вина у
тебя в погребе?
— Оно как будто тебе не понравилось? Ты ведь очень разборчив, —
язвительно отозвался Рейнольд.
* Старый господин обезумел (нем.).
24
Обрученная
— Нет, нет, друг мой, — успокоил его Уилкин. — Ведь я признал, что вкус в
нем есть. Может, мне и доводилось пить кое-что получше, но хорошо и это, если
другого не достать. Итак, много ли его у тебя?
— Полная бочка, — ответил дворецкий.
— Вот и отлично! — обрадовался Флэммок. — Приготовь-ка сосуд, чтобы
вмещал кварту, бочку выкати сюда, в кладовую, и пусть каждому воину в
замке поднесут столько, сколько сейчас выпил я. Мне оно пошло на пользу. А то
ведь у меня сердце кровью облилось при виде черного дыма над моими
сукновальнями. Так вот, пусть каждый получит по полной кварте. Кто же
обороняет замки, если и хорошего вина не выпьет?
— Так я и сделаю, мой добрый Уилкин Флэммок, — пообещал дворецкий. —
Но не забывай, что все люди разные. Что фламандца только чуть разогреет, то
в норманне может разжечь огонь. Твоих земляков вино подбодрит выйти на
крепостные стены, а мои от него, чего доброго, взовьются на воздух.
— Конечно, своих тебе лучше знать. Им ты и поднесешь вина по своему
разумению. Но уж каждому фламандцу выдай по полной кварте рейнского. А чем же
ты угостишь саксонских мужиков, которых тут тоже осталось достаточно?
Старый дворецкий помолчал, потирая себе лоб.
— Да, вина будет здесь выпито немало. Однако я признаю, что для такого
случая не стоит его жалеть. Что до англосаксов, то это народ сложный. Есть в
них и ваша германская угрюмость, а есть и горячая кровь этих бесов —
валлийцев. Легкие вина на них не действуют, а от крепких они впадают в буйство. Как
ты думаешь, подойдет им эль? Отличный, бодрящий напиток! Сердце он
согревает, но голову не туманит.
— Эль? — переспросил фламандец. — А хорош ли у тебя эль, господин
дворецкий? Крепок ли?
— Неужели ты сомневаешься в моем умении? — возмутился дворецкий. — Вот
уж тридцать лет, как я каждую весну и осень готовлю его из самого лучшего
ячменя, какой только родится в Шропшире. Вот, суди сам!
Из большого бочонка, стоявшего в углу кладовой, он наполнил порожнюю
бутыль, и фламандец снова осушил ее до дна.
— Хорош! — похвалил он. — Хорош и крепок эль у тебя, господин дворецкий.
Английские мужики станут после него драться как черти. Давай им этого эля,
а к нему говядины да хлеба из непросеянной муки. Теперь, господин Рейнольд,
ты знаешь, что тебе надо делать. Посмотрю-ка, что надо делать мне.
Выйдя из кладовой, Уилкин Флэммок, столь же невозмутимый после всего
выпитого, как и после тревожных слухов о том, что происходит вблизи замка,
обошел его весь, а также внешние укрепления, собрал немногочисленный
гарнизон и каждому определил его место. Своим соотечественникам он поручил
арбалеты, а главное, военные машины, изобретенные гордыми норманнами,
непонятные тогдашним невежественным англичанам (точнее англосаксам), но
отлично освоенные более сообразительными фламандцами. Раздражение
норманнов и англичан, временно оказавшихся под началом у фламандца,
постепенно улеглось при виде его искусности в военном деле и в обращении с
машинами; а также от сознания опасности, которая росла с каждой минутой.
Глава IV
25
Глава IV
Вот этот мост, вот быстрый ручей.
У этих светлых и шумных вод
Немало в битве поляжет коней,
Немало славных бойцов падет.
Прорицание Фомы Рифмача1
Дочь Раймонда Беренжера, вместе со спутниками, уже нами
упоминавшимися, все еще оставалась на стене замка Печальный Дозор, хотя священник
уговаривал ее подождать исхода битвы в часовне и там молиться. Наконец он
увидел, что тревога не дает ей слушать и понимать его слова. Усевшись подле нее,
пока егерь и Роза Флэммок стояли рядом, он попытался внушить ей
спокойствие, которое едва ли ощущал сам.
— Вылазка, задуманная твоим благородным отцом, — сказал он, — может
казаться весьма неосторожной, однако никто еще не сомневался в военной
мудрости сэра Раймонда. Он всегда держит свои намерения в тайне. Думаю, что он
не выступил бы за стены замка, если бы не знал, что близится помощь
благородного лорда Арунделя или могущественного коннетабля Честерского.
— Вы в этом уверены, святой отец? Поди, Рауль, и ты, милая Роза,
взгляните на восток, не видны ли там знамена или облака пыли? Вслушайтесь, не
доносятся ли оттуда звуки труб?
— Увы, госпожа! — ответил Рауль. — Из-за воя валлийских волков едва ли
будет слышен даже гром небесный.
Эвелина обернулась, взглянула в сторону моста, и ей предстало ужасное
зрелище.
Река, с трех сторон омывающая подножие холма, где стоит замок, с
восточной стороны отступает несколько дальше от замка и соседнего с ним селения,
а холм, более пологий, переходит в совершенно плоскую равнину, очевидно
образованную речными наносами. На дальнем ее краю, там, где вновь
приближалась река, стояли сукновальни фламандцев, объятые сейчас пламенем
пожара. В самом центре равнины, в полумиле от замка, через реку перекинут был
высокий и узкий мост, состоявший из нескольких арок разной высоты. Русло
реки, глубокое и скалистое, едва ли можно было перейти в брод; это давало
немалые преимущества гарнизону замка, не раз успешно защищавшему
переправу, которую теперь, из-за чрезмерной щепетильности Раймонда Беренжера,
приходилось уступить неприятелю. Валлийцы, жадно ухватившись за
неожиданную возможность, теснились на высоких пролетах моста; все новые отряды их,
собиравшиеся на дальнем берегу, пополняли войско, которое безо всяких помех
начало выстраиваться напротив замка.
Вначале отец Альдрованд без тревоги и даже с презрительной усмешкой
наблюдал, как противник спешит в ловушку, приготовленную для него высшей
военной мудростью. Раймонд Беренжер с небольшим отрядом пеших и конных
воинов расположился на пологом склоне между замком и равниной. Монах2,
не совсем позабывший в монастыре свой прежний военный опыт, не сомневал-
26
Обрученная
ся, что рыцарь намерен напасть на врага, пока тот еще не собрал все свои силы,
когда часть их уже перешла через мост, а остальные еще только готовятся к
трудной переправе. Но когда валлийцы в белых плащах беспрепятственно
выстроились на равнине в том порядке, в каком привыкли сражаться, на лице
монаха, все еще повторявшего испуганной Эвелине слова ободрения, появилось
совсем иное, тревожное выражение. Смирение, обретенное в монастыре,
боролось с военным пылом его молодых лет.
— Терпение, дочь моя, — говорил он. — Терпи и надейся — и ты своими
глазами увидишь поражение варваров. Еще немного, и они развеются как прах по
ветру. Святой Георгий3! Сейчас наши воины выступят с твоим именем на устах!
Сейчас или никогда!
Монах быстро перебирал четки, но к смиренным молитвам примешивались
нетерпеливые восклицания. Он не мог уразуметь, отчего все новые отряды
валлийских горцев, каждый под своим знаменем, во главе со своим вождем, без
всяких помех выстраиваются в боевом порядке уже на ближней стороне моста;
а английская, вернее англонорманнская, конница не трогается с места и не
подымает копья. Ему казалось, что остается лишь одна надежда и единственное
разумное объяснение этому бездействий), этому добровольному отказу от всех
преимуществ, даваемых местностью, когда численное преимущество явно на стороне
противника. Очевидно, решил отец Альдрованд, помощь коннетабля Честер-
ского и других Лордов Хранителей Марки уже совсем близка; и валлийцам
лишь затем дают переправиться через реку, чтобы отрезать им отступление и
чтобы поражение их, когда в тылу у них окажется глубокая река, стало
особенно сокрушительным. Монах цеплялся за эту надежду, но сердце его все
больше сжималось, ибо, глядя в сторону, откуда могла прийти помощь, он не видел
и не слышал ни малейшего признака ее приближения. Все более переходя от
надежды к отчаянию, старик то молился, перебирая четки, то тревожно
оглядывался вокруг и пытался найти для молодой девушки слова утешения. Но тут
громкие ликующие крики, донесшиеся с берега реки, возвестили, что последний
валлиец перешел через мост и все их грозное войско, готовое к бою, собралось
на ближнем берегу.
На эти оглушительные крики, в которые каждый валлиец вложил всю свою
жажду битвы и всю надежду победить, ответили наконец и боевые трубы
норманнов, первые признаки того, что Раймонд Беренжер начал действовать.
Но хотя трубы звучали бодро, среди яростного рева, который издавал враг, они
были не более слышны, чем серебряный свисток отважного боцмана среди
шума разъяренной морской стихии.
Едва прозвучали трубы, Беренжер подал знак лучникам стрелять, а тяжело
вооруженным пешим воинам наступать. На их стальные доспехи тотчас
обрушился град стрел и дротиков, пущенных валлийцами, и град брошенных ими камней.
Закаленные в боях воины Раймонда, помня прежние победы и доверяя
искусству своего славного военачальника, не дали себя смутить неравенством
положения и атаковали валлийцев с обычной своей отвагой. Стоило видеть, как их
небольшой конный отряд пошел в наступление; над их шлемами развевались
султаны, копья на шесть футов4 были выставлены впереди коней; щиты они
Глава IV
27
повесили себе на шею, чтобы свободной левой рукой править конем; весь отряд
наступал как один человек и с каждой секундой быстрее. Такой натиск должен
был бы устрашить полуобнаженных людей, ибо так выглядели валлийцы в
сравнении с норманнами, облаченными в стальные доспехи. Однако он не устрашил
валлийцев, этих древних бриттов, которые часто хвалились, что подставляют
свою обнаженную грудь и белую тунику копьям и мечам столь же
безбоязненно, словно они родились неуязвимы. Они, разумеется, не могли устоять перед
первым натиском, когда их плотно сомкнутые ряды были нарушены, и кони
норманнов, задшщенные доспехами, как и их всадники, проникли в самую гущу
валлийского войска, почти к самому знамени Гуенуина, которому Раймонд Бе-
ренжер, выполняя свое роковое обещание, предоставил в этом бою такие
преимущества. Однако бритты расступились, как расступаются морские волны
перед килем корабля — чтобы бить в него с боков и вновь сомкнуться позади
него. С дикими криками, вселяющими ужас, они сомкнули свои ряды вокруг
Беренжера и его верного окружения, и разыгралась кровавая битва.
В тот день под знамя Гуенуина собрались лучшие воины Уэльса. Стрелы
воинов из Гуэнтленда, почти столь же искусных лучников, как сами норманны,
осыпали шлемы и доспехи норманнов; а воины из Дехеубарта5, чьи копья
славились своими остриями из закаленной стали, насквозь пробивали кирасы,
оказавшиеся для их владельцев недостаточной защитой.
Напрасно лучники, составлявшие часть небольшого отряда Раймонда,
стойкие йомены6, владевшие своей землей на условиях воинской службы у
Беренжера, посылали стрелу за стрелой в уязвимую мишень, какую представляло собой
войско валлийцев. Каждая такая стрела, вероятно, несла смерть одному из них;
но чтобы спасти конный отряд Беренжера, плотно окруженный врагами, их
требовалось, по крайней мере, в двадцать раз больше. Разъяренные этим градом
стрел, валлийцы отвечали на них стрелами собственных лучников, которые
брали числом, если не могли брать уменьем, и были поддержаны множеством
своих товарищей, метавших дротики и камни из пращей. Норманнские
лучники, не раз пытавшиеся отвлечь противника от обреченной конницы Раймонда,
вынуждены были оставить всякую надежду.
Их рыцарственный предводитель, с самого начала не надеясь ни на что,
кроме почетной гибели, заботился лишь о том, чтобы вместе с ним погиб и Гуе-
нуин, виновник этой войны. Прорубая себе путь между рядами бриттов, он
старался не расходовать всех своих сил; расталкивая рядовых валлийцев своим
боевым конем, он предоставил их мечам своих соратников, а сам, испустив
боевой клич, ринулся вперед, к роковому знамени Гуенуина, возле которого стоял
и он сам, сочетая обязанности искусного полководца и бесстрашного бойца. Зная
по опыту поведение валлийского войска в бою, его внезапные приливы и
отливы, Раймонд начал даже надеяться, что гибель или пленение князя и захват его
знамени внесут смятение в ряды врагов и почти безнадежное положение еще
может измениться. Воодушевляя своих воинов призывом и собственным
примером, он, несмотря на сопротивление, пробивался вперед. Однако Гуенуин,
окруженный самыми доблестными своими бойцами, оборонялся столь же упорно,
сколь яростна была атака. Защищенные доспехами кони топтали валлийцев,
28
Обрученная
неуязвимые всадники рубили их. Но теснимые, израненные валлийцы
продолжали сражаться. Одни, вцепляясь в ноги норманнских коней, мешали им
продвигаться; другие своими острыми пиками отыскивали щели в стальных
доспехах или пытались стащить всадников с коней, обхватывая их руками или
выбивая из седла топорами. И тем, кого им удавалось ссадить, не было пощады.
Длинные, острые ножи валлийцев наносили им сотни ран, и лишь тогда
бывали милосердны, когда первая оказывалась смертельной.
Бой длился уже более получаса, когда Беренжер, приблизившись на коне к
знамени валлийцев на расстояние двух копий, оказался так близко от Гуенуи-
на, что они смогли обрушить друг на друга град ругательств7.
— Обернись, валлийский волк! — крикнул Беренжер. — И получай удар
рыцарского меча! Раймонд Беренжер плюет на тебя и на твое знамя!
— Лживая норманнская каналья! — ответил Гуенуин, высоко занеся свою
массивную булаву, уже окрашенную кровью. — Твоему железному шлему
не защитить твой лживый язык, который я нынче же скормлю воронам!
Не говоря больше ничего, Раймонд послал своего коня прямо на князя,
который также был готов к схватке. Они почти уже сошлись, когда один из
валлийцев, обрекая себя на смерть/ подобно римлянам, сражавшимся против
слонов Пирра8, и не сумев пробить копьем броню Раймондова коня, кинулся под
него и вонзил ему в брюхо свой длинный нож. Благородный конь взвился на
дыбы и рухнул, раздавив под собой своего убийцу. Всадник упал; шлем его при
падении расстегнулся, открыв благородные черты и седые волосы Раймонда.
Он сделал несколько попыток выбраться из-под коня, но не успел и получил
смертельную рану от руки Гуенуина, который, не колеблясь, сразил своей
булавой противника, прежде чем тот встал на ноги.
В продолжение всего кровавого боя Деннис Морольт шаг за шагом и удар за
ударом повторял путь своего господина. Казалось, будто обоими их телами
движет единый порыв. Деннис то приберегал свои силы, то пускал их в ход, как
это делал его рыцарь. Он был рядом с ним и в роковой миг. Когда Раймонд
Беренжер бросился навстречу вождю валлийцев, его отважный оруженосец
рванулся к вражескому знамени и попытался вырвать его у гиганта валлийца,
которому оно было вверено. Даже во время этой яростной схватки Деннис
Морольт почти не спускал глаз со своего господина; увидя его гибель, он и сам
мгновенно обессилел, и валлийский воин без труда заколол его.
Бритты одержали полную победу. Воины Раймонда Беренжера, потеряв
своего военачальника, готовы были бежать или сдаваться. Однако бежать было
невозможно, ибо их окружили слишком тесно; а в жестоких войнах, которые
бритты вели на своих границах, пленные не могли надеяться на пощаду.
Немногие воины, которым посчастливилось выйти живыми из боя, не вернулись в
замок, а разбежались кто куда, разнося жителям Марки весть о поражении и
гибели славного Раймонда Беренжера.
Лучники погибшего рыцаря, до тех пор меньше участвовавшие в битве,
которую вела прежде всего конница, сделались, в свою очередь, главной мишенью
неприятеля. Увидя, как вся их орда хлынула на них с ревом, точно волны моря,
лучники оставили склон холма, который так стойко обороняли, и, сохраняя
Глава V
29
некий порядок, начали отступать к замку, что было для них единственным
способом спастись. Их легкие на ногу противники попытались обогнать их и в
узкой лощине, ведшей к замку, и преградить им путь. Но хладнокровие
английских лучников, привычных к самым тяжелым испытаниям, не изменило им и
на этот раз. Одни из них, вооружившись мечами и алебардами, выбивали
валлийцев из лощины; другие, то отступая, то останавливаясь и оборачиваясь к
своим преследователям, обменивались с ними стрелами, причем обе стороны несли
немалые потери.
Наконец, оставив на поле битвы более двух третей своих доблестных
товарищей, йомены достигли места, сравнительно для них безопасного, ибо туда уже
долетали стрелы и метательные снаряды со стен замка. И действительно, град
крупных камней и тяжелых стрел из арбалетов остановил валлийцев. Те, кто
командовал ими, отвели беспорядочную толпу на равнину, где их
соотечественники с громкими ликующими криками собирали на поле битвы всевозможную
добычу; а другие, пылая мстительной злобой, увечили тела убитых норманнов,
позоря этим и собственную отвагу, и дело, за которое они сражались, —
свободу родного края. Дикие вопли, какими сопровождалось это омерзительное
варварство, вселяли ужас в малочисленных защитников замка, но вместе с тем
укрепляли их решимость защищаться до последнего человека, лишь бы не
оказаться в руках столь жестокого врага*.
Глава V
И в замок тогда отступил барон,
В замок Барнард барон отступил тогда.
Взять внешние стены было легко,
И граф их взял без труда.
Те стены, из камня и кирпича,
Рассыпались по земле,
Но долго шла битва у внутренних стен,
Высеченных в скале.
Перси. Сокровища древней поэзии1
Неудачный исход боя вскоре сделался очевиден тем, кто в тревоге наблюдал
его со сторожевых башен замка Печальный Дозор, который в тот день как
нельзя более заслуживал свое название. Священник с трудом поборол
собственное волнение, чтобы сдерживать отчаяние женщин, которые были ему
поручены. К их сетованиям присоединились и другие — женщины, дети и немощные
старики — родственники тех, кто сейчас вел безнадежную борьбу. Весь этот
беспомощный народ был, ради его безопасности, допущен в замок. Теперь все
* Здесь нет ни малейшего преувеличения. Достойную дань их доблести отдал король Генрих П
в послании к императору Византии Мануилу Комнину9. Когда этот последний изъявил желание
узнать обо всем, что есть наиболее примечательного на Британских островах, Генрих, отвечая ему,
упомянул, среди прочего, о необычайной храбрости и боевой ярости валлийцев, которые не
боялись безоружными вступать в бой с врагом, вооруженным до зубов, мужественно проливали кровь
за родной край и добывали славу ценой жизни.
30
Обрученная
они толпились на стенах замка, откуда отец Альдрованд пытался их увести, ибо
присутствие женщин на крепостных стенах вместо вооруженных воинов могло
еще более ободрить нападавших. Он убеждал леди Эвелину подать пример
этим несчастным людям, не желавшим ничего слушать.
Сохраняя в горе, или по крайней мере пытаясь сохранять, самообладание,
какое предписывалось моралью тех времен — ибо рыцарству не чужда была
философия стоиков2, — Эвелина отвечала ему голосом, дрожавшим, несмотря
на все ее усилия:
— Вы правы, отец мой, женщинам не на что больше здесь смотреть.
Рыцарская доблесть была убита, когда вон тот белый султан склонился на залитую
кровью землю. Идемте, девушки, турнир окончен, остается только молиться!
В голосе ее звучало отчаяние. Она поднялась, желая стать во главе
уходивших, но пошатнулась и упала бы, если бы священник не поддержал ее. Скрыв
лицо мантией и словно устыдясь проявлений горя, которые не сумела сдержать,
ибо из-под складок мантии слышались рыдания и тихие стоны, она позволила
отцу Альдрованду увести ее.
— Наше золото, — сказал он, — стало медью, серебро сором, а мудрость
неразумием. Такова воля Того, Кто опровергает советы мудрейших. Поспешим же
в часовню, леди Эвелина! Вместо тщетных сетований помолимся Богу и святым
Его. Да отвратят они от нас гнев свой и спасут хотя бы остатки нашего войска
от хищных волков...
Говоря так, он то вел, то поддерживал Эвелину, почти не способную в эти
минуты мыслить и действовать, и привел ее в часовню замка. Здесь, склонясь
перед алтарем, она принялась молиться, хотя мысли ее были на поле боя,
возле тела убитого родителя, и только язык машинально произносил слова молитв.
Остальные последовали за госпожой, молились как она, и мысли их были столь
же далеко. Сознание, что большая часть воинов, из-за неразумной вылазки
Раймонда, отрезана от замка, добавляло к их горю страх за собственную жизнь, ибо
враг был слишком хорошо известен своей жестокостью и, торжествуя победу,
не щадил ни женщин, ни старцев.
Властным тоном, на который он имел право благодаря своему сану, монах
прервал их жалобы и тщетные сетования; приведя их, как он надеялся, в
более спокойное состояние, он предоставил им молиться, а сам в тревоге
поспешил проверить, насколько замок был готов к обороне. На внешних стенах он
застал Уилкина Флэммока; искусно управляя военными машинами и тем
самым оттеснив, как мы уже видели, передние ряды врагов, фламандец теперь
собственноручно отмеривал своему маленькому гарнизону щедрые порции
вина.
— Берегись, мой добрый Уилкин, — сказал ему священник, — как бы не
перейти меру. Ты ведь знаешь, что вино подобно огню и воде. Оно отличный слуга,
но никуда не годный господин.
— Не так-то легко залить вином мозги в прочных черепах моих земляков, —
сказал Уилкин Флэммок. — Наша фламандская отвага сродни фламандским
коням3. Тем необходимы шпоры, ну а нам — добрый глоток вина. Поверь, отец
мой, мы сшиты из добротной ткани и после стирки не даем усадки. К тому же
Глава V
31
моим людям не помешала бы и лишняя чарка, ибо лишней миски с едой им, как
видно, не достанется.
— О чем ты? — вскричал испуганно монах. — Надеюсь, что провианта у нас
достаточно.
— Меньше, чем в твоем монастыре, отец мой, — ответил Уилкин с обычной
своей невозмутимостью. — Как тебе известно, мы слишком лихо пировали на
Рождество, чтобы много осталось к Пасхе. Валлийские псы немало тогда поели
нашего добра. Тем легче им теперь будет к нам ворваться.
— Ты говоришь пустое, — сказал монах. — Не далее как вчера вечером наш
господин распорядился завезти в замок из окрестных селений все необходимые
припасы.
— Верно. Но валлийцы слишком хитры, чтобы такое допустить, и нынче
утром не дали сделать того, что следовало сделать недели, а то и месяцы тому
назад. Наш покойный господин был из тех, кто более всего полагается на меч,
и вот что из этого вышло. А по мне, уж если воевать, то дайте мне не только
арбалеты, но и побольше съестного. Но ты что-то побледнел, отец мой; тебе надо
выпить для бодрости.
Монах жестом отклонил чарку, которую Уилкин предложил ему с
неуклюжей учтивостью.
— Как видно, — сказал он, — нам остается единственное прибежище — молитва!
— Весьма справедливо замечено, отец мой, — ответил хладнокровный
фламандец, — вот ты и молись. А с меня довольно и того, что придется поститься.
Тут за воротами замка раздался звук трубы.
— Эй вы! Живее к воротам! Нейл Хансон, кто это пожаловал к нам?
— Парламентер от валлийцев. Остановился у Мельничного Холма. Как раз
можно попасть из арбалета. Держит белый флаг и просит его впустить.
— Не впускать, пока мы не приготовимся его встретить, — распорядился
Уилкин. — Навести на него нашу славную баллисту и, если он двинется с
места, прежде чем мы будем готовы к встрече, стрелять! — продолжал Флэммок
на своем родном языке. — Проворней, Нейл, каналья! Выстроить на стенах все
пики и копья, какие у нас есть! Выставить их в амбразурах! Вырезать из
занавесей флаги и вывесить их на самых высоких башнях! А когда я подам сигнал,
бейте в барабаны, трубите в трубы, если найдутся. А нет, так в пастушьи
рожки. Лишь бы побольше шума. А еще, Нейл Хансон, возьми с собой человек пять,
достаньте с оружейного склада кольчуги и наденьте их. Наших фламандских
лат они боятся меньше. А валлийскому разбойнику завязать глаза и ввести сюда!
Головы держите повыше, а языки на привязи. Говорить с ним буду один я.
Да смотри, чтобы англичан при этом не было!
Монах, который в своих странствиях приобрел некоторые познания во
фламандском языке, был удивлен последним распоряжением, которое Уилкин дал
своему соотечественнику. Однако он смолчал, дивясь не только этому
подозрительному приказанию, но и ловкости, с какою неотесанный фламандец взялся
за военные приготовления и военную тактику.
Уилкин, со своей стороны, опасался, что монах услышал и понял из его
распоряжений больше, чем ему хотелось бы. Чтобы усыпить подозрения, которые
32
Обрученная
могли возникнуть у отца Альдрованда, он повторил для него по-английски
большую часть своих приказаний и спросил:
— Ну как, отец мой, правильно я действую?
— Отлично! — ответил монах. — Можно подумать, будто ты с колыбели
занимался военным ремеслом, а не ткал сукно.
— Шути себе, шути! — сказал Уилкин. — Я ведь знаю, что вы, англичане, о нас
думаете: что в фламандских головах одна только тушеная говядина с капустой.
Но, как видишь, для ткачества тоже нужны мозги.
— Верно, мастер Уилкин Флэммок, — согласился монах. — Но скажи, добрый
фламандец, какой ответ намерен ты дать парламентеру валлийского князя?
— Сперва скажи ты, преподобный отец, каково будет его предложение, —
спросил фламандец.
— Немедленно сдать замок, — проговорил монах. — И что же ты ему
ответишь?
— Отвечу отказом. Впрочем, если на подходящих условиях...
— Как, фламандец? Ты осмеливаешься говорить об условиях сдачи
Печального Дозора?
— Если не будет ничего лучшего, — сказал фламандец. — А ты, преподобный
отец, предлагаешь медлить, пока наш гарнизон станет выбирать для трапезы
упитанного монаха или жирного фламандца?
— Какие глупости! — возмутился отец Альдрованд. — Не более чем через
сутки к нам подойдет подкрепление. Раймонд Беренжер был в этом твердо
уверен.
— Раймонд Беренжер нынче утром ошибся не только на этот счет, —
возразил Флэммок.
— Слушай, фламандец, — сказал монах, который, удалившись от мира, не
совсем позабыл свои военные привычки и склонности, — если тебе дорога жизнь,
советую вести честную игру. Ведь даже после нынешнего побоища здесь еще
осталось достаточно англичан, чтобы сбросить в крепостной ров всех
фламандских лягушек, стоит заподозрить, что ты замыслил предательство и не намерен
защищать замок и леди Эвелину.
— Оставь ненужные и пустые страхи, ваше преподобие! — ответил Уилкин
Флэммок. — По велению владельца я сейчас кастелян замка и буду нести свою
службу так, как ее разумею.
— А я, — гневно произнес монах, — слуга Папы и капеллан этого замка и от
Господа имею власть скреплять и расторгать узы. Боюсь, ты не истинный
христианин, Уилкин Флэммок, и склоняешься к ереси монтанистов4. Ты не вступил
в ряды крестоносцев, ты выпиваешь и закусываешь, прежде чем идешь к
утренней мессе. Тебе нельзя доверять, и я тебе не доверяю и непременно хочу
присутствовать при твоих переговорах с валлийцем.
— Нельзя, отец мой, — сонно улыбнулся Уилкин, при любой крайности
сохранявший полнейшую невозмутимость. — Что верно, то верно. У меня есть
причины не идти сейчас к вратам града Иерихон5. Оно и лучше, иначе меня не было
бы здесь, чтобы защищать врата замка Печальный Дозор. Верно и то, что я иной
раз поспевал к моим сукновальням раньше, чем капеллан к алтарю; и что ра-
Глава V
33
бота натощак у меня не спорится. Но ведь за эти грехи, отец мой, я всегда
платил вашему преподобию особый сбор. Раз уж ты так хорошо помнишь мои
грехи, не мешало бы помнить покаяние и отпущение.
Коснувшись того, что являлось тайной исповеди, монах нарушил правила
церкви и своего ордена. Видя, что обвинение в ереси не испугало фламандца,
он мог только спросить с некоторым смущением:
— Итак, ты не допустишь меня к переговорам с валлийцем?
— Преподобный отец, — сказал Уилкин. — Они касаются мирских дел. Если
речь зайдет о делах церковных, ты будешь приглашен без промедления.
— А я все-таки буду на них, фламандский бык, — пробормотал монах, но так
тихо, что его никто не услышал, и тотчас ушел со стены замка.
Несколько минут спустя Уилкин Флэммок, удостоверясь, что стенам придан
вид грозной силы, которой они в действительности не обладали, спустился в
небольшое караульное помещение между внешними и внутренними воротами
замка; там ждали несколько его людей, одетых в норманнские доспехи,
которые они отыскали на складе оружия; их могучие фигуры и неподвижные позы
более напоминали статуи, чем живых воинов.
Под полутемными сводами тесного помещения, окруженный этими
неподвижными изваяниями, Флэммок принял валлийского парламентера, которого
два фламандца доставили сюда с завязанными глазами; глаза, впрочем, были
завязаны так, что он мог разглядеть приготовления на стенах, которые и велись
прежде всего для его устрашения. С этой же целью вокруг него раздавалось по
временам бряцание оружия и слышались слова командиров, как бы обходивших
сторожевые посты; все эти звуки должны были означать, что многочисленный
гарнизон замка готов отразить любое нападение.
Когда ему развязали глаза, Иоруорт — ибо тот же посланец, который
привозил брачное предложение Гуенуина, доставил теперь требование сдаться —
надменно огляделся вокруг и спросил, кому должен он передать волю своего
господина Гуенуина, сына Киверлиока, князя Поуиса.
— Его высочеству, — ответил Флэммок со своей неизменной спокойной
улыбкой, — придется довольствоваться переговорами с Уилкином Флэммоком,
владельцем сукновален и заместителем кастеляна замка Печальный Дозор.
— Что?! — вскричал Иоруорт. — Это ты-то заместитель кастеляна?! Ты,
фламандский ткач?! Не может быть! Даже английский кроган* не мог пасть так
низко, чтобы тебя поставить над собой. Здесь, как я вижу, присутствуют
англичане. Вот им я и сообщу, что мне поручено сообщить.
— Воля твоя, — ответил Уилкин. — Но можешь назвать меня шельмой, если
они ответят тебе иначе как знаками.
— Возможно ли? — спросил валлийский посланец, глядя на окружавших
Флэммока вооруженных воинов. — Неужели вы дошли до этого? Пусть вы дети
захватчиков, но вы рождены как-никак на бриттской земле, и должна же у вас
быть гордость. Не можете вы терпеть над собой чумазого ремесленника! А если
не хватает вам мужества, должна же у вас быть хотя бы осторожность. Неда-
* Оскорбительное прозвище, данное валлийцами англичанам.
2 В. Скагг
34
Обрученная
ром пословица гласит: беда тому, кто доверится чужеземцу. Молчите?
Отвечайте же мне, словом или знаком! Неужели вы признаете его начальником над
собой?
Люди в доспехах все, как один, утвердительно кивнули головами и снова
замерли в неподвижности.
Валлиец, с присущей его народу сметливостью, заподозрил тут нечто, чего
понять не мог; решив поэтому быть настороже, он продолжал:
— Пусть так! Кто бы ни выслушал послание моего господина, оно обещает
пощаду и прощение всем обитателям замка Кастель-ан-Карриг*, который
переименовали в Печальный Дозор, чтобы скрыть под новым названием
захваченную у нас землю. Если они сдадут князю Поуиса замок со всеми службами, все
имеющееся у них оружие, а также выдадут ему девицу Эвелину Беренжер,
то все они выйдут из замка невредимыми и получат охранные грамоты, чтобы
могли уйти из Валлийской Марки куда захотят.
— А если мы не подчинимся этим условиям? — все так же хладнокровно
спросил Уилкин Флэммок.
— Тогда вас ожидает судьба Раймонда Беренжера, — ответил Иоруорт,
злобно и мстительно сверкая глазами. — Сколько тут чужеземцев, столько мертвых
тел достанется воронью, столько их будет висеть на виселице. Давно не было у
коршунов такого пиршества из тупоголовых фламандцев и вероломных саксов!
— Друг Иоруорт, — сказал Уилкин, — если таково твое послание, отнеси
своему господину мой ответ. Скажи ему, что мудрые люди не вверяют другим
спасение, которое могут обеспечить себе сами. Наши стены достаточно высоки и
крепки, наши рвы достаточно глубоки; довольно у нас и оружия, луков и
арбалетов. Мы будем защищать замок, веря, что замок защитит нас, покуда Господь
не пришлет нам помощь.
— Не надейтесь спасти ваши жизни таким образом, — перешел на
фламандский язык валлийский парламентер, дабы не быть понятым теми, кого принимал
за англичан. Этим языком он овладел, общаясь с жившими в Пемброкшире6
фламандцами. — Слушай, добрый фламандец, — продолжал Иоруорт, — разве тебе
неизвестно, что тот, на кого ты уповаешь, коннетабль де Лэси, связал себя
обетом не вступать ни с кем в бой, покуда не побывал за морем, и, значит,
не может прийти к тебе на помощь, не совершая клятвопреступления? Он,
да и другие Лорды Хранители Марки, отвели своих воинов далеко на север,
чтобы присоединиться к войску крестоносцев. Какой тебе прок вынуждать нас к
длительной осаде, если на помощь тебе надеяться нечего?
— А какой мне прок, — спросил Уилкин на своем родном языке, пристально
глядя на валлийца, но тщательно стерев со своего лица всякое выражение,
кроме туповатого простодушия, — какой мне прок избавлять вас от трудов
длительной осады?
— Слушай, друг Флэммок, — сказал валлиец, — не прикидывайся глупее, чем
ты есть от природы. В лощине бывает темно, но солнечный луч может осветить
часть ее. Все твои старания не предотвратят падения замка. А вот если ты уско-
* Замок на скале.
Глава V
35
риттть это падение, проку для тебя будет много. — Говоря так, он вплотную
приблизился к Уилкину и вкрадчиво зашептал: — Стоит тебе лишь снять засовы и
поднять решетку на воротах, и ни один фламандец не имел еще от этого столько
выгод, сколько достанется тебе.
— Я одно знаю, — проговорил Уилкин, — что, когда здесь задвинули засовы
и опустили решетку, это стоило мне всего моего имущества.
— Фламандец, все это будет возмещено тебе с лихвою. Щедрость Гуенуина
подобна летнему ливню.
— Нынче утром мои сукновальни и другие строения были сожжены дотла...
— Ты получишь за это тысячу серебряных марок7, — сказал валлиец, но
фламандец, словно не слыша его, продолжал перечислять свои убытки:
— ...мои земли опустошены, у меня угнали двадцать коров и...
— Вместо них ты получишь шестьдесят, — прервал его Иоруорт, — и притом
самых лучших.
— А что станется с моей дочерью? И с леди Эвелиной?— спросил фламандец,
и в его монотонном голосе впервые прозвучали тревога и сомнение. — Ведь вы
не щадите побежденных...
— Мы страшны только тем, кто нам сопротивляется, — сказал Иоруорт, —
но не тем, кто сдается и потому заслуживает милосердие. Гуенуин предаст
забвению обиду, нанесенную ему Раймондом, и воздаст его дочери великий
почет среди всех женщин Уэльса. Что до твоей дочери, ты только скажи, чего
для нее хотел бы, и все будет исполнено. Теперь, фламандец, мы с тобой поняли
друг друга.
— Я-то тебя, конечно, понял, — протянул Флэммок.
— Надеюсь, что и я тебя! — Иоруорт устремил пронзительный взгляд голубых
глаз на бесстрастное, ничего не выражающее лицо фламандца, точно студиозус,
ищущий в тексте древнего автора сокрытый смысл того, что на первый взгляд
кажется совсем простым.
— Ты полагаешь, что понял меня, — продолжал свое Уилкин, — но вот в чем
загвоздка: который из нас решится поверить другому?
— Как ты смеешь спрашивать? — возмутился Иоруорт. — Не тебе и не
подобным тебе сомневаться в намерениях князя Поуиса!
— Они известны мне, добрый мой Иоруорт, только через тебя. А уж ты,
чтобы добиться своего, не поскупишься на обещания.
— Клянусь христианской верой, — принялся громоздить клятву на клятву
Иоруорт. — Клянусь душою отца, верой матери, клянусь черным жезлом...
— Довольно, друг Иоруорт! — прервал его Флэммок — Слишком уж много
клятв, чтобы я мог их оценить как должно. Когда на заклад идут так охотно,
иной раз не дают себе труда его выкупить. Небольшой задаток из обещанного
стоит сотни клятв.
— Тебе не довольно моего слова, мужлан? Ты сомневаешься в нем?
— Ничуть, — не смутился Уилкин. — А все же охотнее поверю делам.
— Ну так к делу, фламандец! Чего же ты хочешь?
— Хотя бы покажи деньги, которые сулишь, тогда я подумаю над твоим
предложением.
2*
36
Обрученная
— Низкий торгаш! — с негодованием воскликнул Иоруорт. — По-твоему, князь
Поуиса держит серебро в мешках, как какой-нибудь скряга из твоей купеческой
страны? Он добывает сокровища победами, подобно смерчу, который
втягивает в себя воду; добывает, чтобы затем осыпать ими своих приближенных, как
тот же смерч все взятое возвращает земле и океану. Обещанное тебе серебро
еще предстоит достать из сундуков у саксов, да и порыться в ларцах самого
Беренжера.
— А вот это я, пожалуй, и сам мог бы сделать, не утруждая тебя, — заметил
фламандец. — Ведь я сейчас пользуюсь в замке полной властью.
— Сейчас — да, — согласился Иоруорт, — но после получишь петлю на шею,
кто бы ни овладел замком — валлийцы или норманны, если только те
подоспеют на выручку. Одни повесят тебя, чтобы добыча досталась им целиком,
другие — чтобы ничего не утратить из наследства Раймонда.
— Спорить не стану, — примирительно заметил фламандец. — Но почему бы
тебе не вернуть мой скот, раз он в твоих руках. Если ты ничего не сделаешь для
меня сейчас, чего я могу ждать от тебя в будущем?
— Я и больше готов сделать, — насторожился недоверчивый валлиец. —
Но к чему тебе скот здесь, в замке? Ему куда привольнее пастись на равнине.
— Вот это верно, — вздохнул фламандец. — Здесь нам с ним было бы
хлопотно, его и так уж много пригнали для гарнизона. Впрочем, ведь и корма скоту
припасено немало. А мои коровы особой фламандской породы, и я хочу их
уберечь, пока ваши топоры не добрались, чего доброго, до их шкур.
— Нынче же вечером получишь их в целости, — пообещал Иоруорт. — Это
и впрямь лишь малый задаток для столь большого дела.
— Благодарствую, — поклонился фламандец. — Я человек простой, мне бы
только вернуть свое добро, а больше ничего и не надо.
— Так готовься же сдать замок, — наказал Иоруорт.
— Про это мы потолкуем завтра, — пообещал Уилкин Флэммок. — Нельзя,
чтобы англичане и норманны хоть что-нибудь заподозрили. Иначе беда! Мне
надо всех отвлечь, прежде чем опять встретимся с тобой. А сейчас, прошу,
удались и сделай вид, будто недоволен нашими переговорами.
— Но я все же хотел бы что-то знать наверняка, — настаивал Иоруорт.
— Никак невозможно, — не сдавался фламандец. — Видишь, вон тот
долговязый начал поигрывать кинжалом? Уходи поскорее, прими рассерженный вид,
да гляди не позабудь про коров.
— Не позабуду, — подтвердил свое обещание Иоруорт. — Но смотри, если ты
нас обманешь!..
Сказав это, он вышел из караульного помещения, сопроводив свои слова
угрожающим жестом, обращая его отчасти самому Уилкину, отчасти
окружавшим его воинам. Флэммок ответил по-английски, как бы для того, чтобы его
поняли «англичане»:
— Грози чем хочешь, валлиец! Я не изменник! Я отвергаю предложение
сдаться и удержу замок. Посрамлю и тебя, и твоего господина. Эй! Завязать ему
глаза и вывести за ворота. А уж следующего валлийца, какой покажется у
наших ворот, мы встретим не столь ласково.
Глава VI
37
Валлийцу завязали глаза и увели. Но когда Уилкин Флэммок выходил из
караульного помещения, один из переодетых воинов, которые присутствовали
на переговорах, сказал ему на ухо по-английски:
— Ты предатель, Флэммок, и тебя ждет смерть предателя.
Пораженный фламандец хотел расспросить его, но тот исчез, едва произнес
эти слова. Флэммок был весьма расстроен этим случаем, показавшим ему, что
переговоры его с Иоруортом были услышаны кем-то, кто не был посвящен в его
замысел и поэтому мог разрушить его. Так оно вскоре и оказалось.
Глава VI
О Мария Пресвятая,
Вот я, девушка простая.
Смилуйся над безутешной,
Непорочная — над грешной.
Гимн в честь Богоматери1
Дочь убитого Раймонда спустилась с башни, откуда ей было видно поле
битвы, полная отчаяния, какое должно было испытывать дитя, видя гибель любимого
и почитаемого отца. Однако ее высокий ранг и правила, в которых она была
воспитана, не позволяли ей долго предаваться горести. Возводя юных и прекрасных
женщин в ранг королев, а скорее даже богинь, рыцарская мораль взамен
требовала от них чувств и поведения столь же возвышенных, но далеких от
естественных человеческих чувств. Героини рыцарей зачастую походили на портреты,
освещенные искусственным светом. Такой свет ярко выделяет предметы, на
которые он обращен, но в сравнении со светом дня кажется чересчур резким.
Осиротевшей наследнице Печального Дозора, потомку древнего рода
героев, восходившего к Тору, Бальдеру, Одину и другим обожествленным воителям
Севера2, чья красота была воспета сотней менестрелей, чьи глаза светили
путеводными звездами многим рыцарям, подвизавшимся на Валлийской Марке,
не подобало плакать по своему родителю, как плачут деревенские девушки. Как
ни молода она была и сколь ужасно ни было только что представшее ей
зрелище, оно потрясло ее менее, чем если бы ей не были привычны грубые и
зачастую смертельно опасные рыцарские турниры, если бы она не жила среди
людей, у которых речи о битвах и смерти были постоянно на устах, если бы ее
воображению не были знакомы события жестокие и кровавые, если бы не
воспитали ее в убеждении, что почетная «смерть на щите», как называлась тогда
гибель в бою, — более желанный конец для воина, нежели медленное и
бесславное угасание, завершающее долгую жизнь. Оплакивая отца, Эвелина вместе с
тем с гордостью думала о том, что он погиб на вершине своей славы,
окруженный телами поверженных им врагов; раздумывая над собственным
положением, она была полна решимости защищать свою свободу и мстить за отца всеми
способами, какие пошлет ей Небо.
Не были забыты и утешения религии. Согласно обычаям того времени и
догматам Римско-Католической Церкви, она испрашивала помощи у Небес не
38
Обрученная
только молитвами, но и обетами. В маленькой подземной части замковой
часовни, над алтарем, постоянно освещаемым лампадой, висел небольшой образ
Девы Марии, почитавшийся в семье Беренжеров как особая домашняя
святыня3, которую один из их предков привез из паломничества в Святую Землю. Это
была икона греческого письма времен Нижнего Царства4, похожая на те, какие
в католических странах приписывались евангелисту Луке5. Подземный алтарь,
где она помещалась, считался наделенным особой святостью и даже
чудотворной силой6. Эвелина, ежедневно украшавшая образ гирляндой цветов, вознося
при этом молитву, особенно почитала Пресвятую Деву Печального Дозора; ибо
так назывался этот образ.
Сейчас, уединясь от всех, печально склонившись перед ликом своей
заступницы, она молила Пречистую защитить ее свободу и честь и покарать свирепого
и коварного вождя дикого племени, который убил ее отца, а сейчас осаждал ее
замок. Она не только обещала своей покровительнице щедрые пожертвования
в виде земель, но и дала обет (хотя что-то в душе ее противилось этому7 и голос
дрожал) отдать рыцарю, которого Пресвятая Дева Печального Дозора изберет
для ее спасения от врага, все, чего он может пожелать, и даже свою руку. Много
рыцарей заверяло ее, что дар этот ценнее всего, что могут ниспослать Небеса;
и теперь она всецело вверила себя Пресвятой покровительнице и уповала на ее
помощь. Быть может, в ее обете таилась и некая земная надежда, которую она
сама едва ли сознавала, но которая примиряла ее с условиями обета. Пресвятая
Дева в неизреченной благости своей (так шептала ей надежда) милостиво
распорядится обетом и изберет в освободители замка того, кого охотнее всего
избрала бы и сама ее почитательница.
Но если и была у нее такая надежда (ибо к самым чистым нашим
помыслам часто примешивается нечто себялюбивое), то возникла она
бессознательно. Удерживая непрошеные слезы и устремляя на образ Пречистой взор,
полный жаркой мольбы и смиренной веры, Эвелина, быть может, была
прекраснее, чем тогда, когда ей, хотя и самой юной, приходилось награждать
победителей рыцарских турниров в Честере. Неудивительно, что в этот миг
экзальтации, простертая перед святыней, в чью чудотворную способность
защитить ее и видимым знаком выразить ей свое покровительство она свято
верила, Эвелина могла увидеть, что обет ее принят. Перед ее воспаленным
взором и разгоряченным воображением строгие черты, какие придал
Пресвятой Деве греческий иконописец, смягчились; в глазах Девы появилось
сострадание к мольбам ее почитательницы, а губы явственно сложились в
благостную улыбку; Эвелине показалось даже, будто голова Пресвятой Девы чуть
склонилась.
Потрясенная чудом, в котором пламенная вера не позволяла ей усомниться,
миледи Эвелина скрестила на груди руки и простерлась перед образом, готовясь
в этой молитвенной позе выслушать божественное откровение.
Но ничего более не произошло; она не услышала ни звука и, когда, встав на
колени и оглядевшись вокруг, снова подняла взгляд на образ Пресвятой Девы,
увидела ее такою, какой изобразил ее иконописец, хотя Эвелине все же
показалось, что величавые черты сохраняют милостивое выражение, какого она не
Глава VI
39
видела в них прежде. С благоговением и даже со страхом, но вместе с тем
утешенная и почти обрадованная явившимся ей чудом, девушка стала снова и снова
повторять молитвы, какие казались ей наиболее приятными для слуха ее
покровительницы; наконец, поднявшись с колен и отступая назад, словно в
присутствии монарха, она вышла в верхнюю часовню.
Здесь перед статуями святых все еще молились, преклонив колени, две-три
женщины; остальные, которым тревога не давала молиться, разошлись по
замку, чтобы попытаться узнать о судьбе своих близких, подкрепиться пищей или
хотя бы где-то отдохнуть.
Склонив голову и произнося молитву перед статуей каждого святого (ибо
опасность заставляет людей усерднее соблюдать обряды), миледи Эвелина
дошла уже до выхода из часовни, когда туда поспешно вошел человек в доспехах.
Громче, чем подобало вблизи святынь, он позвал леди Эвелину. Будучи все еще
во власти явившегося ей чуда, она приготовилась дать воину суровую отповедь,
но он быстро и взволнованно произнес:
— Дочь моя, нас предали! — И хотя фигура в кольчуге, казалось,
принадлежала солдату, говорил он голосом отца Альдрованда, который тут же поспешил
поднять забрало и открыл лицо.
— Отец мой, — спросила Эвелина, — что означают ваши слова? И неужели вы
утратили веру в Небеса, к которой призываете нас, и взяли в руки иное оружие,
чем то, какое носит ваш орден?
— Скоро может дойти и до этой необходимости, — ответил отец Альдрованд. —
Ведь, прежде чем стать монахом, я был воином. Однако сейчас я надел эти
доспехи не затем, чтобы сражаться, а чтобы обнаружить предательство. Увы, дочь
моя! Мы в большой беде. Снаружи враг, а внутри предатели! Коварный
фламандец Уилкин Флэммок сговаривается о сдаче замка!
— Кто осмеливается говорить это? — спросила скрытая под покрывалом
девушка, которая молилась в темном углу часовни никем не замеченная. Теперь
она поднялась с колен и смело встала между леди Эвелиной и монахом.
— Прочь отсюда, дерзкая! — негодующе воскликнул монах, удивленный
таким бесстрашным вмешательством. — Это тебя никак не касается.
— Нет, касается! — возразила девушка, откинув с лица покрывало. Под ним
оказалось юное личико дочери Уилкина Флэммока, со сверкающими глазами
и пылающими щеками. Гнев этот казался странным в почти детских чертах и
во всем облике, обычно столь же кротком и застенчивом, сколь пылкой и
решительной сейчас была Роза. — Может ли не касаться меня, — сказала она, —
когда честное имя моего отца пятнают клеймом предателя? Может ли быть
безразличным ручей, если замутнен его источник? Да, это меня касается, и я хочу
знать, кто сочинил клевету?
— Девица, — приказала Эвелина, — сдержи свой гнев. Святой отец не может
намеренно клеветать на твоего родителя, но он, быть может, поверил ложным
сведениям.
— Клянусь саном своим, клянусь своим святым орденом! — воскликнул
монах. — Я говорю о том, что слышал собственными ушами. Да, я сам слышал,
как Уилкин Флэммок торговался с валлийцем о сдаче замка. Скрывшись под
40
Обрученная
доспехами, я проник на переговоры, где он не ожидал присутствия англичан.
Они, разумеется, говорили по-фламандски, но я давно уж научился понимать
эту тарабарщину.
— Фламандский язык, — гневно прервала его девушка, спеша ответить и на
это оскорбление, — вовсе не тарабарщина! Это не ваш смешанный английский —
полунорманнский-полусаксонский!8 Это благородный язык древних германцев.
На нем говорили храбрые воины; они сражались с римскими
императорами, когда Британия покорно перед ними склонилась9. А тому, что он сказал об
Уилкине Флэммоке, — продолжала она несколько спокойнее, — не верьте,
дорогая госпожа. Вы дорожите честью вашего собственного благородного отца,
поверьте же, как в Евангелие, в честность моего!
Это проговорила она умоляющим тоном, перемежая слова с рыданиями,
от которых, казалось, готово было разбиться ее сердце.
Эвелина попыталась успокоить ее.
— Роза, — сказала она, — в нынешнее страшное время подозрение может
коснуться лучших из людей, а недоразумения могут возникать между лучшими
друзьями. Давай выслушаем, в чем святой отец обвиняет твоего родителя.
Поверь, что Уилкину тоже будет дана возможность оправдываться. Ты ведь
всегда была такой спокойной и разумной.
— Сейчас я не могу быть ни спокойной, ни разумной, — сказала с
негодованием Роза. — Нехорошо, госпожа, слушать лживые речи этого преподобного
лицедея, не то священника, не то солдата. Но я сейчас приведу сюда того, кто
опровергнет его, надевай он хоть латы, хоть сутану.
С этими словами она поспешила выйти из часовни. Монах педантично и
многословно пересказал Эвелине разговор, происходивший между Иоруортом
и Уилкином, и предложил собрать немногочисленных англичан, которые
находились в замке, и занять внутреннюю квадратную башню. Башня эта, как
обычно бывало в замках норманнского периода, была так расположена, что там
можно было долго обороняться, даже когда внешние укрепления, над
которыми она господствовала, были уже в руках врагов.
— Отец мой, — сказала ему Эвелина, не забывшая о представшем ей
чудесном видении, — это, несомненно, разумный совет на крайний случай. Однако он
способен и причинить большое зло, именно то, какого мы опасаемся; он
разделит наш гарнизон на враждебные друг другу части. Отец мой, у меня есть
основание уповать на помощь Пресвятой Девы Печального Дозора. Она пошлет
возмездие нашим жестоким врагам, а нам спасение от нынешней опасности.
А я дала обет не отказать тому, кого Пресвятая Дева изберет нашим
избавителем, ни в чем — ни в наследстве моего отца, ни в руке его дочери.
— Ave Maria! Ave Regina Coeli!*10 — воскликнул монах. — Вот поистине
твердыня, на которую можно уповать! Но, дочь моя, — продолжал он после этих
молитвенных возгласов. — Разве тебе не известно, что благородный отец твой
(да помилует Господь его душу!), которого мы, на наше горе, лишились, обещал
твою руку главе рода де Лэси?
* Славься, Мария! Славься, Царица Небесная! (лат.)
Глава VI
41
— Да, я об этом слышала, — отвечала Эвелина, потупив взор и слегка
краснея. — Но я предаю судьбу свою под покров Богоматери Помощи и Утешения.
В этот миг в часовню, с той же стремительностью, с какой уходила,
вернулась Роза. Она вела за руку своего отца, чья тяжелая, медлительная поступь и
невозмутимое выражение лица являли полную противоположность быстрым
движениям дочери и ее взволнованной речи. Таща его за руку, она походила на
ангелочка со старинной картины11, возносящего к небу грузную фигуру какого-
нибудь обитателя могил, чей непомерный вес грозит свести на нет благие
усилия крылатого помощника.
— Розхен, дитя мое, что с тобой? — говорил фламандец, подчиняясь дочери
с улыбкой, которая, выражая отцовскую любовь, была у него более живой, чем
обычно.
— Вот мой отец, — нетерпеливо начала девушка. — Кто может и кто смеет
обвинять его в предательстве? Вот он, Уилкин Флэммок, сын Дитерика,
коробейника из Антверпена12. Пусть его открыто обвинят те, кто клевещет на него
за его спиной!
— Говорите, отец Альдрованд, — сказала леди Эвелина. — В отправлении
правосудия мы неопытны, и в недобрый час легла на нас эта обязанность, но мы
выслушаем вас и с помощью Господа и Пресвятой Девы постараемся рассудить
в меру нашего разумения.
— Уилкин Флэммок, — сказал монах, — не посмеет отрицать, что
торговался о сдаче замка, ибо я слышал это собственными ушами.
— Убей его, отец! — крикнула негодующая Роза. — Убей этого ряженого! Если
нельзя бить по монашескому одеянию, то можно по его стальным доспехам!
Убей его или докажи, что он гнусно лжет!
— Успокойся, Розхен, ты вне себя, — сердито сказал отец. — Монах глуп,
но тем не менее прав. Жаль, что его уши оказались там, где им быть не
следовало.
Услышав, что отец напрямик признается в измене, на которую она считала
его неспособным, Роза переменилась в лице, отпустила его руку и обратила на
леди Эвелину лицо мертвенной бледности с глазами, готовыми вылезти из орбит.
Эвелина взглянула на виновного с выражением, в котором кротость и
достоинство смешивались с печалью.
— Уилкин, — сказала она, — я ни за что не поверила бы этому. Возможно ли?
В самый день гибели твоего благодетеля, так тебе доверявшего, ты мог
сноситься с его убийцами, задумать сдачу замка и обмануть его доверие? Но не стану
укорять тебя. Я лишаю тебя полномочий, которых ты оказался столь
недостоин, и прикажу заточить в западную башню и держать там, пока Господь не
пошлет нам помощь; быть может, заслуги твоей дочери спасут тебя от дальнейшей
кары. Ступай и повинуйся немедленно.
— Да, да! — воскликнула Роза. — Идем, идем! — горячо и быстро говорила
она. — Скроемся в самой темной из темниц... Тьма подобает нам больше, чем
свет дня.
Монах, видя, что фламандец не спешит повиноваться, подступил к нему с
видом, более подобающим его прежнему ремеслу и нынешнему воинственному
42
Обрученная
одеянию, чем его духовному сану. Со словами: «Уилкин Флэммок! Ты
арестован за измену твоей госпоже!» — он хотел схватить его, но фламандец
отстранил его угрожающим жестом.
— Ты безумен! — сказал он. — Все вы, англичане, в полнолуние словно
лишаетесь рассудка. Вы и глупенькую дочь мою заразили своим безумием.
Госпожа, ваш высокочтимый отец возложил на меня обязанности, которые я надеюсь
выполнить на общее благо. Вы еще не достигли совершеннолетия и потому
не можете по своей прихоти отстранить меня от должности. Отец Альдро-
ванд! Монах не облечен правом арестовывать. А ты, Розхен, осуши свои глаза.
Ты глупа.
— Да, да! — сказала Роза, утирая глаза и ободряясь. — Глупа, да еще как глупа,
если хоть на миг усомнилась в честности моего отца. Верьте ему, милая
госпожа! Он мудр, хоть и нерасторопен, и добр, хоть выражается по-простому. А если
он окажется предателем, тем хуже для него. Потому что тогда я брошусь со
Сторожевой Башни в ров. Если он предаст дочь своего господина, то утратит
собственную.
— Вот это уж и впрямь безумие, — сказал озадаченный монах. — Можно ли
верить тому, кто сам сознался в предательстве? Ко мне, норманны! Ко мне,
англичане! К оружию! Спасайте свою госпожу!
— Побереги голос для проповедей, отец мой! — усмехнулся фламандец. —
Или созывай людей по-фламандски, раз умеешь. Ибо те, кто нас сейчас слышит,
не откликнутся ни на какой иной язык.
Затем он приблизился к леди Эвелине с искренней или напускной
заботливостью и со всей неуклюжей галантностью, на какую был способен. Пожелав ей
спокойной ночи и заверив ее, что будет действовать на общее благо, он вышел
из часовни. Монах готов был и дальше поносить его, но леди Эвелина, как
более разумная, остановила его.
— Я надеюсь, — сказала она, — что этот человек руководствуется благими
намерениями.
— Благослови вас Бог за эти слова, госпожа! — пылко поблагодарила Роза,
целуя ей руку.
— Если же они, на нашу беду, сомнительны, — продолжала Эвелина, — то не
укорами можем мы помочь делу. Отец мой, приглядите за приготовлениями к
обороне и не упускайте ничего, что могло бы ее укрепить.
— Не бойся, дорогая дочь моя, — успокоил ее отец Альдрованд. — Есть еще
здесь настоящие англичане, и мы скорее перебьем и съедим всех фламандцев,
чем сдадим замок.
— Эту пищу будет так же трудно и опасно добыть, как медвежатину, —
возразила с горечью Роза, все еще негодуя на обидное и подозрительное
отношение монаха к ее соплеменникам.
С тем они и разошлись; женщины — чтобы в уединении печалиться и
тревожиться и в уединении же молиться; монах — чтобы пытаться разгадать замыслы
Уилкина Флэммока и противостоять им, если бы в них оказалась измена.
Однако взор его, которому подозрения придавали особую остроту, не увидел
ничего, что подтверждало бы эти подозрения; разве лишь то, что фламандец весьма
Глава VII
43
искусно разместил на самых важных постах своих соотечественников; а это
сделало бы любую попытку лишить его власти весьма трудной и опасной.
Наконец монах отправился служить вечернюю мессу, решив наутро подняться до
рассвета.
Глава VII
На стенах осадного городка
Печально солнце горит.
Замок, башня и парапет —
Все о гибели говорит.
Старинная баллада1
Небо едва посветлело на востоке, а отец Альдрованд, верный своему решению,
на ходу перебирая четки2, чтобы не терять времени, уже делал обход замка.
Чутье привело его прежде всего туда, где в замке, должным образом
приготовившемся к осаде, должен помещаться скот. Велика была его радость, когда в
стойлах, еще накануне пустых, он увидел более двадцати упитанных коров и бычков.
Один из них попал уже на бойню, где двое фламандцев, ставших на этот случай
мясниками, разделывали тушу, чтобы затем передать мясо повару. Добрый отец
Альдрованд уже готов был провозгласить, что свершилось чудо, но пока
ограничился благодарственной молитвой к Пресвятой Деве Печального Дозора.
— Кто говорит, что у нас нет припасов? — воскликнул он. — Кто осмелится
теперь говорить о сдаче? Тут запасы, которых нам хватит до прибытия Хьюго
де Лэси, даже если он плывет к нам с Кипра3. Я намерен был нынче поститься,
как во славу Божию, так и ради сбережения припасов. Но нельзя
отказываться от дара, посланного святыми. Почтенный повар, отпусти-ка мне этак
полярда4 жареной говядины*, а дворецкий — кубок вина. Я на скорую руку
позавтракаю на западной стене.
Именно там, в наименее укрепленной части замка, святой отец застал Уил-
кина Флэммока, занятого тщательными приготовлениями к обороне. Монах
учтиво приветствовал его, поздравил с пополнением запасов и спросил, как
удалось это сделать, минуя ряды осадивших замок валлийцев. Однако Уилкин
тут же прервал его.
— Об этом мы поговорим позднее, отец мой. Сейчас я прежде всего хочу
посоветоваться с тобой о некоем деле, которое тяготит мою совесть, а, кроме
того, касается и моего земного имущества.
— Говори, сын мой, — сказал священник, надеясь, что получит таким образом
ключ к истинным намерениям Уилкина. — Чуткая совесть — ведь это
величайшая драгоценность! Кто не прислушивается к ней, когда она призывает человека
излить свои сомнения перед священником, тот когда-нибудь тщетно станет звать
на помощь среди адского пламени. А ты, сын мой Уилкин, всегда отличался
чуткой совестью, хоть ты и грубоват с виду.
* Старый Генри Дженкинс в своих воспоминаниях сообщает, что в аббатствах, до того, как они
были упразднены, жареная говядина не отвешивалась гостям, а отмерялась.
44
Обрученная
— Знай же, отец мой, — начал Уилкин, — что я уговорился с моим соседом
Яном Ванвельтом отдать ему в жены мою дочь Розу, а в залог получил от него
некое количество гульденов.
— Полно, сын мой! — прервал его разочарованный исповедник. — С этим
можно подождать. Не время сватать и выдавать замуж, когда всех нас, того и
гляди, убьют.
— Нет, святой отец, выслушай меня, — попросил фламандец. — Это дело,
касающееся моей совести, касается и нынешнего нашего положения ближе,
нежели ты думаешь. Надо сказать, что мне неохота выдавать Розу за этого самого Яна
Ванвельта. Он стар и немощен. Скажи, могу ли я с чистой совестью отказать ему?
— Ну что ж, — задумался отец Альдрованд, — Роза красивая девушка, хотя
и немного вспыльчивая... Думаю, ты можешь взять свое слово назад, но,
разумеется, придется вернуть и полученные гульдены.
— Вот здесь-то и загвоздка, отец мой! — стал объяснять фламандец. — Вернув
эти деньги, я превращусь в нищего. Валлийцы разорили мое хозяйство, и,
чтобы начать все сначала, мне просто необходима эта пригоршня гульденов.
— И все же, сын мой Уилкин* ты обязан либо вернуть деньги, либо сдержать
данное слово. Разве на вопрос Писания: «Quis habitabit in tabernaculo, quis requies-
cet in monte sancta?», то есть «Кто взойдет и пребудет в святой горе?» не дается
ответ: «Qui jurat proximo et non decipit»*5. Нет, сын мой, не нарушай данного слова
ради пригоршни презренного металла. Лучше пустой желудок, но чистая совесть,
чем тучный телец, но неправедные поступки и нарушенные обещания. Разве не
видел ты, что покойный наш господин (да упокоит Бог его душу!) предпочел
погибнуть в неравном бою как истинный рыцарь, а не жить клятвопреступником,
хоть он всего лишь сказал неосторожное слово валлийцу за чаркой вина.
— Увы! — сказал фламандец. — Этого я и боялся. Я должен либо сдать замок,
либо возвратить валлийцу Иоруорту весь скот, который дал бы нам
возможность быть сытыми и обороняться.
— Да ты о чем? — удивился монах. — Я тебе говорю о Розе Флэммок и о Яне
Ван-как-его-там, а ты толкуешь о замке, о скоте и не знаю уж о чем еще.
— Я говорил притчами6, святой отец. Дочь — это как бы замок, который я
обещал отдать, Ян Ванвельт — валлиец, а гульдены — это скот, который он
пригнал в виде задатка.
— Притчи! — монах покраснел от гнева, поняв, что его одурачили. —
Мужлан, а туда же: говорить притчами! Но ладно, отпускаю тебе грех.
— Значит, я должен сдать валлийцам замок или отдать им назад скот? —
спросил невозмутимый фламандец.
— Лучше отдай свою душу Сатане!
— Боюсь, что именно этот выбор и предстоит, — сказал фламандец. —
Пример нашего благородного господина...
— Пример благородного глупца!.. — ответил монах, но тотчас же
спохватился. — Помилуй меня, Пресвятая Дева! Из-за этого фламандского мужлана я
забываю, что хотел сказать.
* Тот, кто клянется ближнему и не обманывает (лат.).
Глава VII
45
— А как же Священное Писание, о котором только что упоминало ваше
преподобие? — спросил фламандец.
— Кто ты такой, — возмутился монах, — чтобы рассуждать о Священном
Писании? Разве ты не знаешь, что слова Писания убивают и лишь толкование их дает
жизнь? Разве, приходя к врачу, скрывают от него симптомы своего недуга?
Говорят тебе, глупый фламандец, что в Писании сказано лишь о слове, которое дают
христианам, и есть особая оговорка насчет обещания, которое дается валлийцу.
При таком толковании Писания фламандец усмехнулся так широко, что
показал все свои крепкие белые зубы. Усмехнулся и отец Альдрованд.
— Теперь я понял в чем дело, — сказал он. — Ты хотел поквитаться со мной
за то, что я усомнился в твоей честности. И, надо сказать, сделал это
остроумно. Но отчего ты с самого начала не посвятил меня в свой секрет? Признаюсь,
что я подозревал тебя в гнусных делах.
— Неужели, — сказал фламандец, — я мог позволить себе вовлечь ваше
преподобие в обман? Неужели я уж вовсе не знаком с приличиями? Но чу! Я
слышу, что у ворот трубит Иоруорт.
— Трубит, точно свинопас, — с презрением заметил отец Альдрованд.
— Не желаешь ли, ваше преподобие, чтобы я вернул ему скот? — спросил
Флэммок.
— Еще чего! Вылей на него со стены такой котел кипятку, чтобы сразу облез
его плащ из козьей шкуры. А сперва попробуй воду пальцем. Это я налагаю на
тебя за то, что ты сыграл со мной шутку.
Фламандец ответил на это еще одной широкой улыбкой, и оба они
направились к внешним воротам, куда Иоруорт подошел один. Встав у окошка, но не
сдвигая с него решетки, Уилкин Флэммок спросил валлийца, зачем тот явился.
— Затем, чтобы нам сдали замок, как уговорились, — ответил Иоруорт.
— И ты за таким делом пришел один?
— По правде сказать, — признался Иоруорт, — со мной человек сорок воинов,
укрытых вон за тем кустом.
— Так лучше уведи их поскорее, — сказал Уилкин, — пока наши лучники не
пустили в них стрелы.
— Как, негодяй? Ты не намерен сдержать свое обещание? — крикнул валлиец.
— Обещания я не давал, — возразил фламандец, — а всего лишь собирался
обдумать твое предложение. Так я и сделал. Посоветовался с моим духовным
пастырем, а он и слышать не хочет, чтобы я это предложение принял.
— И ты, — продолжал Иоруорт, — оставишь у себя скот, который я пригнал
в замок, поверив нашему уговору?
— Да я отлучу его от церкви и обреку Сатане, — крикнул монах, не
дожидаясь, пока ответит флегматичный фламандец, — если он хоть одну шкуру или
копыто отдаст нечестивым филистимлянам7, то есть тебе и твоему господину.
— Ну хорошо же, бритоголовый! — сказал разгневанный Иоруорт. — Не
надейся на свой сан и на выкуп. Скоро Гуенуин возьмет замок, ему недолго
осталось укрывать таких предателей. А вас обоих я велю зашить в шкуру одной из
этих коров, ради которых твой прихожанин нарушил клятву. И вас бросят туда,
где вас встретит только волк да орел.
46
Обрученная
— Ты это сделаешь не раньше, чем сможешь, — проговорил флегматичный
фламандец.
— Тьфу на тебя, подлый валлиец! — крикнул одновременно с ним
вспыльчивый монах. — Прежде чем наступит день, которым ты похваляешься, мы
увидим, как твои кости гложут псы!
Вместо ответа Иоруорт занес над головой дротик и, придав ему
вращательное движение, сильно и ловко метнул его прямо в окошко. Дротик просвистел
(не причинив, к счастью, вреда) между монахом и фламандцем; первый
отпрянул назад, а второй, глядя на дротик, вонзившийся в дверь караульного
помещения, сказал только:
— Целился хорошо, а промахнулся еще лучше.
Иоруорт кинулся к своим сидевшим в засаде воинам, подав им одновременно
сигнал и пример быстрого отступления. Отец Альдрованд хотел послать им
вслед целый град стрел, но фламандец удержал его, объяснив, что стрелы
следует беречь, а не тратить на нескольких убегающих врагов. Быть может,
честный человек вспомнил также, что воины Иоруорта попали под прицел,
полагаясь на его уговор с ними.
Когда затих шум поспешного отступления Иоруорта и его людей, наступила
тишина, которая всего лучше подходила прохладе и спокойствию раннего
утреннего часа.
— Тишина продлится недолго, — сказал Уилкин монаху с серьезностью,
которую тот отлично понял.
— Да, долго она длиться не может, — согласился отец Альдрованд. — Надо
ждать атаки. Оно бы еще ничего, только уж очень их много, а нас мало. Уж
очень длинны наши стены, а упорство валлийцев не уступает их ярости. Но мы
сделаем все, что можем. Сейчас я пойду за леди Эвелиной. Ей следует
показаться на крепостной стене. Облик ее прекраснее, чем подобает говорить монаху,
а высокий дух она унаследовала от отца. Взгляд и слово такой девы удвоит в
решительный час силы наших воинов.
— Возможно, — сказал фламандец. — А я позабочусь, чтобы и завтрак им
дали посытнее; моим фламандцам он придаст больше сил, чем вид десяти
тысяч прекрасных дев, хотя бы все они выстроились перед ними.
Глава VIII
Когда, пройдя сквозь битвы пламя,
Ты припадала к орифламме,
О леди в капитанском чине,
О чудо среди жен земных, —
Последний трус из войск твоих
Геройствовал под стать мужчине.
Уильям Стюарт Роуз1
Едва лишь совсем рассвело, Эвелина Беренжер, по совету своего духовного
отца, стала обходить стены осажденного замка, чтобы воодушевлять
доблестных и подбадривать оробевших. Ее драгоценное ожерелье и браслеты указыва-
Глава VIII
47
ли на ее высокий ранг и на знатность рода; туника, по обычаю того времени,
была схвачена на тонкой талии поясом, расшитым драгоценными камнями и
замыкавшимся большой золотой пряжкой. К поясу был подвешен
великолепно вышитый кошелек, а с левого боку небольшой кинжал тонкой работы; поверх
туники накинут был черный плащ, знак траура; капюшон плаща затенял, но не
скрывал ее прекрасное лицо. На нем уже не было выражения восторга,
вызванного представшим ее воображению чудом; теперь оно выражало печаль, но
вместе с тем решительность; обращаясь к воинам, она то умоляла, то отдавала
распоряжения, то просила у них защиты, то напоминала им об их долге.
Как того требовали правила военного искусства, гарнизон замка был
разделен на несколько отрядов, которые заняли наиболее выгодные позиции, а
также те, откуда всего удобнее было наносить удары по осаждавшим. Такое
разделение сил весьма невыгодно обнажало длину крепостных стен и показывало
недостаточное число их защитников. И хотя Уилкин Флэммок различными
способами скрыл эту недостаточность от противника, он не смог скрыть ее от
самих защитников замка, которые бросали унылые взгляды на длинные стены,
лишь кое-где охраняемые часовыми, а затем на роковое поле битвы, усеянное
телами тех, кто в этот час опасности должен был бы стоять рядом с ними.
Присутствие Эвелины помогало им преодолеть уныние и поднимало их дух.
Она переходила от поста к посту и с башни на башню старой крепости, точно
солнечный луч, который скользит по местности, затененной тучами, и озаряет
ее то тут, то там, оживляя ее. Бывают минуты, когда печаль и страх придают
красноречия. С каждым из воинов, составлявших ее маленький гарнизон,
Эвелина говорила понятным ему языком. С англичанами она говорила, как с
сыновьями своей родины; с фламандцами — как с людьми, которые нашли здесь
гостеприимный приют; с норманнами — как с потомками победителей,
сделавшихся знатными людьми в каждом крае, куда проложил путь их меч. С ними
она говорила на языке рыцарской чести, ибо даже самый ничтожный из них
руководствовался рыцарским кодексом или хотя бы делал вид. Англичанам она
напоминала об их честности и верности слову, фламандцам — об угрозе для их
имущества, для плодов их усердного труда. Всех она просила отомстить за
гибель их командира и его воинов. Всех призывала уповать на Бога и на
Пресвятую Деву Печального Дозора. И всех заверяла, что на помощь им уже спешит
сильное и победоносное войско.
— Неужели доблестные крестоносцы, — говорила она, — решатся покинуть
родную землю, когда там раздается плач женщин и сирот? Это превратило бы
их святой обет в смертный грех и омрачило бы заслуженную ими славу.
Храбро отражайте врага! И, быть может, еще прежде, чем опустится в море солнце,
которое сейчас восходит над нами, оно заблестит на копьях воинов из Шрусбери
и Честера. Бывало ли когда-нибудь, чтобы валлийцы не бежали, заслыша
звуки их труб и шелест их шелковых знамен? Сражайтесь же стойко! Замок наш
крепок, оружия у вас достаточно, сердца ваши тверды, а руки сильны. Господь
не оставит нас, а друзья наши уже недалеко. Сражайтесь во имя всего
высокого и святого! Сражайтесь за себя, за ваших жен и детей, за все достояние ваше.
И, молю вас, сражайтесь за осиротевшую девушку, у которой нет иных защит-
48
Обрученная
ников, кроме тех, кого, из сочувствия к ее горестям и в память ее отца, она
обретет среди вас.
Речи, подобные этой, производили сильное впечатление на людей, которые
и без того приучены были не страшиться опасности. Рыцарственные норманны
клялись на крестообразных рукоятях своих мечей, что погибнут все как один,
прежде чем оставят свои посты. Грубоватые англосаксы восклицали: «Позор
тому, кто выдаст агнца Эвелину валлийскому волку, если может грудью
заслонить ее!» Даже в холодных фламандцах вспыхнула искорка восторга,
охватившего остальных; они восхваляли красоту молодой девушки и кратко, но
твердо обещали сделать для ее защиты все, что могут.
Роза Флэммок, которая вместе с еще одной или двумя служанками
сопровождала свою госпожу во время обхода замка, снова стала прежней скромной
и застенчивой девушкой. После вспышки гнева, вызванного накануне
подозрениями, затронувшими честь ее отца, она снова была сама собой.
Роза почтительно следовала за Эвелиной и слушала ее речи с восхищением
ребенка, слушающего свою наставницу; и только ее блестевшие от слез глаза
указывали, насколько она понимала всю опасность положения и всю силу
увещеваний Эвелины. Был, однако, миг, когда глаза девушки засияли ярче, поступь
стала более уверенной и даже горделивой. Это было, когда они приблизились
к месту, где ее отец, выполнив обязанности командира гарнизона, действовал
теперь как военный инженер. Обнаруживая не только силу, но и искусность, он
устанавливал большую баллисту (военную машину, которая мечет камни) над
боковыми воротами, выходившими на равнину с восточной стороны замка,
откуда можно было ждать атаки. Большая часть его доспехов лежала возле него,
укрытая от утренней росы кафтаном; одетый в один лишь кожаный камзол,
держа тяжелую кувалду в руках, обнаженных по самые плечи, он подавал
пример рабочим, трудившимся под его началом.
Флегматичным натурам обычно свойственна стыдливость и чувствительность
к мелким нарушениям приличий. Уилкин Флэммок, с невозмутимым
спокойствием встретивший недавнее обвинение в измене, смутился, густо покраснел и
поспешно накинул на себя кафтан, чтобы скрыть небрежность одежды, в какой
застала его леди Эвелина. Зато его дочь ничуть не смутилась. Гордясь работой
отца, она переводила сияющий взгляд с него на свою госпожу, как бы желая
сказать: «И этого усердного слугу вы подбзревали в предательстве!»
Эвелина и сама почувствовала укор совести. Желая искупить сомнения в его
верности, она протянула драгоценный перстень, чтобы хоть немного возместить
минутное недоразумение.
— К чему это, госпожа? — спросил Флэммок с обычной своей грубоватой
прямотой. — Разве только позволите отдать его Розхен; ведь это она горевала,
а мне горевать было не о чем.
— Распорядись перстнем как хочешь, — сказала Эвелина. — Камень в нем
настоящий, такой же неподдельный, как твоя верность.
Эвелина умолкла. Глядя на широкую равнину, простиравшуюся между
замком и рекой, она удивилась тишине, какая царила там после недавней шумной
и кровавой битвы.
Глава VIII
49
— Очень скоро, — пообещал Флэммок, — шума будет немало, и притом
совсем близко.
— Где же противник? — спросила Эвелина. — Я не вижу ни палаток, ни шатров.
— У валлийцев такого не водится, — объяснил Уилкин Флэммок. — Господь
не умудрил их умением выткать для этого достаточно полотна. Вон они! Лежат
по обоим берегам реки, укрывшись только своими белыми плащами. Подумать
только! Орда головорезов и грабителей, а с виду как похоже на самое
прекрасное в мире зрелище — на поле, где отбеливают холсты. Ого! Они начинают
жужжать... Очень скоро начнут и жалить.
Действительно в стане валлийцев послышался негромкий и неясный шум,
похожий на жужжанье потревоженного улья.
Испуганная угрожающим гулом, который с каждой минутой становился
громче, впечатлительная Роза уцепилась за руку отца и сказала шепотом,
полным ужаса:
— Совсем как шум моря в ночь перед страшным наводнением!
— Да, он предваряет бурную непогоду, когда женщинам следует сидеть
дома, — сказал Флэммок. — Не угодно ли вам удалиться в ваши покои, леди
Эвелина? Уходи и ты, Розхен. Благослови Господь вас обеих! А здесь вы только
отвлекаете нас от дела.
Сознавая, что выполнила все свои обязанности и боясь заразить других
страхом, который все более овладевал ее сердцем, Эвелина вняла совету своего
вассала и удалилась к себе, но, уходя, часто оглядывалась туда, где подходило
войско валлийцев, накатываясь, точно волны прибоя.
Князь Поуиса, проявляя немалое воинское искусство, составил план штурма,
сообразуясь с пылким нравом своих соплеменников и рассчитывая устрашить
малочисленный гарнизон.
Каждая из трех сторон замка, защищенных рекой, была под наблюдением
большого отряда валлийцев; но им было приказано всего лишь пускать по
временам стрелы, и не более того, разве лишь представится особенно
благоприятная возможность схватиться с врагом вплотную. Значительно большая часть
воинов Гуенуина, состоявшая из трех колонн, наступала по равнине вдоль
западной стены замка; здесь они угрожали штурмом крепостным стенам, лишенным
естественной защиты, какой была река. Первая из трех грозных колонн
целиком состояла из лучников; они рассеялись вдоль стены осажденного замка,
укрываясь за каждым кустом и бугорком; натянув тетивы своих луков, они
посылали стрелу за стрелой в амбразуры замковых стен, хотя несли больше
потерь, чем могли причинять сами, ибо защитники замка, со своих сравнительно
безопасных позиций, могли целиться в них более точно. Зато под прикрытием
этих лучников два больших отряда валлийцев сделали попытку штурмовать
внешние укрепления. У них были топоры, чтобы рубить деревянные частоколы,
фашины2, чтобы заваливать внешние рвы, факелы, чтобы поджигать все
способное гореть, а главное, приставные лестницы, чтобы взбираться на стены.
Они пошли в атаку с бешеной яростью, несмотря на упорное сопротивление
осажденных, осыпавших их камнями; штурм длился почти час, но
подкрепление более чем восполняло их потери. Вынужденные в конце концов отступить,
50
Обрученная
валлийцы перешли к другой тактике, целью которой было истощить силы
противника. Яростно нападая на одну какую-либо, более уязвимую часть стены, они
вынуждали осажденных бросаться туда и покидать другие посты; а когда те
оказывались недостаточно защищенными, их, в свою очередь, атаковал целый
большой отряд.
Таким образом, защитники замка Печальный Дозор уподобились
измученному путнику, который отбивается от тучи шершней, а те, едва он стряхнет их
с одного места, во множестве устремляются на другое и приводят его в
отчаяние своей численностью и наглостью своих атак. Одной из главных целей
нападавших были, разумеется, ворота. Туда, как в наиболее уязвимое место, и
поспешил отец Альдрованд, который до этого не отлучался со стен и всюду, где
позволяли приличия, сам принимал участие в обороне.
Здесь он застал фламандца, который, подобно Аяксу3, потемневший от пыли
и крови, приводил в движение огромную машину, недавно поставленную по его
указаниям, не спуская вместе с тем внимательных глаз со всего другого, за чем
требовалось приглядывать.
— Ну как, по-твоему, идут нынче дела? — шепотом спросил его монах.
— К чему тут слова, отец мой? — ответил Флэммок. — Ты не воин, а у меня
на разговоры нет времени.
— Ты бы передохнул, — сказал монах, засучивая рукава сутаны. — Я
постараюсь подсобить тебе, хотя, помилуй меня, Пресвятая Дева, ничего не смыслю
в этих странных штуках и даже названий их не знаю. Но правила моего
ордена велят трудиться4. Так что я не согрешу, если поверну вот этот ворот и
наставлю вот сюда деревянный брусок, окованный сталью; и не уроню своего сана, если
теперь (и он сопровождал свои слова действиями) трону вот эту пружину.
Крупный снаряд из баллисты просвистел в воздухе, нацеленный так удачно,
что сразил одного из главных валлийских вождей, получавшего в ту минуту
распоряжения от самого Гуенуина.
— Вот это прицел! Вот это полет! — кричал монах, не сдерживая своего
восторга, и с торжеством назвал специальными терминами и машину, и пущенный
ею снаряд.
— Отличная меткость, монах, — заметил Уилкин Флэммок. — Вижу, что ты
знаешь больше, чем можно вычитать в твоем требнике5.
— Ладно уж! — сказал монах. — Теперь ты убедился, что и я умею обращаться
с машиной и что валлийские негодяи немного приуныли. Так скажи, что ты
думаешь о нашем положении?
— Думаю, что для такого скверного положения оно, пожалуй, недурно, если
можно надеяться, что скоро подоспеет помощь; но люди сделаны не из железа,
а из плоти и нас может измучить многочисленность врагов. У нас всего по
одному воину на четыре ярда крепостной стены. Насколько же нас меньше, чем их!
Негодяи это знают и не дадут нам передышки.
Вновь начавшаяся атака прервала их беседу; и до заката неугомонный
противник не давал им вздохнуть. Пугая притворными угрозами нападения то в
одном, то в другом месте, а два или три раза и подлинными яростными атаками,
он почти не давал осажденным времени передохнуть и подкрепиться. Однако
Глава VIII
51
и валлийцы расплачивались за свои дерзкие атаки. Хотя они снова и снова
бросались в бой с беспримерной отвагой, к концу дня их атаки стали уже менее
решительными. Надо полагать, что из-за сознания понесенных потерь и из
боязни того, как они скажутся на боевом духе войска, наступление ночи и затишье
в боевых действиях были для Гуенуина не менее желанными, чем для
измученного гарнизона замка Печальный Дозор.
И все же в стане валлийцев царило ликование; потери только что
миновавшего дня забывались ими, а помнилась лишь блестящая победа, которая
предшествовала осаде; павший духом гарнизон мог слышать смех и песни,
которыми враги заранее праздновали падение замка.
Зашло солнце, спустились сумерки, и в темном, безоблачном небе зажглись его
бесчисленные украшения, сверкавшие еще ярче из-за легкого мороза, хотя их
бледноликая повелительница находилась еще в первой своей четверти.
Гарнизону было особенно трудно оттого, что при всей своей малочисленности ему
приходилось держать на стенах как можно больше часовых, особенно в ночное время,
благоприятное для внезапного нападения. Столь велика была в этом нужда, что
на часы становились даже раненые. В полночь монах и фламандец, которые
теперь отлично друг друга понимали, начали обход стен, призывая часовых быть
бдительными и собственными глазами проверяя, насколько прочна оборона.
Во время этого обхода, подымаясь на башенную площадку по узким и неровным
ступенькам, нелегким для монаха, они увидели вместо одетого в темные латы
фламандского часового, которому там было положено стоять, две белые фигуры,
испугавшие Уилкина Флэммока больше, чем все события минувшего дня.
— Святой отец, — сказал он, — тут нужны твои средства. Перед нами
нечистая сила!
Отец Альдрованд в качестве священника не имел опыта борьбы с нечистым
духом, а как солдат боялся чертовщины больше, чем любого неприятеля из
числа смертных. Стуча зубами, он все же начал читать церковные заклинания
против бесов: «Conjuro vos omnes, spiritus maligni, magni, atque parvi...»*. Но тут
его прервал голос Эвелины:
— Это вы, отец Альдрованд?
С чувством большого облегчения убедившись, что перед ними вовсе не
призраки, Уилкин Флэммок и монах поспешили выйти на площадку, где увидели свою
госпожу и ее верную Розу; первая, как подобало часовому, держала в руке копье.
— Что это значит, дочь моя? — удивился монах. — Зачем ты здесь и зачем
вооружилась? И где часовой? Где ленивый фламандский пес, которому
надлежит здесь быть?
— Быть может, святой отец, ленивому псу необязательно быть фламандцем? —
Роза всегда живо отзывалась на все, казавшееся ей обидным для ее народа. —
Я слыхала, такие псы бывают и английской породы.
— Будет тебе, Роза, ты говоришь дерзко, а это не пристало девушке, —
наставительно произнес ее отец. — Я тоже спрашиваю, куда подевался Петеркин
Форст, которому поручен этот пост?
* Заклинаю вас всех, злые духи, большие и малые... [лат.).
52
Обрученная
— Не браните его; вина тут моя, — заступилась Эвелина за
фламандца-часового, крепко спавшего в тени зубчатой стены. — Он сражался весь день и очень
измучен. Когда я пришла сюда, как призрак, нигде не находящий сна и покоя,
то увидела его спящим и мне стало жаль будить его. Я подумала: он сражался
за меня, значит, и я могу немного постоять за него на часах, взяла его оружие
и решила оставаться тут, пока не придет смена.
— Вот я его сейчас сменю, шельму этакую, да еще как сменю! — Уилкин
Флэммок наградил спящего часового двумя пинками, от которых на том
зазвенели латы. Часовой вскочил; он мог всполошить весь гарнизон, ибо собрался
крикнуть, что валлийцы уже на стенах, но монах зажал ему рукой рот, уже
раскрытый для крика. — Молчи и ступай вниз. По законам войны ты
заслуживаешь смерти. Но погляди, негодяй, кто спас твою негодную шкуру! Кто стоял
на часах, пока тебе снились пиво и свинина!
Фламандец, хотя и не вполне еще проснулся, понял свое положение и
поспешил молча удалиться, отвесив неловкие поклоны Эвелине и тем, кто столь
бесцеремонно нарушил его сон.
— Негодяя следовало связать по рукам и ногам, — сказал Уилкин. — Но что
поделаешь, госпожа? Мои соотечественники не могут жить без сна и отдыха. —
И он сам зевнул так широко, словно собирался проглотить одну из
башен, а башня была не более чем украшением какого-нибудь рождественского
пирога.
— Верно, добрый Уилкин, — согласилась Эвелина. — Отдохни и ты, доверь
мне этот пост до прихода смены. Я не могу спать, если бы даже хотела, и не
стала бы, если бы могла...
— Благодарю, госпожа, — сказал Флэммок. — Оно и правда, тут важный пост
и до смены осталось не более часа. А я бы пока подремал, а то глаза так сами
и закрываются.
— Ах, отец! — воскликнула Роза, смущенная бесцеремонностью своего
родителя. — Вспомни, где ты и кто перед тобой!
— Да уж, мой добрый Флэммок, — укоризненно произнес монах, — в
присутствии благородной норманнской девицы не пристало снимать плащ и надевать
ночной колпак.
— Оставьте его, отец мой, — сказала Эвелина, которая в другое время
улыбнулась бы при виде готовности, с какой Уилкин Флэммок, еще прежде, чем
монах договорил эти слова, завернулся в свой широкий плащ, умостил на
каменной скамье свое дородное тело и приготовился вкушать сон. — Церемонии, —
продолжала Эвелина, — хороши для мирных времен. Когда кругом опасность,
опочивальней пусть служит воину любое место, где он может хотя бы час
отдохнуть; а трапезной — любое место, где он может найти пищу. Посидите с нами,
отец мой, и помогите нам скоротать эти тревожные часы.
Монах повиновался; но как ни хотел он найти слова утешения,
богословская ученость не подсказала ему ничего, кроме покаянных псалмов. Он читал
их, пока усталость не взяла верх и над ним; тогда он сам совершил то же
нарушение приличий, в каком обвинял Уилкина Флэммока, и задремал на
полуслове.
Глава IX
53
Глава IX
— О ночь! — в слезах она сказала, —
О ночь, предвестница всех бед,
О ночь! — она в слезах сказала, —
Но мне еще страшней рассвет!
Сэр Гилберт Эллиот1
Усталость, которая свалила с ног Флэммока и монаха, не ощущалась обеими
девушками, ибо сильнее усталости была тревога; они то вглядывались в едва
различимую даль, то поднимали взор к светившим над ними звездам, точно
желая прочесть по ним, что сулит завтрашний день. Это было меланхолическое
зрелище. Деревья и поле, холм и равнина едва виднелись в неверном свете;
вдали их глаза с трудом различали одно или два места, где река, почти всюду
скрытая деревьями и высокими берегами, открывалась звездам и бледному
полумесяцу. Все было тихо, не считая журчания вод; лишь изредка доносились
из полночной тишины отдаленные звуки арфы, означавшие, что кто-нибудь из
валлийцев все еще предается любимому развлечению. Из этой дали звуки арфы
казались голосом незримого духа; они звучали для Эвелины с неумолимой
враждебностью, пророча войну и бедствия, плен и смерть. Другими звуками,
нарушавшими тишину, были шаги часовых или стенания сов, которые как бы
оплакивали гибель башен, где они издавна гнездились.
Но и само окружающее спокойствие тяжким бременем ложилось на
несчастную Эвелину; сильнее, чем шум и кровавое смятение прошедшего дня, оно
заставляло ее ощущать нынешнее бедствие и бояться грядущих ужасов. Она то
вставала, то садилась, то ходила вдоль башенной площадки, то замирала,
неподвижная как статуя, словно пыталась отвлечься от наполнявших ее печали и
тревоги.
Наконец, взглянув на монаха и на фламандца, крепко спавших под сенью
зубчатой стены, она прервала молчание:
— Мужчинам легче, милая Роза, — сказала она. — От тревожных мыслей они
находят забвение в усиленном труде или в крепком сне, который за ним следует.
Их могут ранить или убить; но нам, женщинам, достаются душевные муки,
более тяжкие, чем телесные страдания. Терзаемые нынешними бедами и
ужасом перед бедами грядущими, мы при жизни словно умираем смертью более
мучительной, чем та, которая разом прекращает все страдания.
— Не предавайтесь унынию, благородная госпожа, — успокаивала ее Роза. —
Будьте такой, как вчера, когда вы ухаживали за ранеными, за немощными
старцами, заботились обо всех, кроме себя, и даже подвергали свою драгоценную
жизнь опасности под градом валлийских стрел, если это могло вселить
мужество в других; а я в то время — какой стыд! — могла только дрожать, плакать и
изо всех сил удерживаться, чтобы не кричать так же дико, как валлийцы, и не
стонать, как наши друзья, раненные их стрелами.
— Увы, Роза! — отвечала ее госпожа. — Тебе можно предаваться страху и
отчаянию, у тебя есть отец, чтобы защищать тебя и сражаться за тебя. А мой
54
Обрученная
добрый и благородный отец лежит мертвый на поле битвы, и мне остается
только поступать достойно его памяти. И только сейчас, вот в эти минуты, я имею
право вспоминать и оплакивать его.
Говоря это и не имея больше сил сдерживать дочернюю скорбь, она
опустилась на каменную скамью, шедшую вдоль зубчатого парапета, и зарыдала,
повторяя:
— Его нет, его больше нет на свете!
Бессознательно сжимая в руке оружие и опираясь о него головой, она
впервые за все время плакала, проливая обильные слезы, так горько, что Роза
испугалась, не разорвется ли у бедняжки сердце. Любовь и сочувствие подсказали
Розе лучший способ утешать Эвелину. Не пытаясь остановить поток слез, она
села возле плачущей и, взяв ее бессильно свисавшую руку, стала прижимать ее
к своим губам и к груди. То покрывая эту руку поцелуями, то орошая слезами,
она выражала свою горячую и смиренную преданность. Чтобы произнести слова
утешения, ждала более спокойной минуты; ждала в такой тишине и молчании,
что под бледным светом луны эти две прекрасные девушки казались скорее
изваяниями, созданными неким великим скульптором, чем существами, чьи
сердца еще бились, а глаза способны были проливать слезы. Невдалеке от них,
простертые на каменных ступенях, фламандец в блестящих латах и отец Аль-
дрованд в своей темной одежде могли быть приняты за тела тех, кого
оплакивали эти прекрасные статуи.
Прошло немало времени, прежде чем печаль Эвелины немного утихла.
Судорожные рыдания сменились глубокими, долгими вздохами, а слезы лились
все тише. Ее любящая наперсница, пользуясь этим затишьем, попробовала взять
из рук своей госпожи копье.
— Дайте мне, милая госпожа, — попросила она, — побыть немного часовым
вместо вас. Уж я, наверное, в случае опасности сумею крикнуть громче.
Говоря так, она осмелилась обнять Эвелину и поцеловать ее. Единственным
ответом ей была молчаливая ласка, благодарившая девушку за старания утешить.
Так оставались они некоторое время — Эвелина, подобная стройному тополю,
и Роза, прильнувшая к своей госпоже, точно обвившаяся вокруг него повилика.
Но вдруг Роза почувствовала, что юная госпожа вздрогнула в ее объятиях.
Крепко сжав ей руку, Эвелина прошептала:
— Слышишь?
— Я слышу только уханье совы, — робко ответила Роза.
— А мне слышатся отдаленные звуки, — сказала Эвелина. — Чу! Вот они
снова! Посмотри со стены, Роза, а я разбужу священника и твоего отца.
— Милая госпожа, — проговорила Роза. — Я не смею. Что за звуки, которые
слышны лишь одним ушам? Вас обманывает журчанье воды в реке.
— Я не стала бы напрасно подымать тревогу, — сказала Эвелина, — или
будить твоего отца, которому так нужен сон после его трудов, если бы то было
лишь мое воображение. Но сквозь журчанье воды я снова слышу звяканье,
словно работают оружейники и кузнецы, бьющие в наковальни.
Роза вскочила на каменную скамью и, откинув свои тяжелые белокурые
косы, приложила, чтобы лучше слышать, руку к уху.
Глава IX
55
— Да, слышу! — вскричала она. — И звуки эти все ближе! Будите их, ради
Бога! Будите немедленно!
Эвелина дотронулась до спящих тупым концом копья. Когда они вскочили
на ноги, она произнесла тихо, но повелительно:
— К оружию! Валлийцы наступают!
— Где они, где? — спросил Уилкин Флэммок.
— Прислушайся, и ты услышишь, как они вооружаются, — сказала Эвелина.
— Вам это чудится, госпожа, — сказал фламандец, чьи органы чувств
соответствовали медлительности всей его натуры. — Лучше бы мне было вовсе не
засыпать, если надо тотчас проснуться.
— Прислушайся, мой добрый Флэммок! С северо-запада явственно
слышится звон доспехов.
— Но валлийцы спят вовсе не с той стороны, — возразил Уилкин, — да и
доспехов на них нет.
— Я тоже слышу! — воскликнул отец Альдрованд, который уже долго
прислушивался. — Хвала святому Бенедикту2! Хвала Пресвятой Деве Печального
Дозора! Она, как всегда, милостива к своим слугам. Да, это конский топот! Это
звон оружия! Рыцари Валлийской Марки спешат к нам на помощь! Kyrie
eleison!*3
— И я слышу, — сказал Флэммок, — но только звуки эти больше похожи на
шум морских волн, когда они затопили склады моего соседа Клинкермана, и все
его кастрюли и котелки зазвенели друг о дружку. Нельзя, отец мой, принимать
врагов за друзей. Давай-ка разбудим всех в замке!
— Чепуха! — сказал священник. — Какие еще там кастрюли и котелки? Я
двадцать лет был оруженосцем у графа Стивена Маульверера — и неужели не
могу различить топот боевого коня и бряцание доспехов? Собирай воинов на
стенах, а лучших надо выстроить во дворе замка. Может быть, нам следует
помочь делу встречной вылазкой?
— Это было бы неосторожно, и я своего согласия не дам, — сказал
фламандец. — А на стены созывай. Только пусть твои норманны и англичане не шумят,
не то их буйная радость разбудит валлийский лагерь, и там успеют
приготовиться к встрече нежеланных гостей.
В знак повиновения монах приложил палец к губам. И все разошлись,
чтобы поднять на ноги защитников замка. Вскоре те поспешно стали
подыматься на стены в совсем ином состоянии духа, нежели то, в каком накануне
оттуда спускались. Все предсторожности были приняты, чтобы избежать шума.
Затаив дыхание, гарнизон ждал приближения тех, кто спешил к ним на
помощь.
Природа звуков, теперь уже громко раздававшихся в тишине этой
памятной ночи, не могла более вызывать сомнений. То не был шум реки или
раскаты дальнего грома; то было грозное бряцание оружия и глухой топот коней.
Судя по тому, как долго они раздавались и каким широким фронтом
приближались, защитники замка с радостью заключили, что на подмогу им спешит
* Господи, помилуй! (греч.)
56
Обрученная
несколько очень больших отрядов конницы*. И вдруг эти мощные звуки
стихли столь внезапно, что, казалось, земля поглотила коней вместе с всадниками
или почему-то сделалась неслышной под их копытами. Защитники замка
Печальный Дозор решили, что друзья их остановились, чтобы дать отдохнуть
коням, получше разглядеть неприятельский лагерь и составить план нападения.
Впрочем, остановка длилась недолго.
Бритты, столь искусные во внезапном нападении, сами нередко бывали
застигнуты врасплох. Их воины порой пренебрегали долгом часовых, требующим
терпеливости; а на этот раз их разведчики, а также фуражиры, которые
накануне весь день рыскали по окрестностям, принесли им вести, усыпившие
их бдительность. Поэтому лагерь охранялся небрежно; убедившись в
малочисленности защитников замка, валлийцы пренебрегли такой военной
необходимостью, как ночной дозор, выставляемый на известном расстоянии от лагеря.
Конница Лордов Хранителей Марки, несмотря даже на производимый ею шум,
смогла подойти очень близко к лагерю, не вызвав там ни малейшей тревоги.
Когда эта конница разделилась на несколько колонн, готовясь к нападению,
в лагере валлийцев наконец обнаружили грозившую им опасность. Раздались
пронзительные крики, призывавшие воинов под знамена их вождей. Когда
тяжело вооруженная англо-норманнская конница обрушилась на незащищенный
лагерь, эти призывы обратились в вопли ужаса.
Однако даже в этих, столь неблагоприятных, обстоятельствах потомки
древних бриттов не перестали обороняться и не посрамили своей славы храбрейших
из всех живущих на земле. Их яростные крики, бросавшие вызов врагу, были
слышны даже среди стонов раненых, торжествующих возгласов нападавших и
всего шума ночного боя. Лишь с рассветом войско Гуенуина было полностью
разбито и над равниной раздался ликующий «громоподобный глас победы».
Осажденные, если их еще можно было так называть, глядя со своих башен
на окружающую местность, повсюду видели сцены беспорядочного бегства и
беспощадного преследования. То, что валлийцам дали без препятствий стать
лагерем на ближнем берегу реки, сделало теперь их поражение особенно
ужасным. У единственной переправы на противоположный берег беглецы сгрудились
так тесно, что мечи неприятеля настигали их там и рубили; многие из убегавших
бросались в реку, но все они, кроме нескольких особенно сильных и искусных
пловцов, разбились о скалы или не справились с течением; несколько
счастливцев спаслись, случайно обнаружив в реке брод; иные поодиночке или
небольшими группами в отчаянии бежали к замку, точно эта крепость, отбившая их атаку,
когда они готовились одержать победу, могла теперь стать их убежищем; иные
бежали куда глаза глядят, ища лишь спасения от немедленной гибели.
Норманны, разделившись на небольшие отряды, настигали их и рубили без
помех. Сборным пунктом победителей был невысокий холм, где еще недавно
водрузил свое знамя Гуенуин, а где теперь развевалось знамя Хьюго де Лэси.
* Даже резкое звяканье стальных ножен современных кавалеристов о железную оковку седел
и стремян издали выдает их приближение. Звон рыцарских доспехов, облекавших всадника с ног
до головы, был, очевидно, гораздо слышнее.
Глава IX
57
Окруженный своими лучшими конными и пешими бойцами, опытный
военачальник не позволял им далеко от себя удаляться.
Остальные, как уже сказано, преследовали врагов с торжествующими
криками и угрозами мести. Под стенами замка слышались громкие возгласы: «Ура,
святой Эдуард! Ура, святой Деннис!4 Рази! Не щади валлийских волков! Помни
Раймонда Беренжера!»
Воины, стоявшие на стенах замка, подхватывали эти победные клики и
пускали стрелы в тех беглецов, которые оказывались слишком близко от замка.
Они готовы были решиться на вылазку, чтобы более деятельно участвовать в
истреблении врагов. Однако теперь, когда стало возможно сообщаться с
войском коннетабля Честерского, Уилкин Флэммок счел себя и свой гарнизон в
подчинении у этого славного военачальника и не слушал настойчивых
призывов отца Альдрованда, который, невзирая на свое духовное звание, сам охотно
возглавил бы такую вылазку.
Наконец расправа с врагом была завершена. Множество труб протрубило
отбой. Рыцари собирали людей под свои знамена и медленно вели их к
главному знамени — знамени своего предводителя, вокруг которого снова собралось все
войско. Так собираются облака вокруг вечернего солнца, и это причудливое
сравнение можно было бы продолжить, ибо косые лучи сверкали и на доспехах
воинов.
Вскоре на равнине не осталось всадников, лишь тела убитых валлийцев. Но вот
начали возвращаться воины, которых погоня увела дальше; они гнали перед
собой несчастных пленных, которым, насытясь кровью, даровали жизнь.
И тогда, желая привлечь внимание своих освободителей, Уилкин Флэммок
приказал развернуть все знамена, какие были в замке; и их развернули под
ликующие возгласы тех, кто под ними сражался. В ответ им разнеслись
далеко вокруг радостные клики воинов де Лэси, вспугнувшие уцелевших
валлийских беглецов, которые, оказавшись уже далеко от поля битвы, решились было
остановиться и перевести дух.
После этого обмена приветствиями от войска коннетабля отделился всадник,
который, как было видно еще издали, выказывал особую ловкость и грацию в
управлении конем. Он приблизился к подъемному мосту, который тотчас перед
ним опустили. Флэммок и монах (который всюду, где было возможно, также
выступал как представитель власти в замке) поспешили навстречу посланцу их
освободителя. Он сошел со своего вороного коня, который еще поводил
боками после ратного труда и был покрыт клочьями пены и брызгами крови, но под
ласковой рукой молодого хозяина выгибал шею, встряхивал стальным чепраком
и фыркал, показывая свою резвость и неуемную жажду битвы. Орлиный взор
юноши выражал боевой пыл, который, как видно, он уже успел проявить. Свой
шлем он подвесил к седлу, открыв лишь слегка разрумянившееся красивое
лицо, обрамленное короткими и густыми каштановыми кудрями; в тяжелых
доспехах он двигался так легко и свободно, что они казались скорее нарядом,
чем бременем. Будь то всего лишь подбитый мехом плащ, он не мог бы сидеть
на этом всаднике изящнее, чем сидела тяжелая кольчуга, повторявшая каждое
его движение. Лицо его было таким юным, что только пушок над верхней
58
Обрученная
губой указывал на близящееся возмужание. Женщины, столпившиеся во дворе
замка, чтобы увидеть первого посланца своих освободителей, наперебой
восхищались его красотой и прославляли его доблесть. Одна миловидная особа
зрелых лет, более смелая, чем остальные, выделявшаяся красными чулками, туго
обтянувшими ее стройные ноги, и чепчиком снежной белизны, вплотную
подошла к молодому рыцарю и заставила его покраснеть, воскликнув, что
Пресвятая Дева Печального Дозора, чтобы возвестить им освобождение, как видно,
прислала им ангела; при этих словах отец Альдрованд укоризненно покачал
головой; зато все остальные встретили их с восторгом, весьма смутившим юношу.
— Помолчите же! — прикрикнул Уилкин Флэммок. — Женщины, неужели
вам неведомы приличия? Неужели вы никогда не видели молодого рыцаря, что
липнете к нему, словно мухи на мед? Отойдите, говорят вам, и дайте нам
спокойно выслушать распоряжения благородного лорда де Лэси.
— Их я могу сообщить, — сказал юноша, — только в присутствии
благородной девицы Эвелины Беренжер, если удостоюсь чести предстать перед ней.
— Это уж непременно, славный рыцарь! — сказала та же смелая особа,
которая только что громко выражала свое восхищение. — Ручаюсь, что вы
достойны этой чести, да и любой милости, какую может оказать дама!
— Да придержи ты язык, сорока! — крикнул монах. А фламандец тут же
добавил:
— Берегись покаянной скамьи5, госпожа Бесстыдница! — и взялся проводить
молодого посланца.
— Прошу позаботиться о моем славном коне, — сказал тот, передавая
поводья одному из слуг. Это освободило его от части женской свиты, которая
принялась хвалить и ласкать коня с тем же восторгом, с каким хвалила всадника;
а иные были даже готовы целовать стремена и сбрую.
Только кумушку Джиллиан было не так легко отвлечь, как некоторых ее
спутниц; пока фламандец мог ее слышать, она повторяла слова «покаянная
скамья», а потом дала себе волю:
— Почему же покаянная скамья, сэр Уилкин-Палкин? На английский роток
не накинуть фламандский платок! Не таковская я! Почему покаянная скамья?
Потому только, что моя молодая госпожа — красавица, а молодой рыцарь тоже
хоть куда, пусть борода еще не выросла? Что, у нас глаз нету? Или языка?
— Насчет твоего языка никто не сомневается, кумушка Джиллиан, —
промолвила кормилица Эвелины, стоявшая тут же. — Только сейчас тебе бы лучше его
придержать.
— А это почему, госпожа Жеманница6? — спросила неукротимая Джиллиан. —
Пусть ты и укачивала нашу госпожу пятнадцать лет назад, зазнаваться все же
нечего. Уж поверь, кошка до сливок всегда доберется, хотя бы ту кошку
вырастила сама аббатиса.
— Домой, жена, домой! — прикрикнул на нее муж, старый егерь, не стерпев
выходок чересчур бойкой супруги. — Домой! Не то ты у меня отведаешь ремня.
И священник, и Уилкин Флэммок, все дивятся твоему бесстыдству.
— Да ну? — сказала Джиллиан. — Так, может быть, чтобы на меня дивиться,
хватит и двух дурней, и нечего тебе соваться третьему!
Глава X
59
Теперь все засмеялись уже над егерем, и тот поспешил увести жену, не
пытаясь продолжать словесную перестрелку, в которой она так явно одерживала верх.
Люди переменчивы, в особенности простонародье; и эта комическая сценка
развеселила тех, чье положение еще так недавно было не только опасным,
но и казалось безнадежным.
Глава X
В открытом гробу его принесли
Шестеро верных слуг.
Плыл над ним погребальный звон,
И слышался плач вокруг.
Серый монах1
Пока во дворе замка происходили все эти события, Дамиан де Лэси получил
просимую аудиенцию у Эвелины Беренжер. Она приняла его в большом зале
своего замка, сидя на особом возвышении, под балдахином; возле нее
находилась Роза и несколько служанок, из которых только первой разрешалось сидеть
в присутствии госпожи на низенькой скамеечке — столь строго соблюдали
знатные норманнские девицы положенный этикет.
Юношу ввели в зал священник и Флэммок. Духовное звание первого из них
и доверие, каким облек второго покойный отец Эвелины, давали им право
присутствовать при этой встрече. Сделав шаг навстречу красивому молодому
посланцу, Эвелина покраснела; смущение ее оказалось, как видно, заразительным,
ибо Дамиан, целуя протянутую ему руку, также обнаружил некоторое
замешательство. Эвелине подобало заговорить первой.
— Мы приветствуем и благодарим, — произнесла она, — посланца, принесшего
нам весть о том, что опасность миновала. Если не ошибаемся, перед нами
благородный Дамиан де Лэси?
— Перед вами покорнейший из ваших слуг, — ответил Дамиан, не без труда
попадая в высокий куртуазный2 тон, какого требовала возложенная на него
миссия, — и прибыл я от имени моего благородного дяди Хьюго де Лэси,
коннетабля Честерского.
— Не намерен ли и сам наш благородный избавитель почтить своим
присутствием скромное жилище, обязанное ему своим спасением?
— Мой благородный родич, — ответил Дамиан, — стал воином Господа Бога
и дал обет не входить ни под одну кровлю, пока он не отбыл в Святую Землю3.
Но он поручил мне поздравить вас с поражением дикарей, ваших врагов, и
посылает вот эти доказательства того, что друг благородного отца вашего не
оставил его гибель неотомщенной.
Говоря так, Дамиан положил перед Эвелиной золотые браслеты, диадему и
эудорхауг, или цепочку из золотых звеньев, которые валлийский князь носил
как знаки своего княжеского достоинства.
— Значит, Гуенуин пал, — промолвила Эвелина с чувством удовлетворения,
однако невольно содрогнувшись при виде обрызганных кровью трофеев. —
Убийцу моего отца постигла смерть!
60
Обрученная
— Мой родич пронзил его копьем, когда тот еще пытался собрать вокруг себя
своих разбегавшихся воинов. Копье вошло в тело более чем на фут, и тем не
менее смертельно ранненый из последних сил пытался нанести ответный удар
своей булавой.
— Небеса справедливы, — продолжила Эвелина. — Да простятся злодею все
грехи за его ужасную смерть. Но я хочу спросить вас, рыцарь... Останки моего
отца?.. — Договорить у нее не хватило сил.
— Через час они будут доставлены сюда, благородная госпожа, — ответил
рыцарь с сочувствием, какое не могло не вызывать горе столь юной и
прекрасной сироты. — Когда я отправлялся к вам, его уже готовились унести с поля
битвы, где мы нашли его среди множества вражеских трупов. Вот какой
памятник воздвиг ему собственный его меч. Обет, данный моим родственником,
не позволяет ему перейти ваш подъемный мост; но с вашего дозволения я буду
представлять его на погребальной церемонии.
— Кому же, как не благородным и отважным, — сказала Эвелина, стараясь
удерживать слезы, — провожать в последний путь моего отважного и
благородного отца. — Она хотела продолжать, но голос ее пресекся, и она поспешила
удалиться, чтобы дать волю слезам, а также приготовить для погребения все,
что позволяли обстоятельства. Дамиан поклонился ей вслед с благоговением,
с каким склонился бы перед божеством. Сев на коня, он вернулся в лагерь своего
дяди, который поспешно разбили на недавнем поле битвы.
Солнце стояло уже высоко, и на равнине царило оживление, равно не
похожее на предрассветную тишину и на яростный шум боя, разыгравшегося вслед
за нею. Весть о победе Хьюго де Лэси быстро распространилась в округе и
побудила многих окрестных жителей, спасшихся бегством перед наступлением
Плинлиммонского Волка, вернуться в свои разоренные жилища. Немало
беспутных бродяг, которыми всегда изобилует край, подверженный превратностям
частых войн, также сошлось сюда в поисках добычи или просто из любопытства.
Еврей и ломбардец, готовые пренебречь опасностью, когда надеются на
барыши, уже предлагали различные товары и крепкие напитки в обмен на
окровавленные золотые украшения, снятые с убитых валлийцев. Иные посредничали
между пленными валлийцами и воинами, взявшими их в плен; там, где можно
было рассчитывать на добросовестность пленного и его достаток, посредник
ручался за него и даже ссужал ему деньги для выкупа; но чаще сам покупал тех
пленных, которым нечем было расплатиться с победителем.
Чтобы приобретенная таким образом наличность недолго обременяла
солдата и не притупляла в нем стремление к новым подвигам, здесь были к его
услугам все обычные способы истратить военную добычу: продажные женщины,
мимы4, жонглеры5, менестрели и всевозможные сказители сопровождали
войско в его ночном походе; веря в военное счастье прославленного де Лэси, они
бесстрашно остановились неподалеку, ожидая его победы. Теперь они
приблизились веселыми группами, чтобы поздравить победителей. Тут же, рядом с
танцорами, сказителями и певцами, на поле, еще орошенном кровью, местные
крестьяне, созванные для этой цели, копали рвы для захоронения убитых;
лекари оказывали помощь раненым; священники и монахи исповедовали умира-
Глава X
61
ющих; воины уносили с поля сражения тела тех, кто удостаивался более
почетного погребения; крестьяне горевали о своих потоптанных посевах и
разграбленных жилищах; а вдовы и сироты искали среди убитых в обоих сражениях своих
мужей и отцов. Плач и рыдания сливались с кликами торжества и шумом
разгульного веселья; равнина перед замком Печальный Дозор являла собою некое
подобие всей пестрой картины человеческой жизни, где столь причудливо
сочетаются радость и горе, где веселье и смех так часто соседствуют с печалью и смертью.
Около полудня все эти разнообразные звуки внезапно стихли; внимание как
веселившихся, так и скорбевших было привлечено громким и печальным
звучанием шести труб, возвестивших о начале погребения доблестного Раймонда
Беренжера. Из шатра, который был спешно раскинут, чтобы временно укрыть
его останки, вышли попарно во главе со своим аббатом двенадцать монахов
соседнего монастыря, несших большой крест и громко певших торжественную
католическую молитву Miserere me, Domine*6. Вслед за ними, опустив копья
остриями вниз, шло несколько вооруженных воинов, а затем вынесли тело
доблестного Беренжера, обернутое в его собственное рыцарское знамя; отбитое у
валлийцев, оно служило теперь саваном своему благородному владельцу. Тело
несли на скрещенных копьях7 самые достойные рыцари из свиты коннетабля
(как и у других знатных особ того времени, она была лишь немногим меньше
королевской). Далее шел, отдельно от других, сам коннетабль, в воинских
доспехах, но с непокрытой головой. Шествие замыкали оруженосцы, вооруженные
воины и пажи из знатных семейств. Их барабаны и трубы своими печальными
звуками вторили время от времени столь же печальному пению монахов.
Увеселения были прерваны; а те, кто оплакивал собственную утрату, на
мгновение отвлеклись, чтобы воздать последние почести тому, кто при жизни был
их отцом и защитником.
Печальная процессия медленно пересекла равнину, где за несколько часов
сменилось столько разных событий; остановившись перед наружными
воротами замка, она дала знать торжественными звуками труб, что крепость должна
принять останки ее доблестного защитника. На этот печальный зов страж замка
откликнулся звуками своего рога; — подъемный мост был опущен, решетка
ворот поднята — и в воротах показался отец Альдрованд в церковном
облачении, а немного позади него — осиротевшая Эвелина в траурных одеждах, какие
сумели ей достать; ее сопровождали Роза и другие служанки.
Коннетабль Честерский, остановясь на пороге наружных врат, указал на
белый крест, нашитый на его левом плече, отвесил низкий поклон и передал
своему племяннику Дамиану обязанность сопровождать останки Раймонда
Беренжера в часовню, находившуюся внутри замка. Воины Хьюго де Лэси, в
большинстве своем связавшие себя тем же обетом, что и он, также остались за
воротами замка, в полном вооружении; а навстречу процессии из часовни раздался
погребальный звон колокола.
Процессия прошла по всем узким ходам, которыми крепость затрудняла
доступ врагу, даже если бы он пробился в наружные ворота, и достигла главного
двора, где обитатели крепости и те из окрестных жителей, кто укрывался там
* Помилуй мя, Господи [лат.).
62
Обрученная
в тревожные дни недавних битв, собрались, чтобы в последний раз взглянуть на
своего господина. К ним примешались и несколько человек из пестрой толпы,
собравшейся перед замком; из любопытства или в надежде на подачку они
сумели тем или иным путем склонить сторожей впустить их внутрь замка.
Тело покойного опустили у входа в часовню, которая своим готическим
фасадом8 составляла одну из сторон двора; священники начали читать
молитвы; к ним с благоговением присоединились и окружающие.
В это время некий человек — своей остроконечной бородкой, расшитым
поясом и высокой серой войлочной шляпой похожий на купца из Ломбардии —
шепотом и с заметным чужестранным выговором обратился к кормилице
Эвелины Марджери:
— Сестрица, я странствующий купец и пришел сюда в надежде на прибыль.
Как полагаешь, найду я здесь покупателей?
— Не вовремя ты явился, чужеземец. Разве ты не видишь, что здесь сейчас
хоронят, а не покупают?
— Для траура ведь тоже кое-что нужно купить, — сказал чужестранец,
подходя еще ближе к Марджери и говоря доверительным шепотом. — А у меня есть
черные шарфы из персидского шелка; есть черный стеклярус, каким не
побрезгует и принцесса, чтобы носить траур по королю; есть редкой красоты черный
златотканый атлас с Востока; есть и черная ткань для траурных покрывал;
словом, есть все, чем можно с помощью одежд и тканей выразить благоговейную
скорбь; и я сумею отблагодарить тех, кто поможет мне расторговаться.
Подумайте, почтенная матушка, ведь все это вещи нужные, и они у меня не дороже
и не хуже, чем у любого другого. А вам за услугу будет платье или, если
угодно, кошелек, а в нем пять флоринов.
— Довольно, приятель, — ответила Марджери. — Нашел время расхваливать
свой товар! Не место здесь и не время; и если не отстанешь, я кликну тех, кто
тебя мигом выпроводит за ворота. Дивлюсь, почему стража в такой день, как
нынче, пускает разносчиков? Эти люди готовы торговать у смертного одра своей
матери. — И она с презрением отвернулась.
Получив столь гневный отпор с одной стороны, купец тут же почувствовал, что
с другой кто-то заговорщицки дергает его за плащ; а когда оглянулся, увидел
особу, искусно повязавшую черный платок, чтобы придать траурный вид очень
веселому лицу, которое в юности было, наверное, неотразимым, если сохранило
привлекательность, простившись уже и с сороковой своей весной. Подмигнув
купцу, она приложила палец к губам, указывая на необходимость соблюдать
тишину и тайну; затем, выскользнув из толпы, она отошла в углубление,
образованное одним из контрфорсов9 часовни, как бы затем, чтобы избежать давки,
которая могла случиться, когда стануть выносить тело. Купец последовал ее
примеру и встал там рядом с нею. Не дожидаясь, когда он заговорит, она начала первая:
— Слышала я, что ты говорил нашей жеманнице Марджери. А чего
недослышала, о том догадалась. У меня на это есть глаз!
— И даже целых два, красавица моя, и сверкают они точно роса майским утром.
— Ах, это, должно быть, оттого, что я плакала, — сказала Джиллиан, ибо то
была она. — Да и как же не плакать! Добрый был господин, а уж ко мне особен-
Глава X
63
но. Он меня называл толстушка Джиллиан. Потреплет, бывало, по щечке и
никогда при этом не обидит, тут же сунет в руку серебряную монетку. Вот
какого друга я потеряла! Немало пришлось за него и вытерпеть. Мой старый
Рауль по целым дням ворчал и такой бывал злой, что ему только на псарне
быть, а не в доме. А я ему говорила: кто я такая, чтобы противиться знатному
барону, нашему господину, если он поцелует или там по щечке потреплет?
— Еще бы не горевать о таком добром господине! — сказал купец.
— И верно: еще бы не горевать, — повторила со вздохом кумушка
Джиллиан. — Что-то теперь будет с нами? Молодая госпожа уедет к своей тетке или
выйдет замуж за кого-нибудь из Лэси, уж разговор об этом идет. Так или
иначе, в замке она не останется. А старого Рауля и меня вместе с ним выпустят на
подножный корм, как старых коней нашего господина. Господи! Уж повесили
бы старика, что ли, вместе со старыми, непригодными псами! У него ведь тоже
ни зубов, ни чего другого пригодного не осталось...
— А вон та, в трауре, это, значит, молодая госпожа? — спросил купец. — Вон
та девица, что почти лишилась чувств?
— Она самая. Еще бы ей не убиваться! Где она найдет другого такого отца?
— Ты, как я вижу, во всем разбираешься, кумушка Джиллиан, — сказал
купец. — А юноша, который ее поддерживает, уж не жених ли?
— Поддержка ей ох как нужна! — вздохнула Джиллиан. — Да и мне тоже.
От старого Рауля много ли толку?
— А насчет свадьбы вашей госпожи что слышно? — спросил купец.
— Слышно только, что был такой разговор между покойным нашим
господином и коннетаблем Честерским. Он нынче как раз вовремя подоспел, не то
валлийцы всех нас перерезали бы и бог знает, что еще натворили. Да, речь о
свадьбе шла, женихом, скорее всего, будет молодой Дамиан, хоть у него еще и
борода не выросла. У коннетабля она, правда, есть, только для жениха она
седовата. К тому же он ведь отправляется в Святую Землю, как и подобает
воинам постарше. Хоть бы он и Рауля прихватил с собой! Но ты сейчас говорил
о всяких тканях для траура. Горе у нас большое, хороним нашего господина.
Но недаром ведь есть присказка: «Нам жить и гулять, а мертвым в могиле
лежать». А что до твоей торговли, так я не хуже жеманницы Марджери могу
замолвить за тебя словечко, если, конечно, кое-что за это пообещаешь. Госпожа
меня не очень жалует, зато с управляющим я что хочу, то и делаю.
— Вот тебе задаток, пригожая Джиллиан, — сказал купец. — А когда
прибудут мои повозки с товарами, я уж не поскуплюсь, лишь бы ты помогла мне
хорошо их продать. Но как мне еще раз попасть в замок? Ты такая разумница,
посоветуй, как пробраться сюда с товарами.
— А ты вот как сделай, — посоветовала услужливая кумушка. — Если
окажется на часах наш, англичанин, спросишь Джиллиан, и он любому откроет, если,
конечно, идешь один. Мы, англичане, стоим друг за друга, хотя бы назло
норманнам. Если это окажется норманн, скажешь, что идешь к старому Раулю и
продаешь гончих псов и соколов, а попадешь опять-таки ко мне. Ну, а если на
посту будет фламандец, просто скажешь, что ты купец. Они купцов очень
жалуют.
64
Обрученная
Купец повторил слова благодарности, отошел и смешался со зрителями.
А Джиллиан осталась очень довольна, что заработала пару флоринов и всего
лишь тем, что поболтала; в других случаях ей за болтовню самой приходилось
расплачиваться.
Колокол смолк, и это означало, что благородный Раймонд Беренжер
упокоился в склепе своих предков. Те из провожавших его воинов, кто принадлежал к
войску де Лэси, направились в большой зал замка, где с должной умеренностью
принялись за поминальную трапезу, после чего, во главе с Дамианом, удалились
тем же медленным шагом, каким шли в похоронной процессии. Монахи остались
в замке, чтобы служить мессы за душу усопшего и его верных воинов, павших
вместе с ним; тела их были настолько изуродованы в битве с валлийцами и
после нее, что опознать их было почти невозможно; иначе тело Денниса Морольта,
за его верную службу, удостоилось бы отдельного погребения*.
Глава XI
От поминок
Холодное пошло на брачный стол**.
Гамлет}
Религиозные обряды, сопровождавшие погребение Раймонда Беренжера,
длились шесть дней подряд; беднякам раздали милостыню; оказана была
помощь и всем тем, кто пострадал от набега валлийцев. Устраивались и
поминальные трапезы. Однако сама леди Эвелина и большая часть ее служанок
провели эти дни в посте и молитвах, что считалось у норманнов более пристойным
способом поминать умерших, нежели принятые в таких случаях у саксов и
фламандцев пиры с обильными возлияниями.
Коннетабль де Лэси оставил под стенами замка Печальный Дозор большой
отряд на случай нового нападения валлийцев; сам же, с остальным войском,
закрепляя одержанную им победу, вселил в бриттов ужас многими удачными
набегами, едва ли менее жестокими, чем бывали их собственные. В стане его
врагов к горечи поражения добавились раздоры. Двое дальних родственников
Гуенуина начали борьбу за его престол; как уже часто бывало, бритты страда-
* Валлийцев, народ дикий и свирепый, часто обвиняли в том, что они уродуют тела убитых
врагов. Каждый, наверное, помнит, что говорит об этом Шекспир10:
<...> славный Мортимер,
Поведший херфордширцев в битву с диким
Неистовым Глендауром, сам попал
Валлийцу в руки грубые, и было
Убито с тысячу его людей;
Валлийки же подвергли их тела
Такому надругательству, так скотски
И так бесстыдно их обезобразив,
Что совестно об этом рассказать.
(Пер. Вл. Морща и М. Кузмина)
** Пер. М. Лозинского.
Глава XI
65
ли от этих распрей не меньше, чем от норманнских мечей. Даже не столь
опытный политик и прославленный военачальник, как мудрый и удачливый де Лэси,
сумел бы при таких обстоятельствах заключить выгодный мир, который не
только лишал валлийцев части земель и господства над важными перевалами,
где коннетабль намеревался построить укрепленные замки, но и обеспечивал
лучше прежнего безопасность замка Печальный Дозор от внезапного
нападения беспокойных и воинственных соседей. Де Лэси позаботился также и о
возвращении на их землю окрестных жителей, бежавших от врага; словом,
постарался, чтобы владения, оказавшиеся отныне в слабых женских руках2, были
защищены всеми способами, возможными в крае, который граничил с
враждебной страной.
Тщательно заботясь об интересах осиротевшей владелицы замка Печальный
Дозор, де Лэси за все упомянутые нами дни не потревожил ее дочерней скорби
личными обращениями. Зато каждое утро посылал к ней племянника, чтобы
засвидетельствовать свое почтение, как это называлось на высокопарном
языке того времени, и уведомить о мерах, принятых в ее владениях. Из
благодарности за все сделанное его дядей Эвелина всякий раз принимала Дамиана и
выражала полное согласие со всем, что коннетабль считал нужным сделать.
Но когда миновали первые дни глубокого траура, младший де Лэси от лица
дяди сообщил Эвелине, что, уладив, насколько позволяли обстоятельства, жизнь
в округе, коннетабль Честерский намерен вернуться в собственные владения и
возобновить приготовления к походу в Святую Землю, прерванны^необходимо-
стью покарать врагов Эвелины.
— Но, быть может, благородный коннетабль, — спросила Эвелина, —
прежде чем покинуть здешние места, не откажется лично выслушать
признательность той, кого столь доблестно защитил и спас от гибели?
— Об этом мне и поручено говорить, — ответил Дамиан. — Однако мой
благородный дядюшка не решается предложить то, чего сам всей душою желает,
а именно, говорить с вами, не считая возможным передоверить это третьему
лицу, о некоторых важных предметах.
— Но отчего же я не могу, — сказала, покраснев, Эвелина, — ничем не
нарушая девичьей скромности, увидеться с коннетаблем, когда ему будет угодно?
— Мой дядя, — пояснил Дамиан, — связал себя обетом не вступать под чью-
либо кровлю, прежде чем отправится в Палестину. Чтобы он мог с вами
увидеться, надо оказать ему особое снисхождение: согласиться встретиться с ним в его
шатре3. А это — милость, о которой он как норманнский знатный рыцарь едва
ли осмелится просить у высокородной девицы.
— Только и всего? — удивилась Эвелина. Выросшая в уединении, она была
незнакома с некоторыми тонкостями этикета, соблюдавшимися девицами тех
времен по отношению к лицам противоположного пола. — Неужели, —
продолжала она, — я не приду почтить моего спасителя, если ему нельзя прийти сюда?
Передайте же Хьюго де Лэси, что, после благодарности Богу, я более всего
питаю ее к нему и его отважным соратникам. Я приду в его шатер, как пришла
бы в храм; и если б благородному рыцарю это было угодно, пришла бы босая,
по дороге, усеянной терниями и острыми камнями.
3 В. Скотт
66
Обрученная
— Мой дядюшка будет восхищен вашим решением, — произнес Дамиан, —
и особенно постарается избавить вас от всякого лишнего труда. Шатер будет
раскинут у ворот вашего замка, где и может, если вам угодно, состояться ваша с
ним встреча.
Эвелина охотно согласилась на это предложение, раз таково было желание
коннетабля и таков же совет Дамиана. В простоте душевной она не видела
причины, почему бы ей, под охраной последнего и без дальнейших церемоний,
немедленно не выйти на знакомую равнину, где она ребенком гонялась за
бабочками и собирала лютики, а позже выезжала своего коня; на знакомую равнину,
которая одна только и отделяла ее от лагеря коннетабля.
Юный посланец, чьи посещения уже сделались ей привычны, удалился,
чтобы известить своего родственника и господина об успехе его поручения; а
Эвелина, впервые с тех пор, как поражение и гибель Гуенуина позволили ей всецело
погрузиться в скорбь об утрате отца, задумалась над чем-то иным и только ее
касавшемся. Теперь, когда печаль, еще не утоленная, притупилась именно
потому, что она всецело ей предавалась; теперь, когда ей предстояло встретиться
с тем, чья слава была известна, чью мощную поддержку она только что
получила, она задумалась над сущностью и последствиями этой встречи. Хьюго де
Лэси она увидела на турнире в Честере, где только и говорили о его отваге и
искусности, где он воздал дань ее красоте, преподнеся ей полученный приз,
польстивший ее юному тщеславию. Но она лишь смутно помнила, что это был
человек среднего роста, в необычайно богатых доспехах и что лицо его, когда
он приподнял забрало, показалось ее юному взору едва ли моложе, чем лицо ее
отца. А ныне этот человек, которого она почти не помнила, оказался тем
орудием, которое ее небесная покровительница избрала для спасения ее от плена
и для отмщения за гибель ее отца; ему, по обету, должна она вручить свою
судьбу, если он того пожелает. Напрасно напрягала она память, силясь вспомнить
черты его лица и по ним заключить, что он за человек; и напрасно старалась
угадать, как поведет он себя по отношению к ней.
Судя по торжественным приготовлениям, барон и сам придавал встрече
немалое значение. Эвелине казалось, что он мог бы подъехать к воротам
замка за пять минут, а уж если для их встречи необходим был шатер, то еще за
десять минут какая-нибудь палатка могла быть доставлена из его лагеря и тут
же установлена. Но коннетабль, очевидно, полагал, что встречу следовало
обставить гораздо торжественнее; ибо спустя полчаса, после того как Дамиан
покинул замок, не менее двадцати воинов и мастеров во главе с герольдом, чья
одежда была украшена гербом рода Лэси, начали возводить у ворот замка одно
из тех великолепных сооружений, какие можно видеть на турнирах и в других
особо торжественных случаях. Шатер этот был из пурпурного шелка и украшен
золотым шитьем и золотыми же шнурами. Вход в шатер обрамлен был шестью
копьями, оправленными в серебро; воткнутые в землю попарно, они
скрещивались вверху, образуя как бы три арки; наброшенная на них шелковая
драпировка цвета морских волн красиво выделялась на фоне пурпура и золота.
Внутреннее убранство шатра, по свидетельству Джиллиан и других
заглянувших туда любопытных, отличалось такой же пышностью. В роскошном изоби-
Глава XI
67
лии были разбросаны восточные ковры и гобелены4 из Гента и Брюгге5, а верх
шатра, затянутый голубым шелком, изображал небесный свод и украшался
солнцем, луною и звездами из литого серебра. Этот великолепный шатер был
сделан для Уильяма из Ипра, который сказочно разбогател, командуя наемниками
короля Стефана6, и получил от него титул графа Албемарля; но потом, из-за
превратностей войны, после одного из жестоких сражений, которых было так
много во время междоусобной войны Стефана с императрицей Мод, или
Матильдой7, шатер достался де Лэси. Коннетабль еще ни разу им не пользовался, ибо
богатый и могущественный Хьюго де Лэси в своих привычках был неприхотлив
и скромен; тем больше удивил он на сей раз всех знавших его. С наступлением
полудня он прибыл к воротам замка на великолепном коне; выстроив небольшой
отряд слуг, пажей и конюших, облаченных в роскошные одежды, и став во
главе их, он послал племянника известить владелицу замка Печальный Дозор, что
покорнейший из ее слуг ожидает, чтобы та почтила его своим появлением у
крепостных ворот.
Многим из бывших при этом зрителей подумалось, что хотя бы часть
великолепия, отличавшего его шатер и свиту, коннетаблю следовало употребить на
себя самого; ибо собственная его одежда была до крайности проста, а внешность
не настолько привлекательна, чтобы не нуждаться в преимуществах, какие дает
богатая одежда и украшения. Это стало еще более очевидным, когда он сошел
с коня, ибо мастерское управление благородным животным придавало облику
коннетабля достоинство, которого он лишался, покидая седло. Рост
прославленного коннетабля едва достигал среднего, а телу его, хотя и крепкому,
недоставало легкости и грации. Ноги рыцаря были кривоваты, что для седока являлось
даже преимуществом, но не украшало его, когда он спешивался. Был у Хьюго
де Лэси и еще один недостаток: нога, сломанная под упавшим конем,
неудачно срослась из-за неопытности лекаря, и он прихрамывал. И хотя широкие
плечи, мускулистые руки и могучая грудь указывали на силу, которую он часто
проявлял, это была неуклюжая сила. Его речь и жесты обнаруживали
человека, который редко говорил с равными себе и еще реже с лицами
вышестоящими; они были отрывисты, решительны и даже суровы. По мнению тех, кто
часто с ним общался, его проницательный взгляд и высокий лоб выражали
достоинство и вместе с тем доброту; видевшие его впервые судили о нем менее
благоприятно и усматривали в его чертах жесткость и вспыльчивость, хотя
признавали, что все в нем говорит об отваге и воинской доблести. Ему было всего
сорок пять лет; но тяготы войны и суровый климат добавляли к этому
возрасту лет десять. Выделяясь среди своей свиты скромной одеждой, он лишь
накинул короткий норманнский плащ на узкий замшевый камзол, надевавшийся
обычно под доспехи, и поэтому кое-где потертый. Голову его прикрывала
коричневая шляпа, в знак данного им обета украшенная веточкой розмарина8; у
кожаного пояса висел добрый меч, а также кинжал.
В такой одежде, но стоя во главе раззолоченной свиты, где каждый ловил его
малейший взгляд, коннетабль Честерский ожидал появления леди Эвелины
Беренжер из ворот ее замка Печальный Дозор.
з*
68
Обрученная
О ее приближении возвестили звуки труб во дворе замка — подъемный мост
был опущен, — и сопровождаемая празднично одетым Дамианом де Лэси,
своими вассалами и слугами Эвелина во всей красоте своей появилась из древнего
портала отцовского замка. Как подобало при ее недавней потере, она была в
глубоком трауре и не надела никаких украшений, составляя этим разительный
контраст с богатой одеждой своего спутника, сверкавшей драгоценностями и
золотым шитьем; зато возрастом и красотою они подходили друг другу как
нельзя более. Вероятно, последнее и вызвало восхищенный шепот среди
зрителей; и только уважение к трауру Эвелины помешало ему перейти в громкие
приветственные возгласы.
Едва прелестная ножка Эвелины ступила за частокол, служивший наружным
ограждением замка, как коннетабль де Лэси шагнул ей навстречу; преклонив
правое колено, он просил простить ему неучтивость, к которой вынуждает его
данный им обет, и благодарил за оказываемую ему честь, которую он едва ли
сумеет заслужить всей жизнью.
Этот поступок и эта речь, хотя и вполне согласные с духом романтической
галантности того времени9, смутили Эвелину, особенно потому, что почести
воздавались ей при столь многочисленных зрителях. Она попросила коннетабля
встать и не увеличивать замешательство той, кто и без того не знает, как
уплатить ему безмерный долг своей благодарности. Поцеловав протянутую ему руку,
коннетабль встал и попросил ее, раз уж она оказала ему такое снисхождение,
войти в скромный шатер, приготовленный для встречи, о которой он просил.
Эвелина ограничила свой ответ поклоном, оперлась на его руку и, оставив
позади свою свиту, попросила сделать исключение для Розы Флэммок.
— Леди, — сказал коннетабль, — дело, о котором я вынужден столь поспешно
говорить с вами, имеет весьма личный характер.
— Эта девушка, — ответила Эвелина, — самый приближенный ко мне
человек. Ей известны все мои сокровенные мысли, и я прошу разрешить ей
присутствовать при нашей беседе.
— Лучше было бы вести ее наедине, — сказал коннетабль, несколько
смешавшись. — Однако ваша воля будет выполнена.
Он ввел леди Эвелину в шатер и попросил присесть на груду подушек,
прикрытую роскошной венецианской шелковой тканью10. Роза поместилась позади
своей госпожи, опустившись на колени на тех же подушках, и приготовилась
наблюдать прославленного военачальника и государственного мужа, радуясь его
смущению, означавшему торжество ее пола. Она нашла, что его замшевый
камзол и приземистая фигура мало соответствовали роскошной обстановке и еще
менее — ангельской красоте Эвелины, второго действующего лица на этой сцене.
— Леди, — начал коннетабль после некоторого колебания, — я был бы рад
облечь то, что имею вам сказать, в слова, какие всего приятнее дамам и каких
в особенности заслуживает ваша несравненная красота. Но я слишком привык
говорить в совете и в военном лагере, поэтому говорить умею только просто и
прямо.
— Тем лучше я пойму вас, милорд, — сказала Эвелина и задрожала сама не
зная почему.
Глава XI
69
— Итак, буду говорить прямо. Между вашим благородным отцом и мною
шла речь о союзе наших двух домов. — Он остановился, желая или ожидая, что
Эвелина что-нибудь скажет. Но она молчала, и он продолжал: — Если бы Богу
угодно было, чтобы ваш отец, начавший этот разговор, сам и закончил его с
обычной своей мудростью... Но что делать! Он ушел туда, куда суждено уйти
всем нам.
— Ваша светлость, — сказала Эвелина, — должным образом отомстили за
смерть своего друга.
— Леди, я всего лишь исполнил долг рыцаря, защитив девицу от опасности,
долг одного из Лордов Хранителей Марки, защитив границу, и долг друга,
отомстив за погибшего друга. Но вернемся к нашему делу. Мой древний и знатный
род готов угаснуть. О дальнем моем родственнике Рэндале Лэси я говорить не
стану; я не жду от него ничего хорошего, и мы с ним уже много лет в разладе. Мой
племянник Дамиан подает надежды сделаться достойной ветвью нашего древа,
но ему едва исполнилось двадцать лет и еще предстоит долгий и опасный путь
рыцарского служения, прежде чем он сможет с честью выполнять семейные и
супружеские обязанности. Мать его была англичанкой, и это, быть может,
несколько затмевает блеск его герба; однако, будь он на десять лет старше, я именно
для него просил бы о том счастии, о каком сейчас осмеливаюсь просить сам.
— Вы? Вы, милорд? Не может быть! — сказала Эвелина, стараясь, однако,
чтобы ее невольное удивление не показалось обидным.
— Я не удивляюсь, — спокойно ответил коннетабль, который, разбив лед
первого смущения, снова обрел свойственную ему твердость, — что вы
изумлены этим смелым предложением. Моя внешность, быть может, не ласкает
дамский взор, и я позабыл, да едва ли и знал, слова и фразы, ласкающие дамский
слух. Но, благородная Эвелина, супруга Хьюго де Лэси станет одной из первых
дам Англии.
— Особа, которой предложено столь высокое положение, — сказала
Эвелина, — должна тем более строго спросить себя, справится ли она со всеми его
обязанностями.
— Тут у меня опасений нет, — сказал де Лэси. — Та, которая была отличной
дочерью, непременно с честью выполнит и другие обязанности.
— Я отнюдь не уверена, милорд, — ответила смущенная девушка, — что
обладаю всеми достоинствами, которые вы столь охотно мне приписываете.
И... прошу простить меня... мне нужно время и для других вопросов,
касающихся не одной меня.
— Ваш отец, леди, всем сердцем желал этого союза. Вот что он подписал
собственной рукой. — Подавая ей свиток, он преклонил колено. — Супруга
де Лэси, как и подобает дочери Раймонда Беренжера, получит ранг принцессы,
а его вдова — наследство, достойное королевы.
— Надо ли становиться на колени, милорд, чтобы сообщить мне отцовскую
волю? К тому же и другие обстоятельства, — вздохнула она, — кажется, не
оставляют места для свободного выбора.
Ободренный этим ответом, де Лэси поднялся с колен, сел рядом с Эвелиной
и продолжал говорить с ней — конечно, не на языке страсти, а как прямодуш-
70
Обрученная
ный человек, настаивающий на том, от чего зависит его счастье. Эвелина
помнила прежде всего о чудотворном образе; торжественный обет, который она тогда
дала, вынуждал ее отвечать ему уклончиво; если бы она следовала лишь
собственному желанию, ответ был бы, вероятно, отрицательным.
— Вы не можете ожидать, милорд, — сказала она, — чтобы я, столь
недавно осиротев, была готова быстро принять это важное решение. Будьте
великодушны: дайте мне время подумать самой и посоветоваться с друзьями.
— Увы, прекрасная Эвелина! — сказал барон. — Пусть не оскорбляет вас моя
поспешность. Я не могу надолго откладывать дальний и опасный поход; у меня
так мало времени, чтобы просить вашей руки, что вы простите мою настойчивость.
— И в такое время, милорд, вы желаете обременить себя семейными узами? —
робко спросила девушка.
— Я воин Господа Бога, — ответил коннетабль. — Тот, за Кого я буду
сражаться в Палестине, защитит мою жену в Англии.
— Вот что я отвечу вам, милорд, — сказала Эвелина Беренжер, вставая. —
Завтра я отправлюсь в Глостер, в монастырь бенедиктинок, к сестре моего отца,
тамошней аббатисе. Ее совета и наставлений я и послушаюсь.
— Правильное и весьма подобающее для девицы решение, — одобрил де
Лэси, со своей стороны, пожалуй, даже обрадованный быстрым завершением
переговоров. — И к тому же, я надеюсь, благоприятное для меня, ибо добрая
аббатиса — мой давний уважаемый друг. — Тут он обернулся к Розе, которая
приготовилась следовать за своей госпожой. — Пригожая девица, — сказал он,
протягивая ей золотую цепочку, — пусть она украсит твою шейку и купит для
меня твое расположение.
— Расположение мое не покупается, милорд, — твердо сказала Роза,
отстраняя предлагаемый подарок.
— Ну тогда хоть твое доброе словечко в мою пользу, — сказал коннетабль,
снова протягивая свой дар.
— Добрые слова купить легко, — ответила Роза, по-прежнему отказываясь
принять этот дар, — только они редко того стоят.
— Итак, ты пренебрегаешь моим даром, девица? — сказал де Лэси. — А ведь
он некогда украшал шею норманнского графа.
— Вот и отдайте его норманнской графине, милорд, — сказала Роза. — А я
простая Роза Флэммок, дочь ткача. Добрые слова я говорю лишь по доброй
воле, и медная цепочка подойдет мне не хуже золотой.
— Уймись, Роза, — сказала ее госпожа. — Ты очень дерзко разговариваешь с
милордом коннетаблем. А вас, милорд, — продолжала она, — я прошу позволить
мне удалиться; на вашу просьбу вы получили ответ. Жаль, что просьба эта не
касалась предметов менее щекотливых; тогда я могла бы удовлетворить ее
полностью и немедленно и тем доказать вам мою благодарность.
Коннетабль проводил Эвелину с той же торжественностью, с какой встречал
ее; и она возвратилась в свой замок опечаленная и встревоженная возможным
исходом состоявшегося разговора. Плотнее завернувшись в длинную траурную
вуаль, чтобы скрыть изменившееся лицо, и не остановившись даже побеседовать
с отцом Альдровандом, она сразу удалилась в свои покои.
Глава XII
71
Глава ХП
Шотландские девы, английские девы,
Когда вы хотите счастливыми быть,
Не надо идти за дома и наделы,
А надо всегда за любовь выходить.
Семейные раздоры1
Когда леди Эвелина вернулась в свои покои, Роза Флэммок последовала за
нею, не спрашивая позволения, и предложила помочь ей снять длинную и
широкую вуаль, но госпожа отклонила ее помощь.
— Ты слишком готова услужить, когда об этом не просят.
— Вы мною недовольны, госпожа? — спросила Роза.
— И имею на то причину, — ответила Эвелина. — Ведь тебе известно, в каком
я затруднении, ты знаешь, чего требует от меня долг... И вместо того, чтобы
помочь мне принести эту жертву, ты делаешь мой путь еще тяжелее.
— Если бы я смела наставлять вас, — сказала Роза, — он был бы легким,
а вместе с тем прямым и честным.
— Что хочешь ты сказать? — спросила Эвелина.
— На вашем месте, — ответила Роза, — я взяла бы назад слова ободрения и
даже почти согласия, которые услышал от вас барон. Слишком уж он важен,
чтобы его любить; и слишком надменен, чтобы любить вас, как вы того
заслуживаете. Обвенчавшись с ним, вы обвенчаетесь с раззолоченным горем, а быть
может, узнаете не только печаль, но и позор.
— Вспомни, чем мы ему обязаны, — сказала Эвелина Беренжер.
— Чем обязаны? — сказала Роза. — Да, он рисковал ради нас жизнью, но ведь
это делал также каждый из его воинов. Неужели я обязана выходить за каждого
хвастливого петушка, потому только, что он вышел на зов боевой трубы?
Не знаю, как понимают они свою честь, если не стыдятся требовать высшую
награду, какую может дать женщина, только за то, что ее защитили в беде, а ведь
это долг каждого рыцаря. Да что там рыцаря! Самый неотесанный мужик во
Фландрии едва ли ожидал бы подобной благодарности за то, что защитил
женщину, как и обязан всякий мужчина.
— А воля отца моего? — сказала Эвелина.
— Он наверняка справился бы о сердечной склонности своей дочери. Ни за
что не поверю, — сказала Роза, — что покойный господин мой (да помилует
Господь его душу!) стал бы в таком деле настаивать на своем наперекор вашему
желанию.
— А мой обет? Роковой обет, так готова я назвать его... — вопрошала
Эвелина. — Да простит мне Небо неблагодарность к моей заступнице!
— Даже это не убеждает меня, — сказала Роза. — Не может быть, чтобы
Богоматерь Милосердия за свое заступничество требовала от меня выйти за
человека, которого я не могу полюбить. Вы говорите, что на вашу молитву она
ответила улыбкой. Идите, принесите к ее стопам ваши сомнения, и, быть может,
она снова улыбнется вам. Или добивайтесь освобождения от обета. Ценой
половины вашего состояния или даже ценой всего. Совершите паломничество в
72
Обрученная
Рим, идите туда босая. Сделайте все, лишь бы не отдавать свою руку тому, кому
не можете отдать также и сердце.
— Ты горячо убеждаешь меня, Роза, — сказала Эвелина со вздохом.
— Увы, милая госпожа, у меня есть на то причина. Я видела семью, где не
было любви, хотя была там и добрая воля, и достаток. Все было там
отравлено сожалениями, не только напрасными, но и преступными.
— Мне думается, Роза, что сознание долга перед собою и перед другими
может быть для нас утешением и опорой даже в тех случаях, о которых ты
говоришь.
— Сознание долга может спасти нас от греха, но не от тоски, — сказала Роза. —
И зачем с открытыми глазами идти туда, где долг вынужден будет бороться с
чувствами? Зачем грести против ветра и течения, если можно идти с попутным
ветром?
— Затем, что весь мой жизненный путь, — ответила Эвелина, — ведет туда,
где встречные течения и противные ветры. Такова уж моя судьба, Роза!
— Не надо выбирать себе такую, — сказала Роза. — Ах, если б вы могли
видеть бледное лицо, впалые глаза и унылый облик моей бедной матери!.. Но я
сказала больше, чем следовало.
— Значит, говоря о несчастливом замужестве, — спросила ее молодая
госпожа, — ты говорила мне о собственной матери?
— Да, — ответила Роза, залившись слезами. — Чтобы предостеречь вас от
беды, я рассказала о том, чего стыжусь. Да, она была несчастлива, хотя ни в чем
не повинна. Столь несчастлива, что наводнение, которое унесло ее жизнь, было
для нее желаннее, чем для усталого труженика бывает наступление ночи. Она
сожалела лишь о том, что оставляла меня. Ее сердце, подобно вашему, было
создано, чтобы любить и быть любимой; много будет чести вашему гордому
барону, если сравнить его с моим отцом; и все же она была очень несчастлива.
О милая госпожа, внемлите предостережению и откажитесь от этого брака!
Он не сулит ничего доброго.
Эвелина ответила на пожатие руки, которым Роза выражала свою
преданность и молила прислушаться к ее совету; глубоко вздохнув, она прошептала:
— Слишком поздно, Роза!
— Нет, не поздно, — сказала Роза и оглядела комнату. — Где у вас
принадлежности для письма? Позвольте, я приведу отца Альдрованда и скажу ему, что вам
угодно написать. Впрочем, нет! Слишком уж он привязан к земным благам, хотя
и полагает, что отрекся от них. Он не годится нам в писари. Лучше я сама пойду
к лорду коннетаблю. Меня не ослепит его высокое звание, не подкупит его
богатство и не устрашит его могущество. Я скажу ему, что рыцарю не пристало
настаивать на уговоре с вашим отцом теперь, когда вы его оплакиваете, что
христианин не должен откладывать исполнение своего обета ради свадьбы, что
честный человек не должен навязывать себя девушке, если сердце ее к нему не
склонно, а мудрому не следует жениться и тотчас же оставить жену либо в
одиночестве, либо среди опасных соблазнов развращенного двора.
— У тебя не хватит храбрости для такой миссии, Роза, — сказала ее госпожа,
улыбаясь сквозь слезы усердию своей юной наперсницы.
Глава XII
73
— Отчего же не хватит? Испытайте меня! — ответила фламандка. — Ведь я
не сарацин2 и не валлиец; его копье и меч мне не страшны. Я не служу под его
знаменем — его приказы меня не касаются. Если позволите, я так прямо и
скажу ему, что он себялюбец и скрывает под благовидными предлогами желание
потешить свою гордость, что он желает слишком высокой награды за услугу,
которую велит оказать простое человеколюбие. И все для чего? Для того,
чтобы продлить знатный род де Лэси! Племянник, видите ли, недостаточно для
этого годится, ибо мать у него была англосаксонских кровей. Нужен наследник
из чистых норманнов. Вот для чего леди Эвелина Беренжер, в расцвете
юности, должна обвенчаться с человеком, который годится ей в отцы, а когда
оставит ее на долгие годы одинокой и беззащитной и вернется, будет годиться в
деды.
— Если ему столь важна чистота крови, — проговорила Эвелина, — может
быть, он вспомнит, ведь он так силен в геральдике, что и я от своей бабушки со
стороны матери унаследовала саксонскую кровь.
— Ну, наследнице такого замка, как Печальный Дозор, он простит это
пятнышко на гербе, — сказала Роза.
— Стыдись, Роза! — заметила ее госпожа. — В алчности ты упрекаешь его
несправедливо.
— Может быть, — ответила Роза. — Зато честолюбие его несомненно. А я
слыхала, что Алчность доводится Честолюбию незаконнорожденной сестрой,
хоть оно и стыдится такого родства.
— Ты чересчур смело заговорила, девушка, — сказала Эвелина. — Я ценю
твою преданность, но ты выражаешь ее неподобающим образом.
— Слыша этот тон, я умолкаю, — сказала Роза. — С Эвелиной, которую я
люблю и которая любит меня, мне можно говорить свободно. А владелице
замка Печальный Дозор, гордой норманнской девице — вы бываете такой, когда
хотите, — я низко поклонюсь, как того требует мое положение, и выскажу не
больше правды, чем ей будет угодно выслушать.
— Ты взбалмошна, но сердце у тебя золотое, — примирительно сказала
Эвелина. — Кто не знает тебя, не поверит, что под внешностью милого ребенка
таится столько огня. Как видно, твоя мать была именно той страстной натурой,
какую ты мне описала. Ибо отец твой... нет, погоди защищать его, ведь я на него
не нападаю, а только говорю, что его главные черты, напротив, здравый смысл
и рассудительность.
— Хорошо бы и вам воспользоваться ими, госпожа, — посоветовала Роза.
— Там, где нужно, я это и буду делать, — сказала Эвелина, — но вряд ли он
годится в советчики по тому делу, о котором мы сейчас говорим.
— Вы ошибаетесь, — ответила Роза Флэммок, — и недооцениваете его.
Здравое суждение подобно деревянной линейке. Ею обычно меряют ткани грубые,
но она столь же точно отмерит и золототканую парчу, и индийский шелк.
— Впрочем, — сказала Эвелина, — дело это не такое уж спешное. Оставь меня
сейчас, Роза, и пришли ко мне Джиллиан, которая ведает моими уборами.
Я поручу ей уложить к отъезду мою одежду.
— Эта Джиллиан очень вошла сейчас в милость. Когда-то было иначе.
74
Обрученная
— Ее повадки мне так же неприятны, как и тебе, — сказала Эвелина, — но это
жена старого Рауля, и ее жаловал мой дорогой отец; как и всем мужчинам, ему
нравилась в ней развязность, которую мы осуждаем у особ нашего пола. Зато
ни одна женщина в замке не может сравниться с ней, если надо уложить в
дорогу уборы и ничего не помять.
— Одного этого довольно, — сказала, улыбаясь, Роза, — чтобы пользоваться
особой милостью. Кумушка Джиллиан будет здесь без промедления. Но
послушайте моего совета, госпожа. Пусть она занимается укладкой, и не давайте ей
болтать о том, что ее не касается.
С этими словами Роза вышла. Ее молодая госпожа молча посмотрела ей
вслед, потом сказала как бы про себя: «Роза любит меня искренне, но ей
больше хотелось бы быть госпожой, чем служанкой; еще она ревнует меня ко
всякому, кто ко мне приблизится... А странно, что после моей встречи с
коннетаблем я еще не видела Дамиана де Лэси. Уж не боится ли он заранее, что найдет
во мне строгую тетушку?»
Но тут в комнату толпясь вошли слуги, ожидавшие распоряжений насчет
отъезда, назначенного на следующее утро. Это отвлекло Эвелину от ее
положения; так как оно сулило ей мало приятного, она со свойственной молодости
беззаботностью охотно отложила эти мысли на будущее.
Глава ХШ
Немощен домосед —
Неутомим бродяга.
Времени медлить нет,
Встанем, прибавим шага!
Старая песня1
Ранним утром следующего дня из укрепленного замка Печальный Дозор,
недавнего свидетеля стольких примечательных событий, выехала нарядная
процессия, чей блеск был лишь несколько омрачен траурной одеждой главных
его участников.
Солнце начинало уже осушать обильную росу, выпавшую за ночь, и
развеивать легкий туман, клубившийся вокруг башен и зубчатых стен, когда Уилкин
Флэммок с шестью конными арбалетчиками и столькими же пешими воинами,
вооруженными копьями, появился из готических ворот и перешел подъемный
мост. За этим авангардом следовало четверо слуг на отличных конях, а за ними
четыре служанки. Все они были в трауре. В середине маленькой процессии
ехала сама юная леди Эвелина в траурных одеждах, выделявшихся на молочной
белизне ее коня. Рядом с нею, верхом на маленькой испанской лошадке,
подаренной любящим отцом, — который дорого заплатил за нее, но ради дочери
заплатил бы и половиной своего состояния, — виднелась фигурка Розы
Флэммок, с виду — застенчивой девочки, но с чувствами и разумом зрелой женщины.
За ними следовала Марджери, которая держалась, как обычно, возле отца
Альдрованда, ибо была крайне набожна; ее положение в доме, в качестве быв-
Глава XIII
75
шей кормилицы Эвелины, было столь высоко, что она могла, когда не
находилась при госпоже, составлять для капеллана вполне подобающее общество.
Далее следовал старый егерь Рауль, его жена и еще двое-трое слуг Раймонда
Беренжера; а за ними управляющий замком в бархатной одежде, с золотой
цепью на груди и белым жезлом в руке; процессию замыкало несколько
лучников и четверо тяжеловооруженных воинов. Эти воины, как и большая часть
слуг, участвовали в процессии ради придания отъезду леди Эвелины должной
торжественности и сопровождали ее лишь на короткое расстояние; дальше ее
встречал коннетабль Честерский с тридцатью воинами, вооруженными копьями,
который предложил сам сопровождать Эвелину до Глостера, цели ее поездки.
Под его защитой ей не грозила никакая опасность, даже если бы недавнее
тяжкое поражение, понесенное валлийцами, не отбило на время у этого
враждебного племени охоту нарушить спокойствие Валлийской Марки.
Выполняя это решение, позволявшее вооруженной части свиты Эвелины
вернуться в замок, чтобы охранять его и восстанавливать порядок в его
окрестностях, коннетабль, во главе отряда отборных конников, ожидал Эвелину
возле рокового моста. Обе процессии приготовились торжественно приветствовать
друг друга; но коннетабль, заметив, что Эвелина плотнее закуталась в свою
мантию, и вспомнив потерю, которую она столь недавно понесла на этом
злополучном месте, тактично ограничил свое приветствие молчаливым поклоном,
причем склонился так низко, что его белый султан (ибо он был в доспехах) лег
на пышную гриву его коня.
Уилкин Флэммок, остановясь, спросил Эвелину, каковы будут ее
дальнейшие распоряжения.
— Никаких не будет, мой добрый Уилкин, — ответила она. — Будь лишь, как
всегда, верен и бдителен.
— Таковы качества хорошего сторожевого пса, — сказал Флэммок. — Могу
добавить к ним сильную руку взамен острых зубов да еще кое-какую смекалку.
Буду стараться. Прощай, Розхен! Когда будешь среди чужих, сохраняй все
качества, за которые тебя любили дома. Прощай, да хранят тебя святые!
Следующим подошел проститься управитель, но тут с ним произошел
случай, едва не окончившийся печально. Дело в том, что Рауль, сварливый старик,
страдавший ревматизмом, выбрал себе на этот раз старую арабскую лошадь,
которую держали лишь ради ее породы; лошадь была костлява и хрома, под
стать ездоку, а нрав имела дьявольский. Между ездоком и лошадью постоянно
возникали недоразумения, со стороны Рауля выражавшиеся в проклятьях и
усиленной работе шпорами и поводьями, на что Махмуд (такое языческое имя
носил этот конь2) отвечал тем, что брыкался, пытаясь сбросить всадника, а
также яростно лягал всех, кто оказывался рядом. Многие из домашних
подозревали, что Рауль выбирал себе это злобное животное всякий раз, когда выезжал в
обществе своей жены в надежде, что курбеты, скачки и другие эксцентрические
выходки Махмуда приведут его копыта в соприкосновение с ребрами
Джиллиан. И теперь, когда управитель, полный сознания своей важности, понукал коня,
чтобы на прощание приложиться к ручке молодой госпожи, окружающим
показалось, будто Рауль так действовал поводьями и шпорами, что, окажись оба
76
Обрученная
всадника на пару дюймов ближе друг к другу, Махмуд раздробил бы копытом
бедро управителя так же легко, как сухую тростинку. Все же управителю
изрядно досталось; и те, кто заметил усмешку, озарившую кислую физиономию
Рауля, не усомнились, что с помощью Махмуда он отомстил за кивки,
подмигивания и улыбки, какими обменивались должностное лицо с золотой цепью и
кокетливая служанка.
Случай этот сократил тягостную и торжественную церемонию прощания
леди Эвелины с ее слугами и в то же время уменьшил торжественность ее
встречи с коннетаблем, когда она как бы поступала под его покровительство.
Хьюго де Лэси, выслав вперед в виде авангарда шестерых вооруженных
воинов, распорядился, чтобы управителя уложили на носилки, а сам с остальными
своими воинами поехал в сотне ярдов позади леди Эвелины и ее сопровождения;
разумно воздержавшись от общения с нею, пока она была погружена в молитвы,
подсказанные печальным местом, где состоялась их встреча, и ожидая, пока
живость, свойственная юности, не даст ее мыслям иное направление.
Верный такому решению, коннетабль приблизился к Эвелине и ее свите,
лишь когда вежливость требовала напомнить ей, что пора подкрепиться и что
они как раз подъезжают к приятному и подходящему для этого месту, где он
позволил себе приготовить все необходимое для трапезы и отдыха. Едва леди
Эвелина выразила свое согласие, как они подъехали к такому именно месту, в
тени старого раскидистого дуба, напомнившего путникам о мамврийском дубе3,
под сенью которого патриарх оказал гостеприимство небожителям. На две
могучие ветви этого дерева была накинута розовая восточная ткань, призванная
защитить путников от лучей солнца, которое поднялось уже высоко. Под
деревом разложены были шелковые подушки, вперемежку с подушками,
обтянутыми мехом добытых на охоте зверей. Стараниями повара-норманна изготовлены
были изысканные блюда, отличавшиеся как от обильной и грубой пищи саксов,
так и от скудных трапез валлийцев. Поблизости, выбиваясь из-под большого
замшелого камня, журчал источник. Освежая воздух своим журчаньем, а уста —
своей кристально чистой струей, он мог служить также для охлаждения двух-
трех бутылок гасконского вина и вина с пряностями, которые в те времена были
непременной принадлежностью утренней трапезы.
Когда Эвелина вместе с Розой и священником, а также верной кормилицей,
устроившейся чуть поодаль, приступили к легкому, изысканному пиршеству в
тени листвы, шелестевшей от ласкового ветерка, под журчанье ручья, щебет
птиц и чуть доносившийся веселый смех и шум, говоривший о том, что
невдалеке расположились и охранявшие их воины, она не могла не сделать
коннетаблю комплимента за столь счастливый выбор места отдыха.
— Я едва ли заслужил вашу похвалу, — ответил барон, — место было выбрано
моим племянником, который смыслит в подобных вещах не хуже менестреля.
Сам же я выбирать их не мастер.
Роза взглянула на свою госпожу так, словно желала проникнуть в
сокровенную глубину ее сердца, но Эвелина спросила простодушно:
— Отчего же сам благородный Дамиан не участвует в том, что так отлично
устроил?
Глава XIII
11
— Он предпочел ехать впереди нас, — ответил барон, — с несколькими
конными воинами. Валлийские негодяи сейчас притихли, но в Марке всегда
найдутся бродяги и разбойники. И хотя такому отряду, как наш, нечего опасаться, мы
не хотим, чтобы вас встревожил даже отдаленный призрак опасности.
— Я действительно слишком близко видела ее в последние дни, — сказала
Эвелина, снова погружаясь в печальную задумчивость, из которой ее на
краткое время вывела новизна и необычность обстановки.
Тем временем коннетабль, сняв с помощью своего оруженосца стальной
шлем и рукавицы, остался в тонкой кольчуге из искусно переплетенных
стальных колец, а на голову надел особого покроя бархатную шапочку, принятую у
рыцарей и называвшуюся «мортье»4; это позволяло ему с большим удобством
беседовать и вкушать пищу, чем в полных боевых доспехах. Беседа его
отличалась разумностью и мужественной простотой; заговорив о положении в крае и
мерах, необходимых для управления неспокойной приграничной полосой, он
заинтересовал Эвелину, горячо желавшую быть защитницей отцовых вассалов.
Доволен был и де Лэси; ибо, несмотря на молодость хозяйки замка Печальный
Дозор, задаваемые вопросы выказывали в ней ясный ум, а ответы —
понятливость и вместе с тем кротость. Словом, рыцарь и юная леди так освоились, что
продолжали путь вместе: коннетабль счел возможным для себя занять место
рядом с Эвелиной; она, по-видимому, против этого не возражала. Не будучи от
природы влюбчивым, он, однако, все больше пленялся и красотой, и другими
качествами прекрасной сироты. Довольствуясь тем, что его терпят как
спутника, он не пытался воспользоваться случаем, чтобы вернуться к предмету
разговора, начатого им накануне.
В полдень они остановились в небольшой деревне, где все та же заботливая
рука приготовила для них, а в особенности для леди Эвелины, все необходимое.
Однако тот, кто сделал все это, оставался, к ее огорчению, невидимым. Беседа
коннетабля Честерского, без сомнения, была чрезвычайно поучительной;
но девушке в возрасте Эвелины простительно желание добавить к обществу
опытного человека более молодого и менее серьезного спутника. Вспоминая, что
до сих пор Дамиан де Лэси ежедневно являлся засвидетельствовать ей свое
почтение, она удивлялась его отсутствию. Впрочем, это была лишь мимолетная
мысль, означавшая, что она не настолько была восхищена нынешним
собеседником, чтобы не подумать о приятной возможности иметь еще одного. Она
терпеливо выслушивала все, что говорил коннетабль о рыцаре из знатного рода
Гербертов, в чьем замке он предлагал остановиться на ночлег, когда кто-то из
свиты объявил, что прибыл посланец от владелицы Болдрингема.
— Это тетка моего отца, — сказала Эвелина, вставая и этим выражая
уважение к старости и к родству, требуемое обычаями того времени.
— Я не знал, — сказал коннетабль, — что у моего доблестного друга была
такая родственница.
— Она — сестра моей бабушки, — ответила Эвелина, — знатная саксонская
дама; но она не одобряла брачный союз с норманнской семьей и после
замужества своей сестры ни разу с ней не виделась. — Тут ее прервало появление
посланца, по виду — управителя из знатного дома; почтительно преклонив коле-
78
Обрученная
но, он вручил письмо, тут же прочитанное отцом Альдровандом. Это было
приглашение, написанное не на французском языке, на котором общались знать
и дворянство, а на старом языке саксов, к которому, однако, примешались в то
время и французские слова:
Если внучка Эльфреда из Болдрингема помнит, что в жилах ее течет
саксонская кровь, и желает повидать старую родственницу, которая живет в доме
своих предков и блюдет их обычаи, пусть проведет она эту ночь у Эрменгарды
из Болдрингема.
— Вы, разумеется, отклоните это приглашение? — спросил коннетабль де Лэ-
си. — Благородный Герберт ожидает нас и тщательно приготовил нам встречу.
— Ваше присутствие там, милорд, — ответила Эвелина, — более чем
возместит мое отсутствие. Мне же подобает принять гостеприимство тетушки, раз она
пожелала сделать первый шаг к примирению.
Чело де Лэси несколько омрачилось; ему редко приходилось встречать
какое-либо сопротивление его желаниям.
— Подумайте, леди Эвелина, — попросил он. — Жилище вашей тетушки,
вероятно, не защищено или защищено недостаточно. Не угодно ли вам, чтобы
я продолжал нести при вас эту службу?
— Это, милорд, может решать только моя тетушка как хозяйка дома. Раз она
не сочла нужным просить вашу светлость к себе, мне не следует утруждать вас.
Вы и без того слишком много для меня делаете.
— Но речь идет о вашей безопасности, миледи, — настаивал де Лэси,
которому очень не хотелось отступать.
— Никакая опасность, милорд, не может мне угрожать под кровом близкой
родственницы; меры, которые она принимает для собственной безопасности,
несомненно, достаточны и для моей.
— Надеюсь, что это окажется именно так, — сказал де Лэси, — но я все же
оставлю патруль, который будет охранять замок во время вашего пребывания
там. — Немного поколебавшись, он выразил надежду, что Эвелина, находясь у
родственницы, известной своей неприязнью к норманнам, не станет слушать
направленных против них речей.
Эвелина с достоинством ответила, что дочь Раймонда Беренжера едва ли
станет слушать речи, затрагивающие честь этого славного рыцаря, его рода и
его нации. Не получив таких же заверений относительно его самого и его
сватовства, коннетабль вынужден был удовольствоваться сказанным. Он вспомнил
также, что замок Герберта находился всего в двух милях от жилища
владелицы Болдрингема и что разлука его с Эвелиной продлится лишь одни сутки;
но сознание разницы в их возрасте и недостатка у него тех чар, какими, по
общему мнению, всего легче завоевать женское сердце, заставило его тревожиться
даже этой краткой разлукой; поэтому весь остаток дня он ехал рядом с
Эвелиной молча, больше думая о том, что сулит завтрашний день, чем стараясь
использовать возможности дня нынешнего. В молчании доехали они до места, где
предстояло расстаться.
Глава XIII
79
Это была возвышенность, с которой можно было увидеть справа, на такой
же возвышенности, замок Амелота Герберта с его готическими шпилями и
башнями; а слева, почти скрытое могучими дубами, низкое, грубо сложенное
здание Болдрингема, где владелица жила по обычаям предков и с презрением и
ненавистью взирала на все новшества, появившиеся после гастингской битвы5.
Коннетабль де Лэси, поручив части своих людей сопровождать леди Эвелину
до самого дома ее тетки, а затем бдительно охранять этот дом, однако с
такого расстояния, чтобы не оскорбить его обитателей и не доставить им неудобств,
поцеловал руку Эвелины и неохотно с ней простился. Дальше Эвелина
отправилась дорогой, которая была так мало наезжена, что яснее всего говорила об
одиночестве тех, к кому она вела. На сочных лугах паслись крупные коровы
редкой и ценной породы; по временам лани, утратившие обычную свою
пугливость, выходили на опушку или лежали под каким-нибудь высоким дубом.
Мимолетное удовольствие от созерцания этих мирных зрелищ сменилось у
Эвелины более серьезными мыслями, когда перед ней внезапно предстал дом,
который она сперва увидела лишь издали, с того места, где рассталась с
коннетаблем, и на который не без основания смотрела теперь с некоторым страхом.
Дом, ибо его нельзя было назвать замком, имел всего два этажа; его двери
и окна помещались в массивных закругленных арках, называемых
саксонскими6; стены были увиты вьющимися растениями, которым была предоставлена
полная свобода; трава росла до самого порога, над которым, на медной цепи,
висел рог буйвола. Арку главного входа замыкала массивная дверь из черного
дуба, весьма походившая на вход в разрушенный склеп; никто не появился
оттуда, чтобы встретить и приветствовать гостей.
— На вашем месте, леди Эвелина, — сказала угодливо кумушка Джиллиан, —
я немедля повернула бы назад. Непохоже, чтобы в этом старом каземате
нашлись пища и кров для крещеных людей.
Эвелина приказала прыткой служанке молчать, но при этом сама обменялась
с Розой несколько испуганными взглядами; затем она велела Раулю протрубить
в рог, висевший у ворот.
— Я слышала, — сказала она, — что моя тетушка так привержена всему
старинному, что не любит допускать к себе никого моложе, чем современники
Эдуарда Исповедника7.
Проклиная неуклюжий инструмент, не позволявший ему показать свое
искусство трубить и издававший лишь оглушительный рев, от которого, казалось,
сотрясались старые стены, Рауль повторил этот рев трижды, прежде чем их
впустили. Когда рог прозвучал в третий раз, ворота отворились и из темного
зала показались многочисленные слуги обоего пола. В дальнем конце зала в
камине пылал огонь. Этот старинный камин, размером с целую кухню, был
украшен каменной резьбой, а вверху представлял собою длинный ряд ниш,
из которых хмуро выглядывали саксонские святые, чьи варварские имена едва
ли можно было бы отыскать в римском календаре.
Тот же слуга, который привез приглашение своей госпожи, приблизился к
Эвелине, но не затем, чтобы помочь ей, как она ожидала, сойти с коня, а
чтобы ввести коня в зал и подвести его к каменному помосту, где Эвелина могла
80
Обрученная
наконец спешиться. Навстречу ей почтительно выступили две пожилые особы
и четыре молодые девушки дворянского происхождения, которые
воспитывались в доме Эрменгарды. Эвелина хотела спросить у них, где ее тетушка,
но женщины с той же почтительностью приложили палец к губам, как бы прося
хранить молчание; этот жест и другие странности оказанного ей приема еще
более возбудили любопытство Эвелины и желание увидеть почтенную
родственницу.
Желание это было скоро удовлетворено; через двухстворчатую дверь,
открывшуюся вблизи помоста, ее ввели в большую, но низкую комнату, со
стенами, завешанными гобеленами; там, под чем-то вроде балдахина, сидела
престарелая владелица Болдрингема. Восемьдесят лет не погасили блеска ее глаз и
ничуть не согнули ее величественный стан; ее седые волосы были еще так
густы, что лежали на голове наподобие тиары и были украшены веткой плюща;
длинные темные одежды ниспадали множеством складок; вышитый пояс,
которым они были перехвачены, скреплялся золотой пряжкой, усеянной
драгоценными камнями и стоившей огромных денег. Черты ее лица, некогда прекрасные,
хранили, несмотря на увядшую и сморщенную кожу, печальную и суровую
величавость, сочетавшуюся с ее одеждой и манерами. В руке она держала посох
черного дерева; у ног ее лежал старый волкодав, который навострил уши и
ощетинился, когда чужие шаги, столь редко звучавшие в этих стенах,
приблизились к креслу, где неподвижно сидела его старая хозяйка.
— Тихо, Трайм! — сказала почтенная женщина. — А ты, дочь дома Болдрин-
гем, приблизься и не бойся нашего старого слуги.
После ее слов собака снова легла и, если бы не глаза, горевшие красным
огнем, казалась бы символической статуей у ног какой-нибудь древней жрицы
Вотана8 или Фрейи9; настолько облик Эрменгарды с ее посохом и венком из
плюща напоминал времена язычества. Впрочем, тот, кто подумал бы так, был
бы несправедлив к почтенной христианке, которая пожертвовала немало
земельных наделов Святой Церкви, во имя Бога и святого Дунстана10.
Прием, который Эрменгерда оказала Эвелине, отличался той же старинной
торжественностью, что и все ее окружение. Когда девушка приблизилась к ней,
она не встала и не дала себя обнять; положив руку на плечо Эвелины, она
внимательно и строго оглядела ее.
— Бервина, — сказала она самой приближенной к ней женщине, — кожа и
глаза у нашей племянницы истинно саксонские; а вот цвет волос и бровей
унаследован от чужестранца. Тем не менее добро пожаловать, девица! — обратилась
она к Эвелине. — Особенно если ты готова услышать, что ты вовсе не такое
совершенство, как тебе внушают окружающие тебя льстецы.
После этих слов она наконец встала и поцеловала племянницу в лоб. Все еще
придерживая ее за плечо, ежа принялась рассматривать ее одежду с тем же
вниманием, .какое уделила ее внешности.
— Святой Дунстан да сохранит нас от греховной суеты! — сказала она. — Вот,
значит, каковы новые обгйчаи! Скромные девушки носят туники, которые
облегают тело так плоггно, словно на них вовсе ничего не надето! Помилуй нас
Пресвятая Дева Мария! Взгляни, Бервина, как безвкусно отделан ворот. А шея
Глава XIII
81
открыта до плеч! Вот что привез нам в Англию чужестранец! А эта сумка у
пояса! Уж верно не для хозяйства. Да еще кинжал, точно у жены скомороха,
которая вырядилась в мужскую одежду. Уж не на войну ли ты собралась,
девушка, что прицепила к поясу оружие?
Эвелина, удивленная и обиженная уничижительным перечнем всего на ней
надетого, ответила с достоинством:
— Как видно, мода изменилась, миледи. Я ношу то, что носят сейчас все
девицы моего возраста и положения. Что до кинжала, то недавно он был
последней моей надеждой спастись от бесчестья.
— Девушка говорит складно и смело, Бервина, — заметила леди Эрменгар-
да, — и, по правде сказать, несмотря на ненужные побрякушки, одета к лицу.
Твой отец, как я слышала, пал на поле битвы?
— Да, — ответила Эвелина, и при воспоминании о недавней утрате глаза ее
наполнились слезами.
— Я никогда его не видела, — продолжала леди Эрменгарда. — Он презирал
саксов, подобно всем норманнам, которые вступают с ними в брак лишь затем,
чтобы о них опереться, как плющ обвивается вокруг вяза. Нет, не пытайся
оправдывать его, — сказала она, заметив, что Эвелина намерена возразить. —
Я хорошо узнала норманнов за много лет до твоего рождения.
В это время в покое появился управитель; преклонив колено, он спросил, что
будет госпоже угодно решить относительно отряда норманнских воинов,
остающихся вблизи дома.
— Норманнские солдаты возле дома Болдрингемов! — гневно воскликнула
старая женщина. — Кто привел их сюда и с какой целью?
— Полагаю, — ответил управитель, — что они сопровождали молодую
госпожу, а теперь охраняют ее.
— Как, дочь моя! — проговорила Эрменгарда укоризненно и печально. —
Ты не решаешься даже на одну ночь остаться без охраны в доме твоих предков?
— Упаси Бог! — сказала Эвелина. — Эти люди не мои, и не я ими
распоряжаюсь. Это часть свиты коннетабля де Лэси, который оставил их здесь для
охраны, опасаясь нападения разбойников на ваш дом!
— Разбойники, — сказала Эрменгарда, — ни разу не нападали на Болдрингем
с тех пор, как один норманнский разбойник похитил оттуда его величайшее
сокровище — твою бабушку. Итак, бедная птичка, ты уже пленница? Чему тут
дивиться, такова твоя судьба. Была ли когда-нибудь красивая девушка с
богатым приданым, чтобы ее, прежде чем она созрела, не назначали в рабство
к одному из этих князьков, отнимающих у нас все, на что падут их алчные
взоры. Ничем не могу помочь тебе. Я всего лишь бедная, всеми забытая старуха.
Итак, кому же из рода де Лэси ты предназначена в домашние рабыни?
На вопрос, заданный таким тоном и заданный особой со столь сильным
предубеждением, Эвелина не могла ответить откровенным рассказом о своем
положении; было слишком ясно, что от ее саксонской родственницы нельзя ждать
ни помощи, ни дельного совета. Поэтому Эвелина кратко ответила, что, если ее
тетушке так неприятны все де Лэси и вообще все норманны, она попросит
командира патрулей отвести их подальше от Болдрингема.
82
Обрученная
— Нет уж, племянница, — сказала старая женщина, — раз мы не можем
избежать соседства норманнов и их вечернего звона, то неважно, будут ли они
ближе к нашим стенам или дальше от них, лишь бы не входили сюда. А ты,
Бервина, скажи Хундвольфу, чтобы напоил норманнов допьяна и накормил до
отвала, и притом лучшими яствами и самыми крепкими напитками. Пусть никто
не посмеет сказать, что старая саксонская ведьма поскупилась. Откупорьте для
них вино, ведь их нежные норманнские желудки наверняка не переносят эль.
Звеня огромной связкой ключей, привешенной к ее поясу, Бервина
отправилась делать нужные распоряжения и вскоре возвратилась. Эрменгарда тем
временем подвергла племянницу более подробным расспросам.
— Что ж ты не хочешь или не можешь сказать мне, какому из де Лэси ты
достанешься в невольницы? Надменному коннетаблю, гордому тем, что,
закованный в доспехи, сидя на быстром и сильном коне, столь же неуязвимом, как
и он сам, в полной безопасности топчет и убивает полуголых валлийцев? Или
его племяннику, безбородому Дамиану? Или, может быть, твое приданое
должно поправить дела еще одного из их рода, беспутного кутилы Рэндаля Лэси,
которому, говорят, недостает денег, чтобы и дальше вести распутную жизнь
среди крестоносцев.
— Почтенная тетушка, — ответила Эвелина, которой такие речи, конечно,
не понравились, — никому из де Лэси, а также, я надеюсь, никому из других
норманнов или саксов ваша племянница не станет домашней рабыней. Незадолго до
своей гибели мой отец начал некие переговоры с коннетаблем; вот отчего я сейчас
не могла отказать ему сопровождать меня. Но чем это окончится, решит судьба.
— А ведь я могу показать тебе, племянница, что сулит тебе судьба, — тихо и
таинственно сказала Эрменгарда. — Те, кто с нами в кровном родстве,
обладают даром заглядывать в грядущее и видеть, еще в завязи, цветы или тернии,
которым суждено венчать их чело.
— Для себя, почтенная тетушка, — ответила Эвелина, — я не желала бы иметь
такой дар, даже если бы он не осуждался Церковью. Если бы я предвидела все,
что недавно произошло со мною, то в ожидании этого не ведала бы ни одной
счастливой минуты.
— И все же, дочь моя, — сказала владелица Болдрингема, — как и другие
женщины нашего рода, ты должна провести одну ночь в покое Кровавого
Перста. Бервина! Приготовь его для моей племянницы.
— Я... я слышала об этом покое, милая тетушка, — робко возразила
Эвелина. — Позвольте мне не ночевать там. Недавние опасности и испытания
сказались на моем здоровье. С вашего позволения я отложу до другого времени
исполнение обычая, которому следуют дочери рода Болдрингем.
— И от которого тебе хотелось бы уклониться, — гневно нахмурившись,
сказала старая саксонка. — Разве неповиновение не обошлось дорого твоему роду?
— Милостивая госпожа, — сказала Бервина, не утерпев, хотя и зная
непреклонное упорство своей госпожи, — покой сильно обветшал и не может быть так
быстро приготовлен для леди Эвелины; а благородная девица так бледна и
недавно столько испытала, что, если позволено мне советовать, лучше было бы
все отложить.
Глава XIV
83
— Ты глупа, Бервина, — сурово сказала старая женщина. — Неужели я стану
навлекать беду на свой дом и позволю этой девушке покинуть его, не почтив
Кровавый Перст обычным посещением? Ступай и приготовь комнату. Особых
приготовлений не надо, если она оставит свою норманнскую привередливость
по части постели. Молчи и исполняй мое приказание! А ты, Эвелина?
Неужели в тебе вовсе не осталось отваги твоих предков, если ты боишься провести
несколько часов в этом старинном покое?
— Я ваша гостья, милостивая госпожа, — сказала Эвелина. — В вашей воле
поместить меня где вам угодно. Отваги у меня столько, сколько я могу
почерпнуть в своей невинности и в гордости моим родом. Недавно она подверглась
жестоким испытаниям. Но если таково ваше желание и таков обычай вашего
дома, у меня еще достанет сил встретить то испытание, какое готовите мне вы.
В словах Эвелины был укор, ибо поведение тетки казалось ей
недоброжелательным и негостеприимным. Вместе с тем, вспоминая предание, связанное с
отведенной для нее комнатой, она признавала, что у владелицы Болдрингема
были основания так поступать; этого требовала фамильная традиция и
верования тех времен, эти верования разделяла и сама Эвелина.
Глава XIV
Порой как будто стоны привидений
Мне слышатся, и жалобы, и вой,
Потом, как умирающее эхо,
Вопль матери моей: «Не смей, Алмейда!
Твой брак с ним будет преступленьем, знай!»
Дон Себастьян1
Вечер в Болдрингеме показался бы нестерпимо длинным, если бы ожидание
опасности не сокращало время, остающееся до рокового часа; и если Эвелину
мало занимала беседа ее тетки с Бервиной, касавшаяся происхождения их
предков от воинственного Хорсы2, а также подвигов саксонских богатырей и чудес,
творимых саксонскими монахами, она все же скорее была готова слушать обо
всем этом, чем спешить в страшную комнату, отведенную ей для ночлега. Были,
однако, в Болдрингеме и другие способы коротать вечера. Капеллан, важный,
старый саксонский монах, благословил роскошную трапезу, которая насытила
бы два десятка голодных людей, а подана была только Эрменгарде, ее
племяннице и их сотрапезникам — монаху, Бервине и Розе Флэммок. Эвелина тем
меньше могла отдать должное чересчур обильному угощению, что блюда были
в саксонском вкусе, сытные и плотные, и столь же невыгодно отличались от
блюд изысканной норманнской кухни, как небольшой кубок легкого гасконского
вина, более чем наполовину разбавленный чистой водой, отличался от
крепкого эля, пряного глинтвейна и других крепких напитков, которые ей тщетно
предлагал управитель Хундвольф.
Не более, чем обильный ужин, пришлись Эвелине по вкусу и прочие
вечерние развлечения. Когда убрали доски на козлах, на которых подавались
кушанья, слуги, по указанию управителя, зажгли несколько высоких восковых све-
84
Обрученная
тальников, один из которых должен был отмечать время, разделяя его на
равные промежутки. Для этого к светильнику, на одинаковых расстояниях друг от
друга, подвешены были на нитках медные шарики; когда пламя перекусывало
нитку, один из шариков падал в подставленную медную плошку и все
устройство некоторым образом выполняло роль часов. При свете этих светильников
расположились все присутствующие.
Следуя древнему обычаю, высокое кресло Эрменгарды перенесли с
середины покоя к большому очагу, полному горящих углей, а гостью посадили на
почетное место справа от хозяйки. Вокруг них Бервина разместила служанок,
позаботившись занять каждую из них какой-нибудь работой, и сама села тут же
за прялку. На некотором отдалении от них мужская часть прислуги, под
надзором Хундвольфа, занялась починкой земледельческих орудий или чисткой
охотничьего оружия. Для развлечения собравшихся старый песельник, под
звуки четырехструнной арфы3, запел долгую, должно быть нескончаемую, песнь
религиозного содержания4, почти непонятную Эвелине из-за стараний певца;
ради аллитераций5, считавшихся главным украшеним поэзии саксов, он
жертвовал смыслом и употреблял слова почти без связи их со значением, лишь бы
они звучали, как ему было нужно. Очень затемняли смысл и сокращения слов
в угоду ритму песни, а также нагромождение пышных эпитетов.
Хотя Эвелина хорошо знала язык саксов, она вскоре совсем перестала
слушать певца; ей вспоминались веселые фаблио6 и полные поэзии лэ7
норманнских менестрелей, но еще больше думала она с тревогой об испытании,
предстоявшем ей в таинственной комнате, где она должна была провести ночь.
Настало время расходиться. За полчаса до полуночи последний шарик со
звоном упал в подставленную медную плошку, возвестив время отхода ко сну.
Старый песельник умолк на середине недопетой строфы; все обитатели дома
встали; одни удалились к себе, другие, с зажженными факелами и
светильниками, приготовились сопровождать гостей на предназначенный им ночлег.
В числе последних было несколько служанок, которые должны были вести туда
леди Эвелину. Тетка торжественно простилась с нею, перекрестила,
поцеловала в лоб и шепнула ей на ухо:
— Отваги тебе и удачи!
— Нельзя ли моей служанке Розе Флэммок или камеристке Джиллиан, жене
Рауля, остаться на ночь в моей комнате? — спросила Эвелина.
— Флэммок? Рауль? — гневно повторила за ней Эрменгарда. — Вот из кого
состоит твоя прислуга! Фламандцы для Англии — тот же паралич, а
норманны — гнилая горячка!
— Бедные валлийцы, — сказала Роза, у которой негодование пересилило страх
перед старой саксонкой, — добавили бы к этому, что раньше всех пришли на эту
землю саксы, а они, значит, были подобны чуме?
— Слишком уж ты дерзка, милочка! — сказала леди Эрменгарда, грозно
глядя на молодую фламандку и хмуря свои темные брови. — Но доля правды в
твоих словах есть. Саксы, датчане, норманны прокатились по стране8 точно
волны, одна за другой; у каждой хватало сил завоевать, но не хватало мудрости,
чтобы удерживать завоеванное. Будет ли когда-нибудь иначе?
Глава XIV
85
— Это будет, — смело ответила Роза, — когда и британец, и норманн, и
фламандец научатся называть себя одним общим именем и равно чувствовать
себя детьми страны, где они родились9.
— Ого! — воскликнула владелица Болдрингема, удивленная, но довольная.
Оборотясь к своей племяннице, она сказала: — Девушка и умна, и остра.
Смотри только, чтобы она не злоупотребляла этим.
— Она так же верна и добра, как и находчива, — сказала Эвелина. — Милая
тетушка, позвольте ей эту ночь побыть со мной.
— Это невозможно, да и опасно для вас обеих. Ты должна в одиночестве
узнать свою грядущую судьбу, как это делали все женщины в нашем роду,
кроме твоей бабки. А каковы были следствия ее пренебрежения фамильным
обычаем? Увы! Вот передо мной ее внучка, и она уже в пору первой юности
осталась круглой сиротой.
— Что ж, пойду одна, — согласилась Эвелина, смирившись. — Пусть никто не
сможет сказать, что я навлекла на себя грядущие беды из страха перед
настоящими.
— Твои служанки, — сказала леди Эрменгарда, — могут находиться в
передней, у входа в комнату, и слышать твой зов. Комнату укажет тебе Бервина.
Я это сделать не могу; ты ведь знаешь, что побывавшие там однажды
возвращаться туда не могут. Прощай, дитя мое, да благословит тебя Небо!
С бблыиим волнением и нежностью, чем она выказывала раньше, старая
женщина еще раз поцеловала Эвелину и знаком велела ей следовать за Берви-
ной. Последняя, вместе с двумя служанками, державшими факелы, стояла тут
же, готовая отвести ее в таинственную комнату. Факелы осветили им толстые
стены и своды двух длинных, извилистых коридоров; осветили неровные,
стершиеся ступеньки витой лестницы и привели наконец в просторную комнату
нижнего этажа, где старинные драпировки, яркий огонь, пылавший в очаге,
лунные лучи, проникавшие через частые переплеты окна, и мирт, который
оплетал раму, создавали некоторый уют.
— Эти ложа, — сказала Бервина, — приготовлены для служанок. — И она
указала на две постели, предназначенные для Розы и Джиллиан. — А мы
пойдем дальше, — добавила она.
Она взяла факел из рук одной из служанок; обе они в страхе пятились от
следующих дверей, и их страх тотчас передался Джиллиан, хотя она, вероятно,
не знала его причину. Зато Роза Флэммок, не дожидаясь разрешения и не
колеблясь, последовала за своей госпожой, которую Бервина через узкую дверь
ввела в маленькую прихожую или гардеробную, в конце которой виднелась еще
одна узкая дверь. Окно здесь также было оплетено вьющимися растениями и
едва пропускало бледный свет луны.
Бервина остановилась и, указывая Эвелине на Розу, спросила:
— Почему же и она идет с нами?
— Чтобы разделить с моей госпожой опасность, какова бы она ни была, —
ответила Роза с обычной своей решительностью. — Не правда ли, милая
госпожа, — продолжала она, сжимая руку Эвелины, — вы не прогоните от себя вашу
Розу? Я, может быть, не столь высоко летаю, как ваши соотечественники, но я
86
Обрученная
смела и находчива во всяком честном деле. Вы дрожите как лист! Не входите
туда! Не давайте себя морочить всеми этими торжественными и
таинственными приготовлениями. Отстраните от себя устарелые, может быть даже
языческие, суеверия.
— Леди Эвелина должна туда войти, — сурово сказала Бервина, — и войти без
дерзких спутниц и советчиц.
— Должна, должна! — повторила Роза. — Разве так надлежит говорить со
свободной высокорожденной девицей? Милая госпожа, вы только намекните,
что желаете этого, и мы им покажем, как принуждать вас. Я кликну из окна
норманнских воинов и скажу, что вместо гостеприимного дома мы попали в
логово ведьм.
— Замолчи, безумная! — крикнула Бервина голосом, дрожавшим от гнева и
страха. — Ты не знаешь, кто обитает в следующем покое.
— Вот я и созову тех, кто быстро это узнает, — сказала Роза и уже бросилась
к окну, но Эвелина в свою очередь крепко схватила ее за руку и заставила
остановиться.
— Благодарю тебя за заботу, Роза, — сказала она, — но сейчас она мне не
поможет. Кто входит в эту дверь, должен входить один.
— Тогда я войду туда вместо вас, милая госпожа, — сказала Роза. — Вы
побледнели... вы похолодели... вы умрете от ужаса, если войдете! Что бы тут ни
было, обман или сверхъестественные силы, меня они не проведут. А если
какому-то злобному духу нужна жертва, пусть лучше это будет Роза, чем ее
госпожа.
— Не нужно, — сказала Эвелина, стараясь овладеть собою. — Ты заставила
меня устыдиться моего малодушия. Это испытание с древних времен проходят
женщины рода Болдрингем, и только они. Я не ждала, что меня подвергнут ему
теперь, в нынешнем моем положении, но, если час настал, я пройду испытание
так же смело, как любая из моих прабабок.
С этими словами она взяла из рук Бервины факел, пожелала доброй ночи
ей и Розе, ласково освободилась из объятий последней и вошла в таинственный
покой. Роза, дойдя до самого порога, успела увидеть, что комната невелика и
похожа на ту, которую они миновали, так же освещена луной, а окно
находится в той же стене, что и окно гардеробной. Больше ничего увидеть не удалось,
ибо Эвелина, остановившись на пороге и поцеловав подругу, ласково
оттеснила ее назад, затворила за собою дверь и заперла на засов, словно ограждая себя
от вторжений, хотя бы и с добрыми намерениями.
Бервина принялась уговаривать Розу, если ей дорога жизнь, вернуться в
первую комнату, где были постланы постели, и если не лечь спать, то хотя бы
помолчать и помолиться; но верная фламандка не внимала ее уговорам и не
повиновалась приказаниям.
— Не пугай меня, — говорила она. — Я останусь здесь. Отсюда я хотя бы
услышу, что будет грозить моей госпоже. И горе тем, кто причинит ей зло!
Заметь себе, что ваш негостеприимный дом окружен двадцатью норманнскими
воинами, готовыми отомстить за любую обиду, нанесенную дочери Раймонда
Беренжера.
Глава XIV
87
— Оставь свои угрозы для смертных существ, — сказала зловещим шепотом
Бервина. — Обитательнице того покоя они не страшны. Прощай и, если с тобой
что случится, пеняй на себя!
Она удалилась, оставив Розу взволнованной всем происшедшим и
несколько оробевшей от ее последних слов. «Эти саксы, — говорила себе девушка, —
окрещены всего лишь наполовину10 и держатся своих старых обрядов,
поклоняются духам стихий. У них и святые непохожи на святых христианских стран;
они и выглядят как-то дико, и имена носят языческие и дьявольские. Страшно
быть здесь одной! А в покое, куда заставили войти мою госпожу, ничего не
слышно... мертвая тишина. Уж не позвать ли Джиллиан? Нет! В таком деле она
мне не помощница. Ни смелости, ни разумения у нее не хватит. Лучше быть
одной, чем с ненадежной помощницей. Посмотрю, стоят ли норманны на
своих постах. Вот на кого надо рассчитывать в случае нужды».
Размышляя таким образом, Роза Флэммок подошла к окну гардеробной,
чтобы убедиться в бдительности охраны и получше разглядеть, где она
разместилась. Полная луна позволила ей ясно различить все, что было за окном.
Прежде всего она с некоторым огорчением убедилась, что находится не так
близко к земле, как ей казалось; ибо окна обеих гардеробных, а также окно
таинственного покоя располагались над старым рвом, который в этом месте
отделял стену дома от окружающей ровной местности. Ров, как видно, давно
уже не служил для обороны. Дно его совершенно высохло и во многих местах
заросло кустами и небольшими деревьями; некоторые из них подымались к
самой стене дома. С их помощью, подумалось Розе, можно добраться до окон.
По ту сторону рва простиралась ровная и почти совершенно открытая поляна;
лунные лучи покоились на ее роскошной густой траве, перемежаясь с тенями от
деревьев и башен. За поляной начинался лес, а на его темной опушке кое-где
возвышалось несколько гигантских дубов; казалось, что это богатыри,
вышедшие сразиться впереди остального войска.
Безмятежная красота ландшафта, царившая вокруг тишина и
умиротворенность несколько успокоили опасения, которые возникли у Розы после вечерних
событий. «Почему, — подумала она, — я так уж испугалась за леди Эвелину?
У угрюмых саксов, как и у гордых норманнов, едва ли сыщется знатный род,
который не чванился бы перед другими каким-нибудь фамильным преданием.
Им словно стыдно являться на тот свет наравне с простой фламандкой вроде
меня. Увидеть бы хоть одного норманнского часового, и я буду спокойна за свою
госпожу. А вот и он! Шагает в тени деревьев в своем белом плаще, а луна
серебрит острие его копья».
— Эй, кавалер!
Норманн обернулся и подошел к краю рва.
— Что вам угодно, девица?
— Рядом с моим окном находится окно леди Эвелины Беренжер, которую вам
велено охранять. Прошу особенно бдительно наблюдать за этой стеной дома.
— Будьте покойны, девица, — ответил воин.
Завернувшись в свой длинный плащ, он встал невдалеке, под большим
дубом, скрестил руки, оперся на копье и сделался похож скорее на статую, чем на
живого человека.
88
Обрученная
Ободренная мыслью, что помощь, в случае нужды, будет рядом, Роза отошла
в глубь своей маленькой комнаты; убедившись, что в комнате Эвелины все тихо,
она решила прилечь и перешла в первую гардеробную, где Джиллиан, позабыв
свои страхи под усыпляющим действием доброго глотка «лайс-алоса»
(первосортного эля), спала таким сладким сном, какой несет с собою этот крепкий
саксонский напиток.
Весьма неодобрительно отозвавшись о ее нерадивости, Роза сняла со своей
постели верхнее покрывало и вернулась в комнатку, смежную с покоем
Эвелины; из покрывала и устилавшего пол камыша11, который она сгребла в кучу,
соорудила себе подобие ложа; и на нем, полулежа-полусидя, решила провести
ночь настолько близко от своей госпожи, насколько это было возможно.
Глядя на бледное светило, торжественно плывшее в темном полуночном
небе, она решила не смыкать глаз, пока рассвет не принесет ей уверенности в
безопасности леди Эвелины.
Мысли ее обратились к необъятному и призрачному миру по ту сторону
могилы и к великому, все еще не решенному вопросу: прощаются ли его
обитатели раз и навсегда с земной жизнью или по неведомым причинам
продолжают общаться с существами из плоти и крови? Отрицать эту возможность во
времена крестовых походов и чудес значило бы навлечь на себя обвинение в
ереси; однако прирожденный здравый смысл заставлял Розу сомневаться хотя
бы в том, что сверхъестественное проявляет себя часто; она невольно
вздрагивала при всяком шелесте листвы, но успокаивала себя мыслью, что Эвелина,
совершая навязанный ей ритуал, не подвергается никакой действительной
опасности и что все это лишь устарелое фамильное суеверие.
Чем больше она укреплялась в этом мнении, тем больше ослабевало ее
намерение бодрствовать всю ночь; мысли ее начали плутать и разбредаться
точно овцы, лишенные присмотра пастуха, — глаза ее уж неясно различали
серебряный диск луны, хотя и продолжали смотреть на него. Наконец они
смежились, и, сидя на сложенном покрывале, опираясь спиною о стену и сложив на
груди свои белые руки, Роза Флэммок крепко уснула.
Сон ее был прерван пронзительным криком, раздавшимся в комнате ее
госпожи. Девушка, в которой страх никогда не побеждал чувства долга или
любви, вмиг очутилась возле закрытой двери. Та была заперта на засов, но новый,
более слабый крик, а вернее стон, говорил о том, что помощь нужна
немедленная или не будет уже нужна вовсе.
Роза кинулась к окну и стала громко звать норманнского воина, чей плащ по-
прежнему белел под старым дубом.
— На помощь! На помощь! — кричала она. — Леди Эвелину убивают!
Услышав этот призыв, воин, казавшийся статуей, мгновенно ожил, с
быстротою доброго коня примчался на край рва и приготовился переправиться
через него напротив открытого окна, где Роза торопила его криками и жестами.
— Не сюда! Не сюда! — закричала она, увидев, что он направляется к ней. —
Правее! Лезь в окно и взломай дверь в смежную комнату!
Солдат, видимо поняв ее, без колебаний кинулся в ров и стал спускаться,
цепляясь за ветви деревьев. На мгновение он скрылся в кустах и тут же, хва-
Глава XIV
89
таясь за ветви карликового дуба, оказался справа от Розы, под окном рокового
покоя. Можно было опасаться, что окно окажется крепко запертым. Но нет! Под
ударом норманна оно сразу поддалось, и изъеденная временем рама упала
внутрь с таким треском, что проснулась даже Джиллиан.
По обыкновению глупцов и трусов издавая непрерывные крики, она вбежала
в смежную комнату как раз в тот миг, когда распахнулась дверь из покоя
Эвелины и оттуда появился солдат, неся на руках полуодетую и бесчувственную
норманнскую деву. Молча передав ее Розе, он с тою же стремительностью, с какой
появился, выпрыгнул из открытого окна, того самого, откуда звала его Роза.
Джиллиан, потеряв голову от изумления и ужаса, то восклицала, то
вопрошала, то звала на помощь, пока Роза не велела ей опомниться. И она
действительно настолько пришла в себя, что принесла светильню, горевшую в
комнате, где она спала, а затем сумела быть полезной, применяя обычные способы,
какими приводят в чувства. Наконец Эвелина глубоко вздохнула и открыла
глаза, но тотчас закрыла их снова и, прижавшись головой к груди Розы,
задрожала всем телом. Верная наперсница усердно терла ей виски и руки.
Перемежая свои усилия ласками, она громко повторяла:
— Она жива! Она приходит в себя! Слава тебе, Боже!
— Слава тебе, Боже! — торжественно откликнулся кто-то в окне; испуганно
обернувшись, она увидела шлем и султан воина, столь своевременно явившегося
им на помощь; подтягиваясь на руках, он пытался заглянуть внутрь комнаты.
Роза подбежала к нему.
— Ступай, ступай отсюда, друг! — проговорила она. — Госпожа приходит в
себя. Тебя ждет награда, но не сейчас. Уходи! Однако оставайся на своем посту.
Я позову тебя, если понадобится. Ступай! И никому ни слова!
Солдат молча повиновался, и было видно, как он спускался в ров. Роза
вернулась к своей госпоже. Поддерживаемая Джиллиан, та тихо стонала и шептала что-
то бессвязное, означавшее, что она пережила сильное потрясение и испытала ужас.
Джиллиан, едва успокоившись, проявила обычное свое любопытство.
— Что это значит? — спросила она Розу. — Что здесь у вас случилось?
— Не знаю, — ответила Роза.
— Если уж ты не знаешь, кому же знать? — сказала Джиллиан. — Может,
надо позвать других служанок и разбудить весь дом?
— И думать не смей! — сказала Роза, — Пока об этом не распорядится сама
госпожа. Что до этого покоя, я постараюсь раскрыть секрет. А ты не отходи от госпожи.
Сказав это, она взяла светильню, перекрестилась, смело шагнула за
таинственный порог и, подымая светильню повыше, оглядела покой.
Это было всего лишь сводчатое помещение небольших размеров. В одном
его углу стояла над чашей для святой воды искусная, саксонской работы,
статуя Пресвятой Девы. Были там также два сиденья и ложе, покрытое грубой
тканью; на нем, как видно, и должна была провести ночь Эвелина. На полу
валялись обломки выломанной оконной рамы; но окно открылось лишь тогда,
когда его разбил солдат; а другого отверстия, через которое кто-то мог сюда
проникнуть, не было. Единственную дверь Эвелина, входя, закрыла за собой и
заперла на засов.
90
Обрученная
Розу охватил страх, который ей до тех пор удавалось преодолевать;
набросив на голову свой плащ, как бы затем, чтобы укрыться от некоего ужасного
видения, она вернулась в смежную комнату более поспешно и менее твердыми
шагами, чем выходила из нее; вместе с Джиллиан она перенесла Эвелину
подальше, в первую из комнат, а дверь, из которой только что вышла,
старательно заперла, словно отгораживаясь от опасности.
Леди Эвелина тем временем настолько пришла в себя, что могла сидеть и
пыталась заговорить, хотя и слабым еще голосом.
— Роза, — вымолвила она наконец, — я видела ее. Судьба моя решена.
Роза тотчас поняла, что в присутствии Джиллиан было бы весьма
неосторожно выслушивать все, что ее госпожа могла сказать в эти первые минуты;
она вспомнила предложение Джиллиан, которое прежде отклонила, и
попросила ее привести двух других служанок Эвелины.
— Где я их отыщу в этом доме? — сказала Джиллиан. — Когда тут в полночь
бегают посторонние мужчины, а может быть, и нечистые духи.
— Где хочешь, там и отыщи, — сказала нетерпеливо Роза. — Только иди
поскорее.
Джиллиан медленно и неохотно вышла, бормоча про себя нечто
неразборчивое. Едва она удалилась, Роза дала волю своей горячей любви к госпоже и
стала самыми нежными словами упрашивать ее открыть глаза (ибо она снова
их закрыла) и говорить со своей Розой, готовой, если нужно, умереть ради нее.
— Завтра, Роза, завтра, — прошептала Эвелина. — Сейчас я говорить не в силах.
— Одно словечко! И вам станет легче. Скажите только, что вас так
испугало и чего боитесь сейчас.
— Я видела ее, — ответила Эвелина. — Мне явилась обитательница того
покоя — видение, роковое для моего рода. Не торопи меня, завтра ты узнаешь все.
Тут возвратилась Джиллиан с двумя другими служанками своей госпожи.
По указанию Розы они перенесли леди Эвелину подальше от комнаты, где она
побывала, и уложили на одну из постелей, постланных для них самих. Затем
Роза отпустила их (кроме Джиллиан), предоставив им найти в доме место, где
они могли бы отдохнуть, а сама осталась при госпоже. Она была очень
взволнована, но потом усталость и усыпляющее питье, которое Джиллиан догадалась
приготовить, оказали свое действие. Она заснула глубоким сном и пробудилась,
лишь когда солнце стояло уже высоко над дальними холмами.
Глава XV
Не видимая вами длань
Зовет меня вперед,
И голос, не понятный вам,
Быть здесь мне не дает.
Маллет1
Когда Эвелина открыла глаза, она, казалось, не помнила ничего из событий
ночи. Оглядев покой, обставленный скудно, ибо он предназначался для слуг, она
с улыбкой сказала Розе:
Глава XV
91
— Постели у нашей доброй родственницы не делают чести саксонскому
гостеприимству. Я охотно променяла бы вчерашний обильный ужин на более
мягкое ложе. Сейчас я чувствую себя так, точно все тело мое молотили на
крестьянском гумне.
— Я рада, что вы проснулись в хорошем настроении, госпожа, — сказала Роза,
благоразумно избегая малейшего намека на происшествия прошедшей ночи.
Кумушка Джиллиан не была столь щепетильна.
— Если не ошибаюсь, — сказала она, — вечером у госпожи была постель
получше этой? Розе Флэммок, да и вам самой, госпожа, лучше знать, почему вы
не остались на ней.
Если бы взглядом можно было убить, Джиллиан грозила смертельная
опасность — так взглянула на нее Роза после этих неуместных слов. Их действия
можно было ожидать; в первый миг Эвелина как бы удивилась и смутилась;
потом, когда к ней вернулись воспоминания о прошедшей ночи, она стиснула
руки, опустила глаза и горько заплакала.
Роза принялась успокаивать ее и предложила искать утешения в молитвах,
а для этого призвать старого саксонского капеллана.
— Не надо, не зови его, — сказала Эвелина, подняв голову и осушая глаза. —
С меня довольно саксонского гостеприимства. Как глупа я была, ожидая от
черствой и бессердечной женщины сочувствия к моей юности, к недавним моим
испытаниям и к моему сиротству! Но я не дам ей торжествовать победу над
норманнским родом Беренжеров. Я не покажу ей, какие страдания доставила
мне ее бесчеловечность. Но сперва ответь мне по правде, Роза, видел ли кто-либо
из обитателей Болдрингема, в каком состоянии я была ночью?
Роза заверила ее, что при ней находились лишь ее собственные служанки, то
есть она сама, Джиллиан, Бланш и Тернотта. Это, видимо, успокоило Эвелину.
— Ну так слушайте меня обе, — начала она. — И из любви и почтения ко мне
повинуйтесь! Не пророните ни единого слова о том, что случилось нынче ночью.
Это же передайте и двум другим девушкам. Помоги мне, Джиллиан, и ты,
милая Роза, сменить мою измятую одежду и причесать растрепанные волосы.
Жалкую же месть она задумала! И все из-за моей норманнской крови. Но она
не увидит во мне ни малейшего следа причиненных ею страданий.
При этих словах глаза ее сверкали негодованием, и негодование осушило в
них слезы. Роза наблюдала эту перемену со смешанными чувствами радости и
тревоги, ибо знала, что ее госпожа, как балованный ребенок, привыкший к ласке
и снисходительности всех окружающих, будет слишком глубоко переживать
любое пренебрежение и враждебность.
— Видит Бог, — сказала верная служанка, — что я лучше хотела бы, чтобы на
руку мне падали капли расплавленного свинца, чем ваши слезы. И все же,
милая госпожа, сейчас я больше желала бы видеть вас в горе, чем в гневе. Старая
леди, как видно, выполняла некий суеверный ритуал, принятый в ее роду; а ведь
он отчасти и ваш. За свою знатность и богатство она пользуется уважением.
Теперь, когда норманны хотят навязать вам свою волю и ваша тетушка
аббатиса, наверное, тоже будет на их стороне, я надеялась, что вы найдете
поддержку и приют у владелицы Болдрингема.
92
Обрученная
— Нет, Роза, нет! — воскликнула Эвелина. — Ты не знаешь и не
догадываешься о том, что она заставила меня претерпеть, отдав во власть колдовства и
нечистой силы. Ты ведь сама говорила, и была права, что саксы остались
наполовину язычниками. Нет в них христианского милосердия.
— Тогда, — сказала Роза, — я говорила так, чтобы уберечь вас от опасности;
сейчас опасность миновала, и я, может быть, сужу иначе.
— Не защищай их, Роза, — гневно сказала Эвелина. — Никогда еще невинную
жертву не отдавали на алтарь сатаны с таким бессердечием, как сделала это моя
родственница. Меня, сироту, лишенную отцовской защиты. Я ненавижу ее
жестокость, ненавижу ее дом, ненавижу самую мысль обо всем, что здесь со мною
случилось. Обо всем, Роза, кроме твоей беспримерной верности, бесстрашия
и привязанности ко мне. Ступай, вели седлать коней. Я хочу уехать немедля.
Не стану даже переодеваться, — добавила она, отстраняя помощь, о которой
недавно просила. — Я уеду без церемоний, не прощаясь.
В лихорадочной торопливости своей госпожи Роза с тревогой увидела все то
же болезненное возбуждение, которое перед тем искало выхода в слезах и
судорогах. Поняв в то же время, что возражать бесполезно, она распорядилась,
чтобы слуги собрались, седлали коней и готовились к отъезду. Она надеялась,
что, когда ее госпожа окажется подальше от места, где испытала столь сильное
потрясение, спокойствие мало-помалу к ней вернется.
Джиллиан занялась укладкой одежды своей госпожи, а остальные слуги —
приготовлениями к немедленному отъезду; но тут, предшествуемая
управителем, опираясь на верную Бервину, сопровождаемая еще двумя или тремя
главными слугами, с выражением недовольства на морщинистом, но величавом
лице, в покой вошла леди Эрменгарда.
В это время Эвелина с пылающими щеками что-то укладывала, и руки у нее
дрожали. Но, к большому удивлению Розы, она овладела собой, подавила все
внешние признаки волнения и выступила навстречу своей родственнице,
не менее той невозмутимая и надменная.
— Я пришла пожелать тебе доброго утра, племянница, — сказала
Эрменгарда менее высокомерно, чем намеревалась, настолько вид Эвелины внушал
уважение. — Вижу, что тебе угодно было сменить покой, отведенный тебе
согласно древнему обычаю, и ночевать в помещении для служанок.
— Вас это удивляет, миледи? — спросила Эвелина. — Или вы, быть может,
разочарованы, не найдя меня мертвой в покое, который так гостеприимно и
заботливо мне отвели?
— Значит, сон твой был потревожен? — спросила Эрменгарда, пристально
глядя на леди Эвелину.
— Раз я не жалуюсь, миледи, это, видимо, имеет мало значения. Что было,
то прошло, и я не намерена утруждать вас рассказами.
— О, Окровавленный Перст не любит тех, в ком течет чужая кровь, — с
торжеством проговорила Эрменгарда.
— При жизни у нее было еще меньше причин любить саксов, — сказала
Эвелина, — если не лжет предание о ней. Как я подозреваю, ваш дом посещают не
Глава XV
93
души тех, кто здесь страдал при жизни, а злые духи; говорят, что потомки Хен-
гиста и Хорсы2 еще поклоняются им втайне.
— Ты изволишь шутить, — презрительно ответила старая женщина, — а если
говоришь серьезно, то говоришь невпопад. В доме, который благословили
святой Дунстан и святой король Эдуард Исповедник, не место злым духам.
— В Болдрингеме, — сказала Эвелина, — не место тем, кто боится этих духов,
а значит и мне; я смиренно в этом сознаюсь. Оставляю его на попечение
святого Дунстана.
— Надеюсь, что все же не прежде, чем разделишь нашу утреннюю трапезу? —
сказала владелица Болдрингема. — Не нанесешь же ты такое оскорбление моим
сединам и нашему родству!
— Прошу прощения, миледи, — ответила Эвелина, — кто ночью испытал ваше
гостеприимство, тому утром не до трапезы. Роза! Наши лентяи уже во дворе или
еще в постелях и отсыпаются после ночных треволнений?
Роза объявила, что вся свита уже на конях и ожидает во дворе. Когда
Эвелина, низко поклонившись, направилась без дальнейших церемоний к дверям,
Эрменгарда встала перед ней и преградила ей дорогу, устремив на нее
угрожающий взгляд. Казалось, что в душе ее кипело больше ярости, чем способны были
выразить бескровные и застывшие старческие черты. Она даже подняла свой
посох из черного дерева, как бы намереваясь ударить. Однако, внезапно
передумав, она пропустила Эвелину, и та молча прошла мимо нее. Спускаясь по
лестнице, ведшей к воротам, Эвелина слышала у себя за спиной, как тетка,
подобно древней оскорбленной сивилле3, пророчила ей беду и гибель за ее
дерзость и самонадеянность.
— Гордость, — восклицала она, — предшествует погибели, а надменность —
падению. Кто презрел дом своих предков, будет раздавлен камнями с его стен!
Кто насмеялся над сединами родственницы, не доживет до собственных седин!
Кто обвенчается с человеком, всюду несущим войну, не окончит свои дни мирно!
Торопясь уйти от этих и других подобных зловещих прорицаний, Эвелина
выбежала из дома и торопливо, точно беглянка, вскочила на своего коня;
сопровождаемая слугами, которым передалась ее тревога, хотя они и не знали ее
причины, она въехала в лес; дорогу им указывал старый Рауль, хорошо знавший
местность.
Взволнованная более, чем она хотела себе в этом признаться, таким
отъездом из дома близкой родственницы, напутствуемая проклятиями вместо
благословения, какими обычно провожают родных, Эвелина подгоняла своего коня,
пока ветви могучих дубов не скрыли от нее роковую усадьбу.
Вскоре послышался конский топот; их догоняла стража, поставленная
коннетаблем вокруг дома; теперь, собравшись со своих постов, воины готовились
сопровождать Эвелину в Глостер; большая часть пути пролегала через
обширный Динский лес4, простиравшийся в те времена очень далеко, а ныне
наполовину вырубленный ради нужд железорудных копей. Всадники присоединились
к свите леди Эвелины. Их доспехи сверкали в лучах утреннего солнца; трубы
звучали, кони ржали и гарцевали; каждый из бравых всадников стремился
наилучшим образом показать своего коня и свое искусство управлять им; потрясая
94
Обрученная
копьями, на которых развевались длинные вымпелы, они всячески выражали
радостную готовность показать себя в деле. Воинская доблесть ее
соотечественников-норманнов наполняла Эвелину торжеством и сознанием безопасности,
гнала прочь мрачные мысли и успокаивала возбужденные нервы. Утреннее
солнце, пение птиц в листве, мычание скота, выгоняемого на пастбище,
появление на опушке лани с детенышами — все это развеивало ужасные видения
прошедшей ночи и смягчало гнев, наполнявший Эвелину при отъезде из Болдрин-
гема. Она позволила коню замедлить шаг и со свойственной женщинам
заботливостью о приличиях стала приводить в порядок свою дорожную одежду и
прическу, растрепавшуюся при поспешном отъезде. Роза увидела, как гневный
румянец, пылавший на ее щеках, сменился более спокойными красками, как
глаза с удовольствием останавливались на воинственных спутниках, и
простила ей восторженные похвалы соотечественникам, на которые при других
обстоятельствах, вероятно, нашла бы возражения.
— Мы сейчас в безопасности, — говорила Эвелина, — нас охраняют
благородные и непобедимые норманны. В своем гневе они подобны царственному льву,
который, убив жертву, тотчас снова спокоен; их романтическая любовь чужда
коварства; их справедливое негодование не становится угрюмой злобой; им
ведомы не одни лишь законы войны, но и придворный этикет; если кто-либо
превзойдет их в военном искусстве (а это будет не раньше, чем сдвинется с места гора
Плинлиммон5), они все же останутся первыми по учтивости и великодушию.
— Я сильнее ощущала бы все их достоинства, если бы была одной с ними
крови, — отвечала Роза. — Но я рада, что они сейчас с нами, в этих лесах,
полных, как говорят, всевозможных опасностей. И уж конечно на сердце у меня
стало легче, когда скрылся из виду старый дом, где мы так дурно провели ночь.
Он всегда останется для меня ужасным воспоминанием.
Эвелина лукаво взглянула на нее.
— Признайся, — спросила она, — ты отдала бы лучший свой наряд, чтобы
узнать все, что там произошло.
— Это просто значило бы признаться, что я женщина, — ответила Роза. —
Впрочем, и мужчины едва ли менее любопытны.
— Ты не спешишь заявить о других чувствах, побуждающих тебя
интересоваться моей судьбой, — сказала Эвелина, — но, милая Роза, от этого я ценю их
не меньше. И поверь мне, ты все узнаешь, только не сейчас.
— Как вам будет угодно, — сказала Роза. — Но думается, что хранить в себе
столь ужасную тайну — значит, сделать ее бремя еще тяжелей. На мое
молчание вы можете положиться, как на святой образ, который выслушивает наши
исповеди. Кроме того, заговорив о страшном, мы с ним как бы осваиваемся,
а то, с чем осваиваешься, постепенно становится менее страшным.
— Ты права, моя разумница. Действительно сейчас, среди этих бравых
воинов; когда моя добрая кобылка Изольда6 бережно несет меня, точно я цветок
на стебле; когда нас овевает свежий ветерок; когда вокруг нас распускаются
цветы и поют птицы; когда рядом со мною ты, это, пожалуй, лучшее время,
чтобы поведать тебе то, что ты имеешь все права узнать. Итак, слушай! Тебе,
должно быть, известно, кто такие «баргейсты»7, как называют их саксы?
Глава XV
95
— Прошу прощения, госпожа, — перебила ее Роза, — но мой отец не
одобряет подобные поверья. Он говорит, что мне придется увидеть немало злых духов
без того, чтобы воображать еще каких-то, несуществующих. Слово «баргейст»
я слышала от Джиллиан и других саксов; знаю только, что это нечто страшное,
а что именно, я не спрашивала.
— Так знай же, — сказала Эвелина, — что это призрак, обычно призрак
умершего; он посещает места, где ему при жизни причинили зло или где он спрятал
клад или еще что-нибудь. Он является живущим там людям и принимает в их
судьбе участие, иногда на благо им, а иногда во зло. Поэтому «баргейст»
бывает для какой-либо семьи или группы людей либо добрым гением, либо
мстительным демоном. Владельцам Болдрингема (который много чем славится) сужде-
ны посещения такого существа.
— Могу ли я спросить о причине его посещений, если она известна? —
сказала Роза, желая воспользоваться общительным настроением молодой госпожи,
которое могло быть недолгим.
— Предание неизвестно мне во всех подробностях, — ответила Эвелина,
ценой больших усилий возвращая себе спокойствие, — но рассказывают так: сакс
Болдрик, первый владелец этого дома, полюбил красавицу бриттку, среди
пращуров которой были друиды8, совершавшие, как говорят валлийцы,
человеческие жертвоприношения9 среди камней, образующих круг10. Этих камней
немало в здешних местах. После двух с лишним лет брачного союза Болдрику так
наскучила жена, что он принял жестокое решение предать ее смерти. Одни
говорят, будто он усомнился в ее верности; другие — что на этом настаивала
Церковь, подозревавшая ее в ереси; третьи — что он хотел избавиться от нее
ради брака с более богатой невестой. Известно только, чем все кончилось.
Болдрик послал в Болдрингем двух своих слуг, приказав им убить несчастную
Ванду, а в доказательство, что приказ исполнен, привезти ему кольцо, которое он
надел ей на палец в день свадьбы. Они выполнили это с большой жестокостью;
Ванда была удавлена в том самом покое; так как палец у нее распух и снять
кольцо не удавалось, они отрубили ей палец. Но еще прежде, чем жестокие
убийцы возвратились к своему хозяину, ему предстал призрак Ванды; увидя ее
окровавленную руку, он ужаснулся усердию, с каким был выполнен его
безжалостный приказ. После этого призрак являлся Болдрику в дни мира и в дни
войны, в пустыне, при дворе и в военном лагере, пока он не умер на пути в
Святую Землю, отчаявшись от него избавиться. Призрак убитой Ванды наводил
ужас на обитателей Болдрингема, и даже помощь святого Дунстана не вполне
избавила их от этих посещений. Святой Дунстан изгнал призрак11, но во
искупление греха Болдрика наложил епитимью на всех женщин из его рода; раз в
жизни, прежде чем исполнится ей двадцать пять лет, каждая из них должна в
одиночестве провести ночь в покое убитой Ванды, читая молитвы как за упокой
ее души, так и за грешную душу ее убийцы. Говорят, будто в такую ночь
призрак убитой является той, кто там бодрствует, и предсказывает ей счастье или
беду. Если счастье, то Ванда предстает ей улыбаясь и крестит ее своей здоровой
рукой; если горе, то показывает руку с отрубленным пальцем и смотрит
сурово, словно гневается на родню своего жестокого мужа. Говорят, что иногда она
96
Обрученная
что-то произносит. Все это я давно слышала от одной старой саксонки, матери
нашей Марджери. Она прислуживала моей бабушке и оставила Болдрингем,
когда та бежала оттуда с моим дедом со стороны отца.
— А она, ваша бабушка, выполнила ли этот обряд? — спросила Роза. —
Да простит мне святой Дунстан, но мне кажется, что человек вступает при этом
в слишком близкие сношения с созданием неведомой и очень сомнительной
природы.
— Именно так думал и мой дед. После свадьбы он не позволил бабушке ни
разу побывать в Болдрингеме; отсюда и пошли нелады между ним и его сыном,
с одной стороны, и родом Болдрингем — с другой. Свои несчастья, особенно
смерть нескольких наследников мужского пола, случившиеся в то время, они
приписывали именно пренебрежению моей бабушки к обязательному обряду в
честь «баргейста» с окровавленной рукой.
— Да как же могли вы, милая госпожа, — сказала Роза, — принять
приглашение леди Эрменгарды, зная, что в ее доме совершается этот мерзкий обряд?
— Едва ли я сумею ответить на твой вопрос, — призналась Эвелина. — Я
боялась, что отец мой потому был убит самым презренным из своих врагов (это
напророчила ему моя тетка), что однажды обрядом пренебрегли; но вместе с
тем я надеялась, что, видя мой ужас перед этим обрядом, меня не станут к нему
принуждать из человеколюбия. Ты видела, как моя жестокосердная
родственница ухватилась за эту возможность; а мне, раз я ношу имя Беренжеров и
надеюсь, что ношу достойно, было невозможно ускользнуть из сети, в которую
сама попала.
— Ну, а меня, — сказала Роза, — никакое почтение к имени или рангу не
заставило бы остаться там, где даже не появление призрака, а одно лишь
ожидание этого могло лишить рассудка, и это было бы мне наказанием за
самонадеянность. Но скажите же, ради Бога, что вы увидели во время этой ужасной
встречи?
— Я спрашиваю себя, — продолжала Эвелина, прижав руку ко лбу, — как
могла я, видя то, что увидела, сохранить власть над своим рассудком? Я прочла
положенные молитвы за убийцу и за его жертву, села на постланную мне
постель и сняла с себя лишнюю одежду, которая могла помешать моему отдыху;
словом, преодолела первое чувство страха, охватившее меня при входе в
таинственный покой. Я надеялась, что сон мой будет так же спокоен, как чисты были
мои помыслы. Но я была жестоко разочарована. Не знаю, долго ли я спала,
прежде чем на грудь мою легла тяжесть, которая, казалось, не даст мне
крикнуть, остановит биение моего сердца и дыхание. Подняв глаза, чтобы увидеть,
кто душит меня, я разглядела возле своей постели, но словно в тумане, высокую,
выше человеческого роста, фигуру женщины. Лицо ее, хотя величественное и
прекрасное, выражало злобное и мстительное торжество. Простирая надо мной
руку с кровавыми следами учиненного над нею насилия, она перекрестила меня,
но так, точно обрекала на гибель, и замогильным голосом произнесла
следующие слова:
Обручена, но не жена,
И предала, и предана.
Глава XV
97
При этом она склонилась надо мной, как бы желая коснуться моего лица
окровавленными пальцами. Ужас, сперва лишивший меня сил, в тот миг
умножил их. Я громко закричала... окно с треском распахнулось и... Но к чему я это
рассказываю тебе, Роза, когда по выражению твоего лица вижу, что ты
считаешь все это глупым, ребяческим сном?
— Не гневайтесь, дорогая моя госпожа, — сказала Роза. — Я действительно
думаю, что вы имели дело с ведьмой по имени Кошмар. Но врачи считают ее
не привидением, а лишь созданием нашего воображения, расстроенного каким-
нибудь телесным недомоганием.
— Смотри, какая ученая девица! — несколько раздраженно произнесла
Эвелина. — А если я скажу тебе, что на помощь мне пришел ангел-хранитель в
человеческом обличий, что при его появлении призрак исчез и что я была на
руках вынесена из ужасной опочивальни? Надеюсь, что теперь ты, как
христианка, больше поверишь моим словам.
— Не могу, милая госпожа, не могу! — возразила Роза. — Появление ангела-
хранителя как раз и заставляет меня считать все случившееся сном. На помощь
к вам явился норманнский часовой, которого я сама позвала для этого с его
поста. Он разбил окно и, ворвавшись в покой, перенес вас туда, где я приняла
вас, бесчувственную, из его рук.
— Как! Норманнский солдат! — Эвелина покраснела до корней волос. — Вот
кого ты посмела послать, чтобы он ворвался в мою опочивальню!
— Госпожа, ваши глаза сверкают гневом, но справедлив ли он? Ведь я
услышала ваш отчаянный крик. Неужели в такую минуту меня должны были
сковывать приличия? Не больше, чем если бы загорелся дом!
— Я снова спрашиваю тебя, Роза, — сказала ее госпожа все еще недовольная,
но уже менее чем вначале, — кому ты поручила ворваться в мои покои?
— Право, не знаю, госпожа, — замялась Роза. — Он был закутан в плащ,
но если бы я и разглядела его черты, едва ли они оказались бы мне знакомы.
Однако найти его можно, и я сейчас же займусь этим, чтобы вручить
обещанную награду и велеть ему обо всем молчать.
— Сделай это, — велела Эвелина, — и если в самом деле найдешь его среди
сопровождающих нас воинов, я, пожалуй, разделю твое мнение и буду считать,
что главную роль в испытанных мною ужасах играло мое воображение.
Роза ударила хлыстиком лошадь и вместе с госпожой подъехала к-Филиппу
Гуарайну, оруженосцу коннетабля, который командовал их небольшим
эскортом.
— Добрый Гуарайн, — сказала она, — вчера ночью я окликнула из окна одного
из часовых, и он оказал мне некую услугу, за которую я обещала ему
вознаграждение. Не узнаете ли вы, кто это был.
— От меня, прелестная девица, ему тоже кое-что положено. Если он
приблизился к дому настолько, что с ним можно было говорить из окна, он нарушил
устав часового.
— Ну, какое там! — возразила Роза. — Простите его ради меня. Если бы я
позвала вас, доблестный Гуарайн, уверена, что и вы подошли бы к моему окну.
Гуарайн пожал плечами и рассмеялся:
4 В. Скспт
98
Обрученная
— Верно говорят, что, когда вмешиваются женщины, дисциплине грозит
опасность.
Он отъехал, чтобы получить нужные сведения, но, вернувшись, заявил, что
солдаты все как один отрицают, что кто-либо из них приближался ночью к дому
леди Эрменгарды.
— Вот видишь, Роза, — Эвелина бросила на служанку многозначительный
взгляд.
— Бедняги боятся строгого командира, — решила Роза, — и не смеют сказать
правду. Думаю, один из них все-таки подойдет потихоньку ко мне за
заслуженной наградой.
— Я не прочь бы оказаться на его месте! — усмехнулся Гуарайн. — Не думайте
только, что эти молодцы так уж боязливы. Они довольно охотно сознаются в
своих проделках, даже менее извинительных. К тому же я пообещал никого не
наказывать. Нет ли еще приказаний?
— Никаких, добрый Гуарайн, — ответила Эвелина, — только прими вот этот
небольшой дар, чтобы купить солдатам вина. Пусть эта ночь будет у них
веселее прошедшей. А теперь, надеюсь, — продолжала она, когда Гуарайн
удалился, — ты поняла, что тот, кого ты видела ночью, не был смертным
человеком?
— Я должна верить своим ушам и глазам, госпожа, — настаивала Роза.
— Верь, но позволь то же самое и мне, — сказала Эвелина. — Уверяю тебя,
что мой спаситель (ибо так я должна его называть) имел черты того, кого не
было и не могло быть вблизи Болдрингема. Скажи только одно: что ты
думаешь об этом необычайном пророчестве:
Обручена, но не жена,
И предала, и предана.
Скажешь, это тоже плод моего воображения. Но допусти на миг, что это
слова истинной пророчицы, и объясни, что они означают?
— Что вас могут предать, милая госпожа, но что предательницей вы никогда
не будете, — живо ответила Роза.
Эвелина протянула руку верной подруге и, нежно пожимая руку,
протянутую навстречу, шепнула:
— Благодарю тебя за это суждение. Его подтверждает и мое сердце.
В это время облако пыли возвестило о приближении коннетабля Честерского
и его сопровождения, в котором находился теперь сэр Уильям Герберт и еще
несколько соседей и родственников, пожелавших засвидетельствовать свое
почтение сироте замка Печальный Дозор, как называли Эвелину те, чьи владения
она проезжала.
Эвелина заметила, что при встрече с ней де Лэси с удивлением и
неудовольствием взглянул на беспорядок в ее одежде, причиненный поспешным отъездом
ее из Болдрингема; она была поражена выражением его лица, как бы
говорившим: «Со мной нельзя обращаться как с любым и безнаказанно проявлять
неуважение». Она впервые подумала, что если лицу коннетабля недостает
красоты, зато оно способно с большой силой выражать гнев, и что та, которая будет
Глава XVI
99
носить его имя, должна будет всецело подчинить свою волю и желания воле
господина и повелителя.
Впрочем, облако на челе коннетабля скоро развеялось; слушая беседу, какую
он повел с Гербертом и другими рыцарями и дворянами, которые иногда
приближались приветствовать их и некоторое время сопровождали, Эвелина
могла убедиться, насколько он превосходил их всех умением выразиться, и заметить
почтительное внимание, с каким слова его выслушивались людьми, слишком
знатными и гордыми, чтобы признавать чье-либо превосходство, если оно не
основано на признанных всеми достоинствах. Отношение женщин весьма
зависит от оценок, какие дают человеку окружающие; и Эвелина, подъезжая к цели
своего путешествия — монастырю бенедиктинок в Глостере, невольно
почувствовала уважение к прославленному воину и государственному мужу, чьи таланты
возвышали его над всеми, кого она возле него видела. Его супруга,
размышляла Эвелина (а она не лишена была честолюбия), если и должна будет
примириться с отсутствием у мужа тех качеств, которые в юности всего более
пленяют женское воображение, будет, зато повсюду уважаема и почитаема; уделом
ее вместо романтического блаженства может стать глубокая удовлетворенность.
Глава XVI1
Леди Эвелина почти четыре месяца провела у своей тетки, аббатисы
бенедиктинского женского монастыря, которая поощряла сватовство коннетабля
Честерского не менее, чем это делал бы ее покойный брат Раймонд Беренжер.
Возможно, однако, что если бы не чудесное видение, в которое твердо верила
Эвелина, и не благодарственный обет, который она дала Пресвятой Деве,
естественное отвращение юной девушки к браку, столь неравному по возрасту, стало
бы для этого сватовства самым большим препятствием. Уважая добродетели
коннетабля, отдавая должное его высокому духу, восхищаясь его дарованиями,
Эвелина не могла вполне отделаться от тайного страха перед ним; страх этот
мешал ей прямо выказывать, что его ухаживание ей неприятно, но иногда
заставлял ее содрогаться при мысли, что оно увенчается успехом.
Зловещие слова «и предала, и предана» приходили ей тогда на память;
и когда тетка (по окончании срока глубокого траура) назначила день обручения,
она стала ждать его с ужасом, который сама не могла себе объяснить и который,
как и подробности своего сна, скрывала от отца Альдрованда даже на
исповеди. Это не было отвращением к самому коннетаблю; еще менее было это
предпочтением какого-либо другого претендента на ее руку; но одним из тех
бессознательных чувств, посредством которых Природа как бы предупреждает нас
о грозящей опасности2, хотя не сообщает, какого рода эта опасность, и не
подсказывает, как ее избежать.
По временам чувство это бывало столь сильным, что, если бы к нему, как
раньше, присоединились уговоры Розы Флэммок, Эвелина могла прямо
прийти к неблагоприятному для коннетабля решению. Но Роза, заботясь о чести
своей госпожи еще более, чем о ее счастье, удерживалась от малейшего слова,
которое могло поколебать Эвелину после того, как она дала согласие на сватов-
4*
100
Обрученная
сгво де Лэси. Что бы ни думала Роза о предстоящем браке, с этого момента она,
казалось, считала его чем-то неизбежным.
Сам де Лэси, ближе узнавал ценность сокровища, которым он хотел
обладать, стал относиться к своему предстоящему браку с иными чувствами, чем
когда впервые предложил его Раймонду Беренжеру. Тогда это был всего лишь
союз ради удобства и взаимной выгоды, представлявшийся дальновидному
феодальному барону лучшим способом укрепления своей власти и
продолжения своего рода. Даже блистательная красота Эвелины не произвела на де Лэси
того впечатления, какое производила на пылких рыцарей тех времен. Он
перешагнул уже тот возраст, когда мудрый человек пленяется внешностью; и мог бы,
не кривя душой, пожелать, чтобы его прекрасная невеста была несколькими
годами старше и обладала меньшими прелестями, ибо это сделало бы их брак
более соответственным его возрасту и склонностям. Однако этот стоицизм
исчез3, когда коннетабль, после нескольких встреч с невестой, убедился, что она,
конечно, неопытна, но готова руководствоваться мудростью старших; что хотя от
природы наделена живостью и веселостью и вновь обретает их после
перенесенных бед, но кротка и добра; а главное, обладает твердостью духа, обещающей, что
она пройдет, не оступившись и ничем себя не запятнав, всеми скользкими
тропами, какие суждены юности, красоте и высокому положению в обществе.
По мере того как в сердце де Лэси рождались более пылкие чувства к
Эвелине, обет крестоносца становился ему все тягостнее. Аббатиса бенедиктинского
монастыря, которой выпала забота о судьбе Эвелины, способствовала этому
своими увещеваниями. Будучи монахиней, она, однако, чтила святость брачного
союза и понимала, что главная цель его не может быть достигнута, если
между супругами пролегает весь Европейский континент; а когда коннетабль
намекнул, что юная супруга могла бы сопровождать его в лагерь крестоносцев,
полный соблазнов и опасностей4, добрая аббатиса в ужасе перекрестилась и
запретила даже упоминать об этом в ее присутствии.
Однако королям, принцам и прочим важным особам, давшим обет
освободить Иерусалим, не раз удавалось добиться отсрочек и даже полного
освобождения от обета. С такой просьбой надо было обращаться к церковным властям
в Риме. Коннетабль был уверен, что, прося разрешения остаться в Англии,
он получит полную поддержку короля5; ибо именно его доблести и военному
искусству Генрих доверил оборону беспокойной Валлийской Марки и отнюдь не
одобрил, когда столь нужный ему подданный дал обет крестоносца.
Поэтому в беседе между аббатисой и коннетаблем было решено, что
последний станет просить Рим, а также папского легата6 в Англии об отсрочке не
менее, чем на два года; и можно было надеяться, что столь богатой и влиятельной
особе едва ли будет отказано в просьбе, тем более сопровождаемой весьма
щедрыми предложениями иным способом содействовать освобождению Святой
Земли. Предложения были в самом деле щедры: взамен собственного участия
коннетабль брался послать туда за свой счет его воинов, вооруженных копьями,
а при каждом по два оруженосца, по три лучника и слугу или конюха; иначе
говоря, вдвое больше того, чем было бы при нем, если бы ехал он сам. Сверх
того, он обязывался внести две тысячи золотых византийских монет7 на общие
Глава XVI
101
расходы крестового похода и передать христианскому воинству суда,
приготовленные им для себя и своих воинов и уже ожидавшие отплытия.
Но, даже делая столь щедрые предложения, коннетабль чувствовал, что они
не удовлетворят сурового прелата Болдуина; именно он, проповедуя крестовый
поход, добился участия в святом деле коннетабля и многих других; и ему,
несомненно, будет досадно, если от дела этого отступается столь нужный ему
соратник. Чтобы, насколько возможно, смягчить архиепископа, коннетабль
предложил, если ему разрешат остаться в Англии, послать во главе своего
отряда племянника Дамиана Лэси, несмотря на молодость уже известного своей
рыцарской доблестью, надежду рода, а в случае если не будет у коннетабля
детей, то и наследника всего его состояния.
Все это коннетабль сообщил архиепископу Болдуину весьма осторожно,
через их общего друга, на которого мог надеяться и который, как считали,
пользовался расположением прелата. Несмотря на щедрость предложений,
прелат выслушал их в угрюмом молчании, а ответ обещал дать при личной
встрече с коннетаблем, в назначенный для этого день, когда церковные дела
потребуют присутствия архиепископа в городе Глостере. Такой ответ,
переданный посредником, сулил коннетаблю нелегкую борьбу с гордым и
могущественным князем Церкви; но, будучи и сам гордым и могущественным, он не опасался
поражения.
Необходимость уладить это дело, а также недавняя гибель отца Эвелины
вынуждали де Лэси праздновать обручение скромно и мешали устроить турнир
и иные рыцарские игры, в которых ему хотелось блеснуть перед предметом
своей любви. Более мирные развлечения с музыкой и танцами не дозволялись
монастырскими правилами; и хотя коннетабль выражал свои чувства к
невесте великолепными дарами ей самой и ее слугам, его ухаживание, по мнению
Джиллиан, более напоминало приготовления к похоронам, чем веселое
приближение свадьбы.
Нечто подобное ощущала и сама невеста; порою ей казалось, что присутствие
юного Дамиана, близкого ей по возрасту, могло бы несколько скрасить ей
общество его почтенного дяди; но Дамиан не появлялся; из слов коннетабля она
могла заключить, что дядя и племянник, во всяком случае, на время, как бы
поменялись ролями. Старший де Лэси хотя и жил, согласно своему обету,
в шатре у ворот Глостера, но редко облачался в доспехи; свой потертый
замшевый камзол он сменил на дорогие одежды из узорчатого шелка и, насколько
помнили его современники, в преклонные годы одевался более щегольски, чем
в юности. Племянник его, напротив, почти все время находился в Валлийской
Марке, улаживая мирным, а то и военным путем различные беспорядки,
постоянно там происходившие. Эвелина с удивлением услышала, что дядя лишь с
трудом убедил его присутствовать на церемонии обручения. Эта церемония,
которая, смотря по обстоятельствам, на более или менее долгий срок
предшествовала венчанию, совершалась обычно с торжественностью, соответствующей
общественному положению жениха и невесты.
Коннетабль с сожалением добавил, что Дамиан слишком мало дает себе
отдыха и сна, что это вредит его здоровью, и что ученый еврей-лекарь посове-
102
Обрученная
товал сменить климат на более теплый и восстановить таким образом силы
молодого человека.
Эвелина выслушала это с большим сожалением, ибо помнила Дамиана как
доброго вестника, который первым доставил ей известие о снятии осады замка
валлийцами; и хотя встретились они тогда в печальные дни, воспоминания о нем
были приятны — настолько скромно было его поведение и утешительно его
сочувствие. Ей захотелось увидеть его, чтобы самой судить о природе его
недомогания, ибо, подобно другим девицам того времени, она обладала некоторыми
сведениями о врачевании; а отец Альдрованд, сам не из последних в этом
искусстве, научил ее извлекать целительные соки растений и трав, собранных при
благоприятном расположении планет8. Она надеялась, что ее познания, как ни
были они скромны, могут принести пользу тому, кто был ее другом и
избавителем и должен был стать близким родственником.
Вот отчего она обрадовалась, хотя и несколько смутилась (вероятно, при
мысли, что возьмется давать медицинские советы столь молодому пациенту),
когда однажды вечером, пока обитательницы монастыря обсуждали какие-то
дела своего капитула9, Джиллиан сообщила, что с ней желал бы говорить
родственник коннетабля. Она опустила на лицо вуаль, которую носила, соблюдая
монастырские правила, и поспешила спуститься в приемную, приказав
Джиллиан сопровождать ее, что та, впрочем, не торопилась исполнить.
Войдя в приемную, она нашла там человека, которого никогда прежде не
видела; преклонив колено и взяв край ее вуали, он поцеловал его с величайшей
почтительностью. Удивленная и встревоженная, она отступила, хотя в
незнакомце не было ничего, что могло бы вызвать опасения. Это был человек лет
тридцати на вид, высокого роста и с благородной осанкой, хотя несколько
истощенный, и лицом, на котором болезни, а быть может излишества, оставили следы,
каких не мог еще оставить возраст. Он держал себя с немного даже
избыточной почтительностью. Заметив удивление Эвелины, он сказал гордо и с
некоторым волнением:
— Боюсь, что я ошибся и мой приход является нежеланным.
— Встаньте, сэр, — промолвила Эвелина, — и позвольте узнать ваше имя и
цель вашего прихода. Мне сказали, что меня спрашивает родственник
коннетабля Честерского.
— И вы, конечно, ожидали увидеть юнца по имени Дамиан, — ответил
незнакомец, — но ваш брак, о котором уже говорит вся Англия, породнит вас и с
другими родственниками мужа, кроме этого юноши, в том числе и с несчастным
Рэндалем де Лэси. Быть может, — продолжал пришедший, — вам еще не
приходилось слышать это имя из уст его более счастливого родственника, более
счастливого во всем, всего же более в предстоящем ему браке.
Комплимент сопровождался низким поклоном. Смущенная Эвелина не
знала, как отвечать на все эти любезности. Она вспомнила, что коннетабль,
говоря о своей родне, упоминал имя Рэндаля, но можно было понять, что доброго
согласия между ними не было. Поэтому она ответила ему лишь немногими
словами и поблагодарила за посещение, надеясь, что после этого он удалится;
но уходить он не намеревался.
Глава XVI
103
— Судя по холодности, с какой принимает меня леди Эвелина Беренжер,
я вижу, что мой родственник (если он вообще счел меня достойным
упоминания) говорил обо мне нелестно, чтобы не сказать больше. А между тем имя мое
некогда значило и при дворе, и на поле битвы не меньше, чем имя коннетабля;
и ничто более позорное, чем бедность — хотя именно ее часто считают за
величайший позор, — не помешало бы мне и теперь занять почетное место.
Прегрешения моей юности были многочисленны, но я расплатился за них потерей
состояния и положения в обществе; и мой счастливый родственник мог бы мне помочь,
если бы пожелал. О нет, не кошельком! Как я ни беден, я не хотел бы жить
милостыней, и притом неохотно подаваемой бывшим другом, отдалившимся от
меня. Нет, его помощь не ввела бы его в расходы; только на такую я и надеюсь.
— Об этом, — сказала Эвелина, — может судить только сам милорд
коннетабль. Я не имею, во всяком случае еще не имею, права вмешиваться в его
семейные дела; а если когда-нибудь буду иметь такое право, то пользоваться им
стану осмотрительно.
— Мудрый ответ! — усмехнулся Рэндаль. — Но я прошу лишь об одном:
передать моему родственнику просьбу, которую самому мне трудно изложить с
должным смирением. Ростовщики, которые пожирают остатки моих средств,
грозят мне тюрьмой; такую угрозу они едва ли решились бы произнести, а тем
более исполнить, если бы я не был лишен поддержки главы нашего рода и не
казался им скорее безродным бродягой, чем потомком могущественного рода де Лэси.
— Это прискорбно, — сказала Эвелина, — но я не вижу, чем могла бы вам
помочь.
— Могли бы, и очень легко, — ответил Рэндаль де Лэси. — Я слышал, что день
вашего обручения назначен, и вы имеете право пригласить кого пожелаете на
эту торжественную церемонию, да благословят ее святые! Для всех, кроме меня,
присутствие или отсутствие на ней всего лишь формальность, а для меня это
вопрос жизни или смерти. В моих нынешних обстоятельствах исключение из
числа приглашенных на семейное торжество означало бы, что я навсегда
отлучен от семьи де Лэси; тогда как малейший знак признания со стороны моего
могущественного родственника мог бы сдержать стаю алчных псов, которые
безжалостно меня осаждают, ибо псы эти трусливы. Но зачем отнимаю я ваше
время, рассказывая все это? Прощайте, леди, будьте счастливы и не думайте обо
мне еще хуже, чем прежде, если я прервал счастливое течение ваших мыслей
повествованием о своих бедах.
— Постойте, сэр, — остановила его Эвелина, тронутая тоном и манерами
благородного просителя. — Вам не придется говорить, что вы поведали о своих
бедствиях Эвелине Беренжер и не получили от нее всей помощи, какая в ее
силах. Я передам вашу просьбу коннетаблю Честерскому.
— Вы должны сделать больше, если действительно хотите мне помочь, —
сказал Рэндаль де Лэси. — Эту просьбу вам следует изложить от своего имени.
Вы не знаете, — продолжал он, пристально и выразительно глядя на нее, — как
трудно заставить кого-либо из рода де Лэси изменить однажды принятое
решение. Через год вы лучше узнаете непреклонность наших решений. Но сейчас кто
будет в силах противиться вашему желанию, если вам угодно его высказать?
104
Обрученная
— Все, чего способны достичь мое доброе слово и добрые пожелания, будет
сделано, — ответила Эвелина. — Но вы должны помнить, что успех или
неудача будут все же зависеть от самого коннетабля.
Рэндаль де Лэси удалился, выказав то же глубокое почтение, что и при
встрече; но тогда он приложился к краю одежды Эвелины; теперь он столь же
благоговейно притронулся губами к ее руке. Эвелина проводила его со смешанными
чувствами, из которых всего сильнее было сострадание; хотя в его жалобах на
недоброе отношение к нему коннетабля было нечто неприятное, а признания в
прегрешениях звучали скорее гордо, чем покаянно.
Встретившись после этого с коннетаблем, Эвелина рассказала ему о
появлении Рэндаля и о его просьбе; внимательно глядя на него, она заметила, что при
первом упоминании имени этого родственника на лице коннетабля мелькнул
гнев. Однако он тут же подавил его и, опустив глаза, выслушал подробный
рассказ Эвелины и ее просьбу пригласить Рэндаля на их обручение.
На мгновение коннетабль задумался, точно искал способ отклонить просьбу.
Наконец он сказал:
— Вы не знаете, за кого просите, иначе, вероятно, не стали бы этого делать.
Неведомо вам и все значение вашей просьбы, а мой хитрый родственник
понимает это отлично. Оказывая ему знак внимания, о котором он просит, я в
глазах общества еще раз — уже в третий раз — принимаю участие в его делах и тем
даю ему возможность вернуть себе утраченное положение и исправить свои
многочисленные проступки.
— Но почему бы нет, милорд? — спросила великодушная Эвелина. — Если он
разорился оттого, что наделал глупостей, то сейчас он достиг возраста, когда
подобные соблазны уже не влекут; а если рука и сердце у него на что-то годны,
он еще может делать честь роду де Лэси.
Коннетабль покачал головой.
— Видит Бог, его рука и сердце еще могут служить, неизвестно только, добру
или злу. Но пусть никто не скажет, что моя прекрасная Эвелина обращалась с
просьбой к Хьюго де Лэси, а он не сделал все возможное, чтобы ее удовлетворить.
Рэндаль будет приглашен на наше обручение; его присутствие окажется тем более
кстати, что с нами не будет моего милого племянника Дамиана. Болезнь его
усилилась и сопровождается, как я слышал, странными симптомами умственного
расстройства и раздражительностью, которая прежде не была ему свойственна.
Глава XVII
Колокола, звончей! Невеста близко,
Румянец на щеках ее играет
Так, что пред ней сама заря невзрачна...
Но эти тучи... Может, знак недобрый?
Старинная пьеса1
День обручения приближался. Оказалось, что строгие правила, каких
придерживалась аббатиса, не помешали ей выбрать для этого обряда главный зал
монастыря, хотя это означало, что к его целомудренным обитательницам про-
Глава XVII
105
никнет множество гостей мужского пола, и хотя самый обряд был
предвестником того, от чего они навсегда отреклись.
Гордая своим знатным норманнским происхождением и искренне
принимавшая к сердцу судьбу своей племянницы, аббатиса пренебрегла всем этим.
Почтенную особу можно было видеть в необычной суете, то она приказывала
садовнику убрать трапезную цветами, то обсуждала с сестрами, ведавшими
монастырской кладовой и кухней, все подробности великолепного угощения, хотя
и перемежала свои распоряжения относительно этих мирских дел
восклицаниями об их суетности и тщете. Озабоченно оглядев все эти приготовления, она
возводила глаза к небу и вздыхала о мирской суете, которой ей приходится
уделять столько забот. Иногда можно было видеть, как она совещалась с отцом
Альдровандом о религиозном и светском обряде, сопровождающем столь
важное для семьи событие.
Впрочем, монастырские правила, хотя и смягченные на время, не совсем
были отменены. Внешний двор обители действительно открыли для особ
мужского пола; однако молодых монахинь и послушниц отослали в дальние
помещения обширного здания, под надзор угрюмой старой монахини, в
монастырском уставе именуемой Мать послушниц, чтобы зрение их не осквернялось
видом развевающихся султанов и плащей. На свободе оставлены были лишь
немногие, по положению почти равные аббатисе; но это уж был, как
выражаются продавцы, товар, которому ничего не сделается, а потому его можно
оставлять на прилавке без присмотра. Эти престарелые особы, скрывавшие под
показным безразличием живое любопытство относительно имен гостей, их
убранства и знаков отличия, старались удовлетворить это любопытство окольными
путями и не выдавать прямыми вопросами своего интереса к мирской суете.
Монастырские ворота охранялись отрядом копьеносцев коннетабля; в святые
пределы допускали лишь тех немногих, кто был приглашен на торжество,
а также главных из сопровождавших их слуг. Первых вводили в празднично
убранные внутренние помещения, вторые, хотя и оставались во внешнем дворе,
получали щедрое угощение, а также любимое простолюдинами развлечение —
рассматривать и обсуждать господ, проходивших внутрь здания.
Среди слуг, предававшихся этому занятию, находился и старый егерь Рауль
со своей веселой супругой. На нем был отличный новый кафтан зеленого
бархата, она красовалась в кокетливом желтом шелковом платье, отделанном
беличьим мехом. В самых ожесточенных войнах случаются иногда перемирия;
самая лютая непогода сменяется тихими и теплыми днями; так было и на
супружеском горизонте этой любезной четы, обычно облачном, но сейчас на
короткое время прояснившемся. Их праздничная одежда, предстоящее веселое
зрелище, а также, возможно, кубок мускатного вина, осушенный Раулем, и чаша
глинтвейна, выпитая его женой, сделали их более обычного приятными друг
другу; хорошее угощение в таких случаях подобно смазочному маслу для
заржавевшего замка, заставляющему легко и плавно двигаться частям его
механизма, которые без этого не работают или скрипом и скрежетом выражают
нежелание действовать в согласии друг с другом. Супруги нашли себе удобное
местечко в какой-то нише, на три или четыре ступеньки поднятой над землей и
106
Обрученная
вмещавшей небольшую каменную скамью; оттуда их любопытным глазам был
отлично виден каждый из гостей, входивших во двор.
В их кратковременном единении Рауль со своим угрюмым лицом был
воплощением Января, сурового отца года; а Джиллиан, хотя и оставила позади
нежное цветение Мая, жарким взором темных глаз и алым румянцем округлых
щек могла представлять веселый плодоносный Август2. Кумушка Джиллиан
любила похвалиться, что может, если захочет, завлечь веселой болтовней кого
угодно — от Раймонда Беренжера до конюха Робина; подобно хорошей
хозяйке, которая, чтобы не утратить сноровки, иной раз стряпает изысканные
блюда даже для собственного супруга, Джиллиан решила упражняться в искусстве
очаровывать, не гнушаясь и старым Раулем; и своими веселыми остротами
сумела победить не только его желчный и цинический взгляд на все
человечество, но также особую его склонность раздражаться против супруги. Ее шутки,
более или менее удачные, и кокетливость, с какою она их преподносила, так
подействовали на старого лесного Тимона3, что он только поводил своим хмурым
носом, скалил немногие уцелевшие зубы, точно пес, готовый укусить,
разражался лающим смехом, опять-таки напоминавшим его собственных собак, и
внезапно обрывал его, словно вспомнив, что это ему не к лицу; однако, прежде чем
вернуться к своей обычной мрачной серьезности, он бросил на Джиллиан
взгляд, при котором он, со своей выступающей вперед челюстью, узкими
глазами и крючковатым носом, сделался очень похож на одну из причудливых рож,
какими украшены грифы старинных контрабасов4.
— Ну что, разве не лучше вот так, как сейчас, чем потчевать любящую жену
собачьей плеткой? — спросил Август у Января.
— Конечно, лучше, — ответил Январь, и в голосе его снова повеяло холодом. —
Поэтому лучше не проделывать сучьих штучек, за которые пускают в ход плетку.
— Ишь! — произнесла Джиллиан, своим тоном выражая явное желание
поспорить с этим мнением, но тут же меняя этот тон на нежный. — Ах, Рауль! —
сказала она. — Помнишь, как ты однажды избил меня всего лишь за то, что
покойный господин, Царство ему Небесное, принял пунцовый шнур на моем
корсаже за цветок пион?
— Да, да, — проворчал егерь. — Помнится, нашему господину случалось этак
ошибаться, Царство ему Небесное! Что ж, и самая лучшая собака иной раз
берет не тот след.
— А можно ли, милый Рауль, — спросила спутница его жизни, — чтобы твоя
жена так долго обходилась старыми платьями?
— Да ведь ты получила от молодой госпожи такое, что впору носить
графине! — сказал Рауль сердито, ибо затронута была струна, нарушившая гармонию. —
Сколько же платьев тебе надобно?
— Всего два, милый Рауль; чтобы соседки не высчитывали годы своих детей
с того времени, как у Джиллиан завелась обнова.
— Вот ведь беда! Стоит человеку прийти в доброе расположение духа, как
приходится за это платить. Будет тебе новое платье, но не прежде Михайлова
дня5, когда продам шкуры. В нынешнем году за одни рога можно будет кое-что
выручить.
Глава XVII
107
— А как же! — откликнулась Джиллиан. — Я всегда говорю, муженек, что
рогам цена не меньше, чем шкуре.
Рауль быстро обернулся, словно ужаленный осою; и трудно угадать, каков
был бы его ответ на это, на первый взгляд, невинное замечание, если бы в этот
миг не появился во дворе некий бравый всадник; спешившись, он, как и прочие,
передал коня слуге или конюшему в богато расшитой одежде.
— Клянусь святым Губертом6, отличная посадка! — воскликнул Рауль. —
Да и конь отменный. И ливрея на конюшем с гербом милорда коннетабля. А вот
всадника я что-то не узнаю.
— Зато я узнала, — сказала Джиллиан. — Это Рэндаль де Лэси, родственник
коннетабля. И он ничем не хуже кого другого из их рода.
— Клянусь святым Губертом! Я слыхал, он мот и кутила.
— Люди, бывает, и врут, — сухо возразила Джиллиан.
— И женщины тоже, — в тон ей заметил Рауль. — Что такое? Он, кажется,
тебе подмигнул?
— Да ведь ты правым глазом ничего не видишь! Да, да, с тех самых пор, как
наш господин, упокой Господи его душу, бросил в тебя кубок с вином за то, что
ты вломился к нему не вовремя.
— Дивлюсь, — сказал Рауль, делая вид, что не слышал ее, — почему этот гусь
оказался здесь. Говорят, он покушался на жизнь коннетабля, и они вот уже пять
лет не разговаривают друг с другом.
— Он здесь по приглашению моей молодой госпожи, это я знаю
доподлинно, — проговорила кумушка Джиллиан. — И скорее уж он сам претерпел от
коннетабля, чем тот от него. Ему, бедному, немало пришлось вынести.
— Кто тебе сказал? — сердито спросил Рауль.
— Не важно кто. Тот, кому все это в точности известно, — выпалила
кумушка Джиллиан и тут же спохватилась, что, желая прихвастнуть собственной
осведомленностью, сболтнула лишнее.
— Это мог быть только дьявол или сам Рэндаль, — произнес Рауль. —
Потому что ни у кого другого такая ложь и во рту не поместится. Но погляди-ка,
Джиллиан, кто идет за ним следом? Идет и словно не видит, куда ступает.
— Ваш ангелочек, молодой Дамиан, кто же еще, — презрительно скривила
губы кумушка Джиллиан.
— Быть того не может! — изумился Рауль. — Скажешь, что я ослеп? Но чтоб
за несколько недель человек так переменился! Он, как видно, и одевался не
глядя; точно попону надел, а не плащ. Что с ним? Вот, смотри, остановился у
дверей, будто кто ему дорогу преградил. Клянусь святым Губертом, его
околдовали!
— А ты-то его всегда так хвалишь! — сказала Джиллиан. — Рядом с
настоящим рыцарем на что он похож! Стоит и дрожит, как в лихорадке.
— Я подойду к нему, — решил Рауль и, позабыв свою хромоту, спрыгнул с
высоких ступенек. — Подойду, и, если он захворал, у меня найдутся ланцеты7 и
ножи; я сумею пустить кровь не только животному, но и человеку.
— Каков лекарь, таков и больной, — пробормотала Джиллиан. — Лекарь —
коновал, а больной — безумец. Не знает, что у него за хворь и как от нее лечиться.
108
Обрученная
Старый егерь тем временем подошел к дверям, у которых все еще стоял в
нерешительности Дамиан. Он словно не замечал окружающих, но сам
привлекал их внимание своим странным поведением.
Рауль всегда был особенно расположен к Дамиану. Быть может, немало
значило то, что жена его в последнее время отзывалась о Дамиане менее
почтительно, чем обычно говорила о красивых юношах. К тому же в лесных забавах
Дамиан мог равняться с самим Тристаном8, а этого было довольно, чтобы
стальной цепью приковать к нему сердце Рауля. Сейчас он с тревогой увидел, что
поведение Дамиана обращает на себя всеобщее внимание и даже вызывает
насмешки.
— Стоит у дверей, — сказал городской шут, тоже затесавшийся в веселую
толпу, — точно Валаамова ослица в мистерии9; видит что-то, другим невидимое.
Удар плети Рауля был шуту наградой за остроту, заставив его взвыть и
поспешно искать для своих шуток более благожелательных слушателей. Рауль
между тем подошел к Дамиану; серьезным тоном, совсем непохожим на его
обычную язвительную манеру, он стал упрашивать его не делать из себя
посмешище, не стоять, точно путь ему преграждает сам дьявол, а войти; но еще
лучше — удалиться и одеться более пристойно для торжественной церемонии, столь
близко касающейся его семьи.
— Чем же я не так одет, старик? — спросил Дамиан, сердито обернувшись к
егерю, словно тот непрошено пробудил его из забытья.
— А тем, с дозволения вашей милости, — ответил егерь, — что на новую
одежду не надевают старый плащ, вовсе к ней неподходящий, да и к
торжественному дню тоже.
— Ты глуп! — сказал Дамиан. — И недогадлив, хоть и сед. Не знаешь разве,
что в наши дни друг другу подходят стар и млад — подходят и сочетаются
браком? К чему же заботиться, чтобы наша одежда подходила к тому, что мы
делаем?
— Ради Бога, господин, — остановил его Рауль, — воздержитесь от безумных
и опасных речей. Они могут быть услышаны не только мною и истолкованы
хуже, чем мною. Здесь могут найтись люди, которые по необдуманным словам
выслеживают и губят человека, как я выслеживаю оленя по сброшенным рогам.
Вы бледны, господин, а глаза ваши налиты кровью. Ради Бога, уходите отсюда!
— Я уйду, — сказал Дамиан еще более раздраженно, — не прежде, чем
увижу леди Эвелину.
— Ради всех святых! — воскликнул Рауль. — Только не сейчас! Вы
причините миледи величайший вред, если предстанете перед ней в таком виде.
— Ты так думаешь? — спросил Дамиан, которого эти слова заставили
собраться с мыслями. — Ты в самом деле так думаешь? Я только хотел еще раз
взглянуть на нее... Но нет, старик, ты прав.
Он отступил от дверей, готовясь уйти; но побледнел еще более, пошатнулся
и упал, прежде чем Рауль успел поддержать его, если бы даже сумел это
сделать. Те, кто поднял его, с удивлением увидели, что его одежда была
запятнана кровью; такие же пятна были и на плаще, за который осуждал его Рауль.
Из толпы выступил некто важный, облаченный в черную мантию10.
Глава XVII
109
— Так я и знал! — сокрушался он. — Только нынче утром я пустил ему кровь
и, как учит Гиппократ11, предписал после этого покой и сон. Но когда молодые
люди пренебрегают советами врача, медицина мстит за себя. Наложенные мною
повязки сместились именно из-за пренебрежения к тому, что предписывает врач.
— Что значит эта болтовня? — послышался голос коннетабля, заставивший
смолкнуть все другие голоса. Выйдя на шум, поднявшийся вокруг Дамиана,
из монастыря, где только что завершился обряд обручения, он сурово приказал
лекарю снова наложить повязки, соскользнувшие с руки его племянника, и сам
помог поддержать больного с глубоким волнением и тревогой человека,
который видит в столь опасном положении дорогого ему племянника и в данное
время наследника его имени и славы.
Но к горестям счастливых и могущественных людей часто примешивается
нетерпеливая досада на тех, кто прервал счастливое течение их жизни.
— Что это значит? — сурово спросил он лекаря. — Утром, при первой вести
о его болезни, я прислал тебя к нему и приказал, чтобы он не пытался прийти на
сегодняшнюю церемонию; однако сейчас я нахожу его здесь, и в каком состоянии!
— С позволения вашей милости, — ответил лекарь с важностью, не
покинувшей его даже в присутствии коннетабля. — Curatio est canonica, поп coacta*, а это
означает, милорд, что врач действует по правилам своей науки; он советует и
предписывает, но не учиняет над больным насилия, которое не может пойти на
пользу, ибо советы врача должны выполняться добровольно.
— Мне ни к чему твоя тарабарщина, — прервал его де Лэси. — Если мой
племянник в горячечном бреду пытался прийти сюда, ты должен был удерживать
его хотя бы силой.
— Быть может, — сказал Рэндаль де Лэси, присоединяясь к зрителям,
которые, позабыв зачем пришли, все собрались теперь вокруг Дамиана, — быть
может, нашего родственника привлекал сюда магнит более сильный, чем все,
что мог сделать лекарь, чтобы его удержать?
Коннетабль, все еще занятый племянником, при этих словах поднял голову
и спросил холодным тоном:
— О каком это магните вы ведете речь, кузен?
— Разумеется, о любви и уважении его к вам, милорд, — ответил Рэндаль, —
не говоря уж о его почтительных чувствах к леди Эвелине. Эти чувства и влекли
его сюда. Но вот и сама невеста идет проявить к нему участие и поблагодарить
за усердие.
— Что за беда тут случилась? — спросила леди Эвелина, сильно
встревоженная опасным состоянием Дамиана, о котором ей только что сообщили. —
Не может ли и моя скромная помощь чем-нибудь пригодиться?
— Ничем, миледи, — сказал коннетабль, отойдя от племянника и взяв ее за
руку. — Ваше участие несвоевременно. Это пестрое сборище и неприличная
суета недостойны вашего присутствия.
— Если только оно не принесет пользы, милорд, — настаивала Эвелина. —
Ведь опасно занемог не кто иной, как ваш племянник, а мой избавитель. Один
из моих избавителей, хотела я сказать.
* Лечение требует добровольного, а не насильственного подчинения предписаниям (лат.)*.
по
Обрученная
— Все, что надлежит делать, делает его врач, — ответил коннетабль, уводя в
монастырское здание неохотно повинующуюся невесту.
Медик тут же возгласил с торжеством:
— Прав милорд коннетабль, что уводит благородную госпожу с этого
сборища знахарей в юбке, этих амазонок12, вносящих беспорядок в правильное
искусство лечения какими-то своими противоядиями, своими жаропонижающими и
своими амулетами. Как справедливо говорит древний поэт:
Non audet, nisi quae didicit, dare quod medicorum est;
Promittunt medici — tractant fabrilia fabri*13.
С большим пафосом, прочтя эти строки, лекарь, отмечая ритм стиха
взмахами руки, отпустил запястье больного.
— Этого, — заявил он зрителям, — не понять никому из вас, клянусь святым
Лукою! И даже самому коннетаблю!
— Зато он знает, как плеткой загнать, куда нужно, собаку, если она лает
попусту, вместо дела, — сказал Рауль.
Лекарь, поняв намек, вернулся к своим обязанностям; Дамиана перенесли в
один из домов на соседней улице; однако болезненные симптомы усилились и
вскоре потребовали всего внимания и всего умения, какими располагали лекари.
Как уже говорилось, подписание брачного контракта только что
закончилось, когда собравшиеся были потревожены известием о болезни Дамиана.
Вернувшись после переполоха в здание монастыря, коннетабль и его невеста
выглядели весьма встревоженными; еще тревожнее стало, когда невеста
вырвала свою руку из руки жениха, заметив на его руке свежую кровь, которая
оставила уже следы и на ее собственной ладони. Слабо вскрикнув, она показала эти
следы Розе и спросила:
— Что может это пророчить? Неужели месть Окровавленного Перста уже
началась?
— Ничего это не пророчит, милая госпожа, — успокоила ее Роза. — Наши
страхи — вот наши пророки, а не пустяки, которые кажутся нам пророчествами.
Ради Бога, поговорите с милордом! Он удивлен вашим волнением.
Пока его невеста говорила со своей служанкой, коннетабль также заметил,
что, спеша помочь племяннику, запачкал кровью свои руки и даже одежду
Эвелины. Он подошел к ней, чтобы принести извинения за то, что в такую
минуту казалось дурным предзнаменованием.
— Но, миледи, — сказал он, — кровь рода де Лэси может пророчить вам лишь
мир и счастье.
Эвелина хотела ответить ему, но не вдруг нашла для этого слова. Верная
Роза, рискуя навлечь на себя упрек в излишней смелости, поспешила сама
ответить на этот комплимент.
— Каждая девица непременно должна верить вашим словам, милорд, —
сказала она.— Ибо все знают, что эта кровь всегда готова пролиться за всех, кто в
беде, а недавно пролита была ради нашего спасения.
* Он не смеет назначать лечение, если не учился [врачебному ремеслу];
Целители [только] обещают — знатоки применяют искусство (лат.).
Глава XVII 111
— Отлично сказано, крошка, — сказал коннетабль. — Хорошо, что у леди
Эвелины есть девушка, знающая, что надо сказать, когда ей самой угодно
промолчать. Будем надеяться, миледи, — добавил он, — что болезнь моего
племянника — всего лишь жертва, приносимая судьбе, ибо она никогда не дарит нам
счастливых часов, не омрачив их тенью печали. Я надеюсь, что Дамиан вскоре
оправится от болезни; вспомним также, что встревожившие вас капли крови
извлечены не клинком, а ланцетом врача и являются скорее предвестниками
выздоровления, чем болезни. Миледи, ваше молчание смущает наших друзей
и вселяет в них сомнения в искренности нашего гостеприимства. Позвольте мне
быть вашим слугою, — добавил он и, взяв с буфета, полного посуды, серебряный
кувшин и салфетку, встал на одно колено и подал их невесте.
Стараясь унять тревогу, навеянную совпадением случившегося с
воспоминаниями о Болдрингеме, Эвелина вступила в предложенную женихом игру; она
готовилась просить его встать, когда поспешно и без церемоний вошедший
посланец сообщил коннетаблю, что племянник его находится при смерти, и, если
он хочет еще застать его живым, ему необходимо прийти немедленно.
Коннетабль встал, торопливо простился с Эвелиной и с гостями, которые при
этой новой и ужасной вести стали в смятении расходиться. Коннетабль
направился уже к дверям, но навстречу ему вышел паритор, то есть судебный
исполнитель Церковного Суда, в своей служебной одежде, которая и позволила ему
беспрепятственно войти в монастырское здание.
— Deus vobiscum*, — возгласил он. — Кто из присутствующих здесь
уважаемых лиц коннетабль Честерский?
— Это я, — отозвался старший де Лэси, — но, сколь бы ни было спешно твое
дело, сейчас мне с тобой говорить недосуг. Речь идет о жизни и смерти.
— Призываю всех христиан в свидетели, что обязанность свою я выполнил, —
сказал судебный исполнитель, вручая коннетаблю кусок пергамента.
— Что это? — спросил с негодованием коннетабль. — За кого принимает меня
твой господин архиепископ, если поступает столь неучтиво? Он вызывает меня
к себе скорее как преступника, чем дворянина и своего друга.
— Мой господин, — надменно проговорил судебный исполнитель, —
употребляя власть, коею облекла его Церковь, ответствен лишь перед Его
Святейшеством Папою. Каков же будет ответ вашей светлости на эту повестку?
— Разве архиепископ сейчас здесь? — спросил коннетабль, немного подумав. —
Я не знал о его намерении приехать сюда и тем более о намерении осуществлять
здесь свои права.
— Милорд архиепископ, — ответил судебный исполнитель, — только что
приехал; он является здешним митрополитом; кроме того, в качестве папского
легата он осуществляет свою юрисдикцию по всей Англии, в чем смогут убедиться все
(каков бы ни был их ранг), кто дерзнет его ослушаться.
— Слушай, ты! — сказал коннетабль, грозно глядя на судебного исполнителя. —
Если бы не мое уважение к присутствующим, а отнюдь не к твоему коричнево-
* Господь с вами [лат).
112
Обрученная
му капюшону, ты пожалел бы, что не проглотил эту повестку вместе с печатью,
вместо того чтобы вручать ее мне, да еще так дерзко. Ступай и доложи своему
господину, что я буду у него не позже чем через час; меня задерживает
необходимость навестить опасно больного родственника.
Судебный исполнитель вышел несколько более смиренно, чем входил,
предоставив гостям коннетабля молча и испуганно переглядываться.
Читатель, несомненно, вспомнит, сколь тяжек был в царствование
Генриха II гнет Римской Церкви как для духовенства, так и для мирян Англии.
Попытка этого мудрого и отважного монарха постоять за независимость
королевской власти во время памятного дела Фомы Бекета14 окончилась столь
плачевно, что — как всякий подавленный мятеж — еще более усилила могущество
Церкви. После того как король потерпел поражение и смирился, голос Рима
стал повсюду еще более властным; и даже самые отважные из пэров Англии
предпочитали подчиняться его велениям и не навлекать на себя церковного
осуждения, имевшего столько чисто светских последствий. Вот отчего от
пренебрежения, выраженного коннетаблю прелатом Болдуином, на гостей
коннетабля повеяло страхом. Надменно оглянувшись вокруг, он увидел, что многие из
тех, кто был бы ему верен в смертельной схватке с любым другим противником,
пусть даже с самим королем, бледнели при мысли о столкновении с Церковью.
Смущенный, но в то же время раздраженный их испугом, коннетабль поспешил
проститься со своими гостями, заверив их, что все уладится, что недуг
племянника всего лишь легкое недомогание, преувеличенное усердными лекарями и
усугубленное собственной неосторожностью больного, а бесцеремонность, с
какою его потребовал к себе архиепископ, объясняется их короткими
дружескими отношениями, позволяющими им иногда, как бы ради шутки, пренебрегать
церемониями.
— Будь у меня самого безотлагательное дело к прелату Болдуину, — сказал
коннетабль, — я мог бы послать к нему с просьбой о встрече последнего
конюха, не боясь его обидеть; таково смирение этого достойного столпа Церкви и его
пренебрежение к мелочам этикета.
Так он говорил, но выражение его лица несколько противоречило словам;
поэтому друзья и родственники расходились с пышной и радостной
церемонии обручения точно с поминок, потупив взгляд и невесело задумавшись.
Рэндаль, весь вечер пристально наблюдавший все происходившее, был
единственным, кто подошел к своему родственнику и спросил, «во имя
возобновленной дружбы», не может ли быть чем-либо полезен; сопровождая слова свои
взглядом, говорившим больше чем слова, он заверил его, что не пожалеет для
этого сил.
— Сейчас у меня нет ничего такого, любезный кузен, к чему вы могли бы
применить ваше усердие, — ответил коннетабль тоном, выражавшим некоторое
сомнение в искренности говорившего. Поклон, которым он, в знак прощания,
сопроводил свои слова, не оставил Рэндалю предлога оставаться долее, что тот,
видимо, намеревался сделать.
Глава XVIII
113
Глава ХУШ
На высоте моей гордыни сидя,
Пятой бы я прижал монаршьи выи.
Таинственная мать1
Наиболее тревожным и мрачным временем в жизни Хьюго де Лэси,
несомненно, стал день, когда, торжественно обручившись с Эвелиной, он был,
казалось, всего ближе к осуществлению того, что с некоторых пор являлось его
заветным желанием. Ему предстоял брак с красавицей и умницей, обладавшей,
кроме того, такой долей земных благ, какие могли удовлетворить его
тщеславие не меньше, чем его любовь. Но в этот счастливый день над ним собрались
тучи, сулившие бури и беды. Придя к племяннику, он узнал, что пульс
больного стал еще более лихорадочным, что тот не перестает бредить и все
окружающие весьма сомневаются в том, что он переживет близящийся кризис
болезни. Коннетабль подошел к двери покоя, не решаясь войти, и слушал бред
больного. Нет ничего печальнее, чем слышать, как сознание человека занято
обычными для него делами, в то время как страждущее тело находится во
власти опасной болезни; противоречие между жизнью здорового человека с ее
радостями и заботами и беспомощностью больного, перед которым возникают
видения этих радостей и забот, заставляют нас особенно сочувствовать
страдальцу, который уносится в мыслях так далеко от своего жалкого состояния.
Все это чувствовал коннетабль, слыша, как племянник громко повторяет
боевой клич их рода или слова команды, с какими он будто бы ведет своих
воинов на валлийцев. Иногда он бредил о соколиной охоте, о выездке коней;
и часто упоминал своего дядю, словно мысль о нем сочеталась у него и с войной,
и с лесной забавой. Слышались и какие-то другие слова, но их он произносил так
тихо, что разобрать их было невозможно.
Слушая, о чем бредил племянник, коннетабль все больше проникался
нежным состраданием; дважды брался он за скобу двери, ведшей в опочивальню,
и дважды отступал, не желая, чтобы окружавшие больного увидели его залитое
слезами лицо. Наконец, оставив намерение войти, он быстро вышел, сел на коня
и, сопровождаемый всего лишь четырьмя слугами, направился к епископскому
дворцу, где была резиденция приехавшего в город прелата Болдуина.
Всадники, лошади, которых вели в поводу вьючные мулы, слуги церковных
и городских сановников, толпившиеся у ворот архиепископской резиденции,
местные жители, собравшиеся кто поглазеть на блестящее зрелище, кто в
надежде получить благословение прелата — все это затрудняло коннетаблю путь
к дворцу. Когда он преодолел это препятствие, перед ним возникло другое,
в виде упорства архиепископских слуг, которые, даже когда он объявил им свое
имя, не пускали его за порог, пока не получат особого распоряжения их
господина.
Коннетабль ясно почувствовал, что его хотят унизить. Он сошел с коня в
совершенной уверенности, что немедленно будет допущен во дворец, если и не
114
Обрученная
сразу принят прелатом; теперь, стоя перед слугами, грумами и конюхами
духовного лорда, он почувствовал такое отвращение, что первым его побуждением
было снова сесть на коня и возвратиться в свой шатер, раскинутый у городских
стен, предоставив архиепископу искать его там, если тот в самом деле желает
его видеть. Но он тотчас же вспомнил о необходимости добрых отношений
с ним и подавил в себе оскорбленную гордость. «Если даже наш мудрый
король, — думал он, — держал стремя одного из архиепископов Кентерберийских
при его жизни и выполнял самые унизительные для себя обряды на его
могиле2, то мне тем более подобает смириться перед его преемником, облеченным
той же непомерной властью». Другая мысль, которую он едва решался
допустить, также призывала его к смирению и покорности. Он чувствовал, что,
пытаясь уклониться от исполнения обета крестоносца, навлекает на себя
справедливое осуждение Церкви; и ему хотелось надеяться, что своей холодностью и
пренебрежением Болдуин отчасти карает его за это, и тем наказание и
ограничится.
Немного погодя ему все же предложили войти во дворец епископа Глостер-
ского, где пребывал примас3 Англии; но лишь после ожидания то в одной зале,
то в другой он был наконец допущен к Болдуину.
Преемник прославленного Бекета не обладал широкими взглядами и
стремлениями этой грозной фигуры; но, пусть и причисленный к лику святых, Бекет
едва ли был и вполовину так искренен в своем попечении о благе
христианского мира, как ньшешний архиепископ. Болдуин обладал всеми качествами,
нужными, чтобы отстаивать приобретенную Церковью власть, но был, пожалуй,
слишком прямодушен, чтобы успешно ее расширять. Крестовые походы были
главным делом его жизни, а успех этого дела — главной его гордостью. И если
к его религиозному рвению примешивалась гордость своим красноречием,
перед которым, как он думал, не может устоять ничья воля, то течение его
жизни, а затем гибель у Птолемаиды4 доказали, что освобождение Гроба Господня
из-под власти неверных действительно было целью всех его усилий. Хьюго де
Лэси отлично знал это; и теперь, перед встречей, чувствовал, что убедить его
будет много труднее, чем он надеялся, когда встреча была еще далека.
Прелат, человек красивый и статный, но с чертами чересчур суровыми,
чтобы производить приятное впечатление, принял коннетабля во всем величии
своего сана. Он восседал на дубовом кресле, богато украшенном резьбою и
стоявшем на возвышении, под таким же резным балдахином. Его епископское
облачение было украшено драгоценной вышивкой и золотой бахромой на
вороте и обшлагах. Открытое спереди, оно позволяло видеть еще одно расшитое
одеяние, а из-под складок того, как бы случайно, выглядывала власяница5,
которую прелат постоянно носил под своими роскошными одеждами. Рядом с
ним, на дубовом столе той же резной работы, лежала его митра. К столу
прислонен был пасторский жезл в виде простого пастушьего посоха, который,
однако, в руках Фомы Бекета оказался более мощным и грозным, чем копье
или сабля.
Тут же неподалеку, капеллан в белом стихаре6, стоя на коленях перед
аналоем, читал по иллюминированной книге7 часть некоего богословского тракта-
Глава XVIII
115
та, который настолько занимал внимание Болдуина, что он, казалось, не
заметил вошедшего коннетабля. Последний, раздраженный еще одним знаком
пренебрежения, не мог решить, прервать ли чтеца и сразу обратиться к прелату,
или уйти, не здороваясь с ним. Прежде чем он на что-либо решился, капеллан
сделал паузу, а архиепископ остановил его словами: «Satis est, mi fili»*.
Гордый барон напрасно пытался скрыть свое смущение, подходя к прелату,
чье поведение явно имело целью вселить в него страх. Он попытался вести себя
с непринужденностью, присущей их старой дружбе, или хотя бы с
равнодушием, которое должно было показать, что он совершенно спокоен. Ни то, ни
другое не удалось ему; и когда он заговорил, в голосе его звучала оскорбленная
гордость, но также немалое смущение. В подобных случаях Католическая
Церковь неизменно одерживала верх над самыми надменными из светских владык.
— Как видно, — проговорил де Лэси, собираясь с мыслями и стыдясь того, что
это дается ему с трудом, — как видно, старая дружба забыта. Думается, что
Хьюго де Лэси мог ожидать иного посланца, чтобы быть вызванным к вашему
преподобию, а также иной встречи.
Архиепископ медленно приподнялся в кресле и слегка наклонил голову;
бессознательно стремясь к примирению, коннетабль ответил более низким
поклоном, чем намеревался и чем заслуживало сухое приветствие архиепископа.
Прелат сделал знак капеллану; тот встал и, услышав слова «Do veniam»**,
почтительно удалился, спиною к дверям, не подымая глаз и скрестив руки на
груди, в складках своего одеяния.
Когда удалился этот безмолвный слуга, лицо прелата немного смягчилось,
хотя и сохранило выражение неудовольствия, и на слова де Лэси он ответил
не вставая.
— Нечего теперь вспоминать, милорд, кем был славный коннетабль Честер-
ский для бедного священника Болдуина и с какой любовью и гордостью мы
смотрели на него, когда он, воздавая честь Тому, Кем сам был возвышен, дал
обет освобождать Святую Землю. Если благородный лорд и ныне тверд в
своем благочестивом решении, пусть сообщит эту радостную весть, и я отложу
митру, сниму облачение и стану вместо конюха чистить его коня, если такой
услугой смогу выразить свое уважение.
— Преподобный отец, — ответил неуверенным тоном де Лэси, — я надеялся,
что предложения, которые передал вам от моего имени настоятель Хирфорд-
ского собора8, смогут удовлетворить вас. — Раздраженный непреклонным и
холодным взглядом архиепископа, он продолжал уже более твердо, с привычной
уверенностью: — Если эти предложения, милорд, могут быть в чем-то изменены,
прошу сообщить мне, в чем именно, и желания ваши будут исполнены, даже
если несколько перейдут границы разумного. Я хотел бы, милорд, быть в мире
со Святой Церковью и менее всего способен пренебрегать ее волей. Это
доказано мною как на поле боя, так и в государственных советах; и мне думается,
что услуги мои не заслуживают от примаса Англии столь холодного обращения.
* Достаточно, сын мой (лат.).
** Дарую милость (лат.).
116
Обрученная
— Уж не попрекаешь ли ты Церковь своими заслугами перед нею,
тщеславный человек? — спросил Болдуин. — Говорю тебе, Хьюго де Лэси; все, что
твоими руками сотворили для Церкви Небеса, мог бы, если бы то было Им угодно,
совершить не хуже тебя последний конюх. Это тебе оказана честь быть
избранным орудием, свершившим великие дела во Израиле. Погоди, не прерывай
меня! Говорю тебе, кичливый барон, что перед Небом твоя мудрость — всего
лишь глупость; твоя отвага, которой ты гордишься, — лишь робость деревенской
девушки; твоя сила — слабость; твое копье — ивовая лоза, а меч — всего лишь
тростинка.
— Все это я знаю, преподобный отец, — сказал коннетабль, — и не раз слышал,
когда моя скромная служба стала делом прошлым. А вот когда в помощи моей
была нужда, я оказывался для прелатов и священников самым лучшим, тем,
за кого им надо молиться наравне с праведниками, похороненными под алтарем.
Когда просили меня обнажить меч или взять наперевес копье, их не называли
тростинкой и лозою; и лишь когда в них нет надобности, оружие и его владельца
ценят очень низко. Что ж, преподобный отец, пусть так и будет! Если Церковь
может изгнать сарацин из Святой Земли силами конюхов и грумов, зачем вы
своей проповедью зовете рыцарей и баронов, зачем уводите их с земель,
которые они призваны охранять и защищать?
Пристально глядя на коннетабля, архиепископ ответил:
— Не ради мечей в их руке отрываем мы рыцарей и баронов от варварских
празднеств или кровавых распрей, кои зовутся у вас радостями домашнего очага
и защитой родовых владений; не потому, что Всемогущий для свершения
великого дела освобождения нуждается в их руках из плоти и крови; но
единственно ради блага их бессмертных душ. — Последние слова он произнес особенно
торжественно.
Коннетабль между тем в нетерпении прохаживался по залу, бормоча про
себя:
— Такова призрачная награда, ради которой со всей Европы, рать за ратью,
посылают воинов орошать своей кровью пески Палестины! Таковы пустые
обещания, за которые призывают нас оставлять нашу страну и наши владения и
отдавать нашу жизнь!
— Неужели это говорит Хьюго де Лэси? — воскликнул архиепископ, подымаясь
с кресла и меняя обличающий тон на тон горького изумления и сожаления. —
Неужели это он столь низко ставит честь рыцаря и добродетели христианина,
земную славу человека и неоценимые блага для его бессмертной души?
Неужели это он стремится добыть земные блага в виде земель, воюя против менее
сильного соседа, тогда как рыцарская честь и христианская вера, данный им
обет и совершенное над ним когда-то таинство крещения зовут его на более
славную и более опасную битву? Неужели это он, Хьюго де Лэси, зерцало
англонорманнского рыцарства? Его ли это слова? Его ли чувства?
— Лесть и ласковые речи, милорд, с примесью укоров и насмешек, — ответил
коннетабль, кусая губы и побагровев от гнева, — могут достичь цели с другими;
а я сделан из слишком прочного металла, и в столь важном деле меня нельзя
ни улестить, ни пришпорить насмешками. Оставьте же притворное изумление;
Глава XVIII
117
и поверьте, что отвага Хьюго де Лэси, в крестовом ли походе или у себя в
стране, столь же несомненна, сколь несомненна праведность архиепископа
Болдуина.
— Пусть слава де Лэси возносится много выше, нежели праведность, с
которой он удостаивает ее сравнивать. Ведь погасить можно не только искру, но и
буйное пламя; и я говорю тебе, коннетабль Честерский, что слава, столько лет
тебя осенявшая, может покинуть тебя в один миг и безвозвратно.
— Кто осмеливается говорить это? — спросил коннетабль, безмерно
дороживший честью, ради которой столько раз подвергал себя опасности.
— Говорит это друг, — сказал прелат, — от которого и удары бича следует
принимать как милости. Ты помышляешь о награде, сэр коннетабль, словно
находишься на рынке и можешь торговаться насчет условий своей службы.
А ведь ты уже не хозяин себе. Добровольно возложив на себя святой знак креста,
ты сделался воином Господа Бога и не можешь покинуть Его знамя, не
запятнав себя таким позором, какого не захотят даже конюхи.
— Вы чрезмерно суровы с нами, милорд, — отвечал Хьюго де Лэси, перестав
беспокойно прохаживаться по зале. — Вы, духовенство, сделали нас, мирян,
вьючными животными для собственных ваших нужд9 и подымаетесь к
почестям, опираясь на наши натруженные плечи. Но всему есть предел! Фома Бекет
переступил его и...
Эта речь, оборвавшаяся на полуслове, сопровождалась мрачным и
выразительным взглядом. Отлично поняв ее значение, прелат договорил решительно
и твердо:
— ...и был убит! Вот о чем смеешь ты намекать, и кому? Мне, преемнику
этого прославленного святого! И ради чего? Ради себялюбивого желания
отступиться от святого дела. Не знаешь ты, к кому обращаешь свою угрозу.
Верно, что Бекет, святой воитель на земле, кровавой тропой мученичества
вознесся на Небеса. Верно и то, что недостойный Болдуин, чтобы сподобиться места
в тысячу крат ниже своего святого предшественника, готов, вверив себя
Пресвятой Деве, вытерпеть все, чему злые люди могут подвергнуть его бренное
тело.
— К чему заявлять о своем мужестве, преподобный отец, — сказал де Лэси,
овладев собой, — там, где нет, и не может быть опасности. Прошу вас, обсудим
этот предмет более спокойно. Я не намеревался нарушить мой обет идти в
Святую Землю и желал лишь отсрочить его исполнение. Мне думается, что
предложенные мною замены могли бы доставить мне то, что в подобных случаях
было даровано многим — небольшую отсрочку моего отъезда.
— Небольшая отсрочка, когда речь идет о таком военачальнике, как ты,
благородный де Лэси, — ответил прелат, — будет смертельным ударом для
нашего святого предприятия. Менее значительным лицам мы могли разрешать
кому жениться, кому выдавать дочь замуж, хотя им не хотелось бы испытать
горести Иакова10; но вы, милорд, являетесь главной опорой нашего дела; уберите
опору — и может обрушиться все здание. Кто в Англии сочтет себя обязанным
идти в поход, если Хьюго де Лэси намерен отступить? Милорд, думайте, прежде
всего, не о женитьбе, а о данном вами обете; и поверьте, не будет добра от
118
Обрученная
брачного союза, если он колеблет вашу решимость участвовать в нашем святом
деле во славу всего христианского мира.
Перед этим упорством прелата коннетабль начал уже, хотя и весьма
неохотно, поддаваться; обычаи и убеждения того времени не оставляли ему иных
средств противостоять им, кроме усиленных просьб.
— Я признаю, — сказал он, — мои обязательства крестоносца и повторяю, что
прошу лишь о краткой отсрочке для приведения в порядок наиболее важных
моих дел. Тем временем мой племянник во главе моих вассалов...
— Обещай лишь то, что в твоей власти исполнить, — сказал прелат. — Как
знать? Быть может, в наказание за то, что ты стремишься к чему-то иному,
кроме Его святого дела, Господь уже призвал твоего племянника к Себе.
— Упаси Бог! — воскликнул барон, рванувшись, словно хотел поспешить на
помощь племяннику. Затем, остановясь, он устремил на прелата вопрошающий
взгляд. — Негоже вашему преподобию, — сказал он, — шутить над опасностью,
грозящей моему дому. Дамиан дорог мне своими достоинствами; дорог и в
память о моем единственном брате. Да простит Господь нас обоих! Брат скончался,
когда мы были с ним в разладе. Милорд, неужели слова ваши означают, что мой
любимый племянник опасно занемог из-за моих грехов?
Архиепископ понял, что затронул наконец ту струну, на которую отзовется
сердце этого непокорного грешника; однако ответил ему осторожно, зная, с кем
имеет дело.
— Я далек от того, чтобы осмеливаться истолковывать волю Небес. Но в
Писании сказано: «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина»11.
Вот Господь и карает нашу гордыню и непокорство той именно карою, какая
может смирить эту самонадеянность. Тебе лучше знать, был ли твой племянник
болен до того, как ты замыслил отступничество.
Хьюго де Лэси стал припоминать и убедился, что до того, как он задумал
брак с Эвелиной, Дамиан его был здоров. Его молчание и смущение не
укрылись от взора лукавого прелата. Рыцарь стоял перед ним полный сомнений;
предпочтя продолжение своего рода освобождению Гроба Господня, не навлек
ли он на себя кару и не оттого ли жизнь его племянника в опасности? Прелат
взял его за руку.
— Мужайся, благородный де Лэси, — сказал он. — Божий гнев, который ты
навлек на себя минутным заблуждением, еще не поздно отвратить молитвой
и покаянием. Повернулось же время вспять по молитве доброго царя Езекии12.
На колени! На колени! Не сомневайся, что, покаявшись и получив отпущение,
ты еще можешь искупить свое отступничество от святого дела.
Побежденный догматами, в которых он был воспитан, и страхом, что за свое
промедление наказан болезнью племянника, коннетабль опустился на колени
перед прелатом, которому только что бросал вызов; раскаялся, как в тяжком
грехе, в своем намерении отложить отъезд в Палестину и смиренно, пусть и без
радости, принял наложенную архиепископом епитимью: брак с Эвелиной он
должен был отложить до своего возвращения из Палестины, где, согласно его
обету, ему предстояло пробыть три года.
Глава XVIII
119
— А теперь, благородный де Лэси, — сказал прелат, — теперь, снова любимый
и уважаемый друг мой, разве не стало у тебя легче на сердце, когда ты
уплатил долг Небесам и очистил свой доблестный дух от себялюбивых земных
помыслов, лежавших на нем темным пятном?
Коннетабль вздохнул.
— Наибольшее облегчение, — ответил он, — доставила бы мне сейчас весть,
что племяннику моему стало лучше.
— Не тревожься о благородном Дамиане, твоем многообещающем
родственнике, — сказал архиепископ. — Я верю, что ты вскоре услышишь о его
выздоровлении. А если Господу угодно переселить его в лучший мир, кончина его будет
столь мирной и прибытие в обитель блаженных столь быстрым, что лучше было
бы ему умереть, чем жить.
Коннетабль взглянул на него, словно пытаясь по выражению его лица угадать
судьбу своего племянника вернее, чем по словам; однако прелат, избегая
дальнейших вопросов на тему, в которой, как сознавал и сам, зашел, пожалуй,
слишком далеко, позвонил в серебряный колокольчик, лежавший перед ним на столе,
и велел явившемуся на звонок капеллану послать надежного гонца к Дамиану
де Лэси подробно разузнать о его здоровье.
— К нам уже явился только что, — сообщил капеллан, — некий незнакомец
из покоев благородного Дамиана де Лэси и просит допустить его к милорду
коннетаблю.
— Впустить его немедленно! — сказал архиепископ. — Что-то говорит мне, что
он принес нам радостную весть. Никогда еще не бывало, чтобы столь
смиренное покаяние и добровольное отречение от земных привязанностей и желаний
ради служения Небесам не получало награды, земной или небесной.
Пока он говорил, в покой вошел человек весьма странного вида. Его яркая
и многоцветная одежда была отнюдь не новой и не отличалась опрятностью,
словом, совсем не годилась для того, чтобы предстать перед высокими особами,
к которым его допустили.
— Что это? — сказал прелат. — С каких пор жонглеры и менестрели
являются сюда без дозволения?
— Прошу прощения, — сказал незнакомец. — У меня дело не к вашему
преподобию, а к милорду коннетаблю, и я надеюсь, что за хорошие вести мне
простится мой неподходящий вид.
— Говори же! — нетерпеливо воскликнул коннетабль. — Жив ли еще мой
племянник?
— Жив и будет жить, милорд, — ответил человек. — В болезни его произошел
благоприятный перелом, как называют это лекари, и они уже не опасаются за
его жизнь.
— Благодарение Господу за его великую ко мне милость! — сказал коннетабль.
— Аминь, аминь! — торжественно возгласил архиепископ. — Когда же
совершилась эта благословенная перемена?
— Всего лишь четверть часа назад, — продолжал посланец. — Больной стал
ровнее дышать, сжигавший его жар спал, на него снизошел тихий сон, точно
120
Обрученная
роса на выжженное солнцем поле. Как я уже сказал, лекари уже не
тревожатся за его жизнь.
— Заметили ли вы время, милорд коннетабль? — спросил, ликуя,
архиепископ. — То был тот самый миг, когда вы вняли совету, поданному Небом через
смиреннейшего из его слуг! Довольно было нескольких слов покаяния, краткой
молитвы, чтобы некий милосердный святой внял вашей просьбе и вступился за
вас, и молитва была тотчас услышана, и просьба исполнена. Благородный
Хьюго, — продолжал он восторженно, крепко сжав его руку, — нет сомнения, что
Небесам угодно вершить великие дела рукою того, чья молитва была
мгновенно услышана. Сегодня же в каждой церкви и в каждом монастыре Глостера
возглашен будет Те Deum laudamus*13.
Коннетабль, не менее обрадованный, хотя, пожалуй, менее склонный видеть
в выздоровлении племянника особый Промысел Божий, отблагодарил доброго
вестника, бросив ему свой кошелек.
— Благодарю благородного лорда, — сказал человек. — Но я приму этот знак
вашей щедрости лишь затем, чтобы вернуть его вам.
— Почему это? — спросил коннетабль. — Не столь уж богата твоя одежда,
чтобы отвергать подобный дар.
— Кто хочет поймать жаворонка, милорд, — ответил посланец, — тому
незачем ловить воробьев. Я хочу просить нечто большее, вот почему отвергаю
вознаграждение.
— Нечто большее? — спросил коннетабль. — Я не странствующий рыцарь,
чтобы связывать себя обещаниями, не зная, в чем они состоят. Но приходи
завтра к моему шатру, и я не откажу тебе ни в чем, в пределах разумного.
Затем он простился с прелатом и возвратился к себе, но по пути навестил
племянника, где получил те же счастливые сведения, какие уже сообщил ему
посланец в пестром плаще.
Глава XIX
Он менестрелем был, он пел
И блажь и мудрость славил;
Смиренным, добрым быть умел,
То ярым гневом пламенел,
То вновь смешил, забавил.
Арчибальд Армстронг1
События прошедшего дня были столь важны, но также и столь
утомительны, что коннетабль, устав, словно после жаркой битвы, крепко спал, пока лучи
восходящего солнца не проникли в его шатер. И тогда, со смешанными
чувствами удовлетворения и печали, он вспомнил о переменах, происшедших с ним с
предыдущего утра. Вчера он пробудился влюбленным женихом, полным
желания нравиться своей прекрасной невесте и озабоченным своим нарядом,
словно столь же помолодел годами, как желаниями и надеждами. Все это осталось
* Тебя, Бога, хвалим! [лат.)
Глава XIX
121
позади, и ему предстояла тягостная необходимость расстаться с невестой на
годы; оставить ее, прежде чем он связал себя с нею неразрывными узами
брака; оставить среди всех опасностей, угрожающих женской верности в подобных
обстоятельствах. Теперь, когда миновала беда, нависшая над его племянником,
он готов был пожалеть, зачем так быстро поддался доводам архиепископа и
поверил, будто смерть или выздоровление Дамиана зависели от немедленного
и точного исполнения обета отправиться в Святую Землю. «Разве мало принцев
и королей, — размышлял он,— брали на себя крест, а потом медлили или даже
вовсе отказывались от похода, а между тем жили и умирали в богатстве и в
почете, не настигнутые Божьей карой, которой угрожал мне Болдуин? Почему
же они больше заслуживали снисхождения, чем я? Но, увы, жребий брошен2.
И не все ли равно, спас ли я жизнь племяннику, повинуясь велениям Церкви,
или просто потерпел поражение, какое всегда терпят миряне в спорах с
духовенством. Видит Бог, я хотел бы, чтобы оказалось иначе; и, опоясав себя мечом
Господнего воина, я мог больше надеяться на небесное покровительство для той,
кого вынужден оставить».
Раздумывая над этим, он услышал, что стража возле его шатра окликнула
кого-то. Этот кто-то остановился, а затем раздались звуки особого рода лютни3,
чьи струны приводятся в движение с помощью колесика. После короткой
прелюдии красивый мужской голос спел песню, которую можно следующим
образом перевести на современный язык:
1
Воин, встань с лучами вместе —
Лежа не добудешь чести.
Горе, если луч златой
Падает на склон пустой.
Меч, копье, вооруженье —
Если солнца отраженье
В них, как в зеркале, горит,
Значит, славе день открыт.
Воин, сделай щит твой бранный
Зеркалом зари румяной!
2
Встань! Лучи, пригрев округу,
Пахаря позвали к плугу.
Ловчий на брега болот,
А охотник в лес идет.
И студент спешит склониться
Над столетнею страницей...
Дичь твоя и буква — меч,
Жатва — в славе мертвым лечь.
Ограшен в битве щит твой бранный —
Зеркало зари румяной.
122
Обрученная
3
Беден земледел и скотник,
Многажды бедней охотник,
И студент голодный в дреме
Сладко спит над древним томом.
Но за то, что рано встали,
Все они хвалу познали,
Только счастья не найдет
Жизнь сменивший на почет...
Пусть же, воин, в щит твой бранный
Смотрит лик зари румяной!
Когда певец умолк, коннетабль услышал и другие голоса; в шатер вошел
Филипп Гуарайн и доложил, что некий человек, явившийся, как он сказал,
по уговору с коннетаблем, просит быть к нему допущен.
— По уговору со мной? — переспросил де Лэси. — Впустить его немедленно.
Это оказался вчерашний вестник. Он вошел, держа в одной руке свою
украшенную пером шапочку, в другой — инструмент, на котором только что играл.
Его причудливое одеяние состояло из нескольких платьев одно ярче другого,
а сверху накинут был очень короткий норманнский плащ ярко-зеленого цвета.
К вышитому поясу, вместо оружия, был прикреплен с одной стороны рожок с
чернилами, а с другой — небольшой нож, служивший своему владельцу только
за столом. На голове выстрижено было подобие тонзуры4, означавшее, что в
своем ремесле он достиг немалых высот; ибо Веселая Наука5, как называлось
искусство менестрелей, имела, подобно духовенству и рыцарству, несколько
степеней. Черты лица и манеры пришедшего не вполне соответствовали его
одежде и профессии; если последние были веселы и причудливы, то первые
отмечены были серьезностью и даже суровостью; они оживлялись, лишь когда
он пел или играл; в остальное время, вместо беззаботной веселости, отличающей
большинство его собратьев, они выражали глубокую задумчивость. Лицо его,
не отличавшееся красотой, чем-то останавливало на себе внимание, хотя бы
контрастом с пестротой развевавшихся одежд.
Коннетаблю захотелось оказать ему покровительство.
— Доброго утра, приятель, — сказал он. — Благодарствую за твою утреннюю
музыку; хорошо исполнена и хорошо задумана, ибо напоминание о
быстротечности времени предполагает, что мы умеем с пользою употребить это
недолговечное сокровище.
Человек, выслушав эти слова, казалось, сделал над собой усилие, прежде чем
ответил:
— Да, задумано было с лучшими намерениями, раз я решился так рано
потревожить милорда. И я рад, что моя смелость его не прогневала.
— У тебя, — сказал коннетабль, — есть до меня просьба. Говори же, времени
у меня мало.
— Милорд, я прошу дозволения следовать за вами в Святую Землю, —
сказал человек.
Глава XIX
123
— Приятель, ты просишь то, что я едва ли смогу выполнить, — сказал де Лэ-
си. — Ведь ты менестрель, не так ли?
— Да, милорд, недостойный представитель Веселой Науки, — ответил
музыкант. — Могу, впрочем, сказать, что ни в чем не уступаю королю менестрелей
Жоффруа Рюделю6, хотя король Англии пожаловал ему четыре поместья за
одну песню. Я готов состязаться с ним, будь то романс7, лэ или фаблио, а судьею
пусть будет сам король Генрих.
— За себя ты, конечно, всегда замолвишь слово, — сказал де Лэси. — И все
же, сэр менестрель, ты со мной не поедешь. За крестоносцами и без того
увязывалось слишком много людей твоего пустого ремесла. И если к ним
присоединишься еще и ты, пусть это будет без моего участия. Я слишком стар, чтобы
пленяться твоим пением, как бы умело ты ни пленял им.
— Кто достаточно молод, чтобы искать любви красавицы и завоевать ее, —
проговорил менестрель несмело, точно боясь, что позволяет себе лишнее, —
тот не должен называть себя слишком старым, чтобы поддаваться чарам
менестрелей.
Коннетабль улыбнулся, польщенный комплиментом, отводившим ему роль
молодого влюбленного.
— Думаю, что ты еще и шут, — сказал он, — вдобавок к другим твоим
званиям.
— Нет, — ответил менестрель. — Эту отрасль нашего ремесла я на некоторое
время оставил. Судьба моя к шутовству никак не располагает.
— А знаешь, приятель, — сказал коннетабль, — если свет обошелся с тобой
неласково и если ты умеешь подчиняться правилам такой строгой семьи, как
наша, мы, пожалуй, поладим с тобой лучше, чем я думал. Как твое имя и откуда
ты родом? Речь твоя звучит немного по-иноземному.
— Я из Арморики8, милорд, с веселых берегов Морбихана9, и говор мой
оттуда. А зовут меня Рено Видаль10.
— Если так, Рено, — решил коннетабль, — ты поедешь со мной, и я
распоряжусь, чтобы тебя нарядили сообразно твоему ремеслу, однако приличнее, чем
сейчас. Владеешь ли ты оружием?
— Кое-как владею, милорд, — ответил армориканец; и тут же, взяв со стены
меч, сделал им выпад так близко к коннетаблю, сидевшему на своем ложе, что
тот отшатнулся и крикнул:
— Эй, ты что это, негодяй!
— Ну вот, мой благородный господин, — сказал Видаль, покорно опуская меч, —
я показал образчик, который встревожил даже вас, с вашим опытом. А таких
я знаю сотню.
— Возможно, — сказал де Лэси, несколько смущенный, что дал себя
застигнуть врасплох ловким движением, — но я не люблю шуток с острым оружием.
Мечи не для того, чтобы ими играть. Больше чтобы этого не было. А сейчас
кликни моего оруженосца и моего камергера — мне пора одеваться к утренней
мессе.
Выполнив утренние религиозные обязанности, коннетабль намеревался
посетить аббатису и со всей необходимой осторожностью и оговорками сообщить
124
Обрученная
ей об изменении своих планов относительно ее племянницы, то есть о том, что
он вынужден отправиться в крестовый поход прежде венчания, уже
подготовленного обручением и брачным контрактом. Он понимал, что почтенная особа
с трудом примирится с его новым решением, и некоторое время медлил,
обдумывая, как лучше сообщить его и чем смягчить. Сперва он навестил Дамиана,
чье выздоровление шло так быстро, что казалось чудом, и совершила это чудо
покорность, с какою коннетабль последовал советам архиепископа.
От Дамиана коннетабль отправился к аббатисе бенедиктинской обители.
Однако монахиня уже знала, зачем он явился; ибо ранее ее уже посетил сам
архиепископ Болдуин. Примас Англии взял на себя роль посредника, понимая,
что победа над коннетаблем поставила того в неловкое положение перед
родней невесты, и желая всем своим влиянием смягчить возможный разлад. Быть
может, ему следовало предоставить это самому Хьюго де Лэси; ибо аббатиса,
выслушав весть от него со всей почтительностью, положенной главе Английской
церкви, сделала из нового решения коннетабля выводы, каких примас вовсе не
ожидал. Она не решилась препятствовать исполнению обета, который возложил
на себя де Лэси, но настаивала, чтобы помолвка была расторгнута, и обе
стороны стали снова свободными в своем выборе.
Напрасно архиепископ пытался ослепить ее блеском почестей, какие
коннетаблю предстояло завоевать в Святой Земле; почестей, какие достанутся не
только супруге его, но и всей родне ее, вплоть до самой дальней. Все его
красноречие пропало даром, хотя на эту излюбленную им тему оно бывало
неистощимо. Правда, услышав все его доводы, аббатиса некоторое время молчала.
Но молчала она лишь потому, что обдумывала, как бы ей с должной
почтительностью и в приличных выражениях дать понять, что дети, плоды брачного
союза, на которых она надеялась ради продолжения рода ее отца и брата, вряд
ли могут появиться, если за обручением не последует бракосочетание и
супруги не будут жить вместе. Вот почему, поскольку коннетабль изменил свои
намерения в этом, весьма важном, пункте, она настаивала, чтобы помолвка была
расторгнута; а от примаса ожидала, чтобы он, отвративший жениха от его
первоначального замысла, употребил теперь свое влияние для расторжения
помолвки, условия которой совершенно изменились.
Примас, сознавая, что именно он вынудил де Лэси нарушить условия
помолвки, считал для себя делом чести предотвратить для своего друга расторжение
этой помолвки, столь много значившей как для его интересов, так и для его
чувств. Он осудил аббатису за слишком мирской и плотский взгляд на брак,
неподобающий ей как духовному лицу. Он даже упрекнул ее в том, что
продолжение рода Беренжеров она эгоистически предпочитает освобождению Гроба
Господня; и предсказал, что Небеса покарают столь недальновидное и чисто
мирское поведение, ставящее интересы одного семейства выше интересов
всего христианского мира.
После этой суровой проповеди прелат удалился, оставив аббатису крайне
раздраженной, хотя она осторожно воздержалась от непочтительного ответа на
его отеческие внушения.
Глава XIX
125
Вот в каком расположении духа застал почтенную особу коннетабль; с
некоторым смущением он сообщил ей о необходимости своего немедленного отъезда
в Палестину.
Это известие она встретила угрюмо и надменно. Горделиво раскинув складки
своей широкой черной мантии с наплечниками, она выслушала объяснение
причин, вынуждающих коннетабля Честерского отложить столь дорогое его
сердцу бракосочетание до своего возвращения из Палестины, куда он
немедленно отправляется.
— Думается мне, — холодно сказала аббатиса, — что если сообщение это
серьезно, ибо шутить следует не этим и не со мной, то такое решение
коннетабля надлежало объявить нам вчера, прежде чем обручение соединило его с
Эвелиной Беренжер на условиях весьма отличных от того, что он сейчас
сообщает.
— Даю слово рыцаря и дворянина, почтенная аббатиса! — воскликнул
коннетабль. — Тогда у меня не было и мысли, что придется предпринять шаг,
который глубоко меня огорчает; с болью в душе вижу, что он неприятен и вам.
— Не представляю себе серьезных причин, — ответила аббатиса, — которые
наверняка существовали еще вчера, но объявлены только нынче.
— Должен признаться, — неохотно сказал де Лэси, — что я чересчур
надеялся на отсрочку исполнения моего обета; милорд архиепископ, усердствуя в своем
служении Небесам, решил в этой отсрочке мне отказать.
— В таком случае, — сказала аббатиса, скрывая свое раздражение под
крайней холодностью, — справедливость требует, чтобы ваша светлость хотя бы
вернули нас в положение, в котором мы находились вчера утром; и чтобы
вместе с моей племянницей и ее друзьями вы хлопотали о расторжении
помолвки и контракта, заключенного с совершенно иными видами на будущее,
чтобы вы вернули девице свободу, которой она лишилась из-за данного вам
обещания.
— Увы! — сказал коннетабль.— Какой жертвы вы от меня требуете! И с
какой холодностью требуете, чтобы я отказался от самых сладостных надежд,
какие когда-либо согревали мое сердце!
— Язык подобных чувств мне незнаком, милорд, — ответила аббатиса, —
но мне думается, что надежды, исполнение которых столь легко
откладывается на долгие годы, могут быть и совсем оставлены, стоит сделать еще одно
небольшое усилие.
Хьюго де Лэси в волнении прошелся по комнате и ответил не сразу.
— Если племянница ваша разделяет ваши взгляды, то мой долг перед нею,
а быть может и перед самим собою, велит мне отказаться от прав на нее, какие
дает мне наша помолвка. Но свою судьбу я должен узнать из ее собственных уст;
и если судьба эта так сурова, как можно судить из ваших слов, я стану тем
лучшим Господним воином в Палестине, ибо мало что будет привязывать меня к
земле.
Ничего не ответив на это, аббатиса призвала сестру регентшу монастырского
хора и послала ее за леди Эвелиной.
126
Обрученная
— Смею ли спросить, — сказал де Лэси, — насколько леди Эвелина
осведомлена об обстоятельствах, к сожалению, вынудивших меня изменить мои
намерения.
— Я их подробно ей изложила, — ответила аббатиса. — В точности так, как
узнала о них от милорда архиепископа (ибо с ним я уже об этом беседовала) и
как только что подтвердила ваша светлость.
— Напрасно архиепископ предварил мои объяснения, — сказал коннетабль, —
именно там, где мне столь важно быть правильно и благожелательно
понятым.
— Это, — сказала аббатиса, — дело ваше и архиепископа. Нас оно не касается.
— Смею ли я надеяться, — продолжал де Лэси, не обижаясь на сухой тон
собеседницы, — что леди Эвелина услышала об этих прискорбных переменах
спокойно и без неудовольствия?
— Она из рода Беренжеров, милорд, — ответила аббатиса. — У нас принято
осуждать нарушение обещания или наказывать за него, но отнюдь не горевать.
Как моя племянница поступит сейчас, мне неизвестно. Я монахиня, я удалилась
от мира, и я посоветовала бы мир и христианское прощение, однако с должной
долею презрения к тому, кто так с нею поступил. У нее есть вассалы, есть
друзья; несомненно, найдутся и советчики; быть может, они, со своим мирским
понятием о чести, не захотят, чтобы она стерпела нанесенное ей оскорбление,
чтобы она обратилась к королю или к вооруженным вассалам своего отца
и требовала освобождения от обязательства, в которое оказалась втянута.
Но сейчас она сама вам ответит.
Эвелина вошла, опираясь на руку Розы. Со дня обручения она была уже не
в трауре, а в белом платье и голубой верхней накидке. Голову ее окутывала
вуаль из белого газа, столь тонкого, что он вился вокруг нее подобно облачку,
какое на картинах окружает серафимов11. Но лицо Эвелины, хоть и ангельской
красоты, было в тот миг далеко от ангельской безмятежности. Она дрожала,
щеки ее были бледны, покрасневшие веки выдавали недавние слезы; впрочем,
несмотря на эти знаки волнения, лицо и глаза ее выражали покорность и
решимость, — решимость в любом случае исполнить свой долг и совладать с
волнением, которое она не могла совершенно скрыть. Эти противоположные
выражения робости и решимости так сочетались в ее лице, что никогда красота
ее не была столь совершенной. Хьюго де Лэси, до той поры не слишком
пылкий влюбленный, сейчас, стоя перед ней, поверил во все преувеличения поэзии
и увидел свою невесту как некое высшее существо, от кого он должен ждать
счастья или горя, жизни или смерти.
Повинуясь этому чувству, рыцарь встал перед Эвелиной на одно колено, взял
ее руку, которую она не протянула ему, а лишь позволила взять, пылко прижал
ее к губам и оросил слезой, одной из немногих пролитых им за всю его жизнь.
Но, уступив внезапному порыву, столь дая. него необычному, он тут же обрел
спокойствие, когда заметил, с каким торжеством глядит аббатиса на его
унижение, если так можно было это назвать. Он стал оправдываться перед Эвелиной
серьезно и мужественно, разумеется, не без волнения, но тоном твердым и
гордым, как бы обращаясь одновременно и к оскорбленной аббатисе.
Глава XIX
127
— Леди, — обратился он к Эвелине, — вы уже узнали от почтенной аббатисы,
в какое тяжелое положение поставило меня вчера неумолимое решение
архиепископа; или, пожалуй, скажу лучше: его справедливое, но суровое
истолкование моего обета крестоносца. Не сомневаюсь, что почтенная аббатиса передала
вам все это точно и правдиво. Однако я лишился ее дружеского расположения,
поэтому опасаюсь, что она все же не вполне справедлива ко мне и к несчастной
необходимости, в какой я нахожусь. Вынужденный покинуть мою страну, я
также вынужден расстаться — навсегда, а в лучшем случае надолго — с самыми
сладостными надеждами, какие когда-либо питал человек. Почтенная
аббатиса обвинила меня в том, что, будучи виновником нарушения вчерашнего
контракта, я тем не менее хочу, чтобы он связывал вас неизвестно сколько лет.
Никто по доброй воле не отказался бы от прав, какие дал мне вчерашний обряд.
Да простятся мне слова, которые, быть может, прозвучат хвастливо! Скорее чем
уступить вас кому бы то ни было из смертных, я готов биться мечом и копьем
три дня с восхода до заката. Но то, что я защищал бы ценою тысячи жизней,
я готов отдать, если это будет стоить вам хотя бы одного вздоха. Итак, если вам
кажется, что вы не будете счастливы, оставаясь обрученной с Хьюго де Лэси,
я обещаю, что буду стараться о расторжении помолвки и, значит, о том, чтобы
это счастье могло достаться другому.
Он продолжал бы, но боялся не совладать с нежными чувствами, столь
чуждыми его суровому нраву, что он стыдился им поддаваться.
Эвелина молчала, и молчание прервала аббатиса.
— Племянница, — начала она, — ты слышишь, что коннетабль Честерский из
великодушия или из чувства справедливости, отправляясь в дальний и опасный
поход, предлагает расторгнуть помолвку, которая подразумевала, что он
останется в Англии также и для бракосочетания. Я уверена, что ты без колебаний
примешь возвращаемую тебе свободу и поблагодаришь его за великодушие. Что
до моей благодарности, то я с ней подожду, пока не увижу, достаточно ли
будет общего вашего желания, чтобы убедить его светлость архиепископа; ведь он
снова может вмешаться в дела своего друга коннетабля, на которого уже
оказал столь сильное влияние, несомненно, во благо его души.
— Если слова ваши, почтенная аббатиса, — сказал коннетабль, — означают,
что я попытаюсь укрыться за авторитетом архиепископа, чтобы уклониться от
того, на что я дал согласие, пусть неохотное, могу сказать одно: вы первая, кто
усомнился в слове Хьюго де Лэси. — И хотя говорилось это женщине, к тому же
монахине, глаза гордого барона гневно сверкали, а щеки его горели.
— Почтенная и любезная тетушка, — сказала Эвелина, собрав всю свою
решимость, — и вы, милорд, прошу вас, не усугубляйте беспочвенными
подозрениями и слишком поспешными укорами свои трудности и мои. Перед вами,
милорд, я в неоплатном долгу; я обязана вам состоянием, жизнью и честью.
Когда валлийцы осаждали мой замок Печальный Дозор, я в душевном
смятении и страхе дала Пресвятой Деве обет. Я поклялась, что, если честь моя будет
спасена, я буду принадлежать тому, кому Пресвятая поручит спасти меня.
Послав мне избавителя, она послала мне супруга. Более благородного, чем
Хьюго де Лэси, я желать не могла бы.
128
Обрученная
— Избави Бог, леди, — воскликнул коннетабль поспешно, словно боясь, что
у него недостанет сил довести до конца свое отречение, — избави Бог, чтобы
этим обетом, данным в час смертельной опасности, я связал вас и, наперекор
вашим склонностям, вынудил бы к решению в мою пользу!
Даже аббатиса не могла не выразить одобрения этим словам, заявив, что
произнес их истинный норманнский рыцарь; однако взгляд ее, устремленный на
племянницу, казалось, призывал ее не упускать возможности воспользоваться
великодушием де Лэси.
Опустив взор и слегка покраснев от волнения, Эвелина твердо продолжала,
не внимая подсказке.
— Признаюсь, милорд, — сказала она, — что, когда ваше мужество спасло
меня от гибели, я, чтя и уважая вас, как чтила покойного отца моего, а вашего
друга, желала стать вам скорее дочерью, чем супругой. Не стану уверять,
будто это чувство я вполне преодолела. Но я борюсь с ним, ибо оно недостойно меня
и по отношению к вам было бы неблагодарностью. Когда вы оказали мне честь
просить моей руки, я тщательно взвесила мои чувства к вам и настолько
подчинила их моему долгу, что совершенно уверена: в Эвелине Беренжер де Лэси
не обретет безразличную к нему, а тем более недостойную его невесту. На это,
милорд, вы смело можете положиться, будет ли наш брак заключен теперь или
надолго отложен. Скажу больше и признаюсь, что отсрочка его желательнее
для меня, чем его немедленное свершение. Я еще очень молода и очень
неопытна. Через два или три года я надеюсь стать еще более достойной благородного
человека.
При этом заявлении в его пользу, пусть даже сделанном холодно и с
оговорками, де Лэси стало так же трудно сдержать восторг, как раньше было трудно
умерять волнение.
— Ангел доброты и великодушия! — воскликнул он, снова опускаясь на
колено и снова беря ее руку. — Быть может, честь велит мне добровольно отречься
от надежд, которых вы не хотите меня лишать. Но кто способен на подобное
самоотречение? Позвольте же мне надеяться, что преданность, которую я сумею
выражать, даже находясь вдали от вас, в которой вы убедитесь еще более, когда
я буду подле вас, быть может, придаст и вашему чувству больше тепла. Не
осуждайте же меня за то, что я сохраняю наше обручение на условиях, которые
ставите вы. Я стал женихом не в том возрасте, чтобы ожидать страстной
взаимности, свойственной молодости. Не осуждайте, если я удовольствуюсь более
спокойными чувствами: они сулят счастливую жизнь, хотя не приносят восторгов
пылкой страсти. Ваша рука лежит в моей, но не отвечает на пожатие.
Возможно ли, что она отказывается подтвердить то, что вымолвили ваши уста?
— Нет, не отказывается, благородный де Лэси, — отвечала Эвелина более
горячо, чем говорила до тех пор; ее тон, как видно, ободрил влюбленного
настолько, что он попросил, чтобы не отказали и губы Эвелины.
Получив этот залог верности, он с достоинством, но также и с почтением
попытался умилостивить недовольную аббатису.
— Надеюсь, почтенная настоятельница, — сказал он, — что вы вернете мне
прежнее ваше расположение; ведь поколеблено оно было единственно вашим
Глава XIX
129
попечением о той, кто обоим нам всего дороже. Позвольте мне надеяться, что
я могу оставить этот прекрасный цветок на попечение почтенной особы и
ближайшей родственницы — в этих святых стенах под вашей опекой ей будет
спокойно и безопасно.
Однако аббатиса была слишком недовольна, чтобы смягчиться от
комплимента, который следовало, пожалуй, отложить до более спокойного времени.
— Милорд, — сказала она, — и ты, племянница, должны знать, сколь мало мои
советы — а я редко их даю, когда их неохотно слушают, — могут пригодиться в
мирских делах. Я посвятила себя молитве и уединению, служению Пресвятой
Деве и святому Бенедикту12. Мой начальник и так уже порицал меня, когда из
любви к тебе, племянница, я приняла в мирских делах более живое участие,
нежели подобает настоятельнице монастыря; я не хочу снова заслужить
осуждение, и вы не можете этого от меня ждать. Дочь моего брата, не связанная
никакими мирскими узами, была бы в моем уединении желанной гостьей.
Но дом этот не годится для пребывания в нем обрученной невесты
могущественного барона. Куда уж мне, недостойной и неопытной, подчинить такую особу
власти, которая дана мне над всеми, кто находит себе приют под этой
кровлей, — продолжала аббатиса, все более раздражаясь. — И не могу я, ради
родственных связей своих, нарушить молитвенную тишину и покой здешней
обители и дать вторгнуться сюда той, чьи помыслы неизбежно будут витать вокруг
мирских забав, любви и брака.
— Да, действительно, почтенная аббатиса, — сказал коннетабль, в свою
очередь давая волю раздражению, — девушка с большим состоянием и не
намеренная вступать в брак должна быть в монастыре более желанной гостьей,
нежели та, которую нельзя разлучить с мирской жизнью и чье состояние не
увеличит монастырскую казну.
Этим необдуманным упреком коннетабль глубоко оскорбил аббатису и еще
более укрепил ее решение не брать племянницу на свое попечение. Она была
столь же бескорыстна, сколь надменна; и единственной причиной ее гнева было
то, что Эвелина не последовала ее совету, хотя дело касалось только счастья
самой девушки.
Неуместные слова коннетабля укрепили ее в принятом решении.
— Да простит вам Бог, рыцарь, ваши подозрения, оскорбительные для Его
служителей, — сказала она. — Ради спасения вашей души вам и в самом деле
пора в Святую Землю искупать грехи и каяться в ваших опрометчивых
суждениях. Что до тебя, племянница, то теперь я уже не могу предоставить тебе кров
хотя бы потому, что этим подтвердила бы несправедливые подозрения. Да и к
чему тебе мое гостеприимство, когда в лице владелицы Болдрингема у тебя есть
почти столь же близкая родственница, которая может открыть перед тобой
дверь, не подвергаясь оскорбительному подозрению, что она намерена
обогатиться за твой счет.
Коннетабль увидел, что при этом предложении лицо Эвелины покрыла
смертельная бледность; он не знал причины ее страха, но поспешил его развеять.
— Нет, почтенная аббатиса, — сказал он. — Если вы столь жестоко
отказываетесь позаботиться о племяннице,"Она не обременит собою и других своих род-
5 В. Скотт
130
Обрученная
ственников. Пока Хьюго де Лэси владеет шестью замками и многими
поместьями и в каждом горит в очаге огонь, его невеста никому не будет обузою, и все
почтут ее присутствие за большую честь. А будь я много беднее, чем угодно
было Небу сделать меня, разве не нашлось бы у меня достаточно друзей и
соратников, чтобы служить и повиноваться ей и охранять ее?
— Нет, милорд, — сказала Эвелина, стряхнув с себя уныние, в какое
повергло ее бессердечие родственницы, — раз несчастная судьба разлучает меня с
сестрой моего отца, у которой я так охотно осталась бы, я не стану искать приюта
у более дальней родни; не приму я и ваше великодушное предложение, милорд,
ибо за это могут сурово и, я уверена, несправедливо осудить ту, кто
вынуждает меня искать менее желанное пристанище. Решение мое принято. Правда,
у меня остается всего один друг, но это друг могущественный, способный
защитить меня как от обычных бедствий жизни, так и от злой судьбы, которая
ходит за мной по пятам.
— Это, должно быть, сама королева? — нетерпеливо прервала ее аббатиса.
— Да, почтенная тетушка, это Королева Небесная, — ответила Эвелина. — Это
Пресвятая Дева Печального Дозора, которая всегда покровительствовала
нашему дому, а в последнее время была особенно милостива ко мне. И если меня
отвергает та, которая посвятила себя служению Ей, то искать помощи мне
остается лишь у Нее самой.
Аббатиса, которую этот ответ застал врасплох, издала лишь непочтительное
восклицание «Уф!», более подобающее лолларду13 или иконоборцу14, нежели
настоятельнице католического монастыря и женщине из рода Беренжеров. Дело
в том, что аббатиса охладела к Пресвятой Деве Печального Дозора, с тех пор
как убедилась в чудотворной силе другого образа, принадлежавшего ее
монастырю.
Тут же опомнившись, она ничего более не добавила; а коннетабль заметил,
что близость валлийцев может представлять для его невесты ту же опасность,
какой она уже подверглась однажды в замке Печальный Дозор. Эвелина
напомнила ему, что ее родной замок отлично укреплен и выдержал не одну осаду;
а недавно оказался в опасности единственно потому, что ее отец Раймонд,
считая это делом своей чести, вывел гарнизон за стены замка и принял бой в крайне
невыгодной позиции. Затем Эвелина сказала, что коннетабль без труда найдет
среди ее вассалов или своих собственных опытного и отважного сенешаля,
который обеспечит безопасность замка и его владелицы.
Прежде чем де Лэси ответил на эти доводы, аббатиса встала, сославшись на
полную свою неспособность давать советы по мирским делам, а также на устав
своего ордена, который велит — как добавила она, краснея от досады и повысив
голос, — «заниматься, прежде всего, делами обители». Она оставила обрученных
в монастырской приемной, в обществе одной лишь Розы, благоразумно
державшейся поодаль.
Исход их беседы, видимо, удовлетворил обоих; и когда Эвелина объявила
Розе, что вскоре они под надежной охраной вернутся в замок Печальный Дозор
и останутся там до завершения крестового похода, то говорила это тоном
искреннего удовлетворения, какого служанка не слышала от нее уже много дней.
Глава XX
131
Эвелина высоко оценила внимание коннетабля ко всем ее желаниям, и обо всем
поведении его говорила с пылкой благодарностью, близкой к чувствам еще
более нежным.
— И все же, милая госпожа, — сказала Роза, — если говорить откровенно, вы
должны сознаться, что годы, которые пройдут между вашим обручением и
свадьбою, кажутся вам скорее желанной передышкой, нежели чем-нибудь иным.
— Я признаю это, — ответила Эвелина, — не скрыла я и от будущего
супруга, что именно таковы мои чувства, хотя это, может быть, звучало нелюбезно.
Я еще очень молода, Роза, вот отчего я боюсь обязанностей, которые лягут на
супругу де Лэси. Тревожат меня также недобрые предзнаменования.
Проклятая одной из моих родственниц и, можно сказать, изгнанная другою, я сейчас
кажусь себе существом, которому суждено всюду нести с собой беду. Но время
развеет эти страхи. Когда мне будет двадцать лет, Роза, я стану вполне
взрослой женщиной, во мне окрепнет дух Беренжеров и я преодолею сомнения и
страхи, какие терзают девушку семнадцати лет.
— Ах, милая госпожа, — сказала Роза, — пусть Господь и Пресвятая Дева
Печального Дозора устроят все к лучшему, а мне все же хотелось бы, чтобы
этого обручения не было, или раз уж оно состоялось, то и венчание тотчас за
ним следовало бы.
Глава XX
И сошлись друзья на зов короля:
По трое, парами, по одному —
Но лорд-маршал, входивший первым всегда,
Вошел последний к нему.
Старинная баллада1
Если леди Эвелина закончила свой разговор с де Лэси вполне довольная, то
чувства самого коннетабля достигли более высоких степеней восторга, чем он
привык испытывать или выражать; и восторг этот еще возрос, когда лекари,
лечившие его племянника, явились с подробным отчетом о его болезни и
заверениями в очень скором выздоровлении.
Коннетабль приказал раздать милостыню беднякам и пожертвования
монастырям; велел, чтобы служили мессы и возжигали свечи. Он посетил
архиепископа и получил от него полное одобрение своим действиям, а также обещание
сократить пребывание в Святой Земле до трех лет, считая со дня отправления
из Англии и включая время, какое потребует обратный путь на родину. Одержав
верх в самом главном, архиепископ счел за благо в остальном пойти на уступки
человеку столь высокого ранга, как коннетабль, чье доброе отношение к походу
было, пожалуй, не менее важно для успеха, чем личное его присутствие.
Словом, коннетабль возвратился в свой шатер весьма довольный удачным
разрешением его затруднений, которые еще утром казались почти
непреодолимыми. Когда его приближенные собрались, чтобы помочь ему раздеться
(ибо у феодальных лордов, в подражание суверенным монархам, были свои
5*
132
Обрученная
levees и couchees*), он раздавал им награды и при этом шутил и смеялся
веселее, чем они когда-либо слышали.
— Тебе, — обратился он к менестрелю Видалю, который в новой богатой
одежде почтительно стоял среди прочих слуг, — я сейчас не дам ничего; но
оставайся подле меня, пока я не засну, и утром я награжу твою музыку и пение,
насколько они мне понравятся.
— Милорд, — сказал Видаль, — я и так уже награжден и честью, и нарядом,
более подобающим менестрелю короля, чем моей скромной особе; но дайте мне
тему, и я приложу все старания — не из алчного ожидания щедрот, но из
благодарности за уже полученные.
— Благодарю и я тебя, приятель, — сказал коннетабль. — Гуарайн, — добавил он,
обратившись к своему оруженосцу, — выставь стражу, а сам останься здесь!
Ложись на медвежью шкуру и спи, а если хочешь, послушай менестреля. Ты
ведь, кажется, знаток их искусства.
В те тревожные времена в шатре каждого барона обычно спал кто-то из
верных слуг, чтобы в случае опасности тот не остался без защиты. Гуарайн вынул
меч из ножен и лег, держа его в руке, чтобы при малейшей тревоге вскочить
вооруженным. Его темные глаза, в которых сон боролся с желанием послушать
певца, были устремлены на Видаля; отражая свет серебряного светильника, они
блестели, точно глаза дракона или василиска2.
Взяв несколько вступительных аккордов на своей лютне, менестрель
попросил коннетабля назвать тему, а он постарается показать свое искусство.
— Верность женщины, — ответил Хьюго де Лэси, опуская голову на подушку.
Сыграв краткую прелюдию, менестрель спел следующую песню:
1
Женщина честна, верна —
Выводите письмена
На песке, в потоке чистом,
В лунном свете серебристом!
И уверить смею вас:
Тверды, прочны, как алмаз
Эти надписи в сравненье
С тем, в чем смысл их и значенье!
2
И паучья нить прочней
Истинности их речей.
Больше вес в зерне песчаном,
Чем в обете их обманном.
Правдою моих к ней чувств
Мерю ложь коварных уст.
Утром ей поверю снова —
Вечером нарушит слово!
* Здесь: утренние и вечерние аудиенции {(pp.).
Глава XXI
133
— Что это, негодяй! — крикнул коннетабль, приподнявшись и опираясь на
локоть. — От какого пьяного рифмача перенял ты эту дурацкую песню?
— От старого, оборванного и угрюмого приятеля моего по имени Опыт, —
отвечал Видаль. — Дай Бог, чтобы он не взял в обучение вашу светлость или
другого достойного человека!
— Да ну тебя! — сказал коннетабль. — Ты, как я вижу, из тех умников, которые
много о себе мнят потому лишь, что умеют обратить в шутку предметы, перед
которыми истинные мудрецы благоговеют: честь мужчины и верность женщины.
Ты зовешься менестрелем, так неужели у тебя нет песни о женской верности?
— Их было у меня много, милорд, только я не пою их с тех пор, как оставил
ремесло шута, которое тоже является частью Веселой Науки. Впрочем, если
угодно вашей светлости, я могу спеть на эту тему одну хорошо известную лэ.
Де Лэси жестом выразил согласие и снова лег, пытаясь задремать. А Видаль
запел одну из многочисленных и крайне длинных песен об истинном образе
верности — прекрасной Изольде; о верной любви, какую она питала и
сохранила среди множества опасностей и препятствий к своему возлюбленному
доблестному Тристану в ущерб тому, кого любила меньше — своему супругу,
незадачливому Марку3, королю Корнуэльса, которому, как известно, Тристан доводился
племянником.
Не та это была песнь о любви и верности, какую выбрал бы де Лэси; но нечто
похожее на стыд не позволило ему прервать ее; быть может, он не хотел
поддаться неприятному чувству, какое вызывала у него песнь, или даже признаться в нем.
Вскоре он заснул или притворился, что спит; музыкант еще продолжал
некоторое время свое монотонное пение, но потом и его начала одолевать дремота; слова
песни и звуки, еще издаваемые лютней, стали отрывочными. Затем звуки
умолкли совсем, и менестрель, казалось, погрузился в глубокий сон: голова его
свесилась на грудь, одна рука опустилась вдоль тела, другая лежала на лютне.
Однако сон его был недолог; а когда он пробудился и оглянулся вокруг,
разглядывая при свете ночника все, что находилось в шатре, на плечо ему опустилась
тяжелая рука, и голос бдительного Филиппа Гуарайна прошептал ему на ухо:
— Твоя служба на эту ночь окончена. Огупай к себе, и притом как можно тише.
Менестрель, не отвечая, завернулся в плащ и вышел, все же несколько
обиженный столь бесцеремонным прощанием.
Глава XXI
Ну, это королевы Маб проказы!*
Ромео и Джульетта1
Предметы, занимавшие наши мысли в течение дня, обычно являются нам и
во сне, когда наше воображение, не сдерживаемое рассудком, сплетает из
обрывочных мыслей собственные фантастические узоры. Неудивительно поэтому,
что де Лэси в своих сновидениях каким-то образом отождествлял себя с Мар-
* Пер. Б. Пастернака.
134
Обрученная
ком, несчастным королем Корнуэльса, и что он пробудился от этих неприятных
снов более мрачным, чем был, когда укладывался спать. Пока оруженосец
обставлял его levee со всей почтительностью, какая в наши дни окружает одних
лишь монархов, он был молчалив и погружен в задумчивость.
— Гуарайн, — промолвил он, наконец, — знаешь ли ты дюжего фламандца,
который, говорят, отлично показал себя при осаде Печального Дозора? Такой
высокий, дородный детина.
— Конечно, знаю, милорд, — ответил оруженосец. — Это Уилкин Флэммок;
я только вчера его видел.
— В самом деле? — сказал коннетабль. — Здесь, в городе Глостере?
— Так оно и есть, милорд. Он прибыл сюда со своим товаром, но также и
затем, думается мне, чтобы повидать свою дочь Розу, которая состоит при
особе молодой леди Эвелины.
— Он ведь, кажется, бравый воин?
— Как большинство его земляков. В обороне — крепче нету, а на поле толку
мало, — ответил оруженосец-норманн.
— И, кажется, человек верный? — продолжал коннетабль.
— Верный, как большая часть фламандцев, когда за верность им платят, —
сказал Гуарайн, немного удивленный необычным интересом, какой
проявлялся к существу, как он считал, низшего разряда.
Задав еще несколько вопросов, коннетабль приказал немедленно доставить
фламандца к нему. В то утро коннетаблю предстояли и другие дела, ибо его
поспешный отъезд требовал многих, также спешных, распоряжений; принимая
у себя нескольких офицеров своего войска, он заметил при входе в шатер
осанистую фигуру Уилкина Флэммока в белой куртке, вооруженного всего лишь
ножом, висевшим на поясе.
— Оставьте шатер, господа мои, — сказал де Лэси, — но останьтесь
поблизости; пришел некто, с кем мне надобно поговорить наедине.
Офицеры удалились; коннетабль и фламандец остались вдвоем.
— Ты тот самый Уилкин Флэммок, который храбро бился с валлийцами у
замка Печальный Дозор?
— Я старался, как мог, милорд, — ответил Уилкин. — Такой был заключен со
мною уговор; а я надеюсь всегда оправдывать доверие.
— Мне думается, — сказал коннетабль, — ты так крепок телом, а духом так
смел, что мог бы рассчитывать на большее, чем твой ткацкий станок.
— Каждый не прочь улучшить свое положение, милорд, — сказал Уилкин. —
Однако я и на нынешнее не жалуюсь и охотно соглашусь не улучшать его при
условии, чтобы оно не ухудшилось.
— Но я, — сказал коннетабль, — задумал для тебя кое-что получше, чем ты
по скромности своей ожидаешь. Я хочу доверить тебе нечто очень важное.
— Ежели, речь идет о тюках сукна, милорд, — отвечал фламандец, — никто
лучше меня с этим не справится.
— Уж очень низко ты летаешь! — сказал коннетабль. — Что, если посвятить
тебя в рыцари, как того заслуживает твоя отвага, и поставить кастеляном
замка Печальный Дозор?
Глава XXI
135
— Что до посвящения в рыцари, милорд, то прошу прощения; мне это
нужно как кабану золоченый шлем. А если надо что-нибудь сторожить, хоть замок,
хоть деревенский дом, то я надеюсь справиться не хуже кого другого.
— И все-таки тебя надо повысить рангом, — настаивал коннетабль, оглядывая
фигуру Уилкина Флэммока, очень уж непохожую на фигуру воина. —
Нынешний чересчур низок, чтобы защищать и опекать высокородную молодую леди.
— Мне-то опекать высокородную молодую леди? — переспросил Флэммок,
и его круглые светлые глаза еще больше округлились.
— Да, тебе, — отвечал коннетабль. — Леди Эвелина измерена поселиться в
своем замке Печальный Дозор. Я обдумывал, кому бы доверить охрану ее
особы, а также замка. Если я изберу для этого кого-нибудь из рыцарей моего
окружения, он либо станет прежде всего исполнять свою вассальную службу и
пойдет на валлийцев, подвергая замок опасности, либо будет часто отлучаться
на турниры и на охоту; а то еще станет устраивать шумные игрища под
стенами замка или даже во дворе и нарушит тихое уединение, подобающее
положению леди Эвелины. Зато на тебя я могу положиться. Воевать ты станешь лишь
при необходимости и не будешь сам искать опасности; твое рождение и твои
привычки заставят тебя чураться увеселений, быть может, привлекательных для
других, но не для тебя; хозяйство ты поведешь рачительно; я позабочусь, чтобы
должность твоя была почетной; а твое родство с ее любимицей Розой сделает тебя
более приятным леди Эвелине, чем кого-либо из равных ей. Ну а если говорить
с тобой на языке, который твои соплеменники понимают лучше всего, то
награда за исправное исполнение столь важной службы превысит все твои ожидания.
Фламандец сперва слушал эту речь с выражением удивления, а затем с
глубокой озабоченностью. Когда коннетабль кончил, он с минуту молчал, уставясь
в землю, потом, подняв глаза, сказал:
— Не стану ходить вокруг да около, а скажу прямо. Вы говорите не всерьез,
милорд. А если и всерьез, то ничего тут не выйдет.
— Это почему же? — спросил коннетабль с удивлением и неудовольствием.
— Другой польстился бы на вашу щедрость, — продолжал Уилкин, — и не
заботился о том, что вы за свою щедрость будете иметь. А я делаю дело
честно и не стану брать плату за то, чего выполнить не сумею.
— А я еще раз тебя спрашиваю: отчего ты не можешь, вернее не хочешь,
взять это на себя? — повторил коннетабль. — Уж если я оказываю тебе такое
доверие, тебе подобает оправдать его.
— Верно, милорд, — ответил фламандец, — но благородный лорд де Лэси
должен был бы чувствовать, а мудрый лорд де Лэси предвидеть, что
фламандский ткач не годится в опекуны его невесты. Представьте ее в уединенном
замке под такой опекой и подумайте, долго ли замку оставаться уединенным в этой
стране любви и рыцарских подвигов. Дюжины менестрелей станут распевать
под нашими окнами, и такая пойдет игра на арфах, что впору будет стенам
рухнуть, как говорят, случилось в городе Иерихоне2. А уж странствующих
рыцарей соберется не меньше, чем к Шарлеманю3 или королю Артуру4. Боже
милостивый! Довольно и меньшей приманки, чем прекрасная и высокородная
затворница под охраной старого фламандского ткача, чтобы собрать вокруг нас
136
Обрученная
половину всех рыцарей Англии. И начнут они ломать копья, давать клятвы,
надевать цвета дамы и творить уж не знаю какие еще безумства. Неужели эти
молодцы, у которых кровь бежит по жилам, точно ртуть, послушаются меня,
когда я стану их гнать?
— А ты задвинь засовы, убери подъемный мост, опусти решетку на воротах, —
сказал коннетабль, принужденно улыбаясь.
— Неужели ваша светлость полагает, что это их остановит? Они придут
искать приключений, а какие же приключения без препятствий? Рыцарь Лебедя
переплывет через ров, Рыцарь Орла взлетит над стенами, а Рыцарь Грома и
Молнии вдребезги разнесет наши ворота.
— Ну так пусти в ход арбалеты и баллисту, — сказал де Лэси.
— Вот тогда уж нас осадят по всем правилам, — сказал фламандец. — Как
осаждали замок Тинтажель5 на старых гобеленах, и все ради любви к
прекрасной даме. А еще явятся веселые девицы, которые тоже ищут приключений и
порхают от замка к замку, с турнира на турнир: корсажи расстегнуты, на
шапочках перья, на поясе кинжал, а в руках дротик. Стрекочут как сороки,
трепыхаются как сойки, а бывает, воркуют, точно голубки. Как сумею я не
допустить их к леди Эвелине?
— Говорят тебе, держи двери запертыми, — сказал коннетабль, принуждая
себя к шутливому тону.
— Вот, вот! — сказал Флэммок. — Если фламандский ткач скажет «запереть!»,
а норманнская леди велит «отворить!», кому из них скорее повинуются? Словом,
милорд, я отказываюсь; не про меня эта честь. Я не взялся бы опекать даже
целомудренную Сусанну6, если бы она жила в заколдованном замке, куда не
может приблизиться ничто живое.
— У тебя, — сказал де Лэси, — и язык, и мысли грубого распутника, который
смеется над женским постоянством потому, что имел дело лишь с низкими
женщинами. Однако тебе следовало бы знать и другое. У тебя, как мне
известно, весьма добродетельная дочь.
— Такова была и ее мать, — ответил Уилкин, прерывая речь коннетабля
тоном несколько более взволнованным, чем обычно. — Но женой своей, милорд,
я по закону мог руководить; тот же закон и права отца дают мне власть и над
дочерью. Над чем я сам имею права, за то готов и отвечать. А когда права мне
только переданы, дело совсем другое. Оставайтесь дома, милорд, — продолжал
честный фламандец, заметив, что его слова производят на де Лэси некоторое
впечатление. — Пусть совет глупца хоть однажды пригодится мудрому в деле,
которое, позволю себе сказать, не мудро было задумано. Оставайтесь в своей
стране, сами правьте своими вассалами и сами охраняйте свою невесту. Только
вы можете ждать от нее готовности повиноваться с любовью. Не стану гадать,
что она станет делать в вашем отсутствии, зато уверен, что на ваших глазах она
будет исполнять долг верной и любящей супруги.
— А как же Гроб Господень? — вздохнул коннетабль, в душе признавая
разумность совета, которому не мог последовать.
— Кто упустил Гроб Господень, тот пускай и отвоевывает его, — ответил
Флэммок. — Если все эти латиняне и греки7 не лучше, чем я о них слыхал, то
Глава XXI
137
разве не все равно, они или язычники владеют страной, которая стоит Европе
столько крови и столько золота.
— Должен признать, — сказал коннетабль, — что в словах твоих немало
правды; но смотри, не повторяй их, иначе сойдешь за еретика или жида. Что до меня,
то я безвозвратно связан обетом. Мне остается решать, кого назначить на
важный пост, который ты отклоняешь из осторожности, но не без основания.
— Кого же еще, — сказал Уилкин Флэммок, — как не ближайшего
родственника вашей светлости, кому вы полностью доверяете; хотя всего лучше было бы
самому этот пост не оставлять.
— Если под ближайшим родственником, — сказал коннетабль, — ты
разумеешь Рэндаля де Лэси, я не скрою от тебя, что считаю его человеком негодным
и не заслуживающим доверия.
— Нет, я подразумевал другого, — отвечал Флэммок, — более близкого по
крови и, если не ошибаюсь, более близкого также и сердцу вашему, милорд.
Племянника вашей светлости Дамиана де Лэси.
Коннетабль вздрогнул точно ужаленный, но тотчас ответил с деланным
спокойствием:
— Дамиан должен был отправиться в Палестину вместо меня; но теперь, как
видно, я отправлюсь вместо него; ибо после его недавней болезни лекари
совершенно переменили мнение и считают жаркий климат настолько же опасным для
него, насколько прежде считали целительным. Но ведь наши ученые медики,
как и наши ученые священники, должны быть всегда правы, сколько бы ни
меняли они свои мнения; и только мы, бедные миряне, всегда оказываемся
неправы. На Дамиана я действительно всецело могу положиться; но он еще
чересчур молод, Флэммок, и слишком близок годами к той, кого можно было бы
оставить на его попечение.
— Тогда повторю снова, — сказал прямодушный фламандец, — оставайтесь
здесь и сами охраняйте то, что для вас столь дорого.
— А я снова повторяю, что не могу, — ответил коннетабль. — Я возложил на
себя обет и не могу его нарушить, хотя, быть может, совершаю великую
ошибку. Знаю одно: шаг этот непоправим.
— Если так, то доверьтесь племяннику, милорд, — сказал Уилкин. — Он
честен и прямодушен; лучше доверять молодому льву, чем старому волку. Если он
в чем и ошибется, то не по злому умыслу.
— Ты прав, Флэммок, — сказал коннетабль. — Мне и раньше следовало
спросить твоих советов, хоть они и грубоваты. Пусть наш разговор останется
между нами, а ты подумай, нет ли для тебя чего-нибудь выгоднее, чем честь
обсуждать со мною мои дела.
— Тут мне долго думать нечего, милорд, — ответил Флэммок. — Я как раз
собирался просить вашу светлость расширить малость привилегии здешним
фламандцам.
— Ты и получишь их, если не потребуешь слишком уж многого, — сказал
коннетабль.
И честный фламандец, не отличавшийся особенной стеснительностью,
поспешил во всех подробностях изложить свою просьбу, или петицию, которой
после нынешней беседы был обеспечен благоприятный ответ.
138
Обрученная
А коннетабль направился к жилищу Дамиана де Лэси и, к немалому
изумлению своего племянника, сообщил ему о переменах в своих планах.
Собственный неминуемый и скорый отъезд, недавняя и теперешняя болезнь Дамиана,
а также необходимость охранять леди Эвелину — все эти доводы он привел для
того, чтобы племянник оставался на родине защищать семейные права и
семейную честь, но, прежде всего, опекать юную и прекрасную невесту, которую его
дядя вынужден на время покинуть.
Когда коннетабль явился сообщить об этих переменах, Дамиан еще лежал
в постели, что оказалось весьма кстати, ибо в этом положении ему легче было
укрыть от взора дядюшки волновавшие его чувства. Между тем коннетабль,
спеша поскорее закончить разговор на неприятную тему, перечислил все
сделанные им распоряжения, которые должны были помочь племяннику успешно
справиться с порученным ему важным делом.
Юноша слушал его словно сквозь сон; он не имел сил прервать
говорившего, но что-то в нем самом шептало ему, что благоразумнее и честнее было бы
возражать против этих перемен в дядюшкиных планах. Когда коннетабль
наконец умолк, Дамиан все же попытался что-то сказать, но слишком робко и
неуверенно, чтобы поколебать решение, принятое хотя и поспешно, но твердо,
и изложенное человеком, привыкшим объявлять о своих решениях, лишь когда
они приняты, и не менять их, когда они уже объявлены.
К тому же возражения Дамиана, если можно назвать их таковыми, были
слишком противоречивы, чтобы их можно было уразуметь. Сперва он выразил
сожаление о лаврах, которые надеялся стяжать в Палестине, и умолял дядюшку
взять его под свое знамя. Сразу вслед за этим он объявлял о своей готовности
защищать леди Эвелину до последней капли своей крови. Коннетабль не
усмотрел в этих чувствах никакой непоследовательности, хоть в тот момент они и
противоречили одно другому. Молодому рыцарю, думал он, свойственно
желание отличиться в боях; но столь же охотно он принимает на себя почетную и
важную обязанность, какая ему сейчас предлагается; ничего нет
удивительного, думал коннетабль, что, принимая порученный ему пост, юноша вместе с тем
сожалеет о несбывшихся подвигах и приключениях. Поэтому на бессвязные
возражения племянника коннетабль ответил только улыбкой; затем, еще раз
подтвердив свое решение, он предоставил юноше размышлять над переменой
в его судьбе, а сам вновь направился в монастырь бенедиктинок, чтобы
сообщить об этом решении аббатисе и невесте.
Недовольство первой из них и на этот раз не уменьшилось. Делая вид,
что все это весьма мало ее интересует, она сослалась на свои монастырские
обязанности и на недостаточное знание мирских дел, из-за которого может
ошибаться в своих суждениях; однако ей всегда казалось, что опекуны юных
и прекрасных девиц избираются среди более зрелых лиц противоположного
пола.
— Ваш собственный нелюбезный отказ, — ответил коннетабль, — не оставил
мне иного и лучшего выбора. Если самые близкие люди отказываются
предоставить леди Эвелине свой кров из-за того, что она оказала мне честь обручиться
со мной, я был бы более чем неблагодарным, не обеспечив ей опеку и защиту
Глава XXI
139
в лице моего наследника. Дамиан молод, но это человек чести и среди рыцарей
Англии я не сумел бы найти лучшего.
Эвелина, услышав о решении, которое жених столь внезапно объявил,
казалась удивленной и даже испуганной; к счастью, слова аббатисы потребовали от
коннетабля ответа и помешали ему заметить, что невеста то краснела, то
бледнела.
Роза, которая присутствовала при этой беседе, приблизилась к своей
госпоже; делая вид, будто поправляет ее вуаль, и незаметно крепко пожимая ей руку,
она дала ей время собраться с мыслями. Ответ Эвелины был кратким, но
решительным и дан был с твердостью, показавшей, что минутная растерянность
миновала или она сумела ее побороть. В случае опасности, сказала она, она не
преминет обратиться к Дамиану де Лэси и он явится к ней на помощь, как уже
было однажды. Но сейчас, в собственном укрепленном замке, она хорошо
защищена и намерена жить там лишь со своими домочадцами. Ввиду своего
особого положения она будет соблюдать самое строгое уединение и надеется, что его
не нарушит даже благородный молодой рыцарь, которому поручено ее опекать,
если только прямая угроза ее безопасности не сделает его появление
необходимым.
Аббатиса хотя холодно, но одобрила такое намерение, отвечавшее ее
понятиям о приличиях; начались приготовления к возвращению леди Эвелины в
отцовский замок. Но, прежде чем покинуть монастырь, ей предстояли две
нелегкие встречи.
Первая произошла, когда Дамиан был официально представлен ей
коннетаблем как лицо, которому он поручает охрану своего достояния и того, что для
него всего дороже — собственной ее особы. Эвелина едва решилась взглянуть на
Дамиана; но и этого ей оказалось достаточно, чтобы увидеть страшные
изменения, которые болезнь и какая-то тайная печаль произвели в красивом и
мужественном облике стоявшего перед ней юноши. На его приветствие она
ответила с таким же смущением, какое заметно было в нем самом; когда он
неуверенно предложил свои услуги, она выразила надежду, что за время отсутствия его
дяди ей придется благодарить Дамиана лишь за добрые намерения.
Прощание с коннетаблем стало вторым испытанием, которому ей пришлось
подвергнуться. Оно прошло не без волнения, хотя Эвелина хранила скромное
спокойствие, а де Лэси — обычную свою серьезность, полную достоинства.
Однако голос его прерывался, когда он заявил, что было бы несправедливо
связывать ее помолвкой, которую она столь милостиво согласилась продлить.
— Если через три года я не появлюсь, — сказал он, — пусть леди Эвелина
знает, что де Лэси в могиле, и пусть изберет в супруги человека по сердцу. Она
не найдет никого более ей благодарного, хотя более достойных есть немало.
Так они расстались. Сразу же после этого коннетабль, сев на корабль,
направился к берегам Фландрии, где намерен, был соединить свой отряд с войском
графа, владыки этой богатой и воинственной страны8, недавно возложившего на
себя крест, а затем искать наиболее удобный путь в Святую Землю. Попутный
ветер развевал на носу корабля широкий вымпел с гербом рода де Лэси и
словно указывал на горизонте то место, где он приумножит свою славу. Никогда еще
140
Обрученная
более славный военачальник и более отважные бойцы, следовавшие за ним,
не отправлялись мстить сарацинам за беды, какие терпели в Палестине латиняне.
Тем временем Эвелина, холодно простившись с аббатисой, чья оскорбленная
гордость не прощала пренебрежения к ее мнению, пустилась в обратный путь;
в отцовском замке ей предстояло устроить свою жизнь согласно советам
коннетабля, которые одобряла и она сама.
Всюду, где она останавливалась, ее ждали те же заботливые приготовления,
что и на пути в Глостер, но тот, кто о ней заботился, все так же оставался
невидимым, хотя имя его она угадывала без труда. Однако обозначились и
некоторые перемены: к удобствам и полной безопасности уже не примешивалась
нежная галантность и изысканный вкус, которые должны были указывать, что
все это делается для особы прекрасной и юной. Для полдневной трапезы не
избирался уже прозрачный источник и тенистая роща; теперь гостеприимство
оказывал ей дом какого-нибудь мелкого землевладельца или небольшой
монастырь. Все делалось с самым строгим соблюдением приличий; казалось, будто
путешествует монахиня одного из суровых орденов, а не богатая и знатная юная
девица. Хотя Эвелине нравились эти знаки уважения к ее особому одинокому
положению, но порой ей казалось, что таким образом ей излишне часто о нем
напоминают.
Странным казалось ей и то, что Дамиан, заботам которого ее столь
торжественно поручили, во время пути ни разу не появился засвидетельствовать ей свое
почтение. Что-то шептало ей, что частое и близкое общение с ним было бы
неподобающим и даже опасным; однако долг рыцаря требовал, чтобы он
являлся на глаза девице, которую сопровождал, хотя бы затем, чтобы знать, всем ли
она довольна и нет ли у нее еще какого-либо желания. Между тем он общался
с нею только через своего юного пажа Амелота, который являлся утром и
вечером получать распоряжения Эвелины насчет выбора пути и часов остановок
для отдыха. Подобная церемонность усиливала в ней чувство одиночества;
и если бы не общество Розы, она невыносимо тяготилась бы им. Она даже
решилась указать своей наперснице на странности поведения де Лэси, который,
имея на это все полномочия, боится к ней приблизиться, точно она чудовище.
Первое такое замечание Роза, словно не услышала; но когда ее госпожа
заговорила на эту тему во второй раз, она ответила со свойственной ей
правдивостью и свободой, хотя и с меньшей, чем обычно, осмотрительностью:
— Дамиан де Лэси рассудил правильно, благородная госпожа. Тот, кому
вверено сокровище, не должен позволять себе слишком часто на него
заглядываться.
Эвелина покраснела, плотнее завернулась в свою вуаль и до самого конца
пути не упомянула, больше имени Дамиана де Лэси.
Когда вечером на второй день пути перед ней предстали серые стены замка
Печальный Дозор, и на самой высокой из сторожевых башен затрепетало
отцовское знамя, поднятое в честь приезда молодой владелицы замка, к ее радости
примешалась печаль; но все же леди Эвелина увидела перед собою прибежище;
здесь, среди всего, что напоминало ей счастливое детство, она надеялась
спокойно предаться новым мыслям, навеянным ее новым положением.
Глава XXII
141
Она ускорила бег своего коня, чтобы как можно быстрее достичь древних
замковых ворот; ответила на поклоны знакомых лиц, со всех сторон
окруживших ее; но ни с кем не заговорила, пока, сойдя с коня у дверей часовни, не
спустилась в крипту, где хранился чудотворный образ. Простершись перед ним, она
просила Пресвятую Деву руководить ею среди затруднений, в каких она
оказалась, выполняя свой обет; он дан был у этого же алтаря, в минуту смертельной
тревоги; пусть молитва обращалась всего лишь к иконе, помыслы молившейся
были искренни и чисты; и мы не сомневаемся, что ее молитва достигла Небес,
куда с верою устремлялась.
Глава ХХП
Уходит милый образ... Все равно,
И не прощенному, дай мне склониться
Пред властью той, в ком изволяют слиться
И сочетаться материнский трепет
С девическою чистотой,
Закон и благодать, земля и небо!
Вордсворт}
Жизнь леди Эвелины, хоть и обставленная всем, что подобало ее
нынешнему и будущему высокому рангу, была весьма уединенной, как того требовало ее
положение, ибо она не принадлежала к девицам еще не обрученным, но и не
стала матроной, защищенной именем мужа. Служанки, уже знакомые
читателю, составляли почти все ее общество. Гарнизон замка, помимо слуг, состоял из
испытанных ветеранов, побывавших вместе с Беренжером и де Лэси во многих
кровавых боях; охрана замка также была для них делом привычным; их
отвага, умерявшаяся возрастом и опытом, не вовлекла бы их в необдуманные
схватки и случайные ссоры. Они несли постоянную сторожевую службу под
командованием управителя и под бдительным оком отца Альдрованда, который,
исполняя обязанности священника, любил иной раз блеснуть познаниями бывалого
воина.
В то время как гарнизон был готов отразить внезапное нападение валлийцев
на замок, в нескольких милях от него стоял лагерем большой отряд, который
при малейшей тревоге должен был защитить замок от более многочисленного
противника, если бы тот, не устрашенный судьбой Гуенуина, дерзнул начать
осаду. К этому отряду, который Дамиан де Лэси держал в постоянной боевой
готовности, могла в случае надобности присоединиться вся военная сила
Валлийской Марки, включавшая фламандцев и других чужестранцев, владевших
земельными участками на условиях вассальной военной службы.
Надежно защищенные от врагов, обитатели замка вели жизнь столь простую
и однообразную, что юной красавице простительно было желать разнообразия
даже ценою некоторой опасности. Часы, проводимые за рукоделием,
перемежались прогулками вдоль стен замка, где Эвелине, шедшей под руку с Розой,
отдавали честь часовые; или прогулками по двору, где шапки и чепцы слуг и
служанок выполняли ту же приветственную роль, что пики и дротики часовых*.
142
Обрученная
Если у Эвелины появлялось желание продлить прогулку за ворота замка,
недостаточно было отпереть ворота и опустить подъемный мост; безопасность леди
Эвелины должен был охранять пеший или конный вооруженный отряд. Без
такого сопровождения она не могла дойти даже до сукновален, где честный
Уилкин Флэммок, оставив ратные труды, занимался своим ремеслом. Если же
замышлялась еще более дальняя прогулка или владелица замка Печальный
Дозор желала забавляться соколиной охотой, ее безопасность уже нельзя было
доверить одному лишь замковому гарнизону. Требовалось, чтобы Рауль, через
особого посланца, накануне вечером оповестил о ее намерении Дамиана и тот
успел до рассвета тщательно обследовать с отрядом легкой конницы всю
местность, где она собиралась охотиться; на все это время во всех подозрительных
местах ставили часовых. Сказать по правде, раз или два Эвелина попыталась
обойтись без предварительного извещения о своем намерении; но, казалось, что
все ее желания становились известны Дамиану, едва они у нее возникали;
и стоило ей выехать из замка, как лучники и копьеносцы из его войска
спешили осмотреть долину и готовились охранять горный перевал; обычно среди них
мелькал вдалеке и султан на шлеме самого Дамиана.
Все эти торжественные приготовления настолько мешали наслаждаться
охотой, что Эвелина редко позволяла себе забавы, требовавшие таких хлопот и
участия стольких людей.
Когда день так или иначе удавалось скоротать и наступал вечер, отец Альд-
рованд обычно читал из житий святых или проповедей какого-нибудь
усопшего праведника что-нибудь, по его мнению, подходящее для его небольшой
аудитории. Иногда он читал и толковал им главу из Священного Писания; однако
все внимание его обращалось на военную сторону истории иудеев, так что
чтение никогда не шло у него далее Книги Судей2 и Книги Царств3, а также побед
Иуды Маккавея4; и примеры, которыми он иллюстрировал победы сынов Израи-
левых, были гораздо занимательнее для него самого, чем для его слушательниц.
Иногда, хотя и редко, Розе разрешалось позвать странствующего
менестреля, чтобы тот развлек их песенкой о любви и о рыцарских подвигах; случалось,
что паломник, посетивший святые места, платил за гостеприимство замка
Печальный Дозор долгими повествованиями о чудесах, какие он повидал в чужих
землях; случалось даже, что стараниями камеристки Эвелины в замок
удавалось проникнуть бродячим торговцам, которые с риском для жизни добывали
свои барыши, предлагая то в одном, то в другом замке богатые ткани и
различные женские украшения.
Перечисляя развлечения тех времен, не забудем о нищих, о странствующих
жонглерах и шутах; наконец (хотя за таким гостем из вражеского стана
строго приглядывали), чтобы развеять скуку затворнической жизни, в замок
допускался даже валлийский бард и его огромная арфа со струнами из конского
волоса. Но если не считать этих развлечений, а также месс, которые служились
в замковой часовне, нигде жизнь не шла в более утомительном однообразии,
чем в замке Печальный Дозор. После гибели его доблестного владельца,
которому пиры и широкое гостеприимство были столь же необходимы, как дела
чести и рыцарские подвиги, старый замок погрузился в унылую тишину и напо-
Глава XXII
143
минал бы монастырь, если бы присутствие множества вооруженных стражей,
угрюмо шагавших по стенам, не делало его похожим скорее на тюрьму.
Обстановка жилища стала вскоре сказываться и на настроении его обитателей.
Особенно ощущала это сама Эвелина. Ее нрав, от природы живой, не
избежал тягостного влияния окружающего, и она все чаще погружалась в тихую
задумчивость, которая, однако, часто сочетается с духом пламенным и
восторженным. Она подолгу размышляла над событиями своей жизни;
неудивительно, что мысли ее при этом чаще всего обращались к двум случаям, когда она
была (или думала, что была) свидетельницей сверхъестественных явлений.
Ей тогда казалось, что за власть над ее судьбой борются добрые и злые силы.
В уединении человек более всего занят самим собою; именно в одиночестве,
погружаясь лишь в собственные мысли, фанатики видят чудеса, а
воображаемые святые впадают в воображаемый экстаз. Восторженность Эвелины не
приняла столь крайних форм, но в сновидениях ей являлась то Пресвятая Дева
Печального Дозора, которая взирала на нее с состраданием, сулившим защиту
и покровительство, то зловещий призрак женщины из саксонского замка Бол-
дрингем — она простирала к ней окровавленную руку, свидетельство жестокости,
какой она подверглась при жизни, и грозила мстить потомкам своего убийцы.
Пробуждаясь от таких снов, Эвелина вспоминала, что она — последний
отпрыск своего рода, рода, которому в течение веков покровительствовал
чудотворный образ и над которым в то же время тяготело проклятие мстительной
Ванды. Ей казалось, будто она, Эвелина, — тот приз, за который святая
покровительница и злобный дух должны разыграть свою последнюю роковую игру.
Редко отвлекаемая занимательными внешними событиями, Эвелина
сделалась задумчивой и рассеянной; погруженная в созерцание, она не слышала, что
говорят вокруг нее, и наяву была, точно во снег О своем обручении с
коннетаблем Честерским она думала с покорностью, но совсем не желая, чтобы вслед за
обручением пришлось вступить в брак, и словно мало веря, что это
действительно случится. Она исполнила свой обет и обменялась со своим спасителем
залогами верности; и хотя была готова соблюсти ее, но едва ли признавалась себе,
как неохотно пойдет под венец; она лелеяла смутную надежду, что Пресвятая
Дева Печального Дозора не окажется неумолимым кредитором; удовлетворясь
готовностью, с какой Эвелина выполнила первую часть обета, она не станет
настаивать на полном его осуществлении. Желать, чтобы ее отважный
спаситель, за которого у нее было столько причин молиться, подвергся одной из
роковых случайностей, столь часто сменявших в Святой Земле лавровый венок на
кипарисовый5, было бы черной неблагодарностью. Но бывает ведь и другое;
человек, долго пробывший в чужих краях, может изменить намерения, с какими
покидал родину.
Однажды странствующий менестрель, заглянув в замок Печальный Дозор,
исполнил для развлечения владелицы и ее домашних знаменитое лэ о графе
Глейхене, который, уже имея на родине жену, оказался столь многим обязан
некой сарацинской принцессе, вызволившей его из плена, что женился также и
на ней. Папе Римскому и его конклаву6 было угодно одобрить двоеженство;
добрый граф Глейхен разделил свое брачное ложе между двумя законными*
144
Обрученная
супругами, а сейчас почиет вечным сном, лежа между ними под надгробным
памятником.
Обитатели замка толковали эту легенду весьма различно. Отец Альдрованд
объявил ее лживою выдумкой и гнусной клеветой на главу Церкви,
утверждающей, будто Его Святейшество мог одобрить подобное беззаконие. Старая
Марджери, чувствительная, как все бывшие кормилицы, горько плакала, слушая повесть
и ничуть не подвергая сомнению ни могущество Папы, ни уместность его
решения. Она была довольна, что нашелся способ распутать любовный клубок,
казавшийся безнадежно запутанным. Кумушка Джиллиан сочла несправедливым
позволить мужчине иметь двух жен, если женщинам разрешен всего один муж;
а Рауль, бросив на нее свирепый взгляд, пожалел несчастного идиота, у которого
хватило глупости воспользоваться таким разрешением.
— Помолчите все, — сказала леди Эвелина, — и скажи мне ты, милая Роза,
как судишь ты о графе Глейхене и двух его женах?
Роза покраснела и сказала, что не привыкла раздумывать о таких предметах;
однако ей кажется, что жена, готовая довольствоваться лишь половиною
любви своего мужа, не заслуживает и малой ее доли.
— Отчасти ты права, Роза, — сказала Эвелина. — Мне думается, что
европейской даме, когда ее затмила юная и прекрасная чужеземная принцесса,
следовало с достоинством освободить место и доставить Святому Отцу меньше
хлопот; ибо тогда ему надо было лишь объявить ее брак недействительным, как это
бывало в недавние времена.
Она сказала все это безразличным и почти веселым тоном, показавшим ее
верной служанке, с какой легкостью она и сама принесла бы подобную жертву
и каковы, следовательно, чувства ее к коннетаблю. Дело в том, что не к нему,
а к другому невольно и чаще, чем советовало бы благоразумие, обращались ее
мысли.
Эвелина не забывала Дамиана де Лэси. Этого не позволяли ни частые
упоминания его имени окружающими, ни сознание, что он почти постоянно находится
поблизости, всецело занятый заботами о ее делах, ее удобствах и безопасности;
и вместе с тем он не только не являлся к ней сам, но даже не пытался узнать
прямо от нее, каковы ее желания, хотя бы в делах более всего ее касающихся.
Все передавалось отцом Альдровандом или Розой Амелоту, пажу Дамиана;
это придавало их отношениям церемонность, которую Эвелина находила
ненужной и даже нелюбезной с его стороны и которая вместе с тем приводила к тому,
что эти отношения постоянно присутствовали в ее сознании. Слова Розы,
оправдавшей старания юного опекуна держаться в отдалении, также иногда
вспоминались ей; с презрением отвергая самую мысль, что его присутствие, постоянное
или редкое, наносит ущерб интересам его дядюшки, Эвелина приводила себе
множество доводов за то, что в ее мыслях есть для него законное место. Разве
не было ее долгом думать о Дамиане часто и с любовью как о ближайшем и
самом любимом родственнике коннетабля, о том, кто пользовался наибольшим
его доверием? И разве не был он когда-то ее спасителем, а теперь ее опекуном?
И разве нельзя считать его орудием, избранным ее небесной покровительницей,
чтобы оказывать помощь, которую она не раз ей ниспосылала?
Глава XXIII
145
Душа Эвелины восставала против ограничений, наложенных на их встречи,
ибо именно в этом заключалось обидное подозрение, подобное принудительному
уединению, в котором, как она слышала, содержат своих женщин язычники
восточных стран. Почему опекун предстает ей только в виде благ, которыми он
ее окружает и постоянных забот о ее безопасности? Почему узнавать его
мнения ей можно только через других, точно он или она заражены чумой или иной
ужасной болезнью, делающей встречи опасными? А если бы они иногда
встречались, что за беда? Ведь это было бы просто заботой брата о сестре, надежного
и рачительного опекуна о невесте своего близкого родственника и уважаемого
патрона. И это позволило бы той, которая так еще молода, от природы так
весела, хотя и опечалена нынешним своим положением, легче сносить жизнь
затворницы.
Эти рассуждения казались Эвелине столь убедительными, когда она повторяла
их про себя, что она не раз решала сообщить их Розе Флэммок; однако, встречая
спокойный взгляд голубоглазой фламандки, она вспоминала, что непоколебимая
преданность сочетается у нее с искренностью и прямотой, которая не считается
ни с чем, и боялась заронить в ней подозрения, которых не допускала сама.
Ее норманнская гордость не могла не восставать против мысли, что придется
оправдываться перед кем-то в том, в чем она не признавала себя виновной.
— Пусть все остается как есть, — говорила она себе. — Будем терпеть скуку,
когда так легко было бы сделать жизнь веселее, лишь бы щепетильная
наперсница из особой заботы о моей чести не вообразила, будто я способна поощрять
общение, из-за которого обо мне может дурно подумать самый строгий из
мужчин или женщин. — И все-таки образ молодого красавца Дамиана возникал
перед леди Эвелиной чаще, чем это одобрил бы его дядя, если бы знал.
Впрочем, она никогда не задерживалась на этих мыслях подолгу. Постоянное
сознание своей необычной судьбы погружало ее в печаль, от которой молодая
жизнерадостность освобождала ее лишь на краткие минуты.
Глава ХХ1П
...небеса подвластны нам:
Любую дичь возьмет наш ястреб там!
Рэндолф1
Однажды погожим сентябрьским утром старик Рауль хлопотал в конюшне,
где он держал своих ястребов; осматривая каждую птицу, он не переставал
ворчать, браня то небрежность младшего сокольничего2, то неудачно
расположенное здание, то погоду, то ветер, то все окружающее за плачевное состояние,
в которое время и болезни привели соколиное хозяйство Печального Дозора.
Занятый этими невеселыми раздумьями, он с удивлением услышал голос
любимой спутницы своей жизни кумушки Джиллиан, которая редко вставала так
рано и еще реже навещала мужа в конюшне.
— Рауль! Рауль! Куда же ты запропастился? Как подвернется что-нибудь
выгодное, так тебя нигде не найдешь.
146
Обрученная
— Да что тебе надо? — откликнулся Рауль. — Что ты раскричалась, точно
чайка перед дождем? Ну и голосок! Ты всех ястребов мне распугаешь.
— Ястребов? — воскликнула кумушка Джиллиан. — Нашел время возиться с
ястребами, когда тут принесли на продажу соколов. Самых лучших, какие когда-
нибудь летали!
— Это, верно, коршуны. Вроде тебя, — проворчал Рауль.
— Нет! И не пустельги3 вроде тебя! — возразила Джиллиан. — А отличные
кречеты4! Ноздри широкие, клювы короткие и даже синевой отливают!
— Ишь разболталась! Да откуда они? — спросил Рауль. Весть
заинтересовала его; он только не хотел доставить жене удовольствие, обнаруживая свое
любопытство.
— С острова Мэн5, — ответила Джиллиан.
— Тогда должны быть хороши, — сказал Рауль. Выйдя из конюшни, он
спросил, где продавец соколов.
— Между оградой и внутренними воротами, — ответила Джиллиан. — Там,
куда впускают торговцев с товарами. Где же еще ему быть?
— А кто его впустил? — спросил подозрительно Рауль.
— Господин управитель, филин ты этакий! — сказала Джиллиан. — Пришел
ко мне и послал меня за тобой.
— Ах, управитель! Я мог бы догадаться. Пришел, значит, к тебе... А не
проще было бы прямо ко мне? А, милочка?
— Уж не знаю, почему ко мне, а не к тебе, — ответила Джиллиан. — А знала
бы, все равно не сказала. Что ж, хочешь — покупай, хочешь — нет, мне-то что
за дело! Продавец дожидаться не станет. И сенешаль Мальпаса6, и валлийский
лорд Диневаур — все готовы у него купить.
— Иду, иду, — сказал Рауль, понимавший, что хороших соколов очень
недостает в его хозяйстве. Он поспешил к воротам, где продавец предлагал трех
соколов, которых его слуга держал в отдельных клетках.
Рауль с первого же взгляда убедился, что соколы были лучшей из всех
европейских пород; а если и обучены соответственно, то лучших не купить, хоть бы
для самого короля. Продавец указал на все их достоинства: силу, ширину плеч,
свирепые темные глаза; смелость, с какой они встречают приближение
незнакомых людей; живость, с какой чистят свои перья и отряхиваются. Он
подробно рассказал о том, как трудно и опасно добывать их с Рамсейского утеса, где
их разводят и где находится гнездовье, равного которому нет даже на
норвежском побережье.
Рауль словно не слушал всего этого.
— Приятель, — сказал он, — в соколах я разбираюсь не хуже тебя и не стану
отрицать, что твои хороши. Но если они плохо обучены и плохо приручены,
то лучше уж ястреб-тетеревятник, чем самый лучший сокол.
— Согласен, — сказал продавец. — Но если мы договоримся насчет главного,
то есть цены, я покажу птиц в деле, а тогда хочешь — покупай, хочешь — нет.
Бьюсь об заклад, что никто не сравнится с ними, как на взлете, так и при
нападении.
— Что ж, справедливо, — сказал Рауль. — Посмотрим, такова ли цена.
Глава XXIII
U7
— И цена какая следует, — сказал продавец. — По милости доброго короля
Реджинальда Мэнского7, я вывез с острова восемнадцать соколов и всех
распродал, кроме этих. Теперь клетки у меня пусты, кошелек полон, и неохота мне
дольше таскать оставшихся. Если доброму человеку, да еще знатоку вроде тебя
приглянутся мои соколы в полете, пусть сам назначает и цену.
— Ладно, — сказал Рауль, — что же торговаться вслепую. Если соколы
хороши, моя госпожа даст и цену хорошую. Византийский золотой8 за всех трех.
— Один золотой, господин сокольничий? Клянусь верой, мало даешь! Удвой
эту сумму, тогда я подумаю.
— Если птицы хорошо приручены, — сказал Рауль, — я дам полтора. Но пусть
сперва добудут нам цаплю. А наугад я дел не делаю.
— Идет! — сказал продавец. — Мне сподручнее продать их тебе. Ведь если
везти их в Уэльс, как бы там со мной не расплатились длинными ножами. Что ж,
выедем в поле?
— А то как же! — сказал Рауль. — Правда, на цапель лучше охотиться в марте.
Но если проехать с милю вдоль реки, мы эту лягушатницу отыщем и сейчас.
— Идет, господин сокольничий, — сказал продавец. — Но неужели мы поедем
одни? И нет в замке лорда или леди, которых можно было бы позабавить
хорошей соколиной охотой? Таких соколов я не побоюсь показать хоть и графине.
— Прежде моя госпожа любила соколиную охоту, — сказал Рауль. — Но, не знаю
уж почему, после смерти отца затосковала и живет в своем замке точно
монахиня в обители. Может, ты, Джиллиан, уговоришь ее? Хоть раз сделай доброе
дело, уговори ее поглядеть на охоту. Бедняжка за все лето ничем не
позабавилась...
— Постараюсь, — сказала Джиллиан. — Да кстати покажу ей новый фасон
шапочки к охотничьему наряду. Ни одна женщина не устоит!
Пока Джиллиан говорила это, ревнивому мужу показалось, будто она
переглянулась с продавцом соколов, хотя знакомство их было слишком кратким
даже для столь общительной особы, как кумушка Джиллиан. А когда он сам
поближе пригляделся к продавцу, ему подумалось, что лицо его будто не совсем
незнакомо. И он сухо сказал:
— А ведь мы где-то уже встречались, приятель, вот только не припомню, где?
— Все может быть, — ответил продавец. — Я ведь часто бываю в здешних
краях. Может, и продавал тебе что-нибудь. Место тут неподходящее, а то бы я
охотно распил с тобой полгаллона9 вина за более короткое знакомство.
— Не спеши, приятель, — сказал старый егерь. — За короткое знакомство я
не пью ни с кем, пока не узнаю знакомца получше. Поглядим, как летают твои
соколы, и если так летают, как ты их хвалишь, может, и выпьем по чарке. Ого!
Вон идут грумы и конюхи. Значит, госпожа согласилась ехать.
Случай позабавиться охотой представился Эвелине, когда сияние осеннего
дня, свежий воздух и веселая работа жнецов, кипевшая вокруг замка, делали
этот соблазн неодолимым.
Так как они не намеревались выезжать дальше берега реки и рокового моста,
постоянно охранявшегося небольшим пешим отрядом, Эвелина решила
обойтись без вооруженной охраны; нарушая принятый в замке порядок, она взяла
148
Обрученная
с собой только Розу, Джиллиан и пару слуг, которые вели на поводках
спаниелей и несли разные охотничьи принадлежности. Разумеется, поехал также
Рауль, продавец соколов и конюх. Каждый из них троих держал на руке сокола,
и все спорили о том, как их выпускать, чтобы лучше испытать их силу и выучку.
Когда эти важные решения были приняты, кавалькада поехала вниз по
течению реки, выглядывая по берегам добычу. Но хотя невдалеке находилось
гнездовье цапель, ни одной из них не было видно.
Ничто так не раззадоривает охотника, как мелкие неудачи; выехав со всеми
принадлежностями для успешной охоты, он не обнаруживает дичь и боится со
своим пустым ягдташем10 стать посмешищем для каждого встречного сельского
жителя. Спутники леди Эвелины ощутили всю унизительность своей неудачи.
— Хороша местность, нечего сказать, — заметил продавец соколов. —
Проехали уже две мили — и хоть бы одна несчастная цапля!
— Это все чертовы фламандцы! — сказал Рауль. — Все их водяные
мельницы да сукновальни! Где ни поселятся, всюду конец охоте, да и хорошему
обществу тоже. Но если госпоже угодно проехать еще милю, до Красного Озера,
я покажу длинноногую птичку, за которой соколам придется покувыркаться,
пока не ошалеют.
— Красное Озеро?! — сказала Роза. — Ты ведь знаешь, что оно более чем в
трех милях от моста и уже по дороге в горы.
— Вот, вот! — сказал Рауль. — Еще одна фламандская капризница хочет
испортить нам охоту. Не так уж мало здесь фламандских девок, чтобы им
бояться, не погонится ли за ними валлийский дикий сокол.
— Рауль прав, Роза, — заметила Эвелина. — Ну не смешно ли сидеть
точно птицы в клетке, когда вокруг все время так спокойно? Я решила хоть раз
вырваться на волю и поохотиться, как прежде, без вооруженной охраны,
словно мы государственные преступники. Едем-ка, милочка, на Красное Озеро!
И убьем цаплю, как подобает свободным жительницам Валлийской Марки.
— Позвольте мне хотя бы предупредить отца, чтобы он сопровождал нас, —
попросила Роза, ибо они как раз ехали мимо вновь отстроенных мануфактур
бравого фламандца.
— Конечно, Роза, — сказала Эвелина. — Но поверь, что мы будем у
Красного Озера и даже повернем уже назад, прежде чем твой отец наденет свой
лучший кафтан, опояшется мечом и оседлает своего фламандского коня истинно
слоновьих размеров, которого он недаром назвал Лежнем. Не хмурься и не
теряй время на оправдание отца, а поскорее поезжай за ним.
Роза подъехала к мануфактуре, где Уилкин Флэммок, повинуясь приказу
своей госпожи, поспешил надеть стальной шлем и велел нескольким своим
родственникам и слугам садиться на коней. Роза осталась с ним, чтобы понуждать
его собираться быстрее, чем было свойственно его методичной натуре. Но, как
она ни торопила его, эскорт был готов лишь спустя более получаса после того,
как леди Эвелина проехала мост.
Не ожидая ничего дурного, с радостным чувством пленницы, вырвавшейся
на свободу, ехала Эвелина на своей резвой испанской лошадке, беззаботная,
точно жаворонок. Перья, которыми Джиллиан украсила ее шапочку, развева-
Глава XXIII
149
лись по ветру; следом за нею скакали слуги с собаками, ягдташами, веревками
и прочим снаряжением для королевской забавы, какою всегда была соколиная
охота. Когда они переехали через реку, лесная тропа повела их вверх, между
возвышенностей, где скалистых и обнаженных, а где заросших лещиной, терном
и другим кустарником; наконец, снова нырнув вниз, тропа вывела их на берег
горной речушки; весело, точно резвящийся ягненок, речка прыгала с камня на
камень, словно выбирая, куда ей бежать.
— Эта речка, Джиллиан, всегда была моей любимицей, — сказала Эвелина. —
Мне кажется, что сейчас она скачет особенно весело оттого, что снова меня видит.
— Ах, госпожа! — сказала кумушка Джиллиан, чье уменье поддерживать
беседу в подобных случаях сводилось к грубой лести. — Сколько красавцев
рыцарей скакало бы еще прытче, лишь бы любоваться вами так же свободно,
как может этот ручей! Особенно сейчас, когда на вас эта шапочка. Такой
расчудесной шапочки мне никогда еще не удавалось сделать. Как по-твоему, Рауль?
— По-моему, — ответил ее любезный супруг, — женские языки нарочно
созданы затем, чтобы распугать дичь во всем крае. Ну, вот мы и добрались до места.
Тут нам должно повезти, или уж не повезет нигде. Прошу вас, милая госпожа,
помолчите и служанкам велите не болтать, сколько вытерпят; а мы пойдем по
берегу ручья, против ветра, и снимем с соколов клобучки, чтобы они были наготове.
Они прошли около ста ярдов вверх вдоль шумного ручья; дальше лощина,
где он протекал, делала крутой поворот, и открывалось Красное Озеро,
питавшее ручей избытком своей воды.
Это горное озеро, или тарн, как называют его в некоторых странах,
представляло собой углубление около мили в окружности, формы скорее овальной, чем
круглой. Вдоль той стороны его, где находились охотники, шла скалистая
гряда темно-красного оттенка. Она-то и дала название озеру, которое, отражая эту
плотную темную ограду, само как бы окрашивалось в ее цвет. По другую
сторону озера подымался поросший вереском холм, чьи осенние краски еще не
перешли из пурпурного в ржавый; местами там росли темные папоротники и
дрок или проступали серые скалы и свободно лежавшие валуны, составлявшие
контраст темно-красному противоположному берегу. Вокруг всего озера шла
красивая песчаная полоса, отделявшая его воды с одной стороны от отвесной
гряды, а с другой — от крутого холма; эта полоса, шириною не менее чем в пять-
шесть ярдов, а во многих местах значительно шире, манила всадника пустить
коня вскачь вокруг озера. Со стороны скалистой гряды на берегу лежали
крупные обломки, сорвавшиеся сверху, но не столь многочисленные, чтобы
помешать скачке. Многие из этих камней, упав еще дальше, лежали наполовину в
воде, точно маленькие островки; посреди этого миниатюрного архипелага
зоркий глаз Рауля заметил и цаплю — цель их поисков.
Принялись совещаться, как бы лучше приблизиться к одинокой, печальной
птице; не сознавая, какая страшная участь ей готовится, она неподвижно стояла
на камне, недалеко от берега, подстерегая рыбешек или других водяных
жителей, какие могли проплыть мимо ее сторожевого поста. Между Раулем и
продавцом соколов состоялся краткий спор о том, как заставить ее взлететь,
чтобы леди Эвелине и всей свите полет был лучше виден. Как проще убить цаплю,
150
Обрученная
с ближней или с дальней стороны озера? Вопрос этот дебатировался с огромным
волнением, словно готовилось важное и опасное предприятие.
Наконец все было решено, и охотники стали приближаться к водяной
отшельнице; почувствовав это, она выпрямилась во весь рост, вытянула длинную,
тонкую шею, раскрыла веером широкие крылья, испустила звонкий клич и,
выпрямив длинные, тонкие ноги, взлетела навстречу легкому ветерку. И тут,
с громким ободряющим криком, продавец стряхнул с руки сокола, с которого
уже был снят клобучок, чтобы он мог видеть добычу.
Точно фрегат11 в погоне за груженным богатствами галеоном12, ринулся
сокол на врага, которого был обучен преследовать. Приготовясь защищаться, если
не удастся спастись бегством, цапля уходила от грозного противника со всей
скоростью, на какую была способна. На своих сильных крыльях она подымалась
все выше, описывая небольшие крути, чтобы не дать соколу ринуться на нее
сверху; острый клюв, которым благодаря длинной шее птица могла разить на
расстоянии целого ярда, для менее смелого врага был бы столь же страшен, как
мавританский13 дротик.
Выпустили еще одного сокола и криками побуждали его присоединиться к
первому. Оба они подымались небольшими кругами, стремясь достичь той
высоты, на которой держалась цапля. К восторгу зрителей, состязание длилось, пока
все три птицы достигли пушистых облаков, из-за которых временами слышался
пронзительный и жалобный крик жертвы, словно взывавшей к небесам, куда она
стремилась, ища защиты от бессмысленной жестокости преследователей.
Наконец один из соколов достиг высоты, с которой решился ринуться
на цаплю; но жертва, умело защищаясь, приняла на свой клюв удар,
предназначенный ее правому крылу; один из ее врагов, пронзенный насквозь, трепеща
крыльями, упал в воду, совсем близко от берега, но на дальней стороне озера.
— Один бравый сокол пошел на корм рыбам, — сказал Рауль. — Торговец!
Плакали твои денежки.
Пока он это говорил, второй сокол отомстил за гибель собрата; ибо первый
успех цапли не спас ее от нападения с другой стороны; сокол смело ринулся на
нее; и так, сцепившись, обе птицы кувырком полетели с большой высоты. Тут
для охотников всего важнее было подоспеть, пока сокол не получил ударов
клюва или когтей цапли; поэтому все они, мужчины — пришпорив своих коней,
женщины — подстегивая своих, во весь опор понеслись по гладкой песчаной
полосе между скалами и водой.
Конь леди Эвелины был много резвее остальных; разгоряченная охотой и
скачкой, Эвелина быстрее всех прискакала к месту, где в смертельной схватке
лежали на мху сокол и цапля; у последней было сломано крыло.
Обязанность охотника состоит в таких случаях в том, чтобы помочь соколу:
воткнуть клюв цапли в землю и сломать ей ноги, давая соколу возможность
легче ее прикончить.
Ни ее пол, ни ее знатность не избавляли леди Эвелину от обязанности
пособить соколу; но едва она сошла с коня, чтобы это сделать, как кто-то грубо
схватил ее и крикнул на валлийском языке, что она незаконно охотится во
владениях Одноглазого Доуфида. Тотчас же из-за скал и кустов показалось более два-
Глава XXIV
151
дцати валлийцев, вооруженных топорами, известными под названием
валлийский крюк14, а также длинными ножами, луками и стрелами.
Эвелина громко позвала на помощь свою свиту, одновременно стараясь,
с помощью всех валлийских слов, какие знала, припугнуть или разжалобить
горных разбойников, ибо не сомневалась, что попала в руки одной из их шаек.
Увидя, что слова ее не оказывают действия и что ее намерены взять в плен, она
не стала долее унижать себя просьбами, но потребовала, чтобы к ней отнеслись
с уважением, и тогда они получат большой выкуп; иначе им грозит месть
Лордов Хранителей Марки, и прежде всего сэра Дамиана де Лэси.
Должно быть, они поняли ее; и хотя ей завязали глаза, а руки связали ее
собственной вуалью, даже учиняя это насилие, старались не причинить ей боли
и не оскорбить. Это подало ей надежду, что ее слова возымели некоторое
действие. Привязав ее к седлу коня, они повели его за собой по тропе, вившейся
между скал; при этом она с ужасом услышала позади себя шум схватки,
означавшей, что ее свита безуспешно пытается освободить ее.
Охотники были поражены, увидев издали нападение на их госпожу. Старый
Рауль отважно пришпорил своего коня и поскакал навстречу разбойникам,
призывая остальных следовать за ним; однако, вооруженный всего лишь
шестом для соколиной охоты и коротким мечом, он и его спутники были легко
побеждены; их мужественная, но безнадежная попытка окончилась тем, что
Рауль и один или двое других были жестоко избиты; разбойники в щепы
разбили об их спины их же собственные шесты, однако великодушно воздержались
от применения более опасного оружия. Остальные члены свиты, упав духом,
рассеялись, чтобы поднять тревогу, а кумушка Джиллиан осталась у озера,
оглашая воздух бесполезными воплями ужаса. Тем временем разбойники,
собравшись вместе, пустили вслед убегавшим несколько стрел, но лишь затем,
чтобы испугать, а не сразить; затем, они отступили, плотно сомкнувшись и
прикрывая нескольких своих товарищей, которые ушли вперед, увлекая с собой
пленную леди Эвелину.
Глава XXIV
Увы! За что судьба такая?
Меня четыре негодяя
Вчера, настигнув, прикрутили
К той белой скаковой кобыле.
Колридж1
Подобные приключения, которые в наше время только описьшаются в
произведениях изящной словесности, не были редкостью в феодальную эпоху, когда
сила повсюду брала верх над правом; поэтому все, кто часто подвергался
насилию, лучше умели давать ему отпор или переносить его терпеливее, чем
можно было ожидать от их пола и возраста.
Леди Эвелина поняла, что она взята в плен, и, разумеется, со страхом
ждала дальнейших действий нападавших; но страх не лишил ее способности наблю-
152
Обрученная
дать и размышлять. Слыша вокруг себя все более громкий стук копыт, она
заключила, что большинство разбойников село на коней. Она знала, что именно так
действуют обычно валлийские разбойники, ибо их малорослые лошади,
совершенно не пригодные в сражении, зато быстрые и надежные на горных
тропинках, с нужной скоростью доставляют их к месту нападения и уносят оттуда,
то есть позволяют им быстро и незаметно приблизиться к их жертвам и столь
же быстро отступить. Эти животные, неся на себе тяжеловооруженного
всадника, без труда проходили горными тропами, пересекавшими весь край. По тому,
как вели ее коня, поддерживая с обеих сторон, леди Эвелина поняла, что они
пробираются по краю глубокой пропасти, а затем с еще большей опасностью
спускаются по обрыву.
В одну из таких минут голос, которого она до тех пор не слышала среди других,
спросил ее на англо-норманнском языке и как бы с участием, достаточно ли
безопасно она сидит в седле, и предложил, если ей угодно, привести в порядок одежду.
— Не издевайтесь надо мной, говоря о безопасности, — сказала Эвелина. —
Я считаю мою безопасность несовместимой с насилием, какое вы учинили. Если
я или мои вассалы в чем-нибудь притесняют валлийцев, скажите мне, и зло
будет исправлено. Если вам нужен выкуп, назовите сумму, и я прикажу, чтобы
с вами вступили в переговоры. Но не держите меня в плену; для меня это
мучительно, а для вас бесполезно.
— Леди Эвелина, — продолжал голос, все еще с любезностью,
противоречившей насилию, которому она подвергалась, — вскоре убедится, что цели наши не
столь грубы, как наши действия.
— Раз вам известно, кто я, — сказала Эвелина, — вы можете не сомневаться,
что поплатитесь за ваше злодейство. Вы должны знать, чье знамя охраняет
сейчас мои владения.
— Да, знамя де Лэси, — равнодушно ответил голос. — А хоть бы и так!
Соколы соколам не страшны.
Тут в их движении произошла остановка и вокруг пленницы поднялся
смутный гул множества голосов, тогда как ранее лишь изредка слышались на
валлийском языке отрывистые понукания или указания, куда направляться.
Затем гул на несколько минут стих, и леди Эвелина снова услышала голос,
говоривший с нею до этого. Он отдавал распоряжения, которых она не поняла,
и наконец вновь обратился к ней.
— Сейчас вы увидите, — сказал он, — что я говорил правду, когда не хотел
видеть вас связанной. Но вы являетесь причиной борьбы и вместе с тем
наградой за победу; вот почему о безопасности вашей надлежит заботиться. Эта
забота будет, пожалуй, выражена весьма странно; но я убежден, что победитель
в предстоящей схватке найдет вас невредимой.
— Именем Пресвятой Девы заклинаю вас, пусть не будет кровопролития! —
воскликнула Эвелина. — Развяжите мне глаза, дайте говорить с теми, кого вы
со страхом ожидаете. Если это мои друзья, как кажется мне, я сумею примирить
вас с ними.
— А я презираю мир, — ответил все тот же голос. — Не для того пошел я на
эту дерзкую затею, чтобы при первой же гримасе Фортуны выпустить ее из рук,
Глава XXIV
153
точно ребенок игрушку. Прошу вас сойти с коня, леди; а еще лучше будет,
не примите только за обиду, если я сам сниму вас с седла.
Эвелина почувствовала, что ее снимают с седла и осторожно сажают на
траву. Затем все тот же властный незнакомец, который помог ей спешиться, снял
с нее плащ и шапочку, великолепное изделие кумушки Джиллиан.
— А теперь попрошу вас, — сказал предводитель разбойников, — вползти вот
в это узкое отверстие. Поверьте, я сожалею, что вынужден укрыть вас в столь
странной крепости.
Эвелина поползла куда он указывал, сочтя сопротивление бесполезным и
надеясь, что, повинуясь тому, кто говорил как некто обладающий властью, она
найдет у него защиту от необузданной ярости валлийцев, ненавидевших ее как
причину гибели Гуенуина и своего поражения под стенами замка Печальный Дозор.
Она пробиралась по узкому и сырому лазу, образованному огромными
камнями и столь низкому, что передвигаться можно было не иначе как ползком. Через
два-три ярда он заканчивался пещерой, достаточно высокой, чтобы там можно
было удобно сесть. Слыша шум, раздававшийся позади нее, она поняла, что
разбойники заваливают отверстие, через которое она проникла в подземелье. Она
ясно услышала грохот камней, которыми закрыли вход, и почувствовала затем, как
иссякает струя свежего воздуха и в подземелье становится все более душно и сыро.
И тут же до нее донесся шум, в котором она, как ей казалось, различала
крики, звуки наносимых ударов, конский топот, проклятия и вопли
сражавшихся. Заглушаемое толстыми стенами темницы, все это сливалось в смутный,
глухой гул, доходивший до ее слуха, как, должно быть, доходят до мертвых
звуки оставленного ими мира.
Оказавшись в этом ужасном положении, Эвелина с такой отчаянной силой
пыталась освободиться, что ей удалось высвободить связанные руки. Но это лишь
убедило ее в невозможности спастись из плена. Сорвав вуаль с глаз, она увидела
вокруг себя лишь непроглядную тьму, а помахав руками, обнаружила, что
находится в помещении весьма узком и тесном. Шаря вокруг себя, она нащупала куски
ржавого железа и еще что-то, от чего в иное время содрогнулась бы, — истлевшие
кости. Но в тот миг даже это ничего не добавило к ее ужасу, ибо ей
представлялось, что она замурована и ей суждена мучительная смерть, в то время как ее
друзья и освободители находятся, быть может, всего в нескольких ярдах от нее.
В отчаянии она ощупывала стены своей тюрьмы, ища какой-нибудь щели, но все ее
усилия были столь же тщетными, как если бы она искала щели в стенах собора.
Шум становился громче; было мгновение, когда ей показалось, что крыша
ее темницы затряслась от ударов или под тяжестью чего-то тяжелого, что
упало либо было брошено на нее. Едва ли человеческий мозг мог долго выносить
эти ужасные звуки, но, к счастью, долго они не продлились. Другие, все более
удалявшиеся звуки показали ей, что одна из сражавшихся сторон отступает;
наконец воцарилась полная тишина.
Теперь Эвелина могла без помех размышлять над своим бедственным
положением. Битва окончилась, и она заключила, что победа осталась за ее
друзьями, ибо иначе победившие разбойники извлекли бы ее из темницы и увезли с
собою как пленницу. Но что значила для Эвелины победа ее друзей и слуг? Они,
154
Обрученная
очевидно, не заметили ее укрытия, она осталась на поле битвы, чтобы снова
оказаться в руках врагов, если они вернутся, или умереть во тьме от голода и
жажды самой ужасной смертью, какую когда-либо изобрел тиран и принял
мученик; смертью, о которой несчастная девушка не решалась помыслить и
только молилась, чтобы муки ее не были долгими.
В этот страшный час она вспомнила о кинжале, который был при ней; и у нее
мелькнула мрачная мысль, что, если мучения станут нестерпимыми, прекратить их
будет в ее власти. Содрогнувшись перед этим страшным выбором, она в тот же миг
сообразила, что для ее оружия можно найти менее греховное применение, и,
вместо того чтобы прекратить ее страдания, оно может помочь ей выбраться на свободу.
Едва перед ней блеснула эта надежда, как дочь Раймонда Беренжера
попыталась осуществить ее; не без труда ей все же удалось переменить положение,
а это позволило ей ощупать всю ее темницу, в особенности проход, через
который она туда попала и по которому теперь надеялась выбраться на свет дня. Она
подползла к выходу и обнаружила, что он, как она и ожидала, был так плотно
забит крупными камнями и землей, что почти не оставлял надежды на
спасение. И все же камни были положены наспех, а жизнь и свобода — столь ценные
дары, что побуждают к усердному труду. Эвелина расчистила кинжалом
землю и дерн; руками, непривычными к такой работе, отодвинула несколько
камней и преуспела настолько, что перед ней блеснул свет, и слегка повеяло свежим
воздухом. Вместе с тем она убедилась, что размеры самого большого камня,
который загораживал вход, не оставляют ей надежды выбраться на свободу без
посторонней помощи. Пусть так, но ей сделалось легче от того, что к ней
проникли воздух и свет и появилась возможность звать на помощь.
Некоторое время ее зов был тщетным; как видно, поле боя осталось за
мертвыми и умирающими, ибо единственным ответом, который она услышала, были
тихие стоны. Но она продолжала звать, и наконец слабый голос человека,
только что очнувшегося от беспамятства, отозвался ей и произнес следующие слова:
— Не ты ли это, Эдрис, Подземный Житель2, зовешь из могилы того, кто сам
туда спешит? Неужели прервалась уже моя связь с живыми? И я слышу лишь
слабые и жалобные голоса мертвых?
— Нет, я не призрак, — ответила Эвелина, радуясь, что может наконец
сообщить о себе хоть одному живому человеку. — Не дух, а несчастная девушка по
имени Эвелина Беренжер, замурованная и обреченная на ужасную смерть, если
Господь не пошлет спасения.
— Эвелина Беренжер! — воскликнул с изумлением тот, к кому она
обращалась. — Нет, это невозможно! Ведь мне был виден ее зеленый плащ и шалочка
с перьями, когда ее увозили с поля боя, а я не мог помчаться на помощь, хотя
все еще пытался это сделать, пока развевающийся плащ и колыханье перьев не
скрылись из виду, а с ними исчезла у меня всякая надежда спасти ее.
— Верный вассал или верный друг или, быть может, любезный незнакомец,
кто бы ты ни был, — ответила Эвелина, — знай, что ты был обманут хитростью
разбойников; мой плащ и мою шапочку они действительно увезли с собой и с
их помощью направили по ложному следу верных друзей, которые, подобно
тебе, тревожатся о моей судьбе. Зови на помощь, добрый человек; я боюсь, что
Глава XXIV
155
негодяи, уйдя от погони, вернутся сюда, как вор возвращается к тайнику, где
спрятал похищенное.
— Хвала Пресвятой Деве! — воскликнул раненый. — Я могу испустить мой
последний вздох, верно служа вам. Прежде я не хотел трубить в рог, чтобы на
помощь мне, недостойному, не поспешил кто-то из тех, кто пытается спасти вас.
Дай Бог, чтобы сейчас мой рог был услышан, а глаза мои увидели леди
Эвелину невредимой и свободной.
Слова эти, хотя и произнесенные слабым голосом, звучали восторженно.
За ними последовали звуки рога, столь же слабые и не получившие никакого
ответа, кроме эха. Раненый протрубил еще раз, сильнее и громче; но звук внезапно
оборвался, словно на него истрачены были последние силы. В этот миг
неуверенности и страха у Эвелины мелькнула догадка.
— Это был, — промолвила она, — призывный клич рода де Лэси. Неужели вы
мой благородный родственник, сэр Дамиан?
— Да, это я, несчастный, заслуживающий смерть за то, что так дурно хранил
вверенное мне сокровище. Зачем полагался я на посланцев? Я сам должен был
охранять святую, которую мне поручили, как скупец стережет презренный
металл, называя его драгоценным; если забываться сном, то только у ваших ворот;
бодрствовать, пока не погаснут все звезды; невидимый для вас, я должен был
находиться при вас неотлучно; тогда вы не подверглись бы опасности, как
сейчас, и тебе, Дамиан де Лэси, хоть это и невелика беда, не пришлось бы умирать
опозоренным.
— Нет, благородный Дамиан, — сказала Эвелина, — не разрывайте мне
сердце, обвиняя себя в неосторожности, когда виновата я одна. Ваша помощь всегда
была к моим услугам, стоило лишь намекнуть. Собственная беда стала мне
вдвое горше, когда я узнала, что необдуманно навлекла беду и на вас. Милый
родственник, ответьте, утешьте меня, скажите, что раны ваши несмертельны.
Увы! Сколько я уже видела пролитой вами крови! Что за злосчастная судьба —
приносить беды всем, для кого я охотно пожертвовала бы собственным счастьем!
Но зачем бесцельными жалобами отравлять минуты, которые подарило
милосердное Небо? Попытайтесь сами остановить кровь, которая так нужна Англии,
Эвелине и вашему дяде.
Дамиан издал стон и умолк; обезумев от мысли, что он умирает лишь
потому, что некому оказать помощь, Эвелина снова стала пытаться выбраться
наружу и тем спасти раненого и себя. Все было напрасно; отчаявшись, она
прекратила свои попытки; переходя от одной ужасной мысли к другой, она
прислушивалась, уже готовая услышать предсмертный стон Дамиана, как вдруг —
о, счастье! — земля задрожала от быстро приближавшегося конского топота.
Однако эти радостные звуки могли сулить жизнь, но не свободу. Ведь это могли
быть разбойники, возвращавшиеся за своей пленницей. Они, конечно, позволят
ей осмотреть и перевязать раны Дамиана де Лэси, ибо не в пример выгоднее,
чем его смерть, будет для них его пленение. Но вот один из всадников
приблизился; Эвелина взмолилась о помощи, и первое, что она услышала, было
фламандское восклицание, которое флегматичный Уилкин Флэммок издавал лишь
при самых необычайных обстоятельствах.
156
Обрученная
Появление верного фламандца было как нельзя более кстати; услышав, где
находится леди Эвелина, и ее мольбу оказать помощь Дамиану де Лэси, он
принялся с удивительным хладнокровием и довольно умело перевязывать раны
Дамиана, в то время как его слуги подобрали шесты, брошенные
отступившими валлийцами и приготовились освобождать Эвелину. С большой
осторожностью, следуя указаниям опытного Флэммока, они сперва приподняли обломок
скалы настолько, чтобы в щели, к общей радости, показалась Эвелина.
Особенно радовалась верная Роза; не страшась опасных камней, она металась вокруг
темницы своей госпожи, как мечется птица вокруг клетки, куда проказливый
мальчишка заключил ее птенца. Разбирать камни нужно было очень
осторожно, ибо, упав внутрь подземелья, они могли ушибить Эвелину.
Наконец обломок скалы сдвинули настолько, что девушка могла выбраться;
ее слуги, словно вымещая на камне свой гнев против похитителей госпожи,
продолжали раскачивать его, пользуясь шестами как рычагами, пока тяжелая
масса не сорвалась с небольшой площадки у входа в подземелье и не покатилась
вниз; ускоряя свое падение, высекая искры из скал, вздымая тучи пыли, она
наконец легла поперек горного ручья, где раскололась на несколько кусков с
грохотом, который был, вероятно, слышен очень далеко.
В одежде, порванной и испачканной грубыми руками разбойников, с
растрепанными волосами, ослабевшая от пребывания в душной темнице, истощившая
силы в попытках выбраться, Эвелина, однако, не потратила ни минуты на себя.
С усердием сестры, спешащей на помощь дорогому брату, она осмотрела
тяжкие раны Дамиана де Лэси, попыталась остановить кровь и привести раненого
в чувство. Мы говорили уже, что Эвелина, подобно другим дамам тех времен,
обладала некоторыми познаниями в медицине. Сейчас она обнаружила больше
этих познаний, чем можно было ожидать; каждое указание ее отличалось
разумностью и предусмотрительностью; заботливость, с какою только женщины
умеют облегчать человеческие страдания, соединялась у нее с мудростью и
ясностью ума. С удивлением слушая находчивые и мудрые распоряжения
своей госпожи, Роза, однако, поняла, что не следует оставлять раненого на
попечении одной лишь леди Эвелины, и принялась помогать ей как могла; остальные
слуги тем временем соорудили носилки, на которых раненого рыцаря предстояло
доставить в замок Печальный Дозор.
Глава XXV
Былой веселия приют
Днесь запустением отмечен.
На нем проклятье...
Вордсворт}
Глухое и дикое место, где произошла стычка, а затем была освобождена леди
Эвелина, представляло собою небольшую площадку между двумя очень
крутыми тропами, одна из которых шла снизу, вдоль потока, а вторая карабкалась в
горы. Окруженная холмами и лесом местность славилась обилием дичи; в дав-
Глава XXV
157
ние времена один валлийский князь, известный гостеприимством и любовью к
вину и охоте, построил здесь охотничий домик, где пировал с друзьями и
свитой среди изобилия, необычного для Камбрии. Фантазия бардов, которых
изобилие всегда пленяло и не смущал тот особый род изобилия, какой любил их
владыка, присвоила ему прозвище Эдрис Друг Кубка; их песни превозносили
его не меньше, чем героев знаменитого Хирласа2. Но предмет их славословий
пал жертвою своих склонностей; в одном из пьяных побоищ, какими часто
оканчивались его прославленные пиры, он был заколот ножом. Пораженные этим
несчастьем бритты погребли останки князя на том самом месте, где он погиб,
под тем каменным сводом, куда поместили потом пленную Эвелину; завалив
вход в склеп обломками скал, они взгромоздили сверху высокий «кэрн»3, то есть
пирамиду из камней; и на ней предали смерти убийцу. Суеверный страх
окрестных жителей сберег этот памятник Эдрису. Зато охотничий домик давно
развалился и сгнил, не оставив даже следов.
Спустя многие годы одна из шаек валлийских разбойников наткнулась на
потайной вход в склеп и вскрыла его, надеясь найти там оружие и сокровища,
которые в древние времена часто погребали вместе с умершим. Мародеров
ждало разочарование; осквернив могилу Эдриса, они не нашли ничего, кроме
разве лишь самого тайника, куда можно было прятать добычу или укрываться
в случае надобности.
Когда воины Дамиана, пять или шесть человек, рассказали Уилкину Флэм-
моку о своем участии в делах того дня, оказалось, что сперва, еще на рассвете,
им было велено сесть на коней и присоединиться к более многочисленному
отряду, который, как они поняли, должен был выступить против восставших
крестьян; однако Дамиан внезапно переменил свое решение; он разделил отряд
на несколько частей и сам, вместе с одной из них, начал разведку горных
перевалов, отделяющих Уэльс от Валлийской Марки вблизи замка Печальный
Дозор.
Это было для него делом настолько обычным, что не привлекло особого
внимания. Воинственные Лорды Хранители Марки нередко совершали
подобные маневры, чтобы держать в страхе валлийцев и прежде всего наводнявшие
эту дикую местность разбойничьи шайки, объявленные вне закона и не
подчинявшиеся ничьей власти. Удивляло лишь то, что Дамиан предпринял эту
разведку, оставив намерение идти против мятежных крестьян, хотя сперва
именно это было главной задачей.
Около полудня, по счастливой случайности встретив одного из слуг леди
Эвелины, убегавших от разбойников, Дамиан и несколько сопровождавших его
воинов узнали о ее похищении; благодаря отличному знанию местности они
успели настигнуть негодяев у Перевала Эдриса, по которому валлийские
разбойники обычно возвращались в свои укрепления в глубине гор. Разбойники,
вероятно, не знали, как мало людей было с Дамианом, и к тому же понимали, что
за ними тотчас снарядят погоню; это подало их предводителю мысль спрятать
Эвелину в склепе, а на одного из разбойников надеть ее плащ и шапочку,
чтобы обмануть преследователей и увести их от места, где ее спрятали и куда
разбойники, уйдя от погони, несомненно, намеревались вернуться. Они собрались
158
Обрученная
возле склепа и приготовились отступать, пока не найдут места, где могли бы
принять бой, а в случае поражения бросить своих коней, рассеяться среди скал
от норманнской конницы. Их план не удался благодаря стремительности Дами-
ана, который, увидя издали среди отступавших плащ и шапочку леди Эвелины,
напал на них, не думая ни о численном превосходстве противника, ни о том, что
шлем и кожаный кафтан едва ли защитят его от валлийских ножей и мечей. Он
был тяжело ранен и, конечно, был бы убит, если бы его немногочисленное
войско не сражалось так отчаянно, а валлийцы не опасались, что, продолжая с ним
бой, будут настигнуты с тыла людьми Эвелины, которые, по их мнению, уже
вооружились и двинулись им вслед. Поэтому разбойники поспешно отступили,
вернее, спаслись бегством; за ними поскакали воины Дамиана, которым их
раненый командир приказал продолжать погоню, пока не освободят владелицу
замка Печальный Дозор.
Разбойники, хорошо зная местность и полагаясь на резвость своих
малорослых валлийских лошадок, успешно отступали; лишь двое или трое из них пали
от руки Дамиана в начале его яростной атаки. Время от времени они пускали
в своих преследователей стрелы, потешаясь над тяжеловооруженными
воинами и лошадьми в доспехах и над тщетными попытками догнать их.
Однако все изменилось с появлением на перевале Уилкина Флэммока на
могучем боевом коне, во главе целого отряда пеших и конных воинов. Боясь, что
он двинется им наперерез, разбойники прибегли к своему последнему средству;
бросив коней, они стали прятаться среди скал и благодаря своей особой
ловкости ускользнули и от тех, и от других преследователей. Впрочем, это удалось не
всем: двое или трое из них были схвачены людьми Флэммока, в том числе тот,
кто был наряжен в плащ Эвелины и, к большому их разочарованию, оказался
белокурым валлийским парнем, судя по его дикому взгляду и бессвязной речи,
полоумным. Это не избавило бы его от немедленной смерти — обычной участи
пленных, взятых в подобных схватках, — если бы не слабый звук рога, которым
Дамиан призывал своих воинов и на который поспешил также и отряд
Уилкина Флэммока. В суматохе и спешке те, кто стерег пленника, из жалости или из
презрения дали ему бежать. Да и что было им узнавать от него, даже если бы
он захотел или сумел что-то сказать? Все поняли, что их госпожа попала в
засаду, устроенную Одноглазым Доуфидом, опасным разбойником, который
решился на это дерзкое нападение в надежде получить за Эвелину большой
выкуп; возмущенные его беспримерной наглостью, все поклялись убить его, а тело
бросить на растерзание орлам и воронам.
Таковы были подробности, которые узнали друг от друга люди Флэммока
и люди Дамиана; на обратном пути к ним присоединилась и кумушка
Джиллиан; после множества радостных восклицаний по поводу нежданного спасения ее
госпожи и причитаний над бедою, постигшей Дамиана, она сообщила, что
торговец, чьи соколы явились причиною всех несчастий, был взят в плен
отступавшими валлийцами; что сама она и раненый Рауль подверглись бы той же
участи, но для нее не нашлось лошади, старого Рауля посчитали не стоящим
выкупа, а убить не потрудились. Правда, один из разбойников кинул в поверженного
Рауля камнем, но, к счастью, как сказала его супруга, не попал.
Глава XXVI
159
— Кидал какой-то коротыш, — сказала она, — а был среди них и высокий
детина, вот он бы попал.— Сообщив все это, кумушка Джиллиан подобрала
юбки и взобралась на лошадь.
Раненый Дамиан лежал на носилках, наспех сделанных из древесных ветвей; как
и женщин, его поместили в середине небольшого отряда, к которому
присоединились и воины молодого рыцаря, вернувшиеся под его знамя. Все они двигались
в стройном порядке и с большой осторожностью, готовые отразить нападение.
Глава XXVI
Как? Молода, красива — и верна?
Не вымысел, так чудо.
Уоллер1
Роза, со свойственной ей заботливостью о других, первая подумала об особом
положении ее госпожи и о том расстоянии, на котором держался до тех пор
молодой опекун, и с тревогой спросила себя, куда надлежит теперь поместить
раненого; однако, приблизившись к Эвелине, чтобы задать ей этот важный
вопрос, она с трудом на него решилась.
Глядя на Эвелину, казалось, что заговорить с ней о чем-либо кроме того, что
продолжало поглощать все ее мысли, было бы почти жестокостью. Она была
бледна как смерть и кое-где обрызгана каплями крови; вуаль, смятая и порванная,
также была в пыли и в крови; волосы спутанными прядями падали ей на лицо и
плечи; растрепанное и сломанное перо — все, что осталось от ее головного
убора, — застряло в волосах и все еще развевалось, словно в насмешку. Не отводя глаз
от носилок, на которые положили Дамиана, она ехала рядом с ними и, казалось,
не думала ни о чем, кроме опасности, в какой находился раненый.
Роза ясно видела, что госпожа ее находится в крайнем волнении, которое не
позволит ей здраво и мудро взглянуть на свое положение. Она попыталась
постепенно пробудить ее сознание.
— Милая госпожа, — сказала Роза, — не угодно ли вам накинуть на себя мой
плащ?
— Не мучь меня, — с некоторой резкостью ответила Эвелина.
— А ведь, в самом деле, госпожа! — воскликнула кумушка Джиллиан и
засуетилась, ревниво оберегая свои права камеристки. — Роза Флэммок права.
Ваше платье не сидит как должно, и вид у него, надо прямо сказать, едва ли
приличный. Пусть Роза не мешает, я мигом все заколю, и получше, чем любая
фламандка за целый день.
— Не до того мне, чтобы думать о платье, — все тем же тоном ответила
Эвелина.
— Тогда подумайте о вашей чести и добром имени, — сказала Роза шепотом,
еще ближе подъехав к своей госпоже, — и поскорее решайте, куда мы повезем
раненого.
— В замок, — приказала Эвелина громко, как бы отвергая с презрением
необходимость о чем-либо шептаться. — Везите его в замок самой прямой дорогой.
160
Обрученная
— Отчего же не в его лагерь или не в Мальпас? — сказала Роза. — Милая
госпожа, поверьте, так будет лучше.
— Отчего тогда... тогда уж прямо не оставить его на дороге дожидаться
валлийских ножей или волчьих зубов? Он уже дважды, нет, трижды был моим
спасителем. И теперь куда я, туда и он! Я не хочу оказаться под безопасным
кровом ни на миг раньше его.
Роза поняла, что не сумеет убедить свою госпожу; поняла она и то, что
везти раненого дольше, чем это было необходимо, значило подвергать его жизнь
опасности. Ей пришел на ум возможный выход из затруднения, но для этого
надо было посоветоваться с отцом.
Миниатюрная всадница ударила хлыстиком свою резвую испанскую лошадку
и мигом очутилась рядом с исполинским фламандцем на мощном вороном коне,
словно укрываясь в их широкой тени.
— Дорогой отец, — взволнованно сказала Роза, — госпожа желает отвезти сэра
Дамиана в замок, и ему, быть может, придется пробыть там долго. Что думаете
вы об этом? Разве это разумно?
— Для юноши это, без сомнения, разумно, Розхен, — ответил фламандец. —
Ибо это лучший способ уберечь его сейчас от лихорадки.
— Верно. Но разумно ли это для госпожи? — продолжала Роза.
— И для нее тоже, если она разумно себя поведет. Но почему ты в ней
сомневаешься, Розхен?
— Не знаю, — ответила Роза, ибо своими опасениями и сомнениями ей не
хотелось делиться даже с отцом. — Но злые языки найдутся везде. Сэр Дами-
ан и госпожа так молоды. Не лучше ли, милый отец, предложить раненому
рыцарю приют у вас в доме, лишь бы не в замке?
— Вот уж этого не будет, — поспешил ответить фламандец. — Не будет, если
я буду в силах этому помешать. Не пушу я в мой мирный дом ни норманна, ни
англичанина. Зачем? Чтобы он ел мой хлеб и смеялся над моей бережливостью?
Ты не знаешь их; ведь ты всегда при госпоже и в большой у нее милости. Зато
я отлично их знаю. «Фламандский лентяй», «фламандский обжора»,
«фламандский пьянчуга». Это еще самые добрые их слова. Хорошо, что после похода
валлийца Гуенуина никто не может сказать «фламандский трус».
— Я всегда думала, отец, — заметила Роза, — что вы слишком тверды духом,
чтобы обращать внимание на эту низкую клевету. Подумайте! Ведь мы
находимся под защитой моей доброй госпожи; а отец ее был твоим милостивым
господином. Да и коннетаблю вы обязаны; он расширил ваши привилегии.
Деньгами можно уплатить долг; но за добро можно заплатить только добром.
А я предвижу, что никогда не будет у вас другого такого случая сделать
добро семействам Беренжеров и де Лэси, как открыв раненому рыцарю двери
вашего дома.
— Моего дома! — повторил фламандец. — А долго ли будет у меня дом, здесь
или еще где-либо? Увы, дочь моя! Мы приехали сюда, спасаясь от морской
стихии, а здесь можем погибнуть от людской злобы.
— Мне странно это слышать, отец, — сказала Роза. — С вашим ли разумом
пророчить такие беды из-за дерзкой выходки валлийского разбойника?
Глава XXVI
161
— Я говорю не об Одноглазом разбойнике, — ответил Уилкин. — Хотя
наглость таких, как Доуфид, а их становится все больше, тоже не способствует
спокойствию в крае. Но ты живешь за стенами замка и мало знаешь о том, что
творится вокруг, а потому и не тревожишься. Я не хотел ничего сообщать тебе,
пока нам не придется переселиться в другую страну.
— Переселиться, милый отец? Уехать из страны, где бережливостью и
усердным трудом вы уже скопили себе достаток?
— Да, и где голодный и озлобленный люд из зависти к достатку, накопленному
бережливостью, может предать человека позорной смерти. Уже в нескольких
графствах происходят волнения среди английской черни. И гнев ее направлен на нас,
фламандцев^точно мы жиды или язычники, а не христиане, притом лучшие, чем
они сами. В Йорке2, в Бристоле3 и других местах разгромили дома фламандцев4,
отняли добро, многих убили, а над их близкими — надругались. А за что? За то,
что мы привезли сюда ремесла, каких тут прежде не знали; за то, что в награду за
труд и уменье появилось у нас богатство, какого в Британии никогда не было. Роз-
хен, их злоба растет с каждым днем. Мы здесь в большей безопасности, чем в
других местах, потому что нас много и мы сильнее. Но соседям нашим я не доверяю.
Если бы ты, Розхен, не была в безопасности, я давно уже бросил бы все и уехал из
Британии.
«Бросил бы все и уехал из Британии». Слова эти поразили дочь Флэммока,
лучше всех знавшую, каких успехов добился ее отец в своем ремесле и как
непохоже на него, с его твердым и здравым смыслом, решение бросить все из страха
перед отдаленной опасностью, которой может и не быть. Наконец она сказала:
— Если грозит такая опасность, то дом и товары ваши ничем не будут
защищены так надежно, как присутствием этого благородного рыцаря. Где тот
человек, который дерзнет напасть на дом, гфиютивший Дамиана де Лэси?
— Это мне неизвестно, — отвечал Флэммок тем же спокойным, но мрачным
тоном. — Да простит мне Бог, если я грешу, а только, по-моему, в крестовых
походах очень мало толку, хотя священники и сумели их прославить. Взять хотя
бы коннетабля. Вот уж скоро три года, как он уехал, а мы не знаем, жив ли он
или нет, побеждает или разбит врагами. Он выступил отсюда, словно не
собирался сойти с коня и вложить меч в ножны, пока не отвоюет Гроб Господень у
сарацин; а мы доныне не знаем, взята ли у сарацин хоть одна деревня. Здешний
народ недоволен; его господа, а с ними и лучшие воины ушли в Палестину, и мы
не знаем, живы они или нет; а тем временем управители дерут с народа три
шкуры, и их притеснения тяжелее, да и сносить это от них тяжелее, чем от
лорда. Простолюдины всегда ненавидели знать и дворян; они думают, что
сейчас самое время восстать против них. Находятся и из дворян такие, что готовы
встать во главе черни, лишь бы тоже кое-что урвать, ибо походы в дальние края
приучили их к разгульной жизни и многие промотались. А кто обеднел, тот из
корысти готов убить родного отца. Не терплю бедняков! Черт бы унес
каждого, кто не умеет содержать себя трудом своих рук!
Таким пожеланием закончил фламандец свою речь, открывшую перед
Розой более страшную картину Англии, чем та, какую она могла видеть из замка
Печальный Дозор.
6 В. Скотт
162
Обрученная
— Но все же, — сказала она, — эти ужасы не страшны тем, кто живет под
покровительством де Лэси и Беренжеров.
— От Беренжеров осталось одно лишь имя, — ответил Уилкин Флэммок, —
а Дамиану, хоть он и храбрый юноша, недостает влиятельности его дяди и его
властного нрава. Его люди жалуются, что он изводит их сторожевой службой
вокруг замка, когда замок и без того неприступен и гарнизон там достаточный;
а они из-за этого теряют случаи отличиться, как они это называют, то есть не
могут воевать и грабить, а ведут жизнь бездеятельную и бесславную. Они
говорят, что безбородый Дамиан был мужчиной, а теперь, когда усы пробились, —
стал бабой, что над губой у него потемнело, зато отвага выцвела. Еще они
говорят... да скучно повторять.
— Нет, скажите, что еще они говорят, ради Бога, скажите! — попросила Роза. —
Если дело касается моей дорогой госпожи...
— Так и есть, Розхен, — ответил Уилкин. — Многие из норманнских воинов
толкуют за чаркой вина, будто Дамиан де Лэси влюблен в дядюшкину невесту;
да, да, и будто общаются они между собою при помощи колдовства.
— Да уже, не иначе как колдовства! — сказала Роза, презрительно
усмехнувшись. — Ведь никаким иным спосЬбом они не общаются, уж это я могу подтвердить.
— Вот они и говорят о колдовстве, — сказал Уилкин Флэммок. — Стоит нашей
госпоже выглянуть за ворота замка, а де Лэси уже в седле и ведет свою конницу;
а между тем им доподлинно известно, что ни через посланца, ни письмом, ни еще
как-либо она его не оповещала; и всякий раз, едва они начинают рыскать по
перевалам, как узнают, что леди Эвелина изволила выехать из замка.
— Это и я заметила, — сказала Роза. — А госпожа бывает даже недовольна,
зачем он с такой точностью знает о каждой ее прогулке и зачем так уж
тщательно ее охраняет. Правда, сегодня, — продолжала девушка, — мы убедились, что
его бдительность может сослужить хорошую службу. Но никогда они не
встречались и находились всегда на таком друг от друга отдалении, что общаться
никак не могли; так что и самым подозрительным людям не в чем их упрекнуть.
— Так, так, Розхен, дочь моя, — ответил Уилкин, — но и самый избыток
осторожности может вызвать подозрения. Отчего бы этим двоим, говорят
солдаты, так уж постоянно остерегаться? Отчего они, находясь так близко друг от
друга, никогда не встречаются? Будь они всего лишь племянником и невестой
дяди, они виделись бы открыто; а если это тайные любовники, можно полагать,
что они таки встречаются тайком, но искусно умеют это скрыть.
— Каждое ваше слово, отец, — сказала великодушная Роза, — вновь и вновь
доказывает, что вы непременно должны принять раненого у себя в доме. Как бы
ни было страшно то, чего вы опасаетесь, оно не станет страшнее оттого, что вы
приютите раненого и нескольких верных его слуг.
— Ни одного! — поспешил сказать фламандец. — Ни одного из откормленных
говядиной молодцов, кроме пажа, который будет за ним ходить, и лекаря, чтобы
попытаться его вылечить.
— Значит, этим троим я могу предложить ваш кров? — спросила Роза.
— Пусть будет по-твоему, — сдался наконец любящий отец. — Слава Богу,
Розхен, ты у меня разумница и знаешь в своих просьбах меру; это вот я не в
Глава XXVII
163
меру готов тебе потакать. Ты мне про честь да про великодушие, а я больше
полагаюсь на честность и на благоразумие. Ах, Роза, Роза, тот, кто стремится
превзойти в добре само добро, часто добивается того, что хуже всякого зла.
Впрочем, я скорее всего отделаюсь испугом; твоя госпожа, с позволения сказать,
странствующий рыцарь в юбке. Она такой чести никому не уступит;
непременно поместит своего рыцаря в собственных покоях и сама станет его выхаживать.
Предсказание фламандца сбылось. Едва лишь Роза предложила Эвелине
оставить раненого Дамиана в доме ее отца до выздоровления, как ее госпожа
решительно отвергла это предложение.
— Он мой спаситель, — сказала она. — Если есть человек, перед которым
ворота Печального Дозора должны сами раскрываться, так это Дамиан де Лэси.
Нет, милочка, не гляди на меня так подозрительно и вместе с тем печально.
Кому нечего скрывать, тот презирает всякое подозрение. Держать ответ я
обязана лишь перед Богом и Пресвятой Девой, а перед ними душа моя открыта!
В молчании доехали они до ворот замка, и там леди Эвелина приказала,
чтобы ее опекуна, как она упорно называла Дамиана, поместили в покоях ее
отца; не по летам разумно и предусмотрительно распорядилась она обо всем,
что требовалось для неожиданных гостей замка. Все это она сделала с полным
спокойствием и присутствием духа и лишь затем привела в порядок
собственную одежду.
Оставалось еще одно. Она поспешила в часовню Пресвятой Девы;
распростершись перед образом своей небесной заступницы, она воздала благодарность
за вторичное свое спасение и умоляла ее и Всемогущего Господа руководить ею.
— Тебе ведомо, — горячо шептала она, — что не от самонадеянной уверенности
в своих силах подвергаю я себя опасности. О, дай мне силы там, где я всего
слабее. Не допусти, чтобы моя благодарность и сочувствие сделались для меня
ловушкой; и, когда стану я исполнять долг благодарности, спаси меня от людского
злоязычия. И спаси, о, спаси от коварных уловок собственного моего сердца!
Затем она набожно перебрала свои четки и, уйдя из часовни в свои покои,
велела служанкам привести в порядок ее одежду и устранить все внешние
следы учиненного над нею насилия.
Глава ХХУП
Джулия: ...милый рыцарь,
Вы пленник наш. Но ваши дни в плену,
Поверьте мне, ничем не будут хуже
Всего, что радовало вас на воле.
Родерик: О нет, прекрасная! Уж слишком долго
Мы медлим здесь. На лоне ваших роз
Мои увяли лавры.
Старинная пьеса1
В простой черной одежде, более подходившей женщинам старшего возраста,
без единого украшения, кроме четок, Эвелина пришла навестить своего
раненого спасителя. Этикет того времени не только разрешал это, но даже предписы-
6*
164
Обрученная
вал. Ее сопровождали Роза и Джиллиан. Старая Марджери, привыкшая
ухаживать за больными, уже находилась возле молодого рыцаря.
Эвелина вошла-неслышными шагами, опасаясь потревожить раненого.
Возле двери она остановилась и огляделась. То была комната ее отца, и после его
гибели она туда не входила. По стенам развешаны отцовские доспехи, оружие,
рукавицы для соколиной охоты, шесты и прочие принадлежности лесной
забавы. Среди этих предметов она мысленно увидела статную фигуру старого сэра
Раймонда. «Не хмурься, отец, — беззвучно шептали ее губы. — Не хмурься,
Эвелина никогда не будет недостойной тебя».
У постели Дамиана сидели отец Альдрованд и паж Амелот. Когда вошла
леди Эвелина, они встали. Первый из них, немного смысливший в медицине,
сообщил ей, что рыцарь некоторое время дремал, но сейчас проснется.
Амелот выступил вперед и торопливым шепотом попросил, чтобы в покое
было тихо, а присутствующие удалились.
— Мой господин, — сказал он, — еще со времени своей болезни в Глостере при
пробуждении часто бредит и будет недоволен, если я позволю кому-нибудь его
подслушать.
Эвелина велела служанкам и монаху выйти в соседнюю комнату, сама же
осталась в дверях и услышала, как Дамиан, с усилием повернувшись на своем
ложе, назвал ее имя.
— Она невредима? — было первым его вопросом, и задан он был с таким
волнением, что было ясно, насколько это для него важнее всего другого. Когда
Амелот ответил утвердительно, он облегченно вздохнул, словно с груди его
свалилась огромная тяжесть; тоном уже более спокойным он спросил, где
находится. — Этот покой и обстановка мне незнакомы, — сказал он.
— Милый господин мой, — ответил Амелот, — вы еще чересчур слабы,
чтобы задавать вопросы и выслушивать объяснения.
— Где бы я ни был, — сказал Дамиан, словно что-то припоминая, — я не там,
куда призывает меня мой долг. Вели трубить сигнал «По коням», а знамя пусть
держит Ральф Гленвиль. По коням! По коням! Нельзя терять ни минуты!
Раненый сделал попытку приподняться, но был так слаб, что Амелот легко
этому помешал.
— Ты прав, — сказал раненый, снова опускаясь на свое ложе. — Ты прав,
я слишком слаб. Но к чему сила, когда утрачена честь!
Несчастный юноша закрыл лицо руками и застонал от муки, скорее
душевной, чем телесной. Леди Эвелина неуверенно приблизилась к его ложу, боясь
сама не зная чего, но твердая в своей решимости утешить страдальца. Дамиан
поднял глаза, увидел ее и снова закрыл лицо руками.
— Что значит эта глубокая скорбь, рыцарь? — спросила Эвелина голосом
сперва дрожащим, но затем более уверенным. — Разве следует так скорбеть,
если вы исполняли свой рыцарский долг и Небеса дважды сделали вас
орудием спасения несчастной Эвелины Беренжер?
— О нет, нет! — воскликнул он. — Если вы спасены, все хорошо. Но я должен
спешить, мне необходимо уехать. Нигде не должен я медлить, а менее всего в
этом замке. Ты слышишь, Амелот? По коням!
Глава XXVII
165
— Нет, милорд, — сказала Эвелина. — Этого быть не должно. Как ваша
подопечная я не могу так скоро отпустить своего опекуна. В качестве врача я не
могу допустить, чтобы мой пациент погубил себя. Ведь вы не в состоянии сесть
в седло.
— Тогда носилки, дроги, телегу, чтобы вывезти отсюда предателя, рыцаря,
покрывшего себя позором. Да и это для меня слишком хорошо, всего лучше был
бы гроб... Но смотри, Амелот, пусть это будет гроб последнего из смердов. Пусть
не будет там ни щита с древним гербом де Лэси, ни шлема с гордым гребнем...
Этого не заслужил тот, кто опозорил свое имя.
— Неужели он повредился рассудком? — горестно воскликнула Эвелина,
с ужасом глядя то на раненого, то на его пажа. — Или в его бессвязных речах
кроется некая страшная тайна? Если так, говори, открой ее. Я все сделаю,
чтобы мой спаситель не попал в беду.
Амелот печально взглянул на нее и покачал головой, а затем перевел взор
на своего господина, как бы выражая этим, что на ее вопросы не следует
отвечать в присутствии сэра Дамиана. Поняв это, леди Эвелина вышла в соседнюю
комнату и сделала Амелоту знак следовать за нею. Тот повиновался, сперва
оглянувшись на своего господина, который оставался в той же, полной отчаяния
позе; он закрывал глаза руками, словно желал заслониться от света дня и
всего, что при этом свете видно.
Когда Амелот вышел вслед за нею, Эвелина, знаком приказав своим
служанкам отойти подальше, насколько позволяли размеры комнаты, стала настойчиво
расспрашивать его о причинах отчаяния и раскаяния, какие обнаруживал его
господин.
— Ты знаешь, — сказала она, — что я должна помогать ему сколько могу —
как из благодарности, ибо он спас меня, рискуя собственной жизнью, так и по
долгу родства. Поэтому скажи, чтб с ним, чтобы я могла ему помочь. Конечно, —
добавила она, и бледные щеки ее залились краской, — если причина его горя
такова, что мне подобает ее слышать.
Паж низко поклонился; но, начав говорить, выказал такое смущение, что не
меньше смутил и леди Эвелину; несмотря на это, она все еще просила его
открыть ей все, без утайки и промедления, если, конечно, смысл его речи будет
таков, что ей прилично его выслушать.
— Поверьте, благородная госпожа, — сказал Амелот, — ваше повеление я
исполнил бы немедленно, если бы не боялся разгневать моего господина,
толкуя о его делах без его ведома; но раз приказываете вы, кого он чтит
превыше всех на свете, я скажу, что если раны не угрожают его жизни, то честь
его находится в большой опасности, и только Небеса могут послать ему
спасение.
— Продолжай, — потребовала Эвелина, — и поверь, что, доверяя эти
сведения мне, ты не можешь ничем повредить сэру Дамиану де Лэси.
— Я в том уверен, госпожа, — сказал паж. — Знайте же, если вам это еще
неизвестно, что чернь, которая на западе нашего края встала мятежом против
знати, в числе своих предводителей называет не только Рэндаля Лэси, но и
моего господина сэра Дамиана.
166
Обрученная
— Это ложь! Не мог он предать собственный свой род и своего короля! —
сказала Эвелина.
— Я знаю, что ложь, — сказал Амелот. — Однако те, кто его мало знают,
верят в эту ложь. Уже не один перебежчик из нашего отряда присоединился
к гнусному сброду, а это тоже как бы подтверждает клевету. А еще говорят...
еще говорят, будто господин мой хочет присвоить земли, которыми ныне
управляет от имени своего дяди. И что если старый коннетабль — прошу
прощения, миледи, — вернется из Палестины, ему трудно будет вернуть себе свои
владения.
— Гнусные негодяи судят о других по собственной низости и думают, что
достойные люди поддаются тем же соблазнам, каким не могут противиться они
сами. Мы слышали, что это всего лишь обычная смута, не более.
— Вчера вечером нам стало известно, что огромная толпа собралась милях
в десяти отсюда и взяла в осаду Гуляку Уэнлока и его воинов. Он прислал
просить помощи у моего господина как у родственника и боевого товарища.
Нынче утром мы уже сели на коней, готовые туда ехать, но тут...
Он умолк и, видимо, не хотел продолжать, но речь его продолжила сама
Эвелина:
—...но тут вы услышали, что я нахожусь в опасности? Пусть бы вы лучше
услышали о моей смерти!
— Благородная госпожа, — промолвил паж, не подымая глаз, — ничто,
кроме этой причины, не заставило бы моего господина повернуть и отправиться с
большей частью своих воинов в горы Уэльса, когда крайность, в какой
находится его соотечественник, а также приказ командующего королевскими войсками
требовали его присутствия в другом месте.
— Я так и знала! — сказала Эвелина. — Я знала, что рождена на погибель ему!
Но это, пожалуй, даже хуже, чем то, что я предполагала. Я боялась стать
причиной его смерти, но не позора. Ради Бога, Амелот, сделай что можешь и не
теряй времени. Скорее на коня! Кроме своих людей, собери сколько сможешь
и моих. Скачи, мой храбрый юноша! Разверни знамя своего господина, покажи,
что его воины с ним, и сам он сердцем с ними, хотя и отсутствует. Спеши,
спеши, ведь дорог каждый час!
— Но тогда без защиты останется замок и вы сами, — сказал паж. — Видит
Бог, я все готов сделать, чтобы спасти его доброе имя! Но я хорошо знаю
своего господина. Если с вами случится беда из-за того, что я оставил замок, то хоть
бы я спас и владения его, и жизнь, и честь, вместо благодарности и награды я,
пожалуй, отведаю его кинжала.
— И все же не медли, милый Амелот, — настаивала Эвелина. — Собери
сколько сможешь людей и спеши!
— Такого коня, как я, пришпоривать не надо, — отвечал паж, вскочив на
ноги. — Раз господин мой не в состоянии выступить сам, пусть против хамов
выступит его знамя.
— Значит, к оружию! — торопила его Эвелина. — К оружию! Заслужи свои
рыцарские шпоры! Доставь мне известие, что честь твоего господина спасена,
и я сама прикреплю их к твоим сапогам. Вот, возьми освященные четки, обвя-
Глава XXVII
167
жи их вокруг шлема. Да поможет тебе в сражении Пресвятая Дева
Печального Дозора, хранящая тех, кто ей молится.
Она едва договорила, а Амелот уже выбежал во двор замка. Из конных
воинов своего господина и тех, что охраняли замок, он скоро собрал во дворе
сорок человек.
Все они сошлись на его зов не мешкая. Однако, узнав, что им предстоит
опасный поход, а вести их некому, кроме пятнадцатилетнего мальчика, они
выказали решительное нежелание выступить куда-либо из замка. Ветераны из
числа воинов де Лэси говорили, что и сам Дамиан еще молод, ими командовать
и никакого права не имеет поручать это уж совершенному мальчишке; а воины
Беренжера сказали, что их госпоже надо бы радоваться, что она сегодня
спаслась, и не искать новых опасностей, уменьшая численность гарнизона. Времена
сейчас неспокойные, говорили они, и всего разумнее было бы сидеть за
крепостными стенами.
Чем больше они делились друг с другом своими опасениями, тем меньше
были склонны идти в поход; и когда Амелот беззаботно отлучился, чтобы
присмотреть, как седлают ему коня, а затем вернулся во двор, он застал там
полный беспорядок: кто был уже на коне, а кто нет и все громко переговаривались
и спорили. Ральф Гленвиль, старый наемный солдат с лицом, иссеченным
шрамами, стоял отдельно от прочих, одной рукою держа под уздцы своего коня,
а в другой руке древко, вокруг которого обернуто было знамя де Лэси.
— Что это значит, Гленвиль? — сказал с гневом паж. — Отчего ты еще не в
седле и не развернул знамя? И что за причина всего этого беспорядка?
— Оттого я не в седле, сэр паж, — спокойно ответил ему Гленвиль, — что
дорожу честью этого старого шелкового лоскута и не вижу смысла нести его
туда, где людям неохота следовать за ним и защищать его.
— Не пойдем! Не выступим! Не развертывай знамя! — кричали солдаты,
сопровождая этим припевом слова знаменосца.
— Трусы! Вы что же, бунтовать? — крикнул Амелот, хватаясь за рукоять
своего меча.
— Не угрожай мне, мальчик, — сказал Гленвиль. — Уж если мы с тобой
скрестим оружие, от твоего золоченого вертела полетит больше щепок, чем летит
мякины из-под цепа. Погляди-ка, сколько здесь седобородых воинов, которые
не желают подчиняться мальчишеским капризам. Мне-то, например, все равно,
тот ли мальчик или другой мною командует. Но сейчас я служу де Лэси и я не
уверен, что он поблагодарит нас, если мы пойдем на выручку Гуляки Уэнлока.
Почему он не повел нас туда утром, а свернул в горы?
— Причина тебе известна, — сказал паж.
— Еще бы не известна, догадаться нетрудно! — сказал знаменосец с грубым
хохотом; захохотали и еще несколько человек.
— Я вобью эту клевету в твою лживую глотку, Гленвиль! — крикнул паж;
выхватив меч из ножен, он стремительно бросился на знаменосца, не думая о
том, как неравны их силы.
Гленвилю достаточно было легкого движения могучей руки, чтобы
отстранить пажа; он древком знамени парировал его удар.
168
Обрученная
Снова раздался громкий хохот, и Амелот увидел тщетность своих усилий.
Отбросив меч, он заплакал от злости и обиды и поспешил сообщить о своей
неудаче леди Эвелине.
— Все погибло, — сказал он. — Трусливые негодяи взбунтовались и не хотят
выступить. А вина за их малодушие и нерадение падет на моего дорогого
господина.
— Этому не бывать! — воскликнула Эвелина. — Я не пожалею жизни. Следуй
за мной, Амелот.
Она торопливо накинула на свою черную одежду алый шарф и
поспешила во двор замка, сопровождаемая кумушкой Джиллиан, которая усиленной
жестикуляцией выражала свое удивление и сочувствие, и Розой, тщательно
скрывавшей охватившие ее чувства.
Эвелина появилась во дворе замка с горящими глазами и пылающим
румянцем на щеках. Таковы были ее предки в грозные часы, когда душа их
вооружалась навстречу буре и ненастью, а лица выражали готовность повелевать и
презрение к опасности. В тот миг она казалась выше своего роста: а когда
обратилась к бунтарям, голос ее, не потеряв женской нежности, звучал твердо и
слышен был далеко.
— Что это, судари мои? — начала она; и при первых ее словах мощные
фигуры вооруженных воинов сбились теснее, точно каждый старался уйти от ее
упрека. Они походили на крупных водяных птиц, когда те сбиваются в кучу,
завидев в небе маленького, грациозного кобчика, и трепещут, чувствуя
превосходство его породы и нрава перед их инертной физической силой. — Что это? —
повторила она. — Разве сейчас время бунтовать? Сейчас, когда господин ваш
далеко, а его заместитель лежит на одре болезни? Так-то вы соблюдаете вашу
присягу? Так-то заслуживаете щедрость вашего военачальника? Стыдитесь,
трусливые псы! Стоит охотнику выпустить вас из виду, и вы уже дрожите и
пятитесь!
Наступило молчание. Солдаты поглядывали то друг на друга, то на
Эвелину; они словно стыдились своего бунта, но стыдились также и подчиниться.
— Я вижу, в чем беда, храбрые друзья мои. Вас некому повести. Так за чем
дело стало? Я сама поведу вас. Хоть я и женщина, но для вас это отнюдь не
будет позорным, потому что поведет вас одна из Беренжеров. Седлайте моего
коня стальным седлом, да поскорее!
Подняв с земли легкий шлем пажа, она надела его, взяла его обнаженный
меч и продолжала:
— Итак, я берусь возглавить ваш отряд. Этот джентльмен, — она указала на
Гленвиля, — будет восполнять мой недостаток военного опыта. Видно, что он
побывал во многих сражениях и может обучить молодого военачальника его
обязанностям.
— Конечно, — отозвался старый солдат, невольно улыбнувшись, но в то же
время покачав головой. — Сражений я видел много, а такого командира видеть
еще не доводилось.
— И все-таки, — спросила Эвелина, видя, что все взоры обратились на
Гленвиля, — ведь ты не откажешься, не можешь отказаться следовать за мной?
Глава XXVII
169
Не откажешься как солдат, ибо слышишь команду, пусть и поданную моим
слабым голосом. Не откажешься как джентльмен, ведь тебя просит одинокая
женщина, которой нужна помощь. Не откажешься как англичанин, ибо меч твой
нужен твоей стране, а твои боевые товарищи попали в беду. Разверни же знамя,
и вперед!
— Я бы рад всей душой, прекрасная госпожа, — ответил Гленвиль, готовясь
развернуть знамя. — Вести нас может и Амелот, если я ему кое-где помогу
советом. Да только я не уверен, что вы посылаете нас по верному пути.
— Конечно, это верный путь, — убежденно сказала Эвелина. — Он ведет вас
на выручку Уэнлоку и его воинам, которых осадили бунтующие мужики.
— Не знаю, — проговорил Гленвиль, все еще колеблясь. — Наш командир сэр
Дамиан де Лэси покровительствует простому люду и берет их под свою
защиту; я знаю, что он однажды поссорился с Гулякой Уэнлоком, когда тот чем-то
обидел жену мельника из Туайфорда. Хороши мы будем, когда наш горячий
молодой командир, оправившись от ран, узнает, что мы сражались с теми, кому
он покровительствует.
— Будь уверен, — продолжала настаивать Эвелина, — чем более он готов
защищать простых людей от притеснений, тем скорее усмирил бы их, когда они
сами чинят насилие. Садись на коня, спаси Уэнлока и его людей. Каждая минута
промедления грозит им смертью. Жизнью своей и владениями ручаюсь, что
де Лэси сочтет это за верную службу. Следуй же за мной!
— Конечно, никто лучше вас, прекрасная девица, не знает намерений сэра
Дамиана, — ответил Гленвиль. — Да что говорить! Вы даже можете заставить его
менять их по вашему желанию. Что ж, мы выступим и пособим Уэнлоку, если
еще не поздно; и полагаю, что не поздно. Это матерый волк, и затравить его
будет стоить мужикам немало крови. Но вы, госпожа, все-таки оставайтесь в
замке и доверьте все дело Амелоту и мне. Командуй, сэр паж, так тому и быть.
А, право, жаль снимать шлем с такой головки и брать меч из такой ручки!
Клянусь святым Георгием! Оружие в такой ручке — ведь это какая честь
солдатскому ремеслу!
Эвелина отдала оружие Амелоту, убеждая его забыть причиненную ему
обиду и мужественно исполнить свой долг. Гленвиль медленно развернул
знамя и потряс им. Не ставя ноги в стремя и лишь слегка опершись о копье, он во
всем своем тяжелом вооружении вскочил в седло.
— Мы готовы, если угодно молодому командиру, — сказал он Амелоту; а пока
тот строил отряд, шепнул воину, оказавшемуся рядом: — А ведь неплохо было
бы, вместо нашего ласточкина хвоста*, следовать за вышитой юбкой! Ее, по-
моему, ни с чем не сравнишь! Знаешь, Стивен Понтойс, я готов простить Дамиа-
ну, что ради этой девицы он позабыл и дядюшку, и собственную честь. Ей-богу,
вот в кого влюбился бы до смерти! Ох уж эти женщины! Всю жизнь они нами
помыкают. Когда молоды, берут нас нежными взглядами, сладкими словами да
* Рыцарский вымпел имел удлиненную форму и на конце раздваивался наподобие
ласточкина хвоста; знамя баннерета было квадратным, и, чтобы оно получилось из вымпела, у того
отрезали концы. Именно так поступил Черный принц2 с вымпелом Джона Чэндоса перед сражением при
Нэджаре.
170
Обрученная
сладкими поцелуями, когда постарше — щедрыми подарками, золотом и вином;
а когда уж совсем состарятся, мы готовы выполнять их поручения, лишь бы не
видеть их сморщенные рожи. Старому де Лэси лучше было бы сидеть дома и
стеречь свою жар-птицу. А нам с тобой, Стивен, все едино; и сегодня что-нибудь
да перепадет; ведь мужики уже не один разграбили замок.
— Вот-вот, — откликнулся Понтойс, — «Мужик добьюает, солдат отнимает».
Старая пословица права. А что же его пажеская милость все еще не ведет нас
в бой?
— Может, я так его встряхнул, — сказал Гленвиль, — что у бедняги
помутилось в голове или он не все еще слезы проглотил. Но уж только не из лени. Он
для своих лет очень бойкий петушок. И отличиться не прочь. Ну, кажется,
выступаем. Удивительная, Стивен, штука — порода. Вот ведь — мальчишка,
которого я только что осадил как школьника, а ведет нас, седобородых, туда, где мы,
может быть, и головы сложим; и все это по приказу легкомысленной девицы.
— Сэр Дамиан подчинен этой красавице, — сказал Стивен Понтойс, —
молокосос Амелот подчинен сэру Дамиану, и нам, беднягам, осталось лишь
подчиняться да помалкивать.
— Помалкивать, но вокруг себя посматривать. Вот так-то, Стивен Понтойс!
Они выехали к тому времени за ворота замка и были уже на дороге, ведшей
к деревне, где Уэнлок, как им сообщили еще утром, был осажден большой
толпой мятежных крестьян. Амелот ехал во главе отряда, все еще не позабыв
унижение, которое претерпел на глазах солдат, и размышляя, как восполнить
недостаток опыта; прежде ему помогали в этом советы знаменосца, но сейчас он
стыдился искать с ним примирения. Однако Гленвиль, хоть и любитель
поворчать, не умел долго таить зло. Он сам подъехал к пажу и, отдав положенное
воинское приветствие старшему чином, почтительно спросил, не следует ли
послать одного-двух воинов вперед на резвых конях, чтобы разведать, как
обстоят дела у Уэнлока и поспеют ли они прийти к нему на выручку.
— Мне думается, знаменосец, — сказал Амелот, — что командовать отрядом
надлежит тебе, уж очень ты хорошо знаешь, что надо делать. А еще ты
потому больше годишься командовать, что... но не стану укорять тебя.
— Потому, что плохо умею подчиняться, хотел ты сказать? — ответил
Гленвиль. — Не отрицаю, что доля правды тут есть. Но надо ли тебе дуться и мешать
успеху нашего похода из-за глупого слова или необдуманной выходки? Давай уж
помиримся, чего там!
— Всем сердцем готов, — сказал Амелот, — и сейчас же, по твоему совету,
вышлю авангард.
— Пошлите старого Стивена Понтойса, а с ним двух копьеносцев из
Честера. Стивен хитер как матерый лис. Ни надежда, ни страх не уведут его и на
волос от здравого смысла.
Амелот с готовностью согласился, и, выполняя его приказ, Понтойс с двумя
копьеносцами отправился на разведку.
— Ну, а теперь, сэр паж, когда мы в прежней дружбе, — поинтересовался
знаменосец, — скажи, если можешь: правда ли, что здешняя госпожа любит
грешной любовью нашего красавчика-рыцаря?
Глава XXVII
171
— Это гнусный поклеп! — с негодованием сказал Амелот. — Ведь она обручена
с его дядюшкой, и я убежден, что скорее умрет, чем помыслит об измене.
Таков же и наш господин. Я уже замечал, Гленвиль, что ты веришь в эту ложь,
и просил тебя не давать ей ходу. Ты ведь и сам знаешь, что они почти никогда
не встречаются!
— Откуда мне знать? — сказал Гленвиль. — Да и тебе тоже? Как ни следи,
а мимо мельницы течет немало воды, о которой мельнику невдомек. Как-то они
все же меж собой общаются, этого ты отрицать не можешь.
— Отрицаю и это, — сказал Амелот, — как отрицаю все, что может
затрагивать их честь.
— Тогда объясни, откуда ему всегда известно, где она? Как было, например,
нынче утром.
— Этого я не знаю, — ответил паж. — Но есть же святые и ангелы-хранители;
и если кто на земле заслуживает их покровительство, то это, конечно, леди
Эвелина Беренжер.
— Отлично сказано! Ты умеешь держать язык за зубами, — рассмеялся
Гленвиль, — только старого солдата не так-то легко провести. Ишь ты! Святые!
Ангелы-хранители! Делишки-то уж очень не святые.
Паж приготовился и далее яростно защищать своего господина и леди
Эвелину; но тут возвратились Стивен Понтойс и оба копьеносца.
— Уэнлок отлично держится! — крикнул Стивен. — Хоть мужики, конечно,
сильно его теснят. Его арбалетчики хорошо знают свое дело. Я уверен, что он
продержится до нашего прихода, если мы немного поторопимся. Мужики
подошли вплотную к частоколу, но были отбиты.
Отряд поскакал со всей скоростью, какая была возможна, без нарушения
походного порядка, и вскоре оказался на небольшой возвышенности, у
подножия которой находилась деревня, где оборонялся Уэнлок. В воздухе звенело от
криков мятежников, подобных рою рассерженных пчел; с неколебимым
упорством, присущим англичанам, они толпились у частокола, пытаясь сломать его
или перелезть через него, несмотря на град камней и стрел, причинявший им
большие потери, и несмотря даже на удары мечей и боевых топоров,
которыми встречали их воины, когда доходило до рукопашных схваток.
— Мы поспели как раз вовремя! — воскликнул Амелот, бросив поводья и
радостно хлопая в ладони. — Разверни свое знамя, Гленвиль, пусть оно будет
хорошо видно Уэнлоку и его людям. Стойте, друзья! Дадим передохнуть коням.
Как думаешь, Гленвиль, не спуститься ли нам вон той широкой тропой на луг,
где пасется скот?
— Браво, мой юный сокол! — ответил Гленвиль, чья жажда битвы, как у
боевого коня Иова3, пробудилась при виде копий и звуке трубы. — Оттуда нам
лучше всего напасть на негодяев.
— Их там такая туча, что ничего не разглядишь, — сказал Амелот. — Но мы
разгоним тучу нашими копьями. Смотри-ка, Гленвиль, осажденные подают знак,
что увидели наш сигнал, что увидели нас.
— Какой там сигнал! — крикнул Гленвиль. — Это белый флаг! Они сдаются!
— Сдаются? Да как они могут сдаваться, когда мы уже идем к ним на по-
172
Обрученная
мощь? — удивился Амелот, но печальный звук трубы осажденных и громкие,
ликующие крики, которые издали нападавшие, развеяли всякие сомнения.
— Вымпел Уэнлока опустили, — проговорил Гленвиль, — и мужики со всех
сторон ворвались за заграждения. Что же это? Трусость или предательство?
И что теперь делать нам?
— Наступать! — приказал Амелот. — Отбить у них деревню и освободить
пленных.
— Наступать? — спросил знаменосец. — Нет, мой совет: ни шагу вперед. Ведь,
пока мы спустимся с холма на глазах у всей их толпы, стрелы пересчитают
каждый гвоздь на наших доспехах. И после этого штурмовать деревню? Это
было бы чистым безумием!
— Но давайте проедем еще немного вперед, — сказал паж. — Может быть,
найдем тропу, по которой нам удастся спуститься незамеченными.
Они проехали еще немного по вершине холма. Паж продолжал уверять, что
среди общей сумятицы им все же удастся спуститься незаметно.
— Незаметно! — нетерпеливо возразил Гленвиль. — Да нас уже заметили!
И какой-то парень скачет к нам во всю прыть своей лошади.
Ездок приблизился. Это был коренастый крестьянин в обычной одежде из
грубошерстной ткани и синем колпаке, который он, как видно, с трудом
напяливал на копну рыжих волос, таких жестких, что они стояли дыбом. Руки его
были в крови; у седла висел холщовый мешок, также запятнанный кровью.
— Вы отряд Дамиана де Лэси, так что ли? — спросил гонец. Получив
утвердительный ответ, он продолжал с некоторым подобием церемонности: —
Мельник Хоб из Туайфорда велит кланяться Дамиану де Лэси. А раз тот взялся
навести в крае порядок, то мельник шлет ему его долю с помола. — С этими
словами он достал из мешка человеческую голову и протянул ее Амелоту.
— Это голова Уэнлока! — сказал Гленвиль. — Как страшно глядят его глаза!
— Больше ему не глядеть на наших женщин! — сказал мужик. — Отучил я его,
блудливого кота!
— Ты? — воскликнул Амелот, отпрянув назад с негодованием и отвращением.
— Да, я, собственными руками, — отетил крестьянин. — А я и есть Главный
Судья у народа, пока не нашлось кого получше.
— Скажи лучше, главный палач, — ответил ему Гленвиль.
— Называй как тебе угодно, — сказал крестьянин. — А кто на высокой
должности, тому и подавать во всем пример. Я никогда не прикажу другому сделать
то, чего не готов сделать сам. Повесить человека самому не труднее, чем велеть
его повесить. Вот мы и совместим многие должности, когда заведем в старой
Англии новые порядки.
— Негодяй! — крикнул Амелот. — Отнеси свой кровавый подарок тем, кто
тебя послал! Если б ты не явился как парламентер, я пригвоздил бы тебя
копьем к земле. Но, будь уверен, за твою жестокость тебя ждет страшное отмщение.
Едем назад, Гленвиль! Здесь нам более незачем оставаться.
Мужик, ожидавший совсем иного приема, некоторое время смотрел им
вслед, затем, вложив свой кровавый трофей в мешок, вернулся к тем, кто его
послал.
Глава XXVIII
173
— Вот что значит вмешиваться в чужие любовные проделки! — сказал Глен-
виль. — Надо ж было сэру Дамиану ссориться с Уэнлоком из-за его шашней с
мельниковой дочкой! А они уж и рады считать, что он на их стороне. Только бы
и другие так не подумали! Много бед могут нам принести такие подозрения.
Чтобы этого избежать, я не пожалел бы своего лучшего коня. Впрочем, я,
кажется, и так его потеряю; уж очень много мы сегодня скакали. Но пусть это
будет худшим из того, что нас ждет.
Усталые и озабоченные возвратились они в замок Печальный Дозор. И даже
не без потерь; кое-кто отстал, ибо выбились из сил кони, а кое-кто
воспользовался случаем: дезертировал и присоединился к шайкам мятежников и грабителей,
которые возникали то здесь, то там и пополнялись беглыми солдатами.
Возвратясь в замок, Амелот узнал, что состояние его господина все еще
внушает опасения, а леди Эвелина, хотя и крайне утомлена, не удалилась на покой
и с нетерпением ожидает его возвращения. Представ перед нею, он с тяжелым
сердцем сообщил о своем неудавшемся походе.
— Да сжалятся над нами святые! — сказала леди Эвелина. — Ибо мне
кажется, что я, точно зачумленная, несу гибель всем, кто принимает во мне участие.
Едва они начинают это делать, как даже сами их добродетели становятся для
них ловушками4. Все, что при иных обстоятельствах служило бы к их чести,
друзьям Эвелины Беренжер приносит лишь бедствия.
— Не печальтесь, госпожа, — сказал Амелот. — У моего господина еще
найдется достаточно людей, чтобы усмирить бунтовщиков. Я хочу лишь
дождаться его приказаний. Завтра же соберу солдат и наведу порядок в нашем крае.
— Увы! Ты еще не знаешь худшего, — промолвила Эвелина. — После того как
ты отлучился, солдаты сэра Дамиана, которые и прежде роптали, зачем сидят
без дела, услышав, что их командир тяжело ранен и будто уже скончался,
разбрелись кто куда. Но не падай духом, Амелот, — продолжала она. — Замок
достаточно укреплен, чтобы выдержать и не такую бурю; и даже если все
покинут твоего господина в беде, Эвелина Беренжер тем более обязана укрывать и
защищать своего спасителя.
Глава ХХУШ
Труби, труба, и сотрясай их стены.
Грози им гибелью.
Отвей1
Дурные вести, какими закончилась предыдущая глава, пришлось сообщить
и Дамиану де Лэси, которого они всего более касались. Это взяла на себя сама
леди Эвелина, перемежая свои слова слезами, а от слез вновь обращаясь к
утешительным заверениям, которым в глубине души не верила и сама.
Раненый рыцарь, обернувшись к ней, слушал эти грозные вести, но казалось,
что они занимали его лишь настолько, насколько касались самой говорившей.
Когда она закончила, он продолжал неотрывно смотреть на нее, точно
погруженный в мечту. Смущенная этим взглядом, она поднялась и приготовилась уйти, ч
174
Обрученная
— Того, что вы мне поведали, леди, — сказал он, — было бы достаточно,
чтобы привести меня в полное отчаяние, если б было рассказано кем-нибудь
другим; ибо означает, что могущество и честь вашего дома, столь торжественно мне
порученные, погублены моими неудачами. Но сейчас, когда я смотрю на вас и
слышу ваш голос, я забываю все, кроме того, что вы спасены, что вы здесь и
ваша жизнь и честь в безопасности. И я прошу у вас как милости, чтобы меня
увезли отсюда и поместили где-нибудь в другом месте. В нынешнем моем
состоянии я не стою ваших забот — ведь я уже не располагаю мечами моих воинов и
не в силах обнажить свой.
— А если вы, благородный рыцарь, среди собственных ваших бедствий
великодушно помните и обо мне, — проговорила Эвелина, — как можете вы думать,
что я забыла, когда и ради чьего спасения получили вы свои раны? Нет, Дами-
ан, не говорите о переезде. Пока цела в Печальном Дозоре хотя бы одна
башня, в этой башне вы найдете приют и защиту. И я уверена, что таково было бы
и желание вашего дядюшки, если бы он был здесь сам.
Дамиан, как видно, внезапно ощутил сильную боль в ране; ибо, повторив
слова «мой дядюшка», он скорчился на своем ложе, отворачивая лицо от
Эвелины. Затем, более спокойным тоном, он продолжал:
— Увы! Если бы мой дядюшка узнал, как плохо я выполнил его
распоряжения, он, вместо того чтобы приютить меня в этих стенах, приказал бы сбросить
меня с них!
— Не опасайтесь его неудовольствия, — сказала Эвелина, снова вставая и
готовясь уйти. — Вместо этого постарайтесь сохранить спокойствие духа и этим
ускорить заживление ваших ран, а тогда, я уверена, вы сумеете навести
порядок во владениях коннетабля задолго до его возвращения.
Произнося последние слова, Эвелина покраснела и поспешила выйти.
Оказавшись в собственных своих покоях, она отослала других служанок, но
удержала подле себя Розу.
— Что ты думаешь о наших делах, моя мудрая подруга и советчица? —
спросила она.
— Я хотела бы, — ответила Роза, — чтобы юный рыцарь никогда не входил
в этот замок, или, оказавшись здесь, поскорее покинул его, или, наконец, мог бы
с честью остаться здесь навсегда.
— Что ты разумеешь, говоря «остаться навсегда»? — поспешно и резко
спросила Эвелина.
— На этот вопрос дозвольте ответить также вопросом: сколько времени
длится уже отсутствие коннетабля Честерского?
— На святого Клемента2 будет три года, — промолвила Эвелина. — Но что из
этого?
— Ничего, но...
— Что «но»? Я приказываю тебе договорить.
— Через несколько недель вы будете свободны распорядиться своей судьбой.
— Значит, ты полагаешь, Роза, — с достоинством сказала Эвелина, — что нет
на свете иных обязательств, кроме тех, которые чертит рука писца? Нам мало
известно о судьбе коннетабля. Мы знаем только, что все его надежды рушились,
Глава XXVIII
175
что его меча и отваги оказалось недостаточно для победы над султаном Сала-
дином3. И вот вообрази, что он скоро возвратится сюда, как уже возвратились
к себе домой многие крестоносцы; возвратится обедневшим и утратившим
здоровье; увидит, что земли его опустошены, а вассалы разорены во время
недавней смуты, и ко всему этому окажется, что обрученная с ним невеста отдала
свою руку и свое состояние племяннику, которому он доверял как себе. Неужели
ты думаешь, что обручение подобно закладному свидетельству, которое должно
быть выкуплено у ростовщика в срок, иначе заклад будет потерян?
— Не знаю, госпожа, — ответила Роза, — а только в моей стране считается, что
договор должен быть исполнен в точности.
— Это, Роза, фламандский обычай, — сказала ей госпожа. — Но честь
норманна не довольствуется просто исполнением договора. Как? Неужели моя честь,
мой долг и мои привязанности, словом, все самое драгоценное для женщины,
исчисляются по тому же календарю, по которому ростовщик считает дни в
надежде завладеть закладом? Неужели я всего лишь товар и должна достаться
одному человеку, если он явится за мною до Михайлова дня, и другому, если тот
не успеет? Нет, Роза! Не так истолковала я мое обручение, недаром же его
благословила Пресвятая Дева Печального Дозора.
— Подобные чувства достойны вас, милая госпожа, — ответила Роза. — Но вы
еще так молоды, окружены столькими опасностями и так беззащитны против
клеветы, что я поневоле жду и призываю время, когда у вас будет законный
защитник и спутник; только это избавит вас от многих опасностей.
— Не думай об этом, Роза, — сказала Эвелина, — и не уподобляй свою
госпожу тем предусмотрительным особам, которые при живом, но старом и
немощном муже уже подыскивают себе другого.
— Пусть будет так, милая госпожа, — сказала Роза. — Однако позвольте
сказать еще два слова. Раз вы решили не пользоваться вашей свободой, даже
когда минет срок обручения, к чему этому юноше разделять наше
уединение? Он уже достаточно оправился, чтобы можно было найти для него другой
безопасный приют. Вернемся к нашей прежней затворнической жизни, пока
Провидение не послало нам чего-либо лучшего и более надежного.
Эвелина вздохнула, потупила взгляд, а потом, подняв его, приготовилась
ответить, что охотно последовала бы столь разумному совету, если бы не раны
Дамиана, еще не вполне зажившие, и не смута во всем крае. Ее прервали
пронзительные звуки труб, раздавшиеся у ворот замка. Встревоженный Рауль
прибежал, хромая, чтобы доложить своей госпоже, что некий рыцарь,
сопровождаемый герольдом в королевской ливрее и вооруженной охраной, стоит у ворот
и требует, именем короля, впустить его.
Эвелина несколько помедлила с ответом:
— Даже по королевскому приказу замок моих предков не примет никого,
прежде чем мы не узнаем, кто и с какой целью этого требует. Сейчас мы сами
выйдем к воротам и узнаем, что означает это требование. Подай мою вуаль,
Роза, и кликни служанок. Снова звуки трубы!.. Ах, они вещают нам беду и
смерть!
176
Обрученная
Предчувствие не обмануло Эвелину; ибо не успела она выйти из своего
покоя, как навстречу ей вбежал паж Амелот в такой растерянности и ужасе,
каких будущему рыцарю не подобает обнаруживать даже в крайности.
— Благородная госпожа! — вскричал он, падая перед Эвелиной на колени. —
Спасите моего дорогого господина! Вы, и только вы, можете его спасти!
— Я? — в изумлении воскликнула Эвелина. — Спасти его? От какой же
опасности? Видит Бог, я готова.
И тут она умолкла, не решаясь выговорить то, что уже готово было сорваться
с ее уст.
— У ворот, госпожа, стоит Гай Монтермер, а при нем герольд4 с королевским
знаменем. Заклятый враг дома де Лэси, и с таким сопровождением, уж
конечно не с добром сюда явился. Не знаю только, с какой бедою. Мой господин убил
его племянника на турнире в Мальпасе, поэтому...
Тут его прервали новые нетерпеливые звуки труб, отдававшиеся под
сводами старой крепости.
Леди Эвелина поспешила к воротам; стоявшие там стражи тревожно
переговаривались; при ее появлении они обратили к ней взгляды, словно ища у нее
поддержки, какой не могли оказать друг другу. За воротами, на коне и в
доспехах, ожидал немолодой уже рыцарь; поднятое забрало позволяло видеть его
седеющую бороду. Рядом с ним, также на коне, Эвелина увидела герольда в его
официальном облачении с вышитым на нем королевским гербом, в берете с
пышным султаном и с весьма обиженным выражением лица. Их
сопровождало около пятидесяти солдат под знаменем Англии.
При появлении леди Эвелины рыцарь слегка поклонился, более для формы,
чем для приветствия, и спросил, видит ли он перед собою дочь Раймонда Берен-
жера.
— Если так, — продолжал он, получив утвердительный ответ, — отчего замок
этого испытанного и доверенного друга Анжуйской династии5 не открывал своих
ворот, пока трубы короля Генриха не протрубили трижды? Отчего медлит
впускать тех, кого сам король почтил своим поручением?
— Такую осторожность, — ответила Эвелина, — прошу извинить ради моего
положения. Я одинокая девица, а здесь приграничная крепость; я никого не
должна впускать, не осведомившись о его цели и не убедившись, что она не
угрожает безопасности замка и собственной моей чести.
— Если вы столь осторожны, леди, — сказал Монтермер, — знайте, что по
случаю волнений в крае Его Величество король повелел разместить в ваших
стенах вооруженный отряд для защиты этой важной крепости как от
бунтующих мужиков, которые жгут и убивают, так и от валлийцев, которые, как
всегда во время смуты, станут совершать набеги на наши границы. Отворите же
ворота и впустите воинов Его Величества.
— Рыцарь, — ответила Эвелина, — согласно закону, замок этот, подобно
каждому замку в Англии, принадлежит королю; но, опять-таки по закону, я
являюсь его стражем и защитником. На этих условиях владели здесь землей мои
предки. У меня сейчас достаточно людей, чтобы защитить Печальный Дозор,
как было их достаточно у моего отца и у моего деда. Король соблаговолил при-
Глава XXVIII
177
слать мне помощь, но я не нуждаюсь в помощи наемников и считаю, что в
нынешнее смутное время впустить их в замок было бы неосторожно, ибо они
могут захватить его для кого-либо иного вместо его законной владелицы.
— Леди, — сказал старый рыцарь, — Его Величеству известна причина
вашего упрямства. Нет, не опасения за действия королевских воинов побуждают вас,
королевского вассала, к неповиновению. За ваш отказ я мог бы объявить вас
виновной в государственной измене. Но король помнит верную службу вашего
отца. Вместе с тем нам известно, что Дамиан де Лэси, обвиняемый в
подстрекательстве крестьян к мятежу, а также в том, что забыл воинский долг и
покинул благородного товарища на расправу разъяренным мужикам; что этот
Дамиан де Лэси нашел приют под вашей кровлей, а это не делает вам чести ни как
верному вассалу короля, ни как благородной девице. Выдайте его нам, и я
уведу наших воинов и не стану занимать замок, хоть и не знаю, имею ли на то
полномочия.
— Гай де Монтермер, — ответила Эвелина, — кто бросает тень на мое доброе
имя, тот лжец и клеветник. Свое доброе имя Дамиан де Лэси тоже сумеет
защитить. Скажу только вот что: пока он находится в замке невесты своего
родственника, она не выдаст его никому, а тем более известному врагу его семьи.
Стражи! Опустить решетку на воротах и не подымать без моего особого
приказания!
Едва она сказала это, как решетка со стуком и звоном опустилась до земли,
преградив Монтермеру доступ в замок.
— Недостойная! — начал он в бессильной злобе, однако овладел собою и
спокойно сказал герольду: — Будь свидетелем! Эвелина Беренжер призналась, что
изменник находится в замке. Будь свидетелем! По законно предъявленному
требованию она отказалась его выдать. Герольд, исполняй свой долг, как в
подобных случаях положено.
Герольд выступил вперед и провозгласил по всей форме, что Эвелина
Беренжер, отказавшись, по законно предъявленному ей требованию, впустить в свой
замок воинов короля и выдать изменника и предателя Дамиана де Лэси, навлекла
обвинение в государственной измене на себя, а также на всех, кто способствует
ей и помогает не впускать в замок воинов Генриха Анжуйского.
Едва замолк голос герольда, как протяжные, зловещие звуки труб
подтвердили оглашенный им приговор и вспугнули сову и ворона, которые
откликнулись на них своими криками, вещающими беду.
Защитники замка стали растерянно переглядываться, а Монтермер,
отъезжая от ворот, высоко поднял свое копье и воскликнул:
— В следующий раз я приближусь к этим воротам уже не для объявления,
а для исполнения приказа моего короля!
Эвелина в глубокой задумчивости смотрела вслед Монтермеру и его
отряду; размышляя, чтб ей делать, она услышала, как один из фламандцев тихо
спросил у стоявшего рядом англичанина, что означает слово «изменник».
— Тот, кто предал что-либо ему порученное, то есть предатель, — сказал
переводчик.
Это слово напомнило Эвелине ее вещий сон.
178
Обрученная
— Увы! — сказала она. — Мстительное предсказание призрака сбывается.
«Обручена, но не жена» — так я уже давно могу себя называть. «Обручена» —
такова, увы, моя судьба. «Предателем» меня сейчас объявили, хотя,
благодарение Богу, я в этом неповинна. Остается, чтобы предали меня, и тогда злое
пророчество исполнится до последнего слова.
Глава XXIX
Прочь, сыч! И ты поешь о смерти песню?*
Ричард IIP
Прошло более трех месяцев после события, описанного в предыдущей главе;
события, предшествовавшего другим, еще более важным, для которых также
найдется место в нашем повествовании. Но поскольку мы не беремся
представлять читателю подробное описание событий в том порядке, в каком они
происходили, а скорее предлагаем его взору и воображению в виде ряда картин
наиболее важные из этих событий, мы нарисуем сейчас новую картину и выведем
на сцену новых актеров.
По пустынной местности, более чем в двенадцати милях от замка Печальный
Дозор, в жаркий летний полдень, который ярко озарял тихую долину и
почернелые развалины сельских хижин, некогда ее оживлявших, медленно шли двое
путников. Плащи, какие носят паломники, посохи, широкополые шляпы с
прикрепленными к ним морскими раковинами и прежде всего крест из красной
ткани, нашитый на плече каждого из них, обнаруживали в них пилигримов,
которые исполнили свой обет и возвращаются из роковой страны, откуда в те
времена возвращались столь немногие из многих тысяч, устремлявшихся туда —
одни ради любви к приключениям, другие из религиозного рвения.
В то утро паломники увидели опустошения едва ли менее ужасные, чем те,
какие часто представали им в войнах за Святую Землю. Они увидели селения,
по которым прошла вся ярость войны и где дома были сожжены дотла;
нередко видели они и несчастных жителей, вернее, останки их, висевшие на
сколоченных наскоро виселицах или на деревьях, которые, казалось, лишь потому и не
были срублены, что могли послужить палачам. Живых существ они не
встречали, если не считать диких животных, вернувшихся в разоренную и
обезлюдевшую местность, откуда прежде были вытеснены наступлением цивилизации.
Слух опечаленных путников был поражен столь же неприятно, как их взор.
Они слышали карканье воронов, которые словно оплакивали кровавую битву,
где сами насытились, по временам раздавался жалобный вой собаки,
лишившейся дома и хозяина; но ни один звук не говорил о труде человека и его
домашнем очаге.
Столь же печален был и вид обеих темных фигур, которые устало шли мимо
этих мрачных зрелищ опустошения. Они не говорили между собой, не
смотрели друг на друга; один из них, пониже ростом, шел на шаг впереди своего спут-
* Пер. А. Радловой.
Глава XXIX
179
ника; они ступали медленно, точно священники, которые возвращаются от
смертного одра грешника, или призраки, блуждающие вблизи кладбищ.
Наконец они достигли небольшого, поросшего травою холма, на вершине
которого виднелась одна из могил, где древние бритты хоронили своих вождей, —
так называемый «кист-вайн», составленный из гранитных плит, образующих
некое подобие саркофага. Могила давно уже была разорена победившими
саксами то ли в знак презрения к побежденным, то ли из праздного любопытства,
а быть может, и в поисках погребенных там сокровищ. Огромный плоский
камень, когда-то служивший как бы крышкою саркофага, был расколот надвое и
лежал на некотором расстоянии от могилы; обломки его заросли травой и
лишайниками, и это указывало, что они лежат на этом месте уже давно. Над
раскрытым саркофагом простирал свои ветви небольшой, чахлый дуб, словно эта
эмблема друидов2 все еще пыталась охранять последние остатки их древнего
культа.
— Ну вот и «кист-вайн», — сказал тот из путников, кто был пониже ростом. —
Здесь мы должны ждать вестей, которые принесет наш разведчик. Но как ты
думаешь, Филипп Гуарайн, чем можно объяснить опустошения, какие нам
встречаются на пути?
— Набегами валлийских волков, милорд, — ответил Гуарайн. — Клянусь
Пресвятой Девой! Вот и бедная саксонская овца, которую они зарезали.
Коннетабль (ибо шедшим впереди паломником был именно он) обернулся на
эти слова своего оруженосца и увидел в высокой траве мертвое тело; трава
скрывала его настолько, что сам коннетабль прошел мимо, не обратив на него
внимания; труп заметил оруженосец, ибо не был погружен в столь глубокую
задумчивость. Судя по кожаному кафтану, убитый был английским крестьянином.
Тело лежало ничком, и стрела, принесшая ему смерть, еще торчала у него в
спине.
С равнодушием человека, привычного к подобным зрелищам, Филипп
Гуарайн вытащил стрелу, как вытащил бы ее из тела убитого оленя.
Коннетабль, столь же равнодушно, знаком велел своему оруженосцу
показать ему стрелу; без особого любопытства осмотрев ее, он сказал:
— Гуарайн, а ведь ты позабыл свое старое ремесло, если назвал эту стрелу
валлийской. Поверь мне, она выпущена из норманнского лука. Но почему она
оказалась в теле английского мужика, этого я понять не могу.
— Должно быть, это был беглый раб, какой-нибудь негодяй, который вступил
в валлийскую разбойничью шайку, — ответил оруженосец.
— Может статься, — сказал коннетабль. — Но я скорее подозреваю
междоусобицу среди самих Лордов Хранителей Марки. Валлийцы разоряют селения,
оставляя на своем пути кровь и пепел, но мы видим, что здесь штурмовали и
брали даже замки. Пошли нам, Господи, добрые вести о замке Печальный Дозор!
— Аминь! — произнес оруженосец. — Но если их доставит Рено Видаль, то
добрым вестником он станет впервые в своей жизни.
— Филипп, — сказал коннетабль, — я уже говорил тебе, что ты ревнив и глуп.
Сколько раз доказывал Видаль свою верность в часы испытаний, смекалку в
трудных случаях, храбрость в бою и терпеливость в страданиях.
180
Обрученная
— Все это так, милорд, — ответил Гуарайн. — Что я могу возразить? Я
признаю, что он не раз оказывал важные услуги. И все же не хотелось бы мне,
чтобы ваша жизнь или честь оказались в руках Рено Видаля.
— Ради всех святых, скажи мне, хмурый и подозрительный глупец, в чем
можешь ты его упрекнуть?
— Ни в чем, милорд, — ответил Гуарайн. — Отвращение мое инстинктивно.
Дитя, впервые увидевшее змею, ничего не знает об ее опасных свойствах, однако
не тянется за ней, как тянется за мотыльком. Такова и моя неприязнь к Вида-
лю. Она непобедима. Я еще простил бы ему злобные взгляды, которые он
искоса бросает на вас, когда думает, что никто не замечает их; но не могу простить
глумливый смех. Мне тогда вспоминается зверь, о котором нам довелось
слышать в Иудее: прежде чем растерзать свою жертву, он смеется3.
— Филипп, — сказал де Лэси, — мне от души жаль тебя. Жаль видеть в
доблестном старом воине столь упорное и беспричинное предубеждение. Если уж
не вспоминать о прежних доказательствах верности Видаля, возьмем хоть
последнее наше злоключение. Когда кораблекрушение забросило нас на побережье
Уэльса, разве не доказал он свою преданность? Если бы валлийцы узнали во мне
коннетабля Честерского, а в тебе — его верного оруженосца, столько раз
выполнявшего мои приказы идти на них, нас немедленно предали бы смерти.
— Я признаю, — сказал Филипп Гуарайн, — что нас действительно предали
бы смерти, если бы этот человек весьма ловко не выдал нас за паломников;
но, сделавшись там как бы нашим переводчиком, он лишил нас возможности
что-либо узнать о здешних событиях, о которых вашей милости знать было
необходимо; а события, надо сказать, самые мрачные и зловещие.
— И все-таки ты глупец, Гуарайн, — продолжал коннетабль. — Ибо если Ви-
даль желал нам зла, отчего не выдал он нас валлийцам и не допустил, чтобы мы
выдали себя сами, обнаружив, что понимаем их тарабарщину.
— Пусть так, милорд, — сказал Гуарайн. — Я умолкаю, однако это не означает,
что вы меня убедили. Сколько бы ни говорил он сладких слов, сколько бы ни
играл сладких мелодий, Рено Видаль всегда останется для меня человеком
темным и подозрительным. Лицо его постоянно готово принять то выражение,
какое должно вызывать наибольшее доверие; язык способен то предподносить
самую тонкую лесть, то изображать простодушную и грубоватую честность;
а глаза, когда он думает, что никто не наблюдает за ним, противоречат клятвам
верности и всем словам искреннего расположения, какие произносит его язык.
Но не стану больше говорить о нем; я ведь из породы сторожевых псов; люблю
своего господина, но не терплю некоторых его любимчиков. А вот и Видаль;
и он, конечно, несет нам такой отчет о нашем положении, какой ему угодно дать.
Действительно, по тропе, ведшей к могильному холму, быстро
приближался всадник; его одежда, в которой причудливость, обычная для одежды людей
его ремесла, соединялась с чем-то восточным, указала коннетаблю, что к ним
едет менестрель, о котором у них только что шла речь.
Хотя Хьюго де Лэси, защищая этого слугу от подозрений, высказанных
Гуарайном, считал, что всего лишь воздает должное его усердной службе, в
глубине души он и сам разделял иной раз эти подозрения; однако, как человек
Глава XXIX
181
справедливый, он часто сердился на себя, зачем из-за случайных слов и
взглядов сомневался в верности и усердии, уже доказанных, казалось бы, многими
поступками.
Когда Видаль приблизился, спешился и поклонился, его господин заговорил
с ним особенно приветливо, как бы сознавая, что отчасти разделял
несправедливые суждения Гуарайна уже хотя бы тем, что выслушивал их.
— Приветствую тебя, мой верный Видаль, — сказал он, — Ты был тем
библейским вороном, который питал нас в горах Уэльса4; будь же теперь голубем5,
принесшим добрые вести с приграничной Марки. Но ты молчишь? Что означает
твой потупленный взор? Твой смущенный вид? И эта шапка, надвинутая на
глаза? Богом заклинаю тебя, говори! Не опасайся за меня, я могу снести
больше того, что способен вымолвить человеческий язык. Ты видел меня в
Палестине на поле битвы, когда вокруг меня один за другим падали мертвыми мои
отважные боевые товарищи, и я оставался почти один. Бледнел ли я тогда?
Ты видел меня, когда киль корабля уперся в скалу и пенные волны уже
перекатывались через палубу. Бледнел ли я тогда? Не побледнею и сейчас.
— Не похваляйся, дабы не стянуть крепче свои узы.
С минуту длилось молчание, во время которого все трое представляли собою
весьма примечательное зрелище.
Коннетабль, страшась задать вопрос и вместе с тем стыдясь, что может
показать свой страх перед дурными вестями, смотрел на вестника выпрямившись,
скрестив руки, с лицом полным решимости, тогда как менестрель, забыв в эту
важную минуту обычное осторожное спокойствие, испытующе вглядывался в
своего господина, словно желая понять, истинное ли это мужество или показное.
А Филипп Гуарайн, которого Небеса наделили грубоватой внешностью, но не
лишили ни наблюдательности, ни здравого смысла, в свою очередь не отводил
взгляда от Видаля, стараясь разгадать смысл живого интереса, светившегося в
глазах менестреля; и все же не мог понять, были ли это сочувствующие глаза
верного слуги, огорченного дурными вестями, какие он вынужден сообщить
господину, или глаза палача, который занес над своей жертвой нож, но медлит,
ибо выбирает место, где его удар причинит более всего мучений. Помня
прежние свои подозрения, Гуарайн был склонен видеть именно второе; и чувство это
настолько в нем возобладало, что ему хотелось взмахнуть своим посохом и
сразить слугу, который наслаждался муками господина и стремился их
продлить.
Наконец по лицу коннетабля пробежала болезненная судорога; и Гуарайн,
видя, что губы Видаля кривятся сардонической усмешкой, не смог дольше
сдерживаться и крикнул:
— Видаль, ты...
— Да, я принес дурные вести, — прервал его Видаль, — а потому я ненавистен
каждому — глупцу, не умеющему отличать виновника беды от того, кто
вынужден доставить о ней известие.
— К чему такое промедление? — спросил коннетабль. — Ну, менестрель,
я избавлю тебя от твоей тяжкой обязанности... Что, Эвелина отказалась от меня?
Позабыла?
182
Обрученная
Менестрель подтвердил это низким поклоном.
Хьюго де Лэси прошелся вдоль каменного саркофага, силясь побороть
глубокое волнение.
— Я прощаю ей! — сказал он. — Но почему я говорю: прощаю? Увы! Мне
нечего ей прощать. Она всего лишь воспользовалась правом, которое я сам ей
предоставил. Срок нашего обручения истек... Она услышала о моих потерях...
о моих поражениях... о крушении моих надежд и утрате состояния. И
воспользовалась первой возможностью, какую дает ей закон, чтобы разорвать
помолвку с человеком, лишившимся и богатства, и славы. Многие девушки поступили
бы так же; это подсказало бы им благоразумие, но... этих девушек не звали бы
Эвелиной Беренжер.
Он оперся о руку своего оруженосца и на миг склонил голову на его плечо,
взволнованный сильнее, чем Гуарайн когда-либо видел; неуклюже пытаясь
утешать своего господина, верный оруженосец посоветовал ему «мужаться, ведь
потерял он всего лишь женщину».
— Скорбь моя не себялюбива, Филипп, — пояснил коннетабль. — Я печалюсь
не столько о том, что она оставила меня, сколько о том, что неверно обо мне
судила; что судила обо мне, как закладчик о кредиторе, который завладевает
закладом, едва лишь миновал срок, выкупа. Неужели она думала, что я окажусь
столь же безжалостным кредитором? Что я, который, с тех пор как увидел ее,
едва ли считал себя достойным ее, когда обладал и богатством и славою, стану
настаивать, чтобы она разделила мою нынешнюю бедственную судьбу? Как же
мало она меня знала! Или, быть может, она полагала, что несчастья
превратили меня в себялюбца? Пусть будет так! Она оставила меня и пусть будет
счастлива. Я забуду о том, что она причинила мне боль, я стану думать, что она
поступила так, как я и сам, будучи лучшим ее другом, посоветовал бы ей
поступить.
После этих слов лицо коннетабля, к удивлению его слуг, вновь приняло
обычное спокойное и твердое выражение.
— Поздравляю тебя! — шепотом сказал оруженосец менестрелю. — Твои
дурные вести ранили его менее глубоко, чем ты, наверное, предполагал.
— Увы! — ответил менестрель. — У меня в запасе вести еще худшие.
Это было сказано каким-то двусмысленным тоном; такова же была и
манера, которую невозможно было разгадать.
— Итак, Эвелина Беренжер вышла замуж, — сказал коннетабль. — Дай-ка я
попробую угадать, за кого. Быть может, осталась верна той же семье и лишь
избрала другого ее представителя? Взяла все ту же фамилию де Лэси? Что ж
ты никак не поймешь меня, дурак? Она замужем за Дамианом де Лэси, моим
племянником ?
Усилие, с каким коннетабль высказал это предположение, противоречило
принужденной улыбке, которую он постарался вызвать на своем лице. С такой
улыбкой человек, собравшийся принять яд, подносит роковой напиток к устам
и при этом провозглашает здравицу.
— Нет, милорд, не замужем, — ответил менестрель, особенно выделяя
последнее слово; и коннетабль истолковал это по-своему.
Глава XXIX
183
— Так, значит, обручена? — спросил он. — Отчего же нет? Срок прежнего
обручения истек, отчего же не обручиться снова?
— Насколько мне известно, леди Эвелина и сэр Дамиан де Лэси не
обручены, — ответил менестрель.
При этих словах де Лэси вышел из терпения.
— Пес! Ты издеваешься надо мной? — крикнул он. — Что же ты мучаешь
меня, скоморох! Говори сейчас же самое худшее, не то я отправлю тебя
менестрелем ко двору Сатаны!
Спокойно и бесстрашно менестрель ответил:
— Милорд! Лэди Эвелина и сэр Дамиан де Лэси не вступили в брак и не
обручились. Они живут в любовной связи6.
— Ты лжешь, собака! — крикнул де Лэси. — Лжешь, собачий сын!
Схватив менестреля за ворот, взбешенный барон, изо всех сил встряхнул его.
Но, как ни был он силен, Видаль, опытный борец, не пошатнулся, он устоял на
ногах; и все так же спокоен был взгляд, которым он смотрел на своего
разгневанного господина.
— Признайся, что ты солгал, — сказал коннетабль, отпуская его и достигнув
своей яростью не более того, что людям удается сделать с Качающимися
Камнями друидов; сколько их ни раскачивают, сдвинуть их с места невозможно.
— Если бы ложью я мог купить себе жизнь и даже жизнь всего моего
племени, — сказал менестрель, — я и тогда не солгал бы. Но правду всегда называют
ложью, когда она противоречит нашим желаниям.
— Ты слышишь его, Филипп Гуарайн? — воскликнул коннетабль, обращаясь
к своему оруженосцу. — Он сообщает мне о моем позоре... о бесчестье, которое
пало на мой дом... о развращенности тех, кого я любил больше всех на свете...
и взор его при этом невозмутим, а голос не дрожит. Возможно ли это?
Возможно ли, чтоб де Лэси пал так низко, что бродячий музыкант смеет говорить о его
позоре столь же спокойно, как о любой теме для песни? Может быть, ты и
сложишь об этом песню, а? — крикнул он, бросая на менестреля свирепый взгляд.
— Я мог бы, милорд, — отвечал менестрель, — но ведь тогда пришлось бы
спеть и о позоре Рено Видаля, который служит господину, не способному ни
терпеливо снести оскорбления, ни отомстить тем, кто навлек на него позор.
— Ты прав, ты прав, славный малый! — поспешно сказал коннетабль. — Нам
остается только мстить! Да, но кому?
Говоря так, он быстрыми шагами прохаживался взад и вперед; но потом
остановился и умолк, в тоске ломая руки.
— Я говорил тебе, — сказал менестрель Гуарайну, — что моя муза отыщет
наконец чувствительное место. Помнишь бой быков, который мы видели в
Испании? Тысяча уколов лишь дразнила и раздражала благородное животное,
пока наконец мавританский рыцарь не нанес ему смертельный удар.
— Человек ты или дьявол, — спросил Гуарайн, — если способен
наслаждаться зрелищем чужих страданий? Берегись! Ищи для своих насмешек другого
слушателя. Если не остер у меня язык, зато остер меч!
— Ты видел меня и среди мечей, — ответил менестрель, — и знаешь, что
таких, как я, нелегко испугать и мечом.
184
Обрученная
Однако, сказав это, он все же отошел подальше от оруженосца. Он
заговорил с ним лишь от полноты чувств, когда говорящий, если никого нет возле него,
говорит сам с собою или изливается первому, оказавшемуся рядом слушателю,
не сознавая, какое впечатление производит.
Спустя несколько минут коннетабль Честерский вновь обрел внешнее
спокойствие, с которым, до этого последнего, ужасного удара судьбы, сносил все ее
превратности. Оборотясь к менестрелю, он произнес с обычным для него
самообладанием:
— Ты прав, славный малый, и я прощаю тебе насмешку, сопровождавшую
твой разумный совет. Продолжай же, ради Бога! Продолжай, и я готов вынести
все испытания, какие посылает мне Господь. Доблесть рыцаря познается в битве,
а истинный христианин познается во времена тяжких бед.
Тон, каким говорил коннетабль, произвел на его слуг должное действие.
Менестрель оставил циническую и наглую манеру, с какою он до того
испытывал терпение своего господина; просто, почтительно и даже, казалось,
сочувственно он сообщил все сведения, какие собрал. Сведения эти были поистине
удручающими.
Отказ леди Эвелины Беренжер впустить в свой замок Монтермера и его
войско, несомненно, придал правдоподобия позорящим слухам, какие ходили
о ней и о Дамиане де Лэси; и нашлось немало людей, по разным причинам
заинтересованных в том, чтобы поддерживать и распространять эту клевету.
На подавление крестьянского мятежа было послано большое войско. Рыцари и
дворяне, которым это было поручено, не преминули жестоко отомстить
несчастным простолюдинам7 за благородную кровь, пролившуюся во время их краткого
торжества.
Воины несчастного Уэнлока также верили клевете. Осуждаемые многими за
поспешную и трусливую сдачу поста, который еще можно было защищать, они
в свое оправдание утверждали, что не сдали бы его, если бы не видели, что
конный отряд де Лэси приближается к ним с явно враждебными намерениями.
Итак, слухи, подтверждаемые всеми, кто был в них заинтересован, широко
распространились по стране. Эти слухи, а также то, что Дамиан де Лэси
действительно нашел приют в укрепленном замке Печальный Дозор, который
сопротивлялся королевскому войску, ободрило многочисленных врагов дома де Лэси и
привело в отчаяние его друзей и вассалов. Им ведь приходилось нарушать либо
вассальную верность, либо еще более священный долг подданных короля.
В этот трудный час они получили весть, что мудрый и деятельный монарх8,
в то время правивший Англией, приближается к ним во главе большого войска,
имея две цели: усилить осаду замка Печальный Дозор и завершить усмирение
крестьянского мятежа, уже почти достигнутое Гаем Монтермером.
И вот, когда друзья и вассалы дома де Лэси не знали, куда податься, среди
них неожиданно появился Рэндаль де Лэси, родственник коннетабля и, после
Дамиана, ближайший его наследник. Оказалось, что король поручил ему
собрать и возглавить тех вассалов его дома, кто не хотел быть как-либо
причастным к предательству, якобы совершенному тем, кого коннетабль, уезжая,
поставил вместо себя. В смутные времена пороки человека легко прощаются, лишь
Глава XXIX
185
бы он был смел, смекалист и прыток. Появление Рэндаля, отнюдь не
лишенного этих качеств, было весьма благожелательно встречено вассалами его
родича. Они поспешили объединиться вокруг него, сдали королевским войскам все
принадлежавшие им укрепленные посты и, чтобы совершенно отмежеваться от
преступлений, приписываемых Дамиану, старались, под предводительством
Рэндаля, особенно отличиться в схватках с отрядами крестьян, которые кое-где
продолжали действовать или укрывались в ущельях; с побежденными
крестьянами они расправлялись так жестоко, что по сравнению с отрядами Рэндаля
де Лэси даже войско Монтермера казалось милосердным. Наконец, под
знаменем своего древнего рода, во главе пяти сотен отборных воинов Рэндаль
появился у стен замка Печальный Дозор и присоединился к стоявшему там войску
короля Генриха.
Осажденным уже приходилось тяжко; горстка защитников замка,
ослабевших от ран и лишений, еще более пала духом, когда увидела у своих стен
единственное во всей Англии знамя, под которым, как они надеялись, к ним могла
прийти подмога.
Воодушевленные призывы Эвелины, которую не сломили ни лишения,
ни грозная опасность, перестали действовать на защитников замка; среди них
послышались требования сдаться; это обсуждалось на шумных совещаниях,
куда проникали не только младшие офицеры, но и многие из рядовых; ибо
бедственное положение расшатывает дисциплину, и всякий начинает говорить и
поступать как заблагорассудится. Внезапно, и к их удивлению, появился среди них
и Дамиан де Лэси. Встав с одра болезни, к которому так долго был прикован,
бледный и еще слабый, он пришел опираясь на плечо своего пажа Амелота.
— Рыцыри, воины, — сказал он. — Впрочем, к чему называть вас так? Ведь
рыцари всегда готовы умереть за даму, а воины дороже жизни ценят свою честь.
— Долой его! Долой! — закричали некоторые из солдат, прерывая его. —
Он готов обречь нас на смерть как предателей, а мы ни в чем не повинны! Пусть
нас повесят на крепостных стенах, лишь бы ему не расставаться с любовницей!
— Молчать, наглый раб! — грозно крикнул Дамиан. — Иначе досадно будет
потратить мой последний удар на такое презренное существо, как ты. А вы, —
продолжал он, обращаясь к остальным, — вы, кто уклоняется от ратного труда
лишь потому, что в честном бою может умереть на несколько лет раньше, чем
суждено природой; вы, пугающиеся черепа и костей, словно дети; не думайте,
что Дамиан де Лэси хочет укрыться ценою ваших жизней, которыми вы так
дорожите. Договоритесь с королем Генрихом и выдайте меня его правому или
неправому суду. Или, если хотите, отрубите мне голову и бросьте ее со стен
замка, чтобы умилостивить короля. Оправдание мое я вверяю Господнему суду.
Словом, выдайте меня, живым или мертвым, или откройте ворота и дайте мне
сдаться самому. Но если вы мужчины, если так можно вас назвать, позаботьтесь
о безопасности вашей госпожи. Выговорите себе такие условия, какие обеспечат
ей безопасность, а вас спасут от позорной смерти трусов и предателей.
— А ведь юноша, пожалуй, говорит разумно, — сказал Уилкин Флэммок. —
Давайте выдадим его королю, а за это выговорим себе и госпоже что сумеем,
пока мы не съели последние крохи наших запасов.
186
Обрученная
— Сам я едва ли предложил бы подобную меру, — прошамкал отец Альдро-
ванд, у которого камнем из пращи были выбиты четыре передние зуба. — Но,
раз она столь великодушно предложена главным лицом в этом деле, я заявляю
вместе с ученым схоластом: Volenti поп fit injuria*.
— Священник и ты, фламандец, — сказал старый знаменосец Ральф Глен-
виль. — Я вижу, куда дует ветер. Но не думайте, что вам удастся сделать нашего
молодого господина козлом отпущения и тем спасти свою распутницу. Нет,
не хмурьтесь, сэр Дамиан, и не сердитесь. Если вы не знаете, в чем ваше
спасение, мы это знаем за вас. По коням, воины де Лэси! Если придется, то по двое
на одного коня, и мы увезем нашего упрямца. И пажа Амелота мы тоже
возьмем в плен, чтобы он не вздумал нам препятствовать. А затем мы сделаем
вылазку против осаждающих. Кто сумеет прорубить себе путь сквозь их ряды,
тот спасен; кто погибнет, о том позаботятся.
Воины де Лэси встретили это предложение одобрительными возгласами.
Воины Беренжера громко и гневно возражали. Эвелина, привлеченная шумом,
тщетно пыталась их успокоить. Солдаты Дамиана также не стали слушать
упреков и увещеваний своего командира. У всех ответ был один и тот же:
— Неужели вам безразлично? Неужели ради ваших любовных шашней надо
жертвовать жизнью? — Так кричал Гленвиль, обращаясь к Дамиану. Не столь
грубо, но столь же упорно воины Раймонда Беренжера отказывались на этот раз
повиноваться его дочери.
Уилкин Флэммок, увидя, какой оборот принимает дело, покинул шумных
спорщиков. Выйдя из замка потайным подземным ходом, от которого ему
доверен был ключ, он пробрался никем не замеченный в королевский лагерь, где
попросил, чтобы его допустили к королю. Это легко ему удалось, и скоро
Уилкин предстал перед королем Генрихом. Король находился в своем походном
шатре вместе с двумя сыновьями, Ричардом9 и Иоанном10; каждый из них
впоследствии носил корону Англии, но сколь различны были эти царствования11!
— Кто ты таков? — спросил король.
— Честный человек из замка Печальный Дозор.
— Ты-то, может статься, и честен, — заметил король. — Но явился ты из гнезда
изменников.
— Каковы бы они ни были, ваше величество, я намерен передать их в ваше
распоряжение; ибо у них недостает разума самим решать; нет сил держаться,
нет и охоты покориться. Но сперва я желал бы узнать у вашего величества, на
каких условиях могут они сдаться.
— На тех, какие короли готовят изменникам, — сурово отвечал Генрих. —
А готовят они им острые мечи и крепкие веревки.
— Нет, ваше величество, если замок будет сдан с моей помощью, вам следует
проявить милосердие, иначе ваши мечи и веревки понадобятся лишь для одного
моего бедного тела и вы будете по-прежнему стоять лагерем перед замком.
Король пристально взглянул на него.
— Тебе известен закон войны, — сказал он. — Эй, начальник военной полиции!
Вот изменник, а вон и дерево.
* Кто сам отказался, права того не нарушены [лат.).
Глава XXIX
187
— А вот и шея, — сказал неустрашимый фламандец, расстегивая ворот
своей куртки.
— Клянусь честью! — воскликнул принц Ричард. — Вот бравый и смелый
человек! Таких лучше накормить и напоить, а потом честно драться с ними за
замок, а не держать впроголодь, как скареды-французы держат своих собак.
— Помолчи, Ричард, — сказал ему отец. — Ты разумом слишком еще зелен,
а нравом слишком горяч, чтобы давать мне советы. Фламандец, если условия
твои разумны, мы не будем с тобой чересчур суровы.
— Первое мое условие, — начал фламандец, — это полное прощение мне,
Уилкину Флэммоку, моей дочери Розе и всему моему имуществу.
— Вот истый фламандец! — сказал принц Иоанн. — Прежде всего он
заботится о себе.
— Его условие разумно, — заметил король. — Что еще?
— Безопасность для жизни, чести и земельных владений девицы Эвелины
Беренжер.
— Это еще что, смерд? — гневно сказал король. — Таким ли, как ты,
указывать мне, как поступить с высокородной норманнской девицей? Свое
посредничество ограничь себе подобными, сдавай нам замок, да долее не медли. Будь
уверен, твой поступок больше пойдет на пользу изменникам, чем
сопротивление, которое все равно будет тщетным.
Фламандец молчал, не желая сдавать замок без точно оговоренных условий;
впрочем, он был почти убежден, что при том положении, в каком он оставил
гарнизон замка, допустить туда королевские войска было бы, пожалуй, самым
лучшим, что он мог сделать для леди Эвелины.
— Такая верность мне по душе, — сказал король, своим острым взором
уловивший борьбу, которая происходила в душе фламандца. — Но не упорствуй
долее, чем следует. Разве не обещали мы, что проявим к преступникам все
милосердие, какое совместимо с нашим королевским долгом?
— Милостивый король и отец, — вмешался принц Иоанн, — я прошу
позволить мне первому вступить в замок и поручить мне опеку над виновной девицей
и ее имуществом.
— А я, мой король и отец, прошу не отказать Иоанну в его просьбе, —
насмешливо произнес его брат Ричард. — Ведь он впервые выказывает желание
приблизиться к стенам замка, хотя мы ходили в атаку уже раз сорок, не менее. Конечно,
тогда нас встречали и арбалеты и баллиста, а теперь они наверняка будут молчать.
— Довольно, Ричард, — сказал король. — Слова твои задевают честь твоего
брата, а меня ранят в самое сердце. Иоанн, твою просьбу я удовлетворю в том,
что касается замка; но судьбу несчастной девицы я буду решать сам.
Фламандец, сколько людей ты берешься провести в замок?
Прежде чем Флэммок успел ответить, какой-то оруженосец, приблизившись
к принцу Ричарду, прошептал ему на ухо, но так, чтобы услыхали все
присутствующие:
— Нам только что стало известно, что из-за некой внутренней смуты, или же
по другой, неведомой нам причине, многие часовые ушли со стен замка;
поэтому внезапной атакой можно бы...
188
Обрученная
— Ты слышишь, Иоанн? — воскликнул Ричард. — Скорее давайте сюда
лестницы! И спеши к стенам! Уж как же я буду рад видеть тебя на верхней
перекладине... колени у тебя будут подгибаться... руки трястись и цепляться за что
попало... а вокруг пусто, а под ногами лишь деревянная досочка... а внизу ров...
а перед тобой полдюжины острых копий...
— Довольно, Ричард! Если не жалеешь меня, то хоть постыдись! — сказал
отец с гневом и горечью. — А ты, Иоанн, готовься идти на штурм замка.
— Вот только надену доспехи, отец, — ответил принц Иоанн и медленно
удалился с растерянным видом, не обещавшим, что он скоро будет готов.
Брат его засмеялся ему вслед и сказал своему оруженосцу:
— А ведь недурная выйдет шутка, Альберик, если мы успеем взять замок,
прежде чем Иоанн сменит шелковые одежды на стальные.
Сказав это, он поспешно вышел, а король воскликнул с отцовской печалью:
— Каков! Столь же горяч, и даже чрезмерно, сколь брат его холоден.
Но мужчине все же более подобает первое. Глостер! — продолжал он,
обращаясь к прославленному вельможе. — Возьми с собой достаточно людей и следуй
за принцем Ричардом, охраняй его и помогай ему. Если кто способен ему
указывать, так только ты, увенчанный рыцарской славой. Увы! За какие грехи
ниспослан мне столь жестокий семейный разлад?12
— Будьте спокойны, ваше величество, — сказал лорд-канцлер, также
находившийся при короле.
— Не говорите о спокойствии отцу, у которого сыновья враждуют между
собой и если в чем-нибудь согласны, так только в неповиновении отцу13.
Так говорил Генрих П, и не было на троне Англии монарха более мудрого
и с более счастливой судьбой; однако жизнь его являет нам разительный
пример того, насколько семейные раздоры способны омрачать самый блестящий
удел, какой Небеса ниспосылают смертному; и сколь мало удовлетворенное
честолюбие, власть и громкая слава в дни мира, как и в дни войны, способны
лечить раны, наносимые семейными огорчениями.
Внезапная яростная атака, предпринятая Ричардом вместе с двумя
десятками наскоро собранных воинов, удалась именно благодаря своей внезапности;
взобравшись на стены замка по приставным лестницам, прежде чем их
заметили осажденные, нападавшие выломали ворота изнутри и впустили в замок
Глостера с большим отрядом тяжеловооруженной конницы. Гарнизон, застигнутый
врасплох, посреди собственных распрей, растерялся и оказал лишь слабое
сопротивление; весь он был бы обречен на смерть, а замок — на разграбление, если
бы не вступил туда сам Генрих, который своей властью предотвратил
бесчинства разнузданной солдатни.
Для тогдашних нравов и при столь тяжкой вине побежденных король
поступил с похвальной умеренностью. Простых солдат он всего лишь разоружил и
распустил по домам, снабдив каждого из них небольшой суммой денег на
дорогу, чтобы нужда не вынудила их собираться в разбойничьи шайки. С
офицерами он обошелся более сурово; большая часть их была заключена в темницы,
чтобы там ожидать суда. Та же участь досталась и Дамиану де Лэси; поверив
всем обвинениям, которые над ним тяготели, Генрих так разгневался, что решил
Глава XXIX
189
сделать его наказание устрашающим примером для всех рыцарей,
нарушивших присягу, и для всех подданных, изменивших ему. Темницей леди
Эвелины Беренжер он назначил собственные ее покои, где ей прислуживали Роза и
Алиса, но где она находилась под неусыпным надзором. Полагали, что
владения ее будут объявлены собственностью короны; но во всяком случае часть их
будет дарована Рэндалю де Лэси, отлично показавшему себя во время осады.
Ей же самой, очевидно, предстояло заточение в каком-либо отдаленном
французском монастыре, чтобы на досуге раскаяться в своих безрассудных
поступках.
Отца Альдрованда предоставили монастырским законам; долгий опыт
научил Генриха остерегаться нарушать привилегии Церкви14; хотя впервые увидев
священника в заржавленной кольчуге, надетой поверх сутаны, король с трудом
поборол в себе желание повесить его на стене замка, чтобы он оттуда
проповедовал воронам.
С Уилкином Флэммоком король долго совещался, в особенности насчет
мануфактур и торговли; по этой части фламандец с его здравым
суждением, пусть и грубовато высказанным, вполне годился в советники мудрому
королю.
— Твои намерения мы не позабыли, добрый человек, — сказал ему король, —
хотя их и опередила безудержная отвага моего сына Ричарда, стоившая жизни
нескольким горемыкам. Ведь Ричард любит напоить свой меч кровью. Но ты и
соотечественники твои вернутся к вашим сукновальням и получат полное
прощение прежних грехов, лишь бы впредь не мешались в дела, где пахнет
государственной изменой.
— А как же быть с нашими обязательствами, государь? — спросил Флэм-
мок. — Вашему Величеству известно, что мы — вассалы владельцев этого
замка и обязаны сопровождать их в бою.
— Так более не будет, — сказал Генрих. — Я намерен основать здесь колонию
фламандцев, и ты, Флэммок, будешь у них мэром; чтобы под предлогом
вассальной зависимости не оказался снова вовлечен в измену.
— В измену ли, государь? — сказал Флэммок, который очень хотел, хотя едва
осмеливался, замолвить слово за леди Эвелину. — Если бы Ваше Величество
доподлинно знали, сколько разных нитей вплелось в эту ткань...
— Помолчи и знай свой ткацкий станок! — сказал Генрих. — Если мы
соизволили говорить с тобой о твоем ремесле, не воображай, что и далее можешь нам
докучать.
Получив этот суровый отпор, фламандец молча удалился, и судьба
несчастных узников осталась никому не ведомой, кроме короля. А король избрал
своей резиденцией замок Печальный Дозор. Оттуда удобно было посылать воинов,
чтобы гасить еще тлевший кое-где мятеж; и так деятелен оказался при этом
Рэндаль де Лэси, что с каждым днем все более входил в милость к королю и
был награжден немалой частью владений Беренжеров и Лэси, которые
король, как видно, считал конфискованными. Это возвышение Рэндаля, по
мнению многих, не сулило ничего доброго младшему де Лэси и несчастной
Эвелине.
190
Обрученная
Глава XXX
А клятва? Клятва? Небу дал я клятву!
Так неужель мне душу погубить?
Нет, нет, за всю Венецию.. *
Венецианский купец1
Конец предыдущей главы содержит известия, которыми менестрель
встретил своего несчастного господина Хьюго де Лэси; без тех подробностей, какие
нам удалось включить в наше повествование, он сообщил ему лишь главное и
самое ужасное: его невеста и любимый родственник, облеченный полным его
доверием, опозорили его; они подняли знамя восстания против законного
государя, а когда их дерзкая попытка окончилась неудачей, подвергли жизнь,
по крайней мере одного из них, неминуемой опасности, а судьбу всего дома
де Лэси поставили на край гибели, от которой спасти может лишь чудо.
Сообщая все это, Видаль наблюдал за господином с тем неослабным
вниманием, с каким хирург следит за движениями своего скальпеля. Черты
коннетабля выражали глубокое горе, однако без униженности и угнетенности, какие ему
обычно сопутствуют. Они выражали и гнев и стыд, но и эти чувства были у него
благородны; он сокрушался о том, что его невеста и племянник презрели честь,
верность и добродетель; но не о собственном позоре и не о тех утратах, какие
навлекло на него их преступление.
Менестрель настолько был поражен переменой, которая произошла в
коннетабле вслед за первыми минутами отчаяния, что, отступив немного назад и
глядя на него с изумлением и восхищением, воскликнул:
— Мы слыхали в Палестине о святых мучениках, но это способно затмить их!
— Тут нечему так уж дивиться, мой друг, — терпеливо ответил коннетабль. —
Ведь нас пронзает или оглушает лишь первый удар копья или булавы, а
следующие ощущаются уже менее сильно.
— Но подумайте, милорд, — сказал Видаль. — Утрачено все: любовь, владения,
высокая должность, громкая слава. Вчера — первый среди знати, сегодня — лишь
бедный паломник!
— Уж не забавляешься ли ты моим несчастьем? — сурово спросил Хьюго. —
Впрочем, над ним, конечно, уже потешаются за моей спиной. Так знай же,
менестрель, а если хочешь, сложи про это песню: Хьюго де Лэси, утратив все, что
вез с собою в Палестину, и все, что оставил на родине, остается господином
своего духа2; и бедствия способны сломить его не более, чем ветер, обрывающий
с дуба листву, способен вырвать его с корнем.
— Клянусь могилой отца! — воскликнул менестрель восхищенно. —
Благородство этого человека обезоруживает меня! — Быстро подойдя к коннетаблю, он
преклонил колено и взял его руку жестом более вольным, чем обычно
дозволялось с людьми такого ранга, как де Лэси. — Пожимая эту благородную руку, —
начал Видаль, — я отказываюсь...
Но прежде чем он произнес еще хотя бы слово, Хьюго де Лэси, должно быть,
чувствуя, что подобная вольность оскорбляет его в бедственном его положении,
* Пер. Т. Л. Щепкиной-Куперник.
Глава XXX
191
отнял свою руку и, сурово нахмурившись, велел менестрелю встать и не забывать,
что несчастья еще не делают де Лэси предметом для шутовских представлений.
Получив такой отпор, Рено Видаль встал.
— Я позабыл, — сказал он, — расстояние между странствующим музыкантом
из Арморики и знатным норманнским бароном. Я думал, что общая глубина
скорби и общий порыв радости уничтожают, хотя бы на мгновение,
искусственные преграды, разделяющие людей. Что ж! Пусть все так и будет! Живите в
границах вашего ранга, милорд, как жили до сих пор в ваших башнях,
окруженных рвами: и пусть не потревожит вас сочувствие ничтожных людей вроде меня.
Мне остается выполнить свой долг.
— Теперь путь наш лежит к замку Печальный Дозор, — сказал барон,
обращаясь к Филиппу Гуарайну. — Видит Бог, замок заслуживает свое название. Там
мы собственными глазами проверим истинность всех горестных вестей. Сойди
с коня, менестрель, и дай его мне. Хотел бы я, Гуарайн, чтобы нашелся конь и
для тебя. Что до Видаля, то его присутствие там не столь необходимо. Я
встречу врагов своих и свои несчастья как подобает мужчине. В этом ты можешь не
сомневаться, менестрель. И не хмурься так. Я не забываю старых соратников.
— Один из них, милорд, уж, наверное, вас не забудет, — ответил менестрель
обычным своим двусмысленным тоном.
Но едва лишь коннетабль приготовился дать шпоры коню, как на тропе,
до тех пор скрытые из виду низкорослыми деревьями, совсем близко от них
появились двое всадников на одной лошади. Это были мужчина и женщина.
Мужчина, сидевший впереди, являл собою такое воплощение голода, какое
путники едва ли видели на всей разоренной земле, по которой они только что прошли.
Черты его лица, острые от природы, почти исчезали в нечесаной седой бороде
и волосах, виднелся лишь кончик длинного носа, похожего на лезвие ножа,
да мигающие серые глаза. Нога его, обутая в широкий старый сапог, напоминала
ручку метлы; руки не толще хлыстов; и все части его тела, видневшиеся из-под
лохмотьев охотничьей одежды, казалось, принадлежали мумии, а не живому
человеку.
Женщина, сидевшая позади этого призрака, также выглядела истощенной.
Однако такую толстушку, какой она была от природы, даже голод не смог
превратить в столь печальное зрелище, каким был сидевший впереди скелет. Щеки
кумушки Джиллиан (ибо это была все та же старая знакомая читателя)
утратили румянец и приятную гладкость, какими сытая жизнь и искусные притирания
помогали заменить нежное цветение юности; глаза ее ввалились и частью
утратили свой плутовской блеск; но она еще оставалась прежней; остатки былого
наряда и туго натянутые, хотя изрядно вылинявшие красные чулки указывали
даже на некоторую кокетливость.
Едва завидев паломников, она принялась подгонять Рауля концом своего
хлыста.
— Ну берись же за новое ремесло, раз ни на какое другое не годишься!
Проси милостыню у этих добрых людей!
— Просить милостыню у нищих? — пробормотал Рауль. — Да это все равно
что охотиться с соколом на воробьев.
192
Обрученная
— Мы на них хотя бы поучимся, — сказала Джиллиан и затянула жалобным
голосом: — Спаси вас Господь, святые странники! Вы сподобились посетить
Святую Землю, а главное, возвратиться назад. Прошу вас, подайте
сколько-нибудь моему бедному старому мужу. Вы только взгляните, до чего он жалок!
Подайте и мне, несчастной, — ведь мне досталась тяжкая доля быть его женой.
— Помолчи, женщина, и послушай, что я скажу, — произнес коннетабль, взяв
лошадь за узду. — Мне сейчас нужна эта лошадь и...
— Клянусь охотничьим рогом святого Губерта! — крикнул старый егерь. — Без
боя тебе ее не получить. До чего же мы дожили, если уж и паломники
сделались конокрадами.
— Помолчи и ты! — сурово сказал коннетабль. — Я говорю, что мне сейчас
нужен конь. Вот два византийских золотых, если одолжишь мне его на один
день. А это и вся цена за него, если даже я его не вернул бы.
— Но это не конь, господин, а старый приятель, — сказал Рауль, — и если
вдруг...
— Никаких «если» и никаких «вдруг», — заявила дама и так толкнула
своего мужа, что тот едва не вылетел из седла. — Слезай-ка живо с коня! И
благодари Бога и этого достойного человека за помощь в беде. К чему нам конь, если
нечего есть ни нам, ни коню? Хоть мы, конечно, не стали бы есть вместе с ним
траву и зерно, как король Как-его-Там, о котором преподобный отец читал нам
на сон грядущий.
— Довольно болтать, жена, — сказал Рауль, предлагая ей помочь сойти с коня;
она, однако, предпочла помощь Гуарайна, не утратившего с возрастом стати
бравого воина.
— Благодарствую, — сказала она, когда оруженосец (сперва поцеловав) опустил
ее на землю. — Вы, значит, из Святой Земли, сэр? Нет ли у вас вестей о том, кто был
когда-то коннетаблем Честерским?
Де Лэси, который в это время снимал с коня седельную подушку,
обернулся и спросил:
— А что вам до него?
— А то, добрый паломник, что я много чего порассказала бы ему... Ведь все
его земли и все должности отойдут, говорят, к его негодяю родственнику.
— Да? К племяннику Дамиану? — гневно выкрикнул коннетабль.
— Ох, и напугали же вы меня!.. — воскликнула Джиллиан и добавила,
обращаясь к Филиппу Гуарайну: — Уж очень гневлив ваш приятель.
— Это оттого, что он слишком долго жил под жарким солнцем, — ответил
оруженосец. — Но отвечайте ему всю правду, и внакладе вы не останетесь.
Джиллиан тотчас поняла его:
— Вы спрашиваете про Дамиана де Лэси? Увы! Бедный молодой рыцарь! Ему
не достанутся ни земли, ни должности. Скорее виселица, бедняге! А ведь за ним
нет никакой вины, истинно вам говорю! Дамиану? Нет, вовсе не Дамиану,
а Рэндалю Лэси. Ему теперь и быть главою рода, ему и все земли старого
Хьюго, все поместья и бенефиции3.
— Как? — сказал коннетабль. — Не узнав даже, жив ли старик или умер? Это,
думается мне, и не по закону, и не по справедливости.
Глава XXX
193
— Конечно! Но Рэндалю Лэси не то еще удалось. Ведь он поклялся королю,
что коннетабля нет в живых. А попадись ему коннетабль, уж он бы
постарался, чтобы так оно и было.
— Неужели? — сказал коннетабль. — Ты, наверное, клевещешь на благородного
рыцаря. Сознайся, кумушка, ты говоришь так потому, что ты его невзлюбила.
— А за что мне его любить? — спросила Джиллиан. — Уж не за то ли, что он
пользовался моей простотой и не раз пробирался в замок, вырядившись
торговцем? Я и выболтала ему про все семейные тайны. Про то, например, как эти
птенчики, Дамиан и Эвелина, чахнут от любви друг к другу, да не смеют в этом
признаться, до того они боятся коннетабля, будь он хоть в тысяче миль от них.
Да вам, никак, худо, почтенный? Осмелюсь предложить глоток из моей
бутылки. Самое лучшее средство от сердцебиений и от приступов печени.
— Нет, нет, — произнес де Лэси. — Это просто дает себя знать старая рана.
Ну, а потом, кумушка, Дамиан и Эвелина уж верно сошлись поближе?
— Куда им, бедным простачкам! — ответила кумушка. — Им бы нужен был
мудрый советчик, чтобы их свел. А ведь знаете, почтенный, если старый
Хьюго и вправду покойник, а так оно скорее всего и есть, то наследовать ему
должны невеста и племянник, а вовсе не Рэндаль. Он всего лишь дальняя родня,
да к тому же мерзавец и лжесвидетель. Прежде сулил мне золотые горы, а
потом, что бы вы думали, почтенный паломник? Когда замок взяли и я ему
стала более не нужна, он начал меня звать старой ведьмой и грозить церковным
старостой4 и покаянной скамьей. Да, да, почтенный! Старая ведьма — это еще
были самые ласковые слова, когда он увидел, что меня некому защитить,
кроме старика Рауля, а тот и себя-то защитить не умеет. Но если суровый старый
Хьюго все-таки привезет из Палестины свою дубленую шкуру и если он
остался хоть вполовину тем, чем был, когда имел глупость уехать... Пресвятая Дева!
Уж я бы ему все доложила про его родственничка!
Когда она закончила, наступило молчание.
— Так ты говоришь, — сказал наконец коннетабль, — что Дамиан де Лэси и
Эвелина любят друг друга, но неповинны в грехе, в измене и в неблагодарности
ко мне... то есть к своему родственнику, который в Палестине?
— Да, сэр, так оно и есть, — сказала Джиллиан. — Они любят друг друга, но
как ангелочки, или ягнята, или как глупцы, если хотите. Они никогда и не
заговорили бы друг с другом, если бы не выходка все того же Рэндаля Лэси.
— Какая выходка Рэндаля? — спросил коннетабль. — И зачем ему была их
встреча?
— Нет, встреча вышла не потому, что он того хотел. Но он задумал сам
похитить леди Эвелину. Ведь он разбойник, этот Рэндаль. Вот он и явился,
прикинувшись продавцом соколов, и всех нас выманил из замка. И моего старого
дурня Рауля, и леди Эвелину. Будто бы затем, чтобы позабавиться охотой с
соколами на цапель. А сам держал наготове шайку валлийских коршунов,
чтобы напали на нас. Если бы Дамиан не прискакал на выручку, я уж не знаю, что
с нами было бы. А раненого Дамиана отнесли в замок потому, что больше было
некуда. Ради спасения его жизни, а иначе, я в том уверена, леди Эвелина не
разрешила бы ему даже перейти подъемный мост, как бы он ни просил.
7 В. Скшт
194
Обрученная
— Женщина, — сказал коннетабль, — думай, что говоришь. Если ты сама
многому повредила, как видно из собственного твоего рассказа, не вздумай
заглаживать это новой ложью, и все из досады, что не получила обещанных благ.
— Паломник, — сказал старый Рауль голосом охрипшим от многих охот, —
по части сплетен моя жена Джиллиан может поспорить с любой сплетницей во
всем христианском мире. Но ты расспрашиваешь ее как человек, которого эти
дела близко касаются; поэтому скажу тебе прямо: в своих постыдных делах,
в пособничестве этому самому Рэндалю Лэси жена моя сознается, но говорит
она истинную правду. Я и перед смертью готов поклясться, что Дамиан и леди
Эвелина так же неповинны в измене и в иных бесчестных делах, как
нерожденные младенцы. Но что проку, если говорят это такие, как мы. Мы ведь уж до
нищенства дошли, а жили когда-то в хорошем доме и служили хорошему
господину, благослови его Господь!
— Но неужели, — спросил коннетабль, — не осталось прежних слуг, которые
могли бы сказать то же, что и вы?
— Ха! — ответил егерь. — Людям неохота болтать, когда Рэндаль Лэси
щелкает кнутом над их головами. Немало слуг убито или умерло с голоду; от иных
избавились, иные сами исчезли неведомо куда. Правда, есть еще там ткач Флэм-
мок с дочкой Розой. Те знают обо всем не меньше нас.
— Как? Уилкин Флэммок, дюжий голландец? — сказал коннетабль. — Он и
его дочь Роза, смелая на язык, но верная? За их правдивость я поручился бы
жизнью. Где они сейчас живут? Что сталось с ними после всех перемен?
— Да сам-то ты кто, если задаешь эти вопросы? — сказала кумушка
Джиллиан. — Ох, муженек, слишком уж мы дали волю языкам! Его голос и взгляд кого-
то мне напоминают...
— А ты вглядись в меня пристальней, — сказал коннетабль, откидывая
капюшон, до тех пор совершенно скрывавший его лицо.
— На колени, Рауль! На колени! — вскричала Джиллиан, сама при этом
падая на колени. — Ведь это сам коннетабль! А я-то в глаза называла его старым
Хьюго!
— Во всяком случае, это все, что осталось от коннетабля, — сказал де Лэси. —
И старый Хьюго охотно прощает тебе такую вольность за добрые вести. Так где
же Флэммок и его дочь?
— Роза все еще состоит при леди Эвелине, — ответила кумушка Джиллиан. —
Миледи выбрала ее покоевой девушкой вместо меня, хотя Роза никогда не умела
одеть даже голландскую куклу.
— Какая преданность в этой девушке! — сказал коннетабль. — А где сам
Флэммок?
— Король простил его и очень к нему благоволит, — ответил Рауль. —
Он живет в своем доме, вместе с подмастерьями-ткачами, а дом этот возле
самого Моста Сражения. Так теперь называют место, где вы, милорд, разбили
валлийцев.
— Туда я и направляюсь, — сказал коннетабль. — А после посмотрим, какой
прием окажет король Генрих Анжуйский старому своему слуге. Вы оба
должны сопровождать меня.
Глава XXXI
195
— Милорд, — промолвила после небольшого колебания Джиллиан, —
вы знаете, что бедным людям крепко достается, если они мешаются в дела
знатных. Надеюсь, милорд сможет защитить нас, когда мы станем говорить
правду, и не вспомнит мне прошлое, ведь я старалась как лучше.
— Помолчи ты, черти бы тебя взяли! — крикнул Рауль. — Заботься прежде
не о своей старой и грешной плоти, а о том, как спасти нашу милую молодую
госпожу от гонений и позора. А что до твоего злого языка и злых проделок,
милорд знает, что такая уж ты уродилась.
— Ладно, добрый человек, — сказал коннетабль. — Мы не станем поминать
твоей жене старые грехи, а тебя наградим за верность. Что касается вас, мои
преданные слуги, — то де Лэси, когда вступит в свои права, а так оно,
несомненно, будет, первым делом наградит и вас за верную службу.
— Моя служба была и будет сама себе наградой, — сказал Видаль. — Я не
приму щедрот от того, кто преуспел, если он, когда бедствовал, не дал мне
пожать свою руку. Наш счет еще не закрыт.
— Полно, дурень ты этакий! Впрочем, на то и ремесло твое, чтобы
дурачиться, — сказал коннетабль; его обветренное и некрасивое лицо теперь, когда оно
светилось благодарностью Небесам и благоволением к людям, казалось даже
красивым. — Мы встретимся у Моста Сражения за час до вечерни, — сказал он. —
За это время я многое успею.
— Времени немного, — заметил его оруженосец.
— Мне случалось выигрывать сражение и за более короткое время, —
ответил коннетабль.
— За такое время, — сказал менестрель, — многие успевали умереть, а
между тем были уверены в победе и долгой жизни.
— Так будет с моим родственником Рэндалем и с его честолюбивыми
планами, — сказал коннетабль и отправился в путь, сопровождаемый Раулем и его
женой, которые снова сели на свою лошадь. Менестрель и оруженосец
последовали за ними пешком и, разумеется, гораздо медленнее.
Глава XXXI
— О нет, лорд Джон, я не предам,
Я буду век верна,
И что природа отняла —
За все воздам сполна.
— Нет, не клянись, покуда свет!
И я не поклянусь!
Лишь ночь сумеет подтвердить
Надежность наших уз!
Древняя шотландская баллада}
Оставшись позади, слуги Хьюго де Лэси продолжали путь в угрюмом
молчании, как люди, не питающие друг к другу ни расположения, ни доверия,
однако связанные общей службой, а значит, общими надеждами и общими опа-
7*
196 Обрученная
сениями. Впрочем, неприязнь более всего испытывал Гуарайн; Рено Видаль был
бы к своему спутнику совершенно безразличен, если бы не понимал, что тот его
не любит и способен, насколько это будет в его силах, нарушить некие планы.
Он мало обращал внимания на Гуарайна и тихонько, как бы вспоминая,
напевал про себя романсы и песни, из которых многие были непонятны Гуарайну,
знавшему лишь свой родной норманнский язык.
Так, молча и угрюмо, шли они уже почти два часа, когда навстречу им
показался грум на коне и с другим оседланным конем в поводу.
— Паломники, — спросил он, внимательно осмотрев их, — который из вас
Гуарайн?
— За неимением лучшего, на это имя откликаюсь я, — ответил оруженосец.
— Твой господин шлет тебе приветствие, — сказал грум, — и посылает вот этот
предмет, чтобы ты уверился, что я действительно от него.
Он показал оруженосцу четки, которые Филипп тотчас признал за
собственность коннетабля.
— Узнаю этот предмет, — сказал он. — Что же угодно моему господину?
— Он велел сказать, — ответил всадник, — что дела его идут как нельзя
лучше и что сегодня же, едва зайдет солнце, он вступит снова в свои права. Поэтому
он желает, чтобы ты сел на этого коня и вместе со мною ехал в замок
Печальный Дозор, где твое присутствие необходимо.
— Отлично! Я повинуюсь, — сказал оруженосец, весьма довольный
переданным ему известием, а также тем, что расстанется со своим спутником.
— А мне что велено передать? — спросил менестрель у посланца.
— Если ты, как я догадываюсь, менестрель Рено Видаль, то тебе приказано,
как и прежде, ждать твоего господина возле Моста Сражения.
— Сочту своим долгом, — ответил Видаль; и едва он проговорил это, как оба
всадника, отворотившись от него, пустились вскачь и скоро исчезли из виду.
Было четыре часа пополудни и солнце клонилось уже к закату, однако до
назначенной встречи оставалось более трех часов, а расстояние до места этой
встречи не превышало четырех миль. Поэтому Видаль, желая то ли отдохнуть,
то ли поразмышлять, сошел с дороги налево, в заросли, где струился меж
деревьев ручей, питаемый родником. Здесь путник уселся и более получаса с
рассеянным видом, не меняя позы, следил глазами за сверкающим источником;
в языческие времена он мог бы показаться статуей речного бога, который,
склонясь над своей урной, смотрит на струю. Наконец он стряхнул с себя глубокую
задумчивость, выпрямился и, словно вспомнив внезапно, что необходимо
поддерживать в себе жизнь, достал из своей сумы паломника какую-то грубую
пищу. Однако что-то, видимо, лежало у него на душе, лишавшее его аппетита.
После тщетной попытки проглотить хотя бы кусок он отбросил его с
отвращением и взялся за небольшую флягу, где хранилось у него вино или другой
напиток. Но и это, как видно, не пришлось ему по вкусу, ибо он отбросил
и суму и флягу; наклонясь к источнику, он напился чистой воды и омыл ею
руки и лицо; видимо освеженный, он поднялся и медленно побрел дальше,
напевая тихо и печально обрывки каких-то древних песен на столь же древнем
языке.
Глава XXXI
197
Наконец показался Мост Сражения; неподалеку от него, исполненный
гордой и мрачной мощи, возвышался прославленный замок Печальный
Дозор.
— Вот где, — сказал он себе, — должен я ожидать гордого де Лэси. Пусть так,
во имя Господне! Прежде чем мы расстанемся, он наконец узнает меня.
Говоря это, он быстрыми и решительными шагами перешел мост и
поднялся на холм на противоположной его стороне; некоторое время он созерцал
открывшуюся с холма картину — реку, отражавшую краски закатного неба,
деревья, уже радовавшие взор и печалившие сердце золотыми тонами осени,
темные стены и башни замка, на которых по временам вспыхивали искры; это
оружие часового отражало лучи заходящего солнца.
Лицо менестреля, до тех пор мрачное и озабоченное, казалось, смягчилось
при виде этой мирной картины. Он распахнул свой плащ паломника, так что из-
под его темных складок стала видна одежда менестреля. Взяв свою лютню,
он то наигрывал валлийскую мелодию, то пел песню, которую мы можем
привести лишь в отрывках и в переводе с древнего языка, на котором она пелась;
это — та символическая поэзия2, которую Талиесин3, Ллеварх Хэн4 и другие
барды, вероятно, унаследовали от друидов.
Я спросил мою арфу: кто порвал твои струны?
Она ответила: тот кривой палец, над которым я посмеялась.
Серебряное лезвие гнется, но стальное выдержит все.
Добро забывается, живет только месть.
Сладкий вкус меда на устах недолог,
Но долго жжет их горечь полыни.
Ягненка ведут на бойню, а волк рыщет в горах.
Добро забывается, живет только месть.
Я спросил раскаленное железо, сверкавшее на наковальне;
Отчего ты светишься дольше, чем головня?
Моя родина — темные недра земли, а не зеленый лес.
Добро забывается, живет только месть.
Я спросил у дуба: отчего его ветви засохли и подобны
оленьим рогам?
Он показал мне малого червя, подточившего его корни.
Мальчик, помня полученные побои, открыл ночью калитку замка.
Добро забывается, живет только месть.
Молния сжигает храм, хоть он высился до облаков;
Буря топит суда, хоть паруса их могучи.
На вершине славы ты падешь от ничтожнейшего из врагов твоих.
Добро забывается, живет только месть.
198
Обрученная
Следовали и другие причудливые образы, из которых каждый имел некую,
пусть отдаленную, связь с главной темой, завершавшей каждую строфу подобно
припеву; так что песнь была чем-то вроде музыкальной пьесы, в которой
прихотливые вариации вновь и вновь возвращаются к основной, простой мелодии
и служат лишь ее украшению.
Пока менестрель пел, взгляд его был устремлен на мост и окружавшую его
местность; но когда, заканчивая свою песнь, он взглянул на отдаленные башни
замка Печальный Дозор, то увидел, что ворота замка открыты и у внешних его
ограждений собралась стража и слуги, точно готовился поход или же должно
было появиться некое важное лицо. Затем, оглянувшись вокруг себя, он
обнаружил, что и вся равнина, безлюдная, когда он сел на серый камень, откуда
глядел на нее, теперь наполнялась людьми.
Пока он был погружен в задумчивость, по обоим берегам реки собирались
поодиночке или группами мужчины, женщины и дети; и все медлили, словно в
ожидании некоего зрелища. Большое оживление заметил он также возле
фламандских сукновален, которые были ему хорошо видны, хотя и расположены
были дальше. Казалось, что там собирается процессия; и она вскоре выступила,
под звуки труб, барабанов и других музыкальных инструментов, и в большом
порядке приблизилась к тому месту, где сидел Видаль.
Как видно, событие предстояло мирное; ибо впереди процессии, сразу вслед
за незатейливым оркестром, выступали рядами, по двое и по трое, седобородые
старцы фламандского поселения в опрятной домотканой одежде, опираясь на
посохи и своим степенным шагом определяя движение всей процессии. За
фламандскими патриархами следовал Уилкин Флэммок на своем могучем боевом
коне, в полном вооружении и в доспехах, но без шлема, словно вассал, готовый
к воинской службе своему господину. За ним в боевом порядке шел цвет
маленькой колонии, тридцать отлично вооруженных воинов; их ровный шаг, так же
как и начищенные, сверкающие доспехи, указывал на порядок и дисциплину,
пусть им и недоставало пылкости французских солдат, вызывающего вида,
которым отличаются англичане, или исступления тогдашних валлийцев. Далее
шли женщины и девушки колонии, а затем дети — с теми же круглыми лицами,
серьезными взглядами и важной поступью, что и у родителей; наконец, замыкая
шествие, шли юноши от четырнадцати до двадцати лет, вооруженные легкими
копьями, луками и тому подобным оружием, подходящим для их возраста.
Процессия обошла подножие холма или насыпи, где сидел менестрель;
все тем же медленным и мерным шагом она перешла мост и выстроилась в две
шеренги, лицом друг к другу, словно собиралась встретить некую важную
особу или присутствовать при какой-то церемонии. Флэммок остался с краю
этого двойного ряда своих соотечественников и спокойно, но усердно занялся
какими-то приготовлениями.
Тем временем вокруг них начали собираться самые различные зрители,
привлеченные по-видимому простым любопытством. Все они образовали
пеструю толпу у дальнего конца моста, то есть того, что был ближе к замку. Мимо
камня, на котором сидел Видаль, совсем близко прошли два английских
крестьянина.
Глава XXXI
199
— Не споешь ли ты нам песню, менестрель? — попросил один из них. — И вот
тебе за труды, — добавил он, бросая в его шапку мелкую серебряную монету.
— Я связан обетом, — ответил менестрель, — и сейчас не могу заниматься
моим веселым ремеслом.
— А может, ты чересчур горд, чтобы петь для простых английских мужиков? —
сказал старший из двух крестьян. — Ты что-то говоришь на норманнский лад.
— Монету все же возьми, — сказал младший. — Пусть она достается
паломнику, раз менестрель не хочет ее заработать.
— Прошу тебя, оставь свое даяние при себе, добрый человек, — ответил Ви-
даль. — Я в нем не нуждаюсь. А вместо того скажи, будь добр, что происходит
там, впереди?
— Ты разве не знаешь, что к нам вернулся наш коннетабль де Лэси? И что
он намерен сегодня торжественно облечь фламандских ткачей всеми правами
и привилегиями, какие им даровал Генрих Анжуйский? Если бы жив был
король Эдуард Исповедник, фламандские плуты получили бы вместо этого два
столба с перекладиной. Однако ж поспешим, сосед, не то мы пропустим всю
забаву.
Сказав это, они стали спускаться с холма.
Видаль устремил взгляд на ворота замка; колыхание знамен, съезжавшиеся
всадники, хотя на таком отдалении видимые неясно, все указывало, что
ожидается выезд весьма важного лица в сопровождении большой свиты. О том же
говорили торжественные фанфары, доносившиеся издали. Затем, по облачкам
пыли, которые стали вздыматься между замком и мостом, и по звукам труб, все
более близким, Видаль понял, что шествие направляется в его сторону.
Он не мог решить, оставаться ли на прежнем месте, откуда, хотя бы издали,
можно было видеть все происходившее, или смешаться с толпой, собравшейся
справа и слева от моста, по обе стороны прохода, охраняемого вооруженными
фламандцами.
Мимо Видаля поспешно проскользнул монах; на вопрос Видаля о
причине происходящего он пробормотал из-под своего капюшона, что коннетабль
де Лэси вступает в должность и первым его делом будет вручение фламандцам
королевской хартии, подтверждающей их права и привилегии.
— Как видно, он очень спешит утвердиться в своей должности, — сказал
менестрель.
— Кто получил в руки меч, тому не терпится вынуть его из ножен, — ответил
монах и добавил еще что-то, чего менестрель не разобрал; ибо отец Альдрованд
не оправился еще от увечья, нанесенного ему во время осады.
Однако Видаль понял, что он намерен пробиться к коннетаблю, чтобы
просить милости или заступничества.
— Я тоже хочу приблизиться к нему, — внезапно сказал Рено Видаль,
поднимаясь со своего камня.
— Тогда следуй за мной, — прошепелявил монах, — меня фламандцы узнают
и пропустят.
Однако, будучи в немилости, отец Альдрованд не имел уже того влияния,
на какое он рассчитывал; их затерли в толпе и оттеснили друг от друга.
200
Обрученная
Зато Видаля узнали английские крестьяне, заговорившие с ним незадолго до
этого.
— А жонглировать ты умеешь, менестрель? — спросил один из них. — За это
тебя могут щедро одарить. Наши норманнские господа любят жонглеров.
— Я умею делать только одну штуку, — ответил Видаль, — и сейчас покажу
ее, если вы немного расступитесь.
Они освободили вокруг него немного места и стали ждать, пока он снимал
шапку и стаскивал с себя кожаные гетры, оголив ноги и колени и оставшись в
одних сандалиях; затем он повязал свои выгоревшие на солнце волосы пестрым
платком и, сбросив верхнюю одежду, обнажил до самых плеч свои мускулистые
руки.
Пока он занимал окружающих этими приготовлениями, в толпе произошло
движение; раздались громкие звуки труб, на которые фламандцы откликнулись
всеми своими музыкальными инструментами, а норманны и англичане
возгласами «Да здравствует доблестный коннетабль!», «Помоги ему, Пресвятая Дева!».
Все это возвещало о приближении коннетабля.
Видаль делал невероятные усилия, чтобы приблизиться к главе процессии,
но из-за тесно обступивших его вооруженных людей пока мог видеть лишь его
шлем, украшенный высоким султаном, и правую руку, державшую жезл, знак
его должности.
Наконец ему удалось оказаться всего в трех ярдах от коннетабля, вокруг
которого с трудом расчистили немного места для совершения церемонии. Сидя
на коне спиной к менестрелю, коннетабль наклонился, чтобы вручить
королевскую хартию4 Уилкину Флэммоку, который, принимая ее, благоговейно
преклонил колено. Это вынудило коннетабля склониться так низко, что его султан лег
на пышную гриву его благородного скакуна.
В этот миг Видаль с необычайной ловкостью прыгнул через головы
фламандцев, охранявших образовавшийся круг; упершись правым коленом в круп коня
коннетабля, а левой рукой схватив де Лэси за ворот его кожаного кафтана, он
в мгновение ока выхватил короткий и острый кинжал и погрузил его в шею
своей жертвы там, где спинной мозг передает человеческому телу таинственные
приказания мозга головного. Удар был нанесен с величайшей точностью и
силой. Несчастный всадник свалился с седла без сопротивления и без единого
стона, подобно быку на арене, пораженному клинком тореадора. В седле
вместо него сидел его убийца; потрясая окровавленным кинжалом, он уже готовился
послать коня вскачь.
Окружащие настолько оцепенели от неожиданного и дерзкого нападения,
что убийце, быть может, и удалось бы от них ускользнуть, если бы не
находчивость Флэммока; он схватил коня за узду и с помощью тех, кому нужен был
лишь его пример, схватил Видаля, связал его и громко заявил, что его надо вести
к королю Генриху. Это предложение, высказанное Флэммоком громко и
решительно, заставило умолкнуть тысячу яростных криков, которыми
представители различных наций, составлявшие толпу, обвиняли друг друга в предательстве.
Теперь людские потоки слились в один, устремившийся, по общему
согласию, к замку Печальный Дозор. Исключение составили лишь несколько чело-
Глава XXXI
201
век из свиты убитого, которые приготовились с должным почтением унести тело
своего господина с места, куда он прибыл столь торжественно.
Когда Флэммок достиг замка, он сразу же был впущен туда вместе с его
пленником и несколькими выбранными им свидетелями убийства. На просьбу
получить аудиенцию у короля ему ответили, что король приказал некоторое
время не впускать к нему никого; однако столь страшна была весть об убийстве
коннетабля, что начальник охраны решился все же войти к королю, чтобы
сообщить ее, и получил приказ немедленно ввести Флэммока с его пленником.
Генрих находился в обществе нескольких придворных, почтительно стоявших
позади королевского кресла, вся эта часть комнаты была погружена в полутьму.
Массивной фигуре Флэммока странным образом не соответствовала
бледность его щек, вызванная ужасом после сцены, коей он был свидетелем, и
робостью перед особой короля. Его пленник, напротив, казался ничуть не
оробевшим. Кровь его жертвы, брызнувшая из раны, окропила обнаженные руки и
короткую одежду, но более всего лоб и платок, которым он был повязан.
Генрих устремил на него суровый взгляд, который тот встретил не только
спокойно, но даже с вызовом.
— Знает ли кто-нибудь этого негодяя? — спросил Генрих, оглядываясь вокруг.
Ему не сразу ответили; один лишь Филипп Гуарайн, выступив из группы лиц,
стоявших позади королевского кресла, произнес, хотя и неуверенно:
— Ваше Величество, если бы не диковинная одежда, в которую он сейчас
нарядился, я сказал бы, что это менестрель из свиты моего господина, и
зовется он Рено Видаль.
— Ошибаешься, норманн, — сказал менестрель. — Я лишь принял на себя это
имя и эту низкую должность. Я — бритт Кадуаллон — Кадуаллон Творец
Девяти Песен5 — Кадуаллон, главный бард Гуенуина, повелителя Поуиса. И я
отомстил за него!
Когда он произносил последние слова, взгляд его упал на паломника,
который, выйдя из затемненного угла, где стояла королевская свита, встал прямо
перед ним.
Глаза валлийца наполнились таким ужасом, что, казалось, готовы были
выскочить из орбит; и ужаса был полон его голос, когда он воскликнул:
— Что это! Ужели король окружен мертвецами? А если ты жив, кого же
я убил? Ведь не во сне же привиделся мне мой прыжок и удар! А жертва моя
стоит передо мной! Неужели я не убил коннетабля Честерского?
— Ты действительно убил коннетабля, — ответил король. — Но знай, валлиец,
что это был Рэндаль де Лэси; на него возложены были сегодня обязанности
коннетабля; ибо мы полагали, что наш верный и преданный Хьюго де Лэси погиб на
пути из Святой Земли; было известно, что корабль, на котором он плыл,
разбился. Ты сократил недолгое возвышение Рэндаля всего лишь на несколько
часов; ибо уже завтрашний день застал бы его лишенным и владений и должности.
Пленник в отчаянии поник головой.
— Недаром, — пробормотал он, — я подивился, как скоро сбросил он старую
кожу и явился во всем великолепии. Пусть ослепнут глаза, которые дали себя
обмануть побрякушкам: шлему с султаном и лакированному жезлу!
202
Обрученная
— Я позабочусь, валлиец, чтобы глаза твои более тебя не обманывали, —
сурово сказал король. — Не пройдет и часа, как они закроются для всего
земного.
— Могу ли я просить Ваше Величество, — сказал коннетабль, — разрешения
задать несчастному несколько вопросов?
— Прежде я сам спрошу у него, — сказал король, — почему он обагрил руки
кровью благородного норманна.
— Потому что тот, кому предназначал я свой удар, — отвечал бритт,
свирепо глядя то на короля, то на де Лэси, — пролил кровь потомка тысячи королей;
кровь, в сравнении с которой его собственная, да и твоя, гордый граф
Анжуйский6, все равно что дорожная лужа в сравнении с серебряной струей фонтана.
Генрих с угрозой взглянул на дерзкого; но сдержал гнев, увидя умоляющий
взор своего верного слуги.
— О чем хочешь ты спросить его? — сказал он. — Будь краток — времени у
него осталось мало.
— Если дозволите, государь, я лишь хочу узнать, отчего он целые годы
медлил, когда жизнь, которую он хотел отнять, была в его власти; более того,
почему он так долго оберегал эту жизнь своей верной службой?
— Я отвечу тебе, норманн, — сказал Кадуаллон. — Когда я поступил к тебе на
службу, моим намерением действительно было убить тебя в первую же ночь.
Но вот человек — и он указал на Филиппа Гуарайна, — чьей бдительности ты
обязан жизнью.
— А ведь верно, — сказал де Лэси. — Я помню некие признаки этого
намерения; но почему же ты и позднее не осуществил его, когда представлялся случай?
— Когда убийца моего господина стал воином Господа Бога — ответил
Кадуаллон, — и сражался за Его дело в Палестине, ему не4 угрожала моя земная
месть.
— Удивительная воздержанность со стороны валлийского убийцы! — с
презрением сказал король.
— Да, — ответил Кадуаллон, — воздержанность, какой не хватало иным
христианским властителям. Они не упускали случая грабить и убивать, пользуясь
отсутствием соперника, ушедшего в крестовый поход.
— Клянусь Святым Распятием! — воскликнул Генрих, готовый вспылить, ибо
оскорбление это особенно его задевало; однако он сдержался и только произнес
с презрением: — Повесить негодяя!
— Еще один вопрос, всего один, Рено, или как ты там зовешься, — сказал
де Лэси. — Уже после моего возвращения сюда ты оказывал мне услуги,
которые никак не вяжутся с решением лишить меня жизни; ты мне помог во время
кораблекрушения; благополучно провел меня по Уэльсу, где мое имя означало
для меня верную смерть; а ведь все это было уже после моего возвращения из
крестового похода.
— Я мог бы разрешить твое недоумение, — отвечал бард, — но как бы не
подумали, что этим я пытаюсь сохранить себе жизнь.
— Не бойся этого и говори, — приказал король, — ибо сам Святой Отец
тщетно старался бы вступиться за тебя.
Глава XXXI
203
— Ну что ж, — сказал бард. — Узнай всю правду. Я был слишком горд,
чтобы позволить морским волнам или первому встречному валлийцу участвовать
в моей мести. Узнай и то, что время и привычка разделили мои чувства к
де Лэси на ненависть и восхищение. Я все еще помышлял о мести, но как о чем-
то, чего я, быть может, и не свершу; скорее как о чем-то заоблачном, чем о деле,
к которому я однажды подойду вплотную. А когда я сегодня увидел в тебе, —
обратился он к де Лэси, — столь суровую решимость встретить удары судьбы
как мужчина, ты показался мне последней уцелевшей башней рухнувшего
дворца, которая еще возносит свою вершину к небесам, когда вокруг лежат в
руинах все былое великолепие и былые радости. Пусть я погибну, втайне сказал я,
прежде чем довершу разрушение! Да, де Лэси, еще несколько часов назад, если
бы ты не отверг мою протянутую руку, я стал бы служить тебе, как никто еще
не служил своему господину. Ты отверг ее с презрением. Но даже после этого
оскорбления только зрелище твоего торжества на том самом месте, где ты убил
моего господина, оживило мою решимость нанести удар. Он предназначен был
тебе. Что ж, он сразил хотя бы одного из узурпаторов-норманнов. Больше я
не стану отвечать на вопросы. Ведите меня на плаху или на виселицу. Кадуал-
лону все равно. Скоро душа моя соединится с моими свободными и
благородными предками и с моим любимым царственным господином.
— Мой господин и король! — сказал де Лэси, преклонив колено перед
Генрихом. — Можете ли вы слышать это и отказать вашему старому слуге в
единственной просьбе? Сохраните жизнь этому человеку! Не гасите такой огонь из-за того,
что это огонь блуждающий!
— Встань, де Лэси! И устыдись своей просьбы, — сказал король. — На руках
этого валлийца кровь твоего родича, кровь благородного норманна. Клянусь
своей короной, он умрет, прежде чем сотрут эту кровь. Увести его и казнить!
Стража тотчас увела Кадуаллона. Коннетабль более жестами, чем словами,
все еще пытался вступиться за него.
— Это безумие, де Лэси! Ты безумец, мой старый верный друг, если
продолжаешь просить за него, — говорил король, заставляя де Лэси подняться с
колен. — Неужели ты не видишь, что в этом деле я более всего забочусь о тебе?
Ведь Рэндаль своими посулами и дарами приобрел немало друзей, которых,
быть может, трудно будет вернуть под твое начало теперь, когда поубавилось
у тебя и богатства и могущества. Если бы Рэндаль остался жив, нам было бы
весьма нелегко лишить его всей приобретенной им власти. Мы должны быть
благодарны валлийскому убийце, который нас от него избавил; но если мы
пощадим убийцу, сторонники Рэндаля станут называть это преступным сговором;
ну, а когда за кровь заплачено кровью, все предается забвению. Их преданность
вновь обратится на тебя, их законного сюзерена.
Хьюго де Лэси поднялся с колен и попытался почтительно оспорить
политические доводы своего лукавого короля7; он ясно видел, что король прежде
всего печется не о нем, а о том, как осуществить смену феодальных властителей
с наименьшим ущербом для страны и для королевской власти.
Генрих терпеливо выслушивал доводы де Лэси, но потом сердито возражал,
пока не забил барабан, возвестивший о казни, и не зазвонил о том же колокол
204
Обрученная
в замке. Тогда он подвел де Лэси к окну, ибо уже стемнело и на стеклах
блеснули красные отсветы. Отряд воинов, из которых каждый держал зажженный
факел, возвращался с казни неистового, но благородного валлийца, крича:
«Да здравствует король Генрих!» и «Смерть всем врагам норманнского
дворянства!».
Эпилог
Сел солнца диск, звезда златится...
Твои же длани, Джеральдина,
Как прежде, для нее темница.
Колридж1
Молва ошибалась, утверждая, будто Эвелина Беренжер после взятия замка
подверглась более суровому заточению, чем в монастыре ее тетки-аббатисы2.
Однако и оно было достаточно строгим, ибо незамужние тетушки, как аббатисы,
так и любые другие, весьма нетерпимы к тому роду грехов, в каких обвиняли
Эвелину; и безвинную девушку многими способами пытались вынудить к
раскаянию. С каждым днем ее заточение все больше отравляли всевозможными
выражениями сочувствия, утешениями и увещеваниями, за которыми явно
проступали злобные оскорбления. Единственное, что поддерживало Эвелину среди этих
мук, было общество Розы; но и этого ее в конце концов лишили и именно в то
утро, когда в замке Печальный Дозор произошло столько важных событий.
Напрасно несчастная девушка спрашивала о причине этого нового лишения
угрюмую монахиню, которая, заменив Розу, должна была помогать ей одеваться.
На этот счет монахиня хранила упорное молчание, зато не скупилась на
колкости, касавшиеся непомерного значения, какое бренный человек придает суетным
нарядам, и жаловалась, что даже Христовой невесте приходится отвлекаться от
высоких помыслов и снисходить до всяческих застежек и вуалей.
Однако аббатиса однажды после утренней мессы сообщила Эвелине, что
разлучена с Розой не просто на время и что той грозит заточение в монастыре
весьма сурового монашеского ордена, ибо она помогла своей госпоже принять
Дамиана де Лэси в ее спальне, в ту ночь, которую они провели в Болдрингеме.
Один из солдат отряда де Лэси, который до тех пор молчал обо всем, что
видел в ту ночь, решил, что теперь, когда Дамиан впал в немилость, он может
рассказать обо всем с выгодою для себя. Этот новый удар, столь неожиданный
и болезненный, это новое обвинение, которое так трудно было объяснить и
невозможно полностью отрицать, показались Эвелине окончательным приговором
судьбы и Дамиану, и ей самой, а когда к этому добавилось сознание, что она
вовлекла в свои бедствия преданную и великодушную подругу, Эвелина
погрузилась в апатию полного отчаяния.
— Думайте обо мне что хотите, — сказала она своей тетке, — я не стану более
оправдываться; говорите, что хотите — я не стану более отвечать; везите меня
куда хотите — я не буду больше противиться. Настанет время, и Господь
очистит мое имя от клеветы. Пусть простит Он моим гонителям!
Эпилог
205
Затем, в течение всего этого злосчастного дня, леди Эвелина, бледная,
холодная и безмолвная, бесшумно переходила из часовни в трапезную, а оттуда
снова в часовню, повинуясь малейшему знаку аббатисы или других монахинь;
казалось, что ко всем лишениям, наказаниям, укорам, увещеваниям, какие в тот
день на нее сыпались, она столь же нечувствительна, как мраморная статуя к
дождям и непогоде, хотя они в конце концов разрушают ее.
Аббатиса, которая любила свою племянницу, даже если любовь эта
выражалась в том, что она ее мучила, наконец встревожилась: отменила свое
распоряжение переселить Эвелину в худшую келью, сама присутствовала при том, как
ее уложили в постель (к чему, как и ко всему остальному, молодая девушка
осталась совершенно безучастной), и, уходя из кельи, поцеловала и благословила
ее с пробудившейся вновь нежностью. Как ни мал был этот знак участия, он был
неожиданным и, подобно Моисееву жезлу, исторг скрытый источник3. Эвелина
заплакала, чего не могла весь день, помолилась и наконец заснула вся в слезах,
как ребенок, немного успокоенная после того, как дала своему страданию этот
естественный выход.
За ночь она не однажды пробуждалась от мрачных снов, в которых ей
являлись замки и темницы, погребения и обручения, короны, дыба4 и виселица;
однако под утро она заснула более спокойным сном, чем до тех пор, и
спокойнее стали ее сновидения. Ей приснилось, будто ей улыбается Пресвятая Дева
Печального Дозора, обещая покровительство своей почитательнице. Была тут
и тень ее отца — во сне Эвелина была смелее и смотрела на отца с почтением,
но без страха; губы отца шевелились, и она слышала слова, значение их было
ей не вполне понятно, однако они говорили о надежде, успокоении и грядущем
счастье. Скользила перед ней также, устремив на нее блестящие голубые
глаза, женщина в тунике из шафранно-желтого шелка5 и в голубом плаще
старинного покроя, сиявшая той нежной красотою, какая присуща белокожим и
светловолосым. Это, должно быть, бриттка Ванда, думала Эвелина, но лицо ее уже
не выражало злобы; ее длинные белокурые волосы не были распущены по
плечам, но искусно убраны переплетенными ветками дуба и омелы6; правая рука
ее скрывалась в складках плаща; и этой рукой, не изувеченной, а невредимой
и прекрасной, она перекрестила Эвелину. Несмотря на этот знак доброго
расположения, Эвелина задрожала, когда призрак проговорил:
Обручена, но не жена,
И предала, и предана.
Теперь судьба завершена.
Ванда уж не жаждет мщенья,
Вот тебе ее прощенье7.
Видение склонилось над Эвелиной, как бы затем, чтобы поцеловать ее; в этот
миг Эвелина вскрикнула и пробудилась. Руку ее действительно сжимала чья-то
рука, столь же белая и нежная, как ее собственная. Как и во сне, перед ней
возникла прелестная женская головка, голубоглазая и белокурая, с распущенными
волосами и в платье, приоткрытом на груди; губы ее приблизились к губам спя-
206
Обрученная
щей в самый миг ее пробуждения, но то была Роза — это она обнимала свою
госпожу, увлажняла ее лицо слезами и покрывала горячими поцелуями.
— Что это значит, Роза? — воскликнула Эвелина. — Слава Богу, тебя вновь
допустили ко мне. Но что означают твои слезы?
— Дайте, дайте мне поплакать, — отвечала Роза. — Давно уж я не плакала от
радости и надеюсь, что не скоро снова заплачу от горя. Только что пришли вести
из Печального Дозора, их доставил сюда Амелот — он на свободе, как и его
господин, а тот в большой милости у короля Генриха. Но и это еще не все!
Однако вы побледнели... Я не стану говорить все сразу.
— Нет, нет! — сказала Эвелина. — Продолжай. Я, кажется, поняла тебя.
— Негодяй Рэндаль де Лэси, виновник всех наших бед, больше не причинит
вам зла. Он убит неким честным валлийцем, и мне очень жаль, что за эту
важную услугу бедняга был повешен. Главное же вот что: бравый старый
коннетабль возвратился из Палестины столь же достойным человеком и даже более
мудрым, ибо говорят, будто он намерен разорвать свою помолвку.
— Глупая девочка! — сказала Эвелина, покраснев столь же ярко, как была
перед тем бледна. — Не шути, когда сообщаешь такие важные вести. Но
неужели все это правда, что Рэндаль убит, что коннетабль возвратился?
Эти торопливые вопросы и столь же торопливые ответы смешались у них с
возгласами удивления и с благодарениями Богу и Пресвятой Деве, пока бурный
восторг не перешел наконец в более спокойные чувства радости.
Между тем Дамиану де Лэси также пришлось выслушать все эти известия,
и получил он их весьма необычным образом. Дамиан содержался в мрачном
подземелье, которое в ту давнюю эпоху было обыкновенной тюрьмой. Быть
может, мы, нынешние, и не правы, когда отводим осужденным преступникам
лучшее помещение и даем более вкусную пищу, чем те, которые эти люди могли
бы заработать на воле честным трудом; но это, право же, простительная ошибка
по сравнению с тем, как поступали наши предки, не делавшие различия между
обвиняемым и осужденным и еще до приговора обходившиеся с обвиняемым с
такой суровостью, какая уже была бы ему достаточным наказанием, если бы его
признали виновным. Вот отчего к Дамиану, несмотря на его знатное
происхождение и высокое положение, отнеслись как к закоренелому злодею; его заковали
в цепи и кормили самой грубой пищей; единственным смягчением его участи
было то, что ему предоставили томиться в отдельной темнице, вся жалкая
обстановка которой состояла из постели, сломанного стола и стула. В углу, чтобы
напоминать ему о близящейся участи, стоял гроб с изображенными на нем
собственным его гербом и инициалами; в другом углу находилось распятие,
призванное внушать ему, что за пределами мира, который ему скоро предстояло
покинуть, есть иной. В железную тишину его тюрьмы не проникали никакие
звуки и никакие слухи о готовящейся ему судьбе и о судьбе его друзей.
Обвиняемый в том, что с оружием в руках восстал против короля, он подлежал
военному суду и мог быть казнен без такой формальности, как судебное
разбирательство; более мягкого приговора он себе и не ожидал.
В этой мрачной темнице Дамиан пробыл около месяца; как это ни покажется
странным, здоровье его, ослабленное ранениями, несколько окрепло — то ли
Эпилог
207
вследствие строгого воздержания в пище, то ли потому, что уверенность, даже
самая печальная, многими переносится легче, чем лихорадочные колебания
между страстью и долгом. Но срок его заключения явно близился к концу; его
тюремщик, угрюмый сакс самого низкого звания, до тех пор почти с ним не
говоривший, предупредил его о скорой смене жилища; тон, каким это было
сказано, убедил узника, что времени терять нельзя. Он попросил, чтобы к нему
допустили священника; тюремщик, хотя и удалился ничего не ответив, всем
видом своим показал, что просьба будет удовлетворена.
На следующее утро, в необычно ранний час, загремели дверные болты и
засовы, и Дамиан пробудился от неспокойного сна, длившегося не долее двух
часов. Он устремил взгляд на медленно отворявшуюся дверь, ожидая увидеть
палача с его подручными. Но тюремщик впустил плотного человека в одежде
паломника.
— Тюремщик, ты привел ко мне священника? — спросил несчастный узник.
— Спроси лучше у него самого, — ответил угрюмый страж и тотчас удалился.
Паломник остался стоять, повернувшись спиною к маленькому окошку,
а вернее щели, слабо освещавшей темницу, и пристально глядя на Дамиана,
который сидел на своей постели; его бледное лицо и спутанные волосы были в
печальном соответствии с его тяжелыми оковами. Он также смотрел на
паломника, хотя при слабом свете мог только различить, что пришедший был стар,
но еще крепок, что на шляпе его прикреплена морская раковина в знак того, что
он переправлялся через море8, а в руке он держал пальмовую ветвь —
свидетельство посещения Святой Земли.
— Benedicite*, преподобный отец, — произнес несчастный юноша. — Вы,
верно, священник и пришли облегчить мою совесть?
— Я не священник, — ответил паломник, -ия принес тебе дурные вести.
— Вы принесли их тому, кто давно не ждет добрых вестей, и принесли в
стены, которые, должно быть, не слыхали их никогда.
— Значит, тем смелее я сообщу их тебе, — сказал паломник. — Те, кто
страждет, лучше переносят дурные вести, нежели те, кого эти вести застают среди
довольства и счастья.
— Но даже страждущим страшны муки неизвестности, — сказал Дамиан. —
И я молю вас, почтенный паломник, скорее сообщить мне самое худшее. Если
вы пришли объявить смертный приговор этому бедному телу, пусть Господь
смилуется над душою, которую из него насильственно исторгнут!
— Такого поручения у меня нет, — сказал паломник. — Я прибыл из Святой
Земли и скорблю, что застаю тебя в такой беде, ибо сообщение мое было
предназначено человеку свободному и богатому.
— О моей свободе, — вздохнул Дамиан, — пусть скажут мои оковы, а все
богатство заключено в этих стенах. Но что за вести вы принесли? Если моему
дядюшке, а я боюсь, что речь пойдет о нем, нужен мой меч или мое состояние,
то заточение и беспомощность сделаются для меня еще горшей бедой, ибо не
позволяют мне помочь ему.
* Благословите (лат.).
208
Обрученная
— Твой дядюшка, юноша, — продолжал паломник, — попал в плен, а вернее
в рабство, к великому Султану9. Он был взят в бою, где выполнил свой долг,
однако не сумел предотвратить поражение христианского войска. Его
захватили в плен, когда он прикрывал отступление этого войска и при этом, на свою
беду, собственной рукой убил Хассана Али, любимца Султана. Жестокий
язычник10 велел заковать благородного рыцаря в цепи еще более тяжелые, чем твои;
по сравнению с темницей, куда его заточили, твоя показалась бы дворцом.
Сперва басурман решил предать доблестного коннетабля самой страшной смерти,
какую могли придумать его палачи. Но молва донесла до него, что Хьюго де
Лэси обладает большой властью и богатством, и он потребовал за него выкуп
в десять тысяч византийских золотых монет. Твой дядя ответил, что уплата
такой суммы совершенно его разорит и вынудит расстаться со всеми
владениями; кроме того, ему нужно время, чтобы превратить их в деньги. Султан
сказал, что ему безразлично, будет ли такой пес, как коннетабль, жирен или тощ,
и что он настаивает на выплате всей суммы. Однако согласился получить деньги
в три срока, при условии, что вместе с первой их частью и впредь до выплаты
остального ему отдадут в заложники ближайшего родственника и наследника
де Лэси. На этих условиях он соглашается отпустить твоего дядю на свободу,
как только ты прибудешь в Палестину и привезешь золото.
— Вот когда я действительно могу назвать себя несчастным! — сказал Дами-
ан. — Я не в силах доказать мою любовь и благодарность моему благородному
дядюшке, который мне, сироте, заменил отца.
— Это, конечно, станет для коннетабля тяжким разочарованием, — сказал
паломник. — Он особенно стремится вернуться на родину, чтобы вступить в брак
со своей невестой, девицей известной и красотою и богатством.
Дамиан вздрогнул так, что зазвенели его цепи, но ничего не сказал.
— Не будь он твоим дядей, — продолжал паломник, — и не слыви мудрым
человеком, я сказал бы, что его намерение весьма неразумно. Каков бы он ни
был, когда покидал Англию, после двух лет на палестинской войне, да еще года
пыток и лишений в темнице у басурман, жалкий из него будет жених.
— Молчи, паломник, — повелительно сказал Дамиан де Лэси. — Не тебе
осуждать столь благородного рыцаря, как мой дядя, а мне не подобает слушать твои
осуждения.
— Прошу прощения, юноша, — промолвил паломник. — Ведь я имел в виду
твою же выгоду. А выгода твоя отнюдь не в том, чтобы у дяди твоего
появился прямой наследник.
— Замолчи, мерзавец! — крикнул Дамиан. — Моя темница стала мне еще
отвратительнее из-за того, что ко мне впустили подобного советчика, а цепи
тяготят меня еще более потому, что не дают мне покарать его. Прошу тебя,
уходи!
— Я уйду не прежде, чем услышу твой ответ дяде, — сказал паломник. — Моя
старость презирает твой юный гнев, как скала презирает пену ручья, который
об нее разбивается.
— Передай дяде, — сказал Дамиан, — что я в тюрьме, иначе приехал бы к
нему, и что я нищ, иначе отдал бы ему все, что имею.
Эпилог
209
— Подобные благородные намерения можно легко и смело провозглашать, —
сказал паломник, — когда знаешь, что их нельзя доказать на деле. Но если бы
ты узнал, что тебе возвращены и свобода и состояние, я уверен, что ты еще
поразмыслил бы, прежде чем выполнять то, что так бойко обещаешь.
— Прошу, оставь меня, старик, — сказал Дамиан. — Тебе меня не понять.
Уходи и не добавляй к моим мукам оскорблений, за которые я не могу с тобой
рассчитаться.
— А что, если бы в моей власти было сделать тебя снова свободным и
богатым? Может быть, тогда тебе захотелось бы забыть то, что сейчас похваляешься
сделать? На мою скромность можешь положиться. Никто не узнает от меня,
какая разница была в чувствах у Дамиана в цепях и Дамиана на свободе.
— Что означают твои слова? Или ты, быть может, только терзаешь меня? —
спросил юноша.
— Нет, — ответил старый паломник, доставая из-за пазухи пергаментный
свиток, скрепленный тяжелой печатью. — Узнай, что твой родственник Рэндаль
случайно убит, а его коварные козни против коннетабля и тебя обнаружены.
Король, чтобы вознаградить тебя за перенесенные страдания, прислал тебе
полное прощение и жалует тебе третью часть обширных владений, которые по
смерти Рэндаля становятся собственностью короля.
— Значит, король возвращает мне также свободу и все права? — воскликнул
Дамиан.
— Да, с этой самой минуты, — сказал паломник. — Взгляни на этот пергамент.
Вот королевская подпись и печать.
— Мне нужны доказательства более верные. Эй! — громко крикнул Дамиан,
зазвенев при этом цепями. — Сюда, Доггет, сын саксонского волкодава!
Паломник стуком о дверь также вызвал тюремщика, который тотчас появился.
— Тюремщик! — строго спросил его Дамиан де Лэси. — Все ли я еще твой
узник или нет?
Угрюмый страж, переглянувшись с паломником, подтвердил, что Дамиан
свободен.
— Черт тебя побери! — нетерпеливо крикнул Дамиан. — Зачем эти цепи на
теле норманнского дворянина? Каждый миг моей неволи стоит всей жизни
такого раба, как ты!
— Цепи можно быстро снять, сэр Дамиан, — сказал тюремщик. —
Потерпите немного и вспомните, что каких-нибудь десять минут назад вы никак не могли
подумать, что эти браслеты с вас снимут не иначе как затем, чтобы вести вас на
плаху.
— Молчи, собака! — прикрикнул Дамиан. — И поторапливайся. Ну, а тебе,
добрый вестник, я прощаю все, что ты перед тем говорил. Ты, конечно,
полагал, что следует получить от меня обещания, пока я в цепях, чтобы честь
обязывала меня выполнить их, когда я буду на свободе. Такая подозрительность
обидна, но твоей целью было обеспечить освобождение моего дяди.
— А ты в самом деле намерен, — спросил паломник, — использовать
обретенную свободу на путешествие в Сирию и обменять английскую тюрьму на
темницу Султана?
210
Обрученная
— Если ты будешь моим провожатым, — ответил неустрашимый юноша, — ты
увидишь, что я не стану медлить.
— А выкуп? — спросил паломник. — Откуда ты добудешь выкуп?
— Откуда же, как не под залог земель, которые мне только дарованы, но по
справедливости остаются дядиными, — ему они и должны прежде всего
послужить. Если не ошибаюсь, ни один еврей и ни один ростовщик не откажется дать
нужные суммы под такой залог. Поэтому, — продолжал Дамиан, обращаясь к
тюремщику, — поторопись, собака, расклепать и разбить мои оковы, да не
бойся при этом причинить мне боль, только не сломай мне ногу, — ведь мне нельзя
мешкать.
Паломник некоторое время как бы с удивлением наблюдал такую решимость
Дамиана, а затем воскликнул:
— Нет, не стану дольше молчать! Можно ли принести в жертву подобное
великодушие! Слушай же, доблестный сэр Дамиан! Есть у меня важная тайна,
и, так как этот саксонский мужик не понимает по-французски, сейчас самое
время сообщить ее тебе. Знай, что дядюшка твой столь же переменился
душевно, как изувечено и разбито его тело. Желчность и озлобленность завладели
прежде великодушным сердцем. Чаша жизни выпита им до дна. На дне
остался лишь осадок, и осадок, к сожалению, очень скверный.
— Это и есть твоя великая тайна? — сказал Дамиан. — Я знаю, что люди
старятся; а если к ним вместе с телесной немощью приходит и немощь духа, тем
больше прав имеют они на заботы тех, кто связан с ними узами крови или
любви.
— Да, — ответил паломник. — Но коннетабль очень озлоблен против тебя.
До него дошли из Англии слухи, будто у тебя любовная связь с его невестой,
Эвелиной Беренжер. Что, задел я наконец твое больное место?
— Ничуть! — сказал Дамиан, призвав на помощь всю твердость, какую
давало ему сознание невиновности. — Просто этот детина очень уж сильно стукнул
молотком по моей кости. Итак, мой дядя услышал эту весть и поверил ей?
— Да, — сказал паломник. — Я могу это сказать, ибо от меня он ничего не
скрывает. Но он особенно просил меня утаить его подозрения от тебя. Иначе,
сказал он, волчонка не удастся заманить в западню и старый волк не сможет
освободиться. Пусть только окажется в моей темнице — так сказал о тебе твой
дядя, — и он здесь сгниет и умрет, прежде чем я пришлю хоть один пенни для
выкупа любовника моей невесты.
— Неужели мой дядя мог такое задумать? — сказал пораженный Дамиан. —
Неужели он готовит мне ловушку и хочет заманить меня в плен, когда я сам
готов остаться там ради его освобождения? Нет, этого не может быть!
— Не обольщайся напрасной надеждой, — сказал паломник. — Отправившись
в Сирию, ты отправишься в вечное заточение, а дядя твой вернется сюда и
будет владеть почти всем прежним богатством и Эвелиной Беренжер.
— О! — воскликнул Дамиан. Опустив глаза, он тихо спросил паломника, что
тот советует ему в такой крайности.
— По моему скромному разумению, дело тут ясное, — ответил паломник. —
Никто не обязан хранить верность тому, кто сам ее не хранит. Опереди преда-
Эпилог
211
теля, и пусть его дни, уже недолгие, окончатся в зловонной темнице, на которую
он задумал обречь тебя, юного и сильного. Королевская хартия дарует тебе
достаточно владений для достойной жизни. Отчего бы не присоединить к ним
земли, принадлежащие замку Печальный Дозор? Если я не ошибаюсь,
Эвелина Беренжер едва ли скажет тебе «нет». Более того! Я готов поклясться, что она
скажет «да», ибо мне хорошо известно, что у нее на сердце. А что касается
контракта, заключенного при обручении, то одного словечка короля Генриха Его
Святейшеству Папе сейчас, когда они только что примирились, будет
достаточно, чтобы стереть с пергамента имя «Хьюго» и заменить его на «Дамиана».
— Клянусь своей верой! — воскликнул Дамиан, вставая и ставя ногу на стул,
чтобы тюремщик легче мог разбить последние из его оков. — Мне уже
доводилось слышать о таких искусителях, с виду весьма почтенных, которые
являются отчаявшимся людям с лукавыми советами, действующими на греховную
природу человека, и много сулят им за то, чтобы кривые окольные пути
предпочли они путям к вечному спасению. Таковы любимые слуги дьявола, и в
таком обличье случается выступать и ему самому. Именем Бога, старик, если ты
все же смертный человек, заклинаю тебя, уходи! Мне противны слова твои и
твое присутствие. На советы твои я плюю. И смотри, — добавил Дамиан, сделав
угрожающий жест, — берегись, я скоро буду свободен!
— Мальчишка! — с презрением ответил паломник, сложив руки под
плащом. — Я не боюсь твоих угроз и не оставлю тебя, пока мы не узнаем друг друга
лучше.
— Я тоже, — сказал Дамиан, — хотел бы узнать, человек ты или дьявол,
и сейчас я это проверю!
Тут последняя из оков спала с его ноги, зазвенев на каменном полу.
Дамиан бросился на паломника, обхватил его поперек тела и трижды попытался
приподнять его и бросить на пол, приговоривая:
— Вот тебе за клевету на благородного рыцаря! А вот за сомнение в
рыцарской чести! А вот (тут он напряг все свои силы) за клевету на даму!
Каждое из усилий Дамиана, казалось, могло с корнем выворотить дерево,
а старик хотя и пошатывался, но не упал. Прежде чем Дамиан успел
отдышаться, он ответил:
— А вот тебе за грубое обращение с братом твоего отца!
И тут Дамиан де Лэси, лучший из юных борцов Чешира, получил удар,
от которого свалился на пол. Ошеломленный, он медленно поднялся, но
паломник уже откинул капюшон и далматику11; лицо под ними, хотя и отмеченное
возрастом и солнцем Палестины, было лицом его дяди коннетабля, который
спокойно заметил:
— Как видно, Дамиан, ты стал сильнее, или я стал слабее с тех пор, как мы
в последний раз мерились с тобой силами. Ты ведь едва не свалил меня, да
только и я не хуже тебя знаю наш семейный прием: подножка и бросок назад.
Но зачем ты встал на колени? — Он ласково поднял Дамиана, поцеловал его и
продолжал: — Не думай, милый племянник, что я, переодевшись, испытывал
твою верность. Сам я в ней никогда не сомневался. Но злые языки поработали
здесь вовсю; это и заставило меня предпринять испытание, из которого ты вы-
212
Обрученная
шел с честью, как я и ожидал. Знай (ибо у этих стен бывают уши), что
поблизости тоже есть уши и глаза, которые теперь все услышали и увидели. Ох, лучше
бы твое третье объятие было чуть послабее! Мои ребра все еще чувствуют силу
твоих рук.
— Дорогой и уважаемый дядюшка, простите... — сказал Дамиан.
— Прощать тут нечего, — отвечал дядя, прерывая его, — точно нам с тобою
и прежде не случалось побороться! Но тебе предстоит выдержать еще одно
испытание. Скорее выходи из этой норы и оденься во все самое лучшее, чтобы
в полдень сопровождать меня в церковь, Дамиан. Ведь ты должен
присутствовать на бракосочетании леди Эвелины Беренжер.
Это приглашение сразило несчастного юношу.
— Смилуйтесь, мой добрый дядюшка! — воскликнул он. — Я был недавно
тяжко болен и все еще очень слаб.
— Это готовы подтвердить мои кости, — сказал дядя. — Да ты силен как
норвежский медведь!12
— Негодование, — ответил Дамиан, — могло на краткий миг придать мне сил;
но, дорогой дядюшка, требуйте от меня чего хотите, только не этого. Если я
провинился, быть может, довольно будет какого-либо другого наказания?
— А я говорю тебе, — промолвил коннетабль, — что твое присутствие в
церкви необходимо. Ходят странные слухи, и твое отсутствие на церемонии
подтвердит их. Дело касается чести Эвелины и моей.
— Если так, — сказал Дамиан, — если это действительно так, никакая задача
не будет для меня слишком трудной. Надеюсь только, что, по окончании
церемонии, вы не откажете мне в разрешении взять на себя крест, если только не
предпочтете, чтобы я вступил в войска, которые, как я слышал, готовятся
завоевывать Ирландию13.
— Да, — сказал коннетабль, — если такое разрешение даст Эвелина, я
препятствовать не стану.
— Дядюшка, — сказал Дамиан с некоторой суровостью, — вы не знаете, какие
чувства обращаете в шутку.
— Я ни к чему никого не принуждаю, — сказал коннетабль. — Если ты
придешь в церковь и не пожелаешь, чтобы церемония состоялась, так оно и будет.
Церемония не может состояться без согласия жениха.
— Я не понимаю вас, дядюшка, — сказал Дамиан. — Ведь свое согласие вы уже
дали.
— Да, Дамиан, — ответил тот. — Я согласился... отказаться от своих прав в
твою пользу. И если Эвелина Беренжер вступит сегодня в брак, то женихом
будешь ты. Церковь разрешила это, король одобрил, невеста не говорит «нет»,
остается лишь спросить, дает ли свое согласие жених.
Каков был на это ответ, вообразить нетрудно; нет также надобности
подробно описывать пышную брачную церемонию, которую Генрих, заглаживая свою
недавнюю незаслуженную суровость, почтил своим присутствием. Вскоре
после этого сочетались браком Амелот и Роза. Старому Флэммоку
предварительно дали дворянство и герб, чтобы благородная норманнская кровь могла без
урона для себя сочетаться с той, менее благородной, которая окрашивала розо-
Эпилог
213
вые щеки прекрасной фламандки и голубела в жилках на ее прелестной шее и
груди.
В отношении коннетабля к племяннику и его молодой жене никто не увидел
бы и следа сожалений о великодушной жертве, которую принес он ради их
молодого счастья. Но вскоре после этого он принял командование войском,
которому предстояло вторгнуться в Ирландию; и имя его значится первым14 в
списке норманнских рыцарей, присоединивших этот прекрасный остров к
владениям английской короны15.
Эвелина, получив обратно свой величавый замок и свои земли, озаботилась
судьбою своего духовника, а также старых воинов и слуг; предав забвению их
провинности, она помнила лишь их верную службу. Духовнику Эвелины
вернули его сытую жизнь в замке, более отвечающую его привычкам, нежели
скудные монастырские трапезы. Даже Джиллиан получила средства к
существованию, ибо покарать ее значило бы обидеть верного Рауля. В течение
оставшейся им жизни супруги эти ссорились, живя в довольстве, так же как ссорились,
когда терпели нужду; ибо драчливые псы дерутся из-за роскошного угощения
столь же яростно, как из-за обглоданной кости. Рауль умер первым, и
Джиллиан, лишившись оселка, на котором она оттачивала свое остроумие16, убедилась,
что утратила не только свежесть молодости, но и острый язык. Она сделалась
набожной и целыми часами восхваляла своего покойного мужа.
Насколько мне известно, единственное, что омрачило однажды жизнь леди
Эвелины, было посещение ее саксонской родственницы; обставленное весьма
торжественно, оно, к несчастью, пришлось как раз на время, которое выбрала
для такого же визита аббатиса. Разлад между этими двумя почтенными
особами был двоякого свойства; во-первых, одна из них была норманнкой, а другая
саксонкой; во-вторых, они расходились во мнениях относительно сроков
празднования Пасхи17. Впрочем, и это было всего лишь легким облачком,
пронесшимся по ясному небу, каким стала жизнь Эвелины, ибо ее брак с Дамианом,
на который, казалось, не было никакой надежды, окончил все испытания и все
горести ОБРУЧЕННОЙ18.
Дополнение
ВАЛЬТЕР СКОТТ
Предисловие к роману «Обрученная»
Выпуская в свет романы «Обрученная» и «Талисман» под общим заглавием
«Рассказы о крестоносцах», автор полагался не столько на собственный вкус,
сколько на мнение друзей (чей узкий круг стал вдвое уже1, с тех пор как смерть
похитила самых близких2). И хотя романист был твердо уверен в
благосклонном внимании публики к избранному им предмету, все же ему не раз
приходило в голову, что вызвать поверхностный интерес к сочинению намного проще,
чем удовлетворить разносторонние потребности читателя, когда в воображении
последнего, завороженном благородными образами рыцарей в стальных латах,
начнут тесниться картины одна грандиозней и возвышенней другой, так что от
века еще не рождался писатель, способный хоть в слабой степени запечатлеть
их величие на бумаге, не оказавшись в положении карлика, который сам
же дает мерку для определения своего роста, выставляя себя (по выражению
Стерна3) «дсарликом не в одном только отношении»*4.
Истинная же суть дела (если она обладает хоть малой ценностью в глазах
читателя) заключается в том, что интересы романиста и издателя, единые в
главном, подчас весьма решительным образом расходятся в вопросе о
предназначении титульного листа. И самый важный секрет повествовательного
искусства (если снять завесу таинственности) сводится к тому, что интригующее
заглавие не имеет иной цели кроме возмещения расходов издателя, помогая ему
распродать весь тираж романа прежде, чем публика сможет хотя бы
поверхностно ознакомиться с его содержанием. Между тем, автору подобает
стремиться к более прочной и долговечной славе, публике должна быть дана
возможность справедливо оценить его труд, когда наступит время разрезать книжные
страницы. Поэтому заглавия произведений, сочиненных великими
романистами, всегда представляют для читателя загадку, ключ от которой не может быть
найден, пока роман не прочитан до конца5.
Все перечисленные соображения, впрочем, нисколько не помешали выбору
вышеуказанного заглавия; и так как публикация цикла совпала с периодом
подготовки злополучных книгоиздательских проектов6 (год тысяча восемьсот
двадцать пятый), предисловие к первому изданию «Рассказов» получило
характер отклика на злобу дня7.
Говоря непосредственно о плане «Обрученной» (первого романа из двух),
автор вынужден признать, что заранее отказался от мысли угождать чьим-либо
* Пер. А. А. Франковского.
Предисловие к роману «Обрученная»
215
вкусам, будучи убежден, что даже одобрение одних не позволит ему избежать
разочарования остальных, которые справедливо сочтут себя обманутыми в
собственных ожиданиях. Именно поэтому наиболее знаменитые эпизоды эпохи
крестовых походов не годились для фабулы нашего романа. Все содержание
последнего должно было сосредоточиться вокруг одного частного происшествия,
порожденного тем особенным складом ума, который распространился под
влиянием грандиозных свершений и пагубных предрассудков этого времени. Среди
многочисленных бедствий, сопутствовавших неограниченному влиянию этого
своеобразного умонастроения, немалая роль принадлежала семейным
неурядицам и драмам. Для крестоносца было в порядке вещей, вернувшись домой после
ратных трудов и паломничества, обнаружить, что его семейство пополнилось
юным отпрыском, происхождению которого покинутая матрона не могла дать
сколько-нибудь удовлетворительного объяснения, или удостовериться в том, что
брачное ложе, оставленное пустым, уже занято, так как хозяйка, вместо того
чтобы нянчиться со стариком, предпочла быть возлюбленной молодого. В
разных частях Европы рассказывалось великое множество подобных историй;
и возвратившийся рыцарь или барон, в соответствии со своим нравом, либо
добродушно усаживался на свое хозяйское место, удовлетворенный тем
объяснением, какое могла дать сомнительному случаю его супруга, либо немедленно
брался за оружие, готовый любыми средствами отстаивать свою честь, невзирая на
то, что сам же подверг ее искушению, покинув свои пенаты в поисках
приключений в Палестине.
Шотландское предание, упомянутое, кажется, в одной из частей «Песен
шотландской границы»8, приписывает клану Твиди — семейству некогда
сплоченному и воинственному — происхождение, которое более подобало бы
какому-нибудь античному герою. Барон, довольно пожилой, как мы можем
предположить, женился на цветущей молодой леди и через несколько месяцев после
заключения брака оставил ее в одиночестве скучать за прялкой в башне
своего старого замка в горах графства Пиблз, недалеко от истоков Твида9. Он
вернулся семь или восемь лет спустя (обычный срок паломничества в Палестину)
и обнаружил, что в его отсутствие семья была избавлена от тягот долгой
разлуки, ибо супруга (которая одна могла бы дать надлежащее объяснение этому
факту) нашла утешение в обществе незнакомца, который цеплялся за ее юбки,
звал мамочкой и был точь-в-точь таким, каким барон мечтал бы видеть
собственного сына, если бы не то обстоятельство, что паломник (чье мнение в
данном вопросе ничем не отличалось от мнения любого из мирян) никак не мог
соотнести возраст мальчика с датой своего отъезда в Палестину. Итак, барон
обратился к жене за разрешением этой дилеммы. Леди, пролив обильные
потоки слез, заготовленных как раз на этот случай, поведала почтенному
джентльмену, что однажды, когда она гуляла в одиночестве вдоль берега реки, из
глубины омута, до сих пор известного под названием заводь Твида, возникло
подобие человеческой фигуры, соизволившей объявить себя божеством —
покровителем источника; вышеозначенный речной бог и стал, Ъоп gre malgre*, отцом того
* Волей-неволей (фр.).
216
Дополнение
крепыша, чье появление на свет так сильно удивило ее супруга. Немногие
современники барона поверили бы в эту историю, слишком живо напоминавшую
времена язычества, но жена была молода и красива, а муж стар и немного впал
в детство; ее семейство (речь, по-видимому, идет о Фрэзерах) было
могущественным и отличалось воинственным нравом, а барон уже довольно навоевался в
священных войнах. Так или иначе, он поверил или сделал вид, что поверил,
рассказу и смирился с присутствием в своем доме младенца, которым его жена
и Твид столь великодушно наградили его. Единственным обстоятельством,
напоминавшим об этом происшествии, было то, что за юнцом сохранилось имя
Твид, или Твиди. Барон между тем уже не мог, как поется в старинной
шотландской песне, «заставить колыбель качаться», а Твид, очевидно, решил, что одного
побочного сына вполне достаточно для доброго пресвитерианина10; и так мало
было в бароне желчи, что, приняв юного Твида в свою семью как наследника
при жизни, он оставил за ним все права и после своей смерти, так что сын
речного бога стал основателем рода Драммельзир и некоторых других родов,
от которых произошло, по выражению Эттрика Пастуха11, «множество
храбрецов и множество славных подвигов».
Рассказ о Благородном Моринджере, по сути, того же свойства — он
сохранился в собрании немецких народных песен под названием Sammlung Deutschen
Volkslieder*, Берлин, 1807, опубликованном господами Бушингом и Фон дер Ха-
геном. Предполагается, что это отрывок из датированой 1533 годом
рукописной хроники Николаса Томанна, капеллана собора Св. Леонарда в Виссен-
хорне. Весьма популярная в Германии, баллада была создана, судя по ее
языку, в XV веке. Благородный Моринджер, могущественный немецкий барон,
перед тем как отправиться в Землю св. Фомы, о местоположении которой нам
ничего не сообщается, поручает свой замок, владения и супругу вассалу, взяв с
него торжественную клятву стеречь хозяйское добро, пока не истечет
семилетний срок паломничества. Его дворецкий, уже немолодой и осторожный человек,
отклоняет эту честь, признаваясь барону, что если бы семь лет можно было
легко превратить в семь дней, то и тогда он лишь в случае крайней необходимости
отважился бы поручиться за верность самой добродетельной из женщин12.
Эсквайр13 Благородного Моринджера самонадеянно принимает на себя
почетную обязанность, от которой отказался дворецкий, и барон отправляется в путь.
Проходит семь лет без одного дня и одной ночи, и вот, пока благородный путник
мирно дремлет под сенью тенистого сада, его посещает пророческое видение.
Спит Благородный Моринджер, и чудится ему:
Невидимый бесплотный дух спускается во тьму.
«Проснись, барон, не время спать, — тревожный шепчет глас,
Не то с именьем и женой простишься сей же час!
Чужое знамя в вышине над замком родовым,
Чужому служит твой вассал, унылый пилигрим;
А госпожа, чью красоту и верность славил всяк,
Вступить с Марстёттином14 младым готова в новый брак».
* «Собрание немецких народных песен» (нем.).
Предисловие к роману «Обрученная»
217
Моринджер вскакивает и обращается к своему небесному покровителю,
умоляя святого уберечь его от надвигающегося позора. Святой Фома, должно быть,
почувствовав справедливость упрека, невольно прозвучавшего в словах
благородного паломника, совершает чудо. Моринджер погружается в забытье и
просыпается на поляне в одном из красивейших уголков своих владений; кругом
знакомые места: направо — замок его отцов, налево — мельница, построенная,
по обычаю, неподалеку от замка.
И, опершись на посох свой, он к мельнице идет,
Но из вассалов ни один его не узнает.
Он хочет мельника спросить, коль сведущ тот в делах,
Зачем у слуг такая прыть в движеньях и словах?
«Что ж, нынче всякий уж твердит, кому не надоест,
О том, что вновь идет к венцу хозяйка здешних мест.
Скончался старый наш барон (Господь его прости!):
К святым отправился местам — да сгинул по пути.
Дает мне мельница доход по милости его,
Он от голодной смерти спас холопа своего.
Зато, пока полны у нас в амбарах закрома,
Попу, что молится о нем, век не грозит сума»15.
Подойдя к воротам замка, барон обнаруживает, что они заперты для
защиты от непрошеных гостей, а весь внутренний двор тем временем гудит, словно
улей, от приготовлений к свадьбе госпожи. Паломник стучится в ворота,
заклиная привратника снизойти к страданиям бедняка и открыть ему двери из
уважения к памяти покойного Моринджера; страж впускает его по приказу хозяйки.
Он входит в залу не спеша, никто ему не рад;
Не так сеньора чтили здесь семь лет тому назад!
Садится рыцарь на скамью (тоска его грызет);
И вечер кажется ему длинней, чем целый год.
День промелькнул, и молодым вот-вот настанет срок
Покоя брачного вдвоем переступить порог.
Но свято в замке чтут один обычай страны:
До ночи гости песню спеть на празднике должны.
Когда наступает черед паломника показать свое искусство, он напевает
следующий меланхолический речитатив:
Печален старости напев и стужей напоен,
Не весел голос у того, кто стар и удручен.
Был, как и ты, когда-то я цветущим женихом,
С младой невестой пировал за свадебным столом.
Но время инеем своим виски мне серебрит,
И ради юноши старик невестой позабыт;
Навек утратил пилигрим богатство и покой
И с песней свадебной смешал напев зимы седой.
218
Дополнение
Хозяйка, тронутая печальными воспоминаниями, пробудившимися в ее душе
под влиянием этой песни, посылает паломнику кубок вина. Почтенный гость,
осушив вино, бросает на дно свое обручальное кольцо и возвращает кубок
госпоже, смиренно прося хозяйку выпить за его здоровье.
Невеста смотрит на кольцо, о женихе забыв,
Сорвался с уст внезапный крик: «Здесь Моринджер, он жив!»
Глаза струят потоки слез, соленых словно море,
Но только дамы могут знать: от радости иль с горя.
Благодарит она Христа и все святые силы
За то, что к ней в урочный час супруга возвратили.
И вновь клянется, что нигде — хоть обойди весь свет! —
Верней супруги, чем она, и не было и нет.
И просит кубок осушить во славу верных жен,
Которые неложно чтут супружеский закон.
Ведь клятвы срок — как не считай! — немедля истечет,
Как только колокол большой двенадцать раз пробьет».
Марстеттин встал, шагнул вперед, оружье крепко сжал,
У ног сеньора своего он на колени пал:
«Нарушил клятву я и честь навек утратил с ней,
Возьми же меч мой и рази изменника скорей».
Но улыбнулся Моринджер: «Мудрее станет тот,
Кто на чужбине столько лет в скитаньях проведет;
Лишился ты жены сейчас, но это не беда:
Есть у меня невеста-дочь, наследница моя.
Пусть коротают долгий век друг с другом старики,
Но не годится молодой старухе в женихи.
Привратник, вовремя ты дал паломнику приют,
Недаром строгий счет часам все женщины ведут»16.
В богатой сокровищнице старинной немецкой поэзии сохранился еще один
вариант этого сюжета, положенный господином Тиком17 (чьи сочинения в этом
роде столь примечательны) в основу одной из его романтических драм. Нет
никакой необходимости, однако, пересказывать его во всех подробностях, так
как наш автор позаимствовал его идею из рукописи, хранящейся в замке Хей-
холл. В настоящее время этот старинный замок, служивший некогда
фамильной резиденцией семейства Брэдшо, принадлежит их потомкам по женской
линии, графам Балькарра. Рассказ очень напоминает историю Благородного
Моринджера, с той только разницей, что в нем нет чуда св. Фомы, которое
могло бы оскорбить религиозные чувства добрых протестантов. Мои
благородные друзья, лорд и леди Хейхолл, позволили мне опубликовать следующую
выдержку из их семейной родословной.
Предисловие к роману «Обрученная»
219
Сэр Уильям Брэдшо Второй, Мэйбл,
сын сэра Джона, дочери и единственной наследнице
был великим путешественником Тью Нориса из Хея и Блэкроуда
и воином и имел потомство
и женился на
Об этой Мэйбл достоверно рассказывают, что в отсутствие сэра Уильяма
(который десять лет скитался в чужих краях) она вышла замуж за валлийского
рыцаря. Вернувшись из странствий, сэр Уильям пришел в Хей в одежде
паломника, смешавшись с толпой бедняков. Заметив, как он похож на ее первого
мужа, леди заплакала, за что жених ударил ее; в ответ сэр Уильям выступил
вперед и назвал вассалам свое имя; в ту же минуту рыцарь бежал. Но
недалеко от Хютон Барка сэр Уильям настиг его и убил. Упомянутой леди Мэйбл
исповедник назначил епитимью: каждую неделю в течение всей последующей
жизни она должна была отправляться босиком из Хея к св. кресту, что возле
Уигана. И по сей день этот крест носит имя Мэб. Памятник лорду и леди
Брэдшо находится в уиганской церкви, где можно увидеть их изображения.
Anno Domini 1315
Вокруг Хейхолла сохранилось множество следов, напоминающих о
покаянных обрядах, через которые пришлось пройти леди Мэйбл по воле ее
католического духовника, равно как и о подоплеке этого злополучного дела. Вся
вышеупомянутая история разыгралась на памяти человека, изображение
которого, еще недавно отчетливо проступавшее на одном из витражей в зале, в наши
дни, к сожалению, не сохранилось. Крест Мэб существует до сей поры. А
расположенное неподалеку старинное полуразрушенное здание и было, как
говорят, тем местом, куда леди Мэйбл, осужденная нести церковное покаяние,
должна была отправляться босой из Хейхолла, во исполнение строгой епитимьи. Это
древнее сооружение, с которым легенда связала столь любопытный анекдот,
к несчастью, стоит теперь в руинах. Время и известка, как говорит мистер Роби,
сделали совершенно неразборчивыми изображения рыцаря и леди на их
гробнице. Подробности приводятся в «Преданиях Ланкашира» мистера Роби, к
которым мы и отсылаем читателя за дальнейшими уточнениями**. Не похоже,
чтобы сэр Уильям Брэдшо счел опрометчивый поступок жены непоправимо
тяжким оскорблением для своей чести, хотя, бесспорно, он выказал более
вспыльчивый нрав, чем шотландский и немецкий бароны, являвшиеся героями
предыдущих рассказов. Автору впервые довелось услышать это предание в дни
его молодости из уст покойной леди Балькарра. Оно произвело на него столь
сильное впечатление, что, будучи в ту пору весьма расточительным по
отношению к фольклорным источникам, он не преминул изложить историю леди
Мэйбл в примечании к «Уэверли»18 — первому из своих прегрешений в
романическом роде. Если бы он знал тогда настоящую цену этому сюжету (как знает
теперь), то, вероятно, отложил бы его воплощение до более подходящего
случая (как советует всем эпическим поэтам неподражаемый критик «Гардиан»19).
* Год от Рождества Христова (лат.).
** Очень изящное издание в 2 томах, 1829. Изд. Дж. Роби.
220
Дополнение
Но так как эта повесть, со всеми ее занимательными подробностями (столь
ярко рисующими нравы рыцарских времен), все же не была рассказана
целиком, автор решил вернуться к ней, приурочив рассказ к периоду кровавых войн
между валлийскими князьями и норманнскими лордами на землях Марки.
Углубившись в хронику того далекого времени, романист получал
неограниченную свободу в выборе материала, не рискуя нарушить правдоподобие чересчур
вольным обращением с историческими фактами. Быть может, наиболее полное
представление об изображенной в романе эпохе, со всеми ее жестокими
сражениями и убийствами, удостоверяющими правдивость нашего повествования, дает
следующий отрывок из истории войн Гриффита ап Эдвина.
«Названный князь в союзе с Алгаром, графом Честерским, изгнанным из
Англии за измену в царствование Эдуарда Исповедника20, вошел в Хирфорд-
шир21 и опустошил его плодородные земли огнем и мечом, мстя за смерть
своего брата Риса, чья голова была доставлена Эдуарду по приказу самого короля
и в наказание за набеги, совершенные валлийцем против англичан в
приграничной области. Чтобы прекратить эти бесчинства, граф Хирфордский, племянник
короля, выступил против Гриффита и Алгара с армией, состоявшей из
англичан и из франко-норманнских наемников. Он сошелся со своими
противниками неподалеку от Хирфорда и предложил им бой, на что валлийский монарх,
выигравший уже пять рискованных сражений и ни разу не потерпевший
поражения, с радостью согласился. Граф приказал английским воинам
сражаться верхом, в подражание норманнам и вопреки принятому у них обычаю;
но валлийцы предприняли такую яростную и отчаянную атаку, что один вид их
устрашил и самого благородного дворянина, и его иностранную конницу, так что
все они позорно бежали без боя; увидев это, англичане также показали свои
спины врагам, а те в свою очередь, убив или ранив всех, кого еще можно было
настигнуть в их паническом бегстве, с триумфом вошли в Хирфорд,
разграбили и сожгли город, сровняли стены с землей, зарезали или полонили великое
множество горожан и, говоря словами валлийской хроники, не оставили в
городе ничего, кроме крови и пепла. После этого подвига они немедленно
вернулись в Уэльс, несомненно, подстегиваемые желанием обеспечить надежную
охрану своим пленникам и богатой добыче, завоеванной в сражении. Сразу же
вслед за этим английский король приказал графу Гарольду22 собрать огромное
войско со всех частей королевства и, сосредоточив его у Глостера23, выступить
оттуда, чтобы вторгнуться во владения Гриффита в Северном Уэльсе. Граф
выполнил приказ и прорвался вглубь враждебной страны, не встретив
сопротивления; Гриффит и Алгар вернулись в это время в Южный Уэльс. Какие
причины побудили их к этому, неизвестно; так же как и то, почему Гарольд не
использовал своего преимущества; но, судя по всему, он счел, что в данный момент
благоразумнее вступить с противником в переговоры, чем принуждать его к
покорности, так как покинул Северный Уэльс и занялся восстановлением стен
Хирфорда, в то время как переговоры с Гриффитом продолжались; вскоре
результатом последних стало восстановление прав Алгара и заключение с этим
правителем мирного договора — не слишком почетного для Англии, ибо Алгар
не только не возместил ущерба, нанесенного во время военных действий англи-
Предисловие к роману «Обрученная»
221
чанам, но и не подчинился Эдуарду. У Гарольда, несомненно, должны были
быть веские причины для заключения подобного соглашения. Уже в следующем
году валлийский монарх (под каким предлогом нам неизвестно) вновь вторгся
в Англию и убил епископа Хирфордского, шерифа графства и еще многих
англичан — клириков и мирян. Гарольд и Леофрик, правитель Мерсии24, вновь
убедили Эдуарда заключить с Гриффитом мир, который тот снова нарушил;
и никакими средствами нельзя было удержать его от этих варварских набегов
вплоть до тысяча шестьдесят третьего года, когда Эдуард, чьим терпением и
миролюбием так сильно злоупотребили, поручил Гарольду собрать все силы
королевства и начать войну с валлийцем до его полного покорения или
уничтожения на его территории. Этот полководец действовал столь энергично и
стремительно, что едва не застиг Гриффита врасплох в его собственном дворце;
но как раз тогда, когда английские войска приблизились к воротам, он, заметив
угрожавшую ему опасность и не видя других путей к спасению, бросился
вместе с немногими домочадцами к одному из своих кораблей, оказавшемуся
готовым к отплытию, и вышел в море». — История Англии Литтлтона, том П, с. 338.
Читатель легко обнаружит сходство между этим отрывком и вымышленной
историей, рассказанной в романе.
Абботсфорд, 1 июня 1832 года.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Т. Г. Чеснокова
Роман «Обрученная»
в творчестве Вальтера Скотта
Исторические романы Вальтера Скотта (1771—1832) по праву считаются
главным художественным достижением их создателя — поэта и романиста,
собирателя фольклора и критика, историка и «антиквария». В России это наиболее
востребованная часть литературного наследия выдающегося шотландца. Однако
не всем творениям писателя, принадлежащим к этому жанру, выпала
счастливая судьба «Айвенго» (1819) или «Квентина Дорварда» (1823), вот уже более
полутора веков сохраняющих неизменную любовь читателей разных
национальностей и поколений. Поклонникам творчества В. Скотта еще предстоит
знакомство с другими произведениями любимого автора, неизвестными широкой
публике и наполовину забытыми даже историками литературы. К числу таких
забытых томов из наследия замечательного художника принадлежит и роман
«Обрученная» («The Betrothed», 1825).
Выход в свет этого произведения в 1825 г. был встречен публикой с обычным
для того времени интересом ко всему, что появлялось из-под пера
«шотландского чародея»1. Однако сам роман не вызвал особых восторгов. Русская
критика, полагаясь на западную, поспешила объявить, что «подлинник» новой книги
«принадлежит к числу не первоклассных произведений знаменитого»
романиста2. Сдержанная оценка критики, впрочем, не помешала скорой публикации
первого русского перевода (1828) «Коннетабля Честерского, или Обрученных»3.
Под этим заглавием роман неоднократно издавался и позже — во второй
половине XIX — начале XX в. — в составе собраний сочинений В. Скотта,
предназначенных для юношества и включавших в основном сокращенные переводы4.
1 Пушкин А. С. Юрий Милославский, или Русские в 1612 году//Поли. собр. соч.: В 10 т. 2-е изд.
М.: Изд-во АН СССР, 1956-1958. Т. 7. С. 102.
2 См.: Московский Вестник. 1828. Ч. 12. № 23-24. С. 299.
3 Перевод был выполнен в Санкт-Петербурге Н. Шигаевым (см.: Коннетабль Честерский, или
Обрученные: В 3 ч. / Пер. с англ. Н. Ш. СПб.: Смирдин, 1828). Московские и петербургские
журналы той поры единодушны в его высокой оценке: «"Ивантое" и "Аббат" и переведенный ныне
"Коннетабль Честерский'' принадлежат к тому небольшому числу романов, которые, относительно
к слогу и близости к подлинникам, можно с великим удовольствием читать по-русски» (Сын
Отечества. 1828. Ч. 121. № 19. С. 279). Рецензенту из Санкт-Петербурга с энтузиазмом вторит
сотрудник «Московского вестника»: «Лучший из всех наших переводов В. Скотта, — или, скажем
гораздо более, очень хороший перевод <...>» (Московский вестник. 1828. Ч. 12. № 23—24. С. 299).
4 Подробнее о дореволюционных изданиях «Обрученной», а также о переводе заглавия романа см.
преамбулу к примеч. наст, изд.; см. также: Левидова И. М. Вальтер Скотт: Био-библиографический
указатель к 125-летию со дня смерти. М.: Изд-во Всесоюзной книжной палаты, 1958. С. 39—41, 46.
8 В. Скотт
226
Т. Г. Чеснокова
Эта традиция неожиданно прервалась после Октябрьской революции, и
единственная попытка ее возрождения была сделана в середине 90-х годов прошлого
столетия5. Тем не менее роман «Обрученная» продолжает оставаться одним из
самых неизвестных произведений В. Скотта.
Трудно сказать, что послужило главной причиной столь долгого забвения
романа в России. Быть может, недостаточно сочувственное изображение
бунтующих вилланов (в гл. XXVII) или сугубо рыцарская проблематика. С другой
стороны, весьма вероятные идеологические ограничения, несомненно,
переплетались с более давними предубеждениями эстетического порядка. Оценка
художественных достоинств книги европейской критикой и наиболее известными
биографами Скотта (от Дж. Локхарта до X. Пирсона и отчасти Дж. Сазерленда)
никогда не была высокой6. Превратившись со временем в своеобразный штамп,
она препятствовала элементарному знакомству многих соотечественников
Скотта с его «неудачным» произведением7 и, безусловно, сказалась на восприятии
произведения советскими критиками, издателями и историками литературы.
Так или иначе, роман «Обрученная» после долгого перерыва возвращается к
русскому читателю, и это дает повод задуматься о справедливости
устоявшихся оценок, о подлинных достоинствах и недостатках этой книги, о ее роли и
месте в творческом наследии автора.
* * *
Вальтер (Уолтер) Скотт родился 15 августа 1771 года в Эдинбурге. Род
Скоттов был древним и подтверждал общее правило, гласившее, что каждый
шотландец — джентльмен от рождения. Однако уже дед мальчика был мирным
фермером, а отец (тоже Уолтер) — юристом — к сожалению, больше терявшим,
чем зарабатывавшим на своих процессах. Мать — урожденная Анна Резерфорд —
происходила из семьи профессора медицины. Семейство Уолтера и Анны было
многочисленным: даже после смерти шестерых братишек и сестренок у
Вальтера (появившегося на свет девятым) оставались четыре брата и сестра.
Младенческие годы будущего писателя оказались омрачены тяжелой и
затяжной болезнью, в которой со временем доктора распознали детский паралич.
Его последствием осталась хромота — недостаток, сопровождавший В. Скотта
до могилы. Нравы людей, окружавших ребенка в быту, не отличались
возвышенной гуманностью: по рассказам, одна из нянек Вальтера, отправленная с ним
в деревню и при этом разлученная со своим любовником, едва не перерезала
ненавистному младенцу горло, но вовремя одумалась и повинилась. Не менее
5 См.: Скотт В. Коннетабль Чесгерский: Роман; Редгонтлет: Роман; Опасный замок: Роман: Пер.
с англ. М.: Book Chamber International, 1994. (Романы приключений); см. также преамбулу к
примеч. наст. изд.
6 См.: LockhartJ. G. Memoirs of the Life of Sir Walter Scott: In 5 vol. Boston; N. Y., 1901. Vol. IV.
P. 274-276; Sutherland J. The life of Sir Walter Scott: A Critical Bioraphy. Cambridge (Mass.), 1995.
P. 277—279; ПирсонX. Вальтер Скотт. 2-е изд. /Пер. с англ., послеслов. и коммент. В. Скороденко.
М.: Книга, 1983. С. 158.
7 См.: Lang A. Editor's Introduction to the Betrothed//W. Scott The Betrothed. Boston: Dana Estes &
Сотр.; Boston Publishers, 1894. P. XI.
Роман «Обрученная» в творчестве Вальтера Скотта
227
отчаянными казались и повадки благородных предков самого Скотта, память
о деяниях которых сохранилась в семейных преданиях, в песнях и балладах
Пограничного края. Настоящим знатоком старинных баллад была тетка
будущего писателя Дженет, а бабушка Вальтера пересказывала хронику недавних
войн между шотландскими якобитами8 и сторонниками Ганноверской династии9
так живо, словно сама была участницей кровавых событий. Впрочем, по мнению
В. Скотта, подвиги его предков, окруженные столькими славословиями,
не слишком сильно отличались от обычного разбоя: «До Унии королевств мои
предки, подобно другим джентльменам Пограничного края, триста лет
промышляли убийствами, кражами да разбоем <...>; при последних Стюартах <...>
охотились, пили кларет и учиняли мятежи и дуэли вплоть до времен моего отца и
деда»10. Он и сам порой обнаруживал в своих жилах ту же горячность,
заставлявшую его бросаться на обидчика, не задумываясь о разнице в возрасте и
физической силе. Со временем годы и увечье сделали Скотта более
благоразумным. Он не любил вспоминать о вспышках гнева и других сильных порывах
страстей, которым был подвержен в детстве и ранней юности. Это отличало его
от Байрона, едва не кичившегося своей необузданностью, возможно, также
унаследованной от шотландцев — предков его матери, происходившей из
знаменитого рода Гордонов.
В детские годы Вальтер поражал окружающих отнюдь не добродушной
простоватостью, но пытливым умом, ярким воображением и великолепной
памятью. Он рано стал мечтателем и страстным любителем чтения. Уже шести
лет от роду знал Мильтона и Гомера (в переводе А. Поупа), в школьные годы
увлекался творениями великих итальянцев Ариосто и Тассо, незадолго до
окончания колледжа зачитывался Спенсером и «впервые открыл для себя
старинные баллады из "Наследия древней поэзии" Перси»11. В окрестностях фермы
своего деда в Сэнди-Hoy он облазил все холмы и развалины, памятуя о том, что
каждая гора в этих местах «хранила предание, каждая река — песню, каждый
замок — тайну»12. Числились за ним и более заурядные мальчишеские подвиги:
в уличных драках потомок мятежных горцев, несмотря на увечье, был явно не
из последних. Однако судьба, казалось, зорко следила за тем, чтобы
пробудившаяся активность и однообразные занятия в Эдинбургском колледже не
заглушили в юноше ростков воображения.
В 15-летнем возрасте новая болезнь — разрыв сосуда — надолго уложила
Вальтера в постель, «роковым образом» возвратив его в «царство фантазии».
Проглотив за короткое время все «романы, старинные драмы и эпические
поэмы»13, которые могла предоставить ему Эдинбургская библиотека, юный мечта-
8 Якобитами в Британии конца XVII и в XVIII в. называли сторонников династии Стюартов.
Якобиты боролись за возвращение короны прямым потомкам Якова П Стюарта, подписавшего в
1688 г. (в результате «славной революции») отречение от престола.
9 Британская корона перешла к представителям Ганноверского дома в 1714 г.
10 Цит. по: Пирсон X. Указ. соч. С. 5.
11 Там же. С. 17.
12 Там же. С. 11.
13 Скотт В. Общее предисловие к собранию романов 1829 года// Собр. соч.: В 20 т. М.; Л.:
Худож. лит., 1960-1965. Т. 1. С. 49.
8*
228
Т. Г. Чеснокова
тель до такой степени начинил свое воображение «романтическими» образами,
что для переработки этого огромного материала понадобилась целая жизнь.
Потребность в труде романиста, который «в дальнейшем пришлось так долго
выполнять»14, будущий писатель ощутил не сразу. Внешне его жизнь, казалось,
вошла наконец в нормальную колею: он выздоровел и вернулся к постоянным
занятиям, изучал право в отцовской конторе (с 1786 г.) и, выдержав экзамен на
юриста, стал отдавать много времени адвокатским делам. С этого времени круг
его впечатлений расширился: он объездил едва ли не каждый уголок горной и
равнинной Шотландии, встречался с людьми всех сословий и состояний,
становясь поневоле знатоком сердец, характеров и страстей.
Приблизительно в это время Вальтеру Скотту довелось пережить самое
сильное увлечение его юности — «три года сладких грез и два года пробуждения от
них», по его собственным словам. Героиню этих грез звали Вильямина Белшес.
Вильямине было всего 15 лет, когда с ней познакомился 20-летний Скотт,
находчиво предложив девушке свой зонтик во время дождя. Через пять лет после
знакомства Вильямина, так и не решившись поговорить с родителями о чувствах
Вальтера к ней и, видимо, не питая к нему ответной страсти, вышла замуж за
Вильяма Форбса — сына банкира и будущего баронета. «Раздражительный и
несдержанный» в свои 25 лет (по характеристике одного из друзей), Скотт был
на грани отчаяния, но, дав волю оскорбленной гордости, пообещал жестокой
красавице, что женится раньше, чем она выйдет замуж. Неизвестно, было ли
последовавшее за этим увлечение Скотта Шарлоттой Карпентер частью его
мстительного замысла, однако вскоре Шарлотта стала для него чем-то большим,
нежели просто бальзам для душевных ран, нанесенных Вильяминой.
24 декабря 1797 г. Вальтер Скотт и Шарлотта обвенчались в Карлайле, и в
будущем он ни разу не пожалел о своем выборе. Француженка по
происхождению (на языке предков ее фамилия произносилась «Шарпантье»), Шарлотта
обладала характером веселым и живым, так что даже ее слабости, как уверял
впоследствии Скотт, шли явно на пользу раздражительному шотландцу,
отвлекая его «от надоедливых размышлений о собственной персоне»15. В письме к
одному из близких знакомых писатель, правда, признавал, что в его браке с
миссис Скотт «не было того самозабвенного любовного пыла, который <...>
человеку суждено испытать в жизни лишь один-единственный раз», но между ним
и его «маленькой чужестранкой» с самого начала установилась самая искренняя
взаимная симпатия, которая за годы супружества «не только не уменьшилась,
но скорее возросла». «Тот, кто, купаясь, едва не пошел ко дну, редко
отважится снова соваться на глубокое место»16, — так сэр17 Вальтер Скотт подводил итог
первой и единственной в своей жизни «безумной» страсти.
Благоразумный брак, в глазах самого жениха, не был следствием
врожденной прозаичности его натуры. Скорее наоборот: в женитьбе «по взаимной
симпатии» В. Скотт бессознательно искал средство смягчить те качества своего
14 Скотт В. Собр. соч.: В 20 т. М.; Л.: Худож. лит., 1960-1965. Т. 20. С. 50.
15 Цит. по: Пирсон X. Указ. соч. С. 183.
16 Там же. С. 40.
17 Это звание вместе с титулом баронета Вальтер Скотт получил в 1818 г.
Роман «Обрученная» в творчестве Вальтера Скотта
229
характера, которые казались ему «болезненно-романтическими». Несколько
большими правами, по его мнению, фантазии и страсти обладали в изящной
словесности. Но и на этой стезе он с большой осторожностью отдавался
во власть собственной интуиции. Не с этим ли связана и многолетняя игра в
«Великого Неизвестного», которую В. Скотт, уже знаменитый поэт, автор
баллад и романтических поэм, начал в 1814 г., напечатав свой первый роман
«Уэверли» (а затем и большую часть последующих) анонимно? Для писателя это
был своеобразный способ проверки собственных литературных увлечений на
«общезначимость». Громкий успех таких романов, как «Роб Рой» (1817),
«Айвенго» (1819), «Квентин Дорвард» (1823) и др., не зависевший от сложившейся
литературной репутации автора, явился для него главным свидетельством
верности избранного им пути в литературе.
Игры, однако, пришлось прекратить вскоре после краха издательской
фирмы Арчибальда Констебла и связанного с нею издательства Джеймса Баллан-
тайна (зимой 1825/26 г.). Будучи давним другом и компаньоном братьев Баллан-
тайн, Скотт принял на себя часть долга обанкротившейся фирмы, составившую
около 130 тыс. фунтов стерлингов. Жалованье, которое Скотт получал в
качестве шерифа и секретаря Эдинбургского суда, оказалось под угрозой
наложения штрафа, а имение Абботсфорд, приобретенное в 1812 г., — на грани
конфискации. Лишь в декабре 1830 г. собрание кредиторов возвратило ему право
собственности на мебель, посуду, библиотеку и коллекции Абботсфорда —
в знак признания его «в высшей степени благородного поведения и в
благодарность за те усилия, которые он приложил и продолжает прилагать»18 для
погашения долга19.
С великим сожалением В. Скотт принял решение расстаться с маской
Неизвестного, которая в течение ряда лет была для него необходимой
психологической защитой и единственной личной причудой, в которой он не желал себе
отказывать, пока для этого сохранялась малейшая возможность. Приняв на себя
ответственность за дела компаньонов, он осознал, что более не вправе рисковать
коммерческим успехом своих книг. Признание авторства (впрочем, вполне
ожидаемое) было сделано им во время благотворительного обеда эдинбургского
18 Скотт В. Собр. соч. ... Т. 20. С. 829.
19 Иную реакцию вызвал поступок Скотта у молодого Гейне, иронически восклицавшего в
«Английских отрывках» «Путевых картин» (1826—1831): «Превозноси его ты, торгашеская, милая
добродетель, готовая всем пожертвовать, лишь бы уплатить в срок по векселю, только не ждите
от меня, чтоб я стал превозносить его» (Гейне Г. Путевые картины // Поли. собр. соч.: В 12 т. М.;
Л.: Academia, 1936—1949. Т. 4. С. 526—527). Причиной столь недружелюбного отзыва стала
публикация в 1827 г. «веллингтоновской» по своей направленности биографии Наполеона, написанной
Скоттом «с голодною лихорадочностью» и «с воодушевлением банкротства» (Там же. С. 526). Как
намекал в своих заметках автор «Путевых картин» (повторявший расхожую точку зрения
«передовых»), издать книгу, подобную вальтер-скоттовской «Жизни Наполеона Бонапарта», можно было
лишь из корыстных побуждений, действуя в угоду британскому кабинету, повинному в муках и
преждевременной смерти «изгнанника Святой Елены». Общественное мнение 1820—1830-х гг.,
не соглашалось замечать в политических выступлениях позднего Скотта чего-либо иного, кроме
грубой лести английским правящим верхам, и не желало признавать искренности консервативных
убеждений писателя. Как утверждал сам Гейне: «Англичане только убили императора, а Вальтер
Скотт его продал» (Там же. С. 530).
230
Т. Г. Чеснокова
театрального фонда, состоявшегося 23 февраля 1827 г., и получило
подтверждение в авторском предисловии к 48-томному изданию «уэверлеевых романов»
1829 г.
Было ли это случайным совпадением или следствием скрытых переживаний,
но в мае того же 1826 г., когда разразилась издательская катастрофа, Скотт
потерял свою жену Шарлотту. Одиночество нахлынуло на писателя, как в дни
молодости, порой заставляя его стыдиться своих слез: «Не знаю, как у других,
а у меня истерическое состояние <...>, проявляется с чудовищной силой <...>,
а затем я погружаюсь в полусон и спрашиваю себя, может ли быть такое, что
моя бедная Шарлотта и вправду умерла»20, — записывал В. Скотт в своем
дневнике 30 мая 1826 г.
Привычный писательский труд оставался для разоблаченного Неизвестного
главной опорой в горестях. Он продолжает выпускать приблизительно по
роману в год. Среди этих поздних произведений — «Пертская красавица» (1828),
«Анна Гейерштейн» (1829), «Граф Роберт Парижский» (1830). Параллельно
«автор "Уэверли"» работает над целым рядом исторических и публицистических
сочинений: «Жизнь Бонапарта» (1827), «История Шотландии» (1829—1830),
«Рассказы деда» (1827—1829) и др. Однако возраст, невзгоды и усталость, вызванная
многолетним напряженным трудом, берут свое: в феврале 1830 г. В. Скотт
переносит первый апоплексический удар, заставивший его навсегда отказаться от
службы. «Старый судья» (как назвал его Стендаль) выходит в отставку, не
оставляя при этом литературных занятий. Даже после третьего удара (в апреле 1831 г.)
он находит силы начать работу над новым романом («Замок Опасный») и
довести ее до конца. Но обострения болезни следуют одно за другим. В конце 1831 г.
писатель отправляется в Италию и Германию, где его вновь разбивает удар,
но он настаивает на возвращении на родину, желая, подобно Гёте, «умереть
дома». Смерть наступила 21 сентября 1832 г. в имении Абботсфорд, куда
В. Скотт вернулся еще в июле.
Правительство и пресса оказали Великому Неизвестному почести, близкие
к королевским; весть о его кончине в мгновение ока разнеслась по Европе и
достигла берегов Америки. Но, в сущности, образованная европейская публика
еще за несколько лет до смерти «шотландского чародея» начала охладевать к
своему недавнему кумиру. За Скоттом признавали былые заслуги, ему
подражали, но от него не ждали новых проникновений в историческую жизнь
человечества, разрезая страницы очередного «уэрлеевского» романа.
Консервативные взгляды В. Скотта, его старомодный нравственный облик и склонность к
компромиссам (в политике и литературе) подчеркивали и усиливали уже
наметившийся разрыв между шотландским писателем и молодой Европой.
Еще в 1823 г. Анри Бейль (Стендаль) в частном письме к лорду Байрону с
нескрываемым осуждением отзывался о «личности знаменитого шотландца»,
признавая, что непривлекательность нравственного облика Скотта лишает
значительной доли обаяния и сами его романы: «Когда сэр Вальтер Скотт со всем
пылом страстного любовника вымаливает стакан, опорожненный старым, доста-
Цит. по: Пирсон X. Указ. соч. С. 184.
Роман «Обрученная» в творчестве Вальтера Скотта
231
точно презренным королем <...>, я вижу в нем человека, желающего стать
баронетом или шотландским пэром. На тысячу человек, которые проделывают то
же самое во всех передних Европы, найдется, быть может, один, наивно
полагающий, что абсолютизм полезен человечеству. Сэр Вальтер был бы этим
исключением, если бы он отказался от звания баронета и прочих личных
преимуществ. <...> Формально я готов уважать сэра Вальтера Скотта, но страстно
увлекаться им я не в силах»21. Через семь лет в статье «Вальтер Скотт и
"Принцесса Клевская"» (1830) эта оценка будет высказана публично, а критике
подвергнется не только «личность» Вальтера Скотта, но и его писательская
манера, лишенная, по мнению Стендаля, психологической глубины, ценимой
автором «Красного и черного» в творчестве создательницы «Принцессы Клевской»
(1678) г-жи де Лафайет22. Инстинктивно отшатываясь от водоворотов и
пропастей человеческой души, В. Скотт, в представлении Стендаля, волей-неволей
отдает предпочтение изображению внешних примет эпохи перед картиной
«страстей и различных чувств, волнующих <...> души»23. «Легче описать одежду
и медный ошейник какого-нибудь средневекового раба, чем движения
человеческого сердца»24, — утверждает знаменитый француз, негодуя на то, что
персонажи Скотта, «охваченные страстью», «словно стыдятся самих себя»25.
Последнему замечанию нельзя отказать в меткости: большинство героев
шотландского писателя (как отчасти и сам романист) действительно стыдятся своих
страстей. Но эта их черта не лишена ни психологической достоверности, ни
своеобразной эстетической привлекательности, как бы ни был убежден в противном
автор «Красного и черного».
21 Стендаль. Письмо к Байрону// Собр. соч.: В 15 т. М.: Правда, 1959. Т. 15. С. 208.
22 Несколькими годами позже (в статье «Средство против самоубийства», датированной 1838 г.)
Стендаль вновь подтвердит свою стойкую антипатию к персрнажам Скотта и к их создателю: «<...> я
многим обязан произведениям Вальтера Скотта, которого, впрочем, я совсем не уважаю. Романы
его глубоко меня трогали. Теперь я презираю большую часть его героев <...>» (Стендаль. Средство
против самоубийства// Собр. соч.: В 15 т. /Под общ. ред. А. А. Смирнова и Б. Г. Реизова. Л.:
Гослитиздат, 1937—1949. Т. 9. С. 564). Эта тирада, вложенная в уста некоего Лизимона, в
действительности довольно точно воспроизводит историю отношений самого Стендаля к В. Скотту и его
книгам. Участник наполеоновских походов, испытавший на себе обаяние их героики, Стендаль не смог
простить шотландскому баронету того, что тот лишил своих героев пылких страстей и яркой
оригинальности, в избытке наделив собственным благоразумием и осторожностью.
23 Стендаль. Вальтер Скотт и «Принцесса Клевская» // Собр. соч.: В 15 т. М.: Правда, 1957.
Т. 7. С. 316.
24 Там же.
25 Там же. С. 318. В скучном предпочтении добродетели величию человеческих страстей
упрекал знаменитого шотландца и другой великий француз — Бальзак. «Они не захотели принять
страсть, — с сожалением говорил он о двух популярнейших романистах 1820—1830-х гг. —
В. Скотте и Ф. Купере, — эту божественную эманацию, стоящую выше добродетели, созданной
человеком для сохранения общественного строя; <...> они принесли ее в жертву синим чулкам
своих стран <...>» (Бальзак О. Письма о литературе, театре и искусстве // Собр. соч.: В 15 т. М.:
Гослитиздат, 1951—1955. Т. 15. С. 293). Впрочем, к 1840 г., когда создавались бальзаковские «Письма
о литературе...», подобное утверждение стало едва ли не общим местом, получив признание даже
среди соотечественников Скотта. Томас Карлейль еще в 1838 г. обличал своего великого
земляка в том, что его книги «не воспитывают, не порицают, <...> не возвышают дух в какой-либо
форме», а сам писатель неизменно остается в своих романах «не горяч и не холоден, прохладен» (цит.
по: Долинин А. А. История, одетая в роман: Вальтер Скотт и его читатели. М., 1988. С. 254).
232
Т. Г. Чеснокова
Была ли оценка, высказанная Анри Бейлем за два года до смерти Вальтера
Скотта, вполне справедливой? Во всяком случае, как всякое суждение
представителя нового литературного поколения, она была слишком суровой.
Правдивые или лживые, как склонен был думать Стендаль, «сказки» В. Скотта надолго
пережили их автора и продолжают и сегодня волновать сердца читателей.
* * *
Вальтер Скотт вступил на литературное поприще во второй половине 1790-х
годов26, разделив со своими современниками вдохновенную радость открытия
«законов воображения», окрасившую в свои тона наступление новой —
романтической эпохи. Воображение издавна считалось материей поэзии. Но для
просветительского классицизма эта материя была неструктурированной, хаотичной
и поэтому требующей упорядочения с помощью рационально продуманных
правил. Признание художественной ценности фольклора и старинной
(средневековой) поэзии поколебало этот взгляд. Собиратели баллад, к числу которых
примкнул и молодой В. Скотт, выявили в самом «примитивном» жанре поэзии
определенную структуру, связанную с условиями создания и исполнения этих
произведений, с особенностями мышления и быта их творцов. Стихия «простого
рассказа» и элементарная работа фантазии, соединившиеся в балладе, были
восприняты в романтизме по-новому: не только как материал, но как зерно и
модель сознательного литературного творчества. Сложность, по-видимому,
заключалась только в противоречии между единством законов воображения и
изменчивостью условий, определяющих его структуру. Вследствие этого интерес
к истокам воображения, обнаруженным в древней поэзии, соединился в
творчестве поэтов нового направления с «археологическим» интересом к
старинному быту.
Жанр подражательной литературной баллады (сборник «Песни шотландской
границы», 1802—1803) довольно скоро оказался узок для будущего романиста:
глубокое, хотя, быть может, неосознанное, стремление к «синтетическому»
жанру27 не позволило молодому автору долго оставаться в рамках литературной
стилизации. Гораздо больше возможностей открывала перед писателем
романтическая поэма на средневековый сюжет. В ней он, казалось, нашел ту
разновидность крупной жанровой формы, которая наиболее соответствовала его
таланту и художественным интересам. Отдаленным прообразом этой формы
служили стихотворные романы Средневековья и Возрождения, но к их
исходным чертам в поэмах «Песнь последнего менестреля» (1805), «Мармион» (1806),
«Дева озера» (1810), «Рокби» (1812) добавились элементы современной
чувствительности и живописной описательности, живой литературный язык, а также
чувство исторической дистанции, немыслимое в поэзии Средневековья.
Однако решающий поворот в писательской карьере Вальтера Скотта
совершился под виянием поэзии Байрона. Байрон превратил драматически-живопис-
26 Первые произведения В. Скотта — переводы с немецкого баллад Бюргера — были
опубликованы в 1796 г.
27 См.: Реизов Б. Г. Творчество Вальтера Скотта. Л.: Худож. лит., 1965. С. 484.
Роман «Обученная» в творчестве Вальтера Скотта
233
ную поэму своих предшественников в поэму лиро-эпическую и собственно
романтическую в новейшем смысле слова. Непрочное равновесие между
свободой воображения и постпросветительским интересом к «почве» было
решительно нарушено им в пользу индивидуальной фантазии. Все драматическое
содержание жанра переместилось в глубь души главного героя, перелилось в
лирическую форму. Обстоятельства времени, нравы, материальный быт — все это
потеряло всякое значение в «Паломничестве Чайлд Гарольда» (I и II песни —
1812). Романтическая поэма подчинилась лиро-эпическому художественному
строю, обрела в нем живость и современность, и на этом фоне «средневековые»
поэмы В. Скотта утратили для читателя былую привлекательность. Поиски
синтеза отныне должны были пролегать в другом русле, и почвой для них
стала не лирическая структура романтической поэмы, а драматическая структура
современного романа, постепенно освобождавшегося от господства строгих
жанровых канонов.
Скотт задумывался о создании романа в прозе еще в период активной работы
над поэмами. В конце 1790-х — начале 1800-х годов он вынашивает замысел
готического романа в стиле Горацио Уолпола или Анны Радклифф, оставшийся
неосуществленным. В 1808 г. берет на себя труд завершения и публикации
«антикварного» романа Джозефа Огратта — историка по профессии — на
средневековую тему («Куинху-Холл»). Еще один замысел — романа о якобитском восстании
1745 г., возникший ок. 1805 г., — в течение долгих девяти лет ждет своего
воплощения. Снова и снова В. Скотт возвращается к испробованной стезе
романтической поэмы, не решаясь вступить на путь, который несколькими годами
позже принесет ему мировую известность. Эти колебания были вполне понятны:
романтическая поэма предоставляла писателю более широкие возможности
художественного синтеза, чем та или иная жанровая разновидность
прозаического романа. Неудивительно, что первое самостоятельное и серьезное обращение
В. Скотта к романному жанру сопровождалось демонстративным отречением
писателя от подчинения какой-либо расхожей жанровой (романной)
«модальности»: готической, чувствительной, нравоучительнабытовой,
галантно-авантюрной и т. п.
Ведя с читателем шутливую беседу о выборе имени главного персонажа
своего романа «Уэверли, или 60 лет назад», В. Скотт отвергает громкие фамилии
знаменитых героев, равно как и «нежные» прозвища Белмура, Белвила, Белфил-
да и Белгрейва. Взамен этих штампованных литературных знаков, которые с
самого начала задавали бы тон повествованию, он выбирает «нейтральное» имя
Уэверли, «еще не тронутое и не вызывающее своим звучанием никаких мыслей
о добре и зле, кроме тех, которые читателю угодно будет связать с ним
впоследствии»28. В то время В. Скотт едва ли мог предположить, что «впоследствии» с
именем Уэверли у читателя свяжутся не только представления о достоинствах
и недостатках этого литературного персонажа, но также «мысль» об авторе двух
десятков блестящих романов и о литературной моде на произведения в стиле
«Уэверли». Именно в этой книге впервые определилась структура «уэверлеевых
Скотт В. Уэверли//Собр. соч. ... Т. 1. С. 67—68.
234
Т. Г. Чеснокова
романов» (Waverley novels), ставших визитной карточкой автора. Не случайно
большинство беллетристических сочинений Скотта, написанных с 1814 по 1827 г.,
фигурировали в печати как произведения «автора "Уэверли"».
Художественное пространство первого самостоятельного романа В. Скотта
распадается на два непохожих, но взаимодействующих мира: мир ганноверской
Англии 1740-х годов, в котором прошли детство и юность героя, — и мир якобит-
ской Шотландии, где молодой Эдуард Уэверли совершает первые
самостоятельные шаги в качестве офицера королевских войск, а заодно и путешественника-
любителя, увлеченного экзотикой Горного края. Граница между этими мирами
определяет структуру произведения, отделяя не только самобытную культуру
шотландцев от «прозаической» цивилизации англичан, но и прошлое Британии
от ее настоящего и будущего.
Уэверли с детства живет в мире фантазий и жаждет романтических
переживаний, оглядываясь вокруг себя в поисках тех реальных предметов, на которых
могла бы остановиться проснувшаяся в его душе романтическая
чувствительность. Его увлекает поэзия дикой природы и варварского быта, захватывают
порывы страсти к гордой сестре шотландского вождя, манит идеал фамильной
чести и верности истинному монарху и, наконец, поглощает романтика
«делания истории», вкус к которой умело разжигает в нем честолюбивый Ферпос —
«ложный друг».
Сложность, однако, заключается в том, что проза ганноверской Англии не
исчезает и в Шотландии. Романтика Горного края и благородной борьбы за
«правое» дело Стюартов скрывает за своим живописным фасадом собственную
прозу, и порой весьма непривлекательную. «Рыцарское» приключение, в
котором принимает участие Уэверли, оборачивается банальной политической
авантюрой, заранее обреченной на поражение. В силу этого вальтер-скоттовский
герой оказывается в двойственном положении. На нем, как на герое рыцарского
романа, лежит печать особого благословения романного мира — печать личной
Удачи, или Судьбы, которая позволяет ему постичь историю романически (как
действие), а не отчужденно (как заранее установленный порядок). Однако
романическая Удача оказывается обманчивой, подталкивая героя к ложному
выбору. Понимание двойственной природы Приключения в историческом мире
становится главным итогом нравственной эволюции героя.
Начиная с «Уэверли», структура почти всех ранних романов В. Скотта
определяется тем же пространственно-историческим различием между
Шотландией и Англией. Это различие является условием включения романических
элементов в структуру произведения и в то же время средством их
художественного оправдания перед лицом современного чувства реальности. Девять
шотландских романов Скотта, и среди них — «Пуритане» (1816), «Роб Рой»
(1817), «Эдинбургская темница» (1818), — были написаны в поразительно
короткий срок (приблизительно 5 лет), если не считать длительных подступов
писателя к работе над «Уэверли». Однако за это время «шотландская» форма
превратилась в своего рода жанровый канон в ряду других, и Скотту потребовалось
вновь отказаться от устоявшейся схемы, доказывая, что структура «уэверлеевых
романов» более гибка и разнообразна, чем можно было предположить, исходя
Роман «Обрученная» в творчестве Вальтера Скотта
235
из одной лишь ее шотландской модели. Новым этапом его творчества стала
«постшотландская» романистика, ведущее место в которой принадлежит
средневековым романам.
* * *
В 1819 г. в романах Неизвестного впервые получает самостоятельное
значение тема Средневековья (причем не только шотландского, но и английского,
французского, валлийского, швейцарского, палестинского и даже
греко-византийского). Сюжетное время романов шотландской серии обычно отделялось от
современности промежутком от 60 лет до полутора столетий (самая «старая»
шотландская история, рассказанная в «Пуританах», относится ко второй
половине XVTI в.). В «Айвенго» (1819) — первом «средневековом» романе Скотта —
писатель совершает неожиданный скачок вглубь истории, перенося действие в
эпоху крестовых походов и легендарных подвигов знаменитого разбойника
Робина Гуда. С этого момента хронологические и географические рамки «уэвер-
леевых романов» заметно расширяются. Даже в обращении с излюбленным
шотландским материалом у Скотта появляется какая-то новая свобода: действие
шотландских повестей, написанных в 1820-е годы, то приближается вплотную
к XIX в. (в «Сент-Ронанских водах», 1824), то отодвигается к концу XIV в.
(в «Пертской красавице», 1828). Расширение материала сказывается на самой
романной структуре, в которой происходят заметные сдвиги.
Основные события в «Уэверли» были приурочены к вполне определенной
исторической дате — восстанию 1745 г., однако проблему
нравственно-исторического выбора в этом романе актуализировала прежде всего пространственная
и культурная граница между Шотландией и Англией. Именно в силу этого
другой водораздел: между современной эпохой и временем действия — отчасти
уходил в тень. Его значение сводилось к поддержке и углублению центральной
структурной границы, ибо «шестьдесят лет назад» старый шотландский уклад
был еще в полной силе и создавал почву для описанных в книге конфликтов.
Сглаженный временной водораздел между прошлым и настоящим
способствовал выравниванию романной структуры на «бытовой» почве. А собственно
романическое начало включалось в структуру произведения благодаря
историческому излому внутри бытового пространства.
В средневековых романах, напротив, подчеркнутый контраст между
изображаемой эпохой и современностью оживляет авантюрно-романическую
структуру в ее прямом, незамаскированном выражении. Читатель погружается в
атмосферу «подлинной» исторической драмы Средневековья, оказываясь в гуще
настоящих романических приключений. Герой в вальтер-скоттовских романах
1820-х годов все чаще покидает позицию стороннего наблюдателя. Его
политический и нравственный выбор в конечном счете обусловлен историческими
условиями, но не запрограммирован ими, в отличие от выбора Уэверли или Фрэнсиса
Осбалдистона. Свой общий смысл меняет и мотив двойного выбора: сначала
ложного, проникнутого предрассудками эпохи, затем истинного — преодолевающего
эту ограниченность. Индивидуальная «история» такого выбора уже не повторя-
236
Т. Г. Чеснокова
ет, а предсказывает динамику универсального выражения суверенной воли
большинства. Решающее слово в историческом процессе принадлежит живому
человеку, воспитанному нравами своего времени и занятому разрешением сугубо
индивидуальных конфликтов без всякого желания влиять на направление и ход
развития истории. В силу этого именно личность (а не историческое событие)
в поздних романах В. Скотта «моделирует бытование истории»29, а
«эпохальный» выбор, открьшающий дорогу в будущее, особенно крепко впаян в
нравственную историю индивида, составляющую романический сюжет.
В шотландских романах романический принцип был окружен целой
системой художественно-исторических обоснований. Сам «дух» Средневековья
представал в этих романах не в своей подлинной «всемирно-исторической форме»,
но как бы в посмертной редакции: в быте и нравах шотландских горцев,
до середины 18-го столетия сохранявших старинные обычаи. «Средневековый»
историзм включался в историзм Нового времени, выступая в замаскированном
и опосредованном виде. В 1820-е годы В. Скотт резко сворачивает с этого пути.
Вместо того чтобы оправдывать романический сюжет особыми историческими
условиями, он, до известной степени, начинает оправдывать историю
романическим сюжетом. Последний сам по себе становится критерием верности
духовной картине Средневековья, не требуя дальнейших обоснований. «В поздних
произведениях Скотта <...> "роман" и "история" синтезируются более органично,
чем раньше»30. «Более органично» синтезируются в них также форма
романическая и форма бытовая (romance и novel), только на сей раз явное
преобладание получает первая.
В. Скотт, разумеется, не мог и не стремился возродить средневековый
рыцарский роман как мировоззренческую структуру. И все же он нашел наконец
способ заставить ее «работать на себя», сосредоточившись на мотиве испытаний,
через которые должен пройти романический герой, и связанной с ними идее
нравственного самоопределения. Теоретически этот мотив позволял автономной
цепочке приключений превратиться в историю персонажа, а при помещении
героя в определенную среду — и в историю нации.
Творцы средневековых рыцарских романов были убеждены в том, что
существование мира во времени требует постоянных усилий для своего поддержания,
ибо падший мир не может существовать, не преодолевая свою «искаженную
природу» в ежедневных победах добра над злом. Вот почему движение героя-
рыцаря по кругу (снова и снова ведущее его к приключениям) в то же время
является движением направленным: мир рыцарских романов и его герой
стремятся от бытия неподлинного к подлинному бытию. В. Скотт великолепно
чувствовал это внутреннее содержание средневековой романической структуры, но,
на его счастье, он обнаруживал нечто подобное ей в самой истории. Герой его
поздних романов начинает свою биографию с поступков средневекового
рыцаря — представителя своего времени и сословия, — а заканчивает — поступком ис-
29 Проскурнин Б. М. Политика и история в романах Вальтера Скотта (к вопросу о динамике
характеров и обстоятельств) // Традиции и взаимодействия в зарубежной литературе XIX—XX вв.
Пермь: Изд-во Пермского гос. ун-та, 1990. С. 31.
30 Там же. С. 33.
Роман «Обрученная» в творчестве Вальтера Скотта
237
торического человека, внятным нравственному чувству большинства. Он
возвышается над собственной эпохой в действии, не порывая с ней в сознании, и
благодаря этому становится носителем ее динамики, а не инерции. Исторический
человек, таким образом, также отправляется в путь каждый раз из одной
точки — точки исторической замкнутости, чтобы в конечном счете воплотить
неизменные нравственные ценности в ограниченной материи своего времени. Это
совпадение и обеспечивает непосредственную опору вальтер-скоттовского
историзма на романическую структуру традиционного типа. Разница заключается
лишь в том, что в историческом романе Скотта реальное воплощение ценностей
спасает мир не просто от небытия (трансцендентного), но от небытия
исторического, обеспечивая сохранение мира и человеческой истории в поступательном
движении от эпохи к эпохе.
Победа романической структуры в позднем творчестве В. Скотта имела,
наряду с общими, некоторые частные последствия, однако именно эти частности
воздействовали на читателя наиболее непосредственно, обращаясь к его
фантазии. В IV главе «Уэверли», описывая обстановку, в которой юный Эдуард
провел свое детство, автор не без иронии сообщает об увлечении героя рассказами
о подвигах его отдаленного предка-крестоносца, включая драматическую
историю возвращения этого рыцаря из Святой Земли. Благородный Уилиберт
Уэверли, как это часто бывало с персонажами средневековых романсов и
баллад, вернулся домой как раз вовремя, чтобы попасть на свадебный пир своей
невесты, которая, по истечении положенного срока, решила выйти замуж за
другого. Ирония автора относится и к самой семейной легенде, наивно
повторяющей известный «бродячий мотив»; и к тетке Рэчел, вносившей в эту историю
особый пафос; и к впечатлительному племяннику, в праздном воображении
которого мелькали «романтические» образы старинного предания: «<...>
великолепие брачного пира в замке Уэверли; высокая изможденная фигура его
настоящего хозяина <...> в одежде пилигрима <...>; громовой удар внезапной
развязки; вассалы, бросающиеся к оружию; изумление жениха; ужас и смятение
невесты; терзания Уилиберта, понявшего, что сердце и рука невесты отданы
добровольно; выражение достоинства и глубокого чувства, с которым он бросает
наземь уже наполовину выхваченный из ножен меч и навеки удаляется из дома
своих отцов»31.
Как бы тщательно писатель ни отгораживался иронией от романтических
видений молодого Уэверли, в них нетрудно разглядеть набросок
ненаписанного [пока еще не написанного) средневекового романа самого Скотта. В
«наброске» читатель узнает ту же выразительную динамику жеста, живописность
картин и общее драматическое движение, которые столь характерны для поздней
манеры «автора "Уэверли"». Здесь — те же темы и образы, которым писатель
впоследствии даст полную свободу в своих средневековых романах. Но в
последних картины, намеченные в наброске, оживут, фигуры начнут двигаться,
а голоса звучать. Сама эпоха крестовых походов, которую ранний
Скотт-романист отправляет на задворки художественного повествования, для Скотта позд-
31 Скотт В. Уэверли// Собр. соч. ... Т. 1. С. 89-90.
238
Т. Г. Чеснокова
него становится одним из центров идейного и эстетического притяжения.
Об этой эпохе написаны наиболее известные из его романов 1820— 1830-х годов:
«Айвенго» (1819), «Талисман» (1825), «Граф Роберт Парижский» (1831). О ней
же — представленный в настоящем издании роман «Обрученная» (1825). В этом
произведении легендарный сюжет о возвращении крестоносца и ожидающих его
на родине утратах (обыгранный Скоттом в «Уэверли» и частично воплощенный
в «Айвенго») впервые становится сюжетным ядром всего романного
повествования.
* * *
Роман «Обрученная» (1825) открывает небольшую (двухчастную) серию
«Рассказов о крестоносцах» («Tales of die Crusaders», 1825), в которую входит также
популярный и неоднократно издававшийся на русском языке «Талисман»
(написан в том же году). Близкое соседство двух средневековых романов,
одновременно изданных в июне 1825 г., сослужило «Обрученной», однако, не самую
лучшую службу. Воспринимаясь несколькими поколениями читателей в качестве
своеобразного введения к более яркому и экзотическому сюжету «Талисмана»,
история несостоявшейся свадьбы храброго воина-крестоносца не была оценена
ни современниками автора, ни его отдаленными потомками. Лишь немногие
критики и исследователи в XIX и XX вв. (среди них — Э. Лэнг и Ф.-Р. Харт)
смогли найти верный подход к «Обрученной» как к самостоятельному и
оригинальному произведению позднего Скотта32.
По содержанию и форме книга представляет собой вполне законченное
художественное целое: увлекательное повествование из истории валлийского
Средневековья с оригинальным сюжетом и замкнутой системой персонажей.
После «Айвенго» (1819) это первый средневековый роман Вальтера Скотта, хотя
написан он вскоре после романа из современной жизни «Сент-Ронанские воды»
(1823) и сразу же вслед за «Редгонтлетом» (1824), действие которого происходит
в 18-м столетии. Очередной экскурс в недавнее прошлое закончился
возвращением писателя к Средневековью — неистощимому источнику романических
ситуаций и коллизий — и к теме рыцарства, неразрывно связанной для В. Скотта
с историей крестовых походов.
Замысел «Рассказов о крестоносцах» складывался весьма непросто. Спустя
семь лет после первой публикации «Обрученной» и «Талисмана» В. Скотт
попытался объяснить природу очевидных противоречий в общей идее «Рассказов»,
написав специальные предисловия к обоим романам (1832)33. Тем не менее
объяснения Скотта сами построены на противоречии, которого трудно не заметить.
В самом деле, в предисловии к «Обрученной» (1832) Скотт утверждал, что
название цикла было предложено автору его друзьями (речь, очевидно, шла об
издателях) и принято им самим весьма неохотно. По мнению романиста, столь
32 См.: Lang A. Op. cit. Р. XI, XIII; Hart F. R. Scott's Novels: The Plotting of Historic Survival.
Charlottsville: The Univ. of Virginia, 1966. P. 153, 166-168.
33 Впервые оба предисловия были опубликованы в полном собрании «уэверлеевых романов»,
отдельные тома которого выходили при жизни автора в 1829—1833 гг.
Роман «Обрученная» в творчестве Вальтера Скотта
239
«громкий» заголовок, как «Рассказы о крестоносцах», мог вызвать слишком
смелые ожидания, не соответствовавшие скромному замыслу писателя:
«Выпуская в свет романы "Обрученная" и "Талисман" под общим заглавием
"Рассказы о крестоносцах", автор полагался не столько на собственный вкус, сколько
на мнение друзей (чей узкий круг стал вдвое уже с тех пор, как смерть похитила
самых близких). И хотя романист был твердо уверен в благосклонном
внимании публики к избранному им предмету, все же ему не раз приходило в
голову, что вызвать поверхностный интерес к сочинению намного проще, чем
удовлетворить разносторонние потребности читателя, когда в воображении
последнего, завороженном благородными образами рыцарей в стальных латах, начнут
тесниться картины одна грандиознее и возвышеннее другой, так что от века еще
не рождался писатель, способный хоть в слабой степени запечатлеть их величие
на бумаге <...>»34.
В предисловии к «Талисману», однако, Скотт вновь прячет свою позицию за
мнением друзей, но на сей раз приписывает им рекомендацию перенести
действие нового романа на Восток и тем самым оправдать наконец «интригующее»
заглавие цикла: «"Обрученные" не очень понравились некоторым моим
друзьям, которые сочли, что сюжет этого романа плохо согласуется с общим
названием "Крестоносцы". Они утверждали, что при отсутствии прямых упоминаний
о нравах восточных племен и о неистовых страстях героев той эпохи заглавие
"Повесть о крестоносцах" напоминало бы театральную афишу, в которой, как
говорят, была объявлена трагедия о Гамлете, хотя принца Датского из
действующих лиц исключили»35.
Итак, если верить обоим предисловиям, авторитетные друзья для начала
заставили автора принять неугодное ему «общее название» цикла, а затем,
словно в насмешку, вынудили его написать новый роман — в полном соответствии
с заявленной в заголовке темой. Скотт, впрочем, несколько лукавил (или,
выражаясь современным языком, «смещал акценты»), представляя себя всего лишь
послушным исполнителем чужой воли. В действительности название «Рассказы
о крестоносцах», на наш взгляд, довольно точно отражало первоначальный
замысел писателя, впоследствии изменившийся (не без влияния упомянутых
Скоттом друзей). Это был замысел романов о психологическом, человеческом,
«домашнем»36 проявлении «духа» крестовых походов как воплощения духовной
сути западноевропейского рыцарства. И хотя в «Обрученной» не было и следа
восточной экзотики, тема рыцарей-крестоносцев получила здесь не менее
полное (на свой лад) освещение, чем в «Талисмане».
34 См. с. 214 наст, изд.; см. также: Scott W. The Betrothed. L.; N. Y.; Melbourn: Henry Frowde:
Oxford Univ. Press, 1912. P. IX.
35 См.: Скотт В. Талисман// Собр. соч. ... Т. 19. С. 7. Текст предисловия приводится в
переводе П. А. Оболенского и Т. Л. и В. И. Ровинских. Этим объясняется расхождение с принятой в
настоящем издании формой заглавия первого романа из серии о крестоносцах («Обрученная»).
Подробнее об этом см. преамбулу к примеч. наст. изд.
36 Как известно, А. С. Пушкин видел «главную прелесть романов Walter Scott <...> в том, что
мы знакомимся с прошедшим временем <...> не с чопорностию чувствительных романов — не с
dignite истории, но современно, но домашним образом» (см.: Пушкин А. С О романах Вальтера
Скотта//Поли. собр. соч.: В 10 т. М.: Изд-во АН СССР, 1956-1958. Т. 7. С. 529).
240
Т. Г. Чеснокова
В самом деле, «Рассказы о крестоносцах» не то же самое, что, скажем,
«Рассказы о крестовых походах». Писателя занимают не отдельные страницы
религиозных войн Запада и Востока, а «дух» и судьба средневекового рыцарства,
увиденные с национальной точки зрения. Благодаря этому популярный мотив
возвращения крестоносца обрел в «Обрученной» новые условия и почву для
своего полнокровного развития. Для писателя этот мотив служил своеобразным
символом исторической судьбы целого сословия, воплощенной в
индивидуальной судьбе его отдельного представителя, — недаром названный сюжет так
часто встречался в балладах и куртуазной поэзии Средневековья (см.
предисловие к «Обрученной» 1832 г.). В структуре средневековых романов Скотта
(начиная с «Айвенго») он оказался средством анализа «обратной стороны» главного
исторического события рыцарской эпохи. В этом качестве мотив возвращения
крестоносца нашел свое место и в художественном мире «Обрученной».
В сюжете этого романа пожилой воин-крестоносец (коннетабль Честерский)
возвращается из похода на родину, где его настигают слухи об «измене»
невесты, предательстве племянника, а заодно коварстве кузена Рэндаля, отнявшего
состояние и честь своего благородного родича. Ситуация разрешается благодаря
великодушию большинства действующих лиц (в том числе самого старого
коннетабля, который, подобно Уилиберту Уэверли, добровольно отказывается от
своих прав на руку, сердце и состояние своей возлюбленной). Рыцарское
благородство в финале произведения спасает всех, кого еще можно спасти, но именно
оно является источником тех драматических конфликтов, которые лежат в
основе сюжетной коллизии романа. Связь этих конфликтов с рыцарской
психологией раскрывается в «Обрученной» с помощью мотива обета, в высшей
степени характерного для средневековой литературы и быта.
Обет и священная клятва служат главным средством испытания героев в
сюжетном времени книги. И это — характерно рыцарское испытание,
поскольку верность слову ценится героями не только выше всякого разумного расчета,
но и дороже сердечной склонности или даже ответственности за судьбы
близких и собственной страны. Слепая верность клятвенным обещаниям вольно или
невольно оборачивается пренебрежением своими «естественными»
обязанностями руководителей нации и семьи, что порождает смуту, грозящую бедой
всему народу. В отличие от некоторых историков, Скотт нисколько не
сомневается в искреннем благородстве большинства участников рыцарских походов на
Восток. Но это не мешает ему рассматривать сами походы как своего рода
внутреннее — национальное бедствие европейских стран37.
В глазах писателя национальная катастрофа вырастает в конечном счете из
тех же психологических причин, которые влекут благородного Раймонда Берен-
37 Теме рыцарства и крестовых походов была посвящена статья В. Скотта «Рыцарство»,
вошедшая в Британскую энциклопедию (1818). Об отношении писателя к «религиозному энтузиазму,
бросившему Европу на завоевание» Гроба Господня, см.: Реизов Б. Г. Указ. соч. С. 308; см. также
примеч. 13 к гл. I. Уместно сопоставить воззрения В. Скотта с близкой по времени гегелевской
оценкой крестовых походов как «коллективной авантюры христианского Средневековья» и
«приключения, которое внутри себя было разорванным и фантастичным» [Гегель Г.-В.-Ф. Эстетика: В 4 т.
М.: Искусство, 1968—1973. Т. 2. С. 299). Иначе говоря, для Гегеля в самой идее крестовых походов
(и ее воплощении) было нечто «романическое» (авантюрное, связанное с «миром приключений»).
Роман «Обрученная» в творчестве Вальтера Скотта
241
жера навстречу гибели в неравном бою. Норманнский рыцарь знает, что,
поступая так, он оставляет без всякой опоры единственную дочь Эвелину.
Но главное для него — соблюсти обещание, данное по неосторожности
заклятому врагу. Те же причины принуждают Эвелину отдать руку (если не сердце)
пожилому коннетаблю — спасителю, с которым она заранее поклялась связать
свою судьбу. Благородная девица остается верна своей клятве и тогда, когда
нелюбимый жених (тоже жертва священного offema), спешно покинув молодую
невесту, устремляется с крестоносцами в Палестину, и даже тетка Эвелины
аббатиса настаивает на немедленном расторжении помолвки. Наконец, племянник
коннетабля Дамиан столь же стоек в хранении клятв (своих и чужих), как и
благородный дядя и его невеста. Любя Эвелину, юноша готов скорее умереть, чем
открыть свои чувства будущей тетке. На первый взгляд, подобный моральный
ригоризм обещает лишь тяжелые душевные переживания героям — и
бесконфликтное развитие сюжету романа. Однако сюжет «Обрученной»
поворачивается иначе. Нет такого несчастья, которого бы не навлекли на собственные
головы и на головы своих близких благородные герои книги. Мужественный и
суровый коннетабль-крестоносец, не добившись воинских почестей и славы в
Палестине, лишается разом жены, состояния и чести. А целомудренные
Эвелина и Дамиан не только слывут любовниками, но и с трудом избегают казни по
обвинению в государственной измене.
Происхождение этих перипетий, конечно, не вызывает сомнений: бесспорно,
«шотландский чародей» следует золотому правилу романистики и, проведя
«неправедно гонимых» через ряд испытаний, на самых последних страницах
наказывает злодея, женит молодых и награждает умудренного опытом
коннетабля чувством новообретенной ответственности и сознанием с честью
выполненного долга (долга человеческого, а не только рыцарского). Общая схема
сюжета, таким образом, не отличается подчеркнутой оригинальностью38. Однако
предметом особой гордости писателя было умение подкреплять устоявшиеся
штампы целой системой «объективных» мотивировок, определяемых
условиями времени и места и социальной психологией персонажей. В данном случае
романические перипетии сюжета являются следствием приверженности главных
героев рыцарским ценностям — даже тогда, когда эти ценности вступают в
противоречие с жизнью.
38 Помимо общих сюжетных моделей традиционного романа, в структуре «Обрученной»
выделяются признаки, характерные для специфической романной формы, созданной самим
Вальтером Скоттом: это взаимодействие вымышленных и исторических лиц (соответственно: в центре
и на периферии сюжета), зависимость судеб главных героев от важного исторического события,
тема национальной розни и т. д. Полный или частичный анализ структуры романов Скотта
проводился в исследовательской литературе неоднократно (см., напр.: Dibelius W. Englische Romankunst:
Die Technik des englischen Romans im ХУШ, und zu Anfang du XIX Jahrunderts: In 2 Bd. 2 Aufl. Berlin;
Leipzig: Mayer & Muller, 1922. Bd. 2. S. 176; Якубович Д. 77. «Капитанская дочка» и романы Вальтер
Скотта// Пушкин: Временник пушкинской комиссии/Под ред. Д. П. Якубовича. М.; Л.: Изд-во
АН СССР, 1930. Вып. 4—5. С. 165—197; Он же. Реминисценции из Вальтера Скотта в «Повестях
Белкина» // Пушкин и его современники. Л., 1928. Вып. 37. С. 100—118; см. также: Реи-
зов Б. Г. Указ. соч. С. 475—478; Альтшуллер М. Г. Эпоха Вальтера Скотта в России. СПб., 1996.
С. 11-29).
242
Т. Г. Чеснокова
Для Скотта уязвимая сторона рыцарских идеалов заключена в их
непреодолимом «формализме». Верность долгу — главный нравственный императив
средневекового рыцарства. Однако в рыцарской культуре долг и вся система
человеческих обязанностей сосредоточены прежде всего в верности слову (ср. мотив
обета) — клятве или обещанию, порой случайно сорвавшемуся с уст.
Соблюдение слова становится мерилом ценности поступка, в то время как другие —
объективные, жизненные критерии — приносятся в жертву идолу ненарушимого
обета. В своем неизменном требовании «быть» таким, каким необходимо
«казаться» в данной системе отношений, культура средневекового рыцарства
нередко доходила до полного забвения человечности — того обычного
человеческого уровня, который, в представлении писателя, всегда являлся равнодействукь
щей противоположных — самых высоких и самых низменных — мотивов,
действующих в обществе. Как говорит один из персонажей романа,
оборотистый фламандский мануфактурщик Уилкин Флэммок, «тот, кто стремится
превзойти в добре само добро, часто добивается того, что хуже всякого зла»39. И в
этом суждении здравомыслящего фламандца заключена объективная —
«средняя» мера оценки благородного поведения рыцарей. Это не значит, что
предсказание осторожного Флэммока сбывается буквально (как и мистическое
пророчество женщины-призрака Ванды). Главные герои, стремящиеся «превзойти в до&-
ре само добро», не совершают того падения, которое приписывает им молва.
Но, будучи недосягаемо выше других — «обычных» людей, они кажутся «хуже»
их (недаром их подозревают даже в колдовстве). И в этой видимости
заключена серьезная и вполне объективная сила — сила несоответствия рыцарских
поступков и рыцарской нормы поведения среднему человеческому уровню —
равнодействующей пороков и добродетелей в массе нации и человечества в целом.
Из сказанного отнюдь не следует, что Скотт занимается запоздалым
разоблачением рыцарских идеалов и посвящает этой исчерпанной теме целый роман.
К психологии рыцарства автор «Айвенго» и «Обрученной» испытывает
неизменный интерес, смешанный с восхищенным недоумением. При этом, в отличие от
невежественных соседей и вассалов Эвелины Беренжер, писатель не
сомневается, что в исключительных условиях, созданных для себя
средневековыми рыцарями, соблюдение «сверхъестественной» добродетели вполне возможно.
Не сомневаются в этом и самые уравновешенные герои романа — Роза и
Уилкин Флэммок. Однако культивирование подобных достоинств в узких рамках
одного сословия противопоставляет его идеалы и быт самостоятельному
развитию национальной жизни, материальным интересам большинства и их
прямому или косвенному отражению в сознании людей40. Между рыцарями и народом,
между идеалами и «почвой» углубляется граница, которая позволяет «средней
равнодействующей» проявляться лишь в борьбе противоположностей, делая
средневековую историю почвой романических коллизий.
39 С. 163 наст. изд.
40 В XX в. немецкий ученый Э. Ауэрбах писал о средневековом рыцарстве как о «таком слое
общества, который изолирует себя от всех остальных слоев» (Ауэрбах Э. Герой куртуазного
романа в поисках приключений // Он же. Мимесис: Изображение действительности в
западноевропейской литературе: В 2 т. Благовещенск, 1999. Т. 1. С. 144).
Роман «Обрученная» в творчестве Вальтера Скотта
243
Напомним, что еще в шотландских романах Вальтера Скотта мотив
границы без преувеличения играл решающую роль. Своеобразное применение этому
мотиву Великий Неизвестный нашел и в своем позднем романном творчестве.
Границы между нациями и сословиями, политическими партиями и
враждующими кланами прочерчивают художественное пространство этих книг,
организуя их структуру — как будто в соответствии с канонами волшебной сказки или
рыцарского романа41. Герой пересекает границу чуждого ему, но по каким-то
причинам притягательного мира; заклятые враги встречаются на границе
своих владений, чтобы погибнуть или примириться, — эти и подобные им
ситуации переходят из романа в роман, напоминая об архетипической природе
художественных приемов в романистике Скотта.
Действие «Обрученной» начинается и заканчивается на границе Валлийской
Марки — форпоста англо-норманнских владений на юго-западе страны.
Собственно, и сама Валлийская Марка есть не что иное, как широкая пограничная
полоса между Уэльсом, еще сохранявшим подобие независимости в конце ХП в.,
и землями английской короны. Тема пограничья — особого культурного и
исторического статуса «пограничных» областей Британии — знакома читателю не
только по шотландским романам писателя, но также по знаменитым «Песням
шотландской границы» (1802—1803), изданным Скоттом — поэтом и
собирателем фольклора — задолго до его обращения к романному жанру.
Разумеется, драматическая история Уэльса не была знакома писателю так
хорошо — со всеми подробностями местного колорита, — как история родной
Шотландии. На выбор географии произведения, по свидетельству зятя
писателя Дж. Локхарта42, повлияло знакомство В. Скотта с архидиаконом Уильям-
сом — университетским товарищем Локхарта, ректором Новой Эдинбургской
академии и знатоком валлийских древностей. Общение с Уильямсом не
помешало писателю более чем скромно отзываться о своих познаниях в области
валлийской истории, культуры и быта этой древней страны43. Судя по признанию
романиста, отдельные детали, сообщенные Скотту Уильямсом, наложились в
сознании «автора "Уэверли"» не столько на самостоятельное изучение местного
колорита, сколько на длительные размышления о судьбах пограничных областей
в истории британской государственности, на общеизвестные отражения
кельтской архаики в культуре зрелого Средневековья и в произведениях
средневековой словесности, служивших отправной точкой в формировании жанровой
природы поздних романов Скотта. При этом общие кельтские корни горных
шотландцев и валлийцев подчеркивали сходство исторической судьбы двух
независимых народов, вынужденных против воли примириться с
цивилизующим влиянием завоевателей-англичан. Благодаря этому сходству граница
Валлийской Марки (как и шотландское пограничье в других романах Скотта)
предстала в «Обрученной» в двойном освещении.
41 О влиянии волшебной сказки на структуру вальтер-скоттовских романов и о посредствующей
роли средневековой романистики при этом см.: Литвиненко Н. А. «Сказочное» в жанровой
структуре исторического романа Вальтера Скотта «Квентин Дорвард» и в «Соборе Парижской
Богоматери» Виктора Гюго//Вестник Университета Российской академии образования. 1997. № 1. С. 213—214.
42 См.: LockhartJ. G. Op. cit. Vol. ГУ. P. 275.
43 См.: Sutherland J. Op. cit. P. 364.
244
Т. Г. Чеснокова
Прежде всего граница — место схваток и отчаянной борьбы валлийцев и
англо-норманнов — будущих англичан. Последним в этих битвах суждена
благая роль цивилизаторов — носителей гуманности. Но здесь, на данной
исторической «границе», они завоеватели, в чьем арсенале нет гуманных средств для
побежденных варваров. И в собственной среде они еще разрозненная масса,
не сознающая значения национального единства. Поэтому норманнский феодал
Хьюго де Лэси с таким презрением отзывается об англосаксонской крови в
жилах своего племянника Дамиана, а старая саксонка Эрменгарда взирает с
нескрываемым удовольствием на бедствия внучатой племянницы-полунорманн-
ки. Перспектива формирования единой нации, или прихода того счастливого
времени, «когда и британец, и норманн, и фламандец научатся называть себя
одним общим именем и равно чувствовать себя детьми страны, где они
родились»44, — обозначена схематически лишь в общем направлении сюжетного
развития (от межнациональных и семейных раздоров к более или менее мирному
разрешению конфликтов), да еще в словах благоразумной фламандки Розы,
пожалуй, слишком часто выражающей гуманную позицию автора45.
В то же время граница Валлийской Марки, отделяющая земли полудикого
вождя Гуенуина от окрестностей замка Печальный Дозор, уже в первой части
романа перестает быть тем рубежом, на котором символически сходятся
национальные и политические конфликты, представленные в сюжете книги. События,
определяющие развитие двух последних третей романа (помолвка и отъезд
коннетабля в Святую Землю, безначалие и сословные распри в стране,
«домашняя» и одновременно политическая интрига Рэндаля), уже не имеют отношения
к открытому противостоянию англо-норманнов и «варваров» на границе Англии
и Уэльса. Сами дружинники Гуенуина, рассеянные после гибели своего вождя,
уже не попадут в поле зрения героев и читателей романа. А разоблачение
валлийского мстителя Кадуаллона произойдет лишь на последних страницах
книги, за несколько минут до того, как демонический бард будет вздернут на
виселицу за весьма полезное убийство злодея Рэндаля. Да и сама роль Видаля—
Кадуаллона в заключительной части «Обрученной» по преимуществу роль
психологическая. Хоть этот герой и угрожает жизни коннетабля, но главная
опасность его в том, что он искушает душу старшего де Лэси и пробуждает
иррационально-варварские чувства ревности и мести, которые сродни
подавленному яростному духу побежденных кельтов.
Читая роман, таким образом, мы очень скоро обнаруживаем, что уже не
привязаны к единственной — главной меже, воплощающей все основные про-
44 С. 85 наст. изд.
45 Роза в этом отношении разделяет общее свойство наиболее проницательных (как правило,
центральных) персонажей вальтер-скоттовских романов. Ср. с отзывом о них Л. Е. Пинского:
«Главные герои Вальтера Скотта явно модернизированы, то есть как бы условно перенесены из
современности в эти далекие от автора времена. Катарина (речь идет о героине "Пертской
красавицы". — Т. ¥.), <...> упрекая своего поклонника за драчливость, <...> готова тут же извинить его
ошибки "заблуждениями этого жестокого, беспощадного века". Исторический образ мыслей и даже
выражения, совершенно неестественные для простой девушки 14-го столетия! Она смотрит на мир,
где живет, глазами самого Вальтера Скотта» (Пинский Л. Е. Магистральный сюжет: Ф. Вийон,
В. Шекспир, Б. Грасиан, В. Скотт. М.: Сов. писатель, 1989. С. 319—320).
Роман «Обрученная» в творчестве Вальтера Скотта
245
-творения романного мира. В «Обрученной» подчеркнута прежде всего много-
слойность национальных и прочих границ. Еще не утихла вражда саксов и
норманнов, а между тем они вместе, бок о бок должны «усмирять» непокорных
валлийцев и защищаться от их набегов. В гуще всех этих внутренних противоречий
оказываются чужаки-фламандцы, чересчур тесно связанные с этой страной,
чтобы покинуть ее, даже если теперь это кажется наиболее разумным.
Подобные противоречия сохраняются до самого финала книги, то и дело оживая
(«актуализируясь») в самых разных своих ипостасях. И если в начале романа
англичанам угрожают вполне реальные валлийцы, вооруженные мечами, то
позже их преследует неукрощенный кельтский «дух», предстающий то в обличий
семейного рока (призрак бриттской красавицы Ванды), то в образах старинной
легенды (о Тристане и Изольде), лишь внешне приобретшей куртуазный лоск.
На фоне повторяющегося мотива границы особенностью средневековых
романов Скотта (и в том числе «Обрученной») является концентрация действия
на превращении внешних границ в границы внутренние и их перемещении из
синхронно данного среза реальности в глубину культурной подпочвы. В
границах романного мира, таким образом, показан важный исторический процесс,
а не отдельное событие. И этот процесс неотделим от индивидуальной судьбы
персонажей и судеб тех сословий и племен, которые сталкиваются в сюжете
романа, как в соответствующей исторической действительности.
Своеобразным проявлением культурно-психологических границ и даже
одним из средств «психологической войны» в «Обрученной» становится
национальная поэзия народов Британии. В романе читатель, по крайней мере,
трижды обнаруживает себя в числе слушателей какого-нибудь местного певца, чью
песню и манеру исполнения отличают яркие черты национального своеобразия.
С поэтом, наблюдающим забавную сценку «в гуще народной жизни» и тут же,
по горячим следам, воспроизводящим увиденное в песенке собственного
сочинения, мы уже сталкивались на страницах романа «Айвенго»46. Но там писатель
находил удовольствие прежде всего в воссоздании «мастерской»47
средневекового певца, тесно связанного с повседневностью народного быта. Теперь, в
«Обрученной», Скотт больше сосредоточен на драматической роли поэзии как части
национального бытия и национального духа, а не только характеристики быта.
Поэтому в «Обрученной» автор драматизирует в первую очередь сам момент
исполнения и его воздействие на слушателей, а не предшествовавшие ему
живые впечатления поэта. Контрастное изображение трех поэтических
представлений подчеркивает своеобразие культурного значения поэзии в валлийской,
саксонской и англо-норманнской среде.
Первое такое представление встречается в одной из начальных глав романа,
когда валлийский князь Гуенуин, задумав жениться на юной дочери норманн-
46 См.: Скотт В. Айвенго // Собр. соч. ... Т. 8. С. 529—530. Надо, впрочем, отметить, что
большинство исполнителей в «Айвенго» не профессиональные певцы, а «любители»: шут, «отшельник»,
король, молодая еврейка, тогда как в «Обрученной» Скотт с интересом исследует культурную
функцию и драматическую роль профессионального поэтического искусства в жизни различных
народов и сословий.
47 См.: Ишимбаева Г. Г. Типология становления жанра исторического романа (функции
фольклора у Скотта, Пушкина, Алексиса): Деп. рук. Уфа, 1987. С. 4.
246
Т. Г. Чеснокова
ского барона Эвелине Беренжер, объявляет о своем решении дружине и
вассалам. Во время пышной трапезы любимый бард Гуенуина Кадуаллон лишь молча
хмурится и упорно отказывается потешить господина подобающей этому случаю
веселой песней. Вместо него благодарную роль хвалителя княжеских замыслов
берет на себя молодой певец, увлекающий воинов поэтическим рассказом о
красоте норманнской девицы и радостях скорого брака. Однако столь
легкомысленно начавшееся веселье неожиданно прерывается вестью о резком отказе
старого барона отдать свою дочь — простую дворянку — гордому потомку
валлийских королей. Глаза присутствующих наливаются кровью от нанесенного
Гуенуину оскорбления. И в наступившей тишине раздается победная песнь
вдохновенного барда, так долго молчавшего на этом праздничном пиру: Кадуаллон
поет о непримиримой вражде к захватчикам-норманнам, о справедливой
ненависти и мести; и эти чувства, впитанные с молоком матери, взлелеянные
воздухом родной природы и памятью о доблести могучих предков, объединяют
импровизатора и соратников Гуенуина. Следуя за звуками и смыслом песни,
суровые воины тут же обнажают мечи против надменного норманна и в его лице —
против всех завоевателей, прокатившихся, подобно чуме, по несчастной земле
их родины. Яростный боевой клич валлийцев сливается с пением их барда,
знаменуя пробуждение старой вражды, которая сильнее призрачных надежд на
примирение.
Заметим, кстати, что сцена с валлийским бардом, чья вдохновенная песнь
побуждает соплеменников взяться за оружие, имеет некий художественный
прообраз в эпизоде с шотландским бардом Мак-Мёррухом в XX главе «Уэвер-
ли». В. Скотт, несомненно, учитывал близость обычаев горных шотландцев и
валлийцев — особенно в том, что касалось поэзии. Тем не менее песня Мак-
Мёрруха в первом шотландском романе писателя полностью растворяется в
характеристике нравов горного клана, тогда как сцена поэтической
импровизации в жилище Гуенуина непосредственно вписывается в действие. Да и сам
певец получает в «Обрученной» более яркую характеристику и четкую сюжетную
роль, чем в «Уэверли», где придворный бард рода Мак Иворов скорее служил
живым памятником археологии кельтского быта.
В отличие от сиюминутных мотивов и тем в устах молодого певца, напевы
Кадуаллона задевают гораздо более глубокие и постоянные струны в душах
валлийских дружинников. Но, может быть, именно поэтому в победной песни
Кадуаллона звучит что-то зловеще-роковое. Эта песнь поведет воинов
Гуенуина и их могучего вождя на верную гибель от мечей норманнских рыцарей,
неуязвимых в своих железных латах. По сути, роковой печатью отмечена сама
неукротимость диких валлийцев в их ненависти к поработителям. В последней
песни валлийского барда и в последнем набеге валлийского вождя эта
неукротимая вражда с одинаковой силой устремляется к своему роковому пределу.
То и другое кажется писателю символом отчаянного стремления народного духа
сохранить себя в неприкосновенной целостности, назло любым компромиссам
с «гуманной» цивилизацией — цивилизацией завоевателей и покорителей
древнего Уэльса. Последние, однако, — слишком сильные противники для плохо
вооруженных и недисциплинированных «варваров»: закованные не только в
Роман «Обрученная» в творчестве Вольтера Скотта
247
стальные латы, но и в железную броню рыцарского долга. Долг возвышает их
над личными страстями и даже над стихиями народной ненависти и любви, над
национальными предубеждениями и предрассудками, которые в рыцарской
среде уступают место предрассудкам сословным. Даже национальная
ущербность полусакса Дамиана рассматривается его дядей как некий сословный
недостаток — недостаток чистоты крови, падающий позорным пятном на знатный
род де Лэси. Свобода от общенациональных чувств (и также от национальных
предрассудков) объясняется сословной исключительностью той части нации,
которая сознательно изолировала себя от основной ее массы. Однако подобная
исключительность — свобода от ограничений материальной жизни большинства
и даже откровенная сословная и национальная спесь — оказываются
преимуществом норманнских рыцарей в бою с валлийцами, залогом их победы над
свирепым и жестоким врагом. Вот почему валлийская песнь доблести в устах
Кадуаллона оказывается последним победным гимном соратников Гуенуина —
прологом плача по погибшим валлийским храбрецам.
Второе появление Кадуаллона на страницах романа и его новый «экспромт»
столь же тщательно подготовлены автором, как и неожиданная ария барда в
нависшей тишине расстроенного пира. Читатель давно забыл и думать о
рассеянных отрядах Гуенуина и об их роковом вдохновителе — мрачном
демоническом певце. Меньше всего ожидаем мы встретить его в окружении
норманнского барона де Лэси — убийцы Гуенуина — и узнать бывшего любимца князя в
маске куртуазного певца из древней Арморики — Бретани.
Впрочем «Рено Видаль — бретонский менестрель» не просто маска, но скорее
новая ипостась образа Кадуаллона, хранящая на себе роковую печать его
прежних неистовых песен. Видаль — это новое состояние Кадуаллона после гибели
Гуенуина: это враг, изменивший тактику и внешность, но не цель и сохранивший
в неприкосновенности давнее чувство ненависти все к тому же старому
противнику. Однако Видаль — это и иной тип профессионального певца, примирившего
дикие струны своей души с утонченной формой популярных куртуазных
повестей — лэ. Новая музьжально-стилевая маска становится ему необходима как
средство новой — психологической войны с завоевателями-норманнами и
форма сумрачной иронии над идеальным вымыслом рыцарской куртуазии. Дитя
варварского баснословия в поэзии и в жизни, Кадуаллон—Видаль не верит в
силу очищенных куртуазней поэтических фантазий, зовущих к примирению
страстей и сурового рыцарского долга. Он знает, где таится истинный источник
поэзии и красоты. И если непреклонные норманнские бароны перенимают
варварскую «быль» как сладкий вымысел для украшения досуга, то демонический
поэт сумеет обратить всю силу этих древних сказок против своих теперешних
хозяев и новоявленных заказчиков поэзии.
Благодаря Видалю, импровизирующему свою новую поэму на известный
сюжет о любви благородного Тристана к королеве Изольде, перед читателем
обнажается еще один сюжетный архетип, положенный писателем в основу
романного повествования. Средневековое предание (кельтского происхождения)
о незаконной любви королевского племянника (Тристана) к жене своего дяди
давно привлекало внимание Скотта. Писатель видел в нем одно из ярких про-
248
Т. Г. Чеснокова
явлений духовного склада (или «ментальное™») высокого Средневековья.
Недаром главный герой легенды соединяет в себе две характерные особенности
средневековой индивидуальности: стремление соответствовать абсолютным
нравственным нормам своего времени и органическую неспособность
сдерживать сильные порывы страсти.
Широкая известность легенды в средние века, многочисленные обработки
сказания на разных европейских языках подтверждали в глазах художника
особую, «знаковую» роль сюжета о Тристане для самовыражения
средневекового сознания. Интерес В. Скотта к романам и поэмам о Тристане был настолько
велик, что еще в 1804 г. будущий романист подготовил к печати рукопись ХШ в.
«Сэр Тристрем», хранившуюся в Эдинбургской библиотеке, — одну из
многочисленных рыцарских поэм о популярном герое Средневековья48. Обширный
комментарий и статья, написанные Скоттом для этого издания, свидетельствовали
о знакомстве писателя с несколькими обработками легенды и о его интересе к
особенностям каждой версии. Однако до начала работы над «Обрученной» этот
интерес проявлялся автономно, выражая скорее научные, чем собственно
литературные пристрастия романиста. Казалось, столь специфический для
Средневековья и в силу этого уникальный любовный сюжет не мог найти места в
сюжетной организации вальтер-скоттовского романа, обращенного к сознанию
читателя XIX в.; во всяком случае, он долго не мог оказаться в центре его
сюжетной структуры. В «Обрученной» В. Скотт впервые заставил сюжет
средневековой легенды заговорить на языке исторического романа Нового времени,
что привело к целому ряду интересных последствий для художественного
повествования.
В классической модели легенды, сложившейся во второй половине XII —
начале XIII в. и сохраненной ранними литературными версиями (например,
Беруля), Тристан и Изольда — романические, но не куртуазные влюбленные49.
Тристан, в частности, остается куртуазным героем лишь до и «вне» своей
любовной связи с Изольдой. Изольда для него (фактически невеста, а затем жена его
родного дяди Марка) не идеал Прекрасной Дамы, вызывающей возвышенное
поклонение, а предмет непреодолимой страсти.
Такое понимание любви не было вовсе чуждо и Вальтеру Скотту.
Влюбленные в «Обрученной» не только не в ладах с куртуазней (Эвелина не понимает
значения условностей, которым педантично следует коннетабль, а Дамиан
«не без труда» попадает в «высокий куртуазный тон»); они испытывают друг к
другу настоящую страсть, хотя и «стыдятся» ее проявлений, по верному
замечанию Стендаля. Уже таинственная болезнь Дамиана и его неожиданный
припадок во время помолвки дяди приоткрывают на миг, каким потрясением является
для него любовь к Эвелине — тем более сильная, что ее приходится скрывать.
А Эвелина, не смея выразить свои чувства прямо, с таким неистовым пылом
берется защищать молодого преступника от королевского гнева, что нарушает
48 См.: Sir Tristrem, a metrical romance of the thirteenth century / By Thomas of Ercildoun, called
Thomas the Rhymer. Edinburgh, 1804; см. также примеч. 8 к гл. XVII и примеч. 1 к гл. FV.
49 См.: Михайлов А. Д. История легенды о Тристане и Изольде // Легенда о Тристане и
Изольде. М.: Наука, 1976. С. 645, 677, 679. (Лит. памятники)
Роман «Облученная» в творчестве Вальтера Скотта
249
свой вассальный долг и навлекает на себя презрение и ненависть собственных
слуг. Более откровенное выражение страсти на страницах романа было бы,
с точки зрения Скотта, уже «пощечиной общественному вкусу». Писатель не раз
признавался, что в своем изображении сознательно смягчал средневековые
нравы, считая это проявлением художественности50. Но в рамках той системы
умолчаний, которой придерживался Скотт как сторонник «чопорной»
морали XIX в., того, что описано в «Обрученной», вполне достаточно, чтобы
составить представление о силе страстей, переживаемых Эвелиной и Дамианом.
Однако, помимо природной страсти, герои Скотта наделены еще и
свойством, которое мы напрасно пытались бы обнаружить в характерах их
средневековых прототипов. Речь идет о нравственном чувстве, понимаемом как живая,
действенная сила, наделенная такой же органической мощью, как и
противостоящая ей страсть. В. Скотт явным образом подчеркивал различие между
условностями, связанными с преходящей моралью эпохи, и общечеловеческой
нравственностью, во все века осуждавшей измену — измену не случайно
сорвавшемуся слову или нелепой клятве, но человеческому доверию и осознанному долгу.
Страсть невозможно скрыть, она сметает внешние формы куртуазной или
вассальной обязанности, но нравственное чувство (до тех пор, пока ему не
посчастливится примириться с любовью) способно оказаться вполне достойным, и
притом естественным соперником «неодолимого» влечения.
Легенда о Тристане и Изольде превращается, таким образом, в ложную
модель поведения героев. Но это не мешает ей действовать на уровне ожиданий
«толпы», живущей мелкими, эгоистическими интересами. Герои, любя друг
друга, избегают падения, однако большинство (подобно злокозненным баронам
в средневековом романе) не сомневается, что падение свершилось.
Интересно, что среди всех героев «Обрученной» наиболее куртуазным в
своих чувствах и их выражении оказывается суровый воин Хьюго де Лэси («король
Марк»). Его любовь к Эвелине больше всего похожа на благоговейное
поклонение и возвышенное служение. Но эта куртуазная условность неожиданно
получает вполне «живую» мотивировку, являясь естественным следствием разницы
в возрасте, положении и результатом определенной психологической
отчужденности, незримо присутствующей в отношениях Эвелины и коннетабля. И хотя
с этим нежным, почтительным чувством старый Хьюго долгое время
связывает мечты о семейном счастье, тем не менее наиболее совершенным
выражением его поклонения героине является отказ от брака с ней. Любовь, возникшая,
вопреки трезвому матримониальному расчету, как чувство духовное и почти
бесплотное, возвращается в свою истинную — духовную сферу. Это может
свидетельствовать о том, что в самой куртуазии Вальтер Скотт видел частично
подмену живого чувства ритуалом, частично — своеобразную форму «вечной»
эмоции, имя которой — трепетное, благоговейное почитание.
Сопоставление «Обрученной» с легендой и романом о Тристане выявляет
также существенные различия в строении системы персонажей. Главным героем
50 Ср.: «<...> фигуры должны остаться теми же, но только нарисованными более искусным
карандашом или <...> должны соответствовать требованиям эпохи с более развитым пониманием
задач искусства» (Скотт В. Айвенго // Собр. соч. ... Т. 8. С. 28—29).
250
Т. Г. Чеснокова
средневекового предания считался Тристан (в английской версии — «сэр Три-
стрем»). «Новое воплощение» этого персонажа в романе В. Скотта — Дамиан —
напротив, оттесняется на периферию сюжетной и идейной структуры
произведения. На первое место по сюжетной значимости выдвигается «обрученная»
невеста коннетабля Эвелина—Изольда, а сразу же вслед за нею (или наряду с
нею, если верить переводчикам старой школы) — и сам коннетабль — Марк51.
Это не единственный случай, когда В. Скотт (хотя бы формально) отводит
героине центральное место в сюжете (ср. с «Ламмермурской невестой» или
«Пертской красавицей»). В «Обрученной» это отчасти продиктовано тем, что
Эвелина — в большей степени, чем кто-либо из основных персонажей-мужчин, —
выступает субъектом нравственного выбора, играющего столь важную роль в
поздней романистике Скотта.
Трансформация сюжетной модели «Тристана и Изольды» косвенным
образом приводит к видоизменению другого центрального мотива книги — мотива
возвращения крестоносца. И хотя структура последнего была менее жесткой,
чем структура легенды о Тристане, она также имела свои классические
варианты, упоминаемые В. Скоттом в предисловии к «Обрученной». Классической
может считаться и та модель, которую Скотт обыграл когда-то в IV главе «Уэвер-
ли». В этой «уэверлеевской» версии выделялась, как мы видели, драматическая
сцена развязки, в которой юному герою романа особенно запомнились
«терзания» его предка Уилиберта, «понявшего, что сердце и рука невесты отданы
добровольно».
В «Обрученной» безошибочное нравственное чувство Эвелины и Дамиана
(ложных Изольды и Тристана) исключают возможность «добровольной»
измены, а следовательно, и «уэверлеевского» финала. Не будем отрицать, что
эпизод испытания Дамиана в тюрьме, который до известной степени служит ему
заменой, несмотря на эффектность, не обладает тем драматизмом, которым
была проникнута сцена брачного пира в родовом замке Уэверли. И все же
нравственная концепция оказалась для автора важнее одного по-настоящему
яркого эпизода (хотя бы и финального). Не хотелось писателю и повторять
однажды использованную (пусть только в наброске) развязку. Во всяком случае,
те чувства (оскорбленной гордости, горечи и, наконец, смирения), которые
довелось испытать обоим рыцарям-крестоносцам (в «Уэверли» и в «Обрученной»),
в более позднем романе В. Скотт передает другими доступными ему средствами.
Разумеется, в наступавшую для Европы эпоху индивидуального
самоутверждения — эпоху Желания, поглощающего Бытие (как в «Шагреневой коже»
Бальзака), обостренное нравственное чувство, которым в таком избытке наделены
средневековые персонажи Вальтера Скотта, легко могло показаться
абстрактной схемой или фальшью. Между тем для знаменитого шотландца — в силу
«неромантического» склада его нравственных ценностей или по какой-то иной
причине — было важнее всего показать непосредственную реальность такого
чувства, и именно в ту эпоху, когда эмоции и идеалы выражались с особой силой,
недоступной современному цивилизованному человеку. А для того, чтобы это
51 См. в наст. изд. преамбулу к примечаниям.
Роман «Обрученная» в творчестве Вальтера Скотта
251
чувство казалось реальным в художественном пространстве и времени романа,
ему нужно было стать действенной силой и двигателем сюжета,
корректирующим готовые шаблоны и наделяющим их свободой движения в большом
историческом времени Литературы.
Для В. Скотта неверие большинства в реальную силу «отвлеченного»
нравственного чувства — обыденный предрассудок, присущий отнюдь не только XIX
веку. Когда-то, впрочем, он не был предрассудком, но выражал относительную
правду варварской эпохи — правду независимых полудиких народов, не
знакомых с обычаями рыцарства. Средневековые рыцари создали новые ценности и
новые условия морального сознания, но только для самих себя. Подавляющее
большинство осталось на уровне варварских норм и нравственных механизмов,
еще более упрощенных по сравнению с эпохой их официального господства. Вот
почему нравственный смысл полуварварского сказания о любви совпадает в
конечном счете с голосом молвы, «поверившей» в моральное падение Эвелины
и Дамиана.
В устах Видаля куртуазная обработка древнего кельтского сюжета
превращается в насмешливый ответ на требование коннетабля спеть романс о женской
верности. Для мужественного норманнского рыцаря верность — чувство,
родственное долгу, между долгом и верностью не может быть противоречия или
разрыва. Для мнимого бретонца верность — это единство и цельность страсти,
сметающей на своем пути все доводы разума и чести. Певец и сам — носитель
подобной страсти и жаждет пробудить неукротимую стихию ревности и мщенья
в душе доселе неуязвимого врага. Однако, несмотря на страстный фанатизм
Видаля и несмотря на видимость правдивости его мрачных предсказаний и
намеков, в духовной схватке с коннетаблем он терпит поражение. Вместо стихии
ревности и варварского долга мести он пробуждает в сердце рыцаря простую
человечность и гибнет сам, ведомый теми же страстями, которые сгубили его
соотечественников из дружины Гуенуина.
Судьба Кадуаллона недаром в некоторых чертах повторяет судьбу его
злосчастного покровителя и вождя — «потомка тысячи валлийских королей».
Привлеченный духовной красотой своего врага (как Гуенуин — физическим
очарованием прекрасной дочери Беренжера), Видаль невольно выказывает участие
гордому норманну в постигших его бедах. Но коннетабль, не привыкший
принимать сочувствие слуг, надменно останавливает его искренний порыв. Кадуал-
лон возвращается в роковой круг своей ненависти и вновь готовится завершить
не доведенное до развязки дело кровавой мести. Однако на этот раз уже не
личная симпатия к врагу, а скорее рок, нависший над всеми враждебными
начинаниями валлийского племени, встает на пути мстителя. Обманувшись богатой
одеждой и пышным жезлом коннетабля, он наносит удар их владельцу, но
попадает в его родственника — Рэндаля, присвоившего титул и богатство де Лэси.
Схваченный как убийца, неистовый менестрель перед смертью открывает свое
настоящее имя и умирает как настоящий валлиец — исконный враг всех
норманнов и англичан. Ему еще удается вызвать восхищенное сочувствие коннетабля —
своего недавнего господина и врага, возможно, пожалевшего не только о
неизбежной казни своего несостоявшегося убийцы, но и о собственных предрассуд-
252
Т. Г. Чеснокова
ках, не позволивших ему принять искреннего выражения сострадания из уст
презренного менестреля. Однако на этот раз уже сам певец с презрением
отвергает запоздалую жалость норманна. Человечность в отношениях Видаля и
де Лэси никак не может одержать верх над сословными и расовыми
предрассудками одновременно с обеих сторон, и безжалостный рок доводит свое дело до
конца.
На фоне сложной психологической драмы, в которой непосредственно
участвуют песни и лэ Кадуаллона—Видаля, старинные напевы в доме тетушки Эрмен-
гарды подчеркивают лишь окаменелость древнесаксонского быта,
поддерживаемого по привычке и из упрямства — в пику новомодным веяниям в среде
норманнов. Старинная национальная поэзия удерживается в Болдрингеме как часть
этого быта — часть далеко не главная и, уж во всяком случае, такая же
невыразительная и бездушная, как обстановка в доме и застывший ритуал поведения
его обитателей. Описание «нескончаемой песни» болдрингемского «песельника»
носит в романе ярко выраженный «археологический» характер. В немногих
словах Скотт перечисляет формальные признаки саксонской поэзии
(аллитерации, сложную поэтическую фразеологию, непонятную даже тем, кто хорошо
знал саксонский язык, религиозную тематику песни). Однако суховатый
археологический подход, отличающий описание англосаксонской поэзии от
драматичных эпизодов исполнения валлийского гимна или норманнской стихотворной
повести, — вызван к жизни не чем иным, как археологическим состоянием
самой поэзии англосаксов.
Окаменелость этих песен должна быть очевидна не только современному
читателю (что было бы неудивительно) и даже не только юной Эвелине,
воспитанной на «веселых фаблио и полных поэзии лэ норманнских менестрелей»52.
Она драматизирована в самой форме исполнения и реакциях слушателей, для
которых болдрингемские «вечера саксонской поэзии» давно уже превратились
в утомительную повинность. Напевы старого песельника в Болдрингеме не в
состоянии вызвать что-либо похожее на эстетическое переживание.
Традиционная поэзия ценна для ее поклонников в замке Эрменгарды как «знаковая»
примета древнесаксонского быта — наряду с обильным ужином и похвальной
привычкой отправляться спать не позже половины двенадцатого. Именно в этот
час старый песельник умолкает «на середине недопетой строфы», подчиняясь
порядку, более важному в этом доме, нежели внутренний порядок его
поэтической фантазии. Оборванная таким образом «нескончаемая» песнь
оставляет всего лишь один, да и то чисто отрицательный, след в душе Эвелины. В
отличие от песен Кадуаллона, туманный напев саксонского стихотворца не
вызывает немедленной эмоциональной реакции, не изменяет душевного настроя
и не побуждает к действию. Он вообще не способен сосредоточить на себе
внимание чувствительной и утонченной норманнской девицы и позволяет мыслям
героини блуждать вокруг гораздо более волнующего события, каким
обещает стать для нее предстоящая «ночь с призраком» в одной из комнат
болдрингемского замка.
С. 84 наст. изд.
Роман «Обученная» в творчестве Вальтера Скотта
253
Характерно, что иррациональное начало, дремлющее под покровом мирных
обычаев англосаксов, вновь обнаруживает кельтский колорит и характерную
для кельтской культуры мистическую окраску. Это призрак Ванды — белокурой
бриттской красавицы, преследующей саксонский род Эвелины и Эрменгарды.
Мстительный языческий дух находит почти желанный приют в доме бабки,
испытывающей явное недоброжелательство к внучатой племяннице, в то время
как сама племянница ведет жестокую войну с сердечной склонностью во имя
ложно понятого долга. Противоестественные эмоции и поступки персонажей
словно провоцируют пробуждение древних неуправляемых сил, находящихся
в родстве с тайными стихиями природы и с неукротимым духом древних
кельтов. В переплетении «живых» и «мертвых» отношений между народами и
людьми старинный след кровавого преступления против красавицы бриттки
сливается с рубцами свежей неприязни саксов и норманнов — и переходит в скрытую
борьбу в сердце юной Эвелины Беренжер — невольной наследницы старых
распрей и самой невинной участницы жестоких драм. Границы: старые и новые,
внутренние и внешние, скрытые и явные — взаимно отражаются друг в друге и
создают ту обстановку, полную мистики и внутреннего напряжения, в которую
помещены основные герои романа.
На фоне яркого разнообразия национальных противоречий в романе,
сословные границы, не связанные непосредственно с враждой племен, играют в
«Обрученной» на первый взгляд не самую значительную роль. И все же в эпизоде
бунта вассалов (гл. XXVI—XXVH) культурно-психологический разрыв между
сословиями приобретает самостоятельное драматическое значение, обозначая
еще одну выпуклую границу романного мира. Читателям книги неизменно
запоминается эффектная картина встречи рыжего мятежника-виллана с
карательным отрядом Дамиана — картина, вся сила котррой заключена в
психологической и нравственной несовместимости реакций юного дворянина (пажа Амелота)
и главного бунтовщика из крепостных. Рыжеволосый крестьянин-сакс с какой-
то туповатой обстоятельностью демонстрирует воинам отрубленную голову
Уэнлока — блудливого и жестокого феодала, ставшего жертвой своих
разъяренных холопов. При этом он, кажется, рассчитывает на
восторженно-сочувственный отклик людей младшего де Лэси, зная последнего как «доброго барина»,
не раз заступавшегося за обиженных крестьян. Однако вместо одобрения он
сталкивается с отвращением и ужасом пылкого и наивного предводителя
отряда. А Амелот, в свою очередь, не в состоянии понять дикого чувства народной
мести, сметающей на своем пути не только сословные законы и предрассудки
рыцарей, но также всякие зачатки общечеловеческой морали.
Острота психологического разрыва между сословиями определяет еще одну
яркую особенность романа: отсутствие широкой поддержки главных героев со
стороны «эпического фона». Одинокие рыцари сражаются с собственными
чувствами и привязанностями во имя высшего долга, чтобы в конечном счете
сословный долг отступил перед новым пониманием человечности. Однако
читатель вправе сомневаться в том, что эта с трудом добытая человечность будет
близка самым низшим слоям народа и окажется для них более понятна, чем
суровая феодальная честь. «Средняя линия» Вальтера Скотта не охватывает
254
Т. Г. Чеснокова
крайностей общественного организма и, в сущности, не принимает их в расчет
как самостоятельную силу. Идеалом шотландского романиста в его
художественных произведениях остается сословный, национальный и отчасти
нравственный компромисс, в котором крайности растворяются или перестают играть
сколько-нибудь значительную роль. В сущности, к этой нейтрализации крайних
сил общественного организма и национального сознания В. Скотт неизменно
стремился как писатель и гражданин.
Разрешение скрытых и явных конфликтов в «Обрученной» имеет двоякий
характер. Для примирения враждующих сторон необходима прежде всего
материальная, но также и психологическая почва. Реальное единство англосаксов
и норманнов уже существует, вопреки разделяющим их предрассудкам. И юные
отпрыски смешанных саксонско-норманнских родов, какими являются
Эвелина и Дамиан, — живые носители этого единства. Поэтому, как бы ни
стремился надменный коннетабль стереть из родословной де Лэси всякие следы
саксонской крови, в конце концов он вынужден смириться с тем, что миссия
продолжения этой славной фамилии выпала не ему, а его полусаксонскому племяннику.
И как бы ни хмурилась седая Эрменгарда на нелюбимую племянницу-полунор-
маннку, именно Эвелина несет ее древнему роду искупление старых грехов.
Осознание саксами и норманнами реальности и необходимости единения как
почвы для выживания их родов и выполнения рыцарским сословием его
предназначения в истории страны — таково второе (психологическое) условие
благополучной развязки. При этом рождение англо-норманнского единства и
закрепление его в сознании героев становится образцом для сглаживания других
внутренних границ романного мира. Так, например, сословный принцип в целом
сохраняет свое значение, но сословные различия смягчаются, о чем
свидетельствует счастливый брак фламандки Розы (дочери ремесленника) и юного пажа
Амелота. Вальтер Скотт, как нетрудно заметить, не желает примириться с
детерминизмом сословных и расовых конфликтов (и подчинять ему структуру и
форму своих романов). Он наделяет своих героев способностью предвидеть те
времена, «когда и британец, и норманн, и фламандец научатся называть себя
одним общим именем и равно чувствовать себя детьми той страны, где они
родились» (см. выше). Более того, он считает необходимым сознательное
стремление к такому идеальному состоянию — для того чтобы оно когда-нибудь
наступило. Подобный взгляд на исторический прогресс как на осуществление
благих и разумных целей, бесспорно, является утопическим. Но в этом
разумном стремлении к тому, что с трудом может быть представлено изнутри
реальных конфликтов эпохи, Скотт видит залог превращения замкнутого историзма
в благородную поступь большой Истории. Он жаждет найти корни идеалов в,
казалось бы, самой удаленной от них исторической реальности и даже в
природе, словно подталкивающей жителей небольшого клочка земли, окруженного
морем, жить в мире друг с другом53.
Единство нации, прошедшей сквозь горнило межэтнических конфликтов, —
вот точка зрения, с которой Скотт взирает на противоречия национальной
53 Тема «природной» необходимости единства соседних островных народов и государств будет
развита В. Скоттом более подробно в «Талисмане».
Роман «Обрученная» в творчестве Вальтера Скотта
255
жизни в любую историческую эпоху. Единство этой точки зрения находит
отражение в единстве языка и синтетической54 структуры средневекового романа
Скотта. Валлийцы, англосаксы и норманны в «Обрученной» говорят на общем
сглаженном литературном «наречии» первой трети XIX в. На этом языке они
бросают вызов противнику и предлагают руку и сердце даме55. И тот же
авторский язык передает своеобразие словесного искусства трех народов, описывая
значение и место поэзии в культуре и быту всех наций и сословий, живших в
Британии в конце XII в. Лингвистические и культурные различия между
нациями не копируются Скоттом, но драматизируются им с помощью нейтральных
языковых и живописных средств.
Драматическое начало, по мнению многих критиков, лежит в основе
художественного единства вальтер-скоттовских романов56. К этому мнению стоит
прислушаться, тем более что роман изначально (еще в античной литературе)
по своему формальному строению отличался заметной близостью к драме57.
Драматизм проникает в структуру поздних произведений Скотта так глубоко,
что это приводит к драматизации границ между малыми жанрами,
взаимодействующими в рамках романного синтеза. При этом писатель, как мы могли
убедиться, уже не ограничивается включением вставных стихотворных «номеров»
в сюжетную канву своего очередного романа, но драматически связывает романс
или песню, исполняемую кем-нибудь из героев, с эмоциональными
побуждениями и поступками других персонажей. В произведениях 1820-х годов Вальтер
Скотт к тому же нередко наделяет отдельные сцены особой — специфической
жанровой окраской. В «Обрученной», к примеру, немало эпизодов комических —
напоминающих средневековые фарсы и фаблио (см. «остроумные ответы» ткача
Флэммока о. Альдрованду и Хьюго де Лэси в гл. VII и XXI), готических —
в стиле «романа ужасов», драматических и авантюрных — в характерной манере
«романов приключений». Все эти эпизоды составляют неотъемлемую часть
повествования, органически вливаются в его сюжетную структуру и в то же
время обладают особой внутренней завершенностью.
Можно сказать, что историческая жизнь в романах Скотта оформляет себя
как драма. Взаимодействие различных социальных сил, взаимодействие
«страстей» и «нравов» в движении истории (одновременно в замкнутом кругу и в
общечеловеческом пространстве) определяет связь комизма и трагизма, фанта-
54 См.: Реизов В. Г. Указ. соч. С. 484.
55 См.: Sutherland J. Op. cit. P. 278-279.
56 По словам В. Г. Белинского, «лучшие и высшие» из романов Вальтера Скотта «суть те,
которые больше или меньше проникнуты драматическим элементом». Известно также данное
критиком определение романа «Ламмермурская невеста» как «трагедии в форме романа» (см.:
Белинский В. Г. Разделение поэзии на роды и виды // Собр. соч.: В 3 т. / Под общ. ред. Ф. М. Головен-
ченко. М.: ОГИЗ; Гослитиздат, 1948. Т. 2. С. 24). С не меньшей определенностью говорил о
драматической основе вальтер-скоттовских романов и Н. И. Надеждин, по мнению которого «роман
Вальтера Скотта ни с чем более не имеет сходства, как с драмою» (Надеждин Н. И. Литературная
критика. Эстетика. М., 1972. С. 279).
57 См., напр.: Брагинская Н. В. Генезис «Картин» Филострата Старшего // Поэтика
древнегреческой литературы. М.: Наука, 1981. С. 281; Аверинцев С. Жанр как абстракция и жанры как
реальность: Диалектика замкнутости и разомкнутости // Взаимосвязь и взаимовлияние жанров в
развитии античной литературы. М.: Наука, 1989. С. 20.
256
Т. Г. Чеснокова
стики и героики в романизированных «драмах» шотландского писателя.
Однако драма предполагает особое воздействие на зрителя, требуя катарсиса. Во
всяком случае, во времена В. Скотта необходимость очищения страстей (не только
в высокой трагедии, но и в драматических произведениях «смешанного» рода)
не вызывала сомнений. Но очищение эмоций невозможно без их
предварительной передачи читателю и зрителю. А можно ли передать читателям страсти,
волновавшие людей далекого Средневековья, не погрешая против исторической
правды и не рискуя оставить своих героев непонятыми? Проблему эту В. Скотт,
по его же собственному утверждению, решал примерно так же, как проблему
языка58; иначе говоря, стремился опереться на «нейтральный» слой
общечеловеческих эмоций, равно понятных всем вменяемым представителям
человечества, независимо от времени и места их рождения. Вот почему ориентация на
драму в структуре вальтер-скоттовского романа породила особый тип
зависимости эмоциональной жизни персонажей от восприятия публики.
В «Обрученной» обычная для Скотта драма исторической жизни
разыгрывается как драма психологии средневекового рыцарства. Но средствами
драматизации «замкнутых» моделей поведения (замкнутых в рамках сословия и
эпохи) остаются всеобщие — «внеисгорические» эмоции и страсти (надежда, страх,
отчаяние, радость и т. д.). Непосредственное знание читателем этих эмоций по
опыту собственной жизни придает видимость эмоциональной достоверности тем
необычным психологическим отношениям, которые описаны в романе. Это не
значит, что непосредственные реакции героев и читателей Скотта непременно
совпадают. Напротив, Скотт с особым удовольствием подчеркивает
национальные, эпохальные и сословные особенности душевных движений, заведомо
чуждых современному читателю.
Так, дочь барона Беренжера, погибшего в стычке с валлийцами, проявляет
почти неженскую суровость, скрывая свою скорбь от посторонних глаз, ибо
приучена считать открытое проявление чувств несовместимым с ее высоким
званием. Коннетабль Честерский резко отвергает сочувствие простого
менестреля, и эта непосредственная реакция также несет на себе отпечаток сословной
морали. В свою очередь, странный менестрель обнаруживает необычную для
своего положения гордость и чувство собственного достоинства — эмоции,
служащие невольным отражением почетного статуса валлийского барда в его родной
среде, с которой Кадуаллон сохраняет тесную духовную связь. Эмоциональные
порывы, хоть чем-то отличающиеся от соответствующих реакций современного
человека, не остаются в романе без авторских комментариев: В. Скотт
намеренно привлекает внимание к тому, что разделяет его героев и читателей
психологически.
Объяснения этих различий чаще всего даются тут же — рядом с описаниями
бурных (или скрытых) проявлений чувства. И все же, хотя мотивы
изображенных в романе страстей опосредованы исторической эпохой, эмоциональные
проявления чувства всегда остаются непосредственными, и именно такими их
должен увидеть читатель. Вот почему в передаче «ископаемых» нравов и стра-
См.: Скотт В. Айвенго // Собр. соч. ... Т. 8. С. 27.
Роман «Обрученная» в творчестве Вальтера Скотта
257
сгей В. Скотт опирается на страсти предельно обобщенные (душевную
стыдливость или чувство оскорбленной гордости), эмоциональное содержание которых,
по сути, не меняется, приобретая ту или иную культурно-историческую (или
сословную) окраску. Благодаря этому собственные чувства читателя
становятся живым — природным — зеркалом тех эмоций, которые переживают на
страницах романа средневековые персонажи Вальтера Скотта.
Читатель, безусловно, будет напрасно искать на страницах известных
романов писателя подробного психологического анализа в духе Стендаля (или же в
стиле мадам де Лафайет). Однако отсутствие такого анализа вовсе не
означает, что поведение вальтер-скоттовских персонажей психологически не
мотивировано. Недаром подоплекой внешнего конфликта в произведениях Скотта
обычно служат психологические различия и границы между людьми. В
«Обрученной» к этому добавляется сосредоточенный интерес автора к «живой»
психологии рыцарей, таящей в себе глубокие противоречия между естественными
и воспитанными стремлениями и идеалами. Эти противоречия являются не
сопутствующим обстоятельством, а подлинной основой показанных в романе
культурно-исторических конфликтов.
Сословная психология и мораль средневекового рыцарства являлись для
писателя наглядным историческим примером превращения утонченных
ценностей культуры в духовное достояние целого сословия, игравшего в жизни
государства значительную роль. При этом скромный островок окультуренных
сословных эмоций соседствовал в эпоху крестоносцев с могучей стихией
первобытных страстей, которую благородные рыцари старательно изглаживали из своего
сознания. Но она сохранялась — и не только в низшей социальной сфере, но и
в органических проявлениях их собственной натуры. Острота конфликта
определялась неизбывностью первоматерии страстей, которая лежит в основе
человеческого существования и заключает в себе потенциальную стихию разрушения
(см. сцены бунта), но также и зачатки общечеловеческой морали, не
разделяющей «естественное» и «высокое» по принципу сословной иерархии.
Стремясь представить эмоциональный мир своих героев в зеркале
общечеловеческих страстей, В. Скотт культивировал эстетику чувственного подобия
жизни, находящего опору в непосредственном восприятии. Его не удовлетворяло
чисто рациональное правдоподобие, основанное на способности ума
распознавать рассудочно приемлемое содержание образов, отталкиваясь от всего
необъяснимого. Рациональное правдоподобие — это пресловутые потайные
двери в романах Анны Радклифф, весьма пригодные для «разумного» объяснения
готических тайн. В романах самого Скотта рациональное правдоподобие
предстает как особая форма молвы (обывательской мудрости, здравого смысла),
сводящей чувственно воспринимаемую, но нераскрытую тайну бытия к чему-то
заранее известному и понятному. Так, например, в готической сцене явления
призрака (гл. XTV) мистическая торжественность момента то и дело нарушается
недоверчиво-рассудительными комментариями Розы. Однако жизнеподобие
таких сцен и романа в целом определяется не рациональным опровержением
фантастики, а скорее переплетением суеверного ужаса и рассудочной иронии в
целостной картине человеческого опыта. Фантастические образы в «Обручен-
9 В. Скотг
258
Т. Г. Чеснокова
ной» отличаются той же пластической непосредственностью, что и образы
бытовые, — они даны героям и читателю предметно и требуют
предметно-чувственного восприятия, а уж затем — рассудочной оценки.
Стремясь раскрыть душевные движения героев, писатель так же сочетал
пластически-наглядный образ страсти с рассудочно-абстрактным
комментарием. Однако тяга к равновесию двух этих компонентов в литературной ситуации
1820—1830-х годов вдруг обернулась сложной эстетической проблемой.
Достигнутое равновесие покоилось на постоянстве «образов» мышления и восприятия,
в действительности оказавшихся гораздо более подвижными, чем мог
предположить «шотландский чародей». Если бы Вальтер Скотт мог познакомиться
с терминологией Юнга, он, вероятно, согласился бы, что со времен
Средневековья традиционные архетипы коллективного бессознательного изменили
свое значение и место в жизни европейского человека. Иные — более
рассудочные — образы мышления потеснили классический архетип с его ведущих
позиций в официальной культуре. Однако самые существенные сдвиги
происходили в глубине обыденного сознания, где скрыты корни традиционных
архетипов.
В эпоху средневекового традиционализма обыденное мышление было
поэтичным, рассказ очевидца легко превращался в предание, воплощая в себе
классический архетип аффективного восприятия. В Новое время обыденное
мышление стало рассудочным, равно как и связанные с ним повествовательные
модели. Здравый смысл отделился от поэзии, молва — от предания. И Вальтер Скотт
напряженно пытался восстановить нарушенную «связь времен», найти
компромисс между рассудочным и поэтическим восприятием жизни. Сухой здравый
смысл современности он надеялся примирить с поэтическим здравым смыслом
далекого прошлого. В такой установке на компромисс между поэзией «древних»
и «новых» писатель, в который раз, проявил себя наследником великой
культуры XVTII в.59. В структуре романов 1820-х годов он добился синтеза тех
элементов, которые в просветительском универсуме лишь более или менее удачно
дополняли друг друга. Однако по мере дальнейшего углубления трещин в
классических формах обыденного мышления культура уравновешенного баланса
между «чувством» и «разумом» начала уступать свое место культуре нового
типа, в основу которой положен был антитрадиционалистский принцип
разорванного сознания. Выражение этого принципа не только в поэзии, но и в прозе —
начиная примерно с 30-х годов XIX в. — стало синонимом принадлежности
авторов к современной культуре, а «старый» Вальтер Скотт примерно в эту же
пору был стремительно понижен в литературном ранге представителями нового
поколения.
Так, уже для Стендаля непосредственный «образ» страсти и действия
современного человека (воплощенный в новейшем «предании» романтической
школы) решительно отрывается от компромиссного вальтер-скоттовского предания-
59 О значении компромиссов в истории и культуре XVTQ в. см.: Пахсарьян Н. Т. «Ирония
судьбы» века Просвещения: Обновленная литература или литература, демонстрирующая
«исчерпанность старого»? /J Зарубежная литература второго тысячелетия: 1000—2000: Учеб. пособие / Под
ред. Л. Г. Андреева. М.: Высш. школа, 2001. С. 71—87.
Роман «Обрученная» в творчестве Вальтера Скотта
259
молвы. Новое практическое (и эстетическое) сознание не компромиссно, оно
разорвано. Разрыв составляет его существенное содержание. Вот почему
Вальтер Скотт, попытавшийся соединить все то, что в новой реальности оказалось
расторгнутым, в глазах Стендаля — «слишком большой лжец»60. Искусство,
по мнению Бейля, «прекрасная ложь»61, но сказки «шотландского чародея» —
ложь слишком явная для норм современного восприятия.
В 1825 г., когда «большой лжец» работал над циклом «Рассказов о
крестоносцах», подобная резкая отповедь знаменитому автору со стороны литераторов
младшего поколения была психологически и практически невозможна62. Однако
тайный холодок в отношении к «автору "Уэверли"» постепенно нарастал. И пока
молодые писатели не решались признаться самим себе, что великий шотландец
уже превратился для них в литературного старовера, ровесники Скотта
вспоминали забытые доводы против неточностей и анахронизмов, без которых
писатель не мыслил художественной обработки исторических фактов.
Если знатоки древностей уже давно выражали недовольство
«приблизительной точностью» исторических описаний Скотта, то именно на «Обрученной»,
судя по всему, окончательно лопнуло терпение Жана Шарля Леонара Сисмон-
ди. Буквально через пару месяцев после выхода в свет «Рассказов о
крестоносцах», в августе 1825 г., швейцарский историк и экономист записывает в дневнике
ряд замечаний относительно исторической достоверности описанных Скоттом
событий. Изображая незамужнюю девицу в «Обрученной» безраздельной
хозяйкой отцовских владений, Скотт, по мнению историка, проявляет полное
безразличие к средневековой системе вассальных отношений и связанных с ними
отношений собственности63. В результате его герои оказываются помещенными в
чисто романическую, условную среду, не имеющую никакого отношения к
истории64.
В свое время В. Скотта как автора шотландских романов поторопились
признать создателем современного романа вообще65. Усиление романического
начала в его поздних произведениях навлекло на него обвинения во лжи —
исторической и художественной. В сущности, мало кто по-настоящему понял и при-
60 Стендаль. Вальтер Скотт... С. 317.
61 Там же.
62 Огромное значение статьи «Вальтер Скотт и "Принцесса Клевская"» состояло еще и в том,
что Стендаль, перейдя от «идеологической» критики политических взглядов и нравственного
облика Скотта к ниспровержению его художественного авторитета, сделал это не с позиции
«литературных староверов», осмеянной им же самим на страницах «Расина и Шекспира» (см.: Стендаль.
Расин и Шекспир // Собр. соч.: В 15 т. М.: Правда, 1959. Т. 7. С. 76), а с точки зрения новой
школы, смотревшей на своего «отца» в романистике как на литературного предшественника (см.:
Стендаль. Письмо к Бальзаку//Собр. соч.: В 15 т. М.: Правда, 1959. Т. 15. С. 318).
63 См. примеч. 28 к гл. I.
64 См.: SismondiJ. Fragments de journal et correspondance avec m-lle de Saint-Aulaire. [s. 1.], 1857.
P. 85.
65 См. в связи с этим характерное высказывание Белинского: «Роман обязан Вальтеру Скотту
своим высоким художественным развитием. До него роман удовлетворял только требованиям
эпохи, в которую являлся и вместе с нею умирал <...> Вальтер Скотт, можно сказать, создал
исторический роман, до него не существовавший» [Белинский В. Г. Указ. соч. Т. 2. С. 39—40).
9*
260
Т. Г. Чеснокова
нял творческую эволюцию Скотта: его издатели ценили средневековые романы
писателя исключительно за их занимательность, и потому ослабление этой
занимательности в «Обрученной» вызвало немедленную реакцию издателя и друга
Скотта Джеймса Баллантайна. Баллантайн, по свидетельству Дж. Локхарта,
с самого начала был недоволен тем, как шла работа над романом, и поспешил
выразить это недовольство писателю. Скотту, впрочем, не раз приходилось идти
против мнения своих друзей: братьев Баллантайн и А. Констебла — владельцев
издательских фирм. И все же на сей раз критика подействовала удручающе:
Скотт не только прервал работу над книгой, обратившись к новому — пугающе
головокружительному замыслу «Талисмана», но и, казалось, вообще потерял
всякий интерес к валлийскому роману, брошенному «на середине недопетой
строфы». Только угроза пиратского издания «Обрученной» за границей66
заставила Скотта нехотя возвратиться к сюжету, не оправдавшему возлагавшихся на
него надежд, — к вящей радости Констебла и Баллантайна, не ожидавших, что
писатель «закапризничает» и откажется работать над романом вовсе.
Чтобы понять, чем в действительности был продиктован «каприз»
стареющего романиста, следовало бы вернуться к истории замысла «Обрученной» как
первого романа в цикле о крестоносцах. Являясь закономерным
продолжением средневековых интересов Вальтера Скотта, идея этого произведения нашла
свое воплощение в довольно сложный для писателя период, благополучный
внешне, но полный скрытых «угроз», неблагоприятно проявившихся
впоследствии. Еще не грянула издательская катастрофа, семейное и финансовое
положение писателя казалось как никогда прочным: он полностью освоился с
льстившей ему ролью хозяина «средневекового» имения и мог по-прежнему считать
себя одновременно баловнем публики и фортуны. Однако признаки упадка сил,
как нравственных, так и физических, — серьезные семейные хлопоты и первые
свидетельства разрыва с наиболее интеллектуальными представителями
читающей и пишущей элиты сказались на умонастроении писателя во время работы
над «Обрученной».
Достаточно отметить, что рождественские праздники в Абботсфорде зимой
1824/25 г. были омрачены предстоящим отъездом сына и наследника В.
Скотта в Ирландию — к месту военной службы. Тревогу любящему отцу внушала и
некоторая неопределенность в вопросе о сроках женитьбы Уолтера-младшего
на его невесте — мисс Джобсон из Лохне, племяннице сэра Адама и леди Фер-
поссон67. Отложенная свадьба сына и его возможное участие в усмирении
антибританских волнений, периодически возникающих в Ирландии, — все эти
частные подробности семейной жизни на редкость тесным образом переплелись в
сознании писателя с бродячими романическими мотивами, которые
наполнились живым и глубоко личным содержанием. Возможно, именно это отчасти и
лишило романиста обычной для него уверенности в своих силах. Наделенный,
как и его положительные герои, болезненной эмоциональной скромностью,
66 Эта угроза, к счастью, оказалась мнимой (см. преамбулу к примеч. к наст. изд.).
67 Свадьба Уолтера Скотта-младшего и мисс Джобсон состоялась 3 февраля 1825 г. в Эдинбурге
(см.: LockhartJ. G. Op. cit Vol. IV. P. 248).
Роман «Обрученная» в творчестве Вальтера Скотта
261
Скотт опасался, что на сей раз не смог наделить свои личные чувства, поневоле
отразившиеся в романе, действительно общезначимым содержанием. Критика
Баллантайна могла подтвердить его тайные опасения, а упорное нежелание
Скотта заканчивать роман свидетельствовало как об утрате веры в
значительность замысла (или в свою способность его воплотить), так и о невозможности
на ходу превратить по-вальтер-скоттовски психологический «рыцарский» роман
в историко-авантюрный роман о подвигах крестоносцев. Издатели требовали от
писателя романтической экзотики, и, не надеясь привести «Обрученную» в
соответствие с этим требованием, Скотт постарался откликнуться на него в
«Талисмане» — романе, составившем вторую часть серии «Рассказов о
крестоносцах», но сюжетно никак не связанном с «Обрученной».
Если сюжет «Обрученной» мог показаться кому-то чересчур неброским и
словно растворенным в психологических и нравственных конфликтах, то в
«Талисмане» писатель искупает эти «грехи» в полной мере. Обилием
экзотических картин и опасных положений «Рассказ о крестоносцах» № 2 с успехом
бросает вызов еще не написанным романам Майна Рида и Райдера Хаггарда.
Читатель едва успевает следить за сменой удивительных приключений и ярких
декораций, удивляясь различию и сходству между могучими воинами Запада и
Востока. Он путешествует вместе с ними в «проклятой Богом» пустыне,
озираясь на мрачные теснины, охраняемые духами тьмы, попадает в пещеру
полубезумного отшельника и становится свидетелем тайного богослужения в часовне,
выбитой среди скал. Наконец, насытив свое воображение грезами наяву,
он опускается с небес на землю: в пучину заговоров и интриг, вдохновляемых
игрой самолюбий и алчными интересами прославленных предводителей
многонационального христианского войска.
На фоне столь экзотических декораций происходят не менее волнующие и
часто фантастические события: богатырский поединок высокопоставленного
мусульманина и христианина посреди голой пустыни, чудесное исцеление
короля Ричарда с помощью восточного талисмана. Двойные переодевания,
«страшные» тайны, сатанинские суеверия и злодейские заговоры насыщают
атмосферу этого «восточного» романа, который недаром слывет в Англии одним из
самых популярных произведений литературы для мальчиков68.
Не забыта в «Талисмане» и любовная тема, а странная дружба между
восточным эмиром Шееркофом (переодетым султаном Саладином) и бедным
рыцарем Кеннетом (наследным принцем Шотландии, скрывающим свое подлинное
имя) позволяет этим друзьям-врагам обсудить все достоинства и недостатки
восточного и западного отношения к женщинам, любви и красоте. Западный
рыцарь, в отличие от восточного храбреца, облагораживает и одухотворяет
любовное чувство. Он ценит не только прекрасное тело своей возлюбленной,
но обоготворяет ее волю как проявление духовного начала. Но, вероятно,
именно вследствие этого добрый христианин, сам того не замечая, становится
язычником. Беспрекословно подчиняясь воле Дамы, он изменяет воинскому долгу,
оставляя порученное ему знамя Англии и всего христианского мира. Формаль-
См.: Пирсон X. Указ. соч. С. 158.
262
Т. Г. Чеснокова
но понятый куртуазный «долг» делает его глухим к содержанию приказа,
побуждая прислушаться лишь к тайному голосу своего желания. Бедный Кеннет,
бесспорно, становится жертвой коварного обмана (как и его возлюбленная, не
ведавшая о том, что ее именем кто-то может воспользоваться во вред благородному
шотландцу). Но и на нем лежит вина — не только перед королем Ричардом,
но и перед прекрасной Эдит, которой он невольно приписал способность
жертвовать жизнью и репутацией честного воина ради минутной прихоти или
каприза. Поклоняясь таинственному духовному началу, сияющему в оболочке
женской красоты, сэр Кеннет верит этому чуду как идолопоклонник, не знающий
различия между истинным благом, не приносящим ближнему зла, и благом
формальным, требующим простого подчинения. Вот почему лишенному
иллюзий мусульманину нетрудно догадаться, что Кеннета могли увлечь с поста
прекрасные глаза какой-то гурии, хоть Саладин и не подозревает, какую роль
играет в поведении героя обет служения Прекрасной Даме.
Между Давидом—Кеннетом и Саладином—Шееркофом в сюжете
устанавливается прочная многоступенчатая связь. В ряде ситуаций они выступают как
сюжетные двойники или зеркальные отражения друг друга. Подобно Уэверли
в первом романе В. Скотта, они находятся под особым благословением автора
как Творца романного мира. Только им двоим суждено сразиться один на один
в чистом поле — как странствующим рыцарям или сказочным богатырям. Этого
удовольствия — сойтись в открытом поединке с мужественным «язычником»
Саладином — лишен предводитель всего христианского войска,
«король-паладин» Ричард Львиное Сердце. Последнему остается лишь вздыхать об удаче,
выпавшей на долю шотландского принца, а в недавнем прошлом самого
презренного из вассалов английской короны.
Кеннет и Саладин удостаиваются также своеобразной чести выступать на
страницах романа в двойном маскараде, причем инкогнито Саладина
оказывается более успешным, ибо он сам в конце концов раскрывает свою тайну,
снимая поочередно маски восточного лекаря и знатного мусульманина Шееркофа.
Кеннету, напротив, не удается остаться неузнанным ни в роли «бедного
рыцаря», ни даже изменив цвет кожи и изображая немого нубийца-раба. Наконец эти
герои-двойники сталкиваются друг с другом как соперники, каждый из которых
(правда, по разным причинам) выступает в роли искателя руки благородной
Эдит Плантагенет. Тем не менее если в ложном предсказании отшельника
(точнее, в его ложном толковании звезд) Саладин выступает заменой настоящего
героя-любовника, то в качестве деятельного и мудрого «короля-воина» и Кеннет,
и Ричард Львиное Сердце служат фальшивыми двойниками своего
благородного противника-мусульманина, который, по мнению Скотта, проявил «крайнюю
осмотрительность европейского государя», в то время как «христианский и
английский монарх» обнаружил «жестокость и несдержанность восточного
султана»69.
Разумеется, и в «Талисмане» В. Скотт, как обычно, не мог обойти
молчанием некоторые серьезные вопросы национальной истории, международных и
Скотт В. Талисман// Собр. соч. ... Т. 19. С. 9.
Роман «Обрученная» в творчестве Вальтера Скотта
263
межличностных отношений в реальном историческом времени и пространстве70.
Но все это меркнет в ослепительном блеске экзотической обстановки и
сюжета. Возможно, поэтому в «восточном» романе о крестоносцах нравственный
выбор уже не кажется центральным — узловым моментом действия. И хотя
нарушение королевского приказа грозит рыцарю смертью, тем не менее
драматизм выбора между любовью и воинским (или вассальным) долгом в
«Талисмане» скорее внешний. Трагедия этого выбора легко оборачивается комедией: так,
Кеннет, уже провинившийся перед королем и поклявшийся Ричарду больше не
разговаривать с Эдит, невольно нарушает священный обет поклонения и даже
правила простой вежливости, отвечая немым молчанием на сочувственные
расспросы девушки. В самом деле, формальные рамки вассального долга и рамки
куртуазии неизменно ставят наивного рыцаря в тупик и обрекают его на ложный
выбор даже тогда, когда он меняет раз принятое решение на противоположное.
В сущности, единственным героем, который, по видимости, совершает в
романе ответственный выбор, является Саладин. Султан Египта как разумный и
осторожный монарх отвергает предложение Ричарда решить исход войны
поединком предводителей двух войск, хотя, возможно, пыл отважного воина и дух
соперничества с христианским государем подталкивают его к другому решению.
Впрочем, и этот выбор Саладина, вне всякого сомнения, заранее предопределен,
ибо идеал личной доблести, возведенной в нравственный абсолют, по природе
чужд мусульманину и восточному султану. Отметим также, что, являясь самым
ярким персонажем романа, Саладин лишен психологической цельности
характера. Психологический портрет мусульманского владыки распадается на
несколько противоречивых образов-масок, объединенных формальной
последовательностью сюжетных функций, выполняемых Саладином—Шееркофом—эль-
хакимом. Невежественный и немного легкомысленный искатель приключений,
ценитель женской красоты эмир Шееркоф имеет как будто мало общего со
строгим мусульманским целителем (эль-хакимом), бесконечно уверенным в силе
чудесного талисмана и в мудрости Аллаха. А эль-хаким так же невероятно
далек от могущественного султана Саладина — по-европейски просвещенного и по-
восточному жестокого в преследовании предателей и врагов. Все это, в
сущности, разные лица, которые не проясняют истинного лица Саладина, но скорее
надежно скрывают его индивидуальные черты. В этом смысле единственная
черта, которая бесспорно принадлежит самому султану, — это невероятная
способность к перевоплощению, впрочем, вполне обычная на Востоке, где хитрость
и лицедейство играют не менее важную роль, чем доблесть и сила, а великий
правитель по определению должен являться великим актером.
70 Пожалуй, главная национально-историческая идея романа заключается в том, что разумным
повелителям христианского Запада негоже устремляться на покорение дальних народов и земель
или нести им собственное представление о мире и правде, не разрешив проблемы «мирного
сосуществования» с ближайшими соседями. Мысль эта кажется вполне современной и поныне,
несмотря на то что вложена в уста восточного «эмира» и выражена на языке его понятий. «Я мог бы
посмеяться над простодушием вашего великого султана, — признается Шееркоф. — Он приходит
завоевывать пустыни и скалы <...>, оставляя часть своего узкого островка, где он царствовал, под
скипетром другого властелина» (Там же. С. 40—41).
264
Т. Г. Чеснокова
Современный читатель вправе предположить, что Скотт не наделил Сала-
дина определенными личностными чертами еще и потому, что личность (в
европейском понимании этого слова) никогда не существовала на Востоке (во
всяком случае, не в XII в.). И точно так же отсутствие внутренних монологов в
поздних романах Скотта можно объяснить несоответствием этого приема
задачам изображения Средневековья. Историческая интуиция подсказывала
писателю быть осторожным в анализе психологических состояний людей той эпохи,
когда сама внутренняя речь, вероятно, не отделилась от внешней, а глубокое
субъективное переживание эмоции — от показного ее проявления. Полностью
исключать возможность такого звена в эстетических представлениях Скотта мы
не должны. Однако, в любом случае, в «Талисмане» подобные изыскания из
области исторической психологии остаются лишь поводом для нанизывания
авантюрных эпизодов, обладающих самодовлеющим значением. Между тем в
«Обрученной», где сюжет далеко не столь ослепителен, недостаток внешнего
психологизма представляется в гораздо большей степени психологически мотивированным.
В определенном смысле два романа, составившие в 1825 г. серию «Рассказов
о крестоносцах», воплощают противоположные (и взаимодополняющие)
тенденции поздней вальтер-скоттовской манеры. И хотя оба они возрождают и
укрепляют традиционную («довальтер-скоттовскую») романическую структуру,
делают они это по-разному. В «Талисмане» знаменитый синтез romance и novel
удается сохранить лишь внешним образом: на уровне романического эффекта,
недаром в этой книге В. Скотт возвращается к приемам галантно-героического
романа (с исторической личностью в качестве главного героя). Исторический
романист старой школы, «избрав этих лиц своими героями, непременно должен
был изобразить их пылкими и симпатичными влюбленными, полными надежд
или повергнутыми в отчаяние»71. Именно таким предстает в «Талисмане» сын
короля Шотландии Давид (сэр Кеннет). И даже знаменитому Салах-ад-дину, как
его сюжетному дублеру, приходится примерить на себя «галантную» роль
влюбленного, которую сочинители романов так часто навязывают историческому
лицу. В сущности, именно победа романической интриги над ее содержательно-
эмоциональным наполнением и доставила «Талисману» ту популярность,
на фоне которой за «Обрученной» закрепилась нелестная слава романа —
победителя «на конкурсе наискучнейших и наибестолковейших книг, созданных
людьми гениальными»72. Недаром еще зять писателя Дж.-Г. Локхарт был
уверен, что именно «великолепие "Талисмана" настолько ослепило читателей, что
заставило их закрыть глаза на недостатки романа-близнеца»73.
71 Реизов Б. Г. Указ. соч. С. 281.
72 Эта презрительная, но довольно поверхностная характеристика романа принадлежит Хес-
кету Пирсону — автору популярной в 1950-е годы и с тех пор не раз переиздававшейся (в том
числе на русском языке) биографии Скотта. Цит. по русскому переводному изданию: Пирсон X. Указ.
соч. С. 158. С течением времени, однако, общее убеждение в превосходстве «Талисмана» над
«Обрученной» несколько сгладилось, что, впрочем, не повысило статуса обеих этих книг в глазах
исследователей и биографов. По мнению Джона Сазерленда, высказанному в его недавней
критической биографии писателя, «Рассказы о крестоносцах» представляют собой «громадный шаг
назад после "Сент-Ронанских вод" и "Редгонтлета"» [Sutherland J. Op. cit. P. 281).
73 LockhartJ. G. Op. cit. Vol. ГУ. P. 275-276.
Роман «Обрученная» в творчестве Вальтера Скотта 265
И все же менее броский художественный эксперимент «Обрученной»,
включавший переосмысление мотивов «Тристана и Изольды» и разработку
старинного сюжета о возвращении крестоносца, сохранял определенные преимущества
перед яркой экзотикой «Талисмана», оставаясь более цельным и
художественно убедительным. Средневековая эпоха и средневековая эстетическая модель
взаимодействовали в сюжете «валлийского» романа более интенсивно. Недаром
последний все же заслужил одобрительные слова некоторых наиболее
проницательных критиков и литературоведов конца XIX и XX вв.74. «Обрученная»
не творческая неудача, но особый вариант вальтер-скоттовского синтеза в его
позднем — романическом — воплощении. «Неполная» победа интриги над
психологией, зазор между страстями и сюжетом, быть может, в наибольшей степени
придают роману его неповторимое очарование, наделяя его особой эстетической
проблемностью.
Эта проблемность «Обрученной» является своеобразным отражением
внутренних проблем, заложенных в самой природе вальтер-скоттовского
«синтетического жанра». Более того, сами эти проблемы, рассмотренные под
определенным углом зрения, продолжают оставаться актуальными для современной
литературы. И какой бы устаревшей ни казалась классическая форма вальтер-
скоттовского романа современному эстетическому сознанию Запада, все же
художественная основа едва ли не любого вымьппленного повествования на
историческом материале соотносится (хотя бы и от противного) с формой,
созданной Скоттом.
Художественные проблемы, которые Скотт предпочитал решать своим
излюбленным методом эстетического компромисса, не столько были раз навсегда
иначе решены в позднейшей романистике, сколько окончательно закрепили за
собой статус неразрешимых, вставая раз за разом перед писателями самых
разных направлений и школ вплоть до новейших течений второй половины XX в.
В свете известных формулировок этого времени их можно обозначить как
проблему авторского голоса и голосов персонажей, проблему «нарративных
инстанций» или проблему диалога исторических эпох и сохранения традиционного в
новом и нового в традиционном.
Связь исторических романов шотландского автора с этой проблематикой
почувствовали, видимо, художники-постмодернисты. Недаром вальтер-скоттов-
ские эпиграфы, образ автора в романе (аналог авторских масок в знаменитых
игровых предисловиях «автора "Уэверли"»), постоянные сопоставления
прошлого с современностью, подчеркивание различий между двумя эпохами — все это
мы находим в «викторианском» романе Джона Фаулза («Подруга французского
лейтенанта»), причем не столько как сознательную стилизацию под
классический викторианский роман (в последнем подобные приемы встречаются уже
редко), сколько как имитацию именно вальтер-скоттовской классической
формы, запечатленной в массовом сознании в качестве первичной и естественной
для романа на историческую тему.
В других произведениях постмодернистской прозы (в романах У. Эко,
например) средневековая историческая тема также подается не без привлечения при-
См. сн. 32 на с. 238 наст. изд.
266
Т. Г. Чеснокова
зрака вальтер-скоттовской эстетики. При этом сами проблемы, решаемые новой
формой (проблема «нарративных инстанций» и т. д.), остаются теми же,
которые по-своему решал шотландский баронет, не думая о том, какое значение они
приобретут в иной обстановке в иное время.
Если отвлечься от «серьезной» постмодернистской прозы, то на
противоположном полюсе современной литературной продукции мы обнаружим еще один
своеобразный ответ сэру Вальтеру Скотту. Этим ответом может служить жанр
фэнтэзи, в котором сказочно-романические и сказочно-эпические приемы
эмансипируются от контроля обычного реалистического правдоподобия и подобия
жизни. Реалистическое жизнеподобие в этом художественном мире полностью
исключается, зато «включаются» прямые связи между поэтикой сказки и мифа
(«простого повествования» архаической эпохи) — и современной эстетикой
массового сознания. Жанровая форма фэнтэзи, плавно движущаяся от
сказочного литературного эпоса к современному фантастическому сериалу, — еще одна
новая точка отсчета, которая позволяет яснее увидеть полустершееся для
нашего восприятия своеобразие вальтер-скоттовского синтеза.
Последнее качество прозы Вальтера Скотта (и его романа «Обрученная»),
о котором стоит упомянуть, уже никак не вписывается в координаты высокой
постмодернистской (равно как и современной массовой) литературы, где оно
подвергается вольной или невольной «деконструкции». Назовем это качество
гуманным отношением к человеку и миру, которое всегда было особенно близко
русскому читателю75. Меняются представления о гуманизме и человечности,
но само стремление к гармонии всех человеческих сил в человеке не угасает,
и это заставляет по-прежнему видеть в эстетической форме особую форму
гуманности. Этой гуманностью остается дорог читателю Вальтер Скотт,
снискавший среди своих современников почетное прозвище «шотландского чародея».
75 О непосредственном влиянии В. Скотта на русский исторический роман, о связях и полемике
русских прозаиков и поэтов с шотландским романистом см.: Алътшуллер М. Г. Эпоха Вальтера
Скотта в России. СПб., 1996; Баскер М. К разбору рассказов Н. С. Гумилева «Принцесса Зара» и
«Дочери Каина» // Гумилевские чтения. СПб., 1996. С. 137—157; Захарова К Н. «Уэверли» В. Скотта
и «Капитанская дочка» А. С. Пушкина//Res philologica: Пушкин — наше все. Архангельск, 1999.
С. 56—61; Илюшин А. А. Сим обязаны В. Скотту?//Русская речь. 1994. № 5. С. 3—7; Малкина В. Я.
«Ревельский турнир» А. А. Бестужева (Марлинского) и романы Вальтера Скотта //
Художественный текст и культура: Мат. и тез. докл. Владимир, 1999. Вып. 3. С. 188—190; Манн Ю. В. Вальтер
Скотт в русском эстетическом сознании // Проблема автора в художественной литературе: Сб. ст.
Ижевск, 1993. С. 196—206; Раннику К. В. Скотт как творческая личность в авторской концепции
B. А. Жуковского//Русская филология. 1998. № 9. С. 80—85; Стролого Перович Ф. А. С. Пушкин
и Н. В. Гоголь как исторические романисты: Сопоставительный анализ «Капитанской дочки» и
«Тараса Бульбы»: Автореф. дисс. канд. филол. наук. М.: РГТУ, 1998; Переверзин В. М. К проблеме
жанровых истоков «нового большого эпоса» (от романов В. Скотта к «Капитанской дочке» А. Пушкина
и «Тарасу Бульбе» Н. Гоголя) //Вопросы филологии в контексте современности. Якутск, 1999.
C. 3—10; Тамарченко Н. Д. «Капитанская дочка» и судьбы исторического романа в
России//Известия АН. 1999. Т. 58. № 2. С. 44-53. (Сер. лит. и языка)
Примечания
ОБРУЧЕННАЯ
Почти всеми дошедшими до нас сведениями об истории создания романа «Обрученная»
(1825) мы обязаны «Воспоминаниям» (1838) Дж.-Г. Локхарта — зятя и первого биографа
Вальтера Скотта1. И хотя объективность этого источника некоторые исследователи подвергают
сомнению2, Локхарт остается главным свидетелем всего, что происходило в жизни и
творчестве писателя в середине 1820-х годов.
По данным «Воспоминаний», работа над «Обрученной» продолжалась около полугода:
с декабря 1824 года3 по май 1825-го. За это время Скотт успел завершить еще один роман —
«Талисман» (весной 1825 г.). В июне 1825 года обе книги вышли в Эдинбурге под общим
названием «Рассказы о крестоносцах» (см.: Scott W. Tales of the Crusaders: The Betrothed. The Talisman:
In 4 vol. Edinburgh: Constable, 1825).
Локхарт сообщает также, что последние главы «Обрученной» создавались в большой
спешке: судя по сообщениям германских газет, над автором нависла угроза пиратского
издания почти законченного и наполовину отпечатанного к тому времени романа. Однако «Вал-
ладмор» («Walladmor»), опубликованный в Лейпциге под именем «автора "Уэверли"»,
оказался всего лишь банальной подделкой, а не «похищенным» текстом «Обрученной». Все сходство
между подлинным произведением Скотта и его мнимой копией сводилось к незначительным
деталям и, в частности, к тому, что действие обоих романов разворачивалось в Уэльсе.
По выходе «Рассказов» в свет они получили благосклонный прием у публики. Однако этот
успех Дж. Баллантайн (издатель В. Скотта) и Дж.-Г. Локхарт в равной мере приписывали
достоинствам «Талисмана», искупившим, по их мнению, все недостатки «Обрученной»4. Тем
не менее Арчибалд Констебл — другой постоянный компаньон Вальтера Скотта (издатель и
книгопродавец) — дал «Рассказам» иную сравнительную оценку: «Общее мнение, как оно
дошло до меня, — писал А. Констебл В. Скотту 25 июня 1825 года, — гласит, что обе повести
одинаково превосходны»5.
Выбор темы, сюжета, исторической обстановки и места действия романа определился
под влиянием нескольких обстоятельств. Поучительные беседы с «архидиаконом Унльямсом»
(см. статью) могли пробудить в писателе археологический интерес к валлийскому
Средневековью и кельтским древностям6. Однако изображение этой необычной национально-истори-
1 См.: LockhartJ. G. Memoirs of the Life of Sir Walter Scott: In 5 vol. Boston; N. Y., 1901. Vol. 4.
Ch. LXI-LXII. P. 208-277.
2 См., напр.: Hart F. R. Scott's Novels: The Plotting of Historic Survival. Charlottsville: The University
of Virginia Press, 1966. P. 353.
3 По другим данным, В. Скотт приступил к работе над «Обрученной» еще в июне 1824 г. (см.:
Sutherland]. The Life of Walter Scott. Cambridge (Mass.), 1995. P. 278).
4 См.: LockhartJ. G. Op. cit. P. 275. Ранее, по утверждению Локхарта, именно суровая критика
Баллантайна, недовольного первыми главами «Обрученной», заставила Скотта прервать работу над
этой книгой и почти отказаться от стремления когда-нибудь выпустить ее в свет (см.: Ibid).
5 Цит. по: Lang A. Introductory Essay// W. Scott. The Betrothed / Ed. by A. Lang. Boston: Dana Estes
and Co.; Boston Publishers, 1894. P. ХШ.
6 См.: LockhartJ. G. Op. cit. P. 275.
268
Примечания
ческой среды соединилось в книге с разработкой хорошо знакомой Скотту темы крестовых
походов и средневекового рыцарства (ср. «Айвенго», 1819). Благодаря этому, «культурно-
исторический» анализ рыцарской психологии сплетается в «Обрученной» с классической для
В. Скотта темой межнациональной розни, воплощенной в историческом мотиве опасного по-
граничья (в данном случае — Валлийской Марки).
Время действия «Обрученной» приурочено к концу царствования Генриха II (1154—
1189 гг.) — первого норманнского короля из династии Плантагенетов, с личностью которого
в исторической концепции В. Скотта связывалось представление о начальных этапах
длительной борьбы британской короны за национальное объединение Англии (см. примеч. 7 к гл. XI,
5 к гл. XVI, 5 к гл. XXVIII, 8 к гл. XXIX). Однако сама плантагенетовская собременность,
вырастающая на почве более ранних (в том числе донорманнских) конфликтов, вырывается на
поверхность лишь в заключительных главах романа, когда на сцене появляется сам король
и его сыновья — будущие английские монархи Ричард Львиное Сердце и Иоанн
Безземельный. Ради эффектного появления членов королевской семьи в непосредственной близости от
замка Печальный Дозор В. Скотт допускает даже незначительную историческую неточность,
«продлевая» жизнь и царствование Генриха приблизительно на три года (см. примеч. 5 к
гл. XVI). Бегло намеченные характеры двух принцев, соперничающих друг с другом и
проявляющих одинаковую непокорность отцу, служат отдаленным намеком на наступление
новых неспокойных для Англии времен в годы правления короля-паладина Ричарда и короля-
купца Иоанна.
Можно предположить также, что отдельные сюжетные коллизии романа сложились не
без влияния семейных обстоятельств, имевших для В. Скотта первоочередное значение
зимой 1825 года. Как показывает (на основе «Воспоминаний» Локхарта) Дж. Сазерленд,
литературный мотив «отложенной свадьбы» в январе 1825 года грозил обрести вполне реальные
жизненные очертания в судьбе старшего сына писателя, офицера британской армии
Уолтера Скотта, которому предстояло в скором времени отправиться к месту службы, возможно,
покинув при этом свою невесту. К счастью, опасения родственников невесты и жениха
оказались напрасными: свадьба состоялась скоро, и в феврале 1825 года лейтенант Скотт отбыл
в Ирландию в обществе молодой жены. Тем не менее волнения и препятствия этой зимы
оставили свой след в романе В. Скотта-отца, в котором вынужденная разлука «обрученных»
заканчивается разрывом их помолвки7.
«Ирландская» тема, связанная с обстоятельствами службы Уолтера-младшего, также
нашла свое преломление в финале валлийского романа. Семейный опыт переплелся на этот раз
с собственно историческим мотивом: Ирландия стала (с февраля 1825 г.) не только местом
военной службы старшего сына Вальтера Скотта, но она являлась также ареной военно-
политической деятельности исторического «Хью де Ласи» (XII в.), отождествляемого с
персонажем романа «Обрученная» (см. примеч. 14 к Эпилогу). Такое совпадение, должно быть,
немало способствовало выражению автором лояльной оценки ирландской политики Англии
(см. примеч. 21 к гл. II и 15 к Эпилогу).
При жизни автора роман «Обрученная» неоднократно переводился на иностранные
языки. Так, еще до конца 1825 года небольшой отрывок из этой средневековой «повести» был
опубликован петербургским журналом «Благонамеренный» (см.: Скотт В. Коннетабль Чес-
терский во времена крестовых походов: Отрывок/Пер. с фр. М-ва//Благонамеренный. 1825.
Ч. XXXI. № 39—40. С. 401—426)8. Первый полный перевод «Обрученной» вышел в свет в
Петербурге ровно через три года — в 1828 г. (см.: Скотт В. Коннетабль Честерский, или
Обрученные: Из времен крестовых походов: В 3 ч. / Пер. Н. Ш<игаева>. СПб.: Тип. А. Смир-
дина, 1828)9. После этих прижизненных публикаций отдельным изданием роман выйдет
7 См.: Sutherland J. Op. cit. P. 278.
8 Подробнее об этом см.: Левин Ю. Д. Прижизненная слава Вальтера Скотта в России //
Эпоха романтизма: Из истории международных связей русской литературы. Л.: Наука, 1975. С. 37.
9 См.: Там же. С. 46.
Примечания
269
в России лишь в 1896 году (Скотт В. Обрученные. СПб.: Либерман, 1896. — 220 с), а в
составе собраний сочинений В. Скотта начнет публиковаться с середины 1870-х годов
(см.: Скотт В. Коннетабль Честерский// Сочинения, обработанные для юношества. СПб.; М.:
Вольф, 1866—1881. Т. 16. — 290 с; Скотт В. Обрученные//Собр. соч.: В 24 т. / В сокращ. пер.
Л. Шелгуновой. СПб.: Павленков, 1893. [номер тома не указан]. — 96 с; Скотт В. Честерский
Коннетабль, или Обрученные: Роман из времен Крестовых походов // Собр. соч.: В 14 т. СПб.:
Окрейц, 1894—1895. Т. 3. — 230 с. (Приложение к журналу «Луч»); Скотт В. Обрученные//
Собр. соч.: В 12 т. М.: Сытин, 1904. [номер тома не указан]. — 107 с. (Приложение к журналу
«Вокруг света»)10).
В советское время роман ни разу не печатался ни отдельной книгой, ни в составе
собраний сочинений (см. статью). Знакомство отечественного читателя с переводным текстом
«Обрученной» свелось в этот период к публикации небольшого отрывка из третьей главы
романа в сокращенном переводе Л. Шелгуновой (см.: Сеньёр и вассалы// Н. Розенталь.
Исторический путь Запада: Историко-беллетристический сборник. Л.: Брокгауз — Ефрон, 1926.
С. 80-84)11.
Лишь в 1994 году один из старых переводов «Коннетабля Честерского» (как называли этот
роман переводчики XIX в.) был переиздан совместным предприятием «Book Chamber
International» под общим переплетом с романами «Редгонтлет» и «Опасный замок» (см.: Скотт В.
Коннетабль Честерский: Роман; Редгонтлет: Роман; Опасный замок: Роман: Пер. с англ. М.:
Book Chamber International, 1994. — 461 с. (Романы приключений)).
Предваряя помещенные далее примечания к отдельным главам «Обрученной», напомним,
что первым и наиболее компетентным комментатором произведений Скотта был сам их
автор, помещавший краткие подстрочные пояснения и развернутые концевые комментарии к
тексту своих романов и поэм. В дальнейшем большинство посмертных публикаций вальтер-
скоттовской романистики оказалось тесно связано с традициями «школьного»
комментирования, с его ограниченным аппаратом и упрощенными задачами. Препятствием для
появления серьезных научных изданий являлось утвердившееся со второй половины XIX века
мнение об исторической недостоверности и — главное — эстетической тривиальности
наиболее популярных произведений писателя. В нашей стране самая значительная попытка
преодолеть этот барьер была сделана редакторами и комментаторами 20-томного собрания
сочинений Вальтера Скотта (см.: Скотт В. Собр. соч.: В 20 т. / Под общ. ред. Б. Г. Реизова,
Р. М. Самарина и Б. Б. Томашевского. М.; Л.: Худож. лит., 1960—1965). К сожалению, в это
собрание не были включены некоторые поздние романы писателя, такие как «Редгонтлет»
(1824), «Обрученная» (1825) и «Опасный замок» (1831).
Не все задачи, стоящие перед комментаторами поздних произведений Скотта, могут быть
решены и в этом издании. По традиции, наиболее трудоемким и неблагодарным считается
поиск источников эпиграфов, цитат и псевдоцитат, которыми изобилует текст любого валь-
тер-скоттовского романа. Именно об этой проблеме писал еще в начале XX века Дж. Роберт-
сон — знаток поэзии В. Скотта: «Из всех произведений Скотта эпиграфы и стихотворные
отрывки в романе наиболее трудно подготовить к печати»12. Причина заключается в том, что
многие из цитат на деле представляют собой лишь остроумную мистификацию шотландского
писателя: «Он придумал, по крайней мере, дюжину заглавий несуществующих поэм <...>
Кроме этого, я подозреваю, что он также выдумал двух или трех поэтов, чтобы приписать
им собственные вирши»13. Учитывая сказанное, jvibi решились восполнить неизбежные
пробелы в расшифровке эпиграфов и стихотворных отрывков за счет расширения историко-лите-
10 То же издание выходило в Москве в 1909, 1912и 1914 гг. (см.: Левидова И. М. Вальтер Скотт:
Био-библиографический указатель к 125-летию со дня смерти. М.: Изд-во Всесоюзной книжной
палаты, 1958. С. 39-41).
11 Подробнее об этом же см.: Там же. С. 46.
12 Цит. по: Скотт В. Собр. соч. ... Т. 20. С. 730.
13 Там же.
270
Примечания
ратурных и «культурологических» пояснений к тексту. В отдельных случаях комментарии
этого рода способны, как мы надеемся, раскрыть знакомую романическую традицию в новом
свете и хотя бы отчасти поколебать устоявшиеся стереотипы ее восприятия.
Выбранный переводчиком вариант заглавия («Обрученная») отличается от принятого в
большинстве предшествующих изданий (см. выше библиографию дореволюционных
публикаций романа на русском языке; см. также французский и немецкий переводы «Обрученной»
в собраниях сочинений В. Скотта: Scott W. Les fiances ou Le Connetable de Chester / Tr. par
R.-T.-B. Defauconpret//Oeuvres: En 25 t. P., 1851-1858. T. 18; Scott W. Die Verlobten / Uebers.
aus dem Englischen Erich Walter//Romane: In 34 Bd. Berlin, [o. F.]. Bd. 33—34). Отступление
от сложившейся традиции объясняется следующими причинами:
1) оригинальная форма заглавия («The Betrothed»), не имея грамматических показателей
числа и рода, способна выражать значение как единичности, так и множественности в
зависимости от контекста (см.: Ganshina М. A., Vasilevskaya N. М. English Grammar. Moscow: Higher
school publishing house, 1964. P. 90; Greenbaum S. The Oxford English Grammar. Oxford, 1996.
P. 138). Контекстом же в нашем случае служит содержание всего художественного
произведения. Ср., в частности, английский вариант заглавия переводного романа А. Мандзони
«The Betrothed» (на языке автора — «I Promessi Sposi», в русском переводе — «Обрученные»),
выражающий значение множественного числа, с оригинальным английским заглавием
стихотворения Р. Киплинга «The Betrothed», передающим значение единичности («Обрученный»,
в пер. В. Лунина, см.: Киплинг Р. Стихотворения. М.: Книга, 1990. С. 162—164);
2) в тексте публикуемого романа многое свидетельствует о «заглавном» положении
героини — «обрученной» невесты коннетабля, на судьбе которой сосредоточен основной
психологический и сюжетный интерес повествования. Именно Эвелина именуется на страницах
романа «обрученной» (betrothed, the betrothed), начиная со стихотворного пророчества
Ванды: «Widow'd wife and married maid, / Betrothed, betrayer, and betray'd!» («Обручена, но не
жена, / И предала, и предана», — и кончая последними строками эпилога: «This, however, was
a slight gale to disturb the general serenity of Eveline; for with her unhoped-for union with Damian
ended the trials and sorrows of the betrothed» («Впрочем, и это было всего лишь легким
облачком, пронесшимся по ясному небу, каким стала жизнь Эвелины, ибо ее брак с Дамианом, на
который, казалось не было никакой надежды, окончил все испытания и все горести
обрученной»). В тех же случаях, когда автор подразумевает жениха и невесту вместе, он употребляет
выражение «the betrothed parties» (буквально «обрученные стороны») (см.: Scott W. The
Betrothed. L.; N. Y.; Toronto; Melbourne: Henry Frowde; Oxford University Press, 1912. P. 207).
Впрочем, некоторая неопределенность заглавия могла являться частью авторского замысла
(см. предисловие В. Скотта к «Обрученной», публикуемое в наст. изд.). Тем не менее,
поскольку сохранить указанную неопределенность в русском переводе не представлялось возможным,
переводчику показалось уместно выбрать один из допустимых вариантов перевода,
подчеркнув с его помощью центральное положение героини в сюжете.
Публикуемый новый полный перевод романа осуществлен по тексту английского издания:
Scott W. The Betrothed. L.; N. Y.; Toronto; Melbourn: Henry Frowde: Oxford University Press, 1912.
P. 1—342. При составлении примечаний использовано также издание: Scott W. The Betrothed:
A Tale of the Crusaders / With Introd., Essay & Notes by A. Lang. Boston, 1894.
Глава I
1 Источник эпиграфа не установлен. Вероятно, мистификация В. Скотта. Льюис Джон
(1774—1828) — английский писатель и историк, автор многотомной «Истории Британии».
2 Исторические хроники, откуда извлекли мы это повествование... — Ссылка на «достоверный»
источник вымышленного повествования (старинную рукопись или документ) — популярный
прием в исторической романистике эпохи романтизма. Конкретные детали,
заимствованные из исторических свидетельств, или цитаты из текстов описываемой эпохи закрепляют
необходимую дистанцию между писателем и героями, одновременно усиливая впечатление
Примечания
271
подлинности. Подобный прием применяет итальянский писатель Алессандро Мандзо-
ни (1785—1873) в романе «Обрученные» («I Promessi Sposi»), название которого в
переводе на английский язык совпадает с названием комментируемой книги В. Скотта —
«The Betrothed» (1821 — 1827). Мандзони не только включает в текст романа подлинные
итальянские прокламации XVII в. (grida), но и мистифицирует читателя ссылкой на
рукопись этой эпохи, написанную характерным для 17-го столетия «варварским» языком (см.:
Мандзони А. Обрученные: Повесть из истории Милана XVII века. М., 1955. С. 21). Вальтер
Скотт обычно не считает нужным так далеко заходить в романтической игре в
подлинность, ограничиваясь лишь самыми общими ее проявлениями. Сознавая, что создает
изящный вымысел, Скотт не пытается лишить этого сознания своего читателя.
3 Властители Уэльса. — В середине XII в. главенствующее положение в Уэльсе занимали три
сильных княжества: Гвинедд (Gwynedd), Поуис (Powys) и Дехеубарт (Deheubarth). Ими
правили наследственные князья Оуэйн Гвинедд (1137—1170 гг.), Мэдог ап Маредудд (1132—
1160 гг.) и Рис ап Груффидд (1155—1197 гг.). К началу 1170-х годов на первое место по
значению выдвинулось южноваллийское княжество Дехеубарт и его глава Рис ап Груффидд,
который к этому времени стал самым влиятельным из «властителей Уэльса». С ним
вынужден был считаться сам король Англии Генрих II Плантагенет (см. примеч. 5 к гл. XVI и
примеч. 8 к гл. XXIX), заключивший с Рисом мирное соглашение (1171 г.). По этому
соглашению Генрих получил от валлийцев военную помощь, которой воспользовался для
подавления баронского мятежа 1773—1774 гг. (см. примеч. 13 к гл. XXIX). В 1188 г., когда
начинается действие «Обрученной», могущественный Рис ап Груффидд оказал поддержку
архиепископу Кентерберийскому Болдуину, прибывшему в Уэльс с особой миссией (см. примеч.
6 к наст. гл.). Упоминаемый ниже Скоттом «высокоученый Жиральд де Барри»,
сопровождавший архиепископа в этой поездке (см. примеч. 7 к наст, гл.), был, по некоторым
сведениям, родственником Риса.
4 Лорды Хранители Марки. — Марка (Валлийская Марка, The March of Wales, Marchia Wallie) —
в XI—XIII вв. пограничная полоса между Англией и Уэльсом, конгломерат баронских
владений, номинально зависевших от английской короны. Начало формированию Валлийской
Марки положил еще в XI в. Вильгельм Завоеватель (1066—1087 гг.), создавший на западе
английского королевства три мощных графства: Честер, Шрусбери и Хирфорд (см.
примеч. 21 и 30 к гл. I и примеч. 8 к гл. XVIII). Они выполняли роль буфера между
Центральной Англией и «собственно Уэльсом» (pura Wallia). Одновременно Вильгельм поощрял
своих баронов к самостоятельному захвату валлийских земель, на которых им — в виде
особой привилегии — заранее разрешалось возводить укрепленные замки. До конца ХП в.
границы Валлийской Марки оставались подвижными. Установившись ок. 1200 г., они
сохранялись в основном неизменными до покорения Уэльса в 1277—1283 гг. После этого
военная необходимость в существовании Марки отпала, а старинные привилегии ее
«хранителей» («barones de Marchia») стали внушать серьезное беспокойство английской короне.
В 1301 г. Эдуард I впервые присвоил наследнику престола титул принца Уэльского, надеясь
тем самым укрепить авторитет государства в «диких» западных землях, где даже
норманнские бароны отличались не меньшим самоуправством, чем их соседи — свободолюбивые
валлийцы.
5 Бритты — кельтский народ, древние жители Британии. Средневековая легенда связывала
происхождение и название этого племени с именем их мифического родоначальника —
троянца Брута (см. примеч. 26 к гл. II). Переселились на остров предположительно
между VII и III вв. до н. э. После англосаксонского вторжения (V—VII вв.) укрепились на
севере и западе Британии, сохраняя независимость в Уэльсе, Корнуолле и некоторых других
областях. Считая валлийцев потомками бриттов, В. Скотт нередко называет их именем
этого древнего народа (язык валлийцев относится к группе бриттских языков).
6 Архиепископ Кентерберийский Болдуин — реальное историческое лицо. С 1185 по 1190 г.
архиепископ Кентерберийский (официальный — 42-й по счету — глава Английской
Католической Церкви). Его ближайшие предшественники — Фома Бекет (см. примеч. 14 к гл. XVQ)
272
Примечания
и Ричард Довер. Поездка Болдуина через весь Уэльс и прилегающие земли Валлийской
Марки (1188), его призывы к крестовому походу (см. примеч. 10 к наст, гл.) — также факт
исторический.
7 ...сопровождаемый высокоученым Жиралъдом де Барри... — Жиральд де Барри (ок. 1146—1220) —
ученый хронист и «антикварий» ХП в., более известен под латинизированным именем Ги-
ральда Камбрейского (Giraldus Cambriensis), или Гиральда Валлийца (см. примеч. 9 к наст, гл.),
родственник князя Риса ап Груффидда (см. примеч. 3 к наст. гл.). Оставил письменный
отчет о валлийском «туре» архиепископа Болдуина, которого сопровождал как секретарь.
В латинском сочинении «De principis instructione» Гиральд выступил проводником
официальной легенды о связи аббатства в Гластонбери с «артуровскими древностями» бриттов
(см. примеч. 9 к гл. Ш).
8 Епископ Св. Давида. — Речь идет о епископе Сент-Дейвидса. Сент-Дейвидс (St. David's) —
город в юго-западной части Уэльса (в Пемброкшире), иначе Тиддеви (Tyddewi); место, где,
по преданию, «апостол Уэльса» св. Давид (520—588) основал центр будущей валлийской
церкви. Св. Давид (Дэви, или Дьюи — Dewi) — особо почитаемый у валлийцев святой:
монах, миссионер. Канонизирован Католической Церковью ок. 1120 г. Считается
покровителем Уэльса. День рождения святого (1 марта) является в современном Уэльсе
национальным праздником. В Сент-Дейвидсе до настоящего времени сохранился старинный
собор (XII—XIV вв.), также носящий имя св. Давида.
9 Камбрия — древнее название Уэльса, данное римлянами. От местного Кимру (Cymru) —
«страна сородичей», или «кимров» (Cymraeg). Англосаксы, вторгшиеся в Британию с
материка в V в., называли кимров «welsh» — «чужие» (рус. валлийцы, уэльсцы). От этого
этнонима произошло название местности Уэльс (Wales), постепенно вытеснившее старое
название Камбрия. Легенда, возникшая в средние века, возводит слово «Камбрия» к имени
легендарного Камбра, сына Брута (см. примеч. 26 к гл. II).
10 ...призывами к крестовому походу. — Имеется в виду 3-й крестовый поход (1189—1192),
возглавленный германским императором Фридрихом Барбароссой (ок. 1125—1190),
французским королем Филиппом II Августом (1180—1223 гг.) и норманнским королем Англии
Ричардом I Львиное Сердце (1189—1199 гг.). Несмотря на отдельные военные успехи (в
частности, завоевание Кипра Ричардом), в целом поход оказался неудачным. Иерусалим,
утраченный крестоносцами в 1187 г. (см. примеч. 7 к гл. XXI), так и не был взят соединенными
силами европейцев. В результате с главным противником христиан султаном Саладином
(см. примеч. 3 к гл. XXVIII) было заключено перемирие на невыгодных для европейцев
условиях. События этого похода легли в основу сюжета романа «Талисман» (1825),
входящего вместе с «Обрученной» в серию «Рассказов о крестоносцах» (см. статью).
11 Англо-норманнские воины... — В описываемую В. Скоттом эпоху норманнским рыцарям все
чаще приходилось прибегать к услугам англосаксонских лучников-пехотинцев, набираемых
из местного населения (см. авторское предисловие к роману, а также примеч. 6 к гл. IV).
В приграничных районах Англии такое объединение усилий против общего врага
оказывалось вдвойне полезным как для покоренных саксов, так и для их завоевателей
норманнов (см. примеч. 12, 14 к наст. гл.).
12 Норманны — здесь: офранцуженные потомки скандинавов (собственно «норманнов», или
«северных людей»), осевших в X в. на севере Франции и основавших там герцогство
(впоследствии — Нормандия). В 1066 г. нормандский герцог Вильгельм Незаконнорожденный
(будущий Завоеватель, 1027—1087), предъявив довольно сомнительные права на английский
престол, вторгся с войском в пределы Англии, положив начало так называемому
нормандскому завоеванию (см. примеч. 5 и 7 к гл. ХШ; 8 к гл. XIV).
13 ...не задумываясь о последствиях... оставляли незащищенной. — Ср.: «Скотт отрицательно
относился к католицизму и не стал бы одобрять религиозный энтузиазм, бросивший Европу
на завоевание Гроба Господня. Понимая состояние, охватившее в то время католические
страны и авантюрный дух рыцарства, Скотт увидел в крестовых походах прежде всего
бедст-вие, постигшее Европу: массы мужского населения, истребленные или уведенные с
Примечания
273
родных мест <...>; короли и бароны, бросавшие страну на произвол судьбы <...>; разорение
государств <...> Но он не может не восхищаться идеалами рыцарства, требовавшими
величайшей отваги, самопожертвования ради долга <..>» (Реизов Б. Г. Творчество Вальтера
Скотта. Л.: Худож. лит., 1965. С. 308).
14 Саксы — германское племя (вернее, группа племен), обитавшее в древней Саксонии. В V в.
саксы вместе с соседними племенами англов и ютов вторглись в Британию и к VII в.,
сломив сопротивление островных кельтов (бриттов), расселились почти на всей ее территории,
за исключением лишь нескольких западных и северных областей (см. примеч. 5 к наст, гл.;
примеч. к 2 гл. XIV; примеч. 2 к гл. XV). С течением времени языковые и племенные
различия между англами, саксами и ютами стерлись. Поэтому уже со времен автора
«Церковной истории англов», ученого монаха Беды Достопочтенного (кон. VII — нач. VIII в.,
см. примеч. 25 к гл. II) имя саксов служило общим названием всех германских племен,
установивших в V—VI вв. свое господство над Британией.
15 ... Гуенуин [а точнее Гуенуинуин)... — В валлийских хрониках действительно упоминается
некий Гуенуинуин (Gwenwynwyn), князь Южного Поуиса (1195—1216 гг.), воевавший с
князем Гвинедда Ллевелином ап Иоруортом (1194—1240 гг.). Однако, судя по всему, В. Скотт
заимствовал лишь имя и титул этого исторического лица, наделив ими одного из героев
своего романа.
16 Поуис (от валя, powys — мир, покой) — область в Уэльсе, между Честером и Макхинллетом
(Machynlleth), древнее княжество (см. примеч. 3 к наст, гл.); включало в себя графство
Монтгомери и части графств Брекнок, Рэднор, Шропшир, Мерионет и Денбиг. В начале
ХП в. произошел раздел княжества на Верхний и Нижний Поуис. В 1283 г. правитель
Верхнего Поуиса Оуэн ап Гриффин передал свои земли английскому королю Эдуарду I и,
формально сложив с себя титул князя, получил эту область обратно, но уже в качестве
английского баронства. Так был закреплен официальный переход древнего Поуиса под
сюзеренитет английской короны.
17 ... Мортимерами, Гуарайнами, Лэтимерами, Фщ-Аланами... — Речь идет о представителях
крупных феодальных фамилий (чаще — норманнского, иногда — валлийского
происхождения), владевших лучшими землями Валлийской Марки (центральными долинами
Уэльса). Ср.: «От верхних областей Северна в Поуис до древних княжеств Дехеубарт и Морган-
ви вдоль Бристольского канала крупнейшие маркграфы — Клэры и Мортимеры, Боэны и
Фитцаланы, Браозы, Чеуорты и Гиффарды — правили огнем и мечом, либо с
королевского позволения, либо своим умом. С помощью своих замков и рыцарей они
господствовали в долинах этих земель, оставляя голые горы, покрытые вереском, кочующим кельтским
племенам, занимающимся овцеводством» [Брайант А. Эпоха рыцарства в истории Англии:
Пер. с англ. СПб., 2001. С. 71).
18 Родерик Маур (Roderick Mawr, или Rhodri Maur) — Родерик Великий (844—877 гг.),
основатель княжеской династии Гвинедда и Дехеубарта и правитель почти всего Уэльса, за
исключением областей Дайфед, Брекон, Гвент и Гламорган. После его смерти созданное им
единое валлийское государство распалось.
19 «Высокие мужи» — члены так называемого Ухелуира, или Укелвира (Uckelwyr) (совета
«Высоких мужей»); см. также примеч. 23 к гл. П.
20 Факел Пенгуэрна. — Пенгуэрн — старинный город, упоминаемый в исторических
преданиях и древнейшей поэзии валлийцев. Историки и хронисты (в их числе Гиральд Камбрей-
ский — см. примеч. 7 к наст, гл.) традиционно отождествляют его с нынешним Шрусбери
(см. примеч. 21 к наст. гл.). В средневековой валлийской поэме неизвестного автора девушка
по имени Хеледд — сестра правителя Пенгуэрна — оплакивает гибель своего брата Кинд-
дилана (середина VII в.), сетуя на разорение его (и своего) дома: «Идите сюда, девушки, и
смотрите на землю Кинддилана; замок Пенгуэрна горит, о своей родине тоскует печальная
дева» (цит. по: Матюшина И. Г. Древнейшая лирика Европы: В 2 кн. М.: Изд. центр РГГУ,
1999. Кн. 1. С. 182).
274
Примечания
Шрусбери (Shrewsbury) — город на реке Северн в Шропшире (от личного имени Scrob и слова
burg — др.-англ. крепость, город). Отождествляется с древневаллийским Пенгуэрном (см.
примеч. 20 к наст. гл.).
Плинлиммонский Волк. — Плинлиммон (Plinlimmon) — горный хребет и примыкающая к
нему болотистая местность в Уэльсе. Прозвище Плинлиммонский Волк вполне
соответствует духу валлийской поэзии. Так, знаменитый бард Талиесин (VI в., см. примеч. 15 к гл. II)
сравнивал бриттского короля Оуэйна («жнеца врагов») и его воинов с «волками,
пожирающими овец» (см.: Матюшина И. Г. Указ. соч. С. 166).
Барды (от кельт, основы bardo— слагать хвалы) — у кельтских народов корпорация поэтов-
исполнителей, специализировавшихся преимущественно на лирической поэзии. В
доисторические времена барды выделились из древнего жреческого сословия, сохранив при этом
некоторое родство с жрецами-друидами (см. примеч. 13 к гл. П). Барды обычно состояли
на службе князя, чей древний род и героические деяния воспевали в стихах, но были
и бродячие певцы, причислявшие себя к той же корпорации. В Уэльсе, где с конца XII в.
(и до наших дней) регулярно проводится общеваллийский конкурс традиционных певцов,
барды сохраняли свое почетное положение довольно долго. «Властители Уэльса», и среди
них Рис ап Груффидд из рода Тьюдуров (см. примеч. 3 к наст, гл.), охотно оказывали им
покровительство. Именно Рис, как свидетельствуют исторические источники, в 1176 г.,
во время рождественского пира, впервые собрал всех знаменитых бардов страны на
состязание (Eisteddfod), где представители каждого региона оспаривали право на корону бардов
в поэзии и музыке.
Печальный Дозор. — Название замка в подлиннике имеет норманнскую огласовку — Garde
Doloureuse.
...с замком Кольюн на реке того же названия. — В точности неизвестно, о каких
географических реалиях идет речь. В древней Британии существовал город Каир Колун,
отождествляемый с современным Линкольном (или — реже — Колчестером).
Кадуаллон. — Имя певца заимствовано из валлийских хроник. Так, в 616—635 гг. в Гвинедде
правил король по имени Кадваллон (Кадуаллон) Ллаухир.
Кастелян (от лат. castellum — замок, крепость) — обычно: смотритель замка или дворца.
Здесь — распорядитель замка и связанных с ним земель, владеющий ими на основании
вассальной присяги королю.
...наследницу его владений и предполагаемых богатств... — Будучи наследницей своего отца,
Эвелина, в случае его смерти, не имела права свободно распоряжаться его владениями,
поскольку формально такое право (право кастелянства) предоставлялось лишь на условиях
несения военной службы (см. примеч. 27 к наст. гл.). Положение незамужней наследницы-
сироты требовало обязательного установления опеки над ее собственностью со стороны
старших родственников или феодальных покровителей. После замужества благородной
девицы все права опекунства переходили ее супругу. На эти детали феодального права
обращал внимание Ж.-Ш.-Л. Сисмонди, считавший основные коллизии заключительной
части романа условно-романическими и далекими от реальной истории (см.: Sismondi J.
Fragments de Journal et Correspondance avec m-lle de Saint-Aulaire. [s. 1.], 1857. P. 85; см. также
статью).
Коннетабль — в средние века высшая придворная военная должность: командующий
армией и верховный судья, позже также смотритель королевского замка или комендант
укрепленного города.
Честер (от лат. castra — лагерь) — город в западной части Англии, на границе с Уэльсом,
основан римлянами. Ок. VIII в. захвачен англосаксами. С XI в. — центр графства
(палатината) Честер (Чешир), учрежденного Вильгельмом Завоевателем (см. примеч. 4 к наст. гл.).
От имени короны палатинатом распоряжался маркграф Честерский. В 1237 г. со смертью
последнего наследного графа управление городом и областью перешло в руки королевских
чиновников (см.: Брайант А. Указ. соч. С. 73).
Примечания
275
31 Конкубина — в варварском обществе женщина, занимающая в доме мужчины место
«официальной наложницы» — рангом ниже законной супруги. Ср. с «Илиадой» Гомера, где
образы Хрисеиды и Брисеиды служат свидетельством сходных обычаев у греков-ахейцев.
32 Наградой священнику был золотой обруч... — Находясь на службе у воинственного князя,
священник невольно проникается предрассудками полуварварской дружинной среды и
разделяет ее обычаи. Как настоящий антикварий, Скотт черпает представления о нравах
валлийских дружинников из старинной поэзии, свидетельствующей о том, что «жажда славы,
добычи и княжеских наград» являлась одной из главных пружин поведения древних
германских и кельтских воинов (см.: Гуревич А.Я. Средневековый героический эпос
германских народов//Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о нибелунгах. М.: Худож. лит., 1975. С. 13.).
Подобное же слияние с воинской средой по-своему характерно и для норманнского
капеллана о. Альдрованда (см. гл. VIII), который никак не может расстаться с привычками
бравого нерассуждающего вояки.
33 Астинь, Эсфирь и Артаксеркс — библейские персонажи (Ветхий Завет). Артаксеркс I (464—
425 гг. до н. э.) — персидский царь, в годы правления которого был учрежден еврейский
праздник пурим в честь спасения пленных иудеев от поголовного истребления. Астинь —
царица, жена Артаксеркса. Отказавшись однажды явиться на царский пир «пред лице»
своего супруга, стала причиной его бурного гнева. По совету «семи князей», Артаксеркс
прогнал от себя своенравную Астинь, лишив ее царского достоинства. Вскоре ее место во
дворце и в сердце царя заняла молодая иудейка Есфирь, выбранная царем из тысячи
красавиц. Когда «министр» Артаксеркса Аман задумал перебить всех евреев в персидских
землях, Есфирь, поощряемая своим двоюродным братом Мардохеем, сумела направить
гнев царя против Амана и других врагов иудейского народа, которые были жестоко
истреблены своими предполагаемыми жертвами (см.: Есф. 5: 1—9: 19). Если отлучение царицы
Астинь было мотивировано заботой о сохранении «порядка» («потому что поступок
царицы дойдет до всех жен, и они будут пренебрегать мужьями» — Есф. 1: 17), то возвышение
Есфири традиционно трактовалось как провиденциальное событие, обеспечившее мир и
покой евреям в земле Артаксеркса (см.: Есф. 10: 3). Вероятно, эти же доводы (в пользу
порядка и мира) приводит и о. Эйнион, поддерживая решение князя развестись с
надоевшей княгиней и вступить в новый брак с «чужеземкой».
34 Кастель-Кох. — Упоминаемый В. Скоттом Красный замок (Кастель-Кох), впоследствии
замок Поуис, действительно являлся одной из исторических достопримечательностей
Уэльса. В конце XVI в., вместе с землями «Верхнего» Поуиса, ставшими с 13-го столетия
баронством (см. примеч. 16 к наст, гл.), замок перешел во владение к знаменитой семье
Гербертов. Он был приобретен сэром Эдвардом Гербертом в 1587 г., а в 1629 г. сын сэра
Эдварда Уильям приобрел официальный титул барона Поуиса.
Глава II
1 Источник эпиграфа не установлен. Вероятно, стилизация Вальтера Скотта. Имя
легендарного валлийского князя Медока (Мэдока) неоднократно упоминается в старинных
преданиях Уэльса. Медоку посвящена известная поэма английского романтика,
представителя «озерной школы» Роберта Саути («Madoc», опубл. в 1805 г.). Начальные строки поэмы
были в 1829 г. переведены А. С. Пушкиным под названием «Медок в У аллах» (опубл. в
1884 г.).
2 ...еще более расточительным гостеприимством... — См. примеч. 32 к гл. I. Однако помимо
практических целей, расточительство князя во время пира, как правило, имело и более
важную цель — сакральную: «Пиршество в догосударственных и раннеклассовых
обществах — это и одно из важнейших средств социального общения, и ритуальное действо,
обеспечивающее благополучие рода, племени или союза племен» (Мельникова Е. А. Меч и лира:
Англосаксонское общество в истории и в эпосе. М.: Мысль, 1987. С. 168). «Совместное
поглощение пищи и напитков имело в сознании этих людей глубокий общественный, рели-
276
Примечания
гиозный и моральный смысл <...>» (Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М.,
1972. С. 211).
3 Макдональды с Островов. — Речь идет о Гебридских островах (архипелаге у северо-западных
берегов Шотландии). В XIV—XV вв. Гебридские острова, населенные гэлами
(шотландскими кельтами), принадлежали могущественному клану Макдональдов. Глава клана по
традиции носил титул Властителя Островов.
4 Эль. — В подлиннике дано валлийское название эля — crw.
5 ...которую ввели в своей бриттской провинции еще римляне. — Римское владычество в
Британии продолжалось более 400 лет. Впервые римские легионеры появились на острове в
середине I в. до н. э. Во время Галльской войны (58—50 гг. до н. э.) Юлий Цезарь (100—44 гг.
до н. э.) совершил две военные экспедиции в Британию. Более успешной оказалась вторая
из них, но и она не привела к окончательному покорению острова. Фактическое
завоевание Альбиона началось при императоре Клавдии в 43 г. н. э., когда 50-тысячная римская
армия высадилась на британском побережье и перешла Темзу. К концу I в. под властью
римлян оказалась также Шотландия. С этого времени культура бриттов испытывала на
себе сильное римское влияние: римляне принесли в Британию христианство (ок. IV в.),
построили дороги, виллы, распространили земледелие. На месте укрепленных римских
лагерей возникли многие британские города. После ослабления римского владычества и
окончательного ухода римских легионов с Альбиона (406—407 гг.) в языке местного
(кельтского) населения сохранились отдельные латинизмы, на земле бриттов остались римские
постройки, в быту — одежда, монеты и оружие, сделанные по римскому образцу.
6 ... одним из трех коронованных владык Уэльса... — См. примеч. 3 к гл. I.
7 ...унаследовали отрилиян. — См. примеч. 5 к наст. гл. Сами римляне называли короткие
(гладиаторские) мечи словом «gladius» (меч), возможно, имевшим кельтское происхождение.
8 Датские боевые топорики. — После многочисленных набегов датчан на Британию в конце
VIII — начале XI в. (см. примеч. 8 к гл. XTV) датское боевое оружие было в ходу у
жителей острова (в том числе у англосаксов и валлийцев).
9 Валлийский крюк — разновидность боевого топора (см. примеч. 14 к гл. XXIII).
10 Секач — разновидность алебарды: оружие на длинном древке с крюкообразным лезвием на
конце.
11 Менестрель (ст.-фр. menestrel — слуга, певец) — средневековый поэт, музыкант и певец, как
правило, на службе у знатного лица, о чем говорит и этимология слова (от позднелат.
ministerialis — состоящий на службе). Противопоставляя менестрелей бардам, В. Скотт
подчеркивает подчиненный статус первых в отличие от вторых (см. примеч. 23 к гл. I).
В XIV—XVHI вв. менестрелями называли также простонародных бродячих исполнителей.
В этом значении часто употребляет слово «менестрель» и В. Скотт (см. примеч. 12 к наст. гл.).
12 ...из беспутных бродячих певцов... — Пресловутое беспутство бродячих менестрелей стало,
по мнению Скотта, одной из причин вымирания этого артистического сословия в конце
средневековой эпохи (см. «Опыт о подражании старой балладе», 1830). «Исчезновение
поэтов-исполнителей Скотт объясняет многими причинами: дурными нравами певцов,
законами, преследовавшими их за распущенность, и главным образом <...> распространением
книгопечатания» (Реизов Б. Г. Творчество Вальтера Скотта. Л.: Худож. лит., 1965. С. 49).
13 Друиды — легендарные кельтские жрецы времен язычества. Наиболее ранние письменные
упоминания о них относятся к I в. до н. э. — I в. н. э. (см. «Историческую библиотеку» Дио-
дора Сицилийского, «Географию» Страбона, «Записки о Галльской войне» Юлия Цезаря,
«Естественную историю» Плиния Старшего). Этимология имени друидов неясна. По одной
из версий, слово «друид» происходит от названия почитаемого дерева — дуба и включает
корень uid- («знающий»). Функции друидов были весьма разнообразны: от совершения
жертвоприношений до воспитания юношества. Британские друиды пользовались особым
авторитетом во всем кельтском мире: еще Цезарь утверждал, будто учение (disciplina)
друидов было «найдено» (reperta) именно в Британии (De bello Gallico, VI, 13). Генетическое
родство между друидами и бардами — «слагателями хвалы» (см. примеч. 23 к гл. I)
Примечания
277
не вызывает сомнений, несмотря на некоторую запутанность их связей. Валлийцы, в
частности, помнили о священном характере призвания барда на протяжении всего
Средневековья. Ср. у Талиесина (VI в., см. примеч. 15 к наст, гл.): «<...> только троих спасло их
мужество в сражении, да я был пощажен благодаря моему священному призванию» (цит. по:
Матюшина И. Г. Указ. соч. С. 168).
14 Арфа — струнный щипковый музыкальный инструмент, один из национальных символов
Уэльса.
15 Талиесин (Taliesin) — легендарный бард и (наряду с Анейрином) зачинатель героической
поэзии валлийцев (оба — VI в.). Легенды связывают имя Талиесина с временами короля
Артура, а автор фантастической «Истории бриттов» Гальфрид Монмутский (XII в.)
упоминает о покровительстве, оказанном молодому поэту знаменитым прорицателем Мерлином
(Мирддином), якобы пославшим юношу в Бретань для обучения наукам и искусствам у
св. Гильдаса (см.: Гальфрид Монмутский. Жизнь Мерлина, стк. 685—690). Исторический
Талиесин был, как принято думать, придворным бардом короля Уриена — правителя бритт-
ского королевства Регед (на северо-западе Англии). Подвиги Уриена («защитника Регеда»)
и его сына Оуэйна, а также их героическую гибель Талиесин воспевает в стихах,
прославляя храбрых и щедрых владык Севера как носителей идеальных доблестей героической
эпохи. В XIII в. 58 поэм, приписываемых Талиесину, были объединены в «Книгу
Талиесина» («Llyfr Taliesin»). Из них лишь 12 могли быть в самом деле сочинены «реальным» Та-
лиесином в VI в. Остальные относятся к более позднему времени (см.: Матюшина И. Г.
Указ. соч. С. 165-167).
16 Тинтажель (иначе — Тревена) — деревня в Корнуолле, где сохранились развалины
старинного замка. По преданию, Тинтажель был местом рождения короля Артура — героя бритт-
ской (а затем бретонской и общеевропейской) мифопоэтической традиции, защитника
Британии от англосаксов. Приблизительно с XI в. король Артур становится центральным
персонажем многочисленных рыцарских повествований «артуровского цикла», и благодаря
этому мифы о его рождении в Тинтажеле приобретают широкую популярность (см.
примеч. 4 и 5 к гл. XXI).
17 Корлеойль (Cairleoil) — современный Карлайл, город на северо-западе Англии (графство
Камберленд) в 8 милях от шотландской границы. Первое упоминание о городе относится
к 685 г. (под именем Саег Luel или Karliol). В ГХ в. разрушен данами, отстроен вновь в 1092 г.
«Cair» по-бриттски означает город. Этот корень входил в основу названий многих
старинных городов Британии (см. примеч. 25 к гл. I).
18 Месса (от позднелат. missa) — центральное богослужение Католической и Лютеранской
Церквей, символизирующее таинство евхаристии. Текст мессы включает, помимо
постоянных разделов (ординарий), разделы, приуроченные к конкретной церковной дате (проприй).
19 Дарохранительница — сосуд, служащий для хранения Святых Даров. Имеет вид небольшого
храма или часовни.
20 Сенешаль (от фр. senechal) — в средние века королевский чиновник, глава судебно-админи-
стративного округа (в Северной Франции ему соответствовал бальи — baili). Этот титул
присваивался также распорядителю земель, принадлежащих короне. В заключительной
части романа Скотт особо подчеркивает королевскую прерогативу в управлении замком
Печальный Дозор (см. гл. XVIII-XXXI).
21 Хьюго де Лэсщ Лорд Хранитель Марки. — Возможно, историческим прототипом этого
персонажа является видный участник ирландских походов Генриха П Хью де Ласи (см. примеч.
14 к эпилогу).
22 ...блаженного святого мученика Альфегия... — Возможно, имеется в виду св. Альфег (Альс]>
хиг) (954—1012), архиепископ Кентерберийский с 1006 г., современник и сподвижник св.
Дунстана (см. примеч. 10 к гл. XIII). В 1011 г. Альфег был взят в плен датчанами (данами) и
после семи месяцев заключения убит в Гринвиче 19 апреля 1012 г. Вероятно, в канун
этого дня (19 апреля) — дня памяти св. Альфега — и было написано роковое письмо
Раймонда Беренжера.
278
Примечания
...перед всем Ухелуиром (то есть собранием вождей, а дословно «мужей, высоких ростом»)... —
См. примеч. 19 к гл. I.
Оракул [лат. oraculum) — согласно представлениям античности, «проводник или медиум,
с помощью которого, как считалось, бог возвещает <...> свою волю» (The Oxford English
Dictionary: In 12 vol. Oxford, 1933. Vol. VII. P. 168). По мнению E. В. Приходько,
первоначальное значение слова «оракул» (греч. xprjcjTTJpiov, (xavceTov) — пророческий дух, который
«порождается землей, <...> находится в храме <...>, и через него люди обращаются к богу
и получают ответ» (Приходько Е. В. Оракул: кто это? или что это? // Классическая
филология на современном этапе. М.: Наследие, 1996. С. 115). В новое время понятие «оракул»
чаще всего отождествляется с образом жреца-прорицателя. В нашем случае авторский
текст сохраняет исходную смысловую многозначность древнего термина: «<...> as if his
strains were the responses of an oracle <...>» — букв, «словно его струны были ответами
оракула» (см.; Scott W. The Betrothed. L., 1912. P. 17).
Вортигерн (или Вортегирн) — король бриттов (логров) (V в.). Воевал с пиктами, скоттами
и ирландцами. Согласно легенде, призвав себе на службу германских вождей — братьев
Хенгиста и Хорсу с их дружинами (см. примеч. 2 к гл. XIV и примеч. 2 к гл. XV),
Вортигерн способствовал их укреплению в Кенте и тем самым невольно открыл дорогу
англосаксонскому завоеванию Англии (V—VII вв.). Первым, кто в этой связи упоминает имя Вор-
тигерна, был Беда Достопочтенный (672—735), ученый монах из Ярроу, автор «Церковной
истории англов» (кн. 1, гл. XV). Наиболее подробно драматическая история правления этого
бриттского короля, расцвеченная легендарными и вымышленными фактами, изложена в
«Истории бриттов» (ок. 1137) Гальфрида Монмутского.
Потомки Брута. — Т. е. бритты (см. примеч. 5 к гл. I). Брут (не путать с историческими
Брутом Старшим и Брутом Младшим) — легендарный предок бриттов, основатель их
государственности и первый человек, ступивший на землю древнего Альбиона.
Средневековая легенда рисует его троянским царевичем, правнуком Энея, подчеркивая тем самым
связь бриттов с древними римлянами и со всем античным миром. Получив от Дианы
приказ разыскать в бушующем море остров, заселенный фантастическими гигантами, Брут со
своими людьми отправляется к берегам Альбиона. Достигнув острова, он нарекает его по
своему имени Британией, а своих товарищей — бриттами. Согласно той же средневековой
легенде (известной по рассказу Гальфрида Монмутского, XII в.), Брут имел троих сыновей
от своей жены — греческой царевны Инногены. Их звали Локрин, Камбр и Альбанакт.
Каждому из них в наследство от отца досталась значительная часть острова: Локрин
владел центральной Британией, или Лоэгрией (т. е. Англией), Камбр утвердился на западе —
в Камбрии, или Валлии (Уэльсе). И, наконец, Альбанакт получил под свою руку весь
север — Альбанию, или Скоттию (Шотландию). Одним из первых имя Брута упоминает
Ненний («История бриттов», гл. 17—18; ок. 769 г.), а Гальфрид Монмутский посвящает
этому легендарному персонажу более 20 начальных глав своего знаменитого сочинения
(«История бриттов», или «История королей Британии», ок. 1137 г.). Таким образом, легенда
о Бруте имеет довольно позднее происхождение.
Вожди снова заняли свои места за столами, но уже не затем, чтобы пировать... —
Стремительный переход от пиршества к сражению — распространенный мотив в полной
драматизма древневаллийской поэзии. Так, в одной из поэм Талиесина (см. примеч. 15 к наст, гл.)
говорится: «Мужи отправились в Каттерик, отважна была дружина, свежим был мед на
пиру, горьким он стал. Три сотни по приказу вступили в бой, молчание сменило возгласы
радости» (цит. по: Матюшина И. Г. Указ. соч. С. 169). Резкий контраст между пиром и
сражением в валлийской поэзии не просто отражает «противопоставление устойчивого
миропорядка конфликту и нарушению гармонии в нем», как в традиционной поэзии
англосаксов (см.: Мельникова Е. А. Указ. соч. С. 168), но и служит утверждению героических
идеалов и нравственных норм древнего общества, в котором гибель в сражении воспринимается
как жестокая, но необходимая плата за княжескую щедрость — «плата за мед» (talu medd)
(см.: Матюшина И. Г. Указ. соч. С. 168).
Примечания
279
Глава Ш
1 В эпиграфе цитата из хроники У. Шекспира «Генрих VI» (ч. III, акт I, сц. 4, стк. 25—26).
Слова Йорка. Здесь и ниже все цитаты из произведений Шекспира сверены по изданию:
Shakespeare W. The Complete Works. Hertfordshire, 1994. (The Wordsworth Poetry Library).
2 Корнаж (coinage, от фр. corner — трубить в рог) — в феодальные времена условие
держания земель, обязывавшее держателя предупреждать о близящемся вторжении звуками
рога.
3 Шропшир (Сэлоп) — графство в Западной Англии, южнее Чешира (см. примеч. 30 к гл. I),
граничащее с Уэльсом. Центром Шропшира является город Шрусбери (см. примеч. 20—
21 к гл. I).
4 Фламандцы — уроженцы Фландрии — исторической области (графства), территория
которой охватывала запад современной Бельгии и север Франции (департамент Нор). В Англии
фламандцы появились при Генрихе I (1100—1135 гг.), когда страна начала вести широкую
торговлю шерстью. В 1102 и 1103 гг. с ними были заключены первые торговые договоры.
Фламандцы получали право на ведение промышленного производства и торговли
тканями внутри страны на условиях несения военной службы.
5 Глостер (Gloucester) — город на реке Северн на юго-западе Англии, возник на месте
римского поселения. Центр графства Глостершир. В средние века расстояние между
Шропширом или Чеширом и Глостером представлялось весьма неблизким.
6 Флорин (или гульден) — в европейских странах позднего Средневековья золотая монета,
отчеканенная по образцу флорентийского флорина (fiorino), впервые пущенного в оборот
в 1252 г. На первых итальянских флоринах был изображен цветок лилии, отсюда —
название монеты [urn. fiore — цветок). В Англии XIII—XIV вв. флорином также стали называть
серебряную монету достоинством около двух шиллингов.
7 ...еврею или ломбардцу... — В средние века иудеи и жители Северной Италии вели активную
торговлю и широкие банковско-ростовщические операции на территории всей Европы. Для
иудеев задача посреднической торговли между Западом и Востоком упрощалась
благодаря тому, что христианам в это время было запрещено заниматься торговлей на территории
мусульманских стран. В результате крестовых походов, приведших к захвату
европейцами целого ряда ближневосточных областей, ломбардцы составили евреям серьезную
конкуренцию. Ломбардец — уроженец области Ломбардия на севере Италии (от имени
германского племени лангобардов). В Англии ломбардские купцы стали появляться с началом
проведения первых крупных ярмарок (конец XI в.). Постоянные торговые связи с
итальянскими городами установились после 3-го крестового похода, о котором идет речь в книге
(1189—1192 гг.). Со времени царствования Генриха III (1216—1272 гг.) «ломбардцы»
(фактически — итальянцы не только северных, но и центральных областей) являются банкирами
английских королей. Этот период закончился в правление Эдуарда III (1327—1377 гг.),
отказавшегося платить долги итальянским банкам.
8 ...так ли уж важно обещание, данное за кубком вина? — Для рыцаря Раймонда Беренжера сам
факт обещания накладывает на него строгие обязательства (в духе формального права).
Для Флэммока, с его трезвым ремесленническим практицизмом, обещание не имеет силы,
если оно не было сознательным и свободным.
9 Гластонбери (Glastonbury) — город (поселение) в Сомерсетшире (юго-запад Англии), на пути
из Уэльса в Корнуолл. Монастырь в Гластонбери, расположенный на пересечении
нескольких национальных культур (валлийской, корнийской, саксонской и англо-норманнской)
выполнял роль важного идеологического центра в эпоху Плантагенетов (особенно
Генриха II, 1154—1189 гг.). По сообщению Гиральда Камбрейского (см. примеч. 7 к гл. I),
монахи Гластонберийского монастыря, проводя, по указанию Генриха П, раскопки в своем
аббатстве, обнаружили в 1190 г. тело легендарного короля Артура, похороненного вместе со
своей женой королевой Геневерой в выдолбленном стволе дуба. По этой причине Гиральд
280
Примечания
Камбрейский отождествляет Гластонбери, окруженный со всех сторон болотами, с
легендарным островом Авалоном, куда, согласно древнейшим сказаниям, был перенесен
смертельно раненный Артур своей сестрой феей Морганой (см.: Михайлов А. Д. Книга Гальф-
рида Монмутского и ее судьба//Гальфрид Монмутский. История бриттов. Жизнь Мерлина.
М, 1984. С. 223-226).
10 Бенедиктинки — монахини католического монашеского ордена, основанного ок. 530 г.
италийским монахом св. Бенедиктом Нурсийским (480—547) (см. примеч. 2 к гл. IX).
11 Баллиста (от лат. ballista, от греч. |ВаХХо) — бросаю, кидаю) — древняя машина для метания
снарядов (камней, бревен, бочек с кипящей смолой и т. д.). Состояла из горизонтальной
рамы с желобом и вертикальной рамы с тетивой. С помощью тетивы снаряд по желобу
направлялся в цель.
12 Арбалет (самострел, qbp. arbalete) — метательное оружие в европейских странах в средние
века: стальной лук на деревянном ложе. Натягивался при помощи специального ворота.
13 Егерь — здесь: слуга, управляющий сворой охотничьих собак.
14 ...«каммерер», «келлер-мастер»...— «Каммерер» (от нем. Kammer — комната, палата) —
дворецкий, «келлер-мастер» (от нем. Keller — погреб, подвал) — виночерпий.
15 Бокал рейнского... — См. примеч. 20—21 к наст. гл.
16 Кварта (от лат. quartus — четвертый) — единица объема, равная одной четверти галлона
(3,785 л) или двум пинтам.
17 Гент (Ган, флам. Gent, qbp. Gand) — в средние века город и порт в графстве Фландрия (см.
примеч. 4 к наст, гл.), ныне административный центр провинции Восточная Фландрия на
территории Бельгии (при слиянии рек Лис и Шельда). Упоминается с VII в. С 11-го
столетия один из европейских центров сукноделия.
18 Ипр (от фр. Ypres, флам. Jeper) — город во Фландрии (современная Бельгия).
Упоминается с XII в. В XII—XIV вв. соперничал с Брюгге и Гентом как центр цехового сукноделия.
19 Гасконь (Gascogne) — историческая провинция на юге Франции. Славится своими винами.
20 Рейн (нем. Rhein, лат. Rhenus). — Главная река Германии берет начало в Швейцарских
Альпах и впадает в Северное море (на территории Нидерландов).
21 Неккар (Neckar) — река на юго-западе Германии, правый приток Рейна. В долинах
незамерзающего Рейна и Неккара выращивают особые сорта винограда, из которых производят
рейнские вина.
Глава IV
1 Источник эпиграфа не установлен. Вероятно, стилизация Вальтера Скотта. Фома Рифмач
(Thomas the Rhymer, Томас Лермонт, между 1220 и 1297) — шотландский бард-прорицатель,
певец при дворе последнего гэльского короля Шотландии Александра III (ум. в 1286 г.).
Родом из Башни Эрлов на краю селения Эрсилдаун. Родовое имя — Лермонт, прозвища —
Рифмач, Томас из Эрсилдауна. Славился своими стихотворными пророчествами,
написанными в древней аллитерационной манере. Первое собрание пророчеств Фомы (известных
по пересказам авторов XIV—XV вв.) было опубликовано Робертом Вальдгрейвом в
Эдинбурге в 1603 г. Жизнь Томаса Лермонта, которого М. Ю. Лермонтов считал своим
далеким предком, овеяна множеством легенд, что вызывает ассоциации с образами Мерлина
или Тангейзера. Согласно одному из сохранившихся преданий, Рифмач провел семь лет в
заточении у королевы фей, наделившей его даром пророчества. Он стал героем народных
баллад, одна из которых помещена во втором томе «Песен шотландской границы» В.
Скотта (1802—1803) вместе с двумя авторскими подражаниями пророчествам Фомы (см.: Бар-
скова В. С. Шотландская народная легенда в балладах В. Скотта // Научные доклады
высшей школы: Филол. науки. 1977. № 2. С. 32—41; см. также примеч. 8 к гл. XVII).
2 Монах. — В подлиннике монах назван доминиканцем по принадлежности к
нищенствующему ордену, основанному в 1215—1216 гг. испанским монахом Домиником (ок. 1170—1221).
Примечания
281
Судя по всему, это небрежность В. Скотта, допустившего очевидный анахронизм,
поскольку действие романа разворачивается в кон. 1180 — нач. 1190-х гг.
3 Святой Георгий (ум. ок. 303 г. н. э.) — христианский святой, великомученик, покровитель
Англии. Согласно житийной литературе, уроженец Каппадокии (Малая Азия),
представитель военной знати, дослужившийся до высоких чинов. В 303 г., во время преследований
христиан (период правления императора Диоклетиана), Георгий был казнен, стойко
выдержав все истязания, которыми его пытались принудить к отречению от веры. Уже в
Византии сложилась легенда, изображающая св. Георгия победителем дракона и спасителем
языческой царевны, принявшей после этого христианство. С превращением христианства
в государственную религию образ св. Георгия был осмыслен как образец идеального воина-
христианина. В качестве покровителя «христолюбивого воинства» св. Георгий получил
особую популярность во времена крестовых походов. Крестоносцы рассказывали, что
видели Георгия Победоносца во время штурма Иерусалима в 1099 г. Явившись в первых
рядах осаждавших в облике рыцаря в белом плаще с красным крестом, он возглавил
осаду и привел христиан к победе. С XIV в. крест св. Георгия стал официальным знаменем
Англии.
4 Фут [англ. foot, букв. — ступня) — единица длины, принятая в Англии. Один фут равен 12
дюймам, или 30,5 см (в общепринятой системе мер).
5 Дехеубарт — княжество на юге Уэльса. В правление Риса ап Груффидда (1155—1197 гг.) —
главное валлийское княжество (см. примеч. 3 к гл. I).
6 Иомены {англ. yeomen) — в средневековой Англии свободные крестьяне, самостоятельно
владевшие хозяйством и несшие воинскую повинность (см. примеч. 11 к гл. I). Из йоменов
набирались лучники-пехотинцы, обеспечившие английскому войску несколько решающих
побед в годы Столетней войны (1337—1453 гг.). Этот социальный слой полностью исчез к
XVIII в.
7 ...обрушить друг на друга град ругательств. — Перебранка противников перед боем —
популярный мотив в фольклоре, в частности, в хорошо известных В. Скотту балладах
«шотландского пограничья».
8 ...подобноримлянам, сражавшимся против слонов Пирра... — Пирр (319—273 гг. до н. э.) — царь
Эпира в 307—302 и 296—273 гг. до н. э. Один из выдающихся полководцев древности.
Воевал на стороне г. Тарента с Римом. Одержал победы при Гераклее (280 г. до н. э.) и Аус-
кулуме (279 г. до н. э.), чему немало способствовало умелое использование боевых слонов,
сминавших ряды римских всадников и пехоты. Победа при Аускулуме, однако, досталась
Пирру ценой огромных потерь («пиррова победа»). И уже в 275 г. до н. э., при Беневенте,
Пирр потерпел от римлян сокрушительное поражение. Знаменитые боевые слоны на этот
раз сыграли в сражении роковую роль: осыпаемые огненными стрелами из-за стен
римского лагеря, обезумевшие животные ринулись обратно на воинов Пирра, топча и
приводя их в ужас.
9 Мануил Комнин (или Мануил I) — византийский император (1143—1180 гг.), представитель
династии Комнинов (1081—1185 гг.). Будучи талантливым политиком, достиг больших
успехов в деле расширения и укрепления границ Византийской империи: в частности,
добился от Венгрии признания сюзеренитета Византии (1164 г.), а также утвердил власть
византийских императоров над Сербией. В 1176 г., однако, византийская армия была
разгромлена турками, а после смерти Мануила (1180 г.) в Константинополе вспыхнуло
народное восстание. В результате ослабления внешних границ и власти внутри страны династия
Комнинов пала (1185 г.).
Глава V
1 Указанный источник не содержит таких строк. Возможно, перед нами очередная
мистификация Скотта. Перси Томас (Percy Thomas, 1729—1811) — известный собиратель и
исследователь фольклора, переводчик, литератор, духовное лицо (с 1782 г. епископ Дромора).
282
Примечания
Главный труд Перси — собрание «Памятников древней английской поэзии» (Reliques of
ancient English poetry, 1765) — оказал огромное влияние на формирование литературной
баллады предромантизма и романтизма. Первоначальную основу «Памятников»
составила, по преданию, старинная рукопись, едва не попавшая в огонь на глазах у будущего
епископа (опубликована в сокращенном виде в 1867—1868 гг.). В отличие от ученых
фольклористов (например, Ритсона), Перси не просто издавал народные баллады, но и
обрабатывал их в соответствии с художественным вкусом своего времени, нередко отдавая
предпочтение литературным памятникам старых мастеров. В частности, ему принадлежит
заслуга публикации стихотворений Генри Сарри (1517?—1547) — одного из представителей
раннего английского петраркизма. В. Скотт высоко ценил вклад Перси в современную
поэзию и с уважением относился к принципам его издательской деятельности (см.: Скотт В.
Вводные замечания о народной поэзии и о различных сборниках британских
(преимущественно шотландских) баллад // Собр. соч. ... Т. 20. С. 653—693).
2 Философия стоиков (стоицизм) — одна из главных философских школ древности. Название
получила от галереи в Афинах Стоя Пециле (атоа — греч. портик), где впервые выступил
в качестве самостоятельного оратора основатель школы Зенон из Китиона (кон. IV в. — нач.
III в. до н. э.). Учение стоиков подразделялось на три части: физика, логика и этика,
из которых наиболее оригинальной и важной явилась последняя. В центре ее — понятие
добродетели, связанное с отречением от страстей и подчинением «логосу» — общему закону.
От мудреца стоики требовали любви к своему року, возводя в образец «бесстрастие»
природы. Стоицизм (особенно в его римской — «этической» версии) внес важный вклад в
формирование христианства и средневековой философии в целом.
3 Фламандские кони. — В средние века ценились главным образом за выносливость (в
отличие от арабских скакунов, ценившихся за резвость).
4 Монтанисты — члены раннехристианской секты, основанной во П в. во Фригии и
получившей распространение в Малой Азии, Африке, Риме, Галлии и на Балканах. Названа по
имени своего основателя жреца Монтана. Проповедь монтанистов была тесно связана с
традициями первых христианских общин. Подчиняясь лишь собственным жрецам-«пророкам»,
монтанисты не признавали власти епископов и, в ожидании второго пришествия, призывали
к покаянию, усмирению плоти и отказу от собственности. Поскольку секта монтанистов
фактически прекратила свое существование еще в VIII в., можно с уверенностью
утверждать, что о. Альдрованд почерпнул свои сведения о монтанистах не столько из европейской
действительности XII в., сколько из церковных книг, поэтому имя монтанистов в его устах
теряет свое конкретное содержание.
5 ...не идти сейчас к вратам града Иерихон. — Иерихон (арам, «благоуханный») — город
Villi тыс. до н. э. в Палестине, на западном берегу реки Иордан — к северо-востоку от
Иерусалима. В конце П тыс. до н. э. разрушен еврейскими племенами. Согласно библейскому
преданию, Иерихон был первым городом, взятым израильтянами после вступления в землю
обетованную — Ханаан (см.: Нав. 2: 6). Когда стены Иерихона рухнули от звука израильских
труб (см. примеч. 2 к гл. XXI), город был предан заклятию, т. е. подлежал уничтожению
со всем находящимся в нем: «<...> проклят пред Господом тот, кто восстановит город сей
Иерихон; на первенце своем он положит основание его и на младшем своем поставит
врата его» (Нав. 6: 25). Возможно, в этой связи упоминание врат Иерихона объясняется
не только их непосредственной близостью к Иерусалиму (цели крестоносцев на Востоке),
но и желанием Флэммока выразить осторожное сомнение в разумности этой цели,
лежащей близко от заклятого места.
6 Пемброкшир (Pembrokeshire pen — валл. гора, холм; scir — др.-англ. область, графство) —
графство на юго-западе Уэльса.
7 Марка — денежная единица германского происхождения, равная стоимости 8 унций
золота (одна унция — 28,35 г).
Примечания
283
Глава VI
1 Источник эпиграфа не обнаружен. По-видимому, эпиграф сочинен самим В. Скоттом.
2 ...Тору, Балъдеру, Одину и другим обожествленным воителям Севера... — Тор, Бальдер (Бальдр),
Один — древние скандинавские божества общегерманского происхождения. Тор (Донар —
др.-герм, громовник) — бог грома, бури и плодородия, «защитник людей», победитель
змея Ёрмунганда, рыжебородый богатырь с каменным молотом. Бальдер (или Бальдр —
«господин») — юный бог (ас), сын Одина и Фригг, скандинавский вариант страдающего
божества. Коварный Локи умерщвляет Бальдра рукой слепого бога Хаду (или Хеда), вложив
в нее копье (или прут) из омелы. Смерть юного аса служит предвестием гибели богов и
всего мира. С обновлением мира, однако, Бальдру суждено вернуться из царства мертвых
Хель и примириться со своим невольным убийцем Хедом. Один (у континентальных
германцев Водан) — верховный бог скандинавского пантеона, глава асов, сын Бора и Бестлы,
муж Фригг. Бог войны и военной дружины, дарующий победы и поражения, владелец
магических рун, бог мудрости и колдовства, принимающий участие в «оживлении» первых
людей — Аска и Эмблы. В начале XIII в. в «Деяниях датчан» Саксона Грамматика
скандинавские божества были подвергнуты «историзации» в духе героических сказаний.
Причиной смерти Бальдра в сочинении средневекового историка оказалась вражда юноши
с Хедом, вызванная их соперничеством в любви. Сам Бальдр представлен в «Деяниях
датчан» героем-полубогом, другие скандинавские божества — древнейшими королями.
От Бодана (Одина) вели свой род англосаксонские короли Британии (см.: Мифологический
словарь/Гл. ред. Е. М. Мелетинский. М.: Сов. энциклопедия, 1991. С. 86, 411).
Норманнские завоеватели не менее свято хранили память о своей скандинавской прародине и
верованиях предков (см. примеч. 12 к гл. I).
3 ...как особая домашняя святыня... — «Deity» [англ.) — также «божество». Возможно,
используя это слово, Скотт подчеркивает тем самым черты «языческих» суеверий в средневековом
католичестве. Недаром в XIV гл. романа функции Пресвятой Девы Печального Дозора,
требующей от своей почитательницы тяжелого искуса, легко переходят к призраку
белокурой Ванды — героини бриттско-саксонских языческих преданий. В обоих случаях лишь
внутренняя чистота, искренняя (не формальная) вера и моральная стойкость возвышают
героиню над общепринятым суеверием и спасают от его разрушительных последствий.
4 Нижнее Царство (или Империя — Lower Empire [англ.), Bas Empire [фр)) —
Восточно-Римская империя, или Византия.
5 Евангелист Лука — автор 3-го канонического Евангелия и Деяний св. апостолов (в составе
Нового Завета). В церковной истории сохранилось предание о Луке как о выдающемся
христианском проповеднике и писателе, спутнике ап. Павла в его миссионерских скитаниях.
Предполагают, что Лука был греком, родившимся в Антиохии (Сирия), где он впоследствии
обучался медицине — до своей встречи с ап. Павлом (ок. 43 г.). В средние века за св.
Лукой закрепилась также слава первого христианского художника, создателя иконописного
изображения Божьей Матери. В. Скотт, однако, относится к этой церковной легенде с
известной долей рационалистического скепсиса, полагая, что иконопочитание и создание
иконописных изображений было чуждо первоначальному христианству.
6 ...наделенным особой святостью и даже чудотворной силой. — Выражение «miraclous powers»
(чудотворные, сверхъестественные силы) допускает различные толкования, по
преимуществу весьма далекие от того понимания святости, которое соответствовало протестантским
убеждениям писателя (см. примеч. 3 к наст. гл.).
7 ...хотя что-то в душе ее противилось этому... — «Естественное чувство», заглушённое, но не
подавленное рыцарским воспитанием, подсказывает героине, что данная ею клятва таит в
себе опасность и потребует огромных сил и стойкости для ее исполнения.
8 Это не ваш смешанный английский — полунорманнский-полусаксонский! — Слова Розы по сути
представляют собой некоторый анахронизм. Ближайшим следствием нормандского завое-
284
Примечания
вания (1066 г.) стало не столько смешение французского и английского (англосаксонского)
языков, сколько распространение двуязычия при безусловном первенстве французского в
ряде важных областей государственной жизни (язык двора и знати, язык администрации,
судов и школ). Почти на полтора столетия древнеанглийский утратил статус письменного
языка, а в качестве устного получил преобладание в тех районах, где большинство
населения составляли солдаты и простой люд. Однако в силу ряда исторических причин
английский язык уже к XIV в. начал заметным образом отвоевывать свои позиции — сначала в
повседневном общении, затем — в школах, судах и государственных учреждениях. К 1385 г.
английский язык вернул себе утраченные ранее права, но это был уже обновленный
английский, в котором явственно давали себя знать следы норманнского влияния —
особенно в словарном запасе, произношении и на письме. В целом период с конца XI по XV в.,
когда английский язык находился в сложном взаимодействии с французским языком
норманнских завоевателей, составил особую эпоху в истории национального языка англичан.
Язык этого периода, находившийся в процессе постоянных изменений, получил название
среднеанглийского.
9 ...они сражались с римскими императорами, когда Британия покорно перед ними
склонилась. — В I в. н. э., когда Британия «склонилась» перед римлянами, и до конца римского
владычества в Англии (406—407 гг., см. примеч. 5 к гл. И) германские племена на континенте
успешно воевали с Римом, не только обороняя свои рубежи, но и совершая набеги на
столицу и другие важные города империи. В IV—VII вв. германцы захватили большую часть
Западно-Римской империи.
10 Ave Maria! Ave Regina Coeli! — Начальные слова католической молитвы Богородице.
11 ...она походила на ангелочка со старинной картины... — Иронический (в духе просветительства)
комментарий В. Скотта к специфической условности средневековой живописи,
изображавшей все земное подчеркнуто тяжеловесным, грубо телесным, а небесное —
сверхъестественно утонченным, почти бесплотным.
12 ...коробейника из Антверпена. — В подлиннике — cramer (ср. гол. Kramer и нем. Kramer) —
лавочник. Антверпен (Анвер) — город во Фландрии (современная Бельгия), на реке Шельда.
К концу средневековой эпохи крупнейший центр торговли и кредита.
Глава VII
1 Источник эпиграфа не установлен. Вероятно, стилизация В. Скотта.
2 ...на ходу перебирая четки... — Или «бормоча на ходу молитвы» (telling his beads).
3 ...даже если он плывет к нам с Кипра. — То есть «если даже он уже присоединился к войску
Ричарда Львиное Сердце, ведущему военные действия на Кипре». В 395—648 и 965—1191 гг.
Кипр находился в составе Византии. Несмотря на то, что Византия была христианской
страной, она не избежала ударов западноевропейских рыцарей-крестоносцев. В частности,
4-й крестовый поход (1202—1204 гг.) был направлен преимущественно против Византии,
на части территории которой была создана так называемая Латинская империя (1204—
1261 гг.). Кипр был захвачен крестоносцами под командованием Ричарда Английского еще
в 1191 г. — через 3 года после даты, к которой приурочены события первых глав романа.
4 ...пол-ярда... — Ярд — английская мера длины, равен 0,914 м (чуть более трех футов).
5 Псалом 15 Давида. В синодальной Библии — 14. Ср.: «Господи! кто может пребывать в
жилище Твоем? кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и
делает правду, и говорит истину в сердце своем <...>» (Пс. 14: 1—2).
6 Притча — образная иллюстрация морального положения, малый дидактико-аллегориче-
ский жанр. Подобно басне, обычно строится на иносказании, но допускает отсутствие
развернутого сюжета. Характерные особенности притчи — тяготение к «глубинной
премудрости» и отказ от художественной описательности (С. С. Аверинцев). Притчами изобилует
речь библейских пророков и Иисуса: см., напр., притчу о талантах (Мф. 25: 14—30), о
блудном сыне (Лк. 15: 11—32), о богаче и Лазаре (Лк. 16: 19—31) и др. Притча Уилкина Флэм-
Примечания
285
мока формально напоминает евангельские притчи, но, в отличие от них, содержит
своеобразное наставление в практической мудрости, а не в мудрости глубинной. Одновременно
притча фламандца является типичным новеллистическим «остроумным ответом», изящно
опровергающим абстрактные моралистические рассуждения о. Альдрованда. Недаром
священник возмущается таким мирским применением священного жанра, но при этом все-таки
принимает урок неглупого ремесленника.
7 Филистимляне (от др.-евр. «пелиштим», отсюда название Палестины) — племя, населявшее
в древности (с XIV по ХШ в. до н. э.) побережье Средиземного моря на юго-западе
Палестины. По библейской легенде, предположительно выходцы с Крита: пеласги или греки-
ахейцы (см.: Ам. 9: 7). Между ними и израильтянами шла вековая борьба за обладание
Палестиной (Ханааном), пока при царе Давиде иудеи не оттеснили филистимлян к морю,
изолировав их на узкой территории к югу от Финикии. В Библии филистимляне
упоминаются неоднократно: так, юный Давид (будущий царь) одерживает верх над филистимским
борцом Голиафом (см.: 1 Цар. 17), а позже скрывается у филистимлян от гнева царя Саула
(см.: 1 Цар. 27); царь Саул и его сыновья гибнут в бою с филистимлянами (см.: 1 Цар. 31),
а Давид, сделавшись царем, побеждает своих вчерашних союзников (см.: 2 Цар. 5: 17—25).
Несколько ранее, в эпоху Судей, своими кровавыми подвигами в борьбе против
филистимлян прославился богатырь-назорей Самсон, побивший однажды тысячу врагов ослиной
челюстью (см.: Суд. 15: 15—16). В библейской Книге Судей филистимляне изображены
трусливыми и коварными противниками: они не способны победить Самсона иначе, как с
помощью обмана (см.: Суд. 16: 4—21), за что и платятся гибелью тысяч своих
соплеменников, которым мстит ослепленный герой (см.: Суд. 16: 26—30). Опираясь на текст Библии,
о. Альдрованд употребляет слово «филистимляне» в значении «трусливое и жестокое
вражеское племя».
Глава УШ
1 Источник эпиграфа не установлен. Роуз Уильям Стюарт (1775—1843) —
предположительно английский поэт и переводчик Ариосто, друг Вальтера Скотта.
2 Фашина (от нем. Faschine, от лат. fastis — связка прутьев, пучок) — туго стянутая связка
хвороста, применявшаяся для укрепления откосов и при строительстве оборонительных
сооружений.
3 ...подобно Аяксу... — Аякс Теламонид (Большой Аякс) — царь Саламина, один из
претендентов на руку Елены Прекрасной. Прославился под Троей как герой, уступающий в
доблести только Ахиллу. С именем Аякса связывается представление об упрямой мощи и
неповоротливой, но грозной силе (см. знаменитое сравнение с ослом: Гомер. Илиада. XI, 558—
565). Ближайшим поводом для сравнения могучего ремесленника с античным героем
является, помимо прочего, объединяющий их мотив метания камней (у Скотта —
из баллисты): в гомеровской «Илиаде» Аякс мечет «огромнейший» камень в Гектора и
пробивает им щит врага (см.: Гомер. Илиада. VII, 268—270).
4 Но правила моего ордена велят трудиться. — См. примеч. 2 к гл. IV, и примеч. 2 к гл. IX.
5 Требник — богослужебная книга, содержащая тексты церковных служб и порядок
совершения треб. Требы — обряды, совершаемые по просьбе верующих (в случае крестин, брака,
панихиды и т. п.).
Глава IX
1 Источник эпиграфа не обнаружен. Эллиот Гилберт. — Возможно, речь идет о первом графе
Мунто (1751—1814) — генерал-губернаторе Индии, вице-короле Корсики (1791—1796 гг.),
поэте-любителе.
2 Св. Бенедикт (Бенедикт Нурсийский, 480—543 или 547) — италийский монах, основатель
ордена бенедиктинцев (см. примеч. 10 к гл. III). Обращение к св. Бенедикту противоречит
более раннему (и явно анахроническому) обозначению о. Альдрованда как доминиканца
286
Примечания
(примеч. 2 к гл. IV), но вполне сочетается с упоминанием правила орденского устава,
предписывающего монахам труд (примеч. 4 к гл. VIII). Основав монастырь в Монте-Кассино
(529 г.), Бенедикт Нурсийский создал также свод «Правил жизни монашеской», ставший
уставом бенедиктинского ордена.
3 Начальные слова одного из главных разделов католической мессы, входящего в ординарий
(см. примеч. 18 к гл. П).
4 Ура, святой Эдуард/ Ура, святой Деннис/ — боевые кличи англосаксов и норманнов.
Св. Эдуард, или Эдуард Исповедник (ок. 1002—1066) — английский (англосаксонский)
король (с 1042 г.), отличавшийся благочестием. В 1166 г. канонизирован. Англосаксы считали
его своим покровителем (см. также примеч. 7 к гл. ХШ). Св. Деннис (Денис, Сен-Дени) —
христианский святой (III в.), первый епископ Парижа, св. патрон Франции. Норманны,
переселившиеся из Франции, продолжали считать его своим покровителем, используя
боевой клич французов «Дени монжуа!».
5 Покаянная скамья (от англ. cucking-stool) — в средние века орудие наказания: сиденье или
скамья, к которой привязывали нарушителей закона и общественных приличий.
Привязанного преступника жители прихода осыпали насмешками и побивали камнями, в некоторых
случаях (например, во время суда над ведьмами) — погружали в воду, пока не наступала
смерть.
6 Жеманница — возможный вариант перевода английского выражения «mannerly Mrs. Margery».
В самом деле, в то время как слово «жеманница» у современного читателя вызывает
стойкие ассоциации с «жеманницами» (или «прециозницами») Мольера (XVII в.), английское
слово «mannerly» так же прочно связывается с культурной атмосферой позднего
Возрождения в Англии (кон. XVI — нач. XVII в.). Подобные «культурные анахронизмы» в романах
В. Скотта не редкость.
Глава X
1 Такое же название носит одна из баллад В. Скотта, включенная в сборник «Песни шот-
ланд-ской границы» (1802—1803), однако строк, приведенных в эпиграфе, она не содержит.
Источник эпиграфа не обнаружен.
2 Куртуазный (courtois — рыцарский, учтивый, от фр. court — двор) — относящийся к
куртуазной культуре западноевропейского Средневековья. Как форма рыцарской культуры
куртуазия достигает расцвета в период зрелого Средневековья (XII—XIV вв.), получая
выражение в литературе, искусстве и некоторых формах окультуренного феодального
быта. В рамках куртуазной культуры (и прежде всего словесности) была выработана
особая идеальная модель мира (куртуазный универсум), основанная на своеобразной системе
ценностей. Ведущую роль в этой системе играла возвышенная любовь к Даме. Эта
приподнятая над миром обыденности куртуазная любовь понималась одновременно как живое
(непосредственное) чувство и некая духовная «дисциплина», требующая самоотречения и
целенаправленной внутренней работы. В отрыве от своего существенного духовного
содержания навыки этой любовной «науки» могли превращаться в простые приемы
куртуазного вежества, сводясь к отдельным аффектированным формам этикета.
3 ...обет не входить ни под одну кровлю, пока он не отбыл в Святую Зелыю. — «Воины Господа»
действительно могли давать подобные обеты, однако литературное значение этого
мотива шире. Ср., в частности, с комедией Шекспира «Бесплодные усилия любви», где клятва
короля Наваррского «не видеть женщин» (акт I, сц. 1, стк. 48) и не принимать их под
крышей своего замка приводит к сходным несообразностям в общении и к нарушению
куртуазного этикета. Как говорит в той же пьесе Принцесса: «Великий грех — давать такие
клятвы/И грех — нарушить» (акт П, сц. 1, стк. 104—105, пер. М. Кузмина).
4 Мимы (от греч. fxtfxos) — в античности: исполнители «мимов» — комических сценок бытового
или сатирического содержания, носивших характер импровизации. В западноевропейских
странах (особенно в Италии), начиная с раннего Средневековья, мимами стали называть
Примечания
287
странствующих комедиантов, соединявших в своем лице профессиональные навыки
музыканта, танцора, певца, гимнаста, дрессировщика и т.д. В том же значении в средневековую
эпоху могло употребляться латинское слово «гистрион» (первоначально —
профессиональный актер в Древнем Риме), фр. «жонглер» (см. ниже примеч. 5 к наст, гл.), нем.
«шпильман».
5 Жонглеры (jugglers, фр. jongleur, от лат. joculator — шутник, забавник) — в средневековой
Франции (X—XIII вв.) странствующие комедианты, музыканты и певцы — то же, что гист-
рионы (см. примеч. 4 к наст. гл.). Возможно, проводя различия между понятиями мима,
жонглера и менестреля, В. Скотт учитывал как намечавшуюся еще в средние века
специализацию этих игрецов, так и национальные различия между ними: жонглеры, например,
могли появиться в Англии после нормандского завоевания, постепенно смешавшись с
местными профессиональными и полупрофессиональными артистами.
6 Начальные слова католической заупокойной мессы.
7 Тело несли на скрещенных копьях... — Так отдавали последние воинские почести.
8 ...готическим фасадом... — Фасад — передняя (лицевая) часть здания. Готический (от ит.
gotico, букв.: готский — от названия германского племени готов) — характерный для
готического стиля в архитектуре европейских стран зрелого и позднего Средневековья (XII—
XV вв.). В отличие от сооружений романского стиля, готические здания отличает
подчеркнутая динамика архитектурных форм, «устремленность ввысь», сочетание иррационального
порьюа с точным техническим расчетом. В основе технических усовершенствований и
достижений готического стиля лежало умелое использование каркасной системы. Во
внутреннем и внешнем убранстве — обилие каменных резных украшений и скульптур,
использование света и цвета, возможное благодаря увеличению оконных проемов, заполненных
цветными витражами.
9 ...одним из контрфорсов... — Контрфорс — вертикальный выступ, устой, служащий для
укрепления архитектурной конструкции. Один из основных технических элементов
готического стиля (см. выше примеч. 8 к наст. гл.).
10 Цитата из хроники У. Шекспира «Генрих IV» (ч. I, акт I, сц. 1, стк. 38—46). Слова
Уэстморленда.
Глава XI
1 В эпиграфе цитата из трагедии У. Шекспира «Гамлет», слова Гамлета, обращенные к
Горацио (акт I, сц. 2, стк. 180—181).
2 ...владения, оказавшиеся отныне в слабых женских руках... — См. примеч. 28 к гл. I.
3 ...встретиться с ним в его шатре.— Вынужденное нарушение приличий, связанное с
религиозным обетом рыцаря. Ср. с 1 сценой II акта комедии Шекспира «Бесплодные усилия
любви», где Король, вопреки этикету, встречается с французской Принцессой «в чистом
поле», дабы не нарушить данную ранее клятву (см. примеч. 3 к гл. X).
4 Гобелен — правильнее: шпалера — вытканный вручную настенный ковер-картина.
Шпалеры, как правило, изготовлялись из цветных шелковых или шерстяных нитей по
живописным образцам. Слово «гобелен» появилось только в XVII в. — произошло от имени
парижских красильщиков Гобеленов, в 1662 г. основавших мануфактуру по производству тканых
изделий.
5 Брюгге (Brugge) — город и порт на Северном море в Западной Фландрии (ныне в Бельгии).
Известен с VII в. В XI—XIV вв. один из крупнейших в Европе центров ткачества и
международной торговли.
6 Стефан (1097—1154) — король Англии (1135—1154 гг.), сын Ад ели, дочери Вильгельма
Завоевателя, и графа Блуаского. В 1135 г. при поддержке части баронов и духовенства
добился коронования в Вестминстере в обход прав Матильды (см. примеч. 7 к наст, гл.) —
дочери и наследницы английского короля Генриха I. Соперничество Стефана и Матильды
из-за английской короны вылилось в многолетнюю смуту в стране, закончившуюся лишь
288
Примечания
с воцарением в 1154 г. Генриха II Анжуйского — сына Матильды и Жоффруа Плантаге-
нета.
7 Матильда (1102—1167) — дочь английского короля Генриха I, супруга германского
императора Генриха V, после смерти последнего вышедшая замуж за графа Анжуйского
Жоффруа Плантагенета. При жизни Генриха I была признана баронами в качестве
наследницы английского престола. Однако в 1135 г. (после смерти Генриха I) Матильду опередил
внук Вильгельма Завоевателя Стефан Блуаский (см. примеч. 6 к наст, гл.), спешно
короновавшийся в Вестминстере. Матильда, опираясь на поддержку своего мужа Жоффруа
Плантагенета, попыталась отстоять свои права на престол. Борьба между Стефаном и
Матильдой шла с переменным успехом, складываясь поначалу в пользу Стефана. Однако
уже в 1141 г., после важной победы своих сторонников при Линкольне, Матильда —
устами папского легата, епископа Винчестерского — была объявлена госпожой (domina) Англии
и Нормандии. Продолжая бороться за реальную власть в английских владениях
Матильды, ее муж, граф Жоффруа, покорил Нормандию, в то время как самой Матильде удалось
утвердиться в Южной Англии. После смерти Жоффруа Плантагенета в 1151 г. борьбу за
престол английских королей продолжил сын Жоффруа и Матильды Генрих Анжуйский
(Плантагенет). В январе 1153 г. он высадился с войском в Англии, не встретив особого
сопротивления среди баронов. В ноябре того же года был заключен мир, по которому
Генрих был признан наследником и соправителем дряхлеющего короля Стефана. После
смерти последнего (в декабре 1154 г.) сын «императрицы Матильды» стал королем под именем
Генриха II, проложив начало правлению в Англии Анжуйской династии (династии План-
тагенетов) (см. примеч. 5 к гл. XXVIII).
8 ...в знак данного им обета украшенная веточкой розмарина... — Розмарин считался в средние
века и эпоху Возрождения символом верности (или «верной памяти»), см. сцену в
«Гамлете» Шекспира (акт IV, сц. V), где безумная Офелия раздает цветы и травы королю,
королеве, Лаэрту и придворным, вкладывая в это определенный смысл.
9 ...согласные с духом романтической галантности того времени... — Романтическая галантность
в данном случае — скорее синоним куртуазности, предполагавшей стремление к идеальной
норме поведения, связанной с возвышением любовного чувства как высшей ценности.
10 ...венецианской шелковой тканью. — В XII в. Италия переживала подъем в производстве
шелковых тканей, чему способствовало бурное развитие торговли между Востоком и
Западом в период крестовых походов. Венецианские цветные узорчатые ткани
экспортировались почти во все европейские страны, пользуясь большим спросом, благодаря богатству
и сочности красок, а также особой роскоши орнамента.
Глава XII
1 Источник эпиграфа не установлен.
2 Сарацин — первоначально (в эпоху поздней античности) араб-кочевник с сирийских
окраин Римской империи. Позже — в средние века — в Европе так называли всех
арабов-мусульман.
Глава ХШ
1 Источник эпиграфа не установлен. Предположительно стилизация В. Скотта.
2 ...такое языческое имя носил этот конь... — В средние века мусульман в Европе считали и
называли язычниками. Так, во французской «Песни о Роланде» (XII в.) имена Магомета,
Аполлена и Терваганта обозначают несуществующих мусульманских богов. Ср. также
описание расправы воинов-христиан над идолами мусульман в той же «Песни о Роланде»:
«Берут они и ломы и кувалды, /Бьют идолов, кумиры сокрушают <...>» (CCLXV, 3663—3664,
пер. Ю. Корнеева).
Примечания
289
3 Мамврийский дуб. — Согласно ветхозаветной легенде, патриарх Авраам (первоначально
Аврам), родоначальник иудеев, придя из Египта в Ханаан, поселился в дубраве Мамвре
(или Мамре), где раскинул шатер и поставил жертвенник Яхве (см.: Быт. 13: 18). Вскоре
после заключения завета вечного с Богом к Аврааму явился сам Яхве, представ перед
патриархом в виде троицы ветхозаветной — троих мужей (ангелов). Авраам и Сарра
принимают Бога в дубраве, угощая «трех мужей» под сенью ветвистого дуба. В ответ на это Бог
подтверждает свое обещание даровать Аврааму потомство от Сарры, что вызывает
неосторожный смех 90-летней женщины (см.: Быт. 18: 1 — 16).
4 «Мортъе» (от фр. mortier — ступка) — шапочка из бархата в виде ступки, головной убор
рыцарей. Позже такие шапочки стали принадлежностью костюма адвокатов.
5 ...после гастингской битвы. — Битва при Гастингсе (город в графстве Сассекс на побережье
Ла-Манша) состоялась 14 октября 1066 г. между войском герцога Нормандии Вильгельма
Незаконнорожденного (1027—1087) и ополчением англосаксонского короля Гарольда
(избран на царство в 1066 г.). В бою с норманнами ополчение Гарольда было разбито, сам
Гарольд погиб, а Вильгельм, заручившись поддержкой лондонцев, поспешил короноваться в
Вестминстере (на Рождество 1066 г.). Он стал первым в истории Англии
королем-норманном под именем Вильгельма I, прозванного Завоевателем (1066—1087 гг.). Тем самым гас-
тингская битва явилась главным событием, обеспечившим победу норманнов в ходе так
называемого нормандского завоевания Англии (примеч. 12 к гл. I).
6 ...в массивных закругленных арках, называемых саксонскими... — «Саксонскими» принято
называть полукруглые арки, несущие устои в интерьерах зданий саксонской школы
романского зодчества в Германии (период правления Отгоновской династии: XI — начало ХП в.).
Видимо, речь идет об архитектурной конструкции, напоминающей «оттоновский» стиль.
7 Эдуард Исповедник (Edward the Confessor, 1102?—1066) — король Англии (1042—1066 гг.),
последний англосаксонский монарх, имевший наследственные права на престол.
Царствование Эдуарда характеризовалось упадком королевской власти, ослабляемой внутренними
раздорами, неповиновением феодалов, набегами датчан и ростом норманнского влияния.
Будучи двоюродным братом герцога Вильгельма (будущего Завоевателя), Эдуард провел
юность в Нормандии, а взойдя на престол, открыл норманнам широкий доступ к
церковным и административным должностям. Это привело к внутреннему расколу и борьбе
норманнской и англосаксонской партий при дворе Эдуарда. Оппозицию норманнам возглавил
элдормен Уэссекса англосакс Годвин, а после смерти Годвина (1053) — его сын Гарольд
(см. примеч. 5 к наст. гл.). В январе 1066 г. Эдуард Исповедник умер бездетным, что
послужило для Вильгельма поводом заявить о своих претензиях на английский престол (по праву
родства с покойным монархом). Гарольд, избранный королем в Англии, готовился
встретить войско Вильгельма, но вынужден был прежде отбить нападение норвежцев в Нортум-
брии и усмирить мятеж, поднятый его собственным братом Тостигом. Одержав эти
важные победы на севере, он не смог вовремя собрать силы, необходимые для отпора Вильгельму
на юге, что и предопределило исход битвы при Гастингсе (см. примеч. 5 к наст, гл.; об
Эдуарде Исповеднике см. также примеч. 4 к гл. IX).
8 Вотан (Водан, Один). — См. примеч. 2 к гл. VI.
9 Фрейя (ср. др.-исланд. «госпожа») — в скандинавской мифологии богиня плодородия,
любви, красоты; дочь Ньерда и сестра Фрейра. Иногда ее смешивают с женой Одина (Вотана)
Фригг, или Фрией (Фрия — ср. древневерхненем. «возлюбленная»).
10 Святой Дунстан (909—988) — английский святой. Монах-отшельник, затем советник королей
Эдмунда, Эдреда, Эдгара и Эдварда. При Эдвиге изгнан во Фландрию (955—974). С 943 г.
аббат в Гластонбери (см. примеч. 9 к гл. Ш), в 959 г. — епископ Лондона, вскоре —
архиепископ Кентерберийский. В качестве аббата и церковного иерарха стремился к укреплению
строгого бенедиктинского устава (см. примеч. 10 к гл. III и примеч. 2 к гл. IX), занимал
активную патриотическую позицию в борьбе саксов с датчанами. До канонизации Фомы
Бекета (см. примеч. 14 к гл. XVII) являлся самым почитаемым английским святым.
Упоминание о пожертвованиях почтенной Эрменгарды, творимых «во имя Бога и св. Дунстана»,
10 В. Скотт
290
Примечания
не исключает некоторой доли авторской иронии по отношению к своеобразной
«варварской» религиозности пожилой саксонки, вернее, к ее очевидному «двоеверию»,
позволяющему одновременно молиться Христу и поддерживать полуязыческий ритуал, по иронии
судьбы учрежденный в Болдрингеме святым Дунстаном (см. также примеч. 11 к гл. XV).
Глава XIV
1 В эпиграфе цитата из трагедии английского драматурга Джона Драйдена (1631—1700) «Дон
Себастьян, король Португальский» (1690). В основе сюжета — история роковой любви брата
и сестры, не знающих о своем родстве. От брака с возлюбленным героиню (Алмейду)
предостерегает призрак матери, некогда совершившей тайный грех. В качестве эпиграфа
использованы строки из II действия трагедии (акт II, сц. 1, стк. 569—573). Третья строка
процитирована Скоттом неточно: «Then hollow sounds <...>». У Драйдена: «Thin hollow
sounds <...>».
2 Хорса — легендарный германский вождь (V в.), младший брат Хенгиста (см. примеч. 2 к
гл. XV): сакс или ют. Ок. 449 г. Хорса вместе с Хенгистом был призван королем бриттов
Вортигерном (см. примеч. 25 к гл. II) для оказания ему военной помощи против
северного племени пиктов. Согласно легенде, германские вожди, разгромив пиктов, очень скоро
обнаружили собственные захватнические амбиции, вступив в войну со своими союзниками
бриттами. Хорса, по рассказу Гальфрида Монмутского (XII в.), ок. 455 г. был убит в бою
одним из сыновей Вортигерна Катигерном («История бриттов», гл. CI). Многие историки,
впрочем, считают Хорсу (имя которого означает «конь») и его брата Хенгиста фигурами
легендарно-мифологическими (подобно братьям Диоскурам в античном мифе).
Благодаря их образам начальный этап англосаксонского завоевания Британии отложился в
средневековом сознании в четкие формы популярной легенды.
3 ... под звуки четырехструнной арфы... — Древнесаксонская арфа была небольшим
инструментом (не более 30 см в высоту), который легко можно было передавать из рук в руки во
время пира.
4 ...нескончаемую, песнь религиозного содержания... — Англосаксонская религиозная поэзия
известна с VII в. Ученый монах из Ярроу Беда Достопочтенный (см. примеч. 14 к гл. I, 25 к
гл. П) в своем сочинении «Церковная история англов» называет имя ее легендарного
зачинателя Кэдмона (Caedmon) — неграмотного пастуха (впоследствии монаха), вдохновленного
посланцем небес на прославление Творца в английских стихах (см. «Гимн Кэдмона» в пер.
В. Г. Тихомирова в издании: Древнеанглийская поэзия. М.: Наука, 1982. С. 27—28). Кэдмону,
как и его последователю Кюневульфу (Cynewulf, VIII в.) приписываются стихотворные
переложения ветхо- и новозаветных сюжетов, поэтические пересказы житий святых и
апостолов, аллегорические и символические поэмы (см.: Мельникова Е. А. Указ. соч. С. 144).
По своему художественному языку и стилю религиозный эпос саксов, проникнутый
героикой религиозных подвигов, был тесно связан с традициями светского героического эпоса
(ср. «Беовульф», VII в.) и воспроизводил отдельные его приемы: в частности, устойчивые
метафоры (кеннинги), аллитерации (см. примеч. 5 к наст, гл.) и т. д. В XII в. период
активного создания религиозных поэм на языке англосаксов уже миновал.
5 Аллитерация — повторение однородных согласных звуков (у древних германцев —
повторение начальных согласных ударных слогов). Принцип аллитерации характерен для всех
древнейших памятников эпической поэзии германских народов (в том числе англосаксов).
Аллитерационный эпический стих (например, стих «Беовульфа») являлся тоническим
и состоял из двух полустиший (по два ударения в каждом), объединенных аллитерацией.
6 Фаблио (от фр. fabliau, от ст.-фр. fablel — побасенка, восходит к лат. fabula — басня,
рассказ) — во французской литературе XII—XIV вв. небольшая стихотворная повесть
комического или сатирического содержания. Грубоватый юмор сочетается в этом жанре с
назидательностью, свойственной городской литературе.
Примечания
291
7 Лэ (фр. lai, заимствовано из кельт, языков) — лиро-эпический жанр в средневековой
французской поэзии: небольшой рассказ в 8-сложных стихах на героические и сказочные,
позже также на бытовые темы.
8 Саксы, датчане, норманны прокатились по стране... — Германские племена саксов вторглись
в Британию в сер. V в. и к VII в. в основном завершили ее завоевание (см. примеч. 14 к
гл. I, примеч. 25 к гл. П; примеч. 2 к гл. XIV и 2 к гл. XV). С конца VIII в. Британия стала
объектом военной агрессии со стороны данов (датчан). К концу IX в. успехи скандинавских
завоевателей зашли так далеко, что вся Англия была поделена на две части: датчанам по
мирному договору 879 г. отошел весь северо-восток страны — эти земли еще долгое время
именовали «областью датского права» (Данело). В X—XI вв. набеги датчан на Центральную
и Южную Англию возобновились, ас 1013 по 1042 г. власть в стране захватила датская
королевская династия (короли Свейн, Кнут, Гартакнут). 30-летнее владычество датчан в
XI в. закончилось их частичной ассимиляцией и ослаблением датской династии. Это
привело к возвращению престола представителю англосаксонской династии Эдуарду
Исповеднику (1042—1066 гг.) — сыну короля Этельреда, в 1013 г. низложенного датчанином Свей-
ном. После смерти Эдуарда, однако, англосаксы не смогли удержать власть, и последний
англосаксонский король Гарольд был убит в бою с норманнами в 1066 г. (см. примеч. 12 к
гл. I, примеч. 5 и 7 к гл. Х1П).
9 ...научатся называть себя одним общим именем и равно чувствовать себя детьми страны, где
они родились. — В этой тираде Роза Флэммок по воле автора в очередной раз «опережает свое
время» (примеч. 8 к гл. VI). Высказывая мысли Скотта, она связывает прекращение
междоусобиц в Британии с осознанием общности национальных интересов различными
племенами, населяющими страну. Таким образом, исторический путь нации, ставший
реальностью в более позднее время, оказывается представлен в качестве сознательной цели и
чаяния предшествующей эпохи — в роли положительной ментальной «установки», ведущей
к заранее известному итогу.
10 ...саксы... окрещены всего лишъ'наполовину... — См. примеч. 10 к гл. ХП1.
11 ...устилавшего пол камыша... — Обычай устилать пол тростником сохранился в Англии до
шекспировского времени (кон. XVI — нач. XVII вв.).
Глава XV
1 Мистические мотивы эпиграфа перекликаются с мотивами известной баллады Д. Маллета
«Уильям и Маргарет» (в 1724 г. напечатана анонимно под названием «Дух Маргариты» —
«Margaret's Ghost»; в 1759 г. Д. Маллет включил ее в собрание своих сочинений). Тем не
менее в балладе Маллета (в ее последней редакции) этих строк нет. Маллет (Мэллок или
Моллох) Дэвид (1705—1765) — шотландский поэт и драматург, автор баллад и поэмы «Эв-
ридика» (1731). Происходил из клана Макгрегоров, к которому принадлежал знаменитый
разбойник Роб Рой, воспетый В. Скоттом («Роб Рой», 1817). Когда само имя Макгрегоров
было запрещено королевским указом, отец поэта, по свидетельству С. Джонсона, избрал
себе фамилию Мэллок (см.: Johnson S. The life of David Mallet// D. Mallet The Poetical Works/
With the Life of the Author by Samuel Johnson. L.: Cadell & Davies, 1807. P. 5).
2 ...потомки Хенгиста и Хорсы... — То есть англосаксы. Хенгист — легендарный предводитель
саксов (V в.), старший брат Хорсы (см. примеч. 2 к гл. XIV). Служил королю бриттов Вор-
тигерну (примеч. 25 к гл. II), помогая ему воевать с пиктами. Отличаясь дальновидностью
и коварством, Хенгист умело воспользовался слабостями короля, добившись увеличения
колонии германцев и расширения их прав. Легенда гласит, что Вортигерн отдал Хенгисту
стратегически важную область Кантия (Кент) в обмен на руку прекрасной дочери
хитрого сакса. Став королем Кента, Хенгист правил там до 488 г. Средневековые хронисты
считали последующих королей Кента, начиная с Эска, или Эозы (Oise), прямыми потомками
Хенгиста, чему, впрочем, нет прямых подтверждений. Как отмечалось выше (примеч. 2
ю*
292
Примечания
к гл. XIV), современные исследователи относят Хенгиста и Хорсу к числу легендарных
персонажей ранней британской истории.
3 Сивилла — у древних греков: прорицательница, в экстазе предрекающая будущее. В
средние века считалось, что в пророчествах сивиллы Кумской было впервые предсказано
грядущее явление Христа.
4 Динский лес — старинный уникальный лесной массив на западе Глостершира (Англия),
между реками Северн и Уай. До середины XVII в. принадлежал короне.
5 Гора Плинлиллмон. — См. примеч. 22 к гл. I.
6 ..„моя добрая кобылка Изольда... — Имя Изольды проникло в средневековый быт из
кельтских сказаний (см. примеч. 3 к гл. XX). Этим именем, несмотря на его отсутствие в
святцах, христиане в средние века называли не только некрещеных тварей, но и собственных
дочерей. То же произошло и с именем Тристана — возлюбленного Изольды (там же).
7 Баргейст (от англ. bahrgeist, или barghest) — в английских поверьях привидение или злой дух,
чье появление (обычно в облике чудовищной собаки) предвещает несчастье или смерть
хозяина дома. Ср. с легендой о «роковой» собаке в знаменитой «Собаке Баскервилей»
А. Конан Дойла (1902).
8 ...среди пращуров которой были друиды... — Кельтологи К.-Ж. Гюйонварх и Ф. Леру
утверждают, что положение женщины у древних кельтов было достаточно высоким: «Она имела
доступ к священству, обладая даром предвидения» [Гюйонварх К.-Ж., Леру Ф. Кельтская
цивилизация: Пер. с фр. СПб., 2001. С. 85-86).
9 ...человеческие жертвоприношения... — Древние авторы (Диодор, Страбон, Цезарь)
единодушно утверждают, что в современную им эпоху (I в. до н. э. — I в. н. э.) у кельтов, в
частности галлов, были приняты человеческие жертвоприношения, совершаемые жрецами —
друидами (см. примеч. 13 к гл. П) (см.: Широкова П. С. Кельтские друиды и книга Франсуазы
Леру//Ф. Леру. Друиды: Пер. с фр. СПб.: Евразия, 2000. С. 44-47).
10 ...среди камней, образующих круг. — Каменные сооружения, упомянутые здесь В. Скоттом,
являются наиболее загадочными памятниками эпохи неолита. В Британии
концентрические круги (или подковы), составленные из больших камней, сохранились в основном на
севере и западе острова (в том числе — в Уэльсе). Самые известные из них носят названия
Стоунхендж и Эйвбери. Стоунхендж (графство Уилтшир, в 12 км от Солсбери), по
мнению некоторых исследователей, являлся древнейшей обсерваторией (ок. 2000 г. до н. э.).
Эйвбери (неподалеку от Мальборо) отличается особой монументальностью, включая две
пары каменных кругов, соединенных каменной аллеей. Предположительно древние
святилища типа Стоунхенджа и Эйвбери возникли еще в докельтскую эпоху, однако уже во
второй половине I тысячелетия до н. э. они могли быть использованы в культовых целях
кельтскими жрецами — друидами.
11 Святой Дунстан изгнал призрак... — Св. Дунстан (см. примеч. 10 к гл. ХШ) отнюдь не
случайно выбран в качестве посредника между злосчастным саксонским родом Болдрика и
преследующими его потусторонними силами. В. Скотту, очевидно, было известно, что
Дунстан, сын знатного сакса, обучался у ирландских монахов-миссионеров, а позже, при
дворе короля Этельстана, за свою любовь к ученым занятиям прослыл чернокнижником.
Глава XVI
1 К этой главе автор не поместил эпиграфа.
2 ...одним из тех... чувств, посредством которых Природа как бы предупреждает нас о грозящей
опасности... — См. примеч. 7 к гл.VI.
3 Однако этот стоицизм исчез... — См. примеч. 2 к гл. V.
4 ...сопровождать его в лагерь крестоносцев, полный соблазнов и опасностей... — Об опасностях и
соблазнах, угрожающих благородной даме или девице в лагере крестоносцев,
свидетельствует известный эпизод из жизни матери королей Ричарда Львиное Сердце и Иоанна
Безземельного Алиеноры Аквитанской (ум. в 1204 г.). Будучи женой французского коро-
Примечания
293
ля Людовика VII (1137—1180 гг.), Алиенора сопровождала его в походе против мусульман.
Однако во время пребывания в лагере на Востоке королева, по свидетельству
современников, впала в распутство, что привело к серьезной ссоре между супругами. Как полагали
хронисты, именно эта ссора и стала в конечном счете главной причиной развода Людовика
и Алиеноры в марте 1152 г. (поводом к нему послужило отсутствие сыновей в браке
короля и королевы). Вскоре, однако (18 мая 1152 г.), Алиенора вышла замуж за графа
Анжуйского Генриха Плантагенета и вместе с ним взошла на английский престол в 1154 г., став
матерью двух английских принцев и двух королей.
5 ...поддержку короля... — Речь идет о Генрихе II Плантагенете (1154—1189 гг.). Генрих II
изображен в романе царствующим монархом вплоть до окончания 3-го крестового похода
(1192), хотя фактически в это время английская корона уже перешла к его сыну —
Ричарду Львиное Сердце (см. примеч. 9, 11 к гл. XXIX). Первый представитель династии План-
тагенетов на английском престоле (см. примеч. 5 к гл. XXVIII) умер 6 июня 1189 г. во
Франции.
6 Папский легат — титул высших дипломатических представителей Ватикана.
7 ...две тысячи золотых византийских монет... (в подлиннике безантов). — Безант —
византийская золотая (а также серебряная) монета, распространенная в Европе во времена
крестовых походов. Безанты чеканились также во Фландрии и Испании. В Англии XII—XIV вв.
стоимость золотых безантов колебалась от 10 до 20 шиллингов.
8 ...при благоприятном расположении планет. — Астрологические знания, несмотря на их
осуждение церковью, пользовались популярностью в средние века. Их роль была достаточно
велика в средневековой медицине, связанной с традициями языческой античности и
мусульманского Востока, а также частично опиравшейся на древние народные рецепты.
9 Капитул — в католических монашеских и духовно-рыцарских орденах коллегия
руководящих лиц, в том числе «кафедральный капитул» — совет духовных лиц при епископе,
участвующий в управлении епархией.
Глава ХУП
1 Источник эпиграфа не установлен. Вероятно, стилизация В. Скотта.
2 Рауль... был воплощением Января, ...а Джиллиан... могла представлять веселый плодоносный
Август. — Спор олицетворенных времен года (обычно Весны и Зимы) — популярнейший
карнавальный мотив европейской литературы, связанный с фольклором. У В. Скотта —
ироническая парафраза этого мотива: кумушка Джиллиан, по задорности своего нрава, не
может не спорить со своим «холодным» супругом, олицетворяющим Зиму. Однако и сама
она, вступив в пору зрелости, «оставила позади нежное цветение Мая» и потому
представляет в этом споре «веселый плодоносный Август».
3 ...старого лесного Тимона... — Тимон — легендарный афинский богач (V в. до н. э.), который,
испытав превратности судьбы и неблагодарность друзей, сделался ненавистником всего
человечества и в особенности афинян — своих сограждан. Имя Тимона еще в античную
эпоху стало синонимом угрюмого мизантропа. Именно в этом качестве Тимон-афинянин
был выведен в не дошедших до нас комедиях Аристофана и Платона (представителя сред-
неаттической комедии), в биографиях Плутарха («Жизнеописание Антония», LXX;
«Жизнеописание Алкивиада», XVI) и в диалоге Лукиана («Мизантроп»). У. Шекспир сделал
Тимона героем одной из своих «античных» трагедий («Тимон Афинский», 1608), наделив
этот легендарный образ сложной психологией трагического героя.
4 ...одну из причудливых рож, какими украшены грифы старинных контрабасов. — Точнее не
сами грифы, а «головки», венчающие грифы струнных инструментов. Эти головки
действительно вырезались старыми мастерами в форме «голов» различных фантастических
существ. В подлиннике, впрочем, назван не контрабас, появившийся в XVH в., а басовая виола
(old bass viol) — одна из предшественниц современного контрабаса, получившая
распространение несколько ранее — в XV—ХУП вв.
294
Примечания
5 ...не прежде Михайлова дня... — День св. Михаила отмечался 29 сентября.
6 Св. Губерт (ум. в 727 г.) — епископ Льежский, католический святой, покровитель
охотников. Легенда рассказывает, что однажды Губерт отправился на охоту в день Страстной
пятницы, но был остановлен видением в образе оленя, между рогов которого сияло распятие.
Выражение «клянусь святым Губертом» — обычная охотничья клятва.
7 ...найдутся ланцеты... — Ланцет — хирургический инструмент с обоюдоострым лезвием;
в современной медицине заменен скальпелем.
8 ...в лесных забавах... мог равняться с самим Тристаном... — В подлиннике — Тристрем. Три-
стрем (Тристан) — в средневековой легенде племянник корнуэльского короля Марка и
возлюбленный королевы Изольды (см. примеч. 3 к гл. XX), герой стихотворных и
прозаических романов. Владея всеми приемами куртуазного вежества, Тристан проявляет себя
как музыкант, поэт, художник, «актер» и охотник, «искусный во всевозможных видах
ловитвы». В силу этого английская традиция сделала Тристана (Тристрема) «высшим
арбитром в сфере охоты», сравнимым разве что с самим Губертом (см. примеч. 6 к наст, гл.; см.
также: Михайлов А. Д. История легенды о Тристане и Изольде // Легенда о Тристане и
Изольде. М., 1976. С. 628). Эта тенденция особенно ярко проявилась в английской
поэме «Сэр Тристрем» (Sir Tristrem, ХШ в.), восходящей к англо-норманнскому роману Тома
(ХП в.). Поэма приписывалась легендарному Томасу из Эрсилдауна (Фоме Рифмачу —
см. примеч. 1 к гл. XIV). В. Скотт в 1804 г. подготовил ее комментированное издание с
обширной вступительной статьей (Sir Tristrem, a metrical romance of the thirteenth century /
By Thomas of Ercildoun, called Thomas the Rhymer. Edinburgh, 1804). По словам Б. Г. Реи-
зова, это была «большая работа хорошо осведомленного филолога, стоящего на уровне
современных ему знаний» (Реизов Б. Г. Творчество Вальтера Скотта... С. 62).
9 ...точно Валаамова ослица в мистерии... — Согласно библейскому рассказу, царь моавитян
Валак, убоявшись многочисленности и военной мощи иудеев, пожелал, чтобы знаменитый
маг Валаам проклял народ Израиля. Получив приказ следовать за людьми царя, Валаам
отправился в путь на ослице. По дороге ослица трижды останавливалась, т. к. путь
Валааму преграждал невидимый ангел с огненным мечом. Решив, что все дело в упрямстве
животного, Валаам побил ослицу, но Бог «отверз» ее уста, и ослица заговорила, упрекнув
хозяина в несправедливости (см.: Числ. 22: 28—30). Только после этого маг увидел
небесного посланца и, став послушным воле Бога, благословил израильтян, вместо того чтобы
проклясть их (см.: Числ. 24: 17). Пользуясь широкой популярностью в средние века, легенда
о Валаамовой ослице нередко разыгрывалась в лицах во время шутовских церковных
праздников, а позже игралась на театре в составе средневековых мистерий. Мистерия —
пьеса на библейский сюжет, один из главных жанров средневекового европейского театра.
Сформировалась в Англии не раньше XIV в., а во второй половине 12-го столетия ей
предшествовала так назьюаемая полулитургическая драма.
10 ...облаченный в черную мантию. — В действительности члены ученой корпорации медиков
в средние века носили мантии пурпурного цвета.
11 Гиппократ (ок. 460 — ок. 370 г. до н. э.) — древнегреческий врач, «отец медицины»,
заложивший основы современных представлений о целостности организма, о жизни как процессе,
об анамнезе (истории болезни) и т. д. С именем Гиппократа связывают также античное
учение о четырех темпераментах, якобы определяемых преобладанием в организме
четырех основных жидкостей: крови (лат. sanguis) — сангвинический темперамент, слизи (от греч.
cpXeyfxa — слизь) — флегматический темперамент, желчи (греч. x°^*i) — холерический
темперамент и «черной желчи» (греч. fxeXatva х0^) — темперамент меланхолический.
Средневековая медицина, носившая в значительной степени традиционный характер, во
многом опиралась на методы и приемы, выработанные в античной школе Гиппократа (см.
примеч. 8 к гл. XVI).
12 Амазонки — в греч. мифологии племя женщин-воительниц. Вели происхождение от Ареса
(бога войны) и Гармонии. В глазах лекаря амазонки — классический пример женщин, за-
Примечания
295
нятых не своим делом, именно поэтому он саркастически называет амазонками собравшихся
вокруг Дамиана сердобольных кумушек — «знахарей в юбке».
13 Источник цитаты не установлен.
14 ...во время памятного дела Фомы Бекета... — ФомаБекет (Thomas a Becket, 1118?—29.12.1170) —
канцлер английского короля Генриха II Плантагенета, с 1162 г. — архиепископ Кентербе-
рийский. В 1164 г., после обнародования Кларендонских постановлений, ограничивавших
права церковных судов, вступил в конфликт с королевской властью. Будучи обвинен в
измене и хищении королевских доходов, нашел убежище во Франции. В 1170 г. вернулся
в Англию, сохраняя ту же непримиримую позицию. Именно в это время Генрих,
находившийся во Франции, пожелал, чтобы кто-нибудь из его приближенных «отомстил этому
низкому клирику». Этот косвенный приказ был услышан и приведен в исполнение. 29
декабря 1170 г. четверо преданных королю рыцарей ворвались в кафедральный собор в
Кентербери и убили епископа в храме. Это убийство дорого обошлось его вдохновителю
Генриху. Фома Бекет был вскоре канонизирован, а английскому королю пришлось не
только пройти процедуру публичного покаяния в Авранше (27 сентября 1172 г.), но и
согласиться на ряд уступок Церкви. Кроме того, поколебленный авторитет короля привел к
расколу в монаршей семье, вызвав волну феодальных восстаний (см. примеч. 13 к гл. XXIX).
По мнению Скотта, «дело Фомы Бекета», начавшееся с попыток «мудрого и отважного
монарха» отстоять прерогативу светской власти в юридических вопросах, свидетельствовало
о силе церковного давления на государство в средневековую эпоху. И это положение дел
отнюдь не способствовало национальной стабильности в большинстве европейских стран.
В этой связи достаточно вспомнить описание церковного суда в поэме «Мармион» (1808),
песнь П, романе «Айвенго» (1819), гл. XXXVII, и других произведениях В. Скотта.
Глава XVIII
1 В эпиграфе цитата из трагедии английского писателя Г. Уолпола «Таинственная мать»
(1768), описывающей страдания «преступной матери» — герцогини Нарбоннской,
совершившей некогда инцест. Уолпол Горацио (1717—1797) — английский писатель и политический
деятель, аристократ, автор знаменитого готического романа «Замок Отранто» (1764).
Помимо художественных произведений, его перу принадлежит ряд сочинений
исторического и «антикварного» характера, в частности, «Исторические сомнения относительно
жизни и правления короля Ричарда Ш» (1760). С 1750 по 1783 г. Уолпол вел дневники, в
которых отразилась жизнь Англии в царствование короля Георга П (1727—1760 гг.) и в
начальные годы царствования Георга Ш (1760—1783 гг.).
2 ...обряды на его могиле... — Намек на «дело Фомы Бекета» (см. примеч. 14 к гл. XVII).
3 Примас — у католиков епископ, обладавший высшим статусом в национальной Церкви.
В Англии со времен архиепископа Феодора (конец VII в.) почетный сан примаса носил
архиепископ Кентерберийский. Эта же традиция сохранилась в Англиканской церкви.
4 Птолемаида — название ряда городов в Киренаике, Финикии, Памфилии и других
областях. Эти города были основаны или переименованы в IV—Ш вв. до н. э. Птолемеями,
царствовавшими в эллинистическом Египте. Здесь, вероятно, имеется в виду город на
финикийском берегу, к югу от Тира, на пути из Палестины в Сирию.
5 Власяница — грубая одежда из конского волоса, надеваемая на голое тело. Ношение
власяницы является в христианстве проявлением аскетизма или формой церковного покаяния.
6 Стихарь — часть облачения христианского духовенства: длинная свободная одежда с
широкими рукавами. Надевается во время богослужения клириками и членами церковного хора.
7 Иллюминированная книга — книга, украшенная вручную цветными миниатюрами и
орнаментами (обычно с использованием золотой краски).
8 Настоятель Хирфордского собора. — Хирфорд (Hereford) — город на западе Англии, на реке
Уай. Центр епархии, отделившейся от Личфилда в 676 г. Первоначально валлийское
поселение. Отвоеван у валлийцев жителями англосаксонского королевства Мерсия (в VQI в.).
296
Примечания
9 Вы, духовенство, сделали нас, мирян, вьючными животными для собственных ваших нужд... —
Скотт, безусловно, заставляет коннетабля выражать свое недовольство давлением
Церкви скорее на языке XIX, нежели ХП в. Ср. тем не менее с замечанием французского
историка III. Пти-Дютайи: «<...> знать и клирики могли лишь очень редко столковаться друг с
другом: часто между ними существовал конфликт и всегда — взаимное недоверие. У них
не было почти никаких общих понятий. Знатный мог иметь порывы благочестия,
жертвовать гордостью и деньгами из страха перед адом, но он презирал клириков, как и горожан,
и ему не было никакого дела до теории Божественного права» [Пти-Дютайи Ш.
Феодальная монархия во Франции и в Англии X—ХШ вв. СПб., 2001. С. 117—118). Как видим,
мнение писателя перекликается с точкой зрения французского историка.
10 ...хотя им не хотелось бы испытать горести Иакова... — Или: «даже если им не было дела
до горестей Иакова» («even although they саге not for the sorrows of Jacob»). «Горести Иакова»
(Израиля), очевидно, упоминаются для обозначения бедствий Иерусалима, страждущего
под игом «язычников» — мусульман. Иаков — ветхозаветный патриарх, сын Исаака и
Ревекки, внук Авраама и родоначальник «двенадцати колен Израиля». Наиболее знаменит
эпизод его борьбы за право первородства с братом-близнецом Исавом (см.: Быт. 25: 21—27) и
история женитьбы на дочерях Лавана — Лии и Рахили (см.: Быт. 29: 15—30). В число
хрестоматийно известных «горестей» Иакова входит потеря им жены Рахили (см.: Быт. 35: 19)
и отца Исаака (см.: Быт. 35: 29) и разлука с любимым сыном Иосифом (см.: Быт. 46—49).
В Библии неоднократно подчеркивается богоизбранность Иакова. Этот мотив находит
воплощение в образе небесной лестницы, приснившейся Иакову на пути к Лавану (см.: Быт.
28: 12—17), и в эпизоде богоборчества, после которого Иаков получает новое имя
«Израиль», т. е. «боровшийся с Богом» (см.: Быт. 32: 24—32).
11 «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина». — Это знаменитое выражение,
в котором отражены древнейшие представления иудеев о справедливости, встречается в
Библии, по крайней мере, дважды, ср.: «В те дни уже не будут говорить: "отцы ели кислый
виноград, а у детей на зубах оскомина", но каждый будет умирать за свое собственное
беззаконие...» (Иер. 31: 29—30). «И было мне слово Господне: зачем вы употребляете в земле
Израилевой эту пословицу, говоря: "отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах
оскомина"?» (Иез. 18: 1-2).
12 Повернулось же время вспять по молитве доброго царя Езекии. — Езекия (VIE—УП вв. до н. э.) —
царь Иудеи, сын и преемник Ахаза, насаждавшего языческие культы. В религиозных
вопросах прислушивался к мнению пророка Исайи, боролся с идолопоклонничеством:
истребил медного змея, которому евреи поклонялись со времен Моисея (см.: 4 Цар. 18: 4).
В Библии о нем сказано: «На Господа Бога Израилева уповал он; и такого, как он, не было
между всеми царями иудейскими и после него и прежде него» (4 Цар. 18: 5). Вера
«доброго царя Езекии» получила достойное вознаграждение: однажды, во время болезни царя, Бог
услышал его молитву и через пророка Исайю обещал исцелить его, прибавив к его «дням»
еще 15 лет. В знак того, что обещанное исполнится, Бог даровал Езекии знамение: тень на
солнечных часах начала обратный ход и, вернувшись назад, «спустилась на десять
ступеней» (4 Цар. 20: 1 — 11). Эта библейская история упоминается архиепископом как пример
чудесного исцеления, дарованного Богом в награду за чистосердечную веру и раскаяние в
совершенных грехах.
13 Начало одной из главных католических молитв.
Глава XIX
1 Источник эпиграфа не установлен. Армстронг Арчибальд (ум. в 1672) — придворный шут
и любимец английского короля Якова I (1603—1625 гг.). Легенда гласит, что «Арчи» начал
свою головокружительную карьеру с кражи овец где-то в Шотландии или в Камберленде.
Вскоре, однако, он заслужил благосклонность шотландского короля, через несколько лет
взошедшего на английский престол. Долгое время мишенью бесцеремонных шуток Арм-
Примечания
297
сгронга был знаменитый герцог Бэкингем (1592—1628) — «величайший враг трех королей»,
как называл его Арчи. При Карле I Армстронг лишился королевского покровительства.
Он умер много лет спустя в Камберленде и был, по слухам, похоронен 1 апреля. Под
именем «Арчи Армстронга, королевского шута» было опубликовано несколько сочинений:
«Пир шуток» (1630) — собрание острот и анекдотов, «Сон Арчи» (1641), «Пир утонченных
шуток» (1660, вероятно, не принадлежит А. Армстронгу).
2 Но, увы, жребий брошен. — Эти знаменитые слова, означающие невозможность отступить от
принятого решения, были произнесены Юлием Цезарем во время исторической
переправы через Рубикон. Переход через эту реку, являвшуюся естественной границей между
Цизальпинской Галлией и Италией, означал со стороны консула открытое неповиновение
сенату и фактическое развязывание гражданской войны. Как сообщает Плутарх (см.:
Плутарх. Жизнеописание Помпея. LX), крылатая фраза Цезаря, возможно, навеяна комедией
Менандра «Флейтистка». В сохранившемся отрывке этой пьесы один из собеседников
пытается отговорить другого от женитьбы, но получает ответ: «Дело решено. Пусть будет
брошен жребий» (см.: Бабичев И. Т., Боровский Л. М. Словарь крылатых латинских слов.
4-е изд. М., 1999. С. 45).
3 ...звуки особого рода лютни... — Инструмент, о котором здесь идет речь (рота), был известен
еще древним бриттам и по-английски называется словом кельтского происхождения (rote).
Имел три струны, в более позднее время количество струн увеличилось до шести.
4 Тонзура (от лат. tonsura — стрижка) — выбритое место на макушке, знак принадлежности
к католическому духовенству.
5 Веселая Наука (от ст.-прованс. gaya scienza) — одно из важнейших понятий
куртуазно-рыцарской культуры. Наиболее полное выражение Веселая Наука нашла в поэзии
провансальских трубадуров XI—ХП вв. Сам термин принято относить одновременно к правилам
куртуазной любви (см. примеч. 2 к гл. X) и правилам поэзии: так, провансальское слово amor
переводится не только как «любовь», но и как «поэтический язык». Связанное с этим
словом понятие веселья, радости (joi) являлось одной из главных ценностей куртуазного
универсума. Ликующий, мажорный тон необходим для правильного выражения
куртуазной любви в поэзии. Тем самым «радость» выступает как необходимый атрибут и форма
глубинной премудрости. Веселая Наука, таким образом, в период своего возникновения
имела мало общего с профессиональной установкой на развлекательность — с «ремеслом
шута», о котором с таким презрением отзывается таинственный менестрель.
6 Жоффруа (Джауфре) Рюдель — провансальский трубадур (ХП в.), князь де Блайи, певец
возвышенно-платонической «любви издалека». Согласно средневековой легенде, заочно влю-
, бился в принцессу триполитанскую по одним только слухам о ее красоте. Посвятив даме
немало стихов, он решил наконец увидеть свой идеал наяву, предприняв полное опасностей
путешествие на Восток (в Триполи). В пути он тяжело заболел и умер на руках у дамы,
которая вскоре после этого постриглась в монахини. Легендарная биография Джауфре Рю-
деля послужила источником сюжета драмы Э. Ростана «Принцесса Греза» (1895).
7 Романс. — Слово romance (от позднелат. romanice — по-романски, в отличие от Latine — по-
латыни) в английском языке имеет несколько значений. В контексте вальтер-скоттовско-
го романа наиболее вероятны три из них:
1) лирический жанр, зародившийся в средневековой поэзии, обычно стихотворение
любовного содержания с изысканной строфикой, предназначавшееся для пения;
2) лиро-эпический жанр средневековой поэзии с ярко выраженным сюжетом — то же,
что историческая баллада «в романтическом вкусе» (с преобладанием фантастического
элемента, любовной или воинской тематикой и т. д.);
3) особая разновидность романного жанра, в частности, средневековый (стихотворный
или прозаический) роман, в особенности рыцарский. В Англии romance, в
противоположность novel, определяется как повествование, обращенное к воображению и
складывающееся из событий героического или чудесного характера, затрагивающее темы романической
любви и рыцарского служения. Как можно заметить, Скотт в своих статьях и критических
298
Примечания
высказываниях объединяет народный романс-балладу и литературный роман-romance,
относя их к общему разряду романтической словесности.
В данном случае писатель скорее всего имеет в виду небольшое лиро-эпическое
стихотворение, исполняемое менестрелем под музыку.
8 Арморика (первоначально Ареморика — «страна, лежащая лицом к морю», кельт.) —
Бретань. В древности западная часть Галлии между устьями рек Секваны (Сены) и Лигера
(Луары). После переселения в эту область бриттов, вытесненных англосаксами из
Британии (V—VI вв.), эта местность получила название «Малой Британии», или Бретани.
9 Мордихан — залив у побережья Бретани, иногда называемый малым морем.
10 Рено Видаль. — Имя менестреля совпадает с именем знаменитого трубадура Пейре Вида-
ля, жившего столетием позже (кон. XII — нач. XIII в.). Однако мрачный характер этого
персонажа имеет мало общего с образом беспутного повесы Пейре, каким тот описан в
многочисленных средневековых источниках. По обыкновению, В. Скотт использует имя
исторического лица с целью создания особого колорита эпохи и своеобразного эффекта
узнавания своих персонажей читателем.
11 Серафимы («огненные», «пламенеющие») — в иудаизме и христианстве ангелы, особо
приближенные к Богу. В описании пророка Исайи — сверхъестественные существа с шестью
крыльями (см.: Ис. 6: 2—3). В христианской традиции, идущей от псевдо-Дионисия Арео-
пагита (кон. V — нач. VI в.), серафимы — ангельский чин, входящий в первую триаду
небесной иерархии (наряду с херувимами и престолами).
12 Святой Бенедикт. — См. примеч. 10 к гл. III, примеч. 2 к гл. IX.
13 Лоллард — народный проповедник, член предреформаторской еретической секты.
Движение лоллардов зародилось в Антверпене в начале XIV в., распространившись затем на
другие европейские страны. В Англии общая для всех лоллардов проповедь возвращения
к принципам первоначального христианства получила характер критики феодального
строя как не соответствующего Божьему закону («Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто тогда
был господином?»). Эти идеи наиболее отчетливо были выражены в проповедях Джона
Болла (участник восстания Уота Тайлера, казнен в 1381 г.). С проповедями лоллардов до
некоторой степени перекликались идеи крупнейшего оксфордского богослова Джона Уик-
лифа (1320—1384). В контексте романа, действие которого происходит в конце 1180-х —
начале 1190-х годов, упоминание о лоллардах — несомненный анахронизм, впрочем, вполне
характерный для манеры В. Скотта давать в каждом из своих исторических романов
обобщенную картину эпохи.
14 Иконоборец — в Византии VIII — 1-й половины IX в.: участник движения против культа икон.
На ранних этапах идеи иконоборчества получили поддержку государственной власти. Так,
император Лев III запретил почитание икон в 730 г., сопроводив запрет конфискацией
церковных имуществ. Вскоре после этого церковный Собор в Иерии (предместье
Константинополя) объявил почитание икон ересью, приравняв его к идолопоклонству. Однако уже
на Никейском соборе (787 г.) иконопочитание было восстановлено в правах. Возвращение
к почитанию икон стало свершившимся фактом в 843 г., после нового всплеска
иконоборчества, ставшего к этому времени преимущественно низовым движением, выдвигавшим не
только религиозные, но и социальные требования. Иконоборчество получило
распространение также в западноевропейской реформаторской Церкви в XVI—XVII вв.
Глава XX
1 Источник эпиграфа не установлен. Вероятно, стилизация В. Скотта.
2 Василиск (от др.-греч. царь змей) — мифическое чудовище: змей, способный убивать одним
только взглядом или своим смертоносным дыханием, от которого сохла трава и
растрескивались скалы. Взгляд василиска был опасен даже для него самого: змей погибал, увидев
свое отражение в зеркале (ср. с мифом о медузе Горгоне). В античную эпоху и в средние
века даже ученые верили в существование василиска. Описание этого фантастического
Примечания
299
животного можно встретить в «Естественной истории» (VIII, 78; XXIX, 66) Плиния
Старшего (I в. н. э.).
3 ...об истинном образе верности — прекрасной Изольде; о верной любви, какую она питала и
сохранила... к своему возлюбленному доблестному Тристану в ущерб тому, кого любила меньше —
своему супругу, незадачливому Марку... — Изольда, Тристан, Марк — герои старинной
кельтской легенды и средневекового романа, известного в многочисленных обработках ХП—XV вв.
Изольда в легенде — ирландская королевна, выданная замуж за короля Корнуэльса
Марка. Страстная любовь героини к племяннику Марка Тристану, спровоцированная
волшебством любовного напитка, бросает влюбленных в объятия друг друга, несмотря на
препятствия и козни злых баронов. Взаимное влечение Тристана и Изольды не угасает в течение
многих лет, а после их смерти терновый куст, соединяющий могилы влюбленных, не только
обнаруживает могущество их страсти (которая «сильнее смерти»), но и являет миру их
любовь как чудо, не подвластное людскому суду. Цельность характера Изольды делает ее
главной носительницей такого чувства и такой концепции любви, в которой верность
является не самодовлеющей ценностью (как в куртуазной рыцарской культуре), но
необходимым следствием физического и эмоционального влечения. Именно эту «натуральную»
верность Изольды своей беззаконной страсти менестрель иронически противопоставляет
возвышенному (а значит «несуществующему») идеалу женской чистоты, благоговейно
ценимой коннетаблем. Тристан — племянник короля Марка и возлюбленный Изольды.
В средневековых обработках легенды характер Тристана раскрывается не только в аспекте
его трагической любви к Изольде, но и в контексте собственно рыцарских добродетелей:
Тристан — защитник подданных Марка от ирландского богатыря Морхульта (или Мороль-
та), победитель дракона, охотник, поэт, музыкант и т. д. (см. примеч. 8 к гл. XVH), верный
вассал и почтительный племянник. В силу этого герой переживает серьезный внутренний
конфликт в отношении к Марку, которого уважает как отца и ценит как доброго
правителя. Марк — король Корнуэльса (Корнуолла), один из главных персонажей легенды и
романа о Тристане и Изольде: дядя Тристана и муж Изольды. Согласно классической
модели образа, являет собой тип всепонимающего доброго старца и слабого короля, который
испытывает невольное сострадание к влюбленным, но не может противиться требованиям
злокозненных баронов.
Глава XXI
1 В эпиграфе цитата из трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта», слова Меркуцио (акт I,
сц. 4, стк. 53).
2 ...в городе Иерихоне. — Согласно библейскому преданию, стены Иерихона (см. примеч. 5 к
гл. V) рухнули от звуков «юбилейных» труб и воинственных кликов израильтян,
возгласивших по приказу Иисуса Навина (см.: Нав. 6: 5—20).
3 Шарлемань (Charlemagne [gbp)). — Речь идет о Карле Великом — франкском короле (с 768 г.),
с 800 г. — императоре Запада, который считал себя преемником власти римских цезарей и
возглавил ряд завоевательных походов: против лангобардов (в 773—774 гг.), против
континентальных саксов (772—804 гг.) и др. Уже в XI—ХП вв. образ Карла становится достоянием
легенды, приобретая архетипические черты идеального правителя (в «Песни о Роланде»,
ок. 1100, и в других «жестах»), а со второй половины XII в. (в эпоху рыцарских романов)
легендарные фигуры Шарлеманя и его пэров подвергаются дополнительной обработке в
куртуазном духе. Легендарно-историческое прошлое при этом превращается в прошлое
мифологическое, вступая в сказочно-фантастическое пространство средневекового романа.
4 Король Артур (кон. V — нач. VI в.) — вождь бриттов, по преданию, возглавивший борьбу
своего народа против англосаксонского вторжения и одержавший ряд значительных побед.
Герой многочисленных легенд, в которых он представлен мудрым государем, собирателем
идеального рыцарства. Образ Артура приобретает легендарные черты уже в валлийской,
позже — в бретонской и общеевропейской традиции. В XI в. легенды артуровского цикла
начинают испытывать сильное воздействие куртуазной культуры и христианства, что об-
300
Примечания
легчает их вхождение в высокую литературу зрелого Средневековья. В европейской
традиции XII—XV вв. Артур — повелитель всемирного рыцарского государства; его
резиденция в Карлионе выполняет функции сакрального «центра мира», а знаменитый Круглый
стол способствует установлению отношений своеобразного равноправия между лучшими
рыцарями как носителями воинской доблести и куртуазных добродетелей. Легендарный
образ Артура был запечатлен в целом ряде выдающихся произведений средневековой
литературы и литературы Возрождения — таких, как «История бриттов» Гальфрида
Монмутского (ок. 1137), «Персеваль, или Повесть о Граале» Кретьена де Труа (II
половина ХП в.), «Смерть Артура» Томаса Мэлори (XV в.), «Королева фей» Эдмунда Спенсера
(90-е годы XVI в.) и др.
5 Как осаждали замок Тинтажель... — Очевидно, неточная ссылка на эпизод,
предшествующий рождению короля Артура. По рассказу Гальфрида Монмутского, король бриттов
Утерпендрагорн, влюбившись в жену наместника Горлоя, пошел войной на Корнубию
(Корнуолл) и осадил крепость Димилиок. Горлой возглавил защиту крепости, в то время как
его жена Интерна скрывалась в более безопасных стенах замка Тинтажель (см. примеч. 16
к гл. П). Однако король, бросив на время осаду Димилиока и приобретя, с помощью
чародея Мерлина, облик супруга Интерны, навестил ее в Тинтажеле. От этого свидания
(напоминающего эпизод античного мифа об Амфитрионе) и появился на свет легендарный
Артур («История бриттов», CXXXVOI-CXXXVIII).
6 ...целомудренную Сусанну... — В Книге пророка Даниила (Ветхий Завет) рассказывается о том,
как добродетельная Сусанна — жена еврея Иоакима — едва не погибла, став жертвой
клеветы двух вероломных старцев (выборных судей). Подкараулив как-то молодую женщину
в саду и не получив удовлетворения своей похоти, «старцы» свидетельствовали перед
собранием, что видели Сусанну в объятиях неизвестного юноши. От неминуемой казни
Сусанну спас Даниил, который уличил старцев во лжи, допросив их по отдельности и поймав
на противоречиях (см.: Дан. 13: 51—62). В Библии Сусанна — пример богобоязненной
добродетельной женщины, которая выше всего ценит свою чистоту перед Богом: «Лучше для
меня не сделать этого и впасть в руки ваши, нежели согрешить пред Господом», — говорит
она старцам (Дан. 13: 23). Ср. также реплику Флэммока в тексте данной главы с эпизодом
из баллады о Благородном Моринджере, которую В. Скотт цитирует в авторском
предисловии к роману «Обрученная» (1832), публикуемом в наст. изд.
7 Кто упустил Гроб'Господень... латиняне и греки... — Греки, «упустившие» Гроб Господень, —
это византийцы; а «латиняне», допустившие ту же оплошность, — вероятно, рыцари
Латинского Иерусалимского королевства, созданного крестоносцами в 1099 г. Иерусалим
вместе с его главной христианской святыней — Гробом Господним — входил в состав Византии
с IV по VQ в. (после распада Римской империи и до завоевания Палестины арабами). В 1071 г.
город, находившийся под властью Египетского халифата Фатимидов, был захвачен
сельджуками, а в 1099 г. — крестоносцами под предводительством Готфрида Бульонского.
В 1187 г. султан Сирии и Египта Салах-ад-дин (см. примеч. 3 к гл. XXVIII) захватил
большую часть созданного крестоносцами Латинского Иерусалимского королевства и взял
Иерусалим. Таким образом, христианская святыня, по вине «латинян», вновь попала в руки
«язычников». Возможно, впрочем, латиняне здесь — те же византийцы, подданные
Восточно-Римской империи, называвшие себя ромеями.
8 ...с войском графа, владыки этой... страны... — С 1169 по 1191 г. графом Фландрии являлся
Филипп Эльзасский, воспитатель и опекун французского короля Филиппа-Августа. Умер
в Палестине во время осады крепости Акра (Аккра) в 1191 г.
Глава ХХП
1 Источник эпиграфа не установлен. Вордсворт Уильям (1770—1850) — английский поэт-
романтик, признанный глава «озерной школы» (the Lake School), с 1843 г. — поэт-лауреат.
Являлся автором эстетического манифеста «озерной школы» (предисловие ко II изданию
Примечания
301
«Лирических баллад» У. Вордсворта и С.-Т. Колриджа, 1800), философских поэм
«Прелюдия, или Развитие сознания поэта» (1798—1805, опубл. 1850), «Прогулка» (1814) и ряда других
произведений.
2 Книга Судей — одна из исторических книг Библии (Ветхого Завета), повествующая о
борьбе евреев за утверждение в Ханаане (ХШ—X вв. до н. э.) против местных царей и
вторгавшихся в Палестину кочевых племен (аммонитян, мадианитян и др.). Описанные здесь
события носят по преимуществу военный характер: например, победа над царем Иавином во
времена пророчицы Деворы (см.: Суд. 4: 4 — 5: 31), изгнание мадианитян судьей Гедеоном
(см.: Суд. 6: 11—8: 12), победа судьи Иеффая над аммонитянами (см.: Суд. 11: 4—33).
Судьями в этой книге Библии именуются герои, избранные Богом, чтобы в минуту
опасности возглавить племенной союз, ибо «в те дни не было царя у Израиля» (Суд. 17: 6).
Особое место в Книге Судей занимает жизнеописание героя Самсона, отличившегося своими
кровавыми подвигами в борьбе с филистимлянами (см.: Суд. 14—16, примеч. 7 к гл. VII).
3 Книга Царств — у Скотта: Книги Царей. Четырем традиционным Книгам Царств греческой
Библии (Септуагинты) в латинской Библии (Вульгате) соответствуют две Книги Самуила
(1-я и 2-я), а также две Книги Царей. В последних рассказывается о царствовании Соломона
и распаде древнееврейского государства, о падении Израиля и Иудеи; здесь же подробно
описывается деятельность пророков Илии и Елисея (ср. с 3-й и 4-й Книгами Царств в
православной традиции).
4 Иуда Маккавей (от евр. «маккаби» — молотобоец) — библейский персонаж, герой
освободительной борьбы евреев против господства сирийской династии Селевкидов (II в. до н. э.),
сын священника Маттафии, в 197 г. до н. э. возглавившего восстание против сирийского
владычества. Иуда успешно отражал натиск сирийцев при царе Антиохе IV Епифане и его
сыне Антиохе Евпаторе. Погиб в 160 г. до н. э. в битве с войском царя Димитрия (см.: 1 Мак.
9: 17—18). История Иуды и его подвигов описана в 1-й и 2-й Книгах Маккавейских,
входящих в состав греческой Библии. Эти книги, написанные позднее основной части Ветхого
Завета, считаются неканоническими (у протестантов — апокрифическими).
5 ...сменявших в Святой Земле лавровый венок на кипарисовый... — Начиная с античных
времен лавр считался символом победы и воинской славы, а кипарис — деревом мертвых
(римляне посвящали его богу подземного царства Плутону). Ср. с отрывком из стихотворения
В. Скотта «Кипарисовый венок»:
Пусть будет, как бывал досель,
Плющом увенчан менестрель
И лавром царственным увит
Герой, которым враг разбит;
Пусть громом труб восславлен он,
А мне под похоронный звон
Венок последний, леди, свей
Из кипарисовых ветвей.
{Пер. П. Шелковой)
См.: Скотт В. Собр. соч. ... Т. 19. С. 693.
6 Конклав (от лат. conclave — запертая комната) — собрание кардиналов, созываемое после
смерти Папы Римского для избрания нового. Происходит в изолированном помещении
(с 1274 г.). Здесь: тайный совет кардиналов.
Глава ХХШ
1 Источник эпиграфа не установлен. Рэндолф Томас (Randolph Thomas, 1605—1635) —
английский поэт и драматург, один из «сыновей Бена» — молодых литераторов,
принадлежавших к кругу Бенджамина Джонсона (1573?—1637). Выпускник Кембриджа, знаток
античности. Автор нескольких пьес и интерлюдий («Аристипп, или Веселый философ», 1630;
302
Примечания
«Ревнивые влюбленные», 1632; «Аминта», опубл. 1638 и др.), а также английских и
латинских стихотворений, среди которых выделяются три стихотворных послания Джонсону.
2 Сокольничий — в средние века придворная должность. Сокольничий принимал участие в
организации охоты и заботился о соколиной стае.
3 Пустельги — род хищных птиц семейства соколиных.
4 Кречеты — хищные ловчие птицы семейства соколиных.
5 Остров Мэн — остров в Ирландском море к западу от Британии, входит в число Британских
островов. Древнейшее население — кельты. Название острова на местном (мэнском)
диалекте гэльского языка — Эллан Ваннин. С 800 г. подвергался постоянным набегам
скандинавов, установивших здесь свою систему правления. С ХП в. правители Мэна, называвшие
себя «королями», предпринимают попытки отстоять свою независимость от Норвегии и
ищут союза с англичанами: в середине столетия Годред П Мэнский признает себя вассалом
Генриха II Плантагенета. В настоящее время остров Мэн принадлежит британской
короне, сохраняя некоторые черты местного самоуправления.
6 Малъпас — город в юго-западном Чешире (Англия), в 13 милях от Честера.
7 Реджинальд Мэнский (Реджинальд I) — король острова Мэн (конец ХП в.). В 1187 г. принес
«оммаж» (феодальную присягу верности) королю Англии Генриху II, продолжая
политику своего предшественника Годреда II (см. примеч. 5 к наст. гл.).
8 Византийский золотой. — См. примеч. 7 к гл. XVI.
9 ...полгаллона... — Галлон — единица емкости в системе английских мер: чуть более 4,5 дм3.
10 Ягдташ — охотничья сумка.
11 Фрегат — в средние века небольшое беспалубное быстроходное судно (разновидность
открытой шлюпки). С XVIII в. «фрегат» — наименование особого класса военных кораблей,
применявшихся для крейсерства и разведки.
12 Галеон — в парусном флоте большой трех- или четырехмачтовый корабль (обычно
грузовой).
13 Мавританский — принятый у мавров. В средние века маврами называли мусульманское
население Пиренейского полуострова (преимущественно испанских арабов) и Северной
Африки (см. примеч. 10 к гл. ХП).
14 ...известными под названием валлийский крюк... — См. примеч. 9 к гл. П.
Глава XXIV
1 В эпиграфе строки из поэмы С.-Т. Колриджа «Кристабель» (ч. I, стк. 81—84). В. Скотт
цитирует поэму по изданию «Стихотворений» (1816) С.-Т. Колриджа. Этот же отрывок
(несколько измененный) служит эпиграфом к 1 гл. романа В. Скотта «Черный карлик»
(1818) (см.: Скотт В. Черный карлик/ Пер. А. А. Вейзе// Собр. соч.... Т. 4. С. 105). В
большинстве современных изданий поэмы «Кристабель», воспроизводящих текст последней
прижизненной публикации «Стихотворений» С.-Т. Колриджа, эти строки читаются иначе
(цит. по: Кольридж С.-Т. Стихи. М.: Наука, 1974. С. 35):
Five warriors seized me yesterday morn,
Me, even me, a maid forlorn:
They choked my cries with force and fright,
And tied me on a palfrey white...
Пятеро воинов вчера среди дня
Схватили беззащитную деву, меня.
Они заглушили мой крик и плач,
Прикрутили к коню жестокой уздой...
[Пер. Г. Иванова)
Примечания
303
Колридж Сэмюэл Тэйлор (1772—1834) — английский поэт-романтик, литературный
критик, представитель «озерной школы» (см. примеч. 1 к Эпилогу).
2 Эдрис, Подземный Житель. — В. Скотт объясняет происхождение легенды об Эдрисе в
начале след. гл. (XXV).
Глава XXV
1 Источник эпиграфа не установлен; Вордсворт. — См. примеч. 1 к гл. XXII.
2 ...героев знаменитого Хирласа (вернее, «Рога Хирласа» — Hirlas Horn). — Вероятно, имеется
в виду цикл валлийских эпических сказаний.
3 Кэрн — пирамида или конус из камней. В древности кэрны служили могильными
памятниками, являясь также местом племенных собраний и инициационных обрядов у
кельтов.
Глава XXVI
1 Источник эпиграфа не установлен; Уоллер Эдмунд (1606—1687) — поэт и парламентский
деятель времен английской революции и Реставрации. Автор лирических
«Стихотворений» (1-е изд. — 1645 г.), многие из которых были положены на музыку. Пережив во
время революции 8-летнее изгнание (1643—1651), Уоллер после возвращения на родину
пишет хвалебные стихи Кромвелю («Панегирик лорду-протектору», 1655), а затем и
Карлу I («На счастливое возвращение Его Величества Короля», 1660). Ему принадлежит
также описательная поэма «Сент-Джеймсский парк» (1661), стихотворное «Наставление
художнику» (1666) и сборник «Божественных стихов» (1685). Последнее прижизненное
издание его произведений разных лет вышло в 1686 г. Уоллер писал в основном так
называемым героическим размером (рифмованными двустишиями). Этот размер
несколько позже принес славу наиболее значительным драматургам Реставрации —
Дж. Драйдену и Т. Отвею, особенно в начале их карьеры (см. примеч. 1 к гл. XIV и
примеч. 1 к гл. XXVIII). Громкая популярность Уоллера как лирического поэта при жизни
довольно скоро сменилась упреками в банальности и недостатке воображения после его
смерти.
2 Иорк (York) — город в северной части Англии (Йоркшир) на реке Уз. В I в. н. э. римская
крепость. С VI в. — центр англосаксонского королевства Нортумбрия, в IX в. — главный
город ^области «датского права» (см. примеч. 8 к гл. XIV). С 735 г. — резиденция
архиепископа Йоркского.
3 Бристоль (Bristol) — город на юго-западе Англии, в графстве (county) Эйвон.
4 ...разгромили дома фламандцев... — Несмотря на полученные от Генриха I привилегии (см.
примеч. 4 к гл. III), положение фламандцев в Англии было весьма непрочным. В
качестве ремесленников и владельцев мануфактур они скупали шерсть у английских крестьян
и, пуская ее в производство, получали немалые прибыли, недоступные местному
населению, что вызывало всеобщее недовольство. Особой ненавистью среди англичан
пользовались также фламандские рыцари-наемники и знатные бароны из Фландрии,
которыми любил окружать себя принц Джон (см. примеч. 10—11 к гл. XXIX). Именно на
фламандцев (вкупе с другими иностранцами) прежде всего обрушивался народный гнев во
время нередких в XI—XII вв. бунтов. Кроме того, уступая давлению подданных,
английские короли Стефан (см. примеч. 6 к гл. XI) и Генрих II (примеч. 5 к гл. XVI и примеч. 8
к гл. XXIX) несколько раз изгоняли иностранцев из королевства. Часть их оседала на
северных и западных окраинах острова, в том числе в Уэльсе и на землях Валлийской
Марки.
304
Примечания
Глава XXVH
1 Источник эпиграфа не установлен. Предположительно стилизация В. Скотта.
2 Черный принц. — Эдуард, принц Уэльский (1330—1376), старший сын короля Эдуарда Ш и
отец Ричарда П. Прославился в битвах при Креси (1346) и Пуатье (1356). Прозвище
получил по цвету лат. Умер при жизни Эдуарда III.
3 ...каку боевого коня Иова... — Смысл этой аллюзии не вполне ясен. Иов — библейский
праведник, чье благочестие и веру Бог подвергает суровому испытанию, лишая его богатства,
детей, здоровья и уважения ближних. Глубоко постигая величие Бога и собственную
человеческую слабость, Иов решается тем не менее вызвать Всевышнего на «суд». Ответ Бога
Иову удостоверяет несоизмеримость божеского и человеческого в обычных категориях
морали и разума. Со временем Создатель возвращает Иову все его достояние
преумноженным, продолжая считать его истинным праведником и мудрецом. История Иова является
одной из наиболее глубоких морально-философских притч Ветхого Завета. Основные
мотивы Книги Иова получили своеобразное преломление и развитие в выдающихся
произведениях европейской литературы Нового времени: в частности, в трагедиях «Король
Лир» (1605) У. Шекспира и «Фауст» (1808-1832) И.-В. Гёте.
4 ...даже сами их добродетели становятся для них ловушками. — Ср. в комедии У. Шекспира
«Как вам это понравится» (1599): «Достоинства все ваши — / Святые лишь предатели для
вас» (акт П, сц. 3, стк. 12—13, пер. Т. Л. Щепкиной-Куперник).
Глава ХХУШ
1 Этих строк в произведениях английского драматурга Т. Отвея обнаружить не удалось, хотя
сама структура фразы и ее стиль [Let our proud trumpet shake their castle wall...)
напоминают излюбленную манеру этого автора. Ср. проклятия Риму Мариев (отца и сына) в
трагедии «Падение Гая Мария» (1680): «Let not one stone of all her Tow'rs stand safe. / Let not her
Temples nor her Gods escape...» (акт III, сц. 3, стк. 471—472). Отвей Томас (1652—1685) —
английский поэт и драматург эпохи Реставрации, начинал как актер. Автор трагедий
«Алкивиад» (1675), «Дон Карлос» (1676), «Сирота, или Несчастный брак» (1680),
«Спасенная Венеция, или Раскрытый заговор» (1682). Ранние трагедии Отвея написаны
«героическим стихом» (см. примеч. 1 к гл. XXVI), позже он отходит от использования рифмы.
2 На святого Клемента... — Очевидно, имеется в виду св. Клемент Римский (кон. I в.) — один
из «апостолических Отцов Церкви», третий или четвертый епископ Рима. Его день
отмечается 23 ноября.
3 Саладин (Салах-ад-дин, Малек Назир Юсуф, 1138—1193) — султан Египта (с 1171) и Сирии,
основатель династии Айюбидов, по национальности курд. Будучи военачальником в
государстве Фатимидов, включавшем Северную Африку, Сицилию, Сирию и Египет, сверг с
престола халифа Адида, что вскоре привело к распаду этого государственного
образования. Саладину, однако, удалось утвердить свою власть над Сирией, Египтом и рядом ме-
сопотамских стран. В 1180—1190-е годы он возглавил военные действия мусульман против
крестоносцев, добившись немалых успехов: в 1187 г. войско Саладина заняло Иерусалим,
а в 1192 г. султану удалось заключить выгодное для арабов перемирие с европейцами,
закрепляющее взятие Священного Города. Умер от лихорадки в 1193 г. Является одним из
героев романа В. Скотта «Талисман» (1825) (см. также примеч. 7 к гл. XXI и 9 к эпилогу).
4 Герольд — придворная должность в средние века. Герольды выполняли дипломатические
поручения, посылались в качестве вестников при объявлении войны и для переговоров,
были распорядителями на турнирах и вели родовые книги своих сюзеренов.
5 Анжуйская династия — род грас^юв Анжуйских, ставших в ХП в. основателями королевской
династии в Англии. Первым титул графа Анжуйского получил Фульк Рыжий (ум. в 938 г.),
а первым английским королем из этого рода и основателем королевской династии План-
тагенетов стал Генрих II (1154—1189 гг.), сын Жоффруа Плантагенета и «императрицы
Примечания
305
Матильды» (см. примеч. 7 к гл. XI). От матери Генрих унаследовал английскую корону,
а от отца — обширные владения во Франции (Нормандию, Мэн, Анжу, Турень), а также
прозвище Плантагенет, свидетельствующее о пристрастии графа Жоффруа к охоте в
низинах, покрытых дроком (фр. plante — растение, genets — дрок). Правление Плантагенетов
(Генриха П, Ричарда I Львиное Сердце, Иоанна (Джона) Безземельного, Генриха Ш,
Эдуарда I, Эдуарда П, Эдуарда Ш, Ричарда П) — продолжалось с 1154 по 1399 г., когда
последний законный представитель этой династии, король Ричард II (1377—1399), был свергнут
своим двоюродным братом Генри Болингброком из рода Ланкастеров. Пришедшие на
смену Плантагенетам Ланкастеры (и позже Иорки) являлись боковыми ветвями той же
Анжуйской династии. Анжу — историческая провинция (графство) во Франции в
бассейне реки Луары. Родовое владение Плантагенетов.
Глава XXIX
1 В эпиграфе цитата из трагедии У. Шекспира «Ричард III», слова Ричарда (акт IV, сц. 4,
стк. 507).
2 ...чахлый дуб... эмблема друидов... — Культ деревьев — отличительная черта
ритуально-магической практики друидов. По свидетельству Плиния («Естественная история»), друиды
особо почитали дубовые леса (рощи) и «не совершали никакого обряда без листвы этого
дерева» (XVI, 249). Происхождение самого слова «друид» (впрочем, вызывающее
серьезные споры и разногласия) также нередко связывают с кельтским названием дуба (см.:
Encyclopaedia Britannica: In 29 vol. Chicago, 1997. Vol. 4. P 233; а также примеч. 13 к гл. П).
В ирландской мифологии упоминается священное дерево — дуб Эо Мутна, связанный с
потусторонним миром (сидом).
3 ...зверь... он смеется. — Отрывистый лай гиены, похожий на смех, породил множество
суеверных домыслов о привычках и нраве этого животного. Побывав на Востоке, многие
крестоносцы могли не только услышать рассказы о гиене, но и увидеть ее собственными
глазами где-нибудь в Передней Азии или Северной Африке.
4 ...библейским вороном, который питал нас в горах Уэльса... — В Библии пророк Илия,
спасаясь от гнева царя Ахава, поселяется возле потока Хораф. Из этого источника он черпает
воду, а пищу ему приносят вороны (см.: 3 Цар. 17: 2—6).
5 ...будь же теперь голубем... — Согласно библейскому рассказу, праведник Ной, спасшийся во
время потопа в ковчеге, закончив странствие, выпустил из окна ковчега голубя и
дождался его возвращения с масличным листом во рту. Это означало, что гнев Бога иссяк и «вода
сошла с земли» (Быт. 8: 11). С тех пор голубь, несущий в клюве масличную (оливковую)
ветвь, является символом мира, дарующего жизнь.
6 Они живут в любовной связи. — В подлиннике французское выражение «par amours».
7 ...не преминули жестоко отомстить несчастным простолюдинам... — Сочувствие к
побежденным и перемена точки зрения на конфликт после поражения одной из враждующих
сторон (каковы бы ни были ее прежние грехи) — обычны в повествовательной манере В.
Скотта. Ср. описание разгрома валлийцев конным отрядом де Лэси (гл. IX), а также слова
Эрменгарды о надменном коннетабле, «гордом тем, что, закованный в доспехи, сидя на
боевом коне <...>, в полной безопасности топчет и убивает полуголых валлийцев» (гл. ХШ).
8 ..„мудрый и деятельный монарх... — «Мудрость» и «деятельный» характер Генриха П (1154—
1189 гг.) проявились преимущественно в его реформах, направленных на укрепление
королевской власти. В частности, Генрих принял ряд мер для укрепления королевских судов,
право обратиться в которые (за определенную плату) получал любой подданный государя
(за исключением вилланов). В 1181 г. король издал закон (ассизу) о вооружении,
способствовавший увеличению роли ополчения, состоявшего из мелких рыцарей и зажиточных
крестьян. С конца 1160-х годов вел активную завоевательную политику против Ирландии
(см. примеч. 13, 15 к эпилогу), пытался ограничить привилегии Церкви (примеч. 14 к
306 '
Примечания
гл. XVII). Фактически, однако, в то время, к которому относятся события XXIX главы,
Генриха II на английском троне уже сменил его сын Ричард I (примеч. 5 к гл. XVI).
9 Ричард (1157—1199). — Изображенный в качестве наследного принца Ричард Плантагенет,
второй сын Генриха II, с 1189 г. являлся избранным и помазанным королем Англии (см.
примеч. 5 к гл. XVI и примеч. 8 к наст. гл.). Он вошел в историю под именем Ричарда
Львиное Сердце (Coer de Lion (#/>.), The Lion-Hearted [англ.]). Правил с 1189 по 1199 г.
Является персонажем романов Скотта «Айвенго» (1819) и «Талисман» (1825).
10 Иоанн (Джон, 1167—1216) — младший сын Генриха П, брат Ричарда Львиное Сердце. После
смерти последнего — английский король, прозванный Иоанном Безземельным (1199—1216 гг.).
Является персонажем романа «Айвенго» (1819) и хроники У. Шекспира «Жизнь и смерть
короля Джона» (1596—1597).
11 ...но сколь различны были эти царствования! — Царствование Ричарда Львиное Сердце (1189—
1199 гг.), по мнению В. Скотта, напоминало блестящую рыцарскую повесть, а сам Ричард
являлся живым воплощением средневекового короля-паладина — со всеми достоинствами
и недостатками этого образа. Почти все 10 лет своего правления Ричард I провел в
военных походах на чужбине, передав управление страной в руки своих наместников и
чиновников (Вильгельма Лоншана, а затем архиепископа Губерта Вальтера). Честолюбивый
монарх был одним из наиболее деятельных участников 3-го крестового похода:
благодаря его доблести европейцы смогли взять о. Кипр и палестинскую крепость Акру (см.
примеч. 10 к гл. I и примеч. 3 к гл. VII). На обратном пути из Палестины Ричарду довелось
пережить довольно неприятное рыцарское «приключение»: попав в плен к австрийскому
эрцгерцогу Леопольду V, он утратил свободу на целых два года (1192—1194).
Освободившись из плена, «король-паладин» пробыл в Англии недолго. Смерть настигла его во
время войны с французским королем Филиппом II Августом (1180—1223), начавшим захват
французских владений Плантагенетов. Осматривая укрепления в одном из аквитанских
замков, Ричард I был ранен стрелой и умер от раны.
Царствование Иоанна Безземельного (1199—1216 гг.) носило менее рыцарственный,
но не менее драматический для Англии характер. Не имея склонности к военным
экспедициям, Иоанн предпочитал использовать напряженные отношения с Францией главным
образом для увеличения денежных поборов с населения. В 1203 г. по приказу Иоанна был
убит его родной племянник и претендент на престол, поддержанный французским
королем Филиппом Августом, Артур (см. примеч. 13 к наст. гл.). Это событие отнюдь не
способствовало укреплению власти Джона, равно как и не улучшило его отношений с
французской короной. В результате уже к 1204 г. Иоанн лишился большей части своих
французских владений, чем и заслужил прозвище Безземельного. В 1209 г. острый конфликт
с Папой и архиепископом Кентерберийским Стефаном Лэнгтоном (из-за попытки
конфискации церковных земель) привел к отлучению Иоанна от Церкви, а в 1212 г. Папа
Иннокентий III объявил его низложенным. Вынужденный пойти на примирение с Папой на
самых унизительных условиях, Иоанн тут же столкнулся с открытым неповиновением
баронов, представлявших большую военную силу. 15 июня 1215 г. в долине Рэннимед Иоанн
Безземельный подписал знаменитую «Хартию вольностей», существенно ограничившую его
власть и расширившую права сословий. В 1216 г., после нового обострения отношений с
Францией и баронами, король Джон (Иоанн) умер, оставив престол своему малолетнему
сыну Генриху III. В своих исторических романах («Айвенго» и «Обрученная») В. Скотт
дважды обращался к образу принца Джона — впоследствии Иоанна Безземельного. Однако,
избегая соперничества с Шекспиром (см. примеч. 10 к наст, гл.), шотландский писатель ни
разу не решился изобразить «жизнь и смерть» этого монарха на фоне наиболее
значительных событий его царствования.
12 ...столь жестокий семейный разлад? — Раздоры в королевской семье были настоящим бичом
царствования Генриха II, продолжившись и после его смерти (см. примеч. 13 к наст. гл.).
В данном случае король подразумевает разлад между своими сыновьями Ричардом и
Джоном, вызванный отчасти несходством их характеров, отчасти борьбой обоих за отцов-
Примечания
307
ский престол. Из исторических источников известно, что уже в царствование Ричарда
принц Джон неоднократно пытался захватить английскую корону, интригуя против
наместников брата и распуская слухи о его смерти.
13 ...сыновья враждуют между собой... в неповиновении отцу. — У Генриха II было четверо
законных сыновей, рожденных в браке короля с Алиенорой (Элеонорой) Аквитанской:
Генрих Молодой (ок. 1154 — 1183), Ричард Львиное Сердце (см. примеч. 9, 11 к наст, гл.),
Жоффруа Бретонский (ум. 1186) — отец Артура, будушего претендента на английский
престол, и Джон — Иоанн Безземельный (см. примеч. 10, 11 к наст. гл.). Первым в открытый
конфликт с Генрихом II вступил его старший сын Генрих Молодой. Стремясь обеспечить
преемственность власти в рамках Анжуйской династии, Генрих II еще в 1170 г. добился
избрания 16-летнего сына своим соправителем. Однако Молодой Генрих, будучи помазан
на царство при жизни отца, потребовал реального участия в управлении государством.
В 1173—1174 гг. сыновья Генриха Старого, поддержанные своей матерью Алиенорой
Аквитанской (см. примеч. 4 к гл. XVI), примкнули к баронскому мятежу, особенно долго
бушевавшему во французских землях короны. Генрих II даровал прощение всем
мятежникам, но этим не исчерпал семейного разлада. После ранней смерти Генриха Молодого
(в 1183 г.) титул соправителя своего отца безуспешно пытался получить принц Ричард. Ссоры
между отцом и сыном, по свидетельству современников, были настолько бурными, что едва
не доходили до рукоприкладства. «Семейный разлад» (см. примеч. 12 к наст, гл.)
продолжился и в следующем поколении, обернувшись смертельной враждой между королем
Джоном (Иоанном Безземельным) и его племянником Артуром — сыном Жоффруа
Бретонского и внуком Генриха П. В 1202 г. Артур — соперник Иоанна в борьбе за престол и
ставленник французской короны — был взят Иоанном в плен и вскоре убит по его приказу.
14 ...остерегаться нарушать привилегии Церкви... — См. примеч. 14 к гл. XVII.
Глава XXX
1 В эпиграфе неточная цитата из комедии У. Шекспира «Венецианский купец» (акт IV,
сц. 1, стк. 227—229). В подлинном шекспировском тексте эти слова Шейлока читаются
иначе: «An oath, an oath, I have an oath in heaven; / Shall I lay perjury upon my soul? / No, not
for Venice». Ср. у В. Скотта: «A vow, a vow.../ Shall I bring perjury...» (курсив мой. — Т. Ч).
2 ...остается господином своего духа... — См. примеч. 2 к гл. V.
3 Бенефиции — в средние века земельные владения, пожалованные за службу без права
наследования. Этим словом назывались также доходные церковные должности.
4 ...грозить церковным старостой... — В подлиннике названо особое должное лицо — «бидл»
(beadle), обязанности которого менялись на протяжении столетий. Еще в период раннего
Средневековья у германцев «бидл», или «бедел» (bedel), выполнял функции судебного
пристава. После нормандского завоевания его полномочия сузились до роли глашатая на
заседаниях суда и во время процессий к месту казни преступников. Одновременно он
являлся гонцом и вестником на службе Церкви и до известной степени выступал как
представитель церковных властей. Практически же его функции в этом качестве сводились к
поддержанию порядка в церкви и на церковном дворе, а также к выполнению мелких
поручений клира. Роль бидла существенно возросла в XVII—XIX вв. — во время действия
Закона о Бедных, но после 1834 г. вошла в прежние узкие рамки.
Глава XXXI
1 Источник эпиграфа не установлен.
2 ...символическая поэзия... — Упоминания о друидической поэзии встречаются еще у Цезаря
(см.: Цезарь. Записки о Галльской войне. VI. 14). Считается, что эта поэзия носила
символический характер. По мнению Ж. Дюмезиля и Ф. Леру, стихи друидов заключали всю
«глубинную премудрость» древних кельтов, являясь также формальным источником тра-
308
Примечания
диционного искусства бардов (см. примеч. 23 к гл. I) и филидов (т. е. лирической и
эпической поэзии кельтского Средневековья) (см.: Леру Ф. Друиды. СПб., 2000. С. 9, 95, 205—206).
3 Талиесин. — См. примеч. 15 к гл. П.
4 Ллеварх Хэн (Llywarch Hen) — легендарный валлийский бард, потомок короля Уриена,
воспетого Талиесином (см. примеч. 15 к гл. П). Жил предположительно в конце VI — начале
VII в. Уходящий в прошлое мир героических подвигов становится в поэзии Ллеварха
предметом скорбной элегии. Лирический герой оплакивает гибель своих 24 сыновей и
собственную одинокую старость (отсюда прозвище Hen — ваял, старый). Подобно Иову или Боэцию,
он, потеряв все, что привязывало его к жизни, призывает смерть. Многие специалисты
считают, что произведения, приписываемые Ллеварху Старому, в действительности были
созданы не ранее IX в. на основании сохранившихся преданий о старом короле Регеда.
Таким образом, Ллеварх в действительности является не автором, а лирическим героем
стихов, приписываемых ему традицией (см.: Матюшина И. Г. Указ. соч. С. 172—174,
175-182).
5 Хартия (от греч. х^'Щ^ — бумага, грамота) — в средние века документ
публично-правового характера, закрепляющий привилегии и «вольности» сословий, корпораций и городов.
6 Творец Девяти Песен. — Такой титул мог служить признаком причастности к сакральным
тайнам поэтического мастерства. Сама форма прозвища характерна для кельтской
традиции. Ср. с прозвищем ирландского короля Ниала Девяти Заложников, погибшего в 455 г.
в сражении с королем бриттов Вортигерном (см. примеч. 25 к гл. П).
7 Гордый граф Анжуйский — король Генрих П (см. примеч. 5 к гл. XXVQI).
8 ...политические доводы своего лукавого короля... — В. Скотт, несомненно, учитывает опыт
Шекспира и драматургов шекспировской эпохи в изображении «политиков» со свойственной их
доводам и поступкам моральной неоднозначностью, или макиавеллизмом, как называли
это свойство в XVI в. Подобный макиавеллизм в романах В. Скотта может отличать и
поведение лиц, вполне достойных: как, например, король Генрих II, названный «мудрым
и деятельным» (в гл. XXIX), архиепископ Болдуин, одновременно искренний и лицемерный
в своем споре с коннетаблем (гл. XVIII), и даже добрейшие и простодушные пастыри
о. Эйнион и о. Альдрованд, когда им необходимо добиться своих целей (в гл. I и VTI).
Эпилог
1 В эпиграфе цитата из поэмы С.-Т. Колриджа «Кристабель» (ч. 1, стк. 302—304). Ср.:
Звезда закатилась, взошла звезда.
О Джеральдина, тот час, когда
Твои объятия стали тюрьмой
Для прелестной леди — тот час был твой.
(Пер. Г. Иванова)
Цит. по: Кольридж С. Т. Стихи С. 41—42. Впервые перевод Г. Иванова был опубликован
в 1923 г. (см.: Кольридж С. Т. Кристабель / Пер. Г. Иванова. М.: Петрополис, 1923).
2 ...в монастыре ее тетки-аббатисы. — В подлиннике сказано: в цистерцианском монастыре
(Cisterian's convent). Цистерцианцы — особая ветвь бенедиктинского ордена (см. примеч. 10
к гл. Ш и примеч. 2 к гл. IX), выросшая из монастыря «Цистерциум» во Франции (основан
в 1098 г.). Возвращение к первоначальной строгости бенедиктинского устава сочеталось в
цистерцианских монастырях с некоторым упрощением и рационализацией церковных
порядков. Цистерцианцев также называют бернардинцами в память о заслугах св. Бернарда
Клервоского (1091—1153), которому приписывается личное участие в основании 68
обителей этого типа. К концу ХП в. орден насчитывал до 530 мужских и «бесчисленное
количество» женских монастырей во Франции, Германии, Англии и других европейских странах
(см.: Лортц И. История Церкви, рассмотренная в связи с историей идей: В 2 т. М., 1999.
Т. 1. С. 363).
Примечания
309
3 ...подобно Моисееву жезлу, исторг скрытый источник. — Когда евреев в пустыне (на пути из
Египта в Ханаан) мучила жажда, Моисей высек родник из скалы, ударив по ней жезлом
(см.: Исх. 17: 1-7).
4 Дыба — орудие пытки в средние века: перекладина или блок с перекинутой через него
веревкой, где растягивали тело осужденного.
5 ...из шафранно-желтого шелка... — Шафран (крокус) — род многолетних трав,
распространенных в Европе, Передней и Средней Азии. Цветы шафрана имеют яркий
оранжево-желтый цвет.
6 ...ветками by6а и омелы... — Омела — род вечнозеленых кустарников или трав, обычно
паразитирующих на деревьях. Омела (в особенности омела, выросшая на дубе) считалась
священным растением друидов. По свидетельству Плиния (см.: Плиний. Естественная
история. XVI, 249), такая омела именовалась у галлов «всеисцеляющей», а обряд ее срезания
жрецом выполнялся как священнодействие. В валлийском языке название омелы (olliach)
до настоящего времени сохранило свое первоначальное значение: «всеисцеляющая».
7 Ванда уж не жаждет мщенъя, / Вот тебе ее прощенье. — Ср. с буквальным переводом этого
стихотворного пророчества: «Зло, причиненное Ванде, искуплено — / Прими этот знак ее
прощения» («Vanda's wrong has been y-wroken — / Take her pardon by this token»).
8 ..„морская раковина... переправлялся через море... — См. упоминание этого обычая в песне
Офелии: «Как распознать твою любовь? / Вдруг это кто другой? / По посоху и башмакам, /
По шляпе с ракушкой морской» (Шекспир У. Гамлет. Акт IV, сц. 5, стк. 23—26, пер. И. В.
Пешкова).
9 ...к великому Султану. — То есть Саладину (см. примеч. 3 к гл. XXVIII).
10 Жестокий язычник... — См. примеч. 2 к гл. XIII.
11 Далматика (от названия области Далмация) — облачение церковнослужителей (дьяконов
или прелатов): одежда с широко ниспадающими рукавами, украшенными прорезями.
12 ...как норвежский медведь! — Норвежские медведи считались особенно сильными и
свирепыми.
13 ...завоевывать Ирландию. — Исторически поход Генриха П в Ирландию состоялся в
октябре 1171 г. — апреле 1172 г., т. е. примерно за 20 лет до описываемых событий. Этому хорошо
подготовленному мероприятию (как и показано в «Обрученной») предшествовало
длительное пребывание короля в Южном Уэльсе, где было собрано значительное войско и
проведены переговоры с Ричардом Стронгбоу — предводителем англо-норманнских завоевателей
в Ирландии.
14 ...имя его значится первым... — В анналах британских завоевательных походов против
Ирландии в самом деле встречается имя некоего Хью де Ласи, барона Мита, еще в 1
Hill 72 гг. отличившегося в войне с непокорным ирландским вождем Брефни Тирианом
О'Рурком. В 1185 г. Хью де Ласи не поддержал бесцеремонных поборов с ирландского
населения, организованных принцем Джоном (см. примеч. 10 к гл. XXIX) и его свитой. Став
королем, Джон (Иоанн) поначалу оказал содействие де Ласи как фактическому
правителю Ирландии, но в 1210 г. разбил его войско и вынудил грозного барона бежать во
Францию (см.: Сапрыкин Ю. М. Английское завоевание Ирландии (XII—XVII вв.). М., 1982.
С. 20—23). Так или иначе, ирландский поворот в судьбе героя романа отражает не только
историческую реальность, но и некоторые частные подробности семейной жизни Скотта,
старший сын которого служил в Ирландии в то самое время, когда его отец заканчивал
работу над «Обрученной» (см. преамбулу к примеч. к наст. изд.).
15 ...присоединивших этот прекрасный остров к владениям английской короны. — Завоевание
Ирландии, начатое Генрихом П во второй половине ХП в., фактически было завершено в
течение XVI—XVH вв.
16 ..лишившись оселка, на котором она оттачивала свое остроумие... — Ср. с характеристикой
шута Оселка в комедии У. Шекспира «Как вам это понравится» (1599): «А может быть, это
дело рук не Фортуны, а Природы, которая <...> посылает нам этого дурака в качестве осел-
310
Примечания
ка: потому что тупость дураков всегда служит точильным камнем для остроумия» (акт I,
сц. 2, стк. 46—50, пер. Т. Л. Щепкиной-Куперник).
17 ...расходились во мнении относительно сроков празднования Пасхи. — Подобный спор, без
всякого сомнения, к концу ХП в. утратил свою актуальность (на чем и основана ирония автора).
Однако несколькими столетиями ранее (в VII—VIII вв.) разночтения в способах
исчисления Пасхи потрясали основы церковной жизни Британских островов и служили
формальным поводом многолетней вражды между Римско-католической и так называемой
Кельтской Церковью. Истоки этого давнего спора коренятся в эпохе становления
раннехристианских церквей. Александрийская Церковь первой установила обычай праздновать Пасху
в воскресенье после первого весеннего полнолуния — в отличие от Пасхи иудейской,
отмечаемой 14 числа лунного месяца нисана. Рим лишь в 525 г. перенял новую систему,
заимствованную у александрийцев. Эта католическая Пасха (отмечаемая в период с 15 по 21 число
лунного месяца) была принята большинством христианских церквей. Исключение
составила Кельто-ирландская Церковь, сохранившая приверженность к староримской
(существовавшей до 525 г.) системе исчисления Пасхи (с 14 по 20 число лунного месяца). Кельтская
Пасха отмечалась не только в Ирландии, но также в Шотландии, Уэльсе и северных
областях Англии, находившихся под влиянием ирландских монахов-миссионеров. Общее
стремление к унификации обрядности и церковного устройства в Англии привело к
победе сторонников католической Пасхи на соборе в Уитби (664 г.). Тем не менее кельты еще
долго придерживались своих сроков празднования главного христианского праздника.
Ирландцы приняли католическую Пасху лишь в 716, а валлийцы — в 768 г. (см.: Беда
Достопочтенный. Церковная история англов. СПб., 2001. С. 256; Лортц И. Указ. соч. С. 216—
218). В XII в. Ирландская церковь сохраняла еще относительную самостоятельность, что
вызывало серьезное недовольство Рима. Обвинения ирландцев в ереси сыграли
немаловажную роль в идеологическом обосновании английского вторжения на соседний остров,
поддержанного Папой Александром Ш. Однако непосредственно вопрос о Пасхе в этих
обвинениях уже не звучал, да и само завоевание Ирландии не могло уже иметь отношения к
комическому спору двух пожилых родственниц Эвелины.
18 ...все горести обрученной. — См. преамбулу к примеч. к наст. изд.
Дополнение
ПРЕДИСЛОВИЕ К РОМАНУ «ОБРУЧЕННАЯ»
Предисловие к «Обрученной» впервые опубликовано в 1832 г., в полном собрании «уэвер-
леевых романов», издававшемся с 1829 по 1833 г. (см.: Scott W. The Waverley Novels: In 48 vol.
Edinburgh, 1829—1833). Перевод подготовлен по изд.: Scott W. Introduction // W. Scott.
The Betrothed. L.; N. Y.; Toronto; Melbourn: Henry Frowde: Oxford University Press, 1912. P. IX-
XVIII.
1 ...узкий круг стал вдвое уже... — В подлиннике также игра слов: a few — fewer.
2 ...смерть похитила самых близких... — С 1825 по 1832 г. В. Скотту довелось пережить
несколько тяжелых утрат, включая смерть жены Шарлотты, скончавшейся 15 мая 1826 г. Говоря
о потерях среди друзей, писатель имеет в виду в первую очередь смерть книгоиздателя
Арчибальда Констебла (1774—1827), умершего вскоре после банкротства фирмы «Констебл
и К°» (см. статью).
3 Стерн Лоренс (1713—1768) — английский писатель-сентименталист, автор романов «Жизнь
и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» (1760—1767) и «Сентиментальное путешествие
по Франции и Италии» (1768).
4 ... «карликом не в одном только отношении». — В. Скотт имеет в виду следующие слова
Стерна: «Карлик, который сам же дает мерку для определения своего роста, — можете быть уве-
Примечания
311
рены, является карликом не в одном только отношении» («Жизнь и мнения Тристрама
Шенди, джентльмена», т. 4, гл. XXV, пер. А. А. Франковского).
5 ...пока роман не прочитан до конца. — Ср. у Стерна — «<...> я вменяю себе в особенную
заслугу именно то, что мой читатель не разу еще не мог ни о чем догадаться. И в этом
отношении, сэр, я настолько щепетилен и привередлив, что, считай я вас способным
составить сколько-нибудь приближающееся к истине представление или мало-мальски
вероятное предположение о том, что произойдет на следующей странице, — я бы вырвал ее из моей
книги» («Жизнь и мнения Тристрама Шенди», т. 1, гл. XXV, пер. А. А. Франковского.)
6 ...злополучных книгоиздательских проектов... — Речь идет о проекте ежемесячного выпуска
дешевых томов под общим названием «Смесь». Специально для этой серии Скотт задумал
книгу «Жизнь Наполеона Бонапарта» (1827), сюда же должен был войти и его двухчастный
цикл «Рассказы о крестоносцах». Идея проекта была предложена В. Скотту его издателем
А. Констеблом в мае 1825 г. О самих проектах В. Скотт, как нетрудно заметить,
отзывается с некоторым сожалением, граничащим с чувством неловкости. И хотя политические
оценки, высказанные Скоттом в «Жизни Наполеона», со временем не претерпели сколько-
нибудь существенных изменений, все же отрицательный общественный резонанс,
полученный этой книгой, вкупе с финансовым крахом самого проекта, оставил тяжелый след в
душе писателя. Впервые Великий Неизвестный обманулся в расчете на читательский и
коммерческий успех собственных произведений. В этом смысле «Рассказам о крестоносцах»,
изданным накануне издательской катастрофы и на два года опередившим появление
книги о Наполеоне, повезло значительно больше. В коммерческом отношении серия явилась
удачным проектом, а прием, оказанный «Обрученной» и «Талисману» публикой, был, хотя
и не восторженным, но вполне благосклонным (см. преамбулу к примеч. к наст. изд.).
7 ...на злобу дня. — Авторское предисловие к первому изданию «Обрученной» (датировано
1-м июня 1825 г.), написанное в форме автопародии, было посвящено обсуждению
издательского проекта Констебла (см. примеч. 5 к наст, предисл.). Оно озаглавлено «Протокол
заседания общего собрания пайщиков, занятых проектом создания объединенного
акционерного общества по написанию и выпуску разряда сочинений, именуемых "уэверлеевыми
романами"». Предисловие 1825 г. в наст. изд. не публикуется.
8 «Песни шотландской границы» (1802—1803) — сборник фольклорных и стилизованных под
фольклор авторских баллад Вальтера Скотта, первое произведение, создавшее писателю
литературное имя.
9 Твид — река в Шотландии, берет начало в южной части графства Пиблз, орошает земли
графств Иннерлейтен, Селкерк и Роксберг и впадает в Северное море недалеко от Берви-
ка. Берега Твида славятся своими живописными видами. Именно на берегу Твида был
возведен замок Абботсфорд (1812), превращенный В. Скоттом в своеобразный музей
средневекового прошлого Шотландии.
10 ...для доброго пресвитерианина... — Пресвитериане — протестантская секта кальвинистского
толка, распространенная в англоязычных странах. Приверженцы этой секты отличались
подчеркнутой строгостью нравов, нередко навлекая на себя упреки в лицемерии. Так как
во времена крестовых походов пресвитериан не существовало, в данном контексте писатель
употребляет это слово иронически.
11 ...Эттрика Пастуха... — Имя Эттрик, по-видимому, происходит от названия одного из
притоков Твида (см. примеч. 9 к наст, предисл.).
12 ...верность самой добродетельной из женщин. — См. примеч. 6 к гл. XXI «Обрученной».
13 Эсквайр — оруженосец из молодых дворян (ист.).
14 Марстеттин — имя эсквайра, неосторожно согласившегося охранять честь барона в его
отсутствие.
15 «...век не грозит сума». — В подлиннике речь мельника более обстоятельна и деловита:
«И когда приходит день св. Мартина и мельники получают свою долю зерна (за помол), /
Священнику, который молится за Моринджера, хватит и на ризу, и на епитрахиль» («And
when St. Martin's tide come round, and millers take their toll, / The priest that prays for Moringer
312
Примечания
shall have both cope and stole»). День св. Мартина — 11 ноября, в Шотландии —
официальная дата начала годовой «четверти» (quarterday). В этот день по традиции
осуществляются наиболее важные денежные (и прочие) расчеты.
16 «...ведут». — Над переводом баллады о Благородном Моринджере (с нем.) В. Скотт
работал в период тяжелой болезни и нравственного кризиса (см.: Lang A. Op. cit Р. ХУШ). В это
время труд переводчика, с которого началась литературная карьера В. Скотта, стал для
писателя своеобразным способом проверки интеллектуальных сил и средством контроля
над эмоциональным состоянием. Тем не менее перевод обладает не только исторической,
но и литературной ценностью. В основе баллады — популярный фольклорный сюжет о
муже, попавшем на свадьбу собственной жены с ее новым избранником. В немецкой
народной поэзии этот мотив обработан также в известной балладе о Генрихе Льве, в которой
Генриха Брауншвейгского извещает об измене жены сам сатана, и он же переносит герцога
в его замок в Брауншвейге (см.: Немецкие баллады. М., 1958. С. 27—29).
17 ...господинам Тиком... — Тик Людвиг Иоганн (1773—1853) — немецкий писатель-романтик,
представитель йенского романтизма. Автор «средневековых романов», в том числе
романа о художнике «Странствия Франца Штернбальда» (1798), драм («Кот в сапогах», «Синяя
борода», обе — 1797), повестей и новелл. Мастер романтической иронии. Как переводчик
и серьезный исследователь, Тик интересовался британской стариной. Так, в 1811 г. он
издал сборник переведенных им на немецкий язык пьес драматургов-елизаветинцев
(«Английский театр», 1811), а в 1817 г. специально посетил Англию, чтобы собрать материал для
книги о Шекспире (которая не была завершена).
18 ...в примечании к «Уэверли»... — В русских изданиях романа это авторское примечание не
публикуется (см.: Скотт В. Уэверли// Собр. соч. ... Т. 1. С. 88—90; см. также статью).
19 «Гардиан» — еженедельная газета «Манчестер Гардиан», основанная в 1821 г. как печатный
орган партии вигов. Ведя энергичную политическую агитацию, «Гардиан» публиковала
также критические статьи и рецензии на театральные постановки, оказывая большое
влияние на общественное мнение. В. Скотт в качестве консерватора-тори не поддерживал
литературную и политическую деятельность этой популярной газеты.
20 Эдуард Исповедник. — См. примеч. 4 к гл. IX и примеч. 7 к гл. ХШ «Обрученной».
21 Хирфордшир (Herefordshire) — графство на западе Англии с центром в городе Хирфорд (см.
примеч. 9 к гл. XVIII «Обрученной»).
22 Гарольд. — См. примеч. 5 и 7 к гл. XIII и примеч. 8 к гл. XIV «Обрученной».
23 Глостер. — См. примеч. 5 к гл. Ш «Обрученной».
24 Мерсия — древнее англосаксонское королевство, расположенное в центре Англии. В XI в.
правитель Мерсии (граф) являлся вассалом английского короля.
СОДЕРЖАНИЕ
ОБРУЧЕННАЯ
Перевод 3. Е. Александровой
Глава 1 7
Глава II 11
Глава III 17
Глава IV 25
Глава V 29
Глава VI 37
Глава VII 43
Главами 46
Глава IX 53
Глава X 59
Глава XI 64
Глава XII 71
Глава XIII 74
Глава XIV 83
Глава XV 90
Глава XVI 99
Глава XVII 104
Глава XVIII 113
Глава XIX 120
Глава XX 131
Глава XXI 133
Глава XXII 141
Глава XXIII 145
Глава XXIV 151
Глава XXV 156
Глава XXVI 159
Глава XXVII 163
Глава XXVIII 173
Глава XXIX 178
Глава XXX 190
Глава XXXI 195
Эпилог 204
ДОПОЛНЕНИЕ
Вальтер Скотт Предисловие к роману «Обрученная». Перевод Т. Г. Чесноковой,
А. Г. Чесноковой 214
ПРИЛОЖЕНИЯ
Т. Г. Чеснокова. Роман «Обрученная» в творчестве Вальтера Скотта 225
Примечания. Составила Т. Г. Чеснокова 267
Скотт Вальтер
Обрученная / Изд. подг. 3. Е. Александрова и Т. Г. Чеснокова. М.: Ладомир;
Наука, 2004. — 313 с. (Литературные памятники)
ISBN 5-86218449-Х
В книге публикуется новый русский перевод замечательного романа В. Скотта «Обрученная»
(1825). В его основе — популярный средневековый мотив возвращения крестоносца на родину со
Святой Земли. Увлекательный рыцарский сюжет разворачивается в эпоху легендарного
валлийского Средневековья, воспетого бардами и прославленного хронистами. Политика и поэзия,
история и вымысел, мистика и грубоватый народный юмор — все это соединяется в уникальном
синтезе, характерном для лучших творений В. Скотта. Авторское предисловие к роману
приоткрывает тайны писательского мастерства «шотландского чародея».
Публикуемый перевод романа выполнен специально для настоящего издания. Издание
сопровождается научным аппаратом, включающим статью и подробные примечания.
Для широкого круга читателей.
Научное издание
ВАЛЬТЕР СКОТТ
Обрученная
Утверждено к печати
Редакционной коллегией серии
«Литературные памятники»
Редактор А. В. Дорошев
Корректор О. Г. Паренкова
Компьютерная верстка В. Г. Курочкин
ИД № 02944 от 03.10.2000 г.
Сдано в набор 26.06.2004. Подписано в печать 30.11.2004.
Формат 70x90 ^б- Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Баскервиль».
Печать офсетная. Печ. л. 20. Тираж 2000 экз.
Зак. № 218 8
Научно-издательский центр «Ладомир»
124681, Москва, ул. Заводская, д. 6-а
Тел. склада: (095) 533-84-77. E-mail: ladomir@mail.compnet.ru
lomonosowbook@mtu-net.ru
Отпечатано с оригинал-макета
ООО ПФ «Полиграфист»
160001, Вологда, Челюскинцев, 3
ISBN 5-86218-449-Х
ВНИМАНИЮ УВАЖАЕМЫХ
ИССЛВДОВА1ЕЛЕЙ И ПЕРЕВОДЧИКОВ
Если вы ощущаете в себе силы подготовить целый том, либо лишь
научный аппарат, либо квалифицированный перевод для академической серии
«Литературные памятники» направляйте, пожалуйста, заявки по адресу:
124681, Москва, ул. Заводская, 6-а
Научно-издательский центр «Ладомир».
Для Редколлегии серии «ЛП».
E-mail: ladomir@mail.compnet.ru
lomonosowbook@mtu-net.ru
Тел.: (095) 537-98-33
УВАЖАЕМЫЕ ЦЕНИТЕЛИ И СОБИРАТЕЛИ
СЕРИИ «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ»
Многие из вас, по-видимому, догадываются, сколь сложно в нынешних
экономических условиях выпускать книги этой старейшей в нашей
стране и авторитетнейшей среди отечественных ученых и библиофилов серии.
Ведь к участию в ней привлекаются лишь лучшие специалисты. Между
тем затраты на новые «литпамятники» давно не покрываются доходами
от их реализации. От некоторых заманчивых, но чересчур финансовоем-
ких идей приходится отказываться.
В то же время известно, что успешные коммерческие организации,
пекущиеся о будущем страны, расходуют значительные средства на
благотворительные цели, в том числе и в сфере культуры. И потому
научно-издательский центр «Ладомир» имеет честь предложить состоятельным
предпринимателям-книголюбам стать спонсорами новых и продолжающихся проектов
серии, о чем в книгах будут, разумеется, сделаны соответствующие
памятные записи. Требуются не такие уж и большие деньги, но это позволит
осуществиться тем интереснейшим замыслам, которые по прошествии
некоторого времени, возможно, уже и некому будет реализовывать. Истинным
знатокам и ценителям настоящих «литпамятников», останется тогда лишь
горестно вздыхать и сокрушаться об упущенных возможностях.
Давайте вместе не допустим этого!
Наш адрес:
124681, Москва, ул. Заводская, 6-а
Научно-издательский центр «Ладомир».
E-mail: ladomir@mail.compnet.ru
lomonosowbook@mtu-net.ru
Тел.: (095) 537-98-33.
НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ЛАДОМИР»
ПЛАНИРУЕТ К ИЗДАНИЮ
Серия «Литературные памятники»
М.-М. ДЕ ЛАФАЙЕТ
Сочинения
Мари-Мадлен де Лафайет (1634—1639) — родоначальница жанра любовно-
психологического романа, безусловно, наиболее яркая и талантливая из
славной плеяды женщин-писательниц XVII в. Ее творения, относящиеся к
вершинам французской прозы, отечественному читателю практически незнакомы.
В предлагаемой книге впервые в России собраны все известные
художественные произведения легендарного автора «Принцессы Клевской». Более
трех веков они восхищают любителей изящной словесности динамизмом
сюжетов, вьфазительностью языка, незаурядным мастерством в передаче
любовных переживаний героев.
Переводы осуществлены специально для данного издания, снабженного
обстоятельной статьей и подробными примечаниями.
Любые книги «Ладомира»
можно заказать наложенным платежом
по адресу: 124681, Москва, Заводская, д. 6а, НИЦ «Ладомир».
Тел.: (095) 537-98-33;
тел. склада: (095) 533-84-77.
E-mail: ladomir@mail.compnet.ru
lomonosowbook@mtu-net.ru
Для получения бесплатного перспективного плана издательства
и бланка заказа вышлите по этому же адресу
маркированный конверт.
НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ЛАДОМИР»
ПЛАНИРУЕТ К ИЗДАНИЮ
Серия «Литературные памятники»
Ф. СУЛЬЕ
Межуры Дьявола
Фредерик Сулье (1800—1848) — популярнейший французский прозаик, поэт
и драматург, один из основоположников жанра романа-фельетона. На стезе
массовой беллетристики он первым в XIX в. (раньше А. Дюма и Э. Сю)
добился исключительного всеевропейского успеха. Современники порой ставили
этого автора выше О. де Бальзака. «Мемуары Дьявола» — лучшее
произведение Сулье. Оно вобрало в себя опыт «готической» литературы,
исторического и социального романа. Увлекательная интрига, выразительные
портреты героев, роковые страсти и, одновременно, назидательный пафос, умение
воссоздать вполне узнаваемые подробности реальной жизни — все это,
несомненно, по достоинству оценит и сегодняшний читатель.
Книга впервые переведена на русский язык и снабжена обстоятельным
научным аппаратом — не только статьей о творчестве Ф. Сулье, но и подробными
примечаниями, которым нет аналога даже во французских изданиях романа.
Любые книги «Ладомира»
можно заказать наложенным платежом
по адресу: 124681, Москва, Заводская, д. 6а, НИЦ «Ладомир».
Тел.: (095) 537-98-33;
тел. склада: (095) 533-8477.
E-mail: ladomir@mail.compnet.ru
lomonosowbook@mtu-net.ru
Для получения бесплатного перспективного плана издательства
и бланка заказа вышлите по этому же адресу
маркированный конверт.
НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ЛАДОМИР»
ПЛАНИРУЕТ К ИЗДАНИЮ
Серия «Литературные памятники»
Ж. МАРТУРЕЛЬ
Тирант Белый
Роман Жуанота Мартуреля и Марта Жуана де Галбы, повествующий о
полной приключений и подвигов жизни благородного Тиранта Белого, —
крупнейший памятник мировой литературы, стоящий в одном ряду с такими
шедеврами, как «Смерть Артура» и «Дон-Кихот». Названный самим М. де
Сервантесом «сокровищницей наслаждений», он представляет собой важнейшую веху
на пути от средневекового рыцарского романа к роману Нового времени.
Многообразие персонажей и сюжетных линий, умелое сочетание серьезного и
комического, а также жанрово-стилевая полифония делают это произведение
увлекательным и для современного читателя.
Впервые за свою более чем полутысячелетнюю историю «Тирант Белый»
переведен на русский язык. Издание снабжено академической статьей и
подробным научным комментарием.
Любые книги «Ладомира»
можно заказать наложенным платежом
по адресу: 124681, Москва, Заводская, д. 6а, НИЦ «Ладомир».
Тел.: (095) 537-98-33;
тел. склада: (095) 533-84-77.
E-mail: ladomir@mail.compnet.ru
lomonosowbook@mtu-net.ru
Для получения бесплатного перспективного плана издательства
и бланка заказа вышлите по этому же адресу
маркированный конверт.
НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ЛАДОМИР»
ПЛАНИРУЕТ К ИЗДАНИЮ
Серия «Литературные памятники»
С. БАТЛЕР
Путь всякой плоти
В английской литературе второй половины XIX в. С. Батлеру (1835—1902)
принадлежит весьма видное место. В жанре фантастического гротеска он
возродил свифтовскую традицию, а в жанре «романа воспитания»
предвосхитил тенденции, в полной мере развившиеся в европейской
психологической прозе XX в. При создании «Пути всякой плоти» с немыслимой для того
времени откровенностью он использовал личный жизненный опыт.
Автобиографичность придает его повествованию особую остроту. В романе
прослеживается формирование характера и духовное становление сына священника.
Перед читателем проходят картины печального, искалеченного деспотичным
произволом воспитателей, детства главного героя, полной лишений и
разочарований юности и, наконец, зрелости — поры, когда он обретает себя в
творческом труде — писательской деятельности.
Самое предпочтительное занятие Батлера-романиста — философские
размышления, основная форма изложения — аллегория и сатира,
излюбленное средство — парадокс.
Любые книги «Ладомира»
можно заказать наложенным платежом
по адресу: 124681, Москва, Заводская, д. 6а, НИЦ «Ладомир».
Тел.: (095) 537-98-33;
тел. склада: (095) 533-84-77.
E-mail: ladomir@mail.compnet.ru
lomonosowbook@mtu-net.ru
Для получения бесплатного перспективного плана издательства
и бланка заказа вышлите по этому же адресу
маркированный конверт.