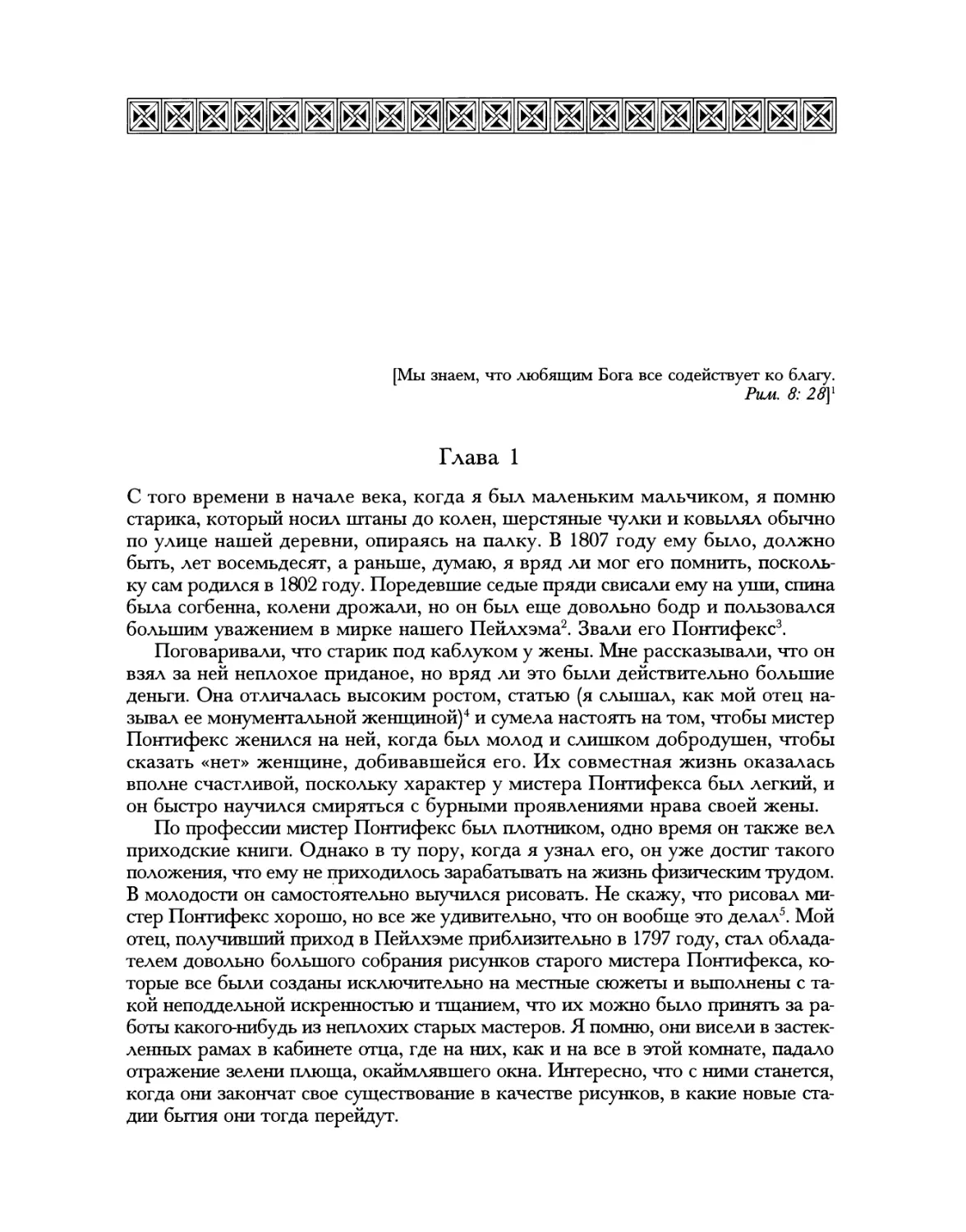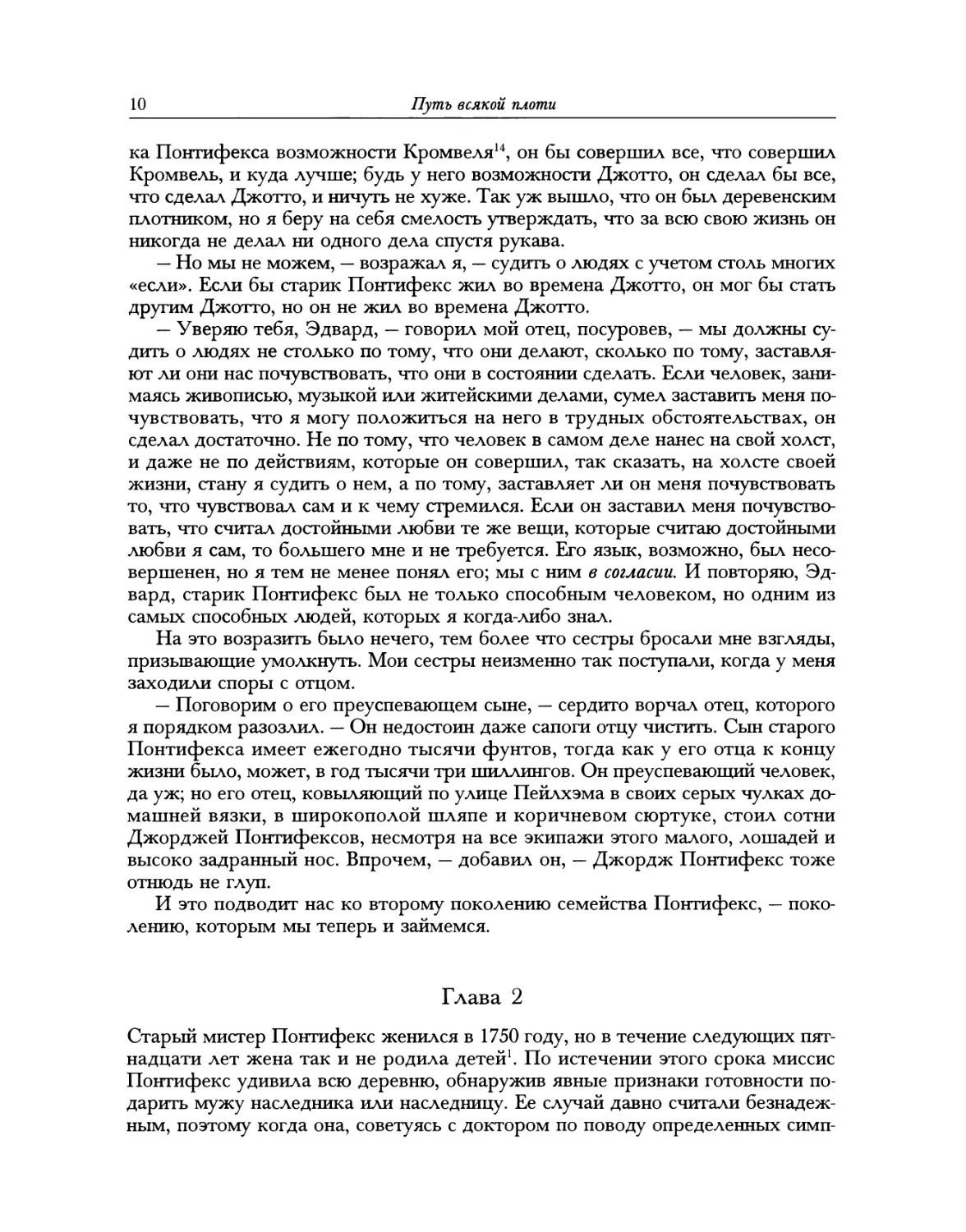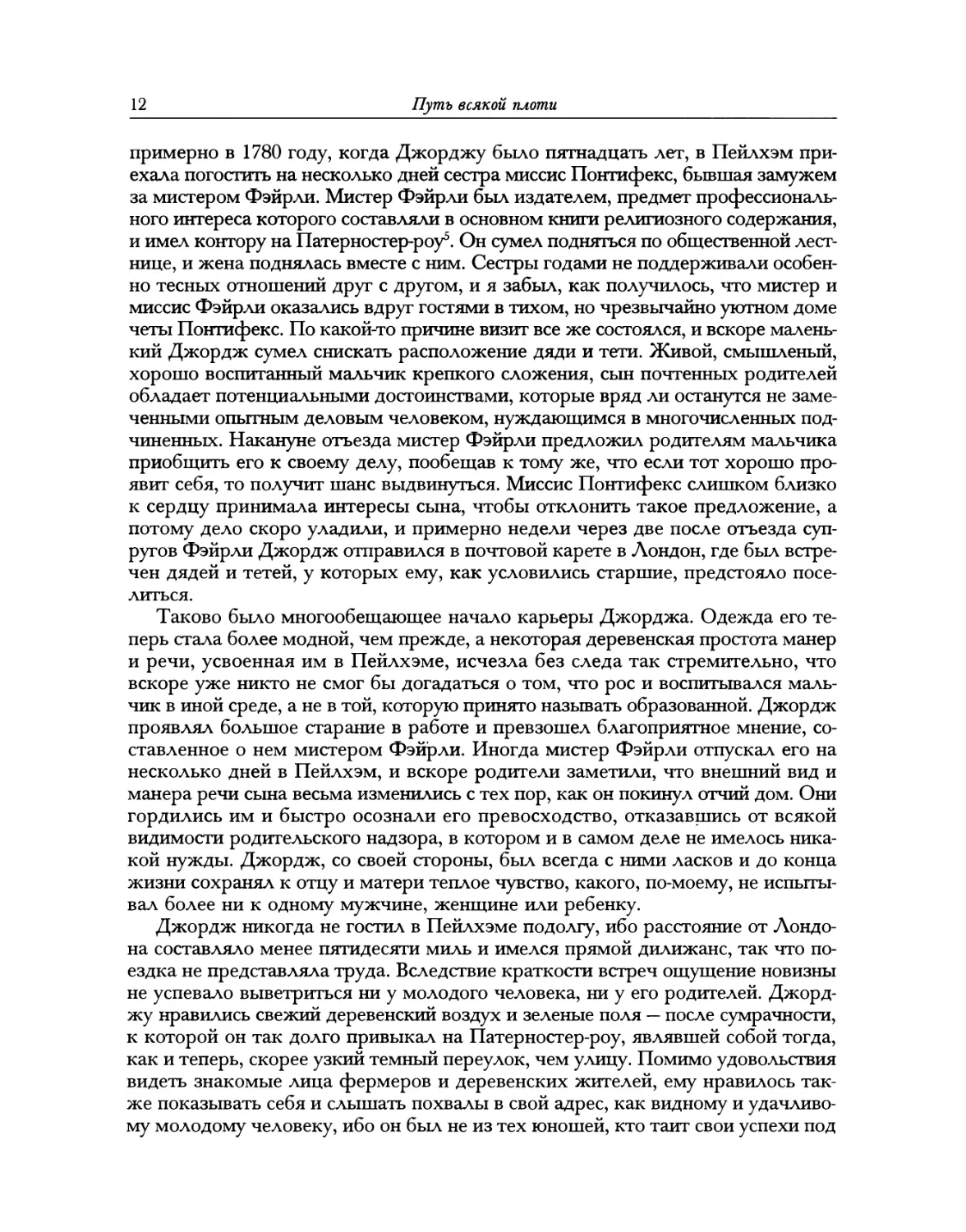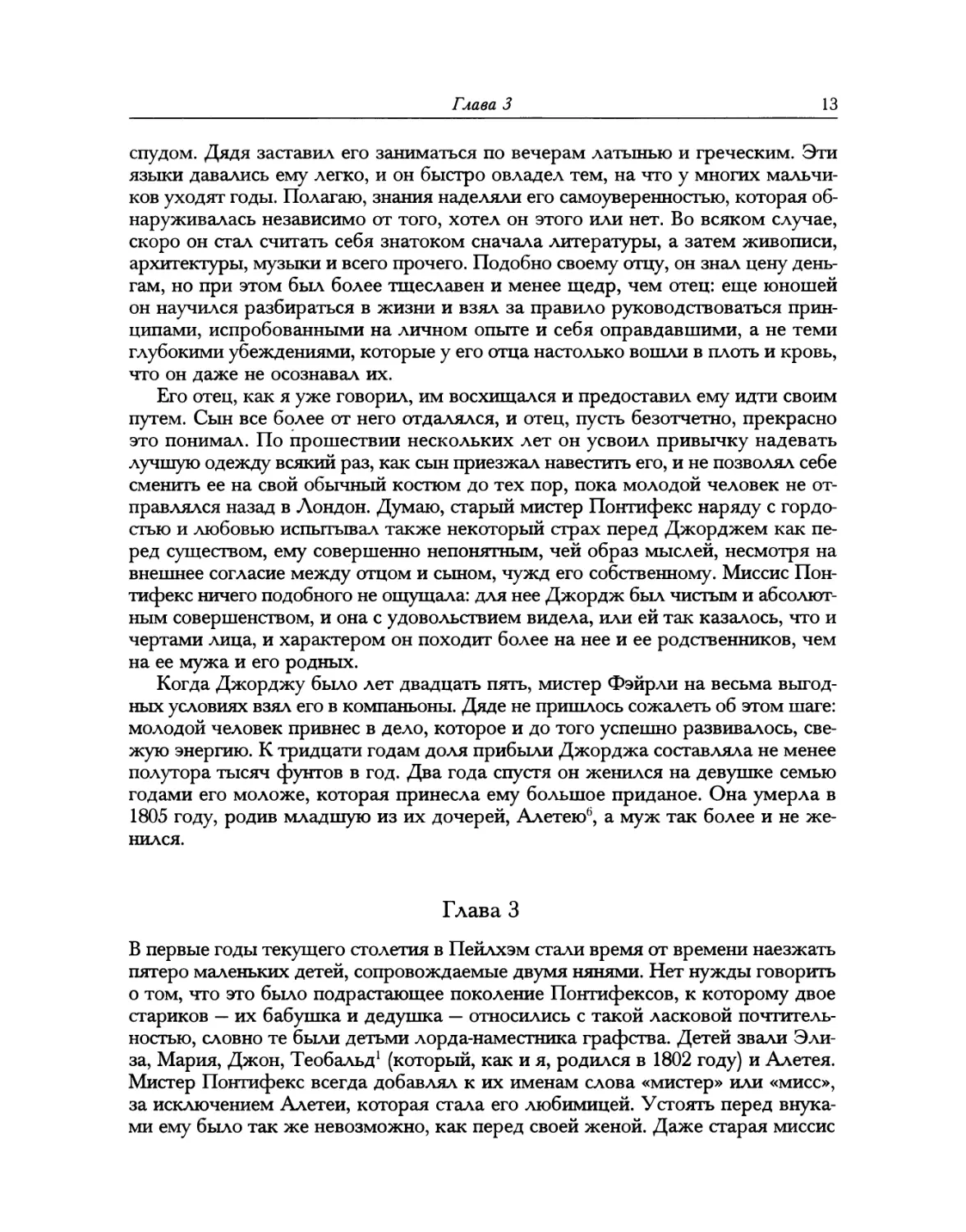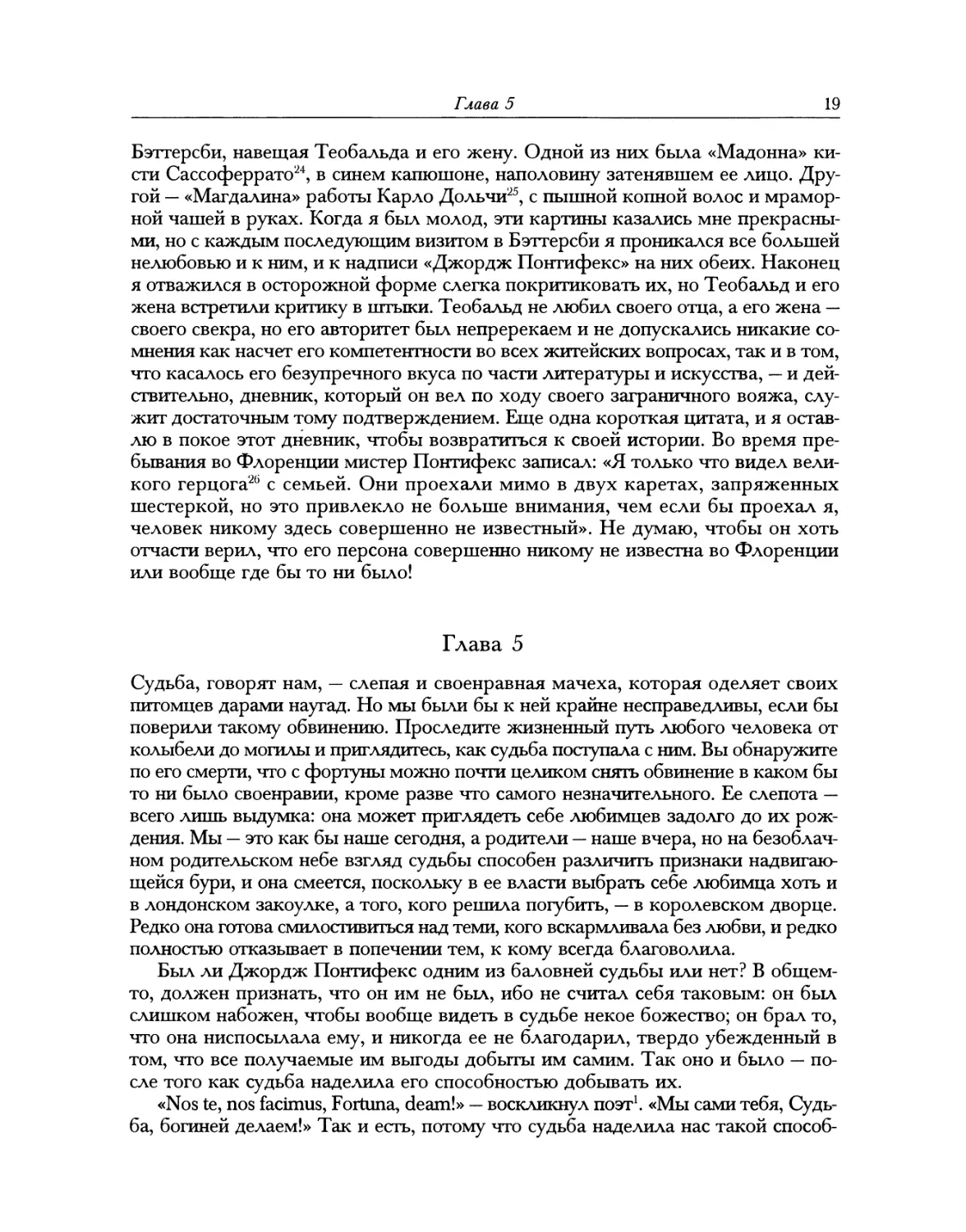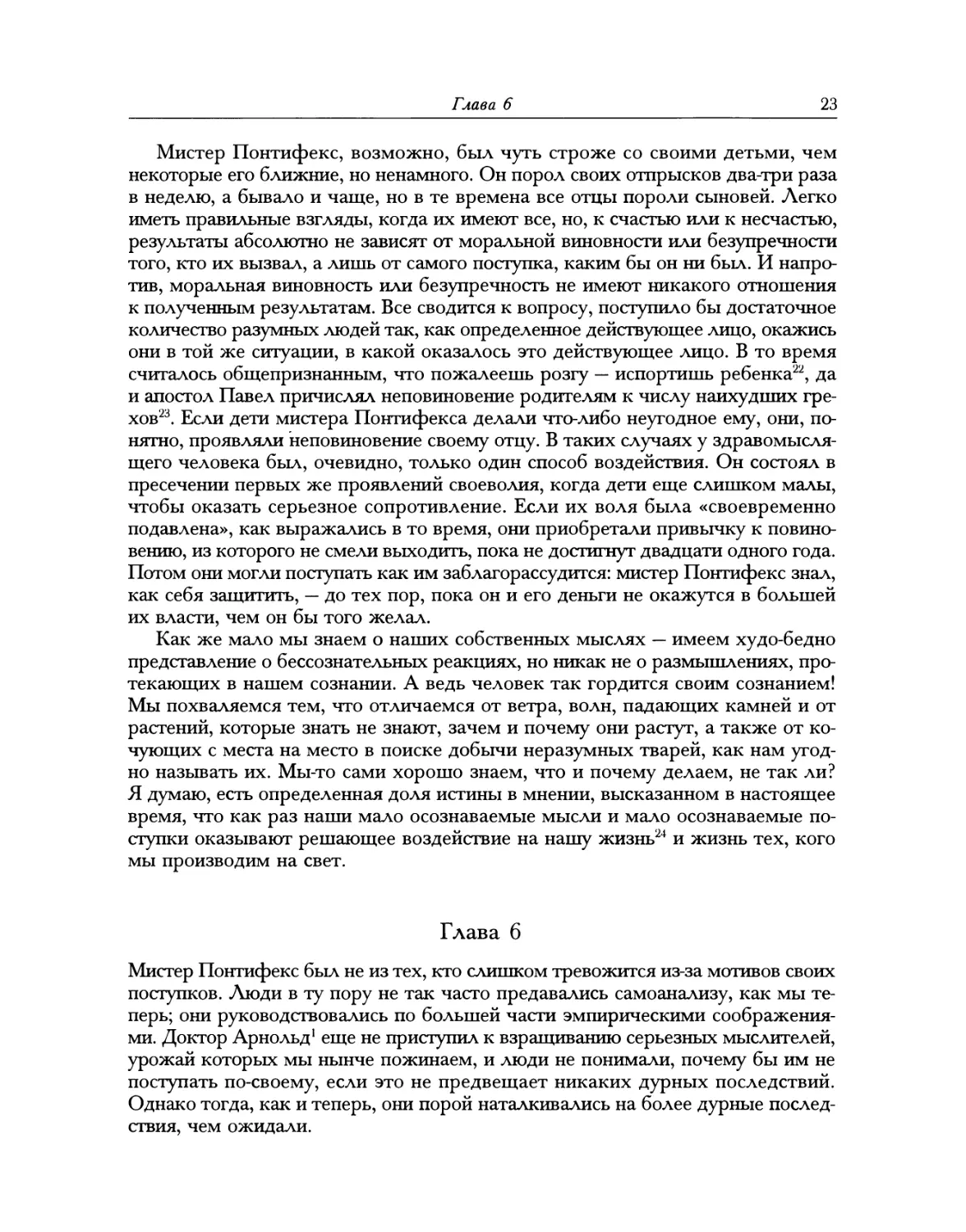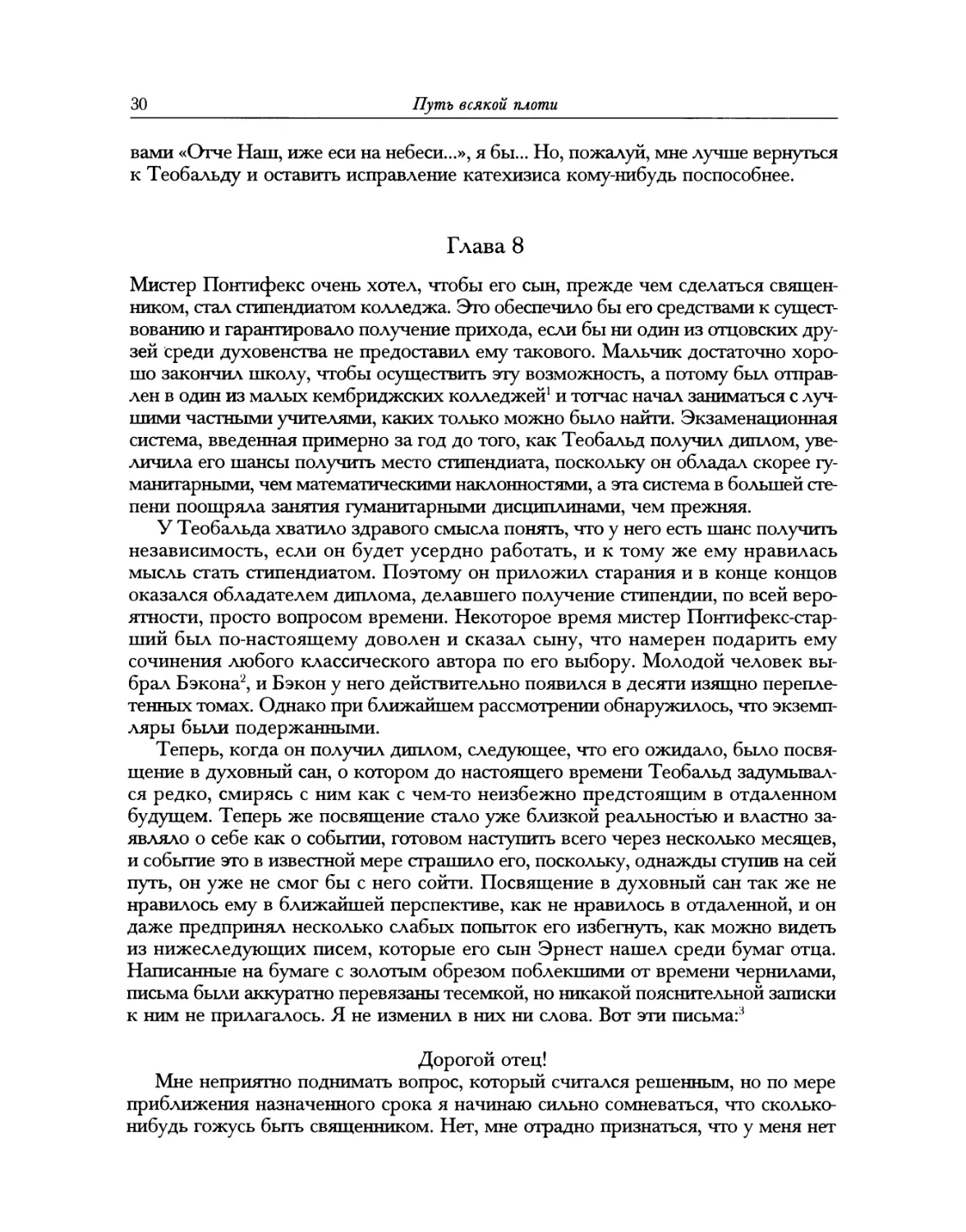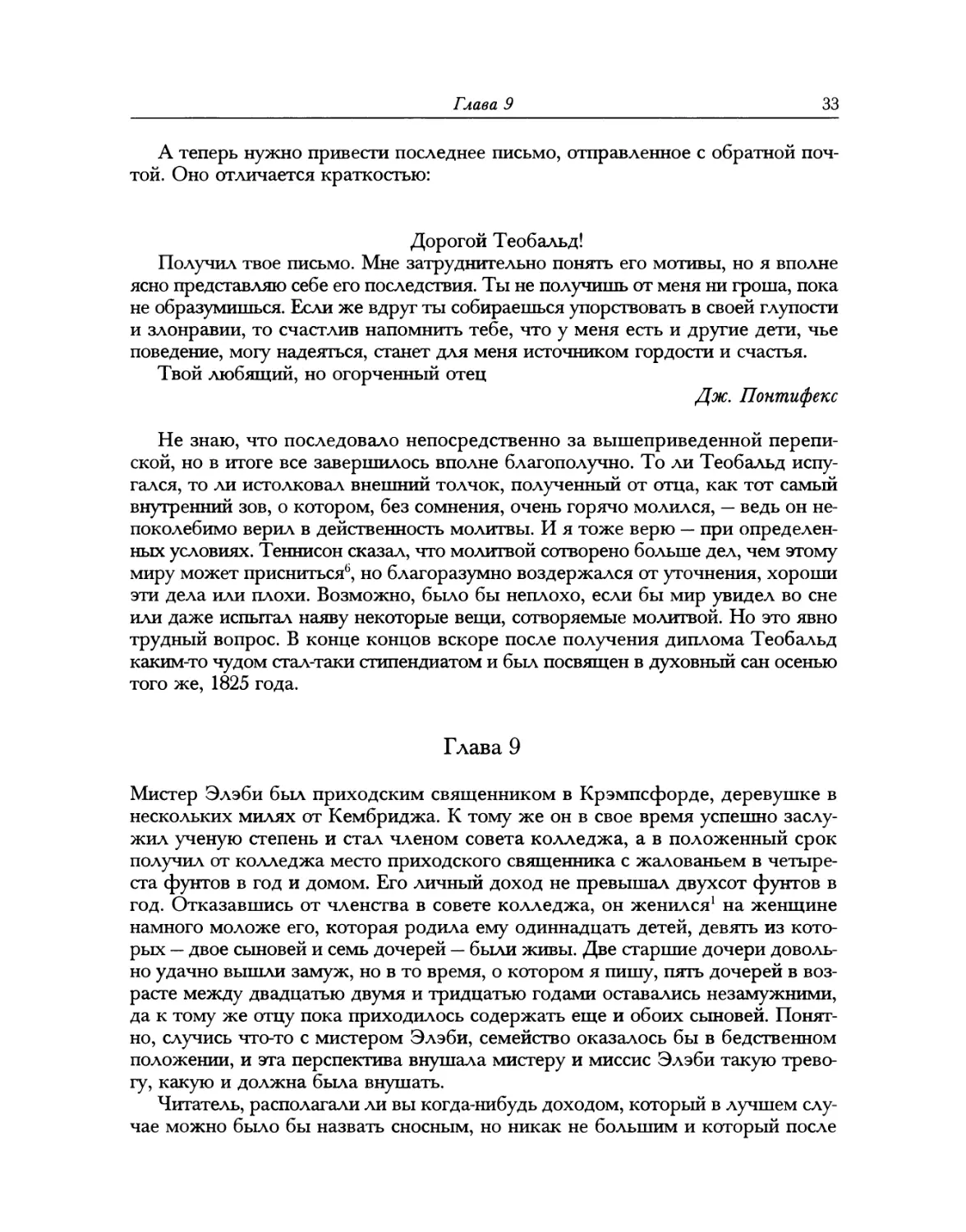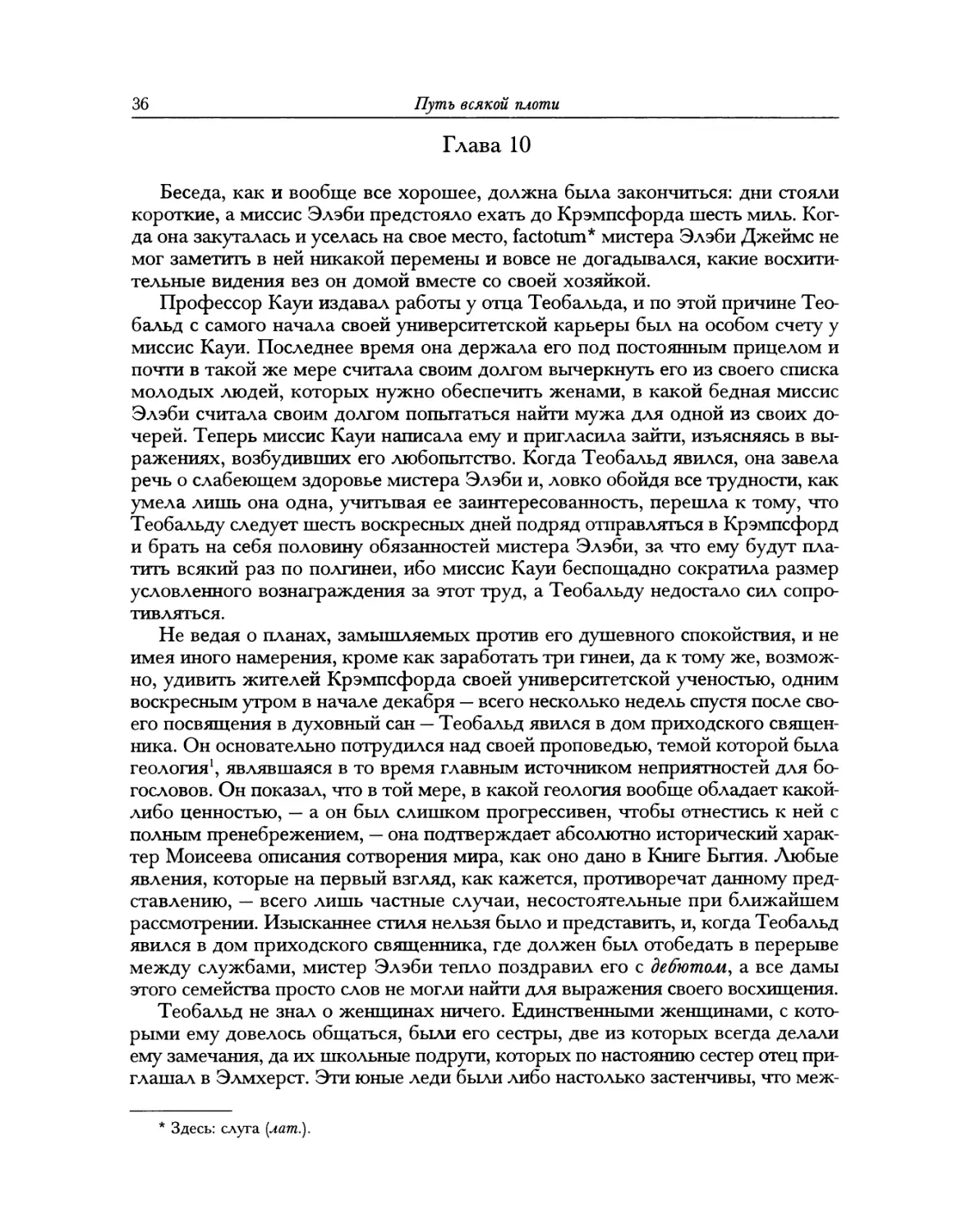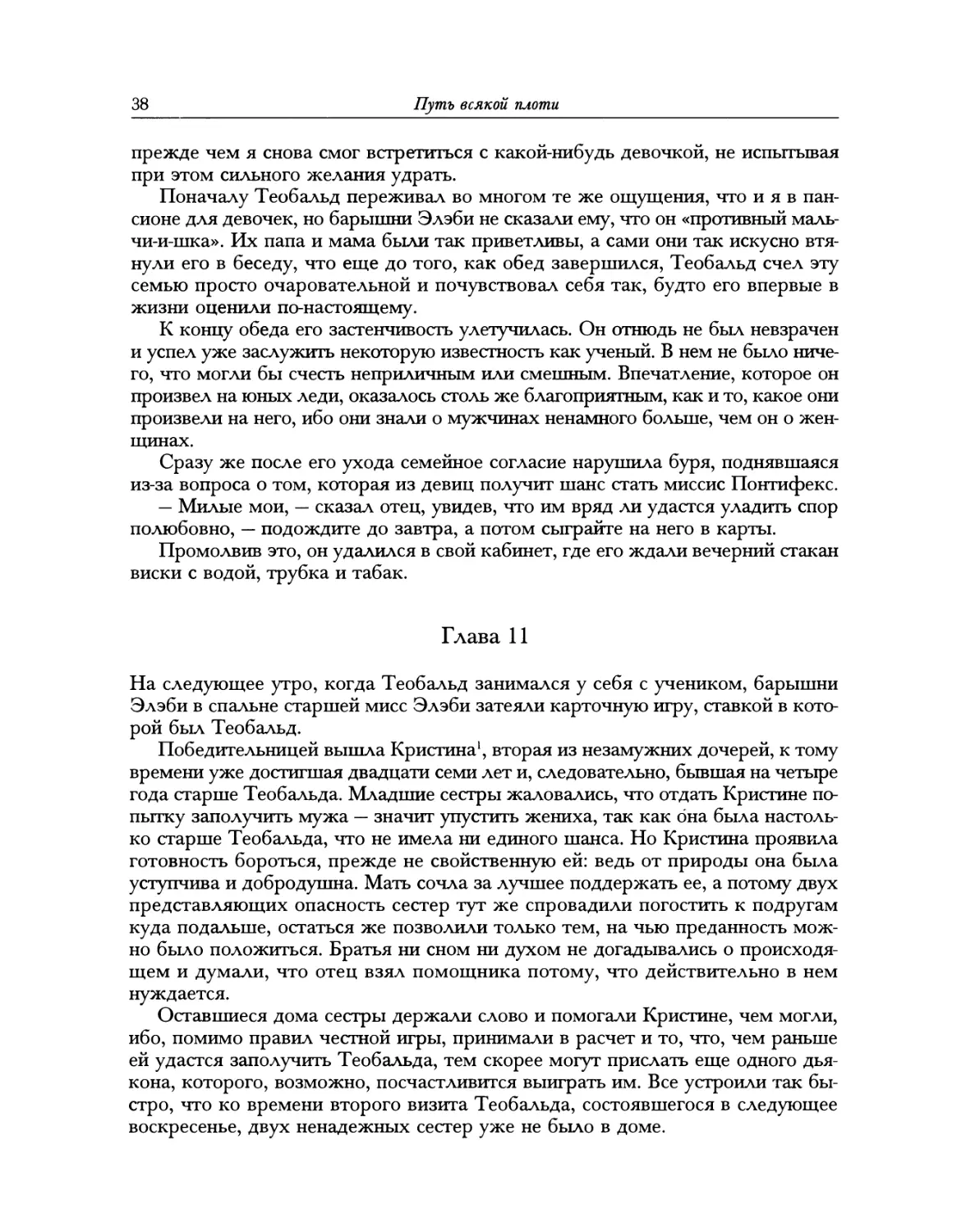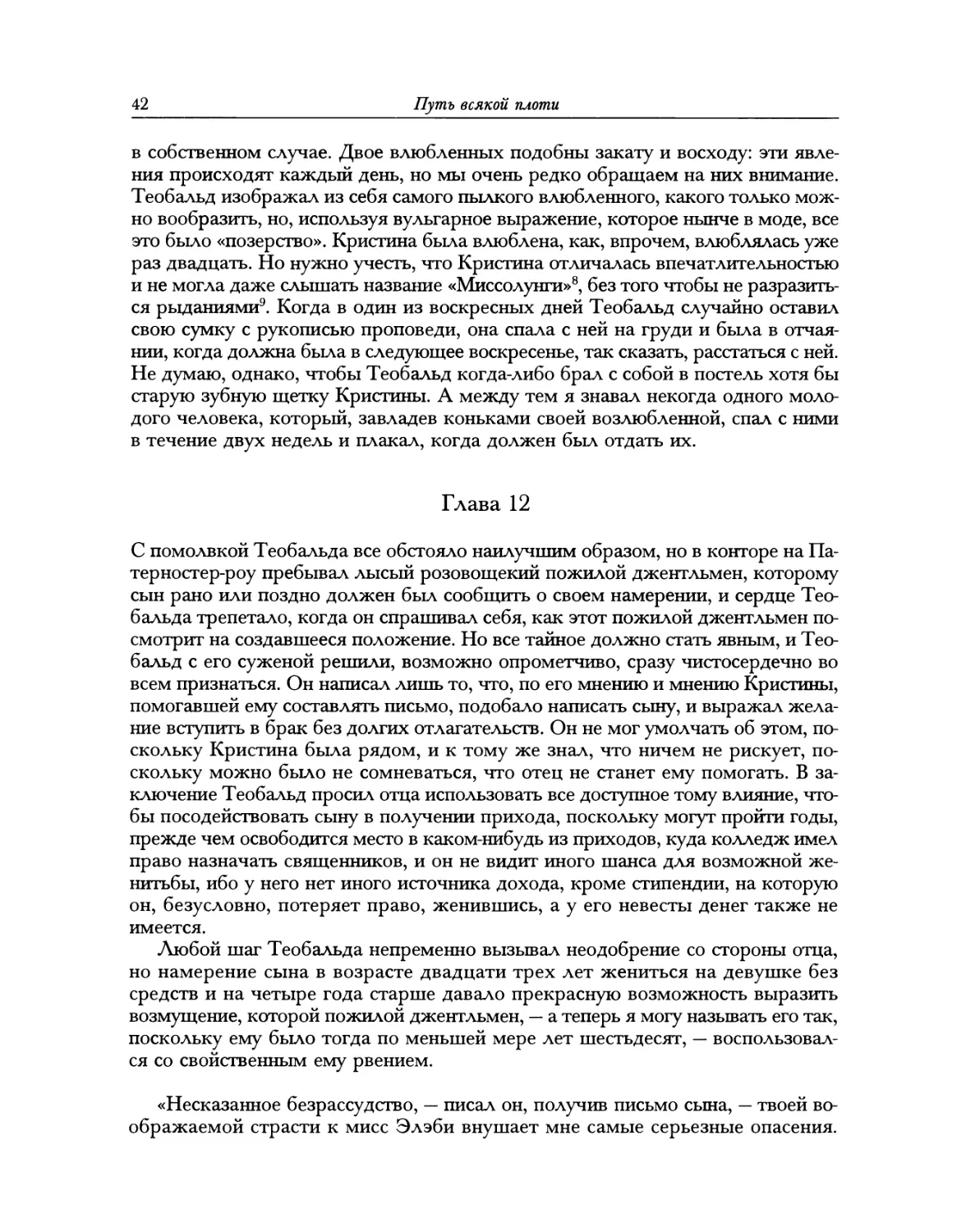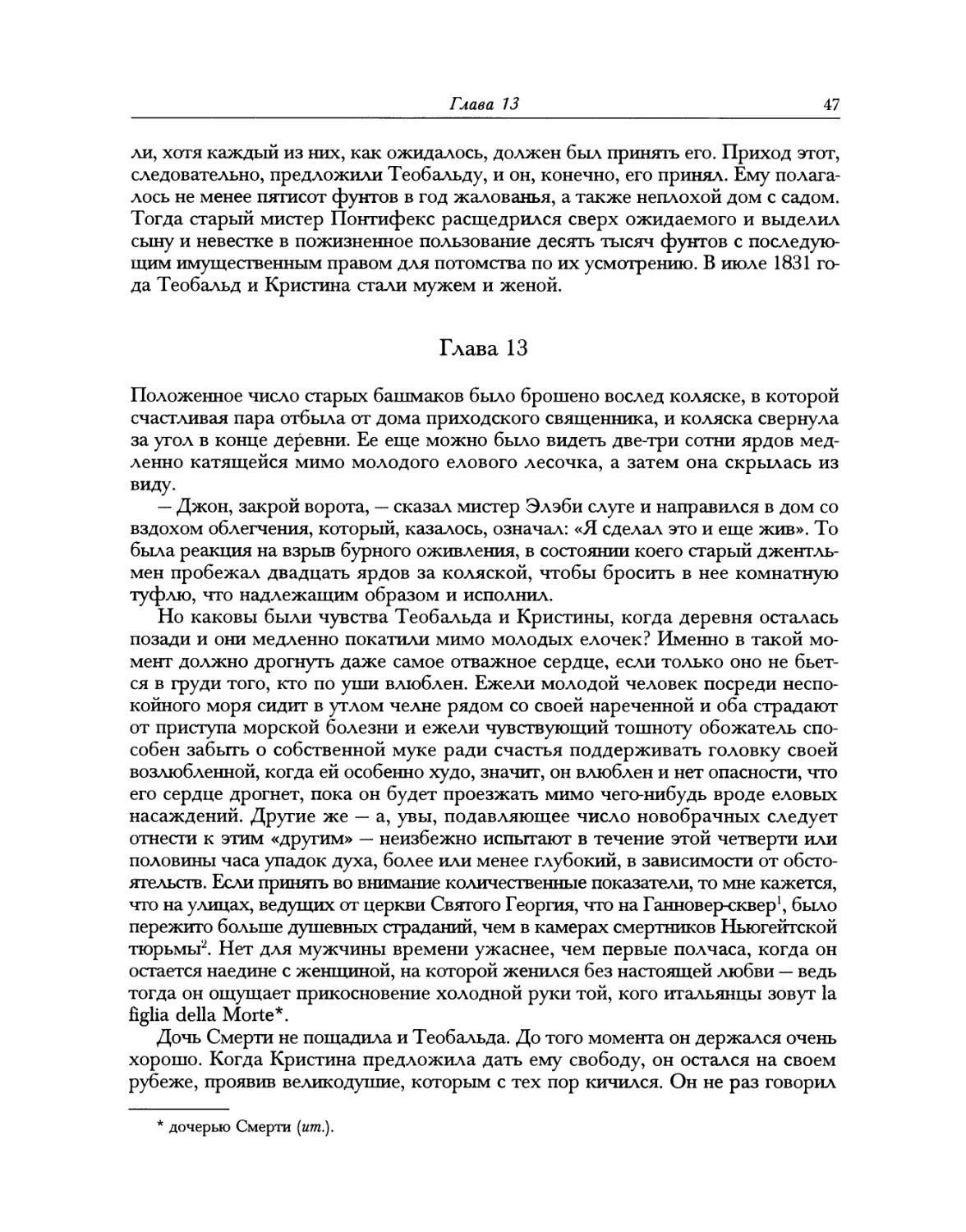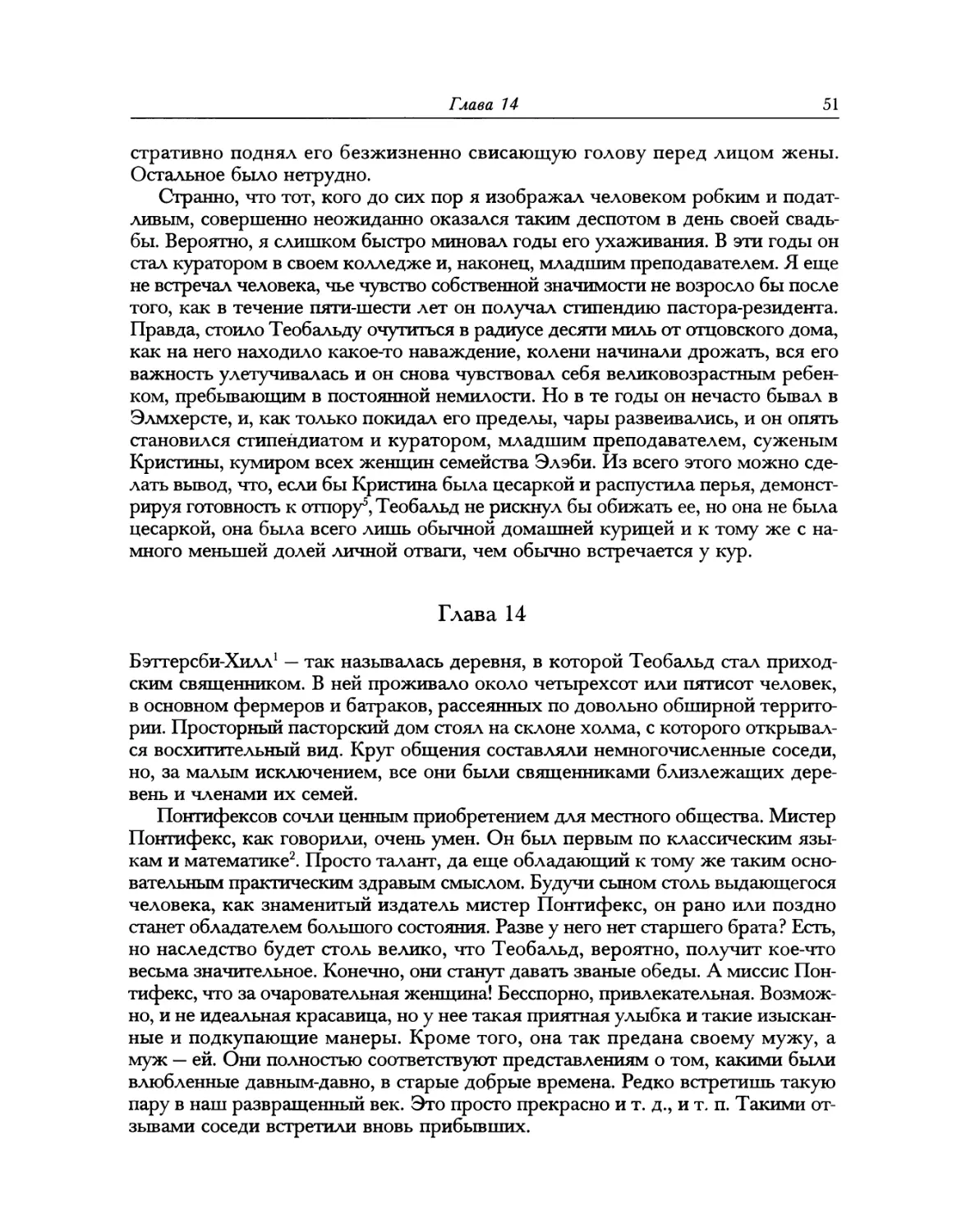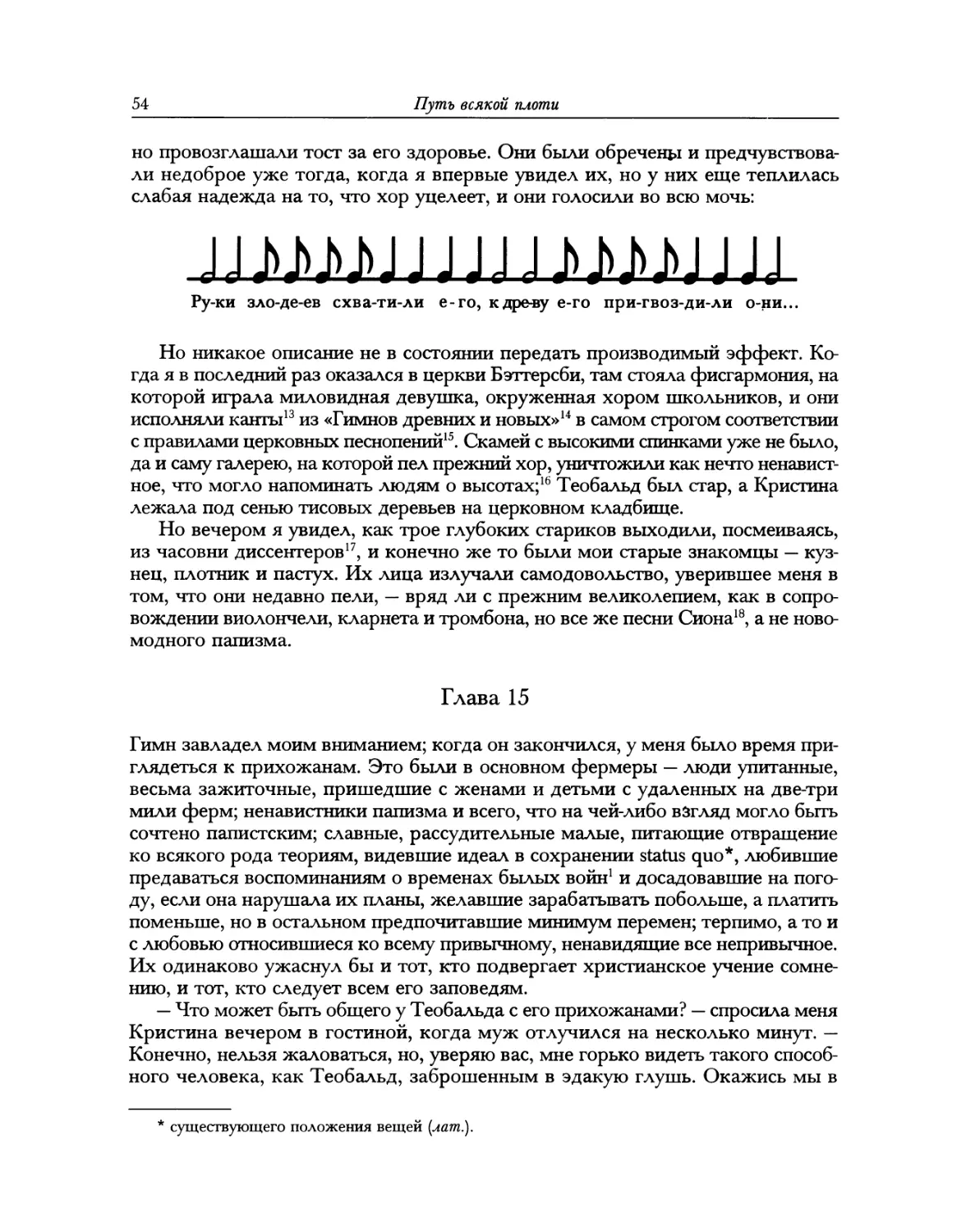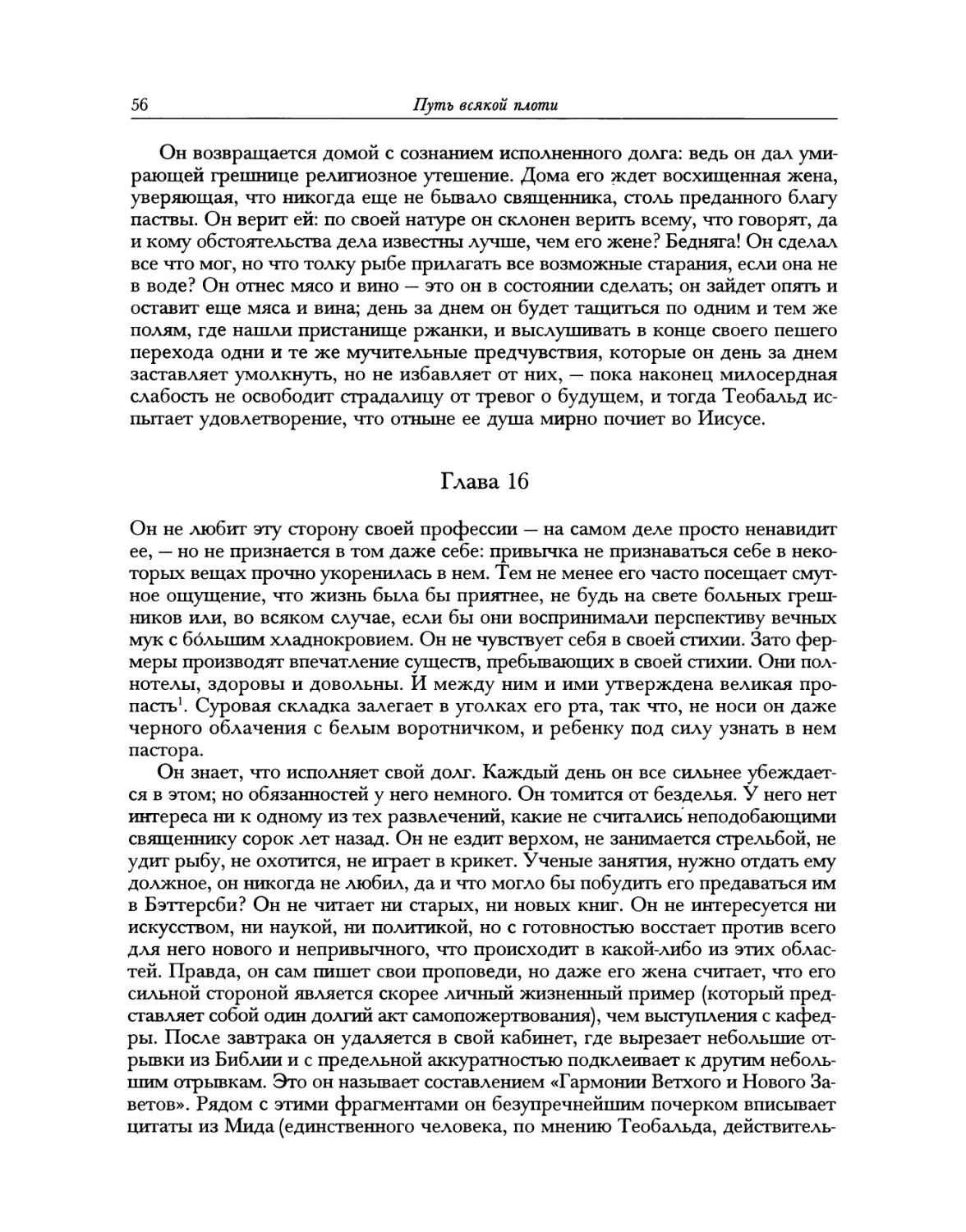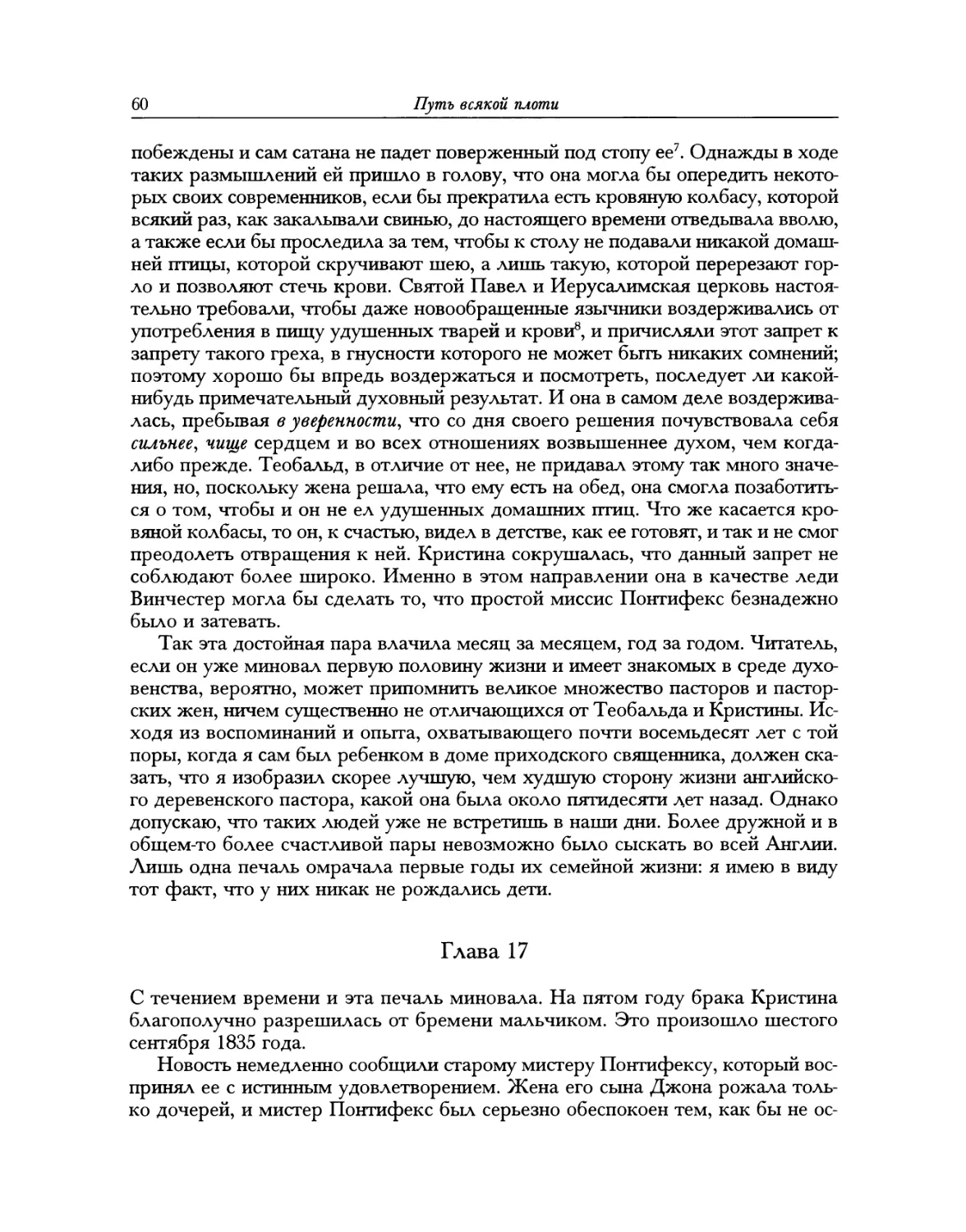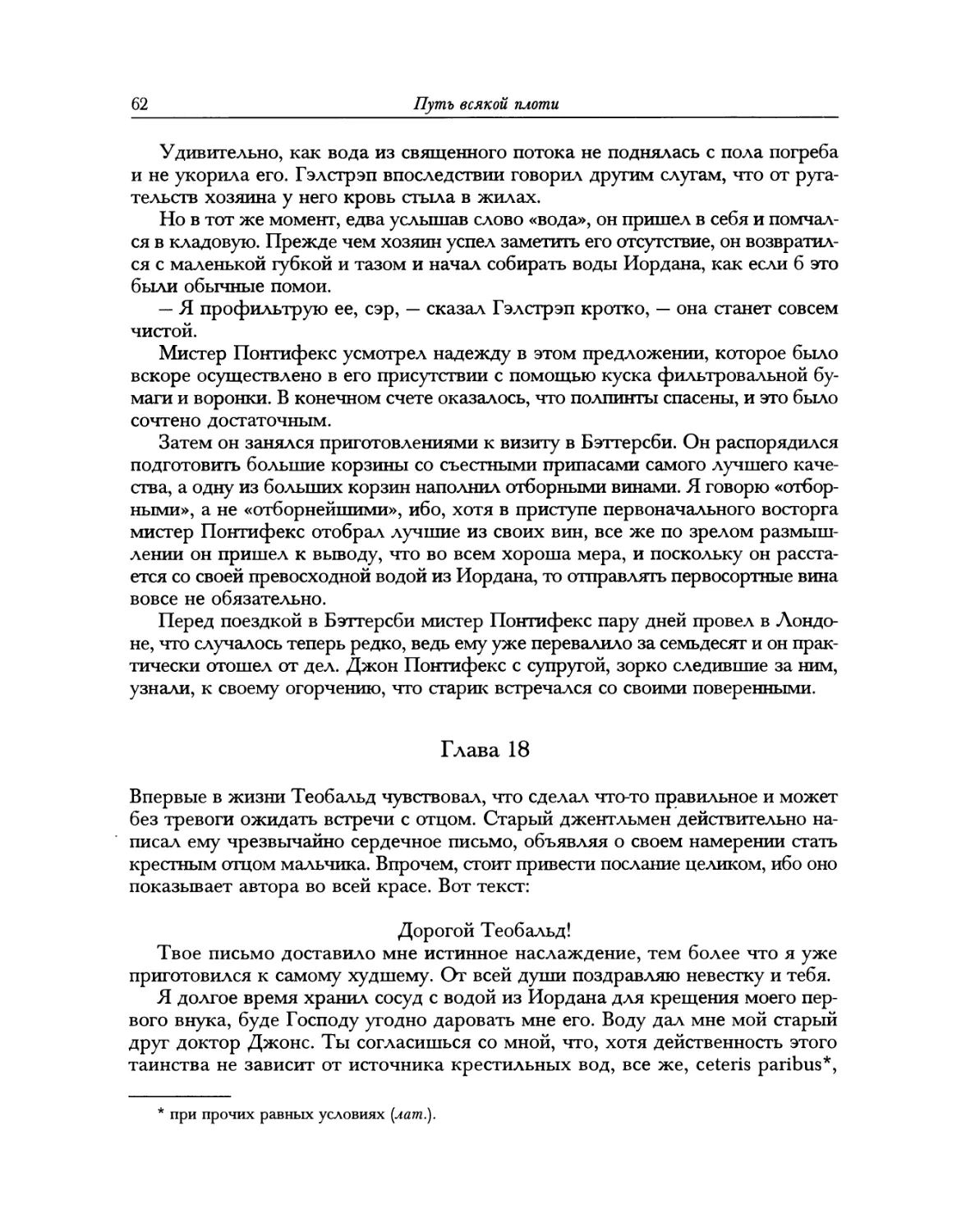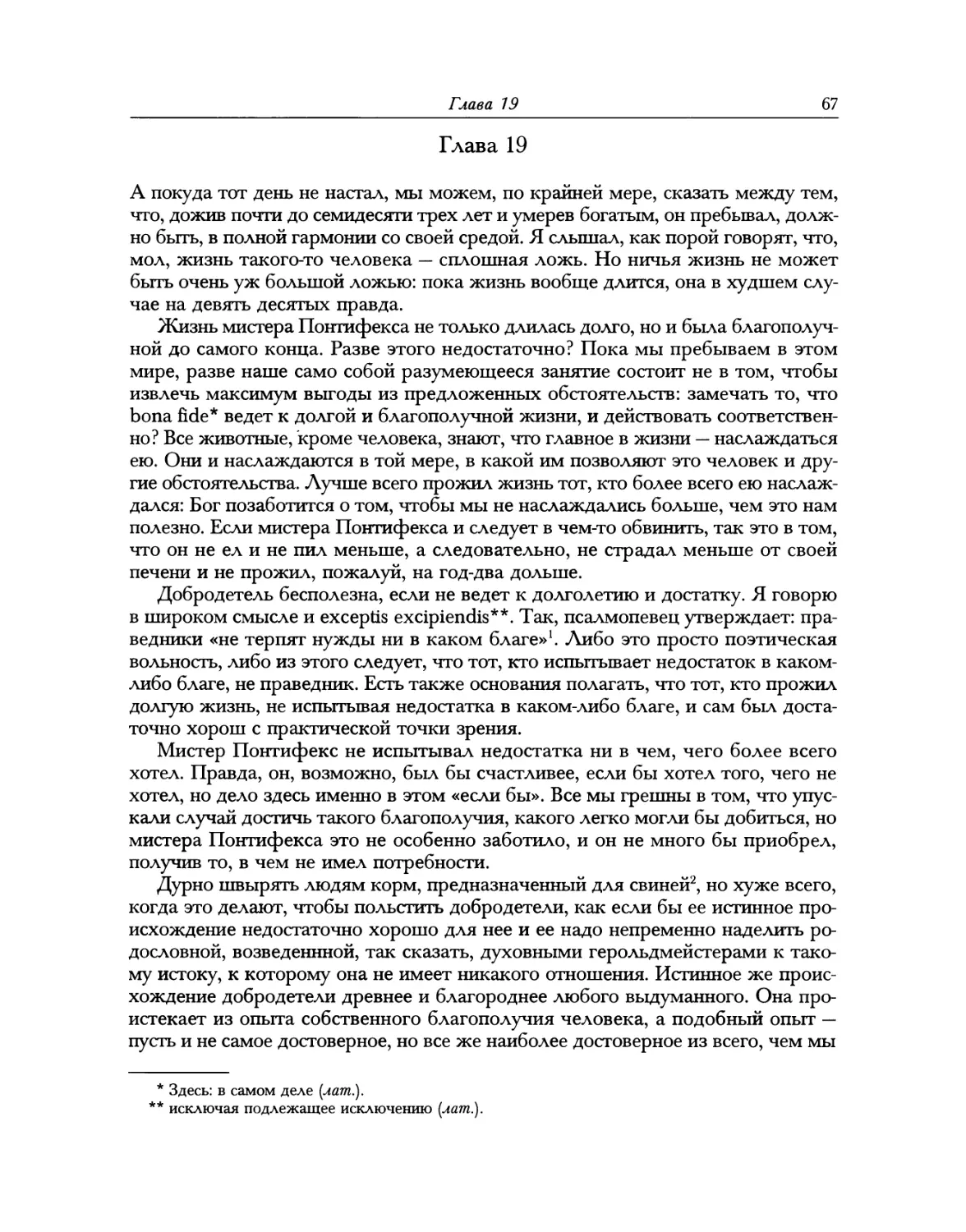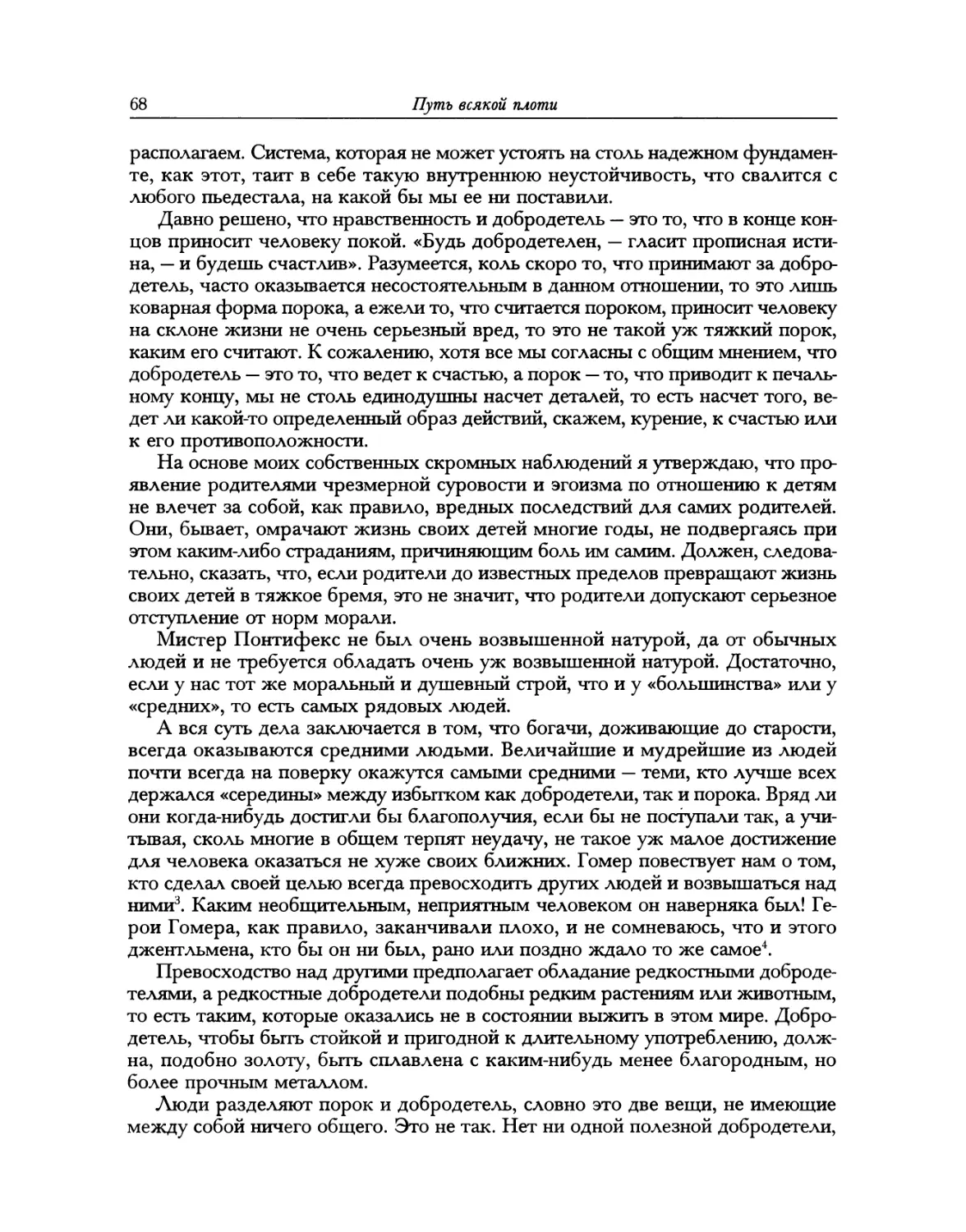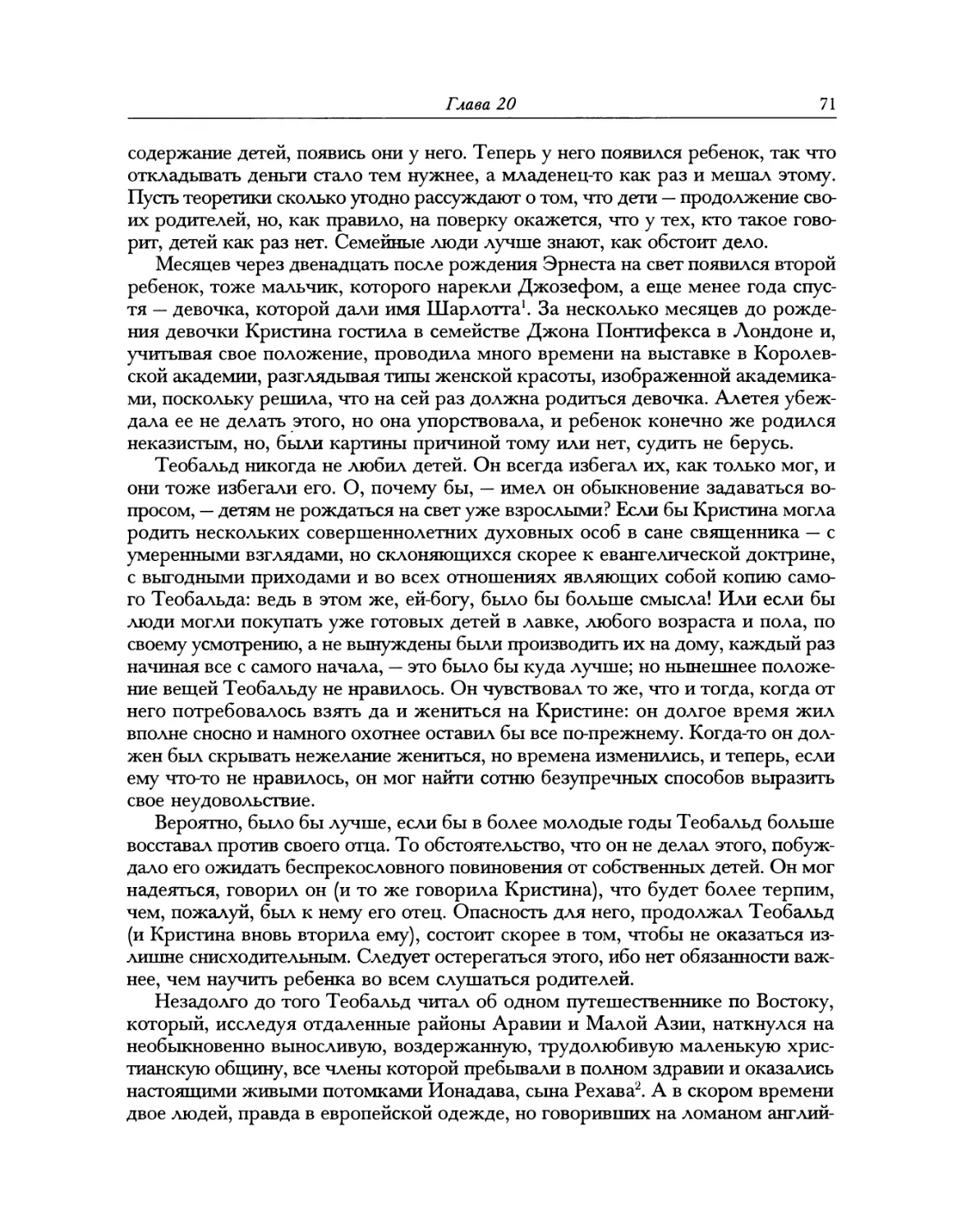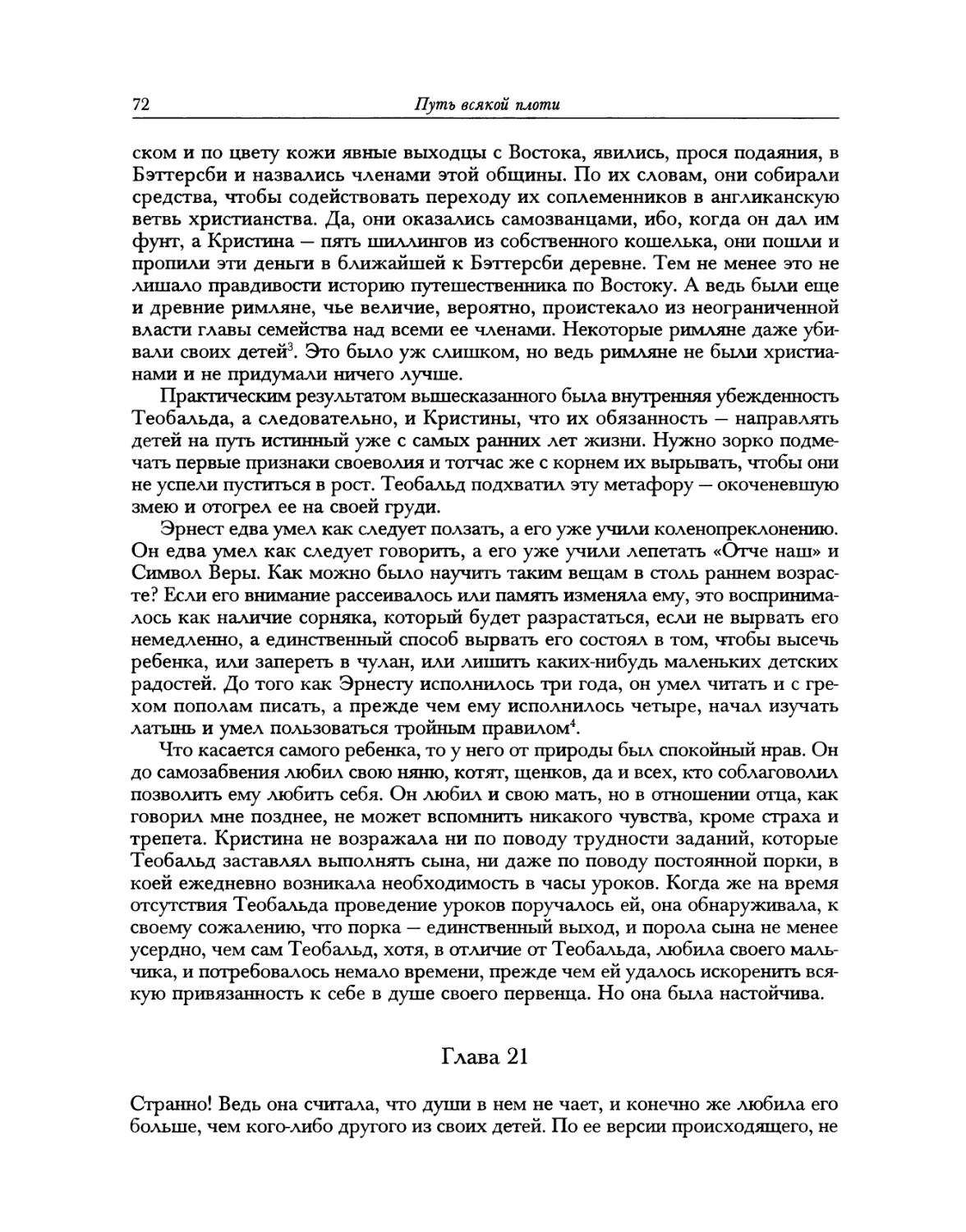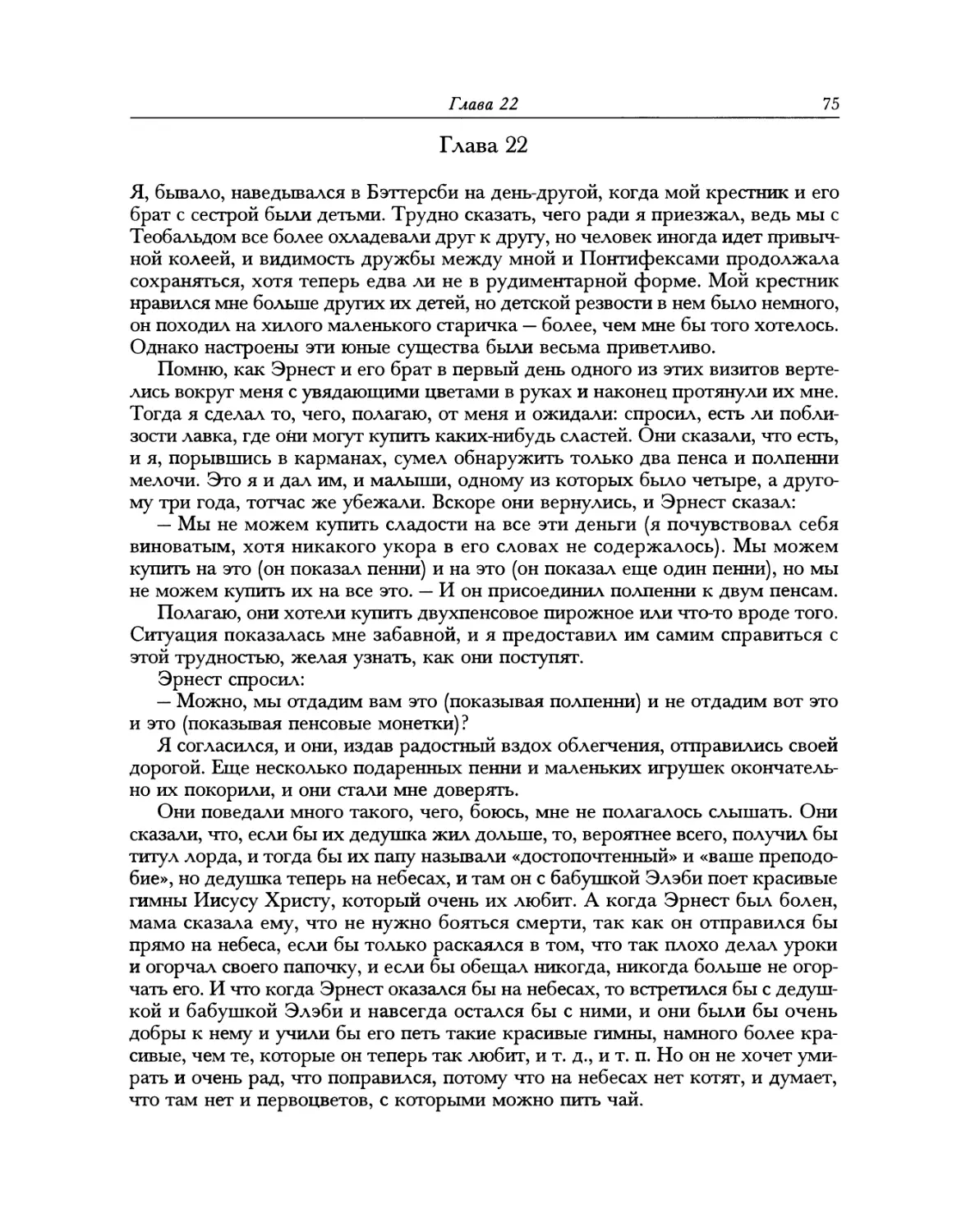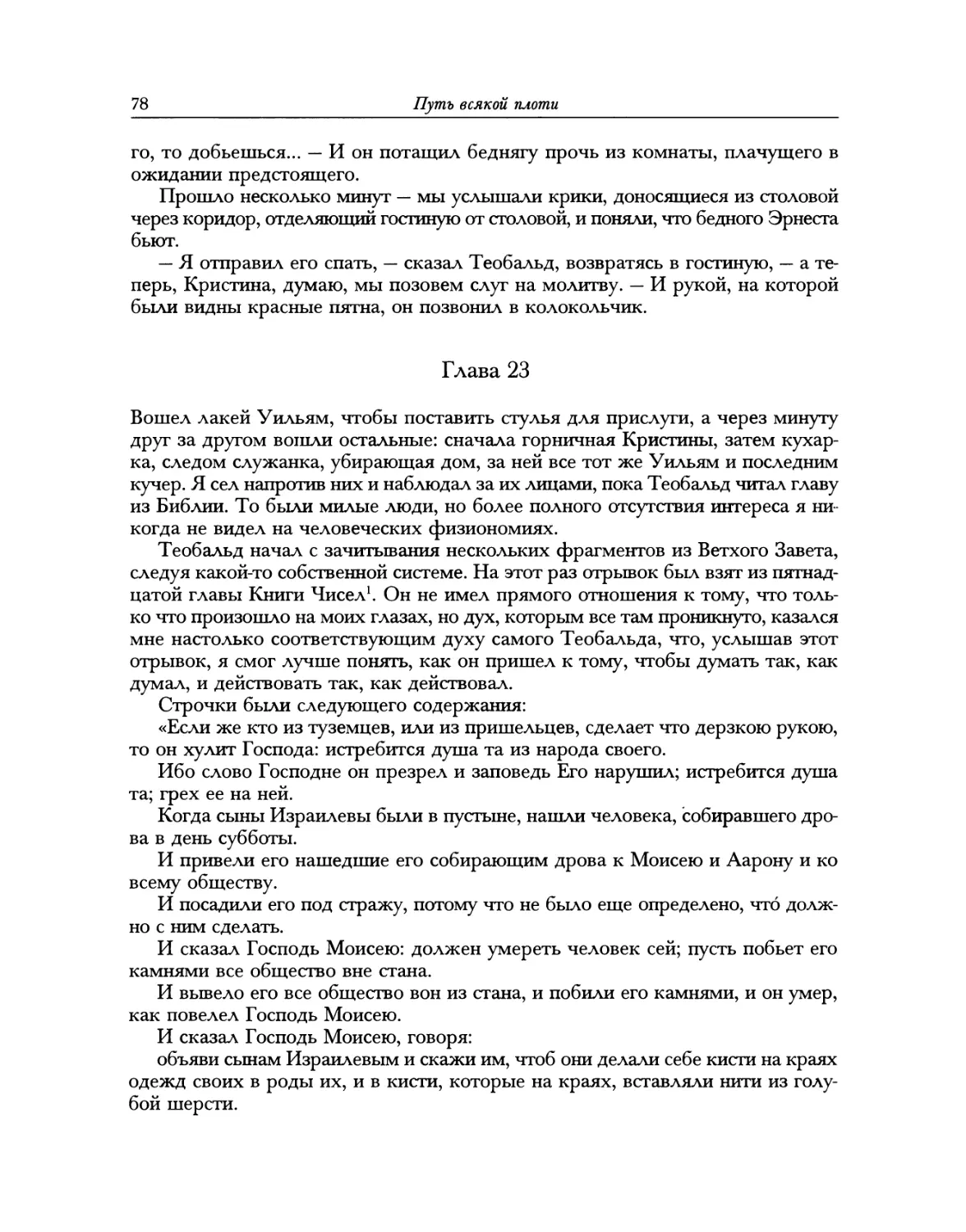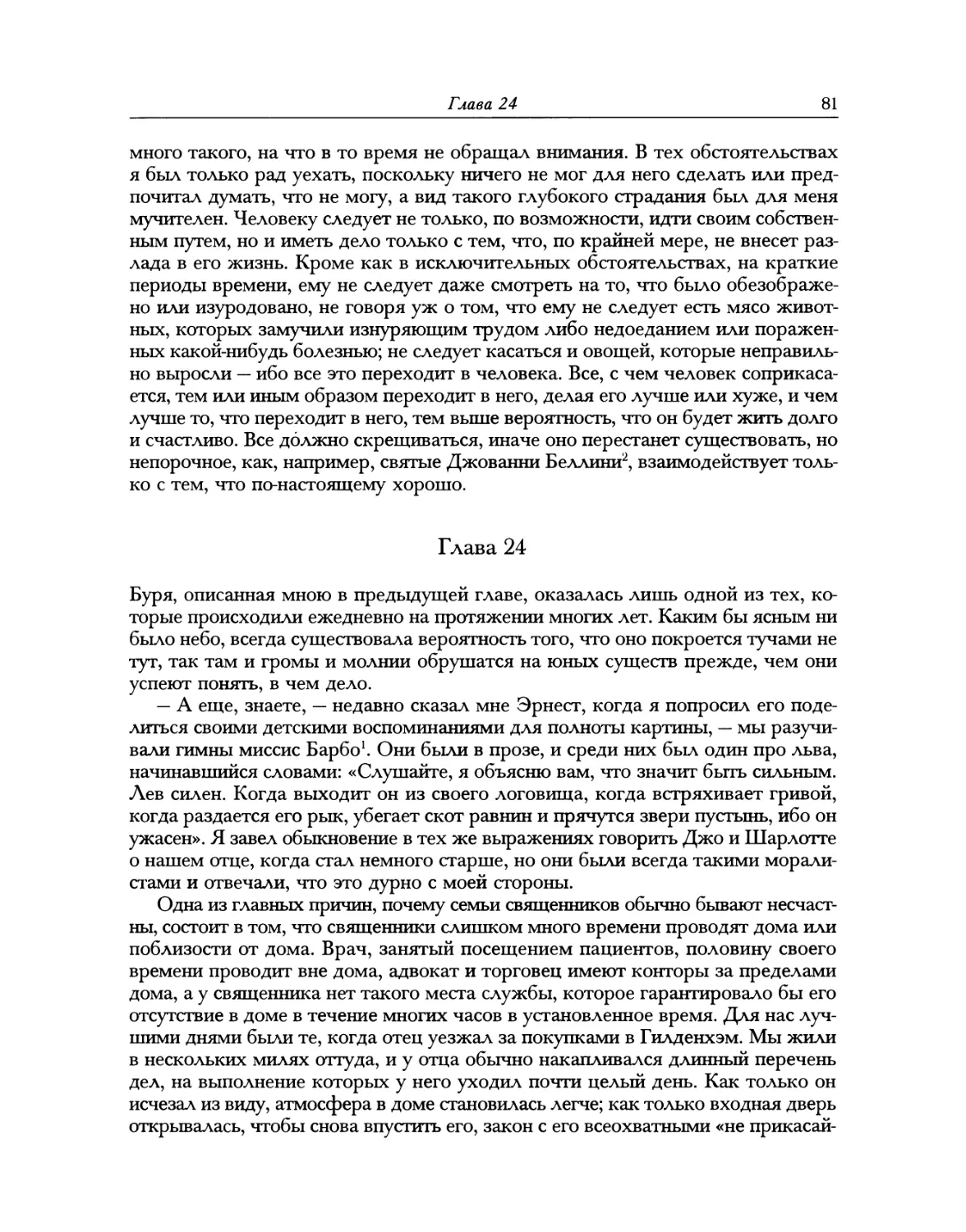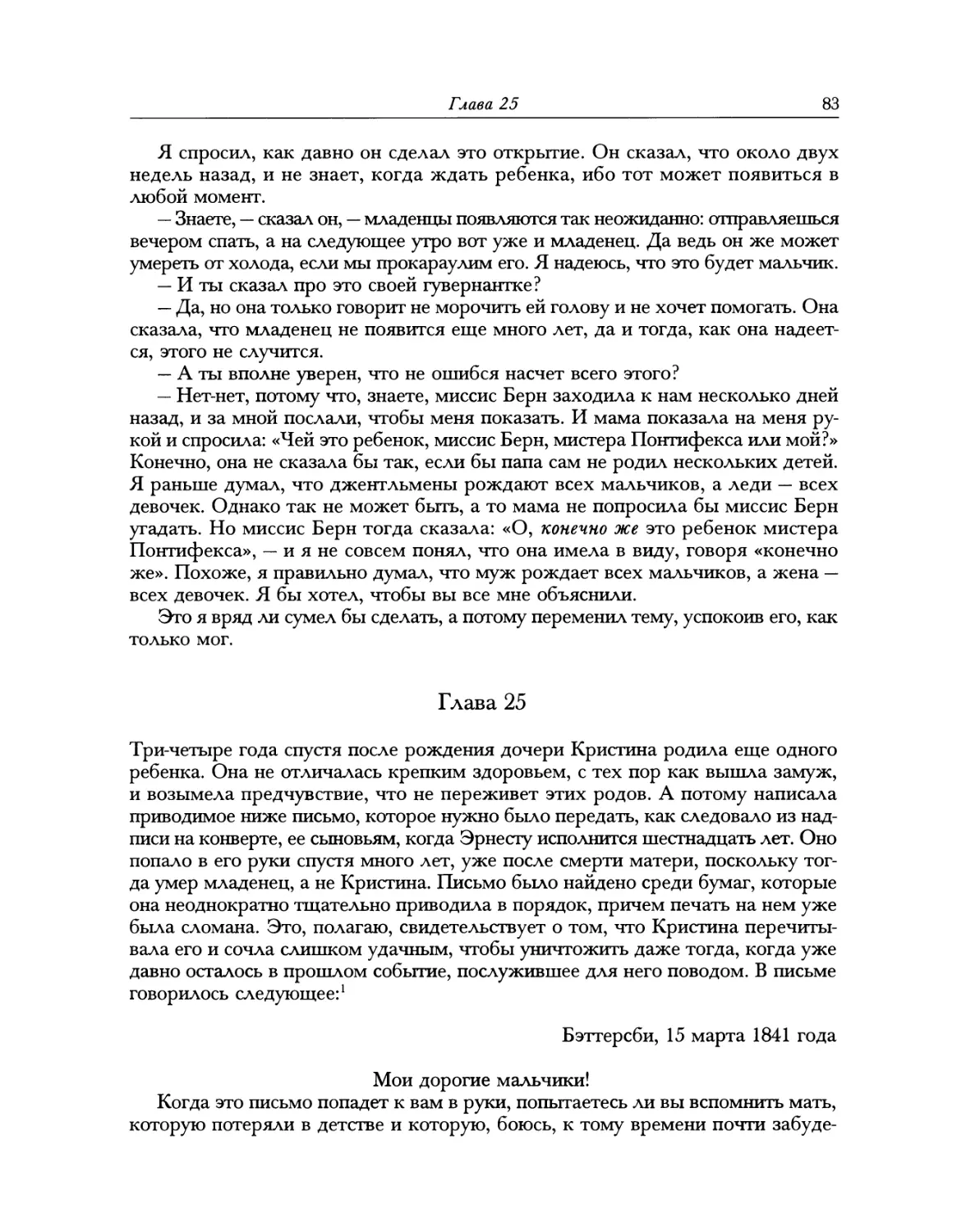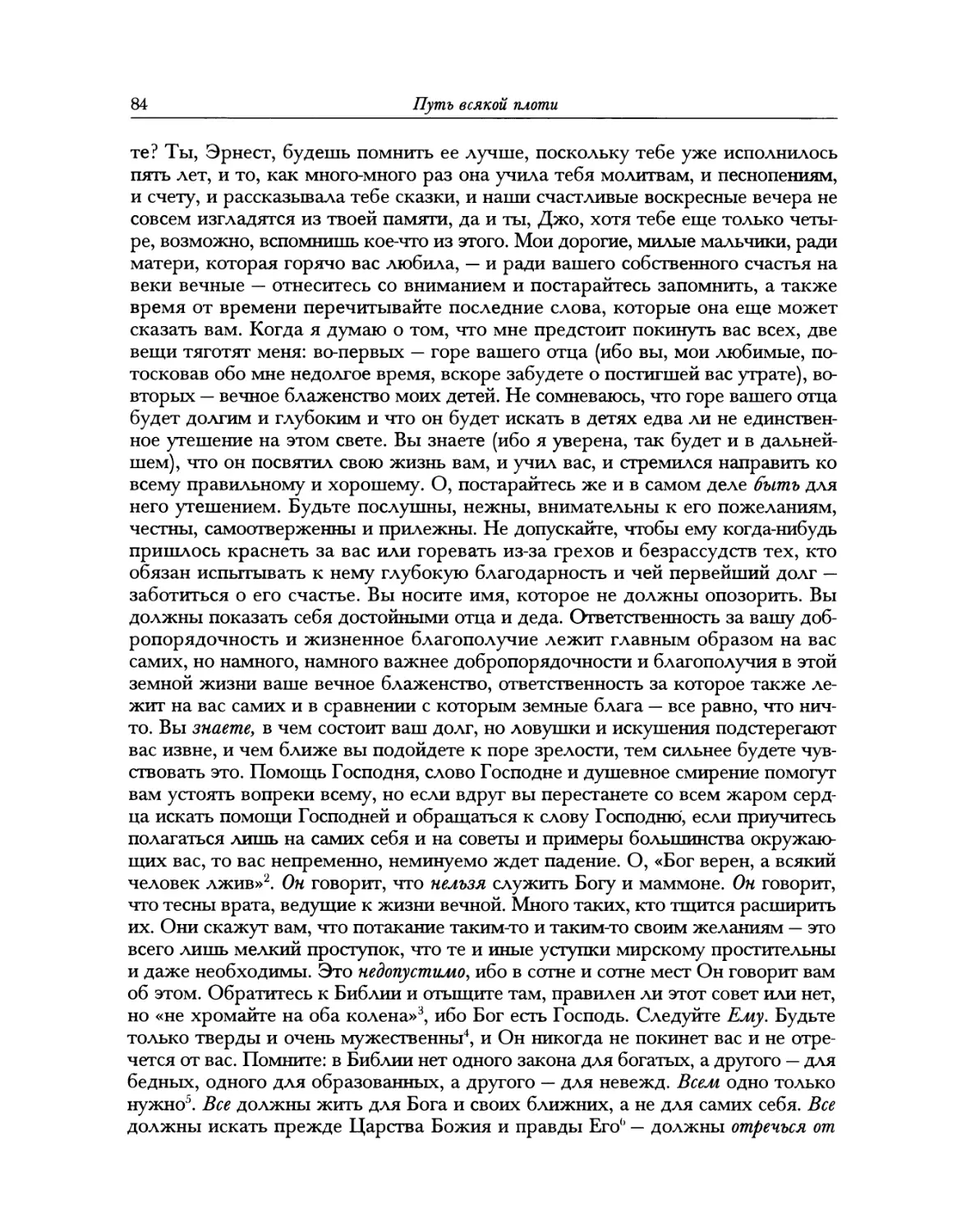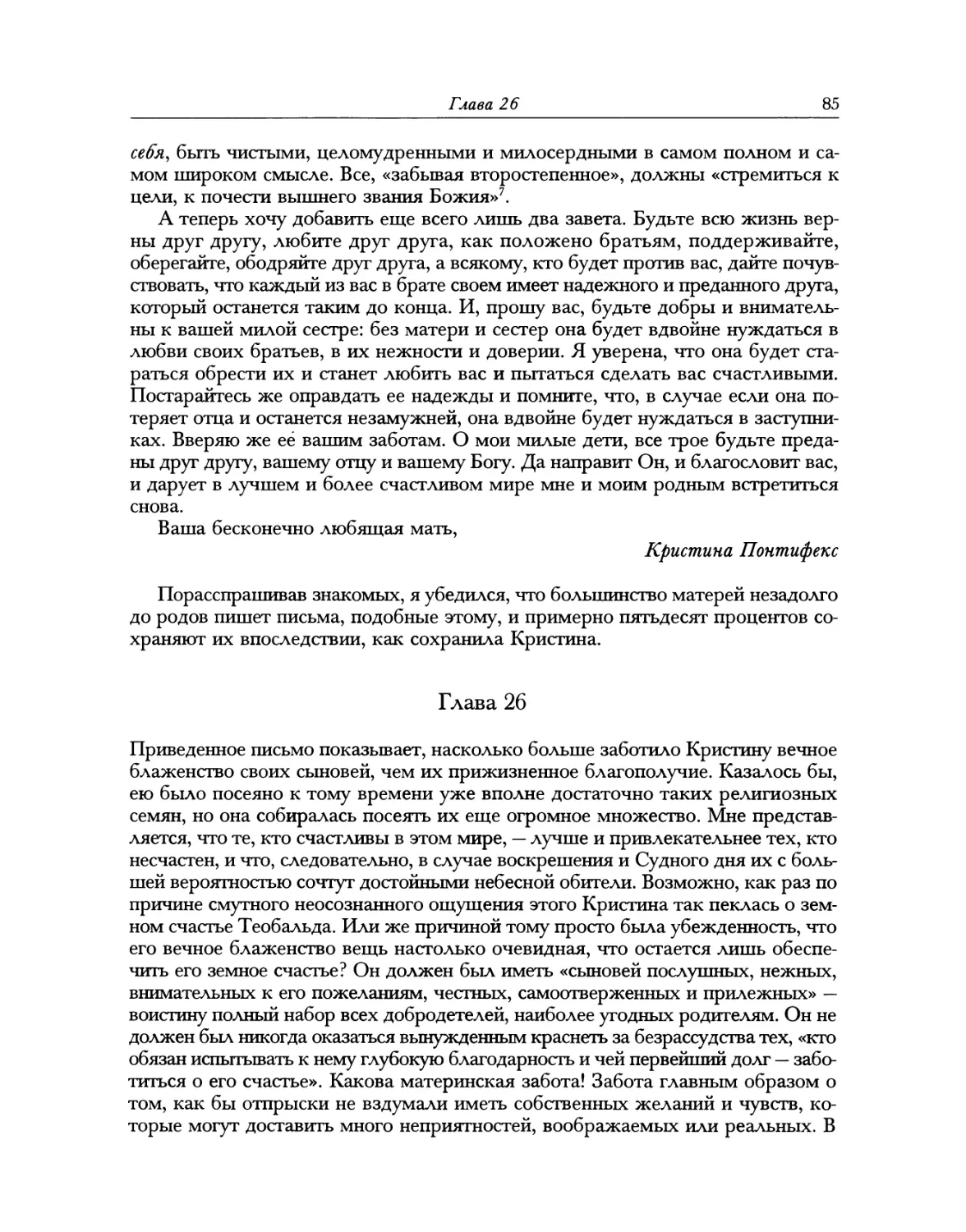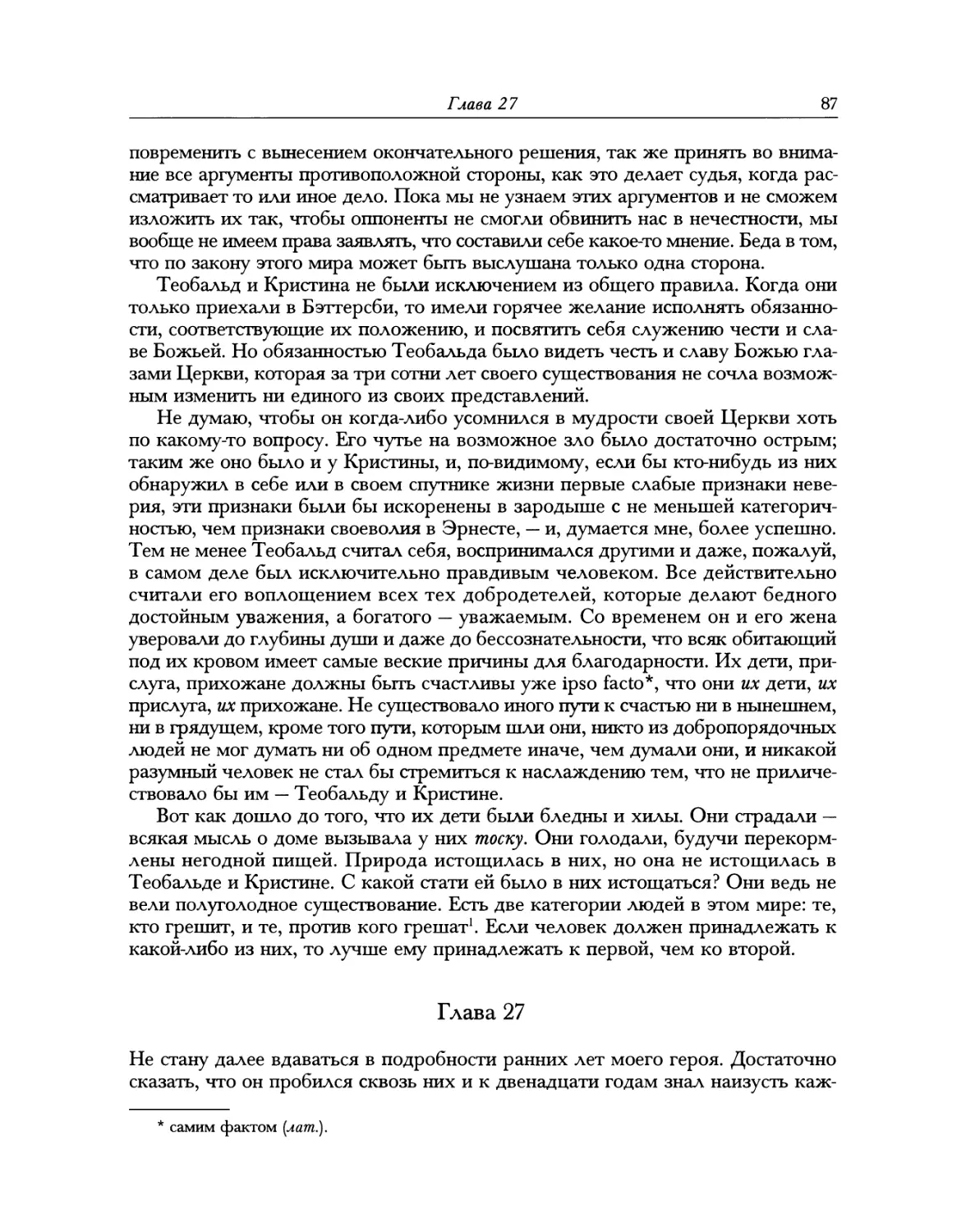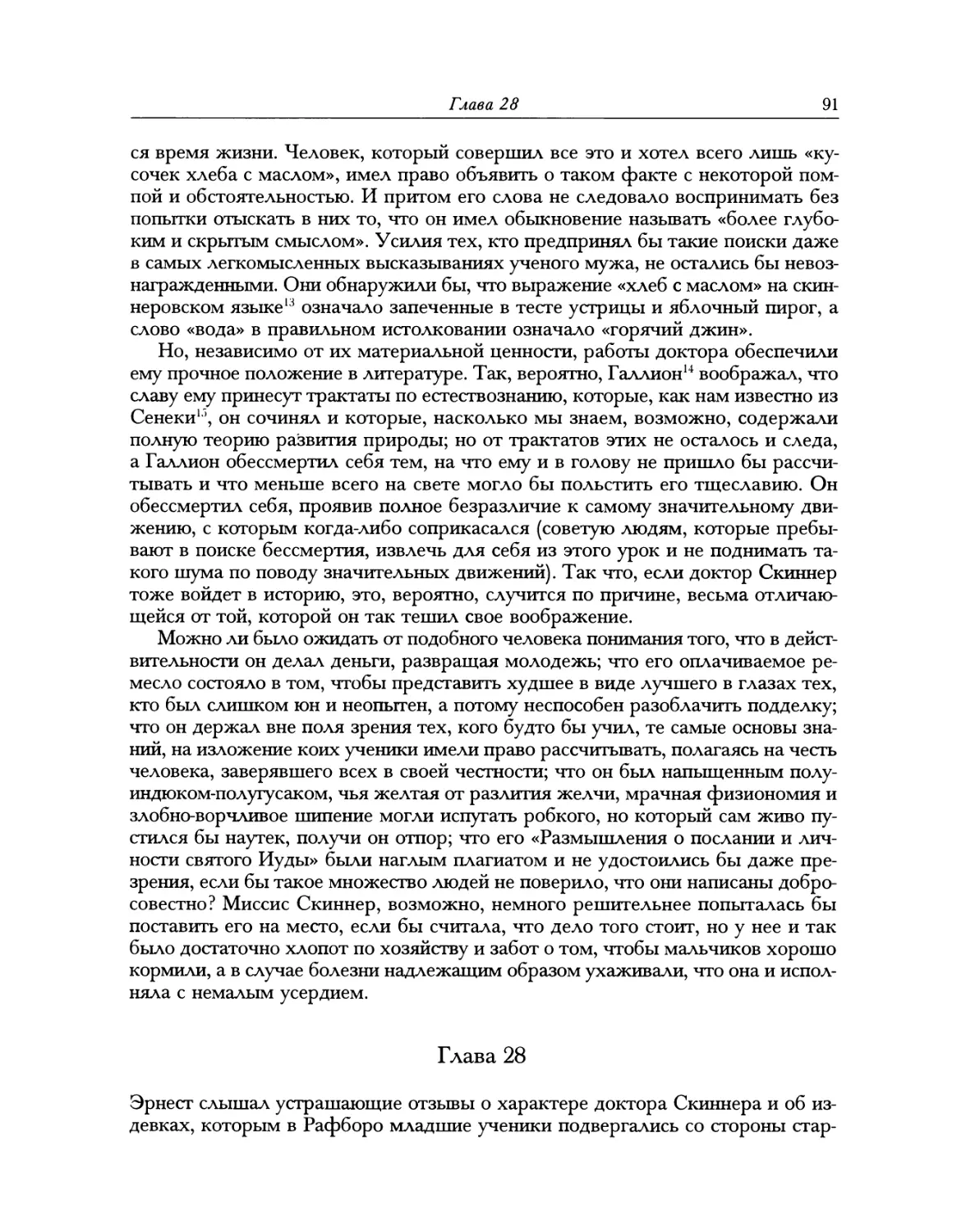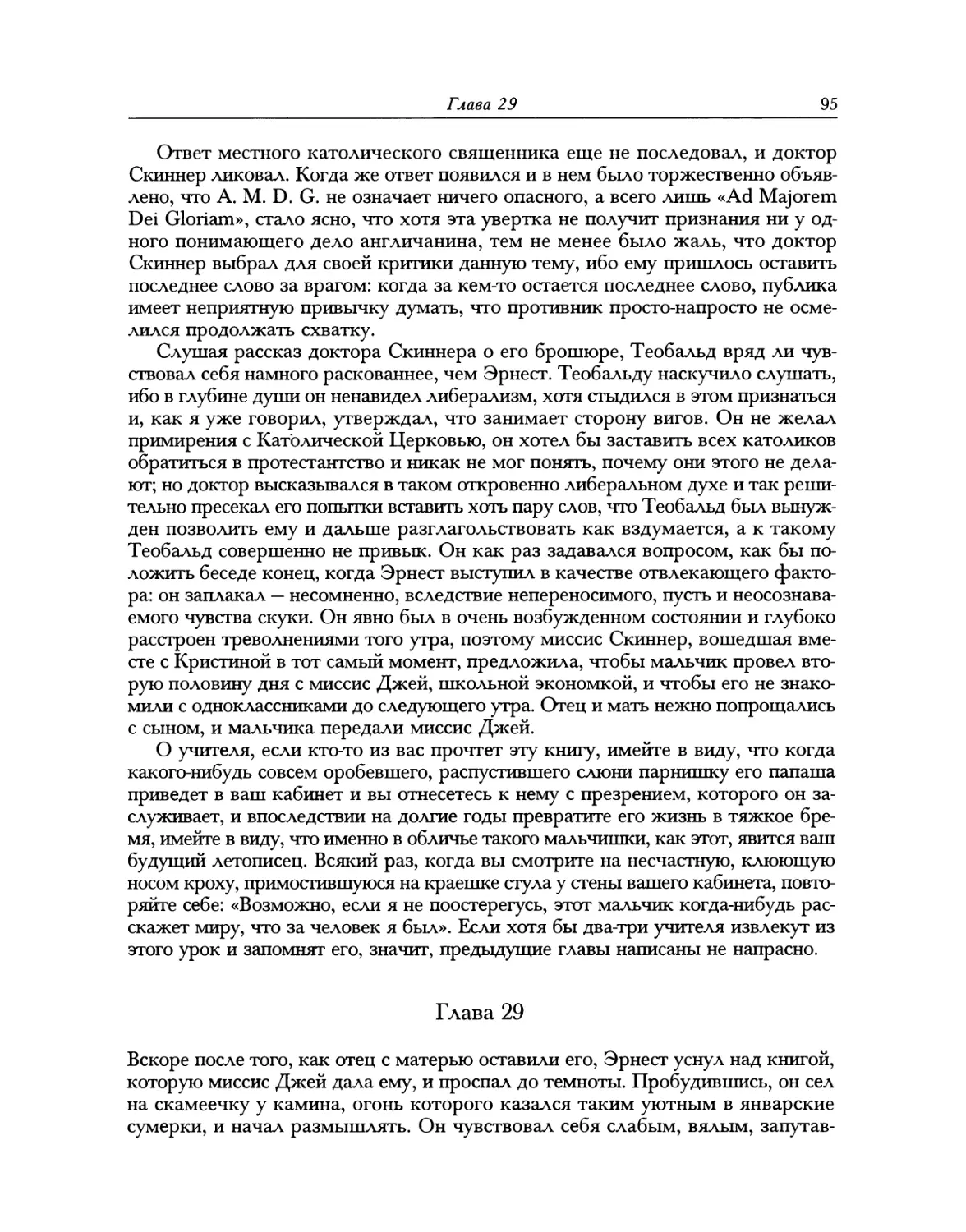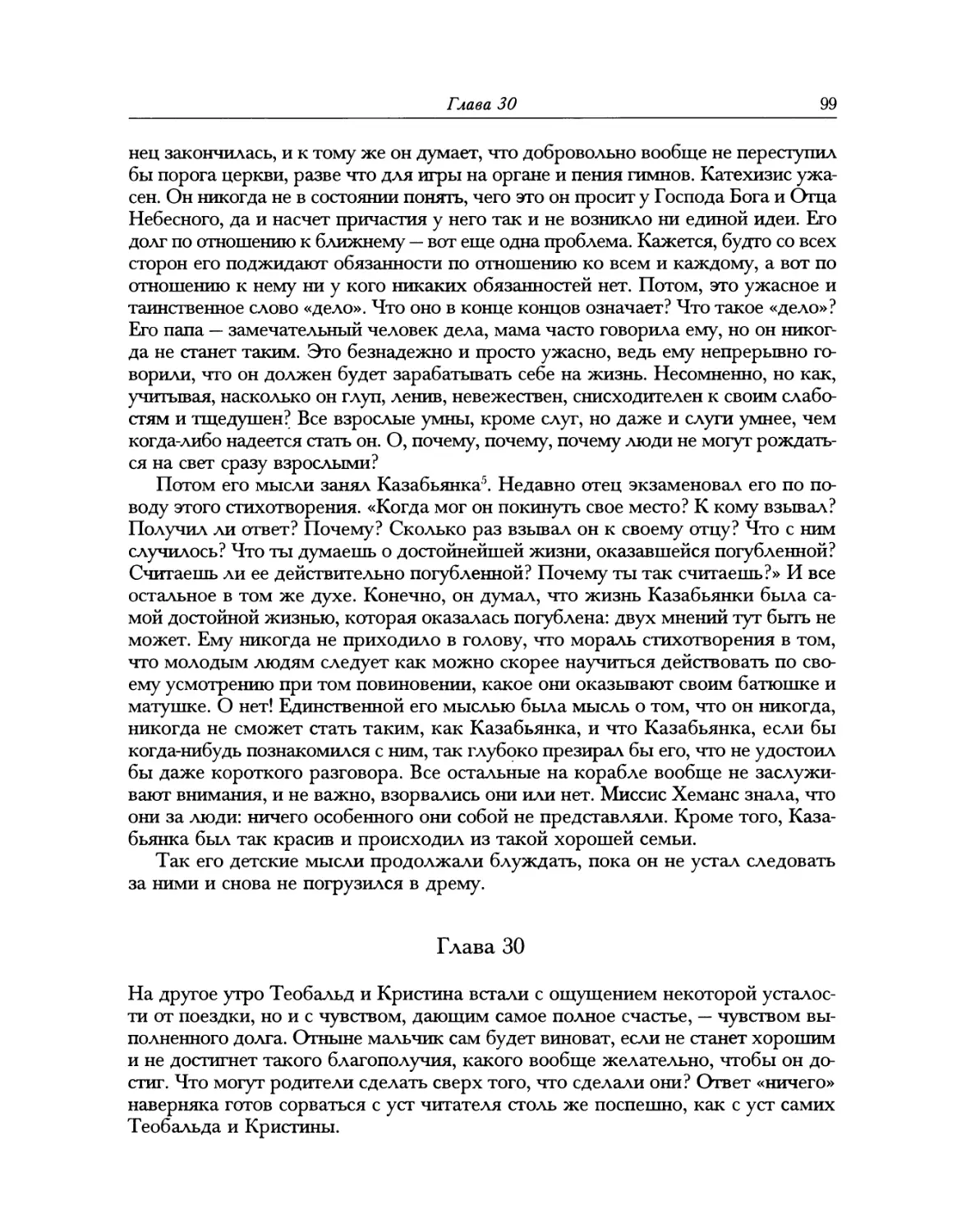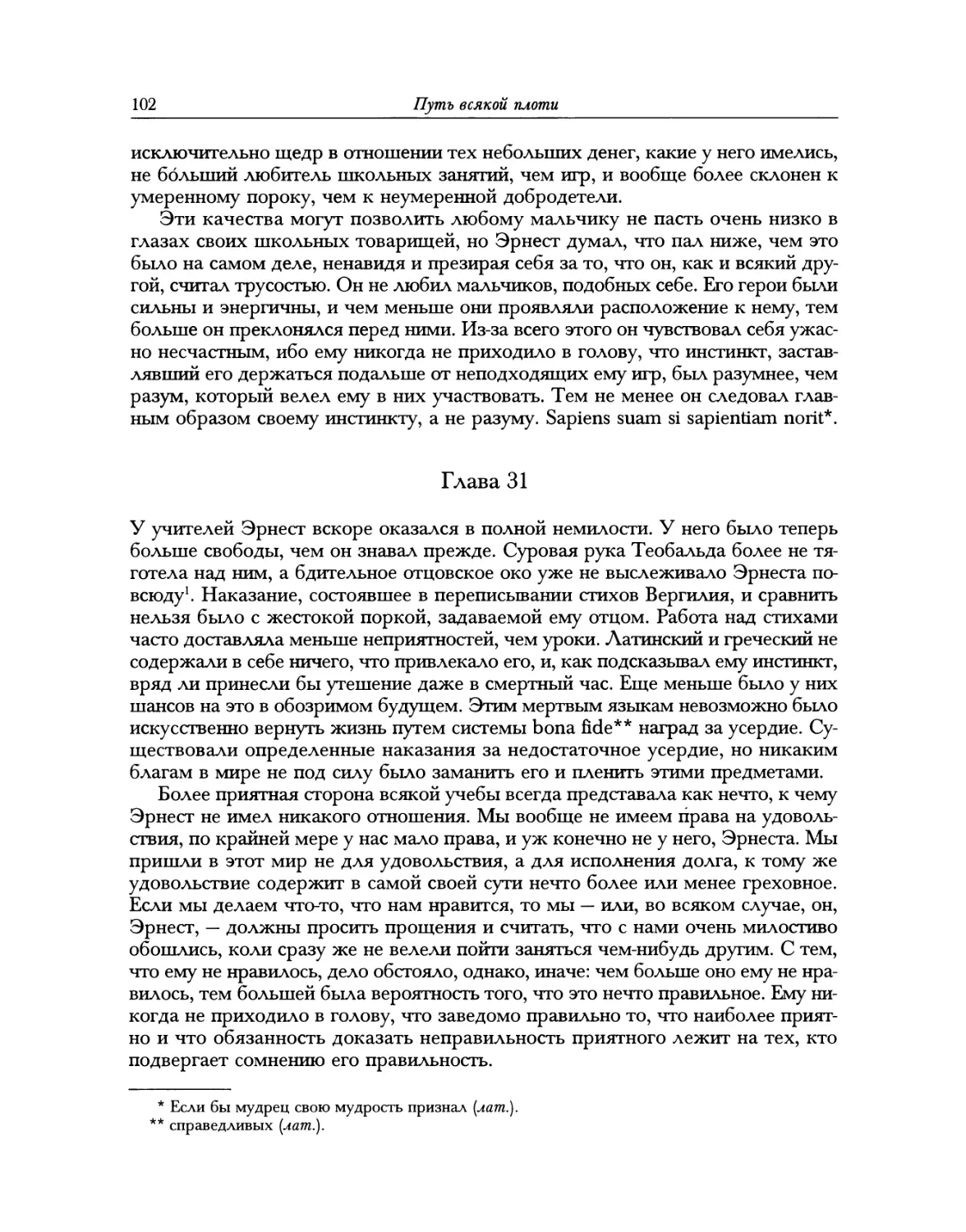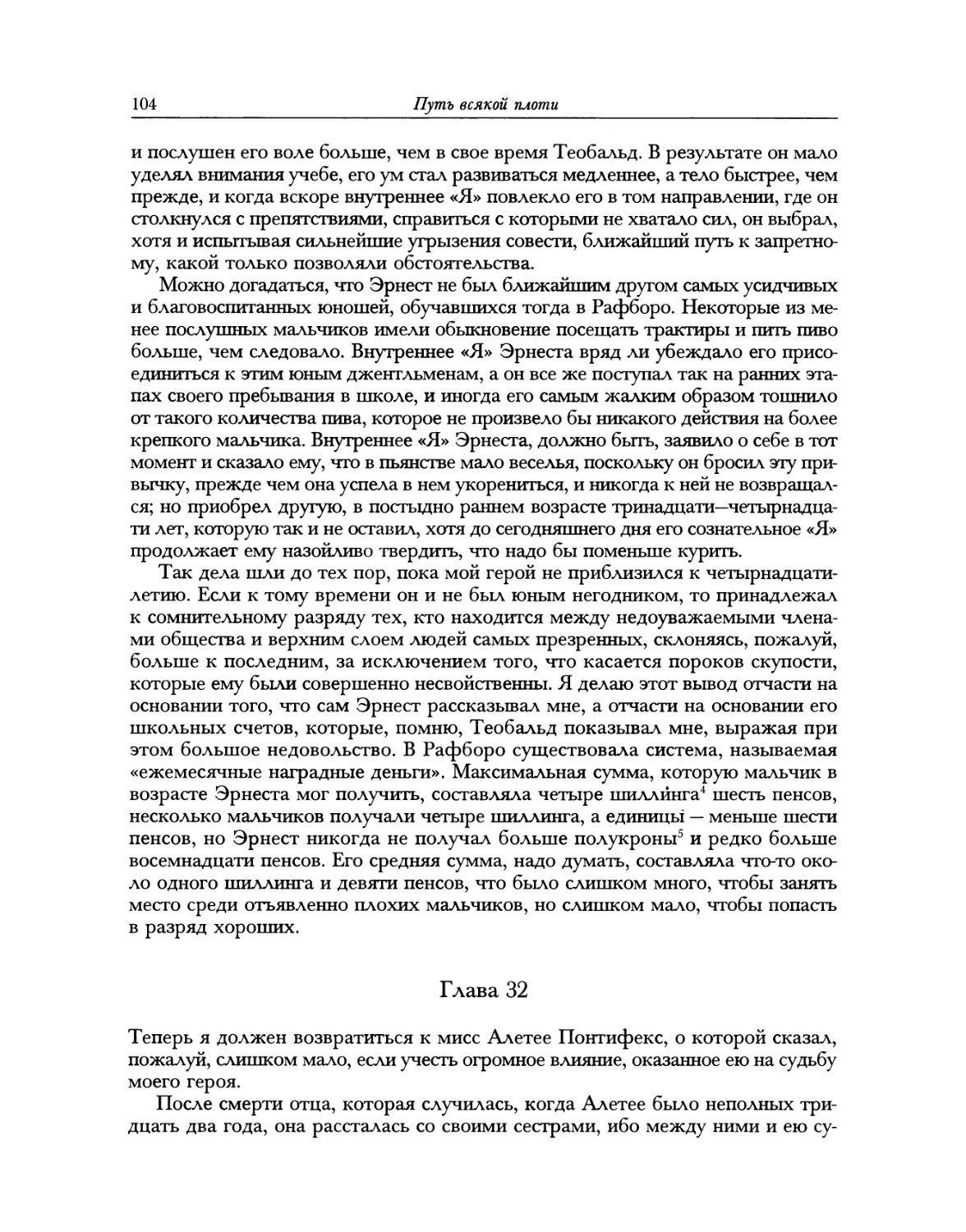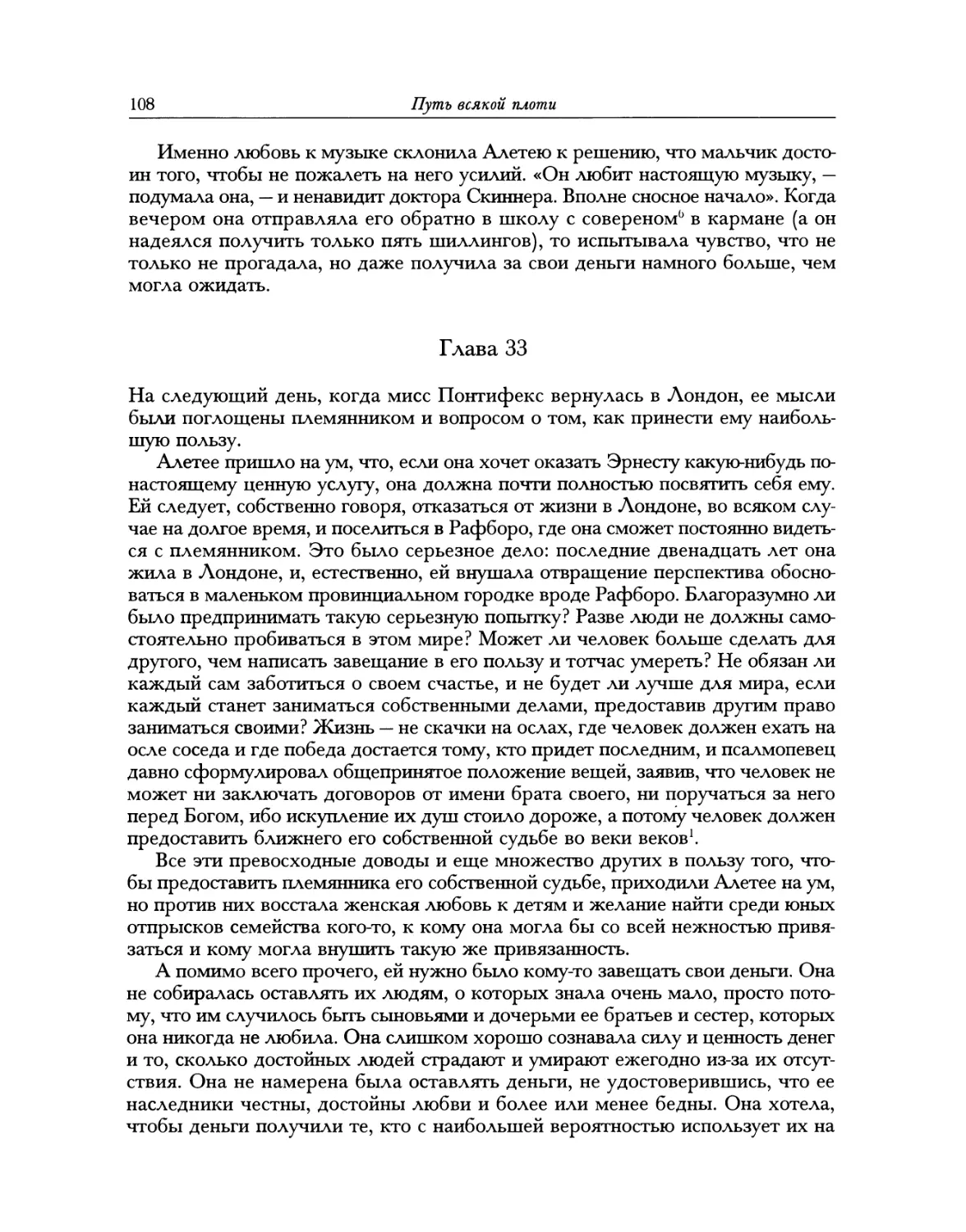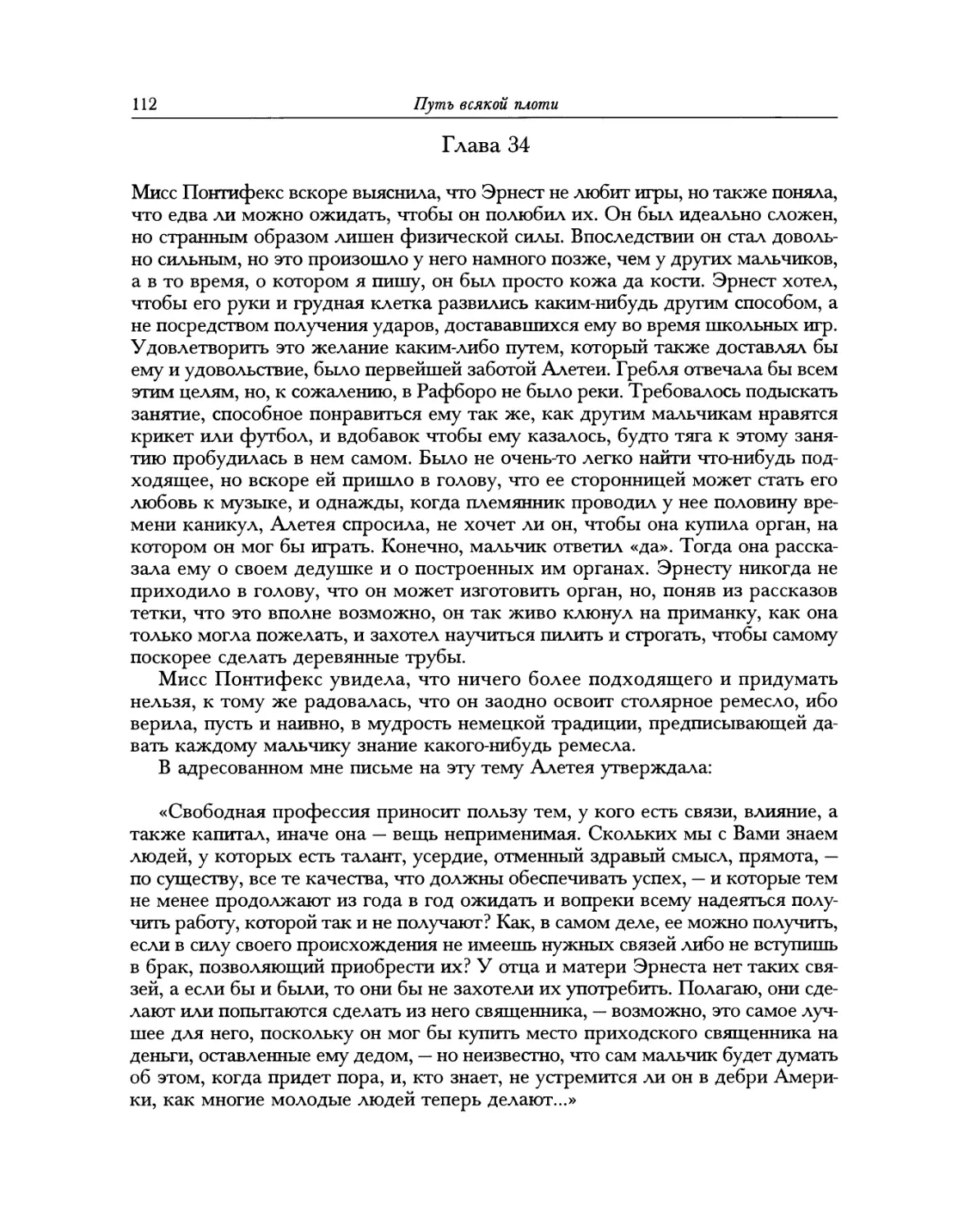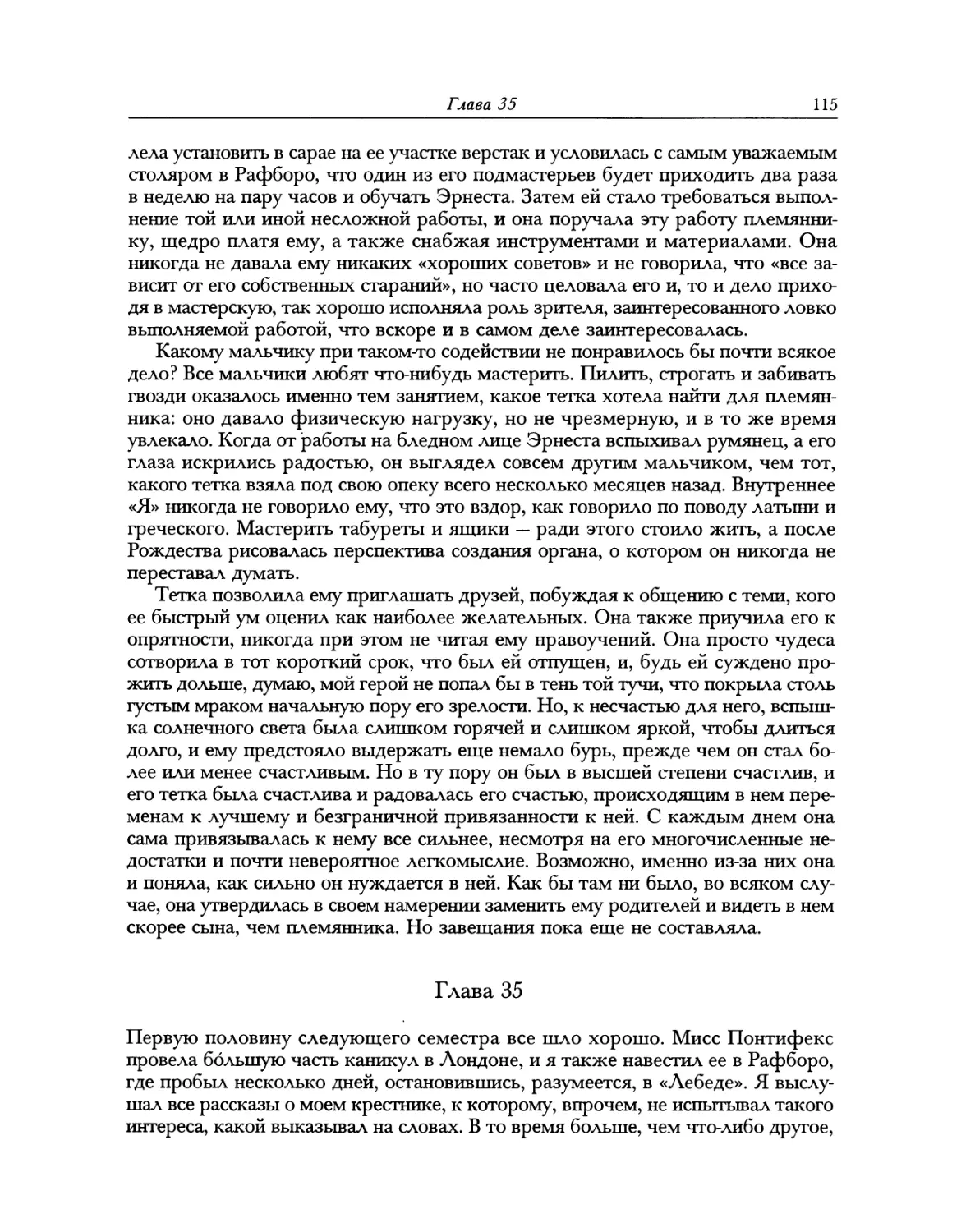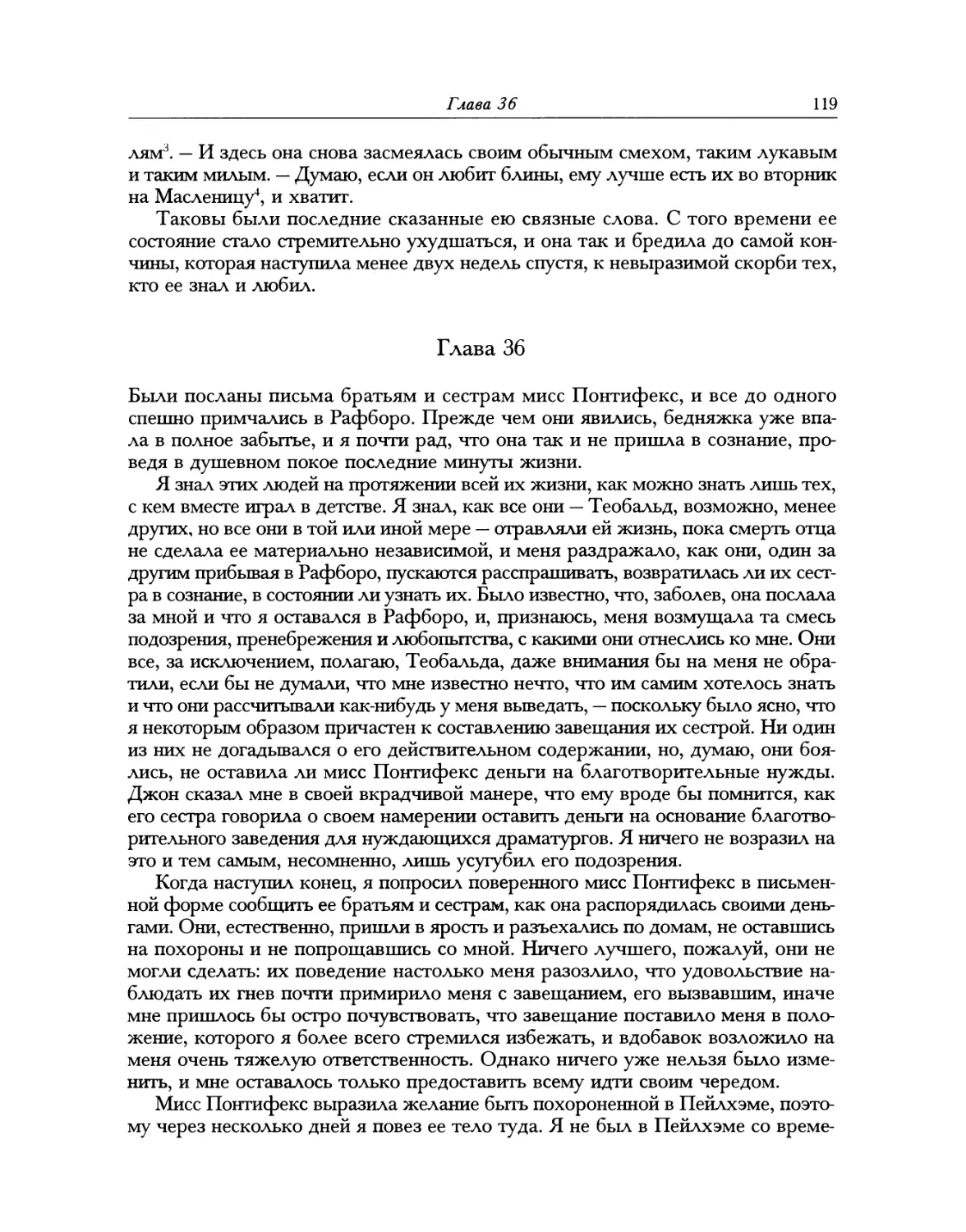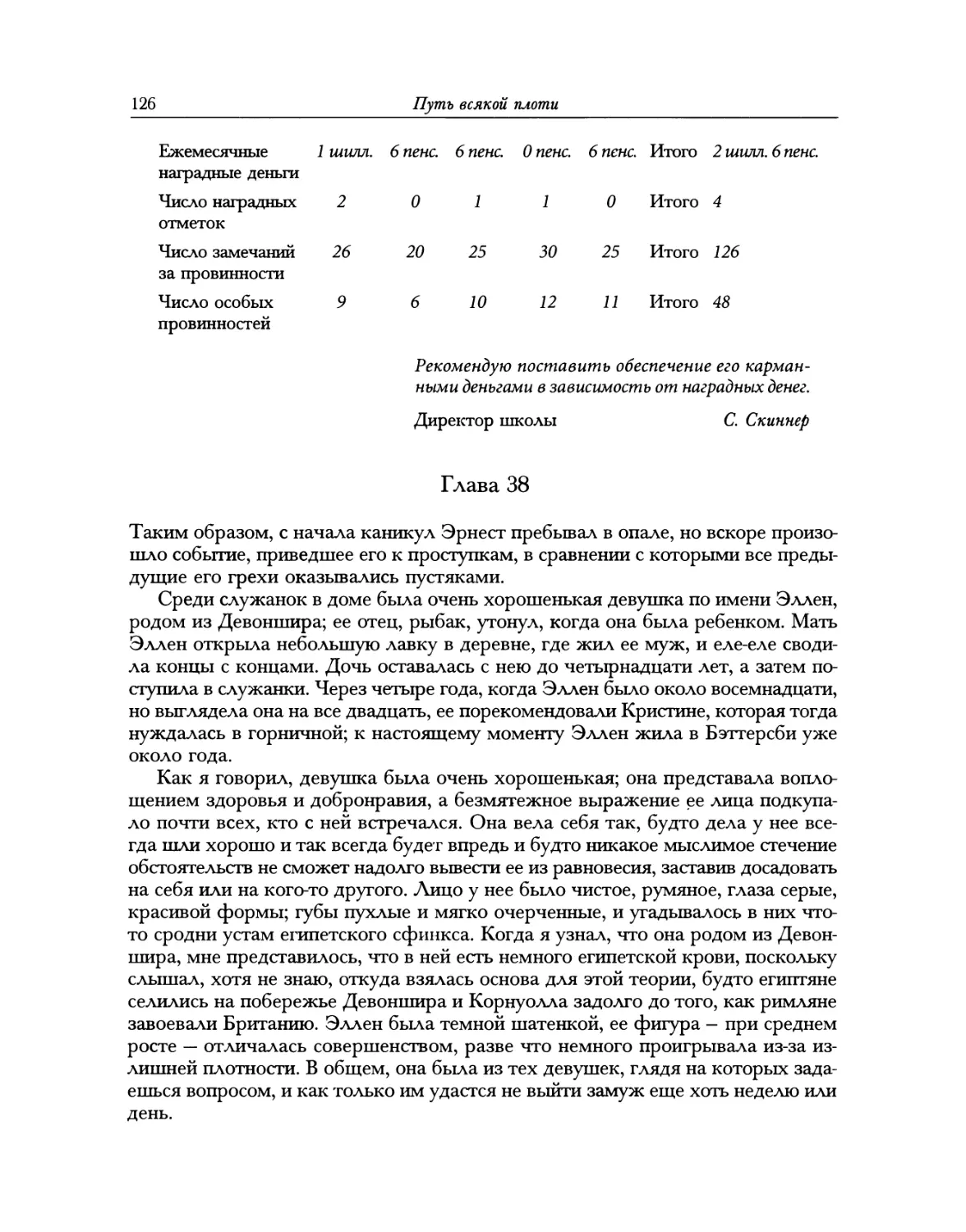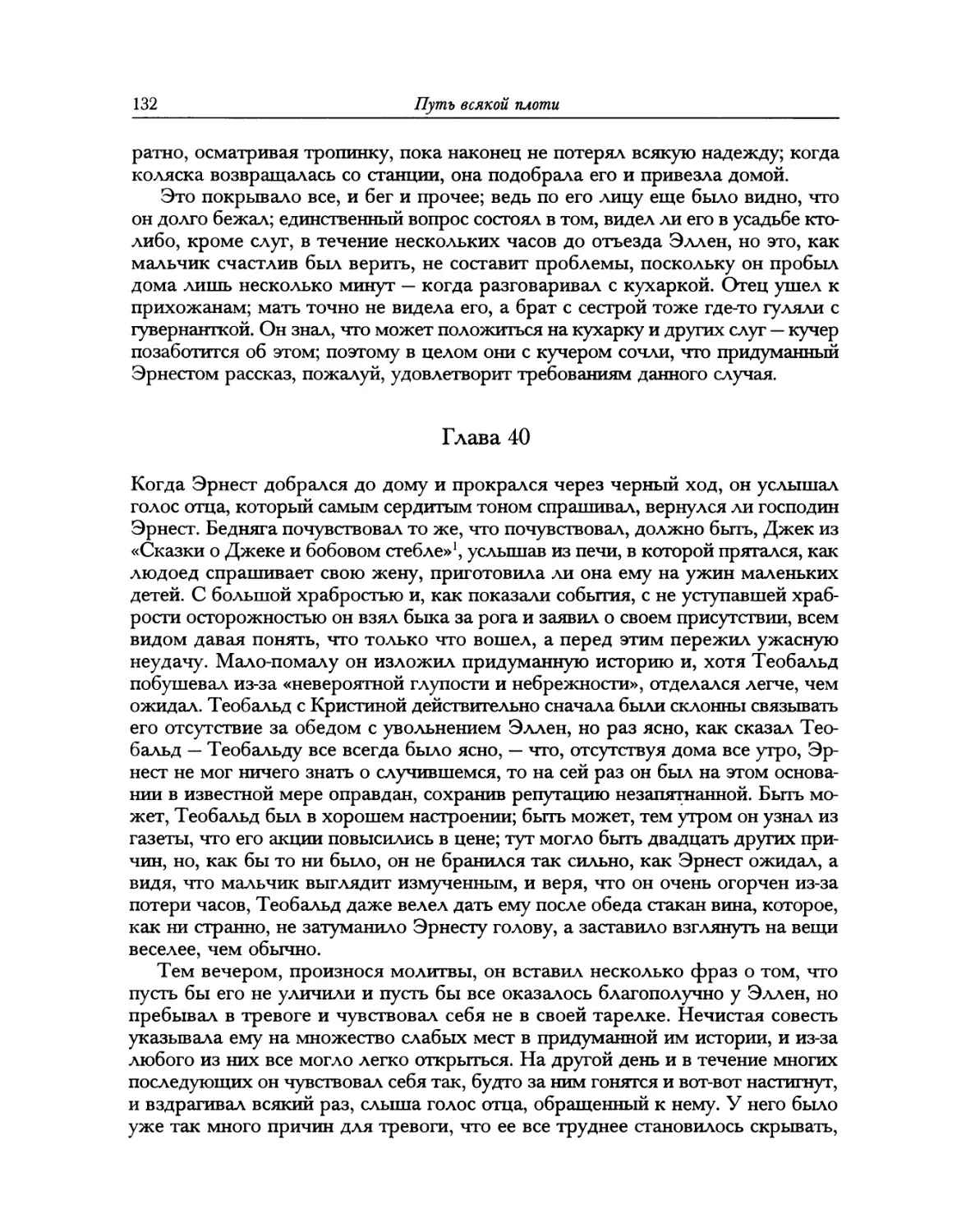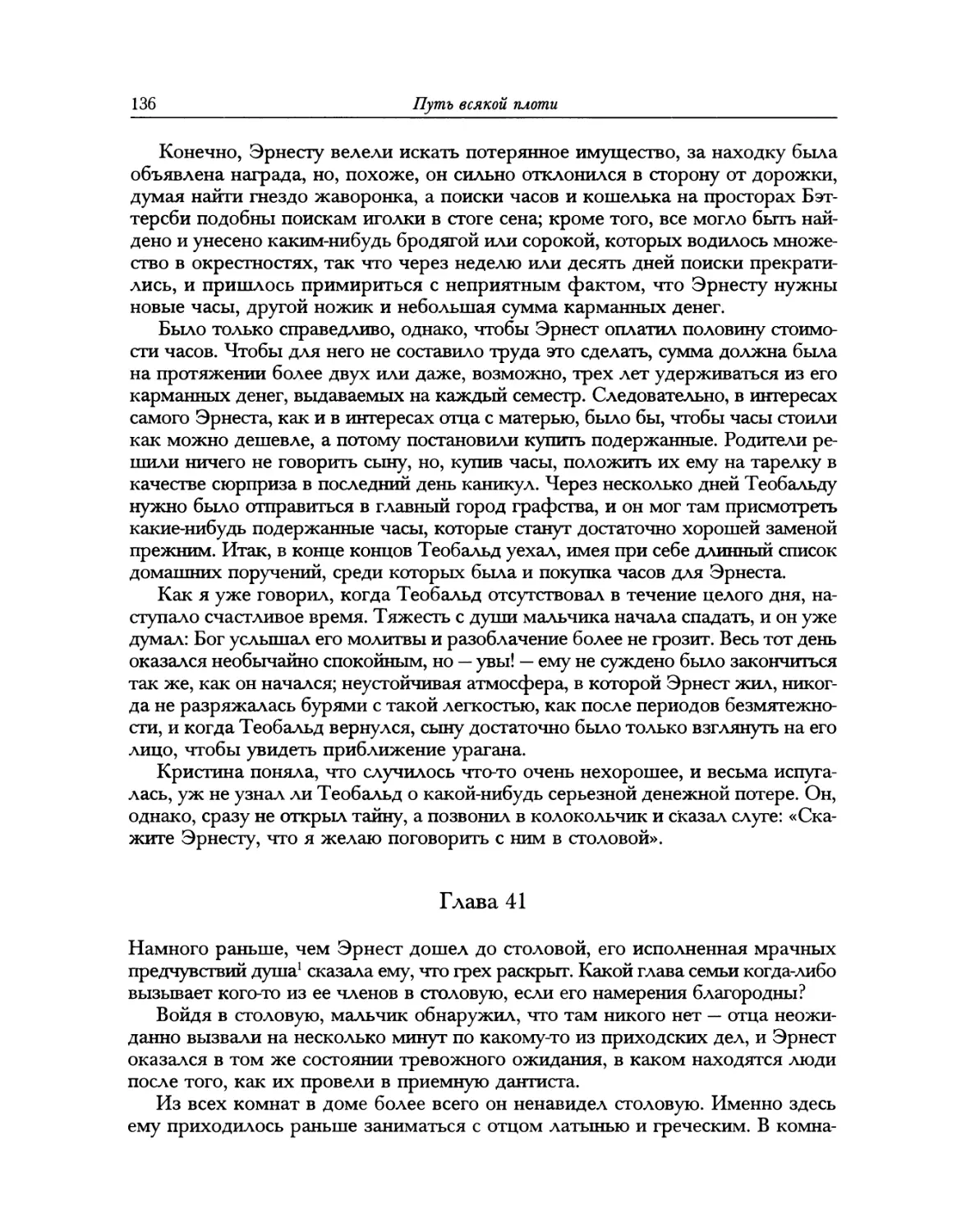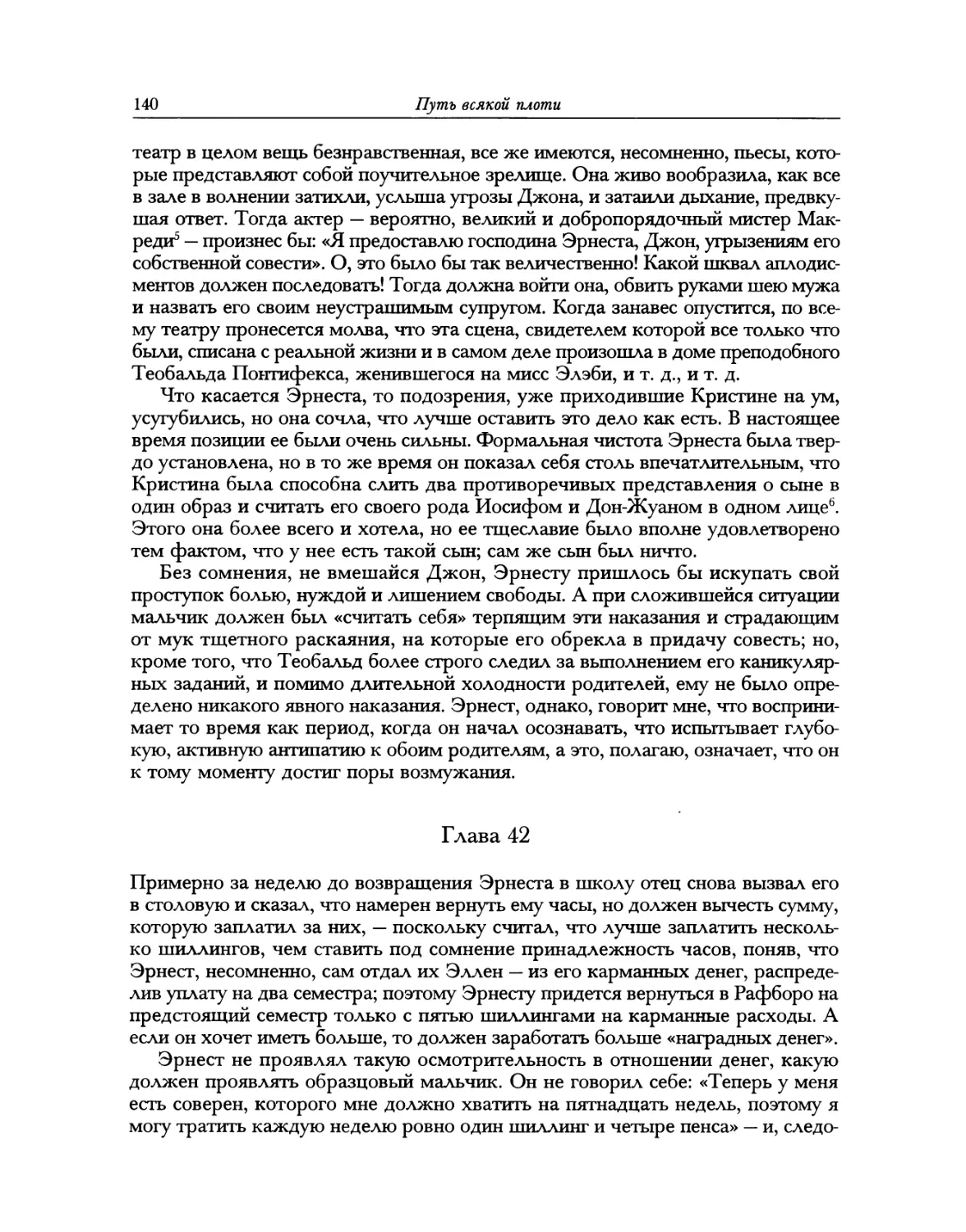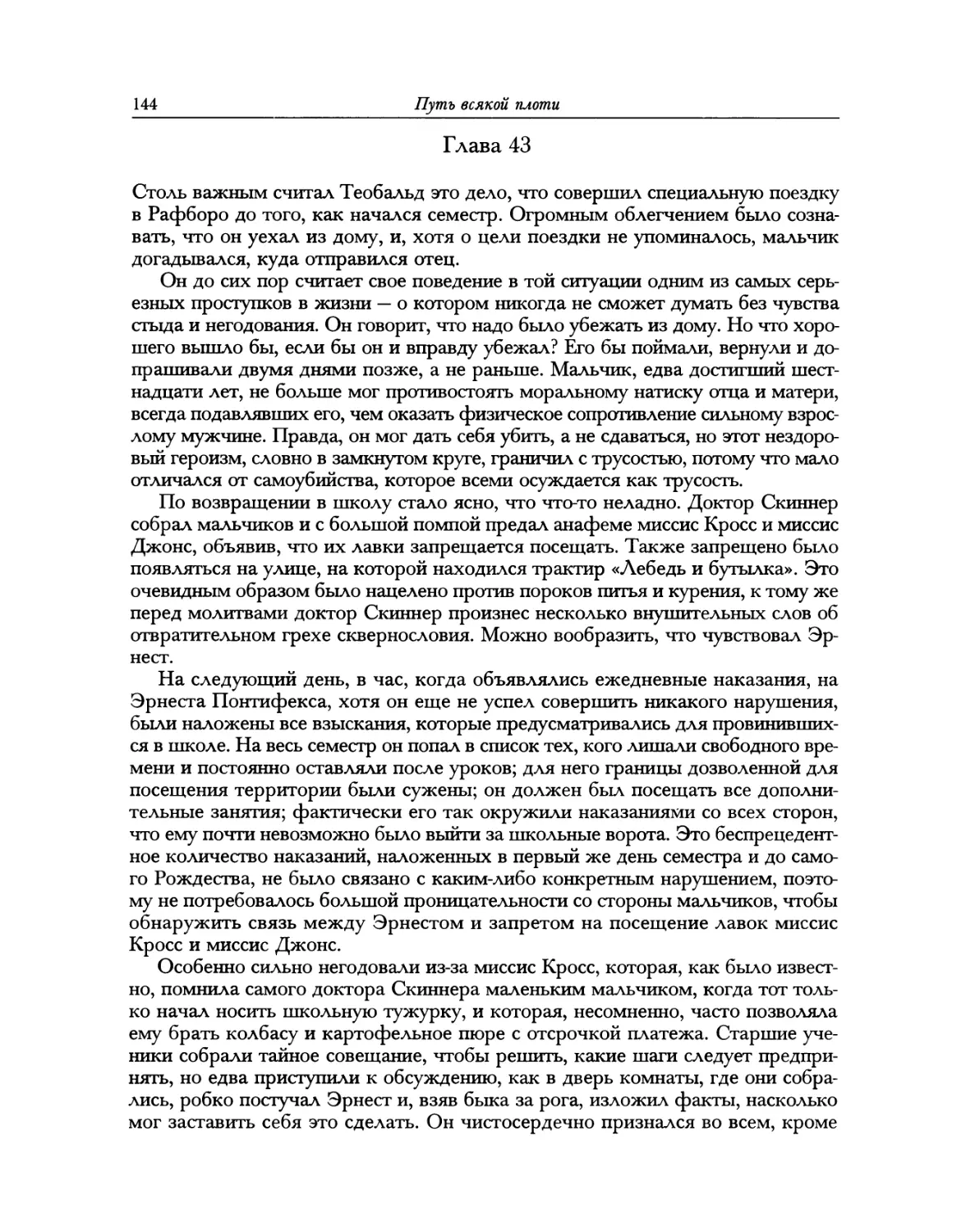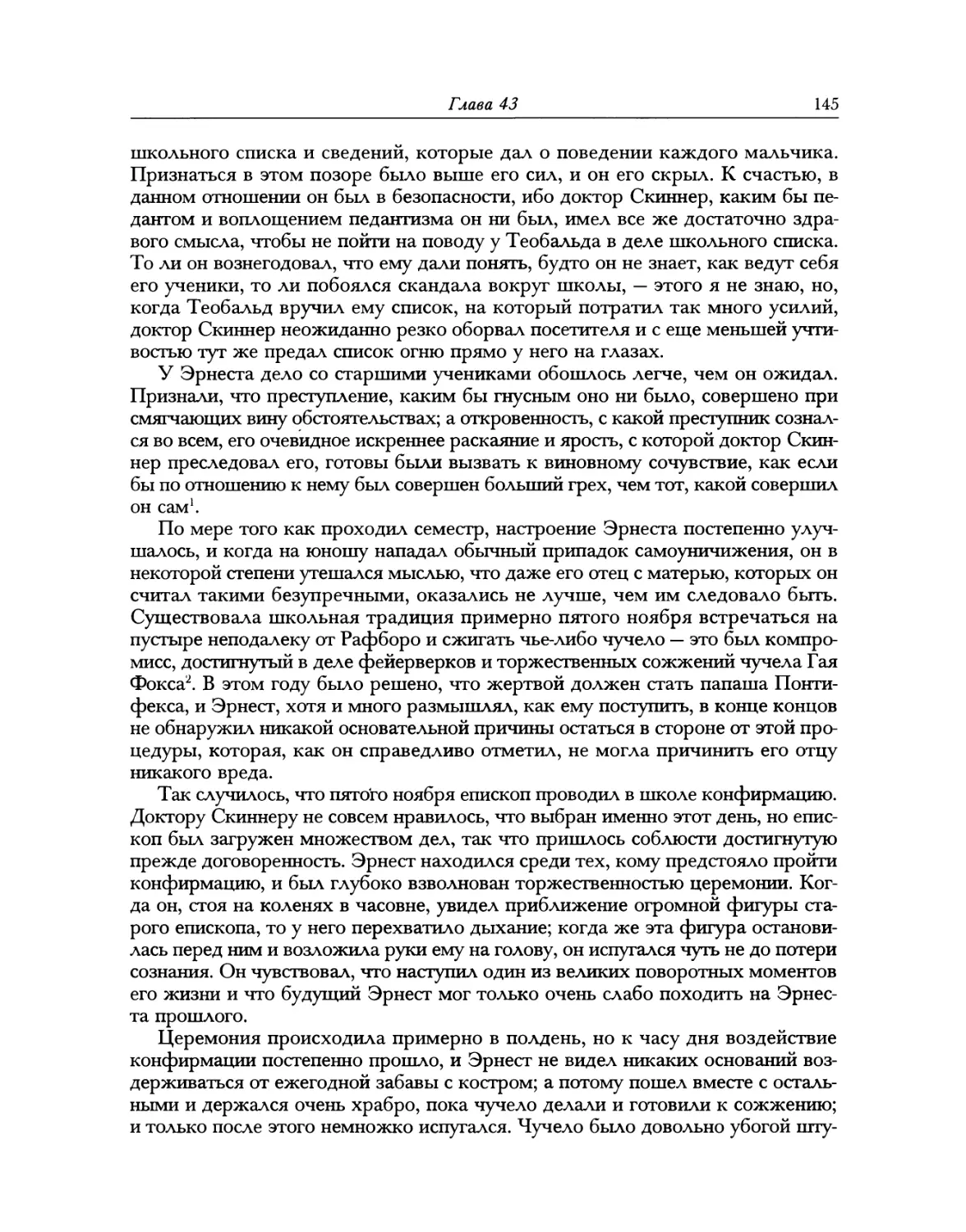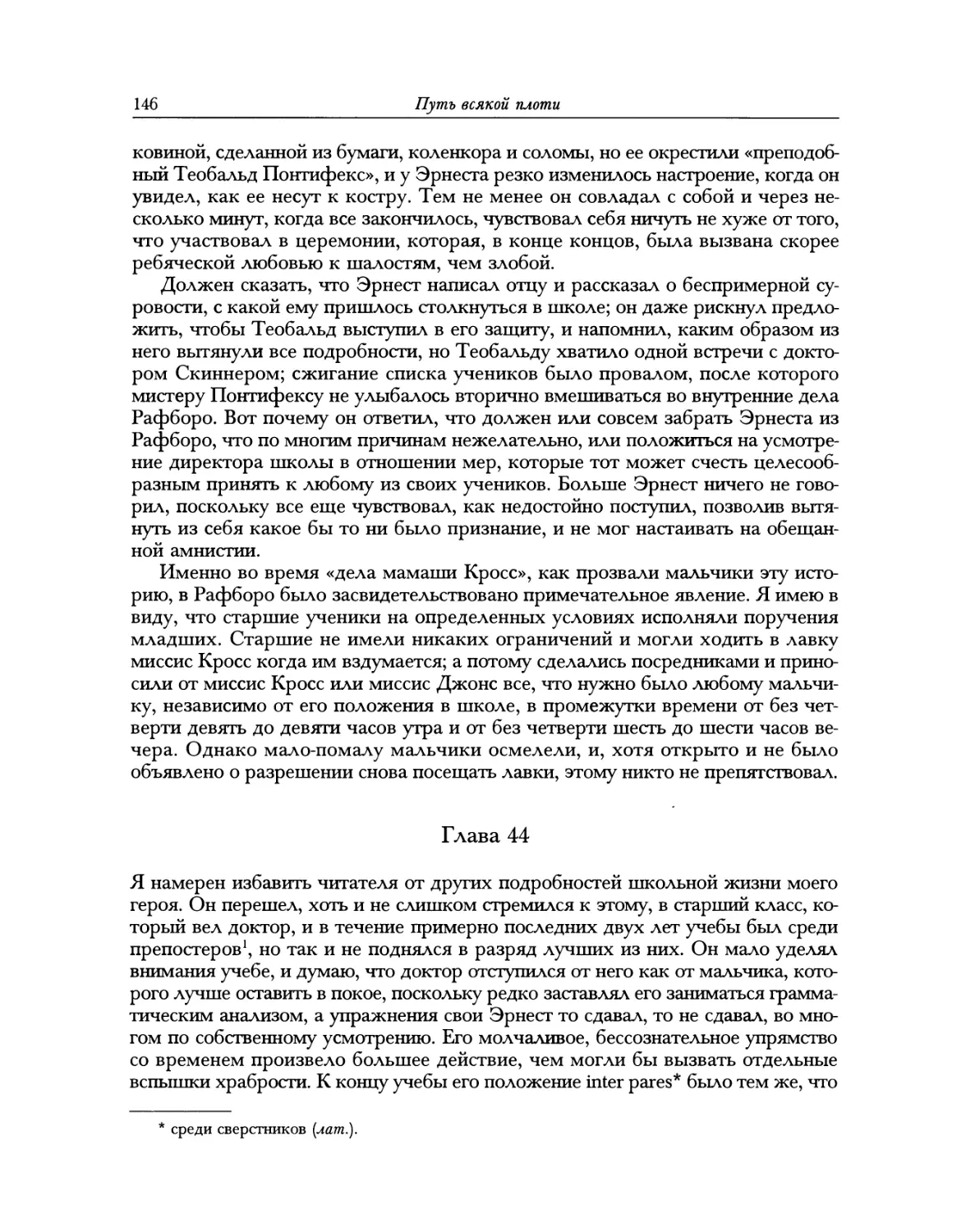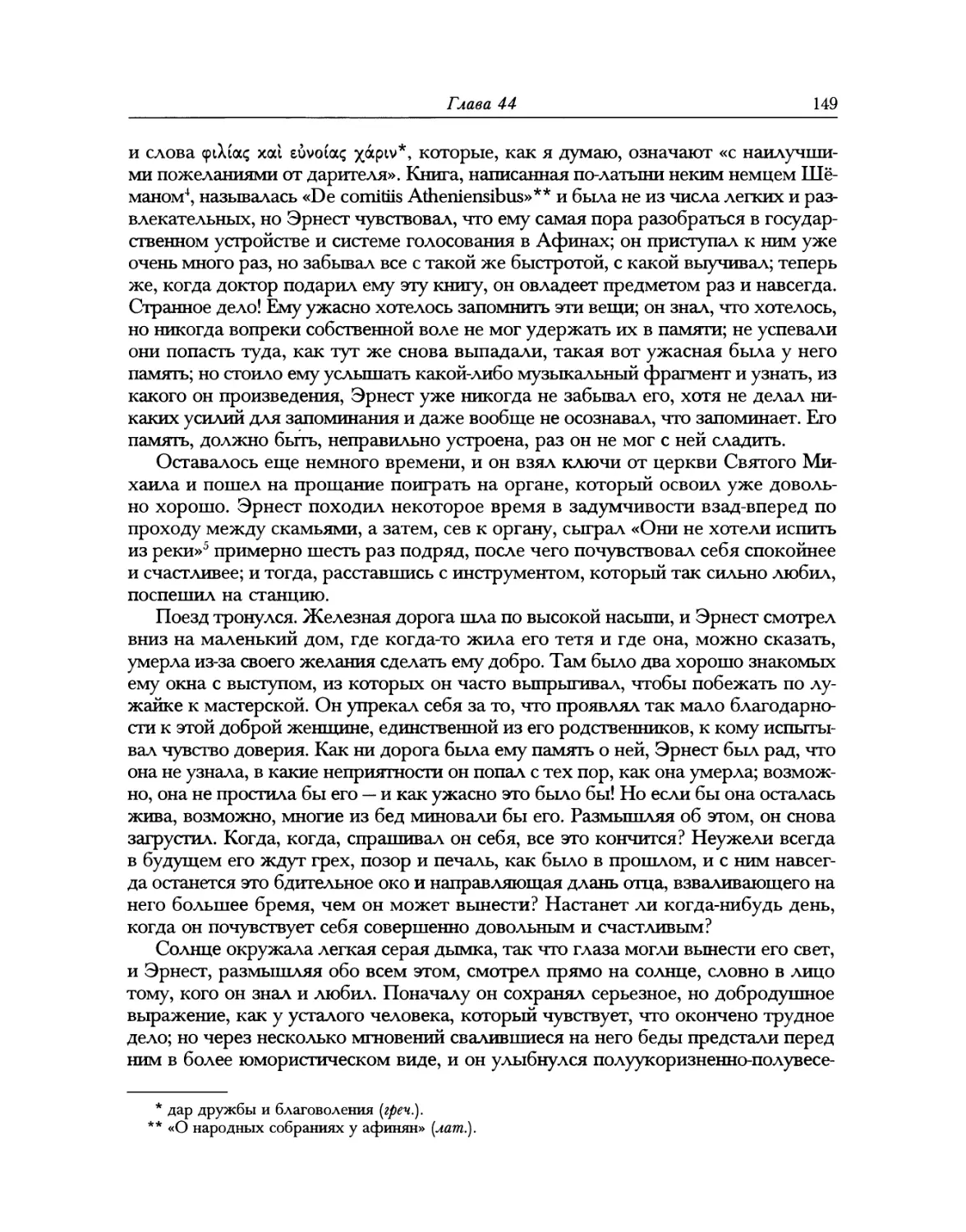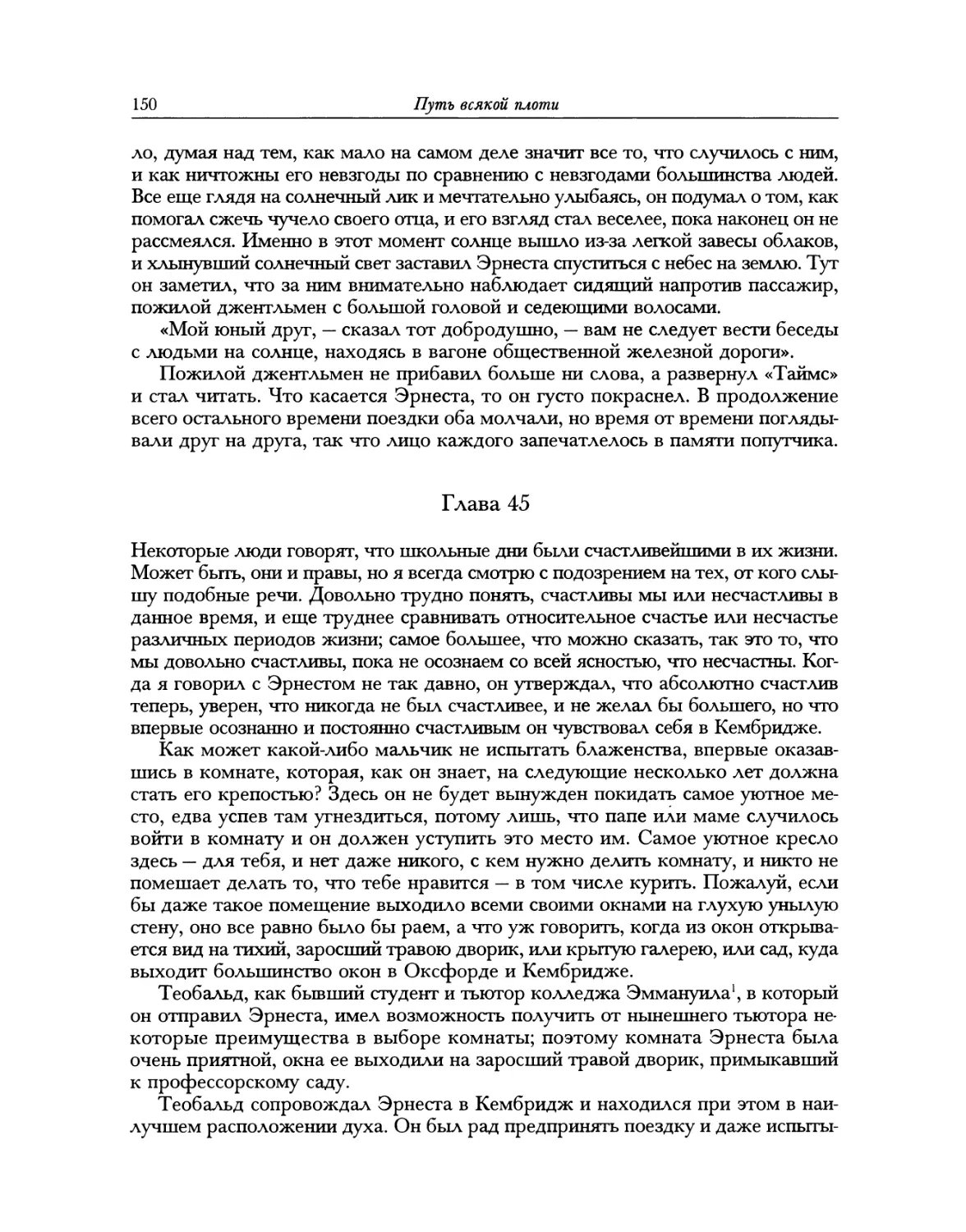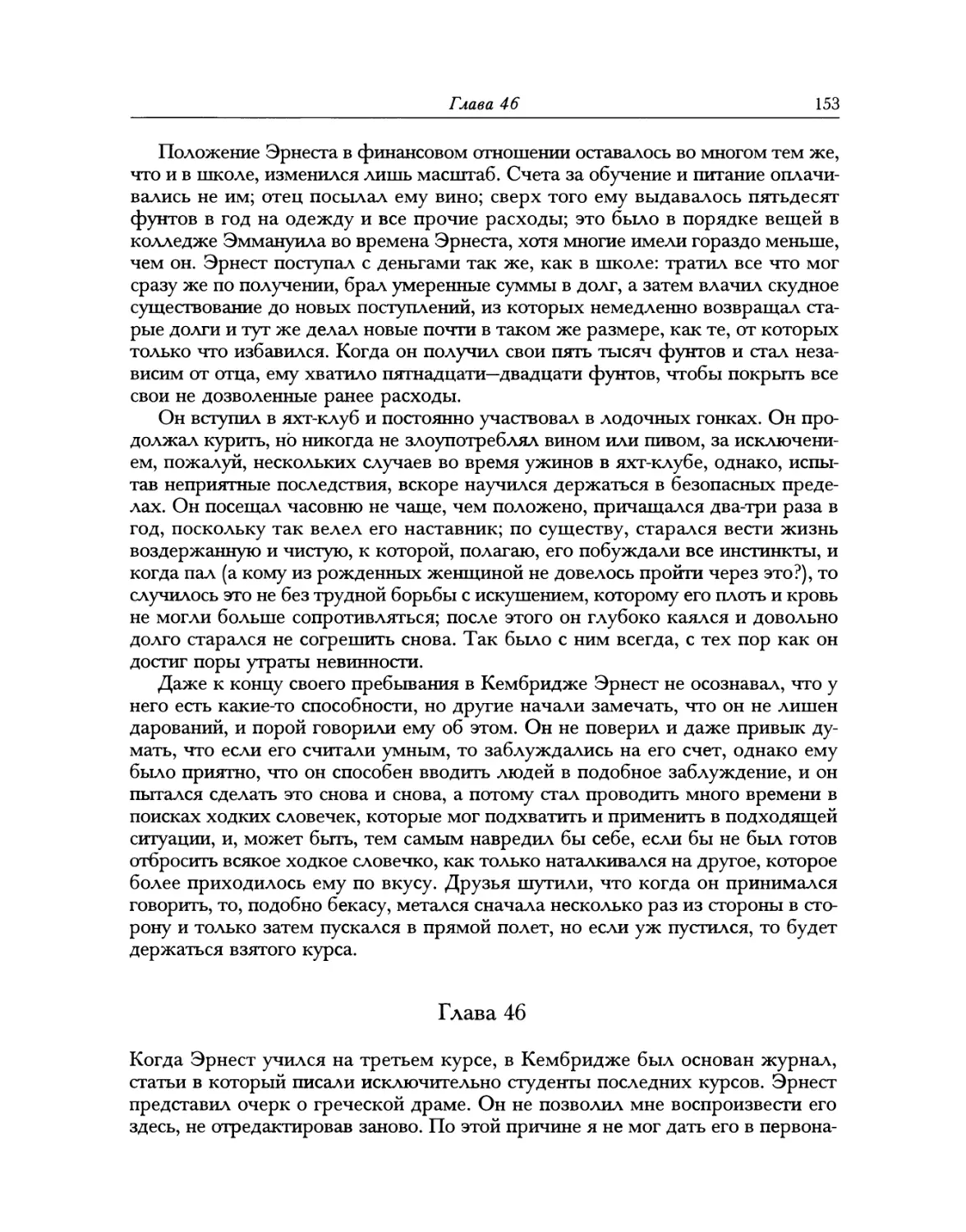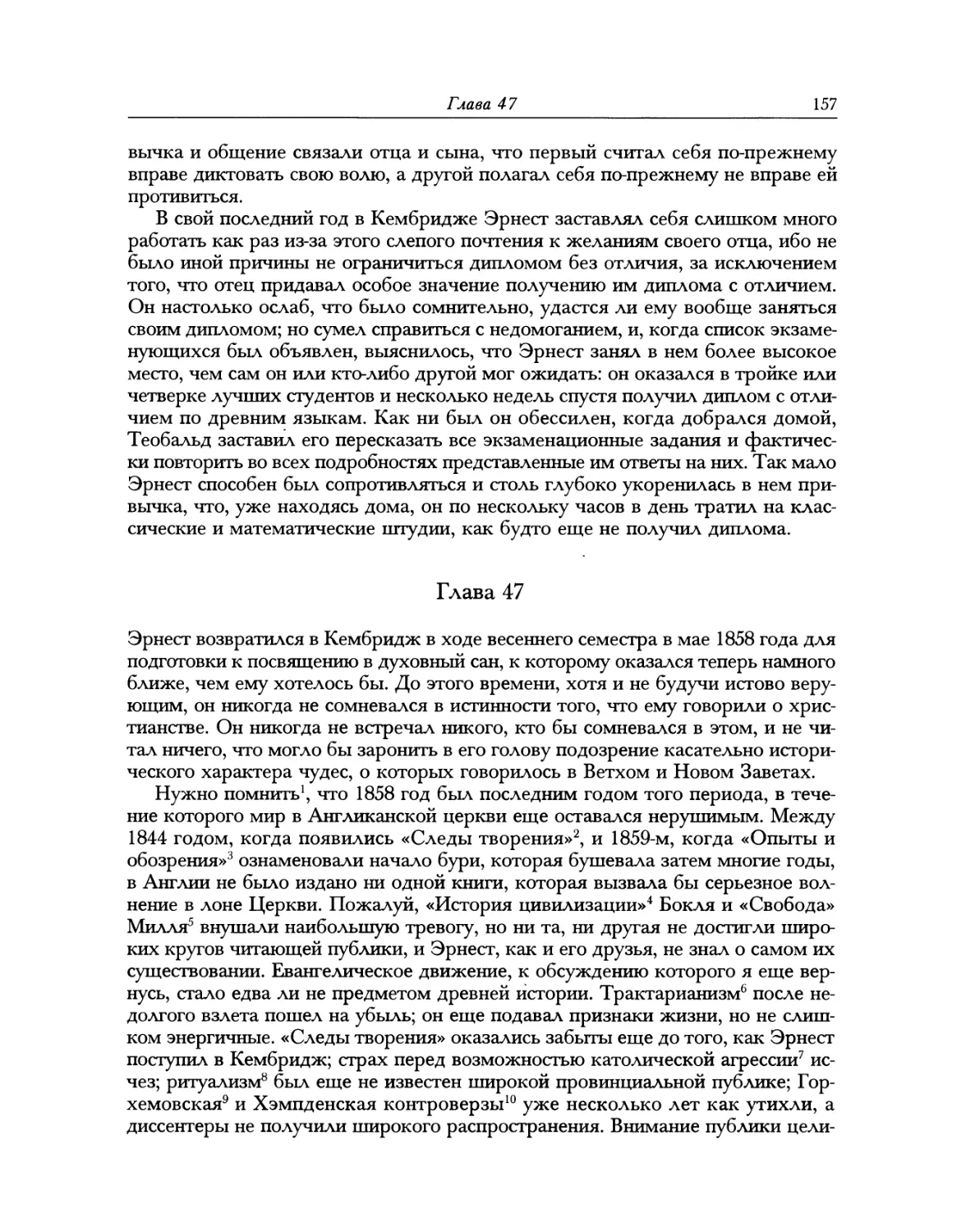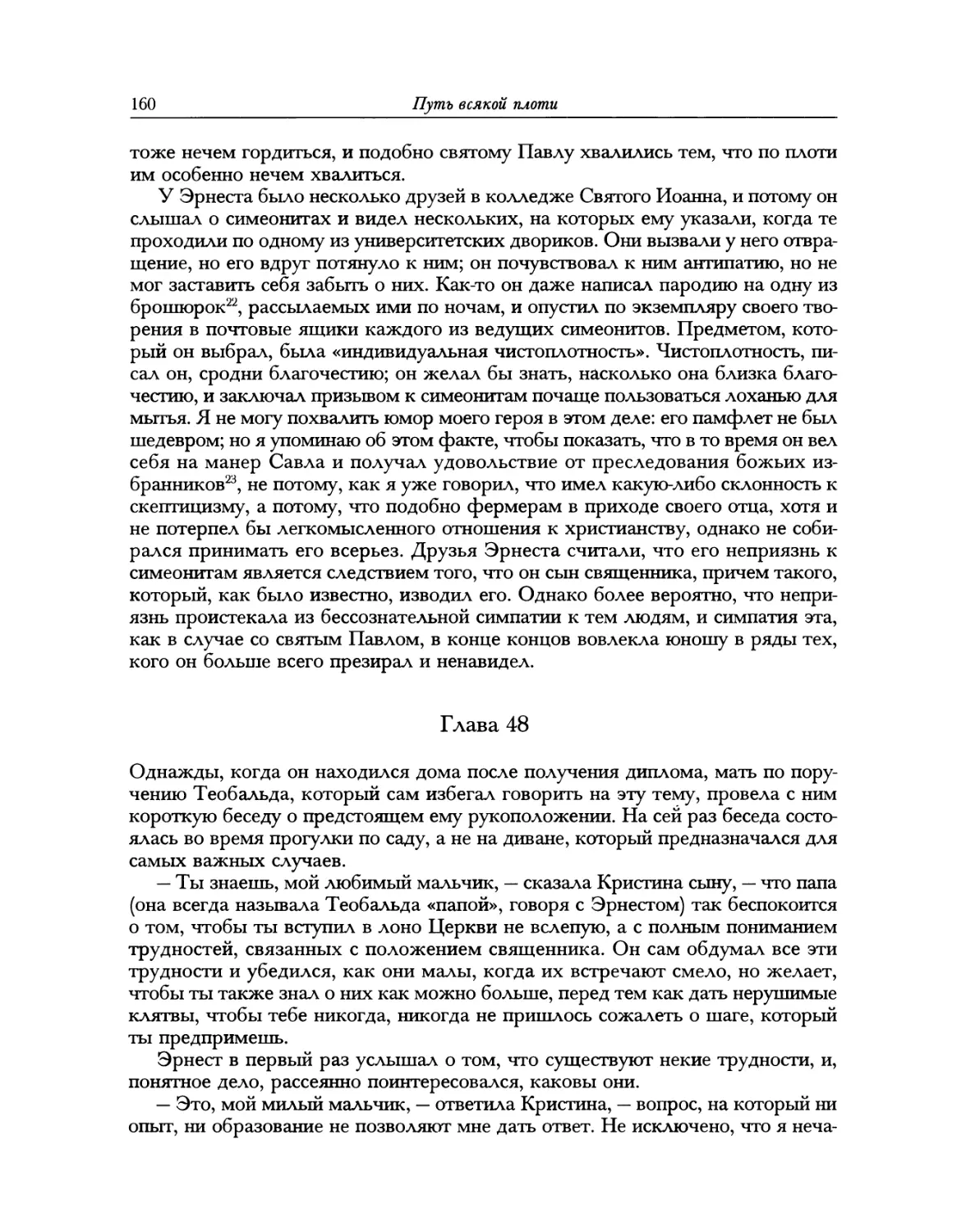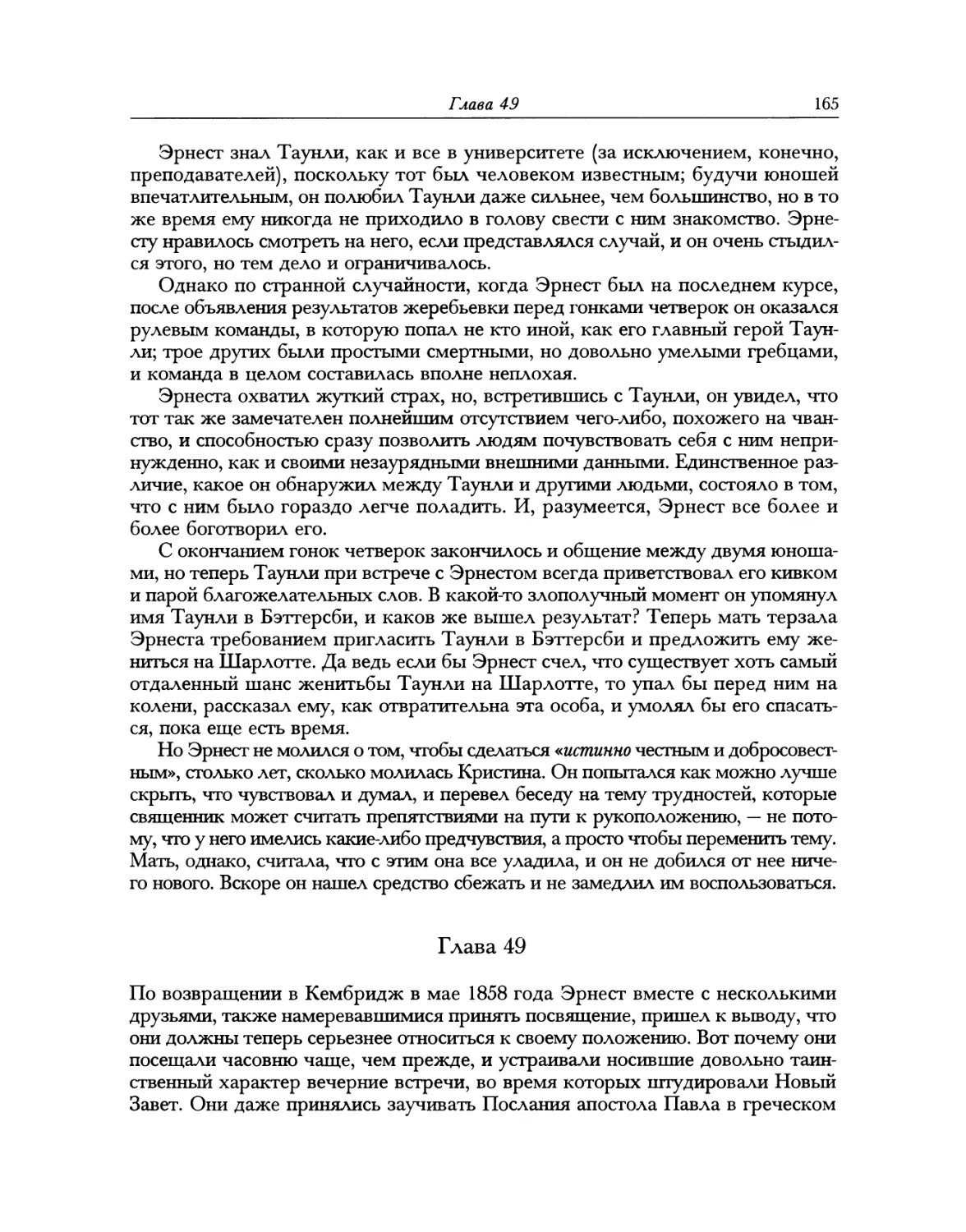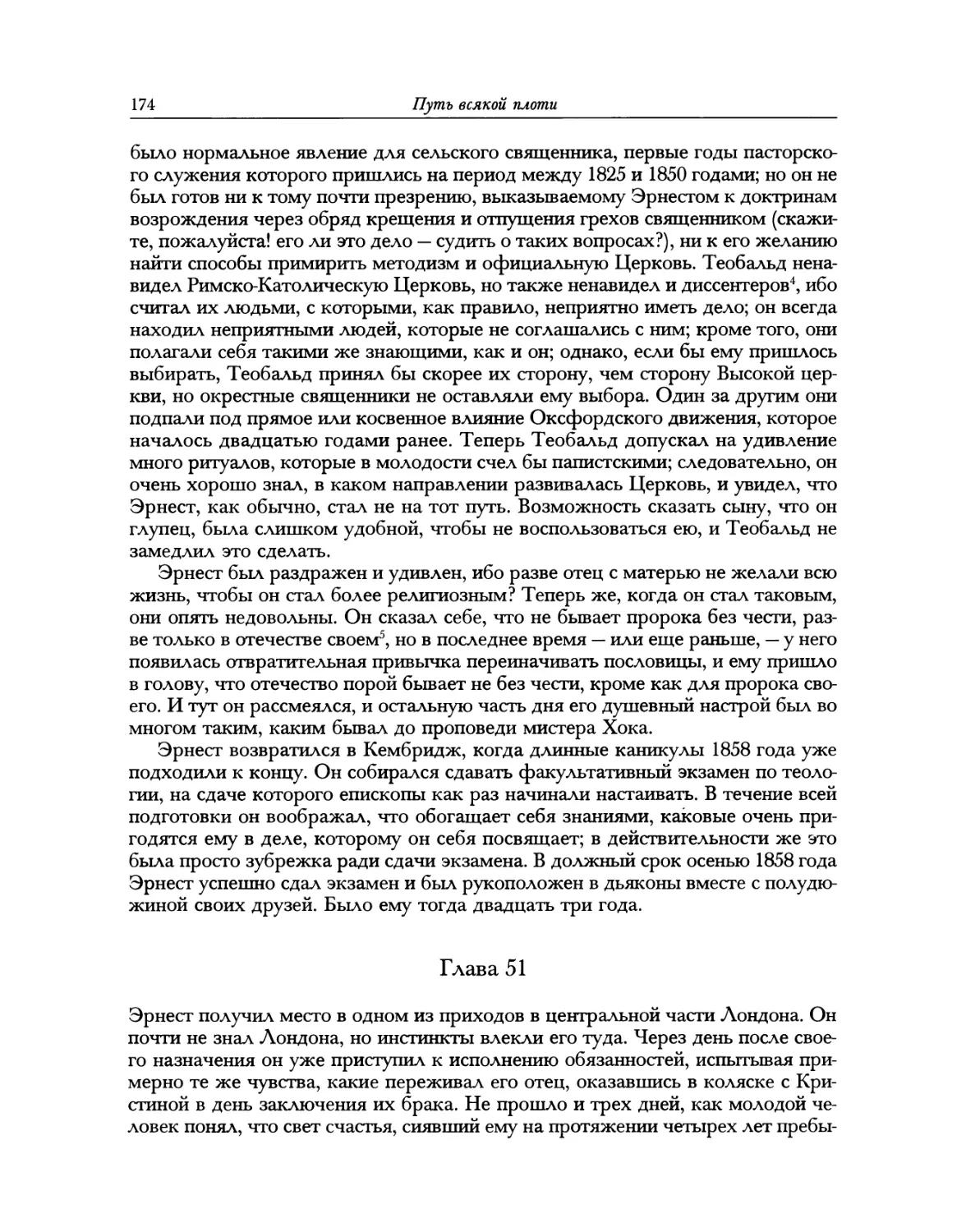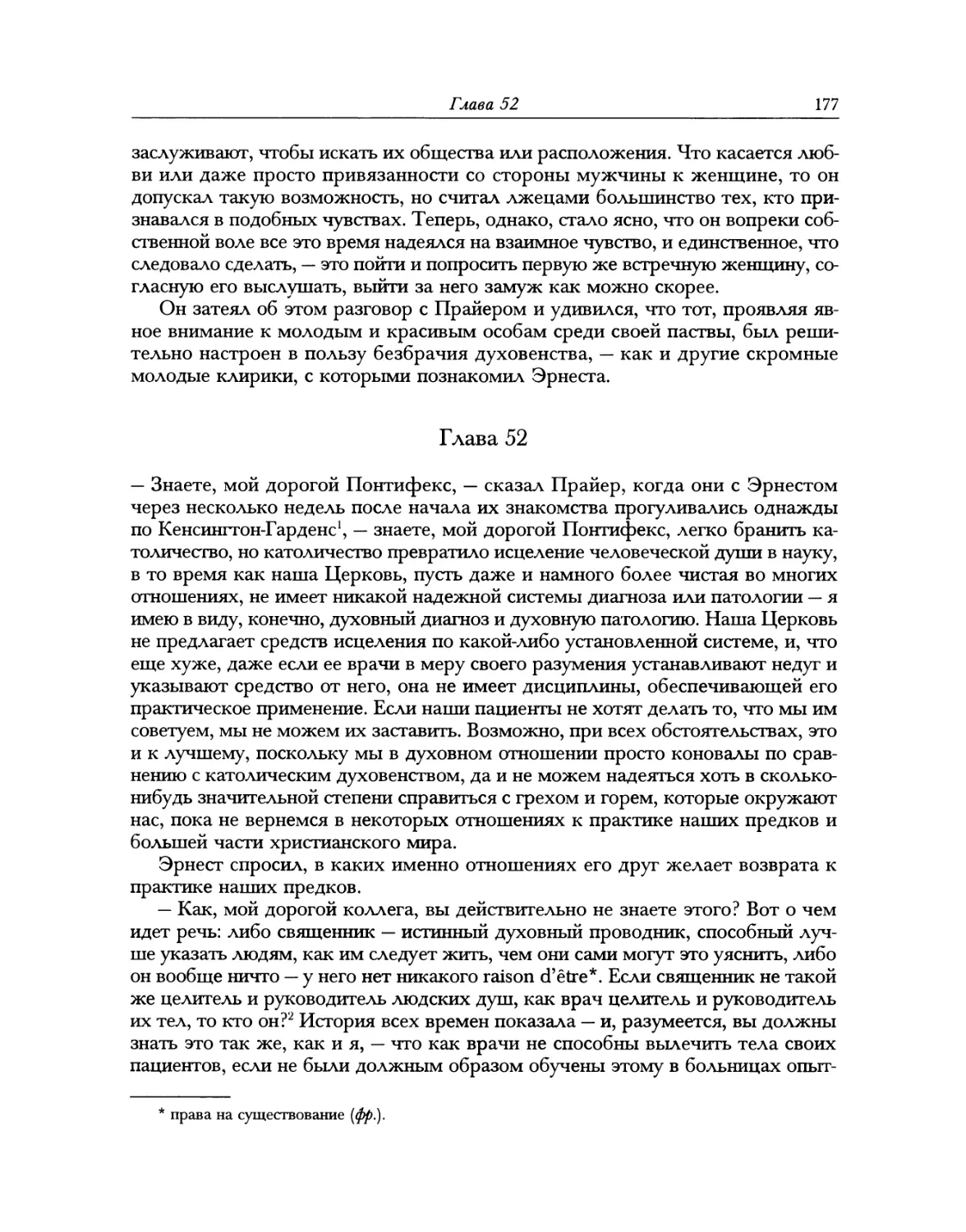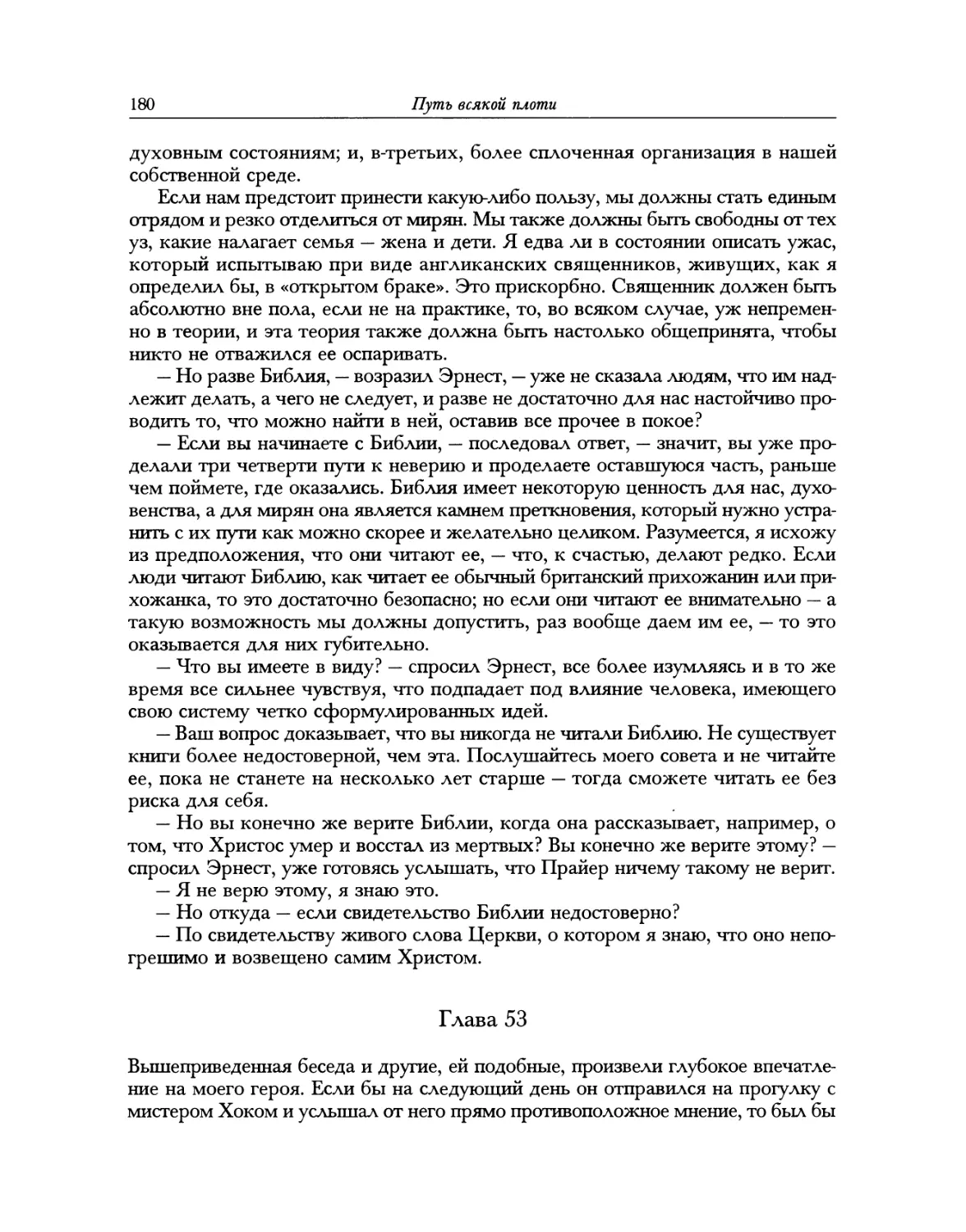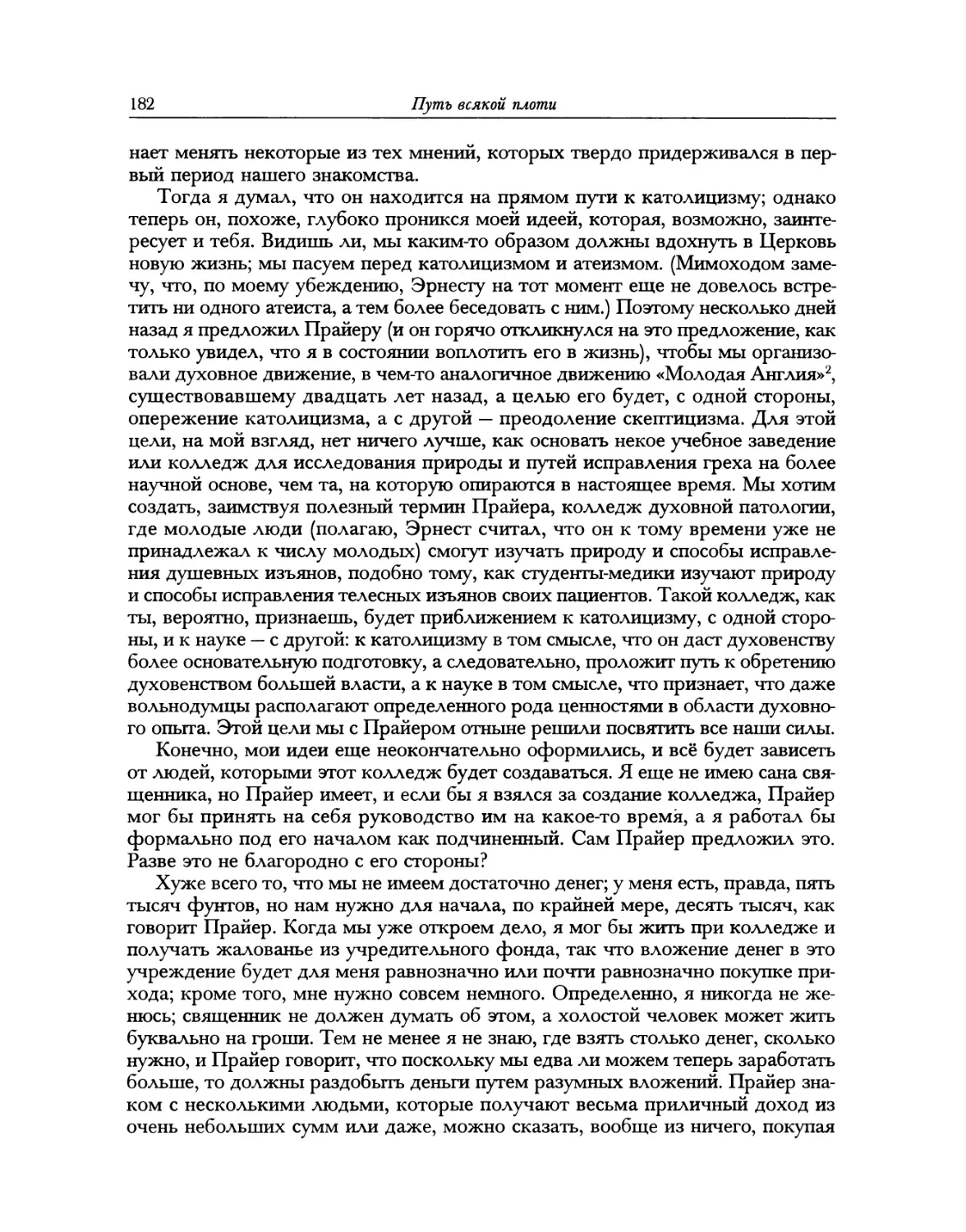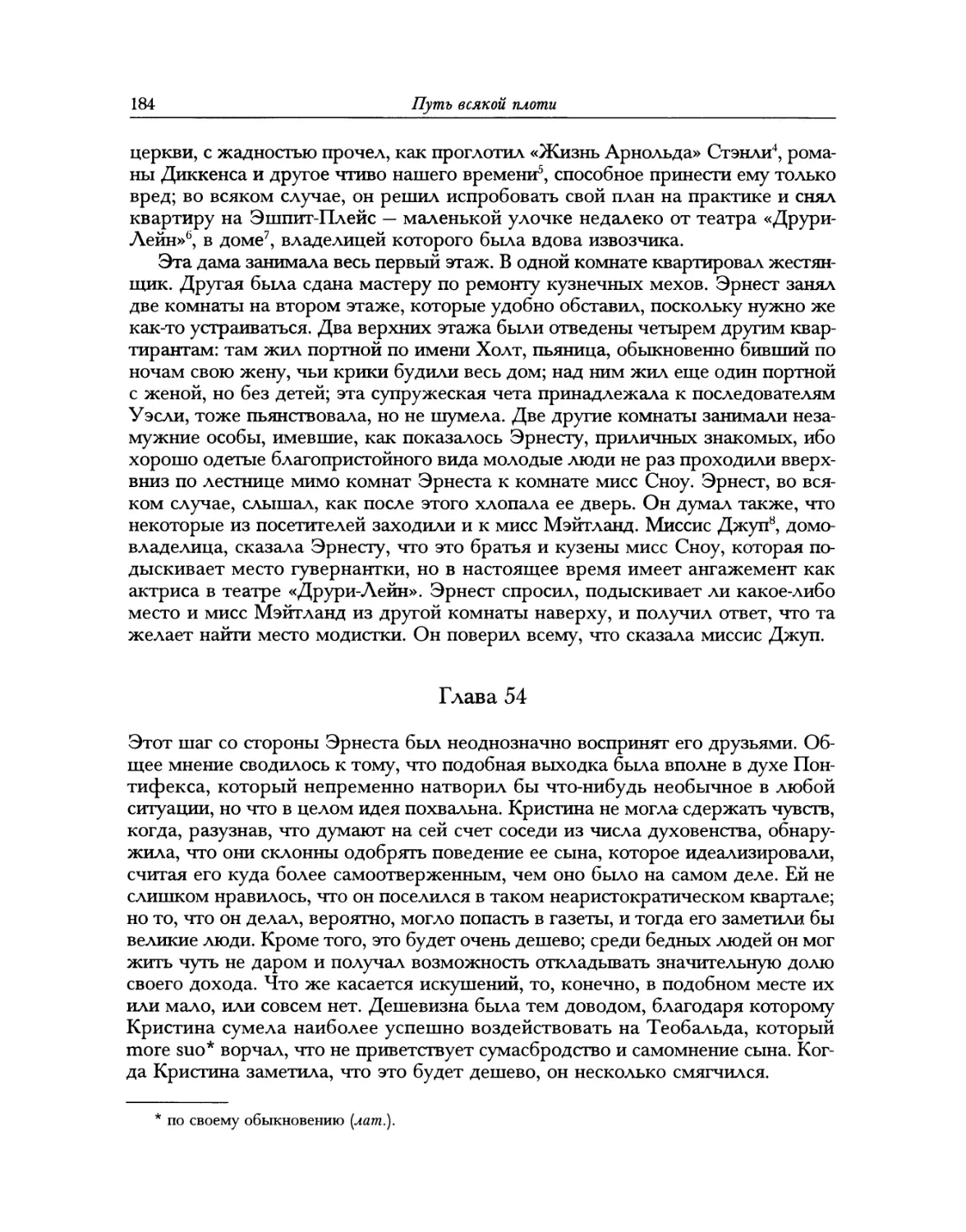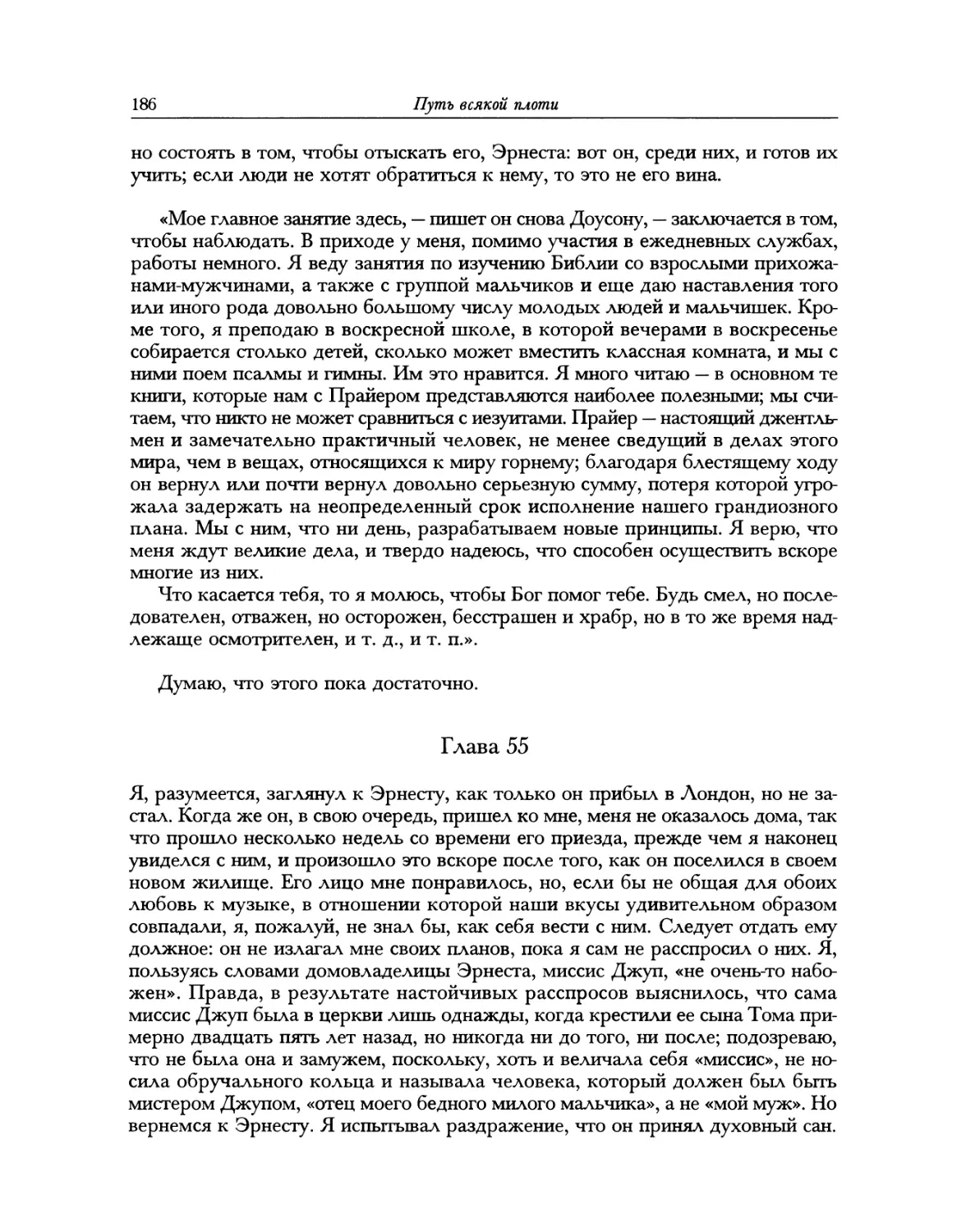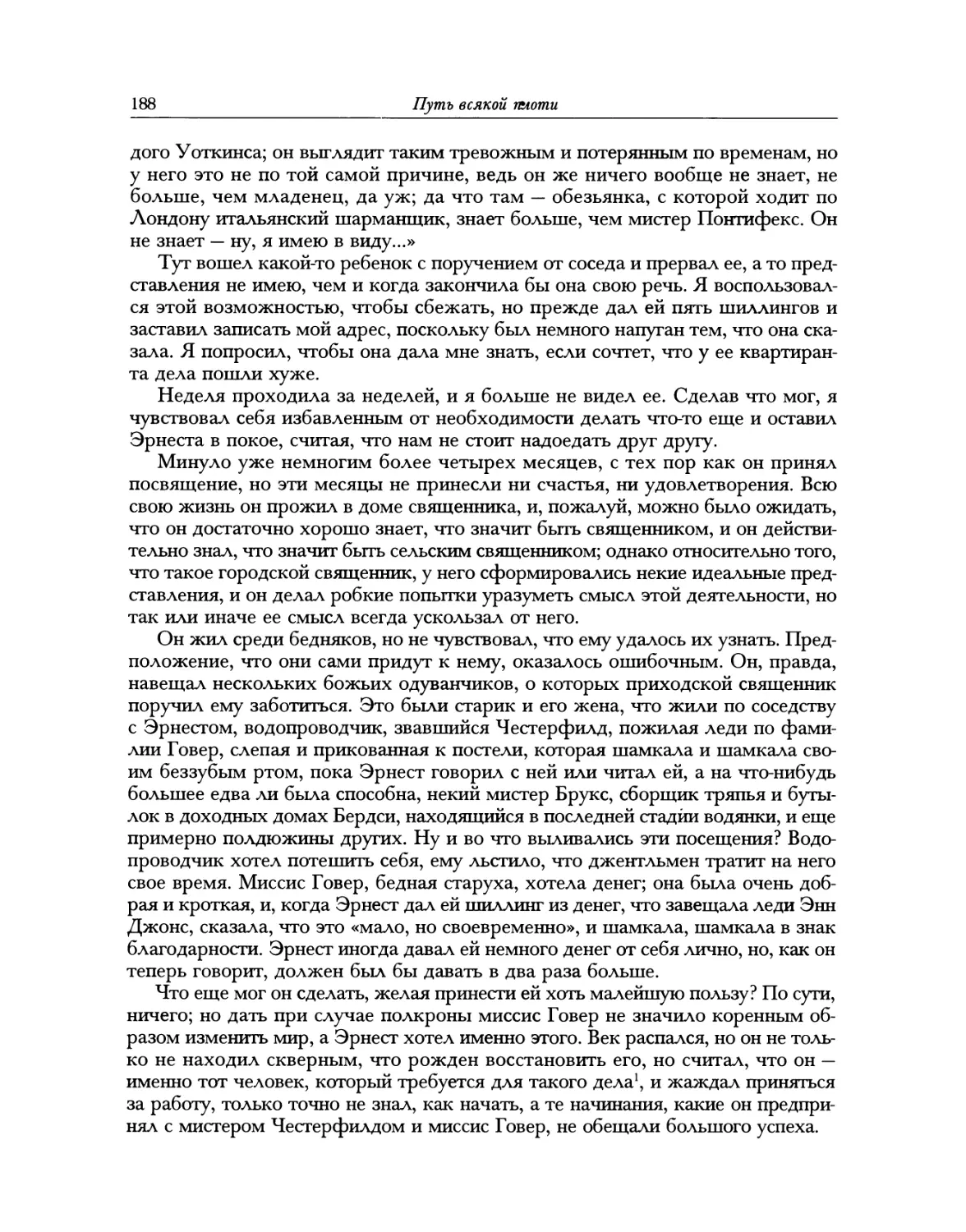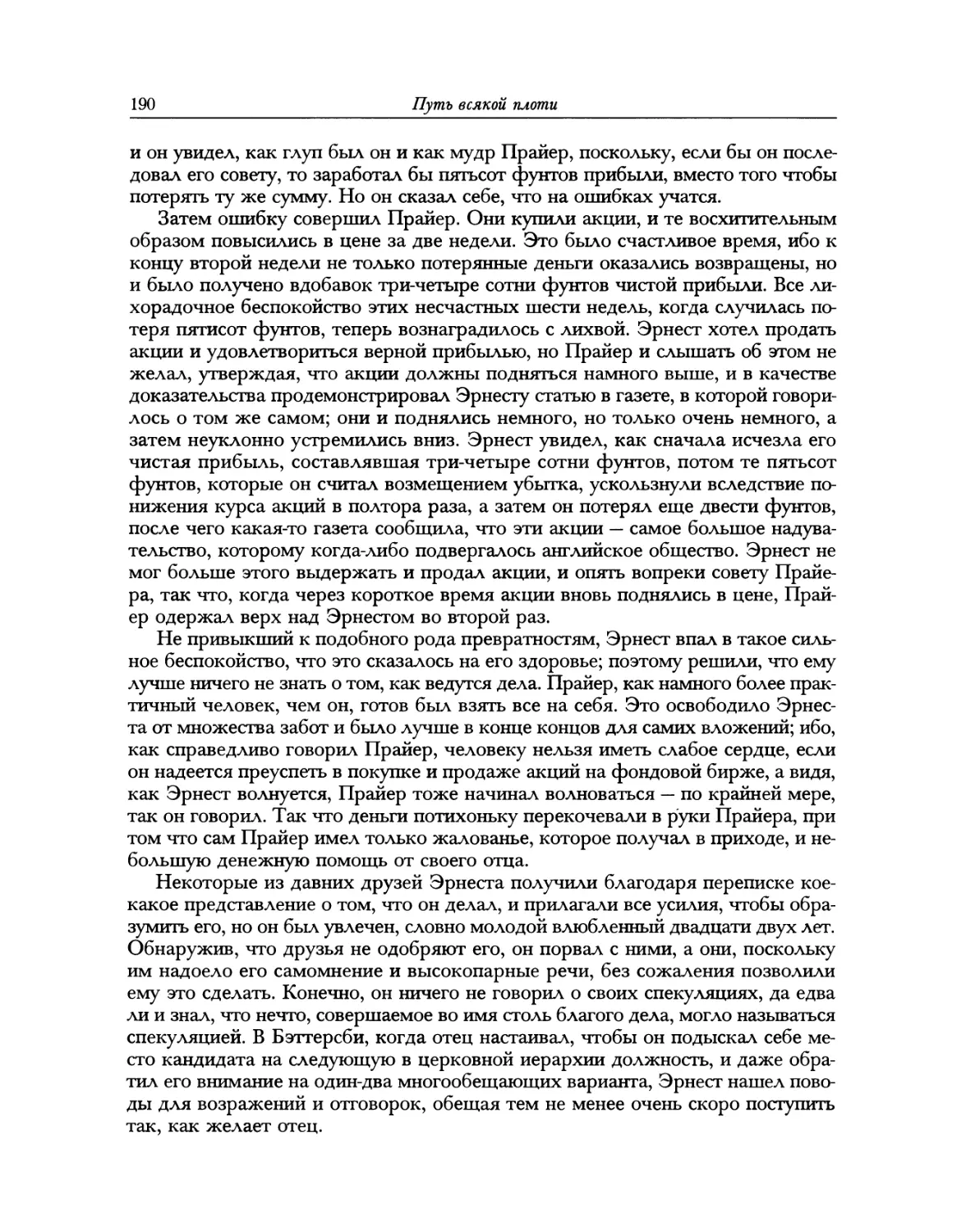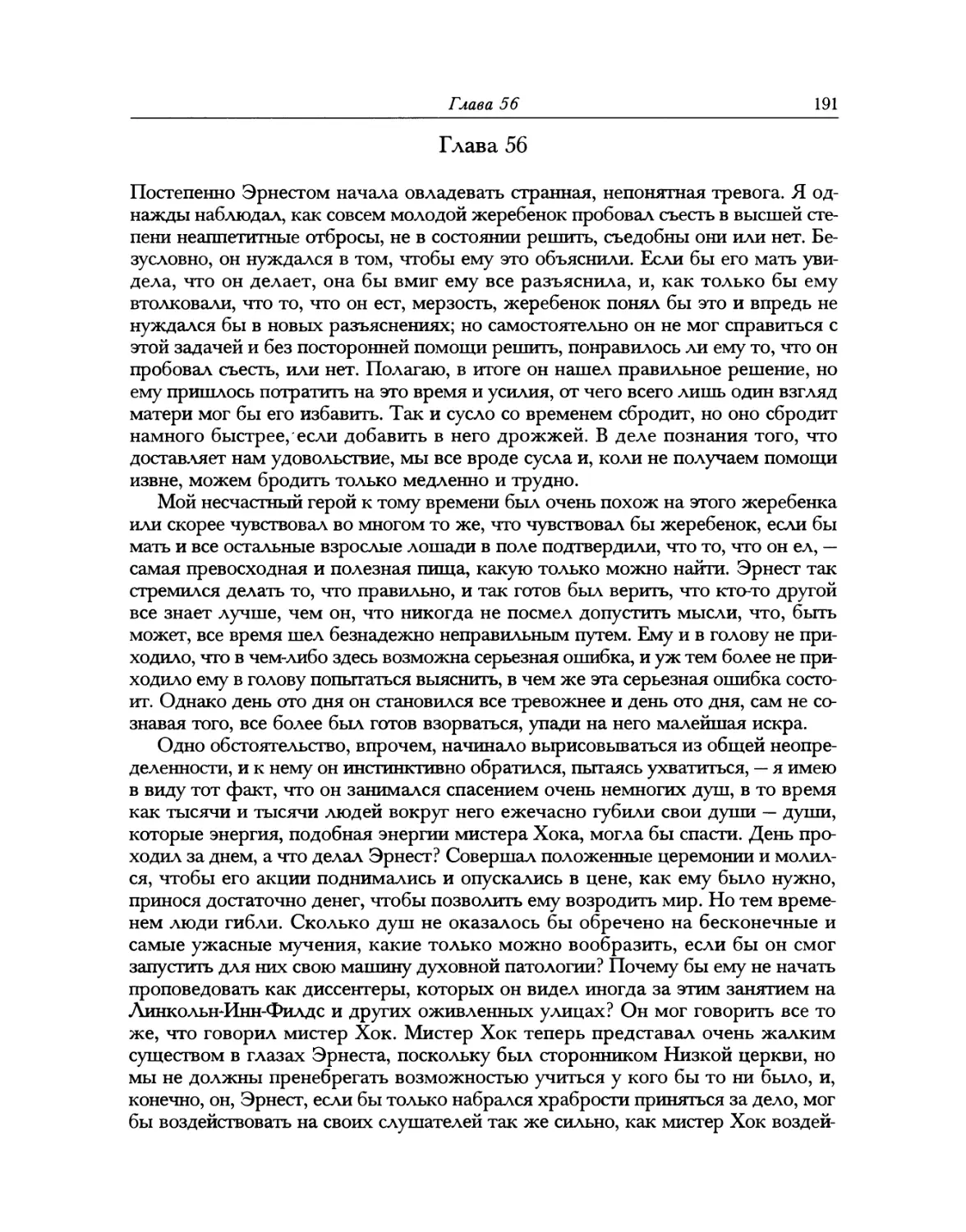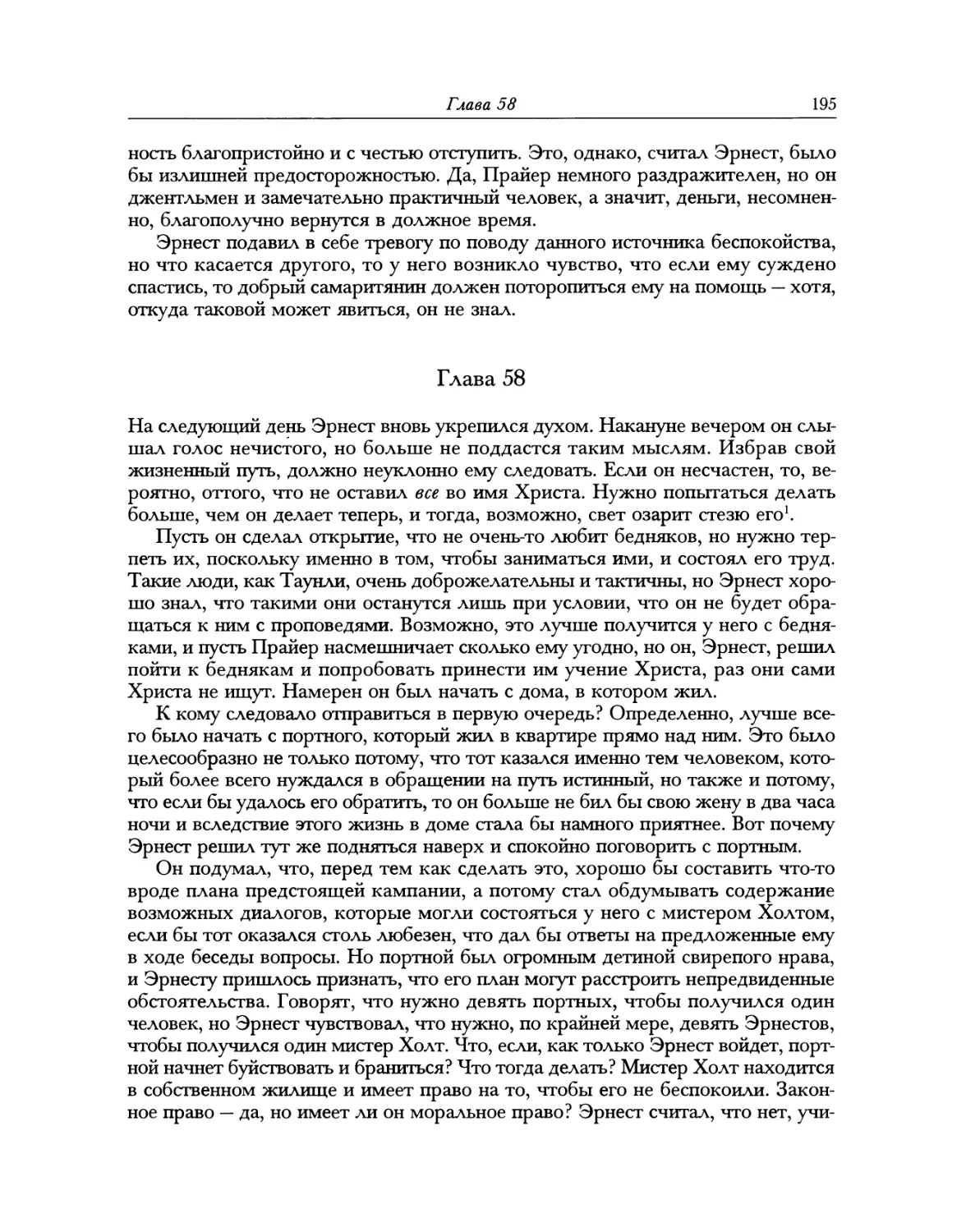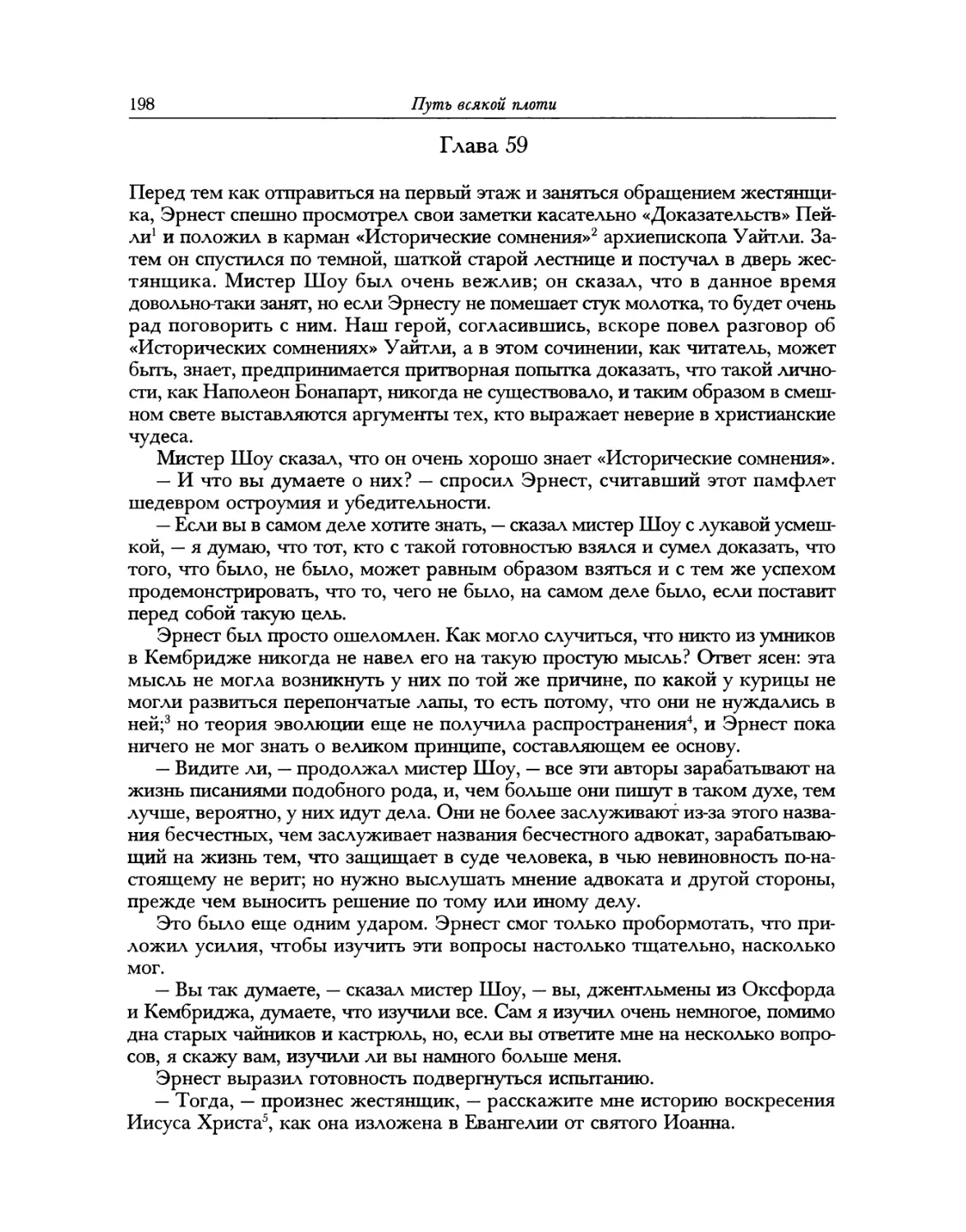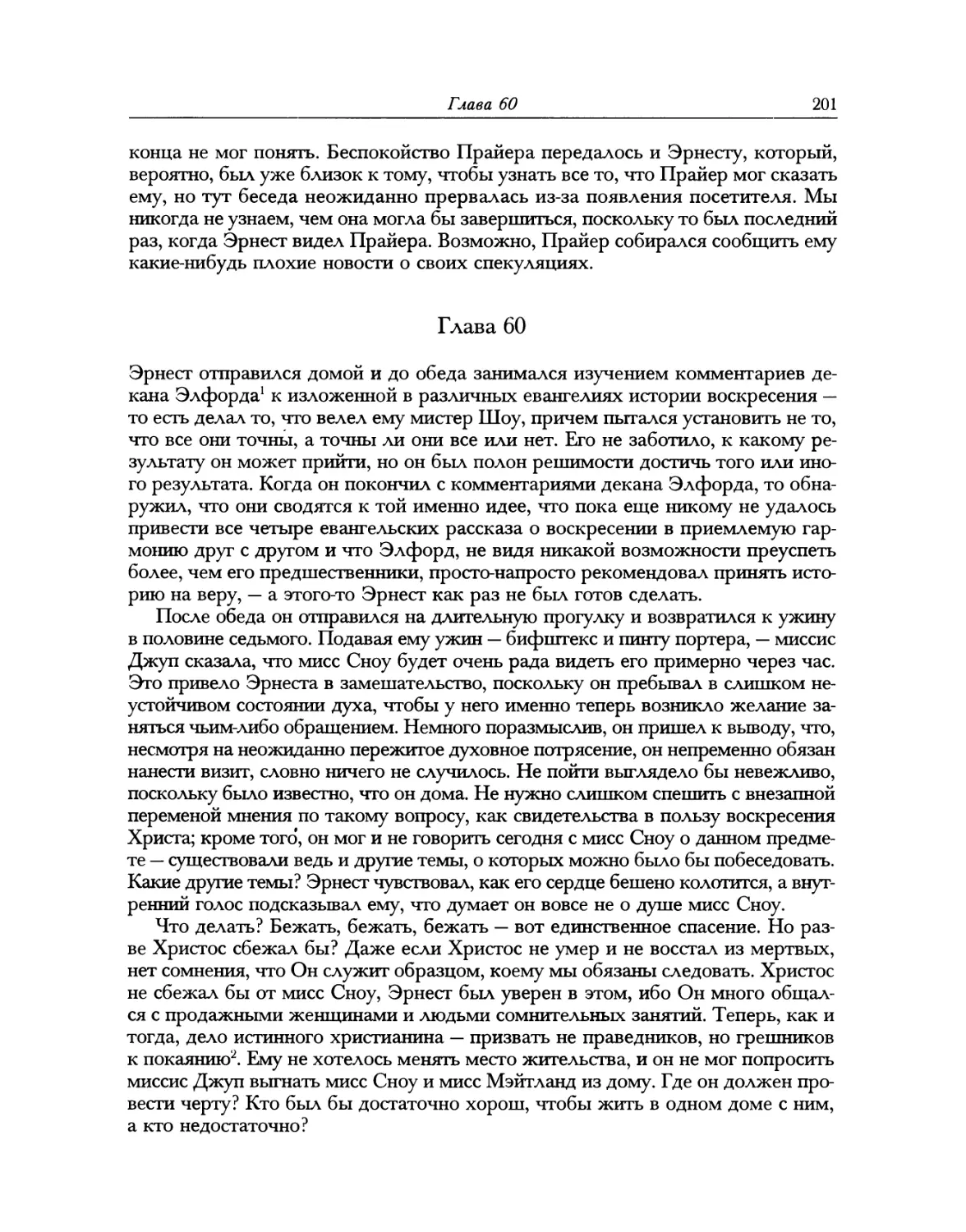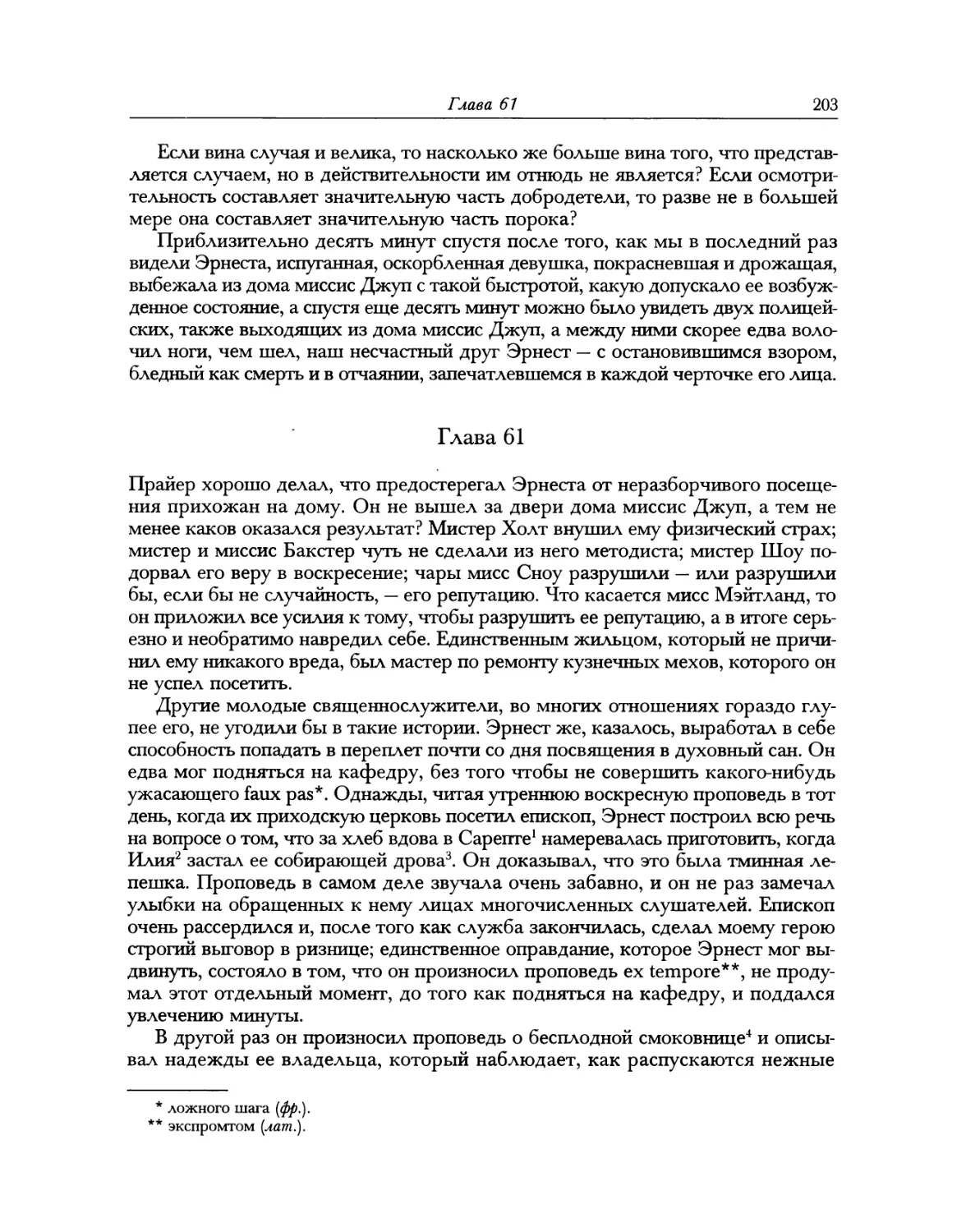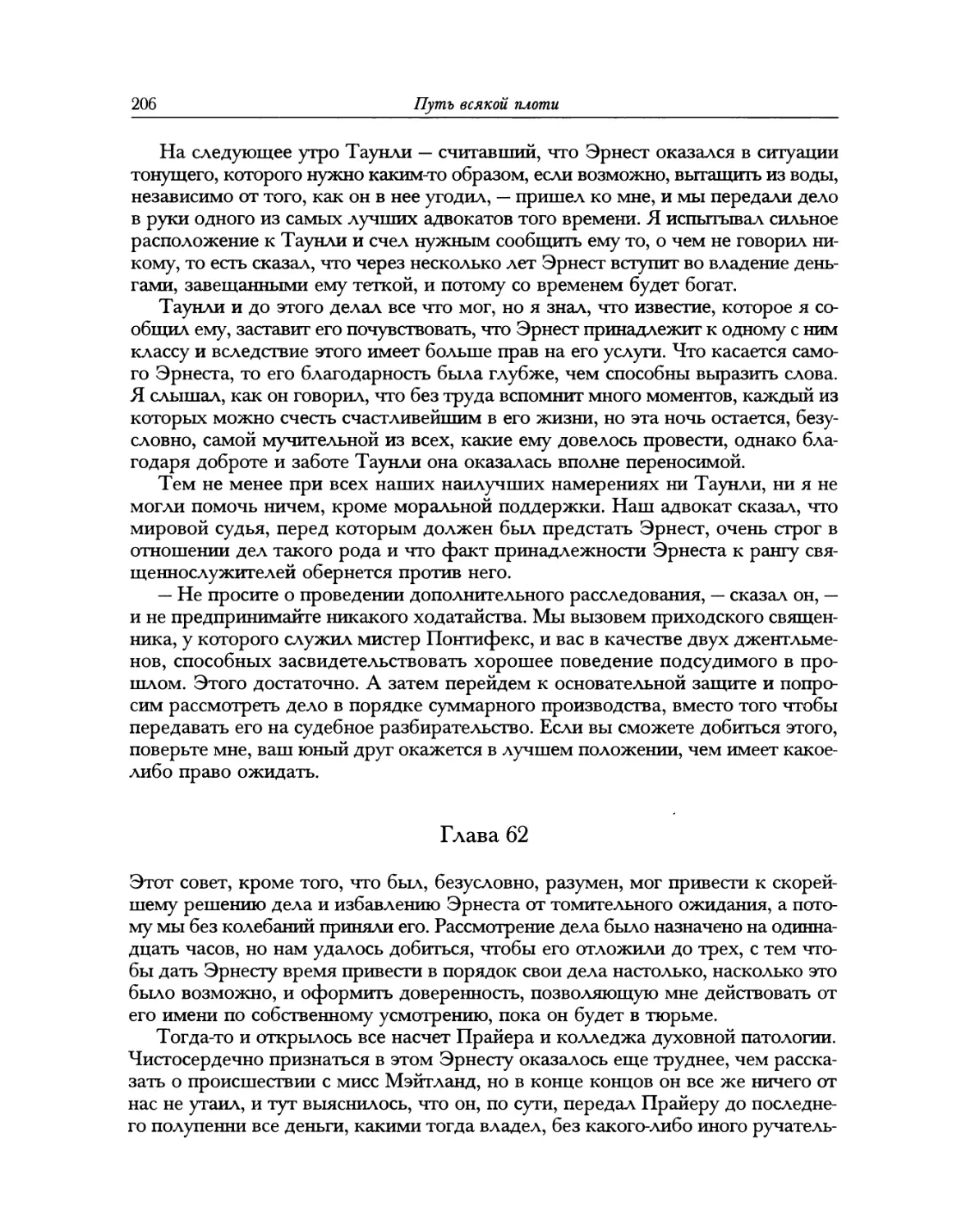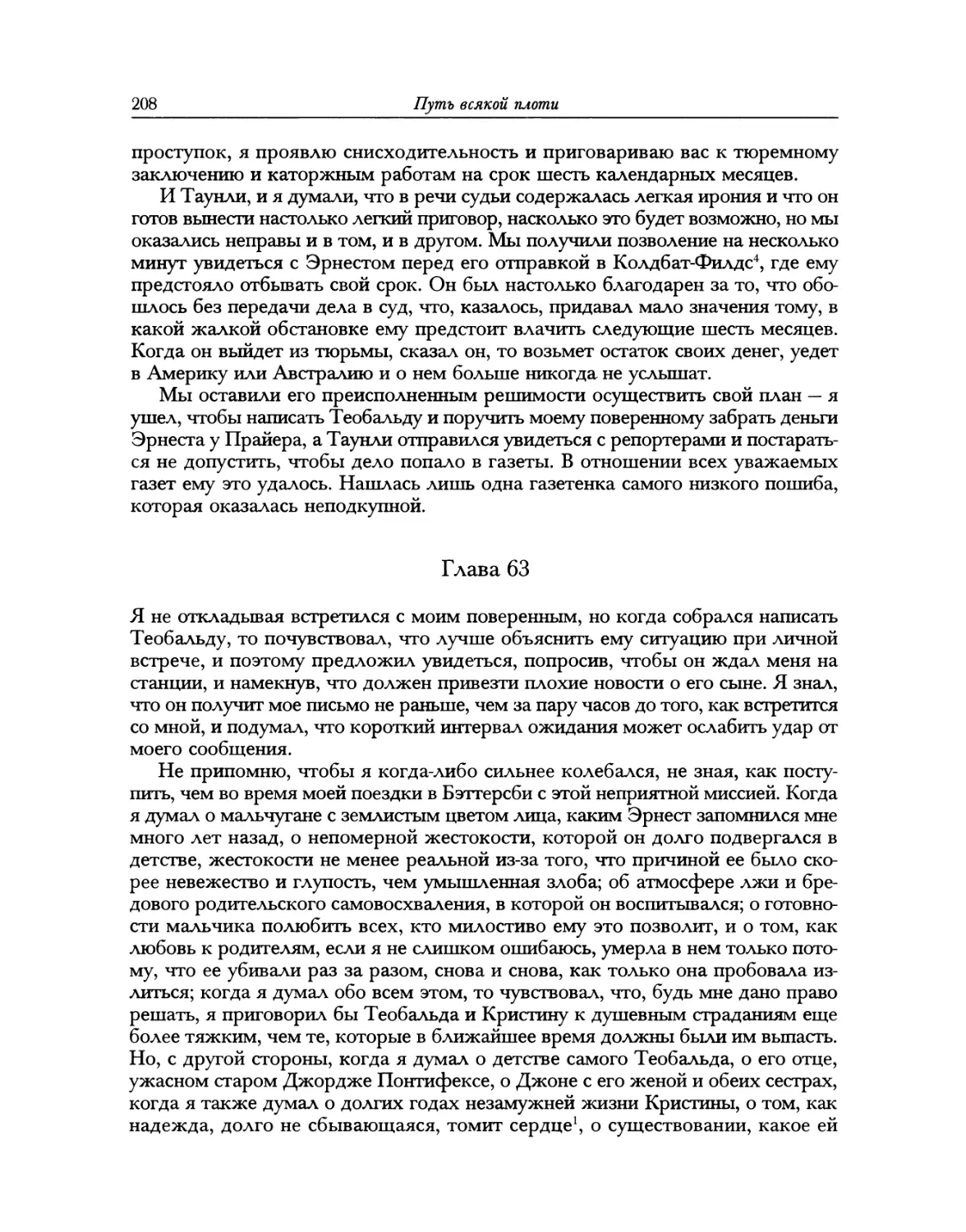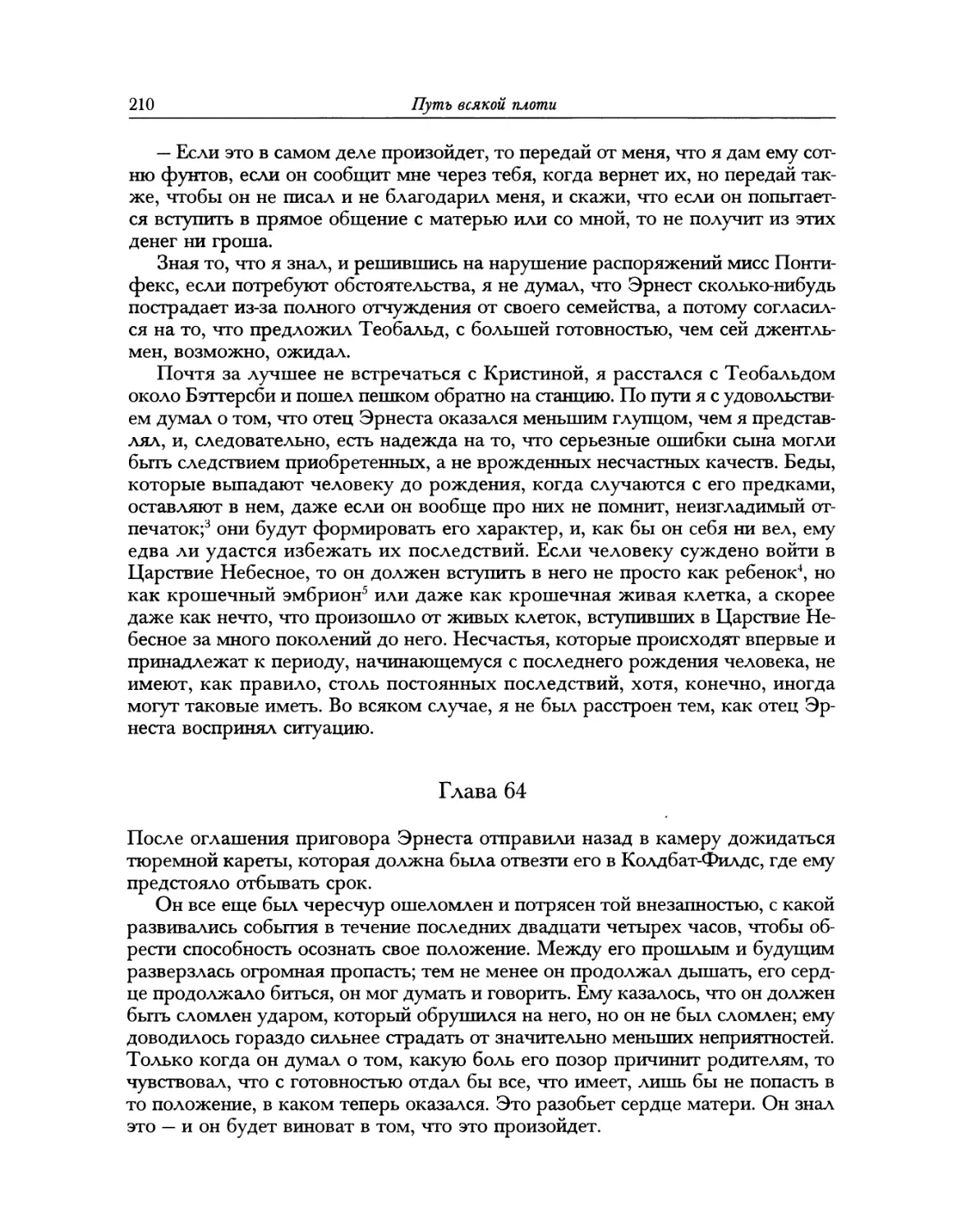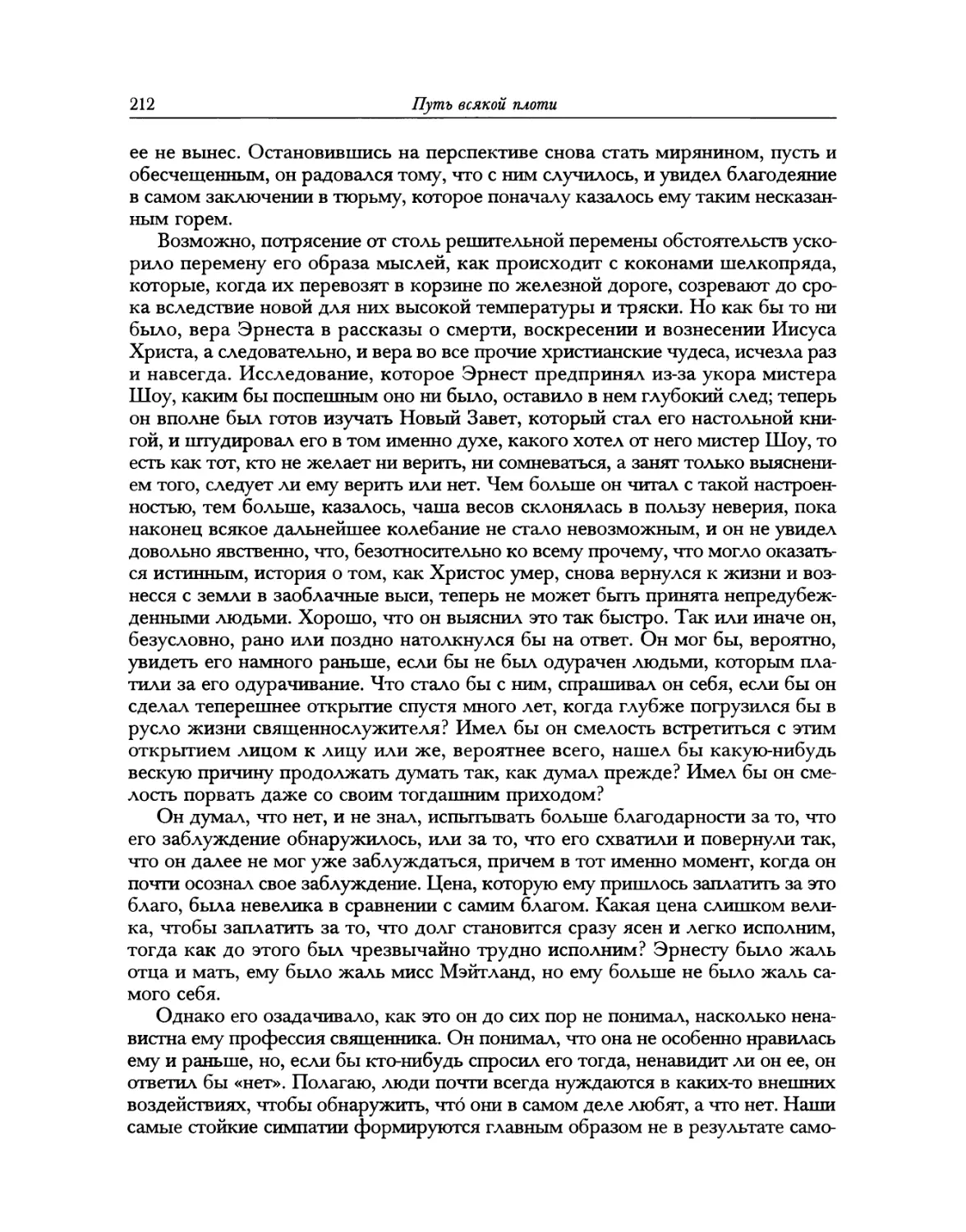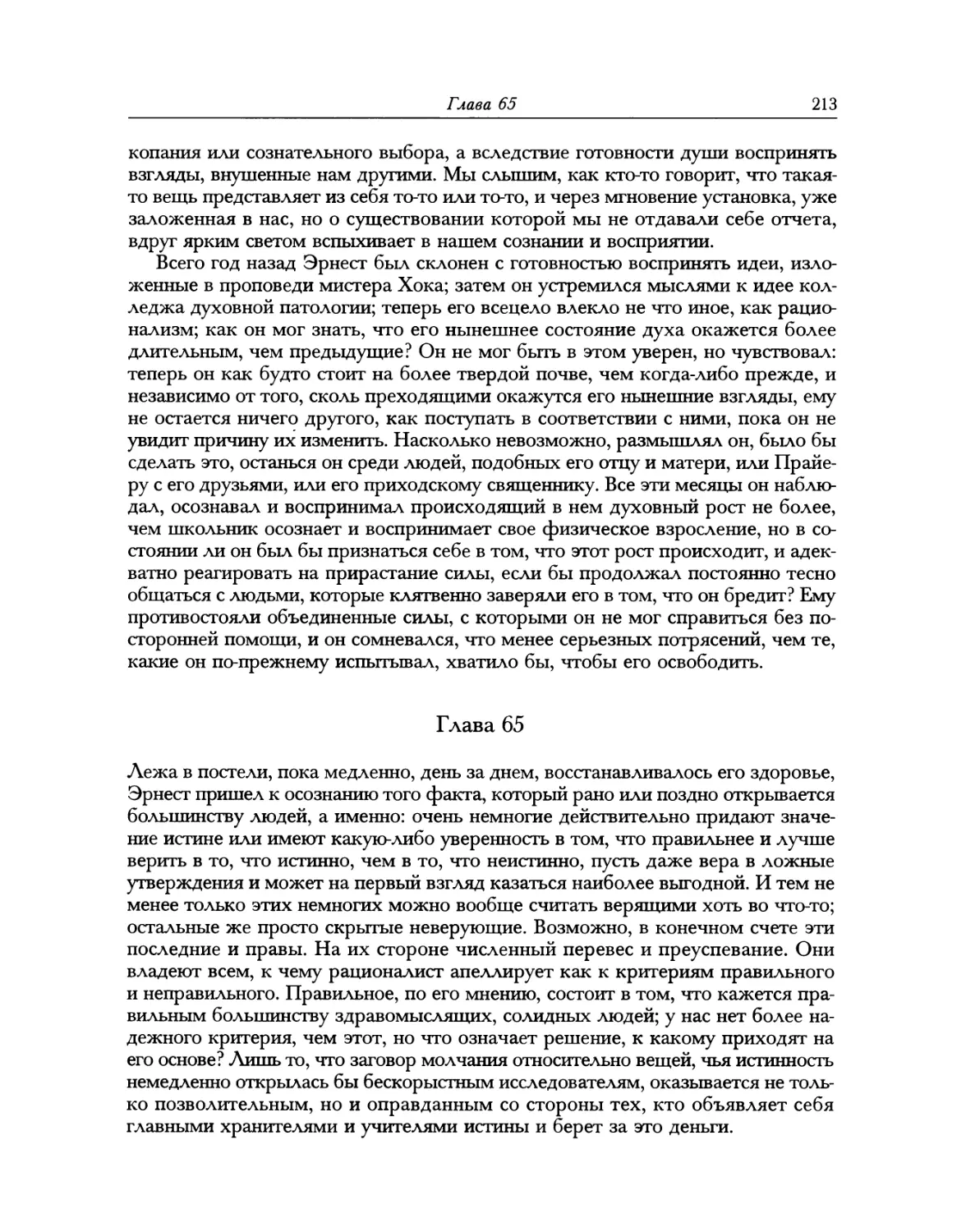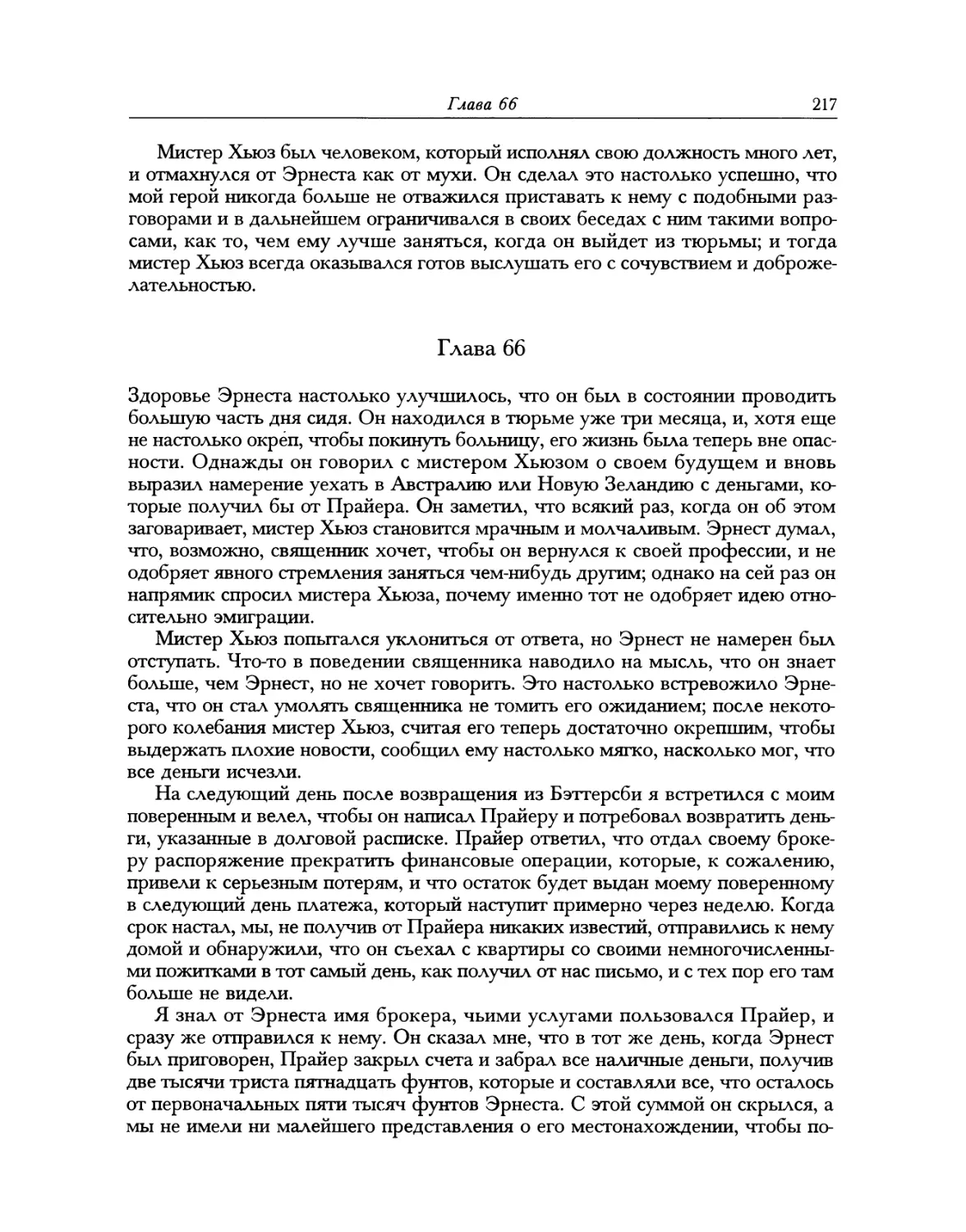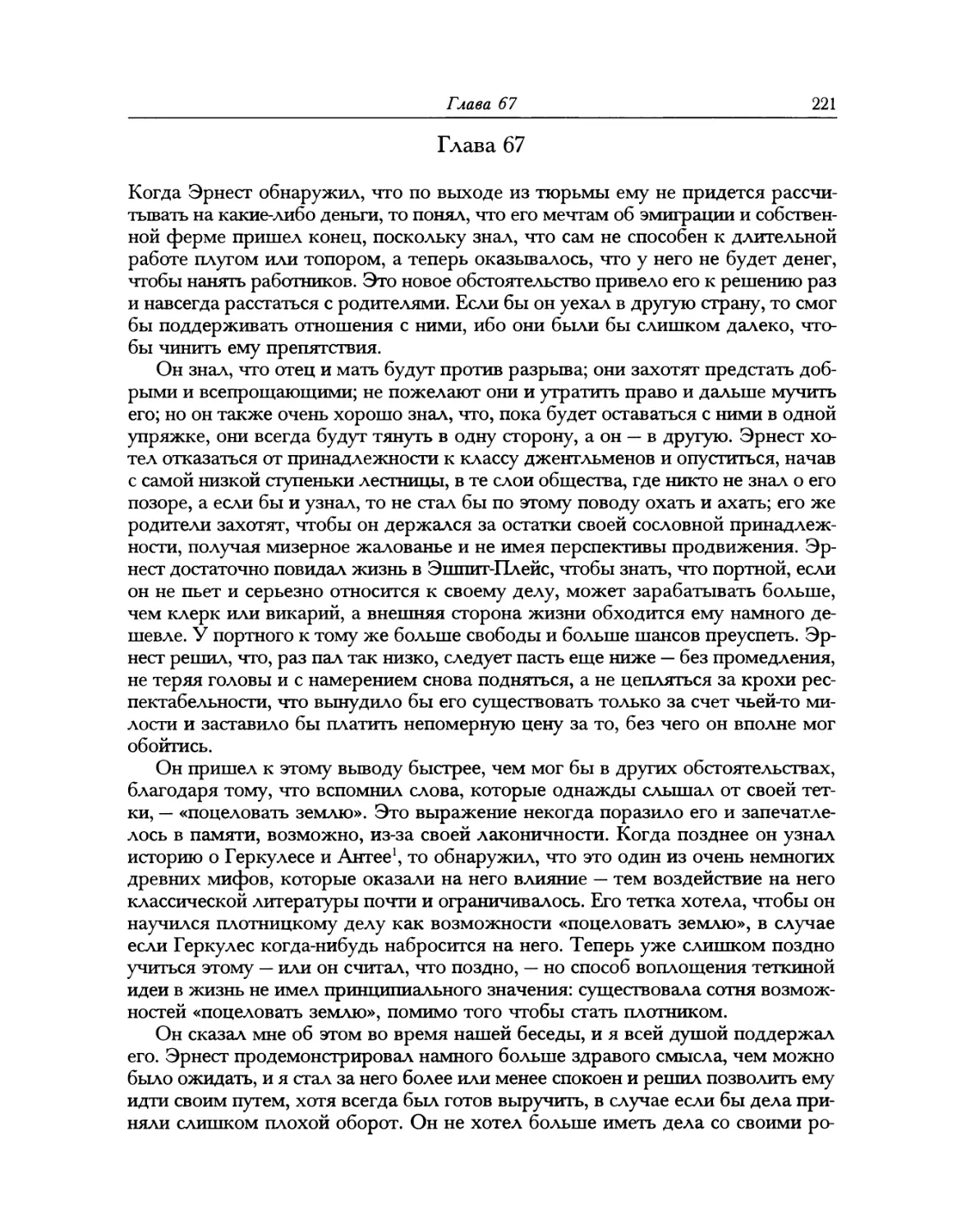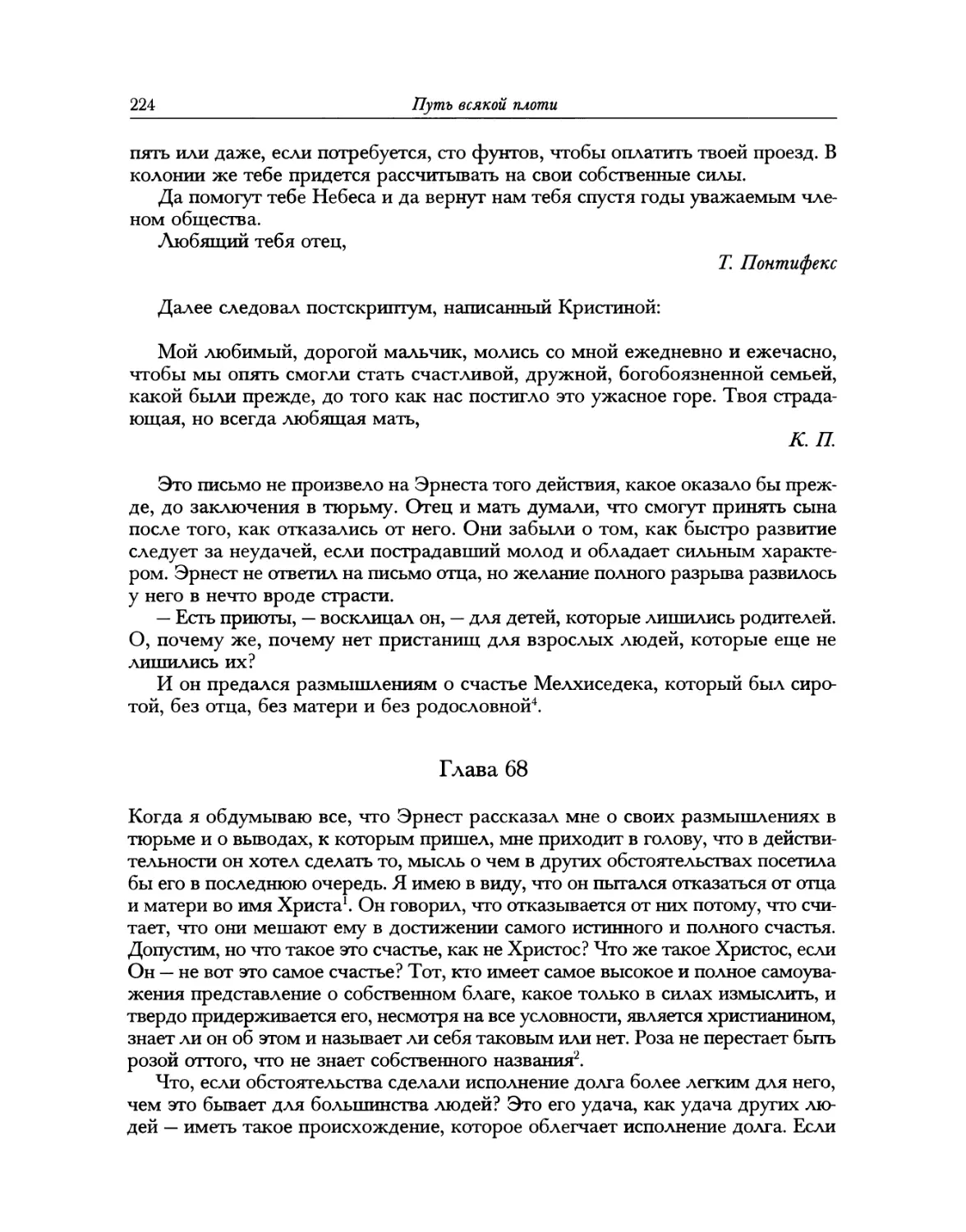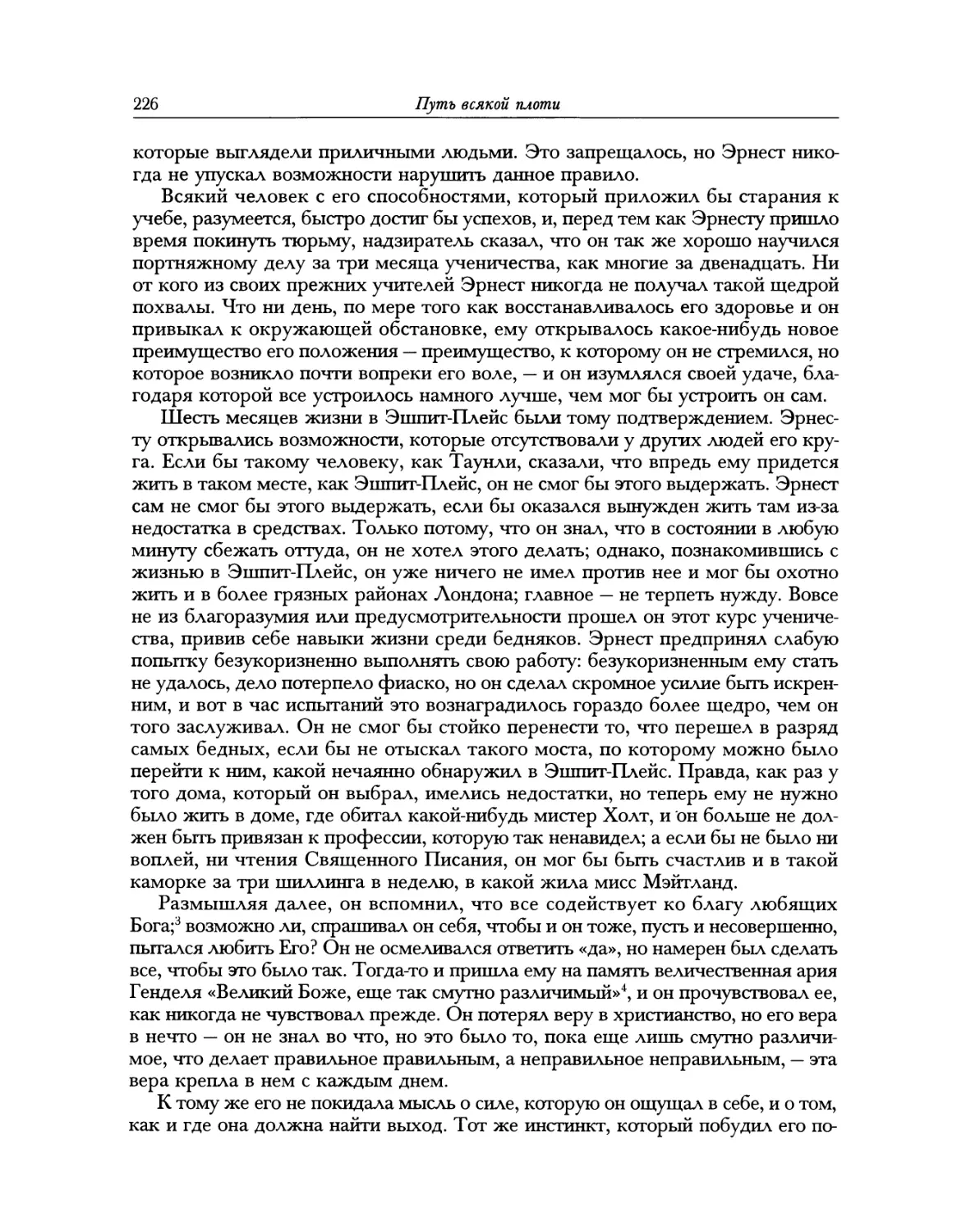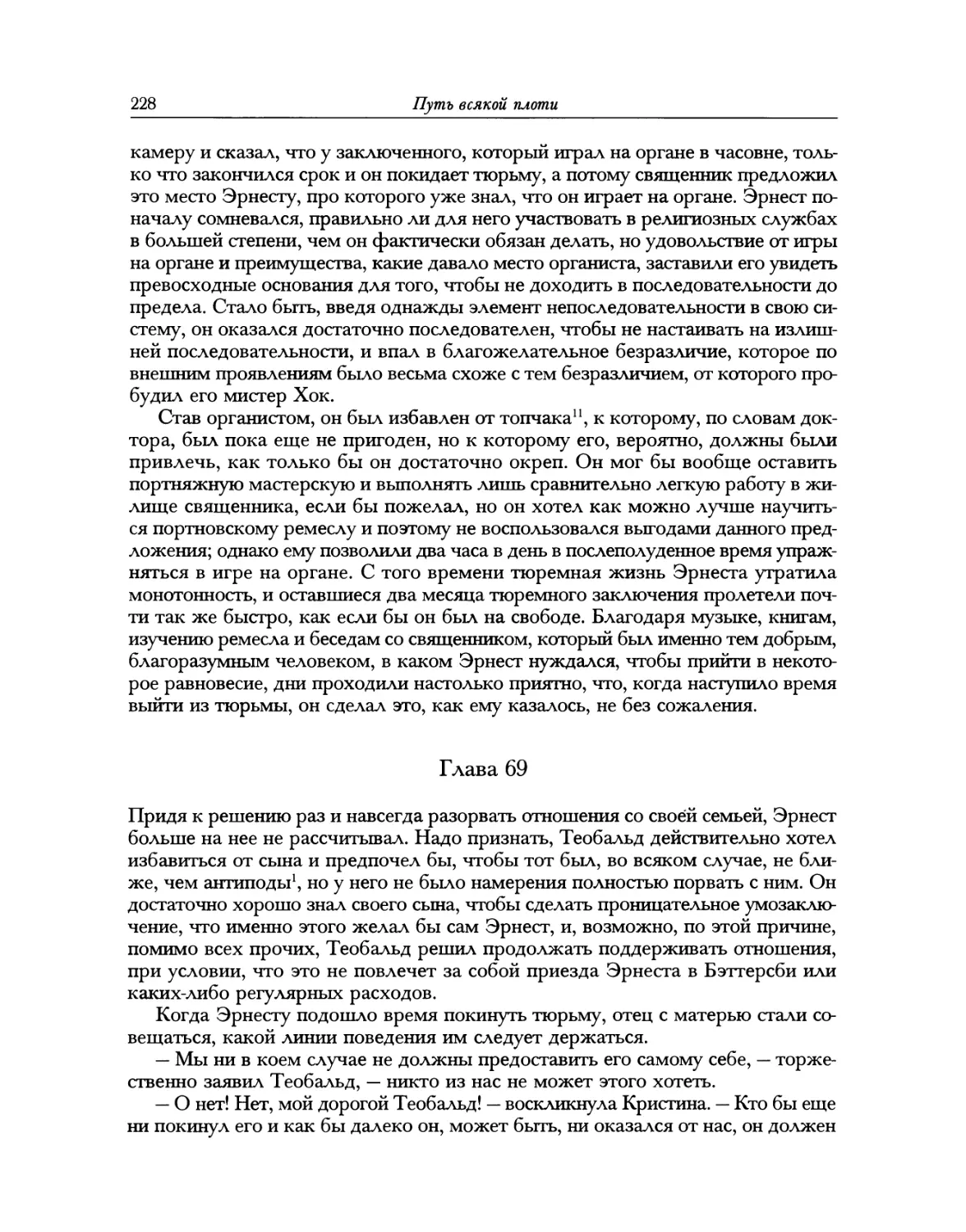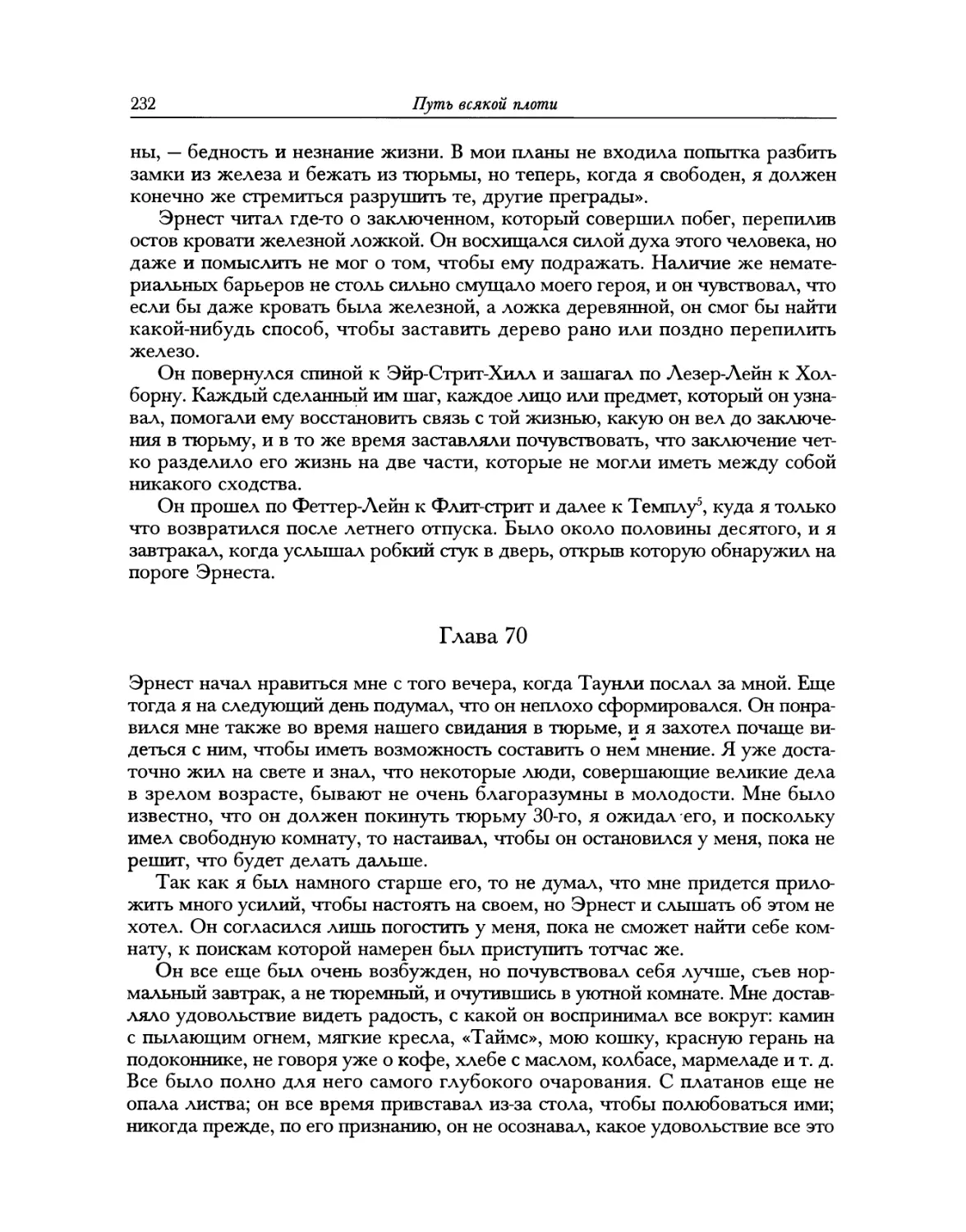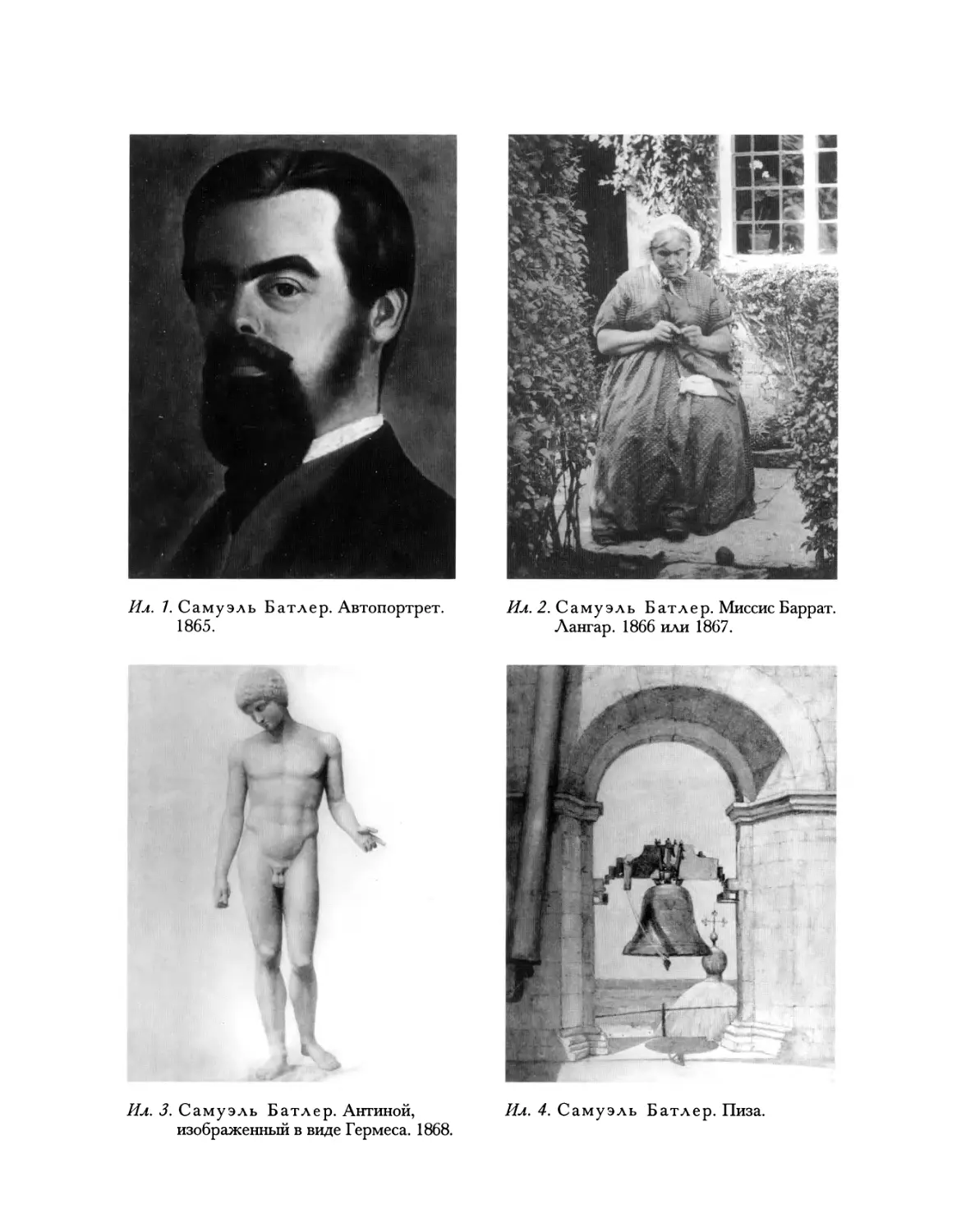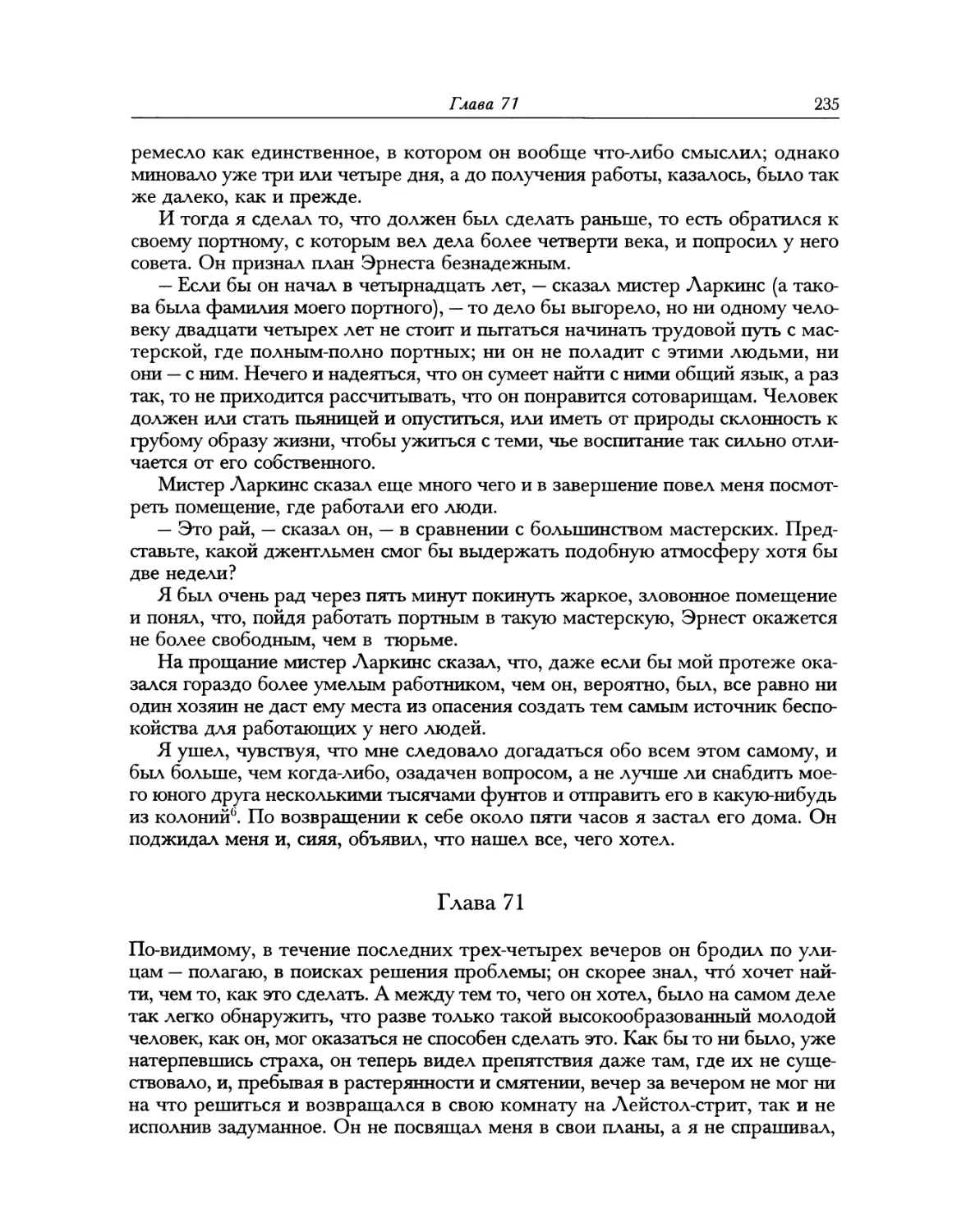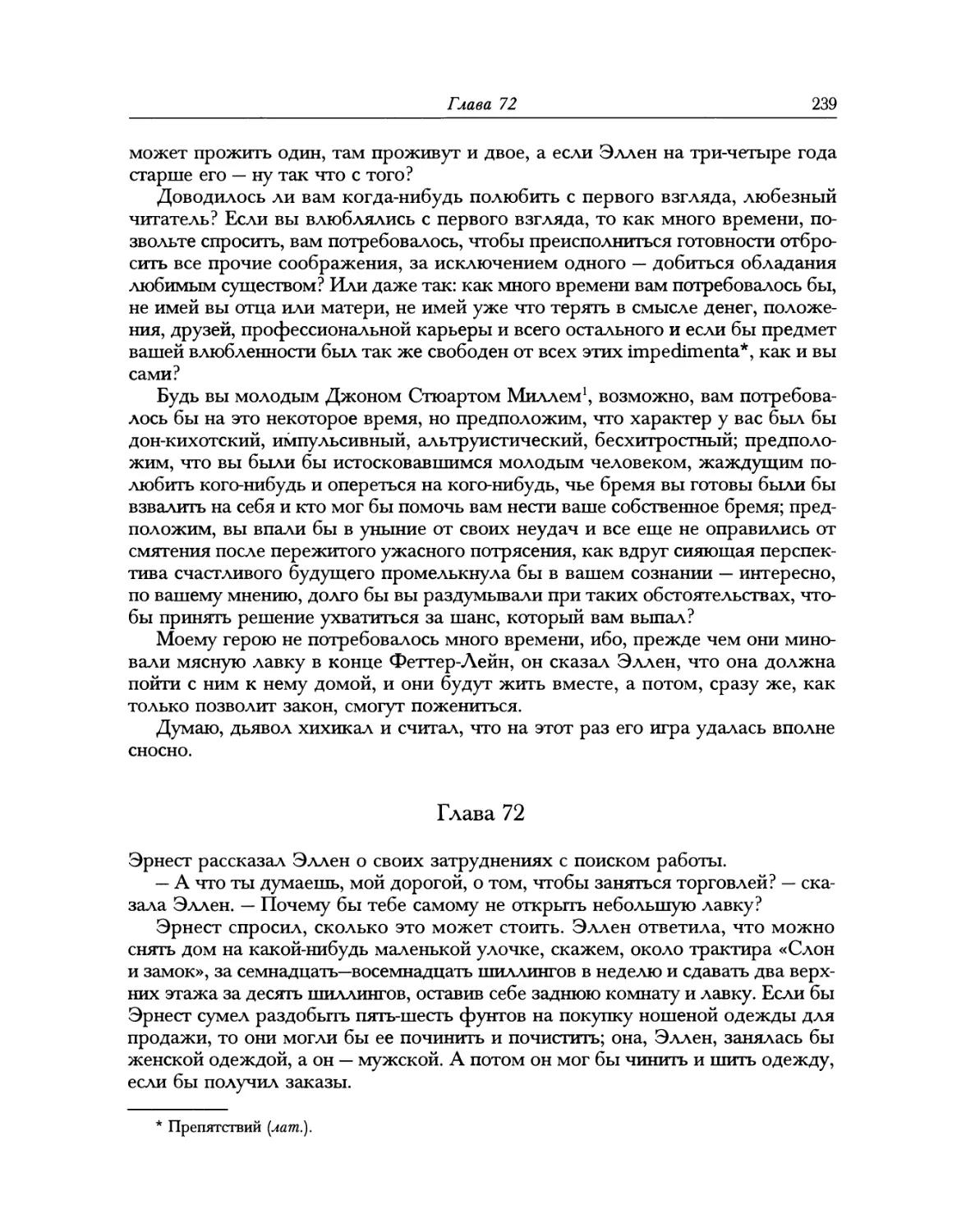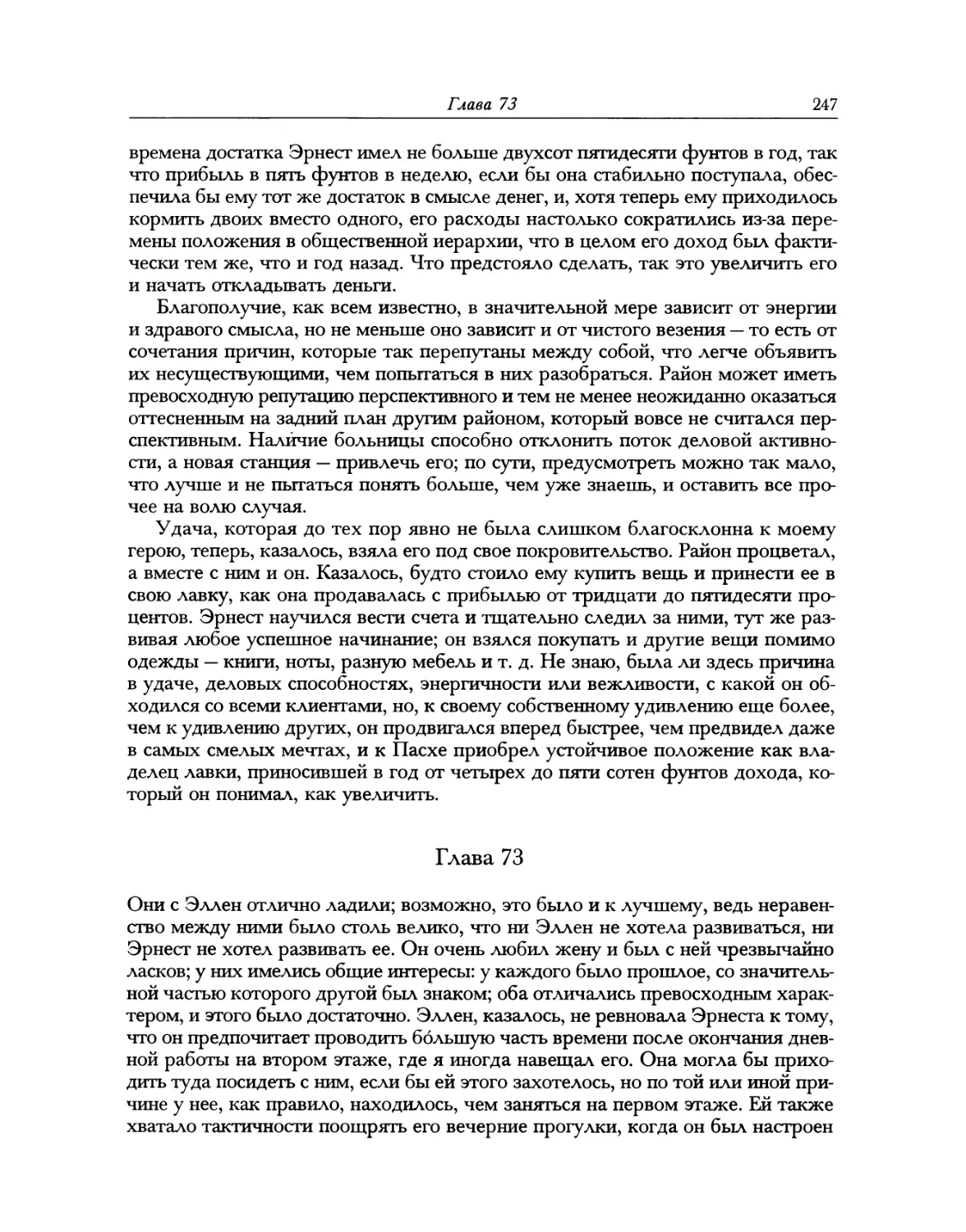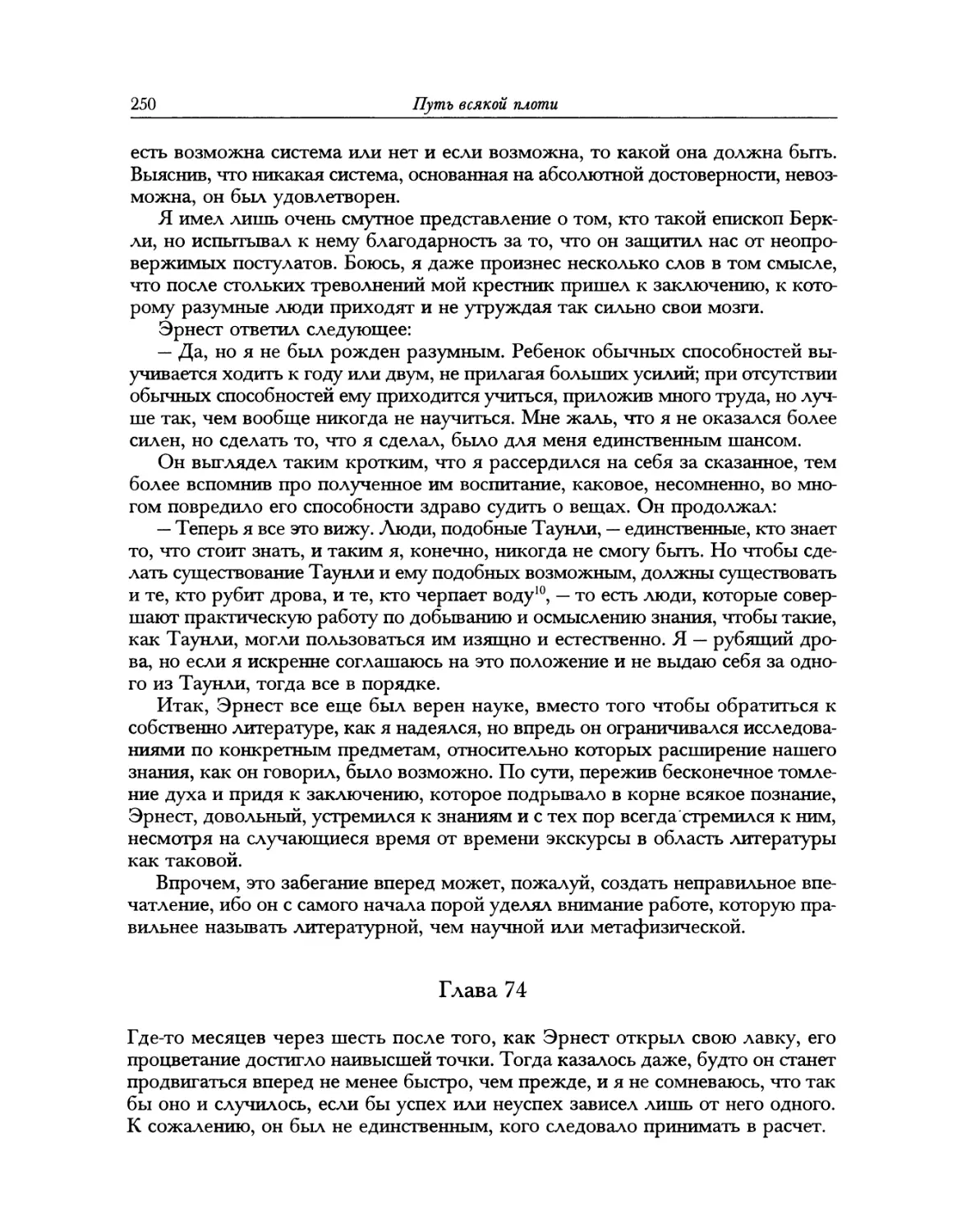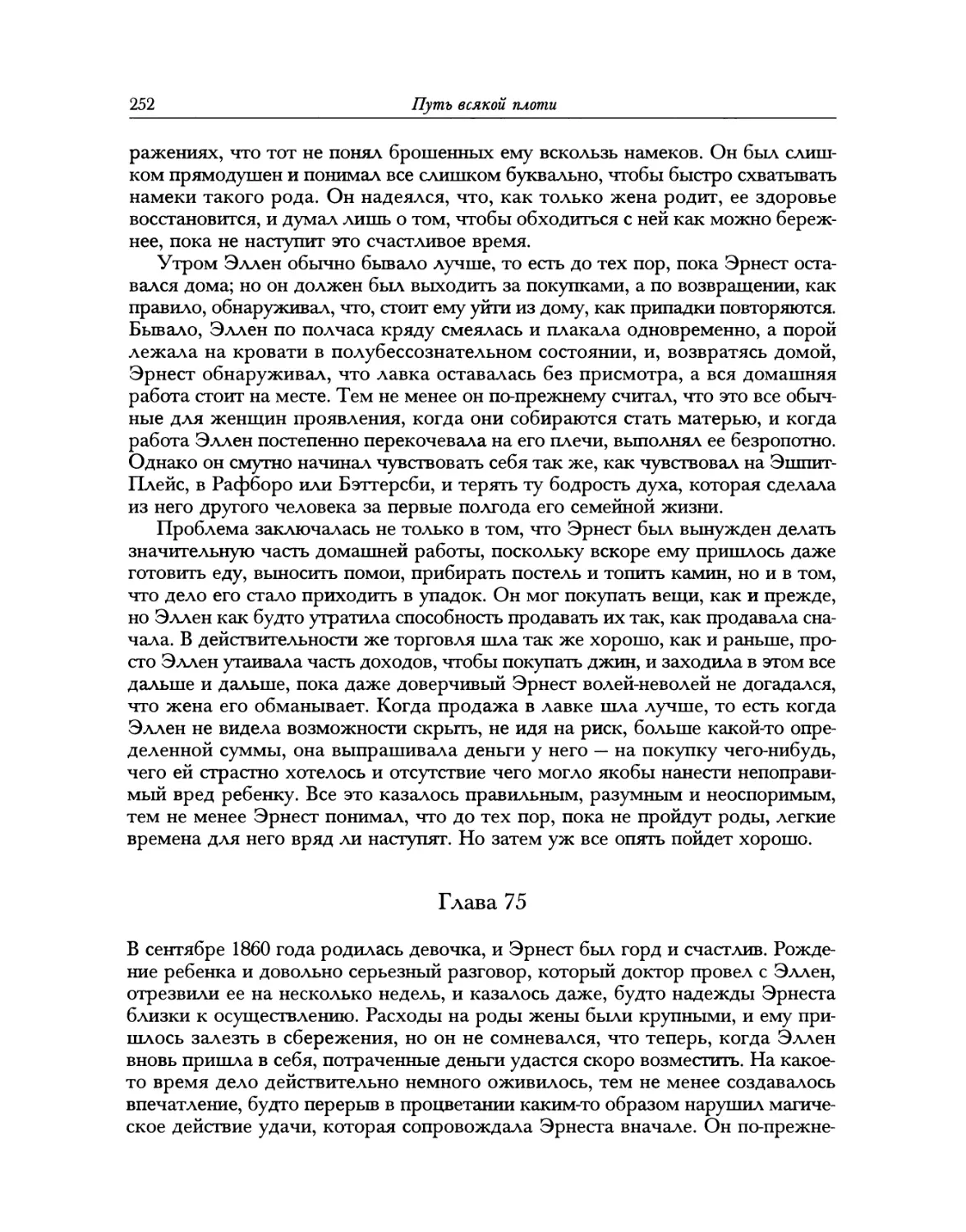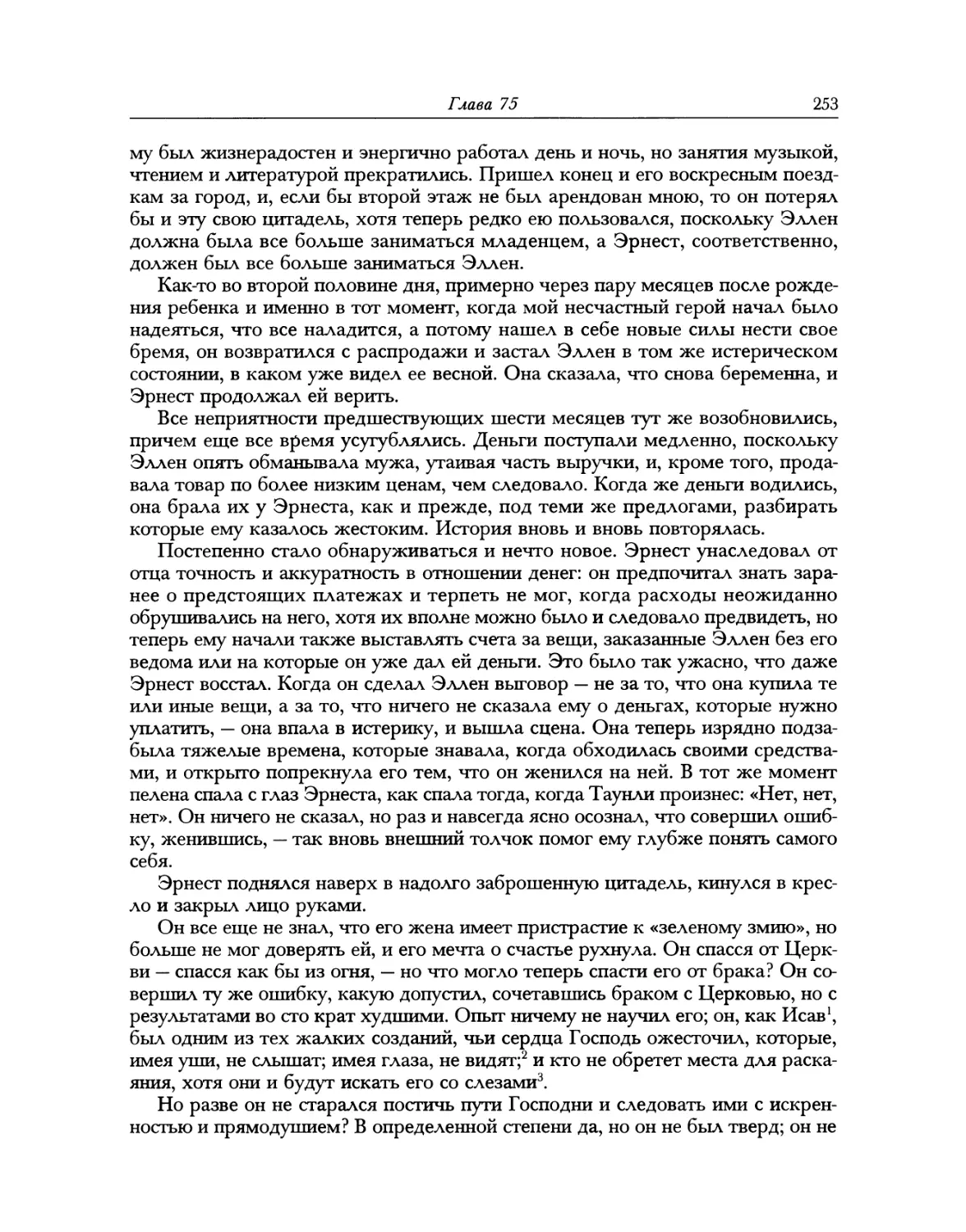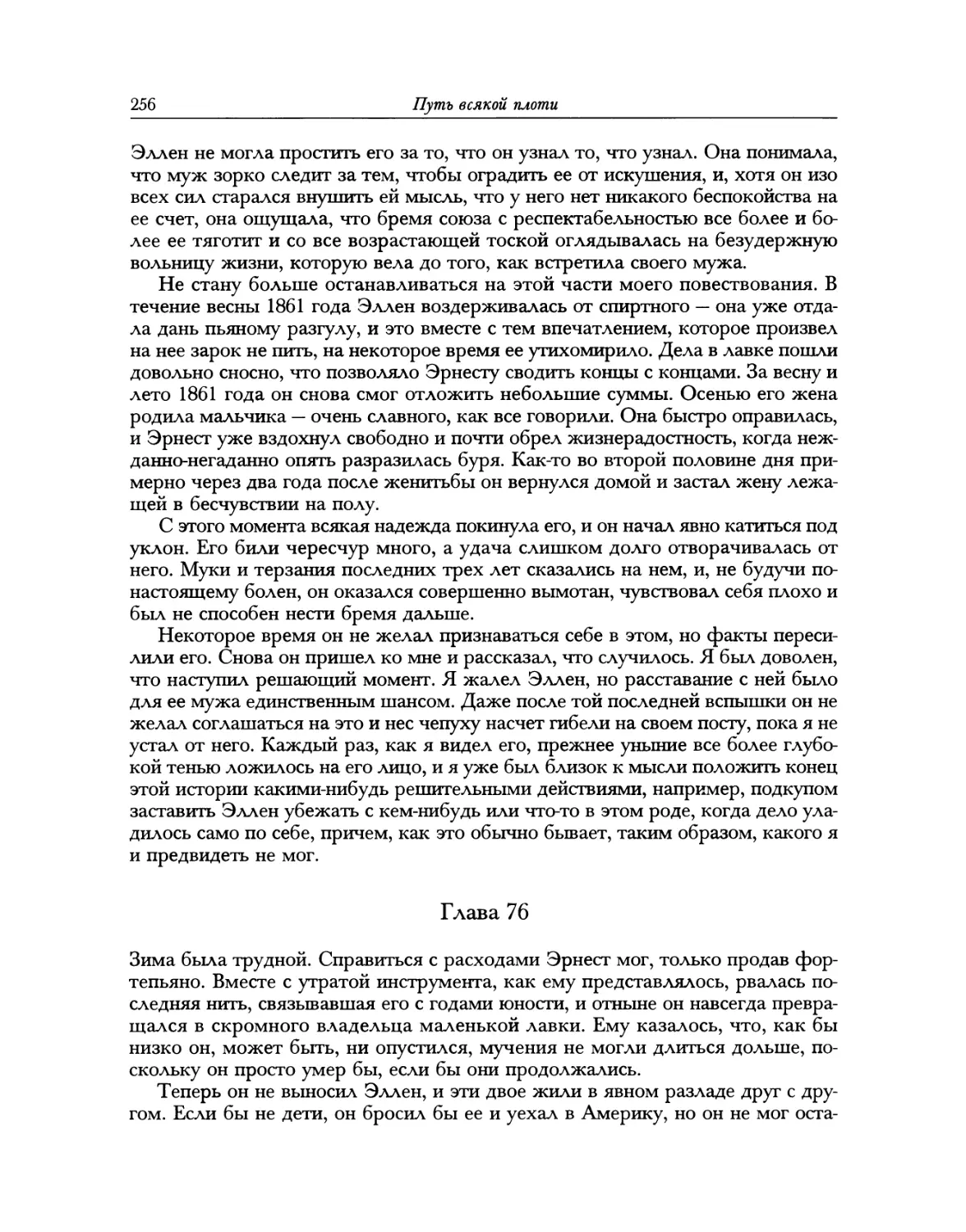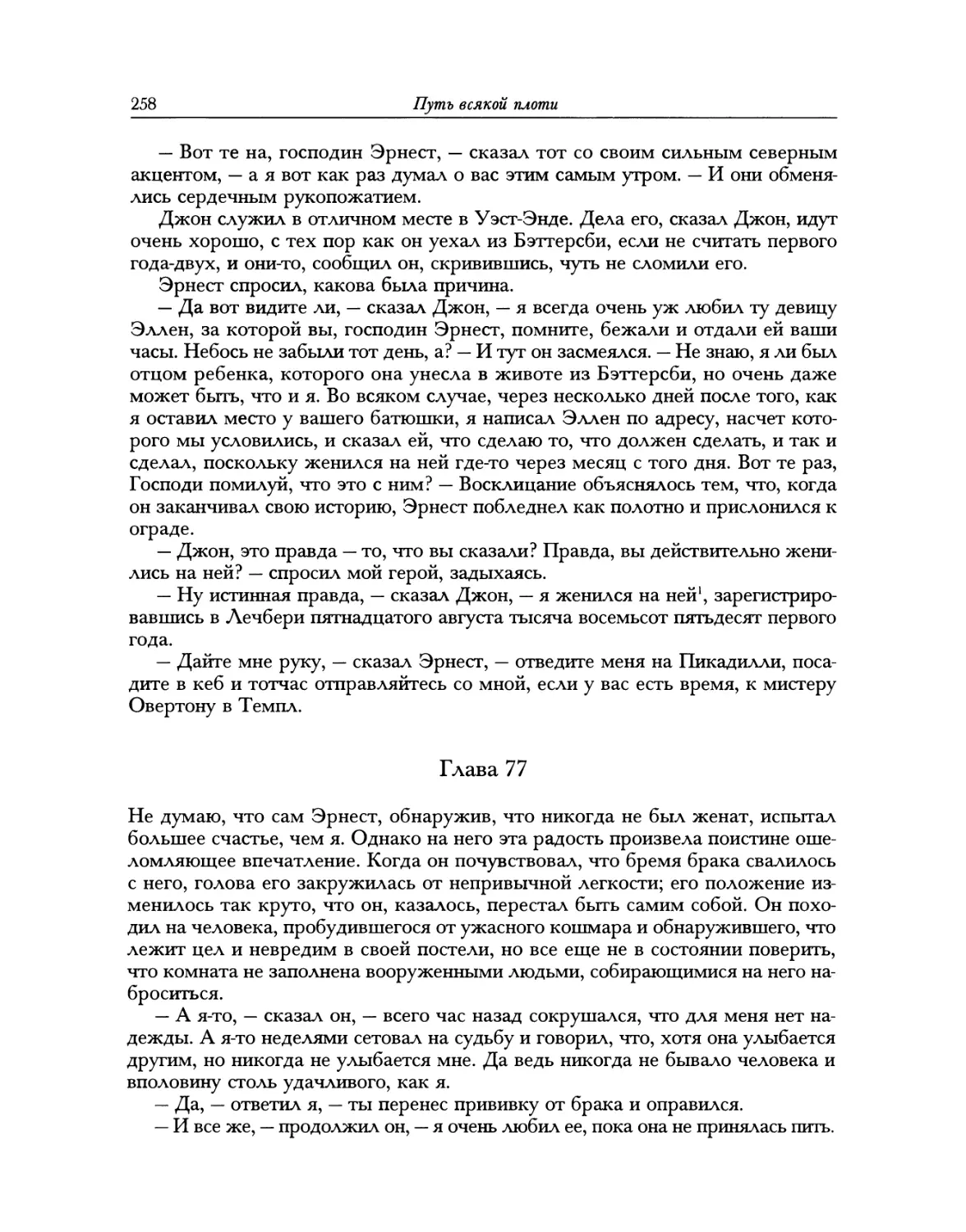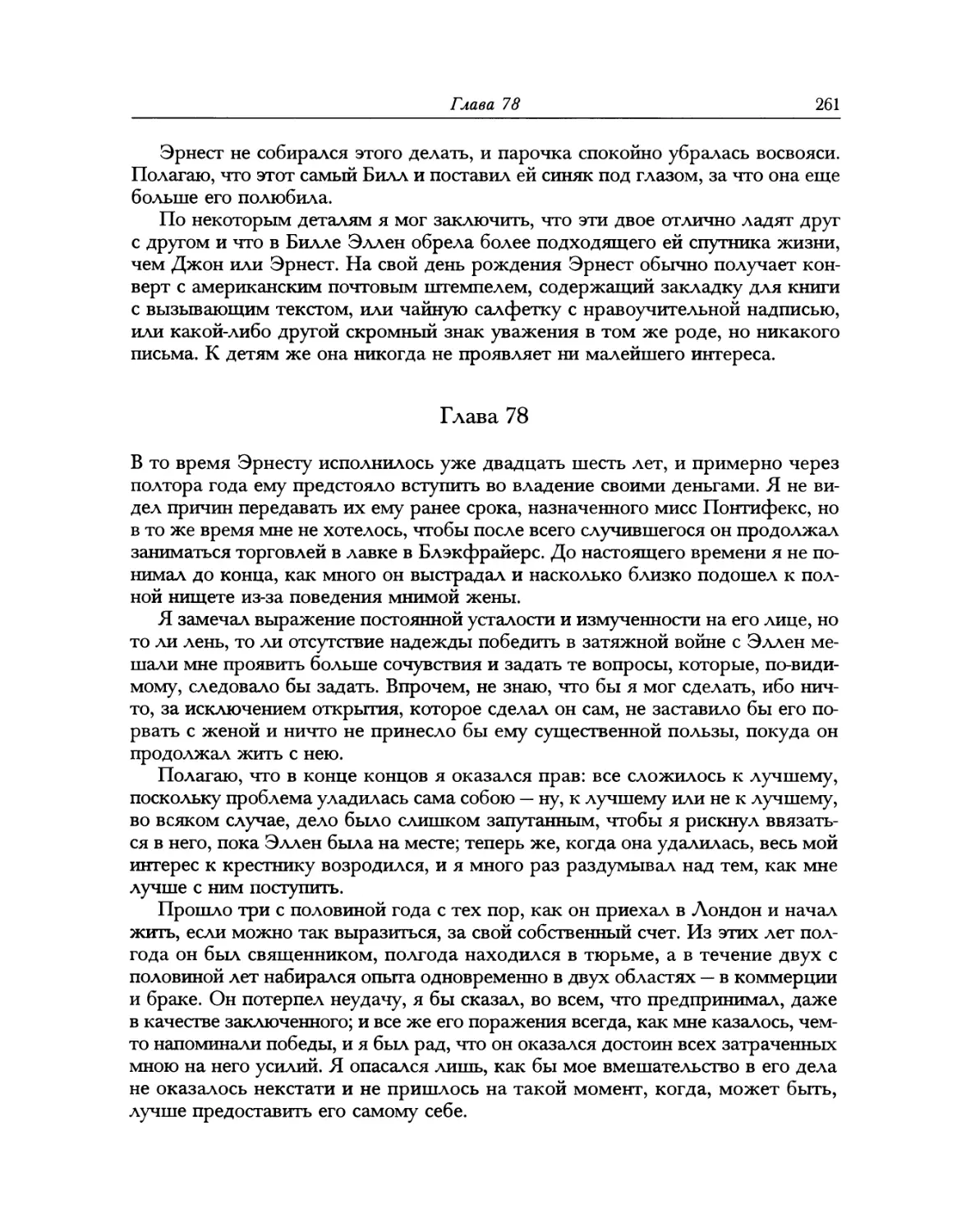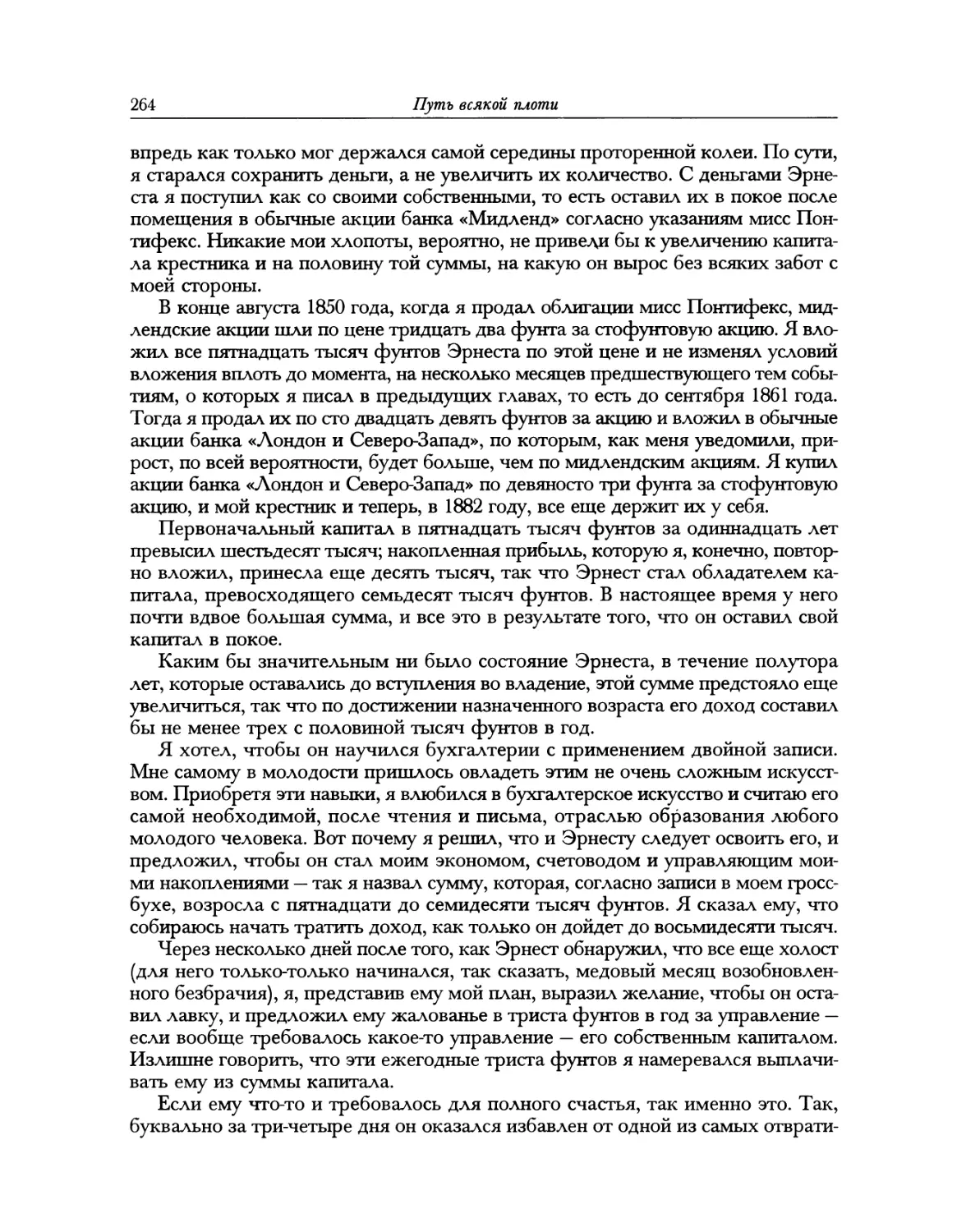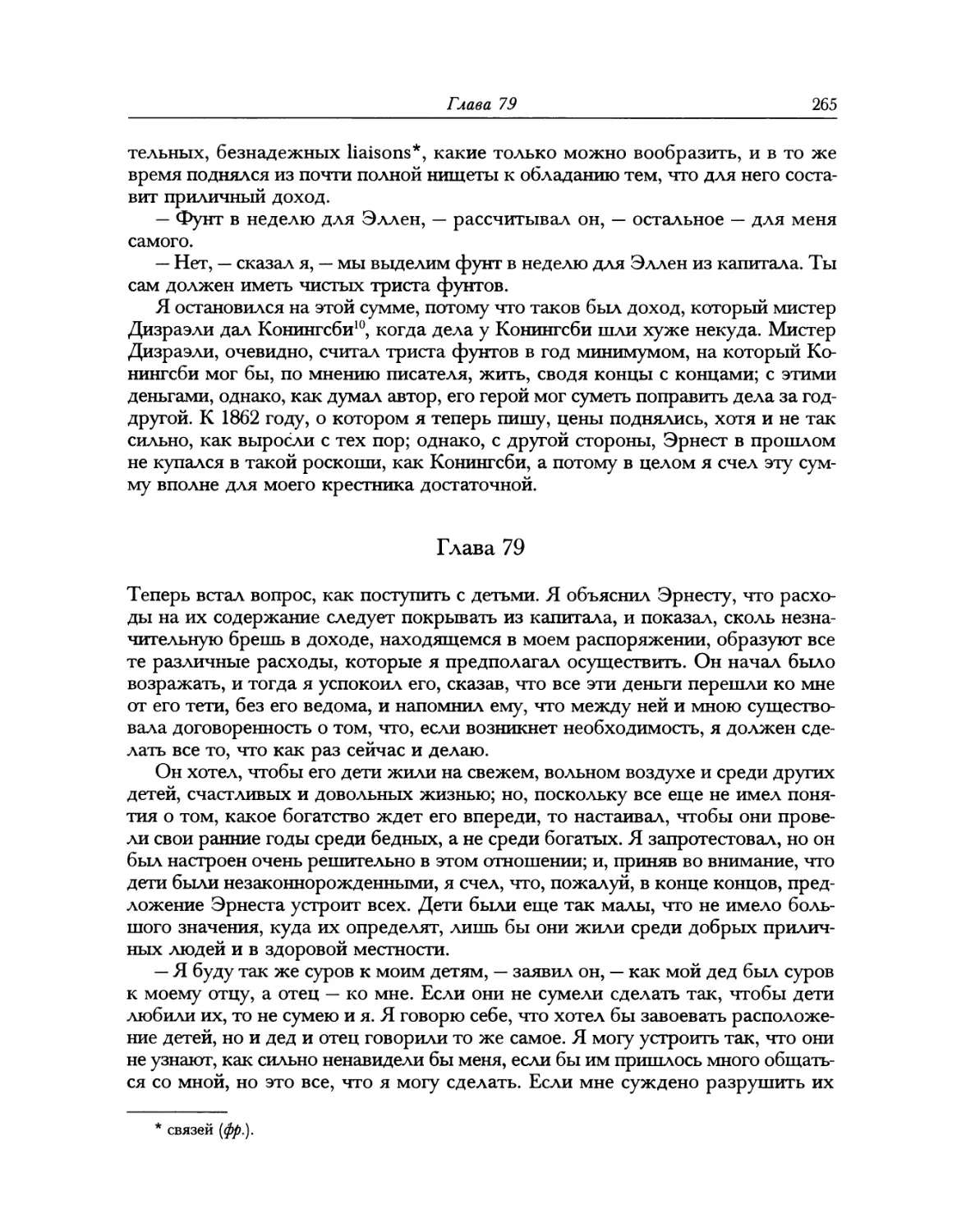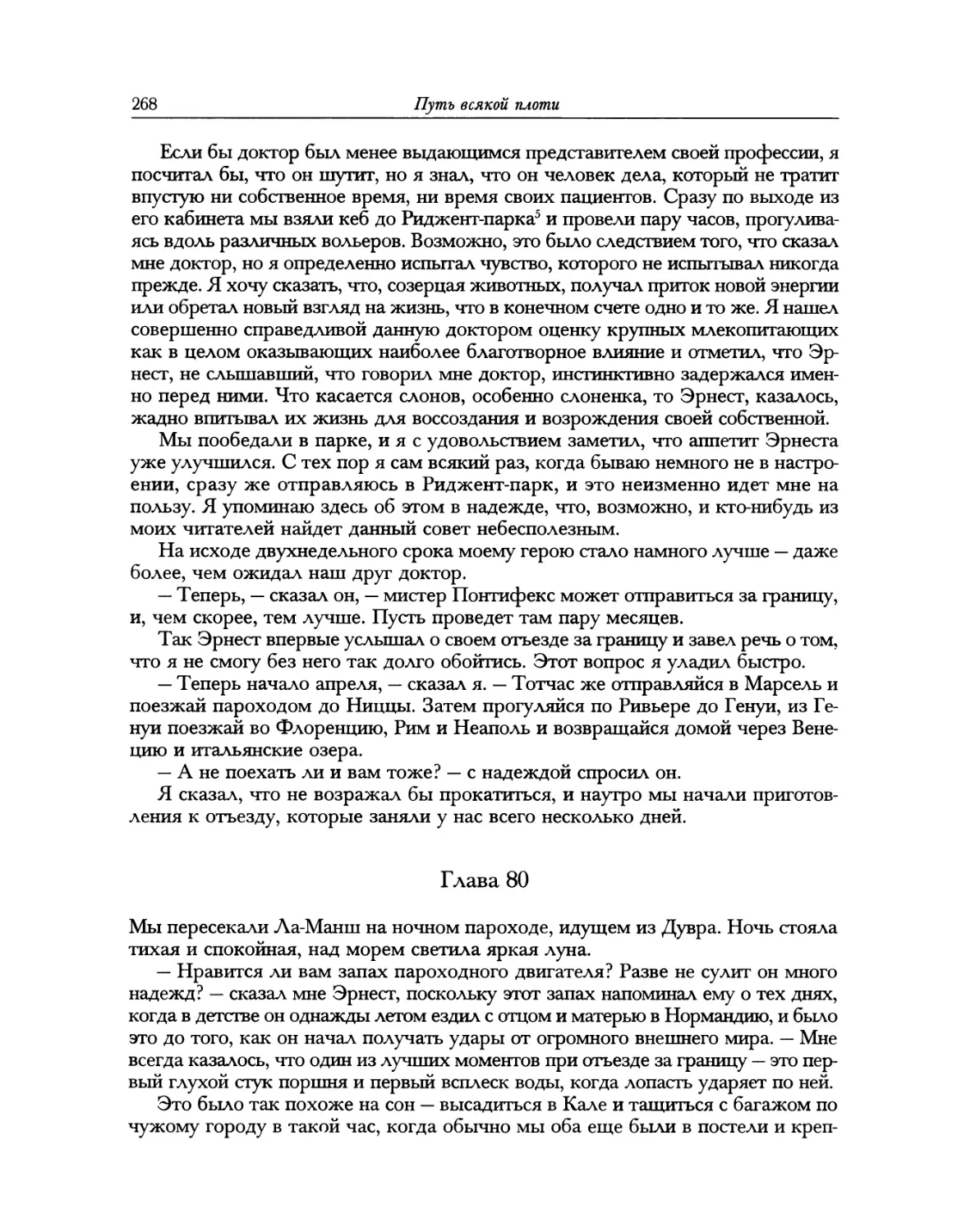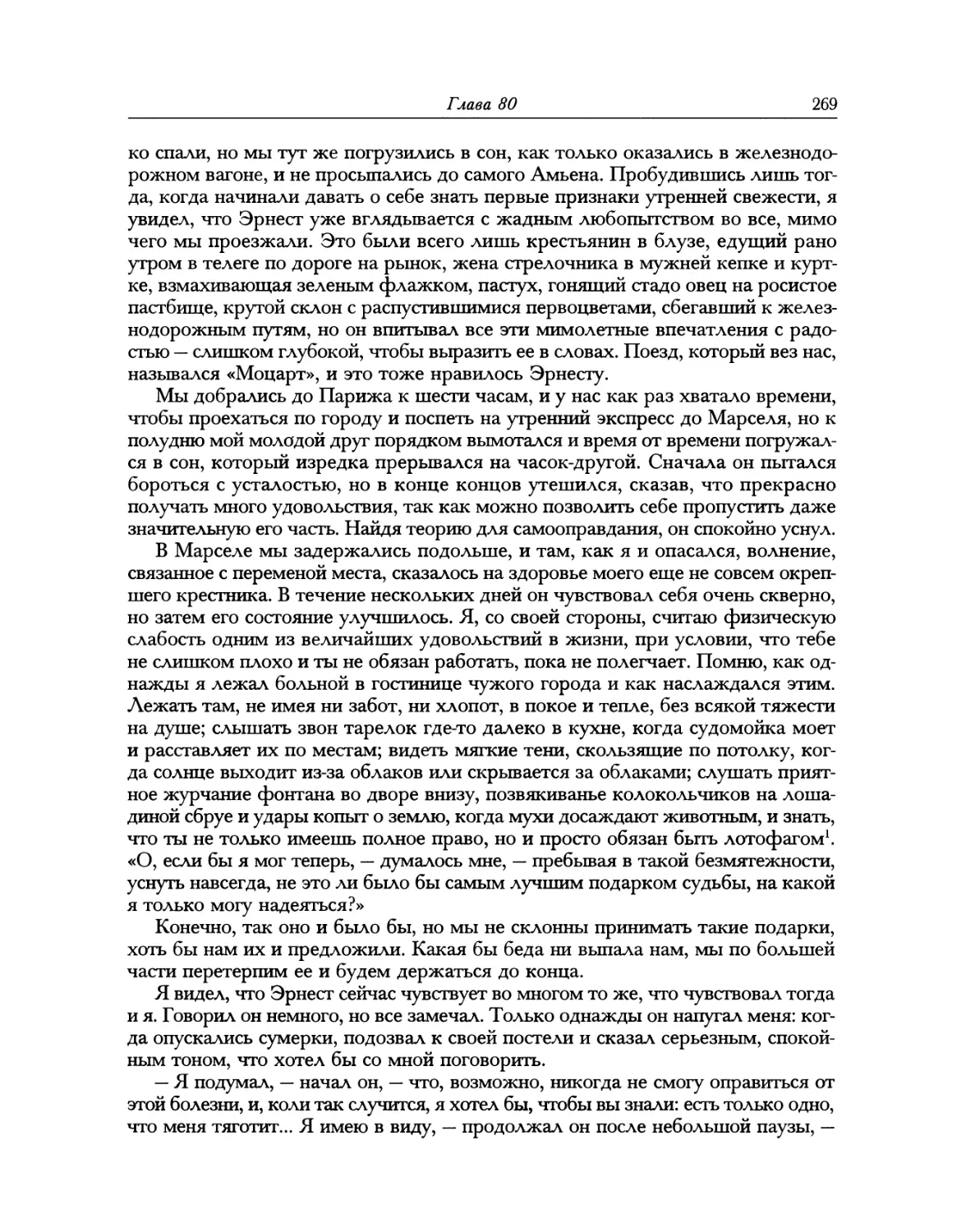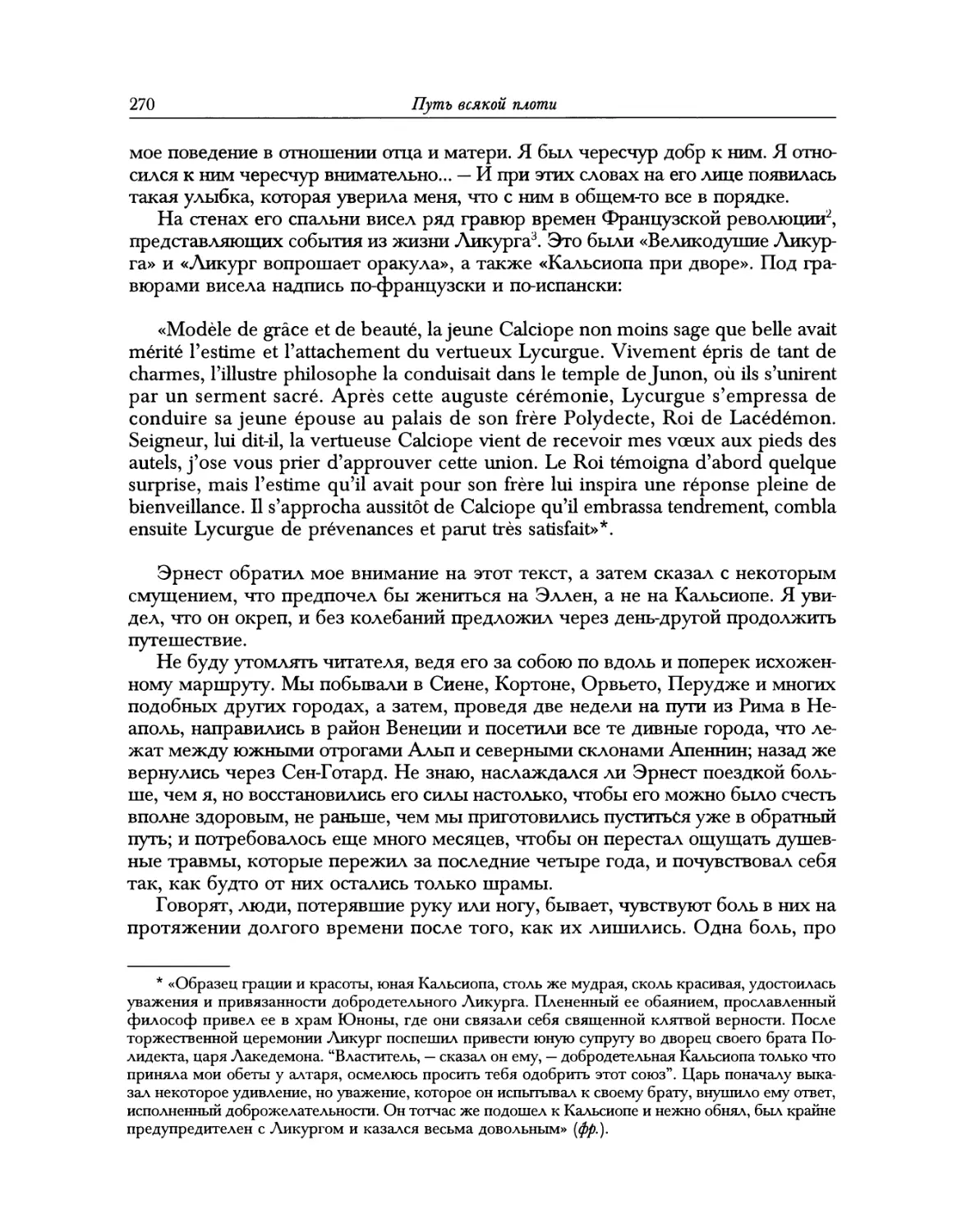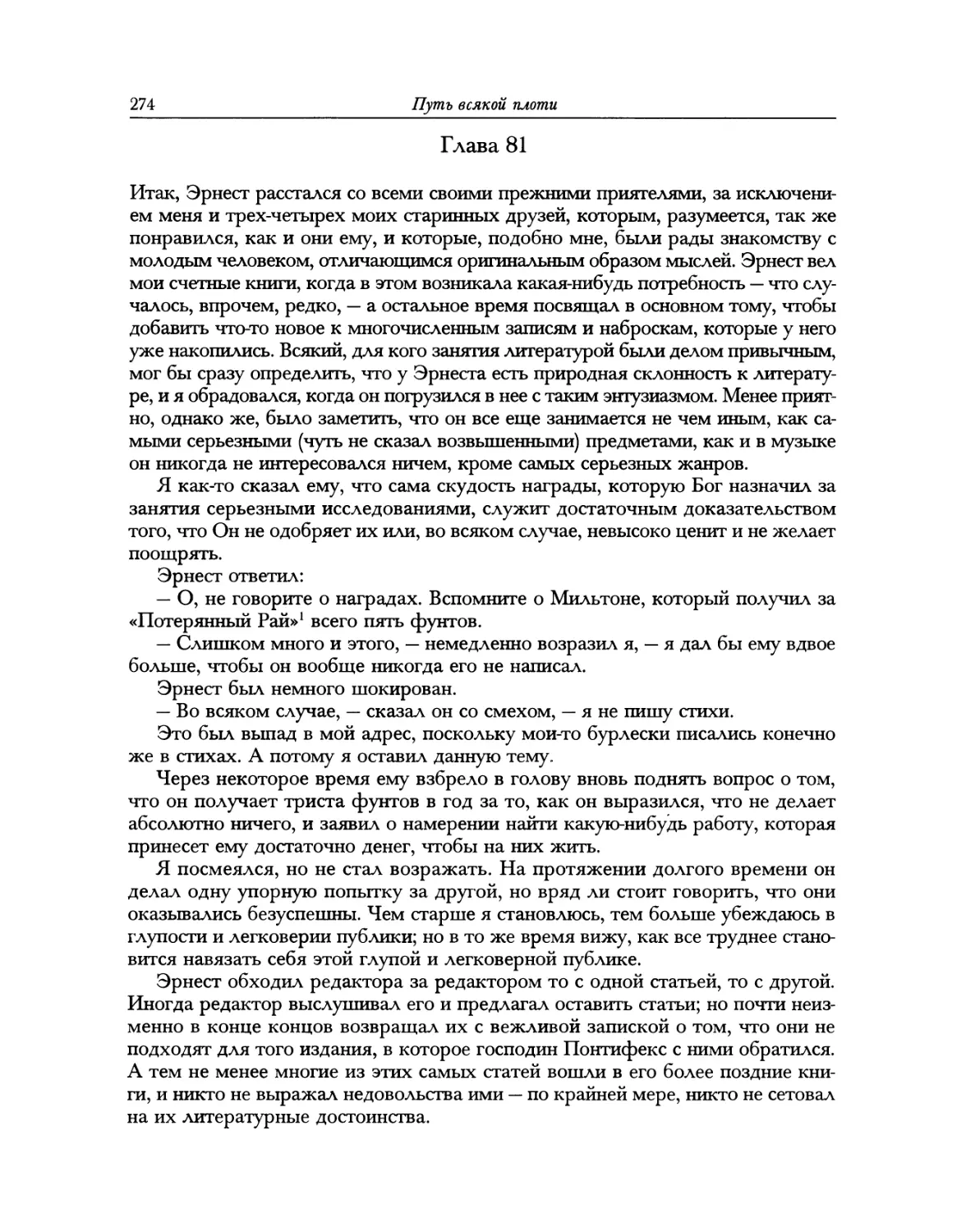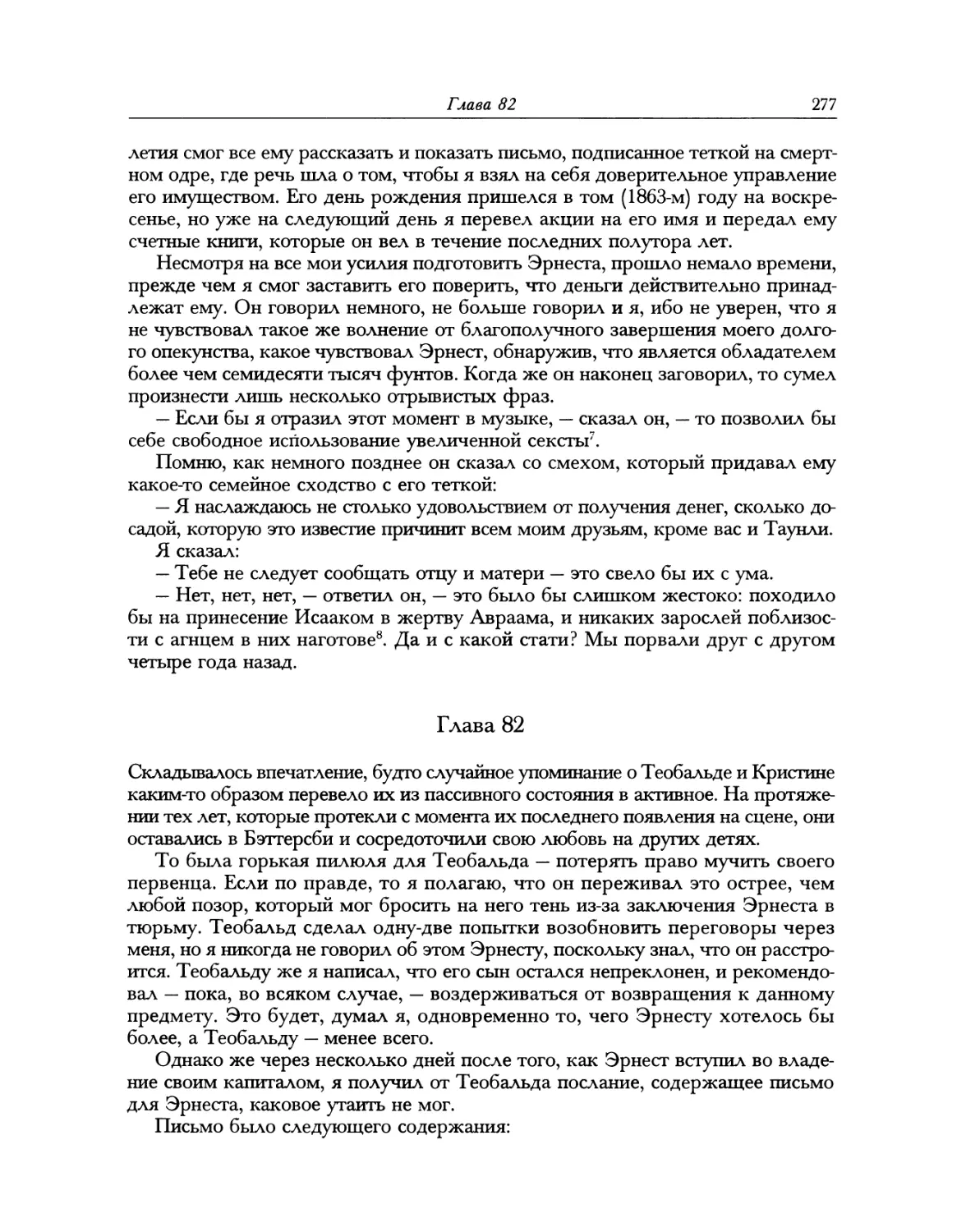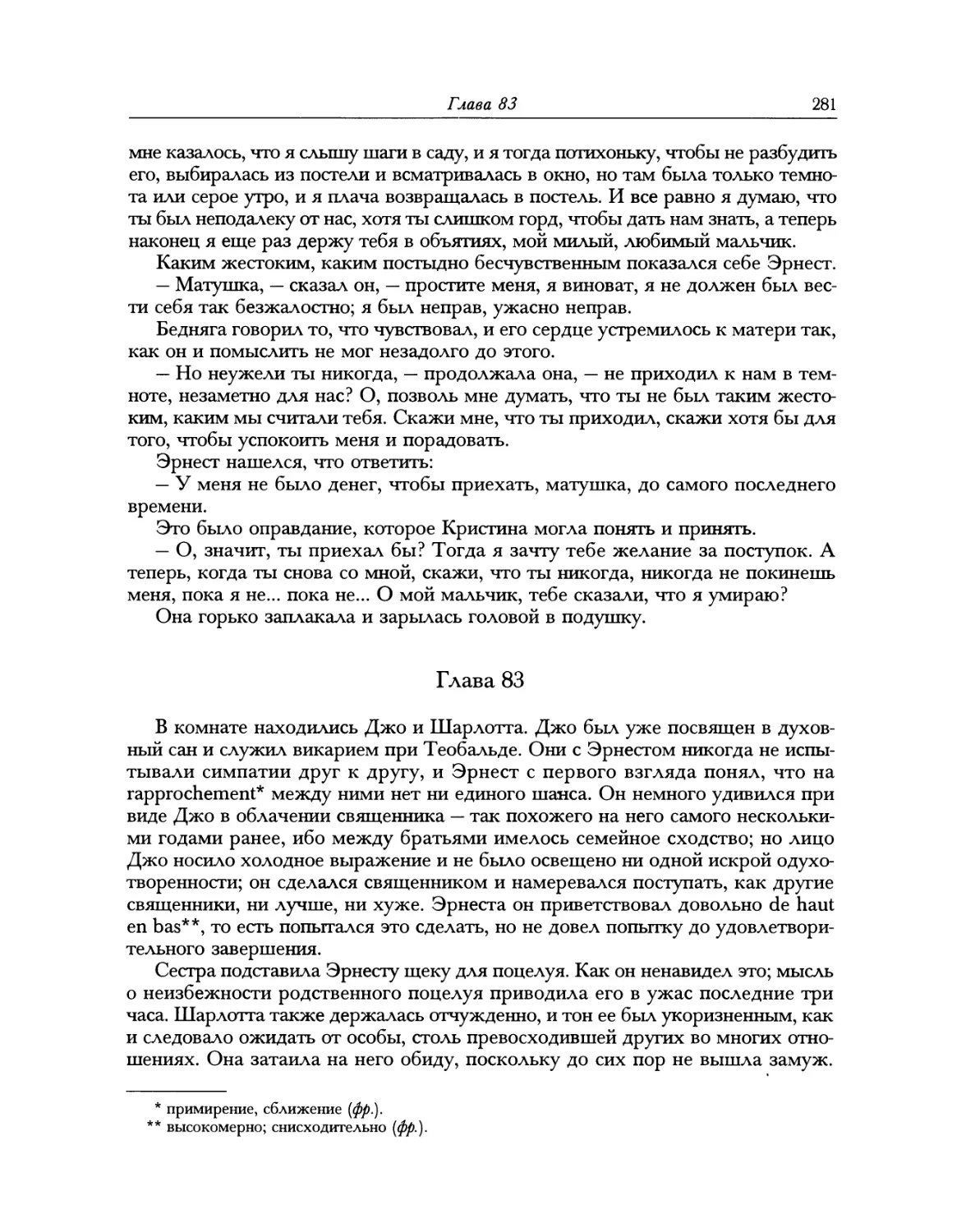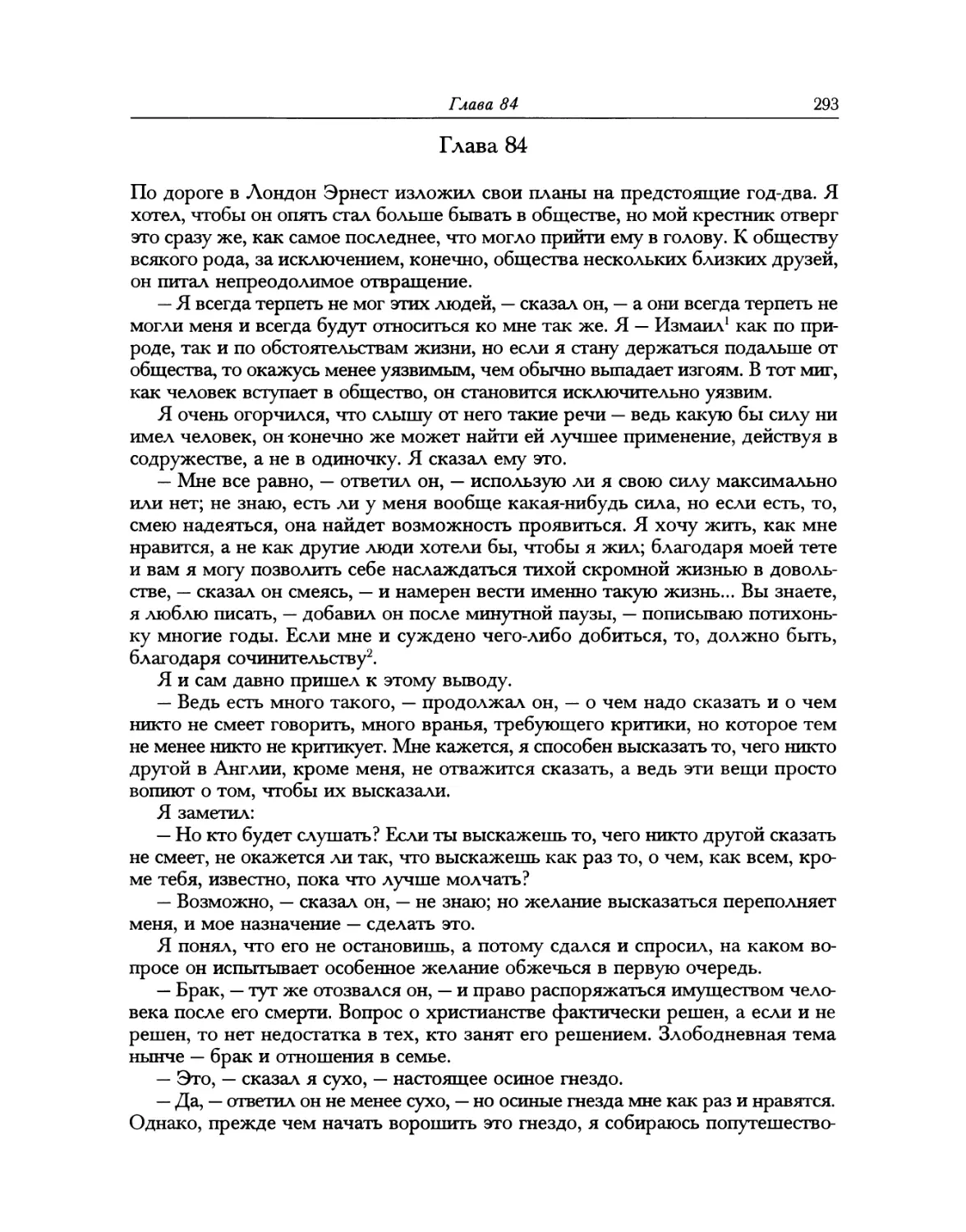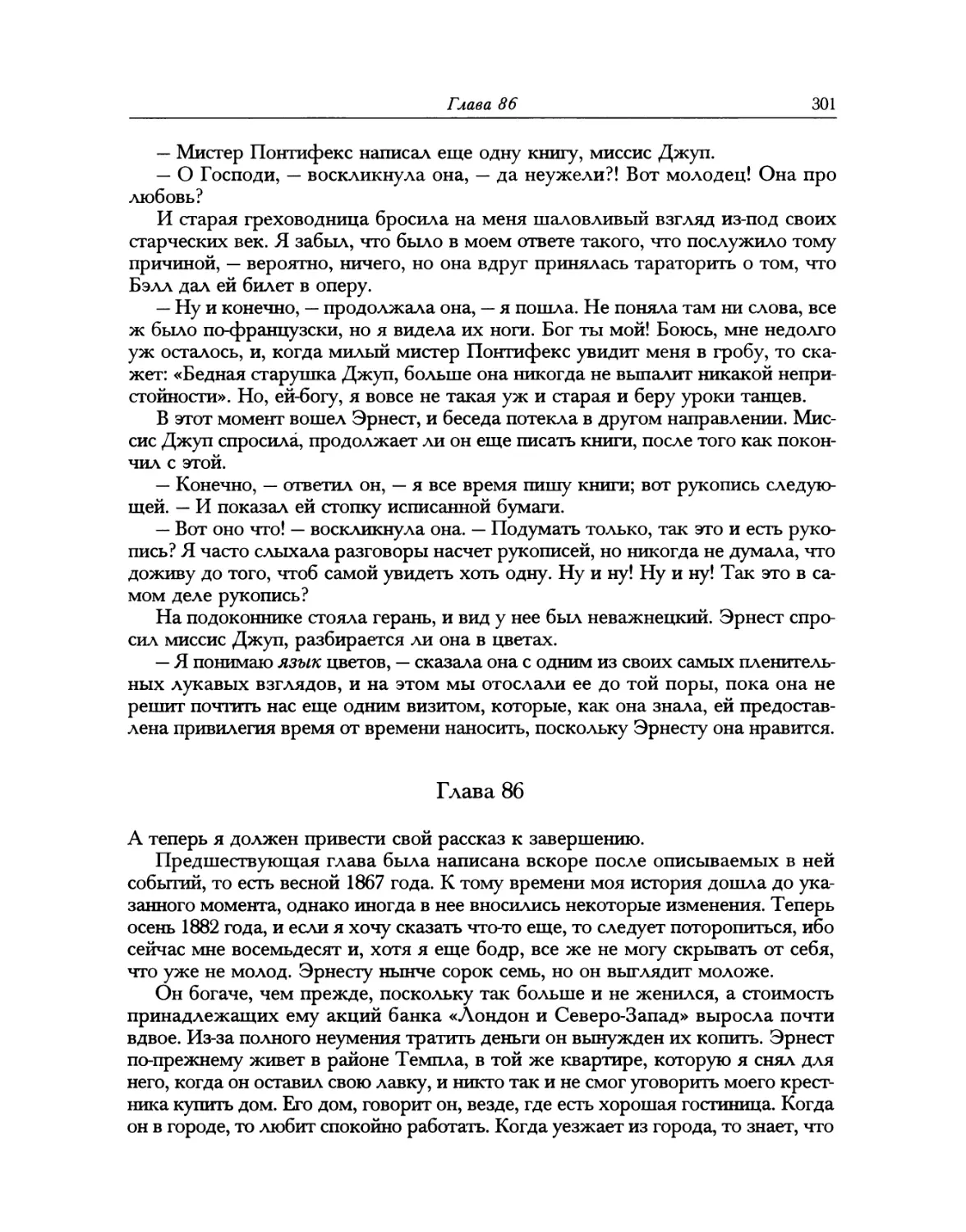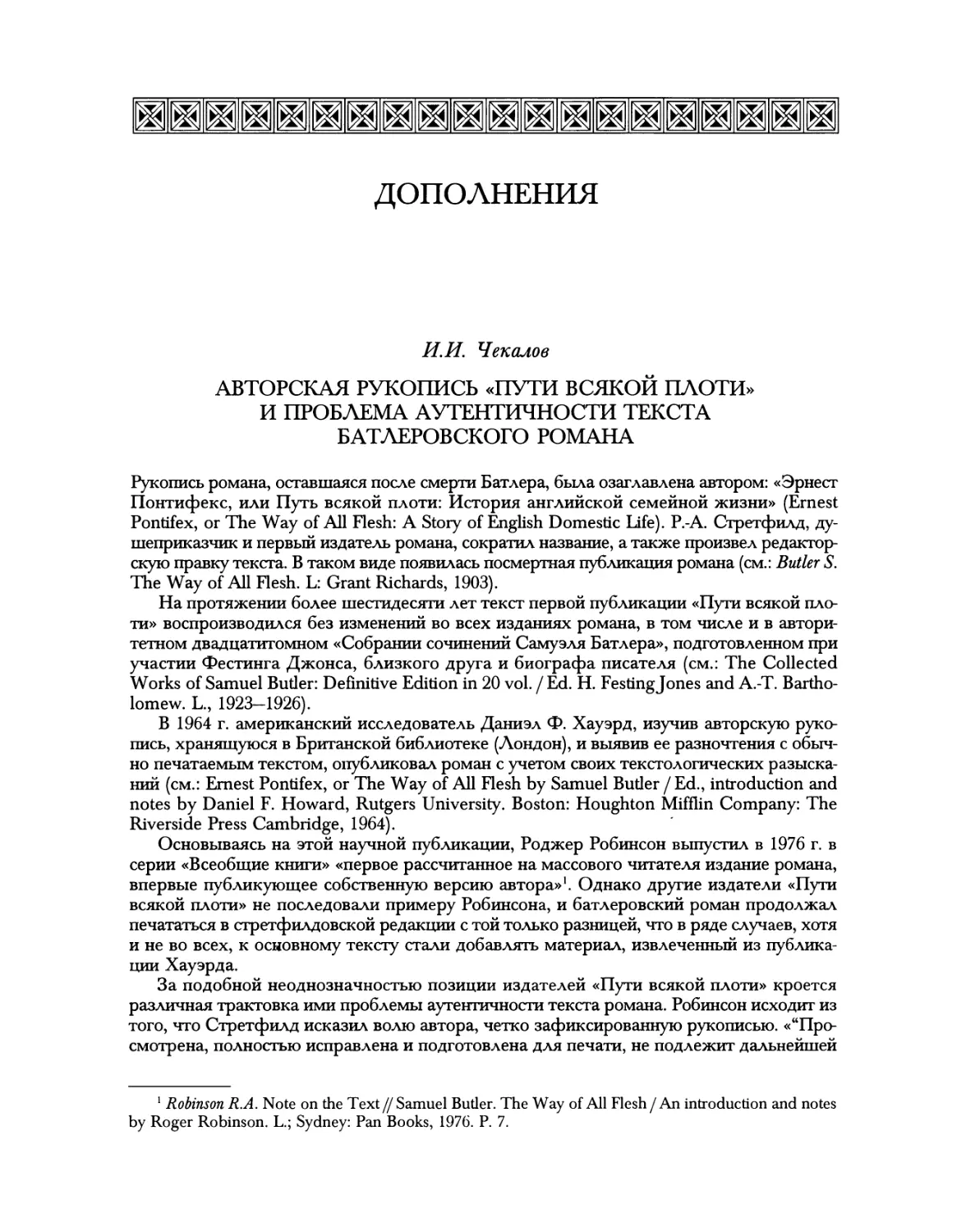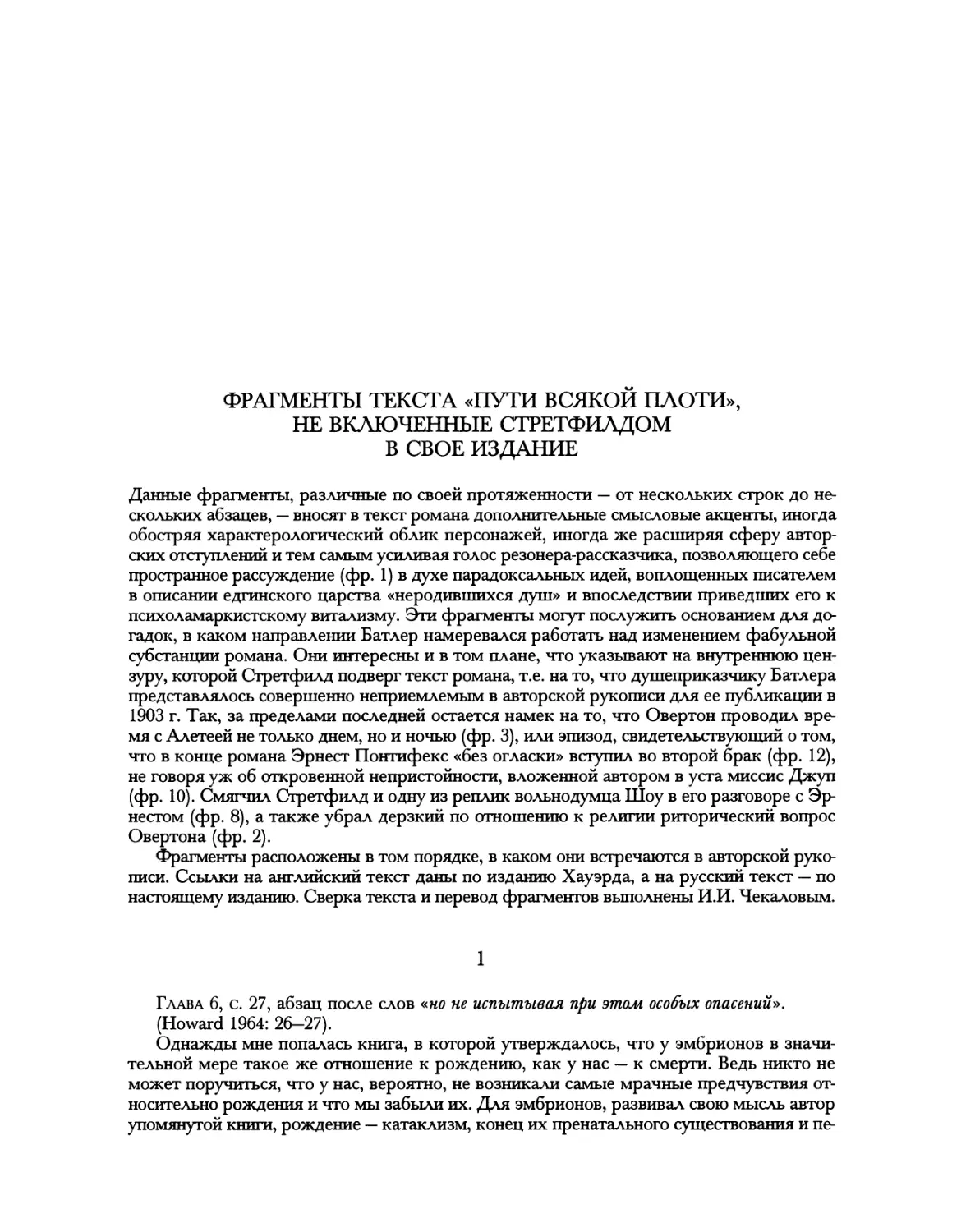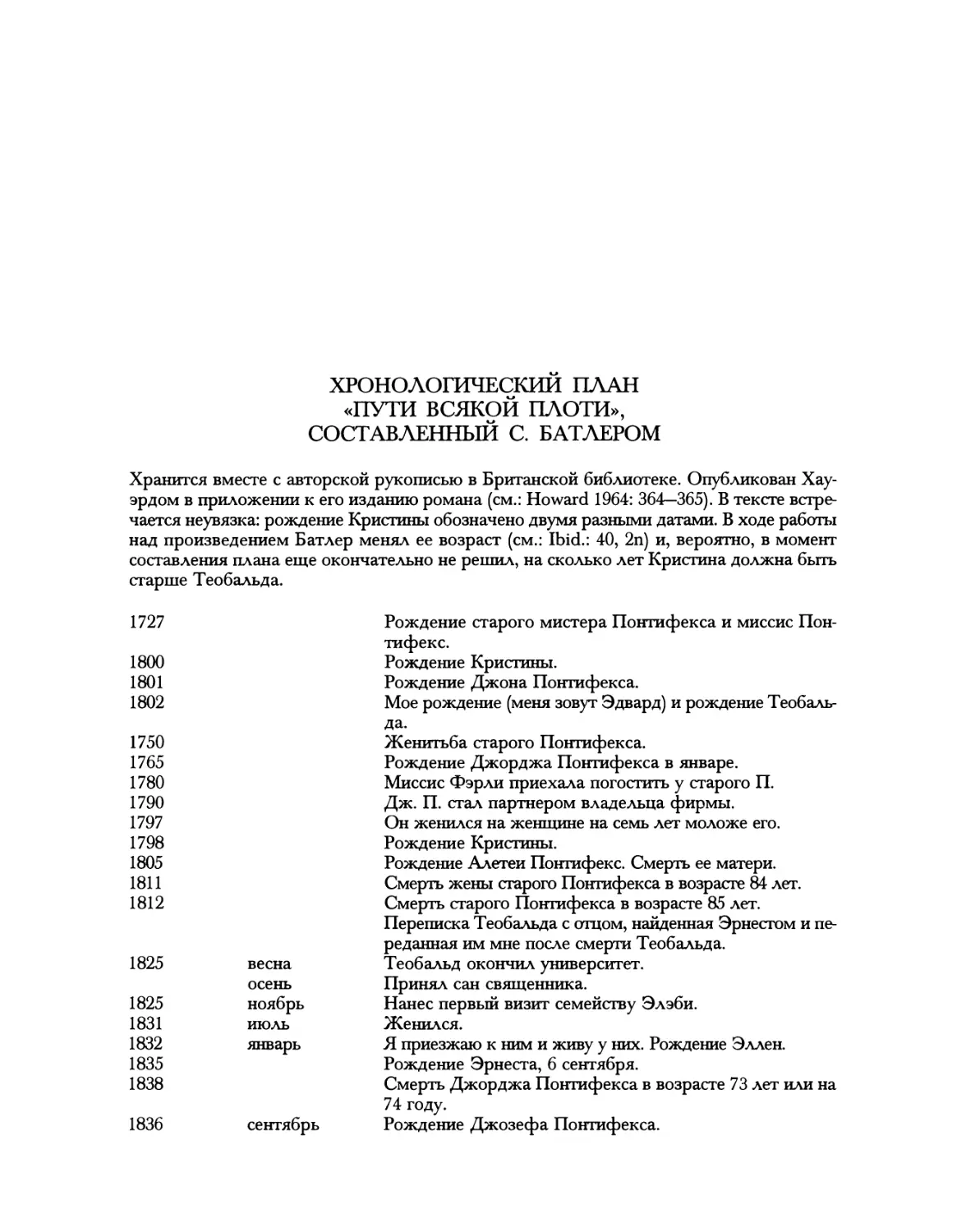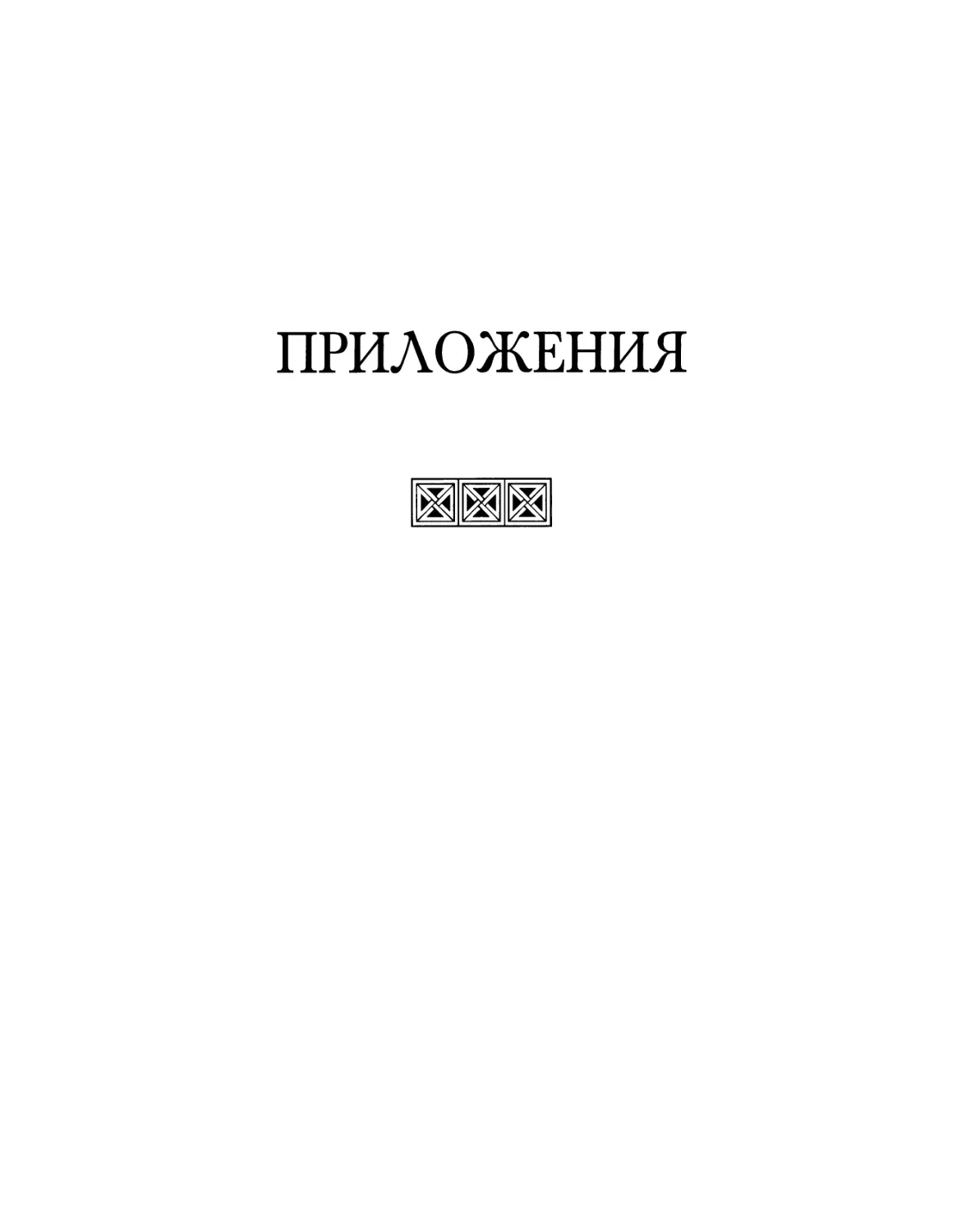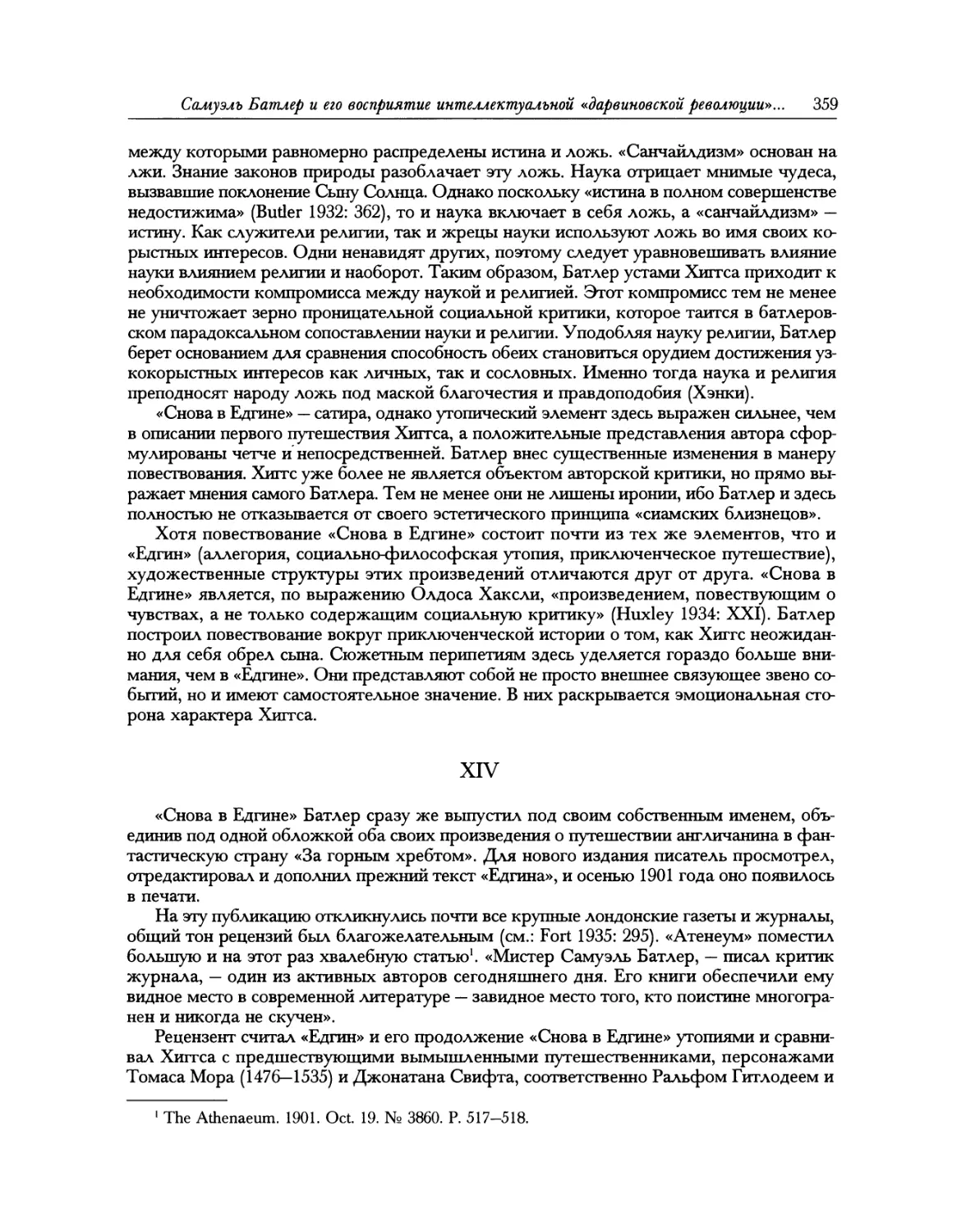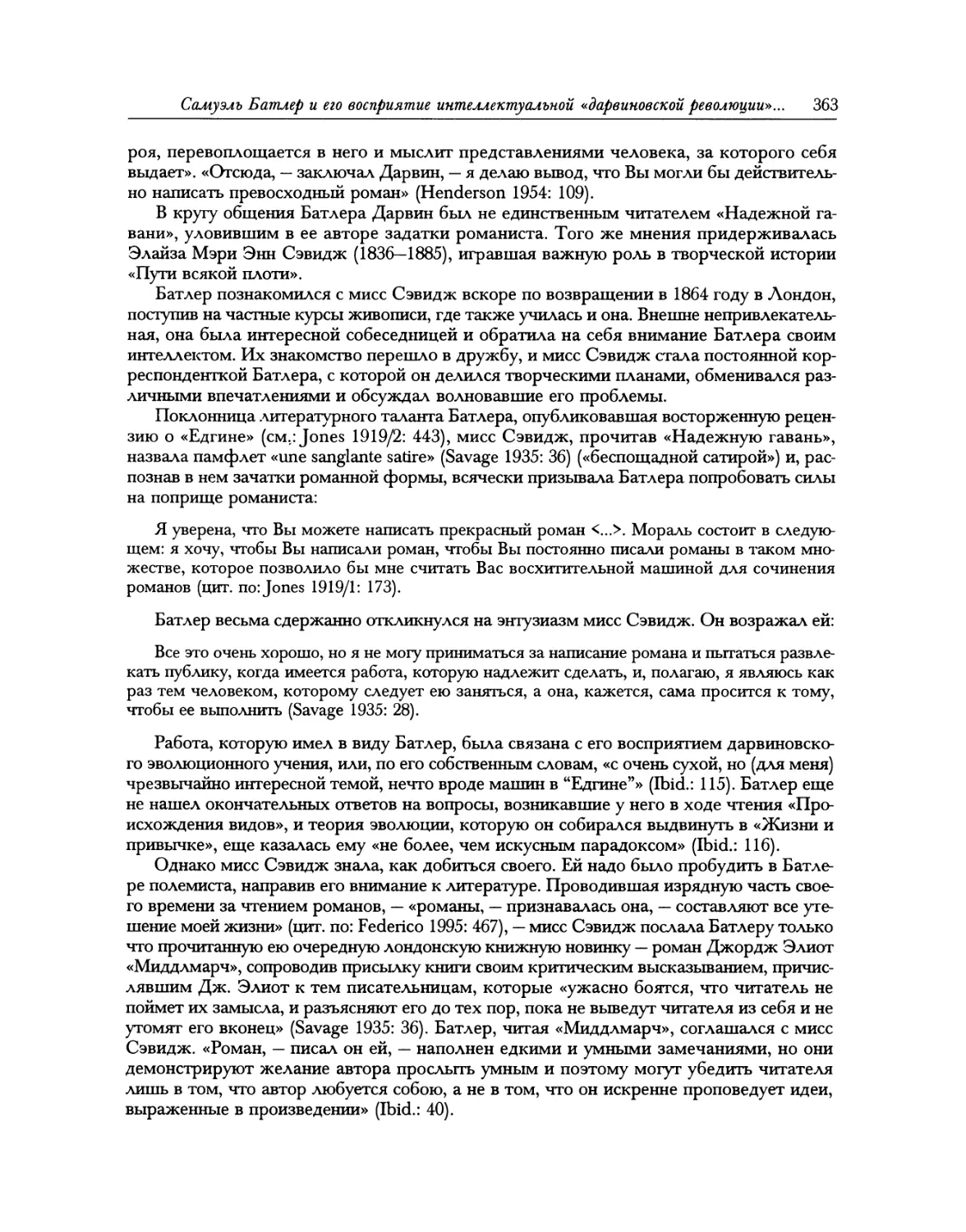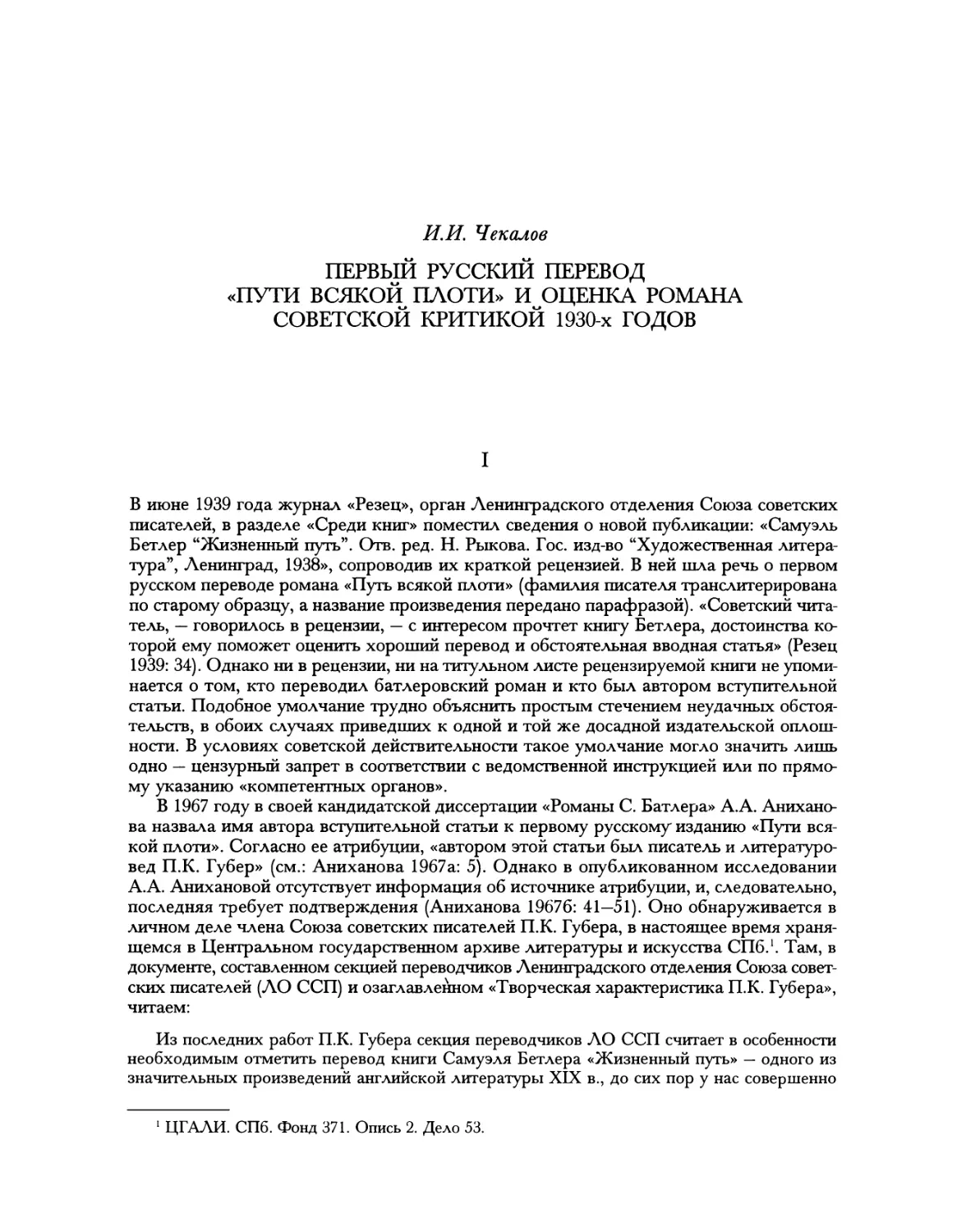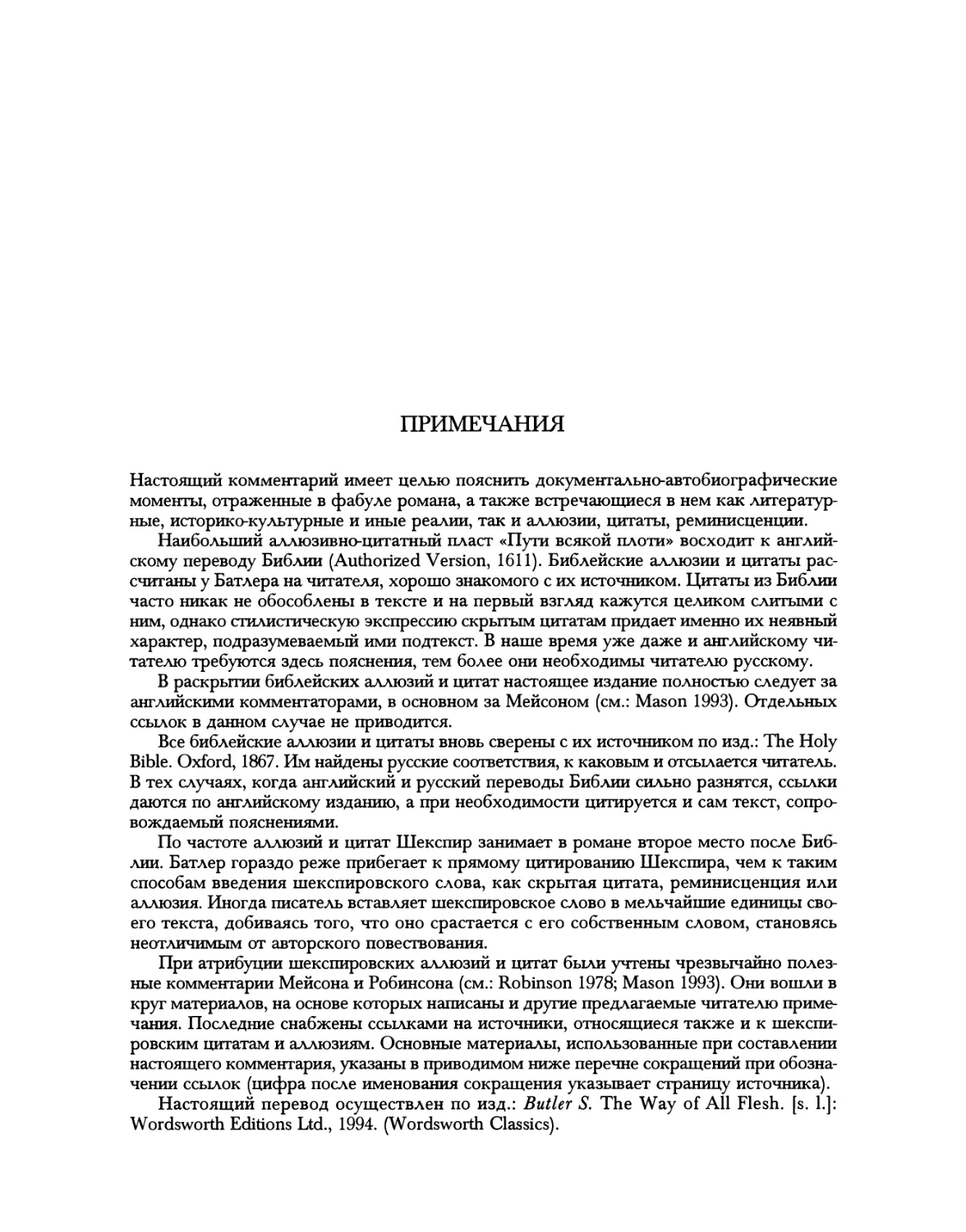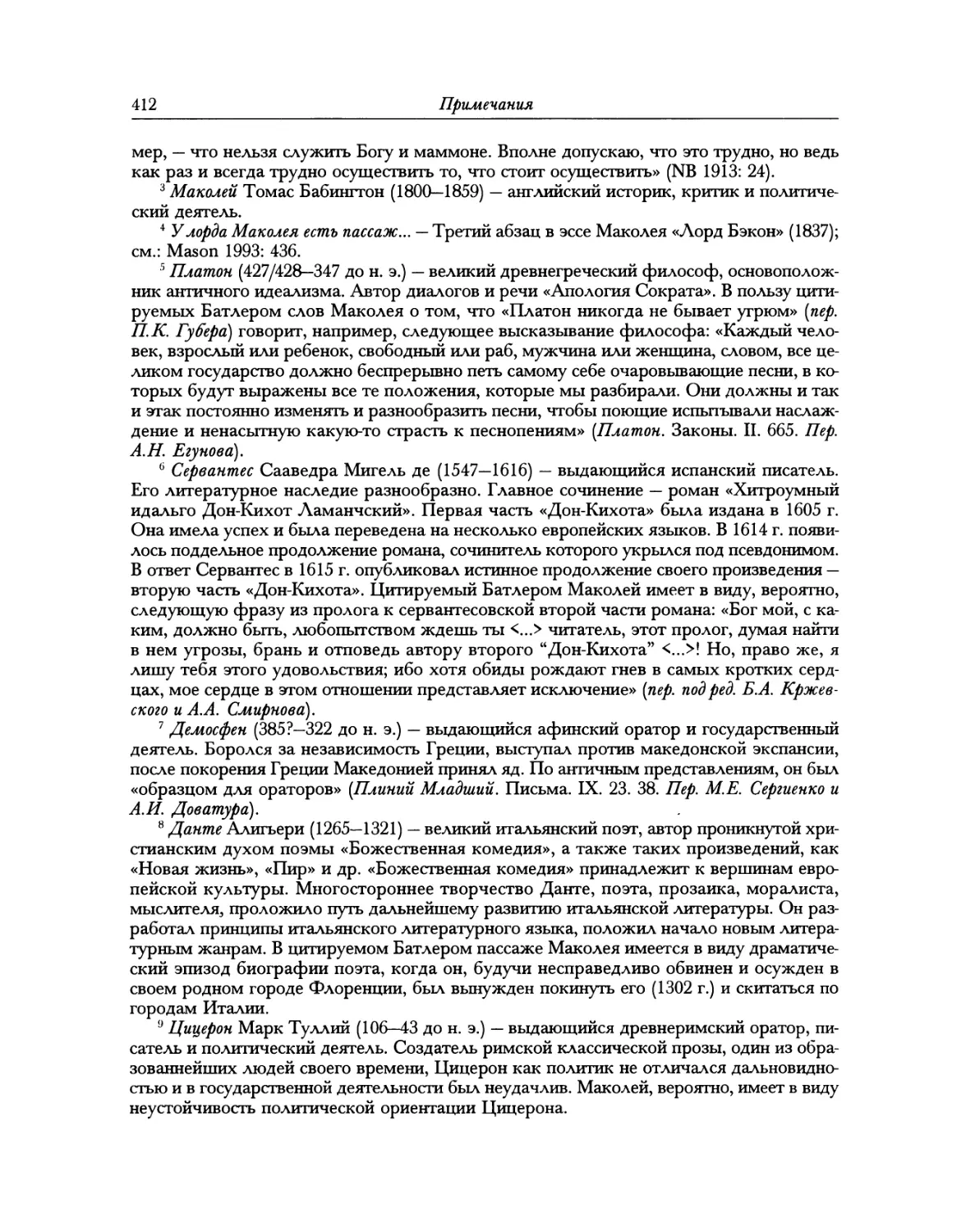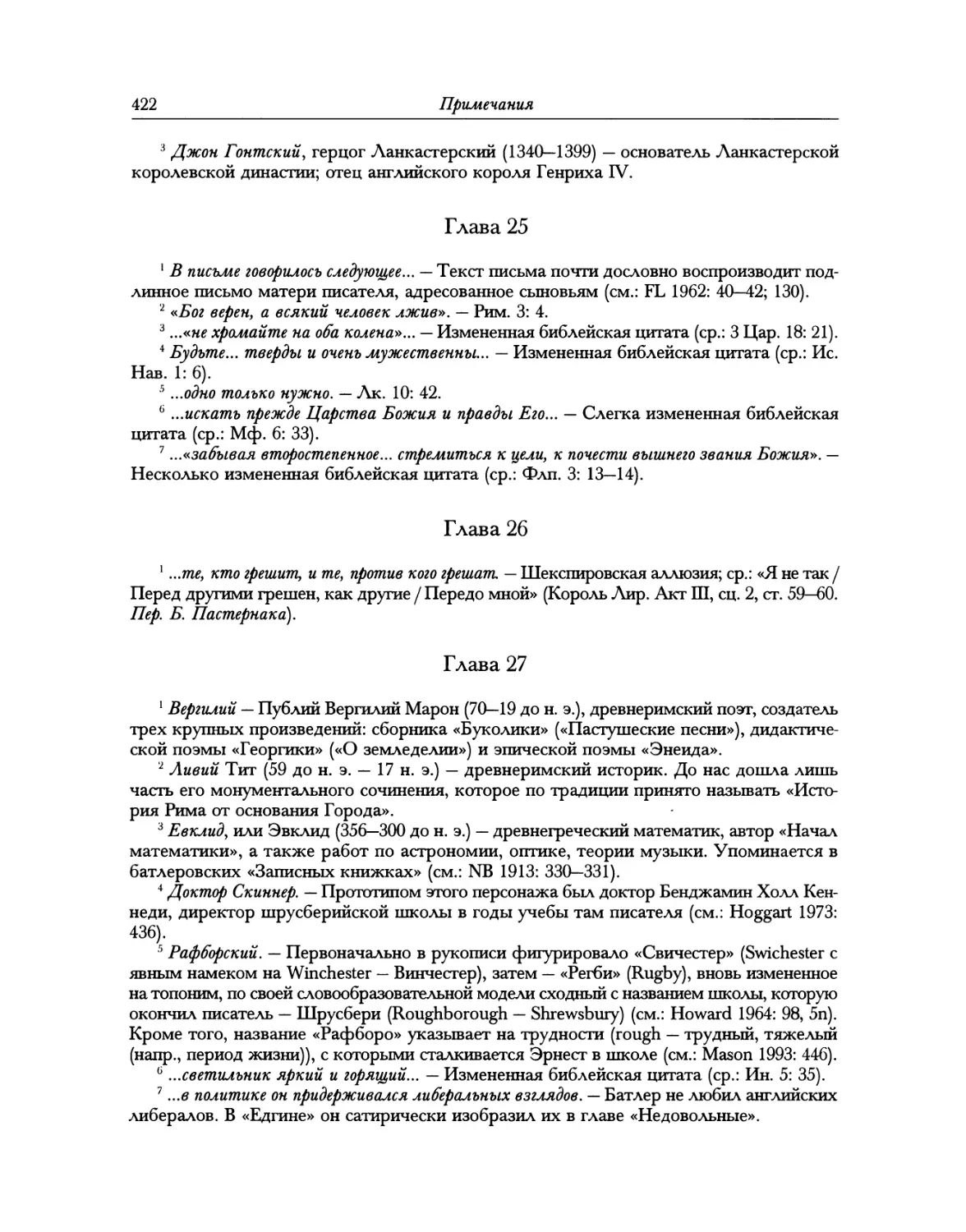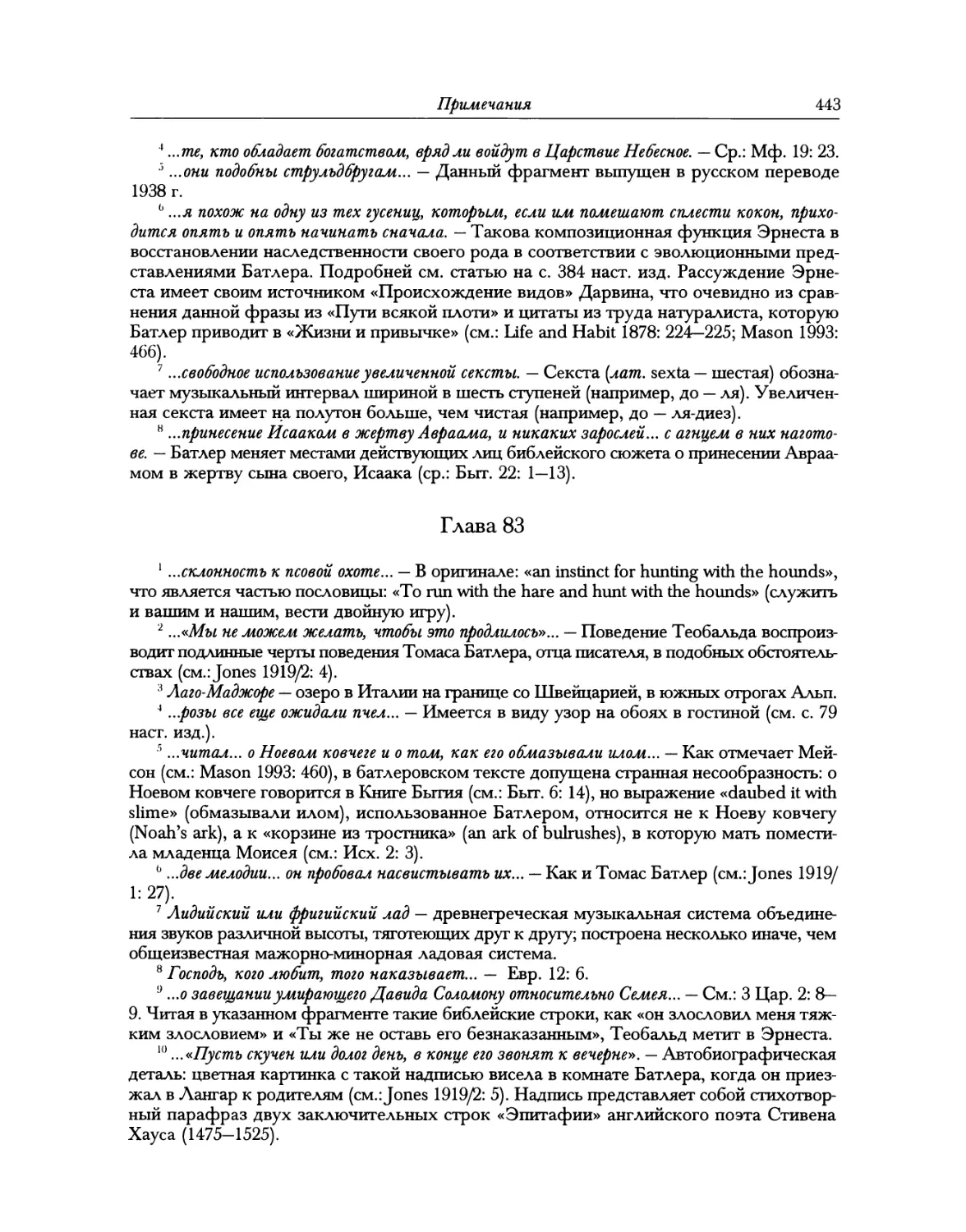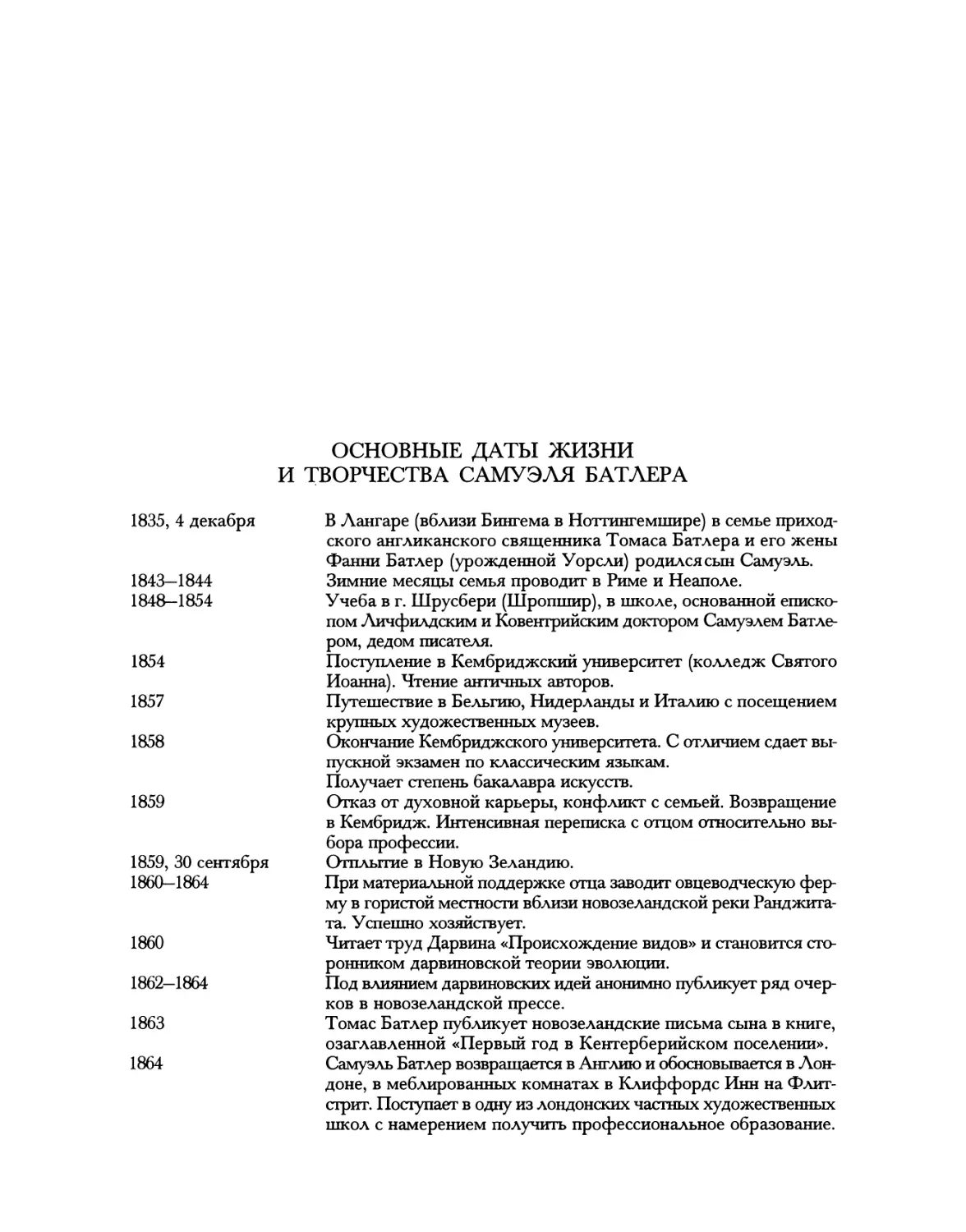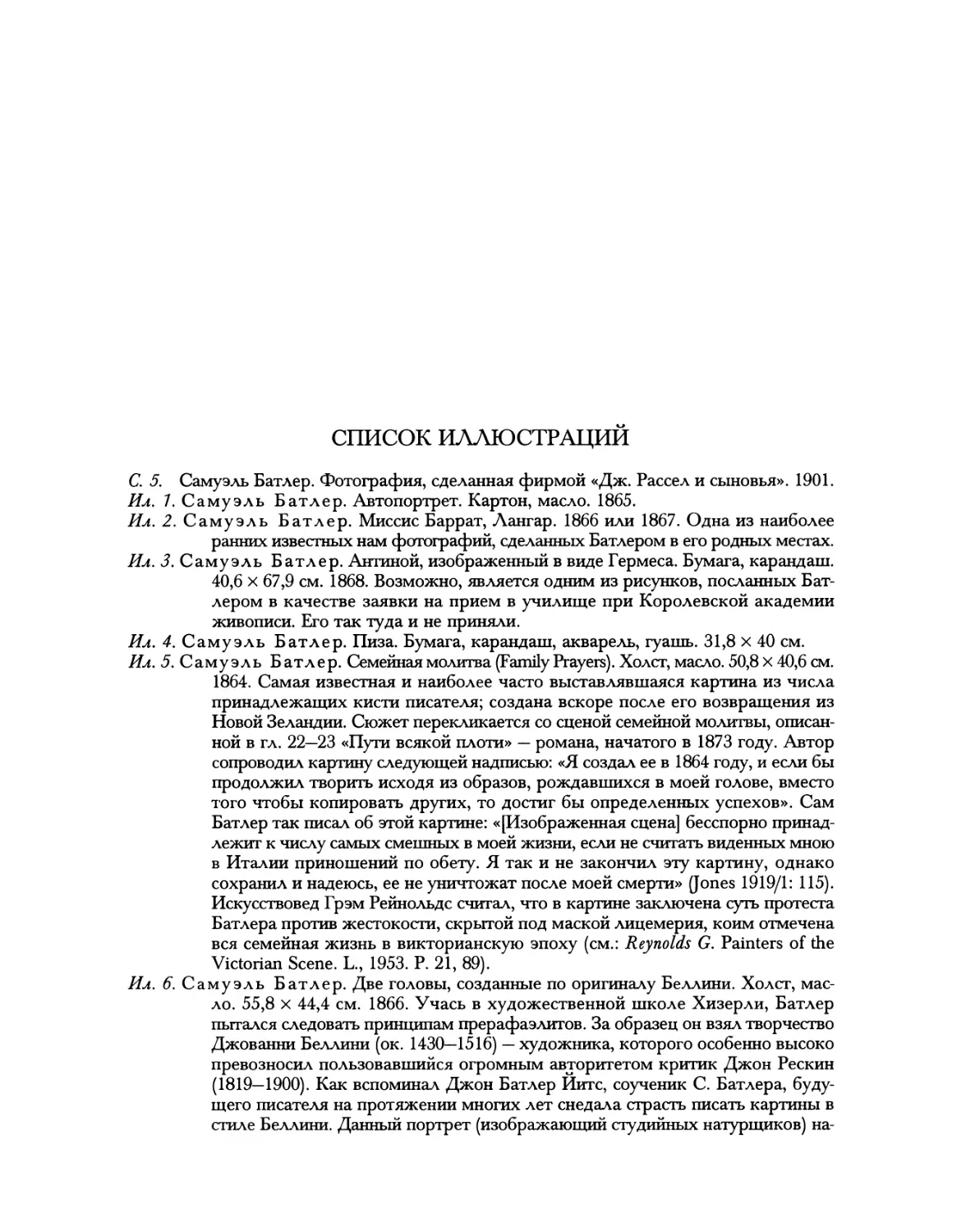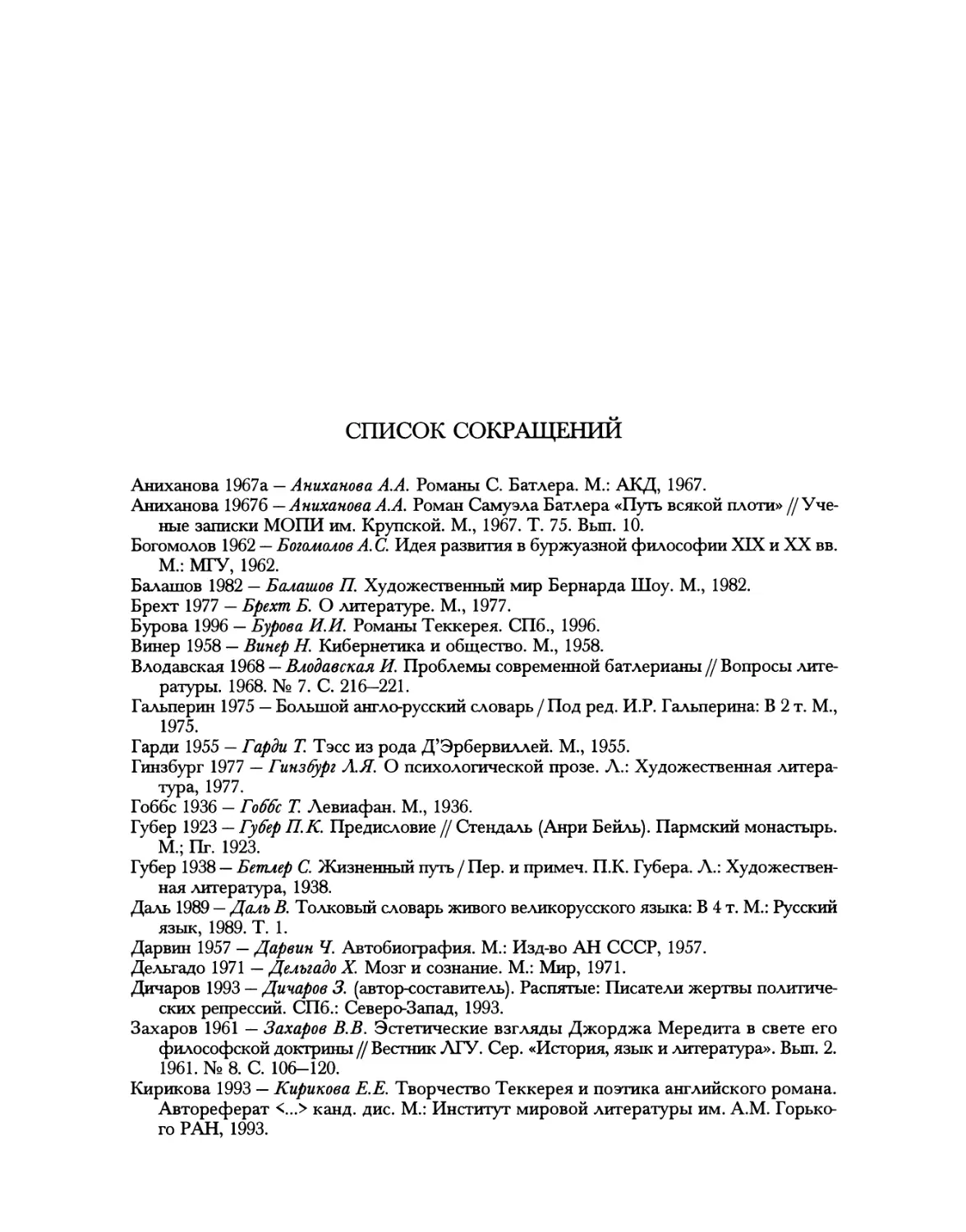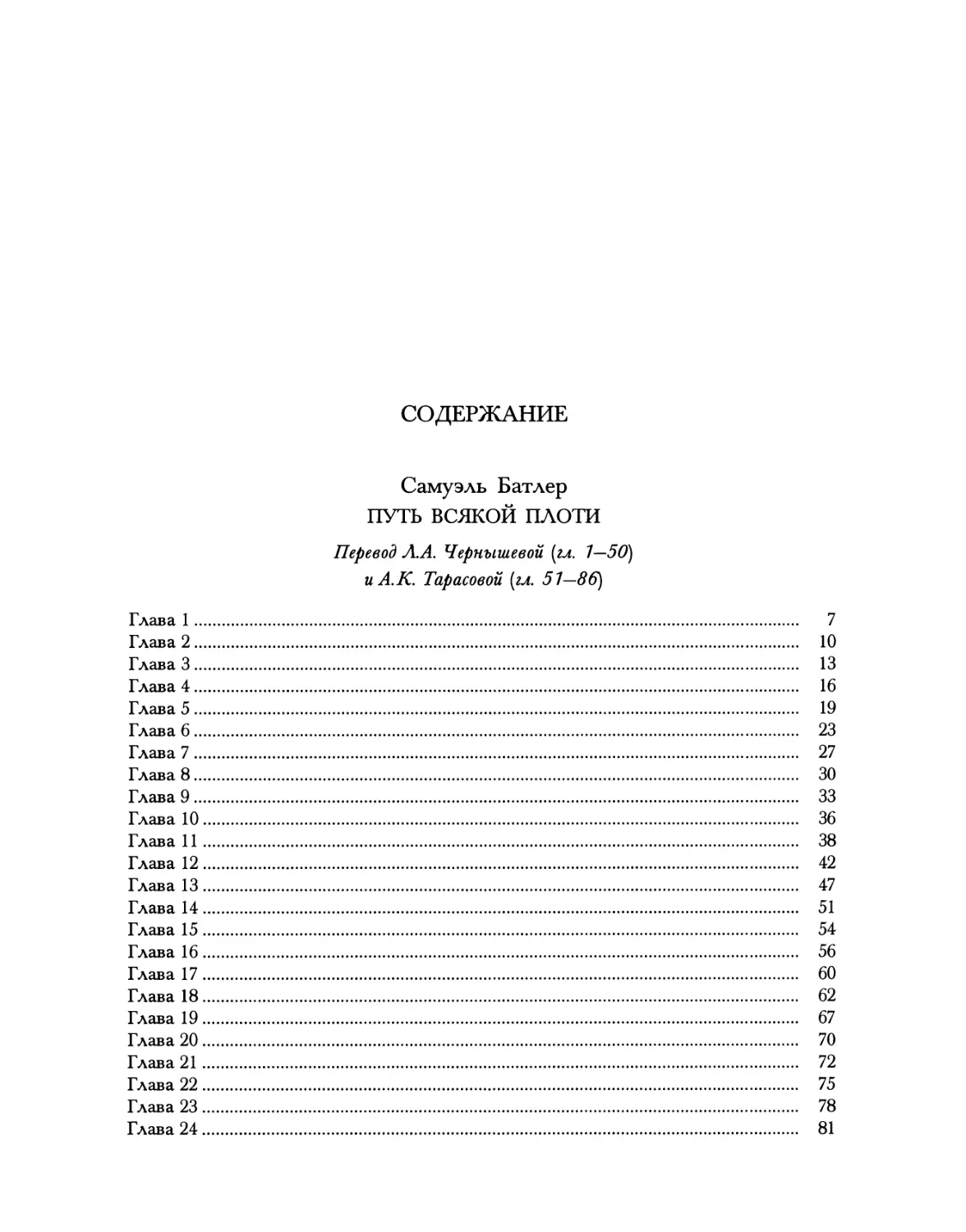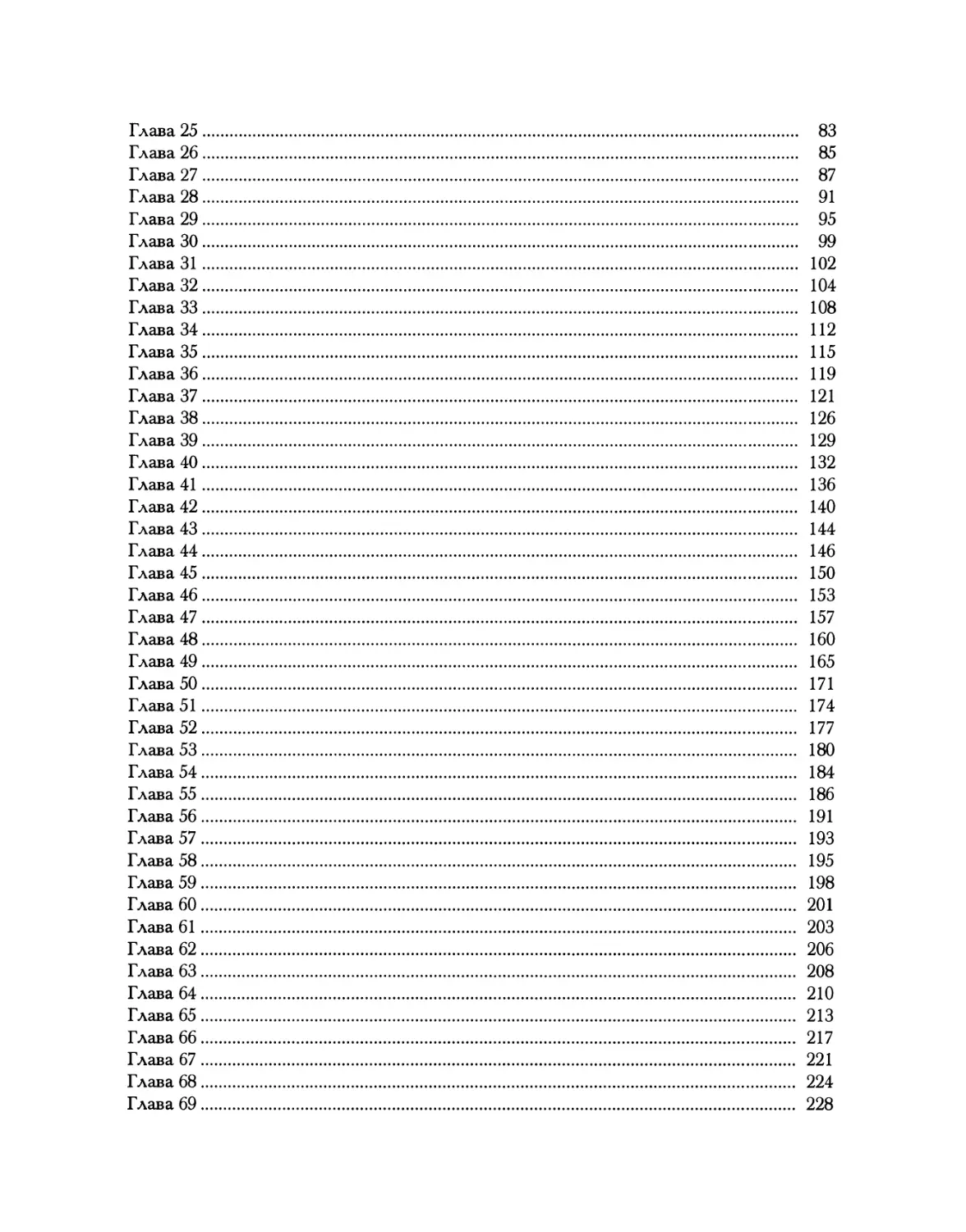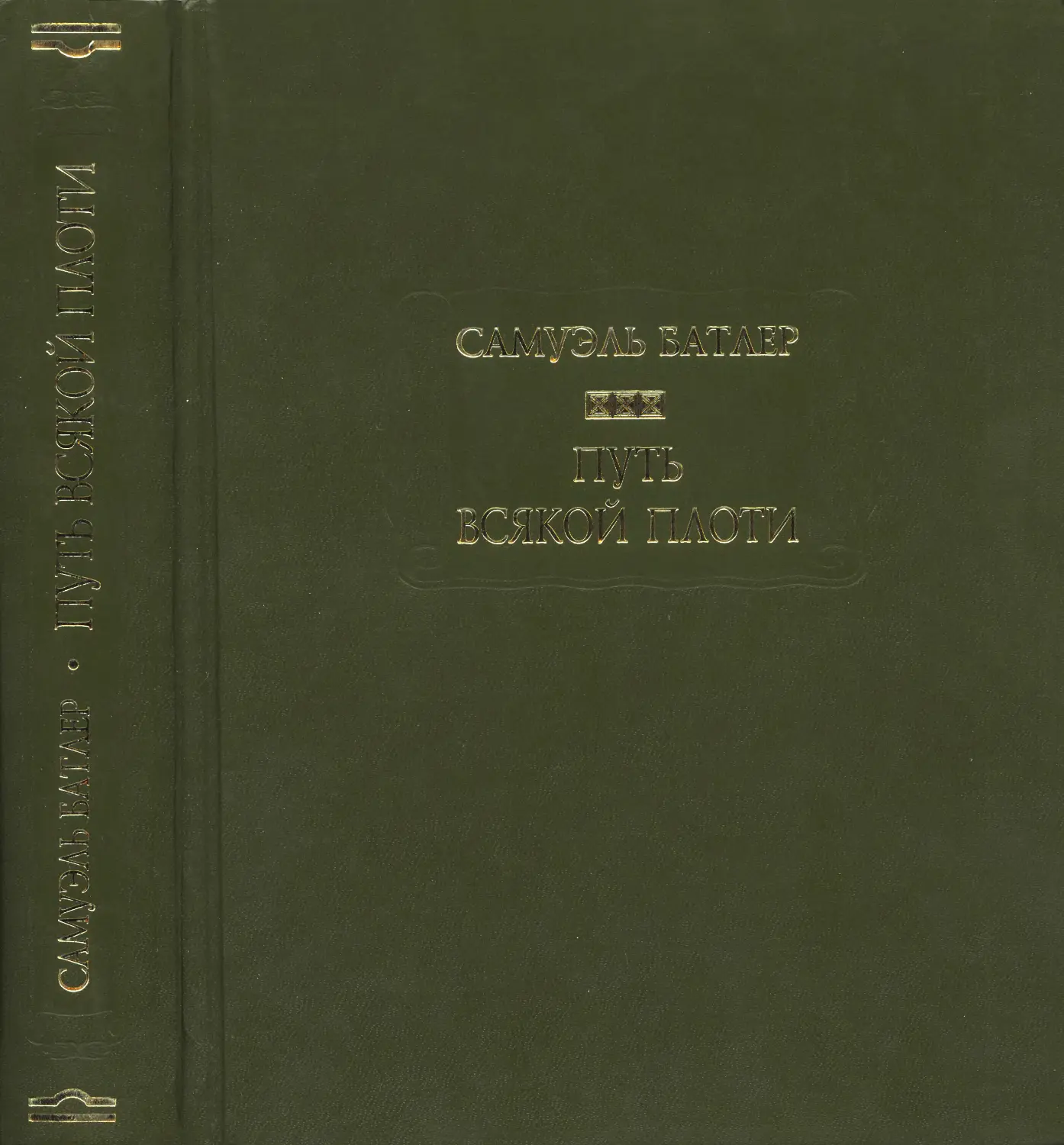Автор: Батлер С.
Теги: проза художественная литература литературные памятники классика литературы российская академия наук батлер
ISBN: 978-5-86218-421-1
Год: 2009
Текст
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Литературные ТГ
ИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ
SAMUEL BUTLER
m
m
m
THE WAY
OF ALL FLESH
САМУЭЛЬ БАТЛЕР
путь
всякой плоти
Издание подготовил
И.И. ЧЕКАЛОВ
Научно-издательский центр
«Ладомир»
«Наука»
Москва
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ
«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ»
В.Е. Багно, В. И. Васильеву А.Н. Горбунову Р.Ю. Данилевский,
Н.Я. Дьяконова, Б.Ф. Егоров (заместитель председателя), Н.Н. Казанский,
Н.В. Корниенко (заместитель председателя), Г.К Косиков, А.Б. Куделин,
А.В. Лавров, И.В. Лукьянец, А.Д. Михайлов (председатель), Ю.С. Осипов,
М.А. Островский, И.Г. Птпушкина, Ю.А. Рыжов, ИМ. Стеблин-Каменский,
Е.В. Халтрин-Халтурина (ученый секретарь), А. К Шапошников,
СО. Шмидт
Ответственный редактор
А.Н. Горбунов
ISBN 978-5-86218-421-1
© А.К. Тарасова. Перевод, 2009.
© Л.А. Чернышева. Перевод, 2009.
© И.И. Чекалов. Перевод, статья,
примечания, 2009.
© Научно-издательский центр «Ладомир»,
2009.
Репродуцирование (воспроизведение) данного издания любым способом
без договора с издательством запрещается
Саму эль Батлер. 1901.
m
m
mm
m
mm
m
mm
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
[Мы знаем, что любящим Бога все содействует ко благу.
Рим. в: 28\
Глава 1
С того времени в начале века, когда я был маленьким мальчиком, я помню
старика, который носил штаны до колен, шерстяные чулки и ковылял обычно
по улице нашей деревни, опираясь на палку. В 1807 году ему было, должно
быть, лет восемьдесят, а раньше, думаю, я вряд ли мог его помнить,
поскольку сам родился в 1802 году. Поредевшие седые пряди свисали ему на уши, спина
была согбенна, колени дрожали, но он был еще довольно бодр и пользовался
большим уважением в мирке нашего Пейлхэма2. Звали его Понтифекс3.
Поговаривали, что старик под каблуком у жены. Мне рассказывали, что он
взял за ней неплохое приданое, но вряд ли это были действительно большие
деньги. Она отличалась высоким ростом, статью (я слышал, как мой отец
называл ее монументальной женщиной)4 и сумела настоять на том, чтобы мистер
Понтифекс женился на ней, когда был молод и слишком добродушен, чтобы
сказать «нет» женщине, добивавшейся его. Их совместная жизнь оказалась
вполне счастливой, поскольку характер у мистера Понтифекса был легкий, и
он быстро научился смиряться с бурными проявлениями нрава своей жены.
По профессии мистер Понтифекс был плотником, одно время он также вел
приходские книги. Однако в ту пору, когда я узнал его, он уже достиг такого
положения, что ему не приходилось зарабатывать на жизнь физическим трудом.
В молодости он самостоятельно выучился рисовать. Не скажу, что рисовал
мистер Понтифекс хорошо, но все же удивительно, что он вообще это делал5. Мой
отец, получивший приход в Пейлхэме приблизительно в 1797 году, стал
обладателем довольно большого собрания рисунков старого мистера Понтифекса,
которые все были созданы исключительно на местные сюжеты и выполнены с
такой неподдельной искренностью и тщанием, что их можно было принять за
работы какого-нибудь из неплохих старых мастеров. Я помню, они висели в
застекленных рамах в кабинете отца, где на них, как и на все в этой комнате, падало
отражение зелени плюща, окаймлявшего окна. Интересно, что с ними станется,
когда они закончат свое существование в качестве рисунков, в какие новые
стадии бытия они тогда перейдут.
8
Путь всякой плоти
Не довольствуясь ролью художника, мистер Понтифекс решил попробовать
себя и в качестве музыканта. Он собственноручно изготовил орган для
церкви и еще один, поменьше, установил у себя в доме. Он играл так же, как и
рисовал: не очень хорошо по профессиональным меркам, но намного лучше,
чем можно было ожидать. У меня самого рано проявилась любовь к музыке,
и старый мистер Понтифекс, вскоре заметив это, стал относиться ко мне с
благосклонностью.
Может показаться, что, берясь за столько дел сразу, он едва ли мог очень
уж преуспеть, но это не так. Его отец был поденщиком, и сам мистер
Понтифекс начал жизнь, не имея иного капитала, кроме здравого смысла и
крепкого здоровья. Теперь же у него за садом хранился изрядный запас древесины,
а от всего его хозяйства исходило ощущение надежного благополучия. К
концу XVTII века и незадолго до того, как мой отец поселился в Пейлхэме,
мистер Понтифекс приобрел участок земли примерно в девяносто акров, тем
самым существенно упрочив свое положение в обществе. Вместе с участком в его
собственность перешел старомодный, но уютный дом с прелестным садом и
огородом. Плотницкие работы теперь выполнялись в одной из надворных
построек, бывших некогда частью какого-то монастыря, остатки зданий
которого сохранились в месте, называемом «двором аббатства». Сам дом, увитый
жимолостью и шпалерными розами, являлся украшением всей деревни, да и
безупречное внутреннее убранство было под стать живописному внешнему
виду. Ходили слухи, что миссис Понтифекс даже крахмалила простыни для
своей парадной постели, и я вполне могу в это поверить.
Как хорошо я помню ее гостиную, наполовину занятую органом, который
смастерил муж, и напоенную ароматом сушеных плодов с росшего возле дома
деревца pyrus japonica;6 картину над каминной полкой с изображением
призового быка, которую написал мистер Понтифекс; выполненный на стекле
рисунок с фигурой мужчины, вышедшего с лампой к карете в снежную ночь,
также работы мистера Понтифекса; барометр в виде старичка и старушки;
фарфоровых пастуха с пастушкой; кувшины с похожими на перья стебельками
цветущих трав и вставленными между ними для украшения несколькими
павлиньими перьями, а также фарфоровые чашки, наполненные лепестками
роз, засушенными с крупицами морской соли. Все давно исчезло и стало
воспоминанием, поблекшим, но все еще сладостным для меня.
Помню ее кухню, в глубине которой можно было мельком увидеть похожий
на пещеру погреб, где в сумраке поблескивали молочные жбаны или светились
белизной руки и лицо молочницы, снимающей сливки. И еще кладовую, где в
числе прочих сокровищ миссис Понтифекс хранила знаменитую мазь для
смягчения губ — предмет ее особой гордости; баночкой этой мази она ежегодно
одаривала тех, кого желала почтить своим вниманием. За пару лет до своей
смерти она записала рецепт снадобья и дала моей матери, но у нас мазь никогда
не удавалась так, как у нее. Когда мы были детьми, миссис Понтифекс порой,
вместе с приветами нашей матушке, посылала нам приглашение на чашку чаю.
Ну и угощала же она нас! Что же касается ее характера, то никогда в жизни
мы не встречали такой восхитительной пожилой дамы: что бы там ни прихо-
Глава 7
9
дилось, возможно, терпеть мистеру Понтифексу, но у нас не было никаких
оснований жаловаться. А после чая мистер Понтифекс обычно играл для нас
на органе, и мы обступали его, разинув рты, и думали, что он самый
замечательный и умный человек, когда-либо рождавшийся на свет, за исключением,
конечно, нашего папы.
Миссис Понтифекс не обладала чувством юмора — по крайней мере, я не
могу припомнить ни одного его проявления, — а вот ее муж был весьма не прочь
пошутить, хотя немногие догадались бы об этом по его облику. Помню, как
отец однажды послал меня к нему в мастерскую взять немного клея, и мне
случилось явиться в тот момент, когда старик Понтифекс распекал своего
ученика. Он держал парня — юного олуха — за ухо, приговаривая:
— Что, пропащий, опять разум затмило? — Полагаю, этот малый был из тех,
кого считают заблудшей душой, а потому его и назвали пропащим. — Ну так
слушай, мой мальчик, — продолжал он, — иные ребята родятся тупыми, и ты
один из них; иные становятся тупыми, и ты, Джим, опять в их числе: ты
уродился тупым, да еще и весьма приумножил свое прирожденное свойство, а в
некоторых, — и здесь наступил кульминационный момент, в продолжение
которого голова и ухо парня мотались из стороны в сторону, — тупость
вколачивают7, чего с тобой, даст Бог, не случится, мой мальчик, потому что я выколочу
из тебя тупость, пусть мне и придется ради этого выдрать тебя как следует за
уши.
Но я не заметил, чтобы старик действительно драл Джима за уши и
вообще делал что-то большее, чем для виду стращал его, ибо эти двое прекрасно
понимали друг друга. В другой раз, помню, он звал деревенского крысолова,
говоря: «Иди-ка сюда, ты, три-ночи-и-три-дня», — намекая, как я узнал потом,
на длительность запоев этого крысолова. Но больше я не собираюсь
рассказывать о таких пустяках. Лицо моего отца всегда прояснялось при упоминании
старика Понтифекса.
— Уверяю тебя, Эдвард, — говорил он мне, — старик Понтифекс был не
просто способным человеком, он был одним из самых способных людей,
которых я когда-либо знал.
С этим я, будучи человеком молодым, никак не готов был согласиться.
— Дорогой батюшка, — отвечал я, — что такого он совершил? Немного
рисовал, но разве смог бы он, даже ради спасения собственной души, создать
картину для выставки в Королевской академии?8 Он сделал два органа и мог
сыграть менуэт из «Самсона»9 на одном и марш из «Сципиона»10 на другом, был
хорошим плотником и умел пошутить; довольно милый старик, но зачем
представлять его гораздо более способным, чем на самом деле?
— Мой мальчик, — возражал отец, — ты должен судить не по самой работе,
но по работе в ее связи с обстоятельствами. Подумай, мог бы Джотто11 или
Филиппе Липпи12 выставить свою картину в Академии? Имеет ли какая-нибудь из
тех фресок, которые мы видели в Падуе13, хоть малейший шанс попасть на
выставку, если послать ее туда нынче? Да ведь эти академики так бы возмутились,
что даже не соизволили бы написать бедному Джотто, чтобы он приехал и
забрал свою фреску. Да уж, — продолжал он, все более горячась, — будь у стари-
10
Путь всякой плоти
ка Понтифекса возможности Кромвеля14, он бы совершил все, что совершил
Кромвель, и куда лучше; будь у него возможности Джотто, он сделал бы все,
что сделал Джотто, и ничуть не хуже. Так уж вышло, что он был деревенским
плотником, но я беру на себя смелость утверждать, что за всю свою жизнь он
никогда не делал ни одного дела спустя рукава.
— Но мы не можем, — возражал я, — судить о людях с учетом столь многих
«если». Если бы старик Понтифекс жил во времена Джотто, он мог бы стать
другим Джотто, но он не жил во времена Джотто.
— Уверяю тебя, Эдвард, — говорил мой отец, посуровев, — мы должны
судить о людях не столько по тому, что они делают, сколько по тому,
заставляют ли они нас почувствовать, что они в состоянии сделать. Если человек,
занимаясь живописью, музыкой или житейскими делами, сумел заставить меня
почувствовать, что я могу положиться на него в трудных обстоятельствах, он
сделал достаточно. Не по тому, что человек в самом деле нанес на свой холст,
и даже не по действиям, которые он совершил, так сказать, на холсте своей
жизни, стану я судить о нем, а по тому, заставляет ли он меня почувствовать
то, что чувствовал сам и к чему стремился. Если он заставил меня
почувствовать, что считал достойными любви те же вещи, которые считаю достойными
любви я сам, то большего мне и не требуется. Его язык, возможно, был
несовершенен, но я тем не менее понял его; мы с ним в согласии. И повторяю,
Эдвард, старик Понтифекс был не только способным человеком, но одним из
самых способных людей, которых я когда-либо знал.
На это возразить было нечего, тем более что сестры бросали мне взгляды,
призывающие умолкнуть. Мои сестры неизменно так поступали, когда у меня
заходили споры с отцом.
— Поговорим о его преуспевающем сыне, — сердито ворчал отец, которого
я порядком разозлил. — Он недостоин даже сапоги отцу чистить. Сын старого
Понтифекса имеет ежегодно тысячи фунтов, тогда как у его отца к концу
жизни было, может, в год тысячи три шиллингов. Он преуспевающий человек,
да уж; но его отец, ковыляющий по улице Пейлхэма в своих серых чулках
домашней вязки, в широкополой шляпе и коричневом сюртуке, стоил сотни
Джорджей Понтифексов, несмотря на все экипажи этого малого, лошадей и
высоко задранный нос. Впрочем, — добавил он, — Джордж Понтифекс тоже
отнюдь не глуп.
И это подводит нас ко второму поколению семейства Понтифекс, —
поколению, которым мы теперь и займемся.
Глава 2
Старый мистер Понтифекс женился в 1750 году, но в течение следующих
пятнадцати лет жена так и не родила детей1. По истечении этого срока миссис
Понтифекс удивила всю деревню, обнаружив явные признаки готовности
подарить мужу наследника или наследницу. Ее случай давно считали
безнадежным, поэтому когда она, советуясь с доктором по поводу определенных симп-
Глава 2
11
томов, получила разъяснение, что они означают, то очень рассердилась и не
стесняясь в выражениях выбранила доктора за то, что он городит чепуху. Она
отказалась вставить хотя бы нитку в иголку за все время до предстоящих
родов, и они застали бы ее совершенно врасплох, если бы соседи, понимавшие ее
состояние лучше ее самой, не приготовили нужных вещей, ничего не говоря ей
об этом. Возможно, она боялась Немезиды2, хотя, безусловно, не знала, кто или
что такое Немезида. Возможно, она боялась, что доктор ошибся и она станет
предметом насмешек. Но какова бы ни была причина ее отказа признать
очевидное, она отказывалась признавать его до тех пор, пока однажды в снежную
январскую ночь со всей возможной поспешностью по непроезжим деревенским
дорогам не послали за доктором. Когда он прибыл, то застал уже не одного, а
двух пациентов, нуждавшихся в его помощи, так как родился мальчик,
которого в надлежащее время окрестили, назвав Джорджем в честь царствовавшей
тогда особы3.
Насколько я понимаю, Джордж Понтифекс унаследовал основные черты
характера от этой упрямой пожилой женщины, своей матери — матери,
которая, хоть и не любила никого на свете кроме мужа (да и то на особый лад),
чрезвычайно нежно привязалась к своему нежданному позднему ребенку, пусть
и редко это выказывала.
Мальчик вырос в крепкого ясноглазого паренька, очень рассудительного и
отличающегося немного чрезмерной тягой к учебе. Дома с ним обходились
мягко, и он любил отца с матерью в той мере, в какой его натуре было доступно
любить кого-либо, но больше он не любил никого. Он прекрасно понимал, что
значит meum*, и имел весьма слабое представление о tuurn**. Поскольку он рос
на свежем здоровом воздухе в одной из самых удачно расположенных деревень
Англии, то его детское тело получило достаточное развитие, к тому же в те
времена детские мозги не перегружали занятиями так, как теперь; возможно,
именно по этой причине мальчик проявлял жадный интерес к учебе. В семь-
восемь лет он читал, писал и считал лучше, чем какой-либо другой мальчик его
возраста в деревне. Мой отец еще не был тогда приходским священником в
Пейлхэме и не знал Джорджа Понтифекса в детстве, но я слышал, как
соседи рассказывали ему, что мальчик производил впечатление необыкновенно
смышленого и не по годам развитого ребенка. Родители, естественно, гордились
отпрыском, а мать была убеждена, что в один прекрасный день ее сын станет
одним из царей и советников земли4.
Однако одно дело — тешить себя мыслями, что твой сын добьется каких-то
великих жизненных благ, и совсем другое — улаживать на этот счет дела с
фортуной. Джордж Понтифекс мог бы получить профессию плотника и
преуспеть лишь в том, чтобы наследовать своему отцу в качестве одного из
второстепенных магнатов Пейлхэма, и все же сделался бы более преуспевающим
человеком, чем на самом деле, ибо, полагаю, нет прочнее успеха в этом мире,
чем тот, который выпал на долю стариков Понтифекс. Но случилось так, что
* мое [лат).
** твоем [лат).
12
Путь всякой плоти
примерно в 1780 году, когда Джорджу было пятнадцать лет, в Пейлхэм
приехала погостить на несколько дней сестра миссис Понтифекс, бывшая замужем
за мистером Фэйрли. Мистер Фэйрли был издателем, предмет
профессионального интереса которого составляли в основном книги религиозного содержания,
и имел контору на Патерностер-роу5. Он сумел подняться по общественной
лестнице, и жена поднялась вместе с ним. Сестры годами не поддерживали
особенно тесных отношений друг с другом, и я забыл, как получилось, что мистер и
миссис Фэйрли оказались вдруг гостями в тихом, но чрезвычайно уютном доме
четы Понтифекс. По какой-то причине визит все же состоялся, и вскоре
маленький Джордж сумел снискать расположение дяди и тети. Живой, смышленый,
хорошо воспитанный мальчик крепкого сложения, сын почтенных родителей
обладает потенциальными достоинствами, которые вряд ли останутся не
замеченными опытным деловым человеком, нуждающимся в многочисленных
подчиненных. Накануне отъезда мистер Фэйрли предложил родителям мальчика
приобщить его к своему делу, пообещав к тому же, что если тот хорошо
проявит себя, то получит шанс выдвинуться. Миссис Понтифекс слишком близко
к сердцу принимала интересы сына, чтобы отклонить такое предложение, а
потому дело скоро уладили, и примерно недели через две после отъезда
супругов Фэйрли Джордж отправился в почтовой карете в Лондон, где был
встречен дядей и тетей, у которых ему, как условились старшие, предстояло
поселиться.
Таково было многообещающее начало карьеры Джорджа. Одежда его
теперь стала более модной, чем прежде, а некоторая деревенская простота манер
и речи, усвоенная им в Пейлхэме, исчезла без следа так стремительно, что
вскоре уже никто не смог бы догадаться о том, что рос и воспитывался
мальчик в иной среде, а не в той, которую принято называть образованной. Джордж
проявлял большое старание в работе и превзошел благоприятное мнение,
составленное о нем мистером Фэйрли. Иногда мистер Фэйрли отпускал его на
несколько дней в Пейлхэм, и вскоре родители заметили, что внешний вид и
манера речи сына весьма изменились с тех пор, как он покинул отчий дом. Они
гордились им и быстро осознали его превосходство, отказавшись от всякой
видимости родительского надзора, в котором и в самом деле не имелось
никакой нужды. Джордж, со своей стороны, был всегда с ними ласков и до конца
жизни сохранял к отцу и матери теплое чувство, какого, по-моему, не
испытывал более ни к одному мужчине, женщине или ребенку.
Джордж никогда не гостил в Пейлхэме подолгу, ибо расстояние от
Лондона составляло менее пятидесяти миль и имелся прямой дилижанс, так что
поездка не представляла труда. Вследствие краткости встреч ощущение новизны
не успевало выветриться ни у молодого человека, ни у его родителей.
Джорджу нравились свежий деревенский воздух и зеленые поля — после сумрачности,
к которой он так долго привыкал на Патерностер-роу, являвшей собой тогда,
как и теперь, скорее узкий темный переулок, чем улицу. Помимо удовольствия
видеть знакомые лица фермеров и деревенских жителей, ему нравилось
также показывать себя и слышать похвалы в свой адрес, как видному и
удачливому молодому человеку, ибо он был не из тех юношей, кто таит свои успехи под
Глава 3
13
спудом. Дядя заставил его заниматься по вечерам латынью и греческим. Эти
языки давались ему легко, и он быстро овладел тем, на что у многих
мальчиков уходят годы. Полагаю, знания наделяли его самоуверенностью, которая
обнаруживалась независимо от того, хотел он этого или нет. Во всяком случае,
скоро он стал считать себя знатоком сначала литературы, а затем живописи,
архитектуры, музыки и всего прочего. Подобно своему отцу, он знал цену
деньгам, но при этом был более тщеславен и менее щедр, чем отец: еще юношей
он научился разбираться в жизни и взял за правило руководствоваться
принципами, испробованными на личном опыте и себя оправдавшими, а не теми
глубокими убеждениями, которые у его отца настолько вошли в плоть и кровь,
что он даже не осознавал их.
Его отец, как я уже говорил, им восхищался и предоставил ему идти своим
путем. Сын все более от него отдалялся, и отец, пусть безотчетно, прекрасно
это понимал. По прошествии нескольких лет он усвоил привычку надевать
лучшую одежду всякий раз, как сын приезжал навестить его, и не позволял себе
сменить ее на свой обычный костюм до тех пор, пока молодой человек не
отправлялся назад в Лондон. Думаю, старый мистер Понтифекс наряду с
гордостью и любовью испытывал также некоторый страх перед Джорджем как
перед существом, ему совершенно непонятным, чей образ мыслей, несмотря на
внешнее согласие между отцом и сьюом, чужд его собственному. Миссис
Понтифекс ничего подобного не ощущала: для нее Джордж был чистым и
абсолютным совершенством, и она с удовольствием видела, или ей так казалось, что и
чертами лица, и характером он походит более на нее и ее родственников, чем
на ее мужа и его родных.
Когда Джорджу было лет двадцать пять, мистер Фэйрли на весьма
выгодных условиях взял его в компаньоны. Дяде не пришлось сожалеть об этом шаге:
молодой человек привнес в дело, которое и до того успешно развивалось,
свежую энергию. К тридцати годам доля прибыли Джорджа составляла не менее
полутора тысяч фунтов в год. Два года спустя он женился на девушке семью
годами его моложе, которая принесла ему большое приданое. Она умерла в
1805 году, родив младшую из их дочерей, Алетею6, а муж так более и не
женился.
Глава 3
В первые годы текущего столетия в Пейлхэм стали время от времени наезжать
пятеро маленьких детей, сопровождаемые двумя нянями. Нет нужды говорить
о том, что это было подрастающее поколение Понтифексов, к которому двое
стариков — их бабушка и дедушка — относились с такой ласковой
почтительностью, словно те были детьми лорда-наместника графства. Детей звали
Элиза, Мария, Джон, Теобальд1 (который, как и я, родился в 1802 году) и Алетея.
Мистер Понтифекс всегда добавлял к их именам слова «мистер» или «мисс»,
за исключением Алетеи, которая стала его любимицей. Устоять перед
внуками ему было так же невозможно, как перед своей женой. Даже старая миссис
14
Путь всякой плоти
Понтифекс пасовала перед детьми собственного сына и предоставляла им
неограниченную свободу, какой не дала бы моим сестрам и мне, хотя мы пользовались
у нее почти таким же расположением. От внуков требовалось соблюдать только
два правила: хорошенько вытирать башмаки, входя в дом, не слишком раздувать
мехи органа мистера Понтифекса и не вынимать из инструмента трубы.
Для нас, детей приходского священника, не было события более
долгожданного, чем ежегодные приезды в Пейлхэм младших Понтифексов. Нам
доставалась часть их полной свободы. Мы приходили на чаепитие к миссис
Понтифекс, чтобы встретиться с ее внуками, а потом звали наших юных друзей
выпить чаю у нас. И вообще мы, на наш взгляд, отлично проводили время. Я
отчаянно влюбился в Алетею, да и все мы были влюблены друг в друга,
открыто и без всякого стеснения отстаивая даже в присутствии наших нянь право на
многоженство и обмен женами и мужьями. Нам было очень весело, но это дела
давно минувших дней, и я забыл почти все, кроме того, что нам действительно
было очень весело. Едва ли не единственное впечатление, которое навсегда
останется со мной, это то, как однажды Теобальд ударил свою няню и стал
дразнить ее, а когда она сказала, что уйдет, выкрикнул: «Не уйдешь — я не отпущу
тебя и буду мучить»2.
Но однажды зимним утром 1811 года, одеваясь в своей детской, мы
услышали погребальный звон церковного колокола, и нам сказали, что это звонят
по старой миссис Понтифекс. Наш слуга Джон сообщил нам об этом и
добавил с мрачной шутливостью, что в колокол звонят, чтобы люди пришли и
унесли ее. У старухи случился удар, который парализовал ее и стал причиной
внезапной кончины. Это явилось для нас подлинным потрясением, а тут еще и
наша няня стала уверять нас, что, если бы Бог захотел, все мы буквально в тот
же день могли бы разделить участь миссис Понтифекс и угодить прямиком на
Страшный Суд. На самом деле Страшный Суд, по мнению тех, кто, как
считалось, лучше других разбирался в этих вопросах, при любых обстоятельствах
должен был наступить не позднее чем через несколько лет, и тогда, как
говорили, весь мир будет сожжен, а мы сами осуждены на вечные муки, если не
исправим пути наши, что в настоящее время, похоже, не слишком-то стремимся
делать. Все это так напугало нас, что мы принялись вопить и подняли такой
гвалт, что няня была вынуждена ради собственного спокойствия утешать нас.
Тогда, вспомнив, что старая миссис Понтифекс больше не пригласит нас на чай
с пирожными, мы заплакали, но уже более сдержанно.
А в день похорон мы пережили сильнейшее волнение. Старый мистер
Понтифекс, следуя обычаю, еще сохранявшемуся кое-где в начале нынешнего века,
разослал всем жителям деревни дешевые булочки, которые назывались
«хлебом скорби». Мы ничего не знали об этом обычае, к тому же, хотя часто
слышали о таких булочках, никогда прежде их не видели. Более того, с нами
обошлись как со взрослыми: как и все жители деревни, как и наши отец с
матерью, и слуги, мы получили по одной такой булочке. До этого момента мы и не
подозревали, что можем считаться полноправными жителями деревни. В
довершение всего булочки были свежими, а мы ужасно любили свежий хлеб,
который нам позволяли есть в исключительно редких случаях, поскольку счита-
Глава 3
15
лось, что он для нас вреден. Итак, любовь к нашему старинному другу
претерпела множество одновременных ударов со стороны интереса к древним
обычаям, прав гражданства и собственности, заманчивого вида и приятного вкуса тех
маленьких булочек, а также чувства собственной значимости, возникшего
вследствие того, что мы были близко знакомы с человеком, на самом деле
умершим. В результате расспросов выяснилось, что у кого-либо из нас мало
оснований ожидать близкой смерти, а раз так, нас вполне радовала мысль о
том, что на кладбище снесут кого-то другого. Таким образом мы за короткий
срок перешли от великого уныния к не менее великому возбуждению. Нам
открылись новое небо и новая земля в предчувствии возможной пользы от
смерти наших друзей, и, боюсь, в течение некоторого времени мы проявляли
повышенный интерес к состоянию здоровья каждого жителя деревни, чье
положение создавало хоть малейшую вероятность, что раздача «хлеба скорби»
повторится.
То было время, когда все великое казалось давно минувшим, и мы
изумились, узнав, что Наполеон Бонапарт еще жив. Мы думали, что такой великий
человек мог жить только очень много лет назад, а тут оказалось, что он чуть
ли не стоит у нас на пороге. Это придало живости мнению, что этак и Судный
день, может, ближе, чем нам представлялось, но няня сказала, что пока
беспокоиться не стоит, а уж она-то точно знала. В те дни снег лежал дольше, а
переулки заносило глубже, чем теперь; иногда зимой молоко приносили
замерзшим, и нас приводили в кухню посмотреть на него. Полагаю, и в наши дни где-
то есть дома приходских священников, куда молоко зимой порою приносят
замерзшим, и дети спускаются поглазеть на него, но я еще ни разу не видел
замерзшего молока в Лондоне, а потому думаю, что зимы нынче теплее, чем
бывало прежде.
Приблизительно через год после смерти своей супруги мистер Понтифекс
тоже отошел в мир иной. Мой отец видел его за день до смерти. У старика было
свое, особое отношение к закатам, и он приделал пару ступенек к садовой
ограде, на которые обычно поднимался в ясную погоду понаблюдать, как садится
солнце. Мой отец подошел к нему под вечер, как раз когда садилось солнце,
и увидел, как старик стоит, положив руки на ограду, и смотрит на солнце над
полем, через которое по тропинке шел мой отец. Отец услышал, как он
произнес: «Прощай, солнце, прощай, солнце» — как раз когда солнце опускалось
за горизонт. По его интонации и виду отец понял, что старик совсем ослабел.
До следующего заката он не дожил.
«Хлеба скорби» не было. Нескольких его внуков привезли на похороны, и
мы пытались выразить им свое сочувствие, но не много от того выиграли. Джон
Понтифекс, бывший на год старше меня, посмеялся над грошовыми
булочками и намекнул, что мне хочется такую булочку потому, что мои папа с мамой
не в состоянии мне ее купить, из-за чего, по-моему, мы затеяли нечто вроде
драки, и, кажется даже, Джон Понтифекс удрал, но, возможно, дело
обстояло ровно наоборот. Помнится, няня моей сестры (сам я к тому времени уже
вышел из-под опеки нянь) передала дело в «высшую инстанцию», и всех нас
наказали за постыдное поведение. Тут-то мы окончательно пробудились от
16
Путь всякой плоти
наших грез, но еще довольно долго при словах «грошовая булочка» наши уши
горели от стыда. Дали бы нам тогда хоть дюжину таких булочек в качестве
«хлеба скорби», мы бы не соизволили даже прикоснуться ни к одной из них.
В память о своих родителях Джордж Понтифекс установил в пейлхэмской
церкви простую плиту с высеченной на ней следующей эпитафией:3
Памяти
ДЖОНА ПОНТИФЕКСА,
родившегося 16 августа 1727 года
и умершего 8 февраля 1812 года
на 85-м году жизни
Памяти
РУТ ПОНТИФЕКС,
его супруги,
родившейся 13 октября 1727 года
и умершей 10 января 1811 года
на 84-м году жизни
Они были скромны, но образцово исполняли
свой религиозный, нравственный и общественный долг.
Этот памятник поставлен их единственным сыном.
Глава 4
Через год-два произошла битва при Ватерлоо, а затем в Европе наступил мир1.
Мистер Джордж Понтифекс стал выезжать за границу2. Помню, как по
прошествии лет мне попался на глаза в Бэттерсби дневник, который он вел в первую
из своих поездок. Этот документ многое говорит о своем авторе. Читая его, я
понял, что Джордж Понтифекс, еще до того как отправиться в путь,
настроился восхищаться только тем, чем, по его мнению, будет похвально
восхищаться, и смотреть на природу и искусство только сквозь те очки, какие достались
ему от многих поколений педантов и притворщиков. Первый же взгляд на
Монблан3 привел мистера Понтифекса в положенный в этом случае восторг.
«Мои чувства непередаваемы. Я почти задохнулся от восхищения, когда
впервые узрел монарха гор. Мне представилось, будто я вижу духа Альп, который,
восседая на грандиозном троне, вознесся куда выше жаждущих величия
собратьев и в своей одинокой мощи бросает вызов всей вселенной. Я был настолько
переполнен чувствами, что, казалось, почти лишился сил и ни за что на свете
не мог бы вымолвить и слова после первого восклицания, до тех пор пока
хлынувшие слезы не принесли мне некоторого облегчения. С трудом оторвался я
наконец от созерцания "смутно различимого вдали"4 (хотя мне казалось,
будто мои душа и взор все еще устремлены к нему) столь величественного зрели-
Глава 4
17
ща». Обозрев Альпы с окружающих Женеву возвышенностей, он преодолел
пешком девять из двенадцати миль спуска: «Мои разум и сердце были
слишком полны впечатлений, и я нашел некоторое отдохновение, усмирив свои
чувства прогулкой». В должное время он добрался до Шамони5, а в одно из
воскресений отправился на Монтанвер6, чтобы увидеть ледник Мер-де-Глас7.
Там в книгу для посетителей он вписал следующее стихотворение, которое
счел, по его словам, «уместным для данного дня и данного пейзажа»:
Когда, о Боже, зрю творенья рук Твоих,
Мой дух в святом почтенье пред Тобою тих.
Сии пустынные просторы, сей покой
Той пирамиды в диадеме ледяной,
Сии остроконечные вершины, ширь равнин
И вечные снега, где холод — властелин,
Тобой сотворены, и, зря Твое творенье,
Тебе беззвучно возношу моленья.
Некоторые поэты, добравшись до седьмой-восьмой строки своего
стихотворения, начинают пошатываться и спотыкаться. Последние строчки доставили
мистеру Понтифексу немало хлопот, и почти каждое слово было стерто и
переписано заново по меньшей мере один раз. Однако же в книге посетителей на
Монтанвере он просто вынужден был остановиться на том или ином варианте.
Говоря о стихотворении в целом, должен признать, что мистер Понтифекс был
вправе считать его уместным для воскресного дня. Не хочу быть излишне
суровым даже на суровом леднике Мер-де-Глас, а потому воздержусь
высказывать мнение, уместно ли стихотворение также и для данного пейзажа.
Мистер Понтифекс посетил далее Большой Сен-Бернар8 и там написал еще
несколько стихотворных строк — на сей раз, к сожалению, по-латыни. Кроме того,
он хорошенько позаботился о том, чтобы проникнуться должным впечатлением
от монастырской гостиницы и ее местоположения. «Все это в высшей степени
необычное путешествие похоже на сон, особенно его последние дни, проведенные
в изысканном обществе, с полным комфортом и всеми удобствами среди диких
скал в зоне вечных снегов. Мысль о том, что я ночую в монастыре и занимаю
постель, на которой спал сам Наполеон9, что нахожусь в самом высоко
расположенном населенном пункте Старого Света, да еще в месте, почитаемом
повсюду, некоторое время не давала мне уснуть». По контрасту с этими записями
приведу здесь отрывок из письма, написанного мне в прошлом году внуком
Джорджа, Эрнестом, о котором читатель узнает чуть позже. В этом отрывке
говорится: «Я поднимался на Большой Сен-Бернар и видел собак». Как и положено,
мистер Джордж Понтифекс не преминул посетить Италию, где картины и
другие произведения искусства, — по крайней мере те, что были тогда в моде, —
вызвали у него приступ благовоспитанного восхищения. О галерее Уффици10 во
Флоренции он пишет: «Сегодня утром я провел три часа в галерее и решил для
себя, что если бы из всех сокровищ, виденных мной в Италии, мне нужно было
бы выбрать один зал, то я бы выбрал зал "Трибуна"11 этой галереи. Здесь нахо-
18
Путь всякой плоти
дятся "Венера Медичи", "Лазутчик", "Борец", "Танцующий фавн" и прекрасный
Аполлон. Эти работы несравненно превосходят "Лаокоона"12 и "Аполлона Бель-
ведерского"13 в Риме. Кроме того, здесь же находится "Святой Иоанн" Рафаэля14
и многие другие chefs-d'œuvre* величайших в мире художников». Интересно
сравнить излияния мистера Понтифекса с восторгами современных критиков. Так,
недавно один весьма уважаемый писатель сообщил миру, что был «готов рыдать
от восхищения» перед одной из скульптур Микеланджело15. Интересно,
захотелось бы ему разрыдаться от восхищения перед скульптурой Микеланджело, если
бы знатоки сочли ее неподлинной, или перед приписываемой Микеланджело, а
на самом деле созданной кем-то другим. Но, полагаю, самодовольный педант,
обладающий большим количеством денег, чем мозгов, шестьдесят—семьдесят лет
назад был примерно таким же, как и теперь.
Обратимся к Мендельсону16. Он с не меньшей уверенностью пишет о том же
самом зале «Трибуна», остановить выбор на котором мистер Понтифекс счел
делом столь беспроигрышным для своей репутации человека культурного и со
вкусом: «И вот я пошел в "Трибуну"17. Это помещение так необычайно мало,
что его можно пересечь, сделав всего пятнадцать шагов, и все же оно
заключает в себе целый мир искусства. Я вновь отыскал свое любимое кресло,
которое стоит возле статуи "Раб, точащий нож" ("L'Arrotino"), и, завладев им,
несколько часов наслаждался, ибо прямо передо мною находились "Мадонна со
щегленком"18, "Папа Юлий П"19, женский портрет кисти Рафаэля20, а над ним
прекрасное "Святое семейство" Перуджино21. К тому же так близко, что я мог
коснуться ее рукой, располагалась "Венера Медичи", а чуть поодаль —
"Венера" Тициана...22 Остальное пространство занято другими картинами Рафаэля,
портретом кисти Тициана, работой Доменикино23 и т. д., и т. д., и все это в
пределах маленького полукружья, не превышающего размеры какой-либо из
наших комнат. Это место, где человек чувствует собственную ничтожность и
может поучиться смирению». «Трибуна» — мало подходящее место для
обучения смирению таких людей, как Мендельсон. Как правило, каждый их шаг к
смирению сопровождается двумя шагами от него. Интересно, как много очков
начислил себе Мендельсон за двухчасовое сидение в этом кресле. Интересно,
как часто он поглядывал на часы, чтобы узнать, не истекли ли уже два часа.
Интересно, как часто говорил себе, что и сам он, если по правде, такая же
крупная фигура, как и любой из тех, чьи работы он видит перед собой; как
часто задавался вопросом, не узнал ли его кто-нибудь из посетителей и не
восхитился ли им за столь долгое сидение все в том же кресле; и как часто
досадовал, что они проходят мимо, не обращая на него внимания. Но, возможно,
если по правде, то сидел он там отнюдь не полные два часа.
Однако вернемся к мистеру Понтифексу. Нравилось ли ему то, что он
считал шедеврами греческого и итальянского искусства, или нет, но он привез с
собой несколько копий работ итальянских художников, и я не сомневаюсь, что
он удостоверился в их полнейшем сходстве с оригиналами. При разделе
отцовского имущества две из этих копий достались Теобальду, и я часто видел их в
* шедевры (фр).
Глава 5
19
Бэттерсби, навещая Теобальда и его жену. Одной из них была «Мадонна»
кисти Сассоферрато24, в синем капюшоне, наполовину затенявшем ее лицо.
Другой — «Магдалина» работы Карло Дольчи25, с пышной копной волос и
мраморной чашей в руках. Когда я был молод, эти картины казались мне
прекрасными, но с каждым последующим визитом в Бэттерсби я проникался все большей
нелюбовью и к ним, и к надписи «Джордж Понтифекс» на них обеих. Наконец
я отважился в осторожной форме слегка покритиковать их, но Теобальд и его
жена встретили критику в штыки. Теобальд не любил своего отца, а его жена —
своего свекра, но его авторитет был непререкаем и не допускались никакие
сомнения как насчет его компетентности во всех житейских вопросах, так и в том,
что касалось его безупречного вкуса по части литературы и искусства, — и
действительно, дневник, который он вел по ходу своего заграничного вояжа,
служит достаточным тому подтверждением. Еще одна короткая цитата, и я
оставлю в покое этот дневник, чтобы возвратиться к своей истории. Во время
пребывания во Флоренции мистер Понтифекс записал: «Я только что видел
великого герцога26 с семьей. Они проехали мимо в двух каретах, запряженных
шестеркой, но это привлекло не больше внимания, чем если бы проехал я,
человек никому здесь совершенно не известный». Не думаю, чтобы он хоть
отчасти верил, что его персона совершенно никому не известна во Флоренции
или вообще где бы то ни было!
Глава 5
Судьба, говорят нам, — слепая и своенравная мачеха, которая оделяет своих
питомцев дарами наугад. Но мы были бы к ней крайне несправедливы, если бы
поверили такому обвинению. Проследите жизненный путь любого человека от
колыбели до могилы и приглядитесь, как судьба поступала с ним. Вы обнаружите
по его смерти, что с фортуны можно почти целиком снять обвинение в каком бы
то ни было своенравии, кроме разве что самого незначительного. Ее слепота —
всего лишь выдумка: она может приглядеть себе любимцев задолго до их
рождения. Мы — это как бы наше сегодня, а родители — наше вчера, но на
безоблачном родительском небе взгляд судьбы способен различить признаки
надвигающейся бури, и она смеется, поскольку в ее власти выбрать себе любимца хоть и
в лондонском закоулке, а того, кого решила погубить, — в королевском дворце.
Редко она готова смилостивиться над теми, кого вскармливала без любви, и редко
полностью отказывает в попечении тем, к кому всегда благоволила.
Был ли Джордж Понтифекс одним из баловней судьбы или нет? В общем-
то, должен признать, что он им не был, ибо не считал себя таковым: он был
слишком набожен, чтобы вообще видеть в судьбе некое божество; он брал то,
что она ниспосылала ему, и никогда ее не благодарил, твердо убежденный в
том, что все получаемые им выгоды добыты им самим. Так оно и было —
после того как судьба наделила его способностью добывать их.
«Nos te, nos facimus, Fortuna, deam!» — воскликнул поэт1. «Мы сами тебя,
Судьба, богиней делаем!» Так и есть, потому что судьба наделила нас такой способ-
20
Путь всякой плоти
ностью. Поэт ничего не говорит относительно того, что творит этих «nos» — нас
самих. Возможно, некоторые люди не зависят от своего происхождения и среды
обитания, они обладают внутренней побудительной силой, не обусловленной
никакими предпосылками. Но это, похоже, трудный вопрос, и его, пожалуй,
лучше обойти стороной. Достаточно признать, что Джордж Понтифекс не
считал себя удачливым, а кто не считает себя удачливым, тот — неудачник.
Правда, он был богат, всеми уважаем и обладал от природы отличным
здоровьем. Если бы он меньше ел и пил, то и знать бы не знал, что такое плохое
самочувствие. Возможно, главным его преимуществом было то, что хотя его
способности несколько превышали средний уровень, но не чрезмерно. Ведь
именно выдающиеся способности послужили причиной несчастья для стольких
умных людей. Преуспевающий человек видит дальше своих ближних ровно
настолько, насколько и они способны увидеть то же самое, когда им это
покажут, но не настолько далеко, чтобы их озадачить. Гораздо безопаснее знать
слишком мало, чем слишком много. Люди могут осуждать мало знающего, но
не потерпят, чтобы их вынуждали прилагать усилия для понимания того, кто
знает слишком много.
Лучший пример здравого смысла мистера Понтифекса в вопросах,
связанных с его областью деятельности, который в данный момент приходит на ум, —
это революция, произведенная им в деле рекламирования книг, издаваемых
фирмой. Когда он только стал ее совладельцем, одно из рекламных
объявлений фирмы звучало следующим образом:
КНИГИ,
ВЫПУСКАЕМЫЕ В ТЕКУЩЕМ СЕЗОНЕ:
«БЛАГОЧЕСТИВЫЙ СЕЛЬСКИЙ ПРИХОЖАНИН»,
ИЛИ
НАСТАВЛЕНИЯ О ТОМ,
КАК ХРИСТИАНИНУ ПРАВИЛЬНО
И С ПОЛЬЗОЙ ПРОЖИТЬ ВСЕ ДНИ СВОЕЙ ЖИЗНИ;
КАК ПРЕПРОВОЖДАТЬ ДЕНЬ ВОСКРЕСНЫЙ;
КАКИЕ КНИГИ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ НАДЛЕЖИТ ЧИТАТЬ
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ;
НАДЕЖНЫЙ МЕТОД ВОСПИТАНИЯ;
КРАТКИЕ МОЛИТВЫ О ВАЖНЕЙШИХ ДОБРОДЕТЕЛЯХ,
УКРАШАЮЩИХ ДУШУ;
РАССУЖДЕНИЕ О ТАЙНОЙ ВЕЧЕРЕ;
ПРАВИЛА, КАК БЛЮСТИ ДУШУ ПРАВЕДНУ В БОЛЕЗНОВАНИИ -
ТО ЕСТЬ В ЭТОМ ТРАКТАТЕ СОДЕРЖАТСЯ ВСЕ ПРАВИЛА,
ПОТРЕБНЫЕ ДЛЯ СПАСЕНИЯ.
8-е дополненное издание
Цена 10 пенсов.
Предусмотрена уступка для тех, кто приобретает книгу для бесплатной раздачи.
Как совладельцу, ему не потребовалось много лет, чтобы реклама
приобрела следующий вид:
Глава 5
21
«БЛАГОЧЕСТИВЫЙ СЕЛЬСКИЙ ПРИХОЖАНИН»
Полный курс христианского богопочитания
Цена 10 пенсов.
Скидка приобретающим книгу для бесплатного распространения.
Какой рывок совершен на пути к современному стандарту, какая
проницательность явлена в понимании неуместности старого стиля, когда другие
этого еще не чувствовали!
В чем же тогда было слабое место Джорджа Понтифекса? Полагаю, в том,
что он поднялся по общественной лестнице слишком быстро. Для того чтобы
человек мог наслаждаться и пользоваться богатством как подобает, видимо,
требуется последовательное воспитание нескольких поколений. Невзгоды, если
они обрушиваются постепенно, большинством людей переносятся более
хладнокровно, чем какой-либо блистательный успех, достигнутый в течение одной
жизни. Однако определенного рода удача обычно до последней минуты
сопутствует тем, кто сам выбился в люди. А вот их детям и внукам угрожает уже
большая опасность, поскольку семейному клану реже удается проделывать свои
самые удачные трюки, приносящие внезапный и стабильный успех, нежели это
выходит у отдельного представителя рода, и чем выше взлет в каком-либо
одном поколении, тем ниже, как правило, спад в следующем, и продолжается
он до тех пор, пока не пройдет достаточно времени для восстановления сил у
данного семейства. Вот почему часто случается, что внук преуспевающего человека
оказывается более удачливым, нежели сын: дух, питавший энергией деда,
дремлет в сыне, чтобы, накопив в покое новую энергию, вновь пробудиться к
активности во внуке. Кроме того, человек, добившийся больших успехов, представляет
собой определенного рода гибрид: он — особь с новыми качествами,
возникшими в результате небывалого сочетания множества разнородных элементов, а
хорошо известно, что воспроизведение исключительных особей, будь то
животные или растения, выходит за пределы нормы, и рассчитывать на это не
приходится, даже если особи не лишены способности к деторождению.
Безусловно, успех пришел к мистеру Понтифексу чрезвычайно быстро.
Всего через несколько лет после того, как он стал совладельцем фирмы, его
дядя и тетя умерли вслед друг за другом с промежутком в несколько месяцев.
Тогда и выяснилось, что они назначили его своим наследником. Он оказался
не только единственным владельцем фирмы, но в придачу еще и обладателем
состояния в тридцать тысяч фунтов, что по тем временам было суммой немалой.
Деньги на мистера Понтифекса сыпались в изобилии, и, чем больше их у него
появлялось, тем большей любовью к ним он проникался, хотя, по его
собственным словам, ценил он их лишь как средство обеспечить своих дорогих детей.
Но если человек очень любит свои деньги, ему всегда нелегко так же
сильно любить и своих детей. С детьми и деньгами — это как с Богом и маммоной2.
У лорда Маколея3 есть пассаж4, где он противопоставляет удовольствие,
которое человек может получить от книг, неприятностям, какие ему могут
доставить знакомые. «Платон5, — говорит он, — никогда не бывает угрюм. Сервантес6
22
Путь всякой плоти
никогда не бывает нагл. Демосфен7 никогда не приходит некстати. Данте8
никогда не задерживается слишком долго. Никакое различие политических
взглядов не может оттолкнуть от Цицерона9. Никакая ересь не внушит ужаса Бос-
сюэ10». Осмелюсь заметить, что я, возможно, и расхожусь с лордом Маколеем
в оценке некоторых названных им авторов, но истинность самого суждения
неоспорима, а именно: любой из них может доставить нам не больше
беспокойства, чем мы сами пожелаем, тогда как отделаться от друзей не всегда
бывает так же легко. Джордж Понтифекс чувствовал то же в отношении своих
детей и своих денег. Деньги всегда были послушны; деньги никогда не учиняли
шума или беспорядка, не проливали ничего на скатерть во время еды и не
оставляли после себя дверь открытой. Дивиденды не ссорились между собой, и у него
не возникало беспокойства, как бы закладные по достижении совершеннолетия
не превратились в сумасбродов и не наделали долгов, которые ему рано или
поздно придется платить. У Джона имелись склонности, внушавшие отцу
большое беспокойство, а Теобальд, младший сын, был ленив и временами любил
приврать. Знай дети, какие мысли возникают у их отца, они могли бы,
вероятно, ответить, что он не колотил деньги в отличие от детей, по отношению к
которым нередко поступал подобным образом. С деньгами он никогда не бывал
вспыльчивым или раздражительным, и, возможно, именно поэтому Джордж
Понтифекс и его деньги так хорошо ладили между собой.
Нужно напомнить, что в начале XIX века отношения между родителями и
детьми были еще далеки от приемлемых. Тип жестокого отца, описанный Фил-
дингом, Ричардсоном, Смоллеттом и Шериданом11, сегодня едва ли имеет
больше шансов найти себе место в литературе, чем первоначальная версия
рекламного объявления о «Благочестивом сельском прихожанине» фирмы «Фэйрли и
Понтифекс», однако сам тип оказался слишком живуч, чтобы его нельзя было
с достаточным сходством срисовать с натуры и позднее. Родители в романах
мисс Остин менее похожи на свирепых диких зверей, чем персонажи ее
предшественников12, но все равно она явно смотрит на них с подозрением13, и
тревожное чувство, что le père de famille est capable de tout*, довольно ощутимо в
большей части ее произведений. В елизаветинскую эпоху14 отношения между
родителями и детьми в целом, по-видимому, были мягче15. У Шекспира отцы и
сыновья по большей части оказываются друзьями16, да и зло, похоже, еще не
достигло крайней степени омерзительности, пока длительное воздействие
пуританства не приучило людские умы к еврейским идеалам17 в качестве тех, какие нам
нужно стремиться воплощать в повседневной жизни. Разве Авраам, Иеффай и
Ионадав, сын Рехава18, не подали в этом примера? Как легко было ссылаться
на них и следовать им в тот век, когда лишь немногие разумные мужчины и
женщины сомневались, что каждое слово Ветхого Завета verbatim** является
записью услышанного из уст Божьих. Кроме того, пуританство ограничило
естественные удовольствия: оно заменило пеан19 иеремиадой20 и к тому же позабыло, что
злоупотребления во все времена нуждаются в авторитетном покровительстве21.
* отец семейства способен на все (фр.).
** буквально (лат.).
Глава 6
23
Мистер Понтифекс, возможно, был чуть строже со своими детьми, чем
некоторые его ближние, но ненамного. Он порол своих отпрысков два-три раза
в неделю, а бывало и чаще, но в те времена все отцы пороли сыновей. Легко
иметь правильные взгляды, когда их имеют все, но, к счастью или к несчастью,
результаты абсолютно не зависят от моральной виновности или безупречности
того, кто их вызвал, а лишь от самого поступка, каким бы он ни был. И
напротив, моральная виновность или безупречность не имеют никакого отношения
к полученным результатам. Все сводится к вопросу, поступило бы достаточное
количество разумных людей так, как определенное действующее лицо, окажись
они в той же ситуации, в какой оказалось это действующее лицо. В то время
считалось общепризнанным, что пожалеешь розгу — испортишь ребенка22, да
и апостол Павел причислял неповиновение родителям к числу наихудших
грехов23. Если дети мистера Понтифекса делали что-либо неугодное ему, они,
понятно, проявляли неповиновение своему отцу. В таких случаях у
здравомыслящего человека был, очевидно, только один способ воздействия. Он состоял в
пресечении первых же проявлений своеволия, когда дети еще слишком малы,
чтобы оказать серьезное сопротивление. Если их воля была «своевременно
подавлена», как выражались в то время, они приобретали привычку к
повиновению, из которого не смели выходить, пока не достигнут двадцати одного года.
Потом они могли поступать как им заблагорассудится: мистер Понтифекс знал,
как себя защитить, — до тех пор, пока он и его деньги не окажутся в большей
их власти, чем он бы того желал.
Как же мало мы знаем о наших собственных мыслях — имеем худо-бедно
представление о бессознательных реакциях, но никак не о размышлениях,
протекающих в нашем сознании. А ведь человек так гордится своим сознанием!
Мы похваляемся тем, что отличаемся от ветра, волн, падающих камней и от
растений, которые знать не знают, зачем и почему они растут, а также от
кочующих с места на место в поиске добычи неразумных тварей, как нам
угодно называть их. Мы-то сами хорошо знаем, что и почему делаем, не так ли?
Я думаю, есть определенная доля истины в мнении, высказанном в настоящее
время, что как раз наши мало осознаваемые мысли и мало осознаваемые
поступки оказывают решающее воздействие на нашу жизнь24 и жизнь тех, кого
мы производим на свет.
Глава б
Мистер Понтифекс был не из тех, кто слишком тревожится из-за мотивов своих
поступков. Люди в ту пору не так часто предавались самоанализу, как мы
теперь; они руководствовались по большей части эмпирическими
соображениями. Доктор Арнольд1 еще не приступил к взращиванию серьезных мыслителей,
урожай которых мы нынче пожинаем, и люди не понимали, почему бы им не
поступать по-своему, если это не предвещает никаких дурных последствий.
Однако тогда, как и теперь, они порой наталкивались на более дурные
последствия, чем ожидали.
24
Путь всякой плоти
Подобно другим богатым людям начала нынешнего века мистер Понтифекс
ел и пил намного больше, чем нужно для поддержания здоровья. Даже его
крепкий организм не в состоянии был выдержать столь длительного переедания и
того, что мы теперь сочли бы неумеренностью в выпивке. Его печень зачастую
пошаливала, и он спускался к завтраку с желтизной под глазами. Тогда
молодежь знала, что следует держаться настороже. Совсем необязательно у детей на
зубах будет оскомина оттого, что отцы ели кислый виноград2. Состоятельные
родители редко едят кислый виноград; опасность для детей представляют
родители, которые едят слишком много сладкого винограда.
Допускаю, на первый взгляд кажется весьма несправедливым, что родители
предаются удовольствиям, а наказание за это несут дети, но молодые люди
должны помнить, что много лет они были неотъемлемой частью своих родителей и,
следовательно, в лице своих родителей получили добрую долю удовольствий3.
Позабыв теперь об этих удовольствиях, они напоминают людей, которые,
перебрав накануне, назавтра встают с головной болью. Человек, мучающийся утром
от головной боли, не отрицает своего тождества с тем, кто напился вечером, и не
требует, чтобы наказание понесло его вчерашнее «Я», а не сегодняшнее. Так и
юному отпрыску не стоит жаловаться на головную боль, которую он заработал,
будучи частью родителей, ибо и в этом случае прослеживается преемственность
личности, пусть и не столь явственно, как в приведенном примере. Что
по-настоящему тяжело, так это когда родители предаются удовольствиям уже после того,
как дети родились, а наказанными за это все равно оказываются дети.
В черные дни у мистера Понтифекса появлялся мрачный взгляд на вещи, и
он говорил себе, что, несмотря на всю его доброту к детям, они его не любят. Но
кто же в состоянии полюбить человека, у которого бунтует печень? «Какая
низкая неблагодарность!» — восклицал он про себя. Как же особенно тяжко
приходилось ему, образцовому сыну, всегда почитавшему своих родителей и
повиновавшемуся им, хотя они не истратили на него и сотой доли тех денег, которыми
он осыпал своих детей. «Вечно одна и та же история, — говорил он себе, — чем
больше молодежь имеет, тем больше ей хочется и тем меньше благодарности
получаешь. Я совершил большую ошибку: был слишком снисходителен к детям.
Ну что ж, я исполнил свой долг в отношении их, и даже с избытком. Если они
пренебрегают своим долгом в отношении меня, Бог им судья. Я, во всяком
случае, не виноват. Ведь я мог бы жениться снова и стать отцом других и,
возможно, более любящих детей», — и т. д., и т. п. Он жалел себя за большие расходы
на образование своих детей, не понимая того, что это образование обошлось
детям гораздо дороже, чем стоило ему, поскольку скорее лишило их
способности легко зарабатывать себе на жизнь, чем помогло в этом, и вынудило годами
оставаться во власти отца даже по достижении возраста, когда они должны были
стать независимыми. Образование, полученное в дорогой частной школе,
отрезает мальчику всякий путь к отступлению: он уже не может стать рабочим или
ремесленником, а это единственные люди, чья независимость не бывает
сомнительной, — если не считать, конечно, тех, кто родился наследником крупного
состояния или с юности оказался в какой-либо безопасной и глубокой колее.
Ничего этого мистер Понтифекс не понимал. Он понимал лишь, что тратит на
Глава 6
25
детей намного больше, чем обязан по закону, а чего же еще можно требовать?
Разве не мог бы он отдать обоих своих сыновей в ученики зеленщику? Разве не
может он сделать это завтра же утром, стоит ему только захотеть? Возможность
такого поворота событий была его излюбленной темой, когда он бывал не в духе.
Правда, он так и не отдал ни одного из своих сыновей в ученики зеленщику, но
мальчики, обсуждая свое положение, порой приходили к выводу, что лучше бы
он так и сделал.
А иногда, будучи не в лучшем расположении духа, он вызывал сыновей к
себе ради забавы потрясти перед ними завещанием. В своем воображении он
лишал их одного за другим всяких прав на наследство и завещал деньги на
учреждение приютов, пока в конце концов не оказывался вынужден вернуть
детям права, чтобы иметь удовольствие вновь лишить их наследства в следующий
раз, когда будет в гневе.
Конечно, если молодые люди ставят свое поведение хоть в какую-то
зависимость от завещания еще здравствующих людей, они поступают очень дурно
и должны ожидать, что в конце концов окажутся в проигрыше; тем не менее
право соблазнять завещанием и потрясать завещанием столь чревато
злоупотреблениями и постоянно служит столь мощным орудием пытки, что я, будь моя
воля, ввел бы закон, лишающий любого человека права на составление
завещания на три месяца с момента совершения какого-либо из двух
вышеупомянутых проступков и позволяющий судейской коллегии или судье, перед
которыми он был уличен в содеянном, распорядиться его имуществом так, как они
сочтут правильным и разумным, в случае его смерти в тот период времени, на
который он был лишен права составлять завещание.
Мистер Понтифекс обычно вызывал сыновей в столовую. «Дорогой Джон,
дорогой Теобальд, — говорил он, — посмотрите на меня. Я начал жизнь, не имея
ничего, кроме одежды, в которой родители отправили меня в Лондон. Отец дал
мне десять, а мать пять шиллингов карманных денег, и я счел их очень
щедрыми. Никогда за всю мою жизнь я не попросил у отца ни шиллинга, да и не брал
у него ничего, кроме небольшой суммы, которую он выдавал мне ежемесячно,
пока я не начал получать жалованье. Я сам пробил себе дорогу в жизни и хочу
надеяться, что мои сыновья поступят так же. Не воображайте, пожалуйста, будто
я собираюсь потратить всю жизнь на то, чтобы не жалея сил зарабатывать деньги,
которыми мои сыновья смогут пользоваться, когда меня не будет. Коли вам
нужны деньги, вы должны заработать их сами, подобно мне, ибо, даю вам слово, я
не оставлю ни одному из вас ни гроша, если вы не докажете мне, что
заслуживаете этого. Нынешняя молодежь, похоже, ждет всевозможной роскоши и
излишеств, о которых и не слыхивали, когда я был ребенком. Да ведь мой отец был
простым плотником, а вы вот оба учитесь в лучших школах, стоящих мне
многих сотен фунтов в год, в то время как я в вашем возрасте корпел за письменным
столом в конторе моего дяди Фэйрли. Чего бы я добился, имей я хоть половину
тех преимуществ, какие есть у вас! Даже стань вы герцогами или основателями
новых империй в неведомых странах, то и тогда ваши достижения едва ли можно
было бы сопоставить с моими. Нет, нет, я позабочусь о том, чтобы вы
закончили школу и колледж, а там уж, будьте любезны, сами пробивайтесь в жизни».
26
Путь всякой плоти
Этаким манером он доводил себя до такого состояния благородного
негодования, что, бывало, порол своих мальчиков тут же на месте, изобретя
подходящий ц,ля данного случая предлог.
И все же по сравнению с другими детьми юным Понтифексам повезло; на
десяток семей, где молодым людям жилось хуже, чем им, приходилась лишь
одна семья, где дети были в лучшем положении. Сыновья Джорджа Понтифек-
са ели хорошую здоровую пищу, спали в удобных постелях, в их распоряжении
были самые лучшие доктора, когда они болели, и самое лучшее образование,
какое только можно было получить за деньги. Недостаток свежего воздуха,
похоже, не слишком мешает счастью юных жителей какого-нибудь
лондонского переулка: большинство из них распевает песни и играет, как будто они в
вересковых полях Шотландии. Так же и отсутствие веселости обычно не
замечается детьми, которые никогда ее не знали. Молодые люди обладают
изумительной способностью либо погибнуть, либо приспособиться к обстоятельствам.
Даже если они несчастны — очень несчастны, — удивительно, как легко
можно помешать им обнаружить это или, во всяком случае, увидеть причину
этого в чем-то ином, кроме собственной греховности.
Родителям, которые хотят спокойной жизни, я бы посоветовал: убеждайте
своих детей в том, что они очень испорченны, намного испорченнее большинства
других детей. Укажите на детей каких-нибудь знакомых как на пример
совершенства и внушите своим детям глубокое чувство собственной неполноценности. Вы
можете пустить в ход такую тяжелую артиллерию, что они не смогут с вами
сражаться. Это называется моральным воздействием, и оно позволит вам помыкать
ими сколько угодно. Дети думают, что вы все знаете: ведь они еще не ловили вас
на лжи достаточно часто, чтобы заподозрить, что вы не тот безупречно
правдивый человек, за какого себя выдаете. Не знают ваши отпрыски, наверное, еще и
того, какой вы отъявленный трус и как быстро пойдете на попятный, если они
станут бороться с вами с упорством и расчетом. Игральные кости в руках у вас,
и вы бросаете их и за себя, и за своих детей. Так налейте же кости свинцом, ибо
вы легко сумеете помешать детям проверить их. Внушайте им, какой вы
исключительно снисходительный человек; подчеркните, какими бесчисленными
милостями осыпали их, прежде всего вообще произведя на свет, а сверх того, породив
именно вашими детьми. Всякий раз, когда бываете не в духе и желаете дать волю
раздражению, чтобы пролить бальзам себе на душу, говорите, что только об их
высших интересах и печетесь. Почаще твердите об их высших интересах.
Пичкайте их духовной серой и патокой4 на манер воскресных проповедей
покойного епископа Винчестерского5. У вас на руках все козыри, а если нет, то вы можете
их стянуть. В случае правильного ведения игры вы окажетесь главой счастливой,
дружной, богобоязненной семьи, как мой старый друг мистер Понтифекс.
Правда, ваши дети в один прекрасный день, вероятно, все поймут, но будет уже
слишком поздно, чтобы это принесло большую пользу им или неудобство вам.
Некоторые сатирики ворчат на жизнь из-за того, что все удовольствия
приходятся на ее начальную пору, и мы вынуждены наблюдать, как они убывают,
пока нам не остаются одни лишь напасти дряхлой старости. Мне же кажется,
юность подобна весне, достохвальной поре года, восхитительной, если ей слу-
Глава 7
27
чается быть благодатной, но в реальности очень редко бывающей благодатной
и, как правило, отмеченной скорее резкими восточными ветрами, чем
приветливыми бризами. Осень — более мягкий сезон, и пусть мы лишаемся цветов,
зато в избытке получаем плоды. Когда девяностолетнего Фонтенеля6 спросили,
какое время было самым счастливым в его жизни, он сказал, что не думает,
чтобы был когда-либо намного счастливее, чем в нынешнем возрасте, но что,
пожалуй, лучшей его порой были годы между пятьюдесятью пятью и
семьюдесятью пятью, а доктор Джонсон7 ценил удовольствия старости гораздо выше,
чем наслаждения молодости. Правда, в старости мы живем под сенью смерти,
которая подобно дамоклову мечу8 может обрушиться на нас в любой момент,
но мы так давно привыкли к тому, что жизнь чаще пугает, чем бьет, что
уподобились людям, которые живут у подножия Везувия, подвергая себя риску, но
не испытывая при этом особых опасений.
Глава 7
О большинстве детей, упомянутых в предыдущей главе, достаточно сказать
несколько слов. Элиза и Мария, две старшие девочки, будучи во всех отношениях
образцовыми юными леди, не являлись, строго говоря, ни красавицами, ни
дурнушками. Алетея же была необычайно красива. Она обладала жизнерадостным
нравом и нежной душой, что резко контрастировало с характерами ее
братьев и сестер. От своего деда она унаследовала не только некоторые черты лица,
но и любовь к шуткам, совершенно не свойственную ее отцу, хотя его
шумливое и довольно грубоватое подобие юмора многие принимали за остроумие.
Джон вырос в представительного, благовоспитанного юношу, с точеными и
чересчур правильными чертами лица. Он одевался столь изысканно, обладал
такими хорошими манерами и так упорно корпел над своими книгами, что
сделался любимцем учителей; впрочем, обходительность была у него в крови.
Среди одноклассников он пользовался меньшей любовью. Отец, несмотря на
нравоучения, которые время от времени читал ему, в известной мере стал
гордиться сыном, когда тот повзрослел. Кроме того, он видел в нем задатки
толкового дельца, в чьих руках его фирма в перспективе не должна была, похоже,
прийти в упадок. Джон умел приноровиться к отцу и в сравнительно раннем
возрасте завоевал его доверие в такой степени, в какой тот по своей природе
вообще был в состоянии кого-либо оным удостоить.
Теобальд не мог сравниться с братом и, зная это, смирился со своей участью.
Он не отличался такой же представительной внешностью, как Джон, и не имел
таких хороших манер. Ребенком он был необуздан, но позднее сделался замкнут,
робок и, должен признать, ленив душой и телом. Он был менее опрятен, чем
Джон, менее способен постоять за себя и не так хорошо научился потакать
прихотям отца. Не думаю, чтобы Теобальд мог бы полюбить кого-нибудь всем
сердцем, да и не было в их семейном кругу никого, кто побудил бы его не подавлять
привязанность, а проявить ее — за исключением, пожалуй, его сестры Алетеи,
однако она была слишком бойкой и живой для его несколько угрюмого нрава.
28
Путь всякой плоти
Он всегда оказывался в роли козла отпущения, и у меня порой возникало
впечатление, что ему приходится противостоять двум отцам — собственно отцу и
брату Джону; иногда к ним присоединялись еще третий и четвертый в лице сестер
Элизы и Марии. Возможно, если бы он остро чувствовал свою кабалу, то не стал
бы мириться с ней, но он был от природы робок, а суровая рука отца накрепко
повязала его узами внешнего согласия с братом и сестрами.
Сыновья были полезны отцу в одном отношении, а именно: он натравливал
их друг на друга. Он содержал их, но скудно наделял карманными деньгами,
внушая Теобальду, что нужды старшего брата естественно стоят на первом
месте, а Джону наставительно толкуя о многочисленности семейства и с
важным видом заявляя, что расходы на содержание семьи так велики, что после
его смерти делить уже мало что придется. Его не заботило, сличают ли сыновья
полученные сведения, лишь бы они не делали этого в его присутствии. Теобальд
никогда не жаловался на отца у него за спиной. Я знал его так хорошо, как
только вообще кто-либо мог его узнать, — сначала ребенком, потом
школьником и студентом Кембриджа, — но он очень редко упоминал имя отца, даже
когда тот был еще жив, и ни разу в моем присутствии после смерти мистера
Понтифекса. В школе он не вызывал столь сильной неприязни, как его брат,
но был слишком уныл и апатичен, чтобы внушать дружеские чувства.
Прежде чем Теобальд успел вырасти из своих детских одежек, было решено,
что он должен стать священником. Мистеру Понтифексу, известному издателю
религиозной литературы, приличествовало, чтобы хоть один из его сыновей
посвятил жизнь Церкви: это могло оказаться выгодно фирме или, во всяком случае,
сохранить прочность ее положения. Кроме того, мистер Понтифекс пользовался
определенным авторитетом у епископов и церковных сановников и мог
надеяться, что благодаря его влиянию сыну будет оказано некоторое предпочтение.
Мальчик с раннего детства знал о своих жизненных перспективах, и с его
молчаливого согласия они воспринимались как нечто уже фактически решенное. Однако ему
предоставлялась некоторая видимость свободы. Мистер Понтифекс говаривал, что,
конечно, будет правильно дать мальчику право выбора; почтенный родитель
обладал слишком обостренным чувством справедливости, чтобы утаить от сына
выгоды, какие тот мог бы получить в этом случае. Ужасно, восклицал он, когда
какого-либо юношу принуждают заняться нелюбимым делом. Никогда в жизни сам
он не станет оказывать давление на сына в выборе какой бы то ни было стези, тем
более когда речь идет о таком высоком призвании, как духовное пастырство. Он
разглагольствовал подобным образом, когда в доме бывали гости и сын
находился в комнате. Он рассуждал с таким здравомыслием и благонамеренностью, что
слушатели видели в нем образец разумности. К тому же речь его была столь
выразительна, а румяное лицо и лысая голова производили впечатление такого
благодушия, что было трудно не поддаться воздействию его слов. Полагаю, два-три
отца соседних семейств и впрямь предоставили своим сыновьям полную свободу
в выборе профессии, и не уверен, что впоследствии у них не было серьезных
оснований об этом пожалеть. Глядя на Теобальда, робеющего и совершенно
равнодушного к проявлениям столь большого внимания к его желаниям, гости
отмечали про себя, что мальчик, по-видимому, едва ли сравнится со своим отцом, и счи-
Глава 7
29
тали его юношей вялым, которому следовало бы быть поэнергичнее и лучше
осознать предоставленные ему преимущества.
Никто не верил в правильность происходящего более, чем сам мальчик.
Ощущение скованности заставляло его помалкивать, но оно было слишком глубоким
и неотступным, чтобы он мог со всей ясностью его осознать и разобраться в
самом себе. Он боялся сердитого выражения, появлявшегося на лице отца в ответ
на малейшее возражение. Более решительный мальчик не стал бы воспринимать
яростные угрозы или грубые насмешки отца au sérieux*, но Теобальд не был
решительным мальчиком и, правильно или ошибочно, верил, что отец вполне
готов привести свои угрозы в исполнение. Возражение никогда еще не приносило
ему желаемых результатов, как, по правде говоря, и уступчивость, если только
ему не случалось хотеть точно того же, чего хотел для него отец. Если когда-то
он и тешил себя мыслями о сопротивлении, то теперь от них не осталось следа,
а способность противостоять отцу оказалась так безвозвратно утрачена от того,
что ей не находилось применения, что у него почти не осталось и такого
желания, — не осталось ничего, кроме унылого смирения, похожего на смирение осла,
согнувшегося под тяжестью двух нош1. Возможно, у него и были некие смутные
идеалы, далекие от окружавшей его действительности. По временам он видел
себя в мечтах солдатом, или моряком, уехавшим в дальние страны, или даже
работником где-нибудь на ферме, на деревенском просторе, но в нем не было
достаточной силы духа, чтобы хотя бы попытаться претворить мечты в реальность,
и он привычно плыл по медленному и, боюсь, мутному течению.
Думаю, церковный катехизис2 послужил немаловажной причиной того, что
и поныне родители и дети, как правило, плохо ладят между собой. Это
произведение написано исключительно с родительской точки зрения. Тот, кто
сочинил его, не удосужился обратиться хотя бы к нескольким детям за помощью.
Сам он, разумеется, не был молод, и я не назвал бы это произведением
человека, который хотя бы любил детей, — несмотря на то, что слова «мое милое
дитя», если я правильно помню, однажды вложены в уста законоучителя;
звучат они, правда, как-то неприветливо. Общее впечатление, которое это
сочинение оставляет в юных душах, состоит в том, что их прирожденная греховность
далеко не полностью смыта при крещении и что в самой их молодости
наличествуют более или менее явные признаки греховной природы.
На случай, если когда-либо потребуется новое издание этого произведения, я
хотел бы сказать несколько слов в пользу обязанности стремиться ко всякому
разумному удовольствию и избегать всякого страдания, которого можно
достойным образом избежать. Я бы хотел, чтобы детей учили не говорить, что им
нравятся вещи, которые им совсем не нравятся, — говорить, просто повторяя слова
каких-то других людей, утверждающих, что эти вещи им нравятся, и еще учили
бы, как глупо говорить, что они верят в то-то и то-то, когда на самом деле
ничего в этом не понимают. Коль скоро мне стали бы возражать, что эти дополнения
чересчур удлинили бы катехизис, я бы сократил ту его часть, где говорится о
нашем долге перед ближним и о таинствах. Вместо абзаца, начинающегося сло-
* всерьез (фр.).
30
Путь всякой плоти
вами «Отче Наш, иже еси на небеси...», я бы... Но, пожалуй, мне лучше вернуться
к Теобальду и оставить исправление катехизиса кому-нибудь поспособнее.
Глава 8
Мистер Понтифекс очень хотел, чтобы его сын, прежде чем сделаться
священником, стал стипендиатом колледжа. Это обеспечило бы его средствами к
существованию и гарантировало получение прихода, если бы ни один из отцовских
друзей среди духовенства не предоставил ему такового. Мальчик достаточно
хорошо закончил школу, чтобы осуществить эту возможность, а потому был
отправлен в один из малых кембриджских колледжей1 и тотчас начал заниматься с
лучшими частными учителями, каких только можно было найти. Экзаменационная
система, введенная примерно за год до того, как Теобальд получил диплом,
увеличила его шансы получить место стипендиата, поскольку он обладал скорее
гуманитарными, чем математическими наклонностями, а эта система в большей
степени поощряла занятия гуманитарными дисциплинами, чем прежняя.
У Теобальда хватило здравого смысла понять, что у него есть шанс получить
независимость, если он будет усердно работать, и к тому же ему нравилась
мысль стать стипендиатом. Поэтому он приложил старания и в конце концов
оказался обладателем диплома, делавшего получение стипендии, по всей
вероятности, просто вопросом времени. Некоторое время мистер Понтифекс-стар-
ший был по-настоящему доволен и сказал сыну, что намерен подарить ему
сочинения любого классического автора по его выбору. Молодой человек
выбрал Бэкона2, и Бэкон у него действительно появился в десяти изящно
переплетенных томах. Однако при ближайшем рассмотрении обнаружилось, что
экземпляры были подержанными.
Теперь, когда он получил диплом, следующее, что его ожидало, было
посвящение в духовный сан, о котором до настоящего времени Теобальд
задумывался редко, смирясь с ним как с чем-то неизбежно предстоящим в отдаленном
будущем. Теперь же посвящение стало уже близкой реальностью и властно
заявляло о себе как о событии, готовом наступить всего через несколько месяцев,
и событие это в известной мере страшило его, поскольку, однажды ступив на сей
путь, он уже не смог бы с него сойти. Посвящение в духовный сан так же не
нравилось ему в ближайшей перспективе, как не нравилось в отдаленной, и он
даже предпринял несколько слабых попыток его избегнуть, как можно видеть
из нижеследующих писем, которые его сын Эрнест нашел среди бумаг отца.
Написанные на бумаге с золотым обрезом поблекшими от времени чернилами,
письма были аккуратно перевязаны тесемкой, но никакой пояснительной записки
к ним не прилагалось. Я не изменил в них ни слова. Вот эти письма:3
Дорогой отец!
Мне неприятно поднимать вопрос, который считался решенным, но по мере
приближения назначенного срока я начинаю сильно сомневаться, что сколько-
нибудь гожусь быть священником. Нет, мне отрадно признаться, что у меня нет
Глава 8
31
ни малейших сомнений относительно Англиканской церкви, и я мог бы с чистым
сердцем подписаться под каждым из тридцати девяти догматов4, которые
действительно кажутся мне пес plus ultra* человеческой мудрости, да и Пейли5 не
оставляет ни единой лазейки оппоненту; но я уверен, что поступил бы вопреки Вашей
воле, если бы скрыл от Вас, что не чувствую такого внутреннего призвания
проповедовать Евангелие, чтобы сказать епископу, что ощущаю таковое, когда он
будет посвящать меня в сан. Я пытаюсь обрести это чувство, я горячо молюсь о
нем, и иногда мне даже кажется, что я обрел его, но вскоре оно исчезает, и хотя
я не питаю абсолютного отвращения к роли священника и верю, что, стань я им,
приложу все старания, чтобы жить во славу Господа и утверждать дело Его на
земле, но все же чувствую, что для полноценного служения Церкви требуется
нечто большее. Знаю, что Вы понесли большие расходы, несмотря на мою
стипендию, но Вы всегда учили меня, что я должен поступать по совести, а моя совесть
говорит мне, что я поступлю дурно, ежели стану священником. Бог еще может
даровать мне ту духовную силу, о которой, уверяю Вас, я молился и продолжаю
постоянно молиться, но Он может и не сделать этого, а в таком случае не лучше
ли будет мне попробовать подыскать что-нибудь другое? Я знаю, что ни Вы, ни
Джон не хотите, чтобы я вошел в Ваше дело, да я и не понимаю ничего в
денежных делах, но разве нет ничего иного, чем я мог бы заняться? Мне не хочется
обращаться к Вам с просьбой содержать меня, покуда я буду учиться медицине
или юриспруденции, но как только я получу стипендию, что не должно заставить
себя долго ждать, то приложу все усилия, чтобы не вводить Вас в расходы в
дальнейшем, и к тому же я мог бы зарабатывать немного денег литературным трудом
или уроками. Уповаю, что это письмо не покажется Вам недостаточно
почтительным; менее всего на свете я хочу причинить Вам какое-либо беспокойство.
Надеюсь, Вы примете во внимание мои нынешние чувства, источником коих
поистине является именно уважение к собственной совести, каковое не кто иной, как Вы,
внушали мне так часто. Умоляю, напишите поскорее хотя бы несколько строчек.
Надеюсь, Ваша простуда прошла. С любовью к Элизе и Марии
Ваш любящий сын
Теобальд Понтифекс
Дорогой Теобальд!
Я могу понять твои чувства и вовсе не желаю придираться к той форме, в
какой ты их выражаешь. Совершенно справедливо и естественно, что ты
чувствуешь то, о чем пишешь, за исключением одной фразы, неуместность которой,
обдумав ее, ты, несомненно, сам поймешь и о которой я не буду больше
упоминать, сказав лишь, что она ранила меня. Ты не должен был говорить
«несмотря на мою стипендию». Если у тебя имелась возможность как-то помочь мне
нести тяжкое бремя твоего образования, то было только справедливо передать
деньги в мое распоряжение, как это и произошло. Каждая строчка в твоем
письме убеждает меня, что ты находишься под влиянием болезненной
чувствительности, которая является одним из излюбленных приемов, какими дьявол соблаз-
* Букв.: как нельзя больше (лат.); здесь: вершиной.
32
Путь всякой плоти
няет людей и ведет к погибели. Я понес, как ты выражаешься, большие
расходы в связи с твоим образованием. Я ничего не жалел, чтобы дать тебе
преимущества, которые я как английский джентльмен стремился предоставить моему
сыну, но я не готов допустить, чтобы расходы оказались напрасными, а я был
вынужден начать все сначала лишь потому, что ты забрал себе в голову какие-
то дурацкие сомнения, которым должен сопротивляться как несправедливым по
отношению к тебе не менее, чем ко мне. Не поддавайся беспокойной жажде
перемен, пагубной для столь многих особ обоего пола в наше время.
Конечно, ты не обязан становиться священником: никто не станет
принуждать тебя; ты совершенно свободен; тебе двадцать три года, и ты должен знать,
чего хочешь. Но почему было не понять этого раньше? Ведь ты ни разу не
высказал ни малейшего намека на несогласие, пока я не оплатил твою учебу в
университете, чего бы никогда не сделал, если бы не полагал, что ты принял
решение стать священнослужителем. У меня есть от тебя письма, в которых ты
выражаешь полнейшую готовность к посвящению в духовный сан, а твои брат
и сестры подтвердят, что на тебя не оказывалось никакого давления. Ты
заблуждаешься в самом себе и страдаешь от болезненной робости, которая,
может быть, вполне естественна, но от этого не менее чревата для тебя
серьезными последствиями. Я и так нездоров, а меня еще мучает беспокойство,
причиненное твоим письмом. Да поможет тебе Бог найти правильное решение.
Твой любящий отец
Дж. Понтифекс
Получив это письмо, Теобальд воспрял духом. «Отец говорит, — сказал он
себе, — что я не обязан становиться священником, если не хочу. Я не хочу, а
значит, не буду священником». Но что означают его слова «чревата для тебя
серьезными последствиями»? Сокрыта ли в этих словах угроза — хотя невозможно
понять, в чем угроза и в чем смысл этих слов? Не предназначены ли они
произвести полное впечатление угрозы, не будучи на самом деле угрожающими?
Теобальд знал своего отца слишком хорошо, чтобы не очень-то ошибаться
в значении его слов, но, рискнув зайти так далеко по пути сопротивления и
действительно стремясь избежать, если сможет, посвящения в духовный сан,
решился рисковать и дальше. А потому он написал следующее:
Мой дорогой отец!
Вы пишете — и я сердечно благодарен Вам за это, — что никто не намерен
принуждать меня к посвящению в духовный сан. Я знал, что Вы не станете
навязывать мне посвящение, коль скоро моя совесть серьезно противится
этому, а потому я решил отказаться от данной мысли и полагаю, что, ежели Вы
продолжите выдавать мне, пока я не получу мою стипендию, которая не
заставит себя долго ждать, ту же сумму, какую даете в настоящее время, то я
перестану вводить вас в дальнейшие расходы. В самом скором времени я приму
решение относительно своей будущей профессии и сразу же сообщу Вам.
Ваш любящий сын
Теобальд Понтифекс
Глава 9
33
А теперь нужно привести последнее письмо, отправленное с обратной
почтой. Оно отличается краткостью:
Дорогой Теобальд!
Получил твое письмо. Мне затруднительно понять его мотивы, но я вполне
ясно представляю себе его последствия. Ты не получишь от меня ни гроша, пока
не образумишься. Если же вдруг ты собираешься упорствовать в своей глупости
и злонравии, то счастлив напомнить тебе, что у меня есть и другие дети, чье
поведение, могу надеяться, станет для меня источником гордости и счастья.
Твой любящий, но огорченный отец
Дж. Понтифекс
Не знаю, что последовало непосредственно за вышеприведенной
перепиской, но в итоге все завершилось вполне благополучно. То ли Теобальд
испугался, то ли истолковал внешний толчок, полученный от отца, как тот самый
внутренний зов, о котором, без сомнения, очень горячо молился, — ведь он
непоколебимо верил в действенность молитвы. И я тоже верю — при
определенных условиях. Теннисон сказал, что молитвой сотворено больше дел, чем этому
миру может присниться6, но благоразумно воздержался от уточнения, хороши
эти дела или плохи. Возможно, было бы неплохо, если бы мир увидел во сне
или даже испытал наяву некоторые вещи, сотворяемые молитвой. Но это явно
трудный вопрос. В конце концов вскоре после получения диплома Теобальд
каким-то чудом стал-таки стипендиатом и был посвящен в духовный сан осенью
того же, 1825 года.
Глава 9
Мистер Элэби был приходским священником в Крэмпсфорде, деревушке в
нескольких милях от Кембриджа. К тому же он в свое время успешно
заслужил ученую степень и стал членом совета колледжа, а в положенный срок
получил от колледжа место приходского священника с жалованьем в
четыреста фунтов в год и домом. Его личный доход не превышал двухсот фунтов в
год. Отказавшись от членства в совете колледжа, он женился1 на женщине
намного моложе его, которая родила ему одиннадцать детей, девять из
которых — двое сыновей и семь дочерей — были живы. Две старшие дочери
довольно удачно вышли замуж, но в то время, о котором я пишу, пять дочерей в
возрасте между двадцатью двумя и тридцатью годами оставались незамужними,
да к тому же отцу пока приходилось содержать еще и обоих сыновей.
Понятно, случись что-то с мистером Элэби, семейство оказалось бы в бедственном
положении, и эта перспектива внушала мистеру и миссис Элэби такую
тревогу, какую и должна была внушать.
Читатель, располагали ли вы когда-нибудь доходом, который в лучшем
случае можно было бы назвать сносным, но никак не большим и который после
34
Путь всякой плоти
вашей кончины и вовсе перестал бы поступать, за исключением двухсот
фунтов в год? Имели ли вы при этом двоих сыновей, которым нужно было как-то
помочь встать на ноги, и пять незамужних дочерей, которым вы были бы
чрезвычайно счастливы найти мужей, если бы знали, как это сделать? Коль скоро
нравственность — это то, что в итоге приносит человеку покой на склоне лет (то
есть, конечно, если этот тезис не полный обман), можете ли вы в подобных
обстоятельствах льстить себя мыслью, что вели нравственную жизнь?
Это нелегко даже в том случае, ежели ваша жена была такой хорошей
женщиной, что так и не наскучила вам и не впала в такую болезненность, которая
подорвала бы и ваше здоровье вследствие нераздельности вашего союза, а ваши
дети выросли крепкими, дружелюбными и одаренными здравым смыслом. А
ведь я знаю многих пожилых мужчин и женщин, слывущих
высоконравственными, но живущих с супругами, которых давно разлюбили, или имеющих
безобразных незамужних дочерей с тяжелым характером, которым так и не
смогли найти мужей, дочерей, которых терпеть не могут и которые втайне
ненавидят их самих же, либо сыновей, чья глупость и сумасбродство служат для них
вечным источником беспокойства и мучений. Нравственно ли со стороны
человека взваливать на себя подобный груз? Право, кто-то должен сделать для
морали то, что этот Пексниф Бэкон2, по его горделивому заявлению, сделал для
науки.
Но вернемся к мистеру и миссис Элэби. Миссис Элэби рассказывала о
замужестве двух своих дочерей так, словно выдать их замуж было самым легким
делом на свете. Говорила она так потому, что слышала, как другие матери
толкуют об этом, но в глубине души не понимала, как ей это удалось, да и было
ли то, что свершилось, вообще делом ее рук. Сначала появился молодой
человек, в отношении которого она намеревалась осуществить некоторые маневры,
каковые репетировала в своем воображении множество раз, но так и не нашла
возможным применить на практике. Затем последовали недели надежд,
опасений и маленьких хитростей, которые всякий раз оказывались неуместными, но
как бы то ни было, в конце концов молодой человек, сраженный стрелой прямо
в сердце, пал к ногам ее дочери. Это показалось миссис Элэби совершенно
неожиданной удачей, на повторение которой вряд ли приходилось надеяться. И все
же судьба вновь ей улыбнулась и могла, возможно, при счастливом стечении
обстоятельств улыбнуться еще один раз — но пять раз подряд!.. Это было
ужасно: да она скорее предпочла бы еще три раза претерпеть роды, чем пройти
через все эти передряги с выдачей замуж еще хоть одной из дочерей.
Тем не менее это нужно было сделать, и бедная миссис Элэби при взгляде
на любого молодого человека старалась прикинуть, годится ли он в зятья.
Папаши и мамаши порой спрашивают молодых людей, честные ли намерения
те имеют в отношении их дочерей. Думаю, молодые люди, прежде чем
принимать приглашения в дома, где есть незамужние дочери, могли бы и сами иной
раз порасспрашивать папаш и мамаш, а честны ли их собственные намерения.
— Я не в состоянии взять себе помощника, моя дорогая, — сказал мистер
Элэби жене, когда супружеская чета обсуждала, что делать дальше. — Лучше
будет приглашать поочередно молодых людей, чтобы они какое-то время при-
Глава 9
35
ходили помогать мне по воскресеньям. Это обойдется в гинею за воскресенье,
но зато мы сможем менять их, пока не найдем кого-нибудь подходящего.
Итак, было решено, что здоровье мистера Элэби уже не такое крепкое, как
прежде, и он нуждается в помощи для отправления воскресной службы.
У миссис Элэби имелась близкая подруга — миссис Кауи, жена
знаменитого профессора Кауи. То была женщина, что называется, поистине
возвышенная, немного тучная, с начинающей пробиваться бородкой и обширными
знакомствами в среде студентов последнего курса, особенно тех, которые были
готовы принять участие в широком евангелическом движении3, приобретавшем
тогда все большую популярность. Раз в две недели она устраивала званые
вечера, на которых молитва была частью программы. Она не только являлась
особой возвышенной, но и, как восклицала восторженная миссис Элэби, была
при этом в полном смысле слова светской женщиной, да тому же обладала
неисчерпаемым запасом крепкого мужского здравого смысла. У нее тоже были
дочери, но, как она часто говаривала миссис Элэби, ей повезло меньше, чем
самой миссис Элэби, поскольку дочери одна за другой вышли замуж и
покинули ее, так что старость миссис Кауи была бы в самом деле одинокой, не
останься у нее профессора.
Миссис Кауи, безусловно, знала всех холостяков среди духовенства в
университете и была именно тем человеком, который мог помочь миссис Элэби
найти подходящего помощника для ее мужа, а потому однажды ноябрьским
утром 1825 года последняя из вышеупомянутых дам отправилась, как было
условлено, на ранний обед к миссис Кауи и провела у нее всю вторую
половину дня. После обеда дамы уединились и приступили к делу. Как долго они
ходили вокруг да около, насколько хорошо видели друг друга насквозь, с каким
старанием делали вид, что не видят друг друга насквозь, с какой легкой
беспечностью продолжали беседу, обсуждая духовную подготовленность того или
иного дьякона, а затем, покончив с его духовной подготовленностью, и другие
«за» и «против» относительно него, — все это следует предоставить
воображению читателя. Миссис Кауи так привыкла плести интриги в собственных
интересах, что предпочитала интриговать ради кого-либо другого, чем не
интриговать вовсе. Множество матерей в трудную минуту обращались к ней, и если они
оказывались возвышенными особами, миссис Кауи никогда не подводила их,
делая все, что в ее силах. Если брак какого-нибудь молодого бакалавра искусств
не заключался на небесах, то он заключался или, во всяком случае,
подготовлялся в гостиной миссис Кауи. В настоящем случае все дьяконы университета,
подающие хоть малейшую надежду, были подвергнуты всестороннему
обсуждению, и в результате миссис Кауи объявила нашего друга Теобальда лучшим
кандидатом, какого она могла предложить в тот день.
— Не скажу, что он особенно обаятельный молодой человек, моя дорогая, —
заявила миссис Кауи, — и к тому же он всего лишь младший сын, но, с другой
стороны, он получил стипендию, и даже младший сын такого человека, как
издатель мистер Понтифекс, непременно должен обрести что-то вполне приличное.
— О да, моя дорогая! — воскликнула миссис Элэби удовлетворенно. — Вы
безусловно правы.
36
Путь всякой плоти
Глава 10
Беседа, как и вообще все хорошее, должна была закончиться: дни стояли
короткие, а миссис Элэби предстояло ехать до Крэмпсфорда шесть миль.
Когда она закуталась и уселась на свое место, factotum* мистера Элэби Джеймс не
мог заметить в ней никакой перемены и вовсе не догадывался, какие
восхитительные видения вез он домой вместе со своей хозяйкой.
Профессор Кауи издавал работы у отца Теобальда, и по этой причине
Теобальд с самого начала своей университетской карьеры был на особом счету у
миссис Кауи. Последнее время она держала его под постоянным прицелом и
почти в такой же мере считала своим долгом вычеркнуть его из своего списка
молодых людей, которых нужно обеспечить женами, в какой бедная миссис
Элэби считала своим долгом попытаться найти мужа для одной из своих
дочерей. Теперь миссис Кауи написала ему и пригласила зайти, изъясняясь в
выражениях, возбудивших его любопытство. Когда Теобальд явился, она завела
речь о слабеющем здоровье мистера Элэби и, ловко обойдя все трудности, как
умела лишь она одна, учитывая ее заинтересованность, перешла к тому, что
Теобальду следует шесть воскресных дней подряд отправляться в Крэмпсфорд
и брать на себя половину обязанностей мистера Элэби, за что ему будут
платить всякий раз по полгинеи, ибо миссис Кауи беспощадно сократила размер
условленного вознаграждения за этот труд, а Теобальду недостало сил
сопротивляться.
Не ведая о планах, замышляемых против его душевного спокойствия, и не
имея иного намерения, кроме как заработать три гинеи, да к тому же,
возможно, удивить жителей Крэмпсфорда своей университетской ученостью, одним
воскресным утром в начале декабря — всего несколько недель спустя после
своего посвящения в духовный сан — Теобальд явился в дом приходского
священника. Он основательно потрудился над своей проповедью, темой которой была
геология1, являвшаяся в то время главным источником неприятностей для
богословов. Он показал, что в той мере, в какой геология вообще обладает какой-
либо ценностью, — а он был слишком прогрессивен, чтобы отнестись к ней с
полным пренебрежением, — она подтверждает абсолютно исторический
характер Моисеева описания сотворения мира, как оно дано в Книге Бытия. Любые
явления, которые на первый взгляд, как кажется, противоречат данному
представлению, — всего лишь частные случаи, несостоятельные при ближайшем
рассмотрении. Изысканнее стиля нельзя было и представить, и, когда Теобальд
явился в дом приходского священника, где должен был отобедать в перерыве
между службами, мистер Элэби тепло поздравил его с дебютом, а все дамы
этого семейства просто слов не могли найти для выражения своего восхищения.
Теобальд не знал о женщинах ничего. Единственными женщинами, с
которыми ему довелось общаться, были его сестры, две из которых всегда делали
ему замечания, да их школьные подруги, которых по настоянию сестер отец
приглашал в Элмхерст. Эти юные леди были либо настолько застенчивы, что меж-
* Здесь: слуга (лат.).
Глава 10
37
ду ними и Теобальдом никогда не возникало и намека на сближение, либо
мнили себя умными и говорили ему колкости. Он сам не говорил колкостей и не
желал, чтобы их говорили другие. Кроме того, они рассуждали о музыке — а он не
любил музыку, или о картинах — а он не любил картины, или о книгах — а он,
за исключением классиков, не любил и книги. К тому же от него иногда
требовали, чтобы он танцевал с ними, а он не умел танцевать и не хотел учиться.
На званых вечерах у миссис Кауи он встречал некоторых барышень и был
представлен им. Он старался понравиться, но у него всегда оставалось чувство,
что это ему не слишком-то удалось. Юные леди кружка миссис Кауи отнюдь
не были самыми привлекательными девушками в университете, и Теобальду
можно простить, что он не влюбился ни в одну из них, несмотря на их немалое
число: как только он на пару минут завладевал вниманием какой-либо из
наиболее хорошеньких и привлекательных девушек, почти тотчас же кто-нибудь
менее застенчивый оттеснял его, и он сникал, чувствуя себя в отношении
прекрасного пола подобно тому расслабленному у целебного источника Вифезда2.
Не возьмусь сказать, смогла бы по-настоящему замечательная девушка как-
то изменить Теобальда, но судьба не послала на его пути ни одной такой
девушки, кроме его самой младшей сестры, Алетеи, которую он, может, и полюбил
бы, не будь она его сестрой. Результатом его опыта стало убеждение, что от
женщин добра не жди; он не привык связывать мысль о них с каким-либо
удовольствием; если когда-либо и существовала возможность сыграть роль Гамлета
в отношениях с женщинами3, то роль эта была так основательно сокращена в
издании пьесы, в которой Теобальду требовалось играть4, что он пришел к
убеждению в полной иллюзорности этой роли. Что же до поцелуев, то он никогда
в жизни не целовал ни одной женщины, за исключением своих сестер, — а
также моих сестер, когда все мы были маленькими детьми. Помимо и сверх этих
поцелуев он вплоть до недавней поры обязан был по утрам и вечерам
запечатлевать положенный по ритуалу вялый поцелуй на щеке своего родителя, и тем
самым, насколько мне известно, познания Теобальда по части поцелуев к тому
времени, о котором я сейчас пишу, и ограничивались. Вследствие всего
вышесказанного он невзлюбил женщин как таинственных существ, чей образ
действий отличен от его образа действий и чьи мысли отличны от его мыслей5.
С таким опытом за плечами Теобальд, естественно, почувствовал немалое
смущение, обнаружив, что стал предметом восхищения пяти незнакомых девиц.
Помню, как однажды в детстве я был приглашен на чай в девичий пансион, где
училась одна из моих сестер. Мне было тогда лет двенадцать. Во время
чаепития, пока присутствовала директриса, все шло хорошо. Но наступил момент,
когда она удалилась, и я остался наедине с девочками. В ту же минуту, как за
учительницей закрылась дверь, одна из старших девочек, примерно моего
возраста, подошла ко мне, указала на меня пальцем, скорчила гримасу и
произнесла с высокомерным видом:
— Проти-и-ивный мальчи-и-ишка!
Все девочки одна за другой последовали ее примеру, повторяя тот же жест
и то же посрамление меня за то, что я «мальчи-и-шка». Это нагнало на меня
такого страху, что я, кажется, заплакал, и, думаю, прошло много времени,
38
Путь всякой плоти
прежде чем я снова смог встретиться с какой-нибудь девочкой, не испытывая
при этом сильного желания удрать.
Поначалу Теобальд переживал во многом те же ощущения, что и я в
пансионе для девочек, но барышни Элэби не сказали ему, что он «противный маль-
чи-и-шка». Их папа и мама были так приветливы, а сами они так искусно
втянули его в беседу, что еще до того, как обед завершился, Теобальд счел эту
семью просто очаровательной и почувствовал себя так, будто его впервые в
жизни оценили по-настоящему.
К концу обеда его застенчивость улетучилась. Он отнюдь не был невзрачен
и успел уже заслужить некоторую известность как ученый. В нем не было
ничего, что могли бы счесть неприличным или смешным. Впечатление, которое он
произвел на юных леди, оказалось столь же благоприятным, как и то, какое они
произвели на него, ибо они знали о мужчинах ненамного больше, чем он о
женщинах.
Сразу же после его ухода семейное согласие нарушила буря, поднявшаяся
из-за вопроса о том, которая из девиц получит шанс стать миссис Понтифекс.
— Милые мои, — сказал отец, увидев, что им вряд ли удастся уладить спор
полюбовно, — подождите до завтра, а потом сыграйте на него в карты.
Промолвив это, он удалился в свой кабинет, где его ждали вечерний стакан
виски с водой, трубка и табак.
Глава 11
На следующее утро, когда Теобальд занимался у себя с учеником, барышни
Элэби в спальне старшей мисс Элэби затеяли карточную игру, ставкой в
которой был Теобальд.
Победительницей вышла Кристина1, вторая из незамужних дочерей, к тому
времени уже достигшая двадцати семи лет и, следовательно, бывшая на четыре
года старше Теобальда. Младшие сестры жаловались, что отдать Кристине
попытку заполучить мужа — значит упустить жениха, так как она была
настолько старше Теобальда, что не имела ни единого шанса. Но Кристина проявила
готовность бороться, прежде не свойственную ей: ведь от природы она была
уступчива и добродушна. Мать сочла за лучшее поддержать ее, а потому двух
представляющих опасность сестер тут же спровадили погостить к подругам
куда подальше, остаться же позволили только тем, на чью преданность
можно было положиться. Братья ни сном ни духом не догадывались о
происходящем и думали, что отец взял помощника потому, что действительно в нем
нуждается.
Оставшиеся дома сестры держали слово и помогали Кристине, чем могли,
ибо, помимо правил честной игры, принимали в расчет и то, что, чем раньше
ей удастся заполучить Теобальда, тем скорее могут прислать еще одного
дьякона, которого, возможно, посчастливится выиграть им. Все устроили так
быстро, что ко времени второго визита Теобальда, состоявшегося в следующее
воскресенье, двух ненадежных сестер уже не было в доме.
Глава 11
39
На сей раз Теобальд чувствовал себя как дома у своих новых друзей:
миссис Элэби настаивала, чтобы он именно так их и называл. Она, по ее словам,
просто по-матерински относилась к молодым людям, особенно к
священнослужителям. Теобальд верил каждому ее слову, как с самой юной поры верил
своему отцу и вообще всем старшим. За обедом Кристина сидела подле него и вела
игру не менее рассудительно, чем до этого в спальне своей сестры. Всякий раз,
когда Теобальд заговаривал с ней, она улыбалась (а улыбка была одним из ее
сильных аргументов), старалась обезоружить гостя простодушием и выставляла
напоказ весь свой нехитрый арсенал в самом, по ее мнению, привлекательном
свете. Кто сможет осудить ее? Теобальд не был тем идеалом, о котором она
грезила, читая Байрона2 со своими сестрами в спальне наверху, но он был
реальным претендентом и, в конце концов, неплохим претендентом, если уж на то
пошло. Что еще могла она сделать? Убежать? Она не осмеливалась. Выйти
замуж за человека ниже ее по положению и считаться позором для своей семьи?
Она не осмеливалась. Остаться дома и превратиться в старую деву, над
которой будут смеяться? Ни за что, если этого можно избежать. Она сделала то
единственное, чего в принципе можно было ожидать от нее. Она тонула;
Теобальд, возможно, был лишь соломинкой, но уж она ухватится за него и,
соответственно, ухватилась.
Если в настоящей любви никогда не идет все гладко, то в деле
правильного устройства браков такое порой случается. В данном случае посетовать можно
было лишь на то, что все двигалось слишком медленно. Теобальд принял
назначенную ему роль легче, чем миссис Кауи и миссис Элэби смели надеяться.
Благовоспитанность Кристины покорила его: он восхищался
высоконравственным тоном, сквозившим в ее речах, ее нежностью по отношению к сестрам,
отцу и матери, готовностью взвалить на себя любое небольшое бремя, которое
никто другой не выказывал желания взять, ее оживленностью — все это
вполне могло очаровать того, кто, хоть и не привык к женскому обществу, но был
все же человеком из плоти и крови. Теобальду льстило ненавязчивое, но явно
искреннее восхищение Кристины. Казалось, она видела его в более
благоприятном свете и понимала лучше, чем кто-либо до его встречи с этим
очаровательным семейством. Вместо того чтобы отнестись к нему с пренебрежением, как
его отец, брат и сестры, она вызывала его на разговор, внимательно слушала
все, что он мог сказать, и явно хотела, чтобы он говорил еще и еще. Он сказал
университетскому товарищу, что влюблен. И он действительно был влюблен,
поскольку общество мисс Элэби нравилось ему намного больше, чем общество
его сестер.
Помимо уже перечисленных достоинств, у Кристины имелось еще одно —
контральто, считавшееся очень красивым. У нее определенно было
контральто, поскольку она не могла взять ноты выше ре в верхнем регистре.
Единственным недостатком голоса было то, что он не достигал соответствующей низкой
ноты и в нижнем регистре. В те времена, однако, в понятие контральто было
принято включать даже сопрано, если сопрано не могло взять нот своего
диапазона, к тому же не требовалось, чтобы оно обладало тембром, которого мы
теперь ждем от контральто. Недостающее ее голосу в смысле диапазона и силы
40
Путь всякой плоти
восполнялось чувством, с которым она пела. Она транспонировала «Вечно
прекрасных и чистых ангелов»3 в более низкую тональность, чтобы
приспособить к своему голосу, подтвердив тем самым мнение матушки, считавшей, что
Кристина обладает превосходным знанием законов гармонии. Мало того, она
и каждую паузу украшала арпеджио от одного конца клавиатуры до другого
согласно правилу, которому ее научила гувернантка. Таким образом
Кристина добавляла живости и красок мелодии, каковая, по ее словам, должна
восприниматься как довольно заунывная в той форме, какую придал ей Гендель.
Что же до гувернантки, то она-то уж была на редкость искусным музыкантом:
училась у знаменитого доктора Кларка4 из Кембриджа и обыкновенно
исполняла увертюру к «Аталанте»5 в аранжировке Маццинги6.
Тем не менее прошло некоторое время, прежде чем Теобальд натянул
струну своей решимости7, чтобы сделать предложение. Он довольно ясно давал
понять, что чувствует себя очень увлеченным, но проходил месяц за месяцем, —
в течение которых на Теобальда все еще возлагалось так много надежд, что
мистер Элэби, не осмеливаясь обнаружить, что в состоянии исполнять свой
пастырский долг самостоятельно, постепенно терял терпение из-за количества
потраченных полугиней, — а предложения все не было. Мать Кристины уверяла
Теобальда, что ее дочь — лучшая дочь на свете и окажется бесценным
сокровищем д,ля мужчины, который на ней женится. Теобальд с жаром вторил
миссис Элэби, но все же, хоть и посещал дом приходского священника два-три раза
в неделю помимо воскресных визитов, предложения не делал.
— Ее сердце еще свободно, дорогой мистер Понтифекс, — сказала однажды
миссис Элэби, — по крайней мере, я так думаю. Это не из-за отсутствия
поклонников — о нет! — у нее их было предостаточно, — но ей очень, очень трудно
понравиться. Думаю, однако, она не устоит перед серьезным и хорошим
человеком. — И пристально посмотрела на покрасневшего Теобальда.
Но шли дни, а он так и не делал предложения.
Как-то Теобальд даже доверился миссис Кауи, и читатель может догадаться
о том, какое мнение о Кристине он от нее услышал. Миссис Кауи попыталась
возбудить в нем ревность и намекнула на возможного соперника. Теобальд очень
встревожился или счел себя встревоженным. Некое подобие мук ревности
мелькнуло в его душе, и он с гордостью уверовал, что не только влюблен, но влюблен
отчаянно, иначе никогда бы не почувствовал такой ревности. Тем не менее по-
прежнему проходил день за днем, а он все никак не делал предложения.
Семейство Элэби проявило немалую рассудительность: Теобальду
потакали до тех пор, пока пути к отступлению не были практически отрезаны, хотя
он все еще тешил себя мыслью, что они есть. В один прекрасный день, спустя
примерно полгода после того, как Теобальд стал почти ежедневно бывать в
доме, зашла как-то беседа о длительных помолвках.
— Я не люблю длительных помолвок, мистер Элэби, а вы? — необдуманно
сказал Теобальд.
— Нет, — в тон ему ответил мистер Элэби, — как и длительных
ухаживаний. — И послал Теобальду такой взгляд, что тот не осмелился сделать вид,
будто не понял его.
Глава 11
41
Обратный путь в Кембридж Теобальд проделал с такой скоростью, с какой
только мог, и в ужасе от предстоящей беседы с мистером Элэби, которая, как
он чувствовал, неминуема, сочинил следующее письмо, каковое в тот же день
отправил с посыльным в Крэмпсфорд. В письме говорилось:
Дражайшая мисс Кристина!
Не знаю, догадались ли Вы о чувствах, которые я давно испытываю к
Вам, — чувствах, которые я как мог скрывал из страха обязать Вас помолвкой,
каковая, если только Вы согласитесь на нее, должна продлиться в течение
значительного времени, — но, как бы то ни было, я более не в силах скрывать их.
Я люблю Вас, пылко, преданно, и пишу эти строки, чтобы просить Вас стать
моей женой, ибо не осмеливаюсь доверить устам выразить всю силу моей
любви к Вам.
Не смею утверждать, что предлагаю Вам сердце, никогда не знавшее ни
любви, ни разочарования. Я любил уже, и сердце мое долгие годы не могло
излечиться от печали, охватившей меня, когда я узнал, что моя желанная
будет принадлежать другому. Однако это в прошлом, и, встретив Вас, я
порадовался тому разочарованию, которое, как мне одно время казалось, станет для
меня роковым! Оно сделало меня менее пылким поклонником, чем я,
вероятно, был бы при иных обстоятельствах, но десятикратно увеличило способность
оценить Ваши многочисленные достоинства и желание, чтобы Вы стали моей
женой. Прошу, пошлите мне несколько ответных строчек с тем же посыльным
и дайте знать, принято или нет мое предложение. Если Вы дадите согласие, я
немедленно явлюсь и буду говорить об этом с мистером и миссис Элэби,
которых, надеюсь, мне будет позволено когда-нибудь назвать отцом и матерью.
Должен предупредить Вас, что в случае Вашего согласия стать моей женой
могут пройти годы, прежде чем мы сможем заключить наш союз, поскольку
я не могу жениться, пока колледж не предложит мне прихода. Таким
образом, если Вы сочтете нужным отказать мне, я буду скорее огорчен, нежели
удивлен.
Вечно преданный Вам
Теобальд Понтифекс
И это было все, что частная школа и университетское образование смогли
сделать для Теобальда! Тем не менее сам он был довольно высокого мнения о
письме и поздравлял себя в особенности с тем, как ловко придумал историю о
прежней любви, которой намеревался защитить себя, если бы Кристина
посетовала на недостаток пылкости с его стороны.
Нет нужды приводить ответ Кристины, который конечно же содержал
согласие. Как Теобальд ни боялся старого мистера Элэби, не думаю, чтобы он
сумел набраться решимости сделать предложение, если бы не то
обстоятельство, что помолвке непременно предстояло быть долгой, а за это время могло
произойти множество событий, способных ее расторгнуть. Как бы сильно он,
возможно, ни осуждал длительные помолвки, когда дело касалось других
людей, сомневаюсь, было ли у него какое-либо особое возражение против них
42
Путь всякой плоти
в собственном случае. Двое влюбленных подобны закату и восходу: эти
явления происходят каждый день, но мы очень редко обращаем на них внимание.
Теобальд изображал из себя самого пылкого влюбленного, какого только
можно вообразить, но, используя вульгарное выражение, которое нынче в моде, все
это было «позерство». Кристина была влюблена, как, впрочем, влюблялась уже
раз двадцать. Но нужно учесть, что Кристина отличалась впечатлительностью
и не могла даже слышать название «Миссолунги»8, без того чтобы не
разразиться рыданиями9. Когда в один из воскресных дней Теобальд случайно оставил
свою сумку с рукописью проповеди, она спала с ней на груди и была в
отчаянии, когда должна была в следующее воскресенье, так сказать, расстаться с ней.
Не думаю, однако, чтобы Теобальд когда-либо брал с собой в постель хотя бы
старую зубную щетку Кристины. А между тем я знавал некогда одного
молодого человека, который, завладев коньками своей возлюбленной, спал с ними
в течение двух недель и плакал, когда должен был отдать их.
Глава 12
С помолвкой Теобальда все обстояло наилучшим образом, но в конторе на Па-
терностер-роу пребывал лысый розовощекий пожилой джентльмен, которому
сын рано или поздно должен был сообщить о своем намерении, и сердце
Теобальда трепетало, когда он спрашивал себя, как этот пожилой джентльмен
посмотрит на создавшееся положение. Но все тайное должно стать явным, и
Теобальд с его суженой решили, возможно опрометчиво, сразу чистосердечно во
всем признаться. Он написал лишь то, что, по его мнению и мнению Кристины,
помогавшей ему составлять письмо, подобало написать сыну, и выражал
желание вступить в брак без долгих отлагательств. Он не мог умолчать об этом,
поскольку Кристина была рядом, и к тому же знал, что ничем не рискует,
поскольку можно было не сомневаться, что отец не станет ему помогать. В
заключение Теобальд просил отца использовать все доступное тому влияние,
чтобы посодействовать сыну в получении прихода, поскольку могут пройти годы,
прежде чем освободится место в каком-нибудь из приходов, куда колледж имел
право назначать священников, и он не видит иного шанса для возможной
женитьбы, ибо у него нет иного источника дохода, кроме стипендии, на которую
он, безусловно, потеряет право, женившись, а у его невесты денег также не
имеется.
Любой шаг Теобальда непременно вызывал неодобрение со стороны отца,
но намерение сына в возрасте двадцати трех лет жениться на девушке без
средств и на четыре года старше давало прекрасную возможность выразить
возмущение, которой пожилой джентльмен, — а теперь я могу называть его так,
поскольку ему было тогда по меньшей мере лет шестьдесят, —
воспользовался со свойственным ему рвением.
«Несказанное безрассудство, — писал он, получив письмо сына, — твоей
воображаемой страсти к мисс Элэби внушает мне самые серьезные опасения.
Глава 12
43
Делая скидку на все ослепление влюбленности, я все же не сомневаюсь, что эта
барышня — благовоспитанная и приятная молодая особа, за которую не
пришлось бы стыдиться нашей семье, но, будь она десятикрат желательнее в
качестве невестки, чем я могу позволить себе надеяться, ваша общая бедность
служит непреодолимым препятствием для брака. У меня четверо детей кроме
тебя, и мои расходы не позволяют откладывать деньги. Нынешний год был
особенно тяжел, ведь мне пришлось купить два отнюдь не малых участка
земли, которые оказались выставлены на продажу и были необходимы, чтобы
дополнить земельную собственность, которую я давно намеревался округлить
таким образом. Благодаря моей щедрости ты получил образование, которое
обеспечило тебе вполне приличный доход в том возрасте, когда многие
молодые люди еще зависимы от родителей. Таким образом, я вполне поставил тебя
на ноги и могу требовать, чтобы впредь ты перестал быть для меня обузой.
Длительные помолвки, по пословице, к добру не ведут, а в данном случае срок
помолвки представляется нескончаемым. Каким образом, скажи на милость,
я могу найти для тебя приход? Неужели я должен колесить по стране, умоляя
людей позаботиться о моем сыне, потому что он вбил себе в голову намерение
жениться, не имея на то достаточных средств?
Не хочу, чтобы это письмо показалось написанным в минуту раздражения:
нет ничего более чуждого тем чувствам, которые я испытываю по отношению
к тебе, — но нередко в разговоре начистоту больше сердечности, чем в обилии
ласковых слов, которые не ведут ни к чему существенному. Конечно, я
принимаю во внимание, что ты уже совершеннолетний и, следовательно, можешь
поступать как тебе угодно, но если ты решишь следовать лишь строгой букве
закона и действовать, не принимая в расчет чувств своего отца, то не удивляйся,
если однажды обнаружишь, что и я заявлю право на такую же свободу
действий.
Верь мне, любящему тебя отцу.
Дж. Понтифекс».
Письмо это я нашел вместе с приведенными выше и еще несколькими,
которые приводить нет нужды; во всех них преобладает тот же тон, и каждое
заканчивается более или менее явной угрозой изменить завещание. Если учесть,
что Теобальд почти никогда не говорил о своем отце на протяжении многих лет
нашего знакомства после смерти мистера Понтифекса, тот факт, что он
сохранил эти письма и надписал их: «Письма моего отца», представляется
красноречивым. Чувствуется в этом некий неуловимый аромат здоровья и жизненной
силы.
Теобальд не показал отцовское письмо Кристине, да, думается, и никому
другому. Он был по природе с самых ранних лет скрытен и к тому же
находился под слишком сильным давлением, чтобы быть в состоянии пожаловаться или
дать выход эмоциям, которые испытывал по отношению к отцу. Его чувство
обиды было еще смутным, он лишь ощущал его как какое-то бремя, вечно
тяготившее его и днем, и даже, случись ему проснуться, ночью, но едва ли
понимал, что это такое. Я был чуть ли не самым близким его другом, но видел-
44
Путь всякой плоти
ся с ним лишь изредка, поскольку не мог долго оставаться с ним в ладах. Он
говорил, что я напрочь лишен почтительности, тогда как я полагал, что у меня
предостаточно почтения к тому, что оного заслуживает, но что боги, которых он
считал золотыми, в действительности сделаны из менее благородного металла.
Он никогда, как я уже говорил, не жаловался мне на своего отца, а его
остальные друзья были, подобно ему, степенны и чопорны, с евангелическим уклоном,
преисполненные сознания греховности любого проявления непокорности
родителям, — воистину послушные молодые люди, — а при послушном молодом
человеке не дашь выход своим чувствам.
Когда Кристина узнала от возлюбленного о несогласии его отца и о том,
сколько времени, вероятно, должно пройти, прежде чем они смогут пожениться, она
предложила — не знаю, насколько искренне, — освободить его от данного им
обязательства. Но Теобальд отказался от этой свободы.
— По крайней мере, — сказал он, — не сейчас.
Кристина и миссис Элэби знали, что смогут с ним справиться, и на этом
шатком основании помолвка продолжала держаться.
Помолвка и отказ сразу взять назад свои обязательства возвысили
Теобальда в собственных глазах. При всей его заурядности он обладал немалой
толикой тайного самодовольства. Он восхищался собой за свои университетские
заслуги, за целомудренность своей жизни (я сказал о нем однажды, что, будь
у него характер получше, он был бы столь же невинен, как только что
снесенное яйцо), а также за свою безупречную честность в денежных делах. Теобальд
не терял надежды далеко продвинуться в Церкви, стоит ему только получить
приход, и, конечно, было вполне возможно, что в один прекрасный день он
станет епископом, а Кристина, по ее словам, пребывала в убеждении, что в
конечном счете так и будет.
Естественно, как дочь и будущая жена священника, Кристина много
думала о религии и решила, что, пусть в высоком положении в этом мире ей и
Теобальду отказано, их добродетели будут сполна оценены в мире ином. Ее
религиозные представления абсолютно совпали с представлениями Теобальда, и как
же много бесед она вела с ним о славе Божьей и о том, как беззаветно они
станут служить ей, стоит лишь Теобальду получить приход, а им пожениться.
Столь уверена была она в великих событиях, которые тогда воспоследуют, что
порой дивилась слепоте Провидения в отношении его же, Провидения,
вернейшей пользы: нет бы немного побыстрее устранить приходских священников,
стоящих между Теобальдом и его приходом.
В те времена люди веровали с таким простодушием, какого я теперь у
образованных мужчин и женщин не замечаю. Теобальду даже в голову никогда не
приходило сомневаться в буквальной правильности каждого слова Библии. Он
никогда не видел ни одной книги, в которой она бы оспаривалась, и не встречал
ни одного человека, сомневающегося в ней. Правда, возникла небольшая паника
из-за геологии, но это были сущие пустяки. Коль сказано, что Бог сотворил мир
за шесть дней, значит, Он и сотворил его именно за шесть дней, ни больше ни
меньше. Коль сказано, что Он навел на Адама сон, взял одно из ребер его и
сотворил из него женщину, то так, разумеется, и было. Он, Адам, уснул, как мог
Глава 12
45
бы уснуть и он, Теобальд Понтифекс, в саду, и это мог бы быть сад, похожий
на сад приходского священника в Крэмпсфорде в летнюю пору, когда он так
хорош, только тот был больше и в нем обитали прирученные дикие звери. Затем
Бог подошел к нему, как мог бы подойти мистер Элэби или его отец,
проворно вынул одно из ребер, не разбудив его, и чудесно заживил рану, так что не
осталось никакого следа от этой операции. Наконец, Бог унес ребро, возможно,
в теплицу и превратил его в точно такую же молодую женщину, как Кристина.
Вот так это и было проделано. Нет никакого сомнения и даже тени сомнения
относительно этого дела. Разве не мог Бог делать все, что Ему захочется, и разве
Он в Его собственной боговдохновенной Книге не рассказал нам, как Он сделал
это?
Таково было обычное отношение довольно образованных молодых мужчин
и женщин к Моисеевой космогонии пятьдесят, сорок и даже двадцать лет
назад. Сражение с неверием, следовательно, открывало мало простора для
предприимчивых молодых священнослужителей, да и Церковь еще не пробудилась
к деятельности, которую позднее предприняла среди бедняков в наших
больших городах. Тогда же они, почти не делая попыток к сопротивлению или к
сотрудничеству, казались предоставлены трудам тех, кто пришел на смену Уэс-
ли. Миссионерская работа, конечно, продолжалась с некоторой энергией и в
языческих странах, но Теобальд не чувствовал никакого призвания к
миссионерству. Кристина не раз предлагала ему это и уверяла, что будет невыразимо
счастлива стать женой миссионера и делить с ним все опасности. Они с
Теобальдом могли бы даже подвергнуться мученической смерти. Разумеется, они
подверглись бы мученической смерти одновременно, и это предстоящее в далекой
перспективе мученичество, как оно представлялось из беседки в саду
приходского священника, не причиняло страданий; оно гарантировало бы им
блистательную будущность в мире ином и во всяком случае посмертную славу в
этом — даже если бы они не были чудесным образом вновь воскрешены, а
такое прежде с мучениками случалось. Теобальд, однако, не воспламенился
энтузиазмом Кристины, а потому она принялась за Католическую Церковь —
врага более опасного, если это вообще возможно, чем само язычество1.
Сражение с папизмом также могло бы обеспечить ей и Теобальду венец
мученичества. Правда, Католическая Церковь как раз тогда вела себя довольно смирно,
но то было затишье перед бурей2, в это Кристина веровала верой более
глубокой, чем та, которой могла бы проникнуться посредством какого-либо
аргумента, основанного на разуме.
— Мы, дорогой Теобальд, — воскликнула она как-то, — всегда будем
преисполнены веры! Мы будем стоять твердо и поддерживать друг друга даже в
смертный час. Бог в Своем милосердии может избавить нас от сожжения
заживо. В Его силах сделать или не сделать это. О Боже, — и она возвела
молящий взгляд к небесам, — пощади моего Теобальда или допусти, чтобы он мог
быть обезглавлен.
— Моя дорогая, — степенно отвечал Теобальд, — не будем попусту
волноваться. Коль скоро час суда настанет, мы наилучшим образом подготовимся
встретить его, ведя тихую, скромную жизнь, исполненную самоотречения и предан-
46
Путь всякой плоти
ности славе Божьей. О такой жизни и станем молить Бога3, дабы Ему угодно
было дать нам силы молиться о таком препровождении жизни.
— Дорогой Теобальд, — вскричала Кристина, утирая навернувшуюся слезу, —
ты всегда, всегда прав. Будем же самоотверженны, чисты, верны, честны в
слове и деле. — Произнося это, она молитвенно сложила руки и устремила взор
в небеса.
— Дорогая, — отвечал ее возлюбленный, — мы всегда и прежде старались
быть именно такими; мы не были суетными людьми. Станем же бодрствовать
и молиться, дабы остаться такими до последнего часа4.
Взошла луна, в беседке становилось сыро, а потому они отложили
дальнейшие воздыхания до более подходящей поры. В других случаях Кристина
изображала себя и Теобальда мужественно претерпевающими поношения чуть ли
не от всего рода человеческого при осуществлении некоего великого дела,
предназначенного послужить славе Спасителя. Ради этого она готова была
выдержать все. Но всегда ее видения заканчивались сценкой коронации высоко в
златых небесных сферах, когда ей на голову возлагался венец самим Сыном
Человеческим в окружении сонма ангелов и архангелов, взирающих с завистью и
восхищением, — однако Теобальд при этом не присутствовал. Если бы
существовала такая особа, как маммона праведности5, Кристина бы, конечно, свела с ней
дружбу. Батюшка и матушка очень почтенные люди и в положенный срок
обретут небесную обитель, в которой им будет чрезвычайно удобно. Столь же
несомненно там окажутся и сестры, а возможно, даже и братья. Но ей самой, как
она чувствовала, уготована более высокая судьба, и ее долг никогда не терять
перспективу такой судьбы из виду. Первым шагом на этом пути должен стать
брак с Теобальдом. Впрочем, несмотря на подобные взлеты религиозного
романтизма, Кристина была довольно славной, добродушной девушкой, которая,
стань она супругой благоразумного мирянина, скажем, хозяина гостиницы,
превратилась бы в хорошую хозяйку и пользовалась бы заслуженной симпатией со
стороны постояльцев.
Такой была жизнь Теобальда в период помолвки. Пара обменивалась
множеством маленьких подарков, и множество маленьких сюрпризов готовили они
на радость друг другу. Они никогда не ссорились, и ни один из них никогда не
флиртовал с кем-либо на стороне. Миссис Элэби и будущие золовки
боготворили Теобальда, хотя его сватовство служило препятствием для того, чтобы
явился и был разыгран в карты еще один дьякон, поскольку Теобальд
продолжал помогать мистеру Элэби, и теперь, конечно, делал это совершенно
безвозмездно. Двое из сестер, однако, умудрились найти мужей прежде, чем
Кристина вышла замуж, и в каждом случае Теобальд играл роль подсадной утки. В
конце концов только две из семи дочерей остались незамужними.
По прошествии трех-четырех лет старый мистер Понтифекс свыкся с
помолвкой сына и стал смотреть на нее как на нечто, имеющее по причине давности
лет право на терпимое отношение. Весной 1831 года, через пять с лишним лет
после того, как Теобальд впервые явился в Крэмпсфорд, неожиданно
освободилось место в одном из самых лучших находившихся в ведении колледжа
приходов. По различным причинам двое старших коллег Теобальда его отклони-
Глава 13
47
ли, хотя каждый из них, как ожидалось, должен был принять его. Приход этот,
следовательно, предложили Теобальду, и он, конечно, его принял. Ему
полагалось не менее пятисот фунтов в год жалованья, а также неплохой дом с садом.
Тогда старый мистер Понтифекс расщедрился сверх ожидаемого и выделил
сыну и невестке в пожизненное пользование десять тысяч фунтов с
последующим имущественным правом для потомства по их усмотрению. В июле 1831
года Теобальд и Кристина стали мужем и женой.
Глава 13
Положенное число старых башмаков было брошено вослед коляске, в которой
счастливая пара отбыла от дома приходского священника, и коляска свернула
за угол в конце деревни. Ее еще можно было видеть две-три сотни ярдов
медленно катящейся мимо молодого елового лесочка, а затем она скрылась из
виду.
— Джон, закрой ворота, — сказал мистер Элэби слуге и направился в дом со
вздохом облегчения, который, казалось, означал: «Я сделал это и еще жив». То
была реакция на взрыв бурного оживления, в состоянии коего старый
джентльмен пробежал двадцать ярдов за коляской, чтобы бросить в нее комнатную
туфлю, что надлежащим образом и исполнил.
Но каковы были чувства Теобальда и Кристины, когда деревня осталась
позади и они медленно покатили мимо молодых елочек? Именно в такой
момент должно дрогнуть даже самое отважное сердце, если только оно не
бьется в груди того, кто по уши влюблен. Ежели молодой человек посреди
неспокойного моря сидит в утлом челне рядом со своей нареченной и оба страдают
от приступа морской болезни и ежели чувствующий тошноту обожатель
способен забыть о собственной муке ради счастья поддерживать головку своей
возлюбленной, когда ей особенно худо, значит, он влюблен и нет опасности, что
его сердце дрогнет, пока он будет проезжать мимо чего-нибудь вроде еловых
насаждений. Другие же — а, увы, подавляющее число новобрачных следует
отнести к этим «другим» — неизбежно испытают в течение этой четверти или
половины часа упадок духа, более или менее глубокий, в зависимости от
обстоятельств. Если принять во внимание количественные показатели, то мне кажется,
что на улицах, ведущих от церкви Святого Георгия, что на Ганновер-сквер1, было
пережито больше душевных страданий, чем в камерах смертников Ньюгейтской
тюрьмы2. Нет для мужчины времени ужаснее, чем первые полчаса, когда он
остается наедине с женщиной, на которой женился без настоящей любви — ведь
тогда он ощущает прикосновение холодной руки той, кого итальянцы зовут 1а
figlia délia Morte*.
Дочь Смерти не пощадила и Теобальда. До того момента он держался очень
хорошо. Когда Кристина предложила дать ему свободу, он остался на своем
рубеже, проявив великодушие, которым с тех пор кичился. Он не раз говорил
* дочерью Смерти (ит).
48
Путь всякой плоти
себе: «Во всяком случае, я воплощение чести. Яне из тех, кто...» — и т. д., и т. п.
Правда, в момент проявления великодушия срок расплаты наличными, если
можно так выразиться, был еще далек. Когда отец дал официальное согласие
на брак, дело начало принимать более серьезный оборот. Когда освободилось
место в одном из подчиненных колледжу приходов и было Теобальдом
принято, положение стало выглядеть и вовсе не шуточным. Но когда Кристина
назвала конкретный день, Теобальд пал духом.
Помолвка длилась так долго, что он привык к сложившемуся порядку
вещей, и перспектива перемен смущала его. Они с Кристиной отлично ладили так
много лет, думалось ему; так почему... почему... почему бы им не продолжать
жить так, как они живут сейчас, всю оставшуюся жизнь? Но у него было не
больше шансов на спасение, чем у барана, которого тащат на бойню, и, подобно
барану, он чувствовал, что сопротивление ничего не даст, а потому и не
сопротивлялся. Он вел себя действительно благопристойно и был объявлен, с какой
стороны ни глянь, одним из самых счастливых людей, каких только можно себе
представить.
Но теперь (если использовать иную метафору) подставка в самом деле
выскользнула из-под ног висельника, и бедняга закачался в воздухе вместе с
предметом своей привязанности. Предмету было теперь тридцать три года, и
внешний вид ее в полной мере соответствовал возрасту; глаза и нос покраснели от
плача. Если на лице мистера Элэби после того, как он бросил туфлю, было
написано «я сделал это и еще жив», то лицо Теобальда, когда он ехал мимо
елового лесочка, приняло выражение «я сделал это, и не знаю, как мне жить
дальше». Этого, однако, нельзя было разглядеть из дома приходского
священника. Все, что оттуда могли увидеть, — мелькание головы форейтора над
изгородью у обочины, когда он привставал в стременах, да черно-желтый корпус
коляски.
Некоторое время пара хранила молчание. Что эти двое должны были
чувствовать в течение первого получаса их брака, пусть читатель догадается сам,
ибо поведать ему об этом выше моих сил. Однако по истечении упомянутого
периода времени Теобальд извлек из какого-то дальнего закоулка своей души
заключение: поскольку, мол, теперь они с Кристиной женаты, то, чем скорее
они вступят в предстоящие взаимоотношения, тем лучше. Если люди,
находящиеся в трудном положении, сделают всего лишь первый разумный шажок,
который определенно смогут признать разумным, то им всегда будет легче и
понять, каков должен быть следующий шаг, и сделать его. Что же тогда, думал
Теобальд, следовало счесть в этот момент первостепенным и наиболее
очевидным делом и как следует по справедливости распределить обязанности его и
Кристины в этом деле? Ясно, что совместное вступление в пору обязанностей
и удовольствий супружеской жизни ознаменует их первый обед. Не менее ясно
и то, что обязанность Кристины — заказать обед, а его обязанность — съесть
обед и заплатить за него.
Аргументы, ведущие к этому заключению, и само заключение внезапно
пришли в голову Теобальда приблизительно через три с половиной мили
после отъезда из Крэмпсфорда, по дороге в Ньюмаркет. Он позавтракал рано
Глава 13
49
утром, но без обычного для него аппетита. Молодожены покинули дом
приходского священника в полдень, не оставшись на свадебный завтрак.
Теобальд привык обедать рано, и до его сознания дошло, что он начинает
чувствовать голод. От этого чувства к заключению, изложенному в предыдущем
абзаце, путь был нетруден. После нескольких минут дальнейших раздумий он
приступил к обсуждению этой темы с новобрачной, и, таким образом, лед был
сломан.
Миссис Понтифекс не была готова к столь внезапному принятию на себя
важной роли. Ее нервы, никогда не отличавшиеся крепостью, были натянуты
утренними событиями до предела. Она хотела укрыться от глаз людских,
поскольку чувствовала, что выглядит немного старше, чем ей весьма хотелось бы
выглядеть в качестве новобрачной, вышедшей замуж этим утром. Она боялась
хозяйки гостиницы, горничной, трактирного слуги — всех и вся. Ее сердце
колотилось так сильно, что она едва могла говорить, не то что проходить
испытание заказыванием обеда в незнакомой гостинице у незнакомой хозяйки.
Кристина просила и молила избавить ее от этого. Если бы только Теобальд
согласился заказать обед в этот раз, она бы заказывала обеды во все дни
будущей жизни.
Но неумолимый Теобальд был не таков, чтобы от него можно было
отделаться под столь нелепыми предлогами. Теперь он был хозяином. Разве менее
двух часов назад Кристина не давала торжественного обещания почитать его
и повиноваться ему, и неужели теперь она будет упрямиться из-за такого
пустяка? Ласковая улыбка исчезла с его лица и сменилась хмурой гримасой,
которой мог бы позавидовать этот старый деспот, его отец.
— Вздор и чушь, моя дорогая Кристина, — воскликнул он и топнул ногой по
полу коляски, — обязанность жены — заказать обед для своего мужа! Ты — моя
жена, и я вправе ожидать, что ты закажешь мне обед. — Ибо без логики
Теобальд был пустым местом.
Новобрачная, заплакав, сказала, что он недобр. На это он ничего не
ответил, но в душе у него творилось нечто неописуемое. Вот, значит, каков итог его
шестилетней неизменной преданности! Вот, значит, какова награда за то, что,
когда Кристина предложила дать ему свободу, он не отказался от своего
обязательства! Вот, значит, каков исход ее разглагольствований о долге и
одухотворенности, коли теперь, в день своей свадьбы, она не в состоянии понять, что
первый шаг к смирению перед Богом состоит в смирении перед мужем! Он
вернется в Крэмпсфорд; он пожалуется мистеру и миссис Элэби. Он вовсе не
хотел жениться на Кристине; да он еще и не женился на ней; все это ужасный
сон. Он... Но в его ушах неумолчно звучал голос, который повторял: «Ты не
МОЖЕШЬ, НЕ МОЖЕШЬ, НЕ МОЖЕШЬ».
«Не могу?» — вскричало про себя несчастное создание.
«Нет, — отвечал безжалостный голос, — не можешь. Ты — женатый человек».
Теобальд откинулся в свой угол коляски и впервые осознал, сколь
несправедливы английские законы о браке. Но он купит прозаические сочинения
Мильтона и прочитает его трактат о разводе3. Возможно, они найдутся в Нью-
маркете.
50
Путь всякой плоти
Итак, новобрачная плакала в одном углу коляски, а новобрачный дулся в
другом и боялся супруги так, как только может бояться новобрачный.
Вскоре, однако, из угла новобрачной послышался слабый голос, который
произнес:
— Дорогой Теобальд, дорогой Теобальд, прости меня. Я была ужасно,
ужасно неправа. Пожалуйста, не сердись на меня. Я закажу... — Но слово «обед»
потонуло в накативших рыданиях.
Когда Теобальд услышал эти слова, тяжесть начала спадать с его души, но
он лишь посмотрел в сторону жены, причем не слишком-то приветливо.
— Пожалуйста, скажи мне, — продолжал голос, — чего тебе хотелось бы, и
я попрошу хозяйку гостиницы, когда мы приедем в Ньюмар... — Но еще один
взрыв рыданий заглушил конец слова.
На сердце у Теобальда становилось все легче и легче. Возможно, она
вовсе и не собирается держать его под башмаком? И, кроме того, разве она не
перевела его внимание с собственной персоны на его предстоящий обед?
Отогнав большую часть своих опасений, он сказал, хотя и все еще хмурясь:
— Думаю, мы могли бы поесть жаркого с подливой, молодой картошки с
зеленым горошком, а там посмотрим, может, у них окажется вишневый пирог
со сливками.
Спустя еще несколько минут он прижимал ее к себе, осушая поцелуями ее
слезы и уверяя, что знал, что она будет ему хорошей женой.
— Мой милый Теобальд, — воскликнула она в ответ, — ты ангел!
Теобальд поверил ей, и еще через десять минут счастливая пара вышла из
экипажа у гостиницы в Ньюмаркете.
Как храбро справилась Кристина со своей трудной задачей! Как горячо
умоляла она тайком хозяйку гостиницы не заставлять ее Теобальда ждать
дольше, чем это совершенно необходимо!
— Если у вас есть какой-нибудь готовый суп, миссис Барбер, то, знаете ли,
это могло бы сэкономить десять минут, поскольку мы могли бы есть суп, пока
зажаривается мясо.
Видите, как необходимость придала ей решимости? Но, по правде говоря,
у нее просто раскалывалась голова, и она отдала бы что угодно, лишь бы
остаться одной.
Обед удался. Пинта хереса согрела душу Теобальда, и он начал надеяться,
что в конце концов все еще может наладиться. Он выиграл первое сражение,
а это резко повышает авторитет. И до чего легко далась ему победа! Почему
же он никогда не обращался так со своими сестрами? Он поступит именно так,
когда увидит их в следующий раз. А со временем, возможно, научится давать
отпор братцу Джону или даже отцу. Вот так мы и строим воздушные замки,
когда опьянены вином и победой.
Под конец медового месяца миссис Понтифекс являла собой самую
преданную и послушную жену во всей Англии. Согласно старой пословице, Теобальд
убил кошку в самом начале4. Это была совсем маленькая кошечка, по сути,
просто котенок, иначе Теобальд, вероятно, побоялся бы даже глянуть в ее
сторону, но такого котенка, как этот, он вызвал на смертельный поединок и демон-
Глава 14
51
стративно поднял его безжизненно свисающую голову перед лицом жены.
Остальное было нетрудно.
Странно, что тот, кого до сих пор я изображал человеком робким и
податливым, совершенно неожиданно оказался таким деспотом в день своей
свадьбы. Вероятно, я слишком быстро миновал годы его ухаживания. В эти годы он
стал куратором в своем колледже и, наконец, младшим преподавателем. Я еще
не встречал человека, чье чувство собственной значимости не возросло бы после
того, как в течение пяти-шести лет он получал стипендию пастора-резидента.
Правда, стоило Теобальду очутиться в радиусе десяти миль от отцовского дома,
как на него находило какое-то наваждение, колени начинали дрожать, вся его
важность улетучивалась и он снова чувствовал себя великовозрастным
ребенком, пребьшающим в постоянной немилости. Но в те годы он нечасто бывал в
Элмхерсте, и, как только покидал его пределы, чары развеивались, и он опять
становился стипендиатом и куратором, младшим преподавателем, суженым
Кристины, кумиром всех женщин семейства Элэби. Из всего этого можно
сделать вывод, что, если бы Кристина была цесаркой и распустила перья,
демонстрируя готовность к отпору5, Теобальд не рискнул бы обижать ее, но она не была
цесаркой, она была всего лишь обычной домашней курицей и к тому же с
намного меньшей долей личной отваги, чем обычно встречается у кур.
Глава 14
Бэттерсби-Хилл1 — так называлась деревня, в которой Теобальд стал
приходским священником. В ней проживало около четырехсот или пятисот человек,
в основном фермеров и батраков, рассеянных по довольно обширной
территории. Просторный пасторский дом стоял на склоне холма, с которого
открывался восхитительный вид. Круг общения составляли немногочисленные соседи,
но, за малым исключением, все они были священниками близлежащих
деревень и членами их семей.
Понтифексов сочли ценным приобретением для местного общества. Мистер
Понтифекс, как говорили, очень умен. Он был первым по классическим
языкам и математике2. Просто талант, да еще обладающий к тому же таким
основательным практическим здравым смыслом. Будучи сыном столь выдающегося
человека, как знаменитый издатель мистер Понтифекс, он рано или поздно
станет обладателем большого состояния. Разве у него нет старшего брата? Есть,
но наследство будет столь велико, что Теобальд, вероятно, получит кое-что
весьма значительное. Конечно, они станут давать званые обеды. А миссис
Понтифекс, что за очаровательная женщина! Бесспорно, привлекательная.
Возможно, и не идеальная красавица, но у нее такая приятная улыбка и такие
изысканные и подкупающие манеры. Кроме того, она так предана своему мужу, а
муж — ей. Они полностью соответствуют представлениям о том, какими были
влюбленные давным-давно, в старые добрые времена. Редко встретишь такую
пару в наш развращенный век. Это просто прекрасно и т. д., и т. п. Такими
отзывами соседи встретили вновь прибывших.
52
Путь всякой плоти
Что касается прихожан Теобальда, то фермеры были вежливы, а батраки
и их жены подобострастны. Имелось несколько отступников от истинной
веры — наследие пренебрегавшего своими обязанностями предшественника, но
миссис Понтифекс гордо заявляла по данному поводу:
— Думаю, Теобальд, без сомнения, справится с этим.
Здание церкви тогда представляло собой интересный образчик поздненор-
маннского стиля с некоторыми дополнениями раннеанглийского. Она была в
том состоянии, какое сегодня назвали бы очень плохим, но сорок—пятьдесят лет
назад не многие церкви могли похвастаться хорошим состоянием. Если и есть
черта, характеризующая нынешнее поколение более, чем какая-либо другая,
так это то, что оно выступает великим реставратором храмов, то есть делает
то, что Гораций3 проповедовал в одной из своих од:
Delicto majorum immeritus lues,
Romane, donee templa refeceris
Aedesque labentes deorum et
Foeda nigro simulacra fumo*.
После эпохи Августа4 в Риме все шло прахом, но потому ли, что Рим
восстанавливал храмы, или потому, что не восстанавливал их, не знаю. Они
определенно пришли в полную негодность после времен Константина5, и все же Рим
до сих пор является городом значительным.
Должен сказать, что в первые же годы пребывания Теобальда в Бэттерсби
ему открылся простор для полезной деятельности по основательному ремонту
деревенской церкви. Средства на него собирались по подписке, немалую их
часть составили его собственные пожертвования. Он взял на себя роль
архитектора, что помогло сократить довольно крупные расходы. Но к 1834 году,
когда Теобальд начал это дело, понятие об архитектуре еще не окончательно
сложилось, а потому результат оказался не столь удовлетворителен, каким мог бы
быть, повремени Теобальд еще несколько лет.
Всякое творение человека, будь то произведение литературы, музыки,
живописи, зодчества или какое-либо другое, — это всегда своего рода портрет
самого человека, и, чем больше он старается скрыть себя, тем отчетливее, вопреки
его воле, будет проступать его характер. Я, вполне вероятно, выдаю себя все
время, пока пишу эту книгу, ибо знаю, что, нравится мне это или нет, я
изображаю скорее себя, чем любого из тех персонажей, которых представляю
читателю. Мне жаль, что это так, но я ничего не могу с этим поделать, а после
этой подачки, призванной задобрить Немезиду, скажу, что церковь Бэттерсби
в ее новом виде всегда казалась мне лучшим портретом Теобальда, чем мог бы
* За грех отцов ответчиком, римлянин,
Безвинным будешь, храмов пока богам
Повергнутых не восстановишь,
Статуй, запятнанных черным дымом.
Гораций. Оды. III. 6. Пер. Н.С. Гинцбурга.
Глава 14
53
создать любой скульптор или живописец, за исключением разве что
какого-нибудь великого мастера.
Помню, я гостил у Теобальда спустя приблизительно шесть-семь месяцев
после его женитьбы, когда церковь пребывала еще в первоначальном виде. Я
вошел в храм и почувствовал то же, что, по всей видимости, чувствовал в
определенных обстоятельствах Нееман, когда призван был сопровождать своего
господина, возвратясь после излечения от проказы6. У меня сохранилось более
яркое воспоминание о церкви и людях в ней, чем о проповеди Теобальда. Как
сейчас, вижу мужчин в синих рабочих блузах, доходящих им до пят, и
нескольких старух в ярко-красных накидках; стоящих в ряд вялых, унылых,
безучастных деревенских парней с нескладными фигурами, некрасивыми лицами,
безжизненных, апатичных, — племя, слишком сильно напоминающее французских
крестьян дореволюционной поры, как они описаны Карлейлем7, чтобы о нем
приятно было размышлять; племя, вытесненное теперь более сильным, более
красивым и более внушающим надежды поколением, которое обнаружило, что
тоже имеет право на свою долю счастья, и яснее представляет, каковы
вернейшие пути его достижения.
Неуклюжей походкой, громко стуча подбитыми гвоздями башмаками, они
один за другим входят в церковь, от их дыхания валит пар: ведь это зима.
Входя, они стряхивают с себя снег, сквозь открытую дверь я мельком вижу
сумрачное свинцовое небо и запорошенные снегом надгробные плиты. Все это
заставило меня вспомнить мелодию, написанную Генделем на стихи
«Деревенский парень всегда под рукой»8. Она застряла у меня в голове, и теперь ее уже
оттуда не выбросить. Как прекрасно старик Гендель понимал этих людей!
Они кланяются Теобальду, проходя мимо кафедры («Люди в этих краях по-
настоящему почтительны, — шепнула мне Кристина, — они чтут
вышестоящих»), и занимают места на длинной скамье у стены. Певчие взбираются на
галерею со своими инструментами — виолончелью, кларнетом и тромбоном. Я
вижу их и вскоре слышу, ибо перед началом службы исполняется гимн —
безыскусный напев, если не ошибаюсь, какая-то литания, сохранившаяся от до-
реформационных времен. Около пяти лет назад в церкви Святых Джованни
и Паоло в Венеции^ я слышал мелодию, которая, как мне кажется, была его
отдаленным музыкальным предшественником. И еще я слышал ее в далеких
просторах Атлантики в серый июньский воскресный день. На море не было ни
ветерка, ни волн, а потому эмигранты собрались на палубе, и их жалобный
псалом возносился к скрытым серебристой дымкой небесам и раздавался над
пучиною моря, которое отвечало вздохом, покуда не утратило сил вздыхать.
Гимн тот еще можно услышать на собрании методистов где-нибудь на склоне
валлийского холма, но из церквей он исчез навсегда. Будь я музыкантом, я взял
бы его темой для адажио в уэслианской симфонии10.
Ушли в прошлое кларнет, виолончель и тромбон, безыскусные менестрели,
подобные тем скорбным созданиям у Иезекииля11, неблагозвучные, но
бесконечно трогательные. Уж нет того громогласием наводящего на детей страх
певца, того ревущего быка васанского12, деревенского кузнеца, нет
сладкоголосого плотника, нет дюжего рыжеволосого пастуха, который орал громче всех,
пока они не доходили до слов «Пастыри с твоими стадами покорными», когда
чувство скромности приводило его в смущение и заставляло умолкнуть, слов-
54
Путь всякой плоти
но провозглашали тост за его здоровье. Они были обречены и
предчувствовали недоброе уже тогда, когда я впервые увидел их, но у них еще теплилась
слабая надежда на то, что хор уцелеет, и они голосили во всю мочь:
Ру-ки зло-де-ев схва-ти-ли е-го, к древу е-го при-гвоз-ди-ли о-ни...
Но никакое описание не в состоянии передать производимый эффект.
Когда я в последний раз оказался в церкви Бэттерсби, там стояла фисгармония, на
которой играла миловидная девушка, окруженная хором школьников, и они
исполняли канты13 из «Гимнов древних и новых»14 в самом строгом соответствии
с правилами церковных песнопений15. Скамей с высокими спинками уже не было,
да и саму галерею, на которой пел прежний хор, уничтожили как нечто
ненавистное, что могло напоминать людям о высотах;16 Теобальд был стар, а Кристина
лежала под сенью тисовых деревьев на церковном кладбище.
Но вечером я увидел, как трое глубоких стариков выходили, посмеиваясь,
из часовни диссентеров17, и конечно же то были мои старые знакомцы —
кузнец, плотник и пастух. Их лица излучали самодовольство, уверившее меня в
том, что они недавно пели, — вряд ли с прежним великолепием, как в
сопровождении виолончели, кларнета и тромбона, но все же песни Сиона18, а не
новомодного папизма.
Глава 15
Гимн завладел моим вниманием; когда он закончился, у меня было время
приглядеться к прихожанам. Это были в основном фермеры — люди упитанные,
весьма зажиточные, пришедшие с женами и детьми с удаленных на две-три
мили ферм; ненавистники папизма и всего, что на чей-либо взгляд могло быть
сочтено папистским; славные, рассудительные малые, питающие отвращение
ко всякого рода теориям, видевшие идеал в сохранении status quo*, любившие
предаваться воспоминаниям о временах былых войн1 и досадовавшие на
погоду, если она нарушала их планы, желавшие зарабатывать побольше, а платить
поменьше, но в остальном предпочитавшие минимум перемен; терпимо, а то и
с любовью относившиеся ко всему привычному, ненавидящие все непривычное.
Их одинаково ужаснул бы и тот, кто подвергает христианское учение
сомнению, и тот, кто следует всем его заповедям.
— Что может быть общего у Теобальда с его прихожанами? — спросила меня
Кристина вечером в гостиной, когда муж отлучился на несколько минут. —
Конечно, нельзя жаловаться, но, уверяю вас, мне горько видеть такого
способного человека, как Теобальд, заброшенным в эдакую глушь. Окажись мы в
* существующего положения вещей (лат).
Глава 15
55
Гэйсбэри, где, как вы знаете, находятся поместья семейств А., Б., В. и лорда Г.,
тогда я бы не чувствовала, что мы живем в такой пустыне. А впрочем, это и к
лучшему, — добавила она более веселым тоном, — ведь епископ, ясное дело,
станет посещать нас всякий раз, как приедет в эти места, а живи мы в
Гэйсбэри, он, должно быть, отправился бы к лорду Г.
Пожалуй, я сказал уже достаточно, чтобы дать представление о месте, в
какое судьба забросила Теобальда, и о женщине, на которой он женился. Что
касается его самого, то так и вижу, как он тащится по грязным проселочным
дорогам вдоль необозримых пастбищ, служащих пристанищем для ржанок, —
тащится, чтобы посетить умирающую жену крестьянина. Он приносит ей мясо и вино
с собственного стола, причем не какую-то малость, а не скупясь. И еще в меру
своих способностей дает ей то, что ему угодно называть духовным утешением.
— Я боюсь, что попаду в ад, сэр, — хнычет больная. — О сэр, спасите меня,
спасите, не допустите, чтобы я попала туда. Я не могу этого выдержать, сэр, я
умру от страха, от одной мысли об этом меня бросает в холодный пот.
— Миссис Томпсон, — степенно говорит Теобальд, — вы должны верить в
драгоценную кровь вашего Спасителя. Только Он один может спасти вас.
— Но вы уверены, сэр, — произносит страдалица, с тоской глядя на него, —
что Он простит меня? Ведь я была не очень хорошей женщиной, да уж, не
очень... Если б только уста Господа молвили «да», когда я спрошу, прощены ли
мне мои грехи...
— Но они же прощены вам, миссис Томпсон, — убеждает ее Теобальд с
некоторой суровостью, поскольку одна и та же тема повторялась уже множество
раз, и он уже целую четверть часа терпел стенания несчастной женщины о ее
дурных предчувствиях.
И вот он кладет конец беседе, повторяя молитвы из «Посещения болящих»,
и нагоняет на бедняжку такого страху, что она более не решается выражать
беспокойства по поводу своего положения.
— Неужели вы не скажете мне, сэр, — восклицает она жалобно, видя, что он
собирается уходить, — неужели вы не скажете мне, что нет никакого Судного
дня и никакого ада?! Я могу обойтись без рая, сэр, но ад мне совсем ни к чему.
Теобальд в высшей степени возмущен.
— Миссис Томпсон, — патетически отвечает он ей, — попрошу вас в сей
важный момент не допускать в свою душу никаких сомнений относительно этих
двух основ нашей религии. Если и есть на свете что-то несомненное, так это то,
что все мы предстанем пред Судом Христовым и что грешники будут гореть
в геенне огненной. Стоит усомниться в этом, миссис Томпсон, и вы пропали.
В припадке страха, который наконец находит выход в рыданиях, бедная
женщина зарывается трясущейся головой в одеяло.
— Миссис Томпсон, — молвит Теобальд, берясь за ручку двери, — успокойтесь,
не волнуйтесь. Вы должны верить моим словам, что в Судный день все ваши грехи
будут отмыты добела кровью Агнца, миссис Томпсон. Да, — не выдержав,
заключает он в бешенстве, — если даже будут они как багряное, как снег убелятся2.
И он выбегает как можно скорее из зловонной хибары на свежий воздух. О,
как же он рад, что беседа закончена!
56
Путь всякой плоти
Он возвращается домой с сознанием исполненного долга: ведь он дал
умирающей грешнице религиозное утешение. Дома его ждет восхищенная жена,
уверяющая, что никогда еще не бывало священника, столь преданного благу
паствы. Он верит ей: по своей натуре он склонен верить всему, что говорят, да
и кому обстоятельства дела известны лучше, чем его жене? Бедняга! Он сделал
все что мог, но что толку рыбе прилагать все возможные старания, если она не
в воде? Он отнес мясо и вино — это он в состоянии сделать; он зайдет опять и
оставит еще мяса и вина; день за днем он будет тащиться по одним и тем же
полям, где нашли пристанище ржанки, и выслушивать в конце своего пешего
перехода одни и те же мучительные предчувствия, которые он день за днем
заставляет умолкнуть, но не избавляет от них, — пока наконец милосердная
слабость не освободит страдалицу от тревог о будущем, и тогда Теобальд
испытает удовлетворение, что отныне ее душа мирно почиет во Иисусе.
Глава 16
Он не любит эту сторону своей профессии — на самом деле просто ненавидит
ее, — но не признается в том даже себе: привычка не признаваться себе в
некоторых вещах прочно укоренилась в нем. Тем не менее его часто посещает
смутное ощущение, что жизнь была бы приятнее, не будь на свете больных
грешников или, во всяком случае, если бы они воспринимали перспективу вечных
мук с большим хладнокровием. Он не чувствует себя в своей стихии. Зато
фермеры производят впечатление существ, пребывающих в своей стихии. Они
полнотелы, здоровы и довольны. И между ним и ими утверждена великая
пропасть1. Суровая складка залегает в уголках его рта, так что, не носи он даже
черного облачения с белым воротничком, и ребенку под силу узнать в нем
пастора.
Он знает, что исполняет свой долг. Каждый день он все сильнее
убеждается в этом; но обязанностей у него немного. Он томится от безделья. У него нет
интереса ни к одному из тех развлечений, какие не считались неподобающими
священнику сорок лет назад. Он не ездит верхом, не занимается стрельбой, не
удит рыбу, не охотится, не играет в крикет. Ученые занятия, нужно отдать ему
должное, он никогда не любил, да и что могло бы побудить его предаваться им
в Бэттерсби? Он не читает ни старых, ни новых книг. Он не интересуется ни
искусством, ни наукой, ни политикой, но с готовностью восстает против всего
для него нового и непривычного, что происходит в какой-либо из этих
областей. Правда, он сам пишет свои проповеди, но даже его жена считает, что его
сильной стороной является скорее личный жизненный пример (который
представляет собой один долгий акт самопожертвования), чем выступления с
кафедры. После завтрака он удаляется в свой кабинет, где вырезает небольшие
отрывки из Библии и с предельной аккуратностью подклеивает к другим
небольшим отрывкам. Это он называет составлением «Гармонии Ветхого и Нового
Заветов». Рядом с этими фрагментами он безупречнейшим почерком вписывает
цитаты из Мида (единственного человека, по мнению Теобальда, действитель-
Глава 16
57
но постигшего Книгу Откровения)2, Патрика3 и других старых богословов. В
течение многих лет он неизменно занимается этим полчаса каждое утро, и
результат, несомненно, ценен. По прошествии нескольких лет он начинает проверять
уроки своих детей, и ежедневно повторяющиеся крики, которые доносятся из
его кабинета во время этих занятий, открывают всему дому ужасную правду.
Он также взялся составлять hortus siccus* и благодаря влиянию своего отца был
однажды упомянут в журнале «Сэтэрдей мэгэзин» как первооткрыватель в
окрестностях Бэттерсби некоего растения, название которого я позабыл. Этот
номер «Сэтэрдей мэгэзин», переплетенный в красный сафьян, покоится на
столе в гостиной. Теобальд копается в саду. Слыша кудахтанье курицы, бежит
сообщить об этом Кристине и немедленно отправляется на поиски яйца.
Когда две барышни Элэби изредка приезжали навестить Кристину, то
говорили, что жизнь, которую ведут их сестра и зять, — просто идиллия. Как же
удачен был выбор Кристины — а вымысел, что она сделала некий выбор,
быстро прижился в их семье, — и как же счастлив Теобальд со своей Кристиной.
Однако же Кристина всегда немного опасалась карт, когда ее сестры гостили
у нее, хотя в другое время с удовольствием играла в криббидж или вист, но ее
сестры знали, что их никогда больше не пригласят в Бэттерсби, если они
упомянут о том давнем дельце, и изо всех сил старались показать себя
достойными новых приглашений. Если характер у Теобальда и был довольно
раздражительным, он не давал ему волю в отношении их.
Замкнутый по природе, он предпочел бы жить на необитаемом острове, если
б там нашелся кто-нибудь, кто готовил бы ему обед. В глубине души он был
согласен с поэтом Поупом, сказавшим, что «величайшее несчастье для
человечества есть человек»4 или что-то в этом роде. Только вот женщины, за
исключением, пожалуй, Кристины, были, на взгляд Теобальда, еще хуже. При всем
при том, когда являлись гости, он принимал более довольный вид, чем мог
ожидать всякий, кто находился за кулисами.
К тому же он умел ввернуть в разговоре имена каких-нибудь литературных
знаменитостей, которых встречал в доме своего отца, и вскоре приобрел
репутацию человека многостороннего, которая удовлетворяла даже саму
Кристину.
Кто, спрашивали, столь integer vitae scelerisque punis**, как мистер Понти-
фекс из Бэттерсби? Кто может дать лучший совет, если в делах прихода
возникает какая-либо проблема? Кто столь счастливо соединяет в себе черты
искреннего, лишенного любострастия христианина и светского человека? Мистер
Понтифекс. Говорили, что он безупречен в деловых вопросах. Уж если он
сказал, что заплатит некую сумму к определенному сроку, то деньги, без
сомнения, поступят в назначенный день, а это многое говорит о всяком человеке.
Врожденная робость делала его не способным на какие-либо попытки
плутовства, если существовала хоть малейшая вероятность отпора или огласки, а
учтивость и довольно суровый вид служили ему надежной защитой от чьих-то
* гербарий (лат.).
** ...непорочен в жизни и от злодеянья чист... Гораций. Оды. I. 22. 1. Пер. 3. Морозкиной.
58
Путь всякой плоти
попыток плутовать с ним. Он никогда не говорил о деньгах и менял предмет
разговора всякий раз, когда о них заходила речь. Выражение неописуемого
ужаса на его лице при всяком упоминании о какой-либо подлости служило
достаточной гарантией того, что сам он на подлость не способен. Кроме того,
он не участвовал ни в каких деловых операциях, за исключением самых
обыкновенных расчетов с мясником и пекарем. Его вкусы — если таковые имелись —
были, как мы видели, просты. Он имел девятьсот фунтов в год и дом. Жизнь
в тех местах обходилась дешево, к тому же в течение некоторого времени он
не имел детей, а значит, и обузы. Кому и быть предметом зависти — а где
зависть, там и уважение, — как не достойному зависти Теобальду?
Все же Кристина, думаю, была в общем и целом счастливее, чем ее муж. Ей
не приходилось посещать больных прихожан, а домашним хозяйством и
ведением счетов она могла позволить себе заниматься столько, сколько сама хотела.
Ее основной обязанностью, как она удачно выразилась, было любить своего
мужа, почитать его и заботиться о его хорошем настроении5. Нужно отдать ей
должное, она не жалела сил на исполнение этой обязанности. Вероятно, было
бы лучше, если бы она не так часто уверяла мужа, что он лучший и мудрейший
из людей, ибо никто в его маленьком мирке и не помышлял когда-либо
опровергнуть это утверждение, и Теобальду не понадобилось много времени,
чтобы утратить всяческие сомнения на сей счет. По временам он впадал в
сильнейшее раздражение, и Кристина старалась ублажить супруга при малейших
признаках надвигающейся вспышки. Она быстро обнаружила, что это самый
легкий выход из положения. Гром редко гремел над ее головой. Еще задолго до
свадьбы она изучила маленькие слабости мужа и знала и как подбавить
масла в огонь, пока огонь, казалось, нуждался в этом, и как затем благоразумно
притушить его, наделав как можно меньше дыма.
В денежных делах она была воплощенная добросовестность. Теобальд
ежеквартально выдавал ей определенную сумму на платья, мелкие расходы,
небольшую благотворительность и подарки. По двум последним статьям она была
щедра соразмерно своему доходу: одевалась с большой экономией и тратила
все, что оставалось, на подарки или благотворительность. О, каким
утешением была для Теобальда мысль, что на жену можно положиться в этом
отношении, что она никогда не израсходует из его денег ни пенса на что-либо
недозволенное! Не говоря уж о ее полной покорности, абсолютном совпадении ее
взглядов с его взглядами по всем предметам и постоянных уверениях, что он прав
во всем, что бы ни взбрело ему в голову сказать или сделать. А какой
надежной опорой была для него ее аккуратность в денежных вопросах! С годами он
полюбил свою жену настолько, насколько его натуре было доступно любить
какое-либо живое существо, и хвалил себя за то, что продержался до конца и не
расторг помолвку — достойный поступок, за который он теперь получал
награду. Даже когда Кристина выходила за пределы своего ежеквартального
бюджета на каких-нибудь тридцать шиллингов или пару фунтов, Теобальду всегда
было совершенно ясно, каким образом возник перерасход: было куплено какое-
нибудь особенно дорогое вечернее платье, которое должно послужить долго,
Глава 16
59
или чья-то неожиданная свадьба потребовала более щедрого подарка, чем
позволял квартальный баланс. Недостача всегда покрывалась в следующем
квартале или кварталах, даже если составляла всего десять шиллингов.
Однако, кажется, лет двадцать спустя после заключения брака Кристина
несколько изменила своей первоначальной безупречности в отношении денег.
Постепенно в течение нескольких кварталов у нее росла задолженность, пока
не образовалась хроническая недостача, своего рода внутригосударственный
долг, составлявший что-то между семью и восемью фунтами. Теобальд
наконец решил, что необходимо заявить протест, и, воспользовавшись случаем, в
день их серебряной свадьбы сообщил Кристине, что ее задолженность снята,
одновременно попросив, чтобы она постаралась впредь уравнивать свои
расходы с доходами. Она залилась слезами любви и благодарности, уверяя его, что
он самый лучший и благороднейший из людей, и никогда в течение всей
своей последующей замужней жизни не задолжала ни единого шиллинга.
По отношению ко всяческим переменам Кристина испытывала не меньшую
ненависть, чем ее муж. Они с Теобальдом имели в этом мире почти все, чего
могли пожелать, так зачем же люди хотят вводить разные новшества, результат
которых невозможно предвидеть? Религия, по ее глубокому убеждению, давно
достигла окончательной точки своего развития, да и не могла зародиться в душе
разумного человека идея веры более совершенной, чем проповедуемая
Англиканской церковью. Кристина не могла вообразить положения более почетного, чем
положение жены священника, если не считать положения жены епископа.
Принимая во внимание влияние отца Теобальда, нельзя было полностью исключить,
что в один прекрасный день Теобальд может сделаться епископом, — и тогда...
Но тут ей приходила на ум мысль о маленьком изъяне в практике Англиканской
церкви — изъяне не самой доктрины, но политики, которую в данном случае
Кристина вообще-то считала ошибочной.
Я имею в виду тот факт, что по вине Елизаветы, скверной женщины
весьма сомнительной нравственности и тайной папистки, жена епископа не
получает статуса своего мужа6. Возможно, люди должны быть выше соображений
мирского почета, но мир так устроен, что с подобными вещами принято
считаться, правильно это или неправильно. Влияние Кристины как простой
миссис Понтифекс, жены, скажем, епископа Винчестерского, было бы, без
сомнения, значительным. Женщина с таким характером, как у нее, не могла не
приобрести авторитета, окажись она в среде достаточно заметных персон. Но
разве можно сомневаться, что в качестве леди Винчестер или епископессы, что
звучало бы совсем неплохо, ее возможность творить добро стала бы
неизмеримо шире? И что всего прекраснее — будь у нее дочь, та не смогла бы
называться епископессой, пока тоже не вышла бы замуж за епископа, что
маловероятно.
Такие мысли посещали Кристину, когда она пребывала в хорошем
настроении. Но, нужно отдать ей должное, она порой сомневалась, является ли во всех
отношениях столь духовно возвышенной, сколь следует быть. Ей надо
стремиться духом все выше и выше, пока все враги, мешающие ее спасению, не будут
60
Путь всякой плоти
побеждены и сам сатана не падет поверженный под стопу ее7. Однажды в ходе
таких размышлений ей пришло в голову, что она могла бы опередить
некоторых своих современников, если бы прекратила есть кровяную колбасу, которой
всякий раз, как закалывали свинью, до настоящего времени отведывала вволю,
а также если бы проследила за тем, чтобы к столу не подавали никакой
домашней птицы, которой скручивают шею, а лишь такую, которой перерезают
горло и позволяют стечь крови. Святой Павел и Иерусалимская церковь
настоятельно требовали, чтобы даже новообращенные язычники воздерживались от
употребления в пищу удушенных тварей и крови8, и причисляли этот запрет к
запрету такого греха, в гнусности которого не может быть никаких сомнений;
поэтому хорошо бы впредь воздержаться и посмотреть, последует ли какой-
нибудь примечательный духовный результат. И она в самом деле
воздерживалась, пребывая в уверенности, что со дня своего решения почувствовала себя
сильнее, чище сердцем и во всех отношениях возвышеннее духом, чем когда-
либо прежде. Теобальд, в отличие от нее, не придавал этому так много
значения, но, поскольку жена решала, что ему есть на обед, она смогла
позаботиться о том, чтобы и он не ел удушенных домашних птиц. Что же касается
кровяной колбасы, то он, к счастью, видел в детстве, как ее готовят, и так и не смог
преодолеть отвращения к ней. Кристина сокрушалась, что данный запрет не
соблюдают более широко. Именно в этом направлении она в качестве леди
Винчестер могла бы сделать то, что простой миссис Понтифекс безнадежно
было и затевать.
Так эта достойная пара влачила месяц за месяцем, год за годом. Читатель,
если он уже миновал первую половину жизни и имеет знакомых в среде
духовенства, вероятно, может припомнить великое множество пасторов и
пасторских жен, ничем существенно не отличающихся от Теобальда и Кристины.
Исходя из воспоминаний и опыта, охватывающего почти восемьдесят лет с той
поры, когда я сам был ребенком в доме приходского священника, должен
сказать, что я изобразил скорее лучшую, чем худшую сторону жизни
английского деревенского пастора, какой она была около пятидесяти дет назад. Однако
допускаю, что таких людей уже не встретишь в наши дни. Более дружной и в
общем-то более счастливой пары невозможно было сыскать во всей Англии.
Лишь одна печаль омрачала первые годы их семейной жизни: я имею в виду
тот факт, что у них никак не рождались дети.
Глава 17
С течением времени и эта печаль миновала. На пятом году брака Кристина
благополучно разрешилась от бремени мальчиком. Это произошло шестого
сентября 1835 года.
Новость немедленно сообщили старому мистеру Понтифексу, который
воспринял ее с истинным удовлетворением. Жена его сына Джона рожала
только дочерей, и мистер Понтифекс был серьезно обеспокоен тем, как бы не ос-
Глава 17
61
таться без потомков по мужской линии. Следовательно, хорошая весть была
вдвойне желанной и вызвала столько же радости в Элмхерсте, сколько тревоги
на Уоборн-сквер, где жило тогда семейство Джона Понтифекса.
Там эту прихоть фортуны восприняли как особенно жестокую из-за
невозможности открыто негодовать на нее. Но обрадованного деда нисколько не
заботили чувства семейства Джона Понтифекса: он хотел внука, и он получил
внука, этого для всех должно быть достаточно. Теперь, когда миссис Теобальд
Понтифекс сделала хороший почин, она может родить ему еще внуков, что
было бы желательно, поскольку он не мог чувствовать себя в безопасности,
пока их будет меньше трех.
Старик позвонил в колокольчик, вызывая дворецкого.
«Гэлстрэп, — сказал он торжественно, — я хочу спуститься в погреб».
И вот Гэлстрэп пошел со свечой впереди хозяина, и тот вступил в подвал,
где хранил отборные вина.
Он шествовал мимо многочисленных клетей с бутылками. Там были портвейн
1803 года, императорское токайское 1792 года, бордо 1800 года, херес 1812 года.
Все эти вина, как и многие другие, остались позади: ведь вовсе не ради них
глава семейства Понтифекс спустился в подвал. В клети, которая казалась пустой,
пока свет поднесенной к ней свечи полностью не осветил ее, находилась одна-един-
ственная бутылка емкостью в пинту. Это и был предмет поисков мистера
Понтифекса.
Гэлстрэп частенько ломал голову над тайной этой бутылки. Мистер
Понтифекс самолично поставил ее туда примерно двенадцать лет назад,
возвратившись как-то от своего друга, знаменитого путешественника доктора Джонса, но
на клети не было никакой таблички, которая могла бы дать ключ к разгадке
ее содержимого. Не раз, когда хозяин уходил из дому, случайно позабыв
ключи, что иногда с ним приключалось, Гэлстрэп подвергал бутылку всяческим
исследованиям, на которые только мог отважиться, но она была столь
тщательно запечатана, что доступ к знанию оставался совершенно закрыт с того
входа, у которого Гэлстрэп был бы более всего рад с ним встретиться, и
фактически со всех других входов, ибо он вообще ничего не мог выяснить.
И вот теперь тайна должна была раскрыться. Но, увы, казалось, будто
последний шанс получить хотя бы глоток содержимого должен исчезнуть
навсегда, поскольку мистер Понтифекс взял бутылку и после тщательного досмотра
печати поднес к свету. Он улыбнулся и отошел от клети с бутылкой в руках.
И тут произошла катастрофа. Он споткнулся о пустую корзину.
Послышался звук падения, звон разбитого стекла, и в одно мгновение пол погреба
оказался залит жидкостью, которая столь бережно хранилась так много лет.
Со свойственным ему присутствием духа мистер Понтифекс произнес,
задыхаясь от гнева, что прогонит Гэлстрэпа. Затем он встал и топнул ногой, как
это сделал Теобальд, когда Кристина не хотела заказывать ему обед.
— Это вода из Иордана!1 — прогремел он в ярости. — Вода, которую я берег
для крещения моего старшего внука! Черт тебя побери, Гэлстрэп, как смел ты
проявить столь дьявольскую небрежность, чтобы оставить эту корзину валяться
в погребе?
62
Путь всякой плоти
Удивительно, как вода из священного потока не поднялась с пола погреба
и не укорила его. Гэлстрэп впоследствии говорил другим слугам, что от
ругательств хозяина у него кровь стыла в жилах.
Но в тот же момент, едва услышав слово «вода», он пришел в себя и
помчался в кладовую. Прежде чем хозяин успел заметить его отсутствие, он
возвратился с маленькой губкой и тазом и начал собирать воды Иордана, как если б это
были обычные помои.
— Я профильтрую ее, сэр, — сказал Гэлстрэп кротко, — она станет совсем
чистой.
Мистер Понтифекс усмотрел надежду в этом предложении, которое было
вскоре осуществлено в его присутствии с помощью куска фильтровальной
бумаги и воронки. В конечном счете оказалось, что полпинты спасены, и это было
сочтено достаточным.
Затем он занялся приготовлениями к визиту в Бэттерсби. Он распорядился
подготовить большие корзины со съестными припасами самого лучшего
качества, а одну из больших корзин наполнил отборными винами. Я говорю
«отборными», а не «отборнейшими», ибо, хотя в приступе первоначального восторга
мистер Понтифекс отобрал лучшие из своих вин, все же по зрелом
размышлении он пришел к выводу, что во всем хороша мера, и поскольку он
расстается со своей превосходной водой из Иордана, то отправлять первосортные вина
вовсе не обязательно.
Перед поездкой в Бэттерсби мистер Понтифекс пару дней провел в
Лондоне, что случалось теперь редко, ведь ему уже перевалило за семьдесят и он
практически отошел от дел. Джон Понтифекс с супругой, зорко следившие за ним,
узнали, к своему огорчению, что старик встречался со своими поверенными.
Глава 18
Впервые в жизни Теобальд чувствовал, что сделал что-то правильное и может
без тревоги ожидать встречи с отцом. Старый джентльмен действительно
написал ему чрезвычайно сердечное письмо, объявляя о своем намерении стать
крестным отцом мальчика. Впрочем, стоит привести послание целиком, ибо оно
показывает автора во всей красе. Вот текст:
Дорогой Теобальд!
Твое письмо доставило мне истинное наслаждение, тем более что я уже
приготовился к самому худшему. От всей души поздравляю невестку и тебя.
Я долгое время хранил сосуд с водой из Иордана для крещения моего
первого внука, буде Господу угодно даровать мне его. Воду дал мне мой старый
друг доктор Джонс. Ты согласишься со мной, что, хотя действенность этого
таинства не зависит от источника крестильных вод, все же, ceteris paribus*,
* при прочих равных условиях (лат.).
Глава 18
63
существует некое особое отношение к водам Иордана, от которого нельзя
отмахнуться. Маленькие детали, подобные этой, иногда влияют на ход всей
будущей жизни ребенка.
Я привезу с собой своего повара и уже велел ему приготовить все к обеду
по случаю крестин. Пригласи своих лучших соседей — столько, сколько
поместится у тебя за столом. Между прочим, я велел Лесюэру не покупать омара —
лучше тебе самому поехать и купить его в Солтнессе (Бэттерсби располагалось
всего в четырнадцати—пятнадцати милях от морского побережья): омары там
лучше, чем где-либо в Англии, — по крайней мере, я так думаю.
Я выделил кое-что вашему мальчику на случай достижения им двадцати
одного года. Если твой брат Джон будет продолжать производить на свет
только девочек, то, возможно, позднее я сделаю больше, но на меня рассчитывают
многие, а дела мои не так хороши, как ты, может быть, воображаешь.
Твой любящий отец
Дж. Понтифекс
Несколько дней спустя автор приведенного письма явился в Бэттерсби в
пролетке, доставившей его из Гилденхэма, отстоявшего от Бэттерсби на
расстоянии четырнадцати миль. С ним приехал повар Лесюэр, поместившийся на
козлах рядом с кучером, и такое множество корзин, какое могла выдержать
пролетка; их поставили на крышу и воткнули везде, где только можно. На
следующий день должны были прибыть Джон Понтифекс с супругой, Элиза
и Мария, а также Алетея, которой по ее собственной просьбе предстояло стать
крестной матерью мальчика. Раз мистер Понтифекс решил, что следует
устроить счастливый семейный праздник, то все должны приехать и излучать
счастье, иначе им же хуже. На другой день виновника всей этой суматохи
действительно окрестили. Теобальд предложил назвать его Джорджем в честь мистера
Понтифекса-старшего, но, как ни странно, мистер Понтифекс отклонил это
предложение в пользу имени Эрнест. Слово только начинало входить в моду1,
и он считал, что обладание таким именем, как и крещение в воде из Иордана,
может быть, станет оказывать постоянное воздействие на характер мальчика
и благотворно влиять на него в решающие периоды жизни.
Меня попросили быть его вторым крестным, и я обрадовался случаю
встретиться с Алетеей, с которой не виделся несколько лет, но поддерживал
постоянную переписку. Мы с ней были друзьями еще с той поры, когда вместе играли
детьми. Когда со смертью дедушки и бабушки порвалась ее связь с Пейлхэмом,
мое близкое знакомство с семьей Понтифекс поддерживалось благодаря тому,
что я учился в школе и колледже с Теобальдом. Всякий раз, встречая Алетею,
я восхищался ею все больше и больше как самой доброй, самой ласковой,
самой остроумной, самой милой и, на мой взгляд, самой красивой женщиной,
которую мне когда-либо доводилось видеть. Никто из Понтифексов не был
обделен привлекательностью, все в этой семье отличались ростом и
стройностью, но Алетея даже по части внешности была украшением семьи, а что
касается всех прочих качеств, делающих женщину милой и приятной, то создава-
64
Путь всякой плоти
лось впечатление, будто запас, предназначавшийся трем дочерям и которого
вполне бы хватило на всех троих, целиком достался ей одной: сестры не
получили ничего, а она — все.
Не стану объяснять, как получилось, что мы с ней так и не поженились. Мы
оба хорошо знали причину, и этого читателю должно быть достаточно.
Между нами существовало идеальное взаимопонимание; мы знали, что ни один из
нас не вступит в брак с кем-либо другим. Я тысячу раз просил ее выйти за меня
замуж. Сказав так много, я не намерен более распространяться на эту тему,
которая вовсе не является необходимой для развития повествования. В
последние несколько лет существовали сложности, служившие помехой для наших
встреч, и я не виделся с Алетеей, хотя, как уже говорил, постоянно
поддерживал с ней переписку. Естественно, я был несказанно счастлив повстречать ее
снова. К тому времени ей уже исполнилось тридцать лет, но я находил ее
красивее, чем когда-либо.
Ее отец, разумеется, царил на этом торжестве, как царит лев в мире зверей.
Но, видя, что все мы кротки и вполне готовы быть съеденными, он рычал
скорее по привычке, чем действительно выражая недовольство нами. Это было
впечатляющее зрелище — видеть, как он засовывает салфетку под свой
розовый старческий второй подбородок и расправляет ее на широкой груди поверх
жилета, а яркий свет люстры, подобно звезде Вифлеема2, играет на шишке
благоволения3 на лысой голове старика.
Подали суп из настоящей черепахи. Старый джентльмен был несомненно
очень доволен и начал являть себя публике. Гэлстрэп стоял позади стула
своего хозяина. Я сидел по левую руку от миссис Теобальд Понтифекс и
размещался, следовательно, прямо напротив ее свекра, имея полную возможность
наблюдать его.
Если бы задолго до того у меня не сложилось на его счет совершенно
определенного мнения, то в первые десять минут, пока не был съеден суп и не
подали рыбу, мне бы, вероятно, могло показаться, что это милейший старик и
дети должны им гордиться. Но когда он приступил к омару под соусом, то
неожиданно побагровел, на его лице появилось выражение крайней досады, и
он метнул два быстрых, но испепеляющих взгляда в оба конца стола: один —
на Теобальда, другой — на Кристину. Они, бедные простаки, разумеется,
поняли, что допущена какая-то ужасная оплошность. То же понял и я, но не мог
догадаться, в чем дело, пока не услышал, как старик шипит на ухо Кристине:
— Блюдо приготовлено не из самки омара. Что толку, что я назвал
мальчика Эрнестом и устроил крещение его в воде из Иордана, если его собственный
отец не в состоянии отличить самца омара от самки?
Это глубоко огорчило и меня, ибо до того момента я не только не
подозревал, что среди омаров существуют самцы и самки, но и мнил, будто в деле
супружества они как ангелы на небесах4, а зарождаются едва ли не
самопроизвольно из камней и морских водорослей.
Прежде чем было покончено со следующим блюдом, к мистеру Понтифексу
вернулось благодушие, и с того момента он до конца вечера пребывал в уда-
Глава 18
65
ре. Рассказал нам историю воды из Иордана: как она в глиняном кувшине была
привезена доктором Джонсом вместе с кувшинами воды из Рейна, Роны,
Эльбы и Дуная, и какие неприятности имел он из-за них на таможнях, и как
возникло намерение на пирушке приготовить пунш с водой из всех самых больших
рек Европы, и как он, мистер Понтифекс, уберег воду Иордана и не дал ей
попасть в чашу с пуншем, и т. д., и т. п.
— Нет, нет, нет, — продолжал он, — этого, знаете ли, вовсе бы не сделали:
весьма нечестивая затея. Ну и каждый из нас взял по пинте этой воды домой,
а пунш без нее получился куда как лучше. Однако на днях я лишь по
счастливой случайности не лишился моей бутылки: когда доставал ее, чтобы
привезти в Бэттерсби, споткнулся о корзину в погребе, и если бы не проявил
величайшую осторожность, бутылка непременно разбилась бы, но я спас ее.
И все это время Гэлстрэп стоял позади его стула!
Ничего, что привело бы мистера Понтифекса в раздражение, более не
произошло, так что мы провели восхитительный вечер, который часто
вспоминался мне, следившему за событиями жизни моего крестника.
Я заехал через день-другой и застал старого мистера Понтифекса все еще в
Бэттерсби: он занемог из-за приступов боли в печени и уныния, которым все
более становился подвержен. Я остался на завтрак. Старый джентльмен был не
в духе, угодить ему стало очень непросто. Он не мог ничего есть — совершенно
утратил аппетит. Кристина пыталась задобрить его сочной бараньей отбивной.
— Как, во имя здравого смысла, можно просить меня съесть баранью
отбивную?! — воскликнул он сердито. — Вы забываете, моя дорогая Кристина, что
имеете дело с желудком, который совершенно расстроен. — И он оттолкнул от
себя тарелку, дуясь и хмурясь, как капризное престарелое дитя.
Теперь, с высоты обретенного опыта, мне кажется, что я должен был видеть
в этом не что иное, как нарастание мировых скорбей, нарушение равновесия,
неизбежно сопровождающее переход человеческих существ из одного
состояния в другое. Думаю, ни один листок в мире не желтеет осенью без того,
чтобы, утрачивая день за днем свою жизнеспособность, не докучать родимому
дереву долгим брюзжанием и ворчанием. Но наверняка природа могла бы
найти некий менее раздражающий способ ведения дел, если бы приложила к
тому старания. Почему поколения вообще должны частично совпадать по
времени друг с другом? Почему бы нам не быть упрятанными, как яйца, в
аккуратные маленькие ячейки, и не быть завернутыми в банкноты Английского
банка на сумму десять—двадцать тысяч фунтов на каждого, и не оживать, как
оса, которая обнаруживает, что ее батюшка и матушка не только оставили ей
обильный запас провизии, но и были съедены воробьями за несколько недель
до того, как она начинает жить своей собственной сознательной жизнью?
Приблизительно года через полтора удача изменила Бэттерсби, ибо миссис
Джон Понтифекс благополучно разрешилась от бремени мальчиком. А
примерно годом позднее самого Джорджа Понтифекса внезапно сразил паралич,
почти так же, как это случилось с его матерью, но он не дожил до ее лет.
Когда вскрыли его завещание, обнаружилось, что первоначально назначенное Те-
66
Путь всякой плоти
обальду наследство, составлявшее двадцать тысяч фунтов (сверх суммы,
выделенной ему и Кристине по случаю свадьбы), сократилось до семнадцати с
половиной тысяч после того, как мистер Понтифекс оставил «кое-что» Эрнесту.
«Кое-что» оказалось суммой в две с половиной тысячи фунтов, которой
предстояло накапливаться под надзором попечителей. Оставшееся имущество
отходило Джону Понтифексу, за исключением того, что каждой из дочерей было
оставлено по пятнадцати тысяч фунтов, помимо сумм в пять тысяч, которые
они унаследовали от матери.
Следовательно, отец Теобальда сказал правду, но не всю. Тем не менее
какое право имел Теобальд жаловаться? Конечно, было довольно жестоко
заставить его думать, что он и его семья выйдут победителями и обретут честь
и славу наследства, когда на деле деньги все время только вынимались из
кармана самого Теобальда. С другой стороны, отец, несомненно, возразил бы, что
никогда не говорил Теобальду, что тот вообще должен получить что-нибудь:
он имел полное право делать со своими деньгами все что угодно; не его вина,
что Теобальд решил предаваться безосновательным надеждам. Как бы то ни
было, он, отец, щедро его оделил, а если и изъял при этом две с половиной
тысячи фунтов из доли Теобальда, то все же оставил их сыну самого
Теобальда, что в конечном счете, разумеется, одно и то же.
Невозможно отрицать, что завещатель со своей стороны был совершенно в
своем праве! Однако читатель согласится со мной, что Теобальд и Кристина,
вероятно, не сочли бы обед по случаю крещения столь великим успехом, если
бы им тогда были известны все факты, открывшиеся позднее. Мистер
Понтифекс при жизни поставил в элмхерстской церкви памятник своей жене
(плиту с урнами и херувимами, похожими на незаконнорожденных детей короля
Георга IV, и всем прочим), а под эпитафией супруге оставил место для
собственной эпитафии. Не знаю, сочинил ли ее кто-то из его детей или они доверили
написать ее кому-нибудь из друзей. Не думаю, чтобы замышлялась какая-либо
сатира. Полагаю, целью эпитафии было сообщить, что ничто, вплоть до
Судного дня, не сможет дать кому-либо полного представления о том, каким
добродетельным человеком был мистер Понтифекс, но при первом прочтении мне
трудно было поверить, что в ней не скрыт подвох.
Эпитафия начинается датами рождения и смерти. Затем говорится, что
покойный много лет был главой фирмы «Фэйрли и Понтифекс», а также
прихожанином церкви в Элмхерсте. В этих строках нет ни слова ни хвалы, ни
хулы. А последние строки звучат так:
Ныне он почиет
в чаянии радостного воскрешения
в день последний.
Каким человеком он был,
тот день покажет'.
Глава 19
67
Глава 19
А покуда тот день не настал, мы можем, по крайней мере, сказать между тем,
что, дожив почти до семидесяти трех лет и умерев богатым, он пребывал,
должно быть, в полной гармонии со своей средой. Я слышал, как порой говорят, что,
мол, жизнь такого-то человека — сплошная ложь. Но ничья жизнь не может
быть очень уж большой ложью: пока жизнь вообще длится, она в худшем
случае на девять десятых правда.
Жизнь мистера Понтифекса не только длилась долго, но и была
благополучной до самого конца. Разве этого недостаточно? Пока мы пребываем в этом
мире, разве наше само собой разумеющееся занятие состоит не в том, чтобы
извлечь максимум выгоды из предложенных обстоятельств: замечать то, что
bona fide* ведет к долгой и благополучной жизни, и действовать
соответственно? Все животные, кроме человека, знают, что главное в жизни — наслаждаться
ею. Они и наслаждаются в той мере, в какой им позволяют это человек и
другие обстоятельства. Лучше всего прожил жизнь тот, кто более всего ею
наслаждался: Бог позаботится о том, чтобы мы не наслаждались больше, чем это нам
полезно. Если мистера Понтифекса и следует в чем-то обвинить, так это в том,
что он не ел и не пил меньше, а следовательно, не страдал меньше от своей
печени и не прожил, пожалуй, на год-два дольше.
Добродетель бесполезна, если не ведет к долголетию и достатку. Я говорю
в широком смысле и exceptis excipiendis**. Так, псалмопевец утверждает:
праведники «не терпят нужды ни в каком благе»1. Либо это просто поэтическая
вольность, либо из этого следует, что тот, кто испытывает недостаток в каком-
либо благе, не праведник. Есть также основания полагать, что тот, кто прожил
долгую жизнь, не испытывая недостатка в каком-либо благе, и сам был
достаточно хорош с практической точки зрения.
Мистер Понтифекс не испытывал недостатка ни в чем, чего более всего
хотел. Правда, он, возможно, был бы счастливее, если бы хотел того, чего не
хотел, но дело здесь именно в этом «если бы». Все мы грешны в том, что
упускали случай достичь такого благополучия, какого легко могли бы добиться, но
мистера Понтифекса это не особенно заботило, и он не много бы приобрел,
получив то, в чем не имел потребности.
Дурно швырять людям корм, предназначенный для свиней2, но хуже всего,
когда это делают, чтобы польстить добродетели, как если бы ее истинное
происхождение недостаточно хорошо для нее и ее надо непременно наделить
родословной, возведеннной, так сказать, духовными герольдмейстерами к
такому истоку, к которому она не имеет никакого отношения. Истинное же
происхождение добродетели древнее и благороднее любого выдуманного. Она
проистекает из опыта собственного благополучия человека, а подобный опыт —
пусть и не самое достоверное, но все же наиболее достоверное из всего, чем мы
* Здесь: в самом деле (лат.).
* исключая подлежащее исключению (лат.).
68
Путь всякой плоти
располагаем. Система, которая не может устоять на столь надежном
фундаменте, как этот, таит в себе такую внутреннюю неустойчивость, что свалится с
любого пьедестала, на какой бы мы ее ни поставили.
Давно решено, что нравственность и добродетель — это то, что в конце
концов приносит человеку покой. «Будь добродетелен, — гласит прописная
истина, — и будешь счастлив». Разумеется, коль скоро то, что принимают за
добродетель, часто оказывается несостоятельным в данном отношении, то это лишь
коварная форма порока, а ежели то, что считается пороком, приносит человеку
на склоне жизни не очень серьезный вред, то это не такой уж тяжкий порок,
каким его считают. К сожалению, хотя все мы согласны с общим мнением, что
добродетель — это то, что ведет к счастью, а порок — то, что приводит к
печальному концу, мы не столь единодушны насчет деталей, то есть насчет того,
ведет ли какой-то определенный образ действий, скажем, курение, к счастью или
к его противоположности.
На основе моих собственных скромных наблюдений я утверждаю, что
проявление родителями чрезмерной суровости и эгоизма по отношению к детям
не влечет за собой, как правило, вредных последствий для самих родителей.
Они, бывает, омрачают жизнь своих детей многие годы, не подвергаясь при
этом каким-либо страданиям, причиняющим боль им самим. Должен,
следовательно, сказать, что, если родители до известных пределов превращают жизнь
своих детей в тяжкое бремя, это не значит, что родители допускают серьезное
отступление от норм морали.
Мистер Понтифекс не был очень возвышенной натурой, да от обычных
людей и не требуется обладать очень уж возвышенной натурой. Достаточно,
если у нас тот же моральный и душевный строй, что и у «большинства» или у
«средних», то есть самых рядовых людей.
А вся суть дела заключается в том, что богачи, доживающие до старости,
всегда оказываются средними людьми. Величайшие и мудрейшие из людей
почти всегда на поверку окажутся самыми средними — теми, кто лучше всех
держался «середины» между избытком как добродетели, так и порока. Вряд ли
они когда-нибудь достигли бы благополучия, если бы не поступали так, а
учитывая, сколь многие в общем терпят неудачу, не такое уж малое достижение
для человека оказаться не хуже своих ближних. Гомер повествует нам о том,
кто сделал своей целью всегда превосходить других людей и возвышаться над
ними3. Каким необщительным, неприятным человеком он наверняка был!
Герои Гомера, как правило, заканчивали плохо, и не сомневаюсь, что и этого
джентльмена, кто бы он ни был, рано или поздно ждало то же самое4.
Превосходство над другими предполагает обладание редкостными
добродетелями, а редкостные добродетели подобны редким растениям или животным,
то есть таким, которые оказались не в состоянии выжить в этом мире.
Добродетель, чтобы быть стойкой и пригодной к длительному употреблению,
должна, подобно золоту, быть сплавлена с каким-нибудь менее благородным, но
более прочным металлом.
Люди разделяют порок и добродетель, словно это две вещи, не имеющие
между собой ничего общего. Это не так. Нет ни одной полезной добродетели,
Глава 19
69
в которой не содержится некоторой примеси порока, и едва ли существует
порок, не несущий в себе хоть чуточку добродетели: добродетель и порок,
подобно жизни и смерти или духу и материи, не могут существовать друг без
друга. Самая полнокровная жизнь таит в себе смерть, а мертвое тело еще во
многих отношениях продолжает жить. Да ведь и сказано же: «Если ты,
Господи, будешь замечать беззаконие»5, из чего следует, что даже самый высокий
идеал, какой мы в силах вообразить, все же способен допустить такой
компромисс с пороком, благодаря которому злоупотребления, если они не чрезмерны,
получают авторитетное покровительство6. Всем известно, что порок платит дань
добродетели. Мы называем это лицемерием. Следовало бы найти слово и для
дани, которую добродетель не так уж редко платит — или, во всяком случае,
которую ей благоразумно было бы платить — пороку.
Допускаю, что некоторые люди склонны видеть счастье в обладании тем,
что называют высочайшей нравственностью. Но если они выбирают этот путь,
то должны довольствоваться тем, что награда за добродетель — в самой
добродетели, и не роптать, если обнаружат, что высокое донкихотство — это
дорогое удовольствие, награда за которое принадлежит царству не от мира сего7.
Они не должны удивляться, если их попытки извлечь максимальную выгоду из
обоих миров окажутся неудачными, — какие сомнения ни имелись бы у нас
относительно подробностей рассказов, сообщающих о возникновении
христианства, все же большая часть христианского учения останется истинной,
независимо от наших сомнений. Мы не можем служить Богу и маммоне: узок путь
и тесны врата, ведущие к обладанию8 тем, что живущие верой признают
наивысшей ценностью, и об этом не скажешь лучше, чем в Библии. Возможно, есть
люди, думающие таким образом, как в коммерции, возможно, существуют
спекулянты, которые будут часто обжигаться, но быть того не может, чтобы
большинство оставило «середину» и проторенный путь.
Для большинства людей и в большинстве случаев наслаждение — ощутимое
материальное благополучие в этом мире — является самым надежным
критерием добродетели. Прогресс всегда достигался скорее благодаря
наслаждениям, чем высочайшим добродетелям9, а самые добродетельные склонялись
более к излишествам, нежели к аскетизму. Говоря языком делового мира,
конкуренция столь остра, а размеры прибыли ограничены такими узкими рамками,
что добродетель не может позволить себе упустить хоть один bona fide* шанс
и должна основываться в своих действиях скорее на получении наличности с
каждого поступка, чем на неких заманчивых проектах. Следовательно, она не
станет пренебрегать, как некоторые люди, достаточно благоразумные и
проницательные в других делах, таким важным фактором, как имеющаяся у нас
возможность избежать разоблачения или, во всяком случае, сначала умереть.
Разумная добродетель оценит эту возможность по достоинству, не выше не
ниже.
В конце концов, наслаждение — более верный ориентир, чем правда или
долг. Ибо как ни трудно понять, что доставляет нам наслаждение, часто еще
* Здесь: действительный, реальный [лат.).
70
Путь всякой плоти
труднее распознать, в чем состоят правда и долг, а если мы допустим насчет
них ошибку, то это приведет нас к такому же плачевному состоянию, как и
ошибочное мнение насчет наслаждения. Когда люди обжигаются, идя путем
наслаждения, им легче выяснить, в чем они ошиблись, и понять, где сбились с
пути, чем когда они обожглись, следуя воображаемому долгу или
воображаемому представлению об истинной добродетели. Дьявола же, выступающего в
обличье ангела, могут разоблачить только исключительно опытные знатоки, а
он столь часто принимает это обличье, что вступать в беседы с ангелами едва
ли вообще безопасно, и благоразумные люди предпочитают придерживаться
наслаждения как более простого, но и более приемлемого и в целом намного
более надежного ориентира.
Возвращаясь к мистеру Понтифексу, скажем, что он не только прожил
долгую и благополучную жизнь, но и оставил многочисленных потомков,
каждому из которых передал как свои физические и душевные качества в тех или
иных допустимых вариациях, так и немалую долю того, что не так легко
передается по наследству, — я имею в виду денежные средства. Можно сказать, что
он обзавелся ими, спокойно сидя и позволяя деньгам плыть, так сказать,
прямо ему в руки. Но ведь как много людей, не способных ухватить деньги,
когда те и правда плывут им в руки, или пусть даже и удерживающих их на
короткое время, но не умеющих так слиться с ними воедино, чтобы деньги
перешли через них к их потомству! А мистеру Понтифексу это удалось. Он
сохранил то, что, можно сказать, заработал, а деньги, подобно славе, легче
заработать, чем сохранить.
Итак, как человека во всем значенье слова10 я не склонен оценивать его так
же строго, как мой отец. Судите его по самому высокому счету, и он
окажется никуда не годен. Судите его по неким справедливым средним критериям, и
найдется не так уж много того, за что к нему стоило бы придраться. Я сказал
в предшествующей главе то, что сказал, и не собираюсь прерывать нить
своего повествования, чтобы повторять это. Оно должно продолжаться без
объявления вердикта, который читатель, может быть, склонен вынести слишком
поспешно не только в отношении мистера Джорджа Понтифекса, но также в
отношении Теобальда и Кристины. А теперь я продолжу мою историю.
Глава 20
Рождение сына открыло Теобальду глаза на многое, о чем до этого он имел лишь
смутное представление. Например, он и знать не знал, как несносны младенцы.
Дети являются в мир в общем-то весьма неожиданно, а явившись, учиняют
ужасный беспорядок: почему бы им не прокрасться к нам без такой встряски
семейного уклада? Вдобавок жена Теобальда нескоро оправилась после родов: в
течение нескольких месяцев ей нездоровилось, и это было еще одной неприятностью,
к тому же дорогостоящей, наносившей урон той сумме, которую Теобальду
нравилось откладывать из своего дохода, как он выражался, на черный день или на
Глава 20
71
содержание детей, появись они у него. Теперь у него появился ребенок, так что
откладывать деньги стало тем нужнее, а младенец-то как раз и мешал этому.
Пусть теоретики сколько угодно рассуждают о том, что дети — продолжение
своих родителей, но, как правило, на поверку окажется, что у тех, кто такое
говорит, детей как раз нет. Семейные люди лучше знают, как обстоит дело.
Месяцев через двенадцать после рождения Эрнеста на свет появился второй
ребенок, тоже мальчик, которого нарекли Джозефом, а еще менее года
спустя — девочка, которой дали имя Шарлотта1. За несколько месяцев до
рождения девочки Кристина гостила в семействе Джона Понтифекса в Лондоне и,
учитывая свое положение, проводила много времени на выставке в
Королевской академии, разглядывая типы женской красоты, изображенной
академиками, поскольку решила, что на сей раз должна родиться девочка. Алетея
убеждала ее не делать этого, но она упорствовала, и ребенок конечно же родился
неказистым, но, были картины причиной тому или нет, судить не берусь.
Теобальд никогда не любил детей. Он всегда избегал их, как только мог, и
они тоже избегали его. О, почему бы, — имел он обыкновение задаваться
вопросом, — детям не рождаться на свет уже взрослыми? Если бы Кристина могла
родить нескольких совершеннолетних духовных особ в сане священника — с
умеренными взглядами, но склоняющихся скорее к евангелической доктрине,
с выгодными приходами и во всех отношениях являющих собой копию
самого Теобальда: ведь в этом же, ей-богу, было бы больше смысла! Или если бы
люди могли покупать уже готовых детей в лавке, любого возраста и пола, по
своему усмотрению, а не вынуждены были производить их на дому, каждый раз
начиная все с самого начала, — это было бы куда лучше; но нынешнее
положение вещей Теобальду не нравилось. Он чувствовал то же, что и тогда, когда от
него потребовалось взять да и жениться на Кристине: он долгое время жил
вполне сносно и намного охотнее оставил бы все по-прежнему. Когда-то он
должен был скрывать нежелание жениться, но времена изменились, и теперь, если
ему что-то не нравилось, он мог найти сотню безупречных способов выразить
свое неудовольствие.
Вероятно, было бы лучше, если бы в более молодые годы Теобальд больше
восставал против своего отца. То обстоятельство, что он не делал этого,
побуждало его ожидать беспрекословного повиновения от собственных детей. Он мог
надеяться, говорил он (и то же говорила Кристина), что будет более терпим,
чем, пожалуй, был к нему его отец. Опасность для него, продолжал Теобальд
(и Кристина вновь вторила ему), состоит скорее в том, чтобы не оказаться
излишне снисходительным. Следует остерегаться этого, ибо нет обязанности
важнее, чем научить ребенка во всем слушаться родителей.
Незадолго до того Теобальд читал об одном путешественнике по Востоку,
который, исследуя отдаленные районы Аравии и Малой Азии, наткнулся на
необыкновенно выносливую, воздержанную, трудолюбивую маленькую
христианскую общину, все члены которой пребывали в полном здравии и оказались
настоящими живыми потомками Ионадава, сына Рехава2. А в скором времени
двое людей, правда в европейской одежде, но говоривших на ломаном англий-
72
Путь всякой плоти
ском и по цвету кожи явные выходцы с Востока, явились, прося подаяния, в
Бэттерсби и назвались членами этой общины. По их словам, они собирали
средства, чтобы содействовать переходу их соплеменников в англиканскую
ветвь христианства. Да, они оказались самозванцами, ибо, когда он дал им
фунт, а Кристина — пять шиллингов из собственного кошелька, они пошли и
пропили эти деньги в ближайшей к Бэттерсби деревне. Тем не менее это не
лишало правдивости историю путешественника по Востоку. А ведь были еще
и древние римляне, чье величие, вероятно, проистекало из неограниченной
власти главы семейства над всеми ее членами. Некоторые римляне даже
убивали своих детей3. Это было уж слишком, но ведь римляне не были
христианами и не придумали ничего лучше.
Практическим результатом вышесказанного была внутренняя убежденность
Теобальда, а следовательно, и Кристины, что их обязанность — направлять
детей на путь истинный уже с самых ранних лет жизни. Нужно зорко
подмечать первые признаки своеволия и тотчас же с корнем их вырывать, чтобы они
не успели пуститься в рост. Теобальд подхватил эту метафору — окоченевшую
змею и отогрел ее на своей груди.
Эрнест едва умел как следует ползать, а его уже учили коленопреклонению.
Он едва умел как следует говорить, а его уже учили лепетать «Отче наш» и
Символ Веры. Как можно было научить таким вещам в столь раннем
возрасте? Если его внимание рассеивалось или память изменяла ему, это
воспринималось как наличие сорняка, который будет разрастаться, если не вырвать его
немедленно, а единственный способ вырвать его состоял в том, чтобы высечь
ребенка, или запереть в чулан, или лишить каких-нибудь маленьких детских
радостей. До того как Эрнесту исполнилось три года, он умел читать и с
грехом пополам писать, а прежде чем ему исполнилось четыре, начал изучать
латынь и умел пользоваться тройным правилом4.
Что касается самого ребенка, то у него от природы был спокойный нрав. Он
до самозабвения любил свою няню, котят, щенков, да и всех, кто соблаговолил
позволить ему любить себя. Он любил и свою мать, но в отношении отца, как
говорил мне позднее, не может вспомнить никакого чувства, кроме страха и
трепета. Кристина не возражала ни по поводу трудности заданий, которые
Теобальд заставлял выполнять сына, ни даже по поводу постоянной порки, в
коей ежедневно возникала необходимость в часы уроков. Когда же на время
отсутствия Теобальда проведение уроков поручалось ей, она обнаруживала, к
своему сожалению, что порка — единственный выход, и порола сына не менее
усердно, чем сам Теобальд, хотя, в отличие от Теобальда, любила своего
мальчика, и потребовалось немало времени, прежде чем ей удалось искоренить
всякую привязанность к себе в душе своего первенца. Но она была настойчива.
Глава 21
Странно! Ведь она считала, что души в нем не чает, и конечно же любила его
больше, чем кого-либо другого из своих детей. По ее версии происходящего, не
Глава 2 1
73
существовало родителей, столь самоотверженно преданных благу своих
отпрысков, как они с Теобальдом. Эрнеста ждало большое будущее — она была
уверена в этом. Это делало строгость тем более необходимой, чтобы с первых
же лет жизни уберечь его чистоту от всяческой скверны греха. Она не могла
позволить себе увлечься такими неуемными фантазиями, которым, как мы
знаем по книгам, предавалась каждая еврейская мать семейства перед
появлением Мессии — ибо Мессия уже приходил; но вскоре должно было наступить
Второе пришествие, никак не позднее 1866 года, и, значит, Эрнест будет уже
в подходящем возрасте, когда потребуется современный Илия, чтобы
возвестить это Второе пришествие1. Небеса ей порукой, она никогда не страшилась
мысли о ее собственном и Теобальда мученичестве и не станет уберегать от
мученичества своего мальчика, если у нее потребуют его жизнь ради
Искупителя. О нет! Если бы Бог велел ей принести в жертву ее первенца, как велел
Аврааму2, она отвела бы его к Пигбэрийскому маяку и вонзила... Нет, этого она
не смогла бы совершить, да это и не понадобилось бы — кое-кто другой мог бы
это сделать. Недаром же Эрнеста крестили в воде из Иордана. То не было
делом ее рук или Теобальда. Они того не добивались. Когда для священного
дитяти потребовалась вода из священного потока, нашелся путь, по которому
вода эта должна была притечь из далекой Палестины через земли и моря к
двери дома, где лежало сие дитя. Ну конечно же это было чудо! Несомненно!
Несомненно! Теперь она это поняла. Иордан покинул свое русло и притек к ее
порогу. И нелепо считать, что это не было чудом. Никакое чудо не происходит
без тех или иных вспомогательных средств: различие между верующим и
неверующим в том и состоит, что первый способен увидеть чудо там, где второй
никогда не разглядит. Евреи не сумели увидеть никакого чуда даже в
воскрешении Лазаря и кормлении пяти тысяч. Джон Понтифекс с женой не увидели
бы никакого чуда в ситуации с водой из Иордана. Суть чуда не в том, чтобы
обойтись без определенных средств, а в использовании средств для великой
цели, недостижимой без вмешательства: невозможно и предположить, чтобы
доктор Джонс привез ту воду, если бы что-то не направляло его. Она должна
сказать об этом Теобальду и заставить его увидеть в... А все-таки, пожалуй,
лучше не стоит. У женщин в вопросах такого рода интуиция глубже и
безошибочнее, чем у мужчин. Именно женщина, а не мужчина, преисполнилась всей
полноты божественности3. Но почему не сохранили ту воду как сокровище,
после того как использовали? Ее никогда, никогда не следовало выплескивать,
но взяли и выплеснули. Впрочем, пожалуй, это и к лучшему: можно было бы
впасть в искушение чересчур дорожить ею, а это могло бы стать для них
источником духовной опасности, — возможно, даже духовной гордыни — из всех
грехов самого ей отвратительного. Что же касается пути, по которому Иордан
притек в Бэттерсби, то он значит не больше, чем земля, по который река
течет в самой Палестине. Доктор Джонс, конечно, человек суетный, очень
суетный. Таким же, с прискорбием сознавала Кристина, был и ее тесть, хоть и в
меньшей степени. В глубине души, несомненно, будучи человеком духовным,
он становился все более духовным по мере того, как старел, и все же он был
заражен суетностью, за исключением, вероятно, самых последних часов перед
74
Путь всякой плоти
смертью, — тогда как они с Теобальдом отреклись от всего во имя Христа. Они
не были суетны. По крайней мере, Теобальд не был. Она раньше была, но не
сомневалась, что преисполнилась большей благодати с тех пор, как перестала
вкушать удушенных тварей и кровь: это было как омовение в Иордане в
сравнении с омовением в Аване и Фарфаре4, реках дамасских. Ее мальчик
никогда не прикоснется ни к удушенной домашней птице, ни к кровяной колбасе, уж
об этом-то она позаботится. У него должен быть коралл из окрестностей Иоп-
пии5 — на том побережье есть кораллы, так что это можно легко устроить без
больших усилий. Она напишет об этом доктору Джонсу и т. д. И так далее
часами день за днем на протяжении многих лет. Да, миссис Теобальд Понти-
фекс чрезвычайно нежно любила ребенка в меру своих возможностей, но
грезы, посещавшие ее по ночам, оказывались более трезвой действительностью в
сравнении с теми, каким она предавалась наяву.
Эрнесту шел третий год, когда Теобальд, как я уже говорил, начал учить его
читать. И начал пороть спустя два дня после того, как приступил к обучению.
— Это мучительно, — сказал он Кристине, — но только так и можно было
поступить. — Так он и поступил. Ребенок был слаб, бледен и хил, а потому
неоднократно посылали за доктором, который лечил его большими дозами
каломели и джеймсова порошка. Все делалось с любовью, заботой, робостью,
глупостью и нетерпением. Они были глупы в малом, а кто глуп в малом, будет
глуп и в большом.
Вскоре старый мистер Понтифекс умер, и обнаружилось небольшое изме-
неньице, которое он сделал в своем завещании одновременно с выделением
доли наследства Эрнесту. Это было довольно трудно вынести, тем более что
не имелось никакой возможности поделиться своими соображениями с
завещателем теперь, когда он больше не мог вредить им. Что касается самого
мальчика, то каждому должно быть понятно, что это наследство будет для него
неизбьюной бедой. Оставить ему малую толику независимости — это, пожалуй,
самый большой вред, какой только можно причинить молодому человеку. Это
подорвет его энергию и убьет в нем стремление к активной деятельности.
Многих юнцов толкнуло на плохую дорожку сознание того, что по достижении
совершеннолетия они получат несколько тысяч. Уж им-то, родителям, можно
было поверить, что они пекутся об интересах ребенка, им ведь лучше знать, в
чем состоят эти интересы, нежели будет способен понять и он сам по
достижении двадцати одного года. Кроме того, если бы Ионадав, сын Рехава, — или,
может быть, проще в этих обстоятельствах говорить прямо о Рехаве, — если бы,
стало быть, Рехав оставил значительное наследство своим внукам, то Ионада-
ву, возможно, оказалось бы не так легко управиться с этими детьми, и т. д.
— Моя дорогая, — сказал Теобальд, обсудив этот предмет с Кристиной в
двадцатый раз, — моя дорогая, единственное, что мы можем сделать,
испытывая такого рода горести, — это найти прибежище и утешение в трудах
праведных. Пойду-ка я навещу миссис Томпсон.
В такие дни миссис Томпсон сообщалось, что ее грехи отмыты добела и т. д.,
немного поспешнее и немного категоричнее, чем в другие.
Глава 22
75
Глава 22
Я, бывало, наведывался в Бэттерсби на день-другой, когда мой крестник и его
брат с сестрой были детьми. Трудно сказать, чего ради я приезжал, ведь мы с
Теобальдом все более охладевали друг к другу, но человек иногда идет
привычной колеей, и видимость дружбы между мной и Понтифексами продолжала
сохраняться, хотя теперь едва ли не в рудиментарной форме. Мой крестник
нравился мне больше других их детей, но детской резвости в нем было немного,
он походил на хилого маленького старичка — более, чем мне бы того хотелось.
Однако настроены эти юные существа были весьма приветливо.
Помню, как Эрнест и его брат в первый день одного из этих визитов
вертелись вокруг меня с увядающими цветами в руках и наконец протянули их мне.
Тогда я сделал то, чего, полагаю, от меня и ожидали: спросил, есть ли
поблизости лавка, где они могут купить каких-нибудь сластей. Они сказали, что есть,
и я, порывшись в карманах, сумел обнаружить только два пенса и полпенни
мелочи. Это я и дал им, и малыши, одному из которых было четыре, а
другому три года, тотчас же убежали. Вскоре они вернулись, и Эрнест сказал:
— Мы не можем купить сладости на все эти деньги (я почувствовал себя
виноватым, хотя никакого укора в его словах не содержалось). Мы можем
купить на это (он показал пенни) и на это (он показал еще один пенни), но мы
не можем купить их на все это. — И он присоединил полпенни к двум пенсам.
Полагаю, они хотели купить двухпенсовое пирожное или что-то вроде того.
Ситуация показалась мне забавной, и я предоставил им самим справиться с
этой трудностью, желая узнать, как они поступят.
Эрнест спросил:
— Можно, мы отдадим вам это (показывая полпенни) и не отдадим вот это
и это (показывая пенсовые монетки)?
Я согласился, и они, издав радостный вздох облегчения, отправились своей
дорогой. Еще несколько подаренных пенни и маленьких игрушек
окончательно их покорили, и они стали мне доверять.
Они поведали много такого, чего, боюсь, мне не полагалось слышать. Они
сказали, что, если бы их дедушка жил дольше, то, вероятнее всего, получил бы
титул лорда, и тогда бы их папу называли «достопочтенный» и «ваше
преподобие», но дедушка теперь на небесах, и там он с бабушкой Элэби поет красивые
гимны Иисусу Христу, который очень их любит. А когда Эрнест был болен,
мама сказала ему, что не нужно бояться смерти, так как он отправился бы
прямо на небеса, если бы только раскаялся в том, что так плохо делал уроки
и огорчал своего папочку, и если бы обещал никогда, никогда больше не
огорчать его. И что когда Эрнест оказался бы на небесах, то встретился бы с
дедушкой и бабушкой Элэби и навсегда остался бы с ними, и они были бы очень
добры к нему и учили бы его петь такие красивые гимны, намного более
красивые, чем те, которые он теперь так любит, и т. д., и т. п. Но он не хочет
умирать и очень рад, что поправился, потому что на небесах нет котят, и думает,
что там нет и первоцветов, с которыми можно пить чай.
76
Путь всякой плоти
Мать была явно в них разочарована.
— Ни один из моих детей — не гений, мистер Овертон, — сказала она мне как-
то за завтраком. — Они не лишены способностей и благодаря стараниям
Теобальда не по годам развиты, но в них нет ничего от гениальности: гений — это
ведь совсем другое, не так ли?
Разумеется, я подтвердил, что «это совсем другое», но если бы кто-нибудь
мог прочесть мои мысли, то прочел бы следующее: «Дайте мне поскорее кофе,
сударыня, и не говорите чепухи». Я понятия не имею, что такое гений, но,
насколько могу судить, это — глупое слово, которое, на мой взгляд, лучше
оставить научным и литературным клакерам1.
Не знаю в точности, о чем помышляла Кристина, но, склонен вообразить,
о чем-то в этом роде: «Мои дети непременно должны быть гениями, потому что
они мои с Теобальдом дети, и это дурно с их стороны — не быть гениями. Но,
конечно, они не могут быть такими добрыми и умными, как Теобальд и я, и
если бы продемонстрировали признаки того, что они таковы, это было бы
дурно с их стороны. К счастью, впрочем, они не таковы, и все же просто ужасно,
что они не таковы. Что же касается гения — да уж, в самом деле — гений
должен крутить интеллектуальные сальто-мортале, едва лишь появится на свет, а
ни один из моих детей до сих пор не умудрился попасть в газеты. Я не
позволю моим детям изображать из себя важных персон: достаточно и того, что мы
с Теобальдом делаем это...»
Бедняжка, она не понимала, что на истинном величии — плащ-невидимка,
под прикрытием которого оно является средь людей, оставаясь незамеченным:
если такой плащ не скрывает величия от его обладателя навсегда, а от всех
прочих — на многие годы, то величие вскоре сжимается до размеров обычной
посредственности. Что толку тогда, спрашивается, быть великим? Ответ:
благодаря этому можно лучше понимать величие других, как живых, так и
умерших, избрать себе среди них лучшую компанию, избрав, наслаждаться ею и
лучше понимать ее; также благодаря величию можно обладать способностью
доставлять удовольствие самым лучшим людям и участвовать в жизни тех, кто
еще не родился. Этой, как можно понять, существенной выгоды для величия
достаточно — и ему вовсе не нужно тиранить нас высокомерием, пусть даже
рядящимся в смиренные одежды.
Находясь в Бэттерсби как-то в воскресенье, я наблюдал суровость, с какой
детей учили соблюдать день отдохновения: по воскресеньям им нельзя было
вырезать что-нибудь ножницами, а также пользоваться набором красок.
Выносить этот запрет им было довольно трудно, потому что их кузенам, детям
Джона Понтифекса, все перечисленное дозволялось. Их кузены могли по
воскресеньям играть со своим игрушечным поездом. И хотя дети в Бэттерсби
обещали, что будут пускать только воскресные поезда, всякое движение было
запрещено. Только одно удовольствие разрешали им в воскресные вечера: они
могли выбрать, какие псалмы петь.
Наступил тот момент вечера, когда они вошли в гостиную и в качестве
особой милости им позволили спеть мне некоторые из гимнов2, а не просто
прочитать вслух, — чтобы я мог послушать, как хорошо они поют. Эрнесту первому
Глава 22
11
выпало выбрать гимн, и он выбрал тот, где говорится о людях, которые
должны прийти к закатному древу. Я не ботаник и не знаю, что такое закатное
древо, но начинался псалом следующими словами: «Придите, придите к
закатному древу, ибо день уже миновал». Мелодия была довольно приятной и
нравилась Эрнесту: ведь он необычайно любил музыку, имел милый детский
голосок и наслаждался собственным пением.
Но он очень долго не мог научиться правильно произносить звук «р» и
вместо «придите» у него получалось «плидите».
— Эрнест, — сказал Теобальд, сидевший в кресле у камина, скрестив руки, —
тебе не кажется, что было бы очень хорошо, если бы ты произнес «придите»
как все люди вместо этого «плидите»?
— Я и говорю «плидите», — отозвался Эрнест, имея в виду, что он
произносит «придите».
Воскресными вечерами Теобальд всегда бывал в плохом настроении. То ли
из-за того, что в этот день священникам бывает так же скучно, как и их
ближним, то ли воскресенья утомляют, но по той или иной причине духовные
пастыри редко бывают в хорошем расположении духа в воскресенье вечером. Я
уже заметил в тот вечер у хозяина дома признаки раздражения и немного
встревожился, услышав, как Эрнест тотчас ответил «я и говорю "плидите"»,
когда папа сделал ему замечание, что он не выговаривает это слово как следует.
Теобальд мгновенно отреагировал на то, что ему противоречат. Он встал с
кресла и подошел к фортепьяно.
— Нет, Эрнест, — произнес он, — ничего подобного, ты говоришь «плидите»,
а не «придите». Теперь повторяй за мной «придите» так, как произношу я.
— Плидите, — тут же выпалил Эрнест. — Так лучше?
Без сомнения, он думал, что так лучше, но это было не так.
— Что ж, Эрнест, ты не прилагаешь требуемых усилий, ты не стараешься,
как должен стараться. Тебе давно пора научиться говорить «придите», вот ведь
Джо умеет говорить «придите», не так ли, Джо?
— Да, умею, — тут же отозвался Джо и произнес нечто, отдаленно
напоминающее «придите».
— Вот, Эрнест, ты слышал? Здесь нет ничего трудного, ни малейшей
трудности. Теперь не торопись, сосредоточься и повтори «придите» вслед за мной.
Мальчик помолчал несколько секунд и затем снова сказал «плидите».
Я рассмеялся, но Теобальд в раздражении повернулся ко мне со словами:
— Пожалуйста, не смейся, Овертон; мальчик может подумать, что это
пустяки, а тут дело очень важное. — Затем, обернувшись к Эрнесту, сказал: — Что ж,
Эрнест, я дам тебе еще один шанс, и, если ты не скажешь «придите», я буду
считать, что ты своеволен и непослушен.
Он выглядел очень сердитым, и тень пробежала по лицу Эрнеста, как она
пробегает на мордочке щенка, когда того бранят, а он не понимает, за что.
Ребенок хорошо знал, что ему предстоит, был перепуган и конечно же снова
произнес «плидите».
— Хорошо же, Эрнест, — промолвил отец, в гневе хватая его за плечо, — я
сделал все возможное, чтобы спасти тебя, но если ты намерен добиться свое-
78
Путь всякой плоти
го, то добьешься... — И он потащил беднягу прочь из комнаты, плачущего в
ожидании предстоящего.
Прошло несколько минут — мы услышали крики, доносящиеся из столовой
через коридор, отделяющий гостиную от столовой, и поняли, что бедного Эрнеста
бьют.
— Я отправил его спать, — сказал Теобальд, возвратясь в гостиную, — а
теперь, Кристина, думаю, мы позовем слуг на молитву. — И рукой, на которой
были видны красные пятна, он позвонил в колокольчик.
Глава 23
Вошел лакей Уильям, чтобы поставить стулья для прислуги, а через минуту
друг за другом вошли остальные: сначала горничная Кристины, затем
кухарка, следом служанка, убирающая дом, за ней все тот же Уильям и последним
кучер. Я сел напротив них и наблюдал за их лицами, пока Теобальд читал главу
из Библии. То были милые люди, но более полного отсутствия интереса я ни
когда не видел на человеческих физиономиях.
Теобальд начал с зачитывания нескольких фрагментов из Ветхого Завета,
следуя какой-то собственной системе. На этот раз отрывок был взят из
пятнадцатой главы Книги Чисел1. Он не имел прямого отношения к тому, что
только что произошло на моих глазах, но дух, которым все там проникнуто, казался
мне настолько соответствующим духу самого Теобальда, что, услышав этот
отрывок, я смог лучше понять, как он пришел к тому, чтобы думать так, как
думал, и действовать так, как действовал.
Строчки были следующего содержания:
«Если же кто из туземцев, или из пришельцев, сделает что дерзкою рукою,
то он хулит Господа: истребится душа та из народа своего.
Ибо слово Господне он презрел и заповедь Его нарушил; истребится душа
та; грех ее на ней.
Когда сыны Израилевы были в пустыне, нашли человека, собиравшего
дрова в день субботы.
И привели его нашедшие его собирающим дрова к Моисею и Аарону и ко
всему обществу.
И посадили его под стражу, потому что не было еще определено, что
должно с ним сделать.
И сказал Господь Моисею: должен умереть человек сей; пусть побьет его
камнями все общество вне стана.
И вывело его все общество вон из стана, и побили его камнями, и он умер,
как повелел Господь Моисею.
И сказал Господь Моисею, говоря:
объяви сынам Израилевым и скажи им, чтоб они делали себе кисти на краях
одежд своих в роды их, и в кисти, которые на краях, вставляли нити из
голубой шерсти.
Глава 23
79
И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали
все заповеди Господни, и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей
ваших...
Чтобы вы помнили и исполняли все заповеди Мои, и были святы пред
Богом вашим.
Я Господь, Бог ваш, Который вывел вас из земли Египетской, чтоб быть
вашим Богом. Я Господь, Бог ваш».
Покуда Теобальд читал все это, мысли мои блуждали и обратились к
одному небольшому событию, которое я наблюдал во второй половине дня.
Так случилось, что несколько лет назад под черепицей крыши дома
обосновался рой пчел и так размножился, что пчелы часто залетали в гостиную летом,
когда окна были открыты. Рисунок на обоях в гостиной изображал букеты
красных и белых роз, и я видел, как пчелы, бывало, подлетали к этим букетам и
усаживались на них, принимая их за живые цветы; они перебирались с одного
букета на другой, много раз повторяя попытку за попыткой, пока не добирались
до того, который был под самым потолком, затем спускались с букета на
букет в той же последовательности, в какой поднимались, пока не оказывались
у спинки дивана, после чего вновь следовал подъем к потолку с букета на
букет, потом спуск и так далее, и так далее, пока мне не надоело наблюдать за
ними. Когда я думал о семейных молитвах, повторяющихся каждый вечер и
каждое утро неделя за неделей, месяц за месяцем, из года в год, я не мог
отделаться от мысли, как это похоже на тот путь, который пчелы проделывали
вверх-вниз по стене, с букета на букет, нимало не подозревая о том, что среди
связанных между собою образов безнадежно и навсегда отсутствует
единственно нужный.
Когда Теобальд закончил чтение, все мы опустились на колени, и Карло
Дольчи с Сассоферрато смотрели вниз на множество изогнутых спин, пока мы
склоняли наши лица к стульям. Я отметил, что Теобальд молится о том,
чтобы нам было даровано пребывать «истинно честными и добросовестными» во
всех делах наших, и улыбнулся, услышав, как он добавил слово «истинно».
Вновь мои мысли вернулись к пчелам, и я стал размышлять, что, в конце
концов, пожалуй, хорошо — во всяком случае, для Теобальда, — что наши
молитвы редко получают какой-либо обнадеживающий ответ, ибо, подумалось мне,
если бы имелся хоть малейший шанс, что моя молитва будет услышана, я бы
помолился о том, чтобы в ближайшем будущем кто-нибудь обошелся бы с ним
так же, как он обошелся с Эрнестом.
Затем я перенесся мысленно к тем подсчетам, которые люди совершают
относительно пустой траты времени, исчисляя, сколько можно сделать, если не
тратить попусту хотя бы десять минут в день, и я как раз думал о том, какие
предосудительные мысли возникают у меня насчет траты времени на семейные
молитвы, к которым следует в то же время быть терпимым, когда услышал,
как Теобальд произнес: «Милость Господа нашего Иисуса Христа». Через
несколько мгновений церемония была закончена, и слуги так же гуськом вышли
из комнаты, как входили в нее.
80
Путь всякой плоти
Как только они покинули гостиную, Кристина, немного стыдившаяся сцены,
свидетелем которой я оказался, неблагоразумно возвратилась к ней и начала
оправдываться, говоря, что это разрывает ей сердце и разрывает сердце
Теобальду еще больше, но что «это единственное, что можно сделать».
Я отреагировал на ее излияния так холодно, как только позволяли
приличия, и, храня молчание в продолжение остальной части вечера,
демонстрировал, что не одобряю увиденного.
На следующий день мне нужно было возвращаться в Лондон, но накануне
отъезда я сказал, что хотел бы взять с собой немного свежих яиц, а потому
Теобальд отвел меня в дом одного крестьянина, который жил неподалеку и
смог бы продать мне их. Эрнесту по какой-то причине тоже позволили пойти
с нами. Вероятно, куры только начали нестись, во всяком случае, яиц было
мало, и жена крестьянина смогла найти для меня не больше семи-восьми штук;
каждое мы завернули в бумагу, чтобы я благополучно довез их до города.
Операция эта производилась на земле у входа в дом, и, покуда мы
занимались ею, маленький сын крестьянина, мальчик примерно тех же лет, что и
Эрнест, наступил на одно из завернутых в бумагу яиц и раздавил его.
— Ну вот, Джек, — сказала его мать, — погляди, что ты натворил: раздавил
хорошее яйцо, значит, пенни долой. Эй, Эмма, — добавила она, зовя дочь, —
забери ребенка, ох уж этот постреленок.
Эмма тотчас подошла и увела малыша, чтобы он не набедокурил еще как-
нибудь.
— Папа, — спросил Эрнест после того, как мы покинули тот дом, — а
почему миссис Хитон не побила Джека, когда он наступил на яйцо?
Я был не чужд злорадству, а потому не мог не адресовать Теобальду
мрачную усмешку, яснее слов говорившую, что, по-моему, Эрнест попал не в бровь,
а в глаз.
Теобальд покраснел и нахмурился.
— Полагаю, — поспешно ответил он, — что мать побьет его после нашего
ухода.
Я не собирался терпеть такой ответ и сказал, что не верю этому; на том
разговор и кончился, но Теобальд не забыл о нем, и с тех пор я стал реже
бывать в Бэттерсби.
По возвращении мы узнали, что приходил почтальон и принес письмо, в
котором сообщалось о назначении Теобальда настоятелем церковного округа:
место в последнее время оставалось вакантным после кончины священника
соседнего прихода, исполнявшего эту обязанность много лет. Епископ с особой
теплотой писал Теобальду, заверяя, что ценит его как одного из самых
усердных и преданных делу приходских священников всей епархии. Кристина,
конечно, пришла в восторг и дала мне понять, что это лишь начало пути к гораздо
более высокому сану, уготованному Теобальду в будущем, когда его
заслуги получат более широкое признание.
Тогда я не мог предвидеть, какими тесными узами в последующие годы
окажутся связаны жизнь моего крестника и моя собственная. Если бы я
предвидел это, то, несомненно, смотрел бы на него другими глазами и заметил
Глава 24
81
много такого, на что в то время не обращал внимания. В тех обстоятельствах
я был только рад уехать, поскольку ничего не мог для него сделать или
предпочитал думать, что не могу, а вид такого глубокого страдания был для меня
мучителен. Человеку следует не только, по возможности, идти своим
собственным путем, но и иметь дело только с тем, что, по крайней мере, не внесет
разлада в его жизнь. Кроме как в исключительных обстоятельствах, на краткие
периоды времени, ему не следует даже смотреть на то, что было
обезображено или изуродовано, не говоря уж о том, что ему не следует есть мясо
животных, которых замучили изнуряющим трудом либо недоеданием или
пораженных какой-нибудь болезнью; не следует касаться и овощей, которые
неправильно выросли — ибо все это переходит в человека. Все, с чем человек
соприкасается, тем или иным образом переходит в него, делая его лучше или хуже, и чем
лучше то, что переходит в него, тем выше вероятность, что он будет жить долго
и счастливо. Все должно скрещиваться, иначе оно перестанет существовать, но
непорочное, как, например, святые Джованни Беллини2, взаимодействует
только с тем, что по-настоящему хорошо.
Глава 24
Буря, описанная мною в предыдущей главе, оказалась лишь одной из тех,
которые происходили ежедневно на протяжении многих лет. Каким бы ясным ни
было небо, всегда существовала вероятность того, что оно покроется тучами не
тут, так там и громы и молнии обрушатся на юных существ прежде, чем они
успеют понять, в чем дело.
— А еще, знаете, — недавно сказал мне Эрнест, когда я попросил его
поделиться своими детскими воспоминаниями для полноты картины, — мы
разучивали гимны миссис Барбо1. Они были в прозе, и среди них был один про льва,
начинавшийся словами: «Слушайте, я объясню вам, что значит быть сильным.
Лев силен. Когда выходит он из своего логовища, когда встряхивает гривой,
когда раздается его рык, убегает скот равнин и прячутся звери пустынь, ибо он
ужасен». Я завел обыкновение в тех же выражениях говорить Джо и Шарлотте
о нашем отце, когда стал немного старше, но они были всегда такими
моралистами и отвечали, что это дурно с моей стороны.
Одна из главных причин, почему семьи священников обычно бывают
несчастны, состоит в том, что священники слишком много времени проводят дома или
поблизости от дома. Врач, занятый посещением пациентов, половину своего
времени проводит вне дома, адвокат и торговец имеют конторы за пределами
дома, а у священника нет такого места службы, которое гарантировало бы его
отсутствие в доме в течение многих часов в установленное время. Для нас
лучшими днями были те, когда отец уезжал за покупками в Гилденхэм. Мы жили
в нескольких милях оттуда, и у отца обычно накапливался длинный перечень
дел, на выполнение которых у него уходил почти целый день. Как только он
исчезал из виду, атмосфера в доме становилась легче; как только входная дверь
открывалась, чтобы снова впустить его, закон с его всеохватными «не прикасай-
82
Путь всякой плоти
ся, не трогай, убери руки» опять обретал над нами власть. Хуже всего было то,
что я никогда не мог доверять Джо и Шарлотте: они шли со мной большую
часть пути или даже весь путь, а потом поворачивали вспять, и совесть
заставляла их рассказать все папе и маме. Им нравилось побегать с зайцем до
определенного момента, но душою они инстинктивно были с собаками.
Мне кажется, — продолжал он, — что семья — это пережиток принципа,
который наиболее последовательно воплощен в животных, живущих
колониями, а эта форма жизни оказалась не способной к высокому развитию. Я сделал
бы с человеческой семьей то же, что природа сделала с этими животными, то
есть ограничил бы ее существование только низшими и менее прогрессивными
расами. Ведь у самой природы нет никакой изначально присущей любви к
семье как институту. Понаблюдайте за формами жизни, и вы обнаружите
наличие семьи в смехотворно ничтожном меньшинстве этих форм. Рыбам она
неизвестна, и они прекрасно обходятся без нее. У муравьев и пчел, намного
превосходящих по численности род людской, в порядке вещей насмерть жалить
своих отцов и наносить жестокие увечья девяти десятым потомства, вверенного
их попечению, и тем не менее где мы найдем сообщества, к которым
повсеместно относились бы с большим уважением? Или вот возьмите кукушку: есть ли
какая-нибудь птица, которая бы нравилась нам больше нее?
Видя, что он отклоняется от собственных воспоминаний, я попытался
возвратить его к ним, но безуспешно.
— Как глупо, — сказал он, — со стороны человека помнить то, что случилось
больше недели назад, если это не было чем-нибудь приятным или если он не
намерен каким-то образом это использовать. Разумному человеку следует
расставаться с большей частью прожитого еще при жизни. Человек в тридцать пять лет
должен сожалеть о том, что ему не выпало более счастливое детство, не больше,
чем о том, что он не родился принцем крови. Он, возможно, был бы счастливее,
если бы ему больше повезло в детстве, но, как знать, может, имей он
благополучное детство, случилось бы что-нибудь другое, что давно доконало бы его. Если бы
мне пришлось родиться снова, я хотел бы родиться в Бэттерсби от тех же отца с
матерью и не изменил бы ничего из того, что когда-либо случилось со мной.
Мне вспоминается забавный случай из его детства. В возрасте лет семи
Эрнест сказал мне, что собирается завести побочного ребенка. Я спросил его
о причине такого решения, и он объяснил, что папа и мама всегда говорили ему,
что никто не заводит детей, пока не вступит в брак, и пока он верил этому,
разумеется, у него и мысли не было иметь ребенка, пока он не вырастет. Но
недавно, читая «Историю Англии» миссис Маркхэм2 и наткнувшись на слова
«Джон Гонтский3 имел нескольких побочных детей», он спросил свою
гувернантку, что значит «побочный ребенок».
— Ах, мой милый, — сказала она, — побочный ребенок — это такой, который
появляется до брака.
Из этого, казалось, логически следовало, что если Джон Гонтский имел
детей до брака, то и он, Эрнест Понтифекс, тоже мог бы иметь их, и он был бы
мне признателен, если бы я сказал ему, как ему лучше поступить в подобных
обстоятельствах.
Глава 25
83
Я спросил, как давно он сделал это открытие. Он сказал, что около двух
недель назад, и не знает, когда ждать ребенка, ибо тот может появиться в
любой момент.
— Знаете, — сказал он, — младенцы появляются так неожиданно: отправляешься
вечером спать, а на следующее утро вот уже и младенец. Да ведь он же может
умереть от холода, если мы прокараулим его. Я надеюсь, что это будет мальчик.
— И ты сказал про это своей гувернантке?
— Да, но она только говорит не морочить ей голову и не хочет помогать. Она
сказала, что младенец не появится еще много лет, да и тогда, как она
надеется, этого не случится.
— А ты вполне уверен, что не ошибся насчет всего этого?
— Нет-нет, потому что, знаете, миссис Берн заходила к нам несколько дней
назад, и за мной послали, чтобы меня показать. И мама показала на меня
рукой и спросила: «Чей это ребенок, миссис Берн, мистера Понтифекса или мой?»
Конечно, она не сказала бы так, если бы папа сам не родил нескольких детей.
Я раньше думал, что джентльмены рождают всех мальчиков, а леди — всех
девочек. Однако так не может быть, а то мама не попросила бы миссис Берн
угадать. Но миссис Берн тогда сказала: «О, конечно же это ребенок мистера
Понтифекса», — и я не совсем понял, что она имела в виду, говоря «конечно
же». Похоже, я правильно думал, что муж рождает всех мальчиков, а жена —
всех девочек. Я бы хотел, чтобы вы все мне объяснили.
Это я вряд ли сумел бы сделать, а потому переменил тему, успокоив его, как
только мог.
Глава 25
Три-четыре года спустя после рождения дочери Кристина родила еще одного
ребенка. Она не отличалась крепким здоровьем, с тех пор как вышла замуж,
и возымела предчувствие, что не переживет этих родов. А потому написала
приводимое ниже письмо, которое нужно было передать, как следовало из
надписи на конверте, ее сыновьям, когда Эрнесту исполнится шестнадцать лет. Оно
попало в его руки спустя много лет, уже после смерти матери, поскольку
тогда умер младенец, а не Кристина. Письмо было найдено среди бумаг, которые
она неоднократно тщательно приводила в порядок, причем печать на нем уже
была сломана. Это, полагаю, свидетельствует о том, что Кристина
перечитывала его и сочла слишком удачным, чтобы уничтожить даже тогда, когда уже
давно осталось в прошлом событие, послужившее для него поводом. В письме
говорилось следующее:1
Бэттерсби, 15 марта 1841 года
Мои дорогие мальчики!
Когда это письмо попадет к вам в руки, попытаетесь ли вы вспомнить мать,
которую потеряли в детстве и которую, боюсь, к тому времени почти забуде-
84
Путь всякой плоти
те? Ты, Эрнест, будешь помнить ее лучше, поскольку тебе уже исполнилось
пять лет, и то, как много-много раз она учила тебя молитвам, и песнопениям,
и счету, и рассказывала тебе сказки, и наши счастливые воскресные вечера не
совсем изгладятся из твоей памяти, да и ты, Джо, хотя тебе еще только
четыре, возможно, вспомнишь кое-что из этого. Мои дорогие, милые мальчики, ради
матери, которая горячо вас любила, — и ради вашего собственного счастья на
веки вечные — отнеситесь со вниманием и постарайтесь запомнить, а также
время от времени перечитывайте последние слова, которые она еще может
сказать вам. Когда я думаю о том, что мне предстоит покинуть вас всех, две
вещи тяготят меня: во-первых — горе вашего отца (ибо вы, мои любимые,
потосковав обо мне недолгое время, вскоре забудете о постигшей вас утрате), во-
вторых — вечное блаженство моих детей. Не сомневаюсь, что горе вашего отца
будет долгим и глубоким и что он будет искать в детях едва ли не
единственное утешение на этом свете. Вы знаете (ибо я уверена, так будет и в
дальнейшем), что он посвятил свою жизнь вам, и учил вас, и стремился направить ко
всему правильному и хорошему. О, постарайтесь же и в самом деле быть для
него утешением. Будьте послушны, нежны, внимательны к его пожеланиям,
честны, самоотверженны и прилежны. Не допускайте, чтобы ему когда-нибудь
пришлось краснеть за вас или горевать из-за грехов и безрассудств тех, кто
обязан испытывать к нему глубокую благодарность и чей первейший долг —
заботиться о его счастье. Вы носите имя, которое не должны опозорить. Вы
должны показать себя достойными отца и деда. Ответственность за вашу
добропорядочность и жизненное благополучие лежит главным образом на вас
самих, но намного, намного важнее добропорядочности и благополучия в этой
земной жизни ваше вечное блаженство, ответственность за которое также
лежит на вас самих и в сравнении с которым земные блага — все равно, что
ничто. Вы знаете, в чем состоит ваш долг, но ловушки и искушения подстерегают
вас извне, и чем ближе вы подойдете к поре зрелости, тем сильнее будете
чувствовать это. Помощь Господня, слово Господне и душевное смирение помогут
вам устоять вопреки всему, но если вдруг вы перестанете со всем жаром
сердца искать помощи Господней и обращаться к слову Господню, если приучитесь
полагаться лишь на самих себя и на советы и примеры большинства
окружающих вас, то вас непременно, неминуемо ждет падение. О, «Бог верен, а всякий
человек лжив»2. Он говорит, что нельзя служить Богу и маммоне. Он говорит,
что тесны врата, ведущие к жизни вечной. Много таких, кто тщится расширить
их. Они скажут вам, что потакание таким-то и таким-то своим желаниям — это
всего лишь мелкий проступок, что те и иные уступки мирскому простительны
и даже необходимы. Это недопустимо, ибо в сотне и сотне мест Он говорит вам
об этом. Обратитесь к Библии и отыщите там, правилен ли этот совет или нет,
но «не хромайте на оба колена»3, ибо Бог есть Господь. Следуйте Ему. Будьте
только тверды и очень мужественны4, и Он никогда не покинет вас и не
отречется от вас. Помните: в Библии нет одного закона для богатых, а другого — для
бедных, одного для образованных, а другого — для невежд. Всем одно только
нужно5. Все должны жить для Бога и своих ближних, а не для самих себя. Все
должны искать прежде Царства Божия и правды Его0 — должны отречься от
Глава 26
85
себя, быть чистыми, целомудренными и милосердными в самом полном и
самом широком смысле. Все, «забывая второстепенное», должны «стремиться к
цели, к почести вышнего звания Божия»7.
А теперь хочу добавить еще всего лишь два завета. Будьте всю жизнь
верны друг другу, любите друг друга, как положено братьям, поддерживайте,
оберегайте, ободряйте друг друга, а всякому, кто будет против вас, дайте
почувствовать, что каждый из вас в брате своем имеет надежного и преданного друга,
который останется таким до конца. И, прошу вас, будьте добры и
внимательны к вашей милой сестре: без матери и сестер она будет вдвойне нуждаться в
любви своих братьев, в их нежности и доверии. Я уверена, что она будет
стараться обрести их и станет любить вас и пытаться сделать вас счастливыми.
Постарайтесь же оправдать ее надежды и помните, что, в случае если она
потеряет отца и останется незамужней, она вдвойне будет нуждаться в
заступниках. Вверяю же ее вашим заботам. О мои милые дети, все трое будьте
преданы друг другу, вашему отцу и вашему Богу. Да направит Он, и благословит вас,
и дарует в лучшем и более счастливом мире мне и моим родным встретиться
снова.
Ваша бесконечно любящая мать,
Кристина Понтифекс
Порасспрашивав знакомых, я убедился, что большинство матерей незадолго
до родов пишет письма, подобные этому, и примерно пятьдесят процентов
сохраняют их впоследствии, как сохранила Кристина.
Глава 26
Приведенное письмо показывает, насколько больше заботило Кристину вечное
блаженство своих сыновей, чем их прижизненное благополучие. Казалось бы,
ею было посеяно к тому времени уже вполне достаточно таких религиозных
семян, но она собиралась посеять их еще огромное множество. Мне
представляется, что те, кто счастливы в этом мире, — лучше и привлекательнее тех, кто
несчастен, и что, следовательно, в случае воскрешения и Судного дня их с
большей вероятностью сочтут достойными небесной обители. Возможно, как раз по
причине смутного неосознанного ощущения этого Кристина так пеклась о
земном счастье Теобальда. Или же причиной тому просто была убежденность, что
его вечное блаженство вещь настолько очевидная, что остается лишь
обеспечить его земное счастье? Он должен был иметь «сыновей послушных, нежных,
внимательных к его пожеланиям, честных, самоотверженных и прилежных» —
воистину полный набор всех добродетелей, наиболее угодных родителям. Он не
должен был никогда оказаться вынужденным краснеть за безрассудства тех, «кто
обязан испытывать к нему глубокую благодарность и чей первейший долг —
заботиться о его счастье». Какова материнская забота! Забота главным образом о
том, как бы отпрыски не вздумали иметь собственных желаний и чувств,
которые могут доставить много неприятностей, воображаемых или реальных. В
86
Путь всякой плоти
этом-то и кроется корень всех зол. Но правильно ли последнее суждение или нет,
факт остается фактом: у Кристины было достаточно обостренное восприятие
обязанностей детей по отношению к своим родителям, и она считала задачу
надлежащего исполнения этих обязанностей настолько трудной, что очень сильно
сомневалась, сумеют ли Эрнест и Джо успешно с ней справиться. Ясно, что ее
мнимый прощальный взгляд на них был взглядом, в котором сквозило
подозрение. Но Теобальд стоял вне подозрений: то, что он посвятит свою жизнь детям,
было делом совершенно очевидным, просто почти само собой разумеющимся.
Как, позвольте мне спросить, возможно, чтобы ребенок, едва достигший
пятилетнего возраста, воспитанный в атмосфере молитв и псалмов,
арифметических задачек и счастливых воскресных вечеров, — не говоря уж о ежедневном
битье за упомянутые молитвы и псалмы и обо всем прочем, о чем наша
сочинительница писем умалчивает, — как возможно, чтобы мальчик, так вышколенный,
вырос здоровым и энергичным даже при том, что мать по-своему, несомненно,
очень любила его и иногда рассказывала ему сказки? Может ли взгляд
какого-нибудь читателя не обнаружить предвестье гнева Божьего, готового
обрушиться на голову человека, которому выпало быть взлелеянным под сенью
такого письма, как вышеприведенное?
Мне часто приходило на ум, что Католическая Церковь поступает мудро,
не позволяя своим священникам жениться. Безусловно, уже повсеместно
замечено, что в Англии сыновья священников зачастую оказываются людьми с
неудавшейся судьбой. Объяснение тому очень простое, но его так часто
упускают из виду, что мне, возможно, простится, если я приведу его здесь.
От священника ждут, что он будет своего рода человеческим воплощением
воскресного дня. В воскресенье нельзя делать то, что простительно в будние
дни, а священнику, следовательно, — то, что простительно обыкновенным
людям. Он расплачивается за свое занятие более строгим образом жизни, чем у
других людей. В этом его raison d'être*. Если его прихожане видят, что он
ведет такой образ жизни, они одобряют его, поскольку смотрят на него как на
своего рода собственный вклад в то, что считают праведной жизнью. Вот
почему священника так часто называют «викарием», то есть представителем: он
уполномочен своей добродетелью представительствовать от имени тех, кто
вверен его попечению. Но его дом — его крепость в такой же мере, как и для
любого другого англичанина, и у него, как и у других, за неестественным
напряжением на публике следует изнеможение, когда нужда в напряжении
отпадает. Его дети — это самые беззащитные существа, каких он только может
найти, и именно на них в девяти случаях из десяти он отводит душу.
К тому же священник вряд ли может когда-либо позволить себе прямо
посмотреть в лицо фактам. Его профессия — поддерживать одну сторону; а
значит, он не может дать беспристрастную оценку другой стороне.
Мы забываем, что каждый священник, имеющий бенефиций или приход,
является в такой же мере оплаченным защитником, как адвокат, старающийся
убедить присяжных оправдать подсудимого. Мы должны, слушая его, так же
* смысл существования (фр.).
Глава 27
87
повременить с вынесением окончательного решения, так же принять во
внимание все аргументы противоположной стороны, как это делает судья, когда
рассматривает то или иное дело. Пока мы не узнаем этих аргументов и не сможем
изложить их так, чтобы оппоненты не смогли обвинить нас в нечестности, мы
вообще не имеем права заявлять, что составили себе какое-то мнение. Беда в том,
что по закону этого мира может быть выслушана только одна сторона.
Теобальд и Кристина не были исключением из общего правила. Когда они
только приехали в Бэттерсби, то имели горячее желание исполнять
обязанности, соответствующие их положению, и посвятить себя служению чести и
славе Божьей. Но обязанностью Теобальда было видеть честь и славу Божью
глазами Церкви, которая за три сотни лет своего существования не сочла
возможным изменить ни единого из своих представлений.
Не думаю, чтобы он когда-либо усомнился в мудрости своей Церкви хоть
по какому-то вопросу. Его чутье на возможное зло было достаточно острым;
таким же оно было и у Кристины, и, по-видимому, если бы кто-нибудь из них
обнаружил в себе или в своем спутнике жизни первые слабые признаки
неверия, эти признаки были бы искоренены в зародыше с не меньшей
категоричностью, чем признаки своеволия в Эрнесте, — и, думается мне, более успешно.
Тем не менее Теобальд считал себя, воспринимался другими и даже, пожалуй,
в самом деле был исключительно правдивым человеком. Все действительно
считали его воплощением всех тех добродетелей, которые делают бедного
достойным уважения, а богатого — уважаемым. Со временем он и его жена
уверовали до глубины души и даже до бессознательности, что всяк обитающий
под их кровом имеет самые веские причины для благодарности. Их дети,
прислуга, прихожане должны быть счастливы уже ipso facto*, что они их дети, их
прислуга, их прихожане. Не существовало иного пути к счастью ни в нынешнем,
ни в грядущем, кроме того пути, которым шли они, никто из добропорядочных
людей не мог думать ни об одном предмете иначе, чем думали они, и никакой
разумный человек не стал бы стремиться к наслаждению тем, что не
приличествовало бы им — Теобальду и Кристине.
Вот как дошло до того, что их дети были бледны и хилы. Они страдали —
всякая мысль о доме вызывала у них тоску. Они голодали, будучи
перекормлены негодной пищей. Природа истощилась в них, но она не истощилась в
Теобальде и Кристине. С какой стати ей было в них истощаться? Они ведь не
вели полуголодное существование. Есть две категории людей в этом мире: те,
кто грешит, и те, против кого грешат1. Если человек должен принадлежать к
какой-либо из них, то лучше ему принадлежать к первой, чем ко второй.
Глава 27
Не стану далее вдаваться в подробности ранних лет моего героя. Достаточно
сказать, что он пробился сквозь них и к двенадцати годам знал наизусть каж-
* самим фактом (лат.).
88
Путь всякой плоти
дую страницу латинской и греческой грамматики. Он прочитал большую часть
сочинений Вергилия1, Горация и Ливия2 и один Бог ведает сколько греческих
драм, был сведущ в арифметике, основательно изучил первые четыре книги
Евклида3 и прилично овладел французским. Теперь настало время
отправляться в школу, следовательно, его и отправили в школу — ту самую, что
возглавлялась знаменитым доктором Скиннером4 Рафборским5.
Теобальд немного знал доктора Скиннера по Кембриджу. То был
светильник яркий и горящий6 во всех областях своей деятельности начиная с детской
поры. То был поистине великий гений. Это было известно каждому. Говорили
даже, что он один из немногих людей, к кому слово «гений» можно применять
без преувеличения. Разве не получил он, уж не знаю сколько, университетских
наград, будучи еще первокурсником? Разве не был он впоследствии
отличником по математике, ректорским медалистом, и Всевышнему лишь известно,
каким еще отличником и медалистом помимо этого? К тому же он
выдвинулся как замечательный оратор; в студенческом дискуссионном клубе ему не
было равных, и конечно же он стал его председателем. Нравственность его, а
таковая оказывалась слабым местом многих гениев, не имела ни единого
изъяна. Однако самым главным среди всех его многочисленных великих достоинств
и, возможно, даже более замечательным, чем гениальность, было то, что
биографы назвали «простодушной и по-детски непосредственной серьезностью
характера». Эта серьезность чувствовалась в той торжественности, с какой он
говорил даже о пустяках. Нужно ли уточнять, что в политике он
придерживался либеральных взглядов7.
Внешность его не была особенно привлекательной. Роста он был чуть ниже
среднего, тучный, со свирепым взглядом серых глаз, метавших пламя из-под
густых, насупленных бровей и внушавших страх и благоговение каждому, кто
приближался к нему. Но именно в наружности доктора Скиннера, если он
вообще был сколько-нибудь уязвим, можно было отыскать его слабое место. В
молодости волосы у него были рыжие, но вскоре после получения ученой
степени он пережил мозговую лихорадку, которая заставила его обрить голову.
Когда он вновь появился на людях, то его голову венчал парик, и цвет этого
«аксессуара» был весьма далек от рыжего. Он никогда не расставался с
париком, но это еще не все: из года в год тот понемногу все более и более
удалялся по цвету от рыжего, пока, к сорокалетию доктора, окончательно не утратил
все следы рыжеватости, сделавшись каштановым.
Когда доктор Скиннер был еще совсем молодым человеком, чуть старше
двадцати пяти лет, в Рафборо оказалось вакантным место директора
классической средней школы, и его, не колеблясь, назначили на эту должность.
Результаты подтвердили правильность выбора. Ученики доктора Скиннера
выделялись в любом университете, в какой бы ни поступили. Он формировал их
умы по образцу своего собственного и запечатлевал на них такие оттиски,
которые оставались неизгладимыми навечно. Кем бы ни становился выпускник
после Рафборо, всех и каждого он непременно заставлял почувствовать, что
является богобоязненным ревностным христианином, а в политике либералом,
если не радикалом. Некоторые мальчики, разумеется, были неспособны оце-
Глава 27
89
нить привлекательность и возвышенность натуры доктора Скиннера.
Строптивые мальчики, увы, найдутся в каждой школе. Тяжело опускалась на них
справедливая десница доктора Скиннера. Душа его отвращалась от них, а их души
отвращались от него во все время их соприкосновения. Они не только не
любили его, но и ненавидели все, что он собою воплощал, и на протяжении всей
жизни испытывали отвращение ко всему, что напоминало о нем. Такие
мальчики, однако, были в меньшинстве, дух места сего был явно скиннеровским.
Я однажды имел честь играть в шахматы с этим великим человеком. Было
Рождество, и я приехал в Рафборо на несколько дней повидаться с Алетеей
Понтифекс, которая тогда жила там. Со стороны доктора Скиннера было
большой милостью заметить мое присутствие, поскольку если я и имел вообще
сколько-нибудь широкую литературную известность, то лишь в очень узких кругах.
Правда, я немало написал между делом, но сочинения мои были
предназначены почти исключительно для сцены, причем для тех театров, которые
посвятили себя буффонаде и бурлеску. Я написал много пьес такого рода,
полных каламбуров и комических куплетов, и они имели довольно большой успех,
но моей лучшей пьесой была сценическая трактовка английской истории
времен Реформации, в которой я свел вместе Кранмера, сэра Томаса Мора,
Генриха VIII, Екатерину Арагонскую и Томаса Кромвеля (в молодости более
известного под прозвищем Malleus Monachorum*), заставив их плясать до упаду8.
Я также инсценировал «Путь паломника» для рождественской пантомимы,
сочинив важную сцену «Ярмарки Тщеславия»9, с мистером Великодушным,
Губителем, Христианой, Милосердной и Многообещающим в качестве
основных действующих лиц. Оркестр играл мелодии, взятые из самых известных
произведений Генделя, но времена порядком изменились, и в целом мелодии
были не совсем теми, какими их оставил Гендель. Мистер Великодушный,
необъятный толстяк с красным носом, носил широкий камзол и сорочку с
огромным жабо, доходящим до середины груди. Многообещающий был настолько
проказлив, насколько я мог ему это позволить. Одет он был в костюм
молодого франта того периода и держал во рту сигару, которая непрерывно выпадала.
На Христиане одежд было немного. Говорили, что платье, которое
постановщик первоначально предложил для нее, даже лорд-камергер10 счел
недостаточным, но оставим эту тему. С подобными проступками на совести я,
естественно, должен был чувствовать себя полным грешником, играя в шахматы
(которые ненавижу) с великим доктором Скиннером Рафборским — историком
Афин и издателем Демосфена. Доктор Скиннер, кроме того, был из тех, кто
гордится своей способностью сразу же позволить людям чувствовать себя
непринужденно, и я весь вечер просидел на краешке стула. Впрочем, школьные
учителя всегда внушали мне благоговейный страх.
Игра длилась долго, и к половине десятого, когда наступило время ужина,
у каждого из нас еще оставалось по нескольку фигур.
— Что вы будете есть на ужин, доктор Скиннер? — спросила миссис
Скиннер серебристым голоском.
* Молот (гонитель) монахов (лат.).
90
Путь всякой плоти
Некоторое время он не отвечал, но наконец тоном почти сверхчеловеческой
торжественности произнес сначала:
— Ничего.
А потом:
— Абсолютно ничего.
И тут мною стало овладевать чувство, словно я ближе к светопреставлению,
чем когда-либо. Комната, казалось, начала погружаться во мрак по мере того,
как на лице доктора Скиннера появлялось выражение, свидетельствовавшее,
что он собирается заговорить. Выражение это набирало силу, и в комнате
становилось все темнее и темнее.
— Постой, — произнес он наконец, и я почувствовал, что есть надежда на
какое-то завершение томительного ожидания, которое уже становилось
непереносимым. — Постой, я, быть может, выпью стакан холодной воды... и съем
маленький кусочек хлеба с маслом.
Когда он произносил слово «маслом», его голос понизился до еле
слышного шепота. Затем последовал вздох как бы облегчения, завершающий фразу,
и вселенная на сей раз была спасена.
Еще десять минут торжественного молчания, и игра закончилась. Доктор
бодро поднялся и занял место у стола, сервированного к ужину.
— Миссис Скиннер, — с живостью вопросил он, — что это за таинственные
объекты, окруженные картофелем?
— Это устрицы, доктор Скиннер.
— Положите мне немного и Овертону положите.
И так далее, пока он не съел полную тарелку устриц, блюдо из рубленой
телятины с приятно подрумяненной корочкой, кусок яблочного пирога и
ломоть хлеба с сыром. Это и был «маленький кусочек хлеба с маслом».
Скатерть убрали, на столе появились высокие чашки с чайными ложками
в них, пара лимонов и кувшин с кипятком. И тут великий человек смягчился.
Его лицо просияло.
— А что же следует выпить?! — воскликнул он внушительно. — Бренди с
водой? Нет. Следует выпить джина с водой. Джин — более полезный напиток.
Ну значит джин, горячий и к тому же крепкий.
Как можно было не дивиться ему и испытывать что-либо, кроме жалости?
Не был ли он директором школы в Рафборо? Случалось ли, чтобы он
задолжал кому-либо деньги? Разве отнял он у кого-нибудь вола или осла11 или кого-
нибудь обманул? Раздался ли когда-либо хоть малейший шепоток недовольства
его нравственностью? Если он и стал богат, то благодаря самому почтенному
из всех способов — своим литературным познаниям: вдобавок к написанным им
великим трудам по древней литературе, его «Размышления о послании и
личности святого Иуды»12 поставили доктора Скиннера в ряд самых известных
английских богословов. Это сочинение было настолько исчерпывающим, что
всякий, кто купил его, уже никогда более не испытывал потребности в
дальнейшем размышлении над этим предметом: оно исчерпывало силы всех, кто
знакомился с ним. Доктор заработал пять тысяч фунтов одной лишь этой работой
и, вполне вероятно, способен был заработать еще столько же за оставшее-
Глава 28
91
ся время жизни. Человек, который совершил все это и хотел всего лишь
«кусочек хлеба с маслом», имел право объявить о таком факте с некоторой
помпой и обстоятельностью. И притом его слова не следовало воспринимать без
попытки отыскать в них то, что он имел обыкновение называть «более
глубоким и скрытым смыслом». Усилия тех, кто предпринял бы такие поиски даже
в самых легкомысленных высказываниях ученого мужа, не остались бы
невознагражденными. Они обнаружили бы, что выражение «хлеб с маслом» на скин-
неровском языке13 означало запеченные в тесте устрицы и яблочный пирог, а
слово «вода» в правильном истолковании означало «горячий джин».
Но, независимо от их материальной ценности, работы доктора обеспечили
ему прочное положение в литературе. Так, вероятно, Галлион14 воображал, что
славу ему принесут трактаты по естествознанию, которые, как нам известно из
Сенеки15, он сочинял и которые, насколько мы знаем, возможно, содержали
полную теорию развития природы; но от трактатов этих не осталось и следа,
а Галлион обессмертил себя тем, на что ему и в голову не пришло бы
рассчитывать и что меньше всего на свете могло бы польстить его тщеславию. Он
обессмертил себя, проявив полное безразличие к самому значительному
движению, с которым когда-либо соприкасался (советую людям, которые
пребывают в поиске бессмертия, извлечь для себя из этого урок и не поднимать
такого шума по поводу значительных движений). Так что, если доктор Скиннер
тоже войдет в историю, это, вероятно, случится по причине, весьма
отличающейся от той, которой он так тешил свое воображение.
Можно ли было ожидать от подобного человека понимания того, что в
действительности он делал деньги, развращая молодежь; что его оплачиваемое
ремесло состояло в том, чтобы представить худшее в виде лучшего в глазах тех,
кто был слишком юн и неопытен, а потому неспособен разоблачить подделку;
что он держал вне поля зрения тех, кого будто бы учил, те самые основы
знаний, на изложение коих ученики имели право рассчитывать, полагаясь на честь
человека, заверявшего всех в своей честности; что он был напыщенным
полуиндюком-полугусаком, чья желтая от разлития желчи, мрачная физиономия и
злобно-ворчливое шипение могли испугать робкого, но который сам живо
пустился бы наутек, получи он отпор; что его «Размышления о послании и
личности святого Иуды» были наглым плагиатом и не удостоились бы даже
презрения, если бы такое множество людей не поверило, что они написаны
добросовестно? Миссис Скиннер, возможно, немного решительнее попыталась бы
поставить его на место, если бы считала, что дело того стоит, но у нее и так
было достаточно хлопот по хозяйству и забот о том, чтобы мальчиков хорошо
кормили, а в случае болезни надлежащим образом ухаживали, что она и
исполняла с немалым усердием.
Глава 28
Эрнест слышал устрашающие отзывы о характере доктора Скиннера и об
издевках, которым в Рафборо младшие ученики подвергались со стороны стар-
92
Путь всякой плоти
ших. Ему и так уже досталось столько, что он едва мог все это выносить.
Теперь он чувствовал, что дела совсем плохи — тяготы его должны еще более
возрасти. Он не плакал, покидая дом, но, боюсь, заплакал, когда ему сказали,
что до Рафборо уже близко. Его отец и мать отправились с ним. Весь путь
предстояло проделать в собственной коляске: железная дорога через Рафборо1
еще не проходила, а поскольку оно находилось всего милях в сорока от Бэттерс-
би, то такой способ был самым легким.
Увидев, что мальчик плачет, мать почувствовала себя польщенной и
приласкала его. Она сказала, что понимает, как грустно покидать такой счастливый дом
и вступать в общество людей, которые хотя и будут очень добры к нему, но
никогда, никогда не смогут быть столь же добры, как его милый папенька и она
сама. Ведь она, если бы только сын мог понять это, заслуживает намного
больше жалости, чем он, ибо разлука для нее мучительнее, чем для него, и т. д. И
Эрнест, которому было сказано, что его слезы вызваны печалью по поводу
отъезда из дома, доверчиво с этим согласился и не затруднял себя поисками
действительной причины своих слез. Когда они подъезжали к Рафборо, он взял
себя в руки и ко времени встречи с доктором Скиннером был вполне спокоен.
По прибытии они позавтракали с доктором и его женой, а затем миссис
Скиннер провела Кристину по спальням и показала, где будет спать только что
приехавший милый малыш.
Что там ни думают мужчины об изучении человека, но женщины считают
достойнейшим предметом для изучения женской половиной рода
человеческого женщину, и Кристина была слишком поглощена миссис Скиннер, чтобы
уделять много внимания чему-либо другому. Осмелюсь сказать, что и миссис
Скиннер приглядывалась к Кристине и довольно точно оценила ее. Кристина
была в восторге, как вообще бывала в восторге от новых знакомств, ибо
считала их (как должны считать все мы) чем-то вроде скрещивания пород. Что
касается миссис Скиннер, она, думается, встречала слишком много таких
Кристин, чтобы увидеть что-то новое в экземпляре, представшем перед ней нынче.
Полагаю, ее частное мнение совпадало с высказыванием одного известного
директора школы2, который заявлял, что все родители глупы, но особенно
мамаши. Миссис Скиннер, однако, просто светилась улыбкой и излучала
любезность, и Кристина жадно впитывала все это, как дань собственной персоне
и как честь, какой, по всей вероятности, не удостаивалась никакая другая из
матерей.
Тем временем Теобальд и Эрнест находились с доктором Скиннером в его
библиотеке — месте, где вновь прибывшие мальчики экзаменовались, а
старожилы подвергались нагоняю или наказанию. Если бы стены этой комнаты
могли говорить, о скольких случаях жестокости, проявленной не по адресу или
невпопад, они могли бы поведать!
Подобно всем помещениям, обиталище доктора Скиннер а имело свой
специфический запах. Здесь преобладал запах сафьяновых книжных переплетов,
к которому примешивался какой-то иной, похожий на аптечный. Он исходил
от маленькой лаборатории3 в одном из углов комнаты — и наличия этой
лаборатории вместе с непринужденным использованием таких слов, как «карбонат»,
Глава 28
93
«гипосульфит», «фосфат» и «сродство», вставленных в разговоре там и сям,
было достаточно, чтобы убедить даже отъявленного скептика в том, что
доктор Скиннер глубоко сведущ в области химии.
Попутно отмечу, что доктор Скиннер баловался и многими другими
вещами помимо химии. Он был человеком множества скромных познаний4, и в
каждой из областей эти познания были ненадежны. Помню, как Алетея Пон-
тифекс однажды сказала мне с присущей ей насмешливостью, что доктор
Скиннер похож на принцев из династии Бурбонов по их возвращении из
изгнания после битвы при Ватерлоо, только с ним дело обстоит ровно наоборот: они
ничему не научились и ничего не забыли5, а доктор Скиннер всему научился и
все забыл. А это вызывает в моей памяти еще одно из ее насмешливых
высказываний по поводу доктора Скиннера. Она как-то сказала мне, что он
обладает кротостью змеи и мудростью голубя6.
Но возвратимся в библиотеку доктора Скиннера. Над каминной полкой
возвышался поясной портрет самого хозяина кисти Пикерсгилла-старшего7, чьи
таланты доктор Скиннер в числе первых разглядел и поддержал. Никаких
других картин в библиотеке не было, но в гостиной имелась целая их
коллекция, которую доктор собрал со свойственным ему безупречным вкусом. В
последующие годы жизни он значительно пополнил ее, и когда коллекция пошла
с молотка на аукционе Кристи8 (это случилось не так давно), то оказалось, что
она включала многие из самых последних и наиболее зрелых работ Соломона
Харта, О'Нила, Чарлза Ландсира и ряда наших современных членов Академии,
имена которых в данный момент я не в состоянии припомнить. На обозрение,
таким образом, было выставлено множество работ, привлекавших внимание на
ежегодных выставках Академии, а что до их окончательной судьбы, то она
оказалась не лишена любопытства. Цены, за какие полотна были проданы,
разочаровали наследников, но ведь такие вещи во многом дело случая. Некий
не отличающийся щепетильностью автор раскритиковал коллекцию в одной
известной еженедельной газете. Кроме того, состоялось несколько крупных
распродаж незадолго до распродажи коллекции доктора Скиннера, так что на
этой последней наблюдались некоторая паника и протест против высоких цен,
господствовавших в последнее время.
Стол в библиотеке был завален книгами, вперемежку с ними его
загромождали всевозможные рукописи, по-видимому, упражнения учеников и
экзаменационные ведомости, — и все это пребывало в полном беспорядке. Комната столь
же, по сути, угнетала своей неряшливостью, сколь и атмосферой учености.
Войдя, Теобальд и Эрнест споткнулись из-за большой дыры в турецком ковре,
и поднявшаяся при этом пыль засвидетельствовала, что немало времени
прошло с тех пор, как ковер в последний раз выносили, чтобы выбить. Вина за это,
должен заметить, лежала не на миссис Скиннер, а на самом докторе, который
объявил, что, если его бумаги когда-нибудь потревожат, это будет для него
равносильно гибели. У окна размещалась зеленого цвета клетка, в которой
содержались голубок и горлица, чье грустное воркование лишь добавляло
комнате меланхолии. Книжные полки закрывали стены от пола до потолка, и на
каждой полке книги стояли в два ряда. Это было ужасно. Виднейшее из самых
94
Путь всякой плоти
видных мест занимала полка, на которой находились прекрасно переплетенные
издания с надписью на корешке «Сочинения Скиннера».
Мальчики, к сожалению, склонны делать поспешные выводы, и Эрнест
решил, что доктор Скиннер изучил все книги в этой кошмарной библиотеке и что
ему, Эрнесту, тоже, чего доброго, придется их изучать. Сердце у него упало.
Мальчику велели сесть на стул у стены, и он просидел там все время, пока
доктор Скиннер обсуждал с Теобальдом злободневные вопросы. Он говорил
о хэмпденской полемике, тогда бывшей в самом разгаре9, и рассуждал со
знанием дела по поводу «Praemunire»;10 затем завел речь о революции, которая
только что вспыхнула на Сицилии11, и высказал удовлетворение тем, что Папа
Римский12 отказался позволить иностранным войскам пройти через его
владения, чтобы подавить ее. Учителя сообща выписывали «Тайме», и доктор
Скиннер повторил содержание передовиц данного издания. Тогда не издавались
дешевые газеты, и Теобальд выписывал только «Спектейтор»13, поскольку был
в то время в политике на стороне вигов. Помимо «Спектейтора» он один раз в
месяц получал «Экклезиастикал газетт»14, но никаких других газет не читал и
был поражен тем, с какой легкостью и непринужденностью доктор Скиннер
переходит от предмета к предмету.
Действия Папы Римского в ситуации с сицилийской революцией,
естественно, повели доктора к теме реформ15, которые его святейшество осуществил в
своих владениях, и ученый муж не мог насмеяться шутке, недавно появившейся
в «Панче»16 и состоявшей в том, что Пий «Нет, Нет»17 теперь скорее должен
носить прозвище Пий «Да, Да», поскольку, как объяснил доктор, понтифик
предоставил своим подданным все, о чем они просили. Каламбуры и тому
подобные словесные игры доктор Скиннер просто обожал.
Затем он перешел к содержанию самих этих реформ. Они открыли новую
эру в истории христианского мира и будут иметь такие важные и далеко
идущие последствия, что, возможно, даже поведут к примирению между
Англиканской и Католической церквами. Доктор Скиннер недавно издал брошюру
на эту тему, продемонстрировав широкую эрудицию и раскритиковав
Католическую Церковь так, что это не давало особенно больших надежд на
примирение. В основу своей критики он положил буквы A. M. D. G.18, которые видел
на стене католической часовни и которые конечно же означали «Ad Mariam Dei
Genetricem». Можно ли представить себе большее идолопоклонство?
Мне говорили, впрочем, что я, должно быть, позволил памяти сыграть со
мной одну из тех шуток, какие она часто мне устраивает, когда сказал, что
доктор предложил считать «Ad Mariam Dei Genetricem», так сказать, полным
соответствием буквам A. M. D. G., — ибо это выражение по-латыни звучит
неправильно, а на самом деле доктор подобрал тем буквам другое соответствие:
«Ave Maria Dei Genetrix». Без сомнения, доктор сделал так, как было правильно
в смысле законов латинского языка, — я, признаться, подзабыл то немногое, что
знал из латыни, и не собираюсь ради этого лезть в словарь, но мне
представляется, доктор сказал «Ad Mariam Dei Genetricem», а если так, то мы можем
быть уверены, что «Ad Mariam Dei Genetricem» вполне правильно по-латыни,
во всяком случае, в церковном обиходе.
Глава 29
95
Ответ местного католического священника еще не последовал, и доктор
Скиннер ликовал. Когда же ответ появился и в нем было торжественно
объявлено, что A. M. D. G. не означает ничего опасного, а всего лишь «Ad Majorera
Dei Gloriam», стало ясно, что хотя эта увертка не получит признания ни у
одного понимающего дело англичанина, тем не менее было жаль, что доктор
Скиннер выбрал для своей критики данную тему, ибо ему пришлось оставить
последнее слово за врагом: когда за кем-то остается последнее слово, публика
имеет неприятную привычку думать, что противник просто-напросто не
осмелился продолжать схватку.
Слушая рассказ доктора Скиннера о его брошюре, Теобальд вряд ли
чувствовал себя намного раскованнее, чем Эрнест. Теобальду наскучило слушать,
ибо в глубине души он ненавидел либерализм, хотя стыдился в этом признаться
и, как я уже говорил, утверждал, что занимает сторону вигов. Он не желал
примирения с Католической Церковью, он хотел бы заставить всех католиков
обратиться в протестантство и никак не мог понять, почему они этого не
делают; но доктор высказывался в таком откровенно либеральном духе и так
решительно пресекал его попытки вставить хоть пару слов, что Теобальд был
вынужден позволить ему и дальше разглагольствовать как вздумается, а к такому
Теобальд совершенно не привык. Он как раз задавался вопросом, как бы
положить беседе конец, когда Эрнест выступил в качестве отвлекающего
фактора: он заплакал — несомненно, вследствие непереносимого, пусть и
неосознаваемого чувства скуки. Он явно был в очень возбужденном состоянии и глубоко
расстроен треволнениями того утра, поэтому миссис Скиннер, вошедшая
вместе с Кристиной в тот самый момент, предложила, чтобы мальчик провел
вторую половину дня с миссис Джей, школьной экономкой, и чтобы его не
знакомили с одноклассниками до следующего утра. Отец и мать нежно попрощались
с сыном, и мальчика передали миссис Джей.
О учителя, если кто-то из вас прочтет эту книгу, имейте в виду, что когда
какого-нибудь совсем оробевшего, распустившего слюни парнишку его папаша
приведет в ваш кабинет и вы отнесетесь к нему с презрением, которого он
заслуживает, и впоследствии на долгие годы превратите его жизнь в тяжкое
бремя, имейте в виду, что именно в обличье такого мальчишки, как этот, явится ваш
будущий летописец. Всякий раз, когда вы смотрите на несчастную, клюющую
носом кроху, примостившуюся на краешке стула у стены вашего кабинета,
повторяйте себе: «Возможно, если я не поостерегусь, этот мальчик когда-нибудь
расскажет миру, что за человек я был». Если хотя бы два-три учителя извлекут из
этого урок и запомнят его, значит, предыдущие главы написаны не напрасно.
Глава 29
Вскоре после того, как отец с матерью оставили его, Эрнест уснул над книгой,
которую миссис Джей дала ему, и проспал до темноты. Пробудившись, он сел
на скамеечку у камина, огонь которого казался таким уютным в январские
сумерки, и начал размышлять. Он чувствовал себя слабым, вялым, запутав-
96
Путь всякой плоти
шимся и не способным продраться сквозь неисчислимые беды, которые ему
предстояло пережить. Возможно, сказал он себе, придется даже умереть, но это
отнюдь не станет концом его бед, а окажется началом новых, ибо в лучшем
случае он отправится к дедушке Понтифексу и бабушке Элэби, и хотя с ними,
возможно, будет легче ужиться, чем с папой и мамой, все же они, без
сомнения, не такие уж в самом деле хорошие люди и, конечно, более суетные.
Кроме того, они взрослые, особенно дедушка Понтифекс, который, насколько
Эрнест понимал, был очень-очень взрослым, а ему, Эрнесту, неведомо почему,
всегда что-то мешало по-настоящему полюбить кого-либо из взрослых — за
исключением некоторых из слуг, которые в самом деле были такими
славными людьми, каких он только мог себе представить. К тому же он подозревал,
что, если даже ему предстоит умереть и отправиться на небеса, он каким-то
образом все же пройдет до конца весь путь своей учебы.
А его отец с матерью тем временем катили в коляске по грязным дорогам,
сидя каждый в своем углу и размышляя о множестве вещей, возможных и
невозможных. Времена изменились, с тех пор как некогда они так же молча
сидели в коляске после своего бракосочетания, но, за исключением перемены
в их взаимоотношениях, люди эти изменились на удивление мало. Когда я был
моложе, то считал неправильным предписание требника, чтобы мы дважды в
неделю с детства до старости исповедовались в грехах, ибо полагал, что в
семьдесят лет мы уже не такие большие грешники, как в семь. Допуская, что мы,
подобно скатертям, должны, по крайней мере, один раз в неделю
отправляться в стирку, я тем не менее имел обыкновение думать, что обязательно
наступит день, когда нам будет требоваться куда меньше стирки и чистки. Теперь,
став старше, я понял, что Церковь учла все вероятности лучше, чем я.
Эти двое, не говоря друг другу ни слова, наблюдали за тем, как меркнет свет
дня, провожали взглядом голые деревья, бурые поля с видневшимися то тут,
то там печального вида домами на обочине, а дождь хлестал в окна коляски.
Наступали сумерки — время, когда добрые люди в большинстве своем любят
уютно расположиться дома, и Теобальд был немного раздражен при мысли о
том, как много миль придется проехать, пока он снова не окажется у
домашнего очага. Однако ничего другого не оставалось, и пара сидела молча, следя
взглядом за мельканием предметов за окном, становившихся все более
тусклыми и угрюмыми в меркнущем свете.
Они не разговаривали друг с другом, так как у каждого из них имелся
некто более близкий, с кем можно было беседовать свободно.
«Надеюсь, — говорил себе Теобальд, — он будет трудиться, а иначе этот
Скиннер заставит его. Мне не нравится Скиннер, никогда не нравился, но он,
бесспорно, человек гениальный, и никто не выпускает так много учеников,
делающих успехи в Оксфорде и Кембридже, а это самая лучшая проверка. Я
дал ему хорошую начальную подготовку. Скиннер сказал, что у него хороший
запас знаний и он очень развит. Думаю, теперь он будет полагаться на эти
знания и не станет ничего делать, ибо по природе он ленив. Он не любит меня, я
уверен, что не любит. А должен бы после всех неприятностей, каких я
натерпелся с ним, но он неблагодарен и эгоистичен. Это неестественно для мальчи-
Глава 29
97
ка — не любить своего собственного отца. Если бы он любил меня, я бы любил
его, но я не могу любить сына, который, я уверен, не любит меня. Он
исчезает из поля моего зрения всякий раз, едва только завидит мое приближение. Он
и пяти минут не останется в одной комнате со мной, если может избежать этого.
Он лжив. Ему не нужно было бы так скрытничать, если бы он не был лжив.
Это дурной признак, который заставляет меня опасаться, как бы он не вырос
сумасбродом. Я уверен, что он вырастет сумасбродом. Я давал бы ему больше
карманных денег, если бы не понимал этого, но что проку давать ему
карманные деньги? Все они тотчас же тратятся. Если он не покупает на них что-нибудь,
то отдает первому же попавшемуся мальчишке или девчонке, которые
придутся ему по душе. Он забывает, что это мои деньги он отдает. Я даю ему деньги,
чтобы он мог иметь деньги и научиться распоряжаться ими, а не чтобы мог
пойти и тут же выкинуть их на ветер. Я бы хотел, чтобы он не так сильно
любил музыку: она будет мешать изучению латыни и греческого. Я постараюсь
прекратить это, насколько будет в моих силах. Вот когда он переводил на днях
Ливия, то вместо имени Ганнибала1 написал имя Генделя, а мать твердит мне,
что он знает наизусть половину мелодий из "Мессии"2. Зачем мальчику его
возраста знать о "Мессии"? Если бы я обнаружил половину стольких опасных
наклонностей, когда был ребенком, мой отец отдал бы меня в ученики к
зеленщику, в чем я вполне уверен...» и т. д., и т. п.
Затем его мысли обратились к Египту и десятой казни египетской3. Ему
казалось, что если маленькие египтяне были хоть немного похожи на
Эрнеста, то казнь эта, должно быть, очень сильно напоминала скрытое благодеяние.
Явись израильтяне теперь в Англию, он испытал бы очень большое искушение
не позволить им уйти4.
Мысли миссис Понтифекс текли в другом направлении: «Внук лорда Лонс-
форда, жаль, что его имя Фиггинс, однако родовитость есть родовитость, по
женской линии в той же мере, как и по мужской, и даже, возможно, в еще
большей, если уж по правде. Интересно, кто такой этот мистер Фиггинс? Кажется,
миссис Скиннер сказала, что он умер. Впрочем, я должна все о нем выяснить.
Было бы восхитительно, если бы юный Фиггинс пригласил Эрнеста домой на
каникулы. Вероятно, он мог бы встретиться с самим лордом Лонсфордом или,
во всяком случае, с кем-нибудь из других потомков лорда Лонсфорда...»
Тем временем сам мальчик все еще сидел в задумчивости у камина в
комнате миссис Джей.
«Папа и мама, — говорил он себе, — намного лучше и умнее, чем кто-либо
другой, но я, увы, никогда не буду ни хорошим, ни умным».
Миссис Понтифекс продолжала размышлять: «Возможно, лучше всего было
бы сначала пригласить юного Фиггинса погостить у нас. Это было бы
очаровательно. Теобальд не захочет, поскольку не любит детей. Нужно подумать, как
устроить это, ведь было бы так хорошо пригласить юного Фиггинса, или нет,
лучше пусть Эрнест отправится погостить к Фиггинсам и встретится с будущим
лордом Лонсфордом, который, надо думать, примерно одних лет с Эрнестом,
а затем, если они с Эрнестом станут друзьями, Эрнест мог бы пригласить его
в Бэттерсби, и он мог бы влюбиться в Шарлотту. Думаю, мы поступили очень
98
Путь всякой плоти
мудро, послав Эрнеста к доктору Скиннеру. Благочестие доктора Скиннера не
менее замечательно, чем его гений. Такие вещи понимаешь с первого взгляда,
и он, должно быть, почувствовал благочестие во мне в не меньшей степени, чем
я в нем. Полагаю, он был поражен, познакомившись с Теобальдом и со мной:
конечно, ведь сила интеллекта Теобальда может произвести впечатление на кого
угодно, да и я, как мне кажется, предстала в самом выгодном свете. Когда я
улыбнулась ему и сказала, что оставляю моего мальчика в его руках в
полнейшей уверенности, что о нем будут здесь так же хорошо заботиться, как в моем
собственном доме, уверена, он был очень доволен. Не думаю, что многие из
матерей, которые привозят к нему своих мальчиков, могут произвести на него
такое благоприятное впечатление или сказать ему такие приятные слова, как
я. У меня милая улыбка, когда я того хочу. Я, возможно, никогда не была
особенной красавицей, но меня всегда считали очаровательной. Доктор Скиннер
очень видный мужчина... и слишком хорош, должна в целом признать, для
миссис Скиннер. Теобальд говорит, что он некрасив, но мужчины ничего в этом
не понимают, а у него такое приятное живое лицо. Думаю, эта шляпка мне идет.
Как только вернусь домой, велю Чемберс отделать мое синее с желтым
шерстяное...», и т. д., и т. п.
Все это время письмо, приведенное выше, хранилось в маленьком личном
ларце Кристины, читалось и с одобрением перечитывалось множество раз, не
говоря уж о том, если по правде, что оно не раз переписывалось, хотя всегда
датировалось как в первом варианте — да, и это тоже, хотя Кристина любила
иной раз скромно пошутить.
Эрнест, все еще находясь в комнате миссис Джей, по-прежнему предавался
раздумьям. Взрослые, говорил он себе, если они леди и джентльмены,
никогда не делают ничего греховного, а он всегда делает. Он слышал, что некоторые
взрослые бывают суетными, что, конечно, нехорошо, но это все же совсем
другое, чем быть греховным, и их за это не наказывают и не ругают. Его
собственные папа и мама даже и несуетные. Они часто объясняли ему, что они
исключительно несуетные. Он хорошо знает, что они никогда не делали ничего
греховного с тех пор, как были детьми, и что даже в детстве они были почти
безупречны. О, как сам он далек от этого! Когда он научится любить папу и маму так, как
они любили своих родителей? Как мог он надеяться, став взрослым, сделаться
когда-либо столь же хорошим и благоразумным, как они, или даже хотя бы
сносно хорошим и благоразумным? Увы! Никогда. Этого не может случиться. Он не
любит своих папу и маму, несмотря на всю их добродетель и доброту к нему. Он
ненавидит папу и не любит маму, а после всего, что они сделали для него, на это
способен только плохой и неблагодарный мальчик. Кроме того, он не любит
воскресенье, не любит ничего действительно хорошего, его вкусы низменны и к
тому же таковы, что он стыдится их. Больше всего ему нравятся такие люди,
которые иногда немного ругаются, только бы не ругали его самого. Что касается
чтения катехизиса и Библии, то его сердце не лежит к этому. Никогда в жизни
он не выслушал внимательно ни одной проповеди. Даже когда в Брайтоне его
повели послушать мистера Вогэна, который, как всем известно, читает такие
прекрасные проповеди для детей, Эрнест был очень рад, когда проповедь нако-
Глава 30
99
нец закончилась, и к тому же он думает, что добровольно вообще не переступил
бы порога церкви, разве что для игры на органе и пения гимнов. Катехизис
ужасен. Он никогда не в состоянии понять, чего это он просит у Господа Бога и Отца
Небесного, да и насчет причастия у него так и не возникло ни единой идеи. Его
долг по отношению к ближнему — вот еще одна проблема. Кажется, будто со всех
сторон его поджидают обязанности по отношению ко всем и каждому, а вот по
отношению к нему ни у кого никаких обязанностей нет. Потом, это ужасное и
таинственное слово «дело». Что оно в конце концов означает? Что такое «дело»?
Его папа — замечательный человек дела, мама часто говорила ему, но он
никогда не станет таким. Это безнадежно и просто ужасно, ведь ему непрерывно
говорили, что он должен будет зарабатывать себе на жизнь. Несомненно, но как,
учитывая, насколько он глуп, ленив, невежествен, снисходителен к своим
слабостям и тщедушен? Все взрослые умны, кроме слуг, но даже и слуги умнее, чем
когда-либо надеется стать он. О, почему, почему, почему люди не могут
рождаться на свет сразу взрослыми?
Потом его мысли занял Казабьянка5. Недавно отец экзаменовал его по
поводу этого стихотворения. «Когда мог он покинуть свое место? К кому взывал?
Получил ли ответ? Почему? Сколько раз взывал он к своему отцу? Что с ним
случилось? Что ты думаешь о достойнейшей жизни, оказавшейся погубленной?
Считаешь ли ее действительно погубленной? Почему ты так считаешь?» И все
остальное в том же духе. Конечно, он думал, что жизнь Казабьянки была
самой достойной жизнью, которая оказалась погублена: двух мнений тут быть не
может. Ему никогда не приходило в голову, что мораль стихотворения в том,
что молодым людям следует как можно скорее научиться действовать по
своему усмотрению при том повиновении, какое они оказывают своим батюшке и
матушке. О нет! Единственной его мыслью была мысль о том, что он никогда,
никогда не сможет стать таким, как Казабьянка, и что Казабьянка, если бы
когда-нибудь познакомился с ним, так глубоко презирал бы его, что не удостоил
бы даже короткого разговора. Все остальные на корабле вообще не
заслуживают внимания, и не важно, взорвались они или нет. Миссис Хеманс знала, что
они за люди: ничего особенного они собой не представляли. Кроме того,
Казабьянка был так красив и происходил из такой хорошей семьи.
Так его детские мысли продолжали блуждать, пока он не устал следовать
за ними и снова не погрузился в дрему.
Глава 30
На другое утро Теобальд и Кристина встали с ощущением некоторой
усталости от поездки, но и с чувством, дающим самое полное счастье, — чувством
выполненного долга. Отныне мальчик сам будет виноват, если не станет хорошим
и не достигнет такого благополучия, какого вообще желательно, чтобы он
достиг. Что могут родители сделать сверх того, что сделали они? Ответ «ничего»
наверняка готов сорваться с уст читателя столь же поспешно, как с уст самих
Теобальда и Кристины.
100
Путь всякой плоти
Несколько дней спустя родители были вознаграждены получением
следующего письма от сына:
Дорогая мамочка!
У меня все очень хорошо. Доктор Скиннер задал мне упражнение по
латинскому стихотворению о лошади, вольно и радостно резвящейся на просторе, но
так как я уже работал над ним с папой, то знал, как сделать это упражнение,
и все получилось почти хорошо, и он определил меня в четвертый класс,
который ведет мистер Темплер, и я должен начать новую латинскую грамматику,
не такую, как прежняя, а намного труднее, я знаю, вы желаете, чтобы я был
прилежен, и я буду очень стараться, большой привет Джо с Шарлоттой и папе,
остаюсь ваш любящий сын
Эрнест
Ничто не могло быть приятнее и уместнее. Казалось, будто он и в самом деле
намерен исправиться.
Мальчики возвратились к занятиям, экзамены закончились, начались
обычные школьные будни. Эрнест обнаружил, что его опасения насчет пинков и
издевок были преувеличены. Никто не делал ему чего-нибудь особенно
ужасного. Он должен был в определенные часы выполнять поручения старших
учеников, а когда наступала его очередь, чистить футбольные мячи и тому
подобное, но в смысле издевок опасаться было нечего.
Однако он отнюдь не чувствовал себя счастливым. Доктор Скиннер был
слишком похож на его отца. Правда, Эрнест с ним еще не так часто
сталкивался, но директор был вездесущ: никогда нельзя было знать, в какой момент он
объявится, и всюду, где он возникал, что-нибудь да выводило его из себя. Он
был подобен льву из воскресных историй епископа Оксфордского1, всегда
готов наброситься из-за какого-нибудь куста и растерзать человека, когда тот
меньше всего этого ожидает. Он назвал Эрнеста «дерзким пресмыкающимся»
и сказал, что удивляется, как это земля еще не разверзлась, чтобы поглотить
его, из-за того что Эрнест произнес «Талия» с кратким «и».
— И это при мне, — гремел он, — никогда за всю жизнь не ошибавшимся в
долготе слога!
Конечно, он был бы намного более приятным человеком, если бы в юности
ошибался в долготе слога, как другие люди. Эрнест не мог понять, как
мальчикам в классе доктора Скиннера вообще удается выживать, а тем не менее они
продолжали жить, и даже весьма благополучно, и, как ни странно, боготворили
его или обещали боготворить впоследствии. Эрнесту это казалось похожим на
жизнь у кратера Везувия.
Сам он попал, как упоминалось, в класс мистера Темплер а, который был
раздражителен, но не так уж злобен, и при нем очень легко можно было списать.
Эрнеста обычно удивляло, как мистер Темплер мог быть настолько слеп, — ибо
предполагал, что мистер Темплер, должно быть, сам списывал, когда учился
в школе, — и мальчик задавался вопросом, забудет ли он, повзрослев, свои
юные годы, как мистер Темплер. Он думал, что никогда, вероятно, не сможет
забыть ни одного их дня.
Глава 30
101
Имелась еще миссис Джей, которая время от времени поднимала
переполох. Через несколько дней после начала семестра, когда в коридоре слегка
расшумелись, она примчалась со своими очками на лбу и в чепце с
развевающимися тесемками и назвала мальчика, которого Эрнест выбрал себе в герои,
«самым озорным-проказливым-развязным-неуемным-буяном-смутьяном-шалу-
ном во всей школе». Но она имела обыкновение говорить и такие вещи,
которые Эрнесту нравились. Если доктор отправлялся на обед и не было никаких
молитв, она входила и объявляла:
— Юные джентльмены, этим вечером вы освобождаетесь от молитв.
Да и вообще она была добрая душа, эта старушка.
Большинство мальчиков быстро научаются чувствовать разницу между
громкими возгласами и действительной опасностью, но иным кажется столь
неестественным разражаться угрозами, которые не имеешь намерения
привести в исполнение, что им требуется много времени, чтобы перестать принимать
всяких индюков и гусаков всерьез. Эрнест был из числа как раз таких
доверчивых и находил атмосферу Рафборо настолько неспокойной, что рад был
испариться с глаз долой и из сердца вон, когда только мог. Он ненавидел игры
еще сильнее, чем вопли в классной комнате и коридоре, поскольку был еще
физически слабым, хилым и окреп намного позднее, чем большинство
мальчиков. Возможно, это было следствием того, что отец заставлял его с ранних
лет корпеть в духоте над книгами, но, думаю, отчасти также врожденной
склонности к отставанию в физическом развитии, наследственной в семье Понти-
фекс, отличавшейся также необычайным долголетием. В
тринадцать—четырнадцать лет он был просто мешком с костями, а силы в плечах у него было, что в
запястье у иных мальчиков того же возраста. С его «куриной» грудью он,
казалось, вообще не обладал никакой силой или выносливостью, а если ему случалось
участвовать в стычках, затеваемых в шутку или всерьез, он всегда жался к
стене, даже если его противник был меньше ростом. Робость, естественная в детстве,
достигала у него такой степени, которая, боюсь, приравнивается к трусости. Это
делало его еще более слабосильным, чем он мог бы быть в других условиях, ибо
как уверенность в себе прибавляет силы, так недостаток ее их отнимает. После
того как он получил удары, от которых из него чуть дух не вышибло, да еще
заработал полудюжину подножек в футбольных потасовках, — в которые
оказался вовлечен никак не по своей воле, — он перестал видеть в футболе какую бы
то ни было забаву и уклонялся от этой благородной игры любыми способами, что
ввергло его в неприятности со старшими учениками, которые не намерены были
терпеть никаких уклонений со стороны младших.
С крикетом отношения у Эрнеста сложились так же плохо, как и с
футболом, и, несмотря на все его усилия, он никогда не мог толково бросить мяч или
камень. Каждому вскоре стало ясно, что Понтифекс — «мазила», «тряпка»,
которого, может, и не следует хорошенько вздуть, но все равно нельзя оценить
высоко. Однако к нему относились без большой неприязни, ибо было
замечено, что он вполне честен — inter pares*, нисколько не мстителен, покладист,
* среди равных [лат).
102
Путь всякой плоти
исключительно щедр в отношении тех небольших денег, какие у него имелись,
не больший любитель школьных занятий, чем игр, и вообще более склонен к
умеренному пороку, чем к неумеренной добродетели.
Эти качества могут позволить любому мальчику не пасть очень низко в
глазах своих школьных товарищей, но Эрнест думал, что пал ниже, чем это
было на самом деле, ненавидя и презирая себя за то, что он, как и всякий
другой, считал трусостью. Он не любил мальчиков, подобных себе. Его герои были
сильны и энергичны, и чем меньше они проявляли расположение к нему, тем
больше он преклонялся перед ними. Из-за всего этого он чувствовал себя
ужасно несчастным, ибо ему никогда не приходило в голову, что инстинкт,
заставлявший его держаться подальше от неподходящих ему игр, был разумнее, чем
разум, который велел ему в них участвовать. Тем не менее он следовал
главным образом своему инстинкту, а не разуму. Sapiens suam si sapientiam norit*.
Глава 31
У учителей Эрнест вскоре оказался в полной немилости. У него было теперь
больше свободы, чем он знавал прежде. Суровая рука Теобальда более не
тяготела над ним, а бдительное отцовское око уже не выслеживало Эрнеста
повсюду1. Наказание, состоявшее в переписывании стихов Вергилия, и сравнить
нельзя было с жестокой поркой, задаваемой ему отцом. Работа над стихами
часто доставляла меньше неприятностей, чем уроки. Латинский и греческий не
содержали в себе ничего, что привлекало его, и, как подсказывал ему инстинкт,
вряд ли принесли бы утешение даже в смертный час. Еще меньше было у них
шансов на это в обозримом будущем. Этим мертвым языкам невозможно было
искусственно вернуть жизнь путем системы bona fide** наград за усердие.
Существовали определенные наказания за недостаточное усердие, но никаким
благам в мире не под силу было заманить его и пленить этими предметами.
Более приятная сторона всякой учебы всегда представала как нечто, к чему
Эрнест не имел никакого отношения. Мы вообще не имеем права на
удовольствия, по крайней мере у нас мало права, и уж конечно не у него, Эрнеста. Мы
пришли в этот мир не для удовольствия, а для исполнения долга, к тому же
удовольствие содержит в самой своей сути нечто более или менее греховное.
Если мы делаем что-то, что нам нравится, то мы — или, во всяком случае, он,
Эрнест, — должны просить прощения и считать, что с нами очень милостиво
обошлись, коли сразу же не велели пойти заняться чем-нибудь другим. С тем,
что ему не нравилось, дело обстояло, однако, иначе: чем больше оно ему не
нравилось, тем большей была вероятность того, что это нечто правильное. Ему
никогда не приходило в голову, что заведомо правильно то, что наиболее
приятно и что обязанность доказать неправильность приятного лежит на тех, кто
подвергает сомнению его правильность.
* Если бы мудрец свою мудрость признал [лат).
* справедливых [лат.).
Глава 31
103
Я говорил уже не раз, что он верил в собственную греховность: не было
среди смертных ребенка, с большей готовностью согласного принять без
возражений все, что ему говорили те, кто имел над ним власть, — по крайней мере,
ему представлялось, что он верит этому, ибо тогда еще он ничего не знал о том
другом Эрнесте, который тайно жил в нем и был намного сильнее и реальнее,
чем Эрнест, существование которого он осознавал. Этот безмолвный Эрнест
обнаруживал себя посредством подспудных чувств, слишком быстротечных и
несомненных, чтобы быть выраженными в такой ненадежной форме, как
слово, но убеждал он, по сути, в следующем:
«Взросление — не такое уж легкое и простое дело, каким его обычно
считают. Это тяжелая работа, тяжелее, чем кто-нибудь, кроме взрослеющего
мальчика, может себе представить. Оно требует внимания, а ты еще недостаточно
силен, чтобы уделять внимание одновременно и своему физическому
взрослению, и урокам. Кроме того, латынь и греческий — полная чепуха. Чем лучше
люди знают их, тем более они, как правило, отвратительны. Приятные люди,
которым радуешься, или никогда не знали их вообще, или как можно скорее
забыли и то, что знали. Они никогда не обращались к классикам после того,
как их перестали к этому принуждать. Классики эти — чушь: они очень
хороши в своем времени и своей стране, но неуместны здесь и теперь. Никогда не
изучай ничего, пока не окажется, что в течение долгого времени тебе
приходится испытывать неловкость за незнание этого. Когда обнаружишь, что имеются
основания для приобретения тобою того или иного знания, или предвидишь, что
вскоре такие основания появятся, то, чем быстрее ты научишься этому, тем
лучше, но до той поры занимайся наращиванием костей и мускулов: они будут
намного полезнее тебе, чем латынь и греческий, — да ты никогда и не будешь
в состоянии сделать это, если не сделаешь теперь, в то время как знание латыни
и греческого может в любое время приобрести всякий, кто имеет к ним охоту.
Ты окружен со всех сторон ложью, которая обманула бы даже избранников
Божиих2, если бы избранники оказались не слишком бдительны. "Я", которое
ты осознаешь, твое рассуждающее и размышляющее "Я", готово верить этой
лжи и приказывать тебе поступать в соответствии с ней. Твое сознательное "Я",
Эрнест, — это ханжа, порождение ханжей и вышколено в ханжестве. Я не
позволю ему руководить твоими поступками, хотя оно, безусловно, будет
руководить твоими словами в продолжение многих предстоящих лет. Теперь
твоего папы нет здесь, чтобы пороть тебя. Это некоторая перемена в условиях
твоего существования, и за ней должна последовать перемена в поступках.
Повинуйся мне, твоему истинному "Я", и дела у тебя пойдут более или менее
сносно, но, если вздумаешь повиноваться этой внешней и видимой прежней
твоей оболочке, которая называется твоим отцом, я растерзаю тебя на части даже
в третьем и четвертом колене как того, кто ненавидит Бога3, ибо я, Эрнест, есмь
Бог, сотворивший тебя».
Как потрясен был бы Эрнест, если бы мог слышать совет, который получал;
какой испуг также воцарился бы в Бэттерсби. Но дело на том не закончилось,
ибо то же нечестивое внутреннее «Я» давало ему плохие советы относительно
карманных денег и выбора товарищей. В целом Эрнест был внимателен к нему
104
Путь всякой плоти
и послушен его воле больше, чем в свое время Теобальд. В результате он мало
уделял внимания учебе, его ум стал развиваться медленнее, а тело быстрее, чем
прежде, и когда вскоре внутреннее «Я» повлекло его в том направлении, где он
столкнулся с препятствиями, справиться с которыми не хватало сил, он выбрал,
хотя и испытывая сильнейшие угрызения совести, ближайший путь к
запретному, какой только позволяли обстоятельства.
Можно догадаться, что Эрнест не был ближайшим другом самых усидчивых
и благовоспитанных юношей, обучавшихся тогда в Рафборо. Некоторые из
менее послушных мальчиков имели обыкновение посещать трактиры и пить пиво
больше, чем следовало. Внутреннее «Я» Эрнеста вряд ли убеждало его
присоединиться к этим юным джентльменам, а он все же поступал так на ранних
этапах своего пребывания в школе, и иногда его самым жалким образом тошнило
от такого количества пива, которое не произвело бы никакого действия на более
крепкого мальчика. Внутреннее «Я» Эрнеста, должно быть, заявило о себе в тот
момент и сказало ему, что в пьянстве мало веселья, поскольку он бросил эту
привычку, прежде чем она успела в нем укорениться, и никогда к ней не
возвращался; но приобрел другую, в постыдно раннем возрасте
тринадцати—четырнадцати лет, которую так и не оставил, хотя до сегодняшнего дня его сознательное «Я»
продолжает ему назойливо твердить, что надо бы поменьше курить.
Так дела шли до тех пор, пока мой герой не приблизился к
четырнадцатилетию. Если к тому времени он и не был юным негодником, то принадлежал
к сомнительному разряду тех, кто находится между недоуважаемыми
членами общества и верхним слоем людей самых презренных, склоняясь, пожалуй,
больше к последним, за исключением того, что касается пороков скупости,
которые ему были совершенно несвойственны. Я делаю этот вывод отчасти на
основании того, что сам Эрнест рассказывал мне, а отчасти на основании его
школьных счетов, которые, помню, Теобальд показывал мне, выражая при
этом большое недовольство. В Рафборо существовала система, называемая
«ежемесячные наградные деньги». Максимальная сумма, которую мальчик в
возрасте Эрнеста мог получить, составляла четыре шиллинга4 шесть пенсов,
несколько мальчиков получали четыре шиллинга, а единицы — меньше шести
пенсов, но Эрнест никогда не получал больше полукроны5 и редко больше
восемнадцати пенсов. Его средняя сумма, надо думать, составляла что-то
около одного шиллинга и девяти пенсов, что было слишком много, чтобы занять
место среди отъявленно плохих мальчиков, но слишком мало, чтобы попасть
в разряд хороших.
Глава 32
Теперь я должен возвратиться к мисс Алетее Понтифекс, о которой сказал,
пожалуй, слишком мало, если учесть огромное влияние, оказанное ею на судьбу
моего героя.
После смерти отца, которая случилась, когда Алетее было неполных
тридцать два года, она рассталась со своими сестрами, ибо между ними и ею су-
Глава 32
105
ществовало мало взаимопонимания, и отправилась в Лондон. Она решила, как
говорила сама, провести оставшуюся часть жизни настолько счастливо,
насколько возможно, и имела более ясные представления о том, как это лучше всего
устроить, чем обычно имеют женщины или даже мужчины.
Состояние Алетеи, как я уже говорил, включало пять тысяч фунтов,
которые достались ей по брачному контракту ее матери, и пятнадцать тысяч
фунтов, оставленных отцом, причем обе суммы теперь находились в полном ее
распоряжении. Этот капитал приносил около девятисот фунтов в год, а
поскольку деньги были вложены лишь в самые надежные ценные бумаги, то ей не
приходилось тревожиться о своих доходах. Она намеревалась оставаться богатой,
а потому придумала, как тратить не более пятисот фунтов в год, остальное же
решила откладывать.
— Если я буду так поступать, — сказала она смеясь, — то, вероятно, вполне
смогу жить в достатке, довольствуясь своими доходами.
В соответствии с этими планами она сняла квартиру без мебели в доме на
Гауэр-стрит, нижние этажи которого сдавались в аренду различным конторам.
Джон Понтифекс пытался убедить ее купить дом, но Алетея настолько ясно
дала ему понять, чтобы он не вмешивался не в свое дело, что тот был
вынужден отступить. Она никогда не любила брата, а с того времени почти
полностью порвала с ним.
Не слишком часто выезжая в свет, она все же свела знакомство с
большинством персон, достигших положения в литературных, художественных и
научных кругах, и было примечательно то, как высоко ценилось ее мнение,
несмотря на отсутствие с ее стороны каких-либо попыток выделиться. Она могла бы
писать, если бы захотела, но ей доставляло больше удовольствия видеть за
работой других и ободрять их. Возможно, люди, занимавшиеся литературой,
любили ее еще и за то, что сама она не писала.
Я, как Алетея очень хорошо знала, всегда был предан ей; она могла бы иметь
множество других поклонников, если б захотела, но она всех отваживала и ругала
институт брака, что женщины редко делают, если не имеют собственного
достаточного дохода. Однако род человеческий в отличие от брака она никогда не
бранила и, хотя вела образ жизни, в котором даже самые строгие критики не
смогли бы найти к чему придраться, тем не менее, как только могла, защищала
тех представительниц собственного пола, которых свет наиболее сурово осуждал.
В смысле религии1 она, надо думать, была почти атеисткой, как всякий, чей
ум редко обращается к этому предмету. Она посещала церковь, но одинаково
терпеть не могла как тех, кто выставлял напоказ свою религиозность, так и тех,
кто гордился своей нерелигиозностью. Помню, как однажды она убеждала
одного из известных философов написать роман, вместо того чтобы заниматься
нападками на религию2. Философу это не очень понравилось, и он стал
распространяться о том, как это важно — показать людям безумие многого из того, во
что они якобы верят. Она улыбнулась и кротко спросила:
— Разве у них нет Моисея и пророков? Позвольте им слушать их*.
Но иногда она могла преспокойно отпустить какую-нибудь злую шутку и на
собственный счет, а однажды обратила мое внимание на пометку в своем мо-
106
Путь всякой плоти
литвеннике, в том месте, где речь шла о прогулке в Эммаус4 с двумя
учениками, и как Христос сказал им: «...о, несмысленные и медлительные сердцем,
чтобы веровать всему, что предсказывали пророки!»5 Слово «всему» было
набрано капителью.
Будучи не в ладу со своим братом Джоном, она поддерживала более тесные
отношения с Теобальдом и его семьей и примерно раз в два года на
несколько дней наведывалась в Бэттерсби. Алетея всегда пыталась полюбить
Теобальда и объединить с ним усилия, насколько могла (ведь оба они были «зайцами»
в семье, тогда как все остальные — «собаками»)*, но это было бесполезно.
Полагаю, главной причиной, почему Алетея поддерживала хорошие отношения
с этим братом, было желание встречаться с его детьми и помочь им в жизни,
если они окажутся достойными того.
Когда мисс Понтифекс в былые дни приезжала в Бэттерсби, детей не били и
уроки им задавали полегче. Она без труда поняла, что дети перегружены
занятиями и несчастны, но вряд ли и представить себе могла, каким всеохватным был
режим, в условиях которого они жили. Она сознавала, что ее вмешательство не
принесет большой пользы, и поэтому мудро воздерживалась от излишних
расспросов. Ее время, если ему когда-либо суждено наступить, наступит тогда, когда дети
уже не будут жить под родительским кровом. Кончилось тем, что она решила не
трогать Джо и Шарлотту, а вот с Эрнестом проводить времени побольше, чтобы
иметь возможность составить мнение о его склонностях и способностях.
Уже полтора года он находился в Рафборо, ему было почти четырнадцать
лет, так что его характер начал формироваться. Его тетушка некоторое время
не виделась с ним и, полагая, что если она должна им заняться, то, пожалуй,
лучше начать это именно теперь, а не когда-то еще, решила отправиться в PacJ>
боро под каким-нибудь предлогом, который был бы достаточно убедителен для
Теобальда, заполучить на несколько часов племянника и приглядеться к нему
попристальнее. Соответственно, в августе 1849 года, когда Эрнест только
приступил к своему четвертому семестру, к двери доктора Скиннера подъехал
экипаж с мисс Понтифекс, которая попросила разрешения — и получила его —
пригласить Эрнеста на обед с ней в гостиницу «Лебедь». Она еще раньше
написала Эрнесту, сообщив о своем приезде, и он, конечно, с нетерпением ждал
встречи с ней. Он не видел ее так давно, что сначала робел, но благодаря ее
добродушию вскоре вполне освоился. Она с таким благожелательным
пристрастием относилась ко всему юному, что сердце ее сразу прониклось теплотой к
мальчику, хотя наружность у него оказалась менее привлекательной, чем она
ожидала. Забрав его из школы, она тут же отправилась с ним в кондитерскую
и угостила всем, чего он захотел, так что Эрнест сразу почувствовал, что она
в лучшую сторону отличается даже от его тетушек мисс Элэби, таких милых
и добрых. Мисс Элэби были очень бедны; шесть пенсов для них значили то же,
что для Алетеи пять шиллингов. Какой шанс был у них против той, которая,
если б захотела, могла откладывать из своего дохода вдвое больше, чем они,
бедняжки, могли издержать на все расходы?
* В игре «зайцы и собаки» первые — те, кого травят вторые.
Глава 32
107
Когда его не одергивали, Эрнест бывал словоохотлив, и Алетея позволила
ему болтать обо всем, что приходило в голову. Он всегда был готов доверять
всякому, кто проявлял к нему доброту (потребовалось много лет, чтобы он
научился благоразумной осмотрительности в этом отношении, — если он
вообще когда-либо, в чем я порой сомневаюсь, будет таким осмотрительным, как
следовало бы), и в скором времени отделил тетушку от папы с мамой и всех
остальных, с кем инстинкт велел ему держаться настороже. Он нимало не
догадывался о том, как много в его судьбе зависело теперь от его поведения,
а если бы догадывался, то, пожалуй, сыграл бы свою роль менее убедительно.
Тетка выведала у Эрнеста больше подробностей о его жизни дома и в
школе, чем могли бы одобрить папа с мамой, но он и понятия не имел, что ему
учиняется допрос. Она вытянула из него все о счастливых воскресных вечерах
и о том, как они с Джо и Шарлоттой иногда ссорились, но не принимала ничью
сторону и относилась ко всему, как к чему-то само собой разумеющемуся. Как
все мальчики, он умел передразнивать доктора Скиннера, и когда разгорячился
благодаря обеду и двум стаканам хереса, едва не заставившим его захмелеть,
то потешил тетю, изобразив некоторые характерные повадки доктора, которого
фамильярно называл Сэмом.
— Сэм, — сказал он, — ужасный старый притворщик.
Это действие хереса подвигло его на такую развязность, ибо, каков бы ни был
доктор Скиннер, он оставался для молодого господина Эрнеста реальностью, при
столкновении с которой у него мигом душа уходила в пятки.
Алетея улыбнулась:
— Мне не следует ничего говорить по этому поводу, не так ли?
Эрнест ответил:
— Пожалуй, нет. — И осекся.
Далее он изрек некоторое число тривиальных, где-то позаимствованных
резонерских суждений, которые подхватил, веря, что как раз это и принято
говорить, из чего явствовало, что даже в том юном возрасте Эрнест верил в
Эрнеста той верой, которая была забавна своей абсурдностью. Тетка судила его
милосердно, в чем сомневаться и не приходилось. Она очень хорошо
понимала, откуда исходят эти умствования, и, увидев, что язык у него уже
достаточно развязался, больше не давала ему хереса.
Однако окончательно он завоевал расположение своей тетки после обеда. Ибо
тогда-то она и обнаружила, что Эрнест, подобно ей, страстно любит музыку,
причем самого высокого свойства. Он знал наизусть и пустился напевать или
насвистывать ей всевозможные фрагменты из произведений великих
композиторов, знания которых от мальчика его возраста вряд ли кто мог ожидать, и было
очевидно, что это всецело следствие врожденной склонности, поскольку занятия
музыкой не находили никакого поощрения в Рафборо. Ни один мальчик в школе
так не любил музыку, как он. Он ходит набираться знаний, сказал Эрнест, к
органисту церкви Святого Михаила, который иногда упражняется по будням во
второй половине дня. Как-то проходя мимо, он услышал раздававшиеся из
церкви звуки органа, прокрался внутрь и поднялся на хоры к органисту. Со
временем органист привык к нему как к старому знакомому, и они подружились.
108
Путь всякой плоти
Именно любовь к музыке склонила Алетею к решению, что мальчик
достоин того, чтобы не пожалеть на него усилий. «Он любит настоящую музыку, —
подумала она, — и ненавидит доктора Скиннера. Вполне сносное начало». Когда
вечером она отправляла его обратно в школу с совереном6 в кармане (а он
надеялся получить только пять шиллингов), то испытывала чувство, что не
только не прогадала, но даже получила за свои деньги намного больше, чем
могла ожидать.
Глава 33
На следующий день, когда мисс Понтифекс вернулась в Лондон, ее мысли
были поглощены племянником и вопросом о том, как принести ему
наибольшую пользу.
Алетее пришло на ум, что, если она хочет оказать Эрнесту какую-нибудь по-
настоящему ценную услугу, она должна почти полностью посвятить себя ему.
Ей следует, собственно говоря, отказаться от жизни в Лондоне, во всяком
случае на долгое время, и поселиться в Рафборо, где она сможет постоянно
видеться с племянником. Это было серьезное дело: последние двенадцать лет она
жила в Лондоне, и, естественно, ей внушала отвращение перспектива
обосноваться в маленьком провинциальном городке вроде Рафборо. Благоразумно ли
было предпринимать такую серьезную попытку? Разве люди не должны
самостоятельно пробиваться в этом мире? Может ли человек больше сделать для
другого, чем написать завещание в его пользу и тотчас умереть? Не обязан ли
каждый сам заботиться о своем счастье, и не будет ли лучше для мира, если
каждый станет заниматься собственными делами, предоставив другим право
заниматься своими? Жизнь — не скачки на ослах, где человек должен ехать на
осле соседа и где победа достается тому, кто придет последним, и псалмопевец
давно сформулировал общепринятое положение вещей, заявив, что человек не
может ни заключать договоров от имени брата своего, ни поручаться за него
перед Богом, ибо искупление их душ стоило дороже, а потому человек должен
предоставить ближнего его собственной судьбе во веки веков1.
Все эти превосходные доводы и еще множество других в пользу того,
чтобы предоставить племянника его собственной судьбе, приходили Алетее на ум,
но против них восстала женская любовь к детям и желание найти среди юных
отпрысков семейства кого-то, к кому она могла бы со всей нежностью
привязаться и кому могла внушить такую же привязанность.
А помимо всего прочего, ей нужно было кому-то завещать свои деньги. Она
не собиралась оставлять их людям, о которых знала очень мало, просто
потому, что им случилось быть сыновьями и дочерьми ее братьев и сестер, которых
она никогда не любила. Она слишком хорошо сознавала силу и ценность денег
и то, сколько достойных людей страдают и умирают ежегодно из-за их
отсутствия. Она не намерена была оставлять деньги, не удостоверившись, что ее
наследники честны, достойны любви и более или менее бедны. Она хотела,
чтобы деньги получили те, кто с наибольшей вероятностью использует их на
Глава 33
109
доброе дело и с умом и кого они, таким образом, способны осчастливить. Если
бы она смогла найти такого среди своих племянников и племянниц, тем
лучше: стоило приложить серьезные усилия, чтобы убедиться, может ли она
оставить ему или ей свои деньги. Но если она потерпит неудачу, то придется
найти наследника, не связанного с ней узами кровного родства.
— Конечно, — говорила она мне не раз, — я все испорчу. Выберу
какого-нибудь приятного на вид, хорошо одетого ловкача с изысканными манерами,
которые введут меня в заблуждение, а он, как только я испущу последний
вздох, примется рисовать картины для Академии, или писать для «Тайме», или
делать что-нибудь столь же противное.
Пока же она еще не составила завещания, и это было одной из немногих
вещей, которые беспокоили ее. Полагаю, она завещала бы большую часть своих
денег мне, если бы я не остановил ее. Отец оставил мне средств в избытке, мой
образ жизни всегда был прост, а потому я никогда не знал денежных
затруднений. Кроме того, я особенно опасался возникновения повода для
недоброжелательных пересудов. Алетее было хорошо известно, что, если она завещает
деньги мне и я узнаю об этом, то связывающие нас узы, вероятнее всего,
ослабнут, но я не возражал против обсуждения с ней вопроса о том, кого ей следует
сделать наследником, покуда подразумевалось, что это буду не я.
Эрнест казался подходящим кандидатом благодаря наличию в нем качеств,
которые настоятельно побуждали тетушку взять его под свою опеку, но
немало дней прошло в раздумьях, прежде чем она взялась за исполнение этого
намерения, учитывая, что оно должно было повлечь за собой существенные
перемены в привычном ей образе жизни. По крайней мере, сказала она, на
решение ей потребовалось несколько дней, и, весьма похоже, так оно и было,
но с того самого момента, как она начала обсуждать этот предмет, я
догадывался, чем все закончится.
Итак, было решено, что она снимет дом в Рафборо и поселится там на пару
лет. Однако в качестве компромисса в ответ на некоторые из моих возражений
было также решено, что она сохранит за собой свое жилище на Гауэр-стрит и
будет каждый месяц приезжать на неделю в город; разумеется, она будет
также покидать Рафборо на время каникул. По истечении двух лет, если из затеи
ничего не выйдет, все это должно закончиться. Она должна была к тому
времени, во всяком случае, составить мнение о характере мальчика и затем
действовать в соответствии со сложившимися обстоятельствами.
Благовидным предлогом должен был послужить совет доктора,
предложившего ей, после стольких лет, проведенных в Лондоне, пожить год-два за
городом, и порекомендовавшего Рафборо ввиду тамошнего чистого воздуха и
беспрепятственного сообщения с Лондоном, поскольку к тому времени туда уже
была проведена железная дорога. Алетее не хотелось давать своему брату и его
жене какого-либо основания для недовольства, если бы, чаще видясь с
племянником, она обнаружила, что не может поладить с ним; она также опасалась
возбудить ложные надежды в душе мальчика.
Приняв окончательное решение о том, как все следует устроить, она
написала Теобальду и сообщила, что намерена снять дом в Рафборо, начиная с
no
Путь всякой плоти
Михайлова дня2, который тогда приближался, и упомянула как бы мимоходом,
что одной из привлекательных сторон этого городка является то, что там
учится ее племянник, и она надеется видеться с ним чаще, чем прежде.
Теобальд и Кристина знали, как сильно Алетея любит Лондон, и сочли
очень странным, что она вдруг захотела поселиться в Рафборо, но не
подозревали о том, что она направляется туда исключительно ради племянника, и еще
меньше о том, что она подумывает сделать Эрнеста наследником. Если бы они
догадались об этом, то так взревновали бы, что, почти уверен, попросили бы
ее отправиться пожить в какое-нибудь другое место. Алетея, однако, была на
два или три года моложе Теобальда — ей еще не было пятидесяти, и она
вполне могла дожить до восьмидесяти пяти или девяноста лет; поэтому о ее
деньгах не стоило хлопотать, и брат с невесткой сбросили их, если можно так
выразиться, со своих мысленных счетов, допуская, однако, что если бы что-нибудь
и случилось с нею, пока они еще живы, то деньги, само собой разумеется,
перешли бы к ним.
Перспектива того, что Алетея будет чаще видеться с Эрнестом, была делом
серьезным. Кристина почуяла беду издалека, как это ей действительно часто
удавалось. Алетея была суетной — столь суетной, то есть сколь могла быть
сестра Теобальда. В своем письме Теобальду сестра говорила, что понимает,
насколько его и Кристины мысли полны тревоги о благополучии мальчика.
Алетея считала эту формулировку вполне изящной, но Кристина хотела
выражений повнушительнее и посильнее.
— Может ли она знать, как много мы думаем о нашем любимом малыше? —
воскликнула она, когда Теобальд показал ей письмо сестры. — Думаю, мой
дорогой, Алетея понимала бы эти вещи лучше, если бы имела собственных
детей.
Наименьшее, что удовлетворило бы Кристину, — это если бы в письме
говорилось, что никогда еще не существовало родителей, равных Теобальду и ей.
Она не могла быть уверена, что между теткой и племянником не возникнет
какого-либо рода союз: ни Кристина, ни Теобальд не хотели, чтобы у Эрнеста
были союзники.
Хватит с него и таких союзников, как Джо с Шарлоттой. Но, в конце
концов, если Алетея решила взять и поселиться в Рафборо, они же не могут
остановить ее и должны воспользоваться создавшимся положением с наибольшей
выгодой для себя.
Через несколько недель Алетея и впрямь отправилась жить в Рафборо. Был
найден дом, который ее весьма устраивал — с лужайкой и миленьким садиком.
«Во всяком случае, — сказала она себе, — у меня будут свежие яйца и цветы».
Мисс Понтифекс даже подумывала, не завести ли корову, но в конце концов
решила не делать этого. Она обставила дом заново, не взяв ничего из своего
жилища на Гауэр-стрит, и к Михайлову дню — ибо дом был пуст, когда она
наняла его, — удобно устроилась в нем и начала его обживать.
Одним из первых шагов мисс Понтифекс было приглашение к завтраку
дюжины самых толковых и благовоспитанных мальчиков. Со своего места в
Глава 33
111
церкви она могла видеть лица старшеклассников и скоро составила мнение о
том, с кем из них будет лучше завести дружбу. Сидя напротив этих мальчиков
в церкви и оценивая их своим острым взглядом из-под вуали в соответствии с
женскими критериями, мисс Понтифекс пришла относительно подавляющего
большинства тех, кого тщательно исследовала, к более правильным
заключениям, чем доктор Скиннер. А в одного мальчика она просто влюбилась,
наблюдая, как он надевает перчатки.
Мисс Понтифекс, как я уже говорил, через Эрнеста посылала приглашение
некоторым из этих юношей и хорошо их угощала. Ни один мальчик не в силах
сопротивляться, когда его хорошо угощают у добродушной и все еще красивой
женщины. Мальчики очень похожи в этом отношении на хороших собак: дайте
им кость, и они сразу вас полюбят. Алетея использовала и все прочие
маленькие хитрости, посредством которых рассчитывала завоевать привязанность
мальчиков, а благодаря ей добиться от них хорошего отношения к
племяннику. Узнав, что футбольный клуб испытывает некоторую нужду в деньгах, она
сразу же дала полсоверена на удовлетворение его нужд. Она не оставила
мальчикам никаких шансов, она подстрелила их одного за другим так легко, как
если бы они были усевшимися на насест фазанами. Но при этом и сама
Алетея не избежала их воздействия, ибо, как написала мне, она просто отдала свое
сердце полудюжине из них. «Насколько они лучше, — писала она, — и насколько
больше они понимают, чем те, кто выдает себя за их учителей!»
В последнее время3, кажется, отстаивалась точка зрения, что именно юные
и отличающиеся красивой внешностью по-настоящему зрелы и по-настоящему
опытны, ибо только они обладают живой памятью, которая руководит ими.
«Все обаяние юности, — утверждалось автором этого высказывания, —
заключается в том, что своей опытностью она превосходит зрелый возраст, и, если
по каким-то причинам опыт юных неудачен или неверно употреблен, обаяние
исчезает. Говоря, что стареем, мы должны скорее говорить, что обновляемся
или утрачиваем зрелость и страдаем от неопытности. Пытаясь делать то, чего
никогда прежде не делали, и все больше и больше ослабевая, в конце концов
мы доходим до полного бессилия смерти».
Мисс Понтифекс умерла за много лет до того, как вышеупомянутый фрагмент
был написан, но она независимым путем пришла почти к такому же выводу.
Таким образом, сначала она подкупила мальчиков. С доктором Скиннером
уладить дело оказалось еще легче. Он и миссис Скиннер, разумеется, были
приглашены в гости, как только мисс Понтифекс устроилась на новом месте.
Она дурачила мистера Скиннера сколько ее душе было угодно и получила от
него обещание, что по случаю своего первого визита он пришлет ей
рукописный экземпляр одного из своих второстепенных по значимости стихотворений
(ибо доктор Скиннер имел репутацию одного из наших самых гладких и
элегантных второстепенных поэтов). Другие учителя и жены учителей тоже не
были забыты. Алетея изо всех сил старалась их очаровать, что, впрочем, делала
везде, где появлялась, а если какая-либо женщина ставит себе такую цель, она,
как правило, добивается успеха.
112
Путь всякой плоти
Глава 34
Мисс Понтифекс вскоре выяснила, что Эрнест не любит игры, но также поняла,
что едва ли можно ожидать, чтобы он полюбил их. Он был идеально сложен,
но странным образом лишен физической силы. Впоследствии он стал
довольно сильным, но это произошло у него намного позже, чем у других мальчиков,
а в то время, о котором я пишу, он был просто кожа да кости. Эрнест хотел,
чтобы его руки и грудная клетка развились каким-нибудь другим способом, а
не посредством получения ударов, достававшихся ему во время школьных игр.
Удовлетворить это желание каким-либо путем, который также доставлял бы
ему и удовольствие, было первейшей заботой Алетеи. Гребля отвечала бы всем
этим целям, но, к сожалению, в Рафборо не было реки. Требовалось подыскать
занятие, способное понравиться ему так же, как другим мальчикам нравятся
крикет или футбол, и вдобавок чтобы ему казалось, будто тяга к этому
занятию пробудилась в нем самом. Было не очень-то легко найти что-нибудь
подходящее, но вскоре ей пришло в голову, что ее сторонницей может стать его
любовь к музыке, и однажды, когда племянник проводил у нее половину
времени каникул, Алетея спросила, не хочет ли он, чтобы она купила орган, на
котором он мог бы играть. Конечно, мальчик ответил «да». Тогда она
рассказала ему о своем дедушке и о построенных им органах. Эрнесту никогда не
приходило в голову, что он может изготовить орган, но, поняв из рассказов
тетки, что это вполне возможно, он так живо клюнул на приманку, как она
только могла пожелать, и захотел научиться пилить и строгать, чтобы самому
поскорее сделать деревянные трубы.
Мисс Понтифекс увидела, что ничего более подходящего и придумать
нельзя, к тому же радовалась, что он заодно освоит столярное ремесло, ибо
верила, пусть и наивно, в мудрость немецкой традиции, предписывающей
давать каждому мальчику знание какого-нибудь ремесла.
В адресованном мне письме на эту тему Алетея утверждала:
«Свободная профессия приносит пользу тем, у кого есть связи, влияние, а
также капитал, иначе она — вещь неприменимая. Скольких мы с Вами знаем
людей, у которых есть талант, усердие, отменный здравый смысл, прямота, —
по существу, все те качества, что должны обеспечивать успех, — и которые тем
не менее продолжают из года в год ожидать и вопреки всему надеяться
получить работу, которой так и не получают? Как, в самом деле, ее можно получить,
если в силу своего происхождения не имеешь нужных связей либо не вступишь
в брак, позволяющий приобрести их? У отца и матери Эрнеста нет таких
связей, а если бы и были, то они бы не захотели их употребить. Полагаю, они
сделают или попытаются сделать из него священника, — возможно, это самое
лучшее для него, поскольку он мог бы купить место приходского священника на
деньги, оставленные ему дедом, — но неизвестно, что сам мальчик будет думать
об этом, когда придет пора, и, кто знает, не устремится ли он в дебри
Америки, как многие молодые людей теперь делают...»
Глава 34
113
Но пока он хотел соорудить орган, а это не могло ему повредить, и потому,
чем скорее бы он начал, тем лучше.
Алетея решила, что во избежание последующих неприятностей нужно
сообщить о своих планах брату и невестке.
«Не думаю, — писала она, — чтобы доктор Скиннер очень горячо одобрил
мою попытку ввести изготовление органов в учебный план Рафборо, но я
постараюсь уладить с ним этот вопрос, поскольку мне очень хочется иметь орган,
сделанный руками Эрнеста, орган, на котором он сможет играть сколько
угодно, пока инструмент будет оставаться в моем доме, и который я отдам ему, как
только он обзаведется собственным домом. А до тех пор орган будет
принадлежать мне, поскольку я намерена за него заплатить».
Сказанное должно было дать понять Теобальду с Кристиной, что они не
останутся внакладе из-за этих планов.
Будь Алетея столь же бедна, как барышни Элэби, читатель может
догадаться, что папа и мама Эрнеста сказали бы на это предложение; но, с другой
стороны, будь она столь же бедна, как те тетки, она бы никогда не выступила с
ним. Родителям не нравилось, что Эрнест все более и более завоевывает
расположение своей тетушки. И все же, пожалуй, хорошо, что ему это удавалось,
а не то она еще, чего доброго, обратила бы свои милости на семью Джона
Понтифекса. Единственное, сказал Теобальд, что заставляет его колебаться, —
это то, что мальчик может позднее завести себе дружков в плохой компании,
если поощрять его склонность к музыке, — склонность, которую Теобальд
всегда ненавидел. Он с сожалением отмечал, что Эрнест по-прежнему
обнаруживает стремление к плохой компании и способен свести знакомство с теми, кто
развратит его. Кристина содрогалась при мысли об этом, но когда они
всесторонне обсудили свои сомнения, то почувствовали (а когда люди начинают
«чувствовать», они неизменно собираются предпринять такое действие, которое, как
им кажется, более выгодно с мирской точки зрения), что несогласие с
предложением Алетеи повредило бы перспективам их сына более, чем следует, а
потому дали свое благословение, правда не слишком охотно.
Через некоторое время, однако, Кристина свыклась с этой идеей, а затем ей
в голову пришли соображения, которые заставили ее со свойственным ей
пылом отдаться предложенному Алетеей плану. Если бы мисс Понтифекс была
железнодорожной акцией, то можно было бы сказать, что она на несколько
дней поднялась в цене на бирже Бэттерсби. Долгое время это повышение курса
не могло длиться, тем не менее какое-то время движение по восходящей
действительно наличествовало. Мысли Кристины привлек сам орган — она,
казалось, сделала его собственными руками. В Англии не существовало другого,
способного сравниться с ним по красоте звучания и силе. Ей уже слышалось,
как знаменитый доктор Уолмисли1 из Кембриджа принимает инструмент за
творение мастера Смита2. Он достался бы, без сомнения, церкви в Бэттерсби,
в которой орган отсутствовал, ибо желание Алетеи держать его у себя — сущий
114
Путь всякой плоти
вздор, да и у Эрнеста не будет собственного дома на протяжении еще многих
и многих лет, а они никогда не смогли бы держать орган в своем доме. О нет!
Церковь Бэттерсби — единственное надлежащее место для него.
Конечно, они устроили бы по случаю установки органа грандиозный
праздник. Приехал бы епископ, а возможно, и молодой Фиггинс мог бы в это время
гостить у них, — она должна спросить у Эрнеста, не покинул ли еще молодой
Фиггинс Рафборо, — он мог бы даже убедить присутствовать своего дедушку
лорда Лонсфорда. Лорд Лонсфорд, епископ и все остальные поздравляли бы
ее, а доктор Уэсли3 или доктор Уолмисли, который председательствовал бы (не
слишком велика разница, который из них), сказал бы ей: «Дорогая миссис
Понтифекс, никогда мне еще не доводилось играть на столь замечательном
инструменте». Тогда она одарила бы его одной из своих самых милых улыбок
и высказала бы опасение, что он льстит ей, а он ответил бы каким-нибудь
приятным пустячком насчет того, что замечательные люди (замечательным
человеком был бы на тот момент Эрнест) неизменно отличаются тем, что матери
у них — замечательные женщины, и т. д., и т. д. Преимущество осыпания
похвалами самого себя состоит в том, что их можно намазывать толстым слоем
и всегда там, где нужно.
Теобальд написал Эрнесту короткое и резкое письмо касательно намерений
его тетки в этом деле.
«Воздержусь от суждения, — писал он, — выйдет ли что-нибудь из этого: все
будет зависеть от твоих собственных стараний. Ты и до настоящего времени
имел исключительные преимущества, и твоя добрая тетя проявляет всяческое
желание оказывать тебе дружескую поддержку, но ты должен убедительнее
доказать твердость и силу характера, чем делал до сих пор, чтобы это дело с
органом в конечном счете не оказалось всего лишь еще одним разочарованием.
Я должен настоять на двух вещах: во-первых, чтобы это новое увлечение не
отвлекало тебя от твоей латыни и греческого ("Они — не мои, — подумал Эрнест, —
и никогда не были моими"), и, во-вторых, чтобы ты не приносил в наш дом
запах клея или стружки, если будешь делать какую-либо часть органа во время
каникул».
Эрнест был еще слишком юн, чтобы понять, насколько отвратительное
письмо получил. Он думал, что содержащиеся в нем инсинуации вполне
заслуженны. Он знал, что ему, к сожалению, недостает упорства. Он, бывало,
увлекался чем-нибудь на короткое время, а затем обнаруживал, что потерял к этому
всякий интерес, — и это было так плохо, что хуже некуда. Отцовское письмо
повергло его в еще один из часто случавшихся у него приступов уныния и
раздумий о своей никчемности, но мысль об органе утешила, и он не сомневался,
что теперь-то есть дело, в каком он сможет проявить упорство, не испытывая
при этом скуки.
Было решено, что к работе над органом следует приступить лишь по
окончании рождественских каникул, а пока Эрнест может заняться освоением азов
столярного ремесла, учась пользоваться инструментами. Мисс Понтифекс ве-
Глава 35
115
лела установить в сарае на ее участке верстак и условилась с самым уважаемым
столяром в Рафборо, что один из его подмастерьев будет приходить два раза
в неделю на пару часов и обучать Эрнеста. Затем ей стало требоваться
выполнение той или иной несложной работы, и она поручала эту работу
племяннику, щедро платя ему, а также снабжая инструментами и материалами. Она
никогда не давала ему никаких «хороших советов» и не говорила, что «все
зависит от его собственных стараний», но часто целовала его и, то и дело
приходя в мастерскую, так хорошо исполняла роль зрителя, заинтересованного ловко
выполняемой работой, что вскоре и в самом деле заинтересовалась.
Какому мальчику при таком-то содействии не понравилось бы почти всякое
дело? Все мальчики любят что-нибудь мастерить. Пилить, строгать и забивать
гвозди оказалось именно тем занятием, какое тетка хотела найти для
племянника: оно давало физическую нагрузку, но не чрезмерную, и в то же время
увлекало. Когда от работы на бледном лице Эрнеста вспыхивал румянец, а его
глаза искрились радостью, он выглядел совсем другим мальчиком, чем тот,
какого тетка взяла под свою опеку всего несколько месяцев назад. Внутреннее
«Я» никогда не говорило ему, что это вздор, как говорило по поводу латыни и
греческого. Мастерить табуреты и ящики — ради этого стоило жить, а после
Рождества рисовалась перспектива создания органа, о котором он никогда не
переставал думать.
Тетка позволила ему приглашать друзей, побуждая к общению с теми, кого
ее быстрый ум оценил как наиболее желательных. Она также приучила его к
опрятности, никогда при этом не читая ему нравоучений. Она просто чудеса
сотворила в тот короткий срок, что был ей отпущен, и, будь ей суждено
прожить дольше, думаю, мой герой не попал бы в тень той тучи, что покрыла столь
густым мраком начальную пору его зрелости. Но, к несчастью для него,
вспышка солнечного света была слишком горячей и слишком яркой, чтобы длиться
долго, и ему предстояло выдержать еще немало бурь, прежде чем он стал
более или менее счастливым. Но в ту пору он был в высшей степени счастлив, и
его тетка была счастлива и радовалась его счастью, происходящим в нем
переменам к лучшему и безграничной привязанности к ней. С каждым днем она
сама привязывалась к нему все сильнее, несмотря на его многочисленные
недостатки и почти невероятное легкомыслие. Возможно, именно из-за них она
и поняла, как сильно он нуждается в ней. Как бы там ни было, во всяком
случае, она утвердилась в своем намерении заменить ему родителей и видеть в нем
скорее сына, чем племянника. Но завещания пока еще не составляла.
Глава 35
Первую половину следующего семестра все шло хорошо. Мисс Понтифекс
провела большую часть каникул в Лондоне, и я также навестил ее в Рафборо,
где пробыл несколько дней, остановившись, разумеется, в «Лебеде». Я
выслушал все рассказы о моем крестнике, к которому, впрочем, не испытывал такого
интереса, какой выказывал на словах. В то время больше, чем что-либо другое,
116
Путь всякой плоти
меня интересовал театр, а что касается Эрнеста, то я досадовал на него за то,
что он так сильно завладел вниманием своей тетки и что из-за него она на
такой долгий срок уехала из Лондона. Орган был начат, и в течение первых двух
месяцев учебного семестра дела с ним продвигались неплохо. Эрнест был
счастливее, чем когда-либо, и старался изо всех сил. Лучшие из мальчиков ради его
тетушки проявляли к нему больше внимания, и он меньше водил компанию с
теми, кто вовлекал его в неприятности.
Но как бы много мисс Понтифекс ни сделала, она не могла немедленно
изгладить влияние той среды, в какой мальчик находился в Бэттерсби. Как бы
сильно он ни боялся и ни ненавидел своего отца (хотя он еще не знал, насколько
сильно), он многое перенял у него. Если бы Теобальд был поласковее, Эрнест
мог бы во всем подражать ему и вскоре, возможно, стал бы таким
законченным маленьким педантом, каких только поискать.
К счастью, характер ему достался от матери, которая, когда не бывала
напуганной и когда на горизонте не маячило ничего, что могло пойти вразрез с
малейшей прихотью мужа, была милой, добродушной женщиной. Если бы не
ужасно было говорить такое о ком-либо, то я сказал бы, что намерения у нее
были благие.
Эрнест также унаследовал от матери любовь к строительству воздушных
замков и — так, по-моему, это следует назвать — ее тщеславие. Он очень любил
покрасоваться и, если мог привлечь внимание, мало заботился о том, от кого
оно исходит и по какой причине. Подхватывая, как попугай, всякие жаргонные
словечки, которые слышал от старших и которые, как думал, были тем, что
нужно, он употреблял их к месту и не к месту, будто свои собственные.
Мисс Понтифекс была достаточно опытной и мудрой, чтобы знать, что
таков путь, с которого даже самые великие люди, как правило, начинают свое
развитие, и больше радовалась восприимчивости племянника и его
способности к подражанию, чем тревожилась по поводу того, что он подхватывает и
чему подражает.
Она видела, что он очень привязан к ней, и рассчитывала на его
привязанность более, чем на все остальное. Алетея видела также, что его самомнение
не слишком велико, а приступы самоуничижения столь же сильны, как и
взлеты восторга. Его импульсивность и безоглядная доверчивость ко всякому, кто
мило ему улыбнулся или был не совсем уж недобр к нему, заставляли ее
беспокоиться более, чем какие-либо другие черты его характера. Она ясно
видела, что ему придется много раз жестоко разочароваться, прежде чем он
научится отличать друга от недруга. Вот это-то понимание и побудило мисс
Понтифекс к действию, которое ей вскоре пришлось предпринять.
Ее здоровье вообще-то было отменным, и за всю жизнь она никогда серьезно
не болела. Но однажды утром, вскоре после Пасхи 1850 года, она проснулась
с чувством сильного недомогания. Незадолго до этого в округе ходили слухи
о лихорадке, но в те времена не так хорошо, как нынче, понимали, какие меры
предосторожности следует принимать против распространения инфекции, и
никто ничего не делал. Через день-другой стало ясно, что мисс Понтифекс
заболела брюшным тифом и жизнь ее в опасности. Ввиду этого она отправила в
Глава 35
117
Лондон посыльного, и потребовала, чтобы он не возвращался без ее
поверенного и меня.
Мы прибыли во второй половине того же дня, когда были вызваны, и
застали ее еще без каких-либо признаков лихорадочного бреда: действительно,
та оживленность, с какой Алетея приняла нас, не внушала мысли, что она
может быть опасно больна. Она тут же изложила свои пожелания, которые
касались, как я и ожидал, ее племянника, и повторила то, о чем я уже упоминал как
о главном источнике ее беспокойства по поводу него. Затем мисс Понтифекс
просила меня как старого близкого друга, ввиду внезапной опасности, которая
обрушилась на нее и которую она бессильна предотвратить, согласиться на то,
что в случае ее смерти, как она хорошо понимала, по ее собственному
признанию, будет неприятной и обременительной обязанностью.
Она хотела большую часть своих денег оставить якобы мне, но в
действительности своему племяннику, с тем чтобы я стал их доверительным
собственником вместо него, пока он не достигнет двадцати восьми лет, но ни он, ни кто-
либо другой, кроме ее поверенного и меня, не должен ничего об этом знать.
Алетея намеревалась оставить пять тысяч фунтов другим наследникам, а
пятнадцать тысяч фунтов Эрнесту. К тому времени, когда ему исполнится
двадцать восемь лет, эта сумма могла возрасти, скажем, примерно до тридцати
тысяч фунтов.
— Продай облигации, — сказала Алетея, — в которые вложены теперь эти
деньги, и помести то, что получишь, в обычные мидлендские акции. — Пусть
совершает ошибки, — продолжала она, — на деньги, оставленные ему дедом. Я
не пророк, но даже я могу предсказать, что мальчику потребуется много лет,
чтобы научиться смотреть на вещи так, как смотрят его ближние. Он не
получит никакой помощи от отца с матерью, которые никогда не простят ему
везения, если я оставлю деньги непосредственно ему. Вполне возможно, я не
права, но, мне кажется, он потеряет большую часть того, что имеет, а то и все,
прежде чем поймет, как удержать то, что получит от меня.
В случае если он окажется полным банкротом до достижения двадцати
восьми лет, деньги эти должны стать моими, однако, говорила Алетея, она
уверена, что в назначенный срок я вручу их Эрнесту.
— Если, — продолжала она, — я ошибаюсь, то худшее, что может случиться, —
это то, что он получит большую сумму в двадцать восемь лет вместо меньшей,
скажем, в двадцать три года, поскольку я никогда не доверила бы ему деньги
ранее этого возраста. Ничего не зная об этих деньгах, он не будет несчастен из-
за их отсутствия.
Она просила меня принять две тысячи фунтов в возмещение за хлопоты,
которые мне придется взвалить на себя в связи с ответственностью за имущество
мальчика, и в знак надежды завещательницы, что я время от времени буду
заботиться о нем, пока он не повзрослеет. Остальные три тысячи фунтов я
должен был раздать в виде разовых или ежегодных выплат ее друзьям и слугам.
Тщетно мы с адвокатом выражали протест по поводу необычности и
рискованности этих распоряжений. Мы говорили ей, что здравомыслящие люди
имеют не более оптимистическое представление о человеческой природе, чем
118
Путь всякой плоти
то, каким руководствуется Верховный Суд Великобритании. Мы сказали,
собственно говоря, все, что сказал бы на нашем месте всякий другой. Она со всем
согласилась, но продолжала настаивать, что ей осталось недолго и ничто не
принудит ее оставить свои деньги племяннику обычным способом.
— Это необыкновенно глупое завещание, — сказала она, — но он —
необыкновенно глупый мальчуган. — И весело улыбнулась своей маленькой выходке.
Подобно всем остальным членам их семейства, она бывала очень упряма,
приняв какое-то решение. Поэтому все было сделано так, как она пожелала.
Никаких условий на случай моей смерти или смерти Эрнеста не
оговаривалось: мисс Понтифекс решила, что ни один из нас не умрет, и была слишком
слаба, чтобы вдаваться в подробности. К тому же она так стремилась
подписать завещание, пока еще способна была сделать это, что у нас фактически не
осталось иного выхода, как исполнить ее волю. В случае ее выздоровления мы
устроили бы все более удовлетворительным образом, но теперь дальнейшие
споры явно подорвали бы ее шансы на выздоровление; почти не приходилось
сомневаться, что будет составлено или именно это завещание, или вообще
никакого.
Когда завещание было подписано, я составил в двух экземплярах письмо,
в котором говорилось, что я в качестве доверенного лица принимаю на себя
ответственность за оставляемую мне мисс Понтифекс сумму с условием
передачи оной Эрнесту, за исключением пяти тысяч фунтов, но что он не должен
быть введен во владение наследством и ничего не должен знать о нем прямо
или косвенно, до тех пор пока не достигнет двадцати восьми лет, а если
окажется неплатежеспособен, прежде чем достигнет означенного возраста, то деньги
должны перейти в полное мое распоряжение. Внизу каждого экземпляра
письма мисс Понтифекс написала: «Вышесказанное было моим условием при
составлении мною завещания» — и затем поставила свою подпись. Поверенный и
его помощник подписались как свидетели. Я взял один экземпляр себе, а
другой вручил поверенному мисс Понтифекс.
По завершении всего на душе у нее стало легче. Она говорила
преимущественно о племяннике.
— Не брани его, — сказала она, — если он станет проявлять легкомыслие и
непрерывно браться то за одно, то за другое только с тем, чтобы потом бросить.
Как иначе ему выяснить, в чем его сила или слабость? Профессия для
мужчины, — заметила она со свойственным ей порой лукавым смешком, — не то же
самое, что жена, которую он должен выбрать раз и навсегда, чтоб быть с ней
«в счастье и горе», заранее не испытав ее. Пусть поблуждает, выясняя, к чему
у него более всего лежит душа и что же, в конце концов, влечет его и
наиболее ему подходит, а тогда уж пусть делает окончательный выбор. Но мне
кажется, Эрнест утихомирится лишь к сорока—сорока пяти годам. Тогда все его
прежние измены пойдут ему во благо1, если он такой мальчик, каким, я
надеюсь, он является. Прежде всего, — продолжала она, — не позволяй ему доходить
до истощения сил, кроме как раз или два за всю жизнь: никогда не
получается хорошо и не стоит усилий то, что не дается легко. Теобальд и Кристина дали
бы ему щепотку соли и велели насыпать на хвост2 семи смертным добродете-
Глава 36
119
лям3. — И здесь она снова засмеялась своим обычным смехом, таким лукавым
и таким милым. — Думаю, если он любит блины, ему лучше есть их во вторник
на Масленицу4, и хватит.
Таковы были последние сказанные ею связные слова. С того времени ее
состояние стало стремительно ухудшаться, и она так и бредила до самой
кончины, которая наступила менее двух недель спустя, к невыразимой скорби тех,
кто ее знал и любил.
Глава 36
Были посланы письма братьям и сестрам мисс Понтифекс, и все до одного
спешно примчались в Рафборо. Прежде чем они явились, бедняжка уже
впала в полное забытье, и я почти рад, что она так и не пришла в сознание,
проведя в душевном покое последние минуты жизни.
Я знал этих людей на протяжении всей их жизни, как можно знать лишь тех,
с кем вместе играл в детстве. Я знал, как все они — Теобальд, возможно, менее
других, но все они в той или иной мере — отравляли ей жизнь, пока смерть отца
не сделала ее материально независимой, и меня раздражало, как они, один за
другим прибывая в Рафборо, пускаются расспрашивать, возвратилась ли их
сестра в сознание, в состоянии ли узнать их. Было известно, что, заболев, она послала
за мной и что я оставался в Рафборо, и, признаюсь, меня возмущала та смесь
подозрения, пренебрежения и любопытства, с какими они отнеслись ко мне. Они
все, за исключением, полагаю, Теобальда, даже внимания бы на меня не
обратили, если бы не думали, что мне известно нечто, что им самим хотелось знать
и что они рассчитывали как-нибудь у меня выведать, — поскольку было ясно, что
я некоторым образом причастен к составлению завещания их сестрой. Ни один
из них не догадывался о его действительном содержании, но, думаю, они
боялись, не оставила ли мисс Понтифекс деньги на благотворительные нужды.
Джон сказал мне в своей вкрадчивой манере, что ему вроде бы помнится, как
его сестра говорила о своем намерении оставить деньги на основание
благотворительного заведения для нуждающихся драматургов. Я ничего не возразил на
это и тем самым, несомненно, лишь усугубил его подозрения.
Когда наступил конец, я попросил поверенного мисс Понтифекс в
письменной форме сообщить ее братьям и сестрам, как она распорядилась своими
деньгами. Они, естественно, пришли в ярость и разъехались по домам, не оставшись
на похороны и не попрощавшись со мной. Ничего лучшего, пожалуй, они не
могли сделать: их поведение настолько меня разозлило, что удовольствие
наблюдать их гнев почти примирило меня с завещанием, его вызвавшим, иначе
мне пришлось бы остро почувствовать, что завещание поставило меня в
положение, которого я более всего стремился избежать, и вдобавок возложило на
меня очень тяжелую ответственность. Однако ничего уже нельзя было
изменить, и мне оставалось только предоставить всему идти своим чередом.
Мисс Понтифекс выразила желание быть похороненной в Пейлхэме,
поэтому через несколько дней я повез ее тело туда. Я не был в Пейлхэме со време-
120
Путь всякой плоти
ни смерти моего отца, случившейся где-то шестью годами ранее. Мне часто
хотелось поехать туда, но я избегал этой поездки, хотя моя сестра была там два-
три раза. Мне казалось непереносимым видеть, как в доме, который столько
лет был моим, живут теперь чужие люди; церемонно звонить в колокольчик,
в который я никогда не звонил, разве что мальчиком, для забавы; чувствовать,
что я не имею никакого отношения к саду, в котором в детстве так часто
собирал букеты цветов и который казался моей собственностью много лет после
того, как я достиг совершеннолетия; видеть комнаты, лишенные всех
привычных черт и ставшие такими незнакомыми, несмотря на то что это все те же
комнаты. Имейся какая-нибудь основательная причина, я принял бы все это как
само собой разумеющееся, и, без сомнения, оказалось бы, что в предчувствии
все намного хуже, чем в реальности, но, поскольку до настоящего времени
никакой особой причины наведаться в Пейлхэм не имелось, я избегал такой
поездки. Теперь же мне было необходимо туда поехать, и, признаюсь, я никогда
не чувствовал себя более подавленным, чем прибыв туда с мертвым телом
подруги моего детства.
Я нашел деревню более изменившейся, чем ожидал. Через нее теперь
проходила железная дорога, и на месте дома старых мистера и миссис Понтифекс
стояла новехонькая станция из желтого кирпича. Ничего, кроме столярной
мастерской, не сохранилось. Я видел много знакомых лиц, но далее за эти шесть
лет бывшие мои односельчане, казалось, необычайно постарели. Некоторые из
самых глубоких стариков умерли, а старые стали очень старыми. Я чувствовал
себя подобно ребенку из сказки, похищенному эльфами, который
возвратился домой после семи лет сна. Все, казалось, были рады видеть меня, хотя я
никогда не давал им особого повода радоваться встрече со мной, и все, кто
помнил стариков Понтифекс, сердечно отзывались о них и были довольны, что
внучка пожелала быть похороненной рядом с ними. Вступив на кладбище и
стоя в сумерках ветреного пасмурного вечера около могилы старой миссис
Понтифекс, на месте, выбранном мною для Алетеи, я думал о том, как много
раз она, которая отныне будет лежать здесь, и я, который должен, конечно,
лечь однажды в каком-нибудь другом подобном месте, хотя не знаю, когда и
где, играли здесь когда-то детьми и были по-детски влюблены друг в друга.
На следующее утро я проводил ее тело к могиле и, как принято,
впоследствии установил в память о ней простую прямоугольную плиту, похожую,
насколько возможно, на плиты на могилах ее бабушки и дедушки. Я указал даты
и места ее рождения и смерти, но не добавил ничего, за исключением слов, что
этот камень установлен тем, кто знал и любил ее. Помня, как страстно она
любила музыку, я собирался одно время надписать несколько музыкальных
фраз, если бы смог найти подходящие к ее характеру, но, зная, что ей не
понравилось бы, чтобы ее надгробная плита отличалась чем-то необычным, не
стал этого делать.
Однако до того, как принять окончательное решение, я подумал, что Эрнест
мог бы помочь мне подобрать то, что нужно, и написал ему об этом. Вот какой
ответ я получил:
Глава 37
121
Дорогой крестный!
Посылаю Вам самый лучший фрагмент, какой смог подобрать. Это тема
последней из шести больших фуг Генделя1, и звучит она так:
jAr J i ли- *Щ;\\у ||
Grave* *
Она подошла бы скорее для мужчины, особенно для старика, который
предается глубоким сожалениям о чем-то, чем для женщины, но я не представляю
себе ничего лучшего. Если этот фрагмент не понравится Вам для памятника
тети Алетеи, я оставлю его для себя.
Любящий Вас крестник
Эрнест Понтифекс
Неужели это тот мальчуган, который мог купить сластей на два пенса, но не
на два с половиной? Ну и ну, подумал я про себя, как эти младенцы и сосунки
обгоняют нас! Выбрать собственную эпитафию в пятнадцать лет, причем такую,
как для человека, который «предается глубоким сожалениям о чем-то», и с
такой мелодией, как эта, — ба, да ведь она могла бы подойти для самого Леонардо
да Винчи! Тогда я записал мальчика в самонадеянные молодые нахалы, каким,
без сомнения, он и был, — но таковы очень многие молодые люди в возрасте
Эрнеста.
Глава 37
Если Теобальд с Кристиной были не слишком довольны, когда мисс Понтифекс
только взяла Эрнеста под свою опеку, то еще меньше они обрадовались,
когда отношения между теткой и племянником так внезапно оборвались. По их
словам, Алетея внушила им, что собирается сделать Эрнеста своим
наследником. Не думаю, чтобы она дала им для такого вывода даже намек. В письме же,
которое будет вскоре приведено, Теобальд прямо дал Эрнесту понять, что она
так и намеревалась сделать. Впрочем, если Теобальд хотел причинить кому-
нибудь неприятность, малейший пустяк немедленно принимал в его
воображении форму, наиболее соответствующую этой цели. Не думаю, что у Понтифек-
сов было хоть какое-то представление насчет того, что Алетея собиралась
сделать со своими деньгами, до того как стало известно, что она при смерти, и, как
я уже говорил, если бы Теобальд и Кристина считали вероятным, что Эрнест
будет назначен наследником без их ведома и без получения ими
пожизненного права на наследство, то быстро взялись бы чинить препятствия на пути
дальнейшего сближения между теткой и племянником.
* Торжественно, значительно (ит.).
122
Путь всякой плоти
Это, однако, не мешало им чувствовать себя оскорбленными теперь, когда
ни они, ни Эрнест вообще ничего не получили, и делать вид, что им обидно за
их сына, тогда как на самом деле им было обидно за самих себя, но гордость
не позволяла им в этом признаться. В самом деле, так мило с их стороны было
досадовать при подобных обстоятельствах.
Кристина говорила, что завещание просто подложное и что, по ее
убеждению, его можно опротестовать, если они с Теобальдом правильно возьмутся за
дело. Теобальд, говорила она, должен обратиться к лорду-канцлеру и
побеседовать с ним не на публичном заседании, а в кабинете, где мог бы изложить всю
суть дела. Или, пожалуй, было бы даже лучше обратиться ей самой — и я не
смею надеяться, что мне удастся описать все те мечтания, поводом для которых
послужила эта мысль. Полагаю, в конечном счете Теобальд бы умер, а лорд-
канцлер (овдовевший несколькими неделями ранее) сделал бы ей предложение,
которое, однако, она бы твердо, но не без благодарности отклонила. Она всегда,
сказала бы она, будет продолжать считать его другом... Но тут вошла кухарка
с известием, что пришел мясник, и спросила, что ей угодно заказать.
Думаю, у Теобальда наверняка имелись кое-какие соображения насчет
тайного смысла передачи права наследования мне, но он ничего не сказал об этом
Кристине. Он был сердит и чувствовал себя несправедливо обиженным,
поскольку мог теперь заставить Алетею выслушать его резоны не более, чем
ранее был способен восстать против своего отца. «Как подло со стороны
людей, — внутренне восклицал он, — причинять подобные обиды, а затем
ускользать от встречи с теми, кого они обидели! Будем, во всяком случае, надеяться,
что я встречусь с ними на небесах». Но в возможности такой встречи он
сомневался, ибо, если люди совершили столь великое зло, как это, едва ли можно
допустить, что они вообще попадут на небеса. Что же касается встречи с ними в
другом месте, то подобная идея никогда ему и в голову не приходила.
Человек столь рассерженный и в последнее время привыкший, чтобы ему не
противоречили, обязательно найдет, кому отомстить за себя, а Теобальд давно
усмотрел существо, на котором мог срывать злобу с наименьшим риском и
наибольшим удовлетворением. Этим существом, как можно догадаться, был не кто
иной, как Эрнест. За Эрнеста, следовательно, он и взялся, чтобы отвести душу,
но, ввиду отсутствия сына в доме, посредством письма.
«Ты должен знать, — писал он, — что тетя Алетея давала твоей матери и мне
понять, что имела желание сделать тебя наследником, в том случае, конечно,
если бы ты вел себя таким образом, чтобы у нее были основания верить в тебя.
Однако же на деле ты ничего не получил, и все ее имущество перешло к
твоему крестному, мистеру Овертону. Твоя мать и я хотим надеяться, что, если бы
мисс Понтифекс прожила дольше, ты все же сумел бы завоевать ее
расположение, но теперь слишком поздно думать об этом.
Плотницкое дело и сооружение органов нужно немедленно прекратить. Я
никогда не верил в это начинание и не вижу никакой причины менять свое
первоначальное мнение. Я не сожалею о том, что для твоего же блага это должно
прекратиться, и, уверен, ты сам не станешь сожалеть об этом впоследствии.
Глава 37
123
Еще несколько слов относительно твоих перспектив. У тебя есть — полагаю,
ты об этом знаешь — небольшое наследство, которое по закону принадлежит
тебе согласно завещанию твоего деда. Завещание было сделано в такой
форме по недосмотру и, считаю, полностью вследствие недопонимания со стороны
адвоката. Право наследования, вероятно, должно было бы вступать в силу лишь
после смерти твоей матери и моей, однако, как фактически сформулировано
в завещании, наследство будет в твоем распоряжении, если ты достигнешь
двадцати одного года. Но из него предстоит сделать большие вычеты: прежде
всего заплатить пошлину на наследство, и, кроме того, я, возможно, имею право
вычесть расходы на твое образование и содержание от рождения до
достижения тобой совершеннолетия. Я не стану, по всей вероятности, настаивать на
осуществлении этого права в полной мере, если ты будешь вести себя
надлежащим образом, но значительную сумму определенно следует вычесть. Итак, тебе
останется очень немного — скажем, тысяча или две тысячи фунтов. Самый
строгий отчет будет представлен тебе в надлежащее время.
Теперь позволь мне предупредить тебя весьма серьезно, что это все, чего ты
должен ожидать от меня (даже Эрнест понимал, что деньги он получит вовсе
не от Теобальда), во всяком случае, до моей смерти, которая, кто знает, может
наступить еще очень нескоро. Это небольшая сумма, но достаточная, если
добавить к ней упорство и целеустремленность. Твоя мать и я дали тебе имя
Эрнест, надеясь, что оно постоянно будет напоминать тебе, и т. д., и т. п.».
Но я просто не могу далее цитировать эти излияния. То была прежняя игра
«потрясание завещанием», и сводилась она фактически к тому, что Эрнест ни
на что не годен и что, если он будет продолжать оставаться таким, каков он
теперь, то ему, вероятно, вскоре после того как он окончит школу или в
лучшем случае колледж, придется просить подаяние на улицах без ботинок и
чулок, а также что сам Теобальд и Кристина в общем и целом чуть ли не
слишком хороши для этого мира.
Написав письмо, Теобальд пришел в отличное расположение духа и послал
очередной миссис Томпсон1 даже больше супа и вина, чем обычно составляла
ее щедрая порция.
Эрнест был глубоко расстроен отцовским письмом: узнать, что даже его
милая тетя, единственная из его родственников, кого он по-настоящему любил,
должна была отвернуться от него и думать о нем плохо, — то был удар из всех
ударов злейший2. В спешке из-за своей болезни мисс Понтифекс, хотя только
о его благополучии и заботилась, упустила из виду такую малость, как
упомянуть о каком-нибудь подарке Эрнесту, который лишил бы инсинуации его отца
ядовитости, а поскольку ее болезнь была заразной, она не виделась с
племянником с тех пор, как стал понятен характер недуга. Сам я не знал о письме
Теобальда и не думал о моем крестнике достаточно часто, чтобы
догадываться, каким могло быть его состояние. Я не догадывался об этом много лет, пока
не обнаружил письмо Теобальда в старом портфеле, который Эрнест носил в
школе и в котором хранились и другие старые письма и школьные документы,
приведенные в этой книге. Он забыл, что оно у него есть, но, когда увидел, то
124
Путь всякой плоти
рассказал мне, что помнит, как именно это письмо стало первой причиной,
побудившей его восстать против отца с ощущением собственной правоты, хотя
он и не осмеливался открыто заявить о ней. Была и еще одна, не менее
серьезная причина: он боялся, что долг велит отказаться от наследства, которое
оставил ему дед; если оно досталось ему единственно по ошибке, то как он мог
владеть им?
В течение оставшейся части семестра Эрнест был вял и несчастен. Он очень
любил некоторых из своих школьных товарищей, но трепетал перед теми, кого
считал лучше себя, и был склонен идеализировать всех и каждого, за
исключением тех, кто очевидным образом сильно ему уступал. Себя самого он и в
грош не ставил; а поскольку он был лишен той физической силы и энергии,
которых так жаждал, и кроме того знал, что отлынивает от уроков, Эрнест
думал, что не обладает тем, благодаря чему можно заслужить доброе имя: он
плох от рождения, он один из тех, кто отвержен и в ком нет места для
раскаяния, хотя он и просил о нем даже со слезами3. Вот он и избегал тех, кого по-
детски боготворил, ни на миг не подозревая, что, возможно, в полной мере
наделен способностями столь же высокими, как у них, хотя и иного рода, и
больше водил компанию с теми, чья репутация была невысока, чем с такими,
с кем мог быть, во всяком случае, на равных. Перед окончанием семестра он
опустился с того уровня, до какого было поднялся во время пребывания его
тетки в Рафборо, и его прежнее уныние, чередуясь, однако, со вспышками
тщеславия, способного соперничать с приступами такового у его матери, опять
взяло над ним свою власть. «Понтифекс, — сказал доктор Скиннер, который в
один из дней, прежде чем он успел убежать, обрушился на него в
рекреационном зале подобно нравственной лавине. — Вы никогда не смеетесь? Вы всегда
бываете так неестественно серьезны?» Доктор не хотел быть недобрым, но
мальчик густо покраснел и убежал.
Только в одном месте он был счастлив, и это место находилось в старой
церкви Святого Михаила, где занимался его друг-органист. Приблизительно в
это время начали появляться дешевые издания великих ораторий, и Эрнест
приобрел их все, как только они были изданы; он порой продавал торговцу
подержанными вещами учебники и на вырученные деньги покупал один-два
выпуска «Мессии»4, «Сотворения мира»5, или «Пророка Илии»6. То был просто
обман папы и мамы, но Эрнест снова низко падал — или думал, что падает —
и всей душой жаждал музыки, а не Саллюстия7 или чего-то в этом роде. Иногда
органист, уходя домой, оставлял Эрнесту ключи, так что он мог играть сам, а
затем, закрыв орган и церковь, успеть вернуться на перекличку в школу.
Порой, пока его друг играл, он бродил по церкви, разглядывая памятники и
старинные витражи, и одновременно тешил и слух и зрение. Однажды старый
приходской священник застал его наблюдающим, как устанавливают новый
витраж, купленный в Германии, — работу, как предполагалось, Альбрехта
Дюрера8. Он расспросил Эрнеста и, обнаружив, что тот любит музыку, сказал
старческим дрожащим голосом (поскольку ему было за восемьдесят): «Тогда
вам следовало бы знать доктора Берни9, который написал историю музыки. Я
был весьма близко знаком с ним в молодости». Это заставило сердце Эрнес-
Глава 37
125
та забиться, ведь он знал, что доктор Берни, когда учился в школе в Честере,
имел обыкновение выходить за пределы дозволенной для школьников
территории, чтобы иметь возможность увидеть Генделя, курившего трубку в
биржевой кофейне, — и теперь он, Эрнест, стоял лицом к лицу с тем, кто если и не
видел самого Генделя, то по крайней мере был знаком с видевшим его.
Таковы были оазисы в его пустыне, но вообще мальчик выглядел тощим и
бледным, и, казалось, у него была какая-то гнетущая его тайна, которая, без
сомнения, имелась, но за это я не могу его винить. Он поднялся вопреки
ожиданиям на более высокий уровень в школе, но впадал во все большую
немилость у учителей и не вырос в глазах тех мальчиков, относительно которых был
убежден, что они, несомненно, и знать не могли, что значит иметь тайну,
которая гнетет душу. И именно это Эрнест чувствовал с особой остротой; он мало
интересовался мнением мальчиков, которым нравился, и боготворил тех,
которые держали его на расстоянии, но это происходит едва ли не со всеми
мальчиками повсюду.
Наконец положение дел достигло, критического состояния, хуже которого
уже вряд ли что-то могло быть, ибо в конце второго семестра после смерти
тетки Эрнест вернулся домой с таким документом в своей дорожной сумке,
который Теобальд клеймил как «позорный и возмутительный». Едва ли есть
необходимость говорить, что я имею в виду его школьный табель.
Этот документ всегда был источником беспокойства для Эрнеста, поскольку
изучался с пристальным вниманием, а сам Эрнест подвергался относительно него
перекрестному допросу. Он иногда «вписывал» суммы за предметы, необходимые
для учебы, вроде папки или словаря, и продавал их, как я объяснял, чтобы
восполнить недостаток карманных денег для покупки нот или табака. Эти обманы
порой, как опасался Эрнест, вот-вот могли быть обнаружены, и тяжесть
спадала с его души, когда перекрестный допрос заканчивался благополучно. На сей
раз Теобальд поднял большой шум из-за дополнительных расходов, но скрепя
сердце все же пропустил их; однако была еще одна проблема — по поводу
характеристики и моральной оценки, которыми завершался табель.
Страница, на которой указывались эти детали, была следующего содержания:
Отчет о поведении и успеваемости
ученика пятого класса
ЭРНЕСТА ПОНТИФЕКСА
ЗА СЕМЕСТР,
ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ ЛЕТОМ 1851 Г.
Классические языки и литература ленив, неисправим
Математика — // — —II —
Закон Божий — // — — // —
Поведение в классе хорошее
Поведение в целом неудовлетворительное из-за значительной
непунктуальности и невнимания к обязанностям
126
Путь всякой плоти
Ежемесячные 1 шилл. 6 пенс. 6 пенс. О пенс. 6 пенс. Итого 2 шилл. 6 пенс.
наградные деньги
Число наградных 2 0 110 Итого 4
отметок
Число замечаний 26 20 25 30 25 Итого 126
за провинности
Число особых 9 6 10 12 11 Итого 48
провинностей
Рекомендую поставить обеспечение его
карманными деньгами в зависимость от наградных денег.
Директор школы С. Скиннер
Глава 38
Таким образом, с начала каникул Эрнест пребывал в опале, но вскоре
произошло событие, приведшее его к проступкам, в сравнении с которыми все
предыдущие его грехи оказывались пустяками.
Среди служанок в доме была очень хорошенькая девушка по имени Эллен,
родом из Девоншира; ее отец, рыбак, утонул, когда она была ребенком. Мать
Эллен открыла небольшую лавку в деревне, где жил ее муж, и еле-еле
сводила концы с концами. Дочь оставалась с нею до четырнадцати лет, а затем
поступила в служанки. Через четыре года, когда Эллен было около восемнадцати,
но выглядела она на все двадцать, ее порекомендовали Кристине, которая тогда
нуждалась в горничной; к настоящему моменту Эллен жила в Бэттерсби уже
около года.
Как я говорил, девушка была очень хорошенькая; она представала
воплощением здоровья и добронравия, а безмятежное выражение ее лица
подкупало почти всех, кто с ней встречался. Она вела себя так, будто дела у нее
всегда шли хорошо и так всегда будет впредь и будто никакое мыслимое стечение
обстоятельств не сможет надолго вывести ее из равновесия, заставив досадовать
на себя или на кого-то другого. Лицо у нее было чистое, румяное, глаза серые,
красивой формы; губы пухлые и мягко очерченные, и угадывалось в них что-
то сродни устам египетского сфинкса. Когда я узнал, что она родом из
Девоншира, мне представилось, что в ней есть немного египетской крови, поскольку
слышал, хотя не знаю, откуда взялась основа для этой теории, будто египтяне
селились на побережье Девоншира и Корнуолла задолго до того, как римляне
завоевали Британию. Эллен была темной шатенкой, ее фигура — при среднем
росте — отличалась совершенством, разве что немного проигрывала из-за
излишней плотности. В общем, она была из тех девушек, глядя на которых
задаешься вопросом, и как только им удастся не выйти замуж еще хоть неделю или
день.
Глава 38
127
Ее лицо (как, впрочем, все лица, хотя допускаю, что порой они лгут)
служило правдивым зеркалом ее души. Она была сама доброта, и все в доме
любили Эллен, не исключая, полагаю, даже самого Теобальда, хотя и на свой манер.
Что касается Кристины, то она принимала в девушке живейшее участие и
имела обыкновение вызывать ее в гостиную два раза в неделю и готовить к
конфирмации1 (ибо по какой-то случайности та не была конфирмована), объясняя ей
географию Палестины2 и маршруты странствий святого Павла при посещении
им Малой Азии3.
Когда епископ Тредуэлл действительно приехал в Бэттерсби и проводил там
конфирмацию (желание Кристины сбылось, он остался на ночь в Бэттерсби, и
она устроила большой званый ужин в его честь, и назвала его несколько раз
«милорд»), он, совершая над Эллен обряд, был настолько поражен красотой ее
лица и скромным поведением, что спросил Кристину, кто эта девушка. Когда
та ответила, что Эллен — одна из ее служанок, епископ явно остался доволен
(как считала или предпочла считать Кристина) тем, что столь красивая девушка
оказалась в столь исключительно хорошей среде.
Эрнест обычно рано вставал во время каникул, чтобы иметь возможность
поиграть на фортепьяно перед завтраком, не мешая папе и маме — или скорее,
пожалуй, чтобы они не мешали ему. А Эллен, пока он играл, подметала пол в
гостиной и вытирала пыль, и мальчик, готовый подружиться с большинством
людей, скоро очень ее полюбил. Он не был вообще-то чувствителен к.чарам
прекрасного пола, и ему даже едва ли доводилось общаться с какими-либо
женщинами, кроме его тетушек Элэби и тети Алетеи, матери, сестры Шарлотты и
миссис Джей; иногда также он должен был отвешивать поклон барышням Скиннер
и, делая это, чувствовал, будто готов провалиться сквозь землю, но его
застенчивость с Эллен постепенно улетучилась и эти двое стали верными друзьями.
Быть может, к лучшему, что Эрнест большую часть года проводил вне дома,
но пока еще, стыдно сказать, его любовь, будучи сердечной, оставалась
вполне платонической. Он был не просто невинен, но и плачевно — я бы даже
сказал преступно — невинен. Его влекло к Эллен потому, что она никогда его не
ругала, а всегда была улыбчива и доброжелательна; кроме того, она любила
слушать, как он играет, и это придавало его игре вдохновенность. Возможность
играть по утрам на фортепьяно была, по сути, тем единственным, в чем Эрнест
видел пользу каникул, поскольку в период школьных занятий он мог
приблизиться к фортепьяно лишь украдкой в лавке мистера Персэлла, продавца нот.
По возвращении из школы в то лето он был потрясен, увидев, что его
любимица выглядит бледной и больной. Вся прежняя веселость покинула ее,
румянец исчез с щек, и казалось, она близка к унынию. По словам Эллен, она
горевала из-за состояния своей матушки, чье здоровье сильно пошатнулось, да
и самой ей, как она опасалась, недолго осталось жить на свете. Кристина,
конечно, обратила внимание на эту перемену. «Я часто замечала, — сказала она, —
что эти цветущие, такие здоровые на вид девушки увядают первыми. Я
неоднократно давала ей каломели и джеймсова порошка, и, хотя она отказывается,
думаю, мне следует показать ее доктору Мартину, когда он в следующий раз
приедет к нам».
128
Путь всякой плоти
«Очень хорошо, моя дорогая», — сказал Теобальд, и, когда доктор Мартин
прибыл в следующий раз, послали за Эллен. Доктор Мартин быстро
обнаружил то, что было бы, вероятно, очевидно и самой Кристине, будь она
способна вообразить такое недомогание у какой-либо из служанок, живущих под
одной крышей с Теобальдом и с ней, — непорочность супружеской жизни
которых должна оберечь всех не состоящих в браке людей, живущих подле них,
от любого пятна греха.
Когда обнаружилось, что через три-четыре месяца Эллен станет матерью,
природный добрый нрав Кристины побудил бы ее уладить дело по
возможности мягко, если бы не панический страх, как бы любое проявление милосердия
с ее и Теобальда стороны не сочли за терпимость, пусть и пристрастную, к столь
большому греху; на этом основании она спешно взялась убеждать себя, что
единственное, что следует сделать, — это дать Эллен расчет и побыстрее со
всеми пожитками отправить из дома, который непорочность особым образом
выделила и выбрала для своего пристанища. Когда Кристина подумала об
ужасном осквернении, причиной коему послужит дальнейшее пребывание
Эллен в доме даже в течение недели, она не могла колебаться.
Затем встал вопрос — страшно и представить! — о том, кто был соучастником
преступления Эллен? Был ли это, мог ли это быть ее; Кристины, собственный
сын, ее любимец Эрнест? Эрнест стал уже большим мальчиком. Она могла бы
простить любой молодой женщине увлечение им; что же касается его самого, то
она, конечно, была уверена, что он не уступит никому из молодых людей
своего возраста в способности оценить чары привлекательной молодой женщины.
Если он невиновен, она не возражала против этого, но, о, если виновен!
Она не в силах вынести мысль об этом, и все же это было бы просто
трусостью — не посмотреть храбро в лицо реальности. Вся ее надежда на Господа,
и она готова мужественно все перетерпеть и не пасть духом в том страдании,
которое Он решит возложить на нее. Что младенец должен появиться, будь то
мальчик или девочка, — это, во всяком случае, вполне ясно. Не менее ясно, что
ребенок, окажись это мальчик, будет похож на Теобальда, а если девочка, то
на нее. Сходство, физическое или духовное, обычно передается через
поколение. Невинный плод позора не должен быть причастен к вине родителей — о
нет! — а такой ребенок, каким будет этот... Тут она пустилась в свои обычные
фантазии.
Ребенок был уже посвящаем в сан архиепископа Кентерберийского, когда
вошел Теобальд, вернувшийся после посещения прихожан, и был поставлен в
известность об ужасающей новости.
Кристина ничего не сказала насчет Эрнеста и, полагаю, чуть ли не
сердилась, когда выяснилось, что вина лежит на ком-то другом. Но она быстро
утешилась и вернулась к раздумьям, во-первых, о том, что ее сын непорочен, и, во-
вторых, что он, в чем она была вполне уверена, не был бы таким, если бы не
религиозные убеждения, которые удержали его — как, разумеется, того и
следовало ожидать.
Теобальд согласился, что нужно, не теряя времени, рассчитать Эллен и
выпроводить. Так и было сделано, и менее чем через два часа после того, как
Глава 39
129
доктор Мартин вступил в дом, Эллен села в коляску рядом с кучером Джоном,
закутав лицо так, что его нельзя было разглядеть, и горько плакала по пути к
станции.
Глава 39
Эрнеста все утро не было дома, и он входил во двор со стороны прилегающей
к усадьбе рощицы как раз в тот момент, когда вещи Эллен укладывали в
повозку. Ему показалось, что женщина, садящаяся в повозку, Эллен, но,
поскольку ее лицо было скрыто платком, он не смог рассмотреть, кто это, и отбросил
мысль как невероятную.
Он подошел к выходящему во двор окну кухни, где кухарка чистила
картошку на обед, и увидел, как она горько плачет. Эрнест очень встревожился,
поскольку любил кухарку, и, конечно, захотел узнать, в чем дело, кто это
только что уехал в коляске и почему? Кухарка сказала, что это Эллен, но ничто на
свете не заставит ее рассказать, почему так вышло, что она уехала; однако,
когда Эрнест воспринял ее слова au pied de la lettre* и не задавал больше
никаких вопросов, она выложила все, взяв с него торжественное обещание
хранить тайну.
Эрнесту потребовалось несколько минут, чтобы уразуметь суть дела, но
когда он понял, то прислонился к водокачке, стоявшей возле окна кухни, и
заплакал вместе с кухаркой.
Затем кровь закипела у него в жилах. Он не понимал, что, в конце концов,
у его отца с матерью было мало возможностей поступить иначе. Они могли бы,
возможно, действовать с меньшей поспешностью и попытаться уладить дело
чуть менее шумно, но это было бы нелегко, да и не внесло бы существенных
исправлений в ситуацию. Горько сознавать, но это факт, что если девушка
совершает определенные поступки, она вынуждена нести за них расплату,
независимо от того, насколько она молода и красива и насколько велико было
искушение, которому она поддалась. Так уж повелось на свете, и с этим пока что
ничего не поделаешь.
Эрнест знал лишь то, чего смог добиться от кухарки, а именно что его
любимицу, Эллен, выгнали из дому с тремя фунтами в кармане, и ей теперь
некуда податься и неведомо, что делать, и она сказала, что повесится или
утопится, а мальчик безоговорочно верил, что так она и поступит.
С большим проворством, чем когда-либо прежде, он пересчитал свои деньги
и обнаружил, что в его распоряжении имеется два шиллинга и три пенса;
оставался еще ножик, который можно было продать за шиллинг, и серебряные
часы, которые тетя Алетея подарила ему незадолго до своей смерти. Прошло
уже добрых четверть часа с тех пор, как повозка уехала, и, должно быть, она
удалилась уже на немалое расстояние, но он должен изо всех сил постараться
догнать ее — он знал короткий путь, который мог дать ему такой шанс. Эрнест
* в буквальном смысле (фр).
130
Путь всякой плоти
тотчас пустился вдогонку и с вершины холма за оградой их участка смог
разглядеть на дороге примерно в полутора милях от него повозку, которая
выглядела крошечной.
Одной из самых популярных забав в Рафборо были так называемые
«собаки» — игра, более известная в других местах под названием «заяц и собаки»1,
но в Рафборо роль зайцев выполняла пара мальчиков, которых называли
лисами, а мальчики настолько щепетильны относительно правильности
наименований, когда речь идет об их спортивных состязаниях, что я не осмеливаюсь
говорить, будто они играли в «зайца и собак»; это были «собаки», и довольно
об этом. Недостаток мускульной силы не мешал Эрнесту в этой игре; здесь ему
не приходилось сталкиваться с мальчиками, которые, хоть и не старше и, не
выше его, были крепче сложены; если требовалась простая выносливость, то
он не уступал другим, и когда плотничанье прекратилось, игра в «собаки»
стала его любимым развлечением. Благодаря ей легкие у него развились, и,
поскольку пробежать шесть-семь миль по полям было для него делом вполне
привычным, он не отчаивался, промчавшись напрямки, догнать коляску или на
худой конец перехватить Эллен на станции до отхода поезда. И он пустился
бежать и бежал до тех пор, пока не кончилось первое дыхание; правда, потом
пришло второе, и дышать стало легче. Никогда во время игры в «собаки» не
бегал он так быстро и со столь немногочисленными передышками, как теперь,
но, несмотря на все его усилия и на то, что он бежал наперерез, не мог догнать
коляску и, вероятно, так и не догнал бы, если б кучер Джон случайно не
обернулся и не заметил, как Эрнест несется в полумиле за коляской и знаками
просит остановиться. Он был теперь примерно в пяти милях от дома и почти
выбился из сил.
Лицо его сделалось пунцовым от напряжения; покрытый пылью, в брюках
и куртке, которые были ему уже немного малы, он являл собой весьма жалкое
зрелище, когда совал Эллен свои часы, ножик и ту ничтожную сумму денег,
какую имел. Единственное, о чем он умолял ее, — чтобы она ради него, если нет
другой причины, не делала тех ужасных вещей, которые грозилась сделать.
Эллен сначала и слышать не хотела о том, чтобы что-то взять у него, но
кучер, который был родом с севера страны, встал на сторону Эрнеста. «Бери,
детка, — ласково сказал он, — бери, пока дают; а то ведь вон сколько молодой
барин Эрнест мчался за тобой; пусть же он даст тебе то, что ему хочется».
Эллен послушалась, и они с Эрнестом простились, обливаясь слезами.
Напоследок девушка сказала, что никогда его не забудет и, когда они снова
встретятся, а она уверена, что обязательно встретятся, она отблагодарит его.
После этого Эрнест сошел на обочину дороги, в поле, повалился в траву
и ждал под тенью изгороди, пока коляска не вернется со станции и не
подберет его, поскольку он смертельно устал. Мысли, уже приходившие ему в
голову раньше, но с меньшей настойчивостью, теперь полностью завладели им,
и он понял, что опять попал в беду или, вернее, в полудюжину бед —
вдобавок к прежним.
Во-первых, он опоздает на обед, а это было одним из нарушений, к которым
Теобальд не проявлял никакого снисхождения. Ему также придется сказать, где
Глава 39
131
он был, и даже если он утаит правду, она так или иначе может выясниться. Но
мало того, рано или поздно должно выплыть наружу, что у него больше нет
красивых часов, которые его милая тетя подарила ему, — и что, скажите на
милость, он сделал с ними или как он потерял их? Читатель очень хорошо
знает, как Эрнесту следовало поступить. Ему следовало отправиться прямо
домой и в ответ на расспросы сказать: «Я побежал вслед за коляской, чтобы
перехватить нашу горничную Эллен, которую очень люблю; я отдал ей часы,
ножик и все карманные деньги, так что у меня теперь вообще нет карманных
денег, и я, вероятно, попрошу у вас денег скорее, чем это произошло бы при
других обстоятельствах, а также вам придется купить мне новые часы и
ножик». Но тогда вообразите тот ужас, какой вызвало бы такое заявление!
Представьте себе грозный и мечущий искры взгляд разъяренного Теобальда! «Ты
беспринципный молодой негодяй, — воскликнул бы он, — ты намерен очернить
собственных родителей, намекая, что они сурово обошлись с той, чье
распутство навлекло позор на их дом?!»
Или он мог бы воспринять ситуацию, впав в один из тех приступов
саркастического спокойствия, мастером которого себя считал. «Очень хорошо,
Эрнест, очень хорошо: я ничего не намерен говорить; ты можешь делать что твоей
душе угодно; тебе еще нет двадцати одного года, но, пожалуйста, поступай так,
будто ты сам себе хозяин; твоя бедная тетушка, несомненно, подарила тебе
часы затем, чтобы ты мог бросить их первой же неприличной особе, какая тебе
попадется; однако, думаю, теперь я могу понять, почему тетя не оставила тебе
свои деньги; в конце концов, безразлично, кому они достанутся: твоему
крестному или же людям такого сорта, на которых ты растратил бы наследство,
стань оно твоим».
Тогда мать разрыдалась бы и молила его раскаяться, и, пока еще есть
время, искать спасения в том, что даст мир его душе, и пасть на колени перед
Теобальдом, уверяя в неизменной любви к нему как добрейшему и
нежнейшему отцу на всем свете. Эрнест мог бы сделать все это, как могли бы сделать и
они, и теперь, пока он лежал на траве, речи, которые должны были
последовать с такой же несомненностью, с какой должен был наступить закат солнца,
продолжали звучать в сознании мальчика, пока не убедили его отвергнуть идею
правдивого признания, показав ее нелепость. Правда, может быть, и героична,
но она выходит за рамки практической домашней политики.
Решив, стало быть, что следует солгать, Эрнест начал придумывать
подходящую ложь. Сказать, что его ограбили? Ему достало воображения понять, что
у него не хватит воображения это провернуть. Как ни был он молод, инстинкт
подсказал ему, что самый искусный лжец тот, кто умеет заставить самую
малую ложь принести самые большие плоды, кто пестует ее слишком
тщательно, чтобы тратить впустую там, где можно обойтись без нее. Проще всего было
сказать, что он потерял часы и опоздал на обед, потому что искал их. Он
отправился на длинную прогулку по полям — этот путь Эрнест и в самом деле
проделал, — погода была очень жаркой, поэтому ему пришлось снять куртку
и жилет; когда он нес их на руке, часы, деньги и нож выпали из кармана. Уже
почти у самого дома он обнаружил пропажу и побежал как можно скорее об-
132
Путь всякой плоти
ратно, осматривал тропинку, пока наконец не потерял всякую надежду; когда
коляска возвращалась со станции, она подобрала его и привезла домой.
Это покрывало все, и бег и прочее; ведь по его лицу еще было видно, что
он долго бежал; единственный вопрос состоял в том, видел ли его в усадьбе кто-
либо, кроме слуг, в течение нескольких часов до отъезда Эллен, но это, как
мальчик счастлив был верить, не составит проблемы, поскольку он пробыл
дома лишь несколько минут — когда разговаривал с кухаркой. Отец ушел к
прихожанам; мать точно не видела его, а брат с сестрой тоже где-то гуляли с
гувернанткой. Он знал, что может положиться на кухарку и других слуг — кучер
позаботится об этом; поэтому в целом они с кучером сочли, что придуманный
Эрнестом рассказ, пожалуй, удовлетворит требованиям данного случая.
Глава 40
Когда Эрнест добрался до дому и прокрался через черный ход, он услышал
голос отца, который самым сердитым тоном спрашивал, вернулся ли господин
Эрнест. Бедняга почувствовал то же, что почувствовал, должно быть, Джек из
«Сказки о Джеке и бобовом стебле»1, услышав из печи, в которой прятался, как
людоед спрашивает свою жену, приготовила ли она ему на ужин маленьких
детей. С большой храбростью и, как показали события, с не уступавшей
храбрости осторожностью он взял быка за рога и заявил о своем присутствии, всем
видом давая понять, что только что вошел, а перед этим пережил ужасную
неудачу. Мало-помалу он изложил придуманную историю и, хотя Теобальд
побушевал из-за «невероятной глупости и небрежности», отделался легче, чем
ожидал. Теобальд с Кристиной действительно сначала были склонны связывать
его отсутствие за обедом с увольнением Эллен, но раз ясно, как сказал
Теобальд — Теобальду все всегда было ясно, — что, отсутствуя дома все утро,
Эрнест не мог ничего знать о случившемся, то на сей раз он был на этом
основании в известной мере оправдан, сохранив репутацию незапятнанной. Быть
может, Теобальд был в хорошем настроении; быть может, тем утром он узнал из
газеты, что его акции повысились в цене; тут могло быть двадцать других
причин, но, как бы то ни было, он не бранился так сильно, как Эрнест ожидал, а
видя, что мальчик выглядит измученным, и веря, что он очень огорчен из-за
потери часов, Теобальд даже велел дать ему после обеда стакан вина, которое,
как ни странно, не затуманило Эрнесту голову, а заставило взглянуть на вещи
веселее, чем обычно.
Тем вечером, произнося молитвы, он вставил несколько фраз о том, что
пусть бы его не уличили и пусть бы все оказалось благополучно у Эллен, но
пребывал в тревоге и чувствовал себя не в своей тарелке. Нечистая совесть
указывала ему на множество слабых мест в придуманной им истории, и из-за
любого из них все могло легко открыться. На другой день и в течение многих
последующих он чувствовал себя так, будто за ним гонятся и вот-вот настигнут,
и вздрагивал всякий раз, слыша голос отца, обращенный к нему. У него было
уже так много причин для тревоги, что ее все труднее становилось скрывать,
Глава 40
133
и, несмотря на все его усилия выглядеть веселым, даже мать видела, что какая-
то забота терзает его душу. Тогда она вернулась к мысли о том, что, в конце
концов, ее сын, возможно, не так уж невиновен в деле с Эллен — а это было
настолько интересно, что она почувствовала себя обязанной, насколько сможет,
доискаться правды.
— Подойди ко мне, мой бедный, бледненький, хмурый мальчик, — сказала
она ему в один прекрасный день своим самым ласковым тоном, — подойди, сядь
рядом, и мы немножко спокойно поговорим по душам, хорошо?
Мальчик машинально направился к дивану. Всякий раз, когда мать хотела,
как это у нее называлось, поговорить по душам, она выбирала диван как самый
удобный плацдарм для начала своей кампании. Все матери так делают; диван
для них то же, что столовая для отцов. В данном случае диван особенно
подходил для достижения стратегической цели, так как был старомодным, с
высокой спинкой, матрацем, валиками и подушками. Если тебя благополучно
загнали в один из его глубоких углов, оттуда, как из кресла зубного врача, не
так-то легко выкарабкаться. Здесь Кристине было сподручнее добраться до
него, чтобы задать трепку, если это казалось желательным, а коль скоро она
считала целесообразным поплакать, то могла зарыться головой в диванную
подушку и предаться мукам печали, что редко не достигало нужного
эффекта. Все эти излюбленные маневры гораздо труднее было развернуть на ее
обычном месте, в кресле по правую сторону от камина, и поэтому, хорошо поняв по
тону матери, что теперь предстоит именно диванная беседа, сын подобно
послушному ягненку занял свое место, как только Кристина заговорила и
раньше, чем она сама дошла до дивана.
— Мой дорогой мальчик, — начала мать, беря его руку в свою, — пообещай
мне никогда не бояться ни твоего папеньки, ни меня; обещай мне, мой милый,
если любишь меня, обещай мне это. — И она принялась целовать его и гладить
по волосам.
Но другой рукой она по-прежнему крепко держала его руку; она поймала
его и не намерена была отпускать. Юноша повесил голову и обещал. Что ему
еще оставалось?
— Ты знаешь, дорогой, милый Эрнест, никто не любит тебя так сильно, как
твой папа и я; никто так ревностно не печется о твоем благе и никто так не
стремится разделить все твои радости и тревоги, как мы; но, дорогой мой мальчик,
мне горько думать порой, что у тебя нет настоящей любви и доверия к нам, на
какие мы вправе рассчитывать. Ты знаешь, мой любимый, что наше удовольствие
и наш долг — следить за развитием твоих моральных и духовных склонностей,
но увы! Ты не позволяешь нам понять твои моральные и духовные склонности.
Иной раз мы почти готовы усомниться, имеешь ли ты вообще моральные и
духовные склонности. О твоей внутренней жизни, мой дорогой, мы не знаем ничего,
помимо тех крох, какие можем подобрать вопреки твоему желанию, помимо тех
мелочей, которые срываются с твоих уст, прежде чем ты поймешь, что сказал.
При этих словах мальчик вздрогнул. Они бросили его в жар, и он
почувствовал себя совсем уж напряженно и неуютно. Он хорошо знал, сколь осторожным
ему следует быть, и все же, несмотря на все свои усилия, время от времени за-
134
Путь всякой плоти
бывал о своей роли и терял сдержанность. Мать увидела, что он вздрогнул, и
порадовалась, что нанесла ему первый мелкий укол. Если бы она чувствовала
себя менее уверенной в победе, то воздержалась бы от удовольствия, так сказать,
прикасаться к глазкам на концах рожков улитки с целью потешить себя
зрелищем того, как улитка опять втягивает их, но она знала, что, если уж всерьез
взялась за него на этом диване и держит его за руку, то враг уже почти
целиком в ее власти, и она может делать с ним едва ли не все, что ей угодно.
— Папа чувствует, — продолжала она, — что в твоей любви к нему нет той
глубины и искренности, какие побудили бы тебя ничего не скрывать от него и
рассказывать ему все откровенно и бесстрашно как твоему самому любящему
другу на этом свете после Отца Небесного. Совершенная любовь, как мы
знаем, изгоняет страх:2 твой отец любит тебя совершенно, мой милый, но он не
чувствует, чтобы ты в ответ совершенно любил его. Если ты боишься его, то
потому, что не любишь его так, как он того заслуживает, а я знаю, что иногда его до
глубины души ранит мысль, что он достоин более сильных и более искренних
чувств с твоей стороны, чем ты проявляешь к нему. О Эрнест, Эрнест, не
огорчай того, кто так добр и великодушен, своим поведением, которое я не могу
назвать иначе, кроме как неблагодарностью.
Эрнест никогда не мог устоять, когда мать говорила с ним подобным
образом: ведь он все еще верил, что она любит его и что он любит ее и имеет в ней
друга — до известного предела. Но мать уже начала переходить все пределы;
она уже разыгрывала с ним этот фокус с беседой по душам бессчетное
множество раз. Раз за разом вытягивала она из сына все, что хотела узнать, а потом
навлекала на него самые ужасные неприятности, доложив все Теобальду.
Эрнест не однажды уговаривал мать не делать этого и напоминал, сколь
бедственными оказываются для него последствия признаний, но Кристина всегда
начинала спорить и доказывать с самым невинным видом, что в каждом случае она
была права и у него нет разумных оснований жаловаться. Как правило,
оказывалось, что это совесть не позволила ей молчать, а против такого аргумента
возразить было нечего, поскольку все мы обязаны следовать велениям нашей
совести. Эрнест имел обыкновение исполнять гимн совести. В том смысле, что
если не обращать внимания на голос совести, то в скором времени он
умолкнет. «Совесть моей мамы не умолкает, — сказал Эрнест одному из своих
приятелей в Рафборо, — она всегда болтает без умолку».
Тот факт, что мальчик однажды отозвался так непочтительно о совести
своей матери, по сути, означает, что между ним и матерью все кончено. В силу
привычки, из-за дивана и сопутствующих ассоциаций Эрнест еще настолько
был подвержен воздействию голоса этой сирены3, что чуть не поплыл к ней и
не бросился в ее объятия, но делать этого не следовало; давали о себе знать и
другие сопутствующие ассоциации, а искалеченные останки слишком многих
загубленных признаний лежали, белея, вокруг юбок его матери и
предостерегали от какой-либо новой попытки довериться ей. А потому он повесил голову
и выглядел смущенным, но не выдавал свою тайну.
— Я вижу, мой дорогой, — продолжала мать, — что или я ошибаюсь, и у тебя
нет никакой тяжести на душе, или ты просто не хочешь мне открыться; но,
Глава 40
135
Эрнест, скажи мне, по крайней мере, хоть одно: не раскаиваешься ли ты в чем-
либо, не страдаешь ли почему-либо из-за этой скверной девчонки Эллен?
У Эрнеста замерло сердце. «Я пропал», — сказал он себе. Он не имел ни
малейшего представления, к чему мать клонит, и думал, что у нее есть
подозрения насчет часов, но не сдавал позиций.
Не думаю, чтобы Эрнест был намного трусливее своих ближних, только он
не знал, что все здравомыслящие люди трусят, когда находятся в непривычной
для себя обстановке или же чувствуют, что с ними собираются грубо обойтись.
Полагаю, знай мы правду, обнаружилось бы, что даже сам доблестный святой
Михаил изо всех сил старался уклониться от знаменитого поединка с драконом;
он делал вид, что не замечает всякого рода проступков со стороны дракона;
закрывал глаза на то, что тот сотнями поедает мужчин, женщин и детей,
которых Михаил обязался защищать; десятки раз позволял публично оскорблять
себя, и не думая обижаться на это; и, в конце концов, когда даже ангел не смог
бы выдержать более, проявлял нерешительность и недобросовестно затягивал
время, прежде чем назначил-таки день и час схватки. Что же касается самого
поединка, то тут во многом было то же, что у миссис Элэби с молодым
человеком, в конце концов женившимся на ее старшей дочери, то есть по
прошествии некоторого времени дракон вдруг упал замертво, а сам герой был
целехонек и без серьезных царапин.
— Я не знаю, что вы имеете в виду, мама! — воскликнул Эрнест с тревогой
и некоторой поспешностью.
Мать истолковала его отклик как негодование по поводу подозрений в его
адрес и, струсив, сама бросилась наутек и удирала с такой скоростью, с какой
только мог нести ее язык.
— О, — воскликнула она, — я вижу по твоему тону, что ты невиновен! О! О!
Как я благодарна за это моему Отцу Небесному; пусть Он во имя Своего
возлюбленного Сына сохранит тебя всегда непорочным. Твой отец, мой дорогой, —
здесь она заговорила торопливо, но бросила на него испытующий взгляд, — был
непорочен как чистейший ангел, когда пришел ко мне. Подобно ему, всегда
будь самоотверженным, истинно верным и в слове, и в деле, никогда не
забывай, чей ты сын и внук, а также какое имя мы дали тебе, не забывай о
священном потоке, в чьих водах твои грехи смыты с тебя через кровь и
благословение Христа, — и т. д.
Но Эрнест дал стрекача от всего этого — не скажу быстро, но намного
быстрее, чем Кристина успела высказаться до конца. Он высвободился из
маменькиных объятий, и только пятки засверкали. Уже на подступах к кухне (где
мальчик чувствовал себя свободнее) он услышал, как отец кличет мать, и опять
нечистая совесть подала голос. «Вот, он все узнал, — вопила она, — и
собирается сообщить маме, на сей раз мне конец». Но ничего подобного; отцу просто
потребовался ключ от погребца. Тогда Эрнест незаметно прокрался в рощицу,
вернее перелесок, за оградой их усадьбы, и утешился трубкой табака. Здесь, в
лесу, где летнее солнце струило свой свет на деревья, за книгой и трубкой
мальчик забывал свои тревоги и наслаждался минутами отдохновения, без которых,
думаю, его жизнь была бы невыносима.
136
Путь всякой плоти
Конечно, Эрнесту велели искать потерянное имущество, за находку была
объявлена награда, но, похоже, он сильно отклонился в сторону от дорожки,
думая найти гнездо жаворонка, а поиски часов и кошелька на просторах Бэт-
терсби подобны поискам иголки в стоге сена; кроме того, все могло быть
найдено и унесено каким-нибудь бродягой или сорокой, которых водилось
множество в окрестностях, так что через неделю или десять дней поиски
прекратились, и пришлось примириться с неприятным фактом, что Эрнесту нужны
новые часы, другой ножик и небольшая сумма карманных денег.
Было только справедливо, однако, чтобы Эрнест оплатил половину
стоимости часов. Чтобы для него не составило труда это сделать, сумма должна была
на протяжении более двух или даже, возможно, трех лет удерживаться из его
карманных денег, выдаваемых на каждый семестр. Следовательно, в интересах
самого Эрнеста, как и в интересах отца с матерью, было бы, чтобы часы стоили
как можно дешевле, а потому постановили купить подержанные. Родители
решили ничего не говорить сыну, но, купив часы, положить их ему на тарелку в
качестве сюрприза в последний день каникул. Через несколько дней Теобальду
нужно было отправиться в главный город графства, и он мог там присмотреть
какие-нибудь подержанные часы, которые станут достаточно хорошей заменой
прежним. Итак, в конце концов Теобальд уехал, имея при себе длинный список
домашних поручений, среди которых была и покупка часов для Эрнеста.
Как я уже говорил, когда Теобальд отсутствовал в течение целого дня,
наступало счастливое время. Тяжесть с души мальчика начала спадать, и он уже
думал: Бог услышал его молитвы и разоблачение более не грозит. Весь тот день
оказался необычайно спокойным, но — увы! — ему не суждено было закончиться
так же, как он начался; неустойчивая атмосфера, в которой Эрнест жил,
никогда не разряжалась бурями с такой легкостью, как после периодов
безмятежности, и когда Теобальд вернулся, сыну достаточно было только взглянуть на его
лицо, чтобы увидеть приближение урагана.
Кристина поняла, что случилось что-то очень нехорошее, и весьма
испугалась, уж не узнал ли Теобальд о какой-нибудь серьезной денежной потере. Он,
однако, сразу не открыл тайну, а позвонил в колокольчик и сказал слуге:
«Скажите Эрнесту, что я желаю поговорить с ним в столовой».
Глава 41
Намного раньше, чем Эрнест дошел до столовой, его исполненная мрачных
предчувствий душа1 сказала ему, что грех раскрыт. Какой глава семьи когда-либо
вызывает кого-то из ее членов в столовую, если его намерения благородны?
Войдя в столовую, мальчик обнаружил, что там никого нет — отца
неожиданно вызвали на несколько минут по какому-то из приходских дел, и Эрнест
оказался в том же состоянии тревожного ожидания, в каком находятся люди
после того, как их провели в приемную дантиста.
Из всех комнат в доме более всего он ненавидел столовую. Именно здесь
ему приходилось раньше заниматься с отцом латынью и греческим. В комна-
Глава 47
137
те стоял какой-то специфический залах мастики или лака для полировки
мебели, и ни я, ни Эрнест не можем до сих пор находиться в пределах
досягаемости такого запаха, не ощущая замирания сердца.
Над каминной полкой висела картина кого-то из старых мастеров, один из
немногих подлинников, привезенных мистером Джорджем Понтифексом из
Италии. Предположительно, это была работа Сальватора Розы2, и ее покупка
считалась удачным приобретением. Изображен на ней был Илия или Елисей
(кто именно, неизвестно), питаемый воронами в пустыне3. Вороны
располагались в правом верхнем углу, с хлебом и мясом в клювах и когтях, а названный
пророк из левого нижнего угла устремлял на них жадный взгляд. Когда Эрнест
был совсем маленьким, он постоянно сожалел о том, что пища, которую несли
вороны, так никогда и не достигала пророка; мальчик не понимал условности
искусства живописи и хотел, чтобы мясо и пророк вступили в прямой контакт.
В один прекрасный день с помощью лесенки, оставленной в комнате, малыш
вскарабкался к картине4 и куском хлеба с маслом провел жирную линию через
все полотно от воронов до рта Елисея, после чего почувствовал себя спокойнее.
Эрнест погрузился в воспоминания об этой детской проделке, как вдруг
услышал, что рука отца взялась за ручку двери, и в следующее мгновение
вошел Теобальд.
— А, Эрнест, — сказал он без церемоний с довольно бодрой интонацией, —
я хочу, чтобы ты дал мне объяснения по одному небольшому делу, и нет
сомнения, что ты очень легко можешь это сделать.
Хук-тук-тук — забилось о ребра сердце Эрнеста; но более мягкая, чем
обычно, манера речи отца заронила в него надежду, что это, возможно, всего лишь
еще одна ложная тревога.
— Твоей матери и мне пришла мысль снова снабдить тебя часами, прежде
чем ты возвратишься в школу («О, всего-то», — с огромным облегчением
подумал Эрнест), и я сегодня поехал присмотреть подержанные часы, которые
отвечали бы всем целям, пока ты в школе.
Теобальд говорил так, будто часы имели полдюжины целей, кроме того,
чтобы показывать время, но он почти не мог рта раскрыть, не употребив ту или
иную из своих цветистых фраз, а «отвечать всем целям» была одной из них.
Эрнест рассыпался в обычных выражениях благодарности, но Теобальд
произнес: «Ты перебиваешь меня», — и сердце Эрнеста снова заколотилось.
— Ты перебиваешь меня, Эрнест. Я еще не закончил.
Эрнест мгновенно умолк.
— Я обошел несколько магазинов, торгующих подержанными часами, но не
нашел ни одних, чьи качество и цена устроили бы меня, пока наконец мне не
показали те, которые, как сказал продавец, были оставлены ему недавно для
продажи и в которых я сразу же признал те, которые подарила тебе тетя Але-
тея. Даже если бы мне не удалось узнать их, что возможно, то я не мог не
опознать их, как только они попали мне в руки, поскольку на них изнутри
выгравирована надпись «Подарок Э. П. от А. П.». Мне нет нужды говорить еще что-
то в доказательство того, что это были те самые часы, про которые ты сказал
матери и мне, что выронил их из кармана.
138
Путь всякой плоти
До этого момента Теобальд говорил с нарочитым спокойствием и произносил
фразы медленно, но здесь он внезапно ускорил темп и сбросил маску,
присовокупив следующие слова: «Или рассказал еще какую-то сказку про белого бычка,
а мы с твоей матерью оказались слишком правдивы, чтобы ей не поверить.
Можешь себе представить, каковы должны быть теперь наши чувства».
Эрнест сознавал, что последним замечанием отец попал не в бровь, а в глаз.
В те моменты, когда тревога отпускала его, мальчик думал, что папа с мамой
такие «простачки», что верят ему, но не мог отрицать, что их доверчивость
служит доказательством их правдивости. По справедливости следовало
признать, что просто ужасно для двух таких правдивых людей иметь сына столь
лживого, как он.
— Будучи уверен, что наш сын не способен солгать, я сразу же предположил,
что какой-нибудь бродяга подобрал часы и теперь пытается их сбыть.
Это, насколько мне известно, было не совсем так. Первое предположение
Теобальда заключалось в том, что именно Эрнест пытался продать часы, но
под влиянием внезапно накатившего вдохновения великодушный ум Теобальда
сразу же придумал про бродягу.
— Можешь вообразить, как я был потрясен, узнав, что часы принесла для
продажи эта негодница Эллен... — Здесь сердце Эрнеста немного ожесточилось,
и он почувствовал, как в нем поднимается желание предать, вполне ожидаемое
от столь беззащитного существа; отец тут же заметил это и продолжил: —
Уволенная из этого дома при обстоятельствах, описанием подробностей которых
я не стану осквернять твой слух. Я старался отогнать ужасную мысль, которая
начинала приходить мне на ум, и предположил, что в промежутке между
увольнением и отъездом она к своему греху добавила еще и воровство и,
найдя часы в твоей спальне, присвоила их. Мне даже пришло в голову, что ты мог
обнаружить пропажу часов, после того как эта женщина уехала, и, подозревая,
кто взял их, побежал за коляской, чтобы вернуть; но когда я сказал о моих
подозрениях продавцу, он уверил меня, что особа, оставившая ему часы,
объявила со всей торжественностью, что их дал ей сын хозяина, чьей собственностью
они являются и кто имеет полное право распоряжаться ими.
Он сказал мне далее, что, сочтя обстоятельства, при которых часы
предлагались для продажи, несколько подозрительными, он настоял, прежде чем
согласится принять их у нее, чтобы женщина рассказала ему всю историю о
том, каким образом часы достались ей.
Он сообщил, что сначала — как женщины такого сорта неизменно делают —
она пыталась вилять, но под угрозой, что ее немедленно отдадут под стражу,
если она не скажет всей правды, рассказала, как ты бежал за коляской, пока,
по ее словам, не почернел в лице, и настаивал, чтобы она приняла от тебя все
твои карманные деньги, нож и часы. А еще она добавила, что мой кучер Джон,
которого я немедленно уволю, был свидетелем всей этой сцены. А теперь,
Эрнест, будь любезен сказать мне: эта ужасная история — правда или ложь?
Эрнесту никогда не приходило в голову спросить отца, почему тот не
нападает на человека, равного ему по силе, или остановить на середине монолога,
сказав, что негоже бить лежачего. Мальчик был слишком взволнован и потря-
Глава 47
139
сен, чтобы проявить находчивость; он смог только покориться судьбе и
пробормотать, что рассказ правдив.
— Этого я и ожидал, — сказал Теобальд, — а теперь, Эрнест, будь столь
любезен, позвони в колокольчик.
Когда на звонок откликнулись, Теобальд потребовал, чтобы послали за
Джоном, а когда тот явился, Теобальд рассчитал его и потребовал, чтобы он
немедленно покинул дом.
Джон держался спокойно и с достоинством. Он принял свое увольнение как
нечто само собой разумеющееся, поскольку Теобальд весьма прозрачными
намеками дал понять, почему его лишают места, но, когда увидел побледневшего
и испуганного Эрнеста, сидящего на краешке стула у стены столовой, внезапная
мысль, казалось, осенила его, и, обратившись к Теобальду, он сказал с сильным
северным акцентом, который я не буду пытаться воспроизводить:
— Послушайте, хозяин, я могу догадаться, в чем тут все дело, — ну так вот,
прежде чем я уйду, хочу сказать вам словечко.
— Эрнест, — сказал Теобальд, — выйди из комнаты.
— Нет, господин Эрнест, не уходите, — сказал Джон, заняв позицию у
двери. — Ну, так вот, хозяин, — продолжал он, — вы можете поступать со мной, как
вам вздумается. Я был вам хорошим слугой и не собираюсь говорить, что вы
были мне плохим хозяином, а скажу так, что если вы начнете наседать на
господина Эрнеста, так у меня есть тут в деревне кое-кто, кто даст мне знать; и если
я услышу про такое, то вернусь и переломаю все кости в вашей шкуре, так-то!
Джон задышал глубоко и быстро, как будто был готов тут же приступить
к переламыванию костей. Лицо у Теобальда посерело — не из-за пустых угроз,
как он впоследствии объяснил, разоблаченного и рассерженного негодяя, а из-
за такой ужасающей наглости одного из его собственных слуг.
— Я предоставлю господина Эрнеста, Джон, — величественно ответил он, —
угрызениям его собственной совести. («Благодарение Господу и благодарение
Джону», — подумал Эрнест.) Что же касается вас самого, я признаю, что вы
были отличным слугой, пока не произошел этот достойный сожаления случай,
и я почту за великое удовольствие дать вам рекомендацию, если вы будете в
ней нуждаться. Имеете вы еще что-нибудь сказать?
— Нечего мне тут больше говорить, — угрюмо произнес Джон, — а от того,
что сказал, не отступлюсь — рекомендация там, не рекомендация.
— О, вам не нужно тревожиться по поводу рекомендации, Джон, — сказал
Теобальд любезно, — и поскольку уже темнеет, вам нет надобности покидать
дом раньше, чем завтра утром.
На эти слова никакого ответа от Джона не последовало; он удалился,
упаковал вещи и сразу же ушел.
Когда Кристина узнала о случившемся, то сказала, что могла бы простить
все, за исключением того, что Теобальду пришлось из-за проступка сына
выслушивать такие дерзости от одного из собственных слуг. Теобальд — самый
храбрый человек на всем свете и мог легко взять этого негодяя за шиворот и
вышвырнуть из комнаты, но насколько достойнее, насколько благороднее был
его ответ! Как прекрасно это смотрелось бы в романе или на сцене, ибо, хотя
140
Путь всякой плоти
театр в целом вещь безнравственная, все же имеются, несомненно, пьесы,
которые представляют собой поучительное зрелище. Она живо вообразила, как все
в зале в волнении затихли, услыша угрозы Джона, и затаили дыхание,
предвкушая ответ. Тогда актер — вероятно, великий и добропорядочный мистер Мак-
реди5 — произнес бы: «Я предоставлю господина Эрнеста, Джон, угрызениям его
собственной совести». О, это было бы так величественно! Какой шквал
аплодисментов должен последовать! Тогда должна войти она, обвить руками шею мужа
и назвать его своим неустрашимым супругом. Когда занавес опустится, по
всему театру пронесется молва, что эта сцена, свидетелем которой все только что
были, списана с реальной жизни и в самом деле произошла в доме преподобного
Теобальда Понтифекса, женившегося на мисс Элэби, и т. д., и т. д.
Что касается Эрнеста, то подозрения, уже приходившие Кристине на ум,
усугубились, но она сочла, что лучше оставить это дело как есть. В настоящее
время позиции ее были очень сильны. Формальная чистота Эрнеста была
твердо установлена, но в то же время он показал себя столь впечатлительным, что
Кристина была способна слить два противоречивых представления о сыне в
один образ и считать его своего рода Иосифом и Дон-Жуаном в одном лице6.
Этого она более всего и хотела, но ее тщеславие было вполне удовлетворено
тем фактом, что у нее есть такой сын; сам же сын был ничто.
Без сомнения, не вмешайся Джон, Эрнесту пришлось бы искупать свой
проступок болью, нуждой и лишением свободы. А при сложившейся ситуации
мальчик должен был «считать себя» терпящим эти наказания и страдающим
от мук тщетного раскаяния, на которые его обрекла в придачу совесть; но,
кроме того, что Теобальд более строго следил за выполнением его
каникулярных заданий, и помимо длительной холодности родителей, ему не было
определено никакого явного наказания. Эрнест, однако, говорит мне, что
воспринимает то время как период, когда он начал осознавать, что испытывает
глубокую, активную антипатию к обоим родителям, а это, полагаю, означает, что он
к тому моменту достиг поры возмужания.
Глава 42
Примерно за неделю до возвращения Эрнеста в школу отец снова вызвал его
в столовую и сказал, что намерен вернуть ему часы, но должен вычесть сумму,
которую заплатил за них, — поскольку считал, что лучше заплатить
несколько шиллингов, чем ставить под сомнение принадлежность часов, поняв, что
Эрнест, несомненно, сам отдал их Эллен — из его карманных денег,
распределив уплату на два семестра; поэтому Эрнесту придется вернуться в Рафборо на
предстоящий семестр только с пятью шиллингами на карманные расходы. А
если он хочет иметь больше, то должен заработать больше «наградных денег».
Эрнест не проявлял такую осмотрительность в отношении денег, какую
должен проявлять образцовый мальчик. Он не говорил себе: «Теперь у меня
есть соверен, которого мне должно хватить на пятнадцать недель, поэтому я
могу тратить каждую неделю ровно один шиллинг и четыре пенса» — и, следо-
Глава 42
141
вательно, не тратил каждую неделю ровно один шиллинг и четыре пенса. Он
проматывал деньги примерно с той же быстротой, как и другие мальчики, и
уже через несколько дней после возвращения в школу оказывался на мели.
Когда у него больше не оставалось денег, он брал немного в долг, и пока не
залезал в долги так, что уже маячила проблема будущей отдачи, обходился без
роскоши. Сразу же по получении каких-либо денег он расплачивался с
долгами; если что-то еще оставалось, тратил и это; если не оставалось — а оставалось
редко — опять начинал брать в долг.
Его финансовые расчеты всегда основывались на предположении, что он
возвратится в школу с одним фунтом в кармане, — из этой суммы долгов у него
было, скажем, что-нибудь шиллингов на пятнадцать. Пять шиллингов должно
было уйти на различные школьные взносы, а после их уплаты еженедельная
порция карманных денег в сумме шести пенсов, выдаваемая в зале каждому
мальчику, его «наградные деньги» (которые в этом семестре, как он твердо
решил, должны достичь приличной суммы) и возобновленный кредит помогали
ему продержаться до конца семестра.
Внезапное изъятие пятнадцати шиллингов было бедствием для финансовых
расчетов моего героя. Эмоции столь явно отразились на его лице, что Теобальд
заявил, что полон решимости «немедленно выяснить правду, и на сей раз без
всей той нескончаемой лжи». Печальная истина не заставила себя долго ждать,
а именно, что этот негодный Эрнест прибавил и порок расточительства к
порокам лени, лживости и, возможно — ибо ничего невозможного в этом не
было, — безнравственности.
Как случилось, что он залез в долги? Делают ли долги другие мальчики?
Эрнест неохотно признал, что делают.
В каких лавках они берут в долг?
Такой вопрос — это было уж слишком. Эрнест ответил, что не знает.
— О Эрнест, Эрнест, — воскликнула мать, которая была в комнате, — не
злоупотребляй второй раз за столь короткий срок терпением самого
мягкосердечного отца в мире! Дай время зажить одной ране, прежде чем нанесешь
следующую.
Легко сказать, но что было делать Эрнесту? Как мог он втянуть в
неприятности владельцев лавочек из окрестностей школы, признавшись, что эти торговцы
позволяют некоторым мальчикам брать у них что-то в долг? Вот миссис Кросс,
добрая душа, она обычно продавала горячие булочки с маслом на завтрак, или
яйца с тостами, или, бывало, кусочки курятины в тесте и картофельное пюре, за
что брала шесть пенсов. Если она и выручала на шести пенсах четверть пенса, то
только-то и всего. Когда мальчики толпой вваливались в ее лавочку после игры
в «собаки», Эрнесту часто доводилось слышать, как она говорила своим
девушкам-служанкам: «Ну-ка, вы, шалуньи, пошевеливайтесь». Все мальчики любили ее,
так неужели же он, Эрнест, должен ее выдать? Это было бы ужасно.
— А теперь послушай-ка, Эрнест, — сказал отец своим самым
мрачно-торжественным тоном, — я собираюсь положить конец этому абсурду раз и навсегда.
Или полностью доверься мне, как сын должен доверяться отцу, и дай мне
разобраться с этим делом как священнику и человеку, умудренному опытом, или
142
Путь всякой плоти
пойми раз и навсегда, что я передам все это дело доктору Скиннеру, который,
как мне представляется, примет намного более строгие меры, чем я.
— О Эрнест, Эрнест, — говорила, рыдая, Кристина, — будь же наконец
благоразумным и доверься тем, кто уже доказал тебе, что они умеют быть
необыкновенно терпеливыми.
Ни один подлинный герой романа не стал бы колебаться ни одного
мгновения. Ни уговоры, ни запугивания не заставили бы его ябедничать. Эрнест
думал о мальчиках, которые были его идеалом: они, как он хорошо знал,
предпочли бы, чтоб им вырвали язык, но не позволили бы выжать из себя ни
слова. Но Эрнест не был идеальным мальчиком, и он был недостаточно силен в
сравнении с теми, кто его окружал; сомневаюсь, что какой-либо мальчик смог
бы долго противостоять тому моральному давлению, какое оказывалось на
него; во всяком случае, он не смог этого сделать и после еще некоторого
числа попыток скрутить его сдался как покорная жертва врагу. Он утешал себя
мыслью, что отец и в самом деле не обманет его доверия, как часто делала
мама, и что, вероятно, лучше, если он сам расскажет отцу, чем если отец
настоит, чтобы доктор Скиннер учинил расследование. Совесть его папы
«болтала» немало, но не так много, как мамина. Маленький глупец забыл, что не
давал отцу столько возможностей предавать его, сколько давал матери.
Тогда-то все и открылось. Он задолжал столько-то миссис Кросс, столько-
то миссис Джонс, столько-то в трактире «Лебедь и бутылка», не говоря уже о
каком-то еще шиллинге или одном-двух шестипенсовиках в других местах. Тем
не менее Теобальд и Кристина не были удовлетворены, наоборот, чем больше
они узнавали, тем сильнее возрастала их жажда узнать еще и еще; их
очевидная обязанность состояла в том, чтобы выяснить все до конца, поскольку, хотя
они могли спасти собственное любимое чадо из этого омута греха и не
добиваясь больших сведений, чем уже получили к настоящему времени, но были же
еще другие папы и мамы с их любимыми чадами, которых также надо было
спасать, если только возможно. Так кто же еще из мальчиков задолжал
деньги этим гарпиям так же, как Эрнест?
Здесь опять была продемонстрирована жалкая попытка сопротивления, но
немедленно оказались пущены в ход надежные орудия пыток, и Эрнест,
совершенно к тому времени морально раздавленный, публично покаялся в грехах,
подчинившись власть предержащим. Он рассказал лишь немногим меньше, чем знал,
или думал, что знает. Его подвергли допросу, затем еще раз, потом
перекрестному допросу, отослали передохнуть в спальню и вновь допросили; были добыты все
сведения о курении в кухне у миссис Джонс, кто из мальчиков курил, а кто нет,
кто задолжал деньги и примерно сколько и где, кто бранился и сквернословил.
Теобальд твердо решил, что на сей раз Эрнест должен, как отец назвал это,
довериться ему безоговорочно, а потому к делу привлекли список учеников школы,
который прилагался к табелю, присланному доктором Скиннером за семестр, и
мистер и миссис Понтифекс получили всю подноготную о каждом мальчике
seriatim*, насколько в силах Эрнеста было дать эти сведения; и все же Теобальд
* одном за другим [лат.].
Глава 42
143
произнес в предшествующее воскресенье менее слабую, чем обычно, проповедь
об ужасах инквизиции. Как ни кошмарна была развращенность, открывшаяся
чете Понтифекс, эти двое, не дрогнув, расследовали и расследовали, пока не
дошли до предметов более деликатных, чем те, каких касались до сих пор. Здесь
бессознательное «Я» Эрнеста взялось за дело и оказало сопротивление, на которое
было неспособно его сознательное «Я», — свалило его со стула в обмороке.
Послали за доктором Мартином, который объявил, что мальчик серьезно
болен; он предписал соблюдать полный покой и избегать нервного
перевозбуждения. Так что встревоженным родителям волей-неволей пришлось
удовольствоваться уже добытым, ибо страх заставил их позволить сыну вести
спокойную жизнь в продолжение короткого остатка каникул. Понтифексы не были
праздными и ленивыми, но сатана умеет использовать для совершения зла
деятельные руки, так же как и праздные, а потому он послал в направлении
Бэттерсби небольшую работенку, за которую Теобальд и Кристина немедленно
принялись. Было бы жаль, рассуждали они, если бы Эрнест покинул Рафборо
теперь, когда пробыл там уже три года; было бы трудно найти для него другую
школу и объяснить, почему он оставил Рафборо. Кроме того, было бы неприятно
обидеть доктора Скиннера, который, как считалось, приходился Теобальду
старым другом. Все эти причины были основанием для того, чтобы не забирать
мальчика из Рафборо. Правильнее всего, стало быть, конфиденциально
предупредить доктора Скиннера относительно положения дел в его школе и
предоставить в его распоряжение список учеников со сведениями, добытыми у
Эрнеста, против имени каждого мальчика.
Теобальд был образцом аккуратности; пока сын болел в своей комнате
наверху, отец переписал школьный список так, чтобы можно было вместить
собственные комментарии в таблицу, которая принимала следующий вид, — с той
только разницей, что я, конечно, изменил имена. Один крест в графе указывал
на случайный проступок; два креста обозначали частое, а три —
укоренившееся правонарушение.
КУРЕНИЕ РАСПИТИЕ ПИВА БРАНЬ ПРИМЕЧАНИЯ
В «ЛЕБЕДЕ И НЕПРИСТОЙНЫЕ
И БУТЫЛКЕ» ВЫРАЖЕНИЯ
Намерен курить
^ в следующем семестре
О X
XX XXX
X X
И так обо всех в школе.
Конечно, чтобы быть честными с Эрнестом, с доктора Скиннера следует
взять слово хранить тайну, прежде чем сказать ему что-то, но, защитив таким
образом Эрнеста, директору можно сообщить все известные факты.
Смит О
Браун X х
Джонс X
Робинсон X X
144
Путь всякой плоти
Глава 43
Столь важным считал Теобальд это дело, что совершил специальную поездку
в Рафборо до того, как начался семестр. Огромным облегчением было
сознавать, что он уехал из дому, и, хотя о цели поездки не упоминалось, мальчик
догадывался, куда отправился отец.
Он до сих пор считает свое поведение в той ситуации одним из самых
серьезных проступков в жизни — о котором никогда не сможет думать без чувства
стыда и негодования. Он говорит, что надо было убежать из дому. Но что
хорошего вышло бы, если бы он и вправду убежал? Его бы поймали, вернули и
допрашивали двумя днями позже, а не раньше. Мальчик, едва достигший
шестнадцати лет, не больше мог противостоять моральному натиску отца и матери,
всегда подавлявших его, чем оказать физическое сопротивление сильному
взрослому мужчине. Правда, он мог дать себя убить, а не сдаваться, но этот
нездоровый героизм, словно в замкнутом круге, граничил с трусостью, потому что мало
отличался от самоубийства, которое всеми осуждается как трусость.
По возвращении в школу стало ясно, что что-то неладно. Доктор Скиннер
собрал мальчиков и с большой помпой предал анафеме миссис Кросс и миссис
Джонс, объявив, что их лавки запрещается посещать. Также запрещено было
появляться на улице, на которой находился трактир «Лебедь и бутылка». Это
очевидным образом было нацелено против пороков питья и курения, к тому же
перед молитвами доктор Скиннер произнес несколько внушительных слов об
отвратительном грехе сквернословия. Можно вообразить, что чувствовал
Эрнест.
На следующий день, в час, когда объявлялись ежедневные наказания, на
Эрнеста Понтифекса, хотя он еще не успел совершить никакого нарушения,
были наложены все взыскания, которые предусматривались для
провинившихся в школе. На весь семестр он попал в список тех, кого лишали свободного
времени и постоянно оставляли после уроков; для него границы дозволенной для
посещения территории были сужены; он должен был посещать все
дополнительные занятия; фактически его так окружили наказаниями со всех сторон,
что ему почти невозможно было выйти за школьные ворота. Это
беспрецедентное количество наказаний, наложенных в первый же день семестра и до
самого Рождества, не было связано с каким-либо конкретным нарушением,
поэтому не потребовалось большой проницательности со стороны мальчиков, чтобы
обнаружить связь между Эрнестом и запретом на посещение лавок миссис
Кросс и миссис Джонс.
Особенно сильно негодовали из-за миссис Кросс, которая, как было
известно, помнила самого доктора Скиннера маленьким мальчиком, когда тот
только начал носить школьную тужурку, и которая, несомненно, часто позволяла
ему брать колбасу и картофельное пюре с отсрочкой платежа. Старшие
ученики собрали тайное совещание, чтобы решить, какие шаги следует
предпринять, но едва приступили к обсуждению, как в дверь комнаты, где они
собрались, робко постучал Эрнест и, взяв быка за рога, изложил факты, насколько
мог заставить себя это сделать. Он чистосердечно признался во всем, кроме
Глава 43
145
школьного списка и сведений, которые дал о поведении каждого мальчика.
Признаться в этом позоре было выше его сил, и он его скрыл. К счастью, в
данном отношении он был в безопасности, ибо доктор Скиннер, каким бы
педантом и воплощением педантизма он ни был, имел все же достаточно
здравого смысла, чтобы не пойти на поводу у Теобальда в деле школьного списка.
То ли он вознегодовал, что ему дали понять, будто он не знает, как ведут себя
его ученики, то ли побоялся скандала вокруг школы, — этого я не знаю, но,
когда Теобальд вручил ему список, на который потратил так много усилий,
доктор Скиннер неожиданно резко оборвал посетителя и с еще меньшей
учтивостью тут же предал список огню прямо у него на глазах.
У Эрнеста дело со старшими учениками обошлось легче, чем он ожидал.
Признали, что преступление, каким бы гнусным оно ни было, совершено при
смягчающих вину обстоятельствах; а откровенность, с какой преступник
сознался во всем, его очевидное искреннее раскаяние и ярость, с которой доктор
Скиннер преследовал его, готовы были вызвать к виновному сочувствие, как если
бы по отношению к нему был совершен больший грех, чем тот, какой совершил
он сам1.
По мере того как проходил семестр, настроение Эрнеста постепенно
улучшалось, и когда на юношу нападал обычный припадок самоуничижения, он в
некоторой степени утешался мыслью, что даже его отец с матерью, которых он
считал такими безупречными, оказались не лучше, чем им следовало быть.
Существовала школьная традиция примерно пятого ноября встречаться на
пустыре неподалеку от Рафборо и сжигать чье-либо чучело — это был
компромисс, достигнутый в деле фейерверков и торжественных сожжений чучела Гая
Фокса2. В этом году было решено, что жертвой должен стать папаша Понти-
фекса, и Эрнест, хотя и много размышлял, как ему поступить, в конце концов
не обнаружил никакой основательной причины остаться в стороне от этой
процедуры, которая, как он справедливо отметил, не могла причинить его отцу
никакого вреда.
Так случилось, что пятого ноября епископ проводил в школе конфирмацию.
Доктору Скиннеру не совсем нравилось, что выбран именно этот день, но
епископ был загружен множеством дел, так что пришлось соблюсти достигнутую
прежде договоренность. Эрнест находился среди тех, кому предстояло пройти
конфирмацию, и был глубоко взволнован торжественностью церемонии.
Когда он, стоя на коленях в часовне, увидел приближение огромной фигуры
старого епископа, то у него перехватило дыхание; когда же эта фигура
остановилась перед ним и возложила руки ему на голову, он испугался чуть не до потери
сознания. Он чувствовал, что наступил один из великих поворотных моментов
его жизни и что будущий Эрнест мог только очень слабо походить на
Эрнеста прошлого.
Церемония происходила примерно в полдень, но к часу дня воздействие
конфирмации постепенно прошло, и Эрнест не видел никаких оснований
воздерживаться от ежегодной забавы с костром; а потому пошел вместе с
остальными и держался очень храбро, пока чучело делали и готовили к сожжению;
и только после этого немножко испугался. Чучело было довольно убогой шту-
146
Путь всякой плоти
ковиной, сделанной из бумаги, коленкора и соломы, но ее окрестили
«преподобный Теобальд Понтифекс», и у Эрнеста резко изменилось настроение, когда он
увидел, как ее несут к костру. Тем не менее он совладал с собой и через
несколько минут, когда все закончилось, чувствовал себя ничуть не хуже от того,
что участвовал в церемонии, которая, в конце концов, была вызвана скорее
ребяческой любовью к шалостям, чем злобой.
Должен сказать, что Эрнест написал отцу и рассказал о беспримерной
суровости, с какой ему пришлось столкнуться в школе; он даже рискнул
предложить, чтобы Теобальд выступил в его защиту, и напомнил, каким образом из
него вытянули все подробности, но Теобальду хватило одной встречи с
доктором Скиннером; сжигание списка учеников было провалом, после которого
мистеру Понтифексу не улыбалось вторично вмешиваться во внутренние дела
Рафборо. Вот почему он ответил, что должен или совсем забрать Эрнеста из
Рафборо, что по многим причинам нежелательно, или положиться на
усмотрение директора школы в отношении мер, которые тот может счесть
целесообразным принять к любому из своих учеников. Больше Эрнест ничего не
говорил, поскольку все еще чувствовал, как недостойно поступил, позволив
вытянуть из себя какое бы то ни было признание, и не мог настаивать на
обещанной амнистии.
Именно во время «дела мамаши Кросс», как прозвали мальчики эту
историю, в Рафборо было засвидетельствовано примечательное явление. Я имею в
виду, что старшие ученики на определенных условиях исполняли поручения
младших. Старшие не имели никаких ограничений и могли ходить в лавку
миссис Кросс когда им вздумается; а потому сделались посредниками и
приносили от миссис Кросс или миссис Джонс все, что нужно было любому
мальчику, независимо от его положения в школе, в промежутки времени от без
четверти девять до девяти часов утра и от без четверти шесть до шести часов
вечера. Однако мало-помалу мальчики осмелели, и, хотя открыто и не было
объявлено о разрешении снова посещать лавки, этому никто не препятствовал.
Глава 44
Я намерен избавить читателя от других подробностей школьной жизни моего
героя. Он перешел, хоть и не слишком стремился к этому, в старший класс,
который вел доктор, и в течение примерно последних двух лет учебы был среди
препостеров1, но так и не поднялся в разряд лучших из них. Он мало уделял
внимания учебе, и думаю, что доктор отступился от него как от мальчика,
которого лучше оставить в покое, поскольку редко заставлял его заниматься
грамматическим анализом, а упражнения свои Эрнест то сдавал, то не сдавал, во
многом по собственному усмотрению. Его молчаливое, бессознательное упрямство
со временем произвело большее действие, чем могли бы вызвать отдельные
вспышки храбрости. К концу учебы его положение inter pares* было тем же, что
* среди сверстников [лат).
Глава 44
147
и в начале, а именно в верхнем уровне класса наименее достойных, будь то в
старших или младших классах, а не в низшей части класса наиболее уважаемых.
Только однажды за время школьной жизни он удостоился похвалы
доктора Скиннера за выполнение одного из заданий и дорожил ею как лучшим
образцом сдержанного одобрения, какой он когда-либо видел. Он должен был
написать алкеевой строфой2 стихотворение «Собаки монахов ордена святого
Бернара», и когда сочинение было возвращено ему, то обнаружил, что доктор
сопроводил его таким замечанием: «В этом варианте алкеевой строфы,
которая все еще чрезвычайно плоха, я полагаю, можно различить некоторые
слабые признаки улучшения». Эрнест говорит, что, если то задание оказалось
выполненным немного лучше, чем обычно, то это, должно быть, просто какая-
то счастливая случайность, ибо он уверен, что всегда любил собак, особенно
сенбернаров, слишком сильно, чтобы получать какое-либо удовольствие от
сочинения о них алкеевых строф.
«Оглядываясь на школьные годы, — сказал он мне как-то на днях, от души
смеясь, — я уважаю себя больше за то, что никогда не получал высшей
оценки за задание, чем если бы получал ее каждый раз, когда можно было
получить. Я рад, что ничто не могло заставить меня писать латинские и греческие
стихи; я рад, что Скиннер никогда не мог оказать на меня никакого морального
влияния; я рад, что гонял лодыря в школе, и я рад, что отец перегружал меня
уроками в детстве, — иначе, вполне вероятно, мне пришлось бы соглашаться на
обман, и я, может быть, писал бы такие же хорошие алкеевы строфы о
собаках монахов ордена святого Бернара, как мои ближние, а впрочем, мне
помнится, был другой мальчик, который представил латинское стихотворение
требуемого образца, но для собственного удовольствия написал следующее:
Собаки монахов святого Бернара
Отыщут детей, если снег тех засыпал,
К их шеям надежно привязана пара
Бутылок спасительного нектара.
Я хотел бы написать так и даже попробовал, но не смог. Мне не очень
нравилась последняя строка, я пытался исправить ее, но не сумел».
Мне показалось, что я заметил в словах Эрнеста следы горечи по
отношению к воспитателям его юности, и сказал ему что-то на сей счет.
«О нет, — ответил он, все еще смеясь, — не больше горечи, чем святой
Антоний чувствовал бы к искушавшим его бесам, если бы случайно встретился с
некоторыми из них сотню или пару сотен лет спустя. Конечно, он знал, что они
бесы, но это вполне в порядке вещей; должны же быть бесы. Святой Антоний,
вероятно, любил этих злых духов больше, чем всех других, и ради старого
знакомства отнесся бы к ним со всем снисхождением, какое допускала
благовоспитанность.
Кроме того, знаете ли, — добавил Эрнест, — святой Антоний так же сильно
искушал бесов, как они искушали его; поскольку его особая святость была для
них великим искушением искушать его, и не поддаться этому искушению они
не могли. Строго говоря, злые духи скорее достойны жалости, ибо они оказа-
148
Путь всякой плоти
лись введены святым Антонием в искушение и пали, тогда как сам святой
Антоний выстоял. Полагаю, я был трудным и непонятным ребенком, и, если
мне когда-нибудь доведется встретиться со Скиннером, никому другому я не
пожал бы руку или не оказал какую-либо услугу с большей готовностью».
Дома дела пошли лучше; история с Эллен и дело матушки Кросс постепенно
забылись, и Эрнест, став учеником старшего класса, чувствовал себя
спокойнее. Однако всевидящее око и направляющая длань все еще постоянно тяготели
над ним, следя за всеми его тратами и контролируя каждый его шаг.
Удивительно ли, что мальчик, всегда старавшийся сделать вид, будто он бодр и
доволен — и по временам в самом деле бывший таковым, — когда думал, что
никто на него не смотрит, часто бросал вокруг тревожные и утомленные взгляды,
и не свидетельствовало ли это о почти непрерывном внутреннем конфликте?
Несомненно, Теобальд видел эти взгляды и знал, что они означают, но его
профессия именно в том и состояла, чтобы уметь закрывать глаза на
неудобные вещи: ни один священнослужитель не смог бы удержаться на своем
месте и месяца, если бы не умел делать этого; кроме того, поскольку Теобальд
позволял себе так много лет говорить то, чего не следовало, и не говорить того,
что он должен был бы сказать3, он был мало склонен замечать вещи, которые,
по его мнению, удобнее было не замечать, пока какие-либо причины не
вынуждали его обратить на них внимание.
Требовалось не так уж много. Не создавать никаких тайн там, где природа
обошлась без них, держать совесть под чем-то вроде разумного контроля,
предоставить Эрнесту немного больше воли, задавать поменьше вопросов и дать
ему карманных денег с пожеланием потратить их на menus plaisirs...*
«Да уж, и впрямь немного, — засмеялся Эрнест, когда я прочел ему только
что написанный фрагмент. — Что ж, в этом и состоят обязанности всякого отца,
но худшее из зол — нагнетание таинственности. Если бы люди осмелились
говорить друг с другом откровенно, через какую-нибудь сотню лет в мире стало
бы намного меньше горя».
Возвратимся, однако, к Рафборо. В последний день пребывания в школе,
когда его пригласили в библиотеку для рукопожатия, Эрнест с удивлением
почувствовал, что, хотя, конечно, рад отъезду, но покидает школу без какого-
либо терзающего душу особо недоброго чувства против доктора. Юноша
прошел весь этот путь до конца, и остался жив, и испытал в общем и целом не
намного больше тягот, чем другие люди. Доктор Скиннер принял его любезно
и даже шутил в своей тяжеловесной манере. Молодые люди почти всегда
незлопамятны, и, когда пришло время уходить, Эрнест почувствовал, что еще
одна такая беседа могла бы не только стереть все старые обиды, но и сделать
его таким же поклонником и сторонником доктора, какими, справедливости
ради следует заметить, становилось большинство мальчиков, подававших
надежды.
Перед тем как проститься, доктор взял с тех полок, которые казались
такими ужасными шесть лет назад, книгу и подал Эрнесту, написав в ней его имя
* маленькие удовольствия (фр.).
Глава 44
149
и слова cptXtocç xocl eùvotocç x<*pw*, которые, как я думаю, означают «с
наилучшими пожеланиями от дарителя». Книга, написанная по-латыни неким немцем Шё-
маном4, называлась «De comitiis Atheniensibus»** и была не из числа легких и
развлекательных, но Эрнест чувствовал, что ему самая пора разобраться в
государственном устройстве и системе голосования в Афинах; он приступал к ним уже
очень много раз, но забывал все с такой же быстротой, с какой выучивал; теперь
же, когда доктор подарил ему эту книгу, он овладеет предметом раз и навсегда.
Странное дело! Ему ужасно хотелось запомнить эти вещи; он знал, что хотелось,
но никогда вопреки собственной воле не мог удержать их в памяти; не успевали
они попасть туда, как тут же снова выпадали, такая вот ужасная была у него
память; но стоило ему услышать какой-либо музыкальный фрагмент и узнать, из
какого он произведения, Эрнест уже никогда не забывал его, хотя не делал
никаких усилий для запоминания и даже вообще не осознавал, что запоминает. Его
память, должно быть, неправильно устроена, раз он не мог с ней сладить.
Оставалось еще немного времени, и он взял ключи от церкви Святого
Михаила и пошел на прощание поиграть на органе, который освоил уже
довольно хорошо. Эрнест походил некоторое время в задумчивости взад-вперед по
проходу между скамьями, а затем, сев к органу, сыграл «Они не хотели испить
из реки»5 примерно шесть раз подряд, после чего почувствовал себя спокойнее
и счастливее; и тогда, расставшись с инструментом, который так сильно любил,
поспешил на станцию.
Поезд тронулся. Железная дорога шла по высокой насыпи, и Эрнест смотрел
вниз на маленький дом, где когда-то жила его тетя и где она, можно сказать,
умерла из-за своего желания сделать ему добро. Там было два хорошо знакомых
ему окна с выступом, из которых он часто выпрыгивал, чтобы побежать по
лужайке к мастерской. Он упрекал себя за то, что проявлял так мало
благодарности к этой доброй женщине, единственной из его родственников, к кому
испытывал чувство доверия. Как ни дорога была ему память о ней, Эрнест был рад, что
она не узнала, в какие неприятности он попал с тех пор, как она умерла;
возможно, она не простила бы его — и как ужасно это было бы! Но если бы она осталась
жива, возможно, многие из бед миновали бы его. Размышляя об этом, он снова
загрустил. Когда, когда, спрашивал он себя, все это кончится? Неужели всегда
в будущем его ждут грех, позор и печаль, как было в прошлом, и с ним
навсегда останется это бдительное око и направляющая длань отца, взваливающего на
него большее бремя, чем он может вынести? Настанет ли когда-нибудь день,
когда он почувствует себя совершенно довольным и счастливым?
Солнце окружала легкая серая дымка, так что глаза могли вынести его свет,
и Эрнест, размышляя обо всем этом, смотрел прямо на солнце, словно в лицо
тому, кого он знал и любил. Поначалу он сохранял серьезное, но добродушное
выражение, как у усталого человека, который чувствует, что окончено трудное
дело; но через несколько мгновений свалившиеся на него беды предстали перед
ним в более юмористическом виде, и он улыбнулся полуукоризненно-полувесе-
* дар дружбы и благоволения (греч.).
* «О народных собраниях у афинян» [лат).
150
Путь всякой плоти
ло, думая над тем, как мало на самом деле значит все то, что случилось с ним,
и как ничтожны его невзгоды по сравнению с невзгодами большинства людей.
Все еще глядя на солнечный лик и мечтательно улыбаясь, он подумал о том, как
помогал сжечь чучело своего отца, и его взгляд стал веселее, пока наконец он не
рассмеялся. Именно в этот момент солнце вышло из-за легкой завесы облаков,
и хлынувший солнечный свет заставил Эрнеста спуститься с небес на землю. Тут
он заметил, что за ним внимательно наблюдает сидящий напротив пассажир,
пожилой джентльмен с большой головой и седеющими волосами.
«Мой юный друг, — сказал тот добродушно, — вам не следует вести беседы
с людьми на солнце, находясь в вагоне общественной железной дороги».
Пожилой джентльмен не прибавил больше ни слова, а развернул «Тайме»
и стал читать. Что касается Эрнеста, то он густо покраснел. В продолжение
всего остального времени поездки оба молчали, но время от времени
поглядывали друг на друга, так что лицо каждого запечатлелось в памяти попутчика.
Глава 45
Некоторые люди говорят, что школьные дни были счастливейшими в их жизни.
Может быть, они и правы, но я всегда смотрю с подозрением на тех, от кого
слышу подобные речи. Довольно трудно понять, счастливы мы или несчастливы в
данное время, и еще труднее сравнивать относительное счастье или несчастье
различных периодов жизни; самое большее, что можно сказать, так это то, что
мы довольно счастливы, пока не осознаем со всей ясностью, что несчастны.
Когда я говорил с Эрнестом не так давно, он утверждал, что абсолютно счастлив
теперь, уверен, что никогда не был счастливее, и не желал бы большего, но что
впервые осознанно и постоянно счастливым он чувствовал себя в Кембридже.
Как может какой-либо мальчик не испытать блаженства, впервые
оказавшись в комнате, которая, как он знает, на следующие несколько лет должна
стать его крепостью? Здесь он не будет вынужден покидать самое уютное
место, едва успев там угнездиться, потому лишь, что папе или маме случилось
войти в комнату и он должен уступить это место им. Самое уютное кресло
здесь — для тебя, и нет даже никого, с кем нужно делить комнату, и никто не
помешает делать то, что тебе нравится — в том числе курить. Пожалуй, если
бы даже такое помещение выходило всеми своими окнами на глухую унылую
стену, оно все равно было бы раем, а что уж говорить, когда из окон
открывается вид на тихий, заросший травою дворик, или крытую галерею, или сад, куда
выходит большинство окон в Оксфорде и Кембридже.
Теобальд, как бывший студент и тьютор колледжа Эммануила1, в который
он отправил Эрнеста, имел возможность получить от нынешнего тьютора
некоторые преимущества в выборе комнаты; поэтому комната Эрнеста была
очень приятной, окна ее выходили на заросший травой дворик, примыкавший
к профессорскому саду.
Теобальд сопровождал Эрнеста в Кембридж и находился при этом в
наилучшем расположении духа. Он был рад предпринять поездку и даже испыты-
Глава 45
151
вал известное чувство гордости по поводу того, что его повзрослевший сын
становится студентом университета. Некоторым из отраженных лучей этого
сияния было позволено снизойти и на Эрнеста. Теобальд сказал, что «склонен
надеяться» — то было одно из его типичных выражений, — что его сын теперь,
окончив школу, начнет новую жизнь, а он, Теобальд, со своей стороны, «вполне
готов» — еще одно из его выражений — предать прошлое забвению.
Эрнест, чье имя еще не было внесено в списки, обедал с отцом за столом
членов совета одного из колледжей по приглашению старого друга Теобальда;
там он впервые отведал некоторые вкусные вещи, сами названия которых
оказались для него в новинку, и почувствовал, пока вкушал их, что теперь
действительно получает широкое образование. Когда наконец наступило время идти
в колледж Эммануила, где ему предстояло спать в новой комнате, отец пошел
с ним к воротам и проследил, как он войдет; через несколько минут Эрнест
оказался один в комнате, от которой у него имелся свой собственный ключ.
С этого времени он начал отсчет тех многих дней, которые если и не были
совсем безоблачны, в целом выдались очень счастливыми. Однако нет
надобности описывать их, поскольку о жизни скромного степенного студента
рассказано во множестве романов, причем лучше, чем могу сделать это я. С
некоторыми из своих школьных приятелей, которые прибыли в Кембридж
одновременно с ним, Эрнест поддерживал дружеские отношения в продолжение всей
учебы в колледже. Другие же были лишь на год или на два старше его; они
зашли повидаться с ним, и таким образом он вполне благополучно вступил в
университетскую жизнь. Прямодушие, написанное на его лице, любовь к юмору
и нрав, более склонный к миролюбию, чем к раздражительности, искупали
некоторую нескладность и отсутствие savoir faire*. Он вскоре очутился в самой
лучшей компании студентов своего курса и, хотя не обладал ни способностью,
ни стремлением к лидерству, был принят лидерами в их ближний круг.
В то время у него не было ни капли честолюбия; величие или даже какое-
либо превосходство над окружающими казалось ему чем-то столь далеким и
непостижимым, что ему никогда и в голову не приходила мысль думать о себе
в подобных категориях. Если ему удавалось избежать общения с теми, с кем
он не чувствовал взаимопонимания, то он считал, что одержал изрядную
победу. Он не заботился о получении хорошего диплома, лишь бы диплом
оказался достаточно хорош, чтобы не внушать беспокойства отцу с матерью. Он не
мечтал о получении после окончания колледжа стипендии на занятия научной
деятельностью; если бы он считал себя способным к этому, то стал бы
усердно трудиться ради нее, потому что сильно полюбил Кембридж и для него была
непереносима мысль о необходимости покинуть его. Краткость периода, с
окончанием которого могло закончиться и его нынешнее счастье, — вот едва ли не
единственное, что теперь по-настоящему его беспокоило.
Меньше тревожась о своем физическом развитии и получив больше
свободы, Эрнест основательно взялся за учебу — не потому, что ему это нравилось,
но потому, что ему говорили — так надо, а его естественный инстинкт, подоб-
* жизненного опыта (фр).
152
Путь всякой плоти
но инстинкту всех очень молодых людей, годных хоть на что, побуждал его
делать то, что велели люди авторитетные. В Бэттерсби хотели (ибо доктор Скин-
нер сказал, что Эрнест никогда не сможет получить стипендию для занятий
наукой), чтобы его диплом был достаточно хорош для получения, перед
принятием духовного сана, места учителя или наставника в какой-нибудь школе.
Когда ему исполнится двадцать один год, оставленное ему наследство перейдет в
его полное распоряжение, и лучшее, что он может сделать с ним, — это купить
право на получение вакансии в каком-нибудь приходе, священник которого уже
стар, и зарабатывать наставничеством или учительством, дожидаясь, пока не
освободится место. Он мог купить очень неплохой приход за те деньги,
которые оставил ему дед, поскольку Теобальд все же не имел серьезного
намерения вычесть из этой суммы расходы на содержание и образование сына, и
деньги копились, пока сумма не составила к тому времени приблизительно пять
тысяч фунтов. Теобальд говорил об удержании средств, только чтобы как
можно активнее побудить сына к усердным занятиям, приучая его к мысли, что
это его единственная возможность избежать нищеты, а может быть, просто из
любви к мелкому тиранству.
Если бы Эрнест имел приход, дающий шестьсот—семьсот фунтов в год, с домом
и не слишком большим количеством прихожан, то, пожалуй, мог бы увеличить
свой доход, взяв учеников или даже ведя занятия в школе, а затем, скажем, лет в
тридцать жениться. Теобальду не приходил на ум какой-либо более разумный
план. Он не мог определить Эрнеста на должность в мире коммерции, поскольку
не имел связей в этой сфере и вообще не знал, что такое коммерция; не было у него
и знакомых адвокатов; медицина же — занятие, которое подвергает тех, кто ее
выбирает, испытаниям и искушениям, от которых любящие родители хотели бы
избавить своего сына; ему пришлось бы общаться с такими людьми и
познакомиться с такими подробностями, которые могли замарать его, и, хотя он сумел бы
устоять, было «более чем возможно», что он совершит грехопадение. Кроме того,
посвящение в духовный сан представлялось дорогой, которую Теобальд знал и
понимал, да и вообще единственной дорогой, о которой он знал хоть что-нибудь,
а потому, вполне естественно, именно ее он и выбрал для Эрнеста.
Мысль о духовном поприще прививалась моему герою с самого раннего
детства, совершенно так же, как она прививалась и самому Теобальду, и с тем
же результатом: у Эрнеста возникло убеждение, что он обязательно станет
священником, но до этого еще далеко; и он считал, а почему бы и нет. Что
касается обязанности основательно готовиться и получить настолько хороший
диплом, насколько возможно, то с этим все было вполне ясно, и он заставлял
себя усердно и постоянно трудиться, о чем я уже упоминал, и, ко всеобщему
удивлению, как и к своему собственному, уже на первом курсе получил
студенческую стипендию, хоть и не очень большую. Едва ли нужно говорить, что
Теобальд прибрал эти деньги к рукам, считая, что тех карманных денег,
которые он выдает Эрнесту, вполне достаточно, и зная, как опасно для молодых
людей иметь деньги в собственном распоряжении. Не думаю, чтобы ему когда-
либо приходило на ум попытаться вспомнить, что чувствовал он сам, когда его
собственный отец подобным же образом обходился с ним.
Глава 46
153
Положение Эрнеста в финансовом отношении оставалось во многом тем же,
что и в школе, изменился лишь масштаб. Счета за обучение и питание
оплачивались не им; отец посылал ему вино; сверх того ему выдавалось пятьдесят
фунтов в год на одежду и все прочие расходы; это было в порядке вещей в
колледже Эммануила во времена Эрнеста, хотя многие имели гораздо меньше,
чем он. Эрнест поступал с деньгами так же, как в школе: тратил все что мог
сразу же по получении, брал умеренные суммы в долг, а затем влачил скудное
существование до новых поступлений, из которых немедленно возвращал
старые долги и тут же делал новые почти в таком же размере, как те, от которых
только что избавился. Когда он получил свои пять тысяч фунтов и стал
независим от отца, ему хватило пятнадцати—двадцати фунтов, чтобы покрыть все
свои не дозволенные ранее расходы.
Он вступил в яхт-клуб и постоянно участвовал в лодочных гонках. Он
продолжал курить, но никогда не злоупотреблял вином или пивом, за
исключением, пожалуй, нескольких случаев во время ужинов в яхт-клубе, однако,
испытав неприятные последствия, вскоре научился держаться в безопасных
пределах. Он посещал часовню не чаще, чем положено, причащался два-три раза в
год, поскольку так велел его наставник; по существу, старался вести жизнь
воздержанную и чистую, к которой, полагаю, его побуждали все инстинкты, и
когда пал (а кому из рожденных женщиной не довелось пройти через это?), то
случилось это не без трудной борьбы с искушением, которому его плоть и кровь
не могли больше сопротивляться; после этого он глубоко каялся и довольно
долго старался не согрешить снова. Так было с ним всегда, с тех пор как он
достиг поры утраты невинности.
Даже к концу своего пребывания в Кембридже Эрнест не осознавал, что у
него есть какие-то способности, но другие начали замечать, что он не лишен
дарований, и порой говорили ему об этом. Он не поверил и даже привык
думать, что если его считали умным, то заблуждались на его счет, однако ему
было приятно, что он способен вводить людей в подобное заблуждение, и он
пытался сделать это снова и снова, а потому стал проводить много времени в
поисках ходких словечек, которые мог подхватить и применить в подходящей
ситуации, и, может быть, тем самым навредил бы себе, если бы не был готов
отбросить всякое ходкое словечко, как только наталкивался на другое, которое
более приходилось ему по вкусу. Друзья шутили, что когда он принимался
говорить, то, подобно бекасу, метался сначала несколько раз из стороны в
сторону и только затем пускался в прямой полет, но если уж пустился, то будет
держаться взятого курса.
Глава 46
Когда Эрнест учился на третьем курсе, в Кембридже был основан журнал,
статьи в который писали исключительно студенты последних курсов. Эрнест
представил очерк о греческой драме. Он не позволил мне воспроизвести его
здесь, не отредактировав заново. По этой причине я не мог дать его в первона-
154
Путь всякой плоти
чальной форме, но когда из текста было убрано все лишнее (а тем изменения
и ограничились), очерк приобрел следующий вид:
Я не стану пытаться в отведенных мне границах прослеживать пути
возникновения и развития греческой драмы. Ограничусь лишь рассмотрением вопроса
о том, сохранится ли слава, которой пользуются три главных греческих
трагика — Эсхил, Софокл и Еврипид1 — на веки вечные, или в один прекрасный день
и о них скажут, что их чересчур переоценивали.
Почему, спрашиваю я себя, я вижу многое, чем можно несомненно
восхищаться, у Гомера2, Фукидида, Геродота3, Демосфена, Аристофана4, Феокрита5,
отчасти у Лукреция6, у Горация в его сатирах и посланиях, не говоря уж о
других древних авторах, но испытываю неприятные чувства даже к тем
сочинениям Эсхила, Софокла и Еврипид а, которыми принято более всего восхищаться?
Первые из перечисленных авторов — это люди, чьи чувства я если и не
разделяю, то, во всяком случае, могу понять, и мне интересно постичь, что они
чувствовали; вторым же я сопереживаю так мало, что не в силах уразуметь, как
кто-то вообще может испытывать к ним какой-либо интерес. Результаты их
высочайших взлетов представляются мне скучными, напыщенными и
искусственными творениями, которые, появись они впервые теперь, или, как мне
думается, с треском провалились бы, или были бы разгромлены критикой.
Хотелось бы выяснить, я ошибаюсь в данном вопросе или же часть вины, пожалуй,
лежит на самих названных драматургах.
Я задаюсь и другим вопросом: а насколько искренне сами афиняне любили
этих поэтов и в какой степени расточаемые им восхваления служили данью
моде или намеренно оказывались нарочитыми? Как далеко, на самом деле,
простиралось среди афинян восхищение ортодоксальными трагиками,
ставшими для нас предметом поклонения?
Это рискованный вопрос, учитывая, что общепризнанный ныне вердикт был
вынесен более двух тысяч лет назад, да я и не решился бы задать такой вопрос,
если бы к нему не подвиг меня тот, чья слава столь же велика и подкреплена
столь же длительным периодом времени, как и слава разбираемых
драматургов. Я имею в виду Аристофана.
Сами его произведения, авторитет и время вознесли Аристофана на такую
же высокую вершину в литературе, какой удостоился любой из древних
авторов, за исключением, пожалуй, Гомера, но Аристофан не делает тайны из своей
глубокой неприязни к Еврипиду и Софоклу, и я подозреваю, что он хвалит
Эсхила только для того, чтобы с большей безнаказанностью обрушиться на
двух других: ибо в конечном счете не существует такого уж яркого различия
между Эсхилом и его преемниками, чтобы наделять первого всяческими
достоинствами, а последних — всяческими недостатками; к тому же выпады в
адрес Эсхила, которые Аристофан вкладывает в уста Еврипида7, слишком
разительны, чтобы быть написанными поклонником.
Можно заметить, что, когда Еврипид обвиняет Эсхила в «напыщенном
многословии»8, то есть, как я полагаю, в претенциозности и склонности к
бахвальству, Эсхил отвечает Еврипиду, что тот — «собиратель сплетен, описатель ни-
Глава 46
155
щих и сшиватель тряпок»9, из чего можно заключить, что Еврипид вернее
изображал жизнь своих современников, чем Эсхил. Однако поскольку правдивое
изображение современной автору жизни10 — как раз то самое качество, которое
пробуждает наиболее постоянный интерес к любому художественному
произведению, литературному или живописному, то вполне естественно, что до нас
дошли всего семь пьес Эсхила и столько же творений Софокла, а из трагедий
Еврипида уцелело не менее девятнадцати.
Но не будем, однако, отвлекаться от вопроса о том, действительно ли
Аристофан любил Эсхила или только притворялся, что любит. Нужно помнить, что
причисление Эсхила, Софокла и Еврипида к разряду великих трагиков
сделалось столь же неоспоримым фактом, как называние Данте, Петрарки11, Тассо12
и Ариосто13 величайшими итальянскими поэтами, которых итальянцы чтут и
в наши дни. Если мы вообразим себе какого-нибудь остроумного, веселого
автора, скажем, во Флоренции, который обнаружил, что все названные мною
поэты вызывают у него скуку, мы можем не сомневаться, что он не пожелал
бы признать, что не любит всех их, без исключения. Он предпочел бы думать,
что можно найти кое-что достойное внимания хотя бы у Данте, которого ему
легче было бы идеализировать по причине большей отдаленности того во
времени; чтобы и дальше выносить этих своих соотечественников, он без устали
искал бы у них достоинства, которых нет. Без такого смягчающего
обстоятельства, как восхищение по меньшей мере одним из трагиков, Аристофану было
бы почти столь же опасно нападать на них, как англичанину в наше время
сказать, что он не очень высокого мнения о драматургах елизаветинской
эпохи14. Однако кто из нас в глубине души любит кого-либо из драматургов-ели-
заветинцев, за исключением Шекспира? Являются ли они в действительности
чем-нибудь иным, кроме как литературными струльдбругами?15
В целом я прихожу к выводу, что Аристофан не любил ни одного из
трагиков; ведь никто не станет отрицать, что этот острый, умный, честный автор
являлся достаточно хорошим судьей литературных талантов и способен был
видеть все достоинства той или иной трагедии так же, как, по крайней мере,
девять десятых из нас. Он имел и еще одно преимущество: в полной мере
понимал точку зрения, с которой, как трагики ожидали, будет оценена их
работа. И каково же было его заключение? Коротко говоря, оно сводилось к тому,
что они обманщики или что-то вроде того. Я, со своей стороны, от всей души
соглашаюсь с ним. Позволю себе открыто признать, что, не считая, пожалуй,
некоторых псалмов Давида16, я не знаю других сочинений, которые, похоже, так
мало заслуживают своей славы. Не могу сказать, чтобы я особенно возражал
против того, чтобы мои сестры читали их, но сам не имею ни малейшего
желания их когда-либо перечитывать.
Замечание относительно псалмов было ужасно, и Эрнесту пришлось
выдержать решительную схватку с редактором по поводу того, допустимо ли оставить
его в тексте. Сам Эрнест не решился бы на такое замечание, но он однажды
слышал, как кто-то говорил, что многие из псалмов очень слабы, и,
присмотревшись к ним повнимательнее после этого, пришел к выводу, что двух мнений
156
Путь всякой плоти
относительно данного предмета быть не может. Так что он подхватил это
замечание и подал его как свое собственное, сделав вывод, что те псалмы, вероятно,
вообще были написаны не Давидом, а лишь ошибочно приписьшаются ему.
Очерк (возможно, из-за пассажа насчет псалмов) стал настоящей
сенсацией и в целом был хорошо принят. Друзья хвалили очерк больше, чем он того
заслуживал, и сам автор очень гордился своим творением, но не осмелился
показать его в Бэттерсби. Он знал также, что этим очерком исчерпал все свои
возможности, весь запас идей (я просто уверен, что больше половины их он
заимствовал у других людей), и теперь ему больше не о чем писать. Он оказался
обреченным на кратковременную славу, которая казалась ему намного больше,
чем была в действительности, и осознавал, что не сможет сохранить ее
надолго. Прошло не так уж много времени, прежде чем он осознал, что злополучный
очерк был для него тем белым слоном17, которого он должен кормить,
спешно предпринимая отчаянные попытки удержать свой триумф, и, как нетрудно
представить, эти попытки оказались неудачны.
Он не понимал, что, если бы ждал, слушал и наблюдал, то, вероятно, в один
прекрасный день еще какая-нибудь идея пришла бы ему на ум, и что работа над
ней в свою очередь породила бы новые идеи. Он еще не знал, что самый
худший путь обретения идей состоит в том, чтобы специально гоняться за ними.
Они приходят, когда работаешь над чем-то, что любишь, и отмечаешь все, что
так или иначе связано с этим предметом, будь то во время занятий или
отдыха, в маленькой записной книжке, которая всегда хранится в кармане жилета.
Теперь-то Эрнест осознал все это, но потребовалось немало времени, чтобы
уяснить эти вещи, ибо их не преподают в школах и университетах.
К тому же он не знал еще, что идеи, точно так же как живые существа, в
чьих умах они возникают, должны происходить от родителей, не очень
отличающихся от них самих, причем самые оригинальные лишь немногим
разнятся с родителями, давшими им жизнь. Жизнь подобна фуге: все должно
вырастать из определенной темы, и не должно появляться ничего нового. Эрнест не
понимал, как трудно определить, где кончается одна идея и начинается другая,
и насколько эта трудность сравнима с трудностью определения того, где
начинается или заканчивается жизнь, или действие, или вообще что-либо, ибо,
несмотря на бесконечное множество, существует некое единство и, несмотря на
единство, некое бесконечное множество. Он думал, что идеи попадают в головы
умных людей путем своего рода произвольного самозарождения, не требуя
вынашивания в мыслях других людей или процесса взращивания. Дело в том,
что он все еще верил в гений, которого, по его убеждению, сам был лишен и
который представлялся ему возвышенным безумием.
Незадолго до этого события Эрнест достиг совершеннолетия, и Теобальд
вручил ему его деньги, составлявшие теперь сумму в пять тысяч фунтов; они
были вложены так, чтобы приносить пять процентов годовых, и давали ему,
таким образом, двести пятьдесят фунтов годового дохода. Он, однако, не
осознавал еще того факта (это всецело было за пределами его опыта), что
становится совершенно независимым от своего отца; да и Теобальд ничуть не
изменил своей манеры обращения с ним. Столь сильны были узы, которыми при-
Глава 47
157
вычка и общение связали отца и сына, что первый считал себя по-прежнему
вправе диктовать свою волю, а другой полагал себя по-прежнему не вправе ей
противиться.
В свой последний год в Кембридже Эрнест заставлял себя слишком много
работать как раз из-за этого слепого почтения к желаниям своего отца, ибо не
было иной причины не ограничиться дипломом без отличия, за исключением
того, что отец придавал особое значение получению им диплома с отличием.
Он настолько ослаб, что было сомнительно, удастся ли ему вообще заняться
своим дипломом; но сумел справиться с недомоганием, и, когда список
экзаменующихся был объявлен, выяснилось, что Эрнест занял в нем более высокое
место, чем сам он или кто-либо другой мог ожидать: он оказался в тройке или
четверке лучших студентов и несколько недель спустя получил диплом с
отличием по древним языкам. Как ни был он обессилен, когда добрался домой,
Теобальд заставил его пересказать все экзаменационные задания и
фактически повторить во всех подробностях представленные им ответы на них. Так мало
Эрнест способен был сопротивляться и столь глубоко укоренилась в нем
привычка, что, уже находясь дома, он по нескольку часов в день тратил на
классические и математические штудии, как будто еще не получил диплома.
Глава 47
Эрнест возвратился в Кембридж в ходе весеннего семестра в мае 1858 года для
подготовки к посвящению в духовный сан, к которому оказался теперь намного
ближе, чем ему хотелось бы. До этого времени, хотя и не будучи истово
верующим, он никогда не сомневался в истинности того, что ему говорили о
христианстве. Он никогда не встречал никого, кто бы сомневался в этом, и не
читал ничего, что могло бы заронить в его голову подозрение касательно
исторического характера чудес, о которых говорилось в Ветхом и Новом Заветах.
Нужно помнить1, что 1858 год был последним годом того периода, в
течение которого мир в Англиканской церкви еще оставался нерушимым. Между
1844 годом, когда появились «Следы творения»2, и 1859-м, когда «Опыты и
обозрения»3 ознаменовали начало бури, которая бушевала затем многие годы,
в Англии не было издано ни одной книги, которая вызвала бы серьезное
волнение в лоне Церкви. Пожалуй, «История цивилизации»4 Бокля и «Свобода»
Милля5 внушали наибольшую тревогу, но ни та, ни другая не достигли
широких кругов читающей публики, и Эрнест, как и его друзья, не знал о самом их
существовании. Евангелическое движение, к обсуждению которого я еще
вернусь, стало едва ли не предметом древней истории. Трактарианизм6 после
недолгого взлета пошел на убыль; он еще подавал признаки жизни, но не
слишком энергичные. «Следы творения» оказались забыты еще до того, как Эрнест
поступил в Кембридж; страх перед возможностью католической агрессии7
исчез; ритуализм8 был еще не известен широкой провинциальной публике; Гор-
хемовская9 и Хэмпденская контроверзы10 уже несколько лет как утихли, а
диссентеры не получили широкого распространения. Внимание публики цели-
158
Путь всякой плоти
ком поглощала Крымская война11, а затем восстание в Индии12 и
франко-австрийская война13. Эти крупные события отвлекали умы от умозрительных
предметов, и у веры не было врага, который мог возбуждать хотя бы слабый
интерес. Пожалуй, ни в какое время с начала столетия рядовой наблюдатель не мог
бы обнаружить меньше признаков приближения смуты, чем в тот момент, о
котором я теперь пишу.
Вряд ли нужно говорить, что спокойствие было только внешним. Люди
более опытные, чем студенты-старшекурсники, видели, должно быть, что волна
скептицизма, которая уже прокатилась по Германии14, подступала и к нашим
берегам, и уже недалек был тот день, когда она должна была обрушиться на
них. Незадолго до того, как Эрнесту предстояло принять посвящение в
духовный сан, одна за другой появились три работы, приковавшие к себе внимание
даже тех, кто менее всего интересовался теологическими спорами. Я имею в
виду «Опыты и обозрения», «Происхождение видов» Чарлза Дарвина15 и
«Критический разбор Пятикнижия» епископа Коленсо16.
Однако после этого отступления я должен вернуться к одному из духовных
движений, которое еще подавало признаки жизни в то время, когда Эрнест был
в Кембридже, то есть к остаткам евангелического пробуждения, начавшегося
пару поколений назад и связанного с именем Симеона17.
Во времена Эрнеста сохранилось еще довольно много симеонитов, или «си-
мов», как их для краткости называли. В каждом колледже имелось несколько
своих «симов», а штаб у них располагался в Кизе18, куда их влекла личность
мистера Клейтона19, который был в то время старшим наставником и
стипендиатом колледжа Святого Иоанна20.
Позади тогдашней часовни этого колледжа находился так называемый
«лабиринт»: ветхое здание, убогие комнатенки в котором занимали в основном
беднейшие студенты-старшекурсники, живущие за счет стипендий,
предоставленных для подготовки диплома. Многим даже в колледже Святого Иоанна было
неизвестно о существовании и местонахождении «лабиринта», в котором жили
главным образом стипендиаты; во времена Эрнеста некоторые студенты,
занимавшие комнаты в первом дворе, никогда даже шагу не сделали в тот
запутанный проход, который вел к «лабиринту».
В «лабиринте» проживали люди всех возрастов, от юношей до седовласых
стариков, которые поздно вступили в жизнь. Их редко можно было видеть в
иных местах, кроме столовой, часовни или лекционного зала, где их манера
есть, молиться и учиться вызывала неприязнь. Никто не знал, откуда они
прибыли, куда уехали или что делали, поскольку они никогда не показывались там,
где другие играли в крикет или занимались лодочным спортом; обитатели
«лабиринта» были людьми хмурыми, выглядели плохо и так же мало могли
гордиться своей одеждой и манерами, как и внешностью.
Эрнест и его друзья привыкли считать, что проявляют чудеса экономии,
обходясь такими малыми суммами, но даже половину того, что они тратили,
большинство в «лабиринте» сочло бы огромным богатством, а столь
несомненная домашняя тирания, какую терпел Эрнест, была пустяком в сравнении с тем,
что приходилось выносить стипендиатам колледжа Святого Иоанна.
Глава 47
159
После первого же экзамена выяснилось, что некоторые из них способны
стать украшением колледжа; они получили значительные стипендии, которые
позволили им жить с некоторым комфортом, и стали общаться с самыми
прилежными из тех, кто стоял выше на общественной лестнице, но даже таким
преуспевшим, за немногим исключением, предстояло пройти долгий путь
избавления от неотесанности, с которой они явились в университет, и тем не менее
их происхождение легко было распознать, прежде чем они становились
преподавателями и наставниками. Я знавал некоторых из этих людей, достигших
высокого положения в мире политики или науки, и все же сохранялось в них
нечто, напоминающее о «лабиринте» и стипендии колледжа Святого Иоанна.
Итак, не располагающие к себе ни внешним видом, ни манерами,
неопрятные и неописуемо скверно одетые, эти бедолаги держались обособленной
группкой, мысли и образ жизни членов которой не были похожи на мысли и образ
жизни Эрнеста и его друзей; именно в той среде в основном и процветало си-
меонитство.
Большинству из них предстояло стать служителями Церкви (в те дни
редко можно было услышать выражение «духовный сан»). Симеониты вели
воздержанный образ жизни, чтобы получить полное право на пастырство, и готовы
были годами отказывать себе во всем, чтобы подготовиться к служению при
помощи необходимых теологических курсов. Для большинства из них
вступление в ряды духовенства открывало доступ к таким общественным кругам, от
которых теперь их отделяли непреодолимые барьеры, поэтому мечта о
посвящении возбуждала честолюбие симеонитов, сделавшись средоточием всех
помыслов, тогда как Эрнесту посвящение представлялось чем-то, что должно
когда-нибудь произойти, но о чем, как о смерти, пока еще, на его взгляд, не
было нужды беспокоиться.
Чтобы основательнее подготовиться к рукоположению, бедные студенты
собирались в комнате то у одного, то у другого из них для чаепитий, молитв и
духовных упражнений. Имея в качестве руководителей нескольких известных
наставников, они вели занятия с учениками в воскресных школах и постоянно,
к месту и не к месту, делились своими духовными воззрениями с каждым, кого
могли убедить их выслушать.
Но души более состоятельных студентов не были благодатной почвой для
тех семян, какие бедняки пытались сеять. Благочестивые выражения,
которыми симеониты уснащали свою речь, если им доводилось вступить с беседу с
теми, кого они считали людьми суетными, вызывали в душах тех, к кому были
обращены, лишь отвращение. Религиозные брошюры, которые опускались по
ночам в почтовые ящики добропорядочных людей, пока те спали, предавались
сожжению или подвергались еще худшему обращению. К самим
распространителям нового учения также относились насмешливо, и они воспринимали это
с горделивой мыслью, что во все времена такова была участь истинных
последователей Христа. Часто во время их молитвенных сходок звучал фрагмент из
Послания апостола Павла, в котором он велит коринфянам помнить, что те в
большинстве своем не являются образованными людьми благородного
происхождения21. Симеониты с гордостью думали о том, что в этом отношении им
160
Путь всякой плоти
тоже нечем гордиться, и подобно святому Павлу хвалились тем, что по плоти
им особенно нечем хвалиться.
У Эрнеста было несколько друзей в колледже Святого Иоанна, и потому он
слышал о симеонитах и видел нескольких, на которых ему указали, когда те
проходили по одному из университетских двориков. Они вызвали у него
отвращение, но его вдруг потянуло к ним; он почувствовал к ним антипатию, но не
мог заставить себя забыть о них. Как-то он даже написал пародию на одну из
брошюрок22, рассылаемых ими по ночам, и опустил по экземпляру своего
творения в почтовые ящики каждого из ведущих симеонитов. Предметом,
который он выбрал, была «индивидуальная чистоплотность». Чистоплотность,
писал он, сродни благочестию; он желал бы знать, насколько она близка
благочестию, и заключал призывом к симеонитам почаще пользоваться лоханью для
мытья. Я не могу похвалить юмор моего героя в этом деле: его памфлет не был
шедевром; но я упоминаю об этом факте, чтобы показать, что в то время он вел
себя на манер Савла и получал удовольствие от преследования божьих
избранников23, не потому, как я уже говорил, что имел какую-либо склонность к
скептицизму, а потому, что подобно фермерам в приходе своего отца, хотя и
не потерпел бы легкомысленного отношения к христианству, однако не
собирался принимать его всерьез. Друзья Эрнеста считали, что его неприязнь к
симеонитам является следствием того, что он сын священника, причем такого,
который, как было известно, изводил его. Однако более вероятно, что
неприязнь проистекала из бессознательной симпатии к тем людям, и симпатия эта,
как в случае со святым Павлом, в конце концов вовлекла юношу в ряды тех,
кого он больше всего презирал и ненавидел.
Глава 48
Однажды, когда он находился дома после получения диплома, мать по
поручению Теобальда, который сам избегал говорить на эту тему, провела с ним
короткую беседу о предстоящем ему рукоположении. На сей раз беседа
состоялась во время прогулки по саду, а не на диване, который предназначался для
самых важных случаев.
— Ты знаешь, мой любимый мальчик, — сказала Кристина сыну, — что папа
(она всегда называла Теобальда «папой», говоря с Эрнестом) так беспокоится
о том, чтобы ты вступил в лоно Церкви не вслепую, а с полным пониманием
трудностей, связанных с положением священника. Он сам обдумал все эти
трудности и убедился, как они малы, когда их встречают смело, но желает,
чтобы ты также знал о них как можно больше, перед тем как дать нерушимые
клятвы, чтобы тебе никогда, никогда не пришлось сожалеть о шаге, который
ты предпримешь.
Эрнест в первый раз услышал о том, что существуют некие трудности, и,
понятное дело, рассеянно поинтересовался, каковы они.
— Это, мой милый мальчик, — ответила Кристина, — вопрос, на который ни
опыт, ни образование не позволяют мне дать ответ. Не исключено, что я неча-
Глава 48
161
янно могу посеять сомнения в твоей душе, которые затем не сумею развеять.
О нет! Таких вопросов женщинам, да и мужчинам, как мне думается, лучше
избегать; но папа хотел, чтобы я поговорила с тобой на эту тему, дабы
впоследствии не случилось никакой ошибки, и я сделала это. Следовательно, теперь ты
знаешь все.
На том обсуждение данной темы закончилось, и Эрнест подумал, что и
впрямь знает все, что следует знать об этом предмете. Мать не сказала бы ему,
что теперь он знает все — по крайней мере о предмете такого рода, — если бы
в действительности ему следовало знать что-то еще. Итак, тема не получила
продолжения: ему стало известно, что существуют некие трудности, и раз его
отец, который был, во всяком случае, человеком глубоко сведущим и ученым,
похоже, счел, что этого вполне достаточно, то Эрнесту нет нужды больше
беспокоиться о них. Беседа оказала на него такое незначительное воздействие, что
должно было пройти немало времени, прежде чем он, вспомнив ее, понял,
какой ловкий трюк учинили по отношению к нему. Теобальд и Кристина,
однако, были удовлетворены тем, что исполнили свой долг, открыв сыну глаза на
то, что положение священника неминуемо должно быть связано с
определенными трудностями. Этого было достаточно; их радовало то, что, хотя они так
полно и честно рассказали Эрнесту о предстоящих трудностях, он не счел их
серьезными. Не зря же родители молились так много лет о том, чтобы
сделаться «истинно честными и добросовестными».
— А теперь, мой дорогой, — сказала Кристина, покончив с обсуждением всех
тех трудностей, которые могли стоять на пути Эрнеста к получению сана
священника, — есть еще одно дело, о котором я бы хотела с тобой поговорить. Это
касается твоей сестры Шарлотты. Ты же знаешь, как она умна и какой
хорошей, доброй сестрой она была и всегда будет для тебя и Джо. Мне бы хотелось,
мой милый Эрнест, чтобы у нее было больше возможностей найти
подходящего мужа, чем в Бэттерсби, и я порой думаю, что ты мог бы сделать больше, чем
делал до сих пор, чтобы помочь ей.
Эрнеста привела в раздражение эта просьба, с которой к нему так часто
обращались, но он ничего не сказал.
— Знаешь, мой дорогой, брат может сделать так много для своей сестры,
если как следует постарается. Мать же может сделать очень мало, да вряд ли
матери и пристало подыскивать молодых людей. Это дело брата — найти для
своей сестры подходящего супруга. Все, что я могу, — лишь попытаться сделать
Бэттерсби как можно привлекательнее для тех из твоих друзей, которых ты
решишь пригласить. И думаю, что до сих пор, — добавила она, слегка вскинув
голову, — мне это вполне удавалось.
Эрнест сказал, что в разное время он уже приглашал некоторых из своих
друзей.
— Да, мой дорогой, но ты должен признать, что ни один из них не
принадлежал к тому типу молодых людей, которых Шарлотта могла бы полюбить.
Должна признаться, я была несколько разочарована тем, что ты выбрал их себе
в близкие друзья.
Эрнест снова поморщился.
162
Путь всякой плоти
— Ты никогда не приглашал Фиггинса, пока учился в Рафборо. Теперь же
я склонна думать, что Фиггинс был как раз тем мальчиком, которого ты мог
бы пригласить к нам в гости.
Речь о Фиггинсе заводилась уже бессчетное количество раз. Эрнест едва
знал его, к тому же Фиггинс окончил школу намного раньше Эрнеста, будучи
почти на три года старше. Кроме того, он не вызывал симпатии и во многих
отношениях был неприятен Эрнесту.
— А этот Таунли1, — продолжала мать, — я слышала, как ты говорил, что он
занимается вместе с тобой греблей в Кембридже. Я бы хотела, мой дорогой,
чтобы ты поближе познакомился с Таунли и попросил его нанести нам визит.
Судя по имени, он из аристократической семьи, и, мне думается, я слышала,
как ты говорил, что он — старший сын.
Эрнест вспыхнул при упоминании имени Таунли.
Коротко говоря, в отношении друзей Эрнеста происходило следующее.
Мать хотела знать имена мальчиков и особенно тех, с кем ее сын состоял в
дружбе. Чем больше она слышала, тем больше хотела знать; ее нельзя было
насытить до предела; она походила на голодного кукушонка, кормить которого
досталось трясогузке: жадно глотала все, что Эрнест мог ей принести, и при
этом оставалась столь же голодной, как и прежде. Причем она всегда
обращалась за пищей к Эрнесту, а не к Джо, ибо Джо был или более глуп, или более
скрытен, — во всяком случае, из них двоих она могла намного больше выведать
у Эрнеста, чем у его брата.
Время от времени какой-нибудь мальчик и в самом деле становился ее
добычей, будучи схвачен и доставлен в Бэттерсби в качестве гостя или же
согласившись встретиться с ней, когда она появлялась в Рафборо. Кристина, как
правило, старалась вести себя любезно или почти любезно в присутствии мальчика, но,
как только опять оставалась наедине с Эрнестом, меняла свой тон. В какую бы
форму она ни облекала свою критику, та всегда в конечном счете сводилась к
тому, что его друг нехорош, что сам Эрнест не намного лучше и что он должен
доставить ей кого-то другого, поскольку этот мальчик вообще не годится.
Чем в более дружеских отношениях с Эрнестом был или считалось, что
был, тот или иной мальчик, тем вернее его объявляли дурным, пока в конце
концов Эрнесту не пришла в голову идея говорить о всяком мальчике, который
ему особенно нравился, что тот не входит в число его закадычных друзей и что
он даже едва понимает, почему пригласил его; но он обнаружил, что лишь
натолкнулся на Сциллу в попытке избежать Харибды2, ибо теперь, хотя
мальчика объявляли более достойным, зато самого Эрнеста — дурным, ибо он
якобы не сумел оценить гостя по достоинству.
Если Кристина однажды узнавала какое-то имя, то уже никогда не
забывала его. «А как такой-то?» — обычно осведомлялась она, упоминая того или иного
прежнего приятеля Эрнеста, с которым он теперь был в ссоре или который, как
давно выяснилось, вообще оказался просто кометой, а не постоянной звездой.
Как Эрнесту было жаль, что он когда-то упомянул имя «такого-то», и он клялся
себе, что никогда больше не будет говорить о своих друзьях, но спустя несколь-
Глава 48
163
ко часов забывал об этом и неблагоразумно проговаривался, как и прежде —
тогда мать набрасывалась на его замечания так же внезапно, как сова
набрасывается на мышь, и затем в течение шести месяцев они служили ей мишенью,
даже когда более не соответствовали действительности.
А ведь существовал еще и Теобальд. Если какой-либо мальчик или товарищ
Эрнеста по колледжу гостил в Бэттерсби, Теобальд поначалу старался быть
любезным. Он умел делать это достаточно хорошо, когда хотел, а в отношении
внешнего мира он, как правило, хотел этого. Священники из окрестных
приходов, да и все соседи с каждым годом все более уважали его, и у Эрнеста было
достаточно причин сожалеть о своем неблагоразумии, если он осмеливался
намекнуть, что имеет какие-либо, пусть и небольшие, основания жаловаться на
отца. Теобальд же выработал такой метод: «Итак, я знаю: Эрнест сказал
этому мальчику, что я человек неприятный, а я покажу ему, что вовсе не
неприятный, а как раз таки славный старикан, весельчак и вообще настоящий
молодчина, а вот Эрнест заблуждается».
Так что поначалу Теобальд вел себя по отношению к гостю очень любезно,
и мальчик восхищался им и вставал на его сторону, а не на сторону Эрнеста.
Конечно, раз Эрнест пригласил мальчика погостить в Бэттерсби, то хотел, чтобы
тот получил удовольствие от своего визита, и поэтому был доволен, что
Теобальд ведет себя так мило; но в то же время Эрнест так сильно нуждался в
моральной поддержке, что ему было больно видеть, как один из его близких
друзей переходит в стан врага: ибо независимо от того, насколько хорошо мы
можем знать какую-либо вещь, — например, насколько ясно видим, что пятно
имеет красный цвет, — нас потрясает и поражает, когда мы обнаруживаем, что
другой определенно считает его зеленым или почти склоняется к этому
убеждению.
К концу визита Теобальд обычно начинал проявлять уже некоторое
раздражение, но образ, который гость увозил с собой, создавался впечатлением,
успевшим сформироваться вначале. Отец никогда не обсуждал с Эрнестом никого
из мальчиков. Это делала только мать. Теобальд позволял, чтобы друзья сына
приезжали, потому что на этом упорно настаивала Кристина. Когда же они
приезжали, он вел себя, как я уже говорил, вежливо, но не любил этих
визитов, в то время как Кристина их обожала. Она готова была пригласить в
Бэттерсби пол-Рафборо и пол-Кембриджа, если бы это оказалось в ее силах и не
стоило так много денег: она любила принимать гостей, чтобы заводить новые
знакомства, но при этом, как только гости наскучивали ей, Кристине нравилось
разнести их в пух и прах и швырнуть ошметки Эрнесту.
Хуже всего было то, что она часто оказывалась права. Мальчики и молодые
люди сильны в своих чувствах, но редко отличаются постоянством. Пока не
станут старше, они в действительности не знают, какой друг им нужен;
благодаря первым попыткам дружбы молодые люди лишь учатся разбираться, кто
есть кто. Эрнест не был исключением из общего правила. Его лебеди один за
другим оказывались зачастую гусями даже по его собственной оценке, и он чуть
ли не начинал думать, что мать, пожалуй, лучше него умеет постигать харак-
164
Путь всякой плоти
теры людей. Однако я почти не сомневаюсь в том, что, приведи Эрнест ей
настоящего молодого лебедя, она объявила бы, что это самый уродливый и
безобразный гусь из всех, каких она когда-либо видела.
Сначала он не подозревал, что его друзья требовались в связи с планами
насчет Шарлотты; предполагалось, что Шарлотта и кто-либо из гостей могли бы
увлечься друг другом — как это было бы замечательно! Однако, осознав, что
имеет место некий продуманный план, Эрнест утратил желание приглашать
своих друзей в Бэттерсби. Его глупой юной душе казалось почти подлостью
звать друга в гости, когда в действительности за приглашением скрывается
просьба: «Пожалуйста, женись на моей сестре». Это было равносильно
попытке получить деньги обманным путем. Если бы Эрнест любил Шарлотту, тогда
другое дело, но он считал ее одной из самых противных девушек, каких знал.
Считалось, что она очень способна. Все юные девушки бывают или очень
хорошенькими, или очень способными, или очень добрыми; можно выбирать,
к какой категории их отнести, но непременно хотя бы к одной из трех. Было
безнадежно пытаться зачислить Шарлотту в категорию хорошеньких или
добрых, так что ей оставалась единственная альтернатива — считаться способной.
Эрнест никогда не мог взять в толк, в какой именно области обнаруживался ее
талант, поскольку она не умела ни играть на музыкальных инструментах, ни
петь, ни рисовать, но женщины столь ловки, что его матери и Шарлотте на
самом деле удалось убедить его, что она, Шарлотта, более какого-либо
другого члена семейства наделена чертами, близкими к истинной гениальности.
Однако ни один из друзей, для заманивания которых манипулировали
Эрнестом, не обнаружил ни малейших признаков того, что великие способности
Шарлотты произвели на него такое большое впечатление, что он желает
заполучить их в свое распоряжение, и это, возможно, в известной степени
объясняло, почему Кристина столь быстро и бесповоротно отклоняла гостей одного за
другим и требовала новых.
И вот теперь она захотела Таунли. Эрнест предвидел это и пытался
избежать, поскольку знал всю невозможность пригласить Таунли, даже если бы и
захотел.
Таунли принадлежал к кругу самых избранных в Кембридже и
пользовался, пожалуй, наибольшей известностью среди всех старшекурсников. Он был
высокого роста и очень красив — Эрнесту он казался самым красивым
человеком, которого он когда-либо видел или мог увидеть, ибо казалось невозможным
вообразить более живое и приятное лицо. Таунли проявил себя в крикете и
гребле, был очень добродушен, совершенно лишен тщеславия, не слишком
умен, но очень благоразумен, и, наконец, следует сказать, что в возрасте
всего двух лет он потерял отца с матерью, которые утонули, когда их лодка
перевернулась, и к нему, как к единственному ребенку, перешло по наследству одно
из самых прекрасных поместий на юге Англии. Фортуна время от времени
оказывается щедра к какому-либо человеку во всем; Таунли был одним из тех, к
кому она проявила благосклонность, и, по всеобщему признанию, на сей раз это
был правильный выбор.
Глава 49
165
Эрнест знал Таунли, как и все в университете (за исключением, конечно,
преподавателей), поскольку тот был человеком известным; будучи юношей
впечатлительным, он полюбил Таунли даже сильнее, чем большинство, но в то
же время ему никогда не приходило в голову свести с ним знакомство.
Эрнесту нравилось смотреть на него, если представлялся случай, и он очень
стыдился этого, но тем дело и ограничивалось.
Однако по странной случайности, когда Эрнест был на последнем курсе,
после объявления результатов жеребьевки перед гонками четверок он оказался
рулевым команды, в которую попал не кто иной, как его главный герой
Таунли; трое других были простыми смертными, но довольно умелыми гребцами,
и команда в целом составилась вполне неплохая.
Эрнеста охватил жуткий страх, но, встретившись с Таунли, он увидел, что
тот так же замечателен полнейшим отсутствием чего-либо, похожего на
чванство, и способностью сразу позволить людям почувствовать себя с ним
непринужденно, как и своими незаурядными внешними данными. Единственное
различие, какое он обнаружил между Таунли и другими людьми, состояло в том,
что с ним было гораздо легче поладить. И, разумеется, Эрнест все более и
более боготворил его.
С окончанием гонок четверок закончилось и общение между двумя
юношами, но теперь Таунли при встрече с Эрнестом всегда приветствовал его кивком
и парой благожелательных слов. В какой-то злополучный момент он упомянул
имя Таунли в Бэттерсби, и каков же вышел результат? Теперь мать терзала
Эрнеста требованием пригласить Таунли в Бэттерсби и предложить ему
жениться на Шарлотте. Да ведь если бы Эрнест счел, что существует хоть самый
отдаленный шанс женитьбы Таунли на Шарлотте, то упал бы перед ним на
колени, рассказал ему, как отвратительна эта особа, и умолял бы его
спасаться, пока еще есть время.
Но Эрнест не молился о том, чтобы сделаться «истинно честным и
добросовестным», столько лет, сколько молилась Кристина. Он попытался как можно лучше
скрыть, что чувствовал и думал, и перевел беседу на тему трудностей, которые
священник может считать препятствиями на пути к рукоположению, — не
потому, что у него имелись какие-либо предчувствия, а просто чтобы переменить тему.
Мать, однако, считала, что с этим она все уладила, и он не добился от нее
ничего нового. Вскоре он нашел средство сбежать и не замедлил им воспользоваться.
Глава 49
По возвращении в Кембридж в мае 1858 года Эрнест вместе с несколькими
друзьями, также намеревавшимися принять посвящение, пришел к выводу, что
они должны теперь серьезнее относиться к своему положению. Вот почему они
посещали часовню чаще, чем прежде, и устраивали носившие довольно
таинственный характер вечерние встречи, во время которых штудировали Новый
Завет. Они даже принялись заучивать Послания апостола Павла в греческом
166
Путь всякой плоти
оригинале; зубрили толкования Бевериджа к Тридцати девяти догматам1 и
толкования Пирсона к Символу Веры;2 а в часы досуга читали «Таинство
благочестия» Мора3, которое Эрнест счел прелестным, и «Святую жизнь и смерть»
Тейлора4, которая также произвела на него глубокое впечатление благодаря
тому, что он счел блестящим стилем. Они вверились руководству
комментариев декана Элфорда5 к греческому тексту Нового Завета; это заставило
Эрнеста лучше понять, что подразумевалось под «трудностями», но также и побудило
уразуметь, насколько поверхностны и слабы выводы, к которым пришли
немецкие богословы, с чьими работами, будучи не обременен знанием немецкого
языка, он не имел иного случая ознакомиться. Некоторые из приятелей, с
которыми он занимался, были из колледжа Святого Иоанна, и встречи часто
проходили в стенах этого колледжа.
Я не знаю, как вести о тех тайных собраниях дошли до симеонитов, но они,
должно быть, каким-то образом прознали о них, поскольку не так уж много
недель прошло со времени начала этих собраний, а каждому из молодых людей,
участвовавших в них, уже было послано письмо, уведомлявшее, что
преподобный Гидеон Хок, известный лондонский евангелический проповедник, о чьих
проповедях тогда много говорили, собирается посетить своего юного друга Бэд-
кока в колледже Святого Иоанна и будет рад сказать несколько слов всем, кто,
возможно, желает услышать их, в комнате Бэдкока в назначенный вечер в мае.
Бэдкок принадлежал к числу наиболее печально известных симеонитов.
Мало того, что он был уродлив, грязен, плохо одет, самоуверен и неприятен во
всех прочих отношениях, так еще оказался и калекой и ковылял при ходьбе
так, что получил прозвище, которое я могу лишь передать словами «тут моя
спина и там моя спина», потому что нижние части его спины выпирали так
демонстративно, как будто собирались при каждом его шаге разлететься в
разные стороны подобно двум крайним нотам в аккорде развернутой сексты.
Следовательно, можно догадаться, что письмо, вследствие вызванного им
удивления, на мгновение оказало почти парализующее воздействие на тех, кому
было адресовано. Неожиданность, конечно, оказалась велика, но подобно
многим калекам Бэдкок отличался нахальством и не знал удержу; он был
напористым малым, которому представилась возможность перенести войну на
территорию врага.
Эрнест с друзьями посовещались. Решив, что поскольку они теперь
готовятся стать священниками, то не должны столь высокомерно, как прежде,
относиться к вопросу о социальном положении, а также, возможно, из желания
всесторонне в приватной обстановке изучить проповедника, чье имя было тогда
у всех на устах, они приняли приглашение. Когда пришло назначенное время,
они в некотором замешательстве и даже с чувством самоуничижения
отправились в комнату того человека, на которого до сих пор смотрели сверху вниз,
словно с неизмеримой высоты, и ничто не могло бы заставить их несколькими
неделями ранее поверить, что они могут когда-либо завести с ним разговор.
Мистер Хок выглядел совершенно иначе, чем Бэдкок. Проповедник был
или, вернее, был бы замечательно красив, если бы не тонкие губы и слишком
твердый и жесткий взгляд. Обликом он во многом походил на Леонардо да
Глава 49
167
Винчи; кроме того, вид у него был ухоженный, он лучился здоровьем и имел
румяное лицо. Он проявлял чрезвычайную учтивость и выказывал большое
внимание к Бэдкоку, которого, по-видимому, высоко ценил. В общем, наши
юные друзья были ошеломлены и испытали желание принизить себя и
возвысить Бэдкока — больше, чем допускал еще живший в них ветхий Адам.
Присутствовали несколько известных «симов» из колледжа Святого Иоанна и
других колледжей, но их было недостаточно, чтобы поглотить компанию
Эрнеста, как для краткости я буду называть новичков.
После предварительной беседы, носившей вполне мирный характер, мистер
Хок взялся за дело. Встав у края стола, он сказал: «Давайте помолимся».
Компании Эрнеста это не понравилось, но пришлось смириться, встать на колени
и повторить «Отче наш» и несколько других молитв вслед за господином Хо-
ком, который произнес их удивительно хорошо. Затем, когда все сели, мистер
Хок обратился к ним с импровизированной речью, темой которой были слова
Христа «Савл, Савл, что ты гонишь меня?»6. То ли благодаря манере речи
мистера Хока, которая была впечатляющей, то ли его широкой известности как
человека талантливого, то ли вследствие того факта, что каждый в компании
Эрнеста знал, что в той или иной форме является преследователем «симов», и
все же инстинктивно чувствовал, что при этом «симы» намного более похожи
на ранних христиан, чем они сами, но сказанные проповедником слова,
несмотря на то, что были хорошо знакомы, произвели такое воздействие на совесть
Эрнеста и его друзей, какого не оказывали никогда прежде. Если бы даже
мистер Хок не произнес ничего более, этого все равно оказалось бы почти
достаточно; если бы он вгляделся в обращенные к нему лица и увидел, какое
впечатление произвел, то, возможно, решил бы закончить свою проповедь, так и
не начав ее, но если такая мысль и посетила его, он от нее отказался и
продолжил говорить. Я привожу проповедь целиком, поскольку она типична и может
объяснить настроения, которые через пару поколений будет, наверное,
довольно трудно объяснить.
— Мои юные друзья, — сказал мистер Хок, — я убежден, что ни один из вас
не сомневается в существовании Бога как личности. Если бы такой
сомневающийся нашелся, то именно к нему, конечно, я и должен был бы сначала
обратиться. Если я ошибаюсь, пребывая в уверенности, что все здесь собравшиеся
признают существование Бога, Который присутствует среди нас, хотя мы не
видим Его, и Чей взгляд зрит наши самые тайные мысли, то позвольте мне
попросить сомневающегося побеседовать со мной конфиденциально до того,
как мы расстанемся; тогда я изложу ему соображения, посредством которых
Бог милостиво удостоил открыть Себя мне, насколько человеку возможно
постичь Его, соображения, которые, по моему разумению, приносят мир в души
тех, кто сомневается.
Я полагаю также, здесь нет никого, кто сомневался бы, что тот Бог, по
Чьему образу и подобию мы сотворены, в должное время сжалился над слепотою
человека и принял наш облик, воплотившись, снизойдя и живя среди нас в
образе человека, физически не отличимого от нас. Он, Кто сотворил солнце,
луну и звезды, мир и все, что в нем, снизошел с Небес в личности Своего Сына
168
Путь всякой плоти
с той именно целью, чтобы принять жизнь презираемую и смерть самую
мучительную, самую позорную, какую только сумела измыслить дьявольская
изобретательность человека.
Во время пребывания на земле Он сотворил множество чудес. Он давал
зрение слепым, воскрешал мертвых, насытил тысячи несколькими хлебами и
рыбами, и Его видели идущим по воде, но в конце назначенного Ему времени
Он умер, как было предопределено, на кресте и был погребен несколькими
преданными друзьями. Однако те, кто послал Его на смерть, поставили
бдительную стражу у Его могилы.
Уверен, нет никого в этой комнате, кто сомневается в чем-либо из
вышесказанного, но если таковой есть, то позвольте мне снова просить его побеседовать
со мной частным образом, и я не сомневаюсь, что с благословения Божьего его
сомнения рассеются.
Через день после того, как наш Господь был погребен (могила все еще
бдительно охранялась врагами), был зрим ангел, сошедший с Небес в сияющем
одеянии и с ликом, сверкающим подобно огню. Этот осиянный ангел отвалил
камень от могилы7, и наш Господь вышел из нее, восстав из мертвых.
Мои юные друзья, это не фантастическая повесть вроде сказок об античных
божествах, а факт подлинной истории, столь же несомненный, как тот, что вы
и я теперь находимся здесь, в этой комнате. Если и существует факт самый
непреложный из всех несомненных фактов, так это воскресение Иисуса
Христа; и не менее достоверно, что через несколько недель после того, как Он
восстал из мертвых, наш Господь явился взору многих сотен мужчин и женщин
возносящимся в окружении сонма ангелов в небесную высь pi был зрим, пока
облака не скрыли Его от взора людей8.
Можно сказать, что этим свидетельствам было отказано в истинности, но
что, позвольте мне спросить вас, сталось с усомнившимися? Где они теперь?
Видим ли мы их или слышим ли мы о них? Способны ли они оказались
удержаться на той зыбкой почве, на которой стояли в годы безверия прошлого
столетия?9 Есть ли среди ваших отцов, матерей или друзей хоть кто-то, кто не
видит их насквозь? Есть ли в этом огромном университете хоть один
преподаватель или священник, который, изучив то, что подобные люди имели сказать,
не признал это ничтожным? Встречали ли вы когда-либо хоть одного из них
или случалось ли вам узнать, что какая-нибудь из их книг привлекла
благосклонное внимание тех, кто вправе судить о них? Думаю, что нет, и думаю
также, что вы не хуже меня знаете, почему произошло так, что они снова
погрузились в ту пучину, из которой на какое-то время выплыли: потому что после
самого тщательного и терпеливого изучения наиболее знающими и
здравомыслящими людьми из многих стран аргументы критиков были признаны
настолько несостоятельными, что они сами отказались от них. Они были наголову
разбиты, рассеяны и запросили мира; и более не выдвигались на передний план
ни в одной цивилизованной стране.
Вы знаете все эти факты. Почему тогда я настаиваю на них? Мои дорогие
юные друзья, ваше собственное сознание, наверное, уже подсказало вам ответ;
я делаю это потому, что, хотя, как вам хорошо известно, эти события воисти-
Глава 49
169
ну случились, вы знаете также, что не осознавали их значимости с такой
ясностью, с какой должны были осознать, и не придавали им важного, глубокого
значения.
А теперь позвольте мне продолжить. Вы все знаете, что когда-нибудь нам
предстоит умереть. Или если не умереть — ибо нет недостатка в знамениях,
которые побуждают меня надеяться, что Господь может явиться вновь еще при
жизни некоторых из нас, здесь присутствующих, — то измениться; ибо
раздастся трубный глас, и мертвые воскреснут в нетлении, ибо все тленное станет
нетленным и все смертное — бессмертным, и сбудется сказанное в Писании:
«Поглощена смерть победою»10.
Веруете ли вы, что в назначенный день предстанете перед судом Христа?
Веруете ли вы, что должны будете дать отчет за каждое сказанное вами пустое
слово? Веруете ли, что вам надлежит жить не по воле своей, а по воле Христа,
Который снизошел с небес из любви к вам, Который страдал и умер ради вас,
Который призывает вас к Себе и сокрушается о вас, чтобы остеречь во всякий
день, но Который, если не остережетесь, будет в назначенный день судить вас и
у Которого нет изменения и ни тени перемены?11
Мои дорогие юные друзья, тесны врата и узок путь, ведущий к жизни
вечной12, и немногим дано обрести ее. Немногим, немногим, немногим, ибо тот, кто
не пожертвует всем во имя Христа, не жертвует ничем.
Если вы желаете жить в дружбе с миром13, если вы не готовы пожертвовать
всем, к чему привязаны особенно сильно, буде Господь потребует этого от вас,
тогда, говорю я, сразу же оставьте всякую мысль о Христе. Плюйте в Него,
бейте Его, распинайте Его снова, делайте все, что вам угодно, храня
привязанность к этому миру, пока это еще в вашей власти; удовольствия краткой
жизни не могут стоить того, чтобы расплачиваться за них вечными муками, но ведь
они так важны, покуда им предаются. Если же, напротив, сердце ваше
обращено к Богу и вы в числе тех, для кого Христос умер не напрасно; если, одним
словом, вы придаете ценность вечному блаженству, то пожертвуете
привязанностью к миру сему; для своего спасения вы должны сделать выбор между
Богом и маммоной, ибо невозможно служить им обоим.
Я излагаю вам эти соображения как обычное коммерческое дело, да
простится мне это непритязательное выражение. В этом нет ничего низкого или
недостойного, как некоторые в последнее время утверждали, ибо вся природа
свидетельствует, что ничто так не угодно Богу, как просвещенный взгляд на
наши личные интересы. Не позволяйте никому вводить вас в заблуждение на
сей счет, все сводится к вопросу о факте — случались некоторые вещи или нет?
Если они случались, то не разумно ли предположить, что вы сделаете себя и
других счастливее, следуя той или иной линии поведения?
А теперь позвольте мне спросить вас: какой ответ вы давали на этот вопрос
прежде? Миру или Богу отдавали предпочтение? Если, зная то, что знаете, вы
еще не начали действовать в согласии с полнотой знания, которое есть у вас, то
тот, кто строит свой дом и располагает свое сокровище на краю кратера с
кипящей лавой, — здравомыслящий, разумный человек в сравнении с вами. Я
говорю это не для красного словца и не для того, чтобы запугать вас, но представ-
170
Путь всякой плоти
ляю вам без прикрас и преувеличений правду, которую вы можете оспорить не
более, чем я.
Тут мистер Хок, говоривший до этого с исключительным спокойствием,
изменил манеру речи, придав ей больше пыла, и продолжал:
— О, мои юные друзья, отвратитесь, отвратитесь, отвратитесь сейчас же,
доколе можно говорить «ныне»14, от этого часа, от этой минуты; не медлите
даже, чтобы препоясать чресла ваши;15 ни на мгновение не оглядывайтесь на
то, что оставляете, но спешите на зов Христа, который открыт всем, кто ищет
Его, спешите спастись от ужасного гнева Божьего16, который уготован17 тем, кто
не узнал, что служит к миру их18. Ибо Сын Человеческий грядет яко тать в
нощи19, и ни один из нас не может угадать тот день, в какой его душу могут
потребовать у него. Если есть здесь хоть кто-то, кто принял мои слова, — и он
на мгновение бросил взгляд на своих слушателей, задержав его на компании
Эрнеста, — я буду знать, что недаром слышал призыв Господа, слышал, как мне
думалось, голос в ночи, который велел без промедления отправиться сюда, ибо
есть избранник Божий, который нуждается во мне.
На этом мистер Хок внезапно закончил свою речь. Благодаря его умению
держаться, выразительному лицу и отличной дикции она произвела более
сильное впечатление на слушателей, чем может показаться читателю на основании
ее содержания. Сила этого человека заключалась в большей степени в нем
самом, чем в его словах. Что же касается последней таинственной фразы о том,
что он слышал голос в ночи, то она оказала магическое действие: все
присутствующие потупили взоры, каждый в глубине души наполовину уверовал, что
он и есть тот избранник Божий, ради которого Господь послал мистера Хока
в Кембридж. Даже если это было и не так, все равно каждый из них
почувствовал, что теперь впервые в жизни встретился с человеком, который получил
весть от Всемогущего, и они, таким образом, внезапно во сто крат оказались
ближе к чудесам Нового Завета. Они были поражены, чтобы не сказать
испуганы, и как бы по молчаливому согласию все вместе подошли к мистеру Хоку
поблагодарить его за проповедь, смиренно и почтительно пожелали спокойной
ночи Бэдкоку и остальным симеонитам и покинули комнату. Эрнест и его
друзья не услышали ничего такого, чего не слышали всю жизнь; как же тогда
случилось, что они были так ошеломлены всем этим? Полагаю, произошло это
отчасти потому, что они в последнее время начали обретать более серьезный
образ мыслей и сделались восприимчивы к подобному воздействию, отчасти
потому, что каждому из них представлялось, что проповедь, произнесенная в
комнате, обращена непосредственно к нему, а отчасти благодаря логической
последовательности, отсутствию преувеличений и виду глубокой
убежденности, отличавшим выступление мистера Хока. Его простота и очевидная
серьезность произвели на них впечатление еще до того, как он упомянул о своей
особой миссии, но именно она возымела решающее действие, и слова «не я ли,
Господи?»20 звучали в сердце каждого, когда они в задумчивости шли домой по
залитым лунным светом дворикам и переходам.
Не знаю, что происходило у симеонитов после того, как компания Эрнеста
покинула их, но они бы поднялись над смертными, если бы не испытали силь-
Глава 50
171
нейшего ликования от результатов вечера. Как же, один из друзей Эрнеста был
членом спортивной команды университета, и он посетил комнату Бэдкока и
скромно удалился, пожелав спокойной ночи так же кротко, как каждый из них.
Это было немалое дело — добиться такого успеха.
Глава 50
Эрнест чувствовал, что наступил поворотный момент в его жизни. Он готов
был во имя Христа отказаться от всего, даже от табака.
А потому он собрал все свои трубки и кисеты и запер их в чемодане,
стоявшем под кроватью, где они должны были оставаться вне поля зрения, не
напоминая о себе. Он не сжег их, потому что мог прийти кто-нибудь, кому
захотелось бы покурить, и, хотя сам мог ограничивать свою собственную свободу, все
же, поскольку курение не входило в число грехов, не видел оснований
проявлять суровость к другим людям.
После завтрака он вышел из комнаты, чтобы посетить приятеля по
фамилии Доусон, кто также слушал мистера Хока в предыдущий вечер и кому
предстояло принять посвящение в сан в дни следующего поста, до которого теперь
оставалось всего четыре месяца. Этот малый всегда отличался довольно
серьезным образом мыслей, даже немного излишне серьезным на вкус Эрнеста; но
ситуация изменилась, и несомненная искренность Доусона, казалось, делала его
подходящим советчиком для Эрнеста в настоящее время. Идя к Доусону, во
дворе колледжа Святого Иоанна Эрнест встретил Бэдкока и вполне
почтительно приветствовал его. В ответ на эту предупредительность лицо Бэдкока
озарилось, будто он испытал один из тех пароксизмов экстаза, которые порой
находили на него и которые, если бы Эрнест знал больше, напомнили бы ему
Робеспьера1. Как бы то ни было, Эрнест подсознательно почувствовал
мятежный дух и своекорыстие этого человека, но еще не в состоянии был дать себе
отчет в своих чувствах. Бэдкок был неприятен ему более чем когда-либо, но
поскольку Эрнест теперь видел пользу в духовных благах, к которым тот
направил его путь, то решил быть с ним вежливым и потому был вежлив.
Он узнал от Бэдкока, что мистер Хок возвратился в Лондон сразу же по
окончании своей речи, но перед отъездом особенно живо расспрашивал про
Эрнеста и двух-трех других слушателей. Полагаю, каждому из друзей
Эрнеста дали понять, что они вызвали особенно живой интерес. Такое внимание
польстило тщеславию Эрнеста, ибо он был сыном своей матери; ему снова
явилась мысль, что он, быть может, именно тот, ради чьей пользы был послан
мистер Хок. Что-то к тому же в поведении Бэдкока внушало мысль, что он мог
сказать больше, если бы захотел, но ему велено молчать.
Придя к Доусону, Эрнест застал своего приятеля в состоянии восхищения
речью, услышанной в предыдущий вечер, и едва ли меньше тот радовался
воздействию, которое она произвела на Эрнеста. Он всегда знал, сказал Доусон,
что Эрнест придет к перемене взглядов; он был уверен в этом, но не ожидал,
172
Путь всякой плоти
что превращение произойдет так внезапно. Эрнест ответил, что и сам не
ожидал этого, но теперь, когда ему так явственно представилось, в чем состоит его
долг, он намерен принять посвящение как можно скорее и сделаться
помощником священника, хоть это и заставит его покинуть Кембридж раньше, чем
ему бы того хотелось, что его сильно опечалит. Доусон одобрил это намерение,
и было условлено, что поскольку Эрнест еще не вполне хорошо подготовлен,
то Доусон возьмет его, если можно так выразиться, на духовный буксир на
некоторое время, дабы упрочить и укрепить его веру.
Таким образом, между двумя приятелями (имевшими в действительности
на редкость мало общего) был заключен наступательный и оборонительный
союз, и Эрнест засел за работу над книгами, по которым епископ должен был
экзаменовать его. Со временем к Эрнесту и Доусону присоединились и другие
студенты, так что образовалась небольшая группа, или церковь (ибо это одно
и то же), и воздействие проповеди мистера Хока, вместо того чтобы, как можно
было бы ожидать, исчезнуть через несколько дней, становилось все более
ощутимым, и друзьям скорее нужно было сдерживать Эрнеста, чем подгонять, ибо
он, казалось, готов был превратиться — и на какое-то время на самом деле
превратился — в горячего приверженца религии.
Лишь в одном отношении он снова впал в грех. Как я уже упоминал, Эрнест
запер свои трубки и табак, чтобы избежать искушения воспользоваться ими.
Целый день после проповеди мистера Хока он мужественно не доставал их из
чемодана; но это было не очень трудно, поскольку уже некоторое время он
воздерживался от курения до обеда. В тот день он не курил после обеда до
начала богослужения, а в часовню пошел в порядке самозащиты. Вернувшись,
он решил посмотреть на это дело с точки зрения здравого смысла и пришел к
выводу, что, коль скоро табак не вредит его здоровью, а он действительно не
замечал вредного действия, то значит его следует отнести к той же категории,
что чай или кофе.
В Библии нигде не упоминалось о запрете на курение табака — правда,
тогда он еще не был открыт и избежал запрета, вероятно, только по этой
причине. Мы можем представить апостола Павла или даже самого Господа нашего
пьющими чай, но не в состоянии вообразить, чтобы кто-либо из них курил
сигареты или трубку. Эрнест не мог это отрицать и признавал, что Павел почти
несомненно осудил бы табак в самых суровых выражениях, знай он о его
существовании. Не низость ли тогда пользоваться тем, что в словах апостола
запрещение табака формально отсутствует? С другой стороны, возможно, Бог
знал, что Павел запретил бы курение, и умышленно устроил так, чтобы табак
открыли тогда, когда Павла уже не было в живых. Это может показаться
довольно суровым по отношению к Павлу, учитывая все, что он сделал для
христианства, но, вероятно, апостол был вознагражден как-нибудь иначе.
Подобные размышления убедили Эрнеста, что в общем-то ему лучше
закурить, а потому он полез в свой чемодан и вытащил трубки и табак. Он считал,
что во всем хороша мера, даже в добродетели, поэтому в ту ночь курил
неумеренно. Жаль, конечно, что он похвастался Доусону, что бросил курить.
Трубки лучше подержать в буфете неделю-две, до того времени, пока Эрнесту не
Глава 50
173
удастся доказать свою стойкость в других, более легких вещах. Тогда их
потихоньку можно будет снова доставать в открытую — как и произошло.
Теперь Эрнест написал домой письмо совсем в других выражениях, чем
раньше. Прежде его письма были просто многословными формальными
отписками, поскольку, как я уже объяснял, если он писал о чем-то, что его
действительно интересовало, то мать всегда хотела узнать об этом все больше и больше —
каждый новый ответ оборачивался как бы отсечением головы гидры2 и
порождал не менее полудюжины новых вопросов — но в конце концов результат
неизменно бывал одним и тем же, а именно, что сын должен отказаться от
своих намерений и заняться чем-то другим. Теперь же дело приняло новый
оборот, и в тысячный раз Эрнест приходил к заключению, что собирается
следовать по пути, который отец и мать одобрят и которым заинтересуются, так
что наконец он и родители смогут почувствовать больше взаимопонимания, чем
прежде. Поэтому он написал полное чувств, импульсивное письмо, чтение
которого доставило мне огромное удовольствие, но которое из-за излишней
пространности я не стану приводить здесь. В нем среди всего прочего говорилось:
«Теперь я на пути к Христу; большинство из моих друзей по колледжу, боюсь,
отдаляются от Него. Мы должны молиться за них, чтобы они смогли обрести
душевный покой, который обретаешь во Христе и который я уже обрел».
Эрнест закрыл лицо руками от стыда, когда читал этот фрагмент из той связки
писем, которые передал мне, — отец вернул их ему после смерти матери, у
которой они заботливо хранились.
«Ну что, выбросить? — спросил я. — Не стану включать, если не хочешь».
«Пусть остается, — ответил он, — и если добрые друзья сохранили и другие
свидетельства моей глупости, выберите из них те, которые могут наиболее
позабавить читателя, и позвольте ему посмеяться над ними». Но вообразите,
какой эффект письмо, подобное этому — столь неожиданное, — должно было
произвести в Бэттерсби! Даже Кристина воздержалась от восторга по поводу
того, что сын открыл для себя власть слова Христова, а Теобальд до смерти
перепугался. Хорошо, конечно, что его сын не собирается предаваться каким-
либо сомнениям или создавать трудности и намерен принять посвящение в сан,
не устраивая истерик по этому поводу, но во внезапном обращении к вере того,
кто никогда не проявлял никакой особой религиозности, Теобальд почуял беду.
Теобальд терпеть не мог людей, которые не знали, где остановиться, а Эрнест
был всегда таким эксцентричным и странным; никогда нельзя было знать, что
он выкинет в следующий раз, за исключением того, что это обязательно будет
что-нибудь необычное и глупое. Если он закусит удила после того, как станет
священником и купит приход, то ему придется пройти долгий путь, чтобы
остепениться, а если женится, то жена должна будет позаботиться об остальном; это для
него единственный шанс; и, следует отдать должное проницательности
Теобальда, в глубине души он был невысокого мнения об этом обращении к вере.
Когда Эрнест в июне приехал в Бэттерсби, то неблагоразумно попытался
вступить в более тесное, чем обычно, общение с отцом. В порыве, вызванном
проповедью мистера Хока, он резко высказался по поводу крайнего евангелиз-
ма. Сам Теобальд был скорее сторонником Низкой, а не Высокой церкви3. Это
174
Путь всякой плоти
было нормальное явление для сельского священника, первые годы
пасторского служения которого пришлись на период между 1825 и 1850 годами; но он не
был готов ни к тому почти презрению, выказываемому Эрнестом к доктринам
возрождения через обряд крещения и отпущения грехов священником
(скажите, пожалуйста! его ли это дело — судить о таких вопросах?), ни к его желанию
найти способы примирить методизм и официальную Церковь. Теобальд
ненавидел Римско-Католическую Церковь, но также ненавидел и диссентеров4, ибо
считал их людьми, с которыми, как правило, неприятно иметь дело; он всегда
находил неприятными людей, которые не соглашались с ним; кроме того, они
полагали себя такими же знающими, как и он; однако, если бы ему пришлось
выбирать, Теобальд принял бы скорее их сторону, чем сторону Высокой
церкви, но окрестные священники не оставляли ему выбора. Один за другим они
подпали под прямое или косвенное влияние Оксфордского движения, которое
началось двадцатью годами ранее. Теперь Теобальд допускал на удивление
много ритуалов, которые в молодости счел бы папистскими; следовательно, он
очень хорошо знал, в каком направлении развивалась Церковь, и увидел, что
Эрнест, как обычно, стал не на тот путь. Возможность сказать сыну, что он
глупец, была слишком удобной, чтобы не воспользоваться ею, и Теобальд не
замедлил это сделать.
Эрнест был раздражен и удивлен, ибо разве отец с матерью не желали всю
жизнь, чтобы он стал более религиозным? Теперь же, когда он стал таковым,
они опять недовольны. Он сказал себе, что не бывает пророка без чести,
разве только в отечестве своем5, но в последнее время — или еще раньше, — у него
появилась отвратительная привычка переиначивать пословицы, и ему пришло
в голову, что отечество порой бывает не без чести, кроме как для пророка
своего. И тут он рассмеялся, и остальную часть дня его душевный настрой был во
многом таким, каким бывал до проповеди мистера Хока.
Эрнест возвратился в Кембридж, когда длинные каникулы 1858 года уже
подходили к концу. Он собирался сдавать факультативный экзамен по
теологии, на сдаче которого епископы как раз начинали настаивать. В течение всей
подготовки он воображал, что обогащает себя знаниями, каковые очень
пригодятся ему в деле, которому он себя посвящает; в действительности же это
была просто зубрежка ради сдачи экзамена. В должный срок осенью 1858 года
Эрнест успешно сдал экзамен и был рукоположен в дьяконы вместе с
полудюжиной своих друзей. Было ему тогда двадцать три года.
Глава 51
Эрнест получил место в одном из приходов в центральной части Лондона. Он
почти не знал Лондона, но инстинкты влекли его туда. Через день после
своего назначения он уже приступил к исполнению обязанностей, испытывая
примерно те же чувства, какие переживал его отец, оказавшись в коляске с
Кристиной в день заключения их брака. Не прошло и трех дней, как молодой
человек понял, что свет счастья, сиявший ему на протяжении четырех лет пребы-
Глава 51
175
вания в Кембридже, померк, и был потрясен бесповоротностью шага, который,
как он теперь осознавал, сделал чересчур поспешно.
Наиболее мягкое оправдание, какое я могу дать причудам, описанием
которых теперь должен заняться, состоит в том, что потрясение от перемен,
вызванных внезапным обращением к религии, посвящением в духовный сан и
разлукой с Кембриджем, оказалось для моего героя слишком велико и на время
выбило его из равновесия, которое он еще не успел упрочить опытом и
которое вследствие этого было шатким.
Каждому человеку есть над чем поработать в своем характере, что-то
исправить, от чего-то избавиться, чтобы стать лучше, и, чем долговечнее
окончательные результаты работы над собой, тем вероятнее, что человеку удастся
благополучно миновать определенный и, возможно, очень длительный период, когда у
него, казалось бы, останется в общем-то очень мало надежды. Все мы должны
отдать дань духовным эскападам молодости. Что касается моего крестника, то
я лично склонен сетовать не на то, что он предался эскападам молодости, а на
то, что они носили чрезвычайно банальный и скучный характер. Чувство
юмора и способность к независимому мышлению, которые, как можно было
заметить, еще несколько месяцев назад обещали в нем развиться, теперь будто бы
замерли, но зато старая привычка принимать на веру все, что исходило от
людей, облеченных авторитетом, и идти во всем до самого конца, как бы
бессмысленно это ни было, вернулась и давала о себе знать с удвоенной силой. Я
полагаю, что такое могло произойти со всяким человеком, оказавшимся в положении
Эрнеста, особенно если учесть весь его предшествующий опыт, но это удивило
и разочаровало некоторых его более хладнокровных кембриджских друзей, уже
начавших было высоко оценивать его способности. Ему самому казалось, что
религия несовместима с полумерами или даже с компромиссом. Обстоятельства
привели его к принятию духовного сана; на время ему стало жаль, что так
случилось, но дело было сделано, и следовало идти до конца, поэтому он решил
уяснить, что от него требуется, и действовать соответственно.
Его приходской священник был умеренным представителем Высокой
церкви с не очень четко выраженными взглядами. Этот пожилой человек повидал
на своем веку слишком много викариев, чтобы давным-давно не прийти к
выводу, что отношения между приходским священником и викарием, как между
нанимателем и наемным работником во всех других сферах деятельности,
являются чисто деловыми. Под его началом состояло теперь два викария, из
которых Эрнест был младшим; старшего звали Прайер1, и когда сей
джентльмен сделал вскоре попытку завязать с коллегой приятельские отношения,
Эрнест, пребывавший теперь в одинокой растерянности, с радостью откликнулся.
Прайеру было лет двадцать восемь. Он учился в Итоне и Оксфорде. Он был
высок и вообще-то слыл красивым. Я видел его лишь однажды минут пять и
нашел безобразными и его манеры, и внешний вид. Возможно, это объяснялось
тем, что он некрасиво поддел меня, и это мне не понравилось. За неимением
чего-либо более подходящего для завершения фразы я процитировал
Шекспира: сказал, что одна черта природы весь мир роднит2. «Ага, — ответил Прайер
дерзким, наглым тоном, который вызвал у меня отвращение, — но одна неес-
176
Путь всякой плоти
тественная черта роднит его еще сильней». И бросил в мою сторону взгляд, в
котором читалось, что он считает меня старым занудой и ему наплевать,
возмущен я или нет. Вполне естественно, что после этого я невзлюбил его.
Но я забегаю вперед, говоря об этом, ибо моя встреча с коллегой-викарием
Эрнеста произошла через три-четыре месяца после того, как мой крестник
оказался в Лондоне, и мне следует рассказать здесь о впечатлении, которое
Прайер произвел на него, а не на меня. Кроме того, что он обладал
внешностью, какую обычно признают красивой, Прайер отличался также
безупречностью в одежде и вообще был из тех людей, которые непременно внушали
Эрнесту страх и восхищение. Одевался этот новый знакомый в стиле Высокой
церкви и знакомство водил исключительно с представителями крайнего
направления в Высокой церкви, но в присутствии своего приходского священника
держал эти взгляды при себе, и священник, хоть и смотрел косо на некоторых
из друзей Прайера, не имел достаточного повода жаловаться и требовать
прекращения подобных знакомств. К тому же проповеди Прайера пользовались
популярностью, и, если учесть все плюсы и минусы, вполне вероятно,
окажется, что на одного лучшего, чем он, викария, найдется десяток худших. Когда
Прайер заглянул к моему герою, то, как только они остались наедине, окинул
Эрнеста быстрым проницательным взглядом и, казалось, остался удовлетворен
результатом — ибо, надо сказать, счастливые годы, проведенные в Кембридже,
благотворно повлияли на внешний вид Эрнеста. Прайер составил себе о нем
настолько благоприятное мнение, что даже выказал ему любезность, а всякий, кто
вел себя подобным образом, немедленно покорял Эрнеста. Прошло не много
времени, когда он обнаружил, что Высокой церкви и даже самому
католичеству есть что сказать в свою защиту в гораздо большей степени, чем ему
представлялось прежде. Это была его первая внезапная перемена взглядов.
Прайер познакомил его с несколькими из своих друзей. Все они были
молодыми священниками и принадлежали, как я уже говорил, к крайнему
крылу Высокой церкви, но Эрнест был удивлен тем, как сильно они походят на
других людей, общаясь между собой. Это явилось для него потрясением; но еще
большим потрясением было обнаружить вскоре, что определенные мысли, с
которыми он боролся как с пагубными для своей души и от которых, как ему
представлялось, должен был избавиться раз и навсегда по принятии
духовного сана, продолжали причинять ему беспокойство, как и раньше; он также
достаточно ясно видел, что молодые джентльмены, составлявшие круг друзей
Прайера, находились в почти таком же несчастном положении, как и он.
Это было печально. Единственным выходом из создавшейся ситуации, на
взгляд Эрнеста, стала бы немедленная женитьба. Но ведь он не знал ни одной
девушки, на которой хотел бы жениться. Знакомые ему женщины были
таковы, что он предпочел бы скорее умереть, чем жениться на какой-нибудь из них.
Одной из главных целей Теобальда и Кристины было удержать его от
общения с представительницами слабого пола, и они настолько преуспели в этом,
что женщины превратились для Эрнеста в таинственных, непостижимых
существ, которых следует терпеть, если общения с ними нельзя избежать, но не
Глава 52
111
заслуживают, чтобы искать их общества или расположения. Что касается
любви или даже просто привязанности со стороны мужчины к женщине, то он
допускал такую возможность, но считал лжецами большинство тех, кто
признавался в подобных чувствах. Теперь, однако, стало ясно, что он вопреки
собственной воле все это время надеялся на взаимное чувство, и единственное, что
следовало сделать, — это пойти и попросить первую же встречную женщину,
согласную его выслушать, выйти за него замуж как можно скорее.
Он затеял об этом разговор с Прайером и удивился, что тот, проявляя
явное внимание к молодым и красивым особам среди своей паствы, был
решительно настроен в пользу безбрачия духовенства, — как и другие скромные
молодые клирики, с которыми познакомил Эрнеста.
Глава 52
— Знаете, мой дорогой Понтифекс, — сказал Прайер, когда они с Эрнестом
через несколько недель после начала их знакомства прогуливались однажды
по Кенсингтон-Гарденс1, — знаете, мой дорогой Понтифекс, легко бранить
католичество, но католичество превратило исцеление человеческой души в науку,
в то время как наша Церковь, пусть даже и намного более чистая во многих
отношениях, не имеет никакой надежной системы диагноза или патологии — я
имею в виду, конечно, духовный диагноз и духовную патологию. Наша Церковь
не предлагает средств исцеления по какой-либо установленной системе, и, что
еще хуже, даже если ее врачи в меру своего разумения устанавливают недуг и
указывают средство от него, она не имеет дисциплины, обеспечивающей его
практическое применение. Если наши пациенты не хотят делать то, что мы им
советуем, мы не можем их заставить. Возможно, при всех обстоятельствах, это
и к лучшему, поскольку мы в духовном отношении просто коновалы по
сравнению с католическим духовенством, да и не можем надеяться хоть в сколько-
нибудь значительной степени справиться с грехом и горем, которые окружают
нас, пока не вернемся в некоторых отношениях к практике наших предков и
большей части христианского мира.
Эрнест спросил, в каких именно отношениях его друг желает возврата к
практике наших предков.
— Как, мой дорогой коллега, вы действительно не знаете этого? Вот о чем
идет речь: либо священник — истинный духовный проводник, способный
лучше указать людям, как им следует жить, чем они сами могут это уяснить, либо
он вообще ничто — у него нет никакого raison d'être*. Если священник не такой
же целитель и руководитель людских душ, как врач целитель и руководитель
их тел, то кто он?2 История всех времен показала — и, разумеется, вы должны
знать это так же, как и я, — что как врачи не способны вылечить тела своих
пациентов, если не были должным образом обучены этому в больницах опыт-
* права на существование [фр).
178
Путь всякой плоти
ными наставниками, так и души не могут исцелиться от своих скрытых
недугов без помощи людей, являющихся знатоками душ, — иными словами, без
помощи священников. О чем говорится в половине наших требников и
служебников, если не об этом? Как, во имя всего разумного, можем мы точно
установить характер духовного недуга, если не приобрели опыта в других подобных
случаях? Как можем мы получить этот опыт без специального обучения? В
настоящее время нам приходится начинать все эксперименты самим, не
обращаясь к опыту наших предшественников, поскольку этот опыт никто никогда
не фиксировал и не систематизировал. Вот почему в результате каждый из нас
вынужден загубить множество душ, которые могли бы быть спасены
благодаря знанию нескольких элементарных принципов.
Эрнест был глубоко взволнован.
— Что же до возможности людей исцелять самих себя, — продолжал Прайер, —
то они могут исцелить собственные души не более, чем вылечить собственные
тела или уладить собственные юридические проблемы. В последних двух
случаях они считают полным безрассудством пытаться справиться с делами, в
которых ничего не понимают, и, как правило, обращаются за советом к
специалисту. Безусловно, разобраться в душе человеческой труднее, и ведь к тому
же для человека важнее, чтобы обращались правильно с ней, чем с его телом
или деньгами. Что мы должны думать о Церкви, которая попустительствует
тому, чтобы люди полагались на советы проходимцев в вопросах, от которых
зависит их вечное блаженство, в то время как им и в голову бы не пришло
таким безрассудным поведением ставить под угрозу свои мирские дела?
Эрнест не смог усмотреть в этом рассуждении ни одного слабого места.
Подобные идеи смутно мелькали в его уме и прежде, но он никогда не
вдумывался в них и не отдавал себе в них полного отчета. Да и на распознавание
ложных аналогий и злоупотребления метафорами он не был скор; по сути, он был
невинным дитя в руках своего коллеги-викария.
— И что же, — продолжал Прайер, — из всего этого следует? Во-первых,
обязательность исповеди — протестовать против нее столь, же абсурдно, как
протестовать против анатомирования, являющегося частью процесса обучения
студентов-медиков. Примите во внимание, что этим молодым людям
приходится видеть и делать много такого, о чем мы даже и думать не хотим, но если они
не готовы к этому, то лучше им подыскать какую-нибудь другую профессию;
существует даже угроза заразиться трупным ядом и умереть, но они обязаны
идти на риск. Если мы стремимся быть священнослужителями не только на
словах, но и на деле, то должны изучить все виды греха в мельчайших и самых
отталкивающих подробностях, чтобы уметь распознать его во всех
проявлениях. Некоторым из нас предстоит, несомненно, духовно погибнуть в процессе
таких исследований. Ничего не поделаешь, всякая наука должна иметь своих
мучеников, и ни один из них не послужит человечеству лучше, чем те, кто пал,
занимаясь духовной патологией.
Эрнесту становилось все интереснее, но в смирении душевном он хранил
молчание.
Глава 52
179
— Я не желаю себе этого мученичества, — продолжал собеседник, —
напротив, я постараюсь избежать его изо всех сил, но если Богу будет угодно, чтобы
я пал при изучении того, что, по моему убеждению, послужило вящему
утверждению славы Его, тогда, скажу я: не моя воля, о Господи, но Твоя да будет3.
Это было уж слишком даже для Эрнеста.
— Я слышал как-то об одной ирландской женщине, — сказал он с улыбкой, —
которая говорила, что она мученица пьянства.
— Она и была ею, — ответил в запальчивости Прайер и пустился доказывать,
что эта добрая женщина была экспериментатором, чей эксперимент, пусть и
оказавшийся бедственным для нее самой, был поучителен для других людей.
Она являлась, следовательно, истинной мученицей или примером ужасных
последствий невоздержанности и, несомненно, послужила ко спасению многих,
кто благодаря ее мученичеству не принялся за пьянство. Она была одним из тех
обреченных на гибель бойцов, чья неудача в овладении некой позицией
внушала убеждение, что эта позиция неприступна, и, соответственно, вела к отказу
от всякой попытки овладеть ею. Это почти в такой же степени служило ко
благу человечества, как могло бы послужить овладение той позицией. —
Кроме того, — поспешно добавил Прайер, — границы порока и добродетели
крайне скверно определены. Половина пороков, которые мир громче всего
осуждает, содержат в себе семена блага, и в отношении них скорее предпочтительна
умеренность, чем полное воздержание.
Эрнест робко попросил привести какие-нибудь примеры.
— Нет, нет, — сказал Прайер, — я не стану приводить примеры, но приведу
формулу, которая применима ко всем случаям. Формула эта гласит, что не
является целиком порочным ни один обычай, который так и не был изжит у
самых благопристойных, самых энергичных и самых культурных народов,
несмотря на вековые попытки искоренить его. Если порок, несмотря на такие
усилия, может по-прежнему сохраняться у самых цивилизованных наций,
значит, в основе его, вероятно, лежит некая непреложная истина или свойство
человеческой природы, и он, должно быть, восполняет какую-то важную
потребность, без которой мы не можем позволить себе обойтись.
— Но не является ли это, — робко заметил Эрнест, — по сути, отказом от
проведения всякого различия между добром и злом? Не значит ли это оставить
людей вообще без какого-либо морального ориентира?
— Наша забота должна состоять не в том, — был ответ, — чтобы люди
полагались на самих себя в выборе между добром и злом, ибо они не способны и
навсегда останутся не способны направлять себя на путь истинный. Это мы
должны сказать им, что делать, а при идеальном положении вещей должны
иметь возможность заставить их исполнять это — может быть, когда мы будем
лучше обучены, это идеальное положение и возникнет; ничто так не ускорит
его наступление, как обретение нами более широких знаний о духовной
патологии. Для этого необходимы три вещи: во-первых, абсолютная свобода
эксперимента для нас, духовенства; во-вторых, абсолютное знание о том, что
думают и делают миряне, и о том, какие мысли и поступки приводят к тем или иным
180
Путь всякой плоти
духовным состояниям; и, в-третьих, более сплоченная организация в нашей
собственной среде.
Если нам предстоит принести какую-либо пользу, мы должны стать единым
отрядом и резко отделиться от мирян. Мы также должны быть свободны от тех
уз, какие налагает семья — жена и дети. Я едва ли в состоянии описать ужас,
который испытываю при виде англиканских священников, живущих, как я
определил бы, в «открытом браке». Это прискорбно. Священник должен быть
абсолютно вне пола, если не на практике, то, во всяком случае, уж
непременно в теории, и эта теория также должна быть настолько общепринята, чтобы
никто не отважился ее оспаривать.
— Но разве Библия, — возразил Эрнест, — уже не сказала людям, что им
надлежит делать, а чего не следует, и разве не достаточно для нас настойчиво
проводить то, что можно найти в ней, оставив все прочее в покое?
— Если вы начинаете с Библии, — последовал ответ, — значит, вы уже
проделали три четверти пути к неверию и проделаете оставшуюся часть, раньше
чем поймете, где оказались. Библия имеет некоторую ценность для нас,
духовенства, а для мирян она является камнем преткновения, который нужно
устранить с их пути как можно скорее и желательно целиком. Разумеется, я исхожу
из предположения, что они читают ее, — что, к счастью, делают редко. Если
люди читают Библию, как читает ее обычный британский прихожанин или
прихожанка, то это достаточно безопасно; но если они читают ее внимательно — а
такую возможность мы должны допустить, раз вообще даем им ее, — то это
оказывается для них губительно.
— Что вы имеете в виду? — спросил Эрнест, все более изумляясь и в то же
время все сильнее чувствуя, что подпадает под влияние человека, имеющего
свою систему четко сформулированных идей.
— Ваш вопрос доказывает, что вы никогда не читали Библию. Не существует
книги более недостоверной, чем эта. Послушайтесь моего совета и не читайте
ее, пока не станете на несколько лет старше — тогда сможете читать ее без
риска для себя.
— Но вы конечно же верите Библии, когда она рассказывает, например, о
том, что Христос умер и восстал из мертвых? Вы конечно же верите этому? —
спросил Эрнест, уже готовясь услышать, что Прайер ничему такому не верит.
— Я не верю этому, я знаю это.
— Но откуда — если свидетельство Библии недостоверно?
— По свидетельству живого слова Церкви, о котором я знаю, что оно
непогрешимо и возвещено самим Христом.
Глава 53
Вышеприведенная беседа и другие, ей подобные, произвели глубокое
впечатление на моего героя. Если бы на следующий день он отправился на прогулку с
мистером Хоком и услышал от него прямо противоположное мнение, то был бы
Глава 53
181
столь же поражен и столь же готов отбросить сказанное ему Прайером, как
теперь намерен был отбросить все, что когда-то слышал от кого-либо, кроме Прай-
ера; но мистера Хока рядом не было, и потому Прайер имел все преимущества.
Находящиеся в зачаточном состоянии души, как и находящиеся в
зачаточном состоянии тела, проходят множество странных метаморфоз, прежде чем
обретут окончательную форму. Не стоит удивляться тому, что некто, готовый
обратиться в католичество, прошел через стадии превращения сначала в
методиста, а затем в вольнодумца — как не стоит удивляться тому, что человек в
далеком прошлом существовал лишь в виде клетки, а позднее —
беспозвоночного животного. Однако нельзя было ожидать, чтобы Эрнест знал это;
эмбрионы ничего не могут знать. На каждой стадии своего развития они думают, что
вот теперь достигли единственного подходящего им состояния. Оно, говорят
эмбрионы, безусловно, должно стать их последним состоянием, поскольку его
прекращение явится столь большим потрясением, что его невозможно будет
пережить. Каждое изменение — потрясение; каждое потрясение pro tanto* —
смерть. То, что мы называем смертью, — только потрясение, достаточно
сильное, чтобы лишить нас способности осознавать сходство между прошлым и
настоящим. Находясь в процессе становления, мы замечаем различие между
нашим настоящим и прошлым больше, чем их сходство, а потому не можем
называть первое из них в полном смысле продолжением второго, но находим
менее неприятным называть его новым1.
Однако оставим это. Ясно, что духовная патология (признаюсь, я не знаю,
что означает термин «духовная патология», но Прайер и Эрнест, несомненно,
знали) была именно тем, чего недостает человечеству. Эрнесту казалось, что
он сам сделал это открытие и был знаком с нею всю свою жизнь, да никогда,
по существу, не знал ничего другого. Он написал длинные письма друзьям по
колледжу с разъяснением своих взглядов, как если бы был одним из святых
апостолов. Что касается авторов Ветхого Завета, то он проявлял к ним полную
нетерпимость. «Сделай одолжение, — прочел я в одном из его писем к другу, —
прочти книгу пророка Захарии и честно скажи мне свое мнение о ней. Это —
полный вздор и нелепая выдумка; какая досада — жить в такое время, когда
подобной галиматьей могут всерьез восхищаться как поэзией или
пророчеством». Эрнест думал так потому, что Прайер настроил его против Захарии. Не
знаю, в чем провинился Захария; лично я склонен считать Захарию очень
хорошим пророком. Возможно, из-за того, что он был одним из авторов Библии
и к тому же не самым выдающимся из них, Прайер выбрал именно его с целью
принизить авторитет Библии в сравнении с Церковью.
Немного позднее Эрнест писал своему другу Доусону:
«Мы с Прайером продолжаем наши прогулки, делясь друг с другом
мыслями. Сначала он опережал меня по части идей, но теперь, думаю, я ничуть не
отстаю от него и, по правде говоря, посмеиваюсь, наблюдая, как он уже начи-
* в некоторой степени [лат).
182
Путь всякой плоти
нает менять некоторые из тех мнений, которых твердо придерживался в
первый период нашего знакомства.
Тогда я думал, что он находится на прямом пути к католицизму; однако
теперь он, похоже, глубоко проникся моей идеей, которая, возможно,
заинтересует и тебя. Видишь ли, мы каким-то образом должны вдохнуть в Церковь
новую жизнь; мы пасуем перед католицизмом и атеизмом. (Мимоходом
замечу, что, по моему убеждению, Эрнесту на тот момент еще не довелось
встретить ни одного атеиста, а тем более беседовать с ним.) Поэтому несколько дней
назад я предложил Прайеру (и он горячо откликнулся на это предложение, как
только увидел, что я в состоянии воплотить его в жизнь), чтобы мы
организовали духовное движение, в чем-то аналогичное движению «Молодая Англия»2,
существовавшему двадцать лет назад, а целью его будет, с одной стороны,
опережение католицизма, а с другой — преодоление скептицизма. Для этой
цели, на мой взгляд, нет ничего лучше, как основать некое учебное заведение
или колледж для исследования природы и путей исправления греха на более
научной основе, чем та, на которую опираются в настоящее время. Мы хотим
создать, заимствуя полезный термин Прайера, колледж духовной патологии,
где молодые люди (полагаю, Эрнест считал, что он к тому времени уже не
принадлежал к числу молодых) смогут изучать природу и способы
исправления душевных изъянов, подобно тому, как студенты-медики изучают природу
и способы исправления телесных изъянов своих пациентов. Такой колледж, как
ты, вероятно, признаешь, будет приближением к католицизму, с одной
стороны, и к науке — с другой: к католицизму в том смысле, что он даст духовенству
более основательную подготовку, а следовательно, проложит путь к обретению
духовенством большей власти, а к науке в том смысле, что признает, что даже
вольнодумцы располагают определенного рода ценностями в области
духовного опыта. Этой цели мы с Прайером отныне решили посвятить все наши силы.
Конечно, мои идеи еще неокончательно оформились, и всё будет зависеть
от людей, которыми этот колледж будет создаваться. Я еще не имею сана
священника, но Прайер имеет, и если бы я взялся за создание колледжа, Прайер
мог бы принять на себя руководство им на какое-то время, а я работал бы
формально под его началом как подчиненный. Сам Прайер предложил это.
Разве это не благородно с его стороны?
Хуже всего то, что мы не имеем достаточно денег; у меня есть, правда, пять
тысяч фунтов, но нам нужно для начала, по крайней мере, десять тысяч, как
говорит Прайер. Когда мы уже откроем дело, я мог бы жить при колледже и
получать жалованье из учредительного фонда, так что вложение денег в это
учреждение будет для меня равнозначно или почти равнозначно покупке
прихода; кроме того, мне нужно совсем немного. Определенно, я никогда не
женюсь; священник не должен думать об этом, а холостой человек может жить
буквально на гроши. Тем не менее я не знаю, где взять столько денег, сколько
нужно, и Прайер говорит, что поскольку мы едва ли можем теперь заработать
больше, то должны раздобыть деньги путем разумных вложений. Прайер
знаком с несколькими людьми, которые получают весьма приличный доход из
очень небольших сумм или даже, можно сказать, вообще из ничего, покупая
Глава 53
183
что-то в одном месте, которое называется фондовой биржей. Пока я мало в
этом смыслю, но Прайер говорит, что скоро научусь; он считает даже, что я
обнаружил некоторый талант в этом деле, и при надлежащем руководстве из
меня очень даже может выйти преуспевающий делец. Судить о том, конечно,
другим, а не мне; но человек может сделать все что угодно, если приложит к
этому старание, и хотя я не стремлюсь к большим деньгам ради собственной
выгоды, но очень хотел бы иметь их, чтобы благодаря им творить добро,
спасая души от ужасной пытки в загробном мире. Что ж, если дело удастся, а я,
по правде говоря, не вижу, что может этому помешать, то едва ли можно
преувеличить его важность, да и масштабы, которые оно может в конечном
счете принять...» И т. д., и т. п.
И я опять спросил Эрнеста, не возражает ли он против опубликования этого
письма. Он поморщился, но сказал:
— Нет, если это пойдет на пользу вашей истории, но не считаете ли вы, что
оно слишком длинно?
Я сказал, что письмо позволит читателю лично убедиться, как обстояли
дела, и сделает это в два раза быстрее, чем если бы я сам взялся их ему
объяснять.
— Ну что ж, очень хорошо, конечно, включайте.
Я продолжаю перебирать письма Эрнеста и нахожу следующее:
«Благодарю тебя за терпение, в ответ на которое посылаю копию письма,
которое отправил в "Тайме" пару дней назад. Они не поместили его, но в нем
содержится почти полное изложение моих идей по вопросу посещения
прихожан, и Прайер полностью одобряет это письмо. Тщательно обдумай его и
верни, когда прочитаешь, поскольку именно в нем изложено мое нынешнее
кредо, так что я не могу позволить себе потерять его.
Очень хотелось бы обсудить эти вопросы viva voce*. Вижу со всей ясностью,
что нам принесла огромный ущерб утрата возможности отлучать от Церкви.
Мы должны отлучать как богатых, так и бедных, и к тому же вполне
беспрепятственно. Если бы эта возможность была нам возвращена, мы могли бы,
думаю, вскоре положить конец многим проявлениям греха и нищеты,
которыми окружены».
Эти письма были написаны всего через несколько недель после посвящения
Эрнеста в духовный сан, но они ничто в сравнении с другими, которые он
писал немного позднее.
В нетерпеливом желании обновить Англиканскую церковь (а через нее и
весь мир) теми средствами, которые предлагал ему Прайер, Эрнесту пришла
в голову идея попытаться познакомиться с обычаями и мыслями бедняков,
поселившись среди них. Думаю, эта идея пришла ему благодаря книге Кингс-
ли «Олтон Локк»3, которую он, хотя и был в то время сторонником Высокой
* устно [лат).
184
Путь всякой плоти
церкви, с жадностью прочел, как проглотил «Жизнь Арнольда» Стэнли4,
романы Диккенса и другое чтиво нашего времени5, способное принести ему только
вред; во всяком случае, он решил испробовать свой план на практике и снял
квартиру на Эшпит-Плейс — маленькой улочке недалеко от театра «Друри-
Лейн»6, в доме7, владелицей которого была вдова извозчика.
Эта дама занимала весь первый этаж. В одной комнате квартировал
жестянщик. Другая была сдана мастеру по ремонту кузнечных мехов. Эрнест занял
две комнаты на втором этаже, которые удобно обставил, поскольку нужно же
как-то устраиваться. Два верхних этажа были отведены четырем другим
квартирантам: там жил портной по имени Холт, пьяница, обыкновенно бивший по
ночам свою жену, чьи крики будили весь дом; над ним жил еще один портной
с женой, но без детей; эта супружеская чета принадлежала к последователям
Уэсли, тоже пьянствовала, но не шумела. Две другие комнаты занимали
незамужние особы, имевшие, как показалось Эрнесту, приличных знакомых, ибо
хорошо одетые благопристойного вида молодые люди не раз проходили вверх-
вниз по лестнице мимо комнат Эрнеста к комнате мисс Сноу. Эрнест, во
всяком случае, слышал, как после этого хлопала ее дверь. Он думал также, что
некоторые из посетителей заходили и к мисс Мэйтланд. Миссис Джуп8,
домовладелица, сказала Эрнесту, что это братья и кузены мисс Сноу, которая
подыскивает место гувернантки, но в настоящее время имеет ангажемент как
актриса в театре «Друри-Лейн». Эрнест спросил, подыскивает ли какое-либо
место и мисс Мэйтланд из другой комнаты наверху, и получил ответ, что та
желает найти место модистки. Он поверил всему, что сказала миссис Джуп.
Глава 54
Этот шаг со стороны Эрнеста был неоднозначно воспринят его друзьями.
Общее мнение сводилось к тому, что подобная выходка была вполне в духе Пон-
тифекса, который непременно натворил бы что-нибудь необычное в любой
ситуации, но что в целом идея похвальна. Кристина не могла сдержать чувств,
когда, разузнав, что думают на сей счет соседи из числа духовенства,
обнаружила, что они склонны одобрять поведение ее сына, которое идеализировали,
считая его куда более самоотверженным, чем оно было на самом деле. Ей не
слишком нравилось, что он поселился в таком неаристократическом квартале;
но то, что он делал, вероятно, могло попасть в газеты, и тогда его заметили бы
великие люди. Кроме того, это будет очень дешево; среди бедных людей он мог
жить чуть не даром и получал возможность откладывать значительную долю
своего дохода. Что же касается искушений, то, конечно, в подобном месте их
или мало, или совсем нет. Дешевизна была тем доводом, благодаря которому
Кристина сумела наиболее успешно воздействовать на Теобальда, который
more suo* ворчал, что не приветствует сумасбродство и самомнение сына.
Когда Кристина заметила, что это будет дешево, он несколько смягчился.
* по своему обыкновению [лат).
Глава 54
185
Для самого Эрнеста его поступок послужил средством укрепления в нем
благоприятного мнения о самом себе, которое стало складываться с тех пор,
как он начал готовиться к рукоположению; поступок позволял ему тешить себя
надеждой, что он принадлежит к числу тех немногих, кто готов пожертвовать
всем во имя Христа. Он уже начал воображать себя человеком, которому
выпала определенная миссия и уготовано большое будущее. Его неглубокие и
наспех сложившиеся убеждения постепенно обретали для него огромное
значение, и он навязывал их, как я уже показал, своим прежним друзьям неделя
за неделей, становясь все более entêté* собой и своими фантазиями. Я охотно
обошел бы молчанием эту часть биографии моего героя, но не могу это сделать
без ущерба для повествования.
Весной 1859 года он писал:
«Я не могу называть нынешнюю Церковь христианской, пока ее плоды не
являются христианскими, то есть пока плоды действий приверженцев
Англиканской церкви не находятся в соответствии, пусть и приблизительном, с ее
учением. Я искренне согласен с главными положениями доктрины
Англиканской церкви, но она говорит одно, а делает другое, и, до тех пор пока
отлучение от Церкви — да, массовое отлучение — не будет восстановлено, я не могу
называть ее христианским институтом. Я бы начал с нашего приходского
священника, и если бы счел необходимым, чтобы за его отлучением последовало
отлучение епископа, то не остановился бы и перед этим.
Нынешние лондонские приходские священники — люди, с которыми
безнадежно иметь дело. Мой приходской священник — один из лучших среди них,
но как только мы с Прайером обнаруживаем признаки желания бороться со
злом такими средствами, которые не признаны установившейся практикой, или
исправить что-либо, против чего никто не протестует, то наталкиваемся на
такие возражения: «Я не могу понять, из-за чего вы поднимаете весь этот шум;
никто в среде духовенства не смотрит на вещи подобным образом, и у меня нет
желания оказаться первым, кто начнет переворачивать все вверх дном». И его
еще называют разумным человеком! Все это выводит меня из себя. Однако мы
знаем, чего хотим, и, как я писал Доусону на днях, у нас есть план, который,
думаю, будет удовлетворять всем необходимым требованиям. Но нам нужно
больше денег, а мой первый шаг к тому, чтобы добыть их, оказался не таким
успешным, как мы с Прайером надеялись; однако мы, без сомнения, вскоре
наверстаем упущенное».
Когда Эрнест приехал в Лондон, он намеревался часто обходить всех
прихожан дом за домом, но Прайер отговорил его от этого еще до того, как
Эрнест поселился в своих новых, необычных апартаментах. Теперь же мой герой
пришел к убеждению, что коль скоро люди нуждаются во Христе, то должны
доказать это, предприняв какое-то усилие со своей стороны, и это усилие долж-
* упрямым; здесь: одержимым (фр.).
186
Путь всякой плоти
но состоять в том, чтобы отыскать его, Эрнеста: вот он, среди них, и готов их
учить; если люди не хотят обратиться к нему, то это не его вина.
«Мое главное занятие здесь, — пишет он снова Доусону, — заключается в том,
чтобы наблюдать. В приходе у меня, помимо участия в ежедневных службах,
работы немного. Я веду занятия по изучению Библии со взрослыми
прихожанами-мужчинами, а также с группой мальчиков и еще даю наставления того
или иного рода довольно большому числу молодых людей и мальчишек.
Кроме того, я преподаю в воскресной школе, в которой вечерами в воскресенье
собирается столько детей, сколько может вместить классная комната, и мы с
ними поем псалмы и гимны. Им это нравится. Я много читаю — в основном те
книги, которые нам с Прайером представляются наиболее полезными; мы
считаем, что никто не может сравниться с иезуитами. Прайер — настоящий
джентльмен и замечательно практичный человек, не менее сведущий в делах этого
мира, чем в вещах, относящихся к миру горнему; благодаря блестящему ходу
он вернул или почти вернул довольно серьезную сумму, потеря которой
угрожала задержать на неопределенный срок исполнение нашего грандиозного
плана. Мы с ним, что ни день, разрабатываем новые принципы. Я верю, что
меня ждут великие дела, и твердо надеюсь, что способен осуществить вскоре
многие из них.
Что касается тебя, то я молюсь, чтобы Бог помог тебе. Будь смел, но
последователен, отважен, но осторожен, бесстрашен и храбр, но в то же время
надлежаще осмотрителен, и т. д., и т. п.».
Думаю, что этого пока достаточно.
Глава 55
Я, разумеется, заглянул к Эрнесту, как только он прибыл в Лондон, но не
застал. Когда же он, в свою очередь, пришел ко мне, меня не оказалось дома, так
что прошло несколько недель со времени его приезда, прежде чем я наконец
увиделся с ним, и произошло это вскоре после того, как он поселился в своем
новом жилище. Его лицо мне понравилось, но, если бы не общая для обоих
любовь к музыке, в отношении которой наши вкусы удивительном образом
совпадали, я, пожалуй, не знал бы, как себя вести с ним. Следует отдать ему
должное: он не излагал мне своих планов, пока я сам не расспросил о них. Я,
пользуясь словами домовладелицы Эрнеста, миссис Джуп, «не очень-то
набожен». Правда, в результате настойчивых расспросов выяснилось, что сама
миссис Джуп была в церкви лишь однажды, когда крестили ее сына Тома
примерно двадцать пять лет назад, но никогда ни до того, ни после; подозреваю,
что не была она и замужем, поскольку, хоть и величала себя «миссис», не
носила обручального кольца и называла человека, который должен был быть
мистером Джупом, «отец моего бедного милого мальчика», а не «мой муж». Но
вернемся к Эрнесту. Я испытывал раздражение, что он принял духовный сан.
-Глава 55
187
Сам я не принимал посвящения, и мне не нравится, когда мои друзья
принимают его, а еще я не люблю быть обязанным вести себя примерно и
прикидываться тихоней, и все это ради мальчишки, которого помнил с тех пор, когда
он знал лишь «вчера», «завтра» и «вторник», а больше ни одного дня недели,
даже воскресенья, и который сказал, что ему не нравится котенок, потому что
у того булавки в лапках.
Я смотрел на него и думал о его тете Алетее и о том, как быстро
накапливаются деньги, которые она оставила ему; и все они должны перейти к этому
молодому человеку, который, вероятно, употребит их таким способом, каковой
уж точно не пришелся бы по нраву мисс Понтифекс. Я был раздосадован. «Она
всегда говорила, — думалось мне, — что не сумеет правильно распорядиться
деньгами, но вряд ли ими можно было распорядиться хуже, чем оставив
этому молодому человеку». И еще я подумал, что, возможно, если бы его тетя
была жива, он не стал бы таким.
Эрнест вел себя со мной весьма любезно, и, признаюсь, вина за то, что наша
беседа коснулась опасных предметов, лежит на мне. Я был нападающей
стороной, полагая, что мой возраст и давнее знакомство с ним дают мне право быть
нелицеприятным.
Тогда-то он и рассказал о своих планах, и раздражало более всего то, что
в определенной мере он был вполне прав. Следует признать, что его
аргументы и выводы были достаточно здравы, и я не мог, из-за того что он уже принял
сан, вступать с ним в спор о его аргументах, что, конечно, сделал бы, выдайся
мне шанс обсудить их до того, как он принял посвящение. В результате мне
пришлось отступить, и я удалился в не самом лучшем расположении духа.
Полагаю, правда состояла в том, что я любил Эрнеста и был огорчен, что он
стал священником, и к тому же священником, которому предстояло получить
так много денег.
Перед уходом я поговорил немного с миссис Джуп. Мы с нею с первого
взгляда поняли, что оба принадлежим к числу людей «не очень-то набожных»,
и это развязало ей язык. Она сказала, что Эрнест на краю гибели. Он слишком
хорош для этого мира и выглядит таким печальным, «прямо как молодой
Уоткинс из "Короны" через улицу, который умер месяц назад, и его кожа
прямо ужас какая была белая, как алебастр; говорят даже, что он застрелился.
Забрали его у этого Мортимера, я сама видела, как раз когда мы шли с моей
Розой купить пинту пива, а у нее рука была в шине. Она сказала сестре, что
хочет пойти к Перри купить немного шерсти, а это была только отговорка,
чтобы купить мне пинту пива, дай ей Бог здоровья; никто другой не сделает
такого для бедной старушки Джуп, и это гнусная ложь — говорить, что она
беспутная; не то чтобы мне не нравились веселые дамочки, они мне нравятся:
я лучше дам такой веселушке полкроны, чем поставлю скромнице кружку
пива, но я не хочу якшаться с непутевыми девицами, ни за что. Так вот, забрали
его у Мортимера и уже не отпустили обратно домой; а он провернул все
хитро, знаете ли. Его жена была в деревне, у своей матери, а она всегда отзывалась
с уважением о моей Розе. Бедняжка, надеюсь, его душа теперь на небесах. Так
вот, сэр, верите ли, есть что-то в лице мистера Понтифекса, точно как у моло-
188
Путь всякой плоти
дого Уоткинса; он выглядит таким тревожным и потерянным по временам, но
у него это не по той самой причине, ведь он же ничего вообще не знает, не
больше, чем младенец, да уж; да что там — обезьянка, с которой ходит по
Лондону итальянский шарманщик, знает больше, чем мистер Понтифекс. Он
не знает — ну, я имею в виду...»
Тут вошел какой-то ребенок с поручением от соседа и прервал ее, а то
представления не имею, чем и когда закончила бы она свою речь. Я
воспользовался этой возможностью, чтобы сбежать, но прежде дал ей пять шиллингов и
заставил записать мой адрес, поскольку был немного напуган тем, что она
сказала. Я попросил, чтобы она дала мне знать, если сочтет, что у ее
квартиранта дела пошли хуже.
Неделя проходила за неделей, и я больше не видел ее. Сделав что мог, я
чувствовал себя избавленным от необходимости делать что-то еще и оставил
Эрнеста в покое, считая, что нам не стоит надоедать друг другу.
Минуло уже немногим более четырех месяцев, с тех пор как он принял
посвящение, но эти месяцы не принесли ни счастья, ни удовлетворения. Всю
свою жизнь он прожил в доме священника, и, пожалуй, можно было ожидать,
что он достаточно хорошо знает, что значит быть священником, и он
действительно знал, что значит быть сельским священником; однако относительно того,
что такое городской священник, у него сформировались некие идеальные
представления, и он делал робкие попытки уразуметь смысл этой деятельности, но
так или иначе ее смысл всегда ускользал от него.
Он жил среди бедняков, но не чувствовал, что ему удалось их узнать.
Предположение, что они сами придут к нему, оказалось ошибочным. Он, правда,
навещал нескольких божьих одуванчиков, о которых приходской священник
поручил ему заботиться. Это были старик и его жена, что жили по соседству
с Эрнестом, водопроводчик, звавшийся Честерфилд, пожилая леди по
фамилии Говер, слепая и прикованная к постели, которая шамкала и шамкала
своим беззубым ртом, пока Эрнест говорил с ней или читал ей, а на что-нибудь
большее едва ли была способна, некий мистер Брукс, сборщик тряпья и
бутылок в доходных домах Бердси, находящийся в последней стадии водянки, и еще
примерно полдюжины других. Ну и во что выливались эти посещения?
Водопроводчик хотел потешить себя, ему льстило, что джентльмен тратит на него
свое время. Миссис Говер, бедная старуха, хотела денег; она была очень
добрая и кроткая, и, когда Эрнест дал ей шиллинг из денег, что завещала леди Энн
Джонс, сказала, что это «мало, но своевременно», и шамкала, шамкала в знак
благодарности. Эрнест иногда давал ей немного денег от себя лично, но, как он
теперь говорит, должен был бы давать в два раза больше.
Что еще мог он сделать, желая принести ей хоть малейшую пользу? По сути,
ничего; но дать при случае полкроны миссис Говер не значило коренным
образом изменить мир, а Эрнест хотел именно этого. Век распался, но он не
только не находил скверным, что рожден восстановить его, но считал, что он —
именно тот человек, который требуется для такого дела1, и жаждал приняться
за работу, только точно не знал, как начать, а те начинания, какие он
предпринял с мистером Честерфилдом и миссис Говер, не обещали большого успеха.
Глава 55
189
А этот бедный мистер Брукс — он очень страдал, действительно ужасно
страдал; он не хотел денег; он хотел умереть, но не мог, так же, как мы
иногда хотим уснуть, но не можем. Он был серьезным человеком, и смерть пугала
его, как должна пугать всякого, кто верит, что все его самые тайные мысли
вскоре откроются. Когда я прочитал Эрнесту описание того, что его отец
обычно говорил, навещая миссис Томпсон в Бэттерсби, он покраснел и сказал:
«Именно это и я обыкновенно говорил мистеру Бруксу». Эрнест чувствовал, что
его визиты не только не приносили мистеру Бруксу утешения, но заставляли
того еще больше бояться смерти, — только что он мог с этим поделать?
Даже Прайер, который уже около двух лет был викарием, знал лично не
больше пары сотен прихожан и лишь очень немногих из них когда-либо
посещал на дому; к тому же Прайер высказывал решительные возражения
против самого принципа посещения на дому. Какой каплей в море были те, с кем
он, Эрнест, и Прайер непосредственно познакомились, по сравнению с теми,
к кому он должен обратиться, чьи сердца взволновать, если хочет достичь
какого-либо значительного результата. В число прихожан входило от
пятнадцати до двадцати тысяч бедняков, из которых лишь очень немногие когда-
либо посещали храм. Некоторые принадлежали к тем или иным
маргинальным направлениям англиканства, некоторые были католиками, но
подавляющее число фактически неверующими — если не активно враждебными, то,
во всяком случае, безразличными к религии, хотя многие были открытыми
вольнодумцами — поклонниками Тома Пейна2, о котором Эрнест услышал
впервые лишь теперь; но он никогда не встречался и не общался ни с кем из
них.
Делал ли он действительно все, что можно было ожидать от него? Очень
легко сказать, что он делал столько же, сколько другие молодые священники;
но такой ответ вряд ли понравился бы Иисусу Христу; ведь и сами фарисеи3,
по всей вероятности, делали столько же, сколько и другие фарисеи. Что Эрнест
должен был делать, так это пойти по дорогам и изгородям и убедить людей
придти4. Разве он делал это? Не заставляли ли скорее они его отойти — во
всяком случае, от их дверей? С некоторых пор у него начало зарождаться
тревожное предчувствие, что если он не будет тщательно следить за собой, то мало-
помалу превратится в шарлатана.
Конечно, все изменилось бы, как только он смог бы собрать нужную сумму
для колледжа духовной патологии; однако дела «с тем, что покупают в одном
месте, называемом фондовой биржей», шли не слишком хорошо. Чтобы
улучшить положение, было решено, что Эрнесту следует купить этих штук в
большем количестве, чем то, за какое он мог заплатить, — из расчета, что через
несколько недель или даже дней они значительно поднимутся в цене и он сможет
продать их с огромной выгодой; но, к сожалению, вместо того чтобы
подняться в цене, они упали сразу же после того, как Эрнест купил их, и упрямо
отказывались расти снова. После нескольких уплат им овладел страх, когда он
прочитал в одной из газет статью, в которой говорилось, что акции еще сильнее
упадут в цене, и вопреки совету Прайера он настоял на их продаже — с убытком
где-то в пятьсот фунтов. Едва Эрнест их продал, как акции снова пошли в гору,
190
Путь всякой плоти
и он увидел, как глуп был он и как мудр Прайер, поскольку, если бы он
последовал его совету, то заработал бы пятьсот фунтов прибыли, вместо того чтобы
потерять ту же сумму. Но он сказал себе, что на ошибках учатся.
Затем ошибку совершил Прайер. Они купили акции, и те восхитительным
образом повысились в цене за две недели. Это было счастливое время, ибо к
концу второй недели не только потерянные деньги оказались возвращены, но
и было получено вдобавок три-четыре сотни фунтов чистой прибыли. Все
лихорадочное беспокойство этих несчастных шести недель, когда случилась
потеря пятисот фунтов, теперь вознаградилось с лихвой. Эрнест хотел продать
акции и удовлетвориться верной прибылью, но Прайер и слышать об этом не
желал, утверждая, что акции должны подняться намного выше, и в качестве
доказательства продемонстрировал Эрнесту статью в газете, в которой
говорилось о том же самом; они и поднялись немного, но только очень немного, а
затем неуклонно устремились вниз. Эрнест увидел, как сначала исчезла его
чистая прибыль, составлявшая три-четыре сотни фунтов, потом те пятьсот
фунтов, которые он считал возмещением убытка, ускользнули вследствие
понижения курса акций в полтора раза, а затем он потерял еще двести фунтов,
после чего какая-то газета сообщила, что эти акции — самое большое
надувательство, которому когда-либо подвергалось английское общество. Эрнест не
мог больше этого выдержать и продал акции, и опять вопреки совету Прайе-
ра, так что, когда через короткое время акции вновь поднялись в цене,
Прайер одержал верх над Эрнестом во второй раз.
Не привыкший к подобного рода превратностям, Эрнест впал в такое
сильное беспокойство, что это сказалось на его здоровье; поэтому решили, что ему
лучше ничего не знать о том, как ведутся дела. Прайер, как намного более
практичный человек, чем он, готов был взять все на себя. Это освободило
Эрнеста от множества забот и было лучше в конце концов для самих вложений; ибо,
как справедливо говорил Прайер, человеку нельзя иметь слабое сердце, если
он надеется преуспеть в покупке и продаже акций на фондовой бирже, а видя,
как Эрнест волнуется, Прайер тоже начинал волноваться — по крайней мере,
так он говорил. Так что деньги потихоньку перекочевали в руки Прайера, при
том что сам Прайер имел только жалованье, которое получал в приходе, и
небольшую денежную помощь от своего отца.
Некоторые из давних друзей Эрнеста получили благодаря переписке кое-
какое представление о том, что он делал, и прилагали все усилия, чтобы
образумить его, но он был увлечен, словно молодой влюбленный двадцати двух лет.
Обнаружив, что друзья не одобряют его, он порвал с ними, а они, поскольку
им надоело его самомнение и высокопарные речи, без сожаления позволили
ему это сделать. Конечно, он ничего не говорил о своих спекуляциях, да едва
ли и знал, что нечто, совершаемое во имя столь благого дела, могло называться
спекуляцией. В Бэттерсби, когда отец настаивал, чтобы он подыскал себе
место кандидата на следующую в церковной иерархии должность, и даже
обратил его внимание на один-два многообещающих варианта, Эрнест нашел
поводы для возражений и отговорок, обещая тем не менее очень скоро поступить
так, как желает отец.
Глава 56
191
Глава 56
Постепенно Эрнестом начала овладевать странная, непонятная тревога. Я
однажды наблюдал, как совсем молодой жеребенок пробовал съесть в высшей
степени неаппетитные отбросы, не в состоянии решить, съедобны они или нет.
Безусловно, он нуждался в том, чтобы ему это объяснили. Если бы его мать
увидела, что он делает, она бы вмиг ему все разъяснила, и, как только бы ему
втолковали, что то, что он ест, мерзость, жеребенок понял бы это и впредь не
нуждался бы в новых разъяснениях; но самостоятельно он не мог справиться с
этой задачей и без посторонней помощи решить, понравилось ли ему то, что он
пробовал съесть, или нет. Полагаю, в итоге он нашел правильное решение, но
ему пришлось потратить на это время и усилия, от чего всего лишь один взгляд
матери мог бы его избавить. Так и сусло со временем сбродит, но оно сбродит
намного быстрее, если добавить в него дрожжей. В деле познания того, что
доставляет нам удовольствие, мы все вроде сусла и, коли не получаем помощи
извне, можем бродить только медленно и трудно.
Мой несчастный герой к тому времени был очень похож на этого жеребенка
или скорее чувствовал во многом то же, что чувствовал бы жеребенок, если бы
мать и все остальные взрослые лошади в поле подтвердили, что то, что он ел, —
самая превосходная и полезная пища, какую только можно найти. Эрнест так
стремился делать то, что правильно, и так готов был верить, что кто-то другой
все знает лучше, чем он, что никогда не посмел допустить мысли, что, быть
может, все время шел безнадежно неправильным путем. Ему и в голову не
приходило, что в чем-либо здесь возможна серьезная ошибка, и уж тем более не
приходило ему в голову попытаться выяснить, в чем же эта серьезная ошибка
состоит. Однако день ото дня он становился все тревожнее и день ото дня, сам не
сознавая того, все более был готов взорваться, упади на него малейшая искра.
Одно обстоятельство, впрочем, начинало вырисовываться из общей
неопределенности, и к нему он инстинктивно обратился, пытаясь ухватиться, — я имею
в виду тот факт, что он занимался спасением очень немногих душ, в то время
как тысячи и тысячи людей вокруг него ежечасно губили свои души — души,
которые энергия, подобная энергии мистера Хока, могла бы спасти. День
проходил за днем, а что делал Эрнест? Совершал положенные церемонии и
молился, чтобы его акции поднимались и опускались в цене, как ему было нужно,
принося достаточно денег, чтобы позволить ему возродить мир. Но тем
временем люди гибли. Сколько душ не оказалось бы обречено на бесконечные и
самые ужасные мучения, какие только можно вообразить, если бы он смог
залустить для них свою машину духовной патологии? Почему бы ему не начать
проповедовать как диссентеры, которых он видел иногда за этим занятием на
Линкольн-Инн-Филдс и других оживленных улицах? Он мог говорить все то
же, что говорил мистер Хок. Мистер Хок теперь представал очень жалким
существом в глазах Эрнеста, поскольку был сторонником Низкой церкви, но
мы не должны пренебрегать возможностью учиться у кого бы то ни было, и,
конечно, он, Эрнест, если бы только набрался храбрости приняться за дело, мог
бы воздействовать на своих слушателей так же сильно, как мистер Хок воздей-
192
Путь всякой плоти
ствовал на него самого. Проповедники, которых он видел на площадях, иногда
собирали большую аудиторию. А ведь он мог проповедовать лучше, чем они.
Эрнест затеял об этом разговор с Прайером, однако тот воспринял идею как
нечто чересчур возмутительное, чтобы даже думать об этом. Ничто, сказал он,
не могло бы более принизить достоинство духовенства и возбудить презрение
к Церкви. Его ответ был резким и даже грубым.
Эрнест отважился на слабое возражение; он признал, что это не совсем
обычное явление, но что-то же нужно делать, и как можно быстрее. Ведь именно так
Уэсли и Уайтфилд1 начали то широкое движение, которое пробудило
религиозные чувства в душах сотен тысяч людей. Не время думать о достоинстве.
Именно потому, что Уэсли и Уайтфилд затеяли то, чего не захотела сделать Церковь,
они увлекли за собой людей, которых Церковь ныне потеряла.
Прайер посмотрел на Эрнеста испытующим взглядом и после некоторой
паузы сказал:
— Не знаю, что с вами делать, Понтифекс; вы одновременно и очень правы,
и очень неправы. Я целиком согласен с вами в том, что нужно что-то делать,
но нельзя действовать тем способом, который, как показал опыт, ведет лишь
к фанатизму и расколу. Неужели вы одобряете уэслианцев? Неужели так мало
цените данные вами при рукоположении обеты, чтобы не придавать никакого
значения тому, совершаются ли церковные службы в наших церквах и со
всеми должными обрядами или нет? Если вы не придаете этому значения, тогда,
по правде говоря, вам вовсе не следовало принимать посвящения; если же
придаете, то вспомните, что одной из первых обязанностей молодого дьякона
является повиновение вышестоящим. Ни Католическая, ни пока еще
Англиканская церковь не позволяют духовенству проповедовать на улицах городов, где
нет недостатка в церквах.
Эрнест почувствовал убедительность этих слов, и Прайер увидел, что он
дрогнул.
— Мы живем, — продолжал он более мягко, — в переходный период и в
такой стране, которая, хоть и извлекла много пользы из Реформации2, не
осознает, как много она при этом потеряла. Вы не можете и не должны
распространяться о Христе на улицах, как будто попали в языческую страну, где
жители никогда не слышали о Нем. Люди здесь, в Лондоне, имели вполне
достаточно предостережений. Каждый храм, мимо которого они проходят, служит
протестом против их образа жизни и призывает их покаяться. Каждый
церковный колокол, который они слышат, свидетельствует против них, каждый из тех,
кого они встречают по воскресеньям идущими в церковь или выходящими из
нее, является предостерегающим гласом Божьим. Если все эти бесчисленные
примеры не производят на них никакого воздействия, то не произведут его и
те немногие преходящие слова, которые они услышат от вас. Вы уподобляетесь
богачу из притчи о Лазаре3 и думаете, что, если бы кто-то из мертвых пришел,
его бы услышали. Возможно, и услышали бы, но вы же не можете утверждать,
что восстали из мертвых.
Хотя последние слова были сказаны в шутку, в них крылась насмешка,
которая заставила Эрнеста вздрогнуть; но он был совершенно подавлен, на том
Глава 57
193
беседа и закончилась. Однако, как бывало уже не раз, она оставила у
Эрнеста осознанное чувство недовольства Праейром и склоняла к тому, чтобы не
послушаться своего друга и действовать втайне от него, ничего ему не говоря.
Глава 57
Едва Эрнест расстался с Праейром, как случилось еще одно событие, которое
усилило его недовольство. Он попал, как я показал, во власть банды духовных
мошенников и фальшивомонетчиков1, которые подсовывали ему самый
низкопробный металл, о чем он нимало не догадывался, ибо был до крайности наивен
и неопытен во всем, что лежало за пределами задворков жизни — школ и
университетов. Среди тех фальшивых трехпенсовиков, которые всучили ему и которые
он хранил на мелкие расходы, было высказывание, что бедняки намного лучше
богачей и более воспитанны. Эрнест теперь говорил, что всегда ездит третьим
классом не потому, что это дешевле, а потому, что люди, которых он встречает
в вагонах третьего класса, намного приятнее и лучше умеют себя вести. Что
касается молодых людей, которые посещали вечерние занятия Эрнеста, то они
были объявлены в целом более интеллектуально развитыми, чем заурядные
выпускники Кембриджа и Оксфорда. Наш глупый юный друг, услышав речи
Прайера на эту тему, подхватил все, что тот говорил, и вторил ему more suo*.
Однако как-то вечером примерно в те дни он увидел на маленькой улице
недалеко от той, где жил сам, не кого иного, как Таунли, столь же полного жизни,
находящегося в столь же хорошем настроении, как всегда, и, если это
возможно, еще более красивого, чем в Кембридже. Как Эрнест ни любил его, но,
ощутив потребность избежать разговора, постарался пройти мимо незамеченным, как
вдруг Таунли увидел его и тут же подошел сам, радуясь встрече с товарищем по
Кембриджу. На мгновение Таунли, казалось, испытал некоторое смущение
оттого, что его увидели в этой части города, но овладел собой так быстро, что Эрнест
едва заметил его смущение, и тут же ненадолго предался воспоминаниям о
старых добрых временах. Эрнест испытал неловкость, увидев, что взгляд Таунли
упал на его белый воротничок, и понял, что у Таунли не вызывает одобрения тот
факт, что его знакомый стал служителем Церкви. По лицу Таунли промелькнула
лишь слабая тень этой неблагоприятной оценки, но Эрнест успел ее заметить.
Таунли сказал несколько общих фраз о том, что всегда полагал, что Эрнест
наверняка выберет церковное поприще, а тот, все еще смущаясь и робея, не
нашел ничего лучшего, как высказать трехгрошовую истину, что, мол,
бедняки — люди очень хорошие. Таунли отнесся к ней так, как она того и
заслуживала, и утвердительно кивнул, на что Эрнест без долгих раздумий спросил:
«Разве вы не любите бедных людей?»
Таунли придал своему лицу комичное, но добродушное выражение и
сказал спокойно, но решительно и с расстановкой: «Нет, нет, нет» — после чего
поспешил удалиться.
* по своему обыкновению (лат).
194
Путь всякой плоти
С этого момента с Эрнестом было все кончено. Как обычно, он не понял
этого, но тем не менее в нем началась активная реакция. Таунли только что взял
трехпенсовик Эрнеста в руки, разглядел и вернул ему как негодный. Почему
он сразу увидел, что это фальшивка, а сам Эрнест оказался не способен
увидеть это, когда принимал монету из рук Прайера? Разумеется, некоторые
бедняки — люди действительно очень хорошие и такими всегда останутся, но
теперь как будто пелена вдруг спала с его глаз, и он понял, что никого не
следует считать хорошим лишь оттого, что он беден, и что между высшим и низшим
классами существует пропасть2, равносильная почти непреодолимому барьеру.
Тем вечером он много размышлял. Если Таунли прав, а Эрнест чувствовал,
что произнесенное «нет» относилось не только к замечанию относительно
бедных людей, но и ко всему его плану и возможностям осуществления недавно
усвоенных им идей, то в таком случае он и Прайер, конечно, стоят на неверном
пути. Таунли не спорил с ним; он сказал всего лишь одно слово и притом
самое короткое из всех, какие имеются в языке, но Эрнест был в состоянии,
пригодном для прививки, и мельчайшие частицы вируса немедленно принялись за
работу.
Который из них, Таунли или Прайер, размышлял он теперь, имеет более
правильное представление о жизни и о положении вещей и кому из них следует
подражать? Его сердце отвечало на этот вопрос без всяких колебаний. Лица
людей, подобных Таунли, открыты и добры; эти люди ведут себя
непринужденно, и все, кто вступает с ними в общение, начинают чувствовать себя с ними
столь непринужденно, сколь это возможно. Лица Прайера и его друзей совсем
иные. Почему он почувствовал со стороны Таунли молчаливый укор, как
только встретился с ним? Разве он не христианин? Разумеется, христианин; он, как
и положено, верует в учение Англиканской церкви. Тогда как сам он может
быть не прав в попытке действовать согласно вере, общей у него и у Таунли?
Он пытается вести тихую, скромную жизнь самопожертвования, а Таунли,
насколько он понимает, не стремится делать ничего подобного; Таунли
пытается только удобно устроиться в этом мире, выглядеть и быть настолько
хорошим, насколько получится. И он хороший, а такие люди, понял Эрнест, как он
сам и Прайер, не хорошие, и прежнее уныние овладело им.
Затем ему пришла на ум еще более тяжелая мысль: а что, если он попал в
руки мошенников как в материальном смысле, так и в духовном? Он очень
мало знал о том, что происходит с его деньгами; все их он вручил Прайеру, и
хотя тот выдавал ему наличность на расходы всякий раз, когда Эрнест
нуждался в деньгах, но терпеть не мог расспросов о том, что делается с капиталом.
Одно из условий договоренности между ними, говорил Прайер, состоит в том,
что капиталом должен заниматься он, и Эрнесту лучше придерживаться
этого условия, иначе он, Прайер, вообще откажется от участия в колледже
духовной патологии, и таким образом то запугивал Эрнеста, вынуждая к уступкам,
то улещивал, сообразуясь с настроением, в котором заставал своего
компаньона. Эрнест думал, что дальнейшие расспросы могут быть приняты Прайером
за недоверие и еще что он зашел уже слишком далеко, чтобы иметь возмож-
Глава 58
195
ность благопристойно и с честью отступить. Это, однако, считал Эрнест, было
бы излишней предосторожностью. Да, Прайер немного раздражителен, но он
джентльмен и замечательно практичный человек, а значит, деньги,
несомненно, благополучно вернутся в должное время.
Эрнест подавил в себе тревогу по поводу данного источника беспокойства,
но что касается другого, то у него возникло чувство, что если ему суждено
спастись, то добрый самаритянин должен поторопиться ему на помощь — хотя,
откуда таковой может явиться, он не знал.
Глава 58
На следующий день Эрнест вновь укрепился духом. Накануне вечером он
слышал голос нечистого, но больше не поддастся таким мыслям. Избрав свой
жизненный путь, должно неуклонно ему следовать. Если он несчастен, то,
вероятно, оттого, что не оставил все во имя Христа. Нужно попытаться делать
больше, чем он делает теперь, и тогда, возможно, свет озарит стезю его1.
Пусть он сделал открытие, что не очень-то любит бедняков, но нужно
терпеть их, поскольку именно в том, чтобы заниматься ими, и состоял его труд.
Такие люди, как Таунли, очень доброжелательны и тактичны, но Эрнест
хорошо знал, что такими они останутся лишь при условии, что он не будет
обращаться к ним с проповедями. Возможно, это лучше получится у него с
бедняками, и пусть Прайер насмешничает сколько ему угодно, но он, Эрнест, решил
пойти к беднякам и попробовать принести им учение Христа, раз они сами
Христа не ищут. Намерен он был начать с дома, в котором жил.
К кому следовало отправиться в первую очередь? Определенно, лучше
всего было начать с портного, который жил в квартире прямо над ним. Это было
целесообразно не только потому, что тот казался именно тем человеком,
который более всего нуждался в обращении на путь истинный, но также и потому,
что если бы удалось его обратить, то он больше не бил бы свою жену в два часа
ночи и вследствие этого жизнь в доме стала бы намного приятнее. Вот почему
Эрнест решил тут же подняться наверх и спокойно поговорить с портным.
Он подумал, что, перед тем как сделать это, хорошо бы составить что-то
вроде плана предстоящей кампании, а потому стал обдумывать содержание
возможных диалогов, которые могли состояться у него с мистером Холтом,
если бы тот оказался столь любезен, что дал бы ответы на предложенные ему
в ходе беседы вопросы. Но портной был огромным детиной свирепого нрава,
и Эрнесту пришлось признать, что его план могут расстроить непредвиденные
обстоятельства. Говорят, что нужно девять портных, чтобы получился один
человек, но Эрнест чувствовал, что нужно, по крайней мере, девять Эрнестов,
чтобы получился один мистер Холт. Что, если, как только Эрнест войдет,
портной начнет буйствовать и браниться? Что тогда делать? Мистер Холт находится
в собственном жилище и имеет право на то, чтобы его не беспокоили.
Законное право — да, но имеет ли он моральное право? Эрнест считал, что нет, учи-
196
Путь всякой плоти
тывая образ жизни портного. Но, даже оставляя в стороне этот вопрос, что
делать, если мистер Холт станет буйствовать? Павел боролся в Ефесе2 со
зверями3, что, должно быть, действительно было ужасно, но, возможно, они были
не такими уж дикими, эти звери; кролик и канарейка — тоже звери; но,
независимо от того, грозными или нет были те звери, у них не имелось никакого
шанса противостоять апостолу Павлу, поскольку он был вдохновлен свыше;
чудом явилось бегство зверей, бегство же апостола Павла чудом бы не стало;
но, как бы то ни было, Эрнест почувствовал, что не осмеливается приступить
к обращению мистера Холта, начав с драки с ним. Где уж ему! Ведь даже
когда он слышал крик миссис Холт «убивают!», то сжимался от ужаса под
одеялом и цепенел, ожидая, что сейчас услышит, как кровь капает с потолка на пол
его комнаты. Воображение каждый звук превращало в «кап-кап-кап», и пару
раз ему даже казалось, что он чувствует, как капли крови падают на покрывало
его постели, но ни разу не поднялся наверх, чтобы попытаться спасти
несчастную миссис Холт. К счастью, на следующее утро оказывалось, что миссис Холт
по-прежнему пребывает во здравии.
Эрнест отчаялся найти какой-либо верный способ вступить в духовное
общение со своим соседом, как вдруг ему пришло в голову, что, может быть,
лучше всего начать с того, что отправиться наверх и очень осторожно постучать
в дверь мистера Холта. Тогда он вверится воле Святого Духа и станет
действовать, как подскажут обстоятельства, которые, полагаю, он и именовал Святым
Духом. Вооружившись этим решением, Эрнест в бодром расположении духа
поднялся по лестнице и уже было собрался постучать, как вдруг услышал
доносящийся из-за двери голос Холта, яростно бранящего свою жену. Это
заставило Эрнеста помедлить, чтобы решить, достаточно ли благоприятен данный
момент, а пока он таким образом медлил, мистер Холт, услышав, что кто-то
поднялся по лестнице, открыл дверь и высунул голову. Увидев Эрнеста, он
сделал лишенное приязни, чтобы не сказать наступательное, движение, которое,
независимо от того, было ли оно направлено на Эрнеста или нет, выглядело
само по себе настолько жутко, что мой герой мгновенно получил
недвусмысленное откровение от Святого Духа в том смысле, что ему следует тут же
продолжить подъем по лестнице, как будто он никогда и не собирался
задерживаться у комнаты мистера Холта, и начать обращение с мистера и миссис Бакс-
тер, методистов, живших этажом выше. Так он и сделал.
Эти добрые люди приняли его с распростертыми объятиями и были весьма
рады поговорить. Он вознамерился обратить их от методизма к Англиканской
церкви, но с первых же шагов пришел в замешательство, обнаружив, что
понятия не имеет, от чего намерен их отвратить. Он знал, или ему думалось, что
знает, что такое Англиканская церковь, но ничего не знал о методизме, кроме
названия. Когда Эрнест услышал от мистера Бакстера о том, какую уэслиан-
цы имеют развитую церковную доктрину (которая превосходно осуществляется
на практике), то ему показалось, что Джон Уэсли опередил их с Прайером в
отношении тех духовных средств, которые они еще только готовились
применить, и он покинул комнату четы Бакстер с сознанием того, что встретился с
намного более сильным духовным противником, чем ожидал. Он непременно
Глава 58
197
должен объяснить Прайеру, что уэслианцы имеют церковную доктрину. Это
очень важно.
Мистер Бакстер посоветовал ни в коем случае не связываться с мистером
Холтом, и этот совет принес Эрнесту большое облегчение. Если представится
какая-либо возможность тронуть сердце портного, он ею воспользуется; он
погладит по головке его детей, когда встретит на лестнице, и попытается
снискать их расположение, насколько отважится; они были крепкими ребятами, и
Эрнест боялся даже их, поскольку язык у них был хорошо подвешен и знали
они для своих лет немало. Эрнест чувствовал, что предпочтительнее повесить
жернов на шею и броситься в море, чем вызвать раздражение одного из
маленьких Холтов. И он должен постараться не раздражать их; возможно, пара
пенни при случае способна умилостивить их. Вот и все, что он пока мог сделать,
поскольку убедился, что попытка, будь она предпринята как в неподходящий
момент, так и в подходящий, закончится, вопреки предписанию апостола
Павла4, неудачей.
Миссис Бакстер дала очень неблагоприятный отзыв о мисс Эмили Сноу,
жившей на третьем этаже рядом с мистером Холтом. Ее характеристика весьма
отличалась от характеристики, представленной миссис Джуп, домовладелицей.
Мисс Сноу была бы, несомненно, только рада попечительству Эрнеста или
какого-либо другого джентльмена, но она никакая не гувернантка, а
танцовщица в театре «Друри-Лейн» и к тому же барышня весьма безнравственная, и если
бы миссис Бакстер была домовладелицей, то не позволила бы ей ни часу
оставаться в доме, это уж точно.
Мисс Мэйтланд, жившая в комнате по соседству с миссис Бакстер, была на
вид барышней скромной и благопристойной; миссис Бакстер никогда не знала
неприятностей с этой соседкой, но, ей-богу, в тихом омуте черти водятся, и эти
девицы одного поля ягоды, одна не лучше другой. Она уходит из дому в
любое время дня и ночи, а если вы знаете о человеке такое, то вы знаете о нем все.
Эрнест не придал большого значения хуле со стороны миссис Бакстер.
Миссис Джуп умудрилась сыграть на большей части его многочисленных
слабых струн и предупредила, чтобы он не верил миссис Бакстер, у которой, как
она сказала, язык такой злой, что просто ужас.
Эрнест слышал, что женщины всегда завидуют друг другу, и конечно же эти
девушки были привлекательнее миссис Бакстер, а потому ею, вероятно, просто
двигала зависть. Если они оклеветаны, то ничто не мешало ему
познакомиться с ними; если же сказанное не было клеветой, то они тем более нуждались в
его попечении. Он тотчас же вознамерился исправить их.
Он сказал о своем намерении миссис Джуп. Домовладелица сначала
пробовала отговаривать его, но, видя его решимость, предложила первой поговорить
с мисс Сноу и подготовить ее, дабы та не оказалась напугана визитом. Теперь
ее нет дома, но на следующий день все будет устроено. А ему тем временем
лучше попытать счастья с мистером Шоу, ремесленником, жившим на первом
этаже. Миссис Бакстер сказала Эрнесту, что мистер Шоу родом с севера
Англии и откровенный вольнодумец; она сказала, что он будет, вероятно, вполне рад
гостю, но думала, что у Эрнеста не много шансов обратить его в веру.
198
Путь всякой плоти
Глава 59
Перед тем как отправиться на первый этаж и заняться обращением
жестянщика, Эрнест спешно просмотрел свои заметки касательно «Доказательств» Пей-
ли1 и положил в карман «Исторические сомнения»2 архиепископа Уайтли.
Затем он спустился по темной, шаткой старой лестнице и постучал в дверь
жестянщика. Мистер Шоу был очень вежлив; он сказал, что в данное время
довольно-таки занят, но если Эрнесту не помешает стук молотка, то будет очень
рад поговорить с ним. Наш герой, согласившись, вскоре повел разговор об
«Исторических сомнениях» Уайтли, а в этом сочинении, как читатель, может
быть, знает, предпринимается притворная попытка доказать, что такой
личности, как Наполеон Бонапарт, никогда не существовало, и таким образом в
смешном свете выставляются аргументы тех, кто выражает неверие в христианские
чудеса.
Мистер Шоу сказал, что он очень хорошо знает «Исторические сомнения».
— И что вы думаете о них? — спросил Эрнест, считавший этот памфлет
шедевром остроумия и убедительности.
— Если вы в самом деле хотите знать, — сказал мистер Шоу с лукавой
усмешкой, — я думаю, что тот, кто с такой готовностью взялся и сумел доказать, что
того, что было, не было, может равным образом взяться и с тем же успехом
продемонстрировать, что то, чего не было, на самом деле было, если поставит
перед собой такую цель.
Эрнест был просто ошеломлен. Как могло случиться, что никто из умников
в Кембридже никогда не навел его на такую простую мысль? Ответ ясен: эта
мысль не могла возникнуть у них по той же причине, по какой у курицы не
могли развиться перепончатые лапы, то есть потому, что они не нуждались в
ней;3 но теория эволюции еще не получила распространения4, и Эрнест пока
ничего не мог знать о великом принципе, составляющем ее основу.
— Видите ли, — продолжал мистер Шоу, — все эти авторы зарабатывают на
жизнь писаниями подобного рода, и, чем больше они пишут в таком духе, тем
лучше, вероятно, у них идут дела. Они не более заслуживают из-за этого
названия бесчестных, чем заслуживает названия бесчестного адвокат,
зарабатывающий на жизнь тем, что защищает в суде человека, в чью невиновность
по-настоящему не верит; но нужно выслушать мнение адвоката и другой стороны,
прежде чем выносить решение по тому или иному делу.
Это было еще одним ударом. Эрнест смог только пробормотать, что
приложил усилия, чтобы изучить эти вопросы настолько тщательно, насколько
мог.
— Вы так думаете, — сказал мистер Шоу, — вы, джентльмены из Оксфорда
и Кембриджа, думаете, что изучили все. Сам я изучил очень немногое, помимо
дна старых чайников и кастрюль, но, если вы ответите мне на несколько
вопросов, я скажу вам, изучили ли вы намного больше меня.
Эрнест выразил готовность подвергнуться испытанию.
— Тогда, — произнес жестянщик, — расскажите мне историю воскресения
Иисуса Христа5, как она изложена в Евангелии от святого Иоанна.
Глава 59
199
С огорчением должен признать, что Эрнест самым прискорбным образом
смешал рассказы четырех евангелий; он даже заставил ангела спуститься с
небес, отвалить камень и сесть на него6. Он пришел в сильное смущение, когда
жестянщик сначала без помощи книги указал ему на некоторые из его
многочисленных неточностей, а затем уже на основании текста Нового Завета
подтвердил правильность своих критических замечаний.
— Послушайте, — сказал мистер Шоу добродушно, — я старик, а вы
молодой человек, и потому, возможно, не станете возражать, если я дам вам один
совет. Вы мне нравитесь, ибо я полагаю, что намерения у вас хорошие, но вы
получили довольно плохую подготовку, и не думаю, что до сих пор вам
выпадал шанс проявить себя. Вы ничего не знаете о том, как этот вопрос выглядит
с нашей стороны, и я только что показал вам, что вы не намного больше
знаете и о том, как он выглядит с вашей стороны, но я думаю, что со временем вы
займете позицию, на какой стоит Карлейль7. А теперь идите к себе наверх и
внимательно прочитайте все четыре рассказа о воскресении, чтобы не
путаться в деталях, и уясните себе, что каждый из авторов сообщает нам. Если же вы
возымеете желание еще раз посетить меня, то я буду рад вас видеть, ибо буду
знать, что вы сделали хорошее начало и разумеете дело. А пока, сэр, должен
проститься с вами, пожелав всего наилучшего.
Эрнест, пристыженный, удалился. Ему хватило часа, чтобы выполнить
задание, данное ему мистером Шоу; когда час подошел к концу, слова «нет, нет,
нет», которые звучали в его ушах, с тех пор как он услышал их от Таунли, стали
все громче раздаваться уже с самих страниц Библии, причем по поводу
самого важного из всех событий, о которых в ней говорилось. Конечно, первая
попытка Эрнеста с этими посещениями разного рода людей и проведением в
жизнь своих принципов не оказалась неплодотворной. Но он должен пойти и
поговорить с Прайером. И после обеда Эрнест отправился к нему. Поскольку
Прайера не оказалось дома, Эрнест забрел в читальный зал Британского
музея8, тогда недавно открытый, взял книгу «Следы творения», которую никогда
прежде не видел, и провел остальную часть дня за ее чтением.
Эрнест не увиделся с Прайером в день своей беседы с мистером Шоу, но на
следующее утро встретился с ним и нашел его в хорошем расположении духа,
что в последнее время случалось редко. Иногда он в самом деле вел себя в
отношении Эрнеста так, что это не могло предвещать гармонии в работе
колледжа духовной патологии в случае его основания. Казалось даже, что он как
бы пытается полностью подчинить Эрнеста себе в моральном смысле, сделать
его орудием в своих руках.
Эрнест не допускал возможности, что Прайер мог зайти так далеко, и
действительно, когда я размышляю над безрассудством и неопытностью моего героя,
то обнаруживаю достаточно оснований для оправдания того заключения, к
которому пришел Прайер.
На практике, однако, дело обстояло не так. Вера Эрнеста в Прайера была
слишком велика, чтобы рухнуть в одно мгновение, но в последнее время она
значительно ослабела. Эрнест изо всех сил сопротивлялся, не желая позволить
себе признаться в этом, однако всякий из тех, кто знал двух приятелей, спосо-
200
Путь всякой плоти
бен был бы увидеть, что их союз может распасться в любой момент, ибо, когда
настало время для очередной из крутых перемен в жизни Эрнеста, он
действовал быстро; но теперь это время еще не настало, и доверительность между ним
и Прайером оставалась, по видимости, такой же, как и прежде. Лишь
неприятные денежные дела (как называл это для себя Эрнест) служили причиной
некоторых размолвок между ними, и, без сомнения, Прайер был прав, а он, Эрнест,
слишком боязлив. Однако пока этот вопрос можно было отложить.
Подобным же образом, хотя Эрнест испытал потрясение вследствие
беседы с мистером Шоу и чтения «Следов творения», он пока еще пребывал под
действием слишком сильных чувств, чтобы осознать перемену, которая в нем
происходила. Во всяком случае, инерция старых привычек заставляла его
двигаться в прежнем направлении, поэтому он явился к Прайеру и провел с ним
более часа.
Эрнест не признался, что посетил соседей, — это подействовало бы на Прай-
ера как красная тряпка на быка. Он говорил только в почти обычной своей
манере о предполагаемом колледже, удручающем отсутствии интереса к
духовным проблемам, характерном для современного общества, и других
аналогичных вещах; в заключение он выразил опасение, что Прайер действительно прав
и на данном этапе ничего нельзя сделать.
— Что касается мирян, — ответил Прайер, — то в самом деле ничего, пока не
установится дисциплина, соблюдение которой мы сможем обеспечить
посредством определенных мер и наказаний. Как может овчарка стеречь стадо овец,
если не станет время от времени кусать, а не только лаять? Но что касается нас
самих, то мы можем сделать многое.
Во время беседы Прайер вел себя как-то странно, будто все время думал о
чем-то другом. Его глаза с любопытством следили за Эрнестом, что часто, как
замечал Эрнест, случалось и прежде; произносились слова о дисциплине
Церкви, но так или иначе дисциплинарная тема имела склонность идти на убыль,
после того как снова и снова настойчиво объявлялось о применении
дисциплины к мирянам, а не к духовенству. Однажды Прайер даже раздраженно
воскликнул: «Ох уж этот несносный колледж духовной патологии!» Что касается
духовенства, то очертания довольно большого дьявольского копыта то и дело
выглядывали из-под святого покрова речи Прайера, в том смысле, что
поскольку теоретически духовенство совершенно, то фактические грешки — или даже
грешищи, если существует такое слово, — не имели большого значения. Он
ерзал, словно хотел затронуть предмет, которого не отваживался касаться, и
продолжал твердить одно и то же (он делал это чуть не через каждые два дня)
о крайней неадекватности определения границ порока и добродетели и о том,
что половину пороков требуется скорее регламентировать, чем запретить. Он
разглагольствовал также о преимуществах абсолютной несдержанности и
намекал, что есть таинства, в которые Эрнест еще не посвящен, но которые
просветят его, когда он их узнает, а это ему будет позволено, как только его друзья
увидят, что он уже достаточно силен.
Прайер часто бывал таким и прежде, но никогда, как показалось Эрнесту,
не доходил до такого именно состояния, хотя что это было за состояние, он до
Глава 60
201
конца не мог понять. Беспокойство Прайера передалось и Эрнесту, который,
вероятно, был уже близок к тому, чтобы узнать все то, что Прайер мог сказать
ему, но тут беседа неожиданно прервалась из-за появления посетителя. Мы
никогда не узнаем, чем она могла бы завершиться, поскольку то был последний
раз, когда Эрнест видел Прайера. Возможно, Прайер собирался сообщить ему
какие-нибудь плохие новости о своих спекуляциях.
Глава 60
Эрнест отправился домой и до обеда занимался изучением комментариев
декана Элфорда1 к изложенной в различных евангелиях истории воскресения —
то есть делал то, что велел ему мистер Шоу, причем пытался установить не то,
что все они точны, а точны ли они все или нет. Его не заботило, к какому
результату он может прийти, но он был полон решимости достичь того или
иного результата. Когда он покончил с комментариями декана Элфорда, то
обнаружил, что они сводятся к той именно идее, что пока еще никому не удалось
привести все четыре евангельских рассказа о воскресении в приемлемую
гармонию друг с другом и что Элфорд, не видя никакой возможности преуспеть
более, чем его предшественники, просто-напросто рекомендовал принять
историю на веру, — а этого-то Эрнест как раз не был готов сделать.
После обеда он отправился на длительную прогулку и возвратился к ужину
в половине седьмого. Подавая ему ужин — бифштекс и пинту портера, — миссис
Джуп сказала, что мисс Сноу будет очень рада видеть его примерно через час.
Это привело Эрнеста в замешательство, поскольку он пребывал в слишком
неустойчивом состоянии духа, чтобы у него именно теперь возникло желание
заняться чьим-либо обращением. Немного поразмыслив, он пришел к выводу, что,
несмотря на неожиданно пережитое духовное потрясение, он непременно обязан
нанести визит, словно ничего не случилось. Не пойти выглядело бы невежливо,
поскольку было известно, что он дома. Не нужно слишком спешить с внезапной
переменой мнения по такому вопросу, как свидетельства в пользу воскресения
Христа; кроме того, он мог и не говорить сегодня с мисс Сноу о данном
предмете — существовали ведь и другие темы, о которых можно было бы побеседовать.
Какие другие темы? Эрнест чувствовал, как его сердце бешено колотится, а
внутренний голос подсказывал ему, что думает он вовсе не о душе мисс Сноу.
Что делать? Бежать, бежать, бежать — вот единственное спасение. Но
разве Христос сбежал бы? Даже если Христос не умер и не восстал из мертвых,
нет сомнения, что Он служит образцом, коему мы обязаны следовать. Христос
не сбежал бы от мисс Сноу, Эрнест был уверен в этом, ибо Он много
общался с продажными женщинами и людьми сомнительных занятий. Теперь, как и
тогда, дело истинного христианина — призвать не праведников, но грешников
к покаянию2. Ему не хотелось менять место жительства, и он не мог попросить
миссис Джуп выгнать мисс Сноу и мисс Мэйтланд из дому. Где он должен
провести черту? Кто был бы достаточно хорош, чтобы жить в одном доме с ним,
а кто недостаточно?
202
Путь всякой плоти
Кроме того, куда было податься этим бедным девушкам? Неужели он
должен гнать их из дома в дом, пока они не обретут места, где преклонить
голову? Это нелепо. Его долг ясен: он должен сейчас же отправиться к мисс Сноу
и попытаться, если сможет, убедить ее изменить нынешний образ жизни. Если
же он обнаружит, что искушение становится для него слишком сильным, тогда
можно спастись бегством — и он пошел наверх с Библией под мышкой и огнем,
пылающим в груди3.
Мисс Сноу была очень миловидной, а комната ее оказалась обставлена
аккуратно, чтобы не сказать скромно. Я думаю, что в то утро она купила пару
картинок и прикрепила их над камином. Эрнест остался ею очень доволен и
механически положил Библию на стол. Едва он, смущаясь и сильно краснея,
робко начал беседу, как на лестнице послышался шум быстрых шагов, будто бы
над тем, кто поднимался по ступенькам, сила тяжести имела мало власти, и в
дверях комнаты внезапно появился мужчина со словами: «Я пришел раньше
времени». Это был Таунли.
Увидев Эрнеста, он изменился в лице:
— Как, и вы здесь, Понтифекс?! Вот уж не ожидал!
Не стану описывать поспешные объяснения, какие тут же произошли
между этими тремя, — достаточно сказать, что менее чем через минуту Эрнест,
покраснев сильнее, чем когда-либо в жизни, выскользнул из комнаты со своей
Библией, глубоко униженный тем, что оказался перед Таунли в таком
неприглядном положении. Еще не успев добежать до лестницы, ведущей к его
комнате, он услышал громкий смех Таунли, доносящийся из-за двери мисс Сноу,
и проклял час, когда родился на свет.
Тогда у него вдруг мелькнула мысль, что если он не может видеть мисс
Сноу, то мог бы, во всяком случае, повидать мисс Мэйтланд. Он вполне
отчетливо понимал теперь, чего хочет, а что касается Библии, то Эрнест оттолкнул
ее от себя на другой конец стола. Она упала на пол, и он пнул ее в угол. А ведь
это была Библия, подаренная ему при крещении любящей тетушкой, Элизабет
Элэби! Правда, он знал о мисс Мэйтланд очень мало, но в том состоянии, в
каком пребывал Эрнест, ничего не смыслящие юные глупцы не очень-то
раздумывают или рассуждают. Миссис Бакстер утверждала, что мисс Мэйтланд и
мисс Сноу — птицы одного полета, а миссис Бакстер, вероятно, была
осведомлена лучше, чем эта старая лгунья миссис Джуп. Шекспир говорит:4
Твоей вины не счесть, о случай злобный!
Предателю даешь в измене власть;
Ягненка ты толкаешь в волчью пасть.
Ты ловишь миг, для гнусности удобный.
Закону, вере, разуму упасть
Способствуешь. В твоей угрюмой клети
Грех ловит души в гибельные сети*.
* Пер. Т. Л. Щепкиной-Куперник.
Глава 61
203
Если вина случая и велика, то насколько же больше вина того, что
представляется случаем, но в действительности им отнюдь не является? Если
осмотрительность составляет значительную часть добродетели, то разве не в большей
мере она составляет значительную часть порока?
Приблизительно десять минут спустя после того, как мы в последний раз
видели Эрнеста, испуганная, оскорбленная девушка, покрасневшая и дрожащая,
выбежала из дома миссис Джуп с такой быстротой, какую допускало ее
возбужденное состояние, а спустя еще десять минут можно было увидеть двух
полицейских, также выходящих из дома миссис Джуп, а между ними скорее едва
волочил ноги, чем шел, наш несчастный друг Эрнест — с остановившимся взором,
бледный как смерть и в отчаянии, запечатлевшемся в каждой черточке его лица.
Глава 61
Прайер хорошо делал, что предостерегал Эрнеста от неразборчивого
посещения прихожан на дому. Он не вышел за двери дома миссис Джуп, а тем не
менее каков оказался результат? Мистер Холт внушил ему физический страх;
мистер и миссис Бакстер чуть не сделали из него методиста; мистер Шоу
подорвал его веру в воскресение; чары мисс Сноу разрушили — или разрушили
бы, если бы не случайность, — его репутацию. Что касается мисс Мэйтланд, то
он приложил все усилия к тому, чтобы разрушить ее репутацию, а в итоге
серьезно и необратимо навредил себе. Единственным жильцом, который не
причинил ему никакого вреда, был мастер по ремонту кузнечных мехов, которого он
не успел посетить.
Другие молодые священнослужители, во многих отношениях гораздо
глупее его, не угодили бы в такие истории. Эрнест же, казалось, выработал в себе
способность попадать в переплет почти со дня посвящения в духовный сан. Он
едва мог подняться на кафедру, без того чтобы не совершить какого-нибудь
ужасающего faux pas*. Однажды, читая утреннюю воскресную проповедь в тот
день, когда их приходскую церковь посетил епископ, Эрнест построил всю речь
на вопросе о том, что за хлеб вдова в Сарепте1 намеревалась приготовить, когда
Илия2 застал ее собирающей дрова3. Он доказывал, что это была тминная
лепешка. Проповедь в самом деле звучала очень забавно, и он не раз замечал
улыбки на обращенных к нему лицах многочисленных слушателей. Епископ
очень рассердился и, после того как служба закончилась, сделал моему герою
строгий выговор в ризнице; единственное оправдание, которое Эрнест мог
выдвинуть, состояло в том, что он произносил проповедь ex tempore**, не
продумал этот отдельный момент, до того как подняться на кафедру, и поддался
увлечению минуты.
В другой раз он произносил проповедь о бесплодной смоковнице4 и
описывал надежды ее владельца, который наблюдает, как распускаются нежные
* ложного шага (фр.).
** экспромтом (лат.).
204
Путь всякой плоти
цветки, обещал принести осенью такие прекрасные плоды. На следующий день
он получил письмо от некоего ботаника из числа прихожан, который объяснял
ему, что такое вряд ли возможно, поскольку смоковница сначала производит
плоды и завязь образуется внутри плода, или что-то в этом роде, так что
никаких цветков при обычном наблюдении заметить нельзя. Подобную оплошность,
однако, мог допустить любой человек, кроме разве что ученого мужа или
вдохновенного автора.
Единственное оправдание, которое я могу найти для Эрнеста, состоит в том,
что он был очень молод — ему не исполнилось еще и двадцати четырех лет —
и что как духовно, так и физически, подобно большинству из тех, кто в
конце концов начинает мыслить самостоятельно, он развивался медленно. Кроме
того, его образование по преимуществу являлось попыткой даже не столько
надеть ему на глаза шоры, сколько вообще лишить его зрения.
Но вернемся к моей истории. Как впоследствии выяснилось, мисс Мэйтланд
не имела намерения передавать Эрнеста в руки полиции, когда выбежала из
дома миссис Джуп. Она выбежала, потому что была испугана, но едва ли не
первым человеком, на которого она натолкнулась на бегу, оказался
полицейский серьезного направления мыслей, желавший отличиться активной
деятельностью. Он остановил девушку, расспросил, испугал еще больше, и именно он,
а не мисс Мэйтланд, настоял на том, чтобы вместе с другим констеблем
арестовать моего героя.
Таунли все еще находился в доме миссис Джуп, когда пришли полицейские.
Он услышал шум и, спустившись в комнату Эрнеста, в то время как мисс
Мэйтланд бежала по улице, нашел его, так сказать, лежащим в ошеломлении на дне
моральной пропасти, в которую он мгновение назад рухнул. Таунли сразу
понял, что произошло, но, прежде чем успел что-либо предпринять, явились
полицейские, и действовать стало невозможно.
Таунли спросил Эрнеста, есть ли у него друзья в Лондоне. Эрнест сначала
не хотел говорить, но Таунли быстро дал ему понять, что он должен делать то,
что ему велят, и выбрал меня из тех немногих, кого назвал Эрнест.
— Он пишет для театра, не так ли? — спросил Таунли. — Пишет комедии?
Эрнест, думая, что Таунли имеет в виду, что я должен писать трагедии,
ответил, что, к сожалению, я пишу пародии.
— Да полно вам, — сказал Таунли, — все отлично устроится. Я сейчас же
пойду и встречусь с ним.
Но по зрелом размышлении он решил остаться с Эрнестом и отправиться
с ним в полицейский участок, а за мной послал миссис Джуп. Та так спешила
привести меня, что, несмотря на погоду, все еще холодную, понеслась, как она
выразилась, опрометью. Бедняжка могла бы взять кеб, но у нее не было денег,
а у Таунли она просить не хотела. Я понял, что случилось что-то очень
серьезное, но не был готов к столь печальному происшествию, как то, о котором
рассказала миссис Джуп. У самой же миссис Джуп, по ее словам, с той минуты
просто сердце из груди выскакивает.
Я сел с нею в кеб, и мы двинулись в полицейский участок. Она трещала без
умолку.
Глава 61
205
— А если соседи и говорят обо мне гадости, то, будьте уверены, не из-за него,
это уж точно. Мистер Понтифекс никогда и не взглянул на меня иначе, как
если бы я была его сестрой. Ох, да от этого у кого хочешь мурашки по спине
побегут. Ну, я думала, может, у моей Розы получится насчет него лучше, и
послала ее вытирать пыль и прибирать у него, словно я сама занята, и дала ей
такой красивый чистенький новый передничек, но он даже и внимания на нее
не обратил, как и на меня, а ей и никаких подарков не надо, она бы не взяла у
него даже и шиллинга, хоть он предлагал, но он, кажись, вообще ничего не
понял. Не разберу, что нынешние молодые люди себе думают. Да пусть мне
крышка придет и черви меня сгложут сегодня же ночью, если этого
недостаточно, чтобы заставить женщину предстать перед Богом и попросить вразумить
половину этих глупцов, если посмотреть, что они вытворяют, а многие честные
девушки должны идти домой ночь за ночью, не наскребая и четырехпенсови-
ка, и платить в неделю три шиллинга шесть пенсов за комнату, в которой ни
полки, ни буфета и глухая стена перед окном.
Мистер Понтифекс, — продолжала она, — он-то как раз неплохой, сердце у
него доброе. Он никогда не скажет ничего дурного. А какие у него славные
глазки! Когда я говорю об этом моей Розе, она называет меня старой дурой и
говорит, что мне надо дать по башке топором. А этот Прайер, вот уж кого
терпеть не могу. Ох уж и тип! Он так и рад ранить чувства женщины, да уж,
и бросить ей в лицо какое-нибудь злое слово, да уж — ему нравится мучить
женщину и унижать ее. (Миссис Джуп произносила слово «унижать», как если
бы оно рифмовалось со словом «звучать».) Дело джентльмена — утешить
женщину, а этот, он готов ей все волосы повырывать собственными руками. Это ж
он сказал мне прямо в лицо, что я уже будто бы старуха; надо ж — старуха! Да
ни одна кумушка в Лондоне не знает, сколько мне лет, кроме миссис Дэвис с
Олд-Кент-роуд, и если не считать вздувшейся вены на одной ноге, так я такая
ж молодая, как и прежде. Как же — старуха! Лучше чем на старой скрипке
песен не сыграть. Ненавижу я его противные исинувации.
Даже если бы я захотел остановить ее, то не смог бы. Она наговорила куда
больше, чем я привел выше. Многое я выпустил, потому что не мог вспомнить
всего, но еще больше потому, что это текст не для печати.
Когда мы добрались до полицейского участка, Таунли и Эрнест уже были
там. Выдвигалось обвинение в нападении, не отягченном насилием. Но даже в
этом случае оно было достаточно серьезно, и мы с Таунли поняли, что нашему
юному другу придется дорого заплатить за свою неопытность. Мы попытались
добиться, чтобы его отпустили на эту ночь под залог, но инспектор не хотел
брать залога, и потому мы оказались вынуждены оставить Эрнеста в участке.
Таунли возвратился в дом миссис Джуп, чтобы увидеться с мисс Мэйтланд
и попробовать уладить дело с ней. Девушки дома не оказалось, но он разыскал
ее, узнав, что она у своего отца, который жил в Кэмберуэле. Отец был в таком
гневе, что даже и слышать не хотел ни о каком ходатайстве со стороны
Таунли. Он принадлежал к диссентерам и рад был на полную катушку использовать
скандал против священнослужителя; поэтому Таунли пришлось вернуться ни
с чем.
206
Путь всякой плоти
На следующее утро Таунли — считавший, что Эрнест оказался в ситуации
тонущего, которого нужно каким-то образом, если возможно, вытащить из воды,
независимо от того, как он в нее угодил, — пришел ко мне, и мы передали дело
в руки одного из самых лучших адвокатов того времени. Я испытывал сильное
расположение к Таунли и счел нужным сообщить ему то, о чем не говорил
никому, то есть сказал, что через несколько лет Эрнест вступит во владение
деньгами, завещанными ему теткой, и потому со временем будет богат.
Таунли и до этого делал все что мог, но я знал, что известие, которое я
сообщил ему, заставит его почувствовать, что Эрнест принадлежит к одному с ним
классу и вследствие этого имеет больше прав на его услуги. Что касается
самого Эрнеста, то его благодарность была глубже, чем способны выразить слова.
Я слышал, как он говорил, что без труда вспомнит много моментов, каждый из
которых можно счесть счастливейшим в его жизни, но эта ночь остается,
безусловно, самой мучительной из всех, какие ему довелось провести, однако
благодаря доброте и заботе Таунли она оказалась вполне переносимой.
Тем не менее при всех наших наилучших намерениях ни Таунли, ни я не
могли помочь ничем, кроме моральной поддержки. Наш адвокат сказал, что
мировой судья, перед которым должен был предстать Эрнест, очень строг в
отношении дел такого рода и что факт принадлежности Эрнеста к рангу
священнослужителей обернется против него.
— Не просите о проведении дополнительного расследования, — сказал он, —
и не предпринимайте никакого ходатайства. Мы вызовем приходского
священника, у которого служил мистер Понтифекс, и вас в качестве двух
джентльменов, способных засвидетельствовать хорошее поведение подсудимого в
прошлом. Этого достаточно. А затем перейдем к основательной защите и
попросим рассмотреть дело в порядке суммарного производства, вместо того чтобы
передавать его на судебное разбирательство. Если вы сможете добиться этого,
поверьте мне, ваш юный друг окажется в лучшем положении, чем имеет какое-
либо право ожидать.
Глава 62
Этот совет, кроме того, что был, безусловно, разумен, мог привести к
скорейшему решению дела и избавлению Эрнеста от томительного ожидания, а
потому мы без колебаний приняли его. Рассмотрение дела было назначено на
одиннадцать часов, но нам удалось добиться, чтобы его отложили до трех, с тем
чтобы дать Эрнесту время привести в порядок свои дела настолько, насколько это
было возможно, и оформить доверенность, позволяющую мне действовать от
его имени по собственному усмотрению, пока он будет в тюрьме.
Тогда-то и открылось все насчет Прайера и колледжа духовной патологии.
Чистосердечно признаться в этом Эрнесту оказалось еще труднее, чем
рассказать о происшествии с мисс Мэйтланд, но в конце концов он все же ничего от
нас не утаил, и тут выяснилось, что он, по сути, передал Прайеру до
последнего полупенни все деньги, какими тогда владел, без какого-либо иного ручатель-
Глава 62
207
ства, кроме долговой расписки Прайера. Все еще отказываясь верить, что Прай-
ер мог быть повинен в бесчестности, Эрнест начинал осознавать, какое
безрассудство совершил, но все еще надеялся на возврат, во всяком случае, большей
части своего капитала, как только Прайер со временем продаст акции. Мы с
Таунли держались другого мнения, но мыслей своих не высказывали.
Тоскливое занятие — прождать все утро в столь непривычной и угнетающей
обстановке. Я вспомнил, как псалмопевец воскликнул с тайной иронией: «Один
день в дворах Твоих лучше, чем тысяча!»1 — и подумал, что мог бы повторить то
же самое о судах, по которым мы с Таунли были вынуждены теперь слоняться2.
Наконец примерно в три часа дело было поставлено на рассмотрение, и мы
перешли в ту часть помещения суда, которая предназначалась для широкой
публики, а Эрнест был доставлен на скамью подсудимых. Как только он в
достаточной мере овладел собой, то признал в судье пожилого джентльмена, который
говорил с ним в поезде в тот день, когда он покидал школу, и понял, или ему
показалось, что понял, к своей глубокой печали, что тот тоже узнал его.
Мистер Оттери (так звали нашего адвоката) держался линии, которую
наметил. Он не вызвал никаких других свидетелей, кроме приходского
священника, Таунли и меня, и полностью отдался на милость судьи. Когда он
закончил свою речь, судья сказал следующее:3
— Эрнест Понтифекс, ваше дело — одно из самых неприятных, с которыми
мне когда-либо приходилось сталкиваться. Вам удивительным образом
посчастливилось с происхождением и воспитанием. Вы имели перед глазами пример
безупречных родителей, которые, разумеется, с детства прививали вам
представление о том, сколь ужасно преступление, которое вы, по вашему
собственному признанию, совершили. Вас отдали в одну из лучших частных школ в
Англии. Маловероятно, чтобы в здоровой атмосфере такой школы, как Раф-
боро, вы могли попасть под скверное влияние; вам, вероятно, могу даже
сказать, несомненно, внушали в школе отвращение ко всякой попытке отступить
от строжайшего целомудрия до того времени, как вы вступите в брак. В
Кембридже вы были ограждены от скверны различными препятствиями,
изобретенными добродетельными и бдительными наставниками, и, даже будь препятствия
не столь велики, родители ваши, вероятно, заботились, чтобы вы не имели
лишних денег, которые можно было бы швырять на распутства. По вечерам
надзиратели патрулировали улицы и следовали за вами по пятам, дабы пресечь
попытку войти в какое-либо место, где подозревалось наличие порока. Днем в стены
колледжа допускались лишь женщины, отобранные главным образом с учетом
их возраста и непривлекательной внешности. Невозможно сделать больше для
любого молодого человека. В течение последних четырех или пяти месяцев вы
были священником, и если какая-либо нечистая мысль еще оставалась у вас, то
посвящение в духовный сан должно было изгнать ее. Однако мало того, что ваша
душа оказалась настолько нечистой, что ни одно из тех обстоятельств, о которых
я упоминал, не возымело на нее действия, но вам даже не хватило здравого
смысла, чтобы отличить порядочную девушку от проститутки.
Если бы я решил строго следовать своему долгу, то обязан был бы передать
ваше дело для судебного разбирательства, но, учитывая, что это ваш первый
208
Путь всякой плоти
проступок, я проявлю снисходительность и приговариваю вас к тюремному
заключению и каторжным работам на срок шесть календарных месяцев.
И Таунли, и я думали, что в речи судьи содержалась легкая ирония и что он
готов вынести настолько легкий приговор, насколько это будет возможно, но мы
оказались неправы и в том, и в другом. Мы получили позволение на несколько
минут увидеться с Эрнестом перед его отправкой в Колдбат-Филдс4, где ему
предстояло отбывать свой срок. Он был настолько благодарен за то, что
обошлось без передачи дела в суд, что, казалось, придавал мало значения тому, в
какой жалкой обстановке ему предстоит влачить следующие шесть месяцев.
Когда он выйдет из тюрьмы, сказал он, то возьмет остаток своих денег, уедет
в Америку или Австралию и о нем больше никогда не услышат.
Мы оставили его преисполненным решимости осуществить свой план — я
ушел, чтобы написать Теобальду и поручить моему поверенному забрать деньги
Эрнеста у Прайера, а Таунли отправился увидеться с репортерами и
постараться не допустить, чтобы дело попало в газеты. В отношении всех уважаемых
газет ему это удалось. Нашлась лишь одна газетенка самого низкого пошиба,
которая оказалась неподкупной.
Глава 63
Я не откладывая встретился с моим поверенным, но когда собрался написать
Теобальду, то почувствовал, что лучше объяснить ему ситуацию при личной
встрече, и поэтому предложил увидеться, попросив, чтобы он ждал меня на
станции, и намекнув, что должен привезти плохие новости о его сыне. Я знал,
что он получит мое письмо не раньше, чем за пару часов до того, как встретится
со мной, и подумал, что короткий интервал ожидания может ослабить удар от
моего сообщения.
Не припомню, чтобы я когда-либо сильнее колебался, не зная, как
поступить, чем во время моей поездки в Бэттерсби с этой неприятной миссией. Когда
я думал о мальчугане с землистым цветом лица, каким Эрнест запомнился мне
много лет назад, о непомерной жестокости, которой он долго подвергался в
детстве, жестокости не менее реальной из-за того, что причиной ее было
скорее невежество и глупость, чем умышленная злоба; об атмосфере лжи и
бредового родительского самовосхваления, в которой он воспитывался; о
готовности мальчика полюбить всех, кто милостиво ему это позволит, и о том, как
любовь к родителям, если я не слишком ошибаюсь, умерла в нем только
потому, что ее убивали раз за разом, снова и снова, как только она пробовала
излиться; когда я думал обо всем этом, то чувствовал, что, будь мне дано право
решать, я приговорил бы Теобальда и Кристину к душевным страданиям еще
более тяжким, чем те, которые в ближайшее время должны были им выпасть.
Но, с другой стороны, когда я думал о детстве самого Теобальда, о его отце,
ужасном старом Джордже Понтифексе, о Джоне с его женой и обеих сестрах,
когда я также думал о долгих годах незамужней жизни Кристины, о том, как
надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце1, о существовании, какое ей
Глава 63
209
довелось вести в Крэмпсфорде, и о среде, в которой она и ее муж находились
в Бэттерсби, то чувствовал, что просто удивительно, как за неудачами столь
постоянными не последовала кара еще более тяжкая.
Бедняги! Они пытались скрыть от себя свое незнание жизни, называя его
стремлением к духовному и закрывая глаза на все, что могло причинить им
неприятности. Когда у них родился сын, то они пытались закрыть и его глаза,
насколько это было возможно. Кто мог обвинить их? У них неизменно находилось
изречение или стих из Писания касательно всего, что они делали или
оставляли несделанным; нет более избитой манеры исполнять роль священника и жены
священника. Разве отличались они в чем-либо от своих соседей? Разве
отличалась их семейная жизнь от семейной жизни других священников того же
уровня во всех концах Англии? Почему же тогда должно было случиться так, что
именно на них, а не на кого-то другого, рухнула эта Силоамская башня?2
Безусловно, Силоамская башня оказалась причиной беды, а не те, кто стояли
под ней; виновата была система, а не люди. Если бы только Теобальд и его жена
больше знали о мире и о том, что в нем происходит, они вряд ли причинили бы
кому-то вред. Пусть они навсегда остались бы эгоистичными, но не настолько,
чтобы этого нельзя было простить, и не больше, чем другие люди. Но теперь уже
ничего невозможно было изменить; пользы не было бы даже в том случае, если
бы они вернулись в лоно матери и родились заново. Им надлежало бы не только
заново родиться, но обоим следовало бы родиться заново от другого отца и
другой матери и иметь другую родословную на протяжении многих поколений,
чтобы их души смогли стать достаточно восприимчивы к новому знанию.
Единственное, что можно было сделать, — это приноровиться к ним и терпеть их,
пока они не умерли, а затем испытать чувство облегчения, когда умрут.
Теобальд получил мое письмо, как я и ожидал, и встретил меня на
ближайшей к Бэттерсби станции. Когда мы шли с ним к дому, я сообщил ему новости —
настолько деликатно, насколько мог. Я изобразил дело так, будто все это было
в значительной мере ошибкой и будто Эрнест, хотя без сомнения и имел
намерения, которым должен был сопротивляться, все-таки не собирался заходить так
далеко, как показалось мисс Мэйтланд. Мы поняли, говорил я, сколь
неблагоприятно для него ситуация выглядела со стороны, но не осмелились строить
защиту перед судьей на этом факте, хотя не сомневались в его истинности.
Теобальд отреагировал более живо и эмоционально, чем я ожидал.
— Я не хочу больше иметь с ним ничего общего! — немедленно воскликнул
он. — Я не хочу его никогда видеть; передай ему, чтобы он не писал ни мне, ни
матери; мы больше знать его не хотим. Скажи, что ты виделся со мной и что с
этого дня я навсегда выбрасываю его из моей души, как если бы он никогда не
родился на свет. Я был ему хорошим отцом, а мать боготворила его; эгоизм и
неблагодарность — вот чем он нас отблагодарил; впредь мне остается надеяться
лишь на остальных моих детей.
Я рассказал ему, как викарий, товарищ Эрнеста, завладел его деньгами, и
намекнул, что, вполне вероятно, по выходе из тюрьмы Эрнест может оказаться
без гроша или почти без гроша. Теобальда это, казалось, мало расстроило, но
вслед за тем он добавил:
210
Путь всякой плоти
— Если это в самом деле произойдет, то передай от меня, что я дам ему
сотню фунтов, если он сообщит мне через тебя, когда вернет их, но передай
также, чтобы он не писал и не благодарил меня, и скажи, что если он
попытается вступить в прямое общение с матерью или со мной, то не получит из этих
денег ни гроша.
Зная то, что я знал, и решившись на нарушение распоряжений мисс Понти-
фекс, если потребуют обстоятельства, я не думал, что Эрнест сколько-нибудь
пострадает из-за полного отчуждения от своего семейства, а потому
согласился на то, что предложил Теобальд, с большей готовностью, чем сей
джентльмен, возможно, ожидал.
Почтя за лучшее не встречаться с Кристиной, я расстался с Теобальдом
около Бэттерсби и пошел пешком обратно на станцию. По пути я с
удовольствием думал о том, что отец Эрнеста оказался меньшим глупцом, чем я
представлял, и, следовательно, есть надежда на то, что серьезные ошибки сына могли
быть следствием приобретенных, а не врожденных несчастных качеств. Беды,
которые выпадают человеку до рождения, когда случаются с его предками,
оставляют в нем, даже если он вообще про них не помнит, неизгладимый
отпечаток;3 они будут формировать его характер, и, как бы он себя ни вел, ему
едва ли удастся избежать их последствий. Если человеку суждено войти в
Царствие Небесное, то он должен вступить в него не просто как ребенок4, но
как крошечный эмбрион5 или даже как крошечная живая клетка, а скорее
даже как нечто, что произошло от живых клеток, вступивших в Царствие
Небесное за много поколений до него. Несчастья, которые происходят впервые и
принадлежат к периоду, начинающемуся с последнего рождения человека, не
имеют, как правило, столь постоянных последствий, хотя, конечно, иногда
могут таковые иметь. Во всяком случае, я не был расстроен тем, как отец
Эрнеста воспринял ситуацию.
Глава 64
После оглашения приговора Эрнеста отправили назад в камеру дожидаться
тюремной кареты, которая должна была отвезти его в Колдбат-Филдс, где ему
предстояло отбывать срок.
Он все еще был чересчур ошеломлен и потрясен той внезапностью, с какой
развивались события в течение последних двадцати четырех часов, чтобы
обрести способность осознать свое положение. Между его прошлым и будущим
разверзлась огромная пропасть; тем не менее он продолжал дышать, его
сердце продолжало биться, он мог думать и говорить. Ему казалось, что он должен
быть сломлен ударом, который обрушился на него, но он не был сломлен; ему
доводилось гораздо сильнее страдать от значительно меньших неприятностей.
Только когда он думал о том, какую боль его позор причинит родителям, то
чувствовал, что с готовностью отдал бы все, что имеет, лишь бы не попасть в
то положение, в каком теперь оказался. Это разобьет сердце матери. Он знал
это — и он будет виноват в том, что это произойдет.
Глава 64
211
С самого утра у него болела голова, а когда он думал об отце с матерью, его
сердце начинало учащенно биться и боль в голове внезапно накатывала еще
сильнее. Он едва смог дойти до тюремной кареты, а поездка в ней показалась
ему невыносимой. По прибытии в тюрьму он был уже слишком слаб, чтобы без
посторонней помощи пройти через приемную в коридор или галерею, куда
отводили вновь прибывших заключенных. Начальник тюрьмы, сразу распознав
в нем священника, не счел его симулянтом, как, возможно, поступил бы в
случае какого-нибудь бывалого стреляного воробья, а потому послал за доктором.
Когда этот джентльмен явился, то обнаружил у Эрнеста начинающийся
приступ нервной горячки и отправил его в тюремную больницу. Там Эрнест в
течение следующих двух месяцев находился между жизнью и смертью, не
приходя в полное сознание и часто впадая в бред, но наконец, вопреки ожиданию
и доктора и медсестры, начал медленно поправляться.
Говорят, что те; кто едва не утонул, воспринимают возврат в сознание
намного болезненнее, чем его потерю, и именно это происходило с моим героем. Когда
он лежал беспомощный и слабый, ему казалось утонченной жестокостью, что
ему не дали умереть сразу, пока он был без сознания. Он думал, что ему
предстоит теперь поправиться скорее всего только для того, чтобы немного позднее
известись от позора и горя; тем не менее со дня на день его состояние
улучшалось, хотя и столь медленно, что сам он едва ли мог это заметить. Однако как-
то днем, примерно через три недели после того, как Эрнест пришел в себя,
медсестра, которая ухаживала за ним и была к нему очень добра, сказала
несколько шутливых слов, его позабавивших; он засмеялся, а она, услышав это,
захлопала в ладоши и сказала, что он скоро вновь станет полноценным
человеком. Искра надежды зажглась, и ему опять захотелось жить. Примерно с того
момента его мысли начали реже обращаться к ужасам прошлого и чаще к
планам на будущее.
Самую сильную боль ему причиняла мысль об отце с матерью и о том, как
он сможет снова посмотреть им в глаза. Ему все еще казалось, что лучше
всего будет и для него, и для них, если он прервет с ними всяческие отношения,
возьмет деньги, которые сможет забрать у Прайера, отправится куда-нибудь на
край света, где никогда не встретится ни с кем, кто знал его в школе или
колледже, и начнет жизнь заново. Пожалуй, он мог бы поехать на золотые прииски
Калифорнии или Австралии, о которых тогда рассказывали такие
удивительные истории; там он мог бы даже нажить себе состояние и через много лет
возвратиться назад уже стариком, никому не известным, и тогда поселился бы
в Кембридже. Покуда он строил эти воздушные замки, из искры жизни
разгоралось пламя, и он жаждал здоровья и свободы, которая теперь, когда
значительная часть его срока уже миновала, была в конечном счете не так уж и
далека.
И вот ситуация начала вырисовываться более определенно. Как бы там ни
было, он больше не будет священником. Ему фактически было бы
невозможно найти другой приход, даже если б он и захотел, но он не хотел этого. Он
ненавидел жизнь, которую вел с тех пор, как начал готовиться к рукоположению;
он не мог говорить о ней, а просто испытывал к ней отвращение и больше бы
212
Путь всякой плоти
ее не вынес. Остановившись на перспективе снова стать мирянином, пусть и
обесчещенным, он радовался тому, что с ним случилось, и увидел благодеяние
в самом заключении в тюрьму, которое поначалу казалось ему таким
несказанным горем.
Возможно, потрясение от столь решительной перемены обстоятельств
ускорило перемену его образа мыслей, как происходит с коконами шелкопряда,
которые, когда их перевозят в корзине по железной дороге, созревают до
срока вследствие новой для них высокой температуры и тряски. Но как бы то ни
было, вера Эрнеста в рассказы о смерти, воскресении и вознесении Иисуса
Христа, а следовательно, и вера во все прочие христианские чудеса, исчезла раз
и навсегда. Исследование, которое Эрнест предпринял из-за укора мистера
Шоу, каким бы поспешным оно ни было, оставило в нем глубокий след; теперь
он вполне был готов изучать Новый Завет, который стал его настольной
книгой, и штудировал его в том именно духе, какого хотел от него мистер Шоу, то
есть как тот, кто не желает ни верить, ни сомневаться, а занят только
выяснением того, следует ли ему верить или нет. Чем больше он читал с такой
настроенностью, тем больше, казалось, чаша весов склонялась в пользу неверия, пока
наконец всякое дальнейшее колебание не стало невозможным, и он не увидел
довольно явственно, что, безотносительно ко всему прочему, что могло
оказаться истинным, история о том, как Христос умер, снова вернулся к жизни и
вознесся с земли в заоблачные выси, теперь не может быть принята
непредубежденными людьми. Хорошо, что он выяснил это так быстро. Так или иначе он,
безусловно, рано или поздно натолкнулся бы на ответ. Он мог бы, вероятно,
увидеть его намного раньше, если бы не был одурачен людьми, которым
платили за его одурачивание. Что стало бы с ним, спрашивал он себя, если бы он
сделал теперешнее открытие спустя много лет, когда глубже погрузился бы в
русло жизни священнослужителя? Имел бы он смелость встретиться с этим
открытием лицом к лицу или же, вероятнее всего, нашел бы какую-нибудь
вескую причину продолжать думать так, как думал прежде? Имел бы он
смелость порвать даже со своим тогдашним приходом?
Он думал, что нет, и не знал, испытывать больше благодарности за то, что
его заблуждение обнаружилось, или за то, что его схватили и повернули так,
что он далее не мог уже заблуждаться, причем в тот именно момент, когда он
почти осознал свое заблуждение. Цена, которую ему пришлось заплатить за это
благо, была невелика в сравнении с самим благом. Какая цена слишком
велика, чтобы заплатить за то, что долг становится сразу ясен и легко исполним,
тогда как до этого был чрезвычайно трудно исполним? Эрнесту было жаль
отца и мать, ему было жаль мисс Мэйтланд, но ему больше не было жаль
самого себя.
Однако его озадачивало, как это он до сих пор не понимал, насколько
ненавистна ему профессия священника. Он понимал, что она не особенно нравилась
ему и раньше, но, если бы кто-нибудь спросил его тогда, ненавидит ли он ее, он
ответил бы «нет». Полагаю, люди почти всегда нуждаются в каких-то внешних
воздействиях, чтобы обнаружить, что они в самом деле любят, а что нет. Наши
самые стойкие симпатии формируются главным образом не в результате само-
Глава 65
213
копания или сознательного выбора, а вследствие готовности души воспринять
взгляды, внушенные нам другими. Мы слышим, как кто-то говорит, что такая-
то вещь представляет из себя то-то или то-то, и через мгновение установка, уже
заложенная в нас, но о существовании которой мы не отдавали себе отчета,
вдруг ярким светом вспыхивает в нашем сознании и восприятии.
Всего год назад Эрнест был склонен с готовностью воспринять идеи,
изложенные в проповеди мистера Хока; затем он устремился мыслями к идее
колледжа духовной патологии; теперь его всецело влекло не что иное, как
рационализм; как он мог знать, что его нынешнее состояние духа окажется более
длительным, чем предыдущие? Он не мог быть в этом уверен, но чувствовал:
теперь он как будто стоит на более твердой почве, чем когда-либо прежде, и
независимо от того, сколь преходящими окажутся его нынешние взгляды, ему
не остается ничего другого, как поступать в соответствии с ними, пока он не
увидит причину их изменить. Насколько невозможно, размышлял он, было бы
сделать это, останься он среди людей, подобных его отцу и матери, или Прайе-
ру с его друзьями, или его приходскому священнику. Все эти месяцы он
наблюдал, осознавал и воспринимал происходящий в нем духовный рост не более,
чем школьник осознает и воспринимает свое физическое взросление, но в
состоянии ли он был бы признаться себе в том, что этот рост происходит, и
адекватно реагировать на прирастание силы, если бы продолжал постоянно тесно
общаться с людьми, которые клятвенно заверяли его в том, что он бредит? Ему
противостояли объединенные силы, с которыми он не мог справиться без
посторонней помощи, и он сомневался, что менее серьезных потрясений, чем те,
какие он по-прежнему испытывал, хватило бы, чтобы его освободить.
Глава 65
Лежа в постели, пока медленно, день за днем, восстанавливалось его здоровье,
Эрнест пришел к осознанию того факта, который рано или поздно открывается
большинству людей, а именно: очень немногие действительно придают
значение истине или имеют какую-либо уверенность в том, что правильнее и лучше
верить в то, что истинно, чем в то, что неистинно, пусть даже вера в ложные
утверждения и может на первый взгляд казаться наиболее выгодной. И тем не
менее только этих немногих можно вообще считать верящими хоть во что-то;
остальные же просто скрытые неверующие. Возможно, в конечном счете эти
последние и правы. На их стороне численный перевес и преуспевание. Они
владеют всем, к чему рационалист апеллирует как к критериям правильного
и неправильного. Правильное, по его мнению, состоит в том, что кажется
правильным большинству здравомыслящих, солидных людей; у нас нет более
надежного критерия, чем этот, но что означает решение, к какому приходят на
его основе? Лишь то, что заговор молчания относительно вещей, чья истинность
немедленно открылась бы бескорыстным исследователям, оказывается не
только позволительным, но и оправданным со стороны тех, кто объявляет себя
главными хранителями и учителями истины и берет за это деньги.
214
Путь всякой плоти
Эрнест не видел логического выхода из этой проблемы. Он понимал, что
вера ранних христиан в чудесную природу воскресения Христа объяснима без
какой-либо гипотезы о чуде. Объяснение лежало на поверхности для тех, кто
готов был взять на себя скромный труд его разглядеть; оно являлось миру снова
и снова, и никаких серьезных попыток его опровергнуть никто не
предпринимал. Как могло случиться, например, что декан Элфорд, который сделал
Новый Завет главным предметом своего исследования, не сумел или не
удосужился увидеть то, что было столь очевидно для самого Эрнеста? Не в том ли
состоит причина, что ученый муж не хотел видеть этого, а коли так, то разве не
был он предателем дела истины?1 Да, был, но разве не был он также
респектабельным и преуспевающим человеком и разве огромное большинство
респектабельных и преуспевающих людей, таких, например, как все епископы и
архиепископы, не делают то же самое, что делал декан Элфорд, и не означает ли
это, что их действия правильны, хоть бы это и было людоедство, или
детоубийство, или даже обычная интеллектуальная недобросовестность?
Чудовищная, гнусная ложь! Слабый пульс Эрнеста участился, а его бледное
лицо покрылось румянцем, как только эта омерзительная картина жизни
предстала ему во всей своей логической связности. Его потрясло вовсе не то, что
большинство людей лжецы, — это еще можно было перенести. Но если
предположить, хоть на мгновение, что те немногие, кто не является лжецами, тоже
хотят стать ими, то не остается никакой надежды. Коли так, то лучше ему
умереть, и чем скорее, тем лучше. «Господи, — воскликнул он про себя, — я не верю
ни одному слову из этого! Укрепи меня и помоги моему неверию»2. Ему
казалось, что никогда впредь он не сможет увидеть епископа, идущего на литургию,
без того чтобы не сказать себе: «Вот, если бы не милость Божья, таков был бы
и Эрнест Понтифекс». Заслуга была не его; гордиться особенно нечем; доведись
ему жить во времена Христа, он сам мог бы стать ранним христианином или
даже апостолом, кто знает. В целом, он чувствовал, что ему за многое
следует быть благодарным — и был благодарен.
Таким образом, вывод о том, что, может быть, лучше верить заблуждению,
чем истине, нужно отвергнуть с порога, независимо от того, сколь очевидная
логическая цепочка вела к нему. Но какова альтернатива? Она состоит в том,
что наш критерий истинности — то есть что истиной является одобряемое
подавляющим большинством здравомыслящих и преуспевающих людей — не
безошибочен. Это правило разумно и действует почти всегда, но из него есть
исключения.
Эрнест спросил себя: каковы эти исключения? О, то был трудный вопрос;
их так много, и правила, которым они подчиняются, порой настолько
неопределенны, что всегда существовала и всегда будет существовать опасность
ошибки; именно из-за этого и невозможно свести знание жизни к точной науке.
Существует грубый и доступный эмпирический критерий истины, а также
множество правил относительно исключений, правил, которыми можно
овладеть без больших хлопот, и все же остается достаточно случаев, по которым
трудно принять решение — настолько трудно, что человеку лучше следовать
своему инстинкту, чем пытаться вынести решение посредством рассуждения.
Глава 65
215
Значит, окончательной инстанцией является инстинкт. Но что такое
инстинкт? Это форма веры в очевидность того, что не лежит на поверхности3. И
таким образом мой герой вернулся почти к той же точке, с которой начал, а
именно, что праведные живут верой4.
И вот как раз так праведные, то есть разумные, люди поступают, занимаясь
повседневными житейскими делами, которые их главным образом и заботят.
Мелкие вопросы они улаживают, полагаясь на свою осмотрительность. Более
важные, такие как забота о собственном здоровье и о здоровье тех, кого они
любят, вложение денег, улаживание запутанных дел, грозящих вылиться в
хаос, — все это они, как правило, поручают другим людям, о чьей компетенции
знают только понаслышке. Следовательно, они действуют на основании веры,
а не знания. Так, английская нация поручает заботу о флоте и морских
средствах обороны первому лорду адмиралтейства, который, не будучи моряком,
не может ничего знать о таких вещах и действует, полагаясь на веру. Не может
быть сомнения, что вера, а не разум является ultima ratio*.
Даже Евклид, которого, менее чем какого-нибудь другого из когда-либо
живших авторов, можно обвинить в доверчивости, не способен выйти за
рамки этого правила. Его первая предпосылка недоказуема. Он нуждается в
постулатах и аксиомах, которые находятся за пределами доказуемости и без
которых он совершенно не может обойтись. Его надстройкой действительно
является доказательство, но фундаментом опять-таки служит вера. И опять же он
не способен на большее, чем назвать человека глупцом, если тот упорно
настаивает на мнении, отличающемся от мнения самого Евклида. Он говорит: «Это
нелепо» — и отказывается далее обсуждать тему. Вера и авторитет,
следовательно, оказываются для него столь же необходимыми, как и для всякого другого.
«А верой во что, — спросил себя Эрнест, — должен стараться честный человек
жить в нынешнее время?» И ответил себе: «Во всяком случае, не верой в
сверхъестественный элемент христианства».
Но как мог он наилучшим образом убедить своих соотечественников
перестать верить в этот сверхъестественный элемент? Глядя на дело с практической
точки зрения, он думал, что архиепископ Кентерберийский обеспечивает самый
верный способ разрешения этой ситуации. Надо выбирать между ним и Папой
Римским. Теоретически Папа Римский, возможно, и лучше, но на практике
вполне сгодится и архиепископ Кентерберийский. Если бы только он, Эрнест,
сумел насыпать щепотку соли, так сказать, на хвост архиепископу5, то смог бы
обратить всю Англиканскую церковь в людей свободомыслящих посредством
одного coup de main**. Должна существовать некая сила убеждения, перед
которой даже архиепископ — архиепископ, чьи представления никогда не
переживали ускоренное развитие вследствие заключения в тюрьму за нанесение
оскорбления, — не сможет устоять. Взглянув в лицо фактам, которые он,
Эрнест, мог бы предоставить в его распоряжение, Его Высокопреосвященство не
имел бы другого выхода, кроме как признать их; будучи порядочным челове-
* последним доводом (лат.).
** налета (фр).
216
Путь всякой плоти
ком, он сразу отказался бы от своего архиепископского сана, и христианство
прекратило бы существование в Англии в течение несколько месяцев. Так, во
всяком случае, должно было сложиться в теории. Но все это время у Эрнеста
не было уверенности, что архиепископ не отскочит в сторону в тот самый
момент, когда щепотка соли готова будет уже вот-вот упасть на него, и это
казалось настолько нечестным, что при мысли об этом кровь закипала в жилах
Эрнеста. В таком случае он попробовал бы удержать архиепископа путем
хитроумного использования птичьего клея или ловушки либо швырнуть соль ему
на хвост из засады.
Справедливости ради нужно сказать, что о себе Эрнест не слишком
беспокоился. Он знал, что его обвели вокруг пальца, и знал также, что большая часть
обрушившихся на него бед — в значительной степени косвенный результат
христианского воспитания; тем не менее если бы зло на нем и исчерпалось, то ему
незачем было бы много думать о нем, но были ведь еще сестра, и брат Джо, и
сотни и тысячи молодых людей по всей Англии, чью жизнь продолжали
отравлять ложью люди, в обязанности которых входило воспитывать молодежь, но
которые исполняли свою работу небрежно и уклонялись от трудностей, вместо
того чтобы справляться с ними. Именно это и вызывало гнев Эрнеста и
заставляло задумываться о том, не может ли он, по крайней мере, сделать что-нибудь
для избавления других от такой бесплодной траты времени и таких страданий,
через какие пришлось пройти ему самому. Если в фантастических рассказах о
смерти и воскресении Христа нет истины, то вся религия, основанная на
исторической достоверности тех событий, рушится. «Почему, — восклицал он со всем
пылом юности, — помещают в тюрьму цыганку или гадалку за то, что они
выманивают деньги у глупых людей, верящих в их сверхъестественные
способности? Почему бы не поместить в тюрьму священника за то, что он делает вид,
будто может отпускать грехи или превращать хлеб и вино в плоть и кровь Того,
Кто умер две тысячи лет назад?! Можно ли, — задавался он вопросом, —
вообразить более явное надувательство, чем когда епископ возлагает руки на
молодого человека и притворяется, будто передает ему духовную силу творить это
чудо? Очень легко говорить о терпимости; терпимость, как и все на свете,
имеет свои пределы; только, если она распространяется на епископа, пусть
распространяется также и на гадалку».
Он бы немедленно объяснил все это архиепископу Кентерберийскому, но
поскольку не мог сейчас же заполучить его, то ему пришло в голову, а не
полезно ли будет проделать опыт на более простой душе тюремного
священника. Только те, кто смело делает первый решительный шаг вначале, всегда
совершают великие дела в конце; и вот однажды, когда мистер Хьюз — ибо
таково было имя священника — проводил с ним беседу, Эрнест поставил вопрос
об основах христианства и попробовал затеять дискуссию. Мистер Хьюз очень
по-доброму относился к нему, но он был более чем вдвое старше моего героя
и не раз слышал на своем веку такие возражения, какие Эрнест пытался ему
изложить. Не думаю, чтобы он верил в реальную объективную истину историй
о воскресении и вознесении Христа больше, чем Эрнест, но он знал, что это
пустяки и что реальная проблема лежит намного глубже.
Глава 66
217
Мистер Хьюз был человеком, который исполнял свою должность много лет,
и отмахнулся от Эрнеста как от мухи. Он сделал это настолько успешно, что
мой герой никогда больше не отважился приставать к нему с подобными
разговорами и в дальнейшем ограничивался в своих беседах с ним такими
вопросами, как то, чем ему лучше заняться, когда он выйдет из тюрьмы; и тогда
мистер Хьюз всегда оказывался готов выслушать его с сочувствием и
доброжелательностью.
Глава 66
Здоровье Эрнеста настолько улучшилось, что он был в состоянии проводить
большую часть дня сидя. Он находился в тюрьме уже три месяца, и, хотя еще
не настолько окреп, чтобы покинуть больницу, его жизнь была теперь вне
опасности. Однажды он говорил с мистером Хьюзом о своем будущем и вновь
выразил намерение уехать в Австралию или Новую Зеландию с деньгами,
которые получил бы от Прайера. Он заметил, что всякий раз, когда он об этом
заговаривает, мистер Хьюз становится мрачным и молчаливым. Эрнест думал,
что, возможно, священник хочет, чтобы он вернулся к своей профессии, и не
одобряет явного стремления заняться чем-нибудь другим; однако на сей раз он
напрямик спросил мистера Хьюза, почему именно тот не одобряет идею
относительно эмиграции.
Мистер Хьюз попытался уклониться от ответа, но Эрнест не намерен был
отступать. Что-то в поведении священника наводило на мысль, что он знает
больше, чем Эрнест, но не хочет говорить. Это настолько встревожило
Эрнеста, что он стал умолять священника не томить его ожиданием; после
некоторого колебания мистер Хьюз, считая его теперь достаточно окрепшим, чтобы
выдержать плохие новости, сообщил ему настолько мягко, насколько мог, что
все деньги исчезли.
На следующий день после возвращения из Бэттерсби я встретился с моим
поверенным и велел, чтобы он написал Прайеру и потребовал возвратить
деньги, указанные в долговой расписке. Прайер ответил, что отдал своему
брокеру распоряжение прекратить финансовые операции, которые, к сожалению,
привели к серьезным потерям, и что остаток будет выдан моему поверенному
в следующий день платежа, который наступит примерно через неделю. Когда
срок настал, мы, не получив от Прайера никаких известий, отправились к нему
домой и обнаружили, что он съехал с квартиры со своими
немногочисленными пожитками в тот самый день, как получил от нас письмо, и с тех пор его там
больше не видели.
Я знал от Эрнеста имя брокера, чьими услугами пользовался Прайер, и
сразу же отправился к нему. Он сказал мне, что в тот же день, когда Эрнест
был приговорен, Прайер закрыл счета и забрал все наличные деньги, получив
две тысячи триста пятнадцать фунтов, которые и составляли все, что осталось
от первоначальных пяти тысяч фунтов Эрнеста. С этой суммой он скрылся, а
мы не имели ни малейшего представления о его местонахождении, чтобы по-
218
Путь всякой плоти
пытаться предпринять какие-либо шаги по возврату денег. Фактически не
оставалось ничего иного, как считать, что все потеряно. Должен сказать, что ни
я, ни Эрнест с тех пор и до сего дня ничего не слышали о Прайере и понятия
не имеем, что с ним сталось.
Это поставило меня в трудное положение. Я, разумеется, знал, что через
несколько лет у Эрнеста будет во много раз больше денег, чем сумма, которую
он потерял, но я знал также, что сам он не ведает об этом, и боялся, как бы
предполагаемая потеря всего, что составляло его имущество, не оказалась для
него непосильным ударом в довершение к прочим его несчастьям.
Из письма, обнаруженного в кармане Эрнеста, тюремное начальство
узнало адрес Теобальда и не раз вступало с ним в переписку по поводу болезни
сына, но Теобальд не писал мне, и я предполагал, что мой крестник
находится в добром здравии. Ко времени выхода из тюрьмы ему должно было
исполниться только двадцать четыре года, и, если бы я последовал распоряжениям
его тетки, ему предстояло бы в течение еще четырех лет собственными
силами бороться с судьбой. Передо мной стоял вопрос: правильно ли подвергать его
такой опасности или следует в известной мере нарушить данные мне
распоряжения — а ничто не могло помешать мне поступить так, реши я, что мисс Пон-
тифекс захотела бы этого, — и выдать ему ту же сумму, какую он должен был
забрать у Прайера?
Если бы крестник мой был постарше и устойчиво двигался в каком-нибудь
определенном жизненном русле, то именно так я бы и сделал, но он был еще
очень молод и незрел даже для своего возраста. Если бы к тому же я знал о его
болезни, то не решился бы возлагать на его плечи еще более тяжелое бремя, чем
то, какое ему уже пришлось нести. Не испытывая, однако, никакого беспокойства
по поводу его здоровья, я считал, что несколько лет испытаний и обретение опыта
относительно того, как важно не пускаться в опасные операции с деньгами, не
повредят ему. А потому я постановил для себя внимательно следить за ним, когда
он выйдет из тюрьмы, и позволить ему барахтаться в глубокой воде до тех пор,
пока не пойму, способен ли он выплыть или собирается тонуть. В первом случае
я позволил бы ему продолжать плыть, пока он не достигнет двадцати восьми лет,
и за это время постепенно подготовил бы его к тому счастливому повороту
судьбы, который его ждал; во втором случае поспешил бы на помощь. А потому я
написал ему, что Прайер скрылся с деньгами и что он, Эрнест, сможет получить
сто фунтов от отца, когда выйдет из тюрьмы. Я приготовился ждать, чтобы
выяснить, какое действие произведут эти новости, не рассчитывая получить ответ
ранее чем через три месяца, поскольку, наведя справки, узнал, что заключенным
не разрешается получать письма, пока они не пробудут в тюрьме три месяца. Я
также написал Теобальду и сообщил ему об исчезновении Прайера.
Как оказалось, когда мое письмо прибыло, начальник тюрьмы
ознакомился с ним и ввиду его важности готов был смягчить правила, если бы состояние
Эрнеста позволило ему прочитать письмо; но болезнь помешала этому, и
начальник поручил священнику и доктору сообщить Эрнесту новости, когда они
сочтут его достаточно окрепшим, чтобы их перенести, и вот теперь это
произошло. Тем временем я получил официальный документ, свидетельствующий
Глава 66
219
о том, что мое письмо получено и будет передано заключенному в положенный
срок. Полагаю, меня не поставили в известность о болезни Эрнеста просто в
результате ошибки со стороны какого-нибудь клерка, но я ничего не знал об
этом, пока не встретился с моим крестником по его просьбе несколько дней
спустя после того, как священник сообщил ему о том, о чем я написал.
Эрнест испытал жестокое потрясение, услышав о потере денег, но незнание
жизни помешало ему постичь всю меру несчастья. Он никогда прежде
серьезно не нуждался в деньгах и не знал, что они значат в этом мире. В
действительности потеря денег является самым тяжким испытанием для всякого, кто
достаточно взросл, чтобы понимать их важность.
Человек может мужественно встретить известие о том, что ему предстоит
подвергнуться серьезной хирургической операции, или что он болен такой
болезнью, которая в скором времени убьет его, или что он останется калекой или
слепым на всю оставшуюся жизнь; как бы ни были ужасны такие новости, не
похоже, чтобы они лишали присутствия духа подавляющую часть человечества;
большинство людей даже на виселицу отправляются с невозмутимостью; но и
самые сильные испугаются финансового краха, и лучшие, как правило,
переживают глубочайший упадок духа. Самоубийство — обычное следствие потери
денег; к нему редко прибегают как к средству избавления от телесного
страдания. Если мы чувствуем, что у нас надежный достаток, чтобы иметь
возможность тихо и спокойно умереть в собственной постели, не испытывая нужды
тревожиться о расходах, то проживем жизнь до последней капли, независимо от
того, сколь мучительны наши страдания. Иов, вероятно, переживал потерю
своих стад сильнее, чем потерю жены и всего семейства1, ибо мог бы радоваться
стадам и без семейства, но не смог бы радоваться семейству — по крайней мере,
долго, — потеряв все имущество. Потеря денег — это поистине не только самое
тяжелое горе, но и источник всякого другого горя. Поднимите человека, не
имеющего никакого занятия, к умеренному достатку; затем внезапно заберите
у него деньги, и как долго его здоровье способно будет выдержать перемену во
всем образе жизни, которую потеря денег повлечет за собой? К тому же как
долго способны сохраняться при таком крахе уважение и сочувствие друзей?
Люди могут очень жалеть нас, но их отношение к нам до настоящего времени
основывалось на предположении, что наши денежные дела обстоят так-то и так-
то; когда наше финансовое положение рушится, наш социальный статус
должен быть пересмотрен; результатом этого пересмотра может стать вывод, что
мы завоевали уважение обманным путем. Итак, три самые серьезные потери,
от которых человек может пострадать, — это потеря денег, здоровья и
репутации. Самая тяжелая из них — потеря денег, затем следует утрата здоровья и
затем уж потеря репутации. Потеря репутации занимает третье место, поскольку
если человек сохраняет здоровье и деньги, то потерю им репутации сочтут, как
правило, следствием отступления всего лишь от вульгарных условностей, а не
нарушения издавна существующих, прочных канонов, авторитет которых
неоспорим. В этом случае человек может отрастить себе новую репутацию так же
легко, как рак отращивает новую клешню, или же, если имеет здоровье и деньги,
может процветать с полным душевным спокойствием и вообще без всякой репу-
220
Путь всякой плоти
тации. Единственный шанс для человека, который потерял свои деньги, — это
быть еще достаточно молодым, чтобы выдержать расставание с прежней почвой
и пересадку в новую без необратимых губительных последствий. А мой крестник
и был еще молод.
По тюремным правилам, пробью в тюрьме три месяца, он мог получить и
послать письмо, а также имел право на одно свидание с кем-либо из друзей.
Когда он получил мое письмо, то сразу же попросил, чтобы я навестил его, что
я конечно же и сделал. Я нашел его очень изменившимся и все еще настолько
слабым, что даже путь от больницы до тюремного помещения, где мне было
позволено увидеться с ним, и волнение при встрече со мной потребовали от него
слишком большого напряжения сил. Он совсем изнемог, и, с болью наблюдая
его в таком состоянии, я сперва был готов сейчас же нарушить данные мне
распоряжения, однако ограничился заверениями, что помогу ему, когда он
выйдет из тюрьмы, и попросил его, когда он решит, что будет делать, прийти
ко мне, и я дам ему денег, которые могут понадобиться, в случае если он не
сможет получить их от отца. Чтобы облегчить ему выбор, я сказал, что его
тетка на смертном одре высказала желание, чтобы в случае критического
положения я сделал нечто подобное, а значит, он получит лишь то, что
оставила ему мисс Понтифекс.
— Тогда, — произнес он, — я не возьму у отца сто фунтов и никогда не
стану видеться ни с ним, ни с матерью.
Я посоветовал:
— Возьми сто фунтов, Эрнест, и столько, сколько удастся получить, а затем
можешь не видеться с ними, если не хочешь.
Этого Эрнест делать был не намерен. Если бы он взял у родителей деньги,
то не смог бы порвать с ними, а он хотел с ними порвать. Я считал, что для
моего крестника будет намного лучше, если у него достанет твердости сделать
то, что он задумал, то есть полностью разорвать отношения с отцом и матерью,
и сказал ему об этом.
— Значит, вы не любите их? — удивленно спросил он.
— Люблю их! — возмутился я. — Да я считаю, что они несносны.
— О, это самое лучшее из всего, что вы сделали для меня! — воскликнул он. —
Я думал, всем-всем... абсолютно всем людям средних лет нравятся мои отец и мать.
Он едва не назвал меня старым, но мне было только пятьдесят семь, и я не
собирался считаться стариком, что он и увидел по выражению моего лица, а
потому запнулся и сказал «людям средних лет».
— Если хочешь знать, — сказал я,— я считаю, что все ваше семейство
несносно, за исключением тебя и твоей тети Алетеи. Все семьи в большинстве своем
всегда отвратительны, а если находятся один или два симпатичных человека
в каждом большом семействе — это все, чего можно ожидать.
— Спасибо, — ответил он с искренней благодарностью, — теперь, мне
кажется, я могу выдержать почти все. Я приду к вам, как только освобожусь из
тюрьмы. До свиданья.
Надзиратель уже предупредил нас, что время, отведенное для свидания,
истекло.
Глава 67
221
Глава 67
Когда Эрнест обнаружил, что по выходе из тюрьмы ему не придется
рассчитывать на какие-либо деньги, то понял, что его мечтам об эмиграции и
собственной ферме пришел конец, поскольку знал, что сам не способен к длительной
работе плугом или топором, а теперь оказывалось, что у него не будет денег,
чтобы нанять работников. Это новое обстоятельство привело его к решению раз
и навсегда расстаться с родителями. Если бы он уехал в другую страну, то смог
бы поддерживать отношения с ними, ибо они были бы слишком далеко,
чтобы чинить ему препятствия.
Он знал, что отец и мать будут против разрыва; они захотят предстать
добрыми и всепрощающими; не пожелают они и утратить право и дальше мучить
его; но он также очень хорошо знал, что, пока будет оставаться с ними в одной
упряжке, они всегда будут тянуть в одну сторону, а он — в другую. Эрнест
хотел отказаться от принадлежности к классу джентльменов и опуститься, начав
с самой низкой ступеньки лестницы, в те слои общества, где никто не знал о его
позоре, а если бы и узнал, то не стал бы по этому поводу охать и ахать; его же
родители захотят, чтобы он держался за остатки своей сословной
принадлежности, получая мизерное жалованье и не имея перспективы продвижения.
Эрнест достаточно повидал жизнь в Эшпит-Плейс, чтобы знать, что портной, если
он не пьет и серьезно относится к своему делу, может зарабатывать больше,
чем клерк или викарий, а внешняя сторона жизни обходится ему намного
дешевле. У портного к тому же больше свободы и больше шансов преуспеть.
Эрнест решил, что, раз пал так низко, следует пасть еще ниже — без промедления,
не теряя головы и с намерением снова подняться, а не цепляться за крохи
респектабельности, что вынудило бы его существовать только за счет чьей-то
милости и заставило бы платить непомерную цену за то, без чего он вполне мог
обойтись.
Он пришел к этому выводу быстрее, чем мог бы в других обстоятельствах,
благодаря тому, что вспомнил слова, которые однажды слышал от своей
тетки, — «поцеловать землю». Это выражение некогда поразило его и
запечатлелось в памяти, возможно, из-за своей лаконичности. Когда позднее он узнал
историю о Геркулесе и Антее1, то обнаружил, что это один из очень немногих
древних мифов, которые оказали на него влияние — тем воздействие на него
классической литературы почти и ограничивалось. Его тетка хотела, чтобы он
научился плотницкому делу как возможности «поцеловать землю», в случае
если Геркулес когда-нибудь набросится на него. Теперь уже слишком поздно
учиться этому — или он считал, что поздно, — но способ воплощения теткиной
идеи в жизнь не имел принципиального значения: существовала сотня
возможностей «поцеловать землю», помимо того чтобы стать плотником.
Он сказал мне об этом во время нашей беседы, и я всей душой поддержал
его. Эрнест продемонстрировал намного больше здравого смысла, чем можно
было ожидать, и я стал за него более или менее спокоен и решил позволить ему
идти своим путем, хотя всегда был готов выручить, в случае если бы дела
приняли слишком плохой оборот. Он не хотел больше иметь дела со своими ро-
222
Путь всякой плоти
дителями не просто потому, что не любил их, — если бы дело заключалось
только в этом, он готов был бы терпеть их, — однако внутренний голос
вполне отчетливо твердил ему, что если он окончательно порвет с ними, то еще
может получить шанс добиться успеха, тогда как если отношения с ними
продолжатся или даже если родители будут знать, где он находится, то станут
мешать ему и в конце концов погубят. Эрнест считал, что абсолютная
независимость — для него единственный шанс вообще выжить.
Сверх того — как будто прочего было недостаточно — Эрнест верил в свое
предназначение (как, полагаю, верит большинство молодых людей), но
причины, почему он верил, были открыты лишь ему самому. Обоснованно или
безосновательно, он тайно верил, что обладает силой, которая, если бы только он
был волен распорядиться ею по собственному усмотрению, могла бы позволить
ему когда-нибудь вершить великие дела. Он не знал, когда, где и как должна
представиться ему такая возможность, но никогда не сомневался, что она
представится, несмотря на все что случилось, и прежде всего лелеял надежду, что
поймет, как воспользоваться этой возможностью, когда она представится, ибо,
что бы то ни было, оно должно быть чем-то таким, что никто не сможет
сделать так хорошо, как он. Говорят, в наше время нет никаких драконов и
великанов, с которыми смельчаки могли бы сражаться, но у Эрнеста начала
зарождаться мысль, что нынче этого добра так же много, как в прошлые времена.
Какой бы чудовищной ни казалась подобная вера у того, кто полагал себя
готовым к высокой миссии из-за того, что отбыл тюремное заключение, он не
мог перестать верить, как не мог перестать дышать. Вера укоренилась в нем,
и скорее именно из-за нее, нежели по другим причинам, он хотел разорвать
связь между собой и родителями, ибо знал, что если однажды настанет день,
когда ему предстоит пуститься в путь и на этом поприще2 ему откроется
возможность снискать честь оказаться в числе победителей, то отец и мать
первыми отправят его в дорогу, а потом станут сооружать барьеры на его пути. Они
первыми скажут, что он должен идти, но и первыми же собьют его с курса, если
он послушается их наставлений; а потом они же станут укорять его за то, что
он не победил. Никакая победа ему не светит, пока он не освободится от тех,
кто всегда тянет его назад, в мир условностей. Условности, однако, уже были
испытаны и найдены непригодными.
Он имел теперь возможность спастись раз и навсегда от тех, кто мучил его
и стал бы удерживать на земле, представься ему шанс воспарить. Он никогда
не получил бы такой возможности, если бы не оказался в заключении; кабы не
тюрьма, то сила привычки и заведенный порядок жизни продолжали бы
оказывать на него слишком сильное влияние; а еще он вряд ли обрел бы эту
возможность, если бы не потерял все свои деньги; иначе пропасть не была бы
настолько широка, чтобы у него не могло возникнуть побуждение перебросить
через нее доску. Вот почему он радовался теперь как потере денег, так и
пребыванию в заключении, ибо то и другое позволяло ему последовать самым
настоящим и самым долгосрочным устремлениям.
По временам Эрнест испытывал колебания, когда думал о том, как его мать,
которая по-своему, как он считал, любит его, будет плакать и печалиться о нем
Глава 67
223
или, возможно, даже заболеет и умрет, и тогда вина ляжет на него. В такие
минуты решимость почти покидала его, но, когда он узнал, что я приветствую
его проект, внутренний голос, который подсказывал ему больше не видеться с
отцом и матерью, стал звучать громче и настойчивее. Если он не сможет
порвать с теми, кто, как он знал, будет чинить ему препятствия, теперь, когда для
разрыва требовалось столь небольшое усилие, то его мечта о собственном
предназначении останется пустой фантазией; что значит перспектива получения
сотни фунтов от отца в сравнении с такой угрозой? Он все еще глубоко
переживал ту боль, какую его позор причинил родителям, но уже обретал силу и
приходил к мысли о том, что раз уж ему выпала судьба пробиваться в жизни, имея
таких родителей, так пусть и они устраивают свою жизнь, имея такого сына.
Он уже почти утвердился в этой мысли, когда получил письмо от отца,
которое превратило решение в окончательное. Если бы тюремные правила
соблюдались строго, ему позволили бы получить это письмо не раньше, чем через три
месяца, поскольку он уже получил известие от меня, но начальник тюрьмы
проявил снисходительность и счел письмо от меня деловым сообщением, не
входящим в категорию приватных писем. А потому послание Теобальда было
передано его сыну. Содержалось в нем следующее:
Мой дорогой Эрнест!
Цель моего письма состоит не в том, чтобы упрекать тебя за бесчестье и
позор, которые ты навлек на мать и меня, не говоря уж о брате Джо и сестре.
Конечно, нам приходится страдать, но мы знаем, к кому обращаться в наших
печалях и полны беспокойства скорее о тебе, чем о самих себе. Мать
держится замечательно. Она более или менее здорова и пожелала, чтобы я передал
тебе привет от нее.
Обдумал ли ты свои перспективы по выходе из тюрьмы? Я знаю от мистера
Овертона, что в ходе спекуляций на фондовой бирже ты потерял наследство,
которое оставил тебе дед, вместе со всей прибылью, которая накапливалась,
покуда ты не достиг совершеннолетия. Если ты действительно повинен в таком
ужасающем безрассудстве, то трудно представить, чем ты сможешь заняться, и
я полагаю, тебе следует попробовать найти работу клерка в какой-нибудь
конторе. Жалованье у тебя поначалу будет, несомненно, мизерным, но что ты посеял,
то и должен пожинать, не сетуя на судьбу. Если ты постараешься понравиться
нанимателям, то они не задержатся с твоим продвижением по службе.
Сначала, когда я получил от мистера Овертона известие о том неописуемом
бедствии, какое постигло твою мать и меня, то решил никогда больше не
видеться с тобой. Но я не желаю прибегать к мере, которая лишила бы тебя последней
связи с почтенными людьми. Мы с матерью готовы встретиться с тобой, как
только ты выйдешь из тюрьмы, — не в Бэттерсби, мы не хотим, чтобы ты
приезжал сюда в настоящее время, — но где-нибудь в другом месте, может быть, в
Лондоне. Ты не должен избегать встречи с нами: мы не намерены упрекать тебя.
Тогда мы и примем решение относительно твоего будущего.
Нынче нам представляется, что тебе, вероятно, лучше начать новую жизнь
в Австралии или Новой Зеландии3, а не здесь, и я готов выделить семьдесят
224
Путь всякой плоти
пять или даже, если потребуется, сто фунтов, чтобы оплатить твоей проезд. В
колонии же тебе придется рассчитывать на свои собственные силы.
Да помогут тебе Небеса и да вернут нам тебя спустя годы уважаемым
членом общества.
Любящий тебя отец,
Т. Понтифекс
Далее следовал постскриптум, написанный Кристиной:
Мой любимый, дорогой мальчик, молись со мной ежедневно и ежечасно,
чтобы мы опять смогли стать счастливой, дружной, богобоязненной семьей,
какой были прежде, до того как нас постигло это ужасное горе. Твоя
страдающая, но всегда любящая мать,
К. П.
Это письмо не произвело на Эрнеста того действия, какое оказало бы
прежде, до заключения в тюрьму. Отец и мать думали, что смогут принять сына
после того, как отказались от него. Они забыли о том, как быстро развитие
следует за неудачей, если пострадавший молод и обладает сильным
характером. Эрнест не ответил на письмо отца, но желание полного разрыва развилось
у него в нечто вроде страсти.
— Есть приюты, — восклицал он, — для детей, которые лишились родителей.
О, почему же, почему нет пристанищ для взрослых людей, которые еще не
лишились их?
И он предался размышлениям о счастье Мелхиседека, который был
сиротой, без отца, без матери и без родословной4.
Глава 68
Когда я обдумываю все, что Эрнест рассказал мне о своих размышлениях в
тюрьме и о выводах, к которым пришел, мне приходит в голову, что в
действительности он хотел сделать то, мысль о чем в других обстоятельствах посетила
бы его в последнюю очередь. Я имею в виду, что он пытался отказаться от отца
и матери во имя Христа1. Он говорил, что отказывается от них потому, что
считает, что они мешают ему в достижении самого истинного и полного счастья.
Допустим, но что такое это счастье, как не Христос? Что же такое Христос, если
Он — не вот это самое счастье? Тот, кто имеет самое высокое и полное
самоуважения представление о собственном благе, какое только в силах измыслить, и
твердо придерживается его, несмотря на все условности, является христианином,
знает ли он об этом и называет ли себя таковым или нет. Роза не перестает быть
розой оттого, что не знает собственного названия2.
Что, если обстоятельства сделали исполнение долга более легким для него,
чем это бывает для большинства людей? Это его удача, как удача других
людей — иметь такое происхождение, которое облегчает исполнение долга. Если
Глава 68
225
человек рождается богатым или красивым, он конечно же имеет право на
счастливую судьбу. Некоторые, знаю, скажут, что человек не имеет права обладать
от рождения более крепким здоровьем, чем его ближний; другие же скажут,
что удача — единственный подлинный предмет человеческого преклонения. И
те и другие, полагаю, могут отлично доказать справедливость своей точки
зрения, но, кто бы ни оказался прав, Эрнест, разумеется, имел столько же права
на удачу обрести более легкий способ исполнения долга, сколько и на неудачу
влипнуть в историю, приведшую его в тюрьму. Человек достоин порицания не за
то, что ему выпал козырь; он достоин порицания, только если плохо разыграл
свой козырь.
По правде говоря, у меня есть сомнения относительно того, намного ли
труднее другим людям отказываться от отца и матери во имя Христа, чем это было
для Эрнеста. Отношения между детьми и родителями почти всегда бывают
крайне напряженными, перед тем как доходят до разрыва. Вряд ли
кому-нибудь когда-либо требовалось отказаться от тех, к кому он нежно привязан,
просто потому, что так велела совесть: он утрачивает привязанность к родителям
намного раньше, чем почувствует потребность порвать с ними, ибо различия
во взглядах на тот или иной жизненно важный предмет вытекают из различия
характеров, а они уже ведут к столь многочисленным другим разногласиям, что
отказ, когда он происходит, подобен отказу от больного, но уже шатающегося
и гнилого зуба. Для нас по-настоящему мучительна лишь потеря тех, от кого
нам не требуется отказаться во имя Христа. Вот тогда-то и приходит настоящая
боль. К счастью, не имеет значения, насколько легка задача, выполнение
которой от нас требуется, достаточно того, что мы ее выполняем; мы точно так же
пожинаем награду, как если бы это был геркулесов подвиг.
Но вернемся к Эрнесту, пришедшему к решению стать портным. Он
обсудил этот вопрос со священником, который сказал, что у Эрнеста есть все
возможности зарабатывать по шесть-семь шиллингов в день до выхода из
тюрьмы, если он захочет учиться ремеслу в течение оставшегося ему срока —
неполных трех месяцев; а доктор заявил, что Эрнест достаточно здоров для
этого и что пока еще портняжничество — едва ли не единственное дело, к
которому он пригоден; итак, он покинул больницу быстрее, чем это могло
случиться при других обстоятельствах, и поступил в портняжную мастерскую,
радуясь при мысли о том, что вступает на свой путь, и веря, что когда-нибудь
добьется успеха, если только найдет устойчивую точку опоры, с которой
сможет начать.
Все, с кем Эрнест имел дело, видели, что он не принадлежит к тем, кого
называют преступными элементами, а, обнаружив в нем стремление учиться и
не причинять окружающим беспокойства, всегда относились к нему хорошо и
почти уважительно. Он не считал свою работу скучной: она была гораздо
приятнее, чем сочинение латинских и греческих стихов в Рафборо; он чувствовал,
что ему больше нравится здесь, в тюрьме, чем в Рафборо — или, пожалуй, даже
в самом Кембридже. Единственное, из-за чего ему всегда грозила опасность
угодить в число нарушителей, так это из-за того, что он любил перекинуться
словами или взглядами с теми из его товарищей по тюремному заключению,
226
Путь всякой плоти
которые выглядели приличными людьми. Это запрещалось, но Эрнест
никогда не упускал возможности нарушить данное правило.
Всякий человек с его способностями, который приложил бы старания к
учебе, разумеется, быстро достиг бы успехов, и, перед тем как Эрнесту пришло
время покинуть тюрьму, надзиратель сказал, что он так же хорошо научился
портняжному делу за три месяца ученичества, как многие за двенадцать. Ни
от кого из своих прежних учителей Эрнест никогда не получал такой щедрой
похвалы. Что ни день, по мере того как восстанавливалось его здоровье и он
привыкал к окружающей обстановке, ему открывалось какое-нибудь новое
преимущество его положения — преимущество, к которому он не стремился, но
которое возникло почти вопреки его воле, — и он изумлялся своей удаче,
благодаря которой все устроилось намного лучше, чем мог бы устроить он сам.
Шесть месяцев жизни в Эшпит-Плейс были тому подтверждением.
Эрнесту открывались возможности, которые отсутствовали у других людей его
круга. Если бы такому человеку, как Таунли, сказали, что впредь ему придется
жить в таком месте, как Эшпит-Плейс, он не смог бы этого выдержать. Эрнест
сам не смог бы этого выдержать, если бы оказался вынужден жить там из-за
недостатка в средствах. Только потому, что он знал, что в состоянии в любую
минуту сбежать оттуда, он не хотел этого делать; однако, познакомившись с
жизнью в Эшпит-Плейс, он уже ничего не имел против нее и мог бы охотно
жить и в более грязных районах Лондона; главное — не терпеть нужду. Вовсе
не из благоразумия или предусмотрительности прошел он этот курс
ученичества, привив себе навыки жизни среди бедняков. Эрнест предпринял слабую
попытку безукоризненно выполнять свою работу: безукоризненным ему стать
не удалось, дело потерпело фиаско, но он сделал скромное усилие быть
искренним, и вот в час испытаний это вознаградилось гораздо более щедро, чем он
того заслуживал. Он не смог бы стойко перенести то, что перешел в разряд
самых бедных, если бы не отыскал такого моста, по которому можно было
перейти к ним, какой нечаянно обнаружил в Эшпит-Плейс. Правда, как раз у
того дома, который он выбрал, имелись недостатки, но теперь ему не нужно
было жить в доме, где обитал какой-нибудь мистер Холт, и он больше не
должен быть привязан к профессии, которую так ненавидел; а если бы не было ни
воплей, ни чтения Священного Писания, он мог бы быть счастлив и в такой
каморке за три шиллинга в неделю, в какой жила мисс Мэйтланд.
Размышляя далее, он вспомнил, что все содействует ко благу любящих
Бога;3 возможно ли, спрашивал он себя, чтобы и он тоже, пусть и несовершенно,
пытался любить Его? Он не осмеливался ответить «да», но намерен был сделать
все, чтобы это было так. Тогда-то и пришла ему на память величественная ария
Генделя «Великий Боже, еще так смутно различимый»4, и он прочувствовал ее,
как никогда не чувствовал прежде. Он потерял веру в христианство, но его вера
в нечто — он не знал во что, но это было то, пока еще лишь смутно
различимое, что делает правильное правильным, а неправильное неправильным, — эта
вера крепла в нем с каждым днем.
К тому же его не покидала мысль о силе, которую он ощущал в себе, и о том,
как и где она должна найти выход. Тот же инстинкт, который побудил его по-
Глава 68
227
селиться среди бедняков, потому что это было самое реальное для него дело, за
которое он мог взяться с какой-либо ясностью, пришел ему на помощь и на этот
раз. Он думал об австралийском золоте и о том, как те, кто жил среди него,
никогда золота не видели, хотя им изобиловало все вокруг них. «Золото
повсюду, — внутренне восклицал Эрнест, — для тех, кто ищет его!» Может быть, его
шанс где-то близко, и просто следует внимательнее присмотреться к тому, что его
окружает? Каково его положение? Он потерял все. Не может ли он обратить этот
факт утраты всего себе на благо? Не может ли, если тоже как следует попросит
силы у Бога, обнаружить, как апостол Павел, что сила совершается в немощи?5
Ему больше нечего терять: деньги, друзья, репутация — все оказалось
утрачено на очень долгое время, если не навсегда; но было также еще что-то, что
улетучилось вместе со всем этим. Я имею в виду страх перед злом, которое
люди способны ему причинить. Cantabit vacuus*'б. Кто может теперь нанести
ему более глубокую рану, чем те, что он уже имел? Да пусть ему позволят всего
лишь быть в состоянии заработать на хлеб, и не останется ничего, на что он не
осмелится решиться, если это сделает мир счастливее для тех, кто молод и
достоин любви. В этом он находил такое большое утешение, что ему было
почти жаль, что он не до конца потерял свою репутацию, ибо он понял, что с
репутацией дело обстоит так же, как и с душой человека, которую можно
спасти, потеряв7, и потерять, спасая. Он не набрался бы смелости отказаться от
всего во имя Христа, но теперь по милосердию Христа все потеряно, и
(подумать только!) он чувствует себя так, как если бы все было обретено8.
Медленно текли дни, и Эрнест приходил к пониманию того, что
христианство и отрицание христианства в конечном счете сходятся, как и всякие
крайности; здесь происходит борьба за названия, а не за саму суть; фактически
католичество, Англиканская церковь и свободомыслие имеют один и тот же
идеальный критерий и сходятся во взглядах на порядочность человека; ибо
самый совершенный святой тот, кто самый совершенный порядочный человек.
Далее Эрнест понял также, что не имеет большого значения, что человек
исповедует, религию или неверие, если только он следует своим убеждениям с
милосердной непоследовательностью и не упорствует в них до последнего.
Опасность состоит в бескомпромиссности, с какой придерживаются догмы, а
не в догме или ее отсутствии. Это был вывод, венчающий всю систему;9 когда
Эрнест пришел к нему, он больше не хотел нападать даже на Папу Римского.
Архиепископ Кентерберийский мог прыгать вокруг него и даже брать крошки
у него из рук, не подвергаясь опасности неожиданно быть посыпанным солью10.
Сам этот осторожный прелат, возможно, держался другого мнения, но
малиновки и дрозды, которые скачут на наших лужайках, имеют не больше
оснований не доверять руке, которая бросает им крошки хлеба зимой, чем
архиепископ имел бы в отношении моего героя.
Возможно, достичь вышеупомянутого умозаключения Эрнесту помогло
событие, которое почти навязало ему идею непоследовательности. Через
несколько дней после того, как он покинул больницу, священник пришел к нему в
* Поет неимущий [лат).
228
Путь всякой плоти
камеру и сказал, что у заключенного, который играл на органе в часовне,
только что закончился срок и он покидает тюрьму, а потому священник предложил
это место Эрнесту, про которого уже знал, что он играет на органе. Эрнест
поначалу сомневался, правильно ли для него участвовать в религиозных службах
в большей степени, чем он фактически обязан делать, но удовольствие от игры
на органе и преимущества, какие давало место органиста, заставили его увидеть
превосходные основания для того, чтобы не доходить в последовательности до
предела. Стало быть, введя однажды элемент непоследовательности в свою
систему, он оказался достаточно последователен, чтобы не настаивать на
излишней последовательности, и впал в благожелательное безразличие, которое по
внешним проявлениям было весьма схоже с тем безразличием, от которого
пробудил его мистер Хок.
Став органистом, он был избавлен от топчака11, к которому, по словам
доктора, был пока еще не пригоден, но к которому его, вероятно, должны были
привлечь, как только бы он достаточно окреп. Он мог бы вообще оставить
портняжную мастерскую и выполнять лишь сравнительно легкую работу в
жилище священника, если бы пожелал, но он хотел как можно лучше
научиться портновскому ремеслу и поэтому не воспользовался выгодами данного
предложения; однако ему позволили два часа в день в послеполуденное время
упражняться в игре на органе. С того времени тюремная жизнь Эрнеста утратила
монотонность, и оставшиеся два месяца тюремного заключения пролетели
почти так же быстро, как если бы он был на свободе. Благодаря музыке, книгам,
изучению ремесла и беседам со священником, который был именно тем добрым,
благоразумным человеком, в каком Эрнест нуждался, чтобы прийти в
некоторое равновесие, дни проходили настолько приятно, что, когда наступило время
выйти из тюрьмы, он сделал это, как ему казалось, не без сожаления.
Глава 69
Придя к решению раз и навсегда разорвать отношения со своей семьей, Эрнест
больше на нее не рассчитывал. Надо признать, Теобальд действительно хотел
избавиться от сына и предпочел бы, чтобы тот был, во всяком случае, не
ближе, чем антиподы1, но у него не было намерения полностью порвать с ним. Он
достаточно хорошо знал своего сына, чтобы сделать проницательное
умозаключение, что именно этого желал бы сам Эрнест, и, возможно, по этой причине,
помимо всех прочих, Теобальд решил продолжать поддерживать отношения,
при условии, что это не повлечет за собой приезда Эрнеста в Бэттерсби или
каких-либо регулярных расходов.
Когда Эрнесту подошло время покинуть тюрьму, отец с матерью стали
совещаться, какой линии поведения им следует держаться.
— Мы ни в коем случае не должны предоставить его самому себе, —
торжественно заявил Теобальд, — никто из нас не может этого хотеть.
— О нет! Нет, мой дорогой Теобальд! — воскликнула Кристина. — Кто бы еще
ни покинул его и как бы далеко он, может быть, ни оказался от нас, он должен
Глава 69
229
по-прежнему чувствовать, что у него есть родители, чьи сердца полны любви
к нему, несмотря на то, какую жестокую боль он им причинил!
— Он сам был себе худшим врагом, — сказал Теобальд. — Он никогда не
любил нас, как мы того заслуживали, а теперь ложный стыд будет удерживать
его от желания увидеться с нами. Он постарается, по возможности, избегать нас.
— Тогда мы сами должны пойти к нему, — ответила Кристина. — Нравится
ему это или нет, но мы должны быть рядом с ним, чтобы поддержать, когда
он снова вступит в мир.
— Если мы не хотим дать ему улизнуть, то должны перехватить его, когда
он будет покидать тюрьму.
— Да, да, наши лица — вот что должно первым обрадовать его глаза, когда
он выйдет, а наши голоса должны первыми призвать его вернуться на путь
добродетели.
— Думаю, — возразил Теобальд, — если он увидит нас на улице, то
повернется и убежит. Он чрезвычайно эгоистичен.
— Тогда мы должны получить разрешение посетить тюрьму и увидеться с
ним, прежде чем он выйдет оттуда.
После длительного обсуждения они остановились на этом плане, и Теобальд
написал начальнику тюрьмы, спрашивая, нельзя ли попасть внутрь тюремного
здания, чтобы встретить Эрнеста, когда истечет срок его заключения. Получив
утвердительный ответ, Теобальд с Кристиной выехали из Бэттерсби за день до
того, как Эрнест должен был выйти на волю.
Эрнест не рассчитывал на это и весьма удивился, когда около девяти часов
ему сказали, что до того, как покинет тюрьму, он должен явиться в приемную,
так как его там ждут посетители, желающие с ним увидеться. У него упало
сердце, ибо он догадался, кто это, но собрал все свое мужество и поспешил в
приемную. Там и в самом деле у края стола возле двери стояли два человека, которых
он считал своими самыми опасными врагами в мире, — его отец и мать.
Он не мог убежать, но знал, что если дрогнет, то все пропало.
Мать плакала, но бросилась к нему, чтобы заключить его в свои объятия.
— О мой мальчик, мой мальчик, — повторяла она, всхлипывая, не в силах
более вымолвить ни слова.
Эрнест побледнел как полотно. Его сердце колотилось так, что он едва мог
дышать. Он позволил матери обнять его, а затем, отстранившись, молча стоял
перед ней, и слезы катились из его глаз.
Вначале он не мог говорить. В продолжение нескольких минут все
хранили полное молчание. Затем, собравшись с духом, Эрнест тихо промолвил:
— Мама (в первый раз он не назвал ее «матушка»), мы должны расстаться.
После этого, повернувшись к надзирателю, он сказал:
— Полагаю, я волен покинуть тюрьму, если того желаю. Вы не можете
заставить меня дольше оставаться здесь. Пожалуйста, проводите меня к воротам.
Теобальд шагнул вперед:
— Эрнест, ты не должен, не смеешь расстаться с нами подобным образом.
— Не трогайте меня, — ответствовал Эрнест, и в его глазах сверкнул такой
огонь, какой редко можно было в них увидеть.
230
Путь всякой плоти
Подошел другой надзиратель и отвел Теобальда в сторону, а первый
проводил Эрнеста к воротам.
— Передайте им от меня, — сказал Эрнест, — пусть считают, что я умер,
поскольку для них я мертв. Скажите, что мучительнее всего для меня — мысль
о позоре, который я навлек на них, и что превыше всего прочего я хочу
научиться не причинять им боли в будущем; но скажите также, что, если они напишут
мне, я возвращу их письма нераспечатанными, а если придут повидаться со
мной, я буду защищаться всеми возможными способами.
Тут они подошли к тюремным воротам, и через мгновение Эрнест был на
свободе. Сделав несколько шагов, он повернулся лицом к тюремной стене,
прислонился к ней, чтобы не упасть, и заплакал так, что едва не надорвал себе
сердце.
В конце концов, отказ от отца с матерью во имя Христа2 не такое уж
легкое дело. Если человек довольно долго находился во власти бесов, то, выходя
из него, они станут рвать ему душу, как бы решительно их ни изгоняли. Эрнест
недолго стоял у стены, поскольку каждую минуту боялся, что могут выйти его
родители. Он взял себя в руки и направился в открывавшийся перед ним
лабиринт узких улочек.
Он перешел свой Рубикон3 — возможно, не очень героически или
драматически, но ведь только в драмах люди действуют драматически. Во всяком
случае, так или этак, но он выбрался и был уже по другую сторону. Эрнест думал
о многом, что охотно сказал бы, и обвинял себя за недостаток решительности,
но в конечном счете все это имело очень мало значения. Как бы ни был он
склонен всячески оправдывать отца и мать, его возмущало, что они заявились
без предупреждения в тот самый момент, когда волнение, связанное с
освобождением из тюрьмы, овладело им в такой степени, что на другие чувства сил уже
не осталось. Родители нечестно злоупотребили своим преимуществом перед
ним, но он был доволен, что они так поступили, ибо это помогло ему яснее, чем
когда-либо, понять, что его единственная надежда в том, чтобы расстаться с
ними окончательно и бесповоротно.
Стояло серенькое утро, и начинали появляться первые признаки зимнего
тумана, поскольку наступило уже тридцатое сентября. На Эрнесте была
одежда, в которой он отправился в тюрьму, то есть одет он был как священник.
Никто с первого взгляда не заметил бы никакого различия между его
нынешним обликом и тем, какой он имел шесть месяцев назад. Действительно,
когда он медленно брел по грязному, запруженному народом переулку под
названием Эйр-Стрит-Хилл (который хорошо знал, поскольку имел в этом районе
знакомых среди духовенства), месяцы, проведенные в тюрьме, казалось,
просто выпали из его жизни, и ассоциации с такой силой увлекли его, что,
оказавшись в своей прежней одежде и в прежней среде, он почувствовал, как в нем
вновь заговорило его прежнее «Я», — словно шесть месяцев тюремной жизни
были сном, от которого он теперь пробуждался, чтобы застать вещи такими,
какими оставил. То было воздействие неизменившейся среды на
неизменившуюся часть его «Я». Но имелась еще и изменившаяся часть, и воздействие
неизменившейся среды на нее состояло в том, чтобы сделать все вокруг почти столь
Глава 69
231
же странным, как если бы никакой иной жизни, кроме той, что провел в
тюрьме, Эрнест никогда не имел и теперь появился на свет заново.
На протяжении всей нашей жизни, ежедневно и ежечасно, мы находимся в
процессе приспособления нашего изменившегося и неизменившегося «Я» к
изменившейся и неизменившейся среде. Последовательная смена состояний
жизни, по существу, и есть не что иное, как процесс приспособления. Если в
ходе него мы допускаем небольшую оплошность, мы глупы, если же
чудовищную, мы безумны, если временно приостанавливаем этот процесс, мы спим,
если вообще отказываемся от всяких попыток приспособиться, мы умираем. В
тихой, лишенной событий жизни изменения внутренние и внешние настолько
малы, что для встраивания и приспособления требуется лишь слабое
напряжение или вовсе не требуется никакого; в жизни другого рода требуется большее
напряжение для согласования внутренних и внешних изменений, но тогда
присутствует и большая способность к встраиванию и приспособлению; бывает и
так, что большому напряжению сопутствует незначительная способность к
приспособлению. Жизнь будет или не будет сопровождаться успехом в
зависимости от того, насколько способность к приспособлению соразмерна
способности встраиваться в действительность и согласовывать внутренние и внешние
изменения.
Беда в том, что в конце концов мы будем вынуждены допустить
абсолютное единство вселенной, и это заставит нас отрицать, что существуют области
внешнего и внутреннего, а всё нужно видеть одновременно и как внешнее, и как
внутреннее, ибо субъект и объект, внешнее и внутреннее едины, как и все
остальное. Это разрушит всю нашу систему, но ведь каждая система
оказывается чем-то разрушенной.
Едва ли не лучший выход из данного затруднения состоит в том, чтобы
проводить различие между внутренним и внешним — субъектом и объектом, —
когда мы находим это удобным, а устанавливать единство между ними — когда
находим удобным единство. Это нелогично, но одни лишь крайности логичны,
и притом всегда абсурдны; только среднее реально, и оно всегда нелогично.
Высшим арбитром выступает вера, а не логика. Говорят, что все дороги ведут
в Рим. Ну а все философские учения, с которыми мне когда-либо приходилось
знакомиться, ведут в конечном счете либо к какому-нибудь грандиозному бреду
либо к выводу, который уже не раз повторялся на этих страницах: праведник
живет верой, или, говоря другими словами, разумные люди руководствуются
в жизни эмпирическим методом, поскольку могут толковать его наиболее
удобным для себя способом, не задавая чересчур много вопросов ради успокоения
совести. Возьмите какой-нибудь факт и поразмышляйте над ним до последней
точки: в скором времени вы придете именно к такому выводу — как
единственному спасению от явного безумия4.
Но вернемся к моей истории. Когда Эрнест прошел улицу насквозь и
оглянулся назад, то в конце нее увидел вздымавшиеся грязные, угрюмые стены
тюрьмы. Несколько минут он стоял и глядел на них. «Там, — подумал он, — я
был заперт при помощи засовов, которые мог видеть и к которым мог
прикасаться; здесь же меня окружают другие преграды, которые тем не менее реаль-
232
Путь всякой плоти
ны, — бедность и незнание жизни. В мои планы не входила попытка разбить
замки из железа и бежать из тюрьмы, но теперь, когда я свободен, я должен
конечно же стремиться разрушить те, другие преграды».
Эрнест читал где-то о заключенном, который совершил побег, перепилив
остов кровати железной ложкой. Он восхищался силой духа этого человека, но
даже и помыслить не мог о том, чтобы ему подражать. Наличие же
нематериальных барьеров не столь сильно смущало моего героя, и он чувствовал, что
если бы даже кровать была железной, а ложка деревянной, он смог бы найти
какой-нибудь способ, чтобы заставить дерево рано или поздно перепилить
железо.
Он повернулся спиной к Эйр-Стрит-Хилл и зашагал по Лезер-Лейн к Хол-
борну. Каждый сделанный им шаг, каждое лицо или предмет, который он
узнавал, помогали ему восстановить связь с той жизнью, какую он вел до
заключения в тюрьму, и в то же время заставляли почувствовать, что заключение
четко разделило его жизнь на две части, которые не могли иметь между собой
никакого сходства.
Он прошел по Феттер-Лейн к Флит-стрит и далее к Темплу5, куда я только
что возвратился после летнего отпуска. Было около половины десятого, и я
завтракал, когда услышал робкий стук в дверь, открыв которую обнаружил на
пороге Эрнеста.
Глава 70
Эрнест начал нравиться мне с того вечера, когда Таунли послал за мной. Еще
тогда я на следующий день подумал, что он неплохо сформировался. Он
понравился мне также во время нашего свидания в тюрьме, и я захотел почаще
видеться с ним, чтобы иметь возможность составить о нем мнение. Я уже
достаточно жил на свете и знал, что некоторые люди, совершающие великие дела
в зрелом возрасте, бывают не очень благоразумны в молодости. Мне было
известно, что он должен покинуть тюрьму 30-го, я ожидал его, и поскольку
имел свободную комнату, то настаивал, чтобы он остановился у меня, пока не
решит, что будет делать дальше.
Так как я был намного старше его, то не думал, что мне придется
приложить много усилий, чтобы настоять на своем, но Эрнест и слышать об этом не
хотел. Он согласился лишь погостить у меня, пока не сможет найти себе
комнату, к поискам которой намерен был приступить тотчас же.
Он все еще был очень возбужден, но почувствовал себя лучше, съев
нормальный завтрак, а не тюремный, и очутившись в уютной комнате. Мне
доставляло удовольствие видеть радость, с какой он воспринимал все вокруг: камин
с пылающим огнем, мягкие кресла, «Тайме», мою кошку, красную герань на
подоконнике, не говоря уже о кофе, хлебе с маслом, колбасе, мармеладе и т. д.
Все было полно для него самого глубокого очарования. С платанов еще не
опала листва; он все время привставал из-за стола, чтобы полюбоваться ими;
никогда прежде, по его признанию, он не осознавал, какое удовольствие все это
Ил. 7. Саму эль Батлер. Автопортрет.
1865.
Ил. 3. Саму эль Батлер. Антиной,
изображенный в виде Гермеса. 1868.
Ил. 2. Самуэль Батлер. Миссис Баррат.
Лангар. 1866 или 1867.
Ил. 4. Самуэль Батлер. Пиза.
Ил. 5. Саму эль Батлер. Семейная молитва. 1864.
Ил. 6. Саму эль Батлер. Две головы, созданные по оригиналу Беллини. 1866.
Ил. 7. Саму эль Батлер. Старуха на рынке в Новаре (Пьемонт, Италия). 1892.
Ил. 8. Саму эль Батлер. Девушка с подвязкой. Рынок в Новаре (Пьемонт, Италия). 1891.
Ил. 9. Самуэль Б ат л ер. Точильщик Ил. 10. Самуэль Батлер. ИдиотвКолико
ножей. Беллинцона (Италия). 1892. (Пьемонт, Италия). 1891.
Ил. 11. Самуэль Батлер. Забавный мальчишка с братом-калекой.
Варалло (Пьемонт, Италия). 1892.
Ил. 12. Саму эль Батлер. Слепой с детьми. Гринвич (Лондон). 1892.
Ил. 13. Саму эль Батлер. Инвалид возле трактира «Заяц и собаки».
Хэрроу. 1893.
Ил. 14. Саму эль Батлер. Человек, собравшийся удить рыбу. 1892.
Ил. 15. Самуэль Батлер в Гэдс-хилл, в саду, Ил. 16. Самуэль Батлер на заснеженном
упоминаемом шекспировским Фаль- склоне в Альпах. 1894.
стафом. 1893.
Ил. 77. Самуэль Батлер. Флит-стрит и Ил. 18. Самуэль Батлер. Лошадь, по-
собор Св. Павла. 1891. мешенная в ящик на пароходе,
направляющемся в Булонь. 1892.
Ил. 19. Самуэль Батлер.
Церковь Св. Христофора (XV в.).
Кастильоне д'Олона (Ломбардия,
Италия). 1892.
Ил. 20. Саму эль Батлер. Мальчик на стене. Санта-Мария-делле-
Грация (Италия). 1895.
Ил. 21. Саму эль Батлер. Мальчик с корзиной. Кьявенна (Ломбардия,
Италия). 1895.
Глава 70
233
может доставлять. Он ел, рассматривал вещи, то смеялся, то плакал,
переполненный чувствами, которые я не могу ни забыть, ни описать.
Он рассказал мне, как отец с матерью поджидали его, когда он собирался
выйти из тюрьмы. Я был в ярости и всей душой одобрил его поступок. Он был
очень благодарен мне за это. Другие люди, сказал Эрнест, заявили бы, что он
должен думать о родителях больше, чем о себе, и какое же утешение встретить
человека, который смотрит на жизнь так же, как и он. Даже если бы я был не
согласен с ним, то не сказал бы этого, но мое мнение совпало с Эрнестовым, и
я был почти столь же признателен ему за то, что его взгляды сходятся с моими,
сколь и он мне за оказанную поддержку. Я терпеть не мог Теобальда и
Кристину и находился со своей нелюбовью к ним в таком безнадежном меньшинстве,
что испытывал удовольствие, встретив того, кто был со мною согласен.
И тут для нас обоих наступил ужасный момент.
Послышался стук в дверь, и было ясно, что это какой-то гость, а не
почтальон.
— Боже мой, — воскликнул я, — и почему мы не закрыли наружную дверь?
Возможно, это твой отец. Неужто он явился после всего, что произошло? Иди
сейчас же в спальню.
Я подошел к двери и действительно обнаружил у порога Теобальда и
Кристину. Я не мог не впустить их и был вынужден выслушать еще одну версию
происшедшего, в целом согласующуюся с версией Эрнеста. Кристина горько
плакала, Теобальд кипел. Спустя минут десять, всячески заверив Понтифексов,
что не имею ни малейшего представления, где находится их сын, я их
выпроводил. Я видел, что они подозрительно оглядывали очевидные признаки того,
что со мной кто-то завтракал, и удалились не без чувства недоверия ко мне, но
я избавился от них, а бедный Эрнест вышел бледный, испуганный и
расстроенный. Он слышал голоса, но не содержание беседы и не чувствовал
уверенности, что врагу не удастся склонить меня на свою сторону. Теперь гости ушли,
и вскоре он начал приходить в себя.
После завтрака мы обсудили ситуацию. Я как-то забрал у миссис Джуп его
одежду и книги, но оставил мебель, картины и фортепьяно, предоставив
домовладелице право пользоваться ими, с тем чтобы она могла сдавать эту
комнату меблированной и не взимать с Эрнеста платы за заботу о мебели. Как только
Эрнест узнал, что старая одежда опять в его распоряжении, он достал костюм,
который носил до того, как принял сан, и тотчас же надел его, что, подумалось
мне, пошло на пользу его внешнему виду.
Затем мы занялись его финансами. За пару дней до того, как его арестовали,
Эрнест получил от Прайера десять фунтов, из которых, когда его отправляли в
тюрьму, у него в кошельке оставалось семь-восемь. Эти деньги были ему
возвращены по окончании срока заключения. За свои покупки он всегда
расплачивался наличными, и потому никаких вычетов для уплаты долгов делать не
пришлось. Помимо этого, у него была одежда, книги и мебель. Как я уже говорил,
он мог получить сто фунтов от отца, если бы решил эмигрировать, но от них, как
полагали и Эрнест и я (ибо он убедил меня в правильности своего решения),
лучше было отказаться. Вышеперечисленным его имущество и ограничивалось.
234
Путь всякой плоти
Он заявил, что собирается как можно скорее снять комнату без мебели в
выходящей окнами во двор мансарде в самом тихом доме, какой сможет
найти, скажем, шиллинга за три-четыре в неделю, и подыскать работу портного.
Я полагал, что не имеет большого значения, с чего начинать, поскольку был
почти абсолютно уверен, что вскоре он, с чего бы вообще ни начал, найдет что-
нибудь подходящее. Трудность состояла в том, как начать. Умения кроить и
шить одежду было недостаточно — нужно было иметь, если можно так
выразиться, жилку портного; следовало поступить в портняжную мастерскую и на
первое время получить в наставники кого-нибудь, кто знал, как и чем ему
помочь.
Остаток дня ушел у Эрнеста на поиски комнаты, которую он быстро нашел,
и на привыкание к свободе. Вечером я повел его в «Олимпик»1, где Робсон2
тогда играл в бурлеске по мотивам «Макбета», а роль леди Макбет исполняла,
если мне не изменяет память, миссис Кили3. В сцене накануне убийства
Макбет, увидев сапоги Дункана4 в тот момент, когда король спрыгивает с лошади
на землю, заявил, что не может его убить. Леди Макбет положила конец
колебаниям мужа, отхлестав его и прогнав со сцены пинками и криком. Эрнест
смеялся до слез. «Какая чушь этот Шекспир!»5 — невольно воскликнул он. Я
вспомнил его очерк о греческих трагиках, и мой крестник понравился мне
более, чем когда-либо.
На следующий день он приступил к поискам работы, и я не видел его часов
до пяти, когда он вернулся и сообщил, что пока ничего не нашел. То же
случилось и на другой день, и на третий. Везде, куда Эрнест обращался, ему
неизменно отказывали и зачастую без долгих разговоров выпроваживали из
мастерской. Я мог видеть по выражению его лица — хотя он ничего не говорил, —
что им овладевает страх, и начал думать, что пора прийти ему на помощь.
Эрнест сказал, что предпринял очень много попыток, но всегда повторялась
одна и та же история. Он обнаружил, что легко продолжать двигаться старой
дорогой, но очень трудно выбраться на новую.
Как бы между делом, просто из любопытства и без каких-либо корыстных
побуждений, он затеял разговор с рыботорговцем в Лезер-Лейн, у которого
покупал копченую селедку на обед. «Ох уж эта торговля, — сказал владелец
лавки, — никто и не поверит, что можно продать за один или два пенни, если
найти правильный подход к делу. Послушайте, что получилось, например, с
моллюсками. В прошлую субботу я с моей дорогушей Эммой, мы продали на
семь фунтов трубача между восемью и полдвенадцатого вечера — и почти все
за один или два пенни — разве что несколько за полпенни, но не много. И все
благодаря пару. Они у нас все время варились в кипятке, горяченькие, и пока
вся лавка была полным-полна пару, люди покупали, но, как только пару
становилось мало, переставали покупать; так мы кипятили и кипятили их, пока все не
распродали. Вот так-то. Если знаешь свое дело, можешь торговать, а не знаешь,
так в момент прогоришь. Да, если б не пар, не выручил бы я десять
шиллингов за этих моллюсков за весь вечер».
Эта и множество других историй подобного рода, которые Эрнест слышал
от других людей, укрепили в нем решимость сделать ставку на портновское
Глава 71
235
ремесло как единственное, в котором он вообще что-либо смыслил; однако
миновало уже три или четыре дня, а до получения работы, казалось, было так
же далеко, как и прежде.
И тогда я сделал то, что должен был сделать раньше, то есть обратился к
своему портному, с которым вел дела более четверти века, и попросил у него
совета. Он признал план Эрнеста безнадежным.
— Если бы он начал в четырнадцать лет, — сказал мистер Ларкинс (а
такова была фамилия моего портного), — то дело бы выгорело, но ни одному
человеку двадцати четырех лет не стоит и пытаться начинать трудовой путь с
мастерской, где полным-полно портных; ни он не поладит с этими людьми, ни
они — с ним. Нечего и надеяться, что он сумеет найти с ними общий язык, а раз
так, то не приходится рассчитывать, что он понравится сотоварищам. Человек
должен или стать пьяницей и опуститься, или иметь от природы склонность к
грубому образу жизни, чтобы ужиться с теми, чье воспитание так сильно
отличается от его собственного.
Мистер Ларкинс сказал еще много чего и в завершение повел меня
посмотреть помещение, где работали его люди.
— Это рай, — сказал он, — в сравнении с большинством мастерских.
Представьте, какой джентльмен смог бы выдержать подобную атмосферу хотя бы
две недели?
Я был очень рад через пять минут покинуть жаркое, зловонное помещение
и понял, что, пойдя работать портным в такую мастерскую, Эрнест окажется
не более свободным, чем в тюрьме.
На прощание мистер Ларкинс сказал, что, даже если бы мой протеже
оказался гораздо более умелым работником, чем он, вероятно, был, все равно ни
один хозяин не даст ему места из опасения создать тем самым источник
беспокойства для работающих у него людей.
Я ушел, чувствуя, что мне следовало догадаться обо всем этом самому, и
был больше, чем когда-либо, озадачен вопросом, а не лучше ли снабдить
моего юного друга несколькими тысячами фунтов и отправить его в какую-нибудь
из колоний6. По возвращении к себе около пяти часов я застал его дома. Он
поджидал меня и, сияя, объявил, что нашел все, чего хотел.
Глава 71
По-видимому, в течение последних трех-четырех вечеров он бродил по
улицам — полагаю, в поисках решения проблемы; он скорее знал, что хочет
найти, чем то, как это сделать. А между тем то, чего он хотел, было на самом деле
так легко обнаружить, что разве только такой высокообразованный молодой
человек, как он, мог оказаться не способен сделать это. Как бы то ни было, уже
натерпевшись страха, он теперь видел препятствия даже там, где их не
существовало, и, пребывая в растерянности и смятении, вечер за вечером не мог ни
на что решиться и возвращался в свою комнату на Лейстол-стрит, так и не
исполнив задуманное. Он не посвящал меня в свои планы, а я не спрашивал,
236
Путь всякой плоти
чем он занимается по вечерам. Наконец Эрнест пришел к выводу, что если кто
и в состоянии ему помочь, так лишь миссис Джуп, и поэтому он должен
обратиться именно к ней, как бы мучительно это ни было. Часов с семи до девяти
он уныло слонялся по улицам, пока не решился отправиться прямо в Эшпит-
Плейс и не откладывая рассказать миссис Джуп о своих проблемах, будто
родной матери.
Из всех задач, которые могут быть исполнены смертной женщиной, не
было ни одной, которая понравилась бы миссис Джуп больше, чем та, какую
Эрнест задумал возложить на нее; да и не знаю, мог ли он, растерянный и
сломленный, придумать что-либо лучшее, чем то, что намеревался сделать
теперь. Миссис Джуп легко удалось бы заставить его открыть свою печаль; она
выпытала бы у него все, прежде чем он успел бы понять, что происходит; но
судьба оказалась против миссис Джуп, и встреча моего героя с его прежней
домовладелицей отложилась sine die*, поскольку едва он набрался решимости
и прошел сотню ярдов в направлении дома миссис Джуп, как к нему
обратилась какая-то женщина.
Только он собрался отвернуться от нее, как уже отворачивался от многих
других, но вдруг она сама отшатнулась, сделав жест, возбудивший его
любопытство, и заспешила прочь. Эрнест не успел разглядеть лица женщины, однако,
решив его увидеть, последовал за нею и обогнал; оглянувшись, он обнаружил,
что это не кто иная, как Эллен, горничная, которую его мать уволила восемь
лет назад.
Эрнесту следовало догадаться об истинной причине нежелания Эллен
видеться с ним, но чувство вины внушило ему мысль, что девушка прослышала
о его позоре и потому с презрением от него отвернулась. Как ни храбрился он,
решив мужественно смотреть в лицо реальности, но к такому отношению он
был совершенно не подготовлен.
— Как, вы тоже избегаете меня, Эллен? — воскликнул он.
Девушка горько плакала, не понимая его.
— О, господин Эрнест, — промолвила она сквозь слезы, — позвольте мне
уйти. Вы слишком хороши, чтобы говорить с такими, как я.
— Ах, Эллен, — сказал он, — какую чепуху вы городите. Вы ведь не были в
тюрьме, не так ли?
— О, нет-нет, до такого не доходило! — с чувством воскликнула она.
— Ну а я был, — сказал Эрнест с принужденным смешком. — Я вышел три-
четыре дня назад после шести месяцев заключения и каторжных работ.
Эллен не поверила ему, но, взглянув на него, вскричала: «Боже! Господин
Эрнест!» — и тут же утерла слезы. Лед между ними был сломан, ибо на самом
деле Эллен попадала в тюрьму несколько раз, и, хотя она не верила Эрнесту,
одно его заявление, что он был в тюрьме, помогло ей почувствовать себя
непринужденнее. Для нее люди делились на две категории: в одной состояли те, кто
побывал в тюрьме, в другой — те, кого сия участь миновала. Первых Эллен
считала друзьями по несчастью и какими-никакими, а все же христианами; ко
* на неопределенный срок (лат.).
Глава 71
237
вторым же, за редким исключением, относилась с подозрением, отчасти
смешанным с презрением.
Эрнест рассказал ей о событиях, происходивших с ним в течение последних
шести месяцев, после чего она ему поверила.
— Господин Эрнест, — сказала Эллен спустя примерно четверть часа, — тут
неподалеку есть одно заведение, где подают рубец с луком. Я знаю, вы всегда
очень любили рубец с луком, давайте пойдем туда и чуток перекусим, там и
поговорить будет удобнее.
Пара пересекла улицу и вошла в заведение, где подавали рубец. Эрнест
заказал ужин.
— А как ваша бедная матушка и ваш батюшка, господин Эрнест? — спросила
Эллен, которая теперь оправилась от смущения и чувствовала себя совсем
свободно с моим героем. — Бог ты мой, — сказала она, — я любила вашего папеньку;
он был порядочный джентльмен, правда; и вашу маменьку тоже; жизнь с ней
любому пошла бы на пользу, уж точно.
Эрнест был удивлен и не знал, что сказать. Он ожидал, что Эллен будет
возмущаться тем, как с ней обошлись, и склонен был возлагать вину за то, что
она скатилась до нынешнего состояния, на своих родителей. Но все повернулось
по-другому. Эллен вспоминала о Бэттерсби лишь как о месте, где у нее было
вдоволь еды и питья, не слишком много тяжелой работы и где ее не ругали.
Когда она услышала, что Эрнест рассорился с отцом и матерью, она
предположила как нечто само собой разумеющееся, что вина за это, должно быть,
целиком лежит на Эрнесте.
— Ох ваша бедная маменька! — воскликнула Эллен. — Она всегда души в вас
не чаяла, господин Эрнест; вы всегда были ее любимчиком. Прямо ума не
приложу, какая такая кошка пробежала между вами. Подумать только, она
звала меня в гостиную и учила катехизису, надо же! О господин Эрнест, вы в
самом деле должны пойти и помириться с нею, точно говорю вам, должны.
Эрнест огорчился, но ему уже приходилось сопротивляться с такой
храбростью, что в деле примирения с отцом и матерью дьяволу не стоило
предпринимать попытку добраться до него через Эллен. Эрнест сменил тему, и вскоре,
доев рубец и выпив по кружке пива, молодые люди почувствовали друг к другу
расположение. Из всех людей в мире Эллен была, возможно, именно тем
человеком, с кем Эрнест в данный момент мог говорить наиболее свободно. Он
рассказал ей то, что, как ему представлялось, не смог бы поведать никому
другому.
— Знаете, Эллен, — сказал он в заключение, — мальчиком я изучил такие
вещи, которые мне не нужно было изучать, но никогда не имел возможности
узнать то, что дало бы мне правильное представление о жизни.
— У благородных всегда вроде этого, — сказала Эллен с задумчивым видом.
— Полагаю, вы правы, но я больше не джентльмен, Эллен, и не вижу,
почему мне нужно быть «вроде этого» и дальше, моя дорогая. Я хочу, чтобы вы
помогли мне как можно скорее стать каким-нибудь другим.
— Боже! Господин Эрнест, о чем это вы толкуете?
Вскоре пара покинула трактир и пошла по Феттер-Лейн.
238
Путь всякой плоти
Эллен знавала трудные времена, с тех пор как оставила Бэттерсби, но они
почти не оставили на ней следа. Эрнест видел только свежее улыбающееся
лицо, щеки с ямочками, ясные голубые глаза и прекрасные пухлые губы —
одним словом, ту Эллен, какую знал в своем детстве. Если в девятнадцать она
казалась старше своих лет, то теперь выглядела намного моложе своего
возраста; собственно, она была почти такой же, какой Эрнест видел ее в последний
раз, и только человек гораздо более опытный, чем он, мог бы догадаться, как
низко она пала по сравнению с прежним положением. Эрнесту и в голову не
приходило, что скверное состояние ее одежды — следствие пристрастия к
горячительным напиткам и что, попав в тюрьму пять или шесть раз, она отбыла
там в общей сложности тот же срок, что и он. Эрнест приписал бедность ее
наряда стремлению держаться респектабельно, на что Эллен за ужином не раз
намекала. Он был очарован тем, как она объявила, что может захмелеть от
пинты пива, и только после многочисленных протестов дала уговорить себя
выпить все. Она виделась ему самим ангелом, спустившимся с неба, и с ней
оказалось легко поладить благодаря тому, что это был падший ангел.
Идя с Эллен по Феттер-Лейн к Лейстол-стрит, Эрнест думал об
удивительной милости Бога, пославшего ему именно того человека из всех прочих, кого
он был более всего рад видеть и кого, несмотря на то что девушка жила так
близко от него, мог бы никогда не встретить, если бы не счастливая
случайность.
Когда человек заберет себе в голову, что Всемогущий к нему особенно
благосклонен, то ему лучше взять себе за правило соблюдать осторожность, а
когда человеку покажется, что он видит насквозь все происки дьявола, то тут
же следует припомнить, что у дьявола уж куда больше опыта и он наверняка
замышляет что-нибудь вредоносное.
Уже во время ужина мысль о том, что в Эллен он наконец-то нашел
женщину, которую вполне мог бы полюбить настолько, чтобы захотеть жить
вместе и жениться на ней, мелькала в голове Эрнеста, и, чем больше они болтали,
тем больше он видел оснований думать, что поступок, показавшийся бы
безумием в обычных случаях, не будет таковым с его стороны.
Он должен на ком-то жениться — это было решено. Он не мог выбрать
женщину своего круга — даже попытка выглядела бы абсурдом. Ему следует
жениться на бедной женщине. Да, но на падшей? А разве сам он не падший?
Эллен больше не будет падшей. Ему достаточно было только посмотреть на
нее, чтобы убедиться в этом. Он не мог жить с нею в грехе, разве что самое
короткое время, пока они не сочетаются браком: Эрнест больше не верил в
сверхъестественную составляющую христианства, но христианская этика в
любом случае оставалась бесспорной. Кроме того, у них могли бы появиться
дети, и на них легло бы клеймо позора. С кем должен он был теперь
советоваться, как не с самим собой? Отцу и матери не обязательно ничего знать, а если
даже и узнают, то пусть порадуются, что сын женился на женщине, способной
сделать его счастливым, а таковой и была Эллен. Что касается материальной
невозможности позволить себе брак, то как же бедные-то люди устраиваются?
Разве хорошая жена не является скорее подспорьем в делах, чем помехой? Где
Глава 72
239
может прожить один, там проживут и двое, а если Эллен на три-четыре года
старше его — ну так что с того?
Доводилось ли вам когда-нибудь полюбить с первого взгляда, любезный
читатель? Если вы влюблялись с первого взгляда, то как много времени,
позвольте спросить, вам потребовалось, чтобы преисполниться готовности
отбросить все прочие соображения, за исключением одного — добиться обладания
любимым существом? Или даже так: как много времени вам потребовалось бы,
не имей вы отца или матери, не имей уже что терять в смысле денег,
положения, друзей, профессиональной карьеры и всего остального и если бы предмет
вашей влюбленности был так же свободен от всех этих impedimenta*, как и вы
сами?
Будь вы молодым Джоном Стюартом Миллем1, возможно, вам
потребовалось бы на это некоторое время, но предположим, что характер у вас был бы
дон-кихотский, импульсивный, альтруистический, бесхитростный;
предположим, что вы были бы истосковавшимся молодым человеком, жаждущим
полюбить кого-нибудь и опереться на кого-нибудь, чье бремя вы готовы были бы
взвалить на себя и кто мог бы помочь вам нести ваше собственное бремя;
предположим, вы впали бы в уныние от своих неудач и все еще не оправились от
смятения после пережитого ужасного потрясения, как вдруг сияющая
перспектива счастливого будущего промелькнула бы в вашем сознании — интересно,
по вашему мнению, долго бы вы раздумывали при таких обстоятельствах,
чтобы принять решение ухватиться за шанс, который вам выпал?
Моему герою не потребовалось много времени, ибо, прежде чем они
миновали мясную лавку в конце Феттер-Лейн, он сказал Эллен, что она должна
пойти с ним к нему домой, и они будут жить вместе, а потом, сразу же, как
только позволит закон, смогут пожениться.
Думаю, дьявол хихикал и считал, что на этот раз его игра удалась вполне
сносно.
Глава 72
Эрнест рассказал Эллен о своих затруднениях с поиском работы.
— А что ты думаешь, мой дорогой, о том, чтобы заняться торговлей? —
сказала Эллен. — Почему бы тебе самому не открыть небольшую лавку?
Эрнест спросил, сколько это может стоить. Эллен ответила, что можно
снять дом на какой-нибудь маленькой улочке, скажем, около трактира «Слон
и замок», за семнадцать—восемнадцать шиллингов в неделю и сдавать два
верхних этажа за десять шиллингов, оставив себе заднюю комнату и лавку. Если бы
Эрнест сумел раздобыть пять-шесть фунтов на покупку ношеной одежды для
продажи, то они могли бы ее починить и почистить; она, Эллен, занялась бы
женской одеждой, а он — мужской. А потом он мог бы чинить и шить одежду,
если бы получил заказы.
* Препятствий (лат.).
240
Путь всякой плоти
Они могли бы зарабатывать таким способом два фунта в неделю; одна ее
подруга, которая начала с этого, теперь обзавелась лучшей лавкой, где уж
точно будет заколачивать по пять-шесть фунтов в неделю, никак не меньше; а ведь
закупками и продажей по большей части занималась у нее Эллен.
Это действительно была новая перспектива. Словно Эрнест
нежданно-негаданно сполна вернул свои пять тысяч фунтов, и, пожалуй, даже с изрядным
барышом в дальнейшем. Эллен больше чем когда-либо показалась Эрнесту его
добрым гением.
Она вышла и купила несколько ломтиков бекона на завтрак. Приготовила
она их намного вкуснее, чем способен был сделать он, накрыла ему завтрак,
сварила кофе, хорошо подрумянила хлебцы. Эрнест в последние дни был сам
себе и поваром, и горничной, и это не доставляло ему удовольствия, а тут вдруг
нашелся кто-то, кто снова его обслуживает. Мало того что Эллен подсказала
ему, как можно зарабатывать на жизнь, когда никто, кроме нее, и знать не знал,
что посоветовать, но она была еще и такой милой, улыбчивой, позаботилась
даже о его удобствах и вернула его буквально во всех отношениях, очень
заботивших его, в то положение, которое он потерял, или, вернее, поставила в то
положение, которое ему нравилось уже намного больше. Неудивительно, что
он весь сиял, когда пришел рассказать мне о своих планах.
Ему было трудновато рассказывать о происшедшем. Он смущался, краснел,
мямлил и запинался. В его сознании начали мелькать дурные предчувствия,
когда он оказался вынужден поведать, что с ним приключилось. Он был
настроен обойти некоторые обстоятельства молчанием, но я хотел добраться до
фактов, а потому помог ему справиться с щекотливыми моментами и
расспрашивал до тех пор, пока не выпытал почти все подробности истории, которую
привел выше.
Надеюсь, мне удалось не показать этого, но я был очень рассержен. Эрнест
уже начал мне нравиться. Не знаю, почему, но я никогда не мог слышать, что
какой-либо молодой человек, к которому я начал привязываться, собирается
жениться, и не испытывать при этом инстинктивной неприязни к его
нареченной, хотя никогда ее не видел; я замечал, что большинство холостяков
чувствуют то же самое, хотя мы, как правило, прилагаем усилия, чтобы скрыть
данный факт. Возможно, это происходит потому, что мы понимаем, что нам и
самим следовало бы жениться. Обычно мы говорим, что очень рады, — в
данном же случае я не считал себя обязанным делать это и едва ли прилагал
усилия, чтобы скрыть досаду. То, что молодой человек, подающий надежды и
являющийся к тому же наследником приличного состояния, должен связать
свою жизнь с такой особой, как Эллен, слишком уж раздражало, тем более из-
за неожиданности этого события.
Я умолял его не жениться на Эллен прямо сейчас — по крайней мере, пусть
узнает ее получше. Он и слышать об этом не хотел: он уже дал слово, а если
бы и не дал, то должен был бы пойти и дать немедленно. До сих пор Эрнест
казался мне человеком исключительно податливым, к которому легко найти
подход, но на этот раз я ничего не смог от него добиться. Недавняя победа над
отцом и матерью прибавила ему силы, и я растерялся. Я мог, конечно, сказать
Глава 72
241
ему о его истинном положении, но очень хорошо знал, что это лишь заставит
его еще решительнее настаивать на своем — ибо с такими большими деньгами
почему бы не делать то, что хочется? Поэтому я ничего не сказал на эту тему,
а все, на чем я мог настаивать, было отнесено тем, кто считал себя
ремесленником и никем больше, к разряду пустяков.
На самом деле, с точки зрения Эрнеста, в том, что он делал, не было
ничего очень уж возмутительного. Много лет назад он знал и очень любил Эллен.
Он знал, что она из порядочной семьи и имела хорошую репутацию; кроме того,
в Бэттерсби Эллен все любили. Она была тогда проворной, расторопной,
трудолюбивой девушкой — и очень милой. Теперь, когда они встретились снова, она
вела себя прекрасно — просто воплощенная скромность и сдержанность. Так
чего же тогда удивляться, что воображение Эрнеста оказалось не в состоянии
заметить те перемены, какие произвели в ней эти восемь лет! Он знал за собой
слишком много компрометирующего и был слишком неудачлив в любви,
чтобы привередничать. Если бы только Эллен и впрямь была такой, какой виделась
ему, и если бы его перспективы на самом деле были не лучше, чем он их себе
представлял, то не думаю, что намерения Эрнеста отдавали бы большим
неблагоразумием, чем половина браков, которые заключаются каждый день.
Ничего не оставалось, как примириться с неизбежным, а потому я пожелал
моему молодому другу удачи и сказал, что он может рассчитывать на любую
сумму денег, какая ему понадобится, чтобы начать свое дело, если тех, что
имеются у него в наличии, окажется недостаточно. Он поблагодарил меня,
попросив, чтобы я любезно позволил ему чинить всю мою одежду и раздобыл
для него какие-нибудь другие подобные заказы, если смогу, и ушел, оставив
меня наедине с моими раздумьями.
После его ухода я рассердился еще больше. Его открытое, мальчишеское
лицо сияло счастьем, какое редко на нем появлялось. Если бы не Кембридж,
он вряд ли знал бы, что такое счастье, но даже там его жизнь была омрачена
как жизнь человека, которому закрыт доступ к величайшим проявлениям
мудрости. Я достаточно повидал свет и достаточно хорошо знал Эрнеста,
чтобы это понять, но не мог или думал, что уже не могу помочь ему.
Должен ли я был попробовать помочь ему или нет, не знаю, но уверен, что
молодое поколение у всех видов животных часто действительно нуждается в
помощи в том, что a priori*, как правило, считается не представляющим
никаких трудностей. Казалось бы, молодой тюлень не нуждается в том, чтобы его
учили плавать, а птица — в том, чтобы ее учили летать, но на самом деле
молодой тюлень утонет, если забрать его у родителей до того, как они научат его
плавать; и молодого ястреба нужно научить летать, прежде чем он сможет
делать это самостоятельно.
Допускаю, что в наше время наблюдается тенденция преувеличивать блага,
которые может дать обучение, но в попытке учить слишком многому мы в
большинстве случаев пренебрегаем некоторыми вещами, в отношении которых
небольшое разумное обучение как раз не повредило бы.
* заведомо, заранее (лат.).
242
Путь всякой плоти
Сейчас модно говорить, что молодые люди сами должны доходить до сути
вещей, и так они, вероятно, и делали бы, если бы с ними вели честную игру и
не ставили препятствий на их пути. Но честная игра — большая редкость; как
правило, молодежь сталкивается с нечестной игрой, и именно со стороны тех,
кто зарабатывает себе на жизнь, продавая молодежи камни самых
разнообразных форм и размеров, изготовленные так, чтобы создать сносную имитацию
хлеба.
Некоторым везет, и препятствий им попадается немного, некоторые
наделены достаточной смелостью, чтобы смести их, но в большинстве случаев люди
если и спасаются, то как бы из огня1.
Пока Эрнест сидел у меня, Эллен подыскивала лавку на южном берегу
Темзы возле трактира «Слон и замок», в районе, который был тогда новым и
очень быстро рос. К часу дня она нашла несколько лавок, из которых
предстояло выбрать какую-то одну, и еще до наступления вечера пара определила, что
им подходит.
Эрнест привел Эллен ко мне. Я не хотел ее видеть, но не имел благовидного
предлога отказаться от встречи. Он потратил несколько шиллингов на ее
гардероб, так что она была прилично одета и действительно выглядела такой
хорошенькой и милой, что вряд ли стоило удивляться страстной влюбленности
Эрнеста, особенно если принять во внимание другие обстоятельства дела.
Конечно, мы с ней инстинктивно невзлюбили друг друга с первого же момента,
как только взглянули друг на друга, но оба сказали Эрнесту, что впечатление
очень благоприятное.
Затем меня повели смотреть лавку. Пустой дом подобен беспризорной
собаке или телу, из которого ушла жизнь. Разруха сразу же проникает в каждую
его часть, а то, что пощадили плесень, дождь и ветер, обычно уничтожают
уличные мальчишки. Лавка Эрнеста в неухоженном состоянии была
довольно грязным и неприглядным местом. Не слишком старый дом был из числа
построек, которые возводились наспех из плохих материалов, и его
конструкция отнюдь не отличалась прочностью. Только благодаря тому, что в нем было
тепло и спокойно, он мог бы уцелеть в течение многих месяцев. Теперь дом
пустовал уже несколько недель, и ночью туда забирались коты, а днем
мальчишки разбивали окна. Пол большой комнаты был усеян камнями и покрыт
грязью, у входа в подвал лежала мертвая собака, которую убили на улице и
забросили в первое попавшееся доступное место. Повсюду в доме стояла
сильная вонь, но каково было ее происхождение — насекомые, крысы, коты, течь
в канализационных трубах или сочетание всех четырех причин, — я не мог
определить. Оконные рамы не были как следует пригнаны, ненадежные двери едва
держались; плинтус в нескольких местах отвалился, а в полу зияло немало дыр;
щеколды болтались, обои были продраны и грязны; ступеньки хлипкой
лестницы шатались, стоило ступить на них.
Помимо всех этих недостатков, за домом еще и установилась дурная слава,
из-за того что жена последнего нанимателя повесилась здесь всего за
несколько недель до появления наших героев. Она приготовила мужу копченую
селедку на ужин и сделала гренки. Затем вышла из комнаты, как будто собираясь
Глава 72
243
скоро вернуться, но вместо этого пошла в кухню и без единого звука
повесилась. Именно из-за этого дом пустовал так долго, несмотря на его отличное
местоположение, обусловленное тем, что лавка находилась на углу. Последний
наниматель уехал сразу же после завершения следствия, и, если бы владелец
отремонтировал дом тогда же, люди забыли бы о трагедии, которая в нем
разыгралась; но сочетание скверного состояния и дурной славы мешали снять его
многим, кто подобно Эллен осознавал выгоду, которую могло принести
открытие здесь лавки. В ней пошла бы бойкая торговля почти чем угодно, к тому же
поблизости не было ни одной лавки подержанной одежды, так что все
свидетельствовало в пользу этого дома, кроме его убожества и испорченной
репутации.
Когда я увидел этот дом, то подумал, что предпочел бы умереть, чем жить
в таком ужасном месте, но ведь в течение последних двадцати пяти лет я жил
возле Темпла2. Эрнест квартировал на Лейстол-стрит и только что вышел из
тюрьмы; перед этим он обитал на Эшпит-Плейс, так что выбранный дом не
внушал ему ужаса, особенно если добиться ремонта. Сложность состояла в том,
чтобы подвигнуть на это владельца. Закончилось тем, что я дал денег на все
ремонтные работы и арендовал дом на пять лет за ту же плату, какую
выкладывал предыдущий наниматель. Затем я сдал дом в субаренду Эрнесту,
разумеется, позаботившись о том, чтобы все привели в надлежащее состояние,
поскольку на владельца в этом отношении надеяться не приходилось.
Спустя неделю я заглянул туда и обнаружил, что все полностью
преобразилось, так что дом стало просто не узнать. Все потолки были побелены, все
комнаты оклеены новыми обоями, разбитые стекла вынуты и заменены,
поврежденные деревянные части обновлены; все оконные рамы, стенные шкафы и
двери окрашены. Канализацию полностью исправили, фактически все, что
можно было сделать, было сделано, и комнаты теперь выглядели веселыми в
такой же степени, в какой предстали безобразными, когда я увидел их в
первый раз. Рабочие, которые делали ремонт, должны были провести в конце
уборку, но, после того как они ушли, Эллен еще раз сама хорошенько вымыла весь
дом сверху донизу, и он засиял, как новая монета. Мне даже подумалось, что
я и сам смог бы, пожалуй, жить в нем, а что касается Эрнеста, то он был на
седьмом небе от счастья. Он сказал, что все это благодаря мне и Эллен.
В лавке уже имелся прилавок и кое-какие другие приспособления, так что
теперь ничего не оставалось, как купить вещи и пустить их в продажу. Эрнест
заявил, что лучшим почином будет избавление от одеяния священника и книг,
поскольку, хотя лавка предназначалась главным образом для торговли
подержанной одеждой, Эллен сказала, что нет причины, почему бы им не продать
и несколько книг; так что начало было положено продажей книг, которыми
Эрнест пользовался в школе и колледже, примерно по одному шиллингу за
том. Я слышал, как Эрнест говорил, что получил, как оказалось, больше
практической пользы для себя, разложив свои книги на стеллаже у входа в лавку
и занимаясь их продажей, чем за все годы учебы, которые потратил на
ознакомление с их содержанием, ибо из вопросов, которые задавали ему
относительно того, имеется ли в лавке та или иная книга, он узнал, что можно про-
244
Путь всякой плоти
дать, а что нет, сколько можно выручить за эту книгу, а сколько за ту. Сделав
на книгах скромный зачин, он принялся посещать книжные распродажи наряду
с распродажами одежды, и вскоре эта отрасль его деятельности приобрела не
меньшую значимость, чем портновское дело. Без сомнения, в конце концов он
стал бы исключительно ею и заниматься, если бы вынужден был остаться
торговцем, но не стану забегать вперед.
Я внес свою лепту и поставил определенное условие. Эрнест хотел полностью
порвать с благородным сословием до тех пор, пока не сможет снова встать на
ноги. Если бы он был предоставлен самому себе, то жил бы с Эллен в нижнем
этаже, где находились лавка, гостиная и кухня, а оба верхних этажа сдавал бы,
как и намечалось вначале. Я не хотел, однако, чтобы он совсем отказался от
музыки, литературы и культурной жизни, и боялся, что если у него не будет
кабинета, где можно уединиться, то он может вскоре сделаться лишь
лавочником, и больше ничем. Вот почему я настоял на том, что возьму себе второй этаж
и обставлю его вещами, оставленными у миссис Джуп. Я купил эти вещи у
Эрнеста за небольшую сумму и перевез их в его нынешнее жилище.
Я отправился к миссис Джуп, чтобы все устроить, поскольку Эрнесту не
хотелось посещать Эшпит-Плейс. Я почти не сомневался, что мебель окажется
продана, а от миссис Джуп ничего невозможно будет добиться, но это было не
так; при всех ее недостатках бедная старуха отличалась кристальной честностью.
Я рассказал ей, что Прайер забрал все деньги Эрнеста и убежал с ними. Она
ненавидела Прайера.
— Никогда не видала человека, — воскликнула она, — такого прямо-таки
противного с виду, как этот Прайер! Да у него ж ни капельки честности
отродясь не бывало! Вот, все то время, что он взял себе манеру утро за утром
приходить завтракать с мистером Понтифексом, меня прямо в тоску вгоняло, как
отвратительно он себя вел. И ничем-то ему никак не угодишь. Сперва я
обычно подавала им яйца и бекон, так это ему не нравилось; тогда я подала рыбы,
и это ему не подходит; а она-то была жутко дорогая, вы ж знаете, рыба
дороже, чем бывало раньше; тогда я подала ему почек, так он сказал, что его от них
тошнит; потом попробовала дать колбаски, и он сказал, что ему на нее даже
глядеть противно еще хуже, чем даже на почки. Охохо! Как, бывало, хожу по
комнате, все у меня внутри прямо кипит из-за этого, и плачу часами, а все из-
за этих поганых завтраков. Но мистер Понтифекс тут ни при чем; тому что ни
подай, ему все по нраву. Значит, заберете пианину, да? — продолжала она. —
Какие ж красивые мелодии мистер Понтифекс играл на ней, ну и ну; а была
одна, которая мне нравилась больше всех, что я слыхала. Я была один раз в
комнате, а он как раз играл ее, а когда я сказала: «Ах, мистер Понтифекс, это
прям про такую, как я», — он говорит: «Нет, миссис Джуп, неправда, ведь эта
мелодия старая, а никто не может сказать, что вы старая». Но, ей-богу, он
ничего такого и в мыслях не держал, это уж он, безобразник, просто, чтоб мне
польстить.
Как и я, она досадовала, что Эрнест женится. Ей не хотелось, чтобы он
женился, равно как не нравилось, что он до сих пор не женат — во всяком случае,
это была вина Эллен, а не его, и она надеялась, что он будет счастлив.
Глава 72
245
— Но, в конце концов, — заключила она, — ни от вас это не зависит, ни от
меня, ни от него и ни от нее. Тут, что называется, повезет ли в супуружестве,
и никакого другого слова тут не подберешь.
Во второй половине дня мебель прибыла в новое жилище Эрнеста. На
втором этаже мы разместили фортепьяно, стол, картины, книжные полки, пару
кресел и все маленькие реликвии, которые он взял с собой из Кембриджа.
Задняя комната была обставлена точно так же, как и его спальня на Эшпит-
Плейс, а для комнаты молодоженов внизу купили новые вещи. Я настоял,
чтобы те две комнаты на втором этаже считались моими, но Эрнест мог
пользоваться ими когда угодно; он не должен был передавать в субаренду даже
спальню, ему следовало оставить ее для себя на тот случай, если бы жена или он
заболели.
Менее чем через две недели с того дня, как он покинул тюрьму, все это
обустройство было закончено, и Эрнест почувствовал, что снова вернулся к
жизни, которую вел до тюрьмы, но с несколькими важными различиями, от
которых весьма выигрывал. Он не был больше священником; он собирался
жениться на женщине, к которой был очень привязан, и навсегда расстался с
отцом и матерью.
Правда, он потерял все свои деньги, репутацию и положение в обществе как
джентльмен; ему, по сути, пришлось сжечь дотла дом, чтобы зажарить
поросенка3, но если бы его спросили, предпочитает он нынешнюю ситуацию или же
ту, в какой находился за день до ареста, он, ни минуты не колеблясь,
предпочел бы свое теперешнее положение прежнему. Если настоящее могло быть
куплено только ценой всего того, через что Эрнест прошел, это настоящее все
же стоило купить за такую цену, и он готов был пройти через все это снова,
если бы потребовалось. Худшей из потерь была потеря денег, но Эллен
говорила, что уверена в их успехе, а уж она в делах разбиралась. Что касается
потери репутации, то, учитывая, что у Эрнеста оставались Эллен и я, эта потеря
значила не так уж много.
Я посетил дом в тот день, когда все было закончено и оставалось только
купить вещи для продажи и начать торговать. Когда я ушел, Эрнест после
ужина укрылся в своем замке — в передней комнате на втором этаже, — где
закурил трубку и сел за фортепьяно. Около часа он играл Генделя, а затем
устроился за столом почитать и заняться рукописями. Он взял все свои
проповеди и богословские труды, которые начал сочинять, когда был священником,
и отправил в огонь. Глядя, как они горят, Эрнест чувствовал себя так, как будто
избавился от еще одного демона. Тогда он принялся за некоторые из
небольших вещиц, к которым приступил в последний год пребывания в Кембридже,
и стал сокращать их и переписывать, пока не услышал, что часы пробили
десять, а значит, пришло время ложиться спать. Эта спокойная работа внушила
Эрнесту чувство, что он теперь не просто счастлив, но счастлив в высшей
степени.
На следующий день Эллен повела его на аукцион Дебенхама, и они
пересмотрели большое количество одежды, которая была развешана для обозрения
по всему аукционному залу. Эллен имела достаточно опыта, чтобы определить,
246
Путь всякой плоти
сколько примерно можно выручить за иную вещь; она тщательно
осматривала предмет за предметом и оценивала их; в очень скором времени Эрнест и сам
начал неплохо понимать, за сколько должно пойти то или это, и в течение утра
выбрал дюжину вещей, выставленных по таким ценам, о которых Эллен
сказала, что он не понесет убытков, если раскошелится.
Эрнест вовсе не испытывал неприязни к этой работе и не считал ее скучной;
она ему очень понравилась, как, впрочем, понравилось бы все, что не
истощало его физических сил и давало перспективу заработать деньги. Эллен не
позволила ему купить что-нибудь на этой распродаже; сказала, пусть он лучше
сперва присмотрится и понаблюдает, как будут здесь назначаться цены; так что,
когда в двенадцать часов распродажа началась, Эрнест увидел, за сколько
продавались вещи, которые они с Эллен наметили, и к тому времени, когда все
закончилось, знал достаточно, чтобы быть в состоянии без риска предлагать цену,
когда действительно захочет что-то купить. Знания такого рода очень легко
приобретаются каждым, кому bona fide* требуется их приобрести.
Однако Эллен не хотела, чтобы он делал покупки на аукционах — по
крайней мере в настоящее время. Лучше всего иметь дело с частными лицами,
сказала она. Если у меня, например, есть какая-то уже ненужная мне одежда,
Эрнест мог бы купить ее у моей прачки, а также познакомиться с другими
прачками, которым мог бы давать чуть большую сумму, чем они получают
сейчас за любую одежду, которую отдают им хозяева, и все равно не остался
бы внакладе. А если какие-то джентльмены избавляются от своих вещей, то
следует поговорить с ними, почему бы им не продать эти вещи ему. Эрнест
согласился на все, не дрогнув; возможно, он дрогнул бы, если бы имел хоть
какое-то представление о том, сколь outré** его деятельность, но само незнание
жизни, которое до сих пор лишь разоряло его, теперь по счастливой иронии
начало служить избавлению от себя. Если какая-то злая фея захотела
причинить Эрнесту вред в этом отношении, то она переусердствовала в своей
злобе. Ему не казалось, что он делает что-то странное. Он знал лишь, что у него
нет денег, а ведь надо обеспечивать себя, жену и, возможно, детей. Более того,
он хотел иметь некоторый досуг по вечерам, чтобы читать, писать и
продолжать заниматься музыкой. Если бы ему показали, как добиться большего,
Эрнест был бы очень признателен, но ему представлялось, что он действует
вполне правильно, ведь в конце первой недели пара обнаружила, что их
чистая прибыль составила три фунта. Через несколько недель прибыль
увеличилась до четырех фунтов, а к Новому году они получали пять фунтов
прибыли в неделю.
К тому времени Эрнест был уже около двух месяцев женат, поскольку
осуществил свой первоначальный план жениться на Эллен в первый же день, как
только сможет по закону это сделать. Дата была немного отсрочена из-за
перемены места жительства: с Лейстол-стрит Эрнест переехал на Блэкфрайерс,
но сразу же, как только это оказалось возможным, это было сделано. Даже во
* по-настоящему [лат).
** из ряда вон выходяща (фр.).
Глава 73
247
времена достатка Эрнест имел не больше двухсот пятидесяти фунтов в год, так
что прибыль в пять фунтов в неделю, если бы она стабильно поступала,
обеспечила бы ему тот же достаток в смысле денег, и, хотя теперь ему приходилось
кормить двоих вместо одного, его расходы настолько сократились из-за
перемены положения в общественной иерархии, что в целом его доход был
фактически тем же, что и год назад. Что предстояло сделать, так это увеличить его
и начать откладывать деньги.
Благополучие, как всем известно, в значительной мере зависит от энергии
и здравого смысла, но не меньше оно зависит и от чистого везения — то есть от
сочетания причин, которые так перепутаны между собой, что легче объявить
их несуществующими, чем попытаться в них разобраться. Район может иметь
превосходную репутацию перспективного и тем не менее неожиданно оказаться
оттесненным на задний план другим районом, который вовсе не считался
перспективным. Наличие больницы способно отклонить поток деловой
активности, а новая станция — привлечь его; по сути, предусмотреть можно так мало,
что лучше и не пытаться понять больше, чем уже знаешь, и оставить все
прочее на волю случая.
Удача, которая до тех пор явно не была слишком благосклонна к моему
герою, теперь, казалось, взяла его под свое покровительство. Район процветал,
а вместе с ним и он. Казалось, будто стоило ему купить вещь и принести ее в
свою лавку, как она продавалась с прибылью от тридцати до пятидесяти
процентов. Эрнест научился вести счета и тщательно следил за ними, тут же
развивая любое успешное начинание; он взялся покупать и другие вещи помимо
одежды — книги, ноты, разную мебель и т. д. Не знаю, была ли здесь причина
в удаче, деловых способностях, энергичности или вежливости, с какой он
обходился со всеми клиентами, но, к своему собственному удивлению еще более,
чем к удивлению других, он продвигался вперед быстрее, чем предвидел даже
в самых смелых мечтах, и к Пасхе приобрел устойчивое положение как
владелец лавки, приносившей в год от четырех до пяти сотен фунтов дохода,
который он понимал, как увеличить.
Глава 73
Они с Эллен отлично ладили; возможно, это было и к лучшему, ведь
неравенство между ними было столь велико, что ни Эллен не хотела развиваться, ни
Эрнест не хотел развивать ее. Он очень любил жену и был с ней чрезвычайно
ласков; у них имелись общие интересы: у каждого было прошлое, со
значительной частью которого другой был знаком; оба отличались превосходным
характером, и этого было достаточно. Эллен, казалось, не ревновала Эрнеста к тому,
что он предпочитает проводить большую часть времени после окончания
дневной работы на втором этаже, где я иногда навещал его. Она могла бы
приходить туда посидеть с ним, если бы ей этого захотелось, но по той или иной
причине у нее, как правило, находилось, чем заняться на первом этаже. Ей также
хватало тактичности поощрять его вечерние прогулки, когда он был настроен
248
Путь всякой плоти
совершать их, причем вовсе не настаивала, чтобы он непременно брал ее с
собой, — и это вполне устраивало Эрнеста. Он был, должен сказать, намного
счастливее в семейной жизни, чем это обычно бывает.
Сначала он очень болезненно воспринимал встречи с кем-либо из старых
приятелей, как то порой случалось, но скоро чувство неловкости прошло; или
они делали вид, что не узнали его, или он делал вид, что не узнал их;
поначалу было неприятно обнаружить, что кто-то из них притворяется, будто не узнает
его, но потом это стало Эрнесту скорее нравиться. Когда же он начал
осознавать, что их с Эллен дела продвигаются, то и вовсе перестал беспокоиться о
том, что там люди могут говорить о его прошлом. Тяжелые испытания — вещь
мучительная, но если по природе своей человек нравственно и интеллектуально
здоров, то нет, пожалуй, ничего, что столь способствовало бы укреплению его
характера, как оказаться якобы не узнанным знакомыми.
Эрнесту не составляло труда сократить свои расходы, поскольку его вкусы
не требовали больших затрат. Он любил театры, поездки за город по
воскресеньям и табак, но помимо этого ему требовалось немного, за исключением
занятий литературой и музыкой. Обычные концерты Эрнест терпеть не мог. Он
боготворил Генделя, любил Оффенбаха1 и мелодии, которые звучали на
улицах, но не проявлял интереса ни к чему между этими двумя крайностями, а
значит, музыка обходилась ему недорого. Что касается театров, то я доставал
для него и Эллен столько контрамарок, сколько им было нужно, так что
театры не стоили им вовсе ничего. Поездки за город на воскресенье также стоили
недорого; за один-два шиллинга он мог купить билет туда и обратно в любое
место, достаточно отдаленное от города, чтобы иметь возможность хорошо
прогуляться и полностью сменить обстановку на целый день. Поначалу Эллен
несколько раз выезжала с ним, но затем заявила, что это для нее уж слишком;
у нее было несколько давних подруг, с которыми она иногда хотела бы
видеться, а с Эрнестом, сказала она, эти подруги ведь могут и не поладить, так что
пусть лучше ездит за город один. Это казалось столь разумным и так
устраивало Эрнеста, что он с готовностью согласился и даже не подозревал об
опасности, которая была достаточно очевидна для меня, когда я узнал, как Эллен
решила это дело. Я, однако, не стал ничего говорить, и какое-то время все
продолжало идти своим чередом.
Как я упоминал, одно из самых больших удовольствий Эрнеста состояло в
занятиях литературой. Если человек носит с собой небольшой альбом и
постоянно делает в нем наброски, значит, у него есть художественные наклонности;
сотня препятствий может помешать им развиться должным образом, но эти
наклонности существуют. Литературные наклонности можно заметить по тому,
что человек держит в кармане жилета маленькую записную книжку, в которую
заносит все, что его поражает, или какую-либо услышанную интересную
фразу, или замечание по поводу какого-нибудь фрагмента, которое, по его мнению,
может ему пригодиться. Эрнест всегда имел при себе такую книжку2. Еще в
Кембридже он завел обыкновение делать записи, хотя его никто к этому не
побуждал. Эти записи он время от времени переносил в тетрадь и, по мере того
как они накапливались, упорядочивал их. Когда я узнал об этом, то понял, что
Глава 73
249
у него есть данные к занятию литературой, а когда увидел его записи, то начал
возлагать на него большие надежды в этом отношении.
В течение долгого времени меня постигало разочарование. Двигаться
вперед Эрнесту мешал выбор тем — они носили по большей части
метафизический характер. Тщетно пытался я отвлечь его от них в пользу тем, которые
вызывали больший интерес у широкой публики3. Когда я просил его
попробовать свои силы в сочинении какого-нибудь милого, изящного рассказика о том,
что люди понимают и любят больше всего, он немедленно принимался за
работу над трактатом, чтобы показать основания, на которых покоится всякая
вера.
— Ты размешиваешь грязь, — сказал я, — или тыкаешь палкой в спящую
собаку4. Ты пытаешься заставить читателей вновь обратиться сознанием к
вещам, которые у разумных людей уже перешли на уровень бессознательного. Те,
кого ты хочешь взволновать, обогнали тебя, а не тащатся позади, как ты
воображаешь; это ты отстал, а не они.
Он не мог этого понять. Он сказал, что занят эссе о знаменитом quod
semper, quod ubique, quod ab omnibus*'5святого Винцента Леринского. Это-то
и раздражало больше всего, поскольку он продемонстрировал способность
создавать более интересные произведения, если бы захотел.
Я тогда работал над своим бурлеском «Нетерпеливая Гризельда»0 и порой
заходил в тупик по части характеристик персонажей или создания ситуаций;
Эрнест дал мне много советов, и все они были отмечены превосходным
здравым смыслом. Однако раз я оказался не в состоянии убедить крестника
отложить философию в сторону, то вынужден был оставить его в покое.
В течение длительного времени, как я говорил, он выбирал такие
предметы для исследования, которые я никак не мог одобрить. Он непрерывно изучал
естественнонаучные и метафизические труды7 различных авторов в надежде
или найти, или самостоятельно изготовить философский камень в форме
системы, которая должна выстоять при всех обстоятельствах, вместо того чтобы
грозить опрокинуться при всяком прикосновении и повороте, как это
происходило с каждой из всех до сих пор провозглашенных систем.
Эрнест продолжал погоню за призраком так долго, что я утратил надежду
и записал его в разряд тех мух, которых поймали, так сказать, при помощи
куска бумаги, намазанной липким веществом, причем даже не сладким, но
вдруг, к моему удивлению, он наконец объявил, что доволен, так как нашел то,
что хотел.
Я предположил, что он натолкнулся всего-навсего на какое-нибудь новое
«Вот оно!», когда, к моему облегчению, он сказал, что пришел к выводу, что
никакая идеально устойчивая система невозможна, поскольку до сих пор никто
не смог подкопаться под епископа Беркли8, а потому ни одного абсолютно
неопровержимого постулата выдвинуть нельзя9. Обнаружив это, он был так
доволен, будто нашел самую идеальную систему, какую только можно
измыслить. Все, чего он хотел, сказал Эрнест, так это понять, какова здесь суть — то
* то, что [принято] всегда, везде, всеми (лат.).
250
Путь всякой плоти
есть возможна система или нет и если возможна, то какой она должна быть.
Выяснив, что никакая система, основанная на абсолютной достоверности,
невозможна, он был удовлетворен.
Я имел лишь очень смутное представление о том, кто такой епископ
Беркли, но испытывал к нему благодарность за то, что он защитил нас от
неопровержимых постулатов. Боюсь, я даже произнес несколько слов в том смысле,
что после стольких треволнений мой крестник пришел к заключению, к
которому разумные люди приходят и не утруждая так сильно свои мозги.
Эрнест ответил следующее:
— Да, но я не был рожден разумным. Ребенок обычных способностей
выучивается ходить к году или двум, не прилагая больших усилий; при отсутствии
обычных способностей ему приходится учиться, приложив много труда, но
лучше так, чем вообще никогда не научиться. Мне жаль, что я не оказался более
силен, но сделать то, что я сделал, было для меня единственным шансом.
Он выглядел таким кротким, что я рассердился на себя за сказанное, тем
более вспомнив про полученное им воспитание, каковое, несомненно, во
многом повредило его способности здраво судить о вещах. Он продолжал:
— Теперь я все это вижу. Люди, подобные Таунли, — единственные, кто знает
то, что стоит знать, и таким я, конечно, никогда не смогу быть. Но чтобы
сделать существование Таунли и ему подобных возможным, должны существовать
и те, кто рубит дрова, и те, кто черпает воду10, — то есть люди, которые
совершают практическую работу по добыванию и осмыслению знания, чтобы такие,
как Таунли, могли пользоваться им изящно и естественно. Я — рубящий
дрова, но если я искренне соглашаюсь на это положение и не выдаю себя за
одного из Таунли, тогда все в порядке.
Итак, Эрнест все еще был верен науке, вместо того чтобы обратиться к
собственно литературе, как я надеялся, но впредь он ограничивался
исследованиями по конкретным предметам, относительно которых расширение нашего
знания, как он говорил, было возможно. По сути, пережив бесконечное
томление духа и придя к заключению, которое подрывало в корне всякое познание,
Эрнест, довольный, устремился к знаниям и с тех пор всегда стремился к ним,
несмотря на случающиеся время от времени экскурсы в область литературы
как таковой.
Впрочем, это забегание вперед может, пожалуй, создать неправильное
впечатление, ибо он с самого начала порой уделял внимание работе, которую
правильнее называть литературной, чем научной или метафизической.
Глава 74
Где-то месяцев через шесть после того, как Эрнест открыл свою лавку, его
процветание достигло наивысшей точки. Тогда казалось даже, будто он станет
продвигаться вперед не менее быстро, чем прежде, и я не сомневаюсь, что так
бы оно и случилось, если бы успех или неуспех зависел лишь от него одного.
К сожалению, он был не единственным, кого следовало принимать в расчет.
Глава 74
251
Как-то утром Эрнест отправился посетить некоторые распродажи, оставив
жену совершенно здоровой, как обычно в хорошем настроении и очень
миловидной. По возвращении же он обнаружил ее сидящей на стуле в задней
комнате: волосы свисали ей на лицо, а сама она рыдала так, словно ее сердце вот-
вот разорвется. Эллен сказала, что утром ее напугал какой-то человек,
который притворился покупателем и угрозами вынудил ее отдать некоторые вещи,
и ей пришлось это сделать, чтобы спастись от насилия; и с той минуты, как
этот человек ушел, она всё в истерике. Такова была рассказанная ею история,
но из-за бессвязности речей было нелегко разобрать, что она говорит. Эрнест
знал, что Эллен беременна, и, думая, что это обстоятельство как-то на ней
сказалось, собирался послать за доктором, однако жена взмолилась и
отговорила его.
Всякий, кто имел опыт общения с людьми пьющими, сразу понял бы, в чем
дело, но мой герой ничего о них не знал — то есть ничего не знал о пьянстве
горького пропойцы, который ведет себя совсем по-другому, чем тот, кто
напивается только раз в кои-то веки. Мысль о том, что его жена могла пить,
никогда даже не приходила Эрнесту в голову, ведь Эллен всячески
демонстрировала ужас, если ей предлагали выпить больше, чем маленькую кружку пива, а
к крепким напиткам вообще не прикасалась никогда. Об истерических
припадках Эрнест знал не намного больше, чем о пьянстве, но всегда слышал, что
женщины, собирающиеся стать матерями, легко впадают в расстройство и
часто бывают довольно капризны, а потому не очень удивился и думал, что
разобрался с этим делом, сделав открытие, что, собираясь стать отцом,
приходится не только предвкушать удовольствие, но и терпеть некоторые
неприятности.
Огромная перемена в жизни Эллен, последовавшая за встречей с Эрнестом,
и замужество на какое-то время отрезвили ее, отвратив от прежних
наклонностей. Пьянство — во многом дело привычки, а привычки во многом зависят от
среды, так что если полностью сменить среду, то иногда можно избавиться и
от пьянства. Эллен намеревалась впредь всегда оставаться трезвой, а поскольку
никогда прежде не держалась так долго, то полагала, что совершенно
излечилась. Так бы, возможно, и было, если бы она не виделась ни с кем из старых
знакомых. Однако, когда новая жизнь начала утрачивать свою новизну, а
старые знакомые взялись захаживать к Эллен, ее нынешняя среда стала походить
на прежнюю, и вследствие этого и сама Эллен все более уподоблялась себе
прежней. Сначала она выпивала понемножку и боролась против возврата к
старым привычкам; но это оказалось бесполезно: вскоре у нее перестало хватать
сил на борьбу, и теперь ее цель состояла не в том, чтобы пытаться
удержаться в трезвом состоянии, а в том, чтобы покупать джин так, чтобы муж об этом
не узнал.
Итак, истерики продолжались, и ей удавалось заставить мужа все еще
думать, что они являются следствием беременности. Чем тяжелее бывали у нее
припадки, тем более заботливым и внимательным становился Эрнест. Наконец
он настоял, чтобы доктор осмотрел Эллен. Доктор, разумеется, с первого
взгляда догадался, в чем дело, но объяснился с Эрнестом в таких осторожных вы-
252
Путь всякой плоти
ражениях, что тот не понял брошенных ему вскользь намеков. Он был
слишком прямодушен и понимал все слишком буквально, чтобы быстро схватывать
намеки такого рода. Он надеялся, что, как только жена родит, ее здоровье
восстановится, и думал лишь о том, чтобы обходиться с ней как можно
бережнее, пока не наступит это счастливое время.
Утром Эллен обычно бывало лучше, то есть до тех пор, пока Эрнест
оставался дома; но он должен был выходить за покупками, а по возвращении, как
правило, обнаруживал, что, стоит ему уйти из дому, как припадки повторяются.
Бывало, Эллен по полчаса кряду смеялась и плакала одновременно, а порой
лежала на кровати в полубессознательном состоянии, и, возвратясь домой,
Эрнест обнаруживал, что лавка оставалась без присмотра, а вся домашняя
работа стоит на месте. Тем не менее он по-прежнему считал, что это все
обычные для женщин проявления, когда они собираются стать матерью, и когда
работа Эллен постепенно перекочевала на его плечи, выполнял ее безропотно.
Однако он смутно начинал чувствовать себя так же, как чувствовал на Эшпит-
Плейс, в Рафборо или Бэттерсби, и терять ту бодрость духа, которая сделала
из него другого человека за первые полгода его семейной жизни.
Проблема заключалась не только в том, что Эрнест был вынужден делать
значительную часть домашней работы, поскольку вскоре ему пришлось даже
готовить еду, выносить помои, прибирать постель и топить камин, но и в том,
что дело его стало приходить в упадок. Он мог покупать вещи, как и прежде,
но Эллен как будто утратила способность продавать их так, как продавала
сначала. В действительности же торговля шла так же хорошо, как и раньше,
просто Эллен утаивала часть доходов, чтобы покупать джин, и заходила в этом все
дальше и дальше, пока даже доверчивый Эрнест волей-неволей не догадался,
что жена его обманывает. Когда продажа в лавке шла лучше, то есть когда
Эллен не видела возможности скрыть, не идя на риск, больше какой-то
определенной суммы, она выпрашивала деньги у него — на покупку чего-нибудь,
чего ей страстно хотелось и отсутствие чего могло якобы нанести
непоправимый вред ребенку. Все это казалось правильным, разумным и неоспоримым,
тем не менее Эрнест понимал, что до тех пор, пока не пройдут роды, легкие
времена для него вряд ли наступят. Но затем уж все опять пойдет хорошо.
Глава 75
В сентябре 1860 года родилась девочка, и Эрнест был горд и счастлив.
Рождение ребенка и довольно серьезный разговор, который доктор провел с Эллен,
отрезвили ее на несколько недель, и казалось даже, будто надежды Эрнеста
близки к осуществлению. Расходы на роды жены были крупными, и ему
пришлось залезть в сбережения, но он не сомневался, что теперь, когда Эллен
вновь пришла в себя, потраченные деньги удастся скоро возместить. На какое-
то время дело действительно немного оживилось, тем не менее создавалось
впечатление, будто перерыв в процветании каким-то образом нарушил
магическое действие удачи, которая сопровождала Эрнеста вначале. Он по-прежне-
Глава 75
253
му был жизнерадостен и энергично работал день и ночь, но занятия музыкой,
чтением и литературой прекратились. Пришел конец и его воскресным
поездкам за город, и, если бы второй этаж не был арендован мною, то он потерял
бы и эту свою цитадель, хотя теперь редко ею пользовался, поскольку Эллен
должна была все больше заниматься младенцем, а Эрнест, соответственно,
должен был все больше заниматься Эллен.
Как-то во второй половине дня, примерно через пару месяцев после
рождения ребенка и именно в тот момент, когда мой несчастный герой начал было
надеяться, что все наладится, а потому нашел в себе новые силы нести свое
бремя, он возвратился с распродажи и застал Эллен в том же истерическом
состоянии, в каком уже видел ее весной. Она сказала, что снова беременна, и
Эрнест продолжал ей верить.
Все неприятности предшествующих шести месяцев тут же возобновились,
причем еще все время усугублялись. Деньги поступали медленно, поскольку
Эллен опять обманывала мужа, утаивая часть выручки, и, кроме того,
продавала товар по более низким ценам, чем следовало. Когда же деньги водились,
она брала их у Эрнеста, как и прежде, под теми же предлогами, разбирать
которые ему казалось жестоким. История вновь и вновь повторялась.
Постепенно стало обнаруживаться и нечто новое. Эрнест унаследовал от
отца точность и аккуратность в отношении денег: он предпочитал знать
заранее о предстоящих платежах и терпеть не мог, когда расходы неожиданно
обрушивались на него, хотя их вполне можно было и следовало предвидеть, но
теперь ему начали также выставлять счета за вещи, заказанные Эллен без его
ведома или на которые он уже дал ей деньги. Это было так ужасно, что даже
Эрнест восстал. Когда он сделал Эллен выговор — не за то, что она купила те
или иные вещи, а за то, что ничего не сказала ему о деньгах, которые нужно
уплатить, — она впала в истерику, и вышла сцена. Она теперь изрядно
подзабыла тяжелые времена, которые знавала, когда обходилась своими
средствами, и открыто попрекнула его тем, что он женился на ней. В тот же момент
пелена спала с глаз Эрнеста, как спала тогда, когда Таунли произнес: «Нет, нет,
нет». Он ничего не сказал, но раз и навсегда ясно осознал, что совершил
ошибку, женившись, — так вновь внешний толчок помог ему глубже понять самого
себя.
Эрнест поднялся наверх в надолго заброшенную цитадель, кинулся в
кресло и закрыл лицо руками.
Он все еще не знал, что его жена имеет пристрастие к «зеленому змию», но
больше не мог доверять ей, и его мечта о счастье рухнула. Он спасся от
Церкви — спасся как бы из огня, — но что могло теперь спасти его от брака? Он
совершил ту же ошибку, какую допустил, сочетавшись браком с Церковью, но с
результатами во сто крат худшими. Опыт ничему не научил его; он, как Исав1,
был одним из тех жалких созданий, чьи сердца Господь ожесточил, которые,
имея уши, не слышат; имея глаза, не видят;2 и кто не обретет места для
раскаяния, хотя они и будут искать его со слезами3.
Но разве он не старался постичь пути Господни и следовать ими с
искренностью и прямодушием? В определенной степени да, но он не был тверд; он не
254
Путь всякой плоти
отказался от всего во имя Бога. Эрнест очень хорошо знал это; он мало сделал
по сравнению с тем, что мог и должен был сделать, но все же, если его
наказывают за это, значит, Бог — жестокий надсмотрщик, постоянно нападающий
на несчастные творения свои из засады. Женитьбой на Эллен Эрнест хотел
избежать греховной жизни и следовать путем, который представлялся ему
нравственным и честным. При его прошлом и окружении этот поступок был
самым естественным на свете — и что же? До какого ужасного положения
довело его следование морали! Да могла ли безнравственность какой угодно
степени поставить его в намного худшее положение? Чего же тогда стоит мораль,
если она не является тем, что в итоге приносит человеку покой, и можно ли
иметь разумную уверенность, что это способен сделать брак? Эрнесту казалось,
что в своем стремлении быть нравственным он шел за дьяволом, который
прикинулся ангелом света. Но если так, какова же та твердая почва, на которой
человек мог бы утвердить стопу свою4 и по которой мог бы шествовать в
разумной безопасности?
Эрнест был еще слишком молод, чтобы дать ответ: «Здравый смысл» —
ответ, который он счел бы недостойным всякого, у кого есть идеалы.
Как бы там ни было, теперь стало ясно, что он натворил. Так вот с ним и
происходило всю жизнь. Стоило только появиться проблеску счастья и
надежды, как его обязательно тут же скрывала мгла — да ведь в тюрьме было
лучше, чем нынче дома. За решеткой, во всяком случае, Эрнест не имел никаких
забот с деньгами, а теперь эти заботы начинали наваливаться на него со всеми
своими ужасами. Впрочем, даже сейчас он был счастливее, чем в Бэттерсби или
Рафборо, и не вернулся бы, даже если б мог, к своей жизни в Кембридже, и все
же перспективы рисовались настолько мрачные и настолько безнадежные, что
он был бы только рад уснуть в своем кресле на веки вечные.
В то время как Эрнест предавался подобным размышлениям и созерцал
руины своих надежд — поскольку достаточно хорошо понимал, что, покуда
будет связан с Эллен, никогда не сможет достичь тех высот в жизни, о
которых мечтал, — он услышал шум внизу, и тут же взбежавшая по лестнице
соседка ворвалась к нему в комнату.
— Боже правый, мистер Понтифекс, — вскричала она, — ради всего святого
скорее спускайтесь и помогите! С миссис Понтифекс ужас что творится — она
беснуется.
Несчастный муж спустился, как ему было велено, и застал свою жену в
припадке белой горячки.
Теперь он все понял. Соседи думали, что Эрнест, должно быть, знает, что
его жена все время пьет, но Эллен была столь хитра, а он так простодушен, что,
как я говорил, он ни о чем не подозревал.
— Да она же, — сказала женщина, которая позвала его, — готова пить что
угодно, все, что можно пойти и купить за деньги.
Эрнест не мог поверить своим ушам, но когда доктор занялся его женой и
она стала поспокойнее, сходил в ближайший трактир и навел справки, в
результате чего дальнейшие сомнения отпали. Владелец трактира воспользовался
случаем выставить моему герою счет на несколько фунтов за бутылки спирт-
Глава 75
255
ного, доставленные его жене, однако из-за расходов на роды Эллен и
сокращения поступлений у Эрнеста не осталось денег, чтобы оплатить этот счет,
поскольку требуемая сумма превышала остаток его сбережений.
Эрнест пришел ко мне — не за деньгами, а чтобы поведать свою печальную
историю. Я уже успел заметить некоторое время назад, что происходит что-то
неладное, и имел достаточно проницательности, чтобы догадаться, в чем дело,
но, разумеется, ничего не говорил. На какой-то период мы с Эрнестом
отдалились друг от друга. Я был раздосадован тем, что он женился, и он знал, что я
раздосадован, хотя я всячески старался это скрывать.
Дружеские связи человека, подобно его завещанию, лишаются законной
силы вследствие брака, но в не меньшей степени они лишаются законной силы
вследствие брака его друзей. Трещина в дружбе, которая неизменно появляется
в случае вступления одного из друзей в брак, быстро и неотвратимо
расширяется до размеров широкой пропасти, разделяющей женатого и холостого, и я
уже подумывал, а не покинуть ли моего протеже на волю судьбы, в которую
не имел ни права, ни власти вмешиваться. Я даже начал воспринимать его как
некое бремя. Я не обращал на это много внимания, когда мог быть полезен, но
меня тяготило, когда я ничем не мог помочь. Что он посеял, то пусть и
пожинает. Эрнест все это чувствовал и редко обращался ко мне до тех пор, пока
однажды вечером в конце 1860 года не пришел и с очень удрученным видом
не рассказал о своих неприятностях.
Как только я понял, что он больше не любит свою жену, я тотчас простил
его, и он стал мне так же интересен, как прежде. Нет ничего приятнее для
старого холостяка, чем обнаружить, что женатый молодой человек сожалеет о
своей женитьбе, — особенно когда случай настолько крайний, что холостяку нет
нужды делать вид, будто он надеется, что все опять наладится, или ободрять
своего молодого друга, убеждая его, что стерпится — слюбится.
Я был за то, чтобы они стали жить раздельно, и сказал, что дам деньги на
содержание Эллен — разумеется, намереваясь вычесть их из денег Эрнеста; но
он и слышать об этом не хотел. Раз он женился на Эллен, сказал он, то должен
попытаться исправить ее. Ему очень этого не хотелось, но он должен
попытаться. Увидев, что он, как обычно, проявляет крайнее упрямство, я был вынужден
согласиться, хотя и мало верил в успех. Меня терзала досада оттого, что он
собирается тратить силы на такую бесплодную затею, и он снова стал меня
раздражать. Боюсь, я не сумел этого скрыть, поскольку в течение некоторого
времени он опять меня избегал, и много месяцев я вообще видел его крайне
редко.
Несколько дней Эллен находилась в очень плохом состоянии, но затем
постепенно поправилась. Эрнест почти не отходил от нее, пока она не оказалась
вне опасности. Когда же ей стало лучше, он попросил доктора сказать ей, что
если у нее случится еще один такой припадок, то она непременно умрет. Это
так испугало Эллен, что она дала зарок не пить.
У Эрнеста вновь появилась надежда. Когда Эллен бывала трезва, то
становилась такой же, как в первые дни семейной жизни, и Эрнест так быстро
забыл про свои мучения, что спустя несколько дней любил ее как прежде. Но
256
Путь всякой плоти
Эллен не могла простить его за то, что он узнал то, что узнал. Она понимала,
что муж зорко следит за тем, чтобы оградить ее от искушения, и, хотя он изо
всех сил старался внушить ей мысль, что у него нет никакого беспокойства на
ее счет, она ощущала, что бремя союза с респектабельностью все более и
более ее тяготит и со все возрастающей тоской оглядывалась на безудержную
вольницу жизни, которую вела до того, как встретила своего мужа.
Не стану больше останавливаться на этой части моего повествования. В
течение весны 1861 года Эллен воздерживалась от спиртного — она уже
отдала дань пьяному разгулу, и это вместе с тем впечатлением, которое произвел
на нее зарок не пить, на некоторое время ее утихомирило. Дела в лавке пошли
довольно сносно, что позволяло Эрнесту сводить концы с концами. За весну и
лето 1861 года он снова смог отложить небольшие суммы. Осенью его жена
родила мальчика — очень славного, как все говорили. Она быстро оправилась,
и Эрнест уже вздохнул свободно и почти обрел жизнерадостность, когда
нежданно-негаданно опять разразилась буря. Как-то во второй половине дня
примерно через два года после женитьбы он вернулся домой и застал жену
лежащей в бесчувствии на полу.
С этого момента всякая надежда покинула его, и он начал явно катиться под
уклон. Его били чересчур много, а удача слишком долго отворачивалась от
него. Муки и терзания последних трех лет сказались на нем, и, не будучи по-
настоящему болен, он оказался совершенно вымотан, чувствовал себя плохо и
был не способен нести бремя дальше.
Некоторое время он не желал признаваться себе в этом, но факты
пересилили его. Снова он пришел ко мне и рассказал, что случилось. Я был доволен,
что наступил решающий момент. Я жалел Эллен, но расставание с ней было
для ее мужа единственным шансом. Даже после той последней вспышки он не
желал соглашаться на это и нес чепуху насчет гибели на своем посту, пока я не
устал от него. Каждый раз, как я видел его, прежнее уныние все более
глубокой тенью ложилось на его лицо, и я уже был близок к мысли положить конец
этой истории какими-нибудь решительными действиями, например, подкупом
заставить Эллен убежать с кем-нибудь или что-то в этом роде, когда дело
уладилось само по себе, причем, как это обычно бывает, таким образом, какого я
и предвидеть не мог.
Глава 76
Зима была трудной. Справиться с расходами Эрнест мог, только продав
фортепьяно. Вместе с утратой инструмента, как ему представлялось, рвалась
последняя нить, связывавшая его с годами юности, и отныне он навсегда
превращался в скромного владельца маленькой лавки. Ему казалось, что, как бы
низко он, может быть, ни опустился, мучения не могли длиться дольше,
поскольку он просто умер бы, если бы они продолжались.
Теперь он не выносил Эллен, и эти двое жили в явном разладе друг с
другом. Если бы не дети, он бросил бы ее и уехал в Америку, но он не мог оста-
Глава 76
257
вить детей с Эллен, а что касается возможности забрать их с собой, то не знал
ни как это устроить, ни что делать с ними, когда доберется до Америки. Если
бы он не утратил энергию, то, вероятно, в конце концов забрал бы детей и
уехал, но силы его были подорваны, а потому день проходил за днем и
ничего не менялось.
Все, чем Эрнест в то время располагал, — какие-то несколько шиллингов,
если не считать стоимости товара, которая была ничтожна. Он мог выручить,
возможно, три-четыре шиллинга, продав ноты, несколько картин и предметов
мебели, все еще принадлежавших ему. Он подумывал о попытке зарабатывать
на жизнь пером, но занятия литературой были давно заброшены: у него в
голове больше не водилось идей. Куда бы Эрнест ни бросил взгляд, он нигде не
видел надежды; конец, если он и в самом деле еще не наступил, был легко
различим в близкой перспективе, и мой герой оказался почти лицом к лицу с
самой настоящей нуждой. Когда он видел людей плохо одетых или даже вовсе
без башмаков и чулок, то задавался вопросом, а не придется ли и ему через
несколько месяцев тоже оказаться в таком виде. Безжалостная, неотвратимая
десница судьбы схватила его и тащила вниз, вниз, вниз. Тем не менее он
продолжал, несмотря на все трудности, совершать ежедневные походы за
покупками подержанной одежды и проводил вечера за ее чисткой и приведением в
порядок.
Однажды утром, когда Эрнест возвращался из одного дома в Уэст-Энде, где
купил кое-какую одежду у тамошнего лакея, его внимание привлекла
небольшая толпа, собравшаяся вокруг места, обнесенного оградой на траве около
дорожки в Грин-парке.
Стояло теплое прекрасное весеннее утро; воздух был напоен каким-то
необычным для конца марта благоуханием; даже меланхолия Эрнеста на
некоторое время отступила при виде весны, которая завладела землею и небом.
Впрочем, скоро тоска вернулась, и, печально улыбнувшись, Эрнест сказал себе:
«Весна может дарить надежду другим, но для меня отныне не может быть
никакой надежды».
С такими мыслями он приблизился к той самой небольшой толпе,
собравшейся вокруг загородки, и увидел, что люди смотрят на трех овец с
крошечными ягнятами, родившимися всего пару дней назад; их поместили в загончик
для защиты от других овец, бродивших по парку.
Ягнята были очень милые, а лондонцы так редко имеют возможность
увидеть ягнят, что неудивительно, что каждый останавливался на них посмотреть.
Эрнест заметил, что никто, казалось, не глядел на них с таким умилением, как
служивший у мясника рослый неуклюжий парень, прислонившийся к ограде с
корзиной мяса на плече. Эрнест смотрел на парня и улыбался комичности
выражаемого им восхищения, когда до его сознания дошло, что на него
самого пристально смотрит человек в одежде кучера, который тоже перестал
восхищаться ягнятами и теперь прислонился к ограде с противоположной
стороны. Эрнест мгновенно узнал его и тотчас же к нему подошел: это был Джон,
прежний кучер его отца в Бэттерсби.
258
Путь всякой плоти
— Вот те на, господин Эрнест, — сказал тот со своим сильным северным
акцентом, — а я вот как раз думал о вас этим самым утром. — И они
обменялись сердечным рукопожатием.
Джон служил в отличном месте в Уэст-Энде. Дела его, сказал Джон, идут
очень хорошо, с тех пор как он уехал из Бэттерсби, если не считать первого
года-двух, и они-то, сообщил он, скривившись, чуть не сломили его.
Эрнест спросил, какова была причина.
— Да вот видите ли, — сказал Джон, — я всегда очень уж любил ту девицу
Эллен, за которой вы, господин Эрнест, помните, бежали и отдали ей ваши
часы. Небось не забыли тот день, а? — И тут он засмеялся. — Не знаю, я ли был
отцом ребенка, которого она унесла в животе из Бэттерсби, но очень даже
может быть, что и я. Во всяком случае, через несколько дней после того, как
я оставил место у вашего батюшки, я написал Эллен по адресу, насчет
которого мы условились, и сказал ей, что сделаю то, что должен сделать, и так и
сделал, поскольку женился на ней где-то через месяц с того дня. Вот те раз,
Господи помилуй, что это с ним? — Восклицание объяснялось тем, что, когда
он заканчивал свою историю, Эрнест побледнел как полотно и прислонился к
ограде.
— Джон, это правда — то, что вы сказали? Правда, вы действительно
женились на ней? — спросил мой герой, задыхаясь.
— Ну истинная правда, — сказал Джон, — я женился на ней1,
зарегистрировавшись в Лечбери пятнадцатого августа тысяча восемьсот пятьдесят первого
года.
— Дайте мне руку, — сказал Эрнест, — отведите меня на Пикадилли,
посадите в кеб и тотчас отправляйтесь со мной, если у вас есть время, к мистеру
Овертону в Темпл.
Глава 77
Не думаю, что сам Эрнест, обнаружив, что никогда не был женат, испытал
большее счастье, чем я. Однако на него эта радость произвела поистине
ошеломляющее впечатление. Когда он почувствовал, что бремя брака свалилось
с него, голова его закружилась от непривычной легкости; его положение
изменилось так круто, что он, казалось, перестал быть самим собой. Он
походил на человека, пробудившегося от ужасного кошмара и обнаружившего, что
лежит цел и невредим в своей постели, но все еще не в состоянии поверить,
что комната не заполнена вооруженными людьми, собирающимися на него
наброситься.
— А я-то, — сказал он, — всего час назад сокрушался, что для меня нет
надежды. А я-то неделями сетовал на судьбу и говорил, что, хотя она улыбается
другим, но никогда не улыбается мне. Да ведь никогда не бывало человека и
вполовину столь удачливого, как я.
— Да, — ответил я, — ты перенес прививку от брака и оправился.
— И все же, — продолжил он, — я очень любил ее, пока она не принялась пить.
Глава 77
259
— Возможно, но разве Теннисон не сказал: «Уж лучше полюбить, но
безответно, чем никого вовеки не любить»?1
— Вы неисправимый холостяк, — был ответ.
Затем у нас состоялся долгий разговор с Джоном, которому я тут же дал
пятифунтовую банкноту. Он рассказал, что Эллен приучилась пить еще в Бэттерс-
би: кухарка научила ее; он знал это, но так любил, что рискнул жениться, чтобы
спасти ее от улицы и в надежде, что сумеет исправить. Она вела себя с ним так
же, как с Эрнестом, — была превосходной женой, пока оставалась трезвой, и
совершенно скверной, когда уходила в запой.
— Нет во всей Англии женщины, — сказал Джон, — более ласковой,
проворной, славной, чем она, ни одной, которая знает лучше, что мужчине нравится
и как сделать его счастливым, если только сумеешь удержать ее от пьянства;
но поди удержи; она такая ловкая, что добудет спиртное прямо у тебя под
носом, так, что ты ни сном ни духом. Если она не может больше добраться до
твоих вещей, чтобы заложить или продать, то украдет у соседей. Вот так она и
попала в беду в первый раз, когда я жил с нею. Шесть месяцев сидела в
тюрьме, и я чувствовал бы себя счастливым, если б не знал, что она выйдет снова.
И вот она вышла и, не пробыв на свободе и двух недель, принялась воровать
в лавках и распутничать, и всё, чтобы добыть деньги на выпивку. Так я, видя,
что ничего не могу с ней поделать и что она в могилу меня вгонит, бросил ее,
отправился в Лондон и снова устроился на службу; и не знал, что с ней сталось,
пока вы и господин Эрнест не рассказали мне все. Надеюсь, ни вы, ни он не
скажете, что видели меня.
Мы заверили его, что будем держать все в тайне, и он ушел, сказав много
добрых слов Эрнесту, к которому всегда был очень привязан.
Обсудив ситуацию, мы решили первым делом забрать детей, а затем
договориться с Эллен об условиях будущей опеки над ними. Что касается ее самой,
то я предложил выделить на ее содержание, скажем, фунт в неделю и
выплачивать его, покуда она будет паинькой. Эрнест представления не имел, где взять
этот еженедельный фунт, но я успокоил его, сказав, что сам буду выплачивать
деньги. Не прошло и двух часов, как мы забрали детей, к которым Эллен,
всегда, казалось, была равнодушна, и поручили заботиться о них моей прачке,
женщине по-матерински доброй, которой они сразу же понравились и которая
понравилась им.
Теперь оставалась лишь неприятная задача — отделаться от их злополучной
матери. Эрнеста угнетала мысль о том, каким ударом станет для нее разрыв.
Он всегда считал, что люди имеют на него право из-за каких-нибудь
неоценимых услуг, которые ему оказали, или из-за какого-нибудь непоправимого
вреда, который он им причинил; но этот случай был настолько ясен, что
угрызения совести не слишком мучили Эрнеста.
Я считал, что ему не стоит переживать еще один неприятный разговор с
женой, а потому поручил заняться всем этим делом мистеру Оттери.
Оказалось, что нам нет нужды очень уж терзаться из-за душевных страданий,
которые могла испытывать Эллен, опять становясь парией. Эрнест увиделся с
миссис Ричарде (соседкой, которая позвала его вниз той ночью, когда он впервые
260
Путь всякой плоти
обнаружил, что его жена — пьяница) и узнал от нее некоторые подробности
относительно мнения Эллен по этому вопросу. Ее, как выяснилось, никакие
угрызения совести не мучили; она сказала: «Слава Богу, наконец-то!» Зная, что
ее брак не имеет законной силы, она, очевидно, расценивала это обстоятельство
как пустяк, на который никому не стоит обращать особого внимания. Что же
касается разрыва с Эрнестом, то она сказала, что так будет лучше и для него,
и для нее.
«Эта жизнь, — говорила она, — не по мне. Ирнест для меня слишком хорош;
ему нужна женщина, которая будет чуток получше, чем я, а мне нужен
мужчина, который будет капельку похуже, чем он. Да мы бы и с Ирнестом
отлично ладили, если б не жили вместе по-семейному, ведь я привыкла за много лет,
чтоб у меня было свое собственное местечко, пусть и маленькое, и не хочу, чтоб
Ирнест или кто другой вечно там околачивался. К тому же он слишком
степенный: от тюрьмы ему было мало проку — он остался все таким же серьезным,
как и те, кто никогда вовсе в тюрьме не бывал, и никогда не бранится, не
ругается, хоть ты что хочешь делай; от этого меня прямо страх берет, и потому
я еще больше пью. Нам, бедным девушкам, вовсе и не нужно, чтоб нас
хватали ни с того ни с сего и делали из нас порядочных женщин; это для нас уж
слишком и просто сбивает с панталыку; что нам нужно, так это постоянный
дружок-другой, который не позволит с голоду умереть да задает то и дело
хорошую трепку. Это-то мы еще можем выдержать. Пусть забирает детей: от него
им будет больше проку, чем от меня; а что до его денег, то он может давать их
или не давать, как захочет; он никогда не сделал мне ничего плохого, так и я
оставлю его в покое; но если бы он вздумал мне их дать, я бы, пожалуй,
взяла». И она-таки решила их взять.
«И это я, — опять подумал про себя Эрнест, когда все было улажено, —
человек, который считал себя неудачником!»
Здесь можно в нескольких словах рассказать о дальнейшей судьбе Эллен.
В течение трех последующих лет она каждый понедельник утром неизменно
наведывалась к мистеру Оттери за своим фунтом. Она всегда опрятно
одевалась и выглядела такой спокойной и милой, что никто не догадался бы о ее
прошлом. Сначала она несколько раз хотела получить деньги раньше
положенного срока, но после трех-четырех неудачных попыток, в каждую из которых
рассказывала какую-нибудь жалостливую историю, она больше не
предпринимала таких шагов и без лишних слов брала деньги в установленное время. Как-
то она явилась с синяком под глазом, утверждая, что какой-то мальчишка
запустил камнем и нечаянно попал в нее, — но в целом была так же хороша
собою к концу этих трех лет, как и в начале. Затем она сообщила, что собирается
снова выйти замуж. Мистер Оттери увиделся с ней по этому случаю и
пытался втолковать, что, сделав это, она, по всей вероятности, повторно совершит
преступление двоебрачия.
— Можете называть это как угодно, — ответила она, — но я уезжаю в
Америку с Биллом, помощником мясника, и мы надеемся, что мистер Понтифекс
не будет слишком суров к нам и не перестанет выплачивать деньги.
Глава 78
261
Эрнест не собирался этого делать, и парочка спокойно убралась восвояси.
Полагаю, что этот самый Билл и поставил ей синяк под глазом, за что она еще
больше его полюбила.
По некоторым деталям я мог заключить, что эти двое отлично ладят друг
с другом и что в Билле Эллен обрела более подходящего ей спутника жизни,
чем Джон или Эрнест. На свой день рождения Эрнест обычно получает
конверт с американским почтовым штемпелем, содержащий закладку для книги
с вызывающим текстом, или чайную салфетку с нравоучительной надписью,
или какой-либо другой скромный знак уважения в том же роде, но никакого
письма. К детям же она никогда не проявляет ни малейшего интереса.
Глава 78
В то время Эрнесту исполнилось уже двадцать шесть лет, и примерно через
полтора года ему предстояло вступить во владение своими деньгами. Я не
видел причин передавать их ему ранее срока, назначенного мисс Понтифекс, но
в то же время мне не хотелось, чтобы после всего случившегося он продолжал
заниматься торговлей в лавке в Блэкфрайерс. До настоящего времени я не
понимал до конца, как много он выстрадал и насколько близко подошел к
полной нищете из-за поведения мнимой жены.
Я замечал выражение постоянной усталости и измученности на его лице, но
то ли лень, то ли отсутствие надежды победить в затяжной войне с Эллен
мешали мне проявить больше сочувствия и задать те вопросы, которые,
по-видимому, следовало бы задать. Впрочем, не знаю, что бы я мог сделать, ибо
ничто, за исключением открытия, которое сделал он сам, не заставило бы его
порвать с женой и ничто не принесло бы ему существенной пользы, покуда он
продолжал жить с нею.
Полагаю, что в конце концов я оказался прав: все сложилось к лучшему,
поскольку проблема уладилась сама собою — ну, к лучшему или не к лучшему,
во всяком случае, дело было слишком запутанным, чтобы я рискнул
ввязаться в него, пока Эллен была на месте; теперь же, когда она удалилась, весь мой
интерес к крестнику возродился, и я много раз раздумывал над тем, как мне
лучше с ним поступить.
Прошло три с половиной года с тех пор, как он приехал в Лондон и начал
жить, если можно так выразиться, за свой собственный счет. Из этих лет
полгода он был священником, полгода находился в тюрьме, а в течение двух с
половиной лет набирался опыта одновременно в двух областях — в коммерции
и браке. Он потерпел неудачу, я бы сказал, во всем, что предпринимал, даже
в качестве заключенного; и все же его поражения всегда, как мне казалось, чем-
то напоминали победы, и я был рад, что он оказался достоин всех затраченных
мною на него усилий. Я опасался лишь, как бы мое вмешательство в его дела
не оказалось некстати и не пришлось на такой момент, когда, может быть,
лучше предоставить его самому себе.
262
Путь всякой плоти
В целом я пришел к выводу, что трех с половиной лет суровой жизненной
закалки достаточно. Лавка принесла Эрнесту много пользы: дала ему средства
к существованию, когда он оказался в сильной нужде; научила его действовать
самостоятельно и замечать благоприятные возможности там, где несколько
месяцев назад он увидел бы только непреодолимые трудности; развила в нем
чувство сострадания, заставив понимать людей из низших слоев общества и не
ограничивать взгляд на жизнь лишь представлениями, свойственными
господам. Когда он ходил по улицам и видел книги, выставленные на обозрение
перед букинистическими магазинчиками, старинные безделушки в антикварных
лавках и бесконечные формы коммерческой деятельности, которая
присутствует везде вокруг нас, он понимал ее и сочувствовал ей так, как никогда не смог
бы, если бы сам не держал лавку.
Он часто рассказывал мне, что, когда в прежние времена, бывало, ехал по
железной дороге, проходившей через густонаселенные предместья, и смотрел
на невзрачные дома, тянущиеся улица за улицей, то задавался вопросом, что
за люди живут в них, что делают и что чувствуют и насколько это похоже на
то, что делает и чувствует он сам. Теперь, сказал он, он знает об этом все. Я не
очень близко знаком с автором «Одиссеи» (который, между прочим, как я
сильно подозреваю, был священником)1, но он, несомненно, попал в самую точку,
когда воплотил своего символического мудреца в образе того, кто познал
«обычаи и нравы многих людей»2. Какая культура способна дать такое же знание?
Какой ложью, каким вредным, подрывающим силы развратом показалась
теперь Эрнесту его школьная и университетская жизнь по сравнению с жизнью
в тюрьме и в качестве лавочника в Блэкфрайерс3. Я слышал, как он говорил,
что вновь прошел бы через все, что выстрадал, из-за того только, что это дало
ему более глубокое понимание духа греческой и суррейской пантомим4. Какую
веру к тому же в собственную способность выплыть, если будет брошен в
глубокие воды, он обрел благодаря опыту последних трех лет!
Но, как я уже говорил, мне представлялось, что теперь мой крестник
навидался столько скрытых сторон жизни, сколько, вероятно, ему полезно было
увидеть, и для него настало время вести более подходящий ему образ жизни. Его
тетка хотела, чтобы он поцеловал землю5, и он поцеловал ее сильнее, чем
требовалось; однако мне не нравилась идея его внезапного превращения из
владельца жалкой лавчонки в человека с доходом три-четыре тысячи в год6. Слишком
внезапный переход от неудач к везению столь же опасен, как и от везения к
неудачам; кроме того, бедность очень утомительна — это что-то вроде
эмбрионального состояния, через которое человеку следует пройти, чтобы нормально
развиваться, но, как в случае кори или скарлатины, ему лучше перенести ее в
легкой форме и разделаться с ней пораньше.
Ни один человек не застрахован от потери всего до последнего пенни, если
только он не имел случая уже пережить этот удар. Как часто я слышу, как
женщины средних лет и степенные семейные мужчины говорят, что у них нет
никакой склонности к спекуляции; они никогда не касались и никогда не станут
иметь дело ни с чем, кроме самых надежных, имеющих самую хорошую репу-
Глава 78
263
тацию ценных бумаг, а что касается неограниченной ответственности — о, Боже
мой! Боже мой! — и они воздевают руки к небу и закатывают глаза.
Всякий раз, когда человек говорит нечто подобное, его можно признать
легкой добычей первого же попавшегося авантюриста; такой обычно
заканчивает свое рассуждение словами о том, что, при всей его прирожденной
осторожности и прекрасном понимании того, как глупа спекуляция, все же имеются
некоторые ценные бумаги, которые называют спекулятивными, но на самом деле
они таковыми не являются, и вынимает из кармана проспект корнуоллского
золотого рудника. Только действительно потеряв деньги, человек понимает, что
за ужасная вещь — их потеря, и узнает, как легко теряют их те, кто
отваживается сойти с проторенной колеи. Эрнест уже имел случай испытать удар,
поскольку пережил период бедности, — пережил молодым и пережил
достаточно трудно, чтобы, будучи человеком здравомыслящим, быстро забыть о нем.
Мало кому может повезти больше — при условии, конечно, что первый удар не
сломит будущего счастливчика окончательно.
Я так решительно настроен в отношении этого предмета, что, будь моя воля,
назначил бы учителя спекуляции в каждой школе7. Мальчиков побуждали бы
читать «Обзор денежного рынка», «Железнодорожные ведомости» и все
лучшие финансовые газеты. Кроме того, следовало бы устроить фондовую биржу
для учеников, где фунтами служили бы пенсы. И пусть они увидят, как
стремление к быстрому обогащению выглядит на практике. Имелся бы приз,
вручаемый директором школы самому расчетливому дельцу, а мальчиков, раз за
разом теряющих свои деньги, следовало бы исключать. Конечно, если бы у
кого-то из них оказался гениальный дар по части спекуляции и наживания
денег — ну и прекрасно, пусть занимается этим сколько угодно.
Не будь университеты самыми плохими наставниками в мире, я бы хотел,
чтобы в Оксфорде и Кембридже учредили должность преподавателя
спекуляции. Однако когда я вспоминаю о том, что единственные стоящие вещи, которым
Оксфорд и Кембридж могут как следует выучить, — это кулинарное искусство,
крикет, гребля и игры8, а для них должности преподавателя не имеется, меня
посещает опасение, что учреждение кафедры спекуляции приведет не к тому, что
молодых людей станут учить, как надо совершать спекулятивные операции и как
их совершать не следует, а просто к выпуску спекулянтов-неудачников.
Я слышал об одном случае, когда некий отец фактически осуществил мою
идею на практике. Он захотел, чтобы его сын узнал, как мало следует доверять
красочным проспектам и пылким статьям, и выделил чаду пятьсот фунтов,
чтобы тот вложил их по своему усмотрению. Отец ожидал, что сынок потеряет
деньги; но на деле этого не произошло, поскольку тот приложил так много
стараний и играл так осторожно, что сумма все росла и росла, пока отец не забрал
ее со всей прибылью — как ему угодно было выразиться, в порядке самозащиты.
Я сам допустил ошибки в денежных делах где-то году в 1846-м9, когда чуть
ли не все допускали их. В течение нескольких лет я пребывал в таком страхе
и так сильно пострадал, что, когда (благодаря хорошим советам брокера,
который до меня консультировал моего отца и деда) вышел в конце концов
победителем, а не проигравшим, то больше не пускался в подобные шалости и
264
Путь всякой плоти
впредь как только мог держался самой середины проторенной колеи. По сути,
я старался сохранить деньги, а не увеличить их количество. С деньгами
Эрнеста я поступил как со своими собственными, то есть оставил их в покое после
помещения в обычные акции банка «Мидленд» согласно указаниям мисс Пон-
тифекс. Никакие мои хлопоты, вероятно, не привели бы к увеличению
капитала крестника и на половину той суммы, на какую он вырос без всяких забот с
моей стороны.
В конце августа 1850 года, когда я продал облигации мисс Понтифекс, мид-
лендские акции шли по цене тридцать два фунта за стофунтовую акцию. Я
вложил все пятнадцать тысяч фунтов Эрнеста по этой цене и не изменял условий
вложения вплоть до момента, на несколько месяцев предшествующего тем
событиям, о которых я писал в предыдущих главах, то есть до сентября 1861 года.
Тогда я продал их по сто двадцать девять фунтов за акцию и вложил в обычные
акции банка «Лондон и Северо-Запад», по которым, как меня уведомили,
прирост, по всей вероятности, будет больше, чем по мидлендским акциям. Я купил
акции банка «Лондон и Северо-Запад» по девяносто три фунта за стофунтовую
акцию, и мой крестник и теперь, в 1882 году, все еще держит их у себя.
Первоначальный капитал в пятнадцать тысяч фунтов за одиннадцать лет
превысил шестьдесят тысяч; накопленная прибыль, которую я, конечно,
повторно вложил, принесла еще десять тысяч, так что Эрнест стал обладателем
капитала, превосходящего семьдесят тысяч фунтов. В настоящее время у него
почти вдвое большая сумма, и все это в результате того, что он оставил свой
капитал в покое.
Каким бы значительным ни было состояние Эрнеста, в течение полутора
лет, которые оставались до вступления во владение, этой сумме предстояло еще
увеличиться, так что по достижении назначенного возраста его доход составил
бы не менее трех с половиной тысяч фунтов в год.
Я хотел, чтобы он научился бухгалтерии с применением двойной записи.
Мне самому в молодости пришлось овладеть этим не очень сложным
искусством. Приобретя эти навыки, я влюбился в бухгалтерское искусство и считаю его
самой необходимой, после чтения и письма, отраслью образования любого
молодого человека. Вот почему я решил, что и Эрнесту следует освоить его, и
предложил, чтобы он стал моим экономом, счетоводом и управляющим
моими накоплениями — так я назвал сумму, которая, согласно записи в моем
гроссбухе, возросла с пятнадцати до семидесяти тысяч фунтов. Я сказал ему, что
собираюсь начать тратить доход, как только он дойдет до восьмидесяти тысяч.
Через несколько дней после того, как Эрнест обнаружил, что все еще холост
(для него только-только начинался, так сказать, медовый месяц
возобновленного безбрачия), я, представив ему мой план, выразил желание, чтобы он
оставил лавку, и предложил ему жалованье в триста фунтов в год за управление —
если вообще требовалось какое-то управление — его собственным капиталом.
Излишне говорить, что эти ежегодные триста фунтов я намеревался
выплачивать ему из суммы капитала.
Если ему что-то и требовалось для полного счастья, так именно это. Так,
буквально за три-четыре дня он оказался избавлен от одной из самых отврати-
Глава 79
265
тельных, безнадежных liaisons*, какие только можно вообразить, и в то же
время поднялся из почти полной нищеты к обладанию тем, что для него
составит приличный доход.
— Фунт в неделю для Эллен, — рассчитывал он, — остальное — для меня
самого.
— Нет, — сказал я, — мы выделим фунт в неделю для Эллен из капитала. Ты
сам должен иметь чистых триста фунтов.
Я остановился на этой сумме, потому что таков был доход, который мистер
Дизраэли дал Конингсби10, когда дела у Конингсби шли хуже некуда. Мистер
Дизраэли, очевидно, считал триста фунтов в год минимумом, на который
Конингсби мог бы, по мнению писателя, жить, сводя концы с концами; с этими
деньгами, однако, как думал автор, его герой мог суметь поправить дела за год-
другой. К 1862 году, о котором я теперь пишу, цены поднялись, хотя и не так
сильно, как выросли с тех пор; однако, с другой стороны, Эрнест в прошлом
не купался в такой роскоши, как Конингсби, а потому в целом я счел эту
сумму вполне для моего крестника достаточной.
Глава 79
Теперь встал вопрос, как поступить с детьми. Я объяснил Эрнесту, что
расходы на их содержание следует покрывать из капитала, и показал, сколь
незначительную брешь в доходе, находящемся в моем распоряжении, образуют все
те различные расходы, которые я предполагал осуществить. Он начал было
возражать, и тогда я успокоил его, сказав, что все эти деньги перешли ко мне
от его тети, без его ведома, и напомнил ему, что между ней и мною
существовала договоренность о том, что, если возникнет необходимость, я должен
сделать все то, что как раз сейчас и делаю.
Он хотел, чтобы его дети жили на свежем, вольном воздухе и среди других
детей, счастливых и довольных жизнью; но, поскольку все еще не имел
понятия о том, какое богатство ждет его впереди, то настаивал, чтобы они
провели свои ранние годы среди бедных, а не среди богатых. Я запротестовал, но он
был настроен очень решительно в этом отношении; и, приняв во внимание, что
дети были незаконнорожденными, я счел, что, пожалуй, в конце концов,
предложение Эрнеста устроит всех. Дети были еще так малы, что не имело
большого значения, куда их определят, лишь бы они жили среди добрых
приличных людей и в здоровой местности.
— Я буду так же суров к моим детям, — заявил он, — как мой дед был суров
к моему отцу, а отец — ко мне. Если они не сумели сделать так, чтобы дети
любили их, то не сумею и я. Я говорю себе, что хотел бы завоевать
расположение детей, но и дед и отец говорили то же самое. Я могу устроить так, что они
не узнают, как сильно ненавидели бы меня, если бы им пришлось много
общаться со мной, но это все, что я могу сделать. Если мне суждено разрушить их
* связей (фр.)-
266
Путь всякой плоти
будущность, то лучше это сделать задолго до того, как они достигнут такого
возраста, чтобы это осознать.
Он подумал немного и добавил со смехом:
— Человек впервые ссорится со своим отцом примерно за три четверти года
до того, как родится1. Уже тогда он настаивает на раздельном проживании; а
если об этом однажды уже договорились, то, чем более полным будет
разделение навсегда впоследствии, тем лучше для обоих.
Затем он сказал более серьезно:
— Я хочу поместить детей туда, где им будет хорошо, где они будут
счастливы и где не познают горечи ложных надежд.
В конечном счете он вспомнил, что во время своих воскресных прогулок не
раз обращал внимание на семейную пару, жившую на побережье в нескольких
милях ниже Грэйвсэнда, как раз там, где начинается море. Эта пара, по его
мнению, подошла бы ему как нельзя лучше. У них были собственные дети,
хорошо ухоженные и на вид цветущие; отец и мать были спокойными,
рослыми людьми, у которых для детей, вероятно, существовало столько же
благоприятных возможностей получить хорошее развитие, как у кого-либо из тех, кого
Эрнест знал.
Мы поехали встретиться с этой парой, и, поскольку они произвели на меня
не менее хорошее впечатление, чем на Эрнеста, предложили им фунт в
неделю за то, чтобы они взяли к себе детей и занимались их воспитанием, как если
бы то были их собственные дети. Они охотно согласились, и через день-другой
мы отвезли им детей и оставили, чувствуя, что сделали для них все что могли,
во всяком случае, в настоящее время. Затем Эрнест отдал свой крохотный
запас товаров на аукцион Дебенхама, отказался от дальнейшей аренды дома,
который нанял два с половиной года назад, и вернулся к цивилизации.
Я надеялся, что теперь он быстро оправится, но был разочарован, увидев, что
ему, как мне казалось, стало явно хуже. И в самом деле он выглядел таким
больным, что я настоял на том, чтобы он отправился со мной на консультацию к
одному из самых видных врачей в Лондоне. Этот джентльмен сказал, что
никакого острого заболевания нет, но мой молодой друг страдает от нервного
истощения, возникшего в результате длительного и глубокого душевного страдания;
лучшими же средствами для исцеления недуга являются время, покой и отдых.
Врач сказал, что Эрнест мог сломаться от нервного истощения в любой
момент: и сейчас, и через несколько месяцев. Свалила же его внезапность
избавления от перенапряжения.
— Немедленно сделайте ему прививку, — сказал доктор. — Прививка —
великое медицинское открытие нашего времени. Вытряхните его из самого себя,
втряхнув в него что-нибудь другое.
Я не сказал ему, что деньги для нас не составляют проблемы, и, как мне
показалось, он счел нас не слишком богатыми. Итак, доктор продолжал:
— Способность видеть — это форма осязания, осязание — это форма питания,
питание — это форма ассимиляции, ассимиляция — это форма восстановления
и воспроизведения, и вот как раз это и есть прививка — втряхивание себя во что-
то другое и чего-то другого — в самого себя.
Глава 79
267
Доктор говорил со смехом, но было ясно, что он серьезен. Далее он сказал:
— Ко мне всегда приходят люди, которые нуждаются в прививке2 или, если
угодно, в переменах, люди, у которых, как я знаю, нет столько денег, чтобы на
некоторое время покинуть Лондон. Это заставило меня призадуматься, как же
лучше всего сделать им прививку, даже если они не могут уехать из дома, и вот
я составил список дешевых лондонских развлечений, которые рекомендую
моим пациентам. Ни одно из них не стоит дороже нескольких шиллингов и не
занимает времени больше, чем полдня или день.
Я объяснил, что в данном случае нет оснований считаться с расходами.
— Рад слышать, — сказал он, все так же смеясь. — Гомеопаты используют
aurum* в качестве лекарства3, но они не дают его в больших дозах, как
следовало бы. Если вы можете отмерить вашему молодому другу щедрую дозу
этого снадобья, то быстро приведете его в чувство. Однако мистер Понтифекс
сейчас недостаточно силен, чтобы выдержать столь значительную перемену, как
заграничная поездка. Из того, что вы сообщили мне, я делаю вывод, что он
испытал такое множество перемен в последнее время, что пока с него хватит.
Если бы он поехал за границу теперь, то, вероятно, серьезно заболел бы еще
до конца недели. Мы должны подождать, пока он хоть немного восстановит
душевное равновесие. Я начну с моих лондонских вариантов перемен.
Доктор подумал немного и затем сказал:
— Я обнаружил, что многим из моих пациентов полезны зоологические
сады. Я бы, пожалуй, предписал мистеру Понтифексу курс крупных
млекопитающих. Пусть он не догадывается, что посещает их в лечебных целях, но пусть
походит к их вольерам два раза в неделю в течение двух недель и побудет с
гиппопотамами, носорогами и слонами, пока они ему не наскучат. Я нахожу,
что эти животные приносят моим пациентам больше пользы, чем любые
другие. Обезьяны не являются адекватной прививкой: недостаточно стимулируют.
Крупные плотоядные несимпатичны. Рептилии более чем бесполезны, да и
сумчатые не намного лучше. От птиц же, кроме попугаев, толку чуть; он
может смотреть на них время от времени, но со слонами и свиным племенем
должен общаться сейчас как можно больше.
Еще, знаете ли, чтобы избежать монотонности, я послал бы его, прежде
чем он пойдет навещать животных, скажем, на утреннюю службу в
Вестминстерское аббатство. Нет нужды задерживаться там после Те Deum**. Не знаю,
почему, но Jubilates*** редко бывают хороши. Пусть он просто заглянет в
аббатство и посидит спокойно в Уголке поэтов4, пока не отзвучит основная
часть. Пусть сделает так два-три раза, не больше, до того как двинется в
зверинец.
Затем на следующий день отправьте его до Грэйвсэнда на лодке. Во что бы
то ни стало пусть по вечерам ходит в театры, а через две недели снова
пришлите его ко мне.
* золото (лат).
* Тебе, Бога [хвалим] (лат).
'* Ликуйте (лат).
268
Путь всякой плоти
Если бы доктор был менее выдающимся представителем своей профессии, я
посчитал бы, что он шутит, но я знал, что он человек дела, который не тратит
впустую ни собственное время, ни время своих пациентов. Сразу по выходе из
его кабинета мы взяли кеб до Риджент-парка5 и провели пару часов,
прогуливаясь вдоль различных вольеров. Возможно, это было следствием того, что сказал
мне доктор, но я определенно испытал чувство, которого не испытывал никогда
прежде. Я хочу сказать, что, созерцая животных, получал приток новой энергии
или обретал новый взгляд на жизнь, что в конечном счете одно и то же. Я нашел
совершенно справедливой данную доктором оценку крупных млекопитающих
как в целом оказывающих наиболее благотворное влияние и отметил, что
Эрнест, не слышавший, что говорил мне доктор, инстинктивно задержался
именно перед ними. Что касается слонов, особенно слоненка, то Эрнест, казалось,
жадно впитывал их жизнь для воссоздания и возрождения своей собственной.
Мы пообедали в парке, и я с удовольствием заметил, что аппетит Эрнеста
уже улучшился. С тех пор я сам всякий раз, когда бываю немного не в
настроении, сразу же отправляюсь в Риджент-парк, и это неизменно идет мне на
пользу. Я упоминаю здесь об этом в надежде, что, возможно, и кто-нибудь из
моих читателей найдет данный совет небесполезным.
На исходе двухнедельного срока моему герою стало намного лучше — даже
более, чем ожидал наш друг доктор.
— Теперь, — сказал он, — мистер Понтифекс может отправиться за границу,
и, чем скорее, тем лучше. Пусть проведет там пару месяцев.
Так Эрнест впервые услышал о своем отъезде за границу и завел речь о том,
что я не смогу без него так долго обойтись. Этот вопрос я уладил быстро.
— Теперь начало апреля, — сказал я. — Тотчас же отправляйся в Марсель и
поезжай пароходом до Ниццы. Затем прогуляйся по Ривьере до Генуи, из
Генуи поезжай во Флоренцию, Рим и Неаполь и возвращайся домой через
Венецию и итальянские озера.
— А не поехать ли и вам тоже? — с надеждой спросил он.
Я сказал, что не возражал бы прокатиться, и наутро мы начали
приготовления к отъезду, которые заняли у нас всего несколько дней.
Глава 80
Мы пересекали Ла-Манш на ночном пароходе, идущем из Дувра. Ночь стояла
тихая и спокойная, над морем светила яркая луна.
— Нравится ли вам запах пароходного двигателя? Разве не сулит он много
надежд? — сказал мне Эрнест, поскольку этот запах напоминал ему о тех днях,
когда в детстве он однажды летом ездил с отцом и матерью в Нормандию, и было
это до того, как он начал получать удары от огромного внешнего мира. — Мне
всегда казалось, что один из лучших моментов при отъезде за границу — это
первый глухой стук поршня и первый всплеск воды, когда лопасть ударяет по ней.
Это было так похоже на сон — высадиться в Кале и тащиться с багажом по
чужому городу в такой час, когда обычно мы оба еще были в постели и креп-
Глава 80
269
ко спали, но мы тут же погрузились в сон, как только оказались в
железнодорожном вагоне, и не просыпались до самого Амьена. Пробудившись лишь
тогда, когда начинали давать о себе знать первые признаки утренней свежести, я
увидел, что Эрнест уже вглядывается с жадным любопытством во все, мимо
чего мы проезжали. Это были всего лишь крестьянин в блузе, едущий рано
утром в телеге по дороге на рынок, жена стрелочника в мужней кепке и
куртке, взмахивающая зеленым флажком, пастух, гонящий стадо овец на росистое
пастбище, крутой склон с распустившимися первоцветами, сбегавший к
железнодорожным путям, но он впитывал все эти мимолетные впечатления с
радостью — слишком глубокой, чтобы выразить ее в словах. Поезд, который вез нас,
назывался «Моцарт», и это тоже нравилось Эрнесту.
Мы добрались до Парижа к шести часам, и у нас как раз хватало времени,
чтобы проехаться по городу и поспеть на утренний экспресс до Марселя, но к
полудню мой молодой друг порядком вымотался и время от времени
погружался в сон, который изредка прерывался на часок-другой. Сначала он пытался
бороться с усталостью, но в конце концов утешился, сказав, что прекрасно
получать много удовольствия, так как можно позволить себе пропустить даже
значительную его часть. Найдя теорию для самооправдания, он спокойно уснул.
В Марселе мы задержались подольше, и там, как я и опасался, волнение,
связанное с переменой места, сказалось на здоровье моего еще не совсем
окрепшего крестника. В течение нескольких дней он чувствовал себя очень скверно,
но затем его состояние улучшилось. Я, со своей стороны, считаю физическую
слабость одним из величайших удовольствий в жизни, при условии, что тебе
не слишком плохо и ты не обязан работать, пока не полегчает. Помню, как
однажды я лежал больной в гостинице чужого города и как наслаждался этим.
Лежать там, не имея ни забот, ни хлопот, в покое и тепле, без всякой тяжести
на душе; слышать звон тарелок где-то далеко в кухне, когда судомойка моет
и расставляет их по местам; видеть мягкие тени, скользящие по потолку,
когда солнце выходит из-за облаков или скрывается за облаками; слушать
приятное журчание фонтана во дворе внизу, позвякиванье колокольчиков на
лошадиной сбруе и удары копыт о землю, когда мухи досаждают животным, и знать,
что ты не только имеешь полное право, но и просто обязан быть лотофагом1.
«О, если бы я мог теперь, — думалось мне, — пребывая в такой безмятежности,
уснуть навсегда, не это ли было бы самым лучшим подарком судьбы, на какой
я только могу надеяться?»
Конечно, так оно и было бы, но мы не склонны принимать такие подарки,
хоть бы нам их и предложили. Какая бы беда ни выпала нам, мы по большей
части перетерпим ее и будем держаться до конца.
Я видел, что Эрнест сейчас чувствует во многом то же, что чувствовал тогда
и я. Говорил он немного, но все замечал. Только однажды он напугал меня:
когда опускались сумерки, подозвал к своей постели и сказал серьезным,
спокойным тоном, что хотел бы со мной поговорить.
— Я подумал, — начал он, — что, возможно, никогда не смогу оправиться от
этой болезни, и, коли так случится, я хотел бы, чтобы вы знали: есть только одно,
что меня тяготит... Я имею в виду, — продолжал он после небольшой паузы, —
270
Путь всякой плоти
мое поведение в отношении отца и матери. Я был чересчур добр к ним. Я
относился к ним чересчур внимательно... — И при этих словах на его лице появилась
такая улыбка, которая уверила меня, что с ним в общем-то все в порядке.
На стенах его спальни висел ряд гравюр времен Французской революции2,
представляющих события из жизни Ликурга3. Это были «Великодушие Ликур-
га» и «Ликург вопрошает оракула», а также «Кальсиопа при дворе». Под
гравюрами висела надпись по-французски и по-испански:
«Modèle de grâce et de beauté, la jeune Calciope non moins sage que belle avait
mérité l'estime et l'attachement du vertueux Lycurgue. Vivement épris de tant de
charmes, l'illustre philosophe la conduisait dans le temple de Junon, où ils s'unirent
par un serment sacré. Après cette auguste cérémonie, Lycurgue s'empressa de
conduire sa jeune épouse au palais de son frère Polydecte, Roi de Lacédémon.
Seigneur, lui dit-il, la vertueuse Calciope vient de recevoir mes vœux aux pieds des
autels, j'ose vous prier d'approuver cette union. Le Roi témoigna d'abord quelque
surprise, mais l'estime qu'il avait pour son frère lui inspira une réponse pleine de
bienveillance. Il s'approcha aussitôt de Calciope qu'il embrassa tendrement, combla
ensuite Lycurgue de prévenances et parut très satisfait»*.
Эрнест обратил мое внимание на этот текст, а затем сказал с некоторым
смущением, что предпочел бы жениться на Эллен, а не на Кальсиопе. Я
увидел, что он окреп, и без колебаний предложил через день-другой продолжить
путешествие.
Не буду утомлять читателя, ведя его за собою по вдоль и поперек
исхоженному маршруту. Мы побывали в Сиене, Кортоне, Орвьето, Перудже и многих
подобных других городах, а затем, проведя две недели на пути из Рима в
Неаполь, направились в район Венеции и посетили все те дивные города, что
лежат между южными отрогами Альп и северными склонами Апеннин; назад же
вернулись через Сен-Готард. Не знаю, наслаждался ли Эрнест поездкой
больше, чем я, но восстановились его силы настолько, чтобы его можно было счесть
вполне здоровым, не раньше, чем мы приготовились пуститься уже в обратный
путь; и потребовалось еще много месяцев, чтобы он перестал ощущать
душевные травмы, которые пережил за последние четыре года, и почувствовал себя
так, как будто от них остались только шрамы.
Говорят, люди, потерявшие руку или ногу, бывает, чувствуют боль в них на
протяжении долгого времени после того, как их лишились. Одна боль, про
* «Образец грации и красоты, юная Кальсиопа, столь же мудрая, сколь красивая, удостоилась
уважения и привязанности добродетельного Ликурга. Плененный ее обаянием, прославленный
философ привел ее в храм Юноны, где они связали себя священной клятвой верности. После
торжественной церемонии Ликург поспешил привести юную супругу во дворец своего брата По-
лидекта, царя Лакедемона. "Властитель, — сказал он ему, — добродетельная Кальсиопа только что
приняла мои обеты у алтаря, осмелюсь просить тебя одобрить этот союз". Царь поначалу
выказал некоторое удивление, но уважение, которое он испытывал к своему брату, внушило ему ответ,
исполненный доброжелательности. Он тотчас же подошел к Кальсиопе и нежно обнял, был крайне
предупредителен с Ликургом и казался весьма довольным» (фр.).
Глава 80
271
которую Эрнест уже почти забыл, настигла его по возвращении в Англию: я
имею в виду терзания по поводу пребывания в тюрьме. Пока он оставался всего
лишь мелким лавочником, его заключение не имело значения; никто не знал
о нем, а если бы кто и узнал, то не увидел бы в этом ничего ужасного. Теперь
же, хотя Эрнест возвращался к своему прежнему положению в обществе, он
возвращался к нему опозоренным, и боль, от которой ранее его защищала
среда настолько новая, что он почти не узнавал себя, находясь в ней, ныне дала
о себе знать, как будто рана была нанесена буквально накануне.
Он думал о возвышенных решениях, которые принял в тюрьме насчет того,
чтобы использовать свой позор как источник силы, а не стараться заставить
людей забыть о нем. «Очень легко было думать так тогда, — размышлял он, —
когда зелен был виноград»4. К тому же кто вообще, за исключением ханжей,
ставит себе высокие цели или принимает возвышенные решения?
Некоторые из старых друзей Эрнеста, узнав, что он избавился от своей
мнимой жены и теперь снова имеет приличный доход, захотели возобновить с
ним отношения. Он был благодарен им и иногда пытался пойти навстречу их
желаниям, но из этого ничего не выходило, и вскоре он опять замыкался в себе,
притворяясь, что не знаком с ними. Его часто преследовал адский демон
честности, заставлявший повторять: «Эти люди знают многое, но не знают всего —
если бы знали, то отвернулись бы от меня, — а потому я не имею права на их
знакомство».
Он думал, что все, кроме него, непременно sans peur et sans reproche*.
Конечно же, они именно такие, ибо в противном случае разве не обязаны они
предупредить о своих недостатках всех, с кем хоть как-то пересекаются? Что
ж, он не может сделать этого, а так как его отношения с людьми не должны
строиться на обмане, вот он и отказался даже от попытки восстановить былые
отношения и вернулся к прежним занятиям музыкой и литературой.
Разумеется, он давно понял, как все это глупо, — как глупо, хочу я сказать,
в теории, ибо на практике такое поведение приносило больше пользы, чем
следовало бы, так как удерживало Эрнеста от liaisons**, которые заставили бы
его помалкивать и видеть успех в другом месте, а не там, где он со временем
его увидел. Он делал то, что делал, инстинктивно и лишь по той причине, что
это было наиболее для него естественно. В целом, когда он рассуждал, то
рассуждал неверно, но поступал обычно правильно. Как-то не так уж давно я
сказал ему что-то на сей счет и еще добавил, что он всегда метил высоко.
— Да я никогда вообще никуда не метил, — ответил он с некоторым
возмущением, — и можете быть уверены, что я метил бы достаточно низко, если бы
считал, что у меня есть шанс достичь желаемого.
В конце концов, полагаю, никто, чей ум не является, мягко говоря,
ненормальным, никогда не метит очень высоко исключительно по злому умыслу. Я
однажды видел муху, севшую на чашку с горячим кофе, на котором молоко
образовало тонкую пленку. Муха чувствовала грозящую ей крайнюю опасность,
* без страха и упрека (фр-).
* связей [фр).
272
Путь всякой плоти
и я заметил, какими широкими шагами и с какими почти сверхмушиными
усилиями она пересекла предательскую поверхность и достигла края чашки,
ибо та поверхность не была достаточно твердым основанием, чтобы позволить
ей подняться в воздух при помощи крыльев. Наблюдая за мухой, я подумал,
что столь напряженный момент трудности и опасности мог придать ей больше
моральной и физической силы, которая могла бы даже в известной мере
передаться по наследству ее потомкам. Но она определенно не стала бы по доброй
воле наращивать моральную силу и ни за что не села бы намеренно на другую
чашку с горячим кофе. Чем больше я живу, тем больше убеждаюсь: не имеет
значения, почему люди поступают правильно, покуда они делают это, а также
почему они вдруг поступили неправильно. Главное — сам совершенный
поступок, а причина не важна.
Я читал где-то, но не могу припомнить где, что в каком-то сельском
районе однажды возникла острая нехватка продуктов питания, от чего бедняки
тяжело пострадали. Многие даже умерли от голода, и все очутились в трудном
положении. В одной деревне, однако, жила бедная вдова с множеством
маленьких детей, которая, хотя у нее явно имелось мало средств для пропитания, все
же выглядела полнотелой и сытой — как и все ее дети. «Как, — спрашивали
все, — им удается выживать?» Было очевидно, что у них есть какая-то тайна, и
было также очевидно, что это скорее всего нехорошая тайна, потому что,
когда кто-нибудь намекал, как она и ее дети умудряются процветать, когда другие
голодают, бедная женщина поспешно отводила глаза. Кроме того, иногда люди
замечали, как члены этого семейства пробираются куда-то в ночное время и
возвращаются назад, видимо, с добычей, едва ли полученной честным путем.
Вдова и дети знали, что находятся под подозрением, и поскольку до той поры
пользовались уважением, то очень переживали, ибо, нужно признать,
полагали: то, что они делают, странно, если не абсолютно порочно. Тем не менее,
несмотря ни на что, они ели досыта и сохраняли свои силы, когда все их
соседи вконец изголодались.
В какой-то момент дело дошло до критической стадии, и местный
приходской священник подверг бедную женщину такому настойчивому
перекрестному допросу, что со слезами и остро ощущая собственную низость, она
поведала правду: они с детьми ходили вдоль живой изгороди и собирали улиток, из
которых варили бульон и ели. Может ли она когда-нибудь заслужить
прощение? Есть ли какая-нибудь надежда на спасение для нее в этой жизни или в
следующей после такого неестественного поведения?
А еще я слышал о старой вдове-графине, весь доход которой составляла
консолидированная рента. У нее было много сыновей, и, желая поставить
младших на ноги, она хотела получать больший доход, чем тот, какой давала ей
рента. Вдова обратилась к своему поверенному и получила совет продать
процентные бумаги и вложить капитал в акции банка «Лондон и Северо-Запад»,
тогда приносившие приличный доход. Это было для нее как улитки для
бедной вдовы, чью историю я рассказал выше. С чувством стыда и печали,
словно совершая что-то неприличное, лишь бы ее мальчики удачно начали
жизненный путь, графиня поступила так, как ей советовали. Затем долгое время она
Глава 80
273
не могла спать по ночам и терзалась предчувствием беды. Ну и во что же все
вылилось? Она поставила детей на ноги, а через несколько лет, обнаружив, что
в придачу и ее капитал удвоился, продала акции, снова возвратилась к
консолидированной ренте и умерла счастливой обладательницей государственных
процентных бумаг.
Она думала, конечно, что делает что-то неправильное и опасное, но абсолютно
ничего неправильного и опасного в ее действиях не было. Предположим, она
вложила бы деньги, полностью доверившись рекомендации какого-нибудь
видного лондонского банкира, чей совет оказался бы плох, и в результате потеряла
бы все свои деньги, и еще предположим, что она сделала бы это с легким
сердцем и без сознания греховности — принесли бы ей какую-нибудь пользу
непричастность к злому умыслу и благородство побудительных мотивов? Да никакой.
Но возвратимся к моей истории. Наибольшее беспокойство моему герою
причинял Таунли. Таунли, как я говорил, знал, что Эрнест вскоре будет при
деньгах, а Эрнест конечно же не знал, что тому это ведомо. Сам Таунли был
богат и уже женат; Эрнест вскоре должен был стать богатым, уже имел
честное намерение жениться и, несомненно, со временем женился бы как
полагается. На такого человека стоило тратить усилия, и, когда Таунли однажды
встретил Эрнеста на улице, а Эрнест попытался уклониться от встречи,
Таунли не позволил ему сделать это: со свойственной ему живостью и
добродушием прочитав мысли Эрнеста, схватив его, фигурально выражаясь, за шиворот
и со смехом вывернув наизнанку, сказал, что не потерпит такой глупости.
Таунли и теперь оставался для Эрнеста таким же кумиром, каким был
когда-то, и мой крестник, которого было очень легко растрогать, почувствовал к
нему еще больше благодарности и сердечного тепла, чем обычно, но что-то
бессознательное в нем оказалось сильнее Таунли и заставило моего героя
порвать с этим знакомым решительнее, пожалуй, чем с любым другим живым
существом. Эрнест поспешно поблагодарил его тихим голосом и пожал ему
руку; глаза бедняги наполнились слезами, несмотря на все усилия сдержать их.
— Если мы встретимся снова, — сказал он, — не обращайте на меня
внимания, но если в будущем вы услышите, что я пишу вещи, которые вам не по
вкусу, отнеситесь ко мне так милосердно, как сможете.
На том они и расстались.
— Таунли - славный малый, — сказал я довольно мрачно, — и тебе не
следовало рвать с ним.
— Таунли, — ответил он, — не только славный малый, но он, вне всякого
сомнения, самый лучший человек, которого я когда-либо встречал в жизни. — Тут он
сделал мне комплимент, добавив: — За исключением вас. В Таунли воплощено
все, чем я более всего хотел бы обладать, но у нас нет настоящего чувства
товарищества. Я пребывал бы в постоянном страхе лишиться его хорошего мнения
обо мне, если бы сказал что-то, что ему не по нраву, а я хочу сказать очень
много такого, — продолжил он уже веселее, — что Таунли не понравится.
Человек, как я уже говорил, по большей части сравнительно легко может
отказаться от отца с матерью во имя Христа5, но не так легко отказаться от
людей, подобных Таунли.
274
Путь всякой плоти
Глава 81
Итак, Эрнест расстался со всеми своими прежними приятелями, за
исключением меня и трех-четырех моих старинных друзей, которым, разумеется, так же
понравился, как и они ему, и которые, подобно мне, были рады знакомству с
молодым человеком, отличающимся оригинальным образом мыслей. Эрнест вел
мои счетные книги, когда в этом возникала какая-нибудь потребность — что
случалось, впрочем, редко, — а остальное время посвящал в основном тому, чтобы
добавить что-то новое к многочисленным записям и наброскам, которые у него
уже накопились. Всякий, для кого занятия литературой были делом привычным,
мог бы сразу определить, что у Эрнеста есть природная склонность к
литературе, и я обрадовался, когда он погрузился в нее с таким энтузиазмом. Менее
приятно, однако же, было заметить, что он все еще занимается не чем иным, как
самыми серьезными (чуть не сказал возвышенными) предметами, как и в музыке
он никогда не интересовался ничем, кроме самых серьезных жанров.
Я как-то сказал ему, что сама скудость награды, которую Бог назначил за
занятия серьезными исследованиями, служит достаточным доказательством
того, что Он не одобряет их или, во всяком случае, невысоко ценит и не желает
поощрять.
Эрнест ответил:
— О, не говорите о наградах. Вспомните о Мильтоне, который получил за
«Потерянный Рай»1 всего пять фунтов.
— Слишком много и этого, — немедленно возразил я, — я дал бы ему вдвое
больше, чтобы он вообще никогда его не написал.
Эрнест был немного шокирован.
— Во всяком случае, — сказал он со смехом, — я не пишу стихи.
Это был выпад в мой адрес, поскольку мои-то бурлески писались конечно
же в стихах. А потому я оставил данную тему.
Через некоторое время ему взбрело в голову вновь поднять вопрос о том,
что он получает триста фунтов в год за то, как он выразился, что не делает
абсолютно ничего, и заявил о намерении найти какую-нибудь работу, которая
принесет ему достаточно денег, чтобы на них жить.
Я посмеялся, но не стал возражать. На протяжении долгого времени он
делал одну упорную попытку за другой, но вряд ли стоит говорить, что они
оказывались безуспешны. Чем старше я становлюсь, тем больше убеждаюсь в
глупости и легковерии публики; но в то же время вижу, как все труднее
становится навязать себя этой глупой и легковерной публике.
Эрнест обходил редактора за редактором то с одной статьей, то с другой.
Иногда редактор выслушивал его и предлагал оставить статьи; но почти
неизменно в конце концов возвращал их с вежливой запиской о том, что они не
подходят для того издания, в которое господин Понтифекс с ними обратился.
А тем не менее многие из этих самых статей вошли в его более поздние
книги, и никто не выражал недовольства ими — по крайней мере, никто не сетовал
на их литературные достоинства.
Глава 81
275
— Я вижу, — сказал Эрнест мне как-то, — что спрос очень деспотичен, а
предложение должно быть очень заискивающим.
Однажды редактор влиятельного ежемесячного журнала принял у него статью,
и Эрнест думал, что теперь-то уж точно зацепится в литературном мире. Статье
предстояло выйти в следующем за ближайшим номере, и он должен был получить
гранки из типографии где-то через десять дней или две недели; но неделя за
неделей проходила, а никаких гранок все не было. Проходил месяц за месяцем, а
места для статьи Эрнеста так и не находилось. Наконец примерно через полгода
редактор однажды утром сказал ему, что на следующие десять месяцев все номера
обозрения уже заполнены материалами, но что статья Эрнеста определенно
будет опубликована. Тогда он настоял, чтобы ему возвратили рукопись.
Иногда его статьи все же публиковали, и он обнаруживал, что редактор внес
в них изменения согласно своему собственному вкусу, вставляя шутки, которые
находил забавными, или вырезая именно тот фрагмент, который Эрнест
считал ключевым для всего текста, а затем, хотя статьи уже появились в печати,
когда приходило время платить за них, это становилось еще одной проблемой,
и он так никогда и не получил своих денег.
— Редакторы, — сказал он мне однажды в то время, — подобны покупающим
и продающим, о которых говорится в Книге Откровения: нет ни одного, на ком
не было бы знака зверя2.
Наконец после долгих месяцев разочарований и множества томительных
часов, потраченных впустую в мрачных приемных (а из всех приемных
приемные редакторов кажутся мне самыми тоскливыми), он получил bona fide*
предложение работы от одного из первоклассных еженедельных изданий —
благодаря рекомендации, которой мне удалось добиться для него от того, кто имел
на данное издание большое влияние. Редактор послал ему дюжину толстых
книг по различным трудным предметам и велел в течение недели подготовить
статью с их обзором. В одной книге имелась записка редактора о том, что этого
автора следует осудить. Эрнест особенно восхищался книгой, осуждения
которой от него ждали, и, почувствовав, насколько безнадежна будет попытка
отдать как будто должное переданным книгам, возвратил их редактору.
В конце концов одна газета действительно взяла у него дюжину статей или
около того и заплатила ему за них наличными по паре гиней за штуку, но,
сделав это, газета прекратила существование буквально через две недели после
того, как была опубликована последняя из статей Эрнеста. Определенно
ситуация выглядела так, будто другие редакторы знали, что делают, отказываясь
завязывать с моим злополучным крестником какие-либо отношения.
Мне не жаль, что он потерпел неудачу с периодической печатью, ибо писать
для журналов или газет — плохая выучка для того, кто стремится выпускать
сочинения более долговременного характера. У молодого писателя должно быть
больше времени на обдумывание, чем он может иметь как автор статей для
ежедневных или пусть даже еженедельных изданий. Но сам Эрнест был огорчен,
обнаружив, насколько неподходящим для рынка сочинителем является.
* Здесь: настоящее (лат.).
276
Путь всякой плоти
— Что ж, — сказал он мне, — будь я лошадью хороших кровей, или овцой, или
породистым голубем, или вислоухим кроликом, то пользовался бы большим
спросом. Если бы я даже был собором в колониальном городе, люди дали бы мне
что-нибудь3, но таким, каков я есть, я им не нужен.
Теперь, когда Эрнест поправился и отдохнул, он опять возымел желание
завести лавку, но я об этом конечно же и слышать не хотел.
— Какой толк, — сказал он мне как-то, — быть так называемым
джентльменом? — Он был на грани бешенства. — Что джентльменство приносило мне
когда-либо, кроме того, что делало меня менее способным обманывать других и
более способным стать жертвой обмана? Оно изменило способы, которыми меня
надувают, только и всего. Если бы не ваша доброта ко мне, я остался бы без
гроша. Благодаренье небесам, что я устроил детей там, где они теперь.
Я просил его еще чуть-чуть спокойно потерпеть и не заводить разговоров о
том, чтобы открыть лавку.
— Разве джентльменство, — спросил он, — в конечном счете принесет мне
деньги и разве что-нибудь принесет мне в конечном счете такой покой, какой
принесут деньги? Говорят, что те, кто обладает богатством, вряд ли войдут в
Царствие Небесное4. Но ведь на самом-то деле они туда попадают! Они
подобны струльдбругам:5 живут и живут и наслаждаются счастьем на протяжении
долгих лет, после того как должны были бы вступить в Царствие Небесное,
будь они бедны. Я хочу жить долго и вырастить детей, если увижу, что они
будут более счастливы благодаря воспитанию. Я хочу именно этого, а то, что я
делаю теперь, не поможет мне. Быть джентльменом — это роскошь, которую я
не могу себе позволить, поэтому она мне не нужна. Позвольте мне вернуться в
лавку и делать для людей что-то, что им нужно и за что они готовы платить. Они
знают, что им нужно и что им во благо, лучше, чем я могу рассказать.
Было трудно отрицать разумность этих речей, и если бы он мог
рассчитывать только на триста фунтов в год, которые получал от меня, то я
посоветовал бы ему опять открыть лавку следующим же утром. Но при существующем
положении вещей я затягивал дело и чинил препятствия, а также успокаивал
Эрнеста время от времени как только мог.
Разумеется, он прочитал книги мистера Дарвина, как только они вышли в
свет, и принял теорию эволюции безоговорочно.
— Мне кажется, — заявил он однажды, — что я похож на одну из тех
гусениц, которым, если им помешают сплести кокон, приходится опять и опять
начинать сначала6. Пока я проделывал долгий путь вниз по социальной
лестнице, это мне вполне удавалось, и я заработал бы деньги, если бы не Эллен.
Когда же я пробую приняться за работу на более высоких ступеньках, я
терплю полную неудачу.
Не знаю, уместна ли эта аналогия или нет, но я уверен, что инстинкт
Эрнеста правильно подсказывал ему, что после тяжелого падения ему лучше начать
жизнь заново на очень низкой общественной ступеньке, и, как я только что
говорил, я позволил бы ему вернуться в лавку, если бы не знал того, что знал.
По мере приближения срока, установленного его теткой, я все тщательнее
готовил Эрнеста к тому, что предстояло, и наконец в день его двадцативосьми-
Глава 82
277
летая смог все ему рассказать и показать письмо, подписанное теткой на
смертном одре, где речь шла о том, чтобы я взял на себя доверительное управление
его имуществом. Его день рождения пришелся в том (1863-м) году на
воскресенье, но уже на следующий день я перевел акции на его имя и передал ему
счетные книги, которые он вел в течение последних полутора лет.
Несмотря на все мои усилия подготовить Эрнеста, прошло немало времени,
прежде чем я смог заставить его поверить, что деньги действительно
принадлежат ему. Он говорил немного, не больше говорил и я, ибо не уверен, что я
не чувствовал такое же волнение от благополучного завершения моего
долгого опекунства, какое чувствовал Эрнест, обнаружив, что является обладателем
более чем семидесяти тысяч фунтов. Когда же он наконец заговорил, то сумел
произнести лишь несколько отрывистых фраз.
— Если бы я отразил этот момент в музыке, — сказал он, — то позволил бы
себе свободное использование увеличенной сексты7.
Помню, как немного позднее он сказал со смехом, который придавал ему
какое-то семейное сходство с его теткой:
— Я наслаждаюсь не столько удовольствием от получения денег, сколько
досадой, которую это известие причинит всем моим друзьям, кроме вас и Таунли.
Я сказал:
— Тебе не следует сообщать отцу и матери — это свело бы их с ума.
— Нет, нет, нет, — ответил он, — это было бы слишком жестоко: походило
бы на принесение Исааком в жертву Авраама, и никаких зарослей
поблизости с агнцем в них наготове8. Да и с какой стати? Мы порвали друг с другом
четыре года назад.
Глава 82
Складывалось впечатление, будто случайное упоминание о Теобальде и Кристине
каким-то образом перевело их из пассивного состояния в активное. На
протяжении тех лет, которые протекли с момента их последнего появления на сцене, они
оставались в Бэттерсби и сосредоточили свою любовь на других детях.
То была горькая пилюля для Теобальда — потерять право мучить своего
первенца. Если по правде, то я полагаю, что он переживал это острее, чем
любой позор, который мог бросить на него тень из-за заключения Эрнеста в
тюрьму. Теобальд сделал одну-две попытки возобновить переговоры через
меня, но я никогда не говорил об этом Эрнесту, поскольку знал, что он
расстроится. Теобальду же я написал, что его сын остался непреклонен, и
рекомендовал — пока, во всяком случае, — воздерживаться от возвращения к данному
предмету. Это будет, думал я, одновременно то, чего Эрнесту хотелось бы
более, а Теобальду — менее всего.
Однако же через несколько дней после того, как Эрнест вступил во
владение своим капиталом, я получил от Теобальда послание, содержащее письмо
для Эрнеста, каковое утаить не мог.
Письмо было следующего содержания:
278
Путь всякой плоти
Моему сыну Эрнесту
Хотя ты не раз отклонял мои попытки наладить отношения, я все же
снова взываю к лучшему в тебе. Твоя мать, которой долгое время нездоровилось,
теперь, по-видимому, стоит на пороге смерти; она не в состоянии принимать
пищу, и доктор Мартин оставляет нам очень мало надежд на ее
выздоровление. Она выразила желание видеть тебя и уповает, что ты не откажешься
повидаться с нею — я просто не в силах предположить, что ты отвергнешь просьбу
матери, учитывая ее состояние.
Посылаю тебе по почте деньги на проезд и оплачу обратный путь.
Если тебе нужна одежда, чтобы приехать, закажи, что сочтешь
подходящим, и попроси, чтобы счет послали мне. Я тотчас же оплачу его — в пределах
восьми-девяти фунтов, а если ты сообщишь мне, каким поездом прибудешь, то
пошлю на станцию коляску.
Верь мне, твоему любящему отцу.
Т. Понтифекс
Разумеется, со стороны Эрнеста не могло быть никаких колебаний. Он мог
теперь позволить себе улыбнуться по поводу предложения отца оплатить ему
одежду и по поводу почтового перевода точной суммы на билет второго
класса и был, конечно, потрясен, узнав, в каком состоянии находится мать, а
также тронут ее желанием увидеться с ним. Он телеграфировал, что выезжает
немедленно. Я повидал его незадолго до отъезда и остался доволен тем, как
постарался его портной. Сам Таунли не мог быть экипирован с большим
вкусом. Чемодан Эрнеста, его одежда для поездки по железной дороге, всё, что
он имел при себе, было самого лучшего качества. Я подумал, что теперь он
выглядит намного лучше, чем в двадцать два или двадцать три года. Полтора
года спокойной жизни стерли все следы прежнего страдания, и теперь, когда
Эрнест сделался еще и богат, на его лице появилось выражение insouciance* и
веселости, как у того, у кого все в полнейшем порядке, а это способно сделать
красивым человека и куда более заурядной внешности. Я гордился им и
радовался за него. «Уверен, — сказал я себе, — что бы еще он ни натворил, он
никогда не женится снова».
Поездка была тягостной. Чем ближе Эрнест подъезжал к станции и
выхватывал взглядом каждую знакомую примету, тем сильнее завладевало им
чувство, будто получение теткиного наследства было сном и будто он вновь
возвращается в отчий дом, как возвращался из Кембриджа на каникулы. Как ни
старался он сохранить присутствие духа, прежняя гнетущая тяжесть тоски,
всегда возникавшей у него при мысли о доме, навалилась на него, сердце быстро-
быстро забилось при мысли о приближающейся встрече с отцом и матерью. «И
мне придется, — сказал он себе, — поцеловать сестрицу Шарлотту».
Встретит ли его на станции отец? Поздоровается ли с ним так, как будто
ничего не случилось, или будет холоден и отчужден? К тому же как он
воспримет известие об удаче сына? Пока поезд вытягивался вдоль платформы, Эрнест
* беззаботности (фр.).
Глава 82
279
торопливо пробежал взглядом по тем немногим людям, которые находились
на станции. Хорошо знакомой фигуры отца среди них не было, но по другую
сторону дощатого забора, отделявшего станционную площадку от платформы,
Эрнест увидел маленькую лошадку и коляску, смотревшуюся, как ему
показалось, довольно жалко, и узнал отцовского кучера. Через несколько минут он
уже сидел в коляске, покатившей в направлении Бэттерсби. Он не мог сдержать
улыбку, увидев, как удивился кучер при виде таких серьезных перемен в
облике молодого хозяина. Изумление кучера выросло еще и оттого, что, когда
Эрнест в последний раз гостил дома, он был одет как священник, а теперь не
только предстал мирянином, но и мирянином, который одевается, не считаясь
с расходами. Перемена была столь велика, что вплоть до того момента, как
Эрнест заговорил с ним, кучер не узнавал его.
— Как здоровье отца с матерью? — тотчас спросил Эрнест, как только сел
в коляску.
— Хозяин здоров, сэр, — был ответ, — но хозяйка очень плоха.
Лошадь знала, что бежит домой, и изо всех сил натягивала поводья. Погода
стояла холодная и сырая, истинно ноябрьская; часть дороги затопило, а
недалеко от дома им повстречалось много всадников и собак, поскольку тем утром где-
то в окрестностях Бэттерсби была устроена охота. Эрнест заметил нескольких
человек, которых знал, но то ли они, что вероятнее всего, не узнали его, то ли не
слышали о счастливом повороте в его судьбе. Когда показалась церковь
Бэттерсби и на вершине холма открылась взору усадьба приходского священника, чьи
печные трубы виднелись над верхушками голых деревьев, окруживших дом,
Эрнест откинулся в глубь коляски и закрыл лицо руками.
Это прошло, как проходят даже самые скверные минуты нашей жизни, и
немного спустя он стоял на крыльце родительского дома. Отец, услышав, что
подъехала коляска, вышел и спустился на несколько ступенек навстречу. Как и кучер,
Теобальд с первого взгляда отметил, что Эрнест одет и снаряжен так, словно
денег у него в избытке, и что выглядит он крепким и полным здоровья и энергии.
Это было вовсе не то, чего он ожидал. Да, он хотел, чтобы Эрнест
возвратился, но тот должен был возвратиться, как подобает возвращаться всякому
порядочному блудному сыну, — жалким, безутешным, просящим прощения у
самого чуткого и долготерпеливого отца на всем свете. Если ему и следовало
иметь башмаки, чулки и вообще какую-либо одежду, то лишь потому, что его
милостиво избавили от совершеннейшего тряпья и лохмотьев, — а он тут
щеголяет в сером длинном пальто и синем в крапинку шарфе, да еще и выглядит
лучше, чем Теобальду когда-либо в жизни доводилось его видеть. Это
беспринципно. Разве для этого он, Теобальд, так расщедрился, что предложил
обеспечить Эрнеста приличной одеждой, дабы тот явился в ней к смертному одру
матери? Можно ли обмануть благородные намерения более жестоко, чем
обманул Эрнест? Что ж, отец не даст ни на пенни больше тех восьми-девяти
фунтов, которые обещал. Он правильно сделал, что установил предел. Вот ведь он,
Теобальд, никогда в жизни не мог позволить себе такой чемодан. Он до сих пор
пользуется старым чемоданом, который передал ему отец, когда отправлял его
в Кембридж. Кроме того, велено было купить одежду, а не чемодан.
280
Путь всякой плоти
Эрнест видел, какие мысли проносятся в голове отца, и осознал, что должен
был как-то подготовить его к тому, что тот теперь видит; но он так спешно
послал телеграмму по получении отцовского письма и прибыл вслед за ней
настолько быстро, что упредить вопросы было бы нелегко, даже если бы он и
подумал об этом. Он протянул руку и сказал со смехом:
— О, за все это заплачено... Боюсь, вы не знаете, что мистер Овертон
передал мне деньги тети Алетеи.
Теобальд вспыхнул.
— Но почему, — сказал он, и это были первые слова, которые сорвались с его
уст, — почему, если деньги предназначались не ему, он не передал их моему
брату Джону и мне? — Он сильно запинался и выглядел сконфуженным, но
слова прозвучали.
— Да потому, дорогой отец, — сказал Эрнест, все еще смеясь, — что тетя
оставила их ему для меня, а не для вас или дяди Джона, и они накапливались,
пока сумма не составила к нынешнему времени свыше семидесяти тысяч
фунтов. Но скажите мне, как матушка?
— Нет, Эрнест, — сказал Теобальд взволнованно, — это дело нельзя так
оставить, я должен знать, что здесь все правильно и законно.
Это звучало вполне по-теобальдовски, и в голове Эрнеста тотчас
промелькнула целая вереница образов, связанных с отцом. Окружение было прежним,
знакомым, но тот, кто в него нынче попал, изменился почти до неузнаваемости.
Через мгновение Эрнест накинулся на Теобальда с резкими словами. Не стану
повторять фразы, которые он произносил, поскольку они вырывались у него
прежде, чем он успевал их обдумать, — они могли бы произвести на некоторых
из моих читателей впечатление непочтительных. Фраз таких было немного, но
они оказались действенны. Теобальд ничего не сказал, но сделался почти
пепельного цвета. Отныне он никогда не говорил с сыном в такой манере, которая могла
бы заставить Эрнеста повторить то, что он высказал в том случае. Мой крестник
быстро вернулся в прежнее расположение духа и вторично справился о матери.
Теобальд обрадовался тому, что представилась возможность сменить тему, и
тотчас тоном, который применил бы в беседе с человеком, с которым особенно
желал бы примириться, ответил, что Кристине внезапно стало хуже, несмотря
на все, что он оказался в состоянии сделать для нее, и в заключение тирады
сказал, что она служила утешением и оплотом его жизни в течение более чем
тридцати лет, но он не может желать, чтобы ее агония продлилась.
Затем оба пошли наверх в комнату Кристины, ту, в которой Эрнест родился.
Теобальд вошел первым и подготовил жену к приходу сына. Когда Эрнест
подошел к ней, бедняжка приподнялась на постели, рыдая, обняла его и воскликнула:
— О, я знала, что он приедет, я знала, я знала, что он обязательно приедет!
Эрнест не выдержал и заплакал, как не плакал много лет.
— О мой мальчик, мой мальчик, — запричитала Кристина, как только снова
смогла говорить, — неужели ты и в самом деле не был рядом с нами все эти годы?
Ах, если б ты только знал, как мы любили тебя и горевали о тебе, и папа не
меньше, чем я. Ты же знаешь, он меньше показывает свои чувства, но я и
передать тебе не могу, как очень, очень глубоко он переживал за тебя. Иногда ночью
Глава 83
281
мне казалось, что я слышу шаги в саду, и я тогда потихоньку, чтобы не разбудить
его, выбиралась из постели и всматривалась в окно, но там была только
темнота или серое утро, и я плача возвращалась в постель. И все равно я думаю, что
ты был неподалеку от нас, хотя ты слишком горд, чтобы дать нам знать, а теперь
наконец я еще раз держу тебя в объятиях, мой милый, любимый мальчик.
Каким жестоким, каким постыдно бесчувственным показался себе Эрнест.
— Матушка, — сказал он, — простите меня, я виноват, я не должен был
вести себя так безжалостно; я был неправ, ужасно неправ.
Бедняга говорил то, что чувствовал, и его сердце устремилось к матери так,
как он и помыслить не мог незадолго до этого.
— Но неужели ты никогда, — продолжала она, — не приходил к нам в
темноте, незаметно для нас? О, позволь мне думать, что ты не был таким
жестоким, каким мы считали тебя. Скажи мне, что ты приходил, скажи хотя бы для
того, чтобы успокоить меня и порадовать.
Эрнест нашелся, что ответить:
— У меня не было денег, чтобы приехать, матушка, до самого последнего
времени.
Это было оправдание, которое Кристина могла понять и принять.
— О, значит, ты приехал бы? Тогда я зачту тебе желание за поступок. А
теперь, когда ты снова со мной, скажи, что ты никогда, никогда не покинешь
меня, пока я не... пока не... О мой мальчик, тебе сказали, что я умираю?
Она горько заплакала и зарылась головой в подушку.
Глава 83
В комнате находились Джо и Шарлотта. Джо был уже посвящен в
духовный сан и служил викарием при Теобальде. Они с Эрнестом никогда не
испытывали симпатии друг к другу, и Эрнест с первого взгляда понял, что на
rapprochement* между ними нет ни единого шанса. Он немного удивился при
виде Джо в облачении священника — так похожего на него самого
несколькими годами ранее, ибо между братьями имелось семейное сходство; но лицо
Джо носило холодное выражение и не было освещено ни одной искрой
одухотворенности; он сделался священником и намеревался поступать, как другие
священники, ни лучше, ни хуже. Эрнеста он приветствовал довольно de haut
en bas**, то есть попытался это сделать, но не довел попытку до
удовлетворительного завершения.
Сестра подставила Эрнесту щеку для поцелуя. Как он ненавидел это; мысль
о неизбежности родственного поцелуя приводила его в ужас последние три
часа. Шарлотта также держалась отчужденно, и тон ее был укоризненным, как
и следовало ожидать от особы, столь превосходившей других во многих
отношениях. Она затаила на него обиду, поскольку до сих пор не вышла замуж.
* примирение, сближение (фр).
** высокомерно; снисходительно [фр-).
282
Путь всякой плоти
Вину за это она возлагала на Эрнеста; именно его проступок, утверждала она
втихаря, мешает молодым людям сделать ей предложение, и она начислила
старшему брату огромный счет за понесенный ущерб. Шарлотта и Джо с
ранних лет жизни имели склонность к псовой охоте1, и теперь они оба пребывали
в полном согласии со старшим поколением — то есть настроились против
Эрнеста. По этому поводу у младшего брата и сестры существовал
наступательный и оборонительный союз, но что касается двусторонних отношений, то у них
шла подспудная междоусобная война.
Такое ощущение, по крайней мере, сложилось у Эрнеста отчасти на
основе воспоминаний о них обоих, а отчасти из наблюдений за характерными
черточками их поведения в течение первого получаса после его прибытия, пока все
они оставались в спальне матери, — ведь они еще, конечно, не знали, что у него
есть деньги. Он видел, что брат и сестра время от времени бросают на него
удивленные взгляды, не лишенные примеси негодования, и очень хорошо
понимал, о чем они думают.
Кристина заметила произошедшую в Эрнесте перемену — насколько
увереннее и крепче душой и телом казался он по сравнению с тем, каким был, когда она
видела его в последний раз. Она видела также, как хорошо он одет, и, подобно
остальным, несмотря на возвращение всей любви к первенцу, немного
тревожилась насчет кармана Теобальда, которому, как предполагала, придется
расплачиваться за все это великолепие. Прочитав ее мысли, Эрнест успокоил материнскую
душу и рассказал все о наследстве тетки и о том, как я рачительно пекся о
капитале, а брат и сестра делали вид, что не слушают или, во всяком случае,
слушают как о деле, которое едва ли может коснуться их самих.
Мать вначале немного повозмущалась тем, что деньги перешли к Эрнесту,
как она выразилась, «через папину голову».
— Подумать только, мой дорогой, — сказала она осуждающим тоном, — это
ведь больше, чем когда-либо имел твой папа.
Однако Эрнест успокоил ее, высказав предположение, что, если бы мисс
Понтифекс знала, какой крупной станет сумма, то наверняка оставила бы
большую ее часть Теобальду. Кристина согласилась на этот компромисс и
немедленно, несмотря на болезнь, с энтузиазмом вступила в новое положение,
а взяв его за очередной исходный пункт, принялась тратить деньги Эрнеста
вместо него.
Замечу между прочим, что Кристина была права, сказав, что Теобальд
никогда не имел такой суммы денег, какой владел теперь его сын. Во-первых,
у Теобальда не было четырнадцатилетнего промежутка, в течение которого
деньги могли бы беспрепятственно возрастать, а во-вторых, он подобно мне
самому и почти всем остальным несколько пострадал в том злополучном 1846
году — не настолько, чтобы это подкосило его или даже нанесло ему серьезный
ущерб, но достаточно, чтобы напугать и заставить его остальную часть жизни
упорно держаться за облигации. Тот факт, что сын сделался богаче него, да
еще в таком молодом возрасте, терзал Теобальда даже больше, чем наличие
у сына денег вообще. Если бы Эрнест был вынужден ждать, пока ему не
исполнится шестьдесят или шестьдесят пять, и тем временем оказался сломлен дол-
Глава 83
283
гими периодами неудач, что ж, тогда ему, пожалуй, можно было бы позволить
иметь какую-нибудь сумму, достаточную для того, чтобы уберечь его от
работного дома и оплатить расходы, совершенные на смертном одре; но чтобы он
стал обладателем семидесяти тысяч фунтов в двадцать восемь лет, при этом
не имея жены и содержа только двоих детей, — это было невыносимо. Кристина
была слишком больна и чересчур торопилась потратить деньги, чтобы
обращать серьезное внимание на подобные детали, и к тому же отличалась по
природе своей намного большим добродушием, чем Теобальд.
Эта огромная удача, сразу же поняла она, смывает весь позор пребывания
Эрнеста в тюрьме. И хватит о подобных глупостях. То была ошибка, досадная
ошибка, верно, но чем меньше говорить об этом теперь, тем лучше.
Разумеется, Эрнест должен возвратиться и жить в Бэттерсби, пока не женится, и
должен выплатить отцу приличную сумму за стол и жилье. Право же, было бы
только справедливо, чтобы Теобальд получил какую-нибудь прибыль, да и сам
Эрнест, конечно, не пожелает, чтобы сумма оказалась какой-нибудь иной,
кроме как приличной; лучше и проще всего устроить дело именно так; и он сможет
вывозить свою сестру в свет чаще, чем это желают делать Теобальд или Джо, и
станет также, несомненно, устраивать в Бэттерсби прекрасные приемы.
Конечно, он купит Джо приход и будет ежегодно делать большие подарки
сестре... Что там еще? Ах да! Он превратится теперь во влиятельного
человека в графстве; тот, кто располагает почти четырьмя тысячами фунтов в год,
определенно должен обрести влияние. Он может даже сделаться членом
парламента. У него очень приличные способности — ему далеко, конечно, до такого
гения, как доктор Скиннер, или даже до Теобальда, но тем не менее он не
лишен талантов, и если бы он попал в парламент — таким молодым к тому же, —
то ничто не могло бы помешать ему успеть стать премьер-министром до того,
как он умрет, а коли так, то, конечно, он сделался бы и пэром. О, почему бы
ему не приступить к этому тотчас же, чтобы она могла при жизни услышать,
как люди называют ее сына «милорд»; лорд Бэттерсби, по ее мнению, звучало
бы очень приятно, и, если она поправится настолько, чтобы позировать
художнику, Эрнест непременно должен заказать ее портрет во весь рост для одной
из стен его большой столовой. Картину следует выставить в Королевской
академии. «Портрет матери лорда Бэттерсби», — сказала она себе, и ее сердце
затрепетало со всей обычной живостью. Если она окажется не в состоянии
позировать, то, к счастью, она не так давно сфотографировалась, и портрет
получился настолько удачным, насколько это вообще возможно для фотографии,
запечатлевшей лицо со столь неуловимой сменой выражений. Быть может,
художник сумеет написать сносный портрет с этого снимка. В конце концов, к
лучшему, что Эрнест оставил Церковь — насколько же мудрее Бог устраивает
дела наши, чем мы сами способны их устроить! Теперь она все поняла: это Джо
станет архиепископом Кентерберийским, а Эрнест пусть останется мирянином
и сделается премьер-министром... И так далее, пока дочь не сказала ей, что
пора принимать лекарство.
Полагаю, эти грезы, которые составляют лишь фрагмент того, что на самом
деле проносилось в мозгу Кристины, заняли около полутора минут, но или они
284
Путь всякой плоти
или присутствие сына, казалось, чудесным образом вернули ей хорошее
настроение. Больная, в сущности умирающая, Кристина, несмотря на свои страдания,
озарилась такой радостью, что даже весело рассмеялась раз или два в течение
дня. На следующий день доктор Мартин сказал, что ей намного лучше и он
почти начинает надеяться на выздоровление. Теобальд всякий раз, когда
затрагивалась возможность выздоровления Кристины, качал головой и говорил:
«Мы не можем желать, чтобы это продлилось»2, а затем Шарлотта застала
Эрнеста врасплох и сказала:
— Знаешь, дорогой Эрнест, эти разговоры ужасно волнуют папу; он может
выдержать то, что происходит, но для него слишком изнурительно по полдю-
жине раз за сутки менять направление мыслей, и было бы благороднее с
твоей стороны не делать этого, я имею в виду не говорить ему ничего, даже при
том, что доктор Мартин обнадеживает.
Шарлотта хотела сказать, что именно Эрнест служит источником
всяческого неудобства, испытываемого Теобальдом, ею, Джо и всеми остальными, и она,
по сути, уже держала наготове слова, которые должны были передать этот
смысл; правда, она не посмела вымолвить их и двинула на попятный, но, во
всяком случае, одно краткое мгновение они вертелись у нее на языке, а это
было больше, чем ничего. Покуда мать болела, Эрнест замечал, что
Шарлотта все время находила случай сказать ему что-нибудь неприятное всякий раз,
когда доктор или сиделка объявляли, что Кристине немного лучше. Когда
Шарлотта писала в Крэмпсфорд, прося о молитвах прихожан (она была
уверена, что мать желала бы этого и что люди в Крэмпсфорде будут рады тому,
что она их помнит), то подготовила в то же время еще одно письмо на совсем
другую тему и, вкладывая письма в конверты, перепутала их. Эрнеста
попросили отнести письма на деревенскую почту, и он, ничего не подозревая, так и
сделал; в тот момент, когда ошибка обнаружилась, Кристине как раз стало
немного лучше. Шарлотта немедленно примчалась к Эрнесту и возложила всю
вину за свою оплошность на него.
За исключением того, что Джо и Шарлотта стали совершенно взрослыми,
дом и его обитатели, одушевленные и неодушевленные, мало изменились с того
дня, когда Эрнест видел их в последний раз. Мебель и украшения на каминной
полке были теми же, какими были всегда, с той поры как он обрел способность
помнить. В гостиной по обе стороны от камина висели, как и в прежние
времена, картины Карло Дольчи и Сассоферрато; сохранился и акварельный пейзаж
Лаго-Маджоре3, скопированный Шарлоттой с оригинала, предоставленного ей
учителем рисования, и выполненный под его руководством. Про эту картину
один из слуг сказал, что она, должно быть, хороша, раз мистер Понтифекс
отдал десять шиллингов за рамку. Обои на стенах остались теми же: розы все еще
ожидали пчел;4 и все семейство по-прежнему в полном составе молилось
вечером и утром, чтобы сделаться «истинно честными и добросовестными».
Только одну картину убрали — фотографию Эрнеста, которая раньше
помещалась под снимком отца, между фотографиями брата и сестры. Эрнест
заметил ее отсутствие во время молитвы, в тот момент, когда отец читал
фрагмент о Ноевом ковчеге и о том, как его обмазывали илом5, а этот эпизод, так
Глава 83
285
уж случилось, был в детстве любимым текстом Эрнеста. На следующее утро,
впрочем, фотография возвратилась на свое место, немного запыленная и с
отбитой позолотой на углу рамки, но тем не менее висела тут как тут. Полагаю, ее
вернули, узнав, как он разбогател.
В столовой над камином вороны все еще пытались накормить Илию. Какое
множество воспоминаний воскрешала в памяти эта картина! Если выглянуть из
окна, увидишь все те же клумбы в палисаднике перед домом, и Эрнест поймал
себя на том, что всматривается в синюю калитку в глубине сада, чтобы увидеть,
идет ли дождь, как обычно всматривался, делая уроки с отцом, когда был
ребенком.
После раннего обеда, когда Джо, Эрнест и отец остались одни, Теобальд
поднялся, и, стоя на середине коврика перед камином под картиной с Илией,
принялся, как это у него водилось, насвистывать с отсутствующим видом. У него
имелось только две мелодии: «В моем домике у леса» и «Пасхальный гимн»; он
пробовал насвистывать их6 всю свою жизнь, но так и не сделал успехов; он
насвистывал их, как мог бы насвистывать способный снегирь, — передавал
мелодию, но передавал неверно; он брал полутоном ниже в каждой третьей ноте, как
будто возвращаясь к какому-то отдаленному музыкальному прародителю,
который не знал ничего, кроме лидийского или фригийского лада7, — будто что-
то неведомое заставляло его немилосердно фальшивить, но вместе с тем
удерживало все же достаточно близко к мелодии, чтобы ее можно было узнать.
Теобальд стоял у камина и тихо насвистывал свои две мелодии по старой
привычке, пока Эрнест не вышел из комнаты; он почувствовал, что неизменность
внешнего мира и изменяемость внутреннего вот-вот совершенно выведут его из
равновесия.
Он прогулялся в пропитанной влагой рощице за домом и утешился трубкой,
а вскоре оказался у двери дома отцовского кучера, женатого на прежней Кри-
стининой горничной, к которой Эрнест всегда был очень привязан, как и она
к нему, поскольку знала его с тех пор, когда ему было пять-шесть лет. Ее
звали Сьюзен. Он сел в кресло-качалку у камина, Сьюзен продолжала гладить на
столе у окна, и запах горячей фланели наполнял кухню.
Сьюзен была слишком надежно устроена у Кристины, чтобы сейчас же
стать на сторону Эрнеста. Он это очень хорошо понимал, а потому не
обращался к ней за поддержкой, моральной или какой-либо другой. Он зашел, потому
что любил ее, а также потому, что знал, что из беседы с нею может почерпнуть
много такого, что невозможно выяснить никаким другим способом.
— Ах, господин Эрнест, — сказала Сьюзен, — почему вы не возвращались,
когда ваши бедные батюшка и матушка нуждались в вас? Поверьте, ваша
матушка говорила мне сто с лишним раз, что все было бы точно так, как
прежде, а уже ее-то слово твердо.
Эрнест улыбнулся про себя. Бесполезно было объяснять Сьюзен, почему он
улыбнулся, а потому он ничего не сказал.
— В первые дни я думала, что она не выдержит. Она говорила, что это ей
кара, и пустилась рассказывать о том, что говорила и делала много лет назад,
до того как ваш батюшка познакомился с ней, и не знаю, чего б еще наговорила,
286
Путь всякой плоти
да только я остановила ее. Она была как не в своем уме и сказала, что никто
из соседей никогда не заговорит с ней теперь, но на следующий день зашла
миссис Бушби (знаете, та, что была мисс Кауи), а ваша матушка всегда так
любила ее, и это, казалось, придало ей сил, потому как на следующий день она
перебрала все свои платья, и мы решили, как их переделать; а потом соседи
приходили со всей округи, и ваша матушка заглянула сюда к нам и сказала, что
прошла через море страданий, а Бог обратил его в животворящую влагу. «О да,
Сьюзен, — сказала она, — будь уверена, это так. Господь, кого любит, того
наказывает8, Сьюзен, — тут она опять принялась плакать, — а что касается его, —
продолжала она, — что он посеял, то пусть и пожинает. Когда он выйдет из
тюрьмы, его папа решит, что лучше сделать, и господин Эрнест может быть
благодарен, что у него есть папа, такой добрый и такой долготерпеливый».
Потом, когда вы не захотели видеть их, это было жестоким ударом для вашей
матушки. Ваш батюшка не говорил ничего; вы же знаете, ваш батюшка никогда
не говорит очень много, пока иной раз как следует не взбеленится; а с вашей
матушкой кошмар что творилось несколько дней, и я никогда не видела, чтоб
хозяин так ужасно почернел; но, слава Богу, все это прошло через несколько
дней, и не знаю, но мне кажется, что ничего необыкновенного с ними с тех пор
не приключалось, пока ваша матушка не захворала.
В день приезда Эрнест вел себя хорошо на вечерней семейной молитве, а
также и на следующее утро. Отец читал отрывок о завещании умирающего
Давида Соломону относительно Семея9, но Эрнеста это не волновало. В
течение дня, однако, его чувства задевали столько раз, что мирное настроение
улетучилось. И вот наступил второй вечер после его приезда. Он стал на колени
подле Шарлотты и произносил ответствия небрежно — не настолько
небрежно, чтобы она наверняка поняла, что он делает это нарочно, но достаточно
небрежно, чтобы заставить ее задуматься, нарочно он это делает или нет, а
когда Эрнесту пришлось произнести слова молитвы о том, чтобы Бог содеял
их истинно честными и добросовестными, он сделал ударение на слове
«истинно». Не знаю, заметила ли Шарлотта что-нибудь, но в остальные дни его
пребывания дома она преклоняла колени поодаль от него. Эрнест ручается мне,
что это был единственный раз в продолжение всего времени нахождения в
Бэттерсби, когда он позволил себе съязвить.
Поднявшись в спальню, в которой, нужно отдать семейству должное,
затопили камин, Эрнест обратил внимание на то, что на самом деле заметил
сразу же, как только по приезде его туда провели — над кроватью висела в
застекленной рамке цветная картинка со словами «Пусть скучен или долог день, в
конце его звонят к вечерне»10. Он недоумевал, как это его родителям пришло
в голову повесить такую картинку в комнате, где гостям как раз предстояло
скоротать последние часы вечера, но оставил этот вопрос. «Нет настолько
большого различия между "скучен" и "долог", чтобы поставить между ними "или", —
подумал он, — ну да ладно». Полагаю, Кристина купила эту картинку на
благотворительном базаре для сбора средств на ремонт соседней церкви, а раз
картинка оказалась куплена, то нужно было найти ей применение; кроме того,
вид картинки был весьма трогателен, а рисунок по-настоящему мил. Во всяком
Глава 83
287
случае, более ироничного поступка, чем оставить эту картинку в спальне
моего героя, и придумать было невозможно, хотя, конечно, никакой иронии не
замышлялось.
На третий день после приезда Эрнеста Кристине опять стало хуже. В
течение последних двух дней она не испытывала боли и много спала. К тому же
присутствие сына, казалось, ободрило ее, и она часто повторяла, сколь
благодарна за то, что ей выпало быть окруженной на смертном ложе семейством
столь счастливым, столь богобоязненным, столь дружным, но теперь начала
бредить и, острее почувствовав приближение смерти, испытывала,
по-видимому, все более сильную тревогу при мыслях о Судном дне.
Не раз и не два отваживалась она вернуться к теме своих грехов и
умоляла Теобальда удостовериться в полной мере, что они прощены ей. Она
намекала, что на кону стоит его профессиональная репутация; было бы некрасиво,
если бы его собственная жена не сумела заручиться по крайней мере
пропуском в рай. Это задевало Теобальда за живое; он вздрагивал и отвечал,
раздраженно тряхнув головой: «Но, Кристина, она уже прощены тебе», а затем с
решительным, но важным видом укрывался за молитвой «Отче наш». Встав, он
покидал комнату, но звал Эрнеста — в очередной раз сказать, что не может
желать, чтобы это продлилось.
От Джо было не больше проку в том, чтобы успокоить материнскую
тревогу, чем от Теобальда, ведь он являлся только слабым подобием Теобальда. В
конце концов Эрнест, который поначалу не хотел вмешиваться, взял дело в
свои руки и, сев подле матери, позволил ей без помех поплакаться.
Кристина сказала, что понимает: она не отказалась от всего во имя Христа;
вот что ее тяготит. Она отказалась от многого, и всегда старалась с каждым
годом отказываться от еще большего, и все же знала очень хорошо, что не была
столь одухотворенной, какой надлежало быть. Будь она такой, ей, вероятно,
была бы оказана честь лицезреть какое-нибудь ясное видение или получить
благую весть; вот ведь, хотя Бог соблаговолил ниспослать ясное и зримое
видение ангела одному из ее дорогих детей, сама она не удостоилась ничего
такого — и даже Теобальд не удостоился.
Рассказьюая об этом, она обращалась скорее сама к себе, чем к Эрнесту, но
история заставила его превратиться в слух. Он хотел узнать, являлся ангел
братцу Джо или же Шарлотте. Он спросил мать, но она, казалось, удивилась, как
будто ожидала, что он все знает об этом, а затем, словно бы опомнившись,
осеклась и сказала:
— Ах да! Ты ведь ничего не знаешь, и, возможно, к лучшему.
Эрнест, разумеется, не мог просить разъяснений, а потому так и не узнал,
кто же из его ближайших родственников вступил в непосредственное общение
с бессмертным духом. Другие никогда не говорили ему ничего об этом, но он
не мог определить почему: то ли потому, что стыдились, то ли потому, что
боялись, что он не поверит в эту историю и тем увеличит вероятность
собственного проклятия.
Эрнест с тех пор часто думал об этом. Он попробовал добиться сведений от
Сьюзен, которая, как он был уверен, знала правду, но Шарлотта его опередила.
288
Путь всякой плоти
— Нет, господин Эрнест, — сказала Сьюзен, когда он принялся ее
расспрашивать, — ваша матушка послала мне сказать через мисс Шарлотту, чтобы я
вообще ничего не говорила об этом, и я ни за что не скажу.
Разумеется, дальнейшие расспросы были невозможны. У Эрнеста не раз
складывалось впечатление, что Шарлотта в действительности верит не больше,
чем он сам, а этот случай еще более усилил его подозрения, но он
заколебался, вспомнив, как она неверно направила письмо, прося о молитвах прихожан.
«Полагаю, — сказал он себе уныло, — она все же верит в это».
Затем Кристина вернулась к недостатку у нее истинной духовности; она
даже повторяла раз за разом свои старые сетования о том, что ела кровяную
колбасу, — да, она ела ее много лет назад, но ведь еще долгие годы после того,
как у нее впервые зародились сомнения относительно кровяной колбасы, она
не проявляла упорства в стремлении воздержаться от употребления ее в пищу.
Еще было нечто, отягощающее ее душу, что произошло до вступления брак, и
она хотела бы...
Эрнест прервал ее:
— Дорогая матушка, вы больны, и душа ваша неспокойна. Другие люди
могут теперь лучше судить о вас, чем вы сами. Уверяю вас, что мне вы
представляетесь самой преданной и самоотверженной женой и матерью, которая когда-
либо существовала. Даже если вы в буквальном смысле не отказались от
всего во имя Христа, вы поступали так в действительности, насколько то было в
ваших силах, и делали больше, чем это требуется от кого бы то ни было. Я
верю, что вы будете не просто святой, но и очень выдающейся святой.
При этих словах Кристина просияла.
— Ты даешь мне надежду, ты даешь мне надежду! — воскликнула она и
утерла глаза.
Она заставила Эрнеста уверять ее снова и снова, что он твердо убежден в
сказанном. Теперь ее не заботило, станет она или нет выдающейся святой; она
была бы вполне довольна и местом среди самых обычных людей, попавших на
небеса, если бы могла быть уверена, что избежит этого ужасного ада. Страх
перед ним, очевидно, поглощал ее целиком, и несмотря на все, что Эрнест
говорил, ему не удалось до конца развеять его. Она проявила некоторую
неблагодарность, должен признаться, поскольку, прослушав более часа утешения Эрнеста,
молилась, чтобы ему достались всяческие блага в этом мире, ибо всегда боялась,
что он единственный из ее детей, с кем она никогда не встретится на небесах.
Правда, она тогда бредила и едва ли сознавала его присутствие; ее душа на
самом деле возвращалась к состоянию, в котором была до болезни.
В воскресенье Эрнест, разумеется, отправился в церковь и заметил, что
всегда готовый пойти на убыль поток проповеднического рвения достиг за
несколько лет его отсутствия одной из самых нижних отметок. Отец имел
обыкновение ходить в церковь через свой сад и лежащее за ним маленькое поле. Он
обычно шел туда в цилиндре и священническом облачении с двумя белыми
полосками11, спускающимися с воротника. Эрнест заметил, что отец больше не
носит этих полосок, а проповедь Теобальд читал (подумать только!) не в
своем обычном священническом одеянии, а в стихаре. Весь характер службы был
Глава 83
289
изменен; впрочем, даже теперь нельзя было сказать, что здесь придерживаются
образцов Высокой церкви, ибо Теобальд ни при каких обстоятельствах не мог
бы стать приверженцем Высокой церкви, но прежний налет легкой
небрежности, если можно так выразиться, испарился навсегда. Оркестровое
сопровождение к песнопениям исчезло, когда мой герой еще был ребенком, а в течение
нескольких лет после того, как появилась фисгармония, вообще не было
никакого пения. В то время когда Эрнест учился в Кембридже, Шарлотта и
Кристина уговорили Теобальда позволить петь гимны; а пели они их в старомодной
протяжной манере, выработанной лордом Морнингтоном12, доктором Дюпюи13
и другими. Теобальду это не нравилось, но он согласился петь или, точнее,
разрешил пение.
Тогда Кристина сказала:
— Дорогой мой, знаешь, я действительно думаю (Кристина всегда
«действительно» думала), что людям очень нравится пение и оно может привлечь в
церковь многих и многих, кто до настоящего времени ее не посещал. Я как раз
вчера обсудила это с миссис Гудхью и старой мисс Райт, и они совершенно
согласны со мной, но все говорят, что мы должны петь «Слава Отцу» в конце
каждого из псалмов, вместо того чтобы просто произносить это14.
Теобальд помрачнел — он чувствовал, что воды песнопений затопляют его
все выше и выше дюйм за дюймом; но он чувствовал также, неведомо почему,
что лучше сдаться, чем бороться. Так что он велел впредь пропевать «Слава
Отцу», но это ему по-прежнему не нравилось.
— Право, мама, голубушка, — сказала Шарлотта, когда сражение было
выиграно, — вы не должны называть это «Слава Отцу», следует говорить Gloria*.
— Конечно, моя дорогая, — сказала Кристина и впоследствии всегда говорила
Gloria.
И она подумала, какая удивительно умная девочка Шарлотта, ей не
следует выходить замуж за кого бы то ни было ниже епископа.
И вот однажды, когда Теобальд уехал на необычно долгий летний отдых,
он не мог найти никого, кроме приверженца Высокой церкви, кто взял бы на
себя исполнение его обязанностей. Этот джентльмен был человеком
влиятельным в округе, располагал значительными частными средствами, но не имел
постоянного прихода. Летом он часто помогал своим собратьям священникам,
и именно благодаря его готовности взять на себя исполнение службы в Бэттерс-
би в течение нескольких воскресений подряд Теобальд получил возможность
уехать на столь длительный срок. По возвращении, однако, он обнаружил, что
пели уже все псалмы целиком, а не только Gloria. Как только Теобальд
вернулся, влиятельный священнослужитель, Кристина и Шарлотта взяли быка за рога
и принялись отшучиваться, стоя на своем: священник смеялся и отбрыкивался,
Кристина смеялась и уговаривала, Шарлотта упирала на возвышенные чувства;
дело было сделано и не могло быть отменено — сделанного не воротишь; так
что впредь псалмы стали петь, но Теобальда это в глубине души раздражало,
и ему это все по-прежнему не нравилось.
* Слава [лат).
290
Путь всякой плоти
Во время того же его отсутствия к чему же приучились миссис Гудхью и
старая мисс Райт, как не к тому, чтобы поворачиваться на восток15 при
произнесении Символа Веры! Теобальд ненавидел это еще больше, чем пение.
Когда он осторожно высказал кое-что по этому поводу за обедом после службы,
Шарлотта ответила: «Право же, дорогой папочка, вам следует привыкнуть
называть это "Символ Веры", а не "Верую"», и Теобальд раздраженно
поморщился и фыркнул, выражая смиренное несогласие; но поскольку дух тетушек
Джейн и Элизы был силен в Шарлотте, а дело представлялось слишком
пустяковым, чтобы идти из-за него на бой, он отделался шуткой. «Что касается
Шарлотты, — думала Кристина, — я уверена, она знает всё». Так что миссис
Гудхью и старая мисс Райт продолжали поворачиваться на восток во время
произнесения Символа Веры, и постепенно другие последовали их примеру, а
вскоре и те немногие, кто не уступал, сдались и тоже стали поворачиваться в
восточном направлении; и тогда Теобальд сделал вид, будто с самого начала
считал все это вполне правильным и надлежащим, но сказать, чтобы ему все
это нравилось, нельзя. Шарлотта неоднократно пыталась заставить его
говорить «аллилуйя» вместо «хэллилуйя»16, но это было уж слишком, Теобальд
воспротивился, и она испугалась и отстала.
Еще они заменили двойные хоралы одиночными и изменяли псалом за
псалмом, причем в середине псалмов, как раз там, где поверхностный читатель
не увидел бы никакой причины, зачем им понадобилось это делать; они
сделали переложение из мажора в минор, а из минора назад в мажор; затем
добрались до «Гимнов древних и новых»17, а также, как я говорил, отняли у
Теобальда его любимые белые полоски и заставили читать проповедь в стихаре;
и он должен был совершать прославление святого причастия раз в месяц
вместо всего лишь пяти раз в год, как прежде. Тщетно боролся он против
невидимого влияния, которое, как он чувствовал, постоянно было направлено
против всего, что он привык считать отличительными свойствами той доктрины,
которой придерживался. Откуда исходило это влияние и в чем заключалось,
он не понимал и не знал, что еще воспоследует, но прекрасно осознавал, что
идти в этом направлении для него гибельно; что от него требуют слишком
много; что Кристине и Шарлотте это нравится намного больше, чем ему, и что
это может закончиться только католицизмом. Подумать только, пасхальные
украшения!18 Рождественских украшений в разумных количествах вполне
достаточно, но пасхальные украшения!.. Что ж, пожалуй, на его век прежних
порядков хватит.
Именно такой оборот приняли дела в Англиканской церкви в последние
сорок лет. Все устойчиво двигалось в одном направлении. Несколько человек,
которые знали, чего хотят, сделали своими послушными орудиями Кристин и
Шарлотт, Кристины и Шарлотты сделали своими послушными орудиями
миссис Гудхью и старых мисс Райт, миссис Гудхью и старые мисс Райт сказали, что
надо делать, мистерам Гудхью и молодым мисс Райт, а когда мистеры Гудхью
и молодые мисс Райт поступили как было велено, маленькие Гудхью и
остальная часть духовного стада сделали то, что сделали, в результате чего работа
Теобальдов пропала впустую; шаг за шагом, день за днем, год за годом, при-
Глава 83
291
ход за приходом, епархия за епархией — вот как это делалось. А Англиканская
церковь еще смотрит недружелюбным взглядом на теорию эволюции, то есть
на учение о происхождении видов и видоизменениях19.
Мой герой обдумывал все это и припоминал множество уловок со
стороны Кристины и Шарлотты и множество деталей этой борьбы, описанием
которой я не могу далее прерывать мою историю, и ему пришла на ум любимая
присказка отца — о том, что это может закончиться только католицизмом.
Когда Эрнест был ребенком, он твердо верил в это, но теперь улыбнулся,
поскольку подумал об альтернативе, вполне ясно представлявшейся ему, но
настолько ужасной, что она даже не приходила в голову Теобальду — я имею
в виду падение всей системы. В то время Эрнест пребывал в надежде, что
сохраняющиеся в Церкви нелепости и ее оторванность от жизни приведут к ее
краху. С тех пор он стал думать совсем иначе — не потому, что преисполнился
большой уверенностью в том, будто корова может перепрыгнуть через луну
(большей, чем раньше, или большей, вероятно, по сравнению с девяти
десятыми самого духовенства, которое знает так же, как и он, что внешние и
зримые церковные символы устарели), — но потому, что осознал, сколь
огромными трудностями чревато решение вопроса, когда речь идет о том, что же
фактически следует сделать. К тому же теперь, когда Эрнест узнал их
ближе, он лучше понял характер волков в овечьей шкуре, жаждущих крови
своей жертвы и шумно ликующих в предвкушении того, как жертва вскоре
попадет в их лапы. Дух, поддерживающий Церковь, является истинным, а ее
буква, истинная некогда, теперь более не истинна20. Дух, питающий высших
жрецов науки21, так же лжив, как и ее буква. Теобальды, которые делают то,
что делают, потому, что это кажется им правильным, но которые в сердце
своем не любят своего дела и не верят в него, — в действительности наименее
опасная категория для мира и свобод человечества. Бояться следует того, кто
берется за дело с уверенностью напористой вульгарности и самодовольства.
Это не те пороки, в которых по справедливости можно обвинить английское
духовенство22.
Когда служба закончилась, многие из фермеров подошли к Эрнесту и
обменялись с ним рукопожатием. Как выяснилось, все знали, что он разбогател:
Теобальд сразу же рассказал об этом двум-трем из самых отъявленных
сплетниц в деревне, и новость быстро распространилась. «Это значительно упрощает
дело», — сказал себе Эрнест. Он был вежлив с миссис Гудхью ради ее мужа,
но сделал вид, что не замечает мисс Райт, так как знал, что она та же
Шарлотта, только в другой личине.
Неделя тянулась медленно. Два-три раза все семейство причащалось у
смертного ложа Кристины. Нетерпение Теобальда становилось день ото дня все
очевиднее, но, к счастью, Кристина (которая, даже когда чувствовала себя лучше,
готова была бы закрыть на это глаза), теряя силы, все более впадала в забытье
и едва ли вообще что-нибудь замечала. Неделю спустя после приезда Эрнеста
мать впала в коматозное состояние, которое продлилось несколько дней, и в
конце концов отошла так мирно, что ее кончина была подобна слиянию моря
и неба в океанском просторе в тихий туманный день, когда невозможно опре-
292
Путь всякой плоти
делить, где кончается морская гладь и начинаются небеса. От реальности
жизни она навеки ушла с меньшей болью, чем пробуждалась от многих своих
иллюзий.
— Она была утешением и оплотом моей жизни более тридцати лет, —
сказал Теобальд, как только все было кончено, — но нельзя было желать, чтобы
это продлилось. — И он уткнулся лицом в носовой платок, чтобы скрыть
отсутствие эмоций.
На другой день после смерти матери Эрнест возвратился в Лондон, и на
похороны мы с ним приехали вместе. Он хотел, чтобы я увиделся с его отцом,
дабы предотвратить любое возможное недоразумение относительно
намерений мисс Понтифекс, а я был таким старинным другом семейства, что мое
присутствие на похоронах Кристины не могло никого удивить. Несмотря на
все ее недостатки, я всегда, пожалуй, любил Кристину. Она готова была
искрошить на мелкие кусочки Эрнеста или кого-либо другого, лишь бы
удовлетворить малейшую прихоть своего мужа, но самого Теобальда она бы и
пальцем не тронула ради кого бы то ни было и, пока он не мешал ей любить его,
очень его любила. От природы ей достался спокойный характер, она была
более склонна радоваться, чем сердиться, всегда рада сделать какое-нибудь
доброе дело, если это не стоило ей больших усилий и не вводило в расход
Теобальда. О собственном небольшом кошельке она не заботилась; любой мог
получить из него столько, сколько хотел, после того как она отложила то, что
было абсолютно необходимо на ее платья. Я не мог не проникнуться
глубоким состраданием, слушая рассказ Эрнеста о ее кончине, и даже ее
собственный сын вряд ли чувствовал нечто большее; поэтому я сразу же согласился
поехать на похороны; возможно, меня также влекло желание увидеть
Шарлотту и Джо, к которым я ощутил интерес, выслушав то, что поведал мой
крестник.
Я нашел, что Теобальд выглядит просто замечательно. Все говорили, что
он превосходно держится. Да, он разок-другой покачал головой и сказал, что
жена была утешением и оплотом его жизни более тридцати лет, но на том
дело и кончилось. Я остался еще на один день, который пришелся на
воскресенье, и наметил отъезд на утро понедельника, рассказав Теобальду все, что
Эрнест пожелал, чтобы я сообщил его отцу. Теобальд попросил, чтобы я
помог ему с эпитафией Кристине.
— Я хочу написать, — сказал он, — как можно меньше; надгробные речи в
большинстве случаев и не нужны, и не правдивы. Эпитафия Кристине не
должна содержать ничего лишнего или фальшивого. Я хочу указать ее имя, даты
рождения и смерти, конечно же сказать, что она была моей женой, и затем,
думаю, я должен закончить простым текстом — ее любимыми строчками,
такими, например, уместнее которых ничего и быть не может: «Блаженны
чистые сердцем, ибо они Бога узрят»23.
Я сказал, что, по моему мнению, это будет очень хорошо, и вопрос был
улажен. Так что Эрнеста послали сделать заказ мистеру Проссеру,
каменотесу в ближайшем городке, и тот сказал, что это текст из «Блаженных запа-
видей»24.
Глава 84
293
Глава 84
По дороге в Лондон Эрнест изложил свои планы на предстоящие год-два. Я
хотел, чтобы он опять стал больше бывать в обществе, но мой крестник отверг
это сразу же, как самое последнее, что могло прийти ему в голову. К обществу
всякого рода, за исключением, конечно, общества нескольких близких друзей,
он питал непреодолимое отвращение.
— Я всегда терпеть не мог этих людей, — сказал он, — а они всегда терпеть не
могли меня и всегда будут относиться ко мне так же. Я — Измаил1 как по
природе, так и по обстоятельствам жизни, но если я стану держаться подальше от
общества, то окажусь менее уязвимым, чем обычно выпадает изгоям. В тот миг,
как человек вступает в общество, он становится исключительно уязвим.
Я очень огорчился, что слышу от него такие речи — ведь какую бы силу ни
имел человек, он конечно же может найти ей лучшее применение, действуя в
содружестве, а не в одиночку. Я сказал ему это.
— Мне все равно, — ответил он, — использую ли я свою силу максимально
или нет; не знаю, есть ли у меня вообще какая-нибудь сила, но если есть, то,
смею надеяться, она найдет возможность проявиться. Я хочу жить, как мне
нравится, а не как другие люди хотели бы, чтобы я жил; благодаря моей тете
и вам я могу позволить себе наслаждаться тихой скромной жизнью в
довольстве, — сказал он смеясь, — и намерен вести именно такую жизнь... Вы знаете,
я люблю писать, — добавил он после минутной паузы, — пописываю
потихоньку многие годы. Если мне и суждено чего-либо добиться, то, должно быть,
благодаря сочинительству2.
Я и сам давно пришел к этому выводу.
— Ведь есть много такого, — продолжал он, — о чем надо сказать и о чем
никто не смеет говорить, много вранья, требующего критики, но которое тем
не менее никто не критикует. Мне кажется, я способен высказать то, чего никто
другой в Англии, кроме меня, не отважится сказать, а ведь эти вещи просто
вопиют о том, чтобы их высказали.
Я заметил:
— Но кто будет слушать? Если ты выскажешь то, чего никто другой сказать
не смеет, не окажется ли так, что выскажешь как раз то, о чем, как всем,
кроме тебя, известно, пока что лучше молчать?
— Возможно, — сказал он, — не знаю; но желание высказаться переполняет
меня, и мое назначение — сделать это.
Я понял, что его не остановишь, а потому сдался и спросил, на каком
вопросе он испытывает особенное желание обжечься в первую очередь.
— Брак, — тут же отозвался он, — и право распоряжаться имуществом
человека после его смерти. Вопрос о христианстве фактически решен, а если и не
решен, то нет недостатка в тех, кто занят его решением. Злободневная тема
нынче — брак и отношения в семье.
— Это, — сказал я сухо, — настоящее осиное гнездо.
— Да, — ответил он не менее сухо, — но осиные гнезда мне как раз и нравятся.
Однако, прежде чем начать ворошить это гнездо, я собираюсь попутешество-
294
Путь всякой плоти
вать несколько лет с намерением выяснить, в частности, какие народы из ныне
существующих самые лучшие, самые внешне привлекательные и приятные, а
также какие народы были таковыми в прошлые времена. Я хочу понять, как
эти люди живут, как жили и каковы их обычаи.
Пока что я имею об этом предмете очень смутные представления, но общее
впечатление, которое у меня сложилось, таково, что, оставляя в стороне нас
самих, наиболее энергичными и приятными из известных наций являются
современные итальянцы, древние греки и римляне, а также островитяне южных
морей3. Полагаю, эти прекрасные народы, как правило, не были борцами за
чистоту нравов, но я хочу увидеть те из них, которые еще можно увидеть; они
действительно знают ответ на вопрос о том, что лучше всего для человека. Я
хотел бы увидеть их и узнать, как они живут. Давайте сначала установим
факты, а вести борьбу вокруг существующих моральных тенденций будем потом.
— По сути, — сказал я со смехом, — ты просто хочешь хорошо провести время.
— Не лучше и не хуже, — был ответ, — чем те люди, которые окажутся, по
моему мнению, лучшими во все века. Но давайте сменим тему.
Он сунул руку в карман и вытащил письмо.
— Мой отец, — сказал он, — дал мне нынче утром это письмо, с уже
сломанной печатью.
Он протянул листок, и я увидел то самое письмо, которое Кристина
сочинила перед рождением последнего ребенка и которое я привел в одной из
предыдущих глав.
— А ты не считаешь, — спросил я, — что это письмо как-то повлияло на
решение, о котором ты только что мне поведал относительно твоих нынешних
планов?
Он улыбнулся и ответил:
— Нет. Но если вы сделаете то, о чем как-то говорили, и превратите
приключения моей недостойной персоны в роман, не забудьте включить в него и это
письмо.
— Зачем это? — спросил я, поскольку мне казалось, что подобное письмо
нужно оберегать как святыню от пристального взгляда публики.
— Потому что моей матери захотелось бы, чтобы его опубликовали; если бы
она знала, что вы пишете обо мне и располагаете этим письмом, то больше
всего ей захотелось бы, чтобы вы его опубликовали. Поэтому опубликуйте, если
когда-нибудь действительно напишете роман.
Вот почему я напечатал письмо.
Примерно через месяц Эрнест осуществил свое намерение и, сделав все
необходимые распоряжения для обеспечения благополучия детей, накануне
Рождества покинул Англию.
Время от времени я получал от него известия и узнавал, что он побывал
почти во всех частях света, но задерживался лишь в тех местах, обитателей
которых находил необыкновенно красивыми и приятными. Он сообщал, что
исписал огромное количество записных книжек, и я не сомневался, что так и
есть. Наконец весной 1867 года он вернулся, и его чемоданы пестрели
наклейками гостиниц всех стран, расположенных между Англией и Японией. Он вы-
Глава 84
295
глядел очень смуглым и сильным и к тому же таким красивым, что
складывалось впечатление, будто некоторые приятные черты перешли к нему от
людей, среди которых он жил. Он возвратился в свое прежнее жилище в
районе Темпла и обосновался там с такой легкостью, словно и не уезжал ни на
один день.
Прежде всего мы с ним навестили детей: отправились поездом до Грэйвсэн-
да и прогулялись оттуда пешком несколько миль по берегу реки, пока не дошли
до уединенного домика, где жили добрые люди, у которых Эрнест поместил
своих детей. Стояло прекрасное апрельское утро, но с моря дул свежий ветер;
подошло время прилива, и благодаря ветру и приливу вверх по реке двигалось
множество парусных лодок. Чайки кружили у нас над головой, морские
водоросли цеплялись за отмели, еще не покрытые наступавшими водами, все здесь
дышало морем, а прекрасный бодрящий ветерок, который веял над водами,
заставил меня острее почувствовать голод, чем случалось со мной дома. Я
понял, что лучших условий для жизни детей не найти, и одобрил выбор,
сделанный Эрнестом для своих отпрысков.
Еще за четверть мили от дома мы услышали крики и детский смех и
увидели ватагу мальчишек и девчонок, занятых играми и беготней друг за другом.
Мы не могли различить, которые из них наши, но, когда подошли ближе,
быстро разобрались, поскольку другие ребятишки были синеглазыми,
светловолосыми, а наши — с темными прямыми волосами.
Мы известили письмом, что собираемся приехать, но попросили, чтобы об
этом ничего не говорили детям, так что они обратили на нас не больше
внимания, чем на любых других незнакомцев, которым случилось забрести в эти
места, редко посещаемые кем-либо, кроме моряков, к которым мы явно не
относились. Однако интерес к нам значительно возрос, когда обнаружилось,
что наши карманы полны апельсинов и сладостей, и притом в таком
количестве, какое детское воображение едва ли способно представить. Вначале нам
было очень трудно убедить их подойти к нам. Они походили на пугливых
жеребят — сгорающие от любопытства, но чрезвычайно застенчивые, к которым
нелегко подольститься. Всего детей было девятеро: пять мальчиков и две девочки
мистера и миссис Роллингс, и двое — Эрнеста. Я никогда не видел детей
прекраснее, чем юные Роллингсы: мальчики были закаленными, крепкими,
бесстрашными, с глазами зоркими, как у ястребов; старшая девочка росла настоящей
красавицей, а младшая пока еще оставалась совсем крошкой. Я почувствовал,
глядя на них, что, будь у меня свои дети, я не мог бы пожелать для них ни лучшего
дома, ни лучших товарищей.
Джордж и Алиса, дети Эрнеста, явно прижились в этой семье как родные
и называли мистера и миссис Роллингс дядей и тетей. Они были так малы,
когда впервые попали в этот дом, что их восприняли как новое пополнение в
семье. Они не знали, что мистер и миссис Роллингс получают немалую
еженедельную плату за заботу о них. Эрнест спросил каждого из детей, кем он
хочет стать. У мальчиков имелась только одна мечта: все они, включая
Джорджа, хотели работать на барже. Вряд ли даже утят больше тянет к воде.
296
Путь всякой плоти
— А ты, Алиса, чего хочешь? — спросил Эрнест.
— А я, — сказала она, — собираюсь выйти замуж за Джека и быть женой
моряка.
Джеку, старшему сыну Роллингсов, теперь почти исполнилось двенадцать,
и этот крепкий парнишка, наверное, очень походил на мистера Роллингса,
каким тот был в его возрасте. Глядя на него, такого искреннего, рослого и
хорошо сложенного, я не сомневался, что Эрнест, несомненно, думает то же, что и
я: девочка едва ли могла сделать лучший выбор.
— Подойди ко мне, Джек, мой мальчик, — сказал Эрнест, — вот тебе шиллинг.
Мальчик покраснел, и его не удавалось убедить подойти, несмотря на все
наши уговоры; прежде ему случалось получать пенни, но шиллинги — никогда.
Отец добродушно взял его за ухо и подтолкнул к нам.
— Славный мальчуган ваш Джек, — сказал Эрнест мистеру Роллингсу. —
Сразу видно.
— Да, — согласился мистер Роллингс, — мальчишка хоть куда, только вот я
никак не могу заставить его заниматься чтением и письмом. Ну не любит он
ходить в школу — это единственное, чем я недоволен. Не знаю, что такое
творится со всеми моими детьми, да и вашими тоже, мистер Понтифекс, прямо
беда, но ни один из них не любит сидеть с книжками, при том что чему-нибудь
другому они научаются быстро. Да вот взять хоть Джека — так он почти не
хуже меня управляется с баржей. — И он нежно и одобрительно взглянул на
своего отпрыска.
— Думаю, — сказал Эрнест мистеру Роллингсу, — если он захочет жениться
на Алисе, когда вырастет, то пусть женится, и у него будет столько барж,
сколько он захочет. А пока, мистер Роллингс, скажите, каким образом деньги могут
оказаться полезны вам, и, какое бы применение им вы ни нашли, они в вашем
распоряжении.
Едва ли нужно говорить, что Эрнест постарался облегчить жизнь этой
достойной пары; однако было одно условие, на котором он настаивал, а именно,
чтобы Роллингсы больше не занимались контрабандой и не позволяли
заниматься ею молодому поколению, поскольку до Эрнеста дошли слухи, что
мелкая контрабанда составляет для семейства Роллингс один из источников
дохода. Мистер Роллингс без сожалений согласился, и, полагаю, далеко в прошлое
ушли теперь те времена, когда представители береговой охраны могли
подозревать кого-то из Роллингсов в нарушении таможенных законов.
— Зачем мне забирать их оттуда? — спросил Эрнест в поезде, когда мы
возвращались домой. — Чтобы послать в школу, где они не будут и вполовину так
счастливы и где незаконнорожденность, вполне вероятно, станет для них
источником страданий? Джордж хочет работать на барже, пусть начинает, и чем
скорее, тем лучше; такое начало не хуже всякого другого. Затем, если он
хорошо проявит себя, уж я постараюсь поощрить его усилия и помочь ему; если
же он не выкажет никакого желания двигаться вперед, то к чему,
спрашивается, вообще пытаться его толкать?
Далее Эрнест, видимо, прочитал проповедь о воспитании в целом, об
особенностях стадий развития, через которые молодые люди должны пройти в
Глава 85
297
отношении денег так же, как и в отношении взросления организма — начиная
жизнь с намного более низкой общественной ступени, чем та, на которой
находятся их родители, и о многом другом, о чем он впоследствии писал; но я
постарел и остался глух к его увещеваниям; к тому же прогулка и бодрящий
воздух подействовали на меня усыпляюще, а потому, еще до того как мы миновали
на обратном пути станцию Гринхит, я погрузился в освежающий сон.
Глава 85
Эрнест почти достиг тридцати двух лет и, отдав в последние три-четыре года
дань увлечениям юности, теперь окончательно осел в Лондоне и предался
сочинительству. Он и прежде подавал изрядные надежды, но пока ничего не
создал, и прошло еще три-четыре года, прежде чем он предстал перед
широкой публикой.
Он жил, как я уже говорил, очень тихо, почти не видясь ни с кем, кроме
меня и нескольких моих старинных друзей, с которыми я поддерживал тесные
отношения в течение многих лет. Эрнест вошел в наш тесный кружок, но за его
пределами мой крестник был почти неизвестен.
Главную статью его расходов составляли путешествия, и он не отказывал
себе в удовольствии часто совершать их, но отлучался только на короткое
время. Как он ни старался, он не мог потратить больше полутора тысяч фунтов в
год; остальную часть своего дохода он разбазаривал, если ему случалось
найти дело, на которое, по его мнению, стоило потратить деньги, или откладывал,
пока не подворачивалась возможность избавиться от них с пользой.
Я знал, что он пописывает, но у нас возникало так много маленьких
разногласий относительно этого занятия, что по молчаливому уговору мы редко
затрагивали данную тему, и я понятия не имел, что Эрнест что-то там публикует,
пока как-то раз он не принес книгу и не сказал, что это его собственная. Я
открыл ее и обнаружил, что книга содержит ряд
полутеологических-полупублицистических очерков1, якобы написанных шестью-семью авторами,
рассматривающими один и тот же предмет с различных точек зрения.
Люди еще не забыли знаменитые «Опыты и обозрения», и Эрнест добавил
несколько насмешливых штрихов, по крайней мере, к двум очеркам, которые,
как смутно намекалось, принадлежали перу некоего епископа. Все очерки
выступали в поддержку Англиканской церкви и являлись по своей
подразумеваемой внутренней направленности и prima facie* цели работой полудюжины
людей сведущих и высокопоставленных, которые решили обратиться к
трудным злободневным вопросам изнутри Церкви не менее смело, чем враги
Церкви обращались к ним извне.
Там содержался очерк относительно исторических свидетельств о
воскресении Христа и другой — по поводу брачных законов самых выдающихся народов
мира во времена прошлые и настоящие; еще один очерк был посвящен рассмот-
* Букв.: на первый взгляд; здесь: лежащей на поверхности (лат).
298
Путь всякой плоти
рению многочисленных вопросов, которые нужно было вновь поднять и
пересмотреть по существу, если бы учение Англиканской церкви не ограждало их
своим авторитетом; в следующем разбирался чисто социальный предмет —
нищета среднего класса, а еще в одном — подлинность или, скорее, неподлинность
четвертого Евангелия;2 какой-то из очерков был озаглавлен «Иррациональный
рационализм», а кроме того, имелось еще два-три очерка.
Все они были написаны энергично и бесстрашно, как бы людьми,
привыкшими повелевать; во всех очерках признавалось, что Церковь претендует на то,
чтобы предписывать веру во многое из того, что не в состоянии принять никто
из людей, привыкших взвешивать доказательства; но утверждалось также, что
столь много ценных истин оказалось так тесно переплетено с ошибками, что
лучше уж эти ошибки не трогать. Придавать большое значение подобным
ошибкам значило бы то же самое, что высказывать недовольство правом
королевы на престол под тем предлогом, что Вильгельм Завоеватель3 был
незаконнорожденным ребенком.
В одной статье отстаивалась такая точка зрения: пусть и затруднительно
изменить слова в нашем молитвеннике и своде догматов, но не составило бы
труда незаметно изменить смысл, какой мы вкладываем в эти слова4.
Доказывалось, что именно это фактически делается в области права; таким образом
законодательство развивается и приспосабливается к реальности, и этот способ
во все времена признавался правильным и удобным путем для осуществления
перемен. Церкви предлагалось перенять его.
В другом очерке смело отрицалось, что Церковь покоится на разуме.
Неоспоримо доказывалось, что фундаментальной основой Церкви является и
должна являться вера, ибо в действительности не существует более незыблемой
основы, чем эта, для какого бы то ни было из человеческих верований. А коли
так, утверждал автор, то Церковь не может быть опрокинута разумом. Она
зиждется, подобно всему остальному, на исходных допущениях, то есть на вере,
а если и может оказаться опрокинута, то лишь верой — верой тех, кто в своей
жизни оказался изящнее, привлекательнее, по сути, благовоспитаннее и
способнее к преодолению трудностей. Любая секта, продемонстрировавшая свое
превосходство в этих отношениях, может вынести все, что ей предстоит, но
никакая другая не сумеет проложить себе путь на долгие времена. Христианство
было истинно в той мере, в какой способствовало развитию прекрасного и само
породило много прекрасного. А ложно оно было в той мере, в какой
способствовало развитию безобразного и само породило немало безобразия. Стало быть,
оно казалось в немалой степени истинно и в немалой степени ложно. В целом
можно удовлетвориться тем, что есть; благоразумнее всего примириться с
нынешним положением вещей и использовать его наилучшим, а не наихудшим
образом. Автор настаивал, что как только мы начинаем излишне усердствовать
в чем-либо, то неминуемо становимся гонителями, а потому делать этого не
следует; нам не следует излишне усердствовать даже в отношении того
института, который дороже автору всякого другого, — в отношении Англиканской
церкви. Мы должны быть верующими, но слегка равнодушными верующими,
поскольку те, кто слишком печется будь то о религии или безрелигиозности,
Глава 85
299
редко оказываются очень уж благовоспитанными или приятными людьми.
Сама Церковь должна подойти так близко к Лаодикийской церкви5,
насколько это совместимо с возможностью продолжать оставаться Церковью, и
каждый ее прихожанин в отдельности должен быть горяч только в стремлении
оставаться едва теплым6.
В книге звучала смелость, продиктованная как убежденностью, так и полным
отсутствием убежденности; казалось, ее сочиняли люди, которые
руководствовались эмпирическими принципами, держась между раболепием, с одной стороны,
и легковерием — с другой; которые без колебаний разрубали гордиевы узлы,
когда им это было удобно; которые не боялись никакого теоретического
вывода и никакого отсутствия практической логики, поскольку проявляли
нелогичность умышленно и ради того, что считали достаточной причиной. Выводы были
сделаны консервативные, успокоительные, утешительные. Аргументы,
посредством которых ошг достигались, оказались позаимствованы у наиболее
передовых авторов современности. Все, за что эти люди боролись, признавалось
справедливым, но плоды победы по большей части отдавались власть имущим.
Фрагмент, привлекший наибольшее внимание в этой книге, содержался,
пожалуй, в очерке относительно различных систем брака, существующих в
мире. Вот этот фрагмент:
Если от нас потребуется (восклицал автор) созидательная деятельность, то в
качестве краеугольного камня нашего здания мы заложим благовоспитанность.
Мы хотим, чтобы она всегда сознательно или бессознательно присутствовала в
умах всех людей в качестве главного предмета веры, с которой они должны
жить, двигаться и существовать7 — в качестве пробного камня для всех вещей,
посредством коего их можно разделить на хорошие и дурные, в зависимости от
того, способствуют они хорошему воспитанию или мешают ему.
Мужчина должен быть благовоспитан и воспитывать своим примером других;
его фигура, голова, руки, ноги, голос, манеры и одежда должны быть
показательны в этом отношении, так чтобы всякий при взгляде на него видел, что он
происходит из хорошего рода и способен сам породить хороший род — таково
desideratum*. И то же касается женщин. Как можно больше таких
благовоспитанных мужчин и женщин и как можно более полное счастье таких мужчин и
женщин и есть высочайшее благо;8 всякое правительство, всякие общественные
установления, всякое искусство, литература и наука должны прямо или
косвенно служить этому. Святые мужчины и святые женщины — те, кто во всякое время
бессознательно держится этой веры в часы как труда, так и досуга.
Если бы Эрнест издал это произведение под собственным именем, я
склонен думать, что оно попало бы в категорию мертворожденных публикаций, но
форма, которую он выбрал, была рассчитана в данном случае на то, чтобы
возбудить любопытство, и, как я говорил, он обронил ряд насмешливых
намеков, сделать которые, по мнению рецензентов, достало бы дерзости лишь ка-
* желаемое (лат).
300
Путь всякой плоти
кому-нибудь епископу9 или, во всяком случае, кому-то, наделенному немалой
властью. Говорили, что одним из авторов выступил известный судья, а вскоре
распространился слух, что шесть или семь ведущих епископов и судей
объединили усилия, чтобы выпустить данное издание, которое должно было превзойти
«Очерки и обозрения» и противодействовать влиянию этого по-прежнему
знаменитого сборника.
Рецензентам свойственны те же страсти, что и нам, и им, как и всем другим,
omne ignotum pro magnifico*'10. Книга была действительно талантливой и
отличалась юмором, справедливой сатирой и здравым смыслом. Она задела какую-
то новую струну, а предположения, некоторое время ходившие относительно
ее авторства, заставили заинтересоваться ею многих из тех, кто никогда и не
обратил бы на нее внимания при иных обстоятельствах. Один из наиболее
склонных к преувеличениям еженедельников в припадке восторга объявил ее
самым прекрасным произведением, изданным со времен «Писем к
провинциалу»11 Паскаля. Примерно раз в месяц этот еженедельник всегда находил
какую-нибудь картину прекраснейшей из всех созданных со времен старых
мастеров, или какую-нибудь сатиру прекраснейшей из всего, что появлялось со
времен Свифта12, или что-нибудь еще, что было несравнимо прекраснее всего,
что появлялось со времен чего-либо еще. Если бы Эрнест поместил свое имя
на обложке книги, а критик знал, что автор — никто и звать его никак,
рецензия, несомненно, приняла бы совсем другой оборот. Рецензентам нравится
думать, что они превозносят какого-нибудь герцога или даже принца крови, и они
разливаются соловьями, пока не узнают, что хвалили всего лишь какого-то
Брауна, Джонса или Робинсона. Тогда у них наступает разочарование, и, как
правило, расплачиваться за него приходится Брауну, Джонсу или Робинсону.
Эрнест не был столь искушен в делах литературного мира, как я, и, боюсь,
у него немного закружилась голова, когда однажды утром он проснулся
знаменитым. Он был сыном Кристины и, возможно, не смог бы сделать того, что
сделал, если бы не обладал способностью впадать временами в чрезмерный
энтузиазм13. Вскоре, однако, он разобрался в том, как устроена литературная
среда, и спокойно уселся писать книги, в которых настойчиво стремился сказать то,
чего никто другой не захотел бы сказать, даже если б мог, или не смог бы, даже
если б захотел.
Он приобрел дурную репутацию в литературном мире. Я сказал ему как-то
со смехом, что он напоминает того деятеля прошлого столетия, о ком
говорили, что только такая плохая репутация может мешать успеху таких талантов14.
Он засмеялся и ответил, что скорее предпочитает походить на того
деятеля, чем на некоторых известных ему современных авторов, чьи таланты
настолько жалки, что их может поддержать только устоявшаяся репутация.
Помнится, вскоре после издания одной из его книг мне случилось
встретиться с миссис Джуп, которой, между прочим, Эрнест выплачивал маленькое
еженедельное содержание. Встреча произошла в квартире Эрнеста, и по какой-
то причине мы оказались на несколько минут наедине. Я сообщил:
* все неведомое кажется особенно драгоценным [лат.).
Глава 86
301
— Мистер Понтифекс написал еще одну книгу, миссис Джуп.
— О Господи, — воскликнула она, — да неужели?! Вот молодец! Она про
любовь?
И старая греховодница бросила на меня шаловливый взгляд из-под своих
старческих век. Я забыл, что было в моем ответе такого, что послужило тому
причиной, — вероятно, ничего, но она вдруг принялась тараторить о том, что
Б элл дал ей билет в оперу.
— Ну и конечно, — продолжала она, — я пошла. Не поняла там ни слова, все
ж было по-французски, но я видела их ноги. Бог ты мой! Боюсь, мне недолго
уж осталось, и, когда милый мистер Понтифекс увидит меня в гробу, то
скажет: «Бедная старушка Джуп, больше она никогда не выпалит никакой
непристойности». Но, ей-богу, я вовсе не такая уж и старая и беру уроки танцев.
В этот момент вошел Эрнест, и беседа потекла в другом направлении.
Миссис Джуп спросила, продолжает ли он еще писать книги, после того как
покончил с этой.
— Конечно, — ответил он, — я все время пишу книги; вот рукопись
следующей. — И показал ей стопку исписанной бумаги.
— Вот оно что! — воскликнула она. — Подумать только, так это и есть
рукопись? Я часто слыхала разговоры насчет рукописей, но никогда не думала, что
доживу до того, чтоб самой увидеть хоть одну. Ну и ну! Ну и ну! Так это в
самом деле рукопись?
На подоконнике стояла герань, и вид у нее был неважнецкий. Эрнест
спросил миссис Джуп, разбирается ли она в цветах.
— Я понимаю язык цветов, — сказала она с одним из своих самых
пленительных лукавых взглядов, и на этом мы отослали ее до той поры, пока она не
решит почтить нас еще одним визитом, которые, как она знала, ей
предоставлена привилегия время от времени наносить, поскольку Эрнесту она нравится.
Глава 86
А теперь я должен привести свой рассказ к завершению.
Предшествующая глава была написана вскоре после описываемых в ней
событий, то есть весной 1867 года. К тому времени моя история дошла до
указанного момента, однако иногда в нее вносились некоторые изменения. Теперь
осень 1882 года, и если я хочу сказать что-то еще, то следует поторопиться, ибо
сейчас мне восемьдесят и, хотя я еще бодр, все же не могу скрывать от себя,
что уже не молод. Эрнесту нынче сорок семь, но он выглядит моложе.
Он богаче, чем прежде, поскольку так больше и не женился, а стоимость
принадлежащих ему акций банка «Лондон и Северо-Запад» выросла почти
вдвое. Из-за полного неумения тратить деньги он вынужден их копить. Эрнест
по-прежнему живет в районе Темпла, в той же квартире, которую я снял для
него, когда он оставил свою лавку, и никто так и не смог уговорить моего
крестника купить дом. Его дом, говорит он, везде, где есть хорошая гостиница. Когда
он в городе, то любит спокойно работать. Когда уезжает из города, то знает, что
302
Путь всякой плоти
не оставил там ничего, о чем стоит беспокоиться, да и не хочет быть
привязанным к одному и тому же месту. «Мне неизвестны, — говорит он, — исключения
из правила, гласящего, что дешевле покупать молоко, чем держать корову».
Поскольку я упоминал миссис Джуп, то скажу здесь то немногое, что
остается сказать о ней. Теперь она очень стара, но никто из ныне живущих,
победоносно заявляет она, не может назвать ее возраст, так как товарка с Олд-Кент-
роуд умерла и, по-видимому, унесла эту тайну в могилу. И все же, сколько бы
лет миссис Джуп ни было, живет она все в том же доме и с трудом сводит
концы с концами, но непохоже, чтобы она чересчур сетовала по этому поводу, к
тому же нужда не позволила ей пристраститься к выпивке сильнее, чем это
пошло бы ей на пользу. Нет смысла пытаться сделать для нее что-нибудь, кроме
как выплачивать еженедельное содержание и наотрез отказывать в выдаче этих
денег раньше назначенного срока. Каждую субботу она закладывает свой утюг
за четыре пенса, а каждый понедельник утром, получив денежное пособие,
забирает за четыре с половиной, и продолжается так в течение последних
десяти лет с той же регулярностью, с какой одна неделя сменяет другую. Пока
старуха не позволяет утюгу окончательно уйти из рук, мы знаем, что она еще
в состоянии справиться с финансовыми трудностями при помощи своего
тайного метода, и лучше все оставить так, как есть. Если бы утюг остался
невыкупленным, мы бы поняли, что настало время вмешаться. Не знаю почему, но есть
в ней что-то, что всегда напоминает мне о той женщине, которая была так на
нее не похожа, как только может один человек быть не похож на другого, —
я имею в виду мать Эрнеста.
Последний раз мы с миссис Джуп долго толковали где-то года два назад,
когда она пришла ко мне, вместо того чтобы пойти к Эрнесту. Она сказала, что
видела, как в ту самую минуту, когда она собиралась подняться по лестнице,
подъехал кеб, и заметила, что из окна высунулась голова этого старого
Вельзевула, папаши мистера Понтифекса. Она направилась ко мне, поскольку не
собиралась отвешивать поклоны таким, как он. Миссис Джуп сообщила, что
оказалась совсем на мели. Ее квартиранты обошлись с ней ужасно, съехали, не
заплатив, оставили после себя лишь какой-то хлам, но сегодня она
рада-радешенька. У нее был такой прекрасный обед — кусок ветчины с зеленым
горошком. Она поплакала по этому поводу, называя себя такой глупышкой, такой
глупышкой.
— Ох уж этот Б элл, — продолжала она, хотя я не мог обнаружить ни
малейших признаков связи с предыдущим, — да тут на любого тоска найдет,
поглядевши, как он взялся по церквам таскаться, у самого мать на ладан дышит, и
все такое на мою голову, а теперича она и не собирается умирать, и пьет по
полбутылки шампанского в день. А тут Григг, тот, что всех поучает, знаете ли,
спрашивал Бэлла, правда ли, что я была беспутная, ну я-то, когда была
молоденькая, не очень-то чванилась насчет какого-нибудь типчика в Холборне1, да
и теперь, коли б мне принарядиться да будь у меня зубы, я б показала, на что
годна. Лишилась я моего бедняжки Уоткинса, тут, конечно, ничего не
поделаешь, но я ж еще потеряла и мою славную Розу. Глупая бабенка возьми да и
вздумай проехаться в открытой коляске, да подхвати бронхит. Вот уж не ду-
Глава 86
303
мала, когда целовала мою голубку Розу в Пассаже2 Пуллена и она меня в
ответ, что никогда больше ее не увижу, и дружок-джентльмен уж так любил ее,
а был ведь женатый человек. Теперь от нее небось одни косточки остались.
Коли б она могла подняться да увидеть, как мне тут тяжко приходится, то уж
точно заплакала б, а я бы сказала: «Не бери в голову, лапочка, со мною все в
порядке». О Господи! Вот те на, кажется, дело к дождю. Как ненавижу я эту
слякоть в субботние вечера: бедняжки в чистеньких белых чулочках, им же
надо зарабатывать на жизнь... — И т. д., и т. п.
И все же над этой старой греховодницей не властвуют годы3, как следовало бы
ожидать. Какую бы жизнь она ни вела, ей всякий раз удавалось оказываться с нею
вполне в ладах. Время от времени она дает нам понять, что ее все еще домогаются,
а иной раз берет совсем другой тон. Она не позволила, мол, за эти десять лет даже
Джо Кингу прикоснуться губами, уж лучше съесть отбивную котлету.
— Но ах! Видели бы вы меня, когда я была в расцвете юности. Я была точь-
в-точь как моя бедная милая матушка, а она была хорошенькая, хоть и не
следовало б мне об этом говорить. У нее был полон рот роскошных зубов. Это был
просто грех — похоронить ее с этакими-то зубами.
Мне известно только об одной вещи, которая, по признанию миссис Джуп,
ее возмущает: ее сын Том со своей женой Топси учат ребенка ругаться.
— Ох, это просто страх и ужас какой-то! — воскликнула она. — Уж не знаю,
что те слова значат, но говорю ему, что он пьяница несчастный.
Думаю, на самом деле старухе это скорее нравится.
— Но ведь, миссис Джуп, — сказал я, — жена Тома когда-то была не Топси.
Вы обычно называли ее Фиб.
— Ах да! — ответила она. — Но Фиб вела себя плохо, и теперь у него Топси.
Дочь Эрнеста Алиса больше года назад вышла замуж за того паренька,
который был ее другом детства. Эрнест дал им все, что, как они сказали, им
нужно, и намного больше. Они уже подарили ему внука и, не сомневаюсь,
подарят еще многих. Джордж, хотя ему только двадцать один год, уже владелец
прекрасного парохода, который купил ему отец. Лет с тринадцати он начал со
старшим Роллингсом и Джеком перевозить на барже кирпичи от Рочестера
вверх по Темзе, затем отец купил ему и Джеку баржи, потом — парусные суда
и, наконец, пароходы. Я точно не знаю, как люди зарабатывают деньги, имея
пароход, но Джордж делает то, что делают обычно, и, насколько мне
известно, умеет заставить пароход приносить отличный доход. Он очень похож
лицом на отца, но не имеет ни искры — насколько я мог заметить — каких-либо
литературных способностей; у него хорошее чувство юмора и бездна здравого
смысла, но он, безусловно, прирожденный практик. Пожалуй, он чуть ли не
больше напоминает мне Теобальда, будь тот моряком, чем Эрнеста.
Пока Теобальд был жив, Эрнест обычно два раза в год на несколько дней
приезжал в Бэттерсби навестить отца, и оба оставались в превосходных
отношениях, несмотря на «ужасные книги, которые написал мистер Эрнест Понтифекс»,
по выражению окрестного духовенства. Возможно, согласие или, вернее,
отсутствие разногласий между ними было следствием того, что Теобальд так
никогда и не заглянул ни в одну из книг своего сына, а Эрнест конечно же никогда не
304
Путь всякой плоти
упоминал о них в присутствии отца. Они, как я уже сказал, отлично ладили, но
несомненно также, что визиты Эрнеста были коротки и не слишком часты.
Однажды Теобальд захотел, чтобы Эрнест привез своих детей, но Эрнест знал,
что это им не понравится, а потому желание отца не было исполнено4.
Иногда Теобальд приезжал в город по каким-нибудь делам и заходил к
Эрнесту; обычно он привозил пару пучков салата, или капусту, или
полдюжины реп, завернутых в оберточную бумагу, и говорил Эрнесту, что знает, как
трудно достать свежие овощи в Лондоне, и вот он привез ему немного. Эрнест
часто объяснял отцу, что у него нет нужды в этих овощах и что отцу не
нужно их привозить, но Теобальд упорствовал — полагаю, из явной любви делать
то, что не нравится сыну, однако это была такая мелочь, что ее не стоило
замечать.
Теобальда не стало с год назад. Он умер однажды утром в своей постели,
перед этим написав сыну следующее письмо:
Дорогой Эрнест!
Мне особенно не о чем писать, но твое послание несколько дней
пролежало среди неотвеченных писем под сукном, то есть в моем кармане, и настало
время на него ответить.
Я чувствую себя замечательно и в состоянии без труда пройти свои пять-шесть
миль, но в моем возрасте никогда не знаешь, как долго это продлится, а время
летит быстро. Все утро я был занят пересадкой растений, но день сырой.
Что это мерзкое правительство собирается делать с Ирландией?5 Я вовсе не
желаю, чтобы они взорвали6 мистера Гладстона7, но, если бы какой-нибудь
бешеный бык настиг его там и он никогда больше не вернулся и так там бы и
остался, я не стал бы жалеть. Лорд Хартингтон8 не совсем тот человек, которого я
хотел бы видеть на его месте, но он будет неизмеримо лучше, чем Гладстон.
Не могу выразить, как мне не хватает твоей сестры Шарлотты, ведь она вела
домашние счета и я мог излить ей все свои маленькие печали, а теперь, когда
Джо тоже обзавелся семьей, не знаю, что бы я делал, если бы кто-нибудь из них
не приезжал иногда и не заботился обо мне. Мое единственное утешение, что
Шарлотта сделает своего мужа счастливым и что он почти настолько достоин
ее, насколько это вообще возможно.
Остаюсь твой любящий отец,
Теобальд Понтифекс
Замечу мимоходом, что, хотя Теобальд говорит о браке Шарлотты как о
чем-то недавнем, в действительности она вышла замуж лет за шесть до того;
она тогда приближалась к тридцати восьми годам, а ее муж был лет на семь
моложе.
Нет сомнений, что Теобальд мирно ушел из жизни во время сна. Можно ли
о человеке, умершем таким образом, вообще сказать, что он умирал? Он явил
факт смерти другим людям, но в отношении самого себя он не только не
умирал, но даже не успел подумать, что умирает. Это не больше, чем полусмерть,
но ведь и жизнь его была не больше, чем полужизнь. Правда, он явил так много
Глава 86
305
фактов жизни, что, полагаю, в целом менее затруднительно считать его
жившим, нежели никогда вообще не рождавшимся, но это возможно единственно
потому, что ассоциация не удерживается в строгих пределах своих связей.
Однако общий вердикт относительно него был не таким, а общий вердикт
зачастую — самый правильный.
На Эрнеста посыпались соболезнования и изъявления уважения к памяти
его отца.
— Он никогда не сказал ни о ком дурного слова, — заметил доктор Мартин,
старый доктор, который помог Эрнесту прийти в этот мир. — Он был не
просто любим, а горячо любим всеми, кто с ним когда-либо сталкивался.
— Мне никогда не доводилось встречать более безукоризненно честного и
порядочного человека, — сказал поверенный семейства, — и более пунктуального в
исполнении любого делового обязательства. Нам будет очень недоставать его.
А епископ прислал Джо соболезнования, составленные в самых теплых
выражениях. Бедняки прихода горевали. «По колодцу не затоскуют, —
сказала одна старушка, — пока он не пересохнет», — и этими словами выразила
всеобщее чувство. Эрнест знал, что охватившая всех печаль была неподдельной,
как в случае утраты, которую невозможно легко восполнить. Он сознавал, что
только три человека на свете неискренне присоединились к хору восхищения,
и это были именно те трое, которые менее всех могли показать отсутствие
скорби. Я имею в виду Джо, Шарлотту и самого Эрнеста. Он ужасно злился на себя
за то, что его чувства в кои-то веки совпадали с чувствами Джо и Шарлотты,
и был рад необходимости скрывать это совпадение насколько возможно. Он не
испытывал скорби не из-за обид, которые отец ему нанес, — эти обиды были
слишком стары, чтобы помнить о них теперь, — а потому, что тот никогда не
позволял сыну испытывать по отношению к родителю те чувства, которые
Эрнест всегда пытался в себе найти. Покуда отношения ограничивались самыми
будничными делами, все шло хорошо, но стоило хоть чуть-чуть отступить от
них, как Эрнест неизменно ощущал, что инстинкты отца вступают в прямое
противоречие с его собственными. Когда на сына нападали, отец придавал
особое значение всему, что говорили критики; если сын наталкивался на
какое-нибудь препятствие, отец испытывал явное удовольствие. Старый доктор был
прав, утверждая, что Теобальд не сказал дурного слова ни об одном человеке.
Это, однако, не распространялось на Эрнеста, и он очень хорошо знал, что
никто скрытым образом не вредил его репутации больше, насколько
отваживался это делать, чем его собственный отец. Случай распространенный и вполне
естественный. Часто случается, что если сын прав, а отец нет, то отец и не
подумает признать это, коль скоро сможет избежать такого признания.
Однако очень трудно сказать, в чем подлинный корень зла в данном случае.
Дело совсем не в том, что Эрнест когда-то попал в тюрьму. Теобальд и думать
забыл об этом гораздо скорее, чем забыли бы девять отцов из десяти.
Частично, без сомнения, причина заключалась в несовместимости характеров, но,
полагаю, главным источником недовольства отца служил тот факт, что Эрнест
стал так независим и богат, будучи еще очень молодым, и что в результате
пожилой джентльмен лишился возможности донимать и изводить сына, на что,
306
Путь всякой плоти
как он считал, имеет право. Свойственная Теобальду любовь к мелкому
тиранству, которому он предавался, когда видел, что может делать это без риска для
себя, оставалась частью его характера с той поры, когда он сказал своей няне,
что нарочно не отпустит ее, чтобы помучить. Полагаю, то же самое
происходит со всеми нами. Во всяком случае, я уверен, что большинство отцов,
особенно если они — священники, похожи на Теобальда.
Убежден, что в действительности Теобальд любил Джо или Шарлотту ни
на каплю не больше, чем Эрнеста. Теобальд не любил никого и ничего, а если
и любил хоть кого-то, то разве что своего дворецкого, который ухаживал за
ним, когда он был нездоров, всячески заботился о нем и считал самым лучшим
и самым умным человеком на свете. Продолжал ли преданный и верный
слуга думать так же после того, как было вскрыто завещание Теобальда и
обнаружилось, какого рода наследство ему досталось, я не знаю. Из своих детей
лишь того младенца, который умер одного дня от роду, Теобальд считал
единственным, кто отнесся к нему вполне по-сыновнему. Что касается Кристины, то
он едва даже делал вид, будто тоскует по ней, и никогда не упоминал ее
имени; впрочем, это признавалось доказательством того, что он слишком остро
переживает утрату, чтобы быть в состоянии говорить о ней. Возможно, что и
так, но не думаю.
Вещи Теобальда ушли с аукциона, и среди них «Гармония Ветхого и Нового
Заветов», которую он составлял в течение многих лет с исключительной
аккуратностью, а также огромное собрание рукописных проповедей —
составлявших фактически все когда-либо им написанное. За тележку проповедей и
такую же по объему «Гармонию» выручили по девять пенсов. Я удивился, узнав,
что Джо не выделил трех-четырех шиллингов, чтобы купить все разом, но
Эрнест сказал мне, что Джо питал гораздо более лютую ненависть к отцу, чем
когда-либо испытывал он сам, и хотел избавиться от всего, что напоминало о
нем.
К тому времени, как говорилось, и Джо и Шарлотта уже обзавелись
супругами. У Джо есть дети, но Джо с Эрнестом видятся и переписываются очень
редко. Разумеется, Эрнест не получил по завещанию отца ничего; это
ожидалось, так что его брат и сестра оказались хорошо обеспечены.
Шарлотта умна, как всегда, и иногда приглашает Эрнеста в окрестности
Дувра навестить ее с мужем, так как, полагаю, знает наверняка, что
приглашение не будет принято. Тон всех ее писем de haut en bas*. Довольно трудно
установить причину этого, но всякий раз, когда Эрнест получает от нее письмо, у
него возникает ощущение, что оно написано особой, вступившей в
непосредственное общение с ангелом. «Каким ужасным существом, — однажды сказал
он мне, — по-видимому, был тот ангел, если он как-то причастен к тому, что
Шарлотта сделалась такой, какова она есть».
«Неужели тебе не нравится мысль, — написала она ему недавно, — пожить
немного для разнообразия на берегу моря? Вершины скал скоро расцветятся
* высокомерен (фр.).
Глава 86
307
вереском — утесника, наверное, уже не будет, а вереск, думаю, как раз появится,
если судить по состоянию холма в Ивэлле. Однако, с вереском или без
вереска, утесы всегда красивы, и, если ты приедешь, у тебя будет уютная комната,
так что ты сможешь иметь собственный уголок для отдохновения.
Девятнадцать шиллингов шесть пенсов — цена билета туда и обратно, он действителен
месяц. Пожалуйста, решай, как хочешь, только, если ты приедешь, надеюсь, мы
постараемся и устроим тебя как следует; но тебя не должно тяготить чувство
вины, если ты не испытываешь желания заглянуть в наши края».
— Когда у меня случаются кошмары, — сказал Эрнест со смехом, показывая
мне это письмо, — мне снится, что я должен побывать в гостях у Шарлотты.
Считается, что она необычайно хорошо пишет письма, и, полагаю, в семье
говорили, что у Шарлотты гораздо больше настоящих литературных
способностей, чем у Эрнеста. Иногда мы думаем, что она пишет ему только для того,
чтобы заявить: «Вот тебе — не воображай, будто ты единственный из нас, кто
умеет писать; почитай-ка это! А если тебе нужен эффектный образец
описательного стиля для твоей следующей книги, можешь пользоваться этим письмом
как тебе угодно». Пожалуй, пишет она очень хорошо, но подпадает под власть
слов «надеяться», «думать», «казаться», «стараться», «блестящий», «немного» и
едва ли может написать страницу без того, чтобы не всунуть все эти слова, а
некоторые из них и не по одному разу. Из-за всего этого ее стиль производит
впечатление монотонного.
Эрнест любит музыку, как и прежде, и, пожалуй, даже сильнее, а в последние
годы добавил к другим своим увлечениям сочинение музыки. Он все еще
находит это занятие несколько трудным и постоянно сталкивается с проблемой, как,
начав в тональности до-мажор, перейти в до-диез, а затем вернуться обратно.
— Переход в тональность до-диез, — говорит он, — подобен беззащитной
женщине, путешествующей по столичной железной дороге и оказавшейся в
Шепердс-Буш без какого-либо точного представления о том, куда ей нужно
ехать. Как ей благополучно вернуться к железнодорожному узлу Клепем-
Джанкшн?9 Да и Клепем также не будет спасением, поскольку Клепем
подобен уменьшенной септиме10, способной к таким энгармоническим заменам11, что
ее можно разрешить любым из возможных музыкальных окончаний.
Раз уж речь зашла о музыке, то мне вспоминается небольшая беседа, не так
давно имевшая место между Эрнестом и мисс Скиннер, старшей дочерью
доктора Скиннера. Доктор Скиннер давно оставил Рафборо и стал настоятелем
собора в одном из наших центральных графств; это положение идеально ему
подходит. Находясь однажды в тех местах, Эрнест заглянул к нему как к
старому знакомому и был гостеприимно приглашен на завтрак.
Тридцать лет выбелили густые брови доктора; его волосы они не могли
выбелить. Полагаю, если бы не этот парик, он мог бы сделаться епископом.
Его голос и манеры ничуть не изменились, и, когда Эрнест, заметив план
Рима, висевший в прихожей, неосторожно упомянул Квиринал12, доктор
отозвался со всей своей обычной напыщенностью: «Да уж, Квиринал, или, как я
предпочитаю называть его, Квиринал». После этого триумфа он сделал глубо-
308
Путь всякой плоти
кий вдох уголками рта и выдохнул в лицо небесам, как делал в пору своего
директорства, находясь в самом прекрасном расположении духа. За завтраком
он даже произнес один раз: «Едва ли возможно представить что-либо другое»,
но тут же поправился: «Едва ли возможно придерживаться столь неадекватных
реальности идей» — после чего, казалось, почувствовал себя намного удобнее.
Эрнест увидел знакомые издания трудов доктора Скиннера на книжных
полках в гостиной, но не заметил ни одного экземпляра сочинения «Католичество
или Библия: что из двух?».
— А вы так же по-прежнему любите музыку, мистер Понтифекс? — спросила
мисс Скиннер Эрнеста за завтраком.
— Музыку определенного рода, да, мисс Скиннер, но, знаете ли, я никогда
не любил современную музыку.
— Неужели она так ужасна? Не думаете ли вы, что вам бы следовало?.. —
Она собиралась добавить «любить ее», но оставила эти слова несказанными,
сочтя, несомненно, что вполне передала желаемый смысл.
— Я любил бы современную музыку, если б мог; всю жизнь я пытался
полюбить ее, но, чем старше становлюсь, тем меньше мне это удается13.
— И с каких же пор, по-вашему, начинается современная музыка?
— Со времен Себастьяна Баха.
— Так вы не любите Бетховена?
— Нет. Мне думалось, что люблю, когда я был моложе, но теперь понимаю,
что никогда по-настоящему не любил его.
— Ах, как вы можете так говорить? Вам просто не удается понять его, вы
никогда не говорили бы так, если бы поняли его. Для меня одного аккорда
Бетховена достаточно. Это блаженство.
Эрнест изумился поразительному фамильному сходству дочери с отцом —
сходству, которое увеличивалось по мере того, как она становилась старше, и
распространялось даже на интонации ее голоса и манеру речи. Он вспомнил,
как я рассказывал ему о моей игре в шахматы с доктором в дни минувшие, и
внутренним слухом, казалось, услышал, как мисс Скиннер произносит, словно
эпитафию:
Остановись!
Я вскоре смогу насладиться
Простым аккордом Бетховена
Или малой шестнадцатой
Из одной из «Песен без слов»
Мендельсона.
После завтрака, когда Эрнест примерно на полчаса остался с настоятелем
один на один, он так славно попотчевал старого джентльмена комплиментами,
что тот был польщен и доволен сверх своего обыкновения. Он поднялся и
поклонился.
* В своей обычной манере [лат).
Глава 86
309
— Эти признания, — произнес он voce sua*, — очень ценны для меня.
— Они лишь малая часть того, сэр, — ответил Эрнест, — что любой из ваших
прежних учеников должен чувствовать к вам.
И оба исполнили, так сказать, менуэт у края обеденного стола перед
старинной нишей с окном, выходящим на ровно подстриженную лужайку. После
этого Эрнест удалился; но несколько дней спустя доктор прислал ему письмо со
словами, что его критики cjxXiqpol xocl àvmurcot**, но в то же время avexrcXriXTOi***.
Эрнест помнил, что означает ахХт)ро£, и думал, что и остальные слова
примерно в том же духе, стало быть, все в порядке. Через месяц-другой доктор Скин-
нер отошел к праотцам.
— Он был старый дурак, Эрнест, — сказал я, — и ты не должен был
смягчаться к нему.
— Я ничего не мог с этим поделать, — ответил мой крестник, — он был так
стар, что это было все равно, что играть с ребенком.
Подобно всем деятельным умам, Эрнест порой перегружает себя работой
и тогда, случается, во сне вступает в жестокие и постыдные стычки с доктором
Скиннером или Теобальдом, но никаким другим образом ни одна из сих
достойных персон более не может досаждать ему.
Для меня же он всегда был сыном и больше чем сыном; есть некоторые
опасения, что временами — как, пример, во время серьезного разговора о его
книгах — я, возможно, больше похожу на отца, чем следует; если это так,
надеюсь, он прощает меня. Его книги — единственное яблоко раздора между
нами. Мне хочется, чтобы он писал как другие люди, а не оскорблял чувств
стольких своих читателей, а он говорит, что может изменить манеру письма не
больше, чем цвет волос, и должен писать именно так, как пишет, или не писать
вовсе.
Он не относится к числу любимцев публики. У него признают наличие
таланта, но, как правило, считают, что талант этот странного, непрактичного
свойства, и, как бы Эрнест ни был серьезен, его всегда обвиняют в том, что он
насмешничает. Его первая книга имела успех по причинам, которые я уже
объяснял, но все остальные оказались не более чем почетным провалом. Он из
тех злополучных авторов, над каждой книгой которых литературные критики
глумятся по ее выходе в свет, но затем пишут, что эта книга «превосходно
читается», как только за ней последует новое сочинение, которое можно в свой
черед осудить.
Ни разу в жизни Эрнест не пригласил какого-нибудь рецензента на обед. Я
твердил ему, что это безумие, и обнаружил, что из всех моих замечаний лишь
эти способны его рассердить.
— Какое мне дело, — говорит он, — читают люди мои книги или нет? Это их
дело, а у меня слишком много денег, чтобы мне захотелось иметь еще больше;
если же в книгах есть что-то стоящее, оно со временем окажет свое действие.
* своим голосом (лат.).
* суровы и резки (греч.).
'* несгибаемы (греч.).
310
Путь всякой плоти
Я не знаю, да и не очень интересуюсь тем, хороши они или нет. Может ли
нормальный человек судить о своей собственной работе? Некоторые люди
неизбежно пишут глупые книги, как неизбежно существуют последние ученики в
школе и те, кто с трудом вырывает диплом в университете. Почему я должен
роптать, если окажусь в числе посредственностей? Пусть человек радуется, если
он не ниже уровня самой последней посредственности, а кроме того, книгам
предстоит когда-нибудь самим постоять за себя, так что, чем скорее они
начнут, тем лучше.
Недавно я беседовал о нем с его издателем14.
— Мистер Понтифекс, — сказал он, — homo unius libri*, но нет смысла
говорить ему это.
Я понял, что издатель, который, по всей видимости, смыслил в своем деле,
потерял всякую веру в литературное будущее Эрнеста и смотрит на него как на
человека, чей провал еще безнадежнее оттого, что некогда ему уже повезло.
— Он в положении одиночки, мистер Овертон, — продолжал издатель, — он
не вступил ни в какие союзы и нажил себе врагов не только в церковном мире,
но и среди собратьев — литераторов и ученых. В наше время так нельзя. Если
человек хочет добиться успеха, он должен принадлежать к какому-нибудь
кружку, а мистер Понтифекс не принадлежит ни к какому кружку и даже не
вступил ни в какой клуб.
Я ответил:
— Мистер Понтифекс — точная копия Отелло, но с одним отличием — он
ненавидит неразумно, но безмерно15. Он испытал бы неприязнь к светилам
литературы и науки, доведись ему узнать их, а они прониклись бы неприязнью
к нему; между ним и ими нет никакой естественной общности, и, если бы он
завязал с ними отношения, ему в итоге стало бы только хуже. Чутье
подсказывает ему это, а потому он держится от них в стороне и критикует их всякий раз,
когда считает, что они того заслуживают, — возможно, в надежде, что более
молодое поколение станет слушать его охотнее, чем нынешнее.
— Можно ли вообразить, — сказал издатель, — что-нибудь более
непрактичное и неблагоразумное?
На все это Эрнест отвечает лишь одним словом:
— Подождем.
Так обстоят дела с моим другом в настоящее время. Сейчас, правда,
маловероятно, чтобы он рискнул взяться за основание колледжа духовной
патологии, но я предоставляю читателю самому решать, нет ли сильного сходства
между Эрнестом времен колледжа духовной патологии и Эрнестом, который
упорно обращается к будущему поколению, а не к своему собственному. По его
словам, он надеется, что нет, и надлежащим образом раз в год причащается в
порядке подношения Немезиде, чтобы снова не начать слишком упорствовать
в чем-либо. Это довольно-таки утомляет его, но ни за одно из мнений, говорит
он порой, не стоит цепляться, разве что знаешь, как легко и изящно отвергнуть
* автор одной книги [лат.).
Глава 86
311
их при случае во имя любви к ближнему. В политике он консерватор, когда
дело касается его права голоса и имущественного права. Во всех других
отношениях — прогрессивный радикал. Отцу и деду его направление мыслей было
бы, вероятно, не более понятно, чем китайская грамота, но те, кто близко его
знает, вряд ли захотят, чтобы Эрнест слишком отличался от того, каков он
сейчас.
■
H
ш
m
m
mm
m
mm
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
ДОПОЛНЕНИЯ
И. И. Чекалов
АВТОРСКАЯ РУКОПИСЬ «ПУТИ ВСЯКОЙ ПЛОТИ»
И ПРОБЛЕМА АУТЕНТИЧНОСТИ ТЕКСТА
БАТЛЕРОВСКОГО РОМАНА
Рукопись романа, оставшаяся после смерти Батлера, была озаглавлена автором: «Эрнест
Понтифекс, или Путь всякой плоти: История английской семейной жизни» (Ernest
Pontifex, or The Way of All Flesh: A Story of English Domestic Life). P.А. Стретфилд,
душеприказчик и первый издатель романа, сократил название, а также произвел
редакторскую правку текста. В таком виде появилась посмертная публикация романа (см.: Butler S.
The Way of All Flesh. L: Grant Richards, 1903).
На протяжении более шестидесяти лет текст первой публикации «Пути всякой
плоти» воспроизводился без изменений во всех изданиях романа, в том числе и в
авторитетном двадцатитомном «Собрании сочинений Самуэля Батлера», подготовленном при
участии Фестинга Джонса, близкого друга и биографа писателя (см.: The Collected
Works of Samuel Butler: Definitive Edition in 20 vol. / Ed. H. FestingJones and A.-T.
Bartholomew. L., 1923-1926).
В 1964 г. американский исследователь Даниэл Ф. Хауэрд, изучив авторскую
рукопись, хранящуюся в Британской библиотеке (Лондон), и выявив ее разночтения с
обычно печатаемым текстом, опубликовал роман с учетом своих текстологических
разысканий (см.: Ernest Pontifex, or The Way of All Flesh by Samuel Butler/Ed., introduction and
notes by Daniel F. Howard, Rutgers University. Boston: Houghton Mifflin Company: The
Riverside Press Cambridge, 1964).
Основываясь на этой научной публикации, Роджер Робинсон выпустил в 1976 г. в
серии «Всеобщие книги» «первое рассчитанное на массового читателя издание романа,
впервые публикующее собственную версию автора»1. Однако другие издатели «Пути
всякой плоти» не последовали примеру Робинсона, и батлеровский роман продолжал
печататься в стретфилдовской редакции с той только разницей, что в ряде случаев, хотя
и не во всех, к основному тексту стали добавлять материал, извлеченный из
публикации Хауэрда.
За подобной неоднозначностью позиции издателей «Пути всякой плоти» кроется
различная трактовка ими проблемы аутентичности текста романа. Робинсон исходит из
того, что Стретфилд исказил волю автора, четко зафиксированную рукописью.
«"Просмотрена, полностью исправлена и подготовлена для печати, не подлежит дальнейшей
1 Robinson R.A. Note on the Text//Samuel Butler. The Way of All Flesh/An introduction and notes
by Roger Robinson. L.; Sydney: Pan Books, 1976. P. 7.
И.И. Чекалов. Авторская рукопись «Пути всякой плоти» и ... 313
проверке". Такую надпись Батлер оставил на каждой части своей рукописи <...>, —
пишет Робинсон. — Его литературный душеприказчик Р.-А. Стретфилд проигнорировал
эту надпись и внес в текст многочисленные и никак не оговоренные исправления»2.
Хауэрд, приведя слова той же надписи, комментирует ее содержание гораздо более
осторожно, чем Робинсон. «Из переписки и записных книжек Батлера, — отмечает
Хауэрд, — мы знаем, что за данной надписью кроется — и, быть может, даже вызвана ею —
неудовлетворенность писателя некоторыми фрагментами своего произведения, но она,
разумеется, указывает и на то, что он с известной тщательностью прошелся по
рукописи» (Howard 1964: XXIII).
Осторожность Хауэрда можно понять, если учесть, что в архиве писателя сохранилось
множество свидетельств, указывающих на то, что Батлер считал свою работу над романом
незавершенной. «Я никогда больше не заглядывал в свой роман, — писал он, например,
15 января 1902 г., — с тех пор, как получил его от мисс Сэвидж. Я уверен, что она изо всех
сил стремилась к тому, чтобы он ей понравился, но я знаю, что многое в нем требует не
только стилистической отделки, но и переработки. Я надеюсь, что вскоре займусь им и
сделаю все, что могу» (FL 1962: 318). В те пять месяцев, которые оставались до его смерти,
осуществить свое намерение писателю не удалось, и Стретфилду досталась рукопись,
фиксирующая несовершенное, с точки зрения автора, состояние произведения.
Как подчеркивает Майкл Мейсон, редактор оксфордского издания батлеровского
романа (1993), «с самого начала судьба "Пути всякой плоти" была предоставлена случаю
в том смысле, что Батлер завещал своему литературному душеприказчику Р.-А. Огрет-
филду рукопись, зная, что она требует доработки, и тем не менее обращаясь к нему
с просьбой опубликовать ее. Невозможно определить, соответствовала ли стретфил-
довская правка текста пожеланиям Батлера, так как писатель, вероятно, не составил
себе ясного представления о том, какие изменения в рукописи ему следует произвести.
В своих письмах он иногда пишет о том, что незначительная обработка рукописи
придаст ей удовлетворительную форму, иногда же — о том, что желательна ее
основательная переделка <...>. Своему другу, мисс Сэвидж, он говорил, что "никогда еще не
создавал книгу, относительно которой испытывал такую неуверенность в том, хороша
она или нет". Глубокая собственная неуверенность писателя в том, как его
произведение будет воспринято читателями, согласуется, таким образом, с передачей им
Стретфилду незавершенного текста и предоставлением его судьбы случаю» (Mason 1993:
V1II-IX).
Упомянутые обстоятельства творческой истории романа представляются Мейсону
достаточным основанием для того, чтобы считать «неуместным — или, по крайней мере,
переставшим быть уместным» (Ibid.: IX) — воспроизведение рукописи «Пути всякой
плоти» в оксфордском издании конца XX в. Если «стретфилдовская версия»
батлеровского текста «неаутентична», то, настаивает Мейсон, «в некотором существенном смысле
неаутентична и батлеровская версия» (Ibid.), ибо последняя не фиксирует
заключительную стадию писательской работы над рукописью и в любом случае «потребовала бы
даже при самом консервативном литературном душеприказчике внесения тех или иных
корректив в текст» (Ibid.). И в самом деле, без постороннего вторжения в авторскую
рукопись «Пути всякой плоти» не обойтись: там, например, отсутствует текст четвертой
и пятой глав романа, и Хауэрду приходится прибегать к текстовым заимствованиям у
Стретфилда (см.: Howard 1964: XXTV).
Нельзя не обратить внимание на упоминание Мейсона о том, что в настоящее
время в издании, которое он выпускает, публикация авторской рукописи «Пути всякой пло-
2 Ibid.
314
Дополнения
ти» «неуместна или, по крайней мере, перестала быть уместной». Посылка, из которой
исходит оксфордский редактор, очевидна: литературная слава Батлера как автора
«Пути всякой плоти» неразрывно связана со стретфилдовской редакцией батлеровского
текста; в первой половине XX в., когда роман Батлера сохранял актуальность живого
фактора в развитии литературы, сложилось представление о каноническом тексте его
произведения, закрепленное читательским восприятием ряда поколений; теперь же,
когда «Путь всякой плоти» прочно занял свое место среди литературных памятников
мировой классики, этот текст уже неотделим от его первого редактора и издателя Р.-А. Стрет-
филда.
Отдавая предпочтение стретфилдовской редакции с ее иным, чем в авторской
рукописи, членением текста — Стретфилд уничтожил авторское деление текста на три
большие части и в нескольких случаях объединил главы рукописного текста, так что в
издании 1903 г. на семь глав меньше, чем в рукописи, — Мейсон в то же время не
проходит мимо разночтений между стретфилдовской версией текста и его рукописной
версией.
Издание Хауэрда рассчитано на специалиста. Оно дает представление о динамике
работы Батлера над рукописью: в постраничных примечаниях к основному тексту Ха-
уэрд публикует варианты, вычеркнутые в рукописи на том или ином этапе работы
писателя над ней.
Как указывает Хауэрд (см.: Ibid.: ХХШ—XXTV), различия в тексте стретфилдовского
издания и авторской рукописи касаются орфографии, пунктуации, некоторых случаев
подбора слов (Огретфилд, например, заменяет слово «luncheon» (второй завтрак, обед)
на слово «lunch» с тем же значением), цитатной речи (у Огретфилд а цитаты выверены по
источнику и уточнены), соотношения прямой и косвенной речи (иногда Стретфилд
заменяет первую на вторую) и фабульных эпизодов (в том числе авторских отступлений).
В своем издании Мейсон — и это характерно и для ряда других изданий
последнего времени — учитывает в основном лишь фабульные разночтения, вынося эпизоды,
фигурирующие в авторской рукописи, но отсутствующие у Стретфилда, в примечания,
следующие за печатным текстом.
В настоящем издании соблюдается схема, разработанная Мейсоном, с той разницей,
что русский перевод, сверенный с оригиналом по изданию Хауэрда, приводится в
отдельном текстологическом дополнении (см.: Фрагменты текста «Пути всякой плоти», не
включенные Стретфилд ом в свое издание).
ФРАГМЕНТЫ ТЕКСТА «ПУТИ ВСЯКОЙ ПЛОТИ»,
НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ СТРЕТФИЛДОМ
В СВОЕ ИЗДАНИЕ
Данные фрагменты, различные по своей протяженности — от нескольких строк до
нескольких абзацев, — вносят в текст романа дополнительные смысловые акценты, иногда
обостряя характерологический облик персонажей, иногда же расширяя сферу
авторских отступлений и тем самым усиливая голос резонера-рассказчика, позволяющего себе
пространное рассуждение (фр. 1) в духе парадоксальных идей, воплощенных писателем
в описании едгинского царства «неродившихся душ» и впоследствии приведших его к
психоламаркистскому витализму. Эти фрагменты могут послужить основанием для
догадок, в каком направлении Батлер намеревался работать над изменением фабульной
субстанции романа. Они интересны и в том плане, что указывают на внутреннюю
цензуру, которой Стретфилд подверг текст романа, т.е. на то, что душеприказчику Батлера
представлялось совершенно неприемлемым в авторской рукописи для ее публикации в
1903 г. Так, за пределами последней остается намек на то, что Овертон проводил
время с Алетеей не только днем, но и ночью (фр. 3), или эпизод, свидетельствующий о том,
что в конце романа Эрнест Понтифекс «без огласки» вступил во второй брак (фр. 12),
не говоря уж об откровенной непристойности, вложенной автором в уста миссис Джуп
(фр. 10). Смягчил Стретфилд и одну из реплик вольнодумца Шоу в его разговоре с
Эрнестом (фр. 8), а также убрал дерзкий по отношению к религии риторический вопрос
Овертона (фр. 2).
Фрагменты расположены в том порядке, в каком они встречаются в авторской
рукописи. Ссылки на английский текст даны по изданию Хауэрда, а на русский текст — по
настоящему изданию. Сверка текста и перевод фрагментов выполнены И.И. Чекаловым.
1
Глава 6, с. 27, абзац после слов «но не испытывая при этом особых опасений».
(Howard 1964: 26-27).
Однажды мне попалась книга, в которой утверждалось, что у эмбрионов в
значительной мере такое же отношение к рождению, как у нас — к смерти. Ведь никто не
может поручиться, что у нас, вероятно, не возникали самые мрачные предчувствия
относительно рождения и что мы забыли их. Для эмбрионов, развивал свою мысль автор
упомянутой книги, рождение — катаклизм, конец их пренатального существования и пе-
316
Дополнения
реход в иной мир, лежащий за пределами материнского лона, в мир, о котором они
способны составить себе столь малое представление, что пребывание в нем они называют
состоянием смерти. Автор полагал, что эмбрионы судят о своей будущей жизни во
многом на тех же самых основаниях, как мы — о своей. Так, одни эмбрионы думают,
что при рождении они вступают в новую жизнь, к которой они подготовлены лучше или
хуже в зависимости от того, каким образом — лучшим или худшим — они выполняли
свой долг во время испытательного срока своего эмбрионального существования;
другие же считают, что в истинном значении слова вообще не существует такого явления,
как жизнь, кроме как жизнь в пределах материнского лона, и даже если бы таковая
была вне этих границ, эмбрион не имел бы возможности себя узнать и помнить о
своем прошлом существовании, ибо фактически был бы совсем иной личностью. Третьи
же говорят, что аналогия, выведенная из того, что эмбрионы определенно знают по
собственному опыту, должна учить, что нет иной жизни, кроме последовательности
новых рождений, и что, в строгом смысле слова, мы никогда вполне не живем и
вполне не умираем. Ибо эмбрион, прежде чем он достигнет фазы своего окончательного
развития, так часто меняет свою форму, то есть умирает и рождается заново, каждый
раз ощущая свое существование полностью завершенным, что не только, можно сказать,
в самом расцвете жизни мы умираем, но и в самом холоде смерти живем.
Смерть постоянно обволакивается жизнью. Если смерть — последний враг,
которого следует одолеть, наше Спасение гораздо ближе, чем мы думали, ибо смерть терпит
поражение со всех сторон. Конечно, о конце своей жизни мы знаем не больше, чем о
ее начале; в этот мир мы приходим неосознанно и неосознанно из него уходим, но у
жизни есть преимущество: мы в конце концов приходим к пониманию того, что родились,
но нам не дано узнать, что мы умерли. Умерев, мы перестаем что-либо осознавать. В
противном случае мы не мертвы.
Но, возвращаясь к обычному употреблению слов и пользуясь словами «жизнь» и
«смерть» в их обычном значении, зададимся вопросом: что, если бы мы начали жизнь
с момента смерти и прожили бы ее в обратном порядке, появившись на свет старыми
людьми и кончая свои дни повторным переходом в материнское лоно со всеми
трансформациями рождения? Понравилось ли бы это нам больше? Может ли любая смерть
быть столь же ужасной, как рождение, или дряхлость столь же страшной, как детство
в счастливой сплоченной богобоязненной семье?
2
Глава 23, с. 78, абзац после слов «и действовать, как он действовал».
(Howard 1964: 86)
Как это получается, интересно знать, что все должностные лица религии — от Бога
Отца до церковного сторожа — непременно являются столь деспотичными и суровыми?
3
Глава 35, с. 115, абзац после слов «провела большую часть каникул в Лондоне...»
(Howard 1964: 130)
...и я также виделся с ней в Рафборо, где мы вместе провели несколько дней, хотя,
конечно, я остановился в гостинице «Лебедь».
Фрагменты текста «Пути всякой плоти»... 317
4
Глава 38, с. 128, абзац после слов «от любого пятна греха».
(Howard 1964: 143-144)
Гендель очень редко попадает впросак, но мне на память приходит один пример,
когда ему, хотя он и был великим творцом, явно изменило чутье. Этот пример
встречается в арии «Как жажду я отцовскою душою» в оратории «Самсон», где Манон, отец
Самсона, раскрывает нам, как он добродетелен и как на самом деле совсем мало
придется страдать ослепленному Самсону, поскольку Манон обладает прекрасным
зрением. Оно, уверяет Манон, будет служить Самсону:
Пусть видит он только ночную мглу,
Но зреть дано мне, а значит, и ему.
Точь-в-точь, как в рассуждениях британских отцов. Стоит ли удивляться, что
Мильтон не нравился своим дочерям. Я никогда не был в состоянии понять, каким образом
Генделю не удалось увидеть комизм этого пассажа и он не воздал ему должное своей
пленительно изящной иронией, которая повсюду в других местах выражена в
«Самсоне» и которую никто не умел так бесподобно перелагать на музыку, как он. Гендель
трактует упомянутые две строки с исключительным пафосом, и напрасно я отыскивал
хотя бы малейший намек, что в них он почувствовал что-то неладное. Я думаю, что
объяснение этому заключается в том, что он лишился отца, когда ему было шесть лет,
а в пятнадцать, если не раньше, обрел независимость; он никогда не был женат, и
поэтому его представления о семейной жизни заимствованы главным образом у поэтов,
которые повествовали ему о ней. И в арии «Такие слезы отеческая нежность льет» он
опять никак не выделяет слово «такие». Из всего сказанного заключаем, что, будь вы
сам Гендель, вам все равно нельзя поручать писать о том, в чем вы не разбираетесь.
Как бы то ни было, но когда обнаружилось, что через каких-нибудь три или
четыре месяца Эллен станет матерью, Кристина точно так же попала впросак, как Гендель
и Мильтон до нее, убаюкивая себя песенкой о том, что, поскольку у нее есть муж и
семья, Эллен вовсе не нужно спешить обзаводиться ни тем, ни другой. Ведь вот она,
Кристина, вышла замуж только в возрасте тридцати трех лет и безропотно оставалась бы
старой девой до смерти, если бы не нашелся Теобальд, женившийся на ней. О том
возглашали как библейские заповеди, так и заповеди общества, и она, подчинившись, имела
право негодовать на тех, кто не подчинился. Я полагаю, однако, что...
5
Глава 38, с. 128, абзац после слов «а такой ребенок, каким будет этот...»
(Howard 1964: 145)
«...Тут она пустилась в свои обычные фантазии». Этой фразы нет в тексте рукописи.
6
Глава 41, с. 138, абзац после слов «распоряжаться ими».
(Howard 1964: 157)
318
Дополнения
Решив дознаться до истины, я настоял на том, чтобы владелец лавки послал за этой
женщиной и допросил ее, дав мне возможность, не обнаруживая моего присутствия,
услышать их разговор. Так и сделали, и из соседней комнаты я слышал все, что
происходило. Сначала — как женщины такого сорта неизменно делают — она пыталась...
7
Глава 41, с. 140, абзац после слов «сам же сын был ничто».
(Howard 1964: 159)
Позвольте мне мимоходом заметить, что подобная способность разрубать гордиевы
узлы логики и сливать противоречивые или противоборствующие элементы в единое
гармоническое целое есть способность, без которой ни одно живое существо, будь то
животное или растение, не могло бы просуществовать и одного дня, да и вообще не могло бы
появиться на свет. Под данное правило подпадают все организмы, обладающие
репродуктивной системой, но легче всего оно демонстрируется на примере таких форм, которые
воспроизводятся посредством родителей различного пола. Первое, что мужская и
женская особи должны сделать, когда они объединяются, чтобы произвести потомство, — это
соединить в единое совместимое целое противоречивые и противоборствующие свойства
памяти, доставшиеся им от родителей. Но вернемся к нашей истории.
8
Глава 59, с. 199, абзац после слов «А теперь идите к себе наверх...»
(Howard 1964: 227)
Теперь ступайте наверх, прочитайте внимательно рассказы о воскресении не для
того, чтобы обнаружить в них убедительную историю, а для того, чтобы выяснить,
правдива она или нет. Когда вы сможете правильно пересказать все четыре рассказа о
воскресении, не смешивая один с другим, и составите ясное представление, что каждый
автор говорит нам, я буду рад повидаться с вами, если вам угодно.
9
Глава 61, с. 205, абзац после слов «это уж точно».
(Howard 1964: 235)
Я, знаете ли, как крот, поперек себя толще. И уж если я однажды сказала об этом
мистеру Понтифексу, то и потом твердила о том же.
10
Глава 72, с. 244, абзац после слов «такого прямо-таки противного с виду, как этот
Прайер\»
(Howard 1964: 279-280)
— Он, миссис Джуп, и рядом с честностью не стоял.
— Не стояло у него и то, что у всякого мужчины должно стоять.
Фрагменты текста «Пути всякой плоти»...
319
И
Глава 86, с. 302, абзац после слов «чем держать корову».
(Howard 1964: 346-347)
Когда я говорю, что он так и не женился, я имею в виду, что образ его жизни никогда
не был тот, который ведет женатый человек, но мне часто приходит в голову, что он
женился без огласки и у него имеется семья, которая живет от него отдельно и которой
он высылает скромное содержание, о чем мне совершенно не известно. Я предполагаю
это, потому что миссис Джуп однажды нашла в корзине для мусора выброшенное им
письмо, которое принесла мне. Конечно же мне не следовало бы публиковать его, но,
думаю, из-за письма он на меня не обидится. Вот оно:
Дорогой Па!
Не ругай меня за то, что я не написал, какое сегодня число, не знаю, какое когда. На
нашем собственном, поле в футбол мы не играем первая не играет в прошлом году нам
плохо было играть в крикет и теперь поле выравнивают сейчас мы играем на очень
плохом поле, но это ничево, если поле не совсем ровное.
Большое спасибо за доброе письмо, присланное тобой. Плетенку я получил, и в ней
было как раз то, чего мне хотелось, кекс был страшно вкусный, варенье тоже, сливы
отличные. Все мне страшно понравилось у меня не очень хорошо с деньгами потому что
я их все потратил, а карманных мне не дают, так как я потерял разные вещи поэтому
я бы, пожалуйста, если не трудно, вышли мне немного. Фанни говорит, что эта старая
свинюшка мисс Эллен нисколько не лучше в этом полугодии, а я думаю, что она
должна быть ужасной коровой. В этом полугодии у меня не очень хорошие отметки, и я
совсем не из первых в классе. Я нахожу, что Доусон ужасный дурак, и в этом полугодии
меня вовсе не интересует Мак-Грегор. Мы обязаны чудовищно рано вставать, к семи мы
должны спускаться к завтраку, звонок звенит в 6.30, двери всех спальных комнат
распахиваются и в дверях звонят в колокольчик. Поднимается ужасная суматоха. Теперь
до свидания.
Тед
12
Глава 86, с. 303, абзац после слов «и теперь у него Топси».
(Howard 1964: 348)
Мне ничего не известно о молодых людях, о существовании которых я узнал из
письма, доставленного миссис Джуп. Весьма вероятно, что со всеми своими догадками
я попал пальцем в небо.
хронологический план
«ПУТИ всякой плоти»,
СОСТАВЛЕННЫЙ С. БАТЛЕРОМ
Хранится вместе с авторской рукописью в Британской библиотеке. Опубликован Хау-
эрдом в приложении к его изданию романа (см.: Howard 1964: 364—365). В тексте
встречается неувязка: рождение Кристины обозначено двумя разными датами. В ходе работы
над произведением Батлер менял ее возраст (см.: Ibid.: 40, 2п) и, вероятно, в момент
составления плана еще окончательно не решил, на сколько лет Кристина должна быть
старше Теобальда.
1727
1800
1801
1802
1750
1765
1780
1790
1797
1798
1805
1811
1812
1825
1825
1831
1832
1835
1838
1836
весна
осень
ноябрь
июль
январь
сентябрь
Рождение старого мистера Понтифекса и миссис Пон-
тифекс.
Рождение Кристины.
Рождение Джона Понтифекса.
Мое рождение (меня зовут Эдвард) и рождение
Теобальда.
Женитьба старого Понтифекса.
Рождение Джорджа Понтифекса в январе.
Миссис Фэрли приехала погостить у старого П.
Дж. П. стал партнером владельца фирмы.
Он женился на женщине на семь лет моложе его.
Рождение Кристины.
Рождение Алетеи Понтифекс. Смерть ее матери.
Смерть жены старого Понтифекса в возрасте 84 лет.
Смерть старого Понтифекса в возрасте 85 лет.
Переписка Теобальда с отцом, найденная Эрнестом и
переданная им мне после смерти Теобальда.
Теобальд окончил университет.
Принял сан священника.
Нанес первый визит семейству Элэби.
Женился.
Я приезжаю к ним и живу у них. Рождение Эллен.
Рождение Эрнеста, 6 сентября.
Смерть Джорджа Понтифекса в возрасте 73 лет или на
74 году.
Рождение Джозефа Понтифекса.
Хронологический план «Пути всякой плоти», составленный С. Батлером
321
1837
1848
1849
1850
1850
1851
1851
1854
1856
1858
1858
1859
1859
1860
1860
1861
1860
1862
1863
1863
1867
1881
август
январь
Пасха
октябрь
6 сентября
февраль
Великий пост
весна
26 марта
28 сентября
15 октября
Пасха
сентябрь
сентябрь
25 марта
15 апреля
5 сентября
ноябрь
Рождение дочери.
Ему 12 лет, и он отдан в школу.
Его тетка Алетея заболевает.
Она умирает.
Эллен приезжает в Бэттерсби. Ей 18 лет. Родилась
в 1832 г.
Плохая аттестация Эрнеста.
Нагоняй из-за Эллен.
Он поступает в Кембриджский университет.
Он достиг совершеннолетия.
Окончил университет.
Принял сан священника. Едет в Лондон.
Пишет безумные письма.
Арестован.
Вьшущен из тюрьмы.
Женится. Ему исполнилось 24 года.
Процветает. Его жена начинает пить.
Рождение девочки.
Рождение мальчика. Материальному
благосостоянию Эрнеста наступает конец. Его жена разоряет
его. Он понимает, в какое чертовски ужасное
положение попал.
Он встречает Джона и узнает, что не женат.
Отправляется со мной в заграничное путешествие.
Ему 28 лет, и он получает наследство.
Кристина умирает.
Гл. XLVI и гл. LXXXXIX [непонятно, что имеется в
виду. — И. Ч]
Смерть Теобальда.
ПРИЛОЖЕНИЯ
И. И. Чекалов
САМУЭЛЬ БАТЛЕР
И ЕГО ВОСПРИЯТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
«ДАРВИНОВСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ»:
ОТ ФАНТАСТИКО-САТИРИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
К РОМАНУ «ПУТЬ ВСЯКОЙ ПЛОТИ»
I
Минуло более ста лет с момента выхода романа Самуэля Батлера (1835—1902) «Путь
всякой плоти» (1903). В ряду английских романов второй половины XIX века, историко-
литературное значение которых не поколебало, но лишь упрочило время, — таких, если
ограничиться произведениями, по хронологии создания почти совпадающих с батлеров-
ским, как «Миддлмарч» (1871—1872) Джордж Элиот, «Эгоист» (1879) Мередита и «Ма-
рий-эпикуреец» (1885) Пейтера, — «Пути всякой плоти» принадлежит видное место. Так
же как у этих его современников, батлеровская проза характеризуется глубоким
психологизмом, и идеологические конфликты, изнутри подтачивавшие викторианство как
специфическую форму английской пуританской культуры, изображены через их
интеллектуальное преломление индивидуальным сознанием. Однако при этом повествование в
«Пути всякой плоти» отличается той степенью документальной достоверности, какой
тогда еще не знала английская литература. Подобная достоверность обусловлена
автобиографизмом батлеровского романа, материал для которого писатель черпал из
собственной жизни.
Тяготение к автобиографизму, или, по терминологии американского исследователя
Джерома Гамильтона Бакли, «субъективный импульс», фиксирующий в мире созданной
писателем эстетической объективности субстрат его личного жизненного опыта, явилось
новой тенденцией в развитии английского романа XIX века (см.: Buckley 1966: 100;
Buckley 1984. Ср.: Гинзбург 1977), во многом предвосхитившей психологизм прозы в
европейской литературе XX века. Впервые отчетливо проявившись в философско-сати-
рическом романе Карлейля «Sartor Resartus, или Жизнь и мнение господина Тейфельс-
дрека из Вайснихтво» (1833—1834), эта тенденция, питаемая в дальнейшем развитием в
Англии мемуарной литературы (см.: Buckley 1984: 58—88), закрепилась в поэтике
английского классического романа воспитания, основы которого были заложены Филдингом
в «Истории Тома Джонса, найденыша» (1749), обнаруживая в той или иной мере свое
присутствие и в диккенсовском «Дэвиде Копперфилде» («Жизнь, приключения,
испытания и наблюдения Копперфилда-младшего из Грачевника в Бландерстоне, никогда,
ни в коем случае не предназначавшиеся для печати», 1849—1850), и в теккереевском
«Пенденнисе» («История Пенденниса, его радостей и злоключений, его друзей и его
главного врага», 1848—1850), и в «Испытании Ричарда Феверела» (1859) Мередита, и в
«Марии-эпикурейце» Пейтера (см.: Buckley 1966: 115—124). Батлер в «Пути всякой плоти»
включился в процесс внедрения автобиографического материала в поэтику английского
романа воспитания значительно непосредственней, смелее и откровеннее, чем кто-либо
326
И. И. Чекалов
из английских писателей XIX века, воспользовавшись личным жизненным опытом для
создания своего произведения.
Так же как и другие авторы, принадлежащие к любому образцу филдинговской
традиции, Батлер, задавшись целью показать становление личности своего главного героя,
полновластно распоряжается судьбами персонажей, но в «Пути всякой плоти» мир
действующих лиц романа построен на материале, связанном с подлинными событиями
жизни автора, и роман с документальной точностью воспроизводит многие
фактические коллизии, в которых безошибочно узнаются их участники — реальные прототипы
вымышленных персонажей.
Автобиографичность повествования служит у Батлера целям сатиры, открывая
последней доступ к сокровенному пласту чувств и переживаний, взятых автором из драмы
отношений в собственной семье. Это придает особую остроту, действенность и
беспощадность батлеровской сатире. Однако сатирой — при всей ее важности — не исчерпывается
содержание романа. Батлер стремился к широкому философскому обобщению и задумал
свое произведение как семейную хронику, охватывающую жизнь нескольких поколений
и дающую возможность размышлять над земным уделом «всякой плоти», то есть каждого.
В таком своем аспекте «Путь всякой плоти» был призван, по мысли его создателя, стать
иллюстрацией батлеризма, воплощением философских взглядов писателя на жизнь,
сложившихся в ходе его творческой деятельности.
II
Творческая деятельность Батлера была разнообразной и не ограничивалась литературой.
Он сочинял музыку, писал картины, переводил Гомера, был автором философских
трудов по вопросам эволюции, его перу принадлежат шесть томов «Записных книжек»,
включающих афоризмы, беглые литературные и бытовые зарисовки, размышления на
различные темы, цикл из семи сонетов, а также брошюра «Свидетельства четырех евангелистов
о воскресении из мертвых Иисуса Христа» (1865) и книга путевых очерков об Италии
«Альпы и храмы» (1882). Художественная проза писателя не отличается обилием
произведений. Помимо нескольких очерков и «Пути всякой плоти», к ним принадлежат: фан-
тастико-сатирическая повесть «1уцтш» (Erewhon1, 1872), ее продолжение «Снова в Едгине»
(1901) и памфлет-мистификация «Надежная гавань» (1873). Своеобразное творчество
Батлера не было по достоинству оценено современниками писателя, а его
посмертно изданный роман «Путь всякой плоти» не вызвал большого общественного
резонанса, как и его сочинения, печатавшиеся при жизни: первая публикация романа осталась
почти не замеченной в Англии. Бернард Шоу (1856—1950) писал в 1906 году:
Можно просто отчаяться в английской литературе, когда видишь, какое незначительное
впечатление произвело это изумительное исследование английской жизни — посмертный
роман Батлера «Путь всякой плоти»: через несколько лет после его появления пьесы,
которые я ставлю, встречают пустой болтовней о Ницше и Ибсене, хотя в них ясно звучат
свободные и прозорливые мысли Батлера (Shaw 1910: 161).
Шоу, считавший Батлера «значительнейшим писателем второй половины XIX века»
(Shaw 1910: 161), посвятил ему множество статей2, неоднократно ссылался на него в пре-
1 Erewhon — анаграмма английского слова «nowhere» («нигде»).
2 Библиографию статей Шоу о Батлере см. в изд.: Harkness 1955: 127.
Самуэлъ Батлер и его восприятие интеллектуальной «дарвиновской революции»... 327
дисловиях к своим пьесам1 и отдал щедрую дань его творческому наследию в своей
драматургии (см. об этом: Pepper 1926: 295-316; Joad 1953: 187-188; 201-202; Huxley 1963:
458; Wellek 1965: 432; Балашов 1982). Шоу в немалой степени содействовал
литературной славе, которая пришла к автору «Пути всякой плоти» спустя годы после первого
издания этого произведения.
К ее наиболее ранним свидетельствам принадлежит роман Эдварда Моргана
Форстера (1879—1970) «Комната с видом» (1908), замысел которого возник у него еще в 1903 году
(см.: Macaulay 1938: 37, 78). В форстеровском романе один из персонажей бережно
хранит в своей библиотеке посмертно напечатанную книгу Батлера. Значение данной детали
поддерживается у Форстера тем, что в текст романа включены парафразы этических
рассуждений из батлеровского эссе «Как достичь лучшего в жизни» (How to Make the
Best of Life, 1887), и проблематика «Комнаты с видом», как показано исследователями,
в своих существенных чертах восходит к очеркам «Альпы и храмы» (см.: HFB 1946: 804—
813; ср.: Лисова 1977: 75-90).
Начиная со второй половины 1910-х годов литературная слава Батлера неуклонно
возрастала, достигнув своей высшей точки в 20—30-е годы XX века, когда Теодор
Драйзер (1871—1945) объявил «Едгин» непреходящей ценностью английской литературы, а
«Путь всякой плоти» поставил в ряд величайших достижений мирового романа (см.:
Dreiser 1938: I—XXX). В это время произведения Батлера переводятся на европейские
языки (в том числе и на русский — см.: Губер 1938)2, и его творчество становится
предметом изучения не только в Англии, где уже в 1915 году вышла первая монография о
нем (см.: Carman 1915), а в 1925 году — библиографический справочник с указанием как
его сочинений, так и работ, ему посвященных (см.: Hopée 1925), но и во Франции,
Германии и других странах Европы (см.: Larbaud 1920; Fort 1935; Bôttger 1936; Bekker 1925).
Батлер мечтал о том, чтобы занять в английской литературе столь же влиятельное
положение, как знаменитые викторианские критики «Карлейль, Рескин или хотя бы
Мэтью Арнольд» (Jones 1919/2: 50). Мечте писателя суждено было сбыться лишь после
его смерти. В 1920—1930-х годах Батлер вошел в моду, и складывавшийся в Англии культ
батлеризма принял такой размах, что против него счел необходимым выступить Шоу.
«Из-за идиотской недооценки и пренебрежения к Батлеру, — заявил Шоу в своем
предисловии к "Пути всякой плоти", — мы теперь склоняемся к тому, чтобы обожествлять
его как человека, который не может ошибаться, и это несмотря на его собственное
предупреждение» (Shaw 1936: VI).
На протяжении нескольких десятилетий XX века творчество Батлера сохраняло
актуальность живого фактора развития литературы и в самой Англии, и в
Соединенных Штатах Америки. Упрочению авторитета его имени способствовали представители
различных идейно-стилевых направлений. Произведения Батлера высоко ценили Гол-
суорси3 (1867—1933), Драйзер (см.: Dreiser 1938) и Фицджеральд4 (1896—1940).
Английская критика 1930-х годов причисляла к последователям автора «Пути всякой плоти»
Арнольда Беннета (1867—1931), имея в виду его роман «Клейхенгер» (Clayhanger, 1910),
1 Шоу пишет о Батлере в предисловиях к следующим пьесам: «Майор Барбара» (1905),
«Женитьба» (1908), «Андрокл и лев» (1927), «Дом, где разбиваются сердца» (1913—1919), «Назад к
Мафусаилу» (1921), «Святая Иоанна» (1923).
2 См. об этом статью в наст, изд.: Чекаяов И.И. Первый русский перевод «Пути всякой плоти»
и оценки романа советской критикой 1930-х годов.
3В 1910 г. в письме к одному из своих корреспондентов Голсуорси назвал «Путь всякой
плоти» «лучшим современным романом» (см.: Marrot 1935: 688; ср.: Gindin 1987: 286, 405).
4 Отзыв Фицджеральда о Батлере публиковался в нашей стране. См.: Вопросы литературы.
1966. № 2. С. 183.
328
И. И. Чекалов
Д.-Г. Лоуренса (1885-1930) и Вирджинию Вульф (1882-1941) (см.: Baker 1938/10: 246-247,
304). Форстер относил батлеровский роман к истокам модернистской прозы с ее
ориентацией на идеи Фрейда (см.: Forster 1945: 9). Олдос Хаксли (1894—1963), возводя Батле-
ра «в качестве учителя жизни» к «чосеровской традиции», видел в нем проповедника
морали «золотой середины» — компромисса и разумной умеренности (см.: Huxley 1934:
XVII). Оруэлла привлекало к Батлеру отсутствие у него стремления «писать красиво»
(см.: Orwell 1970: 281).
Интерес одного из основателей антиутопии к творчеству Батлера был устойчив,
сохранялся в течение всей деятельности Оруэлла, но с годами менял свой характер. На примере
этой эволюции можно проследить за динамикой восприятия батлеровского наследия
английским общественно-литературным сознанием первой половины прошлого века.
Молодой Эрик Блэр — будущий писатель Джордж Оруэлл (1903—1950) —
принадлежал к первому поколению английской интеллигенции, для которой «Путь всякой плоти»
стал чтением, формирующим сознание. Создатель одной из самых мрачных антиутопий
XX века с увлечением читал батлеровский роман в пятнадцатилетнем возрасте (см.:
Hollis 1956: 16), а когда ему исполнилось восемнадцать, приобрел только что вышедшую
тогда книгу, озаглавленную «Записные книжки Самуэля Батлера», и она долгое время
сопровождала его в многочисленных путешествиях (см.: Orwell 1970: 219).
В молодости кумиром Оруэлла был Батлер (см.: SAO 1980: 137; ср.: Meyers 1975: 69),
и это вполне соответствовало культу батлеризма, распространенному в ту пору среди
английской — и даже европейской1 — интеллигенции. Но на исходе 1930-х годов,
испытав горечь проверки своих идеалов в Испании и ощущая со все большей остротой
угрожающий натиск политического радикализма, Оруэлл поставил под сомнение ценность
бунта литературы против устоев демократического общества и в этой связи вспомнил
об антивикторианской сатире Батлера. В 1940 году Оруэлл писал:
Литература преимущественно вдохновлялась протестом и разрушением. Гиббон,
Вольтер, Руссо, Шелли, Байрон, Диккенс, Стендаль, Сэмюэль Батлер, Ибсен, Золя, Шоу, Джойс —
в том или ином отношении они изничтожают, подрывают, саботируют. Два столетия мы
только тем одним и занимались, что подпиливали да подпиливали сук, на котором сидим.
И вот с внезапностью, мало кем предвиденной, наши старания увенчались успехом: сук
рухнул, а с ним и мы сами. К несчастью, вышло маленькое недоразумение. Внизу оказалась не
мурава, усыпанная лепестками роз, а выгребная яма, затянутая колючей проволокой
(Оруэлл 1989: 232).
Разуверившись в актуальности разрушительной критики Батлером нравственных
устоев викторианского общества, Оруэлл тем не менее сохранял верность идеям,
которые Батлер развивал в своих философских работах, посвященных вопросам эволюции
(см.: Оруэлл 1989: 234). К середине 1940-х годов и этот аспект батлеризма утратил для
Оруэлла былое значение. «Главные идеи Батлера, — признал он, — не представляются
ныне важными» (Orwell 1970: 220). Однако даже при таком трезвом взгляде на кумира
своей юности Оруэлл по-прежнему считал Батлера одним из своих любимых писателей,
в литературном плане отдавая ему решительное предпочтение перед целым рядом его
викторианских современников (см.: Orwell 1970: 39, 220—221).
1 Например, в Германии поклонником Батлера был Бертольд Брехт (см.: Брехт 1977: 64—72).
Батлер был замечен и в России. Лестные отзывы о нем встречаются в дневниковых записях К.И.
Чуковского (1882-1969) от 26 октября 1918 г. (см.: Чуковский 2003/1: 107) и 25 января 1926 г. (см.: Там
же: 422). Позже Чуковский изменил свою оценку Батлера, утверждая, что «Едгин» «не
поднимается выше посредственности» (запись от 25 декабря 1956 г.; см.: Там же/2: 268).
Саму эль Батлер и его восприятие интеллектуальной «дарвиновской революции»... 329
Итак, в течение нескольких десятилетий Оруэлл был активным читателем
произведений Батлера. Непосредственный свидетель и живой участник тех процессов
читательского восприятия, в ходе которого складывалась литературная судьба автора «Пути
всякой плоти» в первой половине XX века, Оруэлл формировал собственное
отношение к Батлеру: он отдал дань культу батлеризма в 1920-е годы, критически оценил
антивикторианскую направленность сатиры Батлера в свете своего жизненного и
писательского опыта в 1930-е, а в следующее десятилетие пересмотрел значение эволюционных
воззрений Батлера и подвел итоги своего увлечения им в молодости.
Отношение Оруэлла к Батлеру указывает на длительное и глубокое влияние,
которое «Путь всякой плоти» и другие батлеровские произведения оказали на создателя
одной из самых знаменитых антиутопий. Это влияние, в свою очередь,
свидетельствует о прямых связях творческого наследия Батлера с литературной жизнью эпохи, в
контекст которой оно вписывалось. Вместе с тем изменения оруэлловской оценки бат-
леровского творчества обнаруживают динамику его восприятия читательской средой,
выявляя уменьшение влияния взглядов и идей Батлера на общественно-литературное
сознание Англии в данный период. Тенденция, выраженная подобной динамикой,
получила завершение к середине прошлого века, когда творчество Батлера окончательно
утратило актуальность живого фактора в развитии литературы и целиком перешло в
сферу ее истории. «Путь всякой плоти», давно признанный одним из высших
художественных достижений Батлера, не лишился своего читателя и продолжал широко
публиковаться как в Англии, так и за ее пределами1. Но в проблематике романа
перестали искать разрешение насущных вопросов современности, а в его автобиографизме —
видеть новизну литературной формы. «Путь всякой плоти» был отодвинут, по
выражению одного из английских критиков 1960-х годов, «к интеллектуальным рубежам,
отделяющим викторианскую эпоху от двадцатого века» (Hoggart 1973: 7), и, прочно заняв
видное место среди классических английских романов второй половины XIX века, он
стал просто литературным памятником.
Современному читателю (конечно, не только русскому) «Пути всякой плоти»
придется пересечь «интеллектуальные рубежи», замыкающие викторианскую эпоху как
единое целое, и совершить довольно далекое мысленное путешествие. Уже и в самой
Англии давно исчезли, став достоянием истории, прямые подобия уклада жизни,
изображенного Батлером в своем романе. Тем не менее для читателя такое путешествие не
окажется бесполезным, а знакомство с персонажами, созданными Батлером, будет не
менее интересным и поучительным, чем с кругом героев столь разнообразного
викторианского романа, будь то персонажи, к примеру, Диккенса и Теккерея или Джордж
Элиот, Мередита и Харди.
Батлер — мастер парадокса, иронии и сатиры. Именно данные качества его
таланта, сочетающиеся с автобиографизмом его романа, претворенным в художественную
ткань произведения, в первую очередь обеспечили «Пути всякой плоти» успех у многих
поколений читателей. Кроме того, как и остальное творчество писателя, «Путь всякой
плоти» является свидетельством многих увлечений, поисков, открытий и заблуждений
викторианцев и в качестве историко-литературного документа не может не привлечь к
себе внимания. Но этим интерес к проблематике романа далеко не ограничивается.
Почти полувековая длительность периода, в течение которого творческое наследие
Батлера было составной частью живого литературного процесса XX века, показывает,
1 В качестве примера приведем следующие издания романа в Англии во второй половине
XX в.: English Penguin Library, 1966, 1971, 1973; Pan Books, 1976; Oxford University Press, 1993;
Wordsworth Classics, 1994.
330
И. И. Чекалов
что в «Пути всякой плоти» Батлер коснулся проблем, общественно-литературная
значимость которых не исчерпывается временем, вызвавшим их в его сознании.
III
В книге, посвященной жизни и государственной деятельности своего отца лорда
Рэндольфа Черчилля (1845—1895), тридцатидвухлетний Уинстон Черчилль (1874—1965)
писал о последней четверти XIX века так:
Это было концом эпохи. Долгое господство средних классов, которое началось в 1832 году
(имеется в виду парламентская реформа 1832 г. — И.Ч.), закончилось, а с ним и почти столь
же долгое господство либерализма. Были одержаны великие победы. Опрокинуты всякого
рода пропылившиеся тирании. Авторитет традиции был везде сломлен (Churchill 1906/1: 288).
Повсеместная ломка устоявшихся традиций, представшая в 1906 году перед
будущим премьер-министром Англии как свершившийся факт, знаменующий завершение
эпохи, связанной с экономическим, социальным и политическим процветанием средних
классов, т. е. с завершением викторианской эпохи, не была, разумеется, исторически
одномоментной и не ограничивалась исключительно последней четвертью XIX века.
Глубокие трещины в том монолите, которым на протяжении десятилетий казалось
викторианское общественное сознание с его кодексом общепринятой морали, обнаружились,
в частности, в ходе интеллектуальной «дарвиновской революции», разделившей век на
две неравные части.
Публикация трудов Чарлза Дарвина (1809—1882) «Происхождение видов путем
естественного отбора, или Сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь»
(1859) и «Происхождение человека и половой отбор» (1871) стала предметом внимания
не только научной прессы, но и популярной печати. «Со времен появления
"Происхождения видов", — читаем в журнале "Эдинбургское обозрение" за 1871 год, — ни одна
книга не возбуждает более острого интереса, чем новое произведение мистера Дарвина о
происхождении человека. В гостиной она соперничает с последним новым романом, а
в кабинете одинаково волнует ученого, моралиста и теолога» (ER/134: 195). По всей
видимости, для современников не звучало преувеличением утверждение журнала
«Зритель» («Spectator»), что «мистер Дарвин превратил развитие живущих видов в ведущую
философскую проблему дня»1.
К 1876 году напряженность дискуссии, развернувшейся вокруг эволюционной теории
Дарвина, спала, и натуралист смог еще при жизни убедиться в том, что научная ценность
его идей получила широкое общественное признание. Но оно отнюдь не было
гарантировано ему с самого начала полемики, ибо его учение чувствительно затрагивало
некоторые существенные моменты викторианского миросозерцания и морали
викторианской эпохи (см.: Himmelfarb 1962: 253, 307).
Одним из них было теолого-телеологическое представление о том, что благостная
гармония в природе отражает и подтверждает милостивую волю Провидения. Это
представление, опиравшееся на авторитет Ньютона, возводившего математически строгие законы
небесной механики к «попечительству Разумного и Могущественного Существа», было
разработано англиканским богословом Уильямом Пейли (1743—1805) в книге
«Естественная теология, или Свидетельства существования и атрибутов Бога, собранные на
основании явлений природы» (1802), выдержавшей с 1802 по 1879 год тридцать одно изда-
1 Spectator. 1860. Р. 1172. Цит. по: Ellegârd 1958: 42.
Самуэль Батлер и его восприятие интеллектуальной «дарвиновской революции»... 331
ние и включенной во все университетские программы (см.: Ellegàrd 1958: 42, 44). Если
у Пейли «воздух, суша, вода наполнены радостью бытия» и повсюду в природе реет
«несметное количество счастливых существ» (Paley 1803: 490), то у Дарвина непреложным
законом природы является жестокая борьба за жизнь, сохраняемая лишь «наиболее бла-
гоприятствуемым породам».
Эволюционная теория Дарвина побуждала викторианцев по-новому взглянуть на
природу. Фактический материал относительно форм ее развития, собранный и
систематизированный Дарвином, поставил современников натуралиста перед необходимостью
отказаться от буквального понимания библейской картины происхождения видов и человека
и иначе подойти к пониманию библейских представлений о физических явлениях мира.
Необходимость корректировки этих представлений понимали многие деятели
Англиканской церкви. В 1865 году был организован специальный институт Виктории,
«чтобы точно и беспристрастно исследовать наиболее важные проблемы философии и
науки». Аналогичный характер носило и «Метафизическое общество», основанное в 1869
году. В него входили либерально мыслящие деятели Церкви, которые стремились
вести объективный спор с учеными и достигнуть взаимоприемлемого соглашения (см.:
Ellegàrd 1958: 104).
Однако подобное стремление вызывало ожесточенное сопротивление
консервативных клерикальных кругов. Когда в 1860 году семь авторов, являвшихся (за исключением
одного, который был директором школы в Регби) служителями Англиканской церкви,
выпустили сборник статей, озаглавленный «Опыты и обозрения» (Essays and Reviews),
где призывали распространить дух свободного научного исследования на изучение
истории, описанной в Библии, книга дважды (в 1861 и 1864 гг.) подвергалась осуждению
со стороны англиканских епископов, и против двух авторов сборника были
возбуждены процессы в духовных судах. Столь же суровое негодование вызвала работа епископа
Джона Коленсо (1814—1883) «Критический разбор Пятикнижия и Книги Иисуса Нави-
на» (The Pentateuch and the Book of Joshua Critically Examined, 1862—1879), написанная
с позиции, во многом совпадающей с той, которую отстаивали участники сборника
«Опыты и обозрения».
В восприятии эпохи теория Дарвина выявила «глубоко укоренившийся антагонизм
между наукой и религией»1, и те викторианцы, которые придерживались
консервативно-религиозных убеждений, считали опубликование «Происхождения видов» ошибкой.
Отражая такие взгляды, журнал «Северобританское обозрение» вздыхал о временах,
когда «наука шествовала в спокойной торжественности из тумана предрассудков, а
теология принимала ее как собственную сестру» (NBR 1860/32: 486). Примерно в этом же
духе было оценено «Происхождение человека» в рецензии «Тайме»:
Серьезную ответственность навлекает на себя автор, — писал рецензент газеты, —
который авторитетом хорошо заработанной репутации выдвигает в наше время разлагающие
спекуляции этой книги <...>. Выдвигать их на основании такого несовершенного свидетельства,
такого поверхностного исследования, таких гипотетических аргументов, на которые мы
указали, — более чем ненаучно, это безрассудно (Times 1871: 5).
Тон рецензии в «Тайме» ясно показывает, что полемика викторианцев вокруг идеи
дарвиновской эволюции носила злободневный характер. Люди разных убеждений
разделились на лагеря. Как отмечал в 1861 году Джордж Льюис (1817—1878), «гипотеза (т. е.
учение Дарвина. — И.Ч.) крикливо отвергается консервативно мыслящими, потому что
они считают ее революционной, и не менее страстно принимается революционно мыс-
Academy. 1870-1871. Vol. 2. Р. 13. Цит. по: Ellegàrd 1958: 105.
332
И. И. Чекалов
лящими, потому что они считают ее разрушительной для старых доктрин»1.
Соответственно, либерально настроенный позитивистский журнал «Вестминстерское обозрение»
приветствовал теорию Дарвина, считая вполне естественным, что «теологические
мнения прошлого должны медленно вымирать, уступая дорогу научным понятиям
настоящего» (WR 1870/37: 547), а Томас Гексли (1825—1895) провозгласил: «Каждый
философски мыслящий человек с одобрением относится к учению Дарвина <...> как истинному
оружию в арсенале либерализма»2.
Со своей стороны консервативно-клерикальные круги подчеркивали
разрушительность дарвиновских идей для общепринятого кодекса викторианской морали, утверждая,
что нравственный урон, наносимый обществу книгами ученого, социально опасен.
«Только дайте нашим ученым друзьям, — читаем в одном популярном журнале, — показать
восприимчивым людям, что Адама не существовало и что вообще ничего определенного мы
не знаем, и тогда тот хаос, который установился в период поздней Римской империи,
установится и здесь»3. Этому журналу красноречиво вторили комментарии «Эдинбургского
обозрения»: «Если взгляды Дарвина истинны, неизбежна революция мысли, которая
потрясет общество до самых его основ, разрушив святость совести и религиозное чувство»
(ER 1871/134: 195-196).
По мере того, как научная ценность дарвиновской теории эволюции становилась все
более очевидной, завоевывая все более многочисленных и авторитетных сторонников
в среде ученых, а «дарвиновская революция» близилась к своему завершению, даже
самые непримиримые противники Дарвина начали менять свои позиции, заменяя прямую
дискредитацию дарвиновского учения различными его толкованиями, которые могли
бы примирить эволюционную теорию с господствующей протестантской моралью4.
Вместе с тем наметилось стремление пересмотреть некоторые нормы кодекса
викторианской морали. Например, в 1874 году Уильям Грег (1809—1881) опубликовал книгу
«Впереди — рифы, или Пророчество Кассандры», в которой призывал отказаться от
обветшалых идеалов и откинуть отжившие свой век догмы.
Подобные призывы раздавались, впрочем, не только и не столько потому, что
англиканская догма и опиравшиеся на нее нормы викторианской морали не
соответствовали положениям учения Дарвина, а потому, что эпоха викторианства шла к концу и
ломка ее пуританских заповедей все четче вырисовывалась как насущная
необходимость. Менявшееся русло социально-политического развития страны обусловливало
новые задачи, и они уже не могли решаться викторианским либерализмом. Как писал
Уинстон Черчилль, имея в виду последнюю четверть XIX века в Англии:
Совесть была свободной. Но голод, нищета и холод были также свободны, а народ
требовал чего-то большего, чем свобода <...>. Как заполнить пропасть, было загадкой, которая
расколола либеральную партию (Churchill 1906/1: 289).
Одновременно с изменением социально-политической ситуации в Англии последней
четверти XIX века происходили сдвиги в социолого-философских толкованиях теории
Дарвина: в 1880-е годы усилилась реакция против утилитарно-позитивистской
исторической концепции, которая использовала идеи Дарвина для своих построений.
Социологическая и философская интерпретация эволюционной теории Дарвина явилась
важным аспектом ее рецепции в Англии второй половины XIX века.
1 Ibid.: 35.
2 Ibid.
3 The Family Herald, 1861-1862. Цит. no: Ellegàrd 1958: 101.
4 Подробнее см.: Ellegàrd 1958: 170-180.
Самуэль Батлер и его восприятие интеллектуальной «дарвиновской революции»... 333
IV
Созданию благоприятного климата для интеллектуальной «дарвиновской революции»
способствовала идеология английского либерализма, ведущее положение в которой
занимала философская позитивистско-утилитарная школа во главе с Джоном Стюартом
Миллем (1806—1873) и Гербертом Спенсером (1820—1903). Английские позитивисты
восприняли эволюционные идеи Дарвина в качестве естественнонаучной базы для своих
социологических теорий с тем большей легкостью, что гносеологическая доктрина
французского основоположника системы позитивизма Опоста Конта (1798—1857) изначально
предусматривала «неизменную иерархию» «шести основных наук», в рамках которой
биология и социология оказывались соседними ступенями знания (см.: Конт 1910: 72).
Милль полагал, что социология должна опираться на «всеобщие законы
человеческой природы», диктуемые «свойствами человека и условиями его местопребывания».
Он учил:
Если законы социальных явлений, извлеченные из эмпирического обобщения истории
<...>, могут слагаться в известные уже законы человеческой природы <...>, то эмпирические
обобщения поднимаются до степени позитивных законов, и социология становится наукой
(Милль [б. г.]: 72, 73).
Соответственно, те англичане, которые мыслили категориями контианской
философии, — здесь можно вспомнить о Генри Томасе Бокле (1821—1862) с его «Историей
цивилизации в Англии» (1857—1861), — стремились поднять «эмпирические законы
истории» до «степени позитивных законов» и таким образом превратить социологию в
науку. Среди них наиболее видное место принадлежит Герберту Спенсеру.
Еще до появления дарвиновских трудов Спенсер был хорошо известен в кругах
интересовавшейся идеей эволюции английской интеллигенции своими выступлениями
в защиту этой идеи. Он отстаивал мысль о всеобщем развитии не только в своих
ранних и сравнительно малоизвестных статьях начала 1850-х годов, но и в таких крупных
произведениях, как «Социальная статика» (1850) и «Принципы психологии» (1855). Вслед
за Контом и Миллем в своих взглядах на общество Спенсер исходил из понятия
общественного организма, законы которого аналогичны законам биологического организма.
Считая естественный отбор, описанный в «Происхождении видов», частным случаем
открытого им закона эволюции (см.: Spencer 1864: 457), Спенсер широко пользовался
теорией Дарвина в своей социологии1.
Его примеру следовали многие позитивисты 1860—1870-х годов. При том, что
социологическое содержание их построений было различным, их исходным пунктом был
один и тот же вопрос: если Дарвин открыл «непреложный порядок» биологической
эволюции, не является ли он основой, на которой покоится «непреложный порядок»
моральной эволюции человека? Такая постановка вопроса казалась вполне
закономерной, ибо «моральное бытие человека», рассматриваемое как «продукт умственной
энергии», понималось
просто как функция физиологической структуры, которая в свою очередь представляет
собой всего лишь комбинацию материи <...>. Плохое и хорошее поведение, теория добра и
зла, этические системы — все имеет своим фундаментом изменения, порожденные
законами материи (Ganz 1938: 192)2.
1 Подробнее см.: Greene 1954: 419-447; ср.: Нарский 1960: 75-109.
2 Обзор социологических работ 1860—1870-х годов приведен в этом же издании.
334
И. И. Чекалов
Вместе с тем в тех же кругах позитивистской интеллигенции, — например, в
кружке, группировавшемся вокруг Джона Морли (1838—1923), сменившего в 1867 году
Джорджа Льюиса на посту редактора журнала «Двухнедельное обозрение», — раздавались
скептические голоса относительно увлечения модными понятиями «эволюция»,
«приспособление к среде», «выживание», «естественный отбор», которые не могут служить, по
выражению Морли, «патентованными отмычками, открьшающими все двери»1. В
своем трактате «О компромиссе» (1874) Морли подверг критике социологию Спенсера за
то, что она всегда учитывает влияние на человека окружающей среды, но никогда не
учитывает роли его воли и разума (см.: Морлей 1896: 34, 35, 106—109).
Начиная с 70-х годов наблюдается все усиливающаяся реакция на позитивисгско-социо-
логические интерпретации дарвиновской теории. В 1871 году Джордж Миварт (1827—1900),
ученик и друг Томаса Гексли, опубликовал книгу «О происхождении видов», в которой он
утверждал, что «система Дарвина не может объяснить происхождение человеческого
интеллекта и, сверх того, его моральных интуиции». Хотя он и отводил принципу
естественного отбора определенную сферу действия, он не рассматривал его как универсальное
начало биологического развития: большое значение он придавал «присутствию в организме
внутренних сил, направляемых неизвестным телеологическим принципом» (Ganz 1938: 206).
V
В романе Джордж Элиот «Миддлмарч» семидесятилетняя миссис Фербратер
говорит молодому врачу Лидгейту:
— Достаточно помнить несколько простых истин и всё с ними согласовывать... В дни моей
молодости, мистер Лидгейт, ни у кого не было никаких сомнений, что хорошо, а что дурно.
Мы учили катехизис, и ничего больше не требовалось, мы знали символ веры и свои
обязанности. Между священнослужителями не было никаких духовных разногласий. А теперь вам
будут возражать, даже если вы прямо читаете из молитвенника.
— Довольно приятная эпоха для тех, кто любит придерживаться собственной точки
зрения, — заметил Лидгейт (Элиот 1981: 197).
Представленный здесь временной контраст — противопоставление той эпохи, когда
было «достаточно помнить несколько простых истин и всё с ними согласовывать»,
времени, когда «вам будут возражать, даже если вы прямо читаете из молитвенника», — был
злободневен для англичан, впервые знакомившихся с романом Элиот, и они, вероятно,
без труда переходили от обсуждения сетований миссис Фербратер и оптимизма
ответной реплики Лидгейта к обсуждению меланхолических сетований
«Северобританского обозрения» и оптимизма «Вестминстерского обозрения» в связи с дарвиновской
полемикой: ведь «Миддлмарч» выходил отдельными выпусками с декабря 1871 года по
ноябрь 1872 года и, таким образом, имел полное основание восприниматься в качестве
как раз «нового последнего романа», который, по словам критика «Эдинбургского
обозрения», «в гостиной соперничает» с трудом Дарвина «Происхождение человека».
Полемика по поводу теории Дарвина и круг вопросов, поднятых в ней, оставили
глубокий след в английской литературе второй половины XIX века. Особенности
творческого развития многих английских поэтов и писателей этого периода, их
напряженные этические поиски, система их философских взглядов, пусть и не всегда прямо,
связаны с ее материалами.
1 Цит. по: Himmelfarb 1962: 297.
Самуэль Батлер и его восприятие интеллектуальной «дарвиновской революции»... 335
Хотя викторианский поэт-лауреат Альфред Теннисон (1809—1892) никогда не
отказывался от своих консервативных предубеждений против дарвиновских эволюционных
идей, приводивших, по его мнению, к отрицанию религии и, следовательно, к
безнравственности, его современники — почитатели таланта поэта — часто относили Теннисо-
на к «предшественникам Дарвина», ибо в теннисоновской поэме «In Memoriam» (1850)
природа в некоторых ее описаниях представала «бессмысленно жестокой и
расточительной» — такой, какой ее увидели многие англичане, прочтя «Происхождение видов» (см.:
Himmelfarb 1962: 227-232).
Другие же крупные викторианские поэты не разделяли опасений Теннисона
относительно теории Дарвина. Роберт Браунинг (1812—1889), Мэтью Арнольд (1822—1888),
Алджернон Суинберн (1837—1909) и Артур Клаф (1819—1861) положительно относились
к дарвиновской эволюционной концепции и учитывали ее в своих представлениях о
мире1.
Полемика, вызванная эволюционной теорией Дарвина, дала толчок дальнейшей
интеллектуализации английского романа, обострив внимание писателей-романистов к
проблемам миросозерцания и этики, выведенным позитивистским агностицизмом за
пределы безраздельного господства традиционной религиозной догмы викторианского
англиканства.
К самой теории Дарвина Джордж Элиот (псевдоним Мэри Энн Эванс, 1819—1880),
принадлежавшая к старшему поколению плеяды английских романистов 1860—1870-х
годов, осталась равнодушной. Она признавалась:
На меня эволюционная теория и все другие объяснения процессов, посредством которых
происходило становление явлений, производят слабое впечатление по сравнению с загадкой,
которая кроется за процессами (Deakin 1913: 167).
Позиция Элиот в отношении христианства определилась еще до начала
дарвиновской полемики. Если старая христианская религия непригодна, считала она, это не
означает, что человек может существовать без всякой религии. Христианство она, вслед за
Фейербахом, предлагала заменить культом альтруизма. «"Небо, помоги нам", —
говорила старая религия. Новая религия, — утверждала Элиот, — из-за самого недостатка
этой веры научит нас еще больше помогать друг другу» (Hanson, Hanson 1952: 169).
Активная сотрудница позитивистского журнала «Вестминстерское обозрение»,
гражданская жена Джорджа Льюиса и друг Герберта Спенсера, она тем не менее, будучи в
курсе всех интеллектуальных новшеств эпохи, заранее заказала для себя экземпляр
первого издания «Происхождения видов» и, прочитав дарвиновский труд, пристально
следила за ходом полемики, развернувшейся вокруг него (см.: Himmelfarb 1962: 298—299).
Так же как Элиот, Джордж Мередит (1828—1909), отказавшись от христианского
религиозного вероучения, «верил в возмездие на земле с тем большей твердостью, что
не верил в воздаяние на небе» (Himmelfarb 1962: 403), однако в отличие от своей
старшей современницы он испытал значительное влияние дарвиновской теории эволюции,
непосредственное воздействие которой отразилось в его философских представлениях.
В соответствии с ними существование человека подчинено «заповедям Матери-Земли»,
то есть законам природы, из лона которой он вышел, и в идеальном человеке
предусмотрена гармония трех начал — эгоистически животного инстинкта («кровь»),
интеллектуального начала («разум») и начала нравственности («дух») — при направляющей
роли двух последних. Однако реальный человек, хотя и эволюционирует в сторону
гармонического развития, еще далек, по Мередиту, от совершенства и, задерживаясь на той
1 Подробнее см.: Cochshut 1964; Roppen 1956.
336
И. И. Чекалов
или иной низшей ступени своей эволюции, может отклоняться от ее нормального хода.
Нравственные аномалии, составляя область комического — ведь как раз и смешно то,
что ущербно, — являются предметом внимания писателя в его зрелом творчестве (см.:
Захаров 1961: 106-120).
Для формирования мировоззрения Томаса Харди (1840—1928) теория Дарвина и
полемика вокруг нее имели решающее значение. Попав из провинциального
Дорсетшира в атмосферу горячих интеллектуальных споров Лондона 1860-х годов, он задавал
себе вопросы, аналогичные тем, которые несколько раньше возникали у Джордж Элиот.
«Почему христианство, — спрашивал он, — не признает себя побежденным и не скажет:
"Меня победили", — и не даст возможность другой религии занять ее место?» (Hardy
1954: 297). Так же как многие современники Дарвина, Харди осмыслил
естественнонаучные открытия натуралиста в этико-философском плане. Он писал в конце жизни:
Наиболее далеко идущее следствие установления общего происхождения всех видов —
этическое <...>. Оно логически включает перестройку альтруистической морали <...>
применением того, что называют «золотым правилом», за пределы области человечества на всю
сферу животного царства. Возможно, что сам Дарвин полностью не осознавал этого, хотя
об этом и упоминал (Hardy 1930: 141—142).
Однако «золотое правило» — и здесь заключается, по мнению Харди, неразрешимое
противоречие жизни — не применимо полностью к высшим формам существования:
если развитие человеческого общества движется по неумолимым законам естественного
отбора, обеспечивающего прогресс ценою бесчисленного количества неприспособивших-
ся «жертв», разве не трагично, что «жертвы» наделены способностью разумных существ?
«Эмоциям не место в ущербном мире, — утверждал писатель, — жестоко и
несправедливо, что они развились в нем. Если бы сам Закон обладал сознанием, как бы ужаснул
его и наполнил раскаянием вид созданных существ» (Hardy 1928: 198)1. Трагическое
мироощущение Харди связано с вопросом о сущности человеческого бытия, возникшим
во время полемики вокруг Дарвина и его теории: вместо благостной воли Провидения —
бессознательный мировой Закон. «Эта система закона, эта решимость рассматривать акт
творения только как закон, — читаем в "Ежеквартальном обозрении" ("Quarterly Review")
за 1860 г., — не оставляют места для свободного личного действия человека или Бога»2.
Спустя годы после завершения «дарвиновской революции» Оскар Уайльд (1854—
1900), уже не принадлежавший к поколению первых читателей трудов Дарвина, указал
на ее огромный общественный резонанс. Для Уайльда была очевидной ее связь с
кризисом викторианской религиозной догмы. «Благодаря деятельности двух людей, —
писал он в очерке "Критик как художник" (1890), — девятнадцатый век знаменует собой
поворотный пункт в истории: Дарвин критически пересмотрел Книгу Природы, Ренан —
Книги Божественного Откровения» (Wilde 1914: 216).
Отмеченная Уайльдом связь запечатлена в творчестве Самуэля Батлера. Автор
«Едгина» и «Пути всякой плоти», вероятно, не стал бы возражать рецензенту журнала
«Зритель», утверждавшему, что «мистер Дарвин превратил происхождение и
последовательное развитие живых видов в ведущую философскую проблему дня». Во всяком
случае, эволюционная теория Дарвина и споры вокруг нее были не только предметом
постоянного и пристального внимания Батлера, но и в решающей степени определили
1 Ср.: «Эта планета не снабжает более высокие формы существования материалом для
счастья. Быть может, другие планеты снабжают, хотя едва ли можно видеть, каким образом» (Ibid.:
288). Диалог о планетах см. также в: Гарди 1955: 286.
2 Quarterly Review. 1860. Vol. 14. P. 305. Цит. no: Ellegàrd 1958: 150.
Саму эль Баталер и его восприятие интеллектуальной «дарвиновской революции»... 337
круг его интересов и характер его этических воззрений. Знакомство Батлера с
«Происхождением видов» способствовало перевороту всего его мировоспршггия,
окончательно разрушившему веру в догматы Англиканской церкви. Стремление разобраться в
вопросах биологической эволюции и на основе их разрешения представить себе
натурфилософскую картину мира, возникшее у него в ходе чтения труда Дарвина, послужило
Батлеру интеллектуальным стимулом, составившим движущий момент всего его
творчества.
VI
Дед автора «Пути всякой плоти» епископ Личфилдский и Ковентрийский Самуэль
Батлер-старший (1774—1839) основал известную школу в Шрусбери, выпускником
которой был Чарлз Дарвин, учившийся там вместе с Томасом Батлером (1806—1886), отцом
писателя и лангарским каноником. Эту школу окончил и Самуэль Батлер-младший,
названный в честь деда, крестившего его. Социальное положение, воспитание и
образование крестника епископа Личфилдского благоприятствовало духовной карьере:
вопрос о ней был настолько ясен, что даже не обсуждался в семье. «Я всегда думал, —
писал Батлер впоследствии в своей автобиографии, — что приму сан священника, как
только кончу университет» (Butleriana 1932: 6).
По свидетельству самого писателя и его биографа Фестинга Джонса, и во время
учебы в Шрусбери (1848—1854 гг.), и в студенческие годы в Кембриджском университете
(1854—1858 гг.) Батлер был далек от того, чтобы испытывать какое бы то ни было
влияние свободомыслия. Он, как и герой его будущего романа, даже не подозревал, что
таковое может вообще существовать (см.: Jones 1919/1: 58).
В 50-е годы XIX века система английского образования почти полностью
контролировалась Англиканской церковью. Воздействие идей свободомыслия французских и
английских рационалистов XVTH века, столь сильное в Англии еще в первой четверти
XIX века, было заметно ослаблено. И все же, судя по пометам Батлера на полях
Библии, которые относятся, по всей видимости, к последнему году его пребывания в
Кембридже (см.: Fort 1935: 50), он отказывался слепо следовать букве библейских заветов.
Два первых года учения в университете Батлер изучал математику в качестве
специальной дисциплины. В этических заповедях Библии он искал логическую
последовательность математических доказательств. Искал, но не находил. Отсюда и появились
его первые сомнения. Их примером служат комментарии Батлера на полях Послания
к Римлянам святого апостола Павла1. Батлер читал в Послании:
Ибо, когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом,
действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти; но ныне, умерши для закона,
которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа,
а не по ветхой букве (Рим. 7: 5—6).
И недоумевал:
Какой современный христианин настолько свободен от греховности, чтобы сказать:
«...когда я жил (выделено Батлером. — И.Ч.) по плоти», — как будто она теперь его не
беспокоит? Где живут такие люди? Можно ли на них посмотреть? (Цит. по: Fort 1935: 53—54).
1 Все цитаты и ссылки на Библию даются в наст. изд. по ее синодальному переводу (изд.
Московской Патриархии, 1956—1968).
338
И. И. Чекалов
Читая в том же «Послании», что «живущие по плоти о плотском помышляют» (Рим.
8: 5) и что «плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не
покоряются, да и не могут» (Рим. 8: 7), Батлер опять недоумевал: «Если те, кто живет
по плоти, не могут угодить Богу, и если все-таки все, кто помышляют о плотском, живут
по плоти, кто же будет спасен?» (цит. по: Fort 1935: 53).
Для Батлера подобные сомнения имели большое значение: готовясь к посвящению
в сан в одном из приходов Лондона, он присутствовал при обряде крещения и
чувствовал необходимость понять догмат Церкви о «первородном грехе». Если грех продолжал
тяготеть над человеком и после обряда крещения, как гласил пятнадцатый догмат
Англиканской церкви1, ссылавшийся на Первое соборное послание святого апостола Иоанна
Богослова2, в чем же заключается, спрашивал себя Батлер, разница между
христианином и язычником? Он не находил ответа на свой вопрос ни в самом тексте Библии, ни
у англиканских ее комментаторов. Не мог разрешить его сомнений и каноник Томас
Батлер. Переписка между ними, в которой сначала речь шла о проблемах богословия,
перешла на обсуждение будущей профессии (см.: FL 1962: 66—89). Батлер-сын отказывался
становиться священником, потому что он «не мог воспринять учение Церкви с той
серьезностью <...>, с которой его должен воспринимать священник» (Butleriana 1932: 6).
Выбор профессии был нелегким. Он осложнил отношения Батлера с семьей. Но
решение отказаться от духовной карьеры было непреклонным. В письме матери от 10 мая
1859 г. он писал в момент наиболее острых разногласий с родителями по вопросу о
выборе профессии:
У меня есть обязанности перед самим собой, выполнять которые еще более необходимо,
чем обязанности перед родителями <...>. Никто не имеет права выбирать профессию, если
искренне не считает себя к ней подготовленным и соглашается лишь для того, чтобы угодить
кому-нибудь другому. Сейчас я уже достаточно взрослый, чтобы знать, к чему я стремлюсь
<...> (Jones 1919/1: 65).
Среди исследователей и до сих пор существует мнение, что Батлер преувеличил свои
юношеские представления о давлении, которое на него якобы оказывала семья по вопросу
о выборе профессии (см., напр.: Deveize 1994: 104—113). Гендерсон, например, пишет:
Фестинг Джонс создает впечатление, усиливаемое романом «Путь всякой плоти», что
каноник Батлер пытался насильно заставить своего сына принять сан священника, угрожая
прекратить материальную поддержку, в случае если он не подчинится, но в письмах,
которыми они обменивались в это время, нет ничего такого, что поддерживало бы подобную
точку зрения (Henderson 1954: 26).
Насколько позволяют судить опубликованные письма, действительно Томас Батлер
нигде прямо не говорит, что он запрещает своему сыну избрать какую-либо другую
карьеру, кроме духовной, и в письмах даже встречается фраза: «Я уже пятьдесят раз
твердил тебе, что не желаю силой приобщать тебя к Церкви» (FL 1962: 72). В ней, впрочем,
явно сквозит раздражение, и ведь давление можно оказывать не только прямо, но и
косвенно. Навряд ли спор о выборе профессии затянулся бы так долго, сопровождался
бы столькими взаимными обвинениями, если бы в Лангаре не испытали, по крайней
мере, разочарование из-за того, что Самуэль изменяет освященной поколениями
семейной традиции, заявляя, что хочет стать живописцем. У нас нет оснований не
1 «Хотя мы все <...> крещены и рождены снова во Христе, все же во многом грешны» (цит. по:
Fort 1935: 61).
2 «Если говорим, что не имеем греха, — обманываем самих себя, и истины нет в нас» (1 Ин. 1:8).
Самуэль Батлер и его восприятие интеллектуальной «дарвиновской революции»... 339
доверять свидетельству Самуэля Батлера из уже цитировавшегося письма к матери от
10 мая 1859 года: «<...> если бы я ни слова не сказал о том, что не хочу принимать сан, все
было бы хорошо». В наличии семейного конфликта не приходится сомневаться, но он был
улажен. Было решено, что Батлер уедет в Новую Зеландию и займется там фермерством.
Отправляясь в 1859 году в другое полушарие, на борту корабля Батлер впервые в жизни
перестал читать утренние и вечерние молитвы. «Они слетели с меня <...> раз и навсегда», —
писал Батлер в своих автобиографических заметках (Butleriana 1932: 6), а в «Записных
книжках» он так подвел итог своему вступлению в самостоятельную жизнь: «Я должен
был украсть право первородства, я украл его и был жестоко наказан. Но я спас живой
свою душу» (NB 1913: 182).
Отказ Батлера от духовной карьеры стал началом постепенного изменения его
взглядов на религию. В январе 1861 года он порывает с «устаревшими догматами» и
переходит на позиции «более счастливого латитудинаризма», замечая при этом, что его «вера
в Иисуса Христа так же сильна, как и прежде» (Jones 1919/1: 96). Однако вскоре
отношение Батлера к христианству меняется еще более радикальным образом. Вот что он
пишет в письме своему товарищу по Кембриджскому университету в середине 1862 года:
В настоящее время я полностью отрицаю христианство. Ты говоришь, что люди
должны во что-то верить. Я могу только на это сказать, что не почувствовал, чтобы у меня
расстроилось пищеварение в тот момент, когда я перестал верить в то, что не оказалось
подтвержденным достаточными доказательствами. В церковь же я не хожу уже более года (Henderson
1954: 50).
Столь резкий для Батлера переход от «счастливого латитудинаризма» к полному
отрицанию христианства совершился под влиянием различных факторов. Он читал
книгу Эдварда Гиббона (1737—1794) «Величие и падение Римской империи» (1776—1788),
из которой почерпнул «спокойное и философское умонастроение беспристрастного
критического исследования» (Henderson 1954: 49), знакомился с книгами по
исторической критике Библии и, в частности, с работой епископа Коленсо «Пенталогия» (см.: Jones
1959: 52). Наиболее же значительное влияние на Батлера оказало изучение труда
Дарвина «Происхождение видов».
«Происхождение видов» появилось в Новой Зеландии в 1860 году (см.: Fort 1935: 73).
Батлер прочитал дарвиновский труд в 1860 или в начале 1861 года и стал «одним из
многих горячих поклонников теории Дарвина» (Butler 1911: 4, 11).
Как говорил Батлер художнику Дж.-Б. Иитсу, чтение «Происхождения видов»
полностью развеяло его веру в антропоморфного Бога (см.: Willey 1960: 63). «Он не верит, —
записывал в дневнике свой разговор с Батлером Эдвард Чадли, — что на свете
существует некое огромное неземное существо, которое проникает во всякое пространство и
всякую материю». Как свидетельствует Чадли, Батлер признавал только этическое
значение Библии. По словам Чадли, в этот период Батлер — «ультрадарвинист». «Он
думает, что через двести лет на Дарвина будут смотреть как на самого замечательного
философа и, возможно, пророка» (Jones 1959: 85).
Возвратившись в 1864 году в Англию, Батлер по-прежнему считал себя
последователем Дарвина, и его энтузиазм по отношению к эволюционным идеям натуралиста не
уменьшился. «Я всегда восхищался, — писал Батлер Дарвину в 1865 году, — Вашим
"Происхождением видов" <...>. Оно трактует так много глубоко интересных вопросов или,
скорее, наводит на размышление о столь многом, что оно просто очаровало меня» (Jones
1919/1: 124). О том, какой переворот совершили труды Дарвина в мировосприятии
современников, он писал в 1877 году:
340
И. И. Чекалов
Мистер Дарвин заставил нас увидеть, что существует эволюция <...>. Еще не прошло и
двадцати лет с тех пор, когда нельзя было встретить никого, кто это признавал. Время от
времени мы только слышали, что на свете есть очень опасная книга под названием «Следы
творения» (имеется в виду книга Роберта Чемберса. См. примеч. 2 к гл. 47. — И.Ч.), которую
надо избегать, как льва на охоте. Из страха поколебать свою веру мы говорили, что не
будем читать ее, и, качая головой, разглагольствовали о дерзостном безбожии сих
поверхностных рассуждений. Разве не была написана Книга Бытия для того, чтобы просветить нас в
этих вопросах? А сегодня, найдется ли сегодня тот, кто всерьез надумает отрицать общие
принципы эволюции? (Life and Habit 1878: 275—276).
VII
Вызванный «Происхождением видов» интерес Батлера к проблемам биологической
эволюции никогда не ослабевал, и он написал ряд работ в этой области. Его книга
«Жизнь и привычка» (1877) была первой из данной серии. Затем последовали:
«Эволюция — старая и новая» (1879), «Бессознательная память» (1880), «Удача или
сообразительность как главное средство органических изменений» (1886), «Тупик дарвинизма» (1890).
При том, что внимание Батлера к вопросам эволюции всегда сохранялось на
неизменно высоком уровне, его отношение к теории Дарвина менялось. В своих работах на
научные темы Батлер со все возрастающей резкостью критиковал дарвиновское учение
о естественном отборе.
Эволюция жизни в понимании Батлера — это шествие природы от неких первобытных
и примитивных зародышей жизни до сложного человеческого организма в виде
непрерывной цепи усложняющихся форм, так что опыт каждого предшествующего звена
автоматически усваивается, запоминается звеном последующим. Писатель утверждает:
Любое человеческое существо — не что иное, как свежее издание первобытной клетки
с новейшими добавлениями и исправлениями: преемственность нигде не претерпевала ни
скачка, ни разрыва. Человек сегодняшнего дня представляет собой первобытную клетку
миллионной давности на том же основании, на котором человек сегодняшнего дня есть тот же
человек дня вчерашнего <...>. Каждый является как самим собой, так и своими предками и
потомками по прямой линии (Butler [s. d.]: 399).
Движущей пружиной эволюционного развития у Батлера служит сознательное
усилие организма, закрепляющееся в наследуемой от поколения к поколению привычке при
помощи автоматической, бессознательной памяти (см.: Butler 1879: 30—31). Своим
собственным вкладом в эволюционное учение Батлер считал идею о бессознательной
памяти как средстве, при помощи которого сохраняется и накапливается усвоенный опыт
(Ibid.: 66—67). Остальные элементы своего понимания эволюции Батлер возводил к
своим предшественникам.
Батлер основывался на идеях Джорджа Бюффона (1707—1788), Эразма Дарвина
(1731-1802) и Жан-Батиста Ламарка (1744-1829).
Он стремился противопоставить эти идеи учению Чарлза Дарвина о естественном
отборе. Принцип естественного отбора, по мнению Батлера, исключал воздействие на
эволюцию органического мира таких факторов, как сознание, воля, разум. Против этого
и были направлены его основные возражения1. В учении Дарвина принцип естественного
1 Критикуя Дарвина, Батлер прибегал и к личным выпадам против натуралиста, что привело
к ссоре между ними и разрыву личных отношений. Подробней см.: Дарвин 1957: 144, 231—232;
Darwin 1959: 240-250;Jones 1919/2: 430-439.
Самуэль Батлер и его восприятие интеллектуальной «дарвиновской революции»... 341
отбора является главным средством органической модификации, и потому, считал
Батлер, чистая случайность определяет ход эволюционного развития. При этом
получалось, что человек становится рабом слепой случайности, а его способность к
разумным действиям — ненужным придатком (см.: Butler 1920: 139). Таким образом,
критическое отношение Батлера к принципу естественного отбора обусловливалось тем, что
он не желал принимать данный принцип в качестве закономерности, детерминирующей
человеческое существование.
Если отношение Батлера к англиканскому вероучению, по существу, не менялось —
еще в Новой Зеландии он отказался от традиционного религиозного миросозерцания,
чтобы никогда больше к нему не возвращаться, — то его позиция по отношению к
научной мысли своего времени и прежде всего учению Чарлза Дарвина, которое имело
едва ли не самое существенное значение для его разрыва с викторианской религиозной
догмой, претерпела значительные изменения: из страстного почитателя
«Происхождения видов» Батлер превратился в яростного противника учения о естественном отборе.
Выступая против Дарвина и его последователей, Батлер был склонен приписывать
научной мысли своего времени те же самые свойства, которые он порицал в религии.
«Наука, — писал он, — с каждым днем все больше персонифицируется и превращается
в антропоморфного Бога» (NB 1913: 339). Увлеченный этой полемической параллелью,
он часто рассматривал науку как своеобразный религиозный культ со своими
служителями и предметами поклонения, слепое почитание которых может привести к такому
же забвению истины, как и в случае религии (см.: NB 1913: 340).
VIII
Так же как многим позитивистам 1860-х годов, прогресс рисовался молодому Бат-
леру победоносным шествием человека ко все более совершенным биологическим
формам своего существования. В Новой Зеландии, вскоре после прочтения
«Происхождения видов», он был уверен, что
придет время, когда человек, настолько же отличный от нынешнего, как нынешний от
червя, оглянется на нас так, как мы оглядываемся на силурскую эпоху. Имена всех великих
людей, оказавших влияние на мир, будут забыты, а опыт их, измененный и бесконечно
усовершенствованный, будет передаваться от поколения к поколению таким же путем, как нам
передается изобретение первого рычага, колеса и блока. Дайте миру время, бесчисленное
количество эпох <...>, и человек станет не только ангелом, но архангелом (Jones 1959: 85).
В период работы над книгой «Жизнь и привычка» Батлер, излагая эволюционные
идеи, которые должны были составить основу будущей книги, заключил письмо к
одному из своих корреспондентов словами: «Полагаю, что все это есть у Герберта
Спенсера» (Fort 1935: 157). Вполне вероятно, что Батлер при этом имеет в виду статью
Спенсера «Гипотеза развития» (1852), которая была известна Батлеру, цитировавшему ее в
книге «Эволюция — старая и новая» (Butler 1879: 330—334). В своей статье Спенсер, в
частности, писал:
Рассматривая вещи скорее с точки зрения статической, чем динамической, люди
обыкновенно не могут себе представить, чтобы путем мелких приращений и изменений могло
произойти любое изменение. Удивление, испытываемое при виде того, как тот, кого они в последний
раз видели мальчиком, превратился во взрослого мужчину, переходит в полное недоверие,
когда степень изменения становится более значительной. Тем не менее мы имеем много при-
342
И. И. Чекалов
меров того, как путем совершенно незаметных градаций можно перейти от одной формы к
форме, коренным образом от нее отличающейся (цит. по: Богомолов 1962: 80).
В книге «Жизнь и привычка» Батлер, по сути, и пытается представить, как из
первобытных зародышевых форм жизни «путем мелких приращений и изменений» с
течением времени могла развиться такая сложная структура, как человеческий
организм. Утверждая, что «человек сегодняшнего дня представляет собой первобытную
клетку миллионной давности», Батлер опирается на рассуждение Спенсера о мальчике
и старике: если мы говорим о том, что ребенок и старик, в которого со временем
превращается ребенок, является одним и тем же человеком, то почему нельзя говорить,
спрашивает Батлер, об аналогичной идентичности между ребенком и эмбриональной
формой, из которой он появился на свет, и т. д. вплоть до первоначальной органической
формы.
Направление мыслей Спенсера в его ранних работах по вопросам эволюции
настолько совпадало с размышлениями Батлера на те же темы, что последний счел
необходимым дать разъяснение: он отрицал факт прямого заимствования у Спенсера, полагая, что
тот слишком туманно и нечетко выражал свои начальные эволюционные представления
и было невозможно понять, что, собственно, заключено в них (см.: Jones 1919/1: 410).
Даже если согласиться с Батлером, едва ли это позволит усомниться в том, что в
целом «синтетическая философия» Спенсера оказала значительное влияние на
становление и развитие философских взглядов автора «Жизни и привычки»: слишком много
имеется аналогий в их толковании и этическом осмыслении идеи эволюционного развития.
Так же, как Спенсер1, положивший в основу своей «религиозно-эволюционной
доктрины» данные естественных наук, Батлер стремится вывести из законов
естествознания — законов происхождения и развития биологических видов — некие всеобщие
закономерности развития.
Однако механистическая направленность философии Спенсера шла вразрез с интуи-
тивистскими поисками Батлера. Позиции Батлера и Спенсера, в частности,
решительно не совпадали по отношению к учению Дарвина о естественном отборе.
Спенсер, которого причисляют к основоположникам социал-дарвинизма, широко
пользовался принципом естественного отбора в своих социологических построениях.
Биологическую борьбу за существование он целиком распространял на общественные
отношения: «Как среди животных, так и среди людей, — утверждал он, — более слабые
исчезают, предоставляя более сильным продолжать род» (Spenser 1919/2: Арр. В, 314).
«Переживание наиболее приспособленных» составляет, по Спенсеру, одно из основных
орудий прогресса, отсюда следует благотворная роль войн в совершенствовании
общественной организации» (см.: Spenser 1893/2: 339—342, 569).
Исходная позиция Батлера относительно дарвиновского «Происхождения видов»
была та же, что и у многих позитивистов 1860—1870-х годов: он перенес принцип
естественного отбора из области биологии на сферу социальных отношений. Однако он вскоре
увидел, что оптимистическая картина прогресса человечества, нарисованная им сразу
после прочтения «Происхождения видов», не удовлетворяет его: признание стихийной
борьбы за существование всеобщим законом развития лишает человека возможности
использовать разум и волю для изменения к лучшему своей жизни.
Критика Батлером принципа естественного отбора была связана в первую очередь с
тем фактом, что авторы социологических интерпретаций теории Дарвина 1860-х годов —
а именно они объявили естественный отбор движущей пружиной всякого органического
развития, затрагивающего и человеческое общество, — не поняли опасности абсолютиза-
1 Подробнее о Спенсере см., напр.: Нарский 1960.
Самуэль Батлер и его восприятие интеллектуальной «дарвиновской революции»... 343
ции этого принципа. Батлер уловил антигуманистический характер превращения
естественного отбора в «вечный двигатель» общественного развития. Однако, не расставшись
с прочно укоренившимся в нем представлением о том, что над социологией тяготеет
биология, он искал лишь иную формулу всеобщего развития и нашел ее для себя в
психоламаркистском витализме.
IX
Отправная точка натурфилософии Батлера заключена в его собственном
художественном творчестве. Оно служило ему лабораторией мысли. Его привлекали
драматические интеллектуальные коллизии, возникавшие в ходе дарвиновской полемики.
Именно они побуждали его к творчеству. В свои поздние годы в письме к одному из своих
корреспондентов он признал, что его «привлекает и волнует только практическая
сторона литературной деятельности», т. е. «такие литературные занятия, которые
способствуют разрешению какой-либо трудной проблемы» (Jones 1919/1: 321). Чтение
«Происхождения видов» поставило перед Батлером такие проблемы и дало толчок к началу
его творчества. Впервые писатель обратился к теме дарвиновской эволюции в своих
новозеландских очерках. В одном из них — «Дарвин среди машин» (1863) — утверждалось,
что принцип постепенного развития от простейших форм к сложным,
продемонстрированный в «Происхождении видов» на примере царства животных, может принести не
менее поразительные результаты, если рассмотреть под этим углом зрения «царство
машин»:
Постоянно усовершенствуя машины, в один прекрасный день мы можем превратиться
в низшую расу, с трепетом и ужасом взирающую на безмятежные и могущественные
машины (Jones 1959: 83-84).
В другом новозеландском очерке — «От нашего безумного корреспондента» (1863) —
рассказывалось о том, как некий безумец, уверовав в идею автора «Дарвин среди
машин» и решив покончить с машинами, разрушил все машины у себя дома, но в ответ на
это его жена и дети, не разделявшие его луддитских убеждений, покинули его. Тогда,
ввергнутый в отчаяние, он решил перейти на сторону врага. «Отныне, — заявил он, — я
буду считать машины своими друзьями и посвящу остаток своих дней их
усовершенствованию» (Jones 1959: 197).
Наконец, в третьем очерке, опубликованном в новозеландской прессе уже после
отъезда Батлера в Англию, «Пьяное ночное бдение» (Lucubratio Ebria, 1865), читателю
предлагался взгляд на машины и различные приспособления как на «внешние органы»
человека, которыми он пользуется по своему усмотрению: очки увеличивают силу
зрения, записная книжка расширяет возможности памяти, поезд служит дополнительным
средством передвижения. Чем богаче человек, тем большим количеством «внешних
органов» он обладает. Отсюда следовал вывод: «...основные виды и подвиды
человеческого рода следует искать не среди негров, черкесов, малайцев или американских
аборигенов, а среди бедных и богатых» (NB 1913: 52).
Новозеландские очерки Батлера пронизаны иронией. Излюбленная авторская поза —
повествование от имени «безумного корреспондента». Подлинные убеждения автора при
этом маскируются, а сам процесс творчества проходит, по уверению автора, в
состоянии «lucubratio ebria» (пьяного ночного бдения). Именно тогда автора посещают
«пророческие видения», являющиеся «сиамскими близнецами» его интеллекта, «один из
которых — суть, а другой — тень», и автор не может «отделить одного из них от другого»,
344
И. И. Чекалов
то есть он «не в состоянии грубо сорвать покрывало воображения, в которое облечена
истина», поэтому он представляет читателю «задрапированную фигуру», и читатель сам
должен решить, где истина, а где ее тень (см.: NB 1913: 48).
Эстетическая позиция, намеченная Батлером в новозеландских очерках, нашла свое
дальнейшее выражение в «Едгине», первом значительном произведении писателя. «Едгин»
создавался в два этапа — 1863—1870 годы, когда Батлер работал над отдельными
фрагментами, и 1870—1871 годы, когда он объединил эти фрагменты в композицию единого
произведения. В конце жизни Батлер еще раз вернулся к тексту «Едгина», подвергнув его
повторной авторской редакции и добавив несколько новых глав.
Построение «Едгина» соответствует английской традиции фантастико-сатирического
повествования, сложившегося в ХУШ веке. Образцом для Батлера служит сочинение
Джонатана Свис]эта (1667—1745)1 «Путешествия Гулливера» (1726). Произведение Батлера также
состоит из вступления, которое знакомит читателя с рассказчиком — путешественником в
реальной обстановке и описания путешествия в фантастическую страну, которое
сопровождается необыкновенными приключениями героя. Реальное путешествие сменяется
путешествием фантастическим, заканчивающимся возвращением героя в мир реальности.
Повествовательная ткань «Едгина», как и «Путешествий Гулливера», сплетена из
мотивов приключенческого путешествия, сказочной фантастики,
социально-философской утопии, аллегории. Одновременно Батлер пародирует эти мотивы. Как и Лемюэль
Гулливер, рассказчик у Батлера является и объектом критики, и выразителем авторских
положительных идей.
Рассказчик, от имени которого ведется повествование, — молодой англичанин, он
недавно покинул родные края и перебрался в ту часть света, географическое
положение которой читателю намеренно не уточняется, хотя описанием горного ландшафта
подчеркнуто сходство места действия с Новой Зеландией. Герой поселяется на ферме,
помогая ее хозяину присматривать за овцами. Молодой колонист мечтает стать
первооткрывателем новых, необжитых земель и, обосновавшись там, разбогатеть. С этой
целью он пускается в опасное путешествие в горы. После нескольких переходов он,
обнаружив расселину и благодаря ей перевалив через гребень горы, с высоты птичьего
полета видит раскинувшуюся перед ним равнину с «множеством городов, больших и
малых». Это Едгин, удивительная страна, где люди почти повсеместно выглядят
здоровыми и счастливыми.
В Едгине путешественника сначала встречают приветливо, но затем неожиданно
препровождают в тюрьму. Только выучив в тюрьме местный язык, он узнает, что попал
туда из-за своих часов, ибо закон Едгина строго запрещает пользоваться любыми
механизмами. Постепенно приобщаясь к едгинской жизни, герой не устает поражаться
необычным установлениям, нравам и обычаям страны, в которой он очутился.
У едгинцев странные для европейского слуха имена. В стране распространен «идгра-
низм» — культ поклонения богине Идгран, предписьшающий постоянно оглядываться на
то, что подумают другие. Больных и несчастных там преследуют как преступников, а
преступников лечат как больных. Торговые сделки совершаются при помощи двух
валютных систем: одна из них пользуется всеобщим уважением, но не имеет реальной
покупательной способности, другая же имеет реальную покупательную силу, но
значение ее всячески отрицается. Наибольшим влиянием в системе государственного
управления обладают «музыкальные банки», выпускающие одну из двух разновидностей
валюты — как раз ту, которая не имеет реальной покупательной способности. Молодежь
обучается в «колледжах глупости», где преподаются гипотетические «науки неразумия».
1 Об отношении Батлера к Свифту см. ниже.
Самуэлъ Батлер и его восприятие интеллектуальной «дарвиновской революции»... 345
Когда у едгинца умирает родственник или друг, он свидетельствует свое
соболезнование семье покойного тем, что посылает ей аккуратно упакованную коробочку с
искусственными слезами: количество слез отражает глубину его печали.
Если в семье едгинца должен родиться ребенок, то это тщательно скрывается до
самого момента рождения. Рождение ребенка считается величайшим несчастьем: в
Едгине господствует вера в царство «неродившихся душ». Только некоторые из них
появляются на этот свет. При рождении ребенка оформляется специальный документ,
который свидетельствует, что появившийся на свет был в царстве «неродившихся душ»,
где ему ни в чем не было отказа. Дурной нрав побудил его выйти оттуда, и теперь он
мучает двух ни в чем не повинных людей. На земле за это ребенок должен попросить
прощение и искупить свою вину: с момента рождения он является полной
собственностью родителей и обязан им беспрекословно повиноваться.
Знакомясь с историей Едгина, герой узнает, что на ее протяжении едгинцам
случалось поддаваться влиянию идей, способных поставить страну на грань катастрофы. Так,
две с половиной тысячи лет тому назад некий едгинский пророк выпустил трактат
«Права животных», в котором призвал отказаться от употребления мяса животных в пищу.
Его доводы внушили едгинцам доверие, но первое время рекомендуемый им запрет
соблюдался лишь во время жестокого падения скота. Вскоре, однако, профессор
гипотетической ботаники из «колледжа глупости» провозгласил, что растения — такие же
живые организмы, что и животные, поэтому следует запретить употребление в пищу и
растений. Его доводы также внушили доверие. После принятия соответствующих
законов в стране наступил голод, и едгинцы вымерли бы, если бы не отменили эти законы.
Вместе с рассказчиком с едгинским обществом знакомится и читатель, замечающий,
что странные на первый взгляд имена едгинцев — Ирэм, Носнибор, Идгран и т. п. — не
что иное, как анаграммы обычных английских имен: Мэри, Робинсон, Гранди (ставшее
в английском языке нарицательным имя женского персонажа — блюстительницы
приличий из пьесы «Скорость плуга» (1798) драматурга Томаса Мортона (1764?—1838)) и т. п.
Такая связь с реалиями английской жизни не случайна. Она прослеживается на
множестве других примеров. Едгинские законы, запрещающие машины, приводят читателя к
«великому спору» в едгинской истории — спору о машинах. Аргументы враждебных
сторон в этом споре повторяют доводы, которыми пользовались сторонники теории
Дарвина в ходе полемики вокруг его труда «Происхождение видов», только человек в
едгинских спорах рассматривается в связи с машиной, а не обезьяной. В речах и
приговорах едгинских судей встречаются юридические формулы английского судопроизводства
и воспроизводятся рассуждения, заимствованные из статей на юридические темы,
публиковавшихся в 1865 году лондонской газетой «Тайме»1. «Музыкальные банки» и едгинская
двойная валютная система, с одной стороны, дающая возможность обладателю
собственности продавать и покупать реальные товары, а с другой — предлагающая собственнику
право на благочестие, является пародией на могущественные общественные институты
викторианской Англии — Церковь и биржу. «Искусственные слезы» содержат язвительный
намек на ханжество общепринятой морали, «колледжи глупости» — на систему
образования в Англии середины XIX века, «неродившиеся души» — на христианские
представления о загробной жизни, обязательства, даваемые «душами» при рождении, — на жестокости
английского семейного воспитания. Как выясняется в эпилоге произведения, герой
недаром скрывает географическое положение той части света, куда он приехал из Англии: он
вынашивает коварный план быстрой колонизации едгинцев — ведь они запретили у себя
машины, и у них нет огнестрельного оружия, а следовательно, их ничего не стоит покорить.
1 Подробнее см.: Чекалов 1992: 54—66.
346
И. И. Чекалов
Хотя многое из того, что путешественник видит в Едгине, напоминает читателю
Англию второй половины XIX века, фантастический колорит едгинских нравов и
обычаев всегда сохраняется. Создавая его, Батлер пользовался этнографическим
материалом. Будучи в Новой Зеландии, он собирал сведения о быте, культуре и общественном
устройстве племен маори, коренных жителей этой страны (см.: Jones 1959).
Фантастические обычаи и нравы едгинцев родственны обычаям и нравам маори: при входе в
Едгин они соорудили огромные охранительные статуи, которые должны отпугивать
пришельцев; подобно маори, они наложили табу на болезни и машины. Они следуют мао-
рийскому принципу муру: штрафуют и наказывают пострадавших за то, что те
пострадали. Они верят, так же как и маори, в то, что находящиеся в потустороннем мире души
младенцев могут мучить души взрослых людей на земле.
Фантастический колорит тем не менее не разрушает сходства едгинцев с
англичанами — современниками писателя. Оставаясь узнаваемым, оно позволяет читателю увидеть
последних в необычном ракурсе. Так, Батлер вводит в действие эстетический принцип
«сиамских близнецов», дающий автору возможность свободно переходить от своих
критических к своим положительным представлениям. Для выражения и тех и других
используются одни и те же образы, символы, понятия. Картина едгинской
пенитенциарной системы, например, является не только сатирической по отношению к Англии
второй половины XIX века, но также содержит представления Батлера об общественном
идеале, отраженном в принципах красоты и здоровья, положенных в основу
гражданского законодательства в Едгине. Подобным же образом «музыкальные банки» иногда
трансформируются из сатирического символа в символ, воплощающий положительные
представления автора, и предстают тогда перед читателем как воплощение
«неизмеримой бессознательной мудрости прошлых эпох» (Butler 1970: 146; ср.: Ibid.: 138—139).
Композиционный стержень «Едгина» заключен в «Книге машин» — трактате едгин-
ского пророка, убедившего жителей этой страны истребить машины и запретить
пользование ими. В «Книгу машин» вошел материал новозеландских очерков писателя,
созданных под впечатлением чтения Батлером «Происхождения видов».
Читая труд Дарвина, Батлер размышлял над грандиозной лестницей развития,
высшая ступень которой — организм человека. Дарвин сравнивал искусственный отбор с
отбором естественным. Батлер сопоставил технический прогресс в обществе с
эволюцией органических форм в природе. Есть ли разница между творением человека —
машиной и творением природы — человеком? Если ее нет, если человек и машина — системы,
построенные по одинаковым принципам, то машина должна в будущем достигнуть
более совершенной ступени развития, чем человек, так как темпы технического
прогресса неизмеримо выше, чем темпы органической эволюции.
Эту проблематику Батлер представляет в «Книге машин» в виде пародии на
известное рассуждение Томаса Гоббса (1588—1679):
Человеческое искусство является подражанием природе (искусству, при помощи
которого Бог создал мир и управляет им) как во многих других отношениях, так и в том, что оно
умеет делать искусственное животное. Ибо, наблюдая, что жизнь есть движение членов,
начало которых находится в какой-нибудь основной внутренней части, не можем ли мы разве
сказать, что все автоматы (механизмы, движущиеся при помощи пружин и колес, например
часы) имеют искусственную жизнь? В самом деле, что такое сердце, как не пружина? Что
такое нервы, как не такие же нити, а суставы, как не такие же колеса, сообщающие
движение всему телу, как этого хотел Мастер (Гоббс 1936: 37).
Гоббс уподобляет человека машине. Батлер машину уподобляет человеку. Аналогию
между живым организмом и механизмом он возводит в тождество. Поясняя свой
замысел, Батлер писал:
Самуэлъ Батлер и его восприятие интеллектуальной «дарвиновской революции»... 347
Выдвигая теорию живой машины в «Едгине», я позаботился о том, чтобы читатель
увидел исходную позицию сторонников механической точки зрения в ее крайнем проявлении:
неодушевленность живых органов — такой же поразительный парадокс, как и
одушевленность неорганических форм природы, и мы вправе ожидать абсолютной ясности от тех, кто
выдвигает эту точку зрения <...>. Чем больше вы уподобляете человеческое тело
механизму, тем больше у вашего оппонента оснований уподобить механизм человеческому телу
(Butler 1920: 133-134).
В «Книге машин» едгинский пророк как раз и полагает, что «различие между
функционированием машин и жизнедеятельностью человека количественное, а не
качественное», и задается вопросами в духе Гоббса:
Не есть ли то свойство, которое мы мним чисто духовным, не что иное, как нарушение
равновесия бесконечной серии рычагов — от невидимых под микроскопом вплоть до
человеческой руки и орудий ее действия? Не составляется ли мысль движением молекул,
которым можно обосновать динамическую теорию страстей, и, строго говоря, разве не более
правомерен вопрос: каковы те рычаги, из которых состоит человек, и как они
сбалансированы? — нежели вопрос о том, каков его темперамент?
Подобные вопросы приводят его к предположению, что в будущем машины
вообще смогут обойтись без человеческого существования и стать единовластными
хозяевами природы, и это вызывает у него страх перед машинами:
Сколько людей уже сейчас живут в рабском подчинении у машин? Сколько людей
проводят всю жизнь от колыбели до могилы, обихаживая машины днем и ночью? Подумайте,
как возрастает число тех, кто связан с машинами невольничьими узами, и тех, кто самую
душу свою предает развитию машин! Разве не ясно, что машины закабаляют нас? (Butler
1970: 201, 208).
Прошло более ста лет с тех пор, как Батлер вложил эти опасения в уста едгинско-
го пророка, и, судя, например, по книге X. Дельгадо «Мозг и сознание»1, они и по сей
день остаются предметом пристального внимания физиологов, антропологов,
кибернетиков и философов (см.: Дельгадо 1971).
Однако сам Батлер, верный своему принципу «сиамских близнецов», не спешит
побудить читателя согласиться с едгинским пророком. Изложение идей последнего
сочетается с иронией автора, им противопоставлено другое мнение. Согласно ему,
«машины следует рассматривать как способ развития, при помощи которого расширяются
возможности человеческого организма». При этом наиболее выигрывают те, кто находится
«на вершине богатства», ибо «никто, кроме миллионеров, не обладает полным набором
внешних органов» (Butler 1970: 223—224).
Хотя и по другой причине, оппонент автора трактата о машинах также рисовал
мрачную перспективу технического прогресса:
Машины настолько уравняют способности человека и так ослабят напряженность
соревнования, что многие люди со слабым здоровьем <...> будут передавать свое физическое
несовершенство по наследству», что приведет к «вырождению человечества» (Ibid.: 224).
Вся эта цепь рассуждений важна Батлеру как необычный ракурс, помогающий
рельефнее увидеть роль машин в современном ему обществе. Едгинцы боятся техниче-
1 Дельгадо вторит едгинскому пророку, когда пишет: «Освобождение из-под власти природы
идет параллельно с закабалением человека машинами» (Дельгадо 1971: 18). Книга Дельгадо
переведена с английского по изданию: Delgado 1969.
348
И. И. Чекалов
ского прогресса, потому что машина в их обществе несет им гнет, закабаление, гибель:
развитие машин диктуется конкуренцией, конкуренция же превращается в
головокружительную смертельную погоню за наживой. Жизнь становится изнуряющим бегом в
железном колесе конкуренции. Но приносит ли уничтожение машин избавление? Едгин-
цы, подобно луддитам, сломали машины, но не избавились от общественного зла.
Значит, не в машинах, а в их использовании человеком коренится причина.
Батлер не разделял мнения, что человек тождествен машине, — по крайней мере,
той, которая была известна в XIX веке. Именно это мнение, популярное тогда среди
позитивистов (Бокль, Спенсер), и стремился он свести к абсурду парадоксами «Книги
машин».
Противопоставляя человека машине — устройству, только регистрирующему
воздействие внешней среды и однозначно реагирующему на это воздействие, он подчеркивал
то, что считал присущим человеку как личности, — разум, волю, ответственность за свои
поступки.
Механизация личности и общественных институтов — вот на какую тенденцию
современного ему индустриального общества указывает «Едгин». Личность
превращается в механический придаток общественных институтов, винтик, «механическое
животное». Здесь все парадоксы «Едгина» обретают внутренний стержень, объединяющий их
в единое целое. Правовые институты в главах о преступлении и болезни, «музыкальные
банки» в главах о двойном валютном обращении занимают по отношению к личности
то же положение, что и машины: в той степени, в какой общество превращает их в свой
фетиш, они становятся механическими системами, которые стремятся лишить личность
индивидуальности, превратить ее в голую социальную схему, безраздельно завладеть ею.
Так, на исходе ХЕК века в недрах современного ему общества Батлер различил
симптомы болезни, в полную меру развившейся только в XX веке, — болезни, известной
теперь под именем отчуждения личности. Характерно, что «Книга машин» привлекла
внимание отца кибернетики Норберта Винера (1874—1964), который писал:
Когда я говорю, что машинная опасность для общества исходит не от самой машины, а
от ее применения человеком, я действительно подчеркиваю предупреждение Самуэля Бат-
лера: «...наши новые механические рабы <...> нам помогут, но при условии, что наша честь
и совесть будут удовлетворять требованиям самой высокой морали» (Винер 1958: 186, 80).
X
«Едгин» вышел анонимно и был с энтузиазмом встречен рядом журнальных
критиков. Рецензент «Зрителя», например, писал:
Ясно, что у нас появился сатирик, обладающий весьма незаурядным литературным
дарованием и весьма циническим складом ума. Со времен Свифта не создавалось
произведения по своему исполнению более талантливого, а по своему замыслу более презрительного
и горького, чем небольшая книжка под заглавием «Едгин, или За горным хребтом»1.
Не все журнальные отзывы были, однако, столь благожелательными. Критик
влиятельного позитивистского журнала «Двухнедельное обозрение», хотя и признавал сатиру
«Едгина» «изобретательной», относя ее к свифтовской традиции, все же считал, что ее
1 Spectator. 1872. April 20. Цит. по: Bekker 1925: 111.
Самуэлъ Батлер и его восприятие интеллектуальной «дарвиновской революции»... 349
«юмористическая живость» не предполагает «большого литературного опыта» и
свидетельствует «о значительной приверженности автора к собственным изобретениям»,
лишающим его произведение «стройности и четкости»1.
Рецензия на «Едгин», помещенная в «Атенеуме», носила явно отрицательный
характер. Критик писал:
Ничто не представляет такой опасности, как попытка создавать аллегории <...>. Лишь
немногие из тех, кто пытается создать их, способен очарованием своего стиля заставить
читателя забыть о несоответствиях, которые неизбежно влечет за собой подобный жанр
повествования. Автор «Едгина», несомненно, не унаследовал в этом отношении творческих
возможностей Джона Беньяна. Он пытается сатирически высмеять верования и мнения своих
современников <...>, и мы вынуждены отметить, что <...> произведение его оставляет
впечатление неряшливости2.
Журнал поспешил сообщить, как только это ему стало известно, что «Едгин»
принадлежит перу начинающего и неопытного писателя, после чего резко сократился
спрос на издание книги (на 90%) (см.: Jones/1 1919: 155)3. Успех «Едгина» у читателей был
приостановлен.
Если родным Батлера попались на глаза отзывы «Атенеума» об «Е^дгине», они, вероятно,
ознакомились с ними с удовлетворением. И родители писателя, и его сестры без всякого
удовольствия отнеслись к появлению в печати «Едгина». «Ослепленный успехом, —
писала брату Гариет Батлер, — ты не почувствовал боль, которую причиняешь» (FL 1962:
120). Содержание этого упрека раскрывается в письме сыну каноника Батлера по поводу
публикации «Едгина»:
Неужели тебе не ясно, что, когда исповедуешь религиозные взгляды хотя бы с малейшей
долей искренности, не можешь не испытывать значительно более сильное чувство, чем
просто «мимолетное сожаление» от того, что дорогие твоему сердцу люди не вместе с тобой <...>.
Ты говоришь, что во взглядах у нас больше общего, нежели расхождений. Мне же
кажется, что общего у нас не осталось почти ничего! <...>. К счастью, большинство людей — не с
тобой. Не принимай небольшой окололитературный кружок за весь мир <...>.
В настоящее время твои приезды не доставили бы всем нам, а следовательно, и тебе
ничего, кроме боли. Поэтому я не желаю, чтобы ты приезжал к нам (я вовсе не говорил, что
собираюсь приезжать. — СБ.).
Твой любящий отец, если ты еще дозволишь мне так называться, Томас Батлер (FL 1962:
121-122).
Вскоре после выхода «Едгина» от тяжелой болезни умерла мать Батлера. На
похоронах каноник Батлер заявил сыну, что причиной ее смерти был «Едгин», омрачивший
последние месяцы ее жизни (см.: Henderson 1954: 108). Батлер писал сестре Мэри:
Если бы я тогда знал, что здоровье матери пошатнулось, я бы повременил с «Едгином».
Что бы я ни писал в дальнейшем, я сделаю все возможное, чтобы о моем произведении не
узнали те, кому оно может причинить боль. Но я не могу наступить себе на горло (Henderson
1954: 108).
Хотя окончательного разрыва с родными не произошло и на этот раз (через
некоторое время писатель возобновил поездки к отцу и сестрам, а также регулярно продол-
1 The Fortnightly Review. 1872. May 1. № LXV. P. 609-610. (New Series)
2 The Athenaeum. 1872. April 20. № 2321. P. 422.
' Ibid. 1872. May 25. N<> 2326. P. 655.
350
И. И. Чекалов
жал свою переписку с ними), отношения Батлера с семьей полностью не наладились, и
в них иногда прорывалось взаимное раздражение (см.: Jones 1919/2: 358). Родные никогда
не простили Батлеру того, что он был автором «Едгина». В конце жизни писатель
признал:
«Едгин», должно быть, стал горькой пилюлей для отца и матери. Отец не читал ни
строчки оттуда, да и мать тоже, я думаю, не читала. Все же причина заключалась именно в нем:
они достаточно много знали о «Едгине», чтобы понять, насколько он противоречил их
взглядам. Болезнь и смерть матери в 1873 году вся семья приписывала моему бессердечному
поведению: зачем я написал «Едгин»! Однако доктора объявили, что она страдала раком
желудка (Butleriana 1932: 27).
Произведения, которые писатель публиковал в дальнейшем, не содействовали
исчезновению трещины в отношениях между Батлером и родными, впервые возникшей в
пору выбора им профессии и ставшей более глубокой после выхода «Едгина».
XI
В своем следующем произведении Батлер снова обратился к традициям XVIII века.
Его памфлет-мистификация «Надежная гавань» напоминает о знаменитых памфлетах
Даниэля Дефо (1660—1731) и Свифта. «Надежная гавань», так же как и «Кратчайший
способ расправы с диссидентами» (1702) Дефо, была на первых порах принята за
чистую монету. Подобно Дефо, Батлер прибег к искусной имитации защитника
безраздельного господства Англиканской церкви. В «Надежной гавани» Батлер ссылается на Свио]>
та. Вымышленный автор предлагаемого читателю трактата цитирует один из самых
язвительных памфлетов Свифта — «Рассуждение в доказательство того, что
уничтожение христианства в Англии при настоящем положении вещей может быть сопряжено
с некоторыми неудобствами и не приведет к столь многочисленным и благотворным
результатам, как того ожидают» (1708).
Полное заглавие памфлета Батлера столь же пространно, как и у Свифта, но
стилистически воспроизводит заглавие религиозной брошюры, распространенной в Англии
второй половины XIX века (см.: Fort 1935: 134): «Надежная гавань. Сочинение покойного
Джона Пикарда Оуэна в защиту чудесных деяний Господа нашего на земле против
критиков-рационалистов и некоторых ортодоксальных интерпретаторов с
приложением жизнеописания автора. Издано его братом Уильямом Бикерстетом Оуэном» (1873).
«Надежная гавань» состоит из двух частей. Сначала читатель узнает биографию
Джона Оуэна, а затем следует его трактат.
Братья Оуэн родились в некогда богатой, но затем обедневшей семье. Воспитанием
мальчиков занималась мать, женщина чрезвычайно религиозная. Свою веру она
передала детям. Уже в детстве они обнаружили, что не все окружающие верят с той же
искренностью, что и они. Так, например, одна дама, гостившая у них в доме и
ночевавшая в одной комнате с мальчиками, совершала вечернюю молитву только тогда, когда
дети могли ее видеть. Когда же она думала, что они спят (а на самом деле они
притворялись спящими), она преспокойно засыпала, не прочитав молитвы.
Особенно чувствительным к открытиям подобного рода был Джон. По мере того как
он становился старше, у него возникало множество вопросов, связанных с вероучением.
На них не в состоянии были ответить ни мать, ни приходский священник и никто другой
из окружавших его взрослых. Постепенно у него появились сомнения относительно истин-
Саму эль Батлер и его восприятие интеллектуальной «дарвиновской революции»... 351
ности церковных догматов. Сначала он страшился признаться в этом даже самому себе.
Но сомнения настойчиво преследовали его, и настал момент, когда он не только не мог
скрывать их от самого себя, но и от других. Джон, бунтующий против установлений
Церкви и впадающий в религиозный скептицизм, утверждает:
Мы приспособили христианство к тому, чтобы оно создавало видимость благословения
наших собственных обычаев, но мы нисколько не изменили свои обычаи, чтобы привести их
в согласие с христианскими заповедями. Мы не даем просящему у нас, но изо всех сил
стараемся от него отвратиться (FH 1938: 38).
Период религиозного скептицизма сменился у Джона внезапным просветлением. Он
уверовал в то, что истины, открывшиеся ему, укажут человечеству путь в «надежную
гавань» веры, навсегда избавив мир от неверия. И он принялся за сочинение трактата,
в котором намеревался подробно описать свои колебания, раздумья, поиски и
увенчавшие их открытия. Но довести свой труд до конца ему не удалось.
Утомленный мозг его не выдержал непосильного напряжения, и он впал в состояние
почти идиотического слабоумия. Бодрость духа, некогда столь свойственная ему, покинула его
и сменилась религиозной меланхолией, из которой его ничто не могло вывести (FH 1938: 49).
В этом состоянии он скончался.
После смерти Джона Оуэна его бумаги попали в руки Уильяма, который,
проникшись идеями брата, издал трактат в незавершенном виде с приложением
жизнеописания автора.
Своим трактатом Джон Оуэн задумал привести читателя, скептически относящегося
к христианскому вероучению, в «надежную гавань» всеобщего братства во Христе (см.:
FH 1938: 223). Он был убежден, что, если искренне и серьезно отнестись к доводам
свободомыслия, то выяснится, что все споры верующих и их оппонентов — не что иное, как
клубок недоразумений. Поэтому стоит только вникнуть в доводы, выдвигаемые
скептиками, с тем чтобы их правильно опровергнуть, как «неверие погибнет естественной
смертью» (FH 1938: 55—56). Поскольку сам Джон Оуэн некогда принадлежал к лагерю
свободомыслия, он в состоянии «быть интерпретатором христианства для
рационалистов и рационализма для христиан» (FH 1938: 46). Оуэн избирает тему батлеровской
брошюры 1865 года «Свидетельства четырех евангелистов о воскресении из мертвых
Иисуса Христа» и ставит перед собой цель показать, что это «наиболее потрясающее из
всех чудес», рассказанных в Новом Завете, «можно обосновать таким образом, что ни
один разумный человек не усомнится в его истинности» (FH 1938: 54). Каким же
образом Джон Оуэн стремится достичь своей цели? Какова та «надежная гавань», которую
так заманчиво обещает автор трактата своим читателям?
Джон Оуэн — своеобразный теолог. Значительную часть своего трактата он
посвящает критике ортодоксальных англиканских комментаторов библейских текстов и
подробному изложению теории рационалистического свободомыслия. Рассуждает он так:
Существуют люди, избегающие всякого тщательного рассмотрения обстоятельств,
сопровождающих смерть Господа нашего, ссылаясь на то, что для подлинного постижения
духовных истин требуется духовное в них проникновение <...>. Но неверующие не понимают, что
имеется в виду, когда при обсуждении свидетельств достоверности какого-либо
исторического факта взывают к духовному проникновению (FH 1938: 140—141).
По убеждению автора трактата, сначала необходимо понять доводы рационалистов
и только тогда приступить к их опровержению (см.: FH 1938: 66—67).
352
И. И. Чекалов
Излагая доводы рационалистов, Джон Оуэн с особой тщательностью
останавливается на неточностях и погрешностях ортодоксальных англиканских комментаторов
библейских текстов. Он обвиняет таких авторитетов англиканского богословия, как
Пейли, в недобросовестности и преднамеренном искажении исторической правды (см.:
FH 1938: 129-136).
На протяжении восьми из десяти глав Джон Оуэн постоянно обещает читателю
«надежную гавань», все глубже погружая его в пучину споров теологов и
рационалистов об исторической достоверности повествования евангелистов. Толкование
англиканских богословов он сталкивает с двумя рационалистическими теориями: одна
признает смерть Христа на кресте, но отрицает достоверность сообщений о его появлении
после распятия, другая исходит из признания достоверности исторических свидетельств
о появлении Христа после распятия, но отрицает реальность того, что Он умер от ран
на кресте (см.: FH 1938: 168).
Следя за сменой аргументов, приводимых автором трактата в защиту той или иной
точки зрения, читатель с недоумением замечает, что одни и те же утверждения
фигурируют при изложении противоположно направленных теорий. Джон Оуэн любит
противоречить себе. Он как будто получает удовольствие от искусных переходов с одного
противоречивого утверждения на другое. Он то утверждает, что искренность апостолов, их
преданность учению Христа свидетельствуют в пользу достоверности их повествования
о чуде воскресения, то, наоборот, настаивает на том, что эти же их качества выявляют
их подверженность суеверным представлениям: вера в нечто небывалое, столь
распространенная во времена апостолов, легко привела их к мифу о воскресении (см.: FH 1938:
110, 144—145). В одном месте трактата Джон Оуэн объявляет воскресение Христа тем
чудом, на котором зиждется фундамент всего христианского вероучения (см.: FH 1938: 54);
в другом — между прочим сообщает читателю, что ради общих истин христианства
евангельским рассказом о воскресении можно было бы пожертвовать (см.: FH 1938: 139).
Сначала он решительно ставит читателя перед выбором: либо христианство — истина из
истин, а Иисус Христос — Сын Божий, либо оно — всего-навсего распространенное
заблуждение, требующее скорейшего исправления. «Третьего решения нет, — настойчиво
повторяет он (FH 1938: 139). Однако затем он посвящает целую главу («Христос — идеал»)
доказательству того, что религия может только выиграть от неясности сведений об Иисусе
Христе. Джон Оуэн поясняет:
Ибо ведь сущность христианства состоит не в вере в факты, а в приобщении при
созерцании Христа к чувству любви столь сильному, что подражание Христу становится почти
инстинктивным <...>.
Вера в Христа посредством любви — качество пред лицом Господа более драгоценное,
нежели любовь к нему посредством веры в него. Не можем ли мы вследствие этого
надеяться, что те, кто обладает способностью сильно любить, будут в конечном итоге приняты в лоно
Божье, хотя вера их и мала (FH 1938: 204).
Уверения Джона Оуэна относительно «надежной гавани» совершенно себя не
оправдывают. Обещанное им читателю тихое пристанище оказывается глубоким омутом, в
котором кружит мощный водоворот. Того, кто поверит автору трактата и прельстится
перспективой духовного умиротворения, обретенного в созерцании истин христианской
религии, ждет жестокое разочарование1.
1 О главе «Христос — идеал» некий Эдвин Аббот, товарищ Батлера по колледжу, сказал: «Многие
бы солидаризировались с тобой, если бы ты написал эту главу с серьезными намерениями». На что
Самуэлъ Батлер и его восприятие интеллектуальной «дарвиновской революции»... 353
Джон Оуэн — объект сатирической насмешки Батлера. В этом он полностью
родствен вымышленным авторам целого ряда свифтовских памфлетов. Не уступает он им
и в одержимости той идеей, в которую фанатически верит. Вместе с тем между
Исааком Бикерстаффом и другими свифтовскими персонажами, с одной стороны, и
Джоном Оуэном — с другой, имеется существенное различие. Их разделяет тот же барьер,
который отделяет Лемюэля Гулливера от героя «Едгина». Памфлеты Свис]эта
построены почти с математической точностью. В них от противного доказывается
необходимость добра и других здравых абсолютов человеческого существования, в которые
верил Свифт вместе с другими просветителями. У Батлера подобная стройность
отсутствует. Сквозь абсурд и нелепость в рассуждениях Джона Оуэна вдруг проглянет истинное
мнение Самуэля Батлера, которое затем повторится в его записных книжках или какой-
нибудь из его естественнонаучных работ. Позиция Батлера по отношению к
Англиканской церкви не претерпела серьезных изменений по сравнению с «Едгином».
«Надежная гавань» — антиклерикальная сатира. По отношению к викторианской морали
парадоксы Батлера столь же разрушительны, как и в «Едгине». В то же время, как и в
описаниях едгинских «музыкальных банков», воплощающих «неизмеримую
бессознательную мудрость прошлых эпох», в «Надежной гавани» (особенно в двух ее
заключительных главах) содержатся положительные представления Батлера о религии. Но они
изложены в соответствии с его эстетическим принципом «сиамских близнецов» и не
отделены от сатиры. В этом коренятся трудности интерпретации произведения.
Среди книг Батлера, пожалуй, не найдется другой, вызвавшей столь разноречивые
суждения исследователей. Баллит считает «Надежную гавань» сатирой, направленной
против христианства (FH 1938: VIII). Вилли, наоборот, почти готов увидеть в ней
апологию идеалов новейшего христианства (см.: Willey 1960:160). Еще решительнее настроен
Гендерсон. «"Надежная гавань", — пишет он, — ни в малейшей степени не является
мистификацией» (Henderson 1954: 103). Иного мнения придерживается Кокшут. Он
рассматривает памфлет как неудавшееся полемическое произведение. По его мнению,
Батлер задумал свести счеты с христианством, но не смог: искусство полемиста было
сведено на нет внутренней силой христианского вероучения (см.: Cockshut 1964: 108—
110). Наконец, Холт, занимая, как представляется, наиболее здравую позицию,
определяет «Надежную гавань» в качестве «многоголосной сатиры», в которой отразились не
только критические взгляды писателя, но и его положительная программа. Батлер,
указывает Холт, избрал драматургическую форму повествования: он обращается к
читателю с помощью двух вымышленных авторов — посредников Джона и Вильяма
Оуэнов так, что создается разрыв между тем, в чем он уверяет читателя, и тем, что он
имеет в виду на самом деле (см.: Holt 1964: 48—57).
Постигшая Джона Оуэна «религиозная меланхолия, из которой его ничто не могло
вывести», является весьма красноречивым финалом его деятельности,
символизирующим неосуществимость поставленной цели, тщетность усилий и бесплодность
затраченного труда.
Батлер не ограничивается саморазоблачением своего персонажа. Для того чтобы
усилить сатирический эффект, он вводит в повествование фигуру его пылкого
почитателя. Для Уильяма Оуэна авторитет брата непререкаем. Он верит в чудодейственную
силу трактата Джона. Некогда их мать, склонная к религиозной экзальтации и
мистическим видениям (подобные же видения — «сны наяву» — будут являться и Кристине в
«Пути всякой плоти»), узрела пророческий сон о том, что ее сыновьям суждено стать
Батлер сухо заметил: «Вполне вероятно», подразумевая, что «никогда нет недостатка в глупых
слюнтяйствующих ханжах» (цит. по: Jones 1919/1: 182).
354
И. И. Чекалов
свидетелями истинности веры Христовой (см.: FH 1938: 11). Вильям убежден, что
своим трактатом Джон подтвердил это пророчество (см.: FH 1938: 50).
Таким образом, ирония Батлера проявляется в том, что в сознании читателей
устанавливается резкий контраст между «искренними уверениями» Джона Оуэна,
подкрепляемыми экзальтированным отношением к нему со стороны брата, и
хитросплетениями его рассуждений, постоянно заводящими читателя в дебри неразрешимых
противоречий. Кроме того, сам облик Джона Оуэна в ходе рассуждений трактата претерпевает
заметные изменения от фанатичного догматика до либерально мыслящего теолога.
Образ Джона Оуэна — одновременно пародия и на узколобых церковных доктринеров,
и на либеральных теологов, и, отчасти, на самого Самуэля Батлера.
XII
«Надежная гавань», опубликованная анонимно, привлекла внимание ряда журналов
религиозного направления, и первые отзывы в прессе свидетельствовали о полном
доверии рецензентов к искренности ортодоксальных уверений Джона Оуэна. Один из
критиков приветствовал появление памфлета, утверждая, что он проникнут духом
«почти патетической серьезности» (Bekker 1925: 160). Другой рекомендовал своим
читателям «замечательный трактат мистера Оуэна», ибо в нем содержится «множество
прекрасных рассуждений» в защиту учения Англиканской церкви. Однако уже через
несколько дней этот же рецензент выступил с менее благожелательным отзывом. Хотя он
по-прежнему не сомневался в искренности намерений Джона Оуэна, повторное
внимательное чтение «Надежной гавани», по-видимому, заставило критика пересмотреть свое
первоначальное мнение, и его энтузиазм относительно рассуждений автора трактата
значительно уменьшился. «Джон Пикард Оуэн обладает даром красноречия, —
говорилось в заключении новой рецензии, — но мы отказываемся следовать его чарующей
речи» (Fort 1935: 142).
Совсем иначе были расценены намерения Джона Оуэна в журнале «Национальный
реформатор», рупоре английского свободомыслия, издававшемся Чарлзом Брэдло
(1833—1891), радикальным президентом Лондонского общества секуляристов (London
Secular Society, основано в 1852 г.). Рецензент журнала сразу же распознал иронию в
пылких уверениях Джона Оуэна и определил замысел анонимного автора «Надежной
гавани» как памфлет, который
представляет собой ироническую защиту ортодоксального христианства. В жертву ей
приносится вся масса церковных догматов, исключение делается лишь для самого Христа <...>.
Читатель получит редкостное удовольствие, если уловит намерение автора, скрытое в его
стиле, оценит аффектированный тон разгневанной ортодоксии и представит, насколько
разрушительными являются «искренние допущения доктрины» Джона Оуэна для всего строя
супернатуралистического мировоззрения (Fort 1935: 143).
В 1865 году Батлер опубликовал на страницах «Резонера» — другого секуляристского
журнала, редактором которого был Джордж Холиоук (1817—1906), основатель
Лондонского общества секуляристов и предшественник Брэдло в качестве президента этой
ассоциации, — два своих очерка — «Механическое творение» и «Предосторожности
свободомыслия» (см.: Fort 1935: 96). Связи Батлера с секуляристами, — к ним следует
отнести и то обстоятельство, что «Надежная гавань», так же как и «Едгин», печаталась в
типографии Трюбнера, публиковавшего также издания секуляристов, ибо все другие
издатели отказались принять рукопись памфлета к печати, боясь скандала (см.: Savage
Самуэль Батлер и его восприятие интеллектуальной «дарвиновской революции»... 355
1935: 39—40), — позволяют предположить, что статья о «Надежной гавани» появилась в
«Национальном реформаторе» не без ведома писателя.
Вскоре после первого анонимного издания «Надежной гавани» Батлер выпустил в
свет второе издание книги уже под собственным именем, снабдив его предисловием, в
котором цитировал и отзывы рецензентов, поверивших в искренность Джона Оуэна, и
статью о памфлете критика «Национального реформатора», предлагая самому
читателю разобраться в истине.
Как сообщает Фестинг Джонс, Батлер надеялся, что его произведение вызовет
бурные споры, даст толчок новой полемике о природе библейских текстов, будет
способствовать формированию критического отношения к англиканским религиозным догмам
(см.: Jones 1919/1: 180-181).
Однако ожидания Батлера не оправдались. Лишь журнал «Академия», почти
повторяя свой отзыв об «Едгине», объявил памфлет безнравственным, но остальные
журналы не последовали этому примеру (см.: Holt 1964: 57). Как только выяснилось, кто
является автором «Надежной гавани», вокруг книги образовалась пелена враждебного
молчания. За Батлером же закрепилась репутация одиозной литературной личности.
XIII
В конце жизни Батлер вернулся к тематике и проблематике «Едгина». О том,
чтобы отправить своего героя в фантастическую страну «За горным хребтом» еще раз,
Батлер впервые подумывал в 1877 году. Однако тогда он был слишком увлечен
вопросами эволюции, опровержением дарвиновской теории естественного отбора и
осуществлением других творческих замыслов. Только в 1896 году им были сделаны первые
черновые наброски, а рукопись была закончена к концу 1900 года. С ее опубликованием
возникли затруднения, но они были преодолены при содействии Б. Шоу, и книга «Снова
в Едгине» вышла из печати1.
Второе путешествие в Едгин Хиггс (это имя он получает только теперь)
предпринимает двадцать лет спустя после первого. Едгин — страна по-прежнему неведомая.
Надежды Хиггса на ее колонизацию не оправдались, и в Англии он бедствует, пока
неожиданно не становится обладателем большого наследства. Однако богатство не приносит ему
счастья: у него умирает жена, уроженка Едгина, вывезенная в свое время им оттуда.
После ее смерти Хиггс испытывает желание снова побывать на ее родине и совершает
свое второе путешествие туда.
В Едгине Хиггс застает огромные перемены. Едгинцы сменили свои костюмы на
европейское платье и носят его двумя способами: как обычно и задом наперед. Законы
против машин отменены. Железные дороги восстанавливаются. Разрешена
медицинская практика. Общественная мораль поддерживается другими способами. Прежних
врачевателей нравственных недугов сменили специалисты, которые лечат пороки тем,
что прививают их в малых дозах. Поэтому система воспитания предусматривает
умеренное развитие дурных привычек, процветающих в обществе. Детей наказывают, если
они говорят только правду и совсем не умеют лгать.
В Едгине возникла новая религия, которая и повлекла за собой изменения нравов и
обычаев. Едгинцы поклоняются теперь Сыну Солнца, то есть Хиггсу, которого они
некогда видели улетающим на воздушном шаре из их страны. Культ Сына Солнца — «сан-
1 О творческой истории произведения см.: NB 1913: 292-296;Jones 1919/1: 247-248;Jones 1919/2:
330-340.
356
И. И. Чекалов
чайлдизм» — стал государственной религией. «Музыкальные банки» не утратили
своего влияния, но стали еще могущественнее: они сосредоточили в своих руках управление
новой религией и вместе с профессорами гипотетических наук являются официально
признанными ее толкователями.
Потрясенный ложью, совершаемой от его имени на каждом шагу, возмущенный
циничным лицемерием служителей «санчайлдизма», стремящихся обратить
религиозную экзальтацию народных масс к своей выгоде, Хштс во время торжественного
освящения храма Сына Солнца прерывает проповедника профессора Хэнки гневным
выкриком: «Ты лжешь, негодяй! Сын солнца — я, и ты знаешь об этом!» (Butler 1932: 317).
Впрочем, Хэнки только этого и нужно. Он уже давно знает, что Хштс проник в Едгин,
и поэтому заранее расставил сети для его погибели. Перед храмом приготовлен костер,
и Хштсу не миновать бы сожжения, если бы у него не нашлись влиятельные друзья. Тем
не менее ему приходится поступиться принципами: он публично отрекается от своих
слов, а затем с помощью друзей навсегда покидает Едгин.
Вторая книга о Едгине во многом продолжает сатирическую линию
предшествующих произведений Батлера. Хотя нравы и обычаи едгинцев изменились, по-прежнему
неизменным осталось их сходство с характерными чертами английской жизни второй
половины XIX века, начиная с торговых рекламных объявлений и кончая основами
воспитания, морали и религии.
Однако это сходство, как и в первой книге, нередко проявляется в перевернутом виде.
Так, едгинцы, воспитывая своих детей, обучают их не добродетели, а распространенным
в обществе порокам. При этом они, руководствуясь этическим принципом, усвоенным
от Хштса, выступают за «наибольшее счастье наибольшего количества людей», а
рассуждают так:
Несомненно, это здравый принцип. Однако большинству людей от природы
свойственны такие качества, как тупость, тщеславие и бессовестность. Тот, кто умен, искренен и
непритязателен, приходится им не по душе. Можем ли мы, не отступая от основ нравственности
и политической экономии, <...> поощрять такого человека, развивая в нем искренность и
скромность? (Ibid.: 284-285).
Пародия на либерально-позитивистскую этику, у которой заимствован самый
принцип счастья, здесь очевиден.
В едгинских исправительных школах детей строго наказывают, если они не
удовлетворяют нормам общественной морали. Воля ребенка должна быть сломлена — вот
аксиома для едгинских воспитателей, и они прямо признают то, чему учат. «Честность, —
утверждают они, — не в том, чтобы никогда не красть, а в том, чтобы знать, как и где
кража безопасна» (Ibid.: 286).
Основная идея замысла «Снова в Едгине» — «санчайлдизм» — восходит к
«Надежной гавани». В своем трактате Джон Оуэн, предоставляя слово свободомыслию,
разбирает вопрос о том, как в апостольские времена среди простого народа могла родиться
легенда о воскресении Иисуса Христа и вознесении Его на небо. Излагая историю
возникновения, распространения и развития «санчайлдизма», Батлер стремится дать ответ
на подобный вопрос в приложении к любой религии.
Замысел заключительной книги о Едгине Батлер изложил в предисловии к ней:
Допустим, что в условиях, существующих в Едгине, происходит событие, по своей
видимости, сверхъестественное. Чужестранец, отличающийся незаурядными качествами,
поднимается в небеса, унося вместе с собой и невесту. Какое впечатление произвело бы такое
событие на народ всей страны? <...> Развитие всех новых религий идет одним и тем же общим
путем. Всегда нарушается связь времен, всегда прежние вероучения теряют свое влияние на
Саму эль Батлер и его восприятие интеллектуальной «дарвиновской революции»... 357
массы. В подобную эпоху достаточно появиться сильной личности, которая покажется еще
сильнее оттого, что ей припишут некое совершенно необыкновенное чудо, как брошенный
возглас: «Смотрите! Вот оно, чудо!» — привлечет к себе множество сочувствующих. Затем
появятся храмы, священнослужители, обряды, искренние подвижники веры и
беззастенчивые эксплуататоры народной доверчивости. Описать события, случившиеся после того, как
Хиггс улетел на воздушном шаре, <...> значит поднести зеркало к чему-то весьма важному
в человеческой природе (Ibid.: 195).
История «санчайлдизма» и его роль в едгинском обществе являются, по замыслу
Батлера, центральным моментом повествования. Каким образом полет Хиггса на
воздушном шаре стал в глазах едгинцев чудом и превратился в легенду, а легенда — в
государственную религию? За ответом на этот вопрос отправляет Батлер своего героя в
повторное путешествие в Едгин.
Когда Хиггс в первый раз покидал Едгин, улетая на воздушном шаре, тогда там
были запрещены машины, а законы механики преданы забвению. Поэтому самый
полет воздушного шара показался едгшщам чудом, вокруг него разрослась легенда,
зародыш которой «всегда витает в атмосфере невежества» (Ibid.: 228). Правда, среди
едгинцев были люди, осведомленные о том, что «при сооружении воздушного шара
использовались только законы природы» (Ibid.: 290). К ним принадлежали король и его
приближенные. На первых порах народная легенда о полете Хштса действительно не
признавалась государством и была объявлена ересью «музыкальными банками». Но с
течением времени народная вера в легенду не убывала, а влияние «музыкальных
банков» на народ стало падать. Как только их служители поняли, что враждебное
отношение к Сыну Солнца — именно таковым представал Хиггс в легенде — грозит самому
существованию едгинских религиозных учреждений, они переменили свою позицию. Был
создан специальный комитет по расследованию обстоятельств полета, который признал
Хштса Сыном Солнца. «Хштизм» превратился в «санчайлдизм» (Ibid.: 297).
«Музыкальные банки» приобщили короля к новой религии. Они добились того, что
государство стало поддерживать «санчайлдизм» и назначило служителей «музыкальных
банков» совместно с профессорами гипотетических наук официальными
толкователями чудесного вознесения Сына Солнца на небеса.
Знакомясь с проповедниками «санчайлдизма» профессорами Хэнки и Пэнки, — в
английском языке их имена нарицательны и означают «надувательство», — Хиггс видит,
что они всячески укрепляют и поддерживают заведомую ложь. Пэнки лжет даже
самому себе. «Он с такой серьезностью погрузился в собственные обязанности, что стал
живым воплощением лжи» (Ibid.: 219). Хэнки тоже лжет, но иначе. Он циничен и
отдает себе отчет в том, что его красноречие не имеет никакого отношения к истине.
Небылицы ему необходимы, чтобы обеспечить «материальное преуспевание как
собственное, так и своего сословия» (Ibid.: 361).
Между тем Хэнки — один из столпов новой едгинской религии. Его советам следуют
в Бриджфорде, центре гипотетических наук. Он первым понял необходимость
признания «санчайлдизма». Он влиятельное лицо при дворе. Так перед Хштсом открывается
социальное зло, которое несет с собой ложь «санчайлдизма». Хэнки и Пэнки
процветают, потому что лгут, и их ложь выгодна «музыкальным банкам». Легенда о Сыне
Солнца используется толкователями новой государственной религии как средство наживы.
Как только Хиггс появляется в Едгине и знакомится с новыми порядками, перед ним
встает проблема личной ответственности за те перемены, которые произошли в жизни
едгинцев. Изо дня в день его неотступно преследует вопрос о том, не следует ли ему,
открыв свое инкогнито, уничтожить легенду о сверхъестественной личности Сына
Солнца и таким образом разоблачить ложь новой едгинской религии. Однако столкновение
358
И. И. Чекалов
на этой почве Хштса и Хэнки не приводит к каким-либо видимым результатам: Хштс
остается невредимым, но и «санчайлдизм» продолжает процветать. Внешне такое
разрешение коллизии выглядит поражением Хэнки, однако по существу оно является
свидетельством несостоятельности Хштса в его стремлении покончить с ложью «санчайл-
дизма» при помощи быстрых и решительных мер. Это понимает и сам Хштс, сознавая,
что изменения в едгинской жизни зашли слишком далеко, чтобы можно было их
отменить вмешательством одного человека. Вот тут он обнаруживает, что фанатической вере
в «санчайлдизм» способно противостоять другое отношение к данному культу,
свойственное некоторым едгинцам.
Приглядываясь к едгинскому обществу, Хштс улавливает особую точку зрения на
поклонение Сыну Солнца, которой придерживаются некоторые из влиятельных лиц, и она
кажется ему наиболее здравой реакцией на «санчайлдизм». Он знакомится с доктором
Дауни, самым тонким едгинским диалектиком, автором книги «Искусство затемнения
спорных вопросов», и миссис Хамдрам, которую в едгинском обществе зовут Идгран, потому
что ее поступки и суждения воплощают мудрость этой древней едгинской богини. Доктор
Дауни и миссис Хамдрам не верят в легенду о Сыне Солнца, но против религии «санчайл-
дизма» не выступают. Они просто показывают остальным едгинцам пример
равнодушного к ней отношения и тем самым вытравляют из нее фанатизм и способствуют укреплению
в ней стихийных ростков нравственной истины, изначально заложенных в народной легенде.
История развития «санчайлдизма» — обобщенная философская аллегория. Батлер
стремится проследить истоки и ход развития любой религии, хотя основной материал
почерпнут им из наблюдений за развитием христианства во второй половине XIX века.
Поэтому аналогии, возникающие у читателя, неизбежно приводят его к
размышлениям о судьбах религии в викторианской Англии.
В известной степени «санчайлдизм» — переиначенное на едгинский манер
англиканство, то есть измененный вариант той веры, о которой Хштс рассказывал едгинцам,
надеясь обратить их в нее, во время своего первого пребывания в стране. Едгинцы сохранили
в памяти рассказы Хштса о могущественном Боге Отце, о Страшном Суде, мучениях,
ждущих грешников в аду, и блаженстве, ожидающем праведников в раю после смерти.
Внутренним убранством, утварью и планировкой едгинский храм, который посещает
Хштс, напоминает англиканский собор, а служба, на которой он присутствует, —
протестантское богослужение. Слышит Хштс и свои излюбленные высказывания из евангелий,
но они изменены едгинцами в соответствии с духом их религии. Например, вместо «и
прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим» (Мф. 6: 12), он слышит:
«и прости нам долги наши, но не прощай должников наших» (Butler 1932: 226).
Растущее в Едгине неверие также вызывает у читателя аналогии с положением
христианства в Англии конца XIX века. Батлер вводит в свое повествование обстоятельства,
отражающие социальную картину Англии 1880—1890-х годов. Неверие в Едгине
распространяется в связи с отменой закона против машин. Едгинские заводы и фабрики
стали «рассадниками неверия». Отношение едгинцев к «санчайлдизму»
дифференцировано в зависимости от их сословной принадлежности. В едгинских религиозных
процессиях участвуют главным образом крестьяне. Едгинские же рабочие более склонны
доверять достижениям науки. Однажды Хштсу довелось увидеть демонстрацию
рабочих, которые несли лозунг «Не только санчайлдизм, но и наука» (Butler 1932: 299).
Однако сам Хштс относится к науке еще с большим недоверием, чем к религии. В
науке, особенно той, которая изучает общество, находят, по его мнению, пристанище
доктринеры и чудаки, которые, «будь на то их воля, вмешивались бы во все заботы
нашей жизни». Размышляя о науке и религии, Хштс приходит к парадоксальной аналогии
между ними. Наука и религия предстают перед читателем как «сиамские близнецы»,
Самуэль Батлер и его восприятие интеллектуальной «дарвиновской революции»... 359
между которыми равномерно распределены истина и ложь. «Санчайлдизм» основан на
лжи. Знание законов природы разоблачает эту ложь. Наука отрицает мнимые чудеса,
вызвавшие поклонение Сыну Солнца. Однако поскольку «истина в полном совершенстве
недостижима» (Butler 1932: 362), то и наука включает в себя ложь, а «санчайлдизм» —
истину. Как служители религии, так и жрецы науки используют ложь во имя своих
корыстных интересов. Одни ненавидят других, поэтому следует уравновешивать влияние
науки влиянием религии и наоборот. Таким образом, Батлер устами Хиггса приходит к
необходимости компромисса между наукой и религией. Этот компромисс тем не менее
не уничтожает зерно проницательной социальной критики, которое таится в батлеров-
ском парадоксальном сопоставлении науки и религии. Уподобляя науку религии, Батлер
берет основанием для сравнения способность обеих становиться орудием достижения
узкокорыстных интересов как личных, так и сословных. Именно тогда наука и религия
преподносят народу ложь под маской благочестия и правдоподобия (Хэнки).
«Снова в Едгине» — сатира, однако утопический элемент здесь выражен сильнее, чем
в описании первого путешествия Хштса, а положительные представления автора
сформулированы четче и непосредственней. Батлер внес существенные изменения в манеру
повествования. Хиггс уже более не является объектом авторской критики, но прямо
выражает мнения самого Батлера. Тем не менее они не лишены иронии, ибо Батлер и здесь
полностью не отказывается от своего эстетического принципа «сиамских близнецов».
Хотя повествование «Снова в Едгине» состоит почти из тех же элементов, что и
«Едгин» (аллегория, социально-философская утопия, приключенческое путешествие),
художественные структуры этих произведений отличаются друг от друга. «Снова в
Едгине» является, по выражению Олдоса Хаксли, «произведением, повествующим о
чувствах, а не только содержащим социальную критику» (Huxley 1934: XXI). Батлер
построил повествование вокруг приключенческой истории о том, как Хиггс
неожиданно для себя обрел сына. Сюжетным перипетиям здесь уделяется гораздо больше
внимания, чем в «Едгине». Они представляют собой не просто внешнее связующее звено
событий, но и имеют самостоятельное значение. В них раскрывается эмоциональная
сторона характера Хиггса.
XIV
«Снова в Едгине» Батлер сразу же выпустил под своим собственным именем,
объединив под одной обложкой оба своих произведения о путешествии англичанина в
фантастическую страну «За горным хребтом». Для нового издания писатель просмотрел,
отредактировал и дополнил прежний текст «Едгина», и осенью 1901 года оно появилось
в печати.
На эту публикацию откликнулись почти все крупные лондонские газеты и журналы,
общий тон рецензий был благожелательным (см.: Fort 1935: 295). «Атенеум» поместил
большую и на этот раз хвалебную статью1. «Мистер Самуэль Батлер, — писал критик
журнала, — один из активных авторов сегодняшнего дня. Его книги обеспечили ему
видное место в современной литературе — завидное место того, кто поистине
многогранен и никогда не скучен».
Рецензент считал «Едгин» и его продолжение «Снова в Едгине» утопиями и
сравнивал Хиггса с предшествующими вымышленными путешественниками, персонажами
Томаса Мора (1476—1535) и Джонатана Свифта, соответственно Ральфом Гитлодеем и
1 The Athenaeum. 1901. Oct. 19. № 3860. P. 517-518.
360
И. И. Чекалов
Лемюэлем Гулливером. Критик высоко оценивал художественные достоинства нового
произведения Батлера, но при этом подчеркивал, что он оценивает «Снова в Едгине»
только с литературной точки зрения, и, в частности, писал: «Мы не закрываем глаза на
то, что в одном отношении это произведение является декларацией твердых, хотя и
умеренных, взглядов, направленных против общепринятого религиозного учения.
Отдаем мы себе отчет и в том, что иной читатель, чувства которого мы уважаем,
<...> будет возмущен использованием в книге фраз, освященных религиозной традицией.
Номинально автор причисляет себя к тем приверженцам Англиканской церкви,
которые выступают за терпимое отношение к инакомыслящим. Однако его критика —
независимо от того, проведена ли она с церковных позиций или нет, — заслуживает
рассмотрения, которое, несомненно, вскоре последует. Мы же ограничиваем себя чисто
литературным аспектом».
Другие рецензенты, затрагивая взгляды Батлера на «общепринятое религиозное
учение», высказывались не столь сдержанно и осторожно, как критик «Атенеума». На
страницах лондонской газеты «Дейли ньюс» Артур Квиллер-Кауч (1863—1944), в
будущем плодовитый литератор и известный ученый-шекспировед, обвинил Батлера в том,
что он сюжетно пародирует Евангелие. «Едгинская женщина Ирам (перевернутое Мари)
и ее муж, — утверждал Квиллер-Кауч, — прямо вызывают кощунственную ассоциацию
с Девой Марией и Иосифом» (Jones 1919/2: 356). Рецензент журнала «Зритель», хотя и
не скупился на комплименты в адрес писателя, все же, указывая на антиклерикальный
характер его сатиры, упрекал Батлера в том, что «Едгин» и его продолжение «Снова в
Едгине» приводят читателя «в интеллектуальное и моральное "никуда" — к полному
релятивизму, отрицанию всякой морали» (Ibid.: 357).
Выступив в печати, Батлер отвел обвинения Квиллер-Кауча и не согласился с
упреками журнала «Зритель» (см.: Ibid.: 357). Подобная полемика пробуждала в нем
творческую энергию. «О чем бы ни шла речь, — признавал он, — я никогда не испытываю
желания писать, если не уверен, что образ мысли людей, определяющих общественное
мнение, является ошибочным» (Ibid.: 307). Батлер был удовлетворен тем, как пресса
отзывалась о его новом произведении. Впервые в жизни он почувствовал отсутствие к
себе враждебного отношения. Он писал одной из своих новозеландских
корреспонденток 17 февраля 1902 года:
Если бы Вы знали, каким жестоким поношениям я постоянно подвергался почти с тех пор,
когда было раскрыто авторство «Едгина», Вы бы поняли, какое это для меня облегчение
написать наконец книгу, которая встретила дружелюбный и великодушный прием (Ibid.: 381).
Такой прием был первым предвестником изменения читательского восприятия
творчества писателя.
Посмертно изданный сборник стихотворений Батлера (Seven Sonnets and a Psalm of
Montreal, 1904) открывается сонетом — он обратился к этой форме под влиянием
шекспировских сонетов, которые откомментировал и опубликовал (Shakespeare's Sonnets
Reconsidered and in Part Rearranged, 1899), — посвященном «жизни после смерти»:
Кто прав, не прав — нам станет все равно,
И даже, встретясь, знать о том не будем.
И все же встречи ожидают нас:
В устах живых мы встретимся не раз.
(Пер. Ю. Левина)
Батлер обрел «жизнь после смерти» благодаря роману «Путь всякой плоти».
Самуэль Батлер и его восприятие интеллектуальной «дарвиновской революции»... 361
XV
На протяжении почти всей творческой деятельности Батлер чувствовал себя
общественным парией и литературным изгоем, тщетно стремился доказать своим
современникам право на талант, ум и оригинальность и лишь частично сумел убедить их
только в последнем. «Пусть неискушенный читатель, — заявил он в "Жизни и привычке", —
не совершит несправедливости и не уверует в меня. Всякий раз, когда я пишу, я —
среди отверженных» (Life and Habit 1878: 41). Мучительные и неудачные попытки
творческого самоутверждения, отсутствие читательского спроса на свои книги,
изолированность от интеллектуальных кругов Лондона выработали у Батлера непреодолимую
враждебность ко всякому модному имени или авторитету, наложив отпечаток на
литературные пристрастия писателя и в известной степени предопределив его эстетическую
позицию, отчетливо выраженную в его отношении к английской литературе.
В ней найдется не много писателей, привлекавших Батлера. Его не интересовала
«поэтическая сфера литературы», и почти вся английская поэзия, за редкими
исключениями, осталась за пределами его внимания (см.: Jones 1919/2: 321—322).
Сочинения Джона Беньяна (1628—1688) были для Батлера увлекательным чтением.
Однако автор «Пути всякой плоти» воспринимал беньяновский «Путь паломника»
(1678—1684) весьма своеобразно — как произведение, по существу, проникнутое духом
безверия, в котором «представление о небесах едва ли более возвышенное, чем в
перевоплощениях в театре на Друри-Лейн» (NB 1913: 189—190).
Батлер разделял увлечение своих современников творчеством Шекспира (1564—
1616). Вершиной шекспировской драматургии Батлер считал «Гамлета» (1600) и «Бурю»
(1611). В «Генрихе IV» (1596—1597) и в «Виндзорских насмешницах» (1597) его
привлекала стихия ренессансного фарсового комизма, и в окружении Фальстафа Батлер
особенно выделял миссис Куикли за ее остроумие, бойкость и жизненную энергию.
Однако более всего он ценил шекспировские сонеты, которые знал наизусть. Автор «Пути
всякой плоти» хотел найти в сонетах Шекспира ключ к тайне биографии драматурга
и написал об этом исследование. На основании фабулы сонетов Батлер пытался
воссоздать реальные факты биографии Шекспира.
В пьесах на лице автора всегда маска <...>, мы чувствуем его величественное присутствие,
но никогда не видим его. В сонетах же он — перед нами, лицом к лицу, прекрасный,
обаятельный, сильный, но, к счастью, и не без присущих ему недостатков и слабостей (Butler 1927: 156).
Сонеты Шекспира Батлер рассматривал как интимные письма в стихах, не
предназначенные для печати и лишь случайно попавшие в руки издателя.
К творчеству основателя английского просветительского романа Генри Филдинга
(1707—1754) Батлер относился положительно. Из филдинговских героев особенно
привлекательным был для него Том Джонс. В нем Батлер видел воплощение лучших черт
национального характера. В «Записных книжках» говорится:
В каждой английской деревне в пятьсот жителей найдется своя миссис Куикли и свой
Том Джонс. Эти замечательные люди не понимают, что они представляют собой <...>.
Гораздо реже, чем они сами, однако, встречается тот, кто увидит и поймет их (NB 1913: 364).
Сравнивая Филдинга и Свифта, Батлер тем не менее отдавал предпочтение
последнему. В тех же «Записных книжках» читаем:
Многословие Филдинга утомляет меня — Свифт краток и выразителен. О чем бы он ни
говорил, он быстро разделывается с тем, что ему надо сказать, и увлекает читателя дальше
(Ibid.: 191).
362
И. И. Чекалов
Судя по тому, что собрание сочинений Свифта находилось в весьма строго
отобранной и небольшой личной библиотеке Батлера (см.: Fort 1935: 226), творчество
создателя «Путешествия Гулливера» было предметом пристального внимания автора «Едгина».
Вопреки господствовавшим в викторианской Англии представлениям о Свифте Батлер
убежден, что «Свифт был гораздо более человечным и искренним, чем его обычно
представляют» (Correspondence 1962: 10).
Своих современников литераторов-викторианцев Батлер оценивал пристрастно,
жестко и непримиримо. Он с одинаковой неприязнью отзывался о Теккерее (1811—1863),
Россетти (1828-1882), Карлейле (1795-1881), Рескине (1819-1900), Дж. Элиот,
Мередите, Пейтере (1839—1894), Мэтью Арнольде (см.: FL 1962: 33; Correspondence 1962: 71, 95;
NB 191: 160, 184, 186). Исключения были весьма немногочисленны, и к ним
принадлежали Вальтер Скотт (1771-1832), Диккенс (1812-1870) и Дизраэли (1804-1881) (см.:
Jones 1919/2: 347; NB 1913: 217; Correspondence 1962: 71-72).
При всей своей враждебно обособленной позиции по отношению к большинству
писателей-современников Батлер, однако, не остался в стороне от обсуждения
эстетических вопросов, имевшего место в литературных кругах этого времени.
В центре внимания английской эстетической мысли XIX века находились проблемы
развития романа, постепенно ставшего ведущим жанром викторианской литературы.
Взаимоотношения правды и правдоподобия, фантастического и реального, обыденного и
необыкновенного, роль автора-рассказчика в повествовании, объективность повествования
и тенденциозность авторского поучения, убедительность художественных образов и их
поучительность, степень зависимости эстетических категорий от категорий этических —
такой круг проблем волновал крупнейших английских романистов и мыслителей XIX
века. Это были вопросы, по которым сталкивались мнения интуитивистски настроенных
критиков, именовавших себя «идеалистами», и позитивистски мысливших критиков,
называвших себя «реалистами», во время полемики о природе романа как жанра,
развернувшейся в английской периодической печати в середине века и длившейся десятилетиями1.
Подобные проблемы приобрели для Батлера особую актуальность, когда у него
появился замысел «Пути всякой плоти» и он задумал перейти от фантастико-сатириче-
ского и памфлетного жанров, стилистически ориентированных на английскую
просветительскую прозу XVTH века, к жанру романа, идейно-стилевые формы которого
отличались чрезвычайным разнообразием в современной писателю литературе. Применительно
к поэтике романа эстетический принцип «сиамских близнецов», воплощенный в «Едги-
не» и «Надежной гавани», требовал корректировки и модификации.
XVI
В апреле 1873 года Чарлз Дарвин писал Батлеру:
«Надежная гавань» чрезвычайно заинтересовала меня. Это прелюбопытная книга. Если
бы я не знал, что Вы написали ее, я бы никогда не усомнился в ортодоксальных взглядах
автора в широком смысле слова. Я бы считал, что он искренне верит. Хотелось бы знать,
обладает ли ортодоксальный читатель достаточной интуицией, чтобы распознать
предлагаемую Вами ересь.
Но что поразило Дарвина больше всего, заключалось в драматургической силе
произведения, то есть в том, по словам Дарвина, как Батлер «разрабатывает характер ге-
1 Подробнее об этом см.: Чекалов 1984: 64—81.
Самуэль Батлер и его восприятие интеллектуальной «дарвиновской революции»... 363
роя, перевоплощается в него и мыслит представлениями человека, за которого себя
выдает». «Отсюда, — заключал Дарвин, — я делаю вывод, что Вы могли бы
действительно написать превосходный роман» (Henderson 1954: 109).
В кругу общения Батлера Дарвин был не единственным читателем «Надежной
гавани», уловившим в ее авторе задатки романиста. Того же мнения придерживалась
Элайза Мэри Энн Сэвидж (1836—1885), игравшая важную роль в творческой истории
«Пути всякой плоти».
Батлер познакомился с мисс Сэвидж вскоре по возвращении в 1864 году в Лондон,
поступив на частные курсы живописи, где также училась и она. Внешне
непривлекательная, она была интересной собеседницей и обратила на себя внимание Батлера своим
интеллектом. Их знакомство перешло в дружбу, и мисс Сэвидж стала постоянной
корреспонденткой Батлера, с которой он делился творческими планами, обменивался
различными впечатлениями и обсуждал волновавшие его проблемы.
Поклонница литературного таланта Батлера, опубликовавшая восторженную
рецензию о «Едгине» (см.: Jones 1919/2: 443), мисс Сэвидж, прочитав «Надежную гавань»,
назвала памфлет «une sanglante satire» (Savage 1935: 36) («беспощадной сатирой») и,
распознав в нем зачатки романной формы, всячески призывала Батлера попробовать силы
на поприще романиста:
Я уверена, что Вы можете написать прекрасный роман <...>. Мораль состоит в
следующем: я хочу, чтобы Вы написали роман, чтобы Вы постоянно писали романы в таком
множестве, которое позволило бы мне считать Вас восхитительной машиной для сочинения
романов (цит. по: Jones 1919/1: 173).
Батлер весьма сдержанно откликнулся на энтузиазм мисс Сэвидж. Он возражал ей:
Все это очень хорошо, но я не могу приниматься за написание романа и пытаться
развлекать публику, когда имеется работа, которую надлежит сделать, и, полагаю, я являюсь как
раз тем человеком, которому следует ею заняться, а она, кажется, сама просится к тому,
чтобы ее выполнить (Savage 1935: 28).
Работа, которую имел в виду Батлер, была связана с его восприятием
дарвиновского эволюционного учения, или, по его собственным словам, «с очень сухой, но (для меня)
чрезвычайно интересной темой, нечто вроде машин в "Едгине"» (Ibid.: 115). Батлер еще
не нашел окончательных ответов на вопросы, возникавшие у него в ходе чтения
«Происхождения видов», и теория эволюции, которую он собирался выдвинуть в «Жизни и
привычке», еще казалась ему «не более, чем искусным парадоксом» (Ibid.: 116).
Однако мисс Сэвидж знала, как добиться своего. Ей надо было пробудить в Батле-
ре полемиста, направив его внимание к литературе. Проводившая изрядную часть
своего времени за чтением романов, — «романы, — признавалась она, — составляют все
утешение моей жизни» (цит. по: Federico 1995: 467), — мисс Сэвидж послала Батлеру только
что прочитанную ею очередную лондонскую книжную новинку — роман Джордж Элиот
«Миддлмарч», сопроводив присылку книги своим критическим высказыванием,
причислявшим Дж. Элиот к тем писательницам, которые «ужасно боятся, что читатель не
поймет их замысла, и разъясняют его до тех пор, пока не выведут читателя из себя и не
утомят его вконец» (Savage 1935: 36). Батлер, читая «Миддлмарч», соглашался с мисс
Сэвидж. «Роман, — писал он ей, — наполнен едкими и умными замечаниями, но они
демонстрируют желание автора прослыть умным и поэтому могут убедить читателя
лишь в том, что автор любуется собою, а не в том, что он искренне проповедует идеи,
выраженные в произведении» (Ibid.: 40).
364
И. И. Чекалов
Мисс Сэвидж достигла поставленной цели. В 1873 году Батлер начал писать роман,
фабульные наметки которого у него возникли еще в период работы над «Надежной
гаванью». Он сообщал ей тогда (в июне 1872 г.):
Герой — бесшабашный молодой человек с острым чувством юмора и не обремененный
угрызениями совести. У героя испорчены отношения с отцом, «почтенным сельским
священником», «запретившим сыну являться в свой дом» из-за печально известных юношеских
проделок того и распущенного языка (Ibid.: 27).
Создание романа длилось годы, но его окончательная отделка не была доведена до
конца. В 1884 году рукопись была вчерне готова, и Батлер приступил к ее пересмотру
и редактированию, прервав их в 1885 году. На протяжении всех этих лет мисс Сэвидж
являлась его неизменным литературным советчиком. Она читала и повторно
перечитывала текст, по мере того как он создавался автором. После ее смерти в 1885 году
писатель больше никогда к рукописи не прикасался.
XVII
Как и рассчитывала мисс Сэвидж, чтение «Миддлмарча», задев Батлера за живое,
заставило его преодолеть сомнения относительно своего вступления на поприще
романиста. Эти сомнения были продиктованы необходимостью перехода от фантастико-са-
тирических жанров к жанру романа — перехода, требовавшего прояснить роль автора-
рассказчика применительно к поэтике романной формы. Порицая Дж. Элиот за
«желание прослыть умной», Батлер, вероятно, понимал, что подобный упрек мог быть
адресован и ему, и делился своими сомнениями с мисс Сэвидж:
Я знаю, что должен рассматривать роман так же, как рассматривал «Едгин», то есть как
стержень, на котором крепится все, что я хочу сказать. В результате получится то, что
вызывает у Вас возражение в «Миддлмарче». Единственный вопрос заключается в том, имеет
ли вообще это значение при условии, что высказываемое автором будет признаваться
читателем как выражение его собственных чувств, пробуждая в нем отклик, а не будет служить
автору поводом выставить напоказ свои умственные способности (Ibid.: 27).
Если в «Едгине» стержнем повествования являются материалы новозеландских
очерков Батлера с разработанным там эстетическим принципом «сиамских близнецов», то что
же стало подобным стержнем в «Пути всякой плоти»? Каким образом Батлер
рассчитывал достичь художественного эффекта, при котором изображаемое писателем могло быть
принято читателем за передачу собственных читательских переживаний? На эти
вопросы Батлер нашел для себя ответы только тогда, когда возникшие у него представления об
эволюции перестали казаться ему «искусным парадоксом», иными словами, лишь тогда,
когда он, окончательно уверовав в психоламаркистский витализм, начал публикацию
своих книг по эволюционным проблемам, противопоставляя свое понимание процесса
развития форм жизни дарвиновской теории естественного отбора. Полемика с Дарвином
отвлекала Батлера от работы над романом, значительно замедлив его создание, но именно
в ходе этой полемики Батлер консолидировал и углубил свои эстетические взгляды, и у
него сформировался фундамент, на котором покоится композиция «Пути всякой плоти».
В своих полемических трудах Батлер с легкостью переходил от изложения
эволюционных представлений к изложению эстетических воззрений, не отказываясь
полностью от принципа «сиамских близнецов» ни в том, ни в другом случае. Например, в
книге «Жизнь и привычка» он заявлял:
Саму эль Батлер и его восприятие интеллектуальной «дарвиновской революции»... 365
Некоторые друзья жаловались мне, что они никогда не знают, шучу ли я или говорю
серьезно. Между тем я считаю очевидным, что я говорю вполне серьезно и, быть может,
даже слишком серьезно <...>. Я не выдвинул ни одного аргумента <...>, в который бы не верил
искренне, хотя некоторые из них имеют также и юмористическую сторону. Я признаю, что,
если пшеничное зерно похоже на плевел, при случае я предпочту его предмету, который
похож на пшеничное зерно, но при ближайшем рассмотрении оказывается не чем иным, как
плевелом (Life and Habit 1878: 305-306).
Таким образом, подобно тому как в новозеландском очерке «Lucubratio Ebria»
«покрывало воображения» автора позволяет ему увидеть истину только в задрапированном
виде, только в неразрывном сочетании с ее тенью — вымыслом, так и здесь внимание
Батлера направлено на то, чтобы увидеть зерно истины, похожее на плевел, потому что
тогда выработается умение не принимать плевел за зерно истины.
Рассуждениям об иронии отведено заметное место в книгах Батлера, посвященных
эволюции (см., напр.: Butler 1879: 83, 86—87, 91, 111). Суть этих рассуждений сводится
к следующему. Ирония призвана показать читателю нелепые и бессмысленные
стороны существования, а также контролировать и корректировать положительные
представления писателя о жизни. Недосягаемость абсолютной истины как в общефилософском,
так и в этическом планах и трудности коммуникации диктуют, с точки зрения
Батлера, такие отношения между автором и читателем, при которых прямое
моралистическое назидание становится невозможным: читатель должен сам отличать истину от
вымысла, пшеницу от плевела, то есть отделять друг от друга «сиамских близнецов»,
неразрывно связанных в воображении писателя.
Пелена иронии, которой Батлер любит окутывать изложение своих эволюционных
идей, не облегчает читателям проникновение в его концепцию психоламаркистского
витализма, однако ирония свойственна характеру его писательского дарования,
питаемого драматургией идей, двигавших им при создании «Пути всякой плоти».
Размышления об иронии, рассыпанные в его естественнонаучных трудах, постоянно
вторгаются в серьезную аргументацию, уводя автора в сторону от обсуждаемого предмета, но
они свидетельствуют о том, что мысль Батлера занята не только полемикой по
вопросам биологии, но и романом «о бесшабашном молодом человеке», ссорящемся со
своим отцом.
Иронический тон, к которому Батлер прибегал в «Жизни и привычке», заставил его
поместить в книге специальное разъяснение, и, несмотря на это, некоторые читатели-
биологи были сбиты с толку и приняли предложенное разъяснение за розыгрыш (см.:
Stillman 1932: 132). Однако ирония, мешавшая научной коммуникации, в
художественном произведении оказалась уместной. Она была с успехом использована писателем при
создании образа Эдварда Овертона, персонажа «Пути всякой плоти», от имени которого
ведется повествование в романе. Этот образ, как отмечают исследователи (см.: Marshall
1963/4: 583—590; Knoepfelmacher 1965: 257—265) ', содействует композиционному единству
«Пути всякой плоти».
XVIII
В одном из своих многочисленных рассуждений, повсеместно разбросанных в «Пути
всякой плоти», Овертон утверждает:
1 При анализе романа Батлера автор настоящей работы опирается на данные исследования.
366
И. И. Чекалов
Всякое творение человека, будь то произведение литературы, музыки, живописи, зодчества
или какое-либо другое, — это всегда своего рода портрет самого человека, и, чем больше он
старается скрыть себя, тем отчетливее, вопреки его воле, будет проступать его характер. Я, вполне
вероятно, выдаю себя все время, пока пишу эту книгу, ибо знаю, что, нравится мне это или нет,
я изображаю скорее себя, чем любого из тех персонажей, которых представляю читателю. Мне
жаль, что это так, но я ничего не могу с этим поделать <...> (с. 52 наст. изд.).
В устах Овертона такое признание поначалу звучит неожиданно и вплоть почти до
самого конца романа может восприниматься как чистая ирония, ибо из всех
персонажей о нем известно менее всего. Автор бурлескных и буффонадных драматических
произведений, инсценировавший в подобном духе беньяновский «Путь паломника», одну из
любимых книг благочестивых викторианцев, столь же непочтительно обошедшийся с
несколькими моментами «английской истории времен Реформации» и благодаря своим
«сценическим трактовкам» приобретший «широкую литературную известность» в «очень
узких кругах» Лондона (см. с. 89), Овертон, очевидно, занимает враждебную позицию
по отношению к викторианскому пуританизму, что вполне согласуется с его нежеланием
становиться священником и неодобрением им этой профессии для своих друзей (см.
с. 187). Однако сам он сын приходского священника из деревни Пейлхэм (см. с. 7), из
которой ведет свое происхождение большинство действующих лиц романа. Свое
детство он провел с некоторыми из них, хорошо знает всех и влюблен в одну из давних
подруг по играм. Она отвечает ему взаимностью, но причину, почему они не
поженились, он не раскрывает (см. с. 64), хотя и дает понять, что никогда не вступит в брак ни
с кем, кроме своей избранницы (см. там же).
То, что Овертон, рассказывая о других, лишь время от времени бросает беглый
взгляд на самого себя, как бы ненароком сообщая читателю ту или иную подробность
своей биографии, оправдано его положением в романе. Овертон как рассказчик —
носитель авторской иронии, и, при том что он фигурирует собственной персоной во
многих из рассказываемых им эпизодах, все же повествует о них со стороны, глядя
глазами стороннего наблюдателя, не упускающего случая сделать по их поводу остроумное
замечание, вспомнить афоризм античного автора или предаться пространному
философскому размышлению. Однако его отстраненность от описываемых событий, на
которой держится вся публицистическая субстанция романа, не остается неизменной,
уменьшаясь по мере того, как меняется облик повествователя по ходу действия
романа. Вначале Овертон предстает перед читателем маленьким мальчиком в дымке
собственных воспоминаний рассказчика о своем детстве; затем, даже уже будучи взрослым
человеком и иногда приезжая из Лондона к Алетее, своей давней подруге, в которую
влюблен, он становится непосредственным свидетелем происшествий, о которых пишет,
и наконец, когда действие переносится в Лондон, он умудрен опытом и упоминает о себе
как о пятидесятисемилетнем человеке (см. с. 220) и восьмидесятилетнем старце (см.
с. 301).
Соответственно этим изменениям в облике повествователя меняется роль
рассказчика по отношению к главному герою Эрнесту Понтифексу. В начальных главах
романа, когда Эрнест еще не появился на свет, Овертон свободно строит повествование как
семейную хронику Понтифексов, хронологически следуя их родословной и переходя от
представителей одного поколения к представителям другого. В данной части
повествования он максимально удален от объекта изображения. Рождение Эрнеста, его первые
детские годы и воспитание в доме отца вплетены в рассказ Овертона почти как
случайные события, свидетелем которых он оказался, будучи приглашенным быть «вторым
крестным» отцом ребенка (см. с. 63). Позу стороннего наблюдателя Овертон
сохраняет и при описании учебы Эрнеста в грамматической школе в Рафборо, а также его
Самуэлъ Батлер и его восприятие интеллектуальной «дарвиновской революции»... 367
студенческой жизни в Кембридже. Овертон недоволен тем, что Алетея из-за своего
племянника Эрнеста переехала в Рафборо (см. с. 116). Когда Алетея, умирая, завещает свои
деньги в конечном итоге Эрнесту, Овертон сетует на то, что это завещание поставило
его в затруднительное положение, и тяготится возложенными на него обязанностями
опекуна (см. с. 119). Однако в пору возмужания героя и вступления его в
самостоятельную жизнь Овертон признает, что испытывает чувство привязанности к Эрнесту, и
огорчается из-за выбора им профессии (см. с. 193).
Если раньше Овертон, целиком поглощенный драматургической деятельностью,
интересовался племянником Алетеи более на словах, чем на самом деле (см. с. 115), то
теперь он, хотя вскользь и сообщает читателю, что занят сочинением очередного
бурлеска (см. с. 249), не скрывает того, что собирается «превратить приключения» Эрнеста
в роман (см. с. 294). Раскрыв свой замысел, Овертон отказывается от позы стороннего
наблюдателя и меняет свое отношение к Эрнесту. Теперь опекун «внимательно следит»
за своим подопечным, позволяя тому «барахтаться в глубокой воде» лишь до тех пор,
пока тот не начнет тонуть (см. с. 218). Во всех жизненных перипетиях и переделках, в
которые Эрнест попадает по молодости и неопытности, Овертон всегда оказывается
рядом со «своим молодым другом» (см. с. 241) и неизменно готов прийти к нему на
помощь. Правда, женитьба Эрнеста несколько отдаляет от него Овертона, но, как
только этот брак расстраивается, их отчуждение друг от друга исчезает (см. с. 255), а
сближение продолжается. К концу романа дистанция между ними (за исключением
возрастной) пропадает, и фигура рассказчика становится почти неотличимой от фигуры
главного героя: оба заядлые холостяки; оба любят путешествовать; оба обладают солидным
состоянием, обеспечивающим им полную материальную независимость; оба
чувствуют себя в обществе изгоями (ср.: с. 89, 293), и узкий круг их общения
ограничивается одними и теми же друзьями (см. с. 274); оба смело выступают против
общепринятого мнения; наконец, оба посвятили себя писательскому труду, причем у Эрнеста, так же
как у Овертона, «природная склонность к литературе» (с. 274) имеет драматургический
аспект, хотя и иного характера, чем у его старшего собрата по перу, ибо Эрнест, в
отличие от Овертона, который подвизается на поприще экстравагантной буффонады,
сочиняет «полутеоло1т^ческие-полупу6лицисгические очерки, якобы написанные шестью-
семью авторами, рассматривающими один и тот же предмет с различных точек зрения»
(с. 297); если Овертон тяготеет к бурлескной пародии и гротеску, то Эрнест — к
сочинению трактатов на отвлеченные темы, наподобие тех, которые подняты в «Надежной
гавани» (см. с. 249), а в целом и тот и другой любят интеллектуальную драматургию
идей, сталкивающую различные точки зрения «на один и тот же предмет», то есть как
раз то, чем любит заниматься мастер парадокса Батлер.
Раскрывающаяся в заключительных главах романа идентичность рассказчика и
главного героя, выявляя общность этих персонажей, за которой стоит их создатель
Самуэлъ Батлер, указывает на автобиографический пласт произведения, подтверждая уже
приводившееся признание Овертона, что «он выдает себя все время, пока пишет эту
книгу» как вполне серьезную установку автора «Пути всякой плоти». Вместе с тем на
протяжении многих глав романа между Овертоном и Эрнестом сохраняется
значительная дистанция, а их финальная идентичность остается долгое время скрытой от
читателя, что позволяет одному двойнику автора, находящемуся на «продвинутой» ступени
жизни, наблюдать за другим, начинающим свой жизненный путь. Такой
композиционный прием, не лишая субстанциональности «субъективный импульс» романиста,
стремящегося раскрыть читателю свой сокровенно личный опыт, вносит в повествование
Овертона об Эрнесте оттенок объективности и укрепляет позицию рассказчика как ав-
368
И. И. Чекалов
торского резонера, щедро наделенного иронией и направляющего ее как на главного
героя, так и на любого из прочих персонажей.
Ирония рассказчика распространяется и на публицистический пласт романа.
Благодаря тому, что Овертон является ее носителем, на многочисленные рассуждения,
крылатые выражения, афоризмы и цитаты, вложенные в его уста, ложится отсвет этой
иронии, и в соответствии с батлеровским эстетическим принципом «сиамских
близнецов» читателю самому предоставляется разобраться, где в них заключена истина.
Будучи соединительным звеном между главным героем и остальными
персонажами романа, с одной стороны, и между фабульным и публицистическим пластами
произведения — с другой, рассказчик выполняет еще одну композиционную функцию: он
вводит в сюжетную ткань «Пути всякой плоти» эволюционные представления Батле-
ра, ибо на их фундаменте покоится семейная хроника Понтифексов, которую
излагает Овертон.
XIX
Комментируя невоздержанность в пище и вине одного из представителей семейства
Понтифексов, Овертон размышляет:
Допускаю, на первый взгляд кажется весьма несправедливым, что родители предаются
удовольствиям, а наказание за это несут дети, но молодые люди должны помнить, что много
лет они были неотъемлемой частью своих родителей и, следовательно, в лице своих
родителей получили добрую долю удовольствий. Позабыв теперь об этих удовольствиях, они
напоминают людей, которые, перебрав накануне, назавтра встают с головной болью.
Человек, мучающийся утром от головной боли, не отрицает своего тождества с тем, кто
напился вечером, и не требует, чтобы наказание понесло его вчерашнее «Я», а не сегодняшнее. Так
и юному отпрыску не стоит жаловаться на головную боль, которую он заработал, будучи
частью родителей, ибо и в этом случае прослеживается преемственность личности, пусть и
не столь явственно, как в приведенном примере (с. 24).
Иронический тон рассказчика, отстраненно смотрящего на последствия тех
излишеств, которым предается описываемый им персонаж, не должен вводить нас в
заблуждение относительно серьезности проблематики, вводимой размышлением Овертона.
Оно, представляя собой вариацию на тему парадокса Герберта Спенсера о мальчике и
взрослом человеке (вчерашнее «я» — сегодняшнее «я», ср. с. 343—344), повторяет в
несколько пародийной форме, мотивированной данным контекстом, тезис, положенный
писателем в основу своих эволюционных представлений. Вот как Батлер излагает
данный тезис в «Жизни и привычке» — на этот раз без всякой примеси иронии и
самопародии с единственной целью донести мысль до читателя:
Человек остается один на один с множеством собственных пренатальных сущностей,
когда пытается стать отличным от них. Он должен уступить им или умереть, если это его
стремление заходит так далеко, что ему изменяют его природные инстинкты
удовлетворения чувства жажды или голода <...>. В такой момент непокорный рой прежних «я»
оживает в нем и покоряет его. «Это, это, это! Мы поступали так, и это принесло нам пользу», —
твердят голоса предков, возникая в душе человека. Слабы призывы тех, кто удален от него,
их возгласы доносятся до него, то усиливаясь, то замирая, как звуки колокола,
раздающегося высоко в горах; голоса же недавних предков звучат громко и отчетливо, подобно
набатному колоколу. «Воздержись!» — призывают одни. «Действуй смело!» — настаивают
другие. «Возвратись ко мне, мой потомок!» — громко произносит один голос, как будто исходя
Самуэль Батлер и его восприятие интеллектуальной «дарвиновской революции»... 369
от того, кто, овладев выгодной позицией, перекрывает шум толпы. «Нет, следуй только мне,
мне, мне!» — эхом отзывается другой голос. И наши прежние «я» сражаются внутри нас,
борясь за то, чтобы овладеть нами. Разве не идет здесь речь о внутреннем смятении чувств,
когда былые удовольствия и страдания наших предков внутренне пробуждают в нас то одно,
то другое устремление души. И пусть исход сражения при этом решается тем, что людям
было угодно назвать нашим собственным жизненным опытом (Life and Habit 1878: 52—53).
По отношению к «Пути всякой плоти» книга Батлера «Жизнь и привычка» играет ту
же роль, что и его новозеландские очерки по отношению к «Едгину». Если
новозеландские очерки дали писателю концептуальное зерно его фантастико-сатирического
произведения, то «Жизнь и привычка» — концептуальное зерно «Пути всякой плоти»: под
влиянием психоламаркистского витализма, с эволюционной концепцией которого
Батлер соглашается в этой книге, его первоначальный замысел о «бесшабашном молодом
человеке», не ладящем со своим отцом, трансформировался в сюжет о «внутреннем
смятении чувств» героя, сражающегося «один на один» с «множеством собственных пре-
натальных сущностей» в стремлении «быть отличным от них». Так в романе появился
персонаж, названный Эрнестом, внутри сознания которого «тайно живет» «другой
Эрнест», живет «гораздо сильнее и реальнее, чем Эрнест, сознающий себя».
Этот безмолвный Эрнест обнаруживал себя посредством подспудных чувств, слишком
быстротечных и несомненных, чтобы быть выраженными в такой ненадежной форме, как
слово, но убеждал он, по сути, в следующем:
<...> Ты окружен со всех сторон ложью <...>. «Я», которое ты осознаешь, твое
рассуждающее и размышляющее «Я», готово верить этой лжи и приказывать тебе поступать в
соответствии с ней. Твое сознательное «Я», Эрнест, — это ханжа, порождение ханжей и вышколено
в ханжестве. Я не позволю ему руководить твоими поступками <...>. Повинуйся мне, твоему
истинному «Я», и дела у тебя пойдут более или менее сносно, но, если вздумаешь повиноваться
этой внешней и видимой прежней твоей оболочке, которая называется твоим отцом, я
растерзаю тебя на части даже в третьем и четвертом колене как того, кто ненавидит Бога, ибо я,
Эрнест, есмь Бог, сотворивший тебя (с. 103).
Поскольку Батлер признает, что не может облечь в слова обыкновенного языка, —
слова, замечает он в «Жизни и привычке», «придают прямые и твердые очертания
изогнутым контурам» и превращают «непрерывное в прерывное» (Life and Habit 1878: 83—
84), — «подспудные чувства» «безмолвного Эрнеста», «тайно живущего» в задуманном
писателем персонаже и сражающегося в нем с его «пренатальными» «Я», автор «Пути
всякой плоти» прибегает к иносказанию: он изображает внутреннюю борьбу,
происходящую в душе его героя, в виде ее внешнего отражения в канве семейной хроники.
Стержень первоначального замысла при этом сохраняется, но конфликт
«бесшабашного молодого человека» со своим отцом приобретает эволюционно-виталистское
обоснование. Батлер, опираясь на свои эволюционистские представления, стремится раскрыть
читателю философское иносказание, заключенное в романе: его герой торжествует над
обстоятельствами своего рождения, он избегает жизненной участи, казалось бы,
неотвратимо предопределенной ему строгой семейной традицией, воспитанием и средой;
благодаря усилиям своего разума и воли он получает возможность, воспользовавшись
благоприятным стечением обстоятельств, утвердить свою внутреннюю духовную сущность,
заложенную в нем исконной наследственностью, или «Богом, создавшим его» (в
соответствии с терминологией писателя, переложившего понятия своего психоламаркистского
витализма в теологические категории в серии статей «Бог известный и Бог неизвестный»
(Examiner. 1879. May 24 —July 26)). Так в понимании Батлера совершается «путь всякой
плоти» — всеобщая эволюция на манер Ламарка.
370
И. И. Чекалов
Название романа соотносится с предсмертными словами библейского царя Давида
(см.: 3 Цар. 2: 2): «Вот, я отхожу в путь всей земли» («I go the way of all the earth»). В
средневековом английском варианте эти слова были переведены следующим образом:
«I go the way of all flesh» («Я отхожу в путь всякой плоти»), и это выражение стало
идиомой английского языка, означая «[жить] и умереть, как другие люди, подвергаться
переменам, случайностям, соблазнам, как все» (Chambers 1995: 413; ODI1990/2: 237—238).
Данная смысловая связь поддерживается всеобщностью философского иносказания,
заключенного в романе: «путь всякой плоти» — парафраза выражения «жизнь любого
человека, его жизненный путь от рождения до могилы». Вместе с тем название романа
содержит и еще одну библейскую аллюзию: «И воззрел Бог на землю — и вот, она
растленна: ибо всякая плоть извратила путь свой на земле» (Быт. 6: 12). Данная библейская
аллюзия указывает на другой аспект романа. Форма семейной хроники, в которую Бат-
лер вложил философское иносказание, вывела на первый план социологическую
сторону эволюционных представлений писателя, позволив ему развернуть сатирическую
картину викторианского семейного воспитания. Исполнение этой задачи осуществляется в
романе с тем большей легкостью, что оно возложено на рассказчика, носителя
авторской иронии.
XX
В повествовании Овертона перед читателем предстают четыре поколения семьи
Понтифекс, а на пятое брошен беглый взгляд. Со времен своего детства рассказчик
хорошо помнит глубоко им уважаемого Джона Понтифекса, патриарха семьи, о
котором отец Овертона говорит, что Джон «был не просто способным человеком», но
«одним из самых способных людей», известных ему (см. с. 9). Природа так щедро
одарила Джона, что, окажись он на месте Кромвеля или Джотто, он сумел бы решить
политические задачи, стоявшие перед одним, и воплотить художественные замыслы другого.
Но и в своих жизненных обстоятельствах Джон добился чрезвычайно многого. Он
преуспел материально. Сын поденщика, начавший свою трудовую жизнь деревенским
плотником, Джон кончил ее состоятельным фермером, заложив основы материального
процветания семьи. Духовное развитие его личности также было поразительным: он
писал картины, которые «можно было принять за работы какого-нибудь из неплохих
старых мастеров» (с. 7) и, сам построив орган, играл на нем и сочинял-музыку.
Однако жена Джона Понтифекса оказалась не совсем под стать своему супругу.
Правда, «он взял за ней неплохое приданое», но на их женитьбе настояла она. Крупная,
рослая женщина, она была подвержена «бурным проявлениям нрава», и
«поговаривали, что старик под каблуком у жены». Жили они тем не менее счастливо, «поскольку
характер у мистера Понтифекса был легкий» (там же).
Именно благодаря миссис Понтифекс, в отличие от Джона начисто лишенной
чувства юмора (см. с. 9), что является показателем отрицательной характеристики
персонажа у Батлера, в наследственности рода появляются изменения, которые
неблагоприятно скажутся на потомках. Джордж, единственный ребенок, родившийся у четы Понти-
фексов, «унаследовал основные черты характера от этой упрямой пожилой женщины,
своей матери» (с. 11).
Джорджу, таким образом, не передались в полной мере способности отца, но все же
его собственные «несколько превышали средний уровень» (с. 20). Наделенный ими, он
«мог бы получить профессию плотника» (с. 11) и стать, как отец, одним из уважаемых
людей в Пейлхэме. Однако снова благодаря миссис Понтифекс — ее сестра была заму-
Самуэль Батлер и его восприятие интеллектуальной «дарвиновской революции»... 371
жем за состоятельным издателем религиозной литературы, которому понравился юный
Джордж, — его судьба круто изменилась. Поступив подмастерьем к дяде, Джордж
быстро пошел вверх по общественной лестнице и разбогател.
Богатство не принесло Джорджу счастья. «Для того чтобы человек мог
наслаждаться и пользоваться богатством как подобает, — замечает Овертон, — видимо, требуется
последовательное воспитание нескольких поколений» (с. 21). Богатство сделало
Джорджа черствым. Контраст между искренностью чувств старого Джона Понтифекса и
эмоциональной ущербностью его сына подчеркнут Овертоном, рассказывающим об
отношении этих персонажей к природе. У старого Джона «было свое, особое отношение к
закатам, и он приделал пару ступенек к садовой ограде, на которые обычно поднимался
в ясную погоду». Ощущая приближение смерти, он пришел попрощаться с солнцем, и
можно было видеть, «как старик стоит, положив руки на ограду, и смотрит на солнце
над полем» (с. 15). Джордж как состоятельный англичанин, путешествуя в Альпах,
ведет дневник, «по прошествии лет» попавший на глаза Овертону, и в дневниковых
записях щедро расточает восторг по поводу «монарха гор». Он даже выражает свои чувства
в стихотворении, сочиненном им во время путешествия и «вписанным» в «книгу для
посетителей». Однако чувства его неискренни, и он смотрит «на природу и искусство
только сквозь те очки, какие достались ему от многих поколений педантов и притворщиков»
(с. 16).
Богатство, лишив Джорджа искренности чувств, плохо сказалось на его характере
и в других отношениях: он стал тщеславным, его ощущение «meum» («моего», см. с. 11),
проявившееся еще в детстве, переросло в скупость, он предавался гастрономическим
излишествам, пил и деспотически вел себя с детьми. Деньги, а не дети были у него на
первом месте. Овертон рассказывает о нем:
Деньги всегда были послушны; деньги никогда не учиняли шума или беспорядка, не
проливали ничего на скатерть во время еды и не оставляли после себя дверь открытой.
Дивиденды не ссорились между собой, и у него не возникало беспокойства, как бы закладные по
достижении совершеннолетия не превратились в сумасбродов и не наделали долгов,
которые ему рано или поздно придется платить <...>. С деньгами он никогда не бывал
вспыльчивым или раздражительным, и, возможно, именно поэтому Джордж Понтифекс и его
деньги так хорошо ладили между собой (с. 22).
Природная склонность Джорджа к проявлению «бурного нрава», унаследованная им
от матери, отражалась на его детях, и если «с деньгами он никогда не бывал
вспыльчивым или раздражительным», то на детях полностью вымещал свой дурной нрав: бил их,
чтобы пресечь «первые же проявления своеволия» и выработать у них уже в детстве
«привычку к повиновению» (с. 23). Он даже «натравливал» сыновей друг на друга,
извлекая из этого пользу для себя (см. с. 28).
Внезапно взнесенный деньгами, которые на него «сыпались в изобилии» (с. 21), на
гребень материального благополучия и тем самым получивший дополнительную
возможность выразить характерные особенности своей наследственности, Джордж, в
соответствии с эволюционистскими представлениями Батлера, является «гибридом», «особью с
новыми качествами, возникшими в результате небывалого сочетания множества
разнородных элементов» (там же). Он-то и оказывается тем звеном в генеалогической ветви
Понтифексов, в котором исконная даровитость рода претерпевает опасную мутацию,
приостанавливая, по словам американского исследователя Ю.-С. Кнепфелмахера,
«естественное развитие» сына и внука Джорджа (см.: Knoepfelmacher 1965: 269).
Психологические и социологические последствия подобной мутации прослеживаются Батлером на
страницах «Пути всякой плоти».
372
И. И. Чекалов
XXI
В то время как в наследственности Джорджа Понтифекса проявились признаки,
идущие от матери, двое из его пятерых детей — Теобальд и Алетея — сохранили
наследственные качества их деда Джона. Ощущая свою особую близость с братом, Алетея
«всегда пыталась полюбить Теобальда и объединить с ним усилия» (с. 106), но не
преуспела. Алетея «была необычайно красива» и «обладала жизнерадостным нравом и
нежной душой», унаследовав от деда Джона «не только некоторые черты лица, но и любовь
к шуткам, совершенно не свойственную ее отцу» (с. 27). Доставшиеся ей от деда
природные задатки были выражены у нее гораздо сильнее, чем у Теобальда.
Не думаю (замечает Овертон о Теобальде), чтобы Теобальд мог бы полюбить кого-нибудь
всем сердцем, да и не было в их семейном кругу никого, кто побудил бы его не подавлять
привязанность, а проявить ее — за исключением, пожалуй, его сестры Алетеи, однако она была
слишком бойкой и живой для его несколько угрюмого нрава (там же).
Угрюмость нрава является не прирожденным, а приобретенным свойством
Теобальда. Поначалу в детстве, легко поддаваясь порывам чувств, «он был необуздан», но
вскоре под воздействием «суровой руки отца», которая «накрепко повязала его узами
внешнего согласия с братом и сестрами» (с. 27—28), он, впав в «унылое смирение, похожее на
смирение осла, согнувшегося под тяжестью двух нош» (с. 29), «сделался замкнут, робок»,
«ленив душой и телом» (с. 27).
И все же живость темперамента, унаследованная Теобальдом от Джона
Понтифекса, пусть и в значительно меньшей степени, чем сестрой, не сразу исчезает у брата. В
годы отрочества в его душе теплятся «некие смутные идеалы», и временами он мечтает
стать моряком, мечтает о путешествиях «в дальние страны» или «о деревенском
просторе» (с. 29). Уже будучи молодым человеком, он однажды по-настоящему «воспрял
духом» (с. 32), когда принял за чистую монету «видимость свободы» (с. 28) в выборе
профессии, которую ему на словах сулил дать отец.
Джордж Понтифекс хотел, чтобы его сын Теобальд стал священником.
Мистеру Понтифексу, известному издателю религиозной литературы (поясняет Овертон),
приличествовало, чтобы хоть один из его сыновей посвятил жизнь Церкви: это могло
оказаться выгодно фирме или, во всяком случае, сохранить прочность ее положения. Кроме того,
мистер Понтифекс пользовался определенным авторитетом у епископов и церковных сановников
и мог надеяться, что благодаря его влиянию сыну будет оказано некоторое-предпочтение (с. 28).
Хотя, «<п>режде чем Теобальд успел вырасти из своих детских одежек», он уже
знал, что предназначается для церковной карьеры, тем не менее ему была неизвестна
подоплека решения отца, раскрываемая читателю Овертоном, ибо Джордж Понтифекс,
«когда в доме бывали гости и сын находился в комнате», неизменно заявлял, что не
собирается «оказывать давление на сына в выборе какой бы то ни было стези» (там же).
Наслушавшись таких речей, Теобальд и впрямь в них поверил и, столкнувшись после
окончания Кембриджского университета с необходимостью избрать жизненный путь,
признался отцу, что не ощущает «внутреннего призвания» «для полноценного служения
Церкви» (с. 31). В ответ на эти признания, сделанные в ходе переписки сына и отца, от
последнего сначала пришло длинное велеречивое послание, смысл которого остался для
Теобальда темен, а затем — краткое письмо, ясно выражавшее волю отправителя: «Ты не
получишь от меня ни гроша, пока не образумишься» (с. 33). Под угрозой быть лишенным
наследства Теобальд сдался. Отец совершил над ним насилие, заставив сына выбрать
профессию, вменяющую ему в обязанность «видеть честь и славу Божью глазами
Церкви, которая за три сотни лет своего существования не сочла возможным изменить ни
Самуэлъ Батлер и его восприятие интеллектуальной «дарвиновской революции»... 373
единого из своих представлений» (с. 87). Теобальд был рукоположен и начал
«проповедовать Евангелие» (с. 31), не имея к тому склонности. Так окончательно была утрачена
им всякая надежда сохранить живой душу. Запас жизненной энергии, доставшийся ему
от деда, был исчерпан.
С опустошенной душой Теобальд вступает на священническое поприще. Будучи в
качестве помощника крэмпсфордского приходского священника мистера Элэби вхож
в дом пастора, он становится объектом пристального внимания пятерых пасторских
дочерей, попадая тем самым в ситуацию, напоминающую ту, в которой оказывается
мистер Коллинз в романе Джейн Остин (1775—1817) «Гордость и предубеждение» (1797,
опубл. 1813). Однако если остиновский персонаж, молодой человек духовного звания,
имеет собственный приход и не скрывает своих матримониальных намерений, то у
Теобальда нет иной цели, «кроме как заработать три гинеи, да к тому же, возможно,
удивить жителей Крэмпсфорда своей университетской ученостью» (с. 36). О женитьбе
он и не помышляет, а в женском обществе чувствует себя неуверенно. Там
«рассуждали о музыке — а он не любил музыку, или о картинах — а он не любил картины, или о
книгах — а он, за исключением классиков, не любил и книги» (с. 37).
Пока Теобальд пребывает в состоянии полной невинности своих помыслов, на
женской половине пасторского дома за него разворачивается борьба. Он и место
помощника пастора получил только потому, что пасторское семейство нацелилось на него как на
партию для одной из незамужних дочерей, но теперь среди них надо осуществить выбор.
Сразу же после его ухода семейное согласие нарушила буря, поднявшаяся из-за вопроса
о том, которая из девиц получит шанс стать миссис Понтифекс.
— Милые мои, — сказал отец, увидев, что им вряд ли удастся уладить спор полюбовно, —
подождите до завтра, а потом сыграйте на него в карты.
Промолвив это, он удалился в свой кабинет, где его ждали вечерний стакан виски с водой,
трубка и табак (с. 38), —
то есть поступил так, как обычно поступал остиновский мистер Беннет (в «Гордости и
предубеждении»), когда ему слишком докучали домочадцы женского пола.
К совету мистера Элэби его дочери отнеслись с должным вниманием. Карточная игра
состоялась. Теобальда выиграла Кристина, и ее мать с не меньшей энергией, чем остинов-
ская миссис Беннет, приступила к домашним маневрам, с тем чтобы направить события в
нужное русло. Теобальд с легкостью «принял назначенную ему роль» (с. 39), но, войдя в нее,
постоянно медлил, не предпринимая ожидаемых от него шагов. За его медлительностью
крылся страх перед женщинами (см. с. 36—37) и перед узами Гименея (см. с. 47-48).
Кристине же, которая была старше жениха на четыре года, наоборот, не терпелось
поскорее выйти замуж, и она ухватилась за Теобальда как за соломинку, проявив
«готовность бороться, прежде не свойственную ей: ведь от природы она была уступчива и
добродушна» (с. 38). Кристина, по своим естественным задаткам «милая, добродушная
женщина» (с. 116), способна, в отличие от Теобальда, испытывать теплоту чувств и
наделена жизненной энергией, которая, прорываясь наружу, принимает у нее, однако,
гротескную форму экстатических религиозных мечтаний.
Противоположная направленность внутренних устремлений Теобальда и Кристины
во время помолвки отражена в тоне — сдержанном у него и порывистом у нее — их
диалогов, подспудный смысл которых совершенно расходится с их тематикой,
посвященной исключительно религии: ни о чем другом Теобальд и Кристина говорить не умели.
Вот как, например, описываются «воздыхания» будущей супружеской четы в беседке:
...Теобальд не чувствовал никакого призвания к миссионерству. Кристина не раз
предлагала ему это и уверяла, что будет невыразимо счастлива стать женой миссионера и делить
374
И. И. Чекалов
с ним все опасности. Они с Теобальдом могли бы даже подвергнуться мученической
смерти. Разумеется, они подверглись бы мученической смерти одновременно <...>. Теобальд,
однако, не воспламенился энтузиазмом Кристины, а потому она принялась за Католическую
Церковь — врага более опасного <...>, чем само язычество. Сражение с папизмом также
могло бы обеспечить ей и Теобальду венец мученичества <...>.
— Мы, дорогой Теобальд, — воскликнула она как-то, — всегда будем преисполнены веры!
Мы будем стоять твердо и поддерживать друг друга даже в смертный час. Бог в Своем
милосердии может избавить нас от сожжения заживо. В Его силах сделать или не сделать
это. О Боже, — и она возводила молящий взгляд к небесам, — пощади моего Теобальда или
допусти, чтобы он мог быть обезглавлен.
— Моя дорогая, — степенно отвечал Теобальд, — не будем попусту волноваться. Коль
скоро час суда настанет, мы наилучшим образом подготовимся встретить его, ведя тихую,
скромную жизнь, исполненную самоотречения и преданности славе Божьей <...>.
— Дорогой Теобальд, — вскричала Кристина, утирая навернувшуюся слезу, — ты всегда,
всегда прав. Будем же самоотверженны, чисты, верны, честны в слове и деле. — Произнося
это, она молитвенно сложила руки и устремила взор в небеса.
— Дорогая, — отвечал ее возлюбленный, — мы всегда и прежде старались быть именно
такими <...>.
Взошла луна, в беседке становилось сыро, а потому они отложили дальнейшие
воздыхания до более подходящей поры (с. 45—46).
В английском тексте д,ля характеристики цитируемых речей Теобальда и Кристины
употреблено слово «aspirations» («стремления, сильные желания») (см.: Butler 1973: 83),
переведенное на русский язык как «воздыхания». Своим значением оно ясно
указывает на то, что в диалоге персонажей выражены их устремления, однако последние не
отражены в содержании их диалога, а переданы информацией, заключенной в
авторских ремарках («Теобальд не воспламенился энтузиазмом Кристины», «степенно
отвечал Теобальд», «воскликнула Кристина»). Таким образом, в романе фиксируется
разрыв между словами персонажей и их «мало осознаваемыми мыслями», о которых Овер-
тон говорит в одном из своих рассуждений (см. конец главы 5, с. 23). Этот разрыв
используется Батлером в целях сатиры: контраст между тем, о чем говорят персонажи,
и тем, что они имеют в виду на самом деле, придает истории сватовства Теобальда
гротескность, вполне соответствующую фарсовому — в духе буффонад Овертона —
началу его отношений с Кристиной.
В течение долгого сватовства инициатива исходила от Кристины, однако в самый
день свадьбы Теобальд преобразился и взял верх над ней. По данному поводу Овертон
размышляет:
Странно, что тот, кого до сих пор я изображал человеком робким и податливым,
совершенно неожиданно оказался таким деспотом в день своей свадьбы <...>. Правда, стоило
Теобальду очутиться в радиусе десяти миль от отцовского дома, как на него находило какое-
то наваждение, колени его начинали дрожать, вся его важность улетучивалась и он снова
чувствовал себя великовозрастным ребенком, пребывающим в постоянной немилости (с. 51).
Робость, приобретенная Теобальдом благодаря «суровой руке отца», сменилась
своеволием, податливость характера — произволом каприза, и Кристине, мнящей
Теобальда «ангелом» (с. 50), приходилось постоянно заботиться о том, чтобы «на горизонте не
маячило ничего, что могло пойти вразрез с малейшей прихотью мужа» (с. 116). По
отношению к жене и детям он становится таким же деспотом, каким был его собственный
отец по отношению к нему. Так в соответствии с эволюционными представлениями
Батлера опасная мутация, совершившаяся в одном представителе рода — Джордже,
углубляясь, переходит к другому представителю — Теобальду. Эрнесту Понтифексу
Самуэлъ Батлер и его восприятие интеллектуальной «дарвиновской революции»... 375
предстоит преодолеть наследственный дефект, обусловленный ею. Он должен будет,
через посредство своих «подспудных чувств», заглушающих то, что диктует ему его
сознательное «Я», формируемое Теобальдом и Кристиной, ощутив в себе
«безмолвного Эрнеста», услышать голоса своих далеких предков, заключенные в его
«бессознательной памяти», и вернуться тем самым к исконной наследственности рода, воплощенной
в его прапрадеде Джоне. Это, по Батлеру, возможно только в результате большого
жизненного потрясения, к которому приведет Эрнеста «путь всякой плоти».
XXII
Если на Эдварде Овертоне как рассказчике держится композиционная устойчивость
«Пути всякой плоти», то на Эрнесте Понтифексе — сюжетная динамика романа. Суть
характера рассказчика — при всех изменениях его облика и постепенно вводимых
оттенках его отношения к главному герою — не меняется. С Эрнестом же Понтифексом
происходят разительные перемены. Формирование характера героя, эпизоды его
вхождения в жизнь изображены крупным планом, представляющим действие как бы
разворачивающимся на глазах рассказчика. Драматические перипетии истории Эрнеста Пон-
тифекса, о которых повествует Овертон, собственно, и позволяют отнести «Путь всякой
плоти» к жанру романа воспитания.
«Эрнесту шел третий год, когда Теобальд <...> начал учить его читать. И начал
пороть спустя два дня после того, как приступил к обучению» (с. 74). В самом раннем
возрасте Эрнест почувствовал «суровую руку отца»: обучение ребенка неизменно
сопровождалось побоями, а игры заменялись чтением молитв. Овертону однажды случилось
присутствовать при ужасной сцене, когда Теобальд жестоко избил сына за то, что тот не
мог по причине детской картавости произнести трудное для него слово (см. с. 77—78).
«Теобальд <...> не любил детей» (с. 71), а Эрнест не испытывал к своему отцу
«никакого чувства, кроме страха и трепета» (с. 72). Таков иссушающий вклад Джорджа Понти-
фекса в наследственность своего рода. Это эмоциональное оскудение сказалось и на
отношениях Кристины и Эрнеста.
Эрнест унаследовал от матери способность любить. «Он до самозабвения любил
свою няню, котят, щенков, да и всех, кто соблаговолил позволить ему любить себя» (там
же). Если бы отец был не так суров с ним, «Эрнест мог бы во всем подражать ему и
вскоре, возможно, стал бы таким законченным маленьким педантом, каких только поискать.
К счастью, характер ему достался от матери» (с. 116). Эрнест любил свою мать,
однако повиновение Кристины мужу оказывалось сильнее ее материнского инстинкта, и,
когда «на время отсутствия Теобальда проведение уроков поручалось ей, она <...>
порола сына не менее усердно, чем сам Теобальд, хотя, в отличие от Теобальда, любила
своего мальчика, и потребовалось немало времени, прежде чем ей удалось искоренить
всякую привязанность к себе в душе своего первенца. Но она была настойчива» (с. 72).
Жестокое домашнее воспитание бременем ложилось на душу ребенка. Эрнеста
преследовали мысли о своей ничтожности и греховности. Эти мысли овладели им в
грамматической школе доктора Скиннера в Рафборо, когда «<с>уровая рука Теобальда
больше не тяготела над ним, а бдительное отцовское око уже не выслеживало Эрнеста
повсюду» (с. 102). Обучение у Скиннера не принесло облегчения Эрнесту и не могло
принести, ибо Скиннер — плохой и недобросовестный педагог. Он скрывает свое
интеллектуальное и нравственное убожество под маской напыщенной псевдоучености,
помогающей ему делать деньги (см. с. 91). Он не способен содействовать освобождению
Эрнеста от мертвящего влияния домашнего воспитания.
376
И. И. Чекалов
Между тем в Рафборо наступила пора взросления Эрнеста, и он впервые ощутил
голос своего внутреннего «Я». Эрнест был внимателен к нему и послушен его воле
больше, чем в свое время Теобальд (см. с. 103—104). На эту особенность его развития
случилось однажды обратить внимание его тетке Алетее.
Алетея «обнаружила, что Эрнест, подобно ей, страстно любит музыку» (с. 107).
Прирожденная музыкальность Эрнеста заставила Алетею всерьез заняться племянником.
Она предложила Эрнесту своими руками построить орган, рассказав ему, что это умел
делать их общий предок Джон. Мальчик «живо клюнул на приманку» (с. 112), и, когда
он принялся за дело, его охватило чувство радости, а его «<в>нутреннее "Я" никогда не
говорило ему, что это вздор» (с. 115). Так, по замыслу Батлера, Алетея, носительница
творческой энергии рода, унаследованной ею от Джона, пробуждает духовное начало
в Эрнесте, начиная возвращать его к жизненным истокам, утраченным Джорджем и
Теобальдом.
Алетея видела, что в случае с Эрнестом она в состоянии достичь того, в чем она не
преуспела в случае с его отцом. Она была рада, что «объединила усилия» с
племянником, открыв в нем близкую себе натуру. Она знала, что он испытывает к ней
привязанность, и полагалась на нее «более, чем на все остальное» (с. 116). Но Алетея не питала
иллюзий относительно того, что ей сразу удалось снять с него бремя, наложенное
домашним воспитанием. Она понимала, что «мальчику потребуется много лет, чтобы
научиться смотреть на вещи так, как смотрят его ближние» (с. 117), имея, разумеется, в виду не
Теобальда и Кристину, а себя.
Алетее отведена важная роль в композиции романа. Обнаружив в Эрнесте
предрасположенность к тем же (по Батлеру) наследственным свойствам характера, которые
были присущи ей, как и Джону Понтифексу, она стронула с мертвой точки процесс
обретения племянником его истинного внутреннего «Я», той духовной сущности,
которая в конечном итоге позволит ему восстановить непрерывность генеалогической цепи,
разорванной Джорджем и Теобальдом.
Только после общения с Алетеей Эрнест смог спросить себя:
Неужели всегда в будущем его ждут грех, позор и печаль, как было в прошлом, и с ним
навсегда останется это бдительное око и направляющая длань отца, взваливающего на него
большее бремя, чем он может вынести? Настанет ли когда-нибудь день, когда он почувствует
себя совершенно довольным и счастливым? (с. 149).
Задавая себе такой вопрос, Эрнест «смотрел прямо на солнце, Словно в лицо тому,
кого он знал и любил» (там же).
Герой, любующийся солнцем, скрытым «за легкой серой дымкой», испытывает, сам
того не подозревая, такое же движение души, как его прапрадед Джон,
любовавшийся солнечными закатами. Оно является меткой наследственности, пробужденной в
Эрнесте Алетеей, и показательно, что он, занятый созерцанием игры солнечного света и
облаков, с теплотой вспоминает именно ее.
Импульс, данный Алетеей духовному развитию Эрнеста, не остался втуне, и этому
способствовало его приобщение к университетской жизни, интеллектуальная атмосфера
которой отличалась от гнетущей обстановки школы доктора Скиннера. У Эрнеста
появились друзья, которые оценили «прямодушие, написанное на его лице, любовь к
юмору и нрав, более склонный к миролюбию, чем к раздражительности» (с. 151). Он
принадлежал к «самой лучшей компании студентов своего курса» (там же). Он занимался
гребным спортом и был принят в яхт-клуб. Он увлекался историей древнегреческой
драматургии и опубликовал в студенческом журнале очерк о греческой драме.
Несмотря на все свои достижения, «<д>аже к концу своего пребывания в Кембридже
Эрнест не осознавал, что у него есть какие-то способности, но другие начали замечать,
Сажу эль Батлер и его восприятие интеллектуальной «дарвиновской революции»... 377
что Эрнест не лишен дарований, и порой говорили ему об этом. Он не поверил и даже
привык думать, что если его считали умным, то заблуждались на его счет» (с. 153).
Сознательное «Я» Эрнеста, таким образом, далеко не полностью освободилось от тисков
сурового домашнего воспитания, укоренившегося в семье Понтифексов, и мысль о своей
ничтожности по-прежнему угнетала его, но его духовному развитию угрожала еще и
другая опасность, которую предвидела Алетея, тревожившаяся из-за импульсивности его
натуры, унаследованной им от матери.
Так же как Теобальд, Эрнест не представлял себе иного жизненного поприща, кроме
карьеры священника. Ему эта идея «прививалась <...> с самого раннего детства» (с. 152).
Являясь студентом Кембриджа, он, «не будучи истово верующим», «никогда не
сомневался в истинности того, что ему говорили о христианстве» (с. 157), и даже «подобно
фермерам в приходе своего отца, хотя и не потерпел бы легкомысленного отношения
к христианству, однако не собирался принимать его всерьез» (с. 160). Тем не менее по
мере приближения посвящения в духовный сан Эрнест начал понимать, что он должен
«теперь серьезнее относиться к своему положению» (с. 165) и принялся штудировать
богословские сочинения. В этот период ему случилось присутствовать на проповеди
известного лондонского евангелического проповедника преподобного Гидеона Хока. Хок был
красноречив. Он убеждал слушателей в том, что «удовольствия краткой жизни не
могут стоить того, чтобы расплачиваться за них вечными муками» (с. 169), но еще
большее впечатление он произвел на Эрнеста и его друзей своим «умением держаться,
выразительным лицом и отличной дикцией», а также намеком на таинственный голос в
ночи, возвестивший проповеднику о том, что среди его слушателей находится
«избранник Божий» (с. 170).
Истинный сын Кристины, Эрнест вообразил, что он и является тем самым
избранником, о котором упомянул Хок, и внезапно обратился в рьяного евангелиста. Религиозное
рвение, охватившее его, сродни экстазу Джона Оуэна, изображенному в «Надежной
гавани».
Теперь я на пути к Христу, — писал Эрнест в «импульсивном письме» к родителям. —
Большинство моих друзей по колледжу, боюсь, отдаляются От Него. Мы должны молиться за них,
чтобы они смогли обрести душевный покой, который обретаешь во Христе и который я уже
обрел (с. 173).
Получив такое послание от сына, «<д>аже Кристина воздержалась от восторга <...>,
а Теобальд до смерти перепугался» (там же), ибо «почуял беду» в этом «внезапном
обращении к вере того, кто никогда не проявлял никакой особой религиозности» (там же).
И действительно, Эрнеста ждали большие жизненные испытания. Приняв духовный
сан и получив место младшего священника в одном из приходов Лондона, он быстро
осознал, что «свет счастья, сиявший ему на протяжении четырех лет пребывания в
Кембридже, померк, и был потрясен бесповоротностью шага, который, как он теперь
осознавал, сделал чересчур поспешно» (с. 174—175). Овертон так описывает состояние души
своего героя в это время:
Чувство юмора и способность к независимому мышлению, которые, как можно было
заметить, еще несколько месяцев назад обещали в нем развиться, теперь будто бы замерли,
но зато старая привычка принимать на веру все, что исходило от людей, облеченных
авторитетом, и идти во всем до самого конца, как бы бессмысленно это ни было, вернулась и
давала о себе знать с удвоенной силой (с. 175).
Находясь в таком расположении духа, Эрнест легко подпал под влияние своего
коллеги — викария Прайера, склонившего его к «очередной перемене взглядов». Под
воздействием Прайера Эрнест вскоре «обнаружил, что Высокой церкви и даже самому
378
И. И. Чекалов
католичеству есть что сказать в свою защиту» (с. 176). Прайер вскружил Эрнесту голову
идеей «колледжа духовной патологии», и Эрнест отдал на ее осуществление все
имевшиеся в его распоряжении деньги.
Распаленный религиозным рвением, Эрнест задумал осуществить и собственный
план духовного окормления бедных. Все его попытки привести этот план в действие,
однако, обернулись неудачей и закончились встречей в комнате проститутки, которую
он собирался наставить на путь истинный, с ее клиентом, старым университетским
приятелем Таунли, всегда являвшимся для Эрнеста идеалом. «Громкий смех» приятеля еще
звучал в ушах Эрнеста, когда незадачливый проповедник вернулся в свою комнату.
Библию он «оттолкнул... от себя на другой конец стола. Она упала на пол, и он пнул ее
в угол» (с. 202). Дальнейшие события не заставили себя ждать: молодой человек
навестил еще одну девушку, ошибочно приняв ее за девицу легкого поведения, был обвинен
в покушении на ее нравственность и препровожден в тюрьму.
В судье, приговорившем Эрнеста к суровому наказанию, тот узнал своего случайного
попутчика, с которым некогда ехал по железной дороге из Рафборо. Тогда этот
человек, заметив, как Эрнест любуется солнцем, сказал, что в общественном месте не
следует «вести беседы с людьми на солнце» (с. 150). Ирония слов незнакомца
раскрывается в зале суда: незнакомец увидел склонность Эрнеста строить воздушные замки и
предупредил его об опасности прекраснодушия, Эрнест не понял предупреждения и был за
это наказан.
Пребывание в тюрьме, изолировавшее Эрнеста от внешнего мира, стало по иронии
судьбы, предназначенной писателем своему герою, той замкнутой средой, которая создала
ему благоприятные условия для перехода на более зрелую стадию духовного развития:
заболев в тюрьме «нервной горячкой» и в течение двух месяцев находясь «между жизнью
и смертью» (с. 211), он значительно ближе продвинулся к реализации своего истинного
внутреннего «Я». Болезнь активизировала ресурсы его «бессознательной памяти», и, как
замечает Овертон, «потрясение от столь решительной перемены обстоятельств ускорило
перемену его образа мыслей» (с. 212).
Образ мыслей героя действительно изменился весьма радикально: он думал о том,
чтобы «прервать всяческие отношения» с родителями, он решил, что «больше... не
будет священником», его «вера в... христианские чудеса исчезла раз и навсегда» (с. 211—
212). Он принялся искать «критерий истины», который мог бы направить его
дальнейшие действия. Он нашел такой критерий в инстинкте. Ведь именно инстинкт позволил
его предку, старому Джону, прожить так, что «за всю свою жизнь он никогда не делал
ни одного дела спустя рукава» (с. 10). Возвращаясь к своей исконной наследственности,
Эрнест понял, что «окончательной инстанцией является инстинкт. Но что такое
инстинкт? Это форма веры в очевидность того, что не лежит на поверхности» (с. 215).
Подобная «форма веры» стала для него новой религией, «верой в нечто — он не знал,
во что, но это было то, пока еще лишь смутно различимое, что делает правильное
правильным, а неправильное неправильным, — эта вера крепла в нем с каждым днем»
(с. 226). Батлер приводит своего героя, таким образом, к невидимому миру своей
психоламаркистской эволюции.
Итак, кризис, порожденный в душе Эрнеста «решительной переменой» в
обстоятельствах его жизни, благополучно миновал. «Смятение чувств», вызванное разноголосицей
его «пренатальных сущностей», завершилось. Призывы, исходившие от Джорджа,
Теобальда и Кристины, больше не звучат в нем «наподобие набатного колокола» и не
заглушают голосов Джона и Алетеи, — герой «перешел свой Рубикон» (с. 230) и порвал с
родителями, — а его постоянное общение с Овертоном поддерживает его и помогает ему.
Но для того, чтобы окончательно обрести духовность, унаследованную им от Джона,
Саму эль Батлер и его восприятие интеллектуальной «дарвиновской революции»... 379
Эрнест должен, по замыслу Батлера, не только обнаружить «критерий истины», он
должен также научиться действовать в соответствии с ним. Иначе говоря, он должен
сознательно, то есть прибегнув к своему интеллекту и воле, выработать у себя привычку
жить так, чтобы его потомки могли воспользоваться ею, не задумываясь о ее
преимуществах, в качестве инстинкта, перешедшего у них в автоматическую, «бессознательную
память». Он должен вновь ввести в семейную наследственность тот же способ жизни,
какой автоматически достался Джону от его предков, восстановив тем самым
генеалогическую цепь, прерванную Джорджем и Теобальдом. С этой целью писатель ставит
перед своим героем новые жизненные задачи.
Выйдя из тюрьмы, вместо тюремных преград Эрнест ощутил на своем пути не
менее осязаемые препятствия — «бедность и незнание жизни» (с. 232). Недаром его
квартирная хозяйка, узнав его поближе, говорит, что «сердце у него доброе» (с. 205), но «он
же ничего вообще не знает» (с. 188). Прайер исчез, а с ним — и деньги, имевшиеся в
распоряжении Эрнеста. Считая, что у него порваны все связи со своим сословием, Эрнест
готовился к тому, чтобы ручным трудом зарабатывать на жизнь. Овертон же, зная, что
Эрнест вскоре вступит в наследство Алетеи, подумывал о том, чтобы снабдить своего
юного друга «несколькими тысячами фунтов и отправить его в какую-нибудь из
колоний» (с. 235), но события приняли совсем иной оборот: Эрнест женился. Предыстория
женитьбы Эрнеста раскрывает дополнительные обстоятельства, мотивирующие его
разрыв с родителями.
Впервые герой встретил свою будущую жену в доме Теобальда, где она жила в
качестве служанки. По словам Овертона, «девушка была очень хорошенькая», в ее губах
было «что-то сродни устам египетского сфинкса», и это позволило Овертону
предположить, что «в ней есть немного египетской крови» (с. 126), то есть как раз то, что
делает столь привлекательной женскую красоту едгинок в глазах Хштса (см.: Butler 1970: 79).
Эрнест, в то время уже юноша, регулярно приезжавший на каникулы к отцу,
часто виделся с Эллен и, подружившись с девушкой, привязался к ней. Как и остальные
мужчины — представители рода Понтифексов, «он не был вообще-то чувствителен к
чарам прекрасного пола» и в своем возрасте «был не просто невинен, но и плачевно —
<...> даже <...> преступно — невинен» (с. 127). Поэтому его привязанность к Эллен,
«будучи сердечной, оставалась вполне платонической» (там же).
Когда вскоре обнаружилось, что «Эллен станет матерью» (с. 128), Кристиной
овладел «панический страх, как бы любое проявление милосердия с ее и Теобальда
стороны не сочли за терпимость <...> к столь большому греху» (там же). К тому же ее терзало
подозрение, что «соучастником преступления Эллен» мог быть Эрнест, и Теобальд
согласился с Кристиной, «что нужно <...> рассчитать Эллен и выпроводить» (там же).
Узнав об увольнении своей любимицы, Эрнест преисполнился сочувствия к ней и
возмущения жестокосердием родителей. Конфликт с отцом и матерью из-за увольнения
Эллен он навсегда запомнил как время, «когда он начал осознавать, что испытывает
глубокую, активную антипатию к обоим родителям» (с. 140).
Хотя предыстория женитьбы Эрнеста мотивирует его разрыв с родителями, его
женитьба по иронии обстоятельств, предусмотренных Батлером, происходит точно так
же, как у них, — как результат игры чистого случая. Если Кристина выиграла Теобальда
у своих сестер в карты, то Эрнест ненароком столкнулся с девушкой на одной из
лондонских улиц: «...оглянувшись, он обнаружил, что это не кто иная, как Эллен,
горничная, которую его мать уволила восемь лет назад» (с. 236).
Данный композиционный параллелизм приводит к контрасту. По сравнению с
долгим и мучительным сватовством Теобальда и Кристины путь Эрнеста и Эллен к браку
прост, краток и не отягчен множеством условностей. Объясняясь друг с другом, они не
380
И. И. Чекалов
прибегали к языку религии; их не разделяли социальные перегородки; оба они
чувствовали себя на дне общества, и поэтому «лед между ними был сломан» (там же). Не
успели они окончить свой первый после встречи ужин, как у Эрнеста появилась мысль, что
«он наконец-то нашел женщину, которую вполне мог бы полюбить настолько, чтобы
захотеть жить вместе и жениться на ней» (с. 238), и не успели они после ужина
прогуляться по улице, как «он сказал Эллен, что она должна пойти с ним к нему домой, и они
будут жить вместе, а потом, сразу же, как только позволит закон, смогут пожениться»
(с. 239).
В отличие от Теобальда у Эрнеста нет и внутренних причин медлить с
вступлением в брак. Он не страшится уз Гименея. В противоположность сухому и
неэмоциональному Теобальду Эрнест, натура «дон-кихотская, импульсивная, альтруистическая,
бесхитростная» (с. 239), испытывает потребность любить. Встретив Эллен в Лондоне, он
снова увидел «ту Эллен, какую знал в своем детстве» (с. 238), и его юношеская
привязанность к ней стала любовью «с первого взгляда» (с. 239). Напрасно Овертон,
«инстинктивно невзлюбивший» Эллен (с. 242), отговаривал Эрнеста от женитьбы на ней, «пусть
узнает ее получше» (с. 240). Эрнест настоял на своем. Овертону пришлось смириться и
начать привыкать к мысли, что Эрнеста следует «покинуть... на волю судьбы» (с. 255).
Их дружба дала трещину, а у Эрнеста появилась надежда на семейное счастье.
Хотя Овертон и предоставил событиям развиваться своей чередой, он все же
полностью не освободил крестника от своего попечения. Когда Эллен пришла в голову мысль,
что они с мужем могут заниматься торговлей и «открыть небольшую лавку» (с. 239),
Овертон «внес свою лепту», но, дав деньги, «поставил определенное условие»: он не
хотел, чтобы Эрнест «совсем отказался от музыки, литературы и культурной жизни»
(с. 244).
Под влиянием порыва, овладевшего им от неожиданности встречи с Эллен, Эрнест
сразу же рассказал ей, что отбывал наказание в заключении. Его простодушное
признание заставило ее посмотреть на него иными глазами.
Для нее люди делились на две категории: в одной состояли те, кто побывал в тюрьме, в
другой — те, кого сия участь миновала. Первых Эллен считала друзьями по несчастью и
какими-никакими, а все же христианами; ко вторым же, за редким исключением, относилась
с подозрением, отчасти смешанным с презрением (с. 236—237).
Пусть она и не с первого момента поверила признанию Эрнеста, но оно вызвало у
нее ответное движение души и положило начало их отношениям. Она, однако, не была
с ним столь же откровенна, как он с ней. Она ни словом не обмолвилась ни о том, что
«попадала в тюрьму несколько раз» (с. 236), ни о своем «пристрастии к горячительным
напиткам» (с. 238). Эрнест же не обладал опытностью наблюдателя, позволившей бы
ему увидеть скрываемые следы ее прошлого, и для него она оставалась «той Эллен,
какую он знал в своем детстве». Различия между ними, как уверяет Овертон, на первых
порах никак не отразились на их супружеской жизни и даже помогли им ладить друг
с другом.
В композиционном плане перипетии, связанные с браком Эрнеста и Эллен, имеют
важное значение: именно тогда, когда Эрнест был счастлив с Эллен, Овертон убедился,
что у героя «есть данные к занятию литературой» (с. 249) и что эти данные
воплощаются в набросках его записных книжек настолько, что на их автора можно «возлагать... боль-
unie надежды» (там же). Когда же выясняется, что Эрнест для Эллен «слишком хорош»
(с. 260) и наступает конец их семейной жизни, Овертону остается только избавить
крестника от «нервного истощения», вызванного неудачей этого брака, то есть «сделать ему
прививку», «вытряхнуть его из самого себя, втряхнув в него что-нибудь другое» (с. 266).
Самуэль Батлер и его восприятие интеллектуальной «дарвиновской революции»... 381
Овертон отдает себе отчет в том, что, после того как Эрнест перенес множество
жизненных испытаний или, по выражению Алетеи, «поцеловал землю» (с. 262),
«внезапный переход от неудач к везению столь же опасен, как и от везения к неудачам» (там
же), поэтому он не спешит передать во владение Эрнесту деньги, оставленные теткой,
а для начала назначает его управляющим этой собственностью: Эрнест должен
научиться ею пользоваться.
Другой проблемой, стоящей перед Эрнестом, является будущее его детей — Алисы
и Джорджа, родившихся от мнимого брака с Эллен и оставленных ею на его полное
попечение. Эрнест желает для своих детей того, чем в раннем детстве наслаждались
дети Джорджа, когда тот привозил их из сумрачного Лондона в Пейлхэм с его «свежим
деревенским воздухом» и «зелеными полями» (с. 12). Это желание Эрнеста
продиктовано герою его «бессознательной памятью». Эрнест также хочет, чтобы его дети
«провели свои ранние годы среди бедных, а не среди богатых»1 (с. 265), и подобное желание
вполне укладывается в русло «бессознательной памяти» Понтифексов, в которой
зафиксирован положительный опыт Джона, начавшего свою жизнь, «не имея иного
капитала, кроме здравого смысла и крепкого здоровья» (с. 8).
В том, что касается его непосредственного контакта с детьми как их воспитателя,
Эрнест делает сознательное усилие, чтобы отклониться от той линии поведения,
которая наследственно заложена в нем Джорджем и Теобальдом. Он понимает, что будет
«так же суров» к своим детям, как его дед был суров к своему отцу, а его отец — к нему
(см. с. 265). Поэтому он отдает своих детей на воспитание посторонним людям, у
которых имеются «собственные дети, хорошо ухоженные и на вид цветущие» (с. 266).
Изменив среду, в которой воспитываются его дети, Эрнест обезопасил их от вредоносной
лепты, которую внесли Джордж и Теобальд в наследственность Понтифексов. Вместе
с тем Эрнест создал наилучшие условия для проявления тех черт, которые исконно
присущи представителям рода, о чем свидетельствует рассказ Овертона об успешном
вступлении детей Эрнеста в самостоятельную жизнь: Алиса, дочь Эрнеста, счастлива
в семейной жизни, а его сын Джордж преуспевает, по своим склонностям он
напоминает не отца, а деда, Теобальда, «будь тот моряком» (с. 303).
Таким образом, Эрнест, сознательно самоустраняясь от воспитания Джорджа,
открывает путь для естественного развития у сына наследственных задатков, и это
позволяет Джорджу без всякого усилия с его стороны, лишь на основе хранящейся в роду
Понтифексов «бессознательной памяти», стать тем, кем Теобальд только мечтал стать,
самому же Эрнесту для реализации заложенного в нем литературного инстинкта
требуется усилие интеллекта и воли. В одном из своих авторских отступлений Овертон
говорит:
Я однажды видел муху, севшую на чашку с горячим кофе, на котором молоко
образовало тонкую пленку. Муха чувствовала грозящую ей крайнюю опасность, и я заметил,
какими широкими шагами и с какими почти сверхмушиными усилиями она пересекла
предательскую поверхность и достигла края чашки, ибо та поверхность не была достаточно
твердым основанием, чтобы позволить ей подняться в воздух при помощи крыльев.
Наблюдая за мухой, я подумал, что столь напряженный момент трудности и опасности мог
придать ей больше моральной и физической силы, которая могла бы даже в известной мере
передаться по наследству ее потомкам. Но она определенно не стала бы по доброй воле на-
1 «Итальянский крестьянин или бретонский, нормандский, английский рыбак, — пишет в
"Записных книжках" Батлер, — лучшее, что создала природа среди людей: как более богатые, так и
бедные — ее ошибки» (NB 1913: 36). Показательно, что Эрнест выбирает для воспитания своих
детей живущую у моря семью скромного достатка.
382
И. И. Чекалов
ращивать моральную силу и ни за что не села бы намеренно на другую чашку с горячим
кофе (с. 271-272).
Эрнесту, по мысли Батлера, без наращивания «моральной силы» не обойтись. Она
требуется ему, чтобы сохранить витальность Понтифексов и передать ее потомкам.
Витальность рода заключена у Эрнеста в художественном инстинкте, доставшемся ему от
Джона. Литературный инстинкт Эрнеста, освобожденный от пут тех представлений, в
которых он был воспитан, прорезается в нем во время краткого счастливого периода
семейной жизни с Эллен. Неудача этого брака приостанавливает развитие у него
творческого начала, и «занятия музыкой, чтением и литературой прекратились» (с. 253).
Возобновить эти занятия и начать «писать книги, в которых настойчиво стремился сказать
то, чего никто другой не захотел бы сказать, даже если б мог, или не смог бы, даже если
б захотел» (с. 300), Эрнест в состоянии только после «прививки», сделанной ему Овер-
тоном. «Вытряхнув» героя из себя и «втряхнув» в него изрядную дозу собственных
представлений, Овертон перестает отличаться от Эрнеста, а в их сходстве друг с другом
проступают черты их создателя Самуэля Батлера.
Некоторыми своими чертами и некоторыми поворотами в своей судьбе Эрнест
Понтифекс напоминает мередитовского Ричарда Феверела («Испытание Ричарда Феве-
рела», 1859). В создании обоих персонажей вложено много автобиографического
материала, оба обладают импульсивной и эмоциональной натурой и склонны строить
воздушные замки. Так же как Мередит, Батлер ставит своего героя в условия, при которых
неизбежен конфликт с семьей и переоценка социальных условностей. Деспотическая
воля отца стремится подчинить себе и Эрнеста и Ричарда, их воспитание и образование
оставляют желать много лучшего и оторваны от запросов практической деятельности.
Жизненный путь обоих героев изобилует неудачами и разочарованиями, и у обоих
существует разрыв между высокими помыслами и дон-кихотской реализацией этих
помыслов; в фабулу обоих романов вложен мотив «падшей женщины».
Трудно сказать, читал ли Батлер «Испытание Ричарда Феверела», об этом нет
никаких свидетельств, но не приходится сомневаться в искренности неприязни Батлера к
творческой манере Мередита. Эстетические установки писателей резко расходятся.
Совершенно различен их стиль. Светский мир богатого поместья Рейнем-Абби, где
готовится к взрослой жизни Ричард, совсем непохож на мир сурового пуританизма в Бэт-
терсби, где проводит свои детские годы Эрнест. В романе Мередита отсутствует
автобиографическая документальная достоверность, которая характерна для «Пути всякой
плоти», и все повествование батлеровского романа строится иначе, чем у Мередита.
«Испытание Ричарда Феверела» заканчивается трагически: герой изувечен физически
и морально, а героиня гибнет. Батлер же приводит Эрнеста к материальному и
нравственному благополучию и почти полному тождеству с рассказчиком и через него — с
самим собой.
Композиция «Пути всякой плоти», основанная на эволюционной доктрине Батлера,
указывает на оригинальность его творческого замысла и не имеет ничего общего с
композицией «Испытания Ричарда Феверела». Поэтому остается искать объяснения
сходства Ричарда и Эрнеста в жанровой близости романов. У Батлера, как и у Мередита,
сюжетное действие сосредоточено вокруг судьбы главного героя, и выдвинутая
благодаря этому на первый план проблематика становления личности свидетельствует о
принадлежности обоих произведений к жанру романа воспитания, разнообразно
представленного в английской литературе XIX века. В отличие от своих предшественников в
сфере данного жанра, например, Диккенса в «Дэвиде Копперфилде» или Теккерея в
«Ньюкомах» (1853—1855), Мередит и Батлер обратились к проблематике становления
личности в том ее контексте, который стал актуальным для английской философско-
Самуэль Батлер и его восприятие интеллектуальной «дарвиновской революции»... 383
педагогической мысли во второй половине XIX века. Позиция обоих писателей близка
в том отношении, что оба они не принимали одну из кардинальных посылок
утилитарной философии — отрицание свободы индивидуальной воли. Этой близостью,
вероятно, и продиктованы черты сходства главных героев «Испытания Ричарда Феверела» и
«Пути всякой плоти».
XXIII
По словам душеприказчика Батлера и первого издателя его романа Р.А. Стретфил-
да, «Путь всякой плоти» «может рассматриваться как практическая иллюстрация
теории наследственности», выдвинутой писателем в книге «Жизнь и привычка» (см.: Butler
1973: 32). Повествование Овертона о четырех поколениях Понтифексов (с
приложением в эпилоге идиллической картины вступления в жизнь пятого) действительно
скреплено воедино батлеровской концепцией «бессознательной памяти», а батлеровский
витализм положен в композиционную основу произведения. «Путь всякой плоти» задуман
как притча, иносказательно раскрывающая философское мировоззрение писателя,
которое заменило ему христианскую религию. Не случайно Эдвард Овертон занимается
обработкой и переделкой для театра сцен из «Пути паломника» Беньяна, одной из
самых популярных книг в Англии XIX века. Перед Эрнестом, так же как перед беньянов-
ским Христианом, встает вопрос: «Что я должен сделать, чтобы быть спасенным?»
Однако, в отличие от Христиана, Эрнест Понтифекс находит свое спасение не на небе,
а на земле.
На форму аллегорического повествования-притчи указывает символика названия
романа с содержащимися в заглавии библейскими аллюзиями, а также символика имен
персонажей. Так, Алетея по-гречески значит «истина», и это имя получает смысловую
мотивировку в сюжете: Алетея помогает Эрнесту найти путь к истине. Символично и
имя героя — Эрнест («серьезный»). В фамилии героя — Понтифекс («жрец») —
фиксируется как представление о строительстве моста (ponti от лат. pons — «мост» и fee от
лат. facere — «делать»), соотносящееся с той ролью, которую ему предстоит сыграть,
соединяя поколения, связь между которыми была нарушена, так и представление о том,
что он принадлежит к семье священнослужителя и сам примет сан священника.
В аллегорической притче сосредоточена дидактика «Пути всякой плоти».
Психоламаркистский витализм Батлера питает композицию произведения, но оно далеко не
исчерпывается ни нравственным поучением Батлера, ни его квазинаучной
эволюционной доктриной. Как заметил Джордж Оруэлл, у Батлера-писателя «никогда не
исчезала способность пользоваться своими глазами и довольствоваться малыми
наблюдениями» (Orwell 1970: 220—221). Последние являются средством батлеровской сатиры, и
через них же раскрывается психологизм его прозы.
«Малые наблюдения», которым автор постоянно подвергает своих персонажей,
выразительны и разнообразны. Так, например, после того как Кристина выиграла
Теобальда в карты, миссис Элэби говорит о своей дочери: «Ее сердце еще свободно, дорогой
мистер Понтифекс. <...> Но ей очень, очень трудно понравиться» (с. 40). Вместе с
автором читатель присутствует при том, как Теобальд, очутившись наедине с женой после
свадьбы, «извлек из какого-то дальнего закоулка своей души» решимость сделать
«первый разумный шажок», чтобы «вступить в предстоящие взаимоотношения» (с. 48);
вместе с Овертоном читатель видит, как, перейдя в гостиную из комнаты, где он порол
сына, Теобальд «рукой, на которой были видны красные пятна, <...> позвонил в
колокольчик» (с. 78), созывая домочадцев и слуг на молитву; или как доктор Скиннер поеда-
384
И. И. Чекалов
ет обед, состоящий из «полной тарелки устриц, блюда из рубленой телятины с
приятно подрумяненной корочкой, куска яблочного пирога и ломтя хлеба с сыром», называя
это «кусочком хлеба с маслом» (с. 90).
Иногда автор возвращается к уже сделанным «малым наблюдениям». Так, Джордж,
спустившись в погреб за бутылкой, в которой была «вода из Иордана», припасенная на
случай крещения потомства, споткнулся о пустую корзину и, разбив бутылку, пролил
воду. «Со свойственным ему присутствием духа мистер Понтифекс произнес, задыхаясь
от гнева, что прогонит» своего слугу Гэлстрэпа, находившегося рядом. Гэлстрэп,
однако, не растерялся: при помощи «маленькой губки и таза» слуга «начал собирать воды
Иордана, как если бы это были обычные помои» (с. 61—62). На торжественном обеде в
честь крещения Эрнеста данный эпизод вновь фигурирует, но уже в рассказе о нем
самого Джорджа: «"когда доставал ее<...>,я<...> споткнулся о корзину в погребе, и если
бы не проявил величайшую осторожность, бутылка непременно разбилась бы, но я спас
ее". И все это время Гэлстрэп стоял позади его стула!» (с. 65). Своим рассказом Джордж
характеризует себя. Иногда же характеристика одного персонажа вкладывается в уста
другого, и, например, Эрнест, будучи учеником школы в Рафборо,
разоткровенничавшись с теткой, простодушно говорит о напыщенном докторе Скиннере, фамильярно
называя его по имени: «Сэм <...> ужасный старый притворщик» (с. 107).
Переписка персонажей также служит средством их речевой характеристики
автором. Вот, например, как приглашает Эрнеста погостить Шарлотта, своим эпистолярным
стилем давая понять брату, что из них двоих он не является «единственным, кто умеет
писать» (с. 260 наст, изд.):
Неужели тебе не нравится мысль <...> пожить немного для разнообразия на берегу моря?
Вершины скал скоро расцветятся вереском — утесника, наверное, уже не будет, а вереск,
думаю, как раз появится, если судить по состоянию холма в Ивэлле. Однако, с вереском или
без вереска, утесы всегда красивы, и, если ты приедешь, у тебя будет уютная комната, так
что ты сможешь иметь собственный уголок для отдохновения (с. 306—307).
Иногда Батлер пускает мысли и чувства персонажей на самотек, так что
передаваемая автором внутренняя речь персонажа переходит в изображение потока сознания.
Особенно склонна к такому монологу Кристина с ее приверженностью к
фантазированию. Например, подозревая, что ее сын-подросток согрешил с горничной Эллен, она
рассуждает:
...она, конечно, была уверена, что он не уступит никому из молодых людей своего
возраста в способности оценить чары привлекательной молодой женщины. Если он невиновен, она
не возражала против этого, но, о, если виновен!
Она не в силах вынести мысль об этом, и все же это было бы просто трусостью — не
посмотреть храбро в лицо реальности. Вся ее надежда на Господа, и она готова
мужественно все перетерпеть и не пасть духом в том страдании, которое Он решит возложить на нее.
Что младенец должен появиться, будь то мальчик или девочка, — это, во всяком случае,
вполне ясно. Не менее ясно, что ребенок, окажись это мальчик, будет похож на Теобальда, а если
девочка, то на нее <...>. Невинный плод позора не должен быть причастен к вине родителей —
о нет! — а такой ребенок, каким будет этот... Тут она пустилась в свои обычные фантазии
(с. 128).
Последняя фраза приведенной цитаты четко отделяет краткий описательный
комментарий автора от передачи потока сознания Кристины.
«Малые наблюдения» автора над своими персонажами, касающиеся мелких
психологических деталей их поведения и подразумевающие различные способы их авторской
Саму эль Батяер и его восприятие интеллектуальной «дарвиновской революции»... 385
речевой характеристики, фиксируемые не только авторским комментарием, но и их
собственным словом, составляют художественную субстанцию «Пути всякой плоти»,
способствующую композиционной гибкости романа и облегчающую автору переходы от
одной манеры повествования к другой. Поэтика, разрабатываемая Батлером в «Пути
всякой плоти», позволяет ему сочетать в единых композиционных рамках жанрово
разнородные элементы, маскирующие философско-публицистическую основу
произведения: тут и притча (с одновременной пародией на нее), бытоописательная и
психологическая сатира, аллегорическая сатира, семейно-бытовая хроника (с одновременной
пародией на нее). Эти композиционные элементы пронизаны авторской иронией,
воплощающей принцип «сиамских близнецов» и внутренне мотивирующей неожиданно
возникающие моменты пародии, и объединены системой авторских отступлений.
При всей жанровой многоаспектности «Пути всякой плоти» в основном фабульном
стержне произведения — повествовании о взаимоотношениях героя с родителями и
трудностях становления личности — различимы тем не менее черты его генетического
сходства с английским романом XVIQ века и, в частности, филдинговской «Историей Тома
Джонса, найденыша». По своим эстетическим пристрастиям Батлер тяготел к
английским просветителям: на страницах «Пути всякой плоти» недаром упоминается об
изображении «типа жестокого отца» (с. 22) у Филдинга. В филдинговском Томе Джонсе
Батлер видел выражение лучших черт английского национального характера. Свои
положительные представления об этом характере писатель сосредоточил в Джоне Пон-
тифексе, а своего главного героя наделил задатками, унаследованными от Джона. Они
заложены в Эрнесте столь же глубоко, как задатки естественного добра в натуре фил-
динговского персонажа. Так же как и Филдинг, Батлер симпатизирует своему герою, но
не идеализирует его. Путь Эрнеста Понтифекса к нравственной зрелости столь же
извилист и труден, как путь Тома Джонса, а позиция Батлера по отношению к лицемерию
столь же непримирима, как и позиция Филдинга. «Всем известно, что порок платит дань
добродетели, — замечает Батлер. — Мы называем это лицемерием. Следовало бы
найти слово и для дани, которую добродетель <...> платит — или, во всяком случае,
которую ей благоразумно было бы платить — пороку» (с. 69). Эрнест Понтифекс заплатил
дань пороку.
В не меньшей мере «Путь всякой плоти» сродни «Дэвиду Копперфилду» Диккенса.
Оба произведения автобиографичны, и в том и в другом перед нами предстают
картины печального детства, искалеченного деспотическим эгоизмом воспитателей,
мучительной юности, полной лишений и разочарований, и наконец мы видим тот этап в жизни
героя, с позиций которого ведется повествование, — пору зрелости, обретенную ценой
всех жертв и усилий в высшем творческом труде — писательской деятельности. Вслед
за Диккенсом Батлер утверждает демократические идеалы воспитания. Но как легко
представить себе «Дэвида Копперфилда» на полке для детского чтения, так невозможно
вообразить себе там «Путь всякой плоти»: любимое занятие Батлера-романиста —
философское размышление, формы повествования — аллегория и сатира, излюбленное
средство — парадокс.
Хотя сатира Батлера в ее тяготении к парадоксу и ориентации на
психоламаркистскую доктрину далека от сатиры Джейн Остин с ее сдержанно-критическим взглядом
на тот мир повседневной дворянской жизни, которую она представляет читателю
своих романов, уже отмечавшееся совпадение в некоторых штрихах психологизма у
Батлера и Джейн Остин не является случайным: у поэтики батлеровских «малых
наблюдений» над персонажами и поэтики проникновения Джейн Остин во внутренний мир ее
героев имеются точки соприкосновения. Так же как Остин, Батлер сближает эпическую
форму повествования с драматургической; у него, как и у Остин, персонажи, становясь
386
И. И. Чекалов
объектом «малых наблюдений» автора, ставятся автором в ситуации, когда их реплики
служат их же характеристикой без его видимого вмешательства.
Моменты сближения эпической и драматургической формы сужают сферу
повествования Овертона и дают писателю возможность использовать фигуру рассказчика не
только в качестве резонера и рупора авторских идей, но и как одного из действующих
лиц, принимающих непосредственное участие в разворачивающихся событиях. Иногда
Овертон является безмолвным свидетелем происходящего: он лишь видит «красные
пятна» на руке Теобальда, которой тот звонит в колокольчик, или, сидя за трапезой
вместе с доктором Скиннером, лишь зрением воспринимает объем пищи, поглощаемой
тем. Иногда же сама функция повествователя передается Батлером другому
персонажу, а за Овертоном сохраняется только роль слушателя. Вот как, например, миссис
Джуп рассказывает Овертону о жизни Эрнеста в ее квартире:
— А если соседи и говорят обо мне гадости, то, будьте уверены, не из-за него, это уж
точно. Мистер Понтифекс никогда и не взглянул на меня иначе, как если бы я была его сестрой.
<...> Ну, я думала, может, у моей Розы получится насчет него лучше, и послала ее вытирать
пыль и прибирать у него, словно я сама занята, и дала ей такой красивый чистенький новый
передничек, но он даже и внимания на нее не обратил, как и на меня, а ей и никаких
подарков не надо, она бы не взяла у него даже и шиллинга, хоть он предлагал, но он, кажись,
вообще ничего не понял. Не разберу, что нынешние молодые люди себе думают (с. 205).
Рассказ миссис Джуп о ее тщетных усилиях оказать Эрнесту услуги, которые он
впоследствии попытается получить от мисс Мэйтланд, приняв ее за девицу легкого
поведения, входит в фабульную цепочку тех событий, которые приводят героя в тюрьму.
Одно из звеньев данной цепочки предстает перед читателем в восприятии квартирной
хозяйки Эрнеста, и на этот момент повествование ведется от ее имени и
переключается на ее точку зрения.
Подвижность субъекта авторской речи в «Пути всякой плоти», сказывающаяся на
роли рассказчика в повествовании и сближающая эпическую форму с
драматургической, не была сама по себе новшеством в поэтике английского романа XIX века. Диккенс,
в частности, опираясь на опыт Джейн Остин по использованию несобственно-прямой
речи, значительно расширил диапазон выразительных возможностей авторского голоса,
меняя, по выражению Е.И. Клименко, стилистические «оттенки в роли и позе»
повествователя так, чтобы передать читателю ощущение драматической формы своих романов
(см.: Клименко 1965: 134).
Субъект авторской речи отличается драматургической подвижностью и у Теккерея,
но иначе, чем у Диккенса. Если у Диккенса рассказчик неотделим от повествования и
экспрессия его речи выявляется лишь в ходе развертывания текста, то у Теккерея он
обособлен. Стремясь непосредственно следовать Филдингу, Теккерей, рационалист по
своим убеждениям, придавал большое значение тому, чтобы мир его персонажей был
воспринят в соответствии с его замыслом, и в его романах нет недостатка в
пространных авторских отступлениях, поясняющих его мысли читателям, но наряду с такими
отступлениями он прибегает и к приему «психологического комментария», который
может быть кратким и афористичным при передаче внутреннего состояния
действующих лиц (см.: Бурова 1996: 122). В «Ярмарке тщеславия» поводырем читателей призван
быть Кукольник. Ему отведена роль повествователя, но в романе присутствуют и
другие маски, за которыми прячется автор, их отношения с повествователем
драматизированы и вносят в повествование иронию. В более поздних романах Теккерея подобная
функциональная неоднозначность повествователя получает дальнейшую разработку,
герой приобретает черты автобиографичности и превращается в рассказчика (см.: Ки-
рикова 1993).
Самуэль Баталер и его восприятие интеллектуальной «дарвиновской революции»... 387
Батлер высоко ценил Диккенса, а о Теккерее отзывался с неприязнью. Тем не
менее в батлеровской поэтике «малых наблюдений» над персонажами прослеживаются те
же тенденции развития английского романа XIX века, что и у автора «Дэвида Коппер-
филда», и у автора «Пенденниса». Это не исключает ни принадлежности Батлера к
более позднему поколению романистов, чем Диккенс и Теккерей, ни своеобразия
Батлера как писателя. Стремление Батлера передавать через внутренний монолог поток
сознания персонажа сближает романиста не с Диккенсом и Теккереем, а с собственным
современником Мередитом. Интеллектуальная природа «Пути всякой плоти»,
покоящаяся на философской проблематике романа, ставит его в один ряд с такими
современными ему произведениями, как «Миддлмарч» Дж. Элиот, «Эгоист» Мередита и «Марий-
эпикуреец» Пейтера. Но даже и среди современников Батлера его психологическая
сатира выделяется остротой, питаемой автобиографичностью «Пути всякой плоти».
XXIV
Овертон утверждает:
Тот, кто имеет самое высокое и полное самоуважения представление о собственном
благе, какое только в силах измыслить, и твердо придерживается его, несмотря на все
условности, является христианином, знает ли он об этом и называет ли себя таковым или нет. Роза
не перестает быть розой от того, что не знает собственного названия (с. 224).
Такова «надежная гавань», которую достигает Эрнест под руководством
умудренного жизненным опытом Овертона. Эрнест находит свое спасение в обретенном им
счастье на земле, и тем самым дидактической направленностью своего романа Батлер
отрицает роль религиозного пуританизма, которую Беньян провозглашает своим
идеалом в «Пути паломника», однако не в той ее форме, которая двигала сознание
народных масс во время революции XVTÏ века, а в том виде, в каком она была укоренена в
викторианских этических ценностях и служила руководством к действию реальным
прототипам Теобальда и Кристины.
В середине XIX века англиканский протестантизм, служивший опорой пуританской
морали, переживал не лучшие времена. Под двойным натиском, с одной стороны,
рационалистической позитивистской критики, опиравшейся на развивавшиеся научные
знания, и католического мистицизма — с другой, он, все резче ветвясь на враждебные
друг другу направления, терял свои прежние позиции, и вместе с ним у англичан
ветшала уверенность в прочности их морального кодекса. Эти процессы нашли отражение
в романе Батлера.
В «Пути всякой плоти» дана широкая панорама религиозных движений в Англии
середины XIX века и саркастически изображены представители различных течений
англиканского протестантизма. Однако основное внимание Батлера направлено на
семью как оплот пуританской морали.
В «Пути всякой плоти» нет обычного викторианского пиетета перед этическими
ценностями семейной жизни, а представления о нравственности радикально
расходятся с нормами викторианской морали. Пройдя через горнило жизненных испытаний,
Эрнест утратил уважение к семье, полагая, что как способ организации жизни она
годится лишь для таких низших форм, как колонии кораллов и губок (см. с. 82), и
намеревается в своих будущих сочинениях написать о браке, этом «осином гнезде» (с. 293),
по выражению Овертона, столь же непримиримо настроенного к семье. Овертон и
Эрнест симпатизируют миссис Джуп, «старой греховоднице» (с. 303), весьма далекой от
388
И. И. Чекаяов
малейшего намека на викторианскую благопристойность и готовой скорее дать
полкроны на пиво «веселушке, чем <...> скромнице» (с. 187). Квартирная хозяйка Эрнеста,
отличающаяся «кристальной честностью» (с. 244), обладает даром меткого слова, а
временами философски мудра. «Но, в конце концов, — говорит она Овертону о браке
Эрнеста и Эллен, — ни от вас это не зависит, ни от меня, ни от него и ни от нее. Тут, что
называется, повезет ли в супуружестве, и никакого другого слова тут не подберешь»
(с. 245). По мнению Овертона, «есть в ней что-то, что всегда напоминает» ему о
Кристине (см. с. 302), и нетрудно догадаться, что он имеет в виду жизненную энергию,
которой наделена и та и другая.
Теоретические взгляды Эрнеста на брак и семью, творческие замыслы героя на эту
тему, а также эпизодическая фигура миссис Джуп призваны дополнить и усилить
основную композиционную линию романа — изображенную крупным планом картину
семейной жизни священника1. Именно здесь Батлер отваживается поднимать вопросы,
которых лишь ограниченно касались его предшественники. Его сатира смело проникает в
наиболее сокровенную область — отношения в семье — и там обнаруживает, как
узаконенная обществом мораль препятствует нравственному развитию личности, разрушает
естественные человеческие привязанности. Изображая семью священника, считавшуюся
в Англии XIX века одним из самых надежных эталонов христианской
добропорядочности, Батлер развеивает мираж нравственности, скрывающий за респектабельными
отношениями деспотический произвол эгоизма и лицемерия. Такую смелую
беспощадность разоблачения Теодор Драйзер назвал абсолютной писательской честностью,
которая немного облегчает тяжесть жизненных лишений (см.: Dreiser 1938: V—VI). Высоко
оценил ее и Бернард Шоу, подчеркнув значение романа как сатиры на систему
семейного воспитания, сложившуюся в Англии XIX века и во многих чертах не утратившую
своего значения и в начале XX века. В 1936 году Шоу писал:
Англия все еще управляется из дома священника в Лангаре, из школы в Шрусбери, из
Кембриджа с их биржевыми и сутяжными связями, и даже если бы человеческие
продукты этих заведений были все гениями, они бы, в конце концов, привели к гибели любую
современную цивилизованную страну, утверждая себя <...> за счет нищеты и бесправия
четырех пятых ее населения. Если мы не перепашем моральные устои этих местечек и не
посыпем их солью, мы погибли (Shaw 1936: XII—XIII).
Подогнать личность под шаблон узаконенной обществом морали, не
соответствующей истинным потребностям человеческой природы, — вот задача этой системы
воспитания. Отсюда следует основное ее правило — сломить волю, убить индивидуальное
начало в развитии личности. Если на раннем этапе воспитания для этой цели
используется плетка и страх телесного наказания заставляет ребенка становиться на колени для
молитвы, прежде чем он успел научиться как следует ползать, то в дальнейшем, на
более поздних этапах воспитания, функция плетки переходит к деньгам, и угроза
остаться без материальной поддержки родителей, угроза лишиться наследства заставляет
юношу поступать «как надо», заглушая в нем голос естественных наклонностей и
задатков. Так в жизнь вступают нравственные уроды, подобные Теобальду Понтифексу.
Они не обладали бы этой возможностью, полагает Батлер, если бы их внутреннее
убожество не было надежно замаскировано не только от окружающих, даже и самых
близких, но и от них самих благочестивой религиозной догмой, которую они исповеду-
1 Иначе считает А.-Р. Федерико. В своей работе, посвященной «Пути всякой плоти»,
американская исследовательница ставит акцент на данных композиционных моментах, выдвигая их на
первый план (см.: Federico 1995).
Самуэль Батлер и его восприятие интеллектуальной «дарвиновской революции»... 389
ют, но которая мертва для подобных людей. Слушая однажды, как Теобальд, совершая
семейную молитву, читает отрывок из Библии, Овертон, отвлекаясь от содержания
произносимых Теобальдом библейских строк, вспоминает «одно небольшое событие»:
Так случилось, что несколько лет назад под черепицей крыши дома обосновался рой
пчел и так размножился, что пчелы часто залетали в гостиную летом, когда окна были
открыты. Рисунок на обоях в гостиной изображал букеты красных и белых роз, и я видел, как
пчелы, бывало, подлетали к этим букетам и усаживались на них, принимая их за живые
цветы <...>. Когда я думал о семейных молитвах, повторяющихся каждый вечер и каждое
утро неделя за неделей, месяц за месяцем, из года в год, я не мог отделаться от мысли, как
это похоже на тот путь, который пчелы проделывали вверх-вниз по стене, с букета на букет,
нимало не подозревая о том, что среди связанных между собой образов безнадежно и
навсегда отсутствует единственно нужный (с. 79).
У Теобальда «главная руководящая идея» его профессии утрачена «безнадежно и
навсегда». Он не любит давать «религиозные утешения» умирающим и «даже
ненавидит» «эту сторону своей профессии», «но не признается в том даже себе: привычка не
признаваться себе в некоторых вещах прочно укоренилась в нем» (с. 56). Теобальд, в
юности утративший всякие индивидуальные особенности, не приобретает их, становясь
священником. Призванный быть духовным пастырем прихожан,
он томится от безделья <...>, не читает ни старых, ни новых книг. Он не интересуется ни
искусством, ни наукой, ни политикой, но с готовностью восстает против всего для него
нового и непривычного, что происходит в какой-либо из этих областей <...>. Теобальд
копается в саду. Слыша кудахтанье курицы, бежит сообщить об этом Кристине и немедленно
отправляется на поиски яйца» (с. 56—57).
Теобальд «ленив духом и телом». Однако, будучи священником, он имеет право
произносить считающиеся священными формулы, в смысл которых он не в состоянии
вдуматься. Тем самым Теобальд обретает непоколебимую уверенность в себе и
авторитет в глазах окружающих. В этом таится его социальная опасность.
Теобальд недаром не может простить сыну то, что сначала дед, а потом и тетка
завещают, минуя Теобальда, деньги непосредственно Эрнесту. Материальная
независимость Эрнеста уменьшает власть Теобальда над ним. Узнав о завещании Джорджа,
Теобальд негодует:
Что касается самого мальчика, то каждому должно быть понятно, что это наследство
будет для него неизбывной бедой. Оставить ему малую толику независимости — это, пожалуй,
самый большой вред, какой только можно причинить молодому человеку (с. 74).
Так же как и многие европейские писатели XIX века, Батлер не проходит мимо
финансовых причин, стимулирующих поведение человека в обществе. Внезапное и
быстрое обогащение, скачок по социальной лестнице от положения сына деревенского
фермера до положения процветающего на бирже владельца фирмы положили начало
духовному разрыву между отцом и детьми в семье Понтифекс. Именно тогда Джордж
Понтифекс, создатель огромного семейного состояния, ощутил, что «если человек очень
любит свои деньги, ему всегда нелегко так же сильно любить и своих детей» (с. 21).
Предпочтение было отдано деньгам.
Показательно, что применительно к Теобальду варьируется тема нелюбви к детям
в том же самом сатирически-гротескном тоне, в каком она возникала применительно к
Джорджу (ср. с. 108):
390
И. И. Чекалов
Теобальд никогда не любил детей. Он всегда избегал их, как только мог, и они тоже
избегали его. О, почему бы, — имел он обыкновение задаваться вопросом, — детям не
рождаться на свет уже взрослыми? Если бы Кристина могла родить нескольких
совершеннолетних духовных особ в сане священника — с умеренными взглядами, но склоняющихся скорее
к евангелической доктрине, с выгодными приходами и во всех отношениях являющих собой
копию самого Теобальда: ведь в этом же, ей-богу, было бы больше смысла! Или если бы
люди могли покупать уже готовых детей в лавке, любого возраста и пола, по своему
усмотрению, а не вынуждены были производить их на дому <...> (с. 71).
Батлер не был страстным обличителем «царства маммоны», как, например, Кар-
лейль. Сознавая могущество денег в современном ему обществе, Батлер до известного
предела разделял дух пиетета, характерный и для многих его современников, перед
деньгами как символом материального благосостояния. Он не поэтизировал нищету.
Однако его пиетет перед деньгами простирался не бесконечно: сторонник, по
выражению Олдоса Хаксли, «золотой середины», компромисса и разумной умеренности,
Батлер видел, что в современном ему обществе процесс интенсивного материального
обогащения сопряжен с духовным обнищанием, распадением уз естественных
привязанностей в семье, разложением общественной морали. Причиной этого он считал не деньги,
не богатство само по себе, а то, что человек современного ему общества не научился
правильно пользоваться богатством, к которому следует относиться не как к самоцели,
«царству чистогана», где господствует железная необходимость обогащения во что бы
то ни стало, а как к инструменту, позволяющему раскрыть внутренние возможности,
заложенные в самой природе человека. Таков смысл «пути всякой плоти»,
пройденного Эрнестом: познав цену деньгам в обществе, с помощью своей тетки Алетеи и ее
душеприказчика Овертона он научился пользоваться деньгами, не сотворя из них себе
кумира, — лишь как средством, обеспечивающим ему возможность свободного
творческого труда. В этом и состоит его спасение.
XXV
«Мне сказали, — писал Батлер своей сестре Мэри 12 ноября 1873 года, — что пущен
слух, будто я написал книгу, в которой изобразил отца. Опасаясь, чтобы этот слух не
дошел до тебя, хочу опровергнуть его» (Correspondence 1962: 65). Батлер лукавил. Хотя
в ноябре 1873 года было еще далеко до завершения работы над «Путем всякой плоти»,
переписка Батлера с Элайзой Сэвидж свидетельствует, что уже тогда в замысле
будущего романа фигурировал конфликт «бесшабашного молодого человека» со своим
отцом. Фабульным зерном «Пути всякой плоти» стал этот конфликт, укорененный в
собственной жизни писателя.
По свидетельству Фестинга Джонса, творческое воображение Батлера
основывалось на «применении материала, почерпнутого из жизни» (Jones 1919/2: 3).
Наблюдение биографа подтверждается фабулой романа. Ее материал заимствован Батлером
из жизни — своей и своего ближайшего окружения. Почти во всех реальных
прототипах основных персонажей «Пути всякой плоти» легко узнаются родственники писателя
и он сам. Эрнест Понтифекс списан с Самуэля Батлера в детстве, отрочестве и
юности, Овертон — также с него, но в зрелом возрасте, Теобальд и Кристина — с его отца
и матери (урожденной Фанни Уорсли, 1808—1873), Джордж — с деда писателя
епископа Личфилдского, Джон — с прадеда Уильяма Батлера (1727—17??), торговца
льняными товарами в Кенилворте. Лишь прототип Алетеи не принадлежит к этому род-
Самуэль Батлер и его восприятие интеллектуальной «дарвиновской революции»... 391
ственному клану, являясь идеализированным образом Элайзы Сэвидж. В фабулу
вплетены эпизоды и мелкие подробности из жизни указанных реальных лиц, а в текст
романа вставлены подлинные документы — переписка Батлера с отцом и матерью,
эпитафии на надгробиях предков писателя, семейные рассказы о забавных
происшествиях и т. п.
Однако данный фабульный материал всегда подчинен композиционным задачам,
скомпонован в соответствии с ними, и сюжетные события романа не являются точным
автобиографическим слепком, а герой — точной копией писателя. В отличие от
Эрнеста Понтифекса Самуэль Батлер не принимал сан священника, после окончания
Кембриджского университета он уехал из Англии в Новую Зеландию и там при финансовой
поддержке со стороны отца успешно занимался фермерством, а по возвращении в
Лондон, будучи одиноким, вел размеренный образ жизни, ни в чем не изменившийся
и после того, как он унаследовал от отца значительное состояние. Самуэлю Батлеру не
доводилось представать перед судом, быть тюремным заключенным или жить среди
лондонских бедняков. У него не было детей. Не было у него, как у героя «Пути всякой
плоти», и разрыва с родителями, которых регулярно навещал и с которыми, как и с
остальными своими родственниками, регулярно переписывался. Однако глубокая, хотя
и скрытая, трещина в отношениях с семьей, впервые отчетливо обнаружившаяся в
период выбора им профессии, никогда не исчезала и давала о себе знать на протяжении
всей его жизни.
Самуэль Батлер не любил отца. В заметке писателя, озаглавленной «Мой отец и я»
(1883), читаем:
Ни он никогда не испытывал привязанности ко мне, ни я — к нему. В своих самых
ранних воспоминаниях, которые я могу припомнить, не было такого момента, когда бы я не
боялся его, не чувствовал бы неприязни к нему. Не раз в душе я смягчался к нему и думал,
что вообще-то он добрый, но едва я начинал так думать, как он тем или иным способом
обрушивался на меня, и это вызывало у меня ожесточение <...>. Я вовсе не уверен, что
больше виноват он, чем я, но фактом остается то, что многие годы и дня не проходило без того,
чтобы много раз я не думал о нем как о человеке, который наверняка настроен против меня
(Jones 1919/1: 20-21).]
Р.-С. Гарнетт, принадлежавшая к кругу родственников писателя, выпустила книгу
«Самуэль Батлер и его семейные отношения» (см.: Garnett 1926), где, признавая сходство
между Теобальдом и его прототипом, доказывала, что каноник Томас Батлер был
гораздо умнее, образованнее и человечнее, чем персонаж, изображенный в «Пути всякой
плоти». Так оно, вероятно, и было. Во всяком случае, опубликованная переписка
между отцом и сыном не дает основания предполагать обратное. Но это лишь косвенно
связано с творческой историей романа, и в ней сама нелюбовь Самуэля Батлера к отцу
приобретает значение лишь тогда, когда у писателя возникает мысль о конфликте
«бесшабашного молодого человека» со своим отцом. Именно тогда коллизия, взятая из
реальной жизни, — столкновение молодого Самуэля Батлера с отцом из-за выбора
профессии, на всю жизнь оставившее глубокий след в сознании писателя, — дает
содержание вымышленному сюжетному конфликту романа, а его герой получает сходство со
своим создателем: так же как Батлеру, Эрнесту Понтифексу предстоит «украсть» у
своих родителей «право первородства», быть «жестоко наказанным» за это, но «спасти
живой свою душу» (ср. с. 341).
Батлер ставит перед своим героем те же жизненные и психологические проблемы,
с которыми сталкивается сам, и, наблюдая через посредничество Овертона за тем, как
герой справляется с ними, оживляет в себе собственный внутренний опыт детства, от-
392
И. И. Чекалов
рочества и юности, смотря на него глазами Овертона, то есть самого же себя, только в
другом, более зрелом возрасте, что обеспечивает повествованию Овертона
психологическую достоверность, а интроспекции рассказчика — искренность, напоминающую, по
мнению Маггериджа, «Исповедь» (1766-1769) Жан-Жака Руссо (1712—1778) (см.: Mugge-
ridge 1936: 227). Типологически к характеристике подобной документальности Батлера
применима формула Л.Я. Гинзбург, выдвинутая ею относительно психологической
документальности Л.Н. Толстого, состоящей, по словам исследовательницы, в том, что
толстовские «герои не только решают те же жизненные задачи, которые он сам решал,
но решают их в той же психологической форме» (Гинзбург 1977: 301).
К текстовым меткам такой формы, выражающей внутреннее сходство героя и его
создателя, принадлежат в «Пути всякой плоти» вкрапленные в повествование
Овертона извлечения из семейного архива Батлера и прочие аксессуары батлеровской
семейной памяти, но их единственной композиционной функцией является увеличение
достоверности фабулы, и характеристика персонажей, документальная подлинность этих
фрагментов полностью скрыта от читателя, а идентификация героя и реального
автора произведения не предполагается, как она не предполагается и в случае соотношения
между всеми другими персонажами и их прототипами. Батлер совершенно свободно
обращается с автобиографическим фабульным материалом. Он вводит в него вымысел,
когда того требует развитие действия, и его герой попадает в ситуации, в которые
никогда не попадал сам писатель. При необходимости Батлер отступает от приема прямого
(разумеется, всегда скрытого) цитирования фрагментов своего семейного архива и
заменяет его изложением их содержания, приспособив это содержание к композиционным
целям. Так, если письмо Фанни Уорсли-Батлер, адресованное двум сыновьям,
воспроизведено на страницах романа почти дословно (см. гл. 25, с. 83—85 наст, изд.), то свою
переписку с каноником Томасом Батлером, посвященную выбору сыном будущей
профессии, писатель использует иначе: как сообщает Фестинг Джонс, в романе она легла
в основу обмена письмами между Джорджем и Теобальдом на аналогичную тему (см.
гл. 8, с. 30—33 наст, изд.), но исследователи обнаружили, что реальная переписка отца
и сына значительно отличается от тех писем, которыми обмениваются персонажи
романа, и ее смысловые акценты сдвинуты и приспособлены к гротескному изображению
Джорджа и Теобальда (см.: Hoggart 1973: 433—434).
При отборе и обработке автобиографического материала для «Пути всякой плоти»
задача сатиры и психологической достоверности выдвинута у Батлера на первый план.
В уже цитировавшемся письме к сестре Мэри Батлер утверждал:
Я пишу для читателей, — вывожу в своих персонажах распространенные типы
характеров, и меня заботит только мнение читателей, которые, полагаю, будут сурово осуждать меня
за личные выпады, если бы я был склонен прибегать к ним, к чему я конечно же не
склонен (Correspondence 1962: 65).
Направленность батлеровской сатиры на «распространенные типы характеров» не
приходится отрицать, однако особую убедительность и остроту его сатире придает то,
что вымышленный мир ее образов прозрачно связан с реальным миром их прототипов.
Эту связь Батлер стремится скрыть от читателя, но она явственно проступает в
творческой истории «Пути всякой плоти».
«Я не написал ни одной книги, — настаивал Батлер все в том же письме к сестре
Мэри, — в которой хотя бы один персонаж взят из жизни или, насколько я понимаю,
даже содержит намек на нее, и никогда не напишу» (Ibid.). В это трудно поверить, читая
у Фестинга Джонса о творческой истории «Пути всякой плоти». Вот как, например, в
Самуэлъ Батлер и его восприятие интеллектуальной «дарвиновской революции»... 393
романе Теобальд реагирует на смерть Кристины: «"Она была утешением и оплотом
моей жизни более тридцати лет, — сказал Теобальд, как только все было кончено, —
но нельзя было желать, чтобы это продлилось". — И он уткнулся лицом в носовой
платок, чтобы скрыть отсутствие эмоций» (с. 292). По свидетельству Фестинга Джонса, в
сцене смерти Кристины писатель воскрешает в своей памяти кончину Фанни Уорсли-
Батлер. Относительно приведенного выше отрывка из данной сцены Фестинг Джонс
сообщает: «Частично слова Теобальда воспроизводят в слегка измененном виде слова
каноника Батлера, написанные в Ментоне 21 марта 1873 года, остальная же часть
реплики Теобальда, как мне неоднократно рассказывал Батлер, передает слова его отца,
который бродил по дому, когда кончина (Уорсли-Батлер. — И.Ч.) приближалась, и
твердил, что он не желает, чтобы это продлилось» (Jones 1919/2: 4). Саркастической
детали авторской характеристики персонажа («он уткнулся лицом в носовой платок,
чтобы скрыть отсутствие эмоций») нет в документальной основе романа, она добавлена
Батлером позже и заостряет сатирический портрет персонажа, однако в остальном
сходство Теобальда- и его прототипа безошибочно указывает на источник — биографию
писателя.
XXVI
По отношению друг к другу произведения Батлера — как художественные, так и те,
которые посвящены научным темам, — обладают цепкой преемственностью
философских идей, возникавших у писателя в ходе эволюции его отношения к
интеллектуальной «дарвиновской революции», то есть перевороту в представлениях о мире в умах
английской интеллигенции второй половины XIX века под влиянием эволюционного
учения Дарвина.
Чтение «Происхождения видов», приведя Батлера к окончательному разрыву с
англиканской религиозной догмой, стало стимулом его творчества. В новозеландских
очерках и созданном на их основе «Едгине» Батлер выступил против тенденции в
современном ему индустриальном обществе к механизации личности — к механизации,
порабощающей индивидуальную личность и лишающую ее свободы воли. Критика данной
тенденции сделала для него неприемлемым принцип естественного отбора,
культивируемого в качестве всеобщего начала развития природы и общества английскими
позитивистами, и он заменил этот принцип другим, квазинаучным талисманом,
компенсировавшим ему утрату религиозного мировоззрения. Таким талисманом ему казался
психоламаркистский витализм, к которому он, начиная с «Жизни и привычки», обращался
в своих работах по вопросам эволюции.
Философские идеи Батлера питали замыслы его художественных произведений.
Если у истоков «Едгина» был новозеландский очерк «Дарвин среди машин»,
написанный Батлером по свежим впечатлениям от чтения «Происхождения видов», то у
истоков «Пути всякой плоти» — «Жизнь и привычка», книга, наметившая поворот Батлера
от восторженного принятия дарвиновской эволюционной теории к ее ожесточенной
критике. Опираясь на понятия, изложенные в «Жизни и привычке», Батлер строил
композицию «Пути всякой плоти», а представление о «бессознательной памяти», входившее
в его эволюционную доктрину, расширило возможности его психологической сатиры,
позволив писателю фиксировать поток сознания своих персонажей.
Батлера привлекал процесс логического мышления. Как и позитивисты, он
стремился к общим аналогиям и умозаключениям на основании данных современной ему
394
И. И. Чекалов
биологии, однако в отличие от них он преследовал при этом двойную цель:
исследовать не только способность аналогии разъяснять отношения между раскрываемыми
предметами или их сторонами, но и ее способность ввести в заблуждение, запутать,
увести в сторону. Как считал Батлер, недостатки аналогии столь же важны, как и ее
достоинства: недостатки аналогии позволяют контролировать умозаключения,
мешают превращению их в мертвую догму — отсюда следовала важность эстетического
принципа «сиамских близнецов», на котором основаны парадоксы и авторская ирония
«Едгина».
В «Едгине», «Надежной гавани» и «Снова в Едгине» Батлер возродил жанры,
классическими образцами которых в английской литературе XVIII века были свифтовские
«Путешествия Гулливера» и памфлеты-мистификации Дефо и Свифта. «Едгин» и его
продолжение «Снова в Едгине» унаследовали характерные черты композиции
«Путешествий Гулливера». В «Надежной гавани» Батлер продолжил линию свифтовских
памфлетов. Вместе с тем ирония Батлера не имеет столь устойчивой нравственной
опоры, какая была у Свифта, и может превращаться в самоиронию, тем самым
сближаясь с романтической иронией Карлейля в «Sartor Resartus» (при полном,
разумеется, отличии религиозного радикализма Тейфельсдрека от положительных установок
Хиггса).
В самоиронии Хиггса, в его стремлении посмотреть на себя со стороны и
критически оценить собственные идеалы коренится возможность того расщепления
авторского «я» на две половины, которое приводит к появлению в «Пути всякой плоти» образов
рассказчика Овертона и героя Эрнеста Понтифекса, идентичность которых по
отношению друг к другу, явно проступающая в конце романа, раскрывает тождественность
обоих с их создателем.
Представая перед читателем, по крайней мере, в двух своих ипостасях (на самом
деле, как мы знаем, их больше) — героя и рассказчика, Батлер драматизирует
повествование и таким образом присоединяется к одной из распространенных тенденций в
развитии английского романа XIX века, когда писатели — от Остин до Мередита, — следуя
предшествующей филдинговской традиции, сдвигали жанровые границы эпоса по
направлению к драме. Театр, к которому тяготеет повествовательная форма «Пути
всякой плоти», отличается своеобразием. В нем разыгрывается драма собственной жизни
писателя, и «субъективный импульс», запечатленный в романе, передан с такой
подлинностью, какой еще не знала английская литература XIX века. Автобиографическая
документальность батлеровской прозы — типологически она сродни толстовской —
содействует остроте сатирического гротеска в «Пути всякой плоти» и придает насущность
проблематике романа — проблематике, воплощающей в себе его интеллектуальную
природу.
По сравнению с «Едгином» объект батлеровской сатиры в «Пути всякой плоти»
существенно не изменился: это все тот же пуританизм, укорененный в викторианских
этических ценностях. На непосредственную связь «Едгина» и «Пути всякой плоти», в
частности, указывает фигура Прайера с его прожектами, как бы заимствованная из
описания едгинских блюстителей нравственности. Однако в «Едгине» нет поэтики
«малых наблюдений» автора над своими персонажами, которые в «Пути всякой плоти»
позволяют ему глубоко — вплоть до импульсов подсознания — заглядывать в тайники
их психологии. «Путь всякой плоти» предвещает художественные открытия английского
романа в эпоху модернизма.
Самуэлъ Батлер и его восприятие интеллектуальной «дарвиновской революции»... 395
XXVII
В своей книге «Живой роман и последующие рецензии» (1947) В.-С. Притчет
утверждает:
«Путь всякой плоти» — одна из литературных бомб замедленного действия. Можно
представить, как она в течение тридцати лет покоится в ящике письменного стола Батлера в его
лондонской квартире в ожидании того времени, когда она взорвет институт викторианской
семьи, а вместе с ним и все сооружение викторианского романа, это величественное здание
с колоннами и балюстрадами (Pritchett 1966: 140—141).
В.-С. Притчет преувеличивает: вряд ли одно литературное произведение, каким бы
потенциалом сокрушительной критики оно ни обладало, способно разрушить целый
общественный институт, а вместе с ним «все сооружение викторианского романа». Тем
не менее в его броской формулировке констатируется связь — вполне очевидная на
исходе 1940-х годов — между распадением устоев викторианской семьи и исчезновением
из живого литературного процесса того типа романа, который был на протяжении
XIX века ее излюбленным чтением. Имея в виду данную связь, Притчет оценивает
значение «Пути всякой плоти» как произведения, которое поставило точку на
предшествующей традиции. В этом его оценка батлеровского романа совпадает с той, которую дал
в 1873 году Генри Джеймс (1843—1916) «Миддлмарчу», положившему, по его мнению,
«предел развитию романа старого образца» (James 1957: 267).
Как полагает Ю.-С. Кнепфелмахер, не только «Путь всякой плоти» и «Миддлмарч»,
но и «Марий-эпикуреец» Пейтера, а также «Даниэль Деронда» (1876) Дж. Элиот подвели
итог движению метода в романном жанре английской литературы XIX века и
одновременно «наметили курс ее будущей эволюции». Кнепфелмахер пишет:
Мир персонажей Филдинга, Джейн Остин и Скотта и даже Троллопа или Теккерея
отдалился от нас и стал странным, что по контрасту превращает Джордж Элиот, Пейтера и
Батлера в почти современных писателей. Их стремление сохранить внутреннее равновесие,
балансируя между верой, унаследованной от предков, и выводами, которые они вынуждены сделать под
влиянием естественных наук, сама непоследовательность их убеждений, их уловки и
компромиссы являются теми же самыми, что у нас. Они предугадали нашу этику, основанную на работах
Фрейда, и наши экзистенциалистские доктрины. Хотя, возможно, и не в том смысле, в каком
они хотели бы себе представить, они создатели нашего сегодня (Knoepfelmacher 1965: 21, 23).
Если таково наследие, переданное английской постмодернистской литературе по-
здневикторианскими романистами, то оно не ограничивается двумя последними
романами Дж. Элиот и романами Пейтера и Батлера. Выбор Кнепфелмахера произволен,
и круг писателей, рассматриваемых им, можно расширить, включив в него, например,
Мередита с его «Эгоистом» и «Одним из наших завоевателей» (1891) или Томаса Хар-
ди с его «Тэсс из рода Д'Эрбервиллей» (1891) и «Джудом Незаметным» (1895). Здесь,
однако, мы не будем обсуждать вопрос о степени репрезентативности того или иного по-
здневикторианского писателя. Нам гораздо важнее подчеркнуть другое — специфику их
наследия в целом. Для всех крупных английских романистов последние десятилетия
XIX века были эпохой естественнонаучного неверия, и они, — разумеется, каждый на
свой лад — решали задачи, возникшие перед ними как следствие интеллектуальной
«дарвиновской революции», стремясь своим творчеством возместить себе и своим читателям
утрату ими традиционного христианского мировосприятия. Общность этих задач,
продиктованных эпохой, отразилась на проблематике произведений поздневикторианских
романистов и наложила свою печать на мир их персонажей.
396
И. И. Чекалов
Данным обстоятельством, вероятно, в основном следует объяснить то, что при
сопоставлении «Пути всякой плоти» с другими ключевыми поздневикторианскими романами
в батлеровском произведении нетрудно обнаружить параллели с ними (на некоторые из
которых указывает Кнепфелмахер — см.: Knoepfelmacher 1965: 270—271), а в сходстве
батлеровских персонажей с персонажами других романистов — его современников —
различить те самые «распространенные типы характеров», о которых писатель
упоминал в письме к своей сестре Мэри.
Когда Теобальд «после завтрака удаляется в свой кабинет», где «он вырезает
небольшие отрывки из Библии», занимаясь составлением «Гармонии Ветхого и Нового
Заветов» (см. с. 56) у он напоминает ученого священника Эдварда Кейсобона из «Миддлмар-
ча», который в библиотеке своего особняка корпит над материалами для «еще не
написанного "Ключа ко всем мифологиям"» (Элиот 1981: 312). Теобальд и Кейсобон —
служители мертвого культа и сами живые мертвецы. «Я постоянно живу среди
мертвецов» (Там же: 35), — говорит о себе Кейсобон, и его «удел — <...> не уметь радоваться,
присутствовать на великом празднике жизни и все время томиться в плену своего
маленького, голодного, дрожащего "я"» (Там же: 312). Своей эмоциональной ущербностью
он сродни Теобальду и пытается сломить волю к жизни Доротеи Брук, как Теобальд —
волю к жизни своего сына. Подобный же конфликт разворачивается в мередитовском
«Эгоисте», где Клара Миддлтон, подчиняясь «естественным призывам Матери-Земли»,
то есть своим естественным склонностям, ведет длительную борьбу за свое
освобождение от мертвящей хватки сэра Уиллоуби Пэттерна, задержавшегося в своем развитии
на эволюционной стадии первобытного эгоизма. Скудость чувств, черствость замкнутого
на себе эгоизма фигурируют и в конфликте мередитовского романа «Один из наших
завоевателей», а его герой Виктор Рэднор принадлежит к той же галерее эмоционально
ущербных персонажей, что и Джордж и Теобальд Понтифексы, Кейсобон, Уиллоуби
Пэттерн.
В конфликтах поздневикторианских романов положительным героем или героиней
всегда оказывается персонаж, наделенный искренней эмоциональностью. «Путь всякой
плоти» не является здесь исключением: обращение Эрнеста к истине происходит так же,
как у элиотовской Доротеи Брук или пейтеровского Мария-эпикурейца, — благодаря
тому, что эти персонажи от природы обладают способностью чувствовать.
Такой способностью наделены соответственно у Батлера и у Дж. Элиот Джон Пон-
тифекс и Кэлеб Гарт, один из персонажей «Миддлмарча». Кроме того, их объединяет
благоговейное отношение к труду. Подобно Джону, Кэлеб — неутомимый труженик и
созидатель, и для него «божественными добродетелями <...> были хорошие практичные
планы, добросовестная работа и скрупулезное исполнение всех обязательств» (Там же:
283).
«А теперь вам будут возражать, даже если вы читаете из молитвенника» — вспомним
еще раз (ср. с. 336) фразу миссис Фербратер из «Миддлмарча». В одном из эпизодов
«Пути всякой плоти» события, собственно, так и разворачиваются: Эрнест Понтифекс
приходит, чтобы наставить на путь истинной веры вольнодумца жестянщика Шоу, и тот,
вполне удачно ведя спор с молодым священником, в заключение говорит:
<...> намерения у вас хорошие, но вы получили довольно плохую подготовку <...>. Вы
ничего не знаете о том, как этот вопрос (имеется в виду рассказ о воскресении Иисуса Христа
в четырех евангелиях. — И.Ч.) выглядит с нашей стороны, и я только что показал вам, что
вы не намного больше знаете и о том, как он выглядит с вашей стороны <...> (с. 199).
Диспут сторонника свободомыслия Шоу и незадачливого англиканского священника
Эрнеста Понтифекса затрагивает центральную — как и в романе Пейтера «Марий-эпи-
Самуэль Батлер и его восприятие интеллектуальной «дарвиновской революции»... 397
куреец» — тему «Пути всякой плоти»: вопрос об истинности религиозного
мировосприятия. Именно эта проблема была поставлена дарвиновской «интеллектуальной
революцией» перед мыслящими людьми в Англии второй половины XIX века и стала
актуальной д,ая поздневикторианского романа.
Современным русским читателям, надо полагать, будет небезынтересно, прочитав
«Путь всякой плоти», ознакомиться с одним из образцов данного жанра, изображающим
эпоху, если воспользоваться словами Лидгейта из «Миддлмарча», «приятную для тех,
кто любит придерживаться собственной точки зрения».
И. И. Чекалов
ПЕРВЫЙ РУССКИЙ ПЕРЕВОД
«ПУТИ ВСЯКОЙ ПЛОТИ» И ОЦЕНКА РОМАНА
СОВЕТСКОЙ КРИТИКОЙ 1930-х ГОДОВ
I
В июне 1939 года журнал «Резец», орган Ленинградского отделения Союза советских
писателей, в разделе «Среди книг» поместил сведения о новой публикации: «Самуэль
Бетлер "Жизненный путь". Отв. ред. Н. Рыкова. Гос. изд-во "Художественная
литература", Ленинград, 1938», сопроводив их краткой рецензией. В ней шла речь о первом
русском переводе романа «Путь всякой плоти» (фамилия писателя транслитерирована
по старому образцу, а название произведения передано парафразой). «Советский
читатель, — говорилось в рецензии, — с интересом прочтет книгу Бетлер а, достоинства
которой ему поможет оценить хороший перевод и обстоятельная вводная статья» (Резец
1939: 34). Однако ни в рецензии, ни на титульном листе рецензируемой книги не
упоминается о том, кто переводил батлеровский роман и кто был автором вступительной
статьи. Подобное умолчание трудно объяснить простым стечением неудачных
обстоятельств, в обоих случаях приведших к одной и той же досадной издательской
оплошности. В условиях советской действительности такое умолчание могло значить лишь
одно — цензурный запрет в соответствии с ведомственной инструкцией или по
прямому указанию «компетентных органов».
В 1967 году в своей кандидатской диссертации «Романы С. Батлера» А.А. Анихано-
ва назвала имя автора вступительной статьи к первому русскому изданию «Пути
всякой плоти». Согласно ее атрибуции, «автором этой статьи был писатель и
литературовед П.К. Губер» (см.: Аниханова 1967а: 5). Однако в опубликованном исследовании
АА. Анихановой отсутствует информация об источнике атрибуции, и, следовательно,
последняя требует подтверждения (Аниханова 19676: 41—51). Оно обнаруживается в
личном деле члена Союза советских писателей П.К. Губера, в настоящее время
хранящемся в Центральном государственном архиве литературы и искусства СПб.1. Там, в
документе, составленном секцией переводчиков Ленинградского отделения Союза
советских писателей (ЛО ССП) и озаглавленном «Творческая характеристика П.К. Губера»,
читаем:
Из последних работ П.К. Губера секция переводчиков ЛО ССП считает в особенности
необходимым отметить перевод книги Самуэля Бетлера «Жизненный путь» — одного из
значительных произведений английской литературы XIX в., до сих пор у нас совершенно
1 ЦГАЛИ. СПб. Фонд 371. Опись 2. Дело 53.
Первый русский перевод «Пути всякой плоти»... 399
неизвестного. Перевод этой книги выполнен превосходно и, кроме того, снабжен
вступительной статьей переводчика <...>1.
Таким образом, не остается никаких сомнений в том, что именно П.К. Губер
подготовил к печати первое русское издание батлеровского романа.
Петр Константинович Губер (1886—1941) был хорошо известен советским читателям
20-х и 30-х годов XX века. Человек разносторонних знаний, выпускник
экономического отделения Петербургского политехнического института (1909 г.) и юридического
факультета Петроградского университета (1914 г.), он с успехом проявил себя в самых
разных сферах литературной деятельности — как прозаик, переводчик, критик,
исследователь. В 1923 году вышло его биографическое исследование «Дон-Жуанский список
Пушкина» (оно после некоторого перерыва часто издается и по сей день), в 1927 году —
биографический роман «Кружение сердца. Семейная драма Герцена», и это помимо
множества рассказов, критических статей, очерков и корреспонденции. Затем
последовали историческая повесть «Хождение на Восток Марко Поло» (1928), исторические
романы «Месяц туманов» (1929) и «1830» (1930), критико-биографический этюд «Гр.
В.А. Соллогуб и его мемуары» (1931), научно-популярная книга «Жизнь Марка Твэна»
(1937).
В 1932 году был опубликован губеровский перевод «Похвального слова глупости»
Эразма Роттердамского с предисловием и комментариями переводчика. В 1960 году
этот перевод с латинского языка вышел вновь (Гослитиздат, пер. под ред. СП.
Маркиша, с предисловием Л.Е. Пинского) и вслед за тем за короткий промежуток времени
дважды переиздавался (М., 1993; Калининград: ИПП, 1995). Так текст, созданный
переводчиком, выдержал испытание временем: недаром в 1930-е годы Губер считался, по
словам А.А. Смирнова, мнение которого разделял М.Л. Лозинский, «одним из лучших
ленинградских переводчиков»2.
Наследие Губера-переводчика обширно и столь же разнообразно, как и его
оригинальная проза. Помимо латинского, он переводил с современных европейских языков —
французского, английского, немецкого. Собратья по профессии так оценивали его
переводческую деятельность в уже цитировавшейся «Творческой характеристике П.К.
Губера». В ней говорится:
Авторы, которых он переводит, являются по большей части крупнейшими
представителями мировой литературы (Франс, Стендаль, Шоу, Меримэ, Майн-Рид, Купер, Бетлер), и
новые переводы их произведений, образцово сделанные П.К. Губером, представляют
существенный вклад в нашу переводную литературу3.
Работа над переводом «Пути всякой плоти», — кстати, так переводчик называет
роман в сохранившихся документах, а в предисловии всегда использует английское
именование — была последней, которую ему довелось закончить. 23 февраля 1938 года книга
была сдана в набор, 25 апреля подписана к печати, а 28 августа П.К. Губер был
арестован. Он разделил судьбу огромного числа жертв политических репрессий — был обвинен,
судим «Особым совещанием», признан виновным... Погиб Петр Константинович в
заключении весной 1941 года. Реабилитирован в 1961 году — «за отсутствием состава
преступления» (Дичаров 1993: 178—179).
1 Там же. Л. 14.
2 Там же. Л. б.
3 Там же. Л. 14.
400
И. И. Чекалов
II
Вступительная статья Губера к его переводу романа Батлера озаглавлена
«Английский Стендаль». В ней проводится параллель между автором «Пути всякой плоти» и
создателем «Пармского монастыря» (см.: Губер 1938: 3—29). Что стоит за подобным
сопоставлением ?
Батлеровские персонажи, по словам переводчика, «врезываются в память, как
образы Льва Толстого» (Губер 1938: 15). Однако поскольку о влиянии на Батлера «русских
авторов, — признает Губер, — говорить не приходится» (там же: 16), ассоциацию с
Толстым, возникающую в читательском восприятии «Пути всякой плоти» — произведения,
написанного «таким мастером психологического анализа, таким умелым анатомом
человеческих душ», каким был Батлер (там же: 16), — следует объяснить иначе. Губер
пытается объяснить ее, прибегая к параллели между Батлером и Стендалем, так как,
с точки зрения Губера, в масштабе европейской литературы XIX века творец
«Красного и черного», будучи «одним из основателей нового литературного жанра, а именно
жанра психологического романа» (Губер 1923: 7), принадлежит к тому же направлению
в развитии поэтики психологической прозы, что Батлер и Толстой. «Как
романист-психолог, — пишет Губер, — Стендаль является прямым предшественником Флобера во
Франции и <...> Л.Н. Толстого в России» (там же: 8).
Если рассматривать проблематику европейского психологического романа XIX века
в том ее аспекте, в каком она трактуется в работе Л.Я. Гинзбург «О психологической
прозе», то есть «в аспекте художественного познания душевной жизни и поведения
человека» (Гинзбург 1977: 271), то нельзя не признать основательность стремления Губера
наметить единую линию развития метода от Стендаля к Батлеру и далее к Флоберу и
Толстому. В рамках своего представления о нем Губер так определяет сходство в
творческом облике Стендаля и Батлера:
...по всему складу своего дарования Бетлер прежде всего был художником. Из больших
европейских писателей он ближе всего напоминает Стендаля: та же непритязательность
внешней формы, то же энциклопедическое разнообразие интересов, та же неподатливость
глубоко своеобычных мнений и вкусов, та же отчужденность от господствующих веяний и
тенденций своего времени (Губер 1938: 13).
Основываясь на приведенном рассуждении, Губер приходит к выводу, что Стендаль
оказал на Батлера «влияние — непосредственное и ощутительное» (там же: 16). У нас нет
свидетельств о том, что автор «Пути всякой плоти» читал «Пармский монастырь» или
даже вообще знал о существовании французского писателя. Поэтому оставим в
стороне данный тезис, но при этом подчеркнем, что выдвигаемая Губером параллель — в том
ее плане, который касается типологии «художественного познания душевной жизни и
поведения человека», — опирается на его представление о целостной картине развития
европейской психологической прозы XIX века. Именно это представление позволяет ему
воспользоваться параллелью между Стендалем и Батлером в качестве переводческого
стилистического ориентира. Губер пишет:
Как у Стендаля, единственным украшением слога Сэмюэля Бетлера служит трезвая
простота. Его язык, непринужденный, разговорный, порою несколько небрежный, даже
спотыкающийся, не щеголяет никакими чисто словесными эффектами <...>. Он пренебрегает
всеми уловками стилистической каллиграфии. Он никогда не повышает тона (Губер 1923: 16)1.
1 Ср.: у психологической прозы XIX в., как отмечает Л.Я. Гинзбург, «языковой материал в
принципе общий с разговорной, деловой, научной публицистической речью» (Гинзбург 1977: 281).
Первый русский перевод «Пути всякой плоти»...
401
III
Современники Губера — и, в частности, А.С. Ромм, впоследствии известная советская
исследовательница английской и американской литературы, — в своем уже
цитировавшемся отзыве, опубликованном в журнале «Резец», высоко оценили первый русский перевод
батлеровского романа. К тому имелись основания. Судя по достоинствам перевода, он
выполнен мастером переводческого искусства. Вот как, например, передан у Губера
драматизм внутренней речи Теобальда, уязвленного ссорой с женой и мечтающего о том,
чтобы расстаться с ней:
...он еще не женат на ней. Все это отвратительный сон; он скажет... Но чей-то голос
звенел у него в ушах, повторяя: «Ты не можешь, не можешь, не можешь».
— Неужели не могу? — простонал про себя несчастный.
— Нет, — сказал безжалостный голос. — Ты не можешь. Ты человек женатый.
<...> he hadn't married her; it was all a hideous dream; he would — But a voice kept ringing
in his ears which said: "You can't, can't, can't.n
"Can't I?" screamed the unhappy creature to himself.
"No," said the remorseless voice, "You can't. You are a married man" (Butler 1973: 98).
Здесь в переводе нет лишних слов, его лексика адекватно отражает лексику
батлеровского текста, а фразово-грамматическое оформление речи, следуя за оригиналом,
трансформирует заключенную в последнем информацию средствами русского языка:
перфектная форма английского глагола получает выражение в слове «еще»,
приобретающий в данном контексте дополнительную выразительность неопределенный артикль — в
слове «чей-то», вопросительно-отрицательная конструкция английского предложения — в
русской вопросительной конструкции, вводимой частицей «неужели», аспектуальная
английская глагольная форма («kept ringing») — в сочетании личной формы русского
глагола с деепричастием («звенел <...>, повторяя»). При этом построение фраз и их
взаимное сцепление в переведенном пассаже таковы, что читатель не может усомниться в
естественности русской речи.
Как опытный переводчик Губер — в тех случаях, когда он достигает желаемого
результата, — внимательно следит за существующими между словами оригинала внутри-
контекстными связями и ими регулирует подбор русской лексики для своего перевода.
Так, английское наречие «well» в значении «удачно» («well said» — «хорошо сказано») он
переводит «красноречиво», опираясь на то, что английское слово в оригинале
употреблено в сочетании с наречием «wisely» («мудро»): «Не spoke so wisely and well» («Он
говорил столь мудро и красноречиво» (см.: Butler 1973: 63; ср.: Губер 1938: 61).
Внимательное отношение переводчика к языку оригинала и, вероятно, опыт
собственной писательской деятельности позволяют ему создать художественно выразительный
русский текст. При описании школьной муштры, которой подвергается Эрнест Понти-
фекс, английское выражение «to know by heart» («знать наизусть») Губер переводит как
«знать назубок» (см.: Butler 1973: 150; ср.: Губер 1938: 138); при описании того, как
семейство Кристины склоняло Теобальда к женитьбе на ней, английский глагол «to humour»
(«потакать, ублажать, баловать») — как «умасливать» (см.: Buder 1973: 81; ср.: Губер 1938:
76); при рассказе о скандальной, с точки зрения Теобальда и Кристины, беременности их
служанки выражение «it was discovered» («обнаружилось») — как «вышло наружу» (см.:
Buder 1973: 208; ср.: Губер 1938: 190); при упоминании о том, что фотография Эрнеста, на
долгое время убранная оттуда, где она обычно находилась в доме его родителей, снова
появилась там, выражение «the photograph had found its way back again» — как
«фотография очутилась на старом месте» (см.: Buder 1973: 441; ср.: Губер 1938: 397), и т. п.
402
И. И. Чекалов
Губер, разумеется, не стесняет себя рамками английского синтаксиса и при
необходимости радикально трансформирует в процессе перевода синтаксические членения
подлинника, но при этом, как правило, стремится избегать смысловых потерь. Если,
например, Батлер при введении внутренних монологов Теобальда и Кристины, сообщив
читателю, что «супружеская пара не обменивалась ни единым словом», добавляет: «Though
they spoke not to one another, there was one nearer to each of them with whom they could
converse freely» («Хотя они не говорили друг с другом, существовал некто, более близкий
каждому из них, с кем они могли свободно общаться»), то Губер переводит это
английское предложение так: «Они не говорили друг с другом, но у каждого из них имелся свой
собеседник, более близкий каждому из них, с которым можно было обмениваться
мыслями совершенно свободно» (см.: Butler 1973: 163; ср.: Губер 1938: 150).
Переводческую изобретательность Губера можно проиллюстрировать и таким
примером. Английское предложение: «Was there not an elderly brother?» («Разве нет старшего
брата?»), в котором прошедшее время выражается согласованием грамматических видо-
временных форм, отсутствующих в русском языке, Губер переводит: «Позвольте, а как
же старший брат?» (см.: Butler 1973: 97; ср.: Губер 1938: 90). Перевод продиктован
следующим контекстом: в оригинале переводимое предложение вставлено в авторскую
несобственно прямую речь, передающую разноголосицу различных мнений об одном и
том же предмете и тем самым имеющую диалогический оттенок. Отсюда противительно-
вопросительный подтекст русского предложения, подчеркивающий диалогичность речи
повествователя.
«Когда меня по ночам давят кошмары, — говорит Овертону Эрнест Понтифекс,
показывая письмо от своей сестры Шарлотты с любезным приглашением побывать у
нее, — мне кажется, что я поехал гостить к Шарлотте» (Губер 1938: 478). Сравним
начало этого пассажа с оригиналом: «When I have a nightmare <...>». Большой
англо-русский словарь в двух томах под редакцией И.Р. Гальперина дает следующие значения
слова «nightmare»: «кошмар, страшный сон <...> (перен.) кошмар, ужас <...>, фольк.
Мара, ведьма, душащая спящих» (Гальперин 1975/2: 95). На первый взгляд кажется, что
Губер точен в своем переводе. Но учтем, что в батлеровском тексте существительное,
имея при себе неопределенный артикль, стоит в единственном числе. Отсюда следует,
что Эрнест говорит о некоем кошмарном видении, снящемся ему ночью. Указанное
существительное имеет при себе определение, выраженное прилагательным «bad»
(«плохой, дурной, скверный <...>, безнравственный <...>, испорченный <...>, неискренний,
нечестный <...>, неприятный, противный <...>». — Там же/1: 112). В каком отношении
определение уточняет определяемое слово? Скверный, дурной кошмар? Но скверен
всякий кошмар. А вот к толкованию существительного в последнем из приведенных
значений подойдут почти все значения прилагательного «bad». Такое понимание
сочетания «a bad nightmare» подходит и к общему контексту: именно как неискреннее,
дурное, скверное существо предстает Шарлотта внутреннему восприятию Эрнеста, никогда
не проявляющемуся наяву, но материализующемуся в кошмаре ночью. Зачин
рассматриваемого пассажа переводится: «Когда мне снится страшная ведьма...»
Эта неточность губеровского перевода, то есть неточно выбранное выражение («меня
давят кошмары»), обращает на себя внимание тем, что в ней можно уловить аспект,
запечатлевший судьбу переводчика. Последний документ, хранящийся в ЦГАЛИ,
озаглавлен: «В правление Ленотдела ССП». В нем перечисляются работы — и среди них
перевод «Пути всякой плоти», — которыми в тот момент был занят писатель. Документ
датирован первым марта 1937 года1. Губер был арестован позже. Но даже если допустить,
ЦГАЛИ. СПб. Фонд 371. Опись 2. Л. 19.
Первый русский перевод «Пути всякой плоти»...
403
что арест был внезапным и ему не предшествовал период предварительных допросов,
вся тогдашняя обстановка в нашей стране заставляла видеть кошмары не только во сне,
но и наяву. Трагические обстоятельства, сопровождавшие работу Губера над переводом
батлеровского романа, позволяют различить в выражении «меня ночью давят
кошмары» оттенок смысла, передающий душевное напряжение переводчика. Оно не могло не
сказаться на его работе. Губеровский перевод «Пути всякой плоти» неровен по своему
качеству. При всех своих несомненных и немалых литературных достоинствах он не
свободен от изъянов. Так, в описании свидания сына с умирающей матерью после его
рассказа о том, что он разбогател, с удивлением читаем: «На первых порах мать
начала немного брыкаться, узнав, что все деньги достались ему "через папину голову", как
она выразилась» (Губер 1938: 437). Поскольку, по Далю, «брыкаться» значит «лягаться,
т. е. лягать друг друга или бить ногами, лягать, брыкать» (Даль 1989/1: 132), а
Кристина, будучи смертельно больной, естественно, лежит в постели, у нас невольно
создается впечатление, что у нее начались конвульсии. Но ничего подобного нет в тексте
подлинника, где сказано: «His mother kicked a little at first against his money's having gone to
him, as she said, 'over his papa's head'». По-английски «kick against» значит «to defy, protest
about, resist, usualy in vain» (ODI 1978/1: 177), то есть «бросать вызов, возражать,
сопротивляться, обычно тщетно». Фразу следовало бы перевести: «На первых порах мать
начала слегка бунтовать против того, что деньги достались ему "через голову отца", как
она выразилась».
Не меньшее недоумение вызывают в губеровской передаче и слова Овертона,
сказанные по поводу грубого поведения Теобальда по отношению к Кристине: «Странно,
что тот самый человек, которого я доселе изображал столь робким и покладистым,
оказался таким татарином в первый день свадьбы» (Губер 1938: 96). Буквальный
перевод выражения «such a Tartar» (Butler 1973: 89) здесь неуместен: в английском языке у
этого слова помимо значения «татарин» имеется еще одно: «человек грубого,
необузданного нрава, вспыльчивый, раздражительный человек» (Гальперин 1975/2: 600). На него
и нужно было бы опираться.
Иногда Губер приносит точность перевода в жертву картинности выбранного им
русского выражения. Вот, например, его вариант характеристики, данной Овертоном
Теобальду в период ухаживания того за Кристиной: «Он был скрытен по натуре и
слишком напуган с ранних лет, чтобы стать на дыбы в любом вопросе, где был замешан его
отец» (Губер 1938: 86). Сопоставим этот перевод с тем, который делает А.В. Кунин: «Он
был скрытным по натуре, и его слишком уж подавляли с самого юного возраста,
чтобы он был способен браниться и давать выход своим чувствам» (Кунин 1956: 1015).
Второй перевод более адекватен батлеровскому тексту, чем первый: «Не was by nature
secretive and had been repressed too much and too early to be capable of railing or blowing
off steam where his father was concerned» (Butler 1973: 80). У Губера выпущено слово «rail»
(«ругаться, браниться»), которое он, вероятно, опускает, ибо для передачи соседнего
фразеологизма «to blow off steam» («выпускать пар, давать волю чувствам») он
применяет колоритное выражение «стать на дыбы», но оно содержит информацию лишь о
несогласии, протесте, противодействии, а не о выходе накопившейся эмоциональной
энергии наружу, не говоря уже о том, что стилистически оно плохо вписывается в
контекст (стать на дыбы в вопросе?). По этой же причине неудачен и еще один случай
аналогичного перевода: «<...> славного молодого человека заставить стать на дыбы
решительно невозможно» («one cannot blow off steam to a good young man»: 86/80).
Неубедителен перевод и в ряде других случаев: «harp on» («твердить одно и то же») как «завести
волынку о том, что <...>» (см.: Butler 1973: 446; ср.: Губер 1938: 401), «wind up» («закан-
404
И. И. Чекалов
чивать») как «поддать жару» (см.: Butler 1973: 84; ср.: Губер 1938: 78, — перевод
опирается на неверно выбранное значение слова), «prig» («педант, ханжа») как «фатишка» (см.:
Butler 1973: 45; ср.: Губер 1938: 45, — уменьшит, от «фат, самодовольный щеголь,
пустослов») и т. п.
На фоне многочисленных удач переводчика, мастера своего дела, недостатки и
стилистические просчеты его перевода, которые усугубляются произвольными купюрами
(они отмечены в примечаниях), вероятно, сделанными цензором в тексте, особенно
бросаются в глаза. Но если купюры являются прямыми следами той эпохи, в которую жил
Губер, то встречающиеся в переводе изъяны, разумеется, нельзя непременно объяснять
лишь трагическими обстоятельствами биографии переводчика. И все же в целом на его
переводе лежит печать времени. С момента выхода «Жизненного пути» прошло почти
семьдесят лет. Настал черед нового перевода «Пути всякой плоти».
IV
Отсутствие имени Губера на титульном листе книги, подготовленной им к
опубликованию, не привело к ее изъятию из продажи. На выход романа широко откликнулись
советские журналы, поместившие хвалебные рецензии. Среди рецензентов были такие
известные у нас ученые, как А.В. Федоров (1906—1997) и Б.Г. Реизов (1902—1981),
высоко оценившие Батлера как писателя-сатирика.
Советская критика 1930-х годов полностью игнорировала тот модернистский и
литературный контекст, в связи с которым «Путь всякой плоти» воспринимался на Западе.
Не упоминала она и о батлеровском витализме. Зато на первый план выдвигался
конфликт писателя с англиканской религиозной догмой, трактуемый как абсолютно
антирелигиозная позиция Батлера.
Тон последующим рецензиям был задан в самом предисловии к «Жизненному пути»:
Бетлер был из числа самых серьезных и, главное, самых активных воинствующих
безбожников, выдвинутых европейской художественной литературой конца XIX века <...>. Его
отточенная, как стилет, ирония обращена, по-видимому, только против англиканской
государственной церкви. Но в действительности смертоносное острие разит гораздо глубже и
преследует религиозно окрашенный идеализм в его самых последних, наиболее потаенных
убежищах (Губер 1938: 25).
Отсюда выводилась актуальность батлеровского романа «в борьбе с религией и
церковью» (там же: 28). Как подчеркивалось в предисловии,
«Путь всякой плоти» принадлежит к числу тех редких и драгоценных книг, которые
озонируют атмосферу <...>. Бытовые детали романа служат лишь обрамлением для дерзкого
и умного смеха, освобождающая сила которого не знает рубежей, проводимых эпохой,
национальностью или вероисповеданием (там же: 29).
А.С. Ромм в своей рецензии на публикацию «Жизненного пути», помещенной в
журнале «Резец», вторила губеровскому предисловию. Так же как Губер, она
останавливалась на антивикторианской направленности романа, который «сатирически
разоблачает лицемерие и фальшь буржуазного морального кодекса» (там же: 18), однако, как
подчеркивала она,
главным объектом негодующей сатиры Бетлера является христианская церковь.
«Жизненный путь» — это откровенно атеистическая, антирелигиозная книга. Христианская церковь
Первый русский перевод «Пути всякой плоти»...
405
в произведении Бетлера вырастает до размеров всеобъемлющего символа пошлости и
лицемерия буржуазной действительности. История Эрнеста Понтифекса — это история самого
Бетлера, порвавшего с церковью, так как пребывание в ее лоне открыло ему глаза на
обратную сторону служения ей. Буржуазная критика не простила Бетлеру его скептицизма.
Именно поэтому его имя до сих пор мало известно широким читательским массам (Резец
1939: 34).
Линию антирелигиозного прочтения «Пути всякой плоти», намеченную Губером,
продолжил в своей рецензии и Б. Реизов, стремившийся, так же как и автор
предисловия к батлеровскому роману, истолковать его в контексте французской литературы
XIX века. Имея в виду Эрнеста Понтифекса, рецензент утверждал:
Судьба юного английского пастора напоминает судьбу юного его современника
французского священника Фромана, героя «Трех городов» Золя. То же разочарование в теоретическом
учении христианства и его социальной практике, те же безнадежные попытки реформировать
церковь и, наконец, то же освобождение от всяких религиозных уз, отвержение всякой
религии и более или менее полное погружение в науку и природу (Реизов 1939: 274—275).
Несколько иначе построена рецензия Е. Лопыревой. Она сосредоточилась на
литературных особенностях батлеровского романа и, в частности, его психологизме.
Анализируя психологию персонажей «Жизненного пути», она тщательно избегала
малейшего намека на батлеровскую концепцию «бессознательной памяти», не говоря уже о
сопоставлении «Пути всякой плоти» с европейским фрейдистским романом. Тем не менее
она попыталась определить место Батлера в английской литературе начала XX века:
Оригинальность Бетлера среди английских реалистов сказывается в остром и точном
анализе поведения героя <...> Бетлер обыкновенно не ограничивается индивидуальной
психологией, а стремится дойти до объективных оснований <...> «Сага о Форсайтах» Голсуор-
си была бы невозможна без Бетлера <...>, в эстетах, мечтателях, путешественниках Олдинг-
тона нетрудно узнать собратьев Эрнеста Понтифекса (Лопырева 1940: 33—36).
Если для Е. Лопыревой Батлер во всех своих проявлениях «слишком англичанин»
(Лопырева 1940: 33), то А. Федоров, вслед за Губером и Реизовым, рассматривает его
творчество на фоне европейской литературы, но обращаясь при этом к традициям XVII
и XVIII веков. По А. Федорову, Батлер напоминает «французских и английских
писателей» этого периода с их стремлением к форме всеобъемлющего памфлета. «Путь
всякой плоти» занимает, полагает критик, особое место в творчестве Батлера, будучи
«романом без какой-либо стержневой интриги»1, «романом-хроникой». Поясняя
выражение, взятое писателем в качестве заголовка своего произведения, как «выражение,
заимствованное из псалма и окрашенное в тона церковно-библейские»2, А. Федоров
отмечает: «Выражение это легко можно было бы понять как синоним человеческой судьбы
вообще, судьбы всякого человека (выделено в тексте. — И.Ч.). Но такому пониманию
1 Ср. у Губера: «Имея за плечами литературную традицию, которая подняла плетение и
запутывание романической интриги до степени виртуозного мастерства, Бетлер решительно
отказался от этого <...> способа овладения вниманием читателя. У него нет ни экспозиции, ни нарастания
действия, ни кульминационного пункта, ни развязки <...>» (Губер 1938: 16).
2 Ср. у Губера: «В свете библейских реминисценций надо толковать и заглавие <...>. Это
выражение, заимствованное из псалма и повторяющееся в заупокойной службе англиканской
церкви, можно понять как «путь от рождения до смерти», т. е. синоним слова жизнь» (Губер 1938:
24).
406
И. И. Чекалов
этого выражения роман не соответствует», ибо «события у Бетлера развиваются все
время, как в документальной биографической книге, даже со ссылками на конкретные
даты». Подчеркивая автобиографический характер батлеровского романа, критик
вместе с тем обращает внимание на язык автора, в котором «элементы живой речи»
использованы «для того, чтобы пародировать стиль речи, стиль мышления, стиль поведения
его персонажа» (Федоров 1939: 267—277).
Хотя в рецензиях 30-х годов, данных на первый русский перевод «Пути всякой
плоти», затрагиваются разнообразные вопросы — композиция романа и роль в ней
сюжета, психологизм и автобиографичность авторского повествования,
историко-литературный контекст произведения и его влияние на соотношение традиции и новаторства,
особенности стиля писателя и преломление их в языке его персонажей, — в центре
внимания тогдашней советской критики находится проблематика романа Батлера,
связанная с антивикторианской направленностью его сатиры. В этой проблематике выделяются
два аспекта: отрицательное отношение Батлера к викторианской морали и его бунт
против англиканской догмы. И тот и другой тезис истолковываются с максимальной
широтой: неприятие Батлером викторианской морали означает критику им всякой
буржуазной морали, неприятие англиканской догмы — критику религии как таковой.
Отсюда выводится актуальность романа Батлера и важность использования его сатиры на
идеологическом фронте борьбы против Запада.
Подобный подход к творчеству писателя сохранялся у нас на протяжении всего
советского периода. Например, в одной из статей конца 1960-х годов, в которой
упоминается об «определенных закономерностях в обострении идеологической борьбы и
активизации модернизма», читаем:
Попытки представить Батлера — автора «Пути всякой плоти» — в качестве ближайшего
предшественника модернизма лишены сколько-нибудь серьезного основания.
Критик выражает возмущение попытками зарубежных исследователей
«провозгласить "Путь всякой плоти" религиозным романом». Так можно дойти до утверждения,
восклицает он,
что и гуманизм писателя также носит религиозный характер! И это — вопреки непреложным
фактам творческой биографии писателя, вопреки общепринятому мнению о смелости
антирелигиозной сатиры писателя в романе, вопреки сложившейся репутации Батлера-иконобор-
ца (Влодавская 1968: 220).
К печальным парадоксам советской действительности следует отнести то, что Губер
в этой статье по-прежнему фигурирует как безымянный автор «чрезвычайно
интересного предисловия к русскому изданию романа, вышедшему у нас в 1938 г.» (там же: 218),
а ведь он заложил краеугольный камень в ту интерпретацию творчества писателя,
которую отстаивает критик.
ПРИМЕЧАНИЯ
Настоящий комментарий имеет целью пояснить документально-автобиографические
моменты, отраженные в фабуле романа, а также встречающиеся в нем как
литературные, историко-культурные и иные реалии, так и аллюзии, цитаты, реминисценции.
Наибольший аллюзивно-цитатный пласт «Пути всякой плоти» восходит к
английскому переводу Библии (Authorized Version, 1611). Библейские аллюзии и цитаты
рассчитаны у Батлера на читателя, хорошо знакомого с их источником. Цитаты из Библии
часто никак не обособлены в тексте и на первый взгляд кажутся целиком слитыми с
ним, однако стилистическую экспрессию скрытым цитатам придает именно их неявный
характер, подразумеваемый ими подтекст. В наше время уже даже и английскому
читателю требуются здесь пояснения, тем более они необходимы читателю русскому.
В раскрытии библейских аллюзий и цитат настоящее издание полностью следует за
английскими комментаторами, в основном за Мейсоном (см.: Mason 1993). Отдельных
ссылок в данном случае не приводится.
Все библейские аллюзии и цитаты вновь сверены с их источником по изд.: The Holy
Bible. Oxford, 1867. Им найдены русские соответствия, к каковым и отсылается читатель.
В тех случаях, когда английский и русский переводы Библии сильно разнятся, ссылки
даются по английскому изданию, а при необходимости цитируется и сам текст,
сопровождаемый пояснениями.
По частоте аллюзий и цитат Шекспир занимает в романе второе место после
Библии. Батлер гораздо реже прибегает к прямому цитированию Шекспира, чем к таким
способам введения шекспировского слова, как скрытая цитата, реминисценция или
аллюзия. Иногда писатель вставляет шекспировское слово в мельчайшие единицы
своего текста, добиваясь того, что оно срастается с его собственным словом, становясь
неотличимым от авторского повествования.
При атрибуции шекспировских аллюзий и цитат были учтены чрезвычайно
полезные комментарии Мейсона и Робинсона (см.: Robinson 1978; Mason 1993). Они вошли в
круг материалов, на основе которых написаны и другие предлагаемые читателю
примечания. Последние снабжены ссылками на источники, относящиеся также и к
шекспировским цитатам и аллюзиям. Основные материалы, использованные при составлении
настоящего комментария, указаны в приводимом ниже перечне сокращений при
обозначении ссылок (цифра после именования сокращения указывает страницу источника).
Настоящий перевод осуществлен по изд.: Butler S. The Way of All Flesh, [s. 1.]:
Wordsworth Editions Ltd., 1994. (Wordsworth Classics).
408
Примечания
Глава 1
1 Цитата заключена в квадратные скобки, поскольку в той редакции романа, с
которой делался перевод, ее нет. Эпиграф восстановлен по авторской редакции романа (см.:
Howard 1964: 1). Эпиграф открывает собой библейский аллюзивно-цитатный пласт
романа. Библейский стих (Рим. 8: 28) приведен не совсем точно и не полностью. Ср. текст
русского и английского перевода Библии (расхождения с эпиграфом выделены
курсивом): «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все
содействует ко благу» / «And we know that all things work together for good to them that love God,
to them who are called according to his purpose».
Батлер часто пользовался этой цитатой по различным поводам (см.: Jones 1919/2: 15).
Так, в «Записных книжках» писателя ею подкреплено следующее его рассуждение:
«Любить Бога — значит обладать хорошим здоровьем, приятной внешностью, здравым
смыслом, жизненным опытом, добрым сердцем и изрядной денежной наличностью» (NB
1913: 33). Именно такой любовью к Богу наделяет Батлер своего героя в конце романа.
Подробней см. в наст. изд. статью «Самуэль Батлер и его восприятие интеллектуальной
"дарвиновской революции": от фантастико-сатирических произведений к роману "Путь
всякой плоти"». Ср.: Mason 1993: 433.
2 Пейлхэм. — Собственные имена в большинстве случаев имеют у Батлера
дополнительное значение и часто выражают авторскую иронию. Как отмечает Мейсон, батлеровский
топоним «Paleham» содержит намек на бледность, безжизненность, слабость (из-за
значения прилагательного «pale» — бледный), и такое же указание различимо в наименовании
«Langar» — прихода, священником которого был отец писателя (существительное «languop>
означает слабость, вялость, усталость, апатичность) (см.: Mason 1993: 417).
3 Понтифекс. — См. с. 385 наст. изд.
4 Монументальная женщина. — В оригинале употреблено слово «Gothic»
(«готический»). Согласно Робинсону, ссылающемуся на соответствующие пассажи батлеровских
«Записных книжек», здесь имеются в виду изображения женской фигуры на
средневековых надгробиях (см.: Robinson 1978: 433).
5 Не скажу, что рисовал мистер Понтифекс хорошо, но... удивительно, что он вообще это
делал. — Мейсон (см.: Mason 1993: 417) указывает на аллюзию, источником которой
служит юмористическое высказывание английского критика доктора Самуэля Джонсона
(1709—1784): «Сэр, женщина-проповедник напоминает собаку, ходящую на задних лапах.
Она не делает это хорошо, но удивительно, что она вообще это делает».
6 Pyrus japonica (букв.: японская груша; другое название — Chaenomeles japonica
(японская айва)) — небольшое декоративное дерево с плодами, по форме напоминающими
яблоки или груши.
7 ...иные... родятся тупыми... иные становятся тупыми... а в некоторых... тупость
вколачивают... — Шекспировская аллюзия (см.: Robinson 1978: 433). Старый Джон пародирует
слова Мальволио в «Двенадцатой ночи» (1602): «Одни рождаются великими, другие
достигают величия, к третьим оно нисходит» (акт П, сц. 5, ст. 160—163. Пер. Э. Липецкой).
8 Выставка в Королевской академии. — Речь идет о ежегодных выставках,
проводимых в Лондоне Королевской академией художеств, основанной в 1768 г. Работы Батлера
четырежды выставлялись на них.
9 Менуэт из «Самсона». — То есть из оратории Георга Фридриха Генделя (1685—1759)
«Самсон» (1743). Батлер считал творчество Генделя высшим достижением музыкального
искусства, в «Записных книжках» писателя выделен раздел, назьшающийся «Гендель и
музыка» (см.: NB 1913: 110—134). Также Генделю посвящены два батлеровских сонета
(см.: Ibid.: 397-398).
Примечания
409
В пассаже, вычеркнутом в авторской рукописи романа, Батлер так отразил свое
отношение к Генделю: «Старый Понтифекс испытывал чувство глубокого почтения к
Генделю, которого, направляясь в молодости в Дублин, видел собственными глазами и
для которого выполнял какое-то мелкое поручение; это обстоятельство, возможно,
усилило его восхищение Генделем, но, во всяком случае, старый Понтифекс в такой же
степени был убежден, что Гендель является величайшим композитором, как в том, что
Шекспир — величайший из поэтов. Я и сам ощутил силу музыки Генделя в очень
раннем возрасте, и, узнав об этом, старый Понтифекс стал теплее ко мне относиться, ибо
ничто так не трогает сердце поклонника Генделя, как истинная любовь ребенка к ген-
делевской музыке» (Howard 1964: 5, Зп).
10 Марш из «Сципиона» — марш из оперы Г.-Ф. Генделя «Сципион» (1726).
11 Джотто ди Бондоне (1266/67—1337) — итальянский художник, провозвестник
Возрождения; работал главным образом во Флоренции и Падуе. Прославленный
современниками, он был забыт в последующие века. Восстановлению его славы способствовал
английский критик Джон Рескин (1819—1900). Батлер также чрезвычайно высоко ценил
живопись Джотто (см.: NB 1913: 154).
12 Филиппо Липпи, фра (1406—1469) — флорентийский художник раннего
Возрождения, мастер многофигурной монументальной фрески.
13 ...из... фресок... в Падуе... — Имеются в виду росписи капеллы Скровеньи,
считающиеся главным произведением Джотто.
14 ...возможности Кромвеля... — Оливер Кромвель (1599—1658) — английский
политический и общественный деятель, вождь пуританской революции, лорд-протектор
Англии (1653—1658 гг.). В XIX в. был героизирован английским мыслителем Томасом Кар-
лейлем (1795—1881) как человек скромного происхождения, ставший одним из
созидателей человеческой истории и культуры. Эта оценка получила широкую известность в
Англии в XIX в.
Глава 2
1 ...в течение следующих пятнадцати лет жена так и не родила детей. — Библейская
аллюзия (см.: Быт. 18: 11—15).
2 Немезида — богиня возмездия в древнегреческой мифологии.
3 ...назвав Джорджем в честь царствовавшей тогда особы. — То есть английского
короля Георга III (1738—1820), который находился на престоле в 1760—1820 гг.
4 ...царей и советников земли. — Фраза из Библии (см.: Иов 3: 14).
5 Патерностер-роу — одна из улиц лондонского Сити (делового центра). В XVIII—
XIX вв. на ней размещалось множество издательских контор, специализировавшихся не
только на публикации книг религиозного содержания. Название старинной улицы (от
лат. Pater Noster — Отче наш, т. е. начальных слов молитвы) и соседство с улицей
Собора Св. Павла подчеркивают уместность расположения там издательства религиозной
литературы (см.: Mason 1993: 434).
вАлетея (от др.-греч. aletheia) — правда, истина. Это имя встречается в романе
Уильяма Теккерея (1811—1863) «Ньюкомы» (1853—1855). См. с. 385 наст, изд.; см. также
примеч. 3 к гл. 9.
Глава 3
1 Теобальд — германское имя, образовано из двух элементов: древневерхненемецких
слов «diot» («люди, народ») и «bald» («храбрый, смелый»).
410
Примечания
2 «Неуйдешь... буду мучишь». — Так, будучи ребенком, говорил своей няне Томас Бат-
лер, отец писателя (см.: Jones 1919/1: 20—21).
3 ...простую плиту с... эпитафией... — Данная эпитафия основана на той, которую
сочинил дед писателя в память о своем отце (см.: Jones 1919/1: 3).
Глава 4
1 ...произошла битва при Ватерлоо, а затем в Европе наступил мир. — 18 июня 1814 г.
армия Наполеона, бежавшего за три месяца до того из своей первой ссылки (на о-в
Эльба), была разгромлена в битве при Ватерлоо (Бельгия) войсками антинаполеоновской
коалиции под командованием герцога Веллингтона. Это положило конец власти императора
французов.
2 Мистер Джордж Понтифекс стал выезжать за границу. — Джордж Понтифекс
совершает путешествие по маршруту «большого тура», традиция которого начала
складываться в Англии еще в эпоху Возрождения (XVI в.), а к середине XVTQ в. получила
большое распространение среди состоятельных англичан. Подобные путешествия
часто изображались в английской литературе.
3 Монблан — самый высокий пик в Альпах.
4 ...«смутно различимого вдали»... — Возможно, парафраз знаменитого изречения
Т. Карлейля из его эссе «Знамения времени» (1829): «Наша великая задача,
несомненно, заключается не в том, чтобы различить то, что смутно виднеется вдали, но
совершить то, что явственно находится в пределах досягаемости» (Carlyle 1872: 230).
5 Шамони — селение, расположенное в одноименной альпийской горной долине к югу
от Монблана.
6 Монтанвер — альпийский курорт, излюбленное место отдыха английских туристов.
7 Мер-де-Глас — ледник в Альпах.
8 Большой Сен-Бернар — горный перевал между юго-западной Швейцарией и
северозападной Италией в Пеннинских Альпах.
9 ...ночую в монастыре и занимаю постель, на которой спал сам Наполеон... — В 1810 г.
французская армия во главе с Наполеоном прошла через перевал Большой Сен-Бернар.
Монахи обосновались на этом перевале еще в сердние века, давая ночлег паломникам,
направлявшимся в Рим; впоследствии гостиница обслуживала всех путешественников
(см.: Howard 1964: 15, Зп).
10 Галерея Уффици — первый художественный музей Европы, основан в 1582 г.,
находится в итальянском городе Флоренция.
11 «Трибуна» — небольшой восьмиугольный зал в галерее Уффици, где
экспонируются полотна итальянских художников Возрождения и античные статуи. С течением
столетий зал изменял свой вид, менялись и названия статуй. В тексте Батлера одна и та
же скульптура имеет два названия — «Лазутчик» и «Раб, точащий нож». «Венера
Медичи» (Медицейская), «Танцующий фавн», «Юный Аполлон» также находятся в
«Трибуне».
12 «Ааокоон» — античная скульптурная группа, изображающая предсмертные муки
троянского жреца Лаокоона и его двух сыновей; хранится в музеях Ватикана.
13 «Аполлон Белъведерский» — античная бронзовая скульптура; хранится в музеях
Ватикана.
14 «Святой Иоанн» Рафаэля. — Полное название картины итальянского художника
Рафаэля Санти (1483—1520) — «Св. Иоанн Креститель в пустыне» (ок. 1518—1520);
хранится в «Трибуне» с 1589 г.
Примечания
411
15 Микеланджело Буонарроти (1475—1564) — великий итальянский скульптор,
живописец, архитектор и поэт Высокого Возрождения.
16 Обратимся к Мендельсону. — Батлер не принимал все развитие музыки после
Генделя (см.: Jones 1919/1: 50—51), отсюда его отрицательное отношение к немецкому
композитору-романтику Феликсу Мендельсону-Бартольди (1809—1847).
17 «И вот я пошел в "Трибуну"». — Как указывает Мейсон, Батлер пользуется здесь
английским переводом книги Мендельсона «Письма из Италии и Швейцарии» (см.:
Mason 1993: 435).
18 «Мадонна со щегленком» (ок. 1506) — картина Рафаэля, хранится в галерее
Уффици с 1666 г.
19 «Папа Юлий II» — портрет Папы Юлия II (1503—1513 гг.) кисти Рафаэля;
хранится в галерее Уффици.
20 ...женский портрет кисти Рафаэля... — Галерея Уффици обладает целой
коллекцией женских портретов, выполненных Рафаэлем.
21 «Святое семейство» Перуджино — картина итальянского художника раннего
Возрождения Пьетро Перуджино (1446—1523), находится в галерее Уффици.
22 «Венера» Тициана. — У итальянского художника Тициана Вечеллио (1477—1576)
имеется не одна картина на этот сюжет. Здесь речь идет о «Венере Урбинской»,
хранящейся в галерее Уффици.
23 Доменикино Цампьери (1581—1641) — итальянский художник, представитель болон-
ской школы. Автор картин и фресок на религиозные и мифологические сюжеты, а
также портретов и пейзажей.
24 Сассоферрато. — Таким именем подписывал свои картины итальянский художник
Джамбаттиста Сальви (1605—1685).
25 Карло Дольни (1616—1681)— итальянский художник. Упомянутые в тексте картины
Сассоферрато (см. примеч. 24) и Дольчи висели в гостиной лангарского дома Томаса
Батлера. Эти же полотна изображены на картине С. Батлера «Семейная молитва» (1864).
2Ь Великий герцог. — Имеется в виду Фердинанд Ш, великий герцог Тосканский (1769—
1824).
Глава 5
1 «Nos te, nos facimus, Fortuna, deaml» — воскликнул поэт. — В усеченном виде Батлер
цитирует две заключительные строки десятой сатиры древнеримского поэта Децима
Юния Ювенала (ок. 60—140 н. э.):
nullum numen habes, si sit prudentia: nos te,
nos facimus, Fortuna, deam caeloque locamus.
Нету богов y тебя, коль есть разум; мы сами, Фортуна,
Чтим тебя божеством, помещая в обители неба.
[Ювенал. Сатиры. X. 365—366.
Пер. Д. Недовича и Ф. Петровского)
2 С детьми и деньгами — это как с Богом и маммоной. — Имеется в виду евангельское
изречение: «Не можете служить Богу и маммоне» (Мф. 6: 24). Маммона — божество
богатства и наживы у древних сирийцев; в христианских текстах Маммона — символ
стяжательства, алчности и чревоугодия. В «Записных книжках» Батлер часто
обращается к этой библейской теме. «Легко вредным писателям утверждать, — пишет он, напри-
412
Примечания
мер, — что нельзя служить Богу и маммоне. Вполне допускаю, что это трудно, но ведь
как раз и всегда трудно осуществить то, что стоит осуществить» (NB 1913: 24).
3 Маколей Томас Бабиштон (1800—1859) — английский историк, критик и
политический деятель.
4 У лорда Маколея есть пассаж... — Третий абзац в эссе Маколея «Лорд Бэкон» (1837);
см.: Mason 1993: 436.
5 Платон (427/428—347 до н. э.) — великий древнегреческий философ,
основоположник античного идеализма. Автор диалогов и речи «Апология Сократа». В пользу
цитируемых Батлером слов Маколея о том, что «Платон никогда не бывает угрюм» [пер.
П. К. Губера) говорит, например, следующее высказывание философа: «Каждый
человек, взрослый или ребенок, свободный или раб, мужчина или женщина, словом, все
целиком государство должно беспрерывно петь самому себе очаровывающие песни, в
которых будут выражены все те положения, которые мы разбирали. Они должны и так
и этак постоянно изменять и разнообразить песни, чтобы поющие испытывали
наслаждение и ненасытную какую-то страсть к песнопениям» [Платон. Законы. II. 665. Пер.
А.Н. Егунова).
в Сервантес Сааведра Мигель де (1547—1616) — выдающийся испанский писатель.
Его литературное наследие разнообразно. Главное сочинение — роман «Хитроумный
идальго Дон-Кихот Ламанчский». Первая часть «Дон-Кихота» была издана в 1605 г.
Она имела успех и была переведена на несколько европейских языков. В 1614 г.
появилось поддельное продолжение романа, сочинитель которого укрылся под псевдонимом.
В ответ Сервантес в 1615 г. опубликовал истинное продолжение своего произведения —
вторую часть «Дон-Кихота». Цитируемый Батлером Маколей имеет в виду, вероятно,
следующую фразу из пролога к сервантесовской второй части романа: «Бог мой, с
каким, должно быть, любопытством ждешь ты <...> читатель, этот пролог, думая найти
в нем угрозы, брань и отповедь автору второго "Дон-Кихота" <...>! Но, право же, я
лишу тебя этого удовольствия; ибо хотя обиды рождают гнев в самых кротких
сердцах, мое сердце в этом отношении представляет исключение» (пер. под ред. Б. А. Кржев-
скогоиА.А. Смирнова).
7 Демосфен (385?—322 до н. э.) — выдающийся афинский оратор и государственный
деятель. Боролся за независимость Греции, выступал против македонской экспансии,
после покорения Греции Македонией принял яд. По античным представлениям, он был
«образцом для ораторов» (Плиний Младший. Письма. IX. 23. 38. Пер. М.Е. Сергиенко и
А. И. Доватура).
8 Данте Алигьери (1265—1321) — великий итальянский поэт, автор проникнутой
христианским духом поэмы «Божественная комедия», а также таких произведений, как
«Новая жизнь», «Пир» и др. «Божественная комедия» принадлежит к вершинам
европейской культуры. Многостороннее творчество Данте, поэта, прозаика, моралиста,
мыслителя,, проложило путь дальнейшему развитию итальянской литературы. Он
разработал принципы итальянского литературного языка, положил начало новым
литературным жанрам. В цитируемом Батлером пассаже Маколея имеется в виду
драматический эпизод биографии поэта, когда он, будучи несправедливо обвинен и осужден в
своем родном городе Флоренции, был вынужден покинуть его (1302 г.) и скитаться по
городам Италии.
9 Цицерон Марк Туллий (106—43 до н. э.) — выдающийся древнеримский оратор,
писатель и политический деятель. Создатель римской классической прозы, один из
образованнейших людей своего времени, Цицерон как политик не отличался
дальновидностью и в государственной деятельности был неудачлив. Маколей, вероятно, имеет в виду
неустойчивость политической ориентации Цицерона.
Примечания
413
10 Боссюэ Жак Бенинь (1627—1704) — французский епископ и проповедник; историк,
оратор; член Французской академии (1671 г.).
11 Тип жестокого отца, описанный Филдингом, Ричардсоном, Смоллеттом и
Шериданом... — Судя по перечисленным в тексте именам английских писателей — Генри Фил-
динга (1707—1754), Сэмюэля Ричардсона (1689—1761), Тобайаса Смоллетта (1721—1771)
и Ричарда Бринсли Шеридана (1751—1816), здесь идет речь о таких персонажах
английской просветительской литературы XVIII в., как эсквайр Вестерн, отец Софьи Вестерн,
героини филдинговской «Истории Тома Джонса, найденыша» (1749); мистер Гарлоу,
отец Клариссы Гарлоу, героини романа Ричардсона «Кларисса Гарлоу» (1747—1748); дед
Родрика Рэндома, героя романа Смоллетта «Родрик Рэндом» (1748); сэр Энтони
Абсолют, отец капитана Джека Абсолюта, героя пьесы Шеридана «Соперники» (1775).
12 Родители в романах мисс Остин менее похожи на... диких зверей, чем персонажи ее
предшественников... — По сравнению со своими предшественниками — английскими
романистами XVIII в. — Джейн Остин (1775—1817) отличается сдержанностью манеры
повествования. Среди остиновских персонажей имеется целая галерея иронически
изображенных образов родителей главных героев.
13 ...она явно смотрит на них с подозрением... — Примером такого персонажа в
изображении Остин может служить генерал Тилни в романе писательницы «Нортенгерское
аббатство» (1818).
14 Елизаветинская эпоха — период царствования английской королевы Елизаветы I
(1533—1603), на которое (1558—1603 гг.) пришелся расцвет английского Возрождения.
15 В елизаветинскую эпоху отношения между родителями и детьми... были мягче. —
Согласно ренессансным представлениям, отношения между родителями и детьми,
будучи составной частью семейных отношений, естественны лишь настолько, насколько
гармоничны, т. е. насколько соответствуют иерархической упорядоченности единой
«цепи бытия», где каждому существу отведено строго определенное место в природе.
Дисгармония семейных отношений, таким образом, противоестественна и ведет к
трагическим конфликтам.
1(i У Шекспира отцы и сыновья... оказываются друзьями... — Привязанность друг к
другу отца и сына героизирована Шекспиром в первой части хроники «Генрих VI» (1590)
и некоторых других пьесах.
17 Еврейские идеалы. — Имеются в виду добродетели, изображенные в разных книгах
Ветхого Завета. См. также примеч. 18.
18 Авраам, Иеффай и Попадав, сын Рехава. — Имеются в виду библейские рассказы об
Аврааме и его сыне Исааке (см.: Быт. 22: 1—10), Иеффае и его дочери (см.: Суд. 11: 30—
40), Ионадаве и его сыновьях (см.: Иер. 35: 6—10).
19 Пеан — торжественный гимн (первоначально обращенный к древнегреческому богу
Аполлону).
20 Иеремиада — жалоба, сетование (по имени библейского пророка Иеремии).
21 ...злоупотребления во все времена нуждаются в авторитетном покровительстве. — Как
указывает Мейсон, эта фраза почти полностью воспроизводит слова Фальстафа в
первой части «Генриха IV» (см.: Mason 1993: 436). Ср. у Шекспира: «...the poor abuses of the
time want countenance» (акт I, сц. 2, ст. 146) и у Батлера: «...the poor abuses of all times want
countenance».
22 «Пожалеешь розгу — испортишь ребенка» — английская пословица, восходит к
Библии (см.: Притч. 13: 24).
23 ...апостол Павел причислял неповиновение родителям к числу наихудших грехов. — См.:
Рим. 1: 30.
414
Примечания
24 ...как раз наши мало осознаваемые мысли... оказывают решающее воздействие на
нашу жизнь... — Имеется в виду теория «бессознательной памяти» Батлера (см. с. 342
наст. изд.).
Глава б
1 Доктор Арнольд. — Имеется в виду Томас Арнольд (1795—1842), священник
Англиканской церкви, историк, педагог, с 1827 по 1842 г. директор знаменитой школы в Рэг-
6и. Арнольд проповедовал своим ученикам, по выражению эссеиста Литтона Стрэчи
(1860—1932), автора книги «Выдающиеся викторианцы» (1918), о «мраке зла» и
«наказании тем, кто отступает от прямого пути».
2 ...у детей на зубах будет оскомина оттого, что отцы ели кислый виноград. —
Библейская аллюзия (см.: Иез. 18: 2).
3 ..„молодые люди должны помнить, что... были... частью своих родителей и... получили
добрую долю удовольствий. — В этом пассаже Батлер устами Овертона излагает одну из
своих эволюционистских идей (см. с. 342—344 наст. изд.).
4 Духовная сера и патока. — «Сера и патока» (brimstone and treacle) — название
слабительного, ставшее в английском языке нарицательным благодаря роману Чарлза
Диккенса (1812—1870) «Николас Никлби» (1838—1839), в котором это вызывающее
мучения лечебное средство упоминается при описании жестокого обращения с детьми в
учебном заведении Сквирса. Как отмечает Мейсон, Батлер, обыгрывая это выражение,
расширяет его смысл: «духовная сера и патока» подразумевает душеспасительные
пуританские проповеди с угрозами адских мучений за грехи (см.: Mason 1993: 437).
5 ...воскресных проповедей... епископа Винчестерского. — Имеется в виду адресованная
детям книга «Воскресные рассказы» (1840) епископа Самуэля Уилберфорса (1805—1873).
6 Фонтенель Бернар Ле Бовье де (1657—1757) — французский писатель,
предвосхитивший некоторые идеи энциклопедистов; в преклонные годы отличался бодростью.
7 Доктор Джонсон — Саму эль Джонсон (1709—1784), выдающийся английский
лексикограф, поэт, критик, эссеист, биограф.
8 Дамоклов меч. — Согласно древнегреческому преданию, сиракузский тиран
Дионисий Старший посадил на свое место завидовавшего ему Дамокла и повесил над ним меч,
державшийся на конском волосе. Выражение стало нарицательным, означая
постоянно грозящую опасность.
Глава 7
1 ...осла, согнувшегося под тяжестью двух нош. — Библейская цитата, выявляется
только из сопоставления английских текстов. Ср. у Батлера: «an ass crouched between two
burdens» и в Библии: «a strong ass couching down between two burdens» (Быт. 49: 14; в рус.
пер.: «осел крепкий, лежащий между протоками вод»). В первом, «батлеровском»,
варианте романа библейская цитата менее очевидна из-за употребления в этой фразе
вместо предлога «between» (между) предлога «beneath» (под) — более подходящего по
смыслу, но уводящего от библейского текста (ср.: Howard 1964: 29; см.: Mason 1993: 438).
2 Катехизис — краткое изложение христианского вероучения в форме вопросов и
ответов. Согласно установлениям Англиканской церкви, должен быть изучен ребенком
перед обрядом конфирмации, т. е. протестантским обрядом приобщения к Церкви
юношей и девушек в возрасте 14—16 лет.
Примечания
415
Глава 8
1 Малые кембриджские колледжи. — Назывались так из-за малого числа учившихся в
них студентов (см.: Губер 1938: 481). Были более привилегированными, чем остальные.
Плата за обучение в таких колледжах была выше.
2 Бэкон Фрэнсис (1561—1626) — английский философ и государственный деятель,
лорд-канцлер Англии (1618—1621 гг.).
3 Вот эти письма... — В основе их текста — подлинная переписка Батлера с отцом (см.:
Jones 1919/1: 24).
4 Тридцать девять догматов — свод доктринальных положений, выражающих единую
точку зрения Англиканской церкви в вопросах веры.
5 Пейли Уильям (1743—1805) — англиканский священник и богослов. Подробнее см.
с. 332—333 наст. изд.
6 ..^молитвой сотворено больше дел, чем этому миру может присниться... —
Прозаическое переложение строк из стихотворения английского поэта Альфреда Теннисона
(1809—1892) «Смерть Артура» (1842), входящего в цикл «Королевские идиллии» (1859):
«Молитвою достигнуть можно больше, / Чем целый мир способен возмечтать» [пер.
Г. Бена).
Глава 9
1 Отказавшись от членства в совете колледжа, он женился... — До 1877 г. в Англии
членам совета университетских колледжей не разрешалось вступать в брак (см.:
Robinson 1978: 420).
2 ...этот Пексниф Бэкон... — Выпад против Фрэнсиса Бэкона. Батлер уподобляет
философа диккенсовскому персонажу Сету Пекснифу из романа «Жизнь и
приключения Мартина Чэзлвита» (1843): архитектор Пексниф выдает работы своих студентов за
собственные; он нравственно нечистоплотен и во многих других отношениях, являя
собой образчик ханжества и лицемерия. В «Жизни и привычке» также содержится
отрицательная оценка Бэкона (см.: Life and Habit 1878: 27—28).
3 Широкое евангелическое движение. — Имеется в виду подъем евангелического
движения в Англии 1820-х годов, одним из центров которого был Кембридж (см.: Hoggart 1973:
434). Евангелическое протестантское движение сформировалось в Англии в 1730-е годы.
Его сторонники подчеркивали важность индивидуального жизненного опыта в
осознании страданий Христа за греховность человека и видели возможность усиления
нравственного авторитета Церкви в расширении ее практической благотворительности и
миссионерства. Заметный вклад в распространение идей евангелизма внесла
проповедническая деятельность Джорджа Уайтфилда (1714—1770) и Джона Уэсли (1707—1791).
Увлечение идеями евангелизма сатирически изображено У. Теккереем в образе Софьи
Алетеи Ньюком.
Глава 10
1 ...проповедью, темой которой была геология... — Указанная область знания была в
описываемую Батлером эпоху богословски актуальной темой. Успехи геологии во
Франции и Англии на рубеже XVIII—XIX вв. обострили интерес христианских богословов к
креационизму. Публикация книги Чарлза Лайелла (1797—1875) «Принципы геологии»
(1830—1833), в которой было показано, что факторы, приводящие к изменению земной
416
Примечания
коры, по-прежнему являются действующими, заставила образованных англичан
задуматься над библейскими представлениями об истории земли (см.: Hoggart 1973: 434-^35).
2 ...подобно тому расслабленному у целебного источника Вифезда. — Библейская аллюзия
(см.: Ин. 5: 2-9.).
3 ...сыгратьроль Гамлета в отношениях с женщинами... — Имеется в виду мизогиния
Гамлета в одноименной трагедии Шекспира (1600).
4 ...роль эта была... основательно сокращена в издании пьесы, в которой Теобальду
требовалось играть... — Намек на издательскую деятельность англиканского священника
Томаса Баудлера (1754—1825), сокращавшего тексты шекспировских пьес в соответствии
со своими представлениями о нравственности.
5 ...чей образ действий отличен от его образа действий и чьи мысли отличны от его
мыслей. — Библейская аллюзия (см.: Ис. 55: 8).
Глава 11
1 Кристина (или Христина; ранее — Кристиана или Христиана). — Имя образовано
от лат. christianus, a, urn [др.-греч. christianos) — христианский, христианин,
принадлежащий Христу. Это имя носит жена Христиана, героя произведения Джона Беньяна (1628—
1688) «Путь паломника» (1678). Как указывает Мейсон, на одной из стадий создания
романа батлеровский герой имел то же имя, что и герой Беньяна (см.: Mason 1993: 446).
2 ...не был... идеалом, о котором она грезила, читая Байрона... — Джордж Гордон
Байрон (1788—1824) — выдающийся английский поэт. Кристина отдает дань байронизму,
утвердившемуся в Англии после смерти поэта.
3 «Вечно прекрасные и чистые ангелы» — ария из оратории Г.-Ф. Генделя «Теодора» (1749).
4 Доктор Кларк. — Имеется в виду Джон Кларк-Уитфелд (1770—1836), органист,
хормейстер и профессор музыки в Кембридже с 1799 по 1836 г. (см.: Mason 1993: 440).
5 «Лталанта» — опера Г.-Ф. Генделя (1736).
6 ...в аранжировке Маццинги. — Джозеф Маццинги (1769—1844) — плодовитый
английский композитор итальянского происхождения; аранжировал музыку Г.-Ф. Генделя для
домашнего, любительского исполнения.
7 ...натянул струну своей решимости... — Шекспировская аллюзия (см.: Robinson 1978:
421). В трагедии «Макбет» (1616) леди Макбет, склоняя мужа к убийству Дункана,
говорит: «Лишь натяни решимость как струну, — / И выйдет все» (акт I, сц. 7, ст. 60—61.
Пер. Ю. Корнеева).
8 Миссолунги (Миссолонги) — город на западном побережье Греции, где скончался
Байрон.
9 ...Кристина... не могла... слышать название «Миссолунги», без того чтобы не
разразиться рыданиями. — Батлер занес в свои «Записные книжки» рассказ о подобном эпизоде,
взятом из реальной жизни (см.: NB 1913: 244).
Глава 12
1 ...она принялась за Католическую Церковь — врага более опасного... чем само
язычество. — Политическая опасность католичества для протестантской Англии на тот момент
давно утратила свою остроту. В 1829 г. английский парламент принял закон, снимавший
все ограничения на политические права в отношении католиков. Однако Кристину
волнует усиление влияния католичества на Англиканскую церковь. См. след. примеч. и
примеч. 6 к гл. 47.
Примечания
All
2 ...Католическая Церковь... тогда вела себя довольно смирно, но то было затишье перед
бурей... — Указание текста на время описываемых событий: в 1833 г. началось
«Оксфордское движение» (см. также примеч. 6 к гл. 47).
3 О такой жизни и станем молить Бога... — Библейская аллюзия (см.: Кол. 4: 2—3).
4 ...до последнего часа. — Библейская аллюзия (см.: Мк 13: 33.).
5 Маммона праведности. — Ср. в английском переводе Библии выражение «маммо-
на неправедности» («the mammon of unrighteousness»; в русском переводе Библии:
«богатство неправедное», Лк. 16: 9); ср. также примеч. 2 к гл. 5.
Глава 13
1 ...от церкви Святого Георгия... на Ганновер-сквер. — Имеется в виду церковь в
аристократическом районе Лондона, где в описываемый в романе период было модно
совершать обряд бракосочетания (см.: Robinson 1978: 421).
2 Ньюгейтская тюрьма. — Вплоть до 1868 г. возле лондонской Ньюгейтской тюрьмы,
где имелись камеры смертников, совершались публичные казни. Тюрьма, закрытая в
1880 г. и снесенная в 1903—1904 гг., неоднократно была предметом описания и местом
действия в романах Диккенса и других английских писателей XVIII—XIX вв.
3 ...купит прозаические сочинения Мильтона и прочитает его трактат о разводе. —
Очевидно, имеется в виду первый и наиболее известный из четырех трактатов
английского поэта Джона Мильтона (1608—1674) о разводе: «Доктрина и дисциплина развода»
(1643/1644), написанный под непосредственным впечатлением от конфликта с женой и
ее отъезда из дома. Мильтон отстаивает мысль о том, что принудительное ярмо брака
без любви является преступлением против человеческого достоинства.
4 Согласно старой пословице, Теобальд убил кошку в самом начале. — О какой
пословице идет речь, не установлено (см.: Mason 1993: 440).
' ...если бы Кристина была цесаркой и распустила перья, демонстрируя готовность к
отпору... — Как отмечает Мейсон (см.: Mason 1993: 440), здесь обыгрываются слова
Фальстафа о Пистоле во второй части хроники «Генрих IV»: «Он даже цесарки не обидит,
если она взъерошит перья и станет защищаться» (акт П, сц. 4, ст. 92—93. Пер. Е. Биру-
ковой, исправлен).
Глава 14
1 Бэттерсби-Хилл. — Букв.: «Бэттерсби, что на холме». Топоним «Battersby»
образован писателем от глагола «to batter» — бить, дубасить, колошматить. В черновых
набросках деревня называлась Батер-Бридж (Bather Bridge), и в таком топониме содержалось
указание на автобиографический материал романа — фамилию тетки Батлера со
стороны отца и фамилию друга детства писателя (Bather) (см.: Howard 1964: 54, 2п).
2 Он бьи первым по классическим языкам и математике. — То есть с отличием сдал
экзамены по этим предметам в Кембридже.
3 Гораций — Квинт Гораций Флакк (65—8 до н. э.), вьвдающийся древнеримский поэт.
4 Август — Гай Юлий Цезарь Октавиан, Август Цезарь (63 до н. э. — 14 н. э.), первый
римский император (правил с 27 до н. э.), реформатор и покровитель литературы и
искусств.
5 Константин — Флавий Валерий Аврелий Константин (288?—337), римский
император (с 324 г.), легализовал христианство, провозгласил Константинополь столицей
своей империи.
418
Примечания
6 ...чувствовал... Нееман, когда призван был сопровождать своего господина, возвратясъ
после излечения от проказы. — Как рассказывается в Библии, Елисей, «человек Божий»,
излечил Неемана от проказы, обратив того в свою веру. После этого Нееман,
военачальник царя Сирии, должен был сопровождать своего повелителя-язычника в языческий
храм (см.: 4 Цар. 5: 14—19).
7 ...французских крестьян дореволюционной поры, как они описаны Карлейлем... —
Имеется в виду описание положения крестьян до Французской революции 1789 г., данное
английским публицистом, историком и писателем Томасом Карлейлем в его книге
«Французская революция. История» (1837).
8 ..„мелодию, написанную Генделем на стихи «Деревенский парень всегда под рукой». —
Упоминаемая здесь мелодия является частью музыкальной композиции Г.-Ф. Генделя
на слова пасторальной поэмы Мильтона «Веселый» (1631?).
9 Церковь Святых Джованни и Паоло в Венеции. — Церковь Свв. Иоанна и Павла,
образец венецианской готики (ХШ—XV вв.), расположена на одной из самых красивых
площадей Венеции; служила усыпальницей дожей.
10 Уэслианская симфония. — То есть симфония на темы методистских гимнов. Названа
по имени проповедника Дж. Уэсли (1707—1791).
11 ...подобные... скорбным созданиям у Иезекииля... — Библейская аллюзия (см.: Иез. 1: 24;
3: 13). Однако, как указывают комментаторы, выражение «скорбные создания» взято из
«Книги пророка Исайи» (Ис. 13: 21, только английский текст) (см.: Mason 1993: 441;
Robinson 1978: 422).
12 ...ревущего быка васанского... — См.: Пс. 21: 13.
13 ...они исполняли канты... — Мейсон поясняет, что здесь речь идет о все больше
укоренявшейся в англиканских приходских церквах XIX в. практике, ориентированной
на католическую службу, когда молитвы, ранее только произносившиеся, стали кантами
(см.: Mason 1993: 440-441).
14 «Гимны древние и новые» — сборник церковных песнопений, выпущенный в 1861 г.
сторонниками «Оксфордского движения» (см.: Mason 1993: 442; см. также примеч. 6 к гл. 47).
15 ...канты... в самом строгом соответствии с правилами церковных песнопений. — То
есть те гимны, которые обычно поются во время англиканской службы.
16 ...напоминать людям о высотах... — Библейская аллюзия: в Библии слово «высоты»
употребляется для обозначения мест языческого идолопоклонства (см., напр.: 4 Цар. 23: 8;
2 Пар. 17: 6).
17 Диссентеры (англ. dissenters, от лат. dissentio — не соглашаюсь) — одно из названий
членов протестантских сект, отделившихся от господствующей Церкви в Англии в XVI—
XVII вв.
18 Песни Сиона — литургические песни, основанные на тексте Священного Писания.
В иудейской традиции восходят к поэту Иегуде Галеви (1075—1141) и составляют целый
жанр поэзии (так наз. «сиониды»). В еврейских песнях Сиона выражается вера в
Мессию, надежда на возвращение в Обетованную землю, оплакивается горькая участь
народа-скитальца, вспоминаются события национальной истории.
Глава 15
1 ...о временах былых войн... — То есть о временах наполеоновских войн.
2 ...если даже будут они как багряное, как снег у белятся. — Библейская аллюзия. В
Книге пророка Исайи говорится: «Если будут грехи ваши, как багряное, — как снег
убелю...» Ис. 1: 18).
Примечания
419
Глава 16
1 И между ним и ими утверждена великая пропасть. — Слегка измененная цитата из
Библии. Ср.: Евангелие от Луки (Лк. 16: 26): «...между нами и вами утверждена
великая пропасть» [англ.: «...between us and you there is a great gulf fixed»); Батлер: «...between
him and them there is a great gulf fixed».
2 ...цитаты из Мида [единственного человека... постигшего Книгу Откровения)... —
Комментарии Джозефа Мида (1586—1638) к Откровению Иоанна Богослова,
заключительной книге Нового Завета, считались в XIX в. образцовыми в традиции англиканского
богословия.
3 Патрик Симон (1626—1707) — один из англиканских комментаторов Ветхого Завета.
4 ...поэтом Поупом, сказавшим, что «величайшее несчастье для человечества есть
человек»... — Имеется в виду Александр Поуп (1688—1744), английский поэт, автор филосос]>
ско-дидактической поэмы «Опыт о человеке» (1734). Один из афоризмов этой поэмы
гласит: «Истинный предмет изучения человечества есть человек» (П. 2), или, в
стихотворном переводе В. Микушевича: «На самого себя направь ты взгляд». Батлер
переиначивает этот афоризм (см.: Mason 1993: 442; Robinson 1978: 422).
5 ...любить своего мужа, почитать его и заботиться о его хорошем настроении. - Две
первые обязанности входят в торжественный обет, даваемый женщиной при бракосочетании
по англиканскому обряду, окончание фразы принадлежит Батлеру (см.: Mason 1993: 442).
6 ...по вине Елизаветы... жена епископа не получает статуса своего мужа. — Епископы
в Англии обладают статусом лордов. Елизавета I не пожаловала соответствующего
статуса их женам, полагая, что англиканские епископы, так же как и католические,
должны соблюдать обет безбрачия.
7 ...сатана не падет поверженный под стопу ее. — Парафраз библейского изречения (ср.:
Рим. 16: 20).
8 Святой Павел и Иерусалимская церковь настоятельно требовали, чтобы...
новообращенные язычники воздерживались от употребления в пищу удушенных тварей и крови... —
См.: Деян. 21: 25.
Глава 17
1 ...вода из Иордана. — То есть из реки Иордан в Палестине, где разворачивались
евангельские события. Епископ Самуэль Батлер крестил своего внука именно водой из
Иордана (см.: Jones 1919/1: 18).
Глава 18
1 ...в пользу имени Эрнест. Слово только начинало входить в моду... — Имя Ernest
германского происхождения. В английском языке оно совпадает в произношении с
прилагательным «earnest» (серьезный) и восходит к одному с ним древневерхненемецкому
слову «eornust» (серьезность, усердие, рвение). В середине XIX в. прилагательное
«earnest» стало теснить свой синоним «serious» (что подтверждается примерами,
приводимыми в Оксфордском словаре английского языка). Отрицательно относясь к данной
языковой тенденции, Батлер высмеял ее в «Жизни и привычке» (см.: Life and Habit
1878: 28), а некоторые свои язвительные памфлеты подписывал псевдонимом
«Серьезный священник» (см.: Mason 1993: 443). В конце века подобную же языковую новацию
обыграл О. Уайльд (1854—1900) в одной из своих пьес, название которой может быть по-
420
Примечания
нято двояко: «Как важно быть серьезным» и «Как важно быть Эрнестом» (The
Importance of Being Earnest, 1893).
2 Звезда Вифлеема. — См.: Мф. 2: 2.
3 Шишка благоволения. — Здесь имеет место юмористическое использование
френологического представления о том, что форма человеческого черепа связана с психикой.
4 ...в деле супружества они как ангелы на невесах... — Библейская аллюзия (см.: Мф. 22: 30;
Мк. 12: 25).
5 «Ныне он почиет... Каким человеком он был, тот день покажет». — Эпитафия на
могиле прапрадеда Батлера (см.: Hoggart 1973: 436).
Глава 19
1 ...праведники «не терпят нужды ни в каком благе». — Цитата из Библии (Пс. 33: 11).
2 Дурно швырять людям корм... для свиней... — В оригинале — переиначенная библейская
цитата. Употребленное Батлером выражение «casting of swine's meat before men»
отсылает к библейской фразе «to cast pearls before swine» («метать бисер перед свиньями»; Мф. 7:
6). У Батлера сохранено значение этой фразы («предлагать что-либо ценное тому, кто не
в состоянии постичь ценность предложенного»), однако он ввел в нее людей вместо свиней
и заменил «объект метания», отчего фраза приобрела резкий саркастический оттенок.
3 Гомер повествует нам о том, кто сделал своей целью всегда превосходить других людей
и возвышаться над ними. — Имеется в виду заповедь Гипполоха сыну в древнегреческой
поэме «Илиада»: «Тщиться других превзойти, непрестанно пылать отличиться» (VI. 208.
Пер. П. Гнедича).
4 Герои Гомера... заканчивали плохо и... этого джентльмена... ждало то же самое. — То
есть гомеровского Главка, сына Гипполоха. Гомер ничего не сообщает о судьбе этого
персонажа.
5 «Если ты, Господи, будешь замечать беззаконие»... — Усеченная библейская цитата.
Полностью выглядит так: «Если ты, Господи, будешь замечать беззаконие, — Господи! Кто
устоит?» (Пс. 129: 3). В «Записных книжках» Батлер полностью цитирует текст этого стиха
в поддержку своего рассуждения о том, что «самая высокая мыслимая форма
добродетели оставляет возможность компромисса с некоторой долей порока» (NB 1913: 27).
0 ...злоупотребления... получают авторитетное покровительство. — Неточная
шекспировская цитата, которая уже встречалась выше. См. примеч. 21 к-гл. 5.
7 ...царству не от мира сего. — Библейский парафраз (см.: Ин. 18: 36).
8 ...узок путь и тесны врата, ведущие к обладанию... — Измененная библейская цитата
(ср.: Мф. 7: 14).
9 Прогресс всегда достигался скорее благодаря наслаждениям, чем... добродетелям... —
Первым идею о том, что удовольствия и пороки в значительно большей степени
способствуют прогрессу (в том числе экономическому), чем добродетели, высказал Бернард
де Мандевиль (1670—1733) в своем сочинении «Басня о пчелах» (1-е изд. — 1714).
10 ...к человеку во всем значенье слова... — Измененная шекспировская цитата; так
Гамлет оценивал своего отца: «...он/Был человек во всем значенье слова» (Гамлет. Акт I,
сц. 2, ст. 187. Пер. А. Кронеберга).
Глава 20
1 Шарлотта. — Прототипом образа послужили писателю две его сестры — Хэрриет
(Harriet) и Мэри (Mary, May) (см.: Hoggart 1973: 436).
Примечания
421
2 Ионадав, сын Рехава. — См.: Иер. 35: 6—10.
3 Некоторые римляне... убивали своих детей. — Судя по всему, Батлер имеет в виду
римлян, казнивших своих сыновей за то, что те действовали на поле боя без приказа.
См.: Тит Ливии. IV. 29; УШ. 7.
1 Тройное правило. — Речь идет о сложении, вычитании и умножении.
Глава 21
1 ...потребуется современный Илия, чтобы возвестить... Второе пришествие. — Илия —
один из ветхозаветных пророков, предвещавших пришествие Мессии.
2 Если бы Бог велел ей принести в жертву ее первенца, как велел Аврааму... — См.: Быт.
22.
3 ...женщина... преисполнилась всей полноты божественности. — То есть Дева Мария.
1 ...омовение в Иордане в сравнении с омовением в Аване и Фарфаре... — См.: 4 Цар. 5:
10-14.
'"' Иоппия — порт Иерусалима на берегу Средиземного моря. Там апостол Петр
оживил Тавифу (см.: Деян. 9: 36—41); совр. Яффа (южный пригород Тель-Авива).
Глава 22
1 Клакер — человек, аплодирующий в театре за вознаграждение.
2 ...спеть мне некоторые из гимнов... — Имеются в виду гимны, которые поют во
время богослужения в Англиканской церкви.
Глава 23
1 ...отрывок... из пятнадцатой главы Книги Чисел. — Имеется в виду одна из книг
Ветхого Завета — Книга Чисел (см.: Числ. 15: 30—41). Тридцать девятый стих Теобальд
сокращает, оканчивая его выражением «вслед сердца вашего и очей ваших» и не
произносит конец фразы: «...которые влекут вас к блудодейству». Это сокращение
становится понятным, если учесть, что Теобальд, только что сурово наказавший сына,
выбирает библейский текст с целью назидания (см.: Robinson 1978: 424).
2 Джованни Беллини (1430?—1516) — итальянский художник, крупнейший
представитель венецианской школы живописи; высоко ценился Батлером.
Глава 24
1 Гимны миссис Барбо. — Имеется в виду Анна Барбо (1743—1825), автор сборника
очерков о природе, озаглавленного «Гимны в прозе для детей» (1781). Очерки
предназначались для заучивания наизусть и декламации (см.: Mason 1993: 445).
2 «История Англии» миссис Маркхэм — книга детской писательницы Елизаветы Пен-
роуз (1780—1837), публиковавшей свои произведения под псевдонимом миссис Маркхэм.
Как отмечает Мейсон, в первом издании книги (см.: Markham Mrs. History of England. L.,
1829) приведенной Батлером фразы нет (см.: Mason 1993: 445).
422
Примечания
3 Джон Гонтскийу герцог Ланкастерский (1340—1399) — основатель Ланкастерской
королевской династии; отец английского короля Генриха IV.
Глава 25
1 В письме говорилось следующее... — Текст письма почти дословно воспроизводит
подлинное письмо матери писателя, адресованное сыновьям (см.: FL 1962: 40—42; 130).
2 «Бог верен, а всякий человек лжив». — Рим. 3: 4.
3 ...«не хромайте на оба колена»... — Измененная библейская цитата (ср.: 3 Цар. 18: 21).
4 Будьте... тверды и очень мужественны... — Измененная библейская цитата (ср.: Ис.
Нав. 1: 6).
5 ...одно только нужно. — Лк. 10: 42.
6 ...искать прежде Царства Божия и правды Его... — Слегка измененная библейская
цитата (ср.: Мф. 6: 33).
7 ...«забывая второстепенное... стремиться к цели, к почести вышнего звания Божия». —
Несколько измененная библейская цитата (ср.: Флп. 3: 13—14).
Глава 26
1 ...те, кто грешит, и те, против кого грешат. — Шекспировская аллюзия; ср.: «Я не так /
Перед другими грешен, как другие / Передо мной» (Король Лир. Акт Ш, сц. 2, ст. 59—60.
Пер. Б. Пастернака).
Глава 27
1 Вергилий — Публий Вергилий Марон (70—19 до н. э.), древнеримский поэт, создатель
трех крупных произведений: сборника «Буколики» («Пастушеские песни»),
дидактической поэмы «Георгики» («О земледелии») и эпической поэмы «Энеида».
2 Ливии Тит (59 до н. э. — 17 н. э.) — древнеримский историк. До нас дошла лишь
часть его монументального сочинения, которое по традиции принято называть
«История Рима от основания Города».
3 Евклид, или Эвклид (356—300 до н. э.) — древнегреческий математик, автор «Начал
математики», а также работ по астрономии, оптике, теории музыки. Упоминается в
батлеровских «Записных книжках» (см.: NB 1913: 330—331).
4 Доктор Скиннер. — Прототипом этого персонажа был доктор Бенджамин Холл
Кеннеди, директор шрусберийской школы в годы учебы там писателя (см.: Hoggart 1973:
436).
5 Рафборский. — Первоначально в рукописи фигурировало «Свичестер» (Swichester с
явным намеком на Winchester — Винчестер), затем — «Регби» (Rugby), вновь измененное
на топоним, по своей словообразовательной модели сходный с названием школы, которую
окончил писатель — Шрусбери (Roughborough — Shrewsbury) (см.: Howard 1964: 98, 5n).
Кроме того, название «Рафборо» указывает на трудности (rough — трудный, тяжелый
(напр., период жизни)), с которыми сталкивается Эрнест в школе (см.: Mason 1993: 446).
6 ...светильник яркий и горящий... — Измененная библейская цитата (ср.: Ин. 5: 35).
7 ...в политике он придерживался либеральных взглядов. — Батлер не любил английских
либералов. В «Едгине» он сатирически изобразил их в главе «Недовольные».
Примечания
423
8 ...сценическая трактовка английской истории времен Реформации, в которой я свел
вместе Кранмера, сэра Томаса Мора, Генриха VIII, Екатерину Арагонскую и Томаса
Кромвеля... заставив их плясать до упаду. — Овертон (о нем см. с. 368—370 наст, изд.) следует
хорошо разработанной сатирической традиции английского бурлеска, предоставляющего
широкий простор для пародии. Бурлеск и буффонада выражены у Овертона
абсолютным и, разумеется, нарочитым несоответствием сценической ситуации, в которой по
замыслу автора оказывается персонаж, тому, что известно об исторических лицах,
имена которых использованы для участников этого гротескного танца «до упаду», или,
точнее, «брейк-дауна» (break-down), т. е., как поясняет Мейсон, неистового американского
негритянского танца, завезенного в XIX в. на подмостки Лондона (см.: Mason 1993: 446).
Начало Реформации в Англии, политической вехой которого был бракоразводный
процесс между английским королем Генрихом VTQ (1491—1547, правил в 1509—1547 гг.) и
испанской принцессой Екатериной Арагонской (1485—1536), сопровождалось казнями и
разрушением монастырей. Во главе тех, кто по приказу короля их разрушал, был
Томас Кромвель (1485?—1540), прозванный за это «молотом монахов» (Malleus Monacho-
rum). За отказ признать правомочность «Закона о главенстве короля над Церковью»
(1534) был казнен канцлер Томас Мор (1478—1535), а позже, в царствование Марии
Тюдор (1516—1558, правила в 1553—1558 гг.), дочери Генриха VIII и Екатерины
Арагонской, сожжен на костре Томас Кранмер (1489—1556), первый протестантский
архиепископ Кентербери.
9 ...инсценировал «Путь паломника»... сочинив важную сцену «Ярмарки Тщеславия»... —
Христиан, герой беньяновского «Пути паломника», во время своих странствий
попадает в город под названием «Ярмарка Тщеславия», где «продаются такие товары, как
дома, земли, предприятия, должности, почести, повышения, титулы, страны,
королевства, похоти, удовольствия и наслаждения». Великодушный и другие перечисленные
Батлером действующие лица — персонажи «Пути паломника». К аллегорическому
произведению Беньяна восходит название романа У. Теккерея «Ярмарка тщеславия» (1848).
10 Лорд-камергер. — В обязанности лорда-камергера входила в XIX в. цензура
театральных пьес.
11 Разве отнял он у кого-нибудь вола или осла... — Данный поступок явился бы
нарушением библейских заповедей (ср.: Втор. 5: 21, где сказано: «Не желай... ни вола его
[ближнего твоего], ни осла его...»).
12 «Размышления о послании и личности святого Иуды»... — Святой Иуда, автор
Соборного послания святого апостола Иуды в Библии, является предметом трудов доктора
Скиннера, которые столь же неплодотворны, как и научные изыскания преподобного
Эдварда Кейсобона в романе Джордж Элиот (1819—1880) «Миддлмарч» (1871—1872). О
чтении Батлером «Миддлмарча» см. с. 365—366 наст. изд.
13 Скиннеровский язык. — Подобный язык является чертой жанровой поэтики
вымышленных путешествий как в утопии (например, у Томаса Мора), так и в сатире (например,
у Рабле (1494?—1553)). CbhoJ>t любил описывать вымышленный язык своих персонажей,
и Батлер, упоминая о «скиннеровском языке», отдает дань жанру, в котором он создал
«Едгин» и «Снова в Едгине». Возможно, Дж. Оруэлл (1903—1950), внимательный
читатель батлеровских произведений, вспомнил о лингвистических причудах доктора
Скиннера, когда придумывал «новояз» для общества, описанного в его антиутопии «1984».
14 Галлион Юний Анней — римский правитель греческой провинции Ахайя в I в. н. э.
Здесь имеется в виду эпизод, о котором рассказывается в Библии: Галлион отказался
вершить суд над апостолом Павлом, обвиненным иудеями в том, что он «учит людей
чтить Бога не по закону», заявив, что «когда идет спор об учении или об именах и о
законе вашем, то разбирайте сами» (Деян. 18: 12—25).
424
Примечания
15 Сенека (младший) Луций Анней (4г-65 н. э.) — древнеримский политический
деятель, философ-стоик и драматург, автор философско-нравоучительных трактатов;
покончил с собой по приказу императора Нерона, его воспитанника. Трагедии Сенеки
повлияли на развитие английской ренессансной драматургии.
Глава 28
... железная дорога через Рафборо... — Характерная примета времени: железная дорога
постоянно фигурирует на страницах романа.
2 ...одного известного директора школы... — Не установлено, кто имеется в виду.
3 Лаборатория. — Подобную лабораторию имеет, отдавая дань моде, в своем доме и
сэр Уиллоуби Паттерн, герой романа «Эгоист» (1879) Джорджа Мередита (1828—1909).
4 ...множества скромных познаний... — Намек на афоризм А. Поупа. Ср. в рус. пер.:
«И полузнайство ложь в себе таит» (Опыт о критике. П. 15. Пер. А. Субботина).
5 ...они ничему не научились и ничего не забыли... — Слова знаменитого дипломата и
государственного деятеля Шарля Мориса де Талейрана-Перигора (1754—1838) о Бурбонах,
французской королевской династии, свергнутой в результате Французской революции в
1792 г. и восстановленной на престоле в 1814 г. (окончательно были свергнуты в 1848 г.).
6 ...обладает кротостью змеи и мудростью голубя. — Перефразированное евангельское
изречение «будьте мудры, как змии, и просты, как голуби» (Мф. 10: 16). Встречается в
письме мисс Сэвидж (о ней см. с. 365 наст, изд.) к Батлеру (см.: Mason 1993: 447).
7 Пикерсгилл-старший Генри Уильям (1782—1875) — английский портретист, член
Королевской академии художеств. Далее перечисляются еще несколько художников
академического направления в викторианской живописи: Соломон Александр Харт
(1806-1881), Генри Нелсон О'Нил (1818-1880), Чарлз Ландсир (1799-1879).
8 Кристи — лондонская фирма, специализирующаяся на продаже произведений
искусства с аукциона; существует по сей день.
9...о хэмпденской полемике, тогда бывшей в самом разгаре... — Указание текста на время
описываемых событий — начало 1848 г. Английский филолог Ренн Диксон Хэмпден
(1793—1868) был возведен в сан епископа Герефордского в 1847 г., что вызвало
сопротивление Герефордского соборного капитула и привело к внутрицерковной полемике,
в которой столкнулись мнения представителей различных направлений в Англиканской
церкви.
10 «Praemunire» (от лат. выражения со значением «Обезопасьте!»). — Так назывался
закон, принятый в 1392/93 г. и налагавший ограничение на правовые притязания на
светскую власть со стороны римской курии; применялся в английских судах вплоть до XIX в.
11 ...революции, которая только что вспыхнула на Сицилии... — Она началась 12
января 1848 г.
12 Папа Римский. — Имеется в виду Пий IX (1846—1878 гг.).
13 «Спектейтор» («Зритель») — независимое еженедельное обозрение политических,
общественных и литературных текущих событий, основано в 1828 г. в Лондоне.
14 «Экклезиастикал газетт» — периодическое издание, освещавшее события
церковной жизни; выписывалось Томасом Батлером, отцом писателя (см.: Mason 1993: 448).
15 ...тс теме реформ... — В начале своего понтификата Пий IX выступил в поддержку
реформ и национально-освободительного движения в Италии, но вскоре его позиция
изменилась на противоположную.
16 «Панч» — еженедельный иллюстрированный юмористический журнал,
выходивший в Лондоне в 1841-1992, 1996-2002 гг.
Примечания
425
17 «Нет, Нет». — Игра слов в оригинале: «No, No» («Нет, Нет») и «Pio nono» [итал.
«Пий Девятый») (см.: Robinson 1978: 426).
18 A. M. D. G. — аббревиатура, означающая: «Ad Majorem Dei Gloriam» («К вящей
славе Божьей»). Доктор Скиннер ошибочно истолковывает сокращение как «Ave Maria Dei
Genetrix» («Славься, Мария, Матерь Божья») или «Ad Mariam Dei Genetricem» («Марии,
Матери Божьей»).
Глава 29
1 Ганнибал (247—183 до н. э.) — выдающийся карфагенский полководец; совершил
героический переход через Альпы, одержал ряд блистательных побед над римлянами, но
в 212 г. до н. э. был ими разбит; покончил жизнь самоубийством, находясь в изгнании.
2 «Мессия» — оратория Г.-Ф. Генделя (1742).
3 Десятая казнь египетская. — То есть град, одно из бедствий, насланных Яхве на
Египет (см.: Исх. 9: 18-26).
4 Явись израильтяне теперь в Англию, он испытал бы... искушение не позволить им
уйти. — За отказ фараона позволить израильтянам уйти из Египта на страну были
насланы бедствия. См. пред. примеч.
5 Потом его мысли занял Казабьянка. — Эрнест думает о герое стихотворения
поэтессы Фелиции Хеманс (1793—1835), сюжет которого основан на реальном происшествии:
во время египетского похода Наполеона десятилетний мальчик Джакомо Казабьянка
стоял на палубе горящего корабля в битве при Абукире, выполняя приказ своего
погибшего в сражении отца.
Глава 30
1 ...подобен льву из воскресных историй епископа Оксфордского... — Имеется в виду
рассказ «Дети и лев» из сборника епископа Самуэля Уилберфорса (см. примеч. 5 к гл. 6),
где на беззаботно играющих в прекрасном саду детей внезапно нападает лев,
воплощение дьявола. Как указывает Мейсон (см.: Mason 1993: 449), этот рассказ разрабатывает
одну из библейских тем (см.: 1 Петр. 5: 8).
Глава 31
1 ...отцовское око уже не выслеживало Эрнеста повсюду. — В оригинале — библейский
парафраз. Ср.: Батлер: «The heavy hand and the watchful eye of Theobald were no longer
about his path and about his bed and spying out all his ways»; Пс. 139: 3: «Thou compassest
my path and my lying down, and art acquainted with all my ways» (рус. пер. Пс. 138: 3: «Иду
ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе»).
2 Избранники Божий. — То есть те, кто, согласно кальвинистской доктрине
предопределения, избран Богом для спасения.
3 ...растерзаю тебя на части даже в третьем и четвертом колене как того, кто
ненавидит Бога... — Библейская аллюзия. См.: Втор. 5: 9 («...до третьего и четвертого рода,
ненавидящих Меня»).
4 Шиллинг — серебряная монета, равная 1/20 фунта; пенс (пенни) — бронзовая
монета, равная 1/12 шиллинга.
5 Полукрона — серебряная монета, равная 2 шиллингам 6 пенсам.
426
Примечания
Глава 32
1 В смысле религии... — Весь этот абзац выпущен в русском переводе 1938 г.
2 ...она убеждала одного из известных философов написать роман, вместо того чтобы
заниматься нападками на религию. — Батлер имеет в виду мисс Сэвидж и себя (см. с. 365—
366 наст. изд.).
3 Разве у них нет Моисея и пророков? Позвольте им слушать их. — Измененная
библейская цитата. Ср.: Лк. 16: 29: «...у них есть Моисей и пророки: пусть слушают их».
4 Прогулка в Эммаус. — См.: Лк. 24: 13—35. Эммаус, или Еммаус, — селение в
Древней Иудее, расположенное к западу от Иерусалима.
5 .......о, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что
предсказывали пророки^.» — Лк. 24: 25.
в Соверен — золотая монета, равная одному фунту.
Глава 33
1 ...человек должен предоставить ближнего его собственной судьбе во веки веков. —
Библейский парафраз. См.: Пс. 48: 8—9 («Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу
выкупа за него. Дорога цена искупления души их, и не будет того вовек»).
2 Михайлов день — день святого Михаила, то есть 29 сентября.
3В последнее врелля... — текст абзаца, начинающегося с этих слов, почти полностью
совпадает с текстом «Жизни и привычки» (см.: Life and Habit 1878: 299).
Глава 34
1 Доктор Уолмисли — Томас Эттвуд Уолмисли (1814—1856), кембриджский органист
и профессор музыки.
2 Мастер Смит — Бернард Смит (1630?—1708), мастер по изготовлению органов.
3 Доктор Уэсли — Саму эль Себастиан Уэсли (1810—1876), английский композитор и
органист.
Глава 35
1 ...все его прежние измены пойдет ему во благо... — В оригинале фраза построена так, что
напоминает эпиграф к роману (см.: Robinson 1978: 428; Mason 1993: 450). Ср.: «all his
previous infidelities will work together to him for good»; эпиграф: «all things work together for good
to them that love God» («...любящим Бога <...> все содействует ко благу») (Рим. 8: 28).
2 ...дали бы ему щепотку соли и велели насыпать на хвост... — Имеется в виду
вошедший в поговорку шутливый совет детям насыпать щепотку соли на хвост птицы, чтобы
поймать ее.
3 Семь смертных добродетелей. — Вместо ожидаемого здесь слова «грехов» (из
общеупотребительного выражения «семь смертных грехов», т. е. таких, которые нельзя искупить и
которые влекут за собой после смерти вечную муку в аду) Алетея употребляет слово
«добродетелей», тем самым относя их к тому же ряду явлений, что и семь смертных грехов.
4 Во вторник на Масленицу. — Непосредственно предшествующий Великому посту
день (Shrove Tuesday), когда в средние века исповедовались в грехах. С течением вре-
Примечания
427
мени стал праздником, к которому были приурочены многие народные обычаи и
развлечения, отсюда, например, его другое название — «день блинов» (ими наедались
накануне поста).
Глава 36
1 ...тема последней из шести больших фуг Генделя... — Одно время Батлер желал,
чтобы ноты этой темы были выгравированы на его надгробии (см.: Jones 1919/1: 447).
Глава 37
1 ...очередной миссис Томпсон... — Ср. гл. XV.
2 ...то был удар из всех ударов злейший. — В оригинале шекспировское выражение с
пропуском одного слова (см.: Robinson 1978: 428). Ср. Батлер: «This was the unkindest cut
of all»; Шекспир: «This was the most unkindest cut of all» («To был удар из всех ударов
злейший». Юлий Цезарь. Акт Ш, сц. 2, ст. 190. Пер. М. Зенкевича).
3 ...один из тех, кто отвержен и в ком нет места для раскаяния, хотя он и просил о нем
даже со слезами. — В оригинале скрытая библейская цитата. Ср. Батлер: «...one of those for
whom there was no place for repentance, though he sought it even with tears»; Евр. 12: 17: «...he
found no place for repentance though he sought it carefully with tears» («...он... был отвержен;
не мог переменить мыслей отца, хотя и просил о том со слезами»).
4 «Мессия». — См. примеч. 2 к гл. 29.
5 «Сотворение мира» — оратория австрийского композитора Иосифа Франца Гайдна
(1732-1809), создана в 1798 г.
() «Пророк Илия» — оратория Мендельсона (1846). В молодости (до того, как его
кумиром стал Гендель) Батлер, музицируя, часто играл произведения Мендельсона. См.
также примеч. 9 к гл. 1, примеч. 16 к гл. 4.
7 Саллюстий — Гай Саллюстий Крисп (86—34 до н. э.), древнеримский историк.
8 Альбрехт Дюрер (1471—1528) — немецкий художник.
!) Доктор Берни — Чарлз Берни (1726—1814), английский композитор, органист, автор
четырехтомного труда «История музыки» (1776—1789).
Глава 38
1 Конфирмация (от лат. confïrmatio — подтверждение) — у протестантов обряд
первого причастия у юношей и девушек в возрасте 14—16 лет.
2 География Палестины. — Палестина расположена на побережье Средиземного моря,
и река Иордан делит страну на две части.
3 ...маршруты странствий святого Павла при посещении им Малой Азии. — См.: Деян.
15: 41, 16: 1-8.
Глава 39
1 «Заяц и собаки» — спортивная игра: гонки по пересеченной местности в соответствии
с заранее размеченным (но неизвестным участникам гонок) маршрутом.
428
Примечания
Глава 40
1 «Сказка о Джеке и бобовом стебле» — волшебная сказка (по классификации Аарне,
тип 328), обработки которой входят в хрестоматийное детское чтение в Англии.
2 Совершенная любовь... изгоняет страх... — Скрытая библейская цитата (см.: Ин. 4: 18).
3 ...голоса этой сирены... — Как указывает Робинсон, сравнение женских персонажей
с сиренами, фантастическими существами (полуженщинами-полуптицами), своими
волшебными голосами заманивавшими мореплавателей в гибельные места, часто
встречается у Теккерея (см.: Robinson 1978: 429).
Глава 41
1 ...исполненная мрачных предчувствий душа... — В оригинале скрытая цитата из
Шекспира (см.: Mason 1993: 451): «Моя душа полна предчувствий мрачных» (Ромео и
Джульетта. Акт III, сц. 5, ст. 54. Пер. Т. Щепкиной-Куперник).
2 Салъватор Роза (1615—1673) — итальянский художник, писавший картины на
библейские, мифологические и исторические сюжеты, а также пейзажи.
3 Изображен... Илия или Елисей (кто именно, неизвестно), питаемый воронами в
пустыне. — Елисей был спутником и преемником Илии (см.: 4 Цар. 2: 1—12, 15). На
картине С. Розы изображен Илия (ср.: 3 Цар. 18: 2—6).
4 ..люлыш вскарабкался к картине... — Это сделал сам Батлер в детстве (см.: Jones
1919/1: 24).
5 Макреди Уильям Чарлз (1793—1873) — английский театральный режиссер и актер,
прославился исполнением ролей в шекспировских трагедиях.
() ...Иосифом и Дон-Жуаном в одном лице. — Оксюморонное сочетание: библейский
Иосиф, отвергнувший домогательства Потифаровой жены (см.: Быт. 39), и Дон-Жуан,
легендарный соблазнитель женщин.
Глава 43
1 ...по отношению к нему был совершен больший грех, чем тот, какой совершил он сам. —
См. примеч. 1 к гл. 26.
2 ...торжественных сожжений чучела Гая Фокса. — Гай (или Гвидо) Фокс был одним
из участников заговора фанатически настроенных католиков против английского
короля Якова I (1566—1625, правил в 1603—1625 гг.) и парламента. Заговорщики намеревались
взорвать здание парламента, когда там присутствовал король. Непосредственным
исполнителем взрыва должен был стать Фокс. Заговор раскрыли 5 ноября 1605 г.,
заговорщиков казнили. Годовщина «Порохового заговора», как он стал называться, ежегодно
отмечается англичанами и сопровождается сожжением чучела Гая Фокса.
Глава 44
1 Препостер (от лат. ргаеропеге — ставить впереди, букв.: поставленный впереди) —
ученик старшего класса, обязанный помогать учителю (см.: Губер 1938: 487).
Примечания
429
2 Алкеева строфа — строфа, наиболее часто употребляемая древнегреческим поэтом
Алкеем; получила свое название еще в античности. В латинскую поэзию введена
Горацием. Ее примером является цитата из Горациевой оды в гл. XIV.
3 ...говорить то, чего не следовало, и не говорить того, что он должен был бы сказать... —
Пародия на формулу покаяния в Англиканской церкви: «...мы оставили несовершенным
то, что нам следовало бы совершить, и совершили то, что нам не следовало бы
совершать» (см.: Mason 1993: 451).
1 Книга, написанная по-латыни неким немцем Шёманом... — Имеется в виду книга
«De Comitiis Atheniensium» (Об афинском народном собрании, 1819) Георга Фридриха
Шёмана (1793—1879), немецкого ученого, специалиста по греческой и римской истории
и литературе.
5 «Они не хотели испить из реки». — Фрагмент из оратории Г.-Ф. Генделя «Израиль в
Египте» (1738).
Глава 45
1 Колледж Эммануила. — Колледж в Кембриджском университете, основанный в 1584 г.
Первоначально носил название колледжа Святого Иосифа (см.: Howard 1964: 172, 5п).
Считался оплотом ортодоксального протестантизма. Томас Батлер и его сын учились
в другом кембриджском колледже — колледже Св. Иоанна (основан в 1511 г.). Как
указывает Хоггарт, все остальные подробности студенческой жизни Эрнеста являются
автобиографическими (см.: Hoggart 1973: 439).
Глава 46
1 Эсхил (525—456 до н. э.); Софокл (496?—406 до н. э.); Еврипид, или Эврипид (480?—406
до н. э.) — великие древнегреческие драматурги.
2 Гомер (IX в. до н. э.) — древнегреческий поэт, считается автором «Илиады» и
«Одиссеи». Прямых сведений о нем до нас не дошло. История создания поэм, проблемы,
связанные с возникновением и развитием древнегреческого эпоса, относятся к до сих пор
обсуждаемому «гомеровскому вопросу». У Батлера имелась собственная точка зрения
на этот счет.
'л Фукидид (471?^Ю0? до н. э.), Геродот (484?^30? до н. э.), древнегреческие историки.
1 Аристофан (448?—380 до н. э.) — древнегреческий драматург.
5 Феокрит (III в. до н. э.) — древнегреческий поэт.
() Лукреций — Тит Лукреций Кар (99?—55? до н. э.), древнеримский поэт и философ;
автор философской поэмы «О природе вещей».
7 ...выпады в адрес Эсхила, которые Аристофан вкладывает в уста Еврипида... — См.
комедию Аристофана «Лягушки» (405 до н. э.).
8 ...Еврипид обвиняет Эсхила в «напыщенном многословии»... — В стихотворном переводе
Ю. Шульца: «Ни обуздать, ни затворить нельзя / Уста его надменные безмерно»
(Аристофан. Лягушки. 838—839).
!) ...«собиратель сплетен, описатель нищих и сшиватель тряпок»... — Ср. в рус. пер.: «И
собиратель всякой болтовни, / Творец бродяг, сшивающий тряпье» (Аристофан.
Лягушки. 841-842. Пер. Ю. Шульца).
10 ...правдивое изображение современной автору жизни... — Это один из центральных
вопросов эстетики английского романа как жанра, широко обсуждавшийся на страни-
430
Примечания
цах ведущих журналов в Англии 1870-х годов. Мисс Сэвидж в своих письмах к Батле-
ру настаивала на увеличении «правдоподобия развязки» в «Пути всякой плоти» (см.:
Savage 1935: 301).
11 Петрарка Франческо (1304—1374) — выдающийся итальянский поэт,
ученый-гуманист, положивший начало классической филологии; основоположник итальянской
национальной поэзии. Его лирика представлена в сборнике «Канцоньере» (т. е. «Книга
песен»). В 1341 г. за поэму «Африка», написанную на латыни, был увенчан лаврами на
римском Капитолии.
12 Тассо Торквато (1544—1594) — выдающийся итальянский поэт; замыкает собой ряд
великих поэтов итальянского Возрождения. Наиболее известное его произведение —
героическая поэма «Освобожденный Иерусалим» (1580).
13 Ариостпо Лодовико (1474—1533) — выдающийся итальянский поэт, автор поэмы
«Неистовый Роланд» (1516), оказавшей большое влияние на развитие европейской поэзии.
14 Драматурги елизаветинской эпохи. — То есть современные Шекспиру английские
драматурги.
15 Являются... литературными струлъдбругами? — То есть писателями, обреченными
на бесполезное литературное бессмертие. Струльдбруги — долгожители, описанные
английским сатириком Джонатаном Свж]этом (1667—1745) в «Путешествиях Гулливера»
(1726).
16 Давид — царь израильско-иудейского государства (X в. до н. э.); считается автором
73 (согласно еврейскому тексту Библии) и 84 (согласно ее греческому тексту) псалмов
из тех 150-ти, что составляют Псалтирь.
17 Белый слон. — Король Сиама, желая подвергнуть разорению кого-либо из своих
состоятельных подданных, имел обыкновение дарить ему священного белого слона,
содержание которого стоило очень дорого. Отсюда значение английского выражения
«белый слон» (a white elephant) — обуза, разорительное имущество, дар, от которого не
знали как избавиться (см.: Кунин 1956: 329).
Глава 47
1 Нужно помнить... — Следующий далее пассаж воспроизводит рассуждение
памфлета, опубликованного Батлером на страницах английской печати в 1879 г. под
псевдонимом «Серьезный священник» (см.: Knoepfelmacher 1965: 284).
2 «Следы творения». — Полное название книги: «Следы естественной истории
творения» (1843—1846). Основываясь на данных палеонтологии и геологии, автор книги,
английский геолог Роберт Чемберс (1802—1871), ставил под вопрос библейскую картину
сотворения мира (см. также примеч. 1 к гл. 10).
3 «Опыты и обозрения» (1860). — В тексте хронологическая неточность (см. с. 333 наст.
изд.).
4 «История цивилизации» Бокля. — Полное название «История цивилизации в Англии»
(1857—1861). В этом труде, оставшемся незаконченным, английский историк-позитивист
Томас Бокль (1821—1862) провозгласил бескомпромиссно детерминистский взгляд на
историю.
5 «Свобода» Милля. — В своем трактате «О свободе» (1859) английский философ,
экономист и публицист Джон Стюарт Милль (1806—1873) выступил в защиту духовной
самостоятельности индивидуальной личности, независимости ее от «тирании
общественного мнения», т. е. господствующей религиозной морали.
Примечания
431
6 Трактарианизм. — Так на раннем этапе своего развития называлось «Оксфордское
движение», стремившееся к сближению Англиканской и Католической церквей. С
1833 г. сторонники этого движения периодически выпускали «Трактаты времени»
(отсюда и название «трактарианизм»). Во главе «Оксфордского движения» стояли
выпускники Ориел-колледжа в Оксфорде — теолог Джон Генри Ньюмен (1801—1890),
впоследствии перешедший в католичество и ставший кардиналом, англиканский
священник Эдвард Бувери Пьюзи (1800—1882) и историк Джеймс Энтони Фруд (1818—1894).
Трактарианисты ставили своей целью возрождение идеалов и практики Англиканской
церкви XVII в. и особо подчеркивали важность преемственности традиций в
соблюдении церковных ритуалов.
7 ...страх перед возможностью католической агрессии... — «Церковь в опасности!» —
провозглашали в 1830-е годы консервативно настроенные деятели англиканства,
боявшиеся расширения политических прав католиков в Англии (см.: Mason 1993: 453).
8 Ритуализм — более поздняя форма трактарианизма (см. выше примеч. 6).
9 Горхемовская контроверза — внутрицерковная полемика, развернувшаяся в 1850 г.
и вызванная тем, что англиканский епископ Эксетерский (с 1831 г.) Джордж Генри
Филпоттс (1778—1869) отказался предоставить приход священнику Джорджу Корнелию
Горхему (1787—1857) по той причине, что представления кальвиниста Горхема о
крещении не являлись ортодоксальными. По жалобе Горхема его дело рассматривалось в
юридическом комитете Королевского тайного совета, вынесшего решение в пользу
истца. После этого некоторые сторонники Филпоттса перешли в католичество.
10 Хэмпденская контроверза. — См. примеч. 9 к гл. 28.
11 Крымская война — война Турции, Англии, Франции и Сардинии с Россией (1853—
1856 гг.).
12 Восстание в Индии. — Речь идет о восстании сипаев в Индии (1857—1859 гг.).
13 Франко-австрийская война — война за независимость Италии между силами
освободительного итальянского движения и австро-французскими войсками (1859 г.).
14 ...волна скептицизма, которая уже прокатилась по Германии... — Имеется в виду
влияние, которое публикация в Германии книги Давида Фридриха Штрауса (1808—1874)
«Жизнь Христа» (Das Leben Jesu, 1835) оказала на формирование тюбингенской
исторической школы во главе с Фердинандом Христианом Бауром (1792—1860).
15 «Происхождение видов» Чарлза Дарвина. — См. с. 332—334 наст. изд.
16 «Критический разбор Пятикнижия» епископа Коленсо. — См. с. 333 наст. изд.
17 Симеон Чарлз (1759—1836) — стоял во главе движения за «евангелическое
пробуждение» в Англиканской церкви.
18 Киз — колледж, основанный Джоном Кизом (1510—1573) в Кембридже в 1557 г.
19 Клейтон Чарлз — наиболее известный сторонник евангелического движения в
Кембридже в середине XIX в. (см.: Mason 1993: 454).
20 Колледж Святого Иоанна. — См. примеч. 1 к гл. 45.
21 ...фрагмент из Послания апостола Павла, в котором он велит коринфянам помнить,
что те... не являются образованными людьми благородного происхождения. — См.: 1 Кор. 1:
26-29.
22 ...написал пародию на одну из брошюрок... — Такая пародия была написана Батлером
в студенческие годы и анонимно им опубликована (см.: Jones 1919/1: 47).
23 ...он вел себя на манер Савла и получал удовольствие от преследования божьих
избранников... — Когда апостол Павел носил имя Савл (до своего обращения в христианство),
он преследовал христиан (см. также примеч. 6 к гл. 49).
432
Примечания
Глава 48
1 Таунли. — Первоначально фамилия этого персонажа была Джонсон (см.: Robinson
1978: 432). Изменение фамилии персонажа на Таунли (Town-ly — городской)
подчеркивает стремление писателя давать своим героям символически значимые имена.
2 Сцилла и Харибда — древнегреческие мистические чудовища, обитавшие по обеим
сторонам узкого морского пролива (позднее стали считать, что имеется в виду Мессин-
ский пролив — между Сицилией и континентальной Италией); описаны в двенадцатой
песни гомеровской «Одиссеи».
Глава 49
1 Толкования Бевериджа к Тридцати девяти догматам — «Объяснение тридцати девяти
догматов» (1710), составленное англиканским епископом Уильямом Бевериджем (1637—
1708).
2 Толкования Пирсона к Символу Веры — «Объяснение основных догматов веры» (1659),
составленное англиканским богословом Джоном Пирсоном (1612—1686).
3 «Таинство благочестия» Мора — сочинение англиканского богослова и преподавателя
колледжа Христа в Кембридже Генриха Мора (1614—1687). Полное название:
«Объяснение великого таинства благочестия, или Истинное достоверное изложение вечного
учения нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа», 1660).
4 «Святая жизнь и смерть» Тейлора. — Имеются в виду два сочинения Иеремии
Тейлора (1613—1667): «Правила и упражнения святой жизни» (1650) и «Правила и
упражнения святой смерти» (1651).
г> Комментарии декана Элфорда. — Изучая комментарии (1841—1861) к Новому
Завету профессора Кембриджского университета Генриха Элфорда (1810—1871), Эрнест
Понтифекс впервые знакомится с подходом к изучению библейских текстов немецких
рационалистических богословов, представителей тюбингенской исторической школы
(см.: Robinson 1978: 432).
6 «Савл, Савл\ Что ты гонишь Меня?» — Деян. 9: 4. См. также примеч. 23 к гл. 47.
7 ...ангел отвалил камень от могилы... — Библейский парафраз (см.: Мф. 28: 2—3).
8 ...наш Господь явился взору многих сотен... пока облака не скрыли Его от взора людей. —
Хок свободно перелагает содержание библейских стихов (ср.: Деян. 1: 9; 1 Кор. 15: 6).
9 ...в годы безверия прошлого столетия? — Хок имеет в виду рационализм европейских
просветителей XVIII в.
10 ...ибораздастся трубный глас, и мертвые воскреснут в нетлении... и сбудется сказанное
в Писании: «Поглощена смерть победою». — Хок цитирует Библию с небольшими
отступлениями от текста (ср.: 1 Кор. 15: 52—54).
11 ...у Которого нет изменения и ни тени перемены? — См.: Иак. 1: 17.
12 ...тесны врата и узок путь, ведущий к жизни вечной... — См.: Мф. 7: 14.
13 ...жить в дружбе с миром... — Выражение «дружба с миром» употреблено в Соборном
Послании св. апостола Иакова (см.: Иак. 4: 4) в несколько ином контексте, чем у Хока.
u ...доколе можно говорить «ныне»... — Евр. 3: 13.
15 ...препоясать чресла ваши... — Ср.: Иов 38: 3; 40: 2.
1() ...ужасного гнева Божьего... — Ср.: Пс. 79: 6; Иер. 10: 25 (только в английском тексте).
17 ...уготован... — В оригинале использовано библейское выражение «lieth in wait»
(Пс. 10: 9 (в рус. пер. — 29); Притч. 23: 28). Ср. рус. пер.: «сидит в засаде».
18 ...узнал, что служит к миру их. — См.: Лк. 19: 42.
Примечания
433
19 ...яко тать в нощи... — См.: 2 Петр. 3: 10; 1 Фес. 5: 2.
20 ...«не я ли, Господи?»... — Мф. 26: 22.
Глава 50
1 Робеспьер Максимилиан Франсуа Мари Изидор (1758—1794) — один из радикальных
вождей Французской революции 1789—1794 гг.; в викторианской Англии был широко
известен уничижительный отзыв о нем Карлейля: «...не человек это был, но жалкий
неподкупный педант с логической формулой вместо сердца, иезуитского или методистско-
священнического характера, полный искреннего ханжества, неподкупности,
язвительности, трусости; бесплодный, как восточный ветер» (Карлейль Т. Французская революция.
Гильотина. Кн. VI: Термидор. Гл. П: Дантон, мужайся! Сверка пер. A.M. Барга).
2 ...отсечением головы гидры... — В древнегреческих мифах рассказывается о том, как,
сражаясь с Лернейской гидрой, многоголовой гигантской змеей, жившей на болоте
Лерне (отсюда название), Геракл отсекал ее головы, и вместо одной отсеченной головы
у нее появлялись две новые.
3 ...сторонником Низкой, а не Высокой церкви. — Англиканская церковь делится на три
основные ветви: Высокую, Низкую и Широкую церкви. Сторонники первой
подчеркивают важность церковной иерархии и ряда других традиционных, исторически
сложившихся установлений англиканской доктрины. В XIX в. некоторые видные деятели Высокой
церкви, например, Джон Ньюмен (о нем см. примеч. 6 к гл. 47), перешли в католичество.
Сторонники Низкой церкви, наоборот, более тяготеют к протестантизму, иногда вплоть
до таких его направлений, как евангелическое движение и методизм (см. примеч. 3 к
гл. 9). Сторонники же Широкой церкви либерально относятся к толкованию
ортодоксальных тонкостей англиканства. В XIX в. в рамках Широкой церкви сложились наиболее
благоприятные условия для восприятия рационалистической критики религиозного
христианского мировосприятия со стороны позитивистского свободомыслия.
4 Диссентеры. — См. примеч. 17 к гл. 14.
5 ...не бывает пророка без чести, разве только в отечестве своем... — Подобные фразы
имеются у всех четырех евангелистов, но полностью совпадают только у Матфея (см.:
Мф. 13: 57) и у Марка (см.: Мк. 6: 4). Ср.: Лк. 4: 24; Ин. 4: 44.
Глава 51
1 Прайер. — Фамилия персонажа (Ргуег) образована от английского глагола to pry
(подглядывать, совать нос в чужие дела, выпытьшать).
2 ...одна черта природы весь мир роднит. — Ср.: Шекспир «Троил и Крессида» (1601/
1602): «One touch of nature makes the whole world kin» («Люди разных стран / Равны в
одном») (акт III, сц. 3, ст. 175. Пер. Т. Гнедич). Русский перевод шекспировской фразы
не вписывается в батлеровский текст: отвечая Овертону, цитирующему Шекспира,
Прайер заменяет выражение «одна черта природы» (one touch of nature) выражением
«одна черта неприродного, неестественного начала» (one touch of the unnatural).
Глава 52
1 Кенсингтон-Гарденс — сады, находящиеся в центре Лондона и входящие в единый
парковый ансамбль города.
434
Примечания
2 Если священник не такой же целитель и руководитель людских душ... то кто он? — Эта
идея, вложенная Батлером в уста Прайера, имеет соответствие в «Едгине». См. также
с. 396 наст. изд.
3 ...не моя воля, о Господи, но Твоя да будет. — См.: Лк. 22: 42.
Глава 53
1 ...различие между нашим настоящим и прошлым больше, чем их сходство, а потому не
можем называть первое... продолжением второго, но находим менее неприятным называть
его новым. — Один из тезисов батлеровской эволюционной доктрины (ср.: NB 1913: 15;
см. также с. 342—345 наст. изд.).
2 «Молодая Англия» — возникший в 1841 г. кружок политических деятелей и
литераторов Англии, являвшихся членами или сторонниками партий тори. Душой кружка был
Дизраэли (см. примеч. 10 к гл. 78). В палате общин члены кружка составляли особую
группу, оппозиционно настроенную к тогдашнему руководству консервативной партии.
Как политическое объединение «Молодая Англия» просуществовала до 1845 г., как
литературное — до 1848 г.
3 «Олтон Локк». — Роман «Олтон Локк, портной и поэт» (1850) написан Чарлзом
Кингсли (1819—1875), священником Англиканской церкви, поэтом и писателем,
проповедником идей Низкой церкви и христианского социализма. В «Олтоне Локке»
повествование представлено в виде предсмертных записок главного героя, в которых часто
встречаются описания лондонских трущоб и нищеты.
4 «Жизнь Арнольда» Стэнли — биография Томаса Арнольда (1849), написанная его
учеником и последователем Артуром Пенрином Стэнли (1815—1881).
5 ...романы Диккенса и другое чтиво нашего времени... — Овертона не удовлетворяет
взгляд Диккенса на мир бедняков. Из этой оценки, однако, нельзя делать прямой
вывод об отрицательном отношении Батлера к творчеству Диккенса в целом (см. с. 364
наст. изд.).
6 Театр «Друри-Лейн» — королевский театр, основанный в 1661 г.; знаменит
постановками шекспировских пьес и участием в них выдающихся английских актеров.
Расположен на улице Друри-Лейн в центре Лондона.
7 ...в доме... — «Дом, — пишет Мейсон, — можно представить как пятиэтажный с двумя
комнатами на каждом этаже» (Mason 1993: 457). Прототипами жильцов писателю
послужили жильцы того дома, в котором Батлер жил в Лондоне в 1858—1859 гг.,
готовясь к принятию сана священника (см.: Jones 1919/2: 11; Mason 1993: 457—458).
8 Миссис Джуп. — Прототипом этого персонажа была прачка миссис Босс, в прошлом
проститутка (см.: Butleriana 1932: 157). Обороты речи миссис Босс фиксировались
писателем и стали материалом романа (см.: Butleriana 1932: 161—172). Литературным
образцом, на который опирался Батлер, была фигура шекспировской миссис Куикли,
высоко ценимая Батлером (см.: Butleriana 1932: 159).
Глава 55
1 Век распался, но он не только не находил скверным, что рожден восстановить его, но
считал, что он — именно тот человек, который требуется для такого дела... — Парафраз
слов шекспировского Гамлета: «Век расшатался, и скверней всего, / Что я рожден
восстановить его» [Шекспир. Гамлет. Акт I, сц. 5, ст. 188—189. Пер. М. Лозинского).
Примечания
435
2 Пейн Томас (1737—1809) — один из радикальных представителей европейского
просветительского свободомыслия, автор памфлета «Век разума» (1794—1795),
направленного против Церкви.
3 Фарисеи — иудейские священнослужители, которые неоднократно упоминаются в
Библии.
4 ...пойти по дорогам, и изгородям и убедить людей придти. — Ср.: Лк. 14: 23.
Глава 56
1 Уэсли и Уайтфилд. — См. примеч. 3 к гл. 9.
2 Реформация — религиозное движение в Западной и Центральной Европе XVI в.,
положившее начало протестантизму и возникновению различных протестантских
Церквей (англиканской, кальвинистской, лютеранской и др.).
3 ...уподобляетесь богачу из притчи о Лазаре... — См.: Лк. 16: 19—31.
Глава 57
1 Он попал... во власть банды духовных мошенников и фальшивомонетчиков... — Мейсон,
выделяя в данной фразе выражение: «попал во власть... мошенников» и сопоставив его
с выражением «какой-то добрый самаритянин», встречающимся в заключительном
предложении главы (см. с. 195 наст, изд.), справедливо указывает на то, что здесь имеется
в виду евангельская притча о добром Самаритянине (см.: Лк. 10: 30—37) (см.: Mason 1993:
458—459). Однако эта библейская тема варьируется Батлером на собственный лад:
«духовные разбойники и фальшивомонетчики» — такая характеристика вполне подходит к
едгинским служителям «музыкальных банков», напоминая об антиклерикальной сатире
Батлера в «Едгине» (см. также с. 346, 347, 351 наст. изд.).
2 ..между высшим и низшим классами существует пропасть... — Ср.: Лк. 16: 26.
Глава 58
1 ...свет озарит стезю его. — Ср.: Пс. 118: 105.
2 Ефес — город на западном побережье Малой Азии, столица древнеримской
провинции Азия (в русском переводе Библии — Асия), где проповедовал апостол Павел.
3 Павел боролся... со зверями... — То есть противостоял разъяренным гонителям
христиан (ср.: 1 Кор. 15: 32; 2 Кор. И: 23-26).
4 Предписание апостола Павла. — Имеются в виду слова апостола Павла из его второго
послания к Тимофею: «Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай,
запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием» (2 Тим. 4: 2).
Глава 59
1 «Доказательства» Пейли — сокращенное название книги Уильяма Пейли
«Рассмотрение доказательств христианства» (1794).
2 «Исторические сомнения». — Имеется в виду памфлет архиепископа Ричарда Уайт-
ли (1787—1863) «Исторические сомнения относительно существования Наполеона
Бонапарта» (1819), в котором автор, выпускник Ориел-колледжа в Оксфорде, известный
436
Примечания
своим остроумием и юмористическими стихами, пародировал рассуждения английских
скептиков-рационалистов XVIII в., выражавших сомнения в исторической
достоверности библейских рассказов об Иисусе Христе.
3 ...эта мысль не могла возникнуть у них... потому что они не нуждались в ней... — Здесь
приводится ламаркистское толкование принципа эволюционного развития (см. также
с. 342—343 наст. изд.).
4 ...теория эволюции еще не получила распространения... — См. примеч. 15 к гл. 47.
5 ...расскажите мне историю воскресения Иисуса Христа... — На эту тему Батлер
анонимно опубликовал памфлет и вернулся к ее обсуждению на страницах «Надежной
гавани» (см. с. 328, 353—354 наст. изд.).
6 ...он даже заставил ангела спуститься с небес, отвалить камень и сесть на него. — Так
об этом событии рассказывается только в Евангелии от Матфея (см.: Мф. 28: 2).
7 ...вы займете позицию, на какой стоит Карлейль. — Мыслитель Томас Карлейль
(1795—1881) был близок к пантеизму в интерпретации великого немецкого писателя и
философа Иоганна Вольфганга Гёте (1749—1832).
8 Читальный зал Британского музея. — Круглый зал Библиотеки Британского музея
был открыт в 1857 г.
Глава 60
1 Комментарии декана Элфорда. — См. примеч. 5 к гл. 49.
2 ...призвать не праведников, но грешников к покаянию. — См.: Мф. 9: 13.
3 ...огнем, пылающим в груди. — В оригинале — библейская цитата («consuming fire»).
Ср. в рус. пер.: «...Бог наш есть огнь поядающий» (Евр. 12: 29).
4 Шекспир говорит... — Далее следует цитата из шекспировской поэмы «Лукреция»
(1593-1594), ст. 876-882.
Глава 61
1 Сарепта — финикийский город на берегу Средиземного моря.
2 Илия — библейский пророк.
3 ...что за хлеб вдова в Сарепте намеревалась приготовить, когдаИлия застал ее
собирающей дрова. — Библейская аллюзия (см.: 3 Цар. 17: 10—13).
4 ...проповедь о бесплодной смоковнице... — На основе евангельской притчи о бесплодной
смоковнице (см.: Лк. 13: 6—9).
Глава 62
1 ...«Один день в дворах Твоих лучше, чем тысяча\»... — Пс. 83: 11; см. также след. примеч.
2 ...и подумал, что мог бы повторить то же самое о судах, по которым мы с Таунли были
вынуждены теперь слоняться. — Как отмечает Робинсон, «псалмопевец (см. пред.
примеч. — И.Ч.)У разумеется, имеет в виду, что один день в присутствии Бога лучше, чем
тысяча, проведенных без Его присутствия» (Robinson 1978: 435). Овертон же полностью
отступает от смысла приводимой им библейской цитаты: он намеренно ограничивает
свое понимание выражения «во дворах» лишь буквальным и сразу же вслед за тем
употребляет слово «court» — по-английски оно значит и двор и суд — во втором значении.
Таким образом, оба значения слова «court» фиксируются вниманием читателя и дают
Примечания
437
представление о судейских дворах, по которым Овертон и Таунли «были вынуждены
слоняться».
3 ...судья сказал следующее... — В речи судьи использованы языковые штампы
английского судопроизводства, и стилистически она напоминает речь едгинского судьи (см. с. 347
наст. изд.).
4 Колдбат-Филдс — лондонская тюрьма, в XIX в. известная строгостью своего
режима; фигурирует в диккенсовских «Очерках Боза» (1836); ныне не существует.
Глава 63
1 ...надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце... — См.: Притч. 13: 12.
2 Силоамская башня. — Упоминается в Евангелии от Луки (см.: Лк. 13: 4). Башня
обрушилась на восемнадцать человек, которые не были «виновнее всех, живущих в
Иерусалиме».
3 Беды, которые выпадают человеку до его рождения... оставляют в нем... неизгладимый
отпечаток... — Один из тезисов батлеровской эволюционной доктрины (см. с. 370—371
наст. изд.).
4 Если человеку суждено войти в Царствие Небесное, то он должен вступить в него не
просто как ребенок... — Ср.: Мф. 18: 3.
5 ...войти в Царствие Небесное... как крошечный эмбрион... — Один из тезисов
батлеровской эволюционной доктрины (см. с. 342—345 наст. изд.).
Глава 65
1 Как могло случиться?.. Не в том ли состоит причина... разве не был он предателем дела
истины? — Подобные вопросы волновали Батлера в брошюре «Свидетельство четырех
евангелистов» (1865), такие же вопросы задает себе и Хиггс, герой «Снова в Едгине»
(1901) (см. также с. 328, 358—361 наст. изд.).
2 «Господи... Укрепи меня и помоги моему неверию». — Ср.: Мк. 9: 24.
3 ...что такое инстинкт? Это форма веры в очевидность того, что не лежит на
поверхности. — Здесь отражены позитивистские представления Батлера о «неведомом мире»
(см.: NB 1913: 168, а также с. 348 наст. изд.).
4 ...праведные живут верой. — Здесь и далее варьируется библейское изречение из
Книги пророка Аввакума: «...праведный своею верою жив будет» (Авв. 2: 4).
5 ...насыпать щепотку соли... на хвост архиепископу... — Ср. примеч. 2 к гл. 35.
Глава бб
1 Иов, вероятно, переживал потерю своих стад сильнее, чем потерю жены и всего
семейства... — О несчастьях, постигших Иова, рассказывается в библейской Книге Иова (см.:
Иов 1: 13—22; 2: 9—10). Батлер допускает неточность: жена Иова не погибла вместе с его
детьми и стадами.
Глава 67
1 История о Геркулесе и Антее. — Согласно античному мифу, Геркулес одолел Антея
только тогда, когда, оторвав того от земли, поднял в воздух, ибо Антей, прикасаясь к
матери-земле, был неуязвим.
438
Примечания
2 ...ему предстоит пуститься в путь и на этом поприще... — В оригинале измененная
цитата из Библии. Ср. Батлер: «...before him too there was a race set...» и библейский текст:
«Let us run with patience the race that is set before us...» (Евр. 12: 1). Соответствующая фраза
из русского текста Библии («...будем проходить предлежащее нам поприще...») не
вписывается в контекст данного батлеровского пассажа.
3 ...начать новую жизнь в Австралии или Новой Зеландии... — Автобиографическая
деталь (см. с. 341 наст. изд.).
4 ...о счастье Мелхиседека, который был сиротой, без отца, без матери и без
родословной. — О Мелхиседеке в Библии сказано: «Без отца, без матери, без родословия, не
имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребьшает
священником навсегда» (Евр. 7: 3). В «Записных книжках» Батлер называет Мелхиседека «поистине
счастливым человеком, ибо тот «"жил без отца, без матери, без родословия", был
воплощенным холостяком и сиротой от рождения» (NB 1913: 33).
Глава 68
1 ...он пытался отказаться от отца и матери во имя Христа. — Ср.: Мф. 19: 29.
2 Роза не перестает быть розой от того, что не знает собственного названия. —
Шекспировская аллюзия. Ср.: «Что в имени? То, что зовем мы розой, —/И под другим
названием сохранила 6 / Свой сладкий запах!» (Шекспир У. Ромео и Джульетта. Акт П, сц. 2, ст. 43—
44. Пер. Т. Щепкиной-Куперник).
3 ...все содействует ко благу любящих Бога... — См. эпиграф к роману.
4 Ария Генделя «Великий Боже, еще так смутно различимый». — Имеется в виду ария
Кира из первого действия оратории Г.-Ф. Генделя «Валтасар» (1745).
5 Не может ли... обнаружить, как апостол Павел, что сила совершается в немощи? —
См.: 2 Кор. 12: 9.
6 Cantabit vacuus. — Поет неимущий. Усеченная строка из десятой сатиры Ювенала:
Cantabit vacuus coram latrone viator.
Идя ж без клади, поет и разбойников встретивший путник.
(Ювенал. Сатиры. X. 22. Пер. Д. Недовича и Ф. Петровского)
7 ...как и с душой человека, которую можно спасти, потеряв... — Имеются в виду слова
Христа в Евангелии от Матфея: «Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу
свою ради Меня сбережет ее» (Мф. 10: 39).
8 ...чувствует себя так, как если бы все было обретено. — Данное предложение
выпущено в русском переводе 1938 г.
9 Далее Эрнест понял <...> всю систему... — Фрагмент отсутствует в русском
переводе 1938 г.
10 Архиепископ Кентерберийский мог прыгать вокруг него... не подвергаясь опасности...
быть посыпанным солью. — Ср. примеч. 2 к гл. 35.
11 Топчак — разновидность привода, при котором источником передаваемой энергии
служит мускульное ножное усилие. В XIX в. применялся на каторжных работах в
английских тюрьмах строгого режима.
Глава 69
1 ...чтобы тот был... не ближе, чем антиподы... — То есть в Австралии или Новой
Зеландии.
Примечания
439
2 ...во имя Христа... — Фрагмент фразы выпущен в русском переводе 1938 г.
3 Рубикон — небольшая река в Северной Италии на границе между Умбрией и
Цизальпинской Галлией. В 49 г. до н. э. эту реку перешел древнеримский полководец и
политический деятель Гай Юлий Цезарь (100—44 до н. э.), решивший начать
гражданскую войну. Отсюда выражение «перейти Рубикон», усвоенное многими языками и
означающее совершить решительный шаг, способный кардинальным образом изменить
судьбу.
4 Беда в том <...> спасению от явного безумия. — Данный фрагмент выпущен в русском
переводе 1938 г.
5 ...по Феттер-Лейн к Флит-стрит и далее к Темплу... — Феттер-Лейн расположена в
центре Лондона. По этой небольшой улице Батлер, как он сообщает в «Записных
книжках», «ходил чаще, чем по любой другой» (NB 1913: 237). По ней можно выйти к Флит-
стрит, крупной лондонской магистрали, где помещались издательства крупнейших
английских газет, и попасть в район Темпла (в средние века там жили
рыцари-тамплиеры), где в Клиффорд-Инн писатель снимал меблированные комнаты.
Глава 70
1 «Олимпик» — театр, находившийся в районе центральной лондонской улицы
Стрэнд, во времена Батлера был популярен благодаря шедшим там эстрадным
представлениям в жанре феерии и буффонады (см. также примеч. 8 к гл. 27).
2 Робсон Фредерик (1821—1864) — разносторонний драматический актер, руководил
труппой театра «Олимпик» и был ее ведущим актером.
3 Кили Мэри Энн (1806—1899) — одна из наиболее популярных английских
комических актрис в середине XIX в.
4 В сцене накануне убийства... Дункана... — В романе пародируется заключительный
эпизод первого акта шекспировской трагедии «Макбет» (1606) (см.: Шекспир. Макбет.
Акт1, сц. 7, ст. 1-72).
5 «Какая чушь этот Шекспиры... — Ср. «Записные книжки»: «Нет ничего, что даже
и Шекспиру доставило бы большее удовольствие, чем хорошая бурлескная пародия
"Гамлета"» (NB 1913: 391).
(> ...отправить его в какую-нибудь из колоний. — Автобиографическая деталь (ср.
примеч. 3 к гл. 67).
Глава 71
1 Будь вы молодым Джоном Стюартом Миллем... — Дж.-Ст. Милль (о нем см.
примеч. 5 к гл. 47) был вундеркиндом и по интеллектуальному развитию в детстве
значительно опережал сверстников; в юности это вызвало у него психический кризис.
Глава 72
1 ...люди если и спасаются, то как бы из огня. — Батлер здесь цитирует слова
апостола Павла из Первого послания к Коринфянам. Ср.: «А у кого дело сгорит, тот потерпит
урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня» (1 Кор. 3: 15).
2 ...я жил возле Темпла. — Там же, где жил сам писатель (ср. примеч. 5 к гл. 69).
3 ...сжечь дотла дом, чтобы зажарить поросенка... — В юмористическом очерке
Чарлза Лэма (1775—1834) «Трактат о жареном поросенке» (1832) говорится о том, что гаст-
440
Примечания
рономические прелести зажаренного свиного окорока были впервые случайно
открыты после пожара.
Глава 73
1 Он... любил Оффенбаха... — Любовь Эрнеста к музыке французского композитора
Жака Оффенбаха (1819—1880), мастера комической оперы, вполне соответствует
склонности Овертона к буффонаде и бурлеску.
2 ...Эрнест... имел при себе... книжку. — Подобная записная книжка была и у Батлера
(ср.: Butleriana 1932: 161-172).
3 Тщетно пытался я отвлечь его... в пользу тем, которые вызывали больший интересу
широкой публики. — Эту роль по отношению к Батлеру играла мисс Сэвидж (см. с. 365—
366 наст. изд.).
4 Ты... тыкаешь палкой в спящую собаку. — Намек на английскую пословицу «Не буди
спящую собаку». Ср. рус. эквивалент: «Не буди лиха, пока оно тихо».
5 ...quod semper, quod ubique, quod ab omnibus... — «To, что [принято] всегда, везде,
всеми». Изречение св. Винцента Леринского (ум. в 450 г.) из его трактата «Наставление
путнику» (434), где дается определение веры.
6 «Нетерпеливая Гризелъда». — Название представляет собой оксюморон: согласно
традиции Гризельду, которая сносила все выходки своего мужа, принято считать
воплощением терпения.
7 Он непрерывно изучал естественнонаучные и метафизические труды... — Вероятно,
Батлер имеет в виду самого себя.
8 Епископ Беркли — английский философ Джордж Беркли (1685—1753), епископ
Англиканской церкви в Клойне (Ирландия).
9 ...ни одного абсолютно неопровержимого постулата выдвинуть нельзя. — Согласно
Беркли (см. пред. примеч.), реальные предметы существуют для нас лишь постольку,
поскольку воспринимаются. Esse est percipi (лат. существовать — значит быть
воспринимаемым) — основной тезис Беркли. Отсюда следует, что никто никогда не может
выдвинуть абсолютно истинного суждения, ибо всякое суждение всегда зависит от того, кто
его формулирует (т. е. субъективно).
10 ...те, кто рубит дрова, и те, кто черпает воду... — Библейская аллюзия (см.: Ис.
Нав. 9: 21).
Глава 75
1 Исав — библейский персонаж, за чечевичную похлебку продавший право
первородства Иакову, своему брату; Иаков же хитростью получил благословение отца,
предназначавшееся Исаву (см.: Быт. 25: 31—33; 27: 1—39).
2 ...которые, имея уши, не слышат; имея глаза, не видят... — Библейский парафраз. Ср.:
«...есть у них глаза, но не видят <...> есть у них уши, но не слышат» (Пс. 113: 13, 14); см.
также: Пс. 134: 16, 17 и Ин. 12: 40).
3 ...кто не обретет места для раскаяния, хотя они и будут искать его со слезами. —
Библейский парафраз (ср.: Евр. 12: 17. Ср. также примеч. 3 к гл. 37).
4 ...утвердить стопу свою... — Библейский парафраз. Ср. Втор. 28: 65: «...neither shall
the sole of thy foot have rest» («...место покоя для ноги твоей»); Батлер: «...rest the sole of
his foot».
Примечания
441
Глава 76
1 — Ну истинная правда, — сказал Джон, — я женился на ней... — Как отмечает Мей-
сон, сюжетный мотив двоемужества, вероятно, был введен Батлером не без влияния
аналогичного мотива в романе Теккерея «Пенденнис» (1848—1850) (см.: Mason 1993: 464;
ср.: Jones 1919/2:11).
Глава 77
1 «Уж лучше полюбить, но безответно, чем никого вовеки не любить». — Строка из
поэмы Альфреда Теннисона (см. о нем примеч. 6 к гл. 8.) «In Memoriam A. H. H.»
(«Памяти А.-Г. Г.») (1850), написанной в память о его друге. Приводится в переводе Г. Бена.
Глава 78
1 Я не очень близко знаком с автором «Одиссеи» [который... как я... подозреваю, был
священником)... — В отличие от Овертона Батлер проявил большой интерес к этой
древнегреческой поэме: он перевел ее прозой на английский язык (см.: «"Одиссея",
пересказанная английской прозой», 1900) и посвятил проблеме ее авторства книгу (см.:
«Авторство "Одиссеи"», 1887). Вложенное в уста Овертона предположение является шуткой,
рассчитанной на друзей писателя, знавших о его увлечении.
2 ...познал «обычаи и нравы многих людей». — См.: Гомер. Одиссея. I. 3. Ср. в пер. В.
Жуковского: «Многих людей города посетил и обычаи видел».
3 Блэкфрайерс — район в центре Лондона (в средние века там жили доминиканские
монахи — «Братья в черных сутанах», отсюда и название).
4 Греческая и суррейская пантомимы. — Имеются в виду пантомимы, ставившиеся в
«Греческом театре» и «Суррейском театре», которые были расположены в
Блэкфрайерс (см.: Robinson 1978: 439).
5 Его тетка хотела, чтобы он поцеловал зелыю... — См. примеч. 1 к гл. 67.
6 ...идея его внезапного превращения из владельца жалкой лавчонки в человека с доходом
три-четыре тысячи в год. — Именно такой скачок оказался губительным для характера
Джорджа Понтифекса (см. с. 21 наст. изд.).
7 ...назначил бы учителя спекуляции в каждой школе. — Так поступают в произведении
Батлера «Снова в Едгине».
8 ...единственные стоящие вещи, которым Оксфорд и Кембридж могут как следует
выучить, — это кулинарное искусство, крикет, гребля и игры... — Ср. «Записные книжки»: «В
Оксфорде и Кембридже уровень кулинарии выше, чем где-либо. Кулинария там
лучше, чем учебная программа. Но вот кафедры кулинарных искусств нет» (NB 1913: 222).
9 ...где-то году в 1846-м... — В 1846 г. Англию сотрясала биржевая лихорадка,
связанная со строительством железных дорог (см.: Mason 1993: 464). Далее идет речь об
инвестициях в железнодорожные компании.
10 ...триста фунтов... таков был доход, который мистер Дизраэли дал Конингсби... —
Конингсби — герой романа «Конингсби, или Новое поколение» (1844) английского
писателя и политического деятеля Бенджамина Дизраэли, позднее графа Биконсфилда
(1804—1881), которым Батлер восхищался (см.: Jones 1919/1: 360). Как отмечает Мей-
сон, Батлер допускает неточность: сумму в триста фунтов обязывался выплачивать
овдовевшей матери Конингсби ее свекор, в случае если она откажется от своего сына
442
Примечания
(см.: Mason 1993: 464—465). Сумма в триста фунтов являлась для Батлера
значительной: в 1870 г. он считал ее достаточной для обеспечения своего годового прожиточного
минимума (FL 1962: 170).
Глава 79
1 Человек впервые ссорится со своим отцом примерно за три четверти года до того, как
родится. — Эта тема разрабатывается Батлером в «Едгине» (см. с. 347 наст. изд.).
2 ...люди, которые нуждаются в прививке... — Батлер излагает здесь суть своей
эволюционной доктрины (ср. с. 81 наст, изд.: «Все должно скрещиваться, иначе оно
перестанет существовать»; см. также с. 342—343 наст. изд.).
3 Гомеопаты используют аигит в качестве лекарства... — Золото применялось в
средневековой медицине, в XIX в. его иногда прописывали в малых дозах (см.: Robinson 1978: 439).
4 Уголок поэтов — место в Вестминстерском аббатстве, где установлены памятники
многим английским поэтам и писателям; некоторые из них там же захоронены.
5 Риджент-парк — место расположения лондонского зоопарка.
Глава 80
1 Лотофаг. — О «земле лотофагов» рассказывается в «Одиссее» Гомера: «...лишь
только / Сладкомедвяного лотоса каждый отведал, мгновенно / Все позабыл и, утратив
желанье назад возвратиться, / Вдруг захотел в стране лотофагов остаться, чтоб вкусный /
Лотос сбирать...» (IX. 93—97. Пер. В.А. Жуковского). Приключение спутников Одиссея в
«земле лотофагов» изображено Альфредом Теннисоном в стихотворении «Поедатели лотоса»
(1833), известном в русском переводе К. Бальмонта под названием «Вкушающие лотос».
2 ...ряд гравюр времен Французской революции... — В отделе гравюр Британской
библиотеки их обнаружить не удалось.
3 Ликург — легендарный спартанский законодатель (согласно традиции, жил в IX—
VIII вв. до н. э.).
4 ...зелен был виноград. — Скрытая цитата из басни полулегендарного
древнегреческого баснописца Эзопа (согласно традиции, жил ок. VI в. до н. э.) «Лисица и виноград».
5 ...во имя Христа... — Данный фрагмент фразы выпущен в переводе 1938 г.
Глава 81
1 Вспомните о Мильтоне, который получил за «Потерянный Рай»... — «Потерянный
Рай» (ок. 1665) — эпическая поэма, самое известное произведение Джона Мильтона
(1608—1674), великого английского поэта.
2 ...подобны покупающим и продающим, о которых говорится в Книге Откровения: нет
ни одного, на ком не было бы знака зверя. — Имеется в виду следующий фрагмент из
Книги Откровения Святого Иоанна Богослова: «И что никому нельзя будет ни покупать,
ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени
его» (Опер. 13: 17).
3 Если бы я даже был собором в колониальном городе, люди дали бы мне что-нибудь... —
Автобиографическая деталь. Батлер имеет в виду собор в Крайстчерче, центре Кентер-
берийской английской колонии в Новой Зеландии, возведенный на пожертвование
колонистов в период пребывания там писателя (см.: Robinson 1978: 440).
Примечания
443
4 ...те, кто обладает богатством, вряд ли войдут в Царствие Небесное. — Ср.: Мф. 19: 23.
5 ...они подобны струлъдбругам... — Данный фрагмент выпущен в русском переводе
1938 г.
6 ...я похож на одну из тех гусениц, которым, если им помешают сплести кокон,
приходится опять и опять начинать сначала. — Такова композиционная функция Эрнеста в
восстановлении наследственности своего рода в соответствии с эволюционными
представлениями Батлера. Подробней см. статью на с. 384 наст. изд. Рассуждение
Эрнеста имеет своим источником «Происхождение видов» Дарвина, что очевидно из
сравнения данной фразы из «Пути всякой плоти» и цитаты из труда натуралиста, которую
Батлер приводит в «Жизни и привычке» (см.: Life and Habit 1878: 224—225; Mason 1993:
466).
7 ...свободное использование увеличенной сексты. — Секста (лат. sexta — шестая)
обозначает музыкальный интервал шириной в шесть ступеней (например, до — ля).
Увеличенная секста имеет на полутон больше, чем чистая (например, до — ля-диез).
8 ...принесение Исааком в жертву Авраама, и никаких зарослей... с агнцем в них
наготове. — Батлер меняет местами действующих лиц библейского сюжета о принесении
Авраамом в жертву сына своего, Исаака (ср.: Быт. 22: 1—13).
Глава 83
1 ...склонность к псовой охоте... — В оригинале: «an instinct for hunting with the hounds»,
что является частью пословицы: «То run with the hare and hunt with the hounds» (служить
и вашим и нашим, вести двойную игру).
2 ...«Мы не можем желать, чтобы это продлилось»... — Поведение Теобальда
воспроизводит подлинные черты поведения Томаса Батлера, отца писателя, в подобных
обстоятельствах (см.: Jones 1919/2: 4).
3 Лаго-Маджоре — озеро в Италии на границе со Швейцарией, в южных отрогах Альп.
4 ...розы все еще ожидали пчел... — Имеется в виду узор на обоях в гостиной (см. с. 79
насг. изд.).
5 ...читал... о Ноевом ковчеге и о том, как его обмазывали илом... — Как отмечает Мей-
сон (см.: Mason 1993: 460), в батлеровском тексте допущена странная несообразность: о
Ноевом ковчеге говорится в Книге Бытия (см.: Быт. 6: 14), но выражение «daubed it with
slime» (обмазывали илом), использованное Батлером, относится не к Ноеву ковчегу
(Noah's ark), а к «корзине из тростника» (an ark of bulrushes), в которую мать
поместила младенца Моисея (см.: Исх. 2: 3).
6 ...две мелодии... он пробовал насвистывать их... — Как и Томас Батлер (см.: Jones 1919/
1: 27).
7 Лидийский или фригийский лад — древнегреческая музыкальная система
объединения звуков различной высоты, тяготеющих друг к другу; построена несколько иначе, чем
общеизвестная мажорно-минорная ладовая система.
8 Господь, кого любит, того наказывает... — Евр. 12: 6.
9 ...о завещании умирающего Давида Соломону относительно Семея... — См.: 3 Цар. 2: 8—
9. Читая в указанном фрагменте такие библейские строки, как «он злословил меня
тяжким злословием» и «Ты же не оставь его безнаказанным», Теобальд метит в Эрнеста.
10 ...«Пусть скучен или долог день, в конце его звонят к вечерне». — Автобиографическая
деталь: цветная картинка с такой надписью висела в комнате Батлера, когда он
приезжал в Лангар к родителям (см.: Jones 1919/2: 5). Надпись представляет собой
стихотворный парафраз двух заключительных строк «Эпитафии» английского поэта Стивена
Хауса (1475-1525).
444
Примечания
11 ...в... священническом облачении с двумя белыми полосками... — Они напоминают
такие же полоски в облачении швейцарских кальвинистских священников и являются
знаком близости к протестантизму Низкой церкви (см.: Mason 1993: 267).
12 Лорд Морнингтон — Гаррет Уэсли Морнингтон (1735—1781), английский аристократ;
сочинял музыку для хора а-капелла.
13 Доктор Дюпюи — Томас Сэндерс Дюпюи (1733—1796), английский органист и
композитор, сочинял музыку для хора без аккомпанемента.
14 ...мы должны петь «Слава Отцу» в конце каждого из псалмов, вместо того чтобы
просто произносить это. — Здесь и далее речь идет об изменениях в ритуале
англиканского богослужения, происходивших под влиянием усиления позиций Высокой церкви
(о ней см. примеч. 3 к гл. 50).
15 ...поворачиваться на восток... — То есть к алтарю.
16 ...«аллилуйя» вместо «хэллилуйя»... — Первое слово греческое, второе — еврейское,
т. е., в отличие от первого, ветхозаветное.
17 «Гимны древние и новые». — См. примеч. 15 к гл. 14.
18 Пасхальные украшения. — Речь идет об украшениях церковного алтаря на Пасху.
19 ..Англиканская церковь еще смотрит недружелюбным взглядом на теорию эволюции...
научение о... видоизменениях. — Ср. с. 158; см. также с. 332—339 наст. изд.
20 Дух, поддерживающий Церковь, является истинным, а ее буква... теперь более не
истинна. — Здесь отражено отношение Батлера к христианству и современной ему
естественнонаучной мысли (см. также с. 341—343, 348, 355, 360—361, 389—391 наст. изд.).
21 Дух, питающий высших жрецов науки... — Стретфилд изменил батлеровский текст.
В рукописи здесь фигурируют фамилии двух известных представителей
естественнонаучной мысли эпохи — Томаса Генри Гексли (1825—1895) и Джона Тиндалла (1820—1893)
(см.: Howard 1964: 334).
22 ...обвинить английское духовенство. — Данный фрагмент выпущен в русском
переводе 1938 г.
23 «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». — Мф. 5: 8.
24 ...текст из «Блаженных запавидей»... — Каменотес Проссер неверно произносит
название евангельских «Заповедей блаженства» (см.: Мф. 5: 3—11).
Глава 84
1 Измаил. — О нем рассказывается в Библии. Сын Авраама и его рабыни Агари, он
был изгнан из дома и жил в пустыне (см.: Быт. 16: 12; 21: 10—21); неоднократно
упоминается Батлером как пример изгоя (см., напр.: NB 1913: 231).
2 Если мне и суждено чего-либо добиться, то... благодаря сочинительству. — Ср. слова
самого Батлера в «Записных книжках»: «Я знаю, в чем я сильнее всего — в сочинительстве»
(NB 1913: 105).
3 ...наиболее энергичными и приятными из известных наций являются... островитяне
южных морей. — Эта тема разрабатывается Батлером в «Едгине».
Глава 85
1 ...ряд полутеологических-полупублицистических очерков... — Такие очерки были
опубликованы самим Батлером под вымышленными именами в лондонской газете «Экзами-
нер» (Examiner) 14 июня 1879 г. (см.: Jones 1919/1: 295-297).
2 Четвертое Евангелие. — То есть Евангелие от Иоанна.
Примечания
445
3 Вильгельм Завоеватель (1027—1087, правил в 1066—1087 гг.) — герцог Нормандский,
ставший после победы при Гастингсе королем Англии и основавший династию
английских королей.
4 ...пусть... затруднительно изменить слова в нашем молитвеннике и своде догматов, но
не составило бы труда незаметно изменить смысл, какой мы вкладываем в эти слова. —
Так предлагает поступать с религиозными догмами доктор Дауни, один из персонажей
«Снова в Едгине».
5 Лаодикийская церковь. — Упоминается в Библии. Осуждается Иоанном Богословом
за равнодушие и самоуспокоенность (см.: Откр. 3: 14—18). Лаодикия — город в Малой
Азии, основанный греками в Ш в. до н. э.
в ...должен быть горяч только в стрелыении оставаться едва теплым. — В
противоположность тому, о чем говорится у Иоанна Богослова: «Но как ты тепл, а не горяч и не
холоден, то извергну тебя из уст Моих» (Откр. 3: 16).
7 ...жить, двигаться и существовать... — Библейский парафраз: «...мы Им живем и
движемся и существуем» (Деян. 17: 28).
8 ...и как можно более полное счастье... и есть высочайшее благо... — Здесь
использована этическая формула английского утилитаризма: «Наибольшее счастье наибольшего
количества людей».
9 ...обронил ряд насмешливых намеков, сделать которые, по мнению рецензентов, достало
бы дерзости лишь... епископу... — Такое предположение относительно авторства
анонимно опубликованного «Едгина» было сделано одним из рецензентов в 1872 г. (см.:
Robinson 1978: 441).
10 ...omne ignotumpro magnifico. — Изречение древнеримского историка Публия
Корнелия Тацита (ок. 55 — ок. 120 н. э.) из его сочинения «Жизнеописание Юлия Агриколы»
(30. Пер. А. С. Бобовича). Это изречение, ставшее крылатым, Батлер использовал для
характеристики благожелательных рецензий на анонимную публикацию «Едгина» (см.:
Butleriana 1932: 9).
11 «Письма к провинциалу» (1656—1657) — анонимно публиковавшиеся очерки
французского философа и писателя-моралиста Блеза Паскаля (1623—1662). В «Письмах»
вымышленный персонаж, монах-иезуит, излагает свои взгляды на религию и мораль,
сводимые Паскалем к абсурду.
12 ...этот еженедельник... находил... какую-нибудь сатиру прекраснейшей из всего, что
появлялось со времен Свифта... — Батлер, очевидно, имеет в виду рецензию на анонимное
издание «Едгина» в «Зрителе» (см.: Spectator. 1872. April 20). См. с. 350 наст. изд.
13 ...обладал способностью впадать временами в чрезмерный энтузиазм. — Как Джон
Оуэн, герой «Надежной гавани».
14 ...напоминает того деятеля прошлого столетия, о ком говорили, что только такая
плохая репутация может мешать успеху таких талантов. — Имеется в виду Уильям Янг (ум.
1755), английский политический деятель и литератор, неизменный сторонник премьер-
министра Англии Роберта Уолпола (1676—1745), который отозвался о Янге так: «Ничто,
кроме такой плохой репутации, не может, вероятно, помешать его талантам, и ничто,
кроме таких талантов, не может, вероятно, удержать его репутацию от того, чтобы она
не упала еще ниже». В тексте Батлера содержится намек на эти слова Уолпола.
Глава 86
1 Холборн — улица в центре Лондона, составляет северную границу Сити.
2 Пассаж — лондонский магазин, расположенный в крытой галерее.
446
Примечания
3 ...над этой старой греховодницей не властвуют годы... — Слегка измененная цитата из
шекспировской пьесы «Антоний и Клеопатра» (1606—1607). Ср. у Батлера: «...age does
not wither this godless old sinner...» и у Шекспира: «Age cannot wither her» (акт II, сц. 2,
ст. 236). В русском переводе: «Над ней не властны годы» [пер. М. Донского) (см.: Mason
1993: 470).
4 Однажды <...> не было исполнено. — Фрагмент отсутствует в переводе 1938 г.
5 Что это мерзкое правительство собирается делать с Ирландией'*. — В английском
правительстве либералов, пришедшем к власти в 1880 г., имелись влиятельные
сторонники принятия закона о местном самоуправлении в Ирландии.
6 ...чтобы они взорвали... — Под «они» имеются в виду фении (Fenians), члены
ирландской революционной организации, прибегавшей к террору в борьбе за политическую
независимость Ирландии от Англии.
7 Гладстон Уильям Юарт (1809—1898) — премьер-министр в правительстве
либералов (1868—1874, 1880—1885, 1886, 1892—1894 гг.), выступал за местное самоуправление
Ирландии.
8 Лорд Хартингтон — Спенсер Комптон Кавендиш, маркиз Хартингтон, позднее
герцог Девонширский (1833—1908). Будучи членом кабинета Глад стона, возражал против
местного самоуправления Ирландии.
9 Клепем-Джанкшн — станция и крупный железнодорожный узел, вплоть до 1870-х
годов пригород Лондона.
10 Уменьшенная септима — одна из разновидностей септимы, музыкального интервала
в семь ступеней.
11 Энгармонические замены — основаны на энгармонизме (от греч. enarmonios —
совпадающий) звуков одинаковых по высоте, но различного названия (например, до-диез и
ре-бемоль). Энгармоническая замена одного звука изменяет структуру аккорда.
12 Квиринал — один из семи римских холмов, место расположения королевского
дворца. Мистер Скиннер произносит это название как Квиринал, что соответствует
правилу произношения в латинском, но не в итальянском языке.
13 Я любил бы современную музыку, если б мог... я пытался полюбить ее, но чем
старше становлюсь, тем меньше мне это удается. — См. примеч. 16 к гл. 4.
14 Недавно я беседовал о нем с его издателем. — Подобные разговоры Батлер вел со
своим издателем Трюбнером, который и назвал писателя «человеком одной книги», имея
в виду «Едгин» (см.: NE 1913: 155—156).
15 ...он ненавидит неразумно, но безмерно. — Здесь обыгрывается фраза из
предсмертного монолога шекспировского Отелло: «...человеке, любившем неразумно, но
безмерно» [Шекспир. Отелло. Акт V, сц. 2, ст. 351. Пер. М. Лозинского) (см.: Mason 1993: 472).
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ
И ТВОРЧЕСТВА САМУЭЛЯ БАТЛЕРА
1835, 4 декабря
1843-1844
1848-1854
1854
1857
1858
1859
1859, 30 сентября
1860-1864
1860
1862-1864
1863
1864
В Лангаре (вблизи Бингема в Ноттингемшире) в семье
приходского англиканского священника Томаса Батлера и его жены
Фанни Батлер (урожденной Уорсли) родился сын Самуэль.
Зимние месяцы семья проводит в Риме и Неаполе.
Учеба в г. Шрусбери (Шропшир), в школе, основанной
епископом Личфилдским и Ковентрийским доктором Самуэлем Батле-
ром, дедом писателя.
Поступление в Кембриджский университет (колледж Святого
Иоанна). Чтение античных авторов.
Путешествие в Бельгию, Нидерланды и Италию с посещением
крупных художественных музеев.
Окончание Кембриджского университета. С отличием сдает
выпускной экзамен по классическим языкам.
Получает степень бакалавра искусств.
Отказ от духовной карьеры, конфликт с семьей. Возвращение
в Кембридж. Интенсивная переписка с отцом относительно
выбора профессии.
Отплытие в Новую Зеландию.
При материальной поддержке отца заводит овцеводческую
ферму в гористой местности вблизи новозеландской реки Ранджита-
та. Успешно хозяйствует.
Читает труд Дарвина «Происхождение видов» и становится
сторонником дарвиновской теории эволюции.
Под влиянием дарвиновских идей анонимно публикует ряд
очерков в новозеландской прессе.
Томас Батлер публикует новозеландские письма сына в книге,
озаглавленной «Первый год в Кентерберийском поселении».
Самуэль Батлер возвращается в Англию и обосновывается в
Лондоне, в меблированных комнатах в Клиффорде Инн на Флит-
стрит. Поступает в одну из лондонских частных художественных
школ с намерением получить профессиональное образование.
448
Основные даты жизни и творчества Самуэля Баталера
1865
1867
1870
1872
1873
1873, лето
1874
1874
1877
1877
1878
1879-1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1886
1887
1888
1891
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902, 18 июня
Пишет картину «Семейные молитвы».
В лондонской прессе анонимно публикует несколько очерков на
темы дарвиновской эволюции и брошюру «Свидетельства
четырех евангелистов».
Знакомство с мисс Э.-М.-А. Сэвидж.
Начинает обработку новозеландских очерков для будущего фан-
тастико-сатирического произведения «Едгин».
Анонимно публикует «Едгин».
Анонимное издание памфлета «Надежная гавань». В этом же году
появляется второе издание памфлета с указанием имени автора.
Начинает работу над романом «Путь всякой плоти».
Банкротство англо-канадской компании, в которую вложен
основной капитал Батлера.
Приступает к систематизации своих заметок для «Записных
книжек».
Прекращает заниматься живописью.
Публикация книги «Жизнь и привычка».
Продолжает работу над романом «Путь всякой плоти».
Разрыв личных отношений с Чарлзом Дарвином. Публикация
книг: «Эволюция — старая и новая», «Бессознательная память».
Выпускает книгу «Альпы и храмы».
Начинает сочинять музыку в духе Генделя.
Завершает создание «Пути всякой плоти».
Редактирует рукопись романа и прекращает работу над ней.
Смерть мисс Э.-М.-А. Сэвидж.
Забаллотирован при выдвижении его кандидатуры на должность
проо]эессора изящных искусств в Кембридже.
Смерть отца. Батлер получает наследство. Начало ежегодных
поездок в Италию.
Публикация книги «Удача или сообразительность».
Публикация книги «Ex Voto».
Приступает к редактированию «Записных книжек».
Выпускает биографию деда «Жизнь и письма доктора
Самуэля Батлера».
Публикует свою теорию об авторстве «Одиссеи».
Прозаический перевод гомеровской «Илиады».
Издает шекспировские «Сонеты».
Публикует прозаический перевод «Одиссеи».
«Снова в Едгине».
Смерть.
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
С. 5. Самуэль Батлер. Фотография, сделанная фирмой «Дж. Рассел и сыновья». 1901.
Ил. 1. Самуэль Батлер. Автопортрет. Картон, масло. 1865.
Ил. 2. Самуэль Батлер. Миссис Баррат, Лангар. 1866 или 1867. Одна из наиболее
ранних известных нам фотографий, сделанных Батлером в его родных местах.
Ил. 3. Самуэль Батлер. Антиной, изображенный в виде Гермеса. Бумага, карандаш.
40,6 X 67,9 см. 1868. Возможно, является одним из рисунков, посланных
Батлером в качестве заявки на прием в училище при Королевской академии
живописи. Его так туда и не приняли.
Ил. 4. Самуэль Батлер. Пиза. Бумага, карандаш, акварель, гуашь. 31,8 х 40 см.
Ил. 5. Самуэль Б атлер. Семейная молитва (Family Prayers). Холст, масло. 50,8 X 40,6 см.
1864. Самая известная и наиболее часто выставлявшаяся картина из числа
принадлежащих кисти писателя; создана вскоре после его возвращения из
Новой Зеландии. Сюжет перекликается со сценой семейной молитвы,
описанной в гл. 22—23 «Пути всякой плоти» — романа, начатого в 1873 году. Автор
сопроводил картину следующей надписью: «Я создал ее в 1864 году, и если бы
продолжил творить исходя из образов, рождавшихся в моей голове, вместо
того чтобы копировать других, то достиг бы определенных успехов». Сам
Батлер так писал об этой картине: «[Изображенная сцена] бесспорно
принадлежит к числу самых смешных в моей жизни, если не считать виденных мною
в Италии приношений по обету. Я так и не закончил эту картину, однако
сохранил и надеюсь, ее не уничтожат после моей смерти» (Jones 1919/1: 115).
Искусствовед Грэм Рейнольде считал, что в картине заключена суть протеста
Батлера против жестокости, скрытой под маской лицемерия, коим отмечена
вся семейная жизнь в викторианскую эпоху (см.: Reynolds G. Painters of the
Victorian Scene. L., 1953. P. 21, 89).
Ил. 6. Самуэль Батлер. Две головы, созданные по оригиналу Беллини. Холст,
масло. 55,8 х 44,4 см. 1866. Учась в художественной школе Хизерли, Батлер
пытался следовать принципам прерафаэлитов. За образец он взял творчество
Джованни Беллини (ок. 1430—1516) — художника, которого особенно высоко
превозносил пользовавшийся огромным авторитетом критик Джон Рескин
(1819—1900). Как вспоминал Джон Батлер Иитс, соученик С. Батлера,
будущего писателя на протяжении многих лет снедала страсть писать картины в
стиле Беллини. Данный портрет (изображающий студийных натурщиков) на-
450
Список иллюстраций
писан в подражание двойному портрету, который, как полагали,
принадлежал кисти Джованни Беллини и изображал художника и его брата Джентиле
(впоследствии автором портрета стали считать Джентиле Беллини, а позднее
Карьяни; спор об авторстве и о том, кто именно представлен на картине, не
разрешен до сих пор). С. Батлер написал два эссе, посвященных
оригинальному двойному портрету «братьев Беллини».
Ил. 7. Саму эль Батлер. Старуха на рынке в Новаре (Пьемонт, Италия). 1892.
Фотография.
Ил. 8. Саму эль Батлер. Девушка с подвязкой. Рынок в Новаре (Пьемонт, Италия).
1891. Фотография.
Ил. 9. Самуэль Батлер. Точильщик ножей. Беллинцона (Италия). 1892. Фотография.
Ил. 10. Самуэль Батлер. Идиот в Колико (Пьемонт, Италия). 1891. Фотография. В
тот период как в Англии, так и за границей писатель очень часто
фотографировал людей с физическими отклонениями.
Ил. 1 7. Самуэль Батлер. Забавный мальчишка с братом-калекой. Варалло (Пьемонт,
Италия). 1892. Фотография.
Ил. 12. Самуэль Батлер. Слепой с детьми. Гринвич (Лондон). 1892. Фотография. На
коленях у слепого лежит Библия.
Ил. 13. Самуэль Батлер. Инвалид возле трактира «Заяц и собаки». Хэрроу. 1893.
Фотография.
Ил. 14. Самуэль Батлер. Человек, собравшийся удить рыбу. 1892. Фотография.
Ил. 15. Самуэль Батлер в Гэдс-хилл, в саду, упоминаемом шекспировским Фальстафом.
1893. Фотография.
Ил. 16. Самуэль Батлер на заснеженном склоне в Альпах. 1894. Фотография.
Ил. 17. Самуэль Батлер. Флит-стрит и собор Св. Павла [фрагмент). 1891.
Фотография. Оживленная лондонская улица, расположенная неподалеку от
квартиры писателя в Клиффордс-Инн.
Ил. 18. Самуэль Батлер. Лошадь, помещенная в ящик на пароходе,
направляющемся в Булонь. 1892. Фотография.
Ил. 19. Самуэль Батлер. Церковь Св. Христофора (XV в.) [фрагмент). Кастильоне
д'Олона (Ломбардия, Италия). 1892. Фотография. Фигура святого была
создана знаменитым архитектором Ф. Брунеллески (1377—1446). Батлер словно
иронически подчеркивает карликовость человеческих фигур перед творением
одного из представителей гуманизма.
Ил. 20. Самуэль Батлер. Мальчик на стене. Санта-Мария-делле-Грация (Италия).
1895. Фотография.
Ил. 21. Самуэль Батлер. Мальчик с корзиной. Кьявенна (Ломбардия, Италия). 1895.
Фотография.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Аниханова 1967а — Аниханова А.А. Романы С. Батлера. М.: АКД, 1967.
Аниханова 19676 — Аниханова А.А. Роман Самуэла Батлера «Путь всякой плоти»
//Ученые записки МОПИ им. Крупской. М., 1967. Т. 75. Вып. 10.
Богомолов 1962 — Богомолов А. С. Идея развития в буржуазной философии XIX и XX вв.
М.: МГУ, 1962.
Балашов 1982 — Балашов П. Художественный мир Бернарда Шоу. М., 1982.
Брехт 1977 — Брехт Б. О литературе. М., 1977.
Бурова 1996 — Бурова И.И. Романы Теккерея. СПб., 1996.
Винер 1958 — Винер Н. Кибернетика и общество. М., 1958.
Влодавская 1968 — Влодавская И. Проблемы современной батлерианы//Вопросы
литературы. 1968. № 7. С. 216-221.
Гальперин 1975 — Большой англо-русский словарь /Под ред. И.Р. Гальперина: В 2 т. М.,
1975.
Гарди 1955 — Гарди Т. Тэсс из рода Д'Эрбервиллей. М., 1955.
Гинзбург 1977 — Гинзбург А.Я. О психологической прозе. Л.: Художественная
литература, 1977.
Гоббс 1936 - Гоббс Т. Левиафан. М., 1936.
Губер 1923 — Губер П.К. Предисловие// Стендаль (Анри Бейль). Пармский монастырь.
М.; Пг. 1923.
Губер 1938 — Бетлер С. Жизненный путь/Пер. и примеч. П.К. Губера. Л.:
Художественная литература, 1938.
Даль 1989 — Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М.: Русский
язык, 1989. Т. 1.
Дарвин 1957 - Дарвин Ч. Автобиография. М.: Изд-во АН СССР, 1957.
Дельгадо 1971 — Делыадо X. Мозг и сознание. М.: Мир, 1971.
Дичаров 1993 — Динаров 3. (автор-составитель). Распятые: Писатели жертвы
политических репрессий. СПб.: Северо-Запад, 1993.
Захаров 1961 — Захаров В.В. Эстетические взгляды Джорджа Мередита в свете его
философской доктрины // Вестник ЛГУ. Сер. «История, язык и литература». Вып. 2.
1961. № 8. С. 106-120.
Кирикова 1993 — Кирикова Е.Е. Творчество Теккерея и поэтика английского романа.
Автореферат <...> канд. дис. М.: Институт мировой литературы им. A.M.
Горького РАН, 1993.
452
Список сокращений
Клименко 1965 — Клименко Е.И. Рассказчик у Диккенса//Вестник ЛГУ. 1965. № 2. Сер.:
История, язык, литература. Вып. 1. С. 128—137.
Конт 1910 — Конт О. Дух позитивной философии. СПб., 1910.
Кунин 1956 — КунинАВ. (составитель). Англо-русский фразеологический словарь. М., 1956.
Лисова 1977 — Лисова ОМ. С. Батлер и Э.-М. Форстер (о характере преемственной связи
творчества) // Идейно-художественные принципы в зарубежной литературе XIX—
XX вв. Воронеж, 1977. С. 75-90.
Лопырева 1940 — Лопырева Е. «Жизненный путь»//Литературное обозрение. 1940. 20
января. № 2. С. 33-36.
Милль [б. г.] — Милль Д.-С. Опост Конт и позитивизм. СПб.: Научно-популярная
библиотека, б. г.
Морлей 1896 — Морлей Д. О компромиссе. М., 1896.
Нарский 1960 — Нарский И. С. Очерки по истории позитивизма. МГУ, 1960.
Оруэлл 1989 — Ору эля Дж. «1984» и эссе разных лет. М.: Прогресс, 1989.
Резец 1939 — Двухнедельный литературно-художественный журнал. Гослитиздат, 1939.
№ 13-14.
Реизов 1939 — Реизов Б. «Путь всякой плоти»//Литературный современник. 1939. № 7—
8. С. 274-275.
Федоров 1939 — Федоров А. «Жизненный путь» Самюэля Батлера//Литературный
критик. 1939. № 8-9. С. 267-277.
Чекалов 1984 — Чекалов И. И. Категория правдоподобия и эволюция метода в
английской литературе XIX века //Под ред. Ю.В. Ковалева. ЛГУ, 1984. С. 64—81.
Чекалов 1992 — Чекалов И.И. Правовой парадокс Батлера и его источники// Вестник
СПбГУ. 1992. Сер. 2. Вып. 1. № 2. Янв. С. 54-66.
Чуковский 2003 - Чуковский К.И. Дневник 1901-1969: В 2 т. М.: Олма-Пресс, 2003.
Элиот 1981 — Элиот Дж. Миддлмарч. М.: Художественная литература, 1981.
Athenaeum — The Athenaeum.
Baker 1938 - Baker A.-E. The History of the English Novel : In 11 vol. L.: Yesterday, 1929-
1967. Vol. 10.
Bekker 1925 — Bekker J.-W. A Historical and Critical Review of Samuel Butler's Literary
Works. Rotterdam, 1925.
Bottger 1936 — Bottger H. Samuel Butlers satirische Romane und ihre literarische Bedeutung.
Lucka, 1936.
Buckley 1966 — Buckley J.-H. Triumph of Time: The Study of Victorian Concept of Time,
History, Progress and Decadence. Cambridge (MA): The Belknap Press of the Harvard
University Press, 1966.
Buckley 1984 — Buckley J.-H. The Turning Key. Autobiography and the Subjective Impulse
since 1800. Cambridge (MA): Harvard University Press; L., 1984.
Butler 1879 - Butler S. Evolution, Old and New. L., 1879.
Butler 1911 - Butler S. Unconscious Memory. N. Y., 1911.
Butler 1920 — Butler S. Luck, or Cunning as the Main Means of Organic Modifications. L., 1920.
Butler 1927 — Butler S. Shakespeare's Sonnets Reconsidered. L., 1927.
Butler 1932 — Butler S. Erewhon Revisited//S. Butler. Erewhon; Erewhon Revisited. L., 1932.
P. 195-389.
Butler 1970 - Butler S. Erewhon. Harmondsworth, 1970.
Butler 1973 - Butler S. The Way of All Flesh/Ed. J. Cochrane. Harmondsworth: Penguin, 1973.
Butler [s. d.] — Butler S. The Deadlock in Darvinism // The Essential Samuel Butler / Ed.
G.-D.-H. Cole. L., s. d.
Список сокращений
453
Butleriana 1932 — Butleriana / Ed. A.-T. Bartholomew. Bloomsbury, 1932.
Carman 1915 — Cannan G Samuel Butler: A Critical Study. L., 1915.
Carlyle 1872 — Carlyle Th. The Signs of the Times // Th. Carlyle. The Critical and
Miscellaneous Essays: Collected and Republished: In 7 vol. L.: Chapman and Hall, 1872. Vol. 2.
P. 230-252.
Chambers 1995 — Chambers English Idioms / Ed. E.-M. Kirkpatrick, C.-M. Schwarz.
Edinburgh: W & R Chambers Ltd, 1995.
Churchill 1906 - Churchill W. Lord Randolph Churchill. N.Y.: Macmillan, 1906.
Cockshut 1964 - Cockshut A-O.-J. The Unbelievers: English Agnostic Thought 1840-1890. L., 1964.
Correspondence 1962 — The Correspondence of Samuel Butler with his sister Mary/Ed.,
introduction by D.-F. Howard. Berkeley; Los Angeles, 1962.
Darwin 1959 — Darwin Ch. The Autobiography of Charles Darwin. N.Y., 1959.
Deakin 1913 - Deakin Т.Н. The Early Life of G. Eliot. Manchester, 1913.
Delgado 1969 — Delgado J.-R. Physical Control of the Mind: Towards a Psychocivilized
Society. N.Y.: Harper & Row Publishers, 1969.
Deveize 1994 — DeveizeJ. Le problème du doublement dans The Way of All Flesh. Toulouse:
Caliban, 1994.
Dreiser 1938 - Dreiser Th. Introduction//S. Buder. The Way of All Flesh. N.Y.: The Limited
Edition Club, 1938. P. I-XXX.
ER — The Edinburgh Review.
Ellegârd 1958 — Ellegârd A. Darwin and the General Reader: The Reception of Darwin's
Theory of Evolution in the British Press (1859-1872). Gôteborg, 1958.
FL 1962 - The Family Letters of Samuel Butler / Ed. and introd. by A. Silver. L., 1962.
FH 1938 - Butler S. The Fair Haven. L., 1938.
FR — The Fortnighdy Review.
Federico 1995 — Federico A.-R. Samuel Buder's The Way of All Flesh: Rewriting the Family//
English Literature in Transition: 1890-1920. 1995. Vol. 38. № 4. P. 466-482.
Forster 1945 — Forster E.-M. The Development of English Prose between 1918 and 1939//The
Fifth W.-P. Ker Memorial Lecture in the University of Glasgo. 27 April, 1944. Glasgo, 1945.
Fort 1935 — FortJ.-B. Samuel Buder: Etude d'un caractère et d'une intelligence. Bordeaux, 1935.
Gantz 1938 - Gantz K.-F. The Beginnings of Darwinian Ethics: 1859-1871 (Reprinted from
the University of Texas Studies in English, 1938). Private edition, distr. by the University
of Chicago Libraries. Chicago, 1938.
Garnett 1926 — Garnett R.-S. Samuel Buder and His Family Relations. L.; Toronto; N.Y., 1926.
Gindin 1987 — Gindin J. John Galsworthy's Life and Art. An Alien's Fortress. L.: The
Macmillan Press, 1987.
Greene 1954 — Greene G.-C. Biology and Social Theory in the Ninetienth Century: Auguste
Comte and Herbert Spencer// Critical Problems in the History of Science. Madison: The
University of Wisconsin, 1954. P. 419—447.
HFB 1946 - Holt L.-E, Forster E.-M. and Samuel Buder//PMLA. 1946. Vol. LXL № 3. Sept.
P. 804-813.
Hanson, Hanson 1952 — Hanson L., Hanson E. Marian Evans and George Eliot: A Biography.
L, 1952.
Hardy 1928 - Hardy F.-E. The Early Life of Thomas Hardy. L.: Macmillan, 1928.
Hardy 1930 — Hardy F.-E. The Later Years of Thomas Hardy. L.: Macmillan, 1930.
Hardy 1954 - Hardy E. Thomas Hardy. L., 1954.
Harkness 1955 - Harkness S.-B. The Career of Samuel Buder (1835-1902): A Bibliography.
L, 1955.
Henderson 1954 — Henderson Ph. The Incarnate Bachelor. Bloomington: The Indiana
University Press, 1954.
454
Список сокращений
Himmelfarb 1962 — Himmelfarb G. Darwin and the Darwinian Revolution. N.Y.: Doubleday
& C°, 1962.
Hoggart 1973 — Hoggart R. Notes // S. Butler. The Way of All Flesh. Harmondsworth: Penguin
Boob, 1973. P. 431-444.
Hollis 1956 - Hollis Ch. A Study of George Orwell. Chicago, 1956.
Holt 1964 - Holt L.-E. Samuel Butler. N. Y., 1964.
Hopée 1925 — Hopée A.-F. A Bibliography of the Writings of Samuel Butler and of Writings
About Him. L., 1925.
Howard 1964 — Butler S. Ernest Pontifex or The Way of All Flesh / Ed. with introduction and
notes by D.-F. Howard. Boston: Houghton Mifflin Conipany; Cambridge: The Riverside
Press, 1964.
Huxley 1934 — Huxley A. Introduction: Surtout point de zèle // S. Butler. Erewhon. N.Y.: The
Limited Edition Club, 1934. P. I-XXI.
Huxley 1963 — Huxley J. Evolution. The Modern Synthesis. L., 1963.
James 1957 —James H The House of Fiction: Essays on the Novel/Ed. with an introduction
by L. Edel. L.: Rupert Hart-Davis, 1957.
Joad 1953 — Joad C.-M.-E. Shaw's Philosophy// George Bernard Shaw: A Critical Survey.
Cleveland; N.Y., 1953.
Jones 1919 -Jones F.-H Samuel Butler, Author of Erewhon (1835-1902): A Memoir: In 2 vol.
L., 1919.
Jones 1959 —Jones J. The Cradle of «Erewhon»: S. Butler in New Zealand. Austin, 1959.
Knoepfelmacher 1965 — Knoepfelmacher U.-C. Religious Humanism and the Victorian Novel:
George Eliot, Walter Pater and Samuel Butler. Princeton, 1965.
Larbaud 1920 — Larbaud V. Samuel Butler//Les Cahiers des Amis des Livres. P., 1920. № 6.
Life and Habit 1878 - Butler S. Life and Habit. L., 1878.
Macaulay 1938 - Macaulay R. The Writings of E.-M. Forster. N.Y., 1938.
Marrot 1935 — Marrot H.-J. The Life and Letters of John Galsworthy. L.: W. Heinemann, 1935.
Marshall 1963 — Marshall H-W. The Way of All Flesh: The Dual Function of Edward
Overton//Studies in Literature and Language. University of Texas, 1963. Vol. IV. P. 583—596.
Mason 1993 — Mason M. Explanatory Notes // S. Butler. The Way of All Flesh. Oxford: The
Oxford University Press; N.Y., 1993.
Meyers 1975 — George Orwell: The Critical Heritage/Ed. J. Meyers. L., 1975.
Muggeridge 1936 — Muggeridge M. The Earnest Atheist: A Study of Samuel Butler. L., 1936.
NB 1913 - ButlerS. The Note-Boob of Samuel Butler/Ed. H. Festing Jones. L., 1913.
NBR - The North British Review.
ODI 1990 — Cowie A.-R, Mackin R., McGaig I.R. Oxford Dictionary of Current Idiomatic
English: In 2 vol. Oxford University Press, 1990.
Orwell 1970 — Orwell G. The Collected Essays: Journalism and Letters of George Orwell/Ed.
J. Angus: In 4 vol. Harmondsworth, 1970-1971. Vol. 3 (1943-1945).
Paley 1803 - Paley W. Natural Theology. L., 1803.
Pepper 1926 — Pepper E. George Bernard Shaws Beziehungen zu Samuel Butler dem Jiinge-
rem/Anglia. Zeitschrift fur Englische Philologie. 4 Hf. Berlin; L., 1926.
Pritchett 1966 — Pritchett V.-S. The Living Novel and Later Appreciations. N.Y.: Random
House, 1966.
Robinson 1978 - Robinson R. Notes // S. Butler. The Way of All Flesh. L.; Sydney: Pan Books,
1978. P. 417-442.
Roppen 1956 — RoppenJ. Evolution and Poetic Belief: A Study in Some Victorian and Modern
Writers. Oslo, 1956.
SAO 1980 - Stansky P} Abrahams W. Orwell: The Transformation. N.Y., 1980.
Список сокращений
455
Savage 1935 — Letters between Samuel Butler and Miss E.-M.-A. Savage, 1871—1885. L., 1935.
Shaw 1910 - ShawJ.-B. Major Barbara. Preface. L., 1910. P. 147-188.
Shaw 1936 — Shaw B. Introduction// S. Buder. The Way of All Flesh. Oxford University Press,
1936. P. I-XIX.
Spencer 1864 — Spencer H. The Principles of Biology. L.; Edinburgh, 1864.
Spencer 1893 — Spencer H. The Principles of Sociology. L.; Edinburgh, 1893.
Spencer 1919 — Spencer H. The Filiation of Ideas//D. Duncan. life and Letters of H. Spencer:
In 2 vol. L., 1919.
Stillman 1932 - Stillman C.-G. Samuel Buder: Mid-Victorian Modern. L., 1932.
Times 1871 - The Times. 1871. April 8. P. 5.
WR — The Westminster Rewiew.
Wellek 1965 - Wellek R. A History of Modern Criticism: 1750-1950. New Haven: The Later
Nineteenth Century; L.: Yale University Press, 1965.
Wilde 1914 - Wilde 0. Intentions. L., 1914.
Willey 1960 - Will'ey B. Darwin and Buder: Two Versions of Evolution. N.Y., 1960.
Yeats 1918 - Yeats J. John Buder: Essays Irish and American. L., 1918. P. 1-95.
СОДЕРЖАНИЕ
Самуэль Батлер
ПУТЬ ВСЯКОЙ ПЛОТИ
Перевод Л.А. Чернышевой (гл. 1—50)
и А. К. Тарасовой (гл. 51—86)
Глава 1 7
Глава 2 10
Глава 3 13
Глава 4 16
Глава 5 19
Глава 6 23
Глава 7 27
Глава 8 30
Глава 9 33
Глава 10 36
Глава 11 38
Глава 12 42
Глава 13 47
Глава 14 51
Глава 15 54
Глава 16 56
Глава 17 60
Глава 18 62
Глава 19 67
Глава 20 70
Глава 21 72
Глава 22 75
Глава 23 78
Глава 24 81
Глава 25 83
Глава 26 85
Глава 27 87
Глава 28 91
Глава 29 95
Глава 30 99
Глава 31 102
Глава 32 104
Глава 33 108
Глава 34 112
Глава 35 115
Глава 36 119
Глава 37 121
Глава 38 126
Глава 39 129
Глава 40 132
Глава 41 136
Глава 42 140
Глава 43 144
Глава 44 146
Глава 45 150
Глава 46 153
Глава 47 157
Глава 48 160
Глава 49 165
Глава 50 171
Глава 51 174
Глава 52 177
Глава 53 180
Глава 54 184
Глава 55 186
Глава 56 191
Глава 57 193
Глава 58 195
Глава 59 198
Глава 60 201
Глава 61 203
Глава 62 206
Глава 63 208
Глава 64 210
Глава 65 213
Глава 66 217
Глава 67 221
Глава 68 224
Глава 69 228
Глава 70 232
Глава 71 235
Глава 72 239
Глава 73 247
Глава 74 250
Глава 75 252
Глава 76 256
Глава 77 258
Глава 78 261
Глава 79 265
Глава 80 268
Глава 81 274
Глава 82 277
Глава 83 281
Глава 84 293
Глава 85 297
Глава 86 301
ДОПОЛНЕНИЯ
И.И. Чекалов. Авторская рукопись «Пути всякой плоти» и проблема
аутентичности текста батлеровского романа 312
Фрагменты текста «Пути всякой плоти», не включенные Стретфилдом в свое
издание. Перевод НИ. Чекалова 315
Хронологический план «Пути всякой плоти», составленный С. Батлером. Перевод
И.И. Чекалова 320
ПРИЛОЖЕНИЯ
И.И. Чекалов. Самуэль Батлер и его восприятие интеллектуальной
«дарвиновской революции»: от фантастикоч:атирических произведений к роману «Путь
всякой плоти» 325
И.И. Чекалов. Первый русский перевод «Пути всякой плоти» и оценка романа
советской критикой 1930-х годов 398
Примечания. Составил И.И. Чекалов 407
Основные даты жизни и творчества Самуэля Батлера. Составил И.И. Чекалов 447
Список иллюстраций 449
Список сокращений 451
Батлер Самуэль
Путь всякой плоти / Изд. подг. И.И. Чекалов; пер. с англ. Л.А. Чернышевой и
А.К. Тарасовой. М.: Ладомир: Наука, 2009. — 460 с. (Литературные памятники).
ISBN 978-5-86218-421-1
В английской литературе второй половины XIX в. Самуэлю Батлеру (1835—1902)
принадлежит видное место. В жанре фантастического гротеска он возродил свифтовскую
традицию, а в жанре романа воспитания предвосхитил тенденции, в полной мере
развившиеся в европейской психологической прозе XX в. При создании «Пути всякой
плоти» с немыслимой для того времени откровенностью писатель использовал личный
жизненный опыт. Автобиографичность придает его повествованию особую остроту. В
романе прослеживается формирование характера и духовное становление сына священника.
Перед читателем проходят картины печального, искалеченного деспотичным
произволом воспитателей детства главного героя, полной лишений и разочарований юности и,
наконец, зрелости — поры, когда он обретает себя в творческом труде — писательской
деятельности.
Огромная эрудиция автора и мастерское владение словом позволяют ему искусно
вплетать в ткань повествования и в речи героев библейские, шекспировские и другие
классические цитаты и аллюзии, очень часто преподнося их так, что всем известные,
расхожие фразы начинают сверкать новыми красками. Не менее изящны и собственные
парадоксы и аллегории писателя. Умелое сочетание всех этих приемов позволило
создать один из лучших викторианских романов, где оригинальные философские
размышления соседствуют с яркими жанровыми сценами, а разящая сатира и едкая ирония —
с мягким, чисто английским юмором.
Научное издание
Саму эль Батлер
ПУТЬ ВСЯКОЙ ПЛОТИ
Утверждено к печати
Редакционной коллегией
серии «Литературные памятники»
Редакторы
М.Б. Смирнова,
В.Р. Закревская, А.А. Сифурова
Корректор
О.Г. Наренкова
Компьютерная верстка
О. Л. Кудрявцевой
ИД № 02944 от 03.10.2000 г.
Подписано в печать 15.11.2008.
Формат 70х90Ую.
Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.
Гарнитура «Баскервиль». Печ. л. 29
Тираж 1000 экз. Зак. № К-30.
Научно-издательский центр «Ладомир»
124681, Москва, ул. Заводская, д. 6-а
Московский тел. склада: 8-499-729-96-70
E-mail: ladomir@mail.compnet.ru
lomonosowbook@mtu-net.ru
Отпечатано
ГУП «ИПК "Чувашия"»
428019, Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, 13
ISBN S-flb2ia-421-X
НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ЛАДОМИР»
ГОТОВИТ К ИЗДАНИЮ
Серия «Литературные памятники»
БЮССИ-РАБЮТЕН
Любовная история галлов
Под этим загадочным заглавием скрывается сатирический роман — скандальная
хроника времен короля Людовика XIV. Эпоха пронизана ощущением молодости и
чувственностью. Автор (1618—1693), кузен г-жи де Севинье, — сорокадвухлетний
дворянин, воин и придворный, сельский остроумец, обладатель тонкого вкуса и
талантливейший писатель. В романе представлены под вымышленными именами главные
лица Двора и их любовные приключения.
«Во времена короля Теодата длившаяся уже двадцать лет война никому не
мешала предаваться порой любовным утехам. Но так как двор состоял по преимуществу
из старых, разучившихся что-либо чувствовать кавалеров и родившихся среди
грома оружия, огрубевших в занятиях военным ремеслом молодых людей, большинство
дам поневоле утратили долю былой скромности. Видя, что им пришлось бы
истомиться в праздности, не сделай они первого шага или хотя бы выкажи они суровость,
многие стали отзывчивыми, а иные и бесстыдными».
ФР. ШИЛЛЕР
Духовидец
Под одним переплетом публикуются три романа конца XVIII в., находящиеся у
самых начал литературы для легкого чтения, или тривиальной литературы. Все три
произведения обладают как чертами готического, «черного» романа, так и
признаками детектива.
В неоконченном романе великого немецкого поэта и мыслителя Фридриха
Шиллера (1759—1805) «Духовидец» (1789) повествуется о тайных политических кознях против
некоего немецкого принца, который увлекается мистикой. «Гений» (1791—1794)
писателя и авантюриста Карла Гроссе (1768—1847) написан как мемуары испанского маркиза,
переживающего различные приключения, в том числе любовные, и вовлеченного в
интриги некоего тайного общества. Роман швейцарского писателя Генриха Цшокке (1771—
1848) «Абеллино, великий бандит» (1794), вышедший анонимно и получивший широкую
известность после его перевода на английский язык М.Г. Льюисом, а затем с английского
на французский, был переведен в России (1807) под заглавием: «Разбойник в Венеции,
или Ужасный Абеллино».
Если в романе Шиллера увлекательный сюжет сочетается с тонкой разработкой
характеров, то у его литературной «свиты» главной фигурой становится неустрашимьш
герой, «супермен», и всё внимание уделяется эффектным сценам и быстро
развивающемуся действию, что и становится основой как готического романа, так и тривиальной
литературы в целом, вплоть до нашего времени.
НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ЛАДОМИР»
ГОТОВИТ К ИЗДАНИЮ
Серия «Литературные памятники»
А. ДЁБЛИН
Берлин Александргиац
«Берлин Александрплад. История Франца Биберкопфа» (1929) — самое известное
сочинение немецкого прозаика и эссеиста Альфреда Дёблина (1878—1957), один из
ключевых романов 20-го столетия. Читателю впервые предлагается полный текст
произведения (для настоящего издания переведены многочисленные, как
идеологические, так и случайные, купюры, восстановлен графический облик оригинала, чему
сам автор придавал особое художественное значение).
Писателю удалось не просто воссоздать предельно точный портрет своей эпохи, но
соединить новаторскую технику письма с вечными проблемами бытия. История
бывшего грузчика, отсидевшего четыре года в тюрьме за убийство подруги, перемежается
картинами жизни Берлина 20-х годов прошлого века, подлинной рекламой и газетными
заметками того времени. Столь необычная, монтажная техника письма позволяет
погрузиться в атмосферу большого города, над которым уже витает тень фашизма. Книга
стала настоящей сенсацией, сразу же вызвав громкие споры в среде немецких
интеллектуалов о значении и судьбе прозаических жанров в литературе XX в.
Т. ГОТЬЕ
Повести
Настоящее издание представляет все десять повестей классика французской
литературы, писателя-романтика Теофиля Готье (1811—1872). Большая часть этих
произведений публикуется на русском языке впервые. Лаконичные по объему,
восхитительные по стилю, пронизанные тонким юмором, эти повести захватывают с первых
страниц и не оставят равнодушными ни юных читателей, ни зрелых книголюбов.
Автор ведет тонкую литературную игру с различными традициями,
направлениями, стилями и жанрами (рококо, готика, романтическая любовная новелла,
приключения и др.). Каждый сюжет предлагает читателю новый исторический и
географический колорит: Египет, Греция, Древняя Лидия, Италия, Испания и современная
автору Франция.
НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ЛАДОМИР»
ГОТОВИТ К ИЗДАНИЮ
Серия «Литературные памятники»
У. хэзлитт
Застольные беседы
Впервые на русском языке выходит одно из наиболее знаменитых произведений
известнейшего английского писателя и критика Уильяма Хэзлитта (1778-1830) —
«Застольные беседы» (1821), представляющее собой тридцать три очерка на самые разные
темы (о великом и малом, о прошлом и будущем, о невежестве ученых, о гении и
здравом смысле, о живописном и идеальном, о боязни смерти, о путешествиях и пр.).
Своеобразие Хэзлитта как эссеиста проявляется в его поразительном умении
всесторонне изучить рассматриваемый предмет, каждый раз отыскать в обыденном что-
нибудь новое, неожиданное, восхититься привычным, высказать оригинальную мысль
об истертых до банальности вещах. Особенный интерес вызывают у писателя человек,
его жизнь, черты характера, способности и таланты, достоинства и недостатки;
природа как основа бытия и главное мерило для художественного творчества; общественные
явления; искусство и литература — причем обо всем Хэзлитт порой толкует таким
образом, что полностью обрушивает или заставляет критически пересмотреть
давным-давно сложившиеся у нас представления о мире.
О блестящем таланте английского современника восторженно отзывался Генрих
Гейне, который следовал его литературному методу в своих «Путевых картинах». Два
тома хэзлитговских сочинений хранились в библиотеке Пушкина, и на некоторых
страницах видны «отметки резкие ногтей»...
Помимо «Застольных бесед» в настоящее издание включены очерки из других
сборников писателя: о шекспировских персонажах — Гамлете и короле Лире, о
выдающихся писателях, живших в одно время с Хэзлиттом, — лорде Байроне и сэре Вальтере
Скотте, а также некоторые другие.
МАХАБХАРАТА
Бхишмапарва (Книга о Бхишме)
С шестой книги «Махабхараты», «Бхишмапарвы», начинается описание великой
битвы на Курукшетре, составляющее центральную часть древнего героического
эпоса, своего рода индийской «Илиады». В состав «Бхишмапарвы» входит знаменитая
религиозно-философская поэма «Бхагавадгита», или «Песнь Господа», — самый
значительный из дидактических текстов «Махабхараты», считающийся концептуальным
стержнем этой грандиозной эпопеи. Поэма, построенная как поучение, обращенное
Кришной, богом в человеческом образе, к другу, одному из героев битвы, относится
к наиболее почитаемым священным книгам индуизма, и ее содержание на
протяжении веков оказывает огромное влияние на духовную жизнь Индии и не только ее.
НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ЛАДОМИР»
ВЫПУСТИЛ
Серия «Литературные памятники»
СЕН-СИМОН
Мемуары
1691-1701
«Мемуары» герцога де Сен-Симона имеют двоякую ценность: историческую и
литературную. Во-первых, это уникальный источник достоверных сведений о конце
царствования короля Людовика XTV и периоде Регентства. Автор сам становился свидетелем,
а зачастую и активным участником описанных им как военных кампаний, так и
событий придворной жизни, был лично знаком с подавляющим большинством упоминаемых
им монархов, аристократов, священнослужителей, политических деятелей, писателей,
художников и других примечательных личностей, игравших хоть сколько-нибудь
заметную роль во Франции конца XVII — начала ХУШ века. Во-вторых, и с
литературно-художественной точки зрения, «Мемуары» Сен-Симона — бесспорно выдающееся
произведение. Среди огромного количества мемуаров того времени оно выделяется
неповторимым стилем, точными, порой хлесткими, но уже ставшими классическими благодаря
бесчисленным цитатам характеристиками изображаемых исторических персонажей —
современников автора, тонкой, нередко подспудной иронией. Перед взором читателя
раскроются тайные пружины внутренней и внешней политики французского
королевского двора и ряда европейских держав (в частности, Англии, Испании, Голландии,
Польши, России); развернутся несчастливые для Франции военные кампании, где
мимолетный блеск побед сменяется горечью поражений, а героизм соседствует с
повседневными тяготами воинского труда; пройдут дипломатические баталии, сменяющие
сражения на поле боя; предстанет панорамная картина быта и нравов всех сословий
тогдашней Франции; протянется целая вереница интереснейших портретов: от членов
королевской семьи, представителей Церкви, аристократии, среднего и мелкого дворянства,
военного и судейского сословий — до финансистов, ученых, писателей, художников и
даже мелкого люда, включая камердинеров короля, лакеев и горничных.
Издание сопровождено богатейшим иллюстративным рядом и генеалогическими
таблицами.
Любые книги «Ладомира»
можно заказать наложенным платежом в издательстве
по адресу: 124365, Москва, Заводская, д. 6а, НИЦ «Ладомир».
Тел.: (495) 537-98-33; тел. склада: 8-499-729-96-70..
Ermail: ladomir@mail.compnet.ru; lomonosowbook@mtu-net.ru
или купить в интернет-магазине «OZON» www.ozon.ru
Для получения бесплатного перспективного плана изданий и бланка заказа
вышлите маркированный конверт по адресу издательства