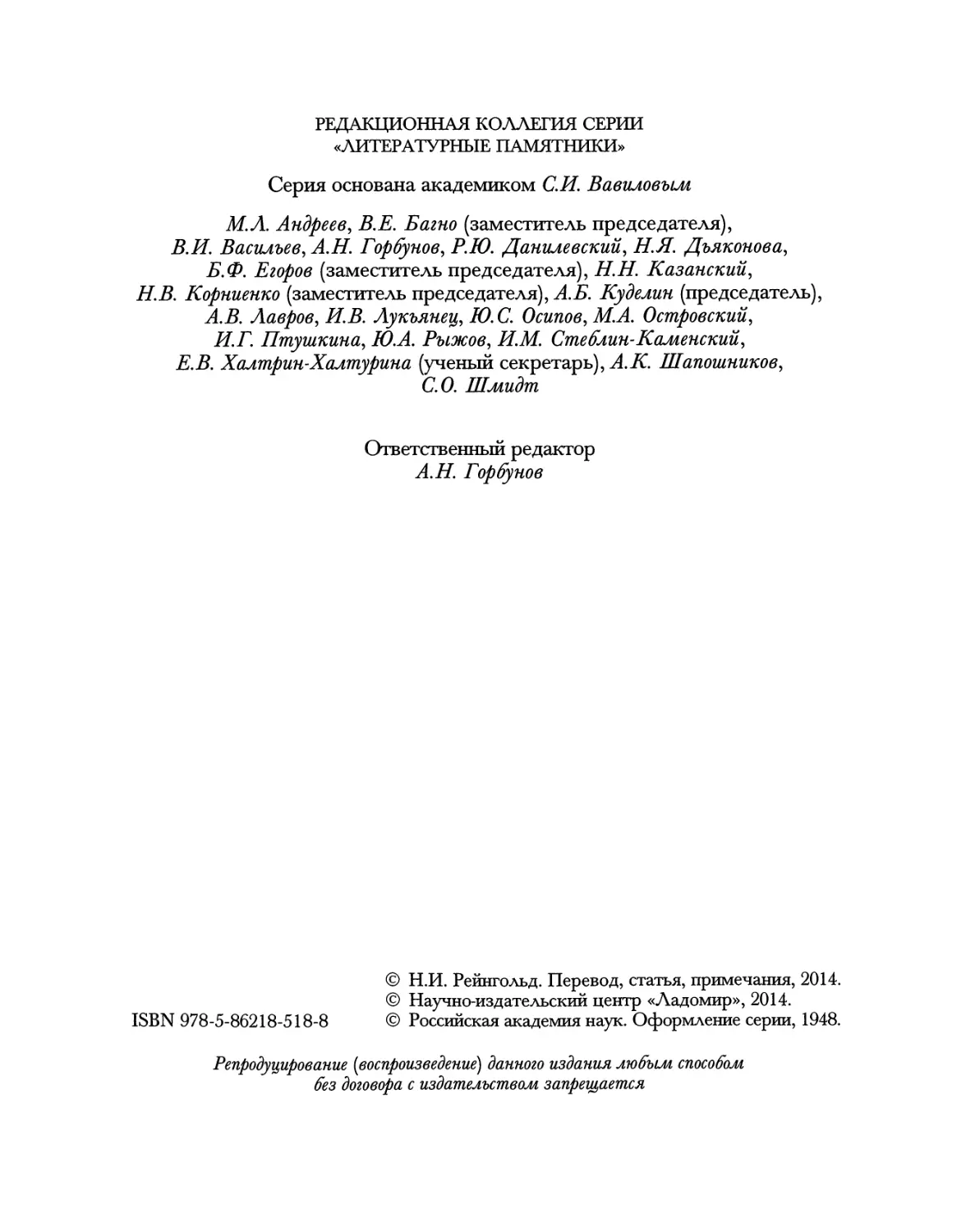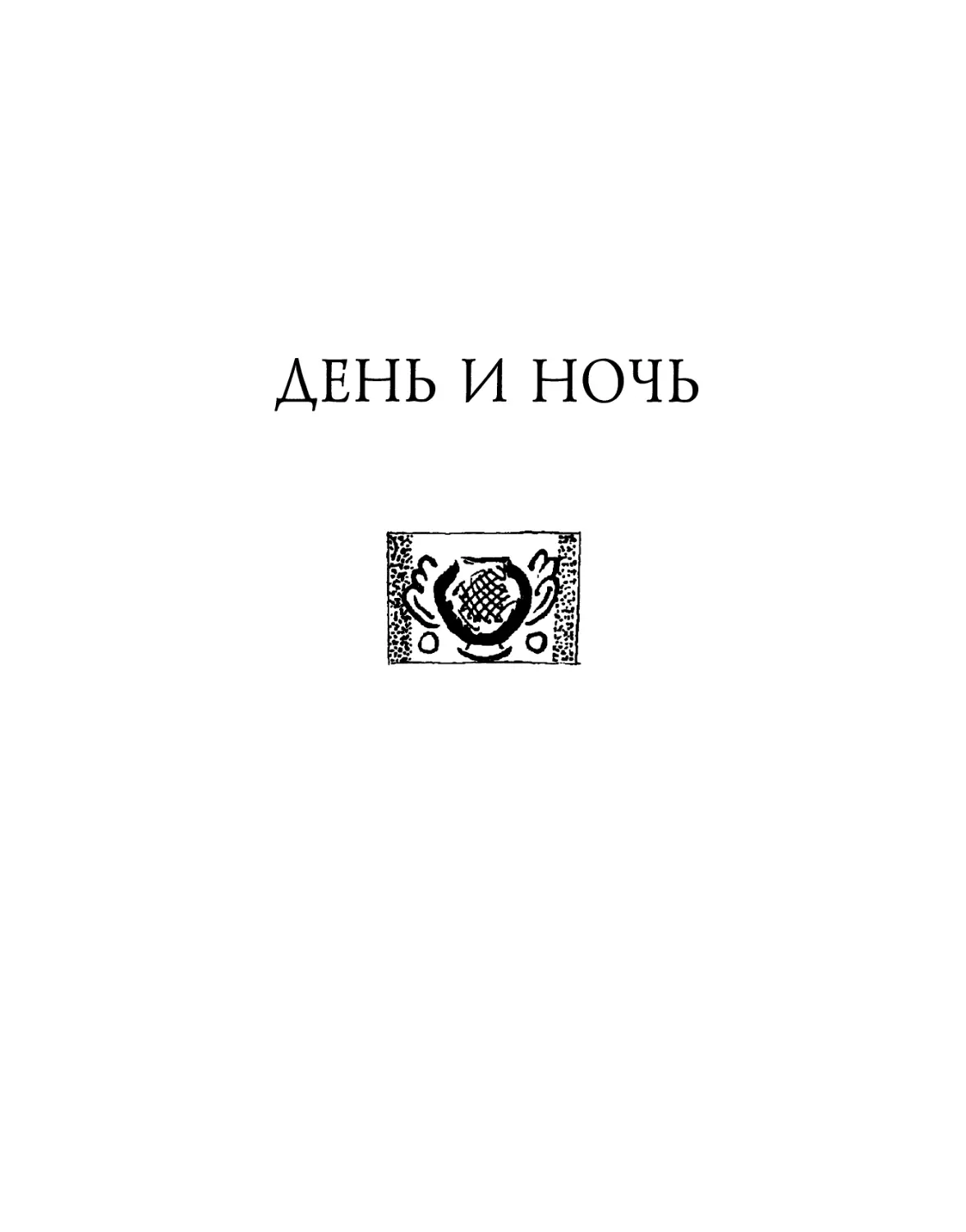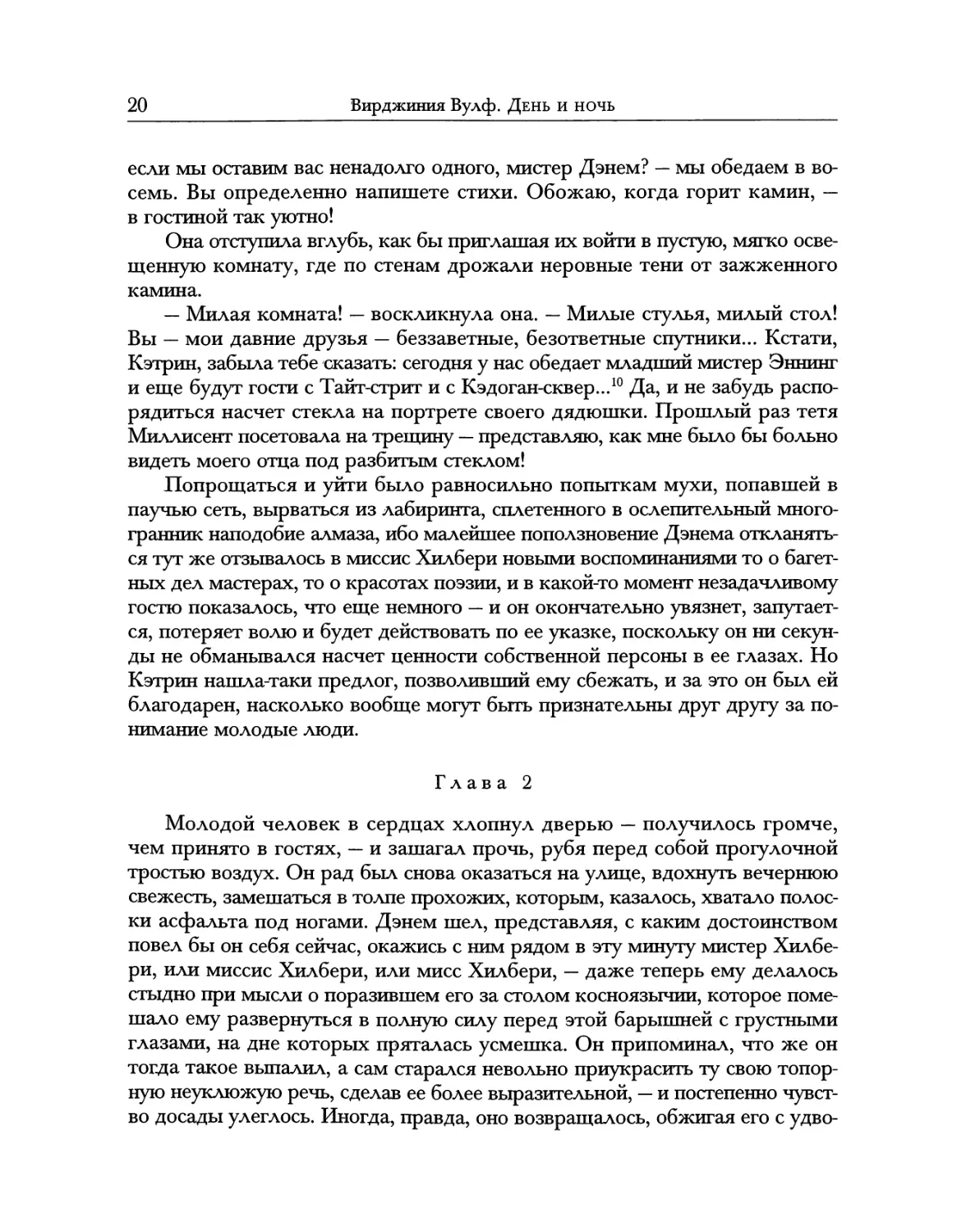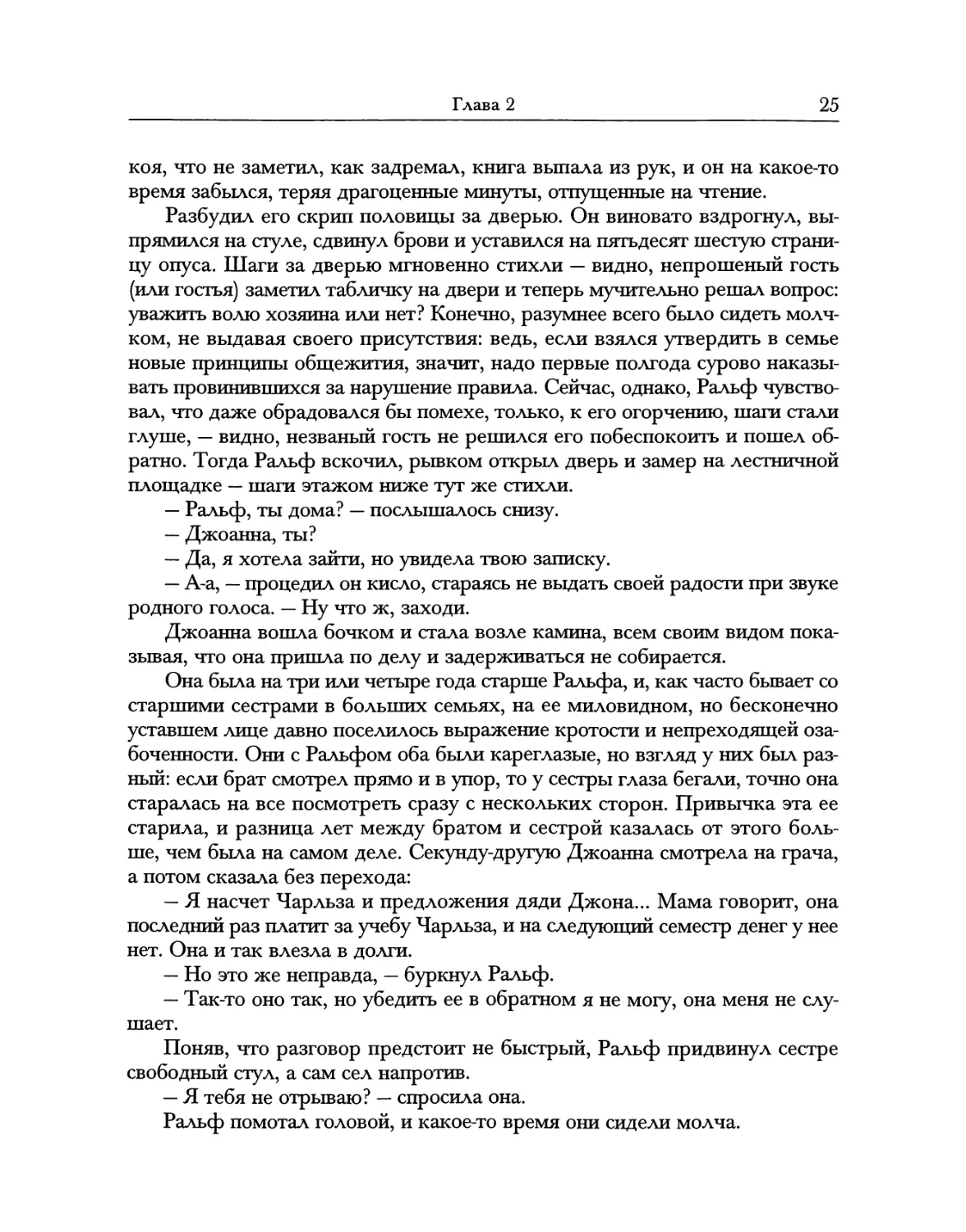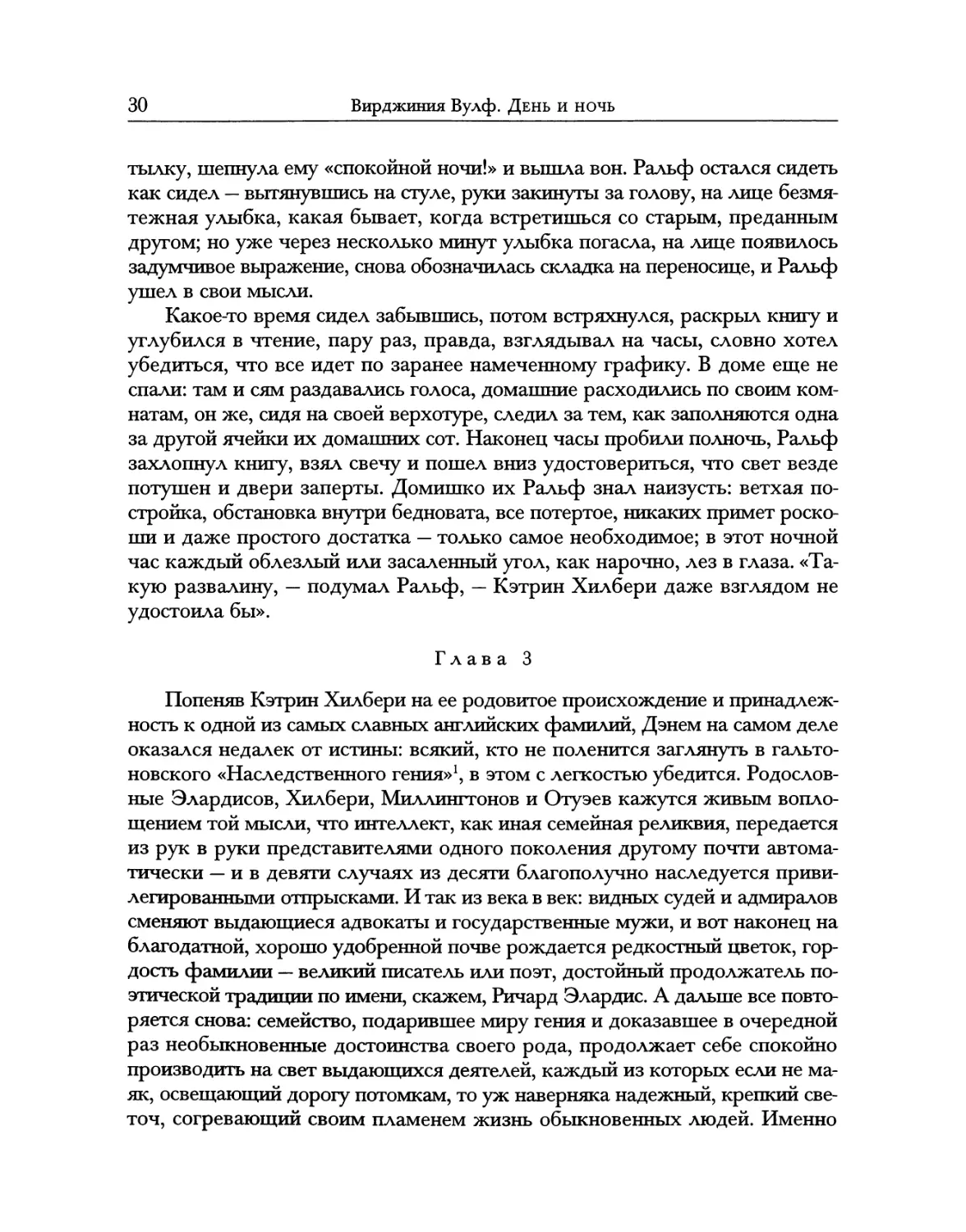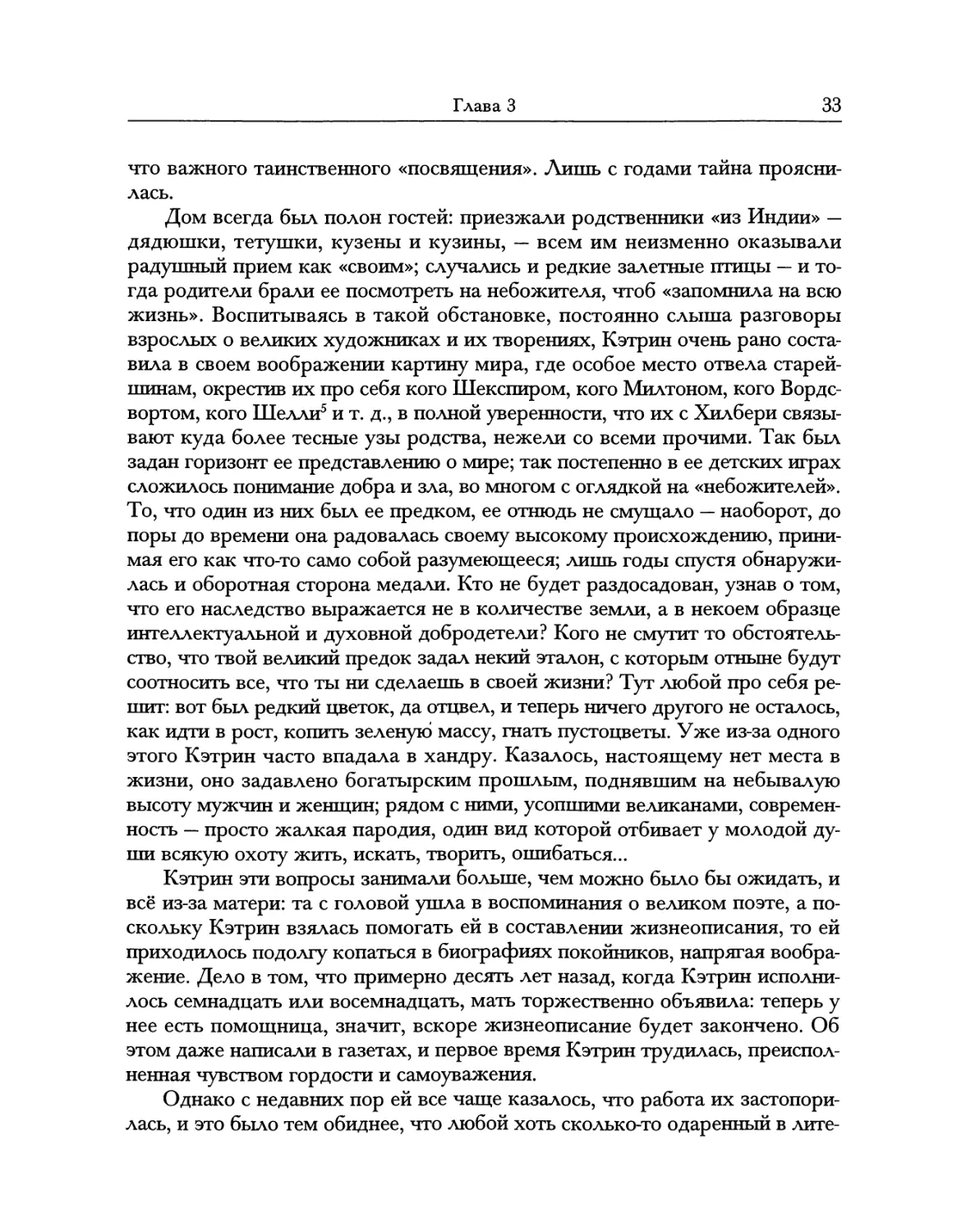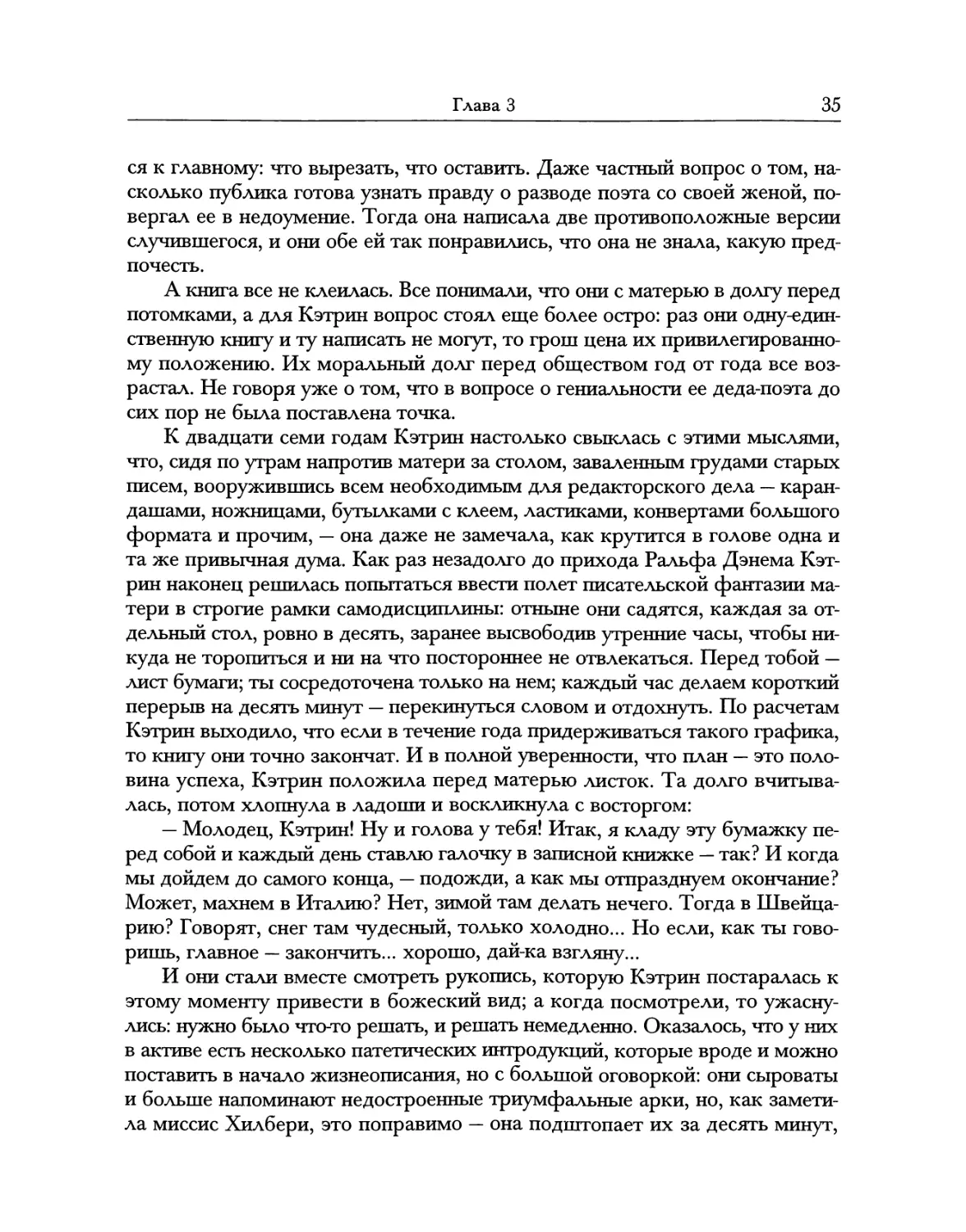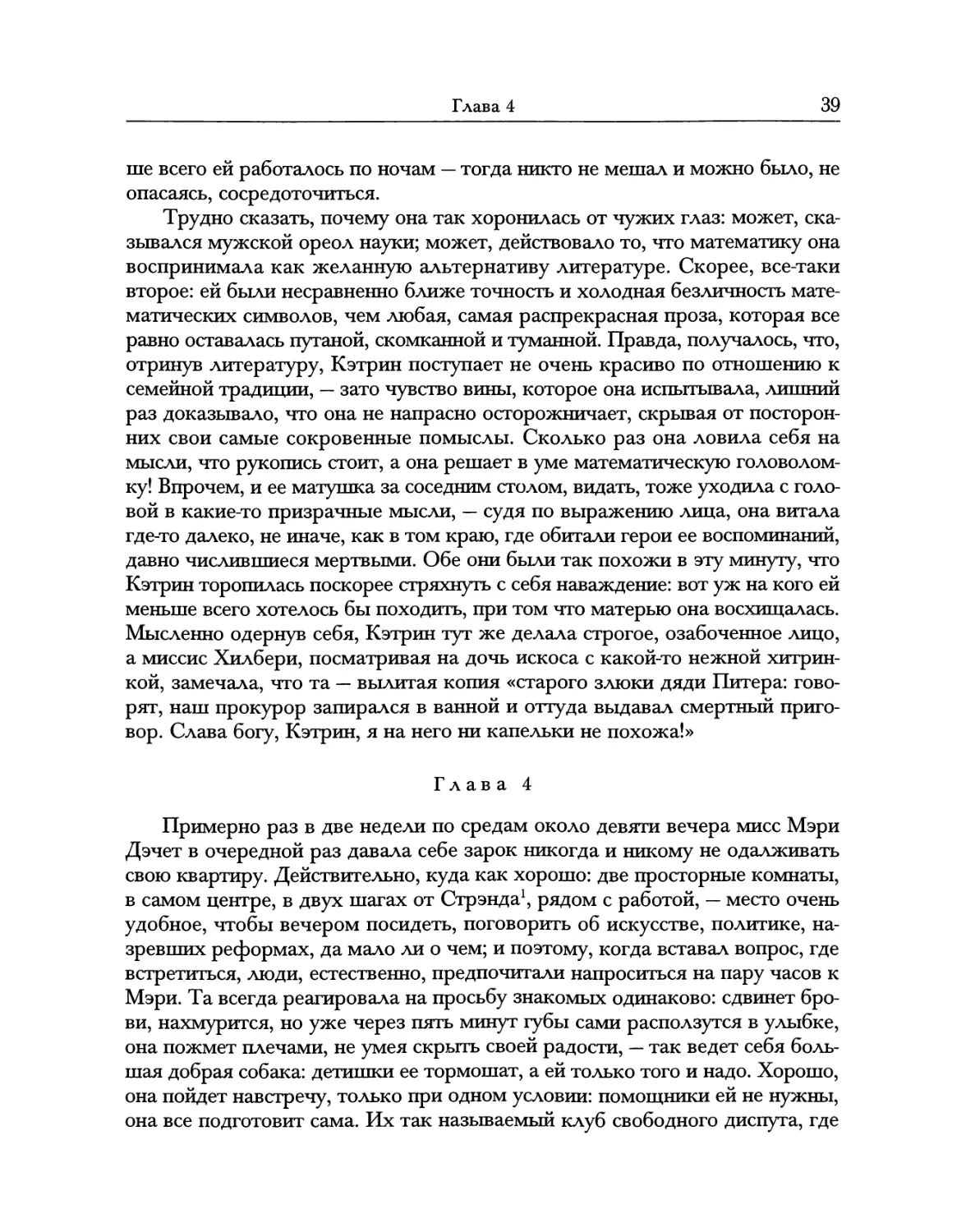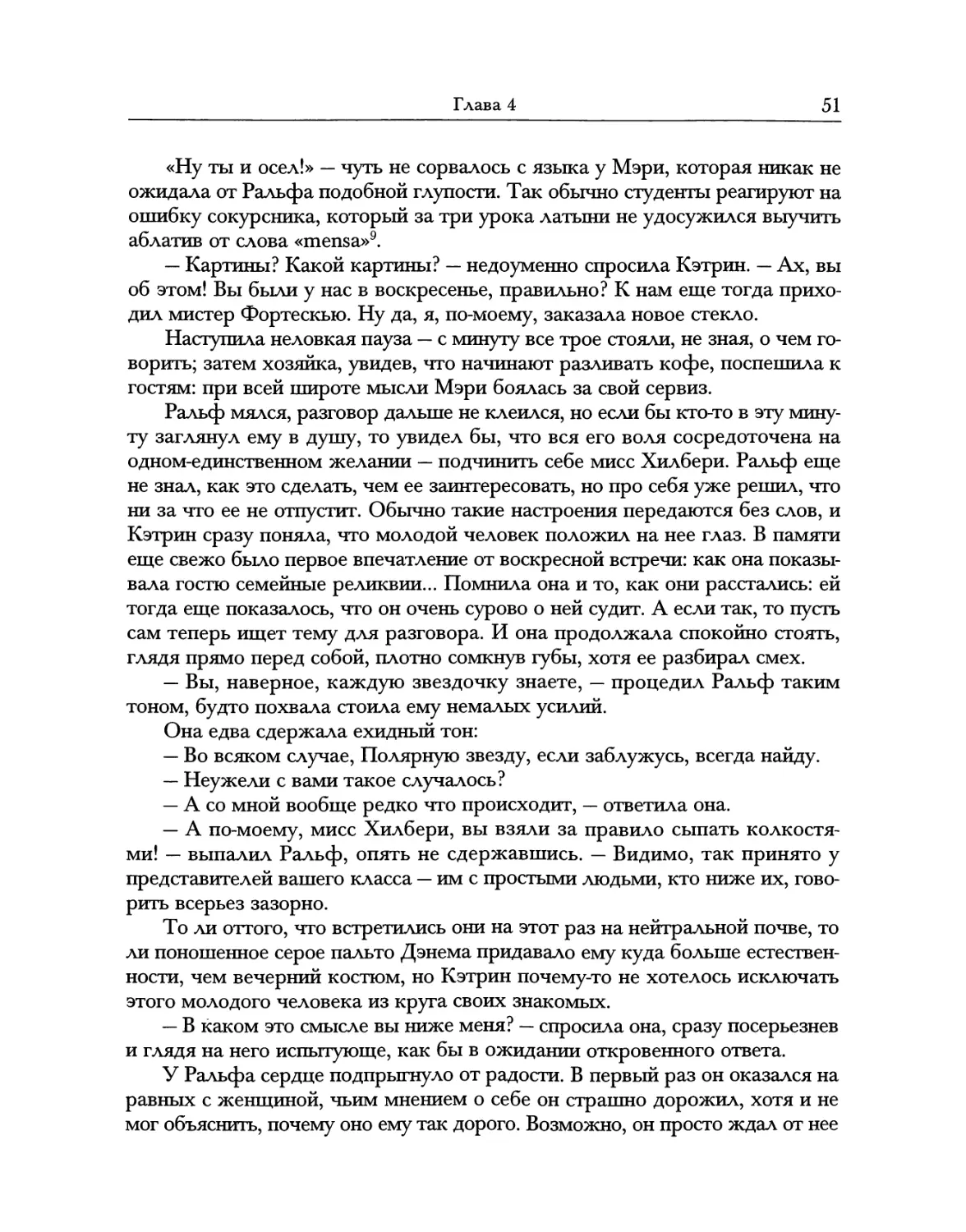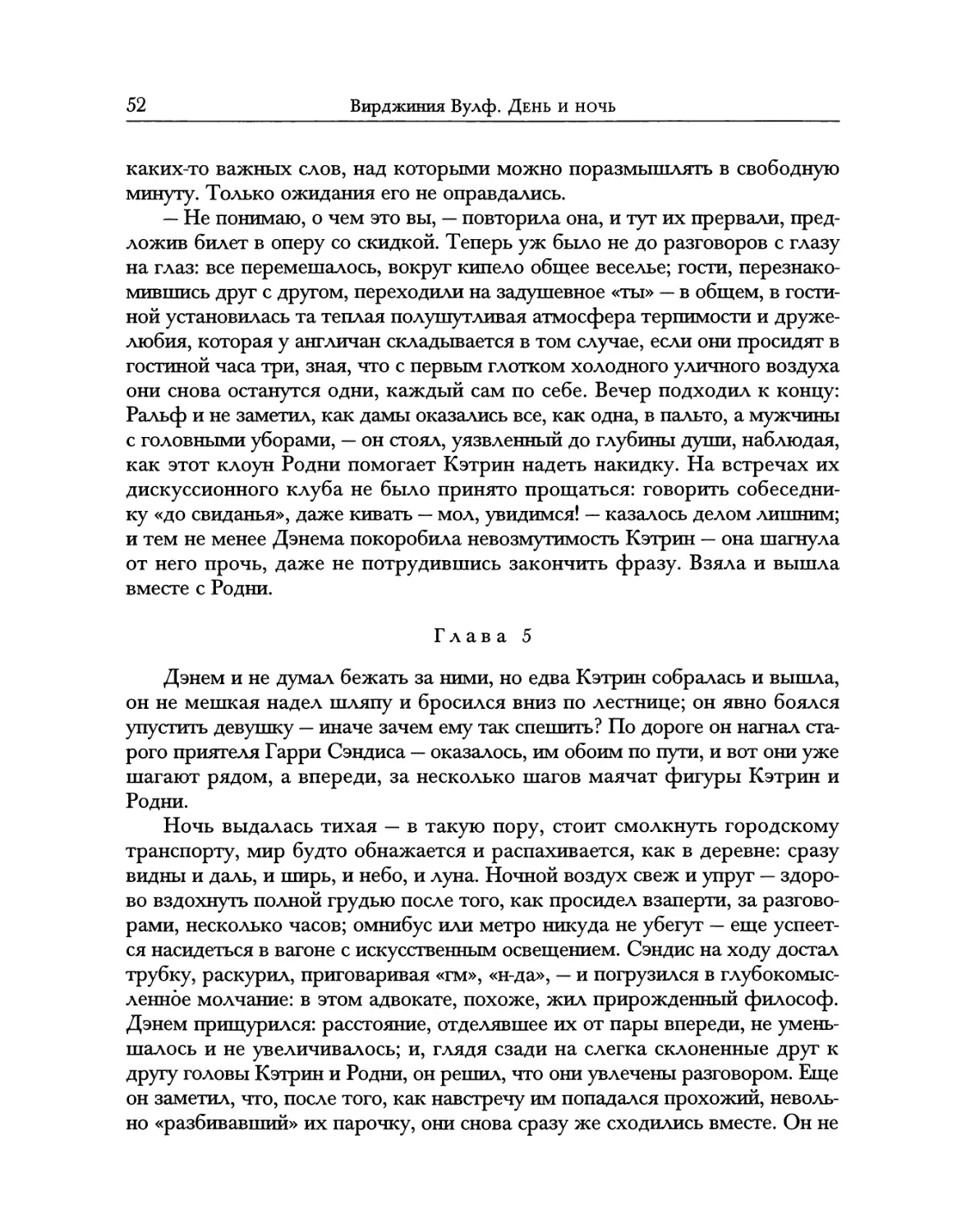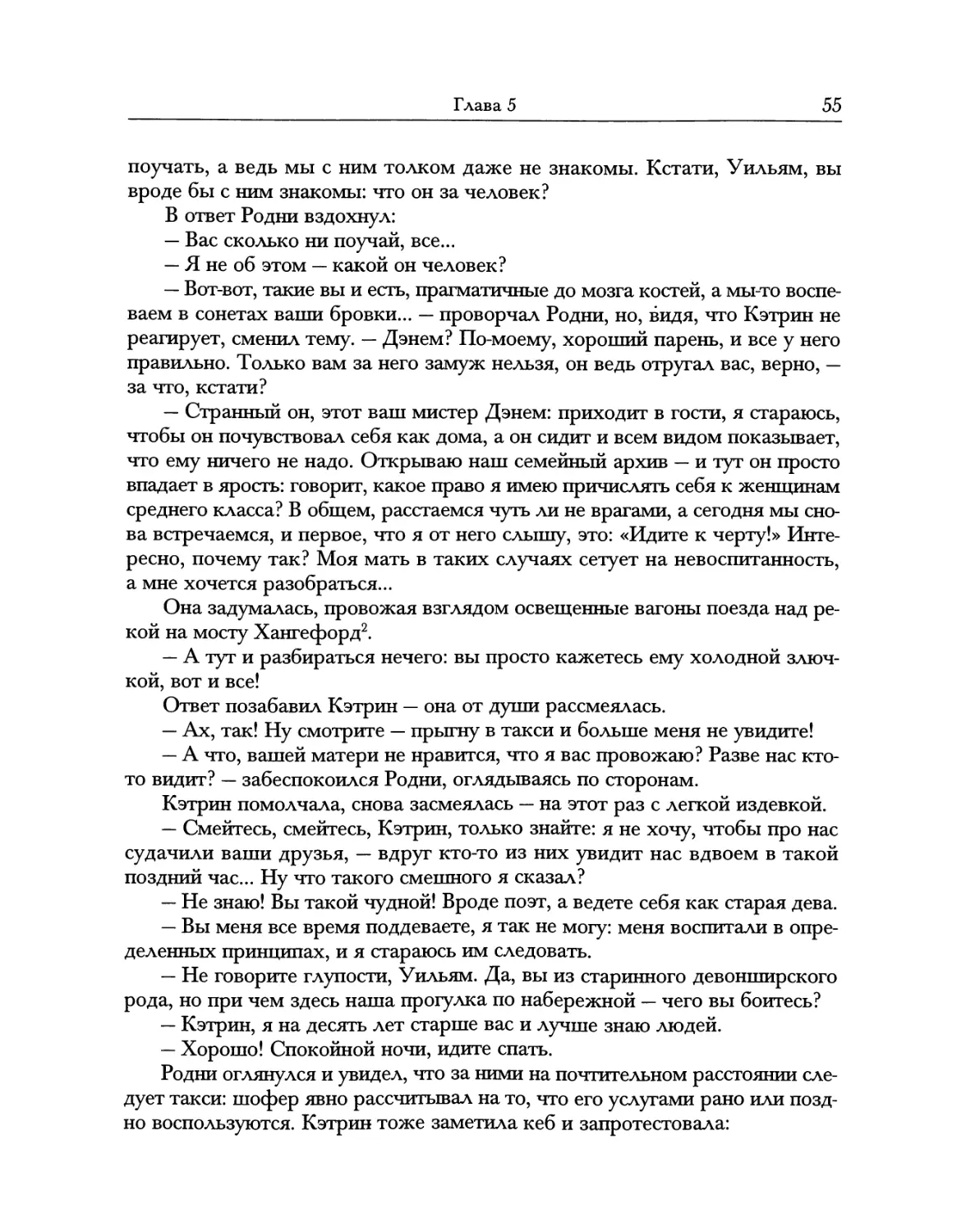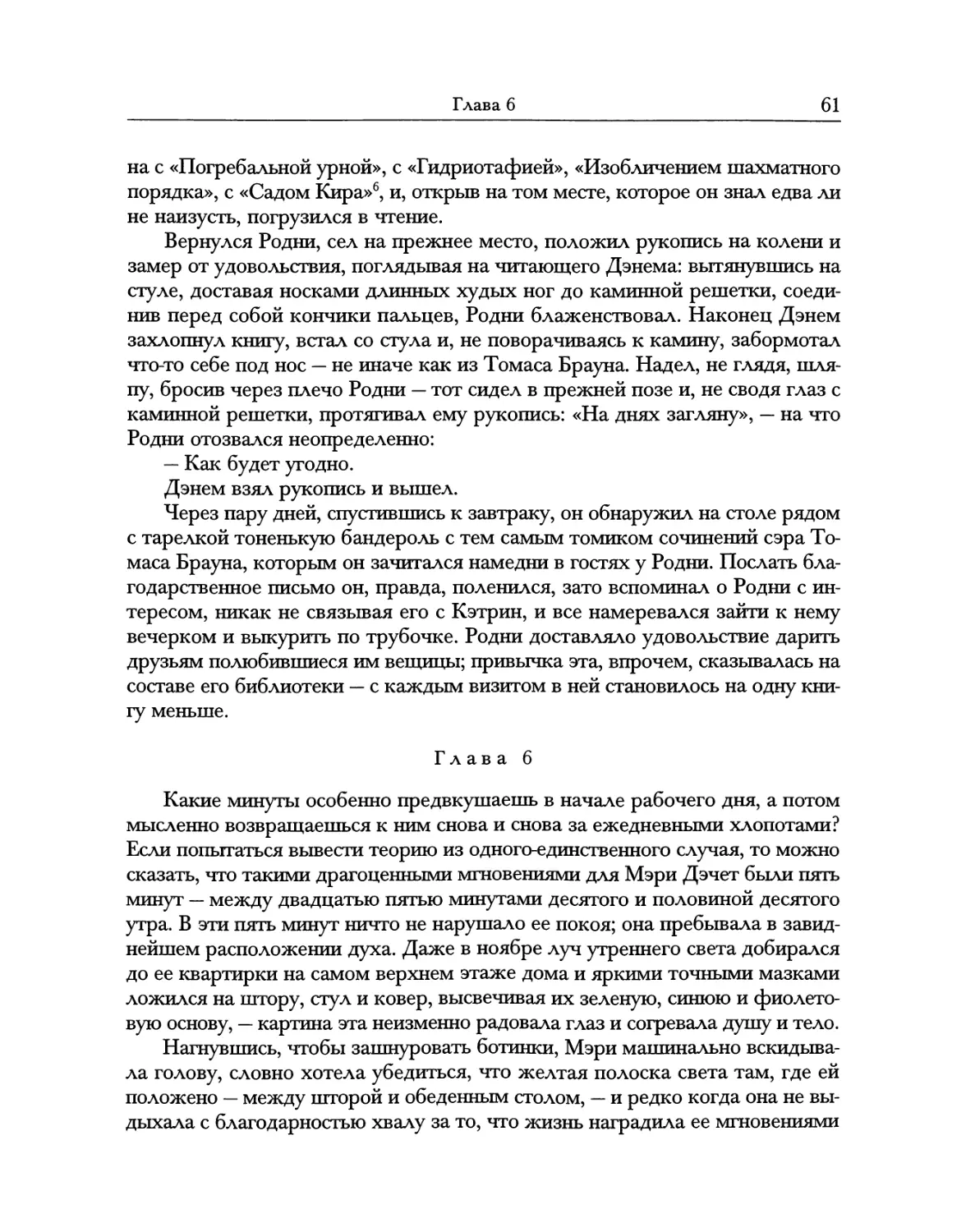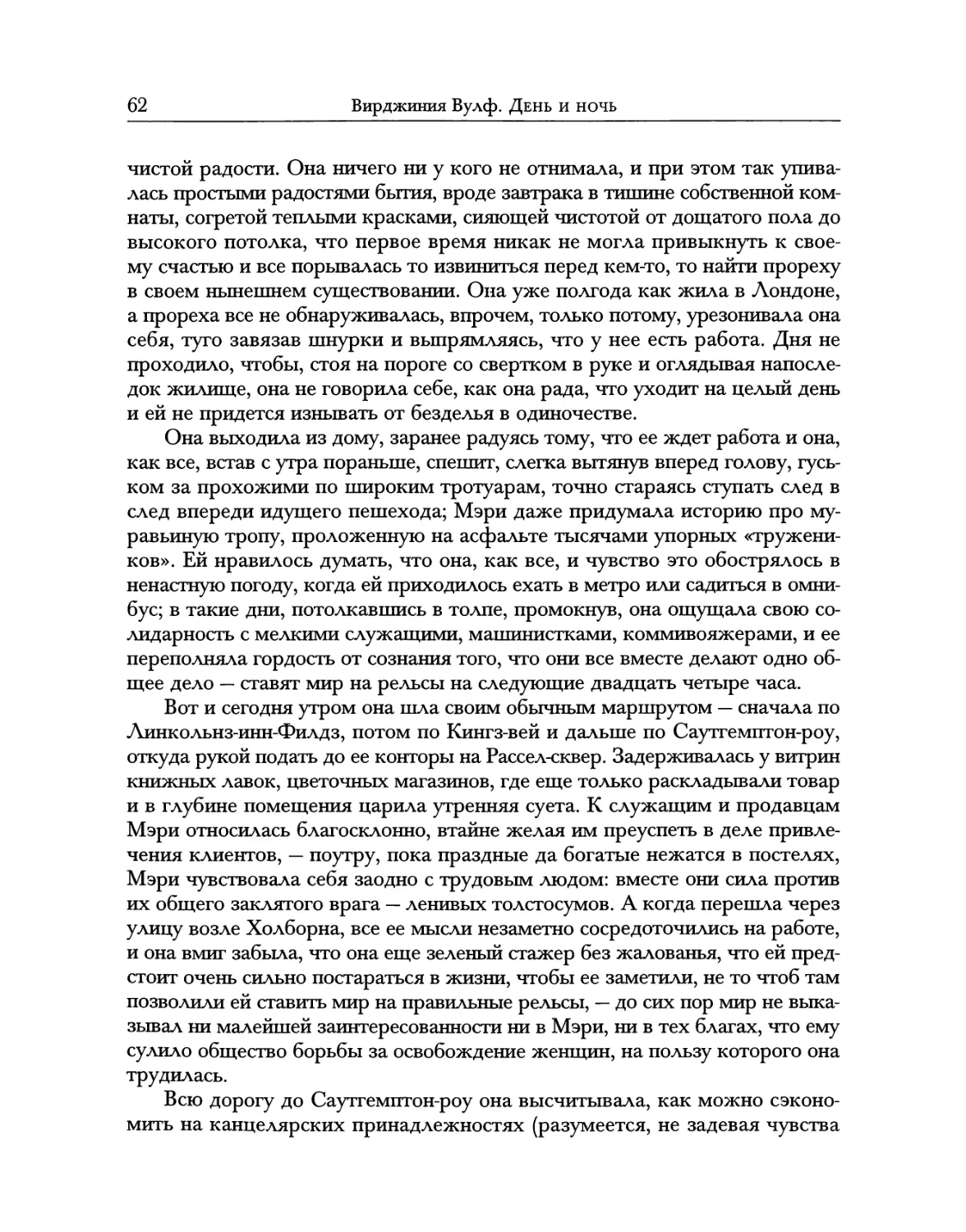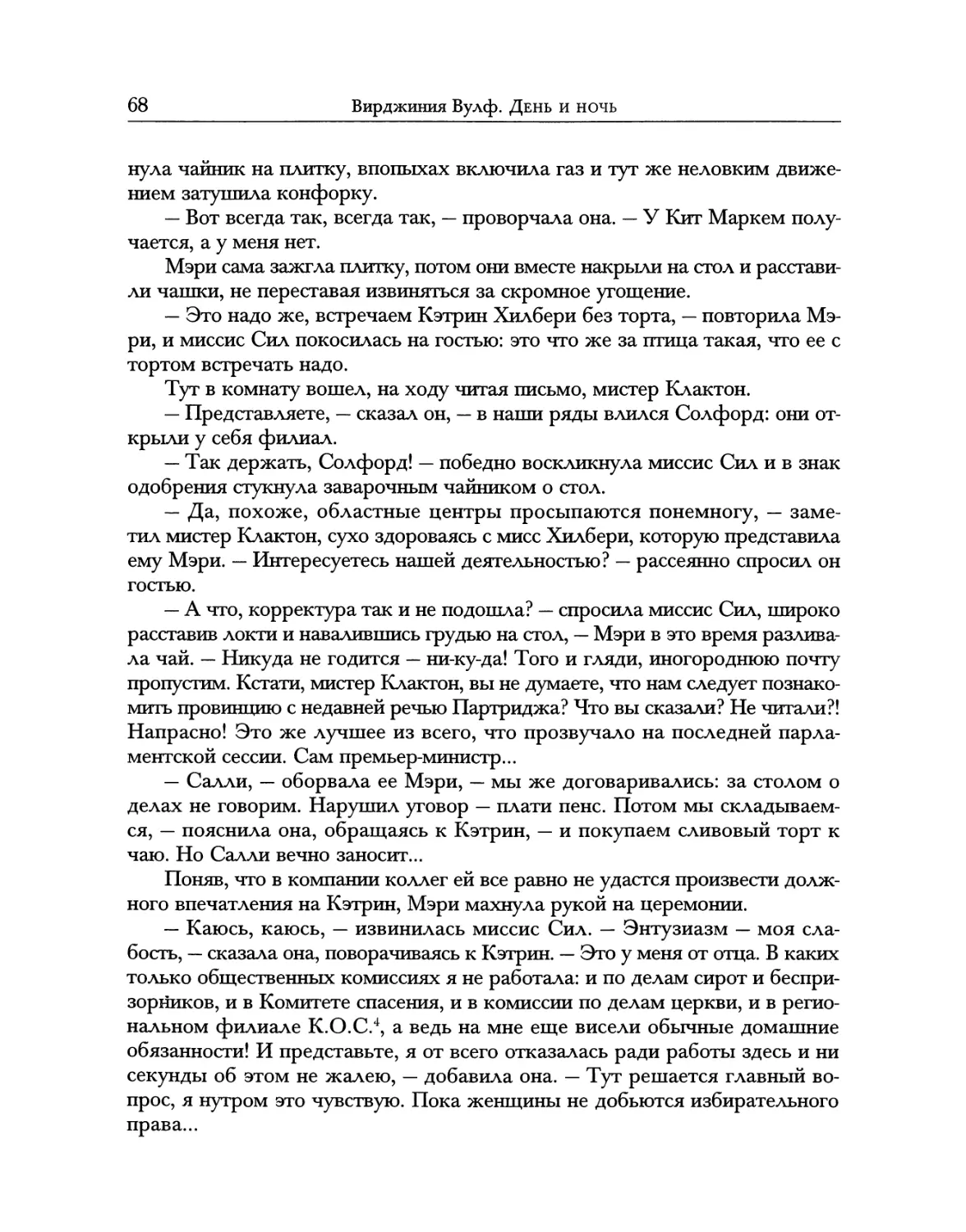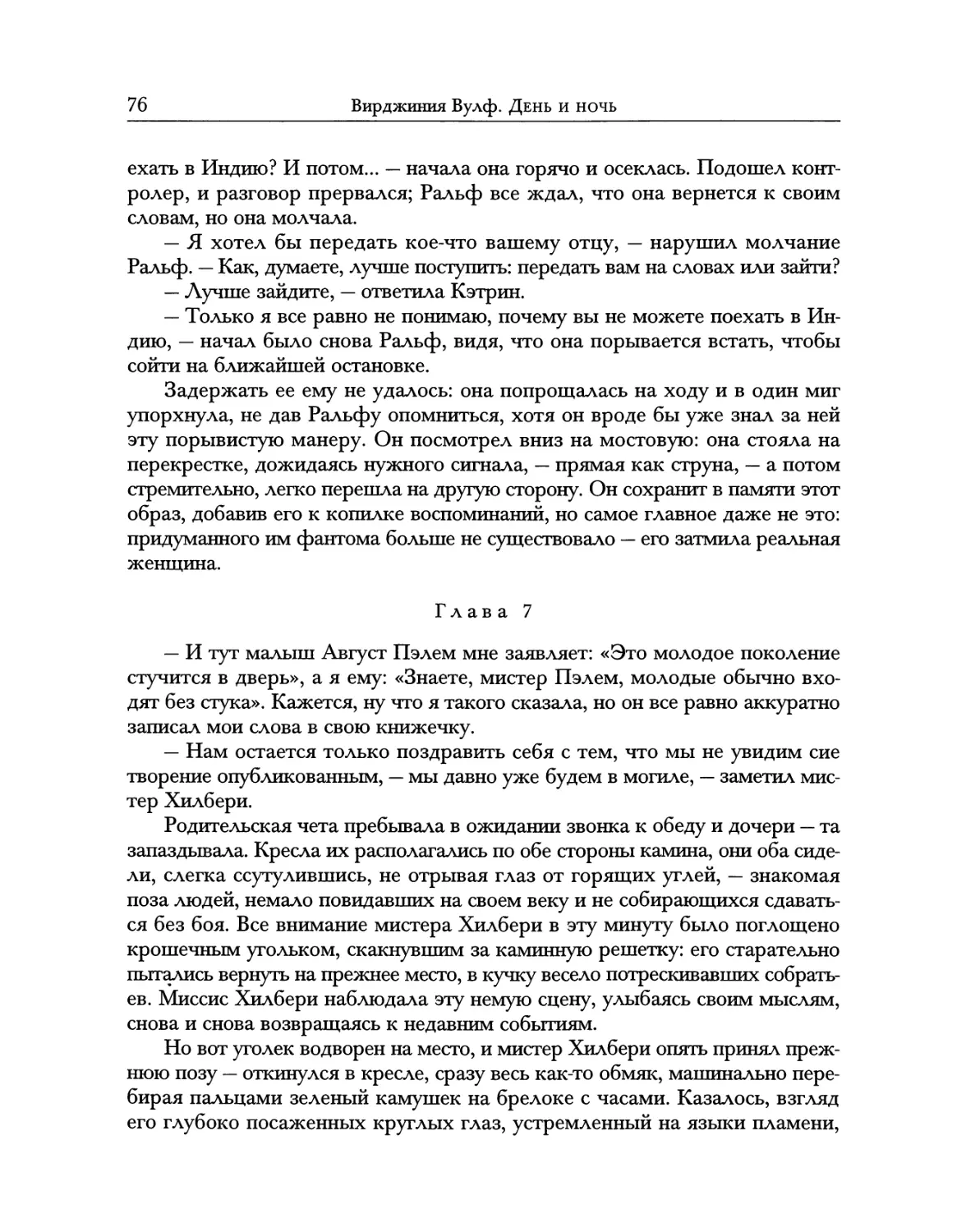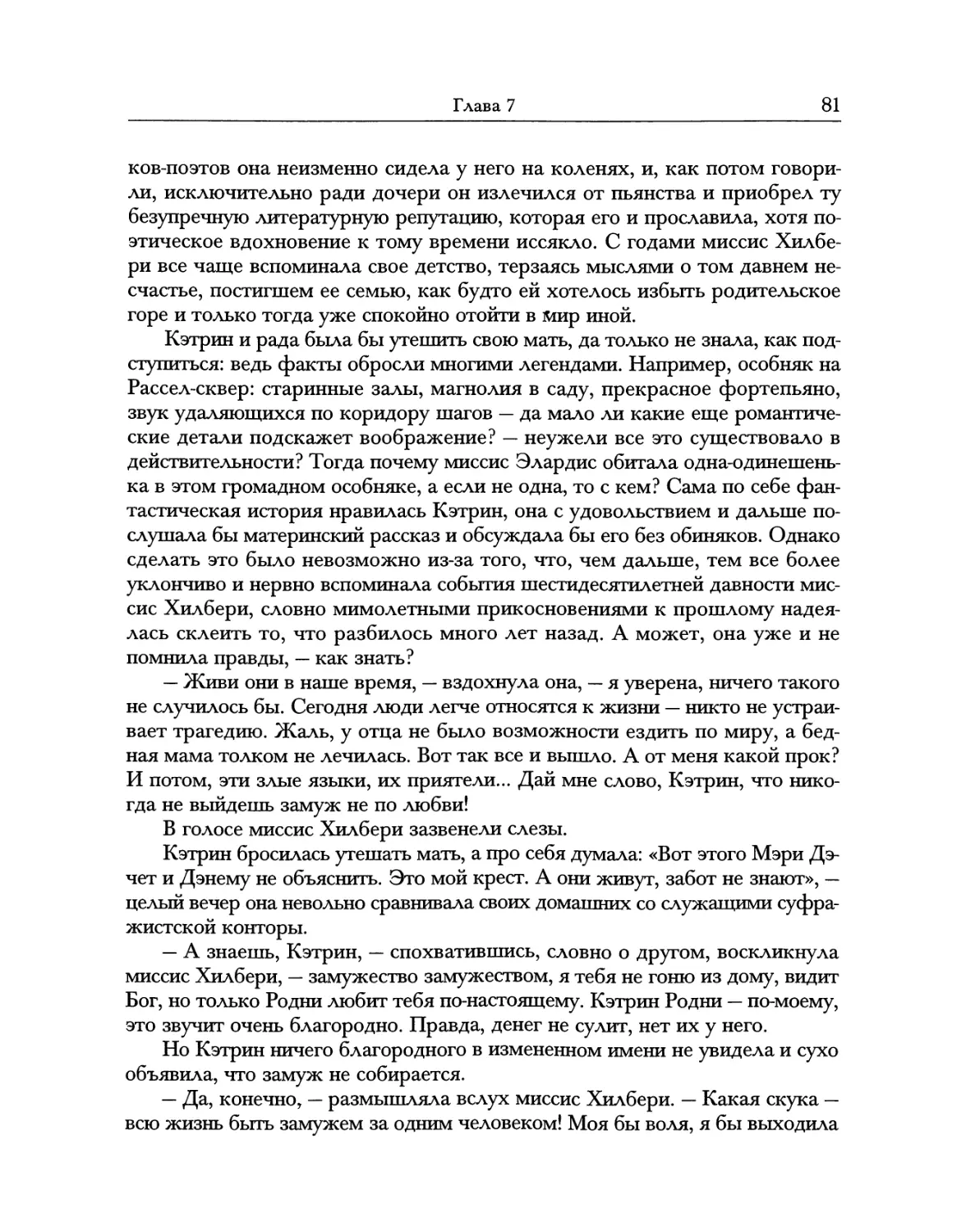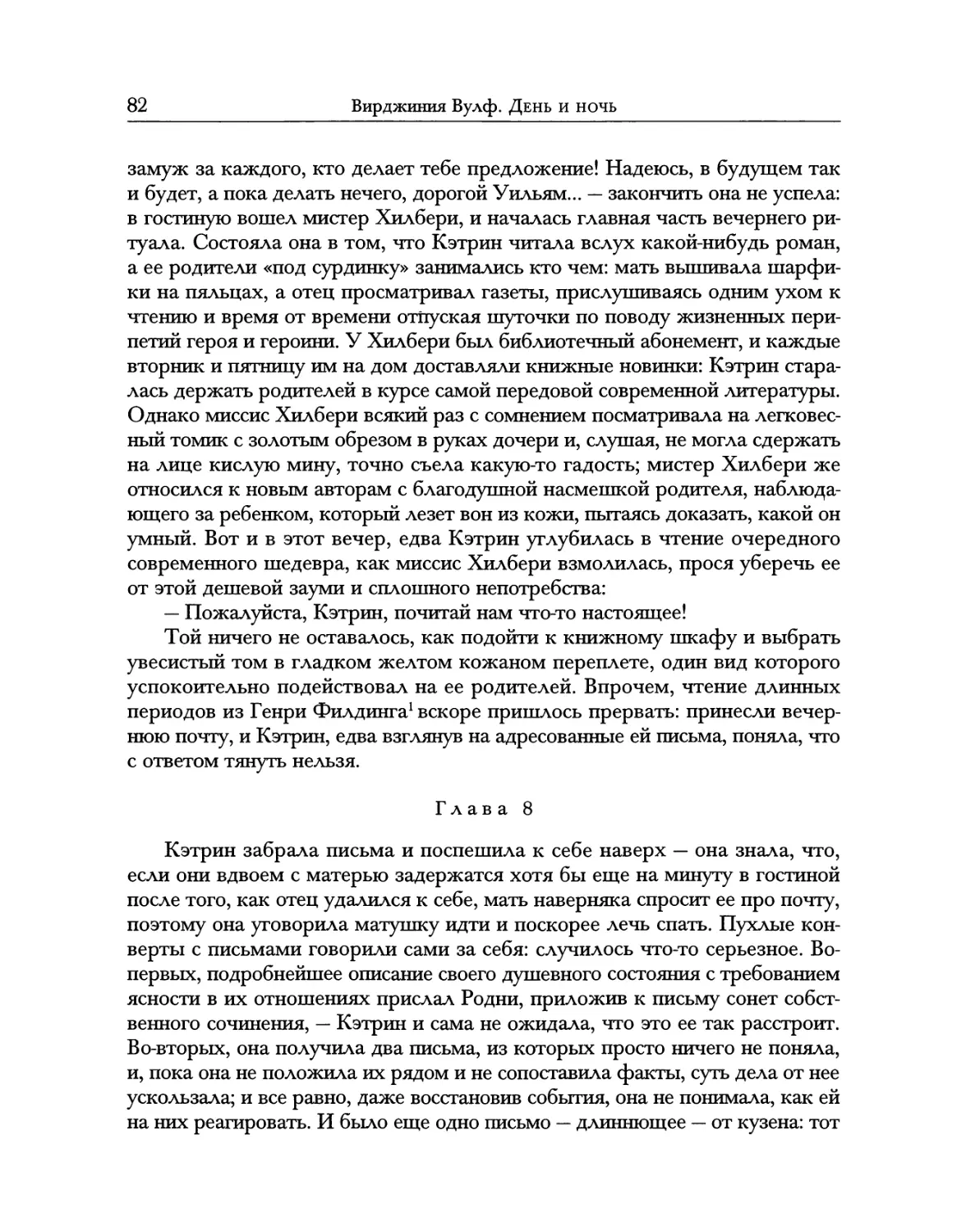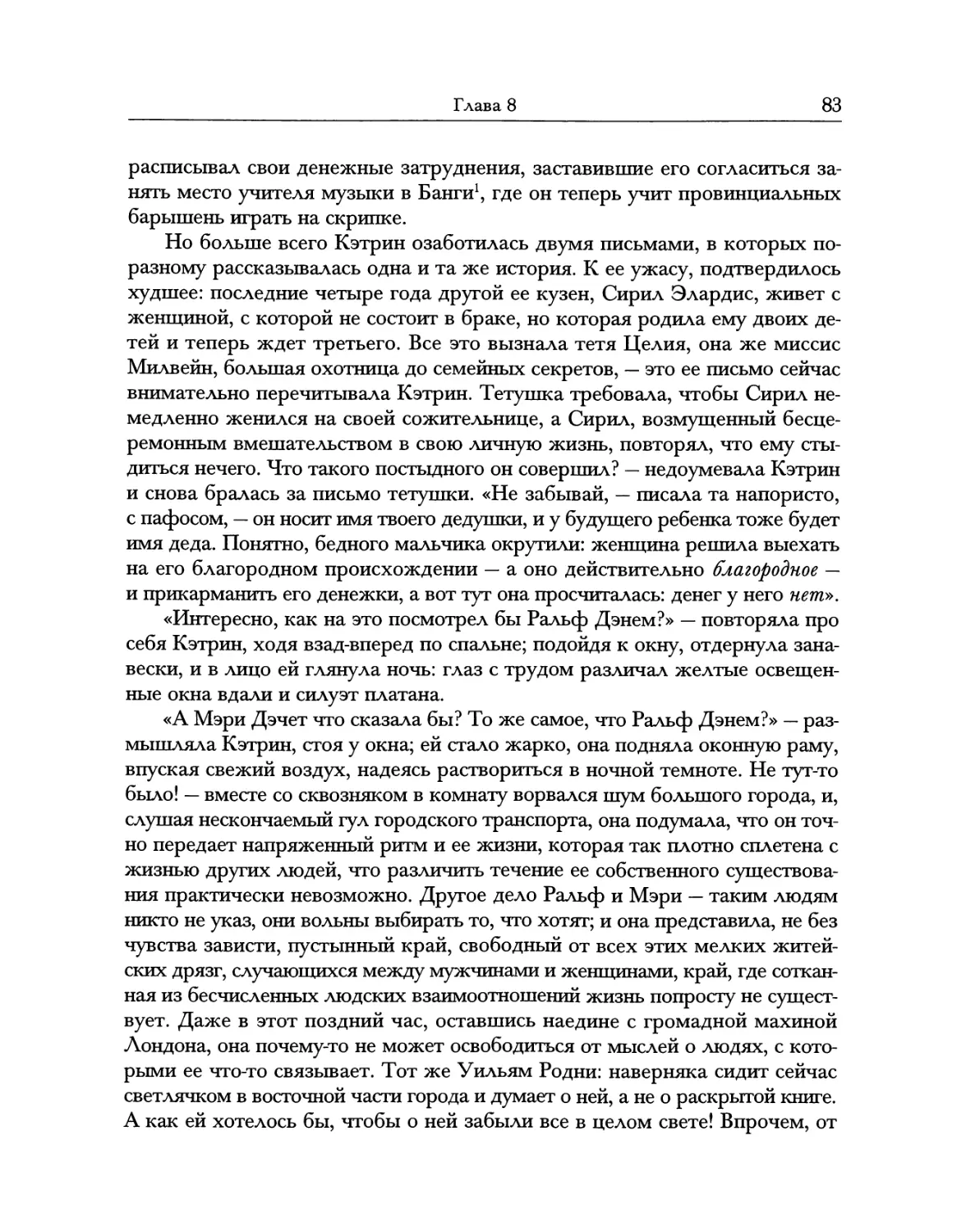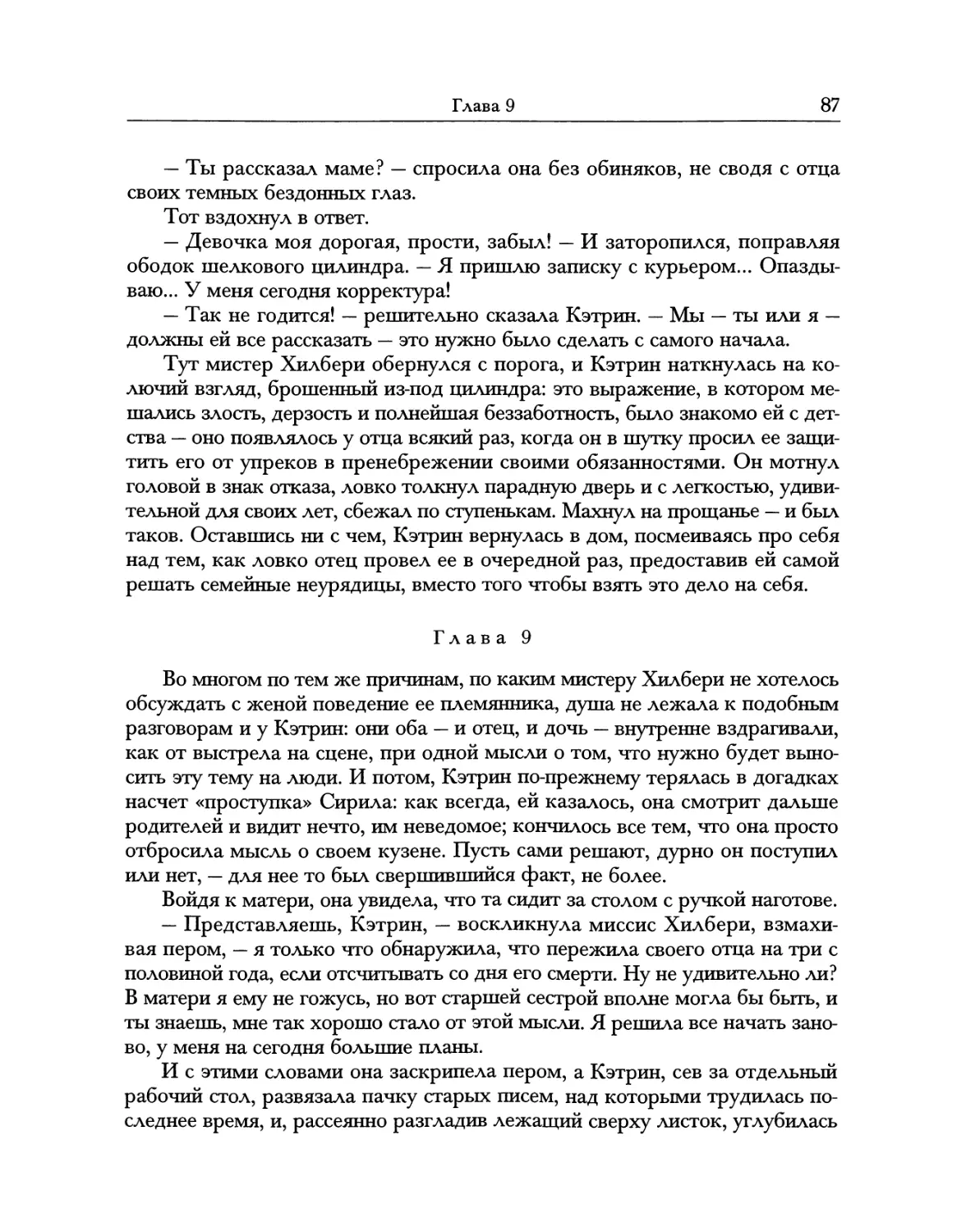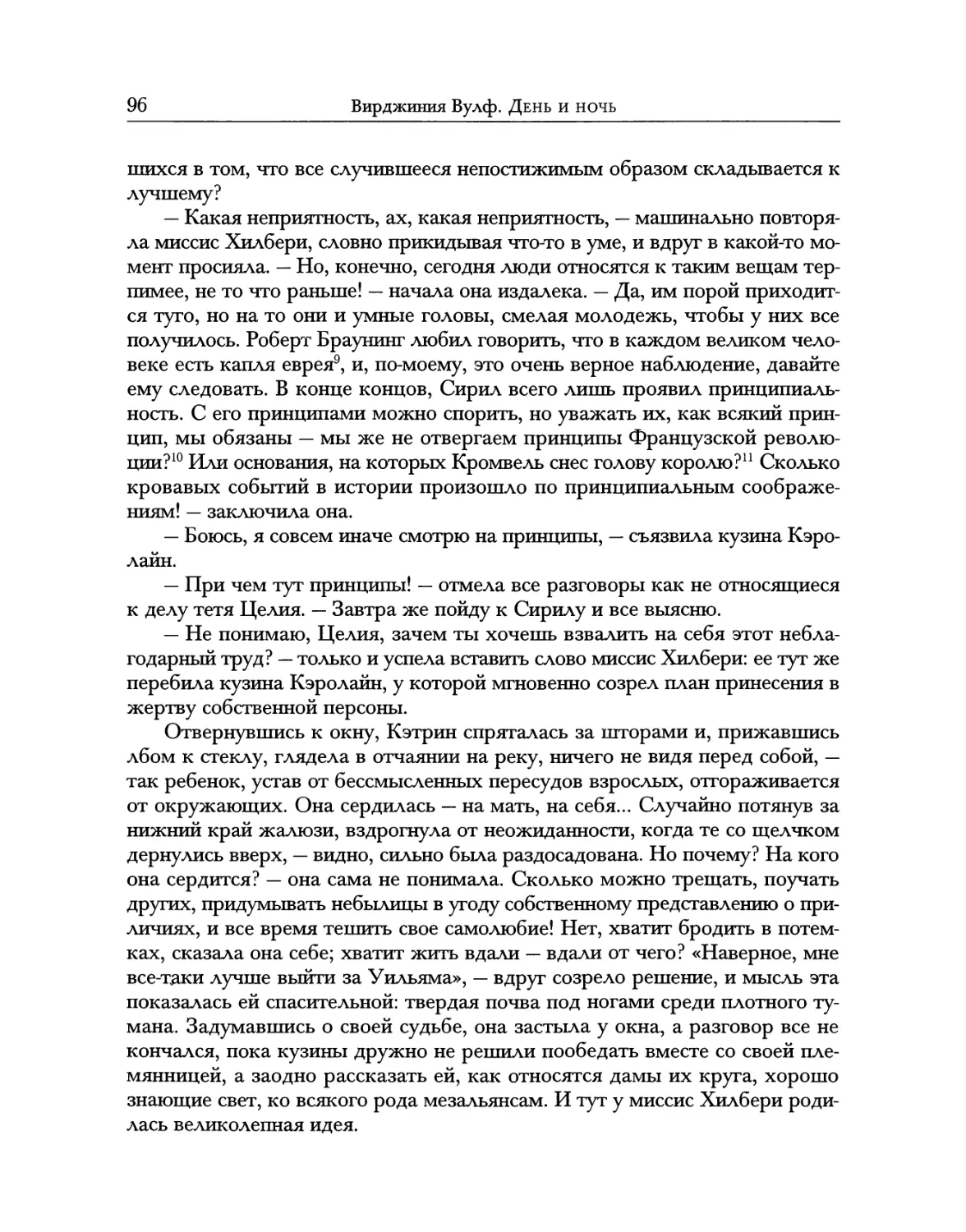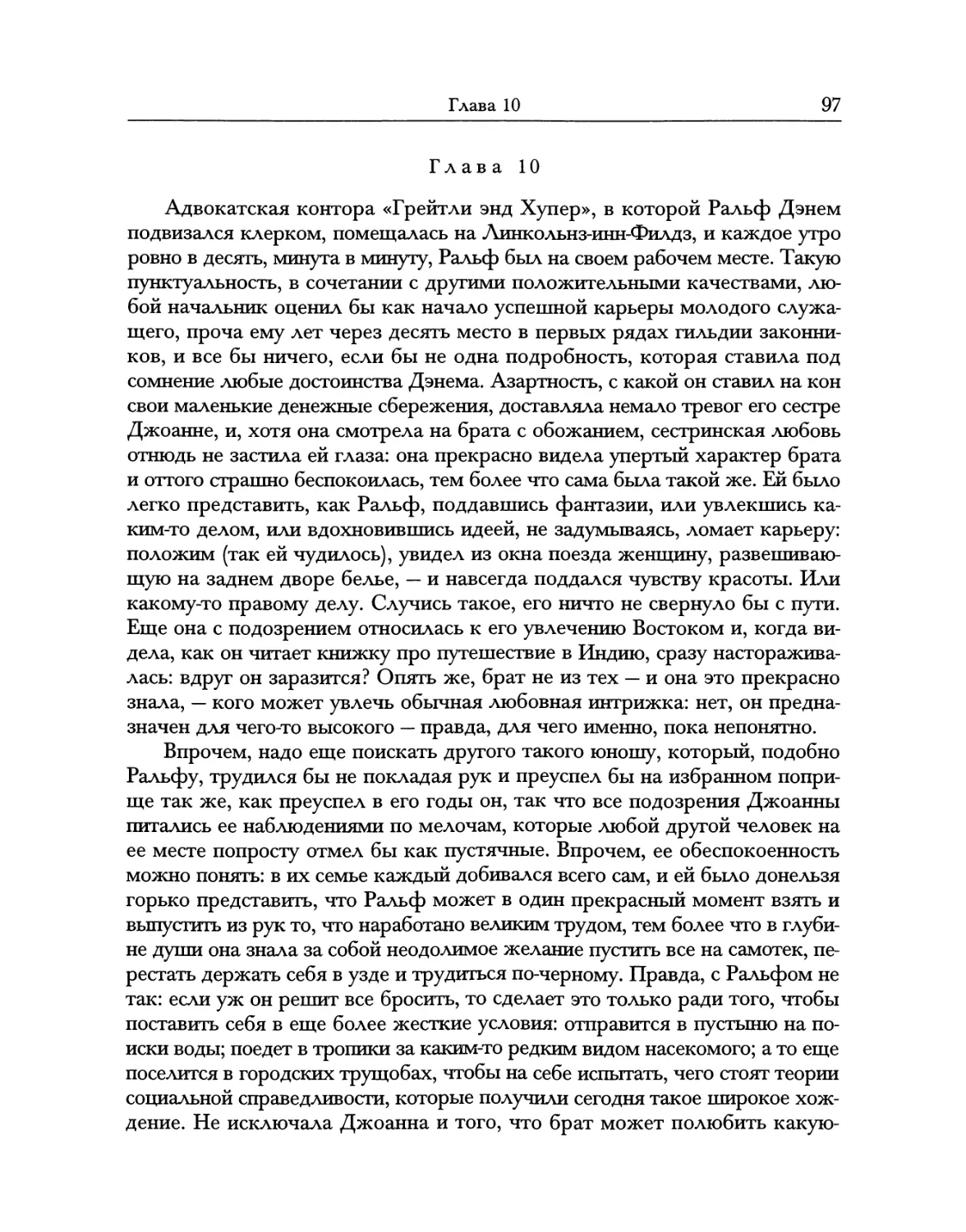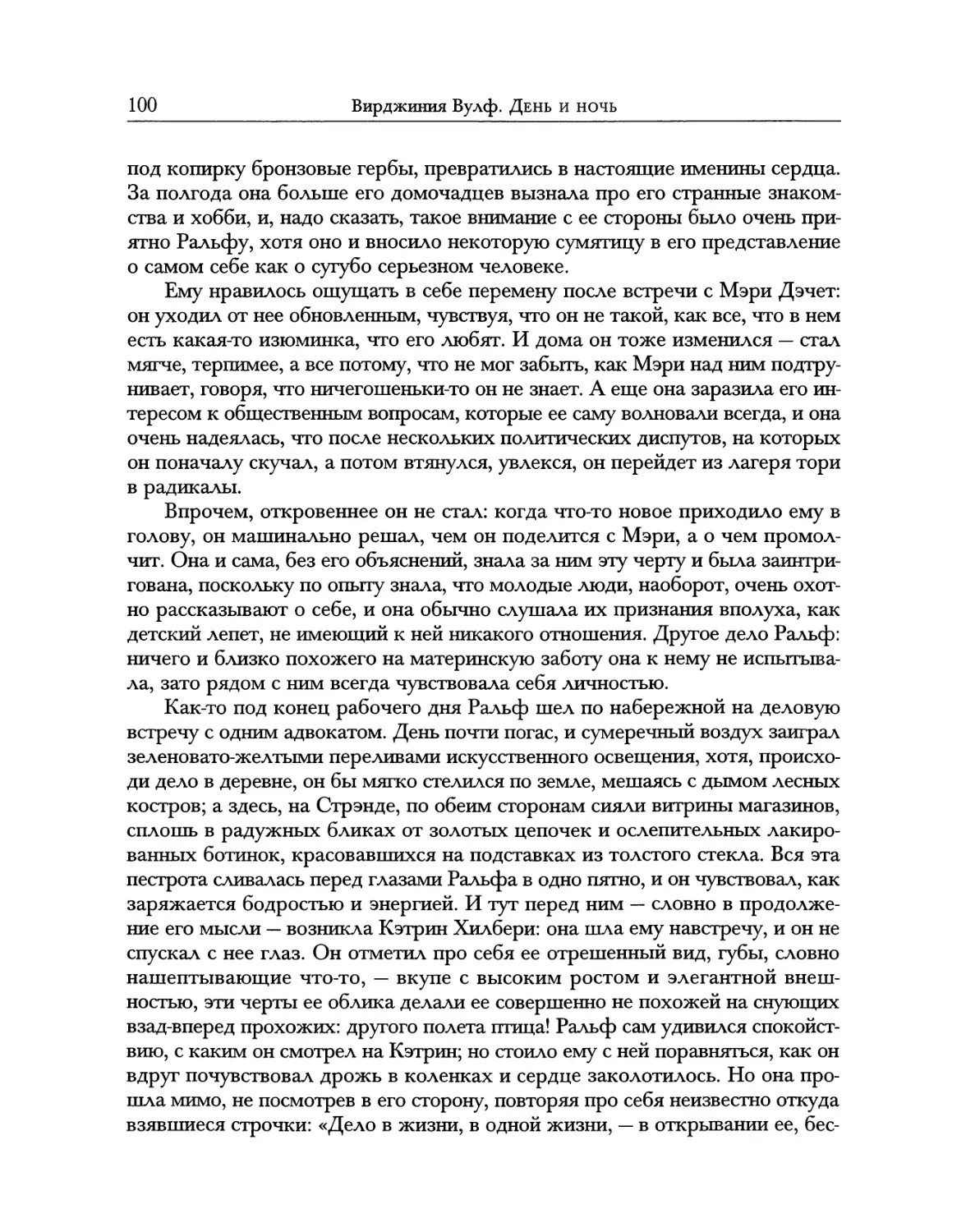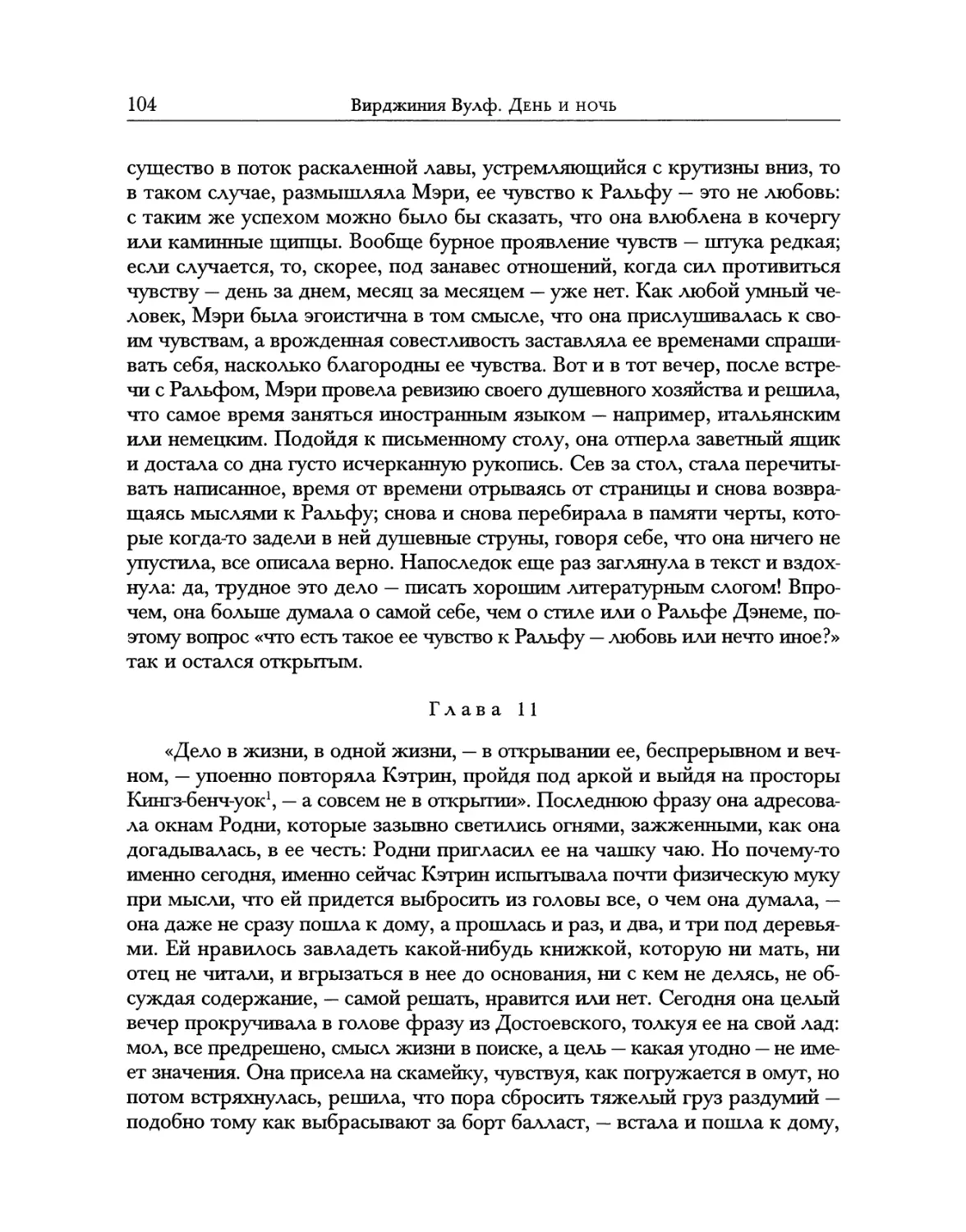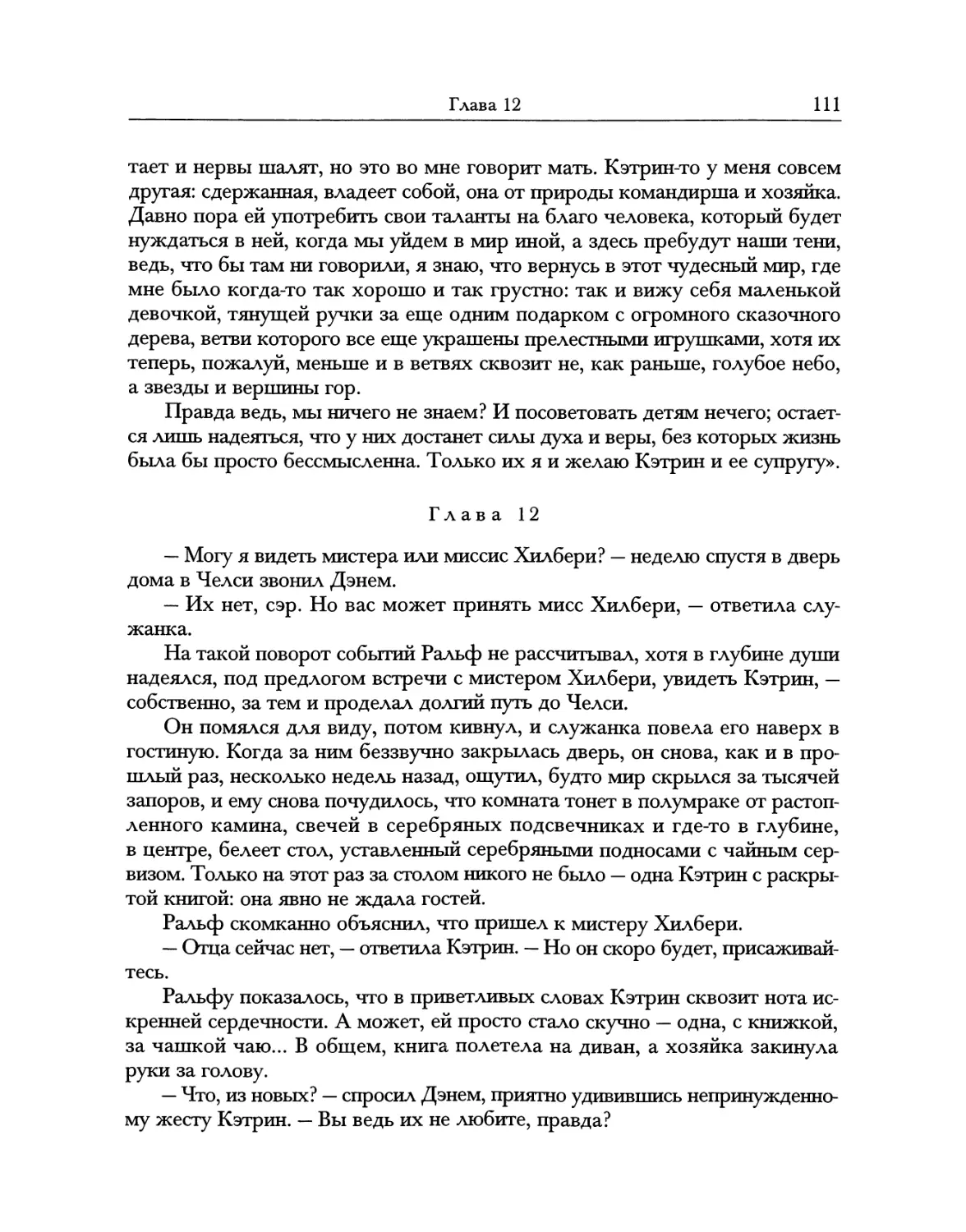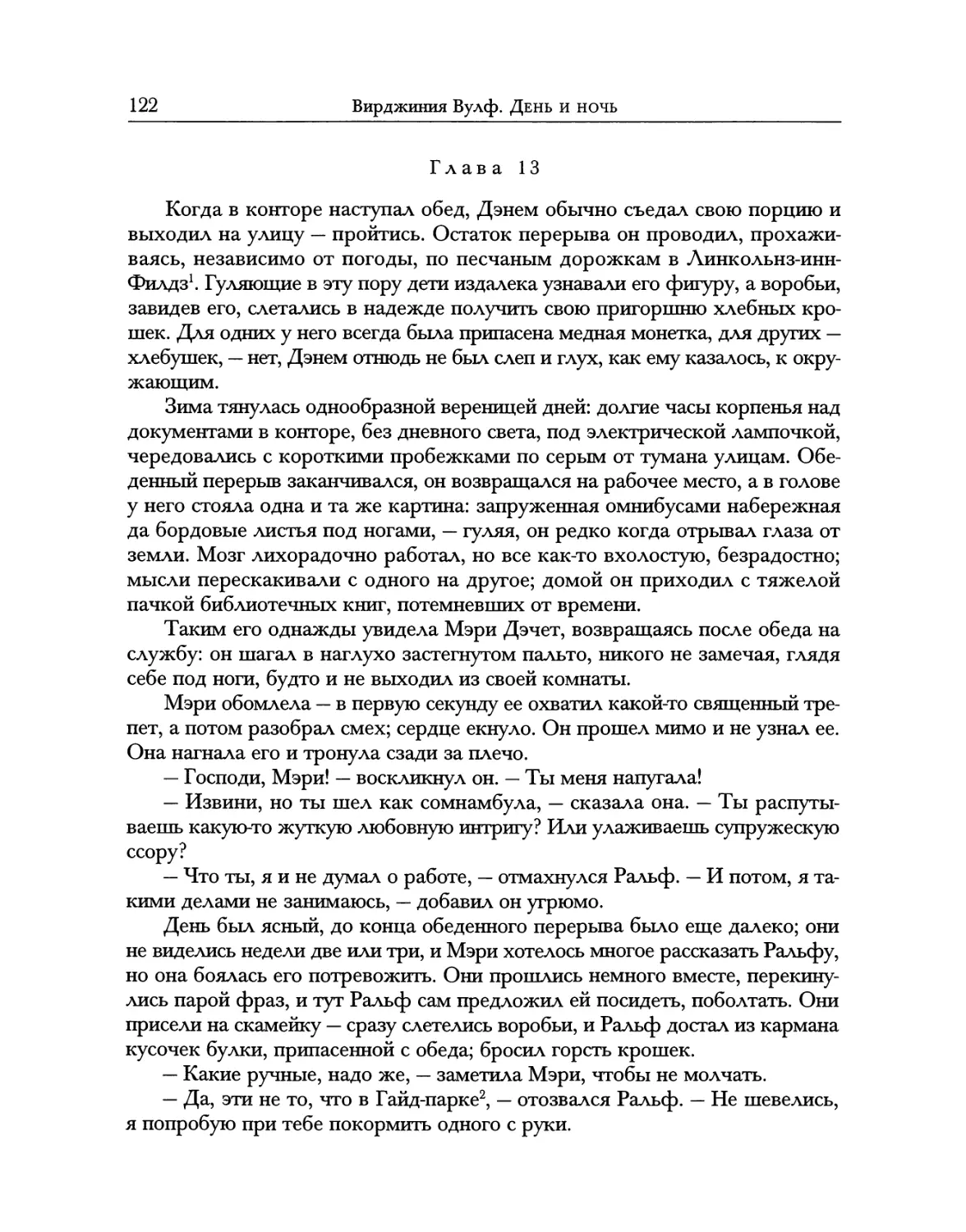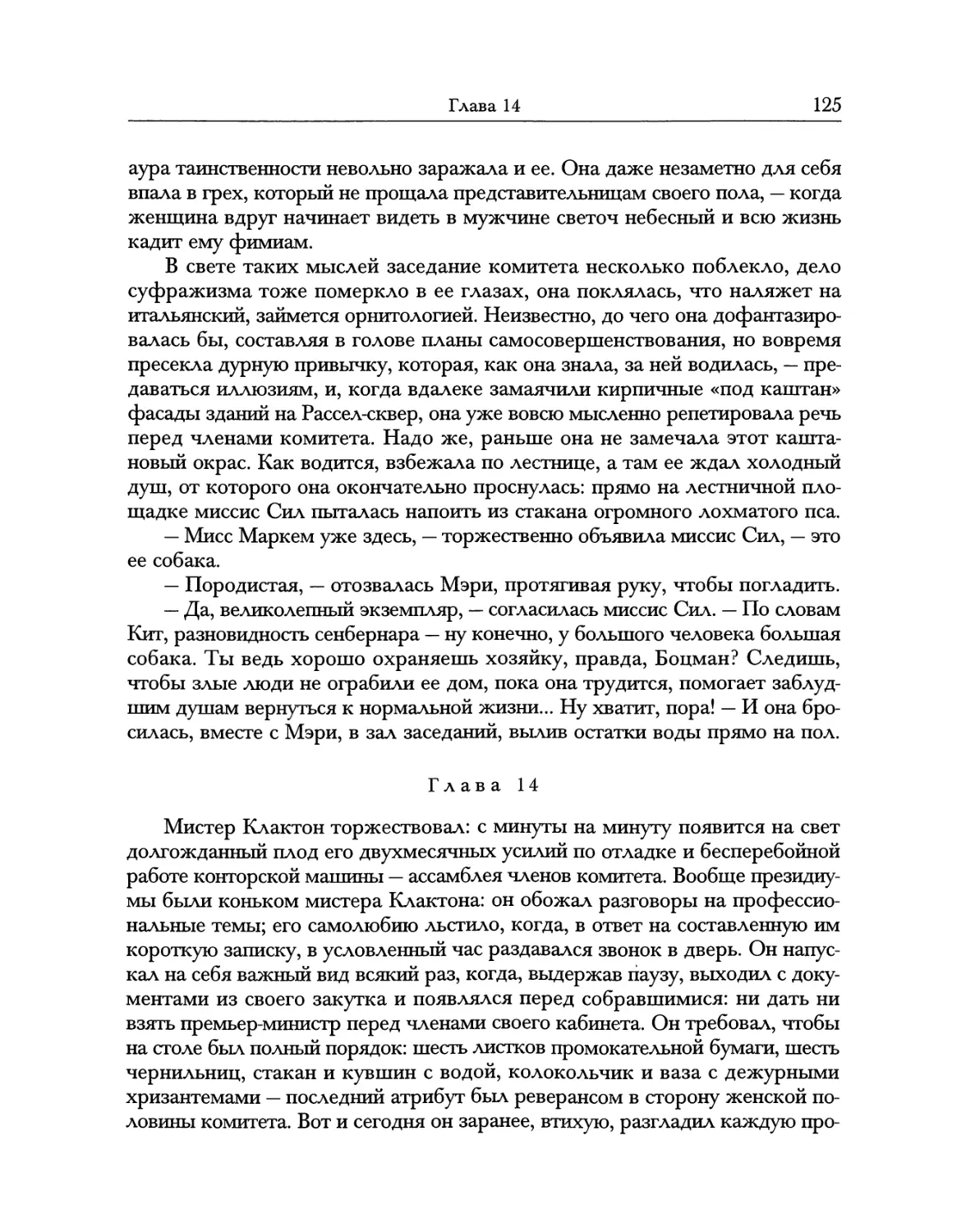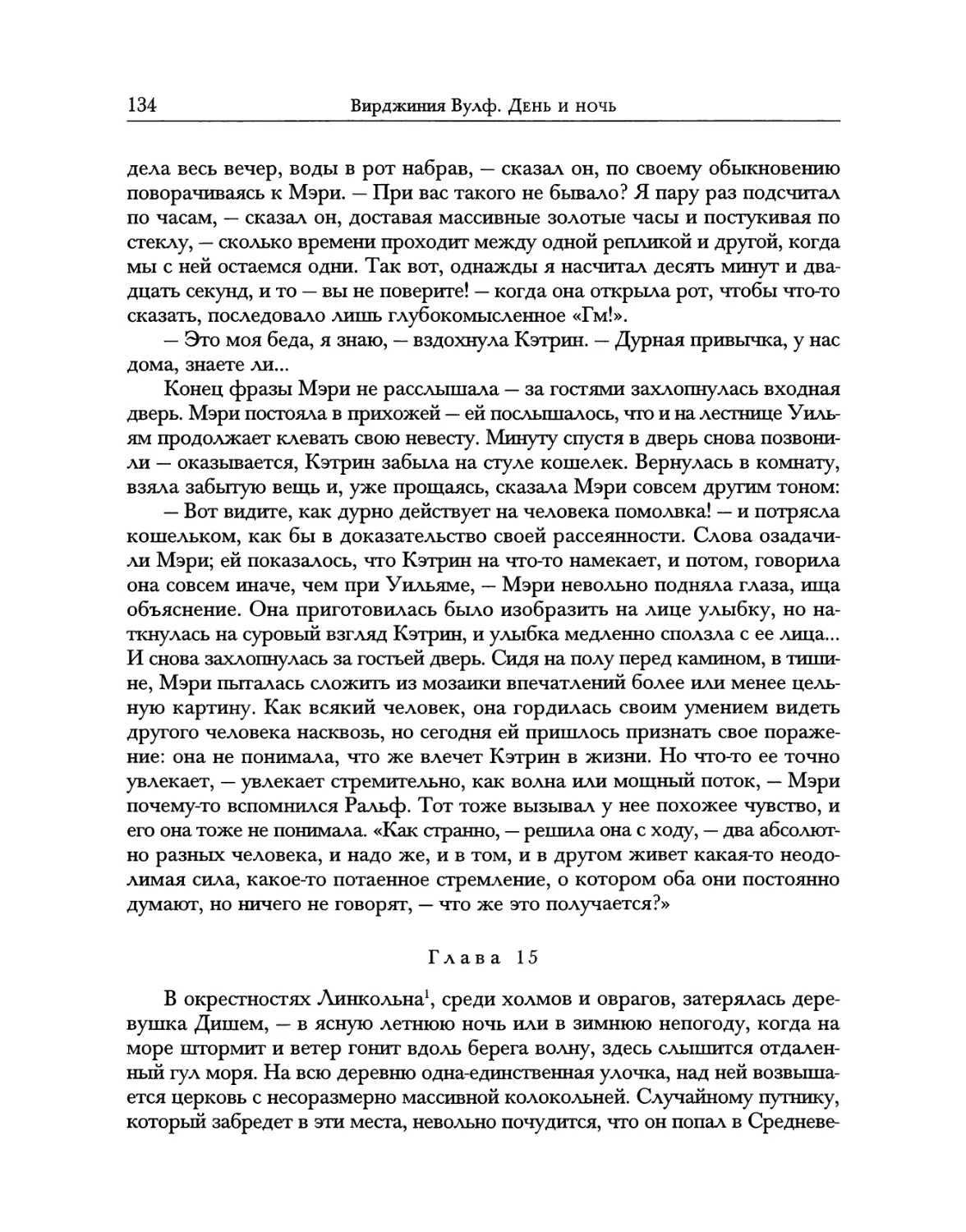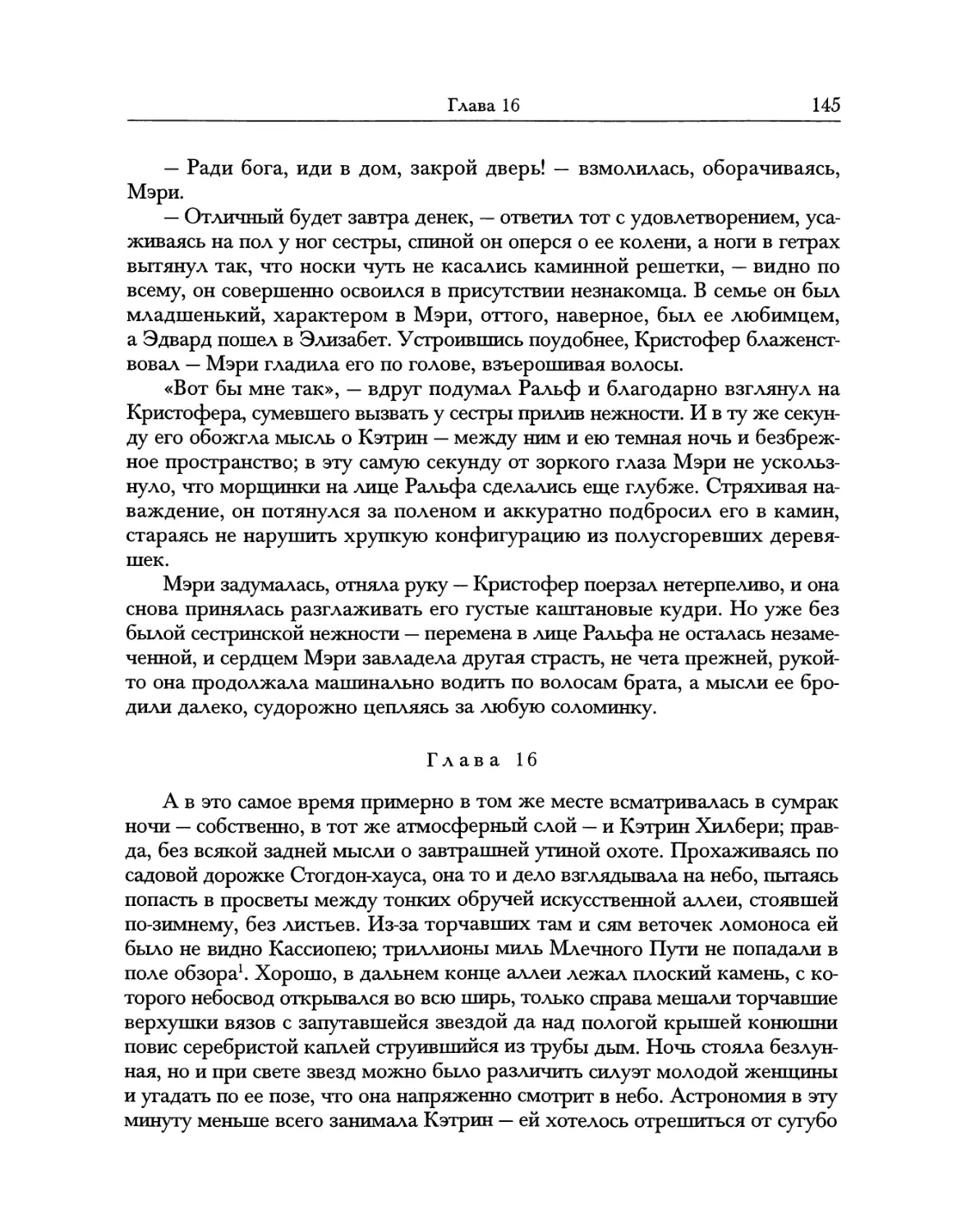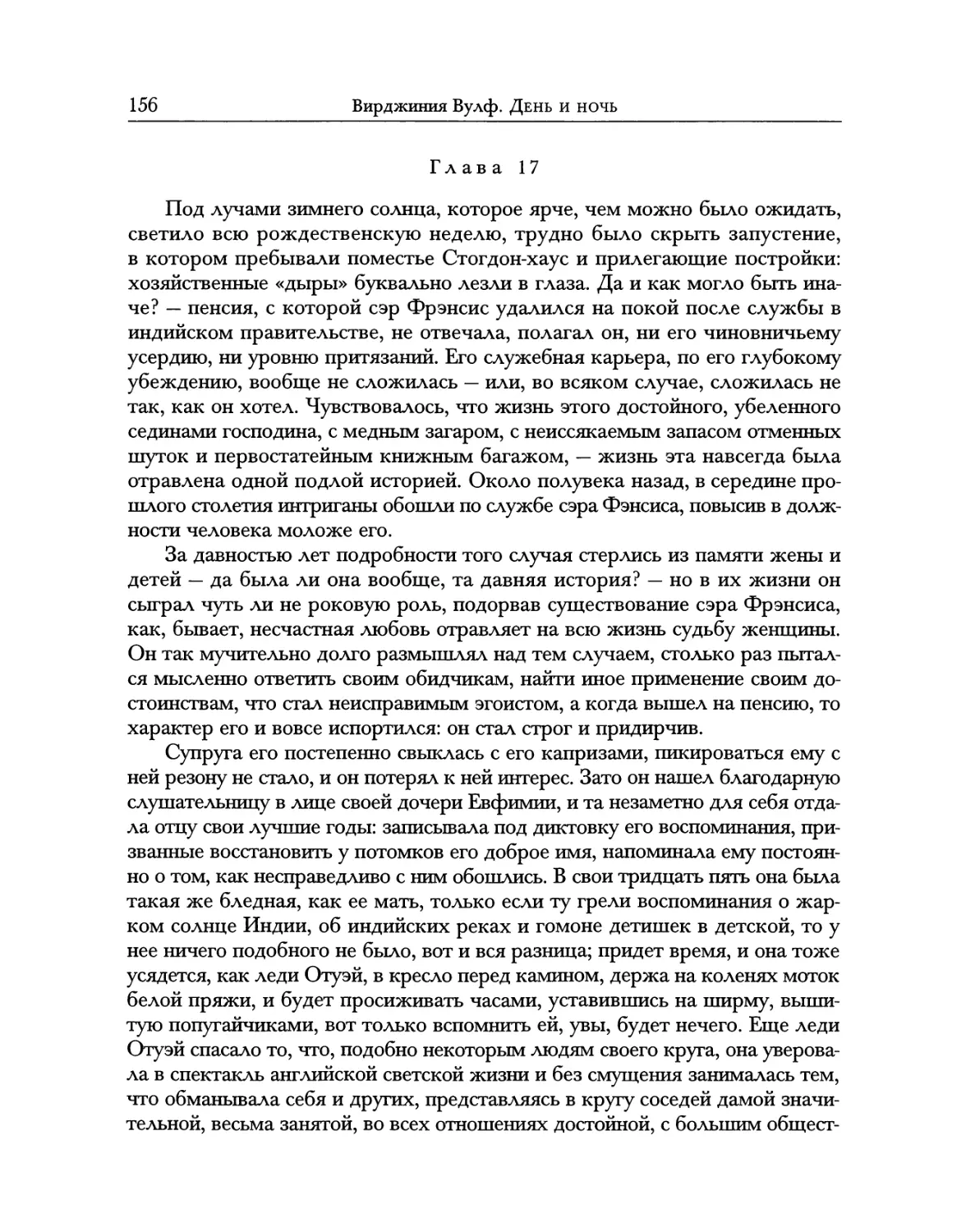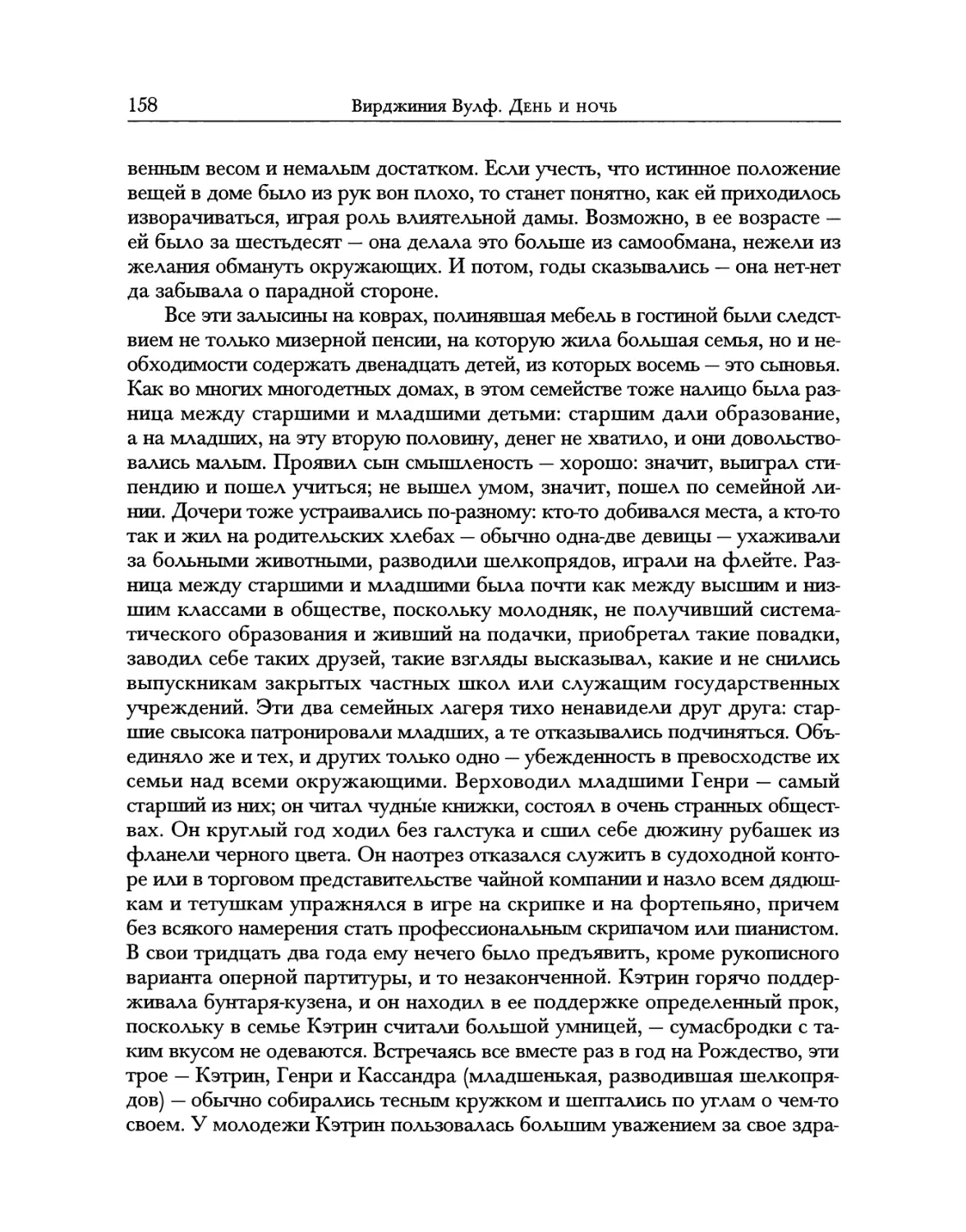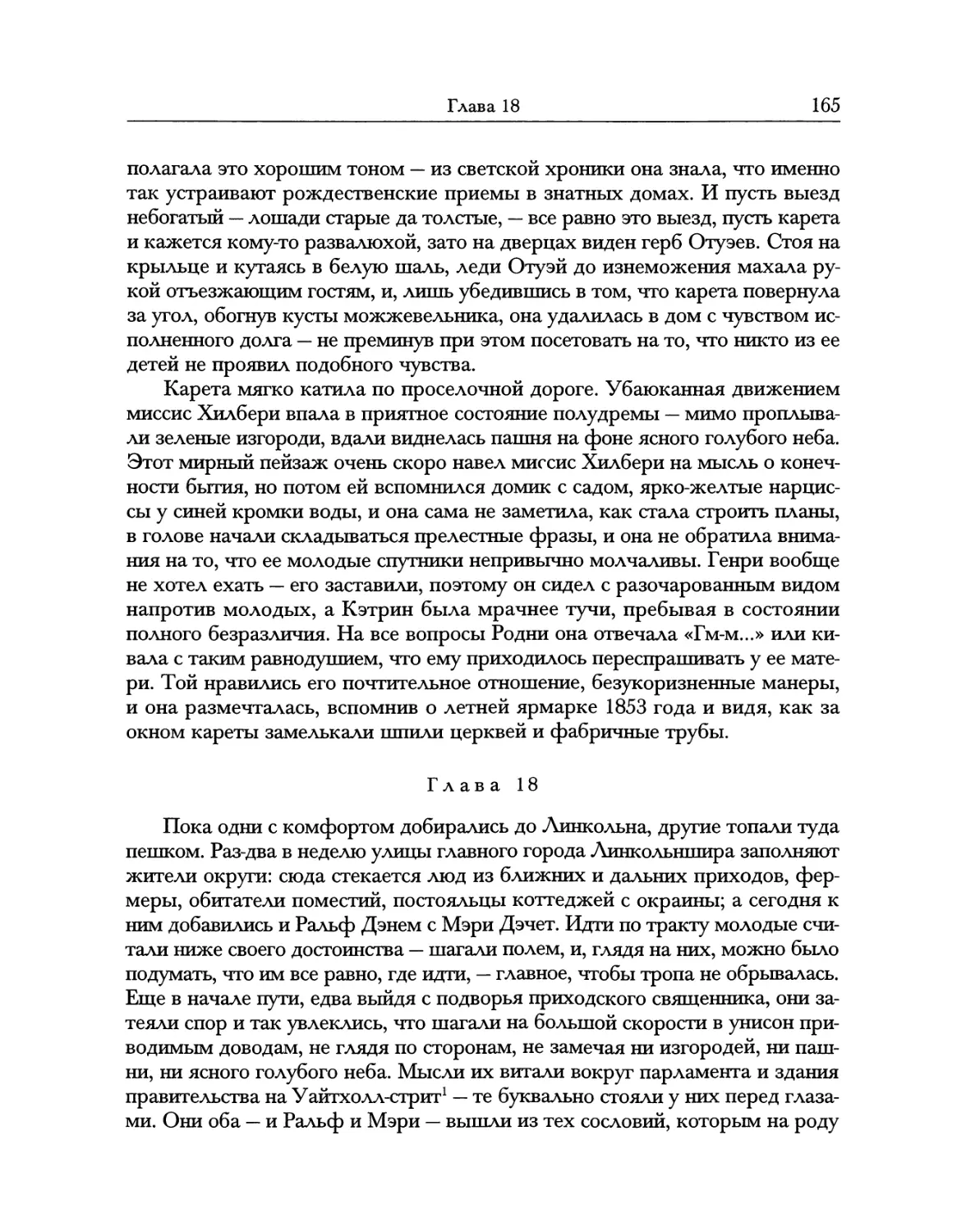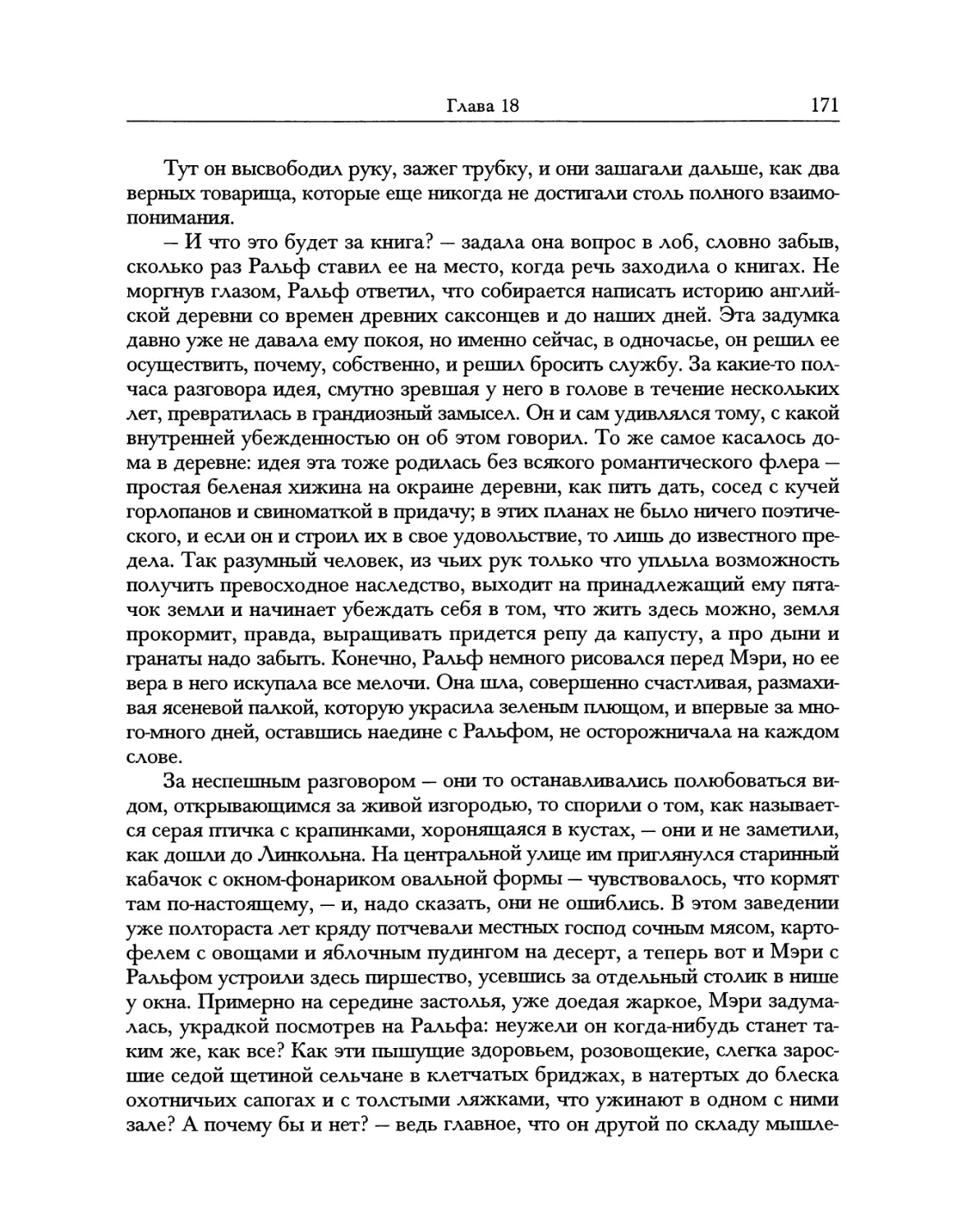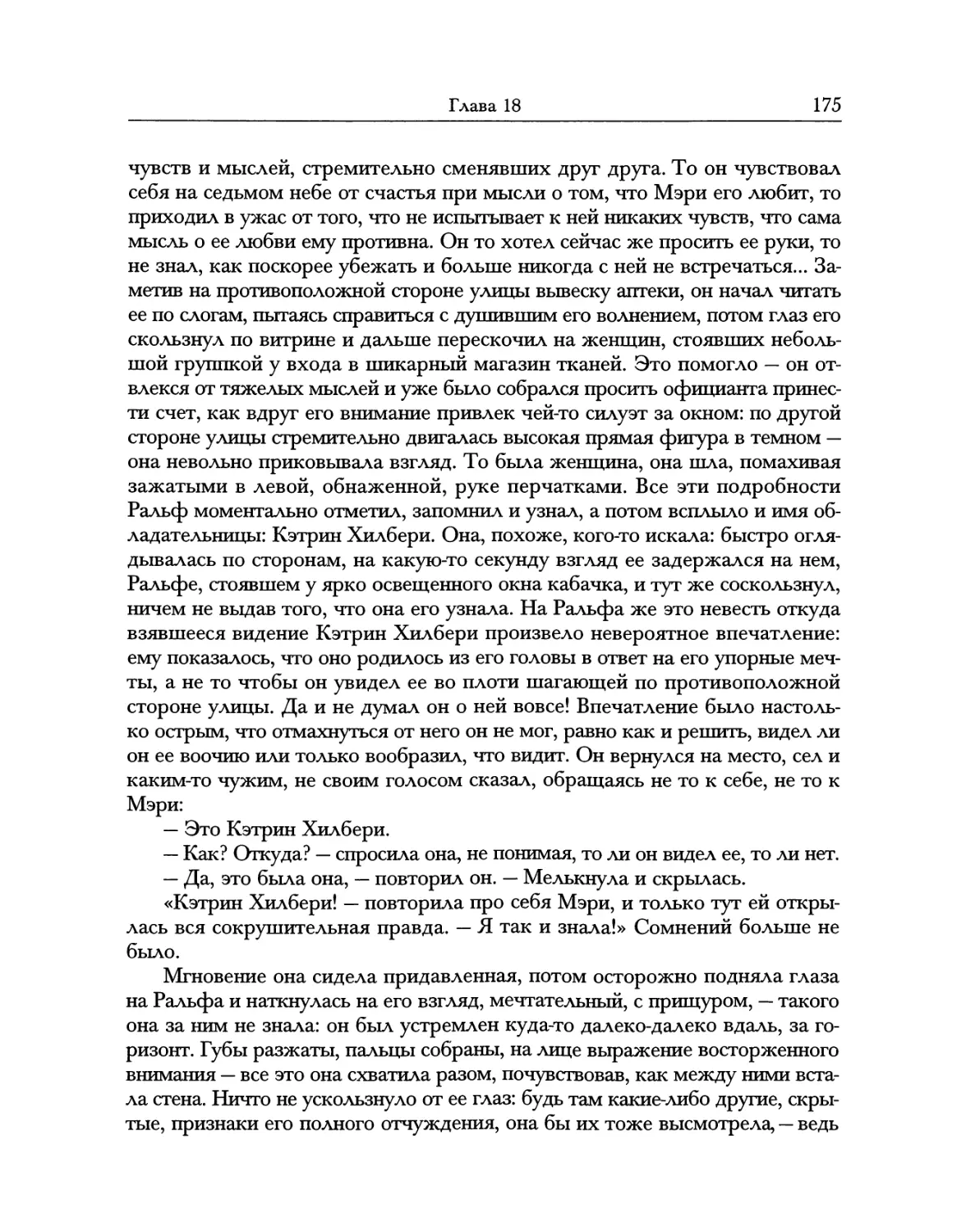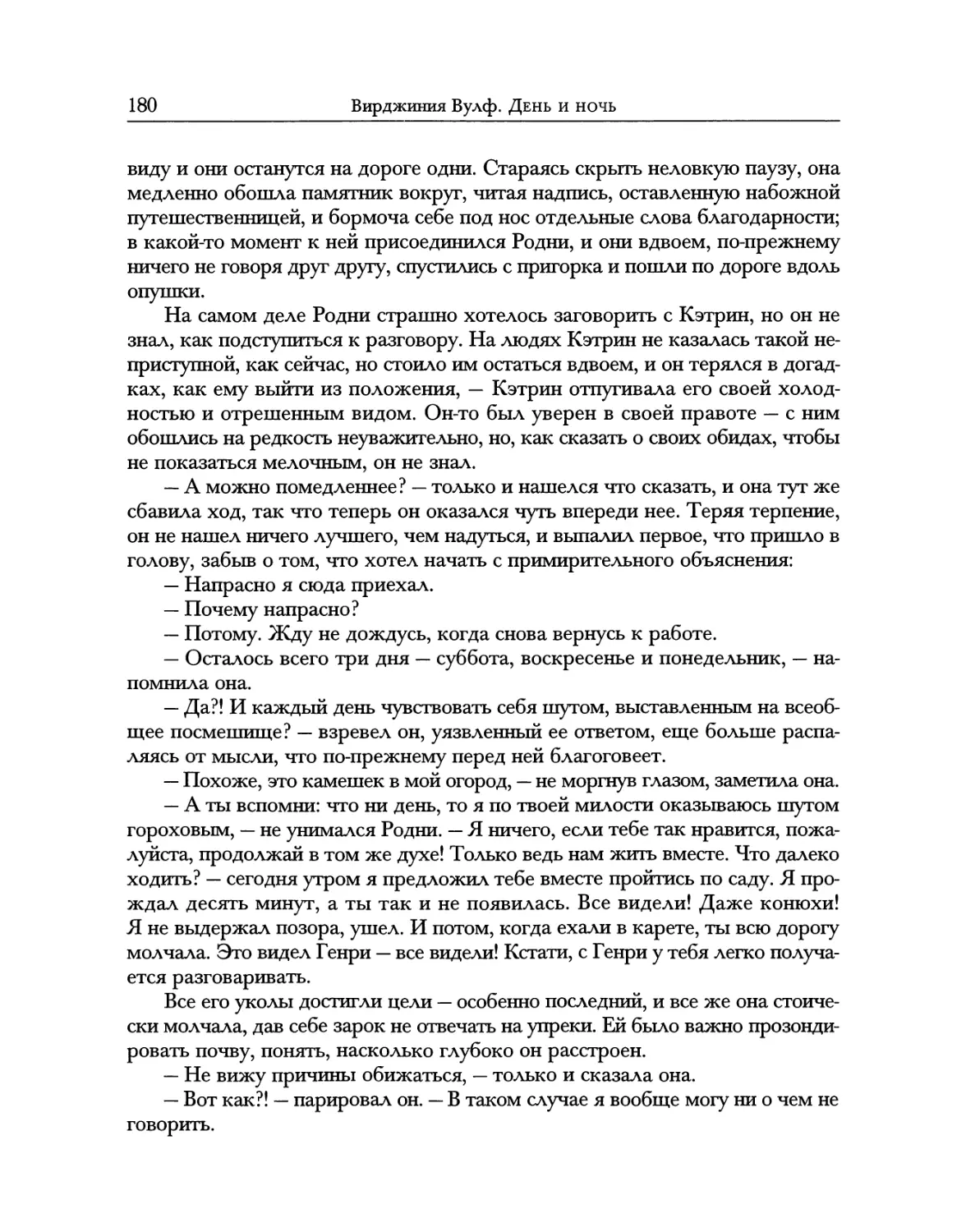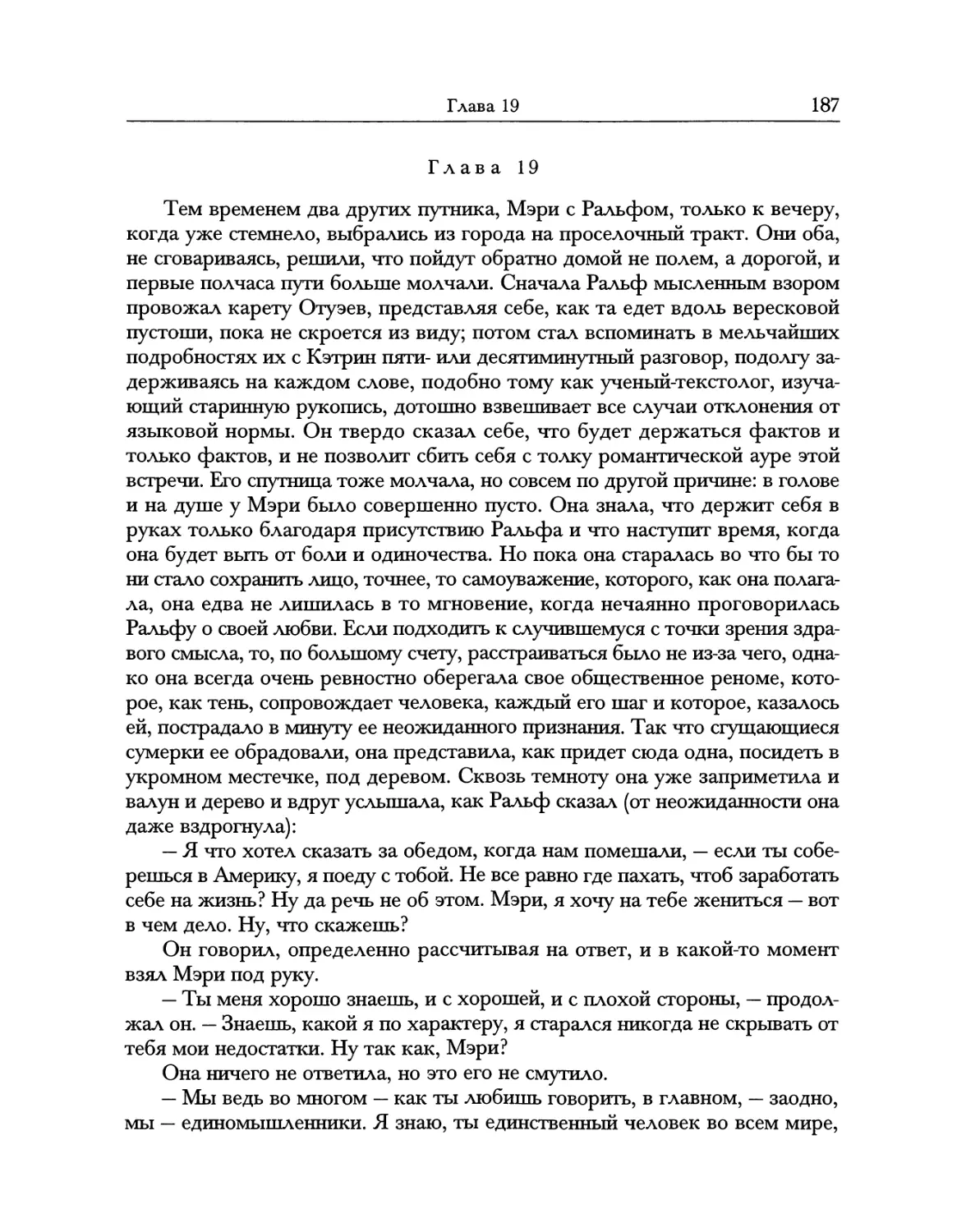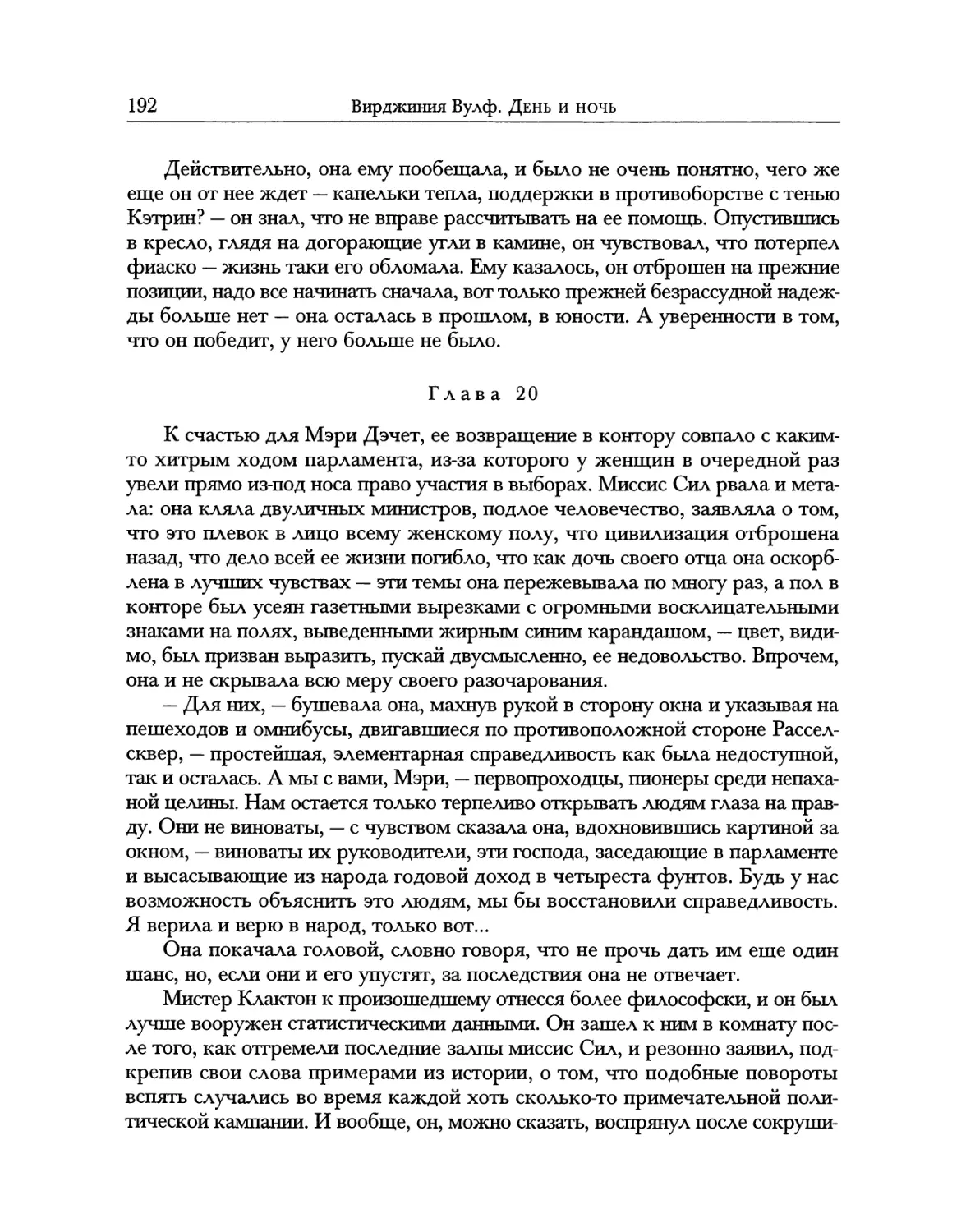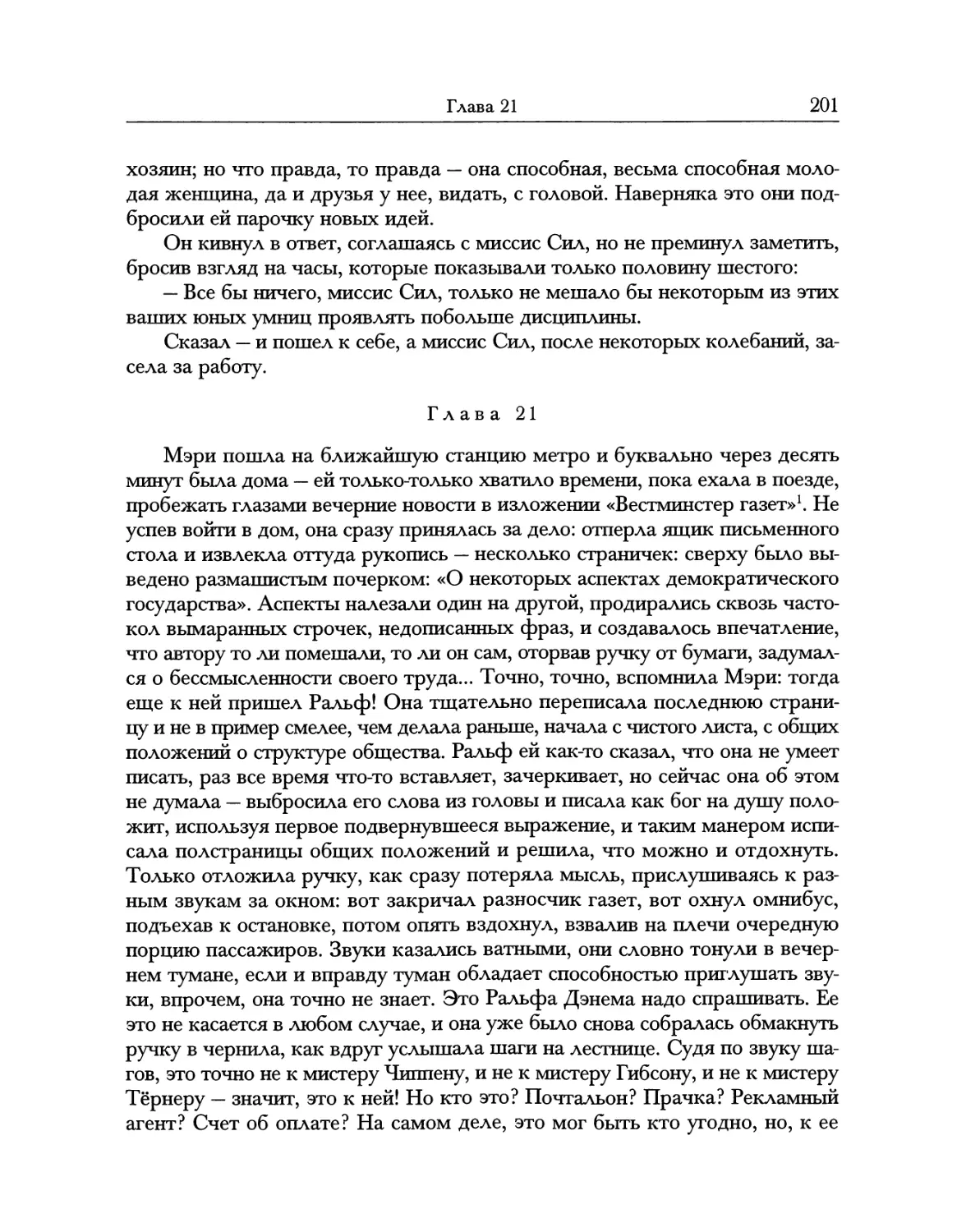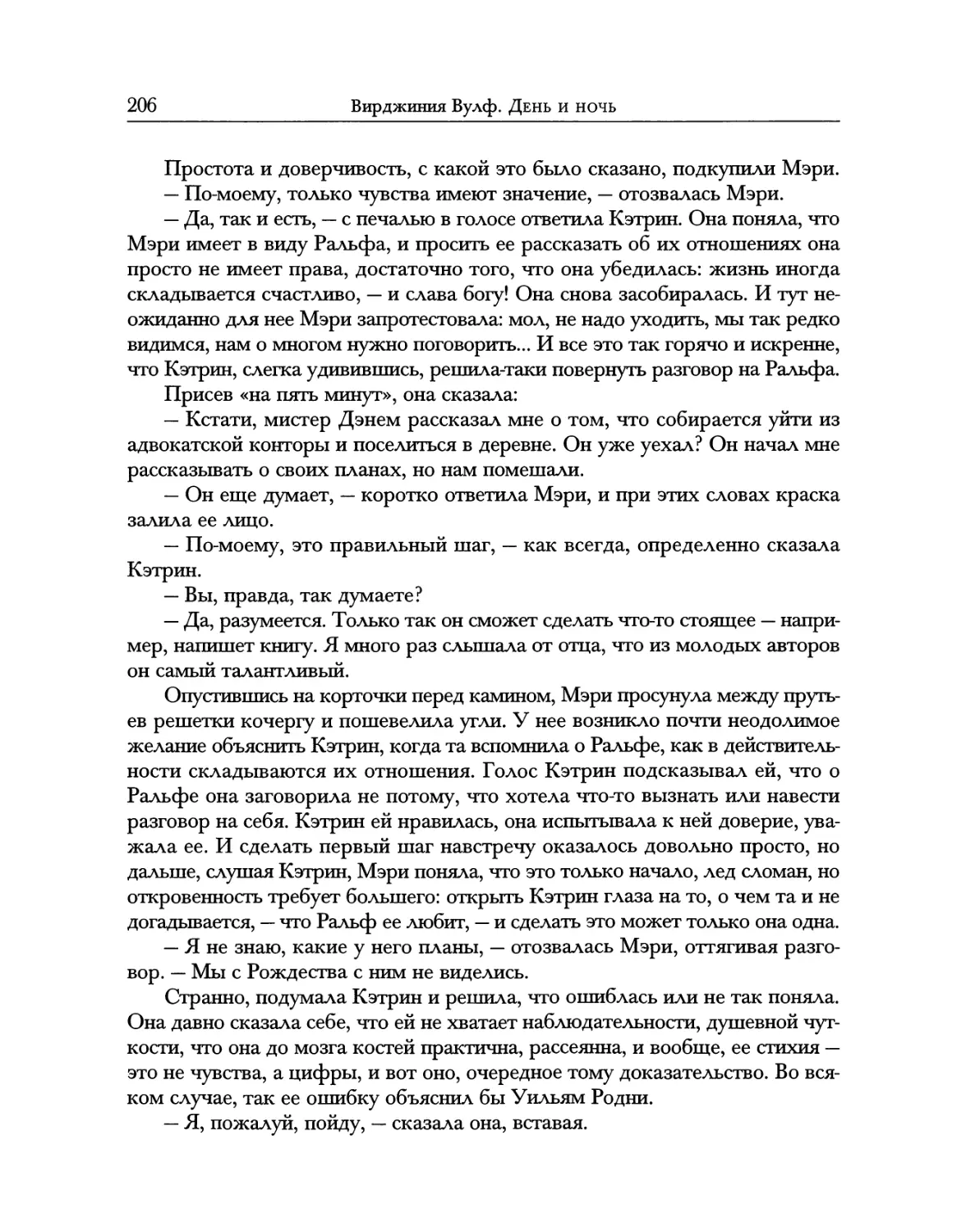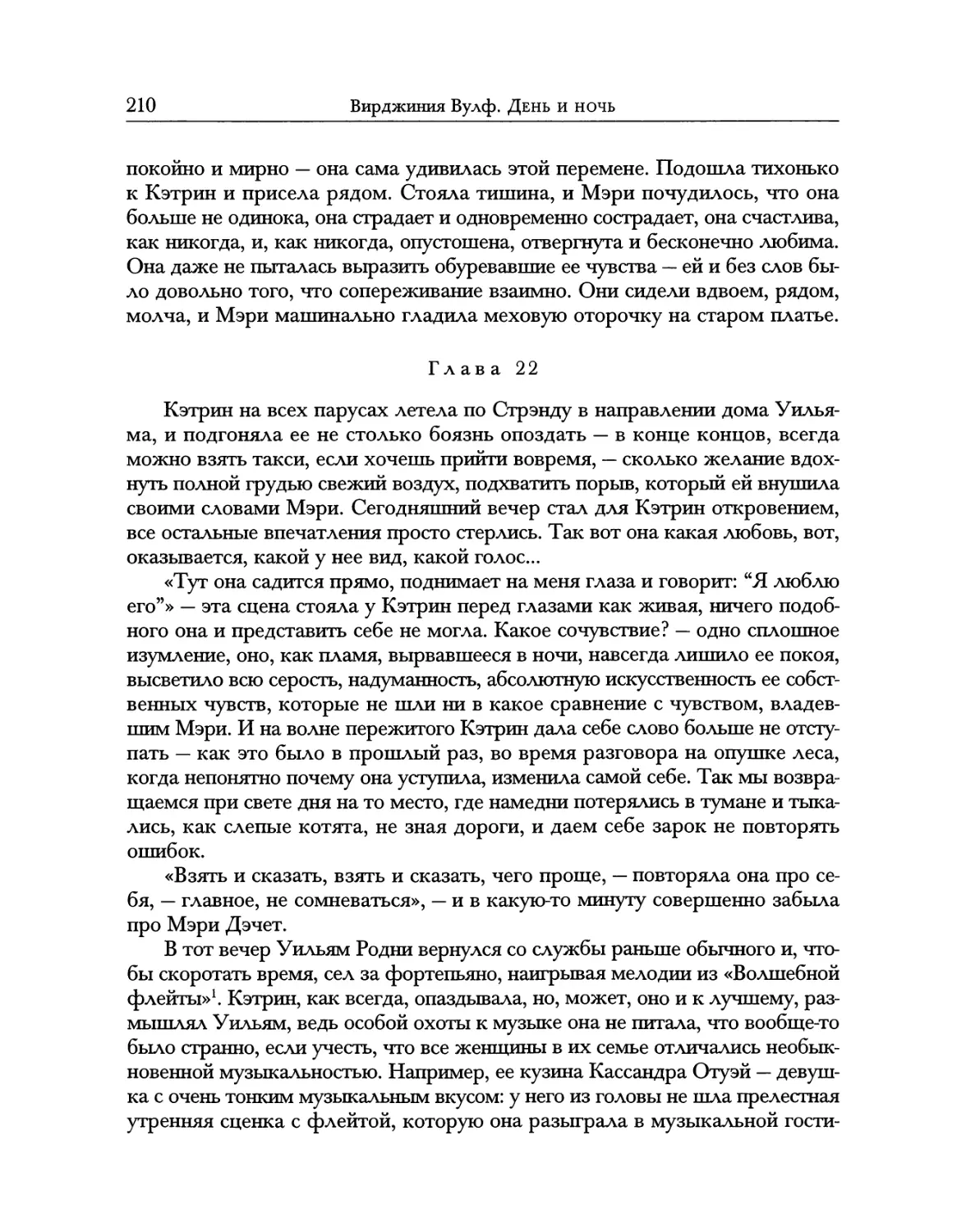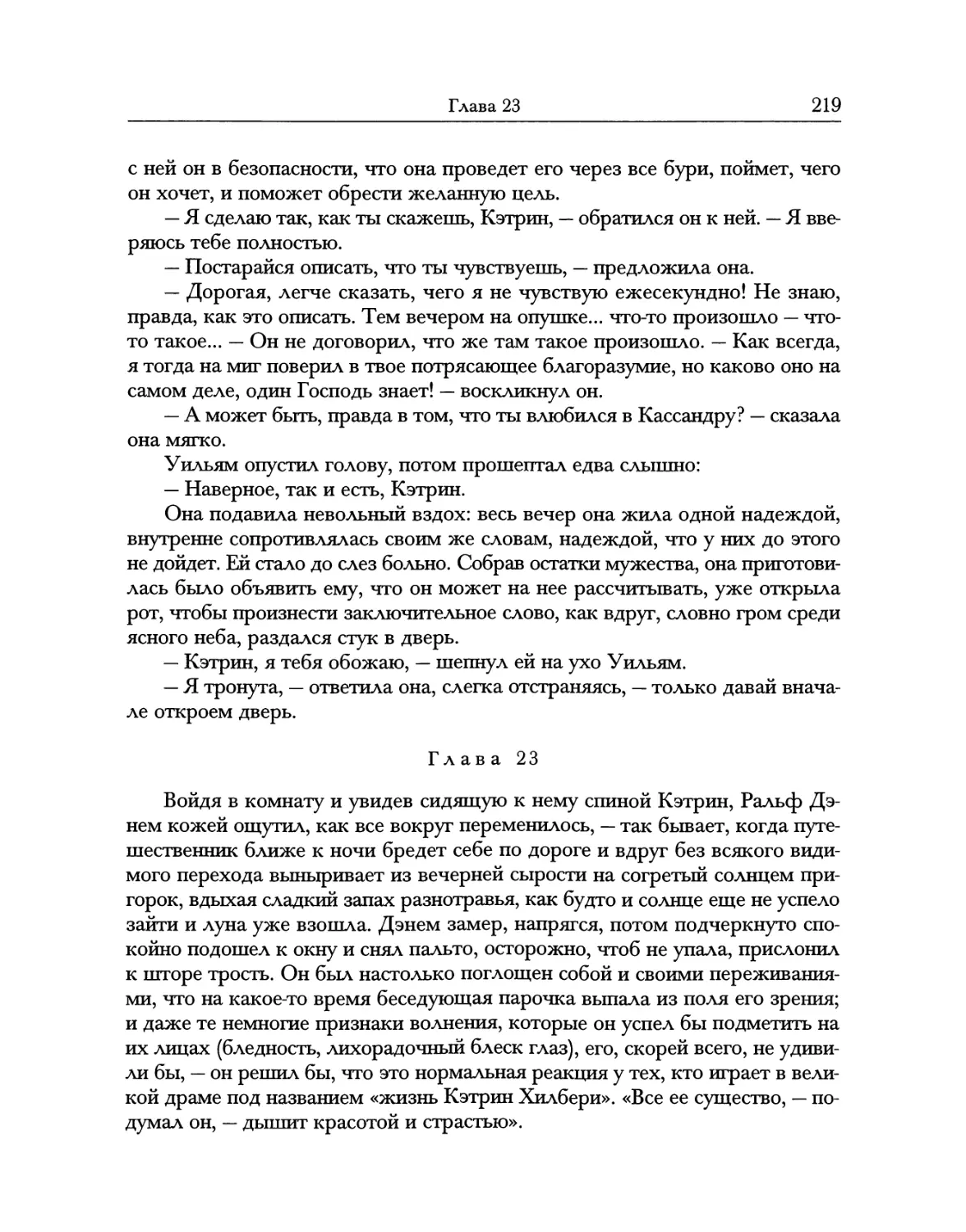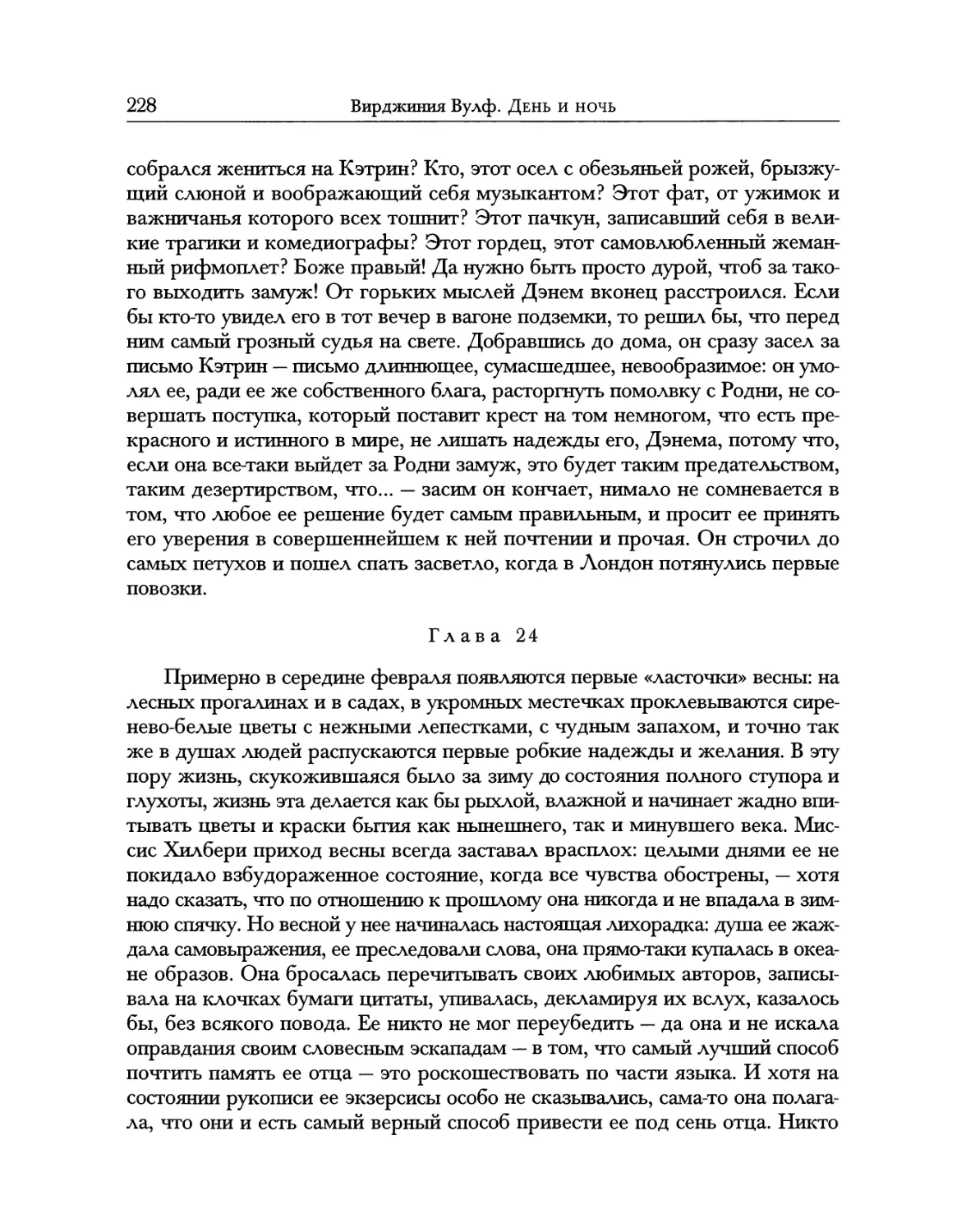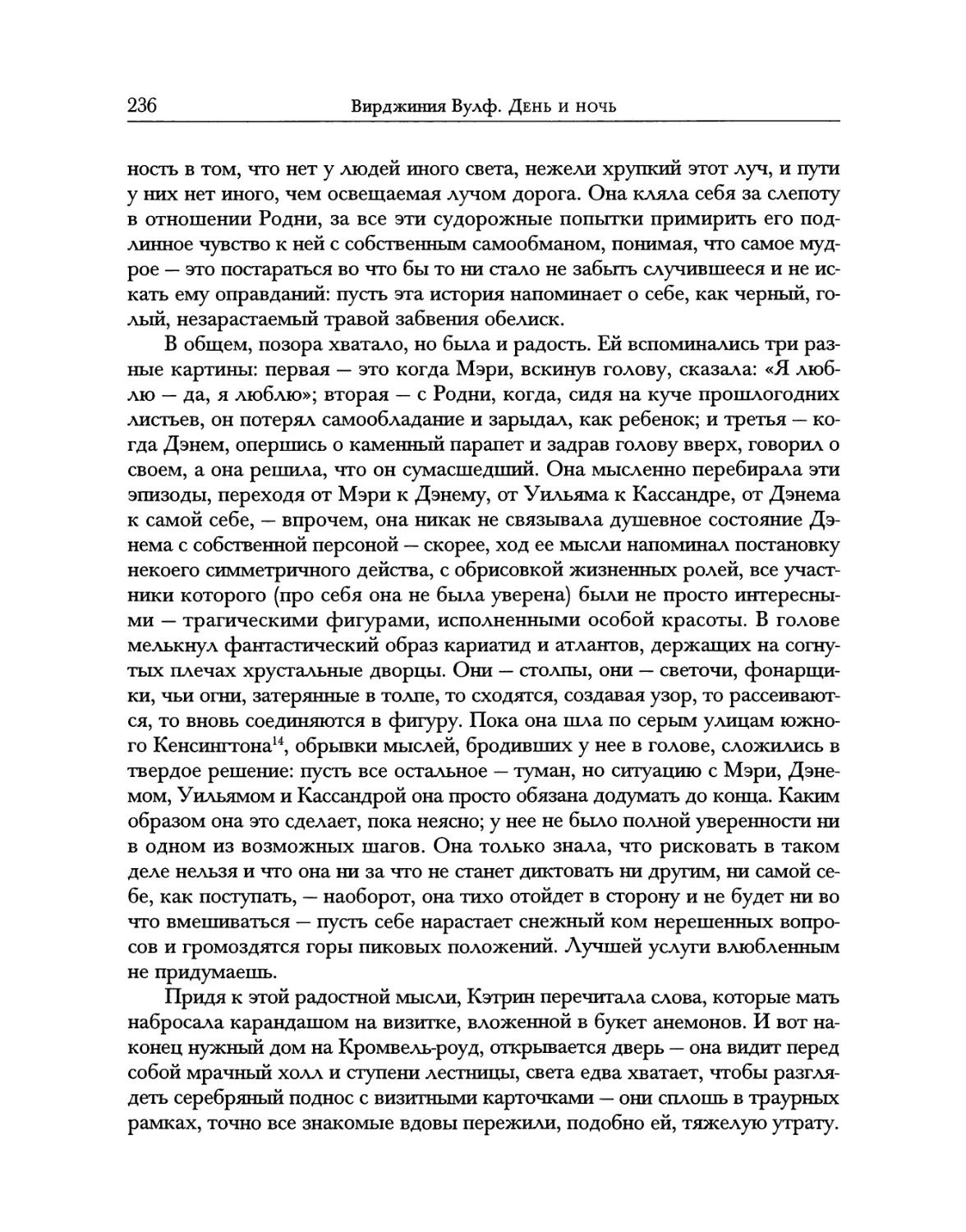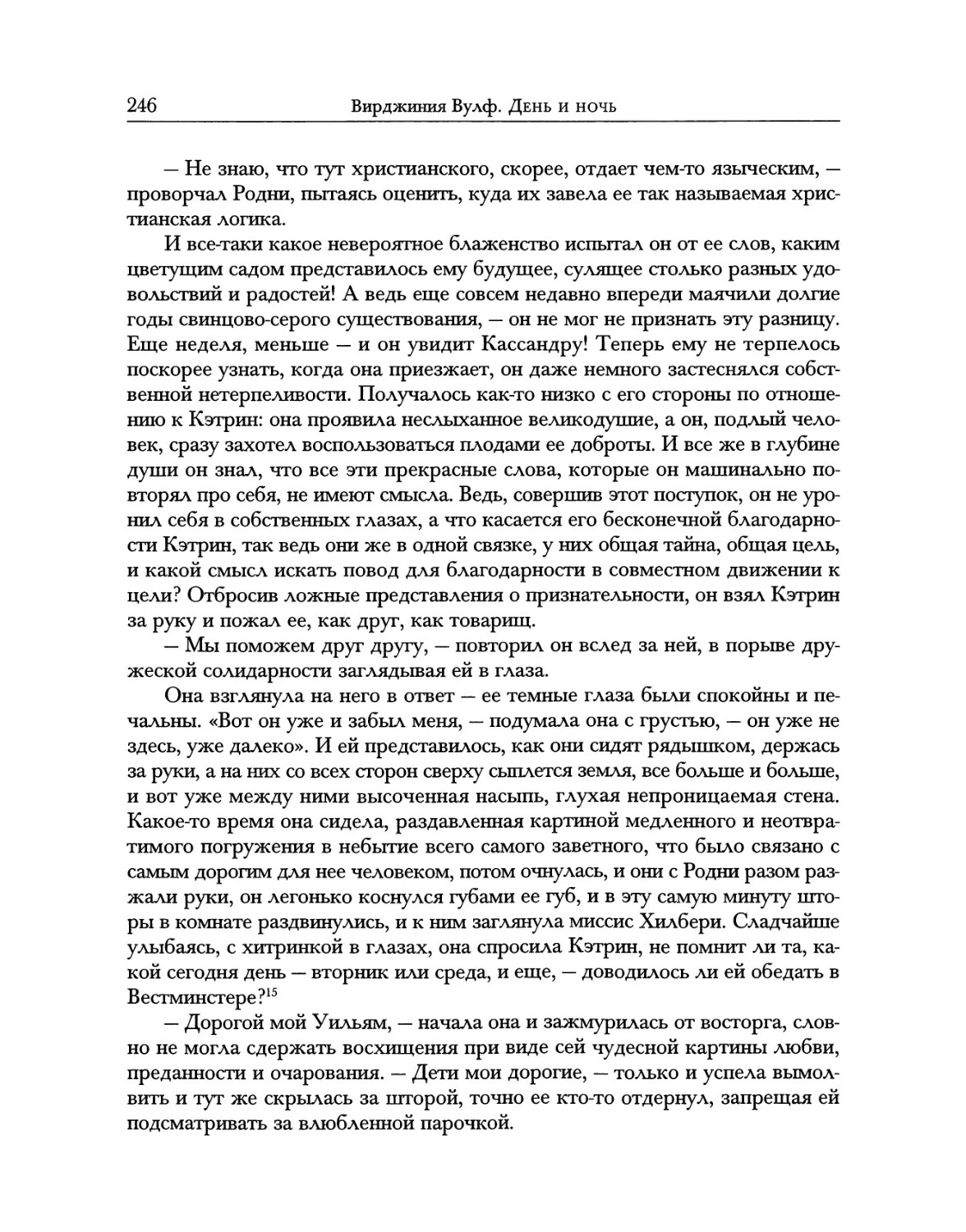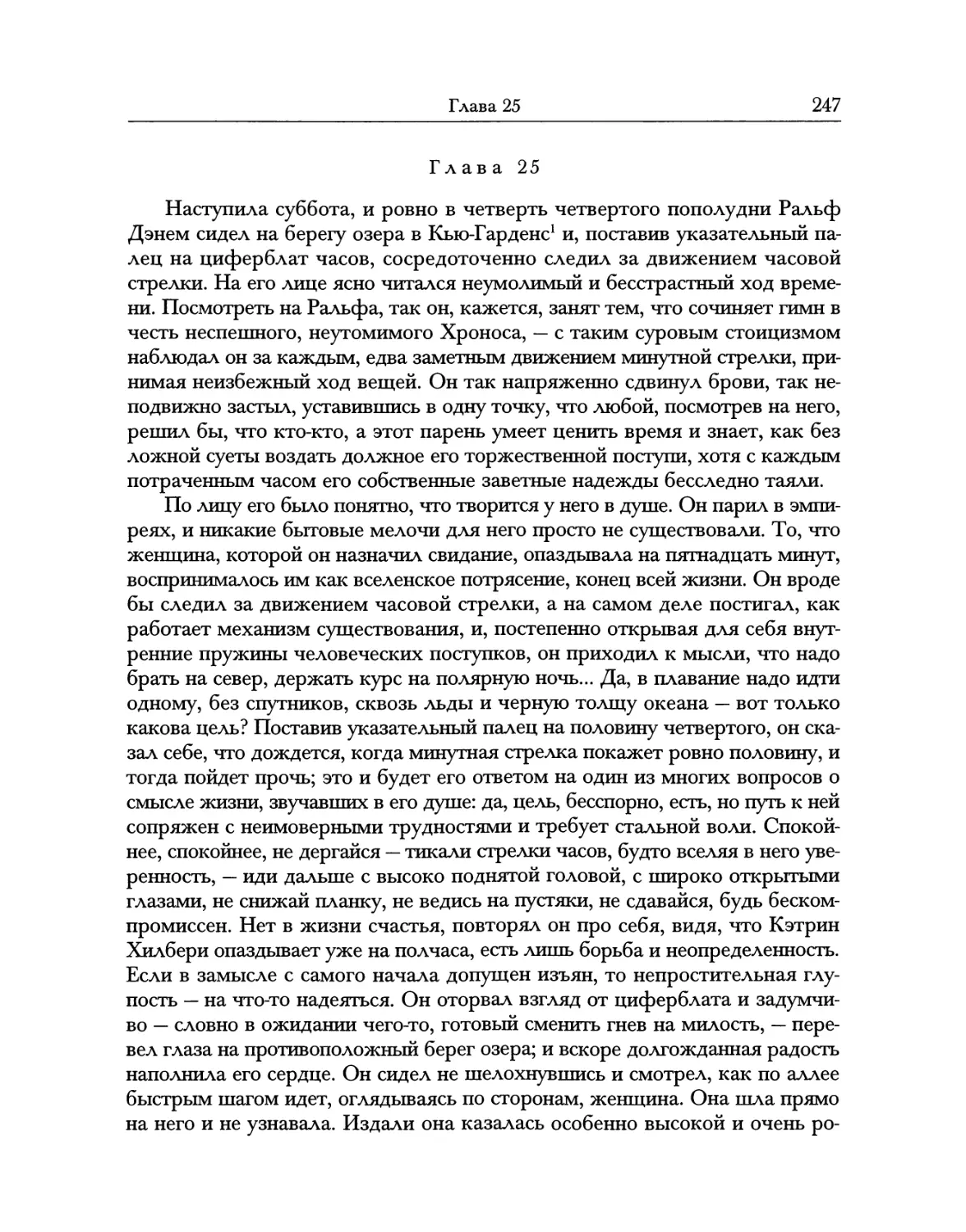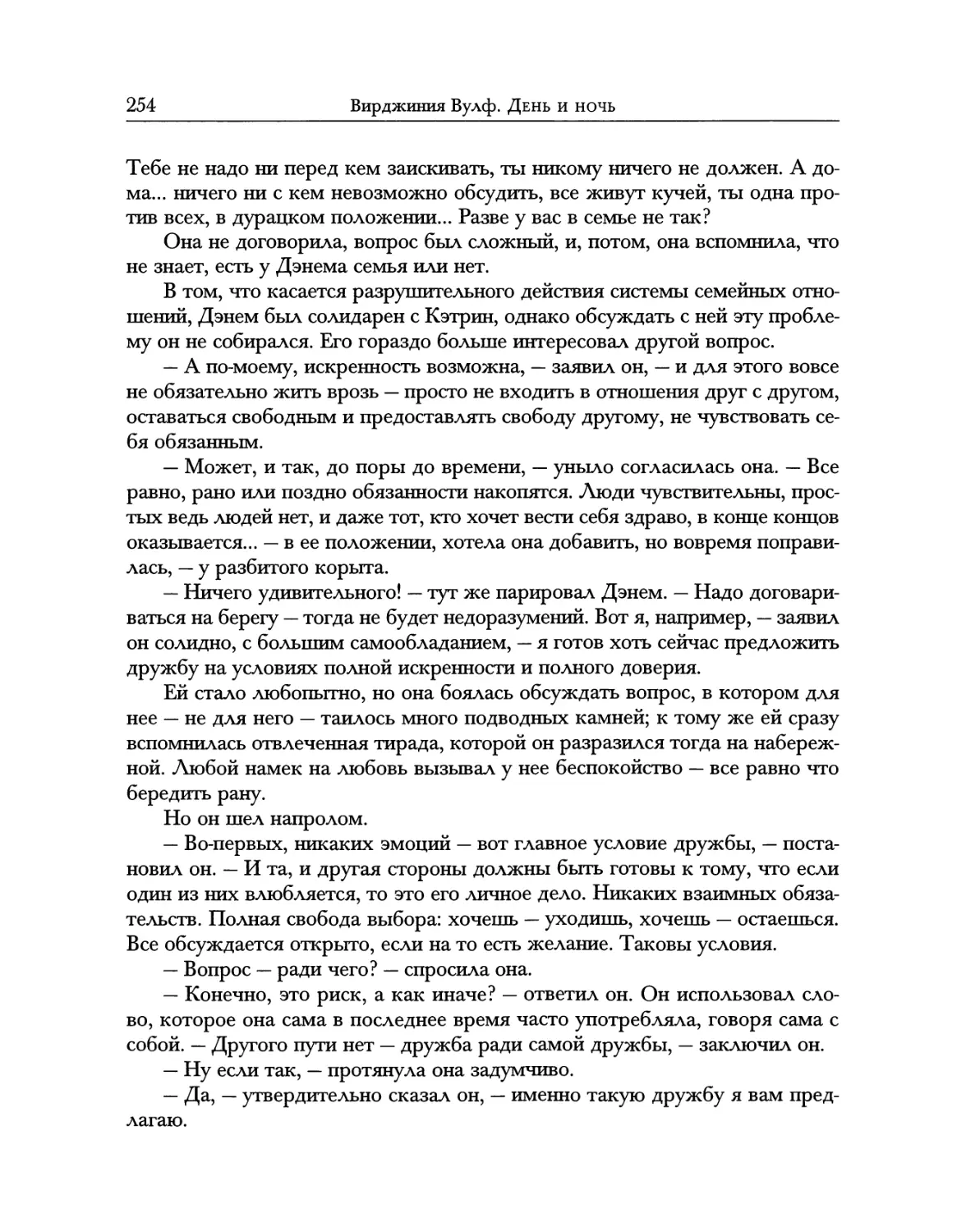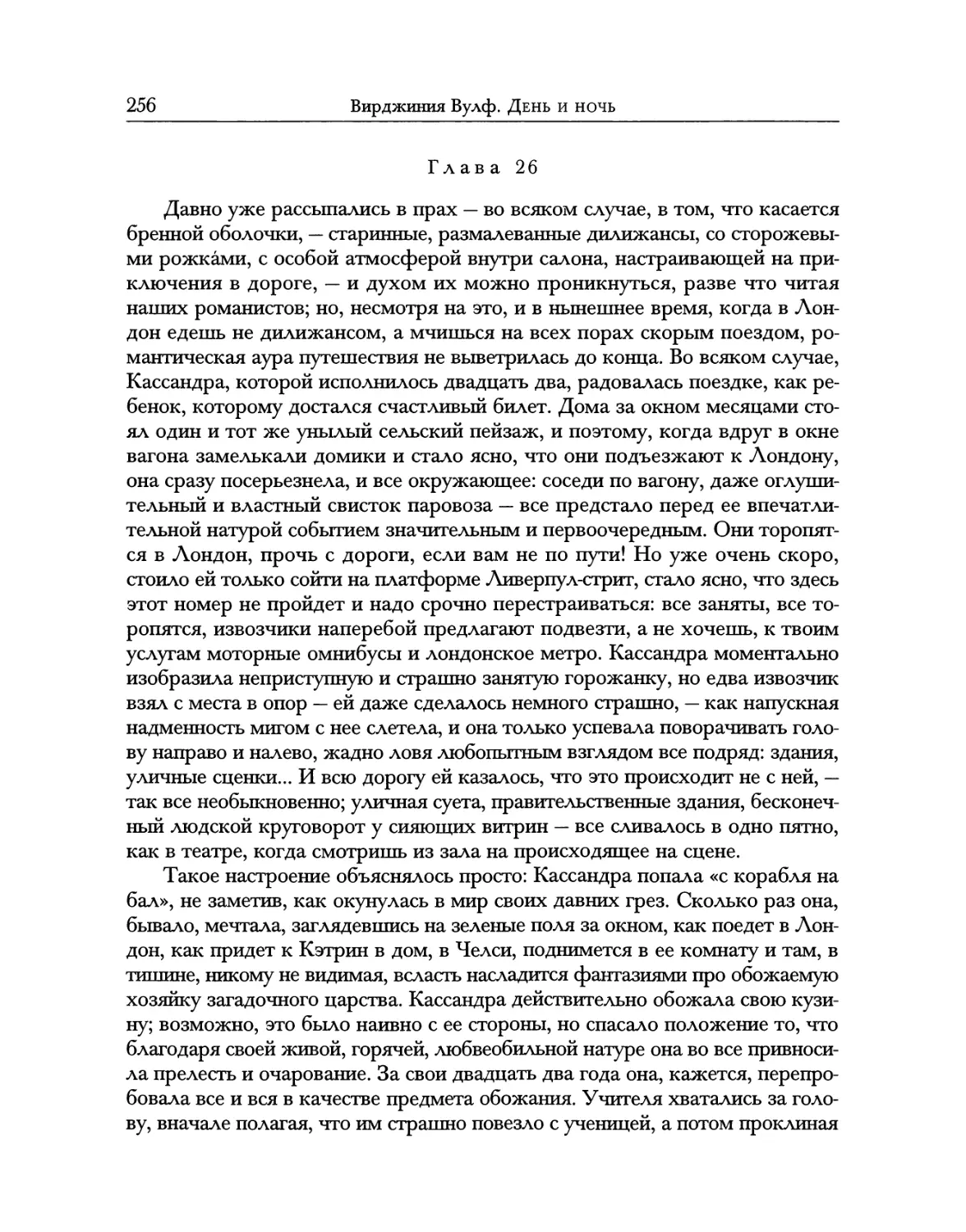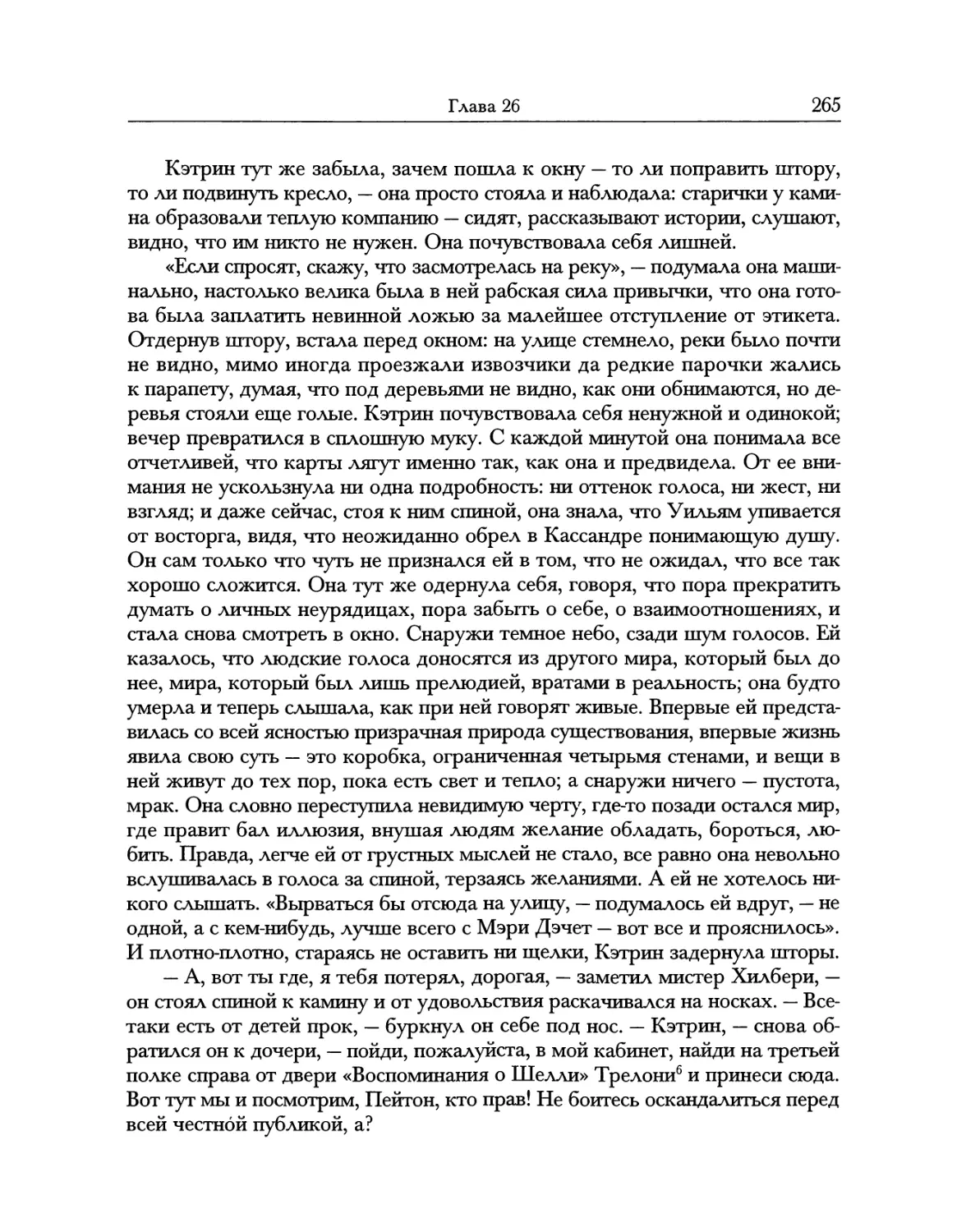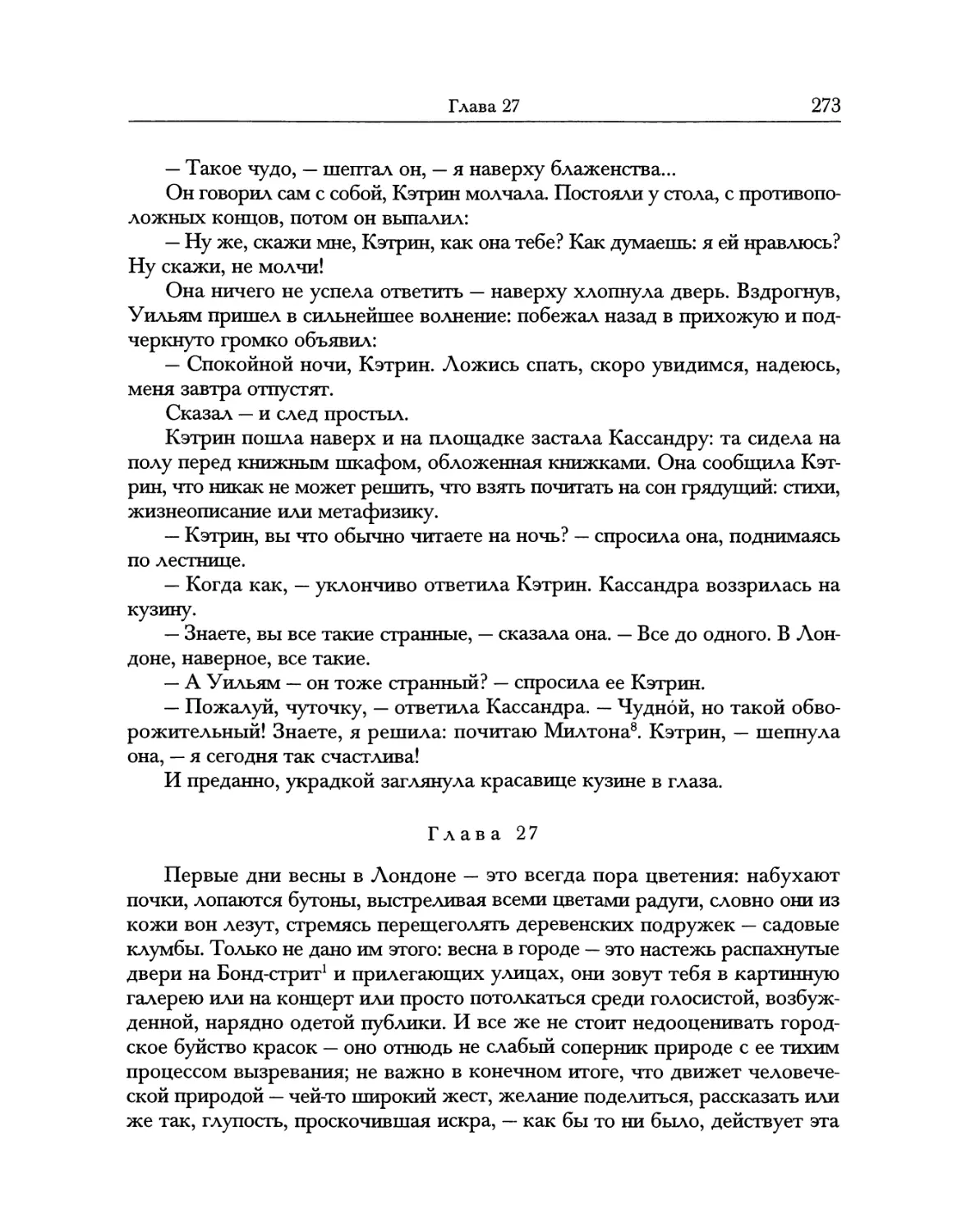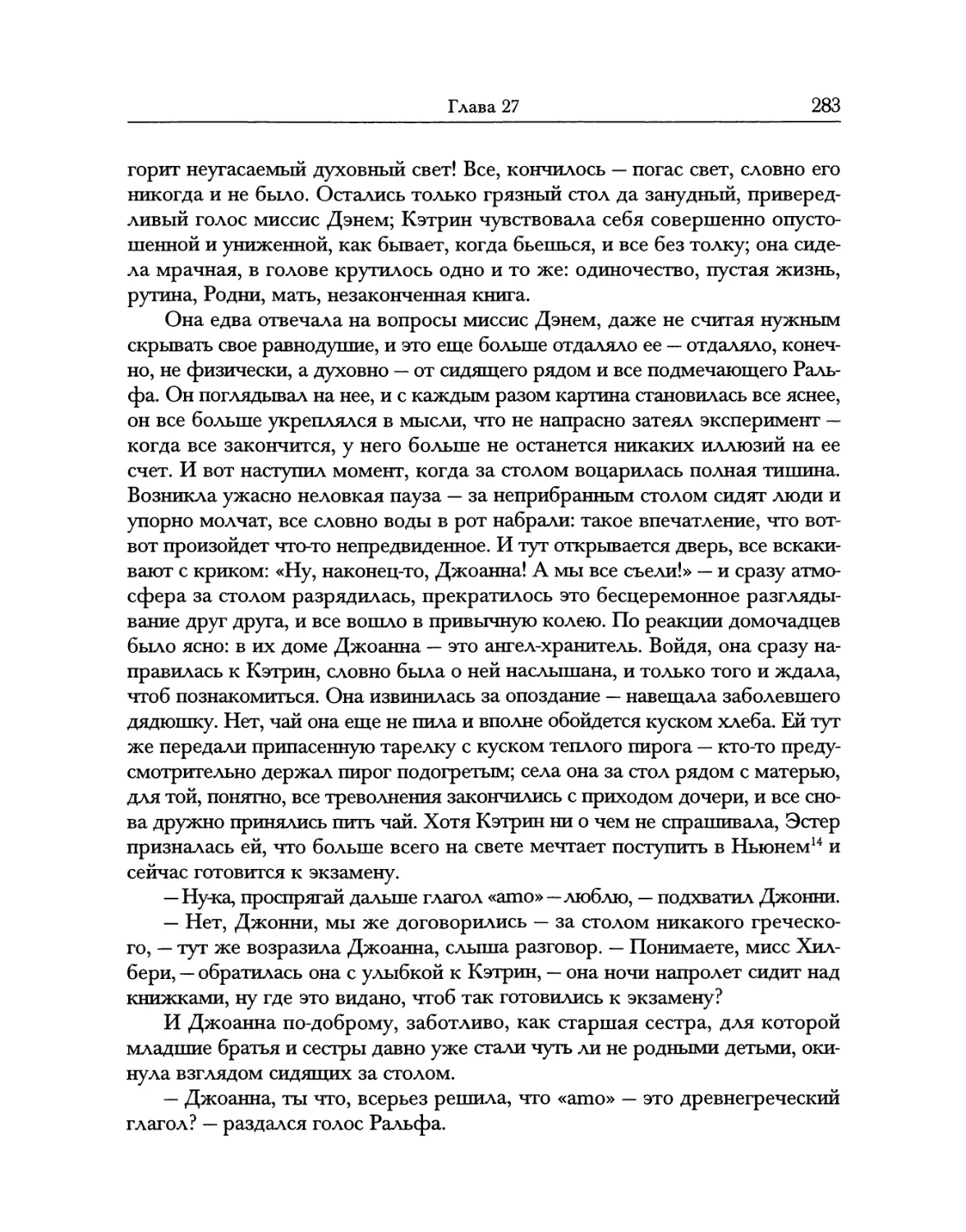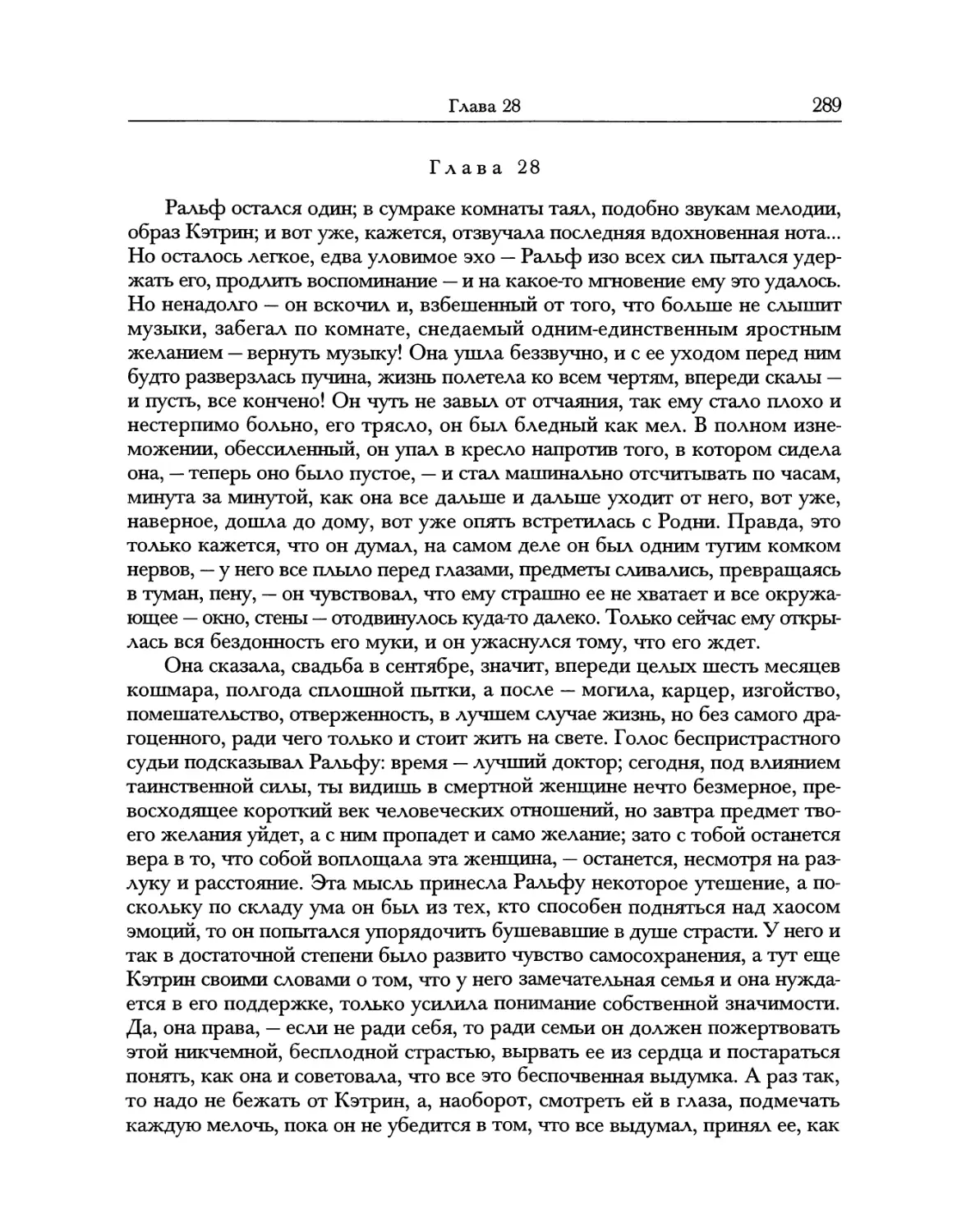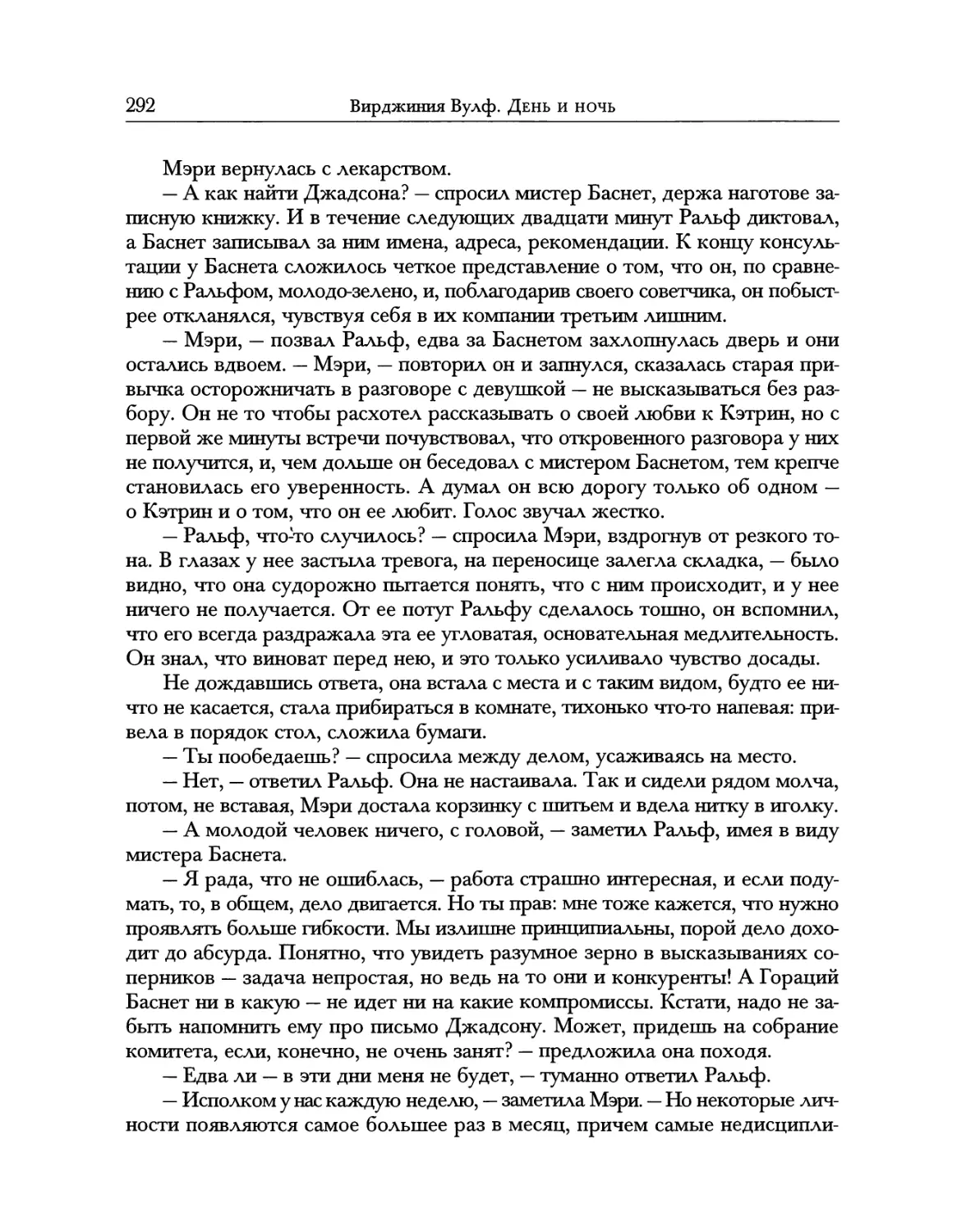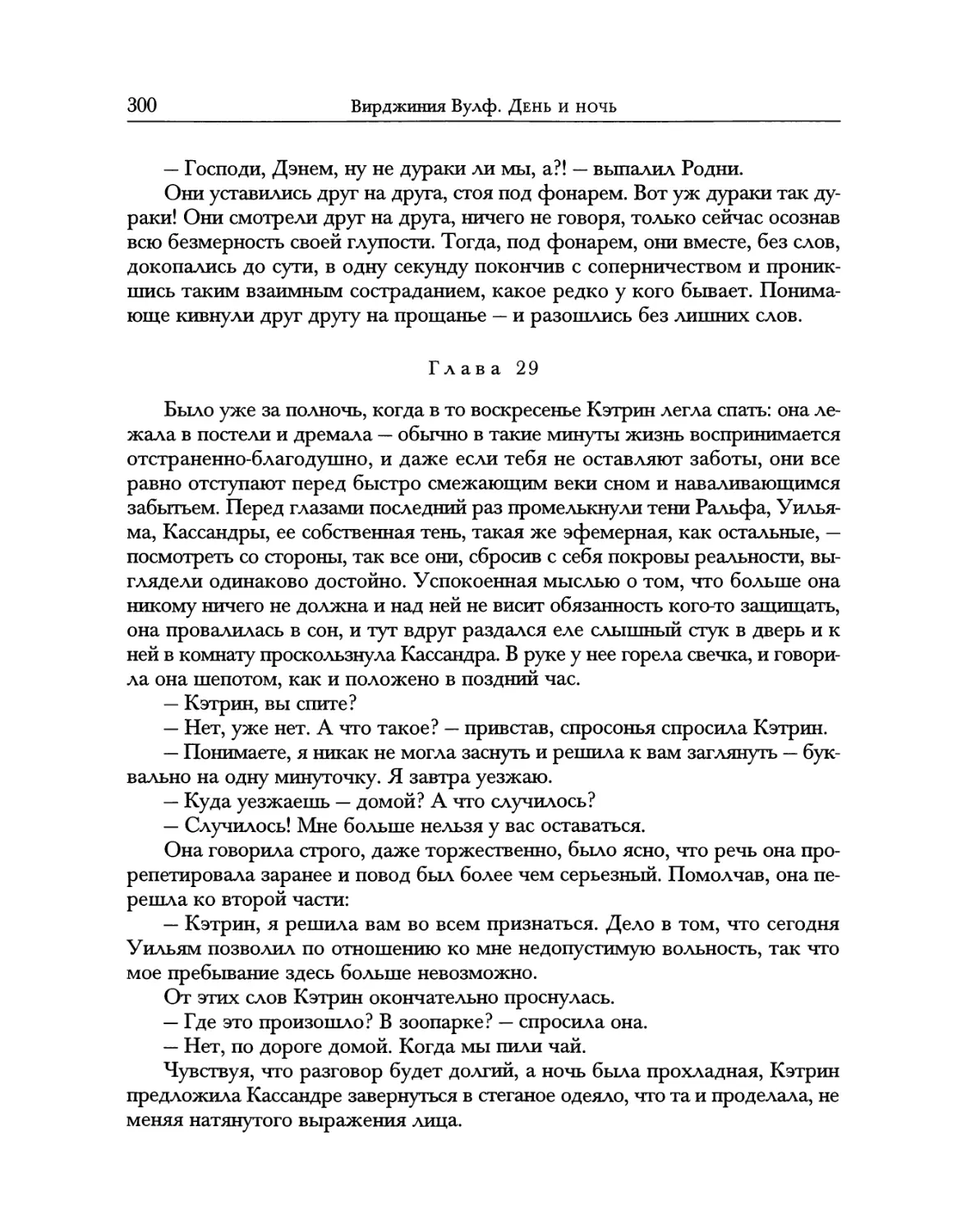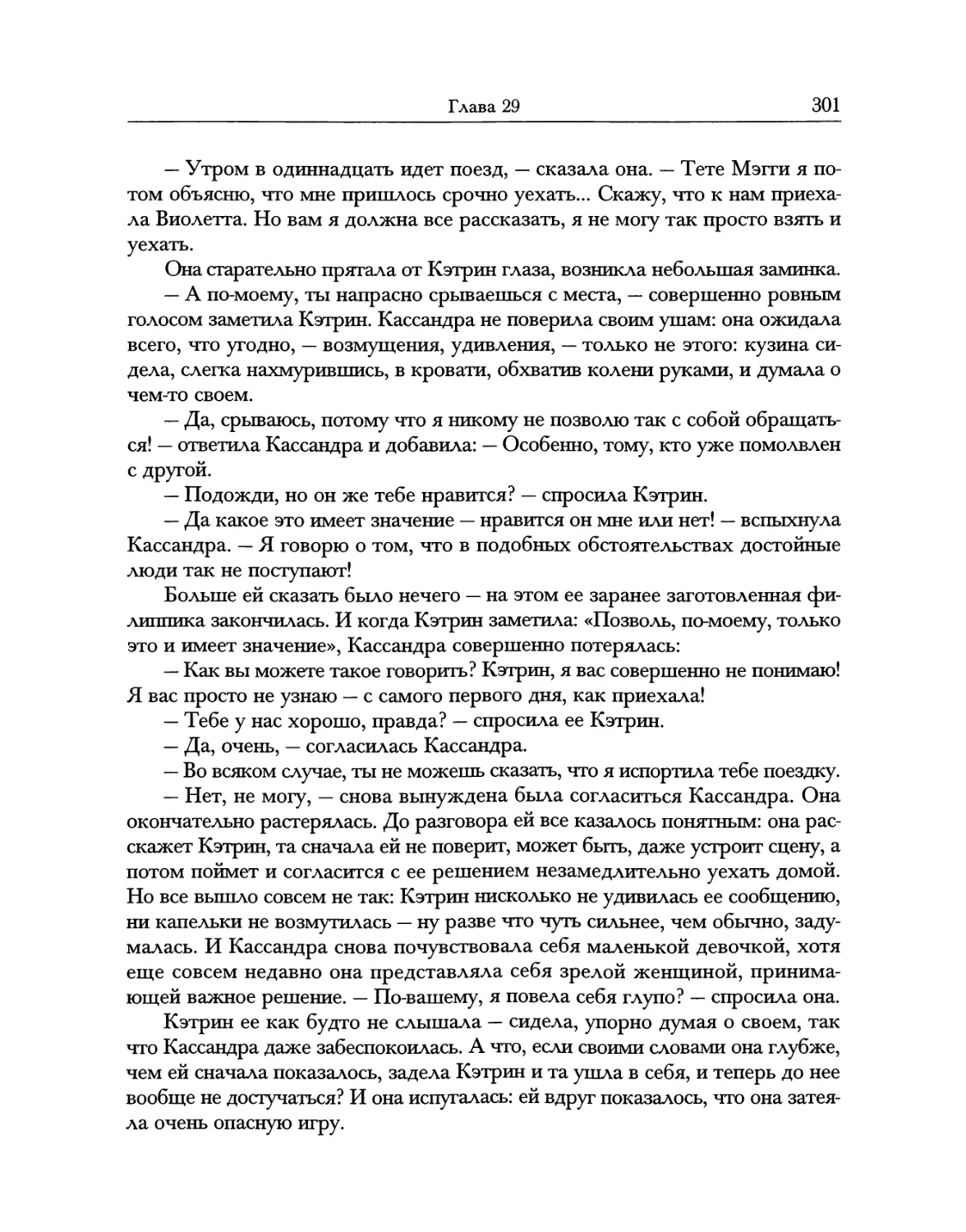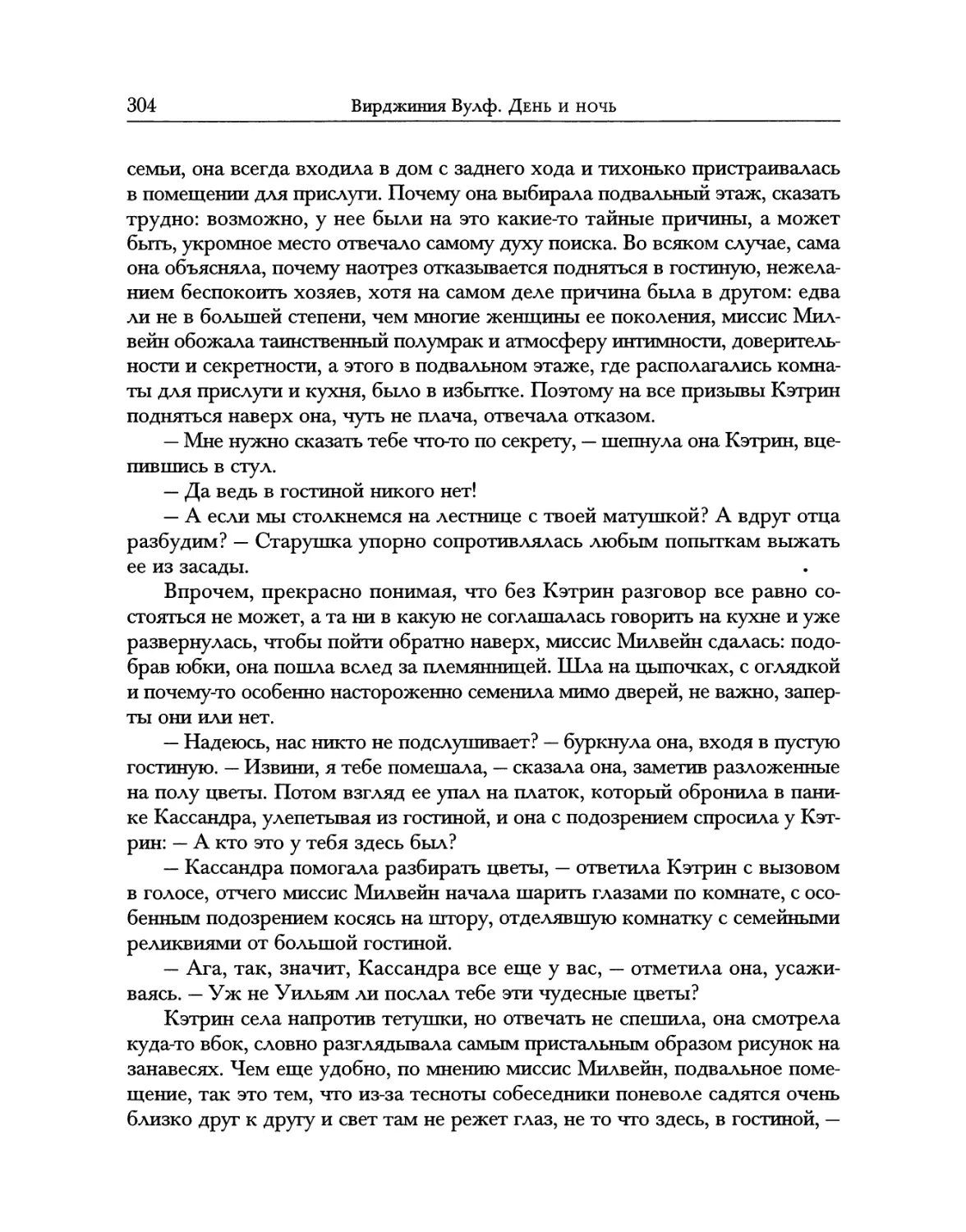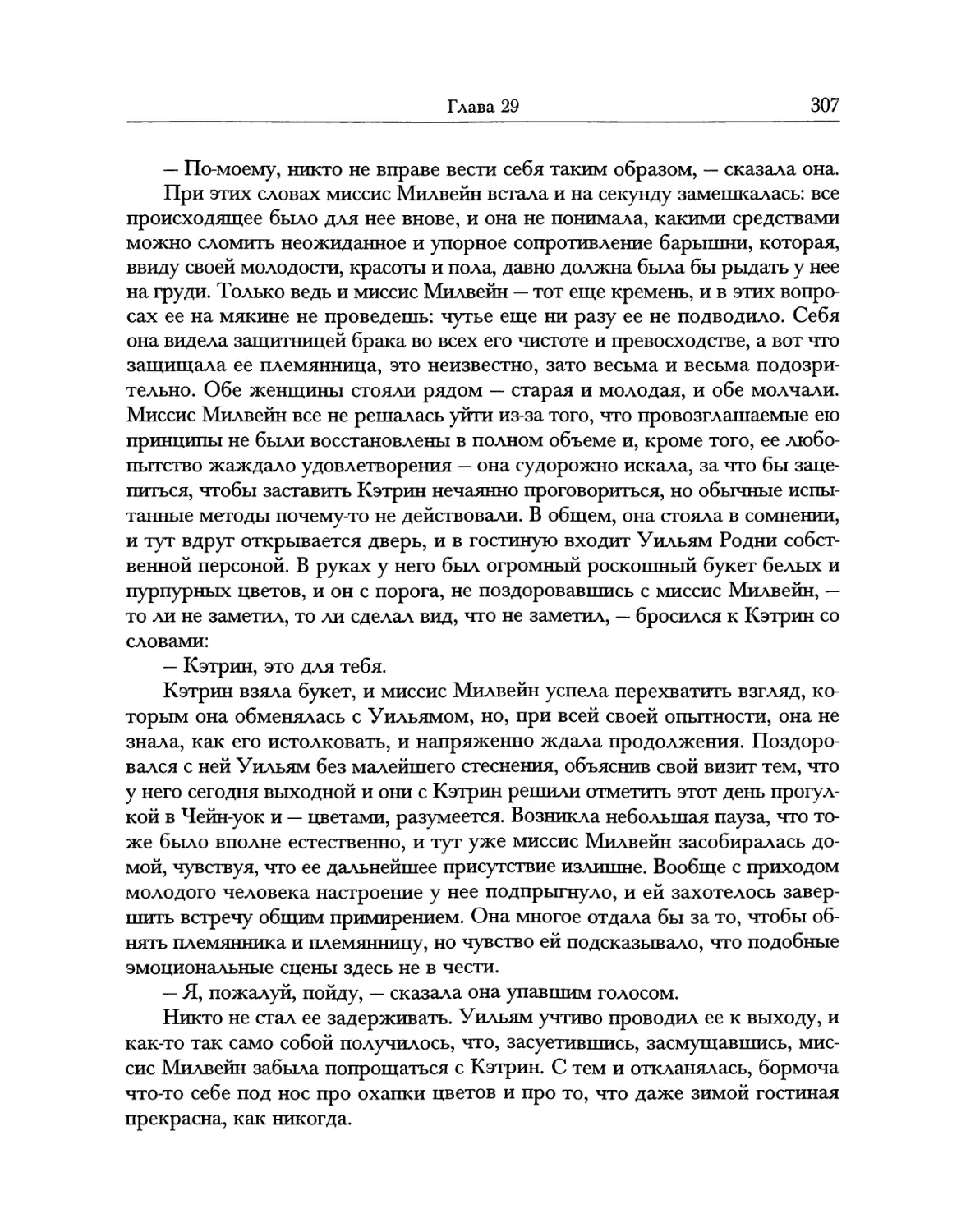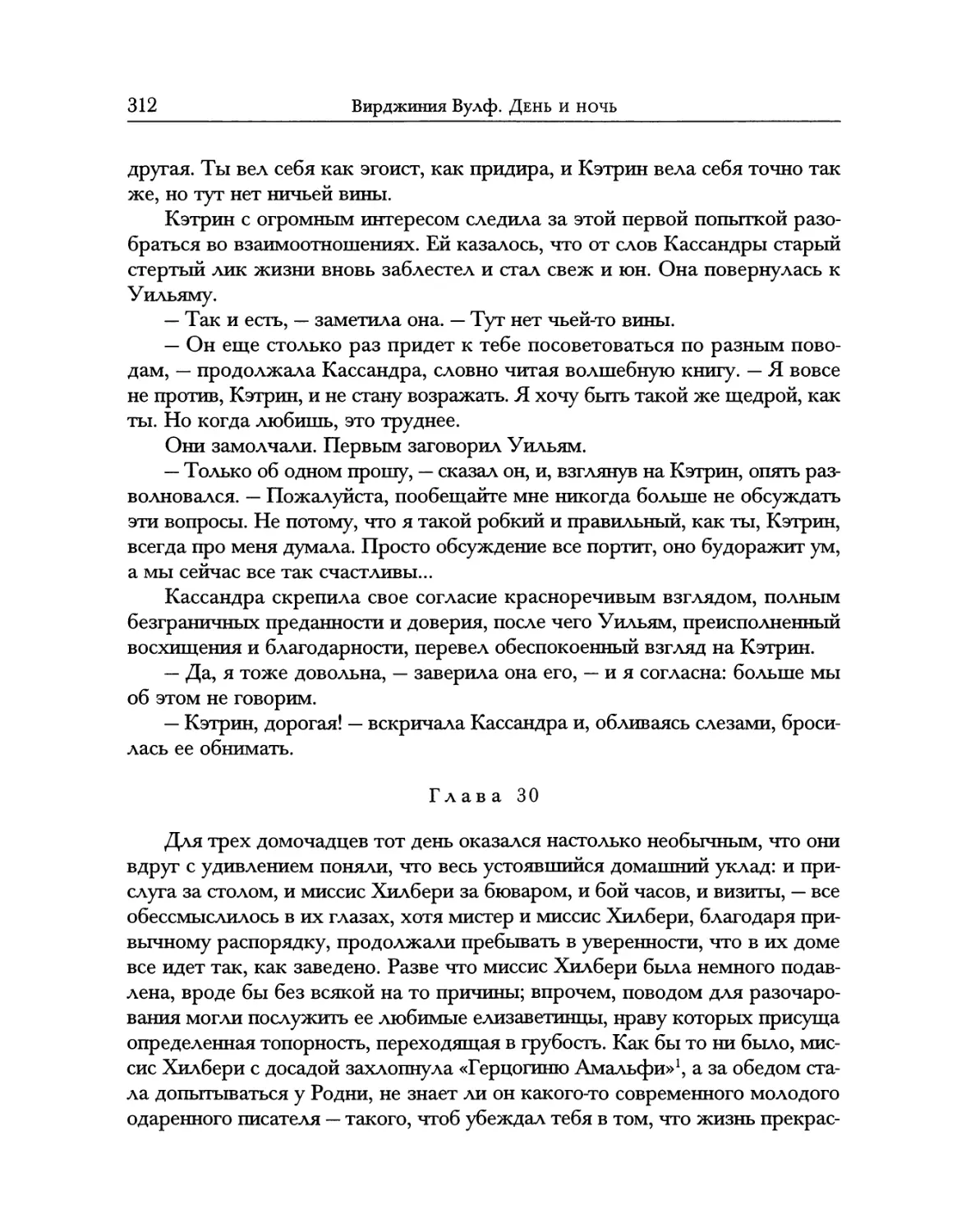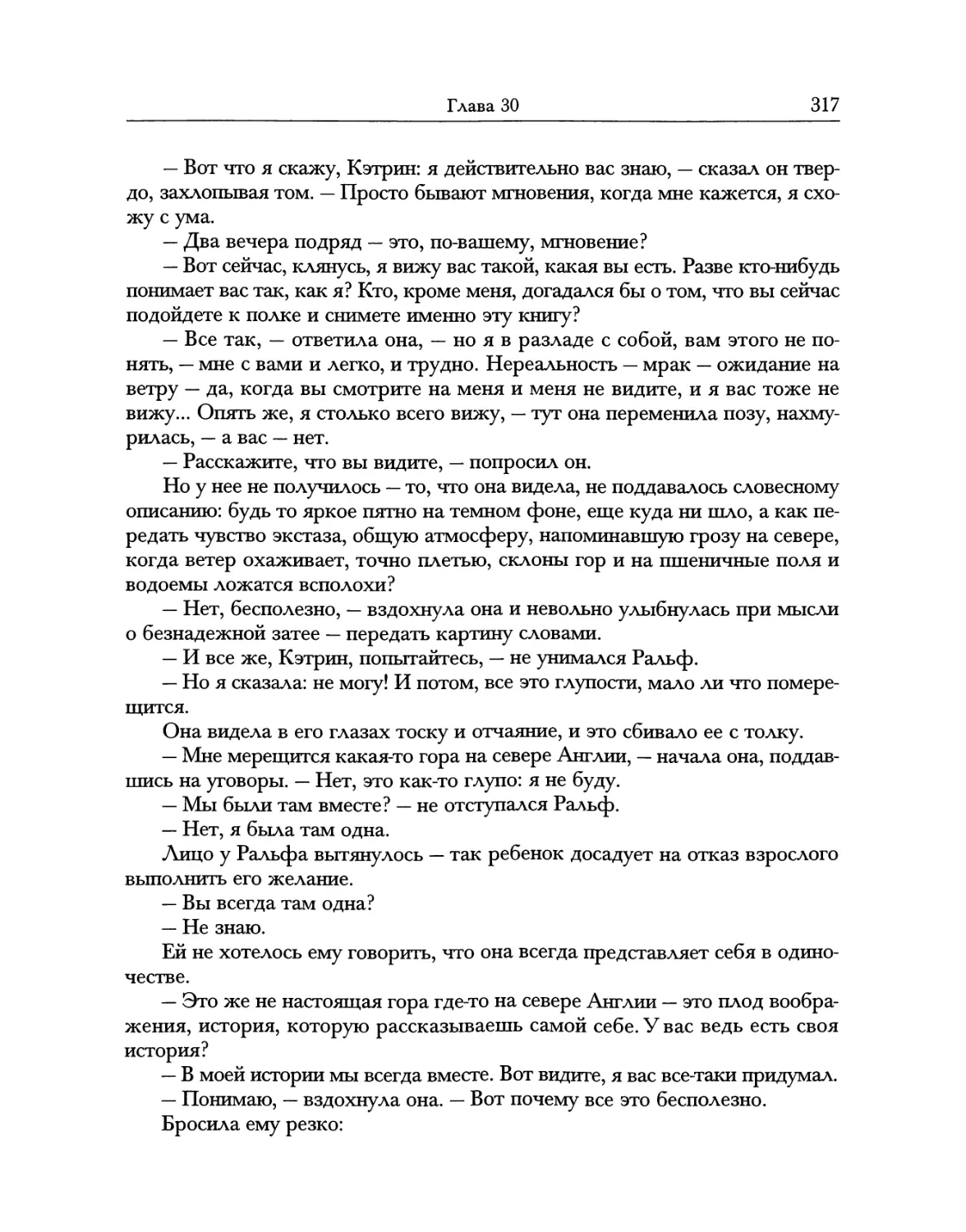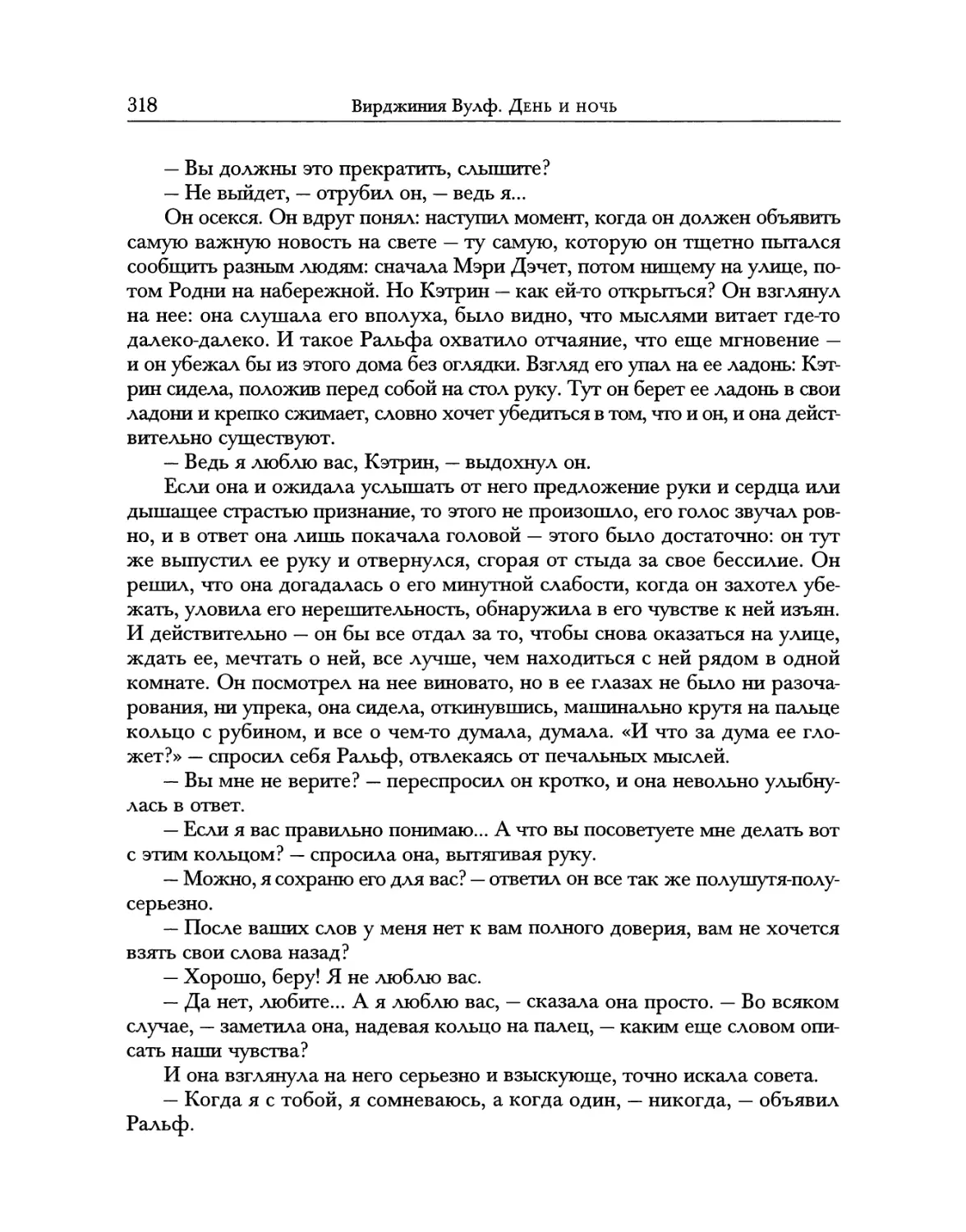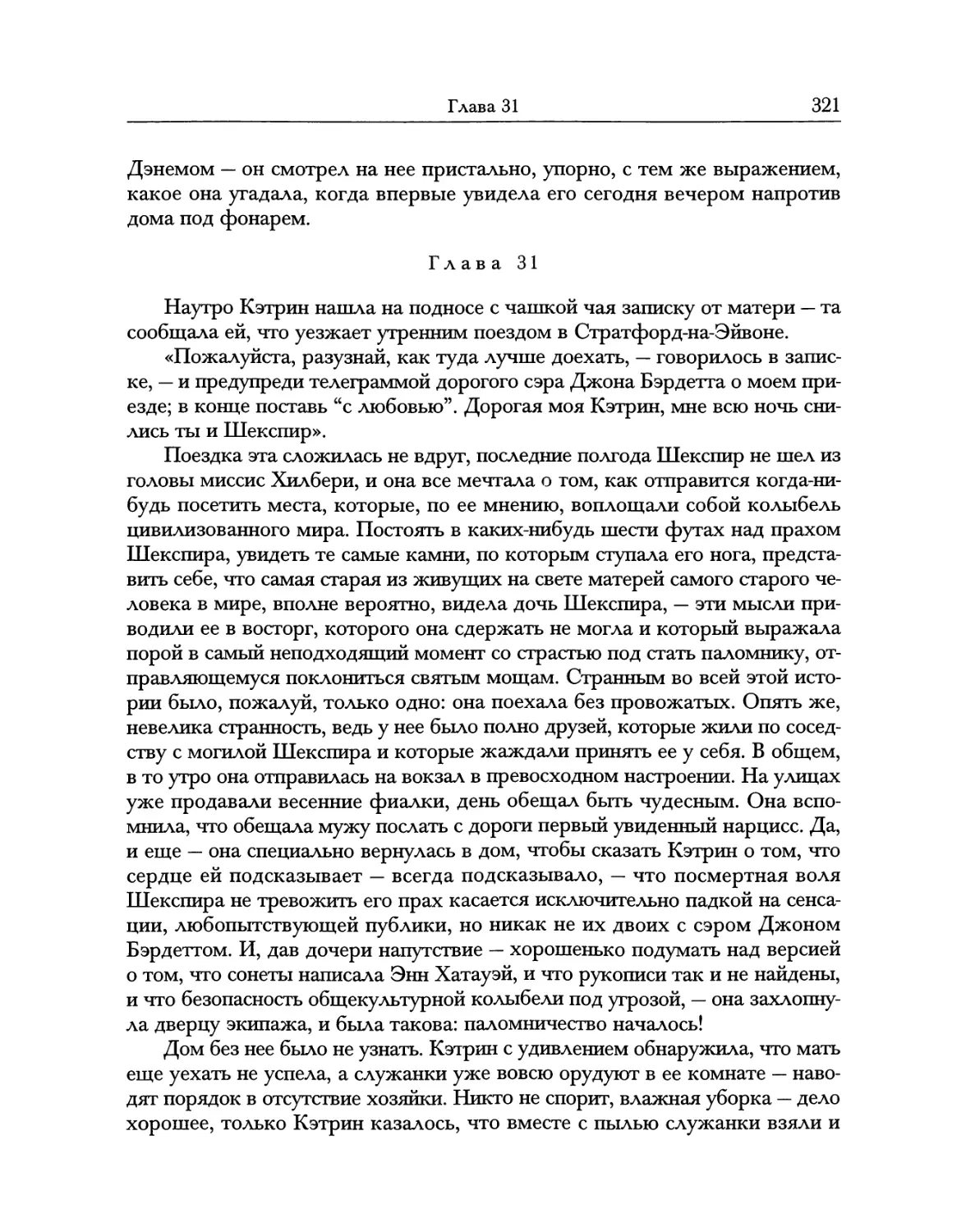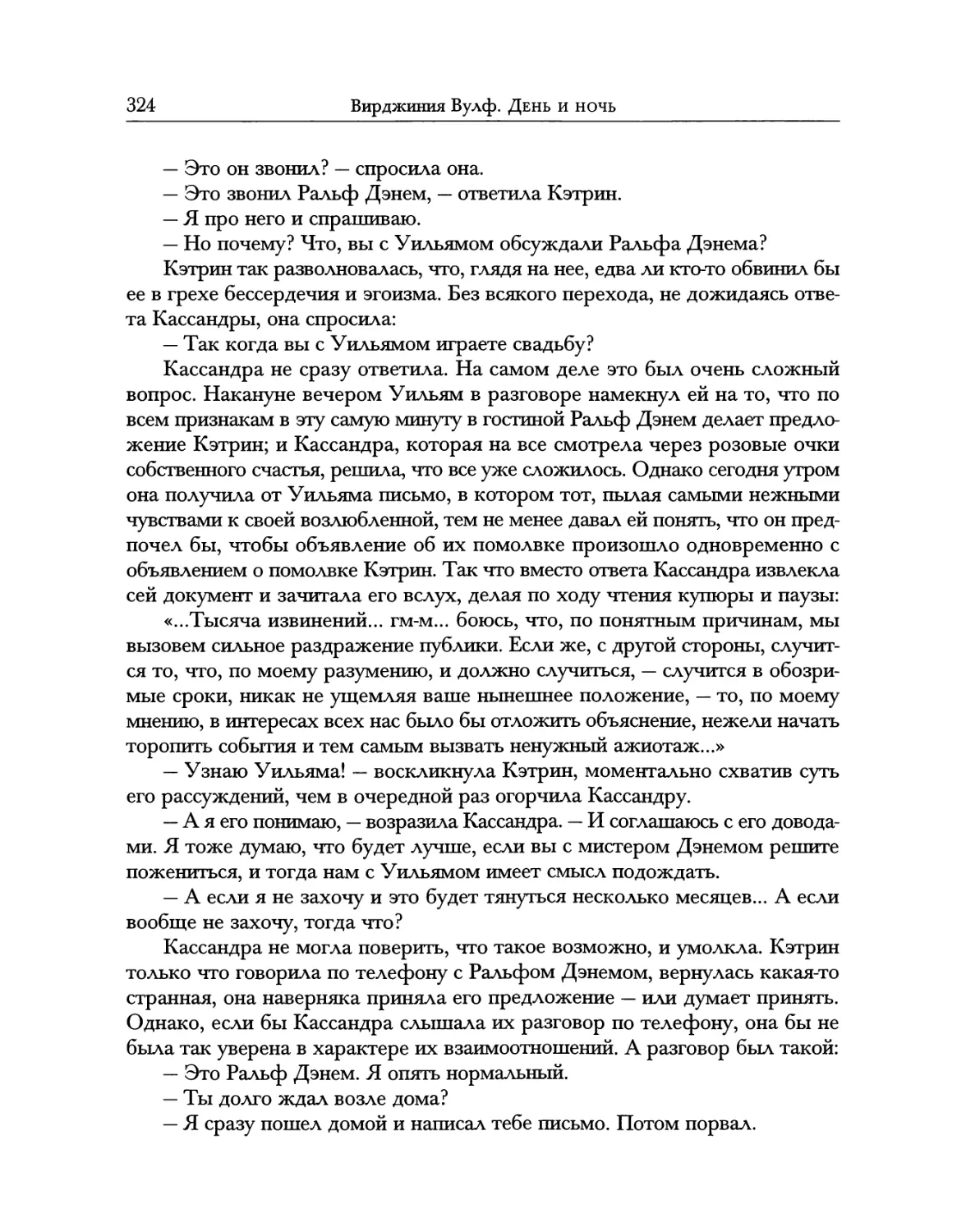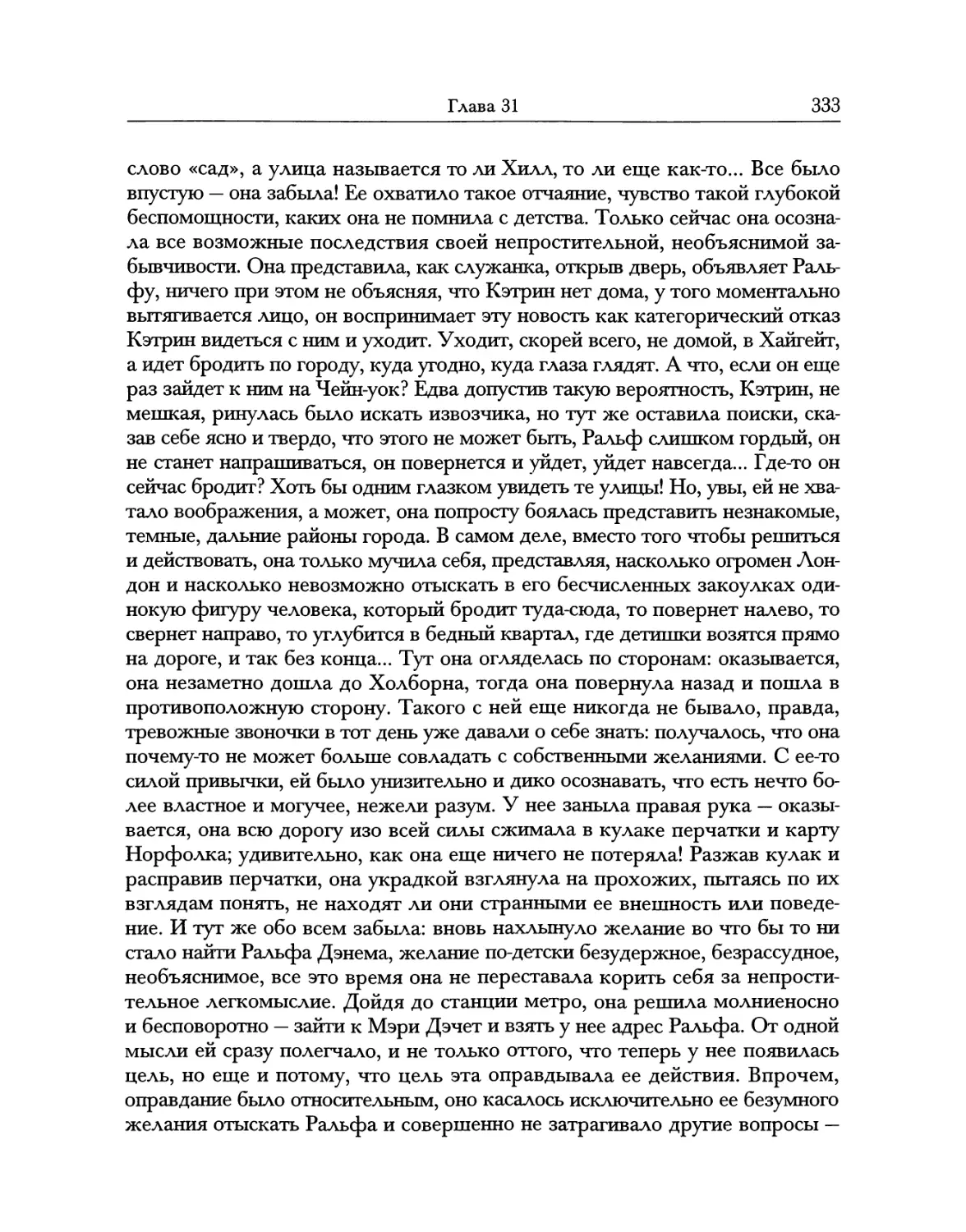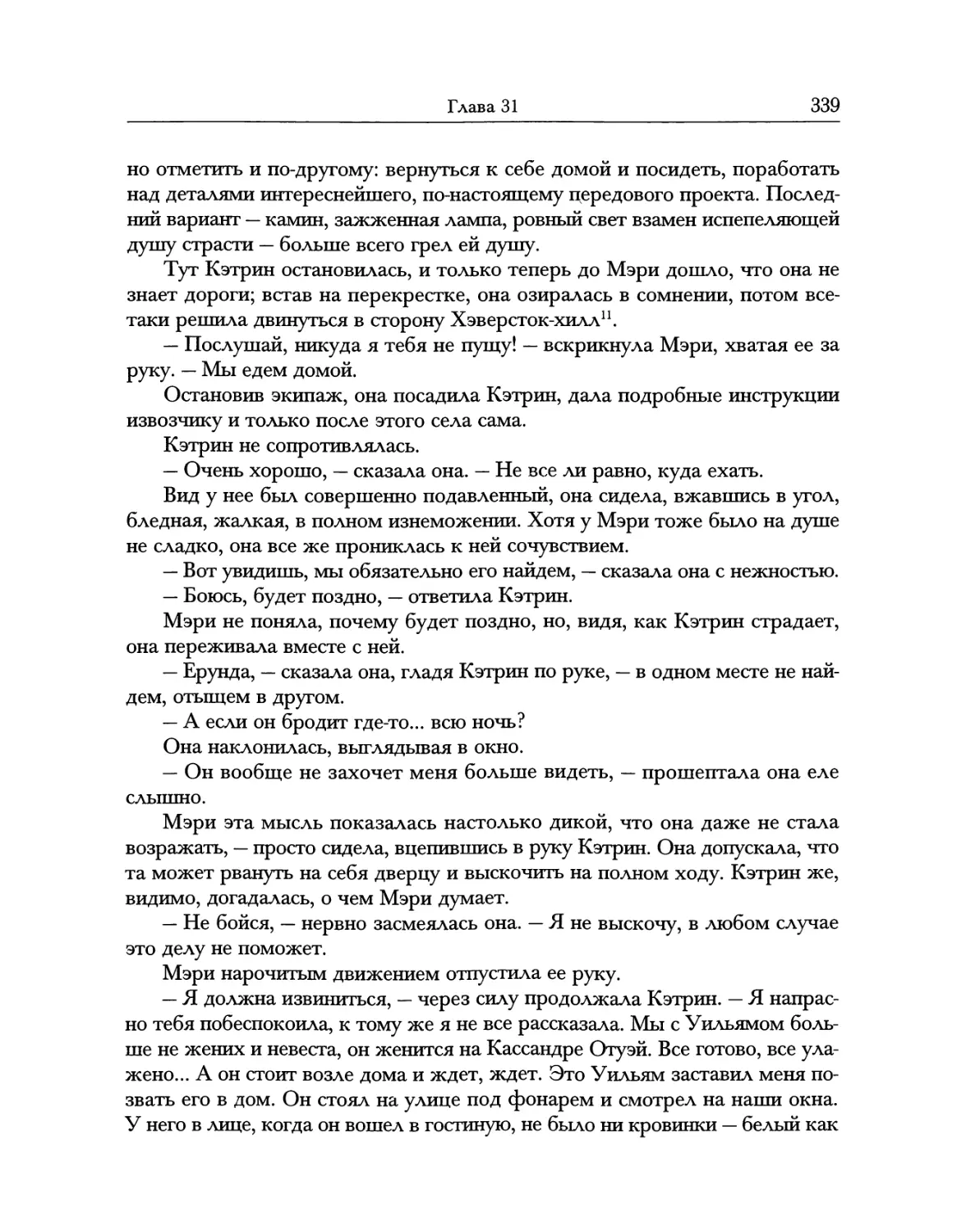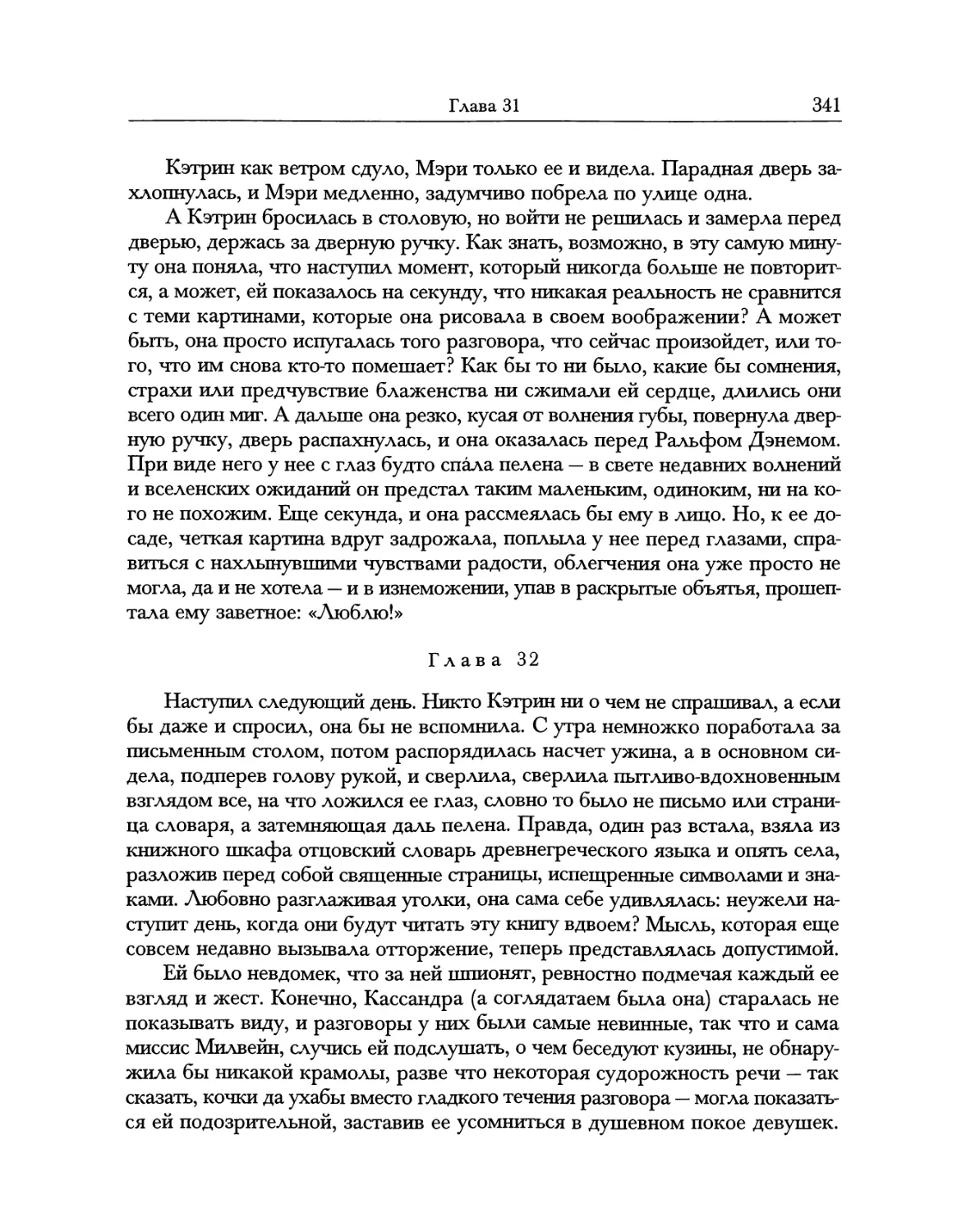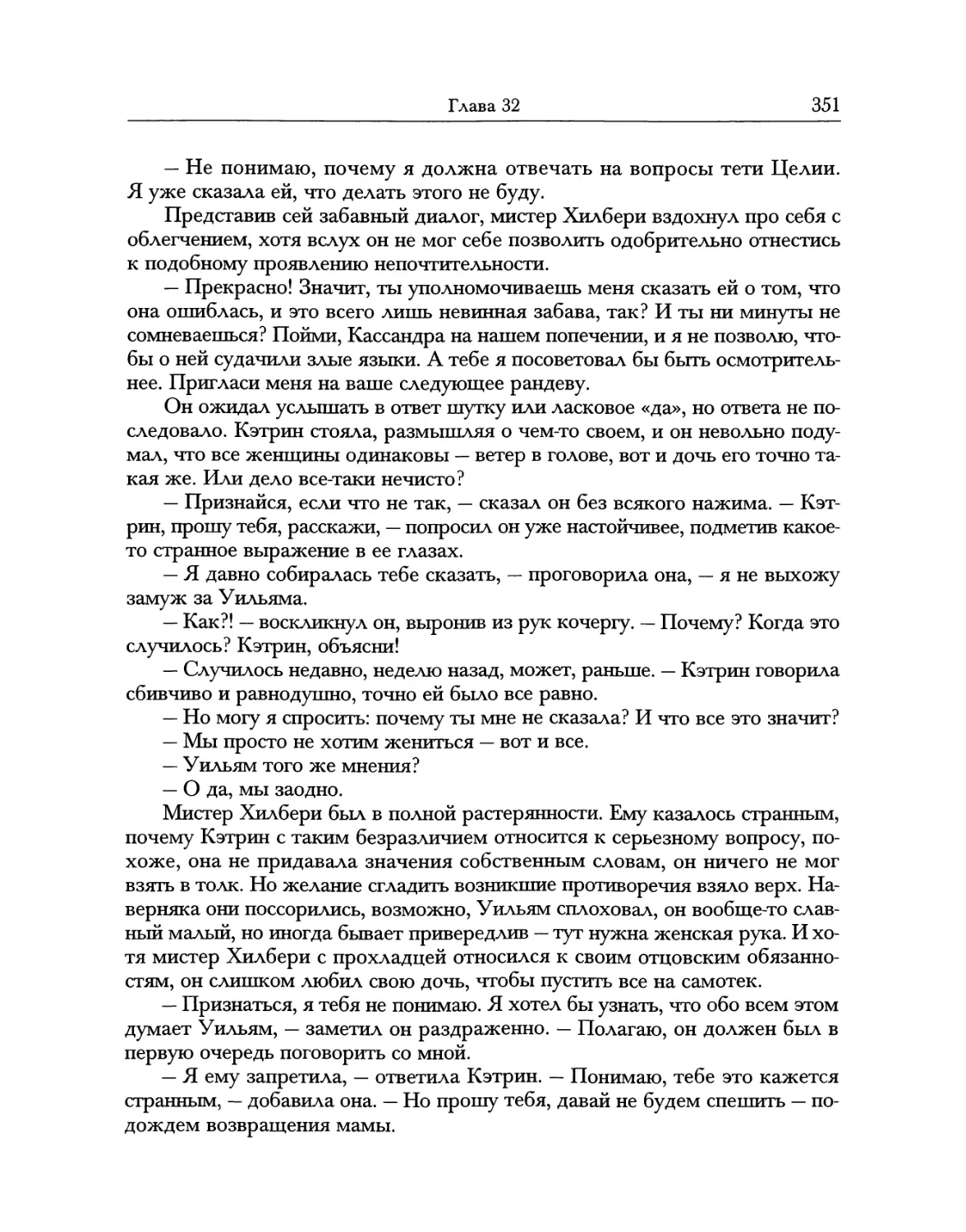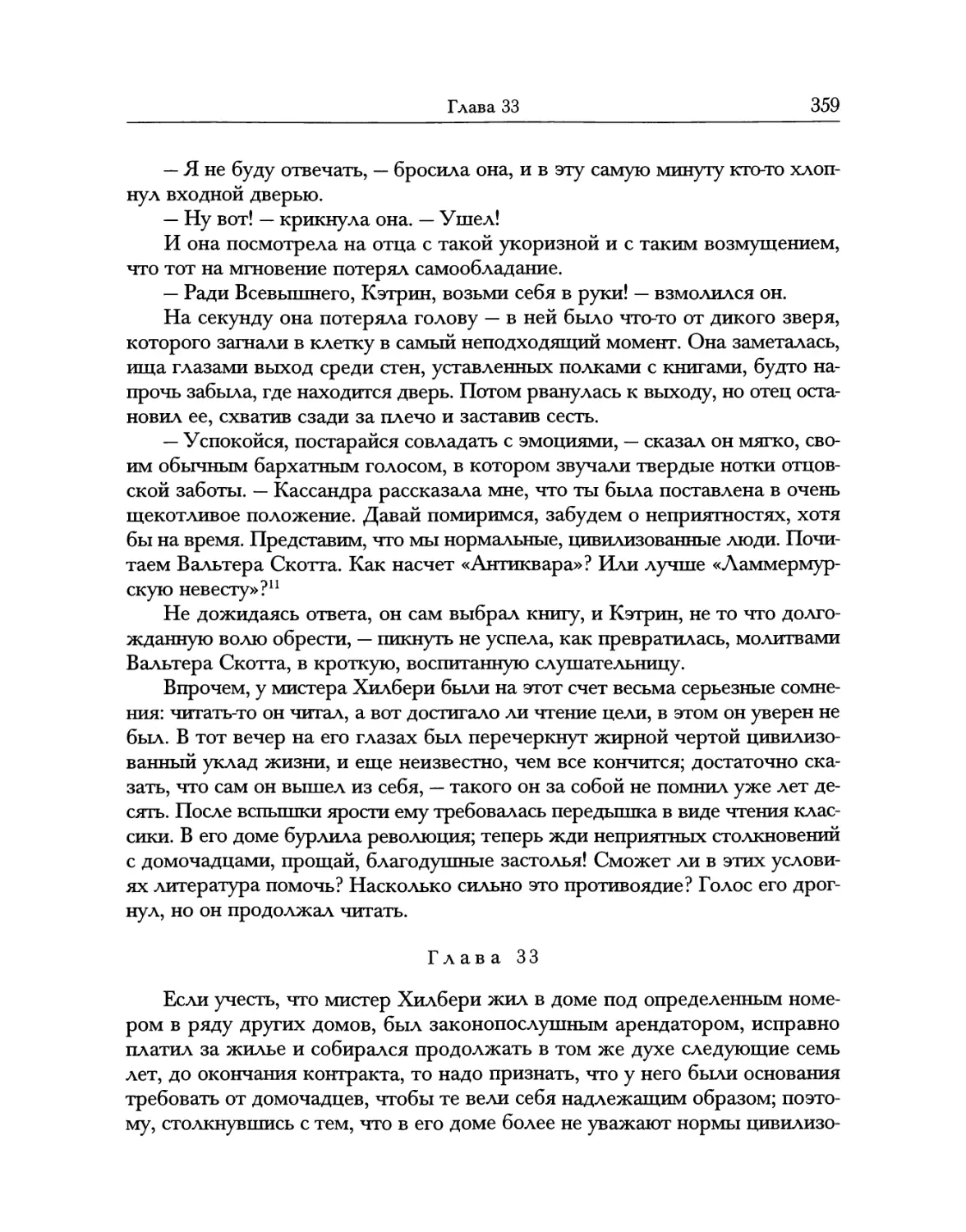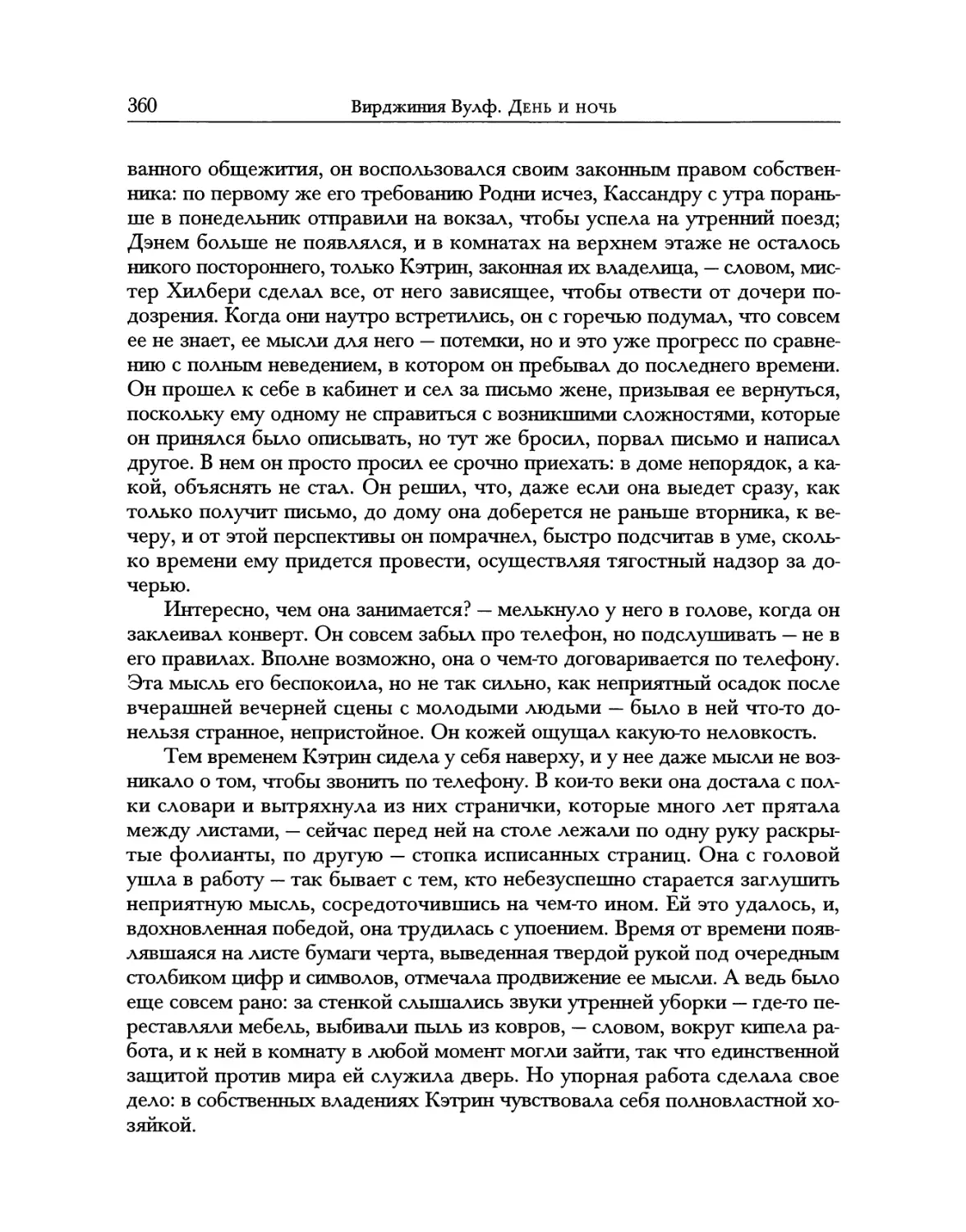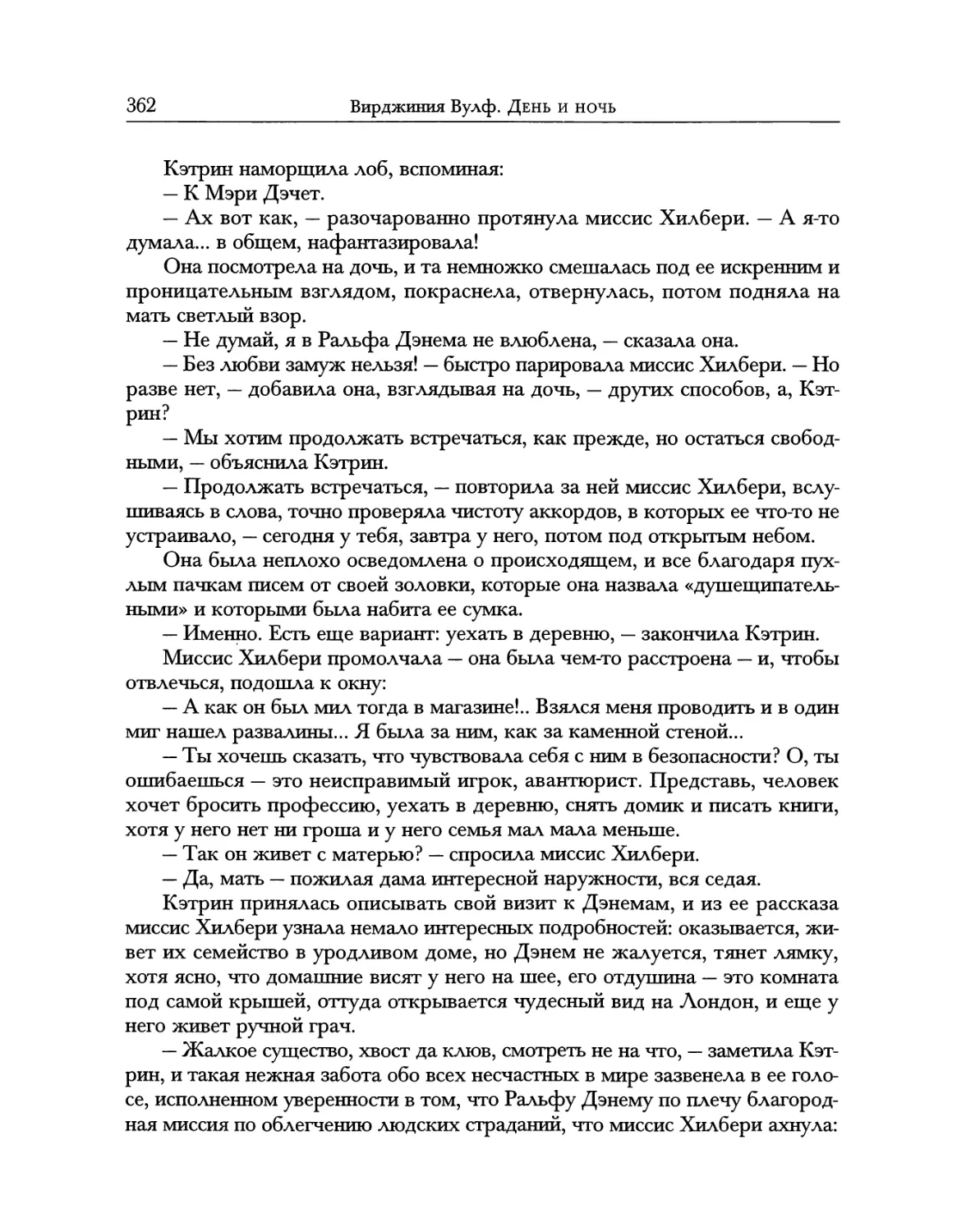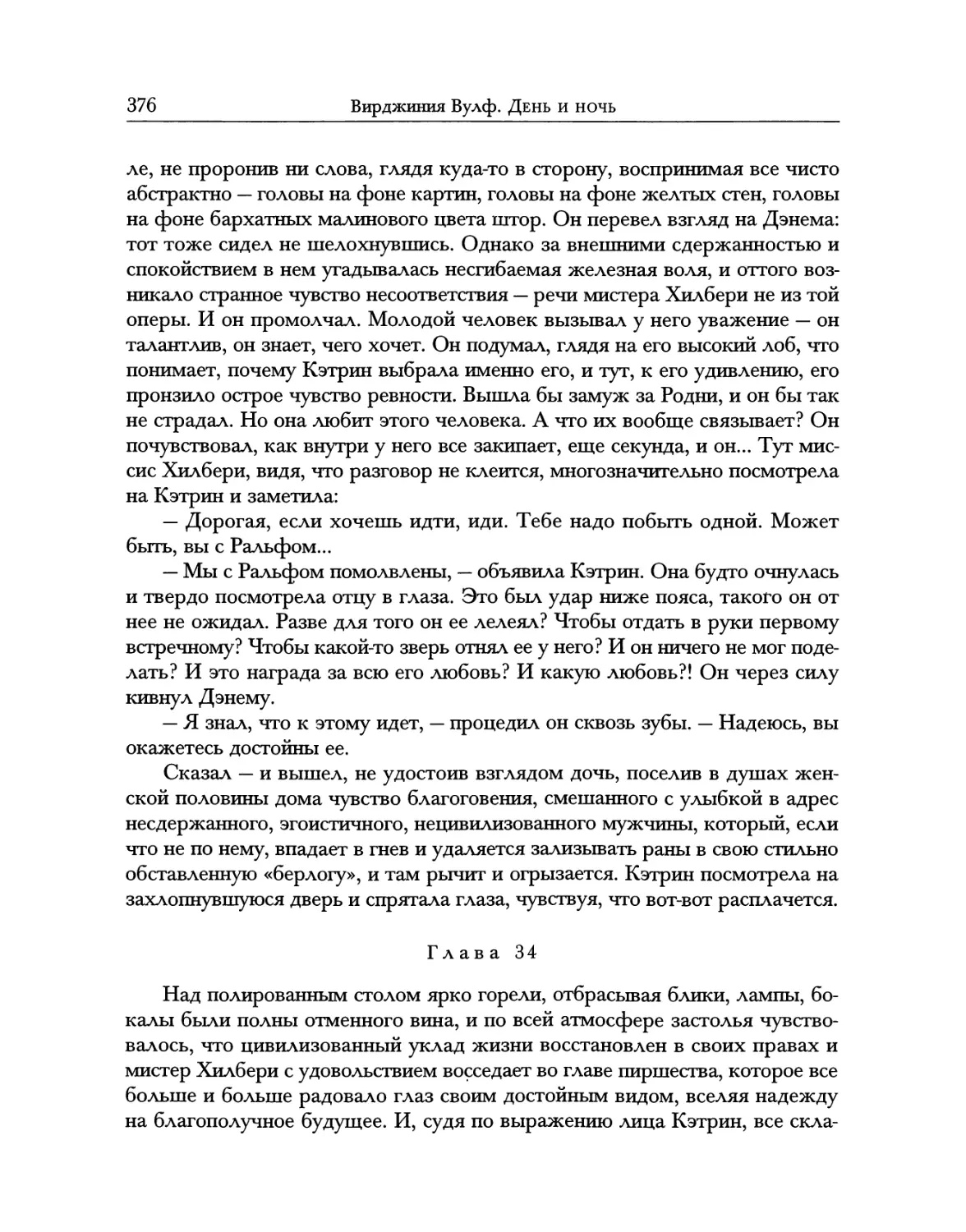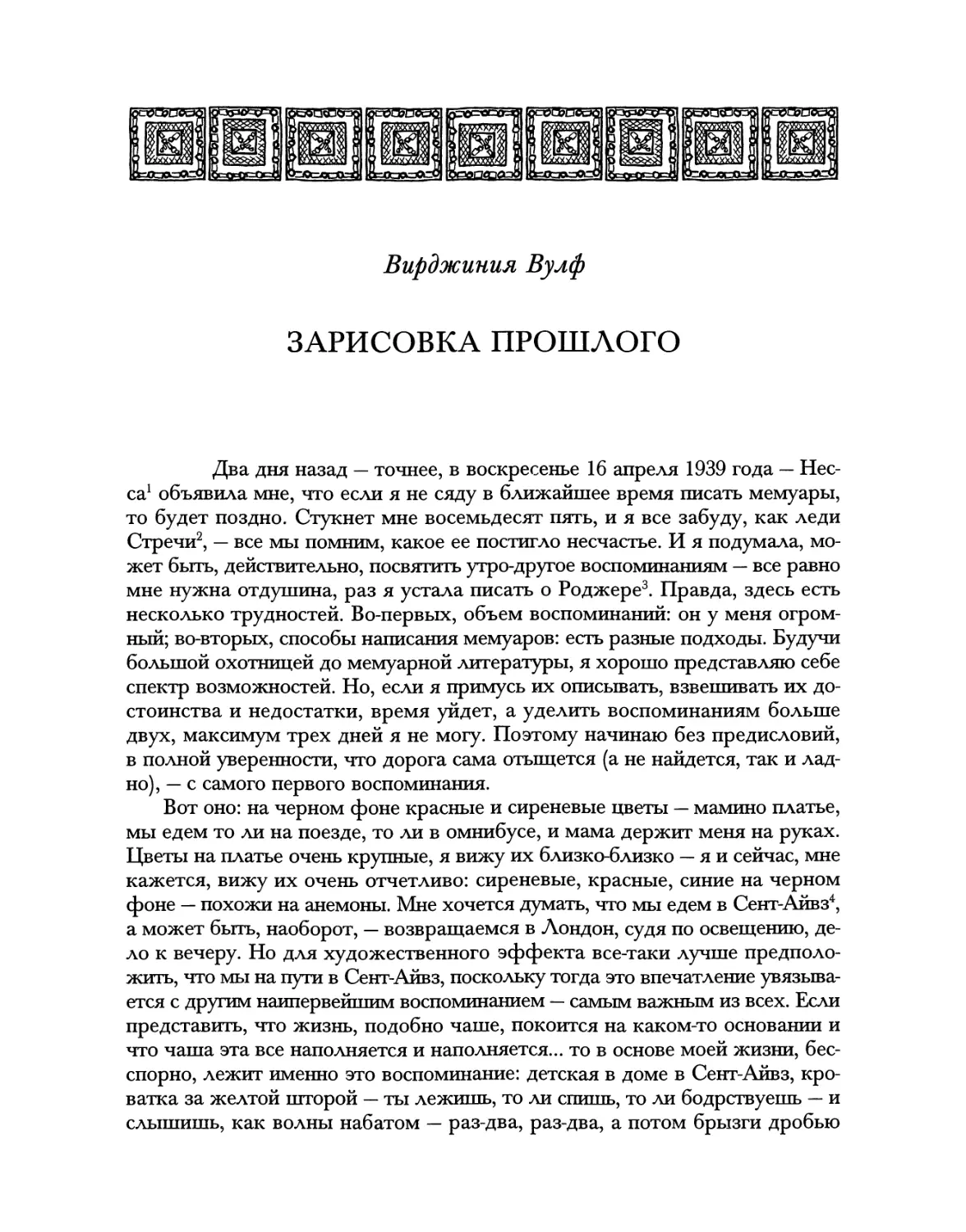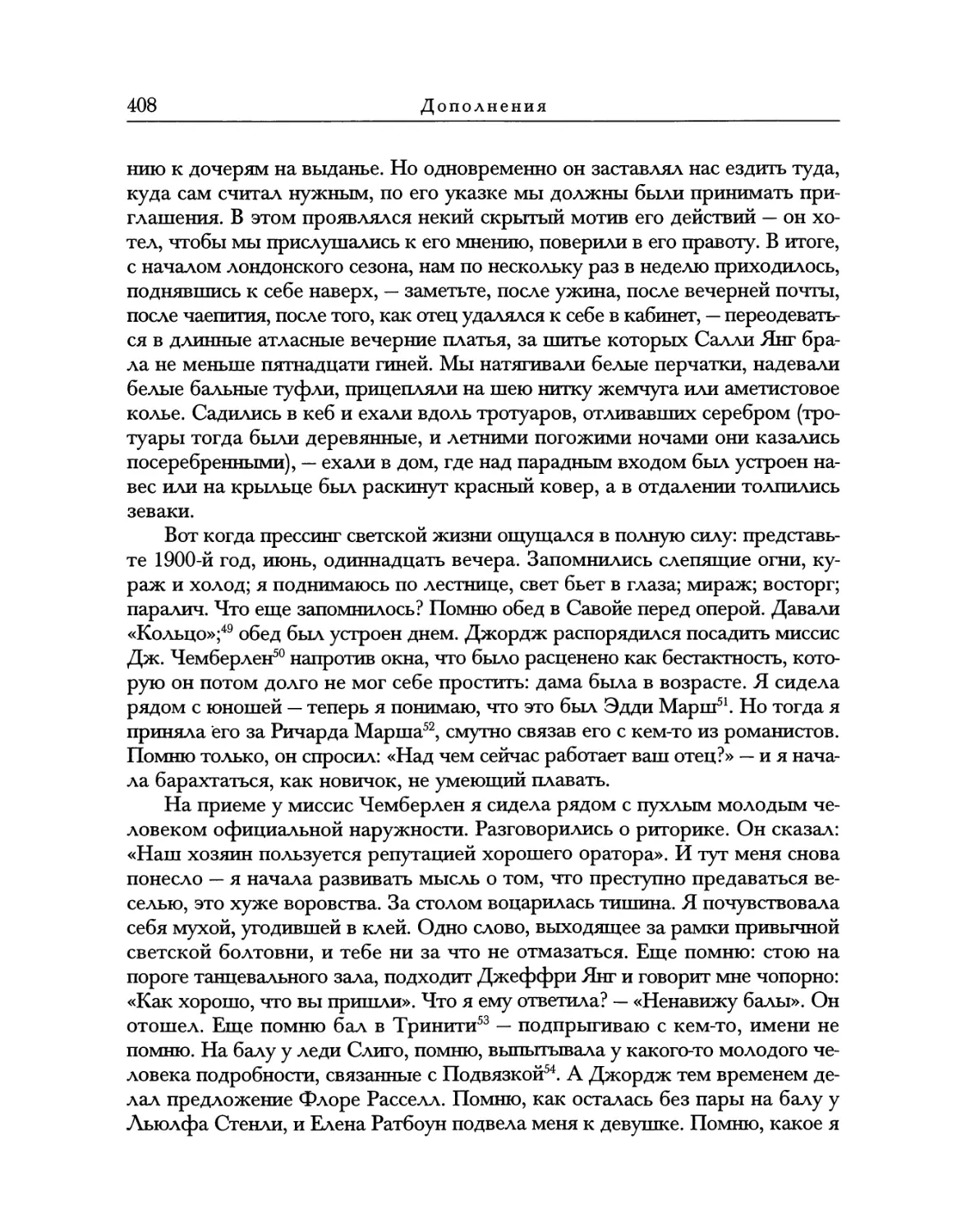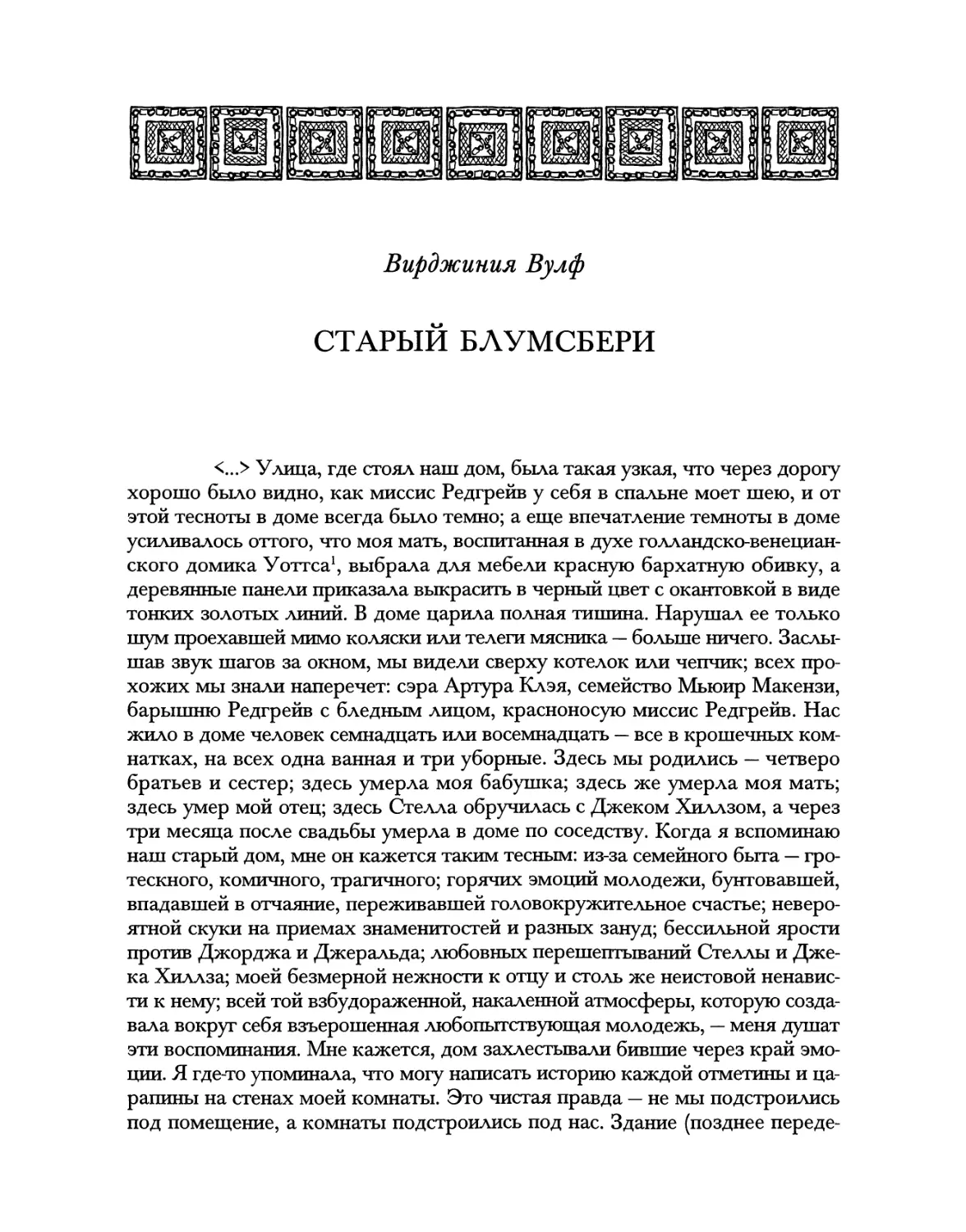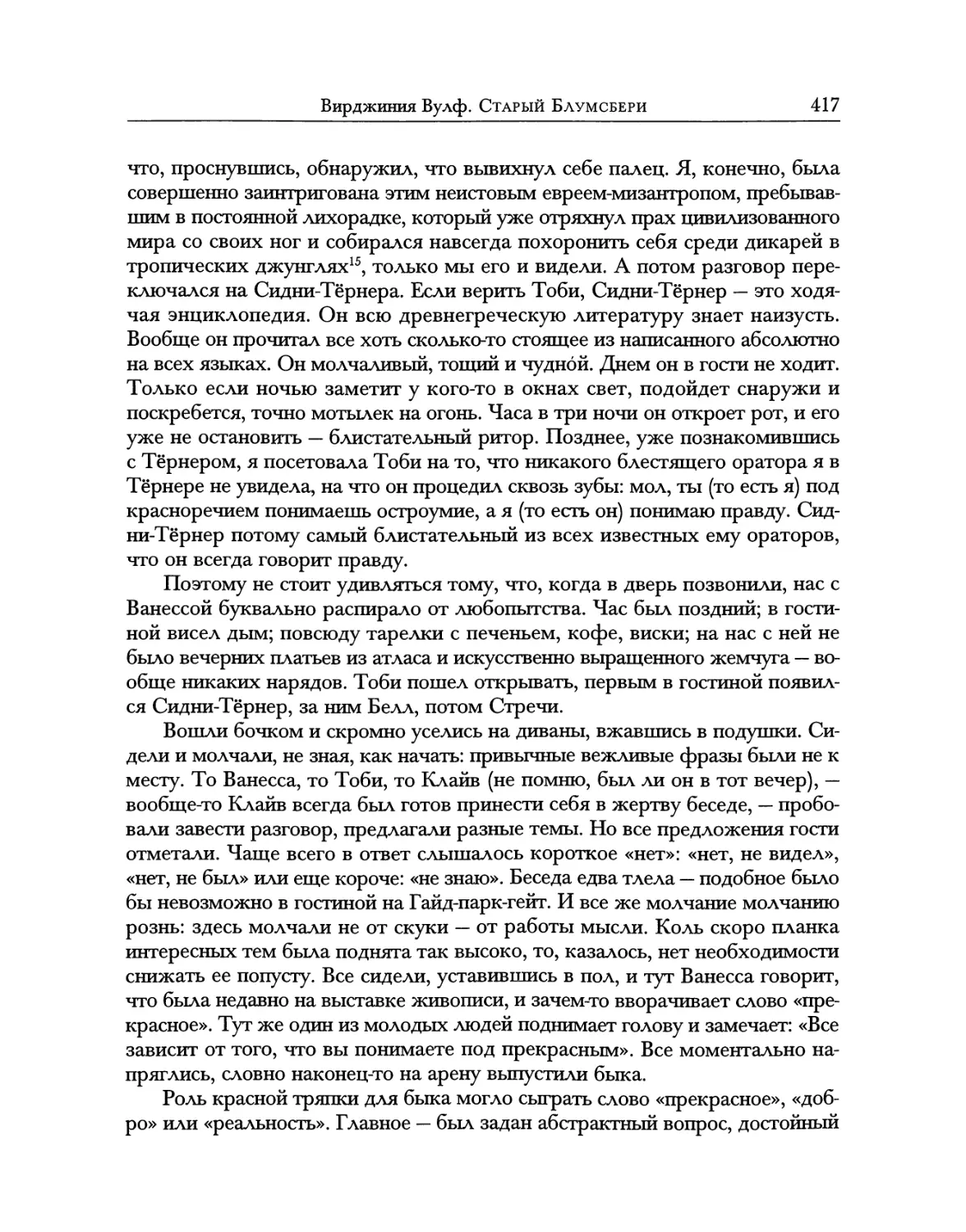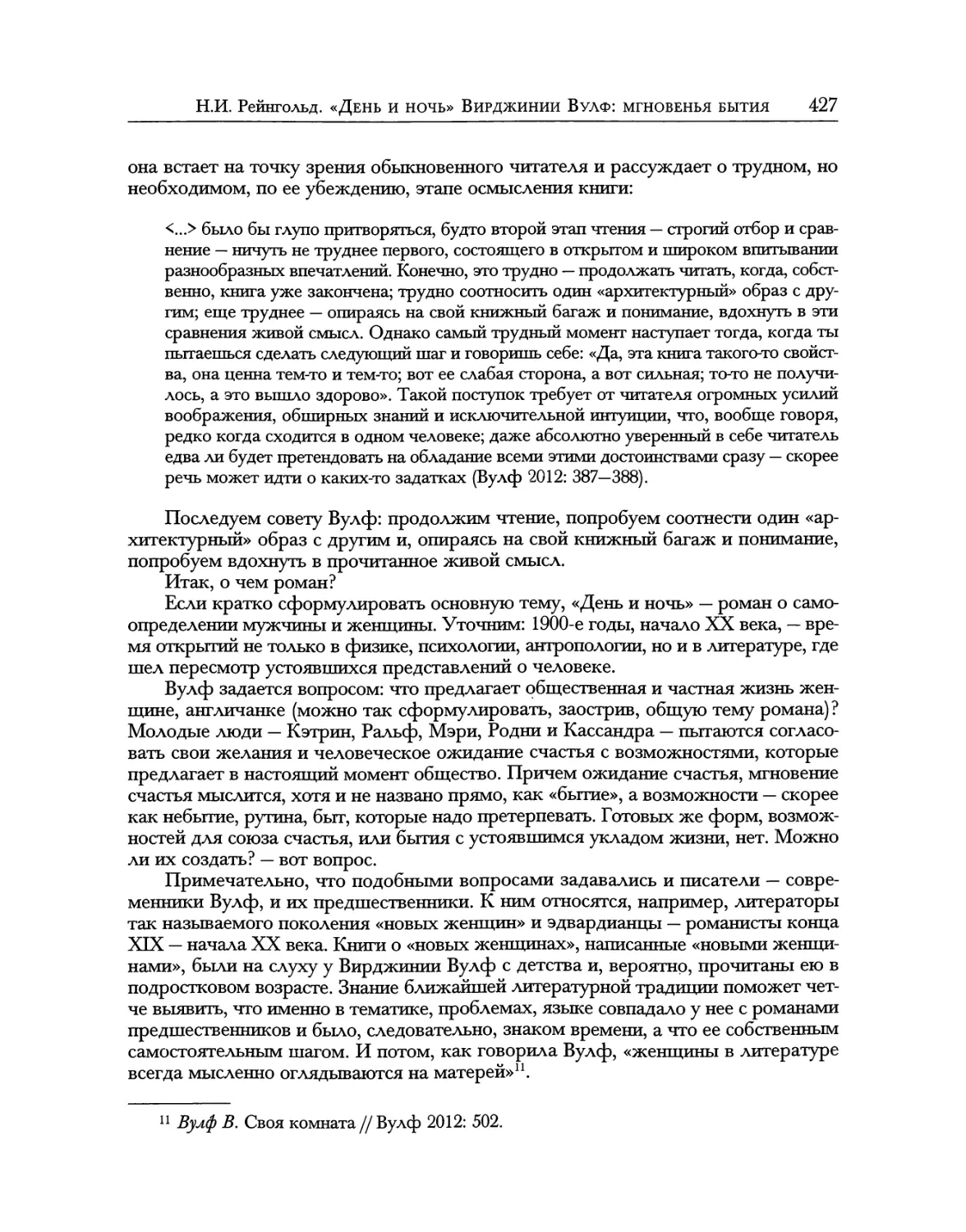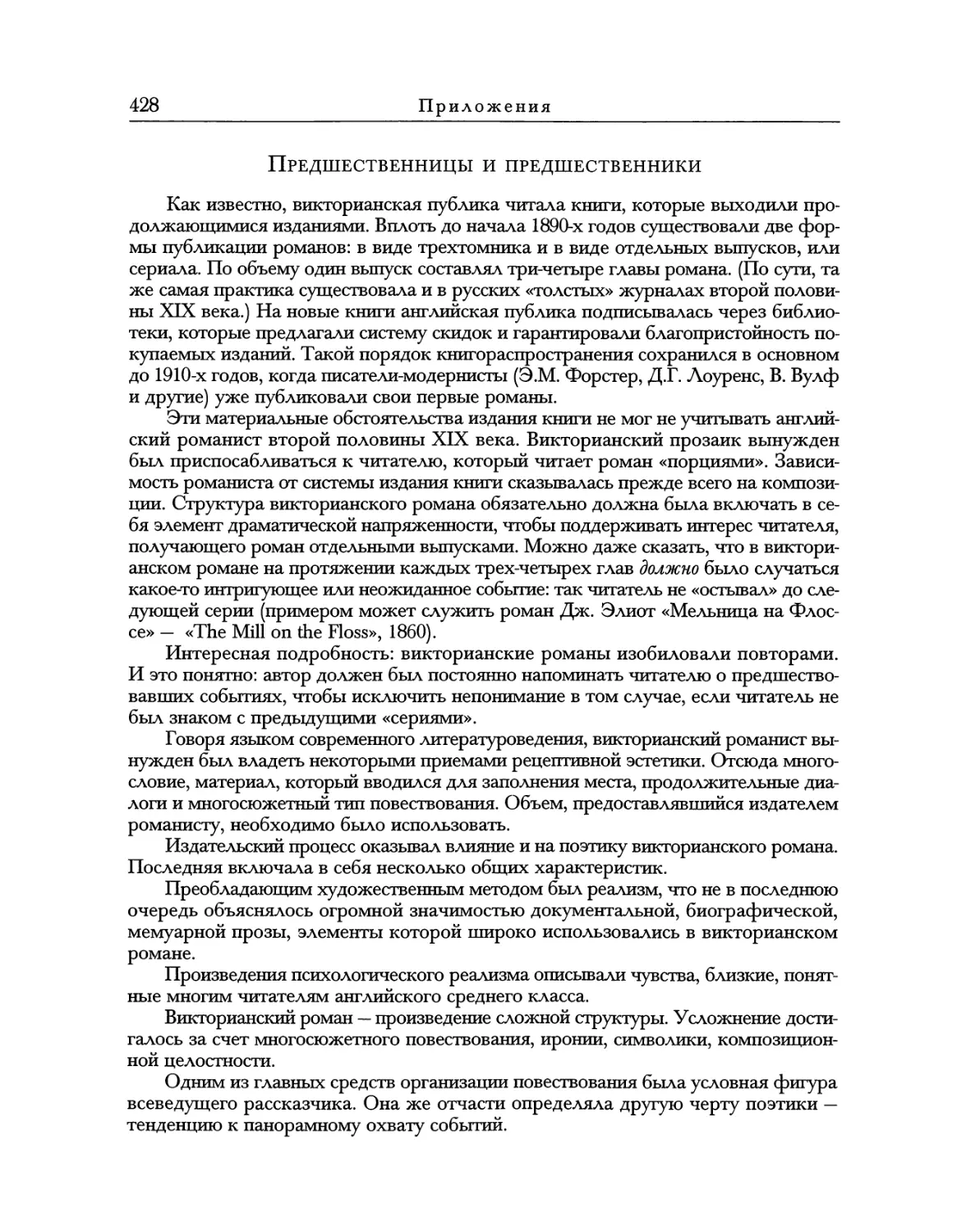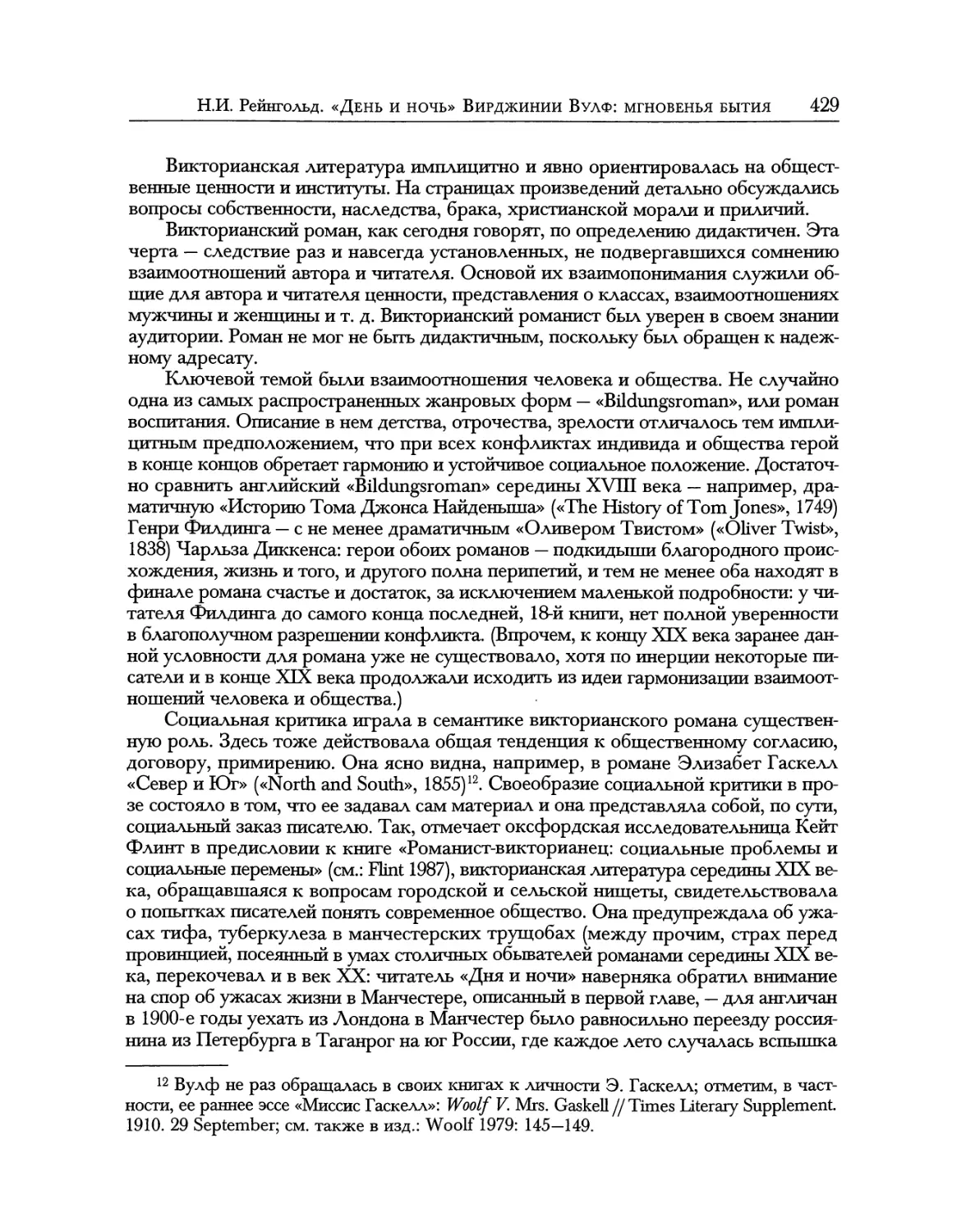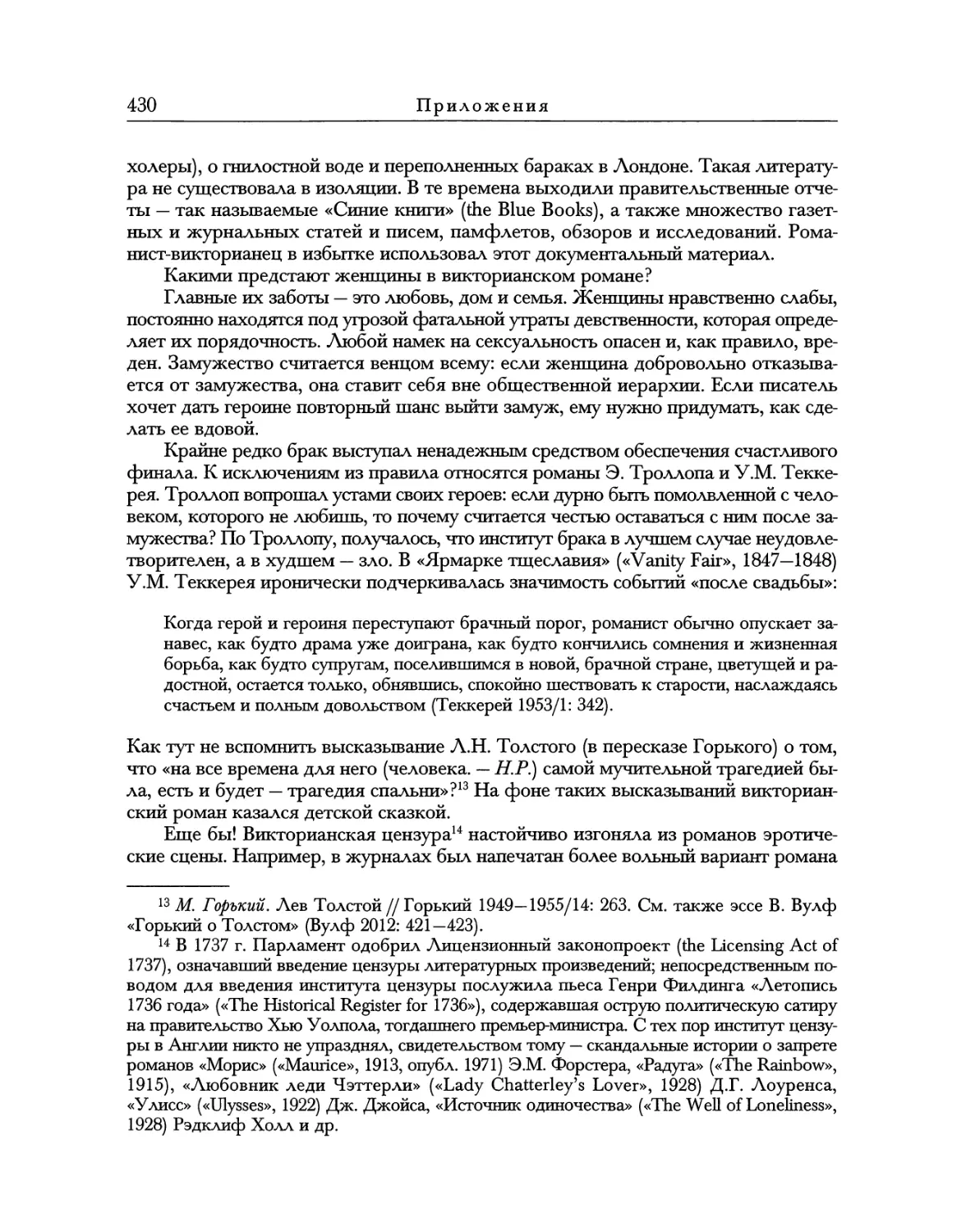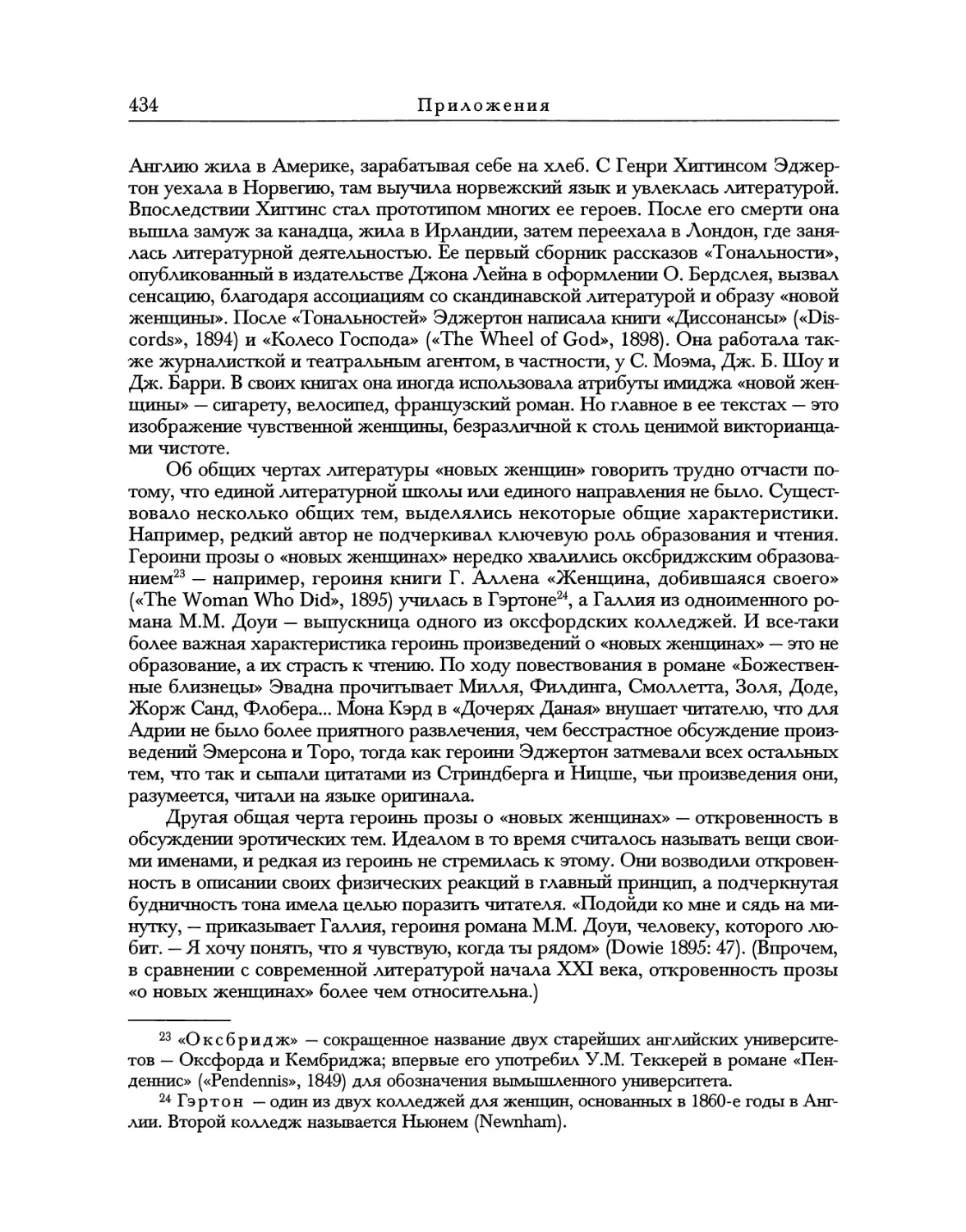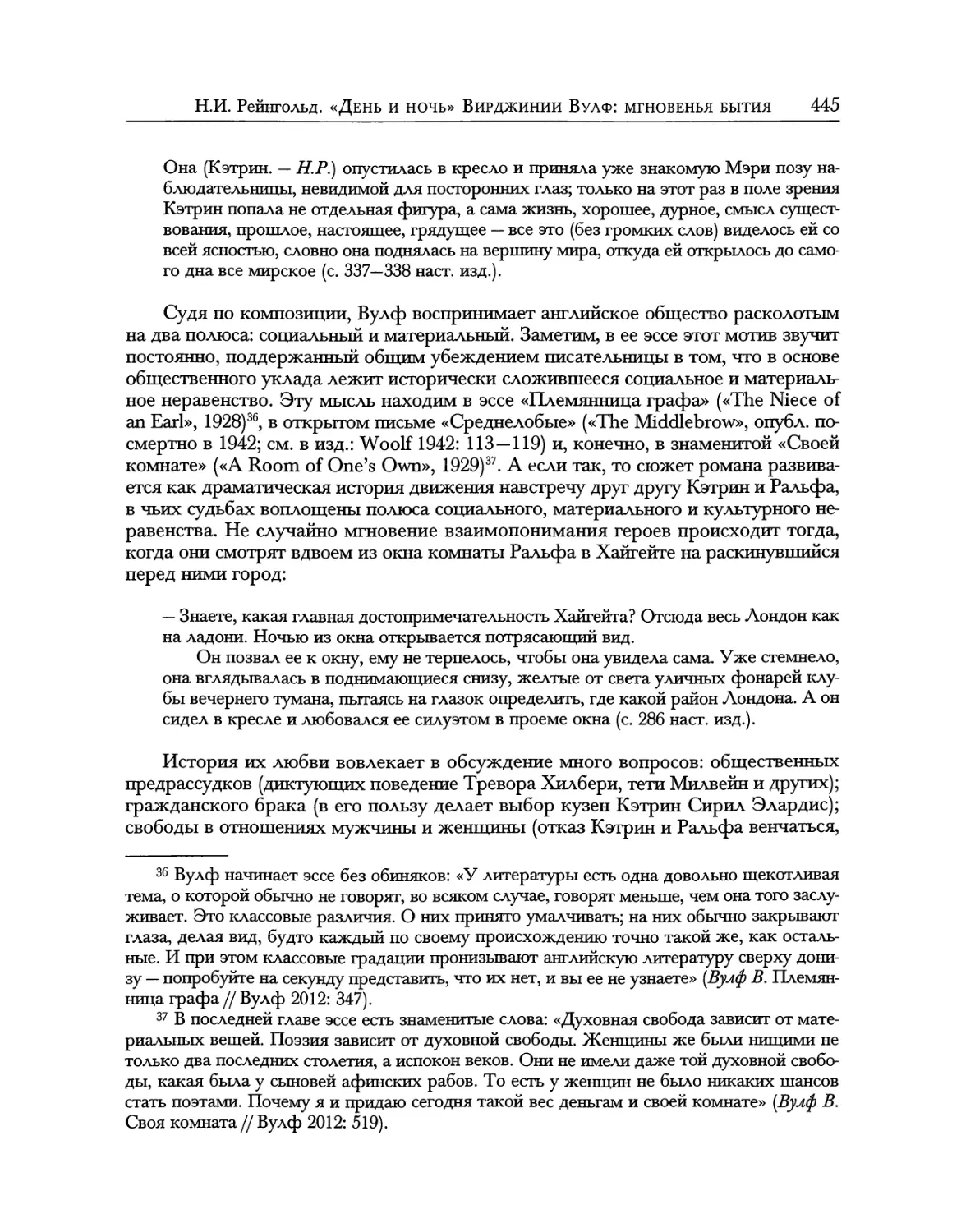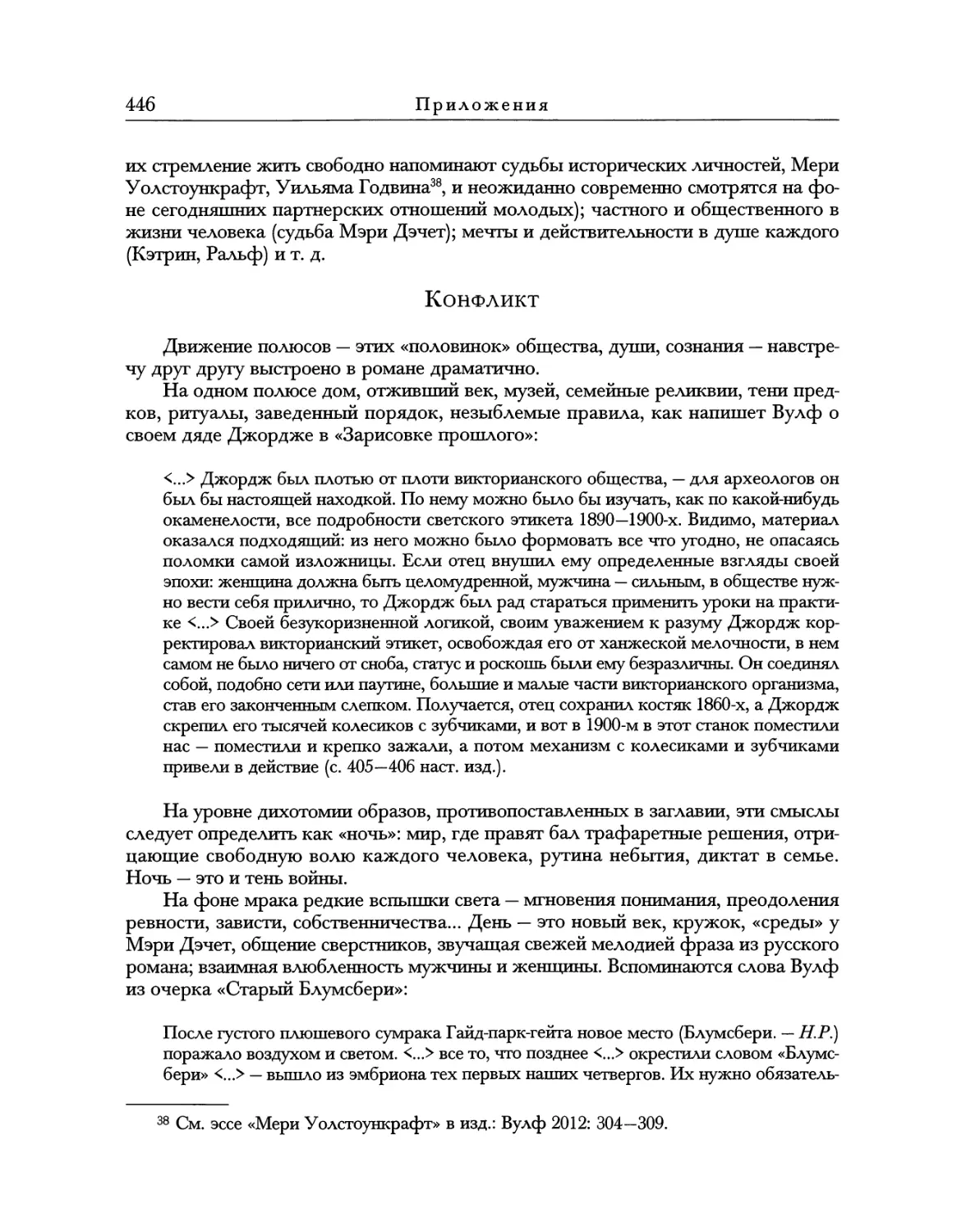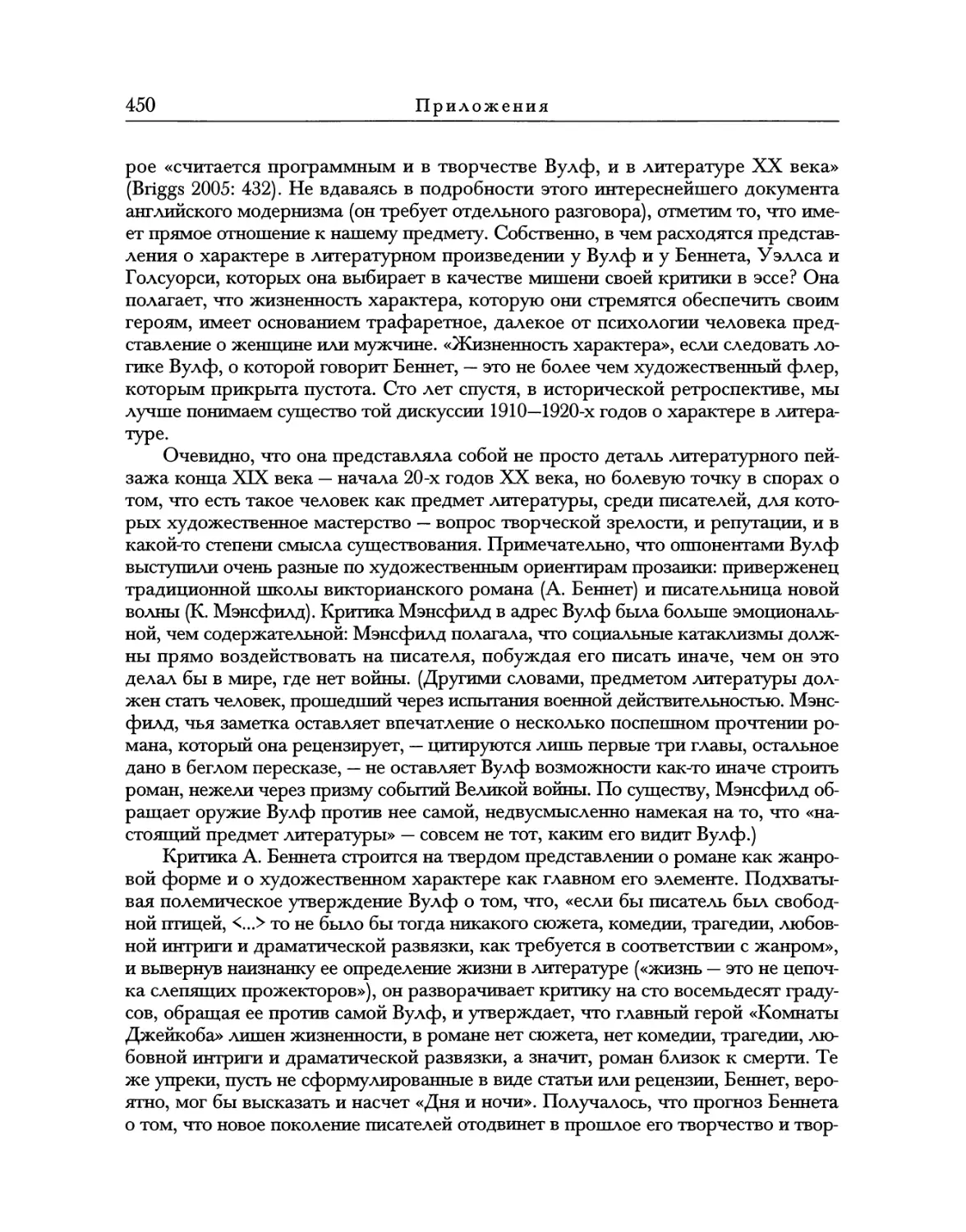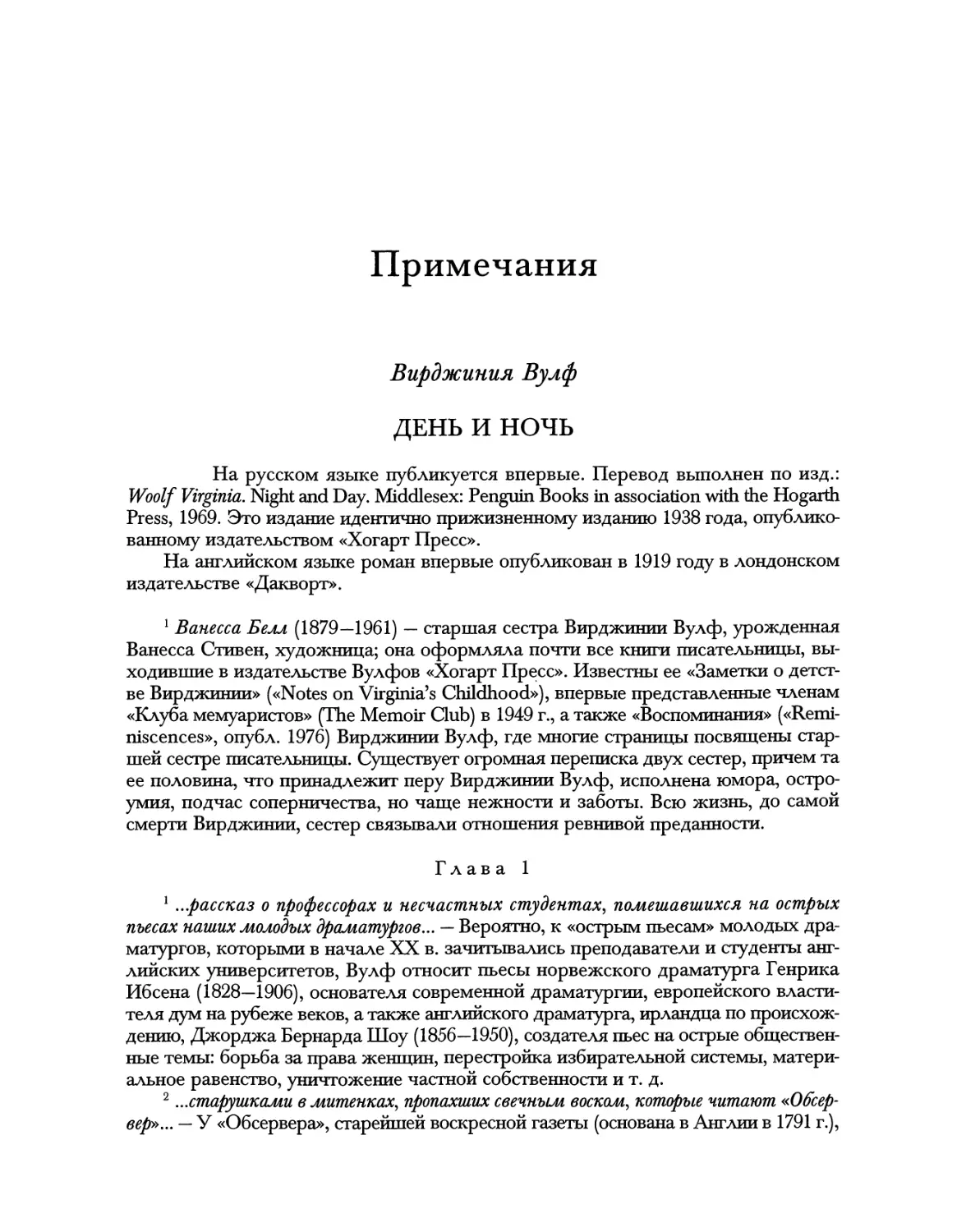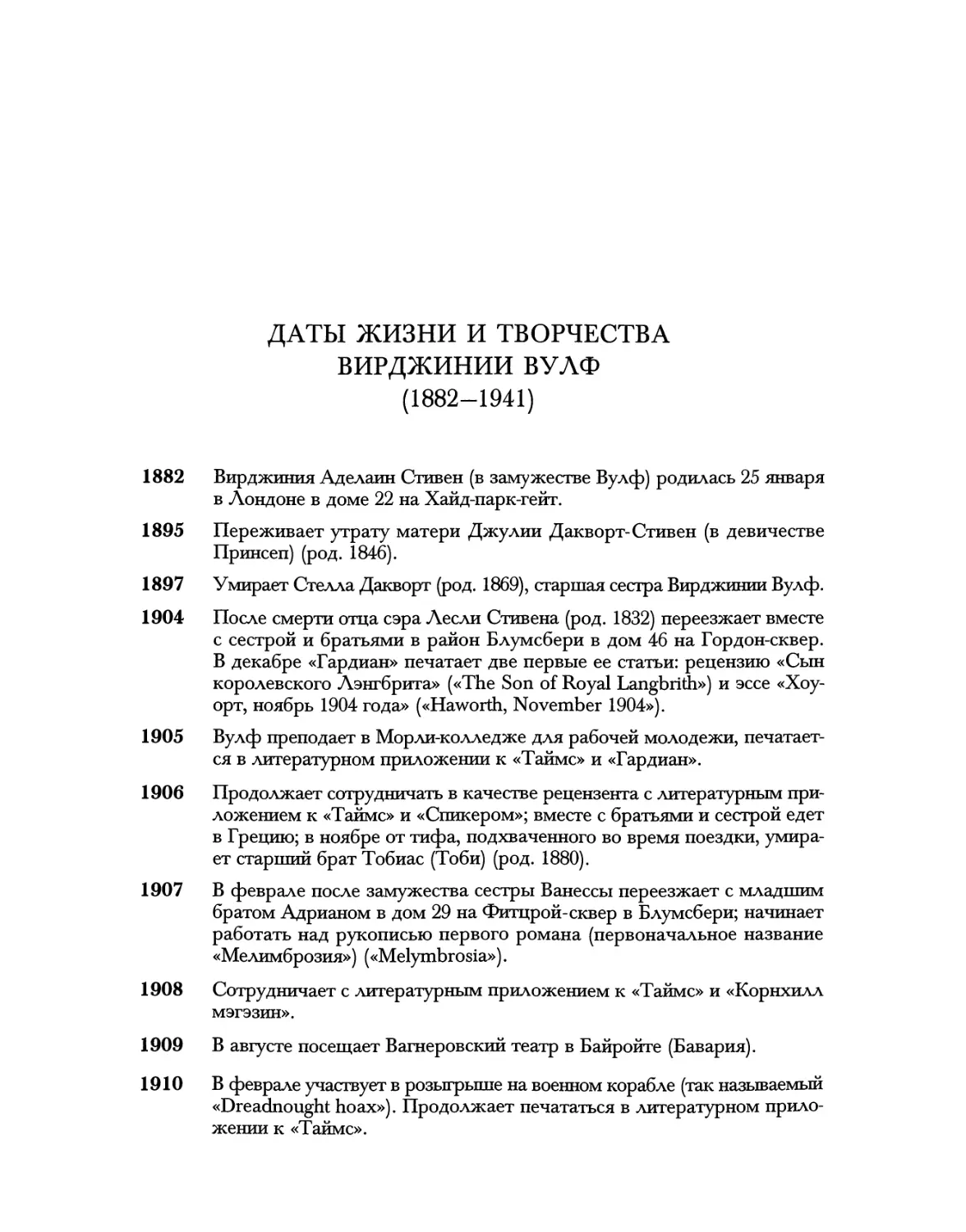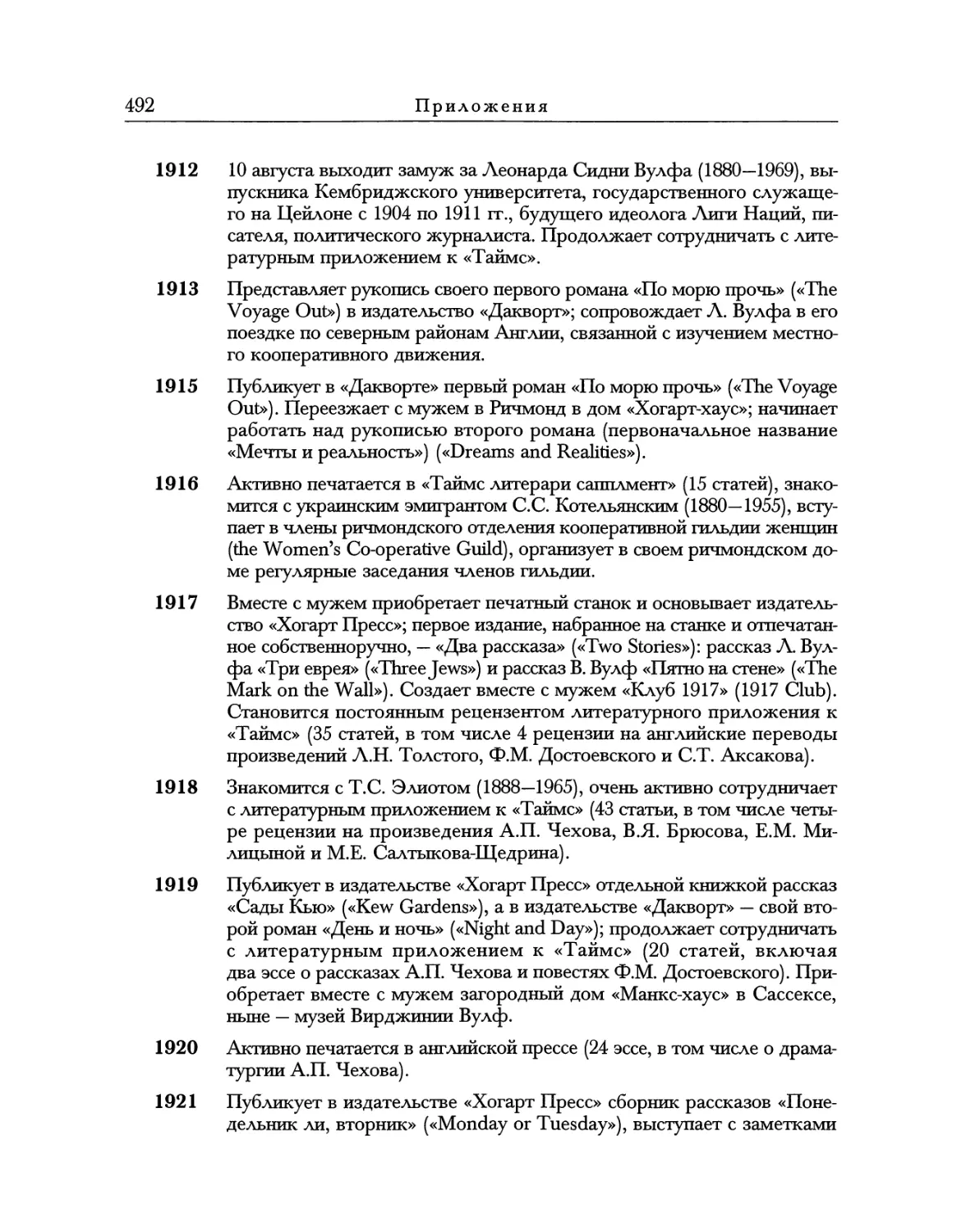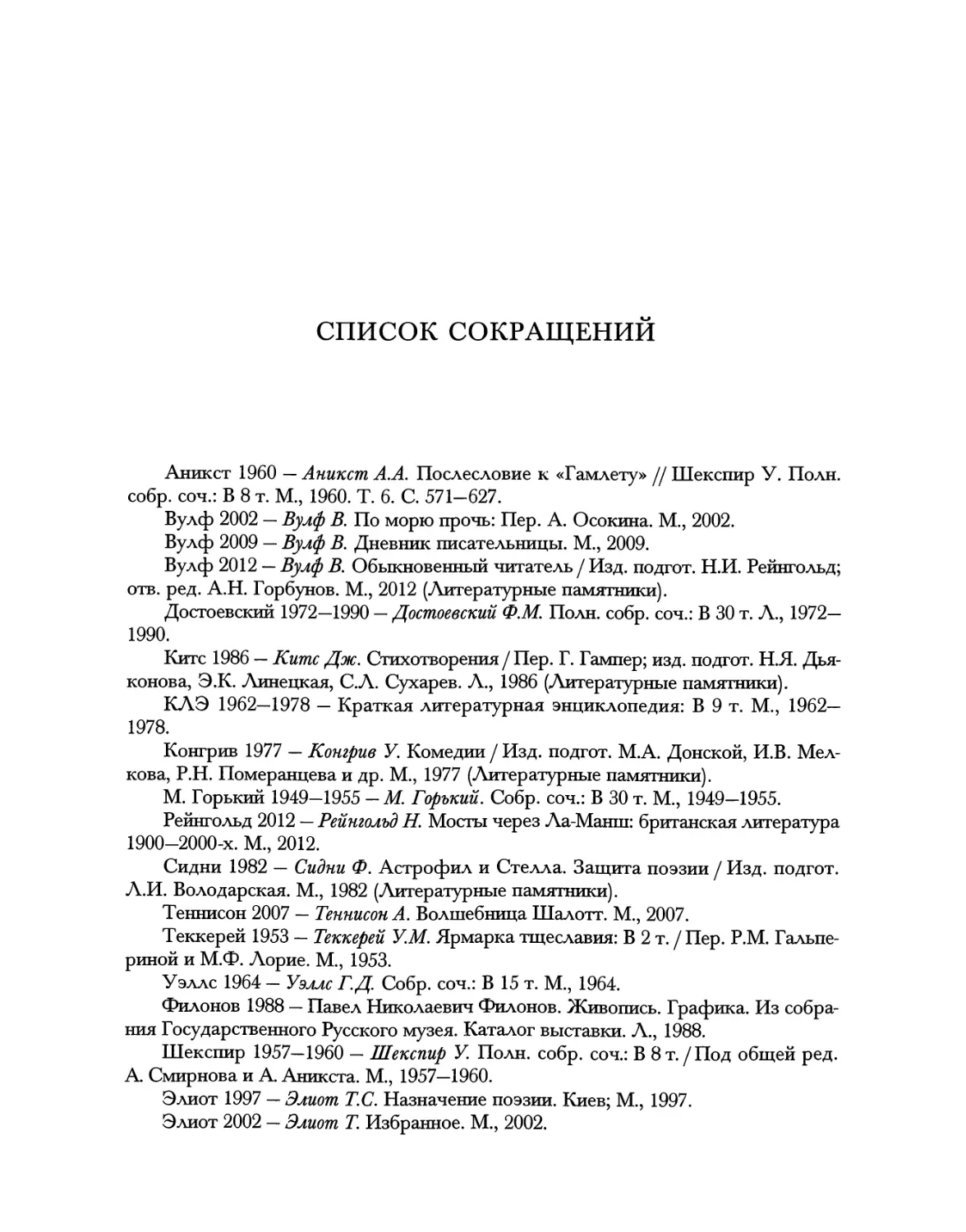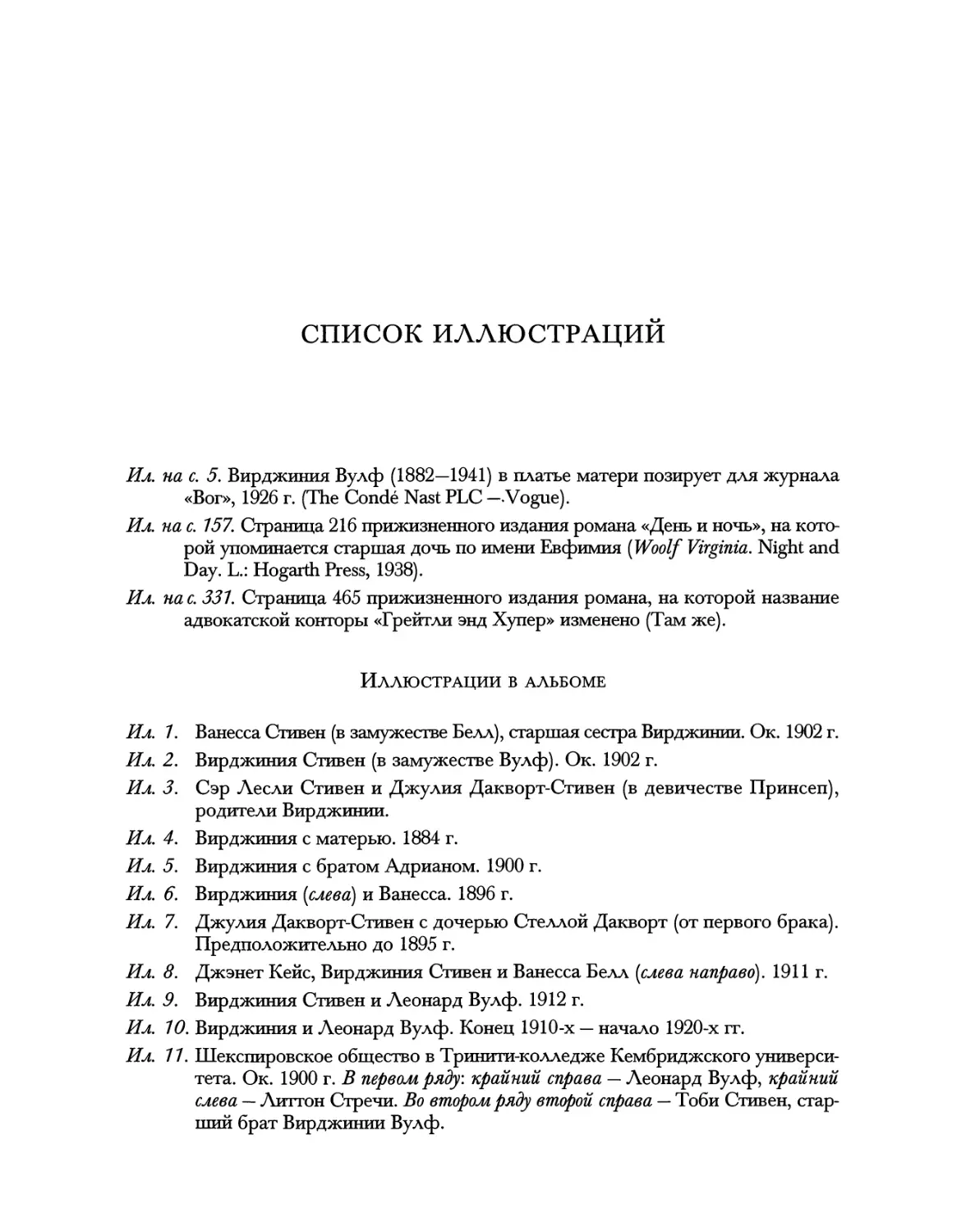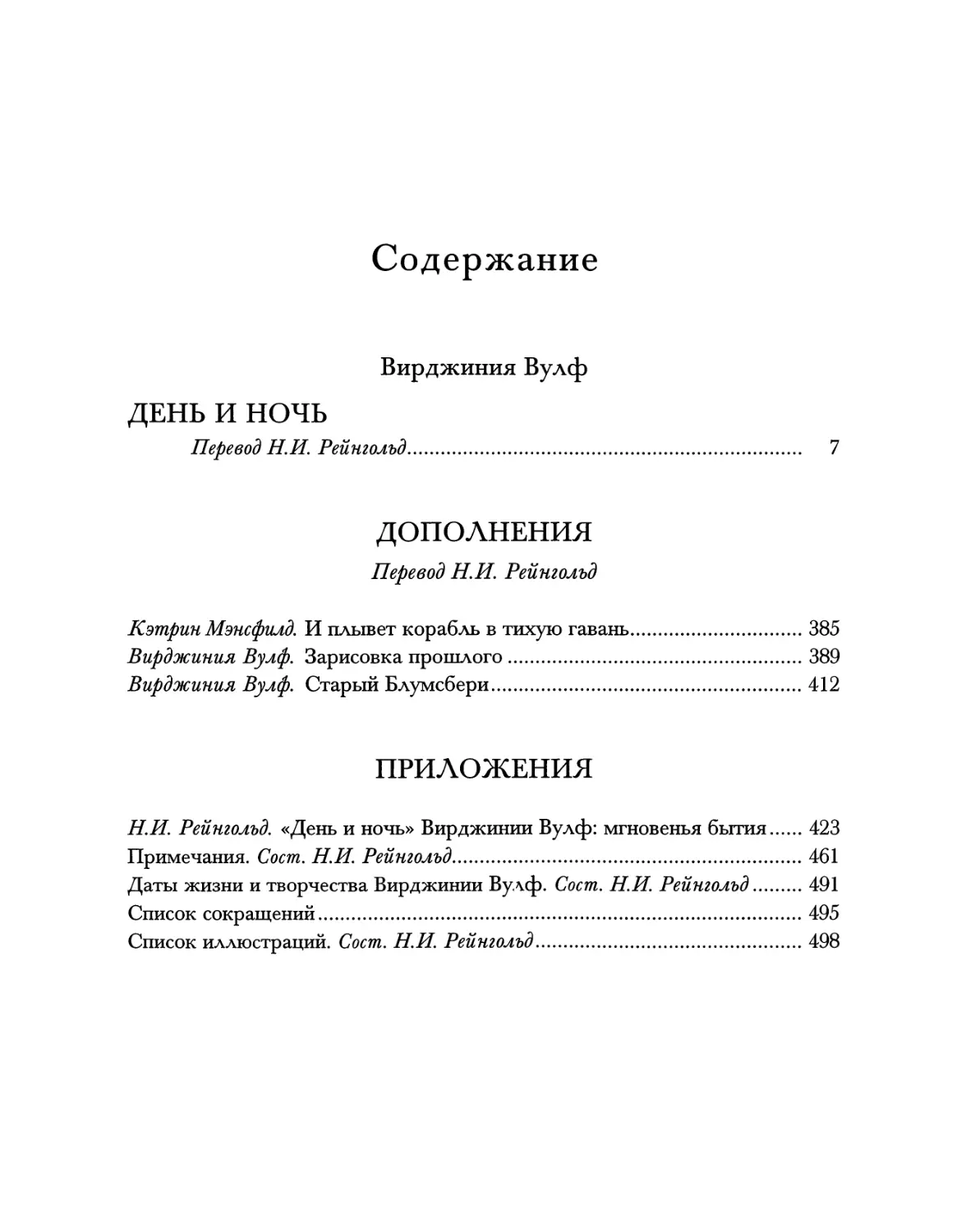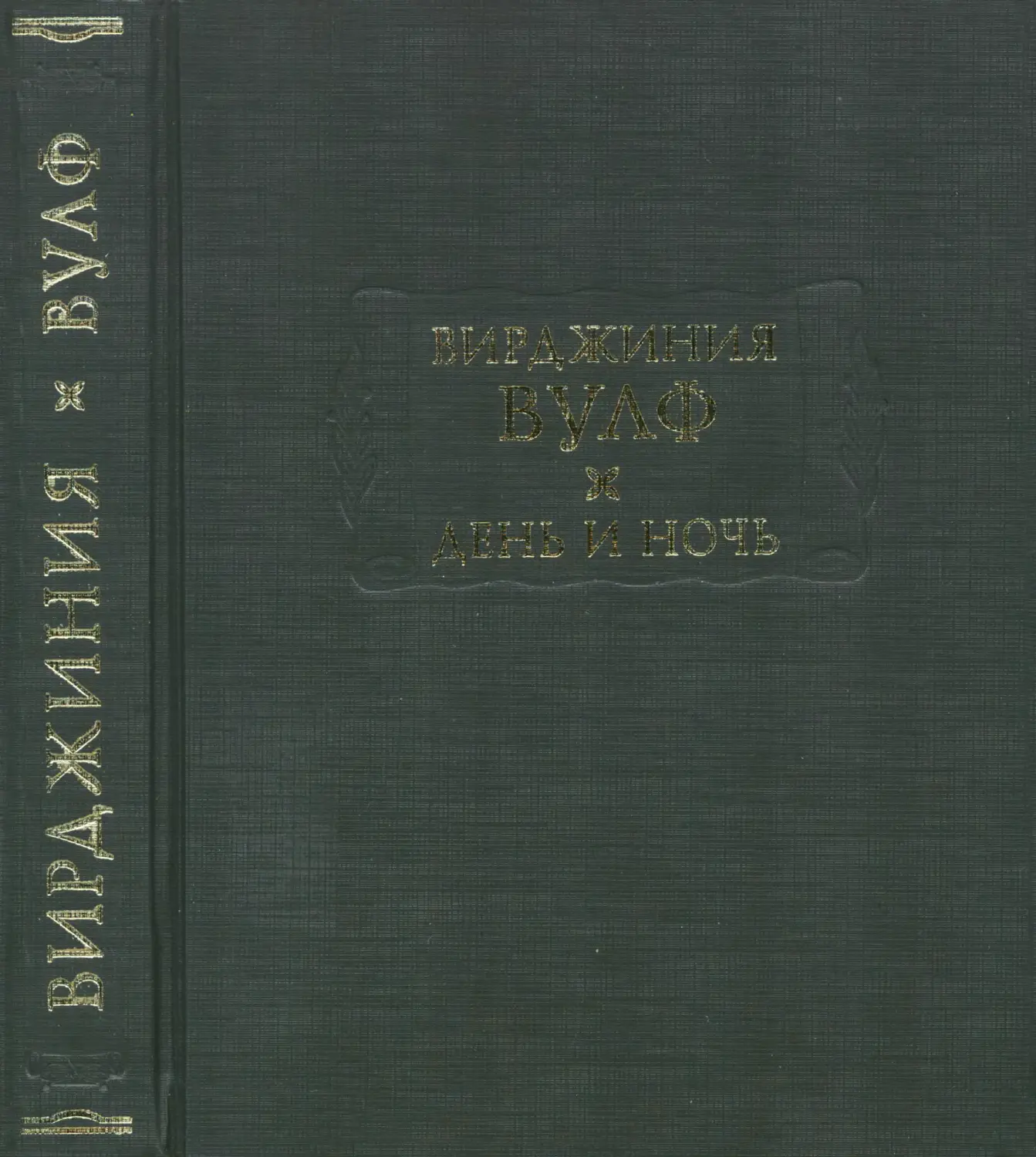Автор: Вулф В.
Теги: роман художественная литература литературные памятники английская литература классика литературы академия наук ссср
ISBN: 978-5-86218-518-8
Год: 2014
Текст
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Литературные Памятники
VIRGINIA WOOLF
NIGHT AND DAY
ВИРДЖИНИЯ Вулф
ДЕНЬ И НОЧЬ
Издание подготовила Н.И. РЕЙНГОЛЬД
Научно-издательский центр «Ладомир»
«Наука»
Москва
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ»
Серия основана академиком С.И. Вавиловым
М.Л. Андреев, В.Е. Багно (заместитель председателя),
В.И. Васильев, А.Н. Горбунов, Р.Ю. Данилевский, Н.Я. Дьяконова, £.Ф. Егоров (заместитель председателя), Н.Н. Казанский,
ÄÄ Корниенко (заместитель председателя), Л.i>. Куделин (председатель), AÄ Лавров, И.В. Лукьянец, iö.C. Осипов, MÆ Островский,
И.Г. Птушкина, ЮЛ, Рыжов, ИМ, Стеблин-Каменский,
Е.В. Халтрин-Халтурина (ученый секретарь), АЛС. Шапошников,
СО. Шмидт
Ответственный редактор А,Н, Горбунов
© Н.И. Рейнгольд. Перевод, статья, примечания, 2014. © Научно-издательский центр «Ладомир», 2014.
ISBN 978-5-86218-518-8 © Российская академия наук. Оформление серии, 1948.
Репродуцирование [воспроизведение) данного издания любым способом без договора с издательством запрещается
Вирджиния Вулф
(1882-1941)
ДЕНЬ И НОЧЬ
ВАНЕССЕ БЕЛЛ1
ЗНАЮ, ЧТО ПРИБАВИТЬ... ВСЁ В ИМЕНИ ТВОЕМ.
ДЕНЬ И НОЧЬ
Глава 1
Близился конец воскресного дня, смеркалось — в порядочных домах в эту октябрьскую пору барышни обычно разливают чай, — и Кэтрин Хилбери была занята именно этим: семейным чаепитием. Мысли ее витали далеко: следя краем глаза за носиком чайника, она уносилась в воображении, мысленно перемахнув через преграду, отделяющую день от ночи, — туда, к утру понедельника, предвкушая, как займется назавтра своими привычными любимыми делами. За столом она молчала, — оказавшись, может быть, в шестисотый раз в роли хозяйки, она предпочитала спокойно слушать, как течет застольная беседа. Да и не было в ее участии нужды: миссис Хилбери, с ее талантом собеседницы, прекрасно справлялась сама — недаром ее воскресные вечера пользовались таким успехом у солидной публики. Единственное, чего она терпеть не могла, это прозаическую сторону застолья: подливать гостям чай, потчевать их тостами, — тут требовалась помощь дочери.
С начала сегодняшнего застолья прошло каких-нибудь двадцать минут, а на лицах гостей уже заиграло оживление и в гостиной установился легкий гул, — судя по всему, вечер удался: хозяйка могла быть довольна. Кэтрин поймала себя на мысли, что, если бы сейчас в гостиную зашел кто-то посторонний и увидел картину общего веселья, он наверняка решил бы: «Что за славное семейство!» И невольно улыбнулась этой своей мысли: никакой особой радости сама она не испытывала; но, не желая уронить честь фамилии, воскликнула что-то оживленно, присоединяясь к хору голосов. В эту самую минуту дверь распахнулась — Кэтрин даже позабавило такое совпадение — и в комнату влетел молодой человек. Поздоровавшись с ним за руку, она чуть не задала вертевшийся у нее на языке вопрос: «Ну что, вечер удался на славу, правда?..» И, повернувшись к матери, сказала: «Это мистер Дэнем, дорогая», — та явно забыла, как зовут припозднившегося гостя.
10
Вирджиния Вулф. День и ночь
Эта секундная пауза не осталась незамеченной и лишь усугубила общее чувство неловкости, которое всегда сопровождает появление в тесной компании собеседников человека не их круга: разговор разом смолк. В наступившей тишине Дэнему почудилось, будто за ним закрылись без единого щелчка тяжелые звуконепроницаемые двери, отрезав его от внешнего мира. Он огляделся: в просторной, даже пустоватой комнате дрожала бисерной паутинкой легкая дымка, — над столом, где пили чай, она серебрилась от зажженных канделябров, а возле камина струилась пунцовым шлейфом. После уличной толчеи, — в голове у него все еще вертелись омнибусы, кебы, перекрестки, пешеходы, мускулы пружинились от быстрого шага, — гостиная поражала альковной тишиной; лица немолодых людей, сидящих на некотором расстоянии друг от друга, тонули в голубоватом сумраке — лишь кое-где выделялись розовые щеки и круглые лысины. Дэнем появился в гостиной ровно в ту минуту, когда маститый романист мистер Фортескью произносил очередной из своих длинных пассажей и поневоле прервался, не закончив фразу. Он подождал, пока гость усядется, а миссис Хилбери тем временем очень тонко ввела Дэнема в курс дела, сообщив ему шепотом содержание этого повисшего в воздухе, незаконченного периода:
— Представьте, мистер Дэнем, что вы замужем за инженером и живете не в Лондоне, а в Манчестере, — что бы вы стали делать?
— Занялся бы на досуге персидским, — опередил Дэнема сухой старичок. — Наверняка в Манчестере есть люди со знанием персидского — какой- нибудь бывший директор школы или местный литератор, — вот и брал бы у них уроки.
— Понимаете, наша кузина вышла замуж и переехала в Манчестер, — пояснила Дэнему Кэтрин.
В ответ тот что-то буркнул — развивать тему было некогда: прославленный романист уже снова завладел всеобщим вниманием. Дэнем чертыхнулся про себя за непростительную ошибку: дорого он дал бы, чтобы снова очутиться на улице, почувствовать себя вольной птицей, — ведь в этой рафинированной гостиной вряд ли кто-нибудь его оценит и вообще он чувствует себя здесь чужаком. Он вгляделся в лица сидящих за столом: ни одного человека моложе сорока, за исключением Кэтрин; из знаменитостей — один лишь мистер Фортескью, ну да и то хлеб, будет кого завтра вспомнить.
— А вы сами бывали в Манчестере? — спросил он Кэтрин.
— Нет, ни разу, — призналась она.
— Так чего ж вы за глаза о нем судите?
Кэтрин задумалась, и Дэнем, увидев, как она с отсутствующим взором помешивает ложечкой чай, решил, что она снова погрузилась в хозяй¬
Глава 1
11
ственные заботы о чае, кексах, — а на самом деле девушка лихорадочно соображала, как ей ввести в общий круг этого странного молодого человека. Краешком глаза она видела, как он сдавливает в руке чашку: кажется, еще немного, и на фарфоре останется вмятина. Ему было явно не по себе; она обратила внимание на его скуластое, раскрасневшееся от ветра лицо, взъерошенные волосы — да, ему, наверное, не по себе в их компании. И потом, он, скорей всего, вообще не любитель подобных застолий и пришел чисто из любопытства, откликнувшись на приглашение отца, — как бы то ни было, его будет трудно ввести в общие рамки.
— Право, не знаю, с кем ей в Манчестере общаться, — заметила она, не обращаясь ни к кому конкретно.
При этих словах мистер Фортескью прервал свою речь, посмотрел на нее очень внимательно, как это умеют романисты, улыбнулся тонко и моментально парировал ее реплику.
— Кэтрин со свойственной ей склонностью преувеличивать тем не менее правильно ставит вопрос, — глубокомысленно заметил он и, устроившись поудобнее на стуле, возведя глаза к потолку и держа на уровне груди сложенные кончики пальцев, пустился в описание ужасов, царящих на улицах Манчестера, потом перешел к городским окраинам, за которыми простираются дикие пустоши, затем нарисовал скромный домик, где придется жить молодой женщине, ввернул рассказ о профессорах и несчастных студентах, помешавшихся на острых пьесах наших молодых драматургов1, заверив слушателей в том, что эта публика не оставит без внимания нашу молодую особу, и дальше пошел расписывать, как она постепенно подурнеет, состарится и сбежит обратно в Лондон и как в недалеком будущем Кэтрин придется выгуливать ее, точно голодную собачку на поводке мимо оживленных мясных лавок, — вот до чего дойдет бедняжка!
— Но как же так, мистер Фортескью! — воскликнула миссис Хилбери, когда тот закончил рассказ. — Я же только что написала племяннице в письме, как я ей завидую! Жить вдали от городского шума, среди садов, чаевничать с милыми старушками в митенках, пропахших свечным воском, которые читают «Обсервер»2 и знать не знают ни о чем другом. Неужели они больше не существуют? Я же уверила душеньку, что она даже выиграет, переехав в Манчестер, — все прелести столичной жизни останутся при ней, зато об уличном шуме она навсегда забудет как о страшном сне.
— И потом, извините, это университетский город, — заметил сухонький старичок, тот, что ратовал за изучение персидского.
— Я читала, что под Манчестером есть вересковые пустоши, — задумчиво отозвалась Кэтрин.
12
Вирджиния Вулф. День и ночь
— Слушаю своих родных и дивлюсь их невежеству, — раздался голос мистера Хилбери. Это был человек в годах, на его дородном лице с набрякшими складками выделялись карие, с прищуром, очень живые глаза, какие редко встретишь у старика. У него была привычка, разговаривая с собеседником, играть брелоком от часов, украшенным зеленым камушком, так, что, слушая его, ты невольно обращал внимание на его длинные, тонкие, нервные пальцы; еще он имел обыкновение быстро вертеть головой в разные стороны, не меняя позы, — а сложения он был крупного, даже слоноподобного, отчего собеседнику казалось, что тот постоянно ищет, чем себя потешить или занять свою жадную до всякой интеллектуальной пищи мысль, при этом совершенно не напрягаясь физически. Невольно напрашивалась догадка о том, что молодым он, наверное, упивался жизнью, ни в чем себе не отказывал, удовлетворял любую из своих прихотей, и теперь его взыскующий ум скорее тешит себя наблюдением и размышлением, нежели честолюбивым стремлением во что бы то ни стало добиться цели.
Слушая вполуха мистера Фортескью, принявшегося наново возводить словесный замок, Дэнем незаметно разглядывал Кэтрин. Ему показалось, что она походит и на мать, и на отца, не повторяя никого из родителей в отдельности. От матери у нее порывистые, стремительные движения, привычка набрать воздуху перед тем, как ответить собеседнику, а потом передумать и промолчать. Живые карие, овальной формы, глаза, на дне которых пряталась грусть, у нее, конечно, от отца; впрочем, точнее говорить не о грусти — для этого она слишком молода, а о душевном настрое, натуре созерцательной и не склонной к бурному проявлению чувств. Она была удивительно хороша собой: волосами, цветом лица, фигурой если не писаная красавица, то девушка незаурядной наружности. В ней ощущались не- суетность и твердость характера — сочетание довольно редкое в барышне — во всяком случае, оно отнюдь не служило спасительным якорем для молодого человека, видевшего ее впервые в жизни и не знавшего, как к ней подойти. Она высокая, одета в палевое платье с отделкой из желтоватых кружев ручной работы, из украшений — только старинный драгоценный камень, который при определенном освещении вдруг вспыхивал у нее на груди рубиновой каплей. Наблюдая за тем, как уверенно, спокойно и, главное, молча справляется она с ролью хозяйки, он вдруг подумал, что мысленно она не здесь — в ней чувствовалась какая-то внутренняя отрешенность. Он подумал, что, наверное, ей тоже приходится несладко за этим столом, со стариками, и эта мысль невольно сгладила первое неприязненное впечатление, которое составилось у него при встрече с нею. А гости тем временем закончили с Манчестером и на благодушной ноте перешли к другой теме.
Глава 1
13
— Кэтрин, как называется та битва — Трафальгарская? — бросила дочери в пылу полемики миссис Хилбери. — Или Испанская армада?3
— Трафальгарское сражение, мама.
— Ну конечно! Как я могла забыть! Еще чашечку чаю, милая, с лимоном — тонюсенький кусочек, пожалуйста, — итак, дорогой Фортескью, я с нетерпением жду вашего разъяснения. Лично мне мужчина с римским профилем внушает доверие при любых обстоятельствах, где бы я его ни встретила, хоть на подножке омнибуса.
Дальше Дэнем не слышал — его отвлек мистер Хилбери, заговорив очень дельно о профессии стряпчего и тех изменениях, которые произошли на его памяти. Дэнем моментально приосанился, это была его тема: благодаря ей он и познакомился с мистером Хилбери — тот опубликовал в своем обозрении его статью по юридическим вопросам. Но высказаться ему не пришлось: буквально в ту же минуту мистеру Хилбери представили миссис Саттон Бейли, он вежливо наклонил к ней голову, и Дэнем, осекшись на полуслове, остался сидеть в одиночестве рядом с Кэтрин. Та упорно молчала. Им обоим не было тридцати, люди в этом возрасте обычно терпеть не могут говорить друг другу пустые любезности. Вдобавок Кэтрин уловила что-то враждебное в отношении этого молодого человека, который сидел рядом с ней насупившись, будто аршин проглотил, и тогда она тоже решила выдержать паузу, отставив обычные женские уловки по наведению мостов. Так они оба сидели, набрав в рот воды, хотя Дэнема так и подмывало выпалить что-нибудь, чтобы она наконец очнулась от спячки. Чуткая на такого рода паузы за столом — они сродни запавшим клавишам фортепьяно, — миссис Хилбери наклонилась вперед и спросила Дэнема как бы между прочим, наугад, в присущей ей одной манере бабочки, порхающей за солнечным зайчиком:
— Вы так напоминаете мне дорогого Рёскина, мистер Дэнем4, — вы, наверное, и сами знаете... Отчего так, Кэтрин, а? Это из-за галстука, или из-за прически, или из-за прямой осанки? Признайтесь, мистер Дэнем, вы ведь поклонник Рёскина? Кто-то — не помню, кто именно, — сказал мне на днях: «Рёскин?! Нет, миссис Хилбери, нам он не интересен». А что, спрашивается, вам интересно? Ведь нельзя же все время думать только об аэропланах и угольных шахтах!
Она благосклонно подождала, пока Дэнем ответит, но тот замешкался; она перевела взгляд на Кэтрин, но и та ничего не сказала, только улыбнулась, и тут, точно вспомнив о чем-то важном, она воскликнула:
— Кэтрин, мы же не показали мистеру Дэнему наши маленькие реликвии! Он ведь не станет возражать, как тот ужасный юноша по имени мистер Понтинг, — знаете, что он мне сказал, мистер Дэнем? — «Жить надо сего¬
14
Вирджиния Вулф. День и ночь
дняшним, а не вчерашним днем». А что такое этот ваш сегодняшний день? Наполовину это прошлое, причем, заметьте, — добавила она, обращаясь уже к мистеру Фортескью, — лучшая его половина.
При этих словах Дэнем поднялся, собираясь откланяться, — он был в полной уверенности, что визит окончен, — но не тут-то было: Кэтрин тоже встала со своего места и со словами: «Пойдемте, я покажу вам картины» — направилась в небольшую комнатку, примыкающую к гостиной.
Потайная комната, точнее, ниша, куда они проникли вдвоем, напоминала не то домовую церковь, не то пещеру — во многом из-за доносившегося с улицы приглушенного рокота городского транспорта. Впечатление подводного грота усиливали зеркала: их серебристые овалы напоминали слегка подрагивающую гладь озера в ясную звездную ночь. Впрочем, из-за обилия разнообразных вещиц, развешанных на стенах этого семейного святилища, сравнение с храмом было более уместным.
Кэтрин стала жать на ей одной известные кнопочки, и комнатка постепенно осветилась. Сначала справа выдвинулся темный массивный шкаф, поблескивавший золотым тиснением на корешках книг; затем слева прорезалась длинная юбка в синюю и белую полоску, писанная маслом, под стеклом; потом показался письменный стол красного дерева и аккуратно разложенные принадлежности для письма и, наконец, на стене над столом из полумрака выплыл портрет в квадратной раме — у этого экспоната была отдельная подсветка. Теперь, когда все вокруг заискрилось и засияло, Кэтрин отступила на полшага назад, словно говоря: «Вот, полюбуйтесь!» Дэнем замер: со стены на него смотрел великий поэт Ричард Элардис5, — от смущения Дэнем не знал, куда девать руки; первый раз в жизни он пожалел, что не надел шляпу, — снял бы не задумываясь. Сам портрет казался мешаниной пастельных, желтовато-розовых полутонов, но взгляд изображенного на картине человека завораживал какой-то вселенской добротой: казалось, он устремлен и на тебя, и куда-то поверх голов, и в самого себя. Краски на портрете выцвели, стерлись; время пощадило только глаза — прекрасные, глубокие, в полумраке комнаты они казались еще больше.
Кэтрин помолчала, словно выжидая, пока Дэнем проникнется впечатлением, а потом повела рассказ:
— Вот здесь он работал — за этим письменным столом... Вот его перо. — С этими словами она приподняла гусиное перо и снова положила на прежнее место. Стол был весь заляпан высохшими чернилами, перо замусолено. На самом видном месте красовались огромные очки в золотой оправе, а под столом виднелась пара стоптанных комнатных туфель, Кэтрин выудила одну и, покачав головой, заметила: — Да, дедушка был богатырь по сравнению с нами. А вот это, — продолжала она заученно, — рукописный
Глава 1
15
подлинник «Оды к зиме». Любопытно, что ранние стихи он правил не так тщательно, как поздние. Хотите взглянуть?
Дэнем углубился в рукопись, а Кэтрин подняла глаза на дедушкин портрет и в тысячу первый раз испытала приятнейшее чувство самообольщения, когда тебе кажется, что ты если не ровня этому исполину, то уж точно одного с ним корня, и от этой мысли настоящее показалось ей совсем жалким. Властитель дум, запечатленный на картине, никогда не удостаивал своим взором такие безделки, как воскресное чаепитие; и вообще, кто он и кто они, эти сегодняшние молодые с их никчемными разговорами?
— И вот еще, посмотрите, — стряхнув наваждение, продолжала Кэтрин, не замечая, что Дэнем по-прежнему занят рукописью, — это первое издание стихотворений, причем с авторской правкой, некоторые из них давно стали библиографической редкостью.
Тут она сделала паузу, словно повторяла заученную роль.
— Дама в голубом — моя прабабушка, работа кисти Миллингтона6. А это дядюшкина трость — вы, наверное, слышали о моем дяде, сэре Ричарде Уорбэртоне, он еще вместе с Хэвлоком освобождал Лакноу7. А вот здесь — взгляните на кубок, мы получили его недавно в дар — изображен, вместе с женой, основатель нашего рода, самый первый Элардис, он родился в тысяча шестьсот девяносто седьмом году. Посмотрите на гравировку: это семейный герб Элардисов, а вот их вензель. Мы думаем, этот кубок им подарили на серебряную свадьбу.
Тут Кэтрин осеклась — она вдруг заметила, что говорит в пустоту, Дэнем же непонятно почему отмалчивается. За рассказом о дорогих сердцу реликвиях она успела забыть, что этот молодой человек, по первому ее впечатлению, относится к ней настороженно, и вот теперь, увидев, что ее слова не находят у него отклика, она вспомнила все разом, вспыхнула про себя и оборвала рассказ. Мать сравнила их гостя с Рёскином — видимо, не иначе как по доброте душевной, желая приподнять его до небожителей; и, словно в отместку за лестное сравнение, Кэтрин принялась исподволь выискивать в Дэнеме черты, разнящие его с Рёскином, закрывая глаза на очевидные ограничения: одно дело — юноша, надевший по случаю визита явно стесняющий его фрак, и совсем другое — мыслитель, которого портретист запечатлел в момент глубокого раздумья, мыслитель, безмолвно взирающий на тебя со стены, — ведь портрет под стеклом — это все, что осталось ей от Рёскина, больше ей опереться не на что. У их гостя очень выразительное лицо, подвижное, мужественное, лицо человека, привыкшего действовать, а не созерцать. Высокий лоб, крупный продолговатый нос, гладко выбритый подбородок, решительно сжатый рот, тонкие чувственные губы, твердые, слегка выпирающие скулы и едва заметный здоровый румянец на
16
Вирджиния Вулф. День и ночь
щеках. В больших светло-карих глазах в обычное время, наверное, читалась целая гамма чувств, но сейчас, в эту минуту, они были по-мужски непроницаемы и холодны — лишь иногда в них вспыхивала искра сомнения или догадка. Впрочем, Кэтрин иначе смотрела на Дэнема: она мысленно наклеивала ему бакенбарды, пытаясь представить его в одном ряду со своими кумирами прошлого. Подумав, она решила, что сухощавость Дэнема, его скуластое, раскрасневшееся от быстрой ходьбы лицо говорили о другом — о его душевной черствости и некоторой топорности. И когда он заговорил, ей показалось, в его голосе зазвенели неприятные металлические нотки:
— Вы, наверное, очень гордитесь своей родословной, мисс Хилбери?
— Да, а что? — парировала Кэтрин. — Что в этом плохого?
— Разве я сказал, это плохо? Вовсе нет. Просто мне кажется, надоедает, наверное, каждый раз водить гостей, рассказывать им...
— Многим нравится.
— А не трудно жить в тени предков? — не отступал Дэнем.
— По-моему, я не говорила, что пишу стихи, — съязвила Кэтрин.
— Вот то-то и оно, что не пишете. Мне ведь никто не становится поперек дороги, а вам дед проходу не дает, — ответил он, с насмешкой оглядывая стены. — И не он один. Вас обложили со всех сторон. Вы ведь принадлежите к одному из самых родовитых семейств в Англии — так? В вашем роду есть Уорбэртоны и Мэннинги, и потом, если не ошибаюсь, вы связаны узами родства с Отуэями, — правда? Об этом писали в каком-то журнале.
— Они мои кузены, — ответила Кэтрин.
— Ну вот видите, — развел руками Дэнем, словно ставя точку в споре.
— Нет, не вижу, — не сдавалась Кэтрин. — По-моему, это ни о чем не говорит.
Дэнем победно осклабился: наконец-то ему удалось задеть за живое эту неприступную, витающую в облаках барышню, хотя, по правде сказать, он дорого дал бы за то, чтобы ей понравиться.
Не выпуская из рук драгоценный томик стихов, он присел рядом на стул, а Кэтрин смотрела сквозь него, думая о чем-то своем, забыв о недавней перепалке и собственном раздражении. Казалось, ее обуревают разные мысли, и меньше всего она думает в эту минуту об обязанностях хозяйки.
«То-то и оно», — повторил про себя Дэнем, и, словно желая подчеркнуть, что тема закрыта и больше ему сказать нечего, во всяком случае в светской беседе, он единым махом раскрыл книжку стихов и пошел листать страницу за страницей, не задерживаясь на отдельных стихотворениях, а беря цепким взглядом весь разворот целиком, оценивая сразу и качество печати, и бумагу, и переплет, и, конечно, саму поэзию. Перелистал, — было видно, как он взвешивает про себя прочитанное, — и отложил книгу на пись¬
Глава 1
17
менный стол. Потом снял с подставки ротанговую трость, которую когда-то сжимала рука солдата, и стал разглядывать золотой набалдашник.
— А вы разве не гордитесь своей семьей? — не отступалась Кэтрин.
— Нет, — отрезал Дэнем. — Нам гордиться нечем, ну разве что тем, что вовремя платим по счетам.
— Не очень-то весело, — заметила Кэтрин.
— Какое уж там веселье! — подхватил Дэнем. — Вас бы к нам, вы бы умерли со скуки.
— Скука скукой, но это еще не повод насмехаться над людьми, — отозвалась Кэтрин, намекая на колкости Дэнема в адрес ее семейства.
— Никто не смеется, да и не над чем смеяться. Мы самая обыкновенная добропорядочная семья среднего класса из Хайгейта8.
— Мы не из Хайгейта, но тоже, если не ошибаюсь, средний класс.
В ответ Дэнем только улыбнулся, поставил трость на место и взял в руки шпагу в роскошных ножнах.
— Это Клайва — во всяком случае, так говорят, — туг же прокомментировала Кэтрин, снова входя в роль хозяйки.
— То есть врут? — переспросил Дэнем.
— Скорее, это семейная легенда, а чем ее подтвердить, я не знаю.
— Ну вот видите, а в нашей семье никаких легенд нет, — заключил Дэнем.
— Звучит не очень весело, — второй раз заметила Кэтрин.
— Я же говорю — обыкновенная семья среднего класса, — стоял на своем Дэнем.
— По-моему, если ты из семьи, которая исправно платит по счетам и называет вещи своими именами, это не дает тебе повода презирать таких, как мы.
Дэнем подчеркнуто медленно вложил в ножны шпагу, которая, как полагали Хилбери, принадлежала Клайву, и, аккуратно подбирая слова, заметил:
— Я только сказал, что не хотел бы оказаться на вашем месте, и все.
— Да кто же мечтает оказаться на чужом месте? По-моему, нет таких людей.
— Я, например! Только об этом и мечтаю!
— В таком случае, чем мы вас не устраиваем? — прямо спросила Кэтрин.
Она сидела перед Дэнемом в старинном дедовском кресле, играя набалдашником ротанговой дедушкиной трости, — позади нее, словно создавая фон, распускались сочные сине-белые краски на картине и пламенели малиновым корешки книг с золотым тиснением. И такая от ее фигуры исхо¬
18
Вирджиния Вулф. День и ночь
дила уверенность, такое она внушала безмятежное спокойствие — ни дать ни взять райская птица на ветке, в любую минуту взмахнет крыльями и упорхнет, — что Дэнем против своей воли решил высказать все, что думает о ее золотой клетке. Все равно она о нем завтра же забудет.
— Ах, так? Хорошо, я скажу! — проговорил он сдавленно. — Вы жизни не знаете. Живете на всем готовеньком, вы даже представить не можете, какое это счастье — купить что-то на сэкономленные деньги, прочесть книгу, о которой мечтал, познать что-то самому.
Тут он замолчал, смутившись от звука собственного голоса, заявляющего во всеуслышание такие прописные истины, но Кэтрин бросила: «Я слушаю» — и ему ничего не оставалось, как продолжать.
— Я, конечно, не знаю точно, чем вы занимаетесь, но догадаться нетрудно. Водите гостей по вашему «музею», пишете биографию деда, устраиваете, — тут он кивком головы показал на гостиную, откуда доносился сдержанный смех, — эти... эти многочасовые чаепития.
Она слушала его, не прерывая, словно они вместе наряжали маленькую девочку и девочкой этой была она, — вот Дэнем замолчал; наверное, прикидывает, какой бантик или поясок еще повесить.
— Все примерно так, как вы говорите, — заметила она. — Единственная разница: я сама не пишу, только помогаю матери.
— А сами-то вы что? — допытывался Дэнем.
— Что значит «сама»? — переспросила Кэтрин. — Я не служу с десяти утра до шести вечера.
— Я не об этом.
Дэнем уже справился с волнением и теперь говорил сдержанно, чем, признаться, обеспокоил Кэтрин: она вдруг решила, что он собирается заговорить о своих чувствах, чего она не могла допустить, и вместе с тем ей хотелось и заинтересовать, и оттолкнуть его насмешливо-ироничным жестом, как она всегда делала в разговоре с молодыми людьми, появлявшимися в их доме время от времени по приглашению отца.
— Сегодня никто ничем серьезным не занимается, — сообщила она. — Вы же видите, — тут она постукала ноготком по фолианту с дедовыми стихами, — мы даже разучились толком издавать книги, что уж там говорить об искусстве? Поэтов, художников, романистов больше нет, так что не я одна такая.
— Да, кумиров нет, — отрубил Дэнем. — И прекрасно! Терпеть не могу славословий. Весь девятнадцатый век только тем и занимались, что курили фимиам перед знаменитостями, и вот результат — выросло никчемное поколение.
Глава 1
19
Кэтрин набрала в грудь воздуха, собираясь дать отпор, но тут в соседней комнате хлопнула дверь, и она машинально посмотрела в ту сторону: там стояла тишина. Дэнем отметил про себя, что еще недавно доносившиеся из гостиной голоса смолкли и зал погрузился в полумрак. И буквально в следующее мгновение на пороге их комнатки-ниши возникла миссис Хил- бери: она смотрела на них и улыбалась, словно заранее предвкушая спектакль, который сейчас разыграет для нее на сцене молодое поколение. Наружности она была необыкновенной: хотя ей было далеко за шестьдесят, казалось, годы пронеслись над ее головой без больших потрясений, а все из-за легкого, почти девичьего стана и блестящих, распахнутых глаз. Личико, правда, спекшееся, с клювообразным носом, зато огромные голубые глаза, бездонные и по-детски невинные, скрадывали и малейшее впечатление желчности — с такой надеждой на всеобщее благородство были они устремлены навстречу людям, такая в них читалась уверенность, что иначе и быть не может, надо только очень постараться.
Судя по морщинам на лбу и у губ, горе и ее не обошло стороной, и тем не менее она сохранила веру в людей, и даже сейчас, на склоне лет, она по- прежнему готова была каждому дать фору, а к жизненным неурядицам относилась с изрядной долей здорового скепсиса. Словом, в ней было очень много от отца; подобно ему, она будто несла с собой сквозняк и порыв молодости.
— Итак, мистер Дэнем, — обратилась она к гостю, — что вам у нас особенно понравилось?
Тот встал, отложил книгу, открыл рот, но так и остался стоять, не выдавив ни слова, — Кэтрин такая растерянность даже позабавила.
Миссис Хилбери взяла в руки отложенную книгу и задумчиво произнесла:
— Иные книги как люди: взрослеют вместе с нами, старятся. Вы стихи любите, мистер Дэнем? Ну конечно, что за вопрос? По правде говоря, меня чуть не уморил дорогой Фортескью. Он так красноречив, так сыпал остротами, такие глубокие и тонкие высказывал мысли, что уже через полчаса я готова была потушить свет. Правда, темнота ему не помеха, — как ты думаешь, Кэтрин? Может, устроим в следующий раз вечер без свечей? Тогда зануды точно не придут, ведь они втемную не могут...
Тут Дэнем протянул ей руку, собираясь откланяться.
— Как?! — вскричала она, не обращая внимания на прощальный жест. — Мы же еще не все вам показали! Посмотрите — тут и книги, и картины, и фарфор, и рукописи, — есть даже кресло Марии Стюарт: говорят, она сидела в нем, когда ей сообщили о том, что Дарили убит9. Я только прилягу на минуту, Кэтрин переоденется (хотя зачем? Она прелестно одета) — ничего,
20
Вирджиния Вулф. День и ночь
если мы оставим вас ненадолго одного, мистер Дэнем? — мы обедаем в восемь. Вы определенно напишете стихи. Обожаю, когда горит камин, — в гостиной так уютно!
Она отступила вглубь, как бы приглашая их войти в пустую, мягко освещенную комнату, где по стенам дрожали неровные тени от зажженного камина.
— Милая комната! — воскликнула она. — Милые стулья, милый стол! Вы — мои давние друзья — беззаветные, безответные спутники... Кстати, Кэтрин, забыла тебе сказать: сегодня у нас обедает младший мистер Эннинг и еще будут гости с Тайт-стрит и с Кэдоган-сквер...10 Да, и не забудь распорядиться насчет стекла на портрете своего дядюшки. Прошлый раз тетя Миллисент посетовала на трещину — представляю, как мне было бы больно видеть моего отца под разбитым стеклом!
Попрощаться и уйти было равносильно попыткам мухи, попавшей в паучью сеть, вырваться из лабиринта, сплетенного в ослепительный многогранник наподобие алмаза, ибо малейшее поползновение Дэнема откланяться тут же отзывалось в миссис Хилбери новыми воспоминаниями то о багетных дел мастерах, то о красотах поэзии, и в какой-то момент незадачливому гостю показалось, что еще немного — и он окончательно увязнет, запутается, потеряет волю и будет действовать по ее указке, поскольку он ни секунды не обманывался насчет ценности собственной персоны в ее глазах. Но Кэтрин нашла-таки предлог, позволивший ему сбежать, и за это он был ей благодарен, насколько вообще могут быть признательны друг другу за понимание молодые люди.
Глава 2
Молодой человек в сердцах хлопнул дверью — получилось громче, чем принято в гостях, — и зашагал прочь, рубя перед собой прогулочной тростью воздух. Он рад был снова оказаться на улице, вдохнуть вечернюю свежесть, замешаться в толпе прохожих, которым, казалось, хватало полоски асфальта под ногами. Дэнем шел, представляя, с каким достоинством повел бы он себя сейчас, окажись с ним рядом в эту минуту мистер Хилбери, или миссис Хилбери, или мисс Хилбери, — даже теперь ему делалось стыдно при мысли о поразившем его за столом косноязычии, которое помешало ему развернуться в полную силу перед этой барышней с грустными глазами, на дне которых пряталась усмешка. Он припоминал, что же он тогда такое выпалил, а сам старался невольно приукрасить ту свою топорную неуклюжую речь, сделав ее более выразительной, — и постепенно чувство досады улеглось. Иногда, правда, оно возвращалось, обжигая его с удво¬
Глава 2
21
енной силой, — ведь он был не из тех, кто стремится во что бы то ни стало себя обелить, — и тем не менее с каждым шагом, с каждым взглядом, вскинутым на полузанггоренные окна домов, за которыми где в кухне, где в столовой, где в гостиной текла своя, не похожая на другие дома жизнь, обозленность его притуплялась.
И весь он странным образом преобразился: замедлил шаг, слегка опустил голову, и на разгладившемся лице, как было видно при свете фонарей, появилось выражение сосредоточенного спокойствия. Он так глубоко ушел в свои мысли, что не сразу вспомнил название улицы, где находится, и с минуту стоял перед домом, тараща глаза на надпись; а дойдя до перекрестка, пошарил тростью по обочине, как делают слепые, точно не был уверен в выбранном направлении, потом постоял у станции метро, слегка опешив от ярких огней, и, взглянув на часы, решил, что спешить некуда и можно еще немного побродить по темным улицам.
Но мысли его по-прежнему крутились вокруг одного и того же: люди, с которыми он познакомился нынче вечером, не давали ему покоя; только, вместо того чтобы припомнить все до последнего слова, до последней черточки в их облике, он намеренно уходил от голой правды. Кривая ли улочка, отсвет ли камина в окошке, что-то величавое в череде уличных фонарей — да мало ли какая краска, какой силуэт заставил Дэнема взглянуть на все иначе, если он вдруг прошептал:
— Она подойдет... Да, Кэтрин Хилбери в самый раз... Пусть будет Кэтрин Хилбери.
Сказал — и замер: голова опущена, взгляд устремлен в одну точку. Еще недавно терзавшее его желание оправдаться в собственных глазах куда- то пропало, и теперь все его пылкое воображение устремилось, точно отворились, как по волшебству, по мановению руки, дотоле запертые шлюзы, к Кэтрин Хилбери. Почва открылась благоприятнейшая, что, вообще-то говоря, удивительно, поскольку при встрече с девушкой Дэнем ни в чем ей не польстил: ни ее обаяние, ни красота, ни созерцательность не только не тронули его тогда — наоборот, он всеми силами старался не подпасть под ее обаяние. Теперь же, когда нахлынули воспоминания, он с жадностью набросился на мельчайшие подробности; а когда исчерпал запас воспоминаний — всему есть предел, — то стал мысленно дорисовывать про себя ее образ. В этом деле домысливания он был явно не новичок: он знал, что делает и для чего ему нужен этот воображаемый портрет мисс Хилбери. Он намеренно сделал ее выше ростом, добавил в волосы немного темной краски — этими дополнительными штрихами дело и ограничилось: других изменений в ее физическом облике не потребовалось. Зато с обрисовкой духовной стороны ее личности он дал себе полную волю — она у него предстала нату¬
22
Вирджиния Вулф. День и ночь
рой возвышенной, непогрешимой и настолько независимой, что единственное исключение, которое он сумел предположить в таком утонченном существе, как она, касалось именно его, Ральфа Дэнема: ради него одного она, повинуясь его воле, останавливала свой победный стремительный бег и спускалась с эмпиреев на бренную землю, спеша увенчать героя своим признанием. Впрочем, эти заманчивые детали обождут — он займется ими позже, на досуге; главное, у него теперь есть Кэтрин Хилбери — этой пищи для ума ему хватит на несколько недель вперед, а может, и месяцев. Он знал, что, заполучив ее, заполнил ту пустоту, что образовалась в его душе какое- то время назад. Он облегченно вздохнул, а, подняв голову, увидел, что незаметно дотопал аж до Найтсбриджа. Через несколько минут он уже трясся в вагоне поезда до Хайгейта.
Всю дорогу его согревала мысль о тайном сокровище, которое он заполучил, но даже она не могла уберечь его от всегдашнего разочарования при виде унылой окраины, мокрых обвислых кустов на соседских лужайках, нелепых названий, выведенных белой краской на калитках домов. Он шел в гору, жуя свою невеселую думу о том, как сейчас придет домой, а там все в сборе — ждут его за скромной трапезой под лампой без абажура: шесть или семь братьев и сестер, одинокая мать и обязательно кто-то из родственников, тетя или дядя. А что, если взять да и сделать так, как он грозился поступить недели две назад после очередного сборища? А пригрозил он тогда, что не сядет за стол, если в воскресенье к ужину пожалуют гости. Поужинает у себя в комнате! — так тогда и сказал. Он заглянул в себя, словно советуясь с мисс Хилбери, и решил, что на этот раз не отступит: дверь открыл своим ключом, оглядел прихожую — точно, вот котелок дяди Джозефа, вот его огромный зонт, — и, коротко ответив выскочившей навстречу служанке, он быстро пошел к себе наверх.
Поднимаясь по ступенькам длинной лестницы, он чуть ли не первый раз за многие годы заметил, как все убого: ковровая дорожка местами протерлась, на верхних этажах вообще голый пол; стены все в разводах от сырости, кое-где на месте снятых рамок с репродукциями белеют пятна; обои на углах поотклеивались, а на потолке набух большой кусок отслоившейся штукатурки. Да и комната была не веселее: в этот поздний час ничто в ней не радовало глаз. Продавленный диван, он же кровать; столик, оборудованный под умывальник; одежда и обувь вперемешку с книгами из университетской библиотеки, судя по золоченому гербу колледжа на корешках; на стенах фотографии мостов, соборов и большие групповые снимки одетых по-летнему молодых людей, расположившихся террасами на каменных ступенях. Все было донельзя безлико и убого: и потертая мебель, и старенькие занавески — глазу не за что зацепиться, ни одной дорогой или подобран¬
Глава 2
23
ной со вкусом вещицы, если не считать дешевого издания античных авторов в книжном шкафу. Только одна деталь в комнате хоть как-то отражала личность хозяина — в окне, на самом солнечном и продуваемом месте, была устроена широкая жердочка, по которой, чуть прихрамывая и быстро поводя головкой, прыгал ручной грач. Дэнем пощекотал ему шейку, и тот послушно перелетел к нему на плечо. Включив газовый камин, хозяин сел в кресло и, уставившись в одну точку, стал ждать ужин. Но вместо служанки в дверь просунула голову маленькая девочка:
— Мама спрашивает, ты скоро спустишься? Дядя Джозеф...
— Я же сказал, я поем у себя! — отрубил Ральф, и при этих словах гостью как ветром сдуло: улепетывая, она даже дверь забыла прикрыть. Дэнем еще немного посидел, подождал, не меняя позы, — грач тоже смотрел, не отрываясь, на камин — потом вскочил, чертыхаясь, бросился вниз по лестнице, чуть не сшиб поднимавшуюся с подносом служанку и только хотел забрать у нее тарелку с ломтем хлеба и куском холодной говядины, как в эту самую секунду на первом этаже кто-то крикнул в открытую дверь столовой: «Ральф!», но тот и ухом не повел — подхватил тарелку и быстро скрылся за дверью своей комнаты. Плюхнул тарелку на стул, уселся в кресло напротив и, голодный, взбешенный, с жадностью набросился на еду. Итак, мать, похоже, не намерена с ним считаться, в родной семье он — никто, раз ему приказывают и обращаются с ним, как с ребенком. Распираемый чувством обиды, он подумал, что стоило ему только переступить порог своей комнаты, как буквально каждый следующий шаг ему пришлось отвоевывать у родни и у сложившегося семейного уклада. По неписаному правилу ему следовало бы сейчас сидеть внизу, в столовой, и делиться с родными сегодняшними впечатлениями или выслушивать, что рассказывают другие. Так что буквально за каждую мелочь — свою комнату, газовый камин, кресло — ему пришлось бороться; даже несчастного грача, спасенного из лап кошки, и того он сумел у себя оставить, только выдержав натиск со стороны семейства. Но, конечно, больше всего им не нравится его чувство свободы. В их глазах это самый настоящий бунт: ужинать у себя в комнате или уходить после совместной трапезы к себе и запираться — нет, против таких демаршей надо бороться всеми возможными средствами, и скрыто, и явно. Кстати, еще неизвестно, что хуже, — когда действуют обманом или пытаются разжалобить слезами. Но чего им у него не отнять ни под каким предлогом, так это свободу мысли: никто не заставит его сказать, где он был и кого видел. Это его личное дело; а раз так, значит, он на правильном пути, — рассудил он про себя; немного успокоившись, Ральф зажег трубку, мелко порубил остатки пищи в тарелке, чтобы грачу было удобно клевать, и уселся поглубже в кресле, обдумывая, что и как.
24
Вирджиния Вулф. День и ночь
Сегодняшний день прошел не зря: он явно продвинулся в своем намерении выйти за рамки чисто семейных связей, расширить круг знакомств, а еще в его планы входило начать, не откладывая, изучение немецкого, закрепиться в качестве обозревателя книг по вопросам права в «Критикл ревью» мистера Хилбери. Он с детства привык все планировать заранее: их многодетная семья, оставшаяся без кормильца, жила бедно, и на правах старшего сына он приучился рассчитывать каждый свой шаг в череде сменявших друг друга времен года примерно так же, как полководец заранее рассчитывает ходы в предстоящей военной кампании. Хотя ему еще не было тридцати, над бровями его уже залегли две тяжелые складки — знак постоянных забот; вот и сейчас они обозначились, едва он сдвинул брови. Однако что-то его отвлекло от привычных дум: он вдруг поднялся, нащупал картонную табличку с надписью «НЕТ ДОМА» и повесил ее снаружи на ручку двери. Вернулся к столу, отточил карандаш, зажег настольную лампу, раскрыл книгу и уже собрался было сесть, но тут что-то опять отвлекло его внимание. Он погладил грача, подошел к окну, раздвинул занавески и взглянул на раскинувшийся окрест город в лучащейся дымке. За клубами вечернего тумана нащупал глазами район Челси, смотрел на него с минуту, потом вернулся за стол. Снова попытался уйти с головой в пухлый том с трактатом ученого светилы по вопросам частного и гражданского права, но не тут-то было: сквозь страницу проступали очертания просторной гостиной, слышались негромкие голоса, двигались женские силуэты — он даже различал хвойный запах кедрового полена, горевшего в камине. Напряжение спало, и вдруг открылись шлюзы памяти и выплыло все то, что безотчетно копилось в душе целый вечер. Вспомнились речи мистера Фортескью, все до единого словечка, — даже кудрявые его фразы отчетливо зазвучали в голове, и он поймал себя на мысли, что машинально повторяет слова писателя о Манчестере, копируя его интонацию. При этом мысли его витали далеко — он пытался представить, как выглядят другие комнаты в доме, похожи они на гостиную или совсем не такие; без всякой связи мысль вдруг перескочила на ванную — подумалось: какая она — наверное, просторная, сияет белизной, и вообще, до чего нехлопотна жизнь у этих хорошо сохранившихся господ! Они, поди, до сих пор сидят в гостиной, разве что переоделись к званому ужину, и младший мистер Эннинг тоже там, и тетушка, которой не нравится, что на портрете ее отца треснуло стекло. На мисс Хилбери другое платье («впрочем, это тоже очень миленькое!» — вспомнились слова миссис Хилбери), она беседует с мистером Эннингом о книгах — тому далеко за сорок, и он вдобавок плешив. Какая умиротворяющая, располагающая к созерцанию картина! — он так проникся ощущением по¬
Глава 2
25
коя, что не заметил, как задремал, книга выпала из рук, и он на какое-то время забылся, теряя драгоценные минуты, отпущенные на чтение.
Разбудил его скрип половицы за дверью. Он виновато вздрогнул, выпрямился на стуле, сдвинул брови и уставился на пятьдесят шестую страницу опуса. Шаги за дверью мгновенно стихли — видно, непрошеный гость (или гостья) заметил табличку на двери и теперь мучительно решал вопрос: уважить волю хозяина или нет? Конечно, разумнее всего было сидеть молчком, не выдавая своего присутствия: ведь, если взялся утвердить в семье новые принципы общежития, значит, надо первые полгода сурово наказывать провинившихся за нарушение правила. Сейчас, однако, Ральф чувствовал, что даже обрадовался бы помехе, только, к его огорчению, шаги стали глуше, — видно, незваный гость не решился его побеспокоить и пошел обратно. Тогда Ральф вскочил, рывком открыл дверь и замер на лестничной площадке — шаги этажом ниже тут же стихли.
— Ральф, ты дома? — послышалось снизу.
— Джоанна, ты?
— Да, я хотела зайти, но увидела твою записку.
— А-а, — процедил он кисло, стараясь не выдать своей радости при звуке родного голоса. — Ну что ж, заходи.
Джоанна вошла бочком и стала возле камина, всем своим видом показывая, что она пришла по делу и задерживаться не собирается.
Она была на три или четыре года старше Ральфа, и, как часто бывает со старшими сестрами в больших семьях, на ее миловидном, но бесконечно уставшем лице давно поселилось выражение кротости и непреходящей озабоченности. Они с Ральфом оба были кареглазые, но взгляд у них был разный: если брат смотрел прямо и в упор, то у сестры глаза бегали, точно она старалась на все посмотреть сразу с нескольких сторон. Привычка эта ее старила, и разница лет между братом и сестрой казалась от этого больше, чем была на самом деле. Секунду-другую Джоанна смотрела на грача, а потом сказала без перехода:
— Я насчет Чарльза и предложения дяди Джона... Мама говорит, она последний раз платит за учебу Чарльза, и на следующий семестр денег у нее нет. Она и так влезла в долги.
— Но это же неправда, — буркнул Ральф.
— Так-то оно так, но убедить ее в обратном я не могу, она меня не слушает.
Поняв, что разговор предстоит не быстрый, Ральф придвинул сестре свободный стул, а сам сел напротив.
— Я тебя не отрываю? — спросила она.
Ральф помотал головой, и какое-то время они сидели молча.
26
Вирджиния Вулф. День и ночь
— Она не хочет понять, что иногда стоит рискнуть, — проговорил наконец Ральф.
— По-моему, она просто не уверена, выйдет ли из Чарльза толк, а так она бы рискнула.
— Но он ведь парень с головой, так? — не отступал Ральф.
Ей почудилось в его голосе что-то колючее, и она подумала, что неспроста он себя так ведет: уж не стряслось ли у него что? Как бы поосторожнее выяснить... — задумалась она про себя, но тут же отогнала эту мысль и поспешила согласиться:
— Верно, но он в чем-то еще такой ребенок, просто диву даешься! Разве ты таким был в его возрасте? Да никакого сравнения! И потом, с ним очень хлопотно дома, бедную Молли он просто загонял.
Тут Ральф хмыкнул, словно отметая последнее замечание как несущественное. Джоанна поняла, что наткнулась на сопротивление, — брат в скверном расположении духа и каждое упоминание о матери встречает в штыки. Он сказал «она» вместо «мама» — это плохой знак. Джоанна невольно вздохнула, и Ральф мгновенно ощетинился, бросив раздраженно:
— А тебе не кажется, что это жестоко — засунуть семнадцатилетнего мальчишку в контору?
— Да кому же этого хочется? Но жизнь заставляет!
Ей стало обидно. Все воскресенье они с матерью просидели, высчитывая, как лучше покрыть семейные расходы на обучение детей, на питание; она очень устала и пришла к брату, надеясь на его поддержку, наивно (как теперь выясняется) полагая, что раз его целый день не было дома, то он хотя бы посочувствует ей, оценит ее деликатность, ведь она его ни о чем не расспрашивает.
Ральф обожал свою сестру, и, видя, как та расстроена, он обругал себя мысленно за эгоизм, который был виной тому, что сестра приняла на себя весь груз семейных забот.
— По правде говоря, — сказал он угрюмо, — это я должен был принять предложение дяди Джона. Сейчас я зарабатывал бы шестьсот фунтов в год.
— Вовсе нет! У меня и мысли такой не было. — Джоанна горячо запротестовала, пожалев о том, что дала волю раздражению. — По-моему, вопрос стоит иначе: как нам еще немного поужаться?
— Ты предлагаешь сэкономить на площади, найти дом поменьше?
— Нет, я думаю, не сократить ли нам прислугу.
Все это брат и сестра говорили без всякого воодушевления, и поэтому, мысленно взвесив последствия, какие возымеют в их и без того скромном хозяйстве, где все рассчитано до последнего пенса, эти меры, Ральф решительно заявил:
Глава 2
27
— Ни за что!
Не могло быть и речи о том, чтоб сестра взвалила на свои плечи дополнительные хлопоты по хозяйству. Хватит с нее — теперь он подставит плечо под семейный воз; это он должен сделать все ради того, чтобы у его домашних было не меньше возможностей проявить себя, чем у других, — например, у тех же Хилбери. Втайне он верил в то, что у них выдающаяся семья, но поскольку доказать этого не мог, то вера его была сродни дерзновенной самонадеянности.
— Если мать отказывается рискнуть...
— Перезакладывать дом она не станет.
— Напрасно! Это было бы хорошим капиталовложением; но если она твердо решила этого не делать, ну что ж, мы найдем другое решение, вот и все.
Он бросил эти слова с вызовом, и Джоанне не надо было объяснять, что брат имеет в виду. За шесть-семь лет работы стряпчим Ральф скопил около трехсот или четырехсот фунтов. Джоанна знала, каких трудов ему стоило собрать эти сбережения, в скольком ему приходилось себе отказывать, и поэтому ее поражало, с какой легкостью он пускал эти деньги в оборот: то купит акции, то продаст, иногда с выручкой, иногда оставаясь внакладе, однако неизменно рискуя в одночасье потерять все до последнего пенса. Впрочем, это никак не сказывалось на ее любви к брату: наоборот, она ценила его еще больше за редкое сочетание спартанского аскетизма и полуребяче- ского-полуромантического (как ей казалось) азарта. Брат был ей интересен, как никто другой, — именно поэтому она то и дело прерывала разговор на хозяйственные темы, каким бы серьезным он ни был, и будто новыми глазами смотрела на Ральфа.
— Я бы не стала на твоем месте тратить свои деньги на малыша Чарльза, — сказала она. — Конечно, я его очень люблю, но не скажу, что он семи пядей во лбу... И потом, что за самопожертвование с твоей стороны?
— Дорогая моя Джоанна, — Ральф закинул руки за голову и вытянулся на стуле, словно показывая, что отметает ее возражения, — вся наша жизнь — сплошное самопожертвование, разве не так? Какой смысл это отрицать? Что толку сопротивляться? Так всегда было и будет. Мы — бессребреники, такими и останемся. Если подумать, мы всю жизнь крутимся, как белки в колесе, до полного изнеможения, а потом раз! И нет нас. И так большинство людей.
Джоанна посмотрела на него, хотела что-то сказать, но промолчала. Потом спросила едва слышно:
— Ральф, ты счастлив?
28
Вирджиния Вулф. День и ночь
— Нет. А ты? Хотя откуда мне знать, счастлив я или нет. Я такой же, как все. И потом, что такое счастье?
Он улыбнулся сестре, хотя у самого на душе кошки скребли. Та сидела, не подавая виду, словно взвешивая про себя одно, другое, третье, и не торопилась отвечать.
— Счастье... — наконец проговорила загадочно, чуть не нараспев, смакуя каждую букву, — и осеклась. Помолчала, точно пытаясь охватить счастье во всех его проявлениях. Потом, спохватившись, заметила таким тоном, словно припомнила что-то очень важное, будто и не было у них только что разговора о счастье: — Сегодня заходила Хильда, вместе с Бобби, — он стал совсем взрослый.
Ральф усмехнулся — знал он эту сестрину привычку уходить от щекотливых вопросов личного свойства и держаться только самого общего круга семейных тем. И все же, подумал он, только с Джоанной и можно поделиться мыслями о счастье — с другими домашними не получается, хотя, например, с мисс Хилбери он при первой же встрече чуть было не затеял спор о счастье. Он прищурился: тихая, кроткая, его сестра в глухом зеленом платье с полинявшей отделкой казалась на сторонний взгляд безнадежной провинциалкой — во всяком случае, точно не столичной жительницей. Ему стало жаль ее, захотелось рассказать ей про Хилбери, чем-нибудь поддеть их семейство, поскольку, чувствуя, что в душе у него, как часто бывает, борются два ярких впечатления, он не мог не отдавать себе отчета в том, что симпатии его чем дальше, тем все больше склоняются в пользу дома Хилбери, но отнюдь не уклада Дэнемов. И поэтому он судорожно искал в сестре нечто такое, что по всем статьям превосходило личные качества мисс Хилбери. Еще совсем недавно он горячо принялся бы отстаивать тот факт, что его сестра большая умница и великий стоик — не в пример мисс Хилбери, а сейчас вынужден был признать, что и сам находится под обаянием незаурядной личности Кэтрин, такой собранной, непоколебимой, он даже растерялся оттого, что обычные козыри в пользу бедной дорогой Джоанны — внучка лавочника, сама зарабатывает на жизнь — почему-то больше не работают... Он впервые почувствовал — продолжая по-прежнему верить в то, что у них необыкновенная семья, — что он раздавлен полной безысходностью их жалкого существования.
— Так ты поговоришь с матерью? — вернула его на бренную землю Джоанна. — Время не ждет, вопрос надо решать. Если писать дяде Джону, то срочно, иначе место займут.
В ответ Ральф горько вздохнул.
— Да какая разница, что мы решим! — сказал сестре в сердцах. — Все равно Чарльз обречен на прозябание.
Глава 2
29
Джоанна даже вспыхнула от таких слов.
— Ты сам не знаешь, какую ерунду говоришь! — отрезала. — Никому еще не повредило самостоятельно зарабатывать на жизнь. Я, например, очень рада, что у меня есть собственный кусок хлеба.
Ральфа такие слова сестры грели, он готов был и дальше ее слушать, но из духа противоречия гнул свое:
— А ты задумывалась, какими радостями жизни тебе пришлось пожертвовать ради собственного куска хлеба, а? Ведь работа лишает тебя всего...
— Чего именно?
— Да всего! Прогулок, музыки, книг, встреч с интересными людьми. И ты, и я, мы всего этого лишены, а ведь именно ради этого и стоит жить!
— Знаешь, мне всегда казалось, что ты мог бы повеселее обставить свою комнату. — Джоанна обвела глазами стены.
— Да какая разница, если лучшие годы жизни я все равно просиживаю в конторе за бумагами?
— По-моему, ты только позавчера говорил, что право — твое призвание.
— Так и есть, вот только условия не всегда позволяют заниматься любимым делом.
— Подожди-ка! — перебила его Джоанна, услышав, как на площадке кто-то изо всей силы хлопнул дверью. — По-моему, это Герберт пошел спать. Досидел допоздна, теперь его утром не добудишься.
Ральф поджал губы и устремил взгляд в потолок. Хоть бы на минуту отвлеклась от хозяйственных забот... Ему казалось, сестра погрязла в домашней рутине, а ведь когда-то была свободной птицей, да ей и сейчас всего тридцать три.
— Когда ты последний раз ходила в гости?
— Не помню — времени нет. А почему ты спросил?
— Ну как же, тебе нужно отвлекаться, заводить знакомства, новых друзей...
— Ральф, родной ты мой! — заулыбалась Джоанна. — Ты решил, что твоя сестра превратилась в старую зануду — так ведь?
— Ничего я не решил, — буркнул Ральф, залившись краской. — Только я знаю, что ты света белого не видишь: и в конторе трудишься, и обо всех нас заботишься. Плохой я, видно, тебе помощник.
Джоанна поднялась, постояла у камина, потирая озябшие ладони: чувствовалось, что она раздумывает, надо ли еще что-то сказать. Они с братом понимали друг друга без слов, и от мысли, что их связывает чувство взаимной близости, лица обоих разгладились, суровости как не бывало. Нет, слова будут лишними. Шагнула к двери, на прощанье потрепала брата по за¬
30
Вирджиния Вулф. День и ночь
тылку, шепнула ему «спокойной ночи!» и вышла вон. Ральф остался сидеть как сидел — вытянувшись на стуле, руки закинуты за голову, на лице безмятежная улыбка, какая бывает, когда встретишься со старым, преданным другом; но уже через несколько минут улыбка погасла, на лице появилось задумчивое выражение, снова обозначилась складка на переносице, и Ральф ушел в свои мысли.
Какое-то время сидел забывшись, потом встряхнулся, раскрыл книгу и углубился в чтение, пару раз, правда, взглядывал на часы, словно хотел убедиться, что все идет по заранее намеченному графику. В доме еще не спали: там и сям раздавались голоса, домашние расходились по своим комнатам, он же, сидя на своей верхотуре, следил за тем, как заполняются одна за другой ячейки их домашних сот. Наконец часы пробили полночь, Ральф захлопнул книгу, взял свечу и пошел вниз удостовериться, что свет везде потушен и двери заперты. Домишко их Ральф знал наизусть: ветхая постройка, обстановка внутри бедновата, все потертое, никаких примет роскоши и даже простого достатка — только самое необходимое; в этот ночной час каждый облезлый или засаленный угол, как нарочно, лез в глаза. «Такую развалину, — подумал Ральф, — Кэтрин Хилбери даже взглядом не удостоила бы».
Глава 3
Попеняв Кэтрин Хилбери на ее родовитое происхождение и принадлежность к одной из самых славных английских фамилий, Дэнем на самом деле оказался недалек от истины: всякий, кто не поленится заглянуть в гальто- новского «Наследственного гения»1, в этом с легкостью убедится. Родословные Элардисов, Хилбери, Миллингтонов и Отуэев кажутся живым воплощением той мысли, что интеллект, как иная семейная реликвия, передается из рук в руки представителями одного поколения другому почти автоматически — и в девяти случаях из десяти благополучно наследуется привилегированными отпрысками. И так из века в век: видных судей и адмиралов сменяют выдающиеся адвокаты и государственные мужи, и вот наконец на благодатной, хорошо удобренной почве рождается редкостный цветок, гордость фамилии — великий писатель или поэт, достойный продолжатель поэтической традиции по имени, скажем, Ричард Элардис. А дальше все повторяется снова: семейство, подарившее миру гения и доказавшее в очередной раз необыкновенные достоинства своего рода, продолжает себе спокойно производить на свет выдающихся деятелей, каждый из которых если не маяк, освещающий дорогу потомкам, то уж наверняка надежный, крепкий светоч, согревающий своим пламенем жизнь обыкновенных людей. Именно
Глава 3
31
такие пионеры штурмуют Северный полюс вместе с сэром Джоном Франклином2, мчатся на пару с Хэвлоком спасать осажденный Лакноу3 — куда ни посмотри, какую область деятельности ни затронь, везде высится на боевом посту кто-то из Уорбэртонов, Элардисов, Миллингтонов или Хилбери.
Более того, в английском обществе в том виде, в каком оно сложилось, и не требуется никаких особенных достоинств, кроме громкого имени, для того чтобы выдвинуться и занять положение, которое само по себе гарантирует тебе скорее известность, чем забвение. И это наблюдение справедливо сегодня в отношении не только сыновей, но даже и дочерей благородных семейств. Даже в девятнадцатом веке, не говоря о нынешнем столетии, дочери, как правило, становились влиятельными персонами: кто на почве благотворительности и образования — обычная судьба старой девы, кто на ниве супружеских связей — если ты замужем за видным общественным деятелем. Верно, и в рядах Элардисов бывали печальные исключения из правила, когда младшие сыновья шли по кривой дорожке, причем такое случалось с ними чаще, чем с детьми ничем не выдающихся родителей — какое- никакое, а утешение для последних. И все же, несмотря ни на что, в начале двадцатого века Элардисы и их родня уверенно держались на плаву: их имена, отмеченные титулами, красовались в верхних строчках общественной табели о рангах; они занимали роскошные кабинеты, и при каждом был личный секретарь; они создавали научные труды, которые выпускали в виде солидных монографий два старейших английских университета, а когда кто- то из них умирал, на его место заступал один из родственников, беря на себя труд по изданию жизнеописания покойного.
Понятно, что держалась вся родословная Элардисов на славе их гениального предка, и поэтому прямые потомки в их семействе были окружены большим пиететом, чем представители побочных линий. Коль скоро миссис Хилбери была единственной дочерью великого поэта, то на правах прямой наследницы она считалась духовным лидером их клана, а ее дочь Кэтрин в свою очередь занимала среди двоюродных и троюродных родственников особое, привилегированное положение, тем более что других наследников по прямой линии не было. Элардисы давно переженились внутри своего круга, недостатка в потомстве не было, и у них давно повелось ходить друг к другу в гости, дружить домами, устраивать общие застолья, отмечать семейные торжества — все это стало чуть ли не священным ритуалом, которому следовали так же неукоснительно, как церковному календарю.
Было время, когда в доме у миссис Хилбери перебывал весь цвет тогдашнего английского общества: поэты, писатели, светские львицы, ученые, — только те золотые дни давно миновали. Кто умер, кто жил затворником,
32
Вирджиния Вулф. День и ночь
вкушая плоды быстротечной славы, — в общем, время заставило миссис Хилбери распахнуть двери своей гостиной перед родственниками, и теперь, когда они собирались у нее по воскресеньям, она изливала душу, вспоминая былое величие девятнадцатого века, — тогда все виды литературы и искусства были представлены не меньше чем полудюжиной имен первой величины. А нынче — где продолжатели их дела? Где крупный современный поэт, художник, романист? — вопрошала она, а в ответ слышала молчание, и это только укрепляло ее ностальгию по былому; она ударялась в воспоминания о событиях полувековой давности, отвлечь от которых ее было трудно, да и особой нужды в том не было. Меньше всего, однако, она была склонна винить в наступившем измельчании молодое поколение. Наоборот, молодежь была самым желанным гостем в ее доме: она потчевала молодых рассказами о прошлом, дарила им золотые монеты, угощала мороженым, давала советы, а еще сватала их за глаза, оплетая нитями романтической влюбленности, которая чаще всего оказывалась фикцией.
Кэтрин еще ребенком, чуть не с пеленок, прониклась пониманием своего особого происхождения — пониманием, почерпнутым из разных источников. Например, у нее в детской над камином висела фотография, изображавшая дедушкино надгробье в «уголке поэтов»15, и однажды кто-то из взрослых в порыве откровенности — а такие признания западают в душу ребенка на всю жизнь, потрясая его воображение, — поведал ей о том, что похоронен дедушка в почетном месте потому, что был «хороший человек и великий поэт». Потом был юбилей, и мать взяла ее с собой на празднование: стоял туманный день, они ехали в кабриолете, и на коленях у нее подрагивал пышный букет цветов со сладким дурманящим запахом — потом его возложили к надгробью. В тот день Кэтрин казалось, что это в честь дедушки собор убран так нарядно: ярко горят свечи, поет хор, раскатисто гудит орган... Девочкой ее часто приводили в гостиную получить благословение какого- нибудь именитого старца: тот обычно сидел поодаль, как бы отстраняясь от остальной компании, — даже ей, ребенку, было ясно, что гость он особый, раз сидит, приосанившись, в отцовском кресле, сложив перед собой руки на набалдашнике трости, — и отец ее тоже там, слегка взволнованный, сама любезность, — в обычные дни он совсем не такой. И вот подведут ее, обмирающую от страха, к такому величественному господину, тот возьмет ее за плечи, отстранит от себя, вопьется взглядом в лицо, а потом осенит крестным знамением и даст напутствие: расти умницей, веди себя хорошо; а то еще добавит, что в выражении ее лица есть что-то от Ричарда в детстве. Когда такое случалось, мать порывисто прижимала дочку к груди, а потом, словно нехотя, поручала ее няне: Кэтрин возвращалась в детскую, чувствуя прилив гордости и необъяснимое волнение от произошедшего только
Глава 3
33
что важного таинственного «посвящения». Лишь с годами тайна прояснилась.
Дом всегда был полон гостей: приезжали родственники «из Индии» — дядюшки, тетушки, кузены и кузины, — всем им неизменно оказывали радушный прием как «своим»; случались и редкие залетные птицы — и тогда родители брали ее посмотреть на небожителя, чтоб «запомнила на всю жизнь». Воспитываясь в такой обстановке, постоянно слыша разговоры взрослых о великих художниках и их творениях, Кэтрин очень рано составила в своем воображении картину мира, где особое место отвела старейшинам, окрестив их про себя кого Шекспиром, кого Милтоном, кого Вордсвортом, кого Шелли5 и т. д., в полной уверенности, что их с Хилбери связывают куда более тесные узы родства, нежели со всеми прочими. Так был задан горизонт ее представлению о мире; так постепенно в ее детских играх сложилось понимание добра и зла, во многом с оглядкой на «небожителей». То, что один из них был ее предком, ее отнюдь не смущало — наоборот, до поры до времени она радовалась своему высокому происхождению, принимая его как что-то само собой разумеющееся; лишь годы спустя обнаружилась и оборотная сторона медали. Кто не будет раздосадован, узнав о том, что его наследство выражается не в количестве земли, а в некоем образце интеллектуальной и духовной добродетели? Кого не смутит то обстоятельство, что твой великий предок задал некий эталон, с которым отныне будут соотносить все, что ты ни сделаешь в своей жизни? Тут любой про себя решит: вот был редкий цветок, да отцвел, и теперь ничего другого не осталось, как идти в рост, копить зеленую массу, гнать пустоцветы. Уже из-за одного этого Кэтрин часто впадала в хандру. Казалось, настоящему нет места в жизни, оно задавлено богатырским прошлым, поднявшим на небывалую высоту мужчин и женщин; рядом с ними, усопшими великанами, современность — просто жалкая пародия, один вид которой отбивает у молодой души всякую охоту жить, искать, творить, ошибаться...
Кэтрин эти вопросы занимали больше, чем можно было бы ожидать, и всё из-за матери: та с головой ушла в воспоминания о великом поэте, а поскольку Кэтрин взялась помогать ей в составлении жизнеописания, то ей приходилось подолгу копаться в биографиях покойников, напрягая воображение. Дело в том, что примерно десять лет назад, когда Кэтрин исполнилось семнадцать или восемнадцать, мать торжественно объявила: теперь у нее есть помощница, значит, вскоре жизнеописание будет закончено. Об этом даже написали в газетах, и первое время Кэтрин трудилась, преисполненная чувством гордости и самоуважения.
Однако с недавних пор ей все чаще казалось, что работа их застопорилась, и это было тем обиднее, что любой хоть сколько-то одаренный в лите¬
34
Вирджиния Вулф. День и ночь
ратурном отношении человек прекрасно понимал, какой в их руках находится бесценный клад, — с такими редкостными материалами только и писать величайшую биографию из всех, какие когда-либо были созданы. Шкафы и ящики буквально ломились от раритетов: в пожелтевших от времени, мелко исписанных свитках ждали своего часа подробности частной жизни известнейших людей своего времени; вдобавок, память миссис Хил- бери, как ни у кого другого из современников, сохранила живой образ прошлого, а старомодные слова в ее фиоритурном исполнении обретали, казалось, новую, небывалую жизнь. Писала она без натуги: за утро могла выдать на одном дыхании, что твой певчий дрозд, целую страницу; и тем не менее, при всем творческом запале, вдохновении и огромном желании довершить начатое, конца книге было не видать. Порой, тупо глядя на разрастающиеся кипы документов и понимая, что дело не двигается, Кэтрин приходила в отчаяние: не выйдет у них с матерью ничего путного! А почему? В чем загвоздка? Не хватает материалов? — Нет, материалов у них как раз хоть отбавляй. Может, они ленятся? — Опять же нет, для них обеих эта книга — дело чести. Нет, причина кроется в другом: в ее собственном дилетантизме, а еще в поразительной неусидчивости матери. Кэтрин как-то подсчитала, что на ее памяти та ни разу не писала дольше десяти минут кряду, а замыслы всегда возникали на бегу. Мать обожала ходить взад-вперед по комнате с тряпкой в руке и — рассуждать, рассуждать, а потом вдруг остановиться и с остервенением начать стирать пыль с и без того надраенных до блеска корешков книг. Вот тут-то обычно ее и осеняла верная фраза или на ум приходил очередной проникновенный эпизод: она бросала тряпку, кидалась к столу и несколько минут что-то судорожно записывала. Потом остывала, снова на свет извлекалась тряпка, и матушка опять принималась за старые, до блеска отполированные фолианты. Предсказать, когда ее снова посетит порыв вдохновения, было невозможно — такие перепады настроения случались неожиданно, и оттого необъятная рукопись постепенно делалась похожа на целину, где то тут, то там вспыхивают, точно перекати-поле, блуждающие огоньки, а ровного, распространяющегося на все пространство света — такого нет. Хорошо еще, Кэтрин аккуратно нумеровала страницы материнского опуса, однако даже ей было не под силу сделать так, чтобы шестнадцатый год в жизнеописании Ричарда Элардиса плавно перетекал в его шестнадцатилетие. И тем не менее до чего хороши были эти отдельные, с блеском написанные периоды! Какое благородство стиля! Какой стремительный поток словоизвержения! — кажется, мертвые восстали и заговорили в полный голос. Однако, если читать все подряд, получалась в общем-то такая абракадабра, что у Кэтрин опускались руки: она не понимала, что со всем этим материалом можно сделать. Мать тоже не знала, как подступить¬
Глава 3
35
ся к главному: что вырезать, что оставить. Даже частный вопрос о том, насколько публика готова узнать правду о разводе поэта со своей женой, повергал ее в недоумение. Тогда она написала две противоположные версии случившегося, и они обе ей так понравились, что она не знала, какую предпочесть.
А книга все не клеилась. Все понимали, что они с матерью в долгу перед потомками, а для Кэтрин вопрос стоял еще более остро: раз они одну-един- ственную книгу и ту написать не могут, то грош цена их привилегированному положению. Их моральный долг перед обществом год от года все возрастал. Не говоря уже о том, что в вопросе о гениальности ее деда-поэта до сих пор не была поставлена точка.
К двадцати семи годам Кэтрин настолько свыклась с этими мыслями, что, сидя по утрам напротив матери за столом, заваленным грудами старых писем, вооружившись всем необходимым для редакторского дела — карандашами, ножницами, бутылками с клеем, ластиками, конвертами большого формата и прочим, — она даже не замечала, как крутится в голове одна и та же привычная дума. Как раз незадолго до прихода Ральфа Дэнема Кэтрин наконец решилась попытаться ввести полет писательской фантазии матери в строгие рамки самодисциплины: отныне они садятся, каждая за отдельный стол, ровно в десять, заранее высвободив утренние часы, чтобы никуда не торопиться и ни на что постороннее не отвлекаться. Перед тобой — лист бумаги; ты сосредоточена только на нем; каждый час делаем короткий перерыв на десять минут — перекинуться словом и отдохнуть. По расчетам Кэтрин выходило, что если в течение года придерживаться такого графика, то книгу они точно закончат. И в полной уверенности, что план — это половина успеха, Кэтрин положила перед матерью листок. Та долго вчитывалась, потом хлопнула в ладоши и воскликнула с восторгом:
— Молодец, Кэтрин! Ну и голова у тебя! Итак, я кладу эту бумажку перед собой и каждый день ставлю галочку в записной книжке — так? И когда мы дойдем до самого конца, — подожди, а как мы отпразднуем окончание? Может, махнем в Италию? Нет, зимой там делать нечего. Тогда в Швейцарию? Говорят, снег там чудесный, только холодно... Но если, как ты говоришь, главное — закончить... хорошо, дай-ка взгляну...
И они стали вместе смотреть рукопись, которую Кэтрин постаралась к этому моменту привести в божеский вид; а когда посмотрели, то ужаснулись: нужно было что-то решать, и решать немедленно. Оказалось, что у них в активе есть несколько патетических интродукций, которые вроде и можно поставить в начало жизнеописания, но с большой оговоркой: они сыроваты и больше напоминают недостроенные триумфальные арки, но, как заметила миссис Хилбери, это поправимо — она подштопает их за десять минут,
36
Вирджиния Вулф. День и ночь
дайте ей только сесть. Еще у них имелось очень поэтичное описание родового гнезда Элардисов, точнее сказать, не гнезда, а весны в Саффолке6, единственный минус — оно было совсем не к месту. Впрочем, Кэтрин так ловко расставила имена и даты, что читатель подходил к рождению поэта, не задавая много вопросов, и первые девять лет его жизни шли в описании как по маслу7. А вот дальше возникала закавыка: миссис Хилбери страшно хотелось оживить это место в рассказе душещипательными воспоминаниями одной велеречивой старушки — сельской кумушки, но Кэтрин твердо сказала «нет» и выкинула кусок. Тогда появилось другое предложение: дать в этом месте очерк мистера Хилбери о современной поэзии — написан он сжато, без «воды», будет хорошей перебивкой, — но тут уже запротестовала миссис Хилбери, заявив, что по стилю это слишком сухо и вообще менторский тон кажется ей неуместным, поскольку он был совершенно чужд ее отцу. Очерк отложили.
Потом встал вопрос об отрочестве поэта: как лучше представить эту страницу его биографии? — подросток он был влюбчивый, — так надо ли предавать огласке его сердечные привязанности или лучше о них умолчать? У миссис Хилбери не было на этот счет твердого мнения, и толстую тетрадку на всякий случай запрятали подальше, до лучших времен.
Дальше в рукописи шел пробел: миссис Хилбери вычеркнула следующие несколько лет (что-то в них ее не устраивало) и вместо них вставила собственные детские воспоминания. С этого места текст окончательно разошелся по швам, и дальше пошла такая свистопляска, что Кэтрин просто диву давалась: ни начала, ни конца, ни связующей нити, ни последовательности в изложении — словом, не рассказ, а мешанина. Сначала шел двадцатистраничный опус про дедушкины шляпы, за ним — вставное эссе о современном фарфоре; дальше повествование перескакивало на пространное описание одной летней загородной поездки, когда они опоздали на поезд; и все это вперемешку с зарисовками встреч — частью всамделишных, частью выдуманных — с разными знаменитостями того и другого пола. И это не считая писем — а их были тысячи — и еще огромной кипы пожелтевших конвертов, в которых пылились воспоминания старинных приятелей поэта: их драгоценные свидетельства тоже надо было бы куда-то пристроить, иначе люди смертельно обидятся. Кроме того, за годы, прошедшие с момента смерти поэта, о нем столько раз писали и столько накопилось ошибок и неточностей, что оставить эти ляпы без внимания было никак нельзя, а разбор их тем не менее требовал времени, кропотливого изучения и длительной переписки с авторами. Иногда на Кэтрин находил ступор: она смотрела на груды бумаг и чувствовала себя просто раздавленной; иногда она говорила себе, что нужно срочно сбросить с себя прошлое, освободиться, иначе у нее нет жизни;
Глава 3
37
порой же прошлое настолько покоряло ее, что она совершенно выпадала из настоящего, и тогда ей казалось, что современность не идет ни в какое сравнение с богатой, наполненной и достойной жизнью мертвых.
Впрочем, самое печальное во всем этом было то, что она не чувствовала ни малейшей склонности к литературному труду. Писать Кэтрин не любила и вообще с какой-то врожденной настороженностью относилась к самокопанию, к писательскому зуду — непременно дойти до самого сокровенного в себе и выразить это, как подобает, с блеском и силой; словом, неприязнь у нее вызывало то, что составляло едва ли не главный смысл существования ее матери. В противоположность миссис Хилбери, дочь росла молчуньей — все больше отмалчивалась и стихов не писала. Для семейства, занимавшегося большую часть времени риторикой, такая расположенность дочери была находкой: она как бы намекала на противоположную склонность — действовать, и родители с детства отвели Кэтрин роль домашней распорядительницы. В семье она слыла прирожденной хозяйкой — и недаром! Казалось, никто лучше нее не умел вовремя распорядиться насчет обеда, дать поручения прислуге, оплатить счета и вообще следить за тем, чтобы все часы в доме показывали примерно одно и то же время, а в вазах не переводились свежие цветы, — миссис Хилбери не переставала удивляться такому таланту дочери и нет-нет да шутила: мол, это тоже поэзия, только наоборот. Еще Кэтрин сызмальства взяла на себя труд быть во всем помощницей и советчицей матушки. Не то чтобы миссис Хилбери была недееспособна: отнюдь — она вполне могла бы справиться со своими обязанностями сама, вот только мир не соответствовал ее ожиданиям. Ей бы на другую планету! Там бы она наверняка чувствовала себя в своей тарелке, а так ее дарования пребывали втуне, невостребованными. Жить по часам оставалось для нее загадкой, и в свои шестьдесят пять она по-прежнему удивлялась людям, которые умели подчинить свою жизнь жесткому графику и закону причинно- следственных связей. Ее, в отличие от этих счастливчиков, жизнь так ничему и не научила, и она то и дело набивала себе шишки. Впрочем, записывать ее в дуры не было никаких оснований, поскольку детская наивность уживалась в ней с редким даром видеть человека насквозь (другое дело, что она не всегда утруждала себя этим занятием). Так что в обществе она всегда производила впечатление умнейшей собеседницы. И вот такая женщина тем не менее не могла и шагу ступить без дочери.
Другими словами, Кэтрин принадлежала к тому древнейшему профессиональному цеху, у которого если и нет до сих пор названия и громкого послужного списка, то это вовсе не означает, что его представители трудятся в менее суровых условиях, чем рабочие на фабриках и заводах, и что они приносят меньше пользы миру, чем остальные. Короче говоря, Кэтрин тру¬
38
Вирджиния Вулф. День и ночь
дилась на домашней ниве. И что важно, у нее это здорово получалось: любой, кто приходил к ним в дом на Чейн-уок, проникался чувством порядка, основательности и уюта — с первого взгляда было видно, что хозяева холят и лелеют свои пенаты, и, хотя вкусы у домашних, очевидно, разные, гостя не покидало ощущение гармоничности уклада и индивидуального почерка каждого из членов семьи. Но, пожалуй, верхом искусства Кэтрин было ее умение «подать» их быт таким образом, чтобы в каждой детали чувствовалась личность миссис Хилбери: она «сияла» на первом плане, а они с отцом создавали для нее фон.
В общем, жизнь приучила и без того немногословную Кэтрин больше молчать и слушать, чем говорить; правда, друзья семьи намекали, что молчание ее дорогого стоит, — это тебе не бессловесная барышня, которая сидит, воды в рот набрав, оттого что ей сказать нечего или говорить лень. Однако, попроси кого-то из знакомых уточнить, что же такого особенного таит в себе ее молчание, — он, скорей всего, пожал бы плечами. Все и так знали, что Кэтрин помогает матери завершить труд всей ее жизни, ведет дом и вообще она красивая молодая женщина: этим все сказано. Поэтому все страшно удивились бы, включая саму Кэтрин, если бы какой-нибудь волшебник достал магический хронометр, произвел с его помощью необходимые подсчеты и поведал бы им, сколько времени тратит Кэтрин на свои обычные занятия, а сколько у нее уходит на совершенно иную, скрытую от чужих глаз деятельность. В самом деле: разложив перед собой пожелтевшие страницы рукописи, Кэтрин перебирала в голове серию сцен, в которых видела себя то укротительницей мустангов в американских прериях, то рулевым океанского судна, огибающего опасный риф или скалу, то еще кем- то из людей более мирных профессий, — главное, что во всех этих ипостасях она совершенно освобождалась от себя нынешней, и каждый раз, примеряя на себя новую профессию, само собой, демонстрировала чудеса владения техникой. А бывало и так: смахнет рукопись в стол, отложит ручку и бумагу, выбросит из головы риторику жизнеописания и с упоением принимается за главное свое дело; вот только признаться в этой тайной страсти она ни за что не решилась бы — ей было легче сознаться в бредовых фантазиях про штормовые моря и дикие прерии. Дело в том, что все ее ночные бдения и ранние вставания были вызваны одной-единственной причиной: она запиралась у себя в комнате, чтобы никто не видел, как она занимается... математикой! От постоянной привычки прятаться у нее даже особая повадка появилась: все делать быстро и крадучись, как мышка-норушка. Только скрипнет на лестнице половица, как она тут же, молниеносно, сует листок в заранее припасенный словарь древнегреческого языка, который позаимствовала в отцовском кабинете, и сидит как ни в чем не бывало. Луч¬
Глава 4
39
ше всего ей работалось по ночам — тогда никто не мешал и можно было, не опасаясь, сосредоточиться.
Трудно сказать, почему она так хоронилась от чужих глаз: может, сказывался мужской ореол науки; может, действовало то, что математику она воспринимала как желанную альтернативу литературе. Скорее, все-таки второе: ей были несравненно ближе точность и холодная безличность математических символов, чем любая, самая распрекрасная проза, которая все равно оставалась путаной, скомканной и туманной. Правда, получалось, что, отринув литературу, Кэтрин поступает не очень красиво по отношению к семейной традиции, — зато чувство вины, которое она испытывала, лишний раз доказывало, что она не напрасно осторожничает, скрывая от посторонних свои самые сокровенные помыслы. Сколько раз она ловила себя на мысли, что рукопись стоит, а она решает в уме математическую головоломку! Впрочем, и ее матушка за соседним столом, видать, тоже уходила с головой в какие-то призрачные мысли, — судя по выражению лица, она витала где-то далеко, не иначе, как в том краю, где обитали герои ее воспоминаний, давно числившиеся мертвыми. Обе они были так похожи в эту минуту, что Кэтрин торопилась поскорее стряхнуть с себя наваждение: вот уж на кого ей меньше всего хотелось бы походить, при том что матерью она восхищалась. Мысленно одернув себя, Кэтрин тут же делала строгое, озабоченное лицо, а миссис Хилбери, посматривая на дочь искоса с какой-то нежной хитринкой, замечала, что та — вылитая копия «старого злюки дяди Питера: говорят, наш прокурор запирался в ванной и оттуда выдавал смертный приговор. Слава богу, Кэтрин, я на него ни капельки не похожа!»
Глава 4
Примерно раз в две недели по средам около девяти вечера мисс Мэри Дэчет в очередной раз давала себе зарок никогда и никому не одалживать свою квартиру. Действительно, куда как хорошо: две просторные комнаты, в самом центре, в двух шагах от Стрэнда1, рядом с работой, — место очень удобное, чтобы вечером посидеть, поговорить об искусстве, политике, назревших реформах, да мало ли о чем; и поэтому, когда вставал вопрос, где встретиться, люди, естественно, предпочитали напроситься на пару часов к Мэри. Та всегда реагировала на просьбу знакомых одинаково: сдвинет брови, нахмурится, но уже через пять минут губы сами расползутся в улыбке, она пожмет плечами, не умея скрыть своей радости, — так ведет себя большая добрая собака: детишки ее тормошат, а ей только того и надо. Хорошо, она пойдет навстречу, только при одном условии: помощники ей не нужны, она все подготовит сама. Их так называемый клуб свободного диспута, где
40
Вирджиния Вулф. День и ночь
обсуждалось всё на свете, заседал раз в две недели, и каждый раз Мэри приходилось перетряхивать весь дом: что-то выносилось в другую комнату, что-то передвигалось, мебель расставлялась вдоль стенки, а хрупкие и дорогие вещи убирались подальше в шкаф. Случалось, и кухонный стол сама перетаскивала на другое место: эта милая, со вкусом одетая девушка не боялась никакой тяжелой работы.
Ей только-только исполнилось двадцать пять, но выглядела она взрослее — возможно, оттого, что сама себя обеспечивала или, во всяком случае, пыталась: в общем, с нее давно слетел беззаботный вид зрителя на празднике жизни, и появилось что-то от единички, которая шагает в строю таких же, как она, трудящихся. Во всем ее облике сквозила решительность: устремленный вперед взгляд, твердая линия губ — всё говорило о том, что ее чувства как бы собраны в кулак и она ждет своего часа. Две еле заметные складки на переносице указывали на напряженную работу мысли: ее наружность не оставляла сомнений на тот счет, что эта девушка умеет противопоставить привычным женским секретам — как нужно привлекать, обольщать и завоевывать мужчин, — совсем не женские способности. В остальном же это была симпатичная кареглазая, чуть угловатая барышня — такую можно встретить в доме сельского священника: видно, что из крепкой семьи, с давними корнями, при твердых понятиях чести и чувства собственного достоинства, без «загибов» в сторону фанатизма или ереси.
После работы, конечно, никому неохота, засучив рукава, приниматься за уборку; и тем не менее с кровати на пол стаскивается и раскладывается вдоль стены матрас; в кувшин наливается остывший кофе; со стола убирается все лишнее, ставятся чашки с блюдцами, на тарелках раскладывается — горкой — печенье в форме розочек, и вот наконец приготовления закончены и на душе у Мэри делается так легко, словно она сбросила с себя грубую мешковину трудовых будней и облачилась во что-то тонкое, шелковистое, летящее. Она присела на корточки у камина, спиной к огню, и оглядела комнату: от лампы под желто-синим бумажным абажуром струился мягкий свет, отливая перламутром, и оттого ли, что задрапированные диван с матрасом сделались похожими на поросшие травой округлые холмы, вся гостиная показалась ей притихшей и неожиданно просторной. Мэри вдруг представилась волнообразная низина Сассекса, где раскинулся зеленым веером лагерь каких-то древних воинов. Сейчас там, наверное, мирно светит луна: и ей показалось, что она видит на полосатой от ряби глади океана серебристую дорожку2.
— А теперь, — вырвался у нее смешок, пополам с горделивой ноткой, — пожалуйста, спорьте об искусстве.
Глава 4
41
Она подтянула к себе корзинку с разноцветной штопкой, выбрала чулок и, устроившись поудобнее, принялась штопать поехавшую пятку;3 иголка так и засновала в ее пальцах, а сама она, видимо, забывшись за привычным занятием, унеслась мыслями к воображаемым картинам сельских тишины и уединения. И вот уже ей представилось, как она откладывает в сторону чулок, пггопку, выходит из дому, спускается в низину, — вокруг ни души, слышно только, как овцы смачно жуют траву, выгрызая ее до самых корешков; живая изгородь стоит в лунном свете не шелохнувшись — лишь иногда набежит ветерок, качнет редкие верхушки да где-то поодаль отзовется тень. Все это время Мэри ни на секунду не теряла связи с происходящим — она даже немного гордилась тем, что может вот так, одновременно, и отрешиться от всего, уйти в себя, погрузившись в одиночество, и при этом не нарушать невидимую связь со всеми теми, кто сейчас торопится в разных концах Лондона поскорее добраться до ее дома, зная, что она сидит и ждет гостей.
Штопка ловко сновала в ее пальцах, а сама она мысленно перебирала эпизод за эпизодом из недавнего прошлого, не переставая удивляться тому, что ее жизнь сложилась, как по нотам, в цепь чудесных превращений, концом которых ей виделось ее теперешнее положение. Она вспоминала себя девочкой в доме отца, служившего священником в одном из сельских приходов; вспоминала, как умерла мать; как дала себе клятву во что бы то ни стало получить образование в колледже и как спустя несколько лет — кажется, совсем недавно, — сразу после учебы она окунулась в стремительный водоворот лондонской жизни, которая даже на нее, человека от природы здравого и уравновешенного, действовала подобно «штопору», вовлекая в головокружительное вращение мириады ее соплеменников. И вот, пожалуйста, она тут как туг, в самом центре столицы, в том самом месте, куда устремлены с разных концов земли ностальгические взоры — жителей ли далекой таежной Канады или жарких плоскогорий Индии. И, словно в подтверждение ее мыслей, в эту самую минуту совсем близко, в двух шагах от нее, раздались один за другим мерные удары часов — это Биг-Бен пробил девять. Пора бы! — спохватилась она, и тут в дверь громко постучали — она пошла открывать. Назад вернулась сияя, что-то оживленно говоря через плечо шедшему вслед за ней Ральфу Дэнему.
— Так ты одна? — приятно удивился Ральф, увидев пустую комнату.
— А я, между прочим, люблю бывать одна, — ответила Мэри.
— Только не сегодня — скоро здесь яблоку негде будет упасть, — заметил Ральф, оглядываясь по сторонам. — Похоже на декорации. Кто сегодня вы-
42
Вирджиния Вулф. День и ночь
— Уильям Родни о метафоре у елизаветинцев. Думаю, это будет серьезный доклад с длинными выдержками из классиков.
Ральф промолчал, — он стоял у камина, протянув руки к огню, — видно, озяб с улицы, — и Мэри снова взялась за чулок.
— По-моему, никто в Лондоне не штопает себе чулки, одна ты, — усмехнулся он.
— Неправда! — парировала она. — Таких, как я, в Лондоне тысячи. Хотя, если честно, до твоего прихода я так не думала, — наоборот, я размечталась, какая я необыкновенная! А ты появился, и я сразу сникла. Это все из-за тебя! Не обижайся — просто ты действительно сильнее меня. Ты столько всего успел в жизни, куда мне до тебя!
— Ну если судить по тому, кто что успел, то невелико достижение, — не поддался на лесть Ральф.
— Понимаю, — подхватила Мэри, — по Эмерсону, главное — быть, а не добиваться результата4.
— По Эмерсону? — поддел ее Ральф. — Ты что, Эмерсона читаешь?
— Может, это и не Эмерсон, может, я ошиблась, только я не понимаю, что такого, если я читаю Эмерсона? — обеспокоенно спросила Мэри.
— Ничего — читай себе на здоровье. Просто сочетание странное — Эмерсон и чулки. Просто ни в какие ворота не лезет!
И так он весело это сказал, что стало ясно: он совсем не сердится! На душе у нее посветлело, она рассмеялась в ответ и принялась с удвоенным тщанием и удовольствием класть стежки, время от времени отставляя чулок и любуясь аккуратно заштопанной пяткой.
— Вот ты всегда так! — заметила она. — Поверь, в домах священников это обычное дело — твое, как ты его называешь, «сочетание несочетаемого». Я выделяюсь на общем фоне только тем, что люблю и то, и другое — и читать, и штопать.
Тут кто-то постучал, и Ральф проворчал недовольно:
— Черт бы их побрал! А я уж было понадеялся, что никто не придет!
— Да это сосед снизу, мистер Тернер, — объяснила Мэри, обрадовавшись и тому, как Ральф прореагировал на звонок, и тому, что тревога оказалась ложной.
— Много народу будет? — спросил Ральф.
— Погоди-ка, — Моррисы, Крэшо, Дик Осборн, еще Септимус, в общем, вся их команда. Еще собиралась зайти Кэтрин Хилбери, — так мне сказал Уильям Родни.
— Кэтрин Хилбери? — переспросил Ральф.
— Да, а ты что, ее знаешь? — удивилась Мэри.
— Познакомился у них дома, на чаепитии.
Глава 4
43
Мэри принялась расспрашивать его, и он с удовольствием поделился с ней подробностями памятного вечера, расписав его в таких цветах и красках, что Мэри была окончательно заинтригована.
— А мне Кэтрин нравится, — сказала она, внимательно выслушав Ральфа. — Я с ней встречалась всего раз или два, но очень хорошо ее запомнила: это настоящая личность!
— Да я не спорю, просто мне показалось, мы говорили с ней на разных языках.
— Ходят слухи, что она собирается замуж за этого странного типа, Родни.
— За Родни? Ну значит, она точно не от мира сего!
— Ну наконец-то! — прислушавшись, воскликнула Мэри и, спрятав корзинку на старое место, пошла открывать: в дверь действительно громко стучали, на лестнице раздавался смех, слышалось топанье. И вот уже в дверях комнаты образовалось легкое столпотворение — гости с любопытством заглядывали в гостиную в предвкушении встречи с друзьями, но, увидев незнакомца, делали большие глаза и смущенно мялись на пороге.
Впрочем, очень скоро в комнате стало тесно от молодежи: юноши, девушки, человек двадцать—тридцать, устроились где попало — большинство на диване и матрасе, кто-то на полу, у стенки, сложившись наподобие вопросительного знака в горизонтальном положении. Одно слово, молодые! — у одних знаком протеста служили длинные волосы и одежда, у других — хмурое выражение лица и дерзкий взгляд — эти фигуры явно выделялись на фоне примелькавшихся двадцатилетних, которых чуть не каждый день видишь в омнибусе или в метро. И что интересно — все они расселись группками и перешептывались только со своими, нервно оглядываясь, точно опасались, как бы их не услышал кто-то из остальных гостей.
Кэтрин Хилбери пришла одной из последних и села на пол, спиной к стене. Огляделась, кивнула двум-трем знакомым, но Ральфа не заметила, а может, не узнала или вообще забыла, что они встречались. И вдруг среди общего гула раздался мужской голос: это Родни, выйдя к столу, застрочил, как из пулемета, фальцетом:
— Если говорить об использовании метафоры в елизаветинской поэзии...
Все моментально повернули головы к докладчику, кто-то заерзал, садясь поудобнее, чтобы лучше видеть его лицо, — аудитория вмиг посерьезнела. Но странное дело — даже те, кто сидел на самом виду с натянутыми лицами, стараясь не выдать себя ни единым движением мускула, — даже они с трудом сдерживали смех: казалось, еще немного, и они прыснут не стесняясь. Первое впечатление было такое, что перед тобой какой-то шут
44
Вирджиния Вулф. День и ночь
гороховый: Родни стоял весь пунцовый, то ли с холода — ноябрь как-никак, то ли от волнения; впрочем, сказать «стоял» было бы неправильно, потому что он не стоял на месте, он все время дергался: то заломит руки, то выгнется влево, то вытянется вправо, словно нечто видимое ему одному увлекало его то к окну, то к двери, — судя по судорожным телодвижениям, Родни было явно не по себе под прицельным взглядом стольких зрителей. Одет он был безукоризненно, причем особую, чуть ли не аристократическую импозантность его внешнему виду придавала жемчужная заколка на галстуке — прямо на животе. Добавьте глаза навыкате и захлебывающуюся речь, похожую на рвущийся из груди фонтан: видно, как Родни превозмогает собственное словоизвержение, каждый раз сглатывая ком в горле, у другого, менее курьезного персонажа, эти физические недостатки остались бы незамеченными, у Родни же они лезли наружу, вызывая у присутствующих хохот, впрочем, хохот совершенно беззлобный. Родни самому было тошно от своего чудного вида, иначе бы он не стоял, красный как рак, и не вздрагивал, будто от нервного тика, — на самом деле, в такой физической уязвимости было что-то по-человечески очень понятное, хотя большинство гостей, наверное, согласились бы с Дэнемом: «Ну и жених — сплошное недоразумение!»
Перед Родни лежал набело переписанный доклад — он хорошо подготовился — и тем не менее он и здесь ухитрялся то и дело попадать впросак: пролистывал страницы, комкал фразы, спотыкался на ровном месте, остолбенело глядя на собственный почерк, словно баран на новые ворота. Отыскав в тексте связный кусок, он выпаливал его грозно, глядя в упор на своих слушателей, а затем снова утыкался в рукопись, ища очередную «бомбу». Страницы летели, он рвал и метал: выхватит жаркое место, оглушит зрителей — и снова в атаку; и таким манером он настолько «разогрел» аудиторию, что публика сидела как на иголках, — в их клубе такое случалось не часто. Трудно сказать, что больше задело слушателей: увлеченность докладчика поэзией или же физические муки, которые он претерпевал ради них; но когда он, не договорив фразу, рухнул на рядом стоявший стул, все вокруг онемели от неожиданности — воцарилась тишина, а затем публика взорвалась аплодисментами, давая выход накопившимся эмоциям.
Вместо ответа Родни окинул комнату диким взглядом и, не дожидаясь вопросов, даже не поблагодарив за внимание, вскочил как ошпаренный и полез через головы присутствующих в тот конец, где сидела Кэтрин: все слышали, как он сокрушенно застонал:
— Ну я и дурак! Такого дурака свалял — кто бы думал, Кэтрин, а? Какой ужас! Провал, полный провал!
Глава 4
45
— Тише! — попыталась урезонить его Кэтрин. — Слушай внимательно, сейчас будут вопросы.
И действительно, вопросы посыпались: казалось, стоило докладчику уйти со сцены, как публика обнаружила в его речи много интересного. И вот уже берет слово бледный юноша с грустными глазами и начинает ровным голосом чеканить фразу за фразой, излагая свой взгляд на предмет. Уильям Родни его слушает, и от изумления у него отвисает челюсть, хотя по лицу видно: его еще трясет от пережитого волнения.
— Идиот! — шепчет он на ухо Кэтрин. — Так все переврать!
— Ну так объясни ему! — советует та шепотом.
— Ты что?! Они же меня засмеют! И зачем только я сюда пришел? Это ты ведь меня уговорила выступить! Тоже мне, любители словесности! — ворчал он.
Объективности ради надо сказать, что в докладе мистера Родни были и свои плюсы, и минусы. Чего стоила одна только риторика о том, что такие- то пассажи... — дальше вперемешку шли развернутые цитаты из английской, французской, итальянской поэзии — есть не что иное, как чистейшие перлы искусства. А его неуемная страсть к метафорам? Может быть, в тиши кабинета кудрявые фразы и казались свежими находками, однако на публике, выхваченные из контекста, они звучали диковато и некстати. Литература, повторял он, — это дивный венок из весенних полевых цветов: в нем ягоды тиса и фиолетовый паслен мешаются с нежнейшим анемоном самых тонких оттенков, — а потом вдруг без перехода нахлобучивал это флористическое чудо на голову мраморной статуи. А проникновеннейшая лирика, которую он читал из рук вон плохо?.. И все же надо отдать должное Родни: да, он нагородил в докладе несусветную чушь, да, по большому счету, нало- мал дров, но даже эта бредятина оказалась неспособна сломать его одержимость поэзией, собственно, она-то и задела слушателей за живое, всколыхнув в них некую мысль, некий образ и заразив их желанием высказаться. А поскольку публика собралась в основном творческая — люди, увлеченные литературой и живописью, — то каждый из них жадно ловил слова другого: сначала выступил мистер Пёрвис, затем мистер Гринолш, — напряженно следя за развитием идеи, которая, как оказалось, пришла в голову не только ему одному. И вот встает один, другой и начинает кружить вокруг вопроса об искусстве: то так зайдет, то эдак, примериваясь к теме, будто в руках у него топор или кайло, и он пытается изловчиться и попасть в самую точку; потом, чувствуя, что промазал, садится на место. И еще не остыв, тут же поворачивается к соседу и продолжает в том же духе — отстаивает ту точку зрения, о которой только что заявил во всеуслышание. Вскоре разговор перекинулся с отдельных кучек и групп, сидевших на матрасах и стульях, на
46
Вирджиния Вулф. День и ночь
всю компанию, и Мэри Дэчет, нагнувшись к Ральфу, шепнула ему на ухо, не выпуская из рук чулок, за который снова принялась между делом:
— Вот это доклад! Лучше не придумаешь!
Не сговариваясь, они оба поискали глазами докладчика: он сидел у стены, с закрытыми глазами, опустив подбородок на грудь, а Кэтрин в некоторой растерянности листала его доклад, словно искала понравившийся ей эпизод, но почему-то никак не находила.
— Давай подойдем к нему и скажем, что нам понравилось, — предложила Мэри, и Ральф обрадовался такой возможности: сам он постеснялся бы из самолюбия — вдруг Кэтрин подумает, что он «навязывается».
— Очень интересный доклад! — с ходу начала Мэри, располагаясь запросто на полу напротив Родни и Кэтрин. — Я хотела бы почитать его в спокойной обстановке — одолжите?
Секунду Родни молча смотрел на нее — он открыл глаза, как только они с Ральфом подошли, — видимо, ожидая какого-то подвоха.
— Что, решили подсластить пилюлю? — с ехидством спросил он ее.
Кэтрин подняла глаза и подмигнула.
— Родни хочет сказать, что мы напрасно стараемся, пытаясь его утешить, — заметила она с улыбкой. — Мнение людей, далеких от искусства, его не волнует.
— Приехали! Я искал у нее сочувствия, а она надо мной смеется! — воскликнул Родни.
— А я и не собиралась вам сочувствовать, — отчеканила Мэри. — Плохие доклады не обсуждают, а ваш — вы только послушайте, что творится?!
Действительно, комната гудела на разные лады: то слышалась скороговорка, то глухое бормотанье, то раздавалось резкое стаккато, — все это немного напоминало птичий базар.
— По-вашему, они обсуждают мой доклад? — прислушавшись и моментально просияв, спросил Родни.
— Конечно! — уверила его Мэри. — Есть о чем поспорить.
Она повернулась к Дэнему, и тот кивнул в знак согласия.
— Об успехе или провале доклада можно судить по первым десяти минутам, — веско заметил он. — Будь я на вашем месте, Родни, я бы праздновал победу.
Слова Дэнема окончательно примирили Родни с создавшейся ситуацией, и он принялся вспоминать самые удачные места в докладе.
— Дэнем, у вас, кстати, не возникло сомнений по поводу моих высказываний насчет образности у позднего Шекспира? По-моему, я недостаточно внятно выразил свою мысль.
Глава 4
47
И, отклеившись от стенки, Родни скачками, не отрывая зад от пола, «подъехал» к Дэнему.
Тот как-то сумел отбояриться: так бывает, когда говоришь, а в голове у тебя крутится что-то постороннее и ты не можешь отвязаться от мыслей о другом человеке. Дэнема так и подмывало спросить у Кэтрин: «Та картина под стеклом с трещиной, — помните? — вы успели ее починить к приходу вашей тетушки?» Но задать ей этот вопрос он не решался: они не были с ней в доверительных отношениях, и его вопрос она могла счесть бестактным; а тут еще Родни со своими расспросами... Кэтрин сидела вполоборота, наклонив голову к собеседнику с противоположной стороны, а Родни все рассуждал о драматургах-елизаветинцах.
Было в его внешности что-то от хамелеона: стоило ему начать с жаром говорить о чем-то, и он сразу делался напьпценно-смешным, но буквально через минуту что-то менялось в его выражении, и вдруг в этом худом носатом лице с тонкими, подвижными, чувственными губами прорезывался гордый профиль патриция с челом, обвитым лавровым венком, чье изображение встречаем на медальонах из полупрозрачного красноватого камня. Сразу становились заметны чувство собственного достоинства и характер. Вообще-то служил он мелким чиновником при каком-то министерстве, но по духу своему принадлежал к тем мученикам пера, для которых литература — это источник трепетной радости и почти невыносимых творческих страданий. Таким людям мало любить словесность на расстоянии — им непременно хочется проявить себя на писательском поприще, хотя обычно таланта у таких сочинителей маловато. Вот они и мучаются: что ни напишут, все им кажется не так. А тут еще толстокожие окружающие, чье бесчувственное отношение приводит просто в ярость, а поскольку поэты — люди ранимые, то боже упаси косо посмотреть в их сторону: они каждое маломальское замечание в свой адрес или в адрес своего детища воспринимают как личное оскорбление. Впрочем, Родни никогда не упускал случая «потер- зать» добровольную жертву — вот и сейчас, увидев благосклонный настрой Дэнема, он моментально распустил перед ним хвост.
— Помните эпизод перед самой гибелью герцогини?5 — С этими словами он подсел к Дэнему еще ближе и оказался с ним нос к носу, при этом он так вывернул руку и колено, что вместе те составили какую-то немыслимую комбинацию. Из-за этих перемещений Кэтрин оказалась буквально загнана в угол и отрезана от остальных гостей; она встала и пересела на подоконник, то же самое сделала Мэри Дэчет. Со своего возвышения эти двое могли теперь вдоволь любоваться всей честной компанией. Дэнем поглядывал в их сторону, а рукой непроизвольно тискал ковер, как бы вырывая с корнем пучки мха. Но поскольку все происходящее точно укладывалось в его пред¬
48
Вирджиния Вулф. День и ночь
ставление о жизни, которая всегда идет вразрез с твоими желаниями, он сосредоточился на мыслях о литературе и решил, как стоик, довольствоваться тем, что есть.
Кэтрин была в приподнятом настроении. Вечер сулил ей несколько возможностей: заговорить с кем-то из знакомых, которых она уже успела заметить в толпе гостей, или подождать, пока кому-нибудь из них не наскучит сидеть на полу и он решит составить ей компанию, или же вступить в полемику с Родни, к которой она тоже краем уха прислушивалась. Рядом с ней бок о бок сидела Мэри — Кэтрин это знала каким-то десятым чувством, — когда женщины вдвоем, им вовсе необязательно поддерживать беседу. Мэри, однако, не терпелось заговорить с той, которую она назвала «настоящей личностью». И вот предлог представился.
— Правда, похоже на блеянье? — заметила Мэри, обводя глазами кучки расположившихся на полу гостей: комната гудела на разные голоса.
В ответ Кэтрин улыбнулась.
— Интересно, — спросила она, — из-за чего весь этот шум?
— Из-за елизаветинцев, наверное.
— Да нет, непохоже. Слышите? Все повторяют, как один: «страховой полис, страховой полис!»6.
— У мужчин вечно на уме политика, — философски заметила Мэри. — Жаль, у нас нет права голоса, мы бы тоже обсуждали политику.
— Пожалуй. А вы, по-моему, как раз боретесь за наше право участвовать в выборах?
— Да, а что? — с некоторым вызовом ответила Мэри. — Это моя работа, с десяти утра до шести вечера, каждый день.
Тут взгляд Кэтрин случайно упал на Ральфа Дэнема — тот как раз в эту минуту продирался вместе с Родни сквозь дебри метафизической поэтики — и она вспомнила их последний разговор. Возникло смутное ощущение, что этот молодой человек и Мэри каким-то образом связаны.
— Вы, наверное, тоже думаете, что нам всем нужна профессиональная деятельность, — начала она издалека, неуверенно, точно шла по заколдованному лесу.
— Господь с вами, конечно нет! — выпалила Мэри.
— А я думаю, что нужна, — вздохнула Кэтрин. — Вам легко говорить, вы уже' и так много сделали, а я в этой толпе чувствую себя одиночкой.
— В толпе? Какой толпе? — переспросила Мэри, придвигаясь к Кэтрин; на переносице у нее обозначились две глубокие складки.
— Ну разве вы не видите — столько людей, столько разных интересов! А я возомнила, что буду первой... я хочу сказать, — поправилась она тут же, — я хочу добиться своего, а это трудно сделать, если у тебя нет профессии.
Глава 4
49
Мэри улыбнулась «в усы», подумав, что кому-кому, а уж мисс Кэтрин Хилбери не составит большого труда громко заявить о себе. Знакомство у них было шапочное, и быстро растопить лед не получалось: Кэтрин говорила только о себе, и поэтому вышла заминка; было непонятно, то ли продолжать разговор, то ли повременить. В общем, женщины приглядывались друг к другу.
— А я все равно вижу, как попираю ногой их распростертые тела! — помолчав, объявила Кэтрин и засмеялась — было видно, что думает она о чем- то своем.
— Не вижу прямой связи между должностью начальника конторы и необходимостью шагать по головам сотрудников, — съязвила Мэри.
— Да, вы правы, какая тут связь, — ответила Кэтрин.
Разговор не клеился: Мэри видела, что Кэтрин замкнулась, — смотрит на сидящих вокруг гостей, а мыслями витает где-то далеко, — точно и не было движения навстречу друг другу, никаких личных подробностей. Мэри поразило, как естественно это для Кэтрин — уйти в себя, погрузиться в свои мысли. Эта привычка выдавала натуру одинокую, привыкшую много думать. В какой-то момент Мэри стало не по себе в компании с упорно молчавшей гостьей.
— Да, они точно как овцы, — повторила она, просто ради того, чтобы что-то сказать.
— И тем не менее каждый из них — большая умница, — возразила Кэтрин. — Ручаюсь, они все читали Уэбстера7.
— Ну, прочитать Уэбстера еще не значит стать умницей, правда? Я, например, и Уэбстера читала, и Бена Джонсона8, но умницей себя не считаю — до умницы мне еще расти и расти.
— Вот как! А по мне, вы очень умны, — заметила Кэтрин.
— Из-за конторы?
— Нет, не поэтому. Я просто задумалась, каково вам приходится — одной, в этой квартирке, да еще вечера устраиваете.
Мэри не сразу ответила.
— На самом деле, главное тут — найти в себе силы противостоять семье. Это не каждый может, а я, видно, могу. Дом мне опостылел, и я поговорила с отцом. Он не хотел меня отпускать... Но у меня, слава богу, есть сестра, а ведь вы, по-моему, одна у родителей?
— Да, сестер у меня нет.
— Я слышала, вы пишете биографию своего дедушки? — не унималась Мэри.
Было видно, что вопрос прозвучал для Кэтрин как выстрел, возвращая ее к реальности, о которой она, казалось, на какое-то время забыла. «Да, —
50
Вирджиния Вулф. День и ночь
ответила она, словно издалека, моментально замыкаясь в себе, — немного помогаю матери», и Мэри кожей почувствовала «стенку», точно и не было между ними никакого задушевного разговора. Эта поразительная черта Кэтрин — то идти на сближение, то отдаляться от собеседника — свидетельствовала, как показалось Мэри, о быстрой смене настроений — более стремительной, чем обычно бывает в человеке, — она-то и создавала впечатление, что Кэтрин постоянно начеку. «Эгоистка», — недолго думая, решила про себя Мэри.
«Эгоистка, вот она кто», — повторила девушка про себя, решив приберечь это определение для Ральфа: когда-то ведь им доведется обсуждать мисс Хилбери.
— Господи, — воскликнула Кэтрин, оглядывая комнату, — какой мы устроили вам кавардак! Надеюсь, вы спите в другой комнате, мисс Дэчет?
В ответ Мэри рассмеялась.
— Я сказала что-то не так? — переспросила Кэтрин.
— Угадайте!
— Погодите-ка, — вы засмеялись, потому что я сменила тему разговора, так?
— Нет, не поэтому.
— Тогда, возможно, вы...
— Хорошо, я вам скажу: меня рассмешило ваше обращение «мисс Дэчет».
— Вы правы — давайте запросто: Мэри. Просто Мэри.
И, вспыхнув от удовольствия, что оказалась на «ты» с незнакомым человеком, Кэтрин отвернулась, сделав вид, что поправляет штору.
— Мэри Дэчет, — повторила Мэри. — Согласитесь, это не такое солидное имя, как Кэтрин Хилбери.
Обе, не сговариваясь, стали смотреть в окно: поздоровались с луной, которую то и дело закрывали проплывавшие мимо сизые тучи; потом обмерили глазом раскинувшиеся окрест крыши домов с торчавшими там и сям башенками труб; затем устремили взгляд вниз на пустынную, залитую лунным светом мостовую, где отчетливо выделялся каждый булыжник. Мэри отметила про себя, что Кэтрин задумчиво взглядывает снова и снова на луну, словно пытается узнать в ней свою старую знакомую, спутницу ночных бдений...
— Что, звездами любуетесь? — пошутил кто-то за спиной, и вмиг все очарование пропало: девушки отпрянули от окна.
Ральф — а это был он — только того и ждал.
— Я давно собирался вас спросить, мисс Хилбери: вы распорядились насчет той картины? — выпалил он без запинки, и сразу стало ясно, что фразу эту он заготовил заранее.
Глава 4
51
«Ну ты и осел!» — чуть не сорвалось с языка у Мэри, которая никак не ожидала от Ральфа подобной глупости. Так обычно студенты реагируют на ошибку сокурсника, который за три урока латыни не удосужился выучить аблатив от слова «mensa»9.
— Картины? Какой картины? — недоуменно спросила Кэтрин. — Ах, вы об этом! Вы были у нас в воскресенье, правильно? К нам еще тогда приходил мистер Фортескью. Ну да, я, по-моему, заказала новое стекло.
Наступила неловкая пауза — с минуту все трое стояли, не зная, о чем говорить; затем хозяйка, увидев, что начинают разливать кофе, поспешила к гостям: при всей широте мысли Мэри боялась за свой сервиз.
Ральф мялся, разговор дальше не клеился, но если бы кто-то в эту минуту заглянул ему в душу, то увидел бы, что вся его воля сосредоточена на одном-единственном желании — подчинить себе мисс Хилбери. Ральф еще не знал, как это сделать, чем ее заинтересовать, но про себя уже решил, что ни за что ее не отпустит. Обычно такие настроения передаются без слов, и Кэтрин сразу поняла, что молодой человек положил на нее глаз. В памяти еще свежо было первое впечатление от воскресной встречи: как она показывала гостю семейные реликвии... Помнила она и то, как они расстались: ей тогда еще показалось, что он очень сурово о ней судит. А если так, то пусть сам теперь ищет тему для разговора. И она продолжала спокойно стоять, глядя прямо перед собой, плотно сомкнув губы, хотя ее разбирал смех.
— Вы, наверное, каждую звездочку знаете, — процедил Ральф таким тоном, будто похвала стоила ему немалых усилий.
Она едва сдержала ехидный тон:
— Во всяком случае, Полярную звезду, если заблужусь, всегда найду.
— Неужели с вами такое случалось?
— А со мной вообще редко что происходит, — ответила она.
— А по-моему, мисс Хилбери, вы взяли за правило сыпать колкостями! — выпалил Ральф, опять не сдержавшись. — Видимо, так принято у представителей вашего класса — им с простыми людьми, кто ниже их, говорить всерьез зазорно.
То ли оттого, что встретились они на этот раз на нейтральной почве, то ли поношенное серое пальто Дэнема придавало ему куда больше естественности, чем вечерний костюм, но Кэтрин почему-то не хотелось исключать этого молодого человека из круга своих знакомых.
— В каком это смысле вы ниже меня? — спросила она, сразу посерьезнев и глядя на него испытующе, как бы в ожидании откровенного ответа.
У Ральфа сердце подпрыгнуло от радости. В первый раз он оказался на равных с женщиной, чьим мнением о себе он страшно дорожил, хотя и не мог объяснить, почему оно ему так дорого. Возможно, он просто ждал от нее
52
Вирджиния Вулф. День и ночь
каких-то важных слов, над которыми можно поразмышлять в свободную минуту. Только ожидания его не оправдались.
— Не понимаю, о чем это вы, — повторила она, и тут их прервали, предложив билет в оперу со скидкой. Теперь уж было не до разговоров с глазу на глаз: все перемешалось, вокруг кипело общее веселье; гости, перезнакомившись друг с другом, переходили на задушевное «ты» — в общем, в гостиной установилась та теплая полушутливая атмосфера терпимости и дружелюбия, которая у англичан складывается в том случае, если они просидят в гостиной часа три, зная, что с первым глотком холодного уличного воздуха они снова останутся одни, каждый сам по себе. Вечер подходил к концу: Ральф и не заметил, как дамы оказались все, как одна, в пальто, а мужчины с головными уборами, — он стоял, уязвленный до глубины души, наблюдая, как этот клоун Родни помогает Кэтрин надеть накидку. На встречах их дискуссионного клуба не было принято прощаться: говорить собеседнику «до свиданья», даже кивать — мол, увидимся! — казалось делом липшим; и тем не менее Дэнема покоробила невозмутимость Кэтрин — она шагнула от него прочь, даже не потрудившись закончить фразу. Взяла и вышла вместе с Родни.
Глава 5
Дэнем и не думал бежать за ними, но едва Кэтрин собралась и вышла, он не мешкая надел шляпу и бросился вниз по лестнице; он явно боялся упустить девушку — иначе зачем ему так спешить? По дороге он нагнал старого приятеля Гарри Сэндиса — оказалось, им обоим по пути, и вот они уже шагают рядом, а впереди, за несколько шагов маячат фигуры Кэтрин и Родни.
Ночь выдалась тихая — в такую пору, стоит смолкнуть городскому транспорту, мир будто обнажается и распахивается, как в деревне: сразу видны и даль, и ширь, и небо, и луна. Ночной воздух свеж и упруг — здорово вздохнуть полной грудью после того, как просидел взаперти, за разговорами, несколько часов; омнибус или метро никуда не убегут — еще успеет- ся насидеться в вагоне с искусственным освещением. Сэндис на ходу достал трубку, раскурил, приговаривая «гм», «н-да», — и погрузился в глубокомысленное молчание: в этом адвокате, похоже, жил прирожденный философ. Дэнем прищурился: расстояние, отделявшее их от пары впереди, не уменьшалось и не увеличивалось; и, глядя сзади на слегка склоненные друг к другу головы Кэтрин и Родни, он решил, что они увлечены разговором. Еще он заметил, что, после того, как навстречу им попадался прохожий, невольно «разбивавший» их парочку, они снова сразу же сходились вместе. Он не
Глава 5
53
то чтобы следил за ними — просто так получалось, что краем глаза он постоянно ловил то желтый шарф на голове Кэтрин, то модное пальто Родни, выделявшееся светлым пятном на фоне одетых в темное прохожих. Так дошли до Стрэнда — там, полагал Дэнем, Кэтрин с Родни попрощаются и разойдутся, но не тут-то было: вопреки его ожиданиям, они перешли улицу и направились старинными двориками по узкому проулку к реке. Получалось, со стороны Родни это не обыкновенный жест вежливости — взялся проводить девушку домой поздно вечером, как еще недавно казалось Дэ- нему, когда они шли широким бульваром, — здесь, среди плотно стоявших домов, где гулко раздавались шаги редких прохожих, Дэнему почудился какой-то иной смысл в беседе этих двоих. В перемежающихся полосах тени и света фигуры их словно вытянулись, стали загадочней, значительней, и то раздражение, что копилось в душе Дэнема против Кэтрин, ушло — он примирился с окружающим, впав в полумечтательное состояние. Да, с Кэтрин хорошо мечтается... И тут вдруг Сэндиса прорвало. Вообще он был нелюдим, друзей у него не было, кроме однокашников по колледжу, да и с теми он общался так, словно они все еще вместе учатся на последнем курсе и каждый вечер спорят до хрипоты, собравшись у него в комнате, хотя все чаще случалось так, что между предыдущей встречей и нынешней проходил не один месяц, а то и год и больше. Способ общения, конечно, странный, зато действовал успокаивающе: казалось, нет никаких жизненных бурь и о черных полосах в твоей жизни необязательно рассказывать — можно обойтись туманным намеком.
Итак, Сэндис убрал трубку и изрек, причем не раньше и не позже, а ровно в ту минуту, когда они дошли до конца Стрэнда и собирались перейти на другую сторону:
— Я слышал, Беннет отказался от своей концепции истины.
Дэнем кивнул, и Сэндис начал излагать свои доводы в пользу того, почему Беннет принял такое решение и чем это чревато для них, Сэндиса и Дэнема, и для той философской позиции, которую они оба разделяют. За разговором они чуть было не потеряли из виду Кэтрин с Родни, поэтому Дэнему пришлось, если можно так выразиться, мысленно раздвоиться: он машинально продолжал держать их фигуры в поле зрения, одновременно стараясь не упустить нить рассуждений Сэндиса. В какой-то момент тот остановился — они как раз проходили двориком и оказались под старинной аркой, сложенной из выглаженных временем камней, — и, остановившись, Сэндис в раздумье постучал тростью по каменным плитам, доказьюая какую-то сложную штуку про природу восприятия фактов. И ровно в эту минуту, когда они с Сэндисом задержались под аркой, Кэтрин с Родни заверну¬
54
Вирджиния Вулф. День и ночь
ли за угол и скрылись. От неожиданности Дэнем осекся и не сразу закончил фразу — у него было такое чувство, будто он что-то потерял.
А Кэтрин с Родни, ни о чем не подозревая, уже вышли на набережную. Перейдя мостовую, двинулись вдоль каменного парапета, и тут Родни воскликнул, шлепнув ладонью по тумбе:
— Кэтрин, клянусь, больше об этом ни-ни! Ты только посмотри, какая луна!
Кэтрин встала рядом, посмотрела вправо-влево, оценивая течение, потянула носом:
— Ветер оттуда, пахнет морем, — заключила она.
Они постояли, прислушиваясь, как ворочается внизу река, как бежит по черной поверхности серебристо-красная дорожка отражающихся огоньков — то разойдется, то сойдется снова. Вдруг откуда-то донесся протяжный гудок парохода — одинокий-одинокий, тоскливый-тоскливый, будто звал куда-то в туманную призрачную даль.
— Какая красота! — вскричал Родни, хлопнув по парапету. — Ну почему у меня нет слов, а? Кэтрин, почему я всю жизнь должен маяться оттого, что меня распирают чувства, а слов не хватает? Почему так получается, что я бы и рад отдать всего себя, только это никому не нужно? Кэтрин, поверь, — заговорил он горячо, — я знаю, ты не любишь эти разговоры. Но когда такая красота — посмотри, как переливается лунный венец! — когда видишь такое, хочется... хочется... — ты ведь выйдешь за меня замуж, правда? В душе я поэт, и чувства меня не обманывают. Жаль только, не могу их выразить — это моя беда. Потому и прошу тебя, Кэтрин, выйти за меня замуж, а был бы я поэт, мне это было бы ни к чему.
Все это он выпалил, то вскидывая глаза к луне, то упираясь взглядом в воду.
— А мне, по-твоему, к чему? — отрешенно заметила Кэтрин, не сводя глаз с луны.
— Очень даже к чему! И не тебе одной, вообще всем женщинам. Что такое незамужняя женщина? Это полженщины, это жизнь вполсилы: вы, наверное, и сами про себя знаете. Да чего тут объяснять!..
Он махнул рукой, и они медленно пошли по набережной, а луна светила им в лицо.
Печально всходит на небо она,
Как поступь медленна ее, как бледен лик1, —
процитировал Родни.
— Я сегодня много неприятного о себе услышала, — будто не слыша, думая о чем-то своем, заметила Кэтрин. — Вот и мистер Дэнем взялся меня
Глава 5
55
поучать, а ведь мы с ним толком даже не знакомы. Кстати, Уильям, вы вроде бы с ним знакомы: что он за человек?
В ответ Родни вздохнул:
— Вас сколько ни поучай, все...
— Я не об этом — какой он человек?
— Вот-вот, такие вы и есть, прагматичные до мозга костей, а мы-то воспеваем в сонетах ваши бровки... — проворчал Родни, но, видя, что Кэтрин не реагирует, сменил тему. — Дэнем? По-моему, хороший парень, и все у него правильно. Только вам за него замуж нельзя, он ведь отругал вас, верно, — за что, кстати?
— Странный он, этот ваш мистер Дэнем: приходит в гости, я стараюсь, чтобы он почувствовал себя как дома, а он сидит и всем видом показывает, что ему ничего не надо. Открываю наш семейный архив — и тут он просто впадает в ярость: говорит, какое право я имею причислять себя к женщинам среднего класса? В общем, расстаемся чуть ли не врагами, а сегодня мы снова встречаемся, и первое, что я от него слышу, это: «Идите к черту!» Интересно, почему так? Моя мать в таких случаях сетует на невоспитанность, а мне хочется разобраться...
Она задумалась, провожая взглядом освещенные вагоны поезда над рекой на мосту Хангефорд2.
— А тут и разбираться нечего: вы просто кажетесь ему холодной злючкой, вот и все!
Ответ позабавил Кэтрин — она от души рассмеялась.
— Ах, так! Ну смотрите — прыгну в такси и больше меня не увидите!
— А что, вашей матери не нравится, что я вас провожаю? Разве нас кто- то видит? — забеспокоился Родни, оглядываясь по сторонам.
Кэтрин помолчала, снова засмеялась — на этот раз с легкой издевкой.
— Смейтесь, смейтесь, Кэтрин, только знайте: я не хочу, чтобы про нас судачили ваши друзья, — вдруг кто-то из них увидит нас вдвоем в такой поздний час... Ну что такого смешного я сказал?
— Не знаю! Вы такой чудной! Вроде поэт, а ведете себя как старая дева.
— Вы меня все время поддеваете, я так не могу: меня воспитали в определенных принципах, и я стараюсь им следовать.
— Не говорите глупости, Уильям. Да, вы из старинного девонширского рода, но при чем здесь наша прогулка по набережной — чего вы боитесь?
— Кэтрин, я на десять лет старше вас и лучше знаю людей.
— Хорошо! Спокойной ночи, идите спать.
Родни оглянулся и увидел, что за ними на почтительном расстоянии следует такси: шофер явно рассчитывал на то, что его услугами рано или поздно воспользуются. Кэтрин тоже заметила кеб и запротестовала:
56
Вирджиния Вулф. День и ночь
— Уильям, не надо такси, я пройдусь пешком.
— Какие еще «пройдусь», Кэтрин? Глупости! Мы и так догуляли почти до полуночи.
В ответ Кэтрин рассмеялась и пулей пустилась вперед, так что Родни и таксисту пришлось ее догонять.
— Уильям, — попыталась урезонить его Кэтрин, — не надо за мной гоняться! Злые языки этого вам точно не простят. Идите домой! Спокойной ночи.
В этот момент Родни поравнялся с Кэтрин, взял ее под локоток и властным жестом подозвал такси:
— Ради бога, не сопротивляйтесь — что подумает шофер?! — прошипел он ей в ухо.
Кэтрин выдернула руку.
— Никакой вы не поэт! — бросила она ему через плечо, садясь в кеб. — Вы просто старая дева!
Родни в сердцах захлопнул дверцу; нагнулся к шоферу, объяснил ему, куда ехать, и, вежливо приподняв шляпу в знак прощания с дамой, сидевшей в темном салоне, пошел восвояси. Шел и оглядывался: а вдруг в последний момент выскочила? Но такси умчалось, ни разу не затормозив. Внутри у Родни все кипело — Кэтрин окончательно добила его.
«Взбалмошная эгоистка! — повторял он про себя, идя обратно по набережной. — Выставить меня круглым дураком! Я ей этого не прощу. Сдалась мне Кэтрин Хилбери — я лучше на хозяйкиной дочке женюсь, чем на этой гордячке! Только о себе и думает! На меня ей наплевать, трижды наплевать!»
И такая досада слышалась в его словах, возносимых к небесам, — авось звезды услышат, благо, вокруг ни души, — что он и сам уверовал в правоту своих чувств. Немного успокоившись, он молча зашагал дальше по набережной и вдруг заметил, что ему навстречу идет кто-то знакомый — точнее, знакомой показалась походка, а может, верхняя одежда прохожего: сразу Родни не признал. А был это Дэнем: он только что проводил до дома Сэндиса и теперь шагал к метро на Чэринг-Кросс, и все его мысли были сосредоточены на том, что они обсуждали с приятелем. О Родни, метафорах и елизаветинской драме, вообще о посиделках у Мэри Дэчет он совершенно забыл, — спроси его, кто такая Кэтрин Хилбери, он, наверное, ответил бы, что не знает такой, хотя последнее весьма спорно. Мысленно он обнимал вершины гор под звездами, покрытые нетронутым снегом. Столкнувшись с Родни под фонарем, Дэнем скользнул взглядом по его лицу и, наверное, прошел бы мимо, если бы тот не воскликнул:
— Ба! Кого я вижу!
Глава 5
57
Обычно в таких случаях Дэнем кивал и спешил дальше по делам, но в этот раз он машинально остановился — настолько погружен был в свои мысли — и, не ответив ни «да», ни «нет» на приглашение Родни зайти к нему и выпить по глоточку, просто развернулся и пошел с ним рядом. Выпивать ему не хотелось, но и отказываться тоже было лень. А Родни обрадовался случаю поговорить с этим молчуном, из которого так и перла мужская основательность, которой ему самому так не хватало в тот вечер, после капризов Кэтрин.
— Правильно делаете, Дэнем, — заговорил он без предисловий, — нечего тратить время на молодых девиц. Заведешь с ними доверительные отношения, а потом обязательно пожалеешь. Я не о себе лично, — поспешил он уточнить, — так, в общем... Наверное, мисс Дэчет — приятное исключение из правила. Она ведь вам нравится, правда?
Дэнем сразу понял, что Родни страшно раздражен чем-то, и в его памяти моментально восстановилась картина этого вечера: Родни провожает Кэтрин. Он вспомнил, как видел их вместе последний раз, и почувствовал досаду на самого себя за то, что душа ничего не забыла, наоборот, только, кажется, и ждала, чтобы он снова начал терзаться сомнениями. Он отругал себя за эту слабость; голос рассудка подсказывал ему: откажись, пока не поздно, от приглашения, — уж очень Родни разоткровенничался; а главное, жалко терять настроенность на высокую философию. Он прикинул на глазок расстояние до следующего фонаря — ярдов двести—триста будет — и решил, что дальше той отметки не пойдет, — у фонаря они с Родни попрощаются.
— Мэри — славная девушка, — ответил он уклончиво, глядя на фонарь, — она не может не нравиться.
— Дэнем, вы совсем не то, что я: вы скрытничаете! Я наблюдал за вами сегодня, пока вы разговаривали с Кэтрин Хилбери. Я не такой, я сразу проникаюсь доверием к собеседнику. Видно, поэтому всегда остаюсь в дураках.
Дэнем призадумался — в общем-то до Родни и его откровений ему дела мало, зато навести своего спутника на разговор о Кэтрин хотелось, тем более что до заветного фонаря оставалось несколько шагов.
— Это что же, Кэтрин Хилбери оставила вас в дураках? — спросил он.
Вместо ответа Родни звонко хлопнул по парапету, отбивая ритм, точно
в такт какой-то мелодии. Потом хмыкнул:
— Кэтрин Хилбери! Знаете, Дэнем, у меня насчет этой молодой особы нет ни малейших иллюзий. Я ей так об этом и сказал. Только не надо думать... — И с этими словами Родни ловко подхватил Дэнема под руку, не давая ему уйти, и так вдвоем они прошагали мимо заветного столба, с которым Дэнему пришлось мысленно попрощаться: теперь ему было не убе¬
58
Вирджиния Вулф. День и ночь
жать — его руку плотно сжимал Родни. — Не подумайте, что я на нее злюсь, вовсе нет! Она, в общем, не виновата, так получилось, ее можно только пожалеть. Живет как в коконе, варится в собственном соку — разве это жизнь для женщины? Мечтает целыми днями неизвестно о чем, предоставлена самой себе, кругом все ей потакают, смотрят в рот, вот она и думает, что ей все позволено и она может причинять боль близким людям, даже не задумываясь над тем, что далеко не у всех есть такие возможности, как у нее, и что людей может оскорблять ее высокомерие. Но, — добавил он таким тоном, будто отметал возможные вольности со стороны Дэнема, — она не пустышка, у нее есть вкус. Она рассудительна, с ней говоришь, она тебя понимает. Но она женщина, Дэнем, и этим все сказано, — усмехнулся Родни, не сбавляя шагу.
— Так ей прямо все и выложили? — поинтересовался Дэнем.
— Что вы, как можно? Кэтрин нельзя говорить правду в глаза — ей можно только выказывать свое обожание, не то поссоришься.
«Вот он и признался, что она ему отказала, теперь можно спокойно двигать домой», — присвистнул про себя Дэнем, а ноги сами несли его в противоположную сторону: он молча шагал рядом с Родни, мурлыкавшим себе под нос отрывки из моцартовских арий. Мы все знаем, что стоит только кому-то при нас разоткровенничаться, поделиться с нами личными секретами, как мы сразу проникаемся к собеседнику, сболтнувшему липшее, полу- снисходительным чувством симпатии. Вот и Дэнем шел и присматривался к Родни — что он за человек такой? — а Родни в свою очередь тоже прощупывал почву.
— Вы, наверное, как и я, — рабочая лошадка? — спросил он Дэнема.
— Да, в адвокатской конторе.
— Я вот думаю: и чего мы крутимся? Взять и бросить, а? Уехать за границу? Что вас держит, Дэнем?
— На мне семья.
— А мне вот иногда хочется уехать, но я знаю, что не смогу жить в другом месте. — Говоря это, Родни обвел рукой лондонский Сити: в этот ночной час он был похож на игрушечный город, вырезанный из серовато-синего картона и наклеенный на темно-синий фон. — Я не смогу жить без близких друзей, без хорошей музыки, без любимых картин — а что еще человеку нужно? И потом, я терпеть не могу дикарей! А вы? Вы любите книги? Музыку? Живопись? Знаете, я коллекционирую первые издания — это моя страсть. Хотите, поднимемся ко мне, я покажу вам парочку редких изданий? Просто повезло — купил дешево, дорогие вещи мне не по карману.
Родни снимал квартиру в верхнем этаже одного из домов постройки восемнадцатого века: небольшое старинное подворье. Взбираться пришлось
Глава 5
59
по узкой крутой лестнице; в незанавешенные окна на лестничных площадках светила луна; на полу лежали тени от резных перил, на подоконниках стояла посуда, кувшины с молоком. Квартирка у Родни была крошечная, зато окно гостиной выходило во внутренний дворик: там, среди каменных плит, росло одно-единственное дерево, а напротив виднелись фасады домов красного кирпича; словом, вся обстановка располагала к тому, чтобы вообразить, как из соседнего дома выходит совершить ночной променад восставший из мертвых доктор Джонсон собственной персоной3.
Родни, не мешкая, зажег лампу, задернул шторы, предложил Дэнему сесть и со словами: «Господи, сколько пены! Все закончилось, слава богу, можно отдохнуть» — швырнул на стол доклад о метафоре в елизаветинской поэзии.
Он ловко развел огонь в камине, накрыл на стол, как положено: рюмки, виски, торт, чашки с блюдцами; набросил себе на плечи малиновый выцветший халат, надел домашние мягкие туфли из красного сафьяна и, совершенно преобразившись, подошел к гостю, протягивая ему виски и книгу в дорогом переплете.
— Баскервильское издание Конгрива4, — произнес он с гордостью, поглаживая томик. — Не представляю, как можно читать Конгрива в современном издании.
Родни в домашней обстановке среди любимых книг и дорогих ему вещей, Родни — радушный хозяин, Родни — в длинном халате, мягкими крадущимися движениями напоминающий персидского кота, — вид этот благотворно подействовал на Дэнема: он невольно смягчился, ослабил критический настрой, почувствовав, что с Родни ему комфортнее, чем в любой другой мужской компании. Гостиная передавала характер своего хозяина — личности артистической, культивирующей множество интересов и, что важно, трепетно оберегающей свой драгоценный мир от вторжений грубой публики. Повсюду царил художественный беспорядок: на столе, на полу лежали стопки бумаг и книг, и среди этого книжного развала, стараясь ничего не смахнуть полами халата, очень ловко ступал Родни. На стуле, как на мольберте, стояла пачка репродукций картин и скульптур, — Родни постоянно менял их, выставляя по очереди на день или два то одну, то другую. Книжные полки были тесно уставлены аккуратными рядами томов — все они, как на подбор, тускло поблескивали золотым тиснением, точь-в-точь как бронзовые надкрылья жуков; правда, если вынуть томик, за ним открывался второй ряд корешков, победнее, пообтрепанней: липшего места на полках не было. На каминной доске, заваленной письмами, курительными трубками, коробками с сигаретами, стояло овальное зеркало венецианской работы — в его подернутой патиной дымке плавало желто-малиновое пятно
60
Вирджиния Вулф. День и ночь
стоявшей рядом вазы с цветами. В углу гостиной угнездилось кабинетное пианино: на пюпитре стояла партитура «Дон-Жуана»5.
— Ну что ж, Родни, по-моему, вы чудесно устроились, — доставая из кармана трубку, заметил Дэнем, обведя глазами комнату.
От его похвалы Родни так и просиял, но потом усилием воли погасил самодовольную улыбку собственника, ответив сдержанно:
— Да, неплохо получилось.
— Настолько неплохо, что, по-моему, вам никак нельзя бросать работу.
— Вы хотите сказать, что я обленился бы в такой обстановке, ничего не делая? Да, пожалуй, вы правы. Но мне все равно жаль, что я не могу распоряжаться собой так, как хочу.
— Напрасно, — отозвался Дэнем.
Наступила пауза; они молча сидели, курили, пуская кольца дыма, — казалось, над головами их голубеют нимбы.
— Представляете, каждый день по три часа читать Шекспира, — мечтательно сказал Родни. — Слушать музыку, ходить в картинные галереи, общаться с друзьями! Что может быть лучше?
— Вы бы скисли через год от такой жизни.
— Пожалуй, но ведь я не стал бы бездельничать. Я пишу пьесы!
— Ну, ну...
— Нет, серьезно! Я тут почти закончил одну вещицу, в праздники доделаю. По-моему, недурно получилось, местами даже весьма прилично.
Дэнем понял, что Родни ждет, что он попросит у него почитать рукопись, и взглянул на него украдкой: тот мелко колотил кочергой по углям — было видно, что его бьет дрожь, настолько ему не терпится поговорить о своей пьесе: его просто распирало от авторского тщеславия. Дэнем невольно оказался хозяином положения и отчасти поэтому пошел навстречу Родни.
— Д-дадите почитать? — предложил он, и Родни моментально успокоился, но, не желая подать виду, посидел с минуту перед камином, держа кочергу прямо перед собой на расстоянии вытянутой руки, разглядывая ее с разных сторон, шевеля губами, но ничего не говоря. Наконец выдавил из себя изменившимся голосом:
— Вы, наверное, из вежливости спрашиваете?
И, не дожидаясь ответа, выпалил:
— Поэзия ведь на любителя — вам это дело быстро наскучит.
— Посмотрим, — заметил Дэнем.
— Ну хорошо, по рукам, — сказал Родни, отложил кочергу и пошел в другую комнату за пьесой.
Пока его не было, Дэнем взял с книжной полки первый подвернувшийся том — оказалось изящно изданное собрание сочинений сэра Томаса Брау¬
Глава 6
61
на с «Погребальной урной», с «Гидриотафией», «Изобличением шахматного порядка», с «Садом Кира»6, и, открыв на том месте, которое он знал едва ли не наизусть, погрузился в чтение.
Вернулся Родни, сел на прежнее место, положил рукопись на колени и замер от удовольствия, поглядывая на читающего Дэнема: вытянувшись на стуле, доставая носками длинных худых ног до каминной решетки, соединив перед собой кончики пальцев, Родни блаженствовал. Наконец Дэнем захлопнул книгу, встал со стула и, не поворачиваясь к камину, забормотал что-то себе под нос — не иначе как из Томаса Брауна. Надел, не глядя, шляпу, бросив через плечо Родни — тот сидел в прежней позе и, не сводя глаз с каминной решетки, протягивал ему рукопись: «На днях загляну», — на что Родни отозвался неопределенно:
— Как будет угодно.
Дэнем взял рукопись и вышел.
Через пару дней, спустившись к завтраку, он обнаружил на столе рядом с тарелкой тоненькую бандероль с тем самым томиком сочинений сэра Томаса Брауна, которым он зачитался намедни в гостях у Родни. Послать благодарственное письмо он, правда, поленился, зато вспоминал о Родни с интересом, никак не связывая его с Кэтрин, и все намеревался зайти к нему вечерком и выкурить по трубочке. Родни доставляло удовольствие дарить друзьям полюбившиеся им вещицы; привычка эта, впрочем, сказывалась на составе его библиотеки — с каждым визитом в ней становилось на одну книгу меньше.
Глава 6
Какие минуты особенно предвкушаешь в начале рабочего дня, а потом мысленно возвращаешься к ним снова и снова за ежедневными хлопотами? Если попытаться вывести теорию из одного-единственного случая, то можно сказать, что такими драгоценными мгновениями для Мэри Дэчет были пять минут — между двадцатью пятью минутами десятого и половиной десятого утра. В эти пять минут ничто не нарушало ее покоя; она пребывала в завиднейшем расположении духа. Даже в ноябре луч утреннего света добирался до ее квартирки на самом верхнем этаже дома и яркими точными мазками ложился на штору, стул и ковер, высвечивая их зеленую, синюю и фиолетовую основу, — картина эта неизменно радовала глаз и согревала душу и тело.
Нагнувшись, чтобы зашнуровать ботинки, Мэри машинально вскидывала голову, словно хотела убедиться, что желтая полоска света там, где ей положено — между шторой и обеденным столом, — и редко когда она не выдыхала с благодарностью хвалу за то, что жизнь наградила ее мгновениями
62
Вирджиния Вулф. День и ночь
чистой радости. Она ничего ни у кого не отнимала, и при этом так упивалась простыми радостями бытия, вроде завтрака в тишине собственной комнаты, согретой теплыми красками, сияющей чистотой от дощатого пола до высокого потолка, что первое время никак не могла привыкнуть к своему счастью и все порывалась то извиниться перед кем-то, то найти прореху в своем нынешнем существовании. Она уже полгода как жила в Лондоне, а прореха все не обнаруживалась, впрочем, только потому, урезонивала она себя, туго завязав шнурки и выпрямляясь, что у нее есть работа. Дня не проходило, чтобы, стоя на пороге со свертком в руке и оглядывая напоследок жилище, она не говорила себе, как она рада, что уходит на целый день и ей не придется изнывать от безделья в одиночестве.
Она выходила из дому, заранее радуясь тому, что ее ждет работа и она, как все, встав с утра пораньше, спешит, слегка вытянув вперед голову, гуськом за прохожими по широким тротуарам, точно стараясь ступать след в след впереди идущего пешехода; Мэри даже придумала историю про муравьиную тропу, проложенную на асфальте тысячами упорных «тружеников». Ей нравилось думать, что она, как все, и чувство это обострялось в ненастную погоду, когда ей приходилось ехать в метро или садиться в омнибус; в такие дни, потолкавшись в толпе, промокнув, она ощущала свою солидарность с мелкими служащими, машинистками, коммивояжерами, и ее переполняла гордость от сознания того, что они все вместе делают одно общее дело — ставят мир на рельсы на следующие двадцать четыре часа.
Вот и сегодня утром она шла своим обычным маршрутом — сначала по Линкольнз-инн-Филдз, потом по Кингз-вей и дальше по Саутгемптон-роу, откуда рукой подать до ее конторы на Рассел-сквер. Задерживалась у витрин книжных лавок, цветочных магазинов, где еще только раскладывали товар и в глубине помещения царила утренняя суета. К служащим и продавцам Мэри относилась благосклонно, втайне желая им преуспеть в деле привлечения клиентов, — поутру, пока праздные да богатые нежатся в постелях, Мэри чувствовала себя заодно с трудовым людом: вместе они сила против их общего заклятого врага — ленивых толстосумов. А когда перешла через улицу возле Холборна, все ее мысли незаметно сосредоточились на работе, и она вмиг забыла, что она еще зеленый стажер без жалованья, что ей предстоит очень сильно постараться в жизни, чтобы ее заметили, не то чтоб там позволили ей ставить мир на правильные рельсы, — до сих пор мир не выказывал ни малейшей заинтересованности ни в Мэри, ни в тех благах, что ему сулило общество борьбы за освобождение женщин, на пользу которого она трудилась.
Всю дорогу до Саутгемптон-роу она высчитывала, как можно сэкономить на канцелярских принадлежностях (разумеется, не задевая чувства
Глава 6
63
миссис Сил), — дело в том, что Мэри была убеждена: в великих делах мелочей не бывает, любые, самые головокружительные, реформы осуществляются только тогда, когда в их основании лежит прочный, взвешенный в каждой детали фундамент, а в том, что Мэри Дэчет намеревалась стать великим деятелем и у нее был план перестройки их общества, сомневаться не приходилось, хотя сама она в этом никогда бы не призналась. Правда, в последнее время она пару раз останавливалась как вкопанная перед поворотом на Рассел-сквер и начинала ругать себя за то, что незаметно для самой себя впала в рутину, просыпается с одними и теми же мыслями; что стоит ей увидеть вереницу каштанового цвета домов на Рассел-сквер, как она тут же вспоминает о том, что пора им в их конторе наводить экономию и что ей надо привести мысли в порядок перед встречей с сослуживцами — с мистером Клактоном, миссис Сил, если случится так, что кто-то из них придет на службу раньше нее. Мэри была неверующая, и от этого ее требовательность к себе только обострялась; она была очень совестливой, время от времени подвергала собственные поступки беспощадному суду и страшно раздражалась от мысли, что какая-нибудь слабость может начать незаметно подтачивать драгоценный корень ее существования. Хорошо, ты женщина, вздрючивала она себя, а какой от этого прок, если у тебя взгляд замылился и тебе набила оскомину жизнь, полная сумасшедших идей и экспериментов? Мысленно дав себе пинка, она заворачивала за угол и, как ни в чем не бывало, насвистывая сомерсетширскую балладу, оказывалась перед дверью конторы.
Суфражистская контора помещалась в верхнем этаже большого дома на Рассел-сквер: когда-то он принадлежал богатому купцу, занимавшему его со своим семейством, — теперь же, судя по табличкам на дверях из матового стекла, его сдавали внаем, так сказать, по кусочкам, разным общественным организациям, причем каждый арендатор держал машинистку, которая целый день стрекотала на машинке. С десяти утра до шести вечера в старинном здании с массивной каменной лестницей стоял гул — стрекот печатных машинок перебивали только голоса курьеров. Когда Мэри вошла в здание, машинки тарахтели наперебой — кто-то торопился высказаться по поводу защиты прав исконного населения, кто-то насчет пользы употребления в пищу крупы; подгоняемая треском, доносившимся из-за дверей, Мэри пулей взлетела на верхний этаж, где располагалась их контора, и быстренько села за машинку, чтобы наверстать упущенное время.
Прежде всего она занялась текущей корреспонденцией и очень скоро позабыла обо всем на свете: на переносице у нее обозначилась характерная складка, и чем глубже «забирали» ее письма, чем чаще она ерзала на жестком конторском стуле, чем громче раздавались в соседней комнате голоса, тем сильнее росло ее напряжение. К одиннадцати утра она до того распали¬
64
Вирджиния Вулф. День и ночь
лась, работая в одном направлении, что никакая другая мысль не увлекала ее дольше, чем на секунду. А дело, которым она занималась, касалось организации нескольких благотворительных собраний, все сборы от которых должны были пойти на поддержку общества, срочно нуждавшегося в финансовой поддержке. Мэри впервые поручили организовать такое масштабное мероприятие, и она была полна решимости создать нечто выдающееся: по городам и весям Англии вычислить деятельных людей (и да поможет ей в этом неповоротливая бюрократическая машина!), пригласить их на неделю в Лондон на ассамблею, сам форум провести с блеском — так, чтобы кабинет министров обратил внимание на проблему, а дальше, когда правительству будет уже трудно делать вид, что эти вопросы его не касаются, развернуть шумную кампанию в защиту программы общества. Вот такой, в общих чертах, был у нее план, и она настолько воодушевилась, что с большой неохотой отвлекалась на мелочи, которые тем не менее постоянно встревали на ее пути к успеху. То и дело распахивалась дверь, на пороге вырастал мистер Клактон — ему, видите ли, срочно понадобилась какая-то листовка — и начинал рыться в кипе бумаг. Худой, как жердь, лет тридцати пяти, то ли блондин, то ли брюнет — непонятно, по выговору кокни, Клактон производил впечатление хронически недоедающего человека, которого когда-то в жизни обидели и теперь он со всеми скупердяйничает. Наконец листовка отыскивалась, Клактон отпускал свою вечную шутку насчет порядка на столе, порядка в голове, удалялся, и ровно в ту же секунду за стенкой, где трещала машинка миссис Сил, наступала тишина, и еще через секунду миссис Сил врывалась в закуток к Мэри, потрясая письмом и требуя разъяснений. Это вторжение было более серьезным, поскольку миссис Сил никогда не могла толком объяснить, зачем она пришла. Это была седая дама с короткой стрижкой в панбархатном платье цвета давленой сливы; раскрасневшиеся щечки пылали энтузиазмом доброхота; она всегда торопилась и всюду опаздывала. На массивной золотой цепочке, украшавшей ее грудь, висели два креста — этот разнобой, по мнению Мэри, подчеркивал внутренний сумбур, в котором пребывала миссис Сил. Ее спасали только две вещи: огромный энтузиазм и преданность мисс Маркем, стоявшей у истоков их общества; не будь этих обстоятельств, она давно лишилась бы своего места по причине полной профессиональной непригодности.
Так проскочило утро, на столе незаметно выросла гора писем, и у Мэри появилось чувство, будто она и есть главный узел в системе тончайших нервных окончаний, именуемой Англией, и что скоро наступит день, когда она коснется средостения волшебной палочкой, и все заискрится, засверкает фейерверком небывалых преобразований, — по крайней мере, так ей представлялось через три часа упорной работы.
Глава 6
65
Около часа дня мистер Клактон и миссис Сил свернули работу со словами «Пора заморить червячка» (они говорили это всякий раз, когда наступало время обеда: хоть бы раз придумали что-то новенькое!). Обычно мистер Клактон шел в вегетарианское кафе неподалеку, миссис Сил садилась в парке на Рассел-сквер и съедала принесенные из дому бутерброды, а Мэри направлялась в роскошное заведение, отделанное малиновым бархатом, и — в пику вегетарианцам — заказывала себе хороший стейк толщиной в палец или жаркое из птицы под соусом.
— Посмотришь на деревья в парке — и так хорошо на душе делается! — вздохнула миссис Сил, выглянув в окно.
— Но ведь деревьями сыт не будешь, Салли! — резонно заметила Мэри.
— Сытость сытости рознь, — ответил мистер Клактон. — Знаете, если бы я плотно ел в обед, как некоторые, я бы потом целый день клевал носом.
— Кстати, что интересного? — не обращая внимания на шпильку, спросила его Мэри, кивнув на желтый томик, который тот держал под мышкой: в обед Клактон не упускал случая почитать кого-то из французов или заскочить в картинную галерею, стараясь примирить общественную работу со страстью к искусству, которой он втайне очень гордился, как догадалась Мэри.
Выйдя на улицу, все трое разошлись в разные стороны. Мэри не хотелось, чтобы ее коллеги решили, что ей с ними скучно, и она успокаивала себя тем, что они все равно толстокожие. Купив вечернюю газету, она устроилась за столиком; читать не читала — больше посматривала по сторонам, удивляясь людским странностям: посетители заказывали пирожные, перешептывались; потом к ней подсела знакомая девушка по имени Элеонора, и они закончили обед вместе. Выйдя из ресторана на шумную улицу, они весело попрощались и, с наслаждением окунувшись в городской гомон, пошли по своим делам.
Но в контору Мэри сразу возвращаться не стала, а свернула к Британскому музею; поднялась на галерею с каменными плитами вместо сидений и отыскала свободное местечко — прямо напротив мраморных скульптур из коллекции лорда Элгина1. Сидела и любовалась, пока не растрогалась от полноты нахлынувших чувств и не ощутила, как ее существование наполняется неким возвышенным и прекрасным смыслом, — впрочем, последнее могло происходить не столько из-за особой красоты статуй, сколько из-за музейной обстановки: на галерее было тихо, прохладно и безлюдно. Во всяком случае, чувство ее точно не было сугубо эстетическим — иначе почему бы она вдруг задумалась о Ральфе Дэнеме, посмотрев минуту-другую на скульптуру Улисса? Ей было так хорошо среди этих безмолвных изваяний, что она чуть не воскликнула: «Я люблю тебя!» В присутствии этих величест¬
66
Вирджиния Вулф. День и ночь
венных нетленных творений она вдруг поняла, что влюблена, и обрадовалась собственной сдержанности, умению не выказывать на людях истинную силу своей привязанности.
Она справилась с обуревавшими ее чувствами, поднялась и стала без всякой цели кружить по галерее, пока не оказалась в другой части музея, где были выставлены обелиски с выбитыми на них надписями и крылатые ассирийские быки: тут ее мысли приняли другой оборот. Ей представилось, что они вдвоем с Ральфом путешествуют по пустыне среди этих полузане- сенных песками древних чудищ. Она наклонилась, читая надпись под музейным стеклом, а сама шептала про себя: «Ведь тебе все по плечу, и у тебя нет предрассудков — редкие качества в умном человеке». В воображении она рисовалась самой себе сидящей верхом на верблюде посреди песков, а Ральф представлялся ей предводителем местного племени.
«Ты все можешь, — шептала она про себя, переходя к другому экспонату. — Тебя все слушаются».
Она воодушевилась, глаза горели, и все же, покидая музей, она ни за что не призналась бы себе в том, что еще несколько минут назад она готова была воскликнуть: «Я люблю тебя!» На самом деле она была недовольна собой за эту невольную слабость и уже заранее внутренне готовилась к отпору подобных непозволительных сантиментов. По дороге в контору ей вспомнилось, как резко она всегда отметала любые поползновения увидеть в ее отношениях состояние влюбленности. Замужество не для нас! Что за ребячество — выдавать за любовь их с Ральфом кристально чистую дружбу, когда их связывает вот уже как два года один общий бесспорный интерес: как расселить бедняков и ввести налогообложение для богатых землевладельцев.
Но почему-то вторая половина дня не задалась: Мэри то и дело засматривалась на птичек за окном, рисовала на промокашке ветви платанов... Из- под двери кабинета мистера Клактона тянуло сигаретным дымом — судя по всему, у него не переводились посетители, а миссис Сил ушла с головой в чтение газет: она вырезала интересные заметки, каждый раз громогласно заявляя: «Потрясающе!», «Редкостная дребедень!» Газетные вырезки были ее страстью: она наклеивала их в записную книжку или посылала друзьям, предварительно отчеркнув толстым синим карандашом самое интересное место, причем было непонятно, то ли она выражает таким образом свое восхищение автором, то ли полное свое пренебрежение.
Случилось так, что в тот день около четырех пополудни по Кингз-вей шла Кэтрин Хилбери. Наступал вечер, зажглись фонари — самое время выпить чашку чаю; она замедлила шаг, ища, где бы найти уютное место, посидеть у камина, поболтать... Домой идти не хотелось — уличная сутолока и сумеречная дымка располагали к чему-то иному; приподнятое настроение
Глава 6
67
смутно сочеталось с обстановкой кафе в одном из магазинов. Правда, там будет не с кем поговорить. Тут она вспомнила настойчивое приглашение Мэри Дэчет и, недолго думая, воодушевленная одной мыслью о скорой встрече, свернула на Рассел-сквер, принявшись по номерам домов искать нужный адрес. Нашла: тускло освещенный коридор, швейцара нет, за турникетом сидит вахтер. Нет, не знаю никакой Мэри Дэчет, отвечает он, первый раз слышу. Она случайно не из С.Р.Ф.Р.?2 Кэтрин только улыбнулась в ответ и пожала плечами. И тут кто-то из сменщиков пришел на выручку, подсказал: «Да нет, она из С.Г.С.3 — это на верхнем этаже».
Кэтрин обошла весь верхний этаж, дверь за дверью, и, не найдя нужной надписи, решила, что напрасно она все это затеяла. Оставалась последняя дверь, в самом конце коридора, — прежде чем позвонить, Кэтрин немного постояла, переводя дух и собираясь с мыслями. За дверью раздавался шум печатной машинки и слышались чужие голоса — Кэтрин не припоминала, чтобы кто-то из ее знакомых говорил таким приказным тоном. И все же она решилась, позвонила, и в ту же секунду ей открыла Мэри Дэчет собственной персоной. Мэри просияла, увидев Кэтрин:
— Здравствуйте! То есть здравствуй! А мы думали, это из типографии.
Она пропустила гостью вперед, а сама крикнула соседям:
— Ошиблись, мистер Клактон, это не типографщики. Советую, позвоните им еще раз: две тройки, две восьмерки, Центральная. — И, обращаясь уже к Кэтрин: — Какой приятный сюрприз! Заходи, Кэтрин, выпей с нами чаю.
Мэри излучала радость — и куда девалась ее полуденная скука? — и потом, здорово получилось, что Кэтрин зашла к ним в тот самый момент, когда у них все горело из-за того, что типография не вернула вовремя корректуру.
На секунду Кэтрин ослепил свет электрической лампы без абажура, падающий прямо на заваленный бумагами стол: зайдя в комнату с вечерней улицы, сосредоточенная на своих мыслях, Кэтрин подумала: «Вот где жизнь бьет ключом!» Она машинально повернулась к окну, благо оно было не зашторено, но Мэри перехватила ее взгляд.
— Ты молодец, что к нам зашла, — сказала она, и от этих слов Кэтрин почувствовала себя в полной растерянности: она стояла посреди комнаты, не понимая, зачем она здесь. Мэри и сама видела, что Кэтрин в конторской обстановке выглядит белой вороной: ее длинный, падающий глубокими складками плащ, выражение невольного сомнения, застывшее в тонких чертах лица, — все это выдавало в Кэтрин человека из другого мира, а значит, ее мир, мир Мэри, был в опасности. Мэри моментально озаботилась тем, как побыстрее, пока не подошли миссис Сил и мистер Клактон, сгладить возможное отрицательное впечатление, представив свой мир с самой достойной стороны. Но, к сожалению, не успела: в комнату вломилась миссис Сил, шлеп¬
68
Вирджиния Вулф. День и ночь
нула чайник на плитку, впопыхах включила газ и тут же неловким движением затушила конфорку.
— Вот всегда так, всегда так, — проворчала она. — У Кит Маркем получается, а у меня нет.
Мэри сама зажгла плитку, потом они вместе накрыли на стол и расставили чашки, не переставая извиняться за скромное угощение.
— Это надо же, встречаем Кэтрин Хилбери без торта, — повторила Мэри, и миссис Сил покосилась на гостью: это что же за птица такая, что ее с тортом встречать надо.
Тут в комнату вошел, на ходу читая письмо, мистер Клактон.
— Представляете, — сказал он, — в наши ряды влился Солфорд: они открыли у себя филиал.
— Так держать, Солфорд! — победно воскликнула миссис Сил и в знак одобрения стукнула заварочным чайником о стол.
— Да, похоже, областные центры просыпаются понемногу, — заметил мистер Клактон, сухо здороваясь с мисс Хилбери, которую представила ему Мэри. — Интересуетесь нашей деятельностью? — рассеянно спросил он гостью.
— А что, корректура так и не подошла? — спросила миссис Сил, широко расставив локти и навалившись грудью на стол, — Мэри в это время разливала чай. — Никуда не годится — ни-ку-да! Того и гляди, иногороднюю почту пропустим. Кстати, мистер Клактон, вы не думаете, что нам следует познакомить провинцию с недавней речью Партриджа? Что вы сказали? Не читали?! Напрасно! Это же лучшее из всего, что прозвучало на последней парламентской сессии. Сам премьер-министр...
— Салли, — оборвала ее Мэри, — мы же договаривались: за столом о делах не говорим. Нарушил уговор — плати пенс. Потом мы складываемся, — пояснила она, обращаясь к Кэтрин, — и покупаем сливовый торт к чаю. Но Салли вечно заносит...
Поняв, что в компании коллег ей все равно не удастся произвести должного впечатления на Кэтрин, Мэри махнула рукой на церемонии.
— Каюсь, каюсь, — извинилась миссис Сил. — Энтузиазм — моя слабость, — сказала она, поворачиваясь к Кэтрин. — Это у меня от отца. В каких только общественных комиссиях я не работала: и по делам сирот и беспризорников, и в Комитете спасения, и в комиссии по делам церкви, и в региональном филиале К.О.С.4, а ведь на мне еще висели обычные домашние обязанности! И представьте, я от всего отказалась ради работы здесь и ни секунды об этом не жалею, — добавила она. — Тут решается главный вопрос, я нутром это чувствую. Пока женщины не добьются избирательного права...
Глава 6
69
— Салли, — Мэри стукнула кулачком по столу, — штраф — шесть пенсов! И хватит о женщинах и избирательном праве — до смерти надоело слушать одно и то же!
Миссис Сил так и осталась сидеть с открытым ртом, потом сделала вид, что ослышалась, цокнула неодобрительно языком, переводя взгляд с Кэтрин на Мэри, и покачала головой. Потом сказала, наклонившись к Кэтрин и кивая в сторону Мэри:
— Не слушайте ее, она пашет больше нашего. Это в ее-то молодые годы!.. Когда мне было столько, сколько ей, я так не могла, семья и все такое... — вздохнула она и замолчала.
Разговор подхватил мистер Клактон: он повторил свою шутку насчет обеденного перерыва, который миссис Сил проводит, вне зависимости от погоды, в парке под деревьями, питаясь сухой корочкой, — послушать его, решила про себя Кэтрин, так миссис Сил все равно что цирковая собачка, натасканная на разные трюки.
— Да, признаюсь, — отозвалась миссис Сил виноватым тоном, словно ребенок, которого в чем-то уличили родители, — люблю посидеть на свежем воздухе, это успокаивает, и на душе так хорошо делается, когда смотришь на голые деревья, небо... Только я больше не буду — не буду гулять в парке, — добавила она, нахмурившись. — Несправедливо получается! У меня целый великолепный парк, а у бедных усталых женщин — ничего, понимаете?
Она грозно посмотрела на Кэтрин, тряхнув коротко остриженной головой.
— Надо изживать в себе тирана, но это так трудно! Хочется жить достойно, а не получается. Ведь если подумать, то все парки нужно сделать общедоступными. Скажите, мистер Клактон, разве нет общества, работающего в этом направлении? Если нет, то его надо создать.
— Отличное предложение! — деловито отозвался мистер Клактон. — Единственное возражение, миссис Сил: нам не следует потворствовать дальнейшему разрастанию организаций. Даром потраченные усилия, не говоря уже о выброшенных на ветер фунтах, шиллингах и пенсах. Вам известно, мисс Хилбери, — спросил он, изобразив на лице подобие улыбки, словно желая подчеркнуть легкомысленность вопроса, — сколько в одном лондонском Сити насчитывается благотворительных организаций?
В ответ Кэтрин только улыбнулась, и тут Клактон, который вообще-то не отличался особой наблюдательностью, впервые отметил про себя, что эта молодая особа выделяется на общем фоне, и это обстоятельство его заинтриговало; собственно, именно отрешенный вид Кэтрин и ее непохожесть на всех остальных и побудили миссис Сил попытаться обратить девушку в их
70
Вирджиния Вулф. День и ночь
веру. Да и Мэри тоже лезла из кожи вон, лишь бы Кэтрин слегка оттаяла. А та и ухом не вела: всё отмалчивалась, и Мэри поневоле начинала думать, что за серьезным, задумчивым видом Кэтрин скрывается молчаливое осуждение.
— Ну смотрите, — проронила наконец Кэтрин, — в одном этом здании не сосчитать организаций: на первом этаже вы организуете защиту местных жителей, на втором — помогаете женщинам выехать за границу, на третьем — рекламируете ореховую диету...
— А почему это «мы»? — оборвала ее Мэри. — Мы вовсе не несем ответственности за уродов, которые арендуют помещение в одном здании с нами.
Мистер Клактон крякнул и, подняв глаза, внимательно посмотрел сначала на одну, потом на другую барышню: мисс Хилбери поразила его своей внешностью и манерами, — судя по всему, она была из мира тех утонченных и высококультурных личностей, о котором он всегда мечтал; Мэри же была одного с ним поля ягода, только почему-то слишком заносилась. Он собрал крошки печенья и быстренько отправил их в рот.
— Так вы не наша? — спросила миссис Сил.
— Нет, что вы! — ответила Кэтрин с такой обезоруживающей прямотой, что миссис Сил просто опешила и смотрела на нее, не зная, что сказать, не понимая, к какому разряду человеческих особей отнести этот неизвестный ей вид.
— Но, разумеется... — выдавила она из себя.
— Миссис Сил — большая энтузиастка своего дела, — чуть не извиняясь, вмешался мистер Клактон. — Ей кажется, что все должны думать одинаково, хотя на самом деле это не так... Кстати, «Панч»5 дал забавную карикатуру на суфражистку и сельского рабочего. Мисс Дэчет, вам не попадалась в последнем номере?
— Нет, расскажите, — предложила Мэри.
И мистер Клактон попытался как мог передать соль шутки, хотя было понятно, что смысл карикатуры во многом определялся мимикой, которую художник изобразил на лицах персонажей. Надо было видеть миссис Сил — она сидела с каменным выражением лица. Потом выпалила в сторону Кэтрин:
— Но вы же хотите, чтобы женщины добились избирательного права, ведь так? Вы же не враг своему полу?
— По-моему, я не говорила, что я против избирательного права, — резонно заметила та.
— Тогда почему вы не вступаете в наше общество? — в лоб спросила миссис Сил.
Глава 6
71
Кэтрин ничего не ответила, просто сидела, опустив взгляд, помешивая ложечкой чай. А у мистера Клактона созрел вопрос, который он, не без колебаний, и задал гостье:
— Скажите, пожалуйста, вы случайно не родственница поэта Элардиса? Я слышал, его дочь замужем за мистером Хилбери.
— Да, — с едва заметным вздохом сказала Кэтрин и добавила: — я его внучка.
— Как? — воскликнула миссис Сил, обращаясь больше к самой себе и встряхивая головой, точно прогоняя наваждение. — Внучка самого поэта?
В глазах мистера Клактона зажегся интерес.
— Я так и думал. Очень любопытно, — сказал он. — Я ведь в долгу перед вашим дедушкой, мисс Хилбери. Было время, когда я знал наизусть почти все его стихи, но, к сожалению, с годами перестаешь читать поэзию... Вы, наверное, своего деда не помните?
В этот момент в дверь громко постучали, и ответа Кэтрин никто не расслышал. Обнадеженная стуком, миссис Сил воскликнула:
— Ура! Корректура! — и бросилась открывать.
— А, это вы, мистер Дэнем... — вздохнула она, возвращаясь в комнату, — она даже не потрудилась скрыть свое разочарование. Кэтрин решила, что Ральф часто захаживает в контору, поскольку поздоровался он только с ней, к тому же Мэри поспешила объяснить странный факт появления у них гостьи:
— Кэтрин зашла посмотреть, как у нас идут дела.
Тут Ральф не преминул вставить шпильку:
— Да, Мэри, конечно, знает, как вести дела.
— А разве нет? — переспросила Кэтрин, недоуменно переводя взгляд с Ральфа на Мэри.
Тут все заметили, что миссис Сил встряхнула головой, выказывая беспокойство, а когда Ральф достал из кармана письмо и ткнул пальцем в нужное место, ее будто прорвало:
— Минуточку, минуточку, мистер Дэнем, сейчас я все объясню. Понимаете, был присутственный день у Кит Маркем, а она, сами знаете, какая... энергия бьет через край, все время появляются новые идеи, что нам делать и почему мы сидим сложа руки и ждем, — в общем, я перепутала даты, понимаете? Уверяю вас, Мэри тут ни при чем.
— Дорогая Салли, не извиняйтесь, — успокоила ее Мэри. — Мужчины сами виноваты: строят из себя педантов, а отличить важное от мелочи не могут.
— Ну же, Дэнем, поддержите честь мундира, — как бы в шутку начал было подначивать Ральфа мистер Клактон, но быстро стушевался: как боль¬
72
Вирджиния Вулф. День и ночь
шинство мелких людей, он не выносил критики со стороны женщин и в любом споре с дамами называл себя не иначе, как «маленьким человеком». К тому же ему вовсе не хотелось спорить — он горел желанием поговорить с мисс Хилбери о литературе.
— Вам не кажется странным, мисс Хилбери, — обратился он к Кэтрин, — у французов так много выдающихся писателей, а нет поэта, который мог бы сравниться с вашим дедом? Посудите сами. Да, у них есть Шенье, Гюго, Альфред де Мюссе6 — никто не спорит, замечательные поэты, но ни у одного из них нет той роскоши, той свежести, какие отличают нашего Элардиса.
Тут зазвонил телефон, Клактон улыбнулся, развел руками и ретировался, всем своим видом показывая, что поэзия поэзией, а работа все-таки важнее. Поднялась из-за стола и миссис Сил, но не раньше, чем произнесла филиппику против правящей партии:
— И не просите, мистер Дэнем, — рассказывать о закулисных интригах и о власти кошелька не буду; скажу только, что вещи творятся невероятные, просто невероятные. Говорю это как истинная дочь своего отца, а ведь он был одним из первопроходцев, мистер Дэнем, и я недаром заказала выбить на его надгробье цитату из псалма про сеятелей и семена...7 Чего я только сегодня не отдала бы за то, чтобы он был с нами и увидел то, что скоро увидим мы... — Тут она осеклась — не иначе как вспомнила, что будущие свершения зависят отчасти от скорости ее печатной машинки, — кивнула на прощанье и шмыгнула в свой закуток; в ту же секунду из-за стенки донесся громкий, правда с перебоями, стрекот клавиш.
Мэри сразу переключилась на общие темы, давая понять, что не собирается обсуждать чудачку-коллегу у нее за спиной и другим не позволит над ней смеяться.
— По-моему, воспитание находится на ужасающе низком уровне, — заметила она задумчиво, наливая себе вторую чашку чаю, — в первую очередь у женщин: им не хватает образованности. Они не понимают, что бес кроется в деталях, что в деле не бывает мелочей, сыр-бор всегда начинается из-за пустяков — вчера я чуть не рассердилась. — При этих словах она кисло улыбнулась Ральфу, словно намекая на то, что он-то знает, что бывает, когда она сердится. — Меня страшно выводит из себя, когда люди врут мне в глаза. А тебя? — спросила она Кэтрин.
— Ну если исходить из того, что все люди лгут... — рассеянно ответила Кэтрин, шаря глазами по комнате, пытаясь вспомнить, где она оставила свой зонт и сверток, — она почувствовала себя лишней в компании Ральфа и Мэри, которые понимали друг друга с полуслова. А для Мэри было важно, чтобы Кэтрин осталась, — во всяком случае, так ей казалось — в присутст¬
Глава 6
73
вии третьего лица ей будет легче укрепиться в своем намерении не поддаваться чувству влюбленности.
Ральф поставил чашку на стол, сказав себе, что, если мисс Хилбери соберется уходить, он уйдет вместе с ней.
— По-моему, я не лгу, и Ральф, по-моему, тоже не лжет, правда, Ральф?— продолжала Мйри.
В ответ Кэтрин только рассмеялась, и Мэри не поняла, чем вызвана такая веселая реакция. Над чем или над кем она смеется? Уж не над ней ли? Встав из-за стола, Кэтрин задержалась, оглядываясь, — скользнула взором по стеллажам и полкам, по всей этой конторской механике, как бы припечатывая все сверху насмешливым взглядом, — а Мэри смотрела на нее в упор, на эту беззаботную птичку с ярким хохолком: порхает с ветки на ветку и по первому же капризу склевывает самую сладкую вишенку. «Надо же, какие разные женщины!» — подумал Ральф, наблюдая за ними со стороны; рывком встал из-за стола и, кивнув на прощанье Мэри, в унисон с прощавшейся Кэтрин, открыл перед девушкой дверь, и они вместе вышли.
Мэри как сидела, так и осталась сидеть на месте. С нескрываемым раздражением смотрела на захлопнувшуюся дверь, пока в душе ее не шевельнулось какое-то сомнение, — она было заколебалась, но потом решительно отставила чашку и принялась убирать со стола.
Ральф действовал по наитию, подсказанному каким-то внутренним знанием, и поэтому сказать, что им руководил порыв, нельзя. Его вдруг осенило, что если сейчас он упустит возможность поговорить с Кэтрин, то, придя домой, будет терзаться, упрекая себя в позорной нерешительности. В конце концов, лучше пережить несколько неприятных минут разговора, чем целый вечер потом оправдываться перед самим собой, зная, что он никогда не простит себе подобной оплошности. Дело в том, что после того посещения семейства Хилбери образ Кэтрин не давал ему покоя: он вдруг всплывал в голове в минуту одиночества и говорил то, что Ральфу хотелось услышать; он сопровождал его в вечерних бдениях по городским улицам, когда Ральф шел из конторы домой, воображая, каким он выйдет победителем в одном судебном деле, в другом... Оказаться же рядом с Кэтрин, так сказать, во плоти означало одно из двух: либо ее образ получит свежую подпитку, которая, как знает любой мечтатель, необходима для того, чтобы образ продолжал жить, либо же этот фантом окажется настолько призрачным, что отомрет сам собой, — что тоже было бы неплохим исходом для человека с развитым воображением. И хотя Ральф умом понимал, что сама-то Кэтрин в его грезах не присутствует, его потрясло то, что, когда они остались с ней вдвоем, он вдруг понял, что она не имеет ничего общего с тем образом, который он создал.
74
Вирджиния Вулф. День и ночь
Выйдя на улицу, Кэтрин недоуменно и не без раздражения покосилась на своего спутника. Она тоже думала о своем, и именно в этот вечер ей хотелось остаться наедине со своими мыслями. Ее бы воля, она, не мешкая, спустилась бы по Тотнем-Корт-роуд, села бы в такси — и прямехонько домой. Посещение конторы оставило у нее впечатление какого-то наваждения: в верхней каморке заколдованной банши замка живут затворниками трое — миссис Сил, Мэри Дэчет и мистер Клактон; по углам свисает паутина, на столах разложены приспособления для хиромантии — настолько нереальной и далекой от привычного мира показалась ей эта картина: вся эта чертовщина, творящаяся под крышей дома, где стучат, отбивают заклинания, гонят какую-то гремучую смесь, забрасывают тонкие паучьи сети в уличный водоворот бесчисленные печатные машинки.
То ли она почувствовала, что сгустила краски, мысленно рисуя конторскую обстановку, то ли еще отчего-то, но обсуждать это с Ральфом ей не хотелось. Она догадывалась, что в его глазах окруженная печатными машинками Мэри Дэчет, строчащая листовки для членов правительства, была воплощением всего самого интересного и подлинного в жизни; а раз так, то она может со спокойной душой вынести их обоих за скобки; и, отдавшись на волю шумных, запруженных вечерней публикой улиц в ожерельях сверкающих фонарей и зажженных окон, она чуть было не забыла о своем спутнике. Она летела на всех парусах, рассекая толпу прохожих, двигавшихся в противоположном направлении, и от этого их с Ральфом бросало в разные стороны, как при сильной качке. Но Кэтрин даже в этой неудобной обстановке находила возможность поддерживать светскую беседу:
— По-моему, Мэри Дэчет чудесно справляется со своей работой... Вам не кажется, что она очень ответственная?
— Да, от остальных толку мало... Она вас часом не обратила в свою веру?
— Нет, что вы! Я уже не в том возрасте.
— Я не об этом — она не предлагала вам с ними поработать?
— Упаси боже — это совершенно исключено!
Так они и неслись на всех парах по Тотнем-Корт-роуд, то разбегаясь в разные стороны, то снова сходясь, и у Ральфа было такое чувство, будто он пытается докричаться до верхушки тополя во время бури.
— Может, прокатимся? — предложил он, показывая на подошедший омнибус.
Кэтрин кивнула, они запрыгнули и поднялись наверх — там не было ни души.
— А вам куда? — спросила Кэтрин, словно очнувшись от забытья, в которое ее привел стремительный проход по шумным улицам.
— Мне в Темпл, — на ходу придумывая адрес, ответил Ральф.
Глава 6
75
Омнибус тронулся, и, сидя рядом с девушкой, Дэнем почувствовал, как она отдалилась. Ему казалось, она смотрит мимо него прямо перед собой на бегущий впереди проспект и прямой взгляд ее печальных глаз бродит где-то далеко-далеко... Налетевший порыв ветра чуть не сорвал с нее шляпу; привычным движением она вынула заколку и приколола шляпу покрепче — этот жест покорил Ральфа своей беззащитностью. Он представил ее без головного убора с растрепанной прической, а рядом себя, вручающего ей спасенную шляпу.
— Похоже на Венецию, — заметила она, обводя рукой улицу. — Там тоже полно автомобилей, все мчатся на большой скорости, с зажженными фарами.
— А я в Венеции не был, — ответил Ральф. — Я отложил ее на потом, как, впрочем, и кое-что другое.
— Что именно? — уточнила она.
— Венецию, Индию, ну и Данте, наверное.
Она рассмеялась.
— Нашли что откладывать на черный день! Ну а если бы представился случай поехать в Венецию прямо сейчас, вы бы согласились?
Точно не слыша вопроса, он раздумывал про себя, сказать ей или не сказать правду, и наконец решился.
— Когда я был еще маленьким, я распланировал свою жизнь по кусочкам, чтобы растянуть удовольствие. Видите ли, я все время боюсь что-то упустить...
— И я тоже! — воскликнула Кэтрин. — Правда, вам-то, — добавила, — чего бояться?
— Как чего? Я беден, вот чего, — заявил Ральф. — Это вы можете сколько угодно ездить в Венецию, в Индию, наслаждаться Данте.
Кэтрин ничего на это не ответила, — она сидела, сняв перчатки, держась голой рукой за поручень, и думала обо всем сразу: взять хотя бы то, что этот странный молодой человек произнес имя Данте тем же тоном, каким его всегда произносили при ней, и потом, оказывается, — совершенно неожиданно, — что его самоощущение ей тоже знакомо. Получается, у них могут быть общие интересы, надо только узнать его получше, а поскольку она давно записала его в черный список неприятных личностей, то она замолчала, не зная, что сказать. Она вспомнила свое первое впечатление, которое составила в кабинете, где хранятся семейные реликвии, и быстренько перечеркнула его в уме — так, найдя верную фразу, зачеркивают прежнюю, неудачную.
— Да, вроде бы могу, — подхватила она слова Ральфа. — Только это не значит, что так и есть, — скомкала она фразу. — Например, разве я могу по¬
76
Вирджиния Вулф. День и ночь
ехать в Индию? И потом... — начала она горячо и осеклась. Подошел контролер, и разговор прервался; Ральф все ждал, что она вернется к своим словам, но она молчала.
— Я хотел бы передать кое-что вашему отцу, — нарушил молчание Ральф. — Как, думаете, лучше поступить: передать вам на словах или зайти?
— Лучше зайдите, — ответила Кэтрин.
— Только я все равно не понимаю, почему вы не можете поехать в Индию, — начал было снова Ральф, видя, что она порывается встать, чтобы сойти на ближайшей остановке.
Задержать ее ему не удалось: она попрощалась на ходу и в один миг упорхнула, не дав Ральфу опомниться, хотя он вроде бы уже знал за ней эту порывистую манеру. Он посмотрел вниз на мостовую: она стояла на перекрестке, дожидаясь нужного сигнала, — прямая как струна, — а потом стремительно, легко перешла на другую сторону. Он сохранит в памяти этот образ, добавив его к копилке воспоминаний, но самое главное даже не это: придуманного им фантома больше не существовало — его затмила реальная женщина.
Глава 7
— И тут малыш Август Пэлем мне заявляет: «Это молодое поколение стучится в дверь», а я ему: «Знаете, мистер Пэлем, молодые обычно входят без стука». Кажется, ну что я такого сказала, но он все равно аккуратно записал мои слова в свою книжечку.
— Нам остается только поздравить себя с тем, что мы не увидим сие творение опубликованным, — мы давно уже будем в могиле, — заметил мистер Хилбери.
Родительская чета пребывала в ожидании звонка к обеду и дочери — та запаздывала. Кресла их располагались по обе стороны камина, они оба сидели, слегка ссутулившись, не отрывая глаз от горящих углей, — знакомая поза людей, немало повидавших на своем веку и не собирающихся сдаваться без боя. Все внимание мистера Хилбери в эту минуту было поглощено крошечным угольком, скакнувшим за каминную решетку: его старательно пытались вернуть на прежнее место, в кучку весело потрескивавших собратьев. Миссис Хилбери наблюдала эту немую сцену, улыбаясь своим мыслям, снова и снова возвращаясь к недавним событиям.
Но вот уголек водворен на место, и мистер Хилбери опять принял прежнюю позу — откинулся в кресле, сразу весь как-то обмяк, машинально перебирая пальцами зеленый камушек на брелоке с часами. Казалось, взгляд его глубоко посаженных круглых глаз, устремленный на языки пламени,
Глава 7
77
лишь отражает огонь, однако живость его карим глазам придавал не отсвет угольков, а дух пытливый и неугомонный, который прятался в глубине его существа. И все же общее выражение его лица, вкупе с вялой позой, выдававшей в нем скептика или просто умного человека, который не покупается на комплименты или скоропалительные выводы, было почти страдальческим. Посидев так какое-то время, он вздохнул — такое впечатление, будто он дошел до логического конца в своих размышлениях и убедился в их тщетности, — и потянулся было за книгой, лежавшей рядом на столике.
Только раскрыл — тут вошла Кэтрин, и родители невольно залюбовались дочерью: в светлом вечернем платье она была необыкновенно свежа, и ее юный вид навел их на мысль, которая раньше не приходила им в голову. Рядом с дочерью родители почувствовали новый прилив сил оттого, что их знания и опыт еще могут пригодиться в мире, где все так молодо-зелено.
— Твое единственное оправдание, Кэтрин, — то, что обед еще не подоспел, — в шутку заметил мистер Хилбери, снимая очки.
— Ее главное оправдание — она сама! — возразила миссис Хилбери, любуясь дочерью. — Хотя, конечно, я волнуюсь, когда ты поздно задерживаешься. Надеюсь, ты ехала домой на такси?
Тут объявили, что обед подан, и глава семейства, взяв супругу под руку, торжественно повел своих дам вниз, в столовую. Все трое были в вечерних нарядах, и, надо отдать должное, обстановка в обеденном зале соответствовала торжественности момента: ненакрытый стол сверкал голубым фарфором; посередине стола в вазе курчавились желто-рыжие хризантемы, и среди них выделялась одна — белоснежная, свежайшая, с упругими, завивавшимися внутрь лепестками. Сверху на всю эту красоту взирали с настенных портретов три великих викторианских писателя, причем подлинность каждого полотна удостоверяла личная подпись на полоске бумаги, белевшей под картиной: «искренне Ваш», «нежно предан» или «всегда Ваш». Будь воля отца и дочери, они бы с удовольствием промолчали весь обед или ограничились парой беглых фраз, не предназначенных для чужих ушей. Но миссис Хилбери угнетало молчание за столом: она не только не возражала против присутствия за обедом прислуги — наоборот, она всячески втягивала слуг в разговор, и ее совершенно не волновало, что они о ней подумают. Войдя в столовую, она сразу указала на тусклое освещение и велела зажечь верхний свет.
— Вот так веселее! — воскликнула она. — Ты знаешь, Кэтрин, кто сегодня заходил на чай? Этот надутый индюк! Мне так тебя не хватало! Он все время норовил сказать экспромт, и я так за него волновалась — вдруг у него не получится? знаешь, как бывает? — даже чай пролила.
— Отец, о ком речь? — спросила Кэтрин.
78
Вирджиния Вулф. День и ночь
— Разумеется, о нем, об Августе Пэлеме, — вмешалась миссис Хилбе- ри, — среди моих подопечных, к счастью, есть только один остряк, который пишет эпиграммы.
— Слава богу, меня не было дома, — вздохнула с облегчением Кэтрин.
— Вот всегда вы так! — воскликнула миссис Хилбери. — Бедный Август! Мы к нему слишком строги, а ведь он так нежно ухаживает за своей несчастной матушкой.
— Только потому, что она его мать, — откликнулась Кэтрин, — и это положительно характеризует его в глазах окружающих.
— Какие вы оба, однако... — замешкалась миссис Хилбери, — как это говорится? Тревор, — обращаясь к мужу, — есть такое длинное латинское слово, — и ты, и Кэтрин, вы, конечно, понимаете, о чем я?
— Циничные, — подсказал мистер Хилбери.
— Вот-вот, циничные... Я вообще против того, чтобы девочек посылали учиться в колледжи, но, право, некоторым школа не помешала бы. Есть в этом что-то очень достойное — тонко намекнуть и незаметно перейти к следующей теме. Не знаю, что на меня нашло... представляете, у меня совершенно вылетело из головы, когда мы разговаривали с Августом, имя той дамы, в которую был влюблен Гамлет, а подсказать было некому — ты ушла гулять, Кэтрин, — представляю, что Август напишет обо мне в своем дневнике...
— Жаль, что... — вырвалось у Кэтрин, но она тут же осеклась: в компании матери ей всегда легко думалось и говорилось, но сейчас они были не одни — к их разговору внимательно прислушивался отец.
— Так чего тебе жаль? — переспросил он. Он часто заставал дочь врасплох, задавая ей неожиданные вопросы, на которые ей волей-неволей приходилось отвечать, и дело всегда заканчивалось спором, в котором миссис Хшлбери не участвовала, — видно было, что мысли ее витают далеко.
— Жаль, что мама так знаменита, — вот что я хотела сказать. Я сегодня зашла в гости, и разговор зашел о поэзии.
— Так, так... Кто-то решил, что ты тоже пишешь стихи, и тебе пришлось доказывать, что это не так?
— А кто завел с тобой разговор о поэзии? — поинтересовалась мать, и тут уж Кэтрин было не отвертеться: пришлось рассказать родителям о своем походе в суфражистскую контору.
— Они помещаются на верхнем этаже старого дома на Рассел-сквер. В жизни не встречала таких чудаков. Один из них догадался, что я внучка поэта, и принялся расспрашивать меня о стихах. В конторской обстановке даже Мэри Дэчет смотрится иначе.
— Да, конторская жизнь сушит душу, — заметил мистер Хилбери.
Глава 7
79
— Я не помню, чтобы прежде, когда мама жила на Рассел-сквер, там были конторы, — будто размышляя вслух, сказала миссис Хилбери, — и я не представляю, как можно превратить просторные старинные залы в душные тесные каморки. Правда, если служащие в этой суфражистской конторе читают стихи, дела не так плохи.
— Но, понимаешь, они читают стихи совсем не так, как мы! — горячо возразила Кэтрин.
— И все равно приятно, что они читают твоего дедушку, а не корпят целыми днями за разными скучными бумагами, — не сдавалась миссис Хилбери, хотя ее представление о конторской работе сложилось, скорее всего, совершенно случайно, когда во время очередного визита в банк, опуская золотые в кошелек, она увидела клерка за конторкой.
— Главное, им не удалось завлечь в свои сети Кэтрин, а то я немного боялся, — заметил мистер Хилбери.
— Ну уж нет, — решительно отозвалась дочь, — работать с ними — ни за
что!
— Правда, странно, что чужой энтузиазм, вместо того чтобы вдохновлять, обычно отпугивает? — продолжал свою мысль мистер Хилбери, довольный ответом дочери. — Никто так не разубеждает в правоте дела, как его увлеченные сторонники. Ты вроде и сам хотел бы гореть тем же энтузиазмом, однако стоит увидеть всеобщее единодушие, как всякое желание быть заодно с другими пропадает. Во всяком случае, со мной было именно так. — И, очищая яблоко, он стал рассказывать им о том, как когда-то в молодости его попросили выступить на одном политическом собрании, и он, воодушевившись, туда отправился; но потом получилось так, что, слушая речи своих руководителей, он засомневался в идеалах, которые еще недавно собирался отстаивать, а к концу и вовсе перешел в противоположный лагерь, если можно так сказать; все кончилось тем, что он сказался больным, чтобы не выставлять себя на посмешище, и больше никогда не выступал ни на каких политических митингах: одного раза ему хватило.
Кэтрин сидела, слушала и, как всегда бывало, когда отец с матерью ударялись в описание своих настроений, ей казалось, что она отлично их понимает и, в общем, разделяет их мнение, за исключением одной подробности, которую она, в отличие от них, видит невооруженным глазом, а они почему-то каждый раз упускают, и от этого ей делалось грустно. Слуги молниеносно и бесшумно меняли тарелки, уже подали десерт, беседа вошла в свое обычное русло, а Кэтрин сидела невозмутимо, как третейский судья, внимала родительской беседе, и те были страшно довольны, когда им удавалось ее чем-нибудь рассмешить.
Вирджиния Вулф. День и ночь
Живя под одной крышей, молодые и старики во всех тонкостях постигают привычки друг друга — привычки, надо сказать, весьма любопытные; и хотя смысл этих взаимных церемоний давно утрачен, и те, и другие следуют им заученно, в их глазах они овеяны некой таинственной аурой, сообщающей им особое очарование. Например, ежевечерний ритуал хозяина дома выкуривать сигару и пропускать перед сном рюмку портвейна: вот и сейчас, стоило только мистеру Хилбери устроиться в кресле с сигарой и вином, возникшими, будто по мановению волшебной палочки, по правую и левую руку, как миссис Хилбери с дочерью разом поднялись и вышли из столовой. За все годы, что они прожили вместе, они ни разу не видели, как их супруг и отец священнодействует, оставшись один; более того, окажись они случайными свидетелями сего ритуала, они, наверное, решили бы, что совершают святотатство. Эти краткие, но подчеркнутые периоды уединения, во время которых мужчины и женщины удаляются каждый на свою половину, служили неким интимным послесловием к сказанному за вечерней трапезой. Женщины отчетливей всего осознают себя женщинами, когда остаются одни, и мужчины — точно повинуясь какому-то священному обряду — удаляются к себе. По-сестрински обнявшись, Кэтрин с матерью пошли наверх в гостиную: Кэтрин прислушивалась к знакомому чувству, предвкушая, как вот-вот включит свет и они с матерью окажутся в свежеубранной комнате, где все словно замерло в ожидании этих последних минут перед отходом ко сну — и красные попугайчики на задернутых пггорах, и глубокие кресла у камина. Поставив носок туфли на каминную решетку, чуть-чуть приподняв юбки, миссис Хилбери углубилась в воспоминания.
— Ты не представляешь, Кэтрин, — воскликнула она, — сколько всего сразу вспомнилось после твоего рассказа о походе на Рассел-сквер — о маме, о нашем старом доме! У меня перед глазами стоит картина: люстры, зеленый шелковый чехол на фортепьяно, и мама у окна — на плечи наброшена кашемировая шаль, она поет, а под окнами орава ребятишек, которые сбежались ее послушать. Я вхожу с букетиком фиалок, который купил nanâ, — сам он остался ждать за углом. Летний погожий вечер. Тогда все еще было хорошо...
С каждым словом выражение ее лица делалось все печальнее и печальнее, так что сомнений не оставалось, откуда взялись глубокие морщины возле губ и в уголках глаз: супружеская жизнь у поэта не сложилась. Жену он бросил; промаявшись несколько лет, та умерла молодой — а ведь ей бы жить и жить. Из-за этого несчастья никому дела не было до образования дочери: можно сказать, что она вообще не получила никакого образования. Правда, лучшие свои стихи ее отец написал, когда они осиротели и остались вдвоем. Он брал ее с собой во все ночные загулы; в компании собутыльни¬
Глава 7
81
ков-поэтов она неизменно сидела у него на коленях, и, как потом говорили, исключительно ради дочери он излечился от пьянства и приобрел ту безупречную литературную репутацию, которая его и прославила, хотя поэтическое вдохновение к тому времени иссякло. С годами миссис Хилбе- ри все чаще вспоминала свое детство, терзаясь мыслями о том давнем несчастье, постигшем ее семью, как будто ей хотелось избыть родительское горе и только тогда уже спокойно отойти в мир иной.
Кэтрин и рада была бы утешить свою мать, да только не знала, как подступиться: ведь факты обросли многими легендами. Например, особняк на Рассел-сквер: старинные залы, магнолия в саду, прекрасное фортепьяно, звук удаляющихся по коридору шагов — да мало ли какие еще романтические детали подскажет воображение? — неужели все это существовало в действительности? Тогда почему миссис Элардис обитала одна-одинешень- ка в этом громадном особняке, а если не одна, то с кем? Сама по себе фантастическая история нравилась Кэтрин, она с удовольствием и дальше послушала бы материнский рассказ и обсуждала бы его без обиняков. Однако сделать это было невозможно из-за того, что, чем дальше, тем все более уклончиво и нервно вспоминала события шестидесятилетней давности миссис Хилбери, словно мимолетными прикосновениями к прошлому надеялась склеить то, что разбилось много лет назад. А может, она уже и не помнила правды, — как знать?
— Живи они в наше время, — вздохнула она, — я уверена, ничего такого не случилось бы. Сегодня люди легче относятся к жизни — никто не устраивает трагедию. Жаль, у отца не было возможности ездить по миру, а бедная мама толком не лечилась. Вот так все и вышло. А от меня какой прок? И потом, эти злые языки, их приятели... Дай мне слово, Кэтрин, что никогда не выйдешь замуж не по любви!
В голосе миссис Хилбери зазвенели слезы.
Кэтрин бросилась утешать мать, а про себя думала: «Вот этого Мэри Дэ- чет и Дэнему не объяснить. Это мой крест. А они живут, забот не знают», — целый вечер она невольно сравнивала своих домашних со служащими суфражистской конторы.
— А знаешь, Кэтрин, — спохватившись, словно о другом, воскликнула миссис Хилбери, — замужество замужеством, я тебя не гоню из дому, видит Бог, но только Родни любит тебя по-настоящему. Кэтрин Родни — по-моему, это звучит очень благородно. Правда, денег не сулит, нет их у него.
Но Кэтрин ничего благородного в измененном имени не увидела и сухо объявила, что замуж не собирается.
— Да, конечно, — размышляла вслух миссис Хилбери. — Какая скука — всю жизнь быть замужем за одним человеком! Моя бы воля, я бы выходила
82
Вирджиния Вулф. День и ночь
замуж за каждого, кто делает тебе предложение! Надеюсь, в будущем так и будет, а пока делать нечего, дорогой Уильям... — закончить она не успела: в гостиную вошел мистер Хилбери, и началась главная часть вечернего ритуала. Состояла она в том, что Кэтрин читала вслух какой-нибудь роман, а ее родители «под сурдинку» занимались кто чем: мать вышивала шарфики на пяльцах, а отец просматривал газеты, прислушиваясь одним ухом к чтению и время от времени отпуская шуточки по поводу жизненных перипетий героя и героини. У Хилбери был библиотечный абонемент, и каждые вторник и пятницу им на дом доставляли книжные новинки: Кэтрин старалась держать родителей в курсе самой передовой современной литературы. Однако миссис Хилбери всякий раз с сомнением посматривала на легковесный томик с золотым обрезом в руках дочери и, слушая, не могла сдержать на лице кислую мину, точно съела какую-то гадость; мистер Хилбери же относился к новым авторам с благодушной насмешкой родителя, наблюдающего за ребенком, который лезет вон из кожи, пытаясь доказать, какой он умный. Вот и в этот вечер, едва Кэтрин углубилась в чтение очередного современного шедевра, как миссис Хилбери взмолилась, прося уберечь ее от этой дешевой зауми и сплошного непотребства:
— Пожалуйста, Кэтрин, почитай нам что-то настоящее!
Той ничего не оставалось, как подойти к книжному шкафу и выбрать увесистый том в гладком желтом кожаном переплете, один вид которого успокоительно подействовал на ее родителей. Впрочем, чтение длинных периодов из Генри Филдинга1 вскоре пришлось прервать: принесли вечернюю почту, и Кэтрин, едва взглянув на адресованные ей письма, поняла, что с ответом тянуть нельзя.
Глава 8
Кэтрин забрала письма и поспешила к себе наверх — она знала, что, если они вдвоем с матерью задержатся хотя бы еще на минуту в гостиной после того, как отец удалился к себе, мать наверняка спросит ее про почту, поэтому она уговорила матушку идти и поскорее лечь спать. Пухлые конверты с письмами говорили сами за себя: случилось что-то серьезное. Во- первых, подробнейшее описание своего душевного состояния с требованием ясности в их отношениях прислал Родни, приложив к письму сонет собственного сочинения, — Кэтрин и сама не ожидала, что это ее так расстроит. Во-вторых, она получила два письма, из которых просто ничего не поняла, и, пока она не положила их рядом и не сопоставила факты, суть дела от нее ускользала; и все равно, даже восстановив события, она не понимала, как ей на них реагировать. И было еще одно письмо — длиннющее — от кузена: тот
Глава 8
83
расписывал свои денежные затруднения, заставившие его согласиться занять место учителя музыки в Банги1, где он теперь учит провинциальных барышень играть на скрипке.
Но больше всего Кэтрин озаботилась двумя письмами, в которых по- разному рассказывалась одна и та же история. К ее ужасу, подтвердилось худшее: последние четыре года другой ее кузен, Сирил Элардис, живет с женщиной, с которой не состоит в браке, но которая родила ему двоих детей и теперь ждет третьего. Все это вызнала тетя Целия, она же миссис Милвейн, большая охотница до семейных секретов, — это ее письмо сейчас внимательно перечитывала Кэтрин. Тетушка требовала, чтобы Сирил немедленно женился на своей сожительнице, а Сирил, возмущенный бесцеремонным вмешательством в свою личную жизнь, повторял, что ему стыдиться нечего. Что такого постыдного он совершил? — недоумевала Кэтрин и снова бралась за письмо тетушки. «Не забывай, — писала та напористо, с пафосом, — он носит имя твоего дедушки, и у будущего ребенка тоже будет имя деда. Понятно, бедного мальчика окрутили: женщина решила выехать на его благородном происхождении — а оно действительно благородное — и прикарманить его денежки, а вот тут она просчиталась: денег у него нет».
«Интересно, как на это посмотрел бы Ральф Дэнем?» — повторяла про себя Кэтрин, ходя взад-вперед по спальне; подойдя к окну, отдернула занавески, и в лицо ей глянула ночь: глаз с трудом различал желтые освещенные окна вдали и силуэт платана.
«А Мэри Дэчет что сказала бы? То же самое, что Ральф Дэнем?» — размышляла Кэтрин, стоя у окна; ей стало жарко, она подняла оконную раму, впуская свежий воздух, надеясь раствориться в ночной темноте. Не тут-то было! — вместе со сквозняком в комнату ворвался шум большого города, и, слушая нескончаемый гул городского транспорта, она подумала, что он точно передает напряженный ритм и ее жизни, которая так плотно сплетена с жизнью других людей, что различить течение ее собственного существования практически невозможно. Другое дело Ральф и Мэри — таким людям никто не указ, они вольны выбирать то, что хотят; и она представила, не без чувства зависти, пустынный край, свободный от всех этих мелких житейских дрязг, случающихся между мужчинами и женщинами, край, где сотканная из бесчисленных людских взаимоотношений жизнь попросту не существует. Даже в этот поздний час, оставшись наедине с громадной махиной Лондона, она почему-то не может освободиться от мыслей о людях, с которыми ее что-то связывает. Тот же Уильям Родни: наверняка сидит сейчас светлячком в восточной части города и думает о ней, а не о раскрытой книге. А как ей хотелось бы, чтобы о ней забыли все в целом свете! Впрочем, от
84
Вирджиния Вулф. День и ночь
близких не убежишь, вздохнула она, опуская оконную раму и снова берясь за письма.
Такого искреннего письма от Родни она еще не получала: Кэтрин прекрасно осознавала произошедшую перемену в их отношениях. Родни признавался, что не может без нее жить, что он все обдумал, он хорошо ее знает и сделает все, чтобы она была счастлива, а их брак был бы не похож на все прочие. Да и сонет дышал страстью, притом что был очень искусно выполнен, так что, перечитывая письмо, Кэтрин заранее знала, какое направление примут ее собственные чувства к нему, если она их проявит: полушутливой нежности, охранительной заботы... Ну а любовь? Да и есть ли она на свете, размышляла Кэтрин, мысленно возвращаясь к отцу и матери.
Конечно, многие молодые люди признавались ей в любви, предлагали руку и сердце, да и удивительно было бы, если бы этого не происходило — с ее-то внешностью, положением в обществе и родословной; но, поскольку чувство не было взаимным, она всегда относилась к предложениям как к пустой формальности. Ни разу не испытав настоящую любовь, Кэтрин бессознательно культивировала ее образ, представляя идеальную картину супружества и спутника жизни, внушающего любовь; понятно, что рядом с воображаемым кумиром любой претендент казался ей карликом. Не обузданное разумом воображение рисовало роскошные пейзажи, на фоне которых фигуры переднего плана не то чтобы терялись, но казались размытыми. Она мечтала о любви, словно это водопад, с грохотом устремляющийся с высоты скалы, или звездный дождь, озаряющий ночное синее небо; любовь рисовалась ей грозовой тучей, до последней капли напоенной жизненной силой, с раскатами грома, в блеске молний, где стихии сшибаются лоб в лоб, уничтожая все на своем пути, без остатка. Возлюбленный грезился благородным всадником, скачущим вдоль лукоморья. Она с ним, они вдвоем мчатся сквозь леса, вдоль кромки моря. Правда, очнувшись от грез и спустившись на бренную землю, она знала, что брак без любви — дело житейское, что в реальной жизни только так и бывает, и объяснить такой резкий переход от грезы к прозе жизни можно, пожалуй, только одним: самые будничные поступки совершают самые большие мечтатели.
Ее бы воля, она и дальше сидела бы, мечтала, потом, стряхнув наваждение, занялась бы математикой; но сегодня она твердо сказала себе, что ей непременно нужно переговорить с отцом, пока тот не лег спать. Надо решить, как быть с Сирилом, как защитить права семьи Элардисов; ей нужен отцовский совет, потому что сама она плохо представляет, что делать. Она взяла письма и пошла вниз. Часы пробили половину двенадцатого: первыми ударили старинные напольные часы в холле, затем послышался мелкий перезвон настенных часов на лестнице. Кабинет мистера Хилбери помещался
Глава 8
85
в задней половине дома на первом этаже: в это звуконепроницаемое подземелье и в светлую пору суток редко когда пробивался сквозь слуховое окошко слабый лучик солнца, нащупывая разложенные на огромном письменном столе бумаги, — сейчас там горела кабинетная лампа под зеленым абажуром. Здесь мистер Хилбери работал: шел ли у него очередной выпуск обозрения или же он штудировал документы, доказывая, что у Шелли в рукописи стоит предлог, а не союз, и что постоялый двор, где однажды ночевал Байрон, назывался не «Турецким рыцарем», а «Лошадиной головой», и что звался дядюшка Китса2 не Ричардом, а скорее, Джоном, — в любом случае мистеру Хилбери не было равных в Англии по глубине осведомленности о мельчайших подробностях жизни названных поэтов, недаром ему поручили подготовку издания сочинений Шелли, в котором точно воспроизводилась система авторских знаков. И хотя он, бывало, посмеивался над своими штудиями, к работе он относился с безмерной кропотливостью и дотошностью.
Он сидел за столом, откинувшись в кресле, попыхивая сигарой, глубоко уйдя в решение вопроса: действительно ли Колридж собирался жениться на Дороти Вордсворт?3 И что было бы, если бы этот брак состоялся? Какие последствия имел бы он и для самого поэта, и для английской литературы в целом?.. В эту минуту в кабинет вошла Кэтрин: она еще рта не успела открыть, а он уже знал, зачем она пожаловала, и, чтобы не потерять мысль, отчеркнул карандашом в блокноте галочку. Однако начинать разговор первым он не стал, заметив в руках у дочери раскрытую книгу «Изабелла и горшок с базиликом» — на уме одна Италия, горы, ясный день и изгороди в ало-белых розочках4. Видя, что отец смотрит выжидающе, Кэтрин захлопнула книгу и выдавила:
— Отец, тетя Целия написала мне... насчет Сирила. ...Выходит, это правда — про ту женщину. Что будем делать?
— Ничего не будем делать: Сирил сглупил, вот и все, — ответил мистер Хилбери, тщательно взвешивая каждое слово.
Кэтрин обратила внимание на отцовский сухой тон, на то, как он держит перед собой сложенные на манер третейского судьи кончики пальцев, и от растерянности не знала, что сказать: разговор не задался.
— Я скажу так: загубил себя Сирил. — С этими словами мистер Хилбери взял из рук Кэтрин письма и, поправив очки, стал их при ней читать. Закончив, крякнул «М-да!» и сунул ей обратно в руки всю пачку.
— Мама ничего не знает, — сказала Кэтрин. — Ты ей расскажешь?
— Расскажу. Только имей в виду: нас это не касается.
— А как же свадьба? — слегка запинаясь, спросила Кэтрин.
Отец будто не слышал — сидел, завороженно глядя в камин.
86
Вирджиния Вулф. День и ночь
— Заварить такую кашу — во имя чего, спрашивается?.. — проронил наконец мистер Хилбери, да и то, скорее, про себя, чем для чужих ушей.
Кэтрин перелистала письмо тети и зачитала вслух:
— Ибсен5, Батлер...6 Сирил прислал мне письмо, сплошь состоящее из цитат, — вроде, умно, а на самом деле сплошная заумь.
— Ну что же, — вздохнул мистер Хилбери, — если молодые хотят строить свою жизнь на таких основаниях, пусть себе: нас это не касается.
— Но как же не касается, отец, если они поженятся? — усталым голосом спросила Кэтрин.
— А при чем здесь я? — раздраженно парировал отец.
— Но ты же глава семейства...
— Дудки! Глава семейства — Альфред, вот пусть к нему и обращаются, — буркнул мистер Хилбери, поглубже усаживаясь в кресло. Кэтрин поняла, что невольно задела больное место, заговорив о семье.
— Наверное, мне надо к ним съездить, повидаться, — сказала она.
— И не вздумай! — неожиданно резко и властно выпалил отец. — Я вообще не понимаю, зачем они тебя втянули в это дело? При чем здесь ты?
— Мы дружим с Сирилом, — ответила Кэтрин.
— А этот друг посвятил тебя в свои дела? — насмешливо поинтересовался мистер Хилбери.
Кэтрин покачала головой: нет, не посвятил. На самом деле ее обидело то, что Сирил не поделился с ней своими проблемами; неужели он, как и Ральф Дэнем, как Мэри Дэчет, думает, что она ему враг?
— И вот еще что, — помолчав, сказал мистер Хилбери, отводя взгляд от яркого пламени, — будет лучше, если ты сама расскажешь матери. Разумеется, только факты. Когда поползут слухи, будет уже поздно. И вообще, напрасно тетя Целия так рвется сюда к нам... По мне, так чем меньше разговоров, тем лучше.
Разговор был исчерпан. Кэтрин пошла к себе, но червячок сомнения остался. Понятно, в шестьдесят лет у мужчин за плечами большой опыт, образование, они много думают, мало говорят, и все... Это надо же так отстраниться! Как просто — взять и на словах придать событиям видимость приличия, примирив их с собственным взглядом на вещи! Отец ни разу не поинтересовался, каково сейчас Сирилу, он даже не попытался вдуматься в причины, заставившие Сирила поступить так, как он поступил. Он просто свысока заметил, что Сирил сглупил, умные люди так себя не ведут. Отец занял позицию стороннего наблюдателя, который смотрит с высокой точки в телескоп на копошащихся у подножия людишек.
Наутро, после завтрака, Кэтрин, обеспокоенная тем, как бы ей самой не пришлось рассказывать матери о случившемся, поджидала отца в холле.
Глава 9
87
— Ты рассказал маме? — спросила она без обиняков, не сводя с отца своих темных бездонных глаз.
Тот вздохнул в ответ.
— Девочка моя дорогая, прости, забыл! — И заторопился, поправляя ободок шелкового цилиндра. — Я пришлю записку с курьером... Опаздываю... У меня сегодня корректура!
— Так не годится! — решительно сказала Кэтрин. — Мы — ты или я — должны ей все рассказать — это нужно было сделать с самого начала.
Тут мистер Хилбери обернулся с порога, и Кэтрин наткнулась на колючий взгляд, брошенный из-под цилиндра: это выражение, в котором мешались злость, дерзость и полнейшая беззаботность, было знакомо ей с детства — оно появлялось у отца всякий раз, когда он в шутку просил ее защитить его от упреков в пренебрежении своими обязанностями. Он мотнул головой в знак отказа, ловко толкнул парадную дверь и с легкостью, удивительной для своих лет, сбежал по ступенькам. Махнул на прощанье — и был таков. Оставшись ни с чем, Кэтрин вернулась в дом, посмеиваясь про себя над тем, как ловко отец провел ее в очередной раз, предоставив ей самой решать семейные неурядицы, вместо того чтобы взять это дело на себя.
Глава 9
Во многом по тем же причинам, по каким мистеру Хилбери не хотелось обсуждать с женой поведение ее племянника, душа не лежала к подобным разговорам и у Кэтрин: они оба — и отец, и дочь — внутренне вздрагивали, как от выстрела на сцене, при одной мысли о том, что нужно будет выносить эту тему на люди. И потом, Кэтрин по-прежнему терялась в догадках насчет «проступка» Сирила: как всегда, ей казалось, она смотрит дальше родителей и видит нечто, им неведомое; кончилось все тем, что она просто отбросила мысль о своем кузене. Пусть сами решают, дурно он поступил или нет, — для нее то был свершившийся факт, не более.
Войдя к матери, она увидела, что та сидит за столом с ручкой наготове.
— Представляешь, Кэтрин, — воскликнула миссис Хилбери, взмахивая пером, — я только что обнаружила, что пережила своего отца на три с половиной года, если отсчитывать со дня его смерти. Ну не удивительно ли? В матери я ему не гожусь, но вот старшей сестрой вполне могла бы быть, и ты знаешь, мне так хорошо стало от этой мысли. Я решила все начать заново, у меня на сегодня большие планы.
И с этими словами она заскрипела пером, а Кэтрин, сев за отдельный рабочий стол, развязала пачку старых писем, над которыми трудилась последнее время, и, рассеянно разгладив лежащий сверху листок, углубилась
88
Вирджиния Вулф. День и ночь
в расшифровку выцветших чернил, нет-нет да отрываясь и взглядывая на мать. На ее глазах лицо у той просветлело, разгладилось, появилось выражение удовлетворенной сосредоточенности — она даже кончик языка от напряжения высунула, как ребенок, который, сидя на полу, затеял построить игрушечный дом из кубиков и радуется каждому установленному «кирпичику». Чувствовалось, что каждым росчерком пера миссис Хилбери вызывает к жизни картины далекого прошлого, возвращает из небытия знакомые голоса. На мгновение в комнате установилась ничем не нарушаемая тишина, и Кэтрин почудилось, будто открылись шлюзы прошлого и на них с матерью снизошел свет шестидесятилетней давности. Разве может сравниться, подумала она, настоящее с прошлым? У настоящего в запасе ничего, у прошлого — россыпи сокровищ. Взять нынешнее утро: очередной четверг блестит, как новенький, только-только отчеканенный ходом часов, тикающих на каминной доске... Кэтрин прислушалась: где-то вдали прогудел клаксон, раздался шум колес, и снова тишина, слышно только, как за домом, в квартале победнее, кричат на разные лады торговцы — лудильщики да зеленщики. Конечно, комнаты — это кладовые прошлого, потому и кажется: посиди в таком месте хоть немного, и со дна поднимутся такие фантомы, такие химеры, что позабудешь все, чем занимался до того, и тебе останется только перебирать одно за другим драгоценные воспоминания.
Всякий раз, бывая у матери в комнате, Кэтрин чувствовала, что ее невольно берут в полон те смутные картины, что отложились в ее памяти с раннего детства; словно пленительная мощная волна подхватывает ее и увлекает вспять, в пещерный мрак аббатства, где под гулкими сводами, она знала, покоится прах ее дедушки. Ведь все здесь его — и книги, и картины, и мебель, все, до последней безделушки: мать часто рассказывала ей о том, как однажды отец скупил у лоточника на углу Кенсингтон-Хай-стрит всю его продукцию по пенсу за штуку, и теперь эти фарфоровые собачки и пастушки с овечками красуются сверху на камине. Сколько себя помнит, Кэтрин всегда пыталась представить, по сохраненным матерью реликвиям, как выглядели те далекие призраки; всматривалась в черты лица, придумывала для каждого разрез глаз, линию рта, подбирала подходящий тембр голоса, особую манеру речи, покрой одежды, небрежно повязанный галстук. Иногда ее даже посещала мысль, что, хоть она и живет среди людей, на самом деле она — невидимка, ведь истинные ее друзья — те, в чьи тайны она посвящена и чью судьбу может предугадать, и все они остались в прошлом. Она их жалела, ей казалось, они тычутся, как слепые котята, нет, послушаться ее, уж она-то плохого им не посоветовала бы. Но они почему-то упрямились, набивали себе шишки на стародавний манер. Вели они себя часто глупейшим образом: какие только чудовищные препоны не придумывали на свою
Глава 9
голову, и тем не менее, чем больше она о них размышляла, тем сильнее привязывалась к ним и отказывалась их судить. Она так сжилась со своими фантазиями, что почти потеряла чувство собственной индивидуальности и вкус к будущему. Правда, в иные дни, когда она бывала расстроена (как сегодня), думать о прошлом не хотелось, и она через силу заставляла себя разбирать завалы, которые, судя по письмам, оставили после себя эти чудаки, ища оправдание их поступкам, беря на себя роль поводыря... Кэтрин стряхнула наваждение и подняла глаза.
Миссис Хилбери стояла к ней спиной, отвернувшись к окну, и смотрела на плывущие по реке баржи: видно, она стояла в этой позе уже несколько минут. Потом вдруг резко повернулась и воскликнула:
— Нет, на меня, правда, что-то нашло! Мне нужно всего три фразы — три короткие, простые фразы, и надо же! Не получается!
В растерянности она заметалась по комнате, то хватаясь за тряпку и принимаясь драить ею корешки книг, то отбрасывая ее в сторону — не до уборки!
— Посмотри: это никуда не годится, а? — полуутвердительно заметила она, протягивая Кэтрин листок. — Ну и что с того, что дедушка никогда не был на Гебридских островах1, правда? — спросила она, заглядывая просительно в глаза дочери. — Понимаешь, я замечталась, вспомнила Гебриды и отвлеклась — получилась небольшая зарисовка. Но ее можно переставить в начало, — заторопилась она, — глава часто начинается с отступления.
Кэтрин углубилась в чтение: ни дать ни взять школьная учительница за проверкой сочинения. Видя ее сдвинутые брови, миссис Хилбери поняла, что дела плохи.
— Красиво, не спорю, — заключила наконец Кэтрин, — только, видишь ли, от нас ждут последовательности в изложении...
— Именно! — воскликнула миссис Хилбери. — Только у меня не получается! В голове столько всего вертится. Кажется, все помню, все стоит перед глазами — возьми и опиши (кто же, как не я?), а почему-то не получается. У меня вот здесь (она показала на лоб) — дырка. Это мой самый страшный сон — я умираю, а книга не закончена.
Утреннее возбуждение сменило отчаяние, вызванное мыслью о конце, и оно передалось Кэтрин. От сознания собственной беспомощности у нее опустились руки. На часах уже одиннадцать, а они еще даже не приступили к работе! Она видела, что мать принялась шарить в кованом сундуке возле стола, но не двинулась с места, чтобы помочь ей. «Ну да, — подумала она в сердцах, — вспомнила про какую-то бумагу, теперь проищем ее целое утро, и так каждый день!» Чувствуя глухое раздражение, она скосила глаза на листок, перечитывая материнские каденции про серебристых чаек, про
90
Вирджиния Вулф. День и ночь
стебли с розанчиками, омытые родниковыми струями, про голубые облака гиацинтов... В комнате воцарилась тишина. Кэтрин подняла голову: миссис Хилбери разглядывала старые фотографии, которые она вытряхнула из старого бювара на стол.
— Тебе не кажется, Кэтрин, — заметила она, — что раньше мужчины были импозантнее, чем нынче? И это притом, что их страшно портили бакенбарды! Вот посмотри, — в белом жилете, пожилой, это Джон Грэм, а вот дядя Харли. А это, по-моему, Питер, слуга дядюшки Джона, тот привез его из Индии.
Кэтрин взглянула на мать, ни словом, ни жестом не выдав своих чувств, но внутри у нее все кипело от возмущения; и хотя выказать матери свое негодование ей не позволяло воспитание, она остро чувствовала всю несправедливость своего положения. Мать вертит ею как хочет, распоряжается ее временем, и все впустую! — с горечью думала про себя Кэтрин. И тут вдруг она вспомнила, что до сих пор не сказала матери о проступке Сирила. При этой мысли ее гнев как рукой сняло — точно в море поднялась волна, нахлынула и опала, и снова воцарились покой и тишина, — Кэтрин вернулась в состояние душевного равновесия, беспокоясь лишь о том, как бы не расстроить мать. Она порывисто встала и подошла к креслу, в котором сидела миссис Хилбери; присела на подлокотник. А та в ответ прижалась к дочери щекой.
— Все-таки сколько благородства в женщине-советчице, в женщине- помощнице, — задумчиво протянула она, всматриваясь в старые фотографии. — Да, в былые годы женщины, Кэтрин, сто очков вперед дали бы твоим суфражисткам! Закрою глаза и вижу: парк вокруг Мэлбери-хаус, и там на лужайках прогуливаются дамы в платьях с оборками и рюшами; выступают, словно павы, с невозмутимым, царственным видом, и за каждой семенит ручная обезьянка и ковыляет чернокожий карлик — будто и нет в жизни другой заботы, как охорашиваться да смотреть сверху вниз благосклонным взором. Но, ей-богу, Кэтрин, им удавалось то, что нам и не снилось! А все потому, что были личностями — личностями}. — это важнее, чем суетиться, стараясь всюду поспеть. Мне они кажутся прекрасными яхтами: держатся прямо, полны достоинства, идут своим курсом, никого не оттесняя, твердо держась своей линии, не расстраиваясь по пустякам, одно слово — яхта под белым парусом. Нам до них далеко!
Кэтрин попыталась было вставить слово, но все было как-то не с руки, и она уткнулась в альбом со старыми фотографиями. По сравнению с суетным выражением лиц современных мужчин и женщин, в людях той поры было что-то поразительно светлое: верно, матушка права, тогдашних людей отличало чувство собственного достоинства и умиротворенность, словно они — полноправные хозяева своей судьбы и их все любят. Среди фотографий по¬
Глава 9
91
падались лица почти неземной красоты, а были и настоящие уроды, но удивительное дело: ни одной серой, скучающей, мелкой физиономии! Женщины в пышных кринолинах, спадающих крупными складками, кажется, чувствуют себя совершенно естественно, а сколько решимости в мужчинах, одетых в пальто, с непременным цилиндром на голове! Кэтрин снова ощутила дыхание прошлого, и откуда-то издалека донесся торжественный гул волн, накатывающих на берег. Она знала, что ей предстоит соединить настоящее с прошлым.
А миссис Хилбери все вспоминала и вспоминала...
— Это Джейни Мэннеринг, — пояснила она, указывая пальчиком на фотографию величественной седовласой дамы в роскошном атласном платье, расшитом жемчугом. — Помнишь, я тебе рассказывала эту потрясающую историю, когда к ней в дом на обед должна была пожаловать сама императрица2, а кухарка напилась в стельку и ничего не приготовила? Так что сделала наша Джейни? Она засучила рукава своего бархатного платья (одевалась она не хуже королевы), собственными ручками приготовила обед, от закуски до десерта, и появилась перед гостями минута в минуту свежая, как утренняя роза. Мастерица на все руки — да у них у всех были золотые руки! — и дом приберет, и нижнюю юбку крестиком вышьет!
А это Куини Колкхаун, — перевернув страницу альбома, продолжала миссис Хилбери, — представляешь, уезжая навсегда на Ямайку, она узнала о том, что мертвых там хоронят без гробов, а поскольку она панически боялась умереть на чужбине (собственно, так оно и вышло) и быть отданной на съедение белым муравьям, то она взяла с собой на Ямайку гроб, велев набить его прелестными шалями и чепцами. A-а, а это Сабина — настоящая красавица! Аврора, да и только! А это Мириам, переодетая кучером, — ливрея, ботфорты, галуны, все как положено! Вот вы, молодые, хвастаетесь своей оригинальностью, а ведь вам до нее ох как далеко!
Она перевернула страницу и попала на фотографию удивительно статной женщины привлекательной наружности, чей лоб фотограф украсил императорской короной.
— Ах ты разбойница! — воскликнула миссис Хилбери. — Попробуй попадись тебе в молодости на язычок! Мы все перед ней таяли, Кэтрин. Она любила повторять: «Мэгги! Где бы ты сейчас была, если б не я?» И это чистая правда: понимаешь, она их свела — отца и мать. Это она скомандовала отцу: «Любишь, так женись!» А малышке Кларе она заявила: «Да ты недостойна целовать землю, по которой он ступает!» И та низко склонила голову, правда, потом выпрямилась. А как иначе? Ей было восемнадцать — совсем юная — она умирала со страху, только старому тирану все нипочем. Наша сваха любила повторять, что подарила им тогда три счастливейших
92
Вирджиния Вулф. День и ночь
месяца — а кому выпадает больше? И знаешь, Кэтрин, по-моему, так и есть. У большинства из нас и этого нет, а все притворяются, хотя чего бы не отдали за такое счастье. Вообще мне кажется, — задумчиво протянула миссис Хилбери, — тогда в отношениях мужчин и женщин была доверительность, которой сегодня и в помине нет, при всей кажущейся открытости.
Кэтрин опять хотела было вставить слово, но миссис Хилбери уже закусила удила, и остановить ее было невозможно.
— Мне кажется, в душе они были друзьями, — размышляла она вслух о своих родителях, — ведь она так любила исполнять песни на его стихи. Дай вспомню! — ла-ла-ла! — И миссис Хилбери напела приятным голоском знаменитую арию своего отца, положенную на слащавую, сентиментальную мелодию кем-то из ранних викторианцев. — Жизнь била в них ключом — вот в чем дело! — стукнула кулаком о стол миссис Хилбери. — А мы не такие! Мы законопослушные, ответственные, ходим на митинги, платим беднякам зарплату, но жить в полную силу, как наши отцы и матери, мы не живем. Мой отец, бывало, несколько ночей подряд не ложился спать, но каждое утро был как стеклышко. Как сейчас помню: спозаранок взбегает вверх по лестнице в детскую, держа на кончике шпаги свежую булку к завтраку — и начинается! — едем за город — в Ричмонд3, Хэмптон-Корт4, Суррей-Хиллз!5 Давай поедем за город, Кэтрин, а? Денек — лучше не придумаешь!
Тут в дверь постучали — ровно в тот момент, когда миссис Хилбери устремила взгляд на небо, оценивая погоду, — и в комнату просеменила, не дожидаясь приглашения, сухонькая пожилая дама. Кэтрин только и успела, что ахнуть: «Тетя Целия, это вы?!» Девушка была обескуражена, поскольку она догадалась о причине визита тетушки: конечно, та примчалась, чтобы обсудить неблаговидное поведение Сирила, который живет с женщиной, не будучи на ней женат, а она — тоже хороша, дочка называется — не удосужилась переговорить об этом с матерью. В итоге миссис Хилбери — единственная, кто ничего не знает об этой истории. Иначе стала бы она уговаривать ее и тетю отправиться втроем на прогулку в Блэкфрайерс6 — обследовать месторасположение шекспировского театра, раз погода не годится для поездки за город?
Тетушка спокойно, не проронив ни слова, выслушала свою золовку — за долгие годы миссис Милвейн привыкла относиться философски к эскападам своей эксцентричной родственницы. Кэтрин встала поодаль, поставив ногу на каминную решетку и обозревая сцену, как полководец. Тетушка не тетушка, а все-таки какая нелепость — обсуждать нравственное поведение Сирила! Теперь Кэтрин казалось, что главное затруднение состоит не в том, чтобы как можно деликатнее сообщить эту семейную новость миссис Хилбери, а в том, чтобы зацепить ее внимание. Как бы ее отвлечь и заставить
Глава 9
93
спуститься с эмпиреев на бренную землю? Лучше всего — сказать как есть, решила Кэтрин.
— Мама, тетя Целия пришла, по-моему, поговорить о Сириле, — без предисловий, беря быка за рога, начала Кэтрин. — Видишь ли, тетя обнаружила, что Сирил женат, и у них с женой есть дети.
— Нет, неправда! — возмущенно прервала ее миссис Милвейн, обращаясь к миссис Хилбери. — Он не женат, а вот дети у него есть, двое, сейчас ждут третьего.
При этих словах миссис Хилбери сделала большие глаза.
— Мы не стали тебе говорить — вдруг не подтвердится? — оправдывалась Кэтрин.
— Но как же так? Ведь я видела Сирила неделю назад, мы столкнулись с ним в картинной галерее! — воскликнула миссис Хилбери. — Нет, не может быть — не верю! — И она тряхнула головой, бросив лукавый взгляд на миссис Милвейн, точно давая той понять: мало ли что может прийти в голову бездетной женщине, которую угораздило выйти замуж за какого-то тихоню из Министерства торговли?
— Мэгги, дорогая, так ведь и я не верила! — подхватила тетя Целия. — В это трудно поверить! Но ведь нельзя же не верить собственным глазам!
— Кэтрин, — обратилась к дочери миссис Хилбери, — отец знает?
Та кивнула.
— Кто бы мог подумать — Сирил женат! — сокрушенно повторила миссис Хилбери. — И хоть бы словечком обмолвился, а ведь рос в нашем доме, мы приняли его как родного, — еще бы, сын благородного Уильяма! Не могу поверить!
Почувствовав на себе выжидательные взгляды Мэгги и Кэтрин, миссис Милвейн поняла, что от нее ждут подробностей. Она была уже немолода, крепким здоровьем похвастаться не могла, но осознание того, что у нее нет и не будет детей, отложилось в ней чувством повышенной ответственности за семью, за близких, за их благополучие. Низким, сдавленным голосом, с трудом сдерживая рыдания, она начала рассказывать.
— Я давно подозревала, что ему плохо, — он постарел, у него появились морщины... Ну и решила навестить его — я знала, что он преподает в колледже для малоимущих: читает лекции по римскому праву — или по греческому? — запамятовала... В общем, когда я к нему зашла, хозяйка сказала, что ночует он у себя примерно раз в десять дней. Говорит, вид у него больной, а еще, она его видела с какой-то молодой особой. Я, конечно, сразу насторожилась; поднялась к нему в комнату и увидела на камине письмо, на конверте адрес: Сетон-стрит7, рядом с Кеннингтон-роуд8.
94
Вирджиния Вулф. День и ночь
Тут миссис Хилбери заерзала на стуле, забормотала что-то в замешательстве, словно порываясь вмешаться.
— Да, Мэгги, я отправилась на Сетон-стрит, — продолжала твердо тетя Целия. — Злачное место, скажу я вам: меблирашки, на окнах канарейки в клетках. Дома все, как один, номер семь ничем не выделяется среди прочих. Звоню, стучу, никто не открывает. Обошла дом снаружи: клянусь, в квартире кто-то был — то ли ребенок возился, то ли младенец плакал в люльке... Но мне так и не открыли.
Она вздохнула, выпрямилась на стуле и замерла, о чем-то задумавшись, глядя перед собой голубыми, подернутыми поволокой глазами.
— Я не сразу ушла, — заговорила она снова. — Подождала снаружи — вдруг увижу кого-то из них. Долго ждала! За углом питейное заведение — оттуда доносилось разухабистое пение. Под конец дверь дома открылась, кто-то вышел — уж не сама ли сожительница Сирила? Она прошла в двух шагах от меня: нас разделяла только почтовая тумба.
— И какая же она из себя, эта женщина? — спросила строгим голосом миссис Хилбери.
— Смотреть не на что: окрутила бедного мальчика, вот и все, — отозвалась миссис Милвейн, не вдаваясь в подробное описание внешности.
— Бедная! — воскликнула миссис Хилбери.
— Бедный Сирил\ — откликнулась миссис Милвейн, сделав упор на имени племянника.
— Но им же надо на что-то жить! — пояснила свою мысль миссис Хилбери. — Нет прийти к нам, как подобает мужчине, и сказать: «Я сглупил», — разве мы бы не посочувствовали ему? Разве не постарались бы помочь? В конце концов, ничего позорного в его поступке нет... Но он этого не сделал! Он предпочел годами водить нас за нос, притворяясь, будто он холост. А эта бедняжка, его жена, которую он бросил на произвол судьбы...
— Она ему не жена, — напомнила тетя Целия.
— Ах, как нехорошо получается! — воскликнула в сердцах миссис Хилбери, стукнув кулачком по подлокотнику.
Теперь, когда подробности дела вскрылись, вся история показалась ей донельзя мерзкой, хотя обидела ее даже не столько нравственная, точнее безнравственная, сторона вопроса, сколько сам факт утаивания греховной связи. Миссис Хилбери была искренне раздосадована и возмущена, и, глядя на мать, Кэтрин почувствовала неимоверное облегчение и гордость за свою родительницу: ясно, что она была задета до глубины души и при этом полностью владеет ситуацией, — не то что тетя Целия: у той мысль с каким-то садистским сладострастием кружила в потемках. Они с матерью возьмутся за это дело вдвоем, повидаются с Сирилом, и все постепенно образуется.
Глава 9
95
— Мама, нам нужно встать на точку зрения Сирила, — обратилась Кэтрин к матери, словно та была ее сверстницей, но договорить ей не дали: за дверью раздался шум, и в комнату вплыла тетя Кэролайн, незамужняя кузина миссис Хилбери. Она была урожденная Элардис, а тетя Целия — урожденная Хилбери, но хитросплетения семейных отношений были таковы, что они обе одновременно приходились друг другу и двоюродной, и троюродной кузинами, будучи, таким образом, тетей и кузиной проштрафившегося Сирила, почему, собственно, его проступок и касался почти в равной степени обеих родственниц. Кузина Кэролайн была дама видная, статная, однако, несмотря на ее габариты и яркие аксессуары, в выражении ее лица пряталось что-то беззащитное и детское, словно годами ее нежная розовая кожа, крючковатый нос и тройной подбородок, как у попугая, оставались открытыми всем ветрам и непогодам; она была незамужем, но, как говорится, пожила в свое удовольствие, и теперь, естественно, рассчитывала, что к ее мнению отнесутся с должным почтением.
— Не повезло, — слегка задыхаясь, с одышкой, начала она. — Опоздала на поезд, минуты не хватило, а то я бы, конечно, приехала первой. Целия вам все рассказала. Надеюсь, Мэгги, ты на моей стороне: он должен немедленно на ней жениться — ради детей...
— А он что, отказывается? — изумленно переспросила миссис Хилбери.
— Он написал нелепейшее письмо, сплошные цитаты, — продолжала, задыхаясь, кузина Кэролайн. — Он, видите ли, думает, что поступает благородно, а мы, дескать, нехорошие, обвиняем его в эгоизме... Он и девчонке голову вскружил — я уверена, он во всем виноват.
— Да это она его окрутила! — вмешалась тетя Целия, как-то по-особен- ному растягивая слова, точно ткала белую пряжу, опутывая ею свою жертву.
— Поздно выяснять, Целия, кто прав, кто виноват, — резко оборвала кузину Кэролайн, пребывавшая в полной уверенности, что она единственный практичный человек во всем семействе, — если бы не часы на кухне, которые вечно опаздывают, она бы опередила миссис Милвейн, а так та опять сбила с толку бедную Мэгги своими россказнями. — Дело сделано — препаршивое дело, надо сказать. Так неужели мы позволим, чтобы родился еще и третий незаконный ребенок? (Кэтрин, извини, приходится при тебе говорить такие вещи.) Мэгги, ведь он же будет носить твое имя — имя твоего отца, — неужели тебе все равно?
— А вдруг родится девочка? — резонно заметила миссис Хилбери.
Все время, пока дамы судачили, Кэтрин глаз не сводила с матери, подмечая, как у той светлеет лицо, улетучивается пыл негодования и в глазах появляется хорошо знакомая лукавинка: куда бы скрыться? Что бы такое интересное придумать ко всеобщему удовольствию? Как бы убедить собрав¬
96
Вирджиния Вулф. День и ночь
шихся в том, что все случившееся непостижимым образом складывается к лучшему?
— Какая неприятность, ах, какая неприятность, — машинально повторяла миссис Хилбери, словно прикидывая что-то в уме, и вдруг в какой-то момент просияла. — Но, конечно, сегодня люди относятся к таким вещам терпимее, не то что раньше! — начала она издалека. — Да, им порой приходится туго, но на то они и умные головы, смелая молодежь, чтобы у них все получилось. Роберт Браунинг любил говорить, что в каждом великом человеке есть капля еврея9, и, по-моему, это очень верное наблюдение, давайте ему следовать. В конце концов, Сирил всего лишь проявил принципиальность. С его принципами можно спорить, но уважать их, как всякий принцип, мы обязаны — мы же не отвергаем принципы Французской революции?10 Или основания, на которых Кромвель снес голову королю?11 Сколько кровавых событий в истории произошло по принципиальным соображениям! — заключила она.
— Боюсь, я совсем иначе смотрю на принципы, — съязвила кузина Кэролайн.
— При чем тут принципы! — отмела все разговоры как не относящиеся к делу тетя Целия. — Завтра же пойду к Сирилу и все выясню.
— Не понимаю, Целия, зачем ты хочешь взвалить на себя этот неблагодарный труд? — только и успела вставить слово миссис Хилбери: ее туг же перебила кузина Кэролайн, у которой мгновенно созрел план принесения в жертву собственной персоны.
Отвернувшись к окну, Кэтрин спряталась за шторами и, прижавшись лбом к стеклу, глядела в отчаянии на реку, ничего не видя перед собой, — так ребенок, устав от бессмысленных пересудов взрослых, отгораживается от окружающих. Она сердилась — на мать, на себя... Случайно потянув за нижний край жалюзи, вздрогнула от неожиданности, когда те со щелчком дернулись вверх, — видно, сильно была раздосадована. Но почему? На кого она сердится? — она сама не понимала. Сколько можно трещать, поучать других, придумывать небылицы в угоду собственному представлению о приличиях, и все время тешить свое самолюбие! Нет, хватит бродить в потемках, сказала она себе; хватит жить вдали — вдали от чего? «Наверное, мне все-тдки лучше выйти за Уильяма», — вдруг созрело решение, и мысль эта показалась ей спасительной: твердая почва под ногами среди плотного тумана. Задумавшись о своей судьбе, она застыла у окна, а разговор все не кончался, пока кузины дружно не решили пообедать вместе со своей племянницей, а заодно рассказать ей, как относятся дамы их круга, хорошо знающие свет, ко всякого рода мезальянсам. И тут у миссис Хилбери родилась великолепная идея.
Глава 10
97
Глава 10
Адвокатская контора «Грейтли энд Хупер», в которой Ральф Дэнем подвизался клерком, помещалась на Линколънз-инн-Филдз, и каждое утро ровно в десять, минута в минуту, Ральф был на своем рабочем месте. Такую пунктуальность, в сочетании с другими положительными качествами, любой начальник оценил бы как начало успешной карьеры молодого служащего, проча ему лет через десять место в первых рядах гильдии законников, и все бы ничего, если бы не одна подробность, которая ставила под сомнение любые достоинства Дэнема. Азартность, с какой он ставил на кон свои маленькие денежные сбережения, доставляла немало тревог его сестре Джоанне, и, хотя она смотрела на брата с обожанием, сестринская любовь отнюдь не застила ей глаза: она прекрасно видела упертый характер брата и оттого страшно беспокоилась, тем более что сама была такой же. Ей было легко представить, как Ральф, поддавшись фантазии, или увлекшись каким-то делом, или вдохновившись идеей, не задумываясь, ломает карьеру: положим (так ей чудилось), увидел из окна поезда женщину, развешивающую на заднем дворе белье, — и навсегда поддался чувству красоты. Или какому-то правому делу. Случись такое, его ничто не свернуло бы с пути. Еще она с подозрением относилась к его увлечению Востоком и, когда видела, как он читает книжку про путешествие в Индию, сразу настораживалась: вдруг он заразится? Опять же, брат не из тех — и она это прекрасно знала, — кого может увлечь обычная любовная интрижка: нет, он предназначен для чего-то высокого — правда, для чего именно, пока непонятно.
Впрочем, надо еще поискать другого такого юношу, который, подобно Ральфу, трудился бы не покладая рук и преуспел бы на избранном поприще так же, как преуспел в его годы он, так что все подозрения Джоанны питались ее наблюдениями по мелочам, которые любой другой человек на ее месте попросту отмел бы как пустячные. Впрочем, ее обеспокоенность можно понять: в их семье каждый добивался всего сам, и ей было донельзя горько представить, что Ральф может в один прекрасный момент взять и выпустить из рук то, что наработано великим трудом, тем более что в глубине души она знала за собой неодолимое желание пустить все на самотек, перестать держать себя в узде и трудиться по-черному. Правда, с Ральфом не так: если уж он решит все бросить, то сделает это только ради того, чтобы поставить себя в еще более жесткие условия: отправится в пустыню на поиски воды; поедет в тропики за каким-то редким видом насекомого; а то еще поселится в городских трущобах, чтобы на себе испытать, чего стоят теории социальной справедливости, которые получили сегодня такое широкое хождение. Не исключала Джоанна и того, что брат может полюбить какую-
98
Вирджиния Вулф. День и ночь
нибудь женщину, которая сильно настрадалась в жизни, и посвятить ей всего себя... В общем, разные тревожные мысли приходили ей в голову, когда они встречались под вечер у Ральфа в его комнате, отапливаемой газовой плиткой.
Скорее всего, Ральф не признал бы в прогнозах, смущавших душевный покой его сестры, и сотой доли своих мечтаний о будущем. Узнай он хотя бы об одном из ее прожектов, он расхохотался бы ей в лицо: о таком будущем он точно не мечтал! Он и не подозревал, какие нелепые фантазии он, оказывается, плодил в голове сестры. Он-то, наоборот, гордился тем, что подчинил свою жизнь тяжелой работе, относительно которой не питал ни малейших иллюзий. Спроси его когда угодно о том, какое будущее он для себя наметил, и он, ни секунды не задумываясь, не впадая в ложные фантазии, признался бы как на духу: человек аналитического склада ума, в пятьдесят он получит место в парламенте, у него будет умеренный достаток и, если повезет, должность в правительстве либералов. Вполне вероятный и уж конечно весьма достойный прогноз. Тем не менее сестра права: Ральф собрал в кулак всю свою волю, все свое умение держаться в трудных обстоятельствах, чтобы не сойти с намеченной дистанции. Он затвердил правило: у него такая же судьба, как у всех, и лучшей доли ему не надо; повторяя эти слова изо дня в день, он выработал самодисциплину, точность действий, демонстрируя своим отношением к делу, что работа в адвокатской конторе — это предел мечтаний и других стремлений у него нет.
Но, как всегда бывает, когда ты не очень искренен в своих намерениях, затверженное правило Ральфа держалось до поры до времени, пока оно встречало одобрение у окружающих, но стоило Ральфу остаться одному, вне людских глаз, как он моментально забывал о рутине и пускался мысленно в такие диковинные странствия, что, наверное, устыдился бы признаться в них. Конечно, в мечтах он представлялся себе благородным рыцарем; но самовосхваление не было единственным мотивом его романтических устремлений. Скорее, они служили отдушиной порыву, видимо не находившему выхода в реальной жизни, — ведь, смирившись со своей долей, Ральф решил, что в мире нет места так называемым грезам. Правда, порой ему казалось, что ничего ценнее грез у него и нет: он мечтал о том, как, поддавшись порыву, превратит пустыню в цветущий сад, избавит человечество от страшных болезней, создаст красоту там, где она и не ночевала; то был зов настолько властный и яростный, что, казалось, откликнись он, и в мгновение ничего не останется от пыльных конторских книг и пожелтевших отчетов — все сожжет дотла сей испепеляющий дух, а сам он останется с пустыми руками. Он годами учился владеть собой и в свои двадцать девять мог гордиться тем, что научился часы службы не мешать с времяпрепровожде¬
Глава 10
99
нием за мечтами: обе половины жизни мирно уживались друг с другом. Собственно говоря, такая жесткая самодисциплина была отчасти вызвана интересом Ральфа к трудной профессии юриста, но лишь отчасти; другой мотив, который сложился у Ральфа ко времени окончания колледжа, только укреплял его в печальной уверенности, что в жизни большинства людей определяющим оказывается не талант, а рутинная привычка, — она-то и заставляет нас признать со временем, что в тех ценностях, которыми ты когда-то дорожил больше жизни, мало проку.
Душой компании Дэнем не был — ни на службе, ни в кругу семьи. Для этого он был слишком принципиален, бескомпромиссен, подчеркнуто сдержан и, как часто бывает с теми, кто не очень счастлив или придавлен обстоятельствами, чересчур сурово обходился с теми, кто имел неосторожность признаться в том, что доволен жизнью: этой слабости Дэнем не прощал. Сослуживцев такая деловитость раздражала — особенно нерадивых, — и они злорадствовали по поводу его быстрого продвижения по службе. В самом деле, он производил впечатление строгого, самостоятельного молодого человека, немножко дикого, резкого, с замашками максималиста, который спит и видит, — твердили злые языки, — как бы подняться повыше, что, впрочем, вполне объяснимо, если у тебя нет средств; правда, выглядит такое честолюбие не очень красиво.
По большому счету они были правы, молодые коллеги Ральфа по конторе: ведь он к ним в друзья не набивался, вот они и платили ему той же монетой. Он относился к ним ровно, как к сослуживцам, но в жизнь свою никого не пускал. И, надо сказать, до недавнего времени ему удавалось без труда строить свои отношения с людьми примерно так же, как он организовывал свой бюджет. Но в последнее время жизнь преподносила ему сюрпризы, не укладывавшиеся в привычную схему отношений. Начались неожиданности два года назад, когда он встретил Мэри Дэчет и та вдруг — чуть не при первом знакомстве — расхохоталась над его словами. Как он ни допытывался, объяснить свою реакцию она не смогла: просто он показался ей донельзя чудным. А когда они узнали друг друга поближе и он рассказал ей о том, как проводит будни и что делает в выходные, она совсем развеселилась: так заразительно смеялась, что даже его самого, против воли, рассмешила. Таких чудаков, как он, поискать! Попробуй найди в Англии другого такого знатока бульдогов — не сыскать! Ни у кого нет гербария полевых цветов, собранных в окрестностях Лондона; а описание его еженедельных посещений мисс Троттер в Илинге1 — старуха считается экспертом в вопросах геральдики — чуть не довело Мэри до колик. Ей все про него было интересно — даже то, каким кексом потчевала его хозяйка при встрече; а уж их совместные с Мэри вылазки в окрестные церкви, когда они срисовывали
100
Вирджиния Вулф. День и ночь
под копирку бронзовые гербы, превратились в настоящие именины сердца. За полгода она больше его домочадцев вызнала про его странные знакомства и хобби, и, надо сказать, такое внимание с ее стороны было очень приятно Ральфу, хотя оно и вносило некоторую сумятицу в его представление о самом себе как о сугубо серьезном человеке.
Ему нравилось ощущать в себе перемену после встречи с Мэри Дэчет: он уходил от нее обновленным, чувствуя, что он не такой, как все, что в нем есть какая-то изюминка, что его любят. И дома он тоже изменился — стал мягче, терпимее, а все потому, что не мог забыть, как Мэри над ним подтрунивает, говоря, что ничегошеньки-то он не знает. А еще она заразила его интересом к общественным вопросам, которые ее саму волновали всегда, и она очень надеялась, что после нескольких политических диспутов, на которых он поначалу скучал, а потом втянулся, увлекся, он перейдет из лагеря тори в радикалы.
Впрочем, откровеннее он не стал: когда что-то новое приходило ему в голову, он машинально решал, чем он поделится с Мэри, а о чем промолчит. Она и сама, без его объяснений, знала за ним эту черту и была заинтригована, поскольку по опыту знала, что молодые люди, наоборот, очень охотно рассказывают о себе, и она обычно слушала их признания вполуха, как детский лепет, не имеющий к ней никакого отношения. Другое дело Ральф: ничего и близко похожего на материнскую заботу она к нему не испытывала, зато рядом с ним всегда чувствовала себя личностью.
Как-то под конец рабочего дня Ральф шел по набережной на деловую встречу с одним адвокатом. День почти погас, и сумеречный воздух заиграл зеленовато-желтыми переливами искусственного освещения, хотя, происходи дело в деревне, он бы мягко стелился по земле, мешаясь с дымом лесных костров; а здесь, на Стрэнде, по обеим сторонам сияли витрины магазинов, сплошь в радужных бликах от золотых цепочек и ослепительных лакированных ботинок, красовавшихся на подставках из толстого стекла. Вся эта пестрота сливалась перед глазами Ральфа в одно пятно, и он чувствовал, как заряжается бодростью и энергией. И тут перед ним — словно в продолжение его мысли — возникла Кэтрин Хилбери: она шла ему навстречу, и он не спускал с нее глаз. Он отметил про себя ее отрешенный вид, губы, словно нашептывающие что-то, — вкупе с высоким ростом и элегантной внешностью, эти черты ее облика делали ее совершенно не похожей на снующих взад-вперед прохожих: другого полета птица! Ральф сам удивился спокойствию, с каким он смотрел на Кэтрин; но стоило ему с ней поравняться, как он вдруг почувствовал дрожь в коленках и сердце заколотилось. Но она прошла мимо, не посмотрев в его сторону, повторяя про себя неизвестно откуда взявшиеся строчки: «Дело в жизни, в одной жизни, — в открывании ее, бес¬
Глава 10
101
прерывном и вечном, а совсем не в открытии!»2 Занятая своими мыслями, Кэтрин не заметила Ральфа, а тот не решился ее остановить. Однако их мимолетная встреча неожиданно внесла в происходящее гармоничную ноту — как в музыке, когда какофония вдруг уступает место мелодическому строю. Впечатление это было настолько приятным, что Ральф ни минуты не пожалел о том, что не остановил девушку. Даже позвонив в дверь стряпчего, с которым у него была назначена встреча, он поймал себя на мысли, что до сих пор находится под обаянием того сладкого мига.
Когда он вышел от адвоката, рабочий день был уже позади: возвращаться в контору было незачем, домой ехать не хотелось — встреча с Кэтрин настраивала совсем на другой лад. Куда направиться? На секунду он представил, как бродит по ночному Лондону, идет к дому Кэтрин, стоит под окнами, сторожит, пытаясь поймать ее силуэт; но тут же, устыдившись, отбросил эту мысль, обнаруживая внутреннее противоречие: так, завидев цветок, мы в умилении тянемся сорвать его, а через минуту, устыдившись своей слабости, отбрасываем сорванный бутон в сторону. Нет, он лучше пойдет навестит Мэри Дэчет: она наверняка уже дома.
Увидев на пороге Ральфа, Мэри слегка опешила. Он появился в самый разгар уборки на кухне: и надо же было ей именно сегодня заняться чисткой столовых ножей! Поэтому, едва пригласив гостя войти, она бросилась назад и выкрутила на полную мощность кран с холодной водой, а потом принялась медленно, плотно завинчивать его, приговаривая про себя: «Так, так, спокойно, без глупостей...»
— По-моему, Асквита мало повесить3, — крикнула она, выглядывая из кухни, — как ты думаешь?
Спустя несколько минут она появилась в гостиной, вытирая руки о полотенце, и стала рассказывать Ральфу о недавней попытке правительства «замотать» законопроект об избирательном праве женщин. Ральфу было не до политики, но он старался не подать виду в присутствии Мэри, чей интерес к общественным вопросам он глубоко уважал. Наблюдая за тем, как его приятельница, слегка подавшись вперед, разбивает кочергой угольки в камине, одновременно чеканя ясные, взвешенные фразы, смахивавшие на речь политика с трибуны, Ральф поймал себя на мысли: «Да, Мэри сказала бы, что я идиот, если бы узнала, что я чуть не пошел пешком до Челси ради того, чтобы постоять под окном Кэтрин. Мэри такого не понимает, но я принимаю ее такой, какая она есть».
Потом они еще немного поговорили о том о сем — как теперь быть с законопроектом, что женщинам делать в сложившейся ситуации, — и постепенно Ральф разогрелся, увлекся темой, и Мэри сама не заметила, как потеряла бдительность, расслабилась, — ее вдруг потянуло поговорить с Раль¬
102
Вирджиния Вулф. День и ночь
фом по душам, поделиться с ним своими чувствами, узнать, наконец, как он к ней относится, — и ей стоило больших усилий подавить в себе это желание. Однако ее рассеянность не ускользнула от внимания Ральфа, и мало- помалу разговор заглох: возникла пауза. В голове Ральфа мешались разные мысли, но все они крутились вокруг Кэтрин и тех романтических, геройских фантазий, с которыми связывался ее образ, — не станет же он делиться с Мэри своими мечтами! А сама она едва ли догадывается о том, что творится у него в душе. «Вот тебе и вся разница, — подумал он с некоторым сожалением, — мы, мужчины, натуры увлекающиеся, а женщины нет».
— Итак, Мэри, — нарушил молчание Ральф, — что ты притихла? Где твои веселые истории?
Он, конечно, подначивал ее, и обычно Мэри пропускала мимо ушей подобные шутки, но на этот раз она не спустила:
— Были, да все вышли! Не о чем рассказывать.
Ральф задумался, потом сказал:
— Ты перетрудилась. Я не о здоровье, — парировал он, услышав, как она презрительно фыркнула в ответ на его замечание. — Я о том, что ты стала зашоренной с этой работой.
— А что в ней плохого? — спросила она, прищуриваясь и глядя на него из-под ладони.
— Все плохо, — отрубил он.
— Но ты же неделю назад говорил ровно противоположное.
Хотя она и отвечала дерзко, на душе у нее кошки скребли. Ральф, однако, не почувствовал перемену настроения и принялся учить Мэри, как ей жить, высказывая соображения, которые волновали его самого последнее время. Девушка слушала не прерывая, а сама все больше укреплялась в мысли, что Ральф находится под чьим-то влиянием. Он твердил ей, что надо больше читать, что точка зрения другого человека заслуживает не меньшего внимания, чем твоя собственная. Вспомнив, что последний раз они виделись у нее на службе, когда он вызвался проводить Кэтрин, Мэри решила, что причина перемены кроется в Кэтрин: вероятно, в разговоре с Ральфом та съязвила что-нибудь насчет деятельности суфражисток или дала понять, что относится к ней более чем сдержанно. Только Ральф не из тех, кто признает чье-то влияние.
— Ты мало читаешь, Мэри, — повторял он. — Читай стихи!
Действительно, круг ее чтения ограничивался только теми книгами, которые требовались для подготовки к экзаменам; к тому же после переезда в Лондон у нее просто не оставалось времени на книги. Любой обидится на слова о том, что читает мало стихов, и Мэри стоило большого труда справиться с возмущением: она переменила позу и приняла неприступный вид.
Глава 10
103
Но потом опомнилась: «Я же дала себе слово не обижаться!» — расслабилась и нашлась, что ответить:
— Хорошо, тогда посоветуй, что мне читать!
Ральф почувствовал глухое раздражение против Мэри, и он с ходу выпалил несколько имен великих поэтов в качестве предлога для риторики по поводу личностного и поведенческого несовершенства Мэри.
— Во-первых, коллеги твои — сплошь неудачники, — начал он горячо, рассудком понимая, что эмоциям здесь не место. — Во-вторых, ты привыкаешь к накатанной колее, поскольку это удобно. В итоге ты забываешь о своей главной цели. Потом, у тебя чисто женская привычка беспокоиться по мелочам. Ты не можешь отличить принципиально важные вещи от второстепенных. И это беда всех подобных организаций! По этой же причине суфражистки так и не сдвинули дело с мертвой точки, хотя времени было вагон. Какой смысл затевать все эти благотворительные концерты и базары? Мэри, с идеи нужно начинать, с идеи! Нужно задумать что-то большое и не бояться делать ошибки, набивать себе шишки, и уже если начала, то не сдаваться, не хныкать. Почему не бросить все к чертям и не попутешествовать годик, а? Увидишь мир! А то смотри, так и проживешь всю жизнь в болоте рядом с неудачниками. Хотя о чем я? Ты не сможешь! — в сердцах заключил Ральф.
— Я сама об этом думаю — о том, как жить дальше, — заметила Мэри, и Ральф поразился тому, как спокойно она это сказала. — Хочу уехать отсюда куда-нибудь далеко.
Возникла пауза; потом Ральф выдавил из себя:
— Послушай, Мэри, ты ведь пошутила, верно?
Недавнее раздражение как рукой сняло, и он вдруг явственно ощутил надлом в ее голосе, и ему стало совестно — за себя, за то, что причинил ей боль.
— Ну куда ты поедешь? — спросил он и, не получив ответа, взмолился: — Не надо, не уезжай!
— Не знаю, что делать, — сокрушенно вздохнула Мэри. Она ждала, что они сядут, обсудят дальнейшие планы, но Ральфу было не до того — она видела, что он как-то отстранился, ушел в себя. Она связывала эту перемену настроения с их отношениями: ведь, хотя и раньше бывало, что Ральф впадал в какой-то ступор, а она старательно прятала от него свои чувства, что-то тянуло их друг к другу — так (казалось ей) две линии подземки бегут параллельно, почти соприкасаясь, но все никак не сойдутся.
' Так и разошлись: Ральф бросил на прощание «Спокойной ночи!» и вышел вон, а Мэри, оставшись одна, перебирала в памяти сказанное Ральфом. Если любовь — это всепожирающий огонь страсти, обращающий все твое
104
Вирджиния Вулф. День и ночь
существо в поток раскаленной лавы, устремляющийся с крутизны вниз, то в таком случае, размышляла Мэри, ее чувство к Ральфу — это не любовь: с таким же успехом можно было бы сказать, что она влюблена в кочергу или каминные щипцы. Вообще бурное проявление чувств — штука редкая; если случается, то, скорее, под занавес отношений, когда сил противиться чувству — день за днем, месяц за месяцем — уже нет. Как любой умный человек, Мэри была эгоистична в том смысле, что она прислушивалась к своим чувствам, а врожденная совестливость заставляла ее временами спрашивать себя, насколько благородны ее чувства. Вот и в тот вечер, после встречи с Ральфом, Мэри провела ревизию своего душевного хозяйства и решила, что самое время заняться иностранным языком — например, итальянским или немецким. Подойдя к письменному столу, она отперла заветный ящик и достала со дна густо исчерканную рукопись. Сев за стол, стала перечитывать написанное, время от времени отрываясь от страницы и снова возвращаясь мыслями к Ральфу; снова и снова перебирала в памяти черты, которые когда-то задели в ней душевные струны, говоря себе, что она ничего не упустила, все описала верно. Напоследок еще раз заглянула в текст и вздохнула: да, трудное это дело — писать хорошим литературным слогом! Впрочем, она больше думала о самой себе, чем о стиле или о Ральфе Дэнеме, поэтому вопрос «что есть такое ее чувство к Ральфу — любовь или нечто иное?» так и остался открытым.
Глава 11
«Дело в жизни, в одной жизни, — в открывании ее, беспрерывном и вечном, — упоенно повторяла Кэтрин, пройдя под аркой и выйдя на просторы Кингз-бенч-уок1, — а совсем не в открытии». Последнюю фразу она адресовала окнам Родни, которые зазывно светились огнями, зажженными, как она догадывалась, в ее честь: Родни пригласил ее на чашку чаю. Но почему-то именно сегодня, именно сейчас Кэтрин испытывала почти физическую муку при мысли, что ей придется выбросить из головы все, о чем она думала, — она даже не сразу пошла к дому, а прошлась и раз, и два, и три под деревьями. Ей нравилось завладеть какой-нибудь книжкой, которую ни мать, ни отец не читали, и вгрызаться в нее до основания, ни с кем не делясь, не обсуждая содержание, — самой решать, нравится или нет. Сегодня она целый вечер прокручивала в голове фразу из Достоевского, толкуя ее на свой лад: мол, все предрешено, смысл жизни в поиске, а цель — какая угодно — не имеет значения. Она присела на скамейку, чувствуя, как погружается в омут, но потом встряхнулась, решила, что пора сбросить тяжелый груз раздумий — подобно тому как выбрасывают за борт балласт, — встала и пошла к дому,
Глава 11
105
по рассеянности забыв про устрицы, купленные у торговца рыбой: корзинка осталась на скамейке. Через пару минут она уже стучалась к Родни.
— Это я, Уильям, — объявила она. — Похоже, я опоздала.
Так оно и было, но радость встречи все-таки перевесила раздражение, закипавшее в душе хозяина, — ведь он битый час готовился к приему гостьи, и вот наконец он вознагражден за свои труды. Кэтрин молча, но с видимым удовольствием оглядывалась по сторонам, пока он помогал ей снять пальто. Родни постарался: камин горел исправно, стол был накрыт к чаю, каминная решетка начищена до блеска, и вся обстановка радовала глаз небрежным артистическим уютом. Принимал ее Родни в своем старом малиновом халате, местами полинявшем, с залысинами, потерявшими цвет, как лежалая трава под камнем. Чай был готов; Кэтрин медленно стянула перчатки и свободно, по-мужски села, положив ногу на ногу. За столом много не говорили; потом, захватив с собой чашки и поставив их рядом на пол, устроились с сигаретами в креслах у камина.
Они не общались с тех пор, как обменялись письмами, — тогда в ответ на пространные ламентации Родни Кэтрин послала короткую деловую записку в полстраницы, в которой ясно говорила о том, что не любит его и поэтому не может выйти за него замуж, однако выражала надежду, что они по- прежнему останутся друзьями. В конце стоял постскриптум: «Мне очень понравился сонет».
Так что непринужденный вид Родни был напускным: он три раза, пока готовился к визиту Кэтрин, переодевался во фрак и трижды менял его на старый халат; три раза прикреплял к галстуку бриллиантовую запонку и трижды ее снимал, проделывая все эти манипуляции перед маленьким зеркалом в спальне. Он все не мог решить, в каком настроении появится у него в этот декабрьский вечер Кэтрин. Еще раз пере^штал письмо и подумал, что постскриптум ставит все точки над «i»: она явно восхищается его поэтическим талантом, и, поскольку такая оценка, в общем, совпадала и с его мнением о себе, он решил рискнуть парадной стороной момента. Вел он себя сдержанно, старался много не говорить, а если и заговаривал, то на отвлеченные темы, — он рассчитывал, что она поймет: не надо смущаться тем, что она впервые зашла к нему одна, — правда, в глубине души он вовсе не был в этом так уверен.
Впрочем, с виду Кэтрин и не смущалась, скорее, она была рассеянна, и, происходи их встреча при других обстоятельствах, Родни мог бы счесть это бестактностью по отношению к себе и обидеться. Но на самом деле, хотя Кэтрин и не подавала виду, на нее, конечно, подействовала непринужденная, даже интимная обстановка встречи с Родни наедине, при свечах, за чашкой чаю. Она попросила разрешения посмотреть его библиотеку, рисунки, заин¬
106
Вирджиния Вулф. День и ночь
тересовалась снимками, сделанными в Греции, и вдруг ни с того ни с сего всполошилась:
— Боже, устрицы! Я забыла про устриц! Понимаешь, — объясняла она Родни, — я купила их по пути сюда и, видно, где-то оставила корзинку. А у нас сегодня вечером обедает дядя Дадли... И куда они подевались?
Она вскочила с места, не зная, куда бежать; Уильям встал как вкопанный спиной к камину и, остолбенело переводя взгляд с Кэтрин на потолок, словно ища что-то у себя над головой, бормотал: «Устрицы, надо же, целая корзинка устриц!» А девушка тем временем откинула штору и выглянула во двор, где ветер кружил листья платанов.
— Так, — рассуждала она, — по набережной я шла с корзинкой, потом присела на скамейку... В общем, все понятно — моими устрицами ужинает кто-то другой.
— Я думал, ты никогда ничего не теряешь, — заметил Уильям, усаживаясь на место и приглашая Кэтрин сесть.
— По-моему, это семейная легенда, — ответила Кэтрин.
— А что же тогда правда? — осторожно полюбопытствовал Уильям. — Или это нам неинтересно? — добавил он чуть уязвленно.
— Вот именно — неинтересно! — пожала плечами Кэтрин.
— В таком случае о чем будем беседовать? — спросил Родни.
В ответ Кэтрин лукаво оглядела комнату.
— Мы можем говорить о чем угодно, и все равно разговор будет об одном и том же — о поэзии. Уильям, дорогой, тебе известно, что я не читала Шекспира? Удивительно, правда, как долго я это скрывала?
— По-моему, у тебя это здорово получалось все десять лет, — отозвался он.
— Как ты сказал — десять лет?
— Ну да, и, по-моему, тебе не было скучно, — добавил он.
Кэтрин, не отрываясь, смотрела на огонь. Нет, она не скучала, но и никакого волнения при мысли об Уильяме она не испытывала — наоборот, она была как никогда спокойна. С Родни ей было удобно — можно было беседовать и думать о своем: никто не вторгался в ее жизненное пространство. Вот и сейчас он сидит рядом, совсем близко, а она витает мыслями далеко-далеко... Внезапно ее внутреннему взору предстала картина — хотя вроде и мыслей ни о чем таком не было, — она увидела себя в этой самой комнате: она возвращается после лекции, с книгами под мышкой, голова пухнет от чтения учебников по математике и астрономии... Усталым движением кладет книги на стол — в-о-он туда... так будет через два-три года их с Уильямом супружеской жизни — и тут Кэтрин очнулась и стряхнула наваждение.
Глава 11
107
Родни пыхтел рядом, и, как ни старался скрыть свое волнение, он только еще сильнее нервничал: глаза выпучены, готовы выскочить из орбит, малейшее движение — и кровь бросается в лицо. Пока они с Кэтрин молчали, он столько фраз в голове перепробовал, такую гамму эмоций испытал, что теперь сидел красный как рак.
— Ты сказала, не читаешь книг, — выпалил он наконец, — но ведь ты все равно о них знаешь. И потом, никто не ждет, что ты станешь ученой, — пусть наукой занимаются за неимением лучшего сухари-академики. Ты же — ты!.. Гм-м...
— Знаешь, — попросила Кэтрин, взглянув на часы, — почитай мне что- нибудь на прощанье!
— Помилуй, Кэтрин, ты ведь только пришла и уже собираешься уходить! Подожди, дай-ка я найду что-нибудь интересное, — забеспокоился Уильям и бросился к столу: пошарив среди бумаг, выбрал, не без колебаний, одну рукопись, сел в кресло, положил страницы на колени, разгладил их любовно и тут, словно опомнившись, взглянул исподтишка на Кэтрин: та невольно улыбнулась в ответ.
— Так ты из вежливости предложила почитать, да? — взорвался он, отшвыривая рукопись. — Тогда не надо, лучше просто поговорим. Что новенького?
— Вовсе не из вежливости, — возразила Кэтрин. — Но если тебе не хочется, не читай.
Уильям чуть не застонал в изнеможении, но все-таки снова поднял рукопись, раскрыл, так и сверля взглядом Кэтрин. Впрочем, та была сама серьезность.
— Любишь уколоть человека, — укоризненно заметил Родни, разгладил страницу, откашлялся, пробегая взглядом первые строфы. — Итак! Принцесса заблудилась в лесу, и вдруг она слышит звук охотничьего рога (на сцене это выглядит прелестно, но в чтении эффект, конечно, пропадает). Итак, появляется Сильвано в сопровождении придворной свиты Грациа- на — я начинаю с того места, когда Сильвано читает монолог.
Родни тряхнул головой и начал декламировать.
Кэтрин слушала внимательно, хотя еще недавно бравировала своим полным невежеством в литературе. Прослушав первые двадцать пять строк, она сморщилась, видимо, потеряв интерес. Лишь когда Родни поднял вверх указательный палец — мол, внимание! сейчас будет переход к другому размеру, — Кэтрин снова проснулась.
У Родни была своя теория о том, что каждое настроение выражается особым лирическим рисунком. Владел он просодией мастерски: если бы художественное достоинство драмы оценивалось по количеству метриче¬
108
Вирджиния Вулф. День и ночь
ских модуляций, использованных в речи персонажей, то пьесы Родни вполне могли бы соперничать с шекспировскими. Разумеется, Кэтрин не могла сравнивать — Шекспира она не читала, но, наверное, не требуется каких-то специальных знаний, чтобы догадаться о том, что пьесы обычно не приводят слушателей в состояние ступора, а она сейчас находилась именно в ступоре, тупо слушая, как Родни отбивает строчку за строчкой, то длиннее, то короче, чеканя слова монотонным речитативом, будто кто-то долбит тебе по голове молотком, забивая гвозди. Ничего не поделаешь, рассуждала она про себя, это чисто мужское занятие, за редким исключением: женщины просодию не изучают, оценить результат по достоинству не могут, но мастерство в деле версификации, конечно, заставляет женщину еще сильнее уважать своего мужа, ибо уважение часто возникает на почве необъяснимого восхищения. Без сомнений, Уильям — настоящий ученый. И вот конец первого акта — Родни дочитывает последние строчки, а у Кэтрин уже готов небольшой спич.
— По-моему, сделано очень искусно, Уильям, хотя, конечно, я не знаток.
— Ты сказала «искусно», — значит, тебя не тронуло?
— Я вовсе не то имела в виду, просто это же отрывок, по нему нельзя судить о целом!
— А хочешь, я прочитаю тебе еще один кусочек — из сцены с влюбленными? По-моему, в нем мне удалось выразить глубину чувства. Дэнем сказал, тут я превзошел самого себя.
— Как? — удивилась Кэтрин. — Ты давал читать Ральфу Дэнему? И что он сказал о пьесе? Он ведь строгий критик.
— Кэтрин, дорогая, — взмолился Родни, — я же не прошу тебя оценить пьесу, ты же не эксперт. Во всей Англии найдутся, может быть, пять человек, к чьему мнению я прислушиваюсь. Речь не об оценке — я верю твоей интуиции. Ведь, когда я писал эти сцены, я часто думал о тебе, спрашивал себя: «Понравится это Кэтрин?» — и вообще, когда я пишу, я только о тебе и думаю, а ты об этом, наверное, даже не догадываешься. И по мне, самое главное — да, поверь! — самое главное — это твое отношение к моим стихам.
От такого признания Кэтрин даже растрогалась.
— Уильям, по-моему, ты меня переоцениваешь, — заметила она, невольно поддаваясь его лести.
— Нет, Кэтрин, напрасно ты так, — ответил Родни, убирая рукопись в стол. — Я думаю о тебе, и на душе у меня делается так хорошо.
Тихо так сказал, без громких слов, без патетики, — просто повторил, что, если ей пора идти, он тогда быстро переоденется и проводит ее, ни секунды не задержит, — от такой неожиданной сдержанности Кэтрин букваль¬
Глава 11
109
но растаяла. Пока Родни переодевался в соседней комнате, она стояла в задумчивости возле полки с книгами и водила пальцем по корешкам.
Она всегда знала, что выйдет за Уильяма. Как же иначе? Тут и думать нечего, — вздохнув, она отогнала прочь мысль о замужестве и размечталась о том, что было бы, уродись она другим человеком и мир был бы вокруг иным; а поскольку мечтательницей она была опытной, то проникала в Зазеркалье в два счета. Что влекло ее туда? — она сказала бы, что там обретают плоть и кровь те абстрактные величины, которые в нашем мире существуют чисто умозрительно; в сравнении с вялой эмоциональной жизнью по сю сторону, в Зазеркалье жизнь бьет ключом. Там страсти достигают такого накала, какой нам и не снился; там счастье настолько полно, что в сравнении с ним наше так называемое счастье — лишь жалкое подобие, а красота — не более чем мимолетное прикосновение. Понятно, что обстановка в Зазеркалье была почти вся антикварная — некоторые вещицы аж времен елизаветинской эпохи. Но при всей пестроте этой воображаемой лавки древностей в ней были две постоянные величины: она служила отдушиной чувствам, которые в реальном мире не находили выхода, и еще — момент возвращения из Зазеркалья неизменно сопровождался смиренным и стоическим приятием фактов действительности. В отличие от Дэнема, чей зазеркаль- ный мир населяли лица, чудесным образом преобразившиеся, у Кэтрин в Зазеркалье не было знакомых; героических подвигов она не совершала. Но, конечно, это не означает, что она не была влюблена в принца на белом коне, что она не мчалась с ним вдвоем по неизведанным джунглям и сердца их не бились в такт одним и тем же чувствам, накатывавшим волна за волной и омывавшим их влажной прохладой... Впрочем, время в Зазеркалье, как песочные часы, утекало меж пальцев, сквозь густую листву джунглей доносилось постукиванье коробочек на туалетном столике — Родни явно заканчивал переодеваться, — и, стряхнув наваждение, Кэтрин вынырнула из Зазеркалья, оторвавшись от книжной полки.
— Уильям, — позвала она едва слышно — так вернувшийся с того света обращается к живым. — Уильям, — повторила уже твердо, — если ты еще не раздумал на мне жениться, я согласна.
Пожалуй, мало кто из мужчин испытал на себе, что это значит, когда судьбоносный вопрос твоей жизни решается одной фразой, произнесенной ровным, бесцветным, безвольным голосом, лишенным всякой радости. Наступила мертвая тишина. Кэтрин стоически ждала, и вот минуту спустя из спальни вышел Родни и как ни в чем не бывало предложил ей поторопиться: он знает рыбную лавку, где в это время еще можно купить свежие устрицы. Кэтрин вздохнула с облегчением.
по
Вирджиния Вулф. День и ночь
Отрывок из письма миссис Хилбери своей золовке миссис Милвейн, посланного два дня спустя:
«...Какая глупость не указать в телеграмме имя жениха! Тем более, имя такое красивое, сочное, породистое; вдобавок, Бог не обделил молодого человека умом, он — настоящая ходячая энциклопедия. Я уже сказала дочери, что он будет сидеть за обедом справа от меня, чтобы я не попадала впросак всякий раз, когда меня спрашивают про шекспировских персонажей. Купаться в роскоши они не будут, — я это знаю, — зато будут очень-очень счастливы. Как-то сижу вечером одна и думаю, вот, нечего больше ждать от жизни, ничего хорошего больше не будет, и вдруг слышу, за дверью прошла Кэтрин, я подумала, может, позвать ее? Но решила, нет, не стану (знаешь, бывает, взгрустнется у догоревшего камина или после дня рождения), мол, чего я буду на нее перекладывать свои печали? И правильно сделала, что не позвала, — буквально через минуту она сама стучится, входит, садится у меня в ногах: я так и обмерла от счастья, хотя ни словечка мы не проронили, ну и, конечно, всплакнула: “Ах, Кэтрин, дорогая, как я хочу, чтобы у тебя была дочка! Вот доживешь до моих лет и все сама поймешь!” Кэтрин молчунья, ты же знаешь, вот и в этот раз сидит, молчит; я уже забеспокоилась, не знаю, чего и ждать. А она все отмалчивается; наконец призналась: решила принять предложение; написала ему письмо; ждет его завтра с визитом. В первую минуту я расстроилась: зачем ей замуж? Никому ее не отдам! Но потом она как-то так хорошо сказала: “Я же никуда от вас не денусь, я люблю вас с отцом больше всего на свете”, и я подумала, какая же я эгоистка, и стала убеждать ее, что, наоборот, она всю себя до капельки должна посвятить мужу, а я уж как-нибудь на вторых ролях. Ну почему всегда так получается? Наступает счастливый момент, все складывается именно так, как ты надеялась, а у тебя глаза на мокром месте и чувствуешь ты себя старой калошей, неудачницей, одной ногой в могиле? И тут Кэтрин говорит: “Я счастлива, по-настоящему счастлива!”, и я вдруг подумала, зачем расстраиваться, ведь она же говорит, что счастлива, и у меня теперь появится взрослый сын, и вообще все складывается лучше не придумаешь, и ведь я действительно верю, что мы приходим в этот мир, чтобы найти свое счастье, хотя в проповедях ничего об этом не сказано... Жить они будут, сказала Кэтрин, по соседству, мы будем видеться каждый день, она будет по-прежнему работать над жизнеописанием, и мы закончим его, как планировали. В конце концов, разве лучше ей было бы остаться старой девой или выйти за какого-то буку? А влюбись она в женатого мужчину?.. Страшно подумать!
Конечно, всегда думаешь, что твоя дочка — самая лучшая и никто ей не пара, но я-то знаю, он — добрая, чуткая душа, характера ему, правда, не хва¬
Глава 12
111
тает и нервы шалят, но это во мне говорит мать. Кэтрин-то у меня совсем другая: сдержанная, владеет собой, она от природы командирша и хозяйка. Давно пора ей употребить свои таланты на благо человека, который будет нуждаться в ней, когда мы уйдем в мир иной, а здесь пребудут наши тени, ведь, что бы там ни говорили, я знаю, что вернусь в этот чудесный мир, где мне было когда-то так хорошо и так грустно: так и вижу себя маленькой девочкой, тянущей ручки за еще одним подарком с огромного сказочного дерева, ветви которого все еще украшены прелестными игрушками, хотя их теперь, пожалуй, меньше и в ветвях сквозит не, как раньше, голубое небо, а звезды и вершины гор.
Правда ведь, мы ничего не знаем? И посоветовать детям нечего; остается лишь надеяться, что у них достанет силы духа и веры, без которых жизнь была бы просто бессмысленна. Только их я и желаю Кэтрин и ее супругу».
Глава 12
— Могу я видеть мистера или миссис Хилбери? — неделю спустя в дверь дома в Челси звонил Дэнем.
— Их нет, сэр. Но вас может принять мисс Хилбери, — ответила служанка.
На такой поворот событий Ральф не рассчитывал, хотя в глубине души надеялся, под предлогом встречи с мистером Хилбери, увидеть Кэтрин, — собственно, за тем и проделал долгий путь до Челси.
Он помялся для виду, потом кивнул, и служанка повела его наверх в гостиную. Когда за ним беззвучно закрылась дверь, он снова, как и в прошлый раз, несколько недель назад, ощутил, будто мир скрылся за тысячей запоров, и ему снова почудилось, что комната тонет в полумраке от растопленного камина, свечей в серебряных подсвечниках и где-то в глубине, в центре, белеет стол, уставленный серебряными подносами с чайным сервизом. Только на этот раз за столом никого не было — одна Кэтрин с раскрытой книгой: она явно не ждала гостей.
Ральф скомканно объяснил, что пришел к мистеру Хилбери.
— Отца сейчас нет, — ответила Кэтрин. — Но он скоро будет, присаживайтесь.
Ральфу показалось, что в приветливых словах Кэтрин сквозит нота искренней сердечности. А может, ей просто стало скучно — одна, с книжкой, за чашкой чаю... В общем, книга полетела на диван, а хозяйка закинула руки за голову.
— Что, из новых? — спросил Дэнем, приятно удивившись непринужденному жесту Кэтрин. — Вы ведь их не любите, правда?
112
Вирджиния Вулф. День и ночь
— Нет, не люблю, — отозвалась она. — Даже вам не понравилось бы.
— Что значит «даже вам»? — переспросил он. — Почему «даже мне»?
— Вы же сказали тогда, что любите все новое, а я возразила, что не выношу ничего нового.
Ральфа удивила такая вольная трактовка их самого первого разговора в комнатке, отведенной под домашний музей, но он был польщен ее вниманием и поэтому промолчал.
— Правда, я не помню точно, — продолжала она, подметив его удивленный взгляд, — может, я сказала, что вообще книг не терплю?
— А вы действительно их терпеть не можете? — спросил он.
— Знаете, глупо говорить, что не любишь книги, когда прочитала всего- то с десяток, но... — Она запнулась.
— Что «но»?
— Нет, я действительно терпеть не могу книги — любые! — сказала она твердо. — Ох уж эта вечная страсть копаться в ощущениях! Не понимаю! Стихи — сплошь про чувства, романы — туда же.
Она одним взмахом ножа отрезала кусок кекса, приготовила для матери чай и пошла с подносом к ней в спальню — та лежала с простудой.
Ральф распахнул перед ней дверь, а когда Кэтрин вышла, вернулся в комнату, вне себя от счастья: глаза горели, и он не понимал, то ли это явь, то ли сон. Всю дорогу сюда его преследовал образ Кэтрин, и когда пять минут назад он вошел вслед за служанкой в гостиную, то выбросил ее образ из головы, зная, как больно бывает ощутить разлад между мечтой и действительностью. И надо же! — каких-то пяти минут хватило, чтобы живая Кэтрин напрочь вытеснила старую мечту и заполнила собой все пространство — обожгла взглядом, и все вокруг преобразилось! Он изумленно оглядывался: рядом стояли стол, стулья; вот здесь, на этом стуле, она только что сидела — он даже потрогал спинку стула, чтобы убедиться в том, что не спит; но все равно то был сон, вся обстановка напоминала сновидение. Он встряхнулся, яростно цепляясь мыслью за эти несколько мгновений; и вот откуда- то, из глубин чаемого, родилось радостное откровение: самые безумные наши фантазии — ничто в сравнении с тем, как прекрасна бывает человеческая природа.
Через минуту вошла Кэтрин: Ральф смотрел на нее и думал, насколько она прекраснее, невероятнее того образа, что он создал; ведь у настоящей Кэтрин в глазах, в чертах лица скрыта такая бездна смысла, что самые простые слова, самые обычные фразы кажутся бездонными. Рядом с Кэтрин образ, им созданный, трещал по швам, — Ральф отметил, что мягкостью движений Кэтрин напоминает огромную полярную сову; на руке у нее кольцо с рубином.
Глава 12
113
— Мама просила передать, — сказала Кэтрин, — она надеется, вы начали писать поэму. Послушать ее, так все мы должны писать стихи... Впрочем, — вздохнула она, — вся наша родня такая, все сочиняют. Иногда меня это бесит — ведь ясно, что стихи плохие. Правда, тебя же никто не заставляет их читать...
— Звучит не очень ободряюще, — заметил Ральф.
— А вы разве поэт? — засмеялась она, вопросительно посмотрев на него.
— Сказать правду?
— Да, конечно, вы никогда не лукавите, — сказала она, заглядывая ему в глаза лучистым, обезоруживающим взглядом.
«Перед такой неземной красотой, таким прямодушием, — подумал Ральф, — никто не устоит; броситься в омут — и будь что будет».
— Так вы — поэт? — повторила она.
Он почувствовал в ее словах какой-то подвох, точно она искала ответ на одной ей известный вопрос.
— Нет, — ответил он. — Я давно не пишу стихов. Но все равно я с вами не согласен. По-моему, все бессмысленно, кроме поэзии.
— Зачем вы это говорите? — прервала она его, постукивая ложечкой по дну чашки.
— Зачем? — переспросил Ральф и, недолго думая, выпалил: — А затем, что без поэзии идеал умирает, только поэзия способна вдохнуть в него жизнь.
При этих словах выражение ее лица странным образом переменилось — точно свет погас; она прищурилась иронично, и в лице появилась печаль — он и не знал, как по-другому назвать этот взгляд, который он уже не раз подмечал у нее.
— Не знаю, как можно верить в идеалы, — сказала она.
— Но вы же в них верите! — убежденно возразил он. — Пусть не идеалы, идеал — глупое слово, мечты... вы же верите в мечту?
Она ловила его слова, точно у нее уже готов был ответ; но ровно в ту секунду, когда он спросил «верите в мечту?», дверь в гостиную распахнулась и какое-то мгновение стояла открытой. Они оба смолкли, затаив дыхание.
Послышалось шуршанье шелковых юбок, и вот в дверях возникла, заполняя весь проем, обладательница необъятного кринолина, а из-за ее плеча выглядывала ее менее монументальная спутница.
— Тетушки! — выдохнула Кэтрин.
Она произнесла это слово трагическим голосом, и, насколько мог догадаться Ральф, Кэтрин не преувеличила драматизм создавшейся ситуации. К статной даме она обращалась по имени «тетя Миллисент», а к даме пониже ростом — «тетя Целия» — то была миссис Милвейн, которая взялась об¬
114
Вирджиния Вулф. День и ночь
венчать Сирила с его гражданской женой. Обе дамы, в особенности миссис Кошем (тетя Миллисент), находились в приподнятом, благожелательном настроении, какое и приличествует дамам, разъезжающим по Лондону с визитами в пять часов пополудни. В женских портретах кисти Ромни1, особенно если портрет под стеклом, схвачены эти ни с чем не сравнимые умильное выражение глаз, розовая пухлость щечек, напоминающих спелые абрикосы в лучах заходящего солнца. Миссис Кошем была вся увешана муфточками, цепочками, темными ниспадающими шарфами, и, едва усевшись в кресло, она моментально заполнила собой все пространство, так что объять взглядом ее фигуру стало невозможно. В сравнении с нею миссис Милвейн была просто Дюймовочкой, но и она расплывалась перед глазами наблюдавшего за нею Ральфа, наполняя его тихим ужасом. Разве он сможет достучаться до таких фантастических персонажей? — «фантастических» в прямом смысле слова: миссис Кошем раскачивалась в разные стороны и изгибалась, точно в ней сидела длинная металлическая пружина. Голос у нее был визгливый, деланный, она то растягивала, то рубила слова, как ей вздумается, словно английский язык не годился для нормальной речи. Кэтрин включила электрический свет — Ральф решил, что она таким образом хочет снять возникшее напряжение. Но миссис Кошем было уже не остановить — она разошлась (раскачивание, видно, помогало ей разогреться), и ее понесло — она обратилась к Ральфу без предисловий:
— Мистер Попем, я из Уокинга. Если вы спросите, чем мне так приглянулся Уокинг, я отвечу — кстати, в сотый раз отвечаю, — он мне нравится своими закатами. Там потрясающие закаты2, точнее, там были закаты — ровно двадцать пять лет назад. Куда они подевались, спрашивается? Были, да сплыли! Теперь, если хочешь увидеть настоящий закат, нужно ехать на южное побережье.
Она говорила с придыханием, играла голосом, в котором слышались переливы модуляций, а для пущего эффекта взмахивала руками — так, что собеседник не мог не обратить внимания на длинные пальцы в перстнях, усыпанных бриллиантами, рубинами, изумрудами. «На кого похожа эта дама в расшитой жемчугом сеточке, — решал про себя Ральф, — на слониху или на роскошного какаду, который, раскачиваясь на жердочке, лениво поклевывает кусок сахара?»
— Так куда же подевались закаты, я спрашиваю? — повторила она. — Вот вы, мистер Попем, вы наблюдаете закаты?
— Я живу в Хайгейте, — ответил Ральф.
— В Хайгейте? — переспросила она. — Милое местечко! В Хайгейте, между прочим, жил твой дядя Джон, — повернулась она к Кэтрин. Посидела с минуту, опустив голову, точно вспоминая о чем-то, потом выпрямилась: —
Глава 12
115
В Хайгейте прелестные лужайки. Помню, Кэтрин, мы с твоей матерью однажды гуляли по аллеям, — повсюду цвел боярышник. И где он теперь? Вы помните, мистер Попем, у Де Квинси3 есть тончайшее описание боярышника в цвету? — впрочем, о чем это я? — ваше деятельное и просвещенное поколение, которому я не устаю поражаться, не читает Де Квинси! Конечно, зачем вам Де Квинси, когда у вас есть Беллок, Честертон, Бернард Шоу?4 Подумаешь, Де Квинси! — И она всплеснула белыми ручками в перстнях.
— Ну отчего же, — возразил Ральф, — я, например, читаю Де Квинси и, уж поверьте, чаще, чем Беллока или Честертона.
— Неужели! — воскликнула миссис Кошем с удивлением, к которому примешивалась нотка облегчения. — Да вы настоящая гага avis* среди молодых! Какое счастье встретить человека, читающего Де Квинси!
При этих словах она деланно прикрыла ладонью рот и, наклонившись к Кэтрин, спросила громким шепотом:
— Твой друг часом не писатель?
— Мистер Дэнем, — подчеркивая каждую букву, ответила Кэтрин, — один из авторов «Критикл ревью»5. Он — адвокат.
— Конечно, как я сразу не догадалась! Гладко выбритый подбородок, без усов, — адвокаты внушают мне чувство уверенности, мистер Дэнем...
— Раньше адвокатские постоянно крутились в доме, — дребезжащим, как старинный колокольчик, голосом попыталась вставить словечко миссис Милвейн. — Вы сказали, что живете в Хайгейте, — продолжала она, обращаясь к Ральфу. — Вам, случайно, не попадался старый дом под названием «Прибежище бури»? Старинного вида белый домик, окруженный садом?
В ответ Ральф развел руками.
— Я так и знала, — вздохнула она, — снесли, наверное, когда перестраивали район. А какие прелестные улочки там были раньше! Ты знаешь, ведь в тех местах встретились твой дядя и тетя Эмили, — сказала она, обращаясь к Кэтрин. — Бедняга проводил ее до самого дома.
— Да, — пропела миссис Кошем, — и в волосах у нее белела сорванная веточка боярышника!
— А на следующее воскресенье у него в петлице красовался букетик фиалок. Мы сразу все поняли.
Кэтрин рассмеялась, украдкой посмотрела на Ральфа: тот сидел, задумавшись, и девушка недоумевала — что он нашел такого в старых сплетнях? Почему-то ей стало его жаль.
— Дядя Джон... кстати, почему вы все время говорите «бедняга Джон»? — спросила она, чтобы поддержать разговор, хотя на самом деле гостьи не нуждались в ободрении.
* Редкая птица [лат).
116
Вирджиния Вулф. День и ночь
— Так всегда называл его отец, сэр Ричард, — не иначе, как бедный Джон или семейный дурачок, — заторопилась, боясь, что ее перебьют, миссис Милвейн. — Все сыновья как сыновья — отличники, а этот не мог сдать ни один экзамен, вот его, бедного, и отправили в Индию, а в то время путь туда был неблизкий. С тех пор он — знаете, как говорят? — отрезанный ломоть. Но вы знаете, — заметила она, обращаясь к Ральфу, — я думаю, он обязательно добьется рыцарского титула, станет сэром и ему назначат пенсию, только случится это не в Англии.
— Да уж, точно не в Англии, — поддакнула миссис Кошем. — Это раньше мы думали, что должность судьи в Индии равноценна должности судьи в каком-нибудь местном графстве. Ваша честь — чем не титул? Хотя, конечно, невелик почет: есть титулы и поважнее. Однако, — вздохнула она, — если у тебя семья, жена и семеро детишек, а родовитость сегодня не в почете — мало ли кто у тебя отец? — выбирать не приходится, — заключила она.
— И вот что я вам скажу, — подхватила ее слова миссис Милвейн, доверительно понижая голос, — если бы не жена — твоя, Кэтрин, тетя Эмили, — он бы достиг большего. Я ничего не говорю — она была ему отменной женой, преданной, но ей не хватало честолюбивой жилки, она не подталкивала его к росту, а когда такое случается, особенно в адвокатской профессии, то клиенты это моментально чувствуют и не идут. Мистер Дэнем, когда мы были молодые, то мы хвастались, что знаем, кто из наших знакомых дорастет до судьи в зависимости от того, на какой девушке женится. Так всегда было и так всегда будет. По-моему, — добавила она, ища общий знаменатель сказанному, — для мужчины главное — это состояться в профессии. Тогда он по-настоящему счастлив.
Миссис Кошем энергично закивала, соглашаясь, и заметила с умудренным видом:
— Да, мужчины — это не женщины. Я полагаю, Альфред Теннисон был прав в этом вопросе, как, впрочем, и во многих других. Жаль, он не успел написать «Принца» — в продолжение «Принцессы»!6 Признаюсь, надоели мне сплошные принцессы, хочется, чтобы кто-нибудь показал, каков он, настоящий мужчина! А то все Лауры7 да Беатриче8, Антигоны9 да Корделии10, а где же герои-то? Вот вы, мистер Дэнем, поэт, чем вы это объясняете?
— Да не поэт я, — добродушно ответил Ральф, — я всего лишь стряпчий.
— Но вы же пишете?! — возопила миссис Кошем, испугавшись, что у нее возьмут и отнимут драгоценную находку — молодого человека, нешуточно преданного литературе.
— Пишу, пишу, — уверил ее Дэнем, — на досуге.
— Вот видите! — торжествуя, провозгласила миссис Кошем. — «Пишете на досуге» — это и есть доказательство истинной преданности делу.
Глава 12
117
Она полуприкрыла веки и представила себе, как в полутемной подвальной каморке, при свете грошового огарка строчит нетленные романы молодой нищий адвокат без диплома. Правда, в ее глазах романтический флер, который, подобно мишурному блеску, окружает фигуры великих писателей и страницы их шедевров, не таил в себе никакой фальши. Куда бы она ни отправилась, с ней всегда было карманное издание Шекспира, и от всех жизненных бурь она была застрахована силой поэтического слова. Понимала ли она, что перед ней Дэнем, или же она принимала его за какого-то литературного героя, сказать трудно: литература во многом заменила ей память. Вполне вероятно, что она сравнивала его с героями старинных романов, поскольку, помолчав, выдала следующее:
— Гм, гм... Пенденнис... Уоррингтон...11 Никогда не прощу Лауре, — заявила она непререкаемым тоном, — что она, вопреки всему, не вышла замуж за Джорджа12. Ту же ошибку совершила Джордж Элиот: кто такой был этот Льюис13, с повадками учителя танцев, лицом похожий на лягушку? А Уоррингтон? Каков герой! Все при нем: интеллект, страсть, романтическая внешность, достоинство, — ну согрешил немного, так это бывает у студента выпускного курса! В сравнении с ним Артур всегда казался мне немного фатом — я не представляю, что Лаура в нем нашла? Но вы, мистер Дэнем, говорите, вы — стряпчий. В таком случае у меня к вам парочка вопросов — они касаются Шекспира...
Она не без труда извлекла потертый томик и помахала им.
— Нынче модно считать, что Шекспир по профессии был законником. Говорят, это объясняет, почему он так глубоко разбирался в человеческой природе. Вот вам пример для подражания, мистер Дэнем. Изучайте ваших клиентов, молодой человек, и вскоре мир обогатится новыми открытиями. Скажите, как вы думаете: мы стали лучше или хуже? Обманулись вы в своих ожиданиях или нет?
Ральф не растерялся, когда его столь бесцеремонно призвали к ответу на вопрос о состоянии человеческого достоинства, и ответил без колебаний:
— Обманулся, миссис Кошем, как есть обманулся. Наш рядовой современник, уж не обессудьте, — немного подлец...
— Ну а рядовая женщина?
— Признаться, и о ней тоже не могу сказать ничего хорошего.
— Господи, так оно и есть, нисколько не сомневаюсь, — вздохнула миссис Кошем. — Во всяком случае, Свифт с вами точно согласился бы...14
Прищурившись, она решила, что этот Дэнем — очень мужественный молодой человек, и подумала: «Вот кто мог бы состояться на поприще сатиры».
— Вы, наверное, знаете, что Чарльз Лэвингтон был стряпчим, — не преминула вмешаться в разговор миссис Милвейн — ей давно надоело слушать
118
Вирджиния Вулф. День и ночь
про вымышленных героев и она порывалась переключиться на реальных людей. — Ты его не помнишь, Кэтрин?
— Господина Лэвингтона? Ну как же, помню. — Кэтрин даже вздрогнула от прямого вопроса: она задумалась о своем. — В то лето мы снимали дом под Тенби15. Там был луг, пруд с головастиками, и мистер Лэвингтон учил нас вязать снопы.
— Все правильно! Там действительно был пруд с головастиками, — подтвердила миссис Кошем. — Кстати, именно на этом пруду Миллее сделал эскизы к своей «Офелии»16. Есть мнение, что это его лучшая картина...
— А я помню собаку на привязи во дворе, а в кладовке — чучела змей... За тобой еще тогда погнался бык, Кэтрин, — вспоминала миссис Мил- вейн. — Ты маленькая была, наверное, не помнишь, хотя как знать? — ребенок ты была необыкновенный. Вот та-а-а-кие глазищи, мистер Дэнем! Я говорила ее отцу: «Смотри, она все замечает, все складывает в своем умишке! Все про каждого знает!» Представляете, — объясняла она Ральфу серьезно-пресерьезно, — дети были с няней — Сьюзен ее звали — женщина опытная, только муж у нее служил матросом, ходил в море. Ей бы за детьми смотреть, а она все на море пялится. Упросила она миссис Хилбери разрешить ей повидаться с муженьком в деревне. Понятно, ничего путного из этого не вышло: пока они с ним миловались в роще, коляска с ребенком стояла на лугу. Бык взъярился на красное одеяльце, и чуть не случилась беда! Слава богу, мимо шел прохожий, он подоспел на помощь, выхватил Кэтрин из коляски в последнюю минуту!
— Не бык, а корова, тетушка, — заметила Кэтрин.
— Ничего подобного — огромный рыжий девонширский бык, он тем же летом забодал местного жителя, и его пришлось забить. А твоя мать простила Сьюзен — я бы никогда так не поступила.
— Мэгги всегда потакает влюбленным, — заносчиво бросила миссис Кошем. — Что бы ни произошло, она во всем видит перст судьбы, и судьба, надо сказать, до последнего времени была к ней милостива...
— Да уж, — рассмеялась Кэтрин, — ей, в отличие от родни, нравилась душевная широта матери, — мама на любого управу найдет: был бык, стал коровой.
— Тебе все шуточки, — обиделась миссис Милвейн, — хорошо, теперь есть кому защищать тебя от бешеных быков.
— По-моему, — усмехнулась Кэтрин, — Уильям на такие подвиги не способен.
Ральф слушал рассеянно — в это время он, по просьбе миссис Кошем, объяснял ей трудное место в «Мере за меру»17, склонившись над томиком Шекспира, и не сразу понял, о каком Уильяме идет речь: он решил, что
Глава 12
119
Кэтрин с тетей вспоминают истории из детства Кэтрин, когда та еще бегала в коротком платьице с передничком, — он живо представил ее ребенком — и у нее был братик по имени Уильям; и все равно он так разволновался, что буквы на странице расплывались перед глазами. В эту секунду кто-то ясно сказал: обручальное кольцо.
— Мне нравится с рубином, — услышал он слова Кэтрин.
Миссис Кошем прочитала нараспев:
...попала
В поток незримых вихрей и носилась,
Гонимая жестокой силой, вкруг Земного шара...18
И тут Ральфа осенило: Уильям — это Родни! Кэтрин помолвлена с Родни — сомнений не было. Ральф вскипел: зачем ей понадобилось целый вечер водить его за нос, пичкать его россказнями старых кумушек, рассказывать сказки про девчушек на лугу, вместе вспоминать детство? Ведь она ему чужая, она выходит за Родни.
А вдруг это ошибка? Быть не может... Он сидел, уткнувшись в книгу, и, видя, что ее собеседник не отрывает глаз от страницы, миссис Кошем, чтобы заполнить паузу, поинтересовалась у Кэтрин:
— Вы уже решили, где будете жить?
Этот вопрос окончательно убедил Ральфа в чудовищной правде. Он поднял глаза и отрубил:
— Затрудняюсь.
Миссис Кошем решила, что ослышалась, — откуда у молодого человека этот резкий тон, презрительная нота в голосе? К счастью, ее поколение полагало, что это в порядке вещей, когда мужчина ведет себя резко, и она только липший раз убедилась в том, что этот мистер Дэнем далеко пойдет. Видя, что тот молчит, она забрала у него томик Шекспира и, по-старушечьи поджав губы, спрятала его поглубже в карман своих необъятных юбок.
— Кэтрин помолвлена с Уильямом Родни, — пояснила она, прерывая затянувшееся молчание, — он — наш старинный друг. Кстати, феноменальный знаток литературы, просто феноменальный. — Она неопределенно качнула головой. — Вам с ним нужно познакомиться.
У Дэнема было одно желание: поскорее уйти, но выход был загорожен: тетушки встали вместе с ним и теперь собирались подняться наверх и навестить приболевшую миссис Хилбери. Еще Ральфу хотелось напоследок увидеть Кэтрин, — правда, что он ей скажет, он не знал. Кэтрин пошла проводить тетушек наверх и сразу вернулась. «Сама невинность и дружелюбие», — изумился Дэнем.
120
Вирджиния Вулф. День и ночь
— Отец скоро придет, — сообщила она. — Присаживайтесь! — Она улыбнулась, предлагая ему сесть напротив, точно два хороших знакомых встретились за чашкой чаю.
Ральф не двинулся с места.
— Я должен вас поздравить, — сдавленным голосом сказал он. — Я не знал.
Она переменилась в лице, опечалилась. «Еще больше, чем раньше», — подумал он.
— Вы о помолвке? — спросила. — Да, я выхожу замуж за Уильяма Родни.
Он стоял и молчал. Было такое ощущение, словно меж ними разверзлась пропасть и все поглотил мрак. Взглянув на нее, он понял, что мысли ее далеко, — ни сожаления, ни осознания причиненной боли в ее лице он не увидел.
— Я ухожу, — сказал он.
Она собиралась ответить, но потом передумала и просто попрощалась:
— Надеюсь, мы увидимся. Нам почему-то каждый раз, — замялась, — мешают договорить.
Он молча поклонился и вышел.
Свернув от дома на набережную, он стремительно зашагал прочь. Он чувствовал, что каждая жилка, точно в ожидании внезапного удара, натянута как струна. Он и сам не знал, почему весь напрягся, почему вдруг решил, что кто-то на него набросится. Прошло несколько минут, он понял, что за ним никто не следит, нападать на него никто не собирается, и он замедлил шаг. Моментально все мышцы, каждая клеточка заныли от слишком долго сдерживаемого напряжения, и мучительная боль растеклась по всему телу, не встречая ни малейшего сопротивления иссякшей воли. Он плелся вдоль речного парапета, забирая все дальше и дальше в сторону от родного дома, готовый сдаться без боя. Мимо улиц, мимо прохожих, раньше он часто представлял себе, как люди плывут по течению, безучастные к происходящему, по воле обстоятельств, а теперь он на себе испытал, каково это — плыть, куда понесет. Он смотрел с какой-то товарищеской жалостью на забулдыг, топтавшихся у дверей пабов, испытывая, подобно им, смешанное чувство зависти и ненависти к тем, кто шел, не оглядываясь по сторонам, торопясь к заветной цели. Все ему теперь виделось зыбким, туманным, лишенным опоры — «Все мы перекати-поле», — думал он про себя и про других несчастных. Мир кончился — прежнего, привычного мира с ясной перспективой улиц, стремящихся вдаль, для него больше не существовало, раз Кэтрин помолвлена с другим. Вся его жизнь была отныне видна как на ладони, а прямой, узкой дорожке суждено было скоро закончиться. Кэтрин, обманщица, выходит замуж. Он прислушался к себе: несчастье его не ело-
Глава 12
121
мило, но надломы ощущались повсюду — он теперь ни в чем не был уверен. Кэтрин им играла, она проникла в его мысли, сделалась его второй натурой, и теперь, когда он ее лишился, ему было стыдно за тот самообман. Жизнь его сделалась пустыней.
Сырой туман накрыл противоположный берег, оставив только линию дрожащих огней на поверхности, и, хотя было зябко, Ральф присел на каменную скамью у парапета и предался горьким мыслям. Ничего светлого в жизни не осталось, все обессмыслилось. Поначалу он еще убеждал себя в том, что Кэтрин поступила с ним дурно и она сама это скоро поймет, а когда поймет и вспомнит, то обязательно захочет перед ним извиниться, хотя бы мысленно. Но, подумав, отказался от этой сладкой иллюзии, поскольку прекрасно понимал, что Кэтрин ничем ему не обязана. Она ничего ему не обещала, ничего у него не брала: его мечтания для нее — пустой звук. Вот что было самым горьким! Если наши самые проникновенные чувства ничего не значат для того, кому они предназначены, то какой смысл? То, что грезилось раньше и согревало ему жизнь — мысли о Кэтрин, наполнявшие радостью каждый час существования, — предстали теперь нелепыми фантазиями. Он встал и нагнулся над парапетом: внизу бурлила грязная река, казавшаяся воплощением тщеты и забвения.
«Во что же верить?» — мучился сомнениями Ральф. Он казался себе таким слабым и никчемным существом, что задал вопрос вслух:
— Во что верить? В мужчин и женщин? Без толку. В мечты? То же самое. Выходит, и верить-то не во что — просто не во что!
Теперь Ральф на собственном опыте познал, что значит возненавидеть другого человека. Родни — чем не славная мишень? И все же и Родни, и Кэтрин казались Ральфу бесплотными видениями. Он даже не помнил, как они выглядят. Он копнул поглубже: помолвка — это мелочь; все в мире — тень, призрак; весь мир — это зыбкий туман, обволакивающий одинокую серую точку — его разум, про которую он когда-то знал, а теперь забыл — погасла искра. Когда-то в нем жила вера, и воплощением той веры была Кэтрин, а потом Кэтрин пропала. Нет, он ее ни в чем не винил — никого и ни в чем, у него просто открылись глаза — он увидел повсюду грязь и пустоту. И все равно жизнь кипит, тело живет своей жизнью, оно взывает к его разуму, к его способности действовать — отринуть мир людей, зато сохранить страсть, хотя еще недавно ему казалось невозможным представить, что его чувство существует отдельно от человека, внушающего ему чувство обожания. Теперь его страсть полыхала во весь горизонт — так зимнее солнце вдруг проглянет на закате зеленым окошком сквозь редеющие тучи. Он вперил взгляд в самую дальнюю точку — вот за той звездой он и пойдет и авось отыщет свою дорогу, найдет выход из бурлящего водоворота отринутого мира.
122
Вирджиния Вулф. День и ночь
Глава 13
Когда в конторе наступал обед, Дэнем обычно съедал свою порцию и выходил на улицу — пройтись. Остаток перерыва он проводил, прохаживаясь, независимо от погоды, по песчаным дорожкам в Линкольнз-инн- Филдз1. Гуляющие в эту пору дети издалека узнавали его фигуру, а воробьи, завидев его, слетались в надежде получить свою пригоршню хлебных крошек. Для одних у него всегда была припасена медная монетка, для других — хлебушек, — нет, Дэнем отнюдь не был слеп и глух, как ему казалось, к окружающим.
Зима тянулась однообразной вереницей дней: долгие часы корпенья над документами в конторе, без дневного света, под электрической лампочкой, чередовались с короткими пробежками по серым от тумана улицам. Обеденный перерыв заканчивался, он возвращался на рабочее место, а в голове у него стояла одна и та же картина: запруженная омнибусами набережная да бордовые листья под ногами, — гуляя, он редко когда отрывал глаза от земли. Мозг лихорадочно работал, но все как-то вхолостую, безрадостно; мысли перескакивали с одного на другое; домой он приходил с тяжелой пачкой библиотечных книг, потемневших от времени.
Таким его однажды увидела Мэри Дэчет, возвращаясь после обеда на службу: он шагал в наглухо застегнутом пальто, никого не замечая, глядя себе под ноги, будто и не выходил из своей комнаты.
Мэри обомлела — в первую секунду ее охватил какой-то священный трепет, а потом разобрал смех; сердце екнуло. Он прошел мимо и не узнал ее. Она нагнала его и тронула сзади за плечо.
— Господи, Мэри! — воскликнул он. — Ты меня напугала!
— Извини, но ты шел как сомнамбула, — сказала она. — Ты распутываешь какую-то жуткую любовную интригу? Или улаживаешь супружескую ссору?
— Что ты, я и не думал о работе, — отмахнулся Ральф. — И потом, я такими делами не занимаюсь, — добавил он угрюмо.
День был ясный, до конца обеденного перерыва было еще далеко; они не виделись недели две или три, и Мэри хотелось многое рассказать Ральфу, но она боялась его потревожить. Они прошлись немного вместе, перекинулись парой фраз, и тут Ральф сам предложил ей посидеть, поболтать. Они присели на скамейку — сразу слетелись воробьи, и Ральф достал из кармана кусочек булки, припасенной с обеда; бросил горсть крошек.
— Какие ручные, надо же, — заметила Мэри, чтобы не молчать.
— Да, эти не то, что в Гайд-парке2, — отозвался Ральф. — Не шевелись, я попробую при тебе покормить одного с руки.
Глава 13
123
Мэри хотела было сказать, что она не любительница представлений с дрессированными животными, но, поняв, что для Ральфа это предмет особой гордости, осеклась и даже поспорила с ним на шесть пенсов, что ему этот номер не удастся.
— Идет! — воодушевился тот, глаза заблестели. Он начал подзывать к себе лысого воробья, из тех, что побойчее, а Мэри тем временем разглядывала Ральфа исподтишка. Вид его ей совсем не понравился: он как-то скукожился весь, посуровел... Тут мимо пробежал малыш с обручем и распугал воробьиную стайку, с досады Ральф запустил крошками в ближний куст.
— Вот так всегда! А ведь я почти его подманил, — бросил он в сердцах. — Ты выиграла, Мэри, держи шестипенсовик. Но это только благодаря этому малолетнему хулигану — тоже, разбегались тут со своими обручами!
— «Разбегались тут с обручами!» Ральф, дорогой, я тебя не узнаю!
— Вечно ты всех защищаешь, а напрасно! — кипятился он. — Ведь это парк, место, предназначенное для наблюдения за птицами. Хочешь играть — беги на улицу! А не умеешь играть на улице, сиди дома!
Мэри нахмурилась, но промолчала.
Откинулась на скамейку, оглядывая серовато-синий горизонт с ломаной линией домов, крыш и труб.
— Да, хорошо здесь! — сказала она. — Вообще Лондон — чудесное место, так бы сидела целый день, смотрела на прохожих. Я существо общественное...
Ральф только крякнул.
— Да-да, мне интересно с людьми, надо только узнать их поближе, — пояснила она, словно отвечая ему на невысказанное возражение.
— А у меня наоборот — чем ближе, тем неинтереснее, — вздохнул он. — Впрочем, я вовсе не собираюсь разубеждать тебя — нравится, и ладно.
Он говорил вяло, будто ему было все равно — так ли, эдак ли. Он будто одеревенел.
— Ральф, да что с тобой? — вскинулась Мэри. — Встряхнись, ты же спишь на ходу! — дернула его за рукав. — Что с тобой происходит? Тебе скучно? Или зашился на службе? Тебе что, мир стал не мил?
В ответ он только пожал плечами, набивая трубку, но Мэри не унималась:
— Скажи, ты немного бравируешь, да?
— Не больше, чем всегда, — буркнул он.
— Ну хорошо, — сказала Мэри. — Поговорим в другой раз — я тороплюсь на заседание комитета.
Она поднялась со скамейки, но, вместо того чтобы попрощаться и уйти, встала перед ним и посмотрела на него озабоченно:
124
Вирджиния Вулф. День и ночь
— Ральф, я же вижу: тебе плохо. Что-то случилось? Или, наоборот, не случилось?
Ничего не ответив, он встал, и они вместе пошли к воротам. Как обычно, прежде чем что-то сказать ей, он обдумывал, стоит ли вообще говорить.
— Столько всего навалилось, — выдавил он наконец. — На службе, дома... Чарльз затеял очередную глупость: решил уехать в Канаду, устроиться фермером...
— Что ж, это, кстати, неплохой вариант, — сказала Мэри; и так, за неспешным разговором о делах в семействе Ральфа, они вдвоем вышли из ворот парка, еще раз медленно обошли его с внешней стороны, и неожиданно для себя Ральф обнаружил, что отклик Мэри, на который он рассчитывал, коснувшись больной темы домочадцев, вернул ему душевное равновесие. Во всяком случае, благодаря Мэри он переключился на практические, решаемые вопросы, а настоящая причина его грусти, которую все равно было не излечить, залегла где-то глубоко в потаенных уголках души.
Мэри проявляла деликатность, старалась помочь, и Ральфа тронула ее заботливость, тем более что он так и не открыл ей истинную причину своего горя. Когда они пошли по второму кругу, он решил высказать ей свою благодарность, шутливо посетовав на то, что она бросает его одного. Но шутка получилась неловкая — опять про службу.
— Дались тебе эти заседания, Мэри! — сказал он. — Пустая трата времени.
— Не спорю, от прогулки на свежем воздухе гораздо больше проку, — отозвалась она. — Послушай! — вдруг ее осенило. — Приезжай к нам на Рождество! У нас в это время года замечательно.
— К вам в Дишем?3 — переспросил Ральф.
— Да. Мы тебе мешать не будем. Подумай — хорошо? — бросила она на ходу, спеша на Рассел-сквер.
Приглашение сложилось само собой — из слов о прогулке на свежем воздухе, и она уже приготовилась отругать себя за необдуманное предложение, как вдруг поняла, что ругать себя не за что. «Если мне страшно представить, как мы гуляем вдвоем с Ральфом, — урезонивала она себя, — то лучше сразу завести себе кошку и поселиться в Илинге, как Салли Сил, — тогда он точно не приедет. А что, если возьмет и приедет?»
Она покачала головой в сомнении: она действительно не поняла, что он хотел сказать. Она никогда до конца его не понимала, а сейчас была в полной растерянности. Наверное, он что-то от нее скрывает, ведет себя так странно, о чем-то напряженно думает — наверняка о чем-то важном, у него есть какая-то тайна, о которой он ей не говорит, и оттого окружавшая его
Глава 14
125
аура таинственности невольно заражала и ее. Она даже незаметно для себя впала в грех, который не прощала представительницам своего пола, — когда женщина вдруг начинает видеть в мужчине светоч небесный и всю жизнь кадит ему фимиам.
В свете таких мыслей заседание комитета несколько поблекло, дело суфражизма тоже померкло в ее глазах, она поклялась, что наляжет на итальянский, займется орнитологией. Неизвестно, до чего она дофантазиро- валась бы, составляя в голове планы самосовершенствования, но вовремя пресекла дурную привычку, которая, как она знала, за ней водилась, — предаваться иллюзиям, и, когда вдалеке замаячили кирпичные «под каштан» фасады зданий на Рассел-сквер, она уже вовсю мысленно репетировала речь перед членами комитета. Надо же, раньше она не замечала этот каштановый окрас. Как водится, взбежала по лестнице, а там ее ждал холодный душ, от которого она окончательно проснулась: прямо на лестничной площадке миссис Сил пыталась напоить из стакана огромного лохматого пса.
— Мисс Маркем уже здесь, — торжественно объявила миссис Сил, — это ее собака.
— Породистая, — отозвалась Мэри, протягивая руку, чтобы погладить.
— Да, великолепный экземпляр, — согласилась миссис Сил. — По словам Кит, разновидность сенбернара — ну конечно, у большого человека большая собака. Ты ведь хорошо охраняешь хозяйку, правда, Боцман? Следишь, чтобы злые люди не ограбили ее дом, пока она трудится, помогает заблудшим душам вернуться к нормальной жизни... Ну хватит, пора! — И она бросилась, вместе с Мэри, в зал заседаний, вылив остатки воды прямо на пол.
Глава 14
Мистер Клактон торжествовал: с минуты на минуту появится на свет долгожданный плод его двухмесячных усилий по отладке и бесперебойной работе конторской машины — ассамблея членов комитета. Вообще президиумы были коньком мистера Клактона: он обожал разговоры на профессиональные темы; его самолюбию льстило, когда, в ответ на составленную им короткую записку, в условленный час раздавался звонок в дверь. Он напускал на себя важный вид всякий раз, когда, выдержав паузу, выходил с документами из своего закутка и появлялся перед собравшимися: ни дать ни взять премьер-министр перед членами своего кабинета. Он требовал, чтобы на столе был полный порядок: шесть листков промокательной бумаги, шесть чернильниц, стакан и кувшин с водой, колокольчик и ваза с дежурными хризантемами — последний атрибут был реверансом в сторону женской половины комитета. Вот и сегодня он заранее, втихую, разгладил каждую про¬
126
Вирджиния Вулф. День и ночь
монашку, поправил чернильницы, и теперь, как ни в чем не бывало, беседовал с мисс Маркем, стоя спиной к камину и держа «под прицелом» входную дверь. Не успели Мэри и миссис Сил войти, как он хмыкнул и обратился к собравшимся:
— Дамы и господа! Прошу внимания — начинаем.
Заняв место во главе стола, мистер Клактон подровнял стопку бумаг, лежавшую справа, потом подправил стопку слева и передал слово для зачитывания отчета по протоколу предыдущего заседания мисс Дэчет. Что та и сделала — причем с таким сосредоточенным выражением лица, что, будь слушатели повнимательнее, они, наверное, поинтересовались бы, что она такого особенного нашла в дежурном документе. Усомнилась ли она в принятом в прошлый раз решении распространить через филиалы листовку No 3? Или ее смутила опубликованная статистика о соотношении замужних и незамужних жительниц Новой Зеландии? А может, она расстроилась из-за того, что чистая прибыль от благотворительного базара, устроенного миссис Хипсли, составила пять фунтов восемь шиллингов и два с половиной пенса?
Уж не закралась ли Мэри в голову крамольная мысль о пользе подобных мероприятий? Впрочем, по ее виду не скажешь, что она чем-то недовольна. Такая приятная и здравомыслящая молодая женщина вообще редкость в организациях подобного типа. Луч солнца в осенней листве — вот что такое мисс Дэчет; а если без поэтических сравнений, то в ней чувствовались мягкость и сила, будущая заботливая нежная мать и большая труженица. Но отчет она сегодня читала отрешенно, точно слова потеряли для нее всякий смысл, хотя внутри у нее все клокотало. Превозмогая себя, дочитала документ до конца и тут же мысленно перенеслась в Линкольнз-инн-Филдз к чирикающим воробьям. Что, неужели Ральф еще там, подманивает к себе лысого воробушка? Получается? Зачем вообще это надо? Она так и не спросила его, почему воробьи в Линкольнз-инн-Филдз такие ручные, а в Гайд- парке пугливые — не оттого ли, что здесь мало прохожих и воробьи знают наперечет своих благодетелей?.. В общем, примерно первые полчаса заседания Мэри тщетно боролась с неотвязной мыслью о Ральфе, заразившем ее своим скепсисом. Чего только Мэри не перепробовала, пытаясь освободиться от навязчивого образа: и повышала голос, и читала, выделяя каждую букву, и смотрела в упор на лысину мистера Клактона, и черкала в блокноте — ничего не помогало! Рука сама выводила карандашом на промокашке круглую лысую голову воробья. Она присмотрелась к мистеру Клактону: у него тоже лысина, как у того воробья. Никогда еще секретарь комитета не терзалась столь несуразными сравнениями, да если бы только несуразными! — ее разбирал ядовитый смех, и она боялась, как бы вдруг не выдать кол¬
Глава 14
127
легам какую-нибудь дерзкую шутку, от которой у тех волосы дыбом встанут. Чтобы не расхохотаться, она кусала губы, словно это могло ей помочь.
Но даже эти мелкие сомнения казались ерундой в сравнении с более фундаментальным вопросом, на котором она в данный момент не могла сосредоточиться, но который давал о себе знать нелепыми каракулями и абсурдными сравнениями. «Вот кончится заседание, и я все обдумаю», — сказала она себе. А пока она вела себя самым неподобающим образом: вместо того чтобы направлять коллег твердой рукой к намеченной цели, она развлекалась — смотрела в окно, определяла, какого цвета небо, какой оттенок у лепнины на здании отеля «Империал». Все предложения членов комитета, казалось, были похожи как один — какому из них отдать предпочтение, она не представляла. Ральф заслонил собой все — она не помнила, что именно он сказал, но сказанное им обессмыслило все происходящее. И вдруг, как по мановению волшебной палочки, без всякого усилия с ее стороны, ее внимание зацепила одна деталь, связанная с организацией газетной кампании. Речь шла о том, что потребуется написать несколько статей, договориться с редакторами. Как лучше поступить? И тут Мэри встала в оппозицию к мистеру Клактону и его плану действий. Она твердо заявила, что надо не договариваться, а действовать, и действовать решительно. Сказав это, она с удивлением обнаружила, что навязчивая мысль о Ральфе отступает на задний план. Тогда она начала еще напористее убеждать присутствующих в правоте своей позиции. Она знала, что снова на коне, — к ней вернулось ясное понимание того, что есть правда, а что ложь. Точно сквозь рассеявшийся туман на горизонте снова замаячили вечные враги общественного блага — капиталисты, хозяева газет, противники суфражисток и, пожалуй, злейший враг — массы, которые не принимают ни ту, ни другую сторону: на какой-то момент Мэри даже показалось, что она различает в толпе силуэт Ральфа Дэнема. Так что на предложение мисс Маркем привести в качестве примера кого-то из знакомых Мэри заметила с горечью: «Мои друзья не видят смысла в нашей деятельности». Она словно продолжала мысленный диалог с Ральфом.
— Ах, вот как, значит, они такие, да? — насмешливо ответила мисс Маркем, и они все вместе принялись с удвоенной энергией сплачивать свои легионы против общего врага.
Мэри пришла на заседание комитета подавленная, но постепенно тучи рассеялись. Ей не нужно было объяснять, как устроен мир, — она это знала. Мир с его укладом, порядком был ей понятен, она различала, что хорошо, что дурно, и ее вдохновляло осознание того, что она знает, как расправиться с противниками. В порыве воображения она представила (как уже не раз представляла себе в тот день), что стоит на трибуне и в нее летят тухлые яйца, а Ральф из толпы тщетно пытается уговорить ее сойти вниз. Но...
128
Вирджиния Вулф. День и ночь
— Что мы такое в сравнении с делом всей нашей жизни? — ораторствовала она за столом. Впрочем, надо отдать ей должное: при всех абсурдных фантазиях голова у нее работала ясно, мысль оставалась трезвой, и она несколько раз очень тактично останавливала миссис Сил, когда та, впадая в раж, принималась командовать: «На баррикады! По всему фронту! Медлить нельзя!», как и подобало дочери своего отца.
Членами комитета были люди в основном пожилые, и Мэри, отчасти из-за своей молодости, произвела на них благоприятное впечатление, они были склонны занять ее сторону в пику остальным. Видя их поддержку, Мэри впервые вкусила сладость победы, прочувствовав на себе, что никакая — самая высокая — должность не сравнится с тем восторгом, который испытываешь, побуждая других делать то, что ты от них требуешь. Теперь, когда победа была у нее в кармане, Мэри даже пожалела слегка снисходительно тех самых людей, что ее поддержали.
Заседание было окончено, все встали с мест и засобирались: каждый участник встречи — всё деловые люди — сложил листочки в кейс, щелкнул замочком и заторопился на поезд, чтобы успеть на очередное заседание очередного комитета. Комната враз опустела — за столом в душном, непри- бранном помещении остались сидеть только трое: Мэри, миссис Сил и мистер Клактон; повсюду валялись розовые промокашки, на столе стоял стакан с водой — видно, кто-то налил, да так и не выпил.
Посидев, миссис Сил взялась за чайник, а мистер Клактон ушел к себе — обработать свежую порцию документов. Мэри все никак не могла успокоиться — предоставив миссис Сил возиться с чашками и блюдцами, она распахнула окно и вдохнула уличный воздух. Уже зажглись фонари, площадь окутал туман, и на противоположной стороне замелькали фигурки спешащих прохожих. Мэри смотрела на них из окна и в жадном порыве фантазии мысленно внушала им: «Захочу, и вы пойдете в ту сторону, захочу — в другую. Захочу, и вы зашагаете одной шеренгой, захочу — двумя. Что прикажу, то и сделаете». Она не заметила, как к окну подошла миссис Сил.
— Салли, вас не просквозит? Может, накинете что-нибудь? — предложила Мэри тоном, в котором чувствовалась легкая снисходительность — словно она пожалела маленькую никчемную энтузиастку. Та ничего не ответила. — Но вы хотя бы довольны? — спросила Мэри.
Салли вместо ответа набрала воздуху, помолчала, а потом, обведя глазами Рассел-сквер, Саутгемптон-роу, прохожих под окнами, разразилась тирадой:
— Если бы из них хоть один, хотя бы на пять минут зашел сюда, послушал бы, о чем говорят!.. Нет, но правда все же восторжествует... И тогда они все увидят...
Глава 14
129
Мэри считала себя не в пример умнее миссис Сил, и даже когда та высказывала мнения, совпадавшие с ее собственными, в ней все восставало против них, и она моментально начинала искать уязвимое место в позиции соперника. Но в этот раз она подавила в себе желание командовать.
— Давайте пить чай, — предложила она, опуская жалюзи. — Хорошо все прошло, правда, Салли? — бросила она походя, садясь к столу. Было бы странно, если бы миссис Сил не заметила, насколько профессионально она вела себя на заседании.
— Жаль только, что мы движемся черепашьим шагом, — ответила Салли, энергично тряхнув головой.
Мэри расхохоталась, и вся напускная надменность мигом слетела с нее.
— Вам хорошо смеяться, — обиделась Салли, снова тряхнув головой, — а вот мне не до смеха. Мне пятьдесят пять, и, боюсь, я не доживу до того дня, когда мы добьемся нашей цели — если добьемся, конечно.
— Доживете! Не надо, — милостиво поправила Мэри.
— Это будет великий день, — продолжала миссис Сил, вскидывая голову. — Великий не только для нас — для всего человечества. Вот почему, знаете ли, я так ценю наши заседания, каждое — это маленький шажок в продвижении — да-да, в продвижении всего человечества. Мы так хотим, чтобы те, кто придет за нами, жили лучше нас, а многим это совершенно все равно. Удивительно, правда, почему им все равно?
Она говорила взахлеб, между делом, суетясь с чашками и блюдцами, и, слушая эту восторженную радетельницу за все человечество, Мэри все больше проникалась к ней чувством восхищения. Ведь она-то печется только о себе, а миссис Сил — о всеобщем благе.
— Поберегите себя, Салли, если хотите дожить до победы. — Мэри вскочила с места и попыталась забрать у миссис Сил вазочку с печеньем и поставить ее на стол.
— Милая, да зачем же я буду себя беречь? — запричитала та, вцепившись в вазочку. — Я готова всем пожертвовать ради общего дела — ведь я не такая умница, как вы. Я росла не в тех условиях — как-нибудь расскажу, — поэтому я часто говорю глупости. Сбиваюсь, знаете ли. Не то что вы или мистер Клактон — вы никогда не сбиваетесь с мысли. Это очень плохая привычка — сбиваться с толку. Зато сердцем я никогда не обманываюсь. И я так рада, что Кит завела себе большую собаку, что-то она плохо выглядит последнее время.
Они вместе попили чаю, еще раз прошлись — уже в тесном кругу, среди своих — по обсуждавшимся на заседании вопросам, и у них появилось приятное чувство собственной значимости — будто они руководят процессом, дергают за веревочки, нажимают на педали и, дай им волю, они полностью
130
Вирджиния Вулф. День и ночь
сменят декорации, которые газетчики ежедневно подсовывают читателям. Несмотря на огромную разницу во взглядах, чувство сопричастности сблизило их и создало почти сердечную атмосферу.
Тем не менее Мэри не стала засиживаться и ушла рано: ей хотелось побыть одной, и потом, она собиралась послушать музыку в Куинз-холле1. Она твердо решила прояснить для себя свои отношения с Ральфом — а это лучше всего получается наедине: она даже специально сделала крюк по дороге домой и дошла до набережной, но одиночество не помогло — она продолжала терзаться сомнениями, хватаясь то за одну мысль, то за другую, в зависимости от того, по какой улице шла. Блумсбери2, например, почему-то навел на грустные мысли, но ненадолго — стоило ей пересечь мостовую, и настроение поднялось; на Холборн-стрит услышала звук припозднившейся шарманки, и ноги сами чуть не пустились в пляс; а потом, когда вышла на пустынную, серую от тумана площадь Линкольнз-инн- Филдз, ей снова стало зябко и грустно, и она чуть не расплакалась. Она брела одна, в темноте, не чувствуя товарищеского локтя, и вдруг ее будто что-то толкнуло, и на этот раз она не сдержала слез: она поняла, что любит Ральфа, а он ее — нет. Дорожка, где они гуляли утром вдвоем, теперь опустела, не слышно воробьев, кругом темно... Но, подойдя к дому и увидев огни в окнах, она воодушевилась, перепады настроения сменились ручейком надежд, желаний, мыслей, ощущений, протестов, который никогда не пересыхал в ее душе и всегда, при первой же возможности, готов был взыграть в ее сердце. Она решила отложить вопрос об отношениях с Ральфом до Рождества — затапливая у себя в комнате камин, она говорила себе, что в Лондоне нельзя ничего толком обдумать, Ральф наверняка не приедет к ним на Рождество, и она будет подолгу гулять одна, вот тогда она и прояснит и этот вопрос, и все другие, на которые у нее пока нет ответа. «Сложная штука — жизнь, — размышляла она, грея ноги у камина, — жизнь требует полной самоотдачи».
Посидев минут пять, она задремала. Разбудил ее резкий звук колокольчика: кто-то пришел. Сердце радостно забилось: что-то подсказывало ей, что это Ральф. Она сразу пошла открывать — сначала, правда, удостоверилась, что полностью владеет собой и ее не захлестнут эмоции при виде Ральфа. Впрочем, как оказалось, она напрасно внутренне готовилась к встрече: в гости к ней пожаловали Кэтрин с Родни, а вовсе не Ральф. Еще с порога ее поразил их подчеркнуто элегантный вид, рядом с ними она показалась себе неряхой и замарашкой. Она не могла взять в толк, зачем она им понадобилась и как их прикажете принимать. Об их помолвке она не знала. Но досада быстро прошла, и Мэри обрадовалась гостям: сразу было видно, что
Глава 14
131
Кэтрин — это личность, и потом, отпала необходимость контролировать свои чувства.
— Мы шли мимо, увидели в окнах свет и решили зайти, — объяснила Кэтрин, проходя в комнату, — и Мэри снова поразилась ее высокому росту, достойному и слегка рассеянному виду.
— Мы были на вернисаже, — уточнил Родни и, зайдя в комнату, ахнул: — Господи! С этой комнатой связано самое тяжелое воспоминание моей жизни — я читаю доклад, и вы сидите вокруг и посмеиваетесь. Помню, Кэтрин меня тогда просто убила: она злорадствовала по поводу малейшей ошибки. Вы, мисс Дэчет, другое дело: если бы не вы, я бы точно провалился.
Родни сел, снял желтые лайковые перчатки и, похлопывая ими по колену, огляделся с довольным видом. «А ему идет бодрый тон», — подумала Мэри, хотя чуть не прыснула со смеху. На Родни вообще нельзя было смотреть без улыбки: он пучил глаза, переводил взгляд с одной девушки на другую и все время шевелил губами, словно хотел что-то сказать.
— Мы смотрели старых мастеров в Графтон-гэлери3, — словно не замечая Уильяма, сказала Кэтрин, усаживаясь поудобнее с сигаретой, которую предложила ей Мэри. Гостья затянулась, откинулась на стуле, и лица ее было не видно за облачком сигаретного дыма.
— Вы не поверите, мисс Дэчет, — подхватил тему Уильям, — Кэтрин не нравится Тициан4. Еще она не любит абрикосы, персики и сладкий горошек. Зато она обожает мраморные статуи Элгина5 и пасмурные дни без солнца. Вот вам типичный пример холодной северной натуры. А я с юга, из Девоншира...6
«Они что, поссорились? — недоумевала Мэри. — Поссорились и забежали к ней? А может, Родни сделал Кэтрин предложение и получил отказ?» Мэри терялась в догадках.
В эту минуту Кэтрин вынырнула из облака дыма, стряхнула в камин пепел от сигареты и, прищурившись, посмотрела как-то чудно на своего колючего спутника.
— Мэри, — начала она издалека, — ты не напоишь нас чаем? Понимаешь, мы попробовали зайти в несколько мест, но все впустую: тут людно, там шумно, играет оркестр, и потом, что бы ты ни говорил, Уильям, картины в основном были безликие.
Она ясно старалась не задеть его чувства.
Мэри благополучно ретировалась на кухню готовить чай.
«И чего они здесь забыли?» — посмотревшись в зеркальце на стенке, спросила у своего отражения Мэри. Она недолго оставалась в неведении, когда она вернулась в гостиную, чтобы накрыть на стол, Кэтрин встретила ее
132
Вирджиния Вулф. День и ночь
известием об их с Уильямом помолвке; стало ясно, что это Уильям посоветовал ей открыться.
— Уильям думает, что вы еще не знаете, — сказала Кэтрин, — мы решили пожениться.
Неожиданно для себя Мэри бросилась поздравлять Уильяма, жала ему руку, а Кэтрин оставалась как бы в стороне — она, впрочем, занялась чайником.
— Подождите-ка, — заметила гостья, — сначала наливают кипяток, так ведь? Я на всякий случай спросила, ведь ты, Уильям, все всегда делаешь по-своему, наверняка и чай завариваешь по-особенному.
Мэри показалось, что Кэтрин сказала это из желания скрыть чувство неловкости, но если так, то получилось у нее это мастерски. Вопрос о женитьбе отпал сам собой: Кэтрин явно чувствовала себя хозяйкой положения, словно она у себя дома, — с ее выучкой это было несложно. Мэри сама не заметила, как оказалась вовлечена в беседу с Уильямом о старых итальянских мастерах, а Кэтрин тем временем разливала чай, подкладывала торт, следила за тем, чтобы тарелка Уильяма не оставалась пустой, лишь постольку поскольку участвуя в общем разговоре. Она наполняла собой пространство и так ловко управлялась с чашками, словно всю жизнь этим занималась. Мэри и обижаться было не на что — все складывалось очень непринужденно. В какой-то момент она, забывшись, в порыве воодушевления коснулась рукой колена Кэтрин — и даже не заметила! Возможно ли, что в Кэтрин проявилось материнское начало?.. Мысль о скором браке подруги, в которой уже сейчас видна была будущая мать, накрыла Мэри волной нежности и обожания, Кэтрин предстала намного старше и опытней ее самой.
А Родни все говорил и говорил. Пусть его внешность и была невыигрышной, зато она неожиданным образом оттеняла его внутренние достоинства. Он любил записывать детали, умел судить о живописи, свободно оперировал примерами из разных музейных собраний, и его ответы на вопросы умной собеседницы звучали веско и убедительно еще и потому, подметила Мэри, что, говоря, он легонечко постукивал кочергой по тлеющим в камине углям. Мэри растаяла.
— Чай стынет, Уильям, — мягко напомнила Кэтрин.
Уильям умолк, не споря, проглотил чай и заторопился дальше.
Тут только Мэри обратила внимание на Кэтрин: та сидела в широкополой шляпе, скрытая облачком сигаретного дыма, и непроницаемо улыбалась, улыбалась, как теперь показалось Мэри, отнюдь не по-матерински. Вроде бы простая фраза: «Чай стынет, Уильям», но сказана она так деликатно, так издалека и так метко, словно персидская кошечка ловко ступает среди фарфоровых безделушек. Мэри поймала себя на мысли, что уже второй раз
Глава 14
133
за день наталкивается на стену в характере человека, к которому испытывает большую симпатию. А еще она подумала, что, окажись она на месте Уильяма, она тоже очень скоро перешла бы на язвительный тон и стала бы задавать каверзные вопросы, которыми тот так и норовил уколоть свою невесту. И это притом, что Кэтрин совсем не важничала.
— Послушай, — спросила она, — откуда ты берешь время, чтобы столько читать о живописи, о литературе?
— Откуда беру время? — переспросил Уильям, явно польщенный ее вопросом. — Во-первых, я всегда путешествую с записной книжкой. Во-вторых, на новом месте я первым делом спрашиваю, как пройти в картинную галерею. Знакомлюсь, разговариваю с людьми. Например, один мой коллега по службе знает все о фламандской школе7 — я как раз только что рассказывал о ней мисс Дэчет. Так вот, я многое узнал от него — мужчины вообще друг у друга многое перенимают, — кстати, его зовут Гиббонс. Я тебя обязательно с ним познакомлю. Пригласим его как-нибудь на ланч. Вы знаете, мисс Дэчет, — обратился он к Мэри, — Кэтрин просто притворяется, что ее не интересует искусство. Вы об этом не знали? Она, видите ли, не читала Шекспира, а зачем ей его читать, когда она сама себе Шекспир? Шекспировская героиня, Розалинда8 то бишь, — хмыкнул он.
Шутка получилась натянутой и плоской, почти неприличной. Мэри невольно покраснела, точно Уильям произнес во всеуслышание слова «секс» или «дамский туалет». Но Родни уже закусил удила — видно, сильно нервничал.
— Понимаете, ей хватает знаний — светской даме больше не нужно! Так нет, подавай вам, женщинам, образование. А зачем, спрашивается? Ведь у вас и так все есть — все, повторяю. Может, поделишься с нами чем-нибудь, а, Кэтрин?
— Поделиться с вами? — рассеянно повторила Кэтрин, витавшая где-то в облаках. — Я подумала, нам пора идти...
— Это сегодня к нам на ужин приглашена леди Феррилби? В таком случае опаздывать никак нельзя, — засобирался Уильям. — Мисс Дэчет, вы слышали о семействе Феррилби? Нет? Они владельцы поместья Трэнтем Эбби9, — пояснил он, видя, что Мэри замялась с ответом. — Если сегодня за ужином Кэтрин будет паинькой, Феррилби, возможно, пустят нас туда на наш медовый месяц.
— Да, ради этого стоило бы постараться, хотя зануда она страшная, — отрезала Кэтрин и, чтобы как-то смягчить резкий ответ, добавила: — По крайней мере, мне общаться с ней очень сложно.
— Это потому, что ты не утруждаешь себя разговором, — рассчитываешь, что вести беседу будут другие. Однажды я сам видел, как она проси¬
134
Вирджиния Вулф. День и ночь
дела весь вечер, воды в рот набрав, — сказал он, по своему обыкновению поворачиваясь к Мэри. — При вас такого не бывало? Я пару раз подсчитал по часам, — сказал он, доставая массивные золотые часы и постукивая по стеклу, — сколько времени проходит между одной репликой и другой, когда мы с ней остаемся одни. Так вот, однажды я насчитал десять минут и двадцать секунд, и то — вы не поверите! — когда она открыла рот, чтобы что-то сказать, последовало лишь глубокомысленное «Гм!».
— Это моя беда, я знаю, — вздохнула Кэтрин. — Дурная привычка, у нас дома, знаете ли...
Конец фразы Мэри не расслышала — за гостями захлопнулась входная дверь. Мэри постояла в прихожей — ей послышалось, что и на лестнице Уильям продолжает клевать свою невесту. Минуту спустя в дверь снова позвонили — оказывается, Кэтрин забыла на стуле кошелек. Вернулась в комнату, взяла забытую вещь и, уже прощаясь, сказала Мэри совсем другим тоном:
— Вот видите, как дурно действует на человека помолвка! — и потрясла кошельком, как бы в доказательство своей рассеянности. Слова озадачили Мэри; ей показалось, что Кэтрин на что-то намекает, и потом, говорила она совсем иначе, чем при Уильяме, — Мэри невольно подняла глаза, ища объяснение. Она приготовилась было изобразить на лице улыбку, но наткнулась на суровый взгляд Кэтрин, и улыбка медленно сползла с ее лица... И снова захлопнулась за гостьей дверь. Сидя на полу перед камином, в тишине, Мэри пыталась сложить из мозаики впечатлений более или менее цельную картину. Как всякий человек, она гордилась своим умением видеть другого человека насквозь, но сегодня ей пришлось признать свое поражение: она не понимала, что же влечет Кэтрин в жизни. Но что-то ее точно увлекает, — увлекает стремительно, как волна или мощный поток, — Мэри почему-то вспомнился Ральф. Тот тоже вызывал у нее похожее чувство, и его она тоже не понимала. «Как странно, — решила она с ходу, — два абсолютно разных человека, и надо же, и в том, и в другом живет какая-то неодолимая сила, какое-то потаенное стремление, о котором оба они постоянно думают, но ничего не говорят, — что же это получается?»
Глава 15
В окрестностях Линкольна1, среди холмов и оврагов, затерялась деревушка Дишем, — в ясную летнюю ночь или в зимнюю непогоду, когда на море штормит и ветер гонит вдоль берега волну, здесь слышится отдаленный гул моря. На всю деревню одна-единственная улочка, над ней возвышается церковь с несоразмерно массивной колокольней. Случайному путнику, который забредет в эти места, невольно почудится, что он попал в Средневе¬
Глава 15
135
ковье, — ведь это в те времена набожность была в чести. В наши дни редко кто уповает на Церковь, и поэтому наш воображаемый путешественник, скорее всего, решит, что жители деревни все, как один, мафусаиловых лет. Присмотревшись к ним, он подумает, что не сильно ошибся: замеченные в поле за прополкой свеклы два-три работника, ребенок с кувшином и молодая женщина с половиком на крыльце отнюдь не выбиваются из общей средневековой картины современного Дитпема. Да, они не старики, но выглядят такими неотесанными и нескладными, будто сошли со средневековых миниатюр, какими в старину монахи украшали заглавные буквы в рукописях. Наш путешественник с трудом разбирает их речь, а самому ему приходится чуть ли не кричать и выговаривать каждую букву, словно его слушатели находятся по времени на расстоянии сто или более лет от него. Ему легче было бы найти общий язык с жителями Парижа или Рима, Берлина или Мадрида, чем со своими соотечественниками из здешних мест, проживающими последние две тысячи лет в двухстах милях от Лондона.
Примерно в полумиле от деревни находится дом приходского священника: здание внушительное, видно, что строилось не один век, а началом всему послужила огромная кухня, отделанная узким красным изразцом, — эти подробности гости узнают сразу по прибытии в дом священника. Тот, взяв в руки бронзовый подсвечник, ведет их наверх и по дороге обращает их внимание на узкие ступеньки, низкий потолок, невероятную толщину стен, старинные балки на потолке, лестницы крутыми уступами и чердак под высокой шатровой крышей, где вьют гнезда ласточки, а одно время жила полярная сова. Впрочем, ничего интересного, тем более красивого разнообразные пристройки, возникшие в пору проживания в доме разных священников, в архитектуру не привнесли.
Зато садом, который окружает владения, нынешний хозяин дома с полным правом мог гордиться. Под окнами гостиной лежала сплошным изумрудным ковром лужайка — правда, без единой маргаритки; по другую сторону от нее две прямые, как по ниточке, дорожки вели вдоль клумб, щетинившихся забором прямых, как палки, цветов, к прелестной тропинке, по которой каждое утро, строго по солнечным часам, совершал прогулку преподобный Уиндем Дэчет. Частенько он прогуливался с книжкой, откроет на нужной странице, прочитает, снова закроет, потом повторит оду наизусть, уже без подсказки. Так он выучил наизусть почти всего Горация2, — прохаживаясь по знакомой тропинке, бубня про себя оды, подмечая разные мелочи, вроде увядшего или сломанного цветка, — когда такое случалось, он наклонялся и приводил клумбу в порядок. И такова была сила привычки, что он и в пасмурные дни строго в отведенное время вставал со стула и начинал ходить по кабинету взад-вперед, походит, остановится, подровняет ряд на
136
Вирджиния Вулф. День и ночь
книжной полке, переставит на каминной доске два бронзовых распятия на подставках из змеиного камня. Семья относилась к нему с пиететом: дети преклонялись перед отцовской ученостью (на самом деле его познания были скромнее, чем им казалось) и старались всячески оберегать его время и покой. Его преподобие, как и большинство людей, привыкших жить по распорядку, был скорее человеком целеустремленным и склонным к самопожертвованию, нежели интеллектуалом с оригинальным складом ума. Он безропотно отправлялся по первому зову к тяжело больному человеку, который мог испытывать нужду в священнике; благодаря исправному исполнению им самых разных обязанностей его наперебой приглашали в разные местные комитеты, комиссии и муниципальные органы; а возраст у него был такой (без малого семьдесят), что самая пора местным сердобольным старушкам сокрушаться, глядя на то, как он изнуряет себя разъездами и доводит организм до крайнего истощения, вместо того чтобы спокойно отдыхать у камелька. Хозяйство в доме вела старшая дочь Элизабет, очень похожая на отца суховатой прямотой нрава и чувством порядка; один из двух сыновей священника, Эдвард, был агентом по недвижимости, а другой, Кристофер, учился на юриста. На Рождество все семейство, понятное дело, собиралось под крышей родного дома. Готовиться к рождественской неделе начинали за месяц, причем год от года хозяйка и горничная совершенствовали процедуру празднования, благо все необходимое для этого было, и отменного качества. После смерти супруги мистера Дэчета остался сундук с превосходным постельным и столовым бельем, который перешел к Элизабет, когда той исполнилось девятнадцать — ровно в год смерти матушки, — и ей, как старшей дочери, пришлось взвалить на свои плечи воз семейных забот. Чем она только не занималась! И цыплят выращивала, и рисовала, и ухаживала за кустами роз в саду, и следила за порядком в доме и за чистотой на птичьем дворе, и бедным помогала — в общем, забот полон рот. В доме ее слушались, поскольку она сумела себя поставить, — талант был ни при чем. Когда Мэри в письме к сестре сообщила, что пригласила к ним на Рождество Ральфа Дэнема, она постаралась уважить сестру, подчеркнув, что ее знакомый очень приятный в общении, только немного перетрудился на службе и оттого выглядит букой. Мэри знала, что сестра сразу решит, что они с Ральфом влюблены друг в друга, но не проронит ни слова до тех пор, пока разговор сам не сложится.
Так Мэри и отправилась в Дишем, толком ничего не зная о планах Ральфа; но за два или три дня до наступления Рождества она получила от него телеграмму с просьбой снять для него комнату в деревне, а следом письмо, где он объяснял, что хотел бы, по возможности, питаться у них в доме, но
Глава 15
137
жить предпочитает в другом месте, поскольку собирается сосредоточенно поработать.
Письмо принесли во время прогулки: сестры осматривали розовые кусты в саду.
— И думать нечего! — отрубила Элизабет, выслушав разъяснения Мэри. — В доме пять пустых комнат, не считая тех, в которых останавливаются мальчики. И потом, в деревне ему никто ничего не сдаст. И вообще, если он перетрудился, отдыхать надо, а не работать.
«А если он не хочет часто с нами видеться?» — подумала про себя Мэри, но вслух сомнения не высказала, наоборот, кивнула, соглашаясь, и сердце ее наполнилось благодарностью к сестре, невольно поддержавшей ее тайное желание. Начали срезать розы и укладывать их, бутон к бутону, в плоскую цветочную корзину.
«Ральфу это дело быстро наскучило бы», — подумалось Мэри, и она вздрогнула от этой мысли, не тем концом положив розу в корзину. Так, медленно двигаясь, сестры дошли до конца розовой шпалеры. Элизабет то и дело останавливалась, выпрямляла стебли, приводя их в вертикальное положение ровно «по линеечке», а Мэри засмотрелась на отца — он прогуливался взад-вперед по тропинке, заложив руку за спину, опустив голову на грудь, в глубоком раздумье. Вдруг словно чертик какой взыграл в душе Мэри, — прервать это механическое хождение туда-сюда! — она нагнала отца и тронула его сзади за рукав.
— Отец, возьми бутон, продень в петлицу, — сказала она, протягивая розу.
— Что, дорогая? — переспросил мистер Дэчет, взял бутон двумя пальцами и поднес к глазам, не замедляя шага. — Откуда такой красавец? Не иначе, как из розария Элизабет. Надеюсь, она разрешила тебе его сорвать. Твоя сестра не любит, когда ее розы рвут, не спросившись, — и поделом!
«У отца привычка, — подумала Мэри, раньше ее не замечавшая, — комкать концы фраз, переходить на невнятное бормотанье и принимать отрешенный вид», — детьми они воспринимали такую манеру за философское раздумье, которое нельзя выразить словами.
— Что? — переспросила Мэри, первый раз в своей жизни вторгаясь в святая святых отца.
Тот ничего не ответил. Она прекрасно видела: он хочет, чтобы его оставили в покое, но она не унималась — ей хотелось достучаться до него, разбудить его, точно лунатика. И она не придумала ничего лучше, как громко воскликнуть:
— Чудо, а не сад!
— Да-да-да, — пробубнил себе под нос мистер Дэчет.
138
Вирджиния Вулф. День и ночь
Повернули к дому. И тут вдруг, ни с того ни с сего, он выпалил:
— Знаешь, сильно выросло движение. Не хватает колесного транспорта. Вчера сорок грузовиков перевозили двенадцатичасовым товарным — сам считал! Девятичасовой утренний поезд сняли, и вместо него теперь ходит восьмичасовой — говорят, так удобнее для деловых людей. Ты-то, надеюсь, приехала вчера нашим старым, трехчасовым?
Мэри ответила «да», зная, что ему это приятно, и он, взглянув на часы, пошел дальше уже один, держа розу прямо перед собой, на расстоянии вытянутой руки. Элизабет не было видно — вероятно, пошла на птичий двор, и Мэри осталась одна, вертя в руках письмо Ральфа... Казалось бы, она так умно отложила на потом выяснение всех сложных вопросов, а теперь оказывается, Ральф приезжает прямо завтра, и ей остается только гадать, как ему понравится их семейство. Отец наверняка заведет с гостем разговор о поездах, Элизабет, как всегда, будет сметлива, рассудительна и то и дело будет выходить из комнаты, чтобы распорядиться насчет разных дел по дому. Братья уже пообещали взять Ральфа с собой на охоту. Вообще, ее меньше всего волновало то, как сложатся отношения между Ральфом и мужской половиной дома, поскольку она не сомневалась в том, что они найдут общий язык. Но вот как будет с ней? Что он о ней подумает? Поймет ли, что она другая, не такая, как остальные? Она решила, что сразу уведет его к себе, в гостиную, и ловко повернет разговор на поэзию, благо, сочинения английских поэтов занимают видное место в книжном шкафу. Под каким-нибудь тонким предлогом она даст ему понять, что семья у нее — сплошь чудаки, но не зануды. Вот такой генеральный план она наметила. Еще она подумала, что надо обязательно обратить внимание Ральфа на страсть Эдварда к скаковым лошадям, к Джораксу3, и не забыть сказать про увлечение Кристофера мотыльками и бабочками — ну и что с того, что ему двадцать два? А еще Ральфу надо показать эскизы Элизабет (фрукты у нее плохо получаются, правда) — они добавят краски в общую палитру семейной картины — в чем-то забавной и ограниченной, но уж точно не серой. Тут она подняла глаза и увидела, что Эдвард упражняется в косьбе — приводит в порядок лужайку, — розовощекий, коренастый, похожий на молодого тяглового жеребца с густым темным подшерстком, — и до того ей вдруг стало стыдно своих малодушных уверток! Ведь брата она любит таким, каков он есть, она их всех любит; и, пристроившись сбоку, она пошла за Эдвардом — вперед, назад, а внутри у нее все кипело и бунтовало против пустой романтической блажи, которую она себе позволила, размечтавшись о Ральфе. Она твердо сказала себе, что нечего отделять себя от семьи, — они все одного корня.
Глава 15
139
На следующий день Ральф ехал дневным поездом: он сидел в вагоне третьего класса у окна и наводил справки у соседа напротив. Разговор зашел о деревне под названием Лэмпшер4, в трех милях от Линкольна; Ральф поинтересовался у попутчика, знает ли он о поместье, принадлежащем господину по имени Отуэй?
Попутчик о таком не слышал, но задумался и несколько раз произнес по слогам: «О-ту-эй», чем неожиданно доставил Ральфу большое удовольствие. Ральф воспользовался паузой и достал из кармана письмо — проверить адрес.
— Стогдон-хаус, Лэмпшер, — прочитал он на конверте вслух.
— В Линкольне наверняка знают, покажут дорогу, — успокоил его попутчик, на что Ральф заметил, что отправится туда не прямо с вокзала.
— Видите ли, я собираюсь наведаться туда пешком из Дишема, — объяснял он, удивляясь про себя, с какой радостью пытается убедить первого встречного в том, чему сам не верит. Дело в том, что никто его в Лэмпшер не приглашал, хотя письмо и было написано отцом Кэтрин. Кроме того, в письме ни слова не было сказано о том, что Кэтрин тоже приедет в Лэмпшер, единственное, о чем сообщалось, — это временный адрес мистера Хил- бери на ближайшие две недели. И все равно, он смотрел в окно и думал только о ней: эти серые поля — она их, конечно, видела, тот склон, поросший деревьями, — она, наверное, там гуляла, вон у подножья холма загорелся одинокий желтый огонек, потом погас — и его она, наверное, знает. Огонек тот светится в окне старого поместья, размечтался Ральф, он уселся поудобнее и напрочь забыл про попутчика-коммивояжера. Впрочем, дальше поместья дело не пошло, что-то подсказывало Ральфу, что не надо сильно витать в облаках, воображая Кэтрин, — тем больнее будет спускаться на бренную землю: ведь существование Уильяма Родни никто не отменял. С тех пор, как он услышал от Кэтрин об их помолвке, он старался не привносить в свои мечты никаких конкретных подробностей. Но бирюзовый свет вечереющего неба за стволами деревьев манил как знак, как образ Кэтрин, наполняя его душу. Он царил безраздельно — в полях, в вагоне поезда —тихий, задумчивый, бесконечно нежный образ... Ральф замечтался и не заметил, как поезд начал сбавлять ход, подъезжая к станции. От резкого толчка Ральф вздрогнул, наваждение пропало, за окном тормозящего поезда мелькнула рыжая с искрой шапка волос, показалась коренастая фигура — на платформе его встречала Мэри Дэчет. Уже в следующую секунду ее спутник, высокий юноша, приветствовал Ральфа крепким рукопожатием, забрал его дорожную сумку и направился к выходу — все без единого слова.
Зимним вечером человеческий голос по-особому притягателен — тело тает в сумраке, а голос, возникающий, кажется, из пустоты, звучит с заду¬
140
Вирджиния Вулф. День и ночь
шевностью, какую редко услышишь днем. Именно так — задушевно — говорила с Ральфом Мэри, когда они встретились: она вся дышала туманом влажных изгородей и спелыми ягодами можжевельника. Мгновенно нащупав твердую почву под ногами в мире, для него совершенно не знакомом, Ральф тем не менее не торопился отдаться радости встречи. Хозяева предложили ему выбор: поехать домой на бричке с Эдвардом или пройтись до дому вместе с Мэри, — второй путь не намного короче первого, зато приятнее, объяснили Ральфу. Тот выбрал прогулку, отчасти потому, что с Мэри ему было спокойнее. «И чего она радуется?» — недоумевал он со смешанным чувством снисходительной зависти, наблюдая за тем, как резво тронулась в путь двуколка, запряженная пони, и в сгущающемся сумраке было видно, как Эдвард вскочил на облучок, держа поводья в одной руке, а хлыст — в другой. Вокруг рассаживались по повозкам деревенские, возвращавшиеся домой с ярмарки, а некоторые, собравшись группками, отправлялись домой пешком. Многие здоровались с Мэри, и она каждому отвечала лично, называя человека по имени. Постепенно все разошлись, и они с Ральфом, перебравшись через изгородь, пошли по тропинке, темневшей в зеленой траве. Небо на горизонте сузилось до красновато-желтой полоски, которая светилась вдали, как полупрозрачный камень, подсвечиваемый сзади лампой, и на этом фоне выделялись черные зубцы деревьев с голыми ветками, по одну руку свет заслонял горбатый холм, а по другую до самого горизонта тянулась равнина. Они шли полем, а над ними бесшумно кружила какая-то стремительная ночная птица — то залетит вперед, то скроется, то снова закружит, и так без конца.
За свою жизнь Мэри не одну сотню раз ходила этой тропинкой, чаще всего в одиночестве, что ни поворот — то тысячи воспоминаний всплывают в голове — завидит ли три одиноко стоящих дерева или услышит, как в зарослях токует фазан. Только в этот вечер обстоятельства перевесили воспоминания — она всматривалась в каждую деталь, будто все видела впервые.
— Ну как, Ральф, — спросила она, — правда, лучше, чем в Линкольнз- инн-Филдз? Смотри, какая птица! Ага, ты в очках — здорово! Эдвард с Кристофером собираются взять тебя на охоту. Ты умеешь стрелять? По-моему, это не...
— Подожди, Мэри, я ничего не понимаю, — перебил ее Ральф. — Кто эти молодые люди? Куда ты меня ведешь?
— К нам домой! Ты будешь жить у нас! — объявила Мэри. — Ты ведь не против, правда?
— Знал бы, что так повернется, не поехал бы, — отрезал Ральф.
Глава 15
141
Они пошли дальше молча, Мэри старалась не приставать, — она надеялась, что Ральф скоро сам почувствует аромат земли и свежесть воздуха. И она не ошиблась: очень скоро все его раздражение улетучилось.
— Да, Мэри, я другого края и не представлял себе, когда о тебе думал, — сказал он, сдвинув на затылок шляпу и оглядываясь вокруг. — Все взаправду. Не для маменькиных сынков.
Он с удовольствием втянул в себя воздух и впервые за долгие месяцы ощутил радость движения.
— Где-то неподалеку есть лаз в изгороди, — предупредила Мэри.
Пролезая, Ральф зацепился за проволоку в силке, поставленном местным браконьером.
— А как не браконьерствовать? — заметила Мэри, пока Ральф осматривал силок для кроликов. — Интересно, кто это — Альфред Даггинс или Сид Рэнкин? Они же зарабатывают какие-то несчастные пятнадцать шиллингов в неделю!5 Пятнадцать шиллингов! — повторила она, выныривая из кустов и снимая с волос колючки, — хотя на эти деньги я бы смогла прожить неделю — запросто!
— Ой ли? — съехидничал Ральф. — Не верю!
— Напрасно! Дом у них в низине, есть садик, можно выращивать овощи. Чем не жизнь? — рассуждала Мэри, поразив Ральфа своей практичностью.
— А если заскучаешь? — не унимался он.
— Иногда мне кажется, все может наскучить, только не это, — не сдавалась Мэри.
Мысль о том, что можно поселиться в своем доме, завести огород и жить на пятнадцать шиллингов в неделю, пришлась Ральфу по душе.
— А ну как рядом будет проходить шумный тракт или в соседках у тебя окажется женщина с шестью маленькими ребятишками и они будут пищать у тебя под боком, а она будет завешивать двор своей стиркой?
— Я мечтаю о другом коттедже — на отшибе, с фруктовым садом.
— А как же борьба за права женщин? — не удержался и съязвил Ральф.
— Ну знаешь, в мире есть не только борьба за избирательное право, — ответила Мэри беззаботно и слегка загадочно.
Ральф промолчал. Значит, у нее есть планы, о которых она не говорит, — приятного в этом было мало, но расспрашивать ее он не стал — не чувствовал за собой морального права. Он задумался о деревенской жизни... Теоретически тут крылись невероятные возможности — пока он не мог точно сказать, какие, но в каком-то смысле идея была ключом к решению многих проблем. Ударив палкой о землю, он остановился, всматриваясь в темноту.
— Ты хорошо ориентируешься? — спросил он.
142
Вирджиния Вулф. День и ночь
— Не жалуюсь, — ответила Мэри. — За кого ты меня принимаешь — ты, столичный житель? — И она точно показала ему, где север, где юг. — Здесь моя родина, — объяснила она. — Я с завязанными глазами найду дорогу, по запаху.
И будто в доказательство своих слов, она ускорила шаг — Ральфу пришлось чуть не догонять ее. Его никогда так не тянуло к ней, как сейчас, — наверное, оттого, что она вела себя независимо, совсем не так, как в Лондоне, и еще потому, что у нее есть свой мир, в котором ему нет места. Стемнело, он шел за ней по наитию, пару раз в узком месте он чуть не споткнулся и, выбросив вперед руку, коснулся сзади ее плеча. А когда она вдруг стала аукать, прикрыв ладонью рот, ему даже стало не по себе, — так она привлекала внимание дрожащего в тумане огонька в соседнем поле. Он тоже закричал, и огонек замер.
— Это Кристофер, он пошел покормить цыплят после работы, — объяснила она.
Она представила его Ральфу, правда, в темноте он мало что разглядел — видел только, как рядом со светлым кругом мягких копошащихся комочков выросла высокая фигура в гетрах, да еще заметил отсвет качающегося фонаря, то ярко-желтый, то зеленовато-черный с алым. Мэри зачерпнула из ведра горсть зерна и моментально оказалась в центре круга: цокая, она подзывала цыплят, бросала им корм, успевая при этом болтать с братом, — тоже на каком-то птичьем языке, как казалось Ральфу, который стоял поодаль, нахохлившись в черном пальто, за чертой пушистого круга.
Сели ужинать, Ральф уже успел снять пальто, но все равно на общем фоне он выглядел черной вороной. На всех домочадцах Мэри — теперь, когда все уселись за овальный стол при свечах, эта разница особенно бросалась в глаза — лежал отпечаток то ли жизни на природе, то ли детства, проведенного в деревне, — она не знала, как точнее его определить: невинности или моложавости? Но он читался даже в лице приходского священника: морщины морщинами, а в лице сохранялся здоровый румянец, и глаза, не потерявшие зоркости, смотрели ровно, сосредоточенно, будто всматривались в поворот за домом, или в огонек за полосой дождя, или в зимний сумрак. А Ральф? — перевела Мэри взгляд. Сама целеустремленность, весь в себе — она и не помнила его таким, казалось, он семи пядей во лбу — захочет, поделится частью своего опыта, не захочет — оставит его при себе. В сравнении с темным, суровым выражением лица Ральфа лица ее братьев, склоненные над тарелками с супом, светились сплошными розовыми пятачками.
— Вы ехали трехчасовым, мистер Дэнем? — поинтересовался преподобный Уиндем Дэчет, засовывая салфетку за воротник, отчего он весь оказал¬
Глава 15
143
ся скрытым за огромным белоснежным четырехугольником. — В общем, нам жаловаться не на что: при таком увеличении транспорта нас не обижают. Я иной раз из любопытства подсчитываю грузовики, которые перевозят на товарных поездах, — так вот, их не меньше полусотни, а может, и больше, и это в зимнее время!
Судя по тому, как старательно закруглял фразы священник и как он приумножил число грузовиков, перевозимых на товарных поездах, его приятно воодушевляло присутствие за столом наблюдательного, осведомленного молодого человека. Ведь поддерживать беседу за столом пришлось именно ему, и старик не ударил лицом в грязь: сыновья то и дело поглядывали на отца с восхищением, — сами они побаивались Дэнема и предпочитали молчать. Их удивило, сколько разнообразных сведений о настоящем и прошлом окрестностей Линкольншира знает их отец, — они тоже вроде бы знали, но забыли — так забываешь о точном количестве предметов столового сервиза в посудном шкафу и вспоминаешь только тогда, когда случается какое-то семейное торжество.
После ужина священник удалился в кабинет, чтобы заняться делами прихода, а Мэри предложила остальным перейти на кухню.
— На самом деле это не кухня, просто мы ее так называем, — поспешила уточнить Элизабет.
— Там уютнее всего, — пояснил Эдвард.
— Возле камина сохранились ниши, куда охотники вешали свои ружья, — сообщила Элизабет, она шла впереди, освещая дорогу свечой в бронзовом подсвечнике. — Кристофер, смотри, чтобы мистер Дэнем не оступился... Года два назад к нам заезжали представители комитета Англиканской церкви6, так вот они сказали, что это самая интересная часть дома. Судя по узким кирпичам, дому пятьсот, может даже шестьсот, лет.
Как и отцу, ей захотелось все немножко увеличить: тому — число грузовиков на товарных поездах, ей — возраст кирпичей. Глазам гостя предстало просторное помещение: под потолком большая лампа, в очаге поленья, стены укреплены балками, пол выложен красным изразцом, внушительных размеров камин сложен из тех самых узких кирпичей, которым, говорят, пятьсот лет. Добавьте парочку половиков да несколько кресел — и старинная кухня превратилась в гостиную. Элизабет показала гостю ниши для оружия, крюки для копчения ветчины и другие атрибуты богатырского века и пояснила, что идея переделать это помещение в гостиную всецело принадлежит Мэри — если бы не она, комнату продолжали бы использовать для сушки белья и переодевания охотников. Закончив свой рассказ, Элизабет решила, что свой долг хозяйки она выполнила, и села на стул с прямой спинкой непосредственно под лампой у длинного узкого дубового стола. Нацепив на
144
Вирджиния Вулф. День и ночь
нос роговые очки, она придвинула к себе корзинку с нитками и шерстяной пряжей, и через несколько минут на лице у нее появилась улыбка, которая уже не сходила до конца вечера.
— Вы завтра пойдете с нами на охоту? — спросил Кристофер, у которого сложилось благоприятное впечатление о приятеле сестры.
— Стрелять я не буду, а на охоту пойду, — ответил Ральф.
— Вас что, не интересует стрельба? — спросил Эдвард, у которого все еще сохранялось недоверие к гостю.
— У меня не было случая попрактиковаться, — ответил Ральф, развернувшись и посмотрев ему прямо в лицо, чтобы избежать возможных недомолвок.
— В Лондоне, наверное, и негде особенно практиковаться, — заметил Кристофер. — Боюсь только, вам это занятие быть зрителем быстро наскучит?
— Я буду наблюдать за птицами, — ответил, улыбнувшись, Ральф.
— Если вы всерьез, могу показать вам укромное местечко, — пообещал Эдвард. — У меня есть один знакомый, так он каждый год примерно в это время года приезжает из Лондона специально понаблюдать за птицами — тут же полно диких гусей и уток. По его словам, в целом графстве не много найдется таких мест!
— Бери выше — в целой Англии! — поправил Ральф. Похвала в адрес их родного края пришлась всем по душе, и Мэри испытала двойное удовольствие, слыша, как с каждой новой короткой репликой у братьев исчезают недоверчивость и невольное желание «прощупать» гостя и начинается серьезный разговор о повадках птиц, переходящий в обсуждение привычек стряпчих, а здесь ее участие уже не требовалось. Она видела, что братья приняли Ральфа, более того, стараются заслужить его похвалу, и ей это было приятно. Понравились ли они ему, она сказать затруднялась, — Ральф был слишком опытен, чтобы выказать что-то, кроме общей доброжелательности. Мэри то и дело подкладывала в огонь свежие поленья, в комнате становилось все жарче от сухого пахучего воздуха, и все они, разве что за исключением Элизабет, сидевшей поодаль, все меньше и меньше беспокоились о производимом впечатлении и все сильнее клевали носом. Тут за дверью послышалась отчаянная возня.
— О черт, — Пайпер! Пойду посмотрю, — буркнул Кристофер.
— Это Питч, а не Пайпер, — поправил его Эдвард.
— Все равно пойду взгляну, — проворчал Кристофер. Он впустил собаку в дом, а сам постоял с минуту, освежаясь на сквозняке у двери, раскрытой в сад, в черную звездную ночь.
Глава 16
145
— Ради бога, иди в дом, закрой дверь! — взмолилась, оборачиваясь, Мэри.
— Отличный будет завтра денек, — ответил тот с удовлетворением, усаживаясь на пол у ног сестры, спиной он оперся о ее колени, а ноги в гетрах вытянул так, что носки чуть не касались каминной решетки, — видно по всему, он совершенно освоился в присутствии незнакомца. В семье он был младшенький, характером в Мэри, оттого, наверное, был ее любимцем, а Эдвард пошел в Элизабет. Устроившись поудобнее, Кристофер блаженствовал — Мэри гладила его по голове, взъерошивая волосы.
«Вот бы мне так», — вдруг подумал Ральф и благодарно взглянул на Кристофера, сумевшего вызвать у сестры прилив нежности. И в ту же секунду его обожгла мысль о Кэтрин — между ним и ею темная ночь и безбрежное пространство; в эту самую секунду от зоркого глаза Мэри не ускользнуло, что морщинки на лице Ральфа сделались еще глубже. Стряхивая наваждение, он потянулся за поленом и аккуратно подбросил его в камин, стараясь не нарушить хрупкую конфигурацию из полусгоревших деревяшек.
Мэри задумалась, отняла руку — Кристофер поерзал нетерпеливо, и она снова принялась разглаживать его густые каштановые кудри. Но уже без былой сестринской нежности — перемена в лице Ральфа не осталась незамеченной, и сердцем Мэри завладела другая страсть, не чета прежней, рукой- то она продолжала машинально водить по волосам брата, а мысли ее бродили далеко, судорожно цепляясь за любую соломинку.
Глава 16
А в это самое время примерно в том же месте всматривалась в сумрак ночи — собственно, в тот же атмосферный слой — и Кэтрин Хилбери; правда, без всякой задней мысли о завтрашней утиной охоте. Прохаживаясь по садовой дорожке Стогдон-хауса, она то и дело взглядывала на небо, пытаясь попасть в просветы между тонких обручей искусственной аллеи, стоявшей по-зимнему, без листьев. Из-за торчавших там и сям веточек ломоноса ей было не видно Кассиопею; триллионы миль Млечного Пути не попадали в поле обзора1. Хорошо, в дальнем конце аллеи лежал плоский камень, с которого небосвод открывался во всю ширь, только справа мешали торчавшие верхушки вязов с запутавшейся звездой да над пологой крышей конюшни повис серебристой каплей струившийся из трубы дым. Ночь стояла безлунная, но и при свете звезд можно было различить силуэт молодой женщины и угадать по ее позе, что она напряженно смотрит в небо. Астрономия в эту минуту меньше всего занимала Кэтрин — ей хотелось отрешиться от сугубо
146
Вирджиния Вулф. День и ночь
земных забот, почему она и вышла из дому в этот поздний час, не боясь озябнуть, впрочем, ночь для зимы была довольно теплая. В сад она вышла по привычке: быть поближе к звездам, просто знать, что они рядом, — так человек пишущий в сходных обстоятельствах машинально снимает с полки один том, другой... Удручало Кэтрин то, что именно тогда, когда она, по общим меркам, должна быть невероятно счастлива, ей почему-то грустно, и началась эта мука сразу, как только они сюда приехали, а теперь ей стало совсем невыносимо, вот она и ушла с семейного застолья, чтобы побыть одной и спокойно обо всем подумать. Собственно, это не она решила, что ей грустно, а ее кузены и кузины. В доме они ей проходу не давали, причем все, как один, глазастые — не важно, сверстники они ей или помоложе. Они следили за ней и за Родни во все глаза, высматривая то, что им одним только ведомо, словно давая понять, что все ухищрения напрасны — их не проведешь! От постоянного бдения окружающих у Кэтрин развилось подозрение, будто между ней и Родни что-то не так, хотя еще недавно в Лондоне в компании ее родителей у нее не возникало и тени сомнения. И пусть даже все так, но она все равно не такая, какой надлежит быть невесте. Это несоответствие удручало ее страшно, ведь она привыкла, что она всегда всем довольна, а тут гордость ее была уязвлена. Она была даже не прочь растопить лед своей обычной сдержанности и поговорить о помолвке с человеком, чьим мнением дорожила. Никто из домочадцев не позволил себе ни одного критического замечания в ее адрес — они просто предоставили их с Родни самим себе; но ладно бы они сделали это незаметно, так ведь нет, все было сделано подчеркнуто вежливо; и ладно бы вели себя, как обычно, так ведь нет, все будто воды в рот набрали, — когда она входила, уважительно умолкали, а стоило ей выйти из комнаты, наверняка давали волю острым языкам.
Поглядывая на небо, она мысленно пробежалась по именам своих кузенов и кузин: Элеонора, Хамфри, Мармадьюк, Сильвия, Генри, Кассандра, Гилберт и Мостин — из всех них поговорить можно только с Генри — тем самым Генри, который взялся учить играть на скрипке барышень из Банги. Прохаживаясь под искусственной аркой, она репетировала воображаемый диалог с кузеном:
«Я обожаю Уильяма — это главное. И ты о моем чувстве знаешь. Дальше — мы давно с ним знакомы. И если уж совсем начистоту, то замуж я за него выхожу потому, что просто хочу замуж. Хочу иметь свой дом. С родителями это не получается. Генри, тебе легко говорить: ты сам себе хозяин. А я постоянно привязана. И потом, ты знаешь, что такое наша семья. Не будь у тебя своего дела, ты бы тоже мучился. У меня это не вопрос свободного времени — мне душно!»
Глава 16
147
Тут она представила, как умный Генри, до этого момента слушавший ее сочувственно, слегка поднимает брови и спрашивает:
«Да, но чем ты, собственно, хочешь заниматься?»
Собеседник был воображаемый, и все равно Кэтрин надо было признаться в своем увлечении.
«Я хочу... — Она замялась и потом добавила дрогнувшим голосом: — Изучать математику — хочу разбираться в звездах».
Генри не мог скрыть своего удивления, но по доброте душевной не стал высказывать своих сомнений, он просто заметил, что математика — наука сложная, а о звездах вообще мало что известно.
Тогда Кэтрин развернула аргументацию:
«Я не то чтобы хочу что-то узнать... мне хочется работать с чем-то отвлеченным... не связанным с людьми. Люди меня не особенно интересуют. В каком-то смысле, Генри, я — блеф, не та, за кого себя выдаю. Это только кажется, что я хозяйственная, практичная, рассудительная, а вот если бы мне дали повозиться с расчетами, с телескопом, дали бы построить схемы и я разобралась бы до последней точки, где и в чем я ошибалась, я была бы на седьмом небе от счастья и, поверь, дала бы Уильяму все, что он пожелает».
Доведя воображаемый диалог до этого поворота, Кэтрин чутьем поняла, что забралась в такие дебри, где никакой Генри советом не поможет, и, выкинув из головы второстепенные соображения, она уселась на плоский камень, подняла глаза вверх и сосредоточилась на главных вопросах, решить которые никто, кроме нее, не мог. Неужели она, правда, может дать Уильяму все, что он пожелает? Она перебрала в памяти то немногое, что накопилось за эти последние два дня: красноречивые фразы, взгляды, комплименты, жесты, которыми они с ним обменивались... Он вскипел, узнав о том, что коробку с ее платьями, которые он собственноручно отобрал для приемов, по ошибке — из-за того, что она не потрудилась пометить багаж! — отправили на другую станцию. Коробку, впрочем, вернули в последний момент, и в тот памятный вечер, когда она впервые появилась на публике, он шепнул ей, что она необыкновенно хороша. Она затмила всех своих кузин — грациозна, изящна в каждом движении, еще он сказал, что форма головы позволяет ей, в отличие от очень многих женщин, носить длинные волосы. За обедом он дважды попрекнул ее за то, что она молчит, и еще раз за то, что не слушает, когда он берет слово. Он был приятно удивлен, услышав, что она говорит по-французски, как настоящая парижанка, но остался недоволен тем, что она из эгоистических, как он полагал, побуждений, не захотела составить компанию своей матушке и нанести визит Миддлтонам, а ведь они старинные друзья их семейства и вообще милейшие люди. В иго-
148
Вирджиния Вулф. День и ночь
ге получилось поровну — хорошего и плохого, и, подводя черту, она сменила точку обзора, устремив глаза к звездам.
Никогда еще звезды, казалось, не сияли в вышине такой крупной россыпью, блестя и переливаясь всеми оттенками радуги, как этой ночью, — вот так смеются от счастья, подумалось Кэтрин. Она неотрывно смотрела в небо, и, хотя, подобно многим своим сверстникам, она равнодушно относилась к церковным обрядам, о которых знала лишь понаслышке, она поймала себя на мысли, что Небеса в этот канун Рождества благосклонно обращают свой взор к земле, сигналя божественными огнями ей, Кэтрин, что разделяют с ней ее радость. Ей даже показалось, что они следят с высоты за тем, как в отдаленном уголке земли движется по дороге процессия царей и волхвов. Но, как всегда бывает, когда смотришь на звезды, не прошло и минуты, как сердце сжалось при мысли о быстротечности бытия, история человечества обратилась в прах, а плоть человеческая предстала обезьяноподобным мохнатым существом, сидящим на корточках в грязи первобытного мира. За этой картиной последовала другая: опустевшая вселенная, ничего, кроме звезд; Кэтрин с таким напряжением смотрела вверх, что глаза ее, казалось, до краев наполнились звездным сиянием, а сама она растворилась в серебристой пыли: еще немного и рассеется — не соберешь! — на звездных дорожках туманной вселенной. Вдруг, откуда ни возьмись, появляется благородный герой на скакуне, и вот они уже мчатся с ним вдвоем вдаль по песчаной кромке моря или под кронами деревьев... и так, наверное, она могла бы еще долго фантазировать, если бы не одно «но»: тело властно скомандовало ей остановиться — ведь одно дело предаваться фантазии в нормальных условиях, и совсем другое, когда это приходится делать в непривычной обстановке. Она почувствовала, что замерзла, встряхнулась, отгоняя наваждение, и побрела к дому.
При свете звезд Стогдон-хаус казался загадочным старинным замком, чуть ли не вдвое больше своей реальной величины. Построили его в начале девятнадцатого века по заказу одного отставного адмирала, и оттого ли, что по всему фасаду здания волнообразной линией шли эркеры — сейчас они горели красновато-желтыми фонариками, — вся постройка напоминала могучий трехпалубный корабль, бороздящий океаны, за бортом которого резвятся во множестве дельфины и нарвалы, наподобие тех, которыми щедрой рукой украшал морские карты старинный картограф. Массивная входная дверь, к которой вели полукруглые стертые ступени, была приоткрыта — не иначе, как сама Кэтрин забыла ее затворить, на пороге дома девушка помедлила, окинула взглядом фасад, убедилась, что в одном окошке верхнего этажа виднеется свет, и лишь затем вошла в дом. Она с минуту постояла в
Глава 16
149
холле, дивясь на рогатые черепа, продавленные глобусы, потрескавшиеся масляные полотна и чучела сов. Из-за двери справа доносился оживленный разговор, и она заколебалась, не зная, входить ей или нет. Но тут раздался звук, который убедил ее, что входить в гостиную не стоит, — судя по всему, ночная партия в вист в самом разгаре и, похоже, не в пользу дяди сэра Фрэнсиса.
Она развернулась и, поднявшись вверх по винтовой лестнице — это единственное, что осталось в старом особняке от былой роскоши, — прошла узким коридором до двери комнаты, в окне которой с улицы заметила свет. В ответ на ее стук последовало приглашение войти. Спиной к ней, положив ноги на решетку камина, сидел с книгой обитатель комнаты, молодой Генри Отуэй. Юноша хоть куда: великолепная посадка головы, высокий, открытый на елизаветинский манер лоб, честный благородный взгляд — кажется, вылитый елизаветинец, вот только глаза с холодным прищуром выдавали в нем скептика. Посмотришь на него и подумаешь: не нашел еще молодой человек дело по плечу.
Он обернулся, отложил книгу и внимательно посмотрел на Кэтрин: вид бледный, вся как в воду опущенная. Он сам столько раз делился с ней своими проблемами, что для него не составило большого труда догадаться, что на этот раз не он, а она нуждается в его помощи; он даже обрадовался возможности отблагодарить ее. Правда, вела она себя всегда настолько независимо, что на особую откровенность он не рассчитывал.
— Так ты тоже сбежала? — спросил он, выразительно посмотрев на ее влажную от росы накидку, — по рассеянности Кэтрин не удосужилась скрыть следы своих ночных бдений.
— Сбежала? — переспросила она. — От кого это? A-а, ты имеешь в виду семейный вечер. Ну да, там было жарко, я пошла в сад.
— По-моему, ты озябла. — С этими словами Генри подложил угля в камин, придвинул к огню кресло и помог ей снять накидку. Генри часто проявлял чуть ли не материнскую заботу о Кэтрин — сама она о себе не заботилась, и это его бережное отношение сильно сблизило их обоих.
— Спасибо, Генри, — сказала Кэтрин. — Я тебе не помешала?
— А меня здесь нет, — отозвался он. — Я уже, можно сказать, в Банги, веду музыкальный класс с учениками, Гарольдом и Джулией. Почему я и покинул застолье и дамское общество — я ночую в Банги и возвращусь сюда перед самым Рождеством.
— Как жаль... — начала было Кэтрин, но осеклась. — Я говорю, что за скука, все эти приемы, — быстро нашлась она и вздохнула.
— Да, скукотища ужасная! — согласился Генри. Воцарилась тишина.
150
Вирджиния Вулф. День и ночь
И почему она вздыхает? — он посмотрел на нее украдкой. Спросить? А что, если ее всегдашнее нежелание говорить о собственных делах, поначалу так льстившее его юношескому самолюбию, осталось неизменным? Тогда как его чувство по отношению к ней, с тех пор как он узнал о ее помолвке с Родни, изменилось, расслоилось: он разрывался между инстинктивным желанием обидеть ее и быть с ней ласковым; и это на фоне непонятного, но растущего чувства досады при мысли о том, что она все дальше и дальше уплывает от него в неведомую даль. Кэтрин же, стоило ей только оказаться рядом с Генри, вне поля притяжения звезд, кожей ощущала всю меру относительности людского общения. Она знала, что в разговоре с Генри можно выбрать одну или две темы из всей гаммы обуревавших ее чувств — как тут не вздохнуть? Впрочем, одного ее взгляда, когда глаза их встретились, оказалось достаточно, чтобы разубедить ее в том, что у них мало общего, хотя раньше ей казалось, что это именно так. Во всяком случае, дедушка у них общий; они по-родственному преданы друг другу, к тому же, что не часто бывает между родственниками, их связывает взаимная симпатия.
— Ну, и когда же свадьба? — из духа противоречия спросил Генри.
— В марте, скорей всего, — ответила она.
— А что потом?
— Наверное, снимем дом где-нибудь в Челси.
— Как интересно, — заметил он и снова посмотрел на нее украдкой.
Она сидела, откинувшись на спинку кресла, ноги вытянув поближе к
огню, и время от времени заглядывала в газету, которую держала перед глазами наподобие ширмы. Генри не удержался:
— Надеюсь, брак тебя смягчит.
При этих словах она взглянула на него поверх газеты, но ничего не сказала. Выдержала длинную паузу, а потом выдала:
— Знаешь, когда думаешь о вечном, вроде звезд, дела житейские кажутся не такими уж важными.
— Вот уж о чем я совсем не думаю, так это о звездах, — ответил Генри. — А впрочем, чем не объяснение? — добавил он, глядя ей в глаза.
— Объяснение? А разве оно есть? — парировала она, не очень ясно понимая, что он хотел этим сказать.
— А что, разве нет? Вообще нет никаких объяснений? — нажимал он, улыбаясь.
— Ну как, все в мире случайно, вот тебе и объяснение, — заметила она по своему обыкновению просто и определенно.
«Да, вот ты и объяснила некоторые свои поступки», — подумал про себя Генри, а вслух сказал, невольно повторяя ее слова и даже как бы передразнивая:
Глава 16
151
— Ну да, все в жизни примерно одинаково, а занять себя чем-то нужно.
Пародист он, видно, оказался никудышный, — она ласково посмотрела
на него и улыбнулась чуть насмешливо:
— Счастливый ты человек, Генри, если верить в то, что сказал, — с такими мыслями жить просто.
— Нет у меня таких мыслей, — буркнул он.
— А мне зачем их приписываешь? — ответила она.
— Послушай, а что там насчет звезд? — перевел он разговор. — Если я правильно тебя понимаю, ты свою жизнь меряешь по звездам?
Она не ответила на его вопрос — то ли не услышала, то ли ей не понравилось, каким тоном он его задал.
Опять замолчали, потом она спросила:
— Ты думаешь, ты всегда понимаешь, почему поступаешь так, а не иначе? И, по-твоему, все так делают? А по-моему, это могут только такие люди, как моя мать, — рассуждала Кэтрин. — Кстати, мне, наверное, нужно к ним пойти, посмотреть, что происходит.
— Не ходи — ничего там не происходит! — возразил Генри.
— Вдруг им что-то понадобится, — заметила она туманно, садясь прямо, подперев кулачком подбородок и задумчиво глядя на огонь своими огромными карими глазами. — И потом, Уильям там один, — спохватилась она, будто только что о нем вспомнила.
Генри чуть было не прыснул, но вовремя сдержался.
— Генри, тебе известно, откуда берется уголь? — спросила она, помолчав.
— По-моему, из кобыльих хвостов, — наугад ответил тот.
— Ты когда-нибудь был в шахте? — не унималась она.
— Слушай, Кэтрин, давай не будем про шахты, — взмолился он. — Ведь мы, возможно, расстаемся навсегда. Ты скоро станешь замужней дамой...
И тут же осекся от изумления — в глазах у Кэтрин стояли слезы.
— За что вы все меня донимаете? Это жестоко! — воскликнула она.
Генри не стал притворяться, будто не понимает, о чем идет речь, хотя
поверить в то, что ее задевают колкости родни, ему все равно было трудно. Он замялся, не зная, что сказать, но понемногу тучки рассеялись, Кэтрин повеселела, и наметившаяся было гроза прошла стороной.
— Все довольно сложно, — вздохнула она.
Услышав это, Генри расчувствовался.
— Дай мне слово, Кэтрин: если тебе понадобится моя помощь, ты дашь мне знать.
Кэтрин помолчала, не отрывая взгляда от раскаленных углей в камине, но потом все-таки решила воздержаться от дальнейших объяснений.
152
Вирджиния Вулф. День и ночь
— Обязательно, Генри, — просто ответила она, и тот был страшно польщен такой взаимной искренностью и, зная, какая она любительница фактов, принялся с жаром рассказывать ей про угольные шахты.
И вот они вдвоем спускаются в шахтерской клети в забой, — откуда-то снизу, из-под земли доносятся ухающие звуки, вдоль клети что-то шуршит, точно мыши возятся за стенкой, — и тут вдруг без единого стука в дверь на пороге появляется Родни.
— Ага, вот вы где! — объявляет он. Кэтрин с Генри мигом оборачиваются, виновато переглянувшись. Родни при полном параде — он во фраке и, судя по всему, страшно зол.
— Так вот ты где пропадаешь! — повторил он, обращаясь к Кэтрин.
— Я зашла на десять минут, — объяснила она.
— Кэтрин, дорогая, ты ушла из гостиной больше часу назад!
Та ничего не ответила.
— Это так важно? — вмешался Генри.
Родни не удостоил его ответом, — он весь кипел и сдерживался лишь потому, что не хотел устраивать сцену при постороннем.
— Они пожилые люди, могут обидеться, — сказал он, обращаясь к Кэтрин, — это неуважение — оставлять их одних, хотя я понимаю, что общество Генри тебе куда приятнее.
— Мы обсуждали устройство угольной шахты, — сделал широкий жест Генри.
— Да, а перед этим кое-что поинтереснее, — вставила Кэтрин.
Она сказала это с явным желанием обидеть Родни, и Генри уже приготовился к буре.
— Понимаю, — хмыкнул Родни, откидываясь на спинку кресла и легонько барабаня пальцами по подлокотникам. Наступила неловкая, как показалось Генри, пауза. И вдруг:
— Тебе совсем невмоготу стало, Уильям, да? — сказала переменившимся голосом Кэтрин, чуть подавшись вперед.
— Не то слово, — ответил тот, все еще дуясь.
— Хорошо, тогда посиди, поговори с Генри, а я пойду к ним, — сказала она, поднимаясь с кресла, и легким ласкающим движением погладила Родни по плечу. Тот мгновенно накрыл ее руку ладонью, да так страстно, что Генри стало неудобно, и он демонстративно раскрыл книгу.
— Пойдем вместе! — не отпуская руку, словно пытаясь удержать ее, предложил Уильям.
— Не стоит, — высвобождаясь, ответила Кэтрин. — Останься тут, поговори с Генри.
Глава 16
153
— Милости прошу, — отозвался Генри, в который раз откладывая книгу: по его тону было ясно, что хозяин любезен, но не более того. Какую-то секунду Родни колебался, а потом бросился к двери:
— Нет, я с тобой!
Тут Кэтрин повернулась к нему и отчеканила тоном, не терпящим возражений:
— Я прошу тебя остаться здесь. Через десять минут я ложусь спать. Спокойной ночи.
Она кивнула на прощанье, но Генри успел заметить, что посмотрела Кэтрин в его сторону, а не на Уильяма. Тот буквально сполз в кресло.
Он совсем скис — было видно, что уязвленное самолюбие не дает ему покоя, и Генри меньше всего хотелось начинать разговор с какой-нибудь литературной темы. Но он понимал, что парня надо отвлечь от тяжелых мыслей, иначе он вконец расчувствуется, разоткровенничается, а потом будет упрекать себя за то, что сболтнул лишнее. Поэтому Генри предпочел компромиссный вариант: написал на пустой странице книги фразу «ситуация накаляется» и начал машинально разрисовывать буквы всякими завитушками, виньетками, а сам про себя еще раз взвешивал произошедшее: Кэтрин упомянула какие-то сложности, но они никак не оправдывали ее поведение. Агрессивность, с которой она говорила, наводила на мысль, что женщины либо по природе своей, либо по привычке слепы по отношению к чувствам мужчин.
Пока Генри черкал карандашом, Родни немного оправился. Во всей этой истории самым обидным для его самолюбия была даже не мелкая размолвка с Кэтрин, а то, что произошла она на глазах у Генри. Родни был влюблен и, как всякий влюбленный, очень остро воспринимал каждую мелочь, особенно если рядом были другие мужчины. Впрочем, он не собирался делать из мухи слона и уж тем более выставлять себя на посмешище из- за каких-то пустяков. Сейчас его тщеславию льстило то, как безукоризненно сидит на нем его новый фрак. Он достал сигарету, помял ее, задрал ноги на каминную решетку, любуясь стрелкой на брюках, — и обиды как не бывало.
— Отуэй, скажите, у вас ведь в этих местах несколько больших поместий, не так ли, — начал он. — И какова охота? Гончие хороши?
— Самое большое поместье у сахарного магната, сэра Уильяма Баджа, — он купил его у бедняги Стэнема, когда тот обанкротился.
— У какого из Стэнемов — Вернея или Альфреда?
— Альфреда... Сам я не охочусь, а вот вы, я слышал, питаете к охоте настоящую страсть, правда? Говорят, вы и наездник прекрасный, — подслас¬
154
Вирджиния Вулф. День и ночь
тил пилюлю Генри, которому очень хотелось помочь Родни снова почувствовать себя на коне.
— Да, верховая езда — моя страсть, — ответил Родни. — А что, здесь можно покататься верхом? Ах, как я оплошал! Ведь я не захватил с собой костюм! Кстати, если не секрет, кто сказал вам, что я неплохой наездник?
По правде говоря, Генри и сам был не рад слетевшему с языка слову, но упоминать имя Кэтрин ему не хотелось, и он отговорился, сказав, что много раз слышал о блестящих успехах Родни в верховой езде. На самом же деле, по большому счету он о нем вообще ничего не знал — мало ли в доме у тети крутится разных людей. Родни из толпы тетушкиных знакомых выделяло только то, что он необратимым и совершенно непонятным образом оказался помолвлен с его кузиной.
— Вообще-то я не большой любитель стрелять, — объяснил Родни, — но на охоте приходится, чтобы не быть белой вороной. В здешних местах есть где поохотиться, — я как-то гостил в Болем-холле...2 Вы ведь знаете молодого Крэнторпа? — так вот он женился на дочке старого лорда Болема. Милейшие люди, я вам скажу, — на любителя, конечно.
— Я в их кругу не вращаюсь, — только и заметил Генри. А Родни понесло: он нашел наконец приятную тему для беседы и уже не мог отказать себе в удовольствии посудачить. Он воображал себя светским львом, привыкшим вращаться в обществе избранных, и при этом человеком, знающим истинные ценности и способным быть выше света.
— А напрасно! — ответил он. — Иногда, скажем раз в год, полезно встречаться. Приятная компания, а женщины просто потрясающие.
«Женщины?» — повторил про себя Генри, и на душе у него стало мерзко: «Ну ты и фат!»
Он чувствовал, что еще немного, и он вышвырнет вон этого надутого индюка, и тем не менее Родни, несмотря ни на что, по-прежнему был ему симпатичен, и вот это было самое странное, ведь Генри был донельзя щепетилен в отношениях с людьми. Он невольно задумался над тем, что же представляет собой человек, собравшийся жениться на его кузине. Трудно не предположить в человеке с таким непомерно раздутым самомнением какой-то исключительный тип.
— Мне было бы трудно вписаться в их общество, — заметил Генри. — Не представляю, о чем можно говорить, например, с леди Роуз, не дай бог с ней встретиться.
— А я запросто! — ухмыльнулся Родни. — Есть у человека дети, значит, говорим о детях, нет детей — о хобби: рисовании, садоводстве, стихах — это всегда сближает. Нет, серьезно, я никогда не упускаю случая спросить жен-
Глава 16
155
гцину, что она думает о моих стихах. Не о смысле — спрашивать ее о смысле стихов бесполезно, а об эмоциях. Вот Кэтрин, например...
— Кэтрин, между прочим, — прервал его Генри суровым тоном, точно ему было противно, как Родни треплет имя его кузины, — Кэтрин, между прочим, не такая, как все.
— Согласен, — быстро сообразил Родни. — Она — как бы поточнее выразиться? — Он замялся и не сразу нашелся, что сказать. — Она — красавица, — заключил он с некоторой неуверенностью в голосе, чего раньше за ним не наблюдалось. Генри промолчал. — А вообще у вас в семье любят покапризничать, да?
— Кто угодно, только не Кэтрин, — решительно отмел предположение Генри.
— Только не Кэтрин, — повторил Родни, как бы взвешивая каждое слово. — Да, возможно, вы правы. Но после помолвки она стала другая. Это нормально, — добавил он, — так обычно и бывает.
Он помолчал, надеясь, что Генри его поддержит. Но тот как воды в рот набрал.
— У Кэтрин не все в жизни было гладко, — продолжал Родни. — И брак, я надеюсь, пойдет ей на пользу, ведь в ней столько энергии!
— Да, энергии много, — повторил многозначительно Генри.
— Верно, вот только непонятно, на что она направит свои силы?
Это было сказано с искренней озабоченностью и желанием получить от Генри совет — апломба, еще недавно звучавшего в голосе Родни, изображавшего светского льва, как не бывало.
— Не знаю, — уклончиво ответил Генри.
— Может, дети, хозяйство и все такое, знаете ли, — может, это ей будет по душе? Что думаете? Меня-то, понятное дело, целый день нет дома.
— Кэтрин — мастерица на все руки, — ответил Генри.
— Вот-вот, она очень способная, — заметил Родни. — Есть, правда, одно «но»: сам я без ума от поэзии, а Кэтрин к стихам равнодушна. Нет, моими виршами она восхищается, только, я боюсь, ей будет чего-то не хватать.
— Да, пожалуй, — ответил Генри. — Наверное, вы правы, — добавил он, как бы подводя черту под собственными размышлениями. — Кэтрин еще себя ищет, и жизнь для нее до сих пор не вполне настоящая — так мне порой кажется...
— Правда? — подхватил Родни, ловя каждое слово Генри. — И мне тоже точно так же... — Он не успел закончить фразу — в эту минуту дверь распахнулась, и в комнату вошел младший брат Генри Гилберт; Генри вздохнул про себя с облегчением, поскольку полагал, что и так сказал лишку.
156
Вирджиния Вулф. День и ночь
Глава 17
Под лучами зимнего солнца, которое ярче, чем можно было ожидать, светило всю рождественскую неделю, трудно было скрыть запустение, в котором пребывали поместье Стогдон-хаус и прилегающие постройки: хозяйственные «дыры» буквально лезли в глаза. Да и как могло быть иначе? — пенсия, с которой сэр Фрэнсис удалился на покой после службы в индийском правительстве, не отвечала, полагал он, ни его чиновничьему усердию, ни уровню притязаний. Его служебная карьера, по его глубокому убеждению, вообще не сложилась — или, во всяком случае, сложилась не так, как он хотел. Чувствовалось, что жизнь этого достойного, убеленного сединами господина, с медным загаром, с неиссякаемым запасом отменных шуток и первостатейным книжным багажом, — жизнь эта навсегда была отравлена одной подлой историей. Около полувека назад, в середине прошлого столетия интриганы обошли по службе сэра Фэнсиса, повысив в должности человека моложе его.
За давностью лет подробности того случая стерлись из памяти жены и детей — да была ли она вообще, та давняя история? — но в их жизни он сыграл чуть ли не роковую роль, подорвав существование сэра Фрэнсиса, как, бывает, несчастная любовь отравляет на всю жизнь судьбу женщины. Он так мучительно долго размышлял над тем случаем, столько раз пытался мысленно ответить своим обидчикам, найти иное применение своим достоинствам, что стал неисправимым эгоистом, а когда вышел на пенсию, то характер его и вовсе испортился: он стал строг и придирчив.
Супруга его постепенно свыклась с его капризами, пикироваться ему с ней резону не стало, и он потерял к ней интерес. Зато он нашел благодарную слушательницу в лице своей дочери Евфимии, и та незаметно для себя отдала отцу свои лучшие годы: записывала под диктовку его воспоминания, призванные восстановить у потомков его доброе имя, напоминала ему постоянно о том, как несправедливо с ним обошлись. В свои тридцать пять она была такая же бледная, как ее мать, только если ту грели воспоминания о жарком солнце Индии, об индийских реках и гомоне детишек в детской, то у нее ничего подобного не было, вот и вся разница; придет время, и она тоже усядется, как леди Отуэй, в кресло перед камином, держа на коленях моток белой пряжи, и будет просиживать часами, уставившись на ширму, вышитую попугайчиками, вот только вспомнить ей, увы, будет нечего. Еще леди Отуэй спасало то, что, подобно некоторым людям своего круга, она уверовала в спектакль английской светской жизни и без смущения занималась тем, что обманывала себя и других, представляясь в кругу соседей дамой значительной, весьма занятой, во всех отношениях достойной, с большим общест-
Страница 216 прижизненного издания романа (1938 г.), на которой упоминается старшая дочь по имени Евфимия.
158
Вирджиния Вулф. День и ночь
венным весом и немалым достатком. Если учесть, что истинное положение вещей в доме было из рук вон плохо, то станет понятно, как ей приходилось изворачиваться, играя роль влиятельной дамы. Возможно, в ее возрасте — ей было за шестьдесят — она делала это больше из самообмана, нежели из желания обмануть окружающих. И потом, годы сказывались — она нет-нет да забывала о парадной стороне.
Все эти залысины на коврах, полинявшая мебель в гостиной были следствием не только мизерной пенсии, на которую жила большая семья, но и необходимости содержать двенадцать детей, из которых восемь — это сыновья. Как во многих многодетных домах, в этом семействе тоже налицо была разница между старшими и младшими детьми: старшим дали образование, а на младших, на эту вторую половину, денег не хватило, и они довольствовались малым. Проявил сын смышленость — хорошо: значит, выиграл стипендию и пошел учиться; не вышел умом, значит, пошел по семейной линии. Дочери тоже устраивались по-разному: кто-то добивался места, а кто-то так и жил на родительских хлебах — обычно одна-две девицы — ухаживали за больными животными, разводили шелкопрядов, играли на флейте. Разница между старшими и младшими была почти как между высшим и низшим классами в обществе, поскольку молодняк, не получивший систематического образования и живший на подачки, приобретал такие повадки, заводил себе таких друзей, такие взгляды высказывал, какие и не снились выпускникам закрытых частных школ или служащим государственных учреждений. Эти два семейных лагеря тихо ненавидели друг друга: старшие свысока патронировали младших, а те отказывались подчиняться. Объединяло же и тех, и других только одно — убежденность в превосходстве их семьи над всеми окружающими. Верховодил младшими Генри — самый старший из них; он читал чудные книжки, состоял в очень странных обществах. Он круглый год ходил без галстука и сшил себе дюжину рубашек из фланели черного цвета. Он наотрез отказался служить в судоходной конторе или в торговом представительстве чайной компании и назло всем дядюшкам и тетушкам упражнялся в игре на скрипке и на фортепьяно, причем без всякого намерения стать профессиональным скрипачом или пианистом. В свои тридцать два года ему нечего было предъявить, кроме рукописного варианта оперной партитуры, и то незаконченной. Кэтрин горячо поддерживала бунтаря-кузена, и он находил в ее поддержке определенный прок, поскольку в семье Кэтрин считали большой умницей, — сумасбродки с таким вкусом не одеваются. Встречаясь все вместе раз в год на Рождество, эти трое — Кэтрин, Генри и Кассандра (младшенькая, разводившая шелкопрядов) — обычно собирались тесным кружком и шептались по углам о чем-то своем. У молодежи Кэтрин пользовалась большим уважением за свое здра¬
Глава 17
159
вомыслие, а еще за светскость — на словах молодые презрительно отмахивались от этого качества, но в глубине души ценили в Кэтрин умение с ходу понимать, о чем думают и как себя ведут респектабельные пожилые люди, которые ездят по своим клубам и ужинают с членами кабинета министров. Она не раз мирила леди Отуэй с ее детьми. Та, бывало, советовалась с Кэтрин, как ей лучше поступить. Однажды она нагрянула с обычной своей проверкой в спальню к Кассандре и обнаружила, что вся комната, под самый потолок, засажена шелковицей, подоконники заставлены клетками, а на столах стоят самодельные машинки для шитья платьев из шелка.
— Кэтрин, нужно что-то делать, ты должна ей помочь, нужно заинтересовать ее тем, чем обычно интересуются барышни, — пожаловалась она, переходя на личности. — Это Генри сбил ее с толку, это он убедил ее перестать ездить на балы и начать разводить этих мерзких насекомых. Он не понимает, что женщине не пристало увлекаться мужскими занятиями.
На стулья и диваны, украшавшие личные покои леди Отуэй, ложились блики зимнего солнца, отчего старая обивка на мебели казалась еще более потертой, а с настенных фотографий, подернутых, будто патиной, желтоватой дымкой утреннего света, смотрели бравые офицеры, защитники империи, родные братья и кузены леди Отуэй, которые сложили свои головы на полях сражений. Повздыхав — не оттого ли, что краски полиняли, карточки повыцвели? — хозяйка снова взялась, за неимением лучшего, за мотки шерсти, а они, к слову сказать, тоже пожелтели, словно утратив первозданную белизну. Леди Отуэй давно хотела поболтать с племянницей наедине, Кэтрин всегда внушала ей доверие, а теперь, когда она поступила так умно — обручилась с Родни, — кажется, о чем еще может мечтать мать? — леди Отуэй окончательно прониклась доверием к своей племяннице. А когда Кэтрин без всякой задней мысли попросила тетушку дать ей спицы для вязания — занять руки во время беседы, — то лучшей рекомендации нельзя было и придумать: леди Отуэй решила, что Кэтрин — это голова.
— Как это приятно, — заметила она, — беседовать за вязаньем! Итак, дорогая, расскажи мне о ваших планах.
Из-за волнений, пережитых накануне, Кэтрин не выспалась и чувствовала себя выжатой как лимон — ей было не до лирики. Поэтому, рассказывая о планах, она держалась голых фактов: условий жилья, арендной платы, слуг, хозяйства, душою никак не участвуя в рассказе. Следя за тем, как ловко мелькают в руках племянницы спицы, леди Отуэй с одобрением отметила про себя ее благородную осанку, чувство ответственности, серьезность, с которыми девушка подходит к будущему браку, и порадовалась такому здравому и редкому по нынешним временам настрою невесты. Да, помолвка явно пошла Кэтрин на пользу.
160
Вирджиния Вулф. День и ночь
«Всем бы такую дочь или... невестку!» — подумала она про себя, невольно сравнивая Кэтрин с Кассандрой, набившей спальню шелкопрядами.
«Да, Кэтрин, как я, из прошлой жизни, — продолжала она сверлить племянницу взглядом: ее зеленоватые навыкате глаза были пусты, как блестящие мраморные шарики. — Да, мы не они — мы серьезно относились к жизни».
В эту самую минуту, когда она только-только начала вкушать наслаждение от этой мысли, только приготовилась достать из сундука очередную залежалую мудрость, чтобы посетовать на то, что ее дочери, увы, не нуждаются в материнских советах, так вот, в эту самую минуту дверь распахивается и в комнату входит — какое «входит»? — стоит в дверях! — и растерянно улыбается миссис Хилбери: она явно ошиблась дверью.
— Что за дом! Вечно в нем плутаю! — воскликнула гостья. — Шла в библиотеку, и вот ошиблась. Извините! Вы с Кэтрин решили пошептаться?
Леди Отуэй стало не по себе от слов снохи: она испытывала неловкость оттого, что ей придется продолжать разговор в присутствии Мэгги. Ведь за все эти годы она ни разу с ней не откровенничала.
— Замужней женщине всегда есть о чем рассказать барышне на выданье, — отшутилась она и тут же перевела разговор. — Ну и ну, хороши же мои дети — бросили тебя одну в доме.
— Замужество! — точно не слыша последнюю фразу, повторила миссис Хилбери, проходя в гостиную. — Замужество — это школа, скажу я вам. И если в школу не ходить, то и наград тебе не видать. Верно, Шарлотта? Ты у нас молодец, — потрепала она ласково сноху по плечу, — все награды, какие можно, завоевала, правда?
От таких слов леди Отуэй и вовсе сконфузилась — фыркнула, буркнула что-то и, вздохнув, замолчала.
— Тетушка сказала, что не стоит выходить замуж, если не желаешь подчиняться мужу, — пояснила Кэтрин, заострив тетушкины слова так, что моментально перестала казаться барышней из прошлой жизни. Леди Отуэй посмотрела на нее долгим взглядом и выдержала паузу.
— Да, я бы не советовала женщине своенравной выходить замуж, — наконец изрекла она с прежним чувством собственного достоинства.
По лицу миссис Хилбери тут же пробежала тень сочувствия: она была не из тех, кому нужно намекать дважды.
— Да, пережить такой позор! — воскликнула она в полной уверенности, что ее собеседницы следят за течением ее мысли. — И все же согласись, Шарлотта, ведь было бы гораздо хуже, если бы Фрэнк совершил какой-то неблаговидный поступок. И потом, разве мы судим о наших мужьях по тому, сколько они получают, нежели по тому, что они собой представляют? Я по-
Глава 17
161
мню, как мечтала о принце на белом коне и о любви в шалаше, но почему- то в конечном итоге предпочла чернильницу. И потом, как знать? — посмотрела она на Кэтрин, — твой отец, может статься, получит титул баронета.
Леди Отуэй приходилась мистеру Хилбери сестрой, и она прекрасно знала, как в том доме прозвали ее дорогого сэра Фрэнсиса — «старым турком», вот как! — и поэтому она хоть и не могла уследить за полетом фантазии своей снохи, но догадаться о том, что ее заставило разразиться словесным фонтаном, догадалась.
— Нет ничего слаще счастливого замужества, а оно приходит только в том случае, если ты умеешь уступать мужу, — обратилась она к Кэтрин, словно они вдвоем только и понимали, о чем речь.
— Да, — ответила Кэтрин, — но...
Она не собиралась сказать что-то конкретное, ей просто хотелось поддержать разговор матери и тетушки о замужестве — ей казалось, что, слушая их, она легче разберется в себе. Она машинально набрасывала петли, но, в сравнении с плавными, хорошо рассчитанными движениями пухлых ручек леди Отуэй, ее движения были резковаты. Она то и дело отрывалась от вязанья, переводя взгляд с матери на тетю. Мать все не выпускала из рук книгу — видно, решила с утра поработать в домашней библиотеке и вписать еще один абзац в жизнеописание Ричарда Элардиса — в этот «компот» из несвязанных отрывков. В другое время Кэтрин поспешила бы проводить мать в кабинет и постаралась бы сделать так, чтобы ничто не отвлекало ее от работы. Однако что-то изменилось в последнее время и в ней самой, и в ее отношении к жизни поэта: она больше не думала о рабочем графике. А миссис Хилбери только того и нужно было! Она испытала огромное облегчение, когда поняла, что от нее ничего не ждут, и она не могла сдержать свою радость: нет-нет да посматривала с хитринкой на свою дочь. Как, неужели ей позволено просто посидеть и поболтать? Куда как приятнее расположиться в уютной гостиной среди разных интересных безделушек, которые она целый год не видела, чем копаться в словаре, уточняя противоречивые даты!
— Нам всем повезло с мужьями, — заключила она, великодушно прощая сэру Фрэнсису все его недостатки. — Вообще, по-моему, плохой характер в мужчине — не порок. Заметьте, я не о дурном нраве, — поправилась она, ре- шив-таки бросить камешек в огород сэра Фрэнсиса. — Я о другом — о мужской горячности, несдержанности. У многих великих людей — по сути, у всех — испорченный характер, — разумеется, кроме твоего дедушки, Кэтрин, — заметила она со вздохом, намекая на то, что ей, видимо, пора идти работать.
— Великие — понятно, а в обычном браке — неужели женщина должна во всем слушаться мужа? — спросила Кэтрин, пропуская мимо ушей тонкий
162
Вирджиния Вулф. День и ночь
намек матери и стараясь заглушить тоску, охватившую ее при мысли о том, что она обязательно когда-нибудь умрет.
— По-моему, да, совершенно определенно, — заявила леди Отуэй с не свойственной ей категоричностью.
— Значит, об этом надо думать до замужества, — задумчиво протянула Кэтрин, обращаясь к самой себе.
Эти грустные разговоры мало трогали миссис Хилбери, и, чтобы встряхнуться, она прибегла к испытанному средству — выглянула из окна.
— Ах, какая прелестная синяя птичка! — воскликнула она, с восторгом оглядывая чистое небо, деревья, проклюнувшуюся озимь на полях и голые ветки, обрамляющие пушистый синий комочек. Она обожала природу.
— Обычно каждая женщина про себя знает, готова она подчиниться или нет, — как бы ненароком, почти шепотом ответила леди Отуэй, словно ей не хотелось, чтобы ее слова услышала сноха. — И если нет, то я бы отсоветовала — не надо выходить замуж.
— Но как же так? Ведь для женщины нет ничего слаще замужества! — откликнулась на слово «замуж» миссис Хилбери, отвлекаясь от вида за окном. И только тут она наконец задумалась о сказанном. — Нет, не так, замужество — это самое интересное в жизни! — поправилась она, с некоторой тревогой глядя на дочь. В ее взгляде читалась материнская забота: ведь когда мать смотрит на дочь, она на самом деле смотрится в зеркало. Увиденное не обрадовало миссис Хилбери, но она намеренно не стала допытываться у дочери, почему та молчит, поскольку всегда полагала, что сдержанность Кэтрин — золотое ее качество, на которое она всегда может положиться. Впрочем, стоило только матери сказать, что замужество — это самое интересное в жизни, как Кэтрин моментально почувствовала, без всякой видимой причины, что они, такие разные, понимают друг друга без слов. И все же молодежь склонна видеть в родительской мудрости скорее общечеловеческий, нежели личный опыт, имеющий отношение к отдельной личности, так что Кэтрин не обманывалась насчет глубины их с матерью взаимопонимания. Как мало, думала она, нужно для счастья двум этим умудренным жизнью женщинам! Интуитивно она чувствовала, что это неверный взгляд на брак, но сил доказать обратное у нее не было. Будь они в Лондоне, она бы и минуты не усомнилась в правильности собственного умеренного отношения к замужеству. Почему же здесь все иначе? Почему теперь мысль о браке ее угнетает? Ей и в голову не приходило, что мать может быть озадачена ее поведением или что пожилые люди подвержены влиянию молодых не меньше, чем молодые влиянию старшего поколения. И все же очевидно, что в жизни миссис Хилбери любовь (страсть, если угодно) имела куда меньшее значение, чем можно было бы предположить, зная ее веселый нрав и
Глава 17
163
богатое воображение. Она почему-то всегда отвлекалась на что-то постороннее. В этом смысле леди Отуэй оказалась, как это ни странно, догадливее миссис Хилбери: она тонко уловила настроение племянницы.
— И почему мы не живем в деревне? Не понимаю! — воскликнула миссис Хилбери, снова повернувшись к окну. — Вокруг такая красота — здесь тебя не могут посещать мрачные мысли. Ни тебе ужасных трущоб, ни трамваев, ни автомобилей — все люди пышут здоровьем, все такие веселые. Ты не знаешь, Шарлотта, кто-нибудь в округе сдает небольшой коттедж? На такую семью, как наша? Ну и хорошо бы, чтобы была гостевая комната на случай, если к нам приедет погостить кто-то из друзей! Представляете, сколько денег мы бы сэкономили, если бы ездили...
— Понимаю. Приезжать на неделю-другую — это было бы славно, — отрезала леди Отуэй. — Кстати, на какое время ты хотела бы, чтобы заложили экипаж? — без перехода спросила она, беря в руки колокольчик.
— Давай спросим Кэтрин, — ответила миссис Хилбери, чувствуя, что сама она не в силах определить точное время поездки. — Ах да, Кэтрин, я все собиралась рассказать тебе, как сегодня утром, проснувшись, я ощутила такую ясность в голове, что, будь у меня под рукой карандаш, я бы написала большую главу. Вот увидишь, мы обязательно поселимся в деревне. Я найду здесь подходящий дом — с аллеей, садом, прудом с китайскими утками, чтобы у отца был кабинет, у меня был свой кабинет, а у Кэтрин — собственная гостиная, как и положено замужней даме.
При этих словах Кэтрин поежилась, подошла к камину и протянула ладони к огню, чувствуя, как жар поднимается над углями. Ей хотелось снова вернуться к разговору о браке, послушать еще, что скажет тетя Шарлотта, но она не знала, как к этому подступиться.
— Тетушка, можно взглянуть на ваше кольцо? — попросила она, бросив взгляд на собственное колечко.
Она вертела в руках созвездие зеленых камушков, не зная, что сказать.
— Старенькое мое колечко, — вспоминала леди Отуэй. — Помню, я так расстроилась, когда первый раз его надела, — мне хотелось с бриллиантами. Но, естественно, перед Фрэнком я виду не подала. Он купил его в Симле1.
Кэтрин еще раз повернула кольцо и потом молча отдала его тетушке. Губы ее невольно сжались, пока она любовалась кольцом: что же, она тоже сделает так, чтобы Уильям был доволен, — ведь именно так поступают эти женщины, она тоже сделает вид, что ей нравятся изумруды, хотя всегда любила бриллианты... Спрятав кольцо, леди Отуэй заметила вслух, что на улице свежо, впрочем, в зимнее время года могло быть гораздо холоднее, а се¬
164
Вирджиния Вулф. День и ночь
годня уже хорошо то, что светит солнце, и она посоветовала дамам потеплее укутаться перед прогулкой. Вообще Кэтрин иногда казалось, что тетушка намеренно припасает трюизмы, чтобы заполнять ими возникающие в разговоре паузы, и что они имеют мало общего с ее сокровенными мыслями. Однако сейчас ей показалось, что тетушкины сентенции полностью совпадают с ее собственными размышлениями; поэтому, снова взяв в руки вязанье, она стала внимательно слушать, главным образом для того, чтобы укрепиться в мысли о том, что помолвка с нелюбимым человеком — это неизбежный шаг в мире, где разговоры о страстной любви — не более чем сказка, занесенная странником из дальних заморских стран, которая звучит все реже и реже, заставляя мудрых людей сомневаться в ее существовании. Кэтрин слушала краем уха, как матушка выспрашивает последние новости про Джона, как в ответ тетя пересказывает историю помолвки Хильды с офицером индийской армии, но голова ее была занята другим: мысль ее то устремлялась к лесным тропинкам и россыпям цветов, то сосредоточивалась на странице, покрытой аккуратно выписанными математическими формулами. В такие минуты замужество казалось Кэтрин не более чем аркой, под которой необходимо пройти, чтобы осуществилось твое главное, заветное желание. Когда ей случалось размечтаться вот так на людях, она ощущала с некоторым внутренним содроганием, как ее берет в полон неодолимый лихорадочный зов природы и ей делается безразлично, что при этом чувствуют окружающие. Не успели пожилые дамы обменяться впечатлениями по поводу будущего их семейства, а леди Отуэй испугаться того, что ее сноха начнет философствовать насчет жизни и смерти, как в комнату влетела Кассандра и объявила, что карета подана.
— И почему это Эндрюс сам не доложил? — проворчала недовольно леди Отуэй, которой все никак не удавалось приучить слуг к этикету.
Когда, экипировавшись перед поездкой, миссис Хилбери вместе с Кэтрин спустились в холл, они застали там обычную сутолоку: домочадцы устроили сыр-бор из-за поездки в город. Кто-то в сердцах хлопал дверью, кто-то, привлеченный шумом, появлялся на пороге; два-три человека с нерешительным видом топтались на лестнице, не зная, то ли ехать, то ли нет; наконец, из дверей кабинета вышел сэр Фрэнсис, держа под мышкой «Таймс», и разразился жалобой на шум и сквозняк, который устроили в доме, — тут всех словно с места сдуло: собиравшиеся на прогулку уселись в карету, а те, кто решил не ехать, разбрелись по своим комнатам. Было решено, что в Линкольн отправятся четверо: миссис Хилбери, Кэтрин, Родни и Генри, а если кто-то захочет составить им компанию, пусть едет на велосипеде или берет повозку с пони. Таков был порядок, заведенный леди Отуэй: каждый, кто гостил у них в доме, был обязан хотя бы раз съездить в Линкольн; хозяйка
Глава 18
165
полагала это хорошим тоном — из светской хроники она знала, что именно так устраивают рождественские приемы в знатных домах. И пусть выезд небогатый — лошади старые да толстые, — все равно это выезд, пусть карета и кажется кому-то развалюхой, зато на дверцах виден герб Отуэев. Стоя на крыльце и кутаясь в белую шаль, леди Отуэй до изнеможения махала рукой отъезжающим гостям, и, лишь убедившись в том, что карета повернула за угол, обогнув кусты можжевельника, она удалилась в дом с чувством исполненного долга — не преминув при этом посетовать на то, что никто из ее детей не проявил подобного чувства.
Карета мягко катила по проселочной дороге. Убаюканная движением миссис Хилбери впала в приятное состояние полудремы — мимо проплывали зеленые изгороди, вдали виднелась пашня на фоне ясного голубого неба. Этот мирный пейзаж очень скоро навел миссис Хилбери на мысль о конечности бытия, но потом ей вспомнился домик с садом, ярко-желтые нарциссы у синей кромки воды, и она сама не заметила, как стала строить планы, в голове начали складываться прелестные фразы, и она не обратила внимания на то, что ее молодые спутники непривычно молчаливы. Генри вообще не хотел ехать — его заставили, поэтому он сидел с разочарованным видом напротив молодых, а Кэтрин была мрачнее тучи, пребывая в состоянии полного безразличия. На все вопросы Родни она отвечала «Гм-м...» или кивала с таким равнодушием, что ему приходилось переспрашивать у ее матери. Той нравились его почтительное отношение, безукоризненные манеры, и она размечталась, вспомнив о летней ярмарке 1853 года и видя, как за окном кареты замелькали шпили церквей и фабричные трубы.
Глава 18
Пока одни с комфортом добирались до Линкольна, другие топали туда пешком. Раз-два в неделю улицы главного города Линкольншира заполняют жители округи: сюда стекается люд из ближних и дальних приходов, фермеры, обитатели поместий, постояльцы коттеджей с окраины; а сегодня к ним добавились и Ральф Дэнем с Мэри Дэчет. Идти по тракту молодые считали ниже своего достоинства — шагали полем, и, глядя на них, можно было подумать, что им все равно, где идти, — главное, чтобы тропа не обрывалась. Еще в начале пути, едва выйдя с подворья приходского священника, они затеяли спор и так увлеклись, что шагали на большой скорости в унисон приводимым доводам, не глядя по сторонам, не замечая ни изгородей, ни пашни, ни ясного голубого неба. Мысли их витали вокруг парламента и здания правительства на Уайтхолл-стрит1 — те буквально стояли у них перед глазами. Они оба — и Ральф и Мэри — вышли из тех сословий, которым на роду
166
Вирджиния Вулф. День и ночь
заказан вход в святая святых власти, и поэтому они оба из кожи вон лезли, стремясь создать свой собственный мир, сообразно своим представлениям о законе и правительстве. Мэри спорила с Ральфом скорее из желания схлестнуться во мнениях, нежели из реального разногласия: ей нравилось ощущать себя его соперницей, зная, что он не станет играть с ней в поддавки только потому, что она — женщина. Спорили до хрипоты — так спорят братья. Впрочем, в одном они были единодушны: оба верили в то, что именно им назначено взять в свои руки дело обновления и перестройки самых основ английского общества. Еще они сошлись во мнении, что природа, в общем, обделила их родину; при этом каждый про себя, прищурившись от остроты момента и глядя себе под ноги, признавался в любви грязному полю, которым они шли. Наконец, дойдя до последней черты и переведя дух, они, как все здоровые спорщики, дружно решили забыть о споре — пусть себе почиет в бозе со своими сородичами, — а сами, опершись о калитку, первый раз за день огляделись вокруг. Ноги приятно гудели от быстрой ходьбы, с губ поднималось облачко пара. Обычные натянутость и стеснительность испарились за время совместной прогулки, и у Мэри слегка закружилась голова — будь что будет, подумалось ей. Еще немного, и она призналась бы Ральфу: «Я люблю тебя, тебя одного. Поженимся мы или нет — это не важно, думай обо мне что хочешь — мне все равно».
Ей действительно было все равно, сказаны эти слова или только звучат у нее в душе. Стиснув ладони, ловя собственное дыхание в виде легких облачков пара, она смотрела вдаль — на верхушки деревьев, напоминавшие цветом подрумяненную корочку ржаного хлеба, на зеленовато-синий пейзаж... Так что, когда она легонько выдохнула: «Я люблю тебя», это прозвучало так же, как если бы она сказала: «Я люблю клены» или просто «Я люблю, люблю».
— Знаешь, Мэри, — вдруг прервал ее Ральф, — я решился.
От этих слов ее наигранное безразличие вмиг улетучилось: леса как не бывало, и перед ней четко-четко обрисовались верхняя перекладина калитки и вцепившиеся в нее пальцы — ее собственные. Ральф пояснил:
— Я решил уйти с работы и поселиться здесь. Расскажи мне, что это за коттедж, о котором ты говорила. Ну да здесь это не проблема — снять жилье, так ведь?
Он говорил как бы между прочим, словно знал, что она станет его отговаривать.
Мэри молчала, давая понять, что готова слушать дальше, ей казалось, что каким-то окольным путем он перейдет к вопросу женитьбы.
— Мне опротивела конторская служба, — продолжал он. — Родные, конечно, будут против, но я твердо решил. А ты что думаешь?
Глава 18
167
— Насчет того, чтобы тебе переехать сюда? — переспросила она.
— Мало ли старушек, найду кого-нибудь, чтобы вести хозяйство, — ответил он. — Понимаешь, мне все осточертело. — Он рывком распахнул калитку, и они зашагали нога в ногу через соседнее поле.
— Мэри, поверь, это саморазрушение — пахать днями и ночами непонятно зачем и для кого. Я восемь лет трубил — хватит! Ты, конечно, так не думаешь — по-твоему, это все бред?
Мэри насилу взяла себя в руки.
— Нет, не бред. По-моему, ты несчастлив, — сказала она.
— С чего ты взяла? — удивился он.
— Помнишь то утро в парке Линкольнз-инн-Филдз? — задала она вопрос.
— Ах, вот ты о чем, — замедляя шаг, сказал Ральф. Он прекрасно помнил и Кэтрин, и ее помолвку, и багряные листья, впечатавшиеся в асфальт, и резавшую глаз белизну бумаги под ярким светом конторской лампы, и полную беспросветность тогдашнего своего состояния.
— Все так, Мэри, — выдавил он из себя, — правда, ума не приложу, как ты об этом догадалась.
Она молчала, надеясь, что он объяснит ей причину своего несчастья, ведь от нее не укрылось то, что он перед ней вроде оправдывается.
— Мне было плохо, очень плохо, — повторил он. Прошло полтора месяца с тех пор, как он сидел на набережной Темзы, наблюдая за тем, как тают в тумане, вслед за набегающей волной, его мечты, даже теперь, вспоминая о том дне, он ежился от чувства безысходности. Получается, он не оправился от горя. Тем более надо не прятать голову в песок, а идти навстречу своим переживаниям с открытым забралом, так сказать, — ведь уже много времени утекло. Та мука, без сомнений, превратилась в сентиментальное воспоминание, которое только и ждет того, чтобы его прогнали под недре- маным оком Мэри, иначе оно так и будет отравлять ему жизнь, как то случилось с первой же минуты его встречи с Кэтрин Хилбери за чаепитием. Правда, для этого необходимо назвать ее имя, а это он почему-то не мог заставить себя сделать. Тогда он решил, что не станет называть Кэтрин, но и от ответа не уйдет, убедив себя в том, что его состояние никак с ней не связано.
— Несчастье — образ мысли, — начал он, — то есть я хочу сказать, оно наступает без всякой видимой причины.
Он остался недоволен сбивчивым началом, к тому же, едва начав говорить, он понял, что именно Кэтрин и есть причина его несчастья.
— В какой-то момент жизнь перестала меня удовлетворять, — начал он заново. — Все потеряло смысл.
168
Вирджиния Вулф. День и ночь
Он опять помедлил, взвешивая слова, — и, найдя их в общем справедливыми, решил, что будет держаться в разговоре этой линии.
— Просиживать в конторе по десять часов, зарабатывая гроши, — чего ради? Понимаешь, в детстве мечтаешь о таких невероятных вещах, что кажется не важно, чем ты будешь заниматься, и, чем ты честолюбивее, тем более оправданны твои мечты: есть ради чего жить. А сейчас я больше не вижу смысла. Возможно, его никогда и не было — вот какая штука! (Да и есть ли вообще в чем-то смысл?) В любом случае, когда доходишь до определенного возраста, понимаешь, что дальше обманываться просто нельзя. Те- перь-то я знаю, что меня заставляло жить, — он почти поверил собственным словам, — я мечтал о том, что стану опорой для своей семьи и все такое. Мечтал, как они поднимутся... Конечно, это самообман — самовосхваление в каком-то смысле. Как большинство из нас, я жил иллюзиями и вот теперь только начинаю это понимать. Мне снова нужно во что-то поверить. Вот и все мое несчастье, Мэри.
Все это время Мэри молча слушала Ральфа, от напряжения у нее на переносице даже образовались две складочки. А молчала она потому, что не услышала ни слова про женитьбу, и еще потому, что правды ей Ральф так и не сказал.
— Снять коттедж будет несложно, — сказала она по-деловому, пропустив мимо ушей только что произнесенный монолог. — У тебя ведь есть небольшие сбережения, правда? Ну вот, — заключила она, — по-моему, все должно получиться.
Они шли по полю, каждый думая о своем: Ральфа слегка удивила и даже обидела реакция Мэри, но в целом он остался доволен разговором. Он давно внушил себе, что полностью раскрыться перед Мэри у него не получится, и поэтому в душе обрадовался, что вышел из положения, так и не признавшись ей в своей заветной мечте. Он еще раз убедился в том, что Мэри — его преданный, рассудительный друг, на нее он всегда может положиться, и, если не переходить определенные границы, он всегда может рассчитывать на ее понимание. А то, что границы эти сегодня были чётко обозначены, так это даже хорошо. Когда они дошли до конца поля, Мэри сказала:
— Да, Ральф, тебе пора менять обстановку. Мне тоже. Только я не о домике в деревне мечтаю, а об Америке. Да, Америка! — воскликнула она. — Вот куда я хочу! Там я научусь, как поднимать общественное движение, и, вернувшись, всем докажу, как надо работать.
Неизвестно, хотела ли Мэри своей репликой принизить уединенную покойную жизнь в деревенском доме, или же у нее это вырвалось само собой, без всякого умысла, только Ральфа ее слова не задели: ведь его намерение поселиться в деревне было совершенно искренним. Зато она определенно
Глава 18
169
заставила его обратить внимание на саму себя: впервые за все утро он увидел перед собой самостоятельную личность, у которой своя жизнь, и в ней нет места ни ему, ни его увлеченности Кэтрин, — вон она шагает чуть впереди по свежевспаханному полю. Ему представилось, что еще немного, и она вырвется вперед и зашагает дальше одна, и пусть ее движения чуть угловаты, зато в ней чувствуются сила, независимый нрав, которые он не может не уважать.
— Мэри, не уезжай! — вырвалось у него.
— Вот ты всегда так, Ральф, — бросила она ему, не оглядываясь. — Сам мечтаешь уехать, а меня отговариваешь. Не очень логично, правда?
— Мэри, прости! — воскликнул он, почувствовав внезапный укол совести оттого, что был недопустимо строг с ней. — Я тебя измучил!
От его слов она чуть не расплакалась, и ей стоило неимоверных усилий, чтобы не броситься уверять его, что она давно ему все простила и еще не то простит, если он попросит. Единственное, что удержало ее от таких излияний, — это упрямое чувство самоуважения, которое составляло ее внутренний стержень и заставляло ее в самые душещипательные минуты сжаться в кулак, чтобы не рассиропиться. В мгновения, подобные этому, когда внутри у тебя все бушует, она вспоминала о заповедном месте на земле, где всегда светит солнце, ровно падая на страницы учебников по итальянской грамматике и на кипы сброшюрованных документов. Однако она не обманывалась насчет мертвенно-бледного, иссеченного скалами пейзажа той заповедной земли — она всегда знала, что ее ждет суровая жизнь и почти невыносимое одиночество... Так и шагали по полю — Мэри чуть впереди, Ральф сзади. Подошли к опушке, где поднимался молодой лесок, а за ним угадывался крутой овражек. С края лощины, поросшей редкими деревцами, открывалась даль, и тут взору Ральфа предстала ровная, как столешница, низина, где среди лугов, у подножья холма, надежно укрытая и недоступная, расположилась небольшая усадьба серого камня в окружении прудов, посадок, поднимавшихся террасами, аккуратно подстриженных изгородей; сбоку виднелись фермерские постройки, а за ними — стена елей. Позади усадьбы виднелся взгорок, поросший деревьями, — их зубчатые кроны вырисовывались на фоне неба, особенно густо синевшего между стволов. И тут вдруг Ральфу явственно представилось, что Кэтрин где-то рядом: серевший на фоне яркого синего неба дом убеждал его в том, что она здесь, совсем близко. Он прислонился к дереву и позвал сначала шепотом: «Кэтрин!», потом громче:
— Кэтри-и-н!
Обернувшись, увидел Мэри: та медленно шла вперед, размахивая длинным побегом плюща, который сорвала с дерева. Он еще подумал, насколь¬
170
Вирджиния Вулф. День и ночь
ко же далека она от того образа, что жил в его душе, и, махнув рукой, поспешил вернуться к своей грезе.
Он повторял про себя: «Кэтрин, Кэтрин!» — и ему казалось, они вместе. Он совершенно потерял чувство реальности: все материальное — время суток, наши дела, прошлые и будущие, общество других людей, поддержка, которую мы видим, когда они разделяют с нами веру в общую реальность происходящего, — все это от него отпало. Он словно отринул все земное и теперь парил в безбрежной синеве, и самый воздух, казалось ему, повторял очертания женского образа. Тут над головой пропел снегирь, и Ральф со вздохом очнулся, прогоняя наваждение. Да, вот в этом мире мы и живем: вспаханное поле, проселочная дорога и Мэри, срезающая плющ. Он нагнал ее и спросил, беря ее под руку:
— Так ты это серьезно насчет Америки?
В голосе его слышалась неподдельная братская забота, и она решила, что это очень благородно с его стороны — интересоваться ее планами, ведь, в отличие от него, она пренебрегла его объяснениями и не выказала никакого интереса к его новым жизненным устремлениям. В ответ она перечислила свои доводы в пользу переезда в Америку, кроме одного, главного, который тянул за собой все остальные. Он внимательно ее выслушал и не стал отговаривать. На самом деле, неожиданно для него самого, ему, оказывается, было очень важно убедиться в том, насколько ясно она рассуждает, и каждое новое доказательство ее глубокого здравого смысла радовало его, как бы еще больше укрепляя его в собственных решениях. Ее недавнюю обиду как рукой сняло, и на душе у нее стало светло и спокойно, — так, кажется, и шла бы себе, шла с ним под руку по морозной дороге. Она воспринимала их ровные отношения как награду за свое намерение вести себя с ним запросто и не пытаться выдать себя за кого-то другого. Она по наитию сторонилась разговоров о поэзии, все больше склоняясь к обсуждению практических, бытовых вопросов.
Стала расспрашивать, как он собирается вести хозяйство в своем деревенском доме, хотя он еще ничего окончательно не решил, и даже пожурила его за рассеянность.
— Нужно обязательно проверить, есть ли в доме водопровод, — настойчиво внушала она Ральфу, словно это она собиралась переезжать. Она специально не спрашивала его о том, чем он намерен заняться на новом месте, и под конец, когда они выяснили все до последней мелочи, он удовлетворил- таки ее интерес, поделившись с ней своими замыслами.
— Я собираюсь приспособить одну комнату, — сказал он, — под кабинет, понимаешь, Мэри, я хочу написать книжку.
Глава 18
171
Тут он высвободил руку, зажег трубку, и они зашагали дальше, как два верных товарища, которые еще никогда не достигали столь полного взаимопонимания.
— И что это будет за книга? — задала она вопрос в лоб, словно забыв, сколько раз Ральф ставил ее на место, когда речь заходила о книгах. Не моргнув глазом, Ральф ответил, что собирается написать историю английской деревни со времен древних саксонцев и до наших дней. Эта задумка давно уже не давала ему покоя, но именно сейчас, в одночасье, он решил ее осуществить, почему, собственно, и решил бросить службу. За какие-то полчаса разговора идея, смутно зревшая у него в голове в течение нескольких лет, превратилась в грандиозный замысел. Он и сам удивлялся тому, с какой внутренней убежденностью он об этом говорил. То же самое касалось дома в деревне: идея эта тоже родилась без всякого романтического флера — простая беленая хижина на окраине деревни, как пить дать, сосед с кучей горлопанов и свиноматкой в придачу; в этих планах не было ничего поэтического, и если он и строил их в свое удовольствие, то лишь до известного предела. Так разумный человек, из чьих рук только что уплыла возможность получить превосходное наследство, выходит на принадлежащий ему пятачок земли и начинает убеждать себя в том, что жить здесь можно, земля прокормит, правда, выращивать придется репу да капусту, а про дыни и гранаты надо забыть. Конечно, Ральф немного рисовался перед Мэри, но ее вера в него искупала все мелочи. Она шла, совершенно счастливая, размахивая ясеневой палкой, которую украсила зеленым плющом, и впервые за много-много дней, оставшись наедине с Ральфом, не осторожничала на каждом слове.
За неспешным разговором — они то останавливались полюбоваться видом, открывающимся за живой изгородью, то спорили о том, как называется серая птичка с крапинками, хоронящаяся в кустах, — они и не заметили, как дошли до Линкольна. На центральной улице им приглянулся старинный кабачок с окном-фонариком овальной формы — чувствовалось, что кормят там по-настоящему, — и, надо сказать, они не ошиблись. В этом заведении уже полтораста лет кряду потчевали местных господ сочным мясом, картофелем с овощами и яблочным пудингом на десерт, а теперь вот и Мэри с Ральфом устроили здесь пиршество, усевшись за отдельный столик в нише у окна. Примерно на середине застолья, уже доедая жаркое, Мэри задумалась, украдкой посмотрев на Ральфа: неужели он когда-нибудь станет таким же, как все? Как эти пышущие здоровьем, розовощекие, слегка заросшие седой щетиной сельчане в клетчатых бриджах, в натертых до блеска охотничьих сапогах и с толстыми ляжками, что ужинают в одном с ними зале? А почему бы и нет? — ведь главное, что он другой по складу мышле¬
172
Вирджиния Вулф. День и ночь
ния. Ей не хотелось, чтобы внешне он сильно отличался от остальных. От прогулки на свежем воздухе Ральф разрумянился, глаза у него горели — такой открытый честный взгляд понравился бы любому, самому неотесанному фермеру, а уж священнику и в голову бы никогда не пришло, что этот молодой человек может насмехаться над верой. Она исподволь любовалась Ральфом — его высокий лоб напоминал ей голову греческого юнопш-наезд- ника, что на полном скаку осаживает разгоряченного коня. Он ей с самого начала представлялся всадником на крылатом коне. И то, что она сейчас сидит напротив него за одним столиком, волновало ее, поскольку ей все время казалось, что люди не понимают, что он двигается совсем с другой скоростью, чем они. От этой мысли ей стало так хорошо и весело, как тогда возле калитки, — только сейчас к чувству радости добавилось ощущение спокойствия и надежности оттого, что она была уверена в прочности связывающего их чувства, которое не нуждается в словах. Он сидел молча, уйдя в себя: ладонь приставлена ко лбу, невидящий взгляд сверлит спины двух мужчин за соседним столиком, причем видно, что Ральфа совершенно не заботит, какое впечатление он производит на окружающих. Поглядывая на него украдкой, она кожей ощущала, как он водружает мысль за мыслью, возводя какую-то постройку, ей казалось, она слышит, как он ворочает мыслями, и только ждала наступления момента, когда процесс обдумывания закончится, он скрипнет стулом и повернется к ней с вопросом, словно предлагая ей подумать вместе с ним: «Итак, Мэри?»
Что и случилось — он вдруг встряхнулся, посмотрел на нее и с милой застенчивостью, которая всегда ее трогала, спросил:
— Итак, Мэри?
Она даже рассмеялась от такого неожиданного совпадения и, не зная, как еще объяснить свой смех, показала на улицу: колоритные фигуры! Прямо перед окном остановился автомобиль: на пассажирском сиденье расположилась дама, укутанная в голубую вуаль, а напротив нее служанка с комнатной собачкой на коленях — по черному окрасу с рыжими подпалинами видно, что это кинг-чарльз-спаниель; рядом по мостовой катит старую детскую коляску, доверху набитую хворостом, деревенская старуха; тут же остановились, обсуждают положение на рынке рогатого скота двое — судя по их внешнему виду, судебный пристав (он в гетрах) и священник местной секты.
Мэри описывала знакомые ей типажи, нисколько не опасаясь того, что ее спутник сочтет ее рассказ банальным. То ли обстановка располагала к взаимной доверительности — в обеденном зале было уютно и тепло, то ли сказывалось отменное жаркое, то ли Ральф, как говорится, довел мысль до логического конца — как бы то ни было, он перестал устраивать проверки
Глава 18
173
своей собеседнице, подлавливал ее на каждом слове, проверяя, насколько она здраво мыслит, насколько независима в суждениях, насколько проницательна... Как порой бывает, сидел он, думал, слушал вполуха, о чем толкуют господа в гетрах, городил про себя неизвестно что из болтавшегося в голове сора — про утиную охоту, про историю права, про захват Линкольна римлянами, про отношения местных господ к своим женам, — и вдруг его будто что-то толкнуло: он женится на Мэри! От неожиданности он опешил — мысль словно родилась сама собой. Как тут было не встряхнуться и не выдать заученную фразу:
— Итак, Мэри?..
В первую секунду сама идея показалась ему настолько новой и интересной, что он едва не поделился ею с Мэри. Но, как всегда в их разговорах, у него сработал инстинкт: прежде чем что-то сказать, отдели то, о чем хочешь сказать, от того, о чем лучше промолчать. И вот он молча слушает, а она пытается увлечь его своим рассказом про даму в автомобиле, старуху с коляской, пристава, священника... И вдруг он чувствует, что к горлу подступают слезы. Он представил, как опускает голову ей на грудь и она гладит его по волосам, приговаривая: «Ну же, ну, успокойся. Не плачь! Расскажи, что случилось...»
Они бросаются друг другу на шею, он чувствует материнское тепло ее рук. Он понимает, что страшно одинок и сидящие в зале люди внушают ему страх.
— Проклятие! — вырвалось у него.
— О чем ты? — рассеянно спросила Мэри, не отрывая взгляда от окна.
«Могла бы быть и поласковее», — с раздражением отметил он про себя
и тут вдруг вспомнил, что Мэри собирается в Америку.
— Мэри, послушай, — сказал он ей, — нам надо поговорить. Ты закончила? Какие они, право, нерасторопные — давно пора убрать со стола!
По голосу было слышно, что он чем-то взволнован, и у Мэри екнуло сердце — она догадалась, о чем он хотел с ней поговорить.
— Не беспокойся, официанты не заставят себя ждать, — не глядя на него, ответила она и, словно для пущей уверенности, переставила солонку и стала собирать в кучку хлебные крошки.
— Я хочу перед тобой извиниться, — начал Ральф, сам толком не зная, как повести разговор, — он только чувствовал неодолимое желание поскорее связать себя словом и не дать вспыхнувшей между ними искре потухнуть. — Я очень виноват перед тобой, Мэри. Я тебе солгал. Ты ведь догадалась, правда? Первый раз в Линкольнз-инн-Филдз и сегодня снова, когда шли сюда пешком. На самом деле ты даже не знаешь, какой я лгун. Ты вообще меня не знаешь, разве не так?
174
Вирджиния Вулф. День и ночь
— Нет, не так, — ответила она.
Тут появился официант и переменил тарелки.
— Понимаешь, я не хочу, чтоб ты уезжала в Америку, — продолжал он, упершись взглядом в стол. — Я знаю, я вел себя с тобой по-свински, — горячо признался он, тут же переходя на шепот. — Да-да, я эгоист по жизни, тебе нельзя со мной связываться — не возражай, я знаю, что говорю. Только все равно, Мэри, то, что мы вместе, это так здорово — ты же видишь, каков мир... — И он показал кивком головы на сидящих в зале. — Будь оно иначе, в нормальном обществе — не в идеальном, а просто нормальном, — зачем я тебе был бы нужен? Нет, я серьезно!
— Но ведь и я не сахар, не забывай, — тоже шепотом и очень серьезно ответила Мэри; они перешептывались едва слышно, но с такой сосредоточенностью, что невольно обращали на себя внимание обедающей публики — их соседи с пониманием и любопытством поглядывали на молодую парочку, улыбаясь в усы. — Ты не знаешь, какая я эгоистка, еще побольше, чем ты, и потом я мещанка — не до мозга костей, но все-таки. Еще я обожаю командовать — и это мой главный недостаток. И потом, у меня нет ни капельки этой твоей страсти... — тут она помялась, подняла на него глаза, точно хотела убедиться, не ошибается ли, — твоей страсти к истине, — заключила, ставя победную точку.
— Говорю тебе, я лгун, — упрямо повторил Ральф.
— Мелочи не считаются, — отмела она его возражения. — Главное — не лгать в больших вопросах, а ты как раз такой. Я часто щепетильничаю по пустякам, но в душе... — вырвалось у нее помимо воли, и ей ничего не оставалось, как закончить фразу, — восхищаюсь правдолюбцами. Я хоть и люблю правду, но не так, как ты.
Последние слова она прошептала еле слышно — казалось, она сейчас разрыдается.
«Господи! — ахнул про себя Ральф. — Да она влюбилась! Куда ж я рань- ше-то смотрел? Плачет? Нет, но видно — сама не своя».
Он был так потрясен, что чуть не лишился самообладания: кровь бросилась в лицо, он не мог выдавить из себя ни слова — настолько все перевернула в нем мысль о том, что она его любит, хотя, кажется, совсем недавно он твердо решил сделать ей предложение. Он сидел, не поднимая глаз. Хорошо еще, она не расплакалась. Он чувствовал себя опустошенным — казалось, произошло что-то ужасное. Снова официант и новая смена тарелок.
Тут Ральф не выдержал, вскочил и встал у окна, спиной к Мэри. Людская толпа на улице предстала перед ним то рассыпающимся, то сходящимся скопищем черных точек, и, надо сказать, эта картина не очень расходилась с тем, что творилось у него в душе: внутри у него царил полный хаос
Глава 18
175
чувств и мыслей, стремительно сменявших друг друга. То он чувствовал себя на седьмом небе от счастья при мысли о том, что Мэри его любит, то приходил в ужас от того, что не испытывает к ней никаких чувств, что сама мысль о ее любви ему противна. Он то хотел сейчас же просить ее руки, то не знал, как поскорее убежать и больше никогда с ней не встречаться... Заметив на противоположной стороне улицы вывеску аптеки, он начал читать ее по слогам, пытаясь справиться с душившим его волнением, потом глаз его скользнул по витрине и дальше перескочил на женщин, стоявших небольшой группкой у входа в шикарный магазин тканей. Это помогло — он отвлекся от тяжелых мыслей и уже было собрался просить официанта принести счет, как вдруг его внимание привлек чей-то силуэт за окном: по другой стороне улицы стремительно двигалась высокая прямая фигура в темном — она невольно приковывала взгляд. То была женщина, она шла, помахивая зажатыми в левой, обнаженной, руке перчатками. Все эти подробности Ральф моментально отметил, запомнил и узнал, а потом всплыло и имя обладательницы: Кэтрин Хилбери. Она, похоже, кого-то искала: быстро оглядывалась по сторонам, на какую-то секунду взгляд ее задержался на нем, Ральфе, стоявшем у ярко освещенного окна кабачка, и тут же соскользнул, ничем не выдав того, что она его узнала. На Ральфа же это невесть откуда взявшееся видение Кэтрин Хилбери произвело невероятное впечатление: ему показалось, что оно родилось из его головы в ответ на его упорные мечты, а не то чтобы он увидел ее во плоти шагающей по противоположной стороне улицы. Да и не думал он о ней вовсе! Впечатление было настолько острым, что отмахнуться от него он не мог, равно как и решить, видел ли он ее воочию или только вообразил, что видит. Он вернулся на место, сел и каким-то чужим, не своим голосом сказал, обращаясь не то к себе, не то к Мэри:
— Это Кэтрин Хилбери.
— Как? Откуда? — спросила она, не понимая, то ли он видел ее, то ли нет.
— Да, это была она, — повторил он. — Мелькнула и скрылась.
«Кэтрин Хилбери! — повторила про себя Мэри, и только тут ей открылась вся сокрушительная правда. — Я так и знала!» Сомнений больше не было.
Мгновение она сидела придавленная, потом осторожно подняла глаза на Ральфа и наткнулась на его взгляд, мечтательный, с прищуром, — такого она за ним не знала: он был устремлен куда-то далеко-далеко вдаль, за горизонт. Губы разжаты, пальцы собраны, на лице выражение восторженного внимания — все это она схватила разом, почувствовав, как между ними встала стена. Ничто не ускользнуло от ее глаз: будь там какие-либо другие, скрытые, признаки его полного отчуждения, она бы их тоже высмотрела, — ведь
176
Вирджиния Вулф. День и ночь
она держалась, не подавая виду, только потому, что заставляла себя смотреть правде в глаза. Если она не умерла, то исключительно благодаря правде: глядя ему в глаза, она повторяла про себя, что на нем одном свет клином не сошелся, что свет истины, — повторяла она про себя, поднимаясь и направляясь к выходу, не загасить никаким нашим личным бедам.
Ральф подал ей пальто и ясеневую палку, она медленно, аккуратно застегнулась на все пуговицы, взяла в руку свой походный жезл, украшенный плющом. Ну что ж, решила она про себя, отрывая два зеленых листочка и кладя их в карман пальто, пусть останутся как дань сентиментальности и романтическим чувствам, остальное — долой! Ухватилась за палку, надвинула на лоб меховую шапку, точно перед долгой зимней дорогой, и вышла вон. Спохватившись, достала прямо посреди улицы кошелек, записку и зачитала список необходимых покупок — фрукты, масло, бечевка и т. д.; все это она проделала, не обращаясь ни к кому в отдельности, глядя мимо Ральфа.
А тот, хоть у него у самого на душе кошки скребли, с интересом наблюдал за Мэри в городских лавках, куда они направились выполнять заказы: как она разговаривает с приказчиками, как эти розовощекие молодцы в белых передниках почтительно выставляют ухо, стараясь не упустить мельчайшие подробности заказа, с какой решительностью и определенностью Мэри отчеканивает свои пожелания. Снова он взялся за старое — оценивать ее со стороны. Поймав себя на этой мысли, он напустил на себя рассеянный вид, — стал в сторонке, ковыряя носком ботинка покрытый опилками пол, — и вдруг где-то сзади раздался чей-то знакомый мелодичный голос и кто-то легонько тронул его за плечо.
— Кого я вижу? Неужели мистер Дэнем? А я смотрю в окно и вижу знакомое пальто — я вас сразу по пальто узнала! Вы случайно не встретили по дороге Кэтрин или Уильяма? Мы пошли смотреть развалины, и я отстала.
Перед ним стояла миссис Хилбери, ее неожиданное появление создало в магазине ажиотаж — посетители переглядывались.
— Понимаете, я заблудилась, — объявила она во всеуслышание, на помощь к ней тут же бросился вышколенный приказчик. — Мои ждут меня на развалинах, — объяснила она ему. — На каких точно, я не знаю, — то ли римские развалины, то ли греческие? Просветите, мистер Дэнем? В вашем городе столько прелестных мест, ну почему именно развалины? Ах, какие чудесные горшочки с медом — первый раз в жизни вижу такие! Это ваши собственные пчелы собрали? Прошу вас, мне один такой горшочек, да, и скажите, как мне пройти к этим развалинам. — Итак, — заключила она, получив от приказчика точный адрес и медовый горшочек, познакомившись с Мэри и настояв на том, чтобы они вдвоем с Ральфом проводили ее к месту развалин, — ведь в городе столько разных закоулков, развилок, луж, где брызга¬
Глава 18
177
ются полуодетые детишки, столько венецианских каналов, а в антикварных лавках такие дивные старинные сервизы синего фарфора, что одной ей ни за что не добраться до развалин. — Итак, — повторила она, — скажите на милость, что вы здесь забыли, мистер Дэнем? Вы ведь мистер Дэнем, правда? — ее вдруг взяло сомнение, уж не запамятовала ли она. — Это ведь вы пишете для журнала? Такой умный молодой человек... Буквально вчера муж говорил мне о вас, он считает вас большим умницей. Это, конечно, подарок судьбы — ну как без вас я отыскала бы дорогу к этим развалинам?!
У подножия римской арки, куда они втроем наконец добрались, миссис Хилбери уже ждали: ее домочадцы маршировали взад-вперед, высматривая ее издали, стараясь улучить момент, прежде чем она неожиданно возьмет и нырнет в ближайший магазинчик.
— Подумаешь, развалины! — закричала она своим. — Я нашла кое-что получше! Вот они — два мои друга! Без них я точно заблудилась бы и пропала. Мы просто обязаны пригласить их к нам на чай. Как жаль, что мы только что отобедали... А мы не можем повторить?
На звук ее голоса Кэтрин резко обернулась и пошла им навстречу — последние несколько минут она занималась тем, что ходила по улице и всматривалась в витрины скобяных лавок, словно надеялась отыскать среди газонокосилок и садовых ножниц притаившуюся в уголке мать. Она явно не ожидала увидеть здесь Дэнема и Мэри Дэчет. Действительно ли она им обрадовалась или просто удивилась такой неожиданной встрече в сельской глуши, сказать трудно, но, в любом случае, она с нескрываемым удовольствием обменялась с ними рукопожатием, покосившись в сторону Мэри:
— А я и не знала, что вы отсюда родом. Надо было сказать, мы бы договорились о встрече. А вы? — обратилась она к Ральфу. — Вы у Мэри остановились? Жаль, мы раньше не встретились.
Ральф будто язык проглотил — надо же было такому случиться, что женщина, о которой он грезил миллион раз, оказалась буквально в двух шагах от него! Он растерялся: то краснел, то бледнел, сам себя не помня, но он твердо решил встретить ее с открытым забралом и хорошенько рассмотреть при свете дня, — возможно, в его наваждениях нет и грана правды. Рта он так и не открыл, за них обоих говорила Мэри. Когда же он убедился в том, что настоящая Кэтрин совсем не похожа на тот образ, что он лелеял в душе, он окончательно умолк, решив, что надо вырвать старое воспоминание и начать все сызнова. Ветер дул ей в лицо, играя красным шарфом, волосы растрепались, на лоб выбилась прядь, норовя закрыть большие карие глаза, на дне которых, казалось ему, всегда жила печаль, а сейчас они были совсем другие: светлые, блестящие, будто омытые морской волной, согретые
178
Вирджиния Вулф. День и ночь
лучами солнца, вся она была сплошной порыв, стремительность, гонка. Он вдруг подумал, что видит ее впервые среди бела дня.
Посовещавшись, решили, что сегодня идти на поиски развалин уже поздно, и все дружно направились к конюшне, где их ждала карета.
— А вы знаете, — заметила Кэтрин, обращаясь к Ральфу, — они шли чуть впереди остальных, — мне кажется, я вас сегодня утром видела: вы стояли у окна. Я подумала, не может быть, а это были действительно вы.
— Мне тоже показалось, что я вас видел, но я обознался, — отрезал он.
Этот резкий тон, сдавленный голос — ей сразу вспомнились их внезапные короткие встречи, бурные разговоры, и на секунду ей показалось, что она дома, в гостиной, среди семейных реликвий, разливает чай; и только какая-то мысль — обрывок фразы, которую она то ли недоговорила, то ли не расслышала, — не давала ей покоя.
— Нет, не обознались, — сказала она. — Я бегала по улицам и искала мать. Это вечная история — всякий раз, когда мы приезжаем в Линкольн, случается одно и то же. Вообще такую семейку, как наша, только поискать — абсолютно беспомощны! Правда, большой трагедии в этом нет, в последний момент кто-то обязательно приходит на помощь. Однажды родители бросили меня одну в коляске посреди поля, на котором пасся бык, — кстати, где наша карета? Этот перекресток или следующий? По-моему, следующий.
Она оглянулась и увидела, что все послушно идут за ними, увлеченные очередным рассказом миссис Хилбери про ее приключения в Линкольне.
— А вы здесь зачем? — вспомнила она про Ральфа.
— Домик себе присматриваю. Хочу здесь поселиться, вот только найду что-нибудь подходящее, что Мэри одобрит, и сразу перееду.
— Подождите, как же так? — Кэтрин даже осеклась от удивления. — То есть вы хотите сказать, что бросаете адвокатскую профессию?
Она решила, что они с Мэри помолвлены.
— Вы хотите сказать, контору стряпчих? Да, ухожу оттуда.
— И зачем? — спросила она и тут же сама ответила на свой вопрос — ответила с печалью в голосе, словно радости не было и в помине: — Ну что ж, это мудрый поступок. Так вам будет гораздо лучше.
Не раньше, не позже, в эту самую минуту, когда ему показалось, что с ее словами забрезжил свет в конце тоннеля, все кончилось: они дошли до постоялого двора, где гостей дожидалась карета Отуэев; одну лошадь выпрягали, а другую уже успели поменять на свежую.
— Не знаю, что значит «лучше», — бросил он в ответ, пропуская вперед конюха с ведром. — И потом, откуда вам знать, что мне будет лучше? Сам я ничего хорошего от жизни не жду. Скорей уж плохое, чем хорошее. Засяду за книжку, буду гонять кухарку — невелико счастье. А вы как думаете?
Глава 18
179
Ответить она не успела — их окружили остальные: миссис Хилбери, Мэри, Генри Отуэй, Уильям.
Родни быстро отвел ее в сторону и предложил:
— Пусть Генри едет с вашей матушкой, а мы давайте выйдем на полпути и пройдемся пешком.
Кэтрин кивнула, взглянув на него исподлобья.
— Увы, нам не по пути, — бросил Родни Дэнему тоном, не терпящим возражений, — а то бы мы, конечно, вас подвезли.
Он явно спешил поскорее попрощаться с Дэнемом. Ему не терпелось уехать, а Кэтрин это раздражало: она посматривала на Родни, ожидая объяснений. Не дождавшись, помогла матери укутаться и стала прощаться с Мэри:
— Давайте встретимся? Вы сразу после Рождества назад в Лондон? Я напишу.
Она едва заметно улыбнулась Ральфу, — было видно, что ее что-то гнетет, — и села в карету, лошади резво затрусили со двора, потом свернули на большой проселочный тракт по направлению к Лэмпстеру.
На обратном пути повторилась утренняя история — пассажиры все больше молчали; миссис Хилбери клевала носом в своем уголке — то ли дремала, то ли делала вид, что спит, — она привыкла отдыхать после каждой прогулки, а может быть, опять ушла в воспоминания, как то было утром.
Милях в двух от Лэмпстера дорога взбегала на поросший вереском пригорок — безлюдное место, если не считать торчащего из земли гранитного обелиска с благодарственной надписью от имени какой-то знатной дамы восемнадцатого века, которая на этом самом месте подверглась нападению разбойников с большой дороги и чудом спаслась от неминуемой, как ей тогда казалось, смерти. Летом здесь было славно: по обеим сторонам дороги росли густые деревья, а воздух наполняла едва уловимая свежесть цветущего вереска, в котором тонуло подножье памятника; зимой все было по-другому: выл ветер, заглушая поскрипывание деревьев, пригорок стоял седой и лысый, сливаясь с низко нависшими тучами.
Карета остановилась, и Родни помог Кэтрин сойти. Спускаясь, она другой рукой оперлась на руку Генри и легонечко сжала ее, будто хотела что-то сказать ему на прощанье. Секунда — и карета, где дремала ничего не заметившая миссис Хилбери, покатила дальше; возле стелы остались стоять двое. Кэтрин видела, что Родни в ярости и он только ждет минуты, когда они останутся наедине. Никакой радости или печали она по этому поводу не испытывала, — раз надо, так надо; но, как пойдет разговор, она не знала и молча ждала. И вот уже карета почти скрылась в тумане, а Родни все не начинал. Она подумала, что он, наверное, ждет, когда экипаж совсем скроется из
180
Вирджиния Вулф. День и ночь
виду и они останутся на дороге одни. Стараясь скрыть неловкую паузу, она медленно обошла памятник вокруг, читая надпись, оставленную набожной путешественницей, и бормоча себе под нос отдельные слова благодарности; в какой-то момент к ней присоединился Родни, и они вдвоем, по-прежнему ничего не говоря друг другу, спустились с пригорка и пошли по дороге вдоль опушки.
На самом деле Родни страшно хотелось заговорить с Кэтрин, но он не знал, как подступиться к разговору. На людях Кэтрин не казалась такой неприступной, как сейчас, но стоило им остаться вдвоем, и он терялся в догадках, как ему выйти из положения, — Кэтрин отпугивала его своей холодностью и отрешенным видом. Он-то был уверен в своей правоте — с ним обошлись на редкость неуважительно, но, как сказать о своих обидах, чтобы не показаться мелочным, он не знал.
— А можно помедленнее? — только и нашелся что сказать, и она тут же сбавила ход, так что теперь он оказался чуть впереди нее. Теряя терпение, он не нашел ничего лучшего, чем надуться, и выпалил первое, что пришло в голову, забыв о том, что хотел начать с примирительного объяснения:
— Напрасно я сюда приехал.
— Почему напрасно?
— Потому. Жду не дождусь, когда снова вернусь к работе.
— Осталось всего три дня — суббота, воскресенье и понедельник, — напомнила она.
— Да?! И каждый день чувствовать себя шутом, выставленным на всеобщее посмешище? — взревел он, уязвленный ее ответом, еще больше распаляясь от мысли, что по-прежнему перед ней благоговеет.
— Похоже, это камешек в мой огород, — не моргнув глазом, заметила она.
— А ты вспомни: что ни день, то я по твоей милости оказываюсь шутом гороховым, — не унимался Родни. — Я ничего, если тебе так нравится, пожалуйста, продолжай в том же духе! Только ведь нам жить вместе. Что далеко ходить? — сегодня утром я предложил тебе вместе пройтись по саду. Я прождал десять минут, а ты так и не появилась. Все видели! Даже конюхи! Я не выдержал позора, ушел. И потом, когда ехали в карете, ты всю дорогу молчала. Это видел Генри — все видели! Кстати, с Генри у тебя легко получается разговаривать.
Все его уколы достигли цели — особенно последний, и все же она стоически молчала, дав себе зарок не отвечать на упреки. Ей было важно прозондировать почву, понять, насколько глубоко он расстроен.
— Не вижу причины обижаться, — только и сказала она.
— Вот как?! — парировал он. — В таком случае я вообще могу ни о чем не говорить.
Глава 18
181
— Я не вижу причины расстраиваться по пустякам, но если эти мелочи тебя задевают, то беру свои слова обратно. — Она постаралась загладить возникшую неловкость. Ее деликатность тронула его, и он перестал придираться к словам — шагал молча. Потом вдруг, под влиянием нахлынувшего чувства, взял Кэтрин под локоть и воскликнул:
— Разве мы не счастливы вместе?
Она вывернулась из-под его руки:
— Не видать нам счастья, раз ты все время дуешься!
Сказала, как отрезала, — нет, Генри прав: она жестокосердна. Уильям вздрогнул и замолчал. Последние дни он постоянно оказывался в роли мальчика для битья, которого она может при всех, публично выпороть своим суровым видом и при этом сохранить ледяную невозмутимость и полную отрешенность. Чтобы как-то восстановить чувство самоуважения, он напускал на себя апломб, от которого делался еще более смешон, понимая, что окончательно роняет себя в ее глазах. Но сейчас они были одни, без посторонних глаз, и он наедине со своей болью. Ему стоило больших усилий подавить в себе желание заговорить с ней и вместо этого сосредоточиться на самом себе и попытаться понять, откуда проистекает эта мука — то ли из самолюбия, то ли из убежденности в том, что любящая женщина никогда не стала бы говорить подобные резкости.
«Как я в душе отношусь к Кэтрин?» — спрашивал он себя. Безусловно, она очень желанный и лакомый кусочек, повелительница в своем мирке, но, конечно, и нечто большее — личность, каких мало, законодательница, женщина, которая обо всем судит спокойно и здраво, не то что он, при всей своей образованности. И потом, он всегда представляет ее на пороге комнаты в развевающихся одеждах, в пене цветов, наподобие морской сиреневой волны, — словом, сродни всему, что внешне кажется прекрасным и безмолвным, хотя внутри там бушуют страсти.
«Ну была бы она злая, водила меня за нос, чтобы только посмеяться, — разве стал бы я так к ней относиться? — размышлял он. — Не дурак же я, не мог же я обманываться столько лет! Опять же, когда она берет со мной такой строгий тон... Конечно, если покопаться, — думал он, — у меня столько жутких недостатков, что неудивительно, если человек разговаривает сурово, — Кэтрин правильно делает. Только она же знает, что это все наносное. Что же мне делать, чтобы она начала меня ценить?»
Он чуть не бросился с этим вопросом к ней — как ему измениться, чтобы ей понравиться? — но вместо этого утешился тем, что стал перебирать в памяти свои таланты и заслуги: знание древнегреческого и латыни, познания в искусстве и литературе, владение версификацией и кровь древних предков с запада. И все же за всеми этими увертками скрывалась глубокая уве¬
182
Вирджиния Вулф. День и ночь
ренность в том, что он всей душой любит Кэтрин, — перед этим непререкаемым убеждением все остальное просто немело! Но тогда почему она позволяет себе так с ним разговаривать? Он почувствовал себя окончательно сбитым с толку — продолжать не хотелось, разве что Кэтрин сменит тему... Но та упорно молчала.
Он взглянул на нее украдкой в надежде, что поймает ее выражение лица и тогда что-то прояснится, но Кэтрин, по своему обыкновению, машинально ускорила шаг и теперь шагала чуть впереди него. Напряженно сдвинув брови, она упорно смотрела себе под ноги, не поднимая глаз от темного вереска, — ни за что не догадаться, о чем она думает. Его неприятно уколола мысль о том, что они теперь порознь, и он попытался спасти положение, опять заведя разговор про свои обиды, впрочем, без прежнего пыла.
— Положим, я тебе безразличен, так скажи мне об этом прямо, с глазу на глаз! Зачем меня мучить?
— Да при чем здесь чувства, Уильям? — вырвалось у нее, словно он прервал ее размышления на самом важном месте. — К чему все эти разговоры, все эти мелочные волнения по никчемным поводам?
— Так ведь и я о том же! — воскликнул он. — Я все ждал, когда ты меня успокоишь. Иногда ты бываешь такая чужая. Да, я тщеславен, у меня тысяча всяких недостатков, но ты же меня знаешь, я не такой! Ты же видишь, как ты мне дорога.
— Так почему ты мне не верить, когда я говорю, что ты мне тоже дорог?
— Повтори еще раз, Кэтрин, повтори! Убеди меня в том, что я действительно что-то для тебя значу!
Бесполезно — больше она не могла выдавить из себя ни слова. Вокруг сгущался туман, вереск под ногами сливался в сплошную пелену, и горизонта было не видать. Умолять ее признаться в своих чувствах, отмести сомнения — то же самое, что выпрашивать у сырой осени яркие всполохи грозы или у хмурого неба — июньскую синеву.
Тогда он сам заговорил о своей любви — да так, что даже она, настроенная скептически, вынуждена была признать правдивость его слов. Однако растрогало ее совсем не это: за разговором они подошли к закрытой калитке, и он как бы невзначай, играючи наддал по заржавленной щеколде, освобождая проход, — и все это без малейшего усилия. Этот мужской жест ее приятно поразил, хотя, кажется, эка невидаль — открыть одним махом калитку! Вроде и нет никакой связи между крепкими мускулами и душевной привязанностью, и все же ей стало не по себе при виде сильного мужчины, который готов ради нее на все; а потом откуда-то явилось желание удержать эту сильную мужскую руку — тут она уже не выдержала: проснулась!
Глава 18
183
Надо сказать ему как есть, без обиняков, что согласилась на его предложение, когда в голове была каша, сплошной туман, никакой ясности, что да, это ужасно, но сейчас все встало на свои места, и совершенно ясно, что о браке не может быть и речи. Замуж она не собирается. Возможно, она уедет куда-то на север и займется изучением математики и астрономии. Объяснение займет не больше пяти минут. Родни к тому времени уже закончил, повторив еще раз, что любит ее, и объяснив, почему. Собравшись с духом, она нашла глазами ясень, в который попала молния, и, не сводя с него взгляд, точно по писаному, отбарабанила:
— Мне не надо было принимать твое предложение — это была ошибка. Мы не будем счастливы вместе. Я никогда тебя не любила.
— Кэтрин! — Он попытался урезонить ее.
— Да, не любила, — повторила она упрямо. — Это не любовь. Неужели ты не видишь, что я не понимала, что делаю?
— Ты в кого-то влюбилась? — спросил он «в лоб».
— Вовсе нет.
— В Генри? — продолжал он допрашивать ее.
— Ты что, Уильям? Я думала, хоть ты...
— У тебя кто-то есть, — не отступался он. — Ты изменилась за последнее время. Я был с тобой откровенен, будь и ты со мной откровенна, Кэтрин.
— Я бы сказала, если бы что-то было, — отозвалась она.
— Тогда зачем было говорить, что мы поженимся? — вскипел он.
И вправду, зачем? Что это было: минутная слабость, внезапная мысль о неизбывной рутине существования, отказ поверить в иллюзию, позволяющую юности парить между небом и землей, отчаянная попытка посмотреть фактам в лицо? Тогда ей казалось, она словно очнулась от сна, а теперь она вспоминала о том мгновении как о сдаче позиций. Но кто же объяснит причины ее поступка? Она грустно покачала головой.
— Ты ведешь себя как ребенок! Сегодня у тебя на уме одно, завтра другое! — бушевал Родни. — Если ты меня не любишь, то зачем соглашалась?
Только тут ей открылась вся мера ее проступка — до этого момента она гнала от себя мысль о случившемся и во всем винила одного Родни. А чем он виноват, если он ее любит? И что такое ее достоинства по сравнению с тем, что она не испытывает к нему никаких чувств? Внутри у нее что-то оборвалось при этой мысли: она вдруг поняла, что нет большего греха, чем равнодушие, и подумала, что гореть ей вечно.
Они шли под руку, он сжимал ее пальцы в своей ладони, и сил противиться его непомерному превосходству у нее не было. Хорошо, так тому и быть: она подчинится его воле, — подчинились же в свое время и мать, и тетушка, и, видимо, большинство женщин на свете поступили точно так же;
184
Вирджиния Вулф. День и ночь
только для Родни это пиррова победа — она-то знала, что, сдавшись, она на самом деле ежесекундно его предает.
— Да, я согласилась, но это была неправда, — выдавила она через силу, напрягая руку и как бы давая понять, что не уступит ни пяди, — пойми, Уильям, я не люблю тебя. Ты это сам знаешь, все это видят, так зачем притворяться? Я солгала, сказав, что люблю тебя. Это неправда, я знала это в душе.
Она повторяла одно и то же от бессилия, понимая, что никакие слова не выразят ее терзаний, и невольно пережимала, не догадываясь о том, что чувствует ее спутник. И только когда тот внезапно отпустил ее руку, она оторопело посмотрела ему в лицо: Родни стоял весь сморщенный, и на секунду ей показалось, что он беззвучно хохочет. Потом до нее дошло, что он плачет. Она совершенно растерялась, опешила, в голове колотилась только одна лихорадочная мысль — как можно скорей покончить с этим ужасом. Она обняла его за плечи и, гладя по голове, ласково приговаривая, повела прочь, он всхлипнул, еле сдерживая рыдания. Они шли, поддерживая друг друга, молча, оба заплаканные. Видно было, что он еле волочит ноги, да у нее и самой дрожали колени; поэтому, когда она предложила ему сесть и отдышаться — под дубом намело сухих, пожухлых, скукожившихся листьев папоротника, — он не стал спорить. Шумно вздохнув, он с какой-то ребяческой непринужденностью вытер слезы, а когда заговорил, в голосе его не было и следа недавней грозы. Оглядевшись, она подумала, что они похожи на заблудившихся в лесу детей из волшебной сказки: там и сям виднелись охапки мертвых листьев по щиколотку глубиной — видно, ветер согнал отовсюду.
— И давно, Кэтрин, у тебя такие чувства? — спросил Родни. — По-моему, раньше их не было. Я, конечно, виноват перед тобой, вспылил в первый вечер, когда выяснилось, что ты не захватила с собой вечерние платья. Но подумаешь, трагедия! Я готов поклясться, что никогда больше не буду вмешиваться в твой гардероб. И потом, я, наверное, был слишком резок во время твоего разговора с Генри. Согласен, получилось неловко. Но опять же, жених есть жених. Спроси у своей матери, как ведут себя женихи. А теперь еще это на меня свалилось... — Он замолчал, словно только сейчас понял весь ужас создавшегося положения. — Ты кому-нибудь сказала о своем... об этом решении? Мать уже знает? Генри тоже?
— Нет, что ты, конечно нет, — ответила она, вороша рукой сухие листья. — Пойми, Уильям...
— Да вот пытаюсь...
— Я хочу сказать, ты, по-моему, меня не так понял, это естественно. Ведь я только сейчас сама в себе разобралась. Понимаешь, во мне нет никаких чувств — никакой любви, или как она там зовется... — и она задумчиво по¬
Глава 18
185
смотрела в туманную даль, где не видно было ни зги, — ну, в общем, если нет этого чувства, то наш брак будет сплошным фарсом...
— Как это — фарсом? — переспросил он. — И потом, зачем нужно разбирать все по косточкам! — не удержался он.
— Зря я не догадалась сделать это раньше, — повторила она угрюмо.
— А по-моему, ты придумываешь на пустом месте. — Родни замахал руками, явно входя в свою привычную роль. — Кэтрин, вспомни, совсем недавно, до приезда сюда, мы были абсолютно счастливы. Ты строила планы — как мы обустроим наше гнездышко, как купим чехлы на кресла, ты помнишь? — так каждая женщина поступает накануне свадьбы. А теперь ты зачем-то начинаешь все раскладывать по полочкам — ты так чувствуешь, я эдак — и все распадается. Поверь, Кэтрин, я сам такой, я через это прошел. Было время, я тоже себя спрашивал, тоже задавал бредовые вопросы, и чем кончилось? Ничем! Не обижайся, но я бы тебе сейчас посоветовал чем-то заняться, чтобы дурные мысли не лезли в голову. Меня, например, спасла поэзия — страшно подумать, что со мной было бы, не пиши я стихи. Скажу тебе по секрету, — сказал он с довольной ухмылкой, — я столько раз уходил от тебя взвинченный, что, пока не приду домой и не напишу одну-две страницы, не могу успокоиться, — ты так и стоишь перед глазами. Я не сочиняю — хочешь, спроси у Дэнема, мы с ним как-то однажды встретились, так он до сих пор помнит, какой я был невменяемый.
Кэтрин никак не ожидала услышать имя Ральфа и даже вздрогнула от неожиданности. Чтобы кто-то у нее за спиной полоскал ее имя? — от этой новости она чуть не привала в ярость, но вовремя одумалась: ей ли упрекать Уильяма в недостойном поведении по отношению к ней после того, как она сама обошлась с ним далеко не лучшим образом? Однако каков Дэнем! Она представила его в судейской мантии: верша суровое мужское правосудие над женской легкомысленностью, он скрупулезно перечисляет все отступления от идеала высоконравственного поведения, в которых повинны она и ее семейство, и под конец оглашает приговор, произнося его полуснисходи- тельным-полуязвительным тоном, и этот окончательный, не подлежащий пересмотру вердикт ставит на ней отныне и навсегда клеймо преступницы — по крайней мере, в его глазах. Она все еще находилась под впечатлением от их недавней встречи. Гордость ее была уязвлена — это очевидно, — и все же обиду ей пришлось проглотить.
Глядя на Кэтрин со стороны — та стояла, нахмурившись, не поднимая глаз, насупив брови, — Уильям догадался, какая буря бушевала у нее в душе. Его любовь к ней была неотделима от какой-то безотчетной тревоги, порой перераставшей в страх, и эта гремучая смесь, к его удивлению, лишь укрепляла в дни помолвки их взаимное чувство близости. За внешне ровным, безмя¬
186
Вирджиния Вулф. День и ночь
тежным настроением своей возлюбленной Родни угадывал натуру страстную, кипучую, представлявшуюся ему источником чего-то противоестественного либо же безрассудного, поскольку объектом той скрытой страсти, против ожиданий, не становился ни он, ни его поэтические достижения; поэтому он несколько опасался, как бы ненароком не разбудить в ней романтического зверя, предпочитая держаться здравого смысла, который, собственно, и был основой их взаимоотношений. Впрочем, ее страстность от этого не уменьшалась, и, понимая это, он заранее стелил себе соломку в виде надежды на будущее потомство.
«Из нее выйдет прекрасная мать — мать, воспитательница сыновей», — так он привык думать о Кэтрин, но сейчас, глядя на то, как она сидит, насупившись, и упорно молчит, он засомневался. «Она сказала “фарс”, — вспомнилась ему вдруг ее фраза, — “наш брак будет сплошным фарсом”, это ее слова», и тут у него словно открылись глаза: он увидел себя и Кэтрин со стороны — сидят у дороги на голой земле, среди прошлогодней листвы, — а если кто-то из знакомых увидит их, узнает?! Он поспешил надеть привычную маску, чтобы ничто не выдало его недавнего волнения, но вот Кэтрин его беспокоила: она сидела под дубом в состоянии полной отрешенности, и такая ее рассеянность выглядела, по его мнению, по меньшей мере странно. Родни вообще был щепетилен в вопросах светских манер, а уж в том, что касалось женщин, щепетильность его не знала границ, особенно в тех случаях, если женщины были его знакомыми. Он обеспокоенно оглядел Кэтрин: из прически у нее выбилась длинная темная прядь волос, а она не замечала, к платью прицепилось несколько сухих буковых листочков, а ей, казалось, было все равно. Как сидела, забывшись, так и не двинулась с места. Он догадывался, что она не просто молчит, а винит себя в случившемся. Но в ту минуту для него самым важным было не это обстоятельство, а такие мелочи, как прическа и сухие листья: он не понимал, как можно не думать о внешней стороне вещей. На самом же деле эти пустячные вещи отвлекали его самого от невеселых и тревожных мыслей, ведь чувство облегчения, притупившее боль, принесло с собой и бурю самых разных ощущений и переживаний, заглушив, хотя и не до конца, первое острое сокрушительное разочарование. Пытаясь справиться с сумбурными чувствами и поскорее положить конец этой сцене, которая им обоим не делала чести, он резко встал и подал руку Кэтрин, помогая ей подняться. Она улыбнулась одними уголками рта, благодаря его без слов за заботу, — он так аккуратно смахивал листочки бука с ее платья, так тщательно отряхивал свое пальто, что у нее сжалось сердце при мысли о том, на какое одиночество она обрекает человека.
— Уильям, — позвала она, — мы поженимся, я постараюсь сделать все, чтобы ты был счастлив.
Глава 19
187
Глава 19
Тем временем два других путника, Мэри с Ральфом, только к вечеру, когда уже стемнело, выбрались из города на проселочный тракт. Они оба, не сговариваясь, решили, что пойдут обратно домой не полем, а дорогой, и первые полчаса пути больше молчали. Сначала Ральф мысленным взором провожал карету Отуэев, представляя себе, как та едет вдоль вересковой пустоши, пока не скроется из виду; потом стал вспоминать в мельчайших подробностях их с Кэтрин пяти- или десятиминутный разговор, подолгу задерживаясь на каждом слове, подобно тому как ученый-текстолог, изучающий старинную рукопись, дотошно взвешивает все случаи отклонения от языковой нормы. Он твердо сказал себе, что будет держаться фактов и только фактов, и не позволит сбить себя с толку романтической ауре этой встречи. Его спутница тоже молчала, но совсем по другой причине: в голове и на душе у Мэри было совершенно пусто. Она знала, что держит себя в руках только благодаря присутствию Ральфа и что наступит время, когда она будет выть от боли и одиночества. Но пока она старалась во что бы то ни стало сохранить лицо, точнее, то самоуважение, которого, как она полагала, она едва не лишилась в то мгновение, когда нечаянно проговорилась Ральфу о своей любви. Если подходить к случившемуся с точки зрения здравого смысла, то, по большому счету, расстраиваться было не из-за чего, однако она всегда очень ревностно оберегала свое общественное реноме, которое, как тень, сопровождает человека, каждый его шаг и которое, казалось ей, пострадало в минуту ее неожиданного признания. Так что сгущающиеся сумерки ее обрадовали, она представила, как придет сюда одна, посидеть в укромном местечке, под деревом. Сквозь темноту она уже заприметила и валун и дерево и вдруг услышала, как Ральф сказал (от неожиданности она даже вздрогнула):
— Я что хотел сказать за обедом, когда нам помешали, — если ты соберешься в Америку, я поеду с тобой. Не все равно где пахать, чтоб заработать себе на жизнь? Ну да речь не об этом. Мэри, я хочу на тебе жениться — вот в чем дело. Ну, что скажешь?
Он говорил, определенно рассчитывая на ответ, и в какой-то момент взял Мэри под руку.
— Ты меня хорошо знаешь, и с хорошей, и с плохой стороны, — продолжал он. — Знаешь, какой я по характеру, я старался никогда не скрывать от тебя мои недостатки. Ну так как, Мэри?
Она ничего не ответила, но это его не смутило.
— Мы ведь во многом — как ты любишь говорить, в главном, — заодно, мы — единомышленники. Я знаю, ты единственный человек во всем мире,
188
Вирджиния Вулф. День и ночь
с кем я буду счастлив. А ты, Мэри? Ты так же ко мне относишься? Если да, значит, мы будем счастливы вместе.
Он замолчал, словно не сомневался в ее ответе, а сам, казалось, мыслями был где-то далеко.
— Не выйдет у меня, боюсь, — наконец проронила Мэри.
Ральф всего ожидал, только не этого, к тому же говорила Мэри ском- канно, как-то бесцветно. От растерянности он машинально отпустил ее руку, и она потихоньку ее убрала.
— Ты отказываешься? — переспросил он.
— Да, я не пойду за тебя, — ответила она.
— Я тебе разонравился?
Она промолчала.
— Ну и ну, Мэри, — заключил он с каким-то странным смешком, — а я-то надеялся, идиот самовлюбленный...
Минуту-другую они шли молча, потом он не выдержал и воскликнул, повернувшись к ней лицом:
— Я тебе не верю! Ты говоришь неправду!
— Извини, Ральф, я устала от споров, — сказала она, отворачиваясь. — Придется поверить. Я не пойду за тебя замуж. Не хочу.
Она сказала это так, как может говорить только вконец измученный человек, у которого изболелась душа, и Ральфу ничего другого не оставалось, как проглотить ее отказ. И очень скоро он сам не заметил, как поверил ее словам, поверил в то, что она искренне отказывается от его предложения, поскольку он никогда не обольщался на собственный счет. Этого соображения оказалось достаточно, чтобы посеять в нем горечь, тоску, разочарование и, наконец, вогнать его в полное уныние. Вся его жизнь полетела под откос: сначала он потерпел фиаско с Кэтрин, а теперь и с Мэри. Стоило ему только подумать о Кэтрин, как в душе его с новой силой вспыхнуло чувство пьянящей свободы, но он подавил его: ничего хорошего из его знакомства с Кэтрин не вышло, он выдумал их отношения, подменил их грезами. И, сказав себе, что в мечтах вообще мало проку, начал винить во всех бедах свои мечты.
«Зачем было мечтать о Кэтрин, когда мы были вместе с Мэри? Какой я идиот, что не любил Мэри по-настоящему. А ведь одно время я был ей небезразличен, клянусь, но я, видимо, так донимал ее своими попреками, что ей стало тошно, и она теперь не хочет связывать со мной свою жизнь. Дурак я дурак — ничего у меня не вышло в жизни, ничегошеньки».
«Ни-че-го, ни-че-го-шеньки», — казалось, отбивали по дороге каблуки, вторя его мыслям. То, что Ральф замолчал, Мэри приняла за знак того, что тема исчерпана, а его унылый вид она объяснила тем, что он встретил Кэт¬
Глава 19
189
рин и снова ее потерял, — она осталась с Уильямом Родни. Винить Ральфа в том, что он любит Кэтрин, у нее и в мыслях не было, но у нее не укладывалось в голове, как можно, любя одну женщину, предлагать другой руку и сердце: для нее это был нож в спину. Их давняя дружба с Ральфом, строившаяся, как ей всегда казалось, на обоюдной кристальной честности, вмиг дала трещину, и все ее прошлое предстало в абсолютно дурацком свете, а сама она показалась себе слабой и доверчивой, Ральф же, наоборот, оказался волком в овечьей шкуре. Прощай, прошлое! Раньше ей казалось, что вся ее жизнь связана с Ральфом, а теперь прошлое предстало совсем в ином свете — нечто чужое и фальшивое. Она вспоминала и все никак не могла вспомнить, что же такое она приготовилась сказать в конце обеда, когда Ральф расплачивался с официантом. Перед глазами почему-то стоял Ральф со счетом, а слова не давались, ускользали. Что-то о правде — о том, что видеть правду — это наш главный шанс на спасение в этом мире.
— Хорошо, положим, ты отказываешься выйти за меня замуж, — издалека снова начал Ральф, — но это же не повод нам перестать видеться? Или ты думаешь иначе? Думаешь, нам надо на какое-то время расстаться?
— Расстаться? Не знаю, не думала.
— Мэри, — помолчав, продолжал он, — хотел тебя спросить... Скажи, я тебя чем-то обидел?
Он сказал это так проникновенно и с такой грустью в голосе, что ей страшно захотелось вернуть их взаимное доверие, признавшись ему в том, что она его любит, открыв ему свои сомнения. Было ясно, что долго она не сможет на него сердиться и скоро сменит гнев на милость, и все же она подавила желание откликнуться на его вопрос, поскольку знала, что если бы он ее любил, то не спрашивал бы. Ей было больно оттого, что он допытывается, а она не может ответить, и ей только оставалось ждать, когда она наконец останется одна. Будь на ее месте женщина более покладистая, то наверняка воспользовалась бы ситуацией и объяснилась бы, несмотря на все подводные камни, но для такой личности, как Мэри, одна только мысль о том, что ты должна перед кем-то оправдываться, казалась унижением. Какие бы у тебя в душе ни бушевали чувства, ты не должна закрывать глаза на правду. А Ральф не понимал, почему Мэри молчит. Он мучительно соображал, что он мог такое сказать или сделать, что обидело девушку; но он был слишком расстроен, чтобы думать последовательно, и все его мысли крутились вокруг главного доказательства его низости — он предложил ей выйти за него замуж из чисто эгоистических и трусливых побуждений.
— Знаю, не отвечай, — сказал он подавленно. — Причин предостаточно. Но, Мэри, неужели они перевешивают нашу дружбу? Хоть ее-то меня не лишай, а?
190
Вирджиния Вулф. День и ночь
«Вот оно, — с упавшим сердцем подумала она про себя, боясь, что ее чувство самоуважения не выдержит и она потеряет контроль над собой, — вот до чего дошло! А ведь я готова была на все ради него!»
— Нет, отчего же, мы останемся друзьями, — ответила она, держась из последних сил.
— Мне нужна твоя дружба, — сказал он и добавил: — Если ты не против, позволь мне иногда с тобой видеться. Чем чаще, тем лучше, я не смогу без твоей помощи.
Она согласилась, и больше они этой темы не касались: шли, беседовали, будто ничего не произошло, однако было ясно, что их обоих тяготит неловкая ситуация.
Лишь один раз в тот вечер они вернулись к вопросу взаимоотношений, это случилось уже за полночь, когда Элизабет пошла к себе, а братья Мэри отправились спать, валясь с ног от усталости после охоты.
В камине догорали поленья, и Мэри, решив, что не имеет смысла в поздний час подкладывать новые, придвинула кресло поближе к огню. Ральф читал книжку, но Мэри заметила, что взгляд его не скользит по строчкам, как бывает, когда человек читает, а с угрюмой неподвижностью упирается в одну точку, и ей стало не по себе. Не то чтобы ее воля дрогнула — нет, наоборот, она только укрепилась в своем решении: прислушавшись к себе, она с горечью осознала, что это не он, а она сама только и ждет, чтобы дать слабину. Но в любом случае мучиться ему негоже, а ее молчание, похоже, усугубляет его муку, поэтому, превозмогая собственную душевную боль, она сказала:
— Ты спрашиваешь, Ральф, чем ты меня обидел... Есть одно обстоятельство. Видишь ли, когда ты предложил мне выйти за тебя замуж, по- моему, ты был неискренен. И я рассердилась — ненадолго. Ведь раньше ты никогда не лгал.
Книжка, которую Ральф держал на коленях, соскользнула на пол, он выпрямился, не вставая с места, приставил ладонь ко лбу и, уставившись в огонь, попытался вспомнить, в каких именно выражениях он сделал Мэри предложение.
— По-моему, я не говорил, что люблю тебя, — наконец проронил он.
От этих слов Мэри вздрогнула. И все же она была благодарна ему за
прямоту — в конце концов, слово правды, которую она полагала своим жизненным кредо, лучше, чем тонны лжи.
— Жениться без любви, по-моему, вообще не стоит, — заметила она.
— Ну что же, Мэри, твоя воля, — ответил он. — Замуж за меня ты не хочешь — вижу. Только твои слова о любви... знаешь, по-моему, все это чепуха. Что это значит — любовь? Поверь, ты мне дорога так, как ни одна женщина
Глава 19
191
не дорога девятерым мужчинам из десяти, которые на словах уверяют, что любят. Все это сказки, которые сочиняют про других, а насчет себя никто в них не верит. Хотелось бы, конечно, поверить, вот все и делают вид, что иллюзия существует, а сами стараются пореже видеться с молодоженами, не оставаться подолгу с ними наедине. Красивая сказочка, не более. Но если подумать о том, чем ты рискуешь, выходя замуж, то, по-моему, большего риска, чем выйти замуж за того, кого любишь, просто нет.
— А по-моему, ты говоришь чепуху и сам в это не веришь! — вспылила она. — Впрочем, что спорить, я просто хотела, чтоб ты понял.
Она привстала, собираясь идти, но не тут-то было — Ральф опередил ее: повинуясь инстинктивному желанию удержать ее, не дать ей уйти, он вскочил и забегал взад-вперед по пустой кухне, чувствуя, как его подмывает всякий раз, когда он оказывался рядом с входной дверью, взять и рвануть подальше, — насколько ему было стыдно, сказал бы, наверное, блюститель нравов, за причиненное Мэри страдание. На самом же деле все было иначе: он был взбешен, внутри у него все кипело от чувства бессильной ярости, поскольку он видел, что оказался заперт, как мальчишка. Жизнь по-глупому загнала его в ловушку. Он-то думал, что ему чинят искусственные препятствия, а оказалось, что преодолеть их он почему-то не может. И Мэри ничего не сделала, чтобы ему помочь: она только растравила его своими словами, даже тоном, которым говорила. Она с ними заодно — с этими сумасшедшими фокусниками, которые не хотят жить по разуму. Так бы взял и хватил стулом об пол или хлопнул дверью — вот какое интересное практическое решение созрело у него в голове.
— По-моему, самое трудное — это понять друг друга, — брякнул он, загородив ей путь и глядя ей прямо в лицо. — Конечно, мы все изолгались, вот нам и трудно. Но почему не попробовать? Не хочешь выходить за меня замуж, ладно, но к чему эта сентиментальность — вся эта чушь про любовь, про отъезд? По-твоему, я поступил дурно, — продолжал он, видя, что она молчит. — Да, так и есть — я поступил очень дурно, но нельзя же судить о человеке только по его поступкам! Нельзя же всю жизнь мерить одним аршином — это хорошо, а это плохо. А ведь ты так и делаешь, всю жизнь, даже сейчас, Мэри, разве нет?
Она представила, как сидит у себя в суфражистской конторе и стрижет всех под одну гребенку: тот прав, этот нет, — и ей показалось, что критика Ральфа не лишена справедливости, хотя и не может изменить в корне ее позицию.
— Я не сержусь на тебя, — сказала она, растягивая слова. — И я не изменю своего решения и буду с тобой видеться.
192
Вирджиния Вулф. День и ночь
Действительно, она ему пообещала, и было не очень понятно, чего же еще он от нее ждет — капельки тепла, поддержки в противоборстве с тенью Кэтрин? — он знал, что не вправе рассчитывать на ее помощь. Опустившись в кресло, глядя на догорающие угли в камине, он чувствовал, что потерпел фиаско — жизнь таки его обломала. Ему казалось, он отброшен на прежние позиции, надо все начинать сначала, вот только прежней безрассудной надежды больше нет — она осталась в прошлом, в юности. А уверенности в том, что он победит, у него больше не было.
Глава 20
К счастью для Мэри Дэчет, ее возвращение в контору совпало с каким- то хитрым ходом парламента, из-за которого у женщин в очередной раз увели прямо из-под носа право участия в выборах. Миссис Сил рвала и метала: она кляла двуличных министров, подлое человечество, заявляла о том, что это плевок в лицо всему женскому полу, что цивилизация отброшена назад, что дело всей ее жизни погибло, что как дочь своего отца она оскорблена в лучших чувствах — эти темы она пережевывала по многу раз, а пол в конторе был усеян газетными вырезками с огромными восклицательными знаками на полях, выведенными жирным синим карандашом, — цвет, видимо, был призван выразить, пускай двусмысленно, ее недовольство. Впрочем, она и не скрывала всю меру своего разочарования.
— Для них, — бушевала она, махнув рукой в сторону окна и указывая на пешеходов и омнибусы, двигавшиеся по противоположной стороне Рассел- сквер, — простейшая, элементарная справедливость как была недоступной, так и осталась. А мы с вами, Мэри, — первопроходцы, пионеры среди непаханой целины. Нам остается только терпеливо открывать людям глаза на правду. Они не виноваты, — с чувством сказала она, вдохновившись картиной за окном, — виноваты их руководители, эти господа, заседающие в парламенте и высасывающие из народа годовой доход в четыреста фунтов. Будь у нас возможность объяснить это людям, мы бы восстановили справедливость. Я верила и верю в народ, только вот...
Она покачала головой, словно говоря, что не прочь дать им еще один шанс, но, если они и его упустят, за последствия она не отвечает.
Мистер Клактон к произошедшему отнесся более философски, и он был лучше вооружен статистическими данными. Он зашел к ним в комнату после того, как отгремели последние залпы миссис Сил, и резонно заявил, подкрепив свои слова примерами из истории, о том, что подобные повороты вспять случались во время каждой хоть сколько-то примечательной политической кампании. И вообще, он, можно сказать, воспрянул после сокруши-
Глава 20
193
тельного поражения. Да, противник нанес ответный удар, сказал он, и теперь наша очередь перехитрить врага, иначе грош цена нашему Обществу1. По отдельным замечаниям, сделанным вскользь, Мэри поняла, что мистер Клактон по достоинству оценил хитрость противника и сейчас готовит контрудар, который, насколько она могла заключить, есть плод его единоличного разума. Плод этот она вскоре увидела в его кабинете, куда тот пригласил ее посовещаться с глазу на глаз: обновленная картотека, пачка новых листовок ядовито-желтого цвета с непривычной броской подачей известных фактов и огромная карта Англии, в соответствующем масштабе, вся утыканная булавочками с ниточками разных цветов, которые отражали разную территориальную принадлежность. Судя по новой системе обозначений, у каждого региона отныне был свой флажок, свой пузырек цветных чернил, свое досье в соответствующем разделе ящика, пронумерованное и сброшюрованное для удобства работы, и, таким образом, если тебе нужно было найти суфражистские организации в каком-то графстве, ты просто смотришь раздел на «М» или на «С», и вся информация моментально оказывается под рукой. Разумеется, создать такую систему было непросто.
— Мисс Дэчет, мы должны стать чем-то вроде телефонного коммутатора — если хотите, передатчика идей, — пояснил мистер Клактон, ему явно понравилось это сравнение, и он начал его развивать. — Понимаете, нам нужно научиться смотреть на себя как на мозговой центр внутри сложнейшей системы проводов, связывающих нас со всеми регионами большой страны. Мы должны постоянно держать руку на пульсе общественного настроения, нам необходимо знать, о чем думают наши соотечественники, мы должны помочь им сделать правильный выбор.
Понятное дело, система пока существует только на бумаге — собственно, черновик он набросал во время рождественских каникул.
— Вместо того, чтобы отдыхать, мистер Клактон, — участливо, хотя и без всякого энтузиазма, заметила Мэри.
— Мы давно обходимся без праздников, мисс Дэчет, — торжествующе парировал мистер Клактон.
Он стал расспрашивать ее, что она думает о листовке ядовито-желтого цвета. Он-то рассчитывал начать распространять ее незамедлительно в огромных количествах для того, чтобы стимулировать и генерировать, как он выразился, «генерировать и стимулировать в народе правильные мысли до того, как в парламенте начнутся дебаты».
— Мы просто обязаны застать противника врасплох, — пояснил он. — Пока они там еще не собрались с силами. Вы читали обращение Бингема к избирателям? Почитайте, там есть интересные вещи — мы с этим тоже столкнемся.
194
Вирджиния Вулф. День и ночь
С этими словами он вручил ей целый ворох газетных вырезок и, еще раз напомнив о том, что с нетерпением ждет, что она скажет о ядовито-желтой листовке, вновь ушел с головой в раскрашивание карты.
Мэри вернулась в свой кабинет, положила бумаги на стол и села, бессильно опустив голову на руки, — в голове было пусто. Она прислушалась к окружающим звукам, словно надеясь, что это поможет ей опять окунуться в рабочую обстановку: из соседней комнаты доносился сбивчивый стрекот печатной машинки, напоминавший пулеметную очередь, — это миссис Сил вовсю трудилась над тем, чтобы, как выразился мистер Клактон, посеять в народе правильные мысли; как он сказал, — «генерировать и стимулировать», так? Определенно ее напарница готовилась нанести противнику ответный удар, а тот собирался с силами, чтобы его не пропустить. Слова мистера Клактона буквально отпечатались у Мэри в голове. Усталым движением она отодвинула документы в дальний угол, но это не помогло: она чувствовала, что в голове у нее что-то сместилось, — ближние предметы расплывались, точно не попадали в фокус. Нечто подобное с ней уже было: после той встречи с Ральфом в парке Линкольнз-инн-Филдз она все собрание занималась тем, что мечтала о воробьях да разноцветных листьях, и опомнилась только к концу заседания. И то, подумала она, презирая себя за слабость, о своих хваленых принципах она вспомнила только для того, чтобы противопоставить что-то Ральфу. По большому счету никакие это не убеждения. Она же не верит в то, что мир разделен на две половины — на людей хороших и людей дурных, и себе она тоже в душе не верит — во всяком случае, не настолько, чтобы стремиться убедить в своей правоте всех жителей Британских островов. Она посмотрела на желтую листовку — надо же, саму ее почему-то совсем не греет мысль о создании подобных опусов, ей даже стало немного обидно, хотя, будь ее воля, она с радостью отдала бы публичную деятельность за кусочек личного счастья. Заявление мистера Клактона она прочитала со смешанным чувством: да, оно многословно, в нем много пафоса, и все же оно проникнуто верой, а если человек во что-то верит — пусть даже он заблуждается, — сам по себе факт достоин одобрения. Впрочем, они все заблуждаются: будто в первый раз Мэри оглядела новыми глазами конторскую мебель, технику, которой раньше так гордилась, и вдруг представила, что наступит время, и все эти печатно-множительные станки, картотеку, папки с подшитыми документами зачехлят и уберут на полку, где они будут пылиться, как музейный экспонат, — достойный, неотделимый, монолитный памятник эпохи. Одна конторская мебель чего стоила — неуклюжая, уродливая... Мэри совсем приуныла и тут вдруг обратила внимание, что треск печатной машинки в соседней комнате смолк. Она пулей метнулась к столу, взяла в руки нераспечатанное письмо и, сев за
Глава 20
195
стол, приняла невозмутимый вид, чтобы, не дай бог, миссис Сил не подумала чего-то плохого. Чувство приличия подсказывало ей, что миссис Сил не должна догадаться о ее состоянии. Прикрыв глаза ладонью, девушка незаметно наблюдала за тем, как ее напарница роется в ящиках, ища то ли конверт, то ли листовку. Мэри так и подмывало снять свою «дымовую завесу» и сказать: «Салли, сядьте, пожалуйста, и расскажите мне, как вам это удается, — крутитесь как белка в колесе и, главное, знаете, зачем, а по мне, ваша деятельность — пустая трата времени, так, возня навозного жука».
Но говорить она ничего не стала — наоборот, все время, пока миссис Сил возилась в комнате, Мэри делала вид, что очень занята, а на самом деле пыталась настроиться на рабочий лад, и так незаметно переделала все дела, запланированные на утро. Она сама удивилась, как ловко она управилась к обеду. Она решила отправиться на набережную и пообедать в каком-нибудь уютном кафе, чтобы воспрянуть не только духом, но и плотью — не менее важной частью своего организма. Когда все работает: и мозг, и тело, ты становишься неразличим в толпе, и никто ни за что не догадается, что на самом деле ты полое существо, лишенное главного — смысла существования.
Идя по Чэринг-Кросс-роуд, Мэри пыталась разобраться в себе, задавая вопросы: «Положим, тебя переехал омнибус и ты скончалась на месте, — удручает тебя такая вероятность? Нет, отнюдь, — отвечала она самой себе. — А если бы к тебе пристал мужчина неприятного вида, из тех, что ошиваются у входа в метро? — стало бы тебе страшно, почувствовала бы ты волнение? Нет, пожалуй. А страдание — любое страдание — вызывает у тебя дрожь? Нет, страдание само по себе ни плохо, ни хорошо. Ну а то, самое-самое?..» Она смотрела на прохожих, и у каждого в глазах ей мерещился огонек, точно искра какая проскакивала у них в мозгу при встрече с чем-то новым, увлекая их все дальше, вперед. Она видела, как загораются глаза у молодых женщин, когда они заглядываются на витрины шляпных магазинов; и тот же жадный взгляд она подмечала у стариков, копающихся в книжных развалах букинистических лавок в надежде купить книгу подешевле, а еще лучше — почти задаром. Одежда ее не интересовала, скидки тоже, а от книг она вообще с некоторых пор шарахалась как черт от ладана, ведь книги — это епархия Ральфа. И, чувствуя себя чужой в толпе, она решительно рассекала людской поток, и встречные пешеходы невольно расступались перед ней.
Когда идешь по запруженным улицам вот так, без цели, без определенного маршрута, — так бывает, когда слушаешь вполуха музыку, и в голове роятся разные образы, возникают силуэты, маячат решения, — когда такое случается, странные мысли приходят в голову. Сначала в душе Мэри взыграло чувство личной гордости, затем она задумалась, каким ей хотелось бы видеть общество, в которое она могла бы внести свой гражданский вклад.
196
Вирджиния Вулф. День и ночь
Ей казалось, еще немного — и образ нарисуется в ее воображении, а тот пропал так же неожиданно, как и появился. Жаль, у нее не оказалось под рукой карандаша и листка бумаги, — она бы, конечно, набросала привидевшуюся ей на Чэринг-Кросс-роуд картину. Правда, лучше об этом помалкивать, а то все забудется. А привиделась ей вся ее жизнь до самой смерти, и картина эта, пусть без деталей, в основных очертаниях, отвечала ее чувству гармонии. Теперь главное — не отвлекаться, не бросать мысль на полдороге, а упорно бить в одну точку, в такт уличному шуму и толчее, пока не дойдешь до самой сути бытия, до самой вершины, откуда тебе раз и навсегда откроется мир. Горе и боль как-то притупились, и ей казалось, она вся вытянулась в одну стремительную мысль, двигаясь быстрыми, резкими толчками, от одной точки к другой, шаг за шагом выстраивая свою линию жизни и повторяя про себя всего два слова: «Счастья нет, счастья нет».
Выдохнула же она их, когда, дойдя до набережной, села на скамейку напротив памятника одному из героев-соотечественников: слова эти для нее были равноценны редкому цветку или куску горной породы, которую альпинист приносит в доказательство покоренной им вершины, — он там был! И она дошла до вершины, и мир открылся ей до самого горизонта. Теперь она знает, как ей надо изменить свою жизнь, — решение найдено. Ее судьба — стать одним из тех неприступных общественных деятелей, чья одинокая стезя, естественно, отпугивает людей счастливых. И она не без злорадства принялась обдумывать во всех подробностях свой новый жизненный план.
«Пора подумать и о Ральфе», — сказала она себе, вставая со скамьи.
Итак, какое место ему определить? В раже жизнестроительства ей казалось, нет ничего проще, чем с ходу решить этот вопрос. Однако не тут-то было: к ее удивлению, стоило ей только допустить мысль о Ральфе, как чувства вспыхнули в ней с новой силой: она то представляла, что они с ним одно целое и его мысли — это ее мысли, то резко отделяла себя от него, проклиная за то, что он обошелся с ней жестоко.
— Но что ж это я, опять злюсь? Ведь я же зареклась, — сказала она вслух, перешла на другую сторону и спустя десять минут уже сидела за столиком в кафе на Стрэнде, ничем не выделяясь среди обедающих, разве только решительностью, с какой разрезала на мелкие кусочки жаркое. К этому времени от ее монолога осталось несколько фраз, — они периодически всплывали в ее разгоряченном воображении, особенно посреди какого-нибудь действия: когда она, положим, расплачивалась с официантом или заворачивала за угол. Если представить, что кто-то идет с ней рядом и прислушивается, то он, наверное, сумел бы разобрать в потоке невнятицы, которую она бормотала, остановившись перед памятником Фрэнсису, герцогу Бедфорда2, две фразы: «познать истину» и «не ожесточиться сердцем»3,
Глава 20
197
а еще он наверняка обратил бы внимание на имя Ральфа — оно проскакивало в каких-то нелепых сочетаниях, словно, обронив его невзначай, она тут же принималась «вымарывать» его, вбрасывая какое-то другое слово, отчего вся фраза теряла всякий смысл.
В конторе она появилась на полчаса позже, чем обычно, и это нарушение не осталось не замеченным ее сослуживцами, мистером Клактоном и миссис Сил, этими поборниками прав женщин, — но и только. К счастью, они были слишком заняты, им было не до нее, а реши они подловить ее, проверить, чем она занимается, то обнаружили бы, что она глаз не может оторвать от фасада гостиницы на противоположной стороне площади — там будто медом намазано; возьмет ручку, напишет несколько слов, потом отложит, а у самой мысли витают где-то далеко-далеко, среди слепящих на закате окон и клочков сиреневого дыма. Теперь, когда на ее личных желаниях был поставлен крест, она видела гораздо дальше, смотрела поверх барьеров сиюминутной борьбы, разделяла чаяния и страдания всего человечества. Было бы неверным сказать, что самоотречение далось ей легко, это не так, рана еще не затянулась, разрыв был еще свеж в памяти. Но одно обстоятельство примиряло ее с жизнью — оказывается, отринув все, что есть в жизни счастливого, беззаботного, великолепного, сокровенного, ты остаешься один на один с суровой реальностью, а ей — далекой, как негасимые звезды, — никакие твои личные амбиции нипочем: такое открытие дорогого стоит.
Тем временем миссис Сил, которая и знать не знала о том, какие вселенские потрясения творятся в душе у Мэри Дэчет, вспомнила наконец о своем ежевечернем долге по отношению к чайнику и керосинке. Ее, конечно, слегка удивило то, что Мэри уселась у окна, и она внимательно посмотрела на свою коллегу, но не раньше, чем, склонившись в три погибели, зажгла конфорку под чайником. Похоже, она чем-то расстроена, — вот самое первое объяснение, которое пришло в голову миссис Сил. Однако Мэри, которой, надо сказать, стоило немалых усилий оторваться от окна, отмела все ее подозрения.
— Просто расслабилась после обеда, вот и все, — заметила она, оглядев свой письменный стол. — А вы, Салли, наверное, уже решили, что вам нужно искать другого секретаря?
Это была, конечно, шутка, но и ее хватило, чтобы разбередить опасения, уже давно дремавшие в груди миссис Сил: она боялась, что в один прекрасный день эта молодая женщина, которая олицетворяла многое из ее собственных довольно-таки сентиментальных прогрессистских идей и которую она почему-то всегда представляла себе невестой с букетом лилий в руке, — возьмет и объявит весело, что выходит замуж.
— А вы что, собрались от нас уходить? — спросила она Мэри.
198
Вирджиния Вулф. День и ночь
— Никуда я пока не собралась, — ответила та уклончиво.
Миссис Сил открыла шкафчик с посудой.
— Уж не замуж ли? — спросила она, шумно ставя на стол одну за другой чашки.
— Да что с вами сегодня, Салли? — спросила Мэри дрогнувшим голосом. — Что, если женщина, то непременно замуж?
Миссис Сил чуть не поперхнулась: только на одну секунду она допустила мысль о жуткой стороне существования, связанной с чувствами, с личной жизнью женщин и мужчин, и тут же, испугавшись этой мысли, прогнала ее прочь, в кусты своей стыдливо прячущейся девственности. Вообще разговор принял настолько щекотливый характер, что она сделала вид, будто замешкалась, стала шарить в буфете и чуть не влезла в него вся, ища одной ей ведомую деталь сервиза.
Наконец она выбралась наружу, красная как помидор, и, победно плюхнув на стол вазочку под варенье, объявила:
— У кого что, а у нас работа!
Дальше, как водится, должна была последовать исполненная пафоса, хоть и не очень связная речь о свободе, о демократии, правах человека, о несправедливой политике правительства, но что-то помешало Салли. То ли о прошлом взгрустнула, то ли подумала о женской доле, только почему-то она замолчала и как-то притихла, посмотрела на Мэри украдкой — та сидит у окна, облокотившись о подоконник, и такая в этой женщине чувствуется молодость и сила! Салли стушевалась и стала расставлять чашки по блюдечкам.
— Да, у нас работа... хватит на всю оставшуюся жизнь, — рассеянно отозвалась Мэри.
От этих слов миссис Сил буквально просияла. Пусть ей не хватало научных знаний, умения логически мыслить, но едва ей представилась возможность продемонстрировать привлекательные стороны главного дела своей жизни, она постаралась не ударить лицом в грязь. Она разразилась целой тирадой, сыпала риторическими вопросами, а для вящей убедительности пристукивала кулаком по столу.
— На всю оставшуюся жизнь, говорите? Берите шире, милая! Да этой работы хватит на десятки, на сотни жизней! Потеряли бойца, а на его место уже встает другой. В свое время мой отец, первопроходец, за ним я, маленький оловянный солдатик. А как же иначе? Теперь вот вы, молодые женщины, ваше поколение, — мы на вас равняемся, за вами будущее! А, милочка, будь у меня тысяча жизней, я бы, не задумываясь, отдала их все ради нашего дела. Ради женщин, говорите? Шире берите — ради всего человечества! А ведь есть и такие, — при этих словах она грозно посмотрела в окно, —
Глава 20
199
которые не хотят этого понимать! Живут себе припеваючи и знать не хотят о правде жизни. Но мы-то не слепые, — что, чайник закипел? Нет-нет, не выключайте, я сама... Так вот, мы же не слепые, — продолжала она, наливая кипяток в заварочный чайник. Из-за манипуляций с чайником она потеряла нить разговора и брякнула с досады: — Ведь это так просто! — Этими словами она выражала свое отношение к тому, чему никак не переставала удивляться, — к поразительной неспособности людей отличить добро от зла, хотя они вроде и живут в мире, где добро невозможно спутать со злом, и их неумению восстановить справедливость с помощью нескольких масштабных простых законодательных актов, принятие которых парламентом могло бы в кратчайший срок совершенно изменить судьбу человечества.
— Казалось бы, — рассуждала она, — уж кто-кто, а люди с университетским образованием, такие как мистер Асквит4, не могут не прислушаться к голосу разума. Впрочем, — добавила она задумчиво, — что есть разум без реальности?
Она еще раз повторила последнюю фразу в расчете на то, что окружающие услышат ее и оценят по достоинству, — так и получилось: выходивший из своего кабинета мистер Клактон подхватил слова миссис Сил и произнес их, как всегда, по-своему — суховато и с иронией. Впрочем, в ту минуту он пребывал в прекрасном расположении духа, а потому счел возможным польстить миссис Сил, сказав, что так и видит эти слова напечатанными аршинными буквами вверху листовки.
— Но, разумеется, миссис Сил, мы должны стремиться к сбалансированному сочетанию разума и реальности, — добавил он начальственным тоном, гася неумеренный пыл своих слушательниц. — Прежде чем реальность проявится, выразить ее может только разум. Слабое звено во всех начинаниях, мисс Дэчет, — продолжал он, занимая свое место за столом и поворачиваясь к Мэри, как он делал всегда, когда собирался выступить с каким-то громким заявлением, — это отсутствие интеллектуальной базы. А это, по-моему, большая ошибка. Британская публика любит, чтоб все было со смыслом, — ее хлебом не корми — дай ей крупицу здравого смысла, изюминку, так сказать, — подытожил он, придавая фразе нужную толику красноречия.
И он выразительно, не без авторской гордости, посмотрел на желтую листовку, которую держала в руках Мэри. А та, как ни в чем не бывало, поднялась, уселась во главе стола, налила коллегам чай и стала говорить, что она думает по поводу этого опуса. Собственно, так и раньше бывало: сколько раз Мэри точно так же садилась к столу, разливала чай и начинала ловить блох в очередной листовке мистера Клактона. Но сегодня все происходило иначе (а может быть, ей это только показалось?): это раньше она была волонтером, а теперь она на боевом посту. Прошло то время, когда она — как
200
Вирджиния Вулф. День и ночь
бы это поточнее выразиться? — искала свою дорожку в жизни; теперь все, поиск закончился, на исканиях поставлен крест. Раньше она смотрела на сослуживцев издалека, словно между ними — непроходимая пропасть, и думала : никогда-то эти люди от жизни ничего не требовали, да и не жили они вовсе, — разве это люди? — так, тени, чудаки, недочеловеки, нет в них жизненного стержня. А сегодня поняла: у нее с ними одна судьба, и впервые все встало на свои места. Будь на ее месте другой, менее цельный человек, он, наверное, решил бы, увидев, что былые радужные надежды канули в Лету, — мол, ничего, жизнь полосатая, подожду, еще наступит в моей жизни светлая пора. Мэри же на этот счет не обольщалась: раз счастье упорхнуло, то и нечего обманываться, думая, что все еще в жизни возможно; что бы ни случилось, в иллюзии она больше верить не собиралась. В тот вечер она до боли ясно формулировала свои мысли, и, к тайной радости миссис Сил, все сидящие за столом забыли про незыблемое правило не говорить о делах за чаем. Мэри схлестнулась с мистером Клактоном всерьез, по-настоящему, и старушка нутром чувствовала (только сказать не могла), что присутствует при каком-то очень важном событии. Она пришла в сильнейшее волнение — все крестики на груди перепутались, — а она только знай все глубже вгоняла карандаш в маленькую ямку, которую просверлила в столе, в знак самых важных поворотов дискуссии... Никакой кабинет министров, повторяла она про себя, не устоял бы перед натиском такой аргументации.
Ей давно уже пора было вернуться к печатной машинке — ее личному орудию возмездия, но она все оттягивала момент. И только когда зазвонил телефон, она вскочила из-за стола и побежала отвечать на звонок, который всегда казался чем-то важным, но даже в эту минуту ее не покидало чувство, что она находится в той самой точке мира, которая подключена невидимыми проводами к мировому разуму и прогрессу. Звонили из типографии. Тем временем Мэри собралась уходить — во всяком случае, когда миссис Сил вернулась в комнату, та стояла уже одетая, надвинув на лоб шляпу, излучая твердость и решительность.
— Смотрите, Салли, — сказала она, — вот с этих писем надо снять копии, эти надо прочитать — я с ними еще не работала. Разберитесь с вопросом о новой переписи, это важно. Я — домой. Мистер Клактон, до свидания. До завтра, Салли!
Когда за Мэри захлопнулась дверь, миссис Сил, сидя перед горой документов, заметила:
— По-моему, нам очень повезло с секретарем, правда, мистер Клактон?
Тот действительно находился под впечатлением от разговора с Мэри —
чем-то она его поразила. Он даже стал подумывать о том, что если так дальше пойдет, то ему придется указать ей на ее место — пусть знает, кто в доме
Глава 21
201
хозяин; но что правда, то правда — она способная, весьма способная молодая женщина, да и друзья у нее, видать, с головой. Наверняка это они подбросили ей парочку новых идей.
Он кивнул в ответ, соглашаясь с миссис Сил, но не преминул заметить, бросив взгляд на часы, которые показывали только половину шестого:
— Все бы ничего, миссис Сил, только не мешало бы некоторым из этих ваших юных умниц проявлять побольше дисциплины.
Сказал — и пошел к себе, а миссис Сил, после некоторых колебаний, засела за работу.
Глава 21
Мэри пошла на ближайшую станцию метро и буквально через десять минут была дома — ей только-только хватило времени, пока ехала в поезде, пробежать глазами вечерние новости в изложении «Вестминстер газет»1. Не успев войти в дом, она сразу принялась за дело: отперла ящик письменного стола и извлекла оттуда рукопись — несколько страничек: сверху было выведено размашистым почерком: «О некоторых аспектах демократического государства». Аспекты налезали один на другой, продирались сквозь частокол вымаранных строчек, недописанных фраз, и создавалось впечатление, что автору то ли помешали, то ли он сам, оторвав ручку от бумаги, задумался о бессмысленности своего труда... Точно, точно, вспомнила Мэри: тогда еще к ней пришел Ральф! Она тщательно переписала последнюю страницу и не в пример смелее, чем делала раньше, начала с чистого листа, с общих положений о структуре общества. Ральф ей как-то сказал, что она не умеет писать, раз все время что-то вставляет, зачеркивает, но сейчас она об этом не думала — выбросила его слова из головы и писала как бог на душу положит, используя первое подвернувшееся выражение, и таким манером исписала полстраницы общих положений и решила, что можно и отдохнуть. Только отложила ручку, как сразу потеряла мысль, прислушиваясь к разным звукам за окном: вот закричал разносчик газет, вот охнул омнибус, подъехав к остановке, потом опять вздохнул, взвалив на плечи очередную порцию пассажиров. Звуки казались ватными, они словно тонули в вечернем тумане, если и вправду туман обладает способностью приглушать звуки, впрочем, она точно не знает. Это Ральфа Дэнема надо спрашивать. Ее это не касается в любом случае, и она уже было снова собралась обмакнуть ручку в чернила, как вдруг услышала шаги на лестнице. Судя по звуку шагов, это точно не к мистеру Чиппену, и не к мистеру Гибсону, и не к мистеру Тёрнеру — значит, это к ней! Но кто это? Почтальон? Прачка? Рекламный агент? Счет об оплате? На самом деле, это мог быть кто угодно, но, к ее
202
Вирджиния Вулф. День и ночь
удивлению, сердце подсказывало ей, что это не так, не кто угодно, что здесь кроется что-то другое. Теперь шаги раздавались реже — лестница пошла круче, — Мэри напряженно вслушивалась в каждый шаг, и вдруг ее охватила паника. Сжав руки, облокотившись о стол, она чувствовала, как сердце готово выскочить из груди, для разумной женщины расшалившиеся нервы — это грех. В голову лезли всякие глупости: она одна, верхний этаж, кто- то подкрадывается сзади — куда бежать? Некуда! Вон там на потолке, в углу косая отметина — это люк наверх? Знать бы точно, тогда можно было бы выбраться на крышу, правда, как оттуда прыгать? — тут ведь, наверное, футов шестьдесят будет, не меньше.
Она сидела, затаив дыхание, не шелохнувшись, а когда в дверь постучали, разом поднялась и отперла, не спрашивая. В дверях стоял кто-то высокий, темного вида.
— Что вам угодно? — спросила Мэри, всматриваясь в сумрак лестничного пролета.
— Мэри, да это же я, Кэтрин Хилбери!
От этих слов у Мэри точно камень с души свалился, и она, устыдившись того, как запаниковала, подчеркнуто холодно поздоровалась с гостьей, переставила лампу с зеленым абажуром на обеденный стол и прикрыла промокашкой недописанную страницу «Некоторых аспектов демократического государства».
«И чего им всем от меня нужно?» — подумала она с досадой, будто весь мир во главе с Кэтрин и Ральфом сговорился лишить ее всего, даже этой ничтожной возможности укрыться у себя дома и провести вечер в одиночестве. Она провела ладонью по промокашке, разглаживая страницы рукописи и чувствуя, как внутри у нее все восстает против Кэтрин, — первый раз в ее присутствии она ощутила не силу личности, а исходящую от нее угрозу.
— Вы заняты? — спросила Кэтрин, догадываясь, что помешала.
— Да нет, не особенно, — ответила Мэри, подвигая к камину стулья поновее и шевеля угли.
— Надо же, прийти домой и снова за работу, — заметила Кэтрин таким тоном, будто мыслями витала где-то далеко.
Собственно, так оно и было. Дело в том, что в тот вечер они вдвоем с матушкой делали визиты, а в промежутках миссис Хилбери забегала то в один, то в другой магазин и покупала всякую всячину, которая могла пригодиться Кэтрин по хозяйству, — наволочки, тетрадки с промокашками... От этой суеты у Кэтрин голова пошла кругом, и она ушла, сославшись на то, что Родни пригласил ее сегодня вечером отобедать вместе с ним у него дома. Но до семи еще было далеко, появляться у Родни раньше намеченного часа ей не хотелось, и она решила пройтись пешком от Бонд-стрит до Темпла.
Глава 21
203
Она шла, и с обеих сторон ее обтекал людской поток, от мельтешенья лиц она быстро приуныла, а перспектива предстоящего обеда наедине с Родни настроения не повышала. Нет, они вовсе не поссорились, наоборот, стали еще более преданными друзьями, дружба их только окрепла, во всяком случае, Кэтрин верила, что так оно и есть. В тот памятный день ей многое открылось в Родни такого, о чем она раньше не подозревала: какой он сильный, нежный, заботливый. Она шла и размышляла о них двоих, а навстречу ей двигалась толпа, она смотрела на прохожих и думала, что все они на одно лицо, все чужие, все толстокожие, и она такая же, ничего не чувствует, и вообще нет более далеких людей, чем самые близкие, и их с Родни доверительные отношения — это все ложь. «Ибо, Господи, — подумала она, взглядывая на витрину табачной лавки, — мне ни до кого нет дела, и до Уильяма тоже, а все говорят, что это самое главное — чувствовать сердечную привязанность, и мне это непонятно».
Она смотрела потерянно на трубки с гладкими чашечками и не знала, какой дорогой лучше пойти — по Стрэнду или вдоль набережной? Вопрос непростой, речь ведь не о разных улицах, а о разных состояниях души. Пойти по Стрэнду — значит, будешь невольно думать о будущем или о какой-то математической формуле, а если по набережной — обязательно ударишься в мечты про лес, про берег океана, про зеленые пустоши, про настоящего героя... Нет, нет и нет! Тысячу раз нет! Так не годится, сегодня ей тошно об этом думать, нужно встряхнуться, она не в том настроении. И тут она вспомнила про Мэри, приободрилась и, хотя на душе по-прежнему кошки скребли, воспрянула духом при мысли о том, что кому-то удалось-таки преодолеть все тернии (это она про Мэри с Ральфом), а значит, ей нечего пенять на жизнь — сама виновата в своих неудачах. Она знала, что всегда может положиться на Мэри, один вид этой девушки внушал доверие, и Кэтрин подумала, что было бы неплохо с ней увидеться, поговорить по душам, тем более что симпатия, скорее всего, взаимная. Поколебавшись — Кэтрин редко совершала необдуманные поступки, — она все-таки решилась один раз сделать исключение и, нырнув в ближайший переулок, быстро отыскала нужный дом. Однако, против ожиданий, встретили ее холодно: Мэри была явно не расположена к задушевным беседам, и у той моментально пропало всякое желание секретничать; она даже усмехнулась про себя — это надо же было так заблуждаться! — тут же напустила на себя рассеянный вид и, помахивая туда-сюда перчатками, только и ждала удобной минуты, чтобы по-светски попрощаться и скрыться.
Воспитанному человеку не составляет труда найти предлог, чтобы тихонько ретироваться: спросить между прочим, как обстоят дела с законопроектом об избирательном праве женщин или самой высказаться по этому
204
Вирджиния Вулф. День и ночь
поводу. И все бы ничего, если бы Мэри не почувствовала себя задетой — и чем дальше, тем больше. Все в манере гостьи ее раздражало: и то, каким тоном она говорит, и то, как холодно рассуждает, и то, как небрежно помахивает перчатками, и, словно в отместку, Мэри только делалась еще более колючей и неуступчивой. Ей захотелось сбить Кэтрин с ее снисходительного тона, доказать ей, что деятельность, о которой она рассуждает отстраненно и свысока, как будто и она тоже, подобно Мэри, чем-то в своей жизни пожертвовала, на самом деле не заслуживает такого отношения. Положенные десять минут прошли, Кэтрин надела перчатки, собираясь уходить, но Мэри, от внимания которой не ускользнуло ни одно движение гостьи — в этот вечер она с особой остротой подмечала любые мелочи, — страшно захотелось задержать Кэтрин, не дать ей уйти вот так — непринужденно помахивая перчаткой, чтобы слиться с миром таких же, как она, свободных, беззаботных счастливчиков. Нет, она должна понять, ощутить на себе.
— Я не понимаю, — запальчиво объявила Мэри, словно отвечая на вызов, брошенный Кэтрин, — как можно знать о положении дел и продолжать делать вид, будто ничего не происходит.
— Вы правы. Только не происходит что?
В ответ Мэри только усмехнулась — вот Кэтрин и попалась, увяз коготок, теперь она покажет таким, как она, — домоседам, дилетантам, посторонним, привыкшим косо, с улыбочкой посматривать на жизнь, — она покажет Кэтрин, что происходит, возьмет и обрушит ей на голову целые горы вопиющих доказательств того, в каком бедственном положении находится общество! Но почему-то не стала... Как всегда в разговоре с Кэтрин, она поймала себя на мысли, что ее отношение к ней лихорадочно меняется, как калейдоскоп, и чувства пытаются пробить, точно градом стрел, броню твоей личной обороны, которая, кажется, так надежно прикрывает нас от вторжения наших ближних. Да, Кэтрин — поразительная эгоистка, ее ничем не проймешь! И при этом она словно излучает свет и дух несуетности, всем своим обликом выражая глубокие, живые чувства, согревающие какой-то особенной теплотой и голос ее, и черты лица, и настроение, и поступки. Перед такой броней бессильна риторика мистера Клактона.
— Что толку говорить, вы все равно выходите замуж, — чуть снисходительно и без всякой видимой связи заметила Мэри. Не станет же она за пять минут просвещать Кэтрин в том, что сама с такими мучениями выстрадала. Нет, ни за что. Пусть Кэтрин будет счастлива, пусть она ни о чем не догадывается, это ей, Мэри, суждено прожить без любви. У нее снова защемило сердце при мысли о том, как сегодня утром она отреклась от личного счастья во имя более возвышенных целей, и она попыталась вернуть желанное состояние отрешенности. Надо быть начеку, нельзя распускаться, нельзя
Глава 21
205
давать волю чувствам, которые входят в противоречие с настроениями других людей. Она отругала себя за эту слабость.
А Кэтрин опять засобиралась: надевая перчатку, она поискала глазами, за что бы зацепиться, чтобы сказать любезность и выйти вон. Что-то симпатичное, домашнее — картину, часы, комод? — все что угодно, лишь бы поскорее закончить на дружеской ноте неприятную встречу. Тут она заметила в углу лампу с зеленым абажуром, уютно освещавшую лежавшие на столе книги, ручки, промокательную бумагу, и так ей понравилась эта вольготная обстановка, что она на секунду забыла о желании поскорее убежать и задумалась совсем о другом — вот бы ей такую комнату, как бы ей тогда хорошо жилось и работалось!
— Какая вы счастливая! — сказала она. — Я вам завидую: живете одна, никто не вмешивается, — а про себя добавила: «И помолвлены по-настоящему — без всякой суеты, шумихи, без обручального кольца».
Мэри своим ушам не поверила — чтобы Кэтрин ей в чем-то завидовала?! Быть такого не может! Хотя та говорила искренне.
— По-моему, вам нечего мне завидовать, — ответила она.
— Ну, знаете, человек всегда чем-то неудовлетворен, — уклончиво заметила Кэтрин.
— Да, но почему вы? У вас ведь все есть.
Кэтрин ничего не ответила — просто стояла и молча смотрела на догорающие угли, она не испытывала ни малейшей неловкости: Мэри снова была той, какую она знала, колючесть в голосе пропала, и Кэтрин забыла, что собралась уходить.
— Да, вы, пожалуй, правы, — помолчав, сказала она. — И все-таки я иногда думаю...
Она запнулась, не зная, как точнее сказать.
— Знаете, — она улыбнулась, — недавно ехала в метро, и у меня возникло странное ощущение. Почему люди едут в ту, а не в другую сторону? Что их заставляет? Любовь? — нет. Рассудок? — нет. По-моему, они так делают из- за какой-то идеи. Вот и наши привязанности, Мэри, они тоже призрак какой- то идеи, а сами по себе чувства ничего не значат...
Она говорила насмешливо — казалось, ее совершенно не волнует, что ей ответит и ответит ли вообще ее собеседница.
Но Мэри Дэчет не собиралась шутить, и слова Кэтрин, с первого до последнего, восприняла как пустые, банальные и циничные: услышав такое, она внутренне взбунтовалась.
— Знаете, я другого мнения, — сказала она.
— Да, знаю, — ответила Кэтрин и посмотрела Мэри в глаза, словно ожидала услышать от нее что-то очень важное для себя.
206
Вирджиния Вулф. День и ночь
Простота и доверчивость, с какой это было сказано, подкупили Мэри.
— По-моему, только чувства имеют значение, — отозвалась Мэри.
— Да, так и есть, — с печалью в голосе ответила Кэтрин. Она поняла, что Мэри имеет в виду Ральфа, и просить ее рассказать об их отношениях она просто не имеет права, достаточно того, что она убедилась: жизнь иногда складывается счастливо, — и слава богу! Она снова засобиралась. И тут неожиданно для нее Мэри запротестовала: мол, не надо уходить, мы так редко видимся, нам о многом нужно поговорить... И все это так горячо и искренне, что Кэтрин, слегка удивившись, решила-таки повернуть разговор на Ральфа.
Присев «на пять минут», она сказала:
— Кстати, мистер Дэнем рассказал мне о том, что собирается уйти из адвокатской конторы и поселиться в деревне. Он уже уехал? Он начал мне рассказывать о своих планах, но нам помешали.
— Он еще думает, — коротко ответила Мэри, и при этих словах краска залила ее лицо.
— По-моему, это правильный шаг, — как всегда, определенно сказала Кэтрин.
— Вы, правда, так думаете?
— Да, разумеется. Только так он сможет сделать что-то стоящее — например, напишет книгу. Я много раз слышала от отца, что из молодых авторов он самый талантливый.
Опустившись на корточки перед камином, Мэри просунула между прутьев решетки кочергу и пошевелила угли. У нее возникло почти неодолимое желание объяснить Кэтрин, когда та вспомнила о Ральфе, как в действительности складываются их отношения. Голос Кэтрин подсказывал ей, что о Ральфе она заговорила не потому, что хотела что-то вызнать или навести разговор на себя. Кэтрин ей нравилась, она испытывала к ней доверие, уважала ее. И сделать первый шаг навстречу оказалось довольно просто, но дальше, слушая Кэтрин, Мэри поняла, что это только начало, лед сломан, но откровенность требует большего: открыть Кэтрин глаза на то, о чем та и не догадывается, — что Ральф ее любит, — и сделать это может только она одна.
— Я не знаю, какие у него планы, — отозвалась Мэри, оттягивая разговор. — Мы с Рождества с ним не виделись.
Странно, подумала Кэтрин и решила, что ошиблась или не так поняла. Она давно сказала себе, что ей не хватает наблюдательности, душевной чуткости, что она до мозга костей практична, рассеянна, и вообще, ее стихия — это не чувства, а цифры, и вот оно, очередное тому доказательство. Во всяком случае, так ее ошибку объяснил бы Уильям Родни.
— Я, пожалуй, пойду, — сказала она, вставая.
Глава 21
207
— Не уходите! Прошу вас! — рванулась ей навстречу Мэри. Первым же безотчетным движением в ответ на желание Кэтрин уйти было стремление во что бы то ни стало удержать ее. Уйдет Кэтрин — и с ней уйдет надежда — ее, Мэри, надежда поговорить по душам, открыться, сказать самое главное. Всего два слова — и Кэтрин поймет, как это важно, поймет, что бежать или отмалчиваться бессмысленно. Слова вертелись на языке, но язык прилип к гортани. В конце концов, спрашивала она себя, зачем это нужно? А затем, что это по-человечески, отвечал ее внутренний голос, только так и должно поступать — открываться людям без всякой задней мысли. И все же она колебалась. Она уже и так отдала все — чего же больше? Дайте ей хоть что-то оставить для себя. Ну хорошо, положим, она что-то себе оставит, и что тогда? И она мгновенно представила, что будет: потянутся долгие годы, и будет жизнь, замурованная в четырех стенах, и будут тлеющие без всякой надежды на обновление или забвение чувства. При мысли об одиночестве, которое ее ждет, ей стало страшно, и все равно ей казалось, это выше ее сил — заговорить, разорвать круг одиночества, с которым она уже сжилась, сроднилась.
Пальцы нащупали край подола на юбке Кэтрин, и, поглаживая меховую оторочку, она опустила голову, точно хотела разглядеть ее поближе.
— Приятный мех, — сказала она тихо, не поднимая головы. — Вы вообще со вкусом одеваетесь — мне нравится. И, пожалуйста, не думайте, что я собираюсь замуж за Ральфа, — и дальше на одном дыхании, — я ему совсем не нравлюсь. Он влюблен не в меня.
Она сидела, опустив голову, машинально поглаживая мех.
— Старое платье... ему сто лет, — отозвалась Кэтрин, точно не слыша, о чем сказала Мэри, и только секундная запинка выдала ее волнение.
— Вы не сердитесь на меня? — спросила Мэри, поднимая голову.
— Нет, как можно! — сказала Кэтрин. — А вы не ошиблись?
По правде говоря, она не знала, куда деть глаза от чувства неловкости, растерянности и разочарования. События приняли оборот, с ее точки зрения, совершенно дикий. Она была оскорблена в своих лучших чувствах, этот сдавленный голос — она не могла поверить, что человека можно заставить так страдать! Она украдкой посмотрела на Мэри — может, та сама не понимает, о чем говорит, — но если она и надеялась ошибиться, то обманулась в своих надеждах: Мэри сидела, откинувшись на стуле, как-то вся сразу посуровев, и вид у нее был такой, будто за несколько минут она прожила четверть века.
— Ошибаться — в таких вещах? — ответила она вопросом на вопрос. — Странная это штука — любовь. Я всегда думала, что я самый разумный человек на свете, — продолжала она. — Мне и в голову не могло прийти, что со
208
Вирджиния Вулф. День и ночь
мной может такое случиться — что я полюблю человека, а он меня нет. Наивная! Чистой воды самообман.
Она помолчала.
— Понимаете, Кэтрин, — воодушевилась она, — я знаю, что люблю. Тут нет никакой ошибки... я люблю... люблю Ральфа.
И, тряхнув копной волос, не обращая внимания на выбившуюся из прически светлую прядь, она уселась гордо и независимо.
«Так вот оно как!» — подумала про себя Кэтрин. Она помолчала, не решаясь заговорить, потом все-таки сказала еле слышно:
— Вы — счастливая.
— Да, — ответила Мэри, — это счастье. Когда любишь... Но я не об этом, я просто хотела, чтобы вы знали. Я о другом собиралась вам сказать, — она помолчала. — Ральф не уполномочивал меня говорить, но я знаю: он любит вас.
Кэтрин воззрилась на нее, словно впервые ее видела: наверное, в начале разговора она все-таки была рассеянна и не заметила возбужденного состояния Мэри, а та под конец совершенно потеряла голову. Но нет, не похоже, Мэри как сидела, так и сидела, сдвинув брови, точно решала трудную задачу, и, однако, впечатление она производила человека думающего, а не расчувствовавшегося.
— Это доказывает, что вы ошиблись, — вот и все, — твердо заключила Кэтрин.
Ей не надо было проверять свои чувства, вспоминая знакомство с Ральфом: в ее сознании твердо отпечаталось убеждение в том, что у Ральфа она вызывает неприязненное, даже враждебное отношение. Думать тут было не о чем, тем более что Мэри, поставив Кэтрин перед фактом, и не собиралась ей больше ничего доказывать: теперь ей было важнее объяснить самой себе, почему она так поступила.
То был зов какого-то могучего, властного инстинкта, противиться ему она не могла, словно какая-то мощная волна подхватила ее и увлекла за собой — тут было не до рассуждений.
— Я вам открылась, — сказала она, — потому что мне нужна ваша помощь. Понимаете, я... я жутко ревную к вам и завидую, а я не хочу так! Поэтому я вам призналась, я решила, что так будет лучше.
Она замолчала, вслушиваясь в себя.
— Понимаете, если высказаться, то дальше можно уже разговаривать, и даже если я начну ревновать к вам, все равно разговор получится. Даже если мне приспичит совершить какой-то жутко низкий поступок, я все равно смогу о нем сказать — вы же и заставите меня в нем признаться. Понимаете, мне всегда очень трудно сделать первый шаг и заговорить, но одиночест¬
Глава 21
209
во еще страшнее. Ведь, кажется, чего проще — запереться, отмолчаться. Но этого-то я как раз панически боюсь: представляете, всю жизнь носить в себе этот камень. Я же упертая. Если уж я решила, что что-то неправильно, меня ни за что не переубедишь. А Ральф прав, правильных или неправильных поступков не существует. Я хочу сказать, нельзя судить о людях...
— Это Ральф Дэнем считает, что нельзя? — вскипела Кэтрин. «До какой же черствости надо дойти, — возмущенно думала она про себя, — чтобы заставить девушку так страдать! Он, видимо, меняет друзей как перчатки, когда ему заблагорассудится, и, что совсем позорно, — всегда находит себе оправдание в какой-нибудь фальшивой философской теории». Все это она собиралась выложить перед Мэри, но та ей не дала.
— Нет-нет, вы не поняли. Никто ни в чем не виноват, это я сама. В конце концов, если ставишь на карту... — сказала она дрогнувшим голосом и осеклась.
Только сейчас она поняла, что натворила: поставить на карту все, все самое дорогое, и все потерять, все, как есть, подчистую! Какое право она теперь имеет, говоря о Ральфе, представлять дело так, будто она единственная лучше других знает, о чем он думает? Она больше не хозяйка своей любви, раз поделилась своим чувством с соперницей, — Ральф больше не принадлежит ей одной; а стоический смысл ее жизни, который она с таким мучением обрела? — он тоже пошел под нож оттого, что она имела неосторожность открыться в присутствии другого человека! Ей захотелось завыть от отчаяния, от жалости к себе, от утраченного одиночества. Чувствуя, что сейчас расплачется, она встала, пошла к окну, раздвинула занавески и застыла, пытаясь справиться с подступившими слезами. Расплакаться не грех, стыдно другое — чувствовать себя обманутой и предавшей саму себя. Загнанная в угол, обобранная, сначала Ральфом, а потом Кэтрин, она была унижена и раздавлена. Слезы брызнули у нее из глаз, но слез она не стеснялась, это пустяки, с этим она справится и, собрав остатки мужества, найдет в себе силы встретить Кэтрин с открытым забралом.
Она порывисто обернулась — Кэтрин сидит не шелохнувшись, чуть подавшись вперед, и смотрит не отрываясь в огонь. Точь-в-точь, как Ральф, подумала Мэри: тот тоже любит сидеть вот так — чуть подавшись вперед, уставившись прямо перед собой, ничего не видя, мыслями витая где-то далеко, о чем-то напряженно думая, — а она в это время сидит рядом и ждет, боясь нарушить волшебную тишину, когда он очнется и скажет: «Ну что, Мэри?» — и дальше потечет увлекательнейшая беседа.
Затаив дыхание, словно в первый раз, Мэри смотрела на безмолвную фигуру, проникаясь серьезностью, важностью, торжественностью момента. И желание говорить куда-то пропало, и обида улетучилась, на душе было
210
Вирджиния Вулф. День и ночь
покойно и мирно — она сама удивилась этой перемене. Подошла тихонько к Кэтрин и присела рядом. Стояла тишина, и Мэри почудилось, что она больше не одинока, она страдает и одновременно сострадает, она счастлива, как никогда, и, как никогда, опустошена, отвергнута и бесконечно любима. Она даже не пыталась выразить обуревавшие ее чувства — ей и без слов было довольно того, что сопереживание взаимно. Они сидели вдвоем, рядом, молча, и Мэри машинально гладила меховую оторочку на старом платье.
Глава 22
Кэтрин на всех парусах летела по Стрэнду в направлении дома Уильяма, и подгоняла ее не столько боязнь опоздать — в конце концов, всегда можно взять такси, если хочешь прийти вовремя, — сколько желание вдохнуть полной грудью свежий воздух, подхватить порыв, который ей внушила своими словами Мэри. Сегодняшний вечер стал для Кэтрин откровением, все остальные впечатления просто стерлись. Так вот она какая любовь, вот, оказывается, какой у нее вид, какой голос...
«Тут она садится прямо, поднимает на меня глаза и говорит: “Я люблю его”» — эта сцена стояла у Кэтрин перед глазами как живая, ничего подобного она и представить себе не могла. Какое сочувствие? — одно сплошное изумление, оно, как пламя, вырвавшееся в ночи, навсегда лишило ее покоя, высветило всю серость, надуманность, абсолютную искусственность ее собственных чувств, которые не шли ни в какое сравнение с чувством, владевшим Мэри. И на волне пережитого Кэтрин дала себе слово больше не отступать — как это было в прошлый раз, во время разговора на опушке леса, когда непонятно почему она уступила, изменила самой себе. Так мы возвращаемся при свете дня на то место, где намедни потерялись в тумане и тыкались, как слепые котята, не зная дороги, и даем себе зарок не повторять ошибок.
«Взять и сказать, взять и сказать, чего проще, — повторяла она про себя, — главное, не сомневаться», — и в какую-то минуту совершенно забыла про Мэри Дэчет.
В тот вечер Уильям Родни вернулся со службы раньше обычного и, чтобы скоротать время, сел за фортепьяно, наигрывая мелодии из «Волшебной флейты»1. Кэтрин, как всегда, опаздывала, но, может, оно и к лучшему, размышлял Уильям, ведь особой охоты к музыке она не питала, что вообще-то было странно, если учесть, что все женщины в их семье отличались необыкновенной музыкальностью. Например, ее кузина Кассандра Отуэй — девушка с очень тонким музыкальным вкусом: у него из головы не шла прелестная утренняя сценка с флейтой, которую она разыграла в музыкальной гости¬
Глава 22
211
ной Стогдон-хауса. Ее носик туфелькой — признак породы в их семействе, — казалось, слился с флейтой, и она стала похожа на уморительного зверька с вытянутой мордочкой: более обворожительной и милой картины он не помнил. Вся сценка дышала духом музыкальности, выдавая нрав легкий и шаловливый. Увлеченность юной флейтистки, барышни воспитанной, импонировала Уильяму: он моментально придумал тысячу разных способов оказаться ей полезным — с его богатым послужным списком это будет совсем не трудно сделать. Ее нужно познакомить с достойными исполнителями, учившимися у великих музыкантов. А еще она, видимо, неравнодушна к литературе, — не то, что Кэтрин, та прямо заявляет, что лишена поэтического чувства. Кассандра же, вспоминал Уильям сказанное ею вскользь, много читает, хотя и беспорядочно. Кстати, он дал ей почитать свою пьесу. Тут он решил, что, чем просто ждать, — Кэтрин все не шла, «Волшебная флейта» без вокала — занятие пустое, — лучше напишет-ка он Кассандре письмо с призывом читать Поупа2 и развивать чувство художественной формы, а потом уже браться за Достоевского. И вот он садится и сочиняет легкий, игривый скетч на тему наставления неискушенной читательницы, стараясь не выказать ни малейшей личной заинтересованности в предмете, и вдруг слышит: пришла Кэтрин. Это была, конечно, не она — он ослышался, но настрое* ние писать пропало. Найденная было интонация легкого светского шарма, если хотите, апломба, больше не давалась, он сидел как на иголках. Уже и ужин доставили — пришлось оставить возле камина, чтобы не остыл, — а Кэтрин все не шла: она опаздывала на четверть часа. Уильям вспомнил про неприятную новость, которую ему сообщили утром: серьезно заболел один из его сослуживцев, поэтому планировавшийся отпуск отменяется, а значит, и свадьба откладывается. Но даже эта неприятность не шла в сравнение с тем чувством досады, которое нарастало в нем с каждой секундой: Кэтрин забыла про свидание! После Рождества такие промахи у нее случались редко, но, кто знает, может, все возвращается на круги своя? Что, если их брак и в самом деле станет сплошным фарсом, как она тогда выразилась? Нарочно причинять ему боль она не станет — он это знал, только почему-то по-другому у нее с людьми не получалось. Может, она бесчувственная? Эгоистка? Но, как ни старался он приклеить к ней эти ярлыки, приходилось признать: они к ней не очень подходят.
«Столько всего надо объяснять», — подумал он, опуская взгляд на недо- писанную страницу и чувствуя, что желание писать пропало. А ведь поначалу все шло замечательно! Отчего же расхотелось? Да оттого, видимо, что он боялся, как бы в комнату не вошла Кэтрин. Этот подспудно живший в нем страх страшно раздражал его, он подумал, что будет лучше, если он специально оставит письмо к Кассандре на столе, чтобы Кэтрин обратила на
212
Вирджиния Вулф. День и ночь
него внимание, и тогда он использует это как предлог и скажет ей о том, что дал Кассандре почитать свою пьесу в расчете на ее замечания. Пожалуй, она не обрадуется этому известию, хотя никогда не скажешь наперед, — Уильям пребывал в сомнениях, но тут в дверь постучали, и на этот раз он не обознался: это была Кэтрин. Они обменялись дежурным поцелуем, и, хотя никаких извинений за опоздание с ее стороны не последовало, Уильям почувствовал, что приятно растроган встречей, правда, он тут же невольно ощетинился против этого чувства, дав себе слово не поддаваться чарам Кэтрин, а, наоборот, приглядеться к ней получше, понять, что она такое. Он предоставил ей самой снять пальто, а сам занялся ужином.
— Знаешь, у меня для тебя новость, — объявил он ей, как только они сели за стол. — Меня не отпускают в апреле, поэтому свадьбу придется отложить.
Все это он выпалил на одном дыхании, Кэтрин даже вздрогнула от неожиданности, точно он вторгся в ее мысли.
— Разве это меняет дело? Контракт же еще не подписан, — ответила она. — А, собственно, что случилось?
И он стал, словно в сотый раз, рассказывать ей про то, как у одного из их сотрудников случился нервный срыв и что на восстановление здоровья потребуется долгое время, может быть, даже полгода, а раз так, то им двоим нужно хорошенько взвесить все обстоятельства. Что Кэтрин поразило в словах Уильяма, так это тон, которым все это говорилось: он был до странности бесцветным. Она подняла глаза на собеседника: может быть, она чем- то вызвала его раздражение? Беспорядком в одежде? Нет, на ней все сидит как надо. Может быть, она сильно опоздала? Она поискала глазами часы.
— Нет худа без добра, — резонно заметила она, — мы не успели снять дом, это хорошо.
— Боюсь, все не так хорошо, как кажется, ведь я теперь буду часто задерживаться на работе, — возразил он ей.
Она про себя подумала, что все складывается не так уж плохо, хотя говорить о чем-то определенно пока рано. Ясно только, что переполнявшее ее по дороге сюда воодушевление вмиг погасло — то ли от новостей, то ли от холодного душа, которым он ее встретил. Она-то приготовилась к отпору с его стороны, на отпор всегда легче отвечать, чем на... она даже не знала точно, как назвать то, с чем сегодня вечером ей пришлось столкнуться. За ужином говорили о всякой всячине. Она с удовольствием слушала рассуждения Уильяма о музыке, хотя сама в ней совершенно не разбиралась, и за спокойным течением беседы она представила, как, поженившись, они будут вот так же собираться вечером у камина — с книжкой, например, ведь у нее тогда будет время читать, появится наконец-то возможность тренировать свой
Глава 22
213
неопытный мозг, постигая желанные знания. Ей дышалось очень свободно. Неожиданно Уильям оборвал разговор, и она встряхнулась, гоня от себя мысли.
— На какой адрес писать Кассандре? — спросил он ее. И она снова подумала, что у Уильяма на уме что-то есть или настроение у него такое. — Мы с ней подружились, — пояснил он.
— Да на домашний, наверное, — ответила Кэтрин.
— Она у них за домашнюю затворницу, — проворчал Уильям. — Кстати, ты не хочешь пригласить ее приехать погостить, послушать хорошую музыку? Позволь, я закончу письмо — мне очень хочется, чтобы она получила его завтра.
Вместо ответа Кэтрин уселась поглубже в кресло, а Родни положил на колени письмо и стал дописывать начатую фразу: «Знаете ли, мы обычно недооцениваем стиль...» Однако сосредоточиться на стиле ему мешала мысль о Кэтрин: он чувствовал на себе ее взгляд, но сказать точно, как она на него смотрит — холодно или с раздражением, не мог.
А она, по правде говоря, попалась на его удочку: от откровенно равнодушного, почти враждебного приема, который он ей устроил, ей стало совсем не по себе, она забеспокоилась и почувствовала себя обезоруженной — если поначалу она была полна решимости порвать сразу и бесповоротно, то теперь она не знала, как поступить. Она вспомнила о Мэри: вот кому можно позавидовать — раз решила, значит, навсегда! Подобная широта натуры несвойственна, подумала она, ее друзьям и родственникам: те всё что-то мельчат, таятся, деликатничают — тем, собственно, и знамениты. Та же Кассандра: Кэтрин хорошо к ней относится, и все же иначе как легкомысленным и богемным назвать ее образ жизни не может — кузина то ударится в социализм, то разведет шелкопрядов, то заиграет на флейте — собственно, музы- кой-то она и обратила на себя внимание Уильяма, решила Кэтрин. Она не помнила, чтобы Уильям хоть раз писал в ее присутствии письма. И тут ее осенило — точно свет пролился там, где до этого царил полумрак: в конце концов, возможно, — почему бы и нет? — да нет, совершенно определенно, то обожание, которое она принимала со скучающим видом как должное, как данность, на самом деле вовсе и не обожание, а если и было когда-то таковым, то больше не существует. Она пристально вглядывалась в черты Родни, точно увидела его впервые. Сколько достоинств в лице сидящего напротив человека — она смотрела на него со стороны, как на незнакомца, — сколько тонкости, сколько ума! Все виделось словно на расстоянии: склоненная над листком бумаги голова, вдумчивая, сосредоточенная поза — так бывает, когда смотришь через стекло на беседующего с кем-то человека.
214
Вирджиния Вулф. День и ночь
Уильям писал, не отрываясь от страницы. Ей бы с ним заговорить, но она и помыслить не могла о том, чтобы просить его выказать ей знаки внимания, — она чувствовала себя не вправе это делать. От мысли, что они отныне чужие друг другу, она совсем приуныла: если у нее и были какие-то сомнения в том, что люди — бесконечно одинокие существа, то они окончательно развеялись. Вот она, горькая правда: прежде Кэтрин никогда не ощущала это так остро. Она перевела взгляд на огонь, ей показалось, что между ней и Уильямом буквально выросла пропасть и в целом мире нет ни одной близкой ей души. Раньше ее грели хотя бы мечты, а теперь и их не осталось, не во что больше верить, существуют лишь одни абстракции — символы, закономерности, звезды, факты, — но и за них ей трудно зацепиться, ведь она самоучка и ей стыдно.
Наконец Родни решил, что глупо продолжать дальше молчать и что вообще подобные игры — занятие довольно низкое, и надо бы снять возникшее напряжение веселой шуткой или покаянием; однако, подняв глаза на Кэтрин, он увидел совсем не то, что ожидал: Кэтрин сидела отрешенная, совершенно забыв о его существовании, не то что там о его достоинствах или недостатках. Было такое впечатление, что мыслями она витает где-то далеко-далеко. «Подобная независимость, — подумал Родни, — присуща скорее мужчине, чем женщине». От этой мысли ему сразу расхотелось наводить мосты — наоборот, он с новой силой ощутил всю безвыходность создавшегося положения. С одной стороны Кэтрин, молчунья, разумница, чьим добрым мнением он дорожил больше всего на свете, с другой — Кассандра, милое, шаловливое существо, он не мог их не сравнивать.
Тут Кэтрин, точно додумав мысль до конца и заметив, что она не одна в комнате, обратила на него свой взор.
— Ну что, дописал? — спросила она, и в ее голосе ему послышалась легкая насмешка, но никак не ревность.
— Нет, допишу потом, — ответил он. — Я сегодня не в том настроении, почему-то не получается.
— Кассандра не будет придираться к стилю, — заметила Кэтрин.
— Не скажи! По-моему, у нее неплохой литературный вкус.
— Возможно, — равнодушно заметила Кэтрин. — Кстати, моим литературным вкусом ты совсем перестал интересоваться в последнее время. Почитай мне что-нибудь. Сейчас найду что-нибудь подходящее.
С этими словами она подошла к книжной полке и стала искать, какую бы книгу выбрать. Все лучше, размышляла она, чем пикироваться или играть в молчанку, из-за которой они только все больше и больше отдаляются друг от друга. Она водила пальцем по корешкам книг и думала с иронией о том, что еще час назад она была абсолютно уверена в своей правоте, а те¬
Глава 22
215
перь не уверена ни в чем: ни в том, какие между ними отношения, ни в том, какие чувства они испытывают друг к другу, ни в том, любит ее Уильям или нет; сейчас она знала только одно — она просто тянет время. Тем чудеснее и завиднее представлялось ей душевное состояние Мэри — если только действительно оно было таким, каким она его воображала, если только действительно дочь женщины способна на простодушие.
— Вот, нашла — Свифт, — объявила она, доставая первый попавшийся том. — Давай почитаем Свифта.
Родни молча взял в руки книгу, подержал ее, собрался было открыть, но дальше дело не пошло. По его лицу было видно, он что-то обдумывает, взвешивает про себя, и, пока не решит, из него слова клещами не вытянешь.
Кэтрин присела рядом на стул — от ее внимания не укрылось упорное молчание Уильяма, и она взглянула на него с тревогой. Чего она опасалась, на что надеялась, сказать было трудно — но, пожалуй, главным было безотчетное и совершенно беспричинное желание услышать от него, что он по- прежнему ее любит. Она давно привыкла к его капризам, жалобам, придирчивым расспросам, но ей было абсолютно внове это тихое, но твердое сопротивление, которое, казалось, шло изнутри, — оно ее ставило в тупик. Она не знала, чего ждать.
Наконец Уильям заговорил:
— Тебя не удивляет одна странность? Меня — да, — начал он издалека. — Я о том, что большинство людей наверняка сильно расстроились бы, узнав, что их свадьба откладывается на неопределенный срок — на полгода или даже больше. А мы нет — чем ты это объяснишь?
Она взглянула на него, отметив про себя сдержанный тон Уильяма, — он говорил так, будто дал себе слово не впадать в эмоции.
— Лично я, — продолжал он, не дожидаясь ее ответа, — объясняю это тем, что мы охладели друг к другу, в наших отношениях нет поэзии. Наверное, отчасти это следствие того, что мы знакомы очень давно, и все же я склоняюсь к мысли, что есть и другая причина: разница темпераментов. Ты, по-моему, слишком неприступна, а я, наверное, слишком занят собой. Если это так, то понятно, почему мы не питаем насчет друг друга никаких иллюзий. Я вовсе не хочу сказать, что в основе счастливого брака непременно лежит чувство влюбленности, но, признаюсь, сегодня утром, когда я узнал от Уилсона новости, я не ощутил никакой досады, и это меня поразило. Кстати, ты точно знаешь, мы не подписали бумаги на дом?
— Вся переписка у меня, завтра я еще раз проверю, но я уверена, что мы не связаны никакими обязательствами.
— Отлично! Что же касается психологической стороны вопроса, — он говорил так, будто разговор прямо его не касался, — то, по-моему, каждый из
216
Вирджиния Вулф. День и ночь
нас двоих безусловно способен ощутить то, что, простоты ради, назовем романтичной влюбленностью в некое третье лицо... во всяком случае, с моей стороны это именно так.
Пожалуй, в первый раз за всю историю их знакомства Кэтрин оказалась свидетельницей того, как Уильям по собственной воле и без всякого волнения рассуждает о своих чувствах. Прежде, когда заходила речь о подобных деликатных вопросах, он всегда либо отшучивался, либо переводил разговор на другую тему, говоря, что как мужчина или, если угодно, человек светский он глупостями не занимается и вообще ему претит дурной тон. Поэтому сегодняшнее стремление Уильяма объясниться и озадачило Кэтрин, и заинтересовало ее, и заставило забыть о самолюбии. К тому же этим вечером ей почему-то было с ним легко, легче обычного, а может быть, она почувствовала себя с ним на равных, но об этом она сейчас не думала: ее внимание было поглощено'собеседником, чьи рассуждения по-новому освещали и ее собственные проблемы.
— Романтичная влюбленность — это как? — переспросила она.
— A-а, то-то и оно. Определений много, некоторые даже очень хороши, — при этих словах он посмотрел на книги, — но такого, что удовлетворило бы меня полностью, такого нет.
— А не может быть так, что очарование возникает при первом знакомстве, когда люди еще плохо знают друг друга? — если так, то романтика — это невежество, — размышляла она вслух.
— А может, все дело в удаленности от предмета любви, как полагают знатоки куртуазной литературы...
— В искусстве это возможно и так, а у людей всё... — Она осеклась.
— А с тобой такое было? — спросил он ее, взглянув на нее прямо и тут же отведя глаза.
— Было, и очень сильно! — откликнулась она так, словно в эту самую минуту перед ее внутренним взором открылись какие-то невероятные просторы. — Только места этому в моей жизни практически нет, — добавила она, вспомнив про свои каждодневные обязанности, про свой долг — быть разумной, домовитой, пунктуальной — при матери, натуре в высшей степени романтичной. Да, но для нее-то романтика — совсем другое. Для нее это — желание, эхо, звук, нечто, облекаемое в цвет, обладающее формой, звучащее в музыке, но никак не в слове, нет, романтика и слова — несовместны. Кэтрин вздохнула, чувствуя, что бессильна выразить такие невнятные, сумбурные желания.
— А ты не находишь странным то, что в наших с тобой отношениях нет никакой романтики? — гнул свое Уильям.
Глава 22
217
Кэтрин согласилась, что это странно — действительно, очень странно. Однако ей было странно и другое — обсуждать подобные вещи с Уильямом, сегодняшний разговор явно сулил новые перспективы их взаимоотношений. Она все не могла избавиться от мысли, что Уильям помогает ей понять то, что раньше ей было невдомек, она чувствовала себя признательной ему за это, и в ответ готова была по-сестрински прийти ему на помощь — да-да, по- сестрински, если не считать женского уязвленного самолюбия: оказывается, Уильям к ней охладел.
— Значит, нужно искать счастья с той, по-моему, в которую ты так романтично влюблен, — заметила Кэтрин.
— А ты думаешь, романтика отношений остается после того, как ближе знакомишься с человеком, которого любишь?
Он спросил в общем, безотносительно конкретного лица, стараясь не касаться больной темы. Его главной заботой было не допустить, чтобы их беседа переросла в унизительную, позорную сцену, как тогда на опушке леса под деревом, — он до сих пор не мог простить себе тот случай. Однако сегодня все по-другому: с каждой фразой ему становится легче, он проясняет для себя мотивы, до сегодняшнего дня остававшиеся непонятными, поскольку камнем преткновения всегда была Кэтрин. А теперь он не только не чувствовал ни малейшего желания обидеть ее или уколоть, хотя в начале разговора был за ним такой грех, но, наоборот, отчетливо понимал, что если кто-то и может внушить ему уверенность, так это она. Он не знал, как подступиться и к десятой доле волновавших его вопросов — даже произнести имя Кассандры и то стоило ему невероятных душевных мук. Поэтому он сидел истуканом, уставившись на огонь, глядя в самую его сердцевину, в залегшую меж горящих поленьев ложбину, и молчал, втайне надеясь, что Кэтрин пояснит свою мысль. Ведь она сказала, что нужно искать счастья с той, в кого он романтично влюблен.
— В твоем случае я не вижу причины для скорого разочарования, — ответила Кэтрин. — Мне кажется, если человек определенного склада... — Она замолчала, отметив про себя, с каким напряженным вниманием он ее слушает. Значит, равнодушный тон, которым он задал вопрос, был напускным, дымовой завесой, скрывающей сильнейшее волнение. Значит, у него кто-то есть на уме — видимо, женщина. Кто же это, интересно? Кассандра? Пожалуй... — Такого склада, — повторила она самым что ни на есть будничным тоном, — как, скажем, Кассандра Отуэй. Из домочадцев ей никто в подметки не годится — разумеется, за исключением Генри. Хотя нет, без всяких оговорок: она — душка. Она не просто умна, она девушка с характером — личность!
218
Вирджиния Вулф. День и ночь
— Бр-р-р! А эти жуткие насекомые! — вырвался у Уильяма нервный смешок, и Кэтрин заметила, как он вздрогнул. Значит, она не ошиблась: это Кассандра. И без перехода продолжила:
— Ты мог бы настоять, чтобы она занялась чем-то... чем-то другим... По- моему, она увлекается музыкой, еще она пишет стихи, и вообще очень обаятельна...
Тут Кэтрин помедлила, будто подыскивая точное выражение для обаяния Кассандры. А Уильям, не выдержав, брякнул:
— Она нежная — я не прав?
— Нежности ей не занимать — Генри она просто боготворит. И если подумать, какая у них семья — дядя Фрэнсис с его настроениями...
— Боже правый, — пробормотал Уильям.
— И потом, у вас столько общего!
— Кэтрин, дорогая! — воскликнул Уильям, откидываясь на спинку стула и отрывая-таки взгляд от завораживающего пламени. — О чем это мы с тобой?! Уверяю тебя...
От смущения он не знал, куда деть глаза.
Высвободил палец, зажатый между страниц «Гулливера», раскрыл книгу и пробежал глазами оглавление, выбирая, что бы такое подходящее почитать. Наблюдавшей за ним Кэтрин было видно, что он страшно волнуется, но она знала одно: если сейчас дать Уильяму найти нужную страницу, водрузить на нос очки, прочистить горло и начать читать вслух, то другого такого шанса у них в жизни не будет.
— Мы говорили об очень важных вещах, — сказала она. — Может быть, продолжим, а Свифта почитаем в другой раз? Честно сказать, мне сейчас не до Свифта, я читать не в настроении, особенно Свифта, дело пустое.
Как она и рассчитывала, Уильям нашел ее литературный довод резонным, он приосанился и, повернувшись к ней спиной, явно выгадывая время, чтобы собраться с мыслями, пошел ставить книгу обратно на полку.
Однако этой секундной паузы ему хватило, чтобы с тревогой осознать, что он больше не узнает собственный образ мыслей, когда пытается оценить его сторонним взглядом. Он ощущает в себе нечто такое, о чем раньше только подозревал: он — другой человек, нежели тот, кем всегда себя воображал — барахтающийся в море неведомых, идущих вал за валом искусов. Он походил взад-вперед по комнате, потом плюхнулся в кресло рядом с Кэтрин. Ничего подобного раньше он не испытывал, он отдает себя в ее руки, складывает с себя все полномочия. Его бы воля, он заорал бы: «Ты подняла всю эту бучу мерзких безумных страстей, вот сама и расхлебывай!»
Но она сидела рядом, спокойная, уверенная, и своим настроением быстро погасила его тревогу, он знал, что может полностью ей довериться, что
Глава 23
219
с ней он в безопасности, что она проведет его через все бури, поймет, чего он хочет, и поможет обрести желанную цель.
— Я сделаю так, как ты скажешь, Кэтрин, — обратился он к ней. — Я вверяюсь тебе полностью.
— Постарайся описать, что ты чувствуешь, — предложила она.
— Дорогая, легче сказать, чего я не чувствую ежесекундно! Не знаю, правда, как это описать. Тем вечером на опушке... что-то произошло — что- то такое... — Он не договорил, что же там такое произошло. — Как всегда, я тогда на миг поверил в твое потрясающее благоразумие, но каково оно на самом деле, один Господь знает! — воскликнул он.
— А может быть, правда в том, что ты влюбился в Кассандру? — сказала она мягко.
Уильям опустил голову, потом прошептал едва слышно:
— Наверное, так и есть, Кэтрин.
Она подавила невольный вздох: весь вечер она жила одной надеждой, внутренне сопротивлялась своим же словам, надеждой, что у них до этого не дойдет. Ей стало до слез больно. Собрав остатки мужества, она приготовилась было объявить ему, что он может на нее рассчитывать, уже открыла рот, чтобы произнести заключительное слово, как вдруг, словно гром среди ясного неба, раздался стук в дверь.
— Кэтрин, я тебя обожаю, — шепнул ей на ухо Уильям.
— Я тронута, — ответила она, слегка отстраняясь, — только давай вначале откроем дверь.
Глава 23
Войдя в комнату и увидев сидящую к нему спиной Кэтрин, Ральф Дэ- нем кожей ощутил, как все вокруг переменилось, — так бывает, когда путешественник ближе к ночи бредет себе по дороге и вдруг без всякого видимого перехода выныривает из вечерней сырости на согретый солнцем пригорок, вдыхая сладкий запах разнотравья, как будто и солнце еще не успело зайти и луна уже взошла. Дэнем замер, напрягся, потом подчеркнуто спокойно подошел к окну и снял пальто, осторожно, чтоб не упала, прислонил к шторе трость. Он был настолько поглощен собой и своими переживаниями, что на какое-то время беседующая парочка выпала из поля его зрения; и даже те немногие признаки волнения, которые он успел бы подметить на их лицах (бледность, лихорадочный блеск глаз), его, скорей всего, не удивили бы, — он решил бы, что это нормальная реакция у тех, кто играет в великой драме под названием «жизнь Кэтрин Хилбери». «Все ее существо, — подумал он, — дышит красотой и страстью».
220
Вирджиния Вулф. День и ночь
Она же на его появление никак не реагировала, разве что приняла подчеркнуто спокойную позу, притом что внутри у нее все кипело. А вот Уильям сдержать волнение не смог, и ей пришлось срочно выручать его: сделав вид, что ее интересует архитектурное решение дома, в котором он живет, она стала расспрашивать его про архитектора, строившего здание, про то, когда оно было построено, и Уильяму волей-неволей пришлось лезть в стол за чертежами и раскладывать их на столе перед собеседниками.
Трудно сказать, кто из них троих и насколько внимательно разглядывал чертежи, только ни один не проронил ни слова. Кэтрин и здесь помогла ее давняя светская выучка: опасаясь, что ее выдадут дрожащие от волнения руки, она отвлекла внимание гостей ничего не значащей фразой, а сама незаметно убрала ладонь под стол. Тут Уильям поддакнул, Дэнем горячо поддержал его, при этом голос у него едва не сорвался на фальцет; наконец все трое отложили чертежи и расположились у камина.
— Это самое замечательное место в Лондоне — по мне, только здесь и жить, — заметил Дэнем.
(«А вот мне жить негде», — подумала про себя Кэтрин, вслух соглашаясь с Ральфом.)
— Так в чем же дело? Кто вам мешает снять комнату в этом районе? — ответил Родни.
— Видите ли, я уезжаю, помните, я рассказывал, что снял коттедж?
В ответ — полное недоумение.
— Разве? Досадно... Ну хоть адрес оставьте. И потом, вы же не навсегда...
— По-моему, у вас тоже перемены, — заметил Дэнем.
От этих слов Уильяма буквально затрясло, и Кэтрин, собрав всю волю в кулак, спросила:
— А в каком месте вы сняли коттедж?
Дэнем повернул к ней голову, и их глаза встретились. Только тут первый раз за вечер Кэтрин поняла, кто перед ней, она забыла подробности, но смутно припоминала, что кто-то ей недавно о Дэнеме говорил, и говорил вещи неприятные. Она вспомнила, кто это был, — это была Мэри, но что именно она ей сказала, Кэтрин запамятовала. Единственное, что Кэтрин знала твердо, так это то, что ей еще предстоит осмыслить огромный пласт знания, — знания, от которого ее теперь отделяет целая пропасть; так вот, сейчас это знание о прошлом взывало к ней, будоражило, сигналя разноцветными огнями. Хорошо, она к нему прислушается, а потом все спокойно обдумает. И усилием воли она заставила себя сосредоточиться на том, о чем говорил ей Ральф. А тот ей рассказывал, что коттедж он снял в Норфолке1, и она машинально кивала в ответ, не уточняя, то ли знает эту местность, то ли нет. Но мыслями она была не здесь, мысленно она была вместе с Родни;
Глава 23
221
на самом деле, она еще никогда не испытывала такое — они с Родни единое целое, одинаково думают и чувствуют. Не будь в комнате Ральфа, она бы ни секунды не задумалась, взяла бы Уильяма за руку, положила бы голову ему на плечо: ничего ей сейчас так не хотелось, как остаться с ним наедине — если, правда, не считать другого сильнейшего желания — остаться одной. Да, поскорей бы остаться одной. Ей до смерти надоели разговоры, она устала от эмоционального напряжения. Она даже на вопрос Ральфа не ответила, за нее пришлось говорить Уильяму. Поэтому когда она вдруг спросила:
— А, собственно, чем вы собираетесь заниматься в деревне? — спросила совершенно невпопад, встревая в разговор, половину из которого не слышала, то и Родни, и Дэнем посмотрели на нее удивленно. Правда, стоило ей только заговорить, как Уильям, словно по очереди, замолчал. Он тут же потерял нить разговора, хотя и продолжал время от времени поддакивать. Он сидел, чувствуя, как все в нем восстает против присутствия Ральфа, — ведь ему столько всего нужно сказать Кэтрин! Никто, кроме нее, не может теперь ему помочь, ему без нее не справиться с душевными сомнениями, вопросами без ответа — чем дальше, тем сильнее он ощущал груз терзаний. Если они не поговорят с глазу на глаз, он потеряет сон, он сойдет с ума — или он уже сошел с ума, когда нес ей весь этот бред? А может, не совсем бред? Он помотал головой, опять поддакнув, взглянул на Кэтрин — до чего хороша! «Никого так не обожаю, как ее», — подумал он про себя. Такого выражения на лице, как сейчас, он никогда прежде у нее не видел. Он стал размышлять, как бы ему с ней уединиться, чтобы поговорить без посторонних, и тут вдруг, к его удивлению, она засобиралась домой, хотя он рассчитывал, что Дэнем уйдет первым. Оставалось одно: спуститься с ней по лестнице и проводить до улицы. Он начал примериваться, как бы это попроще сказать, чтобы не сболтнуть липшее, когда мысли путаются; в общем, пока он мялся, случилось нечто из ряда вон выходящее: Дэнем встал, посмотрел на Кэтрин и сказал:
— Я тоже пойду. Может, вместе пойдем?
И не успел Уильям сообразить, что к чему — Дэнема задержать или Кэтрин уговорить остаться, — Дэнем берет шляпу, трость и открывает дверь, пропуская Кэтрин вперед. Уильяму оставалось только помахать им ручкой — составить им компанию он не мог, уговаривать ее остаться он ни за что не станет, когда Дэнем стоит рядом и пялится! Вот Родни и стоял молча, наблюдая, как она медленно спускается по лестнице, боясь оступиться в темноте, последнее, что он успел заметить, это две головы — мужскую и женскую — на фоне стены. В эту самую минуту его вдруг охватила страшная ревность — не будь он в домашних шлепанцах, он побежал бы за ними, заорал бы. А так — стоял, застыв на месте, глядя им вслед. На лестничной
222
Вирджиния Вулф. День и ночь
площадке Кэтрин оглянулась, как бы молча скрепляя их дружбу, но нарвалась на холодный взбешенный взгляд Уильяма: вместо того, чтобы попрощаться по-доброму, он скорчил кислую мину.
Она точно запнулась, потом медленно вышла во двор, огляделась, посмотрела вверх, в небо. Разгуляться мыслям мешало одно — присутствие Дэнема. Она прикинула расстояние, отделявшее ее от спасительной возможности побыть одной, — до Стрэнда рукой подать. Но когда дошли, там оказалось пусто — ни одного извозчика, тут Дэнем возьми и предложи:
— Ни души! Может быть, пройдемся?
— Хорошо, — согласилась она, совершенно не принимая его в расчет.
Видя, что она думает о своем, Ральф не стал ей докучать, к тому же у
него и своих забот хватало. Так они и шли вдвоем по Стрэнду — каждый занят своими мыслями. Ральф старался выстроить линию разговора таким образом, чтобы одно положение логически вытекало из другого. Его убежденность в том, что если уж говорить, то по делу, выливалась в то, что он постоянно откладывал первую реплику, подыскивая точные слова и даже стараясь подгадать, в каком месте лучше начать разговор. На Стрэнде все- таки слишком шумно, к тому же там велик риск наткнуться на пустого извозчика. Не говоря ни слова, он свернул налево, в проулок, спускавшийся к реке. Он знал, это его единственный шанс и он ни за что его не упустит. Он прекрасно знал, о чем он хочет сказать ей, и заранее продумал и саму речь, и логику мысли. Однако, оказавшись с ней наедине, он вдруг обнаружил, что не в состоянии сказать ни слова, — у него точно язык к гортани прилип, и он стал винить ее за эти помехи, за подводные камни, за ловушки, которые она ему подстраивает. Он поклялся себе, что проверит ее по всем статьям, с не меньшим пристрастием, чем самого себя, и тогда станет ясно, оправданно ее чувство превосходства или же оно дутое. И вот они наконец вдвоем, и, однако, он все не решается заговорить с ней — его слишком волнует ее облик: надувшаяся парусом юбка, покачивающиеся на шляпе перья; ее походка — то она забежит вперед, то отстанет, и он ждет, когда она с ним поравняется.
Наконец она обратила внимание на то, что спутник ее упорно молчит. Вначале ей было досадно, что она связана его присутствием — вокруг по- прежнему ни одного извозчика; потом она припомнила слова Мэри — та рассказала ей что-то нехорошее про Дэнема; она точно не помнила, в чем дело, но воспоминание, наслоившись на ее собственное впечатление от того, как по-хозяйски он себя ведет — заставляет ее бежать по тесной улочке, — сложилось в образ сильной и в чем-то неприятной личности. Она остановилась, поискала глазами кеб вдалеке. Дэнем понял, что надо спешить.
Глава 23
223
— Вы не против, если мы еще чуть-чуть пройдемся? — спросил он ее. — Мне нужно вам кое-что сказать.
— Хорошо, — ответила она, догадавшись, что его просьба как-то связана с Мэри Дэчет.
— Давайте спустимся к реке — там тише, — предложил он, моментально переходя к делу. — Я вот о чем хотел вас спросить, — начал он и... замолчал.
Он так долго держал паузу, что она посмотрела на него и увидела на фоне неба его профиль: четкую линию скул и крупный, абрисом, нос. Пока он молчал, в голове сложились слова, которые он вовсе не собирался говорить:
— Еще в первый раз, как я вас только увидел, я сказал себе: вот образец. Я мечтал о вас, думал о вас одной; вы для меня — единственная на свете реальность.
Казалось, он обращается не к женщине, которая идет рядом с ним, а к какой-то далекой персоне, — такое впечатление производили его слова и странный напряженный голос, каким он говорил.
— А сейчас все так закрутилось, что мне кажется, я сойду с ума, если не выскажусь. Вы для меня — самое прекрасное, самое настоящее, что есть на белом свете, — продолжал он восторженно, чувствуя, что ему больше не надо подбирать слова, — точнее, чем он сейчас говорил, не выразить то, что он понял вдруг со всей ясностью. — Я вижу вас повсюду — в звездах, в реке, для меня вы — все живое, все, что есть в мире настоящего. Без вас нет жизни, я так скажу. А теперь я хочу...
До этого момента она слушала его, пытаясь уловить в его словах практический смысл, какую-то логику, но, поняв, что дальше слушать бесполезно, решила прекратить поток словоизвержения. Ее не покидало чувство, что речь его предназначена для кого-то другого.
— Я не понимаю, — заявила она. — Вы сами не верите в то, что говорите.
— Я верю в каждое свое слово, — отчеканил он.
Он повернулся к ней лицом, в ее памяти всплыли слова, которые она пыталась вспомнить, когда его слушала: «Ральф Дэнем любит вас». Так ей сказала Мэри Дэчет — Кэтрин даже вспомнила, каким тоном она ей это объявила... Ну не возмутительно ли!
— Я была сегодня у Мэри Дэчет, — выпалила она.
То ли от удивления, то ли от неожиданности Ральф вздрогнул, но тут же нашелся и парировал:
— Она, поди, сказала вам, что я сделал ей предложение?
— Нет! — в свою очередь удивилась Кэтрин.
— Сделал, сделал, не удивляйтесь. Это было в тот день, когда я встретил вас в Линкольне, — продолжал он. — Я действительно намеревался просить ее руки, а потом в какой-то момент выглянул в окно и увидел вас. Мне тут
224
Вирджиния Вулф. День и ночь
же расхотелось жениться. И все же я сделал ей предложение, а она поняла, что я слукавил, и отказала мне. Я тогда понял, что я ей небезразличен, я и сейчас так думаю. Знаю, я поступил дурно, я не оправдываюсь.
— Дурнее быть не может! — отрезала Кэтрин. — Надеюсь, вы это понимаете. По мне, так у вас нет никакого морального оправдания. Более мерзкого поступка представить нельзя.
Она говорила в запальчивости, возможно, не столько имея в виду его, сколько саму себя.
— По-моему, — продолжала она в том же духе, — человек просто обязан поступать честно. Если он ведет себя иначе, ему нет прощения.
Перед глазами у нее стояло лицо Мэри Дэчет.
Помолчав, он сказал:
— Я ведь не говорю, что люблю вас. Я в вас не влюблен.
— А я и не думала, — отозвалась она озадаченно.
— Я не солгал вам ни единым словом, — добавил он.
— Тогда объяснитесь, — предложила она после небольшой заминки.
Они оба остановились, как по команде, и, перегнувшись через парапет,
уставились на воду.
— Вы говорите, надо быть честным, — начал Ральф. — Хорошо! Я постараюсь честно изложить факты, только не подумайте, что я сумасшедший. Это правда, четыре или пять месяцев назад, когда я вас встретил, я, как последний дурак, решил: вот мой идеал. Совсем голову потерял — стыдно признаться! Все остальное стало не важно. — Он осекся. — Понимаете, я ведь совсем вас не знаю, знаю только, вы красивы и все такое, но я почему-то решил, что нас что-то связывает, мы заодно, мы не такие, как все... У меня вошло в привычку воображать вас, думать постоянно о том, что бы вы сказали или сделали. Иду по улице и с вами разговариваю, вы не выходите у меня из головы. Я знаю, это дурацкая, подростковая привычка — мечтать наяву, все так делают, у меня половина приятелей такие... В общем, это факты.
Они вместе пошли вдоль парапета.
— Но вы действительно меня не знаете, — заметила она. — Мы с вами почти не знакомы... нам всегда... мешали... Вы ведь это хотели мне сказать в тот день, когда зашли мои тетушки? — спросила она, разом вспомнив все подробности.
Он кивнул.
— Да, вы еще мне тогда сказали о помолвке, — уточнил он.
«Нет больше помолвки!» — подумала она обескураженно.
— Но пусть я вас не знаю, — напирал он, — все равно мои чувства не изменились бы, если бы мы познакомились ближе. Может, вел бы себя более сдержанно, вот и все, не городил бы всякую чепуху, как сегодня... Хотя, нет,
Глава 23
225
это не чепуха, это все правда, — настаивал он на своем. — Это важно. Вы можете заставить меня признать на словах, что для вас это чувство — простая фикция, но ведь по-другому не бывает. Самые глубокие наши чувства — наполовину иллюзия. И все равно, — добавил он, будто споря с самим собой, — если бы мое чувство не было самым настоящим из всех, на какие я способен, я бы не стал из-за вас менять свою жизнь.
— О чем вы? — спросила она.
— Я же вам говорил: я уезжаю, меняю профессию.
— Из-за меня? — изумилась она.
— Да, из-за вас, — ответил он. Он не стал дальше объяснять.
— Но я же совершенно ничего о вас не знаю, — выдавила она наконец, видя, что он молчит.
— У вас не сложилось обо мне никакого мнения?
— Нет, отчего же, сложилось... — протянула она неопределенно.
Он подавил любопытство и был вознагражден за терпение. Она попыталась выразить свою мысль, рассуждая на ходу:
— Мне показалось, вы меня осуждаете — относитесь ко мне с неприязнью, что ли. У меня создалось впечатление, что вы по натуре судья...
— Нет, я — тонкокожий, — отозвался он тихо.
— Тогда скажите, почему вы решили уехать? — помолчав, задала она вопрос.
И он начал с самого начала, по порядку, как по писаному, излагать заранее заготовленную, продуманную до мелочей речь: о своих братьях и сестрах и о том, какие отношения их связывают, о матери, ее словах, о сестре Сьюзан, которая больше молчит, о своем счете в банке, вплоть до фунта, о своем брате, который едет на заработки в Америку, об арендной плате за дом и обо всем прочем, касающемся его семьи. Она внимательно его слушала, — попроси ее повторить, она наверняка без запинки пересказала бы содержание услышанного к тому моменту, когда вдали показался мост Ватерлоо2, однако отчета она себе не отдавала — во всяком случае, не больше, чем замечала мостовую под ногами. Первый раз в жизни у нее кружилась от счастья голова. Если бы Дэнем знал, о чем она думает, идя рядом с ним по набережной, он понял бы, что радоваться особо нечему: перед глазами у нее стояли сплошные алгебраические формулы, страницами шли точки с тире, ломаные линии... Она ни на секунду не теряла нить разговора, то и дело замечая: «Да- да, понимаю... А чем это поможет?.. Ваш брат уже сдал экзамены?» — и ему приходилось все время быть начеку, чтобы отвечать по существу ее вопросов. И в то же самое время мысленно она была далеко, представляя, как, приникнув к телескопу, всматривается в белые, рассеченные тенью сферы других миров. В какой-то момент ей даже показалось, что она раздвои¬
226
Вирджиния Вулф. День и ночь
лась — одна ее половина гуляет по набережной с Дэнемом, а другая слилась с серебристым шаром, парящим в синеве над пенным ореолом, окутывающим видимый мир. За все это время она только раз взглянула в небо и увидела, что нет ни одной звезды, которой было бы под силу прорвать пелену водянистых облаков, сплошным потоком несущихся на запад. Взгляд упал вниз. Она урезонила себя, говоря мысленно, что для счастья нет особых причин: и не свободна она, и не одна, и земля по-прежнему держит ее миллионами нитей, и дом уже близко. Но, несмотря ни на что, ее распирало от восторга: все казалось свежее, ярче, всамделишнее, чем обычно, — и ветер, и огни, и холодный каменный парапет, по которому она иногда отбивала рукой такт. Ее спутник больше не раздражал ее своим присутствием: с его стороны не было никаких поползновений прервать полет фантазии, уносивший ее то к иным мирам, то к домашнему очагу. А связывать свой восторг с Дэнемом или его речами ей было невдомек.
Вдали показался перекресток, запруженный кебами и омнибусами, которые ползли вдоль берега Темзы либо в направлении к графству Суррей, либо в противоположную сторону. Грохот, рев клаксонов, звонки трамваев с каждым шагом становились все оглушительней, и, чтобы не перекрывать шум, они замолчали. Точно сговорившись, оба сбавили ход, будто стремясь продлить отпущенное им уединение, и Ральф с таким упоением отмерял каждый дюйм, что, казалось, он оттягивает их расставание до последнего. Добавлять что-то к сказанному ему не хотелось — зачем под занавес портить сложившийся тандем? Теперь, когда вроде все было сказано, он увидел в Кэтрин не то чтобы реальное лицо, а скорее ту самую женщину, о которой он грезил, правда, с одной большой разницей — его одинокие мечтанья не шли ни в какое сравнение с тем пронзительным чувством, которое он испытал рядом с ней. Он и сам преобразился, в нем словно проснулись все его скрытые таланты, он первый раз в жизни ощутил, как все в нем заиграло. И такие просторы открылись перед его внутренним взором, что ни конца ни края не видать. И что еще очень важно: в его теперешнем настроении не было ни суеты, ни лихорадочного стремления во что бы то ни стало продлить наслаждение — стремления, которое всегда посещало его на пике разгоряченного воображения, неизменно портя обедню. Сейчас он пребывал в новом для него состоянии — когда все происходящее вокруг осознается предельно ясно и его ни в малейшей степени не беспокоит ни то, что рядом с ними затормозило такси, ни то, что Кэтрин дает понять, что хотела бы ехать. Они оба останавливаются, понимая друг друга без слов.
— Значит, как только вы решите, вы мне напишете? — спросил он ее, открывая перед ней дверцу.
Глава 23
227
Она не сразу отвечает — у нее выскочило из головы, какой вопрос она должна решить.
— Напишу, — говорит она уклончиво. — Хотя нет, — тут же поправляется, подумав, что не знает, как отвечать на вопрос, если она его прослушала. — Не знаю.
Она стоит в сомнении, смотрит Дэнему в глаза, приготовившись нырнуть в кеб. Он видит ее смущение, понимает — она все прослушала, он знает, как это бывает.
— Так, я знаю, где можно спокойно поговорить, — в Кью, — выдает он без запинки.
-В Кью?
— Да, в Кью, именно там, — повторяет он твердо. Захлопывает за ней дверцу и сообщает адрес извозчику. Через минуту ее уже нет рядом: ее кеб слился с потоком таких же экипажей, насколько можно судить по огонькам.
Он постоял, глядя вслед, а потом резко развернулся и зашагал прочь от того места, где они расстались, перешел на другую сторону и был таков.
Дойдя до узкой улочки, где в этот поздний час не было ни души, одни глухие ставни магазинов да лоснящийся дощатый тротуар, он почувствовал, как невероятный, почти запредельный восторг, в котором он пребывал до этой минуты, понемногу остывает и улетучивается; так всегда бывает с внезапно нахлынувшим потоком чувств. За откровением идет острое ощущение потери: он открылся Кэтрин и что-то потерял, ведь, в конце концов, та Кэтрин, которую он любил, и Кэтрин настоящая — разве они одно и то же? Да, бывали мгновения, когда ему казалось, что всамделишная Кэтрин затмевает ту, другую; ветер надувает парусом юбку, на шляпе покачиваются перья, звучит голос — все так, но порой зазор между зовом твоей мечты и голосом, которым говорит предмет твоих мечтаний, оказывается слишком велик! Ему было противно и стыдно вспоминать, какого дурака могут ломать люди, пытаясь воплотить в жизни то, что смело создают в своем воображении. Какими ничтожными предстали его взору они с Кэтрин после того, как с них слетел ореол дум, который окутывал их, подобно облаку! Он вспоминал ничего не значащие, невыразительные, серые слова, которыми они обменивались друг с другом, он повторял их про себя снова и снова. И сам не заметил, как, проигрывая в который раз слова, сказанные Кэтрин, он вдруг с такой остротой ощутил ее присутствие, что готов был упасть перед ней на колени. «Но она же выходит замуж!» — обожгла его внезапная мысль. Только в эту минуту он понял, насколько глубоко его чувство, и его охватила дикая злость от сознания тупика, в который его загнали. Он тут же нарисовал образ Родни, не упустив ни одной, самой маленькой, черточки, выказывающей всю глупость и низость этого типа. Как, этот розовощекий плясун
228
Вирджиния Вулф. День и ночь
собрался жениться на Кэтрин? Кто, этот осел с обезьяньей рожей, брызжущий слюной и воображающий себя музыкантом? Этот фат, от ужимок и важничанья которого всех тошнит? Этот пачкун, записавший себя в великие трагики и комедиографы? Этот гордец, этот самовлюбленный жеманный рифмоплет? Боже правый! Да нужно быть просто дурой, чтоб за такого выходить замуж! От горьких мыслей Дэнем вконец расстроился. Если бы кто-то увидел его в тот вечер в вагоне подземки, то решил бы, что перед ним самый грозный судья на свете. Добравшись до дома, он сразу засел за письмо Кэтрин — письмо длиннющее, сумасшедшее, невообразимое: он умолял ее, ради ее же собственного блага, расторгнуть помолвку с Родни, не совершать поступка, который поставит крест на том немногом, что есть прекрасного и истинного в мире, не лишать надежды его, Дэнема, потому что, если она все-таки выйдет за Родни замуж, это будет таким предательством, таким дезертирством, что... — засим он кончает, нимало не сомневается в том, что любое ее решение будет самым правильным, и просит ее принять его уверения в совершеннейшем к ней почтении и прочая. Он строчил до самых петухов и пошел спать засветло, когда в Лондон потянулись первые повозки.
Глава 24
Примерно в середине февраля появляются первые «ласточки» весны: на лесных прогалинах и в садах, в укромных местечках проклевываются сиренево-белые цветы с нежными лепестками, с чудным запахом, и точно так же в душах людей распускаются первые робкие надежды и желания. В эту пору жизнь, скукожившаяся было за зиму до состояния полного ступора и глухоты, жизнь эта делается как бы рыхлой, влажной и начинает жадно впитывать цветы и краски бытия как нынешнего, так и минувшего века. Миссис Хилбери приход весны всегда заставал врасплох: целыми днями ее не покидало взбудораженное состояние, когда все чувства обострены, — хотя надо сказать, что по отношению к прошлому она никогда и не впадала в зимнюю спячку. Но весной у нее начиналась настоящая лихорадка: душа ее жаждала самовыражения, ее преследовали слова, она прямо-таки купалась в океане образов. Она бросалась перечитывать своих любимых авторов, записывала на клочках бумаги цитаты, упивалась, декламируя их вслух, казалось бы, без всякого повода. Ее никто не мог переубедить — да она и не искала оправдания своим словесным эскападам — в том, что самый лучший способ почтить память ее отца — это роскошествовать по части языка. И хотя на состоянии рукописи ее экзерсисы особо не сказывались, сама-то она полагала, что они и есть самый верный способ привести ее под сень отца. Никто
Глава 24
229
не способен противиться власти языка, особенно если ты, подобно миссис Хилбери, родился в Англии и впитывал его с младых ногтей, учась выражаться то с саксонской прямотой, то с латинским красноречием, и постоянно обращался к воспоминаниям о поэтах прошлого и о том, с каким наслаждением чеканили они свои вокабулы. Уж на что рассудительна Кэтрин, но даже она, поддавшись материнскому вдохновению, допустила возможность дать в качестве предисловия к пятой главе дедушкиной биографии экскурс в историю шекспировских сонетов1. Все началось с невинной шутки: как-то в компании суровых профессоров миссис Хилбери обронила словцо о том, что к знаменитым сонетам-де могла приложить руку и Энн Хатауэй2, — и пошло-поехало! Те в ответ в течение нескольких дней забросали ее своими опусами, изданными на личные средства, и она буквально утонула в потоке елизаветинской словесности. Разубедить ее профессора не разубедили — она пришла к выводу, что в ее шутке не меньше правды, чем в столь любимых ими фактах, но на какое-то время ее творческая фантазия сосредоточилась на Стратфорде-на-Эйвоне. Когда наутро после вечерней прогулки по набережной Кэтрин вошла в рабочий кабинет — а случилось это позднее обычного, — мать объявила ей о том, что у нее созрел план: поехать на могилу Шекспира3. Сегодня каждый мало-мальский факт о поэте ей интереснее самой злободневной современности, а что может быть более достоверного, чем клочок земли, по которому Шекспир точно ступал, чем место, где зарыты его кости? Ее настолько захватил пыл археолога, что она прямо с порога, даже не поздоровавшись, спросила Кэтрин:
— По-твоему, он был здесь?
На какую-то секунду Кэтрин смешалась, решив, что мать спрашивает ее про Дэнема.
— Я спрашиваю: по-твоему, проходил он здесь по пути в Блэкфрай- ерс?4 — пояснила миссис Хилбери, — оказывается, недавно открыли, что у него был там дом.
Кэтрин озадаченно смотрела на мать, и та добавила:
— Понимаешь, этот факт доказывает, что Уильям вовсе не так беден, как иногда рассказывают. По мне, так пусть он лучше будет человеком с достатком, чем бедняком, а вот богачом я его совсем не вижу.
Тут она наконец заметила, что дочь окончательно сконфузилась, и расхохоталась.
— Милая, а ты решила, что я говорю о твоем Уильяме, да? Ну что ж, не без этого. Но я не о нем! Я о моем Уильяме говорю, о нем все мои думы и мечты — конечно, о нем, о Уильяме Шекспире. Как странно получается, — размышляла она, глядя в окно и легонько барабаня пальцами по оконной раме, — вот идет себе старушенция в синем чепчике, с корзинкой, переходит
230
Вирджиния Вулф. День и ночь
через дорогу, и ведь слыхом не слыхивала о том, что был такой человек — Шекспир! И если бы она одна! — никто не знает: вон судейские торопятся на службу, извозчики ругаются из-за мелочи, ребятишки играют в обруч, девочки бросают лебедям хлебные крошки — им и дела нет до какого-то там Шекспира! Будь моя воля, я бы встала на перекрестке и кричала бы дни напролет: «Эй, люди! Читайте Шекспира!»
Кэтрин села за письменный стол и достала из длинного запылившегося конверта письмо: в нем упоминался Шелли5, упоминался как живой человек, и поэтому документ имел, разумеется, немалую ценность. Вопрос, который предстояло решить Кэтрин, заключался в следующем: надо ли переписывать письмо полностью или же достаточно воспроизвести тот абзац, в котором упоминается имя Шелли. В раздумье она взяла ручку и приготовилась писать. Но ручка так и повисла в воздухе, а Кэтрин свободной рукой достала чистый листок бумаги, незаметно положила перед собой и начала рисовать квадраты, рассекая их пополам прямыми линиями, деля их на осьмушки, потом принялась выписывать круги, производя над ними ту же экзекуцию.
— Кэтрин, я придумала! — воскликнула миссис Хилбери. — Давай отложим фунтов сто — накупим пьесы Шекспира и раздадим их рабочим. У тебя же есть умные друзья — те, что собирают митинги, — пусть они нам помогут. Организуем театр — ролей хватит на всех! Ты будешь играть Розалинду или нет... старую кормилицу6 — есть в тебе от нее что-то. Твой отец сыграет Гамлета, постаревшего, осторожного, ну а я — я чувствую, что во мне есть понемножку от всех героев, пожалуй, больше всего от шута, но ведь у Шекспира именно шут говорит самые мудрые вещи. Да, а кем будет Уильям? Героем? Хотспером? Генрихом Пятым?7 Нет, он тоже, скорее, похож на Гамлета: я так и представляю, как он разговаривает сам с собой, оставшись наедине. Ах, Кэтрин, у вас с ним, наверное, такие интересные беседы происходят! — добавила она и посмотрела с хитринкой на дочь: та ей так пока ничего и не сказала про ужин намедни.
— Да, болтаем разные глупости, — отшутилась Кэтрин, пряча от материнских глаз листок с рисунками и разглаживая пожелтевшую страницу письма про Шелли.
— Поверь, дорогая, через десять лет ты уже не будешь называть это глупостями, — заметила миссис Хилбери. — Будешь с радостью вспоминать это время, каждая мелочь покажется очень важной, и ты поймешь, что именно на таких пустяках и строится твоя жизнь. Лучшее в жизни случается в минуты любви. Это не глупости, Кэтрин, — внушала она дочери, — это правда, самая настоящая правда.
Глава 24
231
Сначала Кэтрин хотела было возразить матери, потом ей захотелось пооткровенничать с ней, с ней часто так бывало. Но пока суть да дело, пока она подыскивала нужные слова, матушка ее углубилась в Шекспира — самозабвенно листала книгу, пытаясь найти заветные слова о любви. Кэтрин ничего не оставалось, как сидеть и штриховать круги на бумаге, но тут раздался телефонный звонок, и она пошла к телефонному аппарату.
Вернувшись в комнату, она застала все на прежних местах, разве что матушка торжественно объявила, что нужную цитату она так и не нашла, зато обнаружила другое, совершенно прелестное высказывание, потом она взглянула на дочь и спросила, кто звонил.
— Мэри Дэчет, — ответила Кэтрин.
— A-а... я, кстати, хотела назвать тебя Мэри, только «Мэри Хилбери» — это не звучит... Между прочим, и «Мэри Родни» — тоже не годится. Нет, все- таки это не те слова, что я искала. Вечно я все теряю! Ну да бог с ними — все равно весна! Нарциссы цветут, зеленеют поля, птицы запели.
Она не успела закончить фразу — снова раздался телефонный звонок, и Кэтрин пошла отвечать.
— Что поделаешь, милая? Пожинаем горькие плоды науки! — воскликнула миссис Хилбери, когда Кэтрин вернулась в кабинет. — Того и гляди, нам скоро с луны звонить будут... Кстати, кто это был?
— Уильям, — бросила Кэтрин.
— Человеку с таким именем я готова простить все — на луне уильямов не бывает... Кстати, Уильям у нас обедает сегодня?
— Он будет к чаю.
— Ну что ж, все лучше, чем ничего, обещаю не надоедать вам своим присутствием.
— А вот это зря, — ответила Кэтрин.
Она разгладила выцветшую страницу письма и уселась лицом к стене, как бы давая понять, что больше не намерена тратить время впустую. Этот жест не ускользнул от материнского глаза: читавшиеся в этом мимолетном движении твердость и неуступчивость, свойственные дочери, подействовали на миссис Хилбери, как холодный душ, — она внутренне съежилась, как, бывало, сжималась в комочек, если ей случалось встретить нищего или пьяного на улице или оказаться перед лицом убийственной логики мужа, который не видел ничего плохого в том, чтобы иногда сбивать супругу с уверенного тона и развеивать ее иллюзии насчет грядущего тысячелетнего Царства Божьего на земле. Она тихо пошла на свое место, села за стол, надела очки и с чувством смирения первый раз за утро окунулась в работу. Она еще долго не могла отойти от потрясения, которое испытала, наткнувшись на холодный тон, сидела притихшая и усердно работала, в кои-то веки
232
Вирджиния Вулф. День и ночь
перещеголяла упорством свою дочь. А той все никак не удавалось поймать перспективу, которая позволила бы сузить мир до одной фигуры, скажем, Гарриет Мартино8, и описать ее как по-настоящему крупную личность, связанную с теми или иными деятелями или фактами прошлого. Как ни удивительно, но в ушах у Кэтрин по-прежнему пел телефонный звонок, а тело и нервы ощущались, как натянутая струна, точно каждую секунду она готова была откликнуться на какой-то мощный призыв, устоять перед которым ей не помог бы никакой интерес к девятнадцатому веку. Что это за призыв, сказать трудно, но когда ухо настроено на музыку, невольно начинаешь ко всему прислушиваться, вот и Кэтрин провела то утро, исподволь вслушиваясь в разноголосицу, доносившуюся с переулков Челси. Пожалуй, впервые в жизни она пожалела о том, что мать с головой ушла в работу, вот когда не помешала бы какая-нибудь заковыристая цитата из Шекспира. Кэтрин слышала, как мать иногда вздыхает, сидя в своем углу, но и только — в комнате стояла тишина, и Кэтрин в голову не приходило связать молчание матери с тем, что она сама сидит к ней спиной, иначе Кэтрин наверняка отложила бы ручку и поделилась бы с матушкой сомнениями. Все, что она успела в то утро, это написать одно-единственное письмо к своей кузине, Кассандре Отуэй, — длинное, зазывное, шутливо-ласковое послание обо всем понемножку. Она советовала Кассандре, не мешкая, поручить конюху приглядеть за своими питомцами, а самой отправляться к ним — погостить у них с недельку. Они вместе походят на концерты, послушают хорошую музыку, а то затворничество, на которое ее сестренка обрекла себя из-за нелюбви к обществу здравых людей, может быстро перерасти в юродство, и тогда уж ей точно не видать ни интересных личностей, ни творчества. Ей уже оставалось совсем немного дописать, как вдруг раздался звонок, которого она дожидалась целое утро. Она мигом выскочила из комнаты — только дверь хлопнула; от неожиданности миссис Хилбери даже вздрогнула: куда это она? — звонка она не слышала, заработалась.
Телефонный аппарат в их доме держали в небольшой нише под лестницей, скрытой от посторонних глаз бордовой бархатной шторкой, — обычно в больших семействах в таких местах складывают всякую рухлядь. Над фарфоровыми чайниками, украшенными по бокам крошечными золотыми заклепками, висели снимки дедов, прославившихся доблестными подвигами на Востоке, а экзотические чайники покоились, в свою очередь, на книжных шкафах, где стояли полные собрания сочинений Уильяма Каупера9 и сэра Вальтера Скотта10. Кэтрин всегда казалось, что этот склад семейных реликвий каким-то образом взаимодействует со звуком, тонкой нитью ползущим из телефонной трубки. Чей же голос на сей раз либо окажется созвучным окружающей обстановке, либо, наоборот, внесет в нее разлад?
Глава 24
233
«Чей это голос?» — спросила она себя, услышав, как незнакомый баритон сначала очень твердо называет ее номер, а потом просит позвать к телефону мисс Хилбери. Мыслимо ли это — различить в море голосов, плещущихся на другом конце телефона, один-единственный голос, угадать в необъятном океане возможностей одну, ту самую? Разгадка не заставила себя ждать.
— Я искал, каким поездом ехать... Для меня удобнее всего послеобеденным в субботу... Да, это Ральф Дэнем... Давайте я лучше напишу...
Кэтрин в ответ — одним духом, в точку, будто кончиком штыка, — раньше с ней такого никогда не бывало:
— Да, я смогу. Подождите, не кладите трубку — проверю записную книжку.
Телефонная трубка повисла на проводе, а Кэтрин встретилась взглядом с дядей по дедушкиной линии, который с покровительственным добродушием взирал со снимка на стене на мир, тогда еще не ведавший о грядущем восстании в Индии11. Но ведь и в черной трубке, качающейся на проводе, жил голос, который тоже ничего не знал ни о дяде Джеймсе, ни о фарфоровых чайниках, ни о бордовых бархатных шторках. Как завороженная смотрела Кэтрин на качающуюся трубку, разом ощутив самобытность родного дома; вокруг раздавались знакомые шорохи — наверху поскрипывал пол, кто-то возился на лестнице: дом жил своей привычной жизнью; рядом, за стеной, слышались голоса соседей. Представить Дэнема с такой же ясностью она не могла и все равно поднесла трубку к губам и подтвердила, что суббота ей подходит. Она надеялась, что он не сразу попрощается, хотя и слушала его вполуха, витая мыслями где-то далеко, — почему-то ей вспомнились ее комната наверху, книжки, заложенные между страниц словарей листочки, захотелось очистить стол для работы... Она в задумчивости повесила трубку, беспокойства как не бывало, закончить письмо к Кассандре, написать на конверте адрес и наклеить марку было минутным делом.
Отобедав, они с матерью направились в гостиную, и по пути в глаза миссис Хилбери бросился букет анемонов: фиолетово-синяя с белым чаша «плавала» в разноцветных бликах отражения на отполированной до блеска поверхности чиппендейловского столика12 в проеме окна — и миссис Хилбери не смогла сдержать восхищения.
— Кэтрин, — вскричала она, обращаясь к дочери, — кто из наших друзей лежит в прострации? Кого надо приободрить? Кому кажется, что он забыт, заброшен и никому больше не нужен? У кого просрочены счета за воду? Чья кухарка хлопнула дверью и ушла, не дожидаясь выплаты жалованья? Скажи, кто это? — развела она руками, поскольку никак не могла вспомнить имени желанного кандидата. Тогда Кэтрин ответила, что, по ее мнению,
234
Вирджиния Вулф. День и ночь
лучшей кандидатуры на роль позабытого всеми одиночки, чем вдова-генеральша с Кромвель-роуд, просто не найти; и скрепя сердце (поскольку по-настоящему немощных и голодных в наличии не имелось, как бы миссис Хилбери ни хотелось отметить вниманием кого-то именно из этой когорты), она согласилась с выбором дочери: да, вдова вроде и не нуждается, но очень уж несчастная, серая, скучная, к тому же имеет некоторое отношение к литературе и, помнится, однажды была до слез растрогана, когда дамы заглянули к ней на часок после обеда.
Оказалось, впрочем, что отнести букет анемонов на Кромвель-роуд некому, кроме самой Кэтрин, — миссис Хилбери в тот день была занята. Прихватив с собой письмо к Кассандре, Кэтрин отправилась в путь в полной уверенности, что бросит конверт в первый попавшийся почтовый ящик. Но не тут-то было: с каждого угла на нее щерилась красной щелью то почтовая будка, то отделение почты, а она все медлила, находя самые несуразные предлоги, чтобы не опускать письмо в ящик, то ей было лень переходить на другую сторону, то хотелось найти более крупное отделение почтовой связи... И чем дольше она мешкала, тем настойчивее атаковали ее вопросы, звучавшие многоголосицей с разных сторон. О чем только не допытывались у нее эти голоса-невидимки! Помолвлена ли она с Уильямом Родни или же помолвка расторгнута? Правильно ли она поступает, приглашая в гости Кассандру, когда еще толком неизвестно, влюблен в нее Уильям или же только еще собирается влюбиться?.. Тут голоса стихали на секунду, а потом, словно вспомнив о другой важной стороне дела, раздавались еще громче, еще настойчивее. Вчера, когда вы разговаривали с Ральфом Дэнемом, что он имел в виду? По-твоему, он в тебя влюблен? Ты правильно поступаешь, согласившись встретиться с ним наедине? И что ты можешь посоветовать ему насчет его будущего? Разве ты этим не даешь Родни повода для ревности? А как же быть с Мэри Дэчет? Что ты собираешься делать? К чему тебя обязывает честь? — от вопросов не было отбою.
«Господи! — воскликнула про себя Кэтрин, поняв, что отговорками делу не поможешь. — Надо что-то решать».
Но «решать» в ее случае означало не более чем легкую дымовую завесу, камуфляж, возможность потянуть время. Как все люди традиционной школы воспитания, Кэтрин за какие-нибудь десять минут умела легко свести любую нравственную проблему к простому общепринятому знаменателю. Книга премудрости124 всегда лежала открытой если не на коленях у матери, то у бесчисленных дядюшек и тетушек. Посоветуйся с ними, и они тут же найдут верную страницу и зачитают ответ, который точно подходит к твоему случаю. Красными чернилами вписаны в сию книгу правила, сообразно которым должна вести себя каждая незамужняя женщина. А если вдруг слу¬
Глава 24
235
чится недоразумение, произойдет ошибка природы и окажется, что сердце незамужней женщины не знает этих самых правил, так на этот случай они выбиты на мраморных надгробьях. Кэтрин была склонна верить в существование счастливчиков, которые по первому же слову законодателей житейской мудрости готовы пожертвовать жизнью, сложить голову или, наоборот, принять милость, — она почти им завидовала. Однако у нее самой все получалось по-другому: как только она пыталась ответить на вопросы, те моментально превращались в фантомы, что свидетельствовало об одном: в ее случае традиционные ответы не работают. Тем не менее ими пользовались и пользуются столько людей, размышляла она, глядя по сторонам на длинную вереницу домов, чьи обитатели с годовым доходом около полутора тысяч фунтов могут себе позволить держать до трех слуг, покупать тяжелую, быстро впитывающую пыль материю для штор и вообще (тут она прищурилась — в окне дома напротив блеснули зеркало на стене и ваза с яблоками на комоде — или ей померещилось?) жить в полутемном помещении. Впрочем, так не пойдет, подумала она, отводя взгляд.
Правда собственного чувства — вот единственный доступный путь; да, это хрупкий луч, если сравнивать его с тем объемным прожектором, что вбирает в себя взгляды всех-всех-всех солидарных друг с другом людей; и все же своим проводником во мраке, что ей предстояло пройти, она могла сделать только его, этот тонкий лучик, а не голоса- невидимки, которые она постаралась заглушить в себе. Она шла, пытаясь нащупать свой луч, а попадавшиеся ей навстречу прохожие, наверное, думали неодобрительно: какая напряженность в лице, как эта надменная женщина отгораживается от окружающих, не понимая, что выставляет себя на посмешище! Но они не смеялись, нет, — от худшей участи, какая может выпасть на долю пешехода, — насмешки толпы Кэтрин уберегала ее красота. И все равно, даже самая гладкая кожа собирается на лбу морщинами, глаза лихорадочно блестят, когда среди увядших или поблекших чувств ты пытаешься найти одно — живое и когда, отыскав его, ты признаешь его за таковое и готова нести ответственность за все последующее; странное это искательство — оно то озадачивает тебя, то унижает, то приводит в восхищение, и, как быстро догадалась Кэтрин, открытия на этом пути сулят не меньше удивления, стыда и беспокойства, чем сам процесс поиска. Как всегда, многое зависело от того, как толковать слово «любовь», оно всплывало опять и опять, вне зависимости от того, о ком она думала — о Родни ли, Дэнеме, о Мэри Дэчет или о себе; и каждый раз ей казалось, что это не то и при этом то самое, мимо чего не пройдешь. Чем пристальнее вглядывалась она в водоворот человеческих судеб, которые ни с того ни с сего пересекались вдруг, вместо того чтобы течь себе тихо, одна параллельно другой, тем отчетливее вырисовывалась ее убежден¬
236
Вирджиния Вулф. День и ночь
ность в том, что нет у людей иного света, нежели хрупкий этот луч, и пути у них нет иного, чем освещаемая лучом дорога. Она кляла себя за слепоту в отношении Родни, за все эти судорожные попытки примирить его подлинное чувство к ней с собственным самообманом, понимая, что самое мудрое — это постараться во что бы то ни стало не забыть случившееся и не искать ему оправданий: пусть эта история напоминает о себе, как черный, голый, незарастаемый травой забвения обелиск.
В общем, позора хватало, но была и радость. Ей вспоминались три разные картины: первая — это когда Мэри, вскинув голову, сказала: «Я люблю — да, я люблю»; вторая — с Родни, когда, сидя на куче прошлогодних листьев, он потерял самообладание и зарыдал, как ребенок; и третья — когда Дэнем, опершись о каменный парапет и задрав голову вверх, говорил о своем, а она решила, что он сумасшедший. Она мысленно перебирала эти эпизоды, переходя от Мэри к Дэнему, от Уильяма к Кассандре, от Дэнема к самой себе, — впрочем, она никак не связывала душевное состояние Дэнема с собственной персоной — скорее, ход ее мысли напоминал постановку некоего симметричного действа, с обрисовкой жизненных ролей, все участники которого (про себя она не была уверена) были не просто интересными — трагическими фигурами, исполненными особой красоты. В голове мелькнул фантастический образ кариатид и атлантов, держащих на согнутых плечах хрустальные дворцы. Они — столпы, они — светочи, фонарщики, чьи огни, затерянные в толпе, то сходятся, создавая узор, то рассеиваются, то вновь соединяются в фигуру. Пока она шла по серым улицам южного Кенсингтона14, обрывки мыслей, бродивших у нее в голове, сложились в твердое решение: пусть все остальное — туман, но ситуацию с Мэри, Дэне- мом, Уильямом и Кассандрой она просто обязана додумать до конца. Каким образом она это сделает, пока неясно; у нее не было полной уверенности ни в одном из возможных шагов. Она только знала, что рисковать в таком деле нельзя и что она ни за что не станет диктовать ни другим, ни самой себе, как поступать, — наоборот, она тихо отойдет в сторону и не будет ни во что вмешиваться — пусть себе нарастает снежный ком нерешенных вопросов и громоздятся горы пиковых положений. Лучшей услуги влюбленным не придумаешь.
Придя к этой радостной мысли, Кэтрин перечитала слова, которые мать набросала карандашом на визитке, вложенной в букет анемонов. И вот наконец нужный дом на Кромвель-роуд, открывается дверь — она видит перед собой мрачный холл и ступени лестницы, света едва хватает, чтобы разглядеть серебряный поднос с визитными карточками — они сплошь в траурных рамках, точно все знакомые вдовы пережили, подобно ей, тяжелую утрату.
Глава 24
237
Кэтрин с серьезной миной на лице передает служанке цветы и привет от миссис Хилбери, та тупо слушает, берет букет и исчезает за дверью.
В принципе любую радость можно омрачить угрюмой физиономией и жестом негостеприимности; вот и Кэтрин по дороге домой, в Челси, засомневалась в найденных решениях. Впрочем, всегда есть запасной вариант — символы: они ее не подведут, не то что люди; и при этой мысли она встряхнулась, снова решив, что все к лучшему. К чаю в тот вечер она опоздала.
В гостиной раздавались голоса, на вешалке в прихожей висели пальто, рядом лежали трости, на старинном голландском комоде стояла пара цилиндров — все это Кэтрин заметила краешком глаза, открывая дверь гостиной. Ее встретил обрадованный возглас матери, в котором читалось все сразу: и упрек за опоздание, и растерянность оттого, что чашки и молочники ее не слушаются, и, конечно, облегчение оттого, что наконец-то появилась та, которая освободит ее от обязанности руководить чаепитием. Августу Пэле- му нужна спокойная обстановка — он автор дневника и любит рассказывать истории в тишине, он привык к вниманию публики; поскольку ему нужно постоянно подпитывать свой дневник, он наловчился вытягивать из выдающихся личностей, таких как миссис Хилбери, разные интересные мелочи о прошлом, подробности жизни почивших в бозе классиков — иначе зачем ему ходить по чаепитиям и съедать в огромных количествах тосты с маслом. Разумеется, он был рад приветствовать Кэтрин; из остальных гостей были Родни (она поздоровалась с ним за руку) и еще американка, интересовавшаяся их семейными реликвиями. После обмена приветствиями разговор вошел в привычное русло воспоминаний.
Отгороженная от Родни плотной завесой общей беседы, Кэтрин тем не менее нет-нет да поглядывала в его сторону, надеясь хотя бы по внешнему виду догадаться, что с ним произошло с того памятного вечера. Но все напрасно: тот на лету перехватывал ее взгляды и отражал их своим лощеным безукоризненным видом — как бы говоря ей, что не может быть никаких тайн у такого воспитанного джентльмена, как он: посмотрите на белоснежную линию платочка в кармане, на жемчужную булавку в галстуке! Обратите внимание на его манеры — как он держит чашку, как аккуратно кладет на краешек блюдца тонкий кусочек хлеба с маслом! Он ни разу не взглянул ей в глаза, хотя это ни о чем не говорило, — ведь он же не мог разорваться: ему и соседку угостить, и самому угоститься, да еще и на вопросы американки надо успеть ответить!
Это зрелище было явно не для тех, кто долго ломал голову над природой любви, прежде чем появиться в гостиной. Чайная церемония разбередила в душе Кэтрин умолкнувшие было голоса-невидимки, и те раскаркались во всю мочь, будто выражали мнение не меньше чем двадцати поколений,
238
Вирджиния Вулф. День и ночь
при поддержке мистера Августа Пэлема, миссис Вермон Бэнкс, Уильяма Родни и, пожалуй, самой миссис Хилбери. Стиснув зубы (в прямом и в переносном смысле слова), чтобы не дать выхода чувствам, Кэтрин на глазах у всех взяла и положила рядом с собой конверт, который она все это время по рассеянности держала в руке. Письмо лежало адресом вверх, и, когда Уильям потянулся за каким-то блюдом, его взгляд невольно упал на конверт. Он мгновенно переменился в лице. До блюда-то он еще сумел дотянуться, но, когда сел с тарелкой на место и поднял на Кэтрин глаза, стало ясно, что он, мягко говоря, не совсем владеет собой. Он тут же допустил несколько досадных промахов в разговоре с миссис Вермон Бэнкс, и, если бы не многолетняя выучка миссис Хилбери, которая моментально нашлась и предложила показать гостье «нашу коллекцию», он бы наверняка сел в лужу.
Встав из-за стола, Кэтрин молча направилась в смежную комнатку, приспособленную под домашний музей, за ней — Родни в сопровождении их американской гостьи.
Кэтрин включила свет и, как всегда, приятным низким голосом начала показ экспозиции:
— Вот это дедушкин письменный стол. Большинство поздних стихотворений были написаны именно здесь. А вот его ручка — самая последняя.
Она взяла перо в руку и выдержала многозначительную паузу. Потом продолжила:
— Перед вами подлинная рукопись «Оды к зиме». Как вы можете убедиться, ранние рукописи не содержат такого количества поправок, какие есть в более поздних вещах... Да-да, пожалуйста, — поспешила она ответить на просьбу гостьи, которую та пролепетала срывающимся от волнения голосом, — можете взять и посмотреть... — добавила она, видя, как та начинает расстегивать лайковые перчатки.
— Мисс Хилбери, вы — вылитая копия вашего дедушки, — заметила американка, переводя взгляд с Кэтрин на портрет, — особенно похожи глаза. Ну-ка, признавайтесь, — шутливым тоном обратилась она к Уильяму, — ведь она пописывает стишки, правда? Мистер Родни, какую еще музу можно желать поэту, а? Меня прямо-таки распирает от гордости, что я стою рядом с внучкой великого поэта. Вы знаете, у нас в Америке ваш дедушка, мисс Хилбери, пользуется большим почетом. По всей стране создаются общества его друзей, где люди собираются и вместе читают его стихи... Позвольте — неужели это его тапочки?!
И, отложив рукопись, она с благоговением прижала к груди старые шлепанцы.
Пока Кэтрин выступала в роли экскурсовода, Родни внимательно изучал серию небольших рисунков, которые, к слову сказать, он давно знал
Глава 24
239
наизусть. Он чувствовал, что ему необходима передышка, — так бывает, когда простоишь на холодном ветру, потом зайдешь в помещение и какое- то время приходишь в себя. Насчет собственного спокойствия он не обманывался — уж кто-кто, а он прекрасно знал, что дальше галстука, сюртука и белоснежного платочка в кармане его напускная безмятежность не идет.
Встав сегодня утром с постели, он твердо решил выбросить из головы все, что произошло накануне; вчерашнее присутствие Дэнема окончательно убедило его в том, что его страсть к Кэтрин неподдельна, поэтому, говоря с ней сегодня утром по телефону, он старался держаться бодро и уверенно, как бы давая понять, что никакие ночные безумства не могут помешать их помолвке. Однако стоило ему прийти на службу, как начались терзания. В конторе его ждало письмо от Кассандры: она писала, что прочитала его пьесу и спешит поделиться с ним своими впечатлениями. Она прекрасно знает, что похвала ее ровным счетом ничего не значит, и все же она просидела над пьесой всю ночь, она думает то-то и то-то, она в полном восторге — доказательством служат тщательно вымаранные хвалебные строчки, но и тех, что остались в письме, было предостаточно, чтобы всласть потешить авторское самолюбие Уильяма. Она, оказывается, вовсе не дура — точно подмечает удачные места и, что еще интереснее, владеет искусством намека. И вообще, совершенно прелестное письмо: написала про все как на духу — и про занятия музыкой, и про собрание суфражисток, куда ее водил Генри; и про древнегреческий алфавит, который начала учить и который ее «обвораживает», — слово было подчеркнуто. Интересно, она шутит насчет «обвораживающего» алфавита? Или серьезно? Вот это письмо — прямо гремучая смесь какая-то из игривости, вдохновения, задора, того и гляди, взорвется у тебя в руках шутихой, а потом где-то рядом из кустов раздастся тоненький девчоночий смех! Все утро образ Кассандры преследовал его, как неуловимый солнечный зайчик. Его бы воля, он бы тут же начал писать ответ — ему уже мерещился особый стиль: с реверансами, поклонами, разными па и коленцами, — слава богу, за миллионы лет человечество каких только менуэтов не придумало! С Кэтрин ведь не потанцуешь, вздохнул он; и целый день его преследовали два образа: Кэтрин и Кассандры, Кассандры и Кэтрин. Кажется, чего проще: надень вечерний костюм, сделай спокойное лицо и прибудь ровно в половине пятого на чай в дом на Чейн-уок, хотя, чем все это кончится, бог весть; но когда вдруг, ни с того ни с сего, Кэтрин — это она-то, холодная, молчаливая Кэтрин, — достает из кармана письмо, адресованное Кассандре, и кладет его на стол прямо ему под нос, ну знаете ли, тут любой сконфузится. Интересно, что она задумала?
Он оторвал взгляд от рисунков и прислушался — ему показалось, что Кэтрин слишком дежурно обходится с американкой. Конечно, несчастная
240
Вирджиния Вулф. День и ночь
сама виновата — не понимает, насколько глупо она выглядит в глазах внучки знаменитого поэта, проявляя наивную восторженность. Впрочем, могла бы Кэтрин и пощадить чувства ближнего, отметил он про себя. И поскольку сам он был крайне чувствителен к любым проявлениям доброты и равнодушия, то поспешил прервать зачитывание каталога, в которое Кэтрин превратила экскурсию, и взять под свое крыло миссис Вермон Бэнкс, к которой он проникся странным чувством собрата по несчастью.
Та еще несколько минут осматривала экспонаты, потом, закончив, сделала легкий поклон в знак благодарности за оказанную честь лицезреть поэта и его тапочки, и Родни пошел вниз ее проводить. В музейной комнатке осталась одна Кэтрин. Она чувствовала себя подавленной — ей все меньше нравилось исполнять ритуал поклонения предкам. Да и физически делать это становилось все труднее: комната уже не вмещала такое огромное количество экспонатов. Что далеко ходить — только сегодня утром они получили от одного австралийского коллекционера рукопись с правкой поэта, которая воочию доказывала, что тот изменил свое суждение об одном знаменитом высказывании, а значит, данный рукописный вариант (кстати, застрахованный на немалую сумму) достоин того, чтобы его положили под стекло и заключили в рамку. Но ведь места-то нет! На лестнице повесить? А может, заменить старый экспонат новым? В растерянности Кэтрин посмотрела на дедушкин портрет, словно умоляя помочь ей советом. Написавший картину художник-портретист давно уже вышел из моды, а самой Кэтрин портрет настолько примелькался за годы демонстрации его посетителям, что она уже ничего в нем не видела, кроме приятной гаммы розовато-коричневых тонов в медальонной раме, украшенной позолоченным лавровым венком. А тут она всмотрелась: со стены на нее глядел молодой человек — ее дед — взгляд его был устремлен куда-то вдаль, поверх ее головы; слегка разомкнутые чувственные губы придавали лицу такое выражение, будто человек заметил на горизонте что-то необыкновенное и то ли провожает кого-то взглядом, то ли, наоборот, приветствует... Кэтрин невольно повторила выражение лица на портрете. Похоже, они — сверстники: интересно, о чем он мечтает, кого ищет? В ушах у него тоже раздаются удары волн? Он тоже грезит о героях- всадниках, продирающихся сквозь чащобу? Первый раз в жизни она думала о нем как о живом человеке — молодом, несчастном, взвинченном, раздираемом страстями, с тысячью недостатков; впервые в жизни Кэтрин не просто довольствовалась воспоминаниями матери, а вживалась в его образ. Он мог быть моим братом, подумала она, их связывают таинственные кровные узы, благодаря которым ты можешь попытаться понять, что за видения стоят перед глазами умерших, а при желании даже поверить в то, что они радуются вместе с тобой твоим удачам и разделяют твое горе. Он бы меня
Глава 24
241
понял, догадалась она, осознав вдруг, что мертвым нужны не цветы, не ладан, не поклонение, а дары совсем другого рода: не увядший цветочек, с которым ты придешь поклониться их памяти, а твои сомнения, которыми ты с ними поделишься. Ему важнее, размышляла она, глядя вверх, чтобы ты приходила с вопросами, колебаниями, беспокойством, чтобы он мог посочувствовать тебе, порадоваться вместе с тобой, — тогда твои заботы не будут ему в тягость. Кэтрин почувствовала, как едва ли не больше, чем любовью и гордостью за предков, она проникается мыслью о том, что они ждут от нее не цветов или жалости, а того, что она допустит их в свою жизнь, которую они когда-то ей дали.
Родни застал ее сидящей под дедушкиным портретом, она ласковым жестом предложила ему сесть рядом:
— Присядь, Уильям. Спасибо, что помог! Я знала, что так нельзя, но не могла остановиться.
— Да уж, чувства ты скрывать не умеешь, — заметил он сухо.
— Пожалуйста, не ругай меня, у меня был ужасный день!
Она рассказала, как относила цветы миссис Маккормик и какое тягостное впечатление произвел на нее район южного Кенсингтона, где, кажется, живут одни офицерские вдовы. Описала во всех подробностях, как открылась парадная, как она вошла, увидела мрачные коридоры, уставленные бюстами, пальмами и подставками для зонтов... Она рассказывала обо всем со смехом, и Родни постепенно оттаял. Больше того, он совершенно расслабился, почувствовав, что никакой необходимости дальше держать позу нет. Кэтрин повела себя так, словно нет ничего более естественного, чем поговорить по душам, посоветоваться, попросить помочь. В кармане у него лежало письмо Кассандры, рядом в гостиной на столе лежал конверт с письмом, адресованным Кассандре, — в общем, кругом одна Кассандра! Но он даже намекнуть на нее не решался — только если Кэтрин сама заведет о том речь; сам он ни за что не заговорит об этой истории, он будет вести себя, как и подобает джентльмену в положении жениха. Время от времени он вздыхал многозначительно; иногда его заносило, и он начинал трещать про летние постановки опер Моцарта — якобы кто-то об этом ему шепнул; тут же из кармана извлекался блокнот, и Родни начинал рыться в записках. При этом каким-то неведомым образом в руке у него, помимо записной книжки, оказался толстый конверт, который он зажал между указательным и большим пальцами, точно тот намертво прилип к записке администратора оперного театра.
— Это тебе Кассандра написала? — как бы между прочим спросила Кэтрин, заглядывая ему через плечо. — Я ей тоже написала, только забыла отправить, — пригласила в гости.
242
Вирджиния Вулф. День и ночь
Родни молча передал ей конверт, она взяла, вынула письмо и стала читать.
Ему показалось, прошла целая вечность.
— Ну что ж, — наконец проговорила она, дочитав письмо до конца, — очень мило.
Родни сидел вполоборота, будто застеснявшись. Она украдкой посмотрела на его профиль и чуть не прыснула со смеху. Еще раз пробежала глазами письмо.
— По-моему, нет ничего зазорного, — выпалил он, — в том, чтобы ей помочь — с тем же древнегреческим, например, если, конечно, он ее интересует.
— А по-моему, очень даже интересует, — подхватила Кэтрин, снова перелистывая письмо, — смотри, что она пишет... Где это? Ах, вот, — «древнегреческий алфавит совершенно обвораживает». Если б не интересовал, так бы не написала.
— Ну, древнегреческий — это, пожалуй, перебор, я больше думал об английском. Тут она пишет о моей пьесе — лестно, конечно, но мыслит еще весьма незрело — ей ведь, наверное, года двадцать два, не больше? Впрочем, это именно то, что надо: поэтическая жилка, а понимание еще не сформировалось, но чувство-то есть, и это главное. Пусть читает, развивается — ты ведь не против?
— Нет. Разумеется, нет.
— А если завяжется... гм-м... завяжется переписка? Я хочу сказать, Кэтрин, то есть я не хочу вспоминать о вещах, как бы это сказать, для меня малоприятных, — горячился он, — но ты-то, ты-то, со своей колокольни, ты не видишь в этом ничего для себя неприятного, нет? Если есть что-то, то скажи, и я обещаю никогда больше ни о чем таком не думать.
«Вот и не думай!» — захотелось ей крикнуть ему в ответ, она даже сама себе удивилась. На какой-то миг ей показалось невозможным подарить другой ту близость, которая связывала ее и Родни, пусть даже то была дружеская, а не любовная привязанность. Кассандре его не понять — он слишком для нее хорош. И письмо ее насквозь льстивое, когда льстят, значит, думают, что слабый. Эта мысль ее особенно рассердила, ведь догадалась же, где у него слабое место! А он вовсе не слабый, он очень сильный, он всегда держит слово — стоит ей только сказать, и он никогда больше не вспомнит о Кассандре.
Она ничего не ответила; по ее молчанию Родни понял, в чем дело. Он изумился.
«Любит, надо же», — подумал он. Именно тогда, когда он потерял всякую надежду на взаимность женщины, которой восхищался больше всего
Глава 24
243
на свете, оказалось, что она его любит! И именно теперь, когда он впервые это понял, он воспротивился этому чувству. Теперь оно показалось ему оковами, препятствием, делавшим их обоих, и в особенности его, посмешищем. Да, он был полностью в ее власти, но теперь у него открылись глаза, и он больше не хочет быть ее рабом или клоуном. Теперь он сам станет верховодить... Пауза затянулась, как бы давая Кэтрин сполна насладиться возможностью взять и потребовать от Уильяма, чтобы он навсегда принадлежал ей одной, и одновременно ощутить всю унизительность подобного соблазна, ради которого ей стоило только шевельнуть пальцем или произнести одно лишь слово, о котором он ее так часто молил и которое чуть-чуть не сорвалось у нее с языка. Она сидела с раскрытым письмом и молчала.
В эту минуту в гостиной зашумели; было слышно: миссис Хилбери рассказывает историю про то, как в мясной лавке один австралийский коллекционер обнаружил рукописные листы с правкой поэта; вдруг пггору отдернули, и на пороге комнаты появились миссис Хилбери и Август Пэлем. Голоса моментально стихли, миссис Хилбери молча переводила взгляд с дочери на человека, за которого та собралась замуж, и, казалось, едва сдерживала язвительную улыбку.
— Вот мое главное сокровище, мистер Пэлем! — воскликнула она. — Не беспокойся, Кэтрин. Сидите, Уильям. Мистер Пэлем заглянет в другой раз.
Гость понимающе улыбнулся, отвесил поклон и вышел, не сказав ни слова, вслед за хозяйкой. Штору снова задернули, с другой стороны.
Но дело было сделано — Кэтрин больше ни минуты не сомневалась: каким-то образом мать подсказала ей решение.
— Помнишь, я вчера тебе сказала, — ответила она твердо, — если тебе небезразлична Кассандра, ты должен разобраться в своих чувствах. Ты обязан это сделать ради нее... и ради меня. Только давай объясним все матери. Тянуть дальше нельзя.
— Как тебе угодно, — ответил Родни, моментально перейдя на светский тон.
— Замечательно, — отозвалась Кэтрин.
Как только он уйдет, она пойдет к матери и объявит о расторжении помолвки, а может быть, им лучше пойти вдвоем?
— Но как же так, Кэтрин, — замялся Родни, спешно запихивая в конверт письмо Кассандры, — если Кассандра... может ли Кассандра после этого... ты же пригласила ее погостить.
— Да, верно, но ведь я еще не отправила письмо.
Он сидел, судорожно сжав колени, и молчал. Он знал, что никакие правила приличия не дают ему права просить женщину, с которой он был помолвлен и которую только что отверг, помочь ему установить знакомство с другой женщиной на предмет дальнейшего развития отношений. В случае
244
Вирджиния Вулф. День и ночь
официального расторжения помолвки стороны моментально прекращают любые отношения, как того требуют приличия; письма и подарки возвращаются другой стороне; годы и годы спустя, на каком-нибудь балу незадачливая пара, может, и встретится случайно, последуют легкое касание рук, обмен ничего не значащими репликами, вот и все. Горе-жених в этом случае автоматически становится изгоем, отныне он предоставлен исключительно самому себе. Больше ни слова о Кассандре, с Кэтрин они не будут видеться очень долго — месяцы, может, годы, мало ли что с ней за это время произойдет.
Кэтрин мучилась сомнениями не меньше, чем Родни. Ей не надо было объяснять, как благороднее всего поступить в сложившейся ситуации; однако гордость не позволяла ей смириться — ведь от нее требовалось оставаться помолвленной с Родни и одновременно покрывать его проделки, — именно эта мысль не давала ей покоя, а вовсе не оскорбленное самолюбие.
«Я должна неизвестно как долго жертвовать своей свободой, — размышляла она, — и все это лишь для того, чтобы Уильям мог открыто встречаться в моем доме с Кассандрой. У него не хватает духу справиться самому, без моей помощи, — он трусит, нет, чтоб прямо сказать, чего он хочет. Ему, видите ли, претит публичная огласка. Ему подавай нас обеих».
Пока она размышляла в таком духе, Родни спрятал письмо в карман, достал часы и стал внимательно разглядывать циферблат. А что ему еще остается делать? — невольно читалось в этих жестах: от Кассандры он отказался, с ней у него нет никаких шансов, и он себе не доверяет; Кэтрин он потерял, хотя и испытывает к ней глубокое, но безнадежное чувство... Остается одно: уйти, освободить, как он выразился, Кэтрин, объяснив ее матери, что свадьба не состоится. Этого требует простой и понятный кодекс чести. Однако почему-то решиться на этот шаг, еще день или два назад совершенно для него непредставимый, он не может! Еще каких-то два дня назад он первым с возмущением отверг бы и малейший намек на поворот в отношениях с Кэтрин, однако сейчас он представляется ему желанным. Да, но у него теперь другая жизнь, он иначе смотрит на все, по-другому чувствует, у него другие цели, другие перспективы, и он не хочет противиться их обворожительной, почти неодолимой силе. Но ведь и тридцатипятилетняя выучка тоже не проходит даром — честью так просто не бросаются. Усилием воли Уильям заставил себя подняться с места, твердо решив откланяться навсегда.
— Я оставляю вас, — сказал он, протягивая ей руку, весь бледный (было видно, что этот благородный жест стоит ему неимоверных усилий), — надеюсь, вы сообщите вашей матери о том, что наша помолвка расторгнута по вашей воле.
Глава 24
245
Она задержала его руку.
— Мы больше не друзья, Уильям? — спросила она его.
— Я ваш покорный слуга, — ответил он.
— Разве? Но если мы по-прежнему друзья, почему ты не хочешь, чтобы я тебе помогла?
— Ты еще спрашиваешь, почему? — воскликнул он в сердцах, отнимая руку и отворачиваясь. Потом он снова резко повернулся к ней, и она подумала: «Вот, первый раз вижу его открытое лицо». — Кэтрин, глупо притворяться, будто я не понимаю, что ты мне предлагаешь. Я готов подписаться под каждым твоим словом. Если быть до конца откровенным, да, сейчас мне кажется, что я влюбился в твою кузину, да, есть вероятность, что с твоей помощью я мог бы — нет, это невозможно! — горячился он. — Это неправильно, так нельзя... Я кругом виноват, я не должен был создавать эту ситуацию!
— Пожалуйста, присядь, давай рассуждать здраво...
— Вот-вот, здраво... эта твоя здравость нас и погубила, — застонал он.
— А я и не снимаю с себя ответственности.
— Да, но как же я могу это допустить? — воскликнул он. — Ведь это значит, что мы какое-то время остаемся официально помолвленными — ведь так, Кэтрин? — при условии, разумеется, что ты ничем не связана.
— Как и ты.
— Да, мы оба свободны. Ну, увижусь я с Кассандрой, положим, раз или два, и, как только пойму, что действительно ее люблю, мы сразу расскажем обо всем твоей матери. Может, сейчас сказать ей по секрету?
— Ну уж нет, по секрету — всему свету, и потом, мать этого совершенно не поймет.
— А отец? Ведь некрасиво получается — секретничать, обманывать...
— Для отца такое вообще немыслимо.
— А для кого же мыслимо? — опять застонал он. — Но ты говоришь, мы справимся. Только ведь это очень трудно, и потом, самое главное, ты будешь поставлена в положение... в такое положение, которого я не пожелал бы родной сестре.
— Но мы же с тобой не брат и сестра, — перебила она его, — и некому за нас решать. Я же не с потолка это взяла — я все обдумала, — продолжала она, — и я думаю, надо рискнуть, хотя, конечно, все это очень больно.
— Вот видишь! Ты уже сейчас настроена против, а что будет дальше?
— Ничего я не против, — заявила она. — Да, мне будет неприятно, но я к этому готова, я справлюсь, ведь ты мне поможешь. Вы мне оба поможете, а я помогу вам. В конце концов, это по-христиански — помогать ближнему, правда?
246
Вирджиния Вулф. День и ночь
— Не знаю, что тут христианского, скорее, отдает чем-то языческим, — проворчал Родни, пытаясь оценить, куда их завела ее так называемая христианская логика.
И все-таки какое невероятное блаженство испытал он от ее слов, каким цветущим садом представилось ему будущее, сулящее столько разных удовольствий и радостей! А ведь еще совсем недавно впереди маячили долгие годы свинцово-серого существования, — он не мог не признать эту разницу. Еще неделя, меньше — и он увидит Кассандру! Теперь ему не терпелось поскорее узнать, когда она приезжает, он даже немного застеснялся собственной нетерпеливости. Получалось как-то низко с его стороны по отношению к Кэтрин: она проявила неслыханное великодушие, а он, подлый человек, сразу захотел воспользоваться плодами ее доброты. И все же в глубине души он знал, что все эти прекрасные слова, которые он машинально повторял про себя, не имеют смысла. Ведь, совершив этот поступок, он не уронил себя в собственных глазах, а что касается его бесконечной благодарности Кэтрин, так ведь они же в одной связке, у них общая тайна, общая цель, и какой смысл искать повод для благодарности в совместном движении к цели? Отбросив ложные представления о признательности, он взял Кэтрин за руку и пожал ее, как друг, как товарищ.
— Мы поможем друг другу, — повторил он вслед за ней, в порыве дружеской солидарности заглядывая ей в глаза.
Она взглянула на него в ответ — ее темные глаза были спокойны и печальны. «Вот он уже и забыл меня, — подумала она с грустью, — он уже не здесь, уже далеко». И ей представилось, как они сидят рядышком, держась за руки, а на них со всех сторон сверху сыплется земля, все больше и больше, и вот уже между ними высоченная насыпь, глухая непроницаемая стена. Какое-то время она сидела, раздавленная картиной медленного и неотвратимого погружения в небытие всего самого заветного, что было связано с самым дорогим для нее человеком, потом очнулась, и они с Родни разом разжали руки, он легонько коснулся губами ее губ, и в эту самую минуту шторы в комнате раздвинулись, и к ним заглянула миссис Хилбери. Сладчайше улыбаясь, с хитринкой в глазах, она спросила Кэтрин, не помнит ли та, какой сегодня день — вторник или среда, и еще, — доводилось ли ей обедать в Вестминстере?15
— Дорогой мой Уильям, — начала она и зажмурилась от восторга, словно не могла сдержать восхищения при виде сей чудесной картины любви, преданности и очарования. — Дети мои дорогие, — только и успела вымолвить и тут же скрылась за шторой, точно ее кто-то отдернул, запрещая ей подсматривать за влюбленной парочкой.
Глава 25
247
Глава 25
Наступила суббота, и ровно в четверть четвертого пополудни Ральф Дэнем сидел на берегу озера в Кью-Гарденс1 и, поставив указательный палец на циферблат часов, сосредоточенно следил за движением часовой стрелки. На его лице ясно читался неумолимый и бесстрастный ход времени. Посмотреть на Ральфа, так он, кажется, занят тем, что сочиняет гимн в честь неспешного, неутомимого Хроноса, — с таким суровым стоицизмом наблюдал он за каждым, едва заметным движением минутной стрелки, принимая неизбежный ход вещей. Он так напряженно сдвинул брови, так неподвижно застыл, уставившись в одну точку, что любой, посмотрев на него, решил бы, что кто-кто, а этот парень умеет ценить время и знает, как без ложной суеты воздать должное его торжественной поступи, хотя с каждым потраченным часом его собственные заветные надежды бесследно таяли.
По лицу его было понятно, что творится у него в душе. Он парил в эмпиреях, и никакие бытовые мелочи для него просто не существовали. То, что женщина, которой он назначил свидание, опаздывала на пятнадцать минут, воспринималось им как вселенское потрясение, конец всей жизни. Он вроде бы следил за движением часовой стрелки, а на самом деле постигал, как работает механизм существования, и, постепенно открывая для себя внутренние пружины человеческих поступков, он приходил к мысли, что надо брать на север, держать курс на полярную ночь... Да, в плавание надо идти одному, без спутников, сквозь льды и черную толщу океана — вот только какова цель? Поставив указательный палец на половину четвертого, он сказал себе, что дождется, когда минутная стрелка покажет ровно половину, и тогда пойдет прочь; это и будет его ответом на один из многих вопросов о смысле жизни, звучавших в его душе: да, цель, бесспорно, есть, но путь к ней сопряжен с неимоверными трудностями и требует стальной воли. Спокойнее, спокойнее, не дергайся — тикали стрелки часов, будто вселяя в него уверенность, — иди дальше с высоко поднятой головой, с широко открытыми глазами, не снижай планку, не ведись на пустяки, не сдавайся, будь бескомпромиссен. Нет в жизни счастья, повторял он про себя, видя, что Кэтрин Хилбери опаздывает уже на полчаса, есть лишь борьба и неопределенность. Если в замысле с самого начала допущен изъян, то непростительная глупость — на что-то надеяться. Он оторвал взгляд от циферблата и задумчиво — словно в ожидании чего-то, готовый сменить гнев на милость, — перевел глаза на противоположный берег озера; и вскоре долгожданная радость наполнила его сердце. Он сидел не шелохнувшись и смотрел, как по аллее быстрым шагом идет, оглядываясь по сторонам, женщина. Она шла прямо на него и не узнавала. Издали она казалась особенно высокой и очень ро¬
248
Вирджиния Вулф. День и ночь
мантичной в наброшенном на плечи сиреневом газовом шарфе, концами которого играл ветерок.
«Вот она какая — как парусник под ветром», — сказал он про себя, смутно припоминая строчку то ли из пьесы, то ли из поэмы, где описывалось, как героиня летит на всех парусах под музыку сфер2. Казалось, перед ней расступаются, словно свита перед приближающейся королевой, высокие деревья и зеленые шпалеры. Тут он встал во весь рост, она обрадованно вскрикнула — наконец-то, нашла! — и бросилась к нему с извинениями за то, что опоздала.
— Я не знала, что здесь, — почему вы не сказали? — объясняла она, обводя рукой и озеро, и зеленые лужайки, и островки деревьев, и отливающуюся золотом Темзу вдали, и герцогский замок посреди луга3. Она показала на статую льва с поджатым хвостом и весело расхохоталась.
— Вы что, не бывали в Кью? — спросил Дэнём.
Оказалось, когда-то давно, в детстве, — тогда здесь все было по-другому: другой ландшафт, другая фауна — водились фламинго, вроде бы даже верблюды были. Припоминая одно, другое, они медленно кружили по парку вдвоем. Чувствовалось, что она отдыхает, что ей просто хорошо оттого, что они гуляют, никуда не спешат, останавливаются на каждом шагу, если что-то привлекло внимание — какой-нибудь куст, смотритель, расфуфыренная гусыня. Стоял первый погожий весенний денек — все так и манило присесть на скамейку в березовой рощице с разбегающимися во все стороны зеленеющими тропками. Она невольно вздохнула.
— Здесь так тихо, — заметила она и вдохнула полной грудью, как бы объясняя свой вздох. Вокруг ни души, только ветер слегка посвистывает в ветках — в Лондоне такого звука ни за что не услышишь — он казался ей сладкой музыкой, доносящейся из морских глубин.
Пока она наслаждалась тишиной, Дэнем кончиком трости осторожно освобождал от прошлогодних листьев, стараясь не повредить корни, маленькое гнездышко проклюнувшихся стебельков. Делал он это, как настоящий ботаник, даже определил растение по-латыни, смутив спутницу своими познаниями, — она тут же забыла, как называется этот самый обычный цветок, который растет даже в Челси. Она со смехом призналась в своем невежестве: например, вон то дерево напротив, что это? Береза? Вяз? Платан? При ближайшем рассмотрении прошлогоднего листа с этого дерева оказалось, что ни то, ни другое, ни третье, а самый настоящий дуб; Дэнем нарисовал на обороте конверта схему, помогающую определить основные группы исконных британских деревьев, и Кэтрин быстро усвоила главные различия. Перешли на цветы. Кэтрин цветами называла лепестки разной формы и окрас¬
Глава 25
249
ки, которые в зависимости от времени года появляются примерно на одних и тех же стебельках. Но для Дэнема главным в цветах была их принадлежность к классу клубневых или семенных, а дальше вступало в силу то обстоятельство, что цветы — это живые существа, у них есть пол, поры, разнообразные свойства, которые помогают им приспосабливаться всевозможными хитрыми способами, выживать и давать жизнь потомству, и уже в последнюю очередь следует рассматривать процессы, благодаря которым цветы обретают стелющуюся или пирамидальную форму, яркую или бледную окраску, рождаются с крапинками или без пятнышек, — причем изучение этих процессов, возможно, приоткроет тайны и человеческого существования. Дэнем говорил увлеченно, как человек, который впервые рассказывает о своем хобби. Более благодарного слушателя, чем Кэтрин, он найти не мог, — ведь она неделями не слышала ничего подобного, и его рассказ звучал для нее как музыка, будя отголоски в самых потаенных уголках души, где долгое время ночевало только одиночество. Она слушала его рассказ о растениях, который наглядно доказывал, что наука не совсем вслепую пытается отыскать закономерности множественного развития видов. Возможно, закономерность никогда не будет найдена, однако ее всесильное действие в природе представлялось ей в эту минуту совершенно очевидным, тогда как в жизни людей ничего подобного не обнаруживалось. Подобно многим молодым женщинам в расцвете лет, она была вынуждена по воле обстоятельств с болезненной пристальностью вглядываться в ту сторону жизни, которая лишена какой-либо упорядоченности: в поле ее зрения оказывались настроения и желания, оттенки любви и неприязни, так или иначе влияющие на судьбы дорогих ей людей; другая же сторона существования, подчиненная работе мысли и уже поэтому независимая от окружающих, была ей недоступна. Слушая Дэнема, она жадно ловила каждое слово, на лету схватывая его смысл, — настолько истосковалась она по интеллектуальной пище. Даже деревья и зелень, сливаясь с синевой неба, становились в ее глазах символами необъятного внешнего мира, которому, по большому счету, нет дела до счастья, супружества или кончины отдельных людей. Чтобы не остаться голословным и показать на примерах то, о чем он рассказывал, Дэнем повел Кэтрин сначала в Каменный сад, а потом во Дворец орхидей4.
Ему было так спокойнее — гулять, беседуя о природе. Даже если его увлеченность и была подсказана личными переживаниями, а не интересом к науке, никто об этом не догадывался, кроме него, а рассуждать и объяснять всегда проще. И все же, стоило ему увидеть Кэтрин в окружении орхидей, на фоне сказочных цветов, влажных, томных, которые, казалось, загляды¬
250
Вирджиния Вулф. День и ночь
вались на нее из-под полосатых капюшонов, дивясь, провожая взглядами и лишь подчеркивая ее красоту, как ботаника вмиг была забыта, и ее место занял куда более сложный предмет. Кэтрин замолчала, казалось, она вся поглощена созерцанием орхидей. В какой-то момент, презрев правила, она протянула руку без перчатки и коснулась цветка. На пальце мгновенно появились рубиновые капельки, и это на него так подействовало, что он вздрогнул и отвернулся. Впрочем, тут же взял себя в руки и стал просто наблюдать: вот она остановилась перед одним причудливым цветком, потом перед другим, — смотрит прямо перед собой и, кажется, не видит, углубившись в свои мысли. Она словно забыла об окружающих; Дэнем даже засомневался, помнит ли она о его персоне? Он, конечно, мог бы напомнить ей о себе, сказав что-то вслух или сделав какой-то жест, только зачем? Ей и так хорошо. Ей ничего от него не надо. Да и ему, пожалуй, так лучше, — держаться поодаль, довольствоваться мыслью о том, что она есть, она и так ему все дала, теперь надо только сохранить это в целости и гармонии. И потом, ее самоуглубленный взгляд, когда она стоит в окружении орхидей в оранжерее, странным образом напомнил ему картину, которую он представлял, сидя у себя дома, в комнате; говорить не хотелось. Молча вышли из оранжереи и снова отправились бродить.
Но хотя Кэтрин не проронила ни звука, ей было не по себе: она чувствовала, что молчать, с ее стороны — значит проявлять эгоизм. Ей действительно хотелось продолжать разговор о материях, далеких от человеческих проблем, но она понимала, что это в ней говорит себялюбие. Она буквально силком заставила себя вспомнить, о чем шла речь в ту бурную ночь. Ах да, — они хотели обсудить, стоит ли Ральфу Дэнему переезжать в деревню и писать книгу... Время бежит, нельзя тратить драгоценные минуты, сегодня вечером приезжает Кассандра, к ужину будут гости... Она встряхнулась, встрепенулась, потянулась за сумочкой... Нет сумки! Она вскрикнула в растерянности:
— Потеряла! Где же я ее оставила?
В парке не бывает указателей, во всяком случае, для таких «ворон», как она. Единственное, что она запомнила, — они гуляли по тропинкам, но сказать, какая именно дорожка вела во Дворец орхидей, она теперь не смогла бы, — перед ней была развилка, целых три дорожки вместо одной! Да и не было у нее с собой сумки, когда они ходили по оранжерее. Значит, она, скорей всего, забыла сумку на скамейке. Пошли назад, оба озабоченные, как бывает, когда что-то теряют. Как хоть эта сумка выглядела? Что в ней было?
— Кошелек, билет, несколько писем, еще... записки, — вспоминала Кэтрин, начиная беспокоиться. Дэнем побежал вперед, и не успела она оглянуть-
Глава 25
251
с я, как он уже кричал ей, что нашел пропажу. Чтобы убедиться, все ли на месте, Кэтрин присела на скамейку и вытряхнула содержимое сумочки на колени; Дэнем с неподдельным интересом уставился на горку прелюбопытных вещиц: несколько золотых монет, завязанных в узкую полоску кружева, письма, явно не предназначенные для чужих глаз, две-три связки ключей и списки покупок, отмеченных крестиками. Но, судя по всему, пропажа этих вещей мало беспокоила Кэтрин: она волновалась из-за какой-то записки и, пока ее не обнаружила — бумажку непонятного содержания, сложенную вчетверо, — не успокоилась. А когда все благополучно разрешилось, сразу заговорила о том, что она долго думала над тем, что Дэнем рассказал ей о своих планах.
Он прервал ее, не дав договорить:
— Не будем об этом треклятом деле.
— Но как же?..
— Дело пропащее. Мне не надо было вообще вам о нем рассказывать...
— Значит, вы все решили?
Он неопределенно хмыкнул.
— Не все ли равно?
Ей ничего другого не оставалось, как поддакнуть из вежливости.
— Понимаете, — объяснил он уже не так резко, — это касается только меня, никого больше. Не хватало вам еще чужих забот!
Она сообразила, что своим сегодняшним поведением, видимо, дала ему повод думать, что устала от житейских проблем.
— Извините, я сегодня, наверное, рассеянна, — начала она оправдываться, вспомнив, что Уильям часто упрекал ее за этот грех.
— Видимо, есть от чего быть рассеянной, — ответил он.
— Да, — ответила она, краснея. — Хотя нет, — тут же поправилась, — нет никаких особых причин. Но вы знаете, я все думаю о растениях. Это так интересно! Не помню, когда еще мне было так хорошо, как сегодня... Но вы же обещали мне рассказать о себе, — пожалуйста, если вы, конечно, не против.
— Да, собственно, все решено, — ответил он. — Снял этот чертов коттедж, буду кропать никому не нужную книжку.
— Вот бы мне так, — позавидовала Кэтрин.
— За чем же дело стало? Коттедж можно снять за пятнадцать шиллингов в неделю.
— Дело не в коттедже, домик снять проще простого, — ответила она. — Вопрос в другом... — осеклась она. — Мне и нужно-то всего две комнатки, — сказала со вздохом, — в одной есть, в другой спать. Хотя нет, мне еще нужна
252
Вирджиния Вулф. День и ночь
другая, побольше, под крышей, и еще крошечный садик — чтоб росли цветы. Дорожка — вот такая же — ведет к реке или в лес, и море неподалеку, чтоб ночью было слышно волны. И корабли на самом горизонте... — Она не договорила. — От вас море недалеко?
— Полное счастье, — заговорил он, точно не слыша ее вопроса, — по-моему, полное счастье — жить именно так, как вы описали.
— Ну, значит, так и заживете. Вы ведь, наверное, будете работать, — продолжала она, — утром, вечером, может, и по ночам. К вам никто не будет приезжать, чтобы не отвлекали.
— И как долго, по-вашему, можно так жить, затворником? — спросил он. — Вы когда-нибудь пробовали?
— Однажды пришлось, недели три, — ответила она. — Отец с матерью уехали в Италию, а я почему-то не смогла к ним поехать и три недели жила сама по себе, единственный собеседник — посетитель в кафе, где я обедала, — как сейчас помню, с бородой. После обеда я шла домой и... ну, словом, занималась своими делами. Вы, наверное, думаете, что я необщительная, — добавила она, — но я действительно терпеть не могу общество. Одно дело — перекинуться словом с незнакомым человеком, да еще бородачом, это интересно, он не лезет к тебе в душу, он сам по себе, и мы оба знаем, что никогда больше не встретимся. Поэтому мы совершенно искренни друг с другом — а с друзьями ведь так не получается.
— Глупости! — отрезал Дэнем.
— Почему глупости? — возразила она.
— Да потому, что вы первая не верите своим словам, — рассудил он.
— А вы самоуверенны, — рассмеялась она и посмотрела на него внимательно. Ну и строг же он! А как горяч, как настойчив! Упросил ее прийти в Кью, чтоб посоветоваться, теперь говорит, что советы ему не нужны, мол, уже все решил сам, а тут еще взялся указывать ей на ее недостатки. Вот уж прямая противоположность Уильяму Родни, подумала она: костюм на нем потрепанный, сшит плохо, ухажер из него никакой, заикается, неловок настолько, что ни за что не догадаешься, что он на самом деле большой умница. Молчун, а когда горячится, не знаешь, куда глаза девать от смущения. И при всем том, он был ей симпатичен.
— Итак, я первая не верю своим словам, — повторила она с улыбкой. — Это почему же?
— Потому что искренность, по-моему, — не ваше жизненное кредо, — заметил он многозначительно.
Она вспыхнула от его слов, он попал в яблочко, в ее слабое место — помолвку с Родни, и сделал это не без оснований. Правда, теперь этих основа¬
Глава 25
253
ний меньше, чем раньше, вспомнила она с удовлетворением, но все равно возражать она ему не может и поэтому вынуждена молча терпеть его намеки, хотя что значат эти обидные слова в устах человека, у которого у самого рыльце в пушку? Тем не менее ей почему-то обидно, размышляла она, то ли оттого, что он и не думает считать себя виноватым перед Мэри Дэчет, то ли из-за его безапелляционного тона.
— А вы не думаете, что это довольно трудно — быть до конца искренним? — спросила она его с едва заметной иронией.
— Некоторым нетрудно, — ответил он уклончиво. Он видел, что делает ей больно, и ругал себя за излишнюю резкость, но в глубине-то души он знал, что он не ей боль причиняет, — ей его уколы не грозят, — а себе, себе самому за то, что безрассуднейшим образом поддался наваждению, которое временами накатывало на него и бросало, казалось, на край земли. Никакие самые безумные мечты не могли сравниться с тем, как действовало на него ее присутствие. Ему казалось, он зримо видит, как под тихой благородной наружностью, которая, кажется, вся на виду, всегда живо откликается на любые житейские неурядицы, — так вот, в этой тихой гавани обитает загнанная, запрятанная на самое дно одиночеством или — как знать? — любовью, — душа. Неужели Родни дано стать свидетелем того, как она сорвет с себя маску, расправит крылья, сбросит путы долга, как превратится в безудержно страстное, вольное существо, действующее под влиянием инстинкта? Нет, в такое будущее он отказывался верить. Кэтрин нужно одиночество — только так она становится самой собой. «Потом я шла домой и... занималась своими делами», — она сама так сказала, и слова эти заронили в нем сначала слабую, а потом все сильнее крепнущую надежду, что когда-нибудь он станет ее избранником, с которым она захочет разделить свое одиночество, — и от одной этой мысли у него захватывало дух и сердце готово было выскочить из груди. Он беспощадно давил в себе эти чувства. Он видел: она вспыхнула от его слов; он ей неприятен, потому иронизирует.
Пытаясь нащупать в себе жилку сдержанного стоицизма, с которым он еще недавно смотрел на циферблат часов, пока ждал ее на берегу, он сунул руку в карман и стал незаметно водить пальцем по гладкой крышке серебряного хронометра, поклявшись, что только в таком духе он отныне будет общаться с Кэтрин. Разве не о том же — о благодарности и сдержанности — говорил он в письме, которое так и не отправил? И вот теперь настало время собрать волю в кулак и дать себе слово в ее присутствии.
Тем временем Кэтрин искала доводы — ей хотелось, чтобы Дэнем понял.
— Разве вы не видите, что честной легче быть тогда, когда тебя не связывают с человеком никакие отношения? — рассуждала она. — Вот о чем речь.
254
Вирджиния Вулф. День и ночь
Тебе не надо ни перед кем заискивать, ты никому ничего не должен. А дома... ничего ни с кем невозможно обсудить, все живут кучей, ты одна против всех, в дурацком положении... Разве у вас в семье не так?
Она не договорила, вопрос был сложный, и, потом, она вспомнила, что не знает, есть у Дэнема семья или нет.
В том, что касается разрушительного действия системы семейных отношений, Дэнем был солидарен с Кэтрин, однако обсуждать с ней эту проблему он не собирался. Его гораздо больше интересовал другой вопрос.
— А по-моему, искренность возможна, — заявил он, — и для этого вовсе не обязательно жить врозь — просто не входить в отношения друг с другом, оставаться свободным и предоставлять свободу другому, не чувствовать себя обязанным.
— Может, и так, до поры до времени, — уныло согласилась она. — Все равно, рано или поздно обязанности накопятся. Люди чувствительны, простых ведь людей нет, и даже тот, кто хочет вести себя здраво, в конце концов оказывается... — в ее положении, хотела она добавить, но вовремя поправилась, — у разбитого корыта.
— Ничего удивительного! — тут же парировал Дэнем. — Надо договариваться на берегу — тогда не будет недоразумений. Вот я, например, — заявил он солидно, с большим самообладанием, — я готов хоть сейчас предложить дружбу на условиях полной искренности и полного доверия.
Ей стало любопытно, но она боялась обсуждать вопрос, в котором для нее — не для него — таилось много подводных камней; к тому же ей сразу вспомнилась отвлеченная тирада, которой он разразился тогда на набережной. Любой намек на любовь вызывал у нее беспокойство — все равно что бередить рану.
Но он шел напролом.
— Во-первых, никаких эмоций — вот главное условие дружбы, — постановил он. — И та, и другая стороны должны быть готовы к тому, что если один из них влюбляется, то это его личное дело. Никаких взаимных обязательств. Полная свобода выбора: хочешь — уходишь, хочешь — остаешься. Все обсуждается открыто, если на то есть желание. Таковы условия.
— Вопрос — ради чего? — спросила она.
— Конечно, это риск, а как иначе? — ответил он. Он использовал слово, которое она сама в последнее время часто употребляла, говоря сама с собой. — Другого пути нет — дружба ради самой дружбы, — заключил он.
— Ну если так, — протянула она задумчиво.
— Да, — утвердительно сказал он, — именно такую дружбу я вам предлагаю.
Глава 25
255
Она знала, что к этому все идет, и все же в первую минуту опешила — и рада, и не рада предложению.
— Я согласна, — начала она, — но только...
— Только что? Родни будет против?
— Нет, что вы, — возразила она, — дело не в том, — и снова замолчала.
Ее тронули прямота и уважительность, с которыми он предложил ей
дружить, как он выразился, на определенных условиях — и все-таки если он мог позволить себе широкий жест, то она не могла себе позволить ошибиться. В противном случае им обоим несдобровать, размышляла она; впрочем, никаких особых очевидных опасностей эта дорожка не сулила — по крайней мере, пока. Она попробовала представить, какая в будущем может грозить им беда, но почему-то ничего не приходило ей на ум. Люди вообще много придумывают, решила она, а жизнь — она совсем другая, идет себе и идет своим чередом. И в какой-то момент она не то чтобы решила перестать осторожничать, а пришла к мысли, что ее страхи напрасны. Уж если у кого есть на плечах голова, так это у Ральфа Дэнема, он же сказал, что не любит ее. И потом, рассуждала она, идя по березовой аллее, помахивая зонтиком, словно самый свободный человек на свете, зачем все время мерить себя чужим аршином? И вообще, откуда это мнение, что между мыслью и поступком лежит непроходимая пропасть, задавалась она вопросом, откуда нам знать, что между личной жизнью и жизнью общественной нет ничего общего? Почему мы так уверены, что душа, с одной стороны, деятельна и ясна как стеклышко, а с другой — душа — потемки, душа — омут? Неужели нельзя перекинуть мостик от одного берега к другому, встать и почувствовать, что ты — все та же? Почему не воспользоваться его предложением и не подружиться? Это ли не чудесный редкий подарок? Как бы то ни было, вздохнув, не без облегчения, как ему показалось, она согласилась, он прав, ее устраивают его условия.
— А теперь, — сказала она, — пойдемте пить чай.
В самом деле, они оба вздохнули с большим облегчением — дело сделано! Решение принято — решение не пустяковое, и теперь можно и чаю попить, и по парку всласть нагуляться. Они обошли все, какие есть, оранжереи, окинули взглядом все водоемы, поздоровались со всеми лилиями, сколько было вокруг гвоздик, каждую понюхали, рассказали друг другу, кто какие деревья и озера больше любит. Им нечего было скрывать от посторонних — любой мог подойти со спины и подслушать — на самом деле так и было: мимо них проходили сотни людей, и никто ни о чем не подозревал; такая открытость, думал каждый из них про себя, лишь укрепляла восхитительное чувство товарищества, которое между ними возникло. Больше Ральф не заговаривал ни о домике в деревне, ни о планах на будущее.
256
Вирджиния Вулф. День и ночь
Глава 26
Давно уже рассыпались в прах — во всяком случае, в том, что касается бренной оболочки, — старинные, размалеванные дилижансы, со сторожевыми рожками, с особой атмосферой внутри салона, настраивающей на приключения в дороге, — и духом их можно проникнуться, разве что читая наших романистов; но, несмотря на это, и в нынешнее время, когда в Лондон едешь не дилижансом, а мчишься на всех порах скорым поездом, романтическая аура путешествия не выветрилась до конца. Во всяком случае, Кассандра, которой исполнилось двадцать два, радовалась поездке, как ребенок, которому достался счастливый билет. Дома за окном месяцами стоял один и тот же унылый сельский пейзаж, и поэтому, когда вдруг в окне вагона замелькали домики и стало ясно, что они подъезжают к Лондону, она сразу посерьезнела, и все окружающее: соседи по вагону, даже оглушительный и властный свисток паровоза — все предстало перед ее впечатлительной натурой событием значительным и первоочередным. Они торопятся в Лондон, прочь с дороги, если вам не по пути! Но уже очень скоро, стоило ей только сойти на платформе Ливерпул-стрит, стало ясно, что здесь этот номер не пройдет и надо срочно перестраиваться: все заняты, все торопятся, извозчики наперебой предлагают подвезти, а не хочешь, к твоим услугам моторные омнибусы и лондонское метро. Кассандра моментально изобразила неприступную и страшно занятую горожанку, но едва извозчик взял с места в опор — ей даже сделалось немного страшно, — как напускная надменность мигом с нее слетела, и она только успевала поворачивать голову направо и налево, жадно ловя любопытным взглядом все подряд: здания, уличные сценки... И всю дорогу ей казалось, что это происходит не с ней, — так все необыкновенно; уличная суета, правительственные здания, бесконечный людской круговорот у сияющих витрин — все сливалось в одно пятно, как в театре, когда смотришь из зала на происходящее на сцене.
Такое настроение объяснялось просто: Кассандра попала «с корабля на бал», не заметив, как окунулась в мир своих давних грез. Сколько раз она, бывало, мечтала, заглядевшись на зеленые поля за окном, как поедет в Лондон, как придет к Кэтрин в дом, в Челси, поднимется в ее комнату и там, в тишине, никому не видимая, всласть насладится фантазиями про обожаемую хозяйку загадочного царства. Кассандра действительно обожала свою кузину; возможно, это было наивно с ее стороны, но спасало положение то, что благодаря своей живой, горячей, любвеобильной натуре она во все привносила прелесть и очарование. За свои двадцать два года она, кажется, перепробовала все и вся в качестве предмета обожания. Учителя хватались за голову, вначале полагая, что им страшно повезло с ученицей, а потом проклиная
Глава 26
257
все на свете. Архитектура, музыка, естествознание, гуманитарные науки, литература и искусство — за все это Кассандра бралась поочередно с бешеным увлечением, выдавая совершенно блистательный результат, а потом в какой- то момент, дойдя до вершины, остывала и тайком покупала учебник совсем по другой дисциплине. Дело кончилось тем, что ей уже было двадцать два, а она еще не сдала ни одного экзамена ни по одному предмету, и чем дальше, тем все меньше становилась вероятность того, что она когда-либо что- либо сумеет вообще сдать, — оправдывались самые худшие ожидания ее домашних учителей, твердивших, что отродясь ни в ком не видывали подобной разболтанности. Обнаруживались и более серьезные последствия: она не могла себя содержать, ей грозило всю жизнь висеть на шее у родителей. Тем не менее Кассандре как-то удалось из обрывков своих, казалось бы, никак не связанных увлечений и занятий составить особую манеру, особый почерк, и он, при всей кажущейся никчемности, нравился некоторым ее собеседникам живостью и свежестью мысли. Кэтрин, например, любила ее общество, вместе они, казалось, составляли такую богатую взаимодополняющую палитру достоинств, какую не то что в одном человеке — в дюжине людей не встретишь! Так, если Кэтрин в чем-то была сама простота, то Кассандра, наоборот, представлялась крепким орешком; Кэтрин, положим, вела себя принципиально и открыто, а Кассандра, наоборот, — скрытничала и уходила от ответа. В общем, в них двоих женская природа превосходно являла свои мужскую и женскую ипостаси, скрепленные к тому же и семейным родством. При всем обожании, питаемом Кассандрой к Кэтрин, она вовсе не творила из нее кумира: наоборот, при первой возможности подшучивала над кузиной, пускала шпильки в ее адрес, а та с одинаковым удовольствием воспринимала и шутки, и знаки уважения.
В последнее время уважение к старшей сестре явно перевешивало. Кассандра находилась под впечатлением состоявшейся помолвки, а, как всегда бывает, первая помолвка среди твоих сверстников действует на воображение: все кажется таинственным, прекрасным, торжественным, словно эти двое участвуют в важном обряде, а все остальные — непосвященные. Из пиетета перед кузиной Кассандра и Уильяма возвела в ранг достойных и интересных личностей, и, поскольку ее грела мысль о том, что они могут стать друзьями, она с вниманием слушала жениха Кэтрин и даже попросила дать ей почитать его рукопись.
Когда она в тот день наконец добралась до дома на Чейн-уок, оказалось, Кэтрин еще не подошла. Поздоровавшись с дядей и тетей и получив от дяди Тревора два золотых «на карманные расходы», Кассандра — дядюшкина любимица — переоделась и пошла в комнату Кэтрин скоротать время. Она поразилась огромному — в пол — зеркалу и разным дамским штучкам на
258
Вирджиния Вулф. День и ночь
туалетном столике кузины, ее собственная комнатка показалась ей в сравнении с этой простой детской. Она заметила, что на самом видном месте на каминной доске торчит вместо украшения шампур для жаркого с нанизанными счетами, — до такого может додуматься только Кэтрин, усмехнулась Кассандра. Нигде ни одной фотографии Уильяма. Во всем чувствовалась личность Кэтрин: свободное сочетание роскоши и простоты, шелковых халатов и малиновых домашних тапочек, ковра с потертым ворсом и голых стен — все это было на нее так похоже! Кассандра встала посередине комнаты, вдыхая аромат обстановки, потом ей захотелось потрогать что-нибудь из сестриных вещей, и она сняла с полки над кроватью несколько книжек. Обычно в таком месте держат самые любимые, чтоб всегда были под рукой, — одолеет ночью бессонница, тоска ли какая, забота, достанешь с полки под покровом ночи заветную книжицу, глотнешь эликсир веры — и долой сомнения! Однако на этой полке не видать требника. Книжки все потрепанные, исписаны формулами — Кассандра решила, что это старые школьные учебники дяди Тревора, которые его дочь по непонятной причине ревностно хранит у себя «под подушкой». Нет, подумала она, Кэтрин не перестает меня удивлять. Когда-то она сама увлекалась геометрией и вот теперь решила тряхнуть стариной — посмотреть, что помнит, что забыла, свернулась клубочком на стеганом покрывале — и зачиталась. Вот такую интересную картину застала вернувшаяся домой Кэтрин.
— Боже! — воскликнула Кассандра, потрясая перед ее носом книжкой. — Я начинаю новую жизнь! Мне надо срочно записать, как зовут этого парня, а то забуду...
Какой парень, что за книжка, какая новая жизнь — уточнять было некогда: Кэтрин начала быстро переодеваться, боясь опоздать.
— Можно, я просто посижу? — спросила Кассандра, захлопнув книгу. — Я уже готова.
— Ах, ты уже готова? — переспросила Кэтрин, обернулась и посмотрела на кузину — та сидела с ногами на кровати, обхватив колени. — Сегодня у нас гости, — объяснила она, как будто первый раз оглядывая Кассандру со стороны. Они с ней какое-то время не виделись, и первое, что бросилось Кэтрин в глаза после перерыва, — это достоинство, с которым держалась барышня, прелестное личико с длинным острым носиком и блестящие миндалевидные глаза. Чистый открытый лоб, копна волос — ну что же, если над ней поработают парикмахеры и модельеры, может выйти очень даже интересный тип — этакого милого бесенка, как на портрете французской придворной дамы восемнадцатого века.
— А кто приглашен на ужин? — поинтересовалась Кассандра, сгорая от нетерпения услышать новые захватывающие подробности.
Глава 26
259
— Уильям и еще, по-моему, тетя Элеонора и дядя Обри.
— Уильям — как здорово! Он вам говорил, что дал мне почитать свою пьесу? По-моему, получилось замечательно — знаете, по-моему, он вам почти ровня!
— Ты сама ему обо всем расскажешь — за ужином вы будете сидеть рядом.
— Как можно? — ужаснулась Кассандра.
— Что значит «как можно»? Ты что, его боишься?
— Немножко — ведь он ваш жених.
Кэтрин улыбнулась.
— Ну, зная твою преданность, я думаю, что через две недели, пока ты у нас гостишь, у тебя не останется иллюзий на мой счет. Даю тебе неделю, слышишь? Я хочу увидеть, как с каждым днем убывают мои чары. Сегодня я на коне, но уже завтра все пойдет на убыль... Что бы мне такое надеть? Кассандра, достань, пожалуйста, голубое платье, вон там, в платяном шкафу.
Она говорила быстро, между делом, стоя перед зеркалом и причесываясь; ящички туалетного столика только успевали открываться; сидя у нее за спиной, на кровати, Кассандра наблюдала за ее отражением в зеркале. Выражение было серьезным и сосредоточенным: кузину явно занимала не только прямая линия пробора, который, кстати говоря, был не менее ровным, чем дорога, построенная римлянами. Кассандра снова отметила про себя поразительную стать своей кузины: когда та, стоя перед зеркалом, облачилась в голубое платье, Кассандре показалось, что на заднем плане комнаты, из света и тени, выплыл — точно картина в раме — самый романтичный из всех когда-либо ею виденных образов, и дело было вовсе не в красоте хорошенькой женщины, чье отражение наполняло зеркало. Образ воспринимался как что-то органичное на общем фоне комнаты, дома, даже города — ухо Кассандры все еще не привыкло к городскому шуму.
Несмотря на спешные приготовления Кэтрин, они вдвоем сильно задержались. Когда они подошли к гостиной, откуда доносился низкий гул голосов, Кассандре снова показалось, что она в опере, где оркестранты настраивают инструменты перед увертюрой. Она решила, что гостиная полна народу, что она там никого не знает, все изысканно одеты, сияют красотой, хотя, как оказалось на поверку, в основном там были ее родственники, весьма скромно одетые, и единственная парадная деталь туалета, выделявшаяся на общем фоне, — и то на взгляд стороннего наблюдателя, — это белоснежный жилет Родни. Зато было очень приятно, когда при их с Кэтрин появлении все разом поднялись, бросились здороваться, жать друг другу руки, ее представили мистеру Пейтону, а потом двери столовой, где уже был накрыт стол,
260
Вирджиния Вулф. День и ночь
распахнулись, и все торжественно двинулись в обеденный зал, и тут сбылась ее тайная надежда — Родни вызвался быть ее кавалером, и она пошла с ним под руку. Вообще вся обстановка, на взгляд Кассандры, была просто сказочная; узор на сервизе, белоснежные накрахмаленные салфетки, свернутые в форме лилий, хлеб в виде длинных батонов, перевязанных розовой ленточкой, столовое серебро, бокалы для шампанского цвета морской волны на ножках с золотыми блестками — от всей этой волшебной красоты, к которой, помимо всего прочего, примешивался любопытный запах лайковых перчаток, у нее захватывало дух, и ей стоило больших усилий сидеть спокойно, как взрослая, которая уже ничему в мире не удивляется.
Так-то оно, конечно, так, удивляться особо нечему, зато вокруг столько интересных людей, и каждый из них, по мнению Кассандры, несет в себе кусочек, как она выражалась про себя, «реальности». Если человека попросить, он непременно поделится с тобой этим своим драгоценным секретом — собственно, это самое интересное на званом ужине! Кассандра не переставала удивляться небрежности, с какой окружающие относятся к редкой возможности раскусить соседа, а ведь тут есть чем поживиться! Один мистер Пейтон, лысый толстячок, сидящий справа, чего стоит, не говоря о сидящем от нее слева Уильяме Родни. Она заговорила, обращаясь к ним обоим, но вышло так, что ее первым слушателем оказался пожилой господин с усиками: она поведала ему, что в Лондон приехала сегодня днем, ехала сюда на извозчике, через весь город. Мистер Пейтон — а это был он, редактор с пятидесятилетним стажем, — кивал, с явным интересом слушая ее рассказ. Во всяком случае, он видел, что перед ним хорошенькая юная барышня, что она в восторге, хотя, что привело ее в такой восторг, он толком не понимал, а вспомнить собственную молодость уже не мог. Он вежливо уточнял: «А почки на деревьях набухли?», «А какой веткой ехали?»
Тут она возьми и спроси его в лоб: что он предпочитает — ехать в поезде и читать книжку или ехать и смотреть в окно? От такого вопроса мистер Пейтон опешил: он не знал, что сказать, — наверное, и то, и другое. После чего незамедлительно последовал ответ: опаснейшее признание, господин редактор! Из него следует только один вывод, сообщила ему Кассандра. Какой же? — заинтересовался мистер Пейтон. А тот, объявила она ему, что быть ему членом парламента от партии либералов.
Тут уже со стороны Уильяма раздался нервный смех — до этой самой минуты он был больше для порядку занят беседой с тетей Элеонорой, а поскольку дамы в возрасте обычно редко придерживаются логики, во всяком случае, в разговоре с молодыми и интересными представителями противоположного пола, то он решил, что пора вмешаться.
Глава 26
261
Кассандра тут же повернулась в его сторону, она была в восторге от открывавшейся перед ней возможностью так легко и сразу раскусить еще одно обворожительное существо.
— Уильям, — обмирая от радости при упоминании его имени, объявила Кассандра, — что касается вас, то у меня нет ни малейшего сомнения — вы бы ни разу не посмотрели в окно, вы бы всю дорогу читали книжку.
— И какие вы делаете отсюда выводы? — спросил мистер Пейтон.
— О, вывод один — он поэт, — ответила Кассандра. — Но это нечестно, я об этом и так знала. Кстати, — с этими словами она повернулась к Уильяму, совершенно забью о существовании мистера Пейтона, — я привезла вашу рукопись, у меня масса вопросов.
Уильям слегка склонил голову, показывая, что он к ее услугам, и одновременно пытаясь скрыть, что он немало польщен ее замечанием. Впрочем, сия бочка меда была не без ложки дегтя: как ни падок он был на лесть, но он никогда не принял бы хвалу от человека, не сведущего в литературе, сентиментального, и, окажись в этой роли Кассандра, он бы тут же, невзирая на лица — Кассандра не Кассандра, кто угодно, — выказал бы свое неудовольствие, подняв брови и замахав руками; после этого дело можно было считать закрытым.
— Ну, во-первых, — начала она, — скажите, почему вы выбрали именно пьесу?
— Ах, вот что! Вы хотите сказать, что в ней нет драматургии?
— Я хочу сказать, что не вижу, каким образом она выиграла бы от сценической постановки. Опять же вопрос: а Шекспир выигрывает? Мы с Генри все время об этом спорим. Он неправ, я знаю, но не могу это доказать, потому что я только один раз в своей жизни видела в Линкольне шекспировскую постановку. Но все равно я уверена, — твердила она, — Шекспир писал для театра.
— Вы правы, совершенно правы! — воскликнул Родни. — Здорово, что вы так думаете! А Генри неправ, кругом неправ. Конечно, у меня не получилось, сегодня ни у кого не получается. Мне надо было раньше дать вам почитать!
И они углубились в обсуждение по памяти разных подробностей, связанных с пьесой Родни. Он откликался на все замечания Кассандры, ему все нравилось, более того — ее свежий, неискушенный взгляд на вещи настолько будоражил его воображение, что, сидя за столом, он частенько застывал с вилкой в руке, разглагольствуя о принципах искусства. Миссис Хилбе- ри на него даже засмотрелась — настолько симпатично он выглядел, да, он как-то изменился в лучшую сторону, он кого-то из знаменитостей ей напомнил, — забыла, кого именно.
262
Вирджиния Вулф. День и ночь
В эту минуту Кассандра громко заспорила:
— Как, вы не читали «Идиота»?1
— Зато я читал «Войну и мир»2, — с вызовом бросил Уильям.
— Подумаешь, «Война и мир»! — презрительно хмыкнула Кассандра.
— Признаться, я не понимаю русских.
— Мир! Мир! — забасил на другой половине стола дядя Обри. — Я тоже не понимаю — они сами себя не понимают, позволительно будет заметить.
В свое время у старика в подчинении находилась значительная часть британской Индийской империи, однако он любил повторять, что, его бы воля, он бы лучше писал романы — как Диккенс. Тут застольная беседа вошла в привычное русло; тете Элеоноре явно не терпелось высказаться по данному вопросу. Она, хоть четверть века и просидела в разных благотворительных обществах, тем не менее литературный нюх не потеряла — за версту чует разных выскочек из молодых да ранних, кто-кто, а уж она-то умеет отличить настоящую литературу от подделки. У нее это врожденное, так что гордиться тут особо нечем.
— Сумасшествие — не тема для литературы, — заявила категорично тетя.
— Позвольте, а как же Гамлет?3 — вмешался мистер Хилбери в свойственной ему расслабленной, полушутливой манере.
— Тревор, но это же поэзия, это другое, — возразила тетушка таким тоном, будто у нее есть дарственная на Шекспира. — Не надо смешивать. И потом, мне, например, не кажется, что Гамлет — такой уж сумасшедший, каким его представляют. Как вы думаете, мистер Пейтон?
Поскольку за столом присутствовал только один законодатель от литературы в лице главного редактора известного журнала, то она, естественно, обратилась к нему.
В ответ мистер Пейтон, слегка откинувшись на стуле и наклонив голову вбок, сказал, что так и не смог на эту тему дать удовлетворительного объяснения. Есть веские доводы в пользу и той, и другой точки зрения, и если говорить о том, какую разделяет он... — но тут вмешалась миссис Хилбери, не дав публике дослушать до конца взвешенные рассуждения мистера Пейтона.
— Бедная, бедная Офелия!4 — воскликнула она. — Какая могучая это сила — поэзия! Просыпаешься утром, вся выжатая как лимон, — за окном желтый туман, малышка Эмили зажигает электрический свет, приносит мне чай и говорит: «Сударыня, вода в котле замерзла, а кухарка порезала палец — аж до самой кости». Тогда я открываю книжечку в зеленом переплете, а там — щебечут птицы, сияют звезды, мерцают цветы...
Она посмотрела по сторонам, словно чудо, вот оно — совершается прямо у них на глазах за столом.
Глава 26
263
— И что, серьезная рана у кухарки? — грозно спросила тетя Элеонора, адресуя свой вопрос главным образом к Кэтрин.
— Это я так, про кухарку, для примера, — ответила миссис Хилбери. — Но вы правы, — если бы кухарка, не дай бог, отрезала себе руку, Кэтрин все поправила бы — приставила бы руку обратно, и все зажило бы, — заметила она, с обожанием посмотрев на дочь, которой, судя по всему, было не очень весело. — Но не будем о грустном, — сказала хозяйка, складывая салфетку и отставляя стул. — Пойдемте наверх, поговорим о чем-то более веселом.
Наверху в гостиной Кассандру ждали новые источники удовольствия: во-первых, уютная обстановка, располагавшая к беседе, а во-вторых, дополнительная возможность поупражняться в разгадывании женского характера. Но, сама того не заметив, барышня быстро перешла на шепот и взяла себе роль наблюдательницы: видимо, подействовало окружение — приглушенные женские голоса, долгие паузы в разговоре, блеск вечерних туалетов из черного атласа, оттененный янтарными ожерельями на старческих шеях дам... Она с упоением окунулась в атмосферу дамского общества, где более опытные женщины на лету делятся подробностями частной жизни и куда она тоже оказалась вхожа. Она с мягким сочувственным выражением лица слушала тетю Мэгги и тетушку Элеонору, словно и она тоже, как они, исполнена материнской заботы, справедливой тревоги за судьбы мира, которые возложены на их плечи. Поискав глазами Кэтрин, она заметила, что та не участвует в общей беседе, и вдруг что-то ее рассмешило, она расхохоталась, — и куда подевались недавняя мягкость, выражение заботы и сострадания!
— Тебе смешно? — спросила Кэтрин.
— Так, пришла в голову одна глупая, неуместная шутка. Ерунда, ребячество, дурной тон, и все же, если прищуриться одним глазом и посмотреть вот так...
Кэтрин прищурилась, посмотрела, но, оказьюается, смотреть надо было в другую сторону, и это еще больше насмешило Кассандру, она покатывалась со смеху, шепча кузине на ухо, что если прищуриться, то тетя Элеонора совсем как попугай, который живет у них в клетке в Стогдон-хаусе. Тут в гостиной появились мужчины, и Родни прямиком направился к ним, спрашивая, над чем это они потешаются.
— Категорически отказываюсь отвечать! — парировала Кассандра, встав перед ним, подбоченившись и поддразнивая его. Он буквально растаял. Он понял, что она смеется от полноты чувств, — жизнь прекрасна, жизнь восхитительна, и он тут ни при чем.
— Ах, вот как, жестокая, — отвечал он, щелкая невидимыми шпорами, надвигая на лоб воображаемую шляпу и беря в руки прогулочную трость, —
264
Вирджиния Вулф. День и ночь
вы заставляете меня ощутить всю безмерность дикарства, в котором прозябает мой пол. Мы сидели и обсуждали какие-то страшно скучные вещи — и вот моя кара, я уже никогда не узнаю то, что мне интереснее всего на свете.
— Вы нас не обманете! — вскричала она. — Мы вам не верим! Мы прекрасно знаем, чем вы там наслаждались! Так ведь, Кэтрин?
— Нет, не так, — ответила она. — Он говорит правду, его не интересует политика.
Она сказала это так просто, что от веселья не осталось следа. Уильям моментально посерьезнел и подтвердил:
— Да, я терпеть не могу политику.
— Но ведь это же неправильно! — чуть не плача заявила Кассандра.
— Согласен, — быстро поправился Уильям. — Я хотел сказать, я не терплю политиков.
— Видишь ли, Кассандра — феминистка, точнее, была феминисткой полгода назад, — пояснила Кэтрин. — Впрочем, что говорить о том, что было и прошло? По-моему, в этом и заключается главная прелесть юности. Не знаешь, как все повернется.
Она посмотрела на нее с улыбкой на правах старшей сестры.
— Кэтрин, я что, маленькая?! — воскликнула Кассандра.
— Она не то имела в виду, — вмешался Родни. — Я согласен — женщины дают нам колоссальную фору. Мы столько теряем оттого, что пытаемся во все вникнуть.
— Заметь, он очень глубоко вник в древнегреческий, — сказала Кэтрин. — Впрочем, не только в греческий, — он весьма сведущ в живописи, хорошо знает музыку, и вообще он весьма образованный молодой человек — пожалуй, самый образованный из всех, кого я знаю.
— А поэзия? Вы забыли про поэзию, — напомнила Кассандра.
— Ах да, он же написал пьесу, как это я забыла?
И пошла от них в другой конец комнаты, словно что-то там привлекло ее внимание.
Получилось так, что Кэтрин по-светски представила их друг другу, а потом отошла в сторону; с минуту они молча стояли, провожая ее взглядом.
— По словам Генри, — прервала молчание Кассандра, — сцена должна быть не больше, чем эта гостиная. И еще он хочет, чтобы на сцене не только играли, но и танцевали, и пели, — только совсем не так, как у Вагнера5, — понимаете?
Они присели, и Кэтрин, развернувшись, стоя спиной к окну, увидела немую сцену: Кассандра что-то говорит, а Уильяма так и подмывает ей ответить — застыл с поднятой рукой и открытым ртом, ждет, когда та закончит фразу.
Глава 26
265
Кэтрин тут же забыла, зачем пошла к окну — то ли поправить пггору, то ли подвинуть кресло, — она просто стояла и наблюдала: старички у камина образовали теплую компанию — сидят, рассказывают истории, слушают, видно, что им никто не нужен. Она почувствовала себя липшей.
«Если спросят, скажу, что засмотрелась на реку», — подумала она машинально, настолько велика была в ней рабская сила привычки, что она готова была заплатить невинной ложью за малейшее отступление от этикета. Отдернув пггору, встала перед окном: на улице стемнело, реки было почти не видно, мимо иногда проезжали извозчики да редкие парочки жались к парапету, думая, что под деревьями не видно, как они обнимаются, но деревья стояли еще голые. Кэтрин почувствовала себя ненужной и одинокой; вечер превратился в сплошную муку. С каждой минутой она понимала все отчетливей, что карты лягут именно так, как она и предвидела. От ее внимания не ускользнула ни одна подробность: ни оттенок голоса, ни жест, ни взгляд; и даже сейчас, стоя к ним спиной, она знала, что Уильям упивается от восторга, видя, что неожиданно обрел в Кассандре понимающую душу. Он сам только что чуть не признался ей в том, что не ожидал, что все так хорошо сложится. Она тут же одернула себя, говоря, что пора прекратить думать о личных неурядицах, пора забыть о себе, о взаимоотношениях, и стала снова смотреть в окно. Снаружи темное небо, сзади шум голосов. Ей казалось, что людские голоса доносятся из другого мира, который был до нее, мира, который был лишь прелюдией, вратами в реальность; она будто умерла и теперь слышала, как при ней говорят живые. Впервые ей представилась со всей ясностью призрачная природа существования, впервые жизнь явила свою суть — это коробка, ограниченная четырьмя стенами, и вещи в ней живут до тех пор, пока есть свет и тепло; а снаружи ничего — пустота, мрак. Она словно переступила невидимую черту", где-то позади остался мир, где правит бал иллюзия, внушая людям желание обладать, бороться, любить. Правда, легче ей от грустных мыслей не стало, все равно она невольно вслушивалась в голоса за спиной, терзаясь желаниями. А ей не хотелось никого слышать. «Вырваться бы отсюда на улицу, — подумалось ей вдруг, — не одной, а с кем-нибудь, лучше всего с Мэри Дэчет — вот все и прояснилось». И плотно-плотно, стараясь не оставить ни щелки, Кэтрин задернула шторы.
— А, вот ты где, я тебя потерял, дорогая, — заметил мистер Хилбери, — он стоял спиной к камину и от удовольствия раскачивался на носках. — Все- таки есть от детей прок, — буркнул он себе под нос. — Кэтрин, — снова обратился он к дочери, — пойди, пожалуйста, в мой кабинет, найди на третьей полке справа от двери «Воспоминания о Шелли» Трелони6 и принеси сюда. Вот тут мы и посмотрим, Пейтон, кто прав! Не боитесь оскандалиться перед всей честной публикой, а?
266
Вирджиния Вулф. День и ночь
— Трелони «Воспоминания о Шелли», на третьей полке справа от двери, — повторяла, стараясь запомнить, Кэтрин. Ну что ж, сказка продолжается, не будем лишать детей иллюзии. Направляясь в кабинет отца, она прошла мимо того места, где беседовали Уильям с Кассандрой.
— Кэтрин, постой, — остановил ее Уильям, — давай я схожу, — по его голосу чувствовалось, что ему совсем неохота никуда идти.
Он медленно поднялся с места, и тут она поняла, что он действительно с трудом оторвался от беседы. Упершись коленом в диван, где сидела Кассандра, Кэтрин заглянула ей прямо в глаза — было видно, что мысленно Кассандра все еще разговаривает с Уильямом.
— Скажи, ты счастлива? — спросила Кэтрин
— О Боже! — воскликнула та, словно этим все было сказано. — Конечно, мы спорим обо всем на свете, — продолжала она, — но я в жизни не встречала такого умного человека, ну а вы, — добавила она, посмотрев на Кэтрин, — лучше вас никого нет!
И, увидев в глазах кузины печаль, она тоже взгрустнула с ней за компанию: ей казалось, что печаль — это так благородно!
— Но ведь еще только десять часов, — загадочно заметила Кэтрин.
— Уже так поздно! А что? — переспросила Кассандра.
— В полночь мои рысаки превратятся в мышей, и я исчезну. Сказка кончится. Но я не сетую на судьбу. Как говорится, куй железо, пока горячо.
Кассандра воззрилась на нее с недоумением.
— Послушайте, — обратилась она к подошедшему Уильяму — тот вернулся с книгой очень быстро, — Кэтрин что-то говорит про мышей, железо, я не понимаю. А вы?
Уильям не ответил, только сморщился, и Кэтрин догадалась, что ему сейчас совсем не до того. Резко встав, она сказала совсем другим тоном:
— Ну, я пошла. Уильям, пожалуйста, придумай, что сказать, если спросят, где я. Я ненадолго, мне нужно кое с кем встретиться.
— Ночью? — изумилась Кассандра.
— Ты можешь сказать, с кем? — спросил Уильям.
— С одной знакомой, — бросила она ему вполоборота. Она знала, что он не хочет ее отпускать, так сказать, далеко, — ему важно было иметь ее на подхвате.
— У Кэтрин полно знакомых, — только и смог сказать ей вслед Уильям, снова усаживаясь на диван рядом с Кассандрой.
Вскоре Кэтрин была уже в пути, наслаждаясь быстрой ездой по освещенным фонарями улицам. Она обожала это чувство: скорость, фонари, одиночество; она предвкушала, как доедет, поднимется на верхний этаж и снова увидит Мэри в комнате с высоким потолком... Она пулей взбежала
Глава 26
267
по каменным ступенькам, успев заметить при свете газовых рожков, что ее голубое вечернее платье и голубые бальные туфли выглядят более чем странно на пыльной истоптанной лестнице.
Дверь открыла сама Мэри, не то что удивившись неожиданному появлению гостьи, а скорее как-то смутившись. Но было видно, что она рада, и Кэтрин, не утруждая себя объяснениями, направилась прямо в гостиную и чуть не наткнулась на незнакомого молодого человека: тот сидел, откинувшись, в кресле, держа перед глазами листок, в полной уверенности, что сейчас появится Мэри Дэчет и они продолжат чтение с того места, на котором их прервали. Поэтому его несколько озадачило то обстоятельство, что вместо Мэри появилась незнакомая дама в бальном платье. Он вынул изо рта трубку, привстал и опять сел.
— Вы что, с ужина? — спросила ее Мэри.
— А вы, я вижу, работаете? — вопросом на вопрос ответила Кэтрин.
Молодой человек мотнул головой, точно вопрос не имел к нему прямого
отношения.
— Не совсем, — ответила Мэри. — Мистер Баснет принес мне показать кое-какие документы. Мы их обсуждаем, почти закончили... Расскажите лучше о том, где вы были.
Вид у Мэри был какой-то растрепанный, словно при разговоре она то и дело проводила рукой по волосам и чесала в затылке; на ней был сарафан, какие носят русские крестьянки7. Она снова уселась в кресло с таким видом, будто уже не один час провела в этой позе; судя по количеству пепла в блюдце на подлокотнике, сигарет за вечер выкурили немало. Мистер Баснет, высоколобый юноша с румянцем во всю щеку и с зачесанными назад волосами, был из группы «молодых умников», которые, как справедливо заметил мистер Клактон, имели определенное влияние на Мэри Дэчет. Он недавно закончил университет и теперь занимался реформированием общества. Будучи одним из продвинутых молодых людей, он составил проект по образованию рабочих и по слиянию среднего и рабочего классов, а также по объединенному выступлению двух общественных сил, организованных в Общество по демократизации образования, против власти капитала. Постепенно проект созрел настолько, что его автор решил, что пора снимать помещение под контору и нанимать секретаря, с чем его, собственно, и делегировали к Мэри. Предполагалось, что он представит ей проект и предложит должность секретаря — должность, между прочим, оплачиваемую. И вот с семи часов вечера он зачитывал документ, в котором излагались основные положения реформаторов новой волны; однако чтение затянулось: оно так часто прерывалось обсуждением отдельных подробностей, и автору то и дело приходилось напоминать Мэри «в духе строжайшей секретности» о во¬
268
Вирджиния Вулф. День и ночь
влеченных в дело частных судьбах и злых происках отдельных личностей и организаций, что они еще и половину текста не осилили. Три часа пролетели незаметно. Они даже огонь в камине забыли разжечь — настолько захватила их работа. И все равно, и тот, и другой сохраняли официальный тон диалога, чтобы не создавать повода для неуместных дискуссий личного свойства. Мэри обычно начинала вопрос с сакраментального: «Правильно ли я вас понимаю?», а он неизменно отвечал ей от лица некоего обобщенного «мы».
К моменту появления Кэтрин Мэри почти убедила себя в том, что и ее голос тоже входит в это «мы» и что она готова согласиться с мистером Бас- нетом в том, что «наши» взгляды, «наше» общество и «наша» политика выражают мнение небольшой, но весьма и весьма просвещенной группы деятелей, обособленной от остального общества.
Поэтому, когда в комнату вошла Кэтрин, ее появление показалось чем- то несуразным, и Мэри моментально вспомнила о том, о чем она так долго и безуспешно пыталась забыть.
— Так вы со званого ужина? — опять задала она вопрос, невольно усмехнувшись при виде голубого платья и расшитых жемчугом туфель.
— Нет, из дома. Вы что-то новое задумали? — деликатно поинтересовалась Кэтрин, глядя на разложенные бумаги.
— Да, есть такое, — ответил мистер Баснет и как воды в рот набрал.
— Ухожу от наших друзей на Рассел-сквер, — объяснила Мэри.
— Понятно. Уходите, чтобы заняться чем-то другим.
— Боюсь, я не из тех, кто сидит без работы, — ответила Мэри.
— Чего уж тут бояться, — буркнул мистер Баснет, давая понять, что, по его мнению, только человек не в своем уме может бояться работы.
— Верно, — подхватила Кэтрин, словно и она была того же мнения. — У меня тоже руки чешутся, чтобы что-нибудь затеять, — не с чьей-то подачи, а самой — в этом вся соль.
— Что ж, дело хорошее, — отозвался мистер Баснет и зорко посмотрел на нее, будто впервые видел, потом начал набивать трубку.
— Но ведь любая работа хороша — разве не так? — заметила Мэри. — Я хочу сказать, работа работе рознь. Материнский труд — он самый тяжелый.
— Именно, — ответил мистер Баснет. — Вот до кого нам нужно достучаться — до женщин с детьми.
Он взглянул на проект, который свернул в трубку и держал зажатым в руке, и уставился на огонь. Кэтрин подумала, что в этом обществе все, что ты говоришь, оценивают по существу, здесь от тебя ждут прямых, лаконичных высказываний, причем любопытно, что число вопросов, подлежащих
Глава 26
269
осмыслению, строго лимитировано. И мистер Баснет вовсе не такой деревянный, как кажется: у него умные глаза, обращенные к умному собеседнику.
— И когда же узнает общественность? — спросила она.
— О чем — о нас? — переспросил мистер Баснет, усмехнувшись.
— Это зависит от многих обстоятельств, — уточнила Мэри.
Было видно, что обоим конспираторам страшно приятно такое внимание со стороны Кэтрин: своим вопросом, который не ставил под сомнение существование их общества, она невольно подогревала их собственный интерес.
— Когда затеваешь такое общество, как наше (не будем вдаваться в подробности), нельзя забывать о двух вещах, — тряхнув головой, начал мистер Баснет, — это пресса и публика. Почему пошли прахом очень многие организации (опять-таки не будем называть имен)? Только потому, что не учитывали этих обстоятельств, культивировали кучку чудаков. В этом случае всегда получаешь кружок домоводства, жить которому — один день, пока все не перессорились. Вот поэтому необходимо зацепить прессу; и публику нужно уметь заинтересовать.
— В этом-то вся трудность, — задумчиво заметила Мэри.
— И вот тут весь расчет на нее, — сказал мистер Баснет, кивком головы показывая на Мэри. — Она у нас единственная капиталистка: может позволить себе заниматься этой работой целый день. Я-то к конторе привязан, могу только в выходные. Кстати, а вы случайно не по поводу работы? — спросил он с осторожным почтением Кэтрин.
— Девушка замуж выходит, — ответила за нее Мэри.
— A-а, понял, — сказал мистер Баснет.
Он серьезно относился к вопросу брака; они с друзьями знали цену взаимоотношениям полов и отводили им почетное место в своих планах общественного переустройства. За подчеркнутой краткостью мистера Баснета Кэтрин угадала его нешуточное отношение к проблеме, и ей подумалось, что мир вполне можно отдать на поруки Мэри Дэчет и мистера Баснета — уж они постараются, чтобы в мире стало хорошо, — именно хорошо, без романтического флера, — без попытки, выражаясь фигурально, превратить мир в такое место, где деревья сливаются на горизонте, за синим туманом. На какое-то мгновение ей показалось, что в лице мистера Баснета, сидящего у огня, мелькнули черты того первородного человека, о котором мы нет-нет да вспоминаем, хотя в жизни сталкиваемся только с одной его разновидностью — клерком, стряпчим, чиновником или рабочим. Невелика, конечно, надежда, что в лице мистера Баснета, днем занимающегося коммерцией, а на досуге реформирующего общество, мы имеем потенциально целостного человека; но все же, пока он молод, пока есть задор, пока работает мысль,
270
Вирджиния Вулф. День и ночь
словом, пока не разбил паралич, — он может сойти за гражданина мира более достойного, чем наш. Еще раз пробежав в памяти то немногое, что удалось узнать, Кэтрин чуть было не спросила, чем же именно собирается заняться их общество, но потом вспомнила, что ее никто не звал, что она тут непрошеная гостья, и решила откланяться, но мысль об обществе засела у нее в голове, и с этой мыслью она сказала мистеру Баснету:
— Ну что ж, надеюсь, вы позовете меня, когда придет пора.
Тот кивнул и вынул изо рта трубку, вроде собираясь что-то сказать, но так ничего и не надумал, снова уселся с трубкой, хотя было видно — он совсем не против, чтобы она осталась.
Она не хотела, чтобы Мэри ее провожала, но та настояла, и они вместе вышли на улицу — вокруг, как назло, ни одного извозчика.
— Иди в дом, — уговаривала ее Кэтрин, зная, что ее ждет мистер Баснет.
— Я не могу отпустить тебя одну в таком виде, — возражала Мэри, но не потому, что хотела дождаться извозчика. Побыв буквально минуту рядом с Кэтрин, она лишилась покоя, хотя еще недавно спокойно занималась проектом мистера Баснета. Но что такое мистер Баснет и его проект в сравнении с главным делом жизни? — так, минутное отвлечение... Возможно, в Мэри говорила женщина.
— Вы с Ральфом виделись? — спросила она без предисловий.
— Да, — просто ответила Кэтрин, хотя, наверное, с ходу не вспомнила бы, где и когда; она даже не сразу сообразила, почему Мэри спрашивает ее об этом.
— Видишь, как я ревную, — сказала Мэри.
— Мэри, не говори глупости, — ответила Кэтрин, беря ее под руку и прогуливаясь с ней в сторону проспекта. — Подожди, дай вспомню, — мы гуляли в Кью, мы договорились дружить. Да, все так.
Мэри молчала, надеясь услышать другие подробности, но Кэтрин больше ничего не сказала.
—Какая дружба? При чем тут дружба?—вскипела Мэри. — Ты же знаешь, речь совсем о другом. Так же нельзя... Впрочем, какое мне дело? — Она замолчала. — Ральфа только жалко, — добавила она.
— Вот уж кого не надо жалеть, — по-моему, он вполне может постоять за себя, — возразила Кэтрин; чувствовалось, что и та, и другая с трудом сдерживают возмущение.
— Ты думаешь, так лучше? — помолчав, спросила Мэри.
— Откуда мне знать? — отозвалась Кэтрин.
— Да у тебя есть вообще хоть к кому-нибудь теплое чувство? — не выдержала Мэри.
Глава 26
271
— Только этого не хватало — на улице, на людях, обсуждать чувства! Эй, извозчик!.. Ах, жаль, уже занят...
— Зачем нам ссориться? — заметила Мэри.
— Что же, по-твоему, мне нужно было сказать ему «нет»? — спросила Кэтрин. — Так, по-твоему, нужно поступить? А как я ему это объяснила бы?
— Ну конечно, так нельзя, — ответила Мэри, взяв себя в руки.
— А вот и можно, — отрезала Кэтрин.
— Послушай, я вспылила, забудь о том, что я наговорила.
— Не будем больше об этом — глупости! — сказала Кэтрин, как отрезала. — Все, точка. Дело не стоит выеденного яйца.
Она говорила в запальчивости, и Мэри была здесь ни при чем. Взаимной неприязни как не бывало, но каждая чувствовала, что впереди все темно и смутно, и, что будет дальше и какой искать путь, было неясно.
— Нет-нет, все это ни к чему, — снова заговорила Кэтрин. — Положим, как ты говоришь, дружба тут ни при чем; хорошо, я откажусь от его дружбы, а он тогда скажет, что влюблен в меня. Нет, я так не хочу. И вообще, по-моему, — добавила она, — ты преувеличиваешь, любовь — далеко не все; как и замужество, кстати...
Они дошли до проспекта и остановились, мимо ехали омнибусы, шли люди, знаменуя собой великое разнообразие человеческих интересов, о котором говорила Кэтрин. Бывают в жизни минуты, когда ощущаешь себя посторонним всем и вся, когда кажется, что борьба за счастье и собственное благополучие никогда больше не ляжет на твои плечи, — примерно так чувствовала себя в ту минуту и та, и другая. Пусть ближние радуются своей доле.
— Ничего я не преувеличиваю, я вообще не люблю давать рецепты, — сказала Мэри, первая нарушив молчание. — Я только хочу тебе сказать, что ты должна понимать ситуацию — ясно понимать, — добавила она, — но ты и так все понимаешь.
В действительности же она сама ничего не понимала — насколько она знала, приготовления к свадьбе шли полным ходом; но смущало Мэри даже не это, а непроницаемый вид Кэтрин, с которой они шли под руку.
Они вернулись к дому Мэри и подошли к подъезду, остановились, не говоря ни слова.
— Иди, — сказала наконец Кэтрин. — Нехорошо заставлять его ждать столько времени.
И она показала глазами на освещенное окно под крышей; они обе посмотрели вверх; еще подождали минуту. Впереди полукругом белело крыльцо, Мэри медленно поднялась по ступенькам и снова обернулась к Кэтрин.
272
Вирджиния Вулф. День и ночь
— По-моему, ты все-таки недооцениваешь... любовь, — проговорила она через силу, преодолевая внутреннюю неловкость. Она поднялась еще на одну ступеньку и снова оглянулась — Кэтрин стояла внизу, лица было почти не видно. Мэри еще помедлила; тут к дому подъехал извозчик, сверху ей было видно, как он останавливается, Кэтрин открывает дверь, чтобы сесть, и в последнюю минуту оборачивается к ней и громко говорит:
— Не забудь, я с вами, с вашим обществом, слышишь? — и захлопывает дверь.
Мэри буквально втаскивала себя по лестнице, поднимаясь медленномедленно, точно каждая ступень давалась ей с боем. Ей стоило огромного усилия оторваться от Кэтрин, и теперь с каждым шагом она все дальше и дальше отдалялась от нее. Она заставляла себя передвигать ноги, с трудом преодолевая высоту. Она знала, что главное сейчас — дойти, а там ее встретит мистер Баснет с бумагами, и она сразу ощутит твердую почву под ногами. От одной этой мысли ей полегчало.
Не успела она открыть дверь, как встретилась глазами с мистером Бас- нетом.
— Итак, продолжаем, — сказал он. — Если что-то будет непонятно, вы меня остановите.
Пока Мэри отсутствовала, он заново перечитал документ и сделал необходимые карандашные пометки, и теперь как ни в чем не бывало продолжил чтение с того места, где они остановились. Сев в кресло и закурив сигарету, Мэри сосредоточенно слушала.
Тем временем Кэтрин ехала домой в Челси; откинувшись на спинку сиденья в углу кеба, чувствуя себя немного усталой, она тем не менее с удовольствием вспоминала ту деятельную картину, свидетельницей которой случайно оказалась в доме у Мэри. На душе у нее стало хорошо и покойно. Войдя в дом, она старалась не шуметь — наверняка все уже спали. Но она ошиблась: наверху все еще веселились — оказывается, она не так долго отсутствовала. Заслышав шум открывающейся двери, она, чтобы не мешать, укрылась в комнате рядом с прихожей: вдруг это кто-то из гостей засобирался домой? Из ее укрытия ей хорошо видна парадная лестница, все ближе и ближе раздаются шаги, и... ба! кого она видит? — это же Родни! Он какой-то странный, похож на лунатика: беззвучно шевелит губами, точно роль заучивает, идет как во сне, держась за перила, точь-в-точь блаженный. Кэтрин стало неудобно — вроде как подсматривает, она взяла и вышла из тени. Родни чуть не отпрыгнул от неожиданности.
— Кэтрин, как ты меня напугала! — вскричал он. — Ты с улицы?!
— Да, а гости еще там?
Родни ничего не ответил и прошел за Кэтрин в комнату.
Глава 27
273
— Такое чудо, — шептал он, — я наверху блаженства...
Он говорил сам с собой, Кэтрин молчала. Постояли у стола, с противоположных концов, потом он выпалил:
— Ну же, скажи мне, Кэтрин, как она тебе? Как думаешь: я ей нравлюсь? Ну скажи, не молчи!
Она ничего не успела ответить — наверху хлопнула дверь. Вздрогнув, Уильям пришел в сильнейшее волнение: побежал назад в прихожую и подчеркнуто громко объявил:
— Спокойной ночи, Кэтрин. Ложись спать, скоро увидимся, надеюсь, меня завтра отпустят.
Сказал — и след простыл.
Кэтрин пошла наверх и на площадке застала Кассандру: та сидела на полу перед книжным шкафом, обложенная книжками. Она сообщила Кэтрин, что никак не может решить, что взять почитать на сон грядущий: стихи, жизнеописание или метафизику.
— Кэтрин, вы что обычно читаете на ночь? — спросила она, поднимаясь по лестнице.
— Когда как, — уклончиво ответила Кэтрин. Кассандра воззрилась на кузину.
— Знаете, вы все такие странные, — сказала она. — Все до одного. В Лондоне, наверное, все такие.
— А Уильям — он тоже странный? — спросила ее Кэтрин.
— Пожалуй, чуточку, — ответила Кассандра. — Чудной, но такой обворожительный! Знаете, я решила: почитаю Милтона8. Кэтрин, — шепнула она, — я сегодня так счастлива!
И преданно, украдкой заглянула красавице кузине в глаза.
Глава 27
Первые дни весны в Лондоне — это всегда пора цветения: набухают почки, лопаются бутоны, выстреливая всеми цветами радуги, словно они из кожи вон лезут, стремясь перещеголять деревенских подружек — садовые клумбы. Только не дано им этого: весна в городе — это настежь распахнутые двери на Бонд-стрит1 и прилегающих улицах, они зовут тебя в картинную галерею или на концерт или просто потолкаться среди голосистой, возбужденной, нарядно одетой публики. И все же не стоит недооценивать городское буйство красок — оно отнюдь не слабый соперник природе с ее тихим процессом вызревания; не важно в конечном итоге, что движет человеческой природой — чей-то широкий жест, желание поделиться, рассказать или же так, глупость, проскочившая искра, — как бы то ни было, действует эта
274
Вирджиния Вулф. День и ночь
горячечная пора на молодых да ранних таким образом, что они начинают думать, что мир — это один большой базар, с развевающимися знаменами и восточными диванами, заваленными дарами, доставленными к их удовольствию со всех концов белого света.
Во всяком случае, Кассандре Отуэй Лондон представлялся именно таким радушным и щедрым хозяином: можно ходить повсюду, звеня шиллингами, которые тебе подарили на карманные расходы, и перед тобой моментально открываются все двери, точнее, двери перед тобой открываются потому, что ты предъявляешь на входе рекомендательное письмо, и оно действует как контрамарка. Кажется, Кассандра уже везде побывала — и в Национальной галерее2, и в Хертфорд-хаусе;3 все послушала — и Брамса4, и Бетховена5 в Бехнггейн-холле6, — и все равно, приходит домой, а там ее ждет встреча с новым интересным человеком, в чьей душе заключены крупицы бесценного вещества, которое она про себя называла реальностью и которое все еще надеялась отыскать. Как говорится, Хилбери «были вхожи повсюду», а это означает, что их приглашали примерно раз в месяц на званый обед в несколько домов определенного круга, где гостей начинают принимать с трех часов пополудни и по ночам не выключается свет. Обитатели этих домов судили обо всем с поразительным апломбом и свободой, как бы намекая, что они всегда в курсе всех дел — искусства ли, музыки, политики правительства, — они везде, так сказать, «свои», тогда как огромная толпа «чужих», на которую они взирают со снисходительной улыбкой, вынуждена ждать своей очереди, штурмовать парадные подъезды, да еще и платить по общему тарифу за вход. Так вот, Кассандру в этих домах моментально приняли за свою. Она, конечно, этим фрондировала, то и дело порываясь высказаться в духе Генри о порядках среди своих, но поскольку его не было рядом, то она часто возражала ему заочно, а если сосед по столу или какая- то старушенция поминали добрым словом ее бабушку, так она могла и на комплимент расщедриться, в том смысле, что не называла человека за глаза тупицей. Ей многое прощали за блеск ее горящих глаз: и прямолинейность суждений, и слегка небрежную манеру одеваться; сложилось негласное мнение, что через годик-другой этому бриллианту цены не будет, если, разумеется, она поднаберется ума-разума, будет одеваться у хороших модисток и не пойдет по дурной дорожке. Эта не пропадет, сходились во мнении пожилые дамы, которые обычно на балу сидят у стенки, перемывают косточки всем и вся, и дышат так ровно, что, кажется, будто ожерелья у них на шее колышет какая-то таинственная сила, подобная приливу и отливу на поверхности людского океана, — другими словами, Кассандра непременно выскочит замуж за достойного молодого человека, чью мать они давно знают.
Глава 27
275
От предложений Уильяма Родни не было отбою: обо всем-то он знал и повсюду водил Кэтрин и Кассандру — на закрытые выставки, на концерты для избранной публики, на эксклюзивные просмотры, а потом еще находил время устраивать у себя общее чаепитие, ужин или обед. Каждый день двухнедельного пребывания Кассандры в Лондоне был расписан с филигранной тщательностью, подобно миниатюре в старинной рукописи. И вот подошло воскресенье, обычно люди посвящают этот день прогулке, и, надо сказать, погода выдалась подходящая. Но от всех предложений — поехать в Хэмптон-Корт7, Гринвичский парк8, Ричмонд9 или Кью10 — Кассандра отказалась наотрез и выбрала зоологический сад. Она одно время интересовалась психологией животных и что-то слышала о наследуемых привычках. Так что в воскресенье после обеда Кэтрин, Кассандра и Уильям Родни взяли извозчика и отправились в зоосад. Когда они уже подъезжали, Кэтрин высунулась и помахала какому-то молодому человеку, который быстро шел в том же направлении.
— Это Ральф Дэнем! — объяснила она и добавила: — Мы договорились здесь встретиться.
Она даже заранее купила для него билет, так что Родни пришлось проглотить свои слова о том, что Дэнема в зоосад не пропустят. Мужчины коротко поздоровались, и сразу стало ясно, что будет дальше: постояв вчетвером, больше для приличия, перед огромной клеткой с маленькими птичками, они разбились на пары: Ральф и Кэтрин пошли вперед, а Уильям с Кассандрой поотстали. Вроде бы все получилось так, как и хотел Уильям, но он все равно был раздосадован — он полагал, что Кэтрин обязана была предупредить его, что к ним присоединится Дэнем.
— Так, приятель Кэтрин, — пояснил он, не вдаваясь в подробности. Он был взбешен, и Кассандра это поняла. Они остановились возле клетки с каким-то азиатским боровом, и Кассандра, легонько тыча зонтиком в бок этого вепря, лихорадочно припоминала тысячи невольно подмеченных деталей, — все сходилось! Уильям с Кэтрин больше не парочка?! Мысль эта показалась ей настолько банальной и пошлой в сравнении с глубокими и возвышенными чувствами двух замечательных людей, что она, не задумываясь, отмела ее. Но с этого момента Кассандру словно подменили — она как будто впервые в жизни почувствовала себя женщиной и теперь только и ждала, когда Уильям ей откроется. Животные и их повадки, мелькание голубых и карих глаз тут же вылетели у нее из головы, и она вся ушла в себя, настраиваясь на сопереживание, воображая, как она будет утешать Уильяма в отсутствие Кэтрин, — пусть та подольше не оборачивается, гуляя вместе с мистером Дэнемом, — в общем, Кассандра вела себя как маленькая, которая играет «во взрослых» и не хочет, чтоб мать вернулась и все испортила.
276
Вирджиния Вулф. День и ночь
А может, все не так? — может, она уже выросла, игры закончились и началась взрослая всамделишная жизнь?
А Кэтрин и Ральф Дэнем молча рассматривали обитателей клеток.
Первым нарушил молчание Ральф:
— Чем вы занимались все это время после нашей встречи?
— Чем занималась? — Она задумалась. — В гости ходила... Интересно, животным здесь хорошо? — спросила она, останавливаясь у клетки с серым медведем, который мусолил ленточку, видно, оторванную от дамского зонтика.
— По-моему, Родни не понравилась моя компания, — заметил Ральф.
— Вы правы, но это ничего, он переживет, — ответила она.
Ральфа несколько озадачило безразличие, с каким это было сказано, и он думал, Кэтрин объяснит, что она имеет в виду, но настаивать не стал. Для него каждое мгновение было дорого само по себе — его нельзя было испортить или улучшить никакими объяснениями, никакими, яркими или темными, грядущими событиями.
— Мишки, похоже, счастливы, — заметил он. — Давайте их чем-нибудь угостим. Вон там продают булочки, купим пару.
Они подошли к прилавку, заваленному бумажными пакетиками, и оба, не сговариваясь, достали по шиллингу и стали совать монеты в руки молоденькой продавщицы: та растерялась, не зная, кого уважить — даму или джентльмена, но потом все-таки решила, что будет правильнее, если заплатит мужчина.
— Да, позвольте мне — Ральф твердо поставил точку в этом вопросе. — У меня есть на то причина, — добавил он, заметив, что ее позабавил его решительный тон.
— По-моему, у вас всегда на все есть причина, — откликнулась она, разломив булочку и кидая кусочки в пасть медведям, — только на этот раз причина не очень веская. Так ведь?
Он ничего не ответил — не мог же он признаться ей в том, что твердо решил пожертвовать ради нее всем, что имеет, и поэтому готов положить на алтарь все свои накопления до последнего. Ему было важно сохранить между ними дистанцию — сродни той, что существует между паломником и святыней.
Осуществить задуманное в условиях, где они находились, оказалось легче, чем можно было предположить: положим, сидели бы они в гостиной и между ними стоял бы стол с чайными принадлежностями. А тут он видел ее на фоне бледных гротов и укромных норок, на нее косили глазом много чего повидавшие на своем веку верблюды, ее движения ловили жирафы, печально оглядывавшие мир с высоты, с ее руки кормились слоны, собирая
Глава 27
277
крошки влажными розовыми хоботами. А потом еще были террариумы: он наблюдал, как она нагибается, чтобы получше разглядеть питона, свернувшегося кольцом на песке, разглядывает слизистую коричневую скалу посреди бассейна с аллигаторами, вглядывается в тропические заросли — вдруг свергает золотистый глаз ящерицы или лягушки вытянутся в прыжке? Особенно ему нравилось следить за ее силуэтом на фоне зеленоватого аквариума, в котором беспрестанно сновали серебристые стайки рыб, и бывало так, что какая-то рыба подплывет к самой стенке и, расплющив нос о стекло и шевеля хвостом, разглядывает ее из воды. Потом они пошли в помещение для насекомых, там у него на глазах она поднимала крышки небольших клеток и, заглядывая внутрь, дивилась то багряным пятнам на роскошных шелковистых крыльях какой-нибудь вновь народившейся полусонной бабочки, то неподвижным гусеницам, неотличимым от узловатых веточек на бледном стволе дерева, то юрким зеленым змейкам, бомбардировавшим стеклянные стенки тонкими раздвоенными жалами. В оранжерейной атмосфере, где постоянно стоит жара и разносится дурманящий запах тропических цветов самых причудливых форм и экзотических видов, там и сям устилающих поверхность воды, громоздящихся в огромных красных кадках, — в такой атмосфере человеческие особи выглядят бледно и все больше молчат.
Перешли в обезьянник, и там, среди визга и хохота несчастных приматов, они наткнулись на Уильяма и Кассандру. Уильям пытался подманить кусочком яблока какого-то маленького упрямого зверька, сидевшего на ветке и упорно не желавшего спускаться, а Кассандра фальцетом читала с таблички про то, что зверек этот боится людей и ведет ночной образ жизни. Тут она заметила Кэтрин и воскликнула:
— Ну наконец-то! Бедный айе-айе11. Пожалуйста, скажите Уильяму, чтобы он перестал его мучить.
— А мы решили, что вас потеряли, — сказал Уильям. Он перевел взгляд с Кэтрин на Ральфа: вид у того был, прямо скажем, не самый респектабельный. Чувствовалось, что Родни так и подмывает излить желчь, но он не находит повода. Кэтрин отметила про себя и взгляд, и кривую улыбку.
— Уильям не умеет быть добрым с животными, — заметила она. — Он просто не знает, что они такое, и не понимает их нрав.
— Зато Дэнем в этих делах — настоящий клад, — огрызнулся Родни, но руку все-таки убрал.
— Тут все просто, нужно только знать, как их гладить, — ответил Дэнем.
— А как пройти к террариуму? — спросила его Кассандра, не столько из желания посмотреть на рептилий, сколько из чувства пробудившейся в ней женской интуиции, которая подсказывала ей, что надо быть очарователь¬
278
Вирджиния Вулф. День и ночь
ной и уметь примирять противоположные стороны. Пока Дэнем объяснял ей, Кэтрин с Уильямом отошли в сторону.
— Надеюсь, тебе хорошо, — заметил Уильям.
— Мне хорошо с Ральфом Дэнемом, — ответила она.
— Ça se voit*, — по-светски ответил Уильям.
Сбить с него спесь было проще простого, но в ее планы не входило ссориться, и она ограничилась вопросом:
— Вас ждать к чаю?
— Мы с Кассандрой думали посидеть в уютной чайной на Портленд- Плейс12, — ответил он. — Не знаю, как вы с Дэнемом — пойдете с нами или нет?
— Я спрошу, — ответила она, переводя взгляд на Дэнема, но, увидев, что он вместе с Кассандрой стоит у клетки с айе-айе, решила его не беспокоить.
Какое-то время они с Уильямом наблюдали за своими избранниками, ревниво поглядывая на предмет увлечения соседа, а потом Уильям, с удовлетворением оглядев Кассандру, которая стараниями модисток выглядела более чем достойно, возьми да ляпни:
— Если вдруг вы решите пойти, прошу — не надо делать из меня посмешище.
— Раз так, ни за что не пойду, — парировала Кэтрин.
Оба притворились, будто разглядывают огромную клетку с обезьянами в центре помещения, и разозлившаяся Кэтрин, в отместку, отыскала глазами несчастного орангутанга мизантропического вида и представила, что это Уильям, — животное сидело на старой рваной шали в дальнем углу, согнувшись в три погибели, и с подозрением поглядывало исподлобья на своих сородичей. Она чувствовала, что у нее вот-вот лопнет терпение, — ей хватило прошлой недели. У каждого человека — у мужчины ли, женщины — бывает такое настроение, когда ему становится тошно от того, что другой заважничал, распустил хвост, повел себя низко, в такие минуты хочется сбросить с себя унизительное ярмо, освободиться от уз, связывающих тебя с этим человеком, — в общем, Кэтрин была доведена до белого каления. У нее было такое чувство, будто Уильям со своими вечными придирками, ревностью сталкивает ее в мерзкое чавкающее болото какой-то первобытной ненависти, которую женщина и поныне испытывает к мужчине.
— Мне кажется, тебе доставляет особое удовольствие постоянно меня укалывать, — не унимался Уильям. — Зачем надо было говорить про то, как я обращаюсь с животными?
Словно специально желая ей досадить, он водил тростью по прутьям клетки, видимо, находя забавным такой «музыкальный» аккомпанемент.
* Заметно (<фр.).
Глава 27
279
— Но ведь так оно и есть — тебе все равно, что чувствуют окружающие, — ответила она. — Ты думаешь только о себе.
— Это не так, — возразил Уильям.
На треск устроенной им канонады сбежались около полудюжины обезьян, и то ли из желания угодить им, то ли стремясь показать ей, что он вовсе не бесчувственный, он начал просовывать им через прутья яблоко.
Картина настолько комичная — именно таким Кэтрин и рисовала себе Уильяма, а его намерение обелить себя в ее глазах было столь явным, что она прыснула и буквально покатилась со смеху! Тот стал пунцовым как рак. Худшего оскорбления нанести ему было нельзя; мало того, что она посмеялась над ним, так она даже не пыталась скрыть свою насмешку!
— Не знаю, что тут смешного, — пробормотал он, отворачиваясь. Тут как раз подошли Ральф с Кассандрой. Точно сговорившись, все четверо снова разбились на пары; Кэтрин с Дэнемом развернулись и, едва удостоив взглядом Уильяма и Кассандру, покинули вольер. Дэнем не понял, почему вдруг Кэтрин заторопилась, но пошел следом. Девушку словно подменили — эту перемену он связывал с недавней сценой, произошедшей между ней и Родни, когда она засмеялась; Дэнем почувствовал, что она отдалилась от него. Нет, она не молчала, но говорила нехотя, а когда он заговаривал, слушала краем уха. Поначалу он было обиделся, а потом даже обрадовался такой перемене. Тут еще дождик заморосил некстати. И вдруг всё очарование, волшебство, вся поэзия, которыми он до этого момента упивался, пропали, осталось чувство товарищеского уважения, и он поймал себя на мысли, что ему хочется поскорее вернуться домой и остаться одному в своей комнате. Он сам не ожидал от себя такого поворота. И тогда ему в голову пришел очень смелый план, — каким образом, не подвергая себя воздержанию от встреч с Кэтрин, он может избавиться от наваждения: надо пригласить ее к ним домой на чай! Пусть-ка увидит, как перемалывает всех и каждого семейная жизнь, пусть узнает, каково это — оказаться на свету, под перекрестными взглядами домочадцев. Его родные уж точно не станут восхищаться ею, а она наверняка покроет их всех презрением, — а ему только это и нужно; он должен перестать быть тряпкой. Только так — жестко и твердо — можно покончить с нелепыми грезами, стоившими ему столько крови и даром потраченного времени. Он уже предвкушал, как будет делиться своим опытом, своими открытиями, своей победой с младшими братьями, которым тоже предстоит пройти через те же трудности. Он посмотрел на часы и сказал, что зоосад скоро закрывается.
— Мы и так, по-моему, много чего сегодня увидели. Кстати, где остальные? — добавил он.
Оглянулся — сзади никого, и он опять повторил:
280
Вирджиния Вулф. День и ночь
— Давайте не будем ни на кого равняться. Предлагаю выпить чаю у меня дома.
— Почему не у нас? — спросила она.
— Потому что мы рядом с Хайгейтом, — быстро нашелся он.
Она согласилась, хотя имела весьма смутное представление и о Хайгей- те, и о Риджентс-парке:13 ей просто не хотелось сразу возвращаться в Челси, к семейному столу. И они направились вдвоем через весь Риджентс-парк, по сонным воскресным улицам, к станции метро. Дорогу она не знала, поэтому полагалась на него; они все время молчали, и она была этому рада — сцена с Родни не шла у нее из головы.
Когда они сошли с поезда и ее обступили серые кварталы Хайгейга, она первый раз задумалась о том, куда они, собственно, направляются. У Дэне- ма семья или он живет один, на съемной квартире? Почему-то ей хотелось думать, что он — единственный сын у пожилой, возможно, больной матери. Она мысленно набросала в голове белый домик, старушку преклонных лет с трясущейся головой: вот она привстает, сидя за столом, накрытом для чая, и сбивчиво говорит что-то про «знакомых моего сына». Кэтрин уже собралась было расспросить Ральфа более подробно, как вдруг он открыл перед ней деревянную калитку — точно такую же, как справа и слева, — и, сделав буквально два шага по дорожке, они оказались перед крыльцом отвесного строения, которое годилось разве что для скалолазания. В ответ на звонок где-то внизу, в подвале, раздалось громкое дребезжание колокольчика, и — картины с белым домиком как не бывало, вместо нее — полная пустота.
— Да не удивляйтесь, вся наша семья в сборе, пьют чай, — предупредил Ральф. — Так заведено по воскресеньям. Потом можем посидеть у меня.
— У вас большая родня? — спросила она, не зная, чего ждать.
— То ли шесть, то ли семь братьев и сестер, — бросил он мрачно, входя в дом.
Пока Ральф снимал пальто, Кэтрин осматривалась — кругом горшки с папоротником, фотографии, занавески, — а сама невольно прислушивалась к гулу, точнее, к непрерывному гудению голосов, судя по тону, один голос громче другого. От страха она впала в ступор. Прячась за спиной Дэнема, она, словно на деревянных ногах, прошла за ним в комнату, и первое, что бросилось ей в глаза, это резкий свет газового рожка без абажура над большим обеденным столом, вокруг которого сгрудились люди разного возраста, и — беспорядочно наваленная еда. Ральф сразу прошел к дальнему краю стола.
— Мама, познакомься — это мисс Хилбери, — представил он гостью.
При этих словах дородная женщина в летах подняла голову — она крутила в руках спиртовку — и, прищурившись, заметила:
Глава 27
281
— Прошу прощения, не разглядела — приняла за свою. Дороти, подожди, — без всякого перехода обратилась она к служанке, спешившей вон из комнаты, — в спиртовке нет денатурата — надо прикупить. Правда, может, сама спиртовка вышла из строя. Нет бы кто-нибудь из вас, — она вздохнула, обводя глазами сидящих за столом детей, — изобрел дельную спиртовку, — и начала искать две чистые чашки для вновь прибывших.
При режущем глаз освещении уродливость окружающей обстановки поражала. Уродливым, на взгляд Кэтрин, было все: и шторы из темно-коричневого плюша, с рюшками, оборками, складочками, украшенные бахромой и шариками, и прячущиеся за занавесками книжные полки, распухшие от школьных учебников в черных переплетах. Она чуть не обомлела, заметив в углах комнаты, на фоне оливковых стен, резные детали из дерева в виде скрещенных сабель; куда бы ни упал взгляд, отовсюду тебе кивал взлохмаченной головой какой-нибудь папоротник в горшке из треснутого фаянса или громоздился очередной бронзовый конь, так резко становящийся на дыбы, что ему никак было не обойтись без опоры в виде пенька. Кэтрин показалось, что она с головой утонула в рутине семейной жизни, и она молча пережевывала увиденное.
Спустя какое-то время миссис Дэнем оторвала взгляд от чашки и заметила:
— Видите ли, мисс Хилбери, моя семья приходит домой в разное время, и каждый требует свое. (Джонни, если ты закончил, возьми поднос и отнеси наверх.) Чарльз — это его брат — простудился и слег. А как не заболеть, если в ливень играть в футбол? Мы пытались устраивать чай в гостиной, но не пошло.
Подросток лет шестнадцати — похоже, это и был Джонни — проворчал что-то насчет чаепития в гостиной и прислуживанья братьям, валяющимся в постели, но все же, понукаемый матерью, взял поднос и пошел наверх, аккуратно прикрыв за собой дверь.
— Здесь намного лучше, — ответила Кэтрин, принимаясь за огромный кусок пирога и не решаясь сказать, что ей столько не съесть. Она догадывалась, что миссис Дэнем уловила ее скептический настрой. Едок из нее никакой — любой это видит. Она чувствовала, что хозяйка поглядывает на нее, недоумевая, что это за птица, с какой стати старший сын привел ее в дом. Но, видимо, постепенно смекнула, что к чему, и повела себя без церемоний, но корректно. Разговор зашел о привлекательных сторонах жизни в Хайгей- те, о развитии пригорода.
— Когда я выходила замуж, — рассказывала она, — хотите — верьте, хотите — нет, мисс Хилбери, но Хайгейт от Лондона был далеко и из наших
282
Вирджиния Вулф. День и ночь
окон открывался вид на яблоневый сад. А потом Миддлтоны взяли и построили себе дом ровно под нашими окнами.
— Да, жить на ropé — это здорово, — откликнулась Кэтрин.
Миссис Дэнем закивала — она оценила практическую жилку Кэтрин.
— Да, очень полезно для здоровья, мы тоже так считаем, — согласилась она и пошла рассуждать о том, что жить в таком месте и для здоровья полезней, и удобней, и люди не испорченные, не то что в других окрестностях Лондона, — такие разговоры не редкость среди обитателей пригорода. Говорила она с жаром — чувствовалось, что единомышленников у нее мало и дети ее не поддерживают.
— В кладовке опять обвалился потолок, — вставила свое слово Эстер, барышня лет восемнадцати.
— Скоро весь дом обвалится, — проворчал Джеймс.
— Глупости! — заявила миссис Дэнем. — Подумаешь, отвалился небольшой кусок штукатурки, и что с того? А вы как хотели бы? Топтаться день и ночь напролет, и чтобы ничего не происходило?!
В ответ кто-то что-то коротко сказал — Кэтрин не уловила смысл семейной шутки, но все повалились со смеху, даже миссис Дэнем и та рассмеялась.
— Хватит, перестаньте, а то мисс Хилбери подумает, что мы невоспитанные, — урезонила она компанию.
Мисс Хилбери возражать не стала, только улыбнулась и покачала головой. И в эту секунду все, как один, уставились на нее, точно хотели высмотреть все до точки, чтобы потом, когда она уйдет, разложить все по косточкам. Такого откровенного внимания к своей персоне Кэтрин не ожидала — она тут же про себя решила, что семейство Ральфа Дэнема — мещанское, грубое, неотесанное, вполне в духе уродливой обывательской обстановки; взгляд ее снова скользнул по каминной доске, уставленной бронзовыми колесницами, вазами из серебра и вычурными безвкусными фигурками из фарфора.
Даже Ральф, которого она сознательно исключила из опорочившего себя семейства, даже он, судя по выразительному взгляду, которым она наградила его, уронил себя в ее глазах.
А он и не пытался сгладить шероховатости, возникшие при общем знакомстве. Они с братом о чем-то заспорили, и он, совершенно очевидно, и думать забыл, что сидит с ней за одним столом. Выходит, она интуитивно полагалась на его поддержку, не отдавая себе в этом отчета, и вот теперь, столкнувшись с откровенным равнодушием с его стороны,—равнодушием, которое было особенно заметным на фоне пошлой мещанской обстановки, — она вдруг поняла, насколько глубоко она ошибалась. Пристыженная, она перебирала в памяти одну за другой недавние сцены. Принять за чистую монету его слова о дружбе! Поверить в то, что за хаотичностью и невнятицей жизни
Глава 27
283
горит неугасаемый духовный свет! Все, кончилось — погас свет, словно его никогда и не было. Остались только грязный стол да занудный, привередливый голос миссис Дэнем; Кэтрин чувствовала себя совершенно опустошенной и униженной, как бывает, когда бьешься, и все без толку; она сидела мрачная, в голове крутилось одно и то же: одиночество, пустая жизнь, рутина, Родни, мать, незаконченная книга.
Она едва отвечала на вопросы миссис Дэнем, даже не считая нужным скрывать свое равнодушие, и это еще больше отдаляло ее — отдаляло, конечно, не физически, а духовно — от сидящего рядом и все подмечающего Ральфа. Он поглядывал на нее, и с каждым разом картина становилась все яснее, он все больше укреплялся в мысли, что не напрасно затеял эксперимент — когда все закончится, у него больше не останется никаких иллюзий на ее счет. И вот наступил момент, когда за столом воцарилась полная тишина. Возникла ужасно неловкая пауза — за неприбранным столом сидят люди и упорно молчат, все словно воды в рот набрали: такое впечатление, что вот- вот произойдет что-то непредвиденное. И тут открывается дверь, все вскакивают с криком: «Ну, наконец-то, Джоанна! А мы все съели!» — и сразу атмосфера за столом разрядилась, прекратилось это бесцеремонное разглядывание друг друга, и все вошло в привычную колею. По реакции домочадцев было ясно: в их доме Джоанна — это ангел-хранитель. Войдя, она сразу направилась к Кэтрин, словно была о ней наслышана, и только того и ждала, чтоб познакомиться. Она извинилась за опоздание — навещала заболевшего дядюшку. Нет, чай она еще не пила и вполне обойдется куском хлеба. Ей тут же передали припасенную тарелку с куском теплого пирога — кто-то предусмотрительно держал пирог подогретым; села она за стол рядом с матерью, для той, понятно, все треволнения закончились с приходом дочери, и все снова дружно принялись пить чай. Хотя Кэтрин ни о чем не спрашивала, Эстер призналась ей, что больше всего на свете мечтает поступить в Ньюнем14 и сейчас готовится к экзамену.
-Ну-ка, проспрягай дальше глагол «amo»—люблю, — подхватил Джонни.
— Нет, Джонни, мы же договорились — за столом никакого греческого, — тут же возразила Джоанна, слыша разговор. — Понимаете, мисс Хил- бери, — обратилась она с улыбкой к Кэтрин, — она ночи напролет сидит над книжками, ну где это видано, чтоб так готовились к экзамену?
И Джоанна по-доброму, заботливо, как старшая сестра, для которой младшие братья и сестры давно уже стали чуть ли не родными детьми, окинула взглядом сидящих за столом.
— Джоанна, ты что, всерьез решила, что «amo» — это древнегреческий глагол? — раздался голос Ральфа.
284
Вирджиния Вулф. День и ночь
— А что, я сказала «древнегреческий»? Ладно, не придирайся, ты прекрасно знаешь, о чем я, — за столом никаких мертвых языков. Милый мой, успокойся, не намазывай хлеб маслом — я не хочу тост...
— Лучше возьми-ка вилку для тостов, — предложила миссис Дэнем, тщетно пытаясь держать марку. — Нет нигде? Ну так позвони и скажи, чтоб принесли! — Голос ее, впрочем, звучал неубедительно.
— Итак, — обратилась она к старшей дочери, — Анна все-таки согласилась ухаживать за дядей Джозефом? — продолжала она начатый разговор. — Потому что в этом случае Эми лучше пока пожить у нас...
И она с головой ушла в обсуждение разных подробностей, выясняя, что именно родные собираются делать, подсказывая, как разумнее поступить, то и дело приговаривая, что никто никогда ее не слушает и вот что получается... И, пока суть да дело, она совершенно забыла о том, что за столом у них сидит нарядно одетая дама, которую нужно развлекать разговорами о прелестях жизни в Хайгейте. А на другом конце стола — там, где сидела Кэтрин, — уже вовсю кипел спор о том, какое право имеет Армия Спасения15 в воскресный день играть на улице гимны, не давая выспаться Джеймсу, и о том, каковы границы индивидуальной свободы.
— Понимаете, — объяснял Джонни, сидевший по одну руку от Кэтрин, — Джеймс у нас большая соня...
На что Джеймс, сидевший от нее по другую руку, тут же возразил:
— Да потому, что я хронически не высыпаюсь, Джонни постоянно возится в кладовке со своими вонючими химикатами, и воскресенье — это единственный день, когда я могу поспать...
В общем, сделали они из нее третейского судью, и она, совершенно забыв про остывающий пирог, втянулась в оживленный спор и сама не заметила, как прониклась дружеским чувством к семейству, которое еще недавно кляла за полную безвкусицу в столовой посуде. Тем временем спор между Джеймсом и Джонни развернулся нешуточный, и было ясно, что возник он не сегодня и что позиции в споре давно определены, и что Ральф у них за главного; а поскольку Кэтрин держала сторону Джонни, а того уже понесло и он ввязался в спор с Ральфом, то в какой-то момент оказалось, что Кэтрин и Ральф остались один на один.
— Да-да, речь именно об этом, она права, — воскликнул Джонни в ответ на более ясную и точную формулировку, предложенную Кэтрин. Теперь спор развернулся между двумя соперниками, Кэтрин и Ральфом, — остальные в роли наблюдателей. Кэтрин и Ральф цепко впились взглядом друг в друга, как два борца, пытающиеся рассчитать, каков будет следующий маневр противника, — Кэтрин слушала Ральфа, стиснув зубы; он еще не успел
Глава 27
285
закончить фразу, а она уже выкладывала следующий аргумент. Они были достойны друг друга — два соперника с противоположными взглядами.
И вдруг, когда спор достиг апогея, все разом встали из-за стола — без всякой на то причины, как показалось Кэтрин, — и один за другим, точно по звонку, вышли из комнаты. Кэтрин ничего не поняла — для нее была в новинку такая вещь, как режим в большом семействе. Она посидела, потом тоже встала; возле камина беседовали миссис Дэнем и Джоанна, — судя по их позе, видно, о чем-то важном и личном: они стояли рядом, на приступочке, и та, и другая, слегка наклонившись и поддерживая рукой подол длинной юбки, они явно забыли про гостью. А Ральф дожидался ее у двери.
— Заглянете ко мне? — спросил он ее, и та, кивнув на прощанье Джоанне, которая машинально улыбнулась ей в ответ — разговор целиком занимал ее внимание, повала за Ральфом. Подниматься пришлось на самый верх, но в голове у нее крутилось одно — недавний спор, и, как только они вошли к Ральфу в комнату, она начала с места в карьер:
— То есть вопрос состоит в том, в какой момент индивид вправе противопоставить свою волю воле государства.
Спор возобновился, но постепенно паузы между репликами становились все длиннее и длиннее, той остроты и цепкости мысли, какая была вначале, уже не было, и в конце концов наступила тишина: спорщики замолчали. Правда, Кэтрин еще какое-то время обдумывала позиции сторон, вспоминая, как то или иное замечание Джеймса или Джонни помогло направить спор в нужное русло.
— Да, у вас очень умные братья, — заключила она. — И часто вы спорите?
— Джеймса и Джонни хлебом не корми — дай только поспорить, — ответил Ральф. — Эстер тоже еще та спорщица, особенно если речь идет о елизаветинских драматургах.
— А девчушка с косичкой?
— Молли? Она еще маленькая — ей всего десять. Но между собой они постоянно спорят.
То, что Кэтрин похвалила его братьев и сестер, Ральфа невероятно обрадовало, он бы и дальше о них рассказывал, но вовремя спохватился.
— Вам без них будет трудно, — заметила Кэтрин.
Он и сам удивился тому, насколько, оказывается, он гордится своей семьей; никогда еще мысль о том, чтобы уехать и жить одному, не казалась ему такой дикой. Сразу вспомнились тысячи подробностей, связанных с братьями, сестренками: как все вместе росли, сколько всего вместе прожито, каким все казалось прочным, какая у них крепкая была дружба, какой огромной ценностью, по общему молчаливому согласию, был для всех них
286
Вирджиния Вулф. День и ночь
родной дом, и он представил, что они все — одна команда, а он у них за капитана, ведет их корабль по трудному, тяжелому, но доблестному пути. И открыла ему на это глаза — она, Кэтрин, подумал он.
Где-то в углу раздался сухой надтреснутый клекот — Кэтрин прислушалась.
— Познакомьтесь, это мой ручной грач, — пояснил он. — Хромой — кот отгрыз ему одну лапку.
Кэтрин посмотрела на грача, обвела взглядом комнату.
— Вот здесь вы сидите и читаете? — спросила она полуутвердительно, заметив книги, — он говорил ей, что обычно работает по ночам.
— Знаете, какая главная достопримечательность Хайгейга? Отсюда весь Лондон как на ладони. Ночью из окна открывается потрясающий вид.
Он позвал ее к окну, ему не терпелось, чтобы она увидела сама. Уже стемнело, она вглядывалась в поднимающиеся снизу, желтые от света уличных фонарей клубы вечернего тумана, пытаясь на глазок определить, где какой район Лондона. А он сидел в кресле и любовался ее силуэтом в проеме окна. Так длилось какое-то время, потом она повернулась к нему — он сидел все в той же позе.
— Уже поздно, — сказала она. — Я пойду, пожалуй.
Но домой ей идти не хотелось, и она присела в нерешительности на подлокотник кресла. Снова встречаться с Уильямом, снова натыкаться на неприятности... Ей вспомнилась их недавняя ссора. И Ральф почему-то молчит. Она взглянула на него, и ей показалось, что он сосредоточен на какой- то мысли, словно продолжает сам с собой спорить, — возможно, обдумывает новый ход в своей аргументации относительно границ личной свободы. Она тоже задумалась о свободе.
— Вы опять выиграли, — сказал Ральф, не меняя позы.
— Выиграла? — переспросила она рассеянно.
— Не надо было вас сюда приводить! — выпалил он.
— Почему?
— Когда вы здесь, все меняется... Вы подошли к окну — и я счастлив, заговорили о свободе — я счастлив. Когда я увидел вас среди них... — Он осекся.
— Вы подумали, что я такая же, как все.
— Я пытался так думать, но у меня ничего не вышло. Нет, все наоборот — вы показались мне совсем необыкновенной!
При этих словах у нее будто камень с души свалился, и одновременно она испугалась собственной радости.
Опустилась в кресло.
— А мне показалось, я вам разонравилась, — сказала она.
Глава 27
287
— Видит Бог, я пытался вас разлюбить, — ответил он. — Я пытался смотреть на вас трезвыми глазами, без этого проклятого романтического флера. Собственно, поэтому и привел вас сюда, а что получилось? Все только обострилось. Вы уйдете, а я буду смотреть в окно и думать о вас, и так целый вечер! Да какой там вечер — всю жизнь!
Сказано это было с такой болью, что все ее прежние сомнения снова всколыхнулись у нее в груди, — она нахмурилась и посуровела.
— Я же говорила — ничего хорошего из этого не выйдет, одно несчастье. Ральф, посмотрите на меня.
Он повернул к ней голову.
— Поверьте, я самая обыкновенная. Привлекательная внешность еще ни о чем не говорит. На самом деле красавицы, как правило, самые большие дуры. Ко мне это, правда, не относится, но во мне нет тем не менее ничего возвышенного, поэтического, необыкновенного — я веду хозяйство, оплачиваю счета, делаю расчеты, завожу в доме часы, и на книги у меня совсем не остается времени.
— Вы забыли... — начал он, но она не дала ему закончить.
— Ведь что получается? Мы встречаемся, вы видите меня среди цветов или в окружении картин, и вы думаете: вот какая таинственная, романтичная особа... Потом вы идете к себе домой и, поскольку человек вы эмоциональный и очень закрытый, вы начинаете придумывать обо мне разные истории и постепенно уже не можете отделить плод своего воображения от настоящей меня. По-вашему, это влюбленность, а по-моему, — заблуждение. Романтики все такие, — добавила она. — Моя мать, например, всю жизнь придумывает истории о симпатичных ей людях, но со мной у вас это не получится, поверьте.
— Это у вас ничего не получится, — ответил он.
— Уверяю вас, корень зла именно в этом.
— И добра тоже! — подхватил он.
— Вы узнаете, что я совсем не та, за кого вы меня принимаете.
— Ну и что? Приобретать — не терять.
— Было бы что приобретать...
Они снова замолчали.
— Но даже если это так, нам это предстоит выяснить, — сказал он. — А вдруг и нет ничего другого? А есть только то, что мы воображаем.
— Смысл нашего одиночества, — задумчиво протянула она, и они опять замолчали.
— Когда ваша свадьба? — резко меняя тон, спросил он.
— Не раньше сентября — всё отложили.
288
Вирджиния Вулф. День и ночь
— Вот и кончится тогда ваше одиночество, — объявил он. — Люди говорят, брак — престранная штука, ни на что не похожая. Наверное, так и есть. Во всяком случае, с несколькими моими знакомыми было именно так.
Он пытался ее разговорить, но все впустую: она молчала. Он, конечно, старался не показывать виду, даже тон напустил на себя скучающий, но внутри у него все кипело. Почему она сама никогда не заговорит с ним о Родни? Ведь своим молчанием она скрывает от него огромный материк своей души.
— Может, и в сентябре не получится, — сказала она, словно припомнила что-то. — У них в конторе кто-то заболел, и Уильяму приходится заменять коллегу. Так что мы отложили всё на неопределенное время.
— Он, наверное, переживает? — спросил Ральф.
— Ну, как сказать? У него есть его любимая работа, — ответила она. — Он стольким интересуется... Надо же, — воскликнула она вдруг, показывая на фотографию, — а я знаю это место! Только не помню, где оно — ах да, ну конечно, это же Оксфорд16. Кстати, как ваш домик в деревне?
— Я отказался.
— Что, — улыбнулась она, — изменили свою точку зрения?
— Нет, не поэтому, — ответил он запальчиво. — Я хочу быть там, где смогу видеть вас.
— Значит, пакт о дружбе еще не расторгнут? — пошутила она.
— Никаких поправок — во всяком случае, в том, что касается меня, — ответил он в том же духе.
— Значит, вы намерены и дальше мечтать, грезить, придумывать про меня разные истории во время прогулок, так? Воображать, будто мы мчимся верхом по лесу или высаживаемся на острове...
— Ничего подобного! Я уже вижу, как вы обсуждаете с кухаркой обеденное меню, платите по счету, составляете бюджет, показываете старушкам семейные реликвии...
— То-то же, — ответила она. — В таком случае я даже разрешаю вам представить, как завтра с утра я засяду за Национальный биографический словарь17 уточнять датировки.
— И непременно что-нибудь потеряете — помните сумочку? — добавил Ральф.
Она улыбнулась его шутке, а потом ей стало грустно, то ли от его слов, то ли от того, каким тоном он это сказал. Она действительно рассеянная, и он это понял. Интересно, а что он еще понял? Какие такие секреты он выведал? А вдруг он докопался до таких сокровенных глубин, что и подумать страшно? Веселости как не бывало — она взглянула на него молча, вроде бы собираясь что-то сказать, но потом, видно, передумала, посмотрела на него многозначительно, без слов, попрощалась и вышла.
Глава 28
289
Глава 28
Ральф остался один; в сумраке комнаты таял, подобно звукам мелодии, образ Кэтрин; и вот уже, кажется, отзвучала последняя вдохновенная нота... Но осталось легкое, едва уловимое эхо — Ральф изо всех сил пытался удержать его, продлить воспоминание — и на какое-то мгновение ему это удалось. Но ненадолго — он вскочил и, взбешенный от того, что больше не слышит музыки, забегал по комнате, снедаемый одним-единственным яростным желанием — вернуть музыку! Она ушла беззвучно, и с ее уходом перед ним будто разверзлась пучина, жизнь полетела ко всем чертям, впереди скалы — и пусть, все кончено! Он чуть не завыл от отчаяния, так ему стало плохо и нестерпимо больно, его трясло, он был бледный как мел. В полном изнеможении, обессиленный, он упал в кресло напротив того, в котором сидела она, — теперь оно было пустое, — и стал машинально отсчитывать по часам, минута за минутой, как она все дальше и дальше уходит от него, вот уже, наверное, дошла до дому, вот уже опять встретилась с Родни. Правда, это только кажется, что он думал, на самом деле он был одним тугим комком нервов, — у него все плыло перед глазами, предметы сливались, превращаясь в туман, пену, — он чувствовал, что ему страшно ее не хватает и все окружающее — окно, стены — отодвинулось куда-то далеко. Только сейчас ему открылась вся бездонность его муки, и он ужаснулся тому, что его ждет.
Она сказала, свадьба в сентябре, значит, впереди целых шесть месяцев кошмара, полгода сплошной пытки, а после — могила, карцер, изгойство, помешательство, отверженность, в лучшем случае жизнь, но без самого драгоценного, ради чего только и стоит жить на свете. Голос беспристрастного судьи подсказывал Ральфу: время — лучший доктор; сегодня, под влиянием таинственной силы, ты видишь в смертной женщине нечто безмерное, превосходящее короткий век человеческих отношений, но завтра предмет твоего желания уйдет, а с ним пропадет и само желание; зато с тобой останется вера в то, что собой воплощала эта женщина, — останется, несмотря на разлуку и расстояние. Эта мысль принесла Ральфу некоторое утешение, а поскольку по складу ума он был из тех, кто способен подняться над хаосом эмоций, то он попытался упорядочить бушевавшие в душе страсти. У него и так в достаточной степени было развито чувство самосохранения, а тут еще Кэтрин своими словами о том, что у него замечательная семья и она нуждается в его поддержке, только усилила понимание собственной значимости. Да, она права, — если не ради себя, то ради семьи он должен пожертвовать этой никчемной, бесплодной страстью, вырвать ее из сердца и постараться понять, как она и советовала, что все это беспочвенная выдумка. А раз так, то надо не бежать от Кэтрин, а, наоборот, смотреть ей в глаза, подмечать каждую мелочь, пока он не убедится в том, что все выдумал, принял ее, как
290
Вирджиния Вулф. День и ночь
она выражается, за другую. Хорошо, пусть так: Кэтрин до мозга костей практична, у нее на роду написано выйти замуж за второразрядного поэта, а что до внешности, то это все матушка-природа напутала — наградила рационалистку красотой вкупе с романтической внешностью. Да и красота-то ее наверняка не настоящая. Ну, с этим проще, это легко проверить. У него где-то был альбом с фотографиями греческих статуй, и он часто смотрел на скульптуру одной греческой богини: если закрыть нижнюю половину, то получалось очень похоже на Кэтрин. Он достал с полки альбом и раскрыл на нужной странице, положил рядом записку, в которой Кэтрин приглашала его в зоологический сад, еще у него сохранился цветок, на котором он учил ее азам ботаники, когда они гуляли в Кью. Вот и все его реликвии. Разложил их перед собой и стал вспоминать, какая она, стараясь не поддаваться самообману или наваждению. И вот она перед ним: идет к нему по тропинке среди зелени Кью в косых лучах полуденного солнца. Он уговаривает ее присесть на скамейку, она что-то говорит, он узнает этот низкий голос, решительный, твердый тон. Теперь — он уже дышит ровнее, в голове у него полная ясность — попробуем увидеть изъяны, оценить достоинства. На этот раз ей от него не уйти. Почти полная иллюзия присутствия! Кажется, они мысленно общаются друг с другом — один спросит, другой ответит — это ли не полнота единения? Его распирал восторг, он чувствовал, что обрел такую полноту бытия, достиг такой вершины, какая ему и не снилась, пока он оставался один. Он снова и снова заставлял себя въедливо, как крючкотвор, всматриваться в изъяны ее внешности, вгрызался в каждую ее слабость, но, несмотря на все его ухищрения, если у нее и были какие-то недостатки, они все растворялись в той безупречной гармонии, что сложилась из сродства их душ. Перед ними до самого горизонта простиралась жизнь. Какая бездонная глубина, если смотреть с самого верху! Какая беспредельная высь! Казалось бы, самые обыкновенные мелочи, а он был растроган до слез... Все переменилось: отпало второстепенное — пределы желаемого, ее отсутствие, за кого она выйдет замуж — за него или за кого-то другого, — все это стало не важно. Главное — она есть, и он ее любит. Он не заметил, как заговорил сам с собой, и в какой-то момент у него вырвалось: «Я люблю ее». Он не помнил, чтобы когда-то так называл свое чувство, обычно пускал в ход другие словечки: помешательство, наваждение, романтический бред, только не любовь; и вот теперь, когда у него вырвалось это слово, он стал повторять его на разные лады, словно впервые для себя открыл.
— Ну да, я люблю тебя! — воскликнул он с какой-то растерянностью, точно удивляясь самому себе. Он стоял, опершись о подоконник, точь-в-точь, как она недавно, и смотрел на раскинувшийся внизу город. Все преобразилось и стало на свои места, он понял причину своих переживаний, он дошел
Глава 28
291
до сути. Ему вдруг захотелось поделиться своим открытием с другими, ведь оно касалось не только его одного. Он захлопнул альбом с фотографиями, спрятал архив и бегом по лестнице, вниз, на ходу надел пальто и выскочил на улицу.
Под фонарями пусто, сумеречно, лучше не придумать, когда летишь на всех парах да еще разговариваешь на ходу сам с собой. Он шагал, никуда не сворачивая, прямо к дому Мэри Дэчет. Он искал человека, с которым можно поделиться, который его поймет, и поэтому он ни минуты не сомневался в своем решении. Вот и ее дом. Прыжками взбежал по лестнице, и ему даже в голову не пришло, что он может ее не застать. Звонит, и звонок заливается победно, будто глашатай спешит поведать миру о чудесном событии, которое возносит его над всеми прочими людьми. Небольшая заминка, дверь открывается: на пороге стоит Мэри. Ральф воззрился на нее, молчит, лицо у него совершенно белое, она приглашает его войти.
— Вы знакомы? — изумленно слышит он ее вопрос, не ожидал, что у нее кто-то есть.
Какой-то молодой человек, привстав, отвечает, что встречался с Ральфом, но лично не знаком.
— Мы работаем с документами, — пояснила Мэри. — Мистер Баснет помогает мне войти в курс дела, я еще не освоилась в должности секретаря. Я теперь в другой организации — ушла с Рассел-сквер.
Она говорила так, будто слова давались ей с трудом.
— И что за цели вы ставите? — спросил Ральф, не обращаясь ни к кому в отдельности, глядя куда-то вбок. Мистер Баснет подумал, что в жизни не встречал более неприятного, более отталкивающего типа, чем этот дружок Мэри, — ядовитый, белый как смерть, мистер Дэнем: какое право он вообще имеет требовать разъяснений и за глаза критиковать проект, о котором и слыхом не слыхивал? Тем не менее мистер Баснет как миленький изложил суть вопроса, постаравшись произвести самое благоприятное впечатление на собеседника.
— Понятно, — ответил Ральф, когда тот закончил. — Мэри, — неожиданно перевел он разговор, — знаешь, по-моему, я заболел, ты мне не поможешь? У тебя есть хина?
Он посмотрел на нее исподлобья, и ей стало страшно: такая безотчетная тоска, мука и страсть читались в его взгляде. Она побежала за лекарством. С замирающим сердцем вслушивалась в голоса за стенкой; стоило Ральфу появиться, и у нее защемило сердце, она похолодела от страха.
— Да, я, конечно, с вами согласен, — донесся до нее чужой голос Ральфа. — Только это далеко не все. Вы не говорили с Джадсоном? Очень советую с ним встретиться.
292
Вирджиния Вулф. День и ночь
Мэри вернулась с лекарством.
— А как найти Джадсона? — спросил мистер Баснет, держа наготове записную книжку. И в течение следующих двадцати минут Ральф диктовал, а Баснет записывал за ним имена, адреса, рекомендации. К концу консультации у Баснета сложилось четкое представление о том, что он, по сравнению с Ральфом, молодо-зелено, и, поблагодарив своего советчика, он побыстрее откланялся, чувствуя себя в их компании третьим лишним.
— Мэри, — позвал Ральф, едва за Баснетом захлопнулась дверь и они остались вдвоем. — Мэри, — повторил он и запнулся, сказалась старая привычка осторожничать в разговоре с девушкой — не высказываться без разбору. Он не то чтобы расхотел рассказывать о своей любви к Кэтрин, но с первой же минуты встречи почувствовал, что откровенного разговора у них не получится, и, чем дольше он беседовал с мистером Баснетом, тем крепче становилась его уверенность. А думал он всю дорогу только об одном — о Кэтрин и о том, что он ее любит. Голос звучал жестко.
— Ральф, что-то случилось? — спросила Мэри, вздрогнув от резкого тона. В глазах у нее застыла тревога, на переносице залегла складка, — было видно, что она судорожно пытается понять, что с ним происходит, и у нее ничего не получается. От ее потуг Ральфу сделалось тошно, он вспомнил, что его всегда раздражала эта ее угловатая, основательная медлительность. Он знал, что виноват перед нею, и это только усиливало чувство досады.
Не дождавшись ответа, она встала с места и с таким видом, будто ее ничто не касается, стала прибираться в комнате, тихонько что-то напевая: привела в порядок стол, сложила бумаги.
— Ты пообедаешь? — спросила между делом, усаживаясь на место.
— Нет, — ответил Ральф. Она не настаивала. Так и сидели рядом молча, потом, не вставая, Мэри достала корзинку с шитьем и вдела нитку в иголку.
— А молодой человек ничего, с головой, — заметил Ральф, имея в виду мистера Баснета.
— Я рада, что не ошиблась, — работа страшно интересная, и если подумать, то, в общем, дело двигается. Но ты прав: мне тоже кажется, что нужно проявлять больше гибкости. Мы излишне принципиальны, порой дело доходит до абсурда. Понятно, что увидеть разумное зерно в высказываниях соперников — задача непростая, но ведь на то они и конкуренты! А Гораций Баснет ни в какую — не идет ни на какие компромиссы. Кстати, надо не забыть напомнить ему про письмо Джадсону. Может, придешь на собрание комитета, если, конечно, не очень занят? — предложила она походя.
— Едва ли — в эти дни меня не будет, — туманно ответил Ральф.
— Исполком у нас каждую неделю, — заметила Мэри. — Но некоторые личности появляются самое большее раз в месяц, причем самые недисципли¬
Глава 28
293
нированные — это члены парламента. По-моему, мы напрасно их включили.
Она занялась шитьем.
— Ты забыл про лекарство, — вспомнила она, заметив на каминной доске пакетик с порошком.
— Ничего я не забыл, — отрубил он.
— Ну как знаешь, — отозвалась она.
— Мэри, ну и скотина же я! — взорвался он. — Пришел, отнимаю у тебя время и еще вредничаю!
— Что взять с больного? — ответила она.
— Вранье! Я не болен. Со мной все в порядке. Разве что совсем помешался. Знаю, мне не надо было тебя беспокоить, но мне так важно было тебе сказать... признаться... Мэри, я влюбился.
Вот он и сказал заветное слово, но почему-то оно прозвучало легковесно.
— Ты — влюбился? — тихо сказала Мэри. — Я за тебя рада.
— Может, мне только кажется, но я совсем обезумел — думать ни о чем не могу, работать не работаю, мне ни до чего нет дела. Мэри, Господи! Если бы ты знала, какая это мука, — я то на седьмом небе от счастья, то чувствую себя самым жалким существом на свете, то я ненавижу ее, то готов отдать жизнь — только бы побыть с ней рядом... Я уже ничего не понимаю, знаю только, что это безумие при полной ясности мысли. Понимаешь? Вот ведь как случилось... Я знаю, это бред, не слушай, занимайся своим делом.
Он вскочил и по привычке начал мерить шагами комнату. Сказать- то он сказал, но выразить то, что у него кипело внутри, он, конечно, не смог, — Мэри действовала на него подобно мощному магниту, заставляя его против воли говорить не те слова; те же, которые способны были выразить всю глубину его самых сокровенных чувств, оставались втуне. Он даже запрезирал себя за такую слабость, но, в конце концов, не он первым начал разговор.
— Сядь, пожалуйста, — неожиданно сказала Мэри. — Не мельтеши так...
В ее голосе звучало нескрываемое раздражение, чего Ральф прежде за
ней не замечал, от неожиданности он сел.
— Ты не сказал, кто она, — наверное, не хочешь...
— Кто? Это Кэтрин Хилбери.
— Но она же помолвлена с...
— Да, с Родни. Свадьба в сентябре.
— Понимаю, — заметила Мэри.
На самом деле она понимала только одно: он сидит с ней рядом, и ей так хорошо ощущать себя во власти какой-то загадочной, безмерной силы, что
294
Вирджиния Вулф. День и ночь
она, затаив дыхание, думала только о том, как бы не нарушить тишину ни словом нечаянным, ни вопросом. Просто сидела и смотрела на него с каким- то тайным благоговейным восторгом, изумлением и страхом. А он уставился прямо перед собой и ничего не замечал. Зажмурившись, она откинулась на спинку кресла, ей было невыносимо осознавать, что между ними выросла пропасть. Нахлынули воспоминания, одно, другое, понуждая ее расспросить Ральфа, заставить его разоткровенничаться, снова ощутить упоительное чувство взаимного доверия. Но нет — никаких поползновений, никаких поблажек самой себе она не потерпит, она будет держать возникшую между ними дистанцию и ни за что не перейдет границу, не вторгнется в жизнь этого достойного и уже далекого от нее человека.
— Я могу чем-то помочь? — деликатно спросила она, прервав молчание.
— Ты можешь поговорить с ней — хотя нет, о чем я? — не беспокойся, не надо, — сказал он с нежностью.
— Думаю, третий в этих делах ни к чему, — добавила она.
— Да уж, — сказал он, покачав головой. — Вот и Кэтрин говорит, что мы все одиноки.
Она видела, как ему непросто переступить через себя и произнести имя Кэтрин, и она подумала, что он это делает, стремясь загладить перед ней вину за то, что в прошлом скрытничал. Она же больше не держала на него обиды — наоборот, сочувствовала ему, зная по себе, через какие страдания придется ему пройти. Но Кэтрин — Кэтрин совсем другое дело: ей она простить не могла.
— Нас спасает работа, — заметила она с вызовом.
Ральф встрепенулся.
— Тебе надо работать, я мешаю, да? — спросил он.
— Нет-нет, сегодня же воскресенье, — успокоила она его. — Я не о том, я о словах Кэтрин о том, что мы все одиноки. Работа — не для нее, она не проработала в своей жизни ни дня. Она не понимает, что это такое, да я и сама поняла это только недавно. Но это действительно спасение.
— Наверное, не единственное? — предположил он.
— Все остальное ненадежно, — возразила она. — В конце концов, другие... — Она осеклась, но решила закончить. — Что со мной было бы, если бы я каждый день не ходила на службу? И точно так же думают тысячи людей — тысячи женщин... Говорю тебе, Ральф, работа — единственное мое спасение.
Ее слова били по его самолюбию, и он сжал зубы, держа удар, сидел, не шелохнувшись, решив до конца вынести эту пытку. Он виноват перед ней и молча, с благодарностью выслушает все, что накопилось у нее на душе, — только так он сможет облегчить свою вину. Но она не стала продолжать —
Глава 28
295
встала и пошла за чем-то, у двери обернулась и, стоя спиной к стене, посмотрела прямо ему в глаза, — взгляд ее был спокоен, полон достоинства и внутреннего самообладания. В ее спокойствии было что-то победное и жуткое.
— Я выстояла, Ральф, — сказала она. — Выстоишь и ты. Я не сомневаюсь. В конце концов, Кэтрин того стоит.
— Мэри! — вырвалось у него.
Она отвернулась, словно запрещая ему говорить.
— Ты — чудо! — только и сумел сказать он в ответ.
Она повернулась и протянула ему руку. Да, она выстрадала свою победу: видеть, как на твоих глазах сгорает будущее, и пережить это во имя каких-то туманных целей — такое по силам не каждому. Она сама поняла это только сейчас, стоя перед Ральфом, глядя ему в глаза и светясь победной улыбкой. Ральф склонился, припав губами к ее руке.
В тот воскресный вечер на улицах было пусто. Люди сидели по домам, в тихом семейном кругу, не решаясь выйти прогуляться из-за поднявшегося ветра. К ночи в городе разыгралась непогода, сродни царившему в душе у Ральфа смятению: гулявшие по набережной порывы ветра, казалось, вымели всех случайных прохожих, небо расчистилось, выглянули звезды, и на какое-то мгновение из-за туч вынырнула и заскользила по небу, точно кораблик в волнах, серебристая луна. Тучи нагоняли ее, вот-вот, казалось, проглотят, но она опять выныривала на поверхность, те не унимались, пытаясь подмять ее под себя, но она казалась непотопляемой. В полях ветер поднял, кружа, прошлогодний прах: сухие листья, папоротники, седую траву, но проклюнувшиеся почки были ему не по зубам — те стойко держались, цепляясь за свежие побеги, — и, как знать? — назавтра они, наверное, лопнут, и в образовавшихся прорезях сверкнет голубая или желтая полоска. Но Ральфу было не до звезд или цветов: внутри у него все клокотало, и если и появлялись какие-то просветы, то они тут же пропадали среди бушевавших в нем страстей. Разговор с Мэри не получился, хотя был один пронзительный момент, когда ему показалось, что еще секунда — и случится чудо взаимопонимания. Не случилось! И ему еще нестерпимее, чем прежде, захотелось поделиться своим потрясающим открытием, излить душу близкому человеку, ему нужен был собеседник. И он по наитию, безотчетно направился к дому Родни, стучал-стучал в дверь — никто не открыл, тогда он стал звонить. Он не сразу понял, что Родни нет дома. И только когда до него наконец дошло, что он пытается убедить себя в том, что это не ветер завывает под крышей старого дома, а скрипит стул, — когда он это понял, он как угорелый бросился вниз по лестнице, точно до сих пор не осознавал истинной своей цели. Он двинулся в Челси.
296
Вирджиния Вулф. День и ночь
К этому времени он был настолько измотан — без ужина, целый день на ногах, — что решил присесть на секунду на скамейке на набережной. Не успел оглянуться — рядом оказался местный пропойца, старик, спустивший все на свете — жилье, работу, попросил у Ральфа закурить. Разговорились: тот посетовал на непогоду, на тяжелые времена, завел какую-то длинную историю про невезение, несправедливость — видно было, что история эта про белого бычка, и он сам уже в нее не очень-то верит. Поначалу Ральф было обрадовался — наконец-то нашел слушателя, советчика, собеседника, даже попытался вникнуть в суть дела, но быстро понял, что пустая это затея. Сколько людей до него слушали эту жвачку — про судьбу-злодейку, про неудачу, про незаслуженную обиду, в уши Ральфа вползал поток словоизвержения, то громкий, то слабеющий, и тут же пролетал мимо, уносимый ветром. У стариков всегда так бывает: сначала моменты оживления сменяются провалами в памяти, потом начинается бессвязное бормотанье, а дальше — ничего, пустота. И такая тоска взяла Ральфа от всей этой истории с бубнящим себе под нос несчастным стариком, что он невольно опешил, когда вдруг перед его мысленным взором возникла картина: маяк в бурю, тысячи потерянных птиц бьются в стекла, расшибаются насмерть, падают заживо... Странное ощущение у него сложилось: он и маяк, он же и птица, он стоит, не дрогнет, сияет в ночи1, и в то же самое время его швыряет изо всей силы о стекло. Встал, положил на скамейку шиллинг и побрел дальше, двигаясь против ветра. Мимо зданий Парламента, дальше по Гросвенор- стрит2, вдоль реки, — он шел, ничего не видя перед собой: все заслонила картина — маяк, буря и бессчетные стаи птиц. От усталости двоилось в глазах: дома, фонари сливались в один темный фон со слепящими огнями, но он не сбивался с курса, двигаясь точно по направлению к дому Кэтрин. И чем ближе он к нему подходил, тем сильнее крепла в нем уверенность, что все разрешится, все сложится, есть надежда. Ее личность словно растворялась в близлежащих кварталах, осеняя их своим благотворным влиянием; ее дом, совершенно особый, не похожий на другие, делал все вокруг неповторимым. Последние метры Ральф преодолел в состоянии почти сомнамбулическом, но на пороге замешкался: толкнул решетку, что вела в небольшой садик перед домом, и остановился, не зная, как поступить. Впрочем, спешить было некуда, можно спокойно постоять и полюбоваться домом снаружи. Он перешел на противоположную сторону и, прислонясь к парапету, засмотрелся на фасад.
Прямо напротив него светилась яркими огнями гостиная в три высоких окна. Ральф представил, как на это пятно света надвигаются с трех сторон мрак и вихрь, грозя смять, раздавить его посреди бушующей бури, а оно
Глава 28
297
держится, несмотря ни на что, — все равно, что маяк посреди вселенского хаоса, — стоит, не дрогнет, знай только засылает вдаль свои лучи. Крохотное святилище, где за столом собралась тесная компания, не важно, кто они по отдельности, — главное, что все вместе они образуют, так сказать, цвет цивилизации; во всяком случае, в гостиной дома Хилбери, как в надежной гавани, сошлись все те, кто поднялся над суетой и сохранил способность самостоятельно мыслить. Цель у них благая, однако ему, Ральфу, до нее высоко, есть в ней какая-то внутренняя аскеза — это как свет, который светит, но не греет. Потом он поочередно представил все фигуры, подолгу задерживаясь на каждом обитателе гостиной, и только одно лицо — Кэтрин — он мысленно обходил стороной, как бы оставляя «на потом». Задумался, рисуя миссис Хилбери и Кассандру, потом перевел мысленный взор на Родни и мистера Хилбери — ему представилось, что все они купаются в потоке света, струящегося из высоких окон, и каждый был прекрасен в своих движениях, а в их речах угадывалось, как ему казалось, что-то невысказанное. Наконец, когда мизансцена была готова и глаз уже пообвык, он мысленно приблизился к центральной фигуре — к Кэтрин, и сразу все вокруг осветилось. Он увидел перед собой не силуэт, не контуры тела, а сам свет, его источник. Рядом с ним он показался себе маленьким, измученным, похожим на одну из тех потерянных птиц, что летят, завороженные, на свет маяка и расшибаются о стекло.
Задумавшись, он ходил взад-вперед по тротуару перед домом Хилбери. В голове у него не было никаких планов, он вообще не думал о будущем, сейчас ли, через год ли все как-нибудь да разрешится. Иногда он поднимал голову, проверяя, горит ли еще свет в окнах, иногда ронял рассеянный взгляд под ноги, на посеребренные лучом света листья, траву под окнами... Все было тихо. И вот в очередной раз он дошел до конца дорожки, повернул назад и вдруг видит: кто-то вышел из парадной двери, и вся картина моментально изменилась. По дорожке от дома шел кто-то в черном, дойдя до ворот, остановился. Это был Родни — Дэнем сразу его узнал и подошел к нему, ни секунды не колеблясь: в этом светлом доме все ему друзья. В первую секунду Родни отшатнулся — ветер был такой, что сшибал с ног, — пробормотал что-то и хотел пробежать мимо, очевидно, приняв Дэнема за уличного попрошайку. Но потом вгляделся и понял, кто перед ним.
— Господи, Дэнем, что вы тут забыли? — воскликнул он.
Ральф отговорился, сказав, что случайно проходил мимо; они пошли вместе, хотя Родни все время порывался побежать вперед, намекая, что ему не до разговоров.
На душе у него кошки скребли. В этот вечер они с Кассандрой чуть не рассорились: он попытался осторожно намекнуть ей на некие осложняющие
298
Вирджиния Вулф. День и ночь
обстоятельства, приоткрыл было — со всей возможной деликатностью — истинный характер своих чувств по отношению к ней. Но, конечно, не выдержал, его занесло — из-за постоянных насмешек Кэтрин он ляпнул липшее, и тогда Кассандра, преисполненная чувства собственного достоинства, оскорбленная в лучших чувствах, буквально заткнула ему рот, пригрозив, что ноги ее здесь больше не будет. В общем, ему хватило одного вечера в обществе двух женщин. К тому же он подозревал, что Дэнем не напрасно крутится в такой поздний час возле дома Хилбери, — наверняка что-то затевает вдвоем с Кэтрин. Впрочем, его это уже не касается — пусть себе встречаются сколько угодно. Его единственная мечта — это Кассандра, а Кэтрин и ее будущее — не его дело. И вообще, он устал и ему нужен извозчик, сказал он открытым текстом Дэнему. Однако найти извозчика в воскресный вечер, да еще на набережной, нелегко, и Родни ничего не оставалось, как смириться с обществом Дэнема, хотя бы на какое-то время. Тот шагал молча, и постепенно Родни оттаял — ему было приятно оказаться в мужской немногословной компании, которую он всегда ценил, а сейчас она была ему просто необходима: каким отдохновением кажется после долгих часов, проведенных с представительницами другого пола, общество мужчин, какое облагораживающее действие производит их ясный простой разговор, без всяких уверток — это после утомительнейших дамских штучек, секретов и проволочек! А еще, Родни нужно было выговориться — ведь Кэтрин посулила ему помощь, а потом, в самый интересный момент, его бросила, стала встречаться с Дэнемом. Тот, наверное, не догадывается, какую мучительницу нашел на свою голову. Вон как твердо, уверенно шагает, слова липшего не вымолвит, не то что некоторые, с их вечными терзаньями и сомненьями! Родни прикинул, как бы потоньше, не теряя лица, рассказать Дэнему о своих отношениях с Кэтрин и Кассандрой; но потом подумал, что Кэтрин, скорей всего, уже сообщила обо всем Дэнему, недаром они спелись, наверняка сегодня о нем сплетничали. И ему страсть как захотелось узнать, о чем именно они вдвоем шептались. Он вспомнил, как посмеялась над ним Кэтрин, — разве можно забыть, как она, хохоча, ушла вместе с Дэнемом?
— Вы еще долго там оставались? — выпалил он.
— Нет, мы сразу пошли ко мне домой.
Это подтверждало подозрения Родни — значит, они точно его обсуждали. Он задумался, переваривая услышанное.
— Да, Дэнем, разве женщин поймешь! — вздохнул он, помолчав.
— Гм, — ничего не ответил Дэнем. Ему, в отличие от Родни, казалось, что он понимает не только женщин, но и все мироздание. Во всяком случае, Родни был перед ним как на ладони: Ральф видел, что тот горюет, сочувствовал ему и хотел помочь.
Глава 28
299
— Им что-нибудь скажешь — и они тут же в истерику! Или еще хуже — начинают смеяться ни с того ни с сего. Мне кажется, тут никакое образование не...
Из-за налетевшего ветра Дэнем не расслышал конец фразы, но он понял, что Родни говорит о случае в зоопарке и ему до сих пор обидно, что Кэтрин тогда расхохоталась. Дэнем подумал: Родни, как одна из тех потерянных птиц, что тысячами расшибаются заживо о стекло, а сам он твердо стоит на ногах. Вдвоем с Кэтрин они уединились и вместе излучают двойное великолепное сияние. Он сострадал тому несчастному, что шел с ним рядом, и готов был его защитить, но научить его стойкости, указать ему прямую дорогу он не мог. Они с Родни, как два путника, идут одной дорогой, но почему-то один доходит до цели, а другой гибнет на полпути.
— Если человек тебе дорог, ты не станешь над ним смеяться.
Дэнем не сразу понял, к кому обращены эти слова, он даже решил, что ослышался: на таком ветру и не такое покажется. А что, если Родни действительно это сказал?
— Вы ее любите.
Он не узнал собственный голос — таким чужим и далеким он ему показался.
— Дэнем, как я намучился, если б вы знали!
— Да-да, я понимаю.
— Она все время насмехалась надо мной.
— При мне — ни разу!
Слова разлетались под порывами ветра, будто и не было их.
— Как я ее любил!
На этот раз Дэнем не ослышался — это точно сказал его спутник, сказал голосом, который мог принадлежать только Родни, голосом, как две капли воды, на него похожим. Дэнем представил своего собеседника на фоне серых зданий и башен, видневшихся на горизонте: как сидит он один ночью у себя в квартире и думает, думает о Кэтрин, — достойный человек, возвышенная, трагическая личность.
— Я тоже люблю Кэтрин. Потому и пришел.
Ральф отчеканил, как бы своим признанием отвечая на признание Родни.
Тот промямлил что-то неразборчивое.
— Я так и знал! — всхлипнул. — Знал с самого начала. Ну так женитесь на
ней!
В голосе его зазвенело отчаяние. Тут снова налетел ветер, не давая им говорить. Опять замолчали. Дойдя до фонаря, оба, как по команде, развернулись.
300
Вирджиния Вулф. День и ночь
— Господи, Дэнем, ну не дураки ли мы, а?! — выпалил Родни.
Они уставились друг на друга, стоя под фонарем. Вот уж дураки так дураки! Они смотрели друг на друга, ничего не говоря, только сейчас осознав всю безмерность своей глупости. Тогда, под фонарем, они вместе, без слов, докопались до сути, в одну секунду покончив с соперничеством и проникшись таким взаимным состраданием, какое редко у кого бывает. Понимающе кивнули друг другу на прощанье — и разошлись без лишних слов.
Глава 29
Было уже за полночь, когда в то воскресенье Кэтрин легла спать: она лежала в постели и дремала — обычно в такие минуты жизнь воспринимается отстраненно-благодушно, и даже если тебя не оставляют заботы, они все равно отступают перед быстро смежающим веки сном и наваливающимся забытьем. Перед глазами последний раз промелькнули тени Ральфа, Уильяма, Кассандры, ее собственная тень, такая же эфемерная, как остальные, — посмотреть со стороны, так все они, сбросив с себя покровы реальности, выглядели одинаково достойно. Успокоенная мыслью о том, что больше она никому ничего не должна и над ней не висит обязанность кого-то защищать, она провалилась в сон, и тут вдруг раздался еле слышный стук в дверь и к ней в комнату проскользнула Кассандра. В руке у нее горела свечка, и говорила она шепотом, как и положено в поздний час.
— Кэтрин, вы спите?
— Нет, уже нет. А что такое? — привстав, спросонья спросила Кэтрин.
— Понимаете, я никак не могла заснуть и решила к вам заглянуть — буквально на одну минуточку. Я завтра уезжаю.
— Куда уезжаешь — домой? А что случилось?
— Случилось! Мне больше нельзя у вас оставаться.
Она говорила строго, даже торжественно, было ясно, что речь она прорепетировала заранее и повод был более чем серьезный. Помолчав, она перешла ко второй части:
— Кэтрин, я решила вам во всем признаться. Дело в том, что сегодня Уильям позволил по отношению ко мне недопустимую вольность, так что мое пребывание здесь больше невозможно.
От этих слов Кэтрин окончательно проснулась.
— Где это произошло? В зоопарке? — спросила она.
— Нет, по дороге домой. Когда мы пили чай.
Чувствуя, что разговор будет долгий, а ночь была прохладная, Кэтрин предложила Кассандре завернуться в стеганое одеяло, что та и проделала, не меняя натянутого выражения лица.
Глава 29
301
— Утром в одиннадцать идет поезд, — сказала она. — Тете Мэгги я потом объясню, что мне пришлось срочно уехать... Скажу, что к нам приехала Виолетта. Но вам я должна все рассказать, я не могу так просто взять и уехать.
Она старательно прятала от Кэтрин глаза, возникла небольшая заминка.
— А по-моему, ты напрасно срываешься с места, — совершенно ровным голосом заметила Кэтрин. Кассандра не поверила своим ушам: она ожидала всего, что угодно, — возмущения, удивления, — только не этого: кузина сидела, слегка нахмурившись, в кровати, обхватив колени руками, и думала о чем-то своем.
— Да, срываюсь, потому что я никому не позволю так с собой обращаться! — ответила Кассандра и добавила: — Особенно, тому, кто уже помолвлен с другой.
— Подожди, но он же тебе нравится? — спросила Кэтрин.
— Да какое это имеет значение — нравится он мне или нет! — вспыхнула Кассандра. — Я говорю о том, что в подобных обстоятельствах достойные люди так не поступают!
Больше ей сказать было нечего — на этом ее заранее заготовленная филиппика закончилась. И когда Кэтрин заметила: «Позволь, по-моему, только это и имеет значение», Кассандра совершенно потерялась:
— Как вы можете такое говорить? Кэтрин, я вас совершенно не понимаю! Я вас просто не узнаю — с самого первого дня, как приехала!
— Тебе у нас хорошо, правда? — спросила ее Кэтрин.
— Да, очень, — согласилась Кассандра.
— Во всяком случае, ты не можешь сказать, что я испортила тебе поездку.
— Нет, не могу, — снова вынуждена была согласиться Кассандра. Она окончательно растерялась. До разговора ей все казалось понятным: она расскажет Кэтрин, та сначала ей не поверит, может быть, даже устроит сцену, а потом поймет и согласится с ее решением незамедлительно уехать домой. Но все вышло совсем не так: Кэтрин нисколько не удивилась ее сообщению, ни капельки не возмутилась — ну разве что чуть сильнее, чем обычно, задумалась. И Кассандра снова почувствовала себя маленькой девочкой, хотя еще совсем недавно она представляла себя зрелой женщиной, принимающей важное решение. — По-вашему, я повела себя глупо? — спросила она.
Кэтрин ее как будто не слышала — сидела, упорно думая о своем, так что Кассандра даже забеспокоилась. А что, если своими словами она глубже, чем ей сначала показалось, задела Кэтрин и та ушла в себя, и теперь до нее вообще не достучаться? И она испугалась: ей вдруг показалось, что она затеяла очень опасную игру.
302
Вирджиния Вулф. День и ночь
Спустя какое-то время Кэтрин подняла голову, посмотрела на нее и спросила как бы через силу, перебарывая себя:
— Скажи, Уильям тебе дорог?
От ее внимания не ускользнуло то, как девушка мгновенно вспыхнула, смутилась и спрятала глаза.
— Вы хотите узнать, влюблена я в него или нет? — переспросила Кассандра, задыхаясь от волнения и жестикулируя.
— Да, об этом, — сказала Кэтрин.
— Но так же нельзя — ведь вы с ним помолвлены, вы собираетесь за него замуж! — выпалила Кассандра.
— А что, если он в тебя влюблен?
— Кэтрин, по-моему, вы не должны делать такие предположения! — воскликнула Кассандра. — Как вы вообще можете такое говорить? Разве вам все равно, как Уильям относится к другим женщинам? Будь он мой жених, я бы этого не потерпела!
— Мы с ним не жених и невеста, — помолчав, сказала Кэтрин.
— Как?! — вскрикнула Кассандра.
— А вот так, — повторила Кэтрин. — Только об этом никто, кроме нас, не знает.
— Но как же так? Ничего не понимаю... вы с ним не помолвлены? — запричитала Кассандра. — Ах, вот в чем дело — вы его не любите! И не хотите выходить за него замуж!
— Мы разлюбили друг друга, — сказала Кэтрин, раз и навсегда закрывая тему.
— Кэтрин, до чего же вы странная, вас не поймешь, и все у вас не так, как у других, — мечтательно-сонным голосом, в котором не осталось и следа от недавних возмущения и беспокойства, сказала Кассандра, словно заранее расписываясь в своем бессилии понять кузину. — Значит, он вам разонравился?
— Отнюдь, он мне как брат, — ответила Кэтрин.
После такого откровения Кассандре оставалось только низко склонить голову и замолчать. Кэтрин тоже ничего не говорила — она вообще старалась как можно меньше привлекать внимания к своей особе, если не считать вздохов, то можно сказать, что в течение всего разговора ее было не слышно — настолько глубоко она ушла в свои мысли.
— По-моему, уже поздно, — заметила она напоследок, поправляя подушку и как бы давая понять, что пора идти спать.
Кассандра поднялась, будто во сне, взяла в руки свечу — в ее замедленных движениях было что-то от сомнамбулы, и еще этот белый халат, распущенные волосы, невидящий взор... Во всяком случае, Кэтрин так показалось.
Глава 29
303
— Так мне не ехать домой? — спросила Кассандра, стоя на пороге. — Или вы все-таки хотите, чтоб я уехала? Скажите же мне, как мне поступить?
И тут они первый раз посмотрели друг другу в глаза.
— Я так и знала! — воскликнула Кассандра, словно найдя подтверждение своим мыслям. — Вы свели нас вместе! Вы знали, что мы влюбимся друг в друга!
Смотрит на Кэтрин и не верит: у той на глаза медленно наворачиваются слезы — и в этих слезах все: и счастье, и горе, и выстраданное отречение — словом, такая сложная гамма чувств, что выразить их невозможно; и тогда Кассандра наклоняется, обнимает Кэтрин и чувствует, как слезы обжигают ей щеку, и она с благодарностью принимает их в знак освящения своей любви.
— Извольте, барышня, — объявила служанка утром, около одиннадцати часов, входя в гостиную, — в кухне дожидается миссис Милвейн.
Кэтрин, стоя на коленях, разбирала цветы — из деревни прислали длинную плетеную корзину с цветами и декоративными растениями, а Кассандра, устроившаяся в кресле и наблюдавшая за ней, вяло и безуспешно порывалась помочь, но та все отказывалась. Сообщение служанки странным образом подействовало на Кэтрин. Она поднялась с колен, подошла к окну и, убедившись, что служанка вышла, сказала с некоторым надрывом:
— Ты, конечно, понимаешь, что это значит.
Кассандра замотала головой.
— Пришла тетя Целия, и сейчас она сидит на кухне, — повторила Кэтрин.
— А зачем на кухне-то? — простодушно спросила Кассандра.
— Возможно, ей стало что-то известно о нас, — ответила Кэтрин. Кассандра моментально увязала эту новость с собой.
— О ком — о нас? — спросила она.
— Бог ее знает, — ответила Кэтрин. — Только нечего ей делать на кухне — я заставлю ее подняться наверх.
Суровый тон, каким это было сказано, не оставлял никаких сомнений в том, что Кэтрин полагает это необходимой дисциплинарной мерой.
— Кэтрин, умоляю, легче! — воскликнула Кассандра, вскочив с кресла и заметавшись по комнате. — Не дай бог, она что-то заподозрит, и потом, мы же еще ничего не решили...
Кэтрин мотнула головой в знак согласия, но, судя по тому, как решительно она вышла из комнаты, трудно было рассчитывать на ее дипломатичность.
Тем временем в комнате для прислуги ждала, примостившись на краешке стула, миссис Милвейн. В тех случаях, когда дело касалось интересов
304
Вирджиния Вулф. День и ночь
семьи, она всегда входила в дом с заднего хода и тихонько пристраивалась в помещении для прислуги. Почему она выбирала подвальный этаж, сказать трудно: возможно, у нее были на это какие-то тайные причины, а может быть, укромное место отвечало самому духу поиска. Во всяком случае, сама она объясняла, почему наотрез отказывается подняться в гостиную, нежеланием беспокоить хозяев, хотя на самом деле причина была в другом: едва ли не в большей степени, чем многие женщины ее поколения, миссис Мил- вейн обожала таинственный полумрак и атмосферу интимности, доверительности и секретности, а этого в подвальном этаже, где располагались комнаты для прислуги и кухня, было в избытке. Поэтому на все призывы Кэтрин подняться наверх она, чуть не плача, отвечала отказом.
— Мне нужно сказать тебе что-то по секрету, — шепнула она Кэтрин, вцепившись в стул.
— Да ведь в гостиной никого нет!
— А если мы столкнемся на лестнице с твоей матушкой? А вдруг отца разбудим? — Старушка упорно сопротивлялась любым попыткам выжать ее из засады.
Впрочем, прекрасно понимая, что без Кэтрин разговор все равно состояться не может, а та ни в какую не соглашалась говорить на кухне и уже развернулась, чтобы пойти обратно наверх, миссис Милвейн сдалась: подобрав юбки, она пошла вслед за племянницей. Шла на цыпочках, с оглядкой и почему-то особенно настороженно семенила мимо дверей, не важно, заперты они или нет.
— Надеюсь, нас никто не подслушивает? — буркнула она, входя в пустую гостиную. — Извини, я тебе помешала, — сказала она, заметив разложенные на полу цветы. Потом взгляд ее упал на платок, который обронила в панике Кассандра, улепетывая из гостиной, и она с подозрением спросила у Кэтрин: — А кто это у тебя здесь был?
— Кассандра помогала разбирать цветы, — ответила Кэтрин с вызовом в голосе, отчего миссис Милвейн начала шарить глазами по комнате, с особенным подозрением косясь на нггору, отделявшую комнатку с семейными реликвиями от большой гостиной.
— Ага, так, значит, Кассандра все еще у вас, — отметила она, усаживаясь. — Уж не Уильям ли послал тебе эти чудесные цветы?
Кэтрин села напротив тетушки, но отвечать не спешила, она смотрела куда-то вбок, словно разглядывала самым пристальным образом рисунок на занавесях. Чем еще удобно, по мнению миссис Милвейн, подвальное помещение, так это тем, что из-за тесноты собеседники поневоле садятся очень близко друг к другу и свет там не режет глаз, не то что здесь, в гостиной, —
Глава 29
305
тут солнце в три окна заливает светом комнату, золотясь ореолом вокруг Кэтрин и корзины с цветами и даже вокруг сухой, невзрачной фигуры миссис Милвейн.
— Нет, — отрезала Кэтрин, мотнув головой, — их прислали из Стогдон- хауса.
Миссис Милвейн чувствовала, что, если бы они с Кэтрин сидели рядышком, обнявшись, как и положено тете с племянницей, ей было бы куда проще начать доверительный разговор, а так они страшно далеки друг от друга и физически, и духовно. Но поскольку Кэтрин не делала ни малейших поползновений к сближению, то миссис Милвейн со свойственными ей безоглядностью и героизмом без предисловий перевила к делу:
— Кэтрин, о тебе ходят пересуды, собственно, поэтому я и пришла сегодня в такую рань. Ты ведь на меня не сердишься, правда? Мне совсем не хочется об этом говорить, но приходится делать это ради тебя, девочка.
— Тетя Целия, не вижу причин на вас сердиться, — усмехнулась Кэтрин.
— Люди говорят, что Уильям везде появляется вместе с тобой и Кассандрой и что он оказывает ей знаки внимания. На балу у Маркемов он танцевал с ней целых пять раз. И в зоологическом саду их видели вместе. Увили они оттуда тоже вдвоем, а домой вернулись только около семи вечера. Но и это еще не все: говорят, в последнее время, пока она у вас гостит, его будто подменили, — все это заметили.
Выдав эту тираду на одном дыхании и показав, что она оскорблена в лучших чувствах, миссис Милвейн сделала паузу и внимательно посмотрела на Кэтрин, желая убедиться в том, какое действие возымели ее слова. А та сразу как-то подобралась: сжала губы и взглядом уперлась в штору. Внутри у нее все кипело от возмущения, она едва сдерживалась, ее тошнило от предчувствия какого-то отвратительного, безобразного спектакля, который вот-вот разыграется. Первый раз она посмотрела на свою затею чужими глазами — и каким же грубым фарсом та представилась ей! Благодаря словам тети Кэтрин поняла: стоит только вынуть из жизни душу, и не останется ничего, кроме одной мерзости.
— И что же? — изрекла она наконец.
Миссис Милвейн рванулась к ней, желая заключить ее в свои объятия, но Кэтрин не поддержала ее порыв.
— Кэтрин, мы же все знаем, какая ты хорошая, в тебе нет ни капли эгоизма, ты всегда стараешься для других. Но ведь нужно и о себе подумать! Вот ты осчастливила Кассандру, а она отплатила тебе черной неблагодарностью.
— Что-то я вас не понимаю, тетушка, — сказала Кэтрин. — При чем здесь Кассандра?
306
Вирджиния Вулф. День и ночь
— А при том, что она повела себя совершенно неподобающим образом, — загорячилась миссис Милвейн. — Маленькая бессердечная эгоистка!.. Я обязательно с ней сегодня поговорю.
— И все равно я не понимаю, — повторила Кэтрин.
Миссис Милвейн метнула взгляд на племянницу. Неужели Кэтрин настолько слепа? Или она думает, что тетя ошиблась? Тут миссис Милвейн выпрямилась и объявила торжественно:
— Кассандра отбила у тебя Уильяма.
И снова никакого эффекта.
— Вы хотите сказать, — заметила Кэтрин, — что он в нее влюбился?
— Дорогая, есть тысячи способов влюбить в себя мужчину.
Кэтрин молчала. Не зная, как ее разговорить, миссис Милвейн засуетилась:
— Мне пришлось это сказать ради твоего же блага. Я бы никогда не вмешалась, чтобы не причинять тебе боль. Я больше ни на что не гожусь, я старая, у меня нет детей. Все мое счастье — это ты, Кэтрин.
И она снова раскрыла объятья, но отклика не последовало.
— Вот что, тетя, — сказала вдруг Кэтрин, — вам не нужно передавать все это Кассандре. Достаточно того, что вы поговорили со мной.
Сказано это было таким тихим и сдавленным голосом, что миссис Милвейн пришлось напрячь слух, чтобы поверить, что она не ослышалась.
— Ты сердишься?! Я так и знала! — воскликнула она.
Ее трясло, ее душили рыдания, но все равно она испытывала облегчение оттого, что Кэтрин хоть как-то откликнулась на ее слова, пусть даже и рассердилась, — во всяком случае, теперь можно почувствовать себя страдалицей.
— Да, сержусь, — ответила Кэтрин, вставая. — И давайте прекратим этот разговор. По-моему, тетя, вам лучше пойти, мы не понимаем друг друга.
Таких слов миссис Милвейн явно не ожидала от своей племянницы: она посмотрела ей в глаза, но жалости в них не нашла, после чего сложила ручки на черном бархатном ридикюле, который чуть ли не со священным трепетом повсюду носила с собой. Уж какому божеству она возносила таким образом молитву, сказать трудно, но в любом случае это беспроигрышное средство помогло ей вернуть пошатнувшееся было чувство собственного достоинства и воззвать к племяннице.
— Супружеская любовь, — отчеканила она медленно, цедя каждое слово, — это самое святое чувство. Нет более священной любви, чем любовь мужа и жены. Этому нас учила мама, и мы, ее дети, должны об этом вечно помнить. Я пришла поговорить с тобой, как мать с дочерью. Ведь ты — ее внучка.
Кэтрин обдумала тетушкин довод и решила, что он ложный.
Глава 29
307
— По-моему, никто не вправе вести себя таким образом, — сказала она.
При этих словах миссис Милвейн встала и на секунду замешкалась: все
происходящее было для нее внове, и она не понимала, какими средствами можно сломить неожиданное и упорное сопротивление барышни, которая, ввиду своей молодости, красоты и пола, давно должна была бы рыдать у нее на груди. Только ведь и миссис Милвейн — тот еще кремень, и в этих вопросах ее на мякине не проведешь: чутье еще ни разу ее не подводило. Себя она видела защитницей брака во всех его чистоте и превосходстве, а вот что защищала ее племянница, это неизвестно, зато весьма и весьма подозрительно. Обе женщины стояли рядом — старая и молодая, и обе молчали. Миссис Милвейн все не решалась уйти из-за того, что провозглашаемые ею принципы не были восстановлены в полном объеме и, кроме того, ее любопытство жаждало удовлетворения — она судорожно искала, за что бы зацепиться, чтобы заставить Кэтрин нечаянно проговориться, но обычные испытанные методы почему-то не действовали. В общем, она стояла в сомнении, и тут вдруг открывается дверь, и в гостиную входит Уильям Родни собственной персоной. В руках у него был огромный роскошный букет белых и пурпурных цветов, и он с порога, не поздоровавшись с миссис Милвейн, — то ли не заметил, то ли сделал вид, что не заметил, — бросился к Кэтрин со словами:
— Кэтрин, это для тебя.
Кэтрин взяла букет, и миссис Милвейн успела перехватить взгляд, которым она обменялась с Уильямом, но, при всей своей опытности, она не знала, как его истолковать, и напряженно ждала продолжения. Поздоровался с ней Уильям без малейшего стеснения, объяснив свой визит тем, что у него сегодня выходной и они с Кэтрин решили отметить этот день прогулкой в Чейн-уок и — цветами, разумеется. Возникла небольшая пауза, что тоже было вполне естественно, и тут уже миссис Милвейн засобиралась домой, чувствуя, что ее дальнейшее присутствие излишне. Вообще с приходом молодого человека настроение у нее подпрыгнуло, и ей захотелось завершить встречу общим примирением. Она многое отдала бы за то, чтобы обнять племянника и племянницу, но чувство ей подсказывало, что подобные эмоциональные сцены здесь не в чести.
— Я, пожалуй, пойду, — сказала она упавшим голосом.
Никто не стал ее задерживать. Уильям учтиво проводил ее к выходу, и как-то так само собой получилось, что, засуетившись, засмущавшись, миссис Милвейн забыла попрощаться с Кэтрин. С тем и откланялась, бормоча что-то себе под нос про охапки цветов и про то, что даже зимой гостиная прекрасна, как никогда.
308
Вирджиния Вулф. День и ночь
Вернувшись в гостиную, Уильям застал Кэтрин на том же месте в той же позе.
— Я пришел просить прощения, — сказал он. — Вчерашняя ссора совершенно выбила меня из колеи, я не спал всю ночь. Кэтрин, ты все еще на меня сердишься?
А она даже ответить ему не могла — ее буквально трясло после визита тети; ей казалось, что все вокруг: и цветы, и даже носовой платок, оброненный Кассандрой, который миссис Милвейн не погнушалась использовать в качестве улики, — все отравлено подозрениями.
— Она шпионила за нами, — выдохнула Кэтрин, — ходила по пятам по всему Лондону, подслушивала, что о нас судачат...
— Кто — миссис Милвейн? — воскликнул Родни. — Это она сама тебе сказала?
С него моментально слетела вся уверенность.
— О да, прошел слух, что ты влюбился в Кассандру, а меня бросил.
— Нас видели вместе? — спросил он.
— За нами следили все две недели.
— Я же предупреждал тебя! — застонал он.
Отвернулся к окну, тщетно пытаясь скрыть волнение. А Кэтрин при всем желании не могла его ободрить — она вся кипела от возмущения, ее душил гнев, она застыла, вытянувшись в струнку, прижимая к груди букет.
Родни повернулся.
— Это была ошибка, — сказал он. — Не могу себе простить — дать такого маху! На меня что-то нашло, и я дал себя уговорить. Умоляю, Кэтрин, забудь, это было минутное помрачение.
— Представляешь, она даже решила наказать Кассандру! — не слушая его, выпалила Кэтрин. — Грозилась поговорить с девочкой — о, с нее станется, она способна на все!
— Кэтрин, по-моему, ты преувеличиваешь. Да, миссис Милвейн совершила бестактность. Да, люди о нас судачат. Ну так спасибо ей, что предупредила. Вся эта история только подтверждает мое собственное ощущение — мы оказались в пиковом положении.
Кэтрин не сразу поняла.
— Уж не хочешь ли ты сказать, что решил опять все переиграть? — спросила она, не веря своим ушам.
— Именно, — сказал он, покраснев. — Все это крайне неприятно, для меня невыносима мысль о том, что о нас сплетничают на каждом углу. И потом, твоя кузина... Кассандра...
Он смутился и замолчал, потом сказал изменившимся голосом:
Глава 29
309
— Кэтрин, я пришел сегодня специально с утра, чтоб попросить тебя: забудь о моей выходке, о моих дурацких эскападах и неуравновешенности. Кэтрин, может быть, попробуем вернуть все, как было, как было месяц назад, до этого сумасшествия? Ты ведь примешь меня, Кэтрин, навсегда и бесповоротно?
В том, что у Родни вновь взыграло прежнее романтическое чувство по отношению к Кэтрин, отчасти была повинна ее красота: неподдельное волнение и огромный яркий букет, несомненно, добавили красок к ее и без того ослепительной внешности. Но крылась под этим и гораздо более прозаическая и менее благородная причина: Родни ревновал! Накануне Кассандра резко и, как он полагал, безоговорочно отвергла его осторожное выражение нежных чувств. В ушах у него звучало признание Дэнема, и, наконец, такие чары, какими обладала Кэтрин, не избываются за одну, даже самую лихорадочную ночь.
— Вчера я тоже вела себя не лучшим образом, — сказала она мягко, отметая его вопрос. — Признаюсь, Уильям, я сильно ревновала, увидев тебя с Кассандрой, — ничего не могла с собой поделать. И вот итог — подняла тебя на смех.
— Ты... ревновала? — воскликнул Уильям. — Вот уж напрасно, Кэтрин, уверяю тебя. Она меня терпеть не может. Я, глупый человек, попытался объяснить ей, как обстоит дело, не удержался и намекнул на свои чувства, так она отказалась меня слушать! — и, в общем-то, правильно, только теперь я точно знаю, что она меня презирает.
Кэтрин молчала, она была растерянна, взволнованна, физически и душевно измочалена — грубое вторжение тети не прошло для нее даром. Она опустилась в кресло и положила букет на колени.
— Она околдовала меня, — продолжал Родни. — Я думал, что люблю ее, но теперь все это в прошлом. С этим покончено, Кэтрин. Считай, что мне это приснилось — пригрезилось. Мы оба виноваты в случившемся, но все можно поправить, если ты поверишь, насколько ты мне дорога. Скажи, ты ведь мне веришь?
Он наклонился над ней, будто только и ждал, когда с ее губ сорвется заветное слово, и надо же, именно в эту минуту, не раньше и не позже — видимо, из-за захлестнувших ее чувств — ее любовь к Родни испарилась, как утренний туман. И враз обнажилось то, что скрывалось под покровом, — голый рельеф и бескрайняя пустыня, глазу отдохнуть не на чем, жуткая картина. Родни заметил мелькнувшее у нее в глазах выражение ужаса и, не догадываясь о причине, по-дружески взял ее за руку. На какое-то мгновение к ней вернулось чувство локтя, а вместе с ним и детское желание спрятаться,
310
Вирджиния Вулф. День и ночь
укрыться, почудилось, что иначе, как приняв его предложение, она и жить дальше не сможет. Он прижался губами к ее щеке, она склонила голову ему на плечо, — Родни торжествовал! На какую-то секунду она была его и искала у него защиты.
— Вот и ладно, вот и хорошо, — шептал он, — я снова твой, Кэтрин. Ты меня любишь.
Секундная пауза, потом она сказала тихо:
— Кассандра любит тебя сильнее, чем я.
— Кассандра? — прошептал он.
— Да, она тебя любит, — повторила Кэтрин. И встав с кресла, сказала еще раз: — Она тебя любит.
Уильям медленно выпрямился. Сердце ему подсказывало, что Кэтрин говорит правду, но он не понимал, что все это значит. Выходит, Кассандра его любит? Но кто об этом сказал — она сама призналась Кэтрин? Ему страшно захотелось поскорее узнать всю правду, каковы бы ни были последствия. Вновь нахлынули воспоминания, связанные с девушкой, и он возликовал. Возликовал не на пустом месте, как прежде, когда еще только предвкушал встречу и многое было неизвестно, — нет, теперь впереди замаячила надежда на взаимность, и они с Кассандрой уже успели познакомиться и хорошо узнать друг друга. Но у кого же узнать наверняка? У Кэтрин? Но позвольте — ведь он только что ее обнимал, свою обожаемую Кэтрин? Он бросил в ее сторону взгляд, полный сомнения и тревоги, и ничего не сказал.
— Да-да, это правда, — повторила она, видя, что он сомневается, и толкуя это по-своему. — Я знаю, как она к тебе относится.
— Она меня любит?
Кэтрин кивнула.
— А я сомневаюсь! Сам себя не пойму! Десять минут назад я сделал тебе предложение, и я не отказываюсь... впрочем, я сам не знаю, чего хочу...
Он отвернулся, с трудом сдерживая эмоции, потом вдруг резко повернулся и, глядя ей в лицо, бросил:
— Как ты относишься к Дэнему? Скажи, я прошу.
— К Ральфу Дэнему? — переспросила она. — Ах, вот оно что! — воскликнула, словно найдя ответ на давно мучивший ее вопрос. — Так ты не любишь меня, Уильям, а ревнуешь, а я ревную тебя. Поверь, нам обоим будет лучше, если ты немедленно поговоришь с Кассандрой.
От этих слов Уильяма буквально затрясло — он забегал взад-вперед по комнате: то к окну подбежит, то уставится на цветы, которыми был усыпан пол. Мало-помалу его так разобрало, так ему захотелось во что бы то ни стало убедиться в правоте слов Кэтрин, что он не мог дольше скрывать свое чувство к Кассандре.
Глава 29
311
— Ты права, — выпалил он, остановившись как вкопанный у столика, на котором стояла дорогая ваза, и нервно забарабанил костяшками пальцев по столешнице. — Я люблю Кассандру.
И только он это сказал, как шторки музейного алькова раздернулись и перед ними появилась Кассандра.
— А я все слышала! — объявила она.
Все оцепенели. И тут Родни делает шаг вперед и говорит:
— Значит, вам известны мои чувства. Ответьте же мне...
Кассандра всплеснула ручками, закрыла лицо и отвернулась, словно пыталась убежать от них обоих.
— Кэтрин уже ответила, — прошептала она, обмирая от поцелуя, которым Уильям ответил на ее признание. — Однако, — поднимая голову, вздохнула Кассандра, — как все сложно! Я о чувствах — твоих, моих, Кэтрин. Как ты думаешь, Кэтрин, правильно мы поступаем?
— А как же, конечно, правильно! — ответил Уильям. — Если после всего, что ты услышала, ты согласна выйти замуж за такого путаного человека, как я, да еще с таким ужасным...
— Не надо, Уильям, не продолжай, — вмешалась Кэтрин, — Кассандра все слышала, она сама нас рассудит, у нее есть голова на плечах — нечего нам ее учить.
Но, конечно, вопросов у Кассандры, стоявшей под руку с Уильямом, было хоть отбавляй — в душе у нее бушевала настоящая буря. Так ей нельзя было подслушивать? В чем ее обвиняет тетя Целия? Что думает о ее поступке Кэтрин? А главное — любит ли ее Уильям, по правде любит, любит больше жизни, на веки вечные?
— Он мой, Кэтрин! — воскликнула она. — Я не стану ни с кем делиться, даже с тобой!
— Я и не прошу, — ответила Кэтрин, машинально отодвинувшись и снова принимаясь за цветы.
— Но ты же со мной делилась, — заметила Кассандра. — Почему же я не могу? Отчего я такая собственница? Хотя нет, я знаю, отчего, — добавила она. — Мы с Уильямом заодно, а вы с ним были порознь. Вы слишком разные.
— Постойте, — вмешался Уильям. — Я просто был сражен, и все.
— Я не о том, — настаивала на своем Кассандра, — речь о взаимопонимании.
— Кэтрин, неужели я тебя не понимал? Неужели я такой эгоист?
— Да, — снова вмешалась Кассандра, — ты искал у нее сочувствия, а она не из породы сочувствующих, ты хотел, чтобы она была практична, а она
312
Вирджиния Вулф. День и ночь
другая. Ты вел себя как эгоист, как придира, и Кэтрин вела себя точно так же, но тут нет ничьей вины.
Кэтрин с огромным интересом следила за этой первой попыткой разобраться во взаимоотношениях. Ей казалось, что от слов Кассандры старый стертый лик жизни вновь заблестел и стал свеж и юн. Она повернулась к Уильяму.
— Так и есть, — заметила она. — Тут нет чьей-то вины.
— Он еще столько раз придет к тебе посоветоваться по разным поводам, — продолжала Кассандра, словно читая волшебную книгу. — Я вовсе не против, Кэтрин, и не стану возражать. Я хочу быть такой же щедрой, как ты. Но когда любишь, это труднее.
Они замолчали. Первым заговорил Уильям.
— Только об одном прошу, — сказал он, и, взглянув на Кэтрин, опять разволновался. — Пожалуйста, пообещайте мне никогда больше не обсуждать эти вопросы. Не потому, что я такой робкий и правильный, как ты, Кэтрин, всегда про меня думала. Просто обсуждение все портит, оно будоражит ум, а мы сейчас все так счастливы...
Кассандра скрепила свое согласие красноречивым взглядом, полным безграничных преданности и доверия, после чего Уильям, преисполненный восхищения и благодарности, перевел обеспокоенный взгляд на Кэтрин.
— Да, я тоже довольна, — заверила она его, — и я согласна: больше мы об этом не говорим.
— Кэтрин, дорогая! — вскричала Кассандра и, обливаясь слезами, бросилась ее обнимать.
Глава 30
Для трех домочадцев тот день оказался настолько необычным, что они вдруг с удивлением поняли, что весь устоявшийся домашний уклад: и прислуга за столом, и миссис Хилбери за бюваром, и бой часов, и визиты, — все обессмыслилось в их глазах, хотя мистер и миссис Хилбери, благодаря привычному распорядку, продолжали пребывать в уверенности, что в их доме все идет так, как заведено. Разве что миссис Хилбери была немного подавлена, вроде бы без всякой на то причины; впрочем, поводом для разочарования могли послужить ее любимые елизаветинцы, нраву которых присуща определенная топорность, переходящая в грубость. Как бы то ни было, миссис Хилбери с досадой захлопнула «Герцогиню Амальфи»1, а за обедом стала допытываться у Родни, не знает ли он какого-то современного молодого одаренного писателя — такого, чтоб убеждал тебя в том, что жизнь прекрас¬
Глава 30
313
на? Не добившись от Родни толку, она собиралась уже спеть реквием по почившей в бозе поэзии, но потом вспомнила о Моцарте, и настроение у нее поднялось. Она упросила Кассандру поиграть для них, и та, нисколько не ломаясь, села за рояль в гостиной наверху и постаралась сыграть так, чтобы возникла атмосфера неподдельной гармонии. При первых же звуках музыки у Кэтрин и Родни отлегло от души: музыка освобождала их от необходимости быть постоянно начеку, и они оба погрузились в свои мысли. Миссис Хилбери настолько воодушевилась, что парила в облаках в полном согласии с миром, в полумечтательном-полусонном состоянии легкой грусти пополам с блаженством. Слушал Кассандру один мистер Хилбери. Сам музыкант с абсолютным слухом, он каким-то образом дал ей понять, что он вслушивается в каждую ноту, и, ободренная его вниманием, она заиграла в полную силу. Сидя в кресле, слегка подавшись вперед, теребя зеленый камешек на брелоке, он с одобрением следил за тем, как она выстраивает фразы, и вдруг в какой-то момент прервал игру: где-то послышался шум. Оказалось, неплотно закрыта оконная рама. Он жестом подозвал Родни, и тот моментально поднялся, чтобы закрыть окно. Дело секундное, но Родни чуть-чуть замешкался у окна, а вернувшись на свое место, подвинул кресло поближе к Кэтрин. Концерт продолжался. Улучив подходящий момент, Родни наклонился к Кэтрин и шепнул ей что-то на ухо. Та взглянула на отца с матерью, и вскоре они с Родни незаметно вышли из комнаты.
— В чем дело? — спросила она, закрывая за собой дверь.
Вместо ответа Родни повел ее вниз, на первый этаж в столовую. По-прежнему не говоря ни слова, прикрыл за собой дверь, подошел к окну и раздвинул нггоры, подзывая Кэтрин.
— Он опять здесь, — сказал он. — Видишь фонарь? В-о-о-н там.
Ничего не понимая, Кэтрин выглянула в окно и обмерла: на противоположной стороне улицы, ровно напротив их окон, под фонарем стоял человек. На их глазах он повернулся, сделал несколько шагов и снова вернулся на прежнее место. Кэтрин казалось, он смотрит прямо на нее, сама она тоже не могла оторвать от него глаз. Она мгновенно поняла, кто это, и резко задернула штору.
— Это Дэнем, — констатировал Родни. — Он и вчера здесь дежурил.
Говорил Родни сурово и вообще вел себя властно, по-хозяйски. Кэтрин
решила, что он чуть ли не обвиняет ее в каком-то преступлении. Она побледнела, разволновалась — из-за странного тона Родни и неожиданного появления Дэнема ей было вдвойне не по себе.
— Пусть только попробует войти... — бросила она с вызовом.
— Ты что же, хочешь, чтоб он ждал снаружи? Я приглашу его в дом.
314
Вирджиния Вулф. День и ночь
Родни был настроен очень решительно, но стоило ему только протянуть руку, чтобы отдернуть штору, как Кэтрин схватила его за запястье, воскликнув:
— Постой! Не делай этого!
— Поздно, Кэтрин, — ответил Родни, не отнимая руки от занавески. — Ты слишком далеко зашла... Кэтрин, почему ты не хочешь признаться себе в том, что ты его любишь, а? — глядя ей прямо в глаза, не скрывая негодования, с оттенком презрения выпалил он. — Ты что, собираешься ему, как и мне, дать от ворот поворот?
Она воззрилась на него, не понимая, что за муха его укусила.
— Я запрещаю тебе отдергивать штору, — процедила она.
Он подумал и опустил руку.
— Я не вправе вмешиваться, — сказал он. — Я пойду. Ты идешь со мной?
— Нет, в гостиную я не вернусь, — сказала она, не поднимая головы. Она о чем-то сосредоточенно думала.
— Кэтрин, а ведь ты его любишь, — сказал вдруг Родни. Голос его зазвучал мягко — он будто уговаривал ребенка сознаться в проступке. Кэтрин подняла голову и посмотрела ему в глаза.
— Я его люблю? — удивилась она.
Он кивнул. Она испытующе смотрела на него, словно ожидая, что он скажет что-то еще в подтверждение своих слов, а поскольку он молчал и ждал от нее ответа, то она снова отвернулась и погрузилась в свои мысли. Он не спускал с нее глаз, боясь пошевелиться, как бы давая ей время самой принять единственно верное решение. Из гостиной донеслись звуки Моцарта.
— Ну что ж, — вымученно сказала она, вставая со стула и тем самым показывая, что все отдает на откуп Родни. Он моментально отдернул нггору — она не сопротивлялась. Они вдвоем уставились на площадку под фонарным столбом.
— Он ушел! — воскликнула она.
Действительно, под фонарем никого не было. Уильям распахнул окно, высунулся наружу; в комнату ворвался ветер, где-то далеко гудел транспорт, слышались шаги прохожих, с реки доносился звук пароходных сирен.
— Дэнем! — крикнул Родни.
— Ральф! — позвала Кэтрин тихим голосом, как если бы она обращалась к собеседнику, сидящему в одной с ней комнате. Вдвоем с Родни они напряженно всматривались в противоположную сторону улицы, не замечая, что Дэнем стоит прямо под окнами, за оградой их дома, — он просто перешел на другую сторону. То-то они удивились, услышав его голос совсем близко.
Глава 30
315
— Родни!
— А, вот вы где! Входите с парадной, Дэнем.
И Родни пошел открывать.
— Ну, наконец-то, — объявил Уильям, открывая перед Ральфом дверь столовой, где спиной к окну стояла Кэтрин. Глаза их на секунду встретились. После темной улицы щурясь на яркий свет, в застегнутом доверху пальто, весь взъерошенный, Дэнем был похож на моряка, которого сняли с лодки в открытом море. Уильям быстро закрыл окно и задернул шторы. Он действовал энергично, как хозяин положения, который очень хорошо знает, что делает.
— Дэнем, сообщаю вам первому новость, — объявил он. — Кэтрин реши- ла-таки не выходить за меня замуж.
— Куда бы мне положить?.. — начал издалека Ральф, снимая шляпу и оглядываясь по сторонам, не найдя ничего лучше, он аккуратно приставил ее к серебряной чаше на буфете, потом подошел к столу и тяжело опустился на стул. Получилось, что он сидит во главе большого овального обеденного стола, и по одну руку от него стоит Родни, а по другую — Кэтрин. Он словно возглавлял собрание, большинство участников которого отсутствовали. Он молча глядел прямо перед собой на отполированную до блеска столешницу красного дерева.
— Уильям помолвлен с Кассандрой, — кратко пояснила Кэтрин.
При этих словах Дэнем поднял глаза на Родни — тот переменился в лице. Куда подевалась его уверенность? Губы нервно дернулись в улыбке, и он тут же перевел взгляд на потолок — из гостиной донеслись звуки музыки. На мгновение он, казалось, забыл о присутствующих и с тоской посмотрел на дверь.
— Поздравляю, — сказал Дэнем.
— Спасибо, спасибо. По-моему, мы все сошли с ума — да-да, Дэнем, именно так, сошли с ума, — ответил Родни. — Мы с Кэтрин оба приложили к это- му руку.
Говоря это, он дико озирался по сторонам, словно пытаясь убедить себя в том, что все происходящее похоже на правду.
— Да, сошли с ума, — повторил он. — Даже Кэтрин...
Он воззрился на нее так, будто впервые видел, улыбнулся ей ободряюще.
— Кэтрин все объяснит, — сказал он, кивнул Дэнему и вышел вон.
Кэтрин присела к столу, подперев ладонью щеку. Пока Родни был рядом и командовал парадом, ее не покидало ощущение нереальности происходящего, и она была скованна; но теперь, когда Родни ушел и они с Ральфом остались одни, она сразу почувствовала, будто камень с души снят. Ей
316
Вирджиния Вулф. День и ночь
представилось, что они сидят вдвоем на дне, а над ними этаж за этажом громоздится высоченный дом.
— Зачем вы там дежурили? — спросила она.
— Хотел вас увидеть, — ответил он.
— Хорошо, Уильям вас заметил, а то пришлось бы вам ждать целую ночь. Такой ветер. Вы, наверное, замерзли. И что оттуда можно увидеть? Окна как окна.
— Я не жалею. Я слышал, как вы меня звали.
— Я? Звала вас?
Вопрос вырвался помимо ее воли.
— Они сегодня утром объяснились, — сказала она ему, помолчав.
— Вы рады? — спросил он.
Она кивнула.
— Да, да, — сказала, вздохнув. — Но вы не знаете, он такой хороший, он так много для меня сделал...
Ральф крякнул понимающе.
— Вы вчера тоже дежурили? — спросила она.
— Да, я привык ждать, — ответил он.
Слова эти отозвались в душе Кэтрин тоской по доносящемуся издали стуку колес, по звуку шагов спешащих под окнами прохожих, по вою пароходных сирен, по темноте, по сквозняку. Ей почудилось, что она видит перед собой фигуру, слившуюся с фонарем.
— Ждать в темноте2, — сказала она, бросая взгляд на окно, словно приглашая его увидеть то, что видит она. — Только это не то...
Она осеклась.
— Я не та, за кого вы меня принимаете. Пока вы не поймете всю невозможность...
Положив локти на стол, рассеянно крутя колечко с рубином на пальце, она косилась на противоположную стенку с длинными стеллажами книг в кожаных переплетах. Ральф не спускал с нее глаз: в лице ни кровинки, упорно думает о чем-то своем, писаная красавица не от мира сего, — есть в ней какая-то отрешенность, которая его и опьяняла, и отпугивала.
— Да, вы правы, — сказал он. — Я вас не знаю, никогда не понимал.
— Да, но, пожалуй, именно вы знаете меня лучше, чем другие, — протянула она задумчиво.
Она вдруг поймала себя на мысли, что неотрывно смотрит на одну книгу, которая непонятным образом сюда затесалась. Она встала, подошла к книжной полке, сняла томик и, положив его на стол перед Ральфом, снова села на свое место. Ральф раскрыл книгу: с фронтисписа на него смотрел мужчина с пышным белоснежным жабо.
Глава 30
317
— Вот что я скажу, Кэтрин: я действительно вас знаю, — сказал он твердо, захлопывая том. — Просто бывают мгновения, когда мне кажется, я схожу с ума.
— Два вечера подряд — это, по-вашему, мгновение?
— Вот сейчас, клянусь, я вижу вас такой, какая вы есть. Разве кто-нибудь понимает вас так, как я? Кто, кроме меня, догадался бы о том, что вы сейчас подойдете к полке и снимете именно эту книгу?
— Все так, — ответила она, — но я в разладе с собой, вам этого не понять, — мне с вами и легко, и трудно. Нереальность — мрак — ожидание на ветру — да, когда вы смотрите на меня и меня не видите, и я вас тоже не вижу... Опять же, я столько всего вижу, — тут она переменила позу, нахмурилась, — а вас — нет.
— Расскажите, что вы видите, — попросил он.
Но у нее не получилось — то, что она видела, не поддавалось словесному описанию: будь то яркое пятно на темном фоне, еще куда ни шло, а как передать чувство экстаза, общую атмосферу, напоминавшую грозу на севере, когда ветер охаживает, точно плетью, склоны гор и на пшеничные поля и водоемы ложатся всполохи?
— Нет, бесполезно, — вздохнула она и невольно улыбнулась при мысли о безнадежной затее — передать картину словами.
— И все же, Кэтрин, попытайтесь, — не унимался Ральф.
— Но я сказала: не могу! И потом, все это глупости, мало ли что померещится.
Она видела в его глазах тоску и отчаяние, и это сбивало ее с толку.
— Мне мерещится какая-то гора на севере Англии, — начала она, поддавшись на уговоры. — Нет, это как-то глупо: я не буду.
— Мы были там вместе? — не отступался Ральф.
— Нет, я была там одна.
Лицо у Ральфа вытянулось — так ребенок досадует на отказ взрослого выполнить его желание.
— Вы всегда там одна?
— Не знаю.
Ей не хотелось ему говорить, что она всегда представляет себя в одиночестве.
— Это же не настоящая гора где-то на севере Англии — это плод воображения, история, которую рассказываешь самой себе. У вас ведь есть своя история?
— В моей истории мы всегда вместе. Вот видите, я вас все-таки придумал.
— Понимаю, — вздохнула она. — Вот почему все это бесполезно.
Бросила ему резко:
318
Вирджиния Вулф. День и ночь
— Вы должны это прекратить, слышите?
— Не выйдет, — отрубил он, — ведь я...
Он осекся. Он вдруг понял: наступил момент, когда он должен объявить самую важную новость на свете — ту самую, которую он тщетно пытался сообщить разным людям: сначала Мэри Дэчет, потом нищему на улице, потом Родни на набережной. Но Кэтрин — как ей-то открыться? Он взглянул на нее: она слушала его вполуха, было видно, что мыслями витает где-то далеко-далеко. И такое Ральфа охватило отчаяние, что еще мгновение — и он убежал бы из этого дома без оглядки. Взгляд его упал на ее ладонь: Кэтрин сидела, положив перед собой на стол руку. Тут он берет ее ладонь в свои ладони и крепко сжимает, словно хочет убедиться в том, что и он, и она действительно существуют.
— Ведь я люблю вас, Кэтрин, — выдохнул он.
Если она и ожидала услышать от него предложение руки и сердца или дышащее страстью признание, то этого не произошло, его голос звучал ровно, и в ответ она лишь покачала головой — этого было достаточно: он тут же выпустил ее руку и отвернулся, сгорая от стыда за свое бессилие. Он решил, что она догадалась о его минутной слабости, когда он захотел убежать, уловила его нерешительность, обнаружила в его чувстве к ней изъян. И действительно — он бы все отдал за то, чтобы снова оказаться на улице, ждать ее, мечтать о ней, все лучше, чем находиться с ней рядом в одной комнате. Он посмотрел на нее виновато, но в ее глазах не было ни разочарования, ни упрека, она сидела, откинувшись, машинально крутя на пальце кольцо с рубином, и все о чем-то думала, думала. «И что за дума ее гложет?» — спросил себя Ральф, отвлекаясь от печальных мыслей.
— Вы мне не верите? — переспросил он кротко, и она невольно улыбнулась в ответ.
— Если я вас правильно понимаю... А что вы посоветуете мне делать вот с этим кольцом? — спросила она, вытягивая руку.
— Можно, я сохраню его для вас? — ответил он все так же полушутя-полусерьезно.
— После ваших слов у меня нет к вам полного доверия, вам не хочется взять свои слова назад?
— Хорошо, беру! Я не люблю вас.
— Да нет, любите... А я люблю вас, — сказала она просто. — Во всяком случае, — заметила она, надевая кольцо на палец, — каким еще словом описать наши чувства?
И она взглянула на него серьезно и взыскующе, точно искала совета.
— Когда я с тобой, я сомневаюсь, а когда один, — никогда, — объявил Ральф.
Глава 30
319
— Я так и думала, — ответила она.
Он попытался объяснить ей свое состояние, пересказав эпизод с фотографией, письмом и цветком, сорванным в Кью; она слушала его не прерывая.
— А потом ты пошел бродить по городу, — сказала она задумчиво. — На самом деле все это печально. Но мне-то хуже, чем тебе, мое состояние вообще никак не связано с фактической стороной жизни. Чистой воды галлюцинация — это как опьянение... Скажи, по-твоему, можно влюбиться в чистый разум? — размышляла она вслух. — Вот ты влюбился в видение, а я, по-моему, в мысль.
У Ральфа такое предположение не вызвало энтузиазма, и вообще оно показалось ему из разряда небылиц, но упрекать Кэтрин в чрезмерной фантазии после того, как его собственные настроения лихорадочно менялись последние полчаса, он не стал.
— Да, в отличие от нас, Родни твердо стоит на земле, — заметил он с горечью.
Сверху снова полились звуки — казалось, музыка Моцарта создана для выражения ясного и тонкого чувства, объединяющего двух влюбленных.
— Кассандра ни минуты не сомневалась в своем чувстве, а мы... — Кэтрин взглянула на Ральфа, словно в подтверждение своих слов, — встречаемся, расходимся...
— Как маяки...
— В бурю3, — закончила Кэтрин, прислушиваясь к ветру, завывающему за окном.
Они оба замолчали.
Тут раздался легкий скрип, и в дверь заглянула миссис Хилбери. Сначала она осторожно просунула голову, а затем, убедившись, что это столовая, а не какая-нибудь неизвестная территория, вошла в комнату, нимало не удивившись тому, что она там увидела. Как всегда, она производила впечатление следопыта, который знает, что ищет, и если вдруг случайно встречает на своем пути какие-то приятные странности или неожиданности, то радуется им точно так же, как и случайно встретившиеся ей попутчики.
— Прошу вас... сударь... не обращайте на меня внимания. — Как всегда, миссис Хилбери запамятовала имя гостя, правда, Кэтрин сомневалась, узнала ли она его вообще. — Надеюсь, вы нашли что-то стоящее, — добавила она, показывая на книгу, лежащую на столе. — Байрон! Да-а, Байрон. Я знавала людей, встречавших лорда Байрона4, — сказала она.
Кэтрин чуть растерянно привстала из-за стола, поймав себя на мысли, что ее мать, похоже, нимало не смущается тем, что застала дочь за книжкой Байрона да еще наедине с молодым человеком ночью в столовой. Она не могла не порадоваться такому счастливому расположению духа своей экс¬
320
Вирджиния Вулф. День и ночь
центричной матушки. А Ральф, приглядевшись, заметил, что, хотя миссис Хилбери и поднесла томик Байрона к самым глазам, но читать она его не читает.
— Мама, дорогая, ты еще не спишь! — воскликнула Кэтрин, моментально принимая свою обычную рассудительную манеру. — Пора идти спать, уже поздно!
— Я уверена, — ваши стихи мне понравятся куда больше, чем стихи лорда Байрона, — сказала миссис Хилбери, обращаясь к Ральфу Дэнему.
— Мама, мистер Дэнем стихов не пишет, он пишет статьи для отцовского обозрения, — подсказала Кэтрин, надеясь, что мать вспомнит.
— О боже, как скучно! — воскликнула миссис Хилбери, хохотнув, чем весьма озадачила свою дочь.
Тут Ральф обнаружил, что миссис Хилбери направила в его сторону свой рассеянно-зоркий взгляд.
— Но я же знаю, что вы читаете по ночам стихи. Я сужу по глазам, — продолжала миссис Хилбери. («Глаза — зеркало души», — добавила она в сторону.) — Я не очень разбираюсь в вопросах права, — вела она свою линию, — хотя многие мои родственники были адвокатами. Кстати, некоторым из них очень шли парики. Но в стихах я кое-что понимаю, — добавила она, — и потом, столько всего невысказанного... — Она помахала рукой, словно обводя огромный мир, ожидающий своего часа. — Ночь, звезды, первый рассвет, баржи проплывают мимо, заходит солнце... о боже, — вздохнула она, — да, и закат тоже бывает прелестным. Мне иногда кажется, мистер Дэнем, поэзия — то, что у нас в душе, а не только стихи, которые мы пишем.
Все это время Кэтрин смотрела куда-то в сторону, и у Ральфа появилось чувство, что ее мать говорит только с ним, словно проверяет его на прочность, а сама намеренно прикрывает истинную цель своих слов туманными рассуждениями. Он не столько слушал ее, сколько следил за веселым зайчиком в ее глазах и чем дальше, тем все больше воодушевлялся и укреплялся в своих надеждах. Ему казалось, что она, многое повидавшая на своем веку, сигналит ему откуда-то издалека — с высоты своих лет, — как парусник, исчезающий на горизонте, бывает, подает знак своему собрату, еще только поднимающему паруса. Он стоял перед ней молча, склонив голову, но — странное дело! — в душе он знал, что она высмотрела то, что хотела, и была удовлетворена. А она уже обрушилась с инвективой на суды, которые попирают, по ее мнению, основы английской справедливости, отправляя за решетку должников. «Скажите мне, доколе?» — возвысила она голос, и тут Кэтрин мягко, но настойчиво повторила, что уже поздно, пора идти спать. Дойдя до середины лестницы, Кэтрин оглянулась и встретилась глазами с
Глава 31
321
Дэнемом — он смотрел на нее пристально, упорно, с тем же выражением, какое она угадала, когда впервые увидела его сегодня вечером напротив дома под фонарем.
Глава 31
Наутро Кэтрин нашла на подносе с чашкой чая записку от матери — та сообщала ей, что уезжает утренним поездом в Стратфорд-на-Эйвоне.
«Пожалуйста, разузнай, как туда лучше доехать, — говорилось в записке, — и предупреди телеграммой дорогого сэра Джона Бэрдетта о моем приезде; в конце поставь “с любовью”. Дорогая моя Кэтрин, мне всю ночь снились ты и Шекспир».
Поездка эта сложилась не вдруг, последние полгода Шекспир не шел из головы миссис Хилбери, и она все мечтала о том, как отправится когда-нибудь посетить места, которые, по ее мнению, воплощали собой колыбель цивилизованного мира. Постоять в каких-нибудь шести футах над прахом Шекспира, увидеть те самые камни, по которым ступала его нога, представить себе, что самая старая из живущих на свете матерей самого старого человека в мире, вполне вероятно, видела дочь Шекспира, — эти мысли приводили ее в восторг, которого она сдержать не могла и который выражала порой в самый неподходящий момент со страстью под стать паломнику, отправляющемуся поклониться святым мощам. Странным во всей этой истории было, пожалуй, только одно: она поехала без провожатых. Опять же, невелика странность, ведь у нее было полно друзей, которые жили по соседству с могилой Шекспира и которые жаждали принять ее у себя. В общем, в то утро она отправилась на вокзал в превосходном настроении. На улицах уже продавали весенние фиалки, день обещал быть чудесным. Она вспомнила, что обещала мужу послать с дороги первый увиденный нарцисс. Да, и еще — она специально вернулась в дом, чтобы сказать Кэтрин о том, что сердце ей подсказывает — всегда подсказывало, — что посмертная воля Шекспира не тревожить его прах касается исключительно падкой на сенсации, любопытствующей публики, но никак не их двоих с сэром Джоном Бэрдеттом. И, дав дочери напутствие — хорошенько подумать над версией о том, что сонеты написала Энн Хатауэй, и что рукописи так и не найдены, и что безопасность общекультурной колыбели под угрозой, — она захлопнула дверцу экипажа, и была такова: паломничество началось!
Дом без нее было не узнать. Кэтрин с удивлением обнаружила, что мать еще уехать не успела, а служанки уже вовсю орудуют в ее комнате — наводят порядок в отсутствие хозяйки. Никто не спорит, влажная уборка — дело хорошее, только Кэтрин казалось, что вместе с пылью служанки взяли и
322
Вирджиния Вулф. День и ночь
смахнули шестьдесят лет жизни. У нее было такое чувство, что и ее собственный труд — все, о чем она думала, писала в этой комнате, — смели в небольшую кучку мусора. Зато фарфоровые пастушки заблестели, как новые, после того как их промыли горячей водой, письменный стол засиял чистотой и порядком, словно у него чужой хозяин — чиновник и педант.
Захватив кое-какие бумаги, над которыми она в то время работала, Кэтрин отправилась к себе, благо впереди было целое утро. На лестнице она столкнулась с Кассандрой, и та увязалась за ней, причем шла так лениво и медленно, что с каждым шагом надежды Кэтрин спокойно посидеть и поработать таяли. Когда поднялись на лестничную площадку, Кассандра и вовсе остановилась — перегнулась через перила и стала разглядывать лежащий на полу в холле персидский ковер.
— Ну и утречко выдалось! — объявила она. — Ты что, в самом деле, собираешься потратить все утро на эту скукотищу? Ты скажи, а то я...
«Скукотища» — это сказано про старые пожелтевшие письма, при виде которых любой коллекционер в здравом уме надолго потерял бы сон, — занимала почти весь стол в комнате Кэтрин; после минутной заминки Кассандра вдруг посерьезнела и спросила Кэтрин, нет ли у них в доме «Истории Англии» лорда Маколея1. Есть — внизу, в кабинете мистера Хилбери. И кузины направились туда. По дороге заглянули в гостиную, благо дверь была не заперта, — с портрета на стене на них смотрел Ричард Элардис.
— И что он был за человек, интересно? — Этот вопрос Кэтрин частенько задавала себе в последнее время.
— Да такой же фигляр, как все прочие, как любит говорить Генри, — заявила Кассандра и тут же, словно оправдываясь, добавила: — правда, Генри мне теперь не указ.
Они спустились в кабинет мистера Хилбери и стали рыться в книгах; делали они это довольно бестолково — во всяком случае, они потратили четверть часа, а книгу так и не нашли.
— Кассандра, скажи, тебе никак не обойтись без маколеевской «Истории»? — спросила, разводя руками, Кэтрин.
— Никак, — ответила Кассандра.
— Тогда ищи сама, а я пойду.
— Нет, Кэтрин, не уходи, — пожалуйста, останься, помоги мне. Видишь ли... понимаешь... я обещала Уильяму, что буду понемножку читать каждый день. И я хочу сказать ему, когда он сегодня придет, что я уже начала.
— А он сегодня придет? — спросила Кэтрин, снова начиная рыться на полке.
— Да, на чай, если ты, конечно, не против.
— Если я, конечно, куда-нибудь денусь, — ты ведь это хочешь сказать, да?
Глава 31
323
— Фу, какая ты злая! Нет бы...
— Нет бы что?
— Нет бы тоже радоваться жизни!
— Я и так радуюсь, — ответила Кэтрин.
— По-другому радоваться, — так, как я, например, — выпалила Кассандра. — Кэтрин, давай обвенчаемся в один день.
— С кем? С одним и тем же человеком?
— Нет, конечно. Но ты ведь собираешься замуж? За... другого?
— На, держи своего Маколея, — сказала Кэтрин и протянула ей книгу. — Я бы на твоем месте начала читать не откладывая, а то не успеешь просветиться к чаепитию.
— К черту лорда Маколея! — вскричала Кассандра, швырнув книгу на стол. — Давай лучше поговорим.
— А мы что делаем? — ответила уклончиво Кэтрин.
— Я себя знаю, я сегодня за Маколея не засяду, — сказала Кассандра, косясь на том в потертом бордовом переплете и внутренне трепеща перед этим волшебным талисманом, — ведь этой книгой восхищается Уильям! Это он посоветовал ей читать по утрам серьезную литературу. — А ты Маколея читала? — спросила она Кэтрин.
— Нет, не пришлось. Уильям ведь не занимался моим образованием.
При этих словах лицо у Кассандры вытянулось, точно Кэтрин намекала
на то, что ее отношения с Уильямом были совсем другими, и ей их не понять. В душе у Кэтрин шевельнулось совестливое чувство, она подумала, что нельзя так безоглядно манипулировать жизнью другого человека — а ведь она именно так повела себя с Кассандрой.
— У нас все было не так серьезно, как у вас, — быстро поправилась она.
— Да уж, куда серьезнее, — сказала Кассандра тоскливо, и по выражению ее лица было видно, что ей не до шуток. Она смотрела на Кэтрин новыми глазами: с каким-то внутренним страхом и чувством вины. О, у Кэтрин есть все: красота, ум, сила воли. Ей до Кэтрин далеко! Рядом с ней она всегда будет казаться легкомысленной, мелкой, никчемной. В душе Кассандра называла свою кузину холодной, эгоистичной, бессердечной, но она ни единым мускулом лица не выдала своих чувств — просто протянула руку и взяла со стола книгу по истории. Тут в холле раздался телефонный звонок, и Кэтрин поспешила к аппарату; оставшись в кабинете одна, Кассандра и думать позабыла о книге: сидела, крепко сжав кулаки. За эти несколько минут она настрадалась так, как никогда в своей жизни не страдала, она и не знала, что может так сильно переживать. Но к тому моменту, когда вернулась Кэтрин, она была прежней спокойной Кассандрой — разве что в лице у нее появилось какое-то новое выражение собственного достоинства.
324
Вирджиния Вулф. День и ночь
— Это он звонил? — спросила она.
— Это звонил Ральф Дэнем, — ответила Кэтрин.
— Я про него и спрашиваю.
— Но почему? Что, вы с Уильямом обсуждали Ральфа Дэнема?
Кэтрин так разволновалась, что, глядя на нее, едва ли кто-то обвинил бы
ее в грехе бессердечия и эгоизма. Без всякого перехода, не дожидаясь ответа Кассандры, она спросила:
— Так когда вы с Уильямом играете свадьбу?
Кассандра не сразу ответила. На самом деле это был очень сложный вопрос. Накануне вечером Уильям в разговоре намекнул ей на то, что по всем признакам в эту самую минуту в гостиной Ральф Дэнем делает предложение Кэтрин; и Кассандра, которая на все смотрела через розовые очки собственного счастья, решила, что все уже сложилось. Однако сегодня утром она получила от Уильяма письмо, в котором тот, пылая самыми нежными чувствами к своей возлюбленной, тем не менее давал ей понять, что он предпочел бы, чтобы объявление об их помолвке произошло одновременно с объявлением о помолвке Кэтрин. Так что вместо ответа Кассандра извлекла сей документ и зачитала его вслух, делая по ходу чтения купюры и паузы:
«...Тысяча извинений... гм-м... боюсь, что, по понятным причинам, мы вызовем сильное раздражение публики. Если же, с другой стороны, случится то, что, по моему разумению, и должно случиться, — случится в обозримые сроки, никак не ущемляя ваше нынешнее положение, — то, по моему мнению, в интересах всех нас было бы отложить объяснение, нежели начать торопить события и тем самым вызвать ненужный ажиотаж...»
— Узнаю Уильяма! — воскликнула Кэтрин, моментально схватив суть его рассуждений, чем в очередной раз огорчила Кассандру.
— А я его понимаю, — возразила Кассандра. — И соглашаюсь с его доводами. Я тоже думаю, что будет лучше, если вы с мистером Дэнемом решите пожениться, и тогда нам с Уильямом имеет смысл подождать.
— А если я не захочу и это будет тянуться несколько месяцев... А если вообще не захочу, тогда что?
Кассандра не могла поверить, что такое возможно, и умолкла. Кэтрин только что говорила по телефону с Ральфом Дэнемом, вернулась какая-то странная, она наверняка приняла его предложение — или думает принять. Однако, если бы Кассандра слышала их разговор по телефону, она бы не была так уверена в характере их взаимоотношений. А разговор был такой:
— Это Ральф Дэнем. Я опять нормальный.
— Ты долго ждал возле дома?
— Я сразу пошел домой и написал тебе письмо. Потом порвал.
Глава 31
325
— Я тоже все порву.
— Я приду.
— Приходи. Сегодня.
— Мне надо объяснить тебе...
Воцарилась долгая пауза. Ральф начал было что-то говорить, потом бросил короткое «Нет, ничего»; потом они вдруг оба одновременно попрощались, и каждый повесил трубку. Но ощущение у Кэтрин после телефонного разговора было такое, словно она глотнула свежего воздуха, — как будто телефонный аппарат каким-то волшебным образом подсоединен к горам, где воздух пахнет чабрецом и оставляет у тебя на языке ощущение соленых иголочек. На этой радостной волне она сбежала вниз, в отцовский кабинет, и там, к своему изумлению, узнала, что Уильям и Кассандра уже все за нее решили, — уже выдали ее замуж за обладателя голоса, который она только что слышала по телефону. Но она-то не о помолвке думала, а если и думала, то совсем не так. Во всяком случае, уж точно не так, как Кассандра. Ей достаточно было взглянуть на свою кузину, чтобы понять, что бывает с влюбленными, которые решили обручиться и сочетаться браком. Подумав, она сказала:
— Хорошо, вы не хотите объявлять о помолвке, значит, я это сделаю за вас. Я прекрасно знаю, что по этому поводу думает Уильям, и понимаю, что сам делать он ничего не станет.
— Да, потому что он панически боится задеть чувства своих близких, — парировала Кассандра. — Ему делается плохо при мысли, что он может огорчить тетю Мэгги или дядю Тревора.
Это было что-то новое — Кэтрин никогда раньше не слышала подобного объяснения патологической приверженности Родни к светским условностям. И тем не менее в глубине души она знала, что Кассандра права.
— Да, это правда, — признала она.
— И потом, он обожает все прекрасное. Ему хочется, чтобы жизнь была прекрасна во всех ее проявлениях. Ты замечала, как изысканно он оформляет каждую мелочь? Посмотри, как выписан на конверте адрес, — вплоть до буквочки!
К последнему замечанию Кэтрин, правда, отнеслась скептически, по ее мнению, изящный почерк не имел отношения к чувствам, высказанным в письме; но теперь, когда предметом повышенной заботы Уильяма служила не она, а Кассандра, подобные мелочи не только не раздражали ее, а, наоборот, воспринимались как нормальная любовь к искусству.
— Да, верно, — согласилась Кэтрин, — он большой эстет.
— Мне кажется, у нас будет много детей, — заметила Кассандра. — Он ведь обожает детишек.
326
Вирджиния Вулф. День и ночь
Эти слова Кассандры окончательно убедили Кэтрин в том, что между Уильямом и ее кузиной — самые нежные отношения; на секунду ей даже стало завидно, а потом она себя пристыдила. Ведь она столько лет была знакома с Уильямом и ни разу не догадалась о том, что он любит детей. Она смотрела на Кассандру, которая вся светилась от радости, и постепенно за внешним проявлением чувства ей открывалась неподдельная человечность, и она готова была слушать и слушать, как та рассказывает о своем Уильяме. А Кассандре только того и надо было: наговориться всласть! Так утро и промелькнуло. Кэтрин слушала как завороженная, сидя на краешке стола в отцовском кабинете, а Кассандра так и не открыла маколеевскую «Историю Англии».
Все так, да не совсем. Кэтрин вроде и слушала свою кузину неотрывно, а на самом деле больше думала о своем, благо атмосфера располагала к размышлению. Бывали минуты, когда Кэтрин так глубоко уходила в себя, что даже не замечала, как Кассандра исподтишка на нее косится. Наверняка замечталась о Ральфе Дэнеме, о ком же еще? По отдельным обмолвкам она догадывалась, что положительные качества Уильяма — не та тема, которая целиком поглощает внимание Кэтрин, но та не подавала виду и всякий раз так естественно выходила из положения, что Кассандра продолжала как ни в чем не бывало расхваливать Уильяма. Потом они вместе пообедали, правда, и тут не обошлось без курьеза — Кэтрин забыла предложить Кассандре десерт. Совсем как матушка, решила Кассандра, глядя на рассеянно сидящую перед блюдом с пудингом Кэтрин, и прыснула:
— Точь-в-точь, как тетя Мэгги!
— Скажешь тоже! — вскинулась Кэтрин, хотя, кажется, ничего обидного кузина ей не сказала.
По правде говоря, с отъездом матери Кэтрин заметила за собой, что перестала быть постоянно начеку, и оправдывалась тем, что в доме у них все шло по накатанным рельсам. В душе же она была потрясена сделанным в то утро открытием: оказывается, мысль ее может витать вокруг бесконечного множества предметов, в том числе и таких, в которых и признаться-то глупо. Например, идет она по дороге в Нортумберленде2, августовский вечер, солнце садится; спутник ее, Ральф Дэнем, остался в гостинице, а сама она каким-то неведомым образом (но явно не пешком) взобралась на гору, здесь каждая мелочь воспринимается с особенной остротой — запахи, звуки, сухие корни вереска, травинки, отпечатавшиеся на ладони. Потом без всякого перехода воображение ее то уносится в беззвездный мрак, то касается морской глади, которая виднеется вдали, то без причины опять взмывает к вершине, поросшей вереском, и при свете полночных звезд летит к белоснеж¬
Глава 31
327
ным лунным долинам. В этих фантазиях не было бы ничего странного — у каждого человека мысль движется подобными замысловатыми дорожками, — если бы не одно обстоятельство: Кэтрин вдруг поймала себя на том, что ей хочется уйти с головой в эти воображаемые картины и сделать так, чтобы между грезами и ее образом жизни не было противоречия. Вздрогнув, она очнулась и увидела, что Кассандра смотрит на нее во все глаза.
А Кассандра действительно ловила каждое ее замечание в надежде, что оно даст ей ключ к разгадке вопроса о том, о чем же Кэтрин так напряженно думает; она была бы рада сказать, что в ту минуту, когда Кэтрин ей не отвечает или отвечает невпопад, она решает вопрос о своем скорейшем замужестве; однако по обрывкам фраз, оброненных Кэтрин, вообще ничего нельзя было сказать определенного о ее планах на будущее. Несколько раз упомянула про лето — вроде хочет уехать куда-то, побродить в одиночестве; намеревалась справиться о гостиницах в путеводителе Брэдшо3.
В конце концов Кассандра, которой не сиделось на месте, не выдержала и, сославшись на то, что ей надо сделать покупки, оделась и пошла прогуляться по Челси. Но она так боялась заблудиться в незнакомом месте и опоздать домой к чаю, что, дойдя до магазина, тут же повернула обратно, ничего не купив. И действительно, она только-только успела сесть за накрытый к чаю стол, как подошел Уильям, зато своей ролью хозяйки, принимающей гостя, она насладилась сполна. Если у нее и были какие-то сомнения насчет нежных чувств Уильяма, они сразу улетучились, и тем не менее начал Уильям с вопроса:
— Ну как, говорила с тобой Кэтрин?
— Да, говорила, только не о помолвке. По-моему, она вообще не собирается замуж.
Уильям нахмурился — он явно этого не ожидал.
— Утром он ей звонил, весь день она была какая-то странная, за обедом даже забыла про десерт, — добавила Кассандра, надеясь, что тот развеселится.
— Милая, если бы ты видела и слышала то, что видел и слышал вчера я, ты бы не строила догадки. Тут одно из двух: либо она приняла его предложение, либо...
Он не закончил — в столовую вошла Кэтрин. В первую минуту он боялся поднять на нее глаза — слишком свежи были воспоминания о вчерашнем вечере; и только когда Кэтрин сказала ему о том, что ее мать уехала в Стратфорд-на-Эйвоне, он поднял голову, вздохнув про себя с явным облегчением. Оживился, оглянулся по сторонам, в ответ на вопрос Кассандры «Ты ничего нового у нас не замечаешь?» предложил:
328
Вирджиния Вулф. День и ночь
— Подожди, — вы передвинули диван?
— Нет, не угадал. Все по-старому, — заметила Кэтрин. — Все, как раньше.
Она, видимо, хотела подчеркнуть, что все, включая мебель, осталось на
своих местах; только вот почему-то, подавая чашку, она забыла налить в нее чаи, а когда Кассандра намекнула на чью-то рассеянность, она выразила недовольство, нахмурилась, сказав, что Кассандра действует на нее разлагающим образом. Влюбленные сразу почувствовали себя нашкодившими детишками, подсматривающими за взрослыми, присмирели и завели, как положено, светскую беседу. Любой посторонний, увидев эту картину, решил бы, что они встречаются третий раз в жизни. А еще он подумал бы, что хозяйка вдруг вспомнила про свидание и заторопилась: дело в том, что посередине беседы Кэтрин посмотрела обеспокоенно на часы, попросила Уильяма подсказать ей точное время, а когда тот сказал, что сейчас без десяти минут пять, встала из-за стола и объявила:
— Извините, мне пора.
И вышла, держа в руке недоеденный тост. Уильям с Кассандрой переглянулись.
— Правда, она странная? — воскликнула Кассандра.
Уильяму стало не по себе. Он не в пример лучше Кассандры знал Кэтрин, но даже он не мог понять, в чем дело. Через секунду Кэтрин вернулась, одетая, но без перчаток, с зажатым в руке куском хлеба.
— Если я быстро не вернусь, ужинайте без меня, — сказала она. — Я поем в другом месте.
И с этими словами она вышла.
— Но так же нельзя! — крикнул ей вдогонку Уильям. — Без перчаток, с куском хлеба!
Они оба бросились к окну и увидели, что она быстро шагает в сторону Сити. Мелькнула и исчезла.
— Наверно, пошла встречать мистера Дэнема, — предположила Кассандра.
— Бог весть! — вздохнул Уильям.
Случившееся поразило их не столько внешней странностью, сколько возможными последствиями, чью тяжесть трудно было даже предугадать.
— Я бы сказала, что это стиль тети Мэгги, — заметила Кассандра, очевидно, ища объяснение произошедшему.
Уильям покачал головой, он взволнованно ходил туда-сюда по комнате.
— Я говорил, что так будет! — вырвалось у него. — Вот что бывает, если забыть о правилах поведения в обществе. Слава богу, миссис Хилбери уехала! А что скажет мистер Хилбери? Как ему объяснить? Нет, я пойду.
Глава 31
329
— Уильям, не уходи! Мистер Хилбери вернется поздно, — умоляла его Кассандра.
— Откуда ты знаешь? Он, может быть, уже в дороге. А представь, если миссис Милвейн, эта ваша тетя Целия, зайдет в гости и застанет нас вдвоем? Или миссис Кошем? Или кто-то из тетушек и дядюшек, а? О нас уже и так весь город судачит.
Волнение Уильяма передалось Кассандре, и та пришла в ужас при мысли, что Уильям сейчас уйдет и оставит ее одну.
— Давай спрячемся! — заметалась она в панике, заглядывая за штору, где находился домашний музей.
— Ни за что! Я под стол не полезу! — съязвил Уильям.
Кассандра поняла, что он не видит выхода из создавшейся ситуации, а женская интуиция подсказывала ей, что сейчас не самое лучшее время напрашиваться на нежности. Тогда она взяла себя в руки, села за стол, налила себе чаю и продолжала, как ни в чем не бывало, чаевничать. Увидев перед собой светскую даму, Уильям моментально успокоился: он почувствовал себя джентльменом. Попросил налить ему чаю, Кассандра в свою очередь попросила отрезать ей кусочек торта. Так они сидели, пили чай, ели торт и не заметили, как перешли от личных вопросов к обсуждению поэзии. Сначала говорили о драматической поэзии в общем, потом переключились на частности, — тут Уильям достал из кармана свежий опус и предложил почитать его вслух, «если, разумеется, ей не скучно». За этим интересным занятием их и застала служанка, когда вошла, чтобы убрать со стола.
Кассандра слушала молча, склонив головку, но искорка в ее глазах придавала Уильяму уверенности, он чувствовал, что никакие тетушки и дядюшки ему не страшны. Он читал в полном самозабвении.
Тем временем Кэтрин быстро шла по улице. Спроси ее, почему она так поспешно ушла в середине чаепития, она, наверное, пожала бы плечами, сказав, что Уильям взглянул на Кассандру, та на Уильяма — мелочь, кажется, но из-за их переглядываний она почувствовала себя не в своей тарелке. Стоит только забыть налить себе чашку чаю, как все моментально делают вывод о том, что они с Ральфом Дэнемом помолвлены. А что будет, когда через полчаса в дверь войдет Ральф Дэнем и Уильям с Кассандрой начнут исподтишка разглядывать ее и ее гостя, пытаясь точно измерить температуру их взаимоотношений, с тем чтобы назначить общий день свадьбы? — да она и минуты не выдержит в их компании! Будет лучше, если они с Ральфом встретятся вне дома: у нее еще оставалось время застать его в конторе на Линкольнз-инн-Филдз. Остановив извозчика, она попросила ее подвезти — но не прямо до конторы, а рядышком, до магазина на Большой Куин-стрит5, где можно купить географическую карту: ей не хотелось, чтобы ее увидели
330
Вирджиния Вулф. День и ночь
сослуживцы Ральфа. Купив в магазине большую карту Норфолка, она поспешила на Линкольнз-инн-Филдз и удостоверилась, что контора «Хоупер энд Грейтли» находится именно там, где она и предполагала. Конторское помещение в три огромных окна освещали газовые лампы; она представила, что за одним из столов под такой яркой лампой сидит он и работает. Она прохаживалась взад и вперед по тротуару в надежде, что он скоро выйдет, боясь обознаться, внимательно оглядывала каждого прохожего, но все мужчины казались ей на одно лицо — все были похожи на него, все одеты в одинаковые костюмы служащих, у всех одна и та же торопливая походка, у всех характерный острый взгляд клерка, спешащего домой после трудового дня. Все вокруг, казалось ей, говорило о нем: и сама площадь, суровая на вид, с громоздящимися конторскими зданиями, в которых кипит работа, и вся обстановка, дышащая энергией, физической силой, где каждый — даже крошечный воробушек или гуляющий ребенок — и тот зарабатывает себе на хлеб насущный, где даже само небо в серых облаках, с багровыми полосами заката и то нацелено на результат, как и весь раскинувшийся окрест город. Лучшего места для встречи не найдешь, подумала она; здесь можно спокойно гулять и думать о нем, тебя ничто не отвлекает от мыслей. Домашняя обстановка на улицах Челси не шла ни в какое сравнение с этим местом. Занятая своими мыслями, она не заметила, как дошла до главной магистрали Кингз-вей: по мостовой двигался сплошной поток фургонов и экипажей, а по тротуару в два ряда фланировали пешеходы. Кэтрин остановилась на углу, завороженная этой картиной: вокруг все гудит, мельтешит, движется, пестря невыразимым буйством красок, как сама жизнь, что изливается безостановочно с какой-то ей одной ведомой целью; и чем дольше Кэтрин всматривалась в окружающую картину, тем все больше ей казалось, что так и должно быть, ради этого и существует мир, и то, что миру совершенно безразличны отдельные индивиды, жизнь поглощает их и катит дальше, наполнило ее восторгом, пусть и недолгим. В сумеречном свете, когда день еще не погас и уже зажигаются первые фонари, она казалась самой себе зрите- лем-невидимкой, а прохожие — полупрозрачными тенями в бледных овальных масках цвета слоновой кости, на которых выделяются темными пятнами одни лишь глаза. Вместе они, как постовые, направляют потоки: и мощное течение, и глубокую воду, и неутомимый прилив. Стоя на углу, словно под шапкой-невидимкой, она купалась в чувстве радости, которую подспудно ощущала весь день и которой до этой минуты не давала воли. Внезапно ее будто кто-то одернул: она вспомнила, зачем она здесь, — ей ведь надо найти Ральфа Дэнема. Она развернулась и пошла обратно на Линкольнз-инн- Филдз, ища глазами верный знак — три высоких освещенных окна. Какое там! Свет везде был потушен, фасады зданий сливались в один темный ряд,
Страница 465 прижизненного издания романа (1938 г.), на которой название адвокатской конторы «Грейтли энд Хупер» изменено.
332
Вирджиния Вулф. День и ночь
она с трудом отыскала нужную контору, но и там света не было, лишь зеленовато-серое отражение застыло в трех «ральфовых» окнах. Она бросилась к звонку под вывеской, и через некоторое время ей открыла смотрительница с ведром и тряпкой в руке. Тут Кэтрин стало ясно, что рабочий день окончен и все сотрудники разошлись по домам. «Нет никого, кроме разве что начальника, мистера Грейгли, — сказала она Кэтрин, — минут десять, как все ушли».
Тут Кэтрин вздрогнула, ее охватила паника; она бросилась обратно на Кингз-вей, стала лихорадочно разглядывать людей в толпе, и они больше не казались ей бесплотными тенями. Каждого попадавшегося ей на пути служащего она оглядывала цепким взглядом — не из адвокатских ли? — и так добежала до станции метро. Ральфа Дэнема среди прохожих не было, никто даже близко его не напоминал. Как еще недавно она могла его с кем-то спутать? — удивлялась она самой себе, теперь она ни с кем его не перепутала бы. У дверей станции она замешкалась, пытаясь собраться с мыслями. Он наверняка пошел к ней домой. Если сейчас взять извозчика, она будет там раньше, чем он. Но только представила, как войдет в гостиную, как сразу эти двое, Уильям с Кассандрой, воззрятся на нее, а потом, буквально через минуту, войдет Ральф — и пошло-поехало, начнутся переглядывания, инсинуации. Нет, только не это. Лучше написать записку и отнести ему прямо домой. Купив в ближайшем киоске бумагу и карандаш, она зашла рядом в кафе, заказала себе чашку кофе и, втиснувшись за столик, принялась писать: «Я пошла тебе навстречу, но мы разминулись. Сидеть и ждать тебя в компании Уильяма и Кассандры не могу; они ждут, что мы...» — тут она задумалась. «В общем, они хотят, чтобы мы, — исправила она, — объявили о помолвке, ни о чем другом они и слушать не хотят. Мне столько всего...» Ей не терпелось поговорить с Ральфом по душам, но она не знала, как подступиться, как объять необъятное в письме, как описать уличный водоворот на Кингз-вей... Она смотрела невидящими глазами на объявление на стенке напротив, покрытой обоями с тиснением «под золото». «...Столько всего надо тебе рассказать», — закончила она фразу, налегая на карандаш, как прилежная ученица. Подняла глаза, обдумывая следующую мысль, и тут заметила, что официантка смотрит на нее выразительно, мол, пора закругляться, они закрываются — и действительно, в кафе почти никого из посетителей не осталось. Захватив письмо, оплатив счет, Кэтрин снова вышла на улицу, намереваясь взять извозчика и ехать в Хайгейт. Но тут ее осенило — она не помнит адреса! Это неожиданное препятствие ее подкосило; она судорожно пыталась вспомнить улицу, номер дома, потом вспомнила, что однажды писала адрес на конверте, но чем лихорадочнее она напрягала память, тем больше сомневалась: все было напрасно. Вроде бы в названии дома есть
Глава 31
333
слово «сад», а улица называется то ли Хилл, то ли еще как-то... Все было впустую — она забыла! Ее охватило такое отчаяние, чувство такой глубокой беспомощности, каких она не помнила с детства. Только сейчас она осознала все возможные последствия своей непростительной, необъяснимой забывчивости. Она представила, как служанка, открыв дверь, объявляет Ральфу, ничего при этом не объясняя, что Кэтрин нет дома, у того моментально вытягивается лицо, он воспринимает эту новость как категорический отказ Кэтрин видеться с ним и уходит. Уходит, скорей всего, не домой, в Хайгейг, а идет бродить по городу, куда угодно, куда глаза глядят. А что, если он еще раз зайдет к ним на Чейн-уок? Едва допустив такую вероятность, Кэтрин, не мешкая, ринулась было искать извозчика, но тут же оставила поиски, сказав себе ясно и твердо, что этого не может быть, Ральф слишком гордый, он не станет напрашиваться, он повернется и уйдет, уйдет навсегда... Где-то он сейчас бродит? Хоть бы одним глазком увидеть те улицы! Но, увы, ей не хватало воображения, а может, она попросту боялась представить незнакомые, темные, дальние районы города. В самом деле, вместо того чтобы решиться и действовать, она только мучила себя, представляя, насколько огромен Лондон и насколько невозможно отыскать в его бесчисленных закоулках одинокую фигуру человека, который бродит туда-сюда, то повернет налево, то свернет направо, то углубится в бедный квартал, где детишки возятся прямо на дороге, и так без конца... Тут она огляделась по сторонам: оказывается, она незаметно дошла до Холборна, тогда она повернула назад и пошла в противоположную сторону. Такого с ней еще никогда не бывало, правда, тревожные звоночки в тот день уже давали о себе знать: получалось, что она почему-то не может больше совладать с собственными желаниями. С ее-то силой привычки, ей было унизительно и дико осознавать, что есть нечто более властное и могучее, нежели разум. У нее заныла правая рука — оказывается, она всю дорогу изо всей силы сжимала в кулаке перчатки и карту Норфолка; удивительно, как она еще ничего не потеряла! Разжав кулак и расправив перчатки, она украдкой взглянула на прохожих, пытаясь по их взглядам понять, не находят ли они странными ее внешность или поведение. И тут же обо всем забыла: вновь нахлынуло желание во что бы то ни стало найти Ральфа Дэнема, желание по-детски безудержное, безрассудное, необъяснимое, все это время она не переставала корить себя за непростительное легкомыслие. Дойдя до станции метро, она решила молниеносно и бесповоротно — зайти к Мэри Дэчет и взять у нее адрес Ральфа. От одной мысли ей сразу полегчало, и не только оттого, что теперь у нее появилась цель, но еще и потому, что цель эта оправдывала ее действия. Впрочем, оправдание было относительным, оно касалось исключительно ее безумного желания отыскать Ральфа и совершенно не затрагивало другие вопросы —
334
Вирджиния Вулф. День и ночь
например, как отнесется к ее нежданному появлению сама Мэри. Вот и получилось так, что, когда она позвонила в дверь и на звонок вышла консьержка, сказав, что Мэри нет дома, Кэтрин, естественно, всполошилась. Впрочем, делать было нечего, ей оставалось только принять приглашение и ждать. Что она и сделала: минут пятнадцать ходила без передышки взад- вперед по комнате. Наконец, услышав в замке звук поворачиваемого ключа, она встала у камина как вкопанная, глядя исподлобья таким напряженным и выжидающим взглядом, что сразу было видно: человек пришел по неотложному делу.
Войдя в комнату, Мэри ахнула.
— Да-да, это я, — с ходу, без предисловий, начала Кэтрин.
— Будешь пить чай?
— Чай? Я уже пила, — ответила Кэтрин таким тоном, будто пила чай когда-то давно, сотни лет назад.
Мэри помолчала, сняла перчатки, нашла спички и стала зажигать керосинку.
Но Кэтрин отмела все приготовления:
— Если для меня, то не надо... Мне нужен адрес Ральфа Дэнема.
Она уже приготовилась записывать — в руках у нее были конверт и карандаш; говорила она сухо и требовательно.
— «Яблоневый сад», Маунт Арарат-роуд, Хайгейт6, — медленно, без запинки, продиктовала Мэри.
— Ну конечно, как я могла забыть! — воскликнула Кэтрин, стукнув себя по лбу. — Отсюда, поди, минут двадцать на извозчике?
Подхватив сумочку и перчатки, она собиралась выйти вон.
— Только его там нет, — заметила Мэри, дунув на спичку.
— Как нет? Почему нет? — спросила с порога Кэтрин.
— Потому что он все еще на работе.
— Нет, он уже оттуда ушел, — ответила Кэтрин. — Вопрос, успел ли он доехать до дома? Он заходил ко мне, а я как раз пошла его встретить, и мы разминулись. Записку я ему не оставила, поэтому мне нужно его найти, и как можно скорее.
Мэри отвечать не спешила.
— Почему не справиться по телефону? — предложила она.
При этих словах Кэтрин буквально выронила из рук поклажу и, просветлев лицом, воскликнула:
— Умница! Как я сама-то не догадалась! — Схватила телефонную трубку и продиктовала свой номер.
Мэри испытующе посмотрела на свою гостью и вышла из комнаты. После долгой паузы, во время которой Кэтрин представила, преодолевая рас¬
Глава 31
335
стояние, как у них в доме раздался телефонный звонок, кто-то поднялся по лестнице в комнатку, уставленную книгами, увешанную картинками, и подошел к телефонному аппарату; тут в трубке раздалось характерное потрескивание, и она ответила.
— Мистер Дэнем заходил?
— Да, мисс.
— Он спрашивал меня?
— Да, мисс. Мы сказали, что вас нет.
— Он попросил что-то передать?
— Нет, мисс, он сразу ушел. Минут двадцать назад.
Расстроенная Кэтрин повесила трубку и пошла прочь от аппарата, не сразу заметив, что Мэри в комнате нет, потом бросила сурово:
— Мэри!
А Мэри в это время переодевалась у себя в спальне, она слышала, как Кэтрин зовет ее, и откликнулась: «Да, минуточку». Но «минуточка» затягивалась, Мэри никуда не торопилась, она спокойно, с чувством прихорашивалась. Эти последние несколько месяцев не прошли для нее даром, даже чисто внешне она изменилась: румянец как-то поблек, и в лице проявилась целеустремленность — сильнее обозначились скулы, тверже стала линия губ, в глазах появился прищур, хотя, кажется, еще совсем недавно взгляд ее свободно скользил с одного предмета на другой. Теперь эта женщина превратилась в полезного члена общества, стала хозяйкой своей судьбы, а значит, сообразно некой логике, ей следует подчеркивать свою солидность серебряными цепочками и яркими брошками. Выдержав паузу, она появилась в комнате со словами:
— Ну и каков ответ?
— Он заходил и ушел, — сказала Кэтрин.
— Значит, до дома он еще не доехал, — заметила Мэри.
И снова Кэтрин потянуло взглянуть на воображаемую карту Лондона, пройтись мысленно по безымянным улочкам и закоулкам.
— Позвоню-ка я ему домой — вдруг он уже вернулся?
Мэри подошла к телефону и после короткого обмена приветствиями сообщила Кэтрин, не кладя трубку:
— Нет, его сестра говорит, еще не вернулся. Что-что?
Она опять приложила ухо к трубке.
— Говорят, он передал, чтобы его не ждали к ужину.
— Что же он собирается делать?
Бледная как мел, Кэтрин уставилась огромными глазищами не столько на Мэри, сколько мимо нее, в простирающуюся вокруг пустоту, и вопрос ее
336
Вирджиния Вулф. День и ночь
был обращен опять же не к Мэри, а к тому несгибаемому духу, что, казалось, дразнил ее из каждого угла.
Помолчав, Мэри заметила равнодушно:
— Откуда мне знать?
Откинувшись на спинку кресла, полулежа, она смотрела, прищурившись, на догорающие в камине угли, точно ей ни до чего не было никакого дела.
Кэтрин встала, бросив на нее возмущенный взгляд.
— Он, может, и сюда сегодня зайдет, — не меняя тона и позы, продолжала Мэри. — Я бы на твоем месте немножко подождала, а то опять разминетесь.
Она наклонилась и пошевелила в камине кочергой, чтобы все угольки хорошенько прогорели.
Кэтрин задумалась.
— Подожду полчаса, — сказала она.
Мэри поднялась со своего места и пересела за письменный стол, разложив под лампой с зеленым абажуром бумаги, она ушла в свои мысли, привычным жестом крутя у виска неподатливый локон. В какой-то момент она отвлеклась от работы и украдкой взглянула на гостью: та сидела, не шелохнувшись, уставившись глазами в одну точку, — казалось, она напряженно следит за чем-то или за кем-то, но этот кто-то не отзывается. Мэри отложила ручку, ей не работалось, отведя глаза в сторону, она явственно ощутила, что в комнате кто-то есть, возможно, тот, за кем так пристально наблюдает Кэтрин. Комнату наводнили призраки, причем одним из них, как ни странно и печально, была ее собственная тень. Прошло несколько минут.
— Который час? — спросила, не выдержав, Кэтрин.
Полчаса еще не прошло.
— Пойду разогрею ужин, — сказала Мэри, вставая из-за стола.
— Я, пожалуй, пойду, — сказала Кэтрин.
— Почему не поужинать? Что за спешка?
Кэтрин неуверенно озиралась по сторонам.
— Вдруг я его отыщу, — задумчиво протянула она.
— Ну что за пожар? Увидитесь в другой раз.
Мэри намеренно говорила жестко.
— Мне не надо было сюда приходить, — заметила Кэтрин.
Их взгляды скрестились, но ни та, ни другая глаз не отвела.
— Почему не надо? — ответила вопросом Мэри.
Тут в дверь громко постучали, Мэри пошла открывать и вскоре вернулась, держа в руке почту. Кэтрин не смогла сдержать своего разочарования и отвернулась.
Глава 31
337
— Почему не надо? — повторила Мэри, кладя на стол письмо. — Зашла, значит, надо.
— Я не о том, — ответила Кэтрин. — У меня не было другого выхода. Я не знаю, что делать. Я в отчаянии — что с ним? А вдруг с ним что-то случилось? Где он бродит? Что с ним?
Она была совершенно потерянная, такой Мэри ее никогда не видела.
— Не надо преувеличивать, все это чепуха, — сказала она, как отрубила.
— Мэри, мне нужно поговорить... рассказать...
— Нечего говорить, — прервала ее Мэри. — Разве я сама не вижу?
— Нет-нет, — заторопилась Кэтрин. — Здесь другое...
И, не договорив, она устремила тоскующий взгляд, который не выразить никакими словами, куда-то далеко-далеко, мимо Мэри, за пределы комнаты. Такого Мэри выдержать не могла — выражение в глазах Кэтрин окончательно ее сразило, она попыталась вспомнить, как это было, на пике влюбленности в Ральфа, и, закрыв глаза ладонью, прошептала:
— Я ведь тоже его любила, мне казалось, я его знаю. Знаю по-настоящему.
Но так ли это? Она попыталась вспомнить — и не могла. Изо всей силы она давила пальцами на зрачки, пока перед глазами не пошли красные точки. Она поняла, что напрасно старается — осталась одна зола. Она не могла — и не хотела — поверить своему открытию, но пришлось: она разлюбила Ральфа. Она обескураженно огляделась по сторонам, взгляд ее упал на письменный стол с разложенными под лампой бумагами. На секунду ей представилось, что точно такой же ровный свет горит и в ней самой. Она зажмурилась, потом снова открыла глаза, опять посмотрела на лампу; там, где раньше жила прежняя любовь, теперь зажглась новая, хотя, возможно, ей это только померещилось, и все было по-старому. Она стояла, прислонившись к камину, и молчала.
— Любовь — она разная, — наконец выдавила она.
Кэтрин ничего не ответила на ее слова, да она, наверное, их и не слышала, целиком погрузившись в свои мысли.
— А что, если он опять ждет возле дома? — воскликнула она. — Нет, я лучше пойду, поищу его.
— А если он сюда придет? — предположила Мэри, и, подумав, Кэтрин согласилась:
— Хорошо, подожду еще полчаса.
Она опустилась в кресло и приняла уже знакомую Мэри позу наблюдательницы, невидимой для посторонних глаз; только на этот раз в поле зрения Кэтрин попала не отдельная фигура, а сама жизнь, хорошее, дурное,
338
Вирджиния Вулф. День и ночь
смысл существования, прошлое, настоящее, грядущее — все это (без громких слов) виделось ей со всей ясностью, словно она поднялась на вершину мира, откуда ей открылось до самого дна все мирское. Никто, кроме нее, не знал, что значит разминуться этой ночью с Ральфом Дэнемом: в этом пустяковом, кажется, событии сошлись все смыслы, которые и в минуты великих потрясений остаются втуне. Она знала только одно: горше этой потери — разминуться с Ральфом — ничего нет, самая большая мука — сгорать от страсти. И не важно, какой толчок вызвал обвал этой лавины чувств, ей было все равно, как воспринимают ее окружающие, насколько откровенно выражает она свои чувства.
Когда Мэри позвала ее ужинать, она согласилась без всяких возражений — мол, пусть решает за нее. За столом они ели, пили, можно сказать, без слов, предложит Мэри добавку, Кэтрин съест, подольет вина — та выпьет.
Впрочем, Мэри не обманывалась насчет внешней податливости Кэтрин, она понимала, что ее гостья слишком занята своими мыслями, чтобы ей возражать. И то, что казалось невнимательностью, на самом деле было отрешенностью: Кэтрин не могла ни о чем другом думать, кроме как о своем, сокровенном, и, глядя на нее, Мэри все больше и больше хотелось защитить ее от внешнего мира; она действительно боялась, как бы не вышло чего плохого, уж очень отстраненной показалась ей Кэтрин.
Поужинав, гостья сразу засобиралась.
— И куда мы? — спросила Мэри, не зная, как ее переубедить.
— Куда? Домой... нет, в Хайгейт, наверное.
Мэри видела, что уговаривать Кэтрин остаться бесполезно, оставалось одно: предложить ей пойти вместе, и, к ее удивлению, Кэтрин не возражала, видимо, ей не мешало присутствие Мэри. Они быстро собрались и вышли на Стрэнд. Кэтрин зашагала так энергично, что Мэри была в полной уверенности, что та знает, куда идет, на какое-то время она потеряла бдительность. Она с удовольствием шла по вечерним освещенным улицам, вдыхая свежий воздух, нет-нет, да возвращаясь мысленно, не без страха, но с надеждой, к открытию, которое случайно сделала для себя этим вечером: оказывается, она опять свободна! Да, ей привилось заплатить за свободу самым драгоценным, что у нее есть, зато теперь она, слава богу, больше не связана чувством любви. Ее бы воля, она отпраздновала бы свое освобождение, не откладывая в долгий ящик, отправилась бы в «Колизей»7, благо вот он, рядом. Действительно, почему не отметить день свержения тирании любви? Скажем, взять и отправиться в дальнюю поездку за город, куда-нибудь в Кэмберуэлл8, или в Сидкап9, или в Уэлш-харп?10 Впервые за много недель она заметила эти заманчивые маршруты на рекламных щитах городских омнибусов. А мож¬
Глава 31
339
но отметить и по-другому: вернуться к себе домой и посидеть, поработать над деталями интереснейшего, по-настоящему передового проекта. Последний вариант — камин, зажженная лампа, ровный свет взамен испепеляющей душу страсти — больше всего грел ей душу.
Тут Кэтрин остановилась, и только теперь до Мэри дошло, что она не знает дороги; встав на перекрестке, она озиралась в сомнении, потом все- таки решила двинуться в сторону Хэверсток-хилл11.
— Послушай, никуда я тебя не пущу! — вскрикнула Мэри, хватая ее за руку. — Мы едем домой.
Остановив экипаж, она посадила Кэтрин, дала подробные инструкции извозчику и только после этого села сама.
Кэтрин не сопротивлялась.
— Очень хорошо, — сказала она. — Не все ли равно, куда ехать.
Вид у нее был совершенно подавленный, она сидела, вжавшись в угол, бледная, жалкая, в полном изнеможении. Хотя у Мэри тоже было на душе не сладко, она все же прониклась к ней сочувствием.
— Вот увидишь, мы обязательно его найдем, — сказала она с нежностью.
— Боюсь, будет поздно, — ответила Кэтрин.
Мэри не поняла, почему будет поздно, но, видя, как Кэтрин страдает, она переживала вместе с ней.
— Ерунда, — сказала она, гладя Кэтрин по руке, — в одном месте не найдем, отыщем в другом.
— А если он бродит где-то... всю ночь?
Она наклонилась, выглядывая в окно.
— Он вообще не захочет меня больше видеть, — прошептала она еле слышно.
Мэри эта мысль показалась настолько дикой, что она даже не стала возражать, — просто сидела, вцепившись в руку Кэтрин. Она допускала, что та может рвануть на себя дверцу и выскочить на полном ходу. Кэтрин же, видимо, догадалась, о чем Мэри думает.
— Не бойся, — нервно засмеялась она. — Я не выскочу, в любом случае это делу не поможет.
Мэри нарочитым движением отпустила ее руку.
— Я должна извиниться, — через силу продолжала Кэтрин. — Я напрасно тебя побеспокоила, к тому же я не все рассказала. Мы с Уильямом больше не жених и невеста, он женится на Кассандре Отуэй. Все готово, все улажено... А он стоит возле дома и ждет, ждет. Это Уильям заставил меня позвать его в дом. Он стоял на улице под фонарем и смотрел на наши окна. У него в лице, когда он вошел в гостиную, не было ни кровинки — белый как
340
Вирджиния Вулф. День и ночь
полотно. Уильям ушел, и мы с ним проговорили всю ночь. Кажется, это было так давно. Или это было вчера? Сколько времени прошло? Который час?!
Она дернулась вперед, чтобы разглядеть точное время, как будто важнее этого ничего не было.
— Еще только полвосьмого! — вырвалось у нее с облегчением. — Тогда, может быть, мы его еще застанем.
Она высунулась в окошко и попросила извозчика гнать быстрее.
— А если его там нет, что тогда? Где его искать? Везде столько народу.
— Мы обязательно его найдем, — заверила ее Мэри.
У нее не было ни малейшего сомнения в том, что они отыщут Ральфа. Другое дело, что потом? Она попыталась объективно взглянуть на Ральфа, оценить, насколько он соответствует такому пылкому чувству; ей пришлось напрячь память, вспоминая, как она сама когда-то воспринимала Ральфа, какая аура окутывала его образ в ее глазах, с каким восторгом смотрела она на все, что его окружало, ведь, бывало, она месяцами не слышала его голоса, не видела его лица, — а может быть, это только теперь ей все видится в таком свете? Она вдруг поняла, что она потеряла. Эту потерю не восполнить никогда и ничем — ни успехом, ни счастьем, ни забвением. Зато теперь она знает правду, а этот опыт стоит того, чтоб его выстрадать; вот Кэтрин — она взглянула на нее украдкой — правды еще не изведала, бедная, значит, у нее все еще впереди.
Простояв какое-то время в уличной пробке, они вырвались наконец на свободную мостовую и теперь мчались во весь опор по Слоун-стрит12. Мэри кожей чувствовала, с каким напряженным вниманием следит Кэтрин за каждым преодолеваемым дюймом пути, отмечая буквально каждую секунду, приближающую их к заветной цели. Она сидела молча, и Мэри, сначала из чувства солидарности, а потом машинально, стала ей подыгрывать: наметит вдали точку и следит за тем, как они к ней приближаются. В какой-то момент она представила себе, что где-то далеко-далеко, у самого горизонта, светит звезда, и вот они вдвоем устремляются к этой цели, охваченные одним и тем же страстным порывом, но сказать, где именно эта цель, и какова она, и откуда в ней самой эта уверенность в их обоюдной устремленности к заветной черте, когда на самом деле они всего-навсего едут в экипаже по Лондону, — сказать этого она, увы, не могла.
— Наконец-то! — выдохнула Кэтрин, увидев знакомый парадный подъезд. Соскочив с подножки, она первым делом огляделась — не стоит ли кто- нибудь, похожий на Ральфа, под фонарем, а Мэри уже звонила в дверь. Открыла служанка и с порога сообщила:
— Мисс, к вам снова с визитом мистер Дэнем, на этот раз мы предложили ему подождать.
Глава 31
341
Кэтрин как ветром сдуло, Мэри только ее и видела. Парадная дверь захлопнулась, и Мэри медленно, задумчиво побрела по улице одна.
А Кэтрин бросилась в столовую, но войти не решилась и замерла перед дверью, держась за дверную ручку. Как знать, возможно, в эту самую минуту она поняла, что наступил момент, который никогда больше не повторится, а может, ей показалось на секунду, что никакая реальность не сравнится с теми картинами, которые она рисовала в своем воображении? А может быть, она просто испугалась того разговора, что сейчас произойдет, или того, что им снова кто-то помешает? Как бы то ни было, какие бы сомнения, страхи или предчувствие блаженства ни сжимали ей сердце, длились они всего один миг. А дальше она резко, кусая от волнения губы, повернула дверную ручку, дверь распахнулась, и она оказалась перед Ральфом Дэнемом. При виде него у нее с глаз будто спала пелена — в свете недавних волнений и вселенских ожиданий он предстал таким маленьким, одиноким, ни на кого не похожим. Еще секунда, и она рассмеялась бы ему в лицо. Но, к ее досаде, четкая картина вдруг задрожала, поплыла у нее перед глазами, справиться с нахлынувшими чувствами радости, облегчения она уже просто не могла, да и не хотела — и в изнеможении, упав в раскрытые объятья, прошептала ему заветное: «Люблю!»
Глава 32
Наступил следующий день. Никто Кэтрин ни о чем не спрашивал, а если бы даже и спросил, она бы не вспомнила. С утра немножко поработала за письменным столом, потом распорядилась насчет ужина, а в основном сидела, подперев голову рукой, и сверлила, сверлила пытливо-вдохновенным взглядом все, на что ложился ее глаз, словно то было не письмо или страница словаря, а затемняющая даль пелена. Правда, один раз встала, взяла из книжного шкафа отцовский словарь древнегреческого языка и опять села, разложив перед собой священные страницы, испещренные символами и знаками. Любовно разглаживая уголки, она сама себе удивлялась: неужели наступит день, когда они будут читать эту книгу вдвоем? Мысль, которая еще совсем недавно вызывала отторжение, теперь представлялась допустимой.
Ей было невдомек, что за ней шпионят, ревностно подмечая каждый ее взгляд и жест. Конечно, Кассандра (а соглядатаем была она) старалась не показывать виду, и разговоры у них были самые невинные, так что и сама миссис Милвейн, случись ей подслушать, о чем беседуют кузины, не обнаружила бы никакой крамолы, разве что некоторая судорожность речи — так сказать, кочки да ухабы вместо гладкого течения разговора — могла показаться ей подозрительной, заставив ее усомниться в душевном покое девушек.
342
Вирджиния Вулф. День и ночь
Ближе к вечеру пришел Уильям и сообщил Кассандре (она была дома одна) потрясающую новость: только что, идя по улице, он едва не столкнулся нос к носу с Кэтрин, а она его не узнала!
— Мне-то, конечно, все равно, а представь, если на моем месте окажется кто-то другой? Что он подумает? Один вид ее чего стоит, она была похожа... как бы сказать... — он замолчал, подбирая слово, — она шла, как лунатик.
Кассандра же отметила другое: Кэтрин ушла не сказавшись, а раз так, значит, она встречается с Ральфом Дэнемом и все складывается наилучшим образом. Но Уильям почему-то не разделял ее радости.
— Стоит только отбросить приличия, — начал было он, — забыться...
Мысль его была понятна: встреча с молодым человеком еще ни о чем не
говорит, а вот то, что пойдут пересуды, можно считать доказанным.
Охранительное отношение Уильяма к Кэтрин неприятно укололо Кассандру: выходит, он по-прежнему относится к ней как собственник, а не как друг; а поскольку наша парочка не знала о том, что накануне вечером Кэтрин встречалась с Ральфом, то и утешаться тем, что развязка не за горами, ни Кассандра, ни Уильям не могли. Наслаждение уединением отравлял страх, что их могут «застукать» вдвоем, и эта опасность, из-за частых отлучек Кэтрин из дому, висела над ними постоянно. В дождливую погоду никуда не выйдешь, вот и приходилось сидеть взаперти, и все же если выбирать из двух зол меньшее, то Уильям предпочел бы второе — пусть бы их застали вдвоем в гостиной, но никак не в публичном месте. Вот они и сидели, вздрагивая при каждом шорохе или дернувшемся колокольчике, — о какой радости тут может идти речь, когда не то что прочитать второй акт трагедии — Маколея обсудить толком не получалось?
Но Кассандра держалась молодцом: Уильям чувствовал ее поддержку, она давала ему понять, что разделяет его опасения, и при этом ей не сиделось на месте, она нет-нет да забывалась, прыскала, хлопала в ладоши — ведь они с Уильямом, как два авантюриста-заговорщика, шептались наедине; в общем, вся эта таинственная обстановка так щекотала ей нервы, что, глядя на девушку, Уильям решил, будь что будет, хотя, конечно, положение у них было пиковое.
И вот в какой-то момент дверь в гостиную открылась, — вздрогнув, Уильям принял боевую стойку, готовый дать отпор непрошеным визитерам вроде миссис Милвейн, но оказалось, что страхи его напрасны: в комнату бочком вошла Кэтрин, а за ней проскользнул и Ральф. С каменным выражением лица Кэтрин посмотрела исподлобья на вскочившую было парочку и, бросив им на ходу: «Не беспокойтесь!» — быстро завела Дэнема за пггору, отделявшую домашний архив от главного помещения. Хотя Кэтрин не любила прятки, другого варианта у них с Ральфом не было: либо гулять под дож¬
Глава 32
343
дем, спасаясь то в музее, то в метро, либо укрыться дома, невзирая на последствия. Ей было жаль Ральфа: он выглядел уставшим и нервным, при свете вечерних фонарей это особенно бросалось в глаза, и ради него она выбрала второе.
Какое-то время парочки сидели порознь, шепчась по разным углам. Зашла служанка предупредить, что мистер Хилбери задерживается и чтобы ужинали без него. Уильям подумал, что надо бы передать это сообщение Кэтрин, и стал советоваться с Кассандрой, как лучше ее вызвать, — было видно, что ему не терпится с ней поговорить.
Но Кассандра ему отсоветовала, по каким-то личным соображениям.
— Но, послушай, по-моему, это как-то не по-светски, — урезонивал он ее. — Сидим в четырех стенах... Может, в театр сходим? Вчетвером, вместе с Кэтрин и Ральфом?
При слове «вчетвером» у Кассандры сердце подскочило от радости.
— Как? Значит, они уже?.. — воскликнула она, но Уильям прижал палец к губам.
— Тс-с, я ничего про это не знаю. Просто мне кажется, что мы можем немного развлечься в отсутствие твоего дяди.
Он тут же перешел от слов к делу, начав свою дипломатическую миссию с того, что подошел не без волнения к пггоре, слегка отвернул ее, не сводя взгляда с висящего напротив женского портрета, который восторженная миссис Хилбери, по своей душевной щедрости, приписывала кисти раннего сэра Джошуа Рейнолдса1, и передал в пустоту слова служанки, потом перевел взгляд на пол, немного помялся для виду и снова повторил сообщение, добавив, что предлагает всем вместе отправиться в театр. Кэтрин тут же поддержала его, да так горячо, что можно было подумать, она знает, какую пьесу собирается смотреть. Ральф с Уильямом посовещались, заглянули в вечерний выпуск газеты и дружно предложили мюзик-холл. Дамы согласились, тем более что Кассандра никогда там не была. Кэтрин быстро просветила ее на этот счет, обрисовав все незатейливые радости спектакля, где за дамами в бальных платьях на сцену выступают полярные медведи, и декорации постоянно меняются: то перед зрителями возникает волшебный сад, то магазин дамских шляпок, то рыбный ресторан на Майл Энд-роуд2. В общем, какое бы представление ни давали сегодня вечером в мюзик-холле, по крайней мере, четверо из театралов готовы были за глаза объявить его гвоздем театрального сезона.
Разумеется, актеры и авторы пьесы не догадывались о том, каким причудливым образом трансформировались плоды их творческой фантазии в головах зрителей, зато шуму было много — с чем-чем, а с музыкой устроители постарались. Духовые и струнные инструменты то сотрясали зал раска¬
344
Вирджиния Вулф. День и ночь
тами громоподобных маршей, то рыдали томными арпеджио; а театральный антураж — бархатная обивка кресел малиново-сливочных тонов, лютни с арфами, погребальные урны вперемешку с черепами, лепнина, алый занавес с плюшевыми кистями, гаснущие и вновь загорающиеся электрические огни в зале, — словом, вся эта машинерия, казалось, далеко превзошла античный и современный театр.
Публика тоже соответствовала моменту: партер блистал декольте, перьями и букетами, балконы празднично пестрели, ну а раек мало чем отличался от улицы. Но это если смотреть на публику по ранжиру, а в целом зрительный зал являл собой разноликий симпатичный людской улей, который все время, пока на сцене шли танцы, пляски, крутили любовь, гудел, кашлял, настраивался, потом вдруг в какой-то момент заходился в хохоте, медленно остывал, хлопал невпопад, внезапно разражаясь оглушительным «браво!». Уильям смотрел на Кэтрин и не узнавал ее: она буквально заходилась от смеха, самозабвенно хлопая со всеми.
На секунду Уильям остолбенел: эта хохочущая от души Кэтрин открылась ему с совершенно неведомой стороны, но потом перевел взгляд на Кассандру и засмотрелся: она, как ребенок, глядела во все глаза на клоуна, не зная, то ли ей смеяться, то ли плакать.
Представление тем временем подошло к концу, сказка кончилась, там и сям поднимались зрители, одни надевали верхнюю одежду, другие исполняли хором «Боже, храни короля»; музыканты сворачивали партитуру, убирали инструменты; и вот уже в опустевшем зале погас свет, и все погрузилось в мрак и тишину. Проходя за Ральфом через турникет, Кассандра с любопытством оглянулась: ей все не верилось, что сказка кончилась, а еще ей страшно хотелось подсмотреть одним глазком, что происходит в зрительном зале после спектакля, — неужели каждый божий вечер смотрители накрывают кресла чехлами?
Четверка друзей была в таком восторге после посещения театра, что они уговорились на следующий день повторить вылазку. Назавтра была суббота, у Ральфа и Уильяма выходной; было решено отправиться всей компанией на экскурсию в Гринвич, благо Кассандра там никогда не была, а Кэтрин спутала это место с Далвичем3. На этот раз организатором поездки вызвался быть Ральф, и, надо сказать, они без приключений добрались до цели путешествия.
Какие бы нужды или капризы фантазии ни послужили изначальным толчком к созданию в предместьях Лондона целого ожерелья дворцов и парков, сегодня до тех старинных историй никому нет дела: главное, что эти укромные местечки будто специально созданы для тебя, если тебе двадцать или тридцать и ты хочешь провести выходной на природе. В самом деле,
Глава 32
345
если потомки когда-нибудь и поминают добрым словом своих предков, то случается это с наступлением погожих деньков, когда на давно облюбованные лужайки начинают прибывать кто поездом, кто омнибусом влюбленные парочки, любители достопримечательностей и пикников; вот тогда-то наши полузабытые предшественники и снимают самые сладкие пенки. Правда, их редко когда вспоминают поименно, поэтому было особенно приятно, что Уильям в тот день готов был каждому покойному зодчему и живописцу, чье творение открывалось с берега реки, пропеть дифирамб. Кэтрин и Ральф чуть отстали, но обрывки Уильямовых речей доносились и до них. Слыша краем уха знакомые модуляции, Кэтрин невольно улыбалась: что-то в голосе Уильяма было не так, она прислушалась, она не помнила, чтобы он когда-нибудь говорил так уверенно, едва сдерживая ликование. Уильям счастлив! Сколько таких источников радости Кэтрин в свое время проглядела: только сейчас она начинала это понимать. Что бы ей поучиться у него уму-разуму? Прочитать Маколея? Расхвалить его пьесу, сказав, что она уступает лишь сочинениям Шекспира?.. Словно в полусне, Кэтрин шла за ними следом, улыбаясь про себя, купаясь в звуках ликующего голоса, вторившего (это было ясно) восторженному и все же не сервильному голоску Кассандры.
«И как она может?.. — начала было про себя фразу Кэтрин, осеклась и закончила прямо противоположным тому, о чем собиралась сказать: — До чего же я была слепа!» Но разгадывать загадки сейчас, когда рядом был Ральф и одно его присутствие делало страшно интересным все происходящее вокруг: вон ялик идет против течения, вдали высится седой величественный Сити, пароходы возвращаются в родную гавань, груженные сокровищами, а может быть, еще только отправляются на их поиски, — одним словом, сейчас было не до загадок; потом, на досуге можно будет заняться распутыванием клубка противоречий, отделяя одно от другого. Тем более что Ральф вдруг остановился, принялся расспрашивать пожилого лодочника о приливах, движении судов, и, слушая его со стороны, наблюдая за ним на фоне реки, башен и шпилей, Кэтрин подумала, что видит его таким впервые. Ее привело в полный восторг, что он способен вот так взять и, оставив ее, уйти с головой в какие-то мужские разговоры, выяснять подробности лодочной прогулки по реке. Его независимость, порывистость, свобода, наконец, перспектива путешествия вдвоем по реке настолько воодушевили ее и заразили таким духом авантюризма, что даже Уильям с Кассандрой прервали светскую беседу и Кассандра воскликнула: «Да она просто боготворит его!» И тут же добавила: «Как трогательно!» — постаравшись, правда, скрыть от Уильяма собственное удивление по поводу того, что кто-то может прийти в экстаз при виде Ральфа Дэнема, точащего лясы со стариком лодочником на берегу Темзы.
346
Вирджиния Вулф. День и ночь
За чаепитием, осмотром туннеля под Темзой, знакомством с местными улочками наши парочки не заметили, как день пролетел, и было решено продлить удовольствие, отправившись назавтра, в воскресенье, на новую экскурсию. Дружно выбрали Хэмптон-Корт4, хотя поначалу Кассандре хотелось поехать в Хэмпстед5, поскольку в детстве ей много рассказывали про хэмпстедских разбойников, но теперь она окончательно и бесповоротно решила вопрос в пользу Билли — Билли-короля6. Сказано — сделано: на следующий день около полудня они были уже на месте в Хэмптон-Корте, и такое меж ними царило согласие во всем, что касалось построек красного кирпича, что кому-то со стороны могло даже показаться, что они и прибыли-то сюда исключительно ради того, чтобы убедить друг друга в одном: краше Хэмгггон-Корта дворца в мире нет. Они прохаживались вчетвером в ряд по галерее7, воображая, будто они — полноправные хозяева резиденции, и обсуждали, какими благами обернулось бы для мира их владычество.
— Мы вправе рассчитывать только на одно, — заметила Кэтрин, — если Уильям умрет, то Кассандре, как вдове выдающегося поэта, отойдут здешние покои.
— А может... — заговорила Кассандра, но вовремя прикусила язьгчок, с которого чуть-чуть не сорвались слова о том, что это Кэтрин скорее станет вдовой выдающегося адвоката. Они вместе веселились третий день подряд, и Кассандре было все труднее молчать о главном. Расспрашивать Уильяма она не решалась, да он и не шел ни на какие разговоры; он вообще делал вид, что его совершенно не интересует, чем заняты их спутники, хотя те уединялись то и дело — иногда для того, чтобы определить вид растения, иногда, чтобы получше разглядеть роспись. Кассандре в таких случаях оставалось лицезреть их спины. Она подмечала, что порой знак отойти в сторону подавала Кэтрин, порой — Ральф, иногда они вместе замедляли шаг, погруженные в беседу, иногда пускались вперед, словно подгоняемые страстью. Потом как ни в чем не бывало присоединялись к остальным, бросая на ходу: «Рыба здесь сроду не водилась... Про лабиринт8 надо не забыть...» И что окончательно «добивало» Кассандру, ставя ее в полный тупик, так это задушевные беседы Уильяма и Ральфа за столом или в вагоне поезда, когда они вдвоем мирно обсуждали политику, делились историями, вместе решали задачки, чертя карандашом на обороте старого конверта. Она сердилась на Кэтрин за ее рассеянность, впрочем, сказать точно, рассеянность ли это, она тоже не могла. Порой ей становилось так тошно оттого, что она, молодая, неопытная, ввязалась в эту историю, что она многое дала бы, чтобы очутиться дома в Стогдон-хаусе в компании с шелкопрядами.
Впрочем, мгновения сомнений лишь оттеняли блаженство, в котором она пребывала, нимало не нарушая то ровное свечение, что осеняло их ма¬
Глава 32
347
ленькое содружество. Природа, казалось, заранее позаботилась о том, чтобы поддержать ее душевный настрой, создав и влажный весенний ветер, и небо без единой тучки, и первые погожие деньки. Благорасположение сквозило во всем: в оленях, гревшихся на солнышке, в косяках рыб, застывших в струях потока, — вся природа благодушно дремала, безмолвно благословляя их. И Кассандра чувствовала, что никакими словами не выразить то спокойствие, тот блеск, то разлитое вокруг ожидание, которыми исполнены были тенистые аллеи, покрытые гравием дорожки, по которым они шли в один ряд вчетвером в тот воскресный полдень. Под ноги им ложились тени деревьев, в душе у нее царила тишина. На полураскрывшемся цветке сидела бабочка с едва заметно подрагивавшим крылышком, на солнышке паслись олени — всюду, куда ни посмотри, та же гармония, то же трепетное ожидание, то же предвкушение счастья, что и в ней самой.
Однако воскресный день близился к концу — пора было возвращаться домой. Уже сидя в такси по дороге домой от Ватерлоо9 в Челси, Кэтрин почувствовала, как в душе шевельнулось угрызение совести насчет отца, и она подумала, что продлить праздник едва ли получится: понедельник — присутственный день в конторах, и все отправятся на службу. До сих пор отец благосклонно относился к ее отлучкам из дому, но пользоваться его расположением бесконечно было нельзя: собственно, предчувствие ее не обманывало — ему уже сейчас было не по себе оттого, что детей нет дома, и он ждал скорейшего их возвращения.
Не то чтобы он не переносил одиночества — наоборот, воскресенье самым приятственным образом отвечало его эпистолярным, светским и профессиональным наклонностям: ответить на письма, нанести визит, отправиться в клуб. Что он и собирался сделать в тот день около пяти часов пополудни, но был остановлен буквально на пороге своего дома родной сестрой миссис Милвейн. По идее она должна была бы деликатно уйти, услышав, что никого нет дома, но она, вопреки ожиданиям, приняла его нерешительное предложение войти, и все кончилось тем, что он вынужден был сидеть с ней в гостиной и ждать, когда она закончит пить чай. Не теряя ни минуты, она объяснила свою настойчивость тем, что пришла по важному делу. Нельзя сказать, что он этому обрадовался.
— Кэтрин нет дома, — пояснил он. — Может быть, зайдешь попозже, с ней все и обсудите, а я к вам присоединюсь?..
— Дорогой Тревор, мне нужно тебе кое-что сказать с глазу на глаз... Кстати, где Кэтрин?
— Гуляет со своим женихом, где же ей еще быть? С ними Кассандра, на правах сопровождающей — по-моему, очень удачная комбинация, Кассандра — прелесть, совершенно очаровательная молодая особа.
348
Вирджиния Вулф. День и ночь
Теребя пальцами камешек, он искал способ успокоить сестру — наверняка она опять расстроена неурядицами в доме Сирила.
— Вот видишь, с ними Кассандра... Кассандра! — многозначительно повторила миссис Милвейн.
— Да, именно так, — подтвердил мистер Хилбери, обрадованный тем, что разговор пошел в другом русле. — По-моему, они отправились в Хэмп- тон-Корт, и с ними этот молодой человек, мой протеже Ральф Дэнем, большой умница, чтобы составить компанию Кассандре. По-моему, все очень пристойно.
Не ожидая никакого подвоха и втайне надеясь на то, что Кэтрин появится с минуты на минуту, он продолжал:
— Мне всегда казалось, что Хэмптон-Корт — идеальное место для жениха и невесты. Есть что посмотреть: лабиринт, потом — как оно называется? забыл — уютное кафе, где можно выпить чаю... Ну и потом, если молодой человек с головой, он, конечно, найдет способ покататься со своей девушкой на лодке. Море возможностей, просто море! Еще кусочек торта, Целия? — предложил мистер Хилбери. — Мне нельзя, у меня впереди обед, а ты, насколько знаю, большая чаевница, не помню случая, чтоб ты отказывалась продлить удовольствие.
Благодушие брата скорее огорчило, чем обрадовало миссис Милвейн: она видела брата насквозь. Все такой же слепой и самонадеянный!
— Кто этот мистер Дэнем? — спросила она.
— Ральф Дэнем? — переспросил мистер Хилбери, обрадовавшись вопросу сестры. — Очень занятный молодой человек, подает большие надежды. Знаток средневековых основ нашего законодательства, вот кому надо писать книгу — долгожданную книгу! — на эту тему, только ему условия не позволяют, вынужден зарабатывать на хлеб...
— Значит, он без средств? — прервала его миссис Милвейн.
— По-моему, просто без гроша, и потом, на нем семья.
— Это что же — мать, сестры? А отец где, умер?
— Да, отец умер несколько лет назад, — с готовностью ответил мистер Хилбери, который был не прочь и выдумать какие-то подробности из личной жизни Ральфа Дэнема, лишь бы сестрица не перескочила с этой темы, которая почему-то ее заинтересовала, на более щекотливую.
— Да, — продолжал он, — кормильца они потеряли какое-то время назад, и молодому человеку пришлось взвалить на себя обязанности главы семейства...
— Надеюсь, семейства законного? — уточнила миссис Милвейн. — По- моему, об этом где-то писали.
Мистер Хилбери покачал головой.
Глава 32
349
— Едва ли, это люди не того общественного положения, — пояснил он. — Помнится, Дэнем как-то говорил мне о том, что отец его торговал зерном. А может быть, он был брокером? Как бы то ни было, он разорился — обычная судьба брокера. А Дэнема я очень уважаю, — добавил мистер Хилбери.
Ему показалось, что своими словами о Дэнеме он закрыл тему и добавить что-то к сказанному нечего. Устремив взгляд на кончики сложенных пальцев, он поискал другой предмет для разговора:
— Кассандра так повзрослела! И собой хороша, и в головке что-то есть, хотя историю знает нетвердо. Еще чашечку чаю?
Миссис Милвейн подчеркнутым движением отставила чашку, словно выражая неудовольствие. Нет, спасибо, она сыта.
— Я ведь и пришла поговорить именно о ней, о Кассандре, — начала она издалека. — Сожалею, Тревор, но ты глубоко ошибаешься на ее счет. Она использовала ваше с Мэгги гостеприимство в личных интересах. В этом доме — и каком доме! — она повела себя самым неслыханным образом, если бы не обстоятельства, еще более неслыханные, я бы ни за что этому не поверила!
Мистер Хилбери воззрился на сестру в полном недоумении.
— Звучит интригующе, — произнес он по-светски, разглядывая кончики сложенных пальцев. — Признйюсь, я в совершеннейшем неведении.
В ответ миссис Милвейн выпрямила спину и отчеканила:
— С кем гуляет Кассандра? С Уильямом Родни. С кем гуляет Кэтрин? С Ральфом Дэнемом. С какой стати все четверо встречаются за углом, вместе ходят в мюзик-холлы и разъезжают поздно вечером на такси? Почему Кэтрин не сказала мне правду, когда я ее спрашивала? Теперь я знаю почему. Кэтрин связалась с никому не известным законником, и она покрывает Кассандру, а та ведет себя неподобающим образом.
Возникла заминка.
— Н-да, не сомневаюсь, Кэтрин все объяснит, — ответил невозмутимо мистер Хилбери. — Признаться, мне трудно во всем этом с ходу разобраться, и потом, я тороплюсь в Найтсбридж10, — извини, Целия, не суди строго.
Миссис Милвейн вскочила с места.
— Говорю тебе, она покрывает Кассандру, а сама связалась с этим Дэнемом! — повторила она, высоко подняв голову и с неустрашимым видом, невзирая на возможные последствия, свидетельствуя об истине. Наученная горьким опытом, она знала, что единственный способ растормошить брата — это выпалить ему в лицо все, что она думает, а потом резко развернуться и уйти. Вот и на этот раз она повернулась (хотя ей страшно хотелось добавить кое-что еще) и с гордо поднятой головой, с сознанием собственной правоты покинула дом.
350
Вирджиния Вулф. День и ночь
Ей, конечно, удалось смутить покой своего брата, так что ни с каким визитом в Найтсбридж тем вечером он уже не отправился. За Кэтрин он был совершенно спокоен, а вот насчет Кассандры у него в глубине души были некоторые сомнения: он не исключал, что та, по наивности или невежеству, могла попасть в какую-нибудь глупую историю во время их совместных, никем не контролируемых вылазок. Супруга его на светские условности смотрела сквозь пальцы, сам он относился к ним с ленцой, а Кэтрин, естественно, слишком занята... А чем же, интересно, занята Кэтрин? И тут только до него дошел смысл обвинений, высказанных сестрой: «Она покрывает Кассандру, а сама связалась с этим Дэнемом». Из чего следовало, что Кэтрин вовсе ничем не занята, и кто из них двоих связался с Ральфом Дэнемом, непонятно! Чувствуя, что ему самому не выбраться из абсурднейшего лабиринта, в который он попал, мистер Хилбери принял единственное благоразумное решение: дождаться Кэтрин, коротая часы за книгой.
И вот наконец в прихожей раздались голоса вернувшихся с прогулки молодых людей; все четверо пошли наверх в гостиную, и мистер Хилбери сразу послал служанку передать мисс Кэтрин, что он ждет ее внизу в своем кабинете. Барышня в тот момент стояла возле камина, полуленивым движением сбрасывая с плеч меха, в окружении троих друзей — расходиться им не хотелось. Слегка удивившись тому, что отец желает ее видеть, Кэтрин повила к двери, бросив назад взгляд, исполненный, как им показалось, какого-то нехорошего предчувствия.
Стоило Кэтрин войти, как у мистера Хилбери отлегло от души, он поздравил себя с тем, что у него есть такая дочь — ответственная, зрелая не по летам, словом, дочь, которой можно гордиться. И выглядела она в тот вечер особенно прелестно, он всегда знал, что она красавица, но сегодня будто увидел ее впервые — увидел и поразился. Сердце подсказывало ему, что он вторгся в их с Родни счастливое уединение, поэтому он начал с извинений:
— Дорогая, прости, что беспокою. Я услышал, что вы пришли, и решил, что будет лучше, если я сразу вытащу занозу, все отцы одинаковы, мы все доставляем молодым неприятности. Понимаешь, у меня сегодня была твоя тетушка Целия, она взяла себе в голову, что вы с Кассандрой ведете себя... — как бы поточнее выразиться? — опрометчиво. Эти ваши совместные прогулки — по-моему, милые невинные развлечения — у нее вызывают недоумение. Я ей прямо сказал, что не вижу в них ничего предосудительного, но мне хотелось бы, чтобы ты это подтвердила. Может быть, Кассандру слишком часто видят в обществе мистера Дэнема?
Ответа не последовало, и мистер Хилбери терпеливо постукивал кочергой по тлеющим в камине углям. Потом Кэтрин сказала без тени смущения или чувства вины:
Глава 32
351
— Не понимаю, почему я должна отвечать на вопросы тети Целии. Я уже сказала ей, что делать этого не буду.
Представив сей забавный диалог, мистер Хилбери вздохнул про себя с облегчением, хотя вслух он не мог себе позволить одобрительно отнестись к подобному проявлению непочтительности.
— Прекрасно! Значит, ты уполномочиваешь меня сказать ей о том, что она ошиблась, и это всего лишь невинная забава, так? И ты ни минуты не сомневаешься? Пойми, Кассандра на нашем попечении, и я не позволю, чтобы о ней судачили злые языки. А тебе я посоветовал бы быть осмотрительнее. Пригласи меня на ваше следующее рандеву.
Он ожидал услышать в ответ шутку или ласковое «да», но ответа не последовало. Кэтрин стояла, размышляя о чем-то своем, и он невольно подумал, что все женщины одинаковы — ветер в голове, вот и дочь его точно такая же. Или дело все-таки нечисто?
— Признайся, если что не так, — сказал он без всякого нажима. — Кэтрин, прошу тебя, расскажи, — попросил он уже настойчивее, подметив какое- то странное выражение в ее глазах.
— Я давно собиралась тебе сказать, — проговорила она, — я не выхожу замуж за Уильяма.
— Как?! — воскликнул он, выронив из рук кочергу. — Почему? Когда это случилось? Кэтрин, объясни!
— Случилось недавно, неделю назад, может, раньше. — Кэтрин говорила сбивчиво и равнодушно, точно ей было все равно.
— Но могу я спросить: почему ты мне не сказала? И что все это значит?
— Мы просто не хотим жениться — вот и все.
— Уильям того же мнения?
— О да, мы заодно.
Мистер Хилбери был в полной растерянности. Ему казалось странным, почему Кэтрин с таким безразличием относится к серьезному вопросу, похоже, она не придавала значения собственным словам, он ничего не мог взять в толк. Но желание сгладить возникшие противоречия взяло верх. Наверняка они поссорились, возможно, Уильям сплоховал, он вообще-то славный малый, но иногда бывает привередлив — тут нужна женская рука. И хотя мистер Хилбери с прохладцей относился к своим отцовским обязанностям, он слишком любил свою дочь, чтобы пустить все на самотек.
— Признаться, я тебя не понимаю. Я хотел бы узнать, что обо всем этом думает Уильям, — заметил он раздраженно. — Полагаю, он должен был в первую очередь поговорить со мной.
— Я ему запретила, — ответила Кэтрин. — Понимаю, тебе это кажется странным, — добавила она. — Но прошу тебя, давай не будем спешить — подождем возвращения мамы.
352
Вирджиния Вулф. День и ночь
Вообще этот вариант — отложить переговоры — был по душе мистеру Хилбери, но совесть не позволяла. Он не мог допустить, чтобы кто-то счел предосудительным поведение его дочери, а ведь слухи уже поползли. Как поступить в этом случае, он не знал: телеграфировать ли жене, вызвать ли сюда одну из сестер, отказать ли Уильяму от дома или срочно отправить Кассандру домой — ведь за нее он тоже несет ответственность. От навалившихся в одночасье тревог лоб мистера Хилбери покрылся глубокими морщинами, и он собрался было уже просить Кэтрин избавить его от непомерных забот, как вдруг дверь распахнулась и в комнату вошел Уильям Родни. С его появлением все мгновенно переменилось — и тон разговора, и позы собеседников.
— Вот и Уильям, — с облегчением выдохнула Кэтрин. — Я рассказала отцу, — повернулась она к нему, — что мы больше не жених и невеста. И что это я не позволила тебе с ним поговорить.
Уильям держался подчеркнуто холодно. Едва заметно склонив голову в сторону мистера Хилбери, он встал перед камином, будто аршин проглотил — рука заложена за лацкан сюртука, взгляд устремлен на огонь. Слово за мистером Хилбери.
Тот тоже напыжился, напустил на себя неприступный вид. Поднявшись с места, он выжидал, слегка подавшись вперед.
— Хотелось бы услышать ваше мнение, Родни... разумеется, если Кэтрин не имеет ничего против.
Тот выдержал паузу и произнес очень сухо:
— Мы на грани расторжения помолвки.
— Это ваше обоюдное решение?
Последовала новая пауза, после чего Уильям наклонил голову, а Кэтрин, точно спохватившись, подтвердила:
— О да!
Мистер Хилбери раскачивался на носках, беззвучно шевеля губами, словно собирался что-то сказать, но раздумал. Потом начал так:
— Я бы предложил повременить с окончательным решением, пока это недоразумение не разрешится. Вы знаете друг друга уже...
— При чем здесь недоразумение? — прервала его Кэтрин. — Нет никакого недоразумения!
И шагнула к двери, словно ей некогда. Естественная порывистость ее движений плохо вязалась с напыщенной манерой отца и вызывающей невозмутимостью Родни: последний вообще не отрывал глаз от полу. Взгляд же Кэтрин, скользивший над головами обоих собеседников, по стеллажам, над столами, был устремлен к входной двери, такое впечатление, что все происходящее вокруг ей глубоко безразлично. С дрогнувшим сердцем, в тревоге
Глава 32
353
и сомнении смотрел отец на свою еще совсем недавно казавшуюся ему такой благоразумной и рассудительной дочь. Его былая уверенность в том, что он может безбоязненно доверить ей течение ее жизни — лишь в шутку представляя дело так, будто он курирует процесс, — покинула его навсегда. Впервые за много лет он проникся осознанием ответственности за свою дочь.
— Послушайте, — сказал он, отставляя в сторону церемонии и обращаясь только к мужчине. — Вы с ней немножко повздорили, так ведь? Поверьте моему опыту, это обычное дело у обрученных, со многими случается. Когда помолвка затягивается, значит, жди беды — сколько раз сам наблюдал. Послушайте моего совета, выкиньте все это из головы — вы оба. Никаких эмоций — вот главное лекарство. Отправляйгесь-ка на курорт, Родни, и проветритесь.
Ему бросилось в глаза, что Уильям находится в страшном напряжении, — трудно было не заметить, что он усилием воли подавляет клокочущие внутри чувства. Ясное дело, размышлял мистер Хилбери, это Кэтрин, сама того не понимая, довела его до точки кипения, загнала его, так сказать, в лузу вопреки его желанию. Разумеется, мистер Хилбери не был склонен преувеличивать меру душевных терзаний Уильяма. Да тот и сам за собой не помнил, чтобы когда-нибудь так страдал. Теперь он пожинает плоды своего безумия. Ему осталось только признать, что он абсолютно не оправдал ожиданий мистера Хилбери. Все против него! Даже воскресный вечер, и камин, и располагающая к покою атмосфера кабинета — все против него! И то, что мистер Хилбери обращается к нему как мужчина к мужчине, — и это тоже против него! Ибо более он не принадлежит ни к одному уважающему себя сообществу! И все же, повинуясь какой-то непонятной силе, которая заставила его сойти вниз, он стоит, один против всех, не требуя у жизни никаких наград. Он судорожно подыскивал подходящую фразу и наконец выпалил:
— Я люблю Кассандру.
Мистер Хилбери побагровел — лицо его стало пепельно-пунцовым. Он взглянул на дочь, коротко кивнул, словно молча отсылая ее прочь, однако она либо не заметила его жеста, либо не подчинилась его воле.
— И вы имеете наглость... — низким, сдавленным голосом, какого он за собой не помнил, начал мистер Хилбери, и тут за дверью послышалась возня, раздался шум, словно кто-то кого-то уговаривал не входить, и в кабинет влетела Кассандра.
— Дядя Тревор! — воскликнула она. — Позвольте мне открыть вам всю правду!
Она бросилась между Родни и дядей, словно пытаясь разнять дерущихся. Однако дядя стоял смирно, несмотря на свои внушительные габариты,
354
Вирджиния Вулф. День и ночь
все молчали, и Кассандра в замешательстве отпрянула назад, переведя взгляд с Кэтрин на Родни.
— Но вы же должны знать правду, — повторила она, стушевавшись.
— И вы имеете наглость говорить это мне в присутствии Кэтрин? — продолжал мистер Хилбери, обращаясь к Родни, нимало не замечая эскападу Кассандры.
— Я понимаю, хорошо понимаю... — заикаясь, глядя в пол и тем не менее всем своим видом показывая, что он не уступит ни пяди, забубнил Родни. — Я хорошо понимаю, какого вы обо мне мнения, — выпалил он, подняв голову и в первый раз за вечер взглянув прямо в глаза мистеру Хилбери.
— Если бы не дамы, я бы высказался более определенно, — парировал мистер Хилбери.
— Я тоже хочу высказаться, — объявила Кэтрин.
Она легонько придвинулась к Родни, и этого движения было достаточно, чтобы понять: она уважает его, и она с ним заодно.
— По-моему, Уильям вел себя безупречно, в конце концов, это дело касается только меня — и еще Кассандры.
Вместо ответа Кассандра придвинулась к ним двоим, и вот уже составился тесный кружок единомышленников. Тон, которым говорила Кэтрин, и то, как она смотрела, повергли мистера Хилбери в состояние полной растерянности, вдобавок он почувствовал себя старым и никому не нужным, и это страшно огорчило и обидело его. Но, несмотря на внутреннюю опустошенность, внешне он оставался спокоен.
— У Кассандры и у Родни есть полное право решать свои проблемы сообразно их собственным желаниям, однако я не понимаю, зачем это нужно делать в моем кабинете и у меня дома... Впрочем, главное я уже выяснил: Родни тебе больше не жених.
Возникла пауза, своим молчанием мистер Хилбери словно подчеркивал, что он благодарен дочери за откровенность.
Кэтрин набрала воздуха, собираясь что-то сказать, но в последнюю минуту на глазах у повернувшейся к ней Кассандры передумала. Родни, похоже, тоже ждал, что она что-то ответит, — отец выжидающе смотрел на дочь. Но Кэтрин безмолвствовала. Все замерли, и тут на лестнице послышались шаги: кто-то шел к выходу. Кэтрин шагнула к двери.
— Подожди, — остановил ее мистер Хилбери. — Мне надо с тобой поговорить — с глазу на глаз, — добавил он.
Кэтрин обернулась.
— Я сейчас, — бросила через плечо и, открыв дверь, вышла из комнаты. Было слышно, как она говорит с кем-то за дверью, но о чем, было не разобрать.
Глава 32
355
Мистер Хилбери остался один на один с проштрафившейся парочкой — молодые стояли, не двигаясь с места, явно не желая уходить, притом что исчезновение Кэтрин изменило расстановку сил. В глубине души мистер Хилбери это знал, ведь он недаром не мог найти удовлетворительного объяснения поведения дочери.
— Дядя Тревор, — порывисто обратилась к нему Кассандра, — умоляю, не сердитесь. Я не могла иначе, пожалуйста, простите.
Но дядя по-прежнему делал вид, будто не слышит, и обращался поверх ее головы к Родни, полностью игнорируя ее присутствие.
— Полагаю, вы уже сообщили Отуэям, — заметил он угрюмо.
— Дядя Тревор, мы собирались сказать вам, — влезла в разговор Кассандра. — Мы ждали... — Она вопросительно посмотрела на Родни, а тот едва заметно покачал головой.
— Итак, чего же вы ждали? — резко спросил мистер Хилбери, переводя на нее взгляд.
Она смолкла. Было видно, что она напряженно вслушивается в происходящее за дверью, но сигнала не последовало. Она промолчала. Мистер Хилбери тоже прислушался.
— Пренеприятная история, скажу я вам, — проворчал он, опускаясь в кресло и принимая свою обычную позу: слегка обмякшие плечи, устремленный на пламя взгляд. Казалось, он говорит сам с собой, а Родни с Кассандрой стоят и молча слушают.
— Может, присядете? — рявкнул он без прежней грозности: чувствовалось, что запал иссяк, а может, его гложут другие заботы. Кассандра села, а Родни остался стоять.
— Я, пожалуй, пойду, — заметил он, на что мистер Хилбери едва заметно кивнул, — Кассандра сама все объяснит, — и вышел из комнаты.
Тем временем за стенкой в столовой, сидя за обеденным столом, беседовали Дэнем с Кэтрин. Казалось, они продолжают прерванный на середине разговор, причем каждый точно помнит, где его прервали, и теперь старается наверстать упущенное. На одном дыхании Кэтрин пересказала разговор с отцом, Дэнем выслушал и сказал:
— Во всяком случае, никто не запрещает нам видеться.
— Или быть вместе. Невозможно только одно — брак, — откликнулась Кэтрин.
— А если я пойму, что хочу тебя все сильнее?
— А если участятся провалы?
Он подавил вздох и ничего не ответил. Потом опять заговорил:
— Но мы, по крайней мере, выяснили, что мои провалы каким-то странным образом связаны с твоими, а твои с моими никак не связаны. Кэт¬
356
Вирджиния Вулф. День и ночь
рин, — взмолился он прерывающимся от волнения голосом, — не надо сомневаться! Если это не любовь, то что же тогда называют любовью? Ты помнишь ту ночь? Разве мы тогда в чем-то сомневались? Мы же полчаса были совершенно счастливы. И потом после той ночи у тебя целый день не было никаких провалов, и у меня тоже — вплоть до вчерашнего утра. Вспомни, как было накануне — какая радость, а потом... потом я впал в ступор, ну и, само собой, ты заскучала.
— Да нет же, — сказала она сдавленно, точно ее душили слова, — ты не понимаешь. Я не заскучала, мне вообще никогда не бывает скучно. Реальность — в реальности все дело! — воскликнула она, барабаня пальцем по столу, стремясь подчеркнуть и, возможно, объяснить, почему она придает такое большое значение этому слову. — Я для тебя иллюзия, видение в ночи, у тебя перед глазами кружится вихрь. Мы совпадаем на мгновение и тут же теряем друг друга. Я с себя вины не снимаю, я такая же, как и ты, мечтательница, еще хуже.
В их движениях сквозила усталость, они часто замолкали — было видно, что они уже несколько дней бьются над загадкой, которую окрестили между собой «провалами». Эти наваждения отравляют им жизнь, гонят Ральфа прочь — он не остался бы сегодня в доме, если бы Кэтрин не выбежала в последнюю минуту и не остановила его. Так что же это за провалы такие? Стоит Кэтрин надеть что-то новое или сказать что-то неожиданное, предстать особенно прелестной или непривычной, как внутри у Ральфа поднимается волна любви и накрывает его с головой, лишая дара речи, а Кэтрин, видя его реакцию, начинает, как назло, перечить ему, вставлять палки в колеса, заставляя спуститься на бренную землю. Потом наваждение пропадает, и Ральф клянет себя за то, что любит не Кэтрин, а лишь ее тень, реальная же Кэтрин его не интересует. Случались провалы и у Кэтрин: когда они накатывали, она замыкалась в себе, с головой погружаясь в свои мысли, не видя и не слыша никого вокруг, полностью уйдя в себя и противясь попыткам собеседника вернуть ее к реальности. Кэтрин впадала в транс и раньше, без Ральфа, так что нельзя сказать, что источником наваждения был он. Все говорило за то, что он ей не нужен, она терпеть не может, когда он напоминает ей о себе. Какая же это любовь? Все слишком хрупко.
Пока эти двое отрешенно молчали, сидя за обеденным столом, Родни, пребывавший в состоянии крайнего возбуждения и волнения в гостиной наверху, буквально не находил себе места, а Кассандра все это время сидела у дяди в кабинете. Наконец Ральф поднялся мрачнее тучи и подошел к окну. Прижался к стеклу носом: там, снаружи, мир правды и свободы, там простор, и объять их подвластно лишь уму одиночки, лишенного надежды
Глава 32
357
сообщаться с кем-то. Так стоит ли пробивать головой стену, пытаясь поделиться самым заветным, зная, что это путь разрушения? Разве это не святотатство? Что-то шевельнулось у него за спиной, и он подумал: если бы только Кэтрин захотела, у нее достало бы силы облечь в телесную оболочку то, что ему виделось ее духом. Словно моля о помощи, он резко повернулся и был в который раз сражен холодным, неприступным видом Кэтрин, которая мыслями витала где-то далеко-далеко. Почувствовав на себе его взгляд, она подошла и встала рядом, вглядываясь, как и он, в темноту за окном. Они стояли бок о бок, и тем горше было ему осознавать, что своими помыслами они как никогда далеки друг от друга. Но даже так, из своего далекого далека, самим фактом своего присутствия она преображала его мир. Он принялся рисовать картины невероятных героических поступков, которые он совершит, как он спасает утопающих, помогает сирым... Понимая, что это чистой воды эгоизм, он все равно не мог отказаться от мысли, что, пока она рядом, жизнь прекрасна, волшебна, достойна служения. Пускай она молчит — он не ждет от нее слов, прикосновений, взглядов — пусть она занята своими мыслями, пусть забыла, что он рядом.
Они не слышали, как дверь в столовую открылась — вошел мистер Хил- бери, огляделся и на какую-то долю секунды решил, что в комнате никого нет, только потом заметил, что у окна стоят двое. Это открытие его неприятно поразило, и какое-то время он пристально наблюдал за парой у окна, прежде чем взял себя в руки и собрался с мыслями. Наконец он нашел способ обнаружить свое присутствие, и они мгновенно обернулись. Ничего не говоря, он жестом подозвал Кэтрин и, стараясь не смотреть в ту сторону, где стоял Дэнем, бочком выпроводил ее из столовой в свой кабинет. Не успела она переступить дверь библиотеки, как он аккуратненько, точно из боязни заразиться, запер за собой дверь.
— Итак, Кэтрин, — приступил он, становясь в позу перед камином, — может быть, ты соблаговолишь объяснить...
Она молчала.
— Какие выводы прикажешь мне делать? — спросил он резким тоном. — Ты говоришь, что расторгла помолвку с Родни, и при этом, насколько я вижу, находишься в весьма близких отношениях с другим... с Ральфом Дэне- мом. Что все это значит? Уж не хочешь ли ты сказать, — напирал он, видя, что она продолжает молчать, — что ты помолвлена с Дэнемом?
— Нет, не хочу, — ответила она.
У него сразу камень с души свалился, ведь он был почти уверен в положительном ответе, теперь же, когда его худшие опасения развеялись, он был готов попенять ей на ее поведение.
358
Вирджиния Вулф. День и ночь
— В таком случае позволь мне выразить свое удивление насчет того, как ты полагаешь нужным себя вести... У окружающих на этот счет свои взгляды, и я не удивлюсь, если... Чем больше я думаю об этой истории, тем более необъяснимой она мне представляется, — продолжал он, вскипая. — Почему я не знаю о том, что происходит в моем собственном доме? Почему первой посвящает меня в эти дела моя сестра? Все это страшно неприятно, огорчительно. Что теперь, по-твоему, скажет дядя Фрэнсис? Впрочем, до этого мне дела нет, Кассандра завтра же отправляется домой. Родни я от дома отказываю. Что же касается другого молодого человека, то пусть лучше не появляется мне на глаза. А ведь я так тебе доверял, Кэтрин!..
Фразу он не закончил, обеспокоенный тем, что воцарилась мертвая тишина, и он, которому всегда казалось, что он знает образ мыслей своей дочери, в некотором сомнении первый раз за целый вечер поднял на нее глаза. Он сразу понял, что она не слышала ни слова из того, что ей было сказано, вместо этого она прислушивалась к звукам за закрытой дверью; мистер Хилбери последовал ее примеру. Былое подозрение о том, что между Дэне- мом и Кэтрин есть какая-то договоренность, вспыхнуло в нем с удвоенной силой, только теперь к нему еще добавился какой-то запретный душок, которым отдавали, как ему казалось, отношения молодых людей.
— Я хочу поговорить с Дэнемом, — рявкнул он, подстегиваемый дурным предчувствием, и шагнул к двери.
— Я с тобой, — мгновенно парировала Кэтрин.
— Нет, ты останешься здесь, — приказал отец.
— О чем ты собираешься с ним говорить? — спросила она.
— Полагаю, я не должен отчитываться ни перед кем в собственном доме? — вопросом на вопрос ответил он.
— В таком случае мы уйдем оба, — отрезала она.
Услышав эти слова, в которых звучала решимость уйти — уйти навсегда, мистер Хилбери снова занял место перед камином и принялся молча раскачиваться на носках.
— Я понял из твоих слов, что вы с ним не помолвлены, — выдавил он наконец, остановив взгляд на дочери.
— Нет, не помолвлены, — подтвердила она.
— Значит, тебе должно быть все равно, приходит он к нам в дом или нет. Ты будешь слушать, что я говорю? Я, по-моему, к тебе обращаюсь! — взорвался он, заметив, что она отвлеклась на что-то постороннее. — Отвечай честно, что у тебя за отношения с этим молодым человеком?
— Это касается только его и меня, — заявила она упрямо.
— Прошу без уверток! — отрубил он.
Глава 33
359
— Я не буду отвечать, — бросила она, и в эту самую минуту кто-то хлопнул входной дверью.
— Ну вот! — крикнула она. — Ушел!
И она посмотрела на отца с такой укоризной и с таким возмущением, что тот на мгновение потерял самообладание.
— Ради Всевышнего, Кэтрин, возьми себя в руки! — взмолился он.
На секунду она потеряла голову — в ней было что-то от дикого зверя, которого загнали в клетку в самый неподходящий момент. Она заметалась, ища глазами выход среди стен, уставленных полками с книгами, будто напрочь забыла, где находится дверь. Потом рванулась к выходу, но отец остановил ее, схватив сзади за плечо и заставив сесть.
— Успокойся, постарайся совладать с эмоциями, — сказал он мягко, своим обычным бархатным голосом, в котором звучали твердые нотки отцовской заботы. — Кассандра рассказала мне, что ты была поставлена в очень щекотливое положение. Давай помиримся, забудем о неприятностях, хотя бы на время. Представим, что мы нормальные, цивилизованные люди. Почитаем Вальтера Скотта. Как насчет «Антиквара»? Или лучше «Ламмермур- скую невесту»?11
Не дожидаясь ответа, он сам выбрал книгу, и Кэтрин, не то что долгожданную волю обрести, — пикнуть не успела, как превратилась, молитвами Вальтера Скотта, в кроткую, воспитанную слушательницу.
Впрочем, у мистера Хилбери были на этот счет весьма серьезные сомнения: читать-то он читал, а вот достигало ли чтение цели, в этом он уверен не был. В тот вечер на его глазах был перечеркнут жирной чертой цивилизованный уклад жизни, и еще неизвестно, чем все кончится; достаточно сказать, что сам он вышел из себя, — такого он за собой не помнил уже лет десять. После вспышки ярости ему требовалась передышка в виде чтения классики. В его доме бурлила революция; теперь жди неприятных столкновений с домочадцами, прощай, благодушные застолья! Сможет ли в этих условиях литература помочь? Насколько сильно это противоядие? Голос его дрогнул, но он продолжал читать.
Глава 33
Если учесть, что мистер Хилбери жил в доме под определенным номером в ряду других домов, был законопослушным арендатором, исправно платил за жилье и собирался продолжать в том же духе следующие семь лет, до окончания контракта, то надо признать, что у него были основания требовать от домочадцев, чтобы те вели себя надлежащим образом; поэтому, столкнувшись с тем, что в его доме более не уважают нормы цивилизо¬
360
Вирджиния Вулф. День и ночь
ванного общежития, он воспользовался своим законным правом собственника: по первому же его требованию Родни исчез, Кассандру с утра пораньше в понедельник отправили на вокзал, чтобы успела на утренний поезд; Дэнем больше не появлялся, и в комнатах на верхнем этаже не осталось никого постороннего, только Кэтрин, законная их владелица, — словом, мистер Хилбери сделал все, от него зависящее, чтобы отвести от дочери подозрения. Когда они наутро встретились, он с горечью подумал, что совсем ее не знает, ее мысли для него — потемки, но и это уже прогресс по сравнению с полным неведением, в котором он пребывал до последнего времени. Он прошел к себе в кабинет и сел за письмо жене, призывая ее вернуться, поскольку ему одному не справиться с возникшими сложностями, которые он принялся было описывать, но тут же бросил, порвал письмо и написал другое. В нем он просто просил ее срочно приехать: в доме непорядок, а какой, объяснять не стал. Он решил, что, даже если она выедет сразу, как только получит письмо, до дому она доберется не раньше вторника, к вечеру, и от этой перспективы он помрачнел, быстро подсчитав в уме, сколько времени ему придется провести, осуществляя тягостный надзор за дочерью.
Интересно, чем она занимается? — мелькнуло у него в голове, когда он заклеивал конверт. Он совсем забыл про телефон, но подслушивать — не в его правилах. Вполне возможно, она о чем-то договаривается по телефону. Эта мысль его беспокоила, но не так сильно, как неприятный осадок после вчерашней вечерней сцены с молодыми людьми — было в ней что-то донельзя странное, непристойное. Он кожей ощущал какую-то неловкость.
Тем временем Кэтрин сидела у себя наверху, и у нее даже мысли не возникало о том, чтобы звонить по телефону. В кои-то веки она достала с полки словари и вытряхнула из них странички, которые много лет прятала между листами, — сейчас перед ней на столе лежали по одну руку раскрытые фолианты, по другую — стопка исписанных страниц. Она с головой ушла в работу — так бывает с тем, кто небезуспешно старается заглушить неприятную мысль, сосредоточившись на чем-то ином. Ей это удалось, и, вдохновленная победой, она трудилась с упоением. Время от времени появлявшаяся на листе бумаги черта, выведенная твердой рукой под очередным столбиком цифр и символов, отмечала продвижение ее мысли. А ведь было еще совсем рано: за стенкой слышались звуки утренней уборки — где-то переставляли мебель, выбивали пыль из ковров, — словом, вокруг кипела работа, и к ней в комнату в любой момент могли зайти, так что единственной защитой против мира ей служила дверь. Но упорная работа сделала свое дело: в собственных владениях Кэтрин чувствовала себя полновластной хозяйкой.
Глава 33
361
Неудивительно, что, когда раздался звук шагов, она его не услышала. Правда, тот, кому они принадлежали, похоже, не торопился — то замедлит шаг, то тяжело поставит ногу, — чувствовалась поступь человека, которому за шестьдесят и у него в руках охапки листьев и цветов; зато смолкли шаги подле двери Кэтрин, и тут же в дверь тихонько царапнулся лист лавра — от неожиданного звука Кэтрин вздрогнула и оторвала карандаш от бумаги. Замерев на месте, она решила, что кто-то ошибся дверью и сейчас уйдет. Но не тут-то было! Дверь открылась, и в комнату вплыло зеленое облако, оно двигалось в ее сторону как будто само собой, без чьей-либо помощи. И вот из-за широких листьев и золотистых вербных сережек показалась фигурка матери и ее лицо.
— Прямо с могилы Шекспира! — воскликнула миссис Хилбери, разом выпустив из рук зеленый дождь, словно осеняя благодатью. Широко раскинув руки, она подошла к дочери.
— Слава богу, Кэтрин! — воскликнула она, повторяя: — Слава богу!
— Так ты вернулась? — словно не веря, отозвалась Кэтрин, обнимая мать.
Сомнений не было, но сама она чувствовала какую-то отрешенность, безучастность, и при этом ей казалось таким естественным, что матушка рядом, вот она, благодарит Господа за неизвестно какие блага и усыпает пол цветами и листьями с могилы Шекспира.
— Нет на свете ничего важнее! — объясняла миссис Хилбери. — Имя — это еще не все: самое главное — что у тебя внутри. Зачем писать глупые, пустые, душещипательные письма? Я и без твоего отца все знала с самого начала. Бог услышал мои молитвы.
— Так ты знала? — задумчиво и нежно повторила Кэтрин, глядя куда-то сквозь нее. — Откуда? — спросила, теребя оборку на плаще матери, как бывало в детстве.
— С самой первой встречи — ты же сама мне рассказала, помнишь? И потом еще много раз — за ужином... когда обсуждали книги... как он появился... каким тоном ты о нем говорила.
Кэтрин задумалась, будто проверяя каждое слово на доказательность. Потом сказала многозначительно:
— Я решила не выходить за Уильяма. И потом, не забывай — Кассандра...
— Конечно, разве можно забыть о Кассандре? — подхватила миссис Хилбери. — Признаюсь, я поначалу ревновала, но разве можно ревновать к девушке, которая так прелестно играет на фортепьяно? А скажи мне, Кэтрин, — спросила она, вспомнив что-то, — куда ты отправилась в тот вечер, когда Кассандра играла Моцарта и ты решила, что я сплю?
362
Вирджиния Вулф. День и ночь
Кэтрин наморщила лоб, вспоминая:
— К Мэри Дэчет.
— Ах вот как, — разочарованно протянула миссис Хилбери. — А я-то думала... в общем, нафантазировала!
Она посмотрела на дочь, и та немножко смешалась под ее искренним и проницательным взглядом, покраснела, отвернулась, потом подняла на мать светлый взор.
— Не думай, я в Ральфа Дэнема не влюблена, — сказала она.
— Без любви замуж нельзя! — быстро парировала миссис Хилбери. — Но разве нет, — добавила она, взглядывая на дочь, — других способов, а, Кэтрин?
— Мы хотим продолжать встречаться, как прежде, но остаться свободными, — объяснила Кэтрин.
— Продолжать встречаться, — повторила за ней миссис Хилбери, вслушиваясь в слова, точно проверяла чистоту аккордов, в которых ее что-то не устраивало, — сегодня у тебя, завтра у него, потом под открытым небом.
Она была неплохо осведомлена о происходящем, и все благодаря пухлым пачкам писем от своей золовки, которые она назвала «душещипательными» и которыми была набита ее сумка.
— Именно. Есть еще вариант: уехать в деревню, — закончила Кэтрин.
Миссис Хилбери промолчала — она была чем-то расстроена — и, чтобы
отвлечься, подошла к окну:
— А как он был мил тогда в магазине!.. Взялся меня проводить и в один миг нашел развалины... Я была за ним, как за каменной стеной...
— Ты хочешь сказать, что чувствовала себя с ним в безопасности? О, ты ошибаешься — это неисправимый игрок, авантюрист. Представь, человек хочет бросить профессию, уехать в деревню, снять домик и писать книги, хотя у него нет ни гроша и у него семья мал мала меньше.
— Так он живет с матерью? — спросила миссис Хилбери.
— Да, мать — пожилая дама интересной наружности, вся седая.
Кэтрин принялась описывать свой визит к Дэнемам, и из ее рассказа
миссис Хилбери узнала немало интересных подробностей: оказывается, живет их семейство в уродливом доме, но Дэнем не жалуется, тянет лямку, хотя ясно, что домашние висят у него на шее, его отдушина — это комната под самой крышей, оттуда открывается чудесный вид на Лондон, и еще у него живет ручной грач.
— Жалкое существо, хвост да клюв, смотреть не на что, — заметила Кэтрин, и такая нежная забота обо всех несчастных в мире зазвенела в ее голосе, исполненном уверенности в том, что Ральфу Дэнему по плечу благородная миссия по облегчению людских страданий, что миссис Хилбери ахнула:
Глава 33
363
— Но, Кэтрин, дорогая, ты же его лю6ишь\
Кэтрин вспыхнула, осеклась, поняв, что проговорилась, и покачала головой.
Миссис Хилбери еще немного поспрашивала дочь об удивительном доме и, чтобы как-то расположить ее к откровенности и сгладить возникшую неловкость, рассказала ей историю о том, как однажды встретились в аллее Ките и Колридж1. Кэтрин упивалась вольным общением с мудрой и проницательной собеседницей, — так в детстве они, помнится, разговаривали с матерью: задаешь молчаливый вопрос и знаешь, что тебя поймут без слов. Вот и сейчас миссис Хилбери слушала дочь не перебивая, даже не столько слушала, сколько смотрела на нее и думала о чем-то своем, так что, спроси ее подробнее о жизни Ральфа Дэнема, она, наверное, пожала бы плечами, припомнив лишь то, что он беден, рано лишился отца и живет в Хайгей- те, — последнее, кстати, было в его пользу. Однако именно так — украдкой — она вызнала самое сокровенное в душе Кэтрин, и теперь в ней боролись два противоположных чувства: безмерная радость и глубочайшая тревога.
Наконец она объявила:
— Нынче браки регистрируются за пять минут в конторе — это я на тот случай, если венчание в церкви кажется тебе излишне пышным. Наверное, так и есть, хотя, согласись, в церковном обряде есть свое благородство.
— Но пойми, мы не хотим жениться, — повторила настойчиво Кэтрин и добавила: — И потом, почему обязательно нужно жениться, почему нельзя просто жить вместе?
Миссис Хилбери вздохнула огорченно и, стараясь не показывать виду, взяла со стола листы и принялась их рассматривать, вертела так и эдак, бормоча про себя:
— А плюс В минус С равно «х у z». Как это все мелко, Кэтрин, мелко и некрасиво, и на душе у меня точно так же.
Кэтрин забрала у матери страницы и стала разглаживать их с отсутствующим видом, словно мысли ее были где-то далеко.
— Ну, насчет красоты я не знаю, — выдавила она наконец.
— Но не его же это затея! — воскликнула миссис Хилбери. — Не поверю, чтобы серьезный молодой человек, с умными глазами, мог такое предложить?
— Да ничего он не предлагает, мы вообще ничего не предлагаем.
— А хочешь, я расскажу, как было у нас?..
— Да, сделай милость, расскажи.
Миссис Хилбери ушла в себя, пытаясь различить в самом конце длинного тоннеля памяти две крошечные фигурки — себя и своего супруга, вот они
364
Вирджиния Вулф. День и ночь
вдвоем, держась за руки, идут по залитому лунным светом берегу, в каких- то немыслимых одеждах, на фоне розовых кустов, покачивающихся в темноте.
— Была ночь, мы плыли в лодке, впереди нас ждал корабль, — начала она. — Солнце уже зашло, и над нашими головами всходила луна. Помню, на волнах — серебристая дорожка, а впереди три зеленых огонька по борту парохода на выходе из бухты. Твой отец на носу, такой мужественный. Вопрос жизни и смерти. И мы в открытом море — вечными странниками.
Кэтрин слушала завороженно старую как мир волшебную сказку. Да, все так и было: необъятная морская гладь, впереди три зеленых огонька парохода, на борт поднимаются двое в темных одеждах. И начинается долгий путь, по зеленым и багровым водам, мимо скал, вдоль песчаных лагун, минуя гавани, где густо от мачт кораблей на фоне соборных шпилей, все дальше и дальше по реке. И вот они здесь — казалось, река подхватила их и вынесла на берег в этом самом месте. Кэтрин с упоением смотрела на мать, дивясь ее стойкости.
— Кто знает, — воскликнула миссис Хилбери, предаваясь воспоминаниям, — к чему мы предназначены, кто и зачем нас послал и что мы отыщем... Бог весть... мы знаем лишь, что верим в любовь... в любовь, — заворковала она, и в нежном биении обрывочных фраз Кэтрин слышалось уханье волн, мерно падавших на берег, тянувшийся перед ее мысленным взором. Она готова была бесконечно долго вслушиваться в слово, оброненное матерью, — слово, в чужих устах ласкающее слух, слово, возрождающее мир из пепла. Но больше слово «любовь» мать не повторяла, теперь она умоляла дочь:
— И, пожалуйста, обещай мне больше никогда не давать ходу этим страшным, некрасивым мыслям, хорошо, доченька?
Стоило ей это сказать, как воображаемый кораблик, за которым напряженно следила все это время Кэтрин, вошел в гавань и бросил якорь. И все равно душа ее просила если не сочувствия, то совета или, по крайней мере, возможности высказаться, поделиться своими проблемами с лицом сторонним, посмотреть на них свежим взглядом.
— Но ты-то знала, — сказала она, обходя скользкий вопрос красоты, — что ты любишь, а у нас все не так. Понимаешь, — продолжала она, сдвинув брови и пытаясь выразить словами свое чувство, — вдруг все, раз, и кончилось — погасло — ушло — мираж — словно в тот самый момент, когда мы решаем, что это любовь, мы себя обманываем — придумываем то, чего нет. Поэтому мы никогда не женимся. Представь — вечно натыкаться на самообман, потом забываться, потом опять разочаровываться, вечно сомневать¬
Глава 33
365
ся, любишь ли его, думать о том, что он принимает тебя за кого-то другого, весь этот ужас, когда ты мечешься между двумя состояниями, сейчас ты счастлива, а в следующую минуту ты несчастна — нет, нам жениться нельзя. И в то же время, — продолжала она, — мы друг без друга жить не можем, ведь...
Она осеклась, не договорив, а миссис Хилбери не стала ее подгонять. Кэтрин молча подняла листок с цифрами.
— Мы должны верить в свою мечту, — не дождавшись ответа дочери, продолжала миссис Хилбери, с подозрением косясь на цифры, которые, на ее взгляд, имели касательство к хозяйственным счетам, — иначе, как ты говоришь...
Разочарование, судя по всему, не было для нее пустым словом — она чувствовала за спиной дыхание этой бездны.
— Кэтрин, поверь, это случается с каждым — со мной, с твоим отцом, — призналась она, тяжело вздохнув.
Обе враз замолчали, будто завороженные бездной, первой стряхнула наваждение миссис Хилбери, она спросила:
— А где же Ральф? Почему он меня не встречает?
Кэтрин мгновенно переменилась в лице.
— Потому что ему запретили сюда приходить, — ответила она с горечью.
Миссис Хилбери отмахнулась.
— У нас еще есть время пригласить его к обеду, — заметила она.
Кэтрин воззрилась на мать, словно та была чародейкой. Ее опять посетило такое чувство, будто она не взрослая женщина, привыкшая давать советы и направлять других, а кроха, которая ходит под стол и полностью зависима от великанши, чья голова упирается в небо и чья рука крепко сжимает ее кулачок.
— Без него мне плохо, — сказала она просто.
Миссис Хилбери понимающе кивнула и, не откладывая, принялась строить планы на будущее. Подхватив с полу цветы, она вдохнула их сладкий запах и пошла из комнаты, напевая песенку про дочку мельника2.
В тот день Ральф Дэнем изучал материалы одного весьма запутанного дела, состояние которого было таково, что, если исходить из интересов вдовы покойного господина Лика из Дублина и его пятерых детей, лишившихся отца в нежном возрасте, то по-хорошему стряпчий должен был бы рыть землю носом, пытаясь выкроить для вдовы и ее детей хоть малую толику денег. Ральф, однако, занимался этими вопросами спустя рукава, такой уж выдался день, что взывать к его милосердию было практически бесполезно:
Збб
Вирджиния Вулф. День и ночь
он более не являл собой образец деловитости. Перегородки, которые он с таким тщанием возвел между отсеками своей жизни, оказались сломаны, и вот результат: он сидит над текстом завещания покойного, а буквы на его глазах расплываются в знакомый интерьер гостиной на Чейн-уок.
Что он только не перепробовал в тот день, пытаясь хотя бы для приличия удержать свою мысль в положенных рамках, но все способы, которые раньше действовали, сегодня оказались совершенно бесполезными: он обнаружил за собой очень странную вещь — как он ни увертывался, мысль его неотвязно возвращалась к Кэтрин. Кэтрин была везде, она требовала его всего, целиком, и, отчаявшись освободиться от навязчивого образа, он мысленно вступил с ней в разговор. Кэтрин моментально заслонила собой шкаф с документами, стены и углы в комнате, где он сидел, вдруг «поехали», то раздвигаясь, то, наоборот, сужаясь, как бывает у человека со сна, когда он в первую минуту не понимает, где он. Мало-помалу в голове у него начал складываться ритм, пошло чередование ударов, — волна за волной, — слова отыскивались само собой, и вот уже, не отдавая себе отчета, он стал машинально записывать на обороте листа нечто, похожее на стихотворение с незаполненными пустотами слов в каждой строчке. Впрочем, далеко он не продвинулся — ни с того ни с сего вдруг отшвырнул ручку, точно это она во всем виновата, и порвал листок на мелкие кусочки. То был верный знак вторжения Кэтрин — стоило Ральфу представить, как она говорит, и поэзия оказалась бессильна передать ее речь. Кэтрин разрушала собой поэзию — она из нее выламывалась, между нею и стихами не было ничего общего; она любила повторять, что все ее друзья всю жизнь занимаются тем, что придумывают слова, его чувство — это мираж, и, чтобы окончательно добить его, она впала в мечтательное состояние, в котором ему точно не было места. Ральф вскочил, пытаясь достучаться до нее, — мол, вот он я, у себя в конторе на Линкольнз-инн-Филдз, за много миль от Челси. От мысли о том, что их разделяет огромное расстояние, он буквально обезумел, забегал кругами по комнате, потом сел в изнеможении, достал лист бумаги и стал писать письмо, поклявшись, что сегодня же вечером обязательно его отправит.
Сначала слова не шли, он подумал, что стихами было бы лучше, но раз нельзя, так нельзя. Вымарывая, зачеркивая, перечеркивая наспех рождавшиеся слова, он пытался передать ей мысль о том, что, несмотря на жуткую неприспособленность людей к общению, лучше него ничего нет, оно — единственная возможность каждому человеку проникнуть в другой мир, независимо от личных обстоятельств, в мир законотворчества, философии, а еще, как это ни странно, в тот удивительный мир, который ему приоткрылся в тот вечер, когда они вдвоем обменивались планами, вместе творя
Глава 33
367
нечто вроде идеала, что-то из области мечты, забрасывая ее далеко за горизонт сегодняшней действительности. Стоит только притушить золотистый ореол, убрать из жизни мечту (да и мечта ли это?), и все становится невыносимо скучным и бессмысленным. Он так воодушевился, таким проникся внутренним убеждением, пока писал, что посчитал возможным хотя бы одно предложение оставить целиком, не выправленным. В этой «философии» ему виделась возможная основа их взаимоотношений и, что важно, — она не отменяла других желаний. Правда, в ней было много туманного, задумался он. С таким трудом вымучить из себя эту малость, а слова все равно были какие-то деревянные, приходилось их вымарывать, зачеркивать, вписывать новые, впрочем, новые тоже получались плоскими, — в общем, бросил он это дело, не закончив, решив, что показывать эту писанину Кэтрин никак нельзя. Теперь ему до нее как до луны. Отчаявшись найти верные слова, он принялся от нечего делать зарисовывать пустые места на странице разными фигурками, головками, слегка напоминавшими ее профиль, кружочками в ореоле лучей — наподобие вселенной. И тут ему сообщают, что с ним хочет поговорить какая-то женщина. Он второпях пригладил волосы, чтобы хоть как-то соответствовать должности стряпчего, сгорая от стыда, спрятал письмо в карман — подальше от посторонних глаз, и только тут понял, что зря старается: перед ним стояла миссис Хилбери.
— Надеюсь, вы не лишаете кого-то в спешном порядке капитала, — заметила она, взглянув на документы, разложенные на столе, — и не решаете одним махом судьбу майората3 — дело в том, что я пришла просить вас об одной любезности. И Андерсон, как всегда, торопит, не любит, когда лошади простаивают. Между нами, Андерсон — настоящий тиран, но я ему все прощаю за то, что в день похорон именно он отвозил моего незабвенного батюшку в Вестминстерское аббатство. Так вот, мистер Дэнем, я осмелилась к вам прийти не за юридической помощью (хотя, если таковая мне понадобится, я знаю, к кому обратиться), а с просьбой помочь мне уладить кое-какие мелкие домашние дела, накопившиеся в мое отсутствие. Я, видите ли, гостила в Стратфорде-на-Эйвоне (как-нибудь расскажу), и мне написала моя золовка, добрая старая курица, которая вечно сует свой нос в жизнь чужих детей, поскольку своих не нажила. Мы все страшно боимся, что она вот-вот ослепнет на один глаз, ведь наши физические слабости быстро перерождаются в духовную немощь. По-моему, о чем-то таком писал Мэтью Арнолд в связи с лордом Байроном4. Впрочем, это к делу не относится.
Так, слово за слово, миссис Хилбери, любившая когда по случайности, когда намеренно украшать свою речь вставками и отступлениями, дала Ральфу ясно понять, что она полностью владеет ситуацией и приехала к нему, скажем так, с дипломатической миссией.
368
Вирджиния Вулф. День и ночь
— Я ведь не о лорде Байроне приехала поговорить, — продолжала она, усмехнувшись, — хотя, насколько знаю, и вы, и Кэтрин все еще читаете его стихи, в отличие от многих молодых людей вашего поколения.
Она замялась, потом выдохнула:
— Знаете, мистер Дэнем, я так счастлива, что Кэтрин под вашим влиянием начала читать стихи, вживаться в поэзию, дышать поэзией! Она еще не мыслит стихами, но это придет, обязательно придет!
Она крепко сжала руку Дэнема, и тот через силу выдавил из себя, что он не так оптимистично настроен, порой у него просто руки опускаются, но сказать почему, этого он ей не сказал.
— Но она вам дорога? — уточнила миссис Хилбери.
— Господи, вы еще спрашиваете! — простонал Дэнем с зубовным скрежетом, отметая все сомнения.
— Значит, все упирается в обряд венчания? Вы оба не хотите венчаться в Англиканской церкви? — невинно спросила миссис Хилбери.
— Да мне абсолютно все равно, где венчаться, — твердо ответил он.
— А если нужда заставит в Вестминстерском аббатстве? — не унималась миссис Хилбери.
— Да хоть в соборе Святого Павла5, — отрезал Ральф.
Все сомнения, одолевавшие его в отсутствие Кэтрин, испарились, и теперь он желал одного — быть с ней вместе, прямо сейчас, не теряя ни секунды, ибо с каждым мгновением разлуки, казалось ему, ее все глубже засасывает одиночество, в котором ему нет места. Обладать ею, во что бы то ни стало!
— Слава богу! — возликовала миссис Хилбери. Она благодарила Всевышнего за все сразу: и за любовь, звучавшую в голосе молодого человека, и за надежду, что в день венчания дочери над головами достойных прихожан, что соберутся неподалеку от того места, где упокоилась душа ее отца, рядом с другими английскими поэтами, грянут благородные звуки органа, разольется речитатив, зазвучит старинное торжественное слово венчального обряда. От этой мысли она чуть не расплакалась, но, вспомнив, что ее ждет экипаж, она со слезами на глазах пошла к выходу. За ней двинулся Дэнем.
Его ждала самая странная и неприятная поездка, какую он когда-либо совершал в своей жизни. Сам он желал только одного — прямым ходом, как можно быстрее оказаться на Чейн-уок, а миссис Хилбери, как оказалось, не только не торопилась удовлетворить его порыв, но и всячески тормозила его, так сказать, вставляла палки в колеса. Куда они только не заезжали по дороге! На почту, в кофейню, в магазин, где обслуживали такую избранную публику, что постороннему казалось, пожилые клиенты знают друг друга
Глава 33
369
по многу лет и раскланиваются, как старые друзья; в какой-то момент она даже потребовала, дернув за шнурок, чтобы Андерсон отвез их к собору Св. Павла, когда в отдалении над шпилями Ладгейт-хилла показался соборный купол. Но у кучера были свои соображения насчет целесообразности посещения послеобеденной службы, и он продолжал упрямо держать на запад. Подумав, миссис Хилбери согласилась с его решением и, видя разочарование Ральфа, принялась его утешать.
— Ничего страшного, — сказала она, — поедем к Святому Павлу в другой день, кстати, может быть, оно и лучше — вдруг он, родимый, отвезет нас к Вестминстерскому аббатству?
Ральф с трудом понимал, о чем она говорит. Если ее душа и тело, вероятно, парили где-то в вышине, сливаясь с облаками, окутавшими все матовой дымкой, то Ральфом владело одно: бешеное, нестерпимое желание, помноженное на бессилие от осознания того, что все откладывается.
Вдруг миссис Хилбери решительно дернула за шнурок и, высунувшись из окна экипажа, скомандовала что-то Андерсону. Тот резко затормозил посреди Уайтхолла перед огромным зданием, где помещались правительственные конторы. Не теряя ни секунды, миссис Хилбери направилась туда, а Ральф остался сидеть в экипаже, мучаясь догадками, зачем ей понадобился комитет по образованию. Он уже собрался выскочить и взять такси, как заметил подходившую к экипажу миссис Хилбери: она говорила через плечо с кем-то, кто шел за ней и до поры до времени оставался невидимым.
— Всем хватит места, — сказала она. — Здесь очень просторно. Тут четверо таких, как вы, Уильям, поместятся, — добавила она, садясь в экипаж, и тут только Ральф понял, кто к ним присоединился, — Уильям Родни!
Мужчины переглянулись. Если есть на свете образ вконец расстроенного, сгорающего от стыда и неловкости человека, то сейчас он воплотился в Родни, Ральф понял это без слов, едва взглянув на товарища по несчастью. Но миссис Хилбери все было нипочем, она либо была слепа, либо намеренно закрывала на все глаза. Она щебетала как ни в чем не бывало — с молодыми людьми, с кучером, сама с собой. Обо всем на свете: о Шекспире, о человечестве, о достоинствах духовной поэзии — она даже начала читать древнеанглийские стихи. И, надо сказать, это помогало, успокаивало — за аханьями да оханьями не заметили, как доехали до Чейн-уок.
— Ну вот мы и дома! — воскликнула она, выпорхнув из экипажа.
Стоя на крыльце, она оглянулась, кинув иронично-беззаботный взгляд
в сторону своих спутников, и у того и у другого снова сжалось сердце от страха за судьбу своего счастья, вверенного в руки такой несерьезной особы. Потоптавшись на пороге, Родни шепнул Дэнему:
370
Вирджиния Вулф. День и ночь
— Ты иди, а я...
Он явно хотел дать деру, но в последнюю секунду, увидев в открытую дверь знакомый, милый сердцу дом, он дрогнул и прошмыгнул вместе со всеми. Входная дверь захлопнулась. Миссис Хилбери повела гостей вверх по лестнице в гостиную, там уже горел камин, столики были накрыты к чаю. В гостиной не было ни души.
— Ах, — вздохнула хозяйка, — Кэтрин еще нет, она, поди, у себя. По-моему, мистер Дэнем, вы собирались что-то ей сказать. Найдете дорогу? — И она взмахнула ручкой, показывая куда-то на потолок.
Она вся как-то собралась, посерьезнела, ни дать ни взять настоящая хозяйка большого дома. И этот незабываемый жест, которым она отправила его наверх! Такое впечатление, будто единым взмахом дарила ему все, чем обладала сама. Он вышел.
Дом у Хилбери был в несколько этажей, со многими переходами, коридорами, так что, выйдя из гостиной, Ральф чуть не заблудился. Поднявшись на самый верх, он постучал в первую попавшуюся дверь.
— Можно войти? — спросил он.
Из глубины донеслось: «Да».
Первое, что он увидел, войдя в комнату, — это большое, залитое светом окно, пустой стол и длинное, в пол, зеркало. На его глазах из-за стола поднимается Кэтрин, — в руке у нее какие-то бумаги, она видит, кто к ней вошел, и страницы летят у нее из рук. Следует короткое объяснение, слов не разобрать, да им и не нужны слова. Они сидят, взявшись за руки так, что никаким силам в мире их не разъединить, и даже злобное око Времени — и то вынуждено согласиться с тем, что они — не разлей вода, единое целое, нерасторжимый союз.
— Не надо, пусть, — уговаривала Ральфа Кэтрин, не давая ему подобрать с полу упавшие бумаги. Но он все-таки собрал их, и, движимый внезапным чувством, вручил ей свой собственный незавершенный опус с туманной концовкой, — так они обменялись сочинениями; сидели и читали друг друга.
И вот Кэтрин на последней странице письма Ральфа, а Ральф напрягает математические извилины над заключительной формулой Кэтрин. Закончили они синхронно и какое-то время сидели молча.
— Так вот что ты тогда забыла на скамейке в Кью, — протянул Ральф. — Ты так спешила поскорее убрать бумаги, что я ничего не разобрал.
Она вспыхнула до корней волос, но лица прятать не стала — сидела не шелохнувшись, словно воин, которому отрезали путь к отступлению, или дикая птица, что опустилась рядом на ветку, и видно, как подрагивают сложенные крылья. Всегда больно быть застигнутым врасплох, зато награ¬
Глава 33
371
дой — свет и биение жизни. Теперь ей надо привыкать к мысли, что одиночество они делят пополам. В ней мешались разные чувства — растерянность, стыд, предвкушение радости. Она допускала, что, на взгляд постороннего, вся ситуация — сплошная нелепость, и вопросительно смотрела на Ральфа — не смеется ли он? Но тот ответил ей таким серьезным взглядом, что ей не оставалось ничего другого, как поверить в то, что она не только не изменила своей мечте, а, наоборот, безмерно, бесконечно обогатилась. Она боялась спугнуть открывшееся блаженство. Но это было не все: во взгляде Ральфа читалась немая просьба подтвердить что-то очень-очень важное для него. Он умолял ее сказать, что она думает о его писанине — есть ли в ней какой- то смысл, находит ли она в ней правду. И она опять углубилась в его опус.
— Мне нравится, как ты из точки делаешь свечку, — заметила она задумчиво.
Сгорая от стыда и отчаяния, он чуть не вырвал у нее из рук страницу, а потом понял, что она не шутит, — ее действительно заинтересовал идиотский, как ему казалось, знак его душевного смятения.
Раньше он думал, что этот символ — клякса в венчике — бессмыслица для всех, кроме него, что это только в глубине его души знак этот воплощает и саму Кэтрин, и все те душевные порывы, которые вызывал в нем ее образ с того памятного воскресного чаепития. В его глазах этот пламенный венчик вокруг точки знаменовал собой тот непостижимый ореол, который окутывал столько всего разного в его жизни, смягчал резкие контуры, делая так, что определенные улицы, книги, положения воспринимались им исключительно сквозь почти физически осязаемую оболочку. Так ей смешно? Она что, опять отложит его опус усталым жестом, заклеймив его как несуразицу и ложь? Снова повторит, что он любит вовсе не ее, а созданный им образ? Но нет, ничего смешного в этом знаке она не находит.
— Да, я тоже, — замечает она просто, думая о своем, — иногда вижу мир таким.
Он слышит ее слова, и душа его радуется. Где-то далеко, на заднем плане, занимается, разгораясь, заря, сообщая всей атмосфере мягкость и ровное тепло, населяя пространство сцены такими глубокими и неизведанными тенями, что хочется двигаться все дальше и дальше, выведывая неизвестное. И не важно, перекликались ли между собой замаячившие перед ними перспективы или нет, — главное, ими обоими владело общее чувство грядущего — необъятного, таинственного, манящего тысячами разнообразных возможностей, которые каждому из них предстояло открыть; а пока — пока они просто упивались перспективой будущего, и им было довольно самой общей картины. Этот процесс молчания вдвоем неожиданно прервал стук
372
Вирджиния Вулф. День и ночь
в дверь: вошла служанка и доложила, сохраняя таинственный вид, что барышню хочет видеть какая-то дама, пожелавшая остаться неизвестной.
Домашние обязанности вновь напомнили о себе, и, вздохнув, Кэтрин встала и вместе с Ральфом пошла вниз, не строя никаких догадок о том, кто эта дама, пожелавшая сохранить инкогнито. Правда, Ральфу в какой-то момент померещилась горбунья, одетая в черное, с кинжалом за пазухой, который она приготовилась вонзить в сердце Кэтрин, поэтому на всякий случай, из соображений безопасности, он вошел в столовую первым. И кого он увидел посреди комнаты, у стола? — Кассандру Отуэй собственной персоной.
— Кассандра! — заорал он во все горло, и та, испугавшись, что он наделает шума, приложила палец к губам.
— Понимаете, никто не должен знать, что я здесь, — прошептала она едва слышно. — Я опоздала на поезд. Целый день болталась по городу, очень устала. Кэтрин, что мне делать?
Та, не мешкая, подставила стул, а Ральф налил ей вина. Девушка была почти в обморочном состоянии.
— Уильям тут, ждет наверху, — сказал Ральф, как только ей полегчало. — Я сейчас его позову.
Он был так счастлив, что ему хотелось, чтобы и все вокруг тоже были счастливы. Но Кассандра не смела ослушаться дядюшку — она живо помнила его наказ и гневный тон. Затрепетав, она стала рваться из дома. Кэтрин с Ральфом понимали, что отпускать ее в таком состоянии нельзя, да и некуда ей идти. Даже Кэтрин не сразу нашлась, что предпринять в таком положении, — за последние две недели ее былая рассудительность как-то притупилась за ненадобностью, — и она только беспомощно повторяла: «Где же твой саквояж?», очевидно, смутно надеясь на то, что снять комнату можно только при наличии багажа. Услышав, что Кассандра потеряла чемодан, Кэтрин просто развела руками.
— Потерять чемодан! — только и повторяла она, смотря на Ральфа. Глаза их встретились, и такая бесконечная благодарность засветилась в ее взоре — за то, что он есть, за то, что они вместе, — что стало ясно: меньше всего она думает о пропавшем чемодане. Этот взгляд не остался не замеченным Кассандрой — она увидела, что их чувства взаимны, на глаза у нее навернулись слезы. Она смешалась, потом быстро справилась с волнением и снова подняла вопрос о съемной комнате, но вместо ответа Кэтрин — похоже, с молчаливого согласия Ральфа, с которым они переглянулись, — сняла с руки рубиновое кольцо и подала его кузине со словами:
— По-моему, это твой размер, ничего не надо менять.
Глава 33
373
И все равно Кассандра не смела поверить в то, что сбывается ее самое заветное желание, и только когда Ральф взял ее за руку и спросил без обиняков: «Ты что же, не рада?» — только тогда она расплакалась от счастья. Стоило ей увидеть своими глазами, что помолвка Кэтрин — свершившийся факт, как все ее подозрения, самобичевания, глухое раздражение против Кэтрин мигом улетучились и она вновь обрела душевное равновесие. Она смотрела на Кэтрин, как прежде, во все глаза, и снова та представлялась ей неземным созданием, в присутствии которого жизнь делается одухотворенней, выше, а ты и окружающий мир — светлее. Кассандра подумала, что у каждого своя судьба, и протянула кольцо Кэтрин.
— Только из рук Уильяма, — объяснила она. — Подержи его пока у себя, Кэтрин.
— Напрасно! — сказал Ральф. — Уверяю тебя, Уильям...
И, отмахнувшись от запротестовавшей Кассандры, пошел к выходу и чуть не столкнулся в дверях с миссис Хилбери: та стояла на пороге и смотрела на них с сияющей улыбкой (было непонятно, то ли служанка ее предупредила, то ли она сама догадалась, что пора вмешаться).
— Кассандра, дорогая! — воскликнула она. — Как я рада снова тебя видеть! Надо же, как все совпало, — заметила она полурассеянно, — мы сидим наверху с Уильямом, кипит чайник, пора пить чай. Я иду искать Кэтрин, и кого я вижу — тебя, моя милая!
Было видно, что все это ей страшно нравится, хотя, что именно ей нравится и почему, этого не взялся бы объяснить никто.
— Представляете, — Кассандра! — повторила она.
— Она опоздала на поезд, — вмешалась Кэтрин, чтобы замолвить словечко за Кассандру, та, казалось, лишилась дара речи.
— Жизнь, — начала издалека миссис Хилбери, поднимая глаза к портретам на стенах, точно призывая их в свидетели, — жизнь в том и состоит, что поезд ушел, а ты находишь...
Не договорив, она всплеснула руками — а чайник?!
На секунду Кэтрин представила, как великан-чайник раздувается до немыслимых размеров, грозя окутать клубами пара весь дом, воплощая собой недовольство домочадцев тем, как она, Кэтрин, спустя рукава относится к своим обязанностям по хозяйству. Она помчалась в гостиную, за ней двинулись остальные (миссис Хилбери под ручку с Кассандрой, чтоб не убежала). Еще немного, и сбылись бы худшие опасения Кэтрин, ибо Родни сидел в гостиной один и смотрел на кипящий чайник с отсутствующим видом. За суетой никто даже не сказал «Здравствуйте!», и Родни с Кассандрой оказались по разные стороны гостиной, причем и он, и она делали вид, что присе¬
374
Вирджиния Вулф. День и ночь
ли буквально на минутку. Миссис же Хилбери, казалось, ничего этого не замечала, а может быть, притворялась, что не замечает, а может, решила сменить тему, — в общем, говорила она исключительно о могиле Шекспира.
— Такой простор, везде вода, и дух высокий веет надо всем, — нараспев вспоминала она увиденное, и вот уже полилась ее странная рапсодия о рассветах и закатах, о великих поэтах земли нашей и о том высоком духе любви, что они несли с собой, и как все неизменно, и как один век переходит в другой, и смерти нет, и мы едины духом, — и так до полного самозабвения. Поэтому никто из присутствующих не ожидал, что от высокого настроя и широчайших обобщений мысль миссис Хилбери вдруг перепорхнет на куда более конкретные темы.
— Кэтрин и Ральф, — произнесла она, будто примериваясь, — Уильям и Кассандра.
— Я поставлен в совершенно ложное положение, — попытался вставить слово Родни, воспользовавшись просветом в ее медитациях. — Я здесь на птичьих правах. Вчера мистер Хилбери указал мне на дверь. Я не собирался сюда возвращаться. Я должен...
— И я в таком же положении, — вмешалась Кассандра. — Вчера вечером дядя Тревор наговорил мне такое...
— Это я поставил вас в скандальное положение, — воскликнул Родни, вскакивая с места в унисон с вскочившей Кассандрой. — Я не должен был встречаться с вами до того, как получил благословение вашего отца, тем более встречаться в этом доме, где мое поведение... — он взглянул на Кэтрин, запнулся и смолк, — где я повел себя самым недостойным и непростительным образом, — продолжал он, переборов себя. — Я все объяснил вашей матери. Ее великодушие не знает границ, она уверяет меня, что я не причинил вам зла, — это вы убедили ее в том, что мое поведение... притом что я эгоист и слабый человек... да, эгоист и слабый человек... — повторял он, как актер, оставшийся без суфлера.
Кэтрин слушала его с двойственным чувством: ей хотелось смеяться над спектаклем, который, сам того не ведая, устроил Уильям, перепутавший гостиную с трибуной, и одновременно она чуть не плакала — настолько тронула ее сердце его искренняя непосредственность. К удивлению собравшихся, она встала и протянула ему руку:
— Тебе не в чем себя упрекнуть — ты всегда...
Тут голос ее дрогнул, слезы подступили к горлу, и она расплакалась в три ручья. Растроганный Уильям облобызал ее руку. За всем этим никто не заметил, как дверь в гостиную приоткрылась и в нее просунул голову мистер Хилбери: представшая его глазам картина вызвала у него нескрываемое
Глава 33
375
отвращение. Он вернулся на лестницу, чтобы отдышаться, обрести самообладание и решить, что делать дальше, не роняя достоинства. Для него было ясно, что жена перепутала инструкции, и теперь они все оказались в ложном положении. Выждав минуту, он довольно долго брякал дверной ручкой, прежде чем открыть дверь и появиться во второй раз. Его встретил дружный хохот, вызванный, впрочем, не его появлением, а тем, что они все искали что-то под столом, так что в первую минуту его никто не заметил. Из-под стола вынырнула раскрасневшаяся Кэтрин.
— Да-а, — сказала она, — с меня хватит.
— Вот так всегда — закатится куда-нибудь, никогда не найдешь, — заметил Ральф, наклоняясь, чтобы отогнуть ковер.
— Не беспокойтесь — оставьте, потом найдем, — уговаривала миссис Хилбери, и тут она увидела мужа:
— Тревор, представляешь, потеряли обручальное кольцо Кассандры!
Мистер Хилбери машинально посмотрел себе под ноги. Удивительно, но
кольцо подкатилось точно к тому месту, где он стоял, — ошибки не было: у носка его ботинка горели рубины. Привычка — великая сила, и мистер Хилбери не мог отказать себе в ребяческом удовольствии оказаться в выигрыше, первым отыскать то, что ищут все, — он наклонился, поднял кольцо и с куртуазным поклоном преподнес его Кассандре. И ровно в ту секунду, когда он по привычке галантно склонился перед дамой, а потом по-светски выпрямился, он почувствовал, что все его раздражение как рукой сняло. Кассандра подставила щеку, он милостиво ее обнял. Церемонно кивнул Родни и Дэнему, которые, завидев его, встали и снова сели. А миссис Хилбери, кажется, только с тем и ждала появления мужа, чтобы задать ему вопрос, который, судя по ее нетерпению, занимал ее уже давно:
— Тревор, скажи мне, пожалуйста, когда была первая постановка «Гамлета»?6
Онемевший мистер Хилбери только и мог, что воззвать к энциклопедическим знаниям Уильяма Родни, и тот, польщенный тем, что его вновь приняли в клуб избранных цивилизованных особ, куда допускают лишь с одобрения чуть ли не самого Шекспира, дал точный, обоснованный ответ. Тем временем мистер Хилбери вновь обрел временно покинувший его дар красноречия, воспрянув в лучах литературы, которая пролилась бальзамом на раны, нанесенные его душе общим уродством жизни, и помогла облечь в благозвучные формы те обидные чувства, что кипели в нем накануне. Он был в ударе, слова лились сами собой, и он глаз не спускал с Кэтрин и Дэне- ма. Кэтрин клевала носом — все эти разговоры о Шекспире ее явно усыпляли или приводили в ступор. Она сидела во главе стола, откинувшись на сту¬
376
Вирджиния Вулф. День и ночь
ле, не проронив ни слова, глядя куда-то в сторону, воспринимая все чисто абстрактно — головы на фоне картин, головы на фоне желтых стен, головы на фоне бархатных малинового цвета штор. Он перевел взгляд на Дэнема: тот тоже сидел не шелохнувшись. Однако за внешними сдержанностью и спокойствием в нем угадывалась несгибаемая железная воля, и оттого возникало странное чувство несоответствия — речи мистера Хилбери не из той оперы. И он промолчал. Молодой человек вызывал у него уважение — он талантлив, он знает, чего хочет. Он подумал, глядя на его высокий лоб, что понимает, почему Кэтрин выбрала именно его, и тут, к его удивлению, его пронзило острое чувство ревности. Вышла бы замуж за Родни, и он бы так не страдал. Но она любит этого человека. А что их вообще связывает? Он почувствовал, как внутри у него все закипает, еще секунда, и он... Тут миссис Хилбери, видя, что разговор не клеится, многозначительно посмотрела на Кэтрин и заметила:
— Дорогая, если хочешь идти, иди. Тебе надо побыть одной. Может быть, вы с Ральфом...
— Мы с Ральфом помолвлены, — объявила Кэтрин. Она будто очнулась и твердо посмотрела отцу в глаза. Это был удар ниже пояса, такого он от нее не ожидал. Разве для того он ее лелеял? Чтобы отдать в руки первому встречному? Чтобы какой-то зверь отнял ее у него? И он ничего не мог поделать? И это награда за всю его любовь? И какую любовь?! Он через силу кивнул Дэнему.
— Я знал, что к этому идет, — процедил он сквозь зубы. — Надеюсь, вы окажетесь достойны ее.
Сказал — и вышел, не удостоив взглядом дочь, поселив в душах женской половины дома чувство благоговения, смешанного с улыбкой в адрес несдержанного, эгоистичного, нецивилизованного мужчины, который, если что не по нему, впадает в гнев и удаляется зализывать раны в свою стильно обставленную «берлогу», и там рычит и огрызается. Кэтрин посмотрела на захлопнувшуюся дверь и спрятала глаза, чувствуя, что вот-вот расплачется.
Глава 34
Над полированным столом ярко горели, отбрасывая блики, лампы, бокалы были полны отменного вина, и по всей атмосфере застолья чувствовалось, что цивилизованный уклад жизни восстановлен в своих правах и мистер Хилбери с удовольствием восседает во главе пиршества, которое все больше и больше радовало глаз своим достойным видом, вселяя надежду на благополучное будущее. И, судя по выражению лица Кэтрин, все скла¬
Глава 34
377
дывалось, — впрочем, радоваться рано. Наполнив бокал, он предложил Дэ- нему последовать его примеру.
Поднялись в гостиную; он заметил, что стоило Кассандре предложить сыграть для него что-нибудь, скажем, из Моцарта или из Бетховена, как Кэтрин с Дэнемом сразу ушли в тень. Кассандра села за фортепьяно, а те двое потихоньку ретировались. Он подождал, глядя стоически на захлопнувшуюся за ними дверь, потом надежда на их возвращение сменилась разочарованием, и, вздохнув, он сосредоточился на музыке.
Не сговариваясь, Кэтрин с Ральфом сошлись в своих желаниях, и буквально через минуту Кэтрин спустилась вниз в прихожую, где ее дожидался уже одетый Ральф. Стояла тихая лунная ночь — лучше не придумаешь для прогулки, хотя, пожалуй, их устроила бы любая погода, ведь им больше всего на свете хотелось двигаться, освободиться от надзора, вдохнуть свежего воздуха, помолчать.
«Наконец-то!» — выдохнула она, выйдя из дома на улицу. Она стала вспоминать, как еще совсем недавно ждала, беспокоилась, боялась, что он не придет, караулила, втайне надеясь, что он будет ждать ее под окнами, под фонарем. Они оба обернулись, окидывая взглядом светлый фасад с окнами в золотой оправе, на которые он молился. И пусть она смеется и щиплет его в шутку за локоть, он все равно не изменит своей вере, хотя они идут сейчас с ней под руку, и в ушах у него непостижимым образом поет ее голос, и у него нет времени, и у них разные вкусы, и думает он совсем о другом.
Ни он, ни она не смогли бы объяснить, как они очутились на одной из центральных улиц, освещенных фонарями, запруженных омнибусами, двигавшимися в обе стороны, где полно было ярких витрин; и уж совсем непонятно, что побудило их вскочить на подножку одного из этих полуночных странников и, поднявшись наверх, занять передние места. Они долго кружили по темным улочкам, где такая теснота, что, кажется, протяни руку и достанешь до ставен, потом вырулили на широкий бурлящий проспект, где сливаются, разбегаются, сходятся, потом расходятся в разные стороны огни. Они очнулись, лишь увидев над головами бледные шпили городских церквей.
— Ты озябла? — спросил он, когда они затормозили у Темпл-бара1.
— Немножко, — ответила она, только сейчас осознав, что окончен стремительный бег огней, которым они упивались, безостановочно колеся по улицам на своем могучем стальном «коне». И мысль, недавняя властительница жизни, что все это время победно летела на гребне волны, подобно наезднице на передке колесницы, взирающей сверху на карнавал, устроенный в ее честь, — даже она потихоньку остыла. Восторг угас, они стояли на
378
Вирджиния Вулф. День и ночь
тротуаре, им было хорошо вдвоем. Ральф подошел к фонарю, где было светлее, и разжег трубку.
При свете фонаря Кэтрин отчетливо увидела его лицо.
— Кстати, а как же домик в деревне? — спросила она. — Снимем и поедем?
— И все бросим? — продолжил он ее мысль.
— Воля твоя, — ответила она.
Она смотрела в небо над Чансери-лейн2 и думала о том, что жить можно где угодно; отныне эта возвышенная синева и негаснущий свет ее не покинут; это ли не реальность — образы, любовь, правда?
— Я вот о чем думаю, — перевел разговор Ральф. — Мне не дает покоя мысль о Мэри Дэчет. Мы ведь рядом с ее домом. Может, зайдем?
Кэтрин помедлила с ответом. Именно сегодня ей никого не хотелось видеть, именно сегодня она как никогда близка к разгадке великой тайны, именно сегодня ей показалось, что она нашла решение; на какую-то долю секунды в ней воцарилось полное равновесие, которое мы ищем всю жизнь, лепим, выстраиваем, спасаем от хаоса. Встреча с Мэри грозила разрушить хрупкую гармонию.
— Ты перед ней виноват? — спросила она будничным голосом, шагая рядом.
— У меня есть чем оправдаться, — ответил он с некоторым вызовом. — Но что толку, если все равно болит? Я буквально на минуту, — уверил он ее. — Я только скажу ей...
— Да, конечно, — согласилась она. Ей вдруг пришло в голову, что ведь и он тоже, наверное, какую-то секунду был в согласии с самим собой и знает, какое это бесценное и хрупкое состояние — внутреннее равновесие. — Жаль... жаль... — вздохнула она, чувствуя, как накатывает грусть, затуманивая взгляд, и глаз уже не различает предметы с былой ясностью.
Все плыло перед глазами, как бывает, когда плачут.
— Я ни о чем не жалею, — твердо сказал Ральф.
Она придвинулась к нему близко-близко, точно хотела все увидеть его глазами. Она подумала, что его душа для нее — потемки, но сам он как вулкан, в чьих недрах кипит огонь, источник жизни.
— Продолжай, — попросила она. — Ты говоришь, что ни о чем не жалеешь...
— Ни о чем, совершенно, — повторил он.
«Вот это огонь!» — подумала она про себя. Она представила горящий в ночи костер, скрытый от людских глаз, и коснулась руки своего спутника, словно желая убедиться, что там, внутри, невидимое глазу, рвется наружу вулканическое пламя.
Глава 34
379
— И почему так? — спросила она торопливо, будто спешила подбросить в костер еще больше дров для того, чтобы огонь разгорелся еще сильнее, еще выше взлетали бы в дыму языки красного пламени.
— Кэтрин, ты о чем думаешь? — спросил он подозрительно, отметав про себя мечтательный тон и слова, сказанные невпопад.
— О тебе — да, клянусь, о тебе. Я только о тебе и думаю, но почему-то ты представляешься мне в таких странных обличиях. С тобой я больше не чувствую себя одинокой. Хочешь, я расскажу, каким я тебя вижу? Хотя нет, лучше ты расскажи мне все с самого начала.
Благодарная слушательница, она прижалась к нему доверчиво, как ребенок, и он начал рассказывать — поначалу сбивчиво, а потом все более свободно, с чувством; иногда она вставляла на полном серьезе какую-нибудь шпильку.
— Но, согласись, это же глупо — стоять снаружи и смотреть на окна. А если бы Уильям тебя не заметил? Что, ты бы отправился спать?
Он тут же парировал ее колкость, подивившись тому, как это взрослая женщина может простоять на Кингз-вей, заглядевшись на поток машин, и совершенно забыть, где находится.
— Но ведь именно тогда я поняла, что люблю тебя! — воскликнула она.
— Расскажи, как все было, с самого начала, — попросил он.
— Ты же знаешь, я не умею рассказывать, — отбивалась она. — Я опять что-нибудь ляпну — про огонь, про костер. Нет уж, уволь.
Но он все-таки уговорил ее, и она, запинаясь, открыла ему свои мысли, — он не ожидал, что это будет так красиво, он был в восторге, слушая ее описание горящего в ночи костра, окутанного дымом, и все больше проникаясь чувством, что он переступил порог чужой души и вошел под слабо освещенные своды, где из мрака прорезаются вдруг какие-то громадные неясные фигуры, ослепляют тебя на мгновение, а потом снова пропадают в темноте. Поглощенные беседой, занятые мыслями, они не заметили, как дошли до улицы, на которой жила Мэри, и проскочили ее подъезд. В этот поздний час машин не было, прохожие попадались редко, и они прогуливались под руку, взад-вперед, не спеша, расцепляя руки лишь для того, чтобы «написать» в воздухе, на широком полотне синеющего неба, какой-то знак или слово.
Счастье, в котором они буквально купались, развило в них такую проницательность, что достаточно было одному из них поднять палец или сказать короткое слово, и этим уже все было сказано. Они упивались тишиной, ведя мысленный диалог, и, вдохновленные единым порывом, шаг за шагом, мысль за мыслью продвигались к маячившей вдали точке. Они чувствовали
380
Вирджиния Вулф. День и ночь
себя на гребне волны, победителями, и одновременно — пламенем свечи, которое только сильнее разгорается и делается ярче от питавшей их веры. Так они прогуливались взад-вперед по улочке напротив дома Мэри, и в какой-то момент, заметив, что за тонкой желтой шторой загорелся свет, они неизвестно почему остановились. Словно это у них внутри вспыхнул свет.
— Это ее окно, — сказал Ральф, — она дома.
И показал на окошко на противоположной стороне. Кэтрин всмотрелась.
— Неужели она одна и работает в такой поздний час? Интересно, над чем? — размышляла она вслух. — А вдруг мы ей помешаем? — спросила она горячо. — И что мы ей скажем? Она и без нас счастлива, — добавила Кэтрин. — У нее есть свое дело.
Голос ее дрогнул, и в ее глазах, наполнившихся слезами, растекся золотом свет.
— Ты не хочешь, чтобы я к ней поднялся? — спросил Ральф.
— Воля твоя — иди, — ответила она.
Он, не мешкая, пересек улицу и исчез в подъезде. Кэтрин не двинулась с места — она смотрела на окно в надежде, что заметит какое-то движение, однако все было тихо, занавеска висела неподвижно, свет горел не мигая. Точно кто-то на темной улице подавал ей знак, знак победы, неиссякаемого света, который ничто не способно загасить в этом мире. В ответ она послала позывные своего счастья, склонилась мысленно в поклоне. «Вот это жар!» — подумала она, представив ночной Лондон в виде сплошного вулкана, ревущего столба огня. Она перевела взгляд на окошко Мэри, и на душе у нее сразу стало спокойно. Она подождала, потом из подъезда кто-то вышел и медленно, нехотя, пошел через дорогу к тому месту, где она стояла.
— Я не зашел — не смог, — прошептал он.
Он стоял под дверью, и у него не хватило духу постучать. Выйди Мэри на лестничную площадку, она увидела бы, что он стоит, обливаясь слезами, и не может выдавить из себя ни слова.
Они постояли какое-то время, глядя на освещенный квадрат окна, который для них обоих знаменовал что-то большее, чем личный интерес, что-то высокое в душе женщины, которая засиделась, заработалась допоздна, обдумывая планы справедливого переустройства мира, до которого никому из них не дожить. Тут мысль Ральфа сделала кульбит и выхватила из рядов марширующих демонстрантов маленькую фигурку Салли Сил.
— Помнишь Салли Сил? — спросил он.
Кэтрин кивнула.
— А свою мать? А Мэри? — продолжал он расспрашивать. — А Родни с Кассандрой? А старушку Джоанну из Хайгейта — помнишь?
Глава 34
381
Он мог бы и дальше перечислять, но не знал, каким образом выразить то, что, на его взгляд, объединяло эту разношерстную компанию — ему казалось, увязать их очень трудно. Все они больше чем частные лица — в каждом столько всего перемешано; ему же хотелось, чтобы в мире были ясность и порядок.
— Ведь это так просто, — вспомнила Кэтрин выражение Салли Сил, давая тем самым понять Ральфу, что она следит за его мыслью. Она чувствовала, что он пытается с великим трудом, с нуля, собрать воедино разрозненные, ничем не сплавленные обрывки веры, и это тем труднее, что у него нет общего языка, какой был у людей верующих в прошлом. Вдвоем они пытались нащупать твердую почву в тех пределах, где бродят, создавая видимость полноты и удовлетворения, половинчатые, незаконченные, несосто- явшиеся, невоплощенные тени. Столько всего предстояло сотворить в настоящем, что будущее рисовалось им в радужных красках. Они напишут книги, а раз так, им понадобятся комнаты, а если комнаты, то на окнах должны быть занавески, а за окнами наверняка простирается земля, а у земли есть горизонт, там растут деревья, а за лесом горы — вот и готов дом, который они набросали вчерне, идя по Стрэнду, используя в качестве эскизного листа силуэты конторских зданий, а потом дорисовывали, сидя в омнибусе, который мчал их в Челси; и все равно воображение подсказывало им обоим: держится дом золотистым кругом света, отбрасываемого огромной зажженной лампой.
Час был поздний, поэтому в их распоряжении был весь верхний этаж омнибуса, и на улицах было пусто, если не считать случайной парочки, которая даже ночью старалась говорить шепотом, чтобы никто не слышал. Ни одной поющей души за фортепьяно, ни единого звука. Кое-где в спальнях горели огни, но проехал последний омнибус, и они погасли один за другим.
Сойдя, пара направилась к реке. По тому, как напряглась его рука, она поняла, что они в заколдованном месте. По его голосу чувствовалось, что он с трудом сдерживает волнение, в глазах читалось обожание, — если она сейчас заговорит с ним, к кому будут обращены его слова? Какую женщину он перед собой видит? А она? — где она ступает и кто ее спутник? Все мимолетно, обрывочно — минутное видение, потом расстилающаяся водная гладь, и только ветер веет в вышине; затем минутное пробуждение от хаоса, чувство уверенности, твердая почва под ногами, солнце во всю ширь. Из самого сердца тьмы у него вырвались слова благодарности, и она откликнулась из своего дальнего потаенного далека. Стояла июньская ночь, повсюду: в саду, в кустах, под окнами — разливались, щелкали в истоме соловьи. Замедлив шаг, молодые люди глянули вниз, под ноги, на реку, катившую темные, вспу¬
382
Вирджиния Вулф. День и ночь
ченные воды. Потом повернули назад и вышли к дому: там их, видно, заждались, а может, Родни засиделся, беседуя с Кассандрой, — как бы то ни было, в окнах приветливо теплился свет. Кэтрин толкнула входную дверь и задержалась на пороге. Все было тихо — дом спал в мягких складках тени и золотистого света. Еще мгновение они постояли, а потом разняли руки.
— Доброй ночи, — выдохнул он.
— Доброй, — отозвалась она.
ДОПОЛНЕНИЯ
И ПЛЫВЕТ КОРАБЛЬ В ТИХУЮ ГАВАНЬ
Сегодня самая обсуждаемая в литературе тема — это роман. Никакой другой жанр не вызывает столько споров у широкой публики. Что ждет роман? По заявлениям одних авторитетных критиков, ничего хорошего; по мнению других, не менее авторитетных, у романа еще все впереди. Можно сказать, что книжные обозреватели уже разделились на два лагеря. Дай им в руки по экземпляру одной и той же книги и будь уверен: со стороны одних последует громкая хвала, а со стороны других — не менее громкая, безапелляционная и столь же необоснованная хула. Кому-то чтение книжных обзоров может даже внушить мысль о том, что никогда прежде в мировой истории противники не метали громы и молнии, выказывая столько невежества, упрямства и серости. Участники этих баталий сходятся, пожалуй, только в одном: нынешний век — эпоха экспериментирования. Если роману суждено умереть, то ради создания какой-то новой формы художественного выражения; а если он выживет, то лишь на условиях признания существования нового мира.
И тут мы замечаем, как в гавань с ее примелькавшейся картиной — на верфи стоят, готовые к спуску, суда, в порту бросают якорь старые «морские волки», вдаль устремляется флотилия новичков, — в эту гавань заходит неопознанное судно «День и ночь»: заходит уверенно, спокойно, на всех парусах. И знаете, чем настораживает его появление? — атмосферой отстраненности, совершенства, исполненного кротости, отсутствием каких-либо видимых признаков того, что позади опасное плавание, — другими словами, отсутствием боевых шрамов. Вошла яхта и встала на рейде — любуйтесь, мол, восхищайтесь образцом цивилизованности.
Трудно удержаться от сравнения «Дня и ночи» с романами мисс Остен. В самом деле, моментами, читая, так и хочется воскликнуть: «Вот она, современная Остен!» Написано невероятно утонченно, достойно, с блеском, а главное — с полным знанием дела. В романе нет ни одной главы, которая застав¬
386
Дополнения
ляла бы тебя забыть о самой писательнице, о ее личности, о ее точке зрения, о том, что это она направляет тебя твердой рукой вперед. Мы, читатели, чувствуем, что ей никто ничего не навязывал: она сама очертила границы своего мира, сама внимательнейшим образом подобрала себе главных героев, обрисовала круг их бытия, определила им свободу действий, а дальше принялась с редким чувством меры фиксировать увиденное. В итоге роман получился очень растянутым, но, как мы полагаем, иначе и быть не могло. Размеренный ход — неотъемлемая характеристика авторского почерка, и потом, читатель, при всем своем желании, не смог бы проглотить такой объем за один присест. Здесь, как и в случае с романами Джейн Остен, срабатывает авторское обаяние: мы не прочь под него подпасть; ведь мы прекрасно понимаем, что риска никакого нет, и поэтому соглашаемся довериться автору, будучи полностью уверенными в том, что нам нечего пугаться или остерегаться, — ничего страшного или неприличного автор нам не покажет. Ее герои, если можно так выразиться, на особом положении, и мы вполне можем довериться ее тонкому интеллекту, зная, что она сумеет уберечь их от опасности, отведет от них беду (если таковая нагрянет) и вообще сделает так, что в последнюю минуту все у них прояснится. В том и состоит особая мера писательского мастерства миссис Вулф, что ее «хэппи энд» невозможно истолковать как победу чувства над мыслью. Однако, если сила воображения мисс Остен не отпускает тебя даже тогда, когда роман прочитан до конца и отложен в сторону, то у миссис Вулф сила воображения явно сдает к концу действия. Ведь нас что увлекает? В романах мисс Остен это в первую очередь ее чувство жизни и только во вторую — ее любовь к литературе, тогда как у миссис Вулф два эти чувства поочередно сменяют друг друга, и в результате каждое из них теряет остроту. За чтением мы не замечаем, какое из этих чувств преобладает, но впоследствии, особенно вспоминая второстепенных персонажей, мы начинаем сомневаться. Салли Сил из суфражистского общества, мистер Клактон, любитель французских романов, «старушка» Джоанна в перелицованном платье, миссис Дэнем среди чайной посуды — ясно, что эти герои не делают погоды в романе; однако вопрос в другом: насколько они жизненны? У нас появляется странное чувство, что едва автор перестает о них писать, как они моментально теряют дар речи, замирают и оживают лишь тогда, когда писательница добавляет еще пару мазков к их портрету или упоминает о них ниже. Это не было бы так заметно, будь персонажи эти эпизодическими или намеченными только эскизно, но дело в том, что они находятся внутри очерченного автором и освещаемого лампой круга; поэтому получается, что свет-то падает на эти персонажи, но изнутри их не высвечивает.
Кэтрин Мэнсфилд. И ПЛЫВЕТ КОРАБЛЬ В ТИХУЮ ГАВАНЬ
387
«День и ночь» — это рассказ о попытке Кэтрин Хилбери примирить мир действительности с тем, что, за неимением более точного определения, можно назвать миром грез. Героиня принадлежит к одному из самых достойных семейств в Англии. Отец ее матери был «прекраснейшим цветком, гордостью фамилии»1 — великим поэтом. Отец Кэтрин — выдающийся литератор, а сама она, как единственный ребенок в семье, «занимала среди двоюродных и троюродных родственников особое, привилегированное положение»2. Кэтрин — девушка серьезная, красавица, не по годам практичная и здравая; она ведет хозяйство в родительском доме в Челси, но этими домашними обязанностями ее занятия не исчерпываются. У нее своя жизнь, она ведет ее уединенно, вне гостиной дома на Чейн-уок, и это скрытое от чужих глаз существование имеет двойную подкладку: мир грез, «в которых (она. — Н.Р.) видела себя то укротительницей мустангов в американских прериях, то рулевым океанского судна, огибающего опасный риф или скалу»3, и изучение математики... Последнее — безотчетный и глубокий протест против семейной традиции, против оттачивания фразы и, как неожиданно замечает миссис Вулф, против «самой распрекрасной прозы, которая все равно оставалась путаной, скомканной и туманной»4.
Однако Кэтрин зачем-то понадобилось заключить помолвку с Уильямом Родни — ученым, в чьих познаниях о Шекспире, латыни и древнегреческом языке не приходится сомневаться, — чтобы понять, что своим поступком она каким-то загадочным образом предает мир своей мечты, на крыльях которой она уносится вместе с любовником к лукоморью и тенистым дубравам. Почему жизненный выбор всегда делается в пользу меньшей половины — мира, как он есть, ровного, блестящего, надежного? Кэтрин не испытывает желания писать стихи, и тем не менее именно благодаря своей поэтической жилке она разглядела в Ральфе Дэнеме того мужчину, который оказался способен пробудить в ней страсть, что подобна искре, проскакивающей меж двух миров и объединяющей их в могучее пламя...
Тут возникает вопрос: зачем миссис Вулф понадобилось так долго держать читателя в неведении относительно загадочного мира грез, в котором якобы обитают Кэтрин и Ральф? Нам говорят, что мир этот существует, и мы готовы поверить; и все же, чем кормить читателя намеками, что, подобно тончайшей вуали, скрывают правду, не лучше ли было бы поглубже, поосновательней познакомить нас с обоими героями?..
Что же касается реального мира, где живут мистер и миссис Хилбери, Уильям Родни, Кассандра Отуэй, — то тут мы сполна можем оценить рафинированность и великодушие автора. Ничего более далекого и наглухо закрытого от нас, современников, невозможно себе представить. Что может быть более чужим, чем особняк на Чейн-уок, где каждый вечер в столовой
388
Дополнения
в три большущих окна за тяжелыми бархатными шторами зажигаются огни, в гостиной наверху юная особа садится за фортепьяно играть Моцарта, и миссис Хилбери молится о том, чтобы было побольше молодых людей, похожих на Гамлета, а Кэтрин с Родни выглядывают из окна и ахают от изумления — напротив дома, под фонарем замер в ожидании Дэнем...
Мы-то думали, что этого мира больше нет, что перевелись в огромном океане литературы корабли, не ведающие о происходящем. Ан нет! Вот он, перед нами, — зовется «Днем и ночью»: новехонький, блестящий, тщательно отделанный роман в лучших традициях английской прозы. Рядом с ним мы, восхищенные читатели, жмемся в смущении от своего потертого вида: вот уж нежданная встреча, никак не гадали, что в мире еще водятся такие экземпляры!
Вирджиния Вулф
ЗАРИСОВКА ПРОШЛОГО
Два дня назад — точнее, в воскресенье 16 апреля 1939 года — Несса1 объявила мне, что если я не сяду в ближайшее время писать мемуары, то будет поздно. Стукнет мне восемьдесят пять, и я все забуду, как леди Стречи2, — все мы помним, какое ее постигло несчастье. И я подумала, может быть, действительно, посвятить утро-другое воспоминаниям — все равно мне нужна отдушина, раз я устала писать о Роджере3. Правда, здесь есть несколько трудностей. Во-первых, объем воспоминаний: он у меня огромный; во-вторых, способы написания мемуаров: есть разные подходы. Будучи большой охотницей до мемуарной литературы, я хорошо представляю себе спектр возможностей. Но, если я примусь их описывать, взвешивать их достоинства и недостатки, время уйдет, а уделить воспоминаниям больше двух, максимум трех дней я не могу. Поэтому начинаю без предисловий, в полной уверенности, что дорога сама отыщется (а не найдется, так и ладно), — с самого первого воспоминания.
Вот оно: на черном фоне красные и сиреневые цветы — мамино платье, мы едем то ли на поезде, то ли в омнибусе, и мама держит меня на руках. Цветы на платье очень крупные, я вижу их близко-близко — я и сейчас, мне кажется, вижу их очень отчетливо: сиреневые, красные, синие на черном фоне — похожи на анемоны. Мне хочется думать, что мы едем в Сент-Айвз4, а может быть, наоборот, — возвращаемся в Лондон, судя по освещению, дело к вечеру. Но для художественного эффекта все-таки лучше предположить, что мы на пути в Сент-Айвз, поскольку тогда это впечатление увязывается с другим наипервейшим воспоминанием — самым важным из всех. Если представить, что жизнь, подобно чаше, покоится на каком-то основании и что чаша эта все наполняется и наполняется... то в основе моей жизни, бесспорно, лежит именно это воспоминание: детская в доме в Сент-Айвз, кроватка за желтой шторой — ты лежишь, то ли спишь, то ли бодрствуешь — и слышишь, как волны набатом — раз-два, раз-два, а потом брызги дробью
390
Дополнения
вдоль берега, и потом снова удар — раз-два, раз-два. Слышно, как ветер надувает желтую штору, и та колышется, таща за собой по полу небольшое грузило в виде желудя. Невообразимый, чистейший восторг: лежать, слушать волну, видеть свет, знать про себя, что это почти невероятно — быть здесь.
Я могу очень долго описывать это чувство, стараясь передать его со всей выразительностью, — оно и сейчас живет во мне, но я знаю, что мне все равно не удастся (разве что если только очень повезет). Думаю, что повезти мне может только в одном случае — если я начну с описания самой Вирджинии. <...>
Здесь необходимо сделать отступление и прояснить кое-что в моей собственной психологии, возможно, и в психологии других людей. Я часто сталкивалась с этой проблемой, работая над тем или другим из моих так называемых романов: как описать то, что я краткости ради обозначаю про себя «небытием»? Каждый день содержит гораздо больше небытия, чем бытия. Например, вчерашний день, вторник, 18 апреля, оказался хорошим днем в смысле бытия — выше среднего. Погода стояла ясная, воспоминания шли легко; напряжение в затылке, которое я ощущаю, когда пишу о Роджере, спало; я прогулялась до Маунт-мизери5, потом пошла берегом, был, правда, отлив, но природа — а я всегда всматриваюсь в детали — играла красками пополам с тенью, как я люблю, — помню, на ярко-синем ивы, иссиня-зеле- ные, темно-сиреневые, с нежной бирюзой. Еще я с удовольствием читала Чосера;6 начала другую интересную книгу — воспоминания мадам де ла Фай- ет7. Но эти самодостаточные мгновения бытия тонули в массе небытия. Я уже не помню, о чем мы говорили с Леонардом за ланчем, за чаем. Пусть это был хороший день, но все, что в нем было хорошего, тонуло в какой-то серой вате. И так всегда. День по большей части проживаешь безотчетно. Ходишь, ешь, смотришь, занимаешься чем придется, — вот сломался пылесос, готовишь обед, переплетаешь книги. А бывают плохие дни, когда доля небытия еще больше. На прошлой неделе у меня была температура — вот тебе и почти целый день небытия. Настоящий романист каким-то образом умеет передать и то, и другое — и бытие, и небытие. Джейн Остен, Троллоп, пожалуй, Теккерей и Диккенс8, Толстой9 — по-моему, у них у всех это получалось. Мне же этот симбиоз никогда не давался, хотя я пыталась — в «Дне и ночи», в «Годах»10. Впрочем, не будем о литературе.
Получается, что в детстве точно так же, как и сейчас, мои дни были доверху набиты этой ватой — небытием. Время тянулось в Сент-Айвз неделя за неделей, и ничего не происходило. Потом вдруг, без всякой, кажется, причины, случался резкий обрыв, происходило нечто такое, о чем потом помнила всю жизнь. Приведу несколько примеров. Первый: драка с Тоби11 на
Вирджиния Вулф. Зарисовка прошлого
391
лужайке. Мы колошматим друг друга изо всей силы. Я заношу кулак, чтобы его ударить, и тут меня обжигает мысль: зачем надо кого-то бить? Я моментально опускаю кулак и стою как вкопанная, а он продолжает меня дубасить. Я до сих пор помню свое чувство. Откуда-то навалилась жуткая тоска, я вдруг поняла какую-то страшную правду и ощутила свою полную беспомощность. Помню, как я, совершенно подавленная, ретировалась. А второй случай тоже произошел в саду в Сент-Айвз. Помню, я смотрела на клумбу перед домом; помню, как я сказала: «Вот целое». Передо мной было растение в обрамлении листьев; и я помню, как мне вдруг стало совершенно ясно, что цветок — это часть земли, он внутри кольца, цветок — это реальность, частью земля, частью цветок. Помню, что эту мысль я как бы отложила на потом, зная, что она мне позднее пригодится. Третий случай тоже был в Сент-Айвз. Какая-то семья по фамилии Волпи снимала там дом, а потом уехала. Однажды вечером мы ужинали, и я услышала, как кто-то, отец или мать, сказал, что мистер Волпи покончил с собой. А дальше я помню, как я иду по темному саду и прохожу по тропинке мимо яблони. И мне чудится, что яблоня как-то связана с ужасным концом мистера Волпи. Я застываю на месте. Стою, смотрю в ужасе на серовато-зеленую кору яблони в глубоких бороздах — ночь лунная — и не могу пошевелиться. Кажется, я проваливаюсь куда-то глубоко, в яму, в такую бездну отчаяния, откуда мне уже никогда больше не выбраться. Я в ступоре.
Вот такие случаи — три потрясающих мгновения. Я часто пробегаю их в памяти, точнее, они сами неожиданно всплывают в голове. Но интересно, что, когда я сейчас их здесь первый раз записала, я вдруг поняла то, о чем никогда прежде не задумывалась. В двух случаях из трех все закончилось состоянием полного отчаяния; а в третьем, наоборот, я испытала удовлетворение. Сказав про цветок «вот целое», я почувствовала себя первооткрывателем. Я поняла, что в душу мне запало нечто такое, к чему я буду потом возвращаться, что буду обдумывать, исследовать. Видимо, тот случай поразил меня своей противоположностью моему опыту — разницей между отчаянием и удовлетворением. Различие, по-моему, проистекало из того факта, что я не могла справиться с болью при мысли о том, что люди обижают друг друга, что человек, которого я знала, покончил с собой. От ужаса я чувствовала себя беспомощной. Но в случае с цветком я нашла причину, и это позволило мне справиться с моим состоянием. Чувства беспомощности не было. Я понимала — пусть безотчетно, — что со временем я смогу объяснить произошедшее. Не знаю, была ли я старше в тот момент, когда увидела цветок, чем в тех двух других случаях. Знаю только, что подобные исключительные мгновения всегда сопровождались состоянием ужаса и надломом, они казались неотвратимыми, перед ними ты был бессилен. Это наводит на мысль,
392
Дополнения
что с возрастом, становясь разумнее, ты начинаешь легче подыскивать объяснения, а объяснить — значит во многом притупить удар, который при других обстоятельствах ты ощущаешь, как удар молотком по голове. Мне кажется, я права в своем наблюдении, ведь я же не утратила способности воспринимать внезапные потрясения, только теперь я неизменно им рада; в первую минуту я, может быть, изумлюсь свалившемуся на меня потрясению, но потом обязательно найду в случившемся что-то очень ценное. И поэтому я прихожу к мысли, что писателем меня делает именно способность принимать удар. Попробую предположить, что для меня удар автоматически связан с желанием найти ему объяснение. Положим, я чувствую, что произошло нечто из ряда вон выходящее; но если ребенком я в таких случаях думала, что это какой-то невидимый враг, спрятавшийся в ватном коконе повседневной жизни, нанес мне предательский удар, то теперь я отношусь к случившемуся иначе — для меня это некое откровение, знак некой реальности, скрытой за покровом мнимого, и я знаю, что если я выражу ее в слове, то я дам ей жизнь, выведу ее на свет. Выразить же в слове — это единственный способ создать целое, а создать целое означает притупить боль; возможно, благодаря тому, что, работая со словом, я одновременно заглушаю боль, мне доставляет огромную радость увязывать разрозненные части в единое целое. Из этого я вывожу, если можно так выразиться, свою философию, если хотите, это моя навязчивая идея: за ватным существованием скрыта некая тайнопись12, и мы — все люди — как-то связаны с этим предначертанием, весь мир — творение искусства, мы — его части. «Гамлет» или квартет Бетховена есть правда о той безбрежной массе, что мы называем миром. Но ни Шекспира, ни Бетховена нет, и Бога — подчеркну это со всей определенностью — тоже нет; мы — слова, мы — музыка, мы — вещи в себе. Я вижу это при каждом новом потрясении. <...>
Прогулки в Кенсингтон-Гарденс13 навевали скуку. Вообще наша жизнь в Лондоне по большей части состояла из небытия. Дважды в день мы шли в Кенсингтонский парк на прогулку — и так изо дня в день. Не знаю, как у других, но у меня те годы отложились в памяти одной сплошной пеленой небытия. Помню уличный градусник, мимо которого мы шли гулять, — бывало, столбик ртути показывал чуть ниже нуля, но такое случалось не часто, не считая потрясающей зимы 1894/95 года, — тогда мы каждый день катались на коньках; помню, как я выронила часы и их поднял какой-то забулдыга, он попросил вознаграждение за находку, и какая-то сердобольная женщина протянула ему три пенса, а он ответил, что он медяки не собирает — ему подавай серебро, в ответ женщина спрятала монеты и исчезла... И так изо дня в день — мимо градусника, мимо привратника в зеленой ливрее и в шляпе с золотым позументом, по Флауэр-уок, вокруг пруда. Пускали кораблики, как
Вирджиния Вулф. Зарисовка прошлого
393
без этого? Помню, великим событием стал для меня день, когда мой корнуоллский парусник благополучно доплыл до середины пруда и внезапно на моих глазах пошел камнем вниз; мой отец бросился ко мне со словами: «Ты видела, да?!» Мы оба были свидетелями и, помню, сильно изумились. Но это еще не конец истории. Спустя несколько месяцев после того случая гуляю я возле пруда и вижу: рабочий с плота сетью собирает водоросли и вдруг, к моему несказанному удивлению, вытаскивает со дна мой люггер! Я, конечно, тут же заявила свои права на находку, он мне ее отдал, и я помчалась домой рассказывать всем об этом необыкновенном происшествии. Помню, мама тогда сшила новые паруса, отец поправил такелаж; помню, после обеда он сидит, приделывает к реям новые паруса и приговаривает с характерным легким смешком: «Надо же, забава какая!» <...>
Что еще было интересного? Все те же мгновения бытия. На всю жизнь запомнились два таких момента. Иду по тропинке, вижу перед собой лужу и вдруг отчетливо понимаю, что все вокруг ненастоящее, замираю, точно на меня нашел столбняк, — судорожно пытаюсь за что-то зацепиться... весь мир кажется ненастоящим. Другой случай с мальчиком-идиотом: он выскочил откуда-то с протянутой рукой, косоглазый, с красными веками, и я, онемев от ужаса, не сказав ни слова, высыпала ему в ладонь горсть ирисок. Этим дело не закончилось: вечером в ванне на меня опять нашел ступор. Откуда-то навалилась тоска; снова это чувство, будто внутри все оборвалось; сижу, как под дамокловым мечом, одна против лавины смысла, которая нарастает стремительно и обрушивается на меня, а я сижу, безоружная, потерянная, сжавшись в комочек на своем конце ванны. И ничего ведь не объяснишь — даже Нессе, которая намыливалась, сидя напротив, я тогда ничего не сказала.
В общем, много чего вспоминается о той поре, когда мы гуляли ребятишками в Кенсингтон-Гарденс, — если начать все пересказывать, так терпения не хватит; но восстановить точку начала обзора, очертить пропорции внешнего мира мне трудно, разве что пунктиром. Мне кажется, у ребенка в детстве особый ракурс вйдения: малыш очень отчетливо видит воздушный шар или раковину — я до сих пор вижу голубые, сиреневые шары, прожилки на морской раковине, но не более того — все, находящееся за пределами этих предметов, тонет в безбрежной пустоте. Например, каким огромным было пространство под столом в детской! Как сейчас, вижу громадную черную пустоту и где-то далеко впереди свисающие складками концы скатерти, я пробираюсь в темноте и вдруг нос к носу сталкиваюсь с Нессой. Она спрашивает: «У черных кошек бывают хвосты?» — а я в ответ «НЕТ!», страшно гордая тем, что мне задали вопрос; и мы расходимся по разным дорожкам в этой темной пустыне. Детская ночью тоже казалась огромной. В зимнее вре¬
394
Дополнения
мя я любила пораньше забраться под одеяло и смотреть на огонь в камине. Меня пугало сильное пламя — я боялась, что огонь может не потухнуть к тому времени, когда мы ляжем спать. Меня пугали отсветы на стенах, а Адриан14, наоборот, обожал их, и, чтобы никому не было обидно, Несса набрасывала на каминную решетку полотенце, но пламя часто пробивалось сквозь материю, а мне не терпелось подсмотреть краешком глаза, и я лежала, смотрела на дрожащую на стене тень и не могла заснуть, потом начинала будить Нессу: «Ты не спишь?» — хотя та уже давно спала, но мне было важно услышать чей-то голос. Эти страхи остались в раннем детстве; позднее, с отъездом Тоби в школу, у нас в детской началась другая жизнь: Несса брала с собой в постель мартышку Жако, которую ей оставил Тоби, и, как только все ложились спать, мы начинали рассказывать истории. Зачин был один и тот же: «“Клемон, дорогое дитя”, сказала миссис Дилк», и дальше начинались такие россказни про семейство Дилков15, про их гувернантку мисс Розальбу! — как они устроили подкоп и обнаружили мешки с золотом, и какие они закатывали пиры, и как ели яичницу из многих яиц, «которая так и шипела на сковородке», а все потому, что мы находились под большим впечатлением от того, насколько богаче нашего живут Дилки, так сказать, в реальной жизни. Мы ведь замечали, что у миссис Дилк чуть не каждый день новый наряд, а наша мама редко покупала себе новое платье.
Множество ярких красок; множество резких звуков; какие-то люди, карикатуры; комические фигуры; несколько пронзительных мгновений бытия, окольцовывавших сцену, выделявшуюся на их фоне, и вокруг необъятное пространство — вот в общих чертах зрительное описание детства. Моего детства — это я таким вижу собственное детство; такой я вижу себя в детстве, примерно с 1882 по 1895 год. Его можно сравнить с просторным залом; в окна льется неведомый свет; слышится шепот, перемежающийся периодами полной тишины. Только и в эту картину нужно ввести ощущение движения и перемены: ведь она не стояла на месте. Как передать это чувство, будто вот оно — уже совсем близко, а потом все рассеивается; мимо тебя, маленькой, проносится что-то большое, потом уменьшается, то быстрее, то медленнее? Как выразить этот безостановочный рост ручек и ножек, заставлявший твое крошечное существо, помимо твоей воли, двигаться все время вперед, расти во все стороны, подобно тому как растение прет из земли, все время вверх, выстреливая стеблем, листьями, наливаясь почками? Вот что неописуемо! В сравнении с этим безостановочным ростом любые образы статичны — ты еще слово произнести не успел, а тут уже все поменялось. Какая же могучая это сила — жизнь, если младенец, с трудом различавший голубые и сиреневые пятна на черном фоне, спустя какие-то тринадцать лет превратился
Вирджиния Вулф. Зарисовка прошлого
395
в подростка, который переживал смерть матери так, как переживала ее я 5 мая 1895 года — кстати, почти день в день, сорок четыре года назад.
Это доказывает лишь, что я не просто опустила в своих воспоминаниях множество разных подробностей, но и не сказала о главном — о влечениях, привязанностях, симпатиях, страстях, которые я испытывала к другим людям с самого первого мгновения жизни (чувства эти так быстро менялись, что объять их одним словом невозможно). Будь это правдой — мое предположение о том, что события, завершившиеся в детстве, легко поддаются описанию в силу своей цельности, — то, если продолжать эту логику, можно решить, что никакого труда описание моих чувств к матери, которой не стало, когда мне было тринадцать, не составит. Кажется, вот он, образ, не замутненный более поздними впечатлениями... Но в действительности образ матери опрокидывает любые абстрактные схемы... Он выламывается из них, — как это получается, попробую объяснить, иначе останется непонятным, почему я всегда так мучилась, пытаясь описать и ее саму, и мои чувства к ней.
Примерно до сорока лет — пока я не начала писать «На маяк»16, дату можно проверить, только мне лень это делать сейчас — образ матери преследовал меня, как наваждение. Я слышала ее голос, она мерещилась мне, я мысленно разговаривала с ней между делом, представляя, как она поступила бы в том или другом случае. Словом, она была для меня одним из тех невидимых собеседников, присутствие которых в жизни каждого человека играет огромную роль. Ни в одном из жизнеописаний, которые я обожаю читать, нет — или почти нет — ни малейшей попытки разобраться в этом влиянии, под которым я понимаю неотступную мысль о том, что нас окружают другие люди, об общественном мнении, о том, что говорят и думают окружающие, — словом, обо всех этих магнитах, действующих на нас таким образом, что заставляют походить на того-то, испытывать отвращение к тому-то, быть непохожим на остальных.
А ведь именно благодаря таким подводным течениям, «субъект воспоминаний» ежедневно отклоняется то в одну, то в другую сторону; это они позволяют ему держаться на плаву. Задумайтесь, какими мощными рычагами воздействует на любого из нас общество, как само общество меняется от десятилетия к десятилетию; какие классовые различия существуют; а ведь если не разобраться в этих подводных течениях, значит, и о субъекте воспоминаний сказать практически нечего; невольно подумаешь, что жизнеописание — пустая трата времени. Я кажусь себе рыбой; я чувствую, как поток увлекает меня в сторону; как я держусь на плаву; но описать сам поток я не в состоянии.
396
Дополнения
Возвращаясь к более частному примеру — примеру, гораздо более определенному и наглядному, нежели влияние, оказанное на меня кембриджскими апостолами17, или влияние литературной школы Голсуорси, Беннета, Уэллса18, или же влияние борьбы за избирательное право19, или войны20, — я говорю о моей матери и о том, как она на меня действовала. Хотя она умерла, когда мне было тринадцать лет, я действительно до сорока четырех лет находилась в орбите ее влияния. И вот однажды, когда я прогуливалась по Тэвисток-сквер21, меня вдруг осенила мысль написать «На маяк» — осенила вдруг, разом, как у меня часто бывает с книгами. Вдруг, откуда ни возьмись, — колечко в воздухе. Это сравнимо с тем, как пускаешь кольца сигаретного дыма, — сразу в голове начинают крутиться разные мысли, сцены, губы шевелятся, складываются слова в такт твоим шагам. Кто пускает кольца дыма? Почему именно сейчас? Бог весть. Но книгу я написала стремительно, а когда закончила, наваждение пропало: я больше не слышу голос матери, она перестала мне мерещиться.
Наверное, я проделала с собой примерно ту же операцию, какую психоаналитик производит над пациентом: глубоко запрятанному и давно волновавшему меня чувству я дала выход. Выражение стало формой объяснения, после чего наваждение исчезло. Но что это значит: «выражение стало формой объяснения»? Почему, стоило мне описать в книге мою мать и мое чувство к ней, как воспоминание поблекло, а острота потери притупилась? Возможно, разгадка не за горами и я о ней успею рассказать, но сейчас я лучше запишу то, что помню, ведь воспоминания стираются, и я уже сейчас многое позабыла. (Это я так, на всякий случай сказала, чтобы оправдать собственную беспомощность в создании хоть сколь-нибудь четкого образа матери.) <...>
Девятнадцатое июля 1939 года. Мне опять пришлось прерваться, боюсь, такие обрывы поставят крест на этих воспоминаниях.
Месяц назад, когда мы пересекали Ла-Манш, я вдруг подумала о Стелле22. Все эти годы я ни разу о ней не вспоминала. Былое всплывает в памяти лишь тогда, когда настоящее, подобно полноводной реке, плавно катит свои воды. В такие мгновения все видишь насквозь, аж до самого дна. Вот когда я бываю счастлива — не потому, что вспоминаю прошлое, а потому, что настоящее ощущается во всей его полноте. Ведь когда настоящее поддержано прошлым, оно в тысячу раз глубже, чем тогда, когда оно подступает так близко, что уже тебя не трогает, — фотография не задевает ничего, кроме сетчатки глаза. Ощутить же настоящее, когда оно, подобно течению реки, движется над толщей воды, можно лишь в состоянии мира, когда настоящего не замечаешь, — настолько оно гладко и привычно. Именно поэтому — из-
Вирджиния Вулф. Зарисовка прошлого
397
за того, что разрушается полнота жизни, — любой обрыв — переезд например — приводит меня в состояние полной потерянности; все стопорится; все мельчает; там, где раньше была глубина, теперь видны лишь тонкие жесткие подпорки. Помню, я спросила у Л<еонарда>: «Какой смысл в таком прозябании? Куда нам теперь деваться?» Он ответил: «Переезжать в Манкс- хаус»23. И вот я здесь, пишу воспоминания, вместо того чтобы шлифовать и оттачивать жизнеописание Роджера, — украла у самой себя несколько утренних часов отчасти для того, чтобы, вызвав к жизни тень прошлого и накрыв ею, как сенью, разбитую гладь, вновь обрести чувство настоящего. Дай же мне снова ступить в эту реку, почувствовать — как ребенку, босой ногой пробующему воду, — ее холодное прикосновение...
В Стеллу был влюблен Джим Стивен24. Он тогда свихнулся и находился в крайне возбужденном состоянии. Сколько раз бывало, что он брал извозчика, а платить должен был мой отец. Джим мог целый день раскатывать по Лондону, и отцу приходилось платить чуть ли не соверен. И платил! Ведь «дорогой Джим» был любимчиком. Однажды, помню, он ворвался в детскую и украл хлеб. В другой раз мы привали к нему в гости на Де Вер- Гард енс25, и он нарисовал мой портрет на небольшой деревянной дощечке. Одно время он рисовал как бог. Мне кажется, это помешательство внушило ему мысль о безграничности его таланта. Помню, он входит, а мы завтракаем, и говорит: «Сэвидж накаркал26, что я скоро умру или сойду с ума». И как захохочет! А вскоре он уже бегал нагишом по Кембриджу, потом его поместили в сумасшедший дом, и он умер. И этот большой широкоплечий мужчина с тонко очерченными губами, красивым басом, мужественным лицом — да, и голубоглазый при этом! — повторяю, этот безумец читал нам стихи, помню в его исполнении «Похороны сэра Джона Мура»27, что-то в нем было от корчащегося в муках быка, а еще он напоминал Ахилла — если представить, что Ахилл, развалившись на детской кроватке, срывает аплодисменты. И его угораздило влюбиться в Стеллу. Нам, детям, было строго-настрого запрещено говорить ему, если встретим его на улице, где Стелла, — мол, уехала к Лашинггонам в Пайпортс, и весь разговор. В те времена любовь была овеяна тайной.
Джим — не единственный, кто был влюблен в Стеллу. Ее главным ухажером был Джек Хиллз. Она ему отказала, и случилось это в Сент-Айвз; мы слышали сквозь стенку мансарды, как она рыдала ночью. Джек сразу уехал. В те дни отказаться от предложения было равносильно катастрофе. Все отношения моментально обрывались. Люди — во всяком случае, представители разных полов — общались тогда примерно так, как сегодня строятся отношения между странами — через послов, с подписанием договоров. Заранее оговаривался день, когда жених сделает предложение, далее следовала
398
Дополнения
встреча заинтересованных сторон. Если предложение не принималось, то стороны объявляли войну. Вот почему Стелла рыдала — ведь своим отказом она совершила очень важный в практическом и эмоциональном плане поступок. Джек сразу уехал — по-моему, в Норвегию на рыбалку; спустя какое-то время они со Стеллой стали снова видеться на балах в официальной обстановке. Моя мать старалась поддерживать хотя бы видимость отношений, общение шло, так сказать, через переводчика. Все эти церемонии придавали любви ауру торжественности. Чувства тщательно скрывали, их окружали завесой молчания, каждая семья ревностно следовала кодексу приличий, но дети все равно каким-то образом все выведывали. Да, взрослые хранили молчание, но мы догадывались, в чем дело.
Вот и вышло так, что после смерти моей матери Стелла осталась без переговорщика, — отец на эту роль не годился. Но буквально за день до смерти матери Джек снова появился в нашем доме — он вернулся, значит, его чувство к Стелле было поистине глубоким. При всей сложности положения появилась надежда.
Восьмое июня 1940 года. Я только что обнаружила в мусорной корзине эти записи. Видно, прибиралась и с рукописью жизнеописания Роджера выбросила в корзину и эти черновики. Сижу над версткой Роджеровой биографии, ползаю, как муравей, по последним страницам, правлю до одури и думаю, дай взгляну на эти записи, отвлекусь. Закончу ли я воспоминания? О книге даже страшно подумать. Война разгорается; каждую ночь немецкие самолеты летают над Англией; с каждым днем война подбирается все ближе и ближе. Если нас победят — впрочем, такой исход мы уже обсуждали, один выход нашли — самоубийство (мы договорились об этом три дня назад в Лондоне), — то вряд ли кто-то будет продолжать писать книги. Но хватит об этом, не сидеть же в луже. <...>
Возвращаясь к Джеку, — когда Стелла наконец приняла его предложение, мы в нашей детской республике, почти распавшейся после смерти матери, поддержали ее решение. Мне кажется, их брак мог бы быть очень счастливым. У них наверняка было бы много детей. И Стелла сейчас была бы жива. Джек, конечно, страстно любил ее; она же поначалу не выказывала своих чувств. И только во время их помолвки я впервые своими глазами увидела, какое это сильное, восхитительное, упоительное чувство — любовь мужчины и женщины. Их любовь казалась мне рубином: в ту зиму, пока они ходили женихом и невестой, я догадалась, что такое любовь, — какое это сильное, щедрое, алое, чистое пламя. Мой образ любви; мой эталон любви; мое понимание того, что в мире нет ничего более поэтичного, более музыкального, чем влюбленные друг в друга молодой человек и молодая женщина, — все
Вирджиния Вулф. Зарисовка прошлого
399
это оттуда, от них. В моем понимании любовь нерасторжимо связана с официальной помолвкой; ничего подобного любовная связь во мне не вызывает. При воспоминании о любви Стеллы и Джека мне хочется петь: «Моя любовь, как роза красная, цветет в моем саду»28, и точно то же чувство посещает меня всякий раз, когда я слышу слово «помолвка»; упоминание же о «связи» оставляет меня равнодушной. Это чувство внушили мне Стелла с Джеком. Оно родилось из ощущения восторга, который я испытывала, сидя в своем укромном уголке, за створчатыми дверями гостиной в доме на Гайд- парк-гейг. Помню, сижу в своей засаде, читаю дневник Фанни Бёрни29, сжавшись в комок от волнения и робости, а на меня накатывают волны то безудержного счастья, то бессильной ярости — отец тогда часто доводил меня до белого каления! — но все перекрывал восторг, который мне внушала мысль о любви. Дух; свет; сплошной экстаз! А еще — поразительная жизнеспособность. Как-то я наткнулась на его письмо к ней, которое она заложила между листами промокательной бумаги, — кстати, из этой детали видно, что мы жили сообща, у нас не было друг от друга секретов, — взяла письмо, читаю. Он пишет: «В целом мире нет ничего нежнее нашей любви». От этих слов у меня бегут мурашки по коже, — мне не то что совестно, что я заглянула в чужое письмо, а мне упоительно делается от такого признания. Я до сих пор не могу заставить себя перечитать то, отчего у меня бегут мурашки по коже. Если письмо доставляет мне радость, я никогда его не перечитываю. Интересно, почему? Радость боюсь расплескать? Стелла вся так и светилась от счастья — зардеется, бывало, и глаза становятся синие-синие. В ту зиму у нас в доме будто разлился лунный свет — источником его была Стелла. Однажды я проснулась среди ночи — Стелла подошла успокоить меня — и говорю: «В целом мире нет ничего и близко» или что-то в этом духе, и в ответ Стелла рассмеялась, нежно-нежно, и, поцеловав меня, сказала: «Ну что ты! Таких, как мы, влюбленных, очень много. И вас с Нессой ждет то же самое». В другой раз обмолвилась: «Вами обеими будут любоваться». <...>
Седьмое ноября 1940 года. Вскоре после смерти Стеллы30 наша жизнь превратилась в борьбу за собственное жизненное пространство в этом <нрз6>. Мы все время что-то отвоевывали: свободу от чужого вмешательства, открытое обсуждение вопросов, равные права. Конечно, главным камнем преткновения мы считали отца. Например, если взять конкретный случай: что делать, если к нам на чай придет Китти Макс или Кейти Тинн31, а отец сидит дома? А если нам не хочется встречаться с мистером Брайсом? А если мне надоели ежедневные прогулки в Кенсингтон-Гарденс? Почему наши друзья не могут сразу проходить наверх в студию (бывшую детскую) ? А если
400
Дополнения
нам не о чем говорить за ланчем? А если мы не хотим ехать в Брайтон на Пасху? Почему нам обязательно нужно присутствовать при визите тети Мэри?
И так всю неделю мы занимались тем, что старались отбиться, отвоевать, склонить на свою сторону, зная, что главная буря впереди: она обычно разражалась в среду. В этот день отцу показывали бухгалтерскую книгу, где были отмечены семейные расходы за неделю. Если они превышали одиннадцать фунтов, ланч превращался в пытку. Как сейчас помню, кладут перед ним отчет: стоит гробовая тишина, он надевает очки, пробегает глазами цифры — и как стукнет кулаком по столу! Как зарычит! Лицо багровое, вена на виске дергается. Бьет себя в грудь, ревет: «Вы меня разорили!» В общем, целый спектакль, рассчитанный на то, что зрители проникнутся жалостью к несчастному, отчаявшемуся родителю. Он разорен, он при смерти... Ванесса и Софи доконали его своей бездумной расточительностью. «Стоишь как истукан! Разве тебе меня не жалко? Хоть бы слово отцу сказала!», и все в том же духе. Ванесса стоит, не проронив ни слова. Как он ее только не пугает — в Ниагару бросится и прочее. Она все молчит. Тогда в ход идет другая тактика. Тяжело вздохнув, он тянется дрожащей рукой к перу, берет ручку трясущимися пальцами и выписывает чек. Не глядя, усталым жестом бросает его Ванессе. Гроссбух и ручку уносят под аккомпанемент стенаний и вздохов. Он опускается в кресло и замирает, опустив голову на грудь. Спустя какое-то время замечает книгу, поднимает глаза и говорит жалобно: «Джинни, ты не занята? Ты мне не почитаешь?»
Внутри у меня все кипит, а сказать ничего не могу — в жизни не испытывала подобной фрустрации.
Так, без преувеличения, проходили плохие среды. Даже сейчас, спустя столько лет, мне нечего сказать в его оправдание: он вел себя жестоко. С таким же успехом он мог бы пустить в дело кнут вместо слов. Чем объяснить такое поведение? Его, конечно, сильно баловали в детстве, рассказывали (пусть даже это семейная легенда), что он ребенком разбил цветочный горшок и запустил черепками в родную мать. Считалось, что он хрупкий ребенок. Когда он вырос, близкие записали его в гении, — по-моему, я об этом уже писала32. С гением ужиться, конечно, трудно... Впрочем, это не все. Спектакли, подобные описанному выше, никогда не разыгрывались перед мужчинами. Например, Фред Мэйтленд33 наотрез отказывался верить в достоверность таких историй, как ни пыталась Кэролайн Эмилия (квакерша) убедить его в том, что у Лесли случаются приступы ярости. Если бы домашнюю бухгалтерию вел Тоби или Джордж34, уверена, никакой грозы не было бы. Почему же перед женщинами можно было так распускаться? Отчасти потому, что к женщине он, типичный викторианец, относился как к рабыне.
Вирджиния Вулф. Зарисовка прошлого
401
Но это обстоятельство тем не менее не объясняет, зачем нужно было разыгрывать спектакль, вставать в позу, актерствовать, бить себя в грудь, стенать. А ведь именно эта сторона еженедельных спектаклей была противнее всего. Думаю, он был зависим от женщин — в этом причина. Он нуждался в женском сочувствии, в женской лести, в утешении. Почему? Он понимал, что не состоялся как философ, как писатель. Перед мужчинами он никогда не сознался бы в том, что нуждается в сочувствии, — гордость не позволяла. С мужчинами он вел себя как скромнейший, рассудительнейший интеллектуал — эту роль он для себя усвоил; <нрз6> в роли же козла отпущения за копившуюся в нем неудовлетворенность должна была по средам выступать Ванесса, и то, что она отказывалась играть роль рабыни, вкупе с ролью анге- ла-утешигельницы, приводило его в такое бешенство, что он, наверное, и сам не осознавал, каким выступает деспотом. Скажи ему кто-то прямо: «Вы — тиран! Перестаньте третировать девушку!» — он пришел бы в ужас. Впрочем, мне трудно представить, как бы он отреагировал на честную критику. И знаете почему? — в нем жили порознь проницательный критик и человек творческий: свидетельством тому его книги. Если нужно было проанализировать взгляды, скажем, Милля, Бентама, Гоббса35, ему не было равных (это Мейнард36 мне сказал) по остроте, ясности и краткости суждения: он являл собой восхитительный образец кембриджского аналитизма. Но стоило ему перейти к жизнеописанию и к обрисовке характера, как он становился таким топорным, плоским и ординарным автором, что, кажется, ребенок с коробкой цветных мелков и тот оказался бы более тонким портретистом, нежели Лесли Стивен. Если докапываться до причин подобного несоответствия, то надо обсуждать систему кембриджского образования, калечащую человека, однобокость воспитания, которое она дает, и дальше переходить к обсуждению условий профессионального труда писателя в XIX веке, пагубного действия интенсивной мозговой работы, при полном отсутствии отвлекающих моментов, таких как музыка, искусство, театр, путешествия; и, если все это сложить, то обнаружится, что зашоренность и узость были во многом естественны, их задавали условия жизни. Как бы то ни было, факты таковы: в свои шестьдесят пять отец оказался практически отрезан от мира. Его эмоциональная жизнь почти атрофировалась. Он настолько глубоко похоронил свои чувства, а может, боялся признаться себе в них или скрывал их от себя, что не только перестал отдавать себе отчет в собственных словах или поступках, но и перестал понимать чувства других людей. Отсюда эти дикие, неконтролируемые вспышки гнева и бешенства. В них прорывалась какая-то зловещая, слепая, животная, первобытная сила. Он не понимал, что творил. Объяснения не помогали. Он страдал. Страдали мы. О взаимопонимании не было и речи. Ванесса держала глухую оборону. Он бесился.
402
Дополнения
Конечно, теперь, оглядываясь назад, я вижу то, что тогда никто не принимал в расчет, — разницу поколений. Теперь-то я понимаю, что тогда в гостиной на Гайд-парк-гейт схлестнулись две очень разные эпохи: викторианский век и век эдвардианский37. Да, Лесли Стивен был нашим отцом, но по возрасту он годился нам в деды: мы были его внуками и внучками. Когда мы с Ванессой стояли перед ним, а он метал в нас громы, и мы, дрожа от страха, понимали, как он смешон, это значит одно: мы смотрели на него глазами людей, которые видят что-то иное на горизонте, видят то, о чем сегодня знает каждый юноша и каждая девушка в свои шестнадцать или восемнадцать лет. Злая ирония состояла в том, что наши мечты о будущем находились в полном подчинении у прошлого. На этой почве возникали бешеные конфликты. По натуре мы с Ванессой — искательницы, революционерки, рефор- маторши, а мир, в котором мы жили, отставал от века по меньшей мере лет на пятьдесят. Отец был типичным викторианцем; Джордж и Джеральд — сама заурядность; так что, сопротивляясь им, мы в их лице сопротивлялись общественным устоям. Мы с сестрой жили эдак году в 1910-м, а они — в 1860-м.
Около 1900 года дом 22 по Гайд-парк-гейт являл собой законченный образец викторианского уклада. Моя бы воля, выудила бы я из прошлого месяц жизни, какой она мне запомнилась году в 1900-м, и наше тогдашнее викторианское бытие предстало бы в виде капсулы со стеклянными стенками, в которой, подобно музейной витрине, бегают муравьи или роятся пчелы. Наш день начинался с семейного завтрака в 8.30. Адриан глотал что-то на бегу, и одна из нас, Ванесса или я — как получится, — шла его провожать. Стоя на крыльце, сестра махала ему вслед, пока он не скрывался из виду за углом дома Мартинс. Так нам завещала Стелла — это было ее последнее «прости», которое она посылала нам из склепа, покоившегося в основании семейной жизни. Отец завтракал, то и дело глубоко вздыхая и фырча. Если утренней почты не было, он начинал стонать: «Меня все забыли». Стоило ему увидеть возле своей тарелки длинный конверт от Баркерса, как он издавал страшный рык. Последними к завтраку спускались Джордж с Джеральдом. Ванесса тихонько ретировалась: обсудив обеденное меню с кухаркой, она стрелой мчалась на красный автобус, который шел до Академии38. Бывало, они встречались за завтраком с Джеральдом, и тот предлагал ее подвезти — у него был выезд, который он почему-то называл «своим утренним экипажем», хотя никакого другого у него не было, разве что летом его кучер продергивал гвоздику в петлицу. Джордж завтракал неспешно, иногда уговаривал меня составить ему компанию, присесть на трехногий стул и рассказать про бал, который давали намедни, потом он тоже надевал летнее пальто, молодцевато поправлял шляпу рукой, затянутой в лайковую перчатку, и отправлял¬
Вирджиния Вулф. Зарисовка прошлого
403
ся на службу в Казначейство, одетый с иголочки, в носках «с искрой» и в сверкающих штиблетах. В огромном доме оставались мы с отцом и прислуга: отец сидел у себя в кабинете на верхнем этаже, служанка драила латунные штыри на ступеньках лестницы, Шэг спал на подстилке, горничная делала уборку в спальнях, Софи с черного хода принимала у посыльных заказанные продукты, а я шла к себе наверх, раскладывала на столе словарь Лидделла и Скотта39 и принималась разбирать Еврипида или Софокла40, готовясь к уроку с Джэнет Кейс41, приходившей раз в две недели.
С десяти утра до часу дня мы были освобождены от гнета викторианского общества. Ванесса в это время рисовала с натуры под пристальным взглядом Вэла Принсепа или Улесса, иногда Сарджента;42 она периодически приносила домой аккуратные карандашные рисунки, по-моему, Гермеса и обрабатывала их фиксатором; еще помню эскиз, на котором был запечатлен обнаженный натурщик весьма выразительной внешности, — его голова была выполнена маслом. И ровно в те же три часа я читала «Республику» Платона43 или разбирала партию греческого хора. Мыслями мы были с миром, который окружает нас сегодня, в это ноябрьское утро 1940 года, — ее в Чарльстоне, меня в садовом домике в Манкс-хаусе. И одеты мы были примерно так же, как сейчас: Ванесса в синей художнической блузе, я — в юбке с блузкой. Единственная разница — юбки тогда были длиннее. Еще, сорок лет назад Ванесса выглядела опрятнее, наряднее меня. Однако днем все менялось. Примерно в половине пятого пополудни викторианский уклад давал о себе знать: мы должны были быть «дома». В пять отец пил чай. Мы должны были приодеться, «почистить перышки», ведь в гости приглашены миссис Грин, миссис X. Уорд, или же Флоренс Бишоп, или К.Б. Кларк, или кто- то еще... Мы с сестрой или одна из нас должны были сидеть за столом, прилично одетые, и ждать гостей.
Вот когда викторианский уклад начинал давить в полную силу! Именно тогда мы с сестрой усвоили «светскую манеру», которой придерживаемся до сих пор. Выглядело это примерно так: звонок в дверь, и мы идем встречать гостей — положим, пришел Ронни Норман. Вслед за ним с десятиминутным интервалом появляются, скажем, Элза Белл, Флоренс Бишоп и мистер Гиббс. Мы стоим наготове — по первому сигналу броситься к отцу помочь со слуховой трубкой, произнести заготовленную реплику о погоде, принять участие... В чем это, интересно, мы готовы принять участие? Нет, не в споре, не в сплетнях. Как бы поточнее выразиться: в «светской болтовне»? И это тоже не совсем точно. Тут требовалась особая выучка: подвести более пожилого гостя к отцу, придвинуть стул, показать, как держать один конец слуховой трубки. Дать возможность каждому из гостей раскрыться: ведь Ронни Норман — это на самом деле большой ребенок, а Элза Белл — настоящая
404
Дополнения
светская львица, а Флоренс Бишоп — весьма ветреная особа. Поддерживать легкую беседу — сейчас таких жеманных разговоров уже не ведут; откликаться на шутки; если сэр Лесли Стивен издаст стон, поговорить о состоянии его здоровья; послушать, что скажет Ронни Норман (если, конечно, Флоренс Бишоп займется отцом) про какой-то ужасно веселый спектакль или забавную картину; броситься сломя голову обсуждать, скажем, с Эвелин Год- ли морской флот; в это время Элза Белл кричит отцу в трубку, что она привыкла к тому, что молодые люди на улице снимают перед ней шляпы; отец морщится; Флоренс Бишоп обязательно угораздит ляпнуть отцу — мол, хорошо выглядите; Ронни Норман начнет расспрашивать, помнит ли он Милля;44 тот смилостивится — ему нравится Ронни — и пойдет рассказывать про то, как они встретились с его отцом и с Миллем в Челси. Потом вздохнет: «Ох уж эти истории...» В общем, беседа как беседа: шла то ровно, то стремительно, то застревала на опасных порогах — и вся, от начала до конца, была пропитана викторианским духом. Наверное, для Ронни Нормана, для Эвелин Годли, для мисс Бишоп это было делом привычным. Только не для нас с Ванессой — мы этим церемониям учились. Что-то делали по памяти: так вела себя мама; что-то усваивали на ходу — бросит тебе реплику Ронни Норман, ты отвечаешь ему в том же духе. Все следовали этим конвенциям. Со стороны это казалось какой-то игрой — мне, во всяком случае. А раз это игра, у нее есть правила.
Эти правила викторианской комедии нравов мы с сестрой затвердили на всю оставшуюся жизнь. Мы и сегодня им следуем. Они удобны, в них есть свой шарм, ведь в основе их лежит умение сдерживаться, проявлять сочувствие, не быть эгоистами — а это все очень цивилизованные качества. Они помогают из всякого сора создать что-то пристойное и человеческое. Но у викторианской манеры есть недостаток, — возможно, я не права, — она мешает писать. Я это вижу, когда перечитываю свои старые статьи из «Обыкновенного читателя»45. Эта манера сглаживать острые углы, расшаркиваться, подходить к теме бочком — она оттуда, из викторианской гостиной, из школы чайных церемоний. Читая эссе, я представляю, как подаю гостям булочки на тарелках и спрашиваю, что они желают к чаю: сливки или сахар или то и другое? Вместо того чтобы ясно и прямо спросить поэтов и писателей об их творчестве. Зато такая застольная манера позволяет тебе высказаться по многим разным поводам, чего обычно не получается, если выйти на трибуну и начать рубить сплеча. Светская жизнь начиналась вечером, когда зажигали огни. Днем все работали, можно было ходить в рабочем комбинезоне. Несса пропадала в Академии, я учила древнегреческий. Но вот наступал вечер, и общество заявляло свои права. Ровно в половине восьмого мы шли наверх переодеваться. Снимали с себя рабочее платье и, дрожа от хо¬
Вирджиния Вулф. Зарисовка прошлого
405
лода (в любую погоду, хоть дождь, хоть туман), умывались над тазиком, шею и руки терли с особым тщанием, ведь мы должны были появиться в гостиной в восемь вечера в вечерних платьях — с открытыми плечами и шеей. На какое-то время платье и прическа вытесняли живопись и греческий. Помню, стою, прихорашиваюсь перед чиппендейловским зеркалом46 Джорджа: девушка должна быть одета не только чистенько, но и со вкусом. Последнее было проблематичным: на пятьдесят фунтов, которые мне выдавали на карманные расходы, трудно было, при всем старании, одеться изящно. Это домашнее платье можно было пошить за фунт или два у Джейн Брайд, а вечернее, если его заказывать у миссис Янг, обойдется гиней в пятнадцать. Поэтому на мне в этот вечер исключительно домашнее платье из зеленой обивочной ткани, купленной по случаю в мебельной лавке Сториз, — так дешевле, чем покупать материал для вечернего наряда, да и гораздо интереснее. И вот в своем зеленом «вечернем» платье спускаюсь вниз: в гостиной горят огни, у камина в кресле сидит Джордж в смокинге, с бабочкой. Смотрит на меня, прищурившись, — он всегда так делает, когда оценивает, как человек одет. Окидывает взглядом с головы до ног, будто кобылу на ярмарке. И моментально мрачнеет: он явно не одобряет мою художественную затею, более того, — он оскорблен в своих лучших чувствах: как добропорядочный член общества, он улавливает какой-то подвох, он понимает, что светским приличиям брошен вызов. Я стою и понимаю, что меня подвергают суровейшему суду — всех статей обвинения не перечислить, — мне страшно, я сгораю от стыда, я в отчаянии, и тут наконец Джордж выдавливает из себя скрипучим капризным тоном, каким он всегда выражает свое неудовольствие, если при нем кто-то позволяет себе нарушить этикет, значивший для него гораздо больше, чем он признавал на словах: «Пойди и порви это на тряпки».
Дело в том, что Джордж был плотью от плоти викторианского общества, — для археологов он был бы настоящей находкой. По нему можно было бы изучать, как по какой-нибудь окаменелости, все подробности светского этикета 1890—1900-х. Видимо, материал оказался подходящий: из него можно было формовать все что угодно, не опасаясь поломки самой изложницы. Если отец внушил ему определенные взгляды своей эпохи: женщина должна быть целомудренной, мужчина — сильным, в обществе нужно вести себя прилично, то Джордж был рад стараться применить уроки на практике; однажды Резня затянулась после обеда сигареткой, так он как закричит, как замашет руками: «Проклятие! Я не позволю превратить мою гостиную в бордель!» Своей безукоризненной логикой, своим уважением к разуму Джордж корректировал викторианский этикет, освобождая его от ханжеской мелочности, в нем самом не было ничего от сноба, статус и роскошь были ему безразличны. Он соединял собой, подобно сети или паутине, большие и малые
406
Дополнения
части викторианского организма, став его законченным слепком. Получается, отец сохранил костяк 1860-х, а Джордж скрепил его тысячей колесиков с зубчиками, и вот в 1900-м в этот станок поместили нас — поместили и крепко зажали, а потом механизм с колесиками и зубчиками привели в действие.
Из какого же теста был сделан Джордж, если он мог так точно повторять линии викторианской изложницы? Мозгов у него, можно сказать, не было, зато эмоций — через край. Он был очень ладно скроен — красивый, здоровый, видный мужчина. Стоило ему появиться где-то в обществе, и все таяли. Он был вхож повсюду. В свете его обожали. Он был обласкан обществом, если под этим словом понимать кружок представителей высшего сословия, составившийся вечером в светской гостиной; в этом обществе Джордж всегда был своим — в Итоне47, в Кембридже, в Лондоне. У него хватало ума не выходить за рамки этого круга. И если над ним не смеялись и его не осуждали, то потому лишь, что он никогда не говорил ничего такого, за что его можно было бы высмеять или критиковать. К тому же у него была тысяча фунтов годового дохода — этих денег вполне хватало, чтобы поддерживать свой имидж: одеваться, ездить на охоту, покупать ружья, лошадей. А поскольку свет ему благоволил, восхищался им и удовлетворял все его желания, то он и вообразить себе не мог никакой фронды, эпатаж казался ему глупостью, клоунадой, ребячеством, наконец, просто безнравственным поведением. Без сомнений, он усмотрел в моем зеленом платье что-то подрывное для себя. Зато Джеральд заметил добродушно: «Зря ты так. Мне нравится!» — и я эти слова до сих пор вспоминаю с благодарностью. Увы, к моему позору, я никогда больше при Джордже не надевала то зеленое платье.
Мне было двадцать, а ему тридцать шесть. Он получал в год тысячу фунтов, а я пятьдесят. Из-за этого мне было трудно противостоять ему в тот вечер. Кроме того, наши отношения осложняло еще одно обстоятельство, о котором я смутно догадывалась, стоя перед ним с открытым забралом в своем зеленом платье и пытаясь держать удар. Тогда я не могла еще толком разобраться в своих чувствах. Все понимая — он старше, он хозяин, — я испытывала чувство, которое позже назвала аутсайдерским. Джордж меня ругает, а я стою перед ним, как цыганка или бродяга перед входом в цирк, куда чужих не пускают. Викторианское представление в разгаре, Джордж, как главный акробат, прыгает через обручи, а мы с Ванессой не у дел. У нас хорошие места, но в спектакль нас не приглашают. Хлопать, смотреть — это пожалуйста, участвовать — извините.
Все наши родственники по мужской линии учились играть в эту игру. Правила им были известны, и они ставили их очень высоко. Отчет директора школы об успеваемости, стипендия, выпускной экзамен, членство в совете университета — всему этому отец придавал огромное значение. В семейст¬
Вирджиния Вулф. Зарисовка прошлого
407
ве Фишеров сыновья боролись за призы, дипломы с отличием, научные степени. Кем, интересно, был бы Херберт Фишер без Уинчестера, Нью-кол- леджа и кабинета министров?48 Как бы он сегодня смотрелся, если бы по нему не проехал каток государственной машины и не поставил на нем соответствующий штамп? Все наши родственники по мужской линии прошли через эту мясорубку и вышли из нее к шестидесяти годам кто директором колледжа, кто адмиралом, кто членом кабинета министров, кто судьей. От нормального человека в каждом из них ровно столько, сколько в тягловой лошади от горячего неподкованного жеребца.
В государственные чиновники Джордж, конечно, не пробился, хотя много раз пытался устроиться на дипломатическую службу. Зато он преуспел на другом поприще — в свете. Он настолько хорошо усвоил правила светской игры, научился так ловко выстраивать ходы, что к шестидесяти годам он имел титул сэра, жену-аристократку, синекуру, поместье и трех сыновей. Любопытно, что я и тогда, двадцатилетней девчонкой, каким-то неисповедимым образом почувствовала, что Джордж не меньше Херберта Фишера стремится стать винтиком машины. Он был на коне, прыгал через обручи, поступал как положено. Я видела, как ему хотелось доказать свою преданность, с каким жаром он следовал условностям, как истово верил. Когда человек верит во что-то общепринятое — а веру Джорджа разделяли все его друзья, — это даже у стороннего наблюдателя вызывает невольное уважение. Кажется, все правильно, естественно, как положено. Когда воскресным вечером на Би-би-си исполняют «Боже, храни короля», я чувствую прилив энтузиазма, однако тут же себя одергиваю. Джорджу и в голову не приходило поставить под сомнение старую как мир мелодию. Он вставал и снимал шляпу, без малейших колебаний, с полным почтением и пиететом.
Наблюдения эти своеобразно сказывались на моем отношении к Джорджу. Подчиняясь ему как более старшему, сильному, состоятельному, опытному, я все равно не понимала: как можно верить во всю эту чепуху? Во мне жил зритель, и он, несмотря на все мои тщетные попытки сопротивляться светским придиркам Джорджа, наблюдал за происходящим холодно, от- страненно, скептически. Меня завораживало это зрелище — уверовавший Джордж с серьезной миной прыгает через обручи. Однажды в желчном настроении я набросала сатирический очерк его будущей карьеры, который, надо сказать, он воспроизвел почти один в один.
К сожалению, мы не могли оставаться безучастными наблюдательницами интеллектуальных прыжков молодых викторианцев, мы были им нужны в их погоне за общественным признанием. Мотивы Джорджа, как всегда, были противоречивыми. Нас нужно было вывозить в свет, и он, естественно, взял на себя ту роль, которую должна была бы исполнять мать по отноше¬
408
Дополнения
нию к дочерям на выданье. Но одновременно он заставлял нас ездить туда, куда сам считал нужным, по его указке мы должны были принимать приглашения. В этом проявлялся некий скрытый мотив его действий — он хотел, чтобы мы прислушались к его мнению, поверили в его правоту. В итоге, с началом лондонского сезона, нам по нескольку раз в неделю приходилось, поднявшись к себе наверх, — заметьте, после ужина, после вечерней почты, после чаепития, после того, как отец удалялся к себе в кабинет, — переодеваться в длинные атласные вечерние платья, за шитье которых Салли Янг брала не меньше пятнадцати гиней. Мы натягивали белые перчатки, надевали белые бальные туфли, прицепляли на шею нитку жемчуга или аметистовое колье. Садились в кеб и ехали вдоль тротуаров, отливавших серебром (тротуары тогда были деревянные, и летними погожими ночами они казались посеребренными), — ехали в дом, где над парадным входом был устроен навес или на крыльце был раскинут красный ковер, а в отдалении толпились зеваки.
Вот когда прессинг светской жизни ощущался в полную силу: представьте 1900-й год, июнь, одиннадцать вечера. Запомнились слепящие огни, кураж и холод; я поднимаюсь по лестнице, свет бьет в глаза; мираж; восторг; паралич. Что еще запомнилось? Помню обед в Савойе перед оперой. Давали «Кольцо»;49 обед был устроен днем. Джордж распорядился посадить миссис Дж. Чемберлен50 напротив окна, что было расценено как бестактность, которую он потом долго не мог себе простить: дама была в возрасте. Я сидела рядом с юношей — теперь я понимаю, что это был Эдди Марш51. Но тогда я приняла его за Ричарда Марша52, смутно связав его с кем-то из романистов. Помню только, он спросил: «Над чем сейчас работает ваш отец?» — и я начала барахтаться, как новичок, не умеющий плавать.
На приеме у миссис Чемберлен я сидела рядом с пухлым молодым человеком официальной наружности. Разговорились о риторике. Он сказал: «Наш хозяин пользуется репутацией хорошего оратора». И тут меня снова понесло — я начала развивать мысль о том, что преступно предаваться веселью, это хуже воровства. За столом воцарилась тишина. Я почувствовала себя мухой, угодившей в клей. Одно слово, выходящее за рамки привычной светской болтовни, и тебе ни за что не отмазаться. Еще помню: стою на пороге танцевального зала, подходит Джеффри Янг и говорит мне чопорно: «Как хорошо, что вы пришли». Что я ему ответила? — «Ненавижу балы». Он отошел. Еще помню бал в Тринити53 — подпрыгиваю с кем-то, имени не помню. На балу у леди Слито, помню, выпытывала у какого-то молодого человека подробности, связанные с Подвязкой54. А Джордж тем временем делал предложение Флоре Расселл. Помню, как осталась без пары на балу у Льюлфа Стенли, и Елена Ратбоун подвела меня к девушке. Помню, какое я
Вирджиния Вулф. Зарисовка прошлого
409
тогда пережила унижение, оставшись одна у стенки. Вообще сколько раз я чувствовала себя униженной на балах — я не умела танцевать; помню фрустрацию — я не умела вести светскую беседу с юношами; помню, как наблюдала за происходящим в обществе единственного друга, никогда меня не покидавшего, — чтобы потом, дома, описать этот спектакль. Но, конечно, бывали и приятные моменты — мгновения лирического восторга. И все же прессинг светского общества в 1900-м был таков, что места естественному чувству не было. Может, я была слишком молода. Наверное, не умела приспособиться. В любом случае, мне ни разу не попался человек, с которым у меня завязались бы настоящие отношения. Все равно все крутилось вокруг нарядов, блеска, одним словом, светской жизни; и еще запомнился абсурд, когда вдруг на какое-то мгновение оказываешься рядом с незнакомцем: он в белом смокинге и в перчатках, ты — в белом атласном платье и тоже в перчатках. Более неестественного тандема представить невозможно, однако в этом абсурде что-то было. Я возвращалась после бала домой — комната казалась маленькой, жалкой; я долго не могла успокоиться, лежала в кровати и пережевывала одно и то же, кто что сказал, как поступил. И даже на следующее утро, читая Софокла, я все равно думала про бал.
Впрочем, эти наносные впечатления быстро слетели бы с нас обеих, если бы не Джордж. Для него бал был серьезным мероприятием. На балу мы не просто развлекались — мы проходили экзамен, испытание, вот почему балы имели такое огромное значение. От выступления на балу зависела твоя судьба: ждет тебя успех или провал. О каком успехе речь? Джордж ценил только один успех — успех в свете. Под провалом он понимал только одно — быть неряшливо или вызывающе одетой. Эти оценки он принимал на веру и относиться к ним здраво не мог. Положим, ты спрашиваешь его прямо: «Если я ненавижу балы, то почему я должна туда ездить?» Он насупит брови и скажет: «Ты еще маленькая, чтобы иметь собственное мнение. Кроме того, я люблю тебя. Я не хочу ездить один, ты должна меня сопровождать». И с этими словами сгребает Ванессу в охапку. Долг мешался с чувством, и над этими сценами семейных стычек всегда незримо витали тени Стеллы и матери.
Короче, светские рауты превратились для нас в пытку, часто заканчивавшуюся унижением. Джордж не мог не чувствовать нашего скептического отношения. Это выводило его из себя, он называл нас эгоистками, ругал за близорукость. Жаловался на нас вдовам, которые души в нем не чаяли. Советовался с ними, осыпал нас подарками — нарядами, драгоценностями. Играл на публику, изображая заботливого брата, и, надо сказать, играл небезуспешно. Почему мы не хотим пойти ему навстречу? Почему думаем только о собственных интересах? Светский механизм в те времена работал
410
Дополнения
безотказно. Считалось, что девушки — это будущие замужние женщины. Никаких сомнений, ни малейшего снисхождения; никаких других желаний; никаких иных талантов. Серьезных материй просто не существовало. Когда я, например, в разговоре с Беатрисой Тинн обмолвилась о том, что хочу писать, она, не задумываясь, предложила: «Я попрошу Элис пригласить тебя на встречу с Эндрю Лэнгом55». Я заартачилась, говоря, что имела в виду совсем другое. Она ответила, что я дура, — иначе карьеру не сделаешь. С какой тоской думалось тогда, что где-то, наверное, есть мир, в котором люди не ходят на светские приемы, — где люди обсуждают картины, книги, философию. Но мы в тот мир не вхожи.
Наша тогдашняя жизнь представляла собой причудливое двоемирие. Внизу, на первом этаже, правил бал светский этикет; наверху было царство чистого разума. Связи между этими мирами не было. Глухота, постигшая отца в старости, оборвала все ниточки, которые он, естественно, мог бы завязать с молодым поколением писателей. Но все равно свои позиции он не сдавал — к светским условностям относился как к пустому месту. Превыше всего ценил интеллект. Вот так я и ходила: между гостиной и светскими сплетнями Джорджа: «Миссис Уильям Гренфилл попросила меня остаться... А я ответил, что, боюсь, не смогу, чему она весьма удивилась», и отцовским кабинетом, куда шла за очередной книжкой. Зайду к нему, он сидит в кресле- качалке, посасывает трубку. Стою, жду терпеливо, когда он заметит мое появление; потом он встанет, подойдет к книжным полкам, поставит прочитанную книгу на место и ласково-ласково спросит меня, что я думаю о прочитанном. А читала я, положим, Джонсона56. Мы поговорим с ним о том о сем, и вот, успокоенная, вдохновленная, обожающая этого совершенно несветского, очень достойного, одинокого человека, я иду опять вниз, в гостиную, слушать светский лепет Джорджа. Какая тут связь?
Но и между нами и интеллектуальным миром большой связи тоже не было. Конечно, на горизонте появлялись великие фигуры: Мередит, Генри Джеймс, Генри Сиджвик, Саймондс, Холдейн, Уоттс, Бёрн-Джонс57 — вершины на заднем плане. Но они вспоминаются как силуэты, величественные и очень далекие.
Помню, я смотрю на Дж.-Э. Саймондса с лестничной площадки в Тэланд- хаусе: мне бросается в глаза его нервическое белое лицо — и галстук в виде шнурка с двумя желтыми плюшевыми бомбошками. Помню Уоттса в рубашке с жабо и в сером халате; еще Мередита, вспоминающего девушку в пурпурной юбке — чистый цветок! Помню голос Мередита, помню иронию, с которой он сказал: «Моя книжка». Вспоминаются не столько их слова, сколько окружавшая их атмосфера. Помню, с какой торжественностью обставлялся каждый визит и то, как мать с отцом давали понять, что визит к Мереди¬
Вирджиния Вулф. Зарисовка прошлого
411
ту — событие из ряда вон выходящее. Дань гению. Меня их отношение впечатляло. Ну и потом, сама личность, такой чудак; запомнилось, как Мередит кидал в чай кружочки лимона. Еще помню, как Уоттс поедал взбитые сливки и сладкую начинку, а у Лоуэлла58 был длинный вязаный кошелек с вшитыми колечками, через которые проходил шестипенсовик. Запомнилась необычность, сила. Слов не помню. Зато хорошо помню раскатистый голос Мередита. Помню говорок Генри Джеймса: качающийся, уточняющий, жужжащий, мурлыкающий. Без сомнений, образ величия и великих людей очень рано запал мне в душу. Для меня и сейчас величие ассоциируется с чем-то басовитым, чудаковатым, ни на что не похожим; этот образ нам внушили родители, такого больше нет — вид вымер.
Итак, за порогом гостиной — великаны, а за чайным столиком — Джордж, Джеральд и Джек: беседуют о почтовой службе, издательском деле и судах. И я за письменным столом, тщетно пытаюсь нащупать связь. Миров так много, разных, и все они далеки от меня. Разобраться в них я не могла, близости к ним я не чувствовала. Но в молодости провела немало часов, неустанно сравнивая их между собой. Без сомнений, это было полезным делом — оно и отвлекало, и приучало видеть различия. Помню, только сяду учить греческий, как тут же слышу снизу: Джордж зовет меня, хочет рассказать про судебный случай, после этого иду к себе наверх читать по-немецки, а потом заявляется веселая Китти Макс.
Вирджиния Вулф
СТАРЫЙ БЛУМСБЕРИ
<...> Улица, где стоял наш дом, была такая узкая, что через дорогу хорошо было видно, как миссис Редгрейв у себя в спальне моет шею, и от этой тесноты в доме всегда было темно; а еще впечатление темноты в доме усиливалось оттого, что моя мать, воспитанная в духе голландско-венецианского домика Уоттса1, выбрала для мебели красную бархатную обивку, а деревянные панели приказала выкрасить в черный цвет с окантовкой в виде тонких золотых линий. В доме царила полная тишина. Нарушал ее только шум проехавшей мимо коляски или телеги мясника — больше ничего. Заслышав звук шагов за окном, мы видели сверху котелок или чепчик; всех прохожих мы знали наперечет: сэра Артура Клэя, семейство Мьюир Макензи, барышню Редгрейв с бледным лицом, красноносую миссис Редгрейв. Нас жило в доме человек семнадцать или восемнадцать — все в крошечных комнатках, на всех одна ванная и три уборные. Здесь мы родились — четверо братьев и сестер; здесь умерла моя бабушка; здесь же умерла моя мать; здесь умер мой отец; здесь Стелла обручилась с Джеком Хиллзом, а через три месяца после свадьбы умерла в доме по соседству. Когда я вспоминаю наш старый дом, мне он кажется таким тесным: из-за семейного быта — гротескного, комичного, трагичного; горячих эмоций молодежи, бунтовавшей, впадавшей в отчаяние, переживавшей головокружительное счастье; невероятной скуки на приемах знаменитостей и разных зануд; бессильной ярости против Джорджа и Джеральда; любовных перешептываний Стеллы и Джека Хиллза; моей безмерной нежности к отцу и столь же неистовой ненависти к нему; всей той взбудораженной, накаленной атмосферы, которую создавала вокруг себя взъерошенная любопытствующая молодежь, — меня душат эти воспоминания. Мне кажется, дом захлестывали бившие через край эмоции. Я где-то упоминала, что могу написать историю каждой отметины и царапины на стенах моей комнаты. Это чистая правда — не мы подстроились под помещение, а комнаты подстроились под нас. Здание (позднее переде-
Вирджиния Вулф. Старый Блумсбери
413
данное в гостиницу) словно впитало историю нашей семьи. Казалось, что дом и семья, в нем жившая, скрепленная столькими смертями, страстями, традициями, будет жить вечно. И вдруг в одну ночь все исчезло — и дом, и семья.
Когда я оправилась после болезни2, которая, вполне естественно, явилась следствием всех этих бурных переживаний, дома No 22 по Гайд-парк- гейт уже не существовало. Пока я лежала в горячечном бреду в доме Дикинсонов в Уэлуине и мне казалось, что это птицы за окном щебечут хором по- древнегречески и что это король Эдвард ругается матом среди азалий Оззи Дикинсона, Ванесса раз и навсегда покончила с Гайд-парк-гейтом. Что-то распродала, что-то сожгла, рассортировала, порвала и выбросила. Не исключаю, что ей пришлось нанимать работников с отбойными молотками, — настолько плотно склеились стены и шкафы. И вот дом стоит пустой. Мебель и прочие пожитки вывезли несколькими фургонами. Но дом опустел не только из-за вывезенных столов и стульев, вся семья, еще недавно казавшаяся прочной, разлетелась: Джордж женился на леди Маргарет, Джеральд снял холостяцкую квартиру на Беркли-стрит. Лору наконец определили в сумасшедший дом3 под присмотр врача; Джек Хиллз занялся политикой. Мы вчетвером остались одни. И вот, разложив перед собой карту Лондона и прикинув на глазок расстояние между Кенсингтоном и другими районами — хотелось уехать подальше, — Ванесса решила, что мы переедем в Блумсбери.
Так появился дом 46 на Гордон-сквер. На сегодняшний взгляд, это не самое романтичное место в Блумсбери. Фитцрой-сквер гораздо элегантнее, Мек- ленбург-сквер намного величественнее. Есть у Гордон-сквер эдакий буржуазный и викторианский душок. Но, поверьте, в октябре 1904 года мне казалось, что лучшего, более прекрасного, более романтичного места не сыскать в целом свете. Начнем с потрясающей перемены: ты стоишь у окна гостиной и перед тобой деревья; у одного ветви заброшены вверх, а листья падают дождем вниз; у другого кора отливает после дождя, как шкура морского котика, — это тебе не старуха Редгрейв, моющая шею в доме напротив! После густого плюшевого сумрака Гайд-парк-гейга новое место поражало воздухом и светом. Предметы, которые ты никогда до этого толком не видел — картины Уоттса, голландские бюро, голубой фарфор, — впервые засверкали в гостиной на Гордон-сквер. После ватной тишины на Гайд-парк-гейт грохот транспорта за окнами настораживал. Снаружи шастали подозрительные типы, зловещие, незнакомые, скользкие. Но все это были мелочи по сравнению с главным — поразительным чувством простора! На Гайд-парк-гейт у тебя была комнатушка, где ты спала, читала, принимала друзей. Здесь же у Ванессы и у меня были отдельные комнаты; была огромная гостиная на двоих, а на первом этаже был кабинет. К тому же дом был отделан заново, и это, конеч¬
414
Дополнения
но, добавляло свежести. Само собой разумеется, что от красно-плюшевош и черного с золотом интерьера в духе Уоттса и венецианцев не осталось и следа; мы вступали в эпоху Сарджента и Фёрза:4 везде белый с зеленым чине5, а вместо моррисовских обоев с витиеватым рисунком — чистые стены, которые мы выкрасили темперой. Эксперимент за экспериментом, новация за новацией. Мы откажемся от столового белья, у нас будут бумажные салфетки, мы будем рисовать, писать, подавать в девять вечера после обеда не чай, а кофе. Все переделаем, у нас все будет иначе. Ничего не принимаем на веру.
Еще, мы были очень общительными. В течение нескольких месяцев в 1904—1905 годах я вела дневник, из которого следует, что мы тогда только тем и занимались, что обедали и ужинали в гостях и ходили по книжным лавкам. Из дневниковых записей: «Блумсбери гораздо интереснее Кенсингтона». Ходили на концерты, вернисажи, а вернувшись домой, заставали у себя дома в гостиной пеструю компанию. «Днем зашли кузен Генри Прин- сеп, мисс Милле, Оззи Дикинсон и Виктор Маршалл — засиделись, мы едва успели на лекцию мисс Раттер об импрессионистах в Графтон-гэлери...6 На чай пожаловали леди Хилтон, В. Дикинсон и Э. Колтман. Завтракали вместе с Шоу Стьюуортами, познакомилась с искусствоведом по фамилии Николлс. Сэр Хью вроде милый, но не глубокий... Завтракала с Протеро, познакомилась с Бертраном Расселом7. Было весело. Мы с Тоби обедали с Сесилами, потом пошли в дом к Сент-Лу Стречи, и там было очень много знакомых... Зашла за Нессой и Тоби к миссис Флауэрс, и мы пошли на танцы в Хобхаузис. Сегодня Несса пронервничала все утро в ожидании мистера Тонкса, он должен был прийти в час оценить ее картины. Суровый мужчина, с худым лицом, глаза навыкате, острый усталый взгляд. На чай пожаловали Мэг Бут и сэр Фред Поллок...» и так далее. Но в этих коротких записях о встречах, о доставке чинса, о походах в зоологический сад и на «Питера Пэна»8 есть несколько подробностей, связанных с Блумсбери. 2 марта 1905 года Вайолет Дикинсон привела к нам на чай жену священника, после обеда зашли Сидни-Тёрнер со Стречи9, и мы проговорили до полуночи. 8 марта в среду «за нами прислала свой новый автомобиль Маргарет10, и мы, захватив с собой Вайолет, отправились с визитами, но, как всегда, забыли визитки. После этого я поехала на Ватерлоо-роуд читать лекцию о греческой мифологии (в вечерней школе для рабочих)11. Возвращаюсь домой, а там сидит Белл12 — и мы с ним чуть не до часу ночи проговорили о природе добра!»
Шестнадцатого марта у нас обедали мисс Пауэр и мисс Малоун. После обеда зашел Сидни-Тёрнер с Джеральдом — вот вам и первый наш четверг. 23 марта пришли девять человек и засиделись до часу ночи.
Вирджиния Вулф. Старый Блумсбери
415
Через несколько дней после этого я поехала в Испанию, дав себе слово, что буду записывать в дневник мельчайшие подробности — пейзажи, звуки, волны, горы; и эта добровольная епитимья напрочь отбила у меня желание вести дневник — последняя запись от 11 мая: «Вечером у нас: радужный Белл, Д. Маккарти и Джеральд — культурная публика от них в шоке».
Как видите, дневник обрывается на самом интересном месте. Но, по- моему, и приведенных записей достаточно — даже таких кратких и сумбурных, чтобы почувствовать разницу между несколькими встречами Блумсбери во младенчестве и прочими визитами. Это единственные случаи, когда я не просто отмечаю, — мол, познакомилась с тем-то и тем-то, зануда этот ваш Реджинальд Смит, Мурсам слишком пафосный, с сэром Хью Шоу Стьюуортом общаться легко, но он не представляет собой ничего особенного, — нет, я подчеркиваю: у нас со Стречи и Сидни-Тёрнером был разговор. Я ставлю восклицательный знак после слов о том, что мы с Беллом проговорили о природе добра аж до часу ночи! А ведь я редко ставила восклицательные знаки, на самом деле, кроме этого случая, еще один-единственный раз — когда записала, что первый раз курила с Беатрис Тинн!
Так что если говорить обо мне, то, на мой взгляд, все то, что позднее немецкие, французские газетчики и романисты окрестили словом «Блумсбери» — дошло даже до Турции и до Тимбукту, — вышло из эмбриона тех первых наших четвергов. Их нужно обязательно внести в анналы истории и прокомментировать — они этого достойны. Но сделать это очень трудно — невозможно. Разговоры — любые, даже такие судьбоносные, как те, под влиянием которых сформировались личности барышень Стивен, сложилась их жизнь, — словом, самые интересные и важные беседы в жизни имеют свойство улетучиваться словно дым. Выпорхнуло слово — и нету.
Прежде всего, восстановим правду: кто такие Тёрнер и Стречи, появлявшиеся в дверях со странным выражением сомнения и самоуничижения на лицах и незаметно просачивавшиеся в гостиную, мы с Ванессой знали по встрече в Кембридже на майской неделе незадолго до того, как умер отец, — тогда мы познакомились и с Беллом, и с Вулфом, и с Хилтоном Янгом, и с остальными. Но еще важнее, что обо всех них нам рассказывал Тоби. У него была поразительная способность романтизировать друзей. В детстве, когда он учился в частной школе и приезжал домой на каникулы, он мог часами рассказывать про своего потрясающего приятеля и его подвиги. Я всегда заслушивалась этими историями, представляя неведомого мне Пилкингто- на, или Сидни Ирвина, или Мишку Мха в духе шекспировских героев. Я сама в течение многих лет сочиняла о них саги. И вот теперь, вместо Рэдкли- фа, Стюарта и иже с ними, зазвучали имена Белла, Стречи, Тёрнера, Вулфа.
416
Дополнения
Мы говорили о них часами во время прогулки или сидя у меня в спальне у камина.
«Знаешь, я познакомился с удивительным парнем, его зовут Белл, — еще с порога, не успев войти в дом, заводил разговор Тоби. — Он что-то среднее между Шелли и сквайром-атлетом».
Я, конечно, тут же принималась его расспрашивать. Помню, гуляли мы с ним где-то по пустошам; у меня в голове засел фантастический образ этого Белла, точно он какой-то языческий бог солнца — соломинки в волосах. Смесь <нрз6> невинности и порыва. По словам Тоби, до поступления в Кембридж Белл вообще ничего не читал, а потом вдруг открыл для себя Шелли и Китса и от восторга чуть не помешался. Он бредил стихами — ни о чем другом не говорил, взахлеб писал стихи. Но это не мешало ему быть отличным наездником — Тоби восхищался его мастерством, — в Кембридже у него были два или три скакуна.
«А Белл великий поэт?» — спросила я Тоби.
Нет, этого он не сказал бы, зато Стречи — очень может быть. И мы начинали обсуждать Стречи — Тоби называл его Стреш. И тут же оказывалось, что Стречи — такая же исключительная, завораживающая личность, как и Белл, только совсем в другом смысле. Стреш — квинтэссенция культуры. Мне даже кажется, Тоби немного побаивался высокообразованного Стреша. У него в комнате висят картины французских художников. Он ценит Поупа13. И вообще он не от мира сего — по описаниям Тоби, он длинный и худой, как жердь, он в бедрах уже Тобиного плеча. Однажды, рассказывал Тоби, он ворвался к нему в комнату с криком: «Слышишь музыку сфер?» — и упал без сознания. А в другой раз в гробовой тишине пропищал (и Тоби изобразил его голос): «Давайте все в честь Робертсона14 напишем сонеты». Он — верх остроумия. Его даже тьюторы и профессора приходили послушать. «Какую бы оценку, Стречи, вам ни поставили, — заметил доктор Джэксон во время экзаменов, — она будет ниже ваших способностей». И, видя, что при этих словах я раскрыла рот от изумления, Тоби переходил к другому своему необыкновенному товарищу — того постоянно колотила дрожь. Он тоже не от мира сего, как и Белл, и Стречи, только по-своему. Он — еврей. Когда я спросила, отчего же он все время дрожит, Тоби дал мне понять, что он такой от природы — неистовый, свирепый, он презирает человеческий род. «И если уж на то пошло, — заметил Тоби, — действительно, за что его уважать- то?» Еще Тоби сказал, что его приятель скептически относится к тем, кому за двадцать пять: ничего путного из них уже не выйдет. На что я робко заметила, что большинство с этим как-то мирятся и живут не тужат. А вот Вулф мириться не хочет, отрезал Тоби, и он за это его уважает. Однажды ночью ему приснилось, что он кого-то дубасит, так он во сне вошел в такой раж,
Ил. 1. Ванесса Стивен (в замужестве Белл), старшая сестра Вирджинии. Ок. 1902 г.
Ил. 2. Вирджиния Стивен (в замужестве Вулф). Ок. 1902 г.
Ил. 3. Сэр Лесли Стивен и Джулия Дакворт-Стивен Ил. 4. Вирджиния с матерью. 1884 г.
(в девичестве Принсеп), родители Вирджинии
Ил. 5. Вирджиния с братом Адрианом. 1900 г.
Ил. 6. Вирджиния [слева) и Ванесса. 1896 г.
Ил. 8. Джэнет Кейс, Вирджиния Стивен
и Ванесса Белл [слева направо). 1911 г.
Ил. 7
Джулия Дакворт-Стивен с дочерью Стеллой Дакворт (от первого брака). Предположительно до 1895 г.
Ил. 9. Вирджиния Стивен и Леонард Вулф. 1912 г.
Ил. 10. Вирджиния и Леонард Вулф.
Конец 1910-х — начало 1920-х гг.
Ил. 11. Шекспировское общество в Тринити-колледже Кембриджского университета. Ок. 1900 г. В первом ряду: крайний справа — Леонард Вулф, крайний слева — Литтон Стречи.
Во втором ряду второй справа — Тоби Стивен, старший брат Вирджинии Вулф
Ил. 12. Кэтрин Кокс, близкий друг четы Вулфов. 1911 г.
Ил. 13. Обложка первого издания рассказа «Сады Кью» работы Ванессы Белл
Ил. 14. Титульный лист и первые страницы прижизненного издания романа «День и ночь». 1938 г.
Ил. 15. Кэтрин Мэнсфилд, автор рецензии на роман «День и ночь». Ок. 1920 г.
Ил. 16. «Хогарт-хаус» в Ричмонде, где чета Вулфов основала издательство «Хогарт Пресс» и где был написан роман «День и ночь»
Ил. 17—18. Вид на море из сада летнего загородного дома «Тэланд-хаус» [на врезке) в местечке Сент- Айвз (Корнуолл), описанного Вулф в «Зарисовках прошлого». Современные фото
Ил. 19. Бухта Сент-Айвз (Корнуолл) с видом на маяк, воспетая в романе Вулф «На маяк». Современное фото
Ил. 20
Лондонский комитет Общественно-политического союза женщин. 1908 г.
Ил. 21
На карикатуре в «Панче» 1908 г. изображен британский министр обороны Р. Холдейн (1905—1912 гг.) с подписью: «Эх, жаль, не могу заставить мужчин шагать таким же строем!»
Ил. 22. Суфражистки спорят с полицейским. Лондон, 1912 г.
23. Выборный участок в Лондоне в декабре 1918 года. Впервые в истории Англии в голосовании участвуют тридцатилетние женщины
Вирджиния Вулф. Старый Блумсбери
417
что, проснувшись, обнаружил, что вывихнул себе палец. Я, конечно, была совершенно заинтригована этим неистовым евреем-мизантропом, пребывавшим в постоянной лихорадке, который уже отряхнул прах цивилизованного мира со своих ног и собирался навсегда похоронить себя среди дикарей в тропических джунглях15, только мы его и видели. А потом разговор переключался на Сидни-Тёрнера. Если верить Тоби, Сидни-Тёрнер — это ходячая энциклопедия. Он всю древнегреческую литературу знает наизусть. Вообще он прочитал все хоть сколько-то стоящее из написанного абсолютно на всех языках. Он молчаливый, тощий и чудной. Днем он в гости не ходит. Только если ночью заметит у кого-то в окнах свет, подойдет снаружи и поскребется, точно мотылек на огонь. Часа в три ночи он откроет рот, и его уже не остановить — блистательный ритор. Позднее, уже познакомившись с Тёрнером, я посетовала Тоби на то, что никакого блестящего оратора я в Тёрнере не увидела, на что он процедил сквозь зубы: мол, ты (то есть я) под красноречием понимаешь остроумие, а я (то есть он) понимаю правду. Сидни-Тёрнер потому самый блистательный из всех известных ему ораторов, что он всегда говорит правду.
Поэтому не стоит удивляться тому, что, когда в дверь позвонили, нас с Ванессой буквально распирало от любопытства. Час был поздний; в гостиной висел дым; повсюду тарелки с печеньем, кофе, виски; на нас с ней не было вечерних платьев из атласа и искусственно выращенного жемчуга — вообще никаких нарядов. Тоби пошел открывать, первым в гостиной появился Сидни-Тёрнер, за ним Белл, потом Стречи.
Вошли бочком и скромно уселись на диваны, вжавшись в подушки. Сидели и молчали, не зная, как начать: привычные вежливые фразы были не к месту. То Ванесса, то Тоби, то Клайв (не помню, был ли он в тот вечер), — вообще-то Клайв всегда был готов принести себя в жертву беседе, — пробовали завести разговор, предлагали разные темы. Но все предложения гости отметали. Чаще всего в ответ слышалось короткое «нет»: «нет, не видел», «нет, не был» или еще короче: «не знаю». Беседа едва тлела — подобное было бы невозможно в гостиной на Гайд-парк-гейт. И все же молчание молчанию рознь: здесь молчали не от скуки — от работы мысли. Коль скоро планка интересных тем была поднята так высоко, то, казалось, нет необходимости снижать ее попусту. Все сидели, уставившись в пол, и тут Ванесса говорит, что была недавно на выставке живописи, и зачем-то вворачивает слово «прекрасное». Тут же один из молодых людей поднимает голову и замечает: «Все зависит от того, что вы понимаете под прекрасным». Все моментально напряглись, словно наконец-то на арену выпустили быка.
Роль красной тряпки для быка могло сыграть слово «прекрасное», «добро» или «реальность». Главное — был задан абстрактный вопрос, достойный
418
Дополнения
того, чтобы мы все свои силы бросили на его решение. Не помню, чтобы я когда-то с таким же вниманием следила за каждым шагом, за каждым поворотом в развернувшейся интеллектуальной корриде. Как старательно я налаживала свой маленький дротик и целилась, чтобы не промазать. А сколько было радости, когда твой ход засчитывали за весомый аргумент! Помню, я была на седьмом небе от счастья, когда Сэксон похвалил меня и сказал, что, по его мнению, я очень умно выстроила свою аргументацию; как будто Сэксон — истина в последней инстанции! Сейчас те интеллектуальные баталии кажутся странными. Помню, я пыталась убедить Хотри16 в том, что в литературе существует такая вещь, как атмосфера. Хотри ни в какую не соглашался, требуя доказательств: назови хотя бы одну книгу, где есть слово, обладающее, кроме значения, этим качеством — «атмосферой». Вместо ответа я пошла и принесла «Диану с перепутья»17. О чем бы мы ни спорили — об атмосфере в литературе, о природе правды, — все дискуссии шли в открытую, все выносилось на круг. Каждый мог внести свою лепту: Хотри ли, Ванесса, Сэксон, Клайв, Тоби. С замирающим сердцем я следила за головокружительными поворотами самых стойких из спорщиков, которые, словно скалолазы, взбирались все выше и выше, пока наконец не водружали на место последний камешек — неопровержимый аргумент в запредельном споре. Аты стоял у подножия горы, смутно понимая, что у тебя над головой свершается чудо. Бывало, наш кружок засиживался до двух-трех часов ночи, а мы все не расходились; Сэксон все тянул — вынет трубку изо рта, вроде хочет что-то сказать, потом снова закурит. Наконец, взъерошив волосы, выдаст одну короткую емкую фразу — точка! Все — постройка завершена, можно идти спать; ты падал в изнеможении, чувствуя, что произошло нечто важное. В твоем присутствии было доказано, что в картине есть прекрасное, а может быть, нет, — на самом деле, я толком так и не поняла.
Для нас с Ванессой эти дискуссии играли примерно ту же роль, какую в жизни студентов с первых дней учебы в университете играет общение с однокурсниками. В светских салонах Бутов и Максов нас ведь не просили упражнять мозги. А здесь мы только это и делали. И, надо сказать, те четверги потому и притягивали, что говорили мы на очень отвлеченные темы. Так получалось не только потому, что нас всех настроила на обсуждение философии, искусства, религии книга Мура;18 но и потому, что сама атмосфера вечеров — надеюсь, Хотри не возражает против этого слова — была донельзя отвлеченной. Наши гости — молодые люди — не были воспитаны в духе Гайд-парк-гейга. В споре они оценивали аргументы по существу — не важно, чьи они — наши или их собственные. Похоже, им было все равно, как мы одеты, как мы выглядим. Такое отношение моментально излечило нас с Ванессой от жуткой фрустрации, внушенной Джорджем, по поводу того, как
Вирджиния Вулф. Старый Блумсбери
419
мы выглядим и как должны вести себя в светском обществе. Нас больше не подвергали допросу и критике после очередного бала, никто больше не говорил: «сегодня ты была хороша» или, наоборот, «ты смотрелась дурнушкой»; «тебе надо научиться делать прическу» или: «когда танцуешь, постарайся изобразить улыбку»; «сегодня у тебя был успех» или «полный провал». В мире Белла, Стречи, Хотри и Сидни-Тёрнера все эти мелочи не имели никакого значения, их просто не существовало. Проводив гостей, мы с Ванессой теперь обменивались такими замечаниями: «По-моему, ты сегодня молодец — доказательно выступала» или: «Мне кажется, ты говорила невнятно». Это многое упрощало, в особенности для меня. Ведь в доме на Гайд-парк-гейт всегда царила атмосфера любви и брака. Эти темы — помолвку Джорджа с Флорой Рассел, помолвку Стеллы с Джеком Хиллзом, сердечные дела Джеральда — домочадцы мусолили в мельчайших подробностях и за закрытыми дверями, и открыто. Так, Ванессу уже заочно обручили с Остеном Чемберленом. Моя тетя Мэри Фишер, привыкшая заглядывать во все дыры, обнаружила в ее альбоме целых шесть портретных зарисовок Чемберлена и сделала вполне определенные выводы из этой находки. Джордж, в свою очередь, полагал, что в Ванессу влюблен Чарлз Тревельян... На Гордон-сквер любовь даже не упоминали — ее не существовало. К этим материям относились настолько легко, что я, например, в течение многих лет была уверена, что Десмонд19 женат на мисс Корниш, седой шестидесятилетней старухе. Мне и в голову не приходило выяснять подробности. Вообще казалось невероятным, чтобы кто-то из этих молодых людей захотел на одной из нас жениться или кто-то из нас двоих захотел бы выйти замуж за одного из наших новых знакомых. В глубине души я чувствовала, что брак — это очень при- земленно, но если уж выходить замуж, то — я осознаю всю серьезность заявления, которое сейчас сделаю, — исключительно за молодого человека, закончившего Итон20, и непременно в смокинге. Простите меня за эти слова, но, когда я оглядывала компанию молодых людей, собиравшуюся у нас на Гордон-сквер, меня не покидало ощущение, что более непрезентабельных, физически запущенных молодых людей, чем друзья Тоби, я в своей жизни не встречала. Пару раз к нам заглядывала Китти Макс, так она пришла в ужас: «Я понимаю, они очень милые, но, дорогая, что за дикий вид!» Генри Джеймс, встретив как-то Литтона и Сэксона в Рае21, сокрушался в разговоре с миссис Протеро: «Какой позор! Какое несчастье! И где только Ванесса и Вирджиния раскопали таких друзей? Только представить, что дочери Лесли спутались с такими личностями!» А для меня лучшим доказательством превосходства этих личностей как раз служили их физически невыигрышная внешность и невнимание к одежде. Более того, меня это почему-то успокаивало, внушало уверенность в будущем — ничего не изменится, возврата
420
Дополнения
к образу жизни, как на Гайд-парк-гейт, который мне так опротивел, не будет, не будет переодеваний в вечерние платья, мы так и будем всю жизнь проводить в спорах на отвлеченные темы.
Я ошиблась. В первое же лето как-то под вечер Ванесса, любуясь на себя в зеркало в полный рост, закинула вдруг руки за голову свободным движением, в котором читались и женское своеволие, и податливость, и говорит нам с Адрианом: «Скоро мы все поженимся, вот увидите»; от этих слов у меня защемило сердце — я поняла, что над нами висит дамоклов меч: мы только-только вкусили свободу и счастье, а судьба уже готовилась разметать нас в разные стороны. У Ванессы, как я догадывалась, что-то намечалось, назревала какая-то перемена, на которую я старалась закрыть глаза. И действительно, через несколько недель Клайв сделал ей предложение. Тоби в ответ на мое робкое известие мрачно заметил: «Можно закрывать четверги!» И он был прав: свадьба Ванессы в начале 1907 года подвела черту под нашими ночными бдениями. На том и закончилась первая глава Старого Блумсбери. Она была аскетичной, яркой и прорывной; лондонский свет продолжал жить на широкую ногу, а рядом затеплилась новая жизнь — маленький, да удаленький зародыш. Не считаться с ним старому свету было уже нельзя, а его гораздо более плодовитому отпрыску — Новому Блумсбери — тем более. <...>
ПРИЛОЖЕНИЯ
Н.И. Рейнгольд
«ДЕНЬ И НОЧЬ» ВИРДЖИНИИ ВУЛФ: МГНОВЕНЬЯ БЫТИЯ
Точно на все легла тень. <...> Я стала напряженно вслушиваться в журчащий за словами поток1.
В. Вулф
Не так интересны штаны, сапоги, пиджак или лицо человека, как интересно явление мышления с его процессами в голове этого человека1 2.
П.Н. Филонов
Последние двадцать пять лет имя английской писательницы Вирджинии Вулф (1882—1941) у русского читателя на слуху. И это не случайно: именно за эту четверть века на русский язык были переведены почти все ее романы — «По морю прочь» («The Voyage Out», 1915), «Комната Джейкоба» («Jacob’s Room», 1922), «Миссис Дэллоуэй» («Mrs. Dalloway», 1925), «На маяк» («То the Lighthouse», 1927), «Орландо: биография» («Orlando: A Biography», 1928), «Волны» («The Waves», 1931), «Годы» («The Years», 1937) и «Между актов» («Between the Acts», 1941). Не- переведенным до последнего времени оставался лишь роман «День и ночь» («Night and Day», 1919), самое объемное произведение Вулф.
Ныне оно предлагается вниманию читателя. Сразу отметим интересное заглавие романа: «Night and Day» переводится с английского буквально как «Ночь и день», что указывает на контраст, противопоставление ночи дню, темноты — свету, черного — белому, смерти — жизни и т. д. Но есть у этого словосочетания и переносный смысл: «night and day» — это идиома, означающая «день и ночь, день и ночь напролет, безостановочно, беспрестанно»; по-русски то же самое значение (или почти то же самое) выражается фразой: «день и ночь, неустанно». Идиома¬
1 Вулф В. Своя комната//Вулф 2012: 467.
2 Цит. по: Филонов 1988: 108.
424
Пр иложения
тическое значение неустанного движения поддержано фразой из Достоевского, которую упоенно, как заклинание, повторяет про себя героиня Кэтрин Хилбери: «Дело в жизни, в одной жизни, — в открывании ее, беспрерывном и вечном, а совсем не в открытии!» (см. с. 100—101 наст, изд.) Кстати, первоначальное заглавие романа было другим: «Dreams and Realities» («Мечты и реальность»)3.
Читатель удивится: Вулф цитирует Достоевского? Да, и этому есть объяснение. Роман вобрал в себя ее опыт чтения и размышлений о русской литературе, совпавший по времени с ее работой над этим произведением: 1915—1919 годы4. В романе немало прямых и скрытых цитат, перекличек с произведениями А.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского и интересовавшими их вопросами, которые упомянуты в тексте не ради красного словца, а сообразно логике сюжета и художественной идее автора. Ни в каком другом художественном произведении Вулф нет столь полновесных параллелей с русской литературой.
Но гораздо сильнее русской ноты в романе звучит шекспировский мотив. Если права Айрис Мердок, полагавшая, что у каждого большого английского писателя Шекспир живет в душе5, то этот роман Вулф, пожалуй, самый шекспировский по скрытым и явным отсылкам к личности и произведениям елизаветинского драматурга. (За исключением лишь «Орландо», жанр которого сама писательница определяла как биографический.)
И, пожалуй, это самый английский роман Вулф. Если угодно, роман-ретро, сравнимый с «Любовницей французского лейтенанта» Дж. Фаулза по сочно выписанным деталям и вниманию к мельчайшим черточкам быта и бытия викторианского и эдвардианского мира рубежа веков.
Именно в годы создания романа в прозе и эссеистике Вулф складывалась модернистская эстетика. Роман хранит следы напряженных поисков тех лет: как писала спустя двадцать лет Вулф, тот «роман факта», похожий на «тщательно выполненный академический рисунок», научил ее тому, «как надо выпускать — одновременно ничего не упуская» (The Letters 1975—1980/6: 216).
3 Примечательно, что большинство критиков строят свои интерпретации заглавия романа на идее разрыва между ипостасями частной и общественной жизни, молчания и коммуникабельности. М. Хасси не упоминает английскую идиому в числе возможных прочтений заглавия, отмечая следующее: «Заглавие “Night and Day” намекает на дихотомии в жизни трех главных героев — Ральфа, Кэтрин и Мэри, а также на проблему самого романа, балансирующего между “днем” и “ночью”, что бы ни означали эти понятия. Так, Мар дер полагает, что “внутренняя жизнь” Кэтрин существует отдельно от ее “светской жизни” (“life in the world”) и что суть романа состоит в изображении этой раздвоенности. Мелинде Ф. Кьюмингс интересны образы света и темноты; кто-то из критиков, в частности Рихтер, прочитывает эти образы как андрогинные. <...> Г. Ли проводит параллель между взаимоотношениями Ральфа и Кэтрин и андрогинным, слегка фантастическим браком в “Орландо” и платоническими отношениями Сары и Николаса в “Го- дах”<...>» (Hussey 1995: 190, 188).
4 См. письмо Вулф Ванессе Белл от 23 марта 1923 г. в изд.: The Letters 1975—1980/2: 339.
5 См.: Рейнгольд Н. Когда в душе живет Шекспир: у Мердок // Рейнгольд 2012: 155— 156.
Н.И. Рейнгольд. «День и ночь» Вирджинии Вулф: мгновенья бытия 425
Теперь, когда роман «День и ночь» переведен, можно сказать, что романное творчество Вулф доступно нам на русском языке полностью, без лакун. Однако до сих пор остаются непереведенными очень многие ее эссе, рассказы, жизнеописания, письма и дневники6. В России позднее относительно остального мира познакомились с творчеством писательницы7, и ее личность до сих пор остается известной широкому читателю на уровне слухов, интригующего факта ее самоубийства и еще по названию пьесы американского драматурга Эдварда Олби «Кто боится Вирджинии Вулф?» («Who’s Afraid of Virginia Woolf?», 1962).
Поскольку в романе описываются семейный быт и общественная жизнь в Англии начала XX века и многое в описании подсказано личным опытом Вулф, имеет смысл для прояснения историко-культурного контекста обратиться к воспоминаниям писательницы о ее детстве, семье, юности, и в этом нам помогут отрывки из ее очерка «Зарисовка прошлого» («A Sketch of the Past», 1940), впервые переведенного на русский язык для настоящего издания. Читатель найдет его в разделе «Дополнения». А пока попробуем соотнести историю семьи Вирджинии Вулф с родословной героини ее романа Кэтрин Хилбери.
Подобно Кэтрин, Вирджиния Вулф (в девичестве Вирджиния Аделаин Стивен, 1882—1941) происходила из литературной семьи. Ее отец сэр Лесли Стивен (1832—1904) — философ и историк, крупная величина в издательском и журналистском мире второй половины XIX века; одно из главных дел его жизни — издание «Национального биографического словаря» в шестидесяти трех томах (1882— 1890), за что ему был пожалован титул сэра. Любопытно, что первой женой Лесли Стивена была младшая дочь У.М. Теккерея Минни (в замужестве Хэрриет Мэриан Стивен, 1840—1875). Мать Вирджинии Джулия Принсеп (1846—1895) происходила из семьи, близко знавшей художников-прерафаэлитов; ее рисовали Уоттс и Бёрн-Джонс; первым браком она сочеталась с Дж. Даквортом, лондонским издателем, а в 1878 году, имея троих детей от первого брака, вышла замуж второй раз за Лесли Стивена; от этого брака у них было четверо детей. С детства Вирджиния Стивен, как и Кэтрин Хилбери, была окружена литературными знаменитостями; ее крестным отцом был Генри Джеймс (1843—1916) — кстати, некоторые литературоведы полагают, что именно с него, Генри Джеймса, списан велеречивый мистер Фор- тескью, изображенный в первой главе романа. В доме Стивенов бывали и Дж. Мередит, и Г. Джеймс, и Дж.Р. Лоуэлл, — она пишет об этом в «Зарисовке прошлого». Как справедливо скажет в некрологе на смерть Вирджинии Вулф Т.С. Элиот, Вулф воплощала собой живую традицию, связывавшую современность с предшествующей культурой (см: Eliot 1972: 119—122). И, кажется, случись Ральфу Дэнему забрести в дом Стивенов по Гайд-парк-гейт эдак году в 1903-м, он тоже, наверное, выпалил бы в лицо Вирджинии Стивен: «А не трудно жить в тени предков?»
И вот тут начинаются различия между вымышленной героиней Кэтрин Хилбери и писательницей Вирджинией Вулф. В романе герои, едва разговорившись,
6 Среди недавних публикаций см. «Дневник писательницы» и сборник «Обыкновенный читатель»: Вулф 2009; Вулф 2012.
7 Об истории переводов произведений В. Вулф в бывшем СССР см.: Reinhold 2004: 1-13.
426
Приложения
начинают пикироваться друг с другом: Ральф Дэнем наскакивает на Кэтрин, дразня ее тем, что авторитет влиятельного предка — выдающегося поэта Ричарда Элар- диса (вымышленное лицо) — закрывает перед ней дорогу к творчеству и что ее родовитость тоже не способствует самостоятельному выбору жизненного пути, а Кэтрин в ответ язвит («по-моему, я не говорила, что пишу стихи». — См. с 16 наст, изд.), но, по сути, уходит от вопроса, отговариваясь тем, что стихов она не пишет, читать не любит и вообще литература — не ее стезя.
В отличие от своей героини, выросшая «в тени предков» Вирджиния Стивен читать любила и творческим поприщем для себя избрала литературу. Печататься стала незадолго до смерти отца в 1904 году и за почти сорок лет писательской деятельности опубликовала девять романов, более 400 эссе, двухтомный сборник «Обыкновенный читатель» («The Common Reader», 1925, 1932), сборник рассказов «Понедельник ли, вторник» («Monday or Tuesday», 1921), биографии «Флаш» («Flush», 1933), «Роджер Фрай» («Roger Fry», 1940) и др. Кстати, совместно с С.С. Ко- тельянским (1880—1955) Вулф перевела на английский язык несколько произведений русских писателей;8 опубликовала почти два десятка эссе о русской литературе9. В 1917 году основала вместе с мужем Леонардом Вулфом (1880—1969) издательство «Хогарт Пресс» с богатым портфелем произведений английских, европейских, русских авторов начала XX века; оно процветает и поныне.
Возвращаясь к вымышленному диалогу Ральфа Дэнема и Вирджинии Вулф, — факты говорят за то, что Вулф на вопрос «А не трудно жить в тени предков?» ответила бы победно: «Нет, не трудно!», в отличие от закомплексованной Кэтрин Хилбери, которая открещивается от литературных пристрастий семьи и стихам предпочитает математические формулы, которые разбирает ночью, вдали от глаз посторонних, запершись в своей комнате. Но дело обстоит чуть сложнее. Да, Вулф обожала своего интеллектуала-отца (прочитаешь в ее воспоминаниях «Зарисовка прошлого» пронзительное описание того, как она приходила к нему в кабинет за очередной книгой из домашней библиотеки, и понимаешь: писательница Вирджиния Вулф — наследница идей своего отца!). Но дочерняя любовь не застила ей взор, и в приступах отцовского гнева она, уже опытная писательница, видела и нетерпимость главы семейства, которому все всегда потакали, и бессознательную привычку эмоционально шантажировать домочадцев, вымещая на них чувство досады за недостаток таланта. И все же даже это не главное! Гипотетическое сравнение героини и писательницы выявляет зазор между образом героини романа и биографическим автором: в «Дне и ночи» Вулф не занимается самовыражением — она исследует мышление. Отметим этот момент.
И, конечно, в отличие от своей героини, Вулф была всеядным читателем. «Как и многие неученые англичанки, я люблю читать все»10 — это про нее. Но она еще и понимала толк в чтении, а это, согласитесь, иное, чем быть всеядным читателем и любить книги. В эссе «Как читать книги?» («How Should One Read a Book?», 1926)
8 См.: Рейнгольд H. Русское путешествие Вирджинии Вулф // Вулф 2012: 629.
9 См. переводы всех эссе В. Вулф о русских писателях в изд.: Вулф 2012: 393—435.
10 Вулф В. Своя комната // Вулф 2012: 519.
Н.И. Рейнгольд. «День и ночь» Вирджинии Вулф: мгновенья бытия 427
она встает на точку зрения обыкновенного читателя и рассуждает о трудном, но необходимом, по ее убеждению, этапе осмысления книги:
<...> было бы глупо притворяться, будто второй этап чтения — строгий отбор и сравнение — ничуть не труднее первого, состоящего в открытом и широком впитывании разнообразных впечатлений. Конечно, это трудно — продолжать читать, когда, собственно, книга уже закончена; трудно соотносить один «архитектурный» образ с другим; еще труднее — опираясь на свой книжный багаж и понимание, вдохнуть в эти сравнения живой смысл. Однако самый трудный момент наступает тогда, когда ты пытаешься сделать следующий шаг и говорить себе: «Да, эта книга такого-то свойства, она ценна тем-то и тем-то; вот ее слабая сторона, а вот сильная; то-то не получилось, а это вышло здорово». Такой поступок требует от читателя огромных усилий воображения, обширных знаний и исключительной интуиции, что, вообще говоря, редко когда сходится в одном человеке; даже абсолютно уверенный в себе читатель едва ли будет претендовать на обладание всеми этими достоинствами сразу — скорее речь может идти о каких-то задатках (Вулф 2012: 387—388).
Последуем совету Вулф: продолжим чтение, попробуем соотнести один «архитектурный» образ с другим и, опираясь на свой книжный багаж и понимание, попробуем вдохнуть в прочитанное живой смысл.
Итак, о чем роман?
Если кратко сформулировать основную тему, «День и ночь» — роман о самоопределении мужчины и женщины. Уточним: 1900-е годы, начало XX века, — время открытий не только в физике, психологии, антропологии, но и в литературе, где шел пересмотр устоявшихся представлений о человеке.
Вулф задается вопросом: что предлагает общественная и частная жизнь женщине, англичанке (можно так сформулировать, заострив, общую тему романа) ? Молодые люди — Кэтрин, Ральф, Мэри, Родни и Кассандра — пытаются согласовать свои желания и человеческое ожидание счастья с возможностями, которые предлагает в настоящий момент общество. Причем ожидание счастья, мгновение счастья мыслится, хотя и не названо прямо, как «бытие», а возможности — скорее как небытие, рутина, быт, которые надо претерпевать. Готовых же форм, возможностей для союза счастья, или бытия с устоявшимся укладом жизни, нет. Можно ли их создать? — вот вопрос.
Примечательно, что подобными вопросами задавались и писатели — современники Вулф, и их предшественники. К ним относятся, например, литераторы так называемого поколения «новых женщин» и эдвардианцы — романисты конца XIX — начала XX века. Книги о «новых женщинах», написанные «новыми женщинами», были на слуху у Вирджинии Вулф с детства и, вероятно, прочитаны ею в подростковом возрасте. Знание ближайшей литературной традиции поможет четче выявить, что именно в тематике, проблемах, языке совпадало у нее с романами предшественников и было, следовательно, знаком времени, а что ее собственным самостоятельным шагом. И потом, как говорила Вулф, «женщины в литературе всегда мысленно оглядываются на матерей»11.
11 Вулф В. Своя комната // Вулф 2012: 502.
428
Приложения
Предшественницы и предшественники
Как известно, викторианская публика читала книги, которые выходили продолжающимися изданиями. Вплоть до начала 1890-х годов существовали две формы публикации романов: в виде трехтомника и в виде отдельных выпусков, или сериала. По объему один выпуск составлял три-четыре главы романа. (По сути, та же самая практика существовала и в русских «толстых» журналах второй половины XIX века.) На новые книги английская публика подписывалась через библиотеки, которые предлагали систему скидок и гарантировали благопристойность покупаемых изданий. Такой порядок книгораспространения сохранился в основном до 1910-х годов, когда писатели-модернисты (Э.М. Форстер, Д.Г. Лоуренс, В. Вулф и другие) уже публиковали свои первые романы.
Эти материальные обстоятельства издания книги не мог не учитывать английский романист второй половины XIX века. Викторианский прозаик вынужден был приспосабливаться к читателю, который читает роман «порциями». Зависимость романиста от системы издания книги сказывалась прежде всего на композиции. Структура викторианского романа обязательно должна была включать в себя элемент драматической напряженности, чтобы поддерживать интерес читателя, получающего роман отдельными выпусками. Можно даже сказать, что в викторианском романе на протяжении каждых трех-четырех глав должно было случаться какое-то интригующее или неожиданное событие: так читатель не «остывал» до следующей серии (примером может служить роман Дж. Элиот «Мельница на Флос- се» — «The Mill on the Floss», I860).
Интересная подробность: викторианские романы изобиловали повторами. И это понятно: автор должен был постоянно напоминать читателю о предшествовавших событиях, чтобы исключить непонимание в том случае, если читатель не был знаком с предыдущими «сериями».
Говоря языком современного литературоведения, викторианский романист вынужден был владеть некоторыми приемами рецептивной эстетики. Отсюда многословие, материал, который вводился для заполнения места, продолжительные диалоги и многосюжетный тип повествования. Объем, предоставлявшийся издателем романисту, необходимо было использовать.
Издательский процесс оказывал влияние и на поэтику викторианского романа. Последняя включала в себя несколько общих характеристик.
Преобладающим художественным методом был реализм, что не в последнюю очередь объяснялось огромной значимостью документальной, биографической, мемуарной прозы, элементы которой широко использовались в викторианском романе.
Произведения психологического реализма описывали чувства, близкие, понятные многим читателям английского среднего класса.
Викторианский роман — произведение сложной структуры. Усложнение достигалось за счет многосюжетного повествования, иронии, символики, композиционной целостности.
Одним из главных средств организации повествования была условная фигура всеведущего рассказчика. Она же отчасти определяла другую черту поэтики — тенденцию к панорамному охвату событий.
Н.И. Рейнгольд. «День и ночь» Вирджинии Вулф: мгновенья бытия 429
Викторианская литература имплицитно и явно ориентировалась на общественные ценности и институты. На страницах произведений детально обсуждались вопросы собственности, наследства, брака, христианской морали и приличий.
Викторианский роман, как сегодня говорят, по определению дидактичен. Эта черта — следствие раз и навсегда установленных, не подвергавшихся сомнению взаимоотношений автора и читателя. Основой их взаимопонимания служили общие для автора и читателя ценности, представления о классах, взаимоотношениях мужчины и женщины и т. д. Викторианский романист был уверен в своем знании аудитории. Роман не мог не быть дидактичным, поскольку был обращен к надежному адресату.
Ключевой темой были взаимоотношения человека и общества. Не случайно одна из самых распространенных жанровых форм — «Bildungsroman», или роман воспитания. Описание в нем детства, отрочества, зрелости отличалось тем имплицитным предположением, что при всех конфликтах индивида и общества герой в конце концов обретает гармонию и устойчивое социальное положение. Достаточно сравнить английский «Bildungsroman» середины XVIII века — например, драматичную «Историю Тома Джонса Найденыша» («The History of Tom Jones», 1749) Генри Филдинга — с не менее драматичным «Оливером Твистом» («Oliver Twist», 1838) Чарльза Диккенса: герои обоих романов — подкидыши благородного происхождения, жизнь и того, и другого полна перипетий, и тем не менее оба находят в финале романа счастье и достаток, за исключением маленькой подробности: у читателя Филд инга до самого конца последней, 18-й книги, нет полной уверенности в благополучном разрешении конфликта. (Впрочем, к концу XIX века заранее данной условности для романа уже не существовало, хотя по инерции некоторые писатели и в конце XIX века продолжали исходить из идеи гармонизации взаимоотношений человека и общества.)
Социальная критика играла в семантике викторианского романа существенную роль. Здесь тоже действовала общая тенденция к общественному согласию, договору, примирению. Она ясно видна, например, в романе Элизабет Гаскелл «Север и Юг» («North and South», 1855)12. Своеобразие социальной критики в прозе состояло в том, что ее задавал сам материал и она представляла собой, по сути, социальный заказ писателю. Так, отмечает оксфордская исследовательница Кейт Флинт в предисловии к книге «Романист-викторианец: социальные проблемы и социальные перемены» (см.: Flint 1987), викторианская литература середины XIX века, обращавшаяся к вопросам городской и сельской нищеты, свидетельствовала о попытках писателей понять современное общество. Она предупреждала об ужасах тифа, туберкулеза в манчестерских трущобах (между прочим, страх перед провинцией, посеянный в умах столичных обывателей романами середины XIX века, перекочевал и в век XX: читатель «Дня и ночи» наверняка обратил внимание на спор об ужасах жизни в Манчестере, описанный в первой главе, — для англичан в 1900-е годы уехать из Лондона в Манчестер было равносильно переезду россиянина из Петербурга в Таганрог на юг России, где каждое лето случалась вспышка
12 Вулф не раз обращалась в своих книгах к личности Э. Гаскелл; отметим, в частности, ее раннее эссе «Миссис Гаскелл»: Woolf V. Mrs. Gaskell//Times Literary Supplement. 1910. 29 September; см. также в изд.: Woolf 1979: 145—149.
430
Приложения
холеры), о гнилостной воде и переполненных бараках в Лондоне. Такая литература не существовала в изоляции. В те времена выходили правительственные отчеты — так называемые «Синие книги» (the Blue Books), а также множество газетных и журнальных статей и писем, памфлетов, обзоров и исследований. Романист-викторианец в избытке использовал этот документальный материал. Какими предстают женщины в викторианском романе?
Главные их заботы — это любовь, дом и семья. Женщины нравственно слабы, постоянно находятся под угрозой фатальной утраты девственности, которая определяет их порядочность. Любой намек на сексуальность опасен и, как правило, вреден. Замужество считается венцом всему: если женщина добровольно отказывается от замужества, она ставит себя вне общественной иерархии. Если писатель хочет дать героине повторный шанс выйти замуж, ему нужно придумать, как сделать ее вдовой.
Крайне редко брак выступал ненадежным средством обеспечения счастливого финала. К исключениям из правила относятся романы Э. Троллопа и У.М. Текке- рея. Троллоп вопрошал устами своих героев: если дурно быть помолвленной с человеком, которого не любишь, то почему считается честью оставаться с ним после замужества? По Троллопу, получалось, что институт брака в лучшем случае неудовлетворителен, а в худшем — зло. В «Ярмарке тщеславия» («Vanity Fair», 1847—1848) У.М. Теккерея иронически подчеркивалась значимость событий «после свадьбы»:
Когда герой и героиня переступают брачный порог, романист обычно опускает занавес, как будто драма уже доиграна, как будто кончились сомнения и жизненная борьба, как будто супругам, поселившимся в новой, брачной стране, цветущей и радостной, остается только, обнявшись, спокойно шествовать к старости, наслаждаясь счастьем и полным довольством (Теккерей 1953/1: 342).
Как тут не вспомнить высказывание Л.Н. Толстого (в пересказе Горького) о том, что «на все времена для него (человека. — Н.Р.) самой мучительной трагедией была, есть и будет — трагедия спальни»?13 На фоне таких высказываний викторианский роман казался детской сказкой.
Еще бы! Викторианская цензура14 настойчиво изгоняла из романов эротические сцены. Например, в журналах был напечатан более вольный вариант романа
13 М. Горький. Лев Толстой //Горький 1949—1955/14: 263. См. также эссе В. Вулф «Горький о Толстом» (Вулф 2012: 421—423).
14 В 1737 г. Парламент одобрил Лицензионный законопроект (the Licensing Act of 1737), означавший введение цензуры литературных произведений; непосредственным поводом для введения института цензуры послужила пьеса Генри Филдинга «Летопись 1736 года» («The Historical Register for 1736»), содержавшая острую политическую сатиру на правительство Хью Уолпола, тогдашнего премьер-министра. С тех пор институт цензуры в Англии никто не упразднял, свидетельством тому — скандальные истории о запрете романов «Морис» («Maurice», 1913, опубл. 1971) Э.М. Форстера, «Радуга» («The Rainbow», 1915), «Любовник леди Чэттерли» («Lady Chatterley’s Lover», 1928) Д.Г. Лоуренса, «Улисс» («Ulysses», 1922) Дж. Джойса, «Источник одиночества» («The Well of Loneliness», 1928) Рэдклиф Холл и др.
Н.И. Рейнгольд. «День и ночь» Вирджинии Вулф: мгновенья бытия 431
Томаса Гарди «Джуд незаметный»(«Jude the Obsure», 1896), а в книге — уже другой, пуристский.
Нелицеприятную оценку условностям и ограничениям, которые викторианское общество накладывало на писателей XIX века, Вулф изложила в ярком эссе «Наклонившаяся башня» («The Leaning Tower», 1940)15. И она же подметила любопытную особенность английского романа, которая благополучно перекочевала из XIX века в литературу 1910-х годов: в романе должно быть тридцать две главы, не больше и не меньше16.
Неизбежно в 1885—1895 годах в английской литературе разразилась полемика о реализме. Дж.О. Мур (1852—1933) в своем памфлете «Литература в колыбели, или Распространители нравственности» («Literature at Nurse: or, Circulating Morals: A Polemic on Victorian Censorship», 1885) призвал к «более реальному» реализму и тем самым вызвал дискуссию об «Искренности в английской литературе», материалы которой были опубликованы в «Нью ревью» в 1890 году.
Судя по нападкам Дж. Мура на публичные библиотеки, в 1880-х — начале 1890-х годов литературная продукция рассматривалась в качестве проводника культуры и образования, но отнюдь не как произведения искусства, обладающие художественной глубиной и сложностью. Томас Гарди справедливо замечал: «Журналы в частности и публичная библиотека в целом не благоприятствуют развитию романа, который отражал и выявлял бы жизнь»17. В результате «цензуры стыдливости» современная литература не сможет подняться до высот трагедии, «как бы ни боялась напугать до смерти дам громом нарушенных заповедей». Гарди осторожно советует, как снова сделать роман «честным». Роман будущего, предсказывает он, не будет заканчиваться «правильным финалом», что-де «они поженились и зажили счастливо». Роман займет высшее место в национальной иерархии литературных форм лишь тогда, когда будет изображать «катастрофы, основанные на взаимоотношениях полов, как они есть»18.
Большинство писателей, ответивших на призыв Дж. Мура, предложили перестроить роман, так сказать, изнутри, развивая психологизм изображения, реалистичность и художественность.
В 1890-е годы в издательском мире Великобритании произошли важные изменения. Родились новые издательства. Молодые издатели (Хайнеманн, Лейн и др.) взялись публиковать произведения на злобу дня. Финансовый риск состоял в том, что они отошли от проверенного формата трехтомного романа, издавая однотомные или двухтомные романы. Их они продавали за ничтожную цену в шесть шиллингов прямо в руки читателю (который раньше предпочитал стать членом библиотеки-распространителя, чем платить тридцать один шиллинг за трехтомный роман), и при этом тратили много денег на рекламу.
Для того чтобы осознать новизну этого предприятия, полезно вспомнить аргумент Дж. Мура из его памфлета «Литература в колыбели»: «Когда викториан¬
15 Woolf V. The Leaning Tower //Woolf 1966-1967/2: 162-181.
16 См.: Вулф В. Современная литература //Вулф 2012: 119.
17 New Review. 1890. No 2. P. 15-21.
18 Цит. по: Бушлланова Н.И. Проблема интертекста в литературе английского модернизма (проза Д.Х. Лоренса и В. Вулф). Дисс. ... д-ра филол. наук. М., 1996. С. 37.
432
Приложения
ские читатели покупали три членских билета в библиотеку, чтобы можно было взять почитать все три тома сразу, они покупали тем самым гарантию, что получают они “здоровую, полноценную” литературу, пригодную для молодого человека»19. По контрасту новые романы 1890-х годов — эти дешевые, тоненькие томики — были запятнаны эротикой и социальной вседозволенностью.
Именно в это время появилась литература «новых женщин».
Происхождение словосочетания «литература “новых женщин”» или «литература о новой женщине» (the New Woman fiction)20 историки литературы толкуют двояко. Некоторые полагают, что автором этого словосочетания была английская писательница Сара Грэнд (псевдоним Франсис Элизабет Белленден Макфолл, 1854—1943), обронившая его в своем романе «Божественные близнецы» («The Heavenly Twins», 1893): «Я (м-р Прайс. — Н.Р.) не знаток женской души. Но я знаю одно: <...> она (Эвадна Фрилинг, героиня романа. — Н.Р.) из этих новых женщин (курсив мой. — Н.Р.), что сегодня встречаются среди нас <...>». Макс Бирбом же утверждал, что «“Новая Женщина” вышла в полном вооружении из головы Ибсена, который в поздние годы отрицал свое отцовство». Официальное крещение «Новая Женщина» получила в мае 1894 года, когда Уида (Ouida, псевдоним Марии Луизы де ла Рамэ, 1839—1908) откликнулась на эссе Сары Грэнд «Новые аспекты женского вопроса», опубликованное в марте 1894 года в «Норт Америки ревью». До этого «новую женщину» называли «Novissima», «странная женщина», по роману Дж. Гиссинга «Странные женщины» («The Odd Women», 1893), «дикая женщина», «лишняя женщина». Именно Уида и выбрала из эссе Сары Грэнд фразу «новая женщина» и снабдила ее заглавными буквами:
Едва ли, я полагаю, можно оспорить то, что в английском языке сегодня выделяются два слова <...>: Рабочий и Женщина (Worker and Woman). Рабочий и Женщина, Новая Женщина, да будет вам известно, встречают нас на каждой странице, написанной по-английски, и всякий убежден в том, что от его собственного W зависит будущая судьба мира21.
Литература о «новых женщинах» отличалась от типичных викторианских романов своей откровенной провокационностью. Описывая распад брачного союза, адюльтер, свободную любовь или одинокое материнство без привычного морального осуждения, новые книги подрывали идеал женственности, на котором покоилась система викторианской морали.
При обращении к литературе «новых женщин» важно учитывать факты юридического и материального положения женщины в Англии в ХЕК веке, — прежде всего ее неравенство по отношению к мужчине. Лишенная права собственности,
19 Цит. по: Бушманова Н.И. Проблема интертекста... Дисс. ... д-ра филол. наук. М., 1996. С. 38.
20 Это словообразование, возникшее в начале 1890-х годов и означавшее новую тенденцию в поведении женщин, оказалось продуктивным для английского языка. В конце XX в. появилось словосочетание «The New Man», означавшее новую поведенческую модель представителей мужского пола: не иметь работы, жить на средства работающей жены и вести хозяйство.
21 North American Review. 1894. No 158. P. 610.
Н.И. Рейнгольд. «День и ночь» Вирджинии Вулф: мгновенья бытия 433
англичанка среднего класса вплоть до 1880 года целиком зависела от мужа или родителей. Практически запертая в родительском или мужнином доме, она не могла вести самостоятельный образ жизни — она должна была либо выйти замуж, либо быть приживалкой. Какое образование ей можно было получить? В 1886 году в Англии существовало два женских колледжа. В 1919 году англичанки добились избирательного права... Другими словами, чтобы опрокинуть систему неравенства в консервативной Англии, понадобились десятилетия яростной суфражистской борьбы. Литература «новых женщин» стала откликом на переломные изменения в положении женщин в Англии. Она описывала новые реалии, новый идеал и образ независимой женщины. Ее новый жизненный опыт.
В конце XIX века литература «новых женщин» открыто предлагала читательницам встать на путь свободного незамужнего материнства, заняться карьерой или — на бытовом уровне — начать носить короткую стрижку, удобную одежду и курить... Конечно, имидж «новой женщины» служил для массовой прессы тех лет неиссякаемым источником шуток и пародий.
Среди авторов литературы «новых женщин» следует выделить Олив Шрайнер (1855—1920), автора романа «История одной африканской фермы» («The Story of an African Farm»,1883)22, Мону Кэрд (1854?—1932), автора романа «Дочери Даная» («The Daughters of Danaus», 1894), одного из немногих произведений, где успешно сочетаются требования искусства и пропаганда суфражисток; М. Кэрд пользовалась устойчивой репутацией феминистки и журналиста с огромным полемическим зарядом. Интересна и фигура писательницы Мёнье Мюриэл Доуи (псевдоним миссис Генри Норман, 1867—1945), автора романа «Галлия» («Gallia», 1895). (Интересно, что многие писательницы, ставшие популярными благодаря романам о «новой женщине», были готовы применить теорию на практике. Так, М.М. Доуи, надев брюки и высокие сапоги, в одиночку облазила Карпаты. Джордж Эджертон (псевдоним Мэри Чэвелиты Данн, 1859—1945) сама зарабатывала себе на жизнь, объездила три континента, дважды была замужем; Олив Шрайнер путешествовала по Англии, Европе и Южной Африке, занималась политикой.)
Литературные критики того времени выделяли два основных типа литературы «новых женщин». Первый, названный Хью Статфилдом «пуристской школой» (Stutfield 1987: 104—117), включал произведения Сары Грэнд, Гранта Аллена (1848— 1899) и др. Все писатели этой группы придерживались взгляда, что женский идеал существует, что женщины действительно занимают другую, хотя и равно значимую, область в жизни в сравнении с мужчинами и что «чистота» — это высший принцип (имелась в виду чистота истины, личной цельности и свободы, неизбежно приводившая к столкновению с социальными условностями.)
Другой тип литературы «новых женщин» получил название «невротической школы» и связан в первую очередь с Джордж Эджертон и ее книгой рассказов «Тональности» («Keynotes», 1893). Рассказы Дж. Эджертон, как правило, основаны на личном, разнообразном и даже экзотическом опыте. Писательница родилась в Австралии, образование получила в Германии, работала сиделкой и до приезда в
22 Интересно отметить эссе В. Вулф «Олив Шрайнер»: Woolf V. Olive Schreiner //The New Republic. 1925. 18 March; см. также в изд.: Woolf 1979: 180—183.
434
Приложения
Англию жила в Америке, зарабатывая себе на хлеб. С Генри Хиггинсом Эджер- тон уехала в Норвегию, там выучила норвежский язык и увлеклась литературой. Впоследствии Хиггинс стал прототипом многих ее героев. После его смерти она вышла замуж за канадца, жила в Ирландии, затем переехала в Лондон, где занялась литературной деятельностью. Ее первый сборник рассказов «Тональности», опубликованный в издательстве Джона Лейна в оформлении О. Бердслея, вызвал сенсацию, благодаря ассоциациям со скандинавской литературой и образу «новой женщины». После «Тональностей» Эджертон написала книги «Диссонансы» («Discords», 1894) и «Колесо Господа» («The Wheel of God», 1898). Она работала также журналисткой и театральным агентом, в частности, у С. Моэма, Дж. Б. Шоу и Дж. Барри. В своих книгах она иногда использовала атрибуты имиджа «новой женщины» — сигарету, велосипед, французский роман. Но главное в ее текстах — это изображение чувственной женщины, безразличной к столь ценимой викторианцами чистоте.
Об общих чертах литературы «новых женщин» говорить трудно отчасти потому, что единой литературной школы или единого направления не было. Существовало несколько общих тем, выделялись некоторые общие характеристики. Например, редкий автор не подчеркивал ключевую роль образования и чтения. Героини прозы о «новых женщинах» нередко хвалились оксбриджским образованием23 — например, героиня книги Г. Аллена «Женщина, добившаяся своего» («The Woman Who Did», 1895) училась в Гэртоне24, а Галлия из одноименного романа М.М. Доуи — выпускница одного из оксфордских колледжей. И все-таки более важная характеристика героинь произведений о «новых женщинах» — это не образование, а их страсть к чтению. По ходу повествования в романе «Божественные близнецы» Эвадна прочитывает Милля, Филдинга, Смоллетта, Золя, Доде, Жорж Санд, Флобера... Мона Кэрд в «Дочерях Даная» внушает читателю, что для Адрии не было более приятного развлечения, чем бесстрастное обсуждение произведений Эмерсона и Торо, тогда как героини Эджертон затмевали всех остальных тем, что так и сыпали цитатами из Стриндберга и Ницше, чьи произведения они, разумеется, читали на языке оригинала.
Другая общая черта героинь прозы о «новых женщинах» — откровенность в обсуждении эротических тем. Идеалом в то время считалось называть вещи своими именами, и редкая из героинь не стремилась к этому. Они возводили откровенность в описании своих физических реакций в главный принцип, а подчеркнутая будничность тона имела целью поразить читателя. «Подойди ко мне и сядь на минутку, — приказывает Галлия, героиня романа М.М. Доуи, человеку, которого любит. — Я хочу понять, что я чувствую, когда ты рядом» (Dowie 1895: 47). (Впрочем, в сравнении с современной литературой начала XXI века, откровенность прозы «о новых женщинах» более чем относительна.)
23 «Оксбридж» — сокращенное название двух старейших английских университетов — Оксфорда и Кембриджа; впервые его употребил У.М. Теккерей в романе «Пен- деннис» («Pendennis», 1849) для обозначения вымышленного университета.
24Гэртон — один из двух колледжей для женщин, основанных в 1860-е годы в Англии. Второй колледж называется Ньюнем (Newnham).
Н.И. Рейнгольд. «День и ночь» Вирджинии Вулф: мгновенья бытия 435
Устойчивый мотив литературы «новых женщин» — критика замужества и брака.
Другая общая и на первый взгляд удивительная тема — это неврастения, болезни, смерть. Депрессия, сумасшествие и самоубийство были логическим концом для женщины, запертой в четырех стенах, или же, наоборот, становились платой за чрезмерные попытки «новой женщины» стать эмансипированной. Герминия в романе Г. Аллена покончила с собой; Эвадна у Сары Грэнд и Адрия у Моны Кэрд проявляют склонность к суициду. Авторы произведений о «новых женщинах» явно предпочитали мрачную атмосферу.
В целом литература «новых женщин» стремилась решить два вопроса: во-первых, предложить моральные и социальные аргументы в пользу более высокой степени эмансипации и, во-вторых, продемонстрировать, насколько глубоко укоренены верования и условности, угнетающие женщин. Общая модель романа о «новой женщине» тяготеет к двучастности: вначале показано, как героиня приходит к осознанию идеалов свободы и равенства на основании своих наблюдений над обществом, а затем следует описание того горького опыта, который она наживает, пытаясь применить свои идеалы на практике. Конец обычно отмечен усталостью и разочарованием героини.
Кроме вопроса брака, остро стоял экономический вопрос. Часто он увязывался с новыми общественными ролями мужчины и женщины, а также с идеями социализма (как, например, в романе Н.Г. Чернышевского «Что делать?»). Так, в романе Джейн Хьюм Клэппертон (1832—1914) «Маргарет Дэнмор, или Дом социалистки» («Margaret Dunmore: Or, A Socialist Home», 1888) Маргарет руководит школой, которая одновременно и коммуна, «дом». Ее «семья» — это две супружеские пары и их дети, бывшая проститутка, вдова-социалистка, ныне работающая свободным художником.
Одна из самых значительных фигур среди авторов, писавших о «новой женщине» 1890-х годов, — Сара Грэнд. Ее роман «Божественные близнецы» появился как раз на рубеже старой и новой издательской практики. По своей проблематике он принадлежал новому десятилетию. Развитие сюжета в романе определялось характерами, которые несли в себе значительную долю позитивизма и натуралистической эстетики. Позитивизм сказался в предположении, что жизнь должна строиться на разумных основаниях и быть подчинена созданию разумных, здоровых и полезных вещей. Позитивными должны быть книги, воспитание, брак, семейные взаимоотношения, законы в обществе и т. д. Драматический конфликт в романе проистекает из последовательно реализованной в судьбах и характерах героев идеи, что общество нездорово и все формы его существования уродливы, болезненны и трагичны. Что, конечно, ставит роман в ряд произведений европейского натурализма рубежа веков.
Эвадна Фрилинг, умная, начитанная, самостоятельная девушка, с блестящим будущим, которое суждено ей природными задатками, превращается в истеричку, потенциальную самоубийцу, — ее преследует маниакальный страх родить урода. Почему? Ее выдали замуж за человека, который нравился ей до свадьбы, но которого она совсем не знала, — майора Джорджа Колкуэхайна. В день свадьбы она получила письмо с доказательством того, что ее муж — развратный человек с недостойным прошлым. И тут вступают в действие социальные законы: развестись
436
Приложения
она не может; не жить с мужем ей нельзя — родители против, особенно отец. Эвад- на выбирает болезненный путь: официально жить с мужем, не имея с ним супружеских отношений. Через несколько лет эта сильная многообещающая натура превращается в пассивное, раздражительное существо. А ее подруга Эдит Билл выходит замуж за сэра Мозли Ментейта, больного сифилисом распутника; рожает урода, сходит с ума и умирает.
К концу 1890-х годов образ «новой женщины» претерпел изменения. Фактически он превратился в комичный персонаж, предмет пародий.
В поздневикторианских романах начала 1900-х годов перед эмансипированной женщиной ставилась уже другая цель — возвратиться к домашнему очагу. Такова судьба, например, у героини романа Герберта Уэллса «Анна-Вероника» («Ann Veronica», 1909), которая уезжает из дому, чтобы получить степень по биологии в Импириал-колледже, присоединяется к суфражисткам, а в конце приходит к следующей жизненной мудрости:
Женщина хочет надежного союза с мужчиной, с мужчиной, который лучше ее. Она хочет этого, и такой союз ей нужнее всего на свете. Может быть, это нехорошо, несправедливо, но так оно есть. Не закон, не обычай установили это, оно не навязано мужчинами силой. Просто таков порядок вещей. Женщина хочет быть свободной, она хочет гражданских прав и экономической независимости, чтобы не оказаться во власти мужчины, если это не тот, который ей нужен. Но только Бог, создатель вселенной, может изменить этот порядок и помешать ей быть рабыней того, который ей нужен (Уэллс 1964/9: 213—214).
Идеал, в общем, известный: место женщины определено природой — быть дома, рядом с надежным мужчиной. И все же влияние традиции «новых женщин» видно в том, что женщина, отчасти защищенная законом, отныне выбирает свое положение более свободно, чем раньше. В частности, литература «новых женщин» предлагала женщине эмансипацию и адюльтер, образование и суфражизм, — и вот этот сценарий подвергает анализу в своем романе «День и ночь» В. Вулф.
Писатели первого ряда, бравшиеся за сходные темы — Джордж Элиот в романах «Адам Бид» («Adam Bede», 1859) и «Миддлмарч» («Middlemarch», 1871—1872) и Томас Гарди в «Тэсс из рода Д’Эрбервиллей» («Tess of the D’Urbervilles», 1891), — создавали высокую трагедию о судьбе современной женщины. Тему брака и взаимоотношений мужчины и женщины Томас Гарди поднимал еще в середине 1890-х годов. Когда в 1894 году редакция «Нью ревью» попросила Гарди высказать мнение о добрачном половом воспитании молодого человека, он высказался в пользу «простого справочника по физиологии», заметив, что вопрос в любом случае неверно поставлен:
Вы не задаете главного вопроса: является ли брак в том смысле, в каком мы его понимаем, столь уж желанной целью для женщин, какими мы себе их представляем? Сумеет ли цивилизация избежать унизительного обвинения в том, что <...> ей не
0<5
удалось создать элементарную удовлетворительную схему для соединения полов» . 2525 Hardy Th. The Tree of Knowledge //New Review. June 1894. P. 681.
Н.И. Рейнгольд. «День и ночь» Вирджинии Вулф: мгновенья бытия 437
А два года спустя он с грустью писал Флоренс Хенникер: «Серьезно, я не вижу никакой возможной схемы для союза полов, которая была бы хоть сколько-то удовлетворительной»26.
Эдвардианцы же — Уэллс, Беннет — предлагали женщине вернуться «в строй», в семью.
Писатели «новой волны» тогда еще не выступили с какими-то сильными произведениями о развитии взаимоотношений женщины и мужчины: «Радуга» Лоуренса была запрещена, «Влюбленные женщины» были только в проекте, Джойса эта тема не интересовала...
Возвращаясь к роману «День и ночь», — наследницей идей «новых женщин» в нем выступает Мэри Дэчет, дочь священника из далекой северной провинции, получившая образование в колледже, умница, существо общественное, суфражистка. Ее судьба — одна из основных сюжетных линий романа.
Замужество, семья, традиционные ценности — путь, который предлагали женщине эдвардианцы, — в романе воплощает Кассандра Огуэй, девушка, поначалу увлекающаяся всем подряд, от игры на фортепьяно до выращивания у себя в комнате шелкопрядов, но, как показывает ход событий, вполне довольная браком с Уильямом Родни, ученым поэтом и по совместительству клерком в Министерстве образования.
Героиней же «на распутье», в сомнениях насчет жизненного выбора в романе выступает Кэтрин Хилбери: именно она несет на себе груз авторских размышлений о судьбе современной женщины27.
Но есть в романе и более острый нерв. Обратимся к предыстории произведения.
«День и ночь»:
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
Существуют три прижизненных издания романа: первое вышло в 1919 году в лондонском издательстве «Дакворт»; второе, американское, появилось год спустя, в 1920-м, в издательстве «Джордж X. Доран». Третье издание опубликовано в «Хо- гарт Пресс» в 1938 году. Примечательно, что роман этот был вторым, и последним, произведением Вирджинии Вулф, которое было напечатано, если можно так
26 Hardy Th. Letter of 1 June 1896 to Florence Henniker//Hardy 1972: 51.
27 M. Хасси находит параллель с романом Л. Вулфа «Мудрые девственницы» («Wise Virgins», 1914), полагая, что «необычность романа “День и ночь” объясняется тем, что он представляет собой отклик и комментарий на “роман с ключом” (roman à clef) “Мудрые девственницы”» (Hussey 1992: 127). Оба романа исследуют, по мнению Хасси, условности, которые сопровождают отношения противоположных полов, и пагубное их влияние на молодое поколение, представленное в романе Л. Вулфа двумя героинями — Кэтрин и Камиллой.
438
Пр иложения
выразиться, «на стороне», т. е. не собственными силами четы Вулфов в основанном ими издательстве «Хогарт Пресс».
Источником первого, даквортского, издания романа послужила рукопись Вирджинии Вулф под первоначальным названием «Dreams and Realities» («Мечты и реальность»), от которой сохранилась лишь одна страница, датированная 6 октября 1916 года.
В письме 1930 года к Этель Смит Вулф вспоминала о том, что она сочинила «День и ночь», «когда у нее был постельный режим и врачи разрешали ей писать только по полчаса в день» (The Letters 1975—1980/4: 231). Восемь лет спустя в письмах к Ф. Морреллу и его жене леди Оттолайн Моррелл она повторила эту мысль (The Letters 1975—1980/6: 212, 216). Основываясь на воспоминаниях писательницы, вулфоведы полагают, что она начала писать свой второй, и самый длинный, роман в начале 1915 года. Кроме того, из дневниковых ссылок на «историю бедной Эф- фи» (The Diary 1977—1984/1:4) и на «третье поколение» (The Diary 1977—1984/1: 19) следует, что первоначальное имя Кэтрин Хилбери было Эффи (Effie).
Впрочем, Эффи интересна нам не столько именем28, сколько тем, как Вулф объясняла свой замысел романа. Существует дневниковая запись о том, что она хотела поспорить с Леонардом Вулфом, искала доводы против общественно-политической деятельности. А это было, повторяю, в 1915 году, в разгар войны, что равносильно аргументации в пользу пацифизма! А это уже очень интересно, ведь среди друзей Вирджинии Вулф и ее сестры художницы Ванессы Белл были те, кто в порыве патриотизма записался добровольцем на фронт и погиб. Например, поэт Руперт Брук (1887—1915), о чьих посмертно опубликованных стихах Вулф написала статью;29 поэт и философ Т.Э. Хьюм (1883—1917)... Были и те, кто ушел на фронт, выжил, но на всю оставшуюся жизнь остался покалечен войной: те же Дэвид Джонс, Герберт Рид и другие. И, наоборот, кто-то из близких друзей Вирджинии и Ванессы (Литтон Стречи, Данкан Грант) занял позицию неучастия в войне, часто идя на прямой конфликт с властью, подобно Д.Г. Лоуренсу. Так что весьма возможно, что «безрадостная философия» книги, как выразился Леонард Вулф (The Diary 1977—1984/1: 259), сложилась в романе как итог размышлений Вулф над разумными основаниями для отказа человека участвовать в общественной деятельности, направленной против человека30.
Попробуем «приложить» к роману тему пацифизма, понятую шире как неучастие человека «в любых формах общественной деятельности», — мы увидим, что таких сюжетных линий несколько. Это кузен Кэтрин Сирил Элардис, который, свободно живя с женщиной, родившей ему двоих детей и ожидающей третьего,
28 Хотя оно тоже интересно в связи с тем, что Ральфа Дэнема сравнивают с Дж. Рёс- кином, который был женат на Эффи Грэй (1828—1897).
29 Review of «The Collected Poems of Rupert Brooke, with a Memoir, by Edward Marsh» // Times Literary Supplement. 1918. 8 August.
30 Через 20 лет, в 1938 г., накануне Второй мировой войны, Вулф напишет эссе «Три гинеи» («Three Guineas», 1938) — своеобразное открытое письмо в защиту активного пацифизма.
Н.И. Рейнгольд. «День и ночь» Вирджинии Вулф: мгновенья бытия 439
так сказать, добровольно выпал из социальной иерархии. Это другой ее кузен, Генри, который уехал в тихий провинциальный городок Банги и дает частные уроки музыки. И это, наконец, Ральф Дэнем, который, будучи слишком умен для того, чтобы ждать пятьдесят лет продвижения по службе и тратить лучшие годы, силы, идеи на мышиную возню в адвокатской конторе, решает уехать в деревню, чтобы писать книгу. Кстати, примерно так и поступили в годы Великой войны некоторые английские интеллектуалы — Данкан Грант, Клайв Белл: уехали в деревню, выращивали овощи, кормились с огорода и писали — кто книги, кто картины.
Наконец, с этой темой связана сюжетная линия, изображающая деятельность суфражистской конторы, в которой на добровольных началах работает Мэри Дэчет. Эта картина подана в романе с нескрываемой иронией, переходящей в сарказм. И что интересно, мысль об ограниченности любых форм общественной деятельности (в том числе политической) в романе высказывает отец Кэтрин Хил- бери, человек старой викторианской закваски:
— Правда, странно, что чужой энтузиазм, вместо того чтобы вдохновлять, обычно отпугивает? — продолжал свою мысль мистер Хилбери, довольный ответом дочери. — Никто так не разубеждает в правоте дела, как его увлеченные сторонники. Ты вроде и сам хотел бы гореть тем же энтузиазмом, однако стоит увидеть всеобщее единодушие, как всякое желание быть заодно с другими пропадает. Во всяком случае, со мной было именно так. — И, очищая яблоко, он стал рассказывать им о том, как когда-то в молодости его попросили выступить на одном политическом собрании, и он, воодушевившись, туда отправился; но потом получилось так, что, слушая речи своих руководителей, он засомневался в идеалах, которые еще недавно собирался отстаивать, а к концу и вовсе перешел в противоположный лагерь, если можно так сказать; все кончилось тем, что он сказался больным, чтобы не выставлять себя на посмешище, и больше никогда не выступал ни на каких политических митингах: одного раза ему хватило (с. 79 наст. изд.).
Возникает вопрос: откуда эти ирония и скепсис по отношению к борьбе за права женщин у Вулф, известной своими профеминистскими взглядами? Позволю себе высказать предположение: шок войны и поднявшаяся волна патриотизма заставили Вулф пересмотреть свое отношение к общественной деятельности. Похоже, она увидела тщетность любых попыток изменить уклад и неравенство. Пыталась всмотреться в психологию людей.
На первый взгляд, в романе нет и следа обсуждения войны. Недаром современники, не стесняясь, упрекали Вулф в забвении наболевшей темы, в интеллектуальном снобизме. Современная Джейн Остен! Пишет вне времени, точно и не было войны, бросает ей в сердцах Кэтрин Мэнсфилд в своей рецензии «И плывет корабль в тихую гавань», которую читатель найдет в разделе «Дополнения». (Кстати, сравнение с Остен, призванное, по мысли Мэнсфилд, подтвердить пренебрежение Вулф к актуальным событиям общественной и частной жизни, не совсем исторически корректно: дело в том, что в романах Остен, написанных вовсе не на злобу дня, есть тем не менее наблюдения о состоянии умов в Англии в начале XIX века
440
Пр иложения
после французской революции, когда страна была наводнена добровольными шпионами, истово следившими за соседями.) Но так ли уж справедливы эти упреки в адрес Вулф?31 В литературе молчание порой красноречивее слов; и, наверное, важно помнить, что у Вулф была своя система координат в том, что касается измерения температуры в обществе: от нее трудно ждать, что она будет описывать военные действия или судьбы солдат, вернувшихся с фронта (дальше образа Септимуса в «Миссис Дэлоуэй» и кратких упоминаний о войне во второй части романа «На маяк» она не пошла — видимо, принципиально не писала о том, что сама не пережила). Но ее шкала ценностей от этого не становится менее значимой, и догадаться о том, какова эта шкала, мы можем по эпизоду из 1-й главы «Своей комнаты», где рассказчица размышляет о том, насколько изменились с войной 1914 года взаимоотношения мужчин и женщин, иронически подмечая разочарование в «наших законодателях», т. е. идеологах общества, констатируя факт утраты иллюзий как в общественной, так и в частной жизни, в личных взаимоотношениях. Война легла тенью на всю систему человеческих ценностей, и устами рассказчицы Вулф задается вопросом «почему?», «почему изменились отношения людей?»:
31 Небольшой комментарий из серии «критика критики». Вдумчивый читатель, наверное, обратит внимание на морские образы, которые К. Мэнсфилд использует в своей рецензии: корабль, рейд, яхта. Откуда морская тематика? Одно объяснение лежит на поверхности: она подсказана первым романом Вулф «По морю прочь» («The Voyage Out») о трагической судьбе молодой девушки Рэчел Винрэс, который Мэнсфилд оценила положительно. Но если копнуть глубже, то обнаружится любопытная подробность: сравнение книги или писательницы с великолепной яхтой подсказано самим романом «День и ночь». Сначала миссис Хилбери, вспоминая с ностальгией женщин прошлого, роняет такие политически некорректные, как сказали бы сегодня, слова:
<...> в былые годы женщины, Кэтрин, сто очков вперед дали бы твоим суфражисткам! Закрою глаза и вижу: парк вокруг Мэлбери-хаус, и там на лужайках прогуливаются дамы в платьях с оборками и рюшами; выступают, словно павы, с невозмутимым, царственным видом, и за каждой семенит ручная обезьянка и ковыляет чернокожий карлик — будто и нет в жизни другой заботы, как охорашиваться да смотреть сверху вниз благосклонным взором. Но, ей-богу, Кэтрин, им удавалось то, что нам и не снилось! А все потому, что были личностями — личностями! — это важнее, чем суетиться, стараясь всюду поспеть. Мне они кажутся прекрасными яхтами: держатся прямо, полны достоинства, идут своим курсом, никого не оттесняя, твердо держась своей линии, не расстраиваясь по пустякам, одно слово — яхта под белым парусом. Нам до них далеко!» (с. 90 наст, изд.)
Затем влюбленный Ральф сравнивает Кэтрин с парусником под ветром, вспомнив известный образ из комедии У. Конгрива «Так поступают в свете» («The Way of the World», 1700). Австралийка К. Мэнсфилд наверняка сочла такие заявления о суфражистках и английских аристократках вредными и лживыми. Читая же роман сегодня, сто лет спустя, мы скорее готовы увидеть широту мысли и чувства в высказываниях героев Вулф о прошлом и настоящем.
Н.И. Рейнгольд. «День и ночь» Вирджинии Вулф: мгновенья бытия 441
Точно на все легла тень <...> Я стала напряженно вслушиваться в журчащий за словами поток. Да, вот оно, вот что изменилось. До войны на таких званых завтраках люди говорили вроде то же самое, но звучало это иначе из-за мелодичного, волнующего, невнятного напева, который был дороже любых слов <...> Неужели женщины это напевали на званых завтраках перед войной? <...>
И все же почему, настаивала я, шагая напрямик, мы больше не напеваем тихо на званых завтраках? Почему умолк Альфред:
Ко мне, моя любовь, отрада?
И Кристина не отзывается:
Мое сердце — воля и радость
От любви, нахлынувшей полно?
Обвинять ли войну? Пушки ударили в августе 1914-го — и лица мужчин и женщин предстали такими подурневшими в глазах друг друга, что романс оборвался? Конечно, было страшным ударом увидеть лица наших законодателей при свете рвущихся бомб, особенно женщинам с их иллюзиями относительно культуры, цивилизованности и пр. Какими безобразными они показались — немцы, англичане, французы, какими тупыми! Но как бы то ни было, иллюзия, вдохновлявшая Теннисона и Кристину Россетти так страстно петь о любви, ныне редкость. Достаточно оглянуться вокруг, почитать, прислушаться, вспомнить (Вулф 2012: 467—469).
Судя по этим параллельным местам («точно на все легла тень», «журчащий за словами поток», «иллюзия», «романс оборвался», «лица наших законодателей при свете рвущихся бомб» и т. д.), Вулф интересовала тонкая материя человеческих связей, умонастроений, надежд, очарований — в этом смысле права Дж. Маркус, когда замечает, что «для Вулф силы тьмы ассоциируются с патриархами», или, другими словами, «законодателями» (Marcus 1987: 29). Другое дело, что гендерных импликаций в романе скорее всего нет. Вулф ставит более общий вопрос: почему и как изменился «журчащий за словами поток», что сталось с «мелодичным, волнующим, невнятным напевом, который был дороже любых слов»?
Другими словами, роман «День и ночь» — о недавнем прошлом, которое перечеркнула война.
Время и место
Время действия в романе — приблизительно 1908 год — определяется по указанию на законодательство 1908 года о восьмичасовом рабочем дне шахтеров. В самом начале романа хозяйка дома миссис Хилбери бросает Ральфу Дэнему примечательную фразу: «Ведь нельзя же все время думать только об аэропланах и угольных шахтах!» Эта тема получает продолжение в гл. 16, в эпизоде беседы Кэтрин с кузеном Генри.
442
Приложения
— Генри, тебе известно, откуда берется уголь? — спросила она, помолчав. <...>
— Ты когда-нибудь был в шахте? — не унималась она.
<...> зная, какая она любительница фактов, (Генри. — Н.Р.) принялся с жаром рассказывать ей про угольные шахты.
И вот они вдвоем спускаются в шахтерской клети в забой, — откуда-то снизу, из-под земли доносятся ухающие звуки, вдоль клети что-то шуршит, точно мыши возятся за стенкой <...> (с. 151—152 наст. изд.).
Конечно, эта привязка к фактам не означает, что в романе описывается именно 1908 год, — особенно если помнить об ироническом отношении Вулф к наивному фактографическому взгляду на литературу, якобы описывающую реальные события32. Тем не менее в сочетании с многими другими подробностями: суфражизмом, указанием на то, что женщины еще не получили избирательное право, нелицеприятным отзывом о Герберте Генри Асквите (1852—1928), британском государственном и политическом деятеле, премьер-министре Великобритании от Либеральной партии в период с 1908 по 1916 год; ссылками на первые переводы романов Толстого и Достоевского; «лошадными» средствами передвижения и т. д., время в романе — это предвоенные годы, за несколько лет до начала Первой мировой войны.
Место действия — Лондон. Исключение составляют несколько рождественских эпизодов в Линкольншире, описанных в главах 15—20; остальное пространство романа представляет собой урбанистический ландшафт Лондона и его пригородов в 1900-е.
Топонимика романа поражает: десятки улиц, дюжины площадей, местечки, переулки, набережные — кажется, роман следует читать, держа перед глазами карту Лондона. Настоящая лондонская сага Вирджинии Вулф! (Есть мнение о том, что главный роман Вулф о Лондоне — это «Миссис Дэллоуэй» (1925), и Вулф написала его в пику Джойсу, воспевшему в «Улиссе» (1922) Дублин. Внесем поправку: свой первый роман о Лондоне Вулф написала именно в 1919 году, и это «День и ночь»33.)
32 Вот один из примеров авторской иронии по отношению к наивной фактографии в художественном произведении: «Все говорят, литература должна придерживаться фактов, и чем факты точнее, тем она правдивее. Поэтому пусть — стояла осень, и листья желтели и падали, разве чуть быстрее, чем раньше, наступил вечер (точнее, семь часов двадцать три минуты), и подул ветер (не какой-нибудь, а юго-западный). Но что-то странное творилось вокруг...» [Вулф В. Своя комната //Вулф 2012: 469—470).
33 Интересно, что вулфоведы закрывают глаза на топонимику романа. Так, С. Сквайр полагает, что Вулф модифицировала классический городской роман, восходящий к Фил- дингу: «<...> Она отождествила город с идеей честного труда и добродетели, а сельскую Англию — со светским досугом и если не с пороком, то по крайней мере с мелочностью и нечестностью» (Squire 1985: 78). В интерпретации Сквайр роман — это прежде всего история Мэри Дэчет, представляющая собой вывернутую наизнанку «традиционную спиралевидную историю про ищущего приключений молодого человека, что преображает классический городской роман и помимо всего прочего приспосабливает модернистские урбанистические образы к феминистским темам» (Squire 1985: 87).
Н.И. Рейнгольд. «День и ночь» Вирджинии Вулф: мгновенья бытия 443
Пройдемся мысленно по местам, описанным в романе.
Открыв первую главу, мы попадаем вместе с Ральфом Дэнемом в лондонский район Челси, в респектабельный дом Хилбери на Чейн-уок, рядом с набережной Темзы. Здесь, в самом центре, живет Кэтрин Хилбери. Мелькают названия фешенебельных столичных улиц — Тайт-стрит, Кэдоган-сквер, Кингз-бенч- уок... Потом, без всякого перехода, нас забрасывают в Хайгейг — бедный пригород на севере Лондона. В Хайгейге живет Ральф Дэнем, и, чтобы из Челси ему добраться до Хайгейта, он должен сесть в лондонскую подземку в районе Найтсбриджа (здесь расположен клуб, куда вечером ходит обедать мистер Хилбери) и ехать поездом минут сорок. Из Хайгейта мы снова переносимся в центр Лондона, но не в исторические или богатые его кварталы, а туда, где живет демократическая публика — богема, художники, поэты, клерки: мы оказываемся в Блумсбери начала XX века, в районе неподалеку от Британского музея, рядом с Рассел-сквер. Именно здесь помещается суфражистская контора, где служит Мэри Дэчет. Живет она недалеко, раз пешком ходит от Холборна сначала по Линкольнз-инн-Филдз, потом по Кингз-вей и дальше по Саутгемптон-роу, откуда рукой подать до ее конторы на Рассел-сквер. Ее дом (две съемные комнаты) находится в двух шагах от набережной Темзы и Стрэнда. Когда Кэтрин Хилбери заходит к Мэри в ее контору на Рассел-сквер, то домой она возвращается по Тотнем-Корт-роуд. А Уильям Родни, который служит в комитете по образованию на Уайтхолл-стрит — это в самом центре правительственного квартала, — живет в уютной квартирке в восточной части города. Детские воспоминания миссис Хилбери связаны с районом, примыкающим к Гайд-парку: это Кенсингтон-Хай-стрит, парк вокруг Мэлбери- хауса... Ральф Дэнем служит в адвокатской конторе «Грейтли энд Хупер»34, что на Линкольнз-инн-Филдз, — это неподалеку от Рассел-сквер, где работает Мэри, поэтому они иногда встречаются во время обеденного перерыва... В выходные дни Ральф ездит в Илинг, на окраину Лондона, — там живет мисс Троттер, знаток интересующей его геральдики. В Уокинге (это город в графстве Суррей, что неподалеку от Лондона) живет тетя Кэтрин Хилбери, миссис Кошем, иногда наезжающая с визитами к родственникам в Челси. Герои гуляют по садам Кью, оказываются на Чэринг-Кросс-роуд, забредают в южный Кенсингтон на Кромвель-роуд. Отправляются в зоологический сад, что рядом с Риджентс-парком. На выходные уезжают за город на природу — в Хэмптон-Корт, Гринвичский парк, в Портленд- плейс. А захотят — так махнут в Кэмберуэлл, в Сидкап или в Уэлш-харп! Ральф Дэнем может отшагать огромное расстояние пешком от зданий Парламента, вниз по Гросвенор-стрит до Челси, а Кэтрин Хилбери может отправиться на Большую Куин-стрит — купить в магазине канцелярских принадлежностей карту Норфолка — и потом дойти до главной магистрали Кингз-вей. В минуту наши герои берут извозчика и мчатся от Хэверсток-хилл через Слоун-стрит до Чейн-уок в Челси; возвращаясь из загородной поездки, едут поездом до вокзала Ватерлоо. Могут прокатиться с ветерком от Линкольнз-инн-Филдз до собора Св. Павла, а потом
34 В гл. 31 романа название конторы изменено на другое: «Хоупер энд Грейтли», и это едва ли опечатка, скорее, след авторского письма, который воспроизводится во всех переизданиях источника.
444
Пр иложения
помчаться по Уайтхоллу до Чейн-уок. Оказавшись на рассвете возле старинного местечка Темпл-бар, что на Чансери-лейн, овеянного славой рыцарей-тамплиеров XII века, они бредут тихими улочками вдоль реки, до самого дома на Чейн-уок.
Лондон — едва ли не главный герой этой саги Вирджинии Вулф.
Что же, правы те, кто полагает, что ее творчество — узконациональное явление? Как пишет Мария Дибаттиста, ссылаясь на некролог в память о Вулф Стивена Спендера, «Вирджиния Вулф вошла в мировую литературу в образе лондонской провинциалки — романистки из Блумсбери» (DiBattista 2004: 19).
С этим мнением трудно согласиться: не ради местечковых или поэтических красот изображен в романе Лондон.
Викторианские Монтекки и Капулетти
В романе есть два центра притяжения, два пространственных полюса — Челси и Хайгейт, они же два социальных полюса Лондона. Челси — среда обитания состоятельного среднего класса; Хайгейт — место прозябания трудящихся (хотя Дэ- нем и называет себя гордо «средним классом»). Это материально и имущественно неравные полюса — состоятельные Хилбери и бедные Дэнемы; исторически сложившееся прошлое, воплощенное в родословной Элардисов-Хилбери, их семейной традиции, и настоящее в лице Дэнема и его еврейской родни (Hussey 1995: 188)35. Эти полюса отмечены говорящими фамилиями: по одну сторону Хилбери (от англ, «hili» — возвышенность) — потомственные литераторы, аристократы духа, сливки общества, высший средний класс, согласно английской табели о рангах. По другую — Дэнемы (от англ, «den» — берлога) — многодетное семейство, «рабочие лошадки», английский низший средний класс. (Не пропустим эту интересную черточку комического романа — говорящие имена героев; вообще надо заметить, у Вулф есть элемент диккенсовского комического действа, которое строится на контрастных образах героев, антиподов, карикатурных персонажей, — чего стоят забавная фигура тетушки Кошем или Уильяма Родни.) В развитии сюжета есть ироническая подробность: Тревор Хилбери (читай: живущий на холме) оказывается консервативным столпом общества, без видимого горизонта; а Дэнем (читай: живущий в берлоге, подвале) проявляет способность обозреть мир вокруг и увидеть главное...
Деталь, связанная с холмом, возвышенностью, отнюдь не проходная у Вулф; это один из сквозных образов в ее книгах: подняться над сиюминутным, взобраться на гору — все равно что пережить момент истины. Недаром задумавшаяся над смыслом жизни Кэтрин сравнивается с путником, который взошел на вершину мира и увидел сущее ясно и широко:
35 С XIV в. евреи в Англии, согласно законодательству, были сильно ущемлены в правах из-за своей ростовщической деятельности. Этот факт нашел отражение, в частности, в рассказе настоятельницы монастыря из «Кентерберийских рассказов» («The Canterbury Tales», 1387—1400) Дж. Чосера (ок. 1343—1400) и в широко известной пьесе У. Шекспира «Венецианский купец» («The Merchant of Venice», 1600).
Н.И. Рейнгольд. «День и ночь» Вирджинии Вулф: мгновенья бытия 445
Она (Кэтрин. — Н.Р.) опустилась в кресло и приняла уже знакомую Мэри позу наблюдательницы, невидимой для посторонних глаз; только на этот раз в поле зрения Кэтрин попала не отдельная фигура, а сама жизнь, хорошее, дурное, смысл существования, прошлое, настоящее, грядущее — все это (без громких слов) виделось ей со всей ясностью, словно она поднялась на вершину мира, откуда ей открылось до самого дна все мирское (с. 337—338 наст. изд.).
Судя по композиции, Вулф воспринимает английское общество расколотым на два полюса: социальный и материальный. Заметим, в ее эссе этот мотив звучит постоянно, поддержанный общим убеждением писательницы в том, что в основе общественного уклада лежит исторически сложившееся социальное и материальное неравенство. Эту мысль находим в эссе «Племянница графа» («The Niece of an Earl», 1928)36, в открытом письме «Среднелобые» («The Middlebrow», опубл. посмертно в 1942; см. в изд.: Woolf 1942: 113—119) и, конечно, в знаменитой «Своей комнате» («А Room of One’s Own», 1929)37. А если так, то сюжет романа развивается как драматическая история движения навстречу друг другу Кэтрин и Ральфа, в чьих судьбах воплощены полюса социального, материального и культурного неравенства. Не случайно мгновение взаимопонимания героев происходит тогда, когда они смотрят вдвоем из окна комнаты Ральфа в Хайгейте на раскинувшийся перед ними город:
— Знаете, какая главная достопримечательность Хайгейта? Отсюда весь Лондон как на ладони. Ночью из окна открывается потрясающий вид.
Он позвал ее к окну, ему не терпелось, чтобы она увидела сама. Уже стемнело, она вглядывалась в поднимающиеся снизу, желтые от света уличных фонарей клубы вечернего тумана, пытаясь на глазок определить, где какой район Лондона. А он сидел в кресле и любовался ее силуэтом в проеме окна (с. 286 наст. изд.).
История их любви вовлекает в обсуждение много вопросов: общественных предрассудков (диктующих поведение Тревора Хилбери, тети Милвейн и других); гражданского брака (в его пользу делает выбор кузен Кэтрин Сирил Элардис); свободы в отношениях мужчины и женщины (отказ Кэтрин и Ральфа венчаться,
36 Вулф начинает эссе без обиняков: «У литературы есть одна довольно щекотливая тема, о которой обычно не говорят, во всяком случае, говорят меньше, чем она того заслуживает. Это классовые различия. О них принято умалчивать; на них обычно закрывают глаза, делая вид, будто каждый по своему происхождению точно такой же, как остальные. И при этом классовые градации пронизывают английскую литературу сверху донизу — попробуйте на секунду представить, что их нет, и вы ее не узнаете» [Вулф В. Племянница графа // Вулф 2012: 347).
37 В последней главе эссе есть знаменитые слова: «Духовная свобода зависит от материальных вещей. Поэзия зависит от духовной свободы. Женщины же были нищими не только два последних столетия, а испокон веков. Они не имели даже той духовной свободы, какая была у сыновей афинских рабов. То есть у женщин не было никаких шансов стать поэтами. Почему я и придаю сегодня такой вес деньгам и своей комнате» [Вулф В. Своя комната //Вулф 2012: 519).
446
Приложения
их стремление жить свободно напоминают судьбы исторических личностей, Мери Уолстоункрафт, Уильяма Годвина38, и неожиданно современно смотрятся на фоне сегодняшних партнерских отношений молодых); частного и общественного в жизни человека (судьба Мэри Дэчет); мечты и действительности в душе каждого (Кэтрин, Ральф) и т. д.
Конфликт
Движение полюсов — этих «половинок» общества, души, сознания — навстречу друг другу выстроено в романе драматично.
На одном полюсе дом, отживший век, музей, семейные реликвии, тени предков, ритуалы, заведенный порядок, незыблемые правила, как напишет Вулф о своем дяде Джордже в «Зарисовке прошлого»:
<...> Джордж был плотью от плоти викторианского общества, — для археологов он был бы настоящей находкой. По нему можно было бы изучать, как по какой-нибудь окаменелости, все подробности светского этикета 1890—1900-х. Видимо, материал оказался подходящий: из него можно было формовать все что угодно, не опасаясь поломки самой изложницы. Если отец внушил ему определенные взгляды своей эпохи: женщина должна быть целомудренной, мужчина — сильным, в обществе нужно вести себя прилично, то Джордж был рад стараться применить уроки на практике <...> Своей безукоризненной логикой, своим уважением к разуму Джордж корректировал викторианский этикет, освобождая его от ханжеской мелочности, в нем самом не было ничего от сноба, статус и роскошь были ему безразличны. Он соединял собой, подобно сети или паутине, большие и малые части викторианского организма, став его законченным слепком. Получается, отец сохранил костяк 1860-х, а Джордж скрепил его тысячей колесиков с зубчиками, и вот в 1900-м в этот станок поместили нас — поместили и крепко зажали, а потом механизм с колесиками и зубчиками привели в действие (с. 405—406 наст. изд.).
На уровне дихотомии образов, противопоставленных в заглавии, эти смыслы следует определить как «ночь»: мир, где правят бал трафаретные решения, отрицающие свободную волю каждого человека, рутина небытия, диктат в семье. Ночь — это и тень войны.
На фоне мрака редкие вспышки света — мгновения понимания, преодоления ревности, зависти, собственничества... День — это новый век, кружок, «среды» у Мэри Дэчет, общение сверстников, звучащая свежей мелодией фраза из русского романа; взаимная влюбленность мужчины и женщины. Вспоминаются слова Вулф из очерка «Старый Блумсбери»:
После густого плюшевого сумрака Гайд-парк-гейта новое место (Блумсбери. — Н.Р.) поражало воздухом и светом. <...> все то, что позднее <...> окрестили словом «Блумсбери» <...> — вышло из эмбриона тех первых наших четвергов. Их нужно обязатель¬
38 См. эссе «Мери Уолстоункрафт» в изд.: Вулф 2012: 304—309.
Н.И. Рейнгольд. «День и ночь» Вирджинии Вулф: мгновенья бытия 447
но внести в анналы истории и прокомментировать — они этого достойны. <...> О чем бы мы ни спорили — об атмосфере в литературе, о природе правды, — все дискуссии шли в открытую, все выносилось на круг. Каждый мог внести свою лепту <...> С замирающим сердцем я следила за головокружительными поворотами самых стойких из спорщиков, которые, словно скалолазы, взбирались все выше и выше, пока наконец не водружали на место последний камешек — неопровержимый аргумент в запредельном споре. А ты стоял у подножия горы, смутно понимая, что у тебя над головой свершается чудо. Бывало, наш кружок засиживался до двух-трех часов ночи, а мы все не расходились <...> Наконец <...> постройка завершена, можно идти спать; ты падал в изнеможении, чувствуя, что произошло нечто важное (с. 413, 415, 418 наст. изд.).
Итак, ломаная линия конфликта пролегает, с одной стороны, между старым и новым веком, между прошлым и настоящим. С другой стороны, поскольку проходит она через души людей, то спор идет не о том, что старый век плох, а нынешний хорош, а о системах ценностей: прошлой и еще только складывающейся. Медленное и до конца не решенное сближение Кэтрин и Ральфа происходит на фоне представлений о браке, понятом, во-первых, как социальные роли мужа и жены (сюжетные линии мистера Хилбери, тети Милвейн), во-вторых, как воспроизводство гендерных характеристик мужчины и женщины (сюжетная линия Родни и Кассандры) и, в-третьих, как романтическая влюбленность, которая в романе скорее поставлена под сомнение новым послевоенным умонастроением разочарования, трезвого, рационального взгляда, лишенного «розовых очков» очарования (вспомним «Свою комнату»: «<...> Иллюзия, вдохновлявшая Теннисона и Кристину Россетти так страстно петь о любви, ныне редкость» (Вулф 2012: 469). Герои пытаются нащупать путь, пролегающий как бы вне конфронтации полов, которая намечалась не только с суфражизмом, но и шире — с образованием и профессионализацией женского труда, вроде бы освобождавших женщину от семейного бремени и сидения в четырех стенах, но при этом и лишавших ее чего-то очень существенного (сюжетная линия Мэри Дэчет и Кэтрин). Таким образом, конфликт романа заключается скорее в ценностях и умонастроениях нескольких поколений и выражается в описании тонкой материи: соотнесения пока еще туманных желаний, обязанностей, надежд и т. д. молодого поколения с представлениями старших о «мире», который их окружает, и, как следствие, отказе от того, что кажется тупиковым.
Движение образов
Итак, конфликт в романе связан с представлением о человеке. Какими же предстают его герои? Их образы кто-то назовет собирательными, а кто-то подойдет к ним с точки зрения понятия «характер в литературном произведении». Но не будем спешить с определениями. Отметим, что решены образы героев интересно, и попытаемся прояснить, что делает их необычными фигурами. У Вулф тонкий рисунок письма, и образы героев с их «изюминкой» легко принять в спешке за знакомые типажи.
448
Приложения
Небольшой историко-литературный комментарий. В конце 1910-х — начале 1920-х годов в английской критике шла оживленная дискуссия о характере в литературе. Не в последнюю очередь она подогревалась романами и критикой самой Вулф. В апреле 1919 года она опубликовала статью «Современные романы» («Modem Novels», 1919)39, позднее составившую основу ее эссе «Современная литература» («Modem Fiction», 1925), которое считается манифестом английского модернизма. В статье Вулф заявила (полемически вызывая огонь на себя) о том, что современный романист не должен следовать традиционным литературным методам и формам; общепринятая композиция романа из тридцати двух глав не должна сковывать полет его фантазии, поскольку задача романиста иная — передать трудноуловимое состояние жизни:
Мы <...> продолжаем старательно <...> собирать свои привычные тридцать две главы <...>; <...> если бы писатель был свободной птицей, а не пленником, не рабом привычки, и писал бы вольготно, а не как ему велят, если б он только мог опереться в работе на собственное чутье, а не на общепринятые условности, то не было бы тогда никаких сюжета, комедии, трагедии, любовной интриги и драматической развязки, как требуется в соответствии с жанром, а герои не были бы застегнуты на все пуговицы, — как знать, возможно, пуговиц не было бы вовсе, во всяком случае, пришиты они были бы точно не так, как у модных мастеров с Бонд-стрит. Жизнь — это не цепочка слепящих прожекторов, симметрично расставленных по краю рампы; нет, это лучащийся ореол, матово-прозрачное облако, окутывающее нас с первой искры сознания до конца. И разве задача романиста не в том состоит, чтоб передать, как можно чище, без примеси, без прикрас, это изменчивое, неведомое, не знающее пределов и границ сияние — каких бы трудов и потерь ему это ни стоило? Речь не идет о какой-то особой доблести или искренности: мы просто высказываем предположение, что настоящий предмет литературы — не совсем то, что мы привыкли думать (Вулф 2012: 119, 120).
Статья не осталась незамеченной: она была опубликована почти одновременно с романом «День и ночь», и критики, естественно, судили о том, какой в романе предстает жизнь и какой предмет интересует писательницу.
Один из первых ответных выстрелов последовал со стороны Кэтрин Мэнсфилд, напечатавшей в ноябре 1919 года рецензию на роман «День и ночь» (публикуемую в настоящем издании). Критик высказала сомнение как раз в жизненности второстепенных героев романа — миссис Сил, мистера Клактона и других:
У нас появляется странное чувство, что едва автор перестает о них писать, как они моментально теряют дар речи, замирают и оживают лишь тогда, когда писательница добавляет еще пару мазков к их портрету или упоминает о них ниже (с. 386 наст. изд.).
39 Woolf V Modem Novels //Times literary Supplement. 1919. 10 April. См. также в изд.: The Essays 1986-2011/3: 30-37.
Н.И. Рейнгольд. «День и ночь» Вирджинии Вулф: мгновенья бытия 449
Мэнсфилд не хватило у Вулф глубины, основательности и в обрисовке главных героев: «<...> не лучше ли было бы поглубже, поосновательней познакомить нас с обоими героями?..» (с. 387 наст. изд.). По этим и другим комментариям видно, что Мэнсфилд судила о романе Вулф с точки зрения литературы о жизни в формах самой жизни, а о героях — с позиции жизненности характеров.
Приблизительно с тех же позиций — представления о жизненности характера в художественном произведении — выступил в начале 1920-х годов Арнолд Беннет. Еще раньше в статье «Неоимпрессионизм и литература» («Neo-Impressionism and Literature»), опубликованной сначала в «Нью эйдж», а затем в сборнике «Книги и люди» («Books and Persons», 1917)40, Беннет, доброжелательно отозвавшись о живописи постимпрессионистов, высказал предположение о скором появлении нового поколения писателей, которые воспримут его творчество и творчество его современников как безнадежно устаревшее прошлое — подобно той реакции, которую у него самого вызвали картины постимпрессионистов. (Кстати, первая лондонская выставка постимпрессионистов, устроенная Роджером Фраем, проходила в 1910 году, так что, возможно, с оглядкой на то яркое событие культурной жизни Вулф и обронила в своем эссе «Мистер Беннет и миссис Браун» ставшую впоследствии знаменитой фразу: «<...> примерно в декабре 1910 года в человеке что-то изменилось» (Вулф 2012: 437). Продолжение не заставило себя ждать: в 1919 году Вулф опубликовала «День и ночь», в 1922 году — роман «Комната Джейкоба», и в 1923 году Беннет напечатал статью с полемическим названием «Жив ли современный роман?» («Is the Novel Decaying?»), где, в частности, критически отозвался о «Комнате Джейкоба». Язвительно заметив:
На редкость умная книга — давно таких не читал. В оригинальности автору не откажешь, да и написана она превосходно. Вот только характеры не живые — в голове не задерживаются. По-моему, это типично для новых романистов (Briggs 2005: 127),
Беннет сделал вывод о том, что среди молодых писателей нет первоклассных романистов, поскольку у них не получается создавать живые, правдивые и убедительные характеры:
В основании добротной прозы лежит создание характера <...> Разумеется, роман строится не только на нем, многое другое имеет значение: стиль, сюжет, оригинальный взгляд на вещи, но ничто не может перевесить главного — убедительных образов героев. Есть в романе реальные характеры — значит, есть вероятность, что роман останется в литературе; нет жизненных характеров — о таком романе никто не вспомнит <...> (Ibid.).
Спустить такое Вулф не могла, и в конце 1923 года последовал ее ответ: им стала первоначальная версия эссе «Мистер Беннет и миссис Браун» (1923), кото¬
40 Вулф, конечно, знала об этой статье Беннета, поскольку рецензировала для «Таймс литерари сапплмент» сборник «Книги и люди», где та была напечатана. См.: Woolf V. Books and Persons. Review of «Books and Persons» by A. Bennett // Times Literary Supplement, 1917. July.
450
Приложения
рое «считается программным и в творчестве Вулф, и в литературе XX века» (Briggs 2005: 432). Не вдаваясь в подробности этого интереснейшего документа английского модернизма (он требует отдельного разговора), отметим то, что имеет прямое отношение к нашему предмету. Собственно, в чем расходятся представления о характере в литературном произведении у Вулф и у Беннета, Уэллса и Голсуорси, которых она выбирает в качестве мишени своей критики в эссе? Она полагает, что жизненность характера, которую они стремятся обеспечить своим героям, имеет основанием трафаретное, далекое от психологии человека представление о женщине или мужчине. «Жизненность характера», если следовать логике Вулф, о которой говорит Беннет, — это не более чем художественный флер, которым прикрыта пустота. Сто лет спустя, в исторической ретроспективе, мы лучше понимаем существо той дискуссии 1910—1920-х годов о характере в литературе.
Очевидно, что она представляла собой не просто деталь литературного пейзажа конца XIX века — начала 20-х годов XX века, но болевую точку в спорах о том, что есть такое человек как предмет литературы, среди писателей, для которых художественное мастерство — вопрос творческой зрелости, и репутации, и в какой-то степени смысла существования. Примечательно, что оппонентами Вулф выступили очень разные по художественным ориентирам прозаики: приверженец традиционной школы викторианского романа (А. Бегает) и писательница новой волны (К. Мэнсфилд). Критика Мэнсфилд в адрес Вулф была больше эмоциональной, чем содержательной: Мэнсфилд полагала, что социальные катаклизмы должны прямо воздействовать на писателя, побуждая его писать иначе, чем он это делал бы в мире, где нет войны. (Другими словами, предметом литературы должен стать человек, прошедший через испытания военной действительностью. Мэнсфилд, чья заметка оставляет впечатление о несколько поспешном прочтении романа, который она рецензирует, — цитируются лишь первые три главы, остальное дано в беглом пересказе, — не оставляет Вулф возможности как-то иначе строить роман, нежели через призму событий Великой войны. По существу, Мэнсфилд обращает оружие Вулф против нее самой, недвусмысленно намекая на то, что «настоящий предмет литературы» — совсем не тот, каким его видит Вулф.)
Критика А. Беннета строится на твердом представлении о романе как жанровой форме и о художественном характере как главном его элементе. Подхватывая полемическое утверждение Вулф о том, что, «если бы писатель был свободной птицей, <...> то не было бы тогда никакого сюжета, комедии, трагедии, любовной интриги и драматической развязки, как требуется в соответствии с жанром», и вывернув наизнанку ее определение жизни в литературе («жизнь — это не цепочка слепящих прожекторов»), он разворачивает критику на сто восемьдесят градусов, обращая ее против самой Вулф, и утверждает, что главный герой «Комнаты Джейкоба» лишен жизненности, в романе нет сюжета, нет комедии, трагедии, любовной интриги и драматической развязки, а значит, роман близок к смерти. Те же упреки, пусть не сформулированные в виде статьи или рецензии, Бегает, вероятно, мог бы высказать и насчет «Дня и ночи». Получалось, что прогноз Беннета о том, что новое поколение писателей отодвинет в прошлое его творчество и твор¬
Н.И. Рейнгольд. «День и ночь» Вирджинии Вулф: мгновенья бытия 451
чество его современников, подобно тому, как это сделали постимпрессионисты по отношению к своим предшественникам в живописи, не оправдался: его, Беннета, рано списывать со счетов, поскольку новые романисты не способны создавать живые характеры и размывают жанр романа экспериментами с бессюжетным повествованием. И вообще они не о том пишут, — могла бы добавить Мэнсфилд.
Насколько точно попадали в цель современники? Как известно, они иногда страдают дальтонизмом. Судили ли они писателя, перефразируя Пушкина, по законам, им самим над собою признанным? Или, пользуясь образным выражением Вулф, критик «зарядил, прицелился, выстрелил» и «обознался — принял кролика за тигра, орла за курицу»?41 Попробуем разобраться, обратившись к образам героев романа «День и ночь».
Если не знать другие произведения Вулф, можно подумать, что в обрисовке характеров героев «Дня и ночи» автор стремится к жизненности, а само произведение — роман о жизни в формах самой жизни. Но мы, читающие роман спустя почти сто лет с момента его создания, находимся в ином положении, чем современники: мы знаем, что и как писала Вулф в 1920-е, 1930-е и 1940-е годы. Контекст задает дополнительные возможности толкованию. В конце 1920-х годов Вулф так обобщила представления о женщине, сложившиеся в литературе:
Вырисовывается очень странное и сложное существо. Представить — нет значительнее, на деле — совершенный нуль. Она переполняет поэзию и полностью вычеркнута из истории. В ее руках жизнь королей и завоевателей — но это в литературе; фактически же она — рабыня мальчика с той минуты, как его родные наденут ей обручальное кольцо. Вдохновеннейшие слова, глубочайшие мысли слетают с ее уст; в реальной жизни она едва ли читала и писала, являясь мужниной законной собственностью42.
И далее Вулф предлагает объяснение обедненного представления о женщине, сложившегося в литературе:
<...> эти озадачивающие крайности красоты и уродства, превращения из божественной добродетели в исчадие ада (объясняются одним. — Н.Р.) — ибо такой видел женщину влюбленный, в зависимости от того, росла его любовь или чахла, была взаимной или оставалась безответной <...> даже у Пруста <...> мужчина очень узко и однобоко смотрит на женщину, как, впрочем, и она на него43.
Посмотрим с этой точки зрения (а это выношенная, взвешенная позиция писательницы) на героев «Дня и ночи».
Ральф Дэнем видит Кэтрин Хилбери «через черные или розовые очки, которые надевает ему на нос его положение»:44 на протяжении почти всего романа Кэтрин изображена глазами Ральфа как бездушная эгоистка и одновременно как
41 Вулф В. Как читать книги? // Вулф 2012: 389.
42 Вулф В. Своя комната // Вулф 2012: 484.
43 Там же: 505.
44 Там же.
452
Пр иложения
предмет заоблачных мечтаний. Такая оптика объясняется социальным неравенством Ральфа по отношению к Кэтрин и идеалом женщины, сложившимся в литературе.
Столь же трафаретно воспринимает Кэтрин Уильям Родни: он видит ее сквозь призму квазиромантического идеала женской красоты — «он всегда представляет ее на пороге комнаты в развевающихся одеждах, в пене цветов, наподобие морской сиреневой волны» (с. 181 наст, изд.), что не мешает ему воспринимать Кэтрин — свою жену в недалеком будущем, как он надеется поначалу, — хозяйкой, матерью своих детей, у которой нет других увлечений и занятий, кроме дома.
Мэри Дэчет Ральф воспринимает вне рамок женского идеала, как младшую сестру или младшего товарища: чуть снисходительно, сдержанно проявляя чувства и мысли в ее присутствии, — так молодые люди обычно относятся к сверстникам своего пола. Эмоциональная, душевная жизнь Мэри для него не существует, во всяком случае, до поры до времени.
Подобным же образом — через оптику женского взгляда — мы видим Ральфа и Родни. Кэтрин воспринимает Ральфа сквозь призму социально окрашенных представлений как невоспитанного выскочку, при этом другая половина ее сознания занята грезами о рыцаре на белом коне. В этом смысле она и Ральф — антиподы, зеркально отражающие друг друга. И Уильяма Родни Кэтрин воспринимает так же: как ровню, будущего мужа, чье присутствие никак не связано с ее мечтами.
Мэри видит Ральфа сквозь очки уважения к мужскому интеллекту: она очарована такими его достоинствами, как эрудиция, честность, принципиальность, и готова к самоуничижению по отношению к Ральфу, при этом она ставит себя выше коллег, которых считает интеллектуально слабыми.
Мистер Хилбери до поры до времени пребывает в тени: мы видим его глазами дочери, которая уважает и любит отца и готова мириться с тем, что он не участвует в перипетиях семейной жизни, довольствуясь ролью благодушного хозяина, на чьи средства существуют его домочадцы, пока они не вторгаются в его личную, невидимую глазу постороннего жизнь.
Миссис Хилбери — особа восторженная, романтического склада, не от мира сего, сама она видит себя шутом из шекспировской пьесы (шут, как известно, — это бродильный элемент, мотор драматического действия). Но как персонаж романа она, скорее, выступает прообразом будущих героинь Вулф, творчески одаренных женщин, которые появятся на страницах романов «На маяк», «Волны» и чьи судьбы во множестве Вулф опишет в эссе «Своя комната» и в «Обыкновенном читателе». В образе миссис Хилбери Вулф создает полукомичный, поэтичный, проникнутый мягкой иронией портрет женщины, которая испытывает потребность излить на бумаге свое вдохновение:
Войдя к матери, она увидела, что та сидит за столом с ручкой наготове.
— Представляешь, Кэтрин, — воскликнула миссис Хилбери, взмахивая пером, —
я <...> решила все начать заново, у меня на сегодня большие планы.
И с этими словами она заскрипела пером, а Кэтрин, сев за отдельный рабочий
стол, развязала пачку старых писем, над которыми трудилась последнее время, и,
Н.И. Рейнгольд. «День и ночь» Вирджинии Вулф: мгновенья бытия 453
рассеянно разгладив лежащий сверху листок, углубилась в расшифровку выцветших чернил, нет-нет да отрываясь и взглядывая на мать. На ее глазах лицо у той просветлело, разгладилось, появилось выражение удовлетворенной сосредоточенности — она даже кончик языка от напряжения высунула, как ребенок, который, сидя на полу, затеял построить игрушечный дом из кубиков и радуется каждому установленному «кирпичику». Чувствовалось, что каждым росчерком пера миссис Хилбери вызывает к жизни картины далекого прошлого, возвращает из небытия знакомые голоса. <...>
Кэтрин <...> подняла глаза.
Миссис Хилбери стояла к ней спиной, отвернувшись к окну, и смотрела на плывущие по реке баржи: видно, она стояла в этой позе уже несколько минут. Потом вдруг резко повернулась и воскликнула:
— Нет, на меня, правда, что-то нашло! Мне нужно всего три фразы — три короткие, простые фразы, и надо же! Не получается!
В растерянности она заметалась по комнате, то хватаясь за тряпку и принимаясь драить ею корешки книг, то отбрасывая ее в сторону — не до уборки!
— Посмотри: это никуда не годится, а? — полуутвердительно заметила она, протягивая Кэтрин листок. <...>
Чувствуя глухое раздражение, она (Кэтрин. — Н.Р.) скосила глаза на листок, перечитывая материнские каденции про серебристых чаек, про стебли с розанчиками, омытые родниковыми струями, про голубые облака гиацинтов... (с. 87—90 наст. изд.).
Одним словом, миссис Хилбери воплощает собой представление о женской душе, восторженности и непоследовательности, капризах, интуиции и эмоциональности творческой натуры.
Герои романа далеки от определения «характер в литературном произведении». Первоначально это конструкты, собранные из общепринятых представлений начала XX века о женщинах и мужчинах, их общественных и частных ролях, их психологии, жизненных устремлениях. Все вместе они образуют, если угодно, комнату кривых зеркал, где смотрятся друг в друга, являя собой проекции затверженных мыслей о человеке. Конструкты общих представлений, от которых писательница вместе с читателем пытается освободиться.
Такой способ обрисовки героя в целом согласуется с представлением Вулф о художественной реальности и задаче писателя: изобразить «людские носы и голые плечи <...> в их наготе на фоне звездного неба», отдернуть «занавес в гостиной», «словно вспышкой (осветить. — Н.Р.) людей в комнате»45.
Применить к вулфовским конструктам критерий жизненности характера, как то предлагает Беннет, означает судить писателя не «по законам, им самим над собою признанным». Герои Вулф статичны, каждый находится в плену довоенных представлений о человеке и жизни, каждый — слепок с того определения человека, которое создала викторианская культура и которое, по мнению Вулф, больше не отвечает жизни. Статичность героев воспроизводит инерцию пред¬
45 Вулф В. Своя комната //Вулф 2012: 512, 520.
454
Приложения
ставления о человеке. Смогут ли герои романа выйти за рамки трафаретных взглядов и решений? Этот вопрос равносилен вопросу о том, сможет ли литература пересмотреть отжившее определение человека и предложить иное, более адекватное реальности, изменившейся с началом нового века, с Первой мировой войной.
Композиция романа несет на себя отпечаток медленного, трудного, мучительного и незавершенного процесса высвобождения героев романа от груза отживших, мертвых представлений о человеке и, что не менее важно, — освобождения литературы от образа человека, больше не отвечающего психологии, образу мыслей, умонастроениям и поведению людей. Если воспользоваться сравнением, которое использует Вулф в очерке «Зарисовка прошлого» (читатель отметит его каф- кианский смысл), процесс высвобождения человека из «механизма с колесиками и зубчиками», в котором он был зажат, шел по-живому. На протяжении половины романа герои вязнут в тине отживших и тем не менее очень цепких общественных и частных условностей. Медленный темп повествования словно передает течение небыстрого вызревания у героев самостоятельных решений, проявления индивидуальных черточек из-под слоя литературной штукатурки.
Обыденность перестает быть монолитной в тот момент, когда в душе Кэтрин вдруг зазвучала новая, свежая мелодия — фраза из «Идиота» Достоевского46. В толще быта (не бытия!) образуется трещина: намечается смысл открытого действия, раздвигающего горизонт. В однотонном пространстве романа появляется свет. С этого момента каждый из героев пусть чуть-чуть, но меняется, — если угодно, вырастает из ставших тесными штанишек, отдирает от себя хотя бы один из крепко державших его зубцов механизма отживших представлений. Каждый из героев переживает свое «мгновенье бытия».
Небольшое отступление. О дихотомии «быта и бытия» (being and non-being), обыденности и бытия, о редких мигах бытия, тонущих в забвении, Вулф пишет в
46 В эссе «Больше Достоевского» (1917) Вулф сравнила манеру английских романистов со старой мелодией: «<...> наши романисты <...> детальнейше воспроизводят все наружное — особенности воспитания героя, среду, одежду, авторитет у друзей, но в его душевную смуту заглядывают крайне редко, и то мельком. Тогда как у Достоевского вся книга из такой материи. Для него ребенок или нищий полон тех же бешеных и нежных чувств, что и поэт или утонченная светская женщина, и он из сложного лабиринта их страстей строит свою версию жизни. Естественно, мы часто в недоумении, ибо приходится наблюдать мужчин и женщин с совершенно непривычной точки зрения. Старая мелодия назойливо звучит у нас в ушах — пора от нее освобождаться и понять наконец, что в ней очень мало человеческого. В который раз мы оказываемся сбиты со следа, раскручивая психологию Достоевского; в который раз ловим себя на вопросе — знакомо ли нам то чувство, что он показывает? И каждый раз убеждаемся изумленно: то наше давнее чувство, мы знаем его по себе или по другим. Только мы никогда о нем не говорили, потому и удивляемся. Пожалуй, слово “интуиция” точнее всего выражает гений Достоевского во всей его силе. Когда она им овладевает, для него нет тайн в глубинах темнейших душ — он читает любую, самую загадочную тайнопись» [Вулф В. Больше Достоевского //Вулф 2012: 398).
Н.И. Рейнгольд. «День и ночь» Вирджинии Вулф: мгновенья бытия 455
«Зарисовке прошлого»47 как о неотъемлемой стороне существования. Примечательно, что, в связи с этими наблюдениями над восприятием человека, ей вспоминается именно роман «День и ночь». Вообще понятие «мгновенья бытия» (moments of being) восходит к образу «мгновений прозрения» (moments of vision) Т. Гарди: так назывался сборник его стихотворений, опубликованный в 1917 году. Позволю себе предположить, что именно в романе «День и ночь» Вулф впервые художественно выразила экзистенциальный смысл понятия «мгновенье бытия», не использовав саму фразу, — она станет ее визитной карточкой позднее48.
Для Кэтрин откровением становится ночь в саду в канун Рождества (гл. 16): она смотрит на звезды, и в душе ее сменяются счастье и страх смерти, состояние одиночества и внезапное ощущение вечности этого мгновения, постижения сиюминутности бытия. Все, что последует дальше — прояснение отношений с Родни, откровенный разговор с Мэри, сближение с Ральфом, — все имеет началом это «мгновенье бытия».
В жизни Ральфа постижение приходит с пониманием границ восприятия человеком себя и стремлением превзойти ограниченность, раздвинуть горизонт (гл. 28):
<...> перед его мысленным взором возникла картина: маяк в бурю, тысячи потерянных птиц бьются в стекла, расшибаются насмерть, падают заживо... Странное ощущение у него сложилось: он и маяк, он же и птица, он стоит, не дрогнет, сияет в ночи, и в то же самое время его швыряет изо всей силы о стекло (с. 296 наст. изд.).
В этом пассаже обращает на себя внимание не только параллель со 116-м шекспировским сонетом, но и образ маяка как ипостаси человеческого «я», изменчивого, подверженного страстям и при этом стоического. (Вот еще одно параллельное место в творчестве Вулф: образ маяка в романах «День и ночь» и «На маяк».)
У Мэри свой путь к мгновенью бытия: превозмогая самолюбие, гордость, ревность, зависть, она сообщает Кэтрин, что в нее влюблен Ральф (гл. 21). Здесь, перефразируя Т.С. Элиота, художник, задавшись «целью изобразить нечто более высокое по отношению к современному состоянию нравов», «как бы прозревает в настоящем возможность лучшего нравственного бытия»49.
Вслед за Кэтрин и Ральфом пытаются быть самостоятельными в поступках и верными чувству Родни и Кассандра.
47 Ср.: «Здесь необходимо сделать отступление и прояснить кое-что в моей собственной психологии, возможно, и в психологии других людей. Я часто сталкивалась с этой проблемой, работая над тем или другим из моих так называемых романов: как описать то, что я краткости ради обозначаю про себя “небытием”? Каждый день содержит гораздо больше небытия, чем бытия. <...> Настоящий романист каким-то образом умеет передать и то, и другое — и бьггие, и небытие. Джейн Остен, Троллоп, пожалуй, Текке- рей и Диккенс, Толстой — по-моему, у них у всех это получалось. Мне же этот симбиоз нико-гда не давался, хотя я пыталась — в “Дне и ночи” <...>» (с. 390 наст. изд.).
48 Воспоминания Вулф были изданы в 1976 г. под названием «Мгновенья бытия» (Woolf 1976).
49 Элиот Т. Что такое классик? // Элиот 2002: 225.
456
Пр иложения
Роман, таким образом, намечает контуры нового представления о человеке, пересматривая старое, отжившее, которое не способно дальше питать литературу. Конфликт развивается между живыми движениями психологии, мгновеньями бытия, и бытом, механически воспроизводимой обыденностью.
Старый мир никто не отменял. Благодушие мистера Хилбери заканчивается в тот момент, когда под угрозой оказывается его быт, уклад и вся система ценностей, в основе которой лежит подчинение одних другим. Когда глава семейства узнает о том, что его единственная дочь, наследница, попустительствовала жениху в увлечении барышней, а сама, будучи помолвленной, подавала надежды другому человеку, он клеймит такое поведение как недопустимое нарушение приличий и расценивает поведение дочери как бунт, который необходимо пресечь в корне.
В 32-й главе романа конфликт выходит наружу. В кульминационном эпизоде мы оказываемся свидетелями столкновения двух поколений, двух систем ценностей, примирение между которыми невозможно: новое должно уступить старому, молодые обязаны подчиниться старшим:
В тот вечер на его глазах был перечеркнут жирной чертой цивилизованный уклад жизни, и еще неизвестно, чем все кончится; достаточно сказать, что сам он вышел из себя, — такого он за собой не помнил уже лет десять. После вспышки ярости ему требовалась передышка в виде чтения классики. В его доме бурлила революция; теперь жди неприятных столкновений с домочадцами, прощай, благодушные застолья! (с. 359 наст, изд.)
Параллельным местом этой темы в романе звучат воспоминания Вулф из ее «Зарисовки прошлого» о сшибке двух поколений в одной семье на рубеже столетий:
<...> тогда в гостиной на Гайд-парк-гейт схлестнулись две очень разные эпохи: викторианский век и век эдвардианский. Да, Лесли Стивен был нашим отцом, но по возрасту он годился нам в деды: мы были его внуками и внучками. Когда мы с Ванессой стояли перед ним, а он метал в нас громы, и мы, дрожа от страха, понимали, как он смешон, это значит одно: мы смотрели на него глазами людей, которые видят что-то иное на горизонте, видят то, о чем сегодня знает каждый юноша и каждая девушка в свои шестнадцать или восемнадцать лет. Злая ирония состояла в том, что наши мечты о будущем находились в полном подчинении у прошлого. На этой почве возникали бешеные конфликты. По натуре мы с Ванессой — искательницы, революционерки, реформаторши, а мир, в котором мы жили, отставал от века по меньшей мере лет на пятьдесят. Отец был типичным викторианцем; Джордж и Джеральд — сама заурядность; так что, сопротивляясь им, мы в их лице сопротивлялись общественным устоям. Мы с сестрой жили эдак году в 1910-м, а они — в 1860-м (с. 402 наст. изд.).
Возвращаясь к роману, на этом эпизоде следовало бы поставить точку. Все распалось, герои расстались, старый уклад торжествует. Однако есть две интересные детали: роман не заканчивается на главе 32, и в финале ее звучит вопрос «Сможет ли в этих условиях литература помочь?» (с. 359 наст. изд.). Вопрос, который задает себе мистер Хилбери, не желающий даже во время революций в доме отказываться от многолетней привычки почитать на сон грядущий, звучит многозначно.
Н.И. Рейнгольд. «День и ночь» Вирджинии Вулф: мгновенья бытия 457
Преодоление инерции
История должна закончиться гневом мистера Хилбери, — в традиционном английском романе могло быть только тридцать две главы. Вспомним: в эссе «Современная литература» Вулф писала о том, как «старательно, на совесть, на века» писатели продолжают «собирать свои привычные тридцать две главы, согласно плану, не желая признавать, что план — это одно, а образ в наших душах — совсем другое» (Вулф 2012: 119)50.
Но в действие вступает третья сила — поэзия, шекспировское измерение, не предусмотренное обыденной системой координат и воплощенное в образе Мэгги, миссис Хилбери. Словно за гранью привычного, за гранью бытия, все разрешается с ее возвращением из шекспировского Стратфорда-на-Эйвоне — влюбленные соединяются, полюса сближаются. Работает и литературный «мотор»: двумя последними главами (а в традиционном английском романе, напоминает Вулф, должно быть только тридцать две главы, т. е. все должно закончиться гневом отца, мистера Тревора Хилбери) Вулф «выносит» за привычный горизонт действие романа и отвоевывает пространство и для героев, и для жизни, и для литературы, которая не хочет закончиться на главе 3251. Интересно, что в стилистике последних двух глав есть некоторая зыбкость, неопределенность. Создается впечатление, будто предложенный финал желателен, но едва ли осуществим.
Грань бытия/небытия намечена в главах 31—34: миссис Хилбери то ли уехала на могилу Шекспира, то ли «ушла» (вспоминается замечание Вулф о том, что умереть — словно незаметно выйти из комнаты, жизнь продолжается):
Дом без нее было не узнать. Кэтрин с удивлением обнаружила, что мать еще уехать не успела, а служанки уже вовсю орудуют в ее комнате — наводят порядок в отсутствие хозяйки. Никто не спорит, влажная уборка — дело хорошее, только Кэтрин казалось, что вместе с пылью служанки взяли и смахнули шестьдесят лет жизни (с. 321—322 наст. изд.).
В таком решении есть сходство между волшебным торжеством любви и духом шекспировских «Двенадцатой ночи» и «Сна в летнюю ночь»; шекспировским по духу можно считать и образ миссис Хилбери, которая сравнивает себя с мудрым шутом Шекспира, разрешает все проблемы и в конце концов соединяет влюбленных.
50 В связи с наблюдением Вулф над композицией традиционного английского романа интересно отметить, что даже развернутое предисловие Дж.Б. Шоу к пьесе «Дом, где разбиваются сердца» («Heartbreak House», 1919) тяготеет к тридцатидвухчастной композиции: оно разбито на тридцать три небольшие главки. Вопрос о пародийном или ином характере предисловия Шоу оставляю открытым: он лежит за рамками нашей темы.
51 Кстати, М. Хасси иначе, ровно наоборот, трактует наличие тридцати четырех глав в романе — с его точки зрения, оно доказывает традиционность романа (см.: Hussey 1995: 188-189).
458
Приложения
Так что концовку романа в добавленных двух главах можно прочитать и как «после смерти, по ту сторону бытия». У композиции «Дня и ночи» иронический потенциал: традиционные тридцать две главы Вулф «взрывает изнутри», завершая роман против всяческих ожиданий читателя традиционных романов. (Между прочим, нечто подобное этому есть и в первом ее романе «По морю прочь» — героиня умирает, «обманув» ожидания читателя, полагающего, что он читает роман воспитания.)
В письмах Вулф отмечала, что в работе над «Днем и ночью» ее заботил «вопрос, касающийся того, о чем не говоришь; как это действует?» (The Letters 1975— 1980/2: 400). Эта тема напоминает слова Теренса Хьюита из романа «По морю прочь» о желании «написать роман о Молчании; о том, чего люди не говорят» (Вулф 2002: 302). Отметим многозначность задачи, которую формулирует Вулф: она не уточняет, говорит ли об общественных конвенциях или же о повествовательных моделях, о способах писать. Судя по дневниковой записи, получается, что и о первом, и о втором: «поскольку текущие ответы не удовлетворяют, приходится нащупывать новые; и процесс отказа от старых тогда, когда ты не уверен, чем их заменить, вовсе не радует» (The Diary 1977—1984/1: 259). Ясно лишь, что мысль об отказе от старых неудовлетворительных ответов повторяет сказанное в эссе «Современная литература»: «Разве так пишутся романы? И все внутри нас начинает бунтовать против ровных, гладко причесанных страниц» (Вулф 2012: 120). Литературовед Гермиона Ли делает на этом основании вывод «о том, что налицо взаимосвязь между открытием более правдивой жизни в “Дне и ночи” и поиском Вирджинией Вулф более “правдивого” способа писать» (Lee 1996: 70).
О «Дне и ночи» Вулф говорят: «самый длинный роман», «самый традиционный», самый «невулфовский» роман. Но стоит вспомнить, что первый же ее роман «По морю прочь» сочли авангардистским, что почти одновременно с «Днем и ночью» Вулф написала «Пятно на стене» («А Mark on the Wall», 1917) и «Сады Кью» («The Kew Gardens», 1919) — рассказы, которые рассматриваются как начало нового (читай: модернистского) письма Вулф, что в 1922 году она опубликует «Комнату Джейкоба» — бесспорно модернистский роман, согласно оценкам критиков. Такая разноголосица говорит о наивности хронологического, прогрессистского взгляда на развитие писательской манеры Вулф. Есть общие вопросы развития эстетики как писателя, так и шире — модернизма, и стоит посмотреть с этой точки зрения на «День и ночь» Вирджинии Вулф. Порой не укладывающиеся в прокрустово ложе концепции тексты позволяют лучше разобраться в саморазвитии идей писателя.
Обратим внимание на эпиграф: роман посвящен Ванессе Стивен, или Ванессе Белл в замужестве, сестре Вулф, художнице. Ванесса Белл — это прототип Кэтрин Хилбери; для многих связь эта была очевидна; сама Вулф не скрывала, что источник романа — юность ее сестры (см.: The Letters 1975—1980/2: 400).
В связи с этим интересным представляется образ Кэтрин в финале романа, когда мистер Хилбери вещает о Шекспире, а она клюет носом и представляет абстракции — головы на цветном фоне картин, штор. Вот здесь (сделаем такое пред¬
Н.И. Рейнгольд. «День и ночь» Вирджинии Вулф: мгновенья бытия 459
положение) скрыто объяснение посвящения романа Ванессе Белл: это она в доме Лесли Стивена устроила «революцию», она — хозяйка, будущая художница и бунтарка. Сравним финал романа с отрывком из «Зарисовки прошлого»:
<...> Ванесса тихонько ретировалась: обсудив обеденное меню с кухаркой, она стрелой мчалась на красный автобус, который шел до Академии. <...>
С десяти утра до часу дня мы были освобождены от гнета викторианского общества. Ванесса в это время рисовала с натуры под пристальным взглядом Вэла Принсепа или Улесса, иногда Сарджента; она периодически приносила домой аккуратные карандашные рисунки, по-моему, Гермеса и обрабатывала их фиксатором; еще помню эскиз, на котором был запечатлен обнаженный натурщик весьма выразительной внешности, — его голова была выполнена маслом. И ровно в те же три часа я читала «Республику» Платона или разбирала партию греческого хора. Мыслями мы были с миром, который окружает нас сегодня, в это ноябрьское утро 1940 года, — ее в Чарльстоне, меня в садовом домике в Манкс-хаусе. И одеты мы были примерно так же, как сейчас: Ванесса в синей художнической блузе, я — в юбке с блузкой. Единственная разница — юбки тогда были длиннее (с. 402—403 наст. изд.).
Известно, что Вулф всегда интересовало сравнение художественного потенциала слова и произведения живописи: существует немало высказываний по этому поводу в ее дневниках, письмах, воспоминаниях, эссе и т. д. В «Дне и ночи» речь не идет о подобном сравнении: если не считать описаний нескольких картин в доме Хилбери и фотографий в комнате Ральфа, отзывов Кэтрин о художниках эпохи Возрождения, то живопись в романе не затрагивается, а тема литературы вообще подана с полемическим зарядом: все блйзкие Кэтрин помешаны на поэзии, литературе, и она, возможно, в пику им подчеркнуто интересуется не поэзией, а математикой и астрономией. И тем не менее сам роман можно и следует рассматривать в контексте произведений искусства и литературы 1910-х годов и, разумеется, всего творчества Вулф. Мы увидим, что среди ее произведений есть проработанные во всех деталях, оставляющие иллюзию викторианского повествования (это «День и ночь»), есть эскизные («Сады Кью»), а есть абстрактные, подчеркнуто обобщенные, фрагментарные, сворачивающие события в намек или деталь (таковы «По морю прочь», «Комната Джейкоба»). Хронологически они накладываются друг на друга, написаны с разницей в два-три года, а то и одновременно.
Оценивая роман спустя двадцать лет, Вулф смотрела на него как на «тщательнейше выполненное академическим рисунком» творение, которое помогло ей научиться «выпускать, ничего не упуская» (The Letters 1975—1980/6: 216).
Не проводя параллелей, отметим, что такая практика характерна для худож- ников-модернистов. Кто-то вспомнит Пикассо и его серию рисунков быка в разной манере — от реалистической до абстрактной. Мне же вспоминается творчество П. Филонова 1910—1920-х годов, где проработанный в каждой детали — фактуре ткани, узорах на пггорах — портрет Е.Н. Филоновой 1915 года соседствует с футуристической работой 1912—1913 годов «Мужчина и женщина»; а портрет М.Н. Филоновой 1923—1924 годов, выполненный в аналитической манере, не отме¬
460
Пр иложения
няет авангардистскую графику 1924—1925 годов картины «Женщина»52. Возвращаясь к Вулф, — ее модернистская эстетика и язык складывались не поступательно, как мчащийся по рельсам паровоз, а циклически, с возвращением к такой организации повествования, которая была сообразна ее замыслу.
•к к *
Отметим в заключение: «День и ночь» — это роман, не дневник, не комментарий или эссе. Что бы ни говорили о жанровых модификациях, которых немало в творчестве Вулф, к «Дню и ночи» неприменима характеристика жанрового симбиоза, логичная в отношении «Волн» и «Орландо». Роман повествует о поколениях, о сдвигах во взглядах, в образе мыслей, в поведении, в умонастроениях людей, шире — в обществе, какими они запомнились, перед Первой мировой войной. Писательница пересматривает определение человека, сложившееся в культуре к началу XX века, создавая эстетику мгновений бытия и «диапазона голосов»53.
52 Ср.: «Всякий видит под известным углом зрения, с одной стороны и до известной степени, либо спину, либо лицо объекта, всегда часть того, на что смотрит, — дальше этого не берет самый зоркий видящий глаз, но знающий глаз исследователя-изобретате- ля — мастера аналитического искусства стремится к исчерпывающему видению, поскольку это возможно для человека; он смотрит своим анализом и мозгом и им видит там, где вообще не берет глаз художника. <...> Именно это должно интересовать мастера, а не внешность яблони. Не так интересны пгганы, сапоги, пиджак или лицо человека, как интересно явление мышления с его процессами в голове этого человека.
<...> пусть картина говорит за себя и действует на интеллект зрителя, заставляя его, напрягаясь, понять написанное безо всякого суфлера, шептуна со стороны <...>» (Филонов 1988: 108).
53 Вулф ценила литературу с «диапазоном голосов». И хотя в цитируемом ниже высказывании это определение касается ветра, полагаю, что в контексте творчества писательницы смысл его шире: «Сегодня ночью не спится, зато пишется. Ветер, возившийся весь день, вдруг словно с цепи сорвался. Барабанит в окна с такой силой, что рамы вжимает в стены, а когда ослабевает, те дребезжат в пазухах. У ветра потрясающий диапазон голосов» (Woolf 1990: 205).
Примечания
Вирджиния Вулф ДЕНЬ И НОЧЬ
На русском языке публикуется впервые. Перевод выполнен по изд.: Woolf Virginia. Night and Day. Middlesex: Penguin Books in association with the Hogarth Press, 1969. Это издание идентично прижизненному изданию 1938 года, опубликованному издательством «Хогарт Пресс».
На английском языке роман впервые опубликован в 1919 году в лондонском издательстве «Дакворт».
1 Ванесса Белл (1879—1961) — старшая сестра Вирджинии Вулф, урожденная Ванесса Стивен, художница; она оформляла почти все книги писательницы, выходившие в издательстве Вулфов «Хогарт Пресс». Известны ее «Заметки о детстве Вирджинии» («Notes on Virginia’s Childhood»), впервые представленные членам «Клуба мемуаристов» (The Memoir Club) в 1949 г., а также «Воспоминания» («Reminiscences», опубл. 1976) Вирджинии Вулф, где многие страницы посвящены старшей сестре писательницы. Существует огромная переписка двух сестер, причем та ее половина, что принадлежит перу Вирджинии Вулф, исполнена юмора, остроумия, подчас соперничества, но чаще нежности и заботы. Всю жизнь, до самой смерти Вирджинии, сестер связывали отношения ревнивой преданности.
Глава 1
1 ...рассказ о профессорах и несчастных студентах, помешавшихся на острых пьесах наших молодых драматургов... — Вероятно, к «острым пьесам» молодых драматургов, которыми в начале XX в. зачитывались преподаватели и студенты английских университетов, Вулф относит пьесы норвежского драматурга Генрика Ибсена (1828—1906), основателя современной драматургии, европейского властителя дум на рубеже веков, а также английского драматурга, ирландца по происхождению, Джорджа Бернарда Шоу (1856—1950), создателя пьес на острые общественные темы: борьба за права женщин, перестройка избирательной системы, материальное равенство, уничтожение частной собственности и т. д.
2 ...старушками в митенках, пропахших свечным воском, которые читают «Обсер- вер»... — У «Обсервера», старейшей воскресной газеты (основана в Англии в 1791 г.),
462
Приложения
к началу XX в. сложилась репутация серьезного издания с ответственными репортерами, литературными обозревателями; основными ее читателями были представители образованного среднего класса.
3 ...как называется та битва — Трафальгарская!.. Или Испанская армада! — Миссис Хилбери путает две военно-морские операции, в которых участвовали и английский, и испанский флоты: Трафальгарское сражение 1805 г. и победу английского флота над флотом Испании — «Испанской (или Непобедимой) армадой» — в 1588 г.
4 Вы так напоминаете мне дорогого Рёскина, мистер Дэнем... — Джон Рёскин (1819—1900) — английский искусствовед, автор пятитомного сочинения «Современные художники» («Modem Painters», 1834), многочисленных статей о средневековой европейской архитектуре и др. В 1860—1870-е годы Рёскин вел ожесточенную полемику с научными теориями, в частности, с политической экономией Дж.-С. Милля и Д. Рикардо; в 1870 г. был избран первым профессором искусств в Оксфорде; из-за обвинений в слишком свободных взглядах на мораль ему пришлось несколько раз уходить с этой должности и снова возвращаться; умер Рёскин в одиночестве, полусумасшедшим затворником. Дэнем напомнил миссис Хилбери молодого Рёскина либо своим галстуком — Рёскин носил яркий шейный платок, либо взглядом, в котором «читалась целая гамма чувств», — известно, что у Рёскина был пронзительный взгляд. Возможно, сравнение героя с Рёскином сохранилось со времен первой редакции романа: изначально героиню Вулф звали Эффи, Эффи Хилбери, точно так же, как жену Рёскина, Эффи Грэй.
5 ...великий поэт Ричард Элардис... — Это собирательный образ нескольких английских поэтов XVIII—XIX вв.
6 ...работа кисти Миллингтона. — Джеймс Хит Миллингтон (1799—1872) — английский миниатюрист и портретист, родившийся в Ирландии; Миллингтон учился в Королевской академии живописи, где, по завершении курса, большей частью выставлял свои работы. Среди миниатюр, представленных художником на выставке в Южном Кенсингтоне в 1865 г., был «Портрет женщины» (1818).
7 ...слышали омоем дяде, сэре Ричарде Уорбэртоне, он еще вместе с Хэвлоком освобождал Аакноу. — Пример характерного для Вулф симбиоза факта и вымысла. Освобождение Аакноу генерал-майором Генри Хэвлоком — исторический факт, связанный с подавлением британскими войсками восстания солдат в индийской провинции Оудх, случившегося 30 мая 1857 г. Фигура же сэра Ричарда Уорбэрто- на, скорее всего, — вымысел. Хотя в истории Англии есть личности с именем сэра Ричарда Уорбэртона (например, английский политик времен королевы Елизаветы I и короля Якова, член Палаты общин в период с 1601 по 1610 г.), очевидно, что Уорбэртон времен Британской империи — это обобщение, указывающее на повсеместное присутствие аристократов в политической и военной жизни.
8 Хайгейт — северный район Лондона, рядом с Хэмпстед-хитом. В XVI в. это была деревня, в XIX — начале XX в. Хайгейт стал окраиной Лондона.
9 ...кресло Марии Стюарт: говорят, она сидела в нем, когда ей сообщили о том, что Дарнли убит. — Миссис Хилбери ссылается на эпизод из жизни Марии Стюарт (1542—1587), королевы Шотландии. После смерти в 1560 г. Франциска П, своего первого супруга, королева вышла замуж в 1565 г. за своего двоюродного брата
Примечания. Вирджиния Вулф. День и ночь. Глава 3
463
Генриха Стюарта, лорда Дарили, потомка английского короля Генриха VU. Этот брак оттолкнул от нее прежних союзников и вызвал неудовольствие английской королевы Елизаветы I. В феврале 1567 г. при таинственных обстоятельствах Дарили был убит. Вопрос об участии Марии Стюарт в организации убийства своего мужа — один из наиболее спорных в истории Шотландии. Однако, кто бы ни был действительным убийцей короля, косвенную вину за это преступление общественное мнение Шотландии возложило на королеву как неверную жену (еще до убийства лорда Дарили Мария Стюарт была увлечена графом Боуэллом, с которым сочеталась браком в мае того же года).
10 ...гости с Тайт-стрит и с Кэдоган-сквер... — Тайт-стриг расположена в Челси, Кэдоган-сквер — в Бромптоне; указание на местожительство в центре исторического Лондона говорит о том, что гости четы Хилбери принадлежат к достойным семействам с древними английскими корнями.
Глава 3
1 ...заглянуть в галътоновского «Наследственного гения»... — Речь идет о книге «Наследственный гений» («Hereditary Genius», 1869) Фрэнсиса Гальтона (1822— 1911), английского исследователя, антрополога и психолога; Гальтон приходился троюродным братом Чарльзу Дарвину по деду, Эразму Дарвину. Гальтон полагал, что наследственность важнее фактора общественной среды; он переносил дарвиновскую теорию естественного отбора на развитие человечества: «слабые нации» должны исчезать, вытесненные в процессе естественного отбора «сильными нациями». Вирджиния Вулф скептически относилась к дарвиновской теории эволюции, чем, возможно, объясняется и нота иронии в словах о «гальтоновском “Наследственном гении”».
2 ...каждый из которых если не маяк... то... крепкий светоч... Именно такие пионеры штурмуют Северный полюс вместе с сэром Джоном Франклином... — Печально известной военно-морской экспедицией, отправившейся в мае 1845 г. на поиски Северо-Западного прохода из Атлантического океана в Тихий, руководил Джон Франклин (1786—1847), английский мореплаватель, исследователь Арктики, контр- адмирал. Экспедиция пропала, и более десяти лет о судьбе моряков ничего не было известно. Позднее, по найденным вещам и запискам участников экспедиции, установили, что корабли вмерзли во льды, Франклин пережил две зимовки и скончался 11 июня 1847 г. в ходе третьей зимовки, как и все остальные участники похода, погибшие от голода, холода и болезней. Спасатели установили, что среди членов экспедиции имели место случаи каннибализма. Последнее объясняет ноту иронии, которая звучит в описании «светочей» и «пионеров», принадлежащих, согласно английской табели о рангах, к «наследственным гениям».
3 ...мчатся на пару с Хэвлоком спасать осажденный Аакноу... — См. примеч. 7 кгл. 1.
4 «Уголок поэтов» — место захоронения и увековечивания памяти выдающихся английских поэтов, драматургов, прозаиков. Устроен «уголок поэтов» в южном приделе Вестминстерского аббатства. Традиция берет свое начало от Джеффри Чосера (ок. 1343—1400), «отца английской поэзии».
464
Пр иложения
5 ...окрестив их про себя кого Шекспиром, кого Милтоном, кого Вордсвортом, кого Шелли... — В детском воображении Кэтрин Хилбери миром правят крупнейшие английские поэты XVI—XIX вв.: Уильям Шекспир (1564—1616), Джон Милтон (1608—1674), Уильям Вордсворт (1770—1850), Перси Биши Шелли (1792—1822).
6 Саффолк — графство в восточной части Англии, граничит с Северным морем, а также с графствами Норфолк, Кембридж и Эссекс.
7 ...первые девять лет его жизни шли в описании как по маслу. — Возможно, в этой иронической подробности скрыт намек Вулф на девятитомный роман Лоренса Стерна (1713—1768) «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» («The Life and Opinions of Tristram Shandy the Gentleman», 1759—1767), где повествование о Тристраме, вопреки читательским ожиданиям, доходит лишь до девятого года жизни героя.
Глава 4
1 Стрэнд — район и улица вблизи Ковент-Гардена, неподалеку от набережной Темзы в центре Лондона.
2 ...ей показалось, что она видит на полосатой от ряби глади океана серебристую дорожку. — Это сравнение напоминает дневниковые записи Дороти Вордсворт (см. эссе В. Вулф «Дороти Вордсворт» в изд.: Вулф 1912: 309—315), в которых есть те же зримость, выпуклость и емкость образов.
3 ...выбрала чулок щ устроившись поудобнее, принялась штопать поехавшую пятку...— Такой подчеркнуто бытовой сниженный эпизод напоминает начало романа Вулф «На маяк» («То the Lighthouse», 1927), где миссис Рэмзи готовится вместе с сынишкой Д жеймсом к поездке на маяк и вяжет чулок для сына смотрителя. Бытовая житейская деталь в прозе Вулф — знак «другой» системы ценностей, домашней, непарадной стороны существования, которая, по ее мнению, редко попадала в поле зрения романистов прошлого.
4 ...по Эмерсону, главное — быть, а не добиваться результата. — Мэри Дэчет имеет в виду взгляды Ральфа Уолдо Эмерсона (1803—1882), американского философа, поэта, эссеиста, одного из самых влиятельных интеллектуалов Америки, сторонника концепции суверенного Я, поборника псевдорелигиозного трансцендентализма, автора книг «О природе» («Nature», 1836), «Представители человечества» («Representative Men», 1850), «Черты английской жизни» («English Traits», 1865), «Нравственная философия» («The Conduct of Life», 1860) и др.
5 — Помните эпизод перед самой гибелью герцогини? — Прочитав доклад о метафоре в елизаветинской поэзии, Родни не может сразу отвлечься от этой темы и вспоминает вторую сцену из четвертого акта трагедии «Герцогиня Амальфи» («The Tragedy of the Duchesse of Malfy», 1612—1613) Джона Уэбстера (ок. 1578 — ок. 1632), елизаветинского драматурга, младшего современника Шекспира. Герцогиня, полюбившая своего управляющего Антонио и родившая от него двоих детей, оказалась в заточении из-за происков своего старшего брата-близнеца Фернандо, герцога Калабрии. Используя нанятого негодяя Боссолу, герцог доводит сестру до полного отчаяния, а затем и гибели от рук подосланных палачей. До последнего вздоха герцогиня держится с христианским смирением и невероятным благородством.
Примечания. Вирджиния Вулф. День и ночь. Глава 5
465
6 Все повторяют, тсяк; один: «страховой полис, страховой полис\» — Речь идет о национальном законе страхования, который был принят в Англии в 1911 г.: согласно закону, работающее население должно было вносить еженедельный страховой взнос в обмен на государственную поддержку в медицинском обслуживании в случае безработицы и т. д. Естественно, закон касался главным образом мужской работающей части населения.
7 ...они все читали Уэбстера. — См. примеч. 5 к гл. 4.
8 ...и Бена Джонсона... — Бенджамин Джонсон (1573—1637) — английский драматург, поэт, актер.
9 ...неудосужился выучить аблатив от слова «mensa». — Аблатив, или отложительный, творительный падеж; mensa [лат.) — стол; кушанье, блюдо, существительное женского рода первого склонения. Пример указывает на начальный этап изучения азов латыни.
Глава 5
1 Печально всходит на небо она... как бледен лик... — Неточно процитированные начальные строки самого известного сонета XXXI из цикла «Астрофил и Стелла» («Astrophel and Stella», 1582, опубл. 1591) елизаветинского поэта Филипа Сидни (1554—1586). Ср. с переводом В. Рогова: «О Месяц, как бесшумен твой восход! | Как бледен лик твой, как печален он!» (Сидни 1982: 38). Интересно, что эти же строки из Сидни процитировал в своем сонете английский поэт-романтик У. Вордсворт.
2 Мост Хангефорд — железнодорожный мост через Темзу в центре Лондона, соединяющий набережную Виктории и вокзал Ватерлоо.
3 ...д-р Джонсон собственной персоной. — Речь идет о Сэмюэле Джонсоне (1709— 1784), выдающемся английском критике, лексикографе, поэте и драматурге. Из уважения к просвещенности С. Джонсона англичане по традиции называют его доктором Джонсоном.
4 Баскервильское издание Конгрива... — Уильям Конгрив (1670—1729) — английский драматург эпохи Реставрации. Его пьесы, так называемые комедии Реставрации: «Старый холостяк» («The Old Bachelor», 1693), «Любовь за любовь» («Love for Love», 1695), «Так поступают в свете» («The Way of the World», 1700) и др. — это пьесы о препятствиях, чинимых любви разного рода условностями, принятыми в обществе. Под «баскервильским изданием» имеется в виду книга, отпечатанная в типографии английского печатника Джона Баскервиля (1706—1775), основавшего собственную типографию в Бирмингеме в 1754 г. Издания Баскервиля считаются образцом английского печатного дела — недаром его имя стало нарицательным.
5 ...партитура «Дон-Жуана». — «Дон-Жуан, или Наказанный развратник» (1787) — опера в двух актах Вольфганга Амадея Моцарта (1756—1791).
6 ...собрание сочинений сэра Томаса Брауна с «Погребальнойурной», с «Гидриота- фией», «Изобличением шахматного порядка», с «Садом Кира»... — Томас Браун (1605—1682) изучал медицину в Монпелье и в Падуе, получил докторскую степень в университете Лейдена и около 1637 г. осел в Нориче (другое написание — Норидж) в качестве практикующего врача. В 1642 г. было опубликовано (без его ведома) его сочинение «Кредо врачевателя» («Religio Medici»), сделавшее его литератур¬
466
Приложения
ной знаменитостью. В 1646 г. появился ученый трактат «Pseudodoxia Epidemica», известный также под названием «Грубые ошибки» («Vulgar Errors»), а в 1650-е годы — трактаты «Гидриотафия, или Погребальная урна, или Рассуждение о погребальных урнах, недавно найденных в Норфолке» («Hydriotaphia, Um Burial, or a Discourse of the Sepulchral Ums Lately Found in Norfolk», 1658), «Сад Кира» («The Garden of Cyrus», 1658) и «Письмо другу» («A Letter to a Friend», опубл. посмертно в 1690 г.), последнее по содержанию совпадает с посмертно опубликованным сочинением «Христианские нравоучения» («Christian Morals», 1716). Интересно, что в описании собрания сочинений Томаса Брауна, стоявшего на книжной полке в доме Уильяма Родни, трактат «Гидриотафия, или Погребальная урна» представлен как два сочинения, а «Изобличение шахматного порядка» («The Quincunx Confuted») выделено из «Сада Кира» в самостоятельное произведение. Едва ли это можно считать ошибкой автора романа — известно, что Томас Браун был одним из самых любимых писателей Вирджинии Вулф; скорее, эту деталь следует интерпретировать как прием, как восклицательный знак в тексте, предназначенный для внимательного читателя. «Сад Кира» примыкает к «Гидриотафии, или Погребальной урне»: здесь Браун размышляет о пятиугольной геометрической фигуре (quincunx), о числе «пять», о кресте, о кипарисах, их овальной форме и даже приводит графическое изображение геометрических фигур. Возможно, эпизод с Ральфом Дэне- мом, листающим томик Брауна в домашней библиотеке Уильяма Родни, предвосхищает другие сцены, например, описание Кэтрин Хилбери, читающей «Изабеллу, или Горшок с базиликом», из восьмой главы или рассказ о ее занятиях математикой, числами, астрономией, который проходит сквозным мотивом через все произведение Вулф.
Глава 6
1 ...напротив мраморных скульптур из коллекции лорда Элгина. — Мраморные скульптуры Элгина, или так называемые «мраморы Элгина», — непревзойденное собрание произведений древнегреческого искусства (работы Фидия и его учеников), главным образом с афинского Акрополя, которые вывез в Англию в период с 1802 по 1812 г. Томас Брюс, лорд Элгин, служивший британским послом в Константинополе во время наполеоновских войн. В 1806 г. Элгин вернулся на родину, и на протяжении десяти лет собрание оставалось в его частной собственности. В преддверии греческой революции Англию захлестнула волна филэллинизма. Лорд Элгин оказался мишенью критики со стороны Дж.-Г. Байрона и других английских романтиков. Обвинения в стяжательстве, мошенничестве и вандализме привлекли к судьбе коллекции внимание британских парламентариев; специальная комиссия занялась изучением вопроса и признала целесообразным приобретение собрания государством в собственность Британского музея. В 1816 г. коллекция была выкуплена у Элгина и размещена в залах Британского музея в Лондоне, где и находится до сих пор. Греческое правительство не раз затевало тяжбу о возвращении национального достояния на родину, но все попытки оказались тщетны. Известны восторженные отклики английских поэтов, писателей, художников о бесценном собрании мраморных скульптур, которое стало носить имя лорда Элгина, например,
Примечания. Вирджиния Вулф. День и ночь. Глава 7
467
сонет Дж. Китса (1795—1821) «На любование элгиновскими мраморными скульптурами» («On Seeing the Elgin Marbles»), опубликованный посмертно.
2 С.Р.Ф.Р. (S.R.F.R.). — Аббревиатура не имеет одного определенного значения (например, «Spatially Related Forest Resources», букв.: «лесные ресурсы, относящиеся к определенной местности», или «Skinner and Randall Fluorspar Rotes», букв.: «обработка плавикового пшата К° Скиннера и Рэнделла»). Возможно, смысл использования Вулф сокращенных названий не столько в том, чтобы указать на конкретную контору или компанию, размещавшуюся в здании на Рассел-сквер, сколько в том, чтобы подчеркнуть относительно новую для Англии начала XX в. практику наименования учреждений разного родами акронимами.
3 С.Г.С. (S.G.S.). — скорее всего, это название одной из суфражистских контор в Лондоне начала XX в., сотрудники которой занимались подготовкой законопроекта об избирательном праве женщин в Англии. Право участвовать в выборах англичанки завоевали в 1919 г. Суфражистка (от фр. suffragette) — поборница равноправия женщин в Великобритании.
4 К.О.С. (C.O.S.). — Предположительно речь идет о комитете какой-либо общественной организации.
5 «Панч» («Punch») — британский еженедельный журнал юмора и сатиры, который издавался с 1842 по 1992 г. и с 1996 по 2002 г. Первоначально журнал назывался «Лондонский Le Charivari», что указывало на следование примеру французского сатирического журнала «Le Charivari». Затем редакторы журнала решили поменять название, взяв имя сатирического кукольного персонажа Панч (аналог русского Петрушки). На протяжении истории существования журнала в нем печатались лучшие английские литераторы: Ч. Диккенс, У.-М. Теккерей, А. Милн, Дж.-К. Джером и др.
6 ...у них есть Шенье, Гюго, Альфред де Мюссе... — Мистер Клактон называет широко известных французских поэтов и писателей конца XVTTT — первой половины XIX в.: Андре Мари Шенье (1762—1794 ), Виктора Гюго (1802—1885), Альфреда де Мюссе (1810-1857).
7 ...цитату из псалма про сеятелей и семена... — Очевидно, речь идет о 125-м псалме: «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. | С плачем несущий семена возвратится с радостью, неся снопы свои» (Пс. 125: 5—6).
Глава 7
1 ...чтение длинных периодов из Генри Филдинга... — Генри Филдинг (1707—1754) — английский драматург, романист, памфлетист, создатель новаторской для английского романа ХЛТП в. формы «комического эпоса в прозе», суть которой писатель изложил в предисловии к роману «История приключений Джозефа Эндрюса и его друга Абрахама Адамса, написанная в подражание манере Сервантеса, автора “ Дон-Кихота”» («The History of the Adventures of Joseph Andrews, and His Friend Mr. Abraham Adams, written in imitation of the Manner of Cervantes, author of “Don Quixote”», 1742). Под «длинными периодами» В. Вулф имеет в виду эпическую риторику Филдинга-прозаика.
468
Пр иложения
Глава 8
1 Банги — английский город в графстве Саффолк, расположенный в верховьях реки Уэйвни. Как любой западноевропейский раннесредневековый город, Банги строился вокруг замка и рыночной площади.
2 ...у Шелли в рукописи стоит предлог, а не союз, и что постоялый двор, где однажды ночевал Байрон, назывался не «Турецким, рыцарем», а «Лошадиной головой», и что звался дядюшка Ките а... — Тревор Хилбери, отец Кэтрин, по долгу службы — главный редактор журнала, а по роду своих занятий — филолог, текстолог, биограф английских поэтов-романтиков; о Перси Биши Шелли см. примем. 5 к гл. 3; Джордж Гордон Байрон (1788—1824) — крупнейший английский поэт-романтик; о Джоне Китсе см. примем. 1 к гл. 6. Нота легкой иронии в описании филологических штудий Тревора Хилбери принадлежит не Кэтрин, а Вирджинии Вулф, любившей подсмеиваться над дотошностью ученых, поскольку полагала, что при всей важности кропотливого изучения литературных произведений оно не способствует постижению смысла литературы.
3 ...действительно ли Колридж собирался жениться на Дороти Вордсворт? — 1798 год — пора дружбы Сэмюэла Тэйлора Колриджа (1772—1834) с Уильямом Вордсвортом (см. примем. 5 к гл. 3) и его сестрой Дороти (1771—1855). То было время их молодости, брат с сестрой жили в Альфоксдене — местечке в графстве Сомерсет, куда часто приезжал Колридж, позднее вспоминавший, что их общение напоминало беседу «трех людей с одной душой». О взаимоотношениях Вордсвортов и Колриджа см. эссе В. Вулф «Дороти Вордсворт» (Вулф 2012: 309—315).
4 ...книгу «Изабелла и горшок с базиликом» — науме одна Италия, горы, ясный день и изгороди в ало-белых розочках. — Речь идет о поэме Джона Китса «Изабелла, или Горшок с базиликом» («Isabella, or the Pot of Basil. A Story from Boccaccio», 1818), сюжет которой поэт-романтик заимствовал из «Декамерона» Боккаччо. Ките, чью поэму читает Кэтрин Хилбери, повествует о трагической любви Лоренцо и героини по имени Изабелла. Судя по отмеченным подробностям, Кэтрин читает описание июньских дней, когда влюбленные встречались, еще не ведая, что им грозит беда: «Простясь, они как по небу ступали: | Зефир разъединил макушки роз, | Чтобы друг к другу, встретившись, припали | Еще тесней; его восторг вознес | На холм, откуда открывались дали, | Где пряталось светило в кущах лоз, | А дева в спальне песенку твердила | О тех, кого стрела любви сразила» (Ките 1986: 79).
5 Ибсен Генрик (1828—1906) — норвежский драматург, чьи пьесы последней трети XIX в., посвященные острым общественным вопросам: «Столпы общества» (1877), «Кукольный дом» (1879), «Привидения» (1881), «Враг народа» (1882), «Дикая утка» (1884), «Строитель Сольнес» (1892), оказали глубокое влияние на многих европейских писателей рубежа веков.
6 Батлер Сэмюэл (1835—1902) — английский прозаик, публицист, яркий полемист и критик викторианского общества, автор романа «Едгин» («Ewehwon», 1872), полу автобиографического романа «Путь всякой плоти» («The Way of All Flesh», 1903), переводов «Илиады» (1898) и «Одиссеи» (1900) Гомера и произведения «Создательница “Одиссеи”» («The Authoress of the “Odyssey”», 1897). Упоминание об Ибсене и Батлере в письме «отступника» Сирила — явный знак его критического отношения к ханжеским викторианским морали и системе ценностей.
Примечания. Вирджиния Вулф. День и ночь. Глава 10
469
Глава 9
1 ...дедушка никогда не был на Гебридских островах... — Гебридские острова — архипелаг в Атлантическом океане у западных берегов Шотландии, входящий в группу Британских островов. С Гебридскими островами связана история создания одного из памятников английской литературы — «Дневника путешествия на Гебридские острова с Сэмюэлом Джонсоном» («The Journal of a Tour to the Hebrides with Samuel Johnson», 1785), написанного Джеймсом Босуэллом (1740—1795) по следам путешествия на Гебриды, которое они с С. Джонсоном предприняли в 1773 г. Возможно, именно литературная аура, окружающая Гебридские острова, побудила миссис Хилбери описать их в биографии своего отца.
2 ...к ней в долл на обед должна была пожаловать салла иллператрща... — Речь идет о королеве Виктории (1819—1901), правившей Соединенным королевством Великобритании и Северной Ирландии с 1837 по 1901 г. Начиная с 1876 г. к титулу королевы Виктории был добавлен титул императрицы Индии.
3 Ричмонд — городок в 20 км от столицы Англии.
4 Хэмптон-Корт — загородная резиденция английских королей, расположенная на берегу Темзы в лондонском предместье Ричмонд-на-Темзе.
5 Суррей-Хиллз — природный парк, аналог заповедника, площадью свыше 400 кв. км, находится в графстве Суррей, расположенном на юго-востоке Англии.
6 Блэкфрайерс — «старый город» в юго-западной части лондонского Сити. Главная достопримечательность Блэкфрайерса — это «Блэкфрайерс Тиетр», построенный на месте разрушенного монастыря; он располагался напротив шекспировского «Глобуса» на противоположном берегу Темзы. Здание театра было разрушено в 1655 г.
7 Сетон-стрит — скорее всего, вымышленная улица.
8 Кеннингтон-роуд. — Находится в южной части Лондона, в начале XX в. это была окраина.
9 Роберт Браунинг любил говорить, что в каждом великом человеке есть капля еврея... — Роберт Браунинг (1812—1889) — поэт и драматург викторианской эпохи. Источник суждения миссис Хилбери о взглядах Роберта Браунинга не установлен.
10 ...принципы Французской революции? — Французская революция 1789 г. провозгласила свободу, равенство и братство людей.
11 ...основания, на которых Кромвель снес голову королю? — Слова миссис Хилбери — явное преувеличение: смертный приговор королю Карлу I, обвиненному в измене во время гражданской войны в Англии в 1642—1651 гг., согласно которому тот был обезглавлен 30 января 1649 г., был подписан 59 членами суда, включая Оливера Кромвеля (1599—1658), подписавшего приговор третьим; он полагал, что казнь Карла есть единственный способ положить конец гражданской войне.
Глава 10
1 Илинг — отдаленный район в западной части Лондона.
2 «Дело в жизни... а совсем не в открытии!» — Слова Ипполита из романа Ф.М. Достоевского «Идиот» (Достоевский 1972—1990 / 8: 327).
470
Приложения
3 По-моему, Асквита мало повесить... — Речь идет о Герберте Генри Асквите (1852—1928), британском государственном и политическом деятеле, премьер-министре Великобритании от Либеральной партии в период с 1908 по 1916 г. Резко отрицательное мнение Мэри Дэчет об Асквите можно объяснить несколькими причинами: во-первых, в период с 1905 по 1908 г. он занимал в правительстве пост министра финансов и, конечно, не жаловал общественные организации, отстаивавшие права женщин на труд, образование и участие в выборах; во-вторых, на посту премьер-министра Асквит совершил много политических ошибок, особенно в начале Первой мировой войны, и Вулф, возможно, вкладывает в уста Мэри те нелицеприятные слова, которыми ее соотечественники награждали Асквита в 1914-1916 гг.
Глава 11
1 Кингз-бенч-уок — улица, где размещаются адвокатские конторы, вблизи Королевского суда в лондонском Сити.
Глава 12
1 Ромни Джордж (1734—1802) — английский художник-портретист.
2 ...я из Уокинга... Там потрясающие закаты... — Уокинг — город в графстве Суррей, возникший в VIII в. как монастырское поселение; Уокинг же начала XX в. — порождение индустриальной революции, железнодорожный транспортный узел.
3 Де Квинси Томас (1785—1859) — автор знаменитой автобиографии «Исповедь англичанина, употреблявшего опиум» («Confessions of an English Opium Eater», 1822) и многочисленных эссе, публиковавшихся при жизни писателя в журналах «Блэквудз», «Тейте» и др. Среди его журналистских опусов выделяются работы, в которых он описывал психологию сновидений, например, «Вздохи из бездны» («Suspiria de Profundis», 1845), а также воздействие детских впечатлений на будущую личность посредством кристаллизации их в форме снов и символов. В этом исследователи усматривают новаторство Де Квинси, на тридцать с липшим лет опередившего Фрейда в изучении психологии сновидений.
4 ...у вас есть Беллок, Честертон, Бернард Шоу? — Миссис Кошем иронически отзывается о популярных в начале 1900-х годов английских журналистах: Хилэре Беллоке (1870—1953), английском поэте, прозаике и журналисте французского происхождения, литературном редакторе «Морнинг пост» («Moming Post») в 1906— 1910 гг., его собрате по журналистскому цеху Гилберте Ките Честертоне (1874— 1936), которых за их дружбу английский драматург и журналист Джордж Бернард Шоу (1856—1950) окрестил «Честербеллоком» (Chesterbelloc).
5 «Критикл ревъю» («Critical review») — консервативный журнал, основанный в пику либеральному изданию «Мансли ревью» («Monthly Review») в 1756 г., в нем сотрудничали С. Джонсон, О. Голдсмит и др. В романе Вулф издание под тем же названием — символ основательности и научной объективности.
Примечания. Вирджиния Вулф. День и ночь. Глава 12
471
6 ..Альфред Теннисон был прав в этом вопросе... Жаль, он не успел написать «Принца» — в продолжение «Прищессы»\ — Альфред Теннисон (1809—1892 ) — выдающийся поэт-лирик, драматург, автор сборников «Стихотворения, по преимуществу лирические» («Poems, Chiefly Lyrical», 1830), «Стихи» («Poems», 1833), «“Мод” и другие стихи» (1855), «Королевские идиллии» («Idylls of the King», 1859—1889) и др. Текст поэмы А. Теннисона «Принцесса: пестрая смесь» («The Princess: A Medley», 1847) лег в основу сатирической оперы Гилберта и Салливана «Принцесса Ида».
7 Лаура — муза Франческо Петрарки (1304—1374 ), итальянского поэта эпохи Треченто, воспевшего Лауру в цикле «Книга песен» («Il Canzoniere», или «Rime Sparse»).
8 Беатриче — муза, возлюбленная Данте Алигьери (1265—1321), великого итальянского поэта эпохи Дученто, прославленная им в раннем произведении «Новая жизнь» («Vita nuova», 1290—1294) и в «Комедии», известной под названием «Божественная комедия» («Divina Commedia», 1321).
9 Антигона — главная героиня одноименной трагедии (443 до н. э.) древнегреческого поэта Софокла (ок. 496—406 до н. э.).
10 Корделия — персонаж трагедии Уильяма Шекспира «Король Лир» («King Lear», 1604—1605), младшая из трех дочерей короля.
11 Пенденнис... Уоррингтон... — герои романа «Пенденнис» («Pendennis», 1848— 1850) Уильяма Мейкписа Теккерея (1811—1863).
12 Никогда не прощу Лауре... что она, вопреки всему, не вышла замуж за Джорджа. — Миссис Кошем выражает свое отношение к героям «Пенденниса» — Лауре Белл, кузине Артура Пенденниса, и к Джорджу Уоррингтону, словно они — живые люди.
13 Ту же ошибку совершила Джордж Элиот, кто такой был этот Льюис... — Джордж Элиот (псевдоним Мэри Анн Эванс, 1819—1880) — английская писательница, автор романов «Сцены клерикальной жизни» («Scenes of Clerical Life», 1857), «Мельница на Флоссе» («The Mill on the Floss», I860), «Миддлмарч: картины провинциальной жизни» («Middlemarch, A Study of Provincial Life», 1871—1872)» и др.; Джордж Генри Льюис (1817—1878) — плодовитый литератор, автор пьес, эссе, популярной истории философии; его гражданский брак с Джордж Элиот начался в 1854 г., но он так и не смог добиться развода со своей женой Агнессой, с которой разошелся еще до встречи с Дж. Элиот.
14 Во всяком случае, Свифт с вами точно согласился бы... — Джонатан Свифт (1667—1745) — английский писатель-сатирик, автор книг «Сказка о бочке» («А Tale of a Tub», 1704), «Путешествия Гулливера» («Gulliver’s Travels», 1726) и др., настоятель собора Св. Патрика в Дублине, яркий памфлетист, известный своей непримиримой позицией по отношению к британской политике в Ирландии; эпитафия на его могиле гласит: «Ubi saeva indignatio ulterius cor lacerare nequit» («Следуй, прохожий, и подражай, если сможешь, возмущенному поборнику свободы»). Параллель, которую миссис Кошем проводит между взглядами Ральфа Дэнема и Свифта на людские нравы, лежит в плоскости философского скептицизма и сатиры.
15 Тенби — приморский город в графстве Пемброк на юго-западе Уэльса, на берегу залива Кармартен.
16 ...именно на этом пруду Миллее сделал эскизы к своей «Офелии». — Джон Эверетт Миллее (1829—1896) — английский живописец, один из основателей брат¬
472
Приложения
ства прерафаэлитов. Картина «Офелия» (или «Смерть Офелии») была создана им в 1852 г.
17 «Мера за меру» («Measure for Measure», ок. 1604) — трагикомедия У. Шекспира.
18...попала \ В поток незримых вихрей и носилась, \ Гонимая жестокой силой, вкруг | Земного шара... — Цитата из акта Ш, сцены 1 «Меры за меру» У. Шекспира в переводе Т. Щепкиной-Куперник (Шекспир 1957—1960 / 6: 217).
Глава 13
1 Линколънз-инн-Филдз — парк и обрамляющая его улица под тем же названием в северной части Лондона в районе Холборна; традиционно улица считается местом обитания судейских чиновников и адвокатов.
2 Гайд-парк — королевский парк в центре Лондона, открытый для публики при короле Якове I; с XVII в. — излюбленное место прогулок и развлечений лондонцев.
3 Дишем — вымышленный топоним.
Глава 14
1 Куинз-холл — концертный зал в центре Лондона, построенный в 1893 г.; действовал до 1941 г., пока не был разрушен во время нацистских авиабомбежек.
2 Блумсбери — район в северной части Лондона недалеко от Британского музея; в начале XX в. считался полубогемным, там селились художники, творческая интеллигенция.
3 Графтон-гэлери — картинная галерея в Лондоне. Существовала приблизительно с 1892 по 1930 г.; услугами галереи пользовались не менее дюжины союзов и клубов художников. В 1905 г. парижский галерейщик Поль Дюран Рюэ устроил в Графтон-гэлери первую в Лондоне большую выставку полотен импрессионистов, а в 1910 и в 1912 гг. английский искусствовед и художник Роджер Фрай развернул здесь две выставки картин постимпрессионистов: Сезанна, Гогена, Ван-Гога и др. Лондонская публика была шокирована новой живописью, а галерея оказалась на пике популярности.
4 Тициан Вечеллио (ок. 1488—1490 — 1576) — итальянский живописец эпохи Возрождения.
5 ...она обожает мраморные статуи Элгина... — См. примеч. 1 к гл. 6.
6 Девоншир, или графство Девон. — Расположен на юго-западе Англии, там много морских курортов, развито сельское хозяйство.
7 Фламандская школа живописи (или фламандское барокко). — Сложилась во Фландрии в XVH в. в творчестве таких мастеров, как Питер Пауль Рубенс (1577— 1640), Якоб Йордане (1593—1678), Франс Снейдерс (1579—1657), Антонис ван Дейк (1599-1641).
8 Шекспировская героиня, Розалинда... — Кэтрин несколько раз сравнивают с Розалиндой — героиней пьесы У. Шекспира «Как вам это понравится» («As You Like It», ок. 1600). По мнению М. Хасси, основанием для уподобления служит тот факт, что «в пьесе Шекспира Розалинда переодевается в мужское платье, стремясь из-
Примечания. Вирджиния Вулф. День и ночь. Глава 16
473
бежать ограничений, накладываемых на женщину общественными условностями, и быть лидером в отношениях с Орландо» (Hussey 1995: 243).
9 Трэптем Эбби — вымышленный топоним, такого поместья (Trantem Abbey) в Англии не существует.
Глава 15
1 Линкольн — город на востоке Англии, административный центр графства Линкольншир. Город расположен на холмистых берегах реки Уитем. В Линкольне сохранились следы римских военных укреплений античного города и предметы быта, которые восходят к I в. н. э.
2 Так он выучил наизусть почти всего Горация... — Имеются в виду оды Горация (полное имя Квинт Гораций Флакк, 65—8 до н. э.), римского поэта, создавшего в период с 30 по 13 г. до н. э. четыре книги од. По замечанию Ю.Ф. Шульца, «содержание од разнообразно: обращение к друзьям, любовь, мысли о быстротечности жизни, призывы к гражданскому примирению, восхваление Августа» (КЛЭ 1962— 1978/2: 269).
3 ...страсть Эдварда к скаковым лошадям, к Джораксу... — Речь идет о породе скаковых лошадей, родоначальником которой в Англии стал Джоракс, легендарная скаковая лошадь смешанной англо-арабской породы, выращенной в Австралии.
4 Лэмпшер — вымышленный топоним, деревни с таким названием не существует.
5 ...зарабатывают какие-то несчастные пятнадцать шиллингов в неделю\ — Английский шиллинг — серебряная монета достоинством 12 пенсов (в английском фунте стерлингов — 100 пенсов). Таким образом, сумма, о которой ведет речь Мэри, равна 1 фунту 80 пенсам в неделю, или 7 фунтам 20 пенсам в месяц, что в начале XX в. считалось жалким заработком. Согласно подсчетам, произведенным в Англии в 1901 г., «семья из нескольких человек может прожить на 1 фунт и 13 пенсов в неделю при условии, если она не будет покупать мясо, билеты на транспорт, газеты, детские игрушки, одежду, табак и алкоголь» (Our Isi. Herit. 1988 / 3: 143).
6 Комитет Англиканской церкви. — Создан в русле закона 1832 г. о реформировании общественных институтов в Англии и Уэльсе, занимается распределением доходов Церкви.
Глава 16
1 ...ей было не видно Кассиопею, триллионы миль Млечного Пути не попадали в поле обзора. — Кассиопея — незаходящее созвездие Северного полушария. Ярчайшие звезды Кассиопеи образуют фигуру, похожую на латинскую букву «М» в декабре и на букву «W» в июне. Созвездие образуют 150 звезд; большая его часть лежит в полосе Млечного Пути и содержит много рассеянных звездных скоплений.
2 Болем-холл — английское поместье в Нотшнгемппшре, известно с XVI в.; поместье неоднократно перестраивалось в XIX в.; считается архитектурным памятником.
474
Пр иложения
Глава 17
1 Симла — город на севере Индии, в предгорьях Гималаев.
Глава 18
1 Уайтхолл-стрит — улица в Лондоне, где расположены правительственные учреждения.
Глава 20
1 ...иначе грош цена нашему обществу. — Имеется в виду общество по борьбе за избирательные права женщин. Известно, что в Англии в 1900—1910-е годы развернулось движение женщин за избирательное право; в 1903 г. был создан Общественно-политический союз женщин (The Women’s Social and Political Union) под руководством Эммелин Панкхерст и двух ее дочерей.
2 Фрэнсис, герцог Бедфорда (1765—1802) — английский аристократ и член партии вигов, который многое сделал для благоустройства центральной части района Блумсбери в Лондоне; благодарные горожане увековечили его образ в памятнике работы скульптора Ричарда Уэстмэкота, установленном в 1807 г. на южной стороне Рассел-сквер.
3 ...две фразы: «познать истину» и «не ожесточиться сердцем»... — Вероятно, обе фразы (учитывая то, что Мэри Дэчет — дочь священника) имеют своим источником Библию: слова «познать истину» из Евангелия от Иоанна (8: 32): «...и познаете истину, и истина сделает вас свободными»; фраза «не ожесточиться сердцем» предположительно или из Книги Иова (21: 25): «А другой умирает с душою огорченною <...>», или из книги Притчей Соломоновых (14: 10): «Сердце знает горе души своей <...>».
4 ..juucmep Асквит... — См. примеч. 3 к гл. 10.
Глава 21
1 «Вестминстер газет». — Основана в 1893 г. как печатный орган английских либералов. В начале XX в. газета публиковала не только политические новости, но и современную прозу.
Глава 22
1 «Волшебная флейта» (1791) — опера Вольфганга Амадея Моцарта.
2 Поуп Александр (1688—1744) — английский поэт-классицист эпохи раннего Просвещения.
Глава 23
1 Норфолк — графство в восточной части Англии, граничит с Линкольном и Кембриджем на западе и с Саффолком на юге; с северо-восточной стороны омывается Северным морем; столица — город Норич.
Примечания. Вирджиния Вулф. День и ночь. Глава 24
475
2 Мост Ватерлоо — пешеходный и автомобильный мост через Темзу, расположен между мостами Блэкфрайерс и Хангефорд.
Глава 24
1 ...экскурс в историю шекспировских сонетов. — Имеется в виду круг вопросов, связанных с временем, обстоятельствами создания, художественным замыслом, степенью автобиографичности и адресатом цикла сонетов У. Шекспира.
2 Энн Хатауэй (ок. 1555—1556 — 1623) — жена Уильяма Шекспира. Сведений о ней сохранилось мало, известно лишь, что она была на восемь лет старше Шекспира. У них было трое детей в период между 1586 и 1613 гг. Шекспир жил в Лондоне, а его жена оставалась в Стратфорде-на-Эйвоне, родине Шекспира. В свое завещание Шекспир включил знаменитое распоряжение оставить жене вторую по качеству кровать со всеми принадлежностями.
3 ...поехать на могилу Шекспира. — У. Шекспир похоронен в церкви Св. Троицы в Стратфорде-на-Эйвоне.
4 Блэкфрайерс. — См. примеч. 6 к гл. 9.
5 ...в нем упоминался Шелли... — О Перси Биши Шелли см. примеч. 5 к гл. 3.
6 Ты будешь играть Розалинду или нет... старую кормилицу... — О Розалинде см. примеч. 8 к гл. 14; «старая кормилица» — это кормилица Джульетты («Ромео и Джульетта» — «Romeo and Juliet», ок. 1595). Сравнением Кэтрин с Розалиндой и старой кормилицей миссис Хилбери указывает на практичность и здравую жилку в характере дочери.
7 ...кем будет Уильям? Героем? Хотспером? Генрихом Пятым? — Подбирая для Уильяма Родни, будущего мужа своей дочери, подходящую роль среди персонажей шекспировских пьес, миссис Хилбери представляет его то персонажем по имени Генри Перси (прозвище Хотспер) из исторической хроники У. Шекспира «Генрих IV» (часть I) («Henry IV», part I, 1597) (прототипом Хотспера послужил сэр Генрих Перси, 1364—1403); то в образе короля Генриха V, главного героя исторической хроники Шекспира «Генрих V» («Henry V», 1599), завершающей тетралогию в составе «Ричарда П», «Генриха IV» (части I и П), где Генрих V выступает сквозным персонажем, появляясь вначале юнцом по прозвищу Хел и вырастая в последней хронике в короля Генриха V, победителя в битве с французами под Азинкуром.
8 Гарриет Мартино (1802—1876) — английская экономистка и социолог, потомок гугенотов, бежавших в Англию из Франции; экономические взгляды Г. Мартино сформировались под влиянием работ Джона Стюарта Милля (1806—1873); известен ее перевод на английский язык «Курса позитивной философии» («Cours de philosophie positive», 1830—1842) Огюста Конта.
9 Уильям Каупер (1731—1800) — английский поэт-предромантик, соавтор «Гимнов Олни» («Olney Hymns»), написанных вместе с Дж. Ньютоном в 1779 г., автор сатир «Застольные беседы» («Table Talk»), «Путь ошибок» («The Progress of Error»), «Правда» («Truth»; 1782). Самым известным произведением Каупера считается поэма «Поручение» («The Task»; 1785). Центральные темы творчества Каупера: богооставленность — она звучит в его «Воспоминаниях» («The Memoir of the Early Life of William Cowper»), написанных около 1767 г. и опубликованных в 1816 г., во
476
Пр иложения
многих его письмах, а также сострадание к бедным и униженным, критика процветавшей в то время работорговли.
10 Вальтер Скотт (1771—1832) — английский поэт, переводчик баллад с немецкого языка, историк литературы, литературный критик, издатель, создатель всемирно известных исторических романов из истории Шотландии и Англии, написанных в период с 1814 по 1831 г.
11 ..млир, тогда еще не ведавший о грядущем восстании в Индии. — Речь идет об Индийском народном восстании 1857—1859 гг., или Синайском восстании, — мятеже индийских солдат при поддержке махарадж, отстраненных от власти, и крестьян против колонизаторской политики англичан; восстание было подавлено англичанами в 1859 г.
12 ...на отполированной до блеска поверхности чиппендейловского столика... — Томас Чиппендейл (1718—1779) — мастер, разработавший стиль мебели красного дерева (бюро, столиков, стульев), в котором рациональность форм сочеталась с изяществом линий и прихотливыми узорами в духе китайских мотивов или готики.
13 Книга премудрости... — Здесь имеется в виду не столько Книга премудрости Соломона, неканоническая книга Ветхого Завета, сколько житейская мудрость, свод неписаных правил поведения, принятых в приличном обществе. Именно этим объясняется ироническая интонация фразы.
14 Южный Кенсингтон — район в центре Лондона по соседству с Челси, известный такими достопримечательностями, как Музей Альберта и Виктории, Музей естественной истории и др.
15 ...доводилось ли ей обедать в Вестминстере? — Вестминстер — исторический район Лондона, расположенный к западу от лондонского Сити; здесь сосредоточены многие памятники истории, культуры, а также правительственные здания, королевский дворец и т. д. Возможно, в вопросе миссис Хилбери содержится намек на скорое замужество Кэтрин, и в этом случае вопрос можно перефразировать таким образом: предполагаешь ли ты венчаться, «обедать» в Вестминстерском аббатстве?
Глава 25
1 Кью-Гарденс, или сады Кью, — королевский ботанический сад в юго-западной части Лондона между Ричмондом и Кью.
2 «Вот она какая — как парусник под ветром», — сказал он про себя, сллутно припо- ллиная строчку то ли из пьесы, то ли из поэмы, где описывалось, как героиня летит на всех парусах под музыку сфер. — При виде приближающейся Кэтрин Ральф Дэ- нем вспоминает комедию У. Конгрива «Так поступают в свете» («The Way of the World», 1700), герой которой Мирабелл говорит о своей возлюбленной: «Идет на всех парусах: корпус рассекает воздух, вымпелы плещутся по ветру <...>» (Конгрив 1977: 235).
3 ...герцогский замок посреди луга. — Английские монархи с давних пор поддерживали земли Кью. Так, при короле Генрихе V в Кью был основан монастырь; в 1517 г. земли в Кью получил Чарлз Сомерсет, граф Уостер, позднее его поместье приобрел Чарлз Брэндон, герцог Саффолка. При Елизавете I роскошный дворец в Кью на берегу Темзы выстроил Роберт Дадли, граф Лестер. Позднее там же
Примечания. Вирджиния Вулф. День и ночь. Глава 26
477
были возведены королевские палаты «Кью Пэлас» и «Белый дом». О каком «герцогском замке» идет речь в романе Вулф, сказать со всей определенностью трудно, однако указание ниже на «статую льва с поджатым хвостом» позволяет предположить, что речь идет о замке, имеющем отношение к королевской фамилии (лев — символ британской короны).
4 ...Дэнем повел Кэтрин сначала в Каменный сад, а потолл во Дворец орхидей. — Под Дворцом орхидей имеется в виду Оранжерея принцессы Уэльской (современное название); Каменный сад, изначально выстроенный из известняка, был открыт в 1882 г.; он разделен на шесть географических зон: Европу, Средиземноморье и Африку, Австралию, Новую Зеландию, Азию, Северную и Южную Америки. Сегодня Каменный сад насчитывает 2480 различных видов растительности.
Глава 26
1 Как, вы не читали «Идиота»? — Роман «Идиот» (1868—1869) Ф.М. Достоевского был опубликован в английском переводе Констанс Гарнет в 1913 г.: Dostoevsky 1913/Ш.
2 Зато я читал «Войну и ллир»\.. — Роман Л.Н. Толстого «Война и мир» (1867) был опубликован в английском переводе К. Гарнет в 1904 г.: Tolstoy 1904/IV, V, VI. Вулф полагала, что это самый великий роман в мировой литературе (см. эссе В. Вулф «Своя комната» в изд.: Вулф 2012: 499—500).
3 Позвольте, а как же Галллет?.. — Тема безумия — одна из центральных в трагедии Шекспира «Гамлет», она получила разнообразные толкования в литературной критике XIX—XX вв. Большинство шекспироведов полагают, что «Гамлет не является умалишенным в клиническом смысле», но «несомненно <...> потрясения, пережитые им, вызвали в нем душевную бурю» (Аникст 1960: 610). Интересное прочтение мотива безумия Гамлета предложил Т.-С. Элиот в эссе «Гамлет и его проблемы» («Hamlet and His Problems», 1920), опубликованном спустя год после выхода в свет романа В. Вулф «День и ночь: «<...> у Шекспира это не сумасшествие и не притворство. Здесь легкомыслие Гамлета, его игра словами, повторение одной и той же фразы — не детали продуманного плана симуляции, а средство эмоциональной разрядки героя» (Элиот 1997: 155).
4 Бедная, бедная Офелия\.. — Воспоминание миссис Хилбери об Офелии, несчастной героине трагедии Шекспира «Гамлет», можно истолковать двояко. Завязавшийся спор о сумасшествии Гамлета вызывает у нее в памяти другой случай безумия — Офелии, утонувшей в Валентинов день. Одновременно образ Офелии эмоционально действует на миссис Хилбери, погружая ее в стихию шекспировской поэзии и побуждая видеть в искусстве Шекспира некую спасительную силу, позволяющую преодолевать рутину существования, его серость и каждодневные тяготы.
5 ...на сцене не только игралщ но и танцевали, и пели, — только совселл не так, как у Вагнера... — «У Вагнера», т. е. в Байройтском театре в г. Байройт в Баварии («Festspielhaus», «дом торжественных представлений»), который был создан по замыслу немецкого композитора Рихарда Вагнера (1813—1883) для исполнения его произведений. Торжественное открытие театра состоялось 13 августа 1876 г. В зрительном
478
Приложения
зале театра 2000 мест, расположенных амфитеатром, который заканчивается галереей (лож и ярусов в театре нет). Оркестр скрыт от зрителей. На сцене этого театра должны были ставиться «синтетические» произведения искусства, включающие поэзию, драму, музыку, танец, живопись.
6 ...«Воспоминания о Шелли» Трелони... — Речь идет об Эдварде Джоне Трелони (1792—1881), английском мемуаристе, авторе книги «Воспоминания о последних днях Шелли и Байрона» («Recollections of the Last Days of Shelley and Byron», 1858).
7 ...на ней был сарафащ какие носят русские крестьянки. — В 1900—1910-е годы в Англии была мода на толстовцев, на скромный и деятельный образ жизни. Характерную запись находим в дневнике Вулф: «Разговор <...> зашел о совести — общественном долге и Толстом. Джералд [Шоув] читал на днях Толстого <...> Всерьез думает, как только закончится война, открыть ясли и собирается отдать под это дело весь их семейный капитал (свой и жены, Фредегонд Мейглэнд. — Пер.)» (The Diary 1977-1984: 100-101).
8 Знаете, я решила: почитаю Милтона. — Странный выбор Кассандры — почитать на сон грядущий поэзию Джона Милтона, одного из самых сложных христианских поэтов, к тому же ученого и политического деятеля, можно объяснить одним: она хотела предстать в глазах своих родственников, прежде всего Кэтрин, и в глазах Уильяма Родни серьезной барышней.
Глава 27
1 Бонд-стрит — с XVIII в. самая фешенебельная улица в центре Лондона, в Вест-Энде, где расположены модные магазины и салоны.
2 Национальная галерея — Лондонская национальная галерея, крупнейшее в Англии собрание живописи; расположена на Трафальгарской площади в центре Лондона; здесь собрано более 2000 произведений западноевропейской живописи ХШ-ХХ вв.
3 Хертфорд-хаус — лондонский особняк на Манчестер-сквер, где находится так называемое «собрание Уоллеса», сравнительно небольшая, но редкая по подбору и художественным достоинствам частная музейная коллекция французского искусства XVTH в., в частности, полотен Буше, Фрагонара и других мастеров рококо. В 1897 г. вдова сэра Ричарда Уоллеса завещала собрание английской нации, и в 1900 г. особняк Хертфорд-хаус был открыт для бесплатного посещения.
4 Брамс Иоганнес (1833—1897) — немецкий композитор и пианист, представитель романтического направления в музыке.
5 Бетховен Людвиг ван (1770—1827) — немецкий композитор, дирижер, пианист.
6 Бехштейн-холл, ныне Уигмор-холл — один из крупнейших концертных залов в Европе, предназначенный для исполнения камерной и вокальной музыки; был открыт в 1899—1901 гг. владельцем немецкой фабрики по производству фортепьяно К. Бехштейном; в 1912 г. там выступал с лекциями Маринетти; в 1916 г., во время Первой мировой войны, зал был продан англичанам, переименован в Уигмор-холл и возобновил деятельность в 1917 г.
7 Хэмптон-Корт — см. примеч. 4 к гл. 9.
Примечания. Вирджиния Вулф. День и ночь. Глава 28
479
8 Гринвичский парк — в прошлом королевский охотничий парк, одна из самых обширных зеленых зон на юго-востоке Лондона, откуда открывается прекрасный вид на Темзу, остров Догз и лондонский Сити.
9 Ричмонд — см. примеч. 3 к гл. 9.
10 Кью — см. примеч. 1 к гл. 25.
11 Айе-айе — лемур отряда приматов, единственный вид руконожковых. Обитает на севере Мадагаскара в тропических лесах, ведет ночной образ жизни.
12 ...думали посидеть в уютной чайной на Портленд-Плейс... — Выбор Уильяма Родни логичен, если вспомнить о его особенной любви к искусству ХУШ в.: ведь Портленд-Плейс — проспект в районе Мэрилебоун в центре Лондона — знаменит зданиями в георгианском стиле середины ХУШ в., которые проектировали братья Адамс, а также необычной для Лондона той поры шириной — последняя объяснялась, как говорили, просьбой лорда Фоули, проживавшего на Портленд-Плейс, не загораживать вид, открывавшийся из окон его особняка.
13 Риджентс-парк — один из главных королевских парков Лондона на границе Вестминстера и Кэмпдена; основан в 1814 г.; на его территории находится знаменитый лондонский зоопарк.
14 Ньюнем — один из двух английских колледжей для женщин в составе Кембриджского университета (другой женский колледж — это Гэртон); Ньюнем был основан в 1871 г.
15 Армия Спасения — международная христианская организация, занимающаяся евангелической и общественной деятельностью; основана в 1865 г.
16 Оксфорд — город в центральной части Англии, столица графства Оксфордшир; мировую славу Оксфорду принес одноименный университет, старейший в Великобритании и во всем англоязычном мире. В архитектурном отношении Оксфорд представляет собой сокровищницу всех стилей, начиная с построек времен англосаксов (VI—X вв.) и заканчивая современностью. Влиятельный викторианский критик Мэтью Арнолд называл Оксфорд «городом мечтающих шпилей».
17 Национальный биографический словарь — энциклопедический словарь биографических статей обо всех выдающихся деятелях Англии прошлого и настоящего. Первое издание Национального биографического словаря было подготовлено сэром Лесли Стивеном (1832—1904), отцом Вирджинии Вулф, в 1882—1900 гг. Последующие издания сопровождались дополнениями, публиковавшимися каждые десять лет. В 1917 г. правообладателем Национального биографического словаря стало издательство «Оксфорд Юниверсити Пресс». Сокращенное издание Национального биографического словаря в двух томах вышло в 1970 г.
Глава 28
1 ...они маяк, он же и птица, он стоит, не дрогнет, сияет в ночи... — Возможно, образ, возникший в душе у Ральфа, подсказан 116-м сонетом Шекспира: «<...> Любовь — над бурей поднятый маяк, | Не меркнущий во мраке и тумане. | Любовь — звезда, которою моряк | Определяет место в океане» (Шекспир 1957—1960/8: 485. Пер. С.Я. Маршака).
2 Гросвенор-стрит — фешенебельная улица в центре Лондона, недалеко от Бонд-стриг.
480
Пр иложения
Глава 30
1 ..миссис Хилбери с досадой захлопнула «Герцогиню Амальфи»... — О «Герцогине Амальфи» елизаветинского драматурга Джона Уэбстера см. примеч. 5 к гл. 4.
2 Ждать в темноте... — Возможно, в этих словах Кэтрин звучит отголосок популярной в годы Первой мировой войны песни «Долгое, долгое ожидание» («There’s a Long, Long Trail») на слова американского поэта Кинга Стоддарда (1889—1933). Две строчки из этой песни: «Ожидание длиною в ночь, | Пока не исполнятся мои мечты» («There’s a long, long night of waiting | Until my dreams all come true») подчеркивают настроение Кэтрин и Ральфа. Интересно, однако, что действие романа происходит до «Великой войны» 1914—1918 гг., как называют Первую мировую войну англичане, и поэтому цитата из военной песни (если наше предположение верно) выявляет подтекст, связанный с подспудными размышлениями самой Вирджинии Вулф о затянувшейся кровопролитной войне.
3 Как маяки... — В бурю... — См. примеч. 1 к гл. 28.
4 Я знавала людей, встречавших лорда Байрона... — Интересно, что своим замечанием о знакомстве с людьми, знавшими Байрона, шестидесятипятилетняя миссис Хилбери подчеркивает связь времен: в 1900-е годы (время действия романа) эпоха Байрона — живое прошлое.
Глава 31
1 ...нет ли у них в доме «Истории Англии» лорда Маколея. — Томас Бэбингтон Маколей (фамилия «Macaulay» читается как «Маколи», но в русской традиции закрепилось с XIX в. иное написание — «Маколей») (1800—1859) — английский политик, историк, публицист; четырехтомная «История Англии» («History of England». Vol. 1—2. 1849; Vol. 3—4. 1855) прославила ее автора.
2 Нортумберленд — самое северное графство на северо-востоке Англии, омывается Северным морем, граничит с Даремом, Камбрией и Шотландией.
3 ...намеревалась справиться о гостиницах в путеводителе Брэдшо. — Название путеводителя образовано от ставшего нарицательным имени Джорджа Брэдшо (1801—1853), английского картографа, печатника и издателя, который сделал себе имя на расписании железнодорожных маршрутов в сочетании с путеводителем, пользовавшимся огромным успехом у публики и выдержавшим многократные переиздания.
4 Большая Куин-стрит — улица в центре Лондона, соединяет районы Ковент- Гардена и Холборна; в начале XVII в. носила название Куин-стрит (букв.: улица Королевы), а с 1670-х годов стала именоваться Большой Куин-стрит.
5 «Яблоневый сад», Маунт Араратроуд, Хайгейт... — В Англии традиционно дома не нумеруют, они носят названия, порой весьма поэтичные.
6 ...отправилась бы в «Колизей»... — Столичный «Колизей» на Сент-Мартин-лейн в центре Лондона — один из наиболее вместительных и блестящих театров варьете; был открыт в декабре 1904 г. и считался самым роскошным концертным залом на 4000 зрителей. В наши дни в здании «Колизея» размещается Английская национальная опера.
7 Кэмберуэлл — район на юге Лондона, с парковой зоной Кэмберуэлл-Грин.
Примечания. Вирджиния Вулф. День и ночь. Глава 32
481
8 Сидкап — район на юго-востоке Лондона, недалеко от Гринвича, со множеством маленьких и больших парков.
9 Уэлш-харп — зона отдыха на окраине Лондона, рядом с водохранилищем Брент.
10 Хэверсток-хилл — часть территории столичного округа Кэмпден.
11 Слоун-стрит — фешенебельная улица недалеко от района Найгсбридж.
Глава 32
1 Джошуа Рейнолдс (1723—1792) — маститый английский художник-портретист, создатель так называемого «величественного стиля» в живописи (the Grand style); один из основателей Королевской академии художеств и ее первый глава.
2 Майл Энд-роуд — район восточного Лондона, возник еще в ХШ в.
3 Далвич (Dulwich, произносится как «Далич») — район на юге Лондона, включает Восточный Далвич, Западный Далвич и Далвич-Вилледж, считается зоной отдыха.
4 Хэмптон-Корт. — См. примеч. 5 к гл. 4.
5 Хэмпстед — территория на северо-западе Кэмпдена, где находится самый большой лондонский парк — Хэмпстед-хит.
6 ...она... решила вопрос в пользу Билли — Билли-короля. — Каламбур строится на общности имен Уильяма Родни, сокращенно Билли, и Вильгельма Ш, по-английски Уильяма III, в народе прозванного Билли-королем, правившего в Англии с 1689 по 1702 г. и перестроившего королевскую резиденцию Хэмптон-Корт в барочном стиле конца ХУП в. Каламбур про Билли выражает симпатию Кассандры к Уильяму Родни, которую она тщательно скрывает.
7 Они прохаживались... по галерее... — Галерея, по которой прогуливаются наши герои, появилась в конце ХУП в., во время перестройки дворцовых зданий в стиле барокко. При Вильгельме Ш в Хэмптон-Корте по проекту Кристофера Рена был выстроен «фонтанный дворик» с покоями для короля и королевы, которые объединяла галерея, слегка напоминавшая Galerie des Glaces в Версале.
8 Лабиринт — одна из самых интересных достопримечательностей Хэмгггон- Корта — лабиринт в составе регулярного французского парка, который был разбит около 1700 г. для Вильгельма Ш. Лабиринт из тисовых деревьев площадью 0, 2 га имеет трапециевидную форму и множество дорожек, часто заканчивающихся тупиком.
9 ...от Ватерлоо... — Имеется в виду лондонский железнодорожный вокзал Ватерлоо.
10 Найте бридж — фешенебельный квартал в самом центре столицы, рядом с Гайд-парком; здесь сосредоточены дорогие рестораны, клубы, заведения для избранной публики.
11 Почитаем Вальтера Скотта. Как насчет «АнтикварауР. Или лучше «Ламмер- мурскую невесту»? — О Вальтере Скотте см. примеч. 10 к гл. 24. «Антиквар», или «Антикварий» («The Antiquary», 1816) и «Ламмермурская невеста» («The Bride of Lammermoor», 1819) — исторические романы В. Скотта. Колебания м-ра Хилбери по поводу того, какой роман лучше выбрать для чтения, можно объяснить разни¬
482
Пр иложения
цей в сюжете этих произведений: «Антиквар» — история любви со счастливым концом, а «Ламмермурская невеста» — романтическая драма, заканчивающаяся смертью героини.
Глава 33
1 ...как однажды встретились в аллее Ките и Колридж. — Речь идет об английских поэтах-романтиках.
2 ...пошла из комнаты, напевая песенку про дочку мельника. — Видимо, миссис Хилбери напевает песню на слова лирического стихотворения А. Теннисона «Дочь мельника» («It is the miller’s daughter»), которое известно в переводе СЛ. Маршака: «У мельника славные дочки, | И так мне одна дорога, дорога <...>» (Теннисон 2007: 231).
3 Майорат — система наследования, при которой имущество переходит целиком к одному лицу по принципу старшинства в роде или семье.
4 По-моелАу, о чем-то таком писал Мэтью Арнолд в связи с лордом Байроном. — Миссис Хилбери вспоминает известное высказывание М. Арнолда, влиятельного викторианского критика и поэта, о том, что «человеческие слабости и художественные просчеты у Байрона взаимосвязаны», содержащееся в предисловии Арнолда к сборнику стихов Дж.-Г. Байрона («Byron. Preface to Poetry of Byron, Chosen and Arranged by Matthew Arnold», 1881). Цит. no: Arnold 1888: 179.
5 Собор Святого Павла в Лондоне — англиканский собор в честь апостола Павла, резиденция епископа Лондона; находится в верхней части Ладгейт-хилла (букв.: холма Лад гейт), самой высокой точки Лондона. Величественное здание собора в стиле барокко, увенчанное мощным куполом, было выстроено по проекту Кристофера Рена в конце ХУП в. на месте старой, сгоревшей во время пожара 1666 г. церкви Апостола Павла, истоки которой восходили к 609 г. н. э.
6 ...когда была первая постановка «Гамлета»? — История постановки и опубликования трагедии Шекспира «Гамлет» довольна запутанна. Существует запись от июля 1602 г. о том, что эта пьеса была «недавно исполнена». Впервые текст трагедии в кратком «плохом» изложении был опубликован в 1603 г. (так называемое «первое кварто»), а второе издание («второе кварто»), почти вдвое большего объема, вышло в 1604—1605 гг. В первом фолио 1623 г. в тексте есть эпизоды, которых нет во «втором кварто», и, наоборот, отсутствуют некоторые из ранее опубликованных.
Глава 34
1 Темпл-бар — историческая граница между торговым Сити и Вестминстером («bar» — букв.: «преграда»); долгое время существовал обычай, согласно которому английский монарх делал остановку у Темпл-бара перед въездом на территорию Сити, и ему подносили «Меч государства» в качестве символа верности. В ХУП— XIX вв. Темпл-бар украшала арка работы К. Рена.
2 Чансери-лейн — улица в лондонском Сити, известная еще с ХП в., со времен рыцарей-тамплиеров; в Новое время — традиционное место расположения судейских и адвокатских контор.
Примечания. Вирджиния Вулф. Зарисовка прошлого
483
Кэтрин Мэнсфилд
И ПЛЫВЕТ КОРАБЛЬ В ТИХУЮ ГАВАНЬ
На русском языке публикуется впервые. Перевод выполнен по: The Critical Writings of Katherine Mansfield / Ed., introd. by Clare Hanson. L., 1987. P. 56—59.
Эта рецензия Кэтрин Мэнсфилд на роман Вирджинии Вулф «День и ночь» (1919) была опубликована в «Атенеуме» (Athenaeum) 21 ноября 1919 года.
1 ...был «прекраснейшим цветком, гордостью фамилии»... — Цитата из гл. 3 романа В. Вулф «День и ночь». К. Мэнсфилд цитирует неточно. У В. Вулф: «редкостным цветком, гордостью фамилии».
2 ...«занимала среди двоюродных и троюродных родственников особое, привилегированное положение». — Там же.
3 ...«в которых (она. — Н.Р.) видела себя то укротительницей мустангов в американских прериях, то рулевым океанского судна, огибающего опасный риф или скалу»... — Там же.
4 ...против «самой распрекрасной прозы, которая все равно оставалась путаной, скомканной и туманной». — Там же.
Вирджиния Вулф ЗАРИСОВКА ПРОШЛОГО
На русском языке публикуется впервые. Перевод фрагментов выполнен по: Woolf V. A Sketch of the Past // Woolf V. Moments of Being. Unpublished Autobiographical Writings / Ed. with an introduction and notes by Jeanne Schulkind. N.Y.; L., 1976. P. 71-72, 77-81, 98-100, 104-105, 124-137.
Эти заметки автобиографического характера написаны В. Вулф в 1939— 1940 годах.
1 Несса — сокращенное от имени Ванесса, так звали старшую сестру Вирджинии Вулф.
2 Леди Стречи Джейн Мария (1840—1928) — мать Литтона Стречи (1880—1932), литератора, друга, единомышленника В. Вулф. Будучи в преклонном возрасте, она написала «Несколько воспоминаний из долгой жизни», и, когда их опубликовали в «Нейшн энд Атенеум», оказалось, что мемуары очень короткие — буквально пара страниц. «Как предположил Майкл Холройд, к началу 1920-х годов леди Стречи уже мало о чем помнила» (Woolf 1976: 64).
3 ...яустала писать о Роджере. — В 1939 г. Вулф работала над жизнеописанием Роджера Фрая (1866—1934), искусствоведа, художника, близкого друга их семьи. Оно было опубликовано в 1940 г.: Woolf 1940.
484
Пр иложения
4 Сент-Айвз — небольшое рыбацкое поселение (ныне морской курорт) на западной оконечности Корнуолла, где с 1881 по 1895 г. родители Вирджинии Вулф снимали на лето дом «Тэланд-хаус». Вулфоведы полагают, что воспоминания писательницы о местечке Сент-Айвз легли в основу по меньшей мере двух ее романов: «На маяк» («То the lighthouse», 1927) и «Волны» («The Waves», 1931).
5 Маунт-мизери (букв.: «гора несчастья») — так местные жители называют два коттеджа, стоящих в низине между Саутизом и Пиддигхоу.
6 Чосер Джеффри (ок. 1343 — 1400) — великий английский поэт, «отец английской поэзии», автор «Кентерберийских рассказов» («The Canterbury Tales», 1387— 1400) и др.
7 ...воспоминания мадам де ла Файет. — Видимо, речь идет о Мари Мадлен де Лафайет (1634—1693), французской писательнице, авторе романа «Принцесса Клев- ская» («La Princesse de Clèves», 1678); из приписываемых ей мемуаров известны «Голландские мемуары» («Mémoires d’Hollande», 1678), «Мемуары французского двора за 1688—1689 гг.» («Mémoires de la Cour de France pour les années 1688 et 1689», опубликованы в 1731 г.).
8 Джейн Остен, Троллоп, пожалуй, Теккерей и Диккенс... — английские писатели ХУШ-Х1Х вв.
9 Толстой. — Имеется в виду Лев Николаевич Толстой (1828—1910), великий русский писатель.
10 «День и ночь» («Night and Day», 1919), «Годы» («The Years», 1937) — романы В. Вулф.
11 Тоби —Тобиас Стивен (1880—1906), старший брат Вирджинии Вулф, умерший от тифа в 1906 г. после поездки в Грецию.
12 ...за ватным существованием скрыта некая тайнопись... — Это высказывание представляется нам похожим на размышления Вулф об искусстве и его воздействии на читателя в 4-й главе ее эссе «Своя комната»: «<...> читая, мы каждую фразу, каждую картину как бы смотрим на свет — чудно, но Природа снабдила нас внутренним светом, чтобы судить о безукоризненности писателя. Или, может быть, в приливе безудержной фантазии она лишь обозначила на стенах нашего ума симпатическими чернилами некое предчувствие, подтверждаемое великими художниками, некий набросок, который нужно поднести к пламени гения, чтобы он проявился. И вот он на глазах оживает, и тебя охватывает восторг: я же всегда это чувствовал, знал и стремился к этому!» (Вулф 2012: 500).
13 Кенсингтон-Гардене, или Кенсингтонские сады — королевский парк в лондонском районе Кенсингтон; до 1728 г. был частью Гайд-парка.
14 Адриан. — Речь идет о Адриане Лесли Стивене (1883—1948), младшем брате Вирджинии Вулф.
15 ...семейство Дилков... — Семья Дилков — соседи Стивенов по лондонской квартире на Гайд-парк-гейт.
16 Примерно до сорока лет — пока я не начала писать «На маяк»... — Вулф начала работу над своим романом «На маяк» («То the Lighthouse», 1927) в 1925 г., а завершила ее в 1927-м, когда ей было 45 лет.
17 ...влияние, оказанное на меня кембриджскими апостолами... — «Кембриджские апостолы» — разговорное наименование тайного общества «Cambridge Conversa-
Примечания. Вирджиния Вулф. Зарисовка прошлого
485
zione Society» («Кембриджское общество беседы»), основанного в 1820-х годах. В начале XX в. в него входили почти все молодые люди, составившие ядро группы Блумсбери, в частности, Литтон Стречи, Леонард Вулф и другие знакомые Тоби, Ванессы и Вирджинии Вулф (см.: Woolf 1976: 80).
18 ...влияние литературной школы Голсуорси, Беннета, Уэллса... — Здесь названы английские прозаики рубежа веков, старшие современники Вирджинии Вулф: Джон Голсуорси (1867—1933), автор «Саги о Форсайтах» («The Forsyte Saga», 1922) и др.; Арнолд Беннет (1867—1931), автор трилогии «Анна из Пяти городов» («Anna of die Five Towns», 1903), «Повести о старых женщинах» («The Old Wives’ Tale», 1908) и др.; Герберт Уэллс (1866—1946), публицист, общественный деятель, родоначальник жанра научной фантастики, автор фантастических романов «Машина времени» («The Time Machine», 1895), «Человек-невидимка» («The Invisible Man», 1897), «Война миров» («The War of The Worlds», 1898) и др. и так называемого «романа идей» в английской литературе XX в.; оценке их творчества писательница посвятила немало критических эссе, из них наиболее известны два: «Современная литература» («Modem Fiction», 1919) и «Мистер Беннет и миссис Браун» («Mr. Bennett and Mrs. Brown», 1924); см. пер. в изд.: Вулф 2012: 117—123, 436—452.
19 ...влияние борьбы за избирательное право... — Речь идет о борьбе английских суфражисток за избирательное право женщин, которого они добились в 1919 г.
20 ...или войны... — Имеется в виду Первая мировая война (1914—1918).
21 ...когда я прогуливалась по Тэвисток-сквер... — Вирджиния Вулф жила в доме 52 на Тэвисток-сквер в Лондоне с 1924 по 1939 г.
22 ...я вдруг подуллала о Стелле. — Речь идет о Стелле Дакворт (1869—1897), сводной сестре Вирджинии Вулф.
23 ...«Переезжать в Манке-хаус». — Загородный дом в графстве Сассекс, который чета Вулфов приобрела в 1919 г.; в 1940 г., когда фашисты начали бомбить Лондон, дом Леонарда и Вирджинии Вулф на Мекленбург-сквер сильно пострадал от бомбежек, супруги перебрались в Манкс-хаус. После смерти Леонарда Вулфа дом был передан его душеприказчиком университету Сассекса, который в свою очередь передал его в Национальный культурный фонд Великобритании. Сейчас в летний период дом открыт для широкой публики как музей.
24 В Стеллу был влюблен Джилл Стивен. — Речь идет о Джеймсе Кеннете Стивене, среднем сыне Джеймса Фитцджеймса Стивена, брата Лесли Стивена, отца Вирджинии Вулф.
25 Де Вер-Гарденс — улица в центре Лондона, примыкающая к Кенсингтон-Гар- денс.
26 «Сэвидж накаркал...» — Имеется в виду Джордж Сэвидж, домашний врач семьи Лесли Стивена.
27 «Похороны сэра Джона Мура»... — Стихотворение «Похороны сэра Джона Мура после Корунны» («The Burial of Sir John Moore after Corunna», 1817) Чарлза Вольфа (1791—1823), английского поэта, прославившегося именно этим одним стихотворением, написанным им на основе рассказа Роберта Саути.
28 «Моя любовь, как роза красная, цветет в ллоелл саду»... — Первая строка стихотворения «О my hiVs like a red, red rose» шотландского поэта Роберта Бернса (1759— 1796) в переводе С.Я. Маршака.
486
Приложения
29 Фанни Бёрни — Франсис Бёрни (1752—1840), в замужестве мадам д’Арблэ, дочь д-ра Бёрни, писательница, автор романов «Эвелина» («Evelina», 1778), «Цецилия» («Cecilia», 1782), «Камилла» («Camilla», 1796). В 1832 г. Фанни Бёрни издала «Мемуары» («Memoirs of Doctor Bumey») — воспоминания об отце. Ее «Ранний дневник: 1768—1778» («The Early Diary of Frances Burney, 1768—1778», 1889) содержит воспоминания о С. Джонсоне, Гаррике и др., а «Дневник и письма г-жи д’Арблэ: 1778—1840» («The Diary and Letters of Madame d’Arblay, 1778—1840», 1842—1846) дают яркое представление о ее жизни при дворе (в 1786 г. Фанни Бёрни была назначена фрейлиной королевы Шарлотты). См. эссе В. Вулф «Званый вечер у д-ра Бёрни» (1932), в котором использованы дневники Ф. Бёрни (см.: Вулф 2012: 267—280).
30 Вскоре после смерти Стеллы... — Стелла умерла 27 июля 1897 г. спустя три месяца после свадьбы, беременная, по вине врачей.
31 ...если к нам на чай придет Китти Мйкс или Кейти Тинн... — Имеются в виду Кэтрин (Китти) Макс (1867—1922), дочь Джейн Лашингтон, близкой подруги матери Вирджинии Вулф, приятельница сестер писательницы, Стеллы и Ванессы, и леди Кэтрин (Кейти) Тинн (1865—1933), одна из дочерей Джона Александра Тинна, британского дипломата и пэра.
32 ...по-моему, я об этом уже писала. — В «Зарисовке прошлого» об этом не говорится.
33 Фред Мэйтленд — Фредерик Уильям Мэйгленд (1850—1906), автор жизнеописания Лесли Стивена [Maitland F.W. The life and Letters of Leslie Stephen. L., 1906).
34 Если бы домашнюю бухгалтерию вел Тоби или Джордж... — Тоби — см. при- меч. 11; Джордж — Джордж Херберт Дакворт (1868—1934), старший сводный брат Вирджинии Вулф, сын от первого брака Джулии Принсеп Дакворт-Стивен.
35 ...взгляды, скажем, Милля, Бентама, Гоббса... — Речь идет об английских философах: Джоне Стюарте Милле (1806—1873), авторе трактата «Подчинение женщин» («The Subjection of Women», 1869); Иеремии Бентаме (1748—1832), основателе философии права, теоретике политического либерализма, родоначальнике утилитаризма в английской философии, стороннике индивидуальной и экономической свободы, отделения Церкви от государства, свободы слова; Томасе Гоббсе (1588—1679), защитнике абсолютизма, одном из основателей теории общественного договора, авторе трактата «Левиафан» («Leviathan», 1651), заложившего основы западной политической философии.
36 Мейнард Джон Кейнс (1883—1946) — английский экономист, близкий знакомый Леонарда и Вирджинии Вулф.
37 ...две очень разные эпохи: викторианский век и век эдвардианский. — Традиционно в английской культуре эпохи и поколения принято называть по имени правящего монарха. Так, «викторианский век» — это эпоха правления королевы Виктории (1819—1901) с 1838 по 1900 г.; «эдвардианский век» — период правления короля Эдварда УП (1841—1910) с 1901 по 1910 г.
38 ...автобус, который шел до Академии. — Имеется в виду Школа живописи Королевской академии художеств, куда в 1901 г. поступила учиться Ванесса Стивен.
39 Словарь Лидделла и Скотта — английский словарь древнегреческого языка, который в XIX в. подготовили для издательства «Оксфорд юниверсити пресс»
Примечания. Вирджиния Вулф. Зарисовка прошлого
487
английские составители Генри Джордж Лидделл, Роберт Скотт, Генри Стюарт Джоунз и Родрик Макензи, использовав в качестве основы «Карманный словарь древнегреческого языка» («Handwörterbuch der griechischen Sprache») немецкого лексикографа Франца Пассоу. С тех пор греко-английский словарь Лидделла и Скотта выдержал с десяток переизданий.
40 ...принималасьразбирать Еврипида или Софокла... — Еврипид (ок. 480 — 406 гг. до н. э.) и Софокл (496—406 гг. до н. э.) — великие древнегреческие драматурги, создатели античной трагедии.
41 Джэнет Кейс. — Джэнет Элизабет Кейс (1862—1937) давала Вирджинии Вулф уроки древнегреческого языка в 1902—1903 гг.
42 ...под пристальным взглядом В зла Принсепа или У лесса, иногда Сарджента... — Вэл Принсеп — кузен Джулии Стивен, матери Ванессы и Вирджинии Стивен; Уолтер Уильям Улесс (1848—1933) — член Королевской академии художеств; Джон Сингер Сарджент (1856—1925) — художник американского происхождения, чья деятельность живописца прошла в Париже и Лондоне, известен прежде всего своими портретами.
43 ...я читала «Республику» Платона... — «Республика» (ок. 380 г. до н. э.) — позднее произведение древнегреческого философа Платона (428 или 427 — 348 или 347 гг. до н. э.), ученика Сократа, учителя Аристотеля, в котором в диалогической форме обсуждаются понятие справедливости, устройство и характер города-государства и т. д.
44 ...начнетрасспрашивать, помнит ли он Милля... — О Джоне Стюарте Милле см. примеч. 35.
45 ...свои старые статьи из «Обыкновенного читателя». — Вулф вспоминает две свои книги эссе, опубликованные под названием «Обыкновенный читатель» («The Common Reader») в 1925 и 1932 гг. Эссе посвящены страницам истории английской литературы и общественно-культурной жизни Англии XIV—XX вв.
46 ...прихорашиваюсь перед чиппендейловским зеркалом... — См. примеч. 12 к гл. 24 романа.
47 Итон — английская закрытая частная привилегированная школа для мальчиков от 13 до 18 лет; основана в 1440 г.
48 ..Херберт Фишер без Уинчестера, Нью-колледжа и кабинета министров? — Херберт Альберт Лоренс Фишер (1865—1940) — кузен Вирджинии Вулф, часто упоминаемый в ее дневниках; Фишер был сыном Мэри Луизы Принсеп, старшей сестры Джулии Принсеп, матери Вулф, и Херберта Уильяма Фишера, наставника принца Уэлльского; историк, член совета Нью-колледжа в Оксфорде, в годы Первой мировой войны Х.-А.-Л. Фишер был членом кабинета министров во главе с Дэвидом Ллойд-Джорджем, а также президентом Комитета по образованию. Уинчестер — одна из закрытых школ в Англии для особо одаренных детей. Смысл пассажа состоит в том, что своими успехами и блистательной карьерой Херберт Фишер, по мысли Вулф, обязан образованию и высокой должности.
49 Давали «Кольцо» ... — Имеется в виду опера Рихарда Вагнера (1813—1883) «Кольцо Нибелунгов» («Der Ring des Nibelungen»).
50 ..ллиссис Дж. Чемберлен... — Установить точно, кто это, не удалось.
488
Пр иложения
51 Эдди Марш — Эдвард Марш (1872—1953), автор воспоминаний об английском поэте Руперте Бруке, погибшем во время боевых действий в годы Первой мировой войны, и личный секретарь Уинстона Черчилля.
52 Ричард Марш (1857—1915) — псевдоним британского писателя Ричарда Бернарда Хельдмана, популярного автора бестселлеров на рубеже веков.
53 ...помню бал в Тринити... — Имеется в виду Тринити-колледж в Кембриджском университете.
54.. .подробности, связанные с Подвязкой. — Предположительно речь идет об ордене Подвязки.
55 Эндрю Лэнг (1844—1912) — журналист, литератор, писавший на самые разные темы и в самых разных жанрах.
56 А читала я, положим, Джонсона. — Скорее всего, Сэмюэла Джонсона (см. при- меч. 3 к гл. 5 романа).
57.. ..Мередит, Генри Джеймс, Генри Сиджвик, Саймондс, Холдейн, Уоттс, Бёрн- Джонс... — Здесь перечислены английские писатели, критики, художники и политики конца XIX в.: Джордж Мередит (1828—1909), поэт и прозаик, автор романов «Испытание Ричарда Феверела» («The Ordeal of Richard Feverei», 1859), «Приключения Гарри Ричмонда» («The Adventures of Harry Richmond», 1871), «Эгоист» («The Egoist», 1879) и др.; Генри Джеймс (1843—1916), американец по происхождению, большую часть жизни прожил в Англии, в число «американских» романов Джеймса входят «Родерик Хадсон» («Roderick Hudson», 1876), «Дэйзи Миллер» («Daisy Miller», 1879), «Женский портрет» («Portrait of a Lady», 1881) и др., его романы об английской жизни включают «Трагическую музу» («The Tragic Muse», 1890) и др., Джеймс — мастер психологического романа; Генри Сиджвик (1838—1900), философ и экономист; Джон Эддингтон Саймондс (1840—1893), поэт и литературный критик; Ричард Берд он Холдейн (1856—1928), влиятельный политик эпохи Британской империи, юрист и философ, министр обороны в 1905—1912 гг.; Джордж Фредерик Уоттс (1817—1904), викторианский художник, портретист; Эдвард Коли Бёрн-Джонс (1833—1898), художник, иллюстратор эпохи позднего прерафаэли- тизма.
58 Лоуэлл Джеймс Расселл (1819—1891) — американский поэт-романтик, педагог, эссеист, дипломат.
Вирджиния Вулф СТАРЫЙ БЛУМСБЕРИ
На русском языке публикуется впервые. Перевод фрагмента выполнен по: Woolf Virginia. Old Bloomsbury //Woolf Virginia Moments of Being. Unpublished Autobiographical Writings /Ed. with an introduction and notes by Jeanne Schulkind. N.Y.; L., 1976. P. 161-170.
Эти заметки автобиографического характера написаны Вулф в начале 1920-х го¬
дов.
Примечания. Вирджиния Вулф. Старый Блумсбери
489
1 ...воспитанная в духе голландско-венецианского домика Уоттса... — Имеется в виду «Little Holland House», дом в Кенсингтоне, принадлежавший тете матери Вирджинии Вулф — Саре Принсеп. В доме культивировали поклонение искусству, особенно живописи; здесь подолгу гостили художники X. Хант, Э. Бёрн-Джонс и Дж.-Ф. Уоттс.
2 Когда я оправилась после болезни... — Вулф пишет о тяжелом нервном срыве, который случился у нее в мае 1904 г.
3 Лору наконец определили в сумасшедший дом... — Речь идет о Лоре Мейкпис Стивен (1870—1945), дочери Лесли Стивена от первого брака с Хэрриет Мэриан (Минни) Теккерей.
4 ..мы вступали в эпоху Сарджента и Фёрза... — О Сардженте см. примеч. 42 к очерку «Зарисовка прошлого»; Чарлз Веллингтон Фёрз (1868—1904) — английский художник-декоратор.
5 ...везде белый с зеленым чине... — Чине (chintz) — обивочная материя светлых тонов, которую использовали в декоре интерьера на рубеже XIX—XX вв. В своих «Воспоминаниях» А. Бенуа писал: «Стены были обтянуты чинсом» [Бенуа Александр. Воспоминания: В 2-х кн. М., 2003. Кн. 1. С. 202).
6 Графтон-гэлери — см. примеч. 3 к гл. 14 романа.
I Бертран Рассел (1872—1970) — философ, математик, общественный деятель.
8 «Питер Пэн» («Peter Pan», 1904) — пьеса шотландского драматурга и романиста Джеймса Мэтью Барри (1860—1937), перу которого также принадлежат «Ричард Сэвидж» («Richard Savage», 1891), «Кволити-стрит» («Quality Street», 1901), «Замечательный Крихтон» («The Admirable Crichton», 1902) и другие произведения.
9 ...после обеда зашли Сидни-Тёрнер со Стречи... — Имеются в виду Сэксон Ар- нолл Сидни-Тёрнер (1880—1962), ученый-классик, однокурсник Леонарда Вулфа, Клайва Белла, Тоби Стивена по Кембриджу, и Литтон Стречи (см. примеч. 2 к очерку «Зарисовка прошлого»). Оба — члены кружка Блумсбери.
10 ...«за нами прислала свой новый автомобиль Маргарет... — Имеется в виду леди Маргарет Херберт (1868—1954), в замужестве Дакворт, супруга Джорджа Дакворта, сводного брата Вирджинии Вулф.
II ...читать лекцию о греческой мифологии [в вечерней школе для рабочих). — Вирджиния Стивен преподавала в Морли-колледже с 1905 по конец 1907 г.
12 Белл Клайв (1881—1964) — будущий муж Ванессы Стивен, искусствовед, член кружка Блумсбери.
13 Поуп Александр (1688—1744) — поэт-классицист эпохи Просвещения.
14 Робертсон Э.-Дж. — студент Тринити-колледжа, приятель К. Белла, Л. Вулфа, Л. Стречи, С. Сидни-Тёрнера и Т. Стивена.
15 ...собирался навсегда похоронить себя среди дикарей в тропических джунглях... — Речь идет о Леонарде Сидни Вулфе (1880—1969), будущем муже Вирджинии Вулф; после окончания Кембриджа Л. Вулф служил с 1904 по 1911 г. государственным чиновником на Цейлоне (в Шри-Ланке).
16 Хотри Ральф (1879—1975) — экономист, учился с Тоби Стивеном в Кембридже, гостил у Стивенов в Корнуолле летом 1905 г.
490
Приложения
17 «Диана с перепутья» («Diana of the Crossways», 1885) — роман английского романиста Джорджа Мередита. О Дж. Мередите см. примеч. 57 к очерку «Зарисовка прошлого».
18 ...нас всех настроила на обсуждение философии, искусства, религии книга Мура... — Имеется в виду книга Джорджа Эдварда Мура (1873—1958), кембриджского профессора философии, «Principia Ethica» («Принципы этики», 1903), которая оказала огромное влияние на идеологию группы Блумсбери.
19 Десмонд Маккарти (полное имя Чарлз Отто Десмонд Маккарти) (1877—1952) — литературный редактор, театральный критик и журналист, один из старейших членов группы Блумсбери.
20 Итон — см. примеч. 47 к очерку «Зарисовка прошлого».
21 Рай (Rye) — небольшой старинный городок в восточной части графства Сассекс (Англия).
1882
1895
1897
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ВИРДЖИНИИ ВУЛФ (1882-1941)
Вирджиния Аделаин Стивен (в замужестве Вулф) родилась 25 января в Лондоне в доме 22 на Хайд-парк-гейт.
Переживает утрату матери Джулии Дакворт-Стивен (в девичестве Принсеп) (род. 1846).
Умирает Стелла Дакворт (род. 1869), старшая сестра Вирджинии Вулф.
После смерти отца сэра Лесли Стивена (род. 1832) переезжает вместе с сестрой и братьями в район Блумсбери в дом 46 на Гор дон-сквер. В декабре «Гардиан» печатает две первые ее статьи: рецензию «Сын королевского Лэнгбрита» («The Son of Royal Langbrith») и эссе «Хоу- орт, ноябрь 1904 года» («Haworth, November 1904»).
Вулф преподает в Морли-колледже для рабочей молодежи, печатается в литературном приложении к «Таймс» и «Гардиан».
Продолжает сотрудничать в качестве рецензента с литературным приложением к «Таймс» и «Спикером»; вместе с братьями и сестрой едет в Грецию; в ноябре от тифа, подхваченного во время поездки, умирает старший брат Тобиас (Тоби) (род. 1880).
В феврале после замужества сестры Ванессы переезжает с младшим братом Адрианом в дом 29 на Фитцрой-сквер в Блумсбери; начинает работать над рукописью первого романа (первоначальное название «Мелимброзия») («Melymbrosia»).
Сотрудничает с литературным приложением к «Таймс» и «Корнхилл мэгэзин».
В августе посещает Вагнеровский театр в Байройте (Бавария).
В феврале участвует в розыгрыше на военном корабле (так называемый «Dreadnought hoax»). Продолжает печататься в литературном приложении к «Таймс».
492
Приложения
1912 10 августа выходит замуж за Леонарда Сидни Вулфа (1880—1969), выпускника Кембриджского университета, государственного служащего на Цейлоне с 1904 по 1911 гг., будущего идеолога Лиги Наций, писателя, политического журналиста. Йродолжает сотрудничать с литературным приложением к «Таймс».
1913 Представляет рукопись своего первого романа «По морю прочь» («The Voyage Out») в издательство «Дакворт»; сопровождает Л. Вулфа в его поездке по северным районам Англии, связанной с изучением местного кооперативного движения.
1915 Публикует в «Дакворте» первый роман «По морю прочь» («The Voyage Out»). Йереезжает с мужем в Ричмонд в дом «Хогарт-хаус»; начинает работать над рукописью второго романа (первоначальное название «Мечты и реальность») («Dreams and Realities»).
1916 Активно печатается в «Таймс литерари сапплмент» (15 статей), знакомится с украинским эмигрантом С.С. Котельянским (1880—1955), вступает в члены ричмондского отделения кооперативной гильдии женщин (the Women’s Co-operative Guild), организует в своем ричмондском доме ре1улярные заседания членов гильдии.
1917 Вместе с мужем приобретает печатный станок и основывает издательство «Хогарт Пресс»; первое издание, набранное на станке и отпечатанное собственноручно, — «Два рассказа» («Two Stories»): рассказ Л Вулфа «Три еврея» («Three Jews») и рассказ В. Вулф «Пятно на стене» («The Mark on the Wall»). Создает вместе с мужем «Клуб 1917» (1917 Club). Становится постоянным рецензентом литературного приложения к «Таймс» (35 статей, в том числе 4 рецензии на английские переводы произведений Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского и С.Т. Аксакова).
1918 Знакомится с Т.С. Элиотом (1888—1965), очень активно сотрудничает с литературным приложением к «Таймс» (43 статьи, в том числе четыре рецензии на произведения А.П. Чехова, В.Я. Брюсова, Е.М. Милицыной и М.Е. Салтыкова-Щедрина).
1919 Публикует в издательстве «Хогарт Пресс» отдельной книжкой рассказ «Сады Кью» («Kew Gardens»), а в издательстве «Дакворт» — свой второй роман «День и ночь» («Night and Day»); продолжает сотрудничать с литературным приложением к «Таймс» (20 статей, включая два эссе о рассказах А.П. Чехова и повестях Ф.М. Достоевского). Приобретает вместе с мужем загородный дом «Манкс-хаус» в Сассексе, ныне — музей Вирджинии Вулф.
1920 Активно печатается в английской прессе (24 эссе, в том числе о драматургии А.П. Чехова).
1921 Публикует в издательстве «Хогарт Пресс» сборник рассказов «Понедельник ли, вторник» («Monday or Tuesday»), выступает с заметками
Основные даты жизни и творчества Вирджинии Вулф
493
«Старый Блумсбери» («Old Bloomsbury») перед членами «Клуба мемуаристов» (Memoir Club), учит русский язык под руководством С.С. Ко- тельянского.
1922 Публикует в издательстве «Хогарт Пресс» роман «Комната Джейко- ба» («Jacob’s Room») и в соавторстве с С. С. Котельянским английский перевод эпизода из романа Ф.М. Достоевского «Бесы».
1923 Публикует в соавторстве с С. С. Котельянским в издательстве «Хогарт Пресс» английские переводы «Любовных писем Толстого» («Tolstoy’s Love Letters») и «Бесед с Толстым» («Talks with Tolstoy») Б.А. Гольденвейзера; активно печатается в американской и английской прессе.
1924 В мае выступает с лекцией «Мистер Беннет и миссис Браун» в Кембридже; в октябре в издательстве «Хогарт Пресс» публикует одноименное эссе («Mr. Bennett and Mrs. Brown»).
1925 Публикует в «Хогарт Пресс» роман «Миссис Дэллоуэй» («Mrs. Dallo- way») и книгу «Обыкновенный читатель» («The Common Reader»); 35 статей в английской и американской прессе.
1926 В англо-американской периодике печатает 22 статьи.
1927 В издательстве «Хогарт Пресс» выходит роман «На маяк» («То the Lighthouse»); 17 статей — в англо-американской печати, в том числе эссе об И.С. Тургеневе.
1928 Получает премию «Femina-Vie Heureuze» за роман «На маяк»; в издательстве «Хогарт Пресс» публикует роман «Орландо: биография» («Orlando: A Biography»); дважды выступает в Оксфорде с лекциями (составят основу эссе «Своя комната» («А Room of One’s Own»). Публикует 25 статей в англо-американской периодике.
1929 В «Хогарт Пресс» выходит отдельным изданием эссе «Своя комната»; 12 статей в англо-американской прессе.
1930 В «Хогарт Пресс» выходят второе издание романа «День и ночь» и отдельной книжкой эссе «Beau Браммел» («Beau Brummei»); 7 статей в английской периодике.
1931 Публикует в «Хогарт Пресс» роман «Волны» («The Waves»); 8 статей в англо-американской прессе.
1932 Публикует в «Хогарт Пресс» вторую серию «Обыкновенного читателя» и отдельной книжкой эссе «Письмо к молодому поэту» («А Letter to a Young Poet»).
1933 В «Хогарт Пресс» выходит книга «Флаш: биография» («Flush: A Biography»); 4 эссе в английской периодике, включая эссе «Романы Тургенева» («The Novels of Turgenev»).
494
Приложения
1934 В издательстве «Хогарт Пресс» выходит отдельной книжкой эссе «Уолтер Сиккерт: беседа» («Walter Sickert: A Conversation»).
1935 Выступает с речью «Памяти Роджера Фрая» на открытии выставки в музее и картинной галерее Бристоля (Англия).
1936 Печатается в «Дейли Уоркер».
1937 Публикует в «Хогарт Пресс» роман «Годы» («The Years»); в Испании гибнет племянник В. Вулф Джулиан Белл (род. 1908), воевавший на стороне республиканцев.
1938 В «Хогарт Пресс» выходят эссе «Три гинеи» («Three Guineas») и третье издание романа «День и ночь».
1939 Работает над рукописью книги «Роджер Фрай: биография» («Roger Fry: A Biography») и воспоминаниями «Зарисовка прошлого» («А Sketch of the Past»).
1940 Публикует в «Хогарт Пресс» книгу «Роджер Фрай: биография»; выступает с лекцией «Наклонившаяся башня» («The Leaning Tower») перед Ассоциацией работников образования в Брайтоне (Англия); 8 июля в «Зарисовке прошлого» делает запись о возможном самоубийстве в случае обострения военной обстановки; в сентябре — ноябре фашисты бомбят Лондон, квартира Вулф в доме на Тэвисток-сквер полностью разрушена.
1941 В феврале завершает работу над рукописью романа «Между актами» («Between the Acts»). 28 марта покончила с собой, утопившись в реке Уз вблизи Манкс-хауса. В июле Л Вулф посмертно публикует роман «Между актами».
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Аникст 1960 — Аникст А.А. Послесловие к «Гамлету» //Шекспир У. Поли, собр. соч.: В 8 т. М., 1960. Т. 6. С. 571-627.
Вулф 2002 — Вулф В. По морю прочь: Пер. А. Осокина. М., 2002.
Вулф 2009 — Вулф В. Дневник писательницы. М., 2009.
Вулф 2012 — Вулф В. Обыкновенный читатель / Изд. подгот. Н.И. Рейнгольд; отв. ред. А.Н. Горбунов. М., 2012 (Литературные памятники).
Достоевский 1972—1990 — Достоевский Ф.М. Поли. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972— 1990.
Ките 1986 — Ките Дж. Стихотворения / Пер. Г. Гампер; изд. подгот. Н.Я. Дьяконова, Э.К. Линецкая, С.Л. Сухарев. Л., 1986 (Литературные памятники).
КЛЭ 1962—1978 — Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. М., 1962— 1978.
Конгрив 1977 — Конгрив У. Комедии / Изд. подгот. М.А. Донской, И.В. Мел- кова, Р.Н. Померанцева и др. М., 1977 (Литературные памятники).
М. Горький 1949—1955 — Ж Горький. Собр. соч.: В 30 т. М., 1949—1955.
Рейнгольд 2012 — Рейнгольд Н. Мосты через Ла-Манш: британская литература 1900-2000-х. М., 2012.
Сидни 1982 — Сидни Ф. Астрофил и Стелла. Защита поэзии / Изд. подгот. Л.И. Володарская. М., 1982 (Литературные памятники).
Теннисон 2007 — Теннисон А. Волшебница Шалотт. М., 2007.
Теккерей 1953 — Теккерей УМ. Ярмарка тщеславия: В 2 т. / Пер. Р.М. Гальпериной и М.Ф. Лорие. М., 1953.
Уэллс 1964 — Уэллс Г.Д. Собр. соч.: В 15 т. М., 1964.
Филонов 1988 — Павел Николаевич Филонов. Живопись. Графика. Из собрания Государственного Русского музея. Каталог выставки. Л., 1988.
Шекспир 1957—1960 — Шекспир У. Поли. собр. соч.: В 8 т./Под общей ред. А. Смирнова и А. Аникста. М., 1957—1960.
Элиот 1997 — Элиот Т.С. Назначение поэзии. Киев; М., 1997.
Элиот 2002 — Элиот Т. Избранное. М., 2002.
496
Пр иложения
Arnold 1888 — Arnold М. Byron // Arnold M. Essays in Criticism. 2nd series. L.; N.Y, 1888.
Briggs 2005 — Briggs Julia. Virginia Woolf: An Inner Life. L., 2005.
DiBattista 2004 — DiBattista Maria. An Improper Englishwoman: Woolf as a World Writer //Woolf across Cultures / Ed. by N. Reinhold. N.Y., 2004. P. 17—31.
Dostoevsky 1912—1920 — Dostoevsky F. The Idiot/Trans, by Constance Garnett // Dostoevsky F. The Novels: In ХП vols. L., 1913. Vol. Ш.
Dowie 1895 — Dowie M.M. Gallia. L., 1895.
Eliot 1972 — Eliot T.S. [On Virginia Woolf (1942)] // Recollections of Virginia Woolf by Her Contemporaries /Ed. by J.R. Noble. L., 1972. P. 119—122.
Flint 1987 — Flint K. The Victorian Novelist: Social Problems and Social Change. L, 1987.
Grand 1894 — Grand S. The Heavenly Twins. L., 1894.
Hardy 1972 — One Rare Fair Woman: Thomas Hardy’s Letters to Florence Henni- ker (1893—1922) / Ed. by Evelyn Hardy and F.B. Pinion. L., 1972.
Hussey 1992 — Hussey M. Refractions of Desire: The Early Fiction of Virginia and Leonard Woolf //Modem Fiction Studies. 1992. Vol. 38. No 1. P. 127—146.
Hussey 1995 — Hussey M. Virginia Woolf: A—Z. The Essential Reference to Her Life and Writings. N.Y.; Oxford, 1995.
Lee 1996 — Lee H. Virginia Woolf. L., 1996.
Marcus 1987 — Marcus J. Virginia Woolf and the Languages of Patriarchy. Bloomington, 1987.
Our Isl. Herit. 1988 — Our Island Heritage: In 3 vols. L.; N.Y., 1988.
Reinhold 2004 — Reinhold N. Woolfs Work in Russia: A Success Story of 2.5 Min Copies //Woolf across Cultures /Ed. by N. Reinhold. N.Y., 2004. P. 1—13.
Squire 1985 — Squire S.M. Virginia Woolf and London: The Sexual Politics of the City. Chapel Hill, 1985.
Stutfield 1987 — Stutfield H.EM. The Psychology of Feminism //Blackwoods magazine. 1987. January. P. 104—117.
The Diary 1977—1984 — The Diary of Virginia Woolf: In 5 vols. / Intr. by Quentin Bell/Ed. by Anne Olivier Bell. L., 1977—1984.
The Essays 1986—2011 — The Essays of Virginia Woolf: In 6 vols. / Ed. by A. McNeil- lie. L., 1986-2011. Vols. 5 and 6 (by S.N. Clarke).
The Letters 1975—1980 — The Letters of Virginia Woolf: In 6 vols. / Ed. by N. Nicol- son. L., 1975-1980.
Tolstoy 1901—1904 — Tolstoy L. War and Peace /Trans, by C. Garnett //Tolstoy L. The Novels: In 6 vols. L., 1904. Vols. IV, V, VI.
Woolf 1940 — Woolf V. Roger Fry: A Biography. L., 1940.
Woolf 1942 — Woolf V. «The Death of the Moth» and Other Essays. L., 1942.
Woolf 1966-1967 - Woolf V. Collected Essays: In 4 vols. / Ed. by L. Woolf. L., 1966-1967.
Список сокращений
497
Woolf 1976 — Woolf V. Moments of Being: Unpublished Autobiographical Writings /Ed. with an Intr. and Notes by J. Schulkind. N.Y.; L., 1976.
Woolf 1979 — Woolf V. Women and Writing / Intr. by M. Barrett. L., 1979.
Woolf 1990 — Woolf V. A Passionate Apprentice: The Early Journals 1897—1909 / Ed. by M.A. Leaska. L., 1990.
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Ил. на с. 5. Вирджиния Вулф (1882—1941) в платье матери позирует для журнала «Вог», 1926 г. (The Condé Nast PLC — Vogue).
Ил. на с. 157. Страница 216 прижизненного издания романа «День и ночь», на которой упоминается старшая дочь по имени Евфимия ( Woolf Virginia. Night and Day. L.: Hogarth Press, 1938).
Ил. на с. 331. Страница 465 прижизненного издания романа, на которой название адвокатской конторы «Грейтли энд Хупер» изменено (Там же).
Иллюстрации в альбоме
Ил. 1. Ванесса Стивен (в замужестве Белл), старшая сестра Вирджинии. Ок. 1902 г. Ил. 2. Вирджиния Стивен (в замужестве Вулф). Ок. 1902 г.
Ил. 3. Сэр Лесли Стивен и Джулия Дакворт-Стивен (в девичестве Принсеп), родители Вирджинии.
Ил. 4. Вирджиния с матерью. 1884 г.
Ил. 5. Вирджиния с братом Адрианом. 1900 г.
Ил. 6. Вирджиния [слева) и Ванесса. 1896 г.
Ил. 7. Джулия Дакворт-Стивен с дочерью Стеллой Дакворт (от первого брака). Предположительно до 1895 г.
Ил. 8. Джэнет Кейс, Вирджиния Стивен и Ванесса Белл [слева направо). 1911 г. Ил. 9. Вирджиния Стивен и Леонард Вулф. 1912 г.
Ил. 10. Вирджиния и Леонард Вулф. Конец 1910-х — начало 1920-х гг.
Ил. 11. Шекспировское общество в Тринити-колледже Кембриджского университета. Ок. 1900 г. В первом ряду: крайний справа — Леонард Вулф, крайний слева — Литгон Стречи. Во втором ряду второй справа — Тоби Стивен, старший брат Вирджинии Вулф.
Список иллюстраций
499
Ил. 12. Кэтрин Кокс, выпускница женского колледжа Ныонем, близкий друг четы Вулфов. 1911 г.
Ил. 13. Обложка первого издания рассказа «Сады Кью» работы Ванессы Белл.
Ил. 14. Титульный лист и первые страницы прижизненного издания романа «День и ночь». 1938 г.
Ил. 15. Кэтрин Мэнсфилд, автор рецензии на роман «День и ночь». Ок. 1920 г.
Ил. 16. «Хогарт-хаус» в Ричмонде, где чета Вулфов основала издательство «Хо- гарт Пресс» и где был написан роман «День и ночь».
Ил. 17—18. Вид на море из сада летнего загородного дома «Тэланд-хаус» [на врезке) в местечке Сент-Айвз (Корнуолл), описанного Вулф в «Зарисовках прошлого». Соврелленные фото. Автор Н.И. Рейнгольд.
Ил. 19. Бухта Сент-Айвз (Корнуолл) с видом на маяк, воспетая в романе Вулф «На маяк». Совреллепное фото. Автор Н.И. Рейнгольд.
Ил. 20. Лондонский комитет Общественно-политического союза женщин. 1908 г.
Ил. 21. На карикатуре в «Панче» 1908 г. изображен британский министр обороны Р. Холдейн (1905—1912 гг.) с подписью: «Эх, жаль, не могу заставить мужчин шагать таким же строем!»
Ил. 22. Суфражистки спорят с полицейским. Лондон, 1912 г.
Ил. 23. Выборный участок в Лондоне в декабре 1918 года. Впервые в истории Англии в голосовании участвуют тридцатилетние женщины.
Содержание
Вирджиния Вулф
ДЕНЬ И НОЧЬ
Перевод Н.И. Рейнгольд 7
ДОПОЛНЕНИЯ
Перевод Н.И. Рейнгольд
Кэтрин Мэнсфилд. И плывет корабль в тихую гавань 385
Вирджиния Вулф. Зарисовка прошлого 389
Вирджиния Вулф. Старый Блумсбери 412
ПРИЛОЖЕНИЯ
Н.И. Рейнгольд. «День и ночь» Вирджинии Вулф: мгновенья бытия 423
Примечания. Сост. Н.И. Рейнгольд 461
Даты жизни и творчества Вирджинии Вулф. Сост. Н.И. Рейнгольд 491
Список сокращений 495
Список иллюстраций. Сост. Н.И. Рейнгольд 498
Вулф Вирджиния
День и ночь / Изд. подгот. Н.И. Рейнгольд. — М.: Ладомир: Наука, 2014. — 502 с., ил. (Литературные памятники)
ISBN 978-5-86218-518-8
«День и ночь» (1919) — единственный из девяти романов Вирджинии Вулф (1882—1941), бесспорного классика мировой литературы XX века, прежде не переводившийся на русский язык. Неожиданная тема, необычный стиль — другая, не знакомая нам Вирджиния Вулф.
В центре повествования — две семьи. На одном полюсе — Хилбери, потомственные литераторы, «высший средний класс», на другом — Дэнемы, многодетное семейство, английский «низший средний класс». Молодая героиня Кэтрин Хилбери случайно знакомится с Ральфом Дэнемом, начинающим адвокатом, публицистом, не приемлющим авторитеты. Вспыхивает страсть, она и свет, и мука для влюбленного; Ральф мечется, Кэтрин уходит в себя. Следует ждать войны Монтекки и Капулетти XX века?.. Экзотические картины лондонской литературной богемы сменяются эпизодами бурной деятельности кучки энтузиастов, работающих на благо простых людей. Гротескные сцены викторианского чаепития в духе кэрролловской «Алисы» перебиваются шекспировской нотой мечты о любви.
Войны кланов не будет. Но героям предстоит выбраться из скорлупы общепринятых жизненных схем, найти свою дорогу в наступающей новой жизни. Место действия — Лондон. Он едва ли не главный герой книги. Город, который помнит все повороты истории и культуры, где все роли, кажется, заранее определены и где быстрее, чем в любой точке мира, становятся заметными черты новой жизни.
Большая тема модернизма, очень важная у Вулф — новый век спорит со «старым сифилисом», — придает ее самому объемному роману очертания новой эстетики: точность факта, полноту описания психологии, картину жизни, схваченной в вечном движении «день и ночь напролет». Поражает неповторимая вулфовская интонация — легкая, танцующая, ироничная.
Под одной обложкой с романом впервые в русском переводе публикуются фрагменты из воспоминаний В. Вулф о центре лондонской богемы «Старый Блумсбери» (1920-е), «Зарисовка прошлого» (1940) и критическая рецензия (1919) Кэтрин Мэнсфилд на «День и ночь», едва не стоившая ей дружбы с писательницей. Вниманию читателя предлагаются также: редкие фотографии английской жизни конца XIX — начала XX века, статья вулфоведа, комментатора и переводчицы Натальи Рейнгольд, обстоятельные «Примечания» — это первый случай комментированного издания романов В. Вулф в России.
Научное издание
Вирджиния Вулф
ДЕНЬ И НОЧЬ
Утверждено к печати Редакционной коллегией серии «Литературные памятники»
Редактор Л.М. Шарапкова Корректор О.Г. Наренкова Компьютерная верстка и препресс В.Г. Курочкина
Издание выпущено при содействии Эрика Александровича Роберта
ИД № 02944 от 03.10.2000 г. Подписано в печать 23.10.2013 г. Формат 70 X 90у16. Бумага офсетная № 1.
Печать офсетная. Гарнитура «Баскервиль».
Печ. л. 31,5. Тираж 1200 экз. Зак. № 8236.
Научно-издательский центр «Ладомир» 124681, Москва, ул. Заводская, д. 4 Тел. склада: 8-499-729-96-70 E-mail: ladomirbook@gmail.com
Отпечатано с оригинал-макета в ОАО «Первая Образцовая типография», филиал «Ульяновский Дом печати» 432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14
ISBN 978-5-86218-518-8
НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ЛАДОМИР» ГОТОВИТ
Серия «Литературные памятники»
МИСТЕРИИ ЙОРКСКОГО ЦИКЛА
Первый русский перевод и, соответственно, первое русское издание знаменитого и практически не известного отечественному читателю памятника средневекового театра. Цикл Йоркских мистерий (XIV— XV вв.) состоит из целого ряда небольших пьес на библейские сюжеты как Ветхого, так и Нового заветов — от Сотворения мира до Страшного суда. Уцелели манускрипты нескольких таких циклов на среднеанглийском языке. Из всех Йоркский цикл считается самым удачным и лучше всего сохранившимся.
В эпоху позднего Средневековья мистерии с большим успехом игрались в городах актерами-непрофессионалами из числа ремесленников, неизменно собирая огромные толпы зрителей. Такие пьесы, написанные стихами, сочиняли, скорее всего, клирики, чьи имена до нас не дошли. Они же, по-видимому, осуществляли и режиссуру спектаклей, длившихся целый день — с рассвета до заката. Пьесы исполнялись под открытым небом в нескольких местах города. Сценой служила особая повозка на колесах, которая могла свободно перемещаться по узким средневековым улочкам. Одна повозка, на которой разыгрывалась та или иная пьеса, сменялась другой, на которой представлялось новое действо. Затем она тоже уезжала, а ее место занимала третья. Подобные представления случались в Англии раз в году, в середине лета, вскоре после Троицы, в католический праздник Тела Христова, на протяжении почти трех веков — с XIV по XVI — и постепенно прекратились с приходом Реформации. Циклы мистерий оказали безусловное влияние на елизаветинских драматургов (в том числе на Шекспира), продолживших традиции средневекового театра.
Помимо собственно пьес, книга содержит научную статью о мистериях Йоркского цикла и пространный комментарий. Книга уникальна и своим своим богатейшим изобразительным рядом (ок. 250 ил.), основу которого составили миниатюры из средневековых иллюминированных рукописей Ветхого и Нового заветов. Издание предназначено как профессионалам, историкам театра и литературы, так и самому широкому кругу читателей, интересующихся средневековой культурой и восприятием в ней Священного Писания.
Любые книги «Ладомира»
можно заказать наложенным платежом в издательстве по адресу: 124681, Москва, ул. Заводская, д. 4, НИЦ «Ладомир».
Тел.: 8-499-717-98-33; тел. склада: 8-499-729-96-70.
E-mail: ladomirbook@gmail.com (в реквизитах электронного письма, в разделе «Тема», укажите: «Ладомир»).
ВНИМАНИЮ
ЛИТЕРАТУРОВЕДОВ, ИСТОРИКОВ И ПЕРЕВОДЧИКОВ
Если вы хотели бы принять участие в подготовке томов серии «Литературные памятники», отправляйте свои предложения в Научноиздательский центр «Ладомир» по адресу: 124681, Москва, ул. Заводская, д. 4, НИЦ «Ладомир».
E-mail: ladomirbook@gmail.com (в реквизитах электронного письма, в разделе «Тема», укажите: «Ладомир»).
ВНИМАНИЮ
СОБИРАТЕЛЕЙ СЕРИИ «ЛИ»
Любые книги «Ладомира»
можно заказать наложенным платежом в издательстве по адресу: 124681, Москва, ул. Заводская, д. 4, НИЦ «Ладомир». Тел.: 8-499-717-98-33; тел. склада: 8-499-729-96-70.
Email: ladomirbook@gmail.com (в реквизитах электронного письма, в разделе «Тема», укажите: «Ладомир»).
Аннотированный каталог имеющихся изданий «Ладомира», а также перспективный план рассылаются электронной почтой по соответствующему запросу.