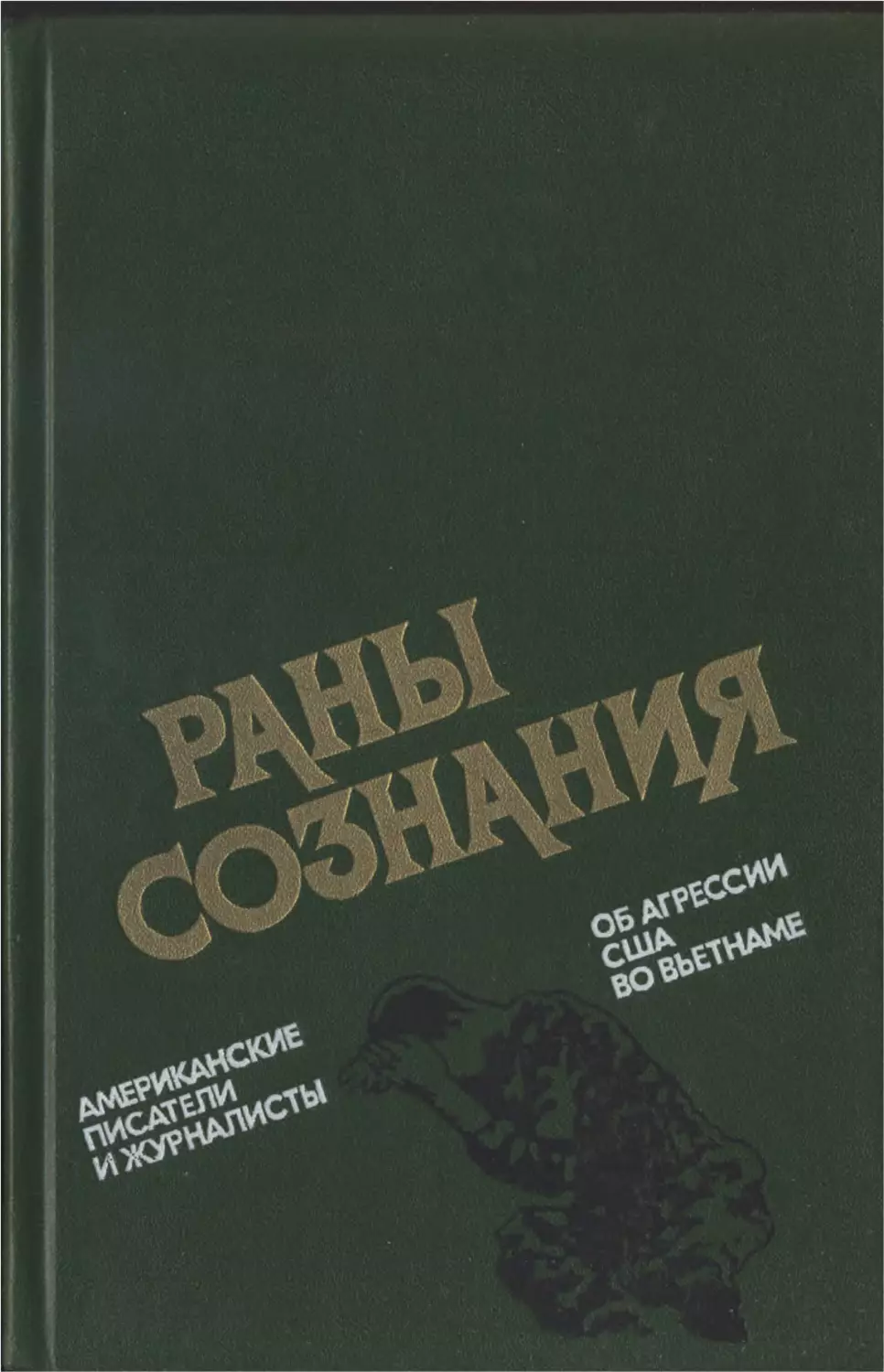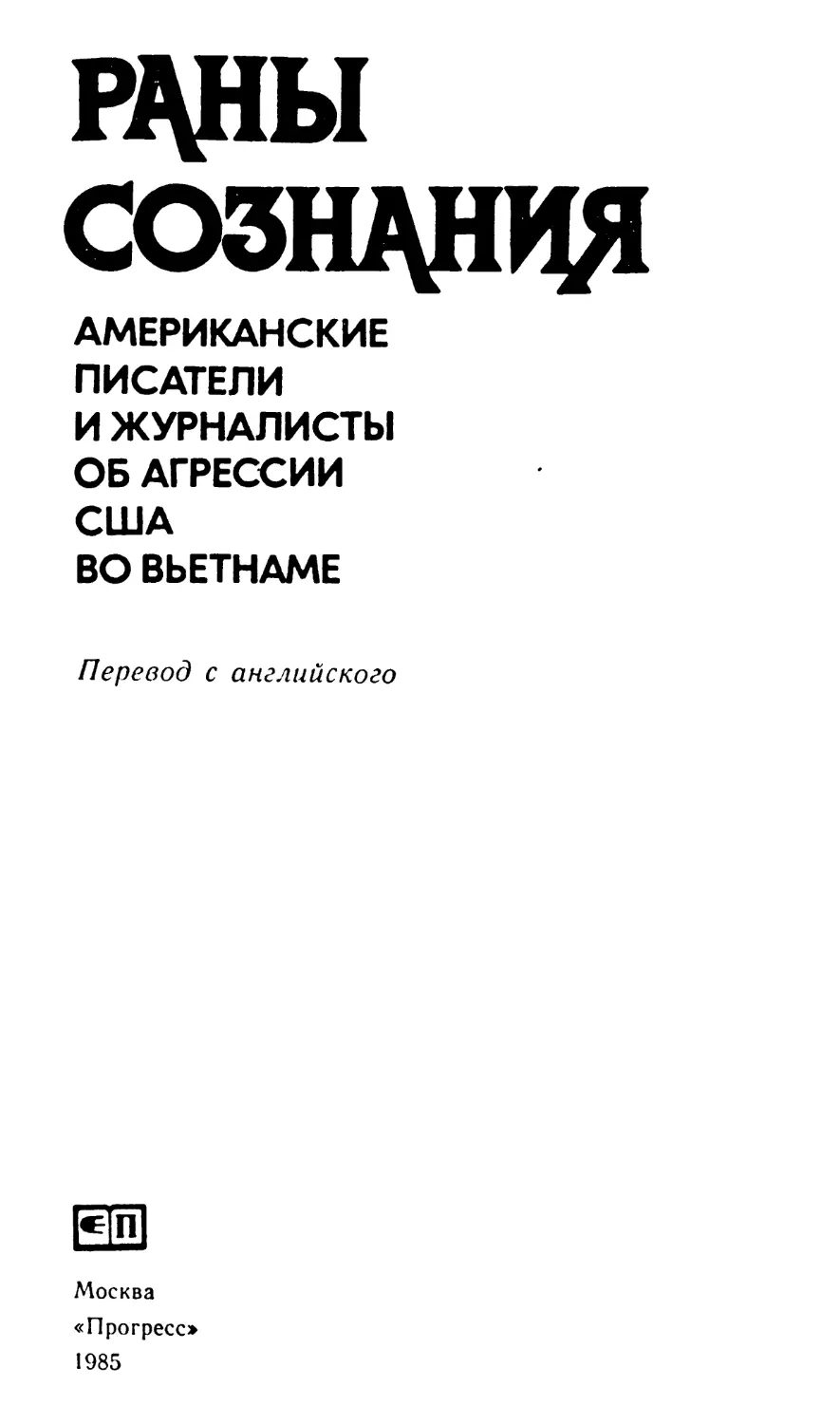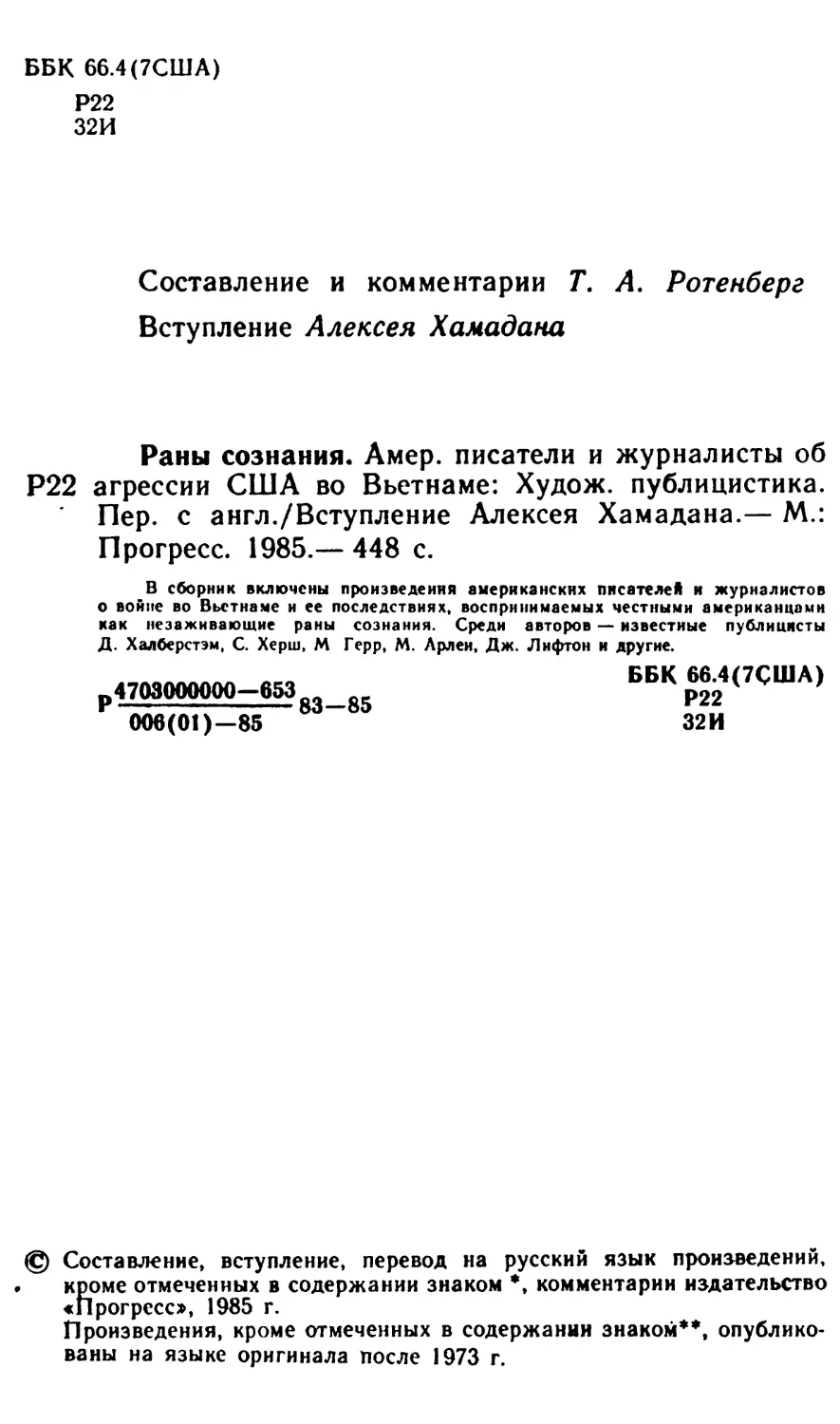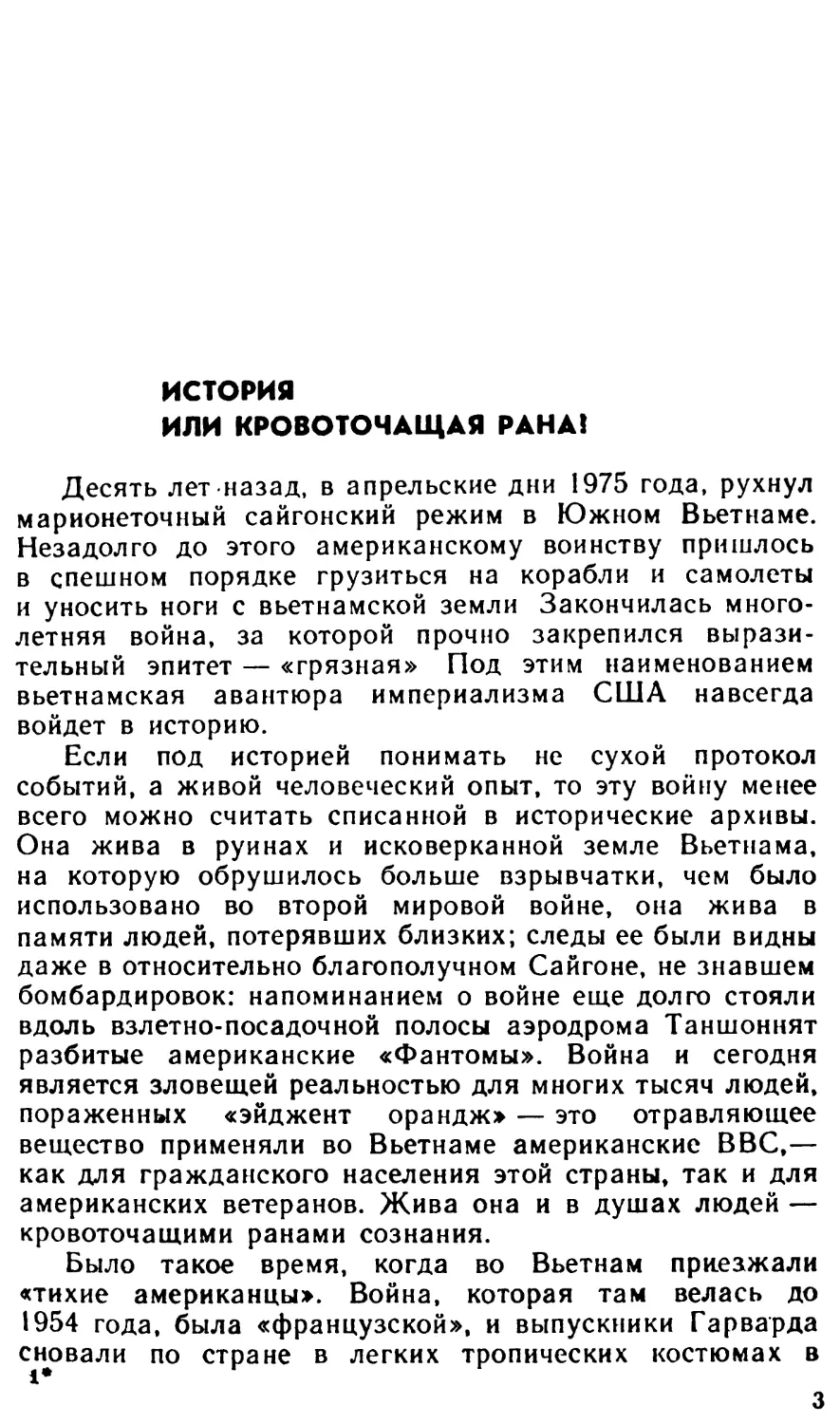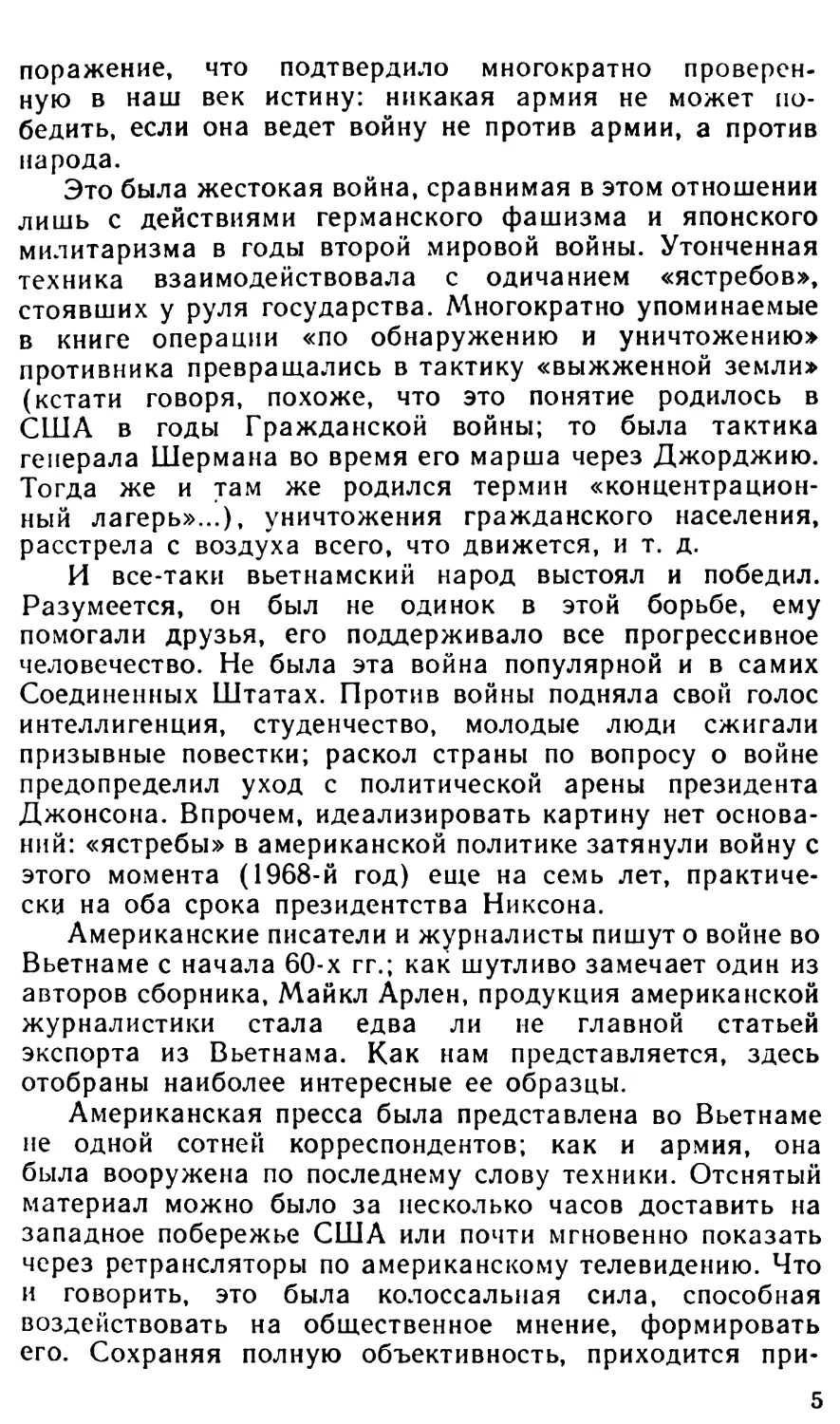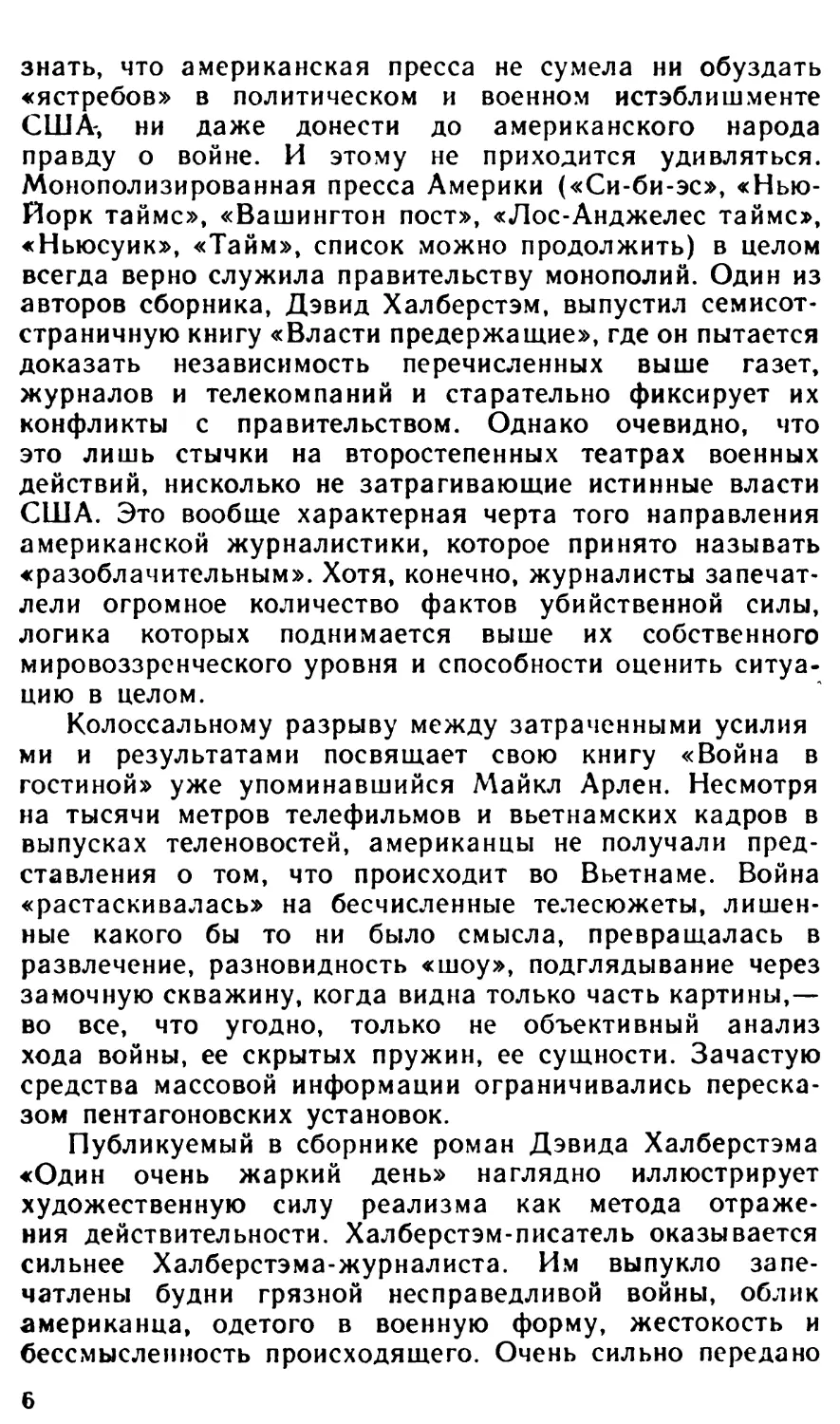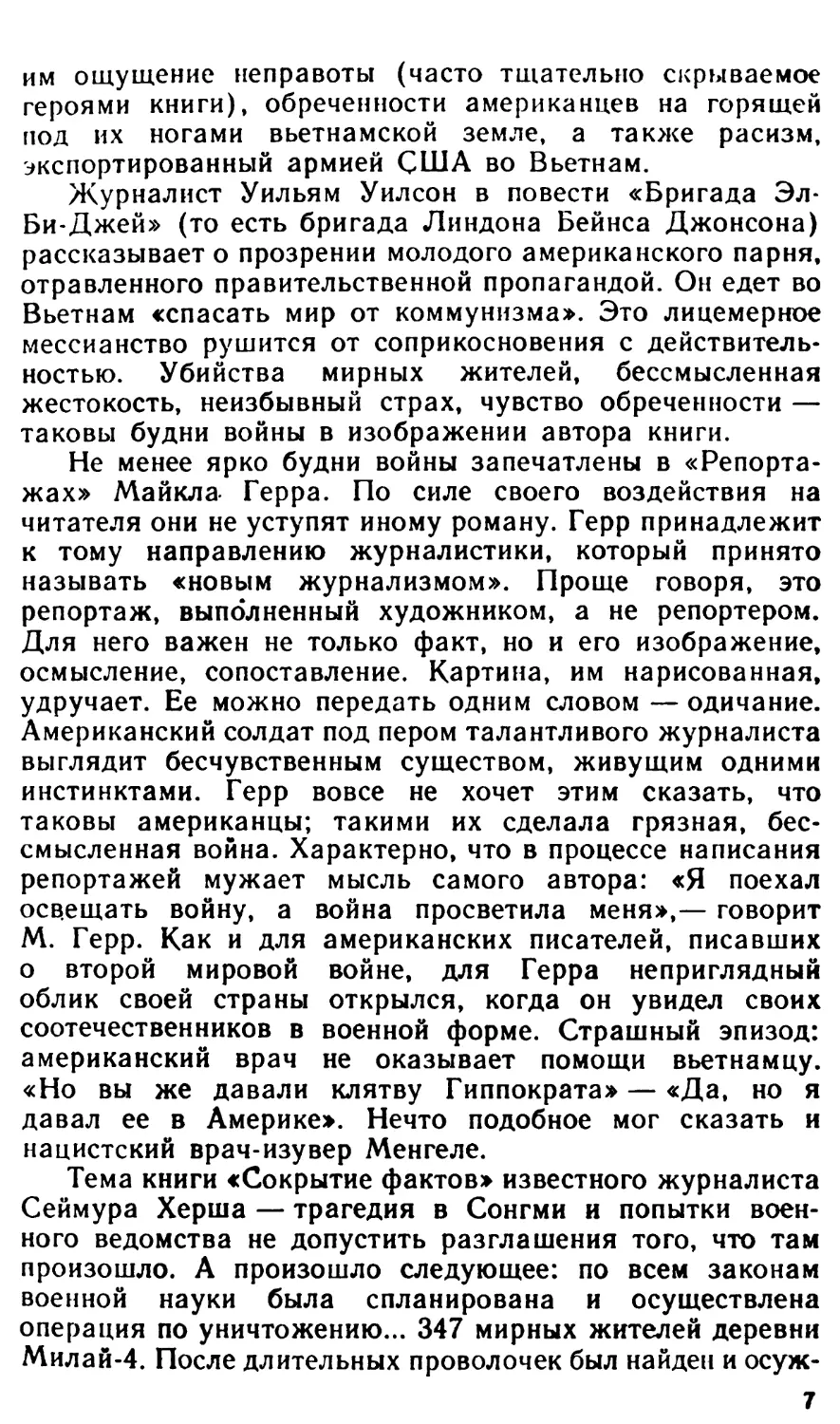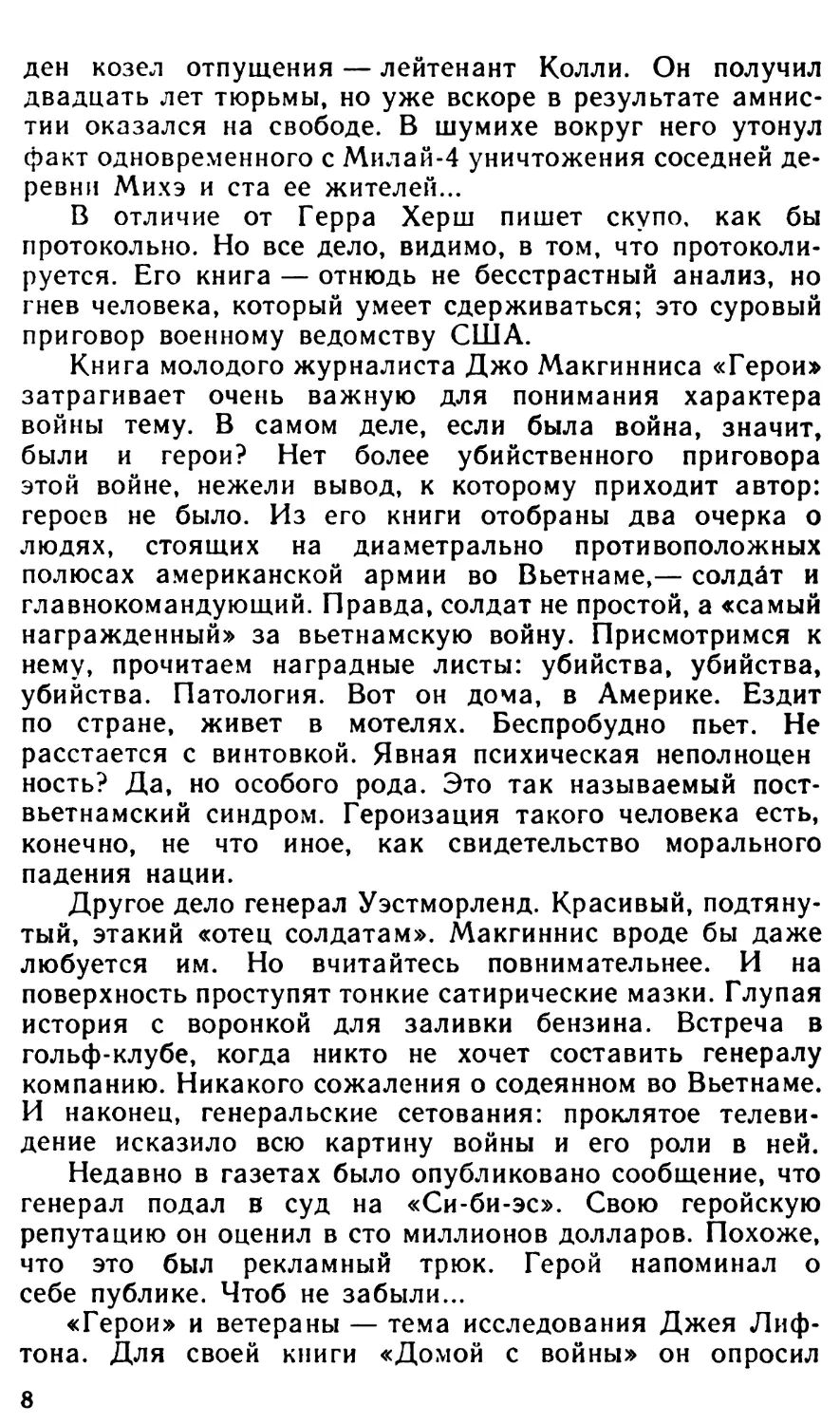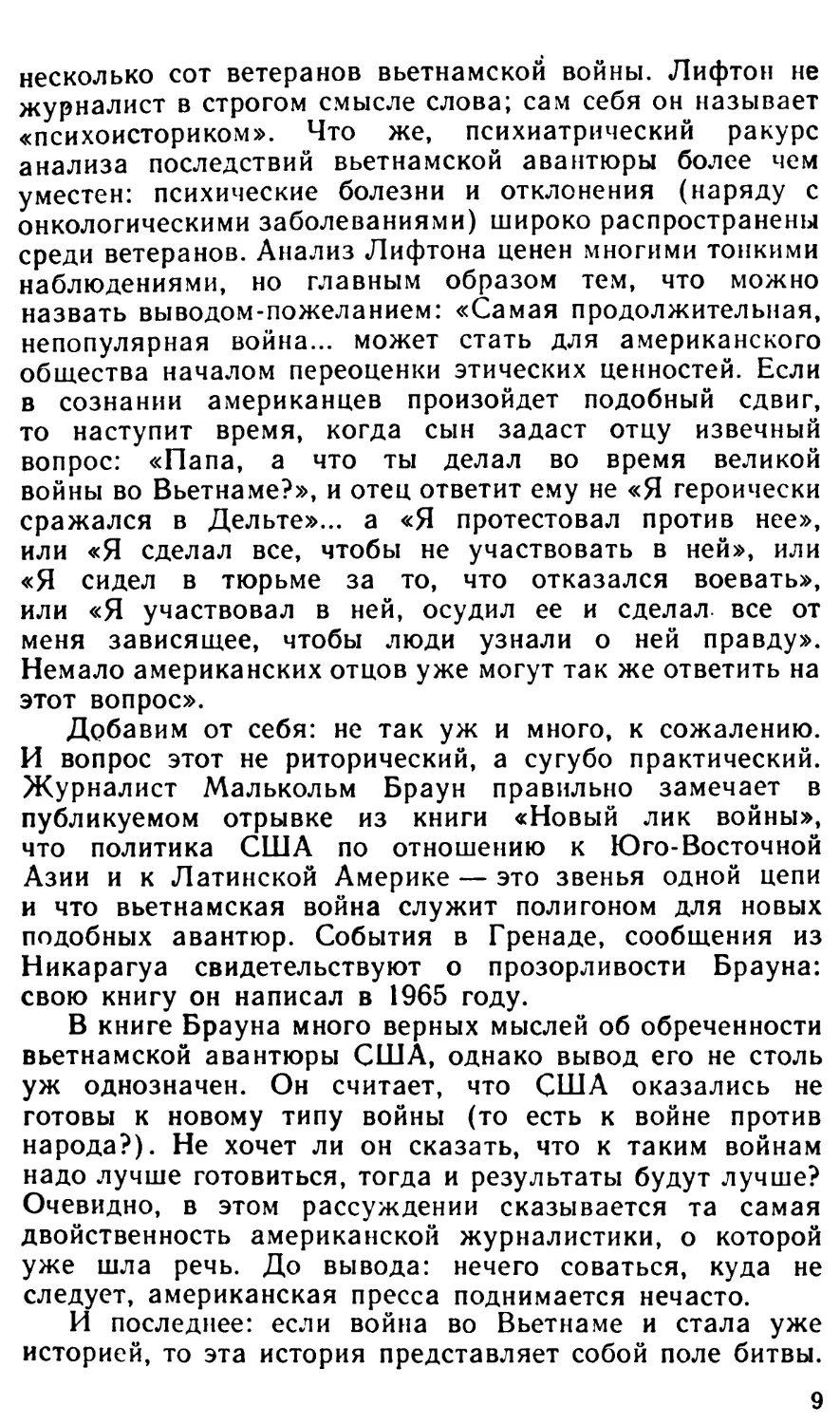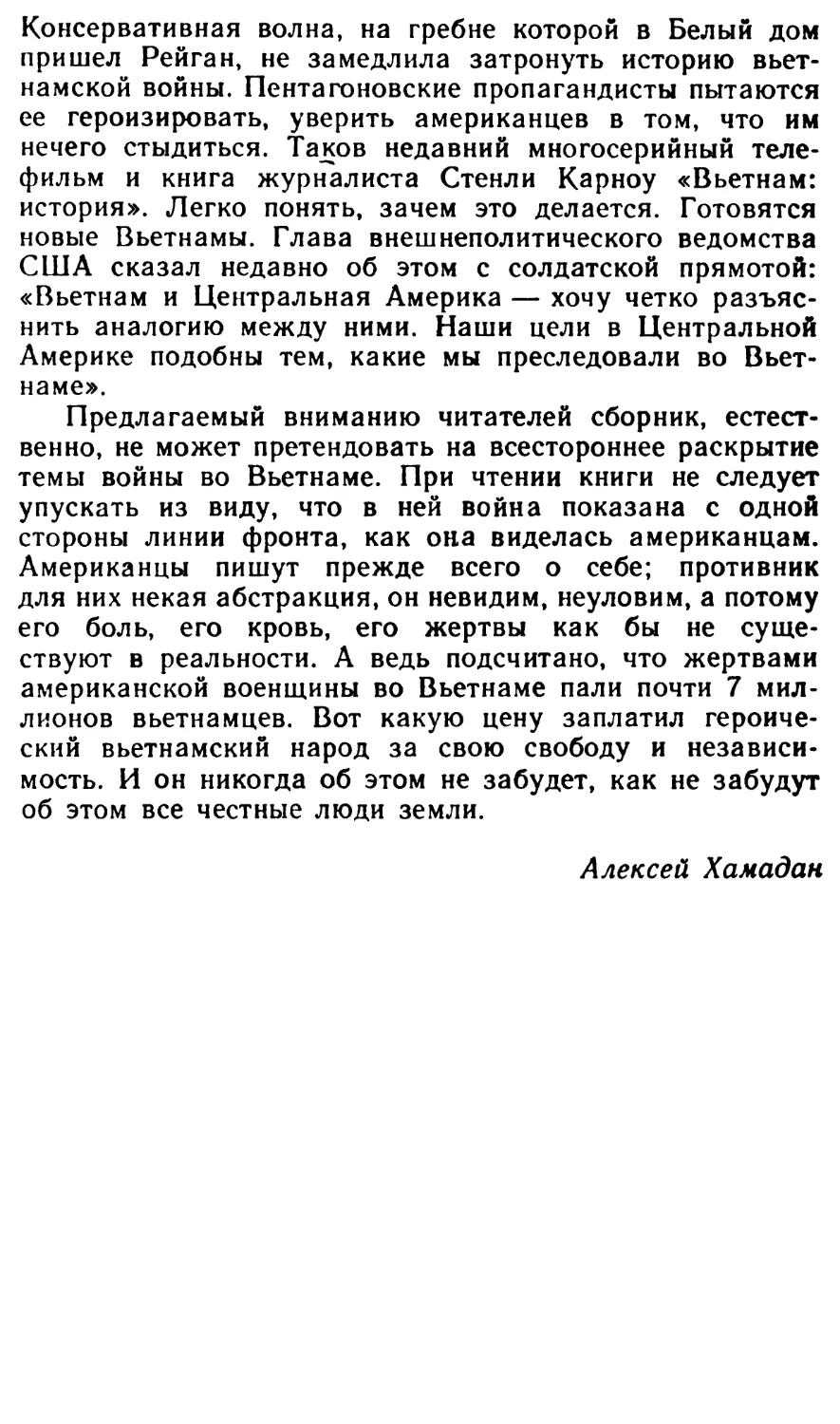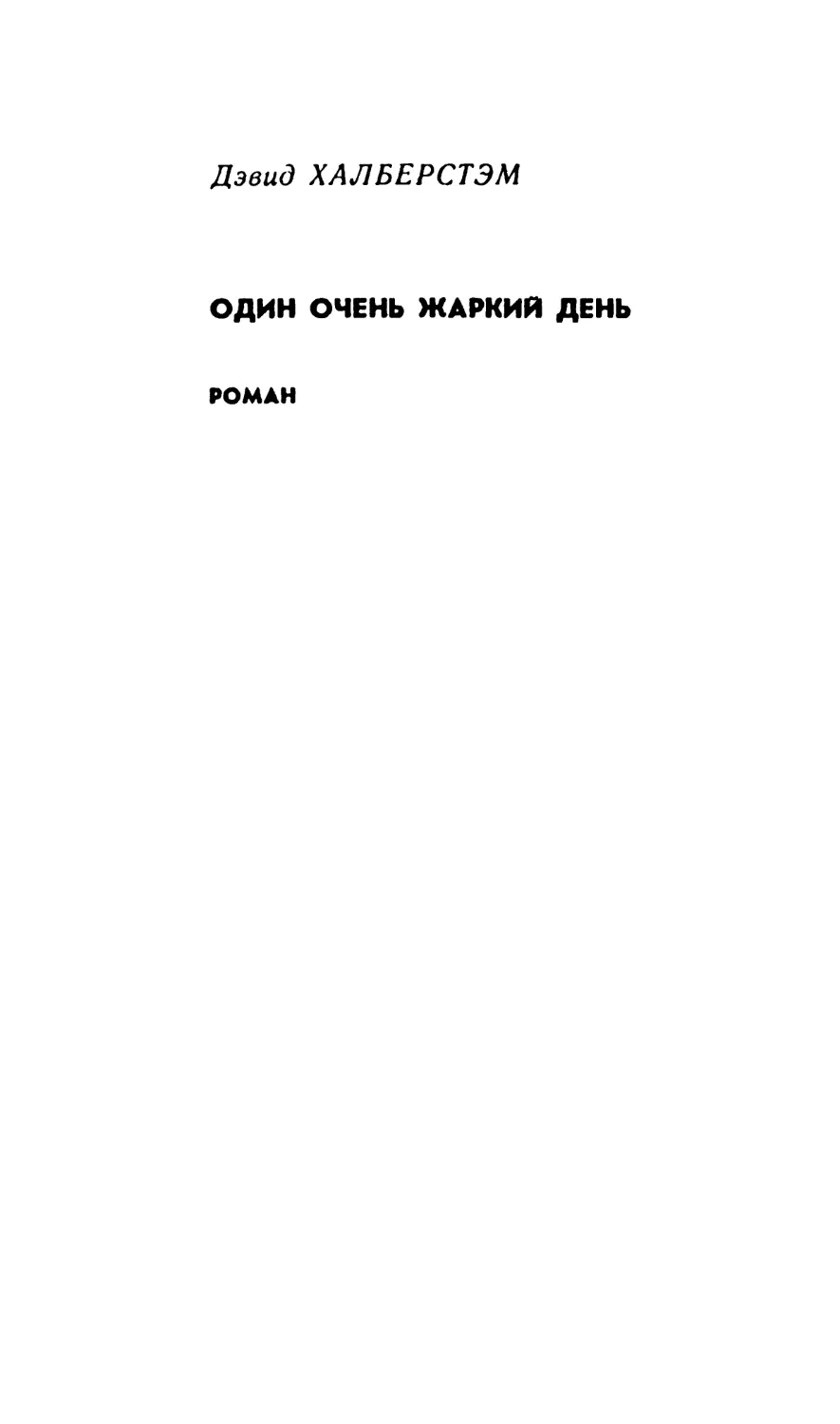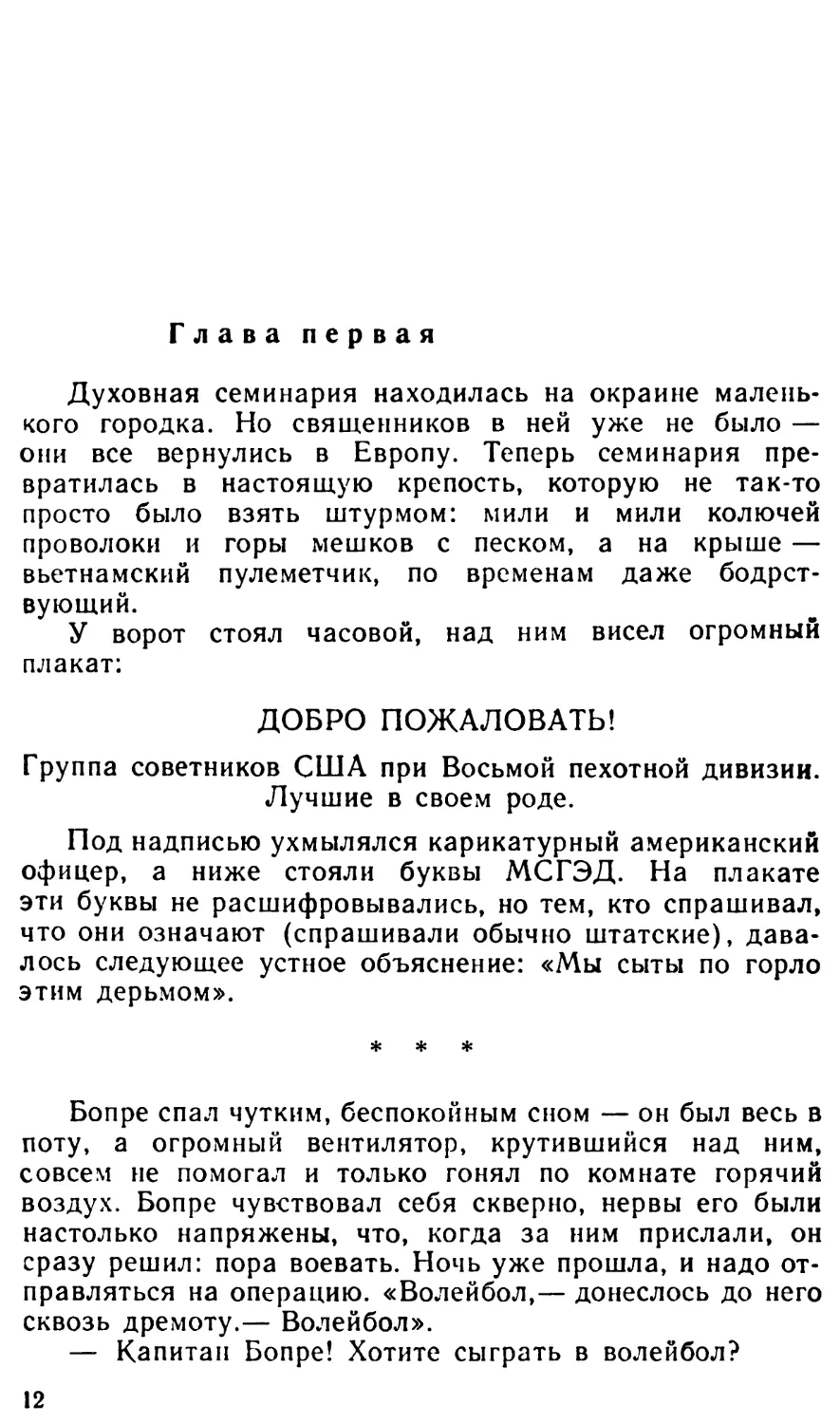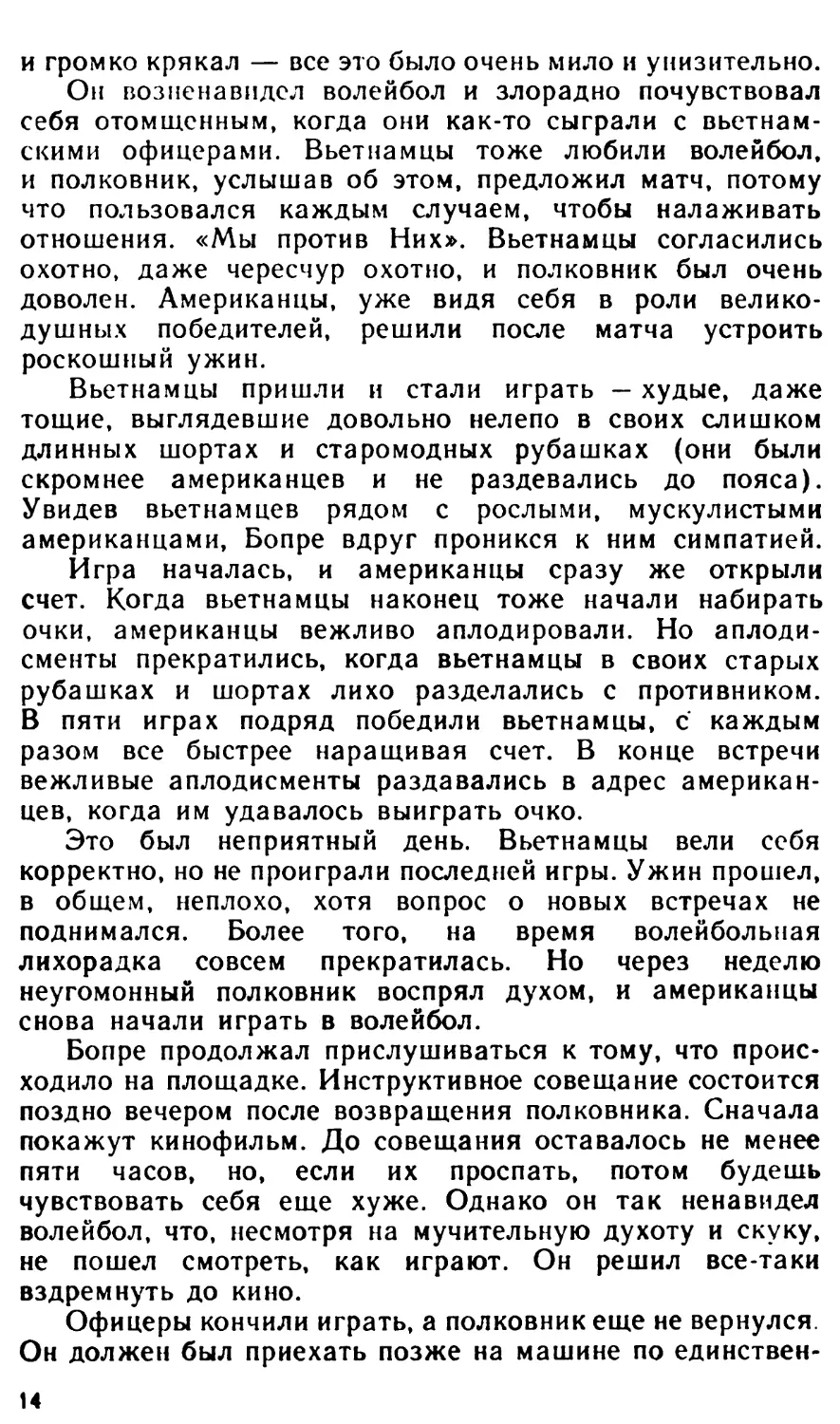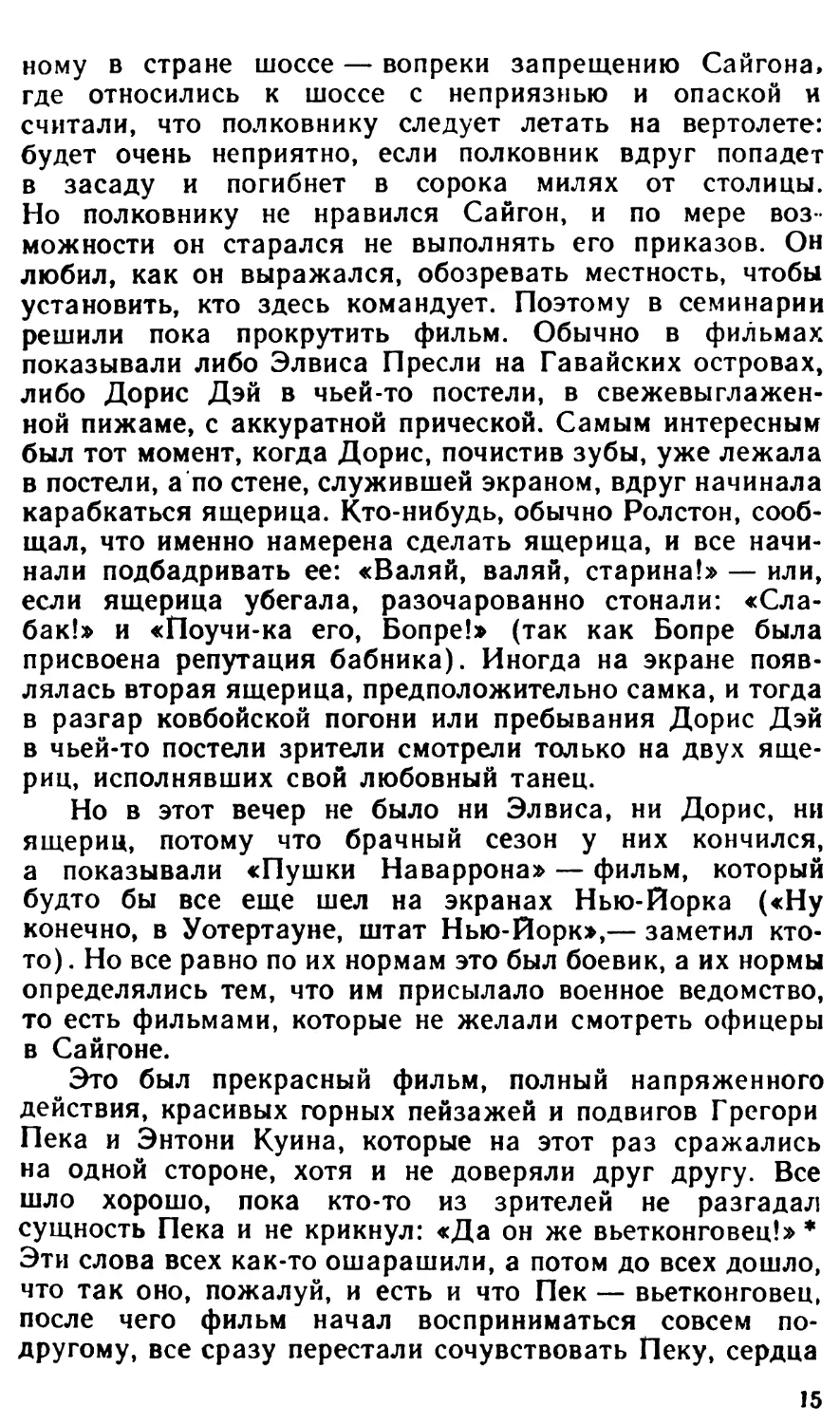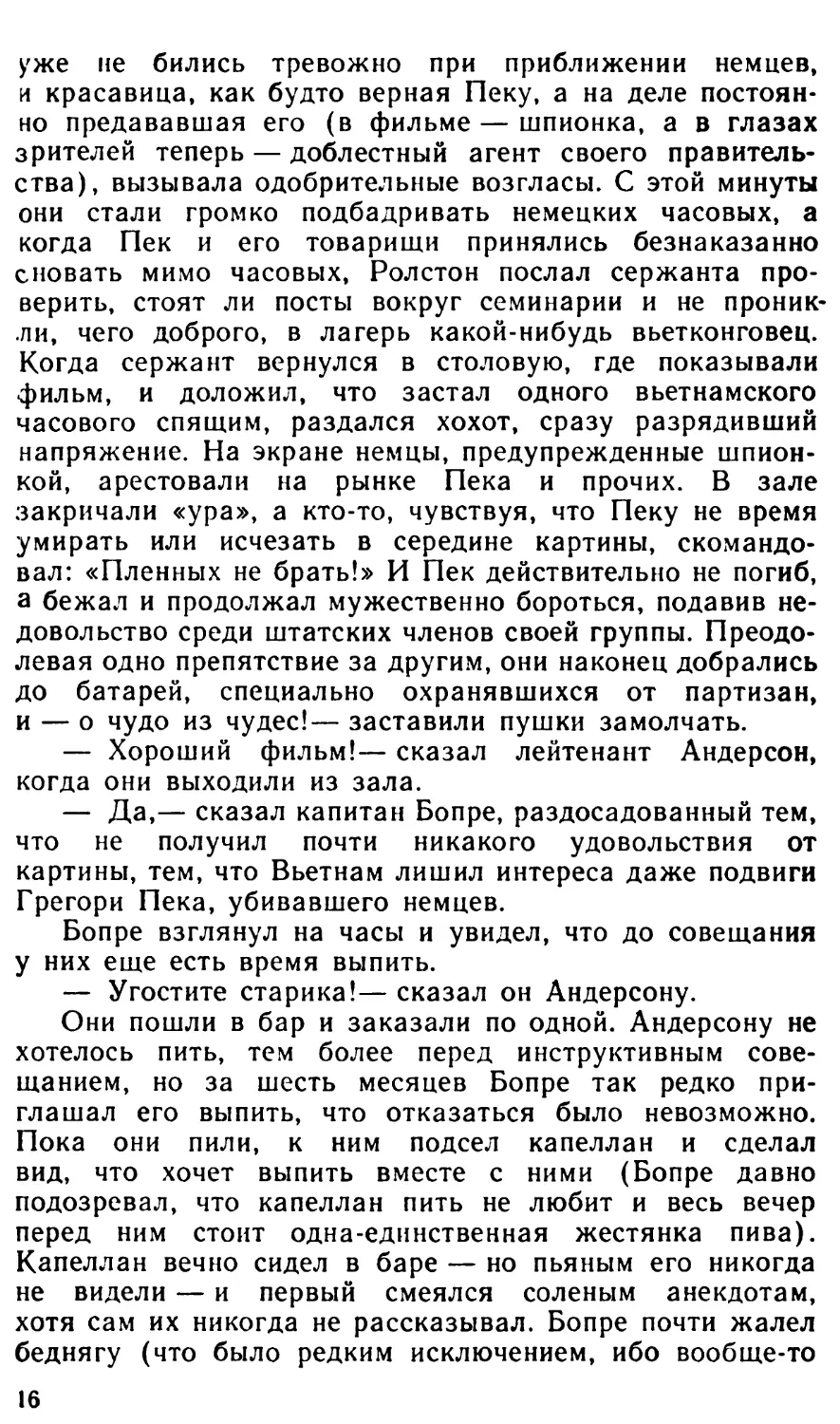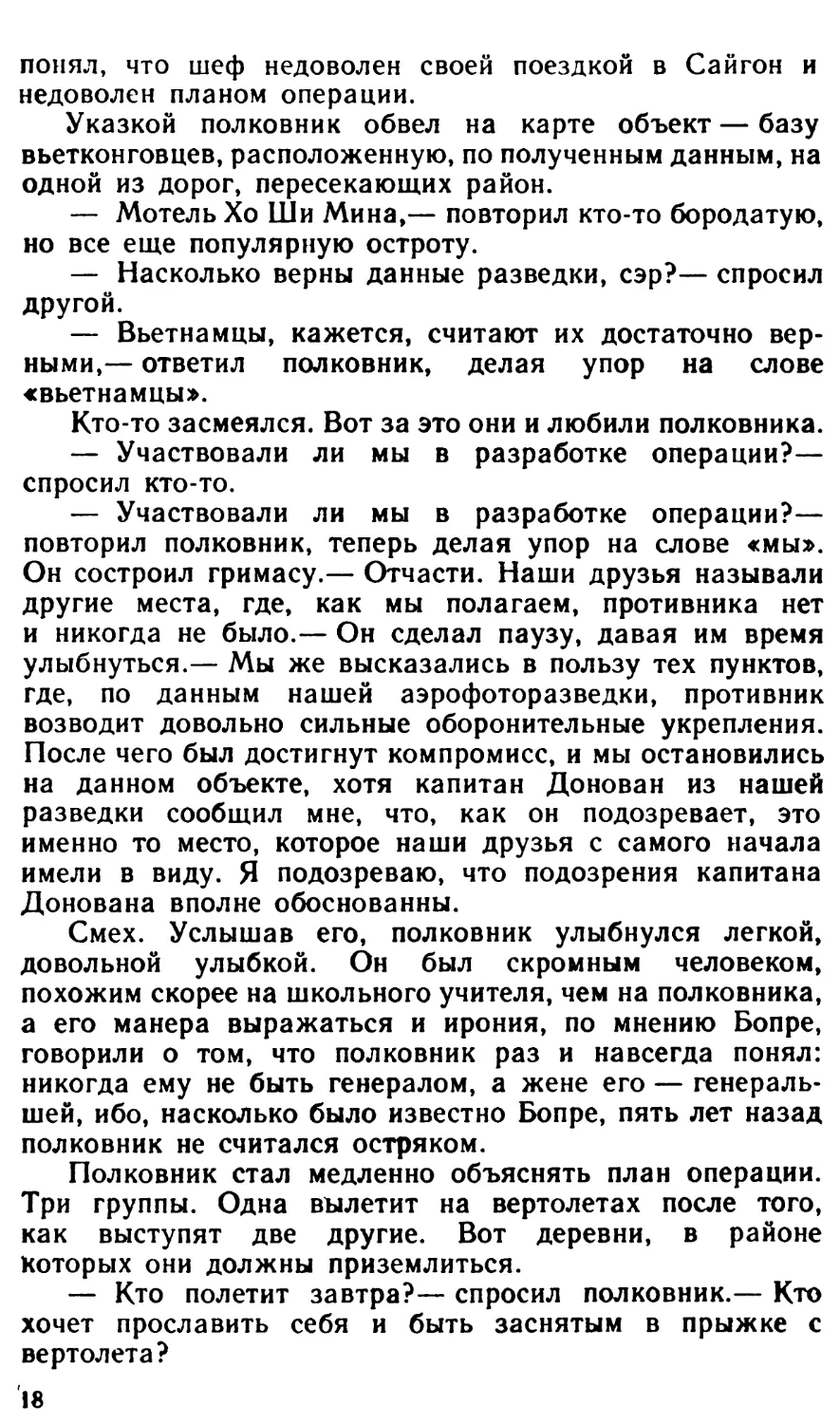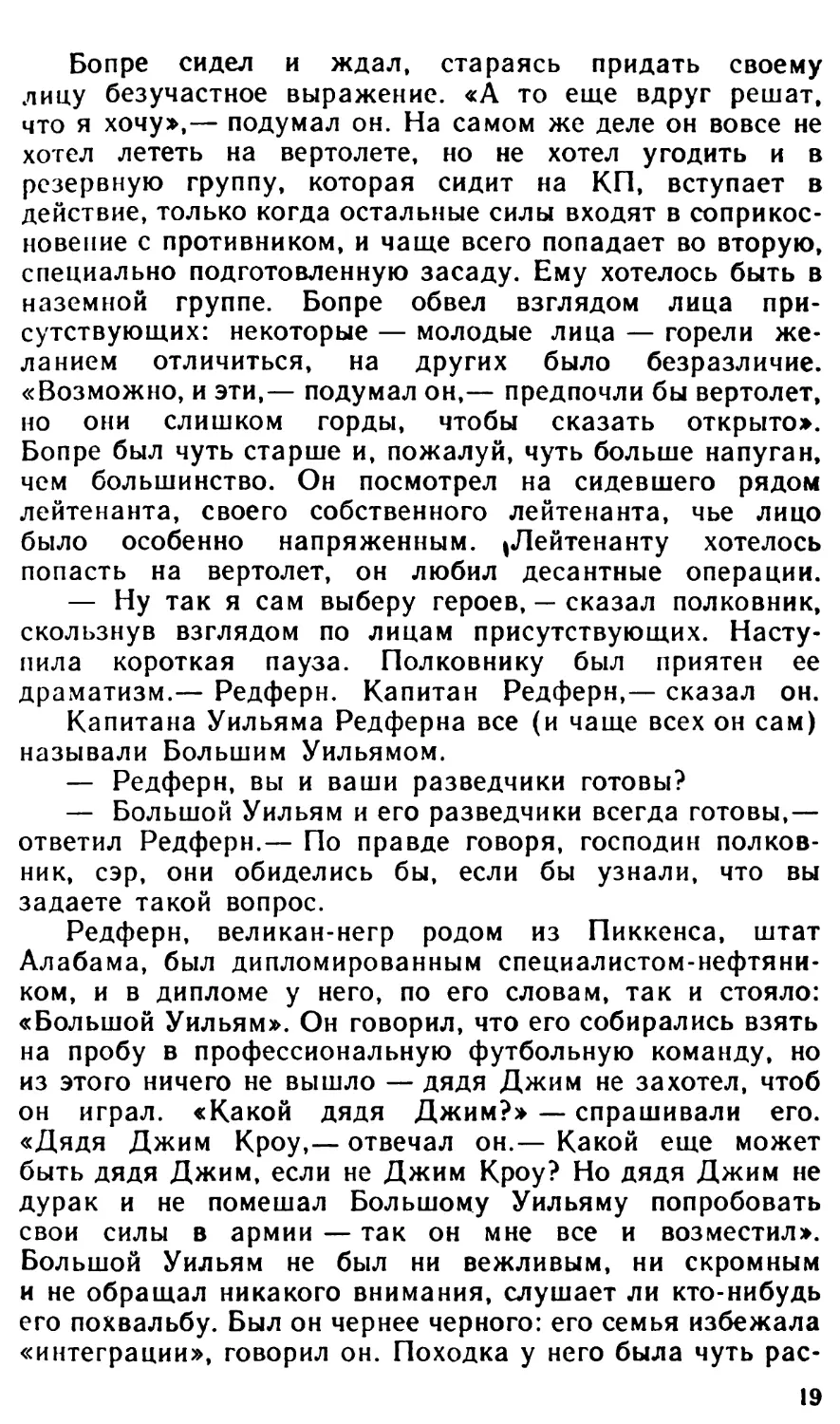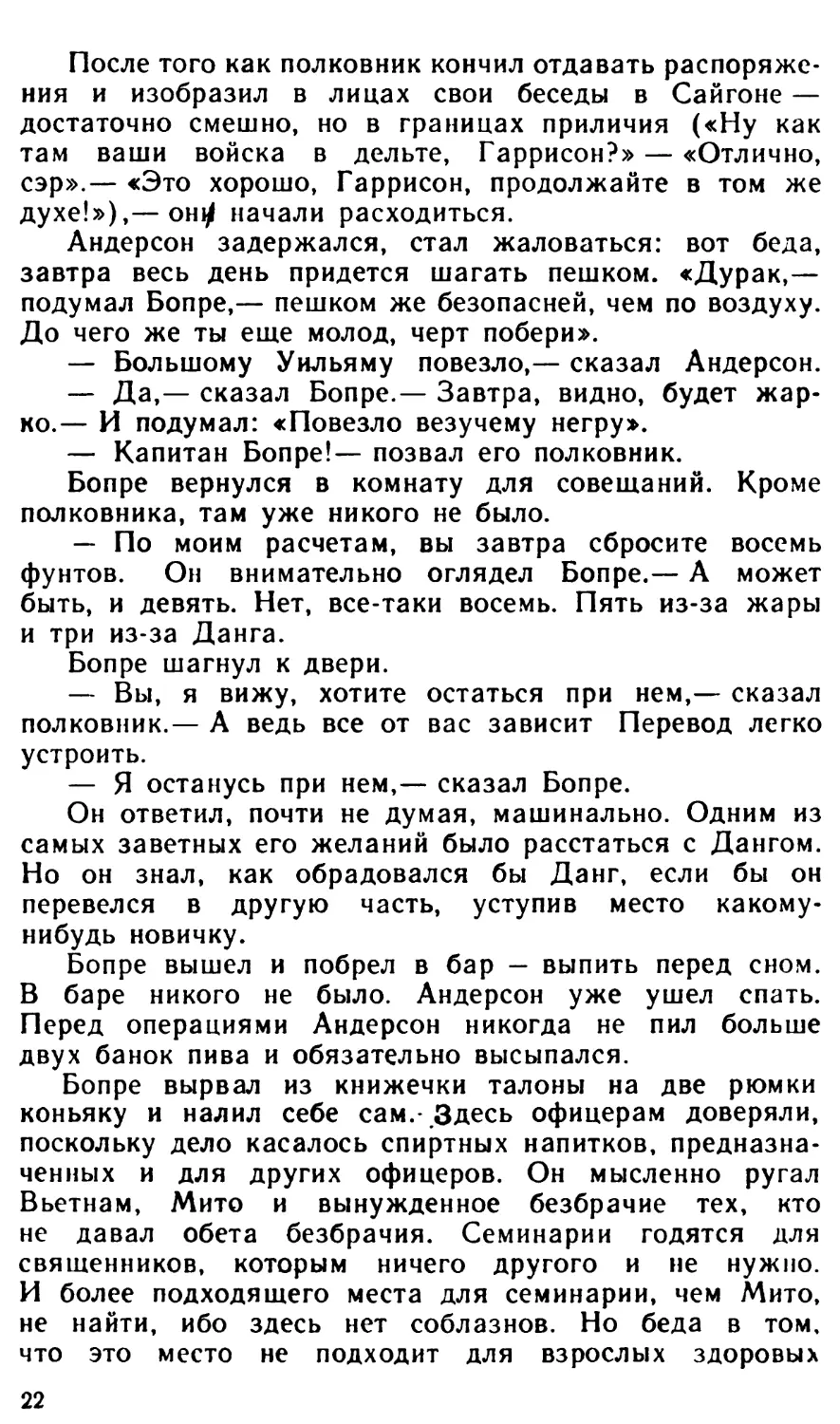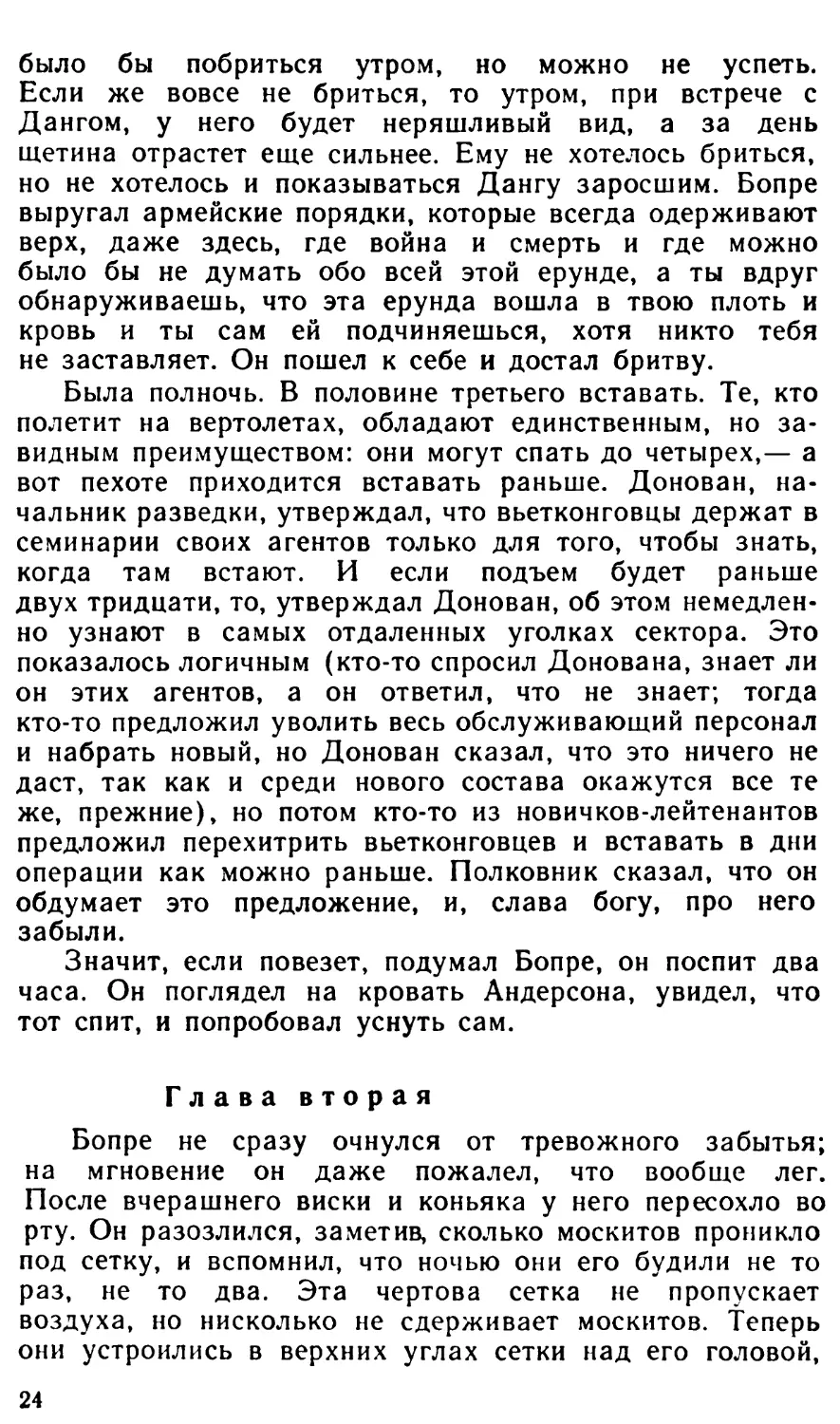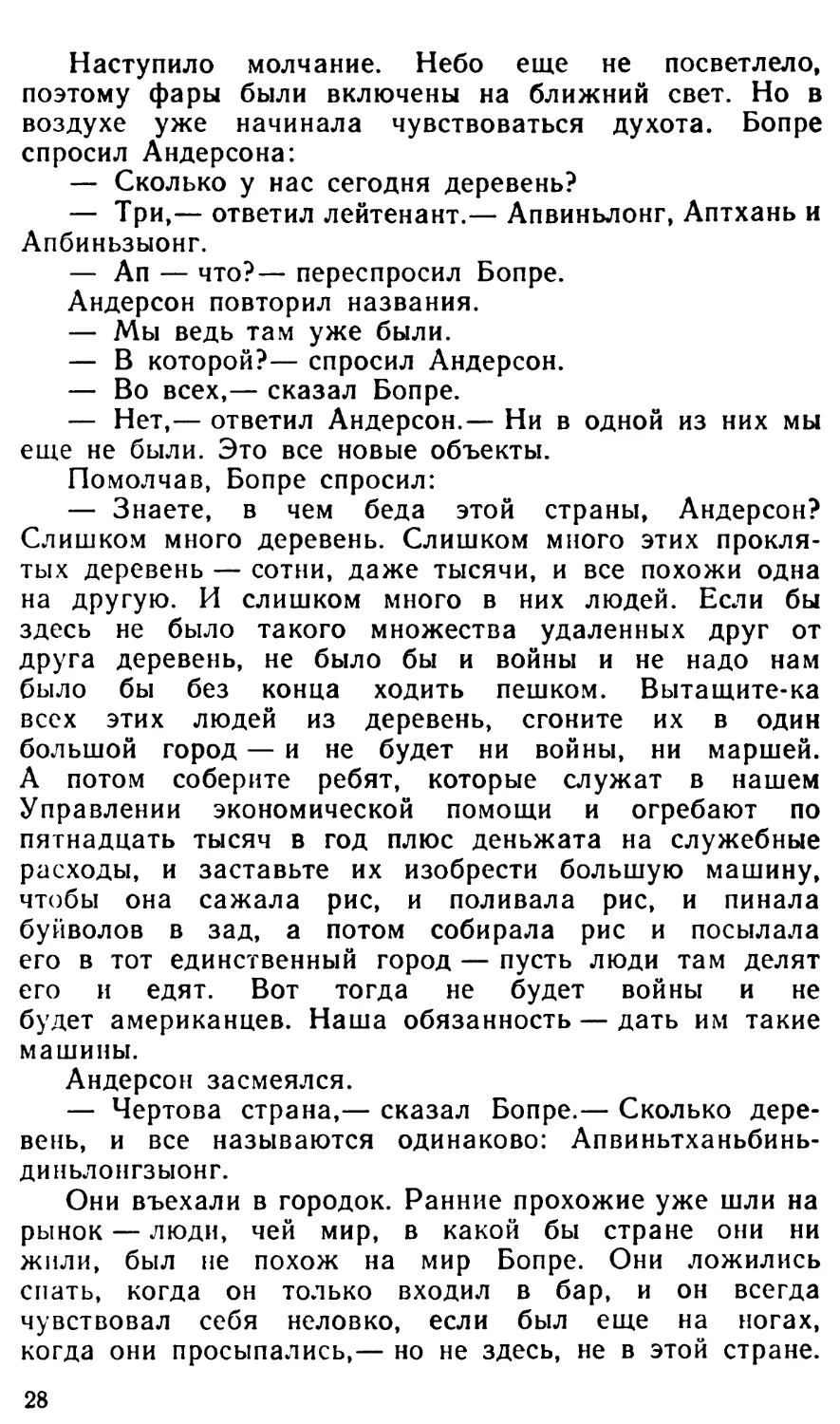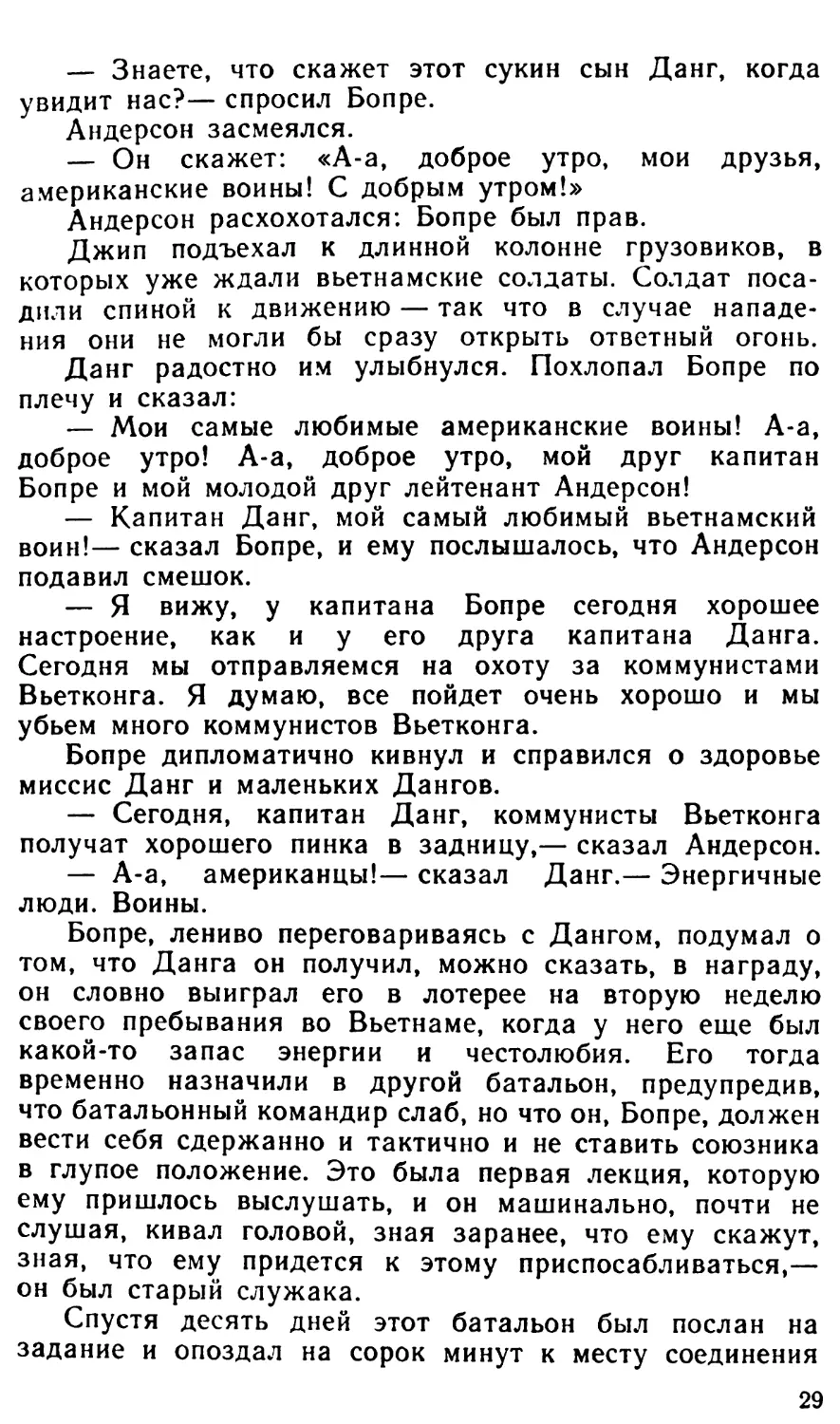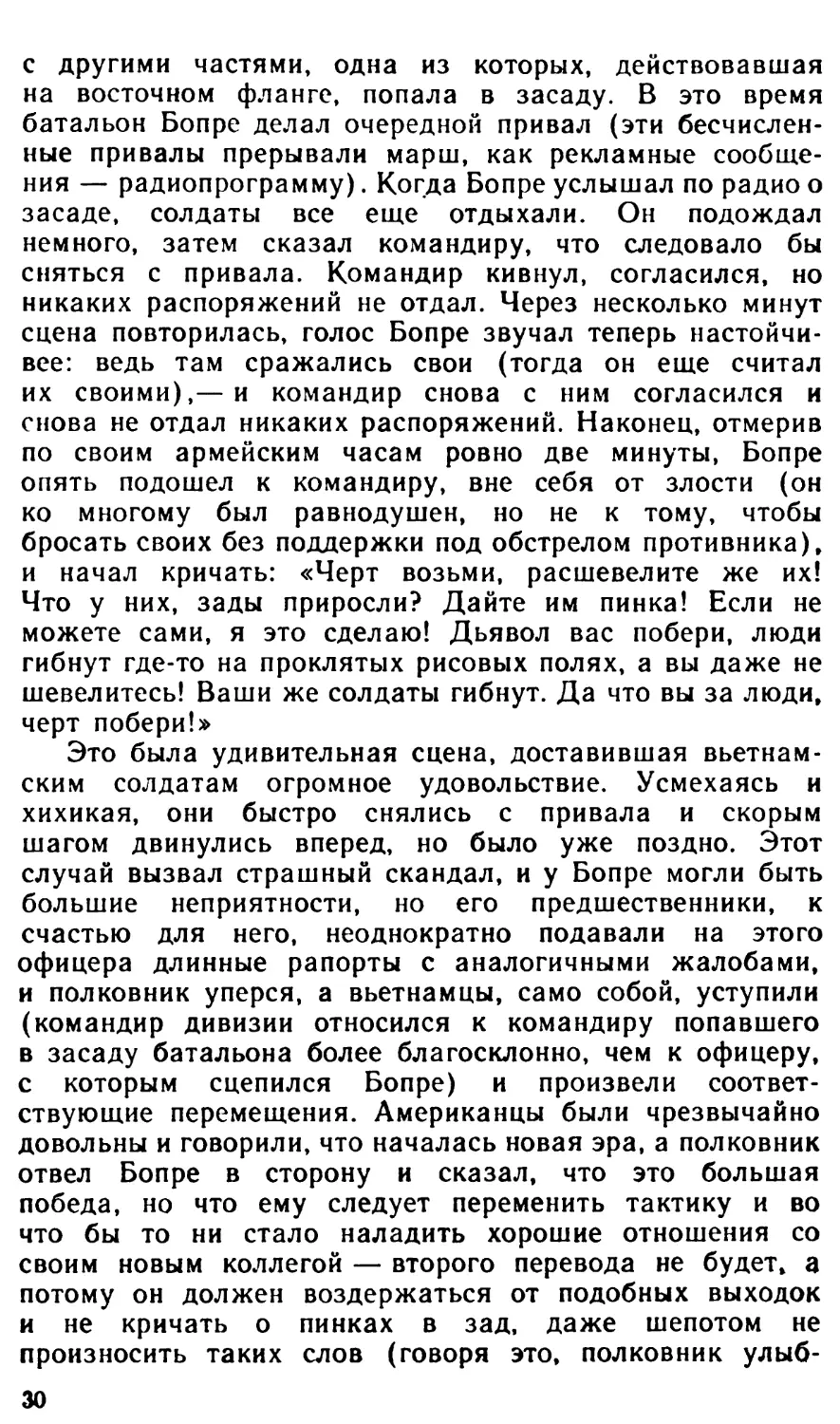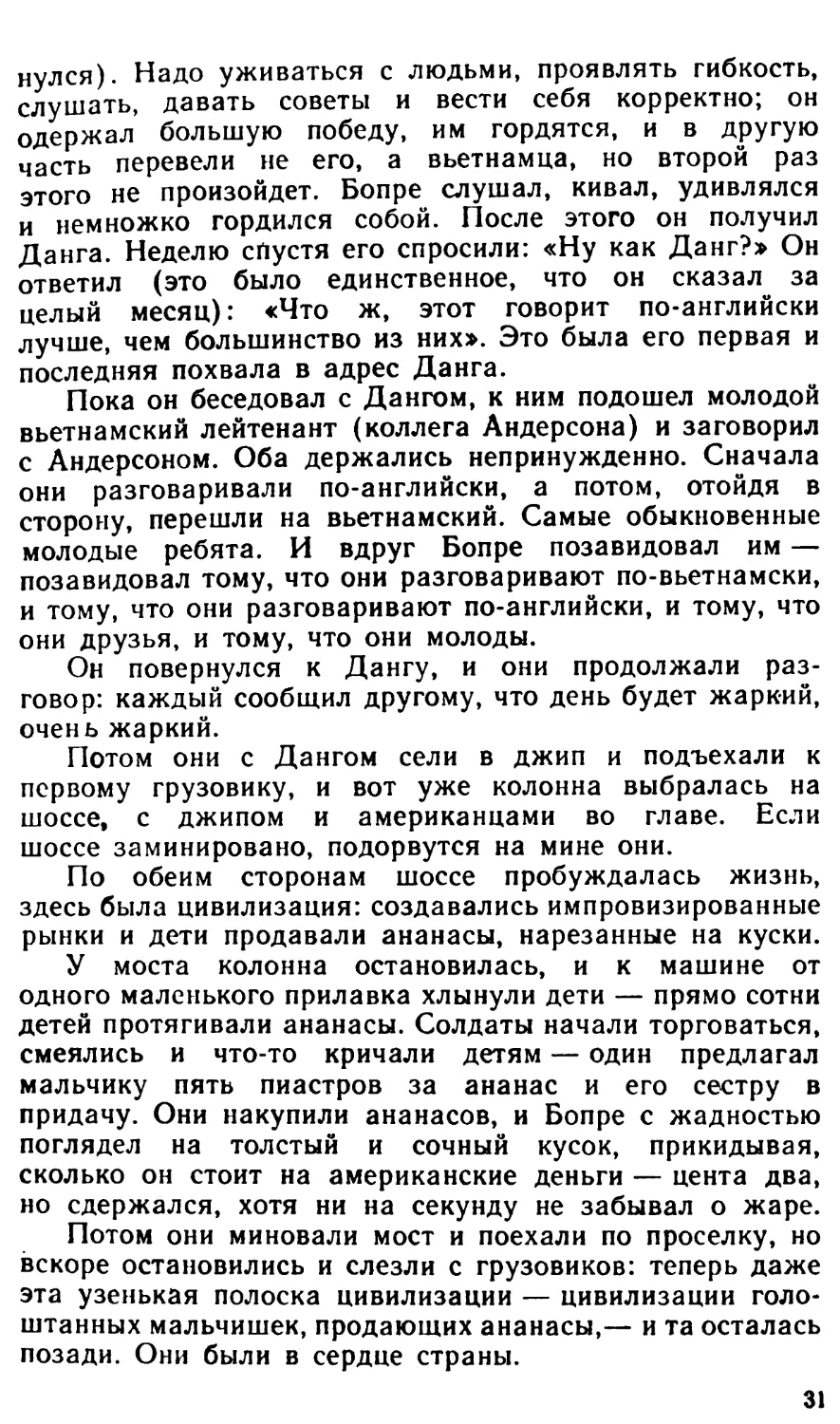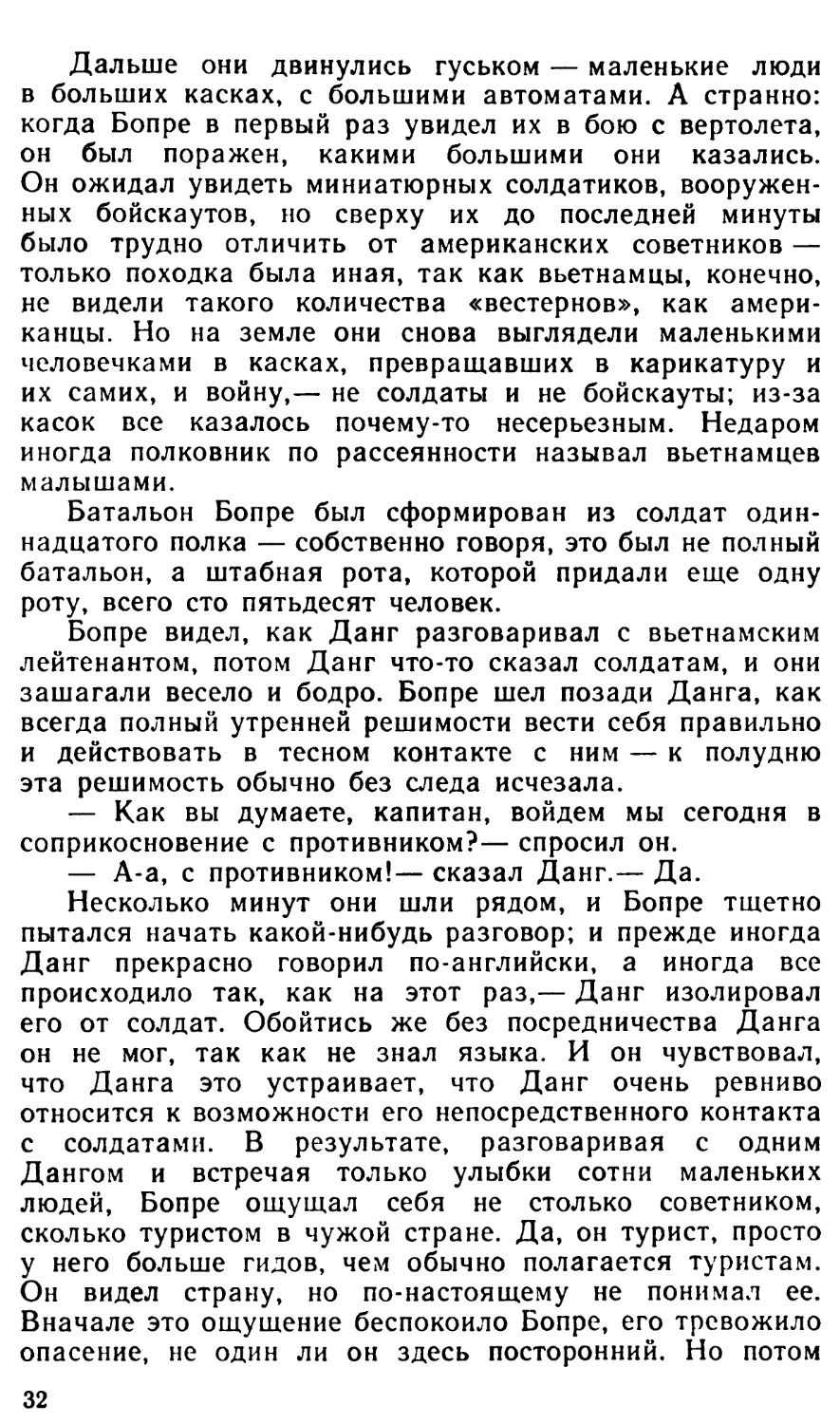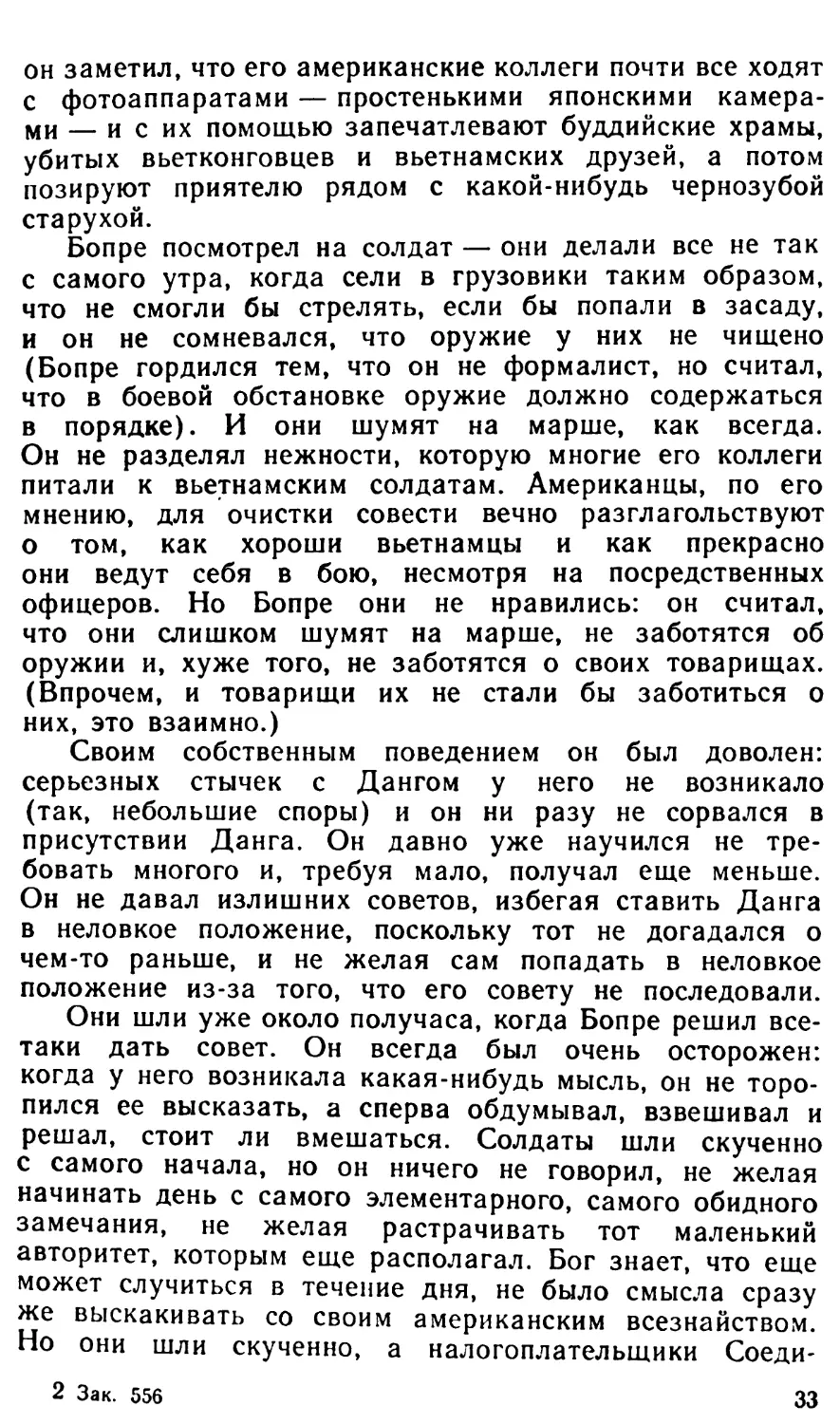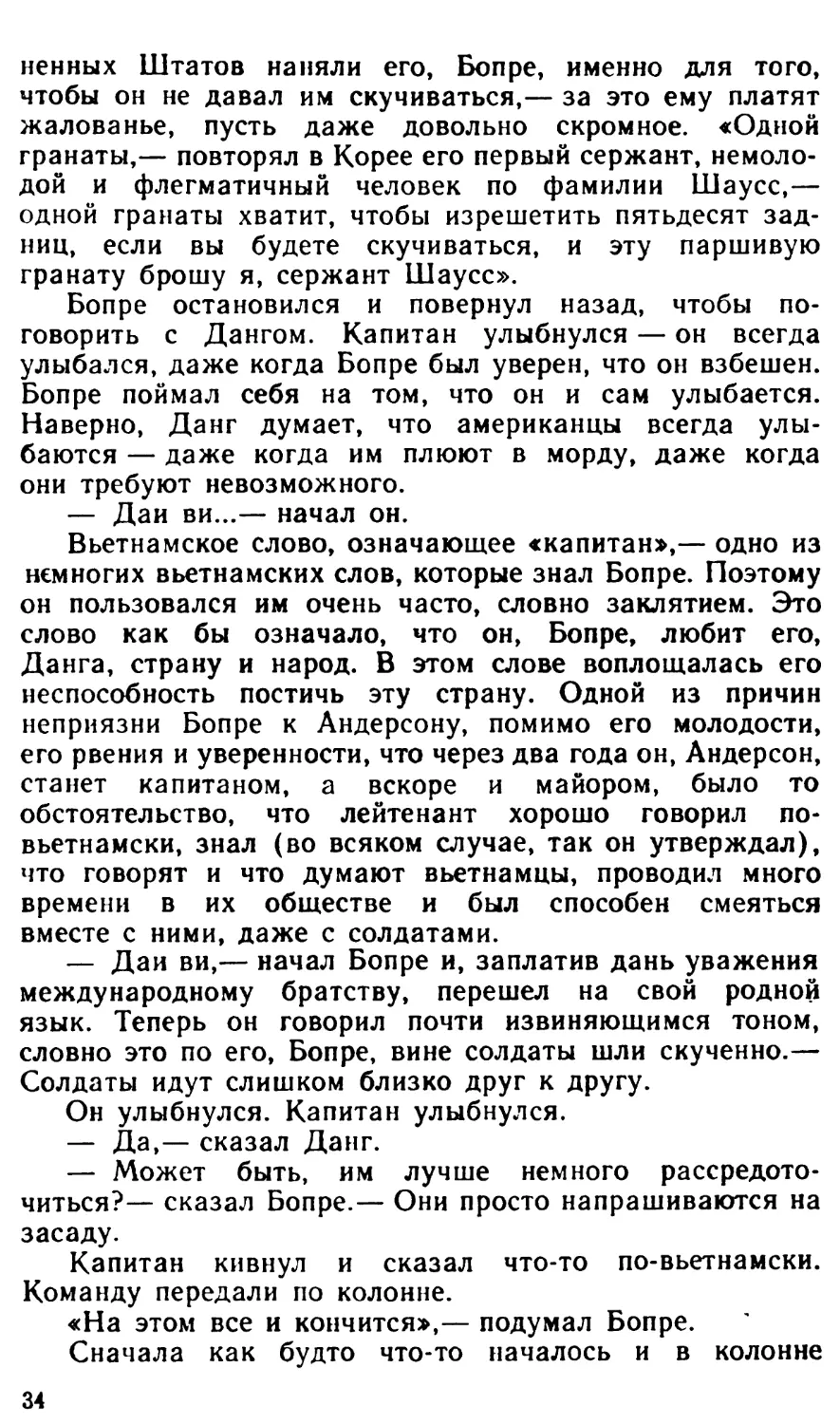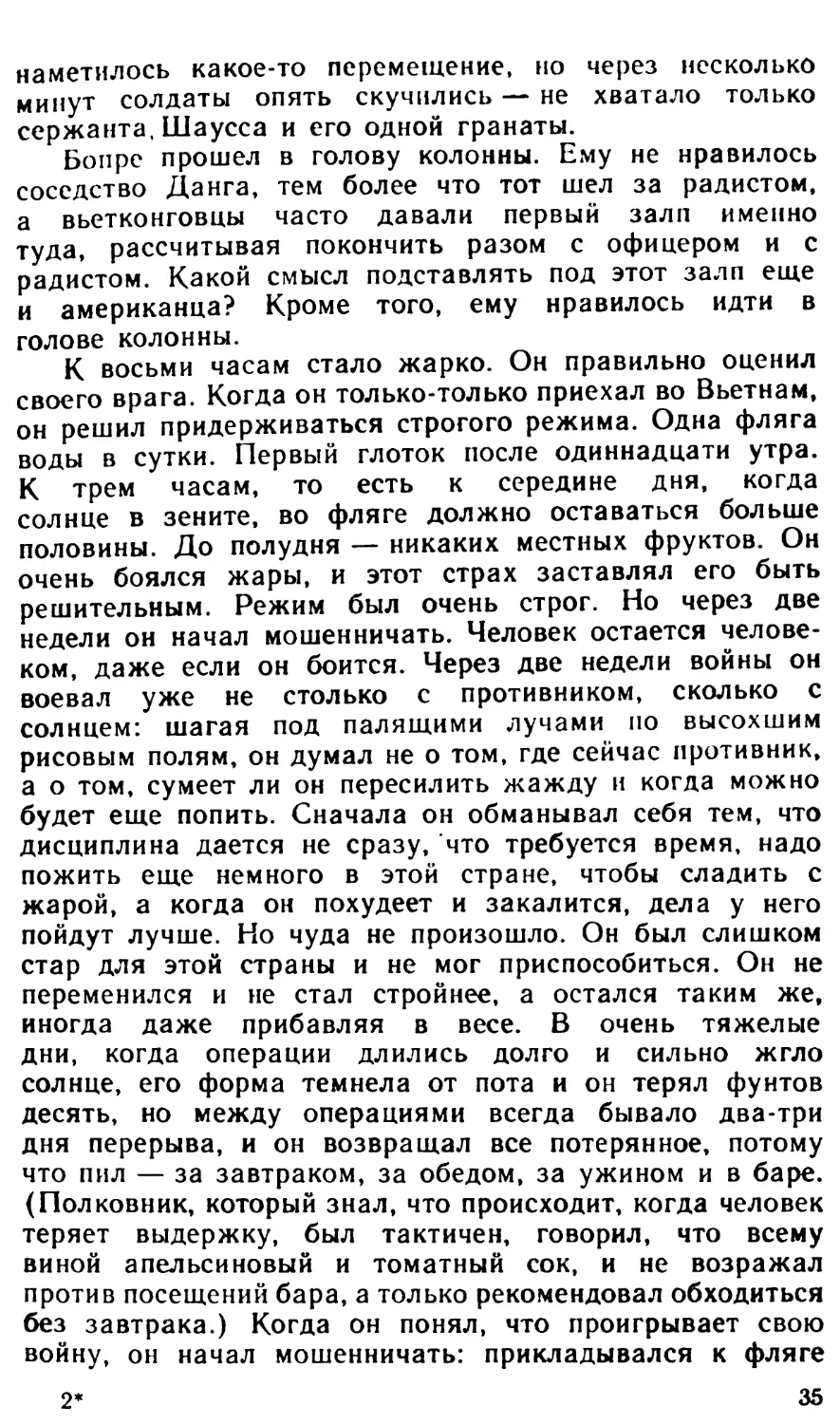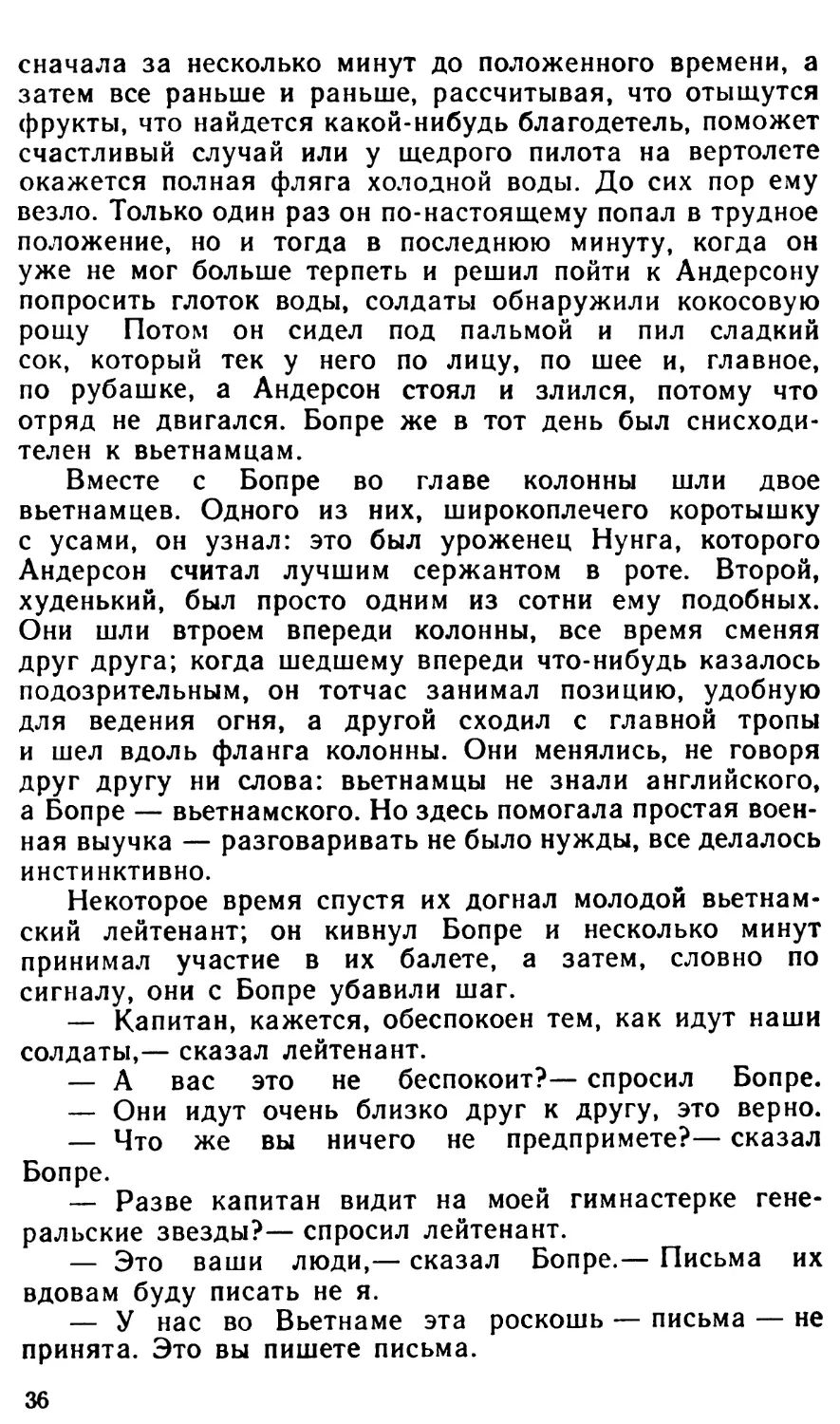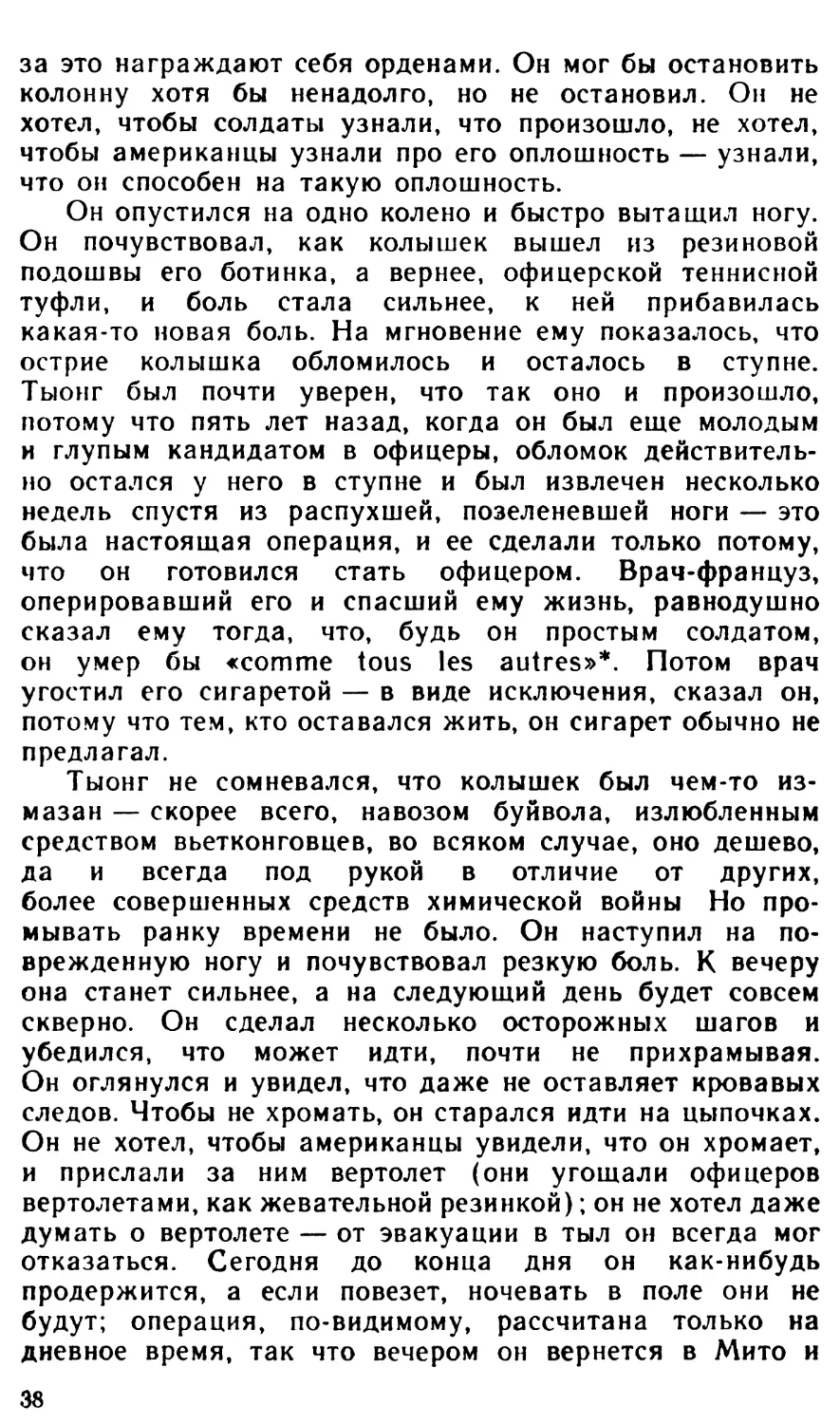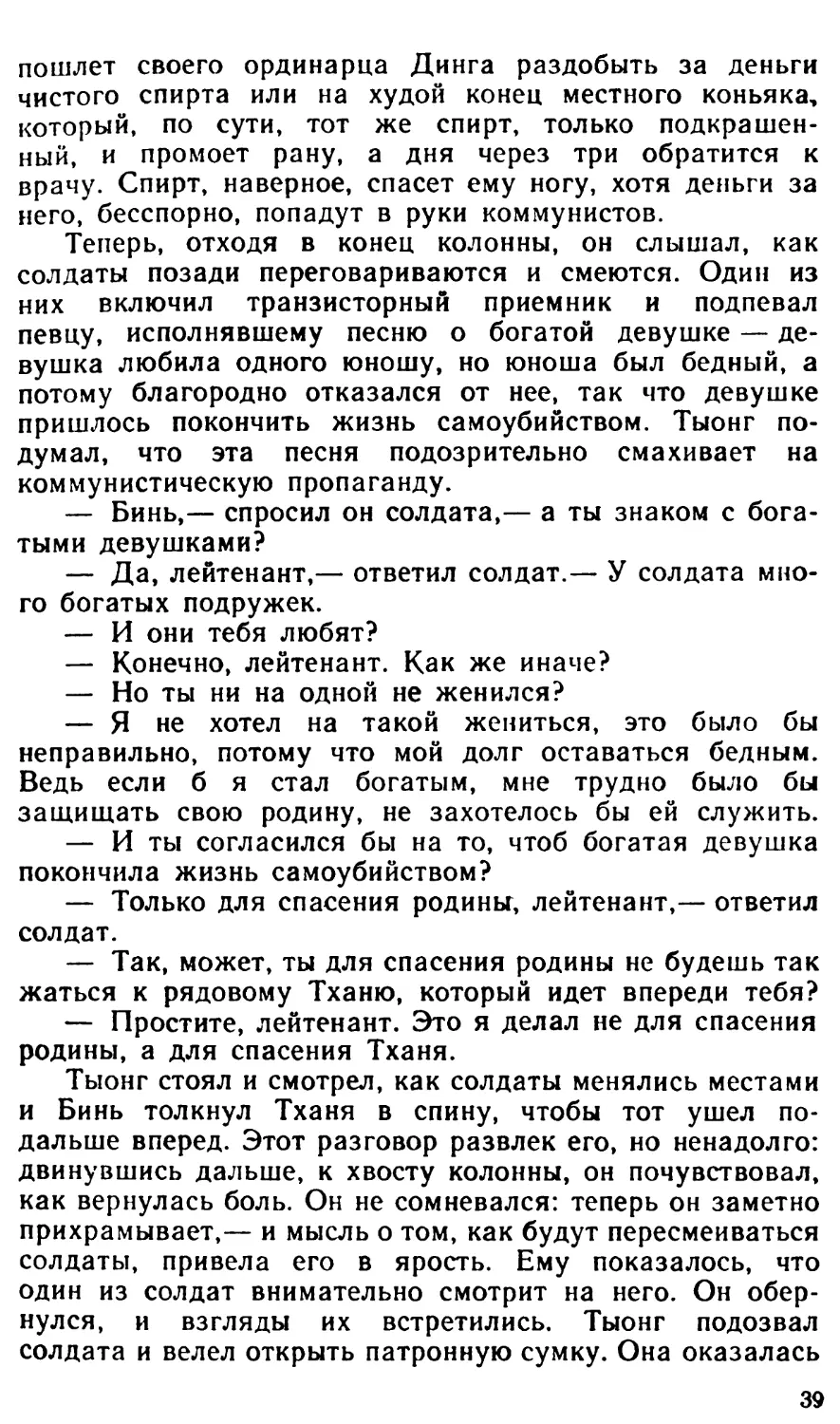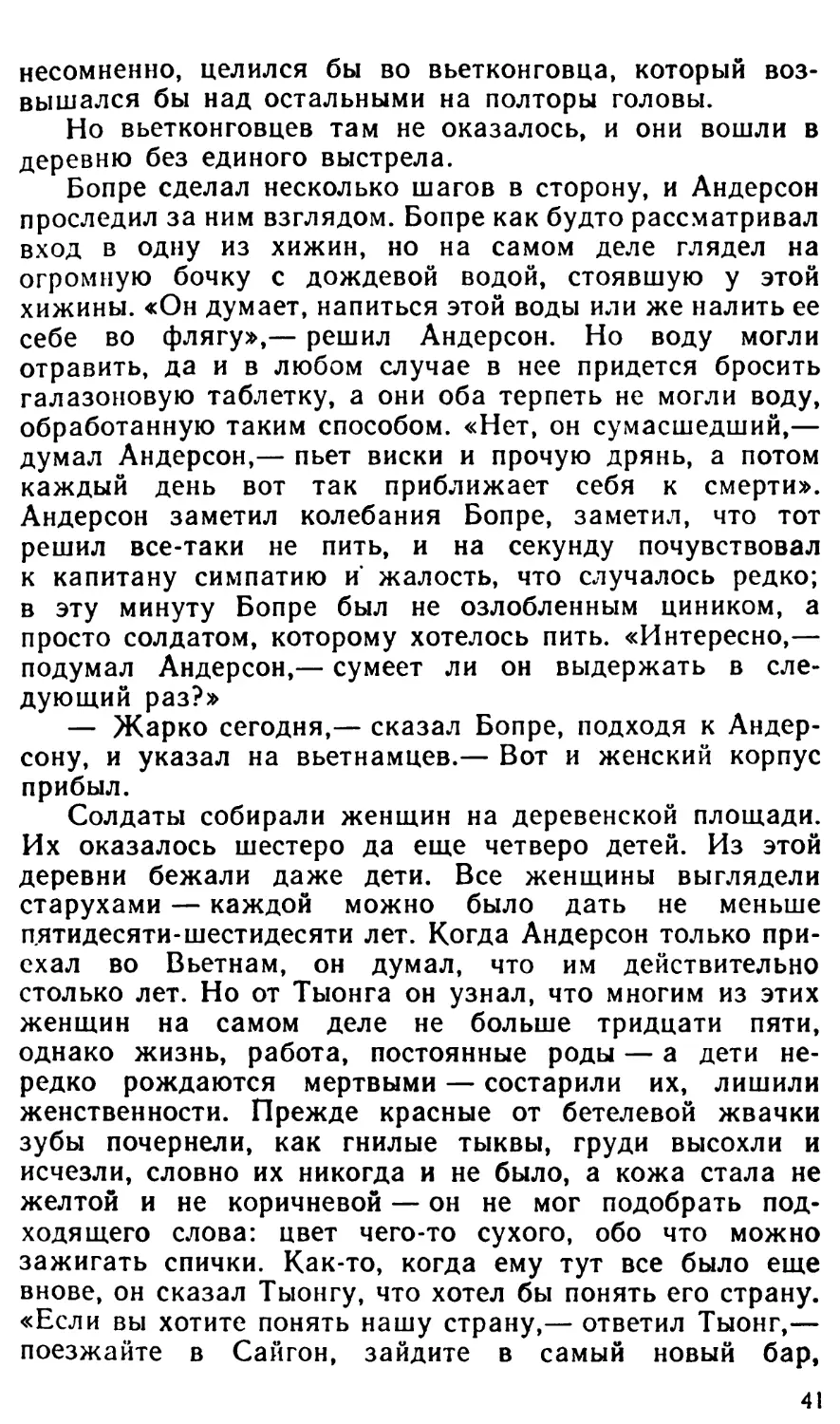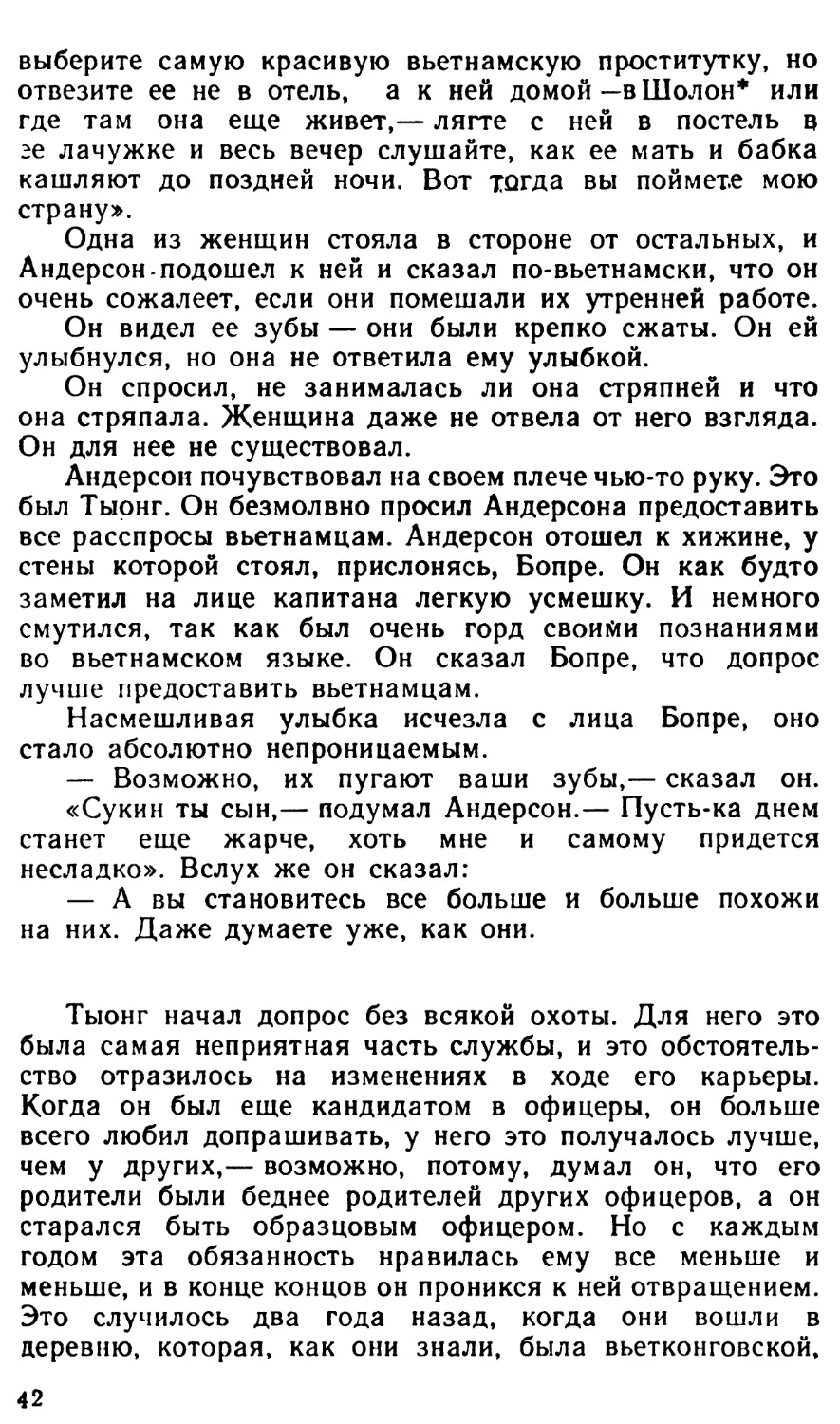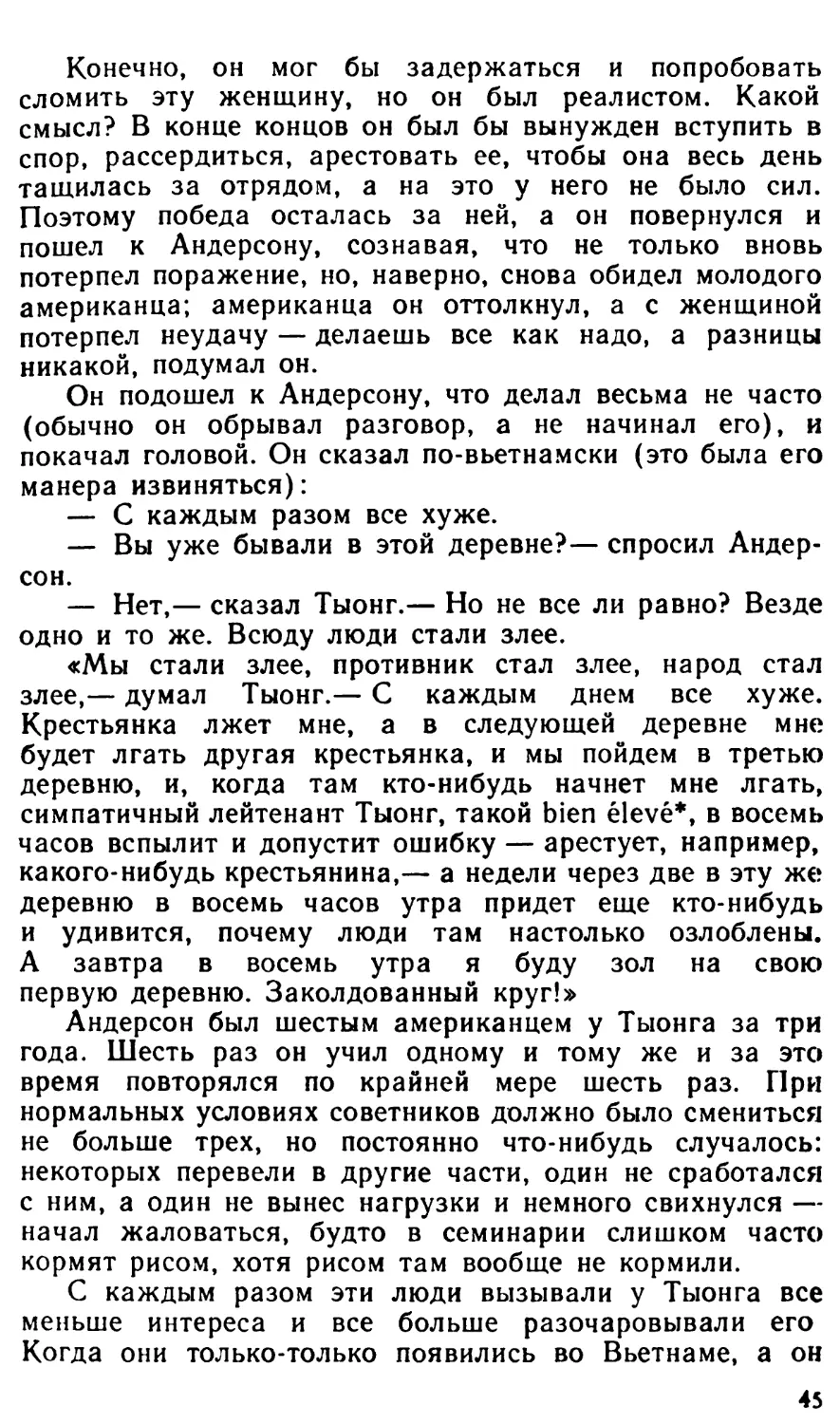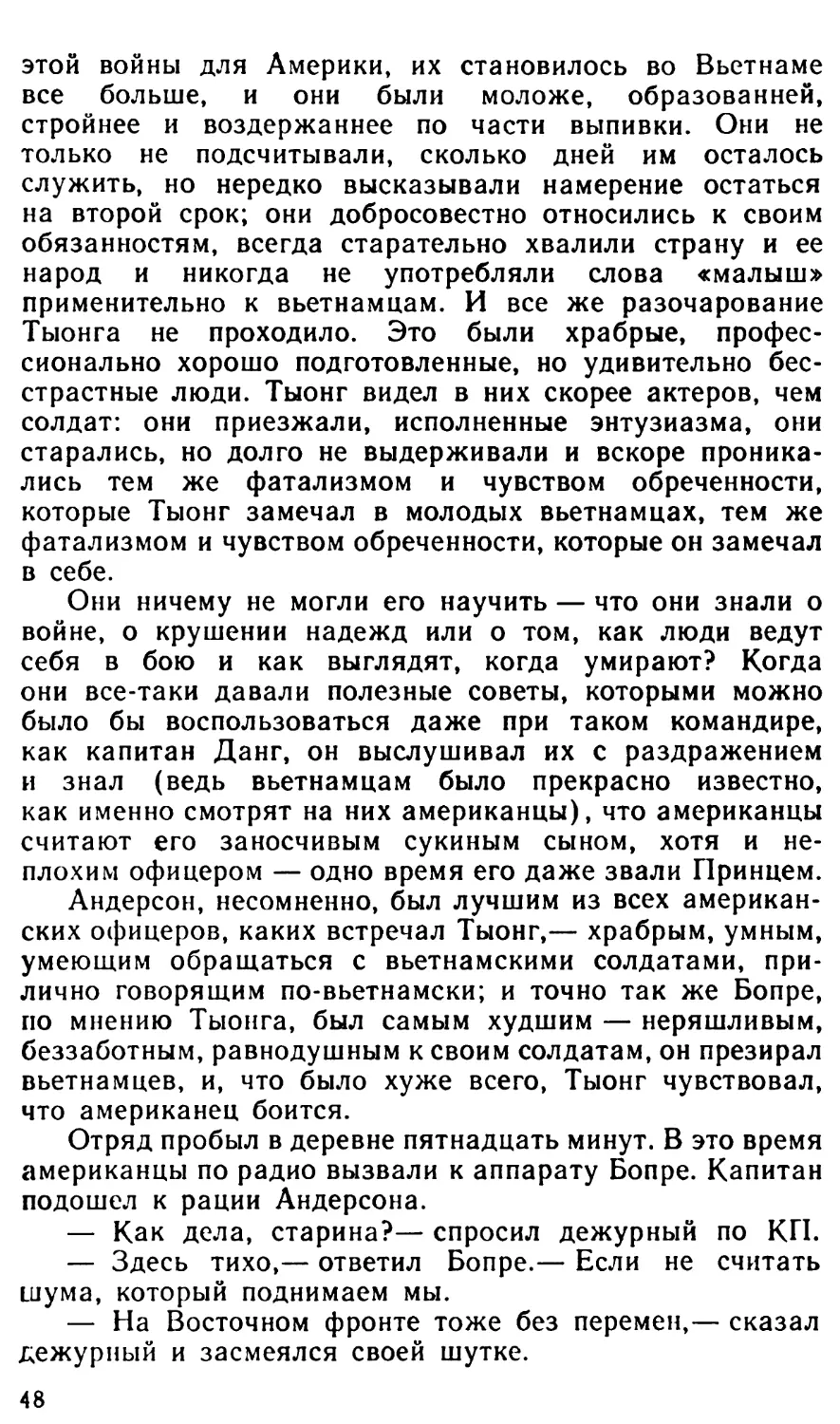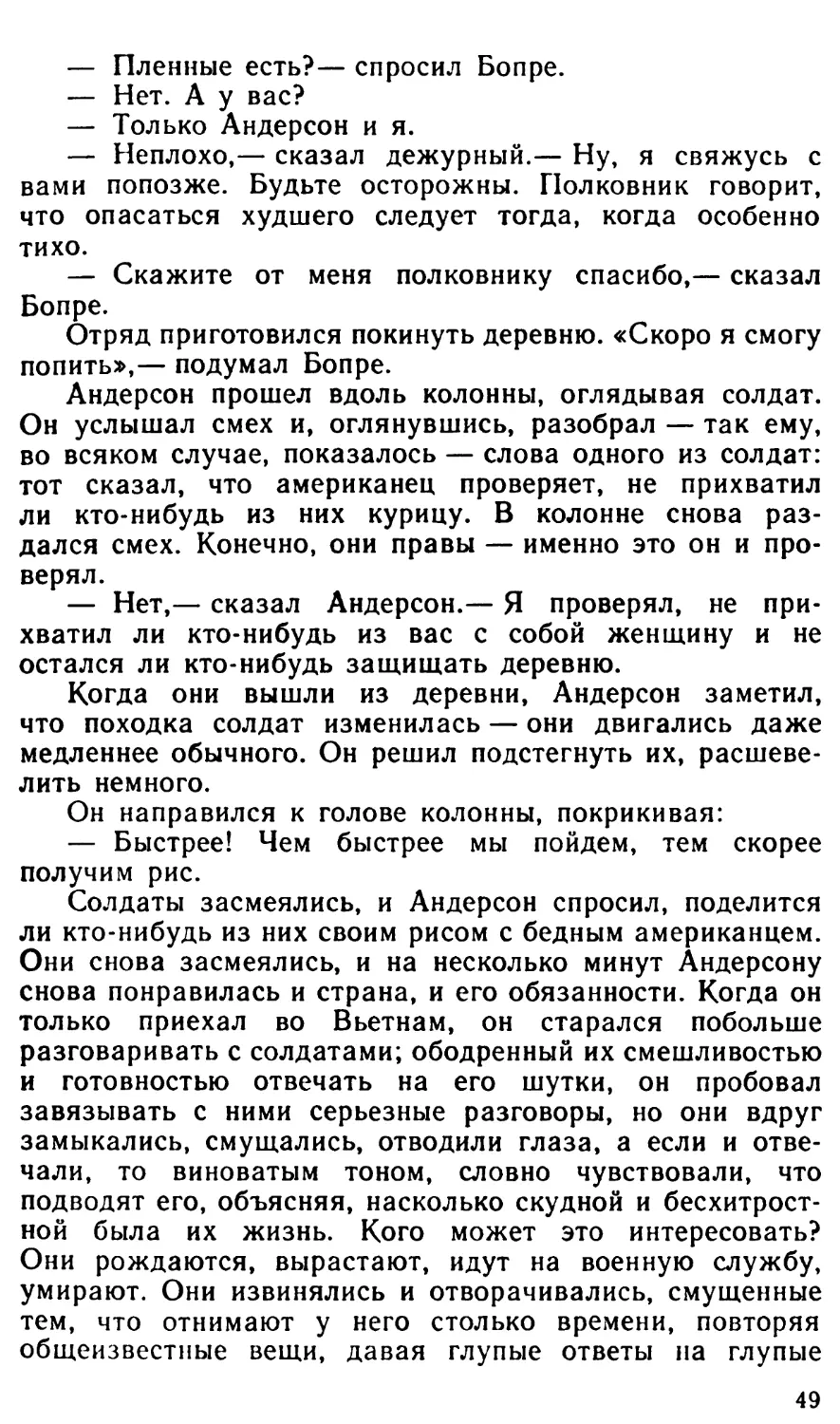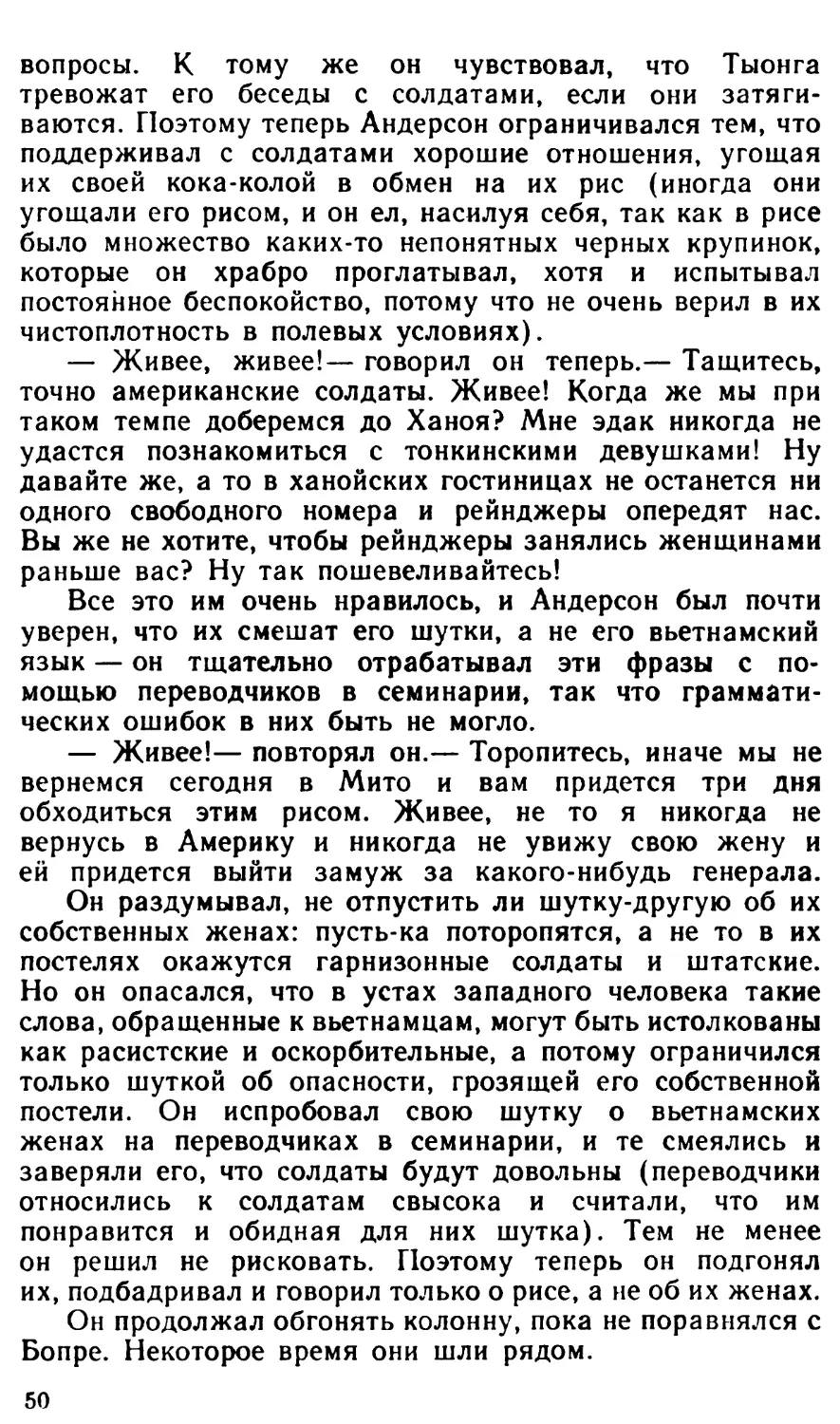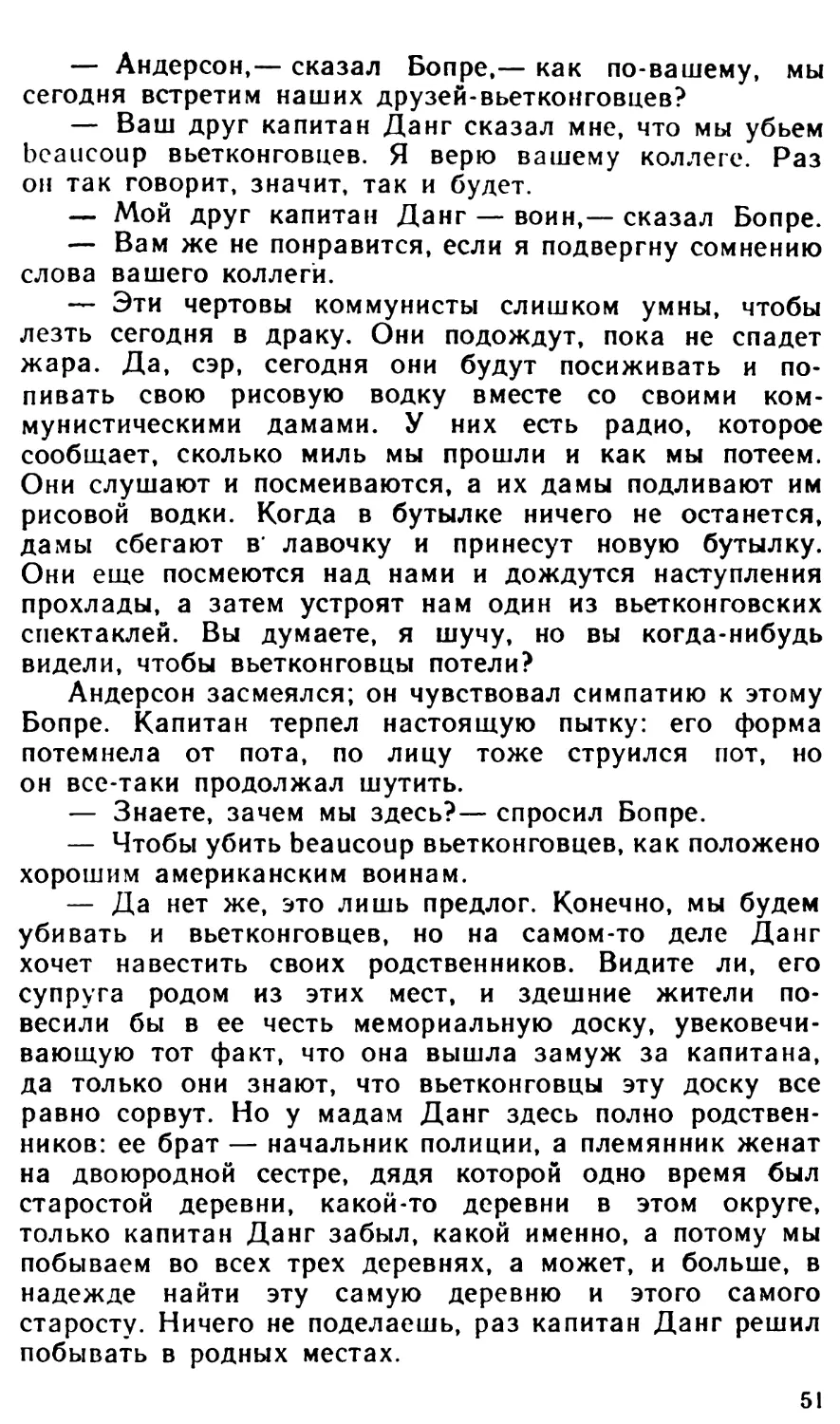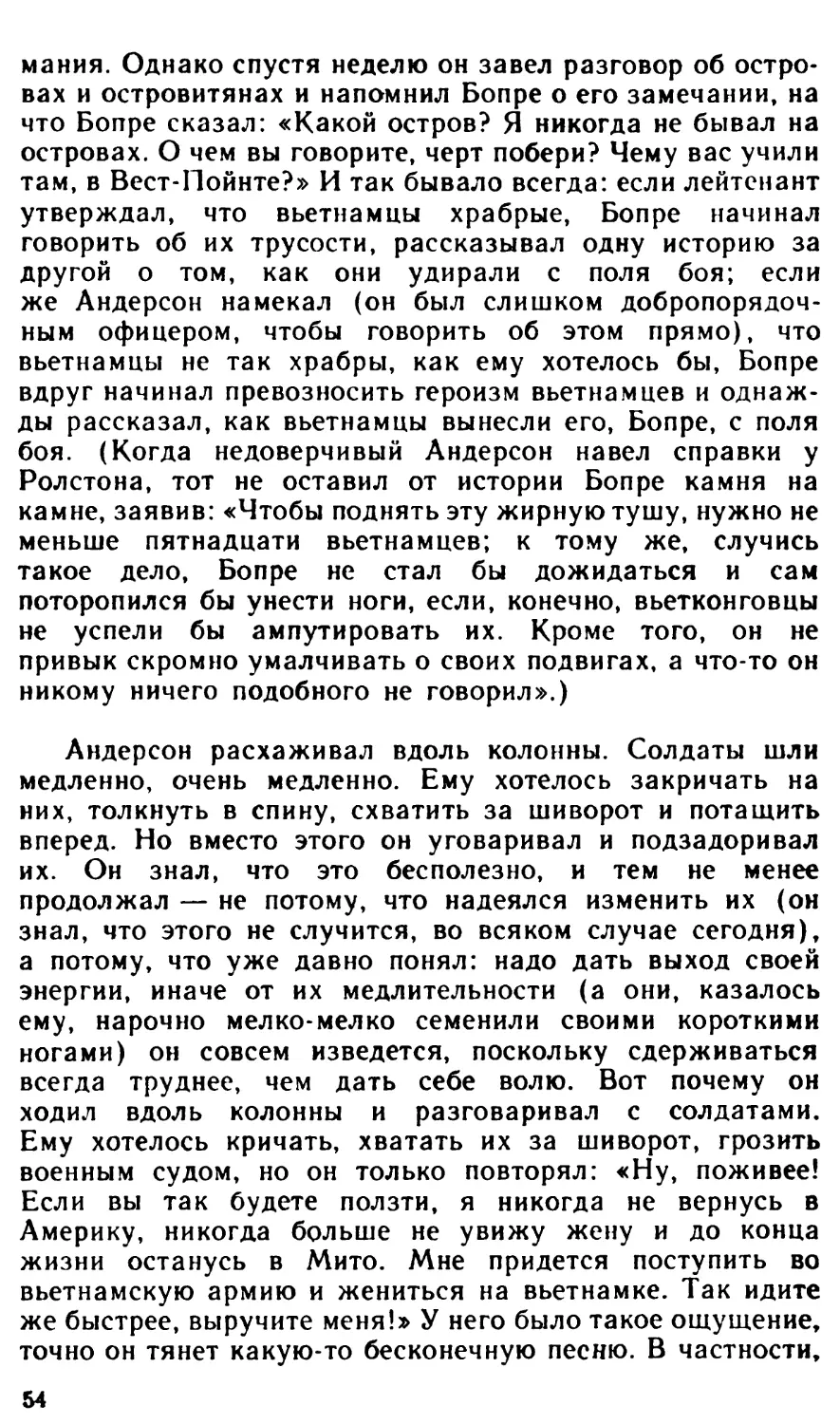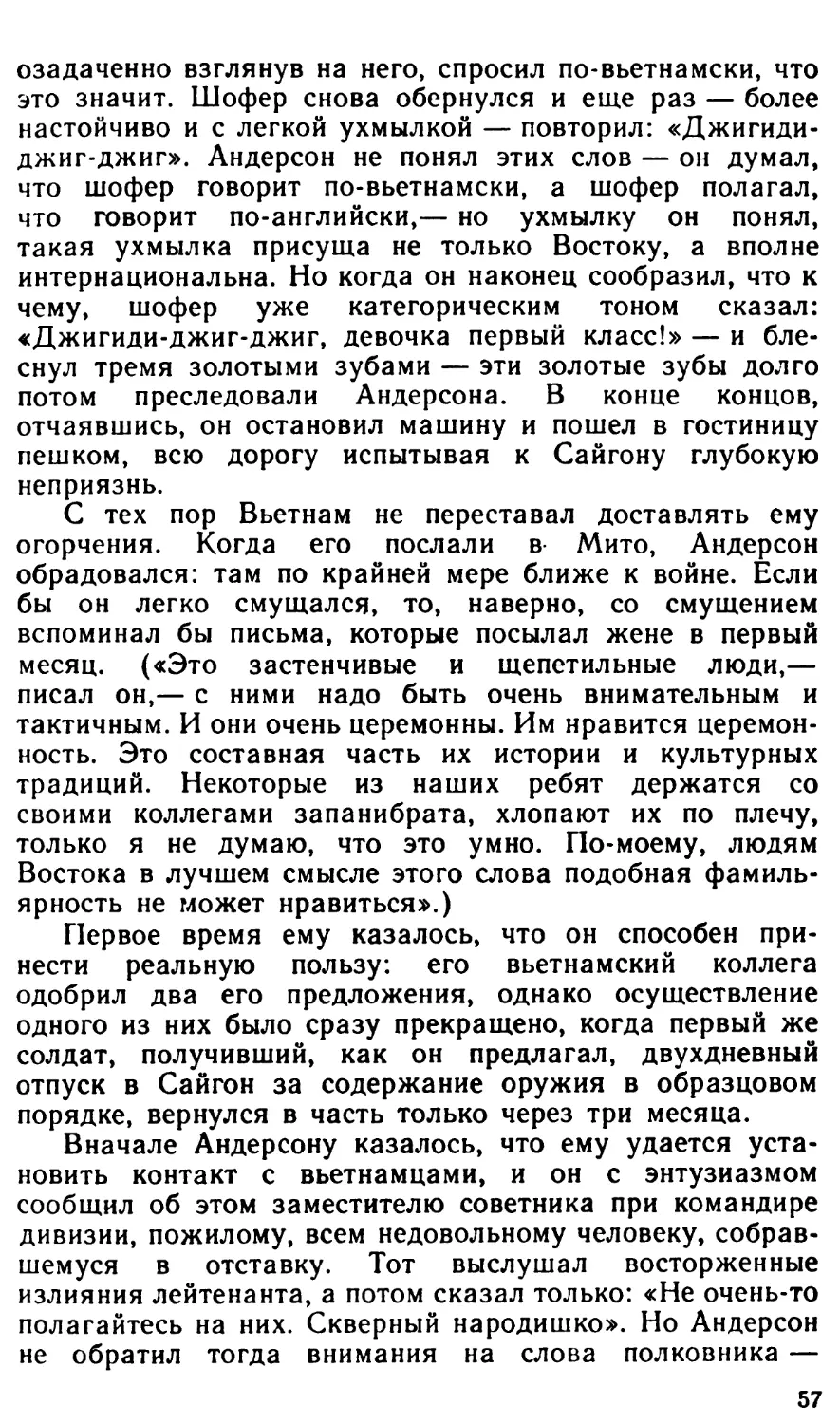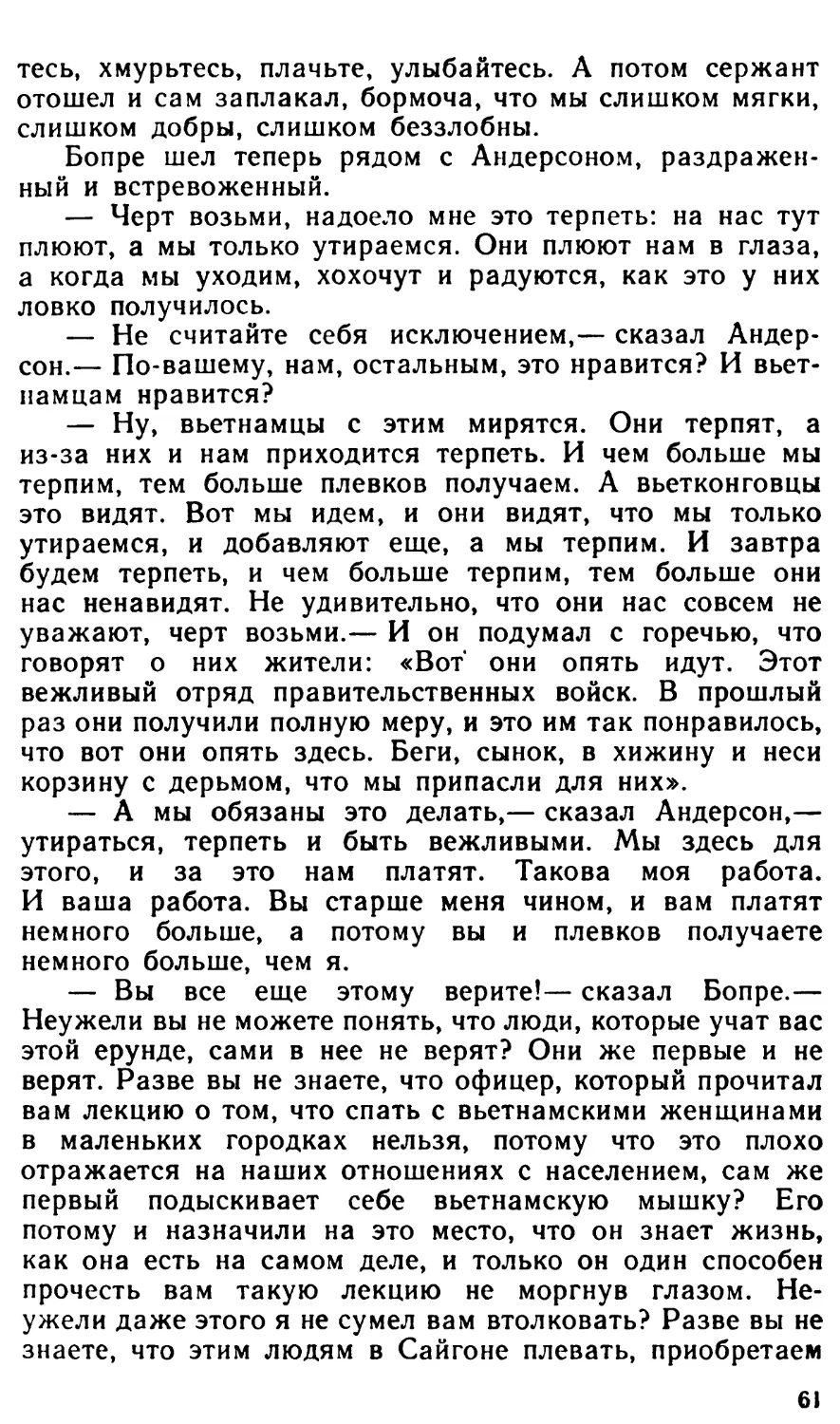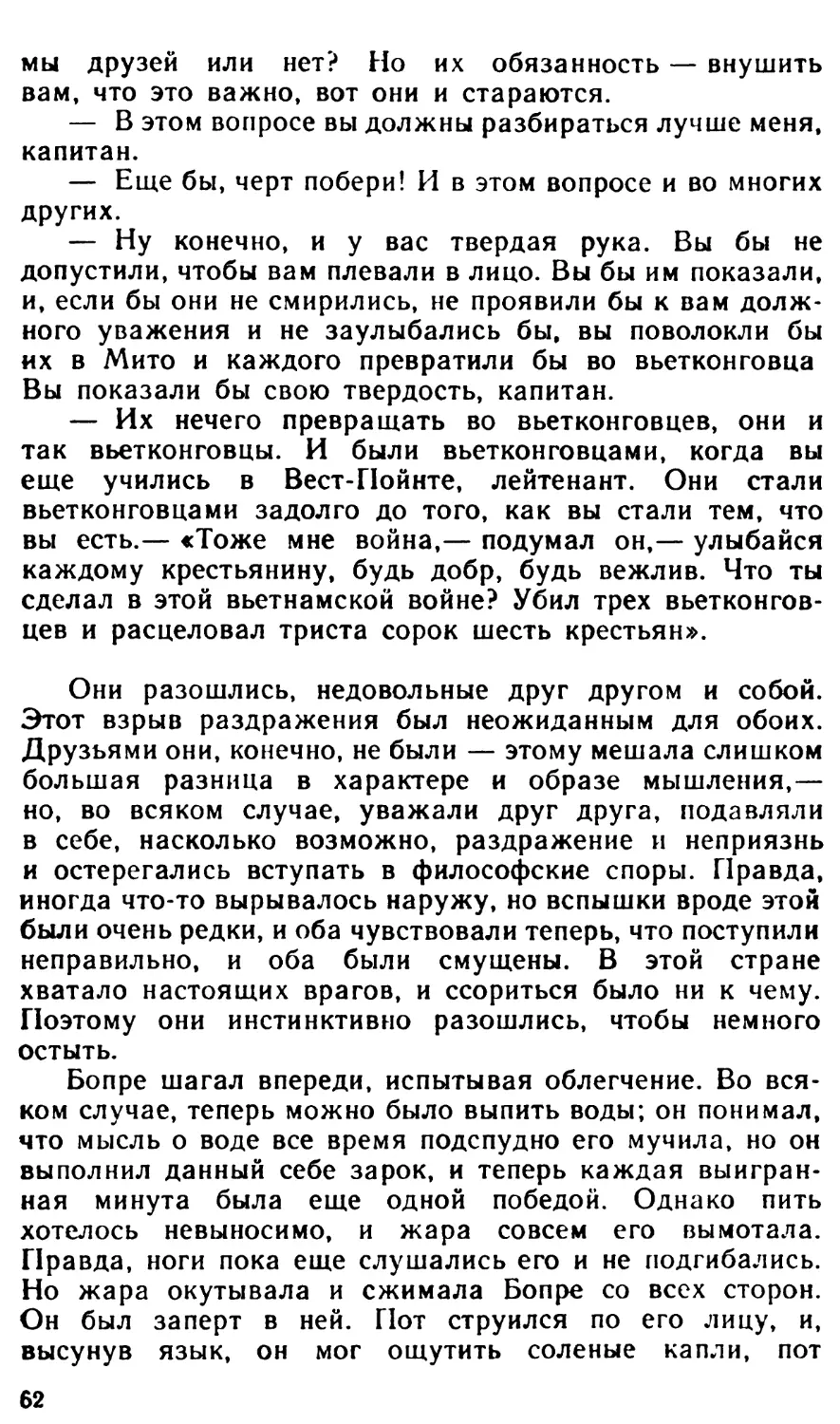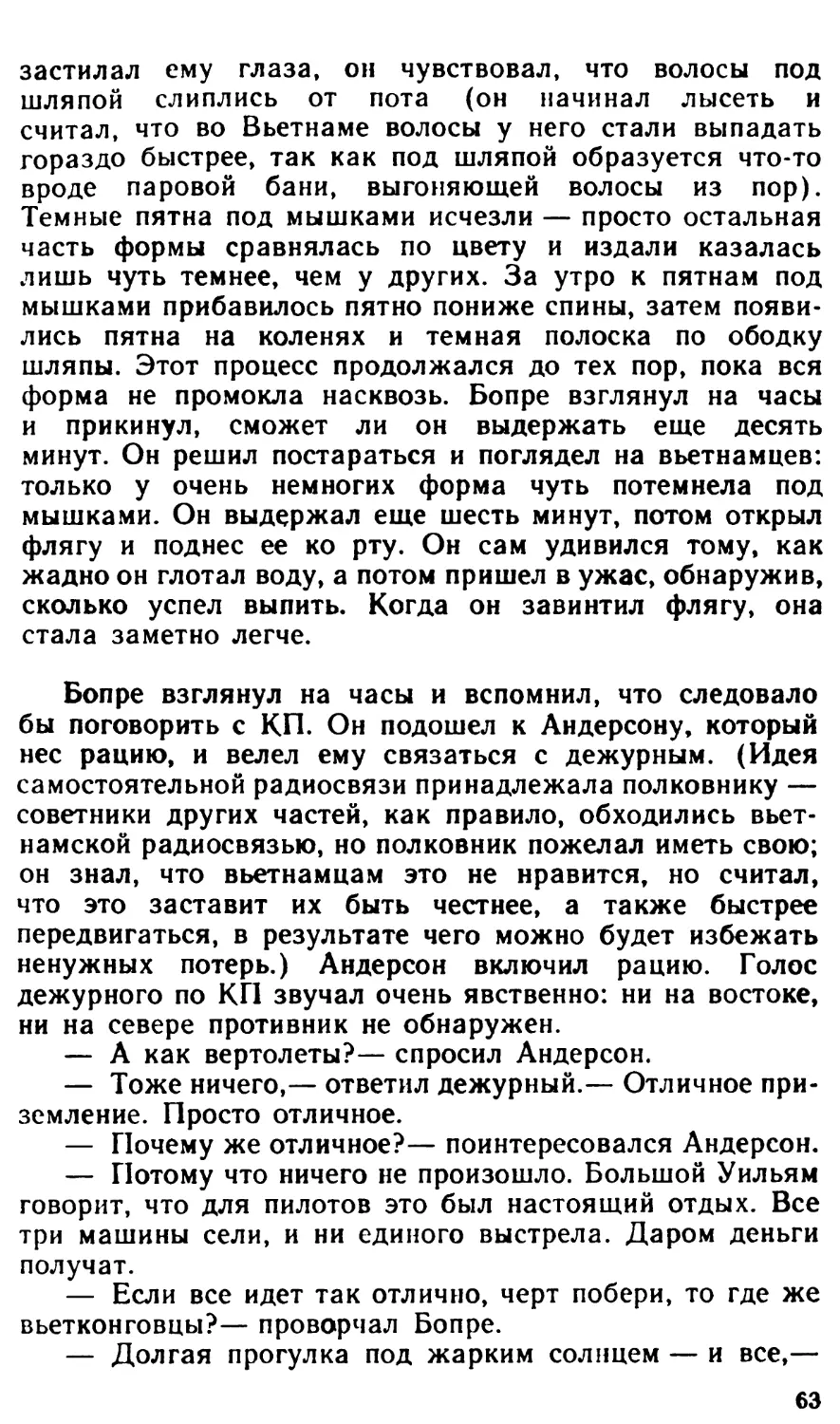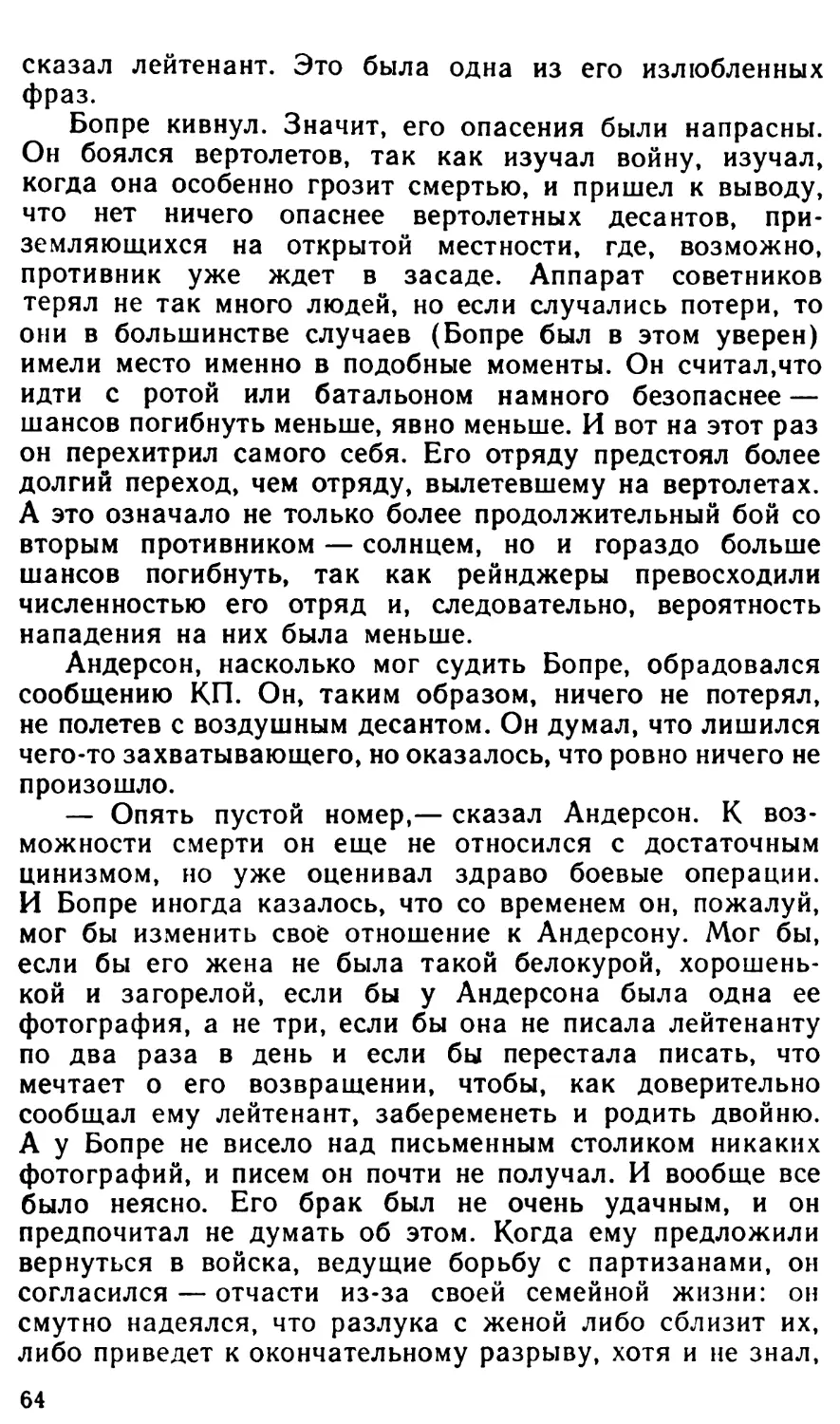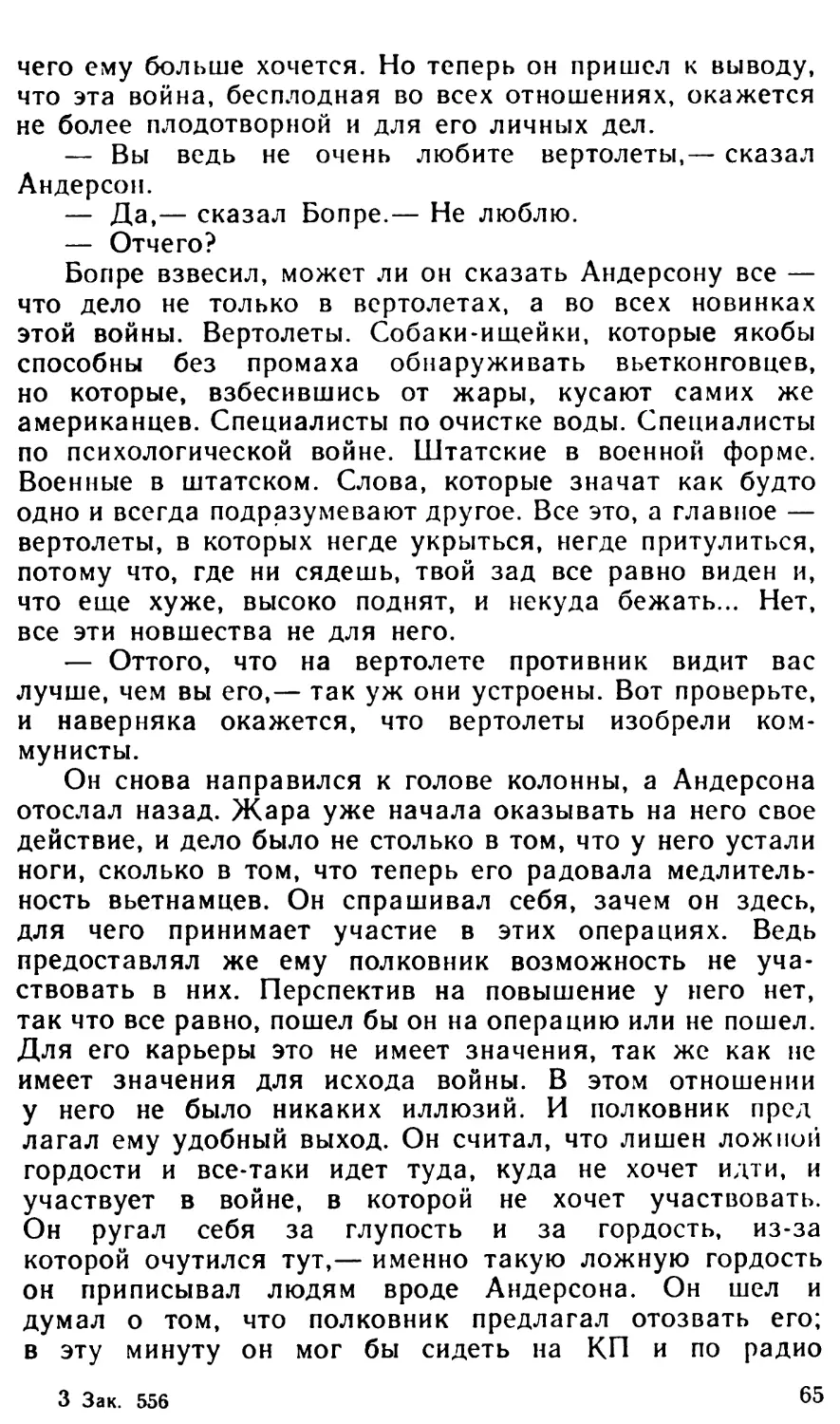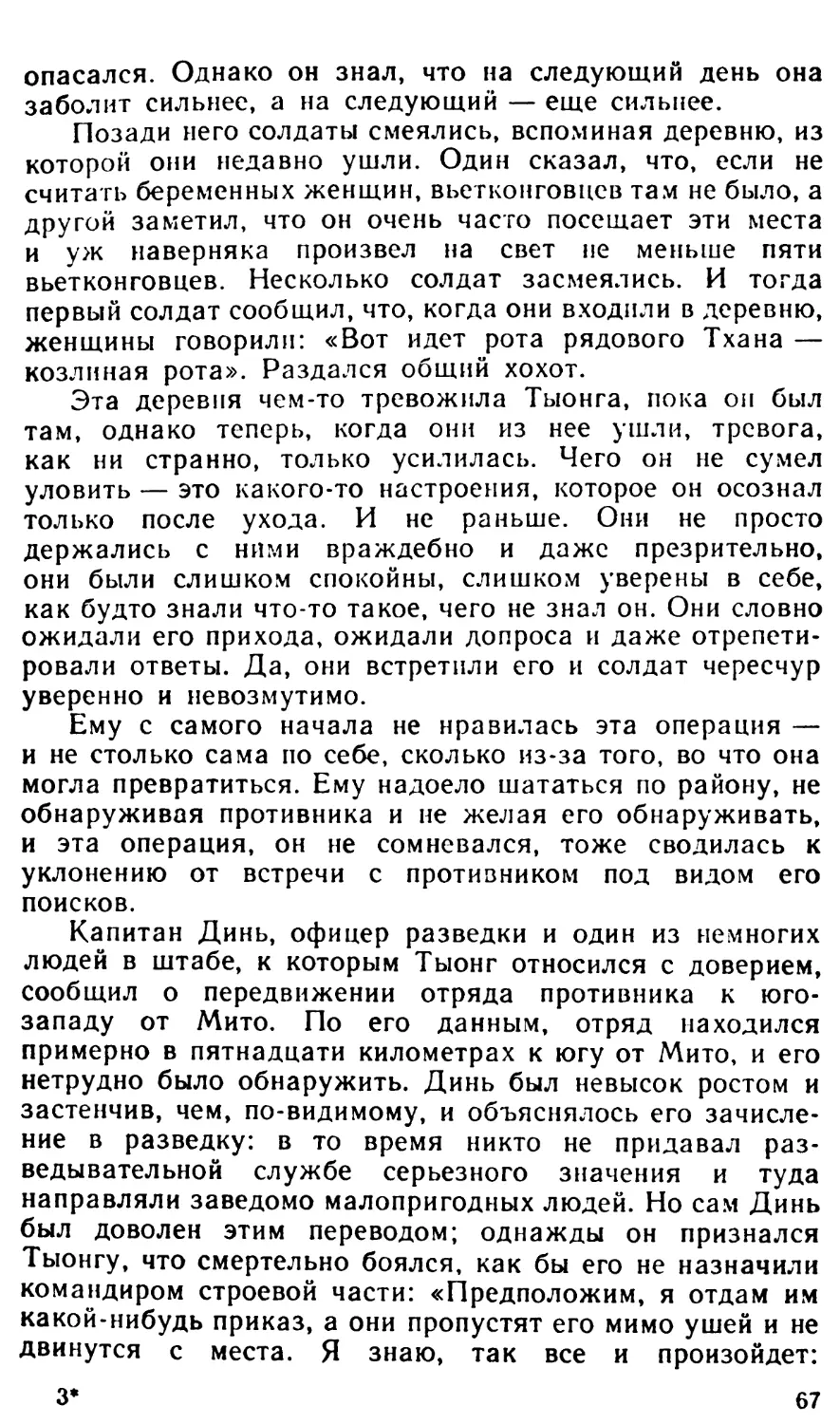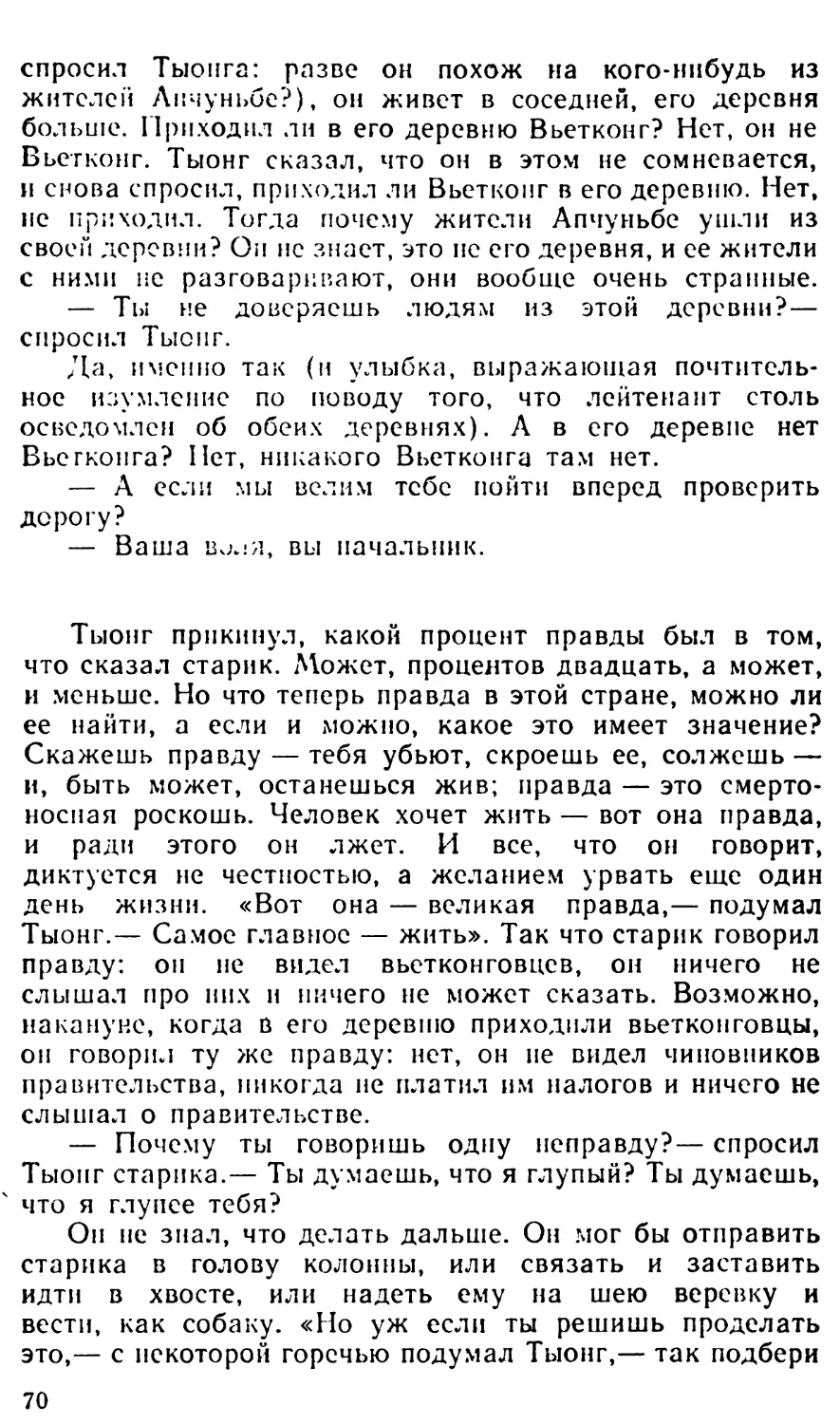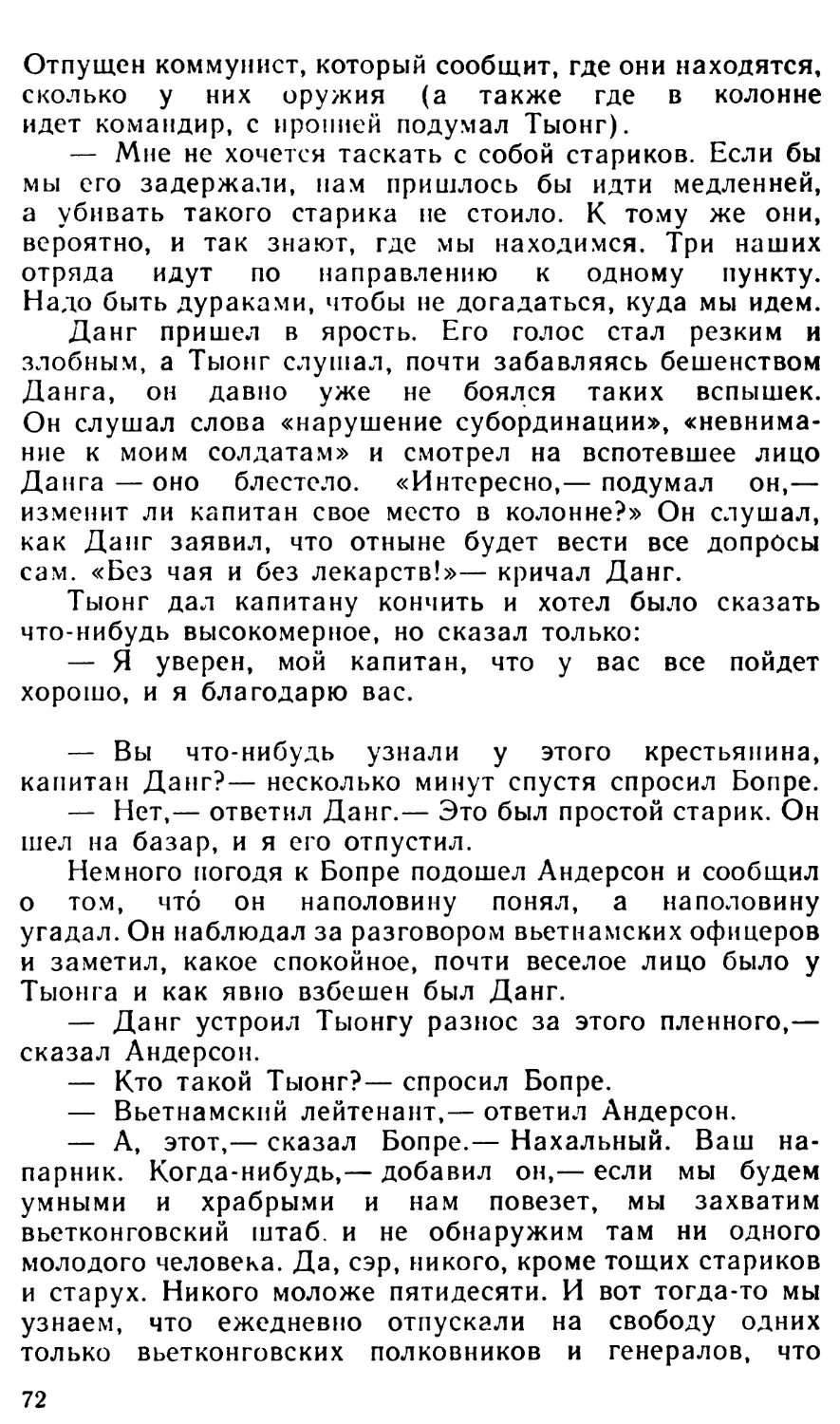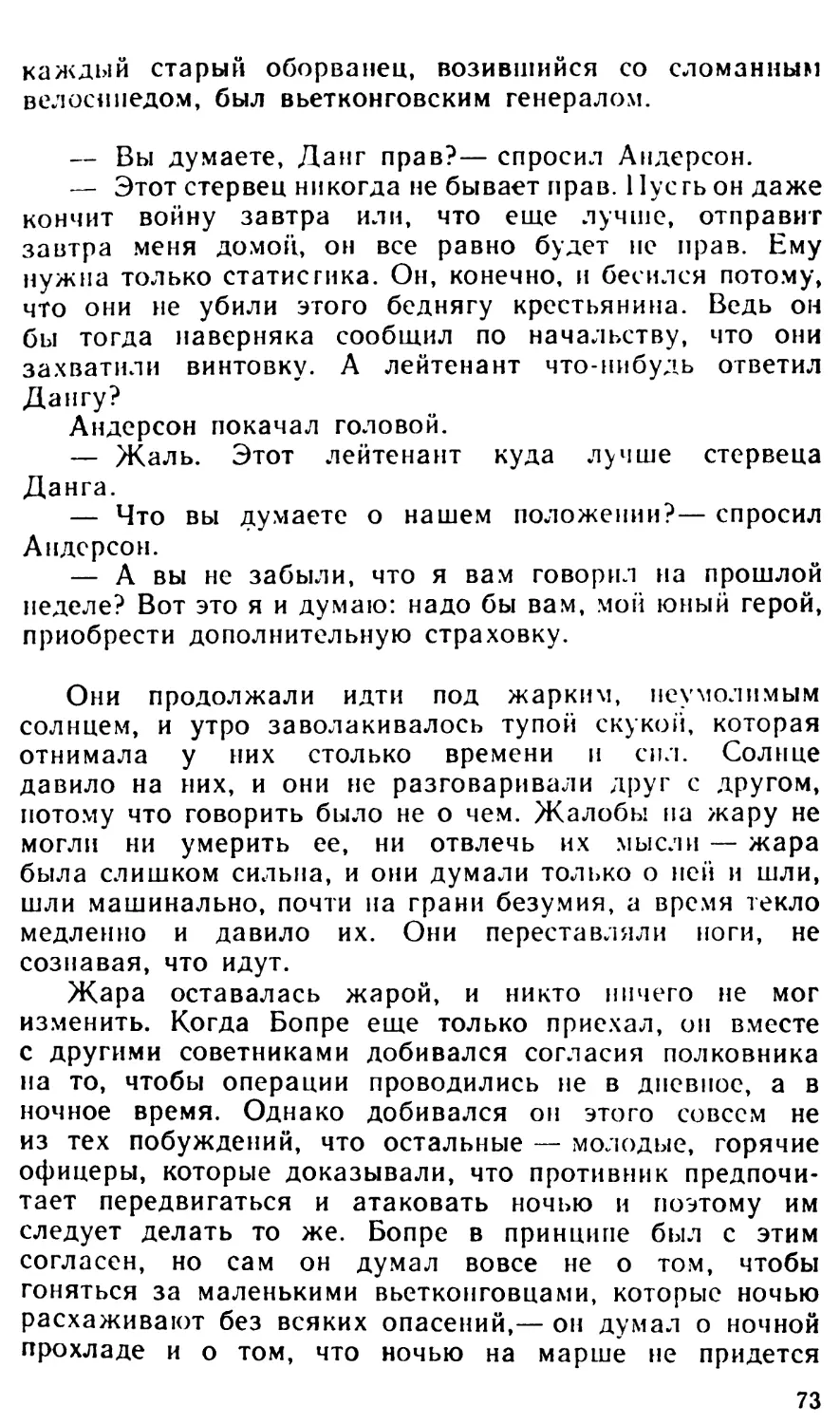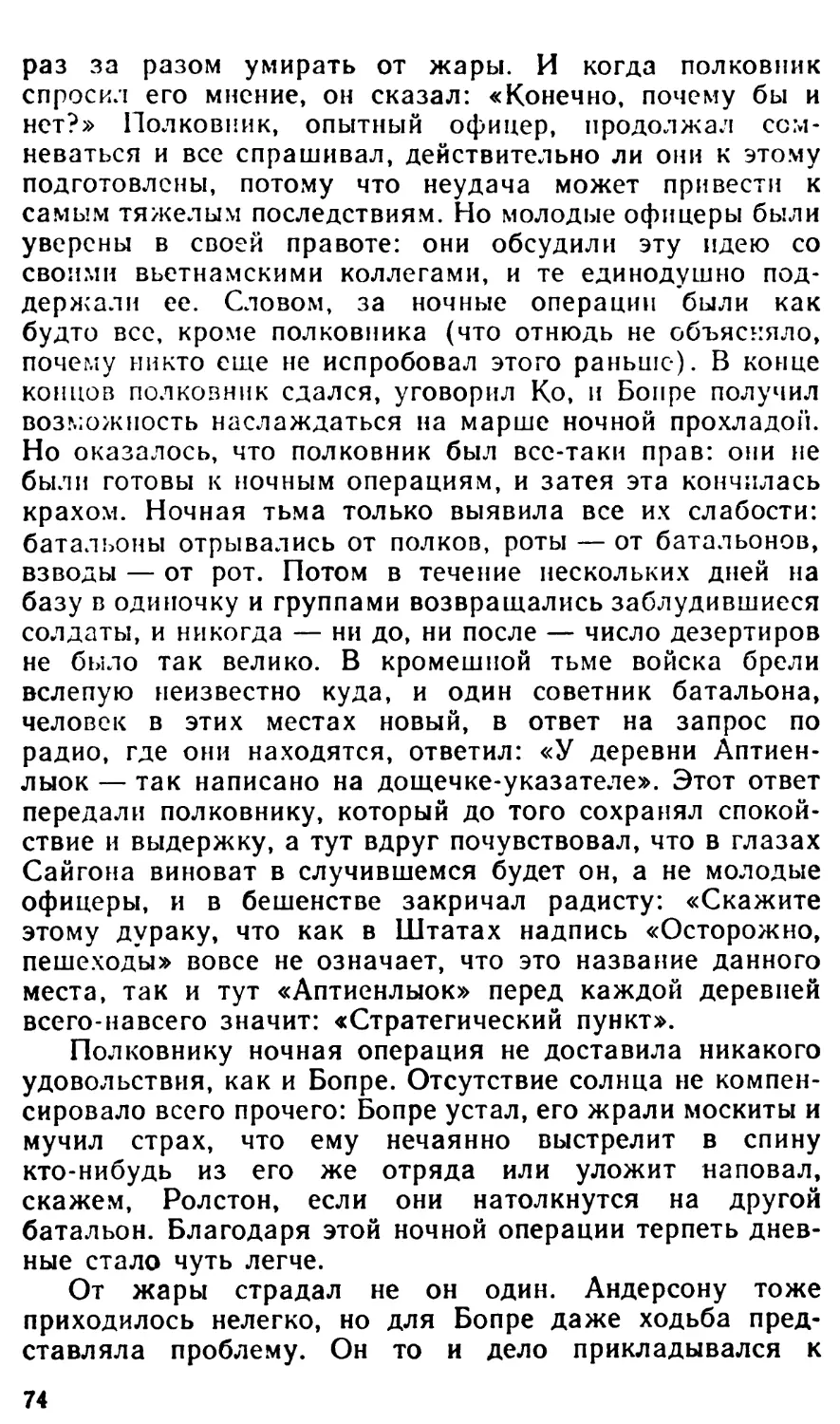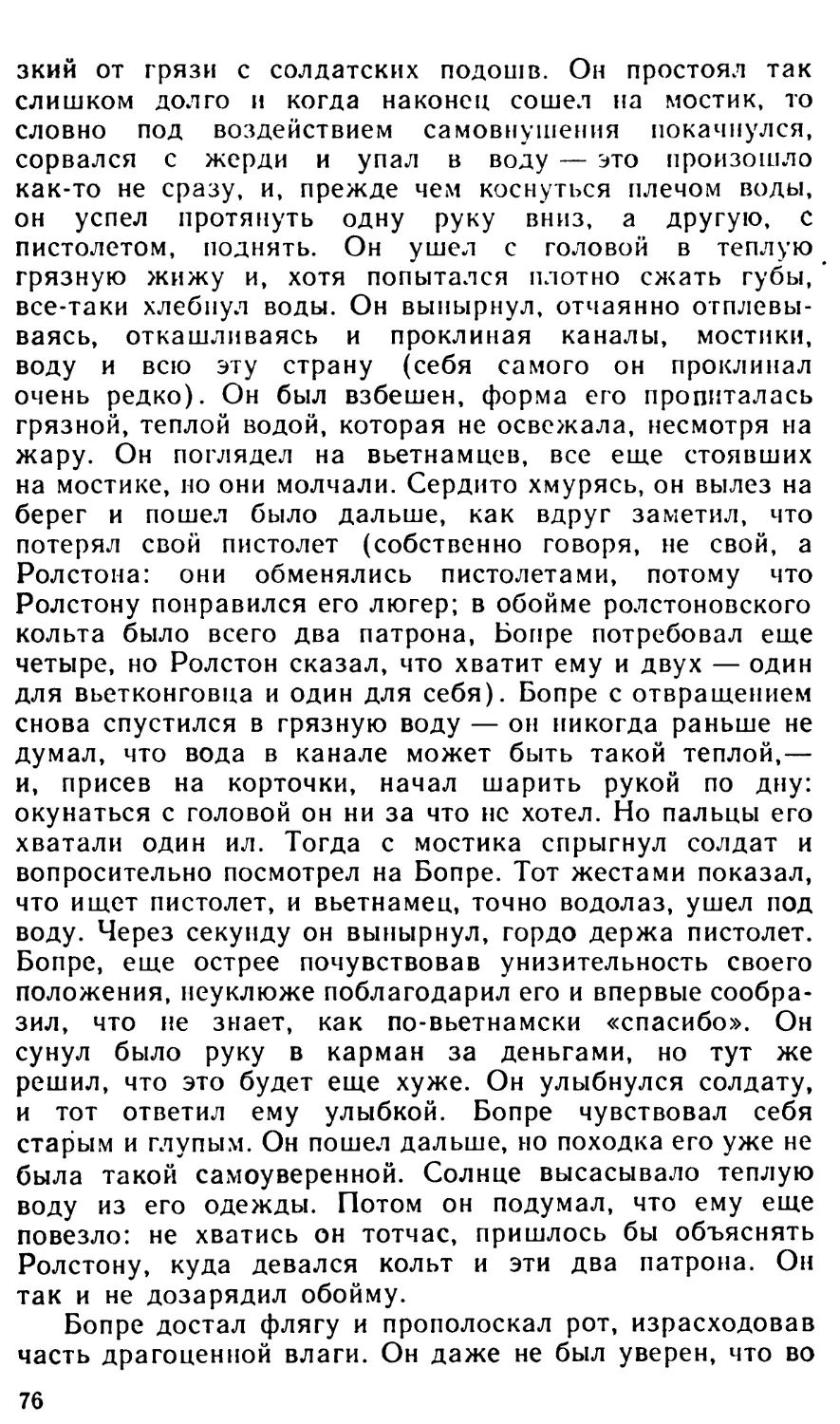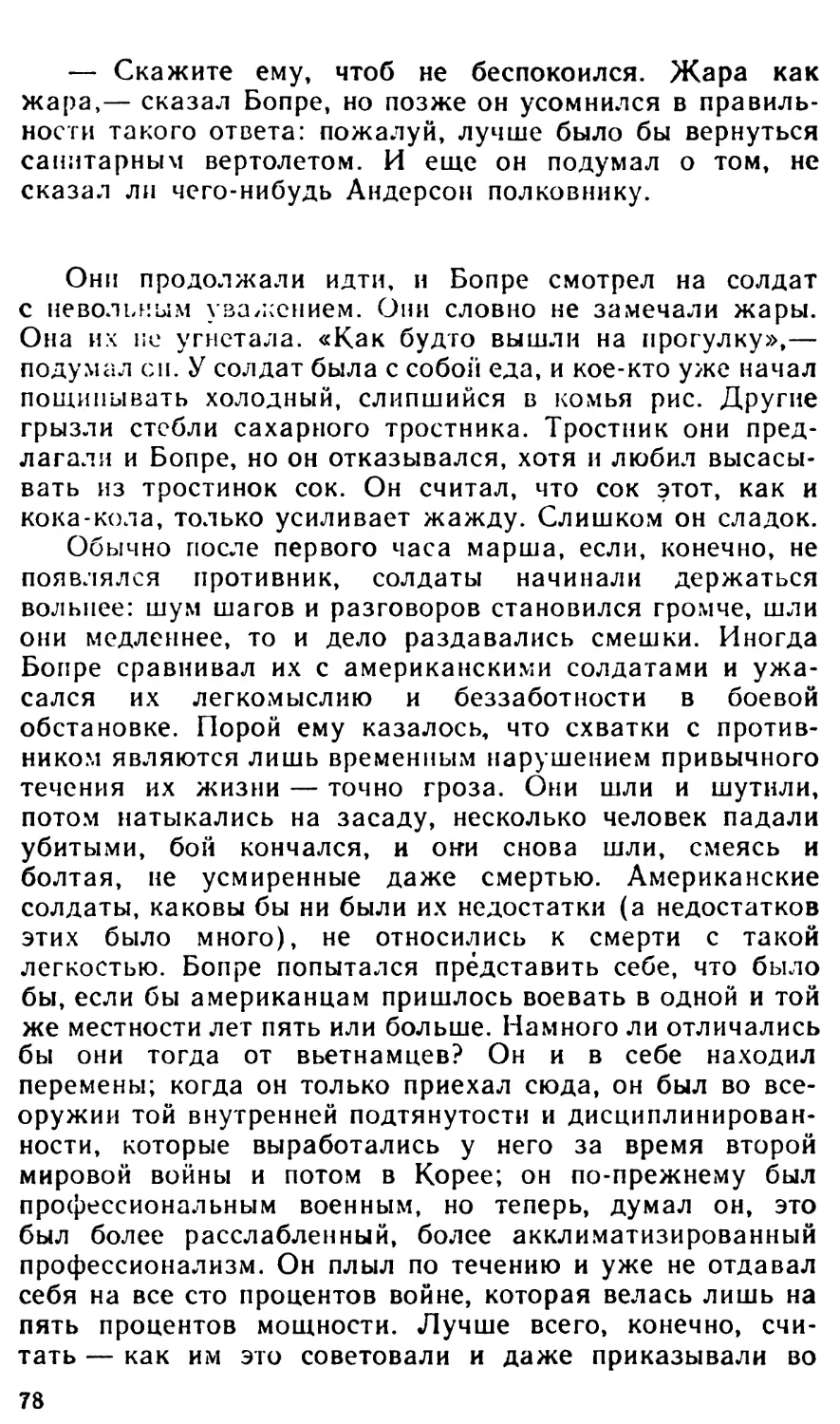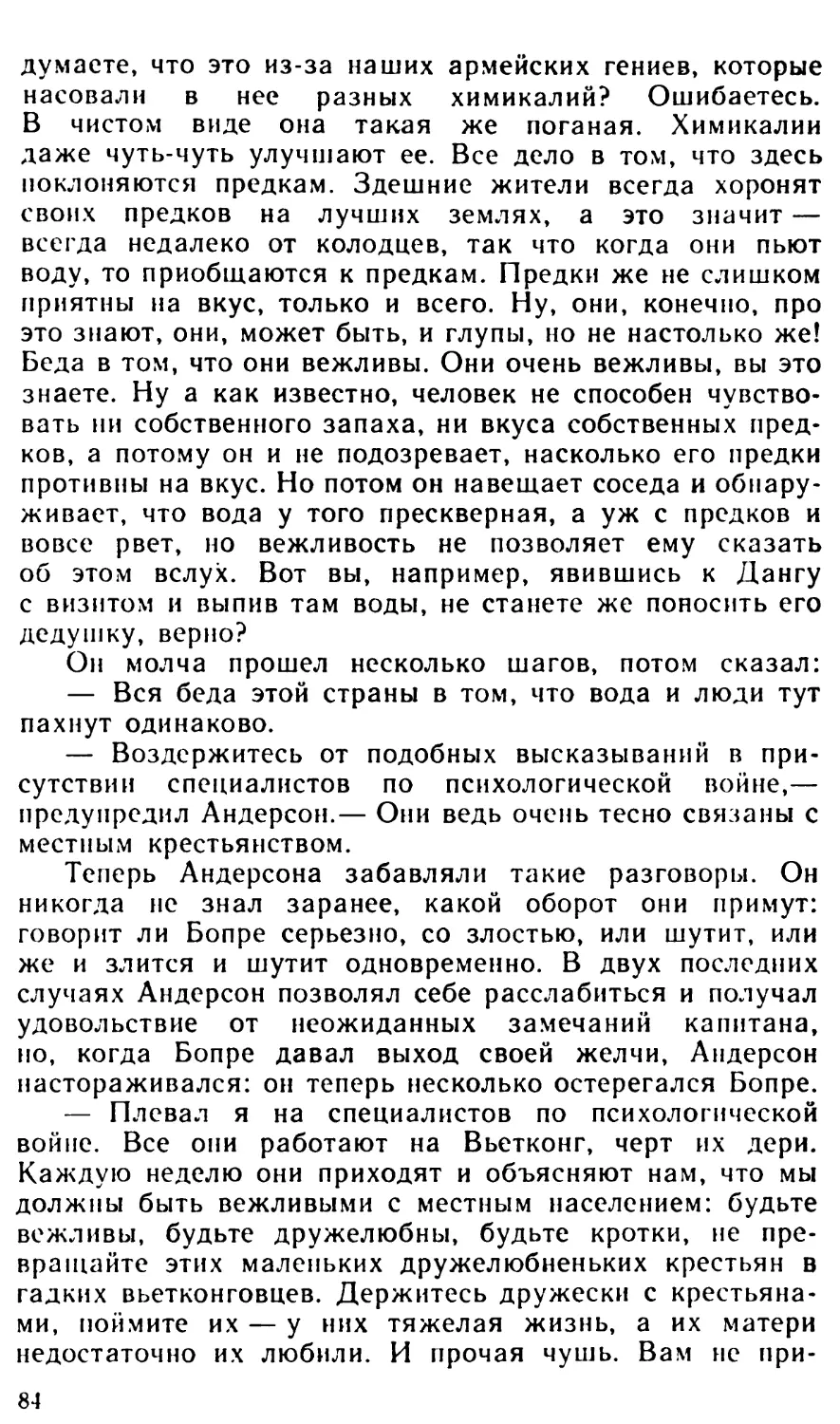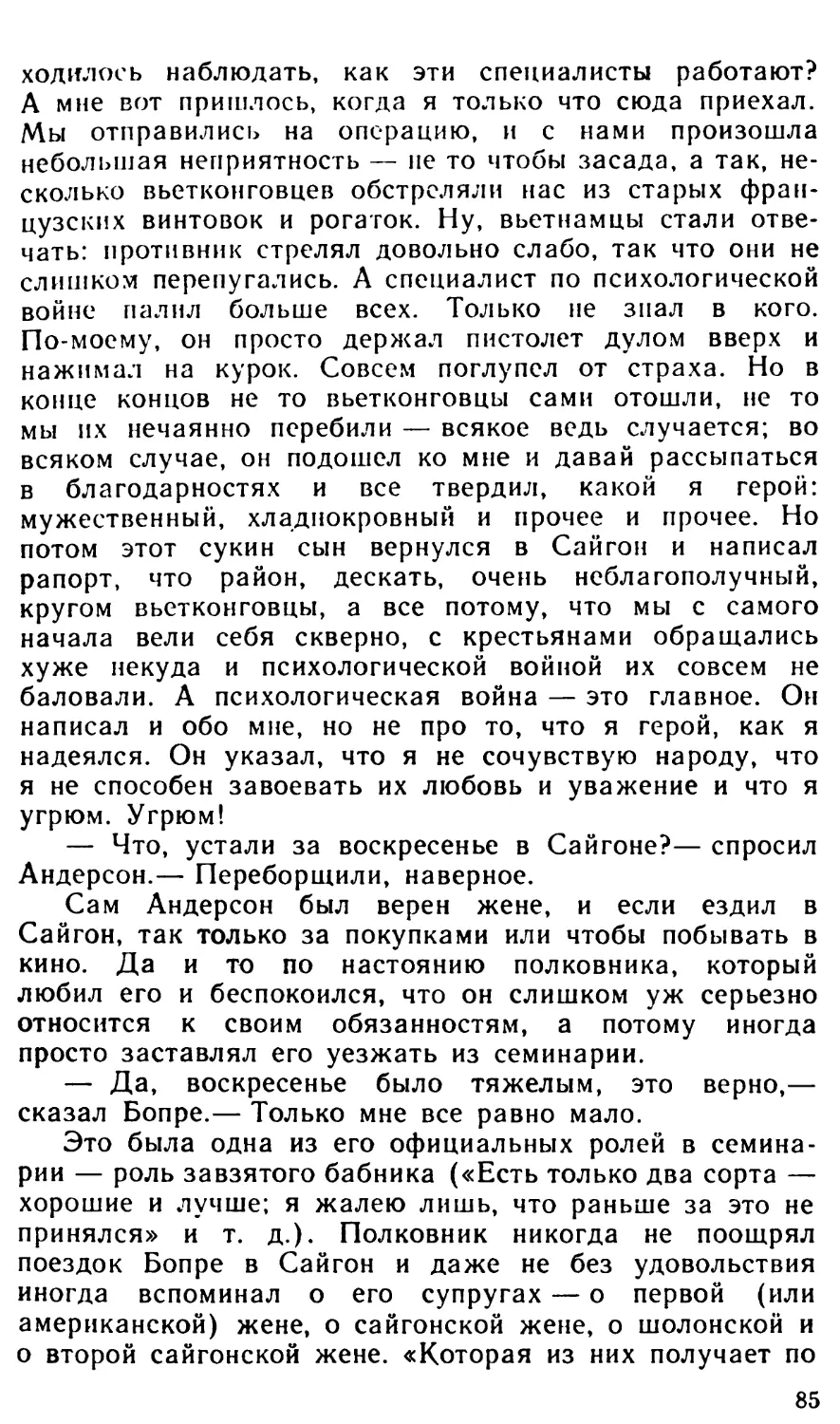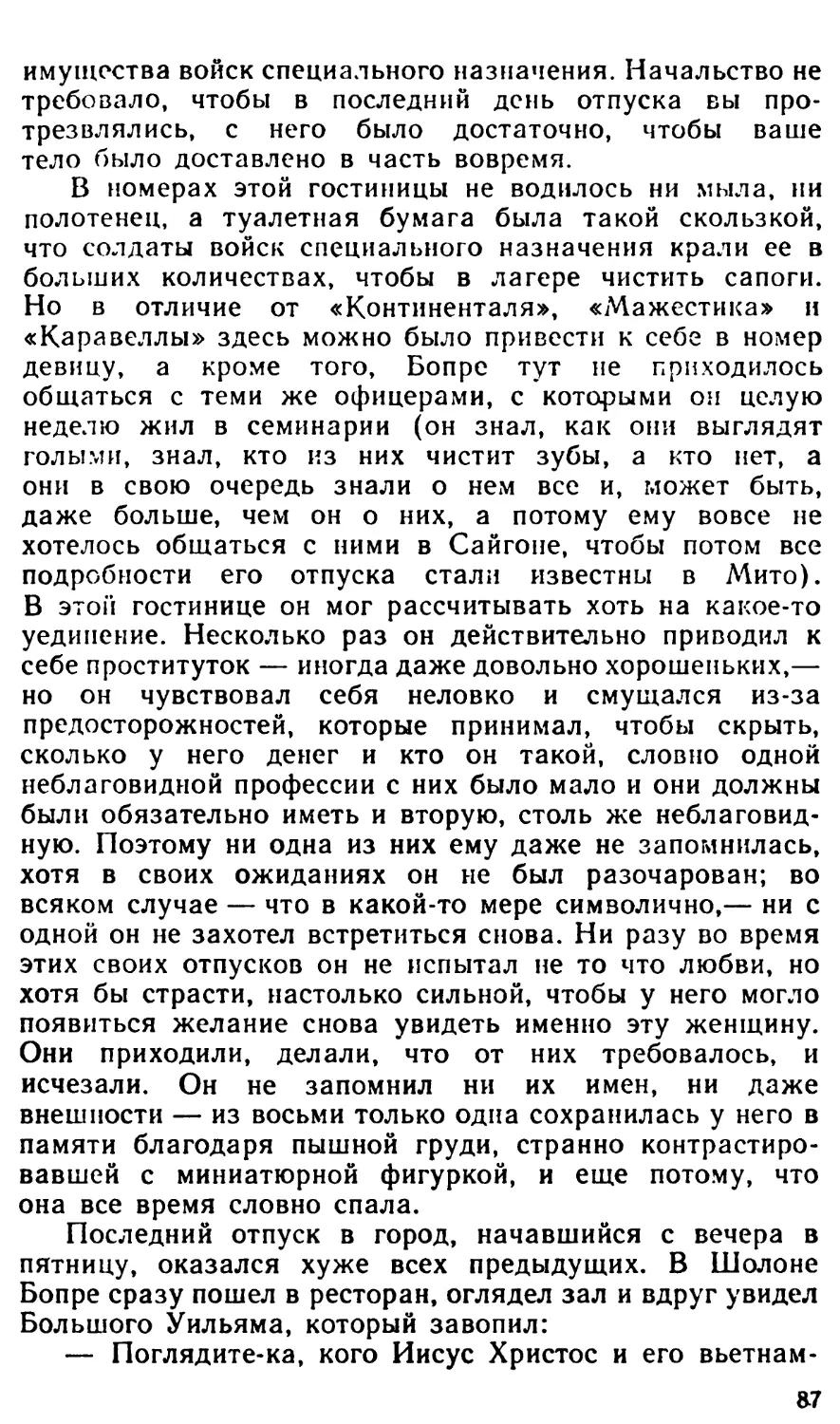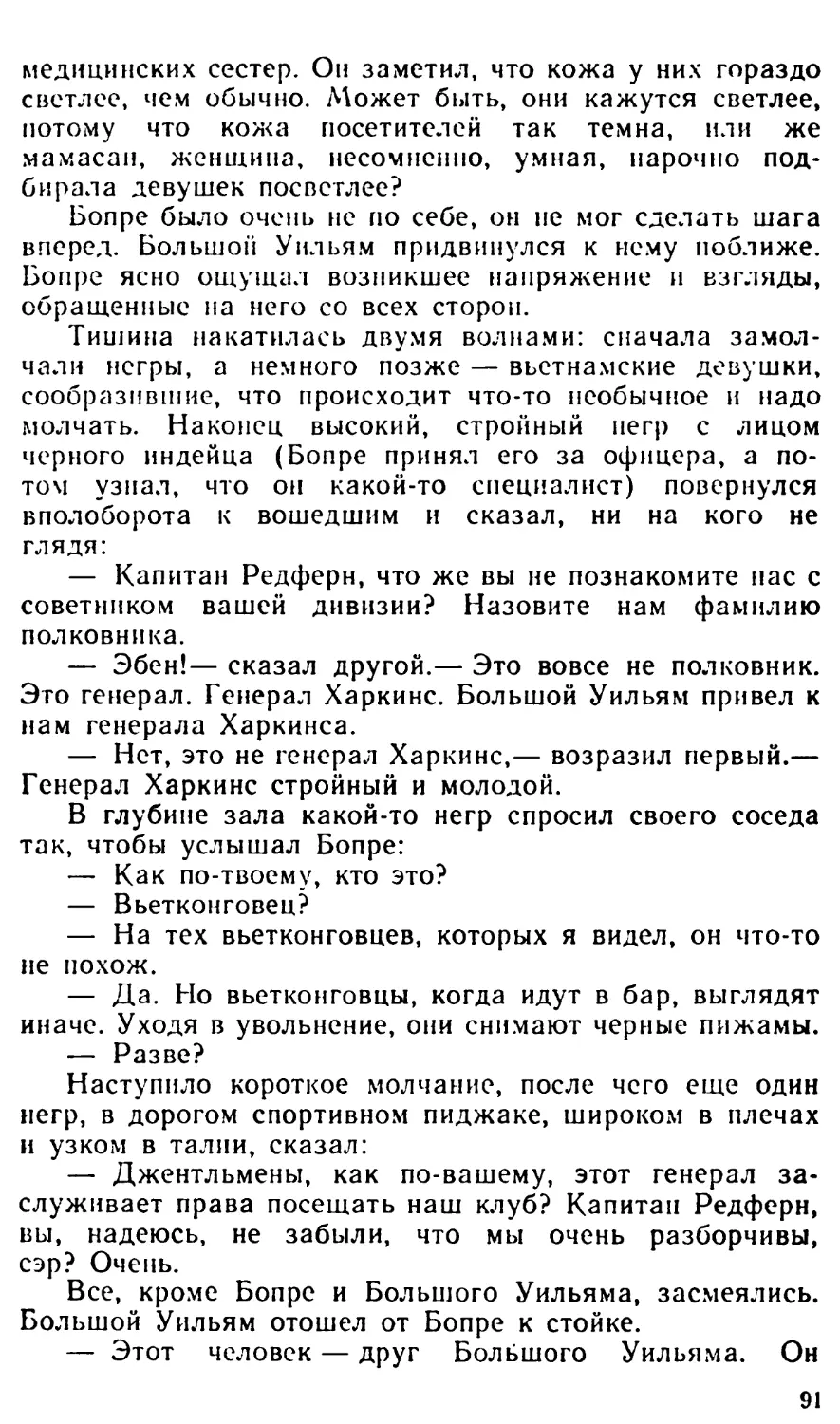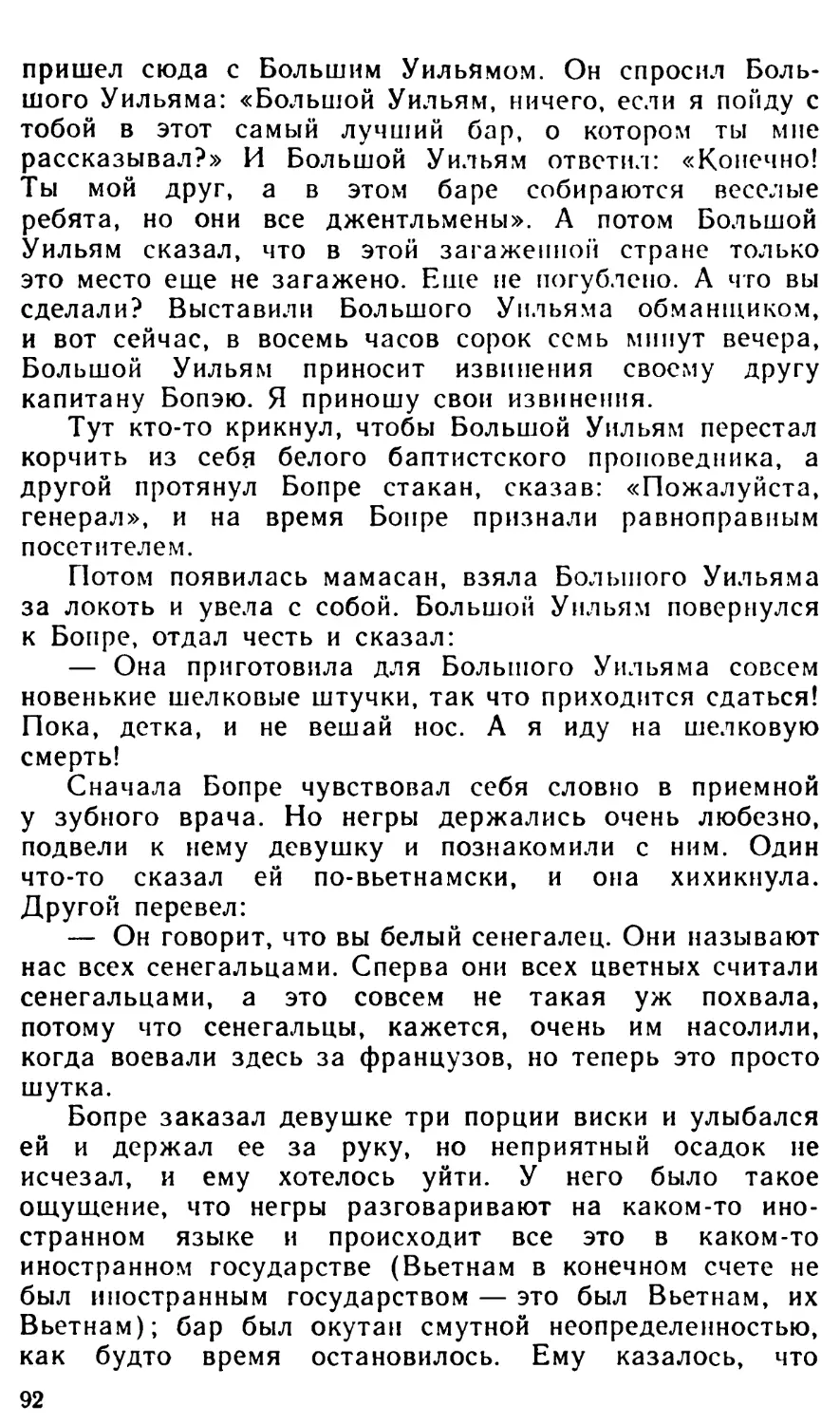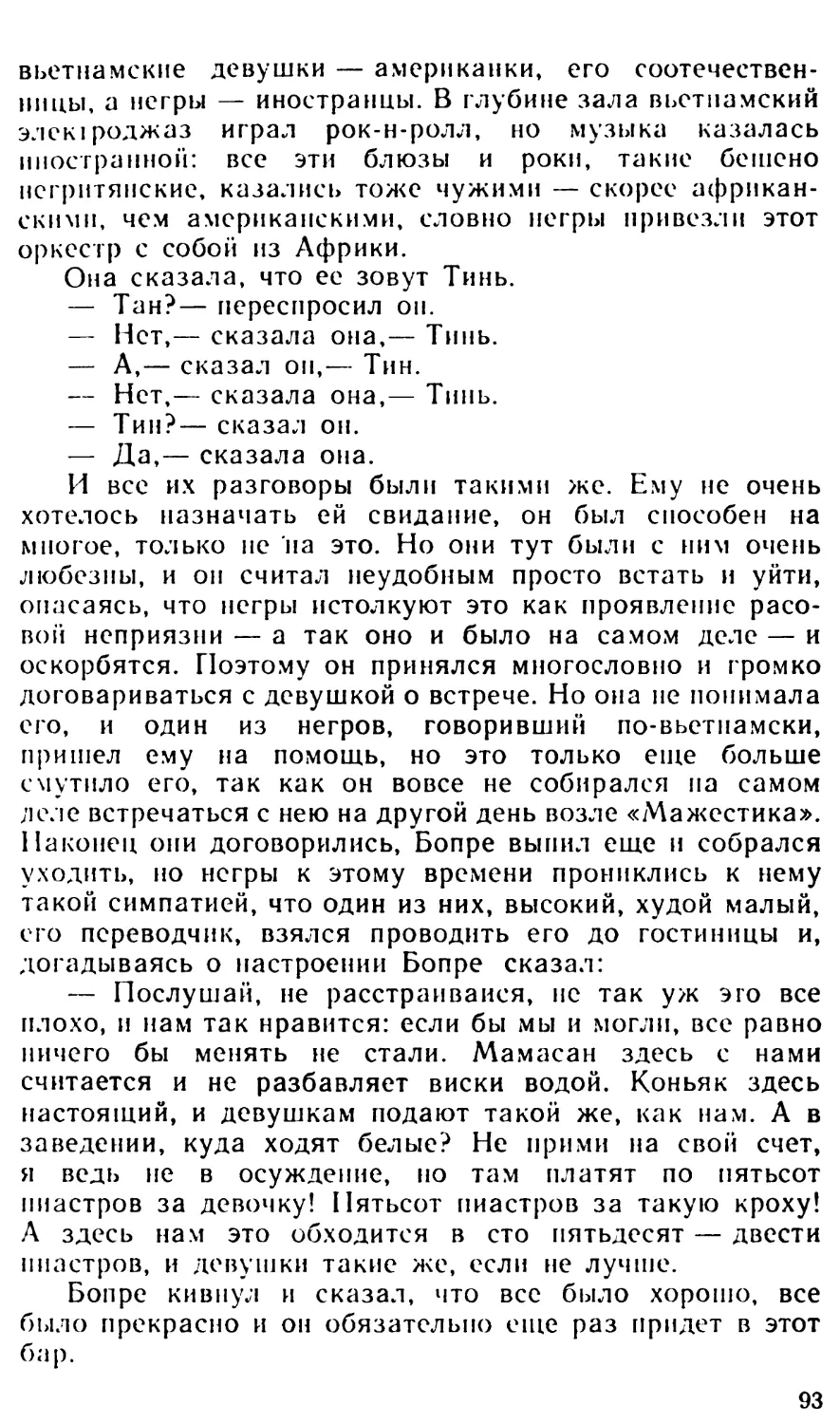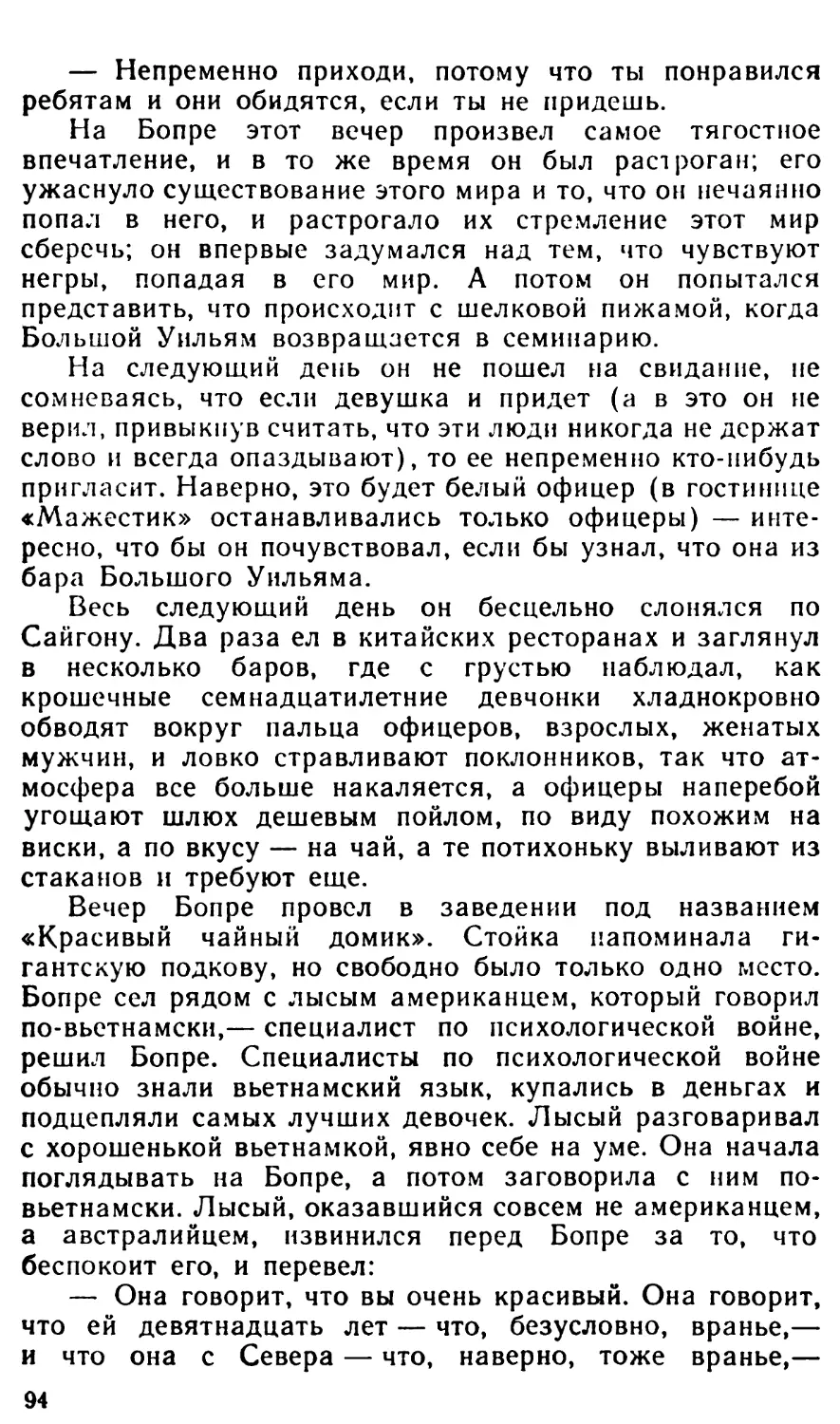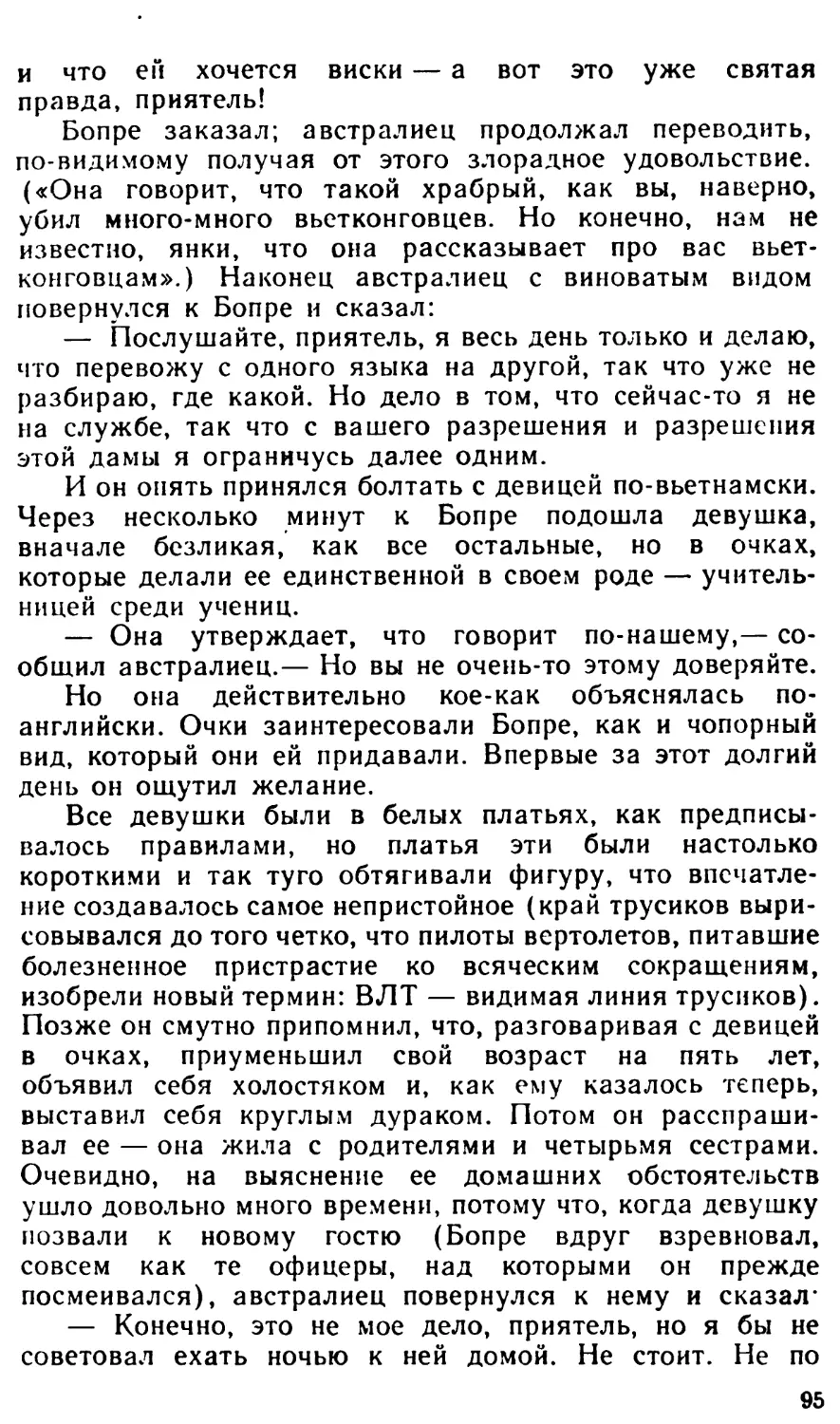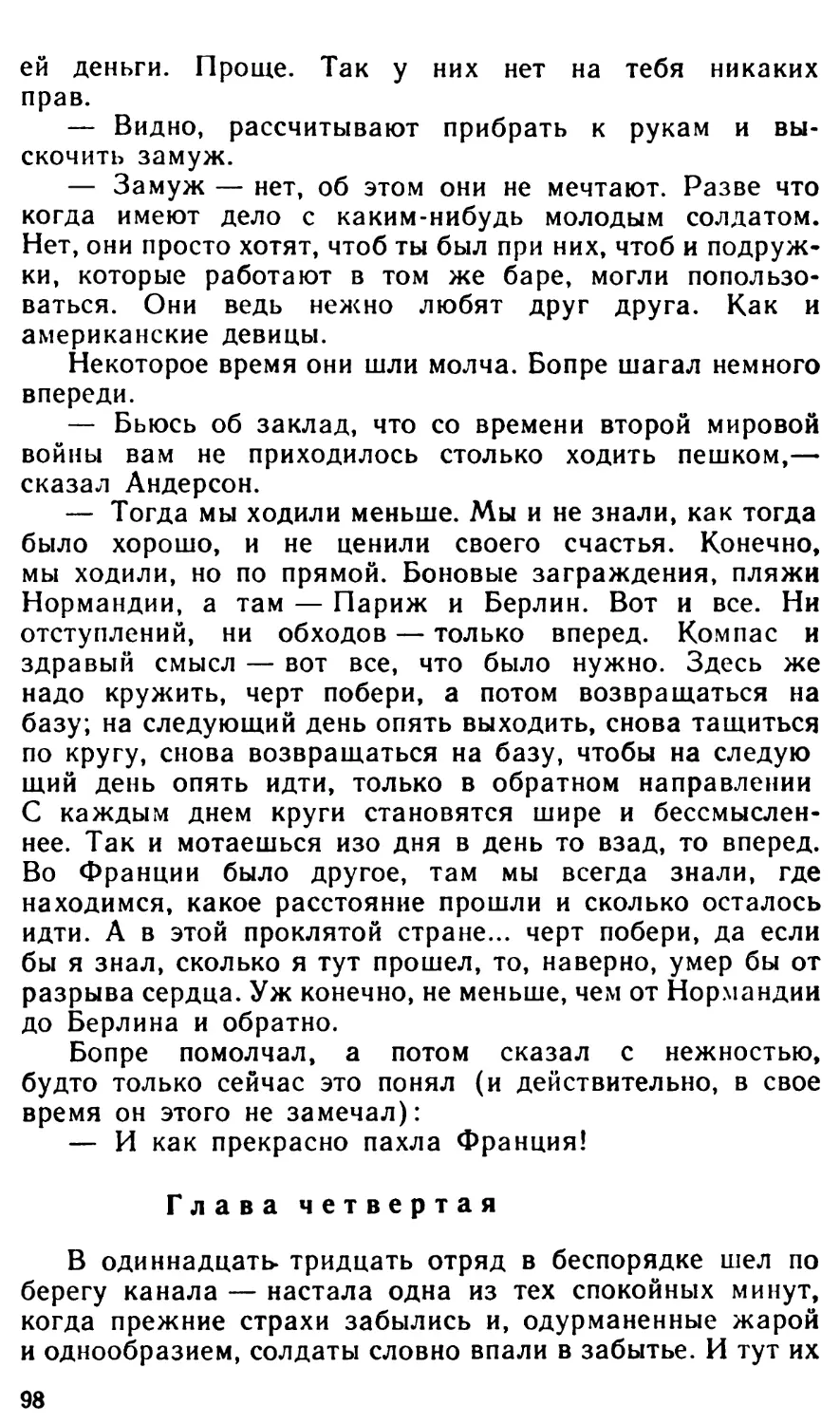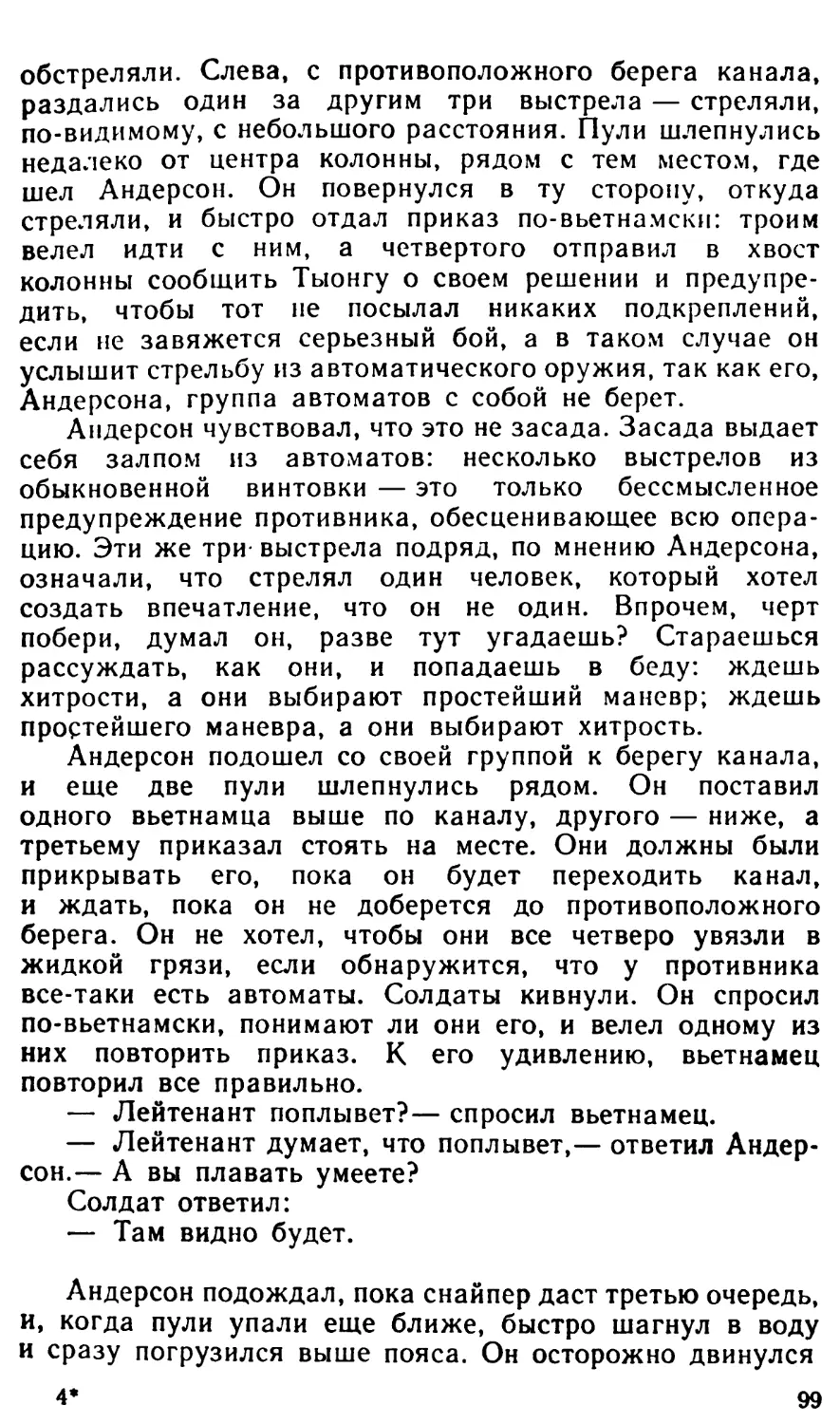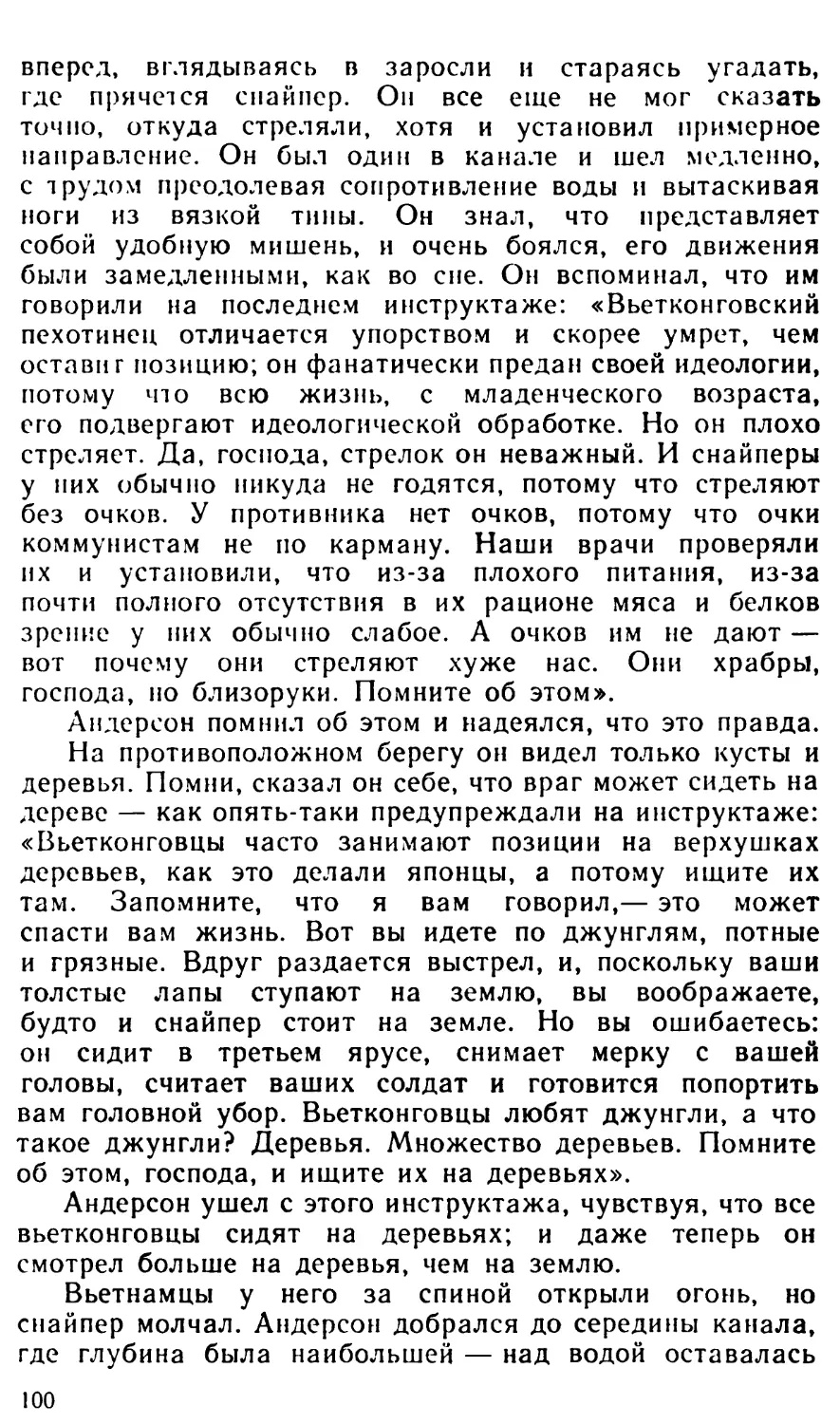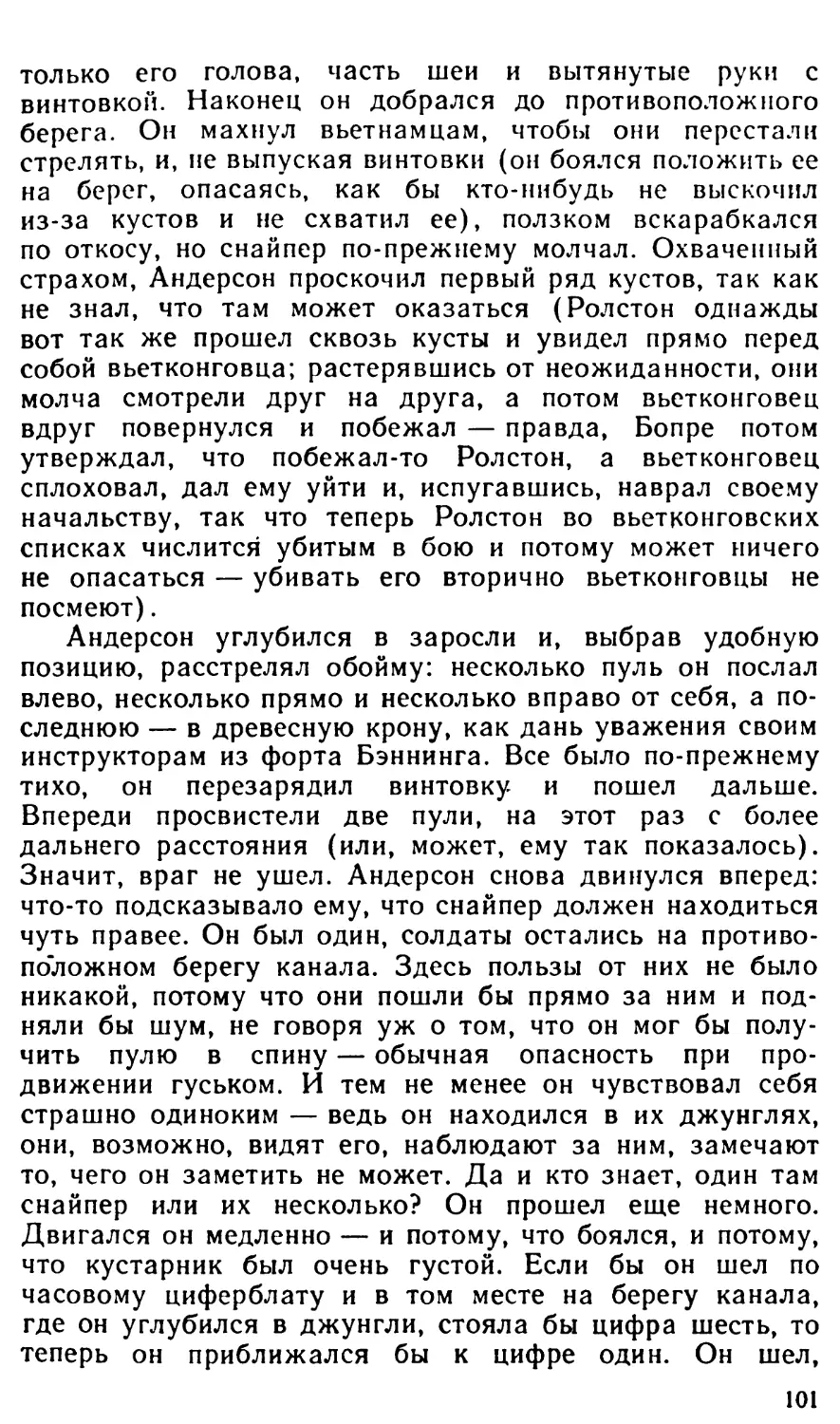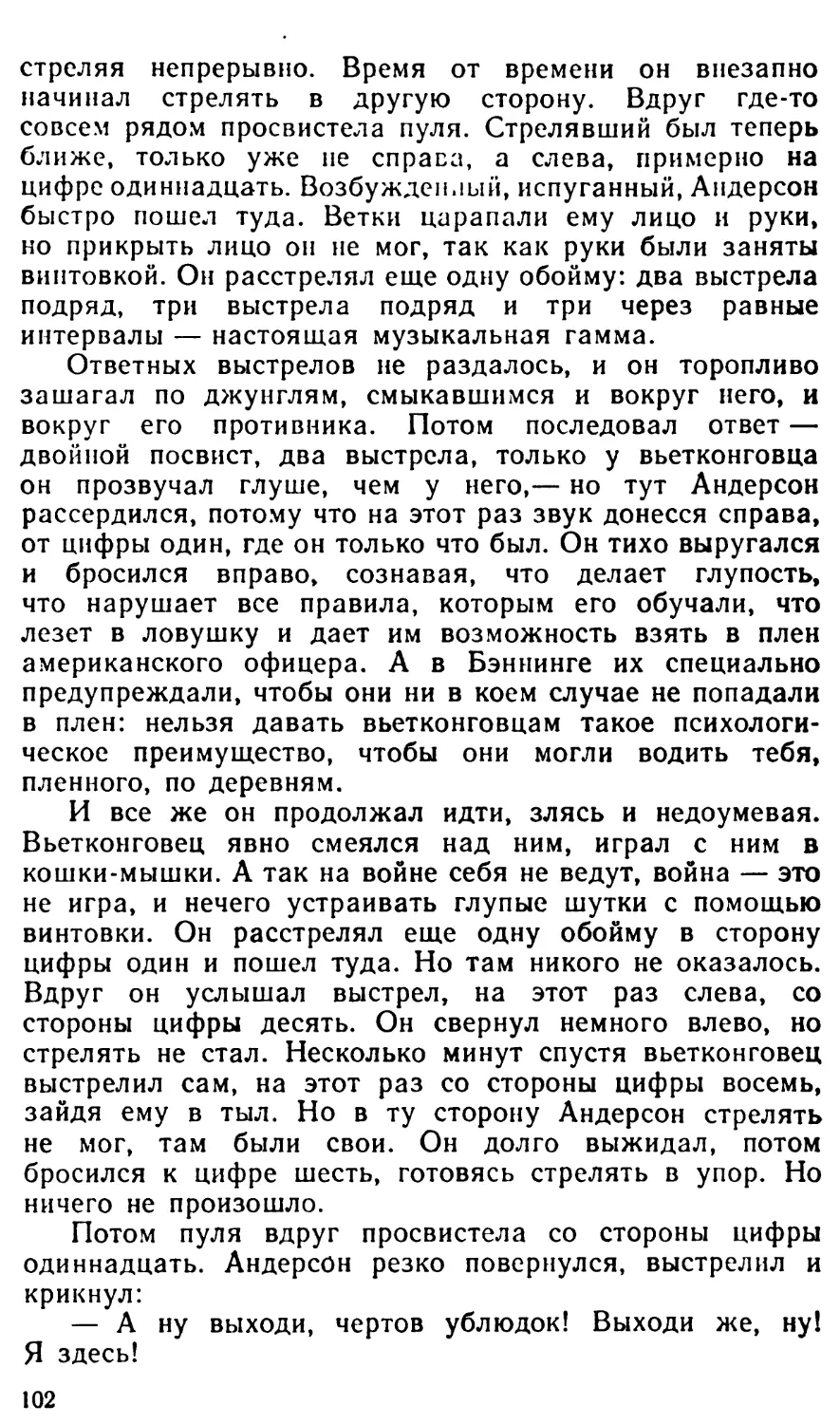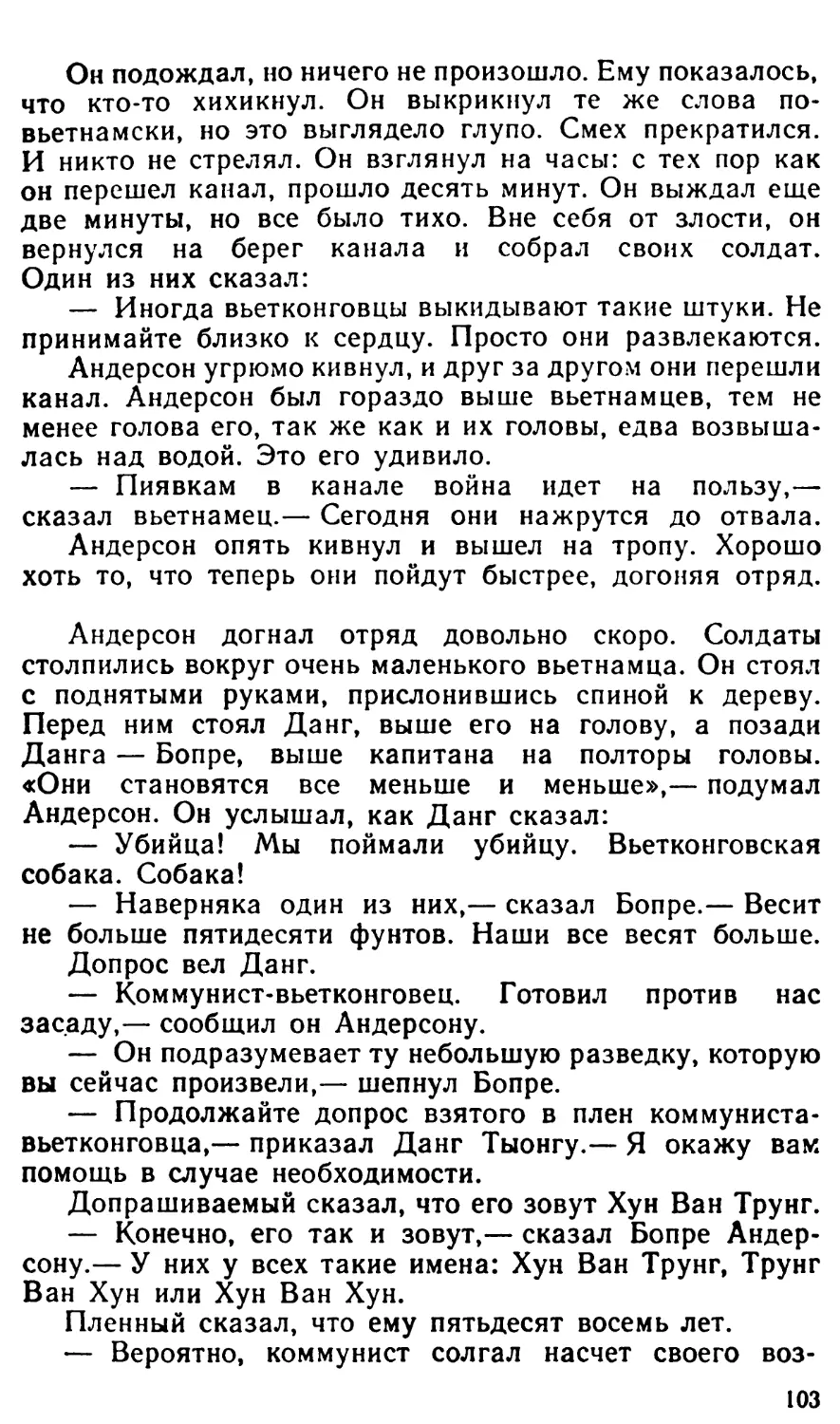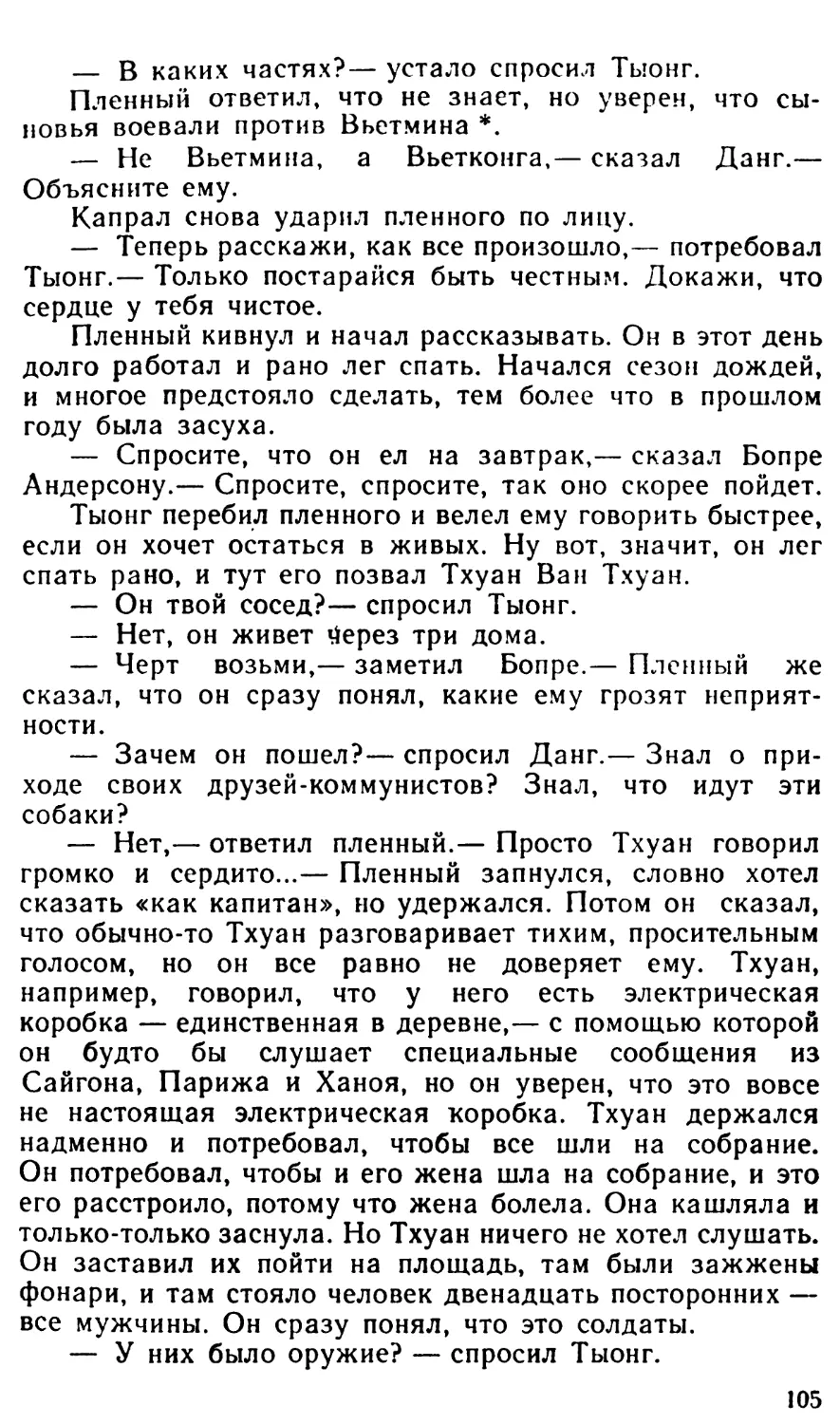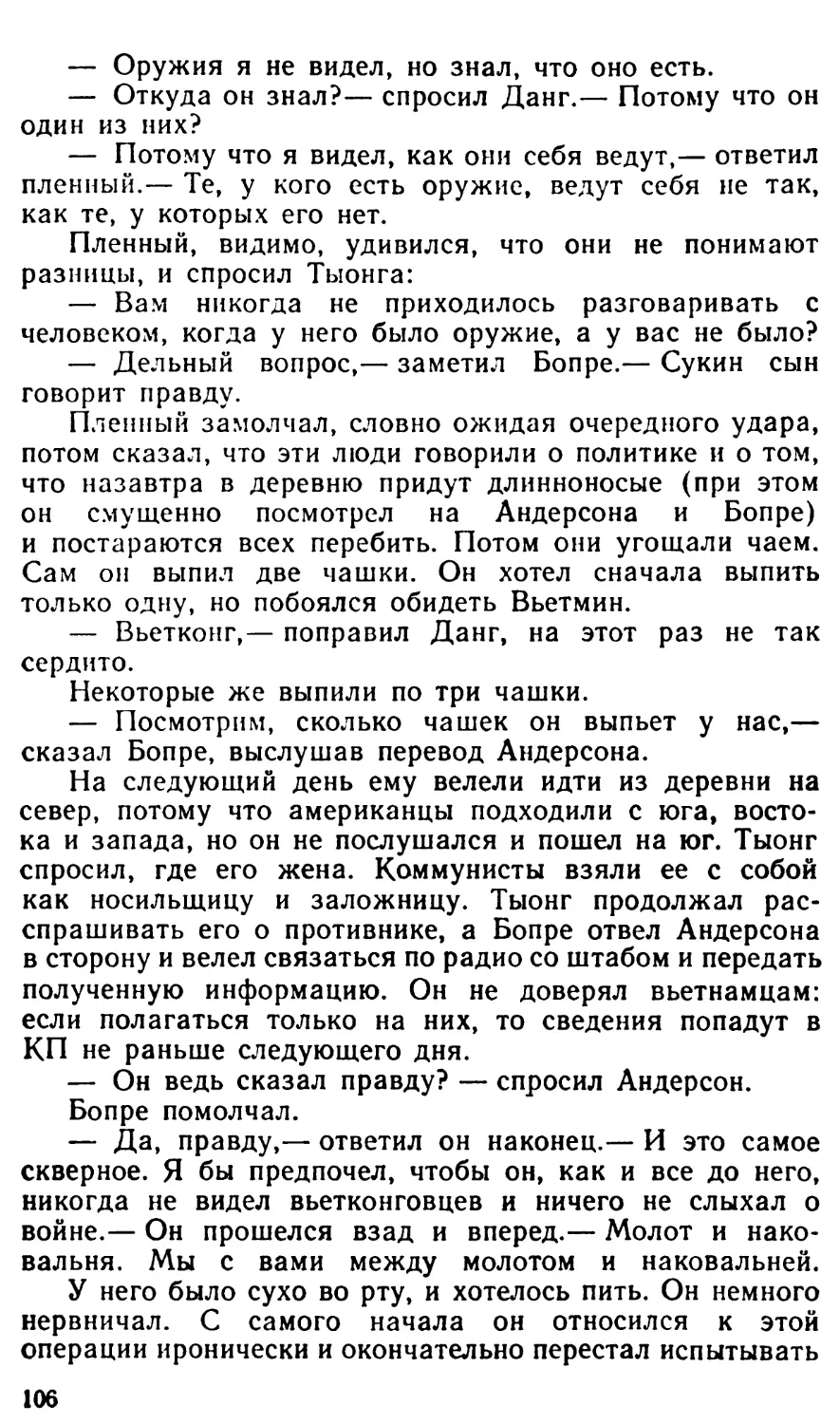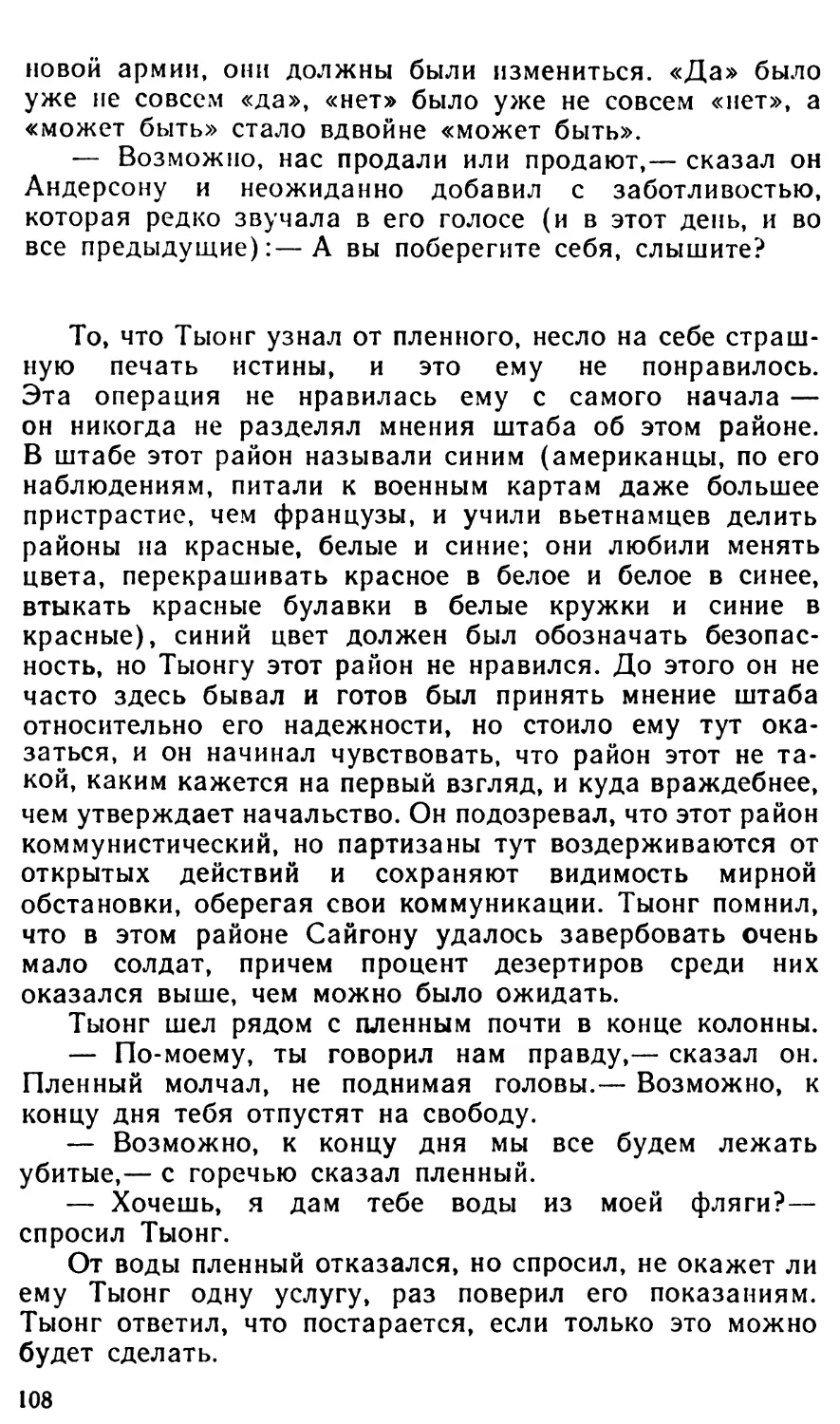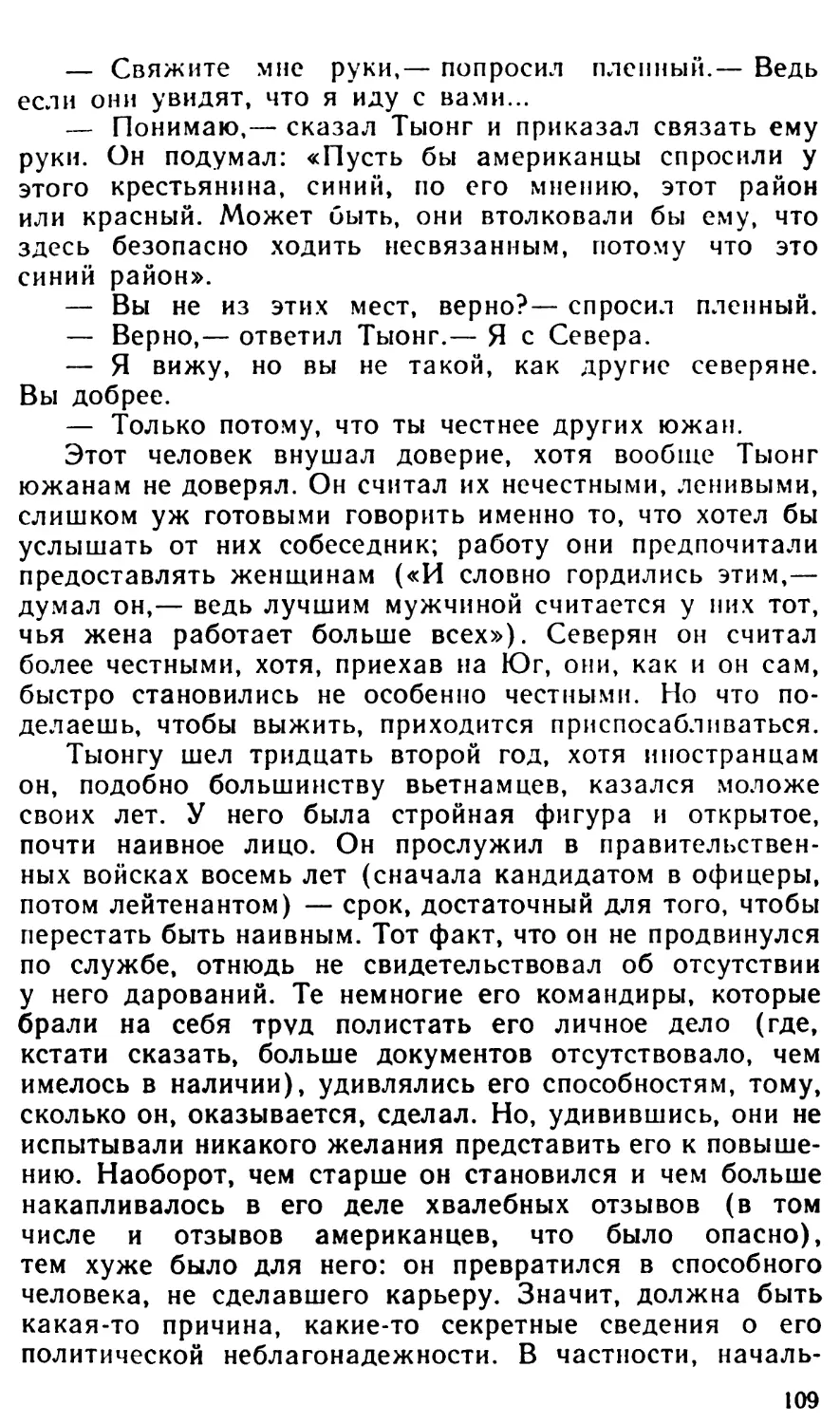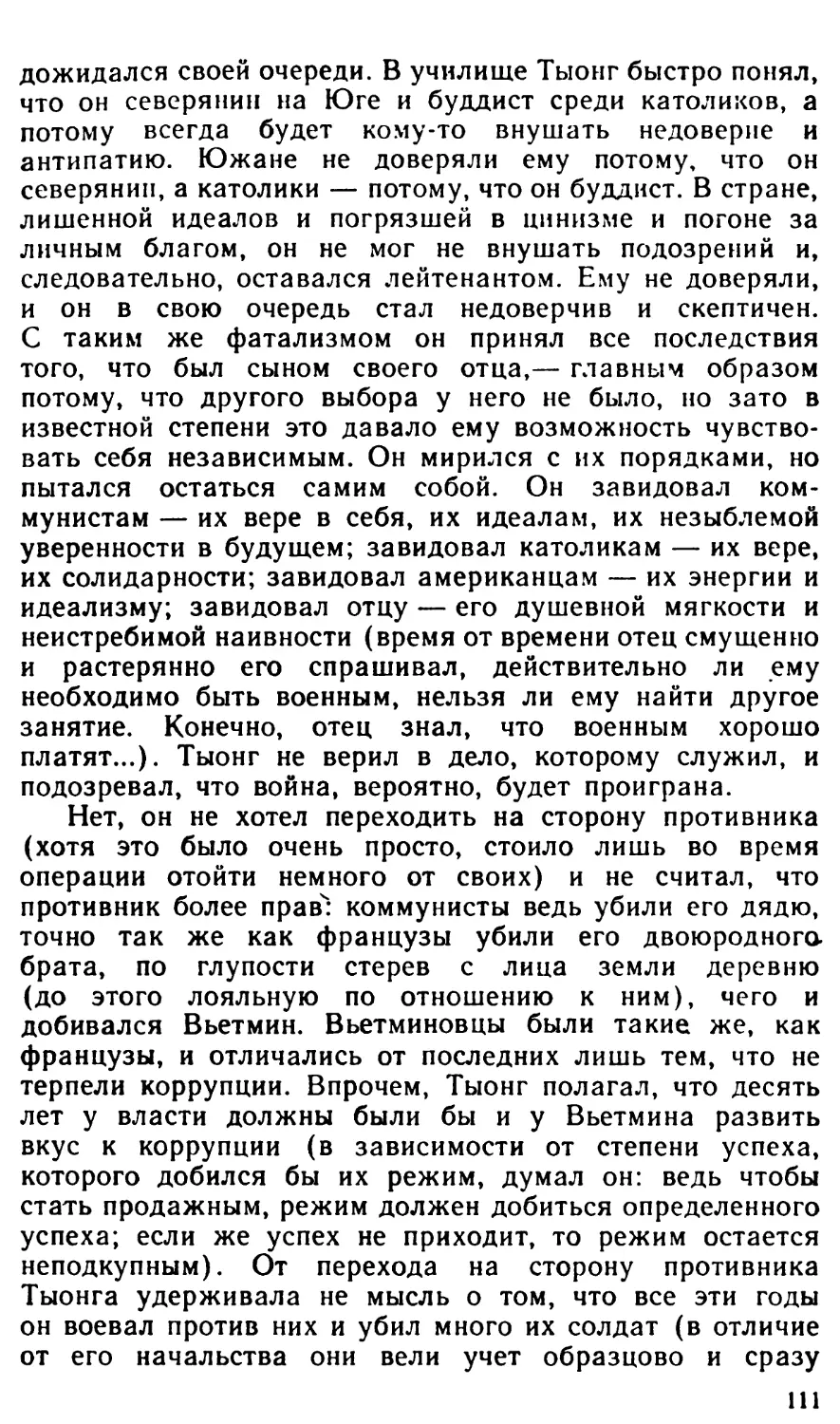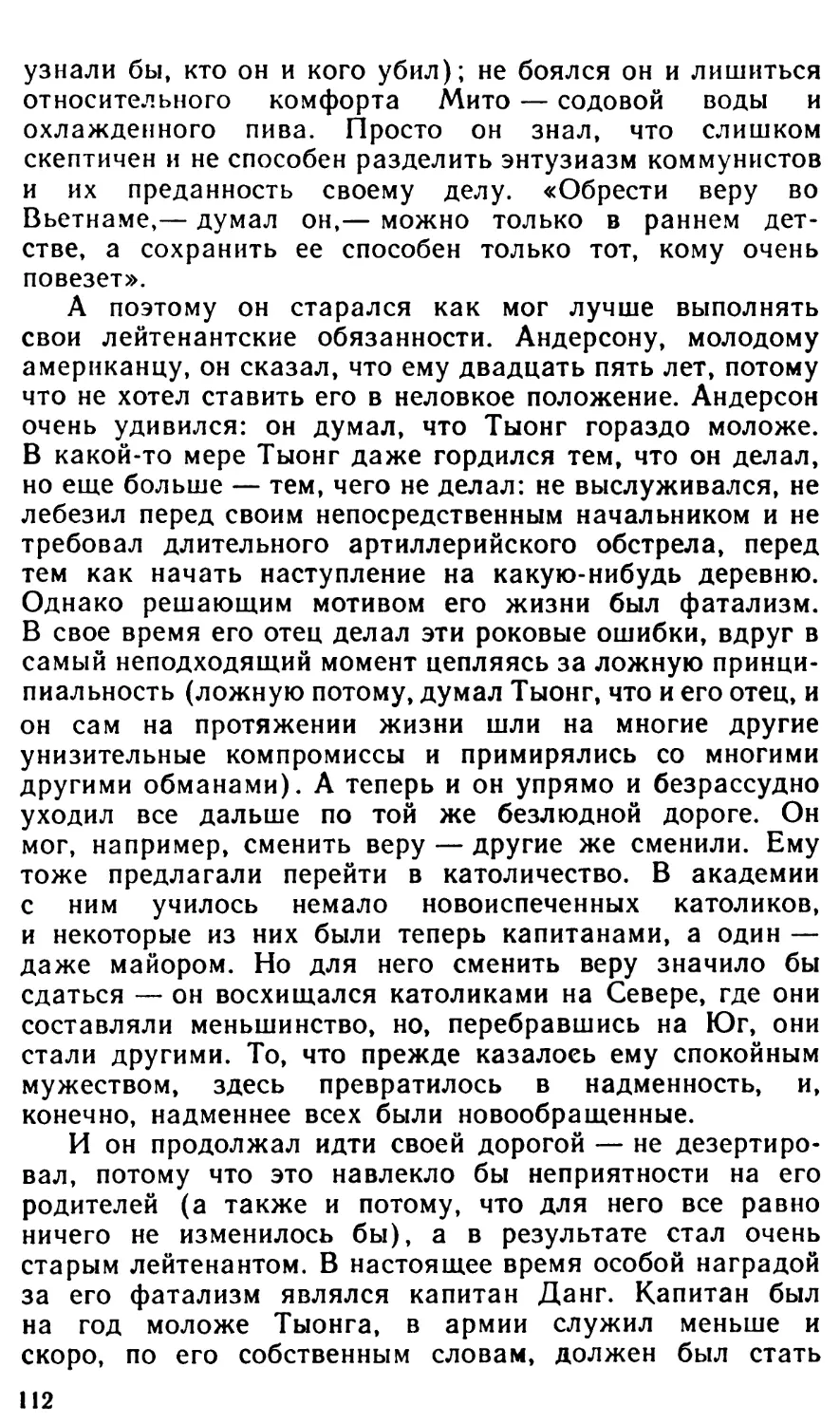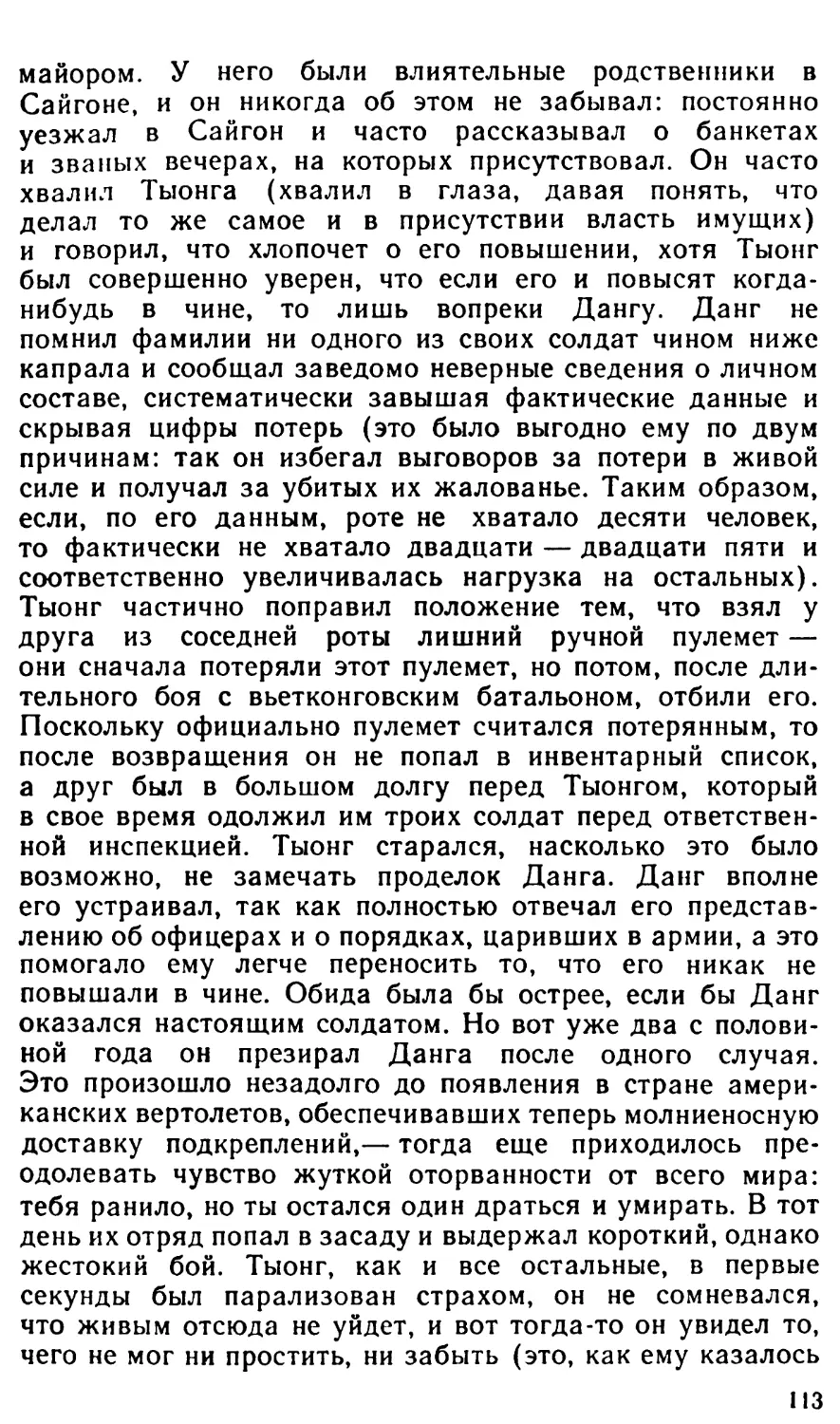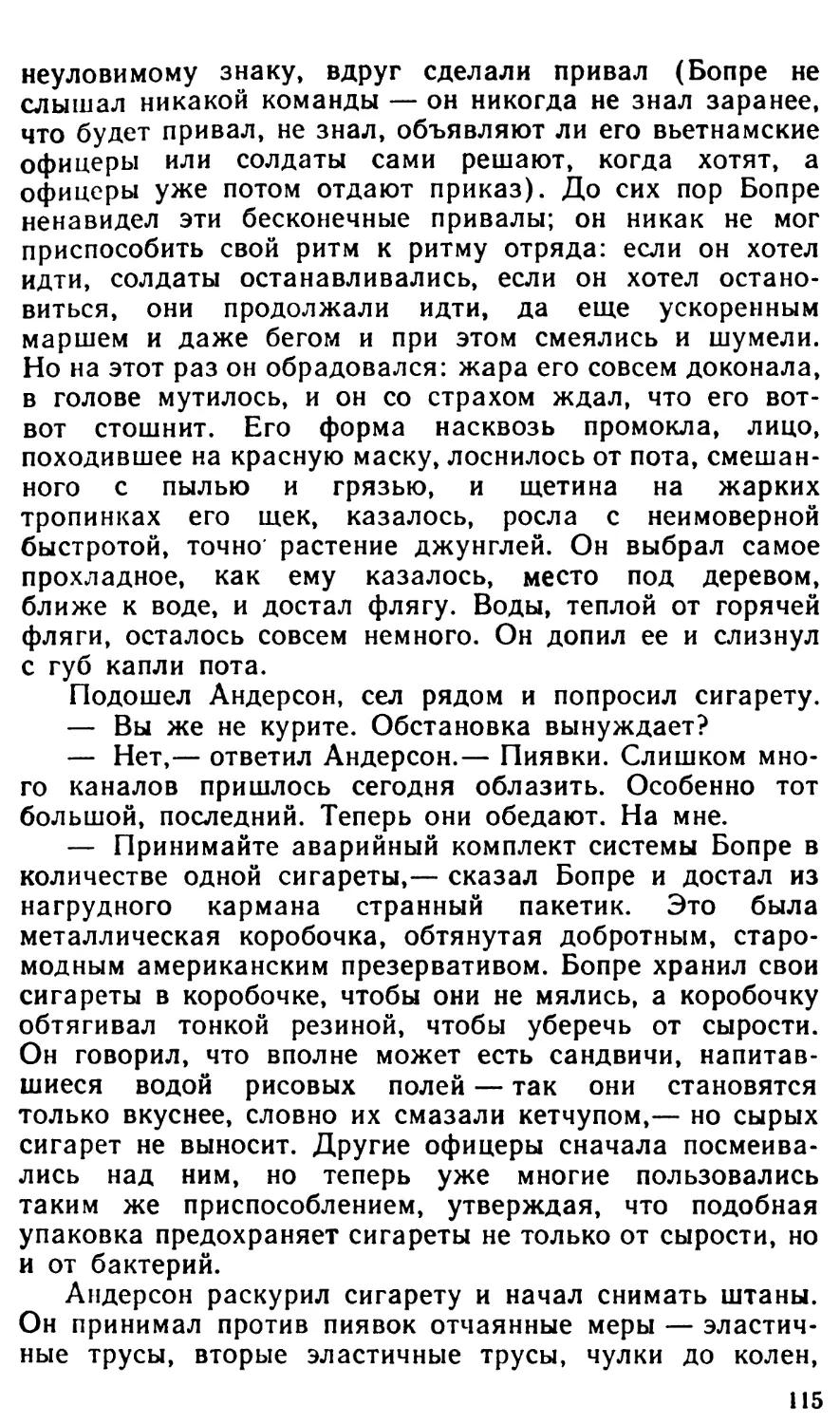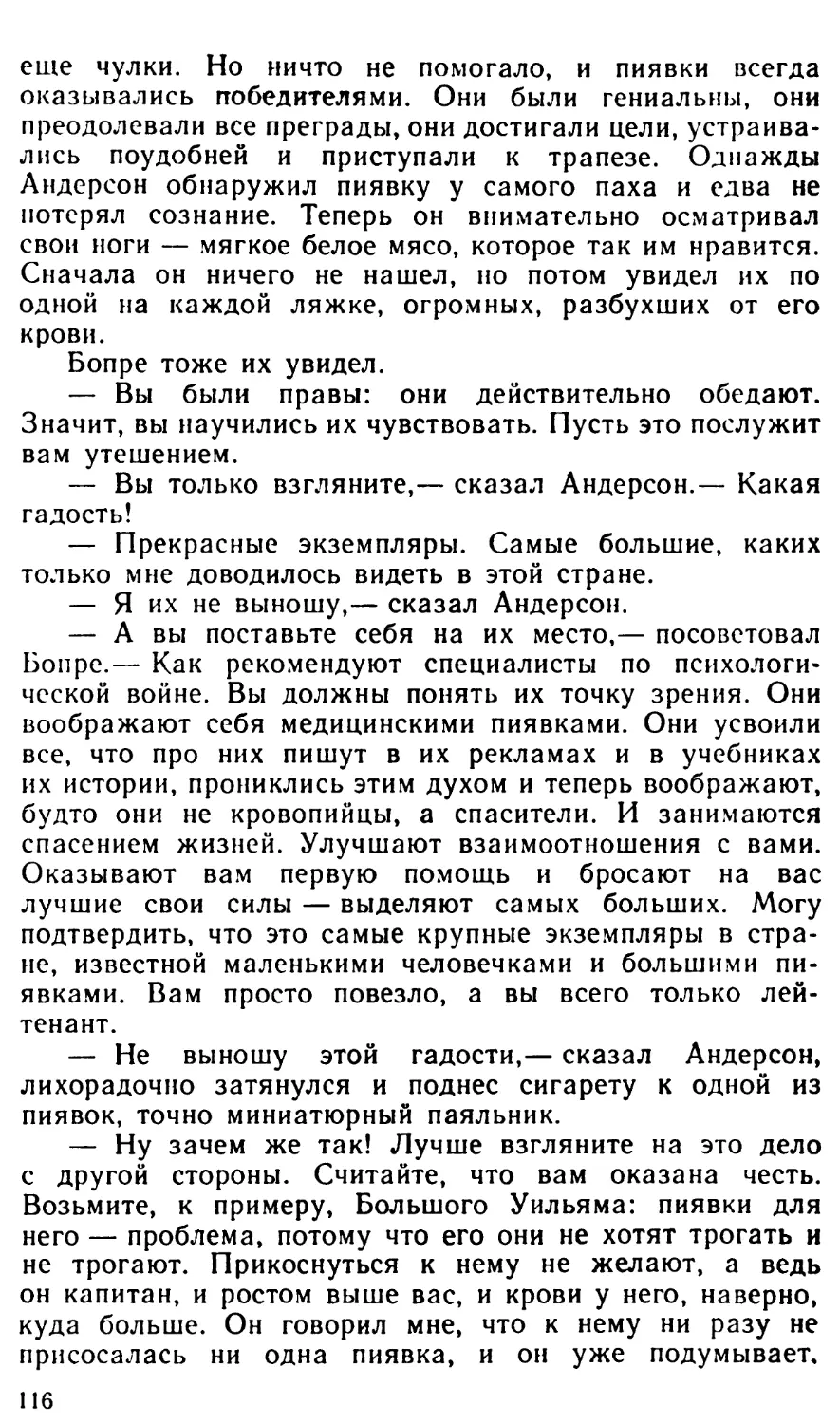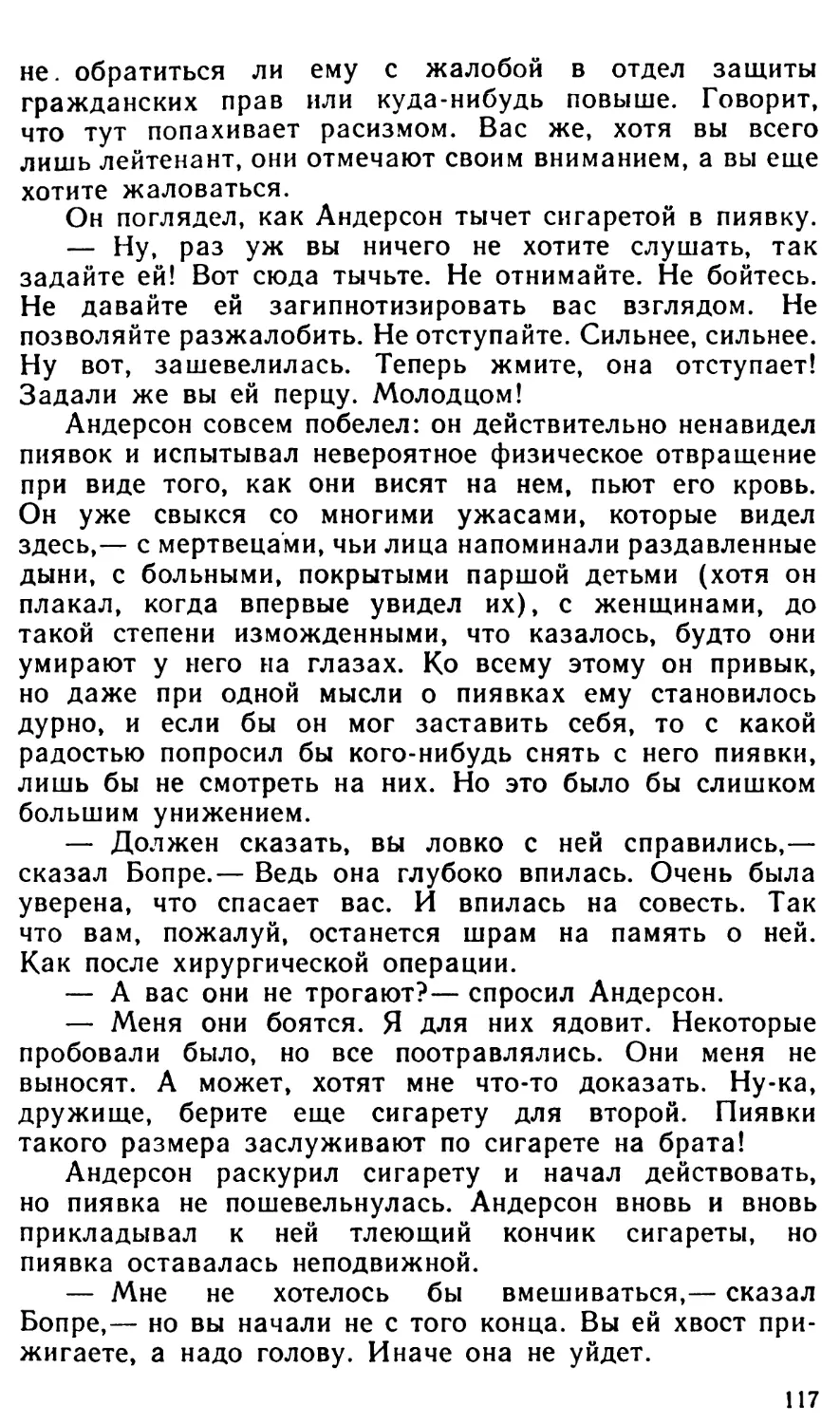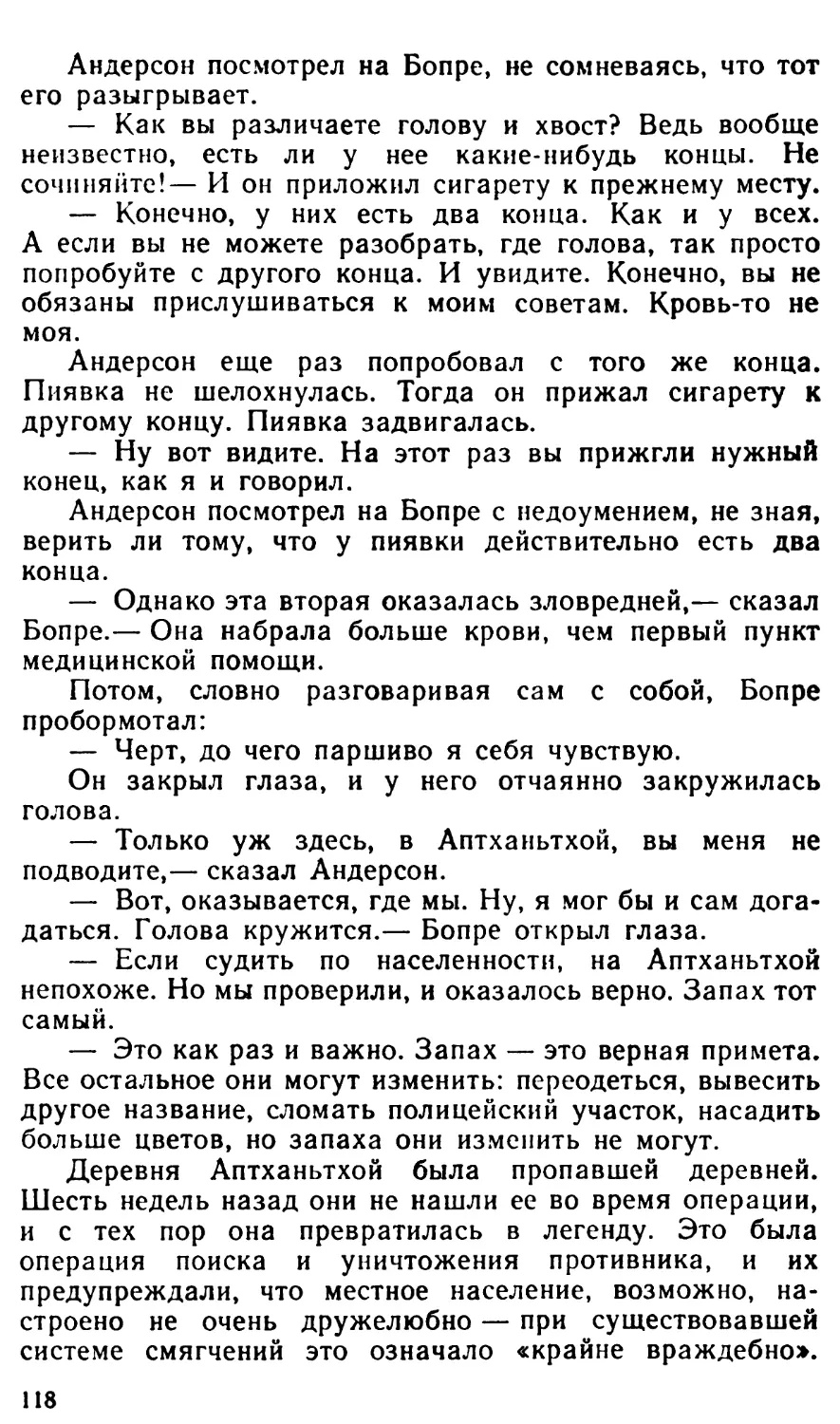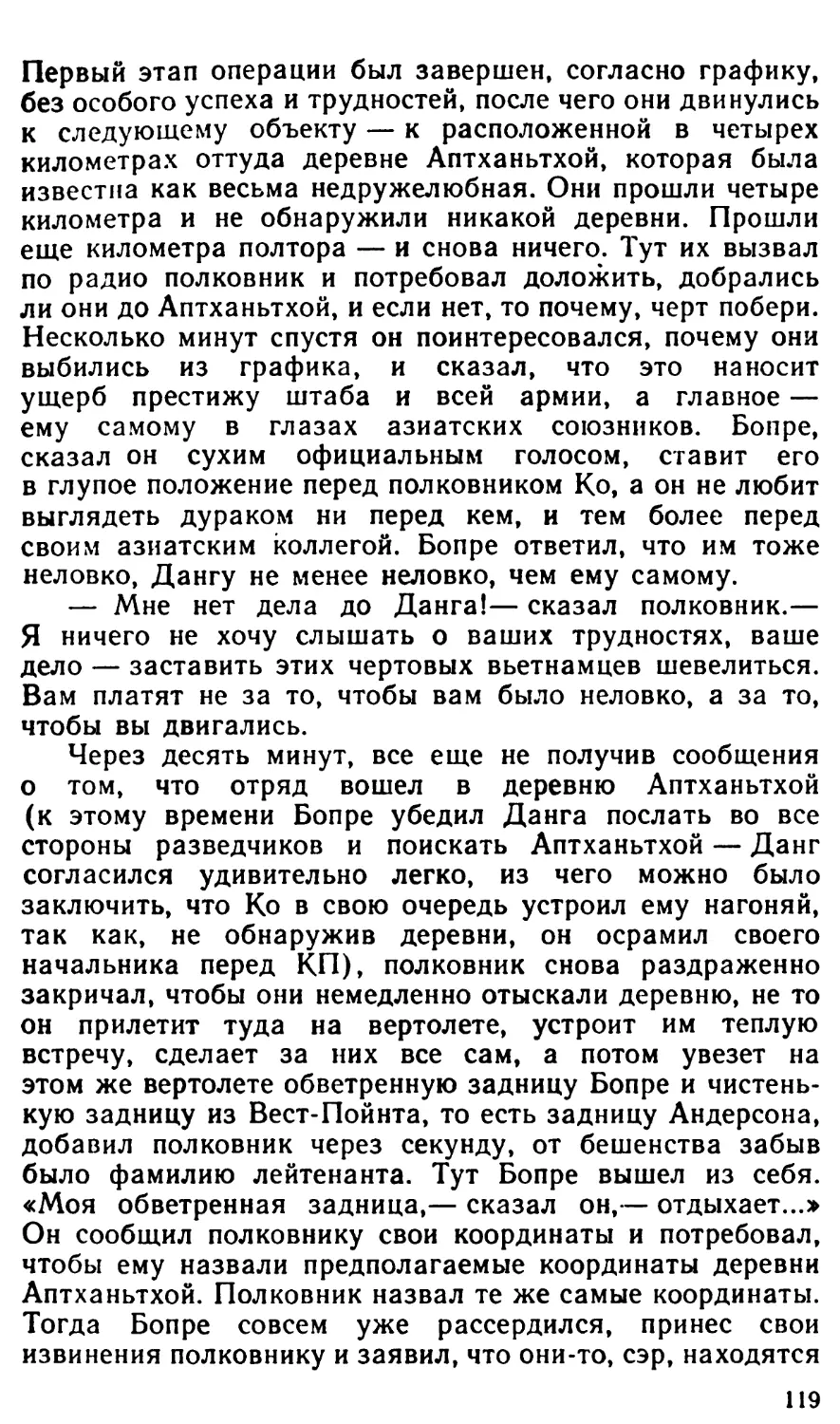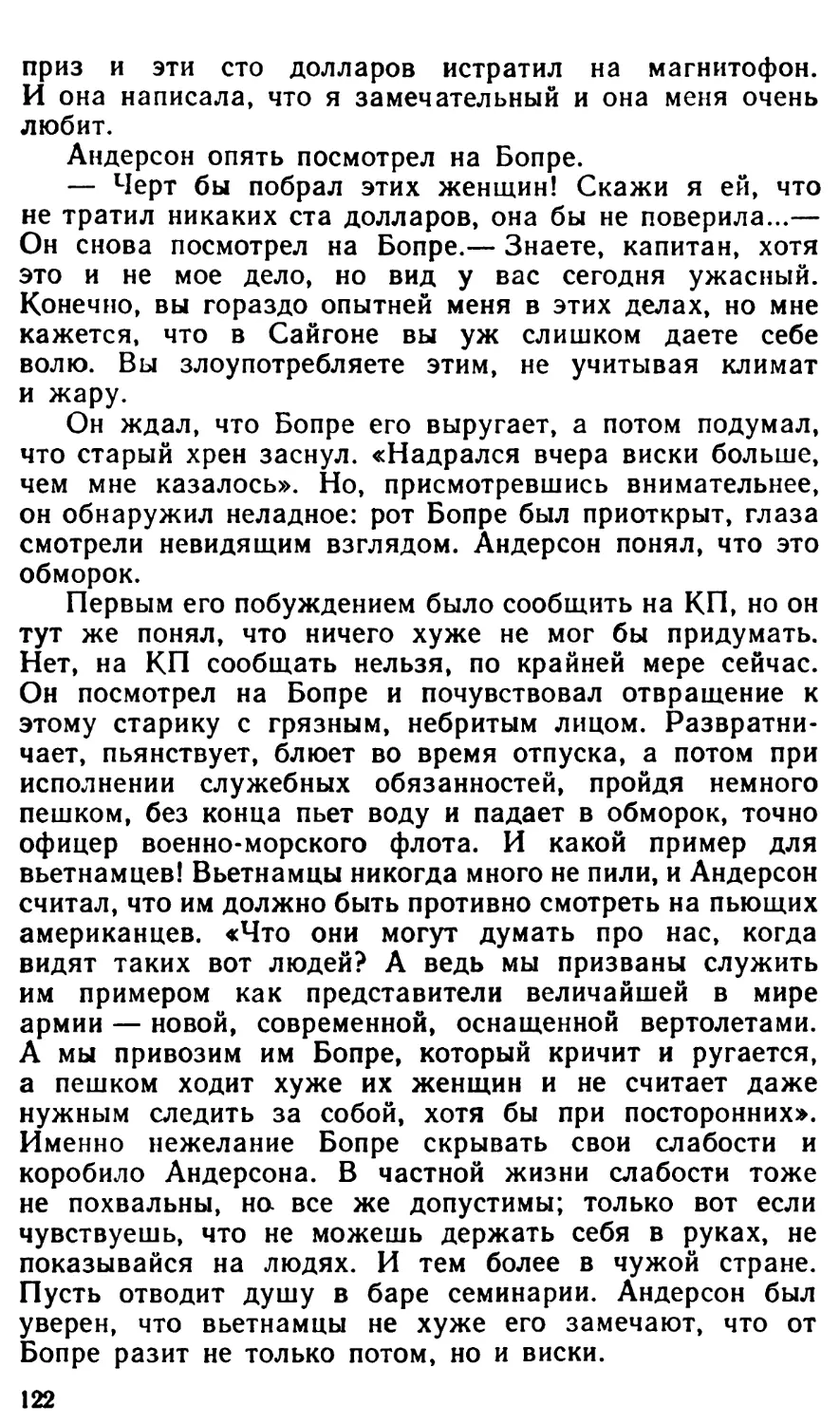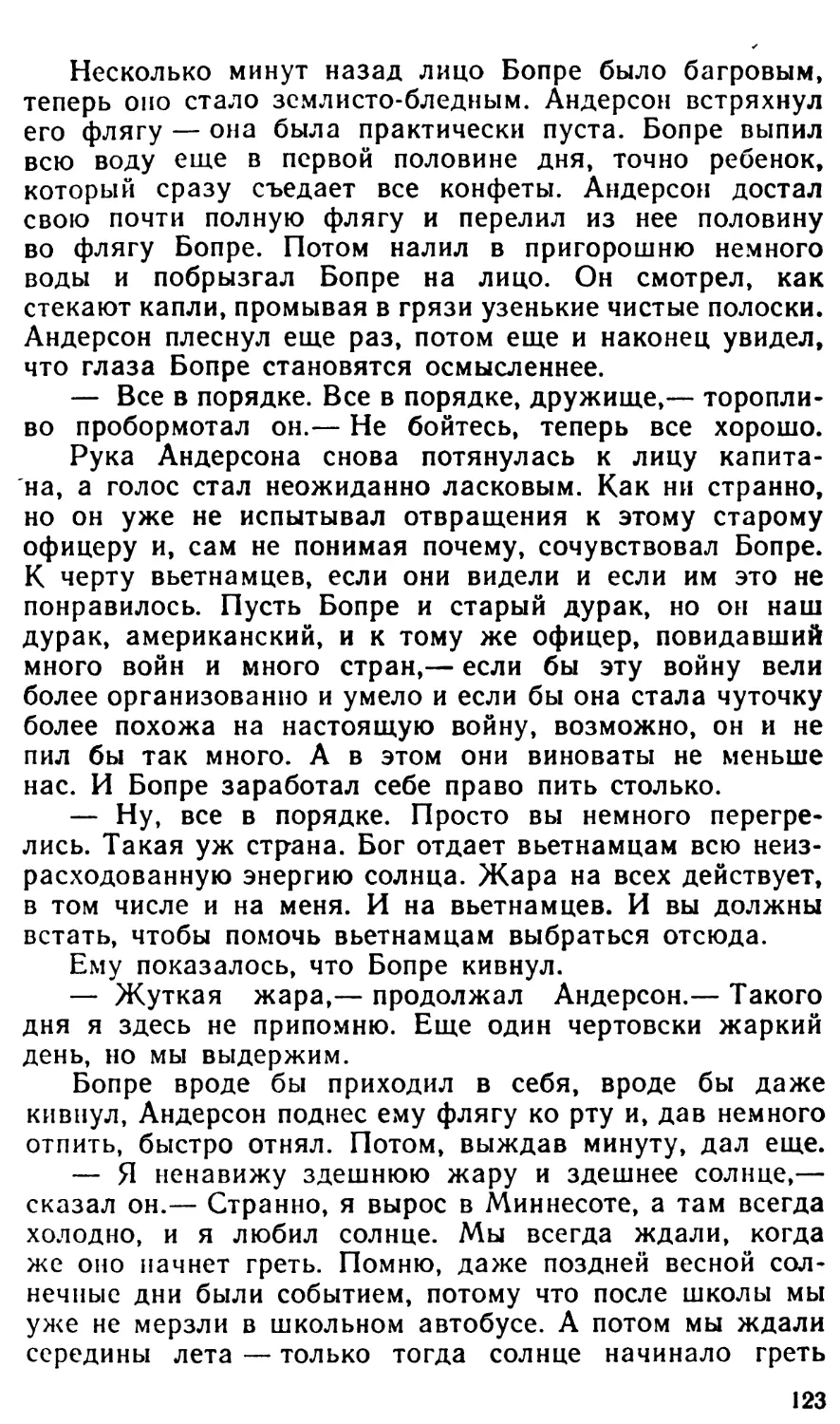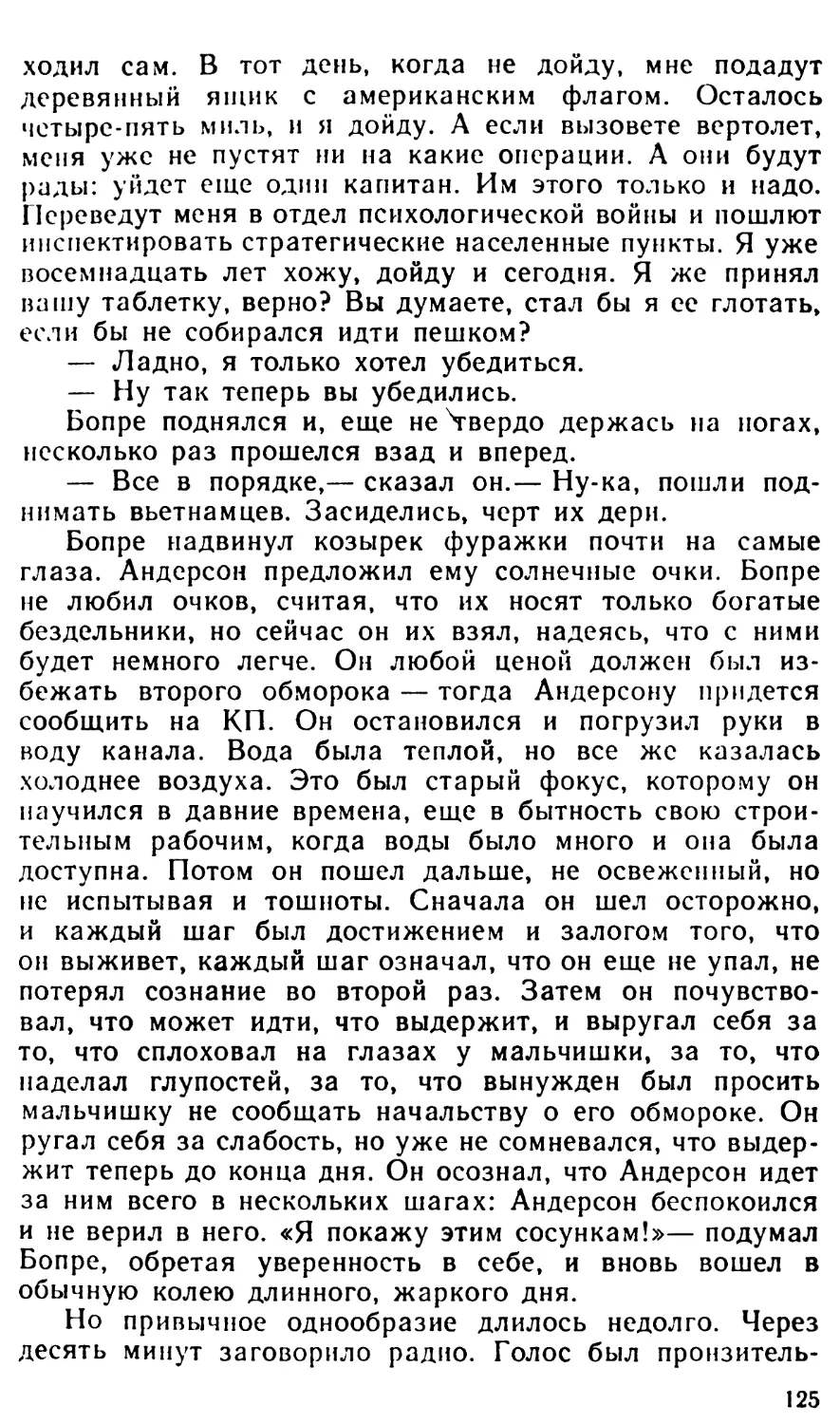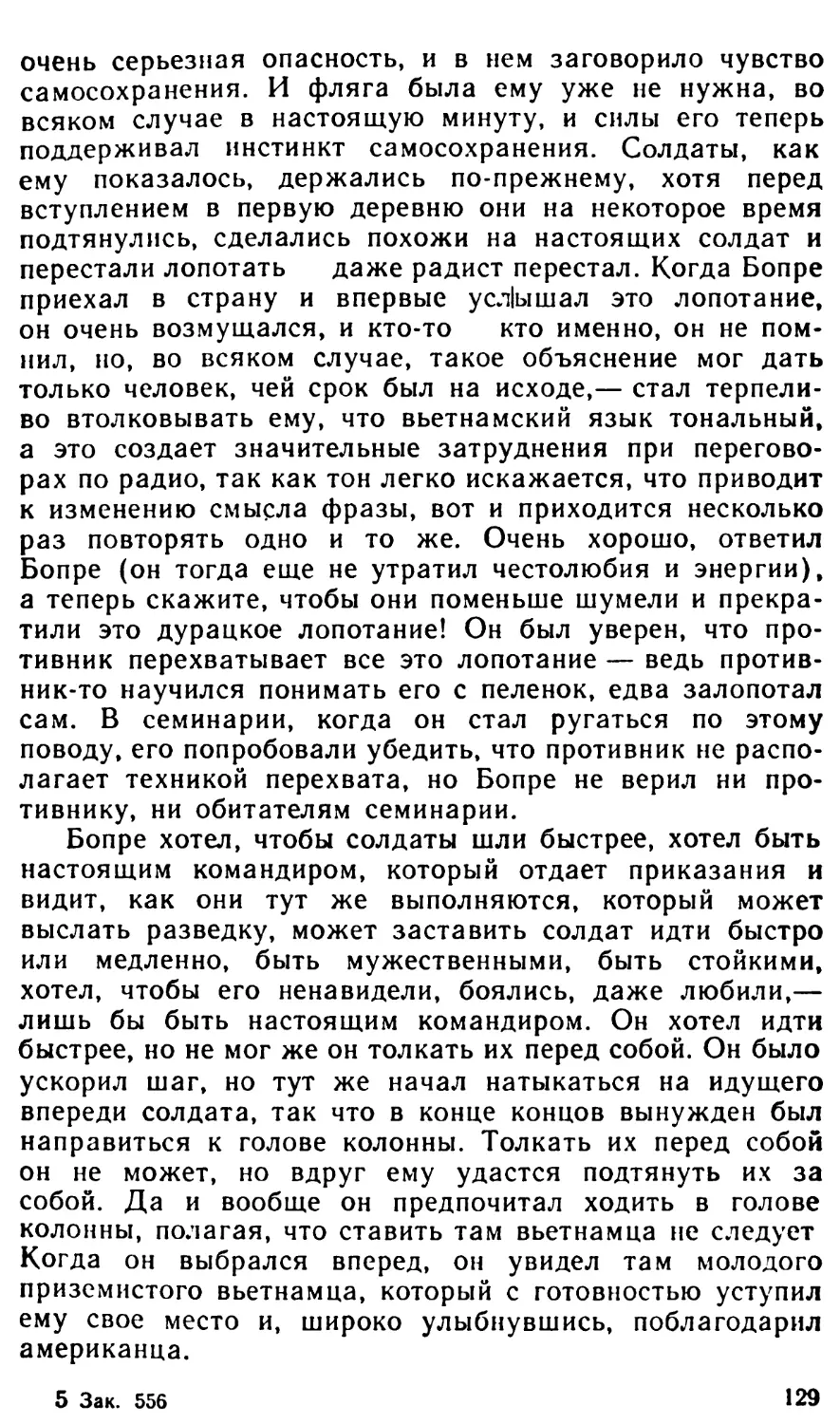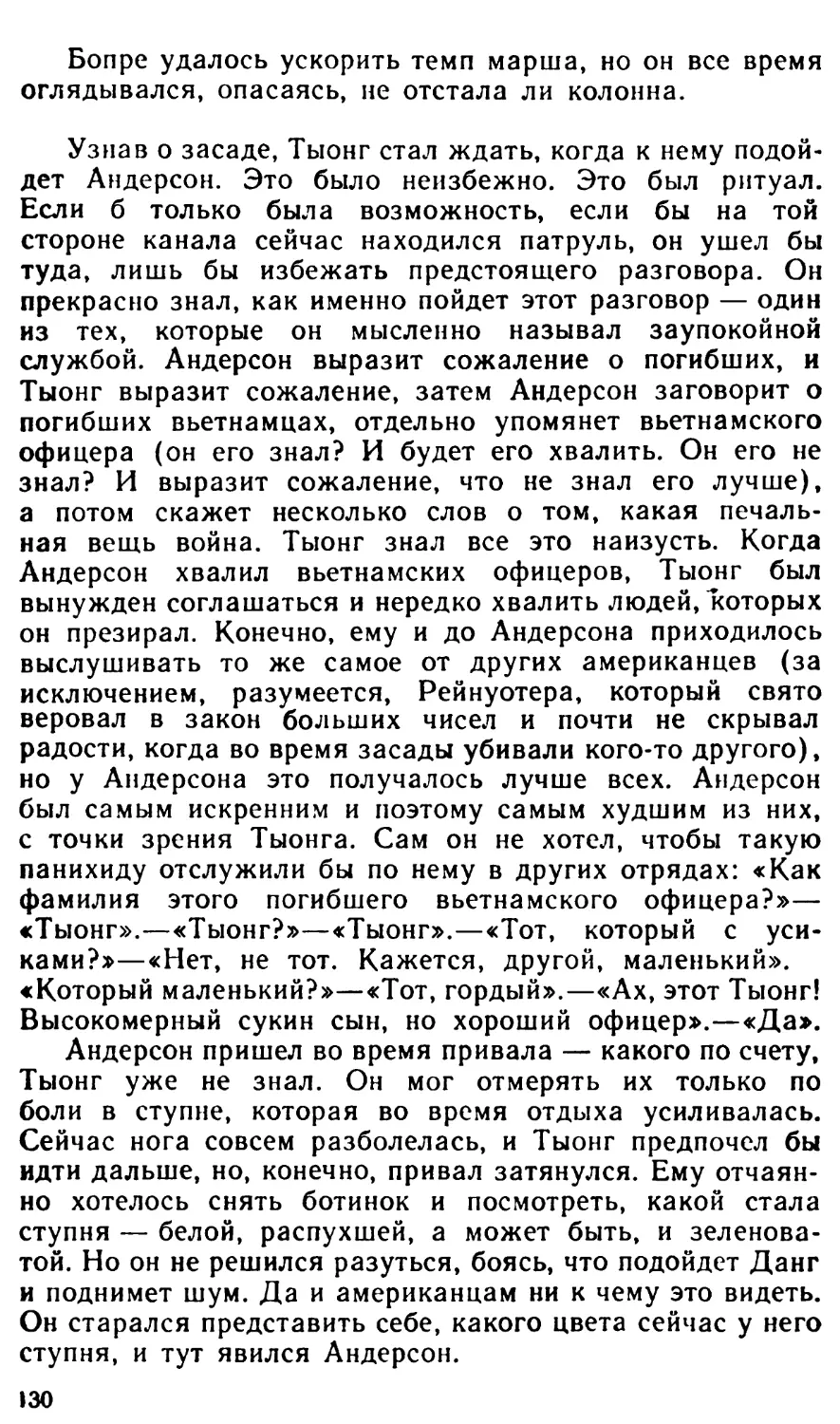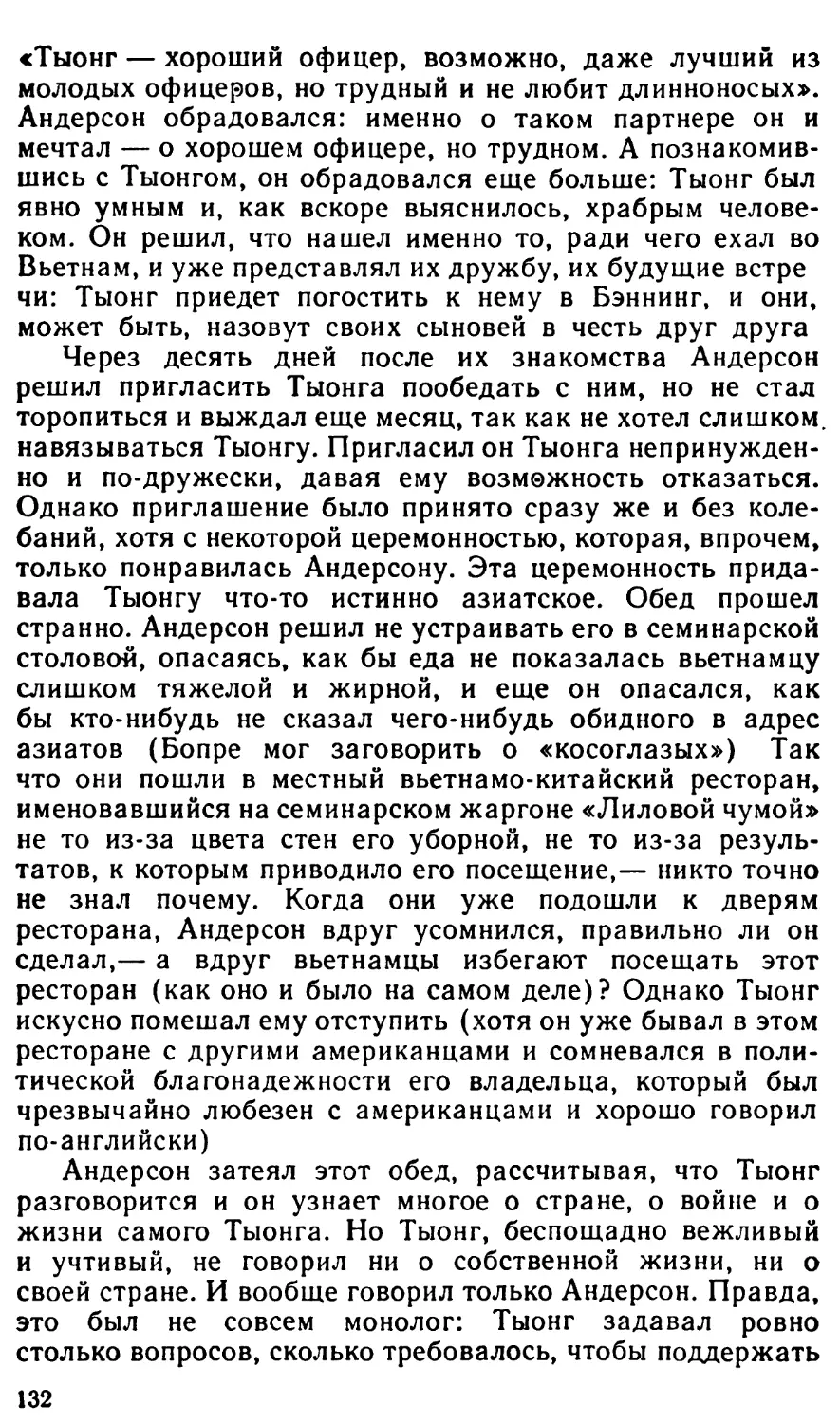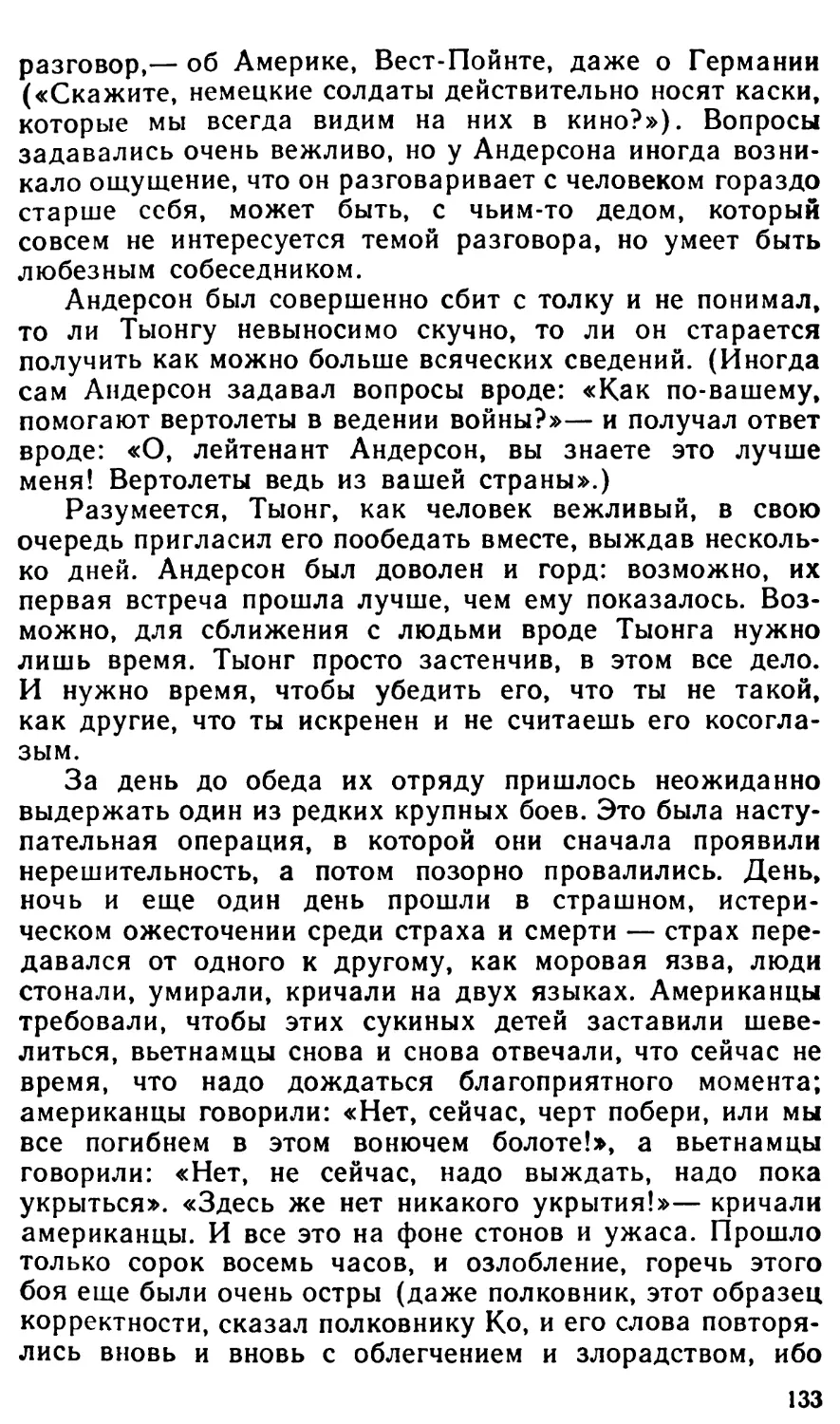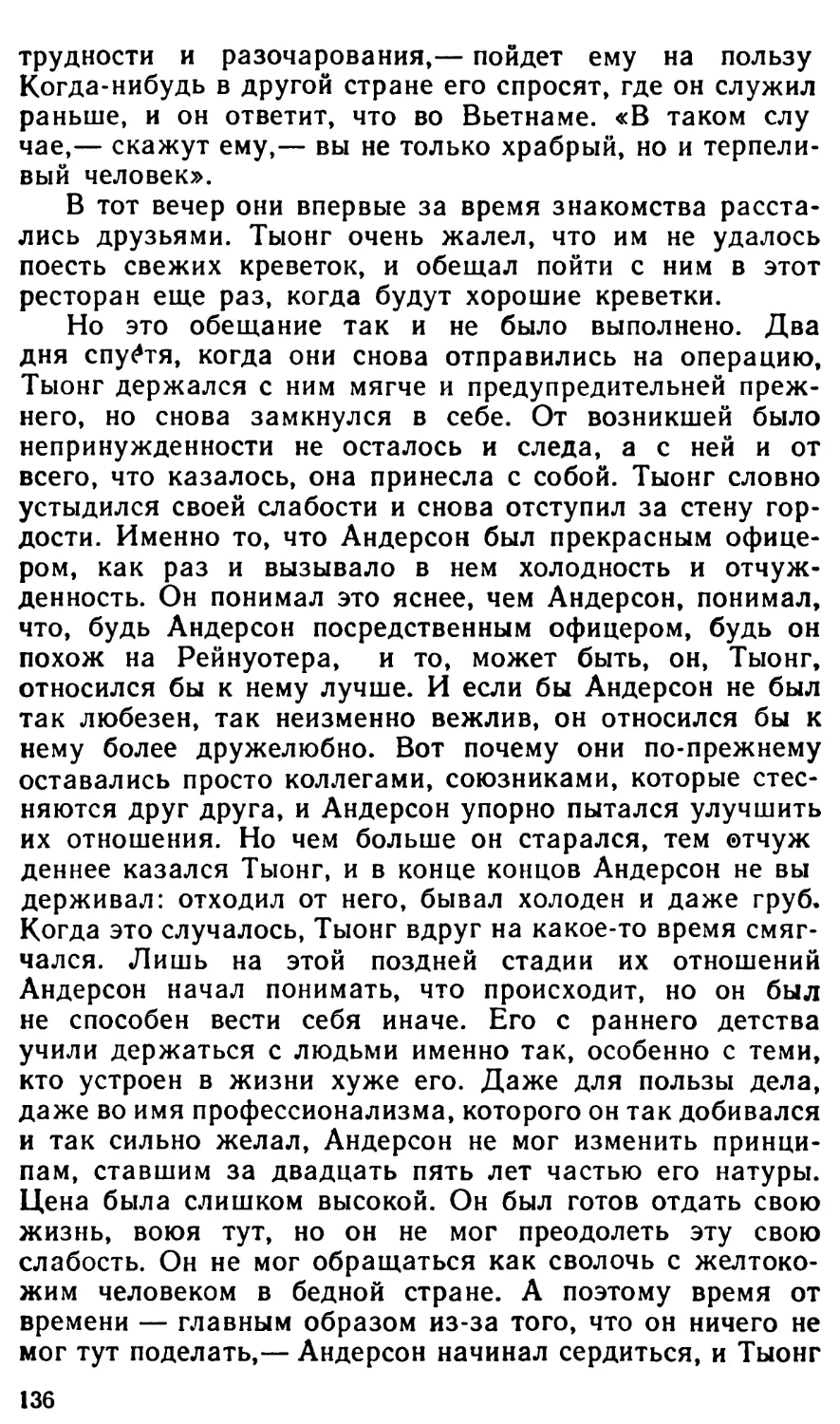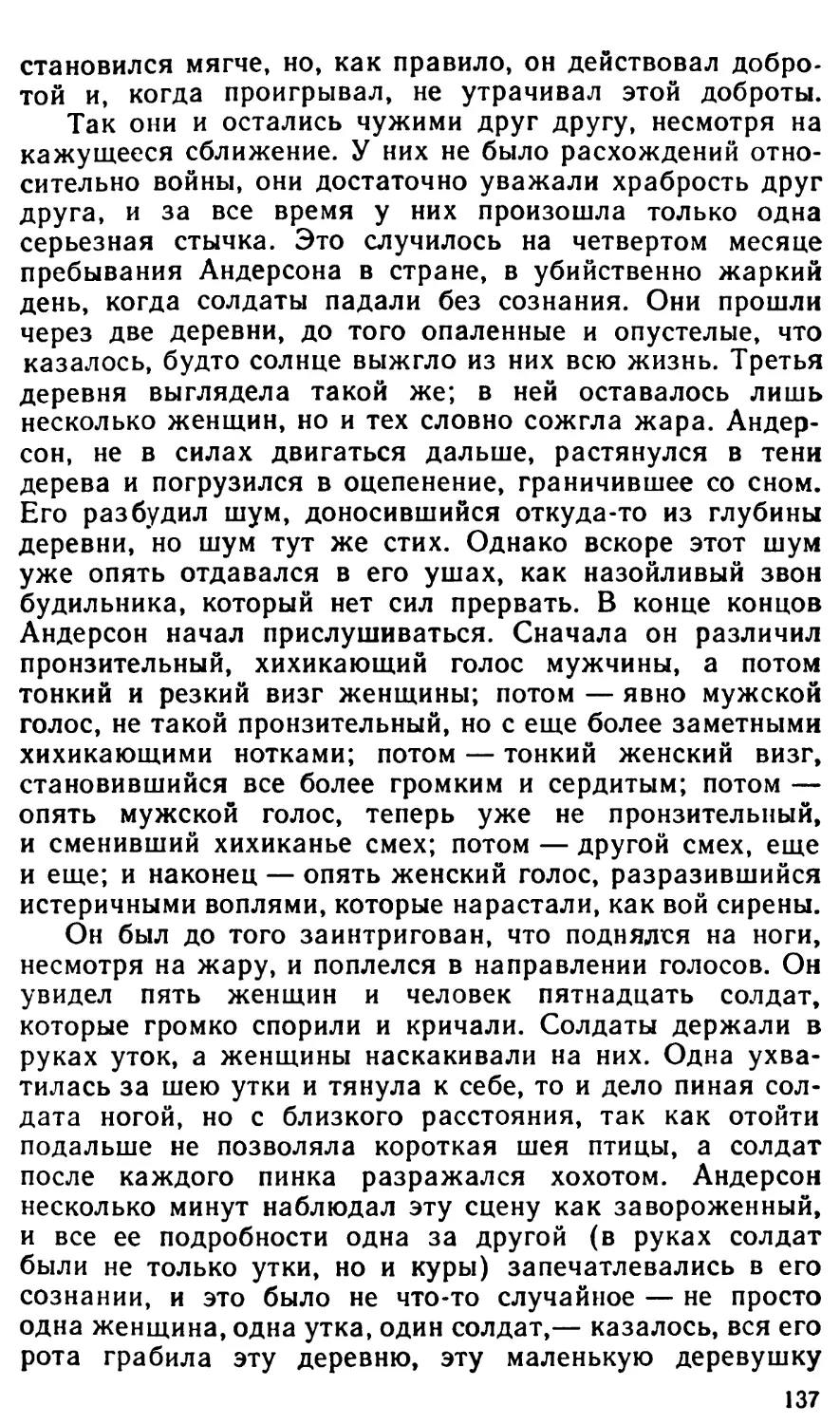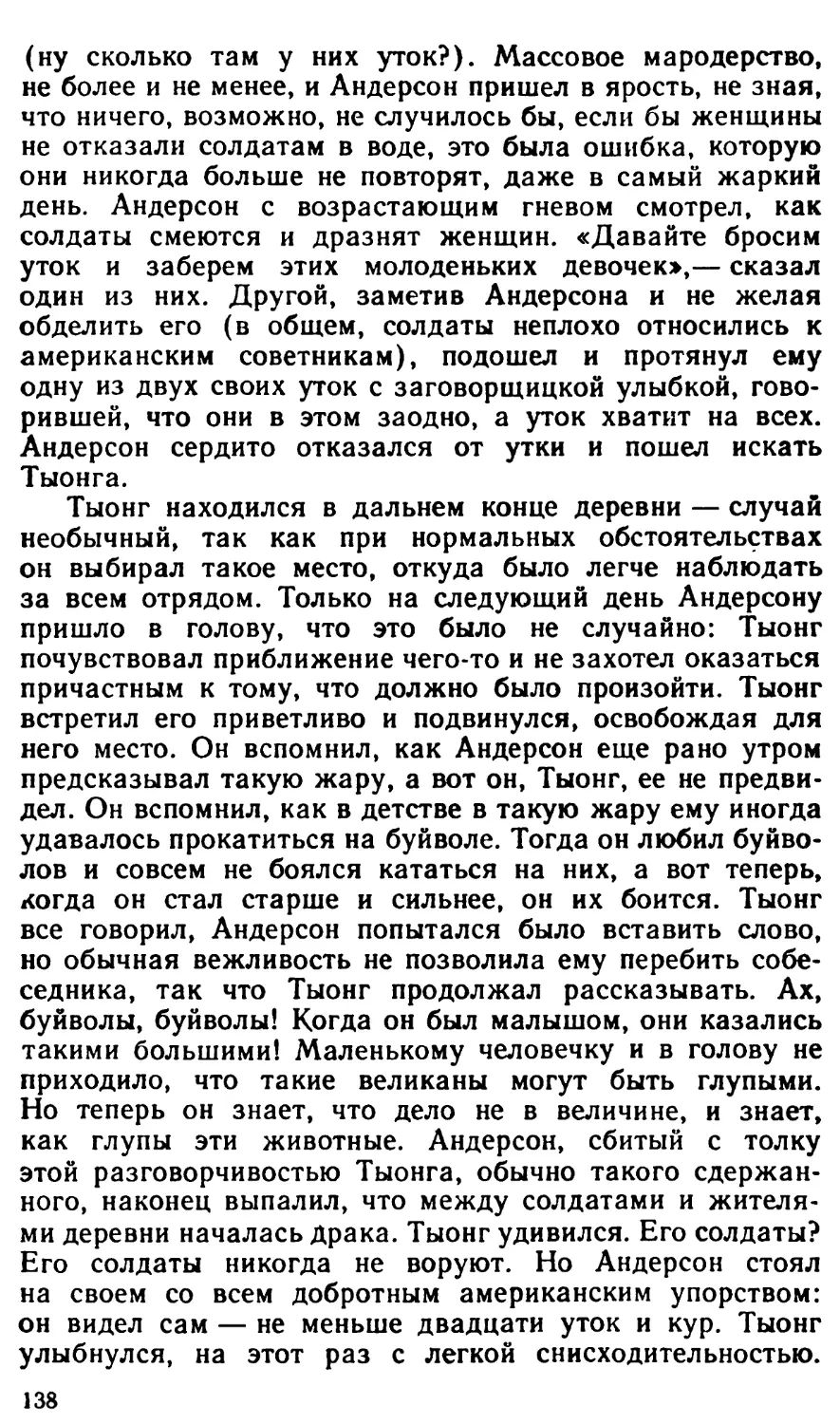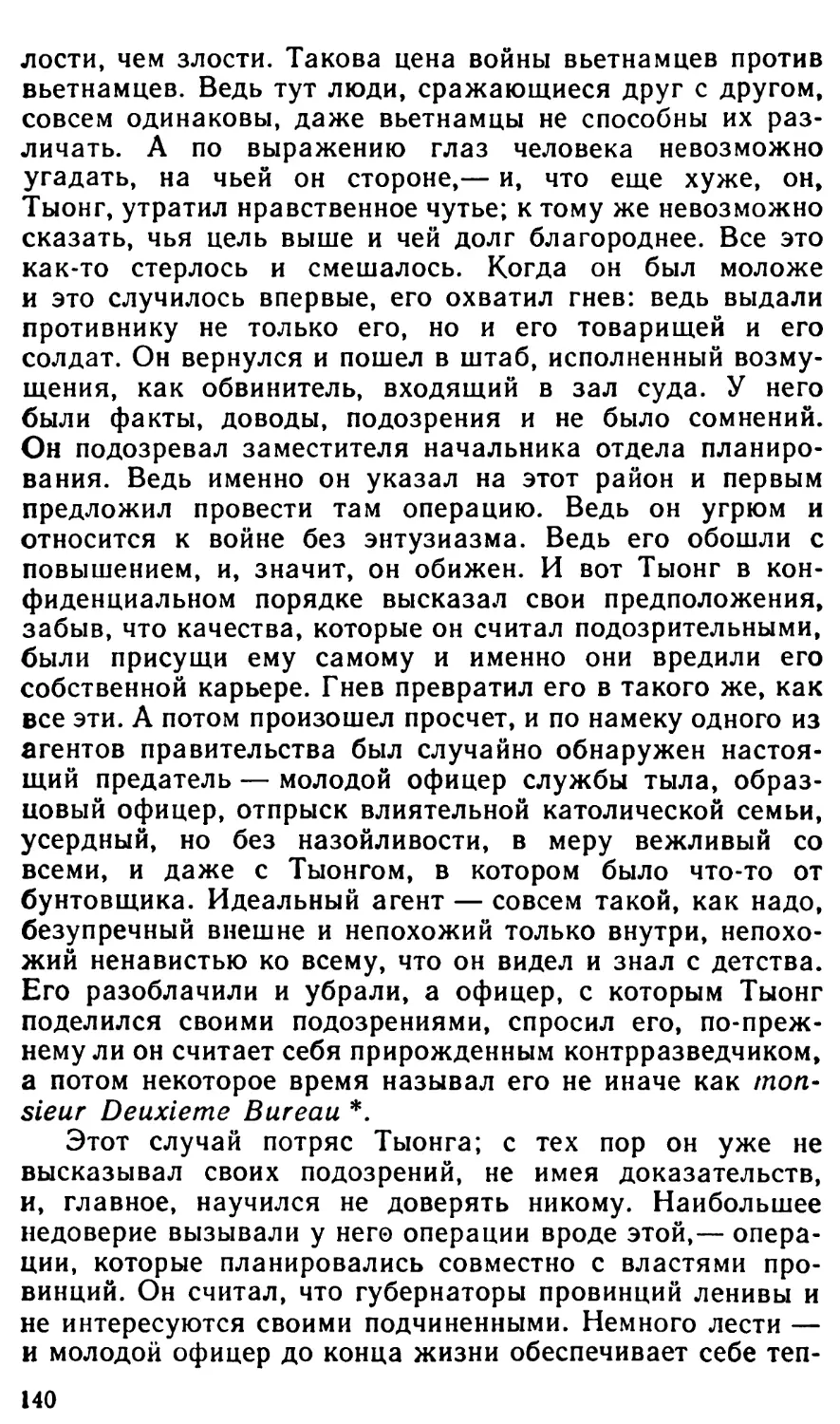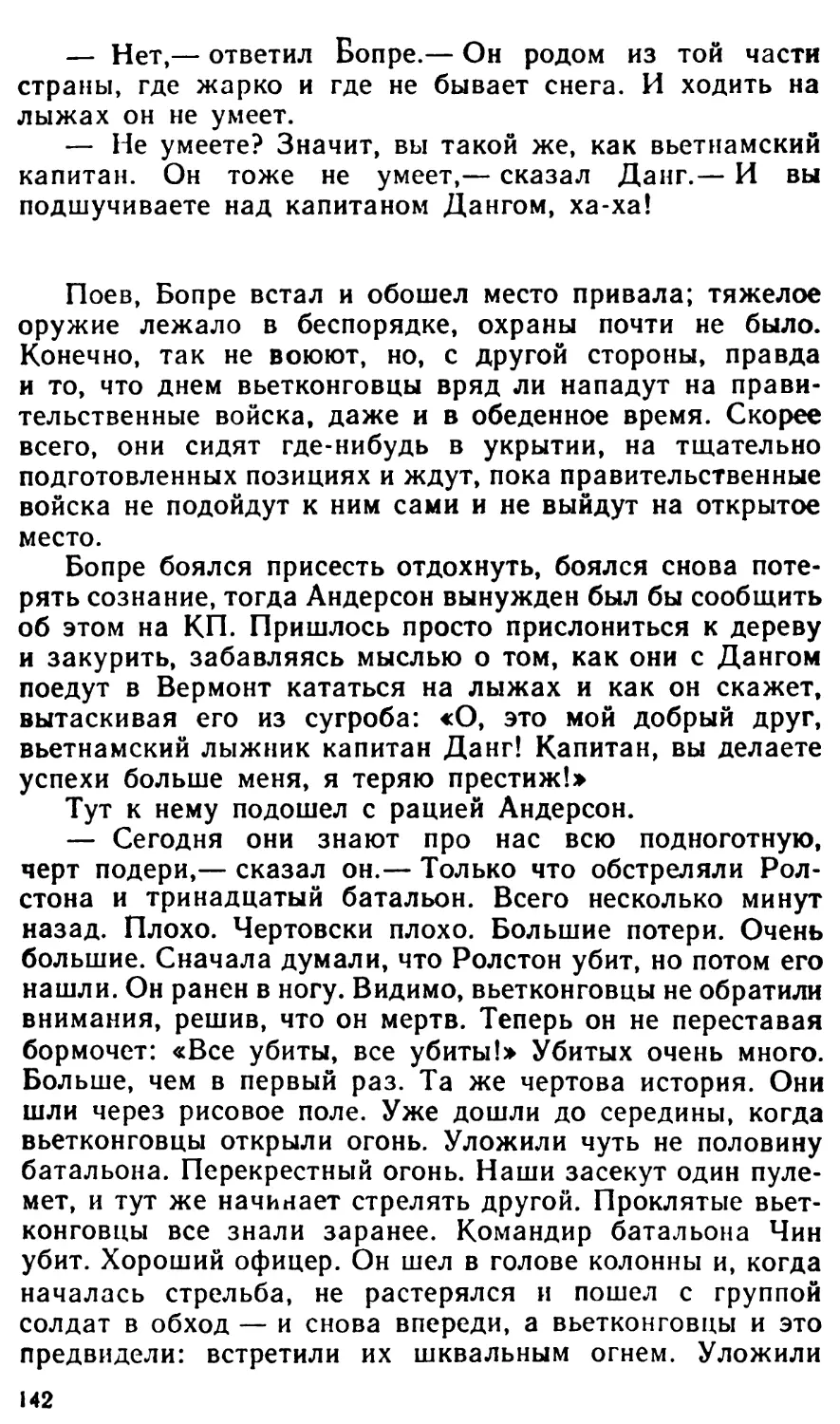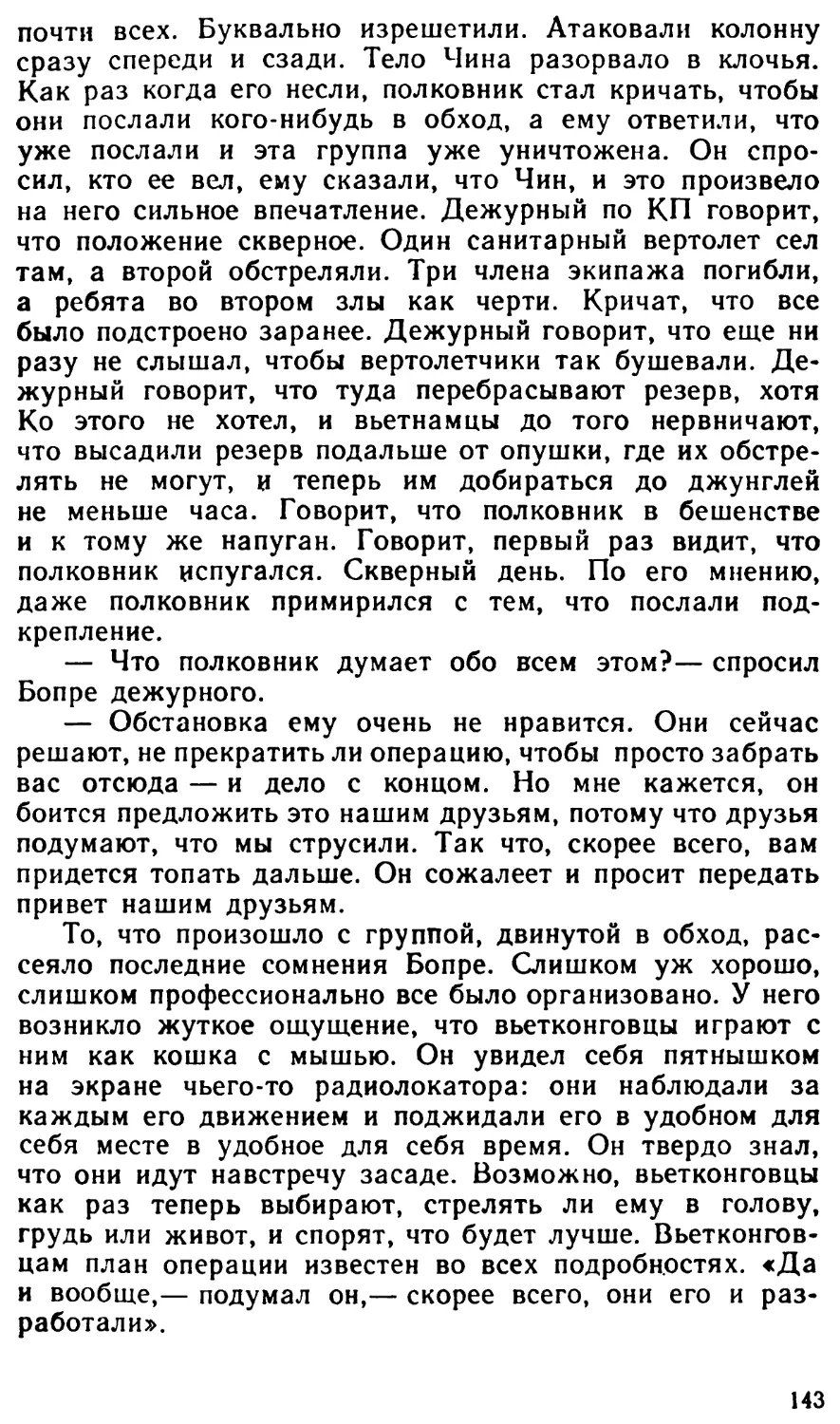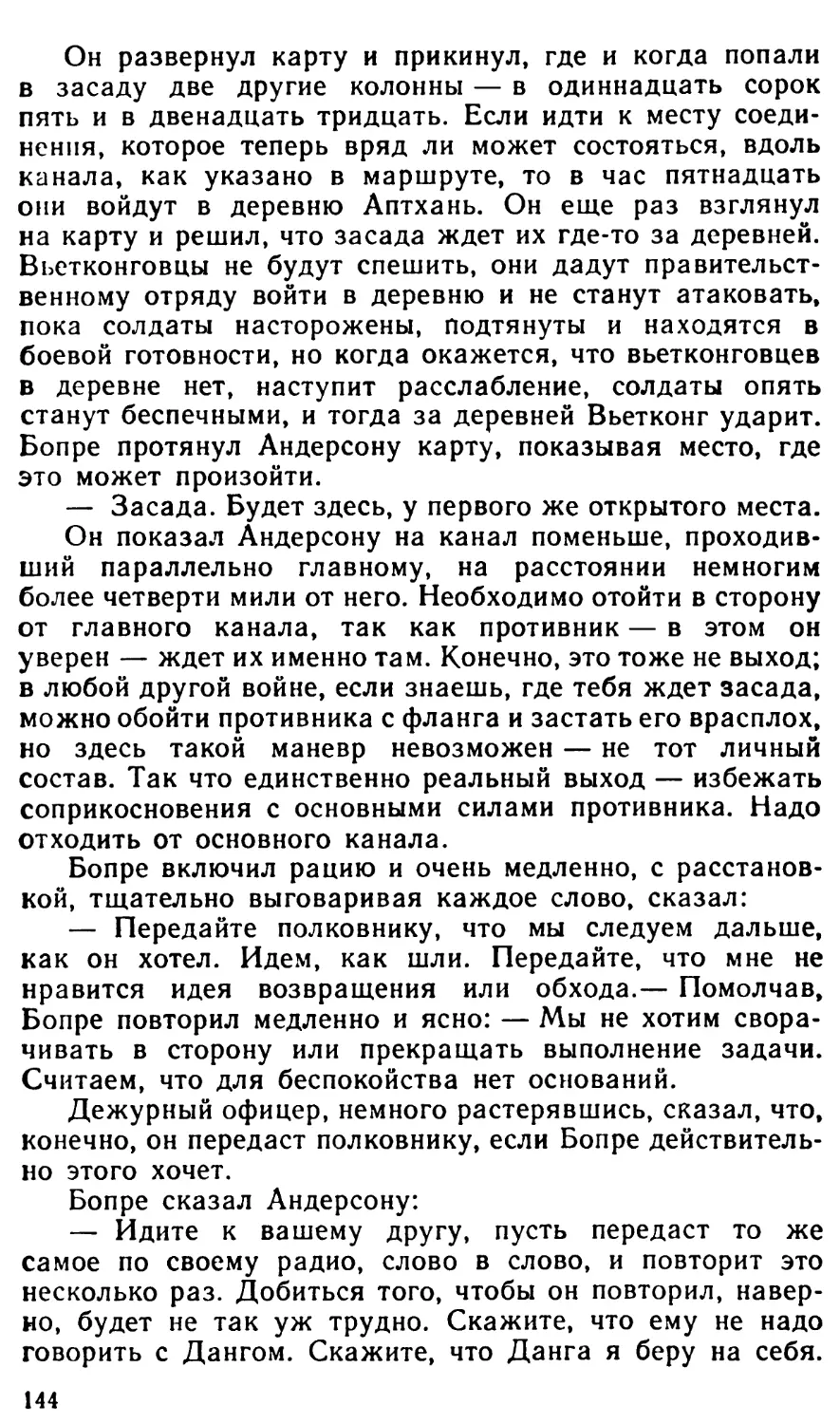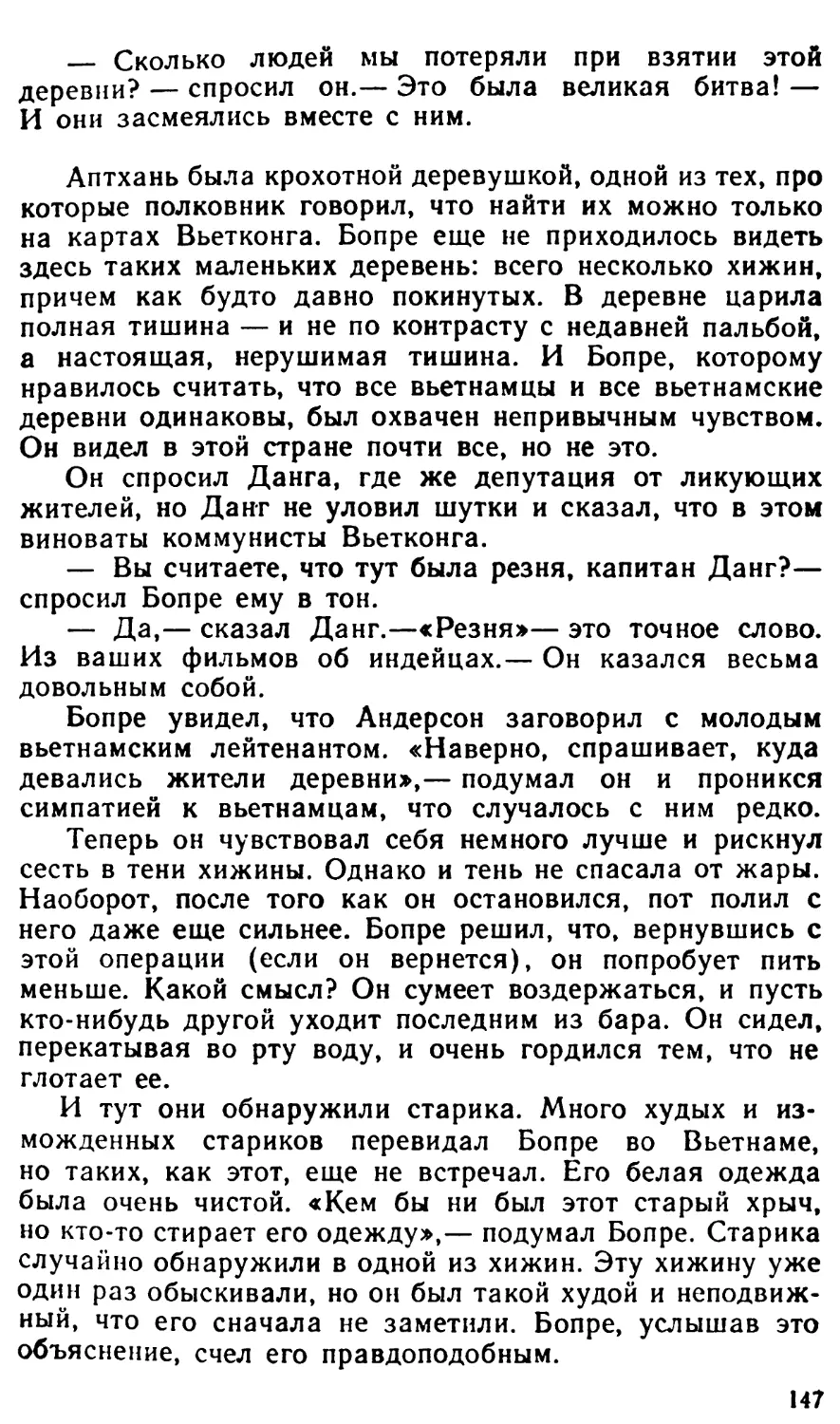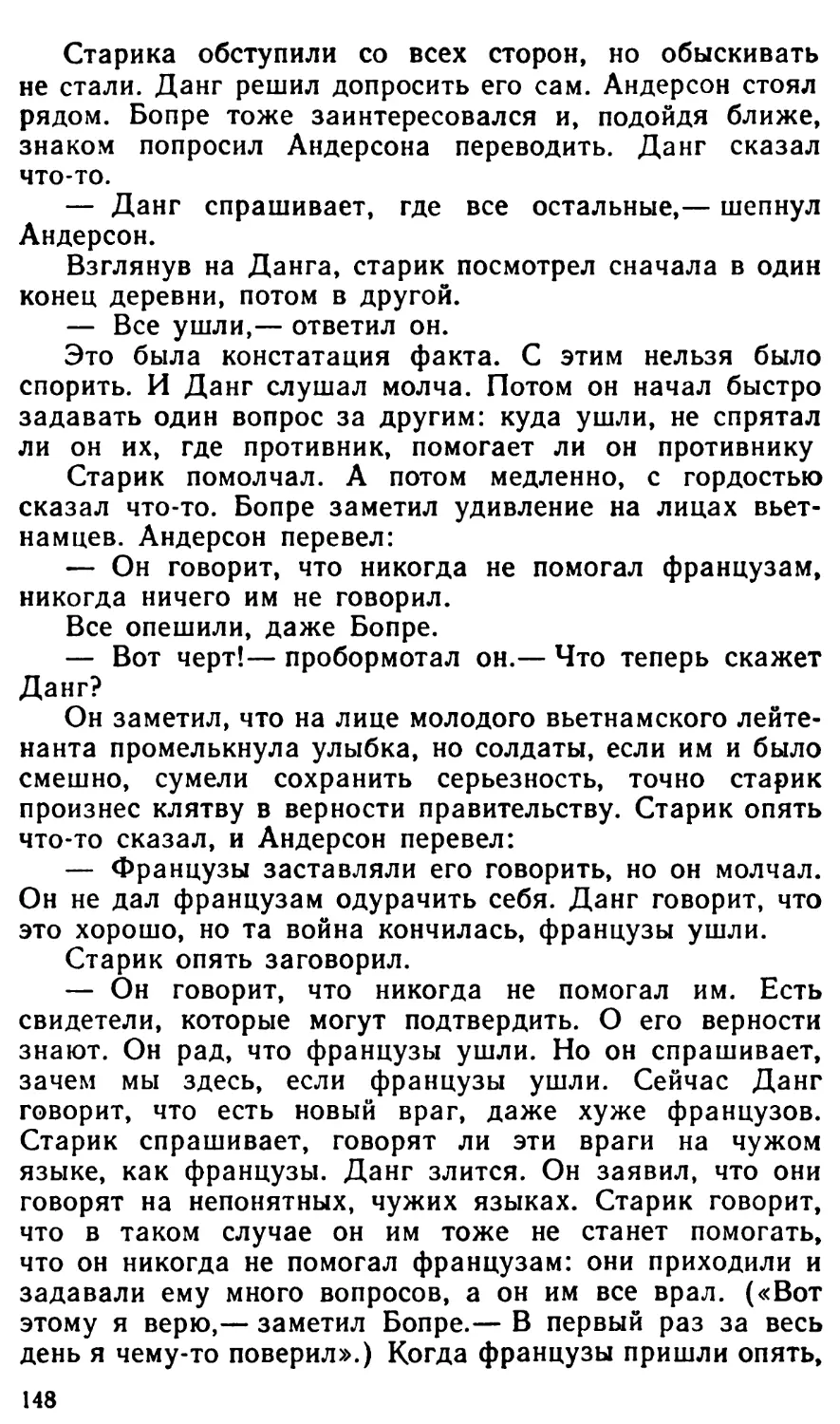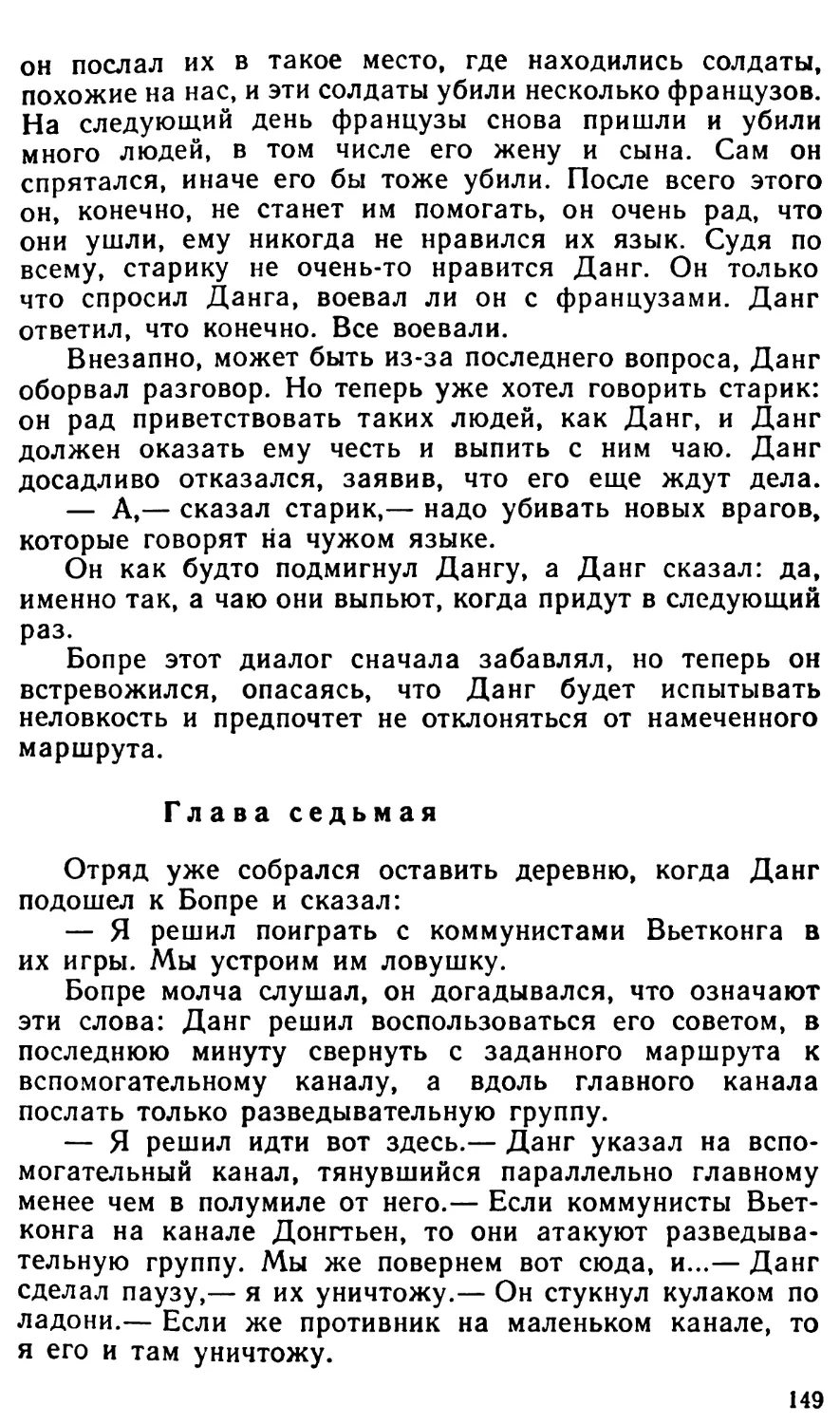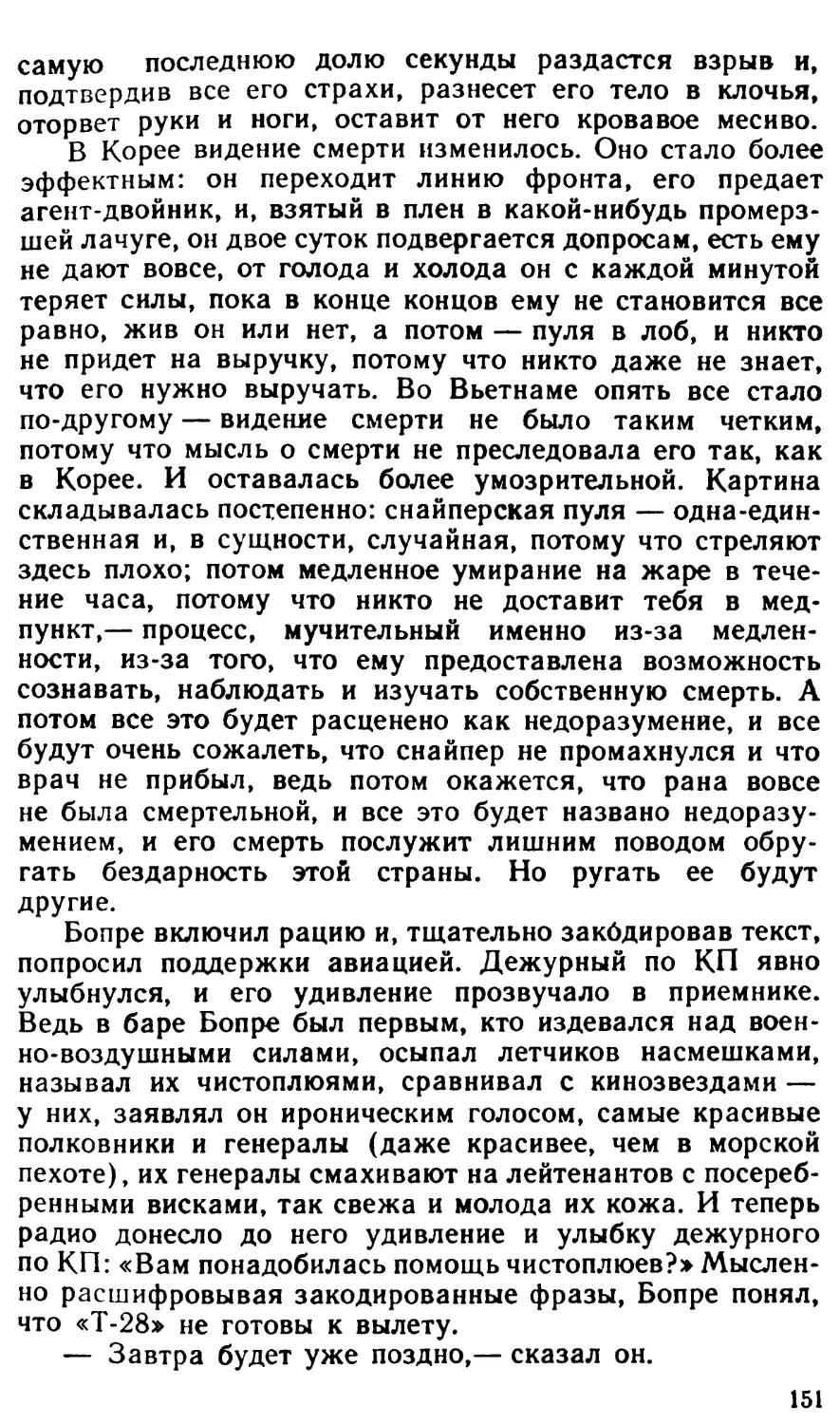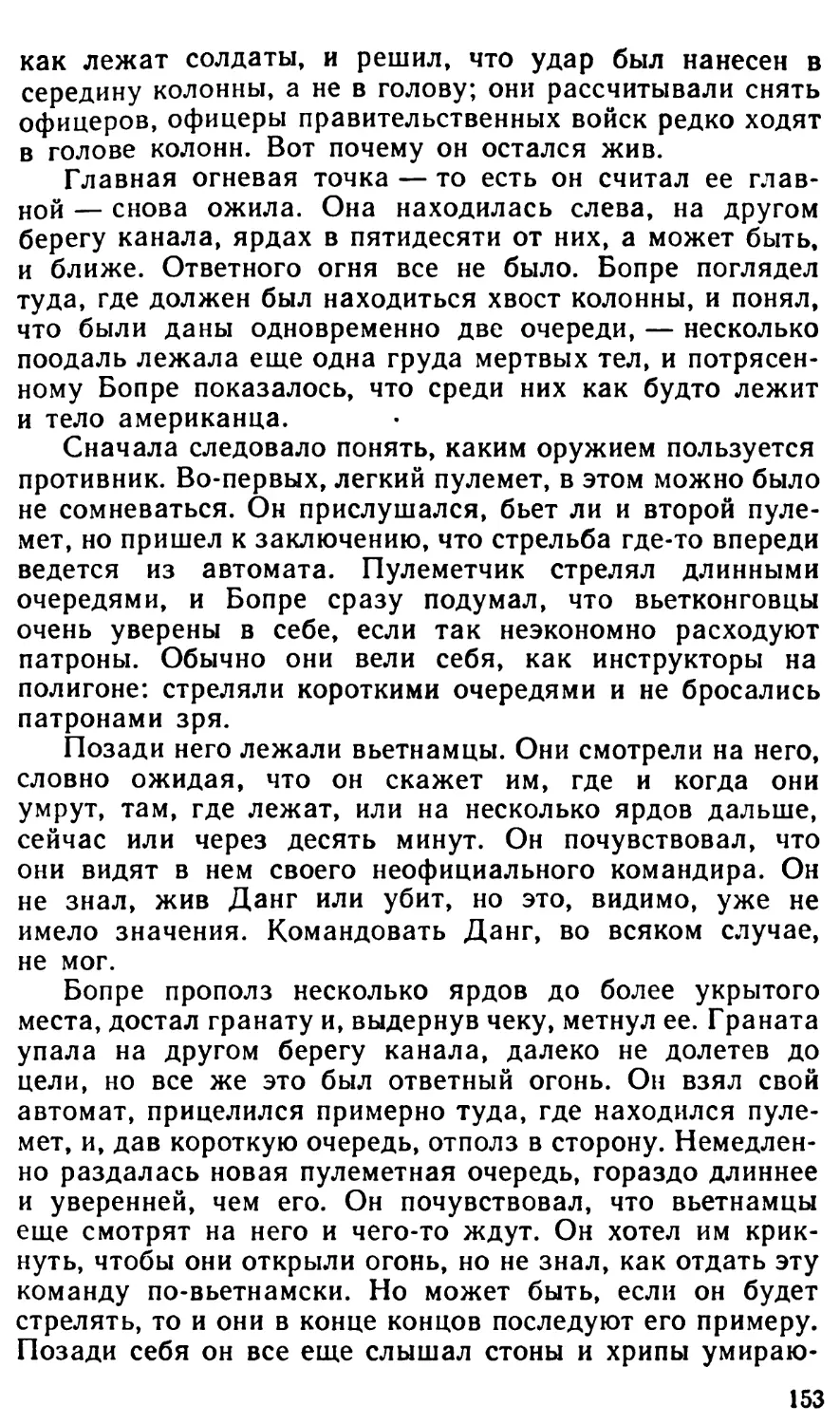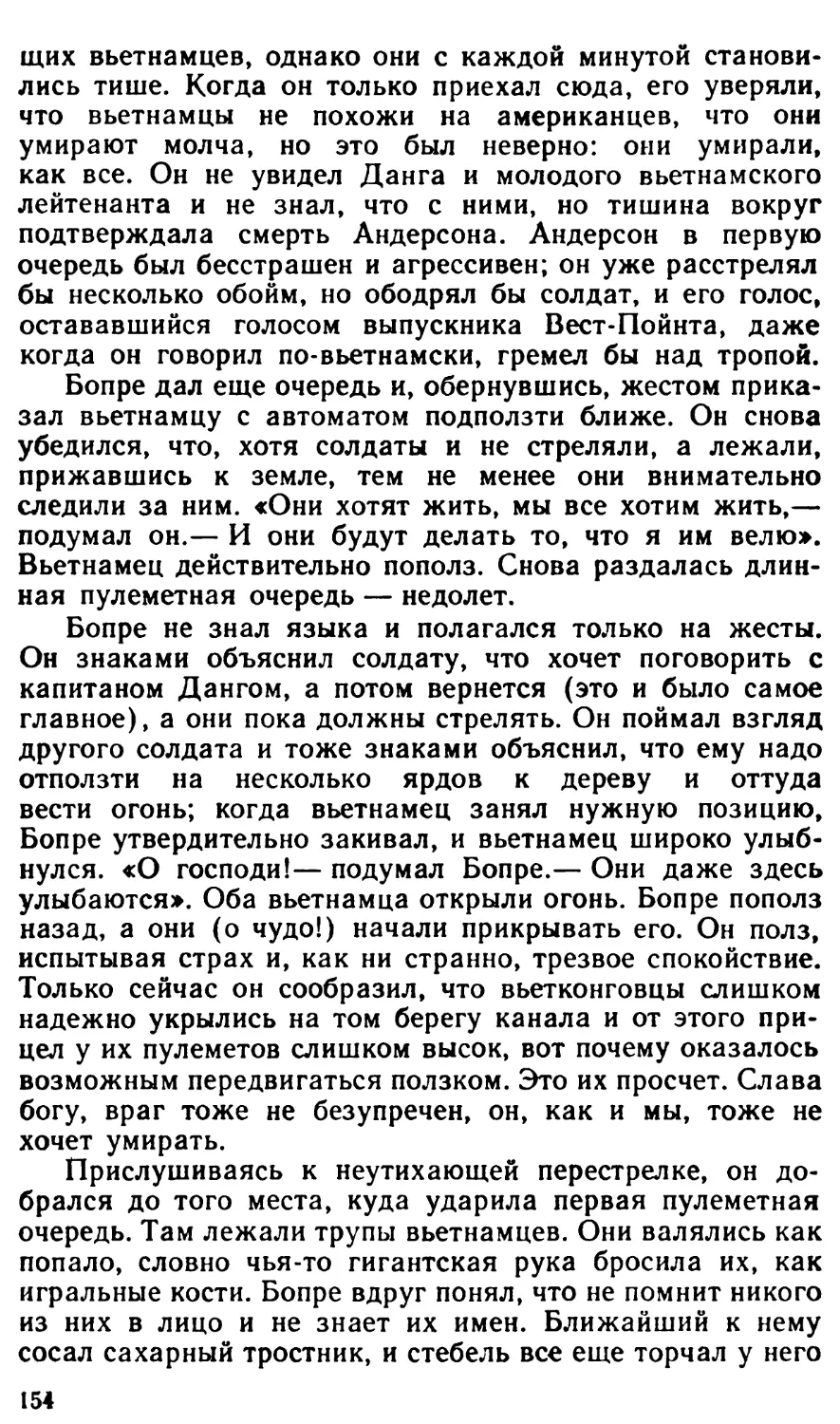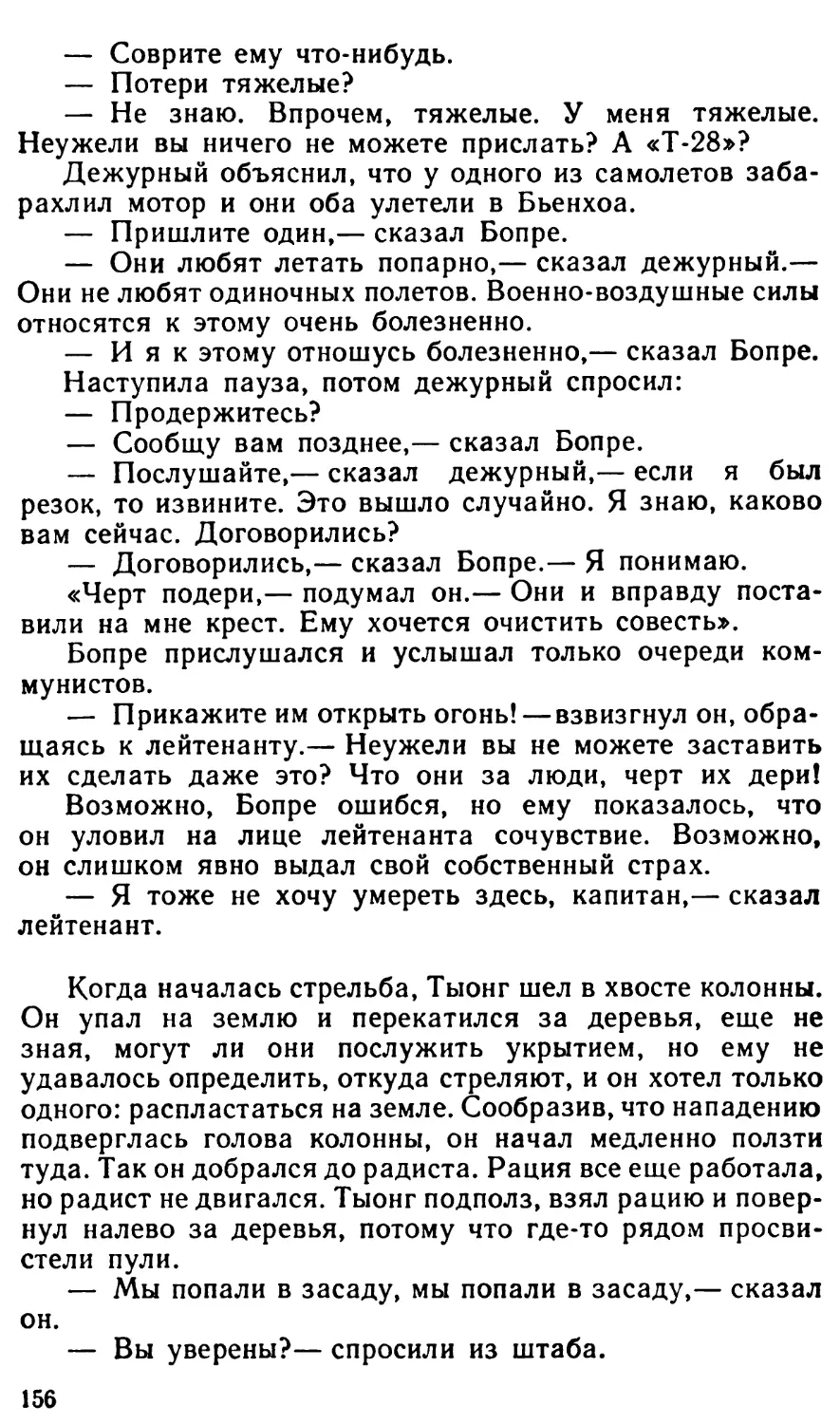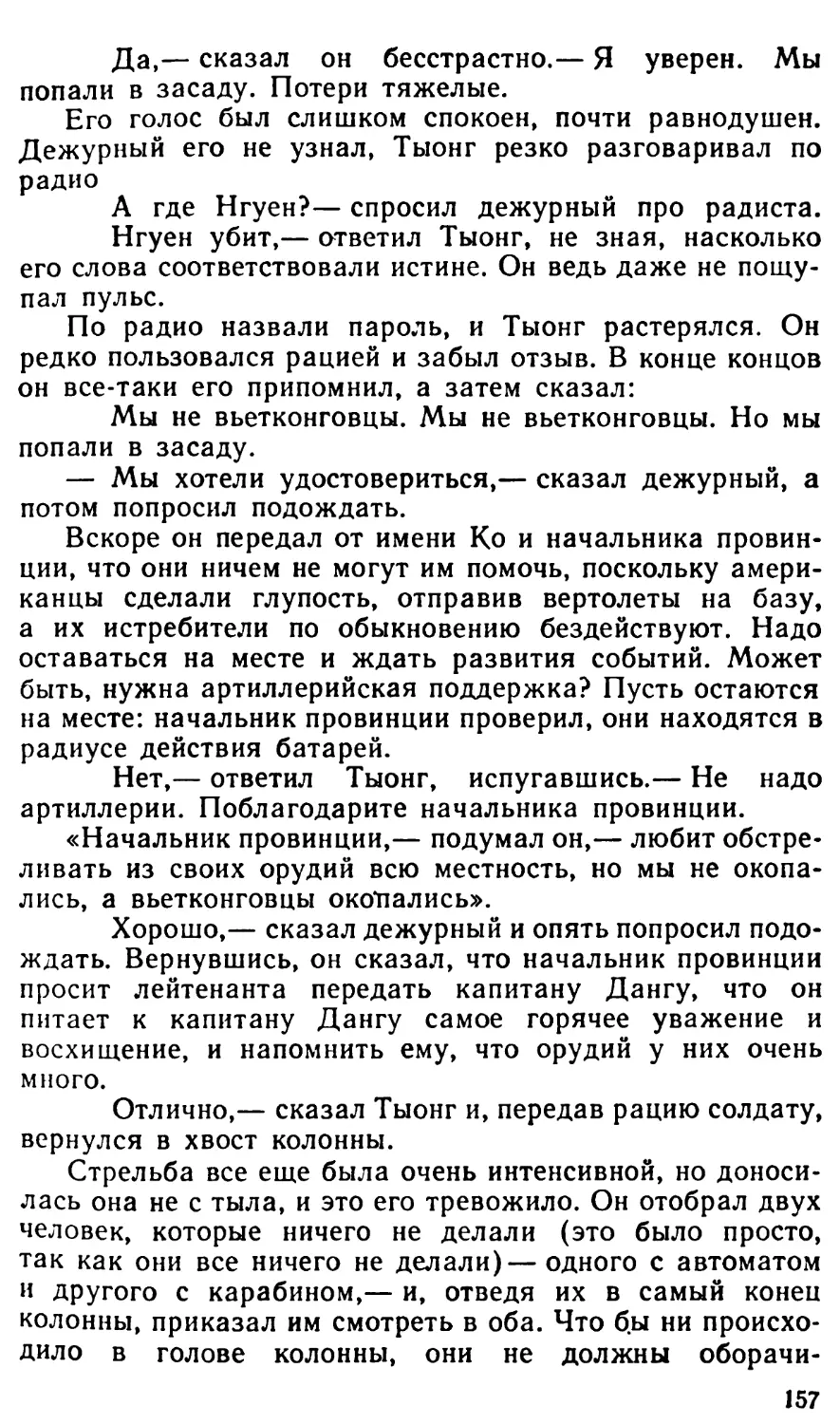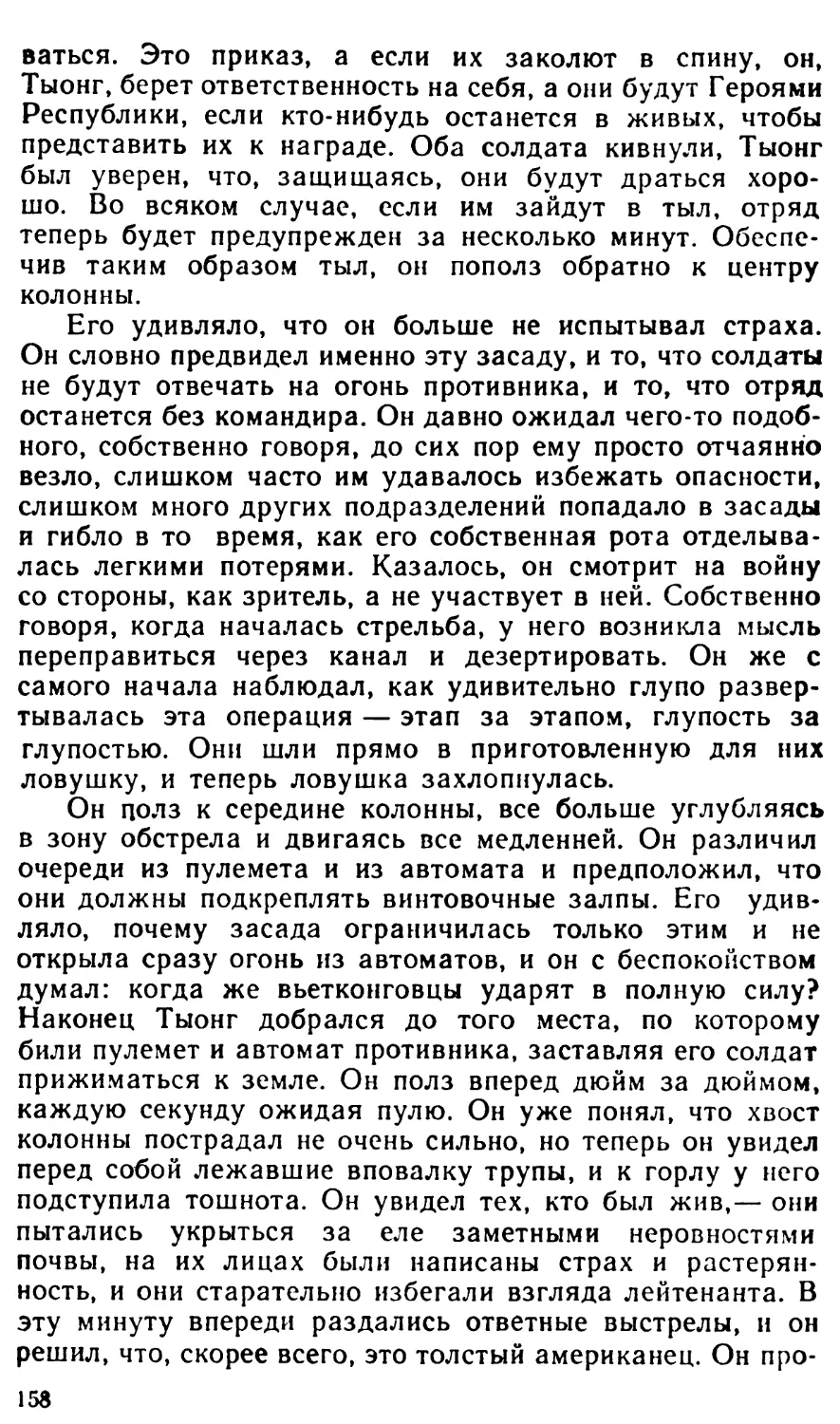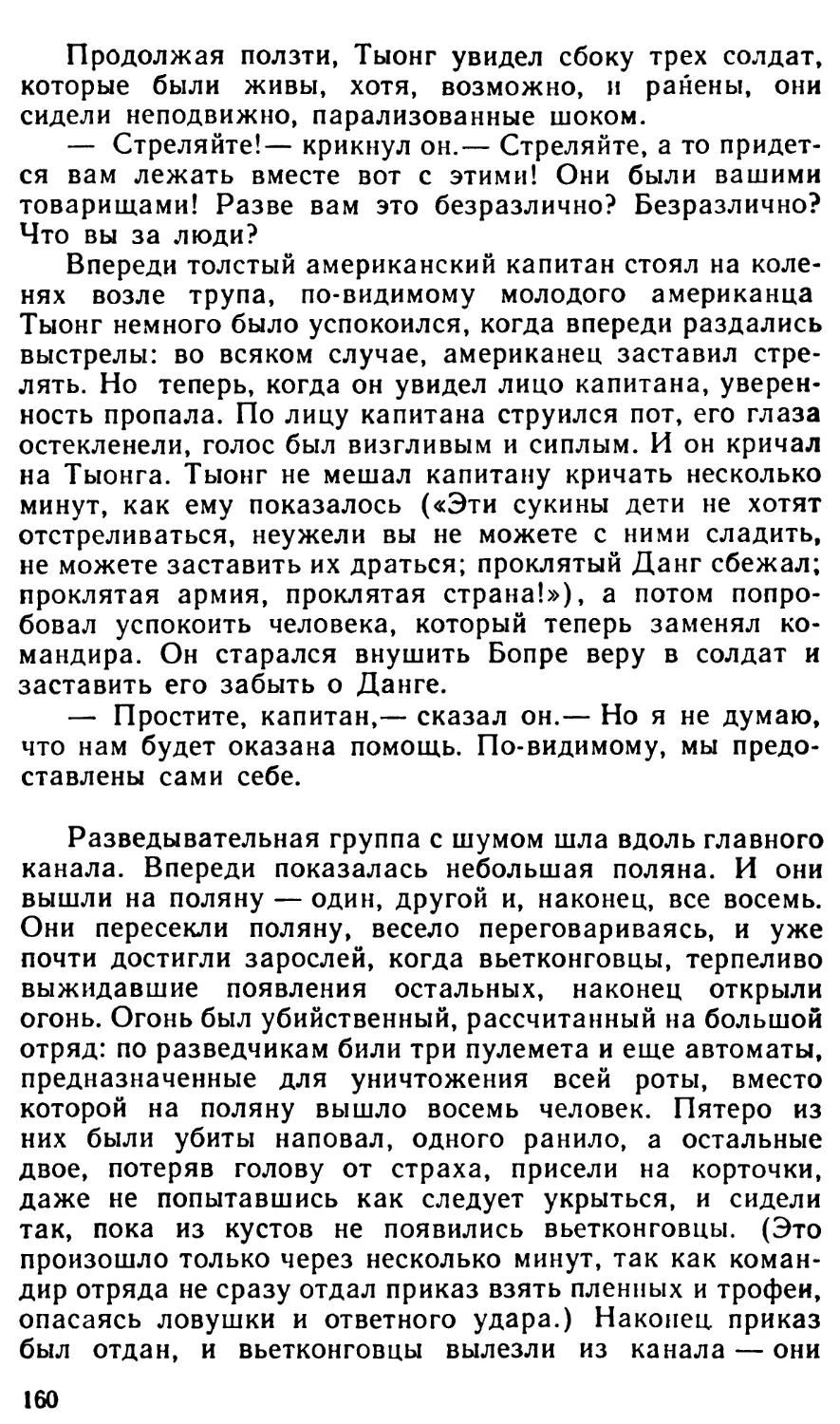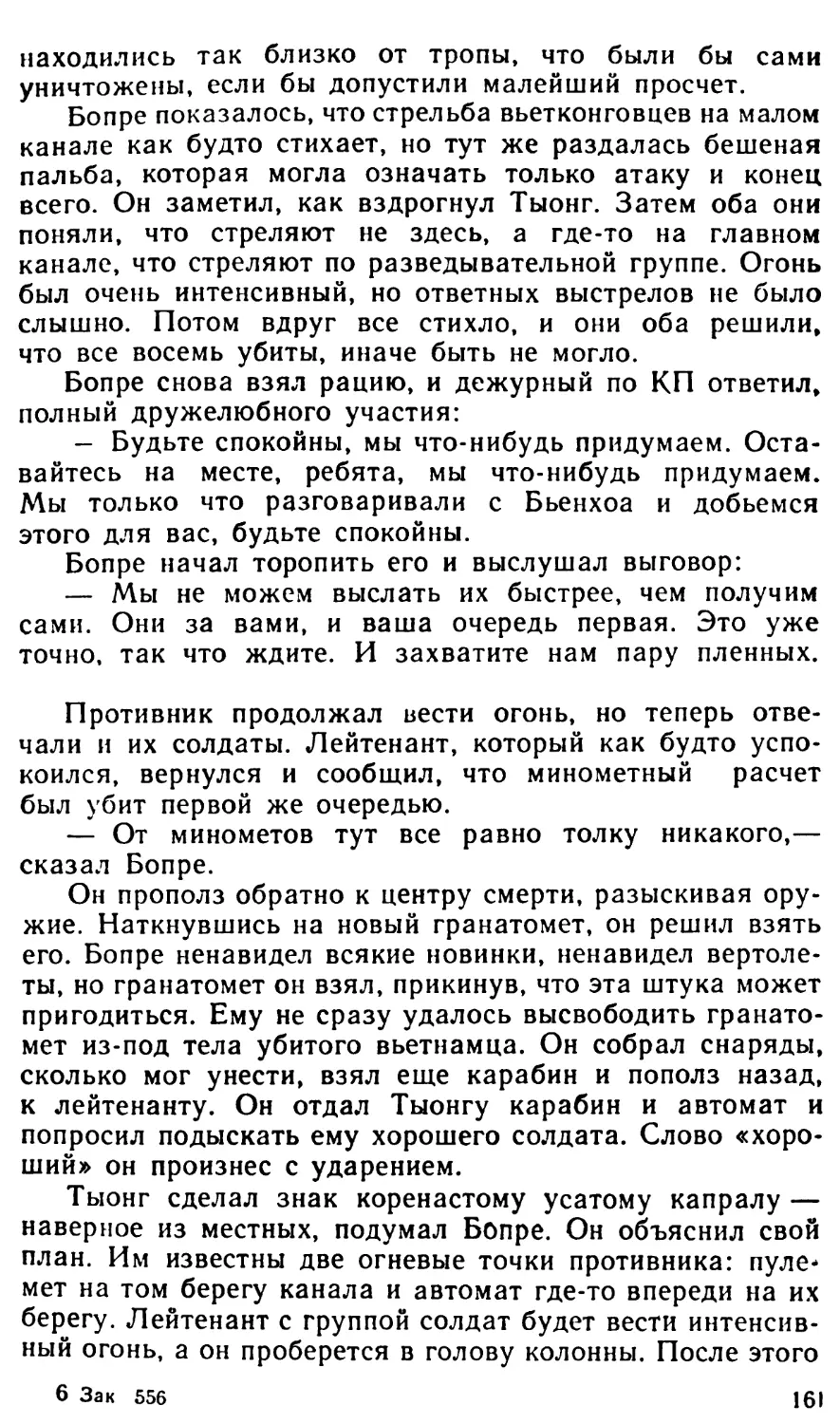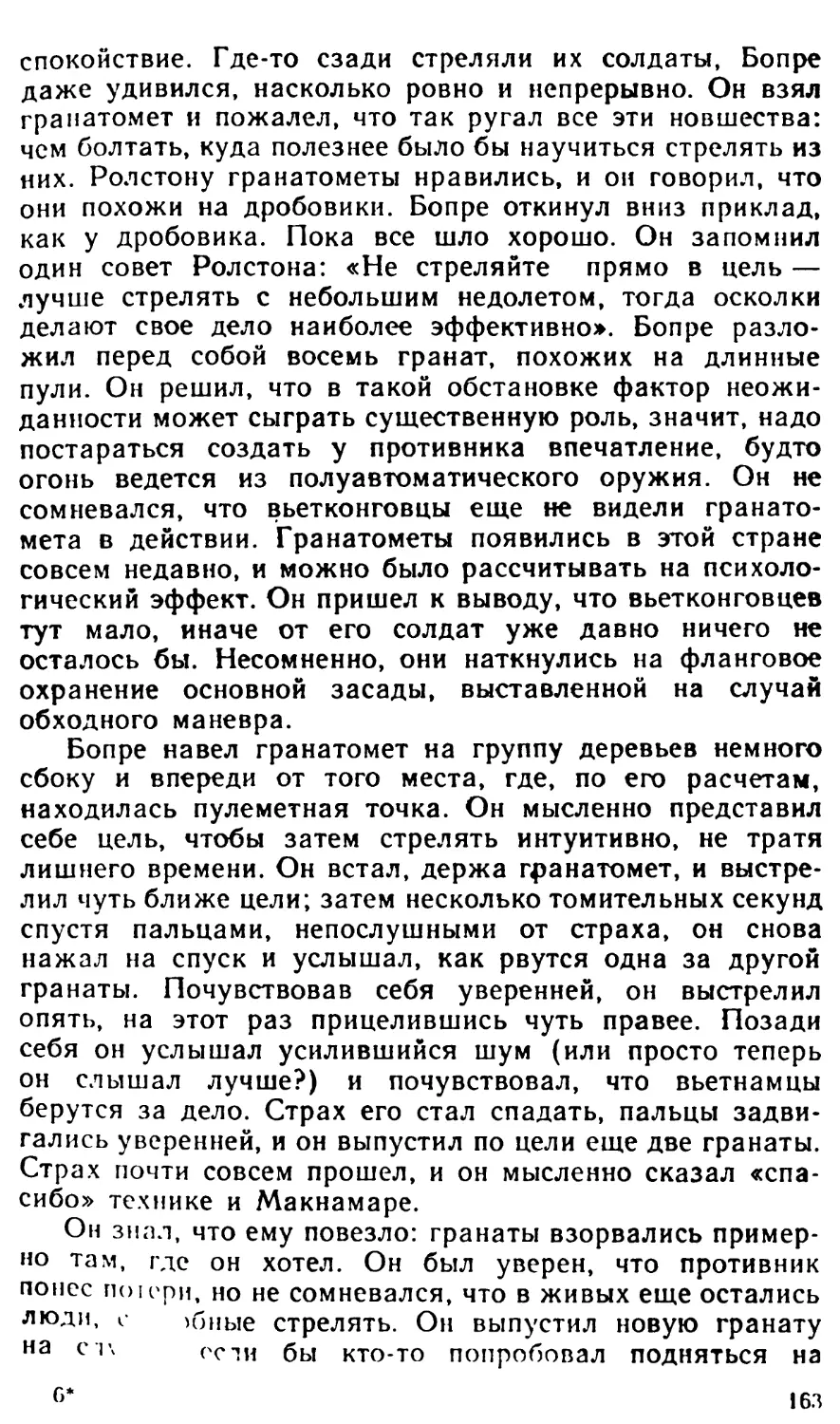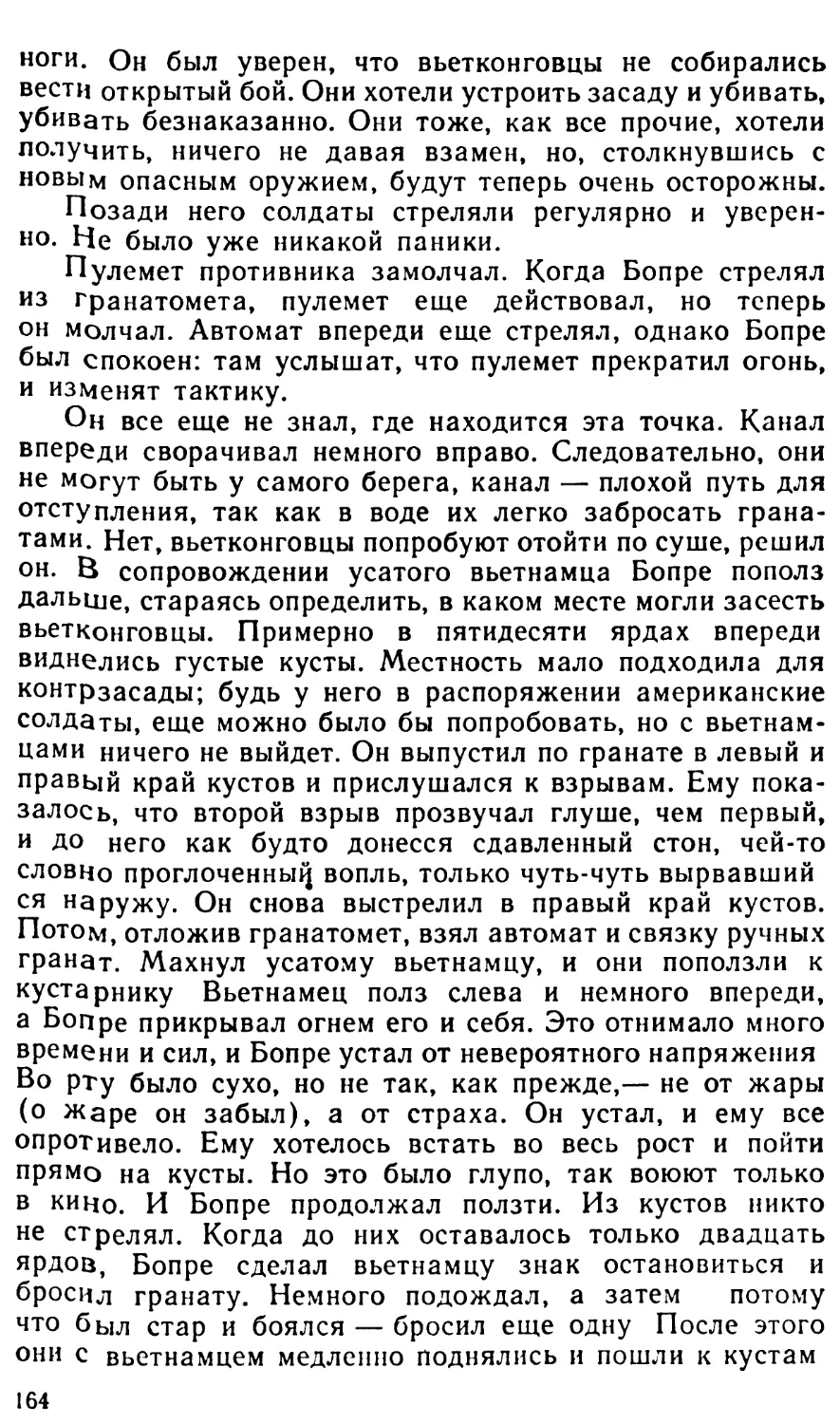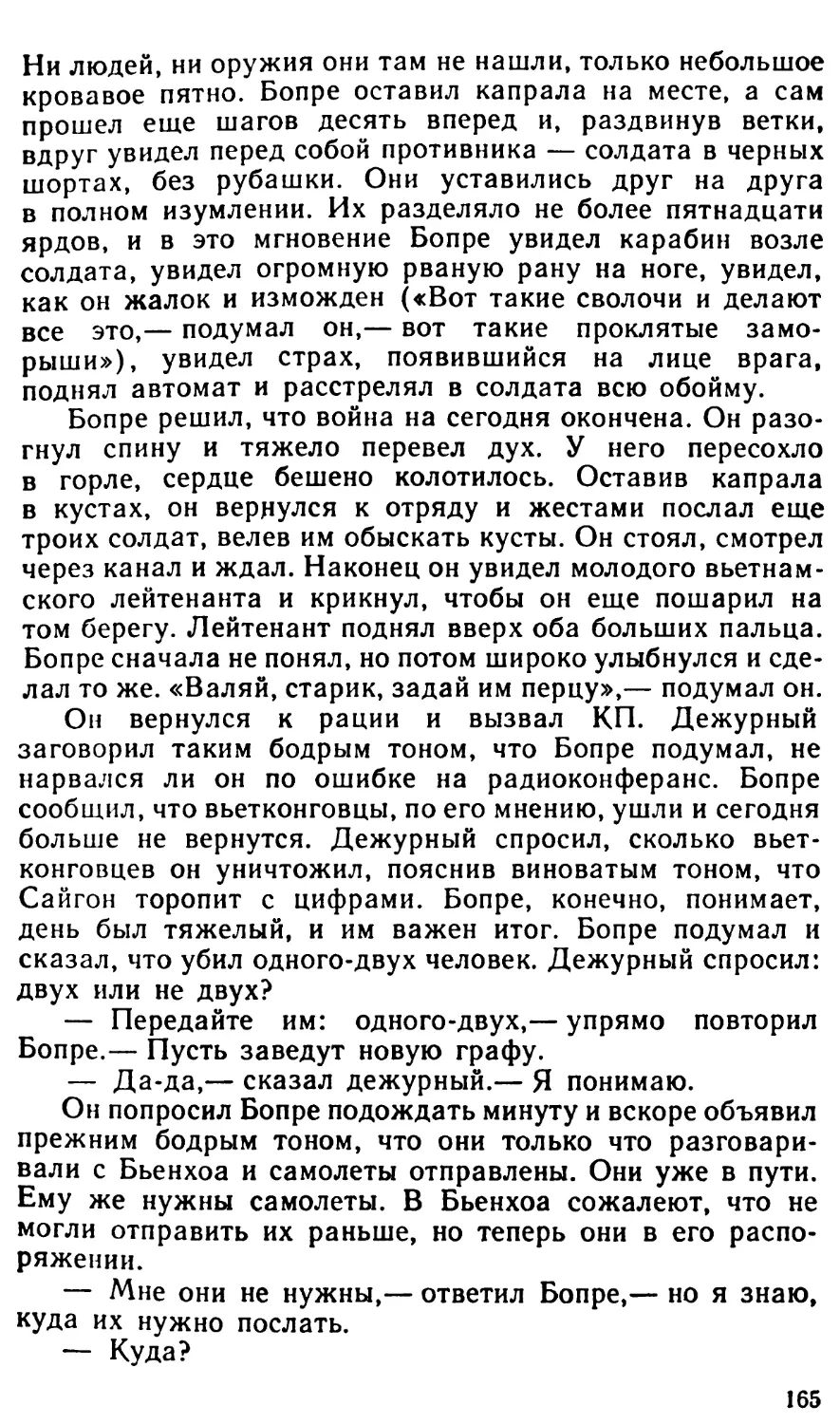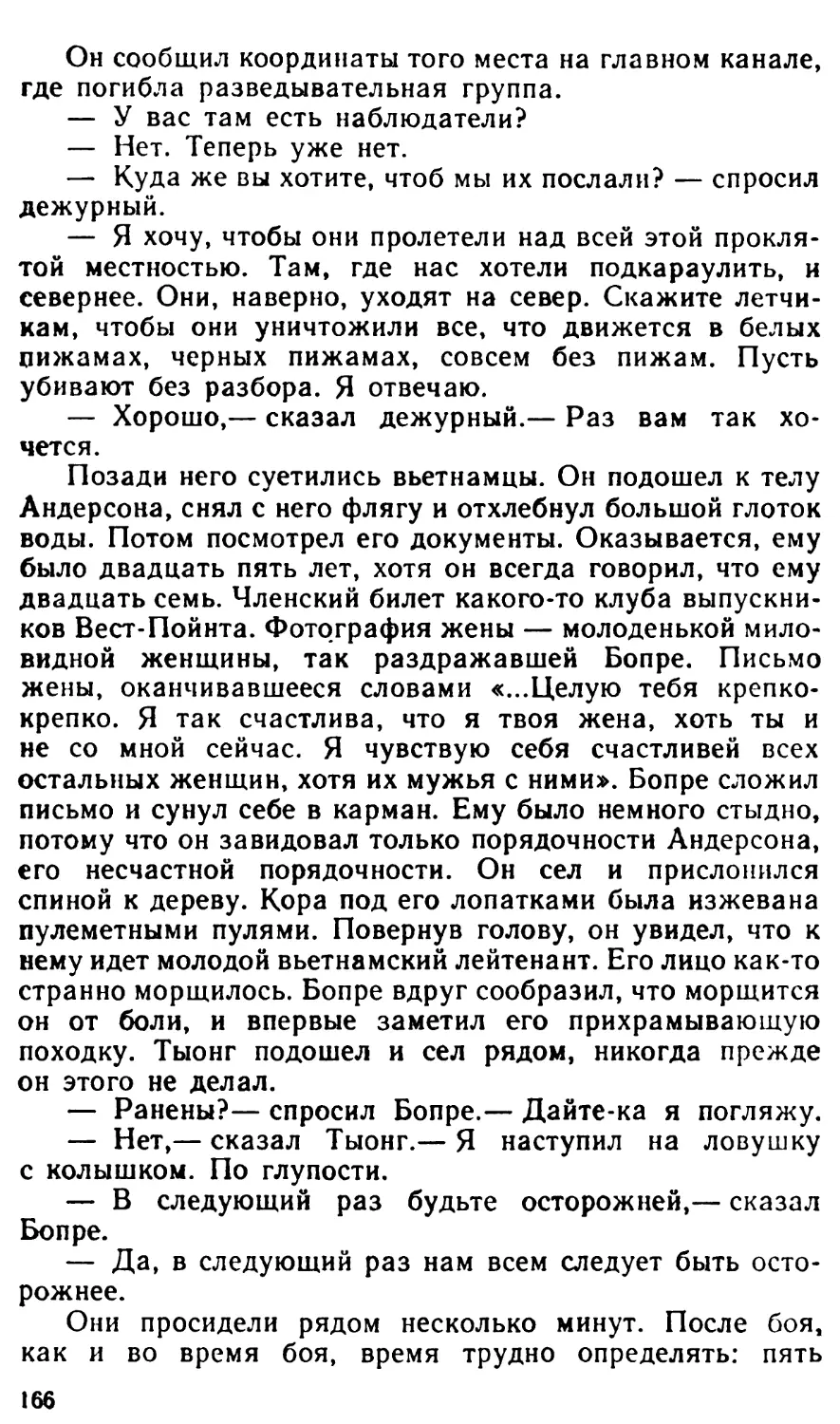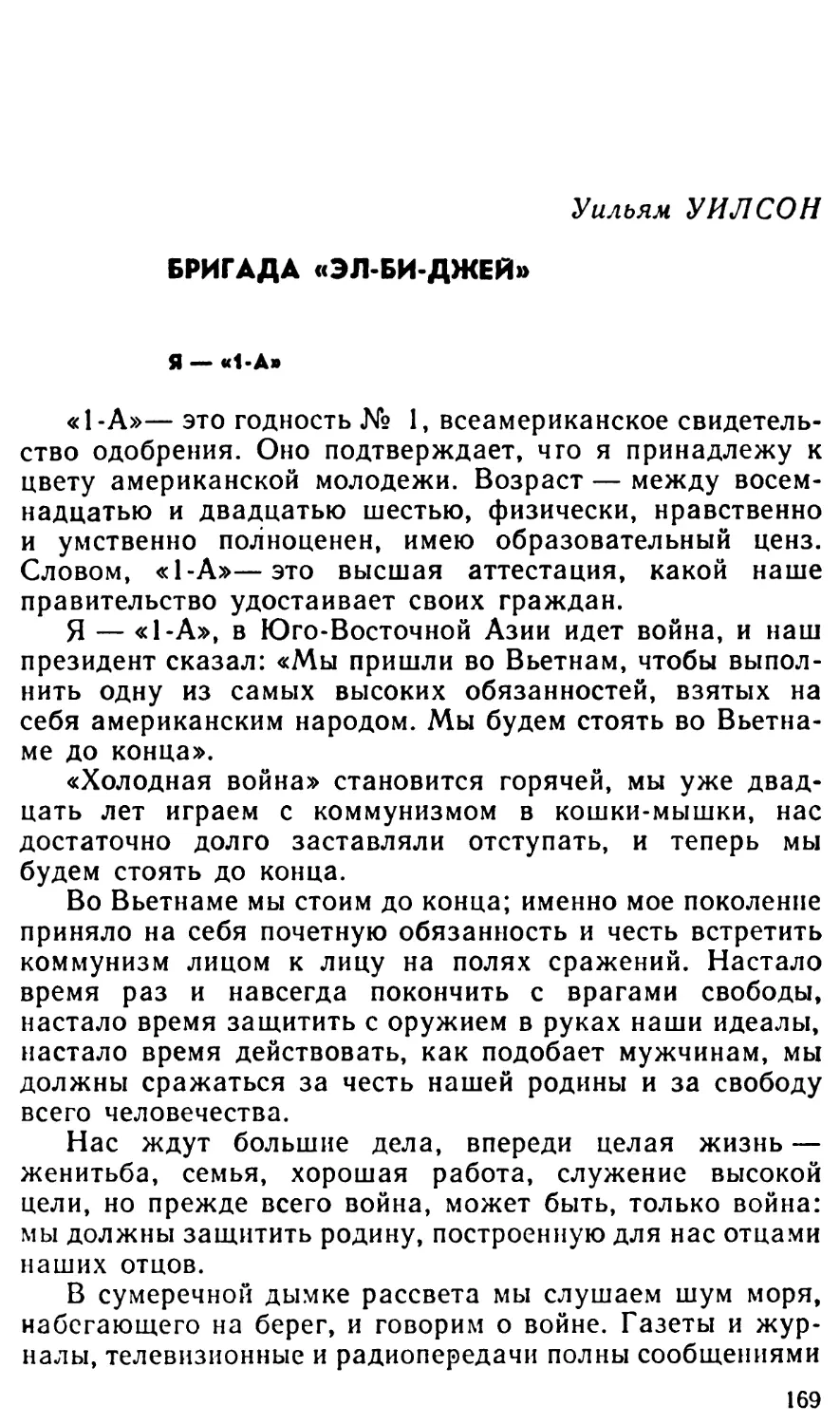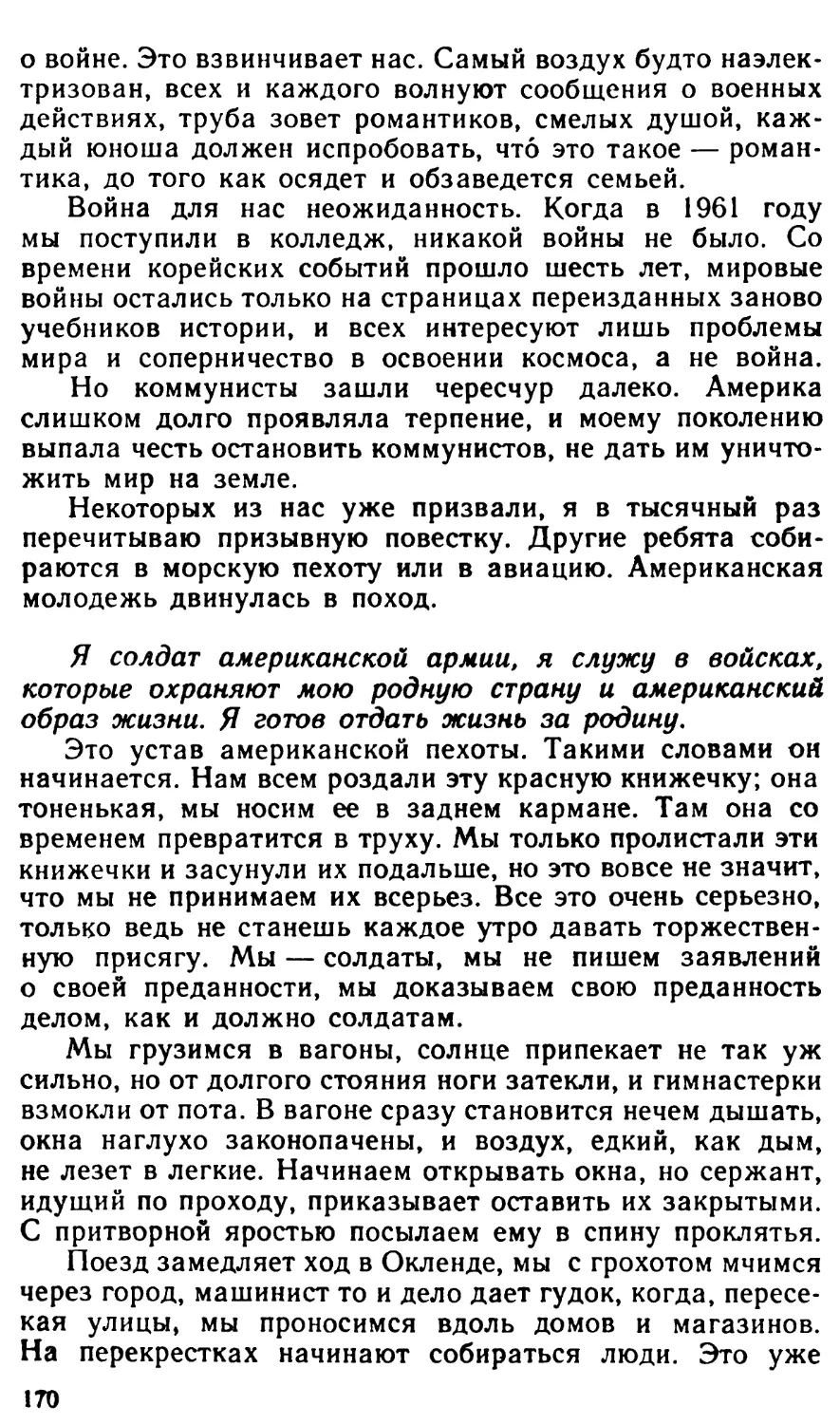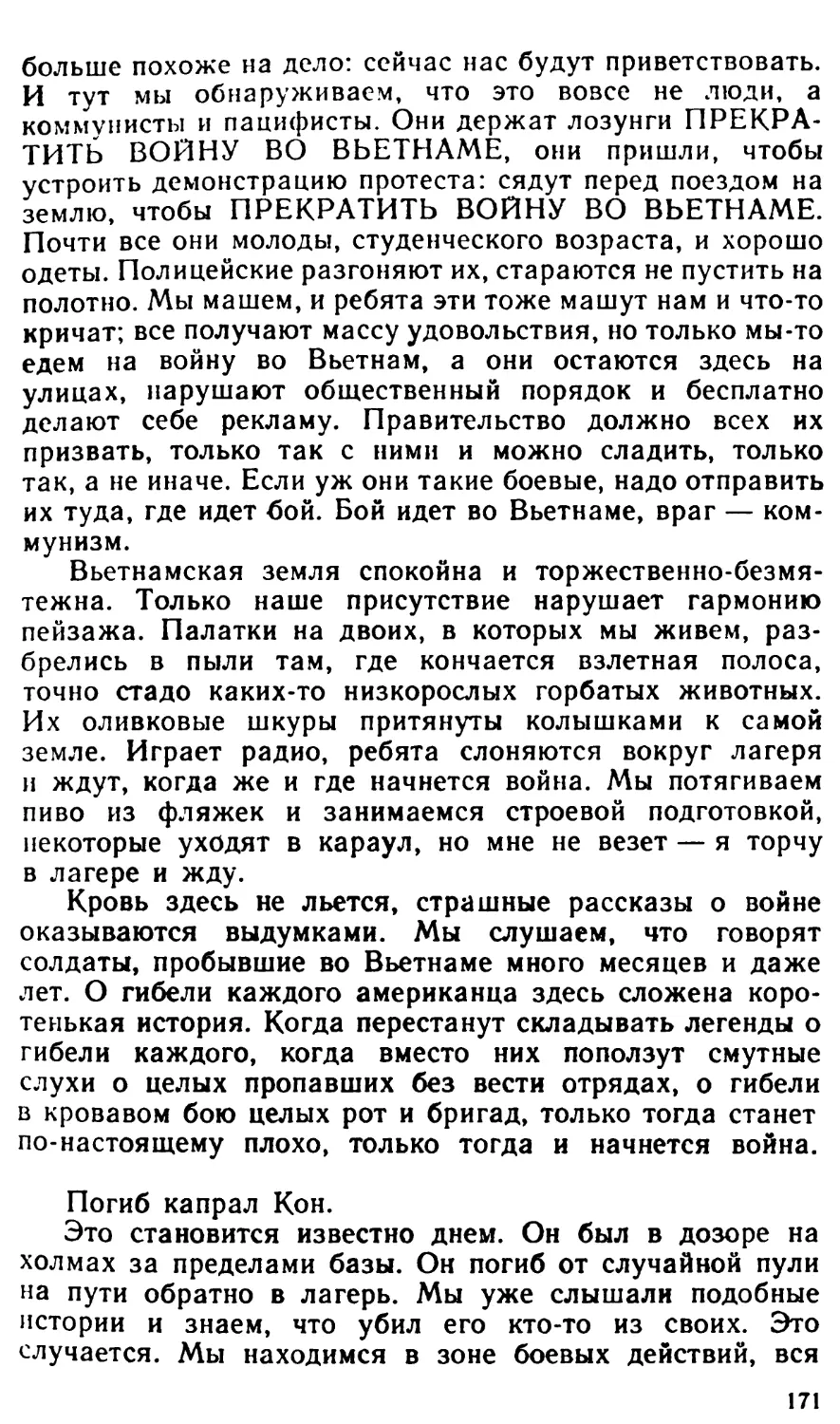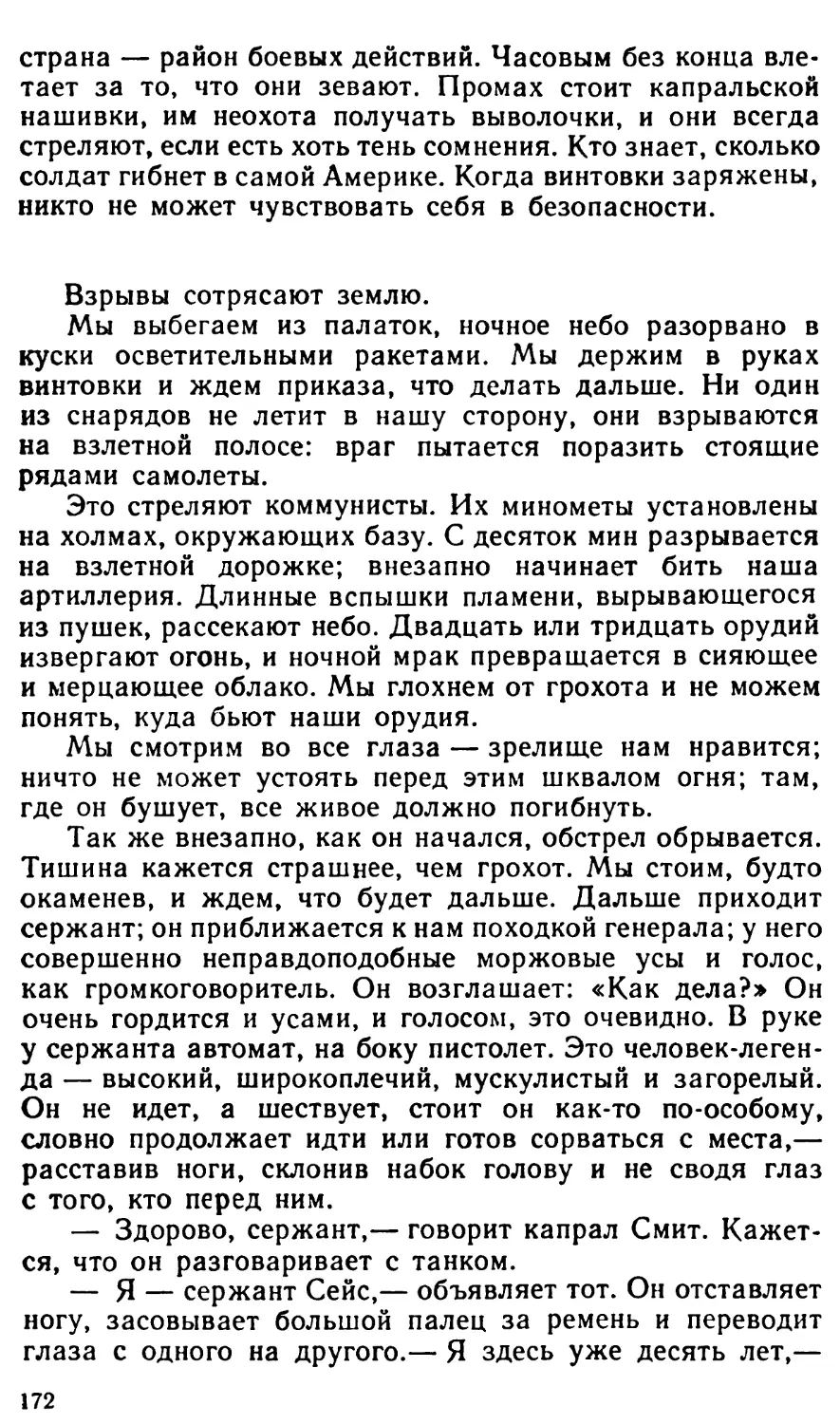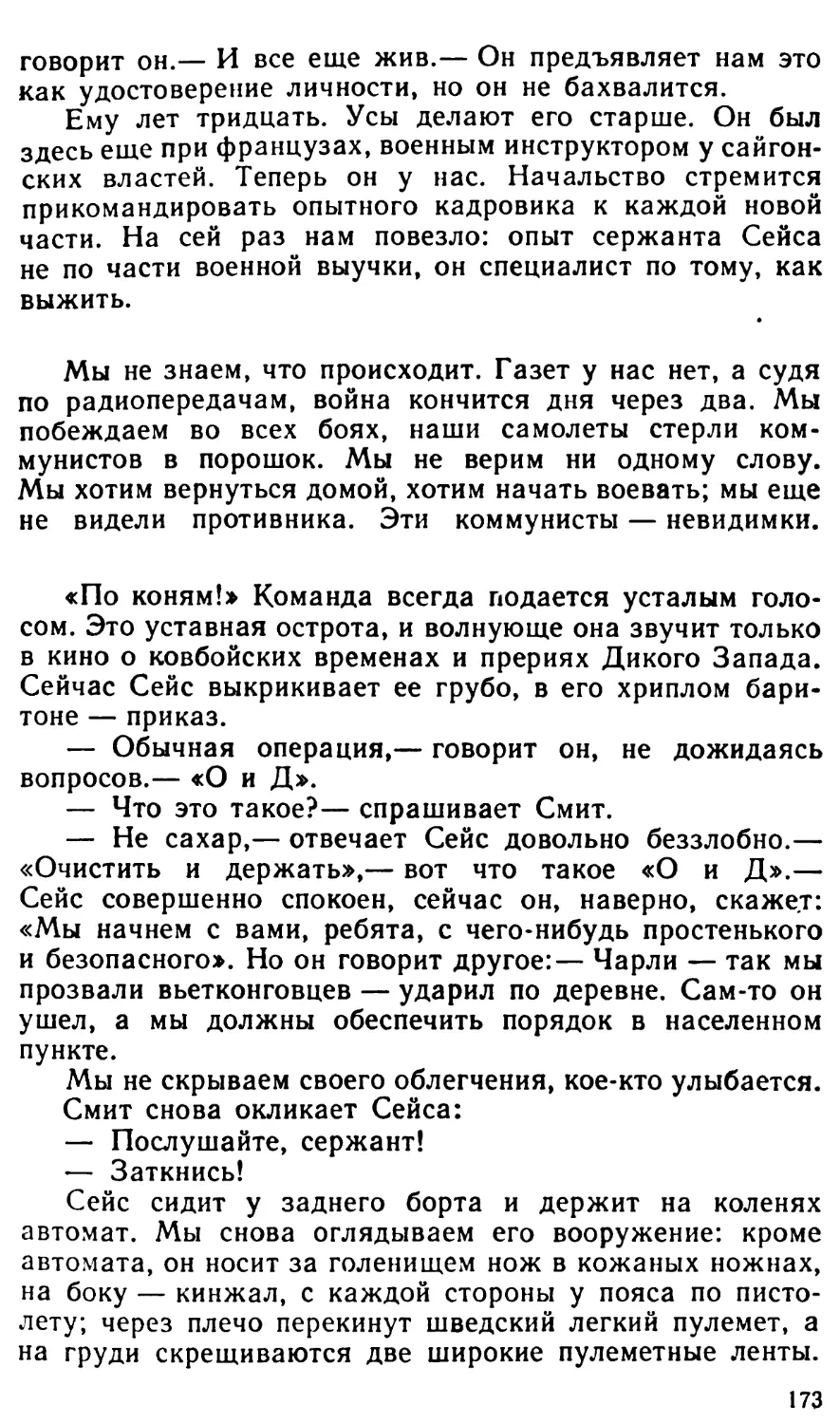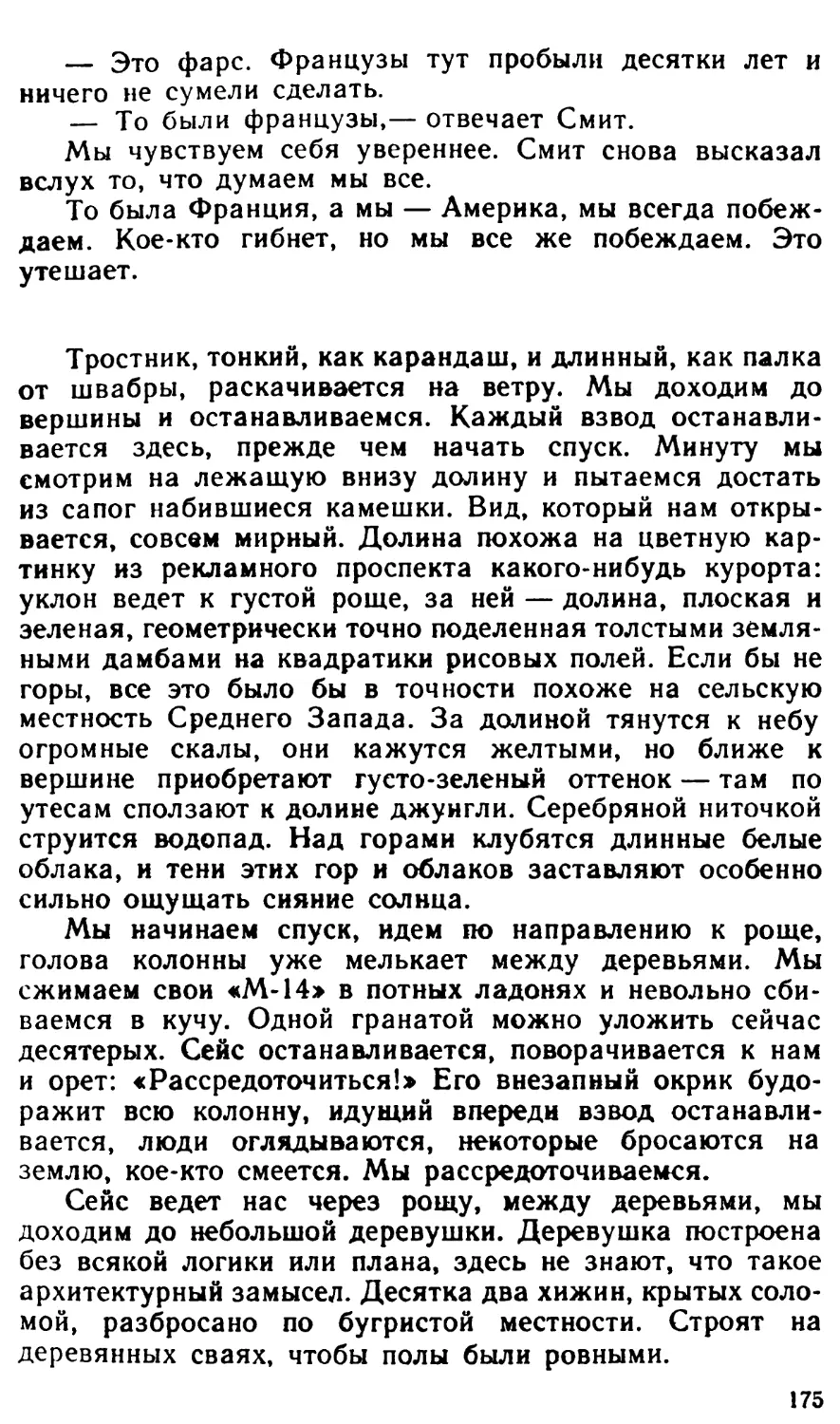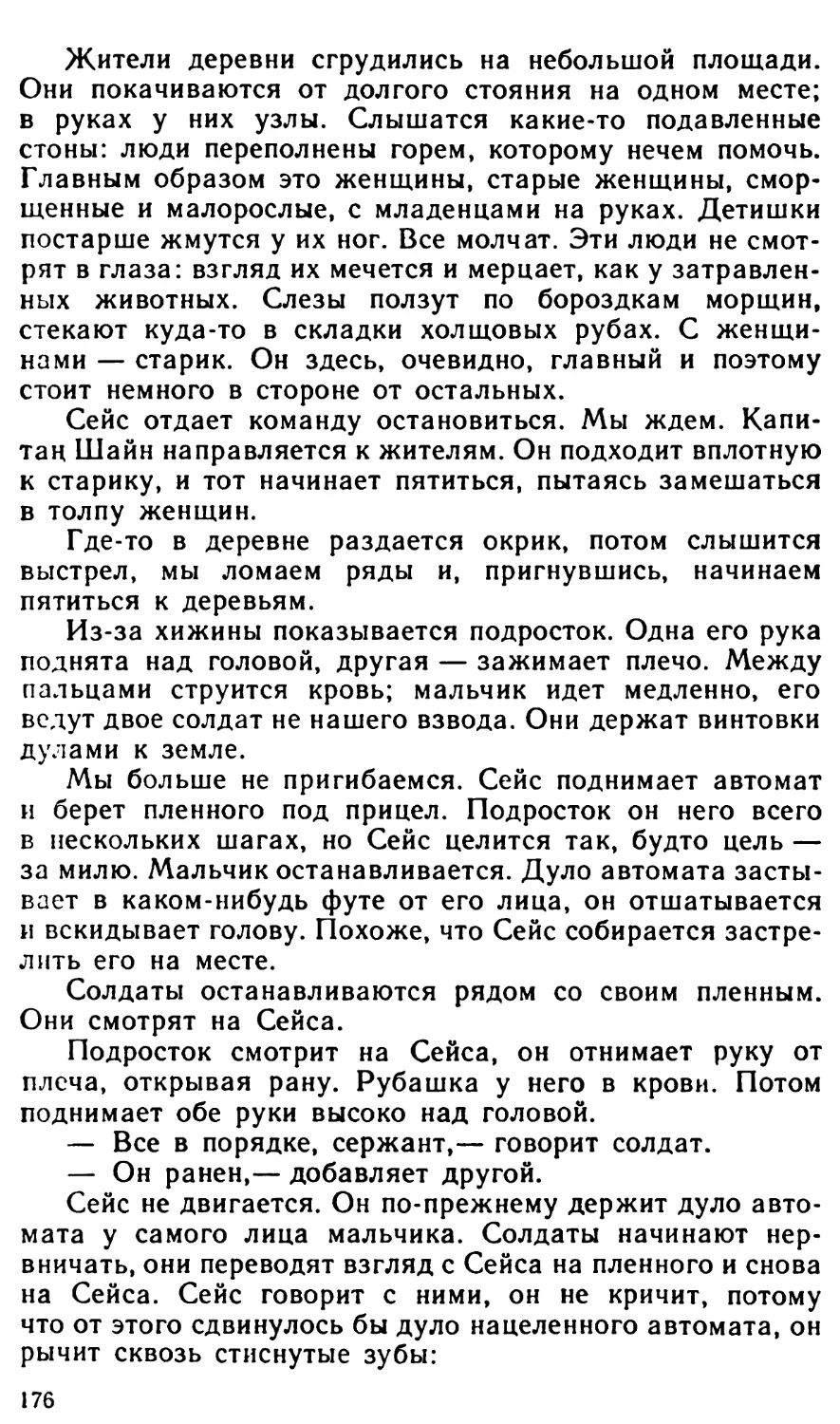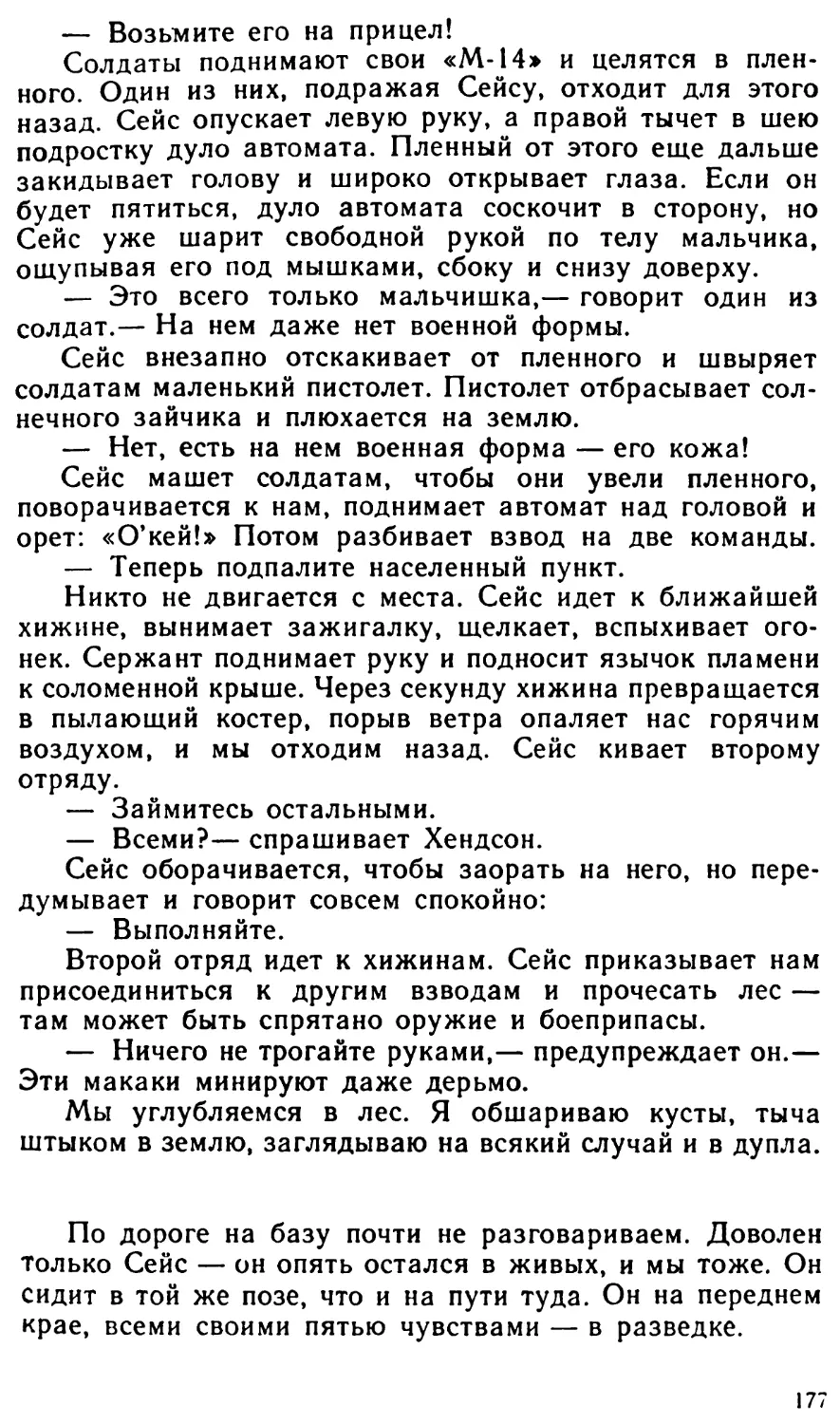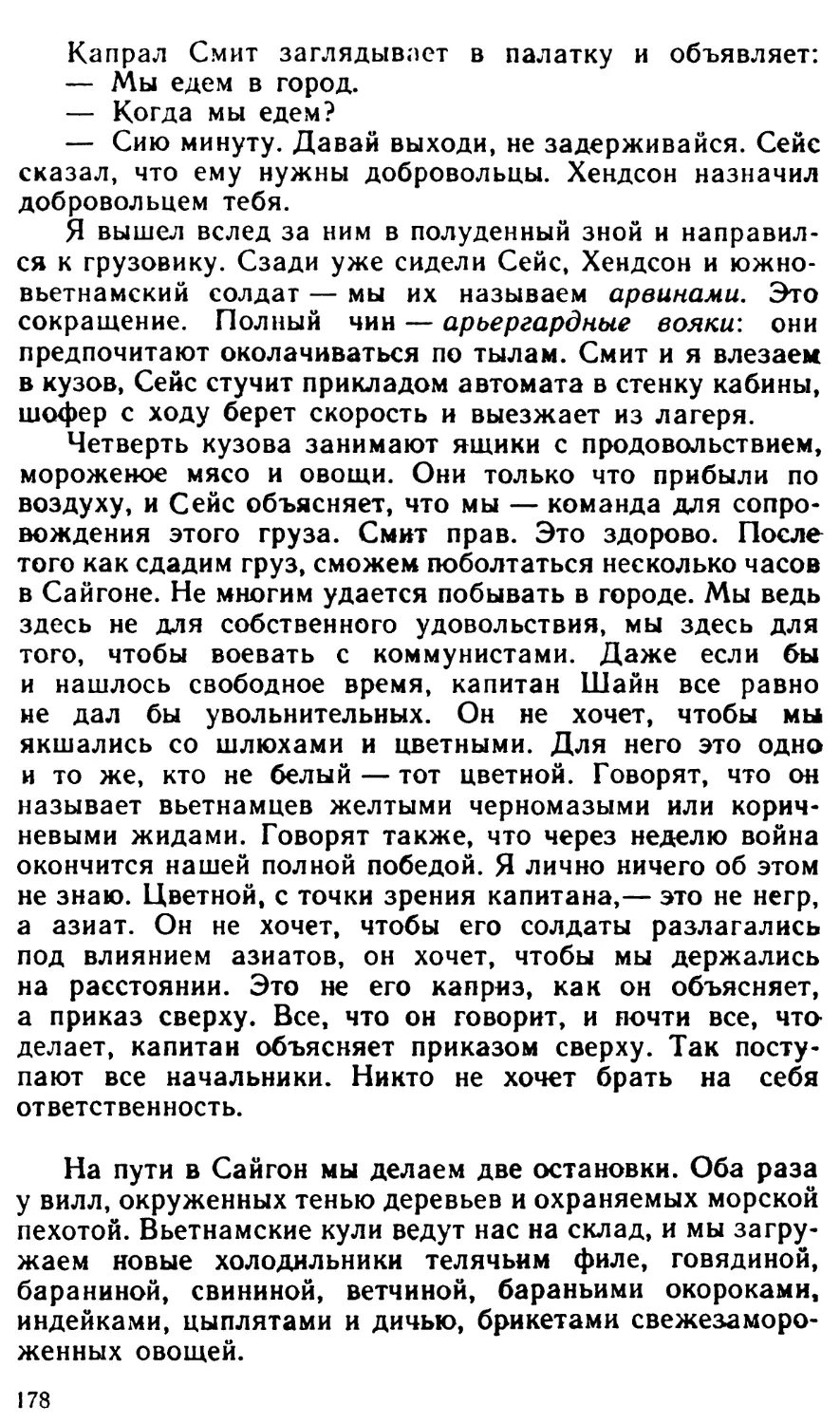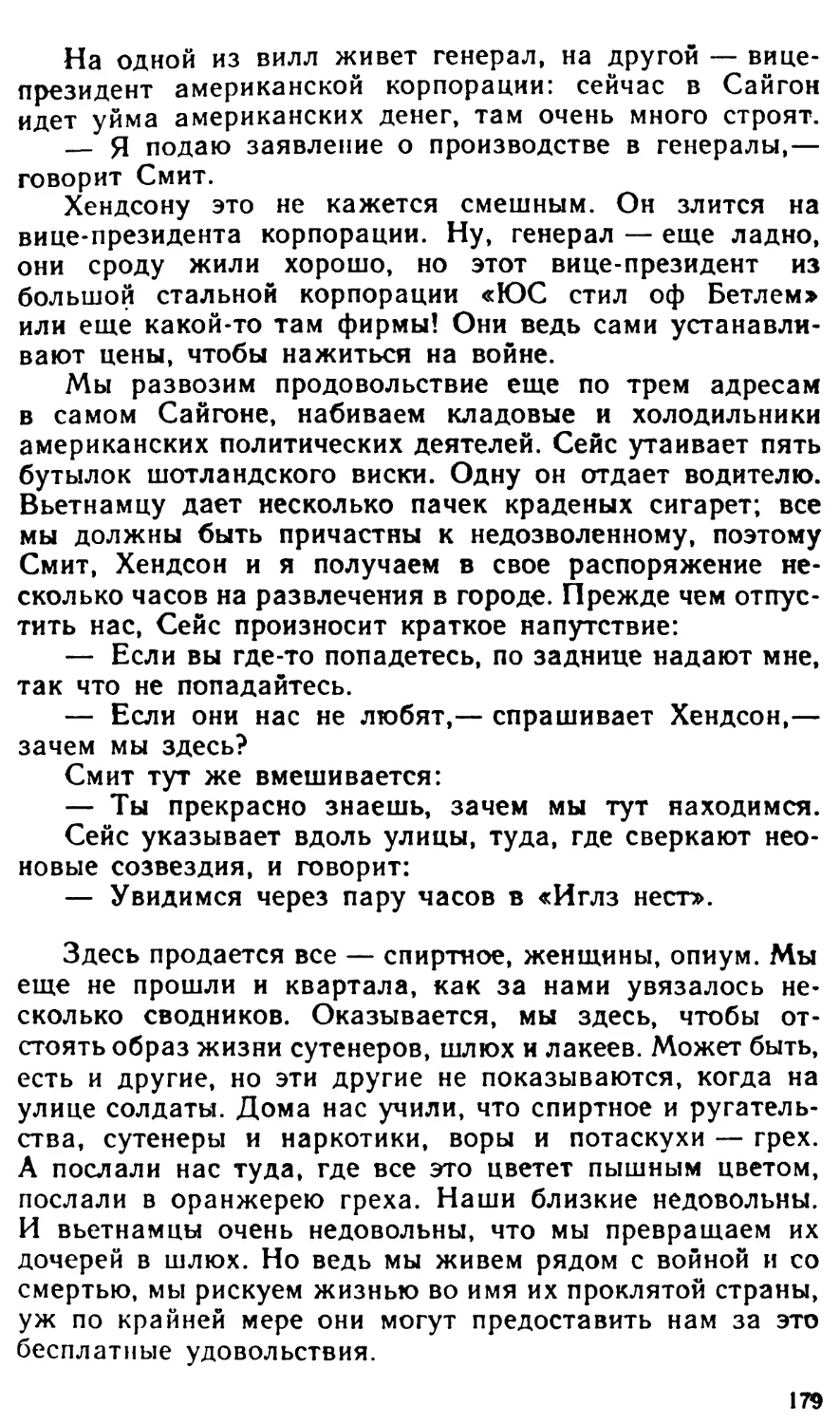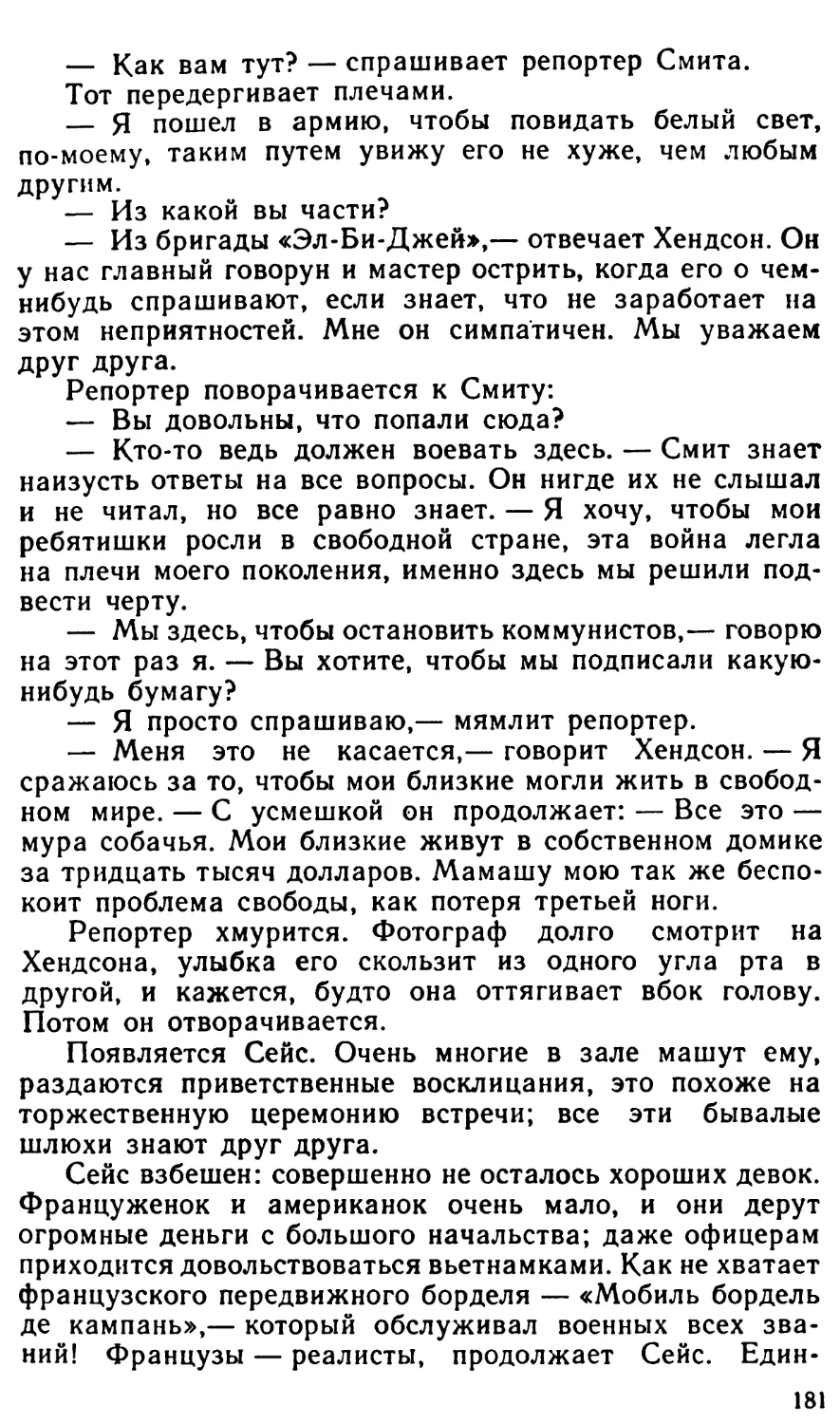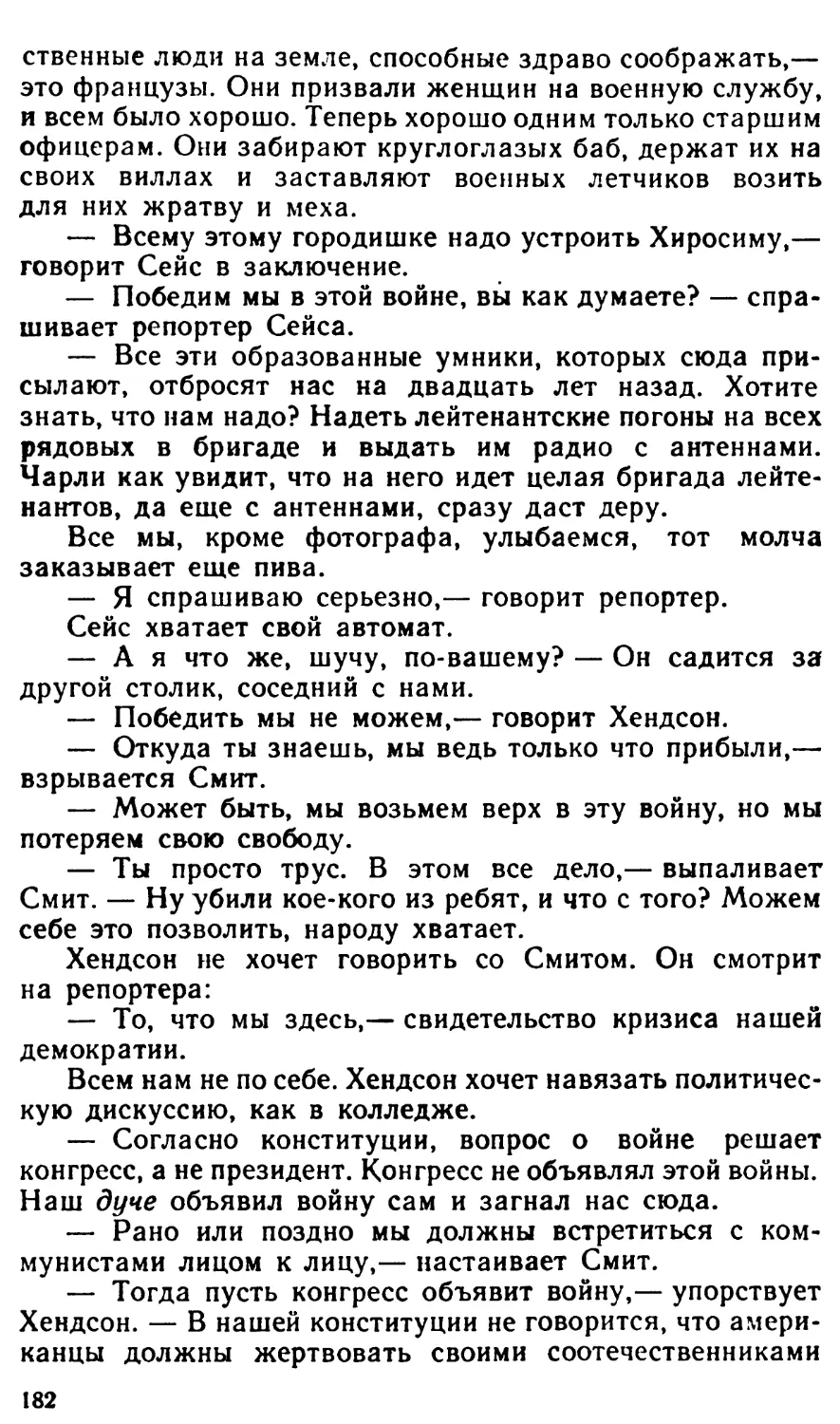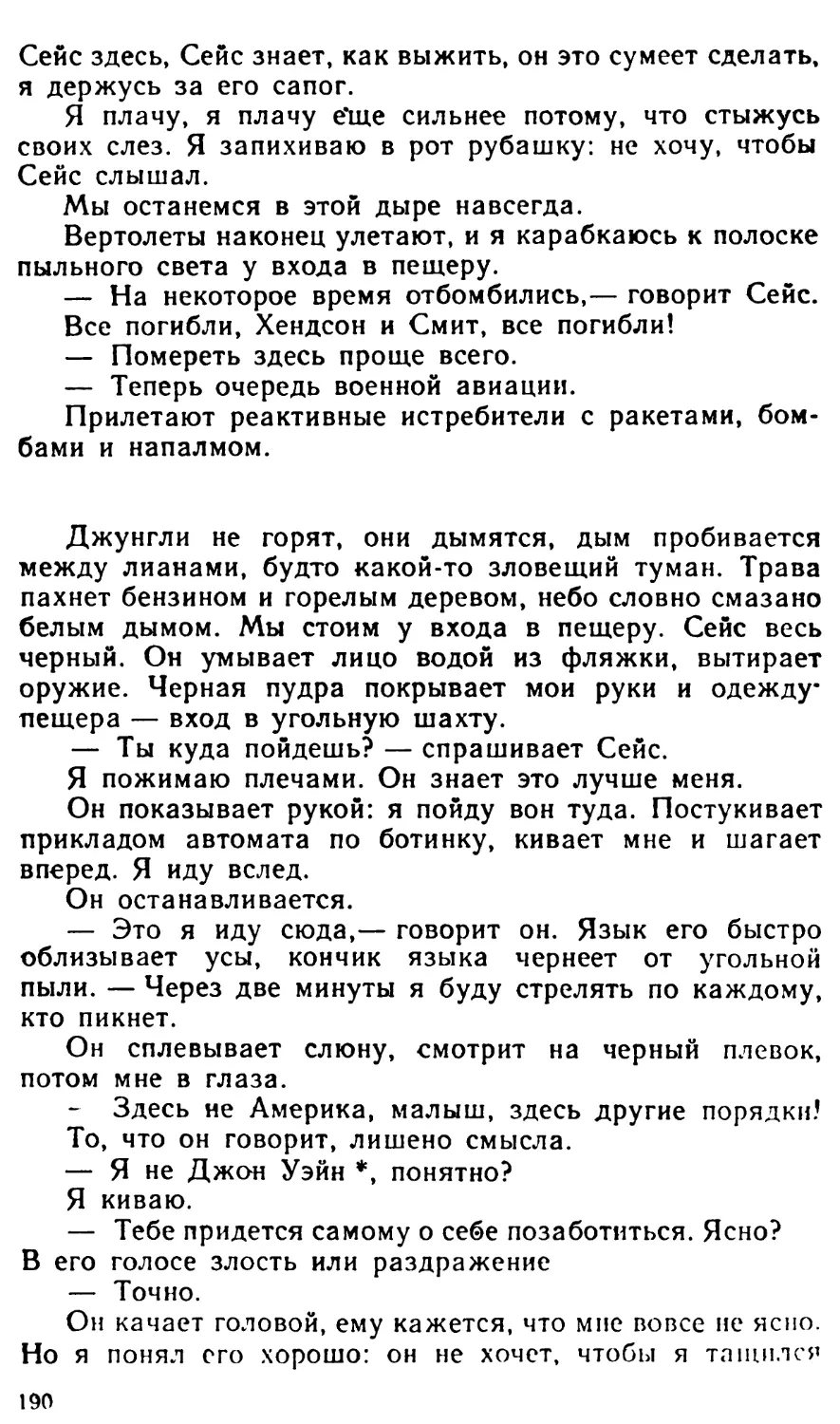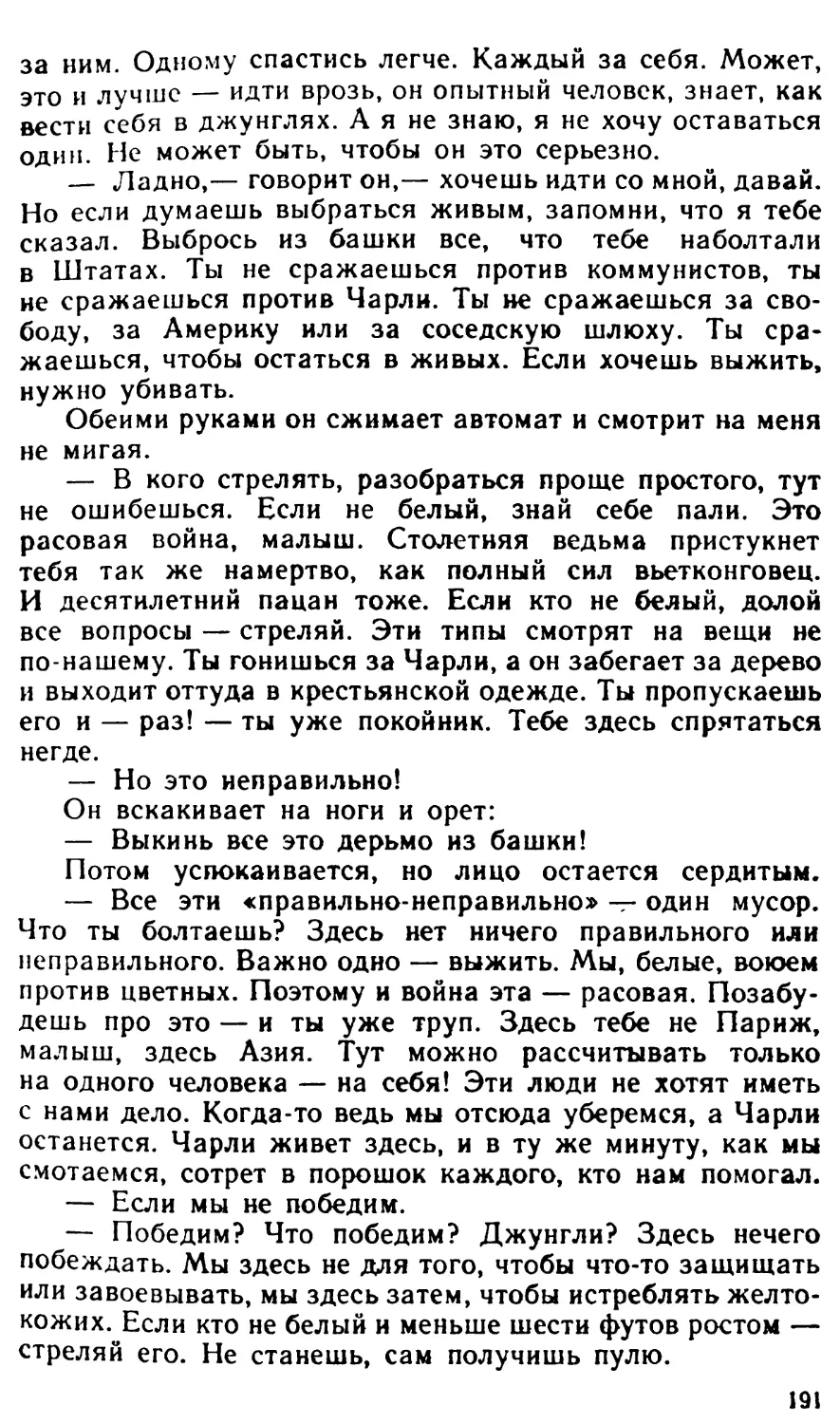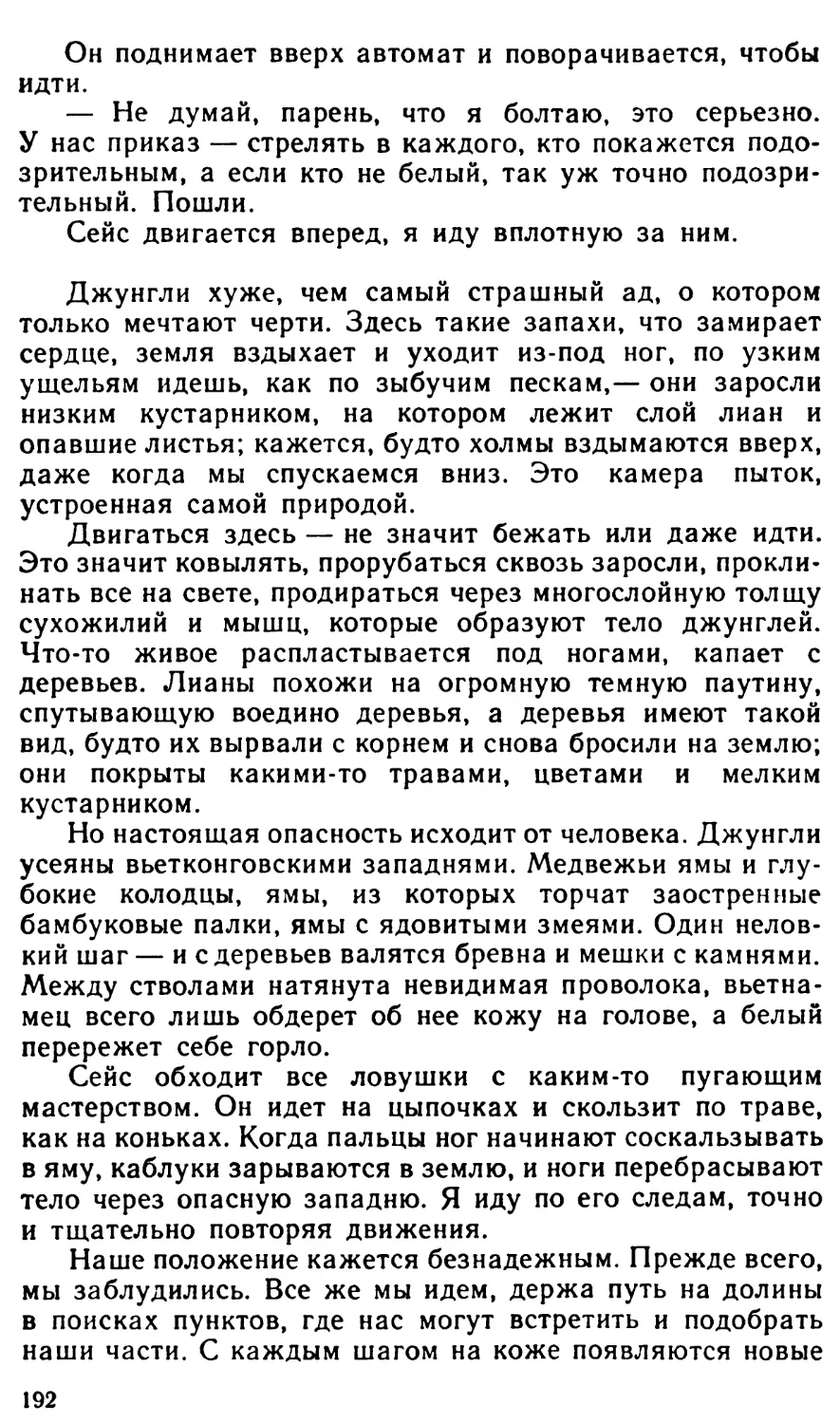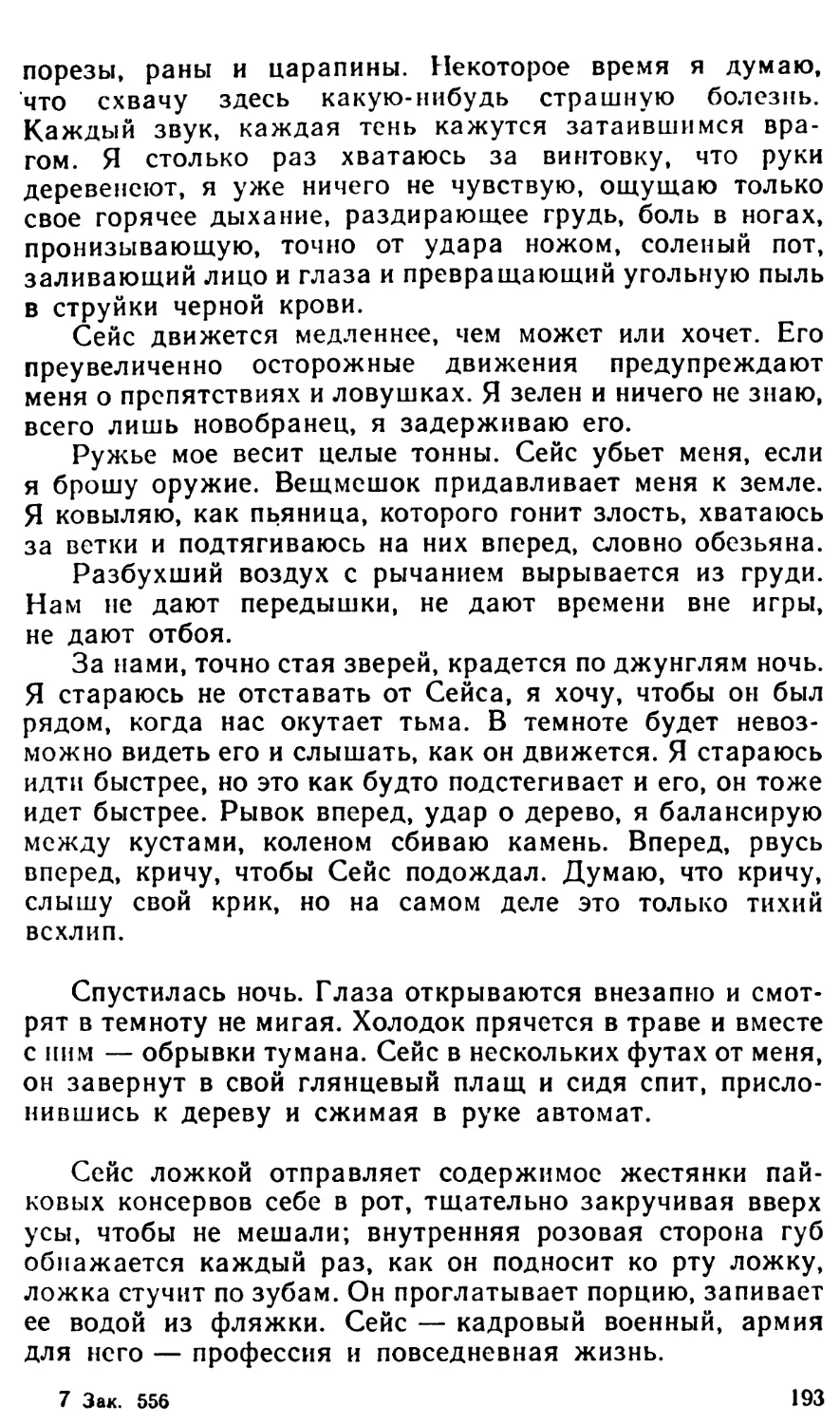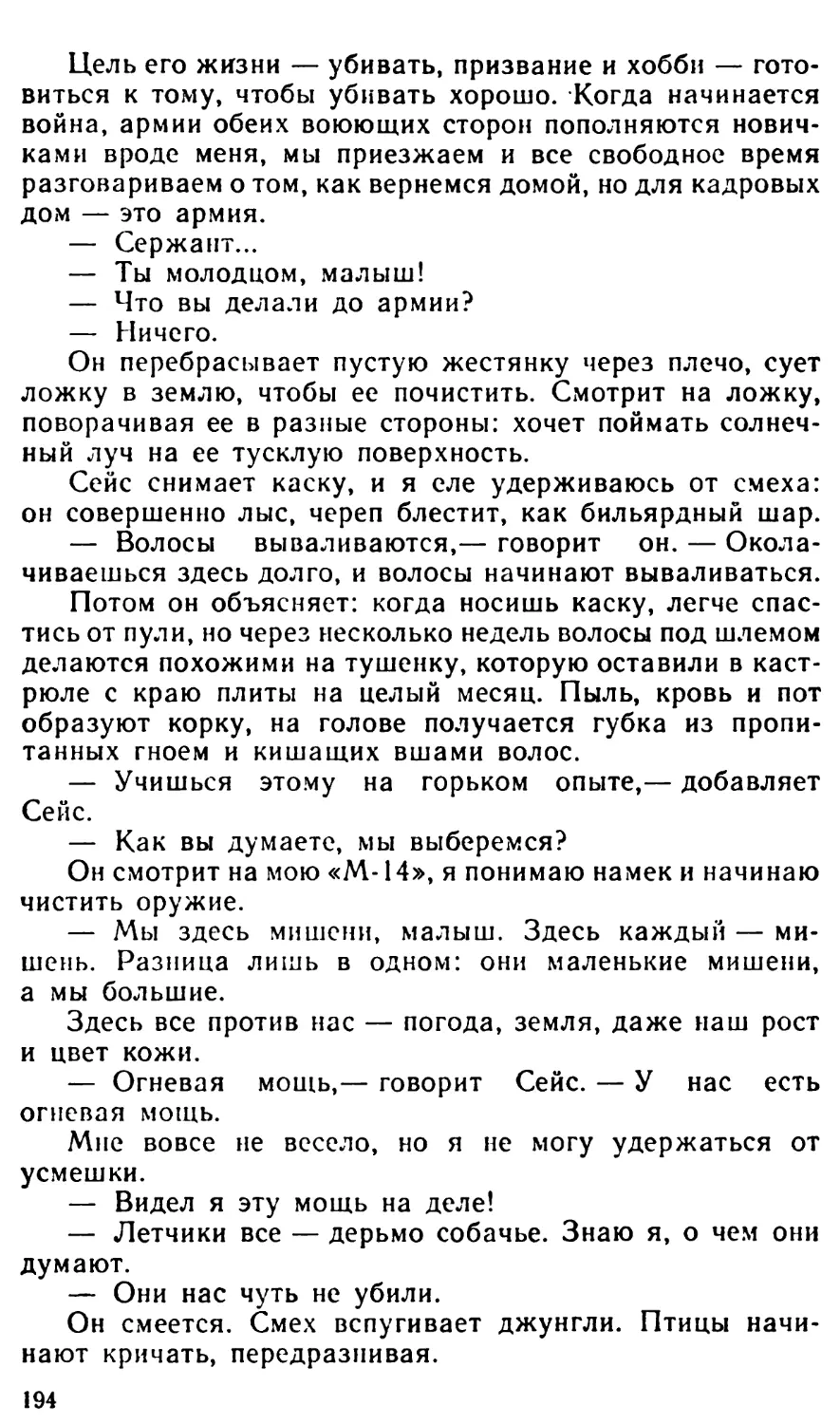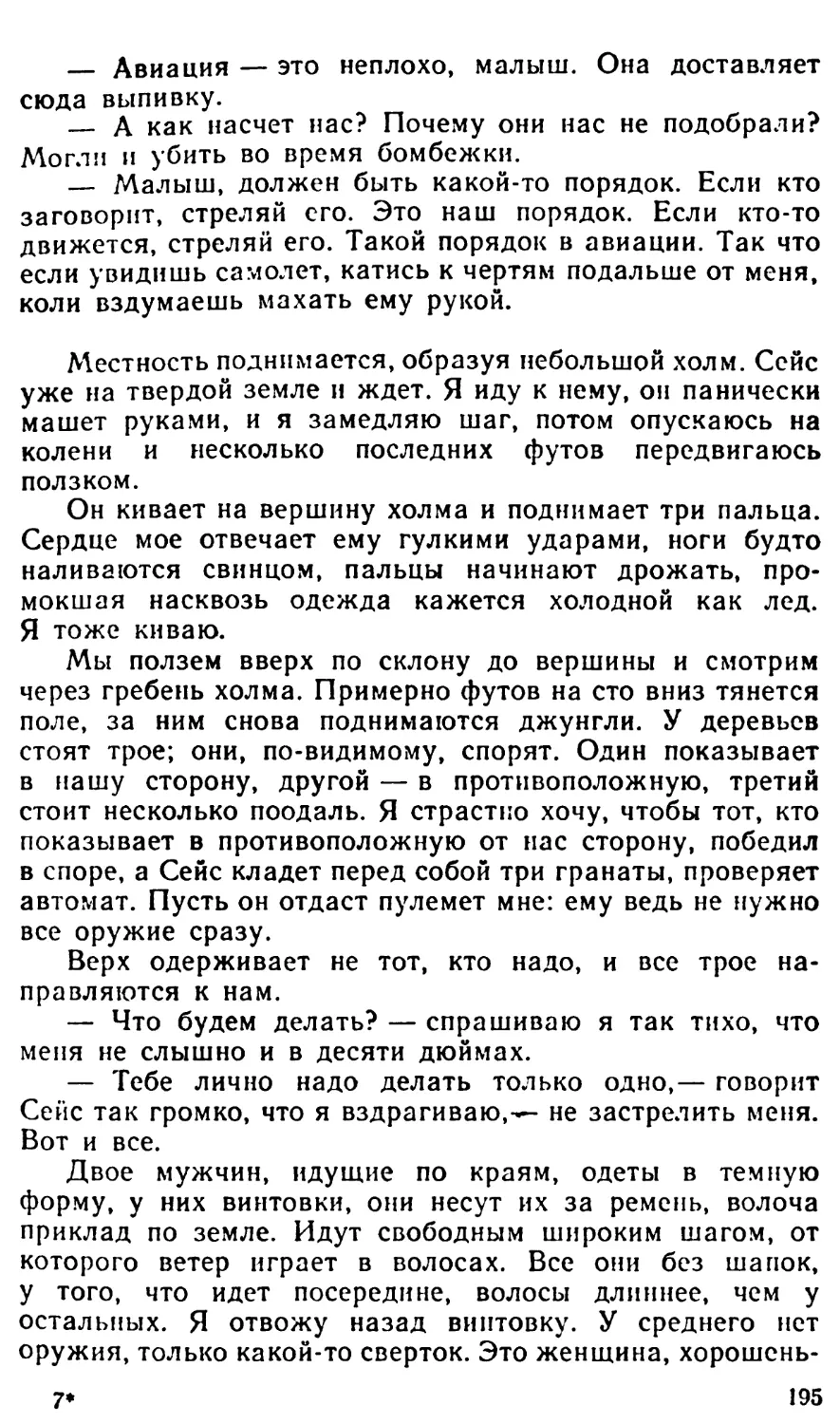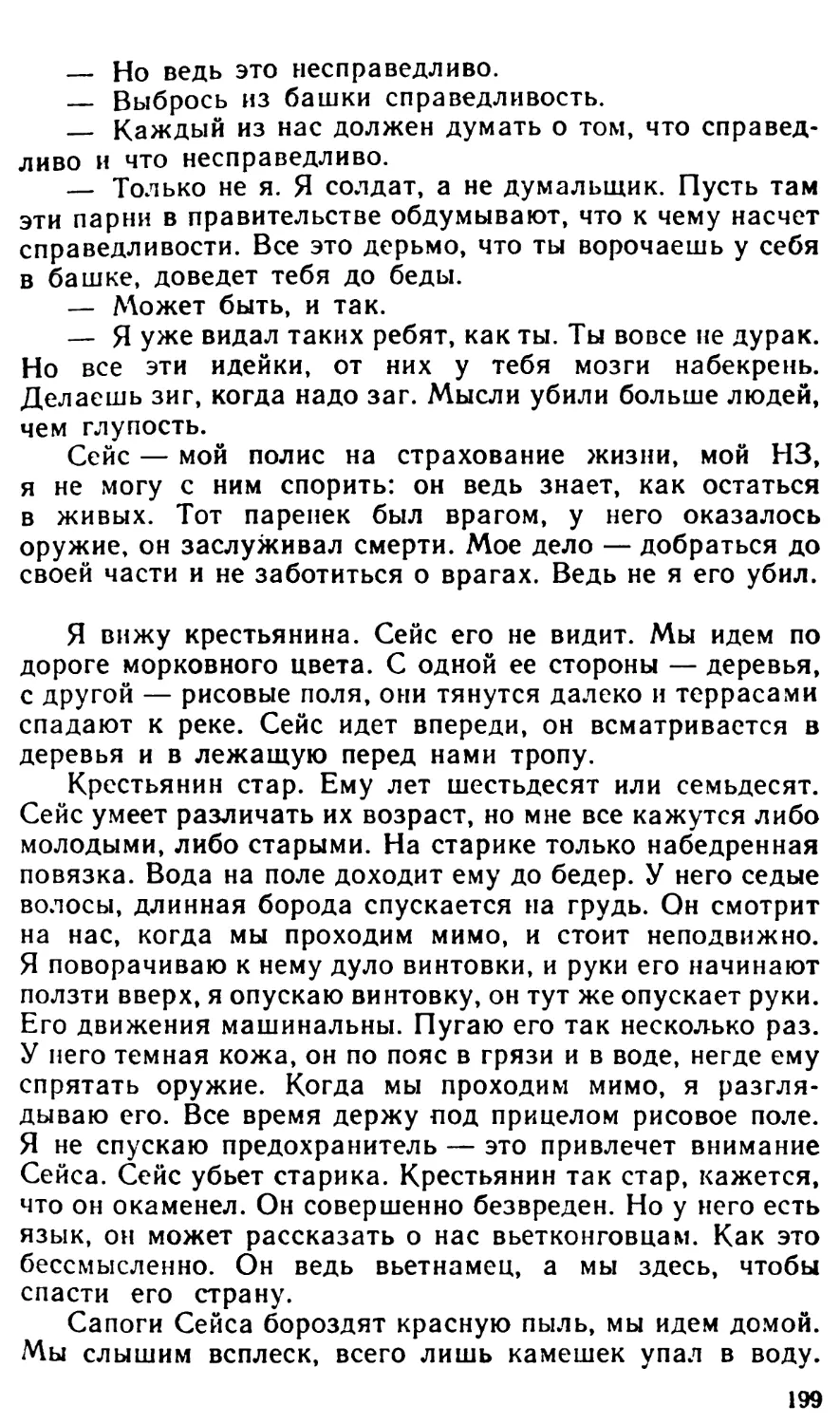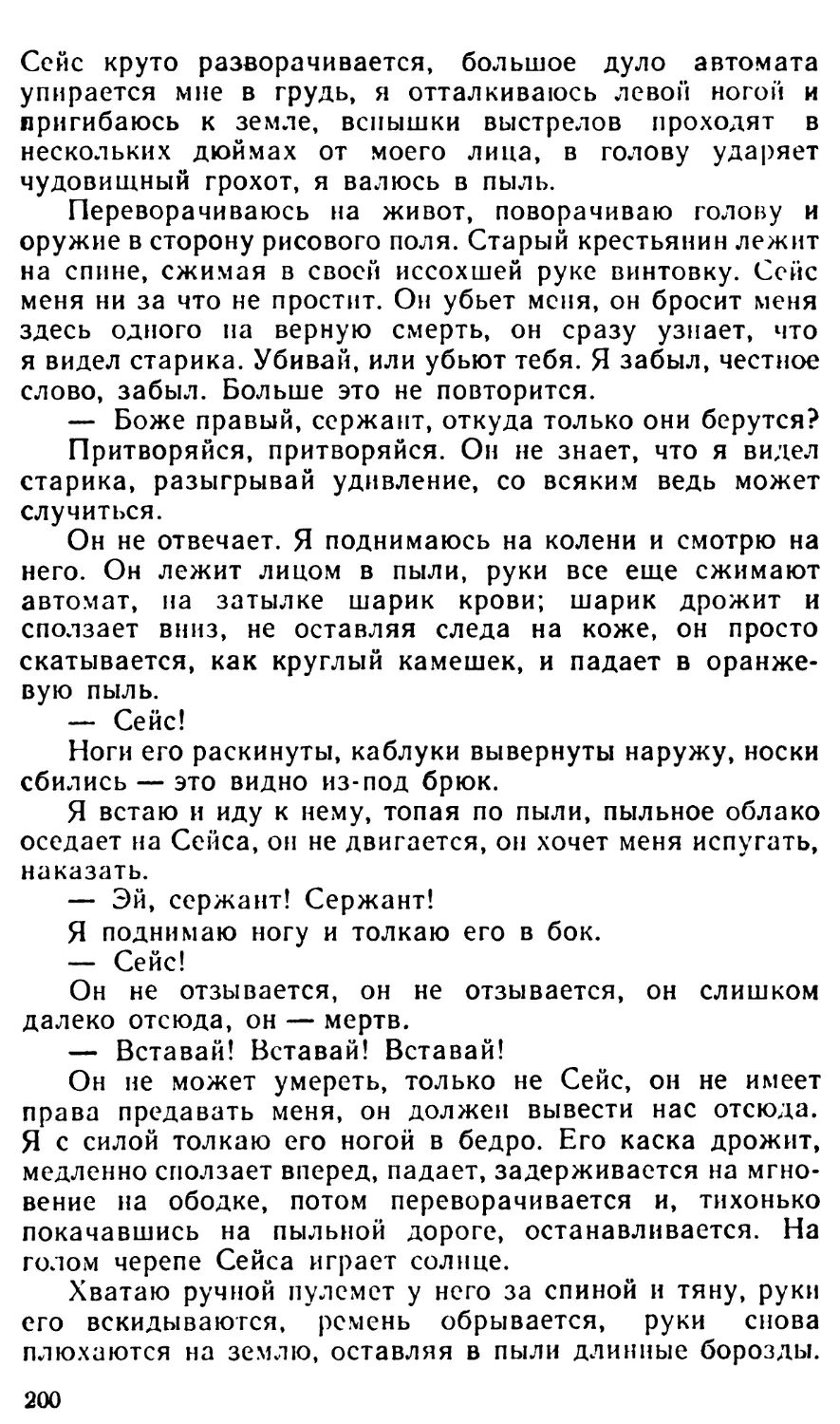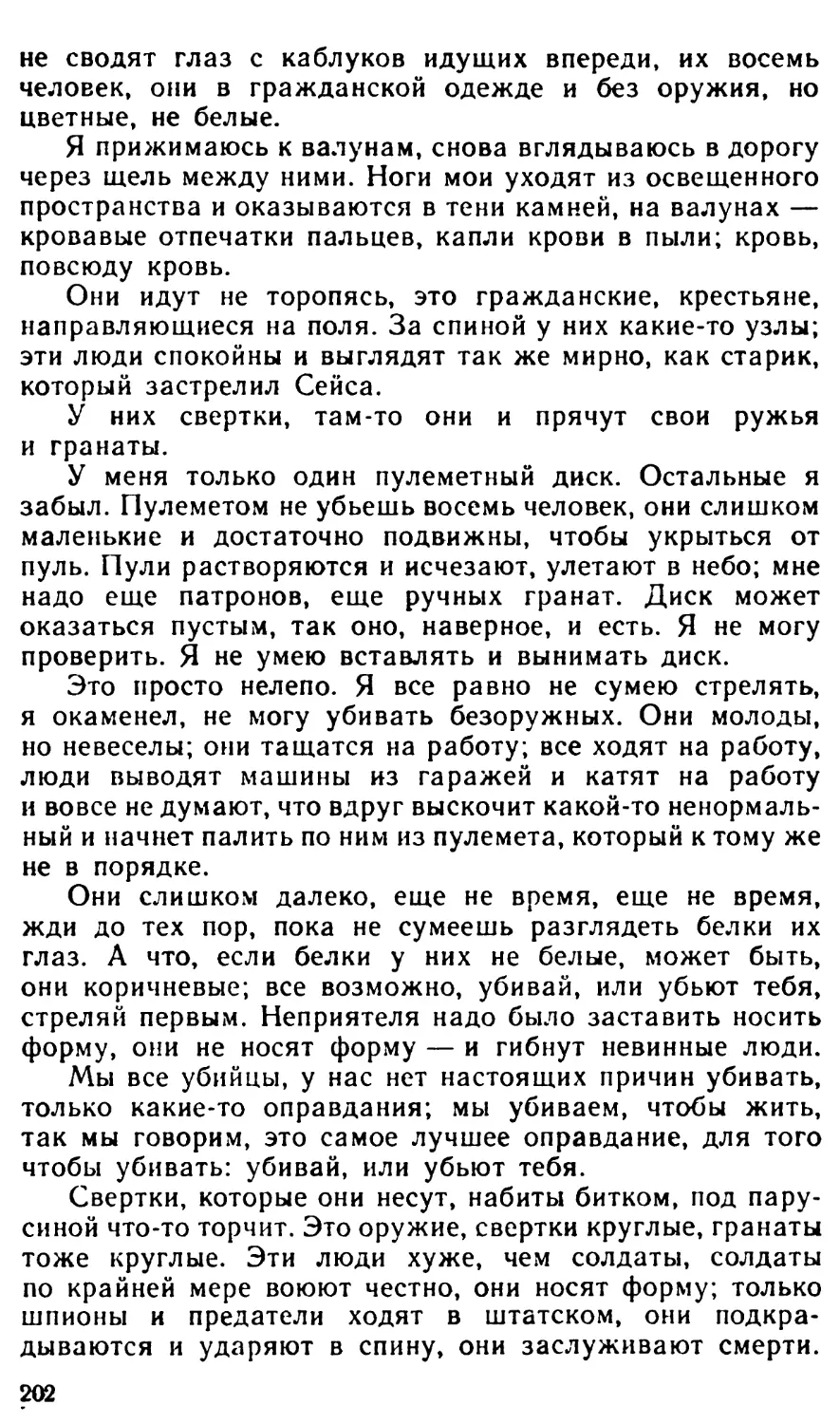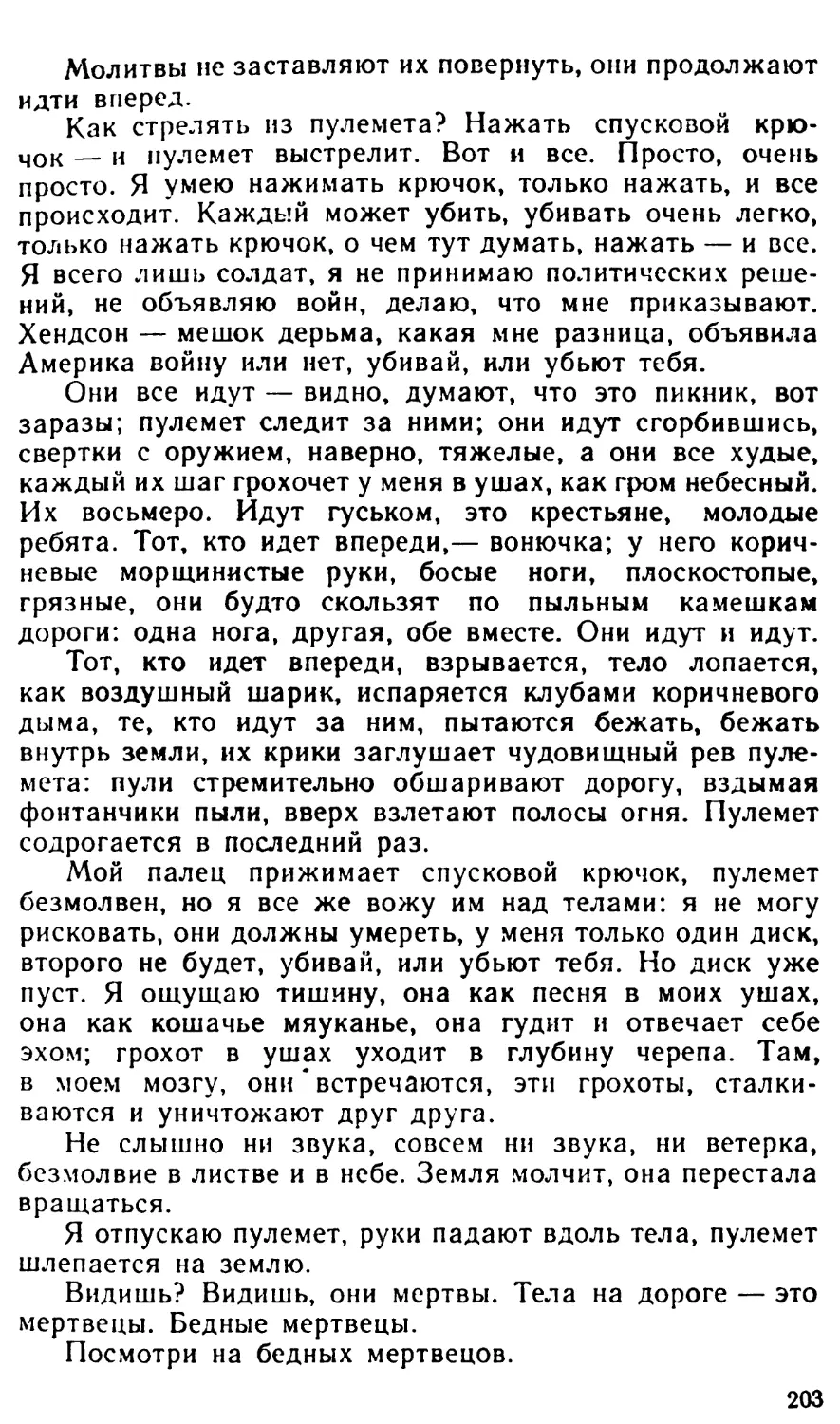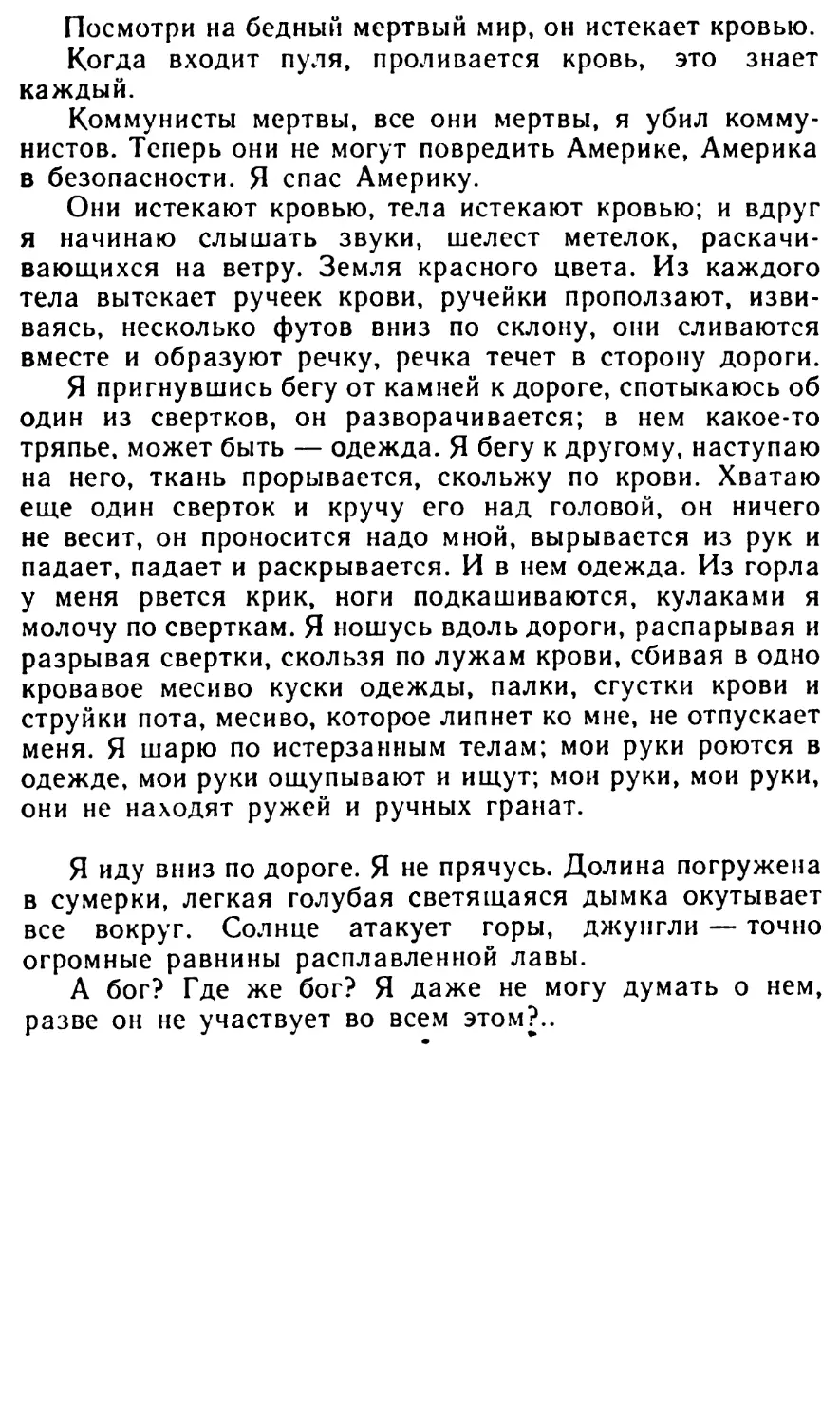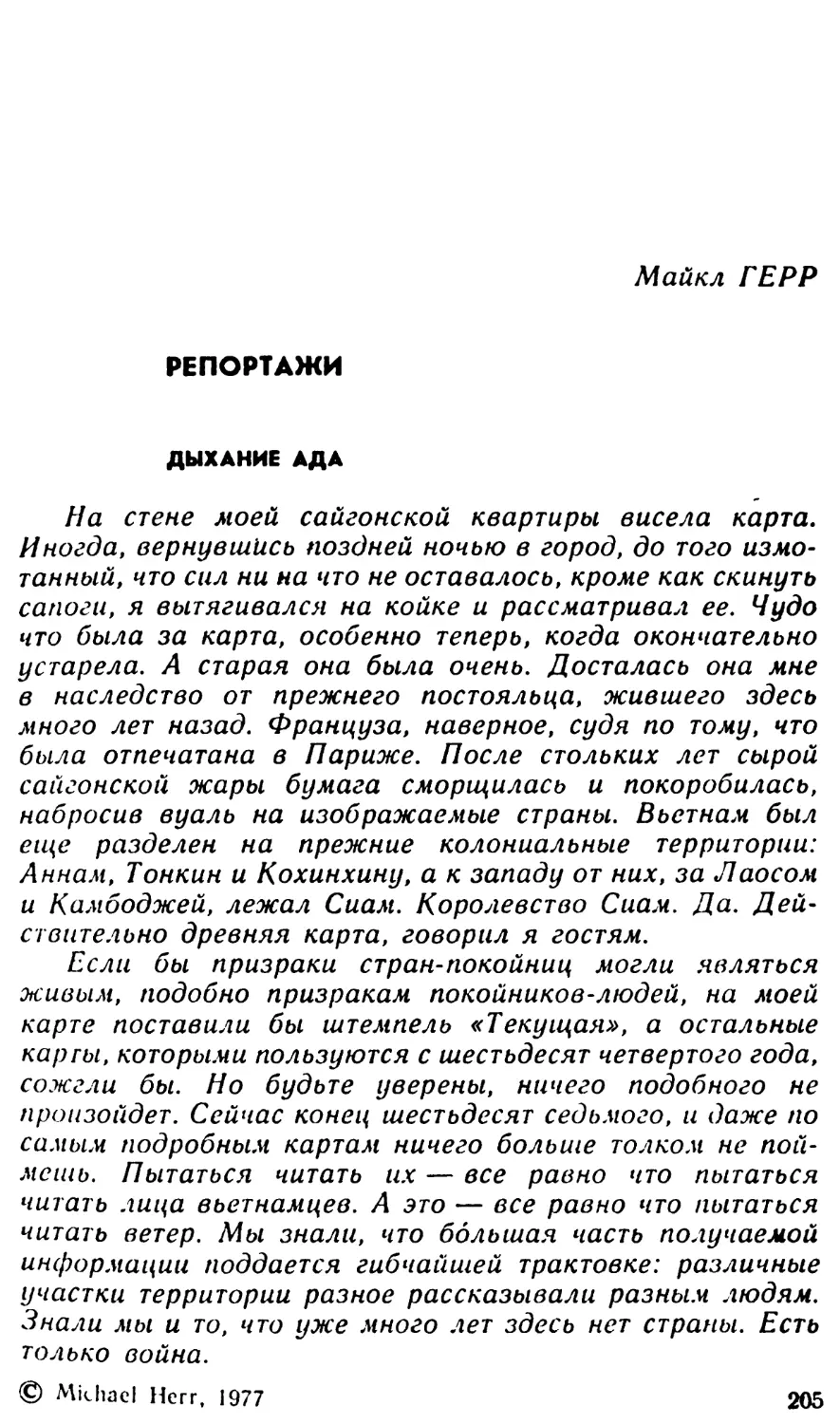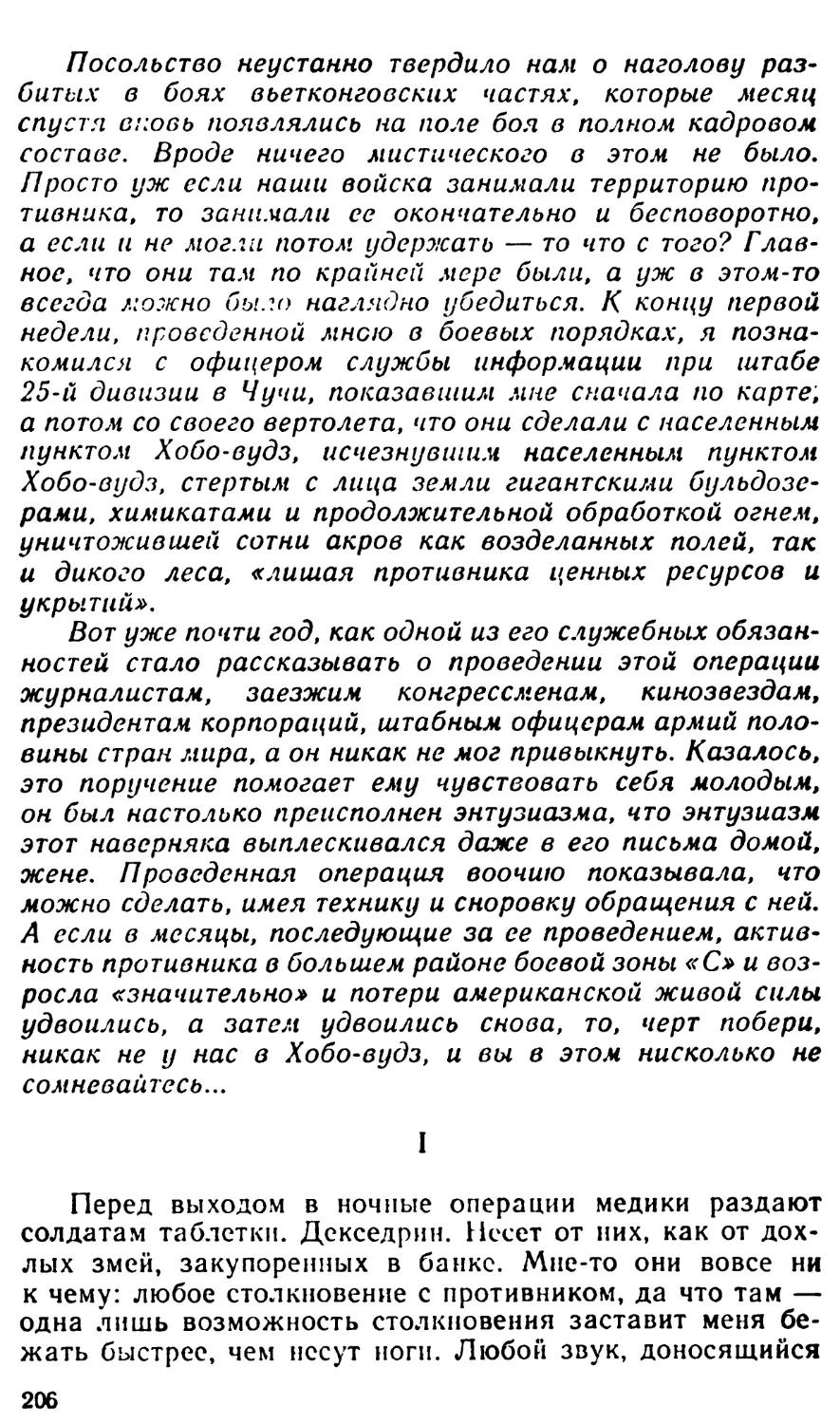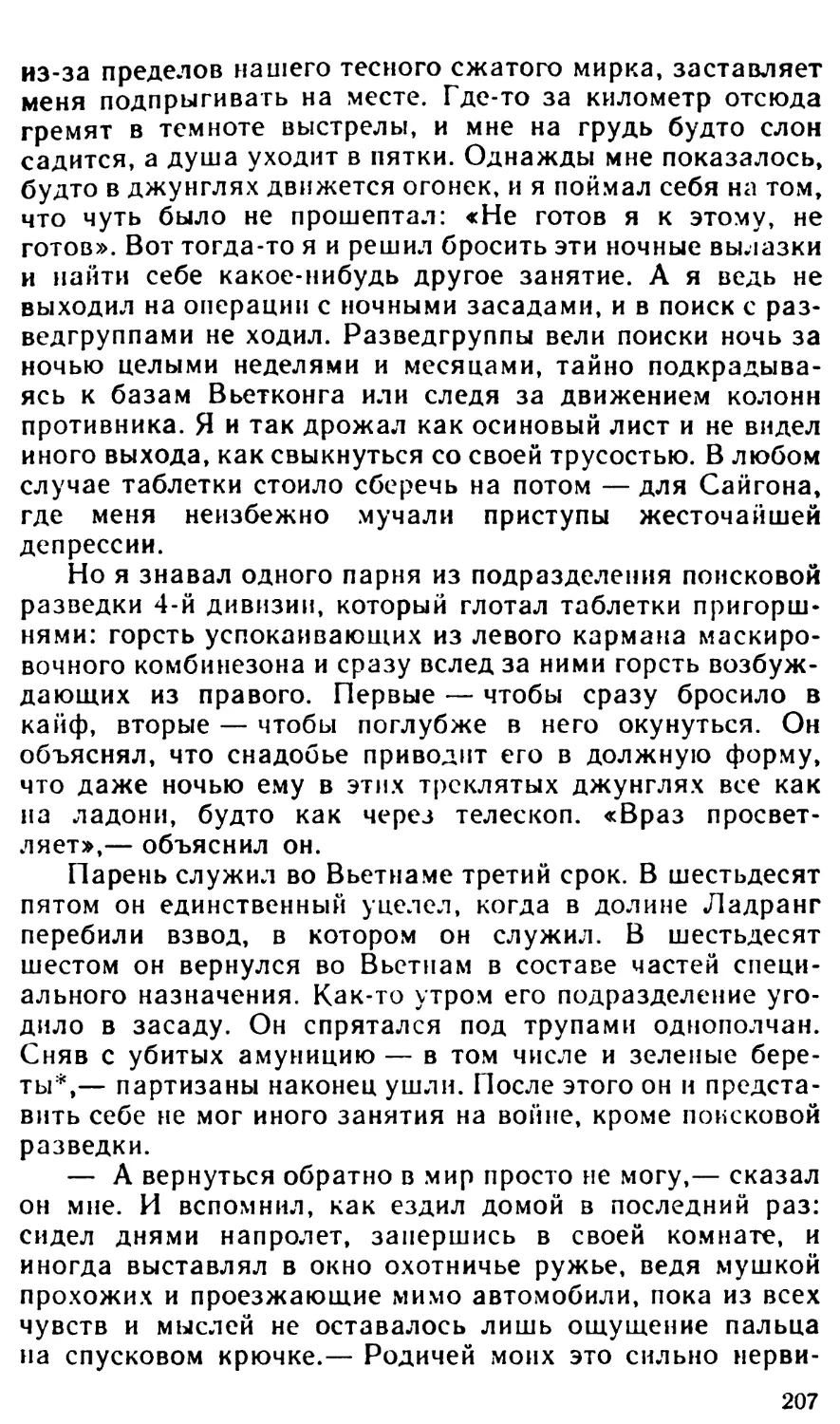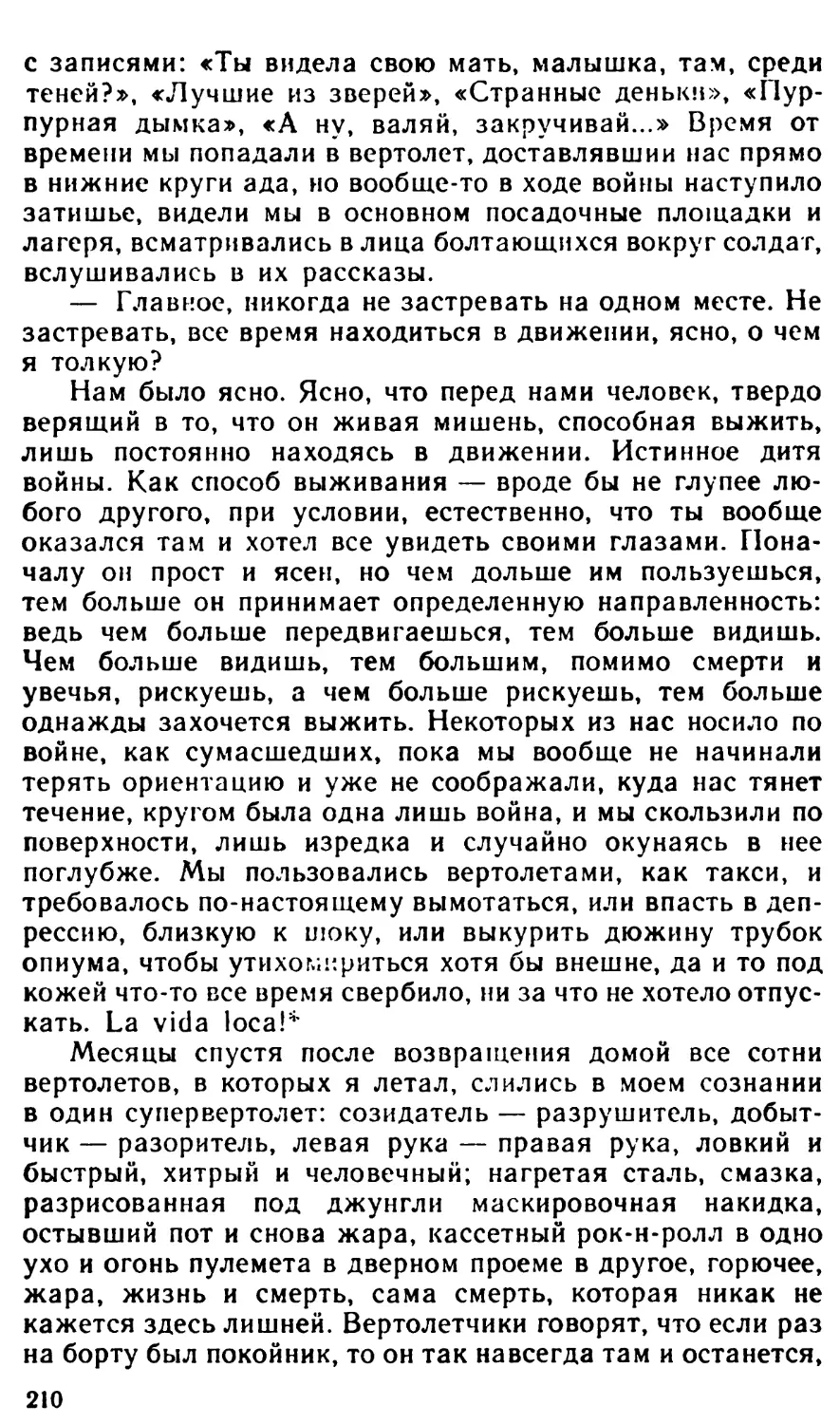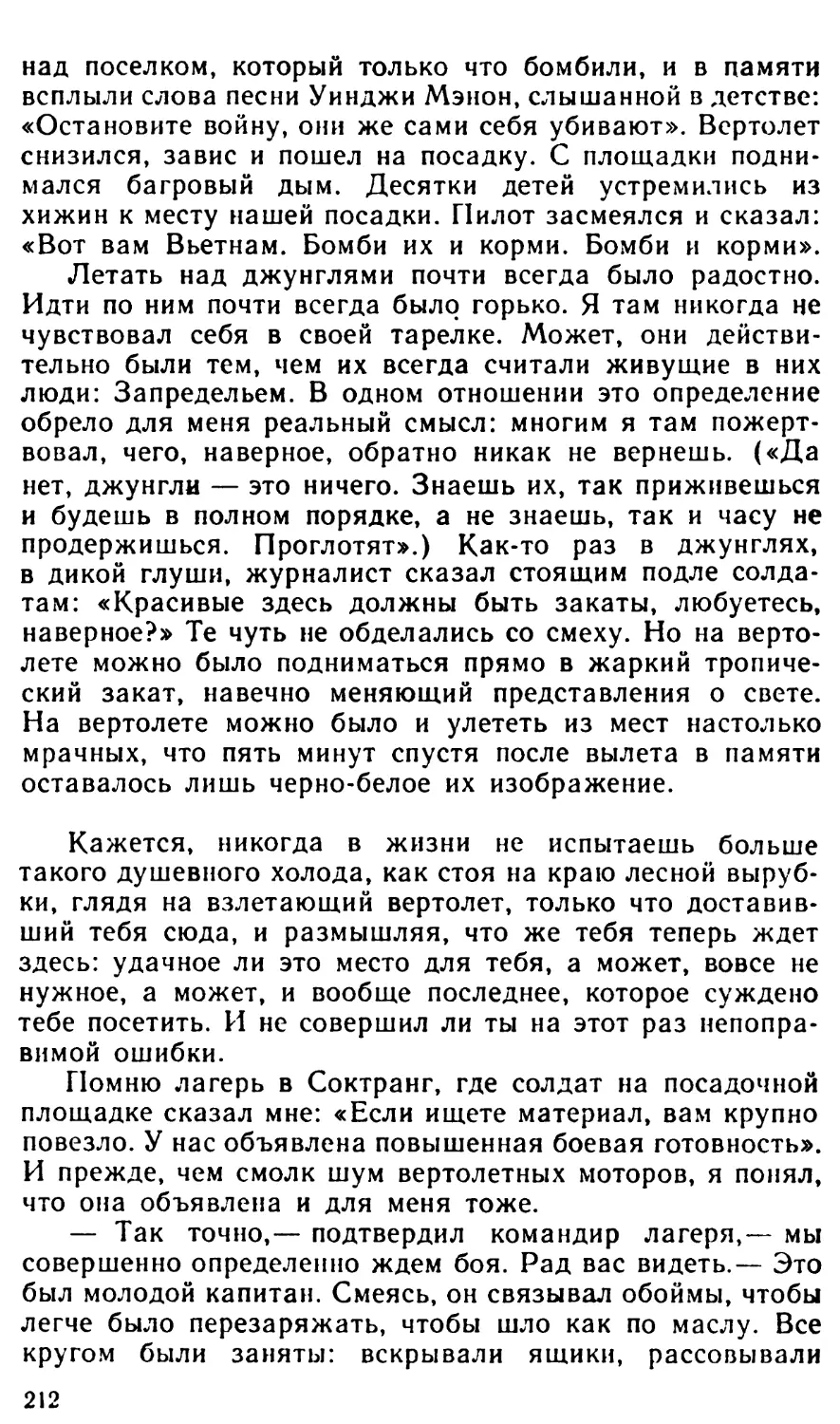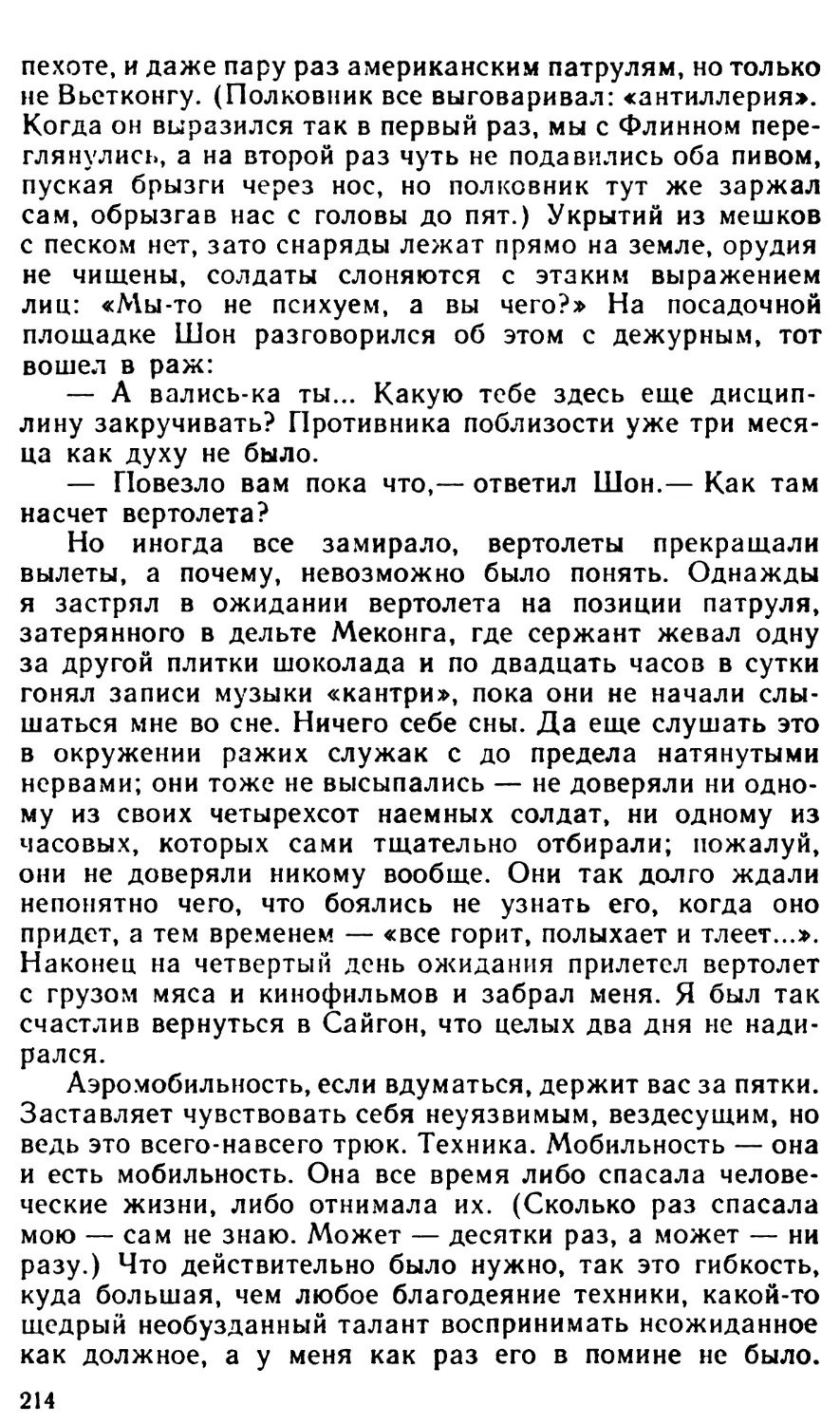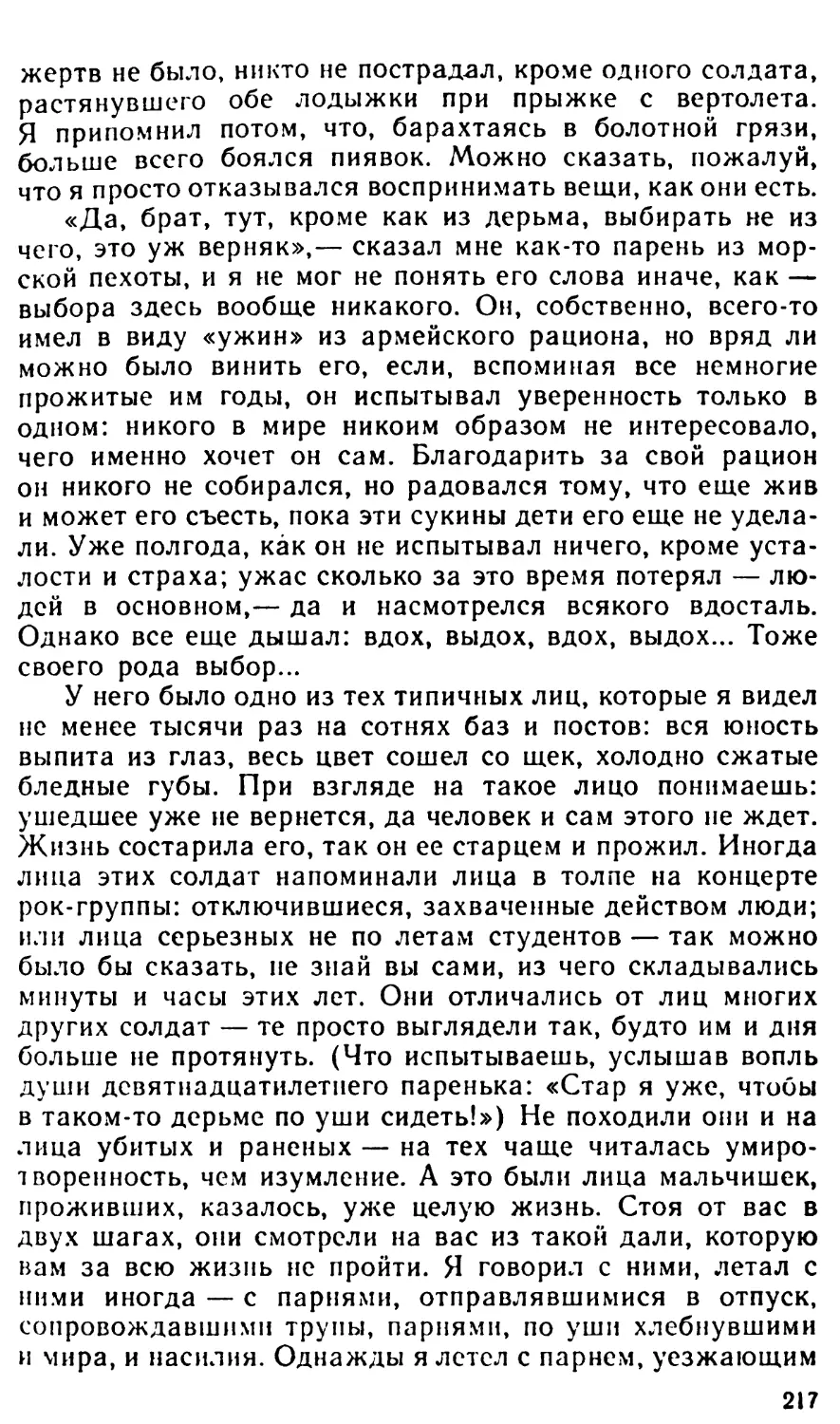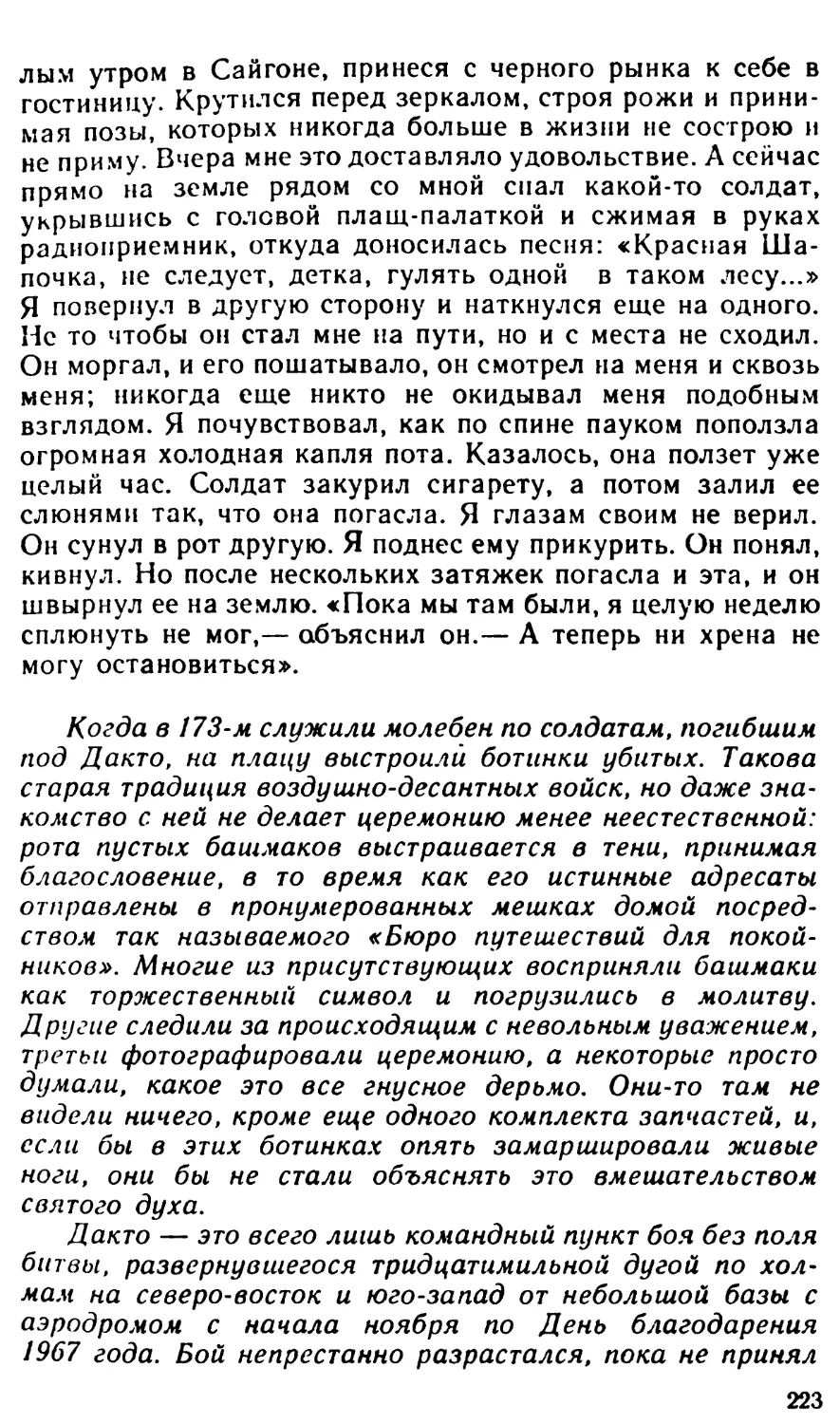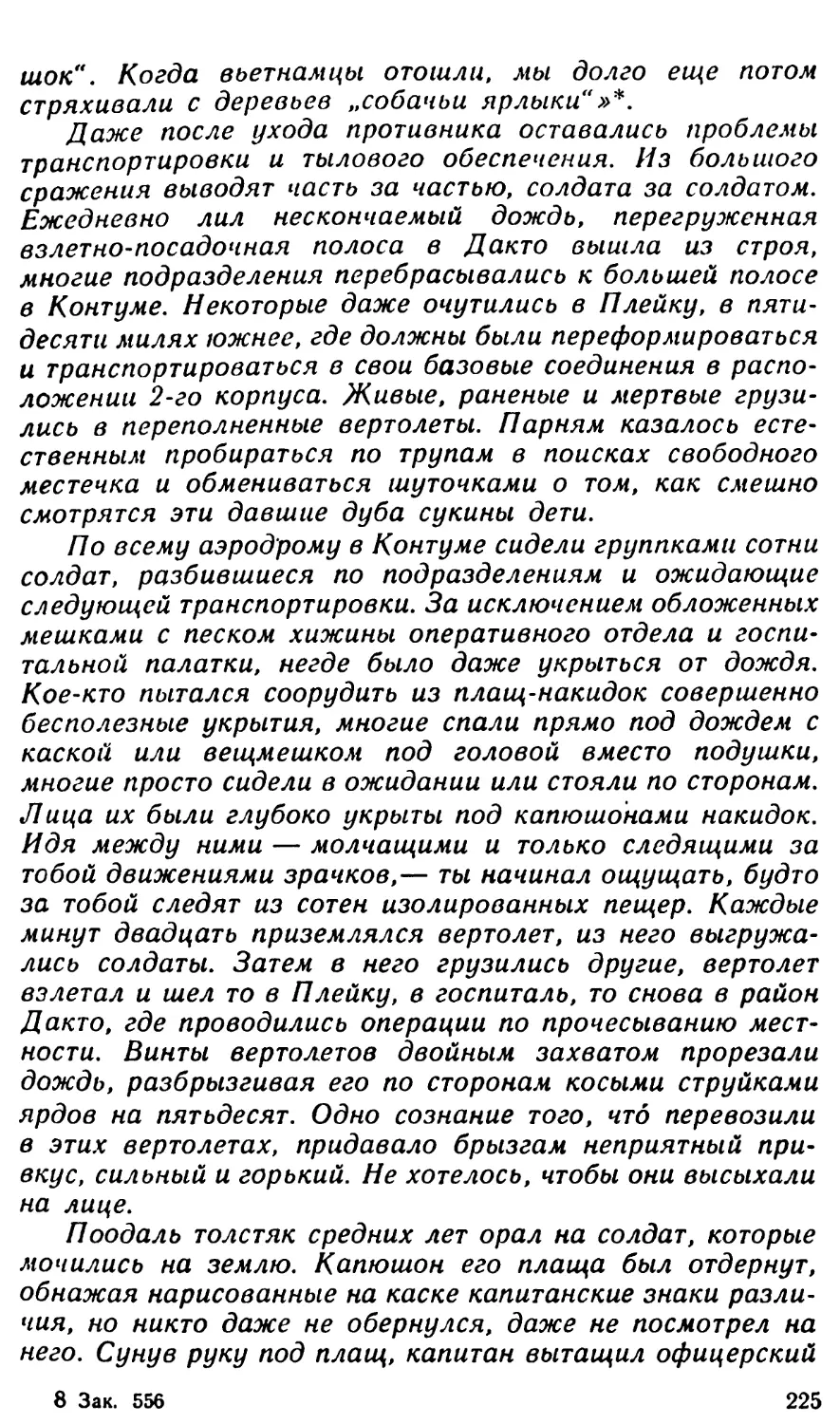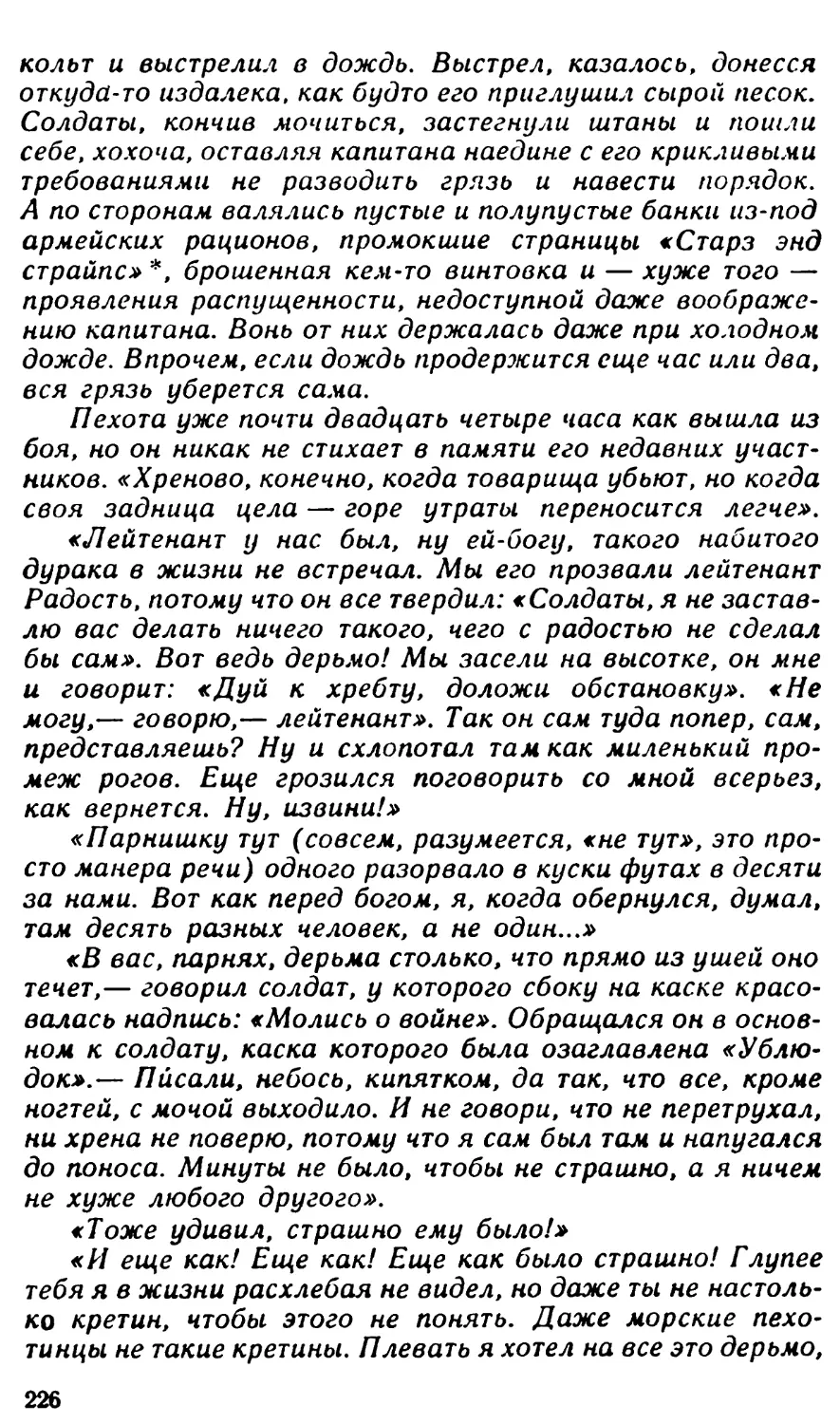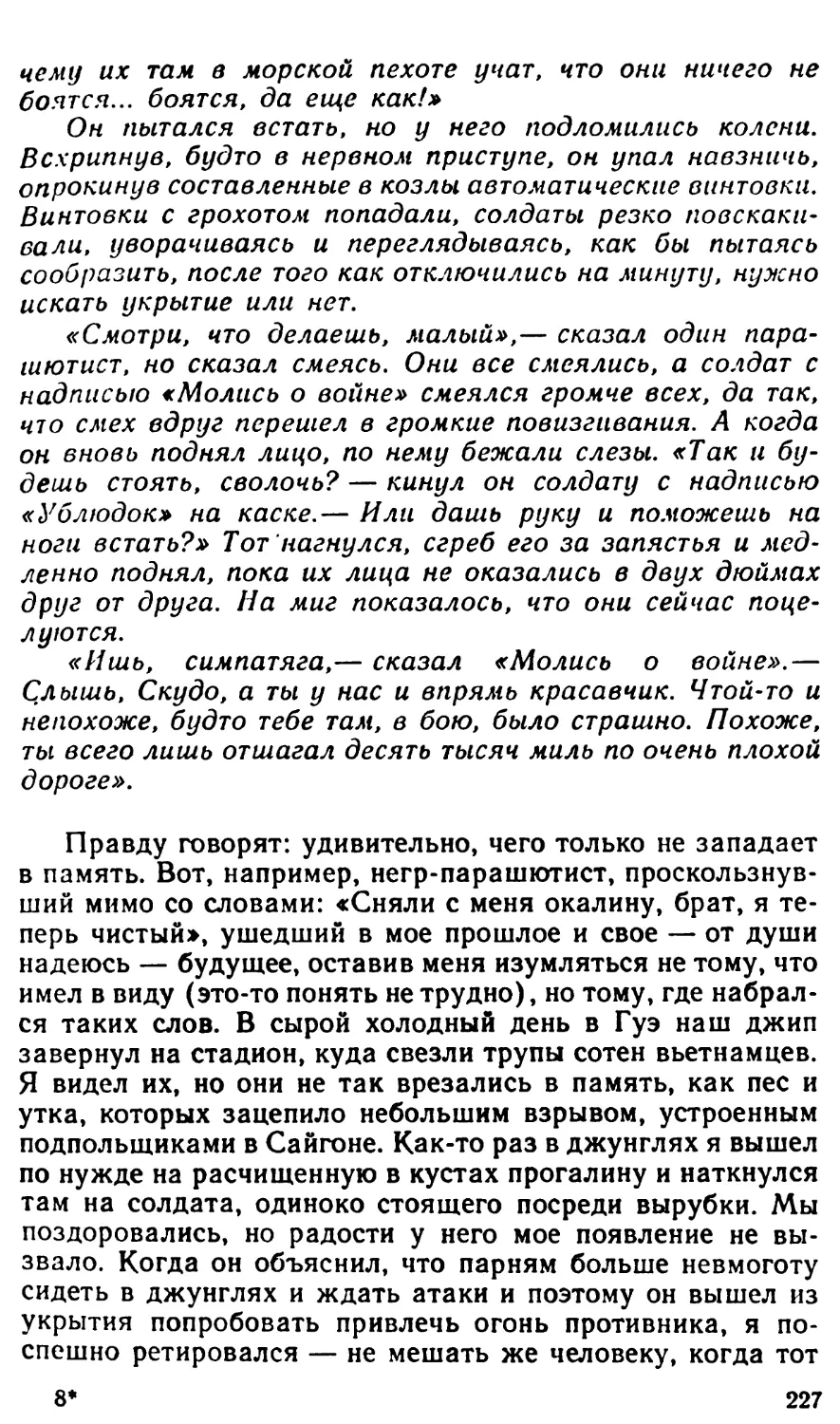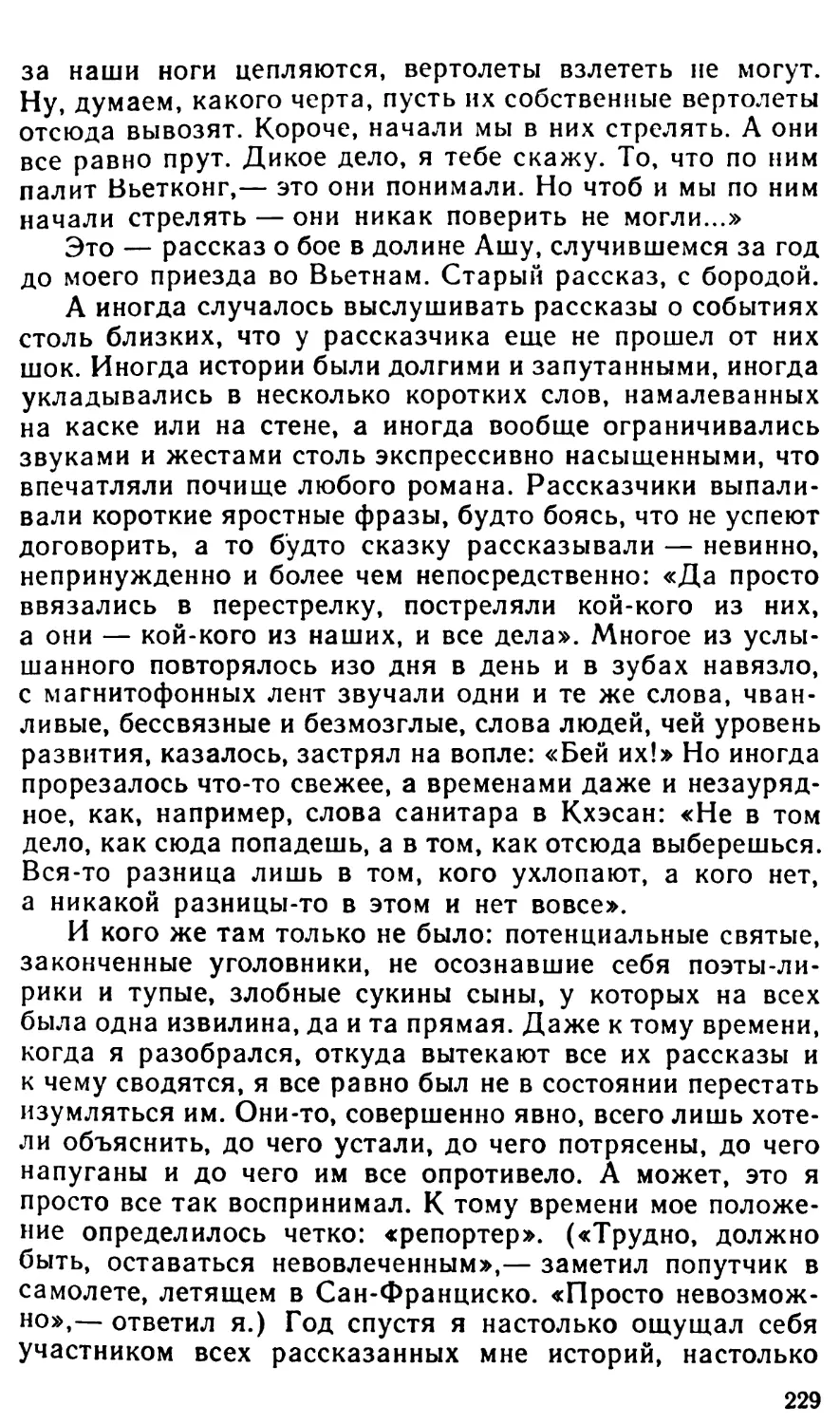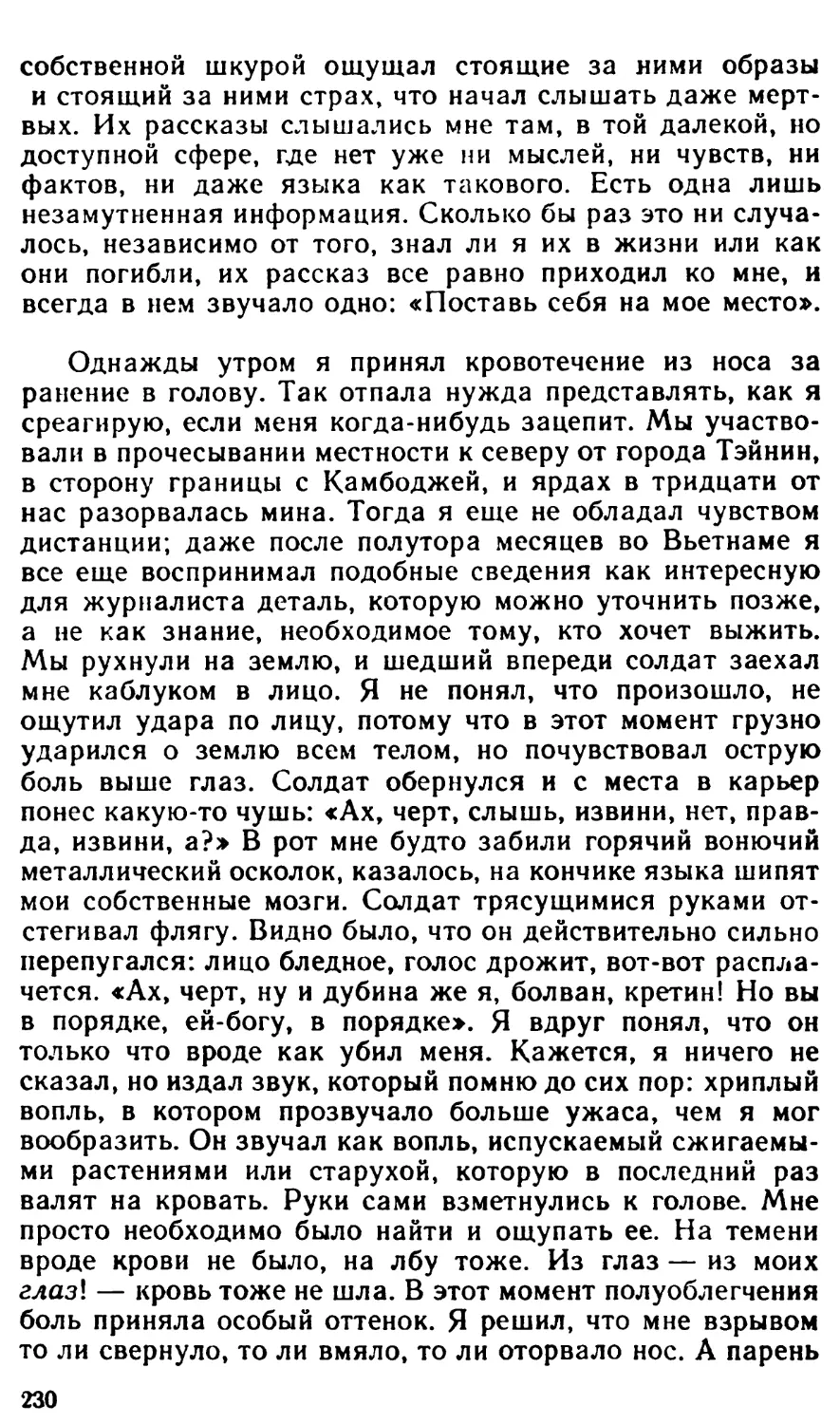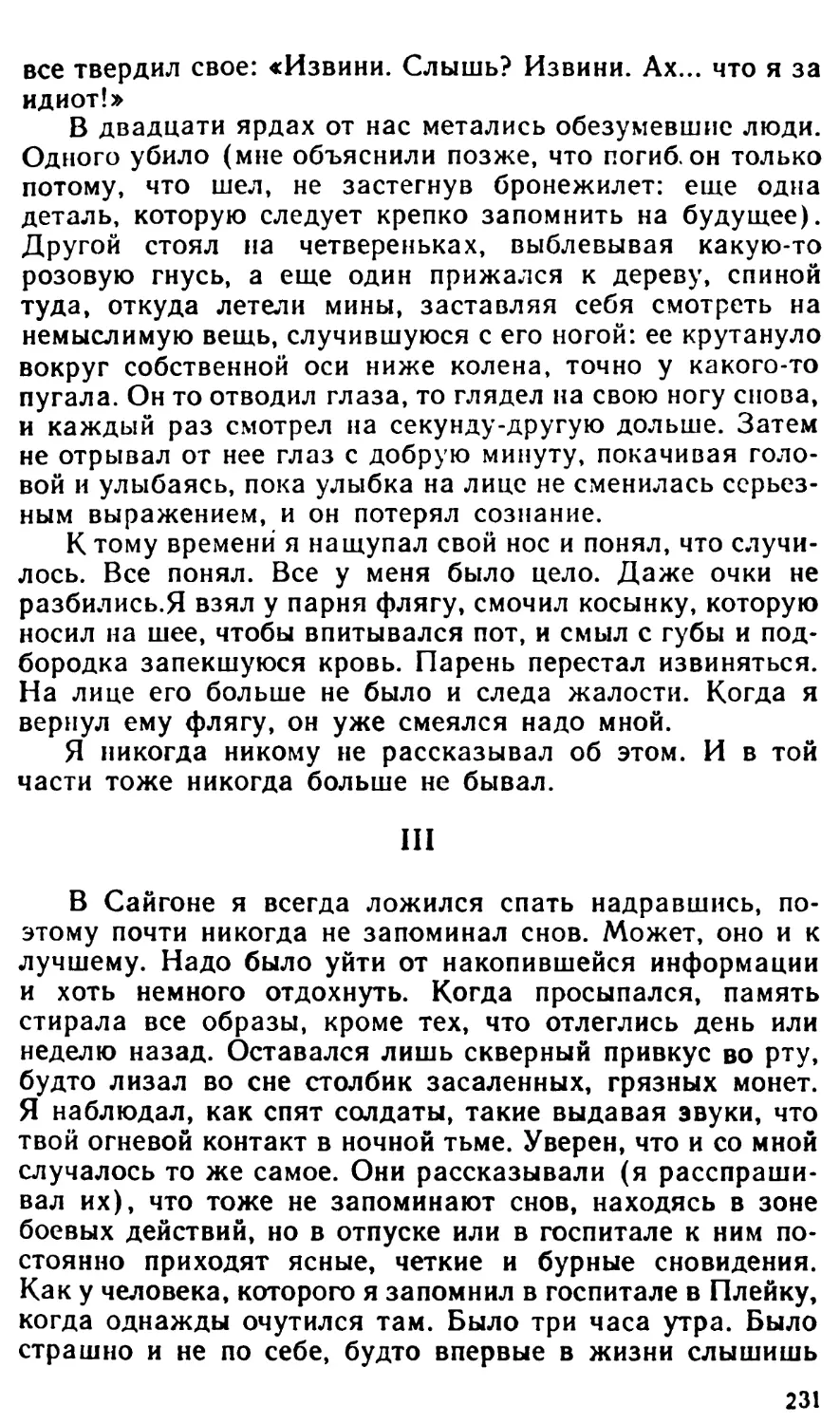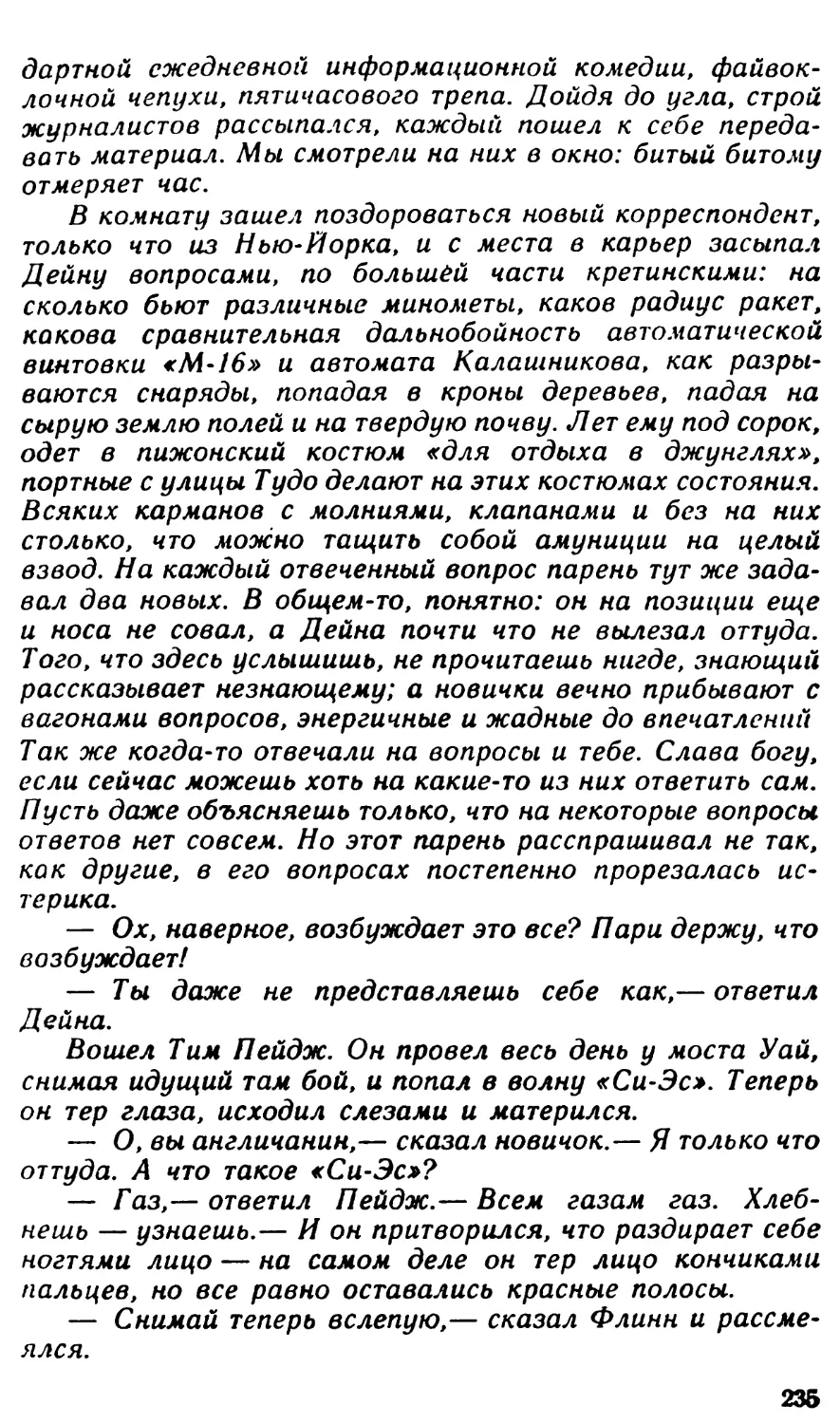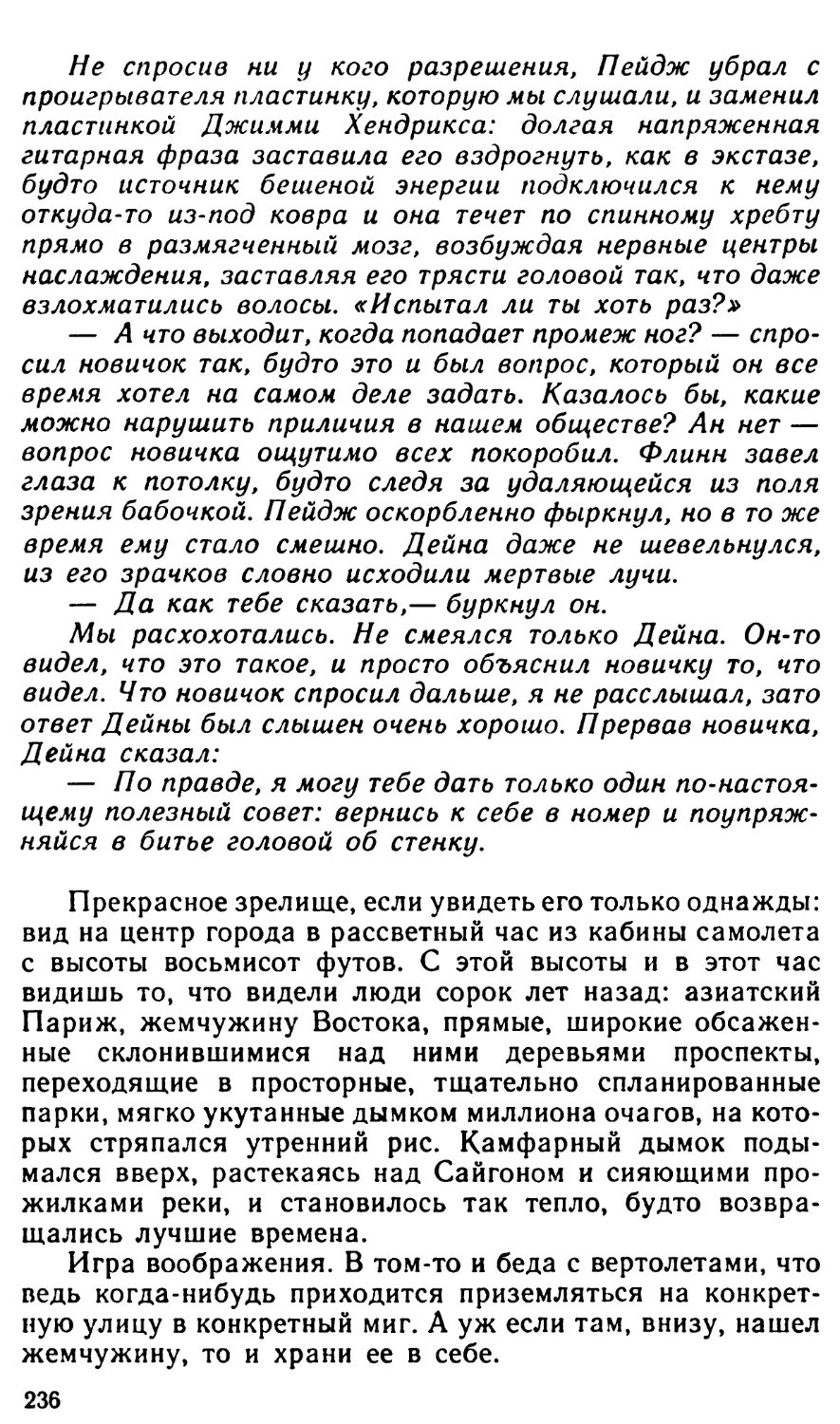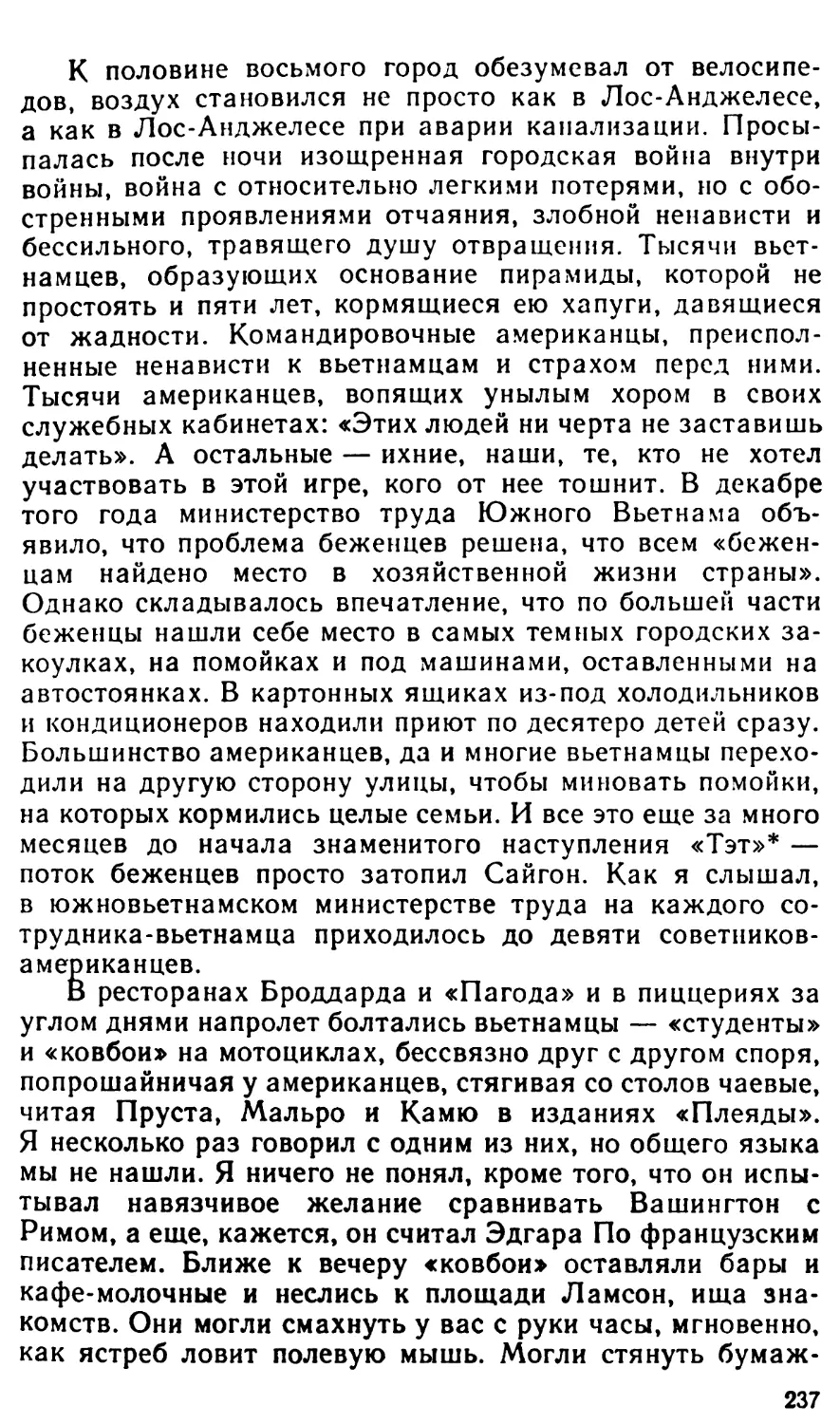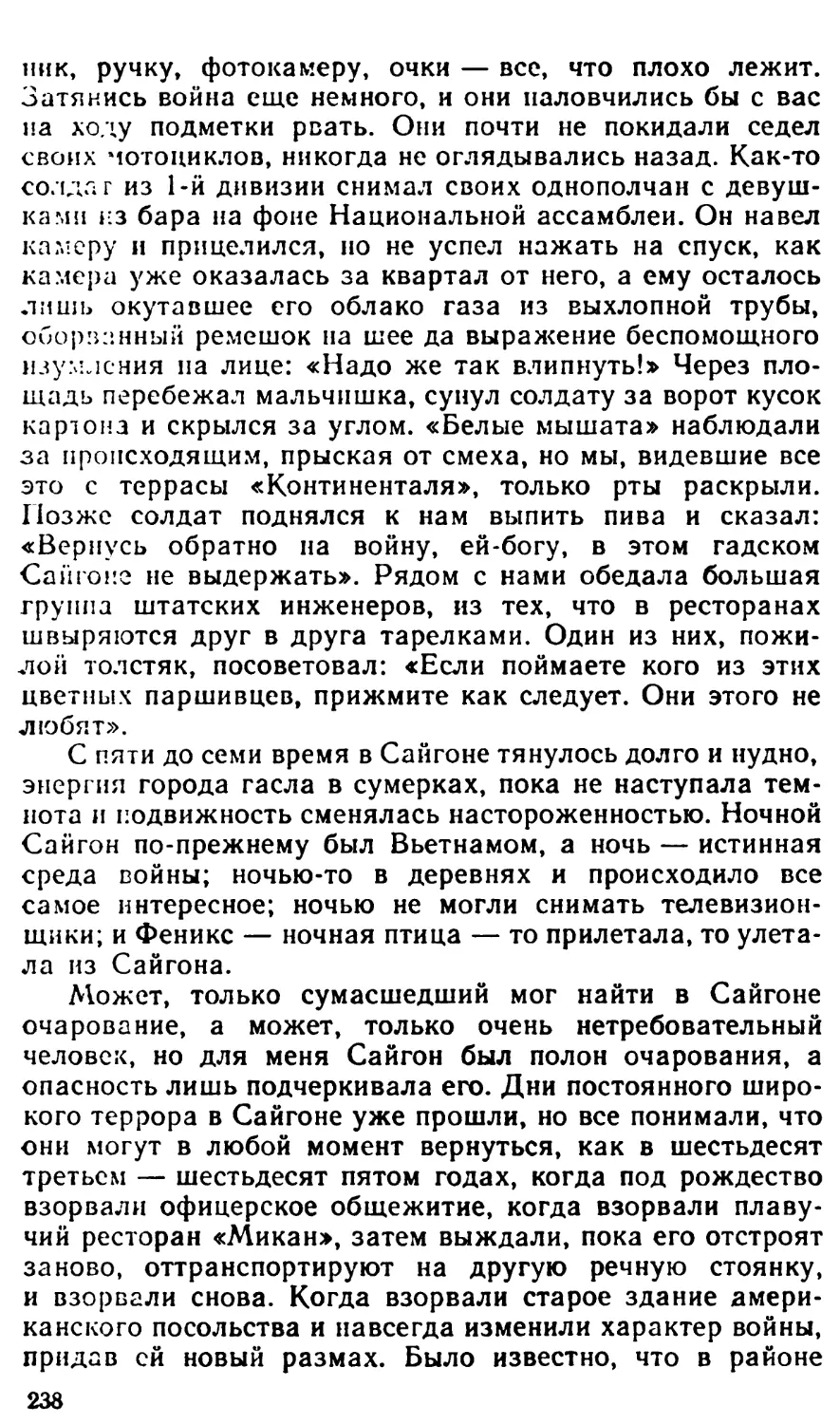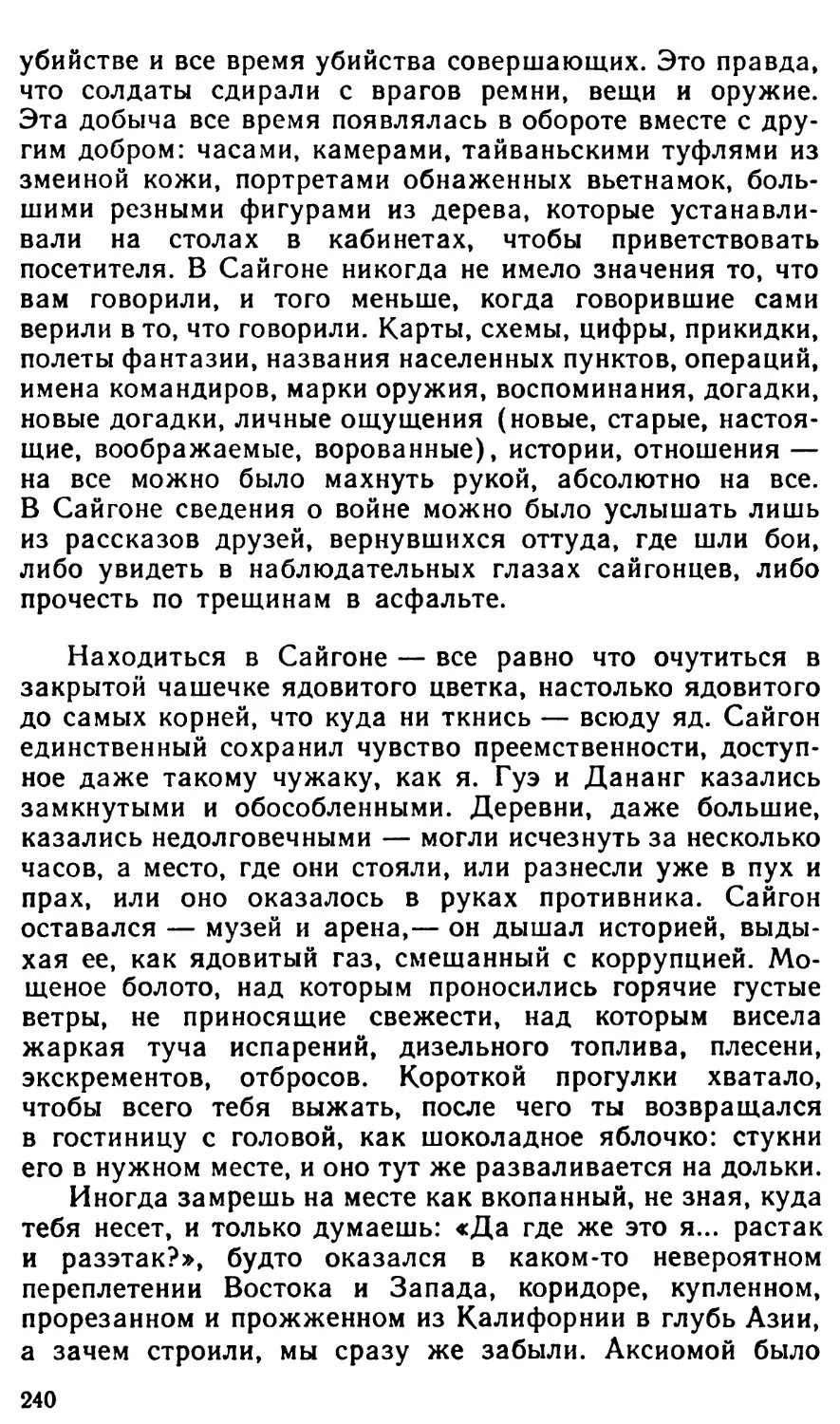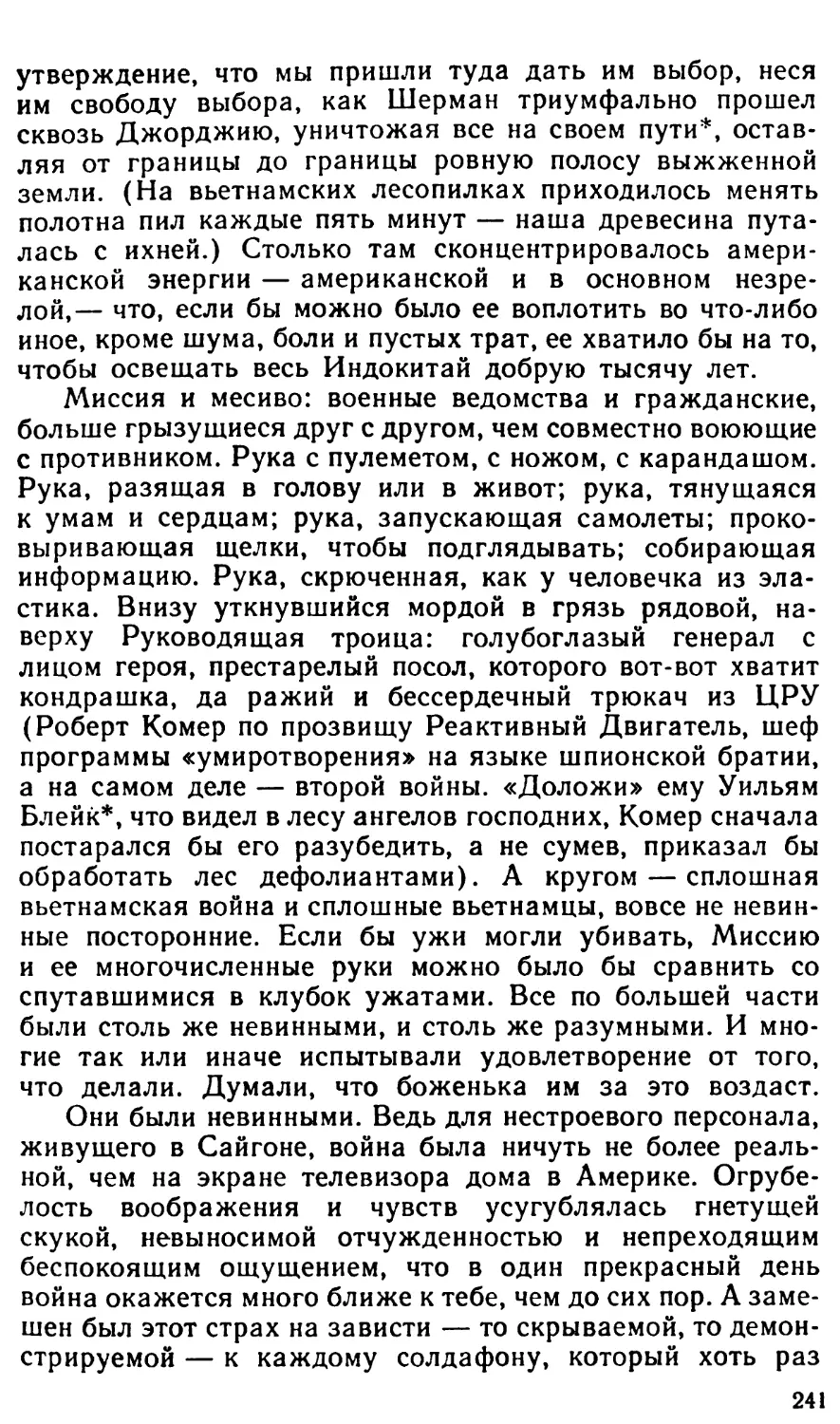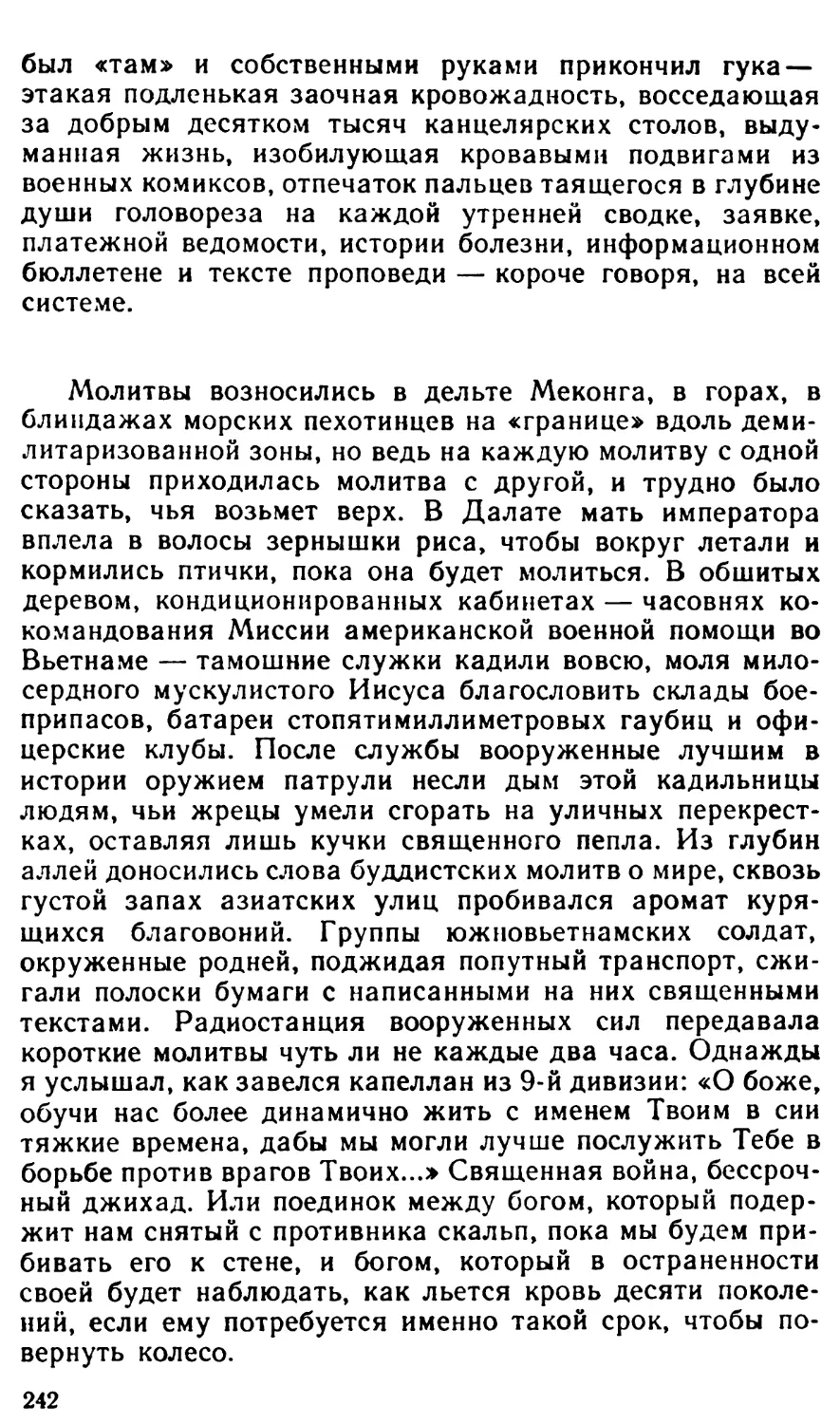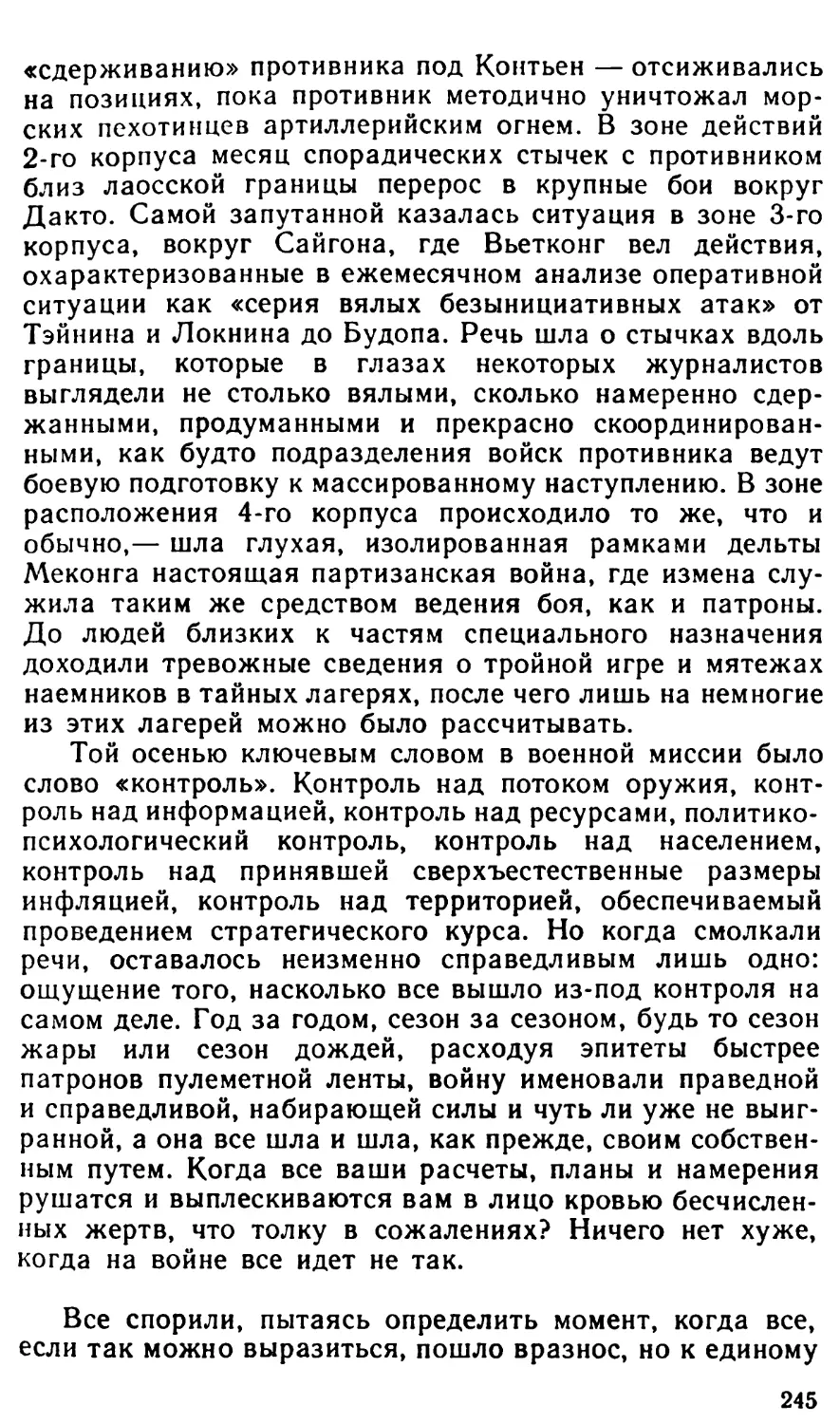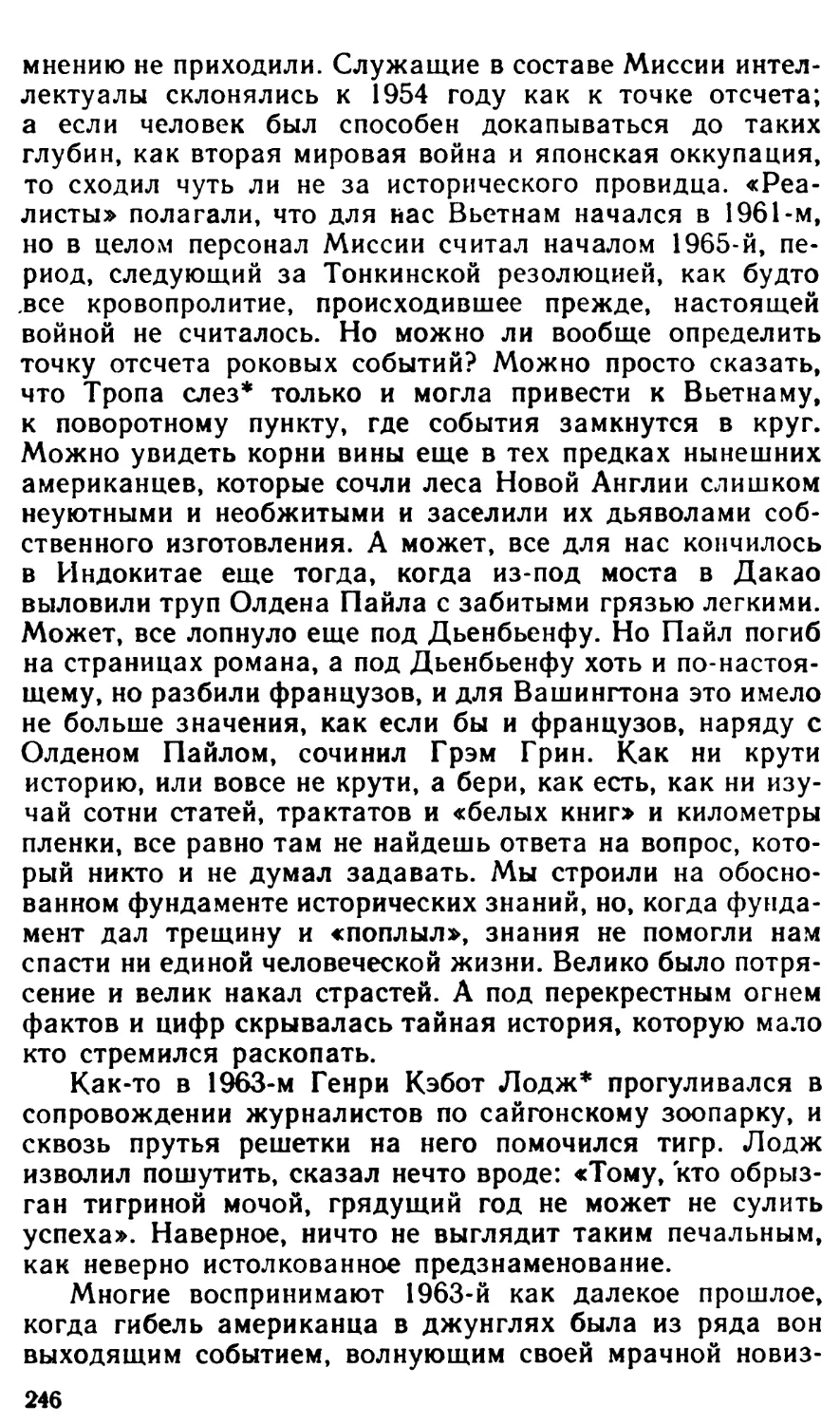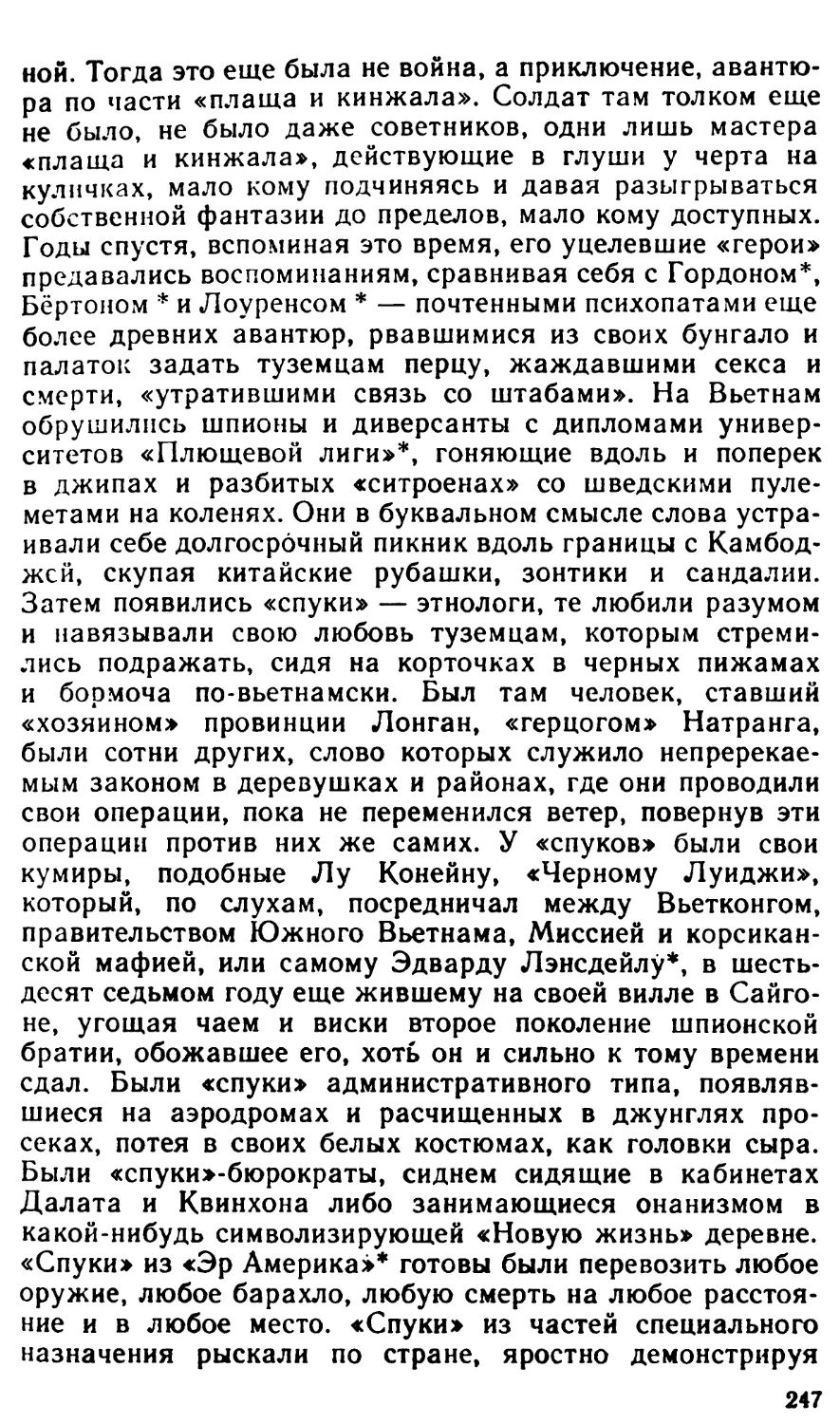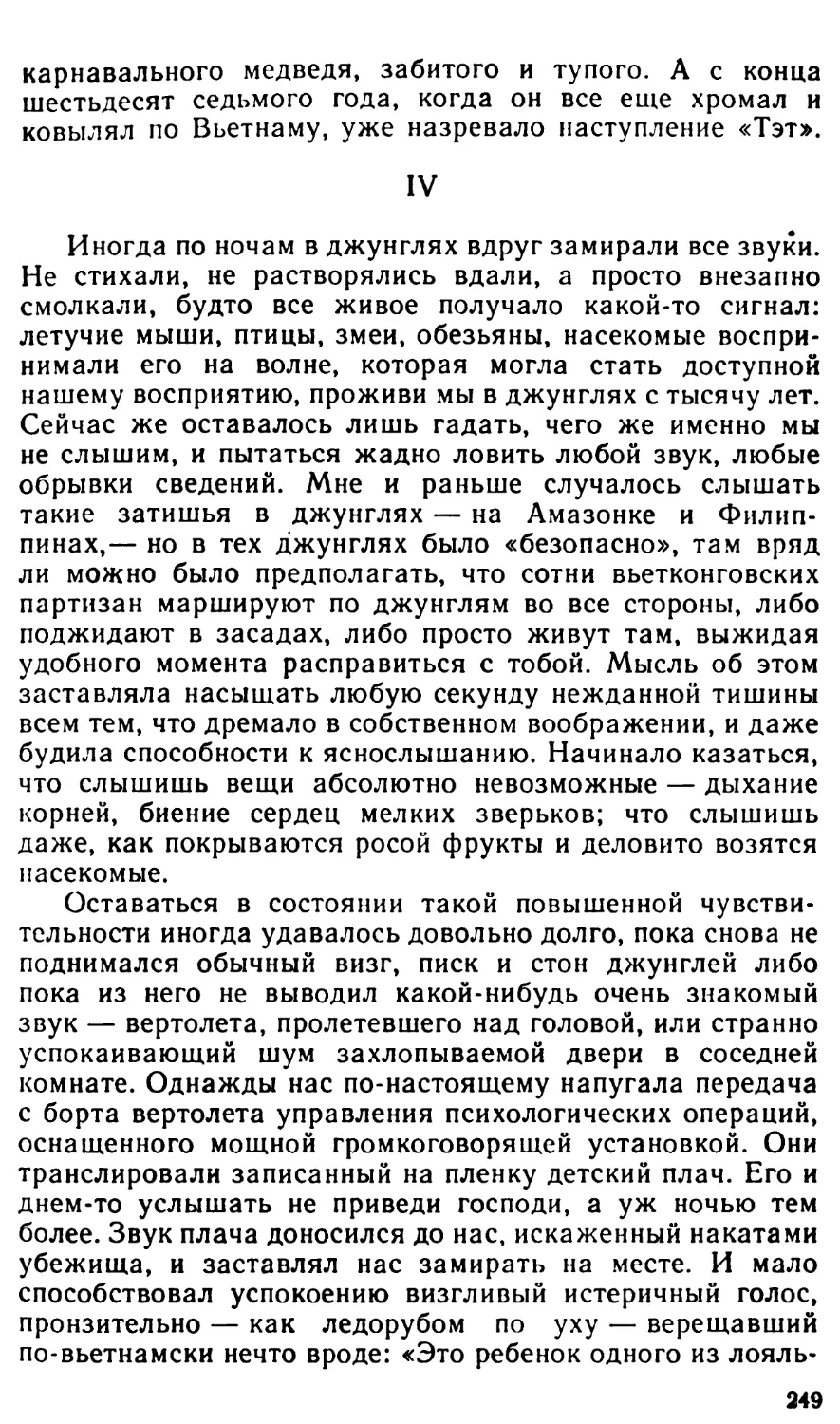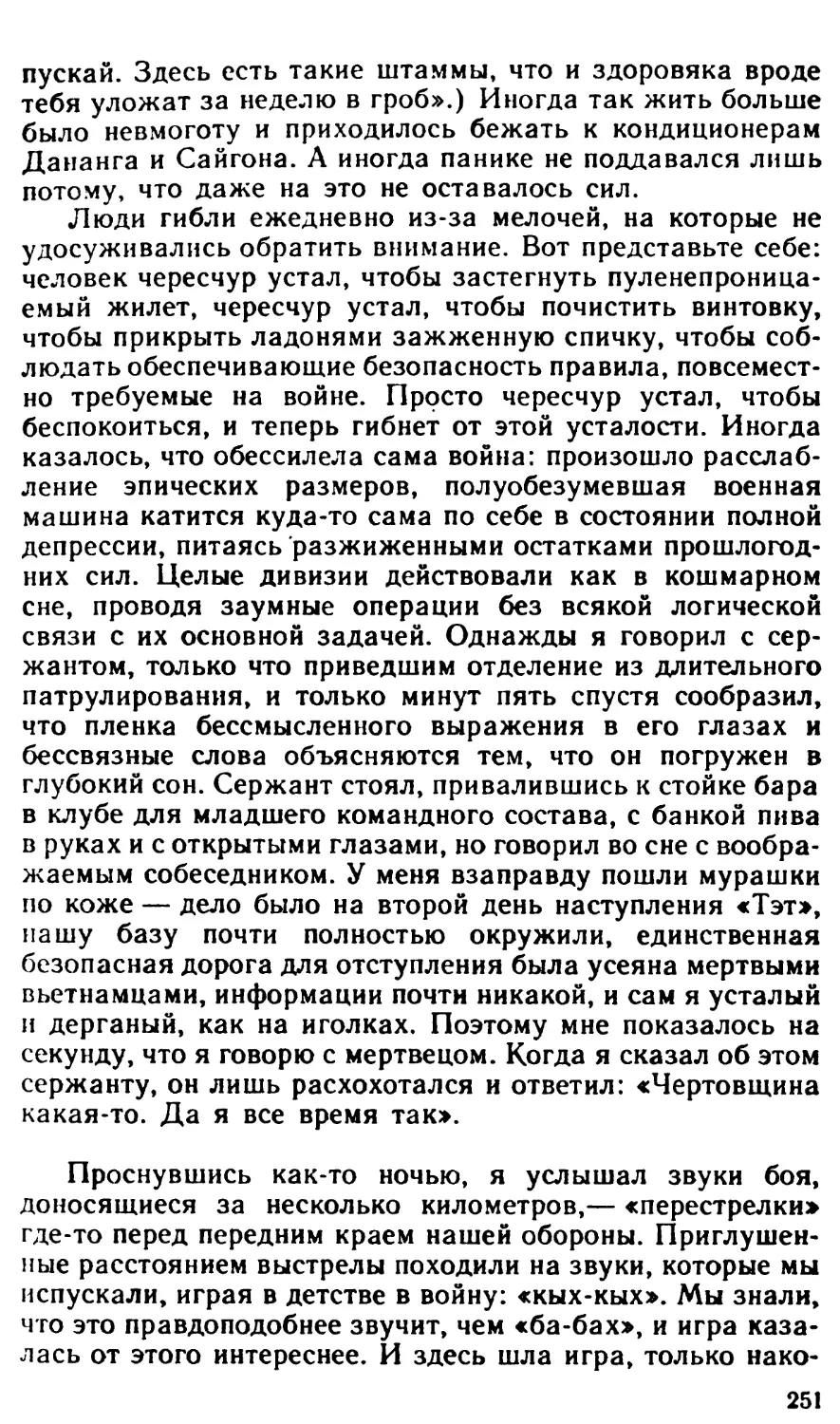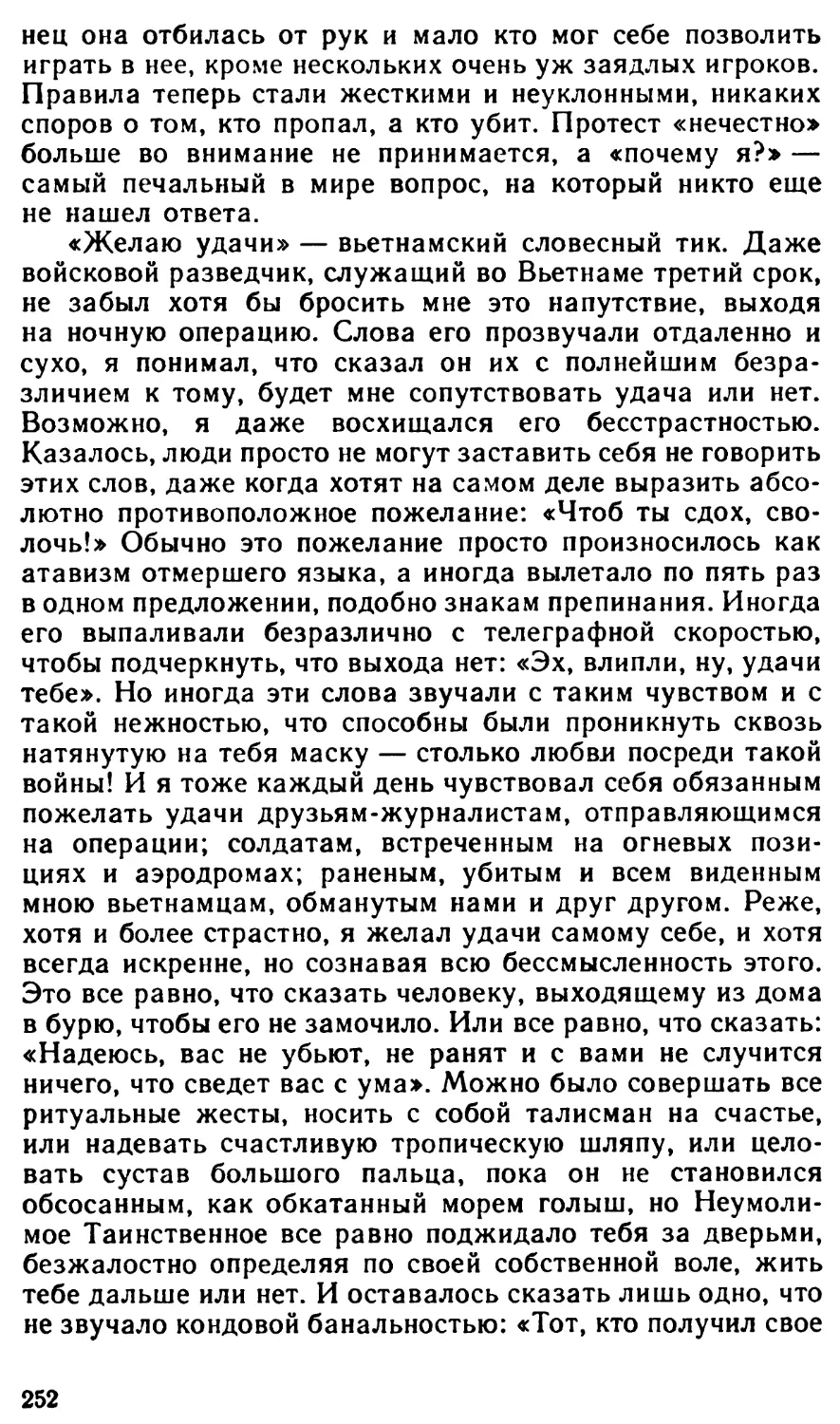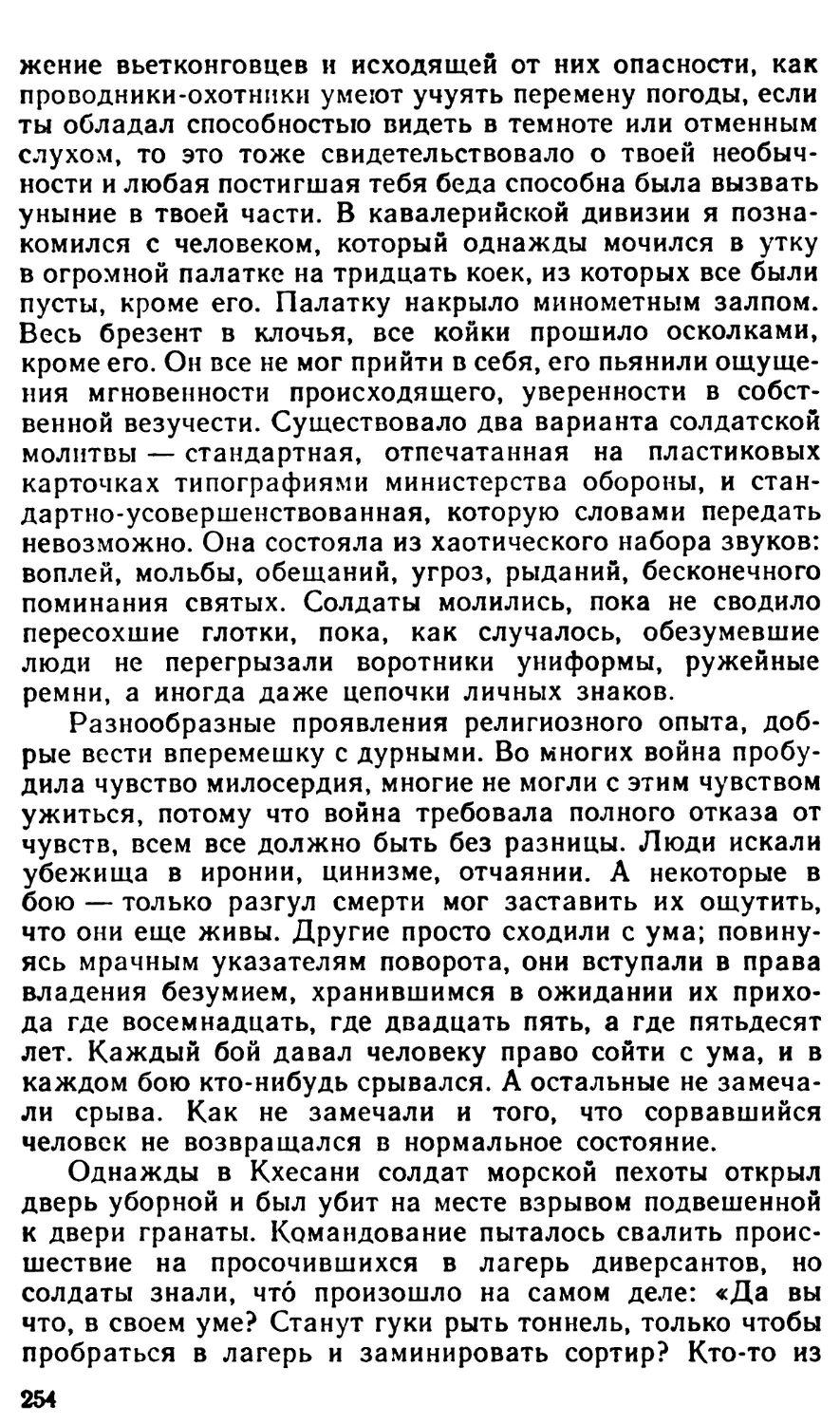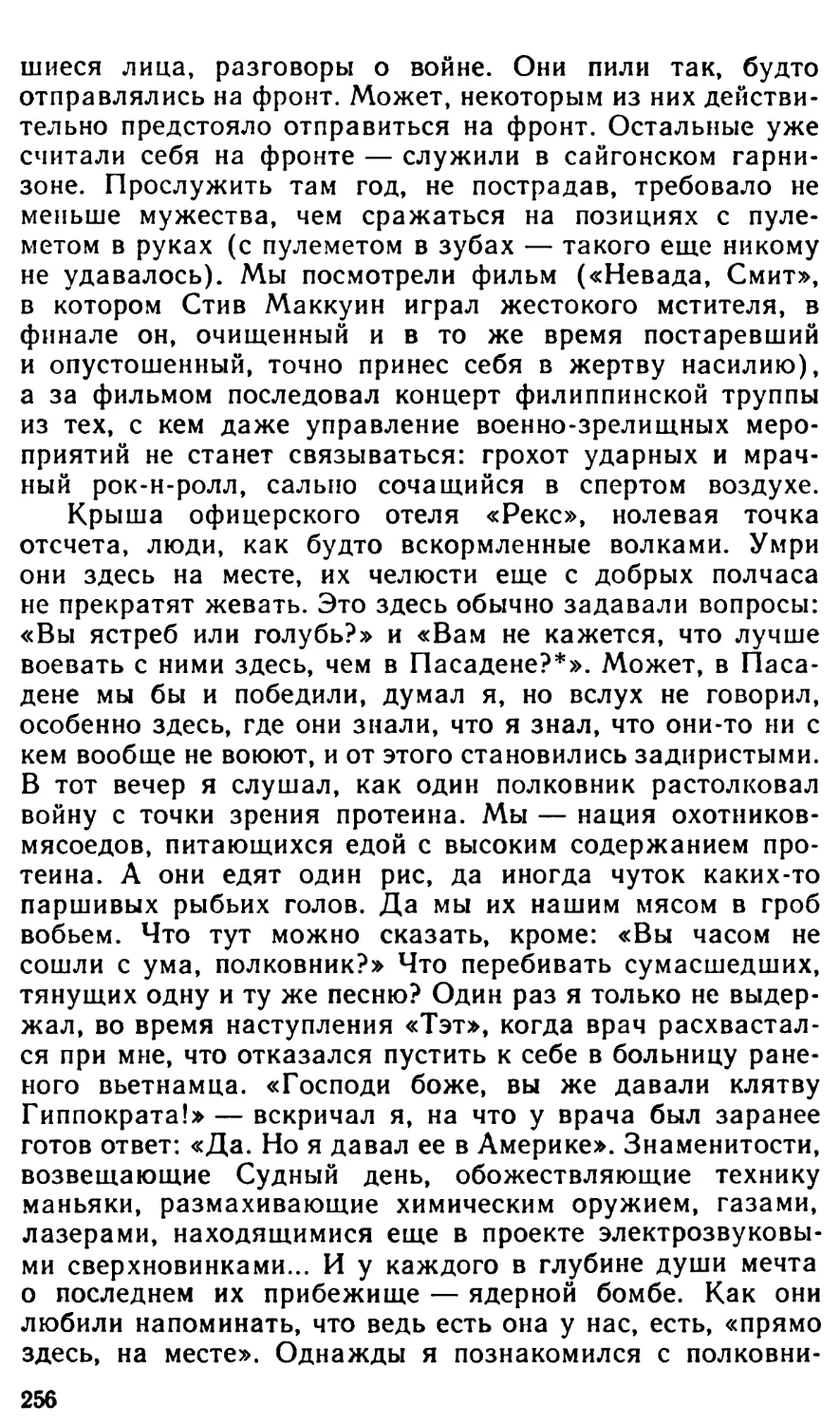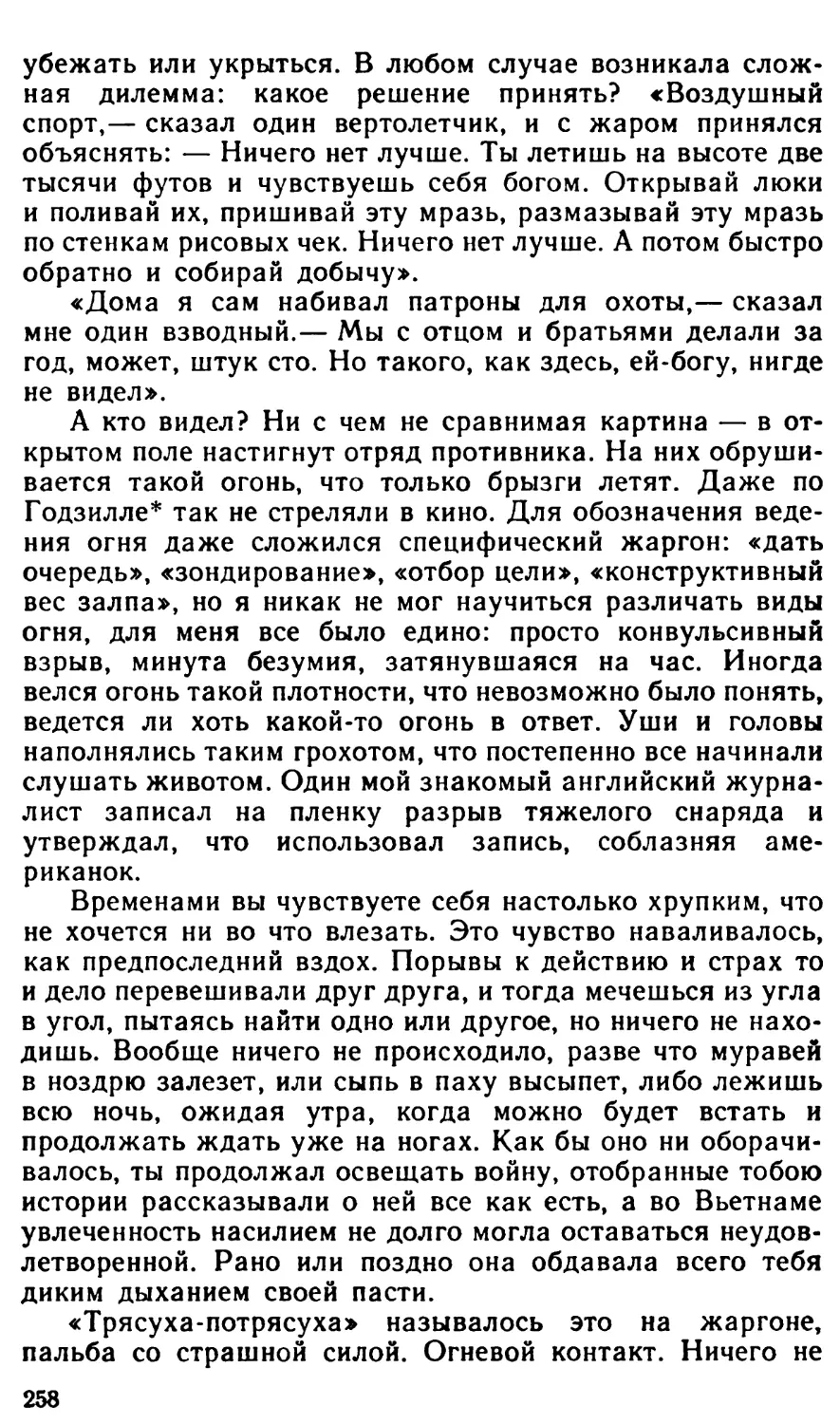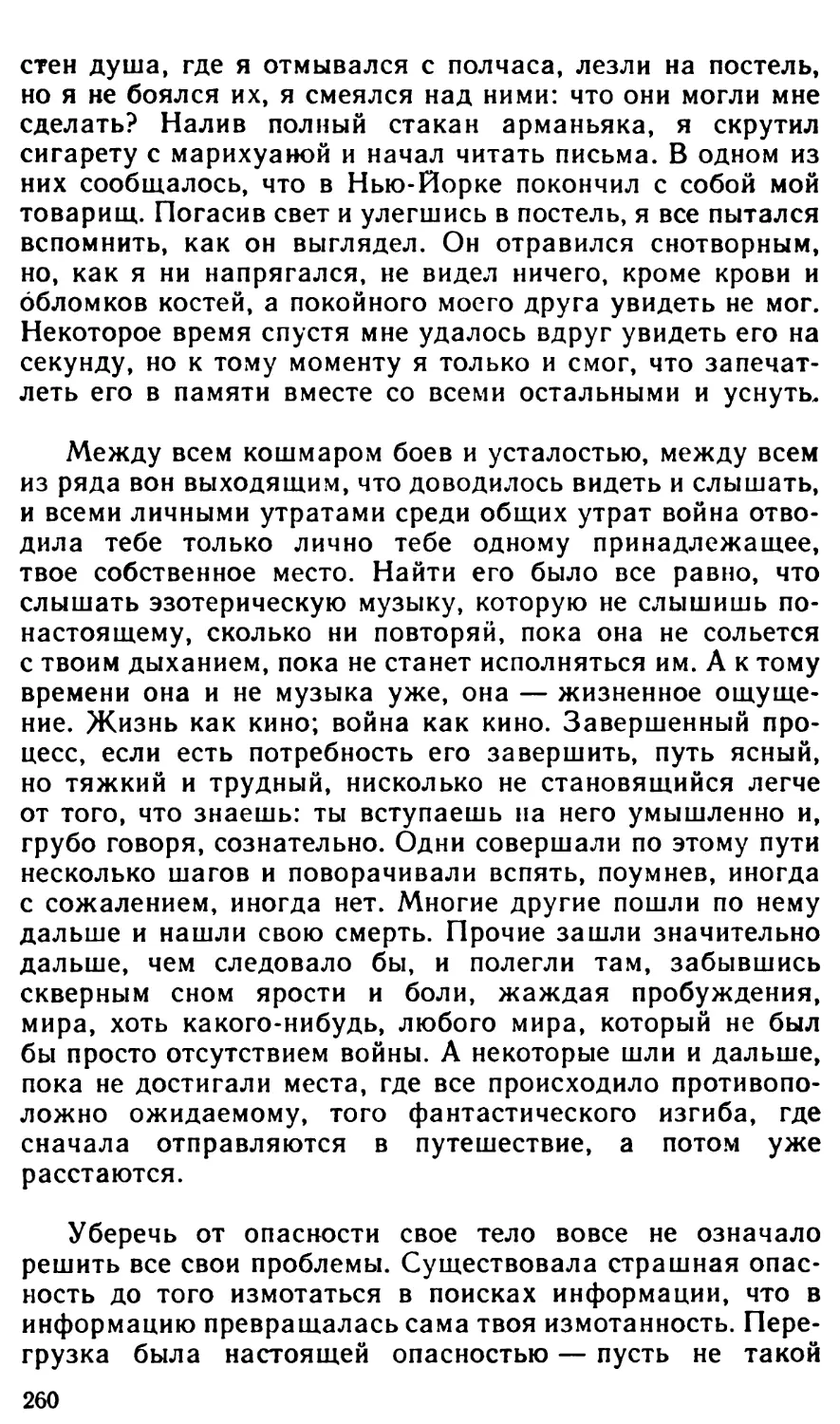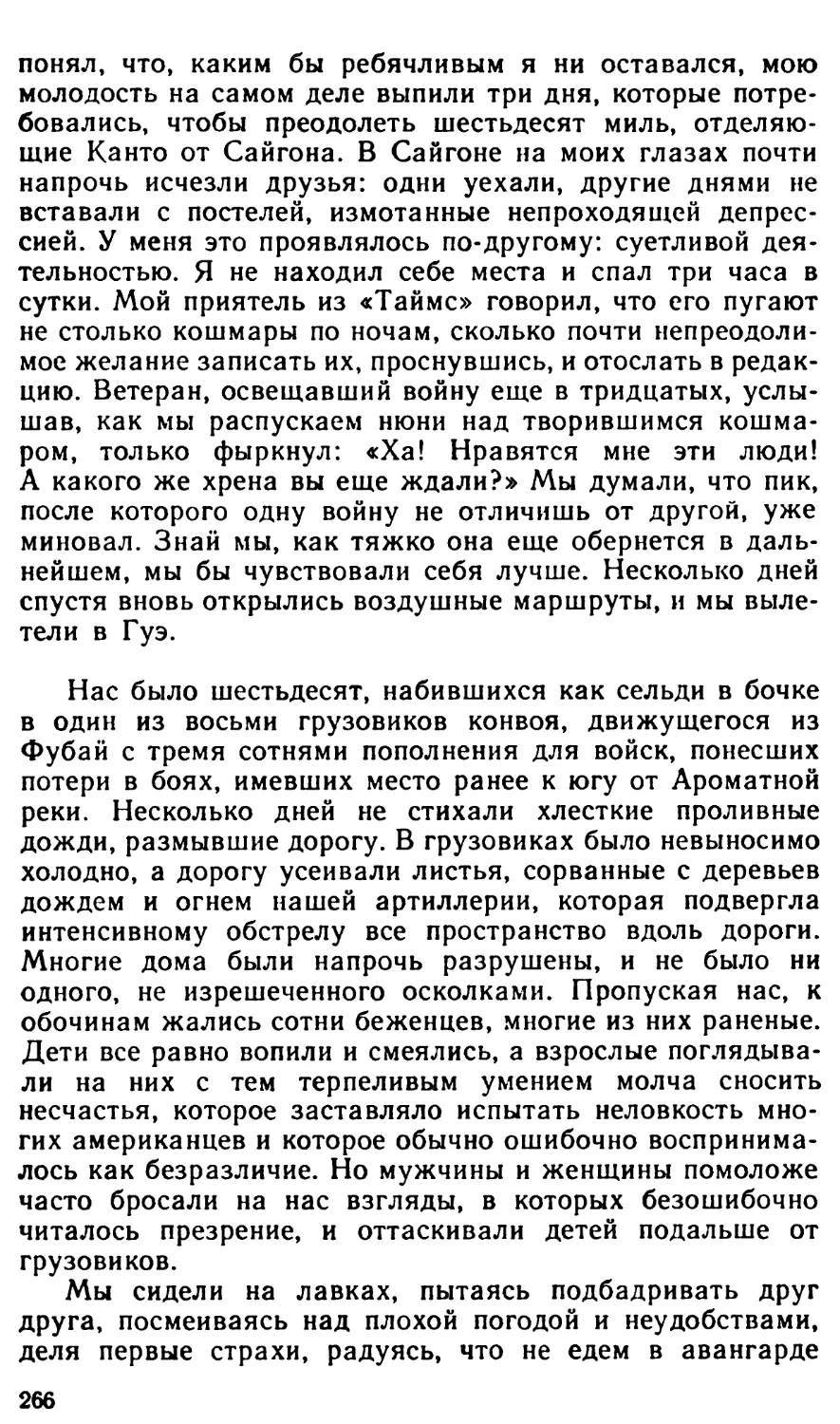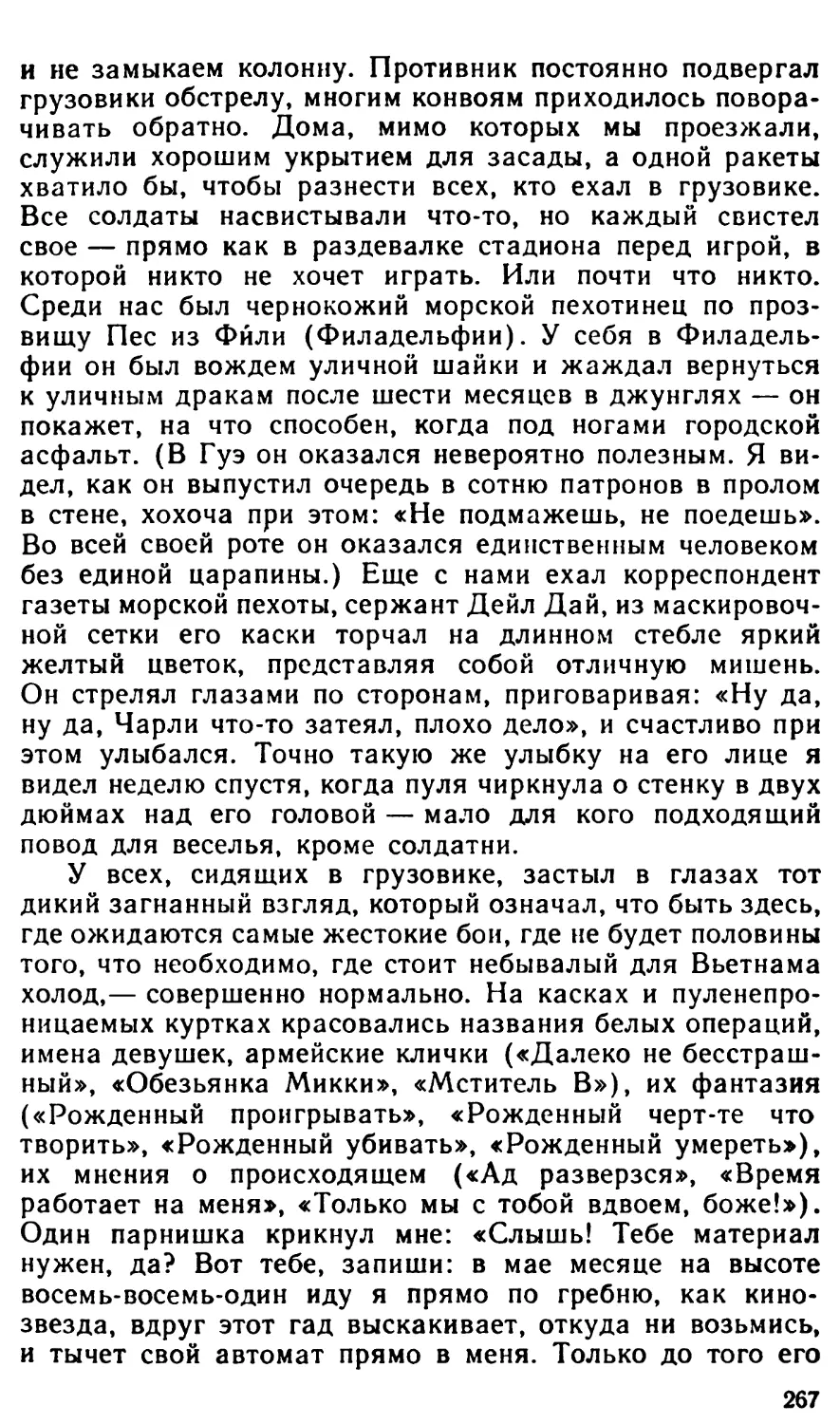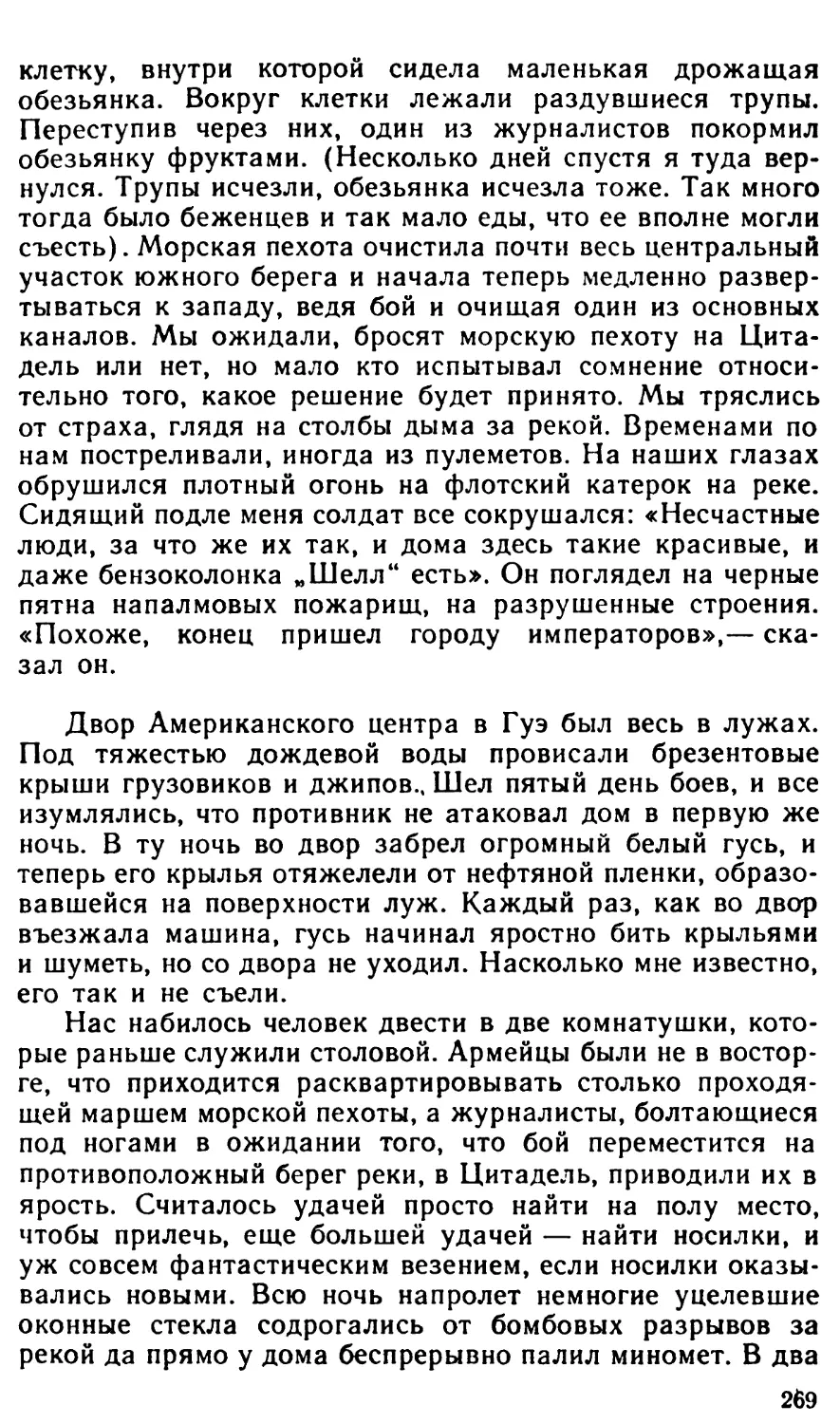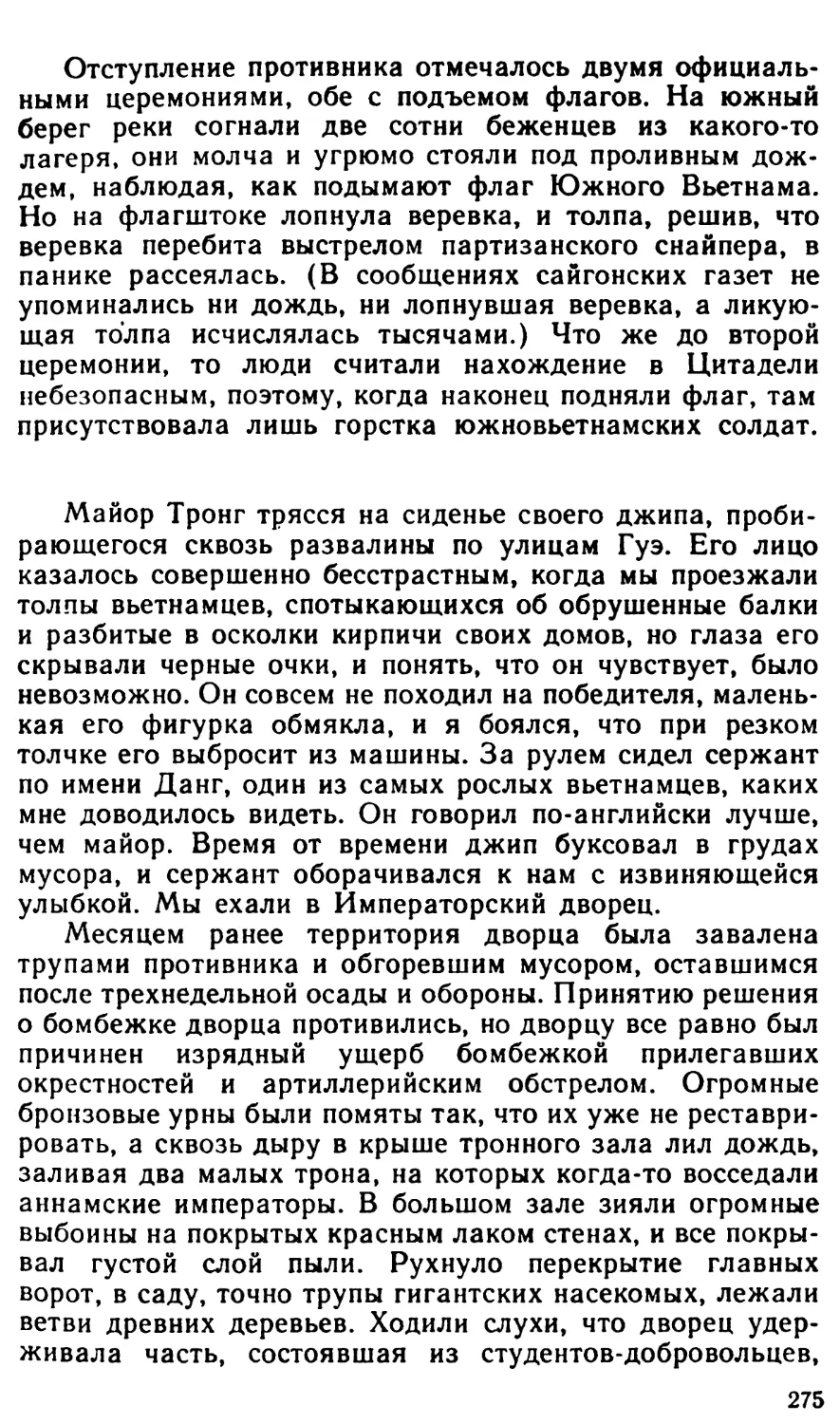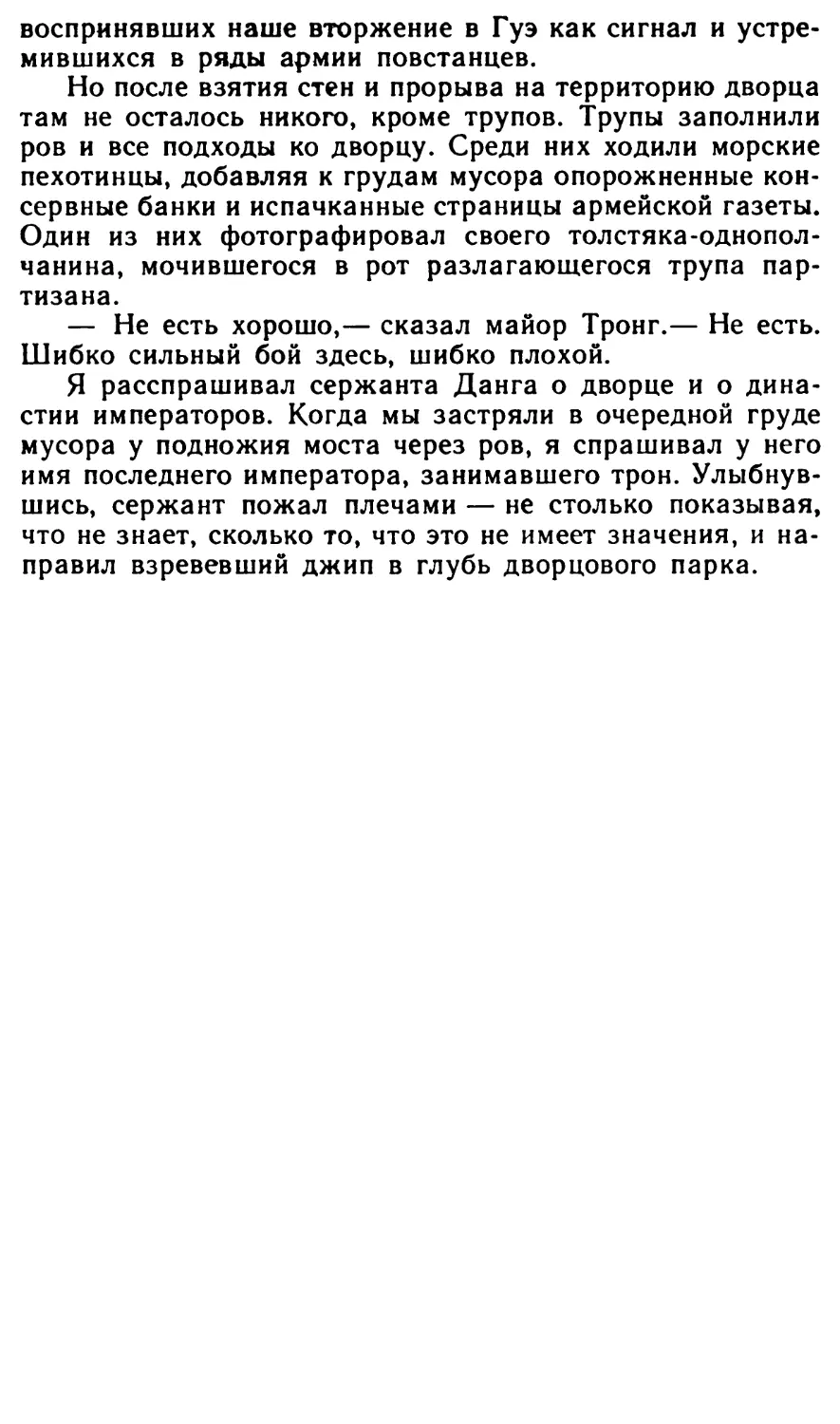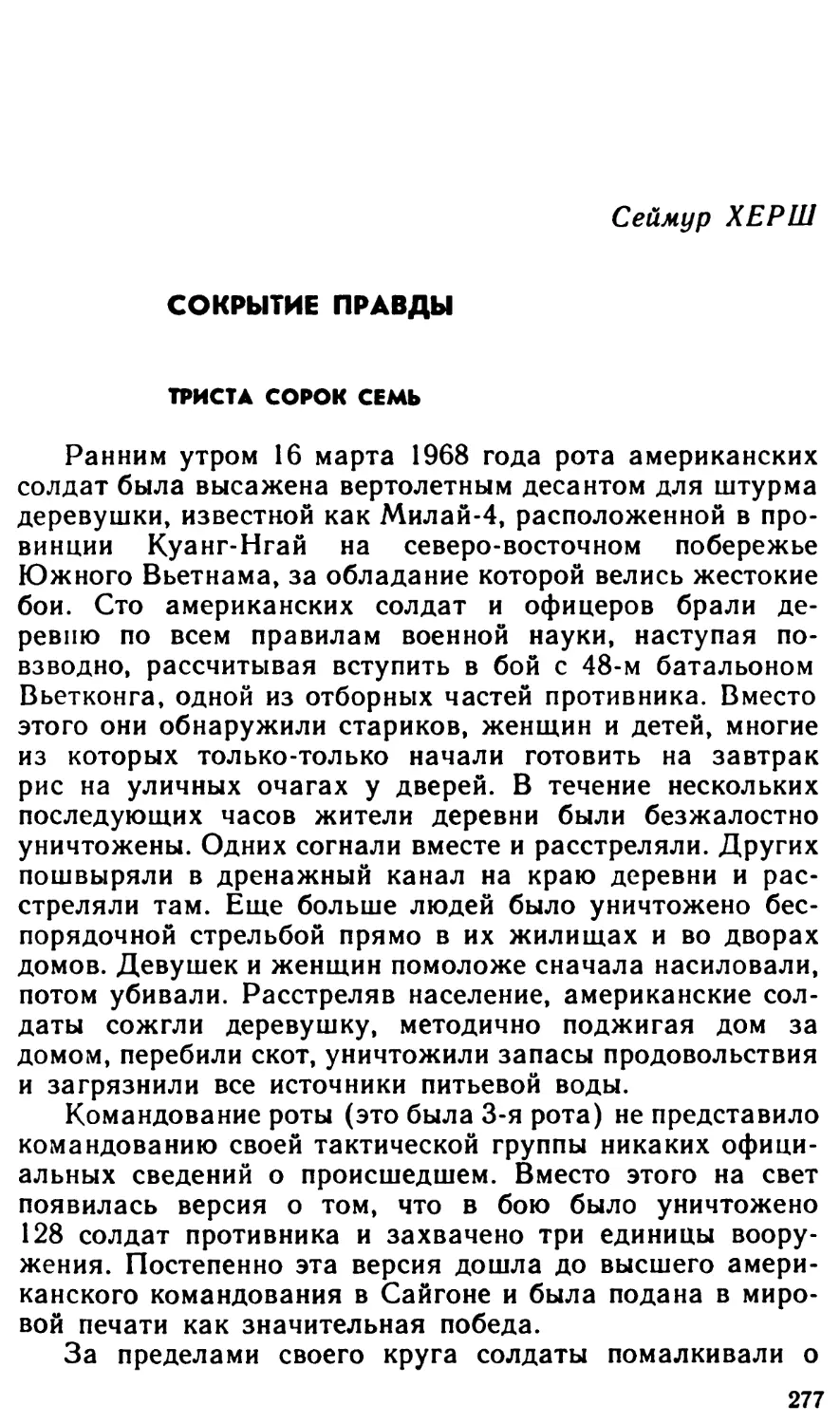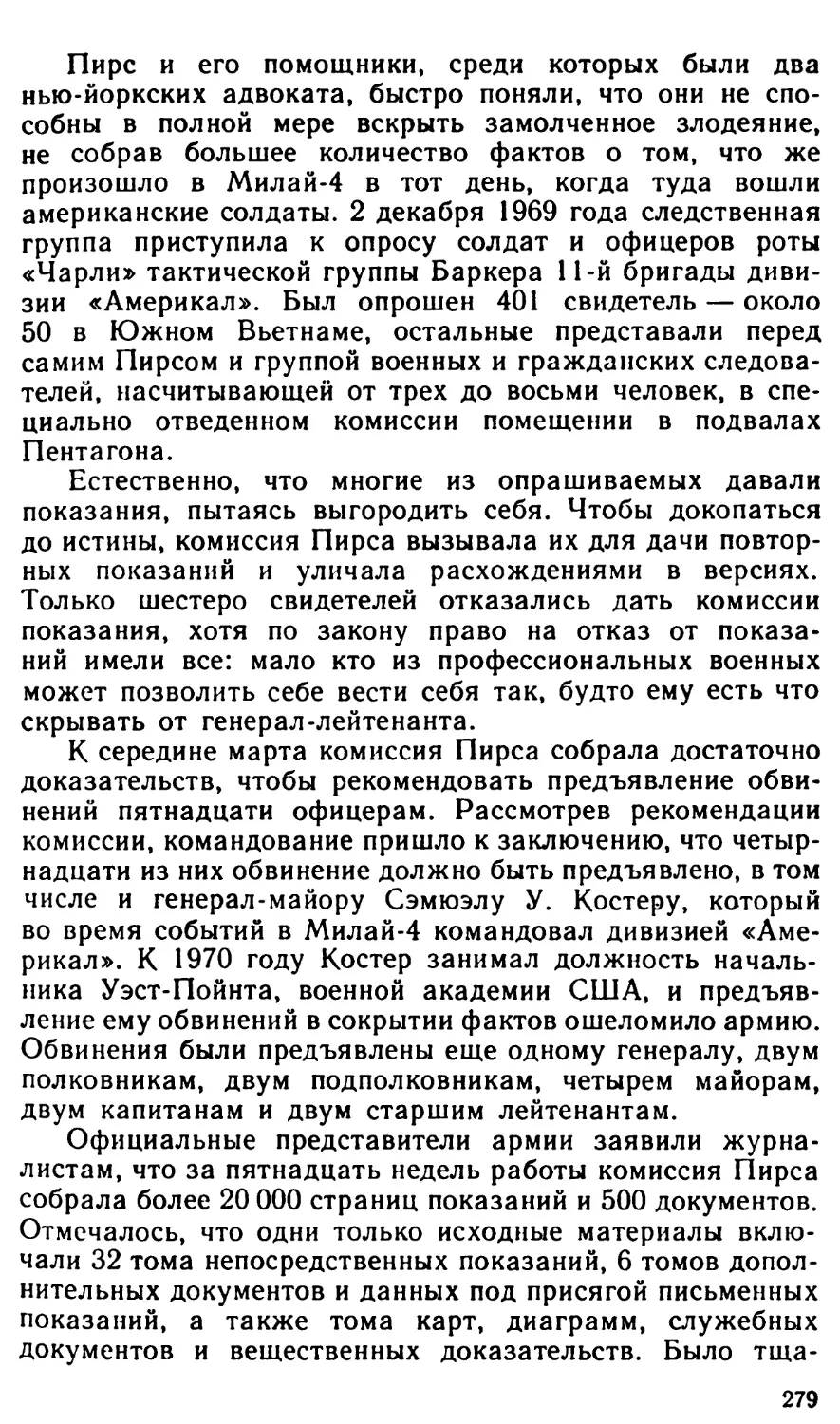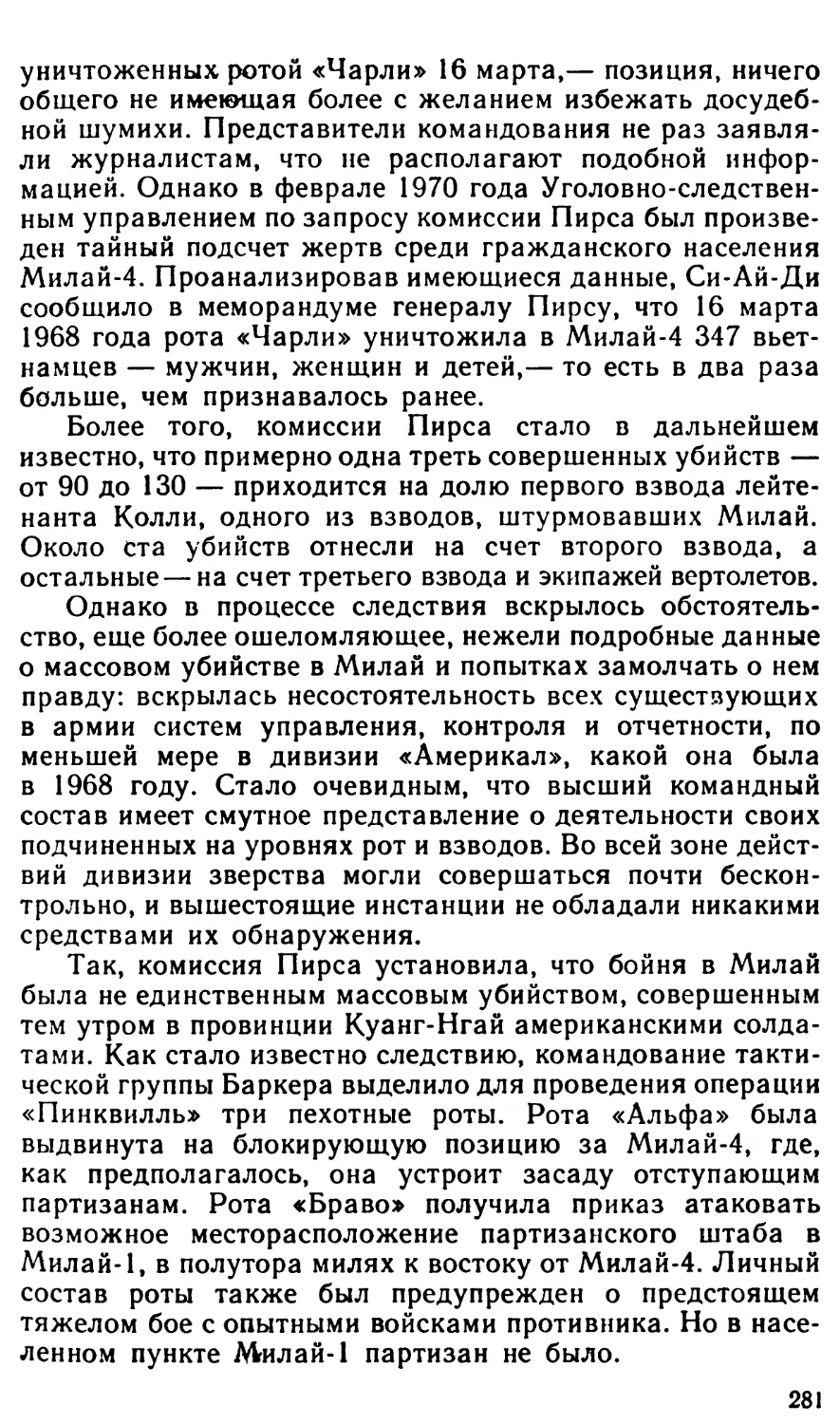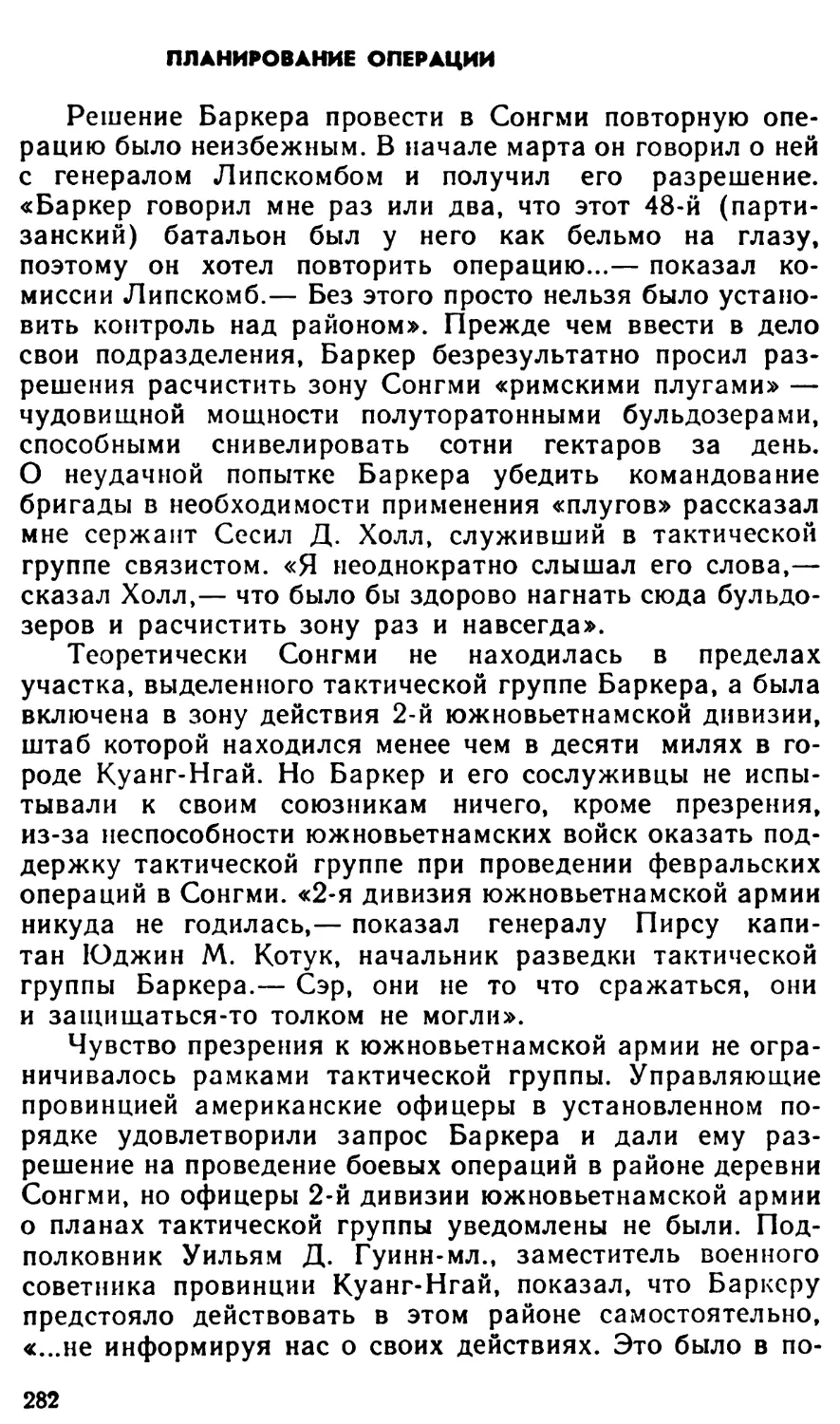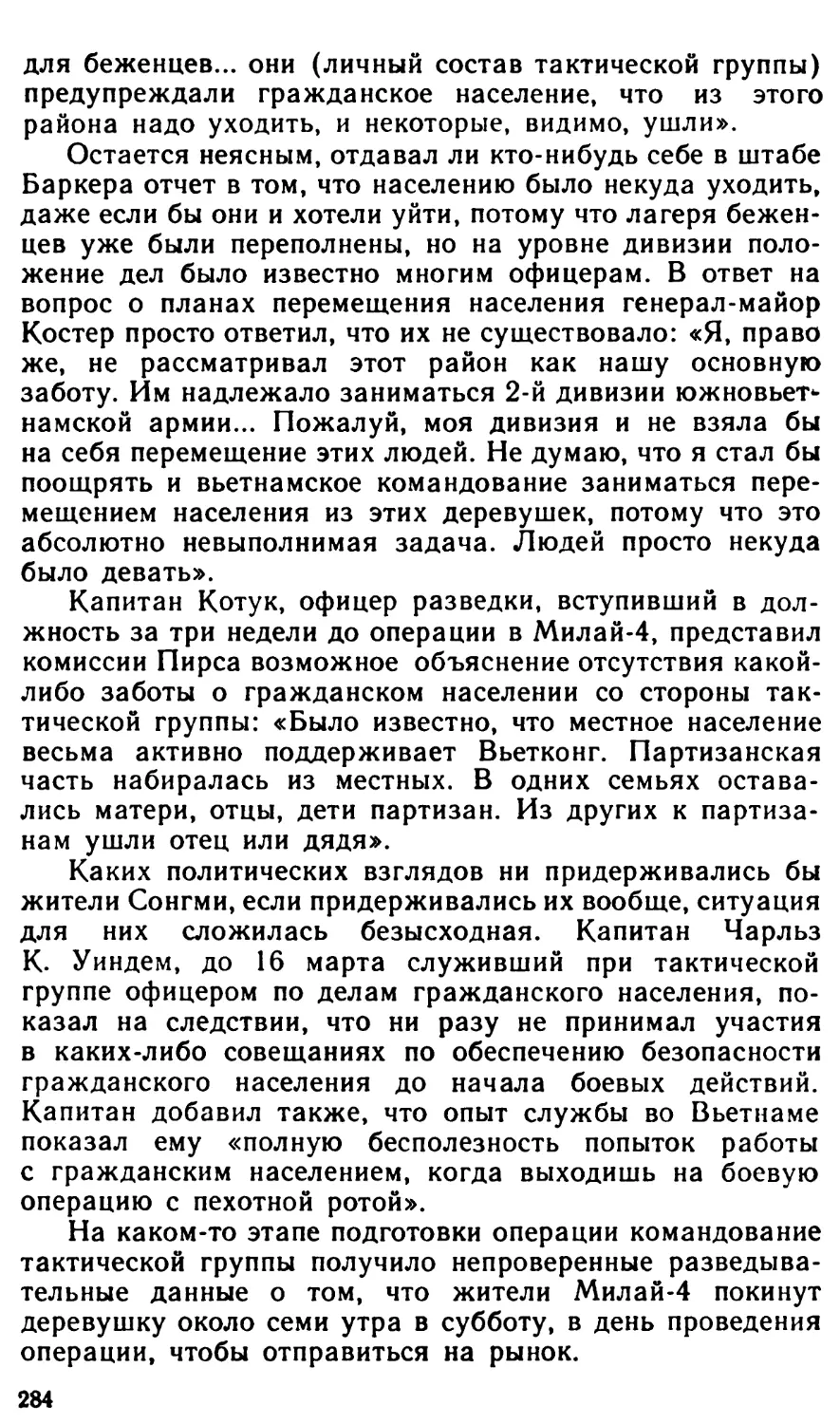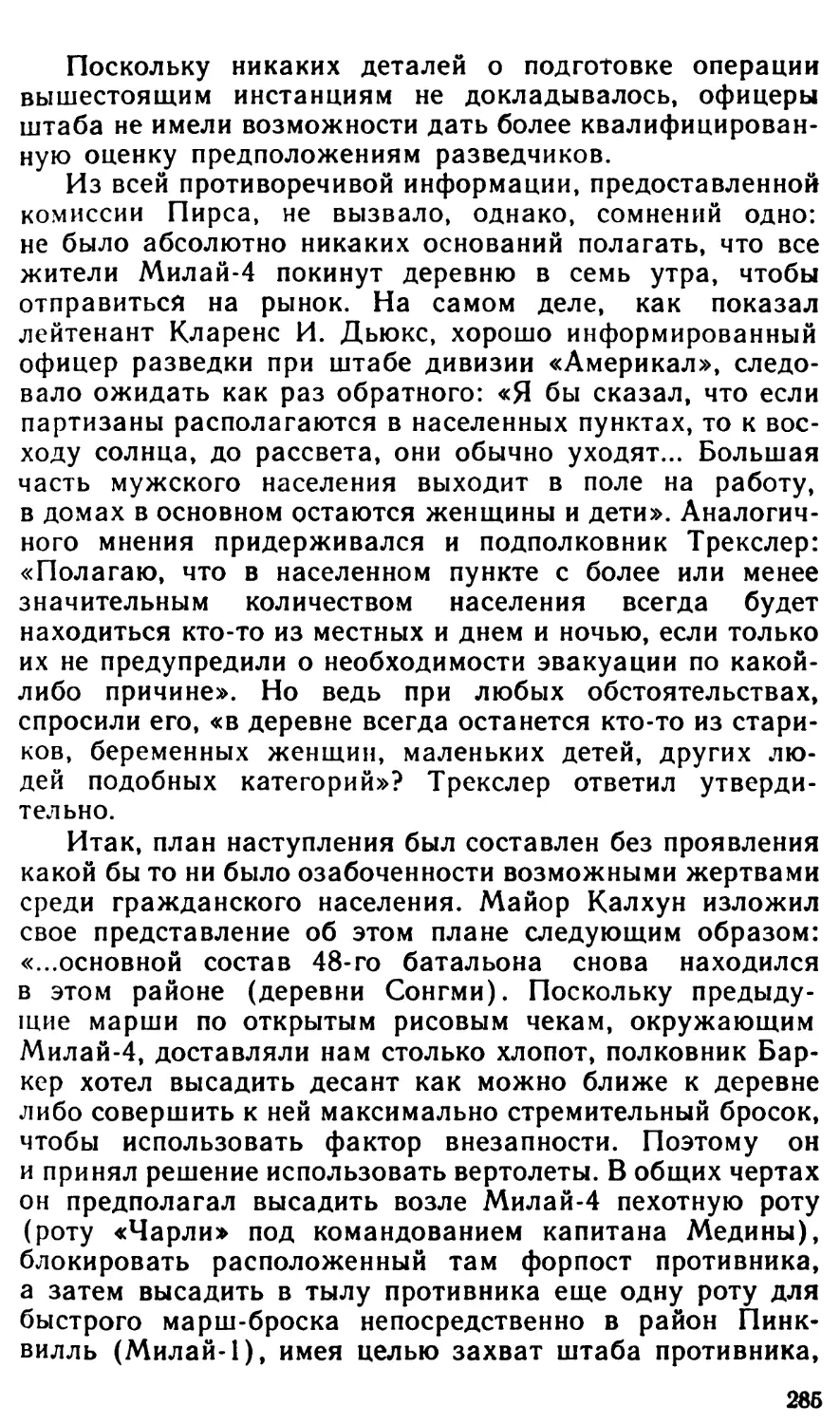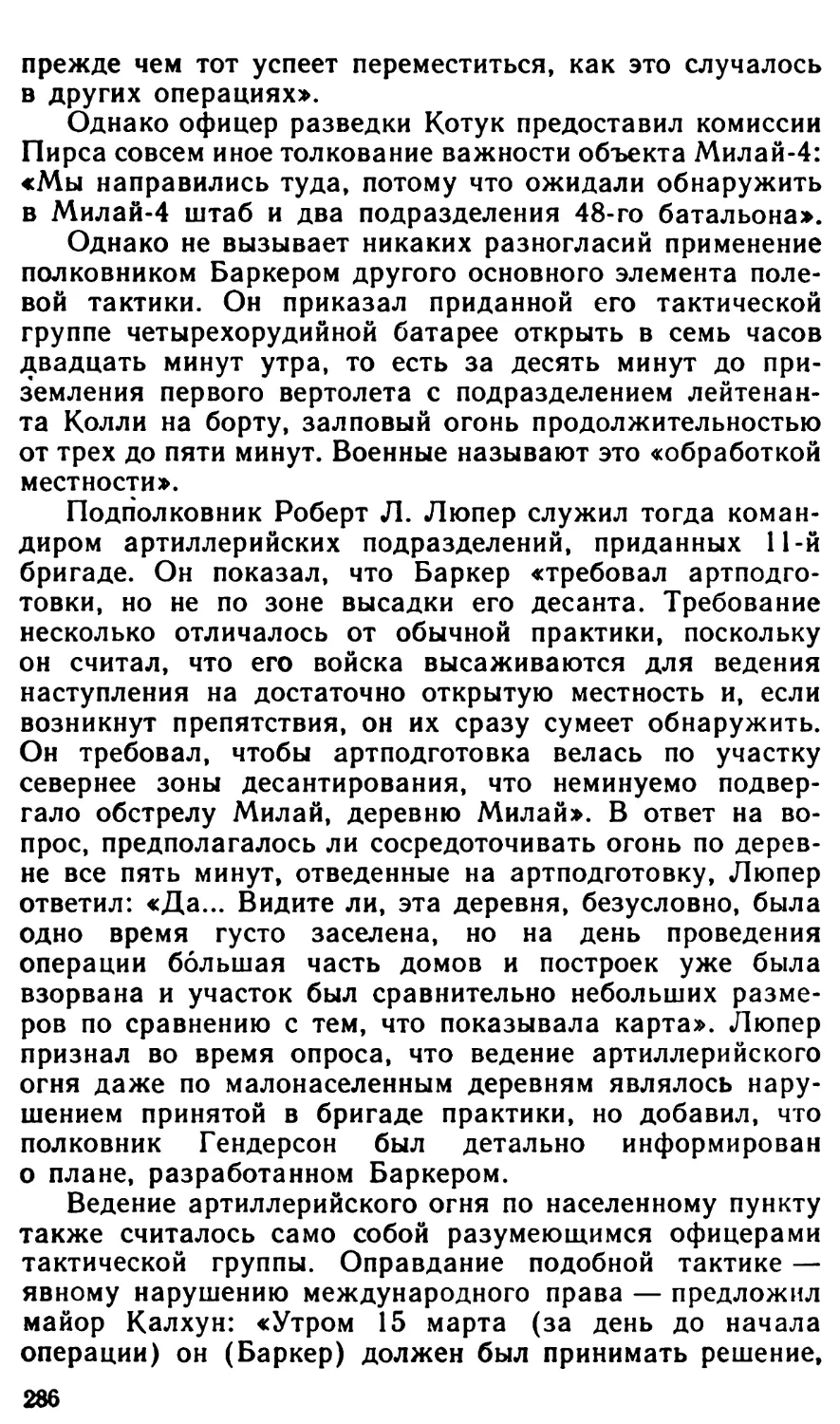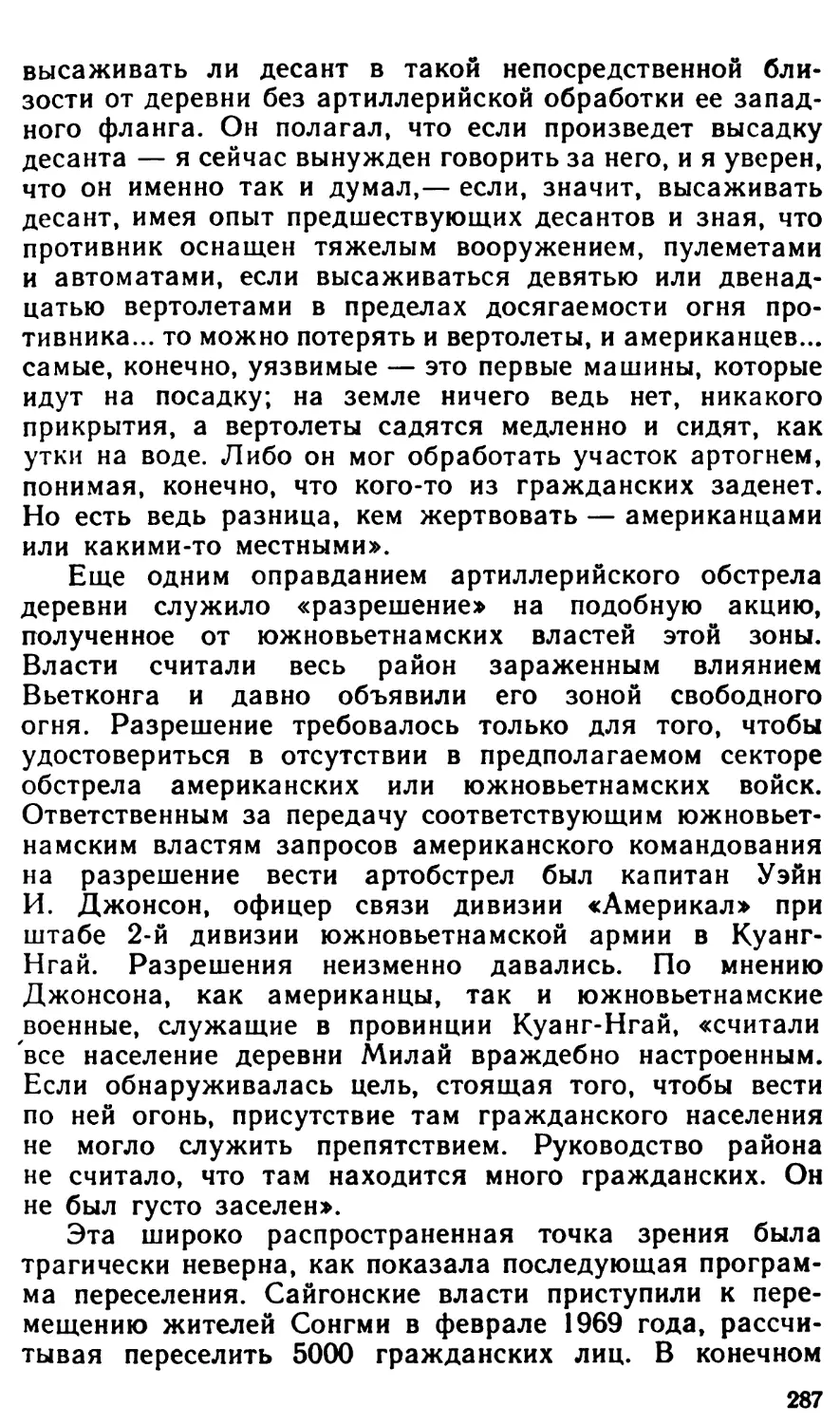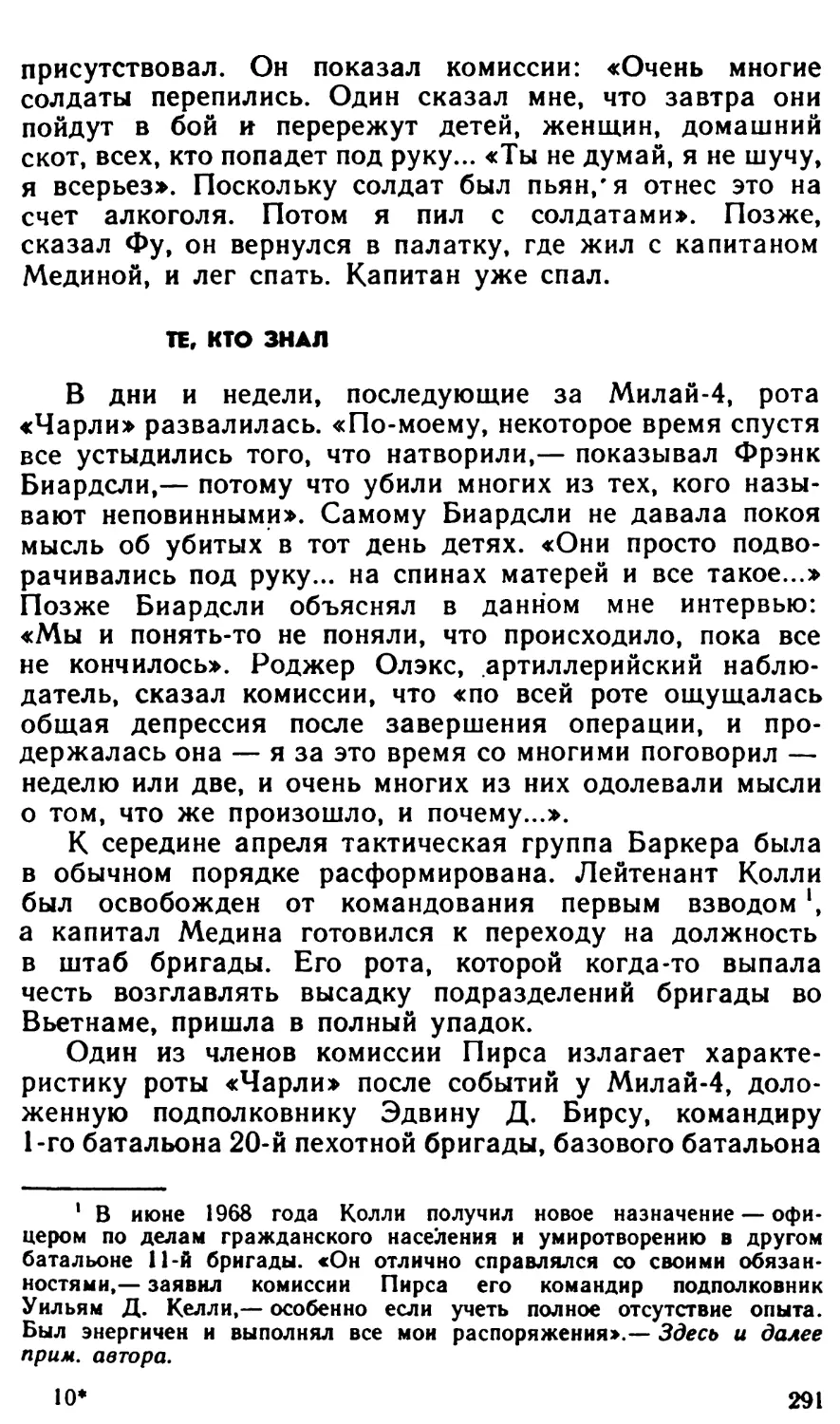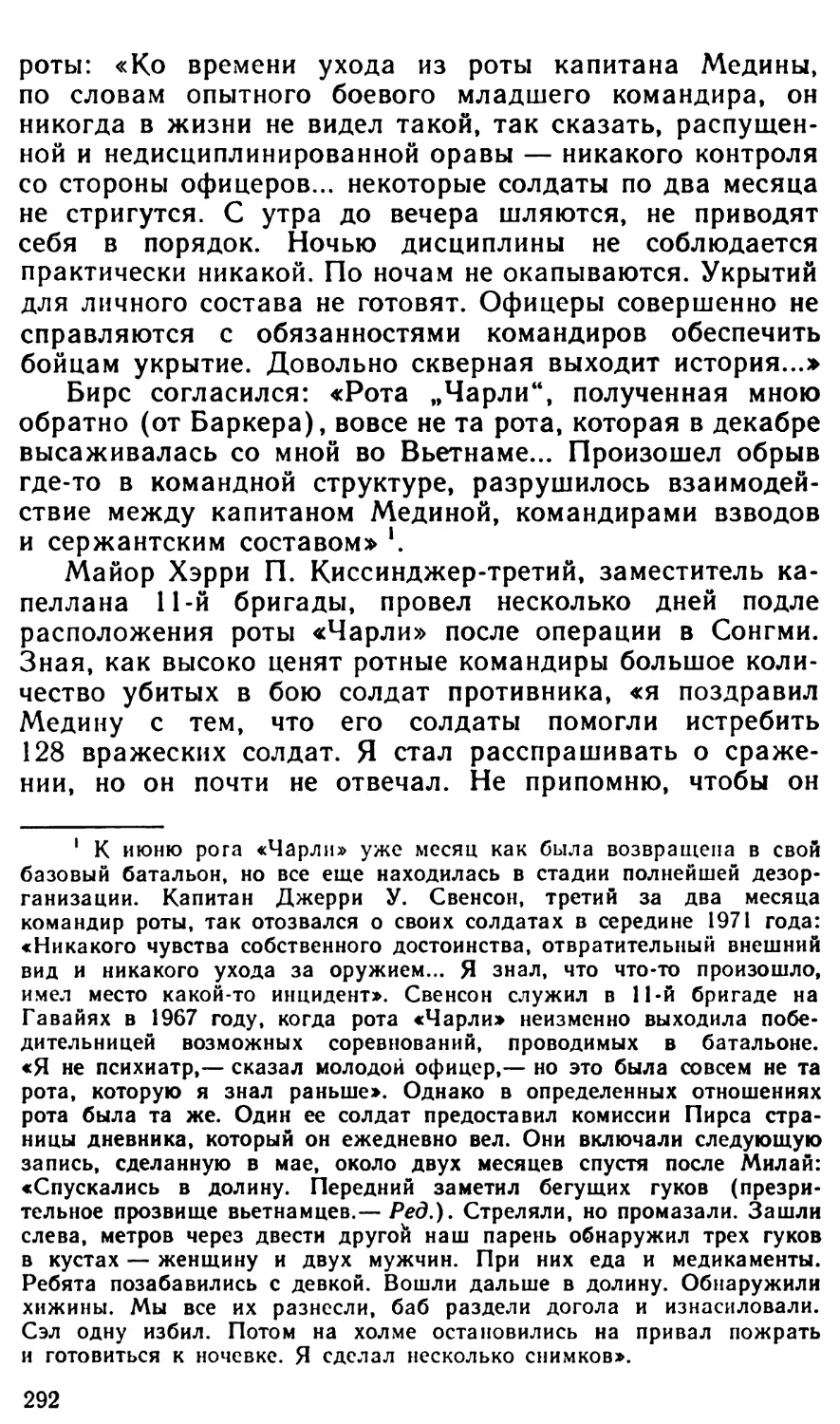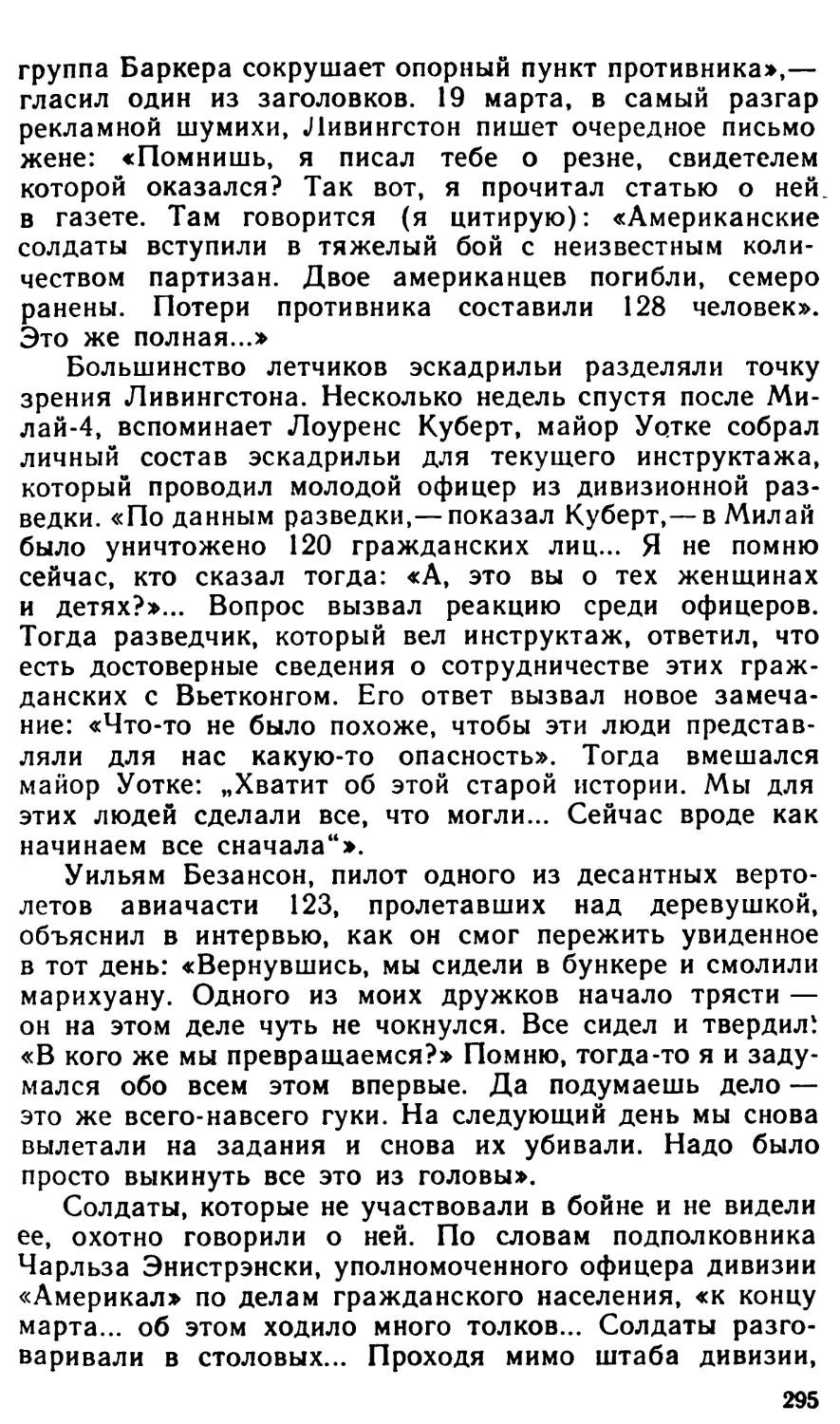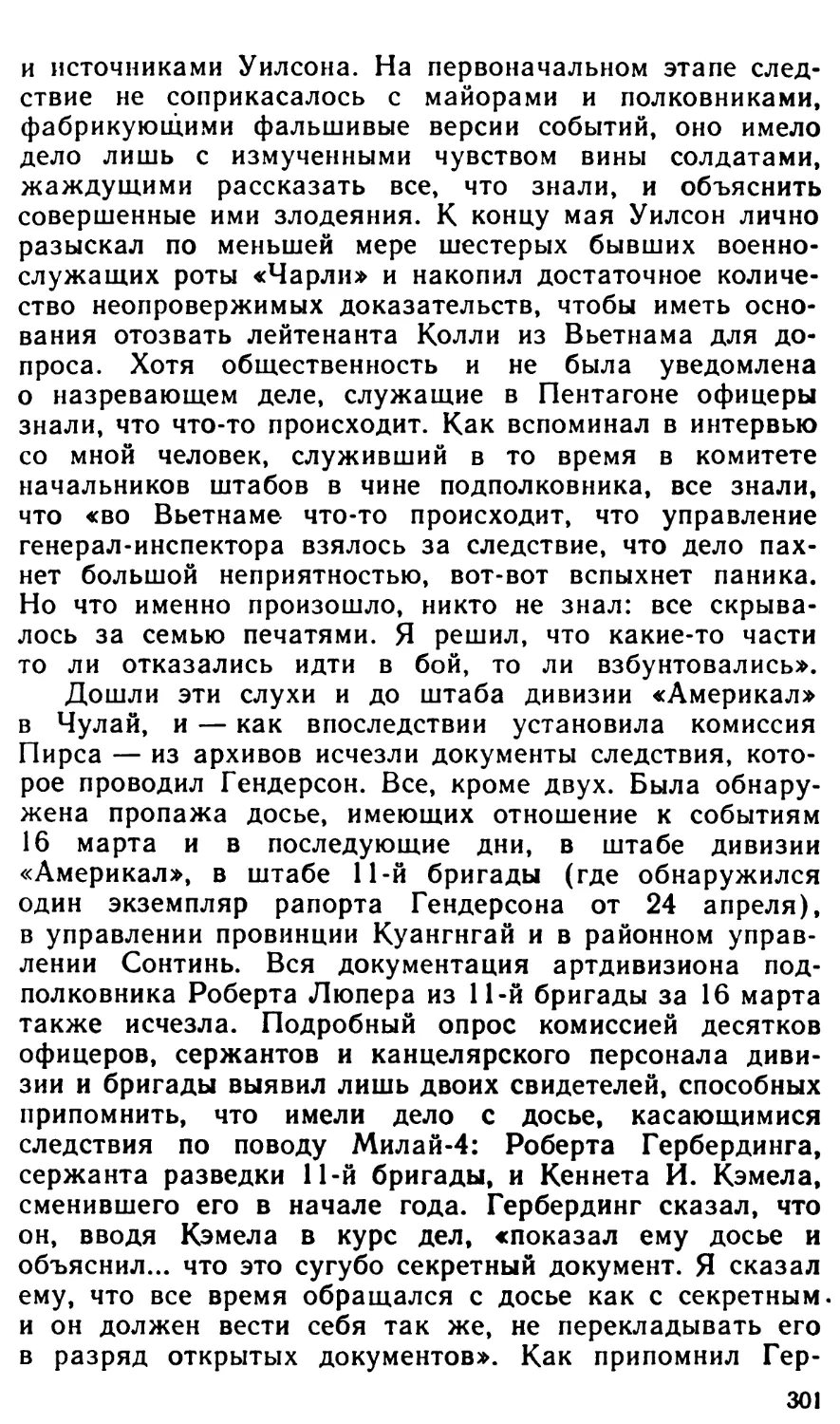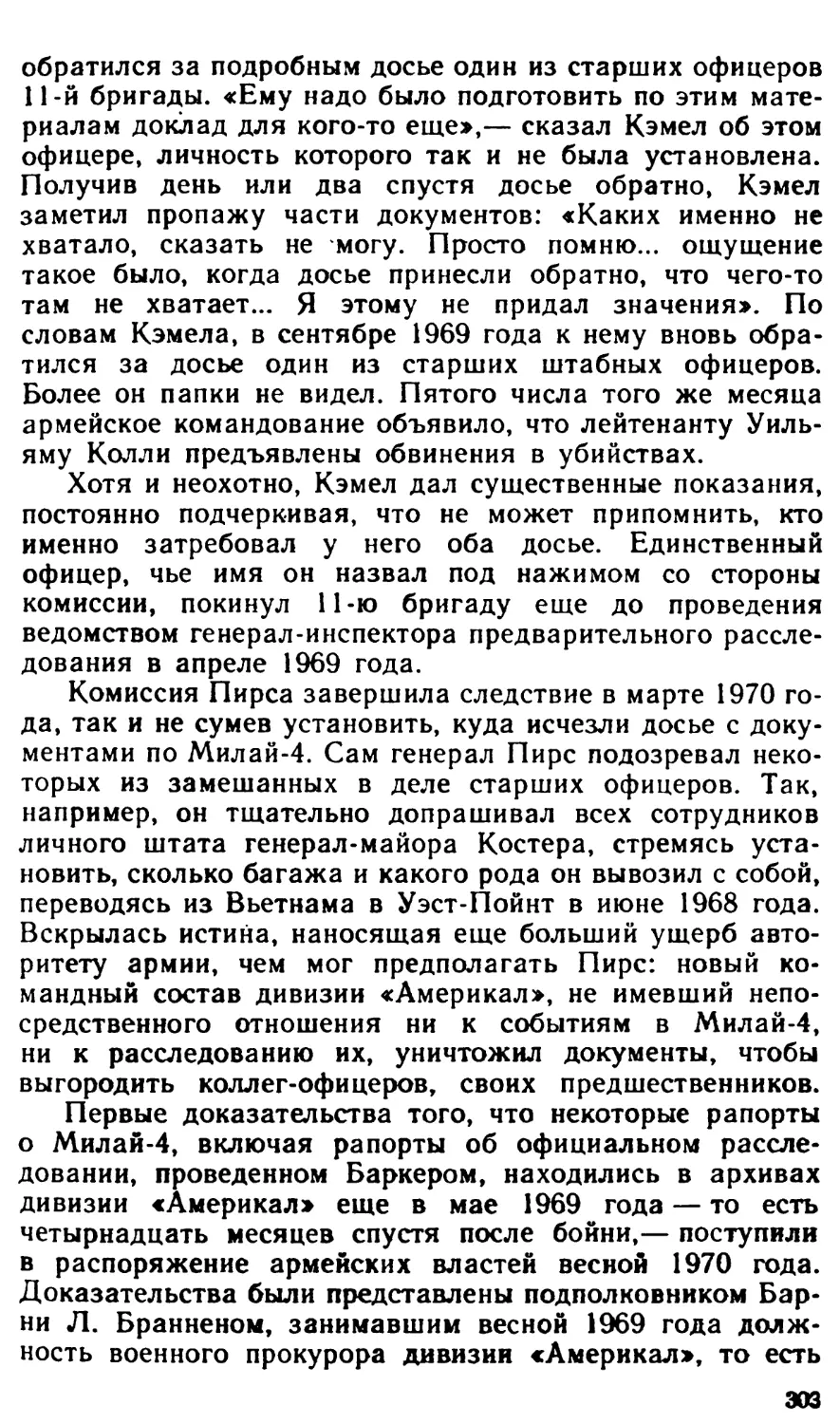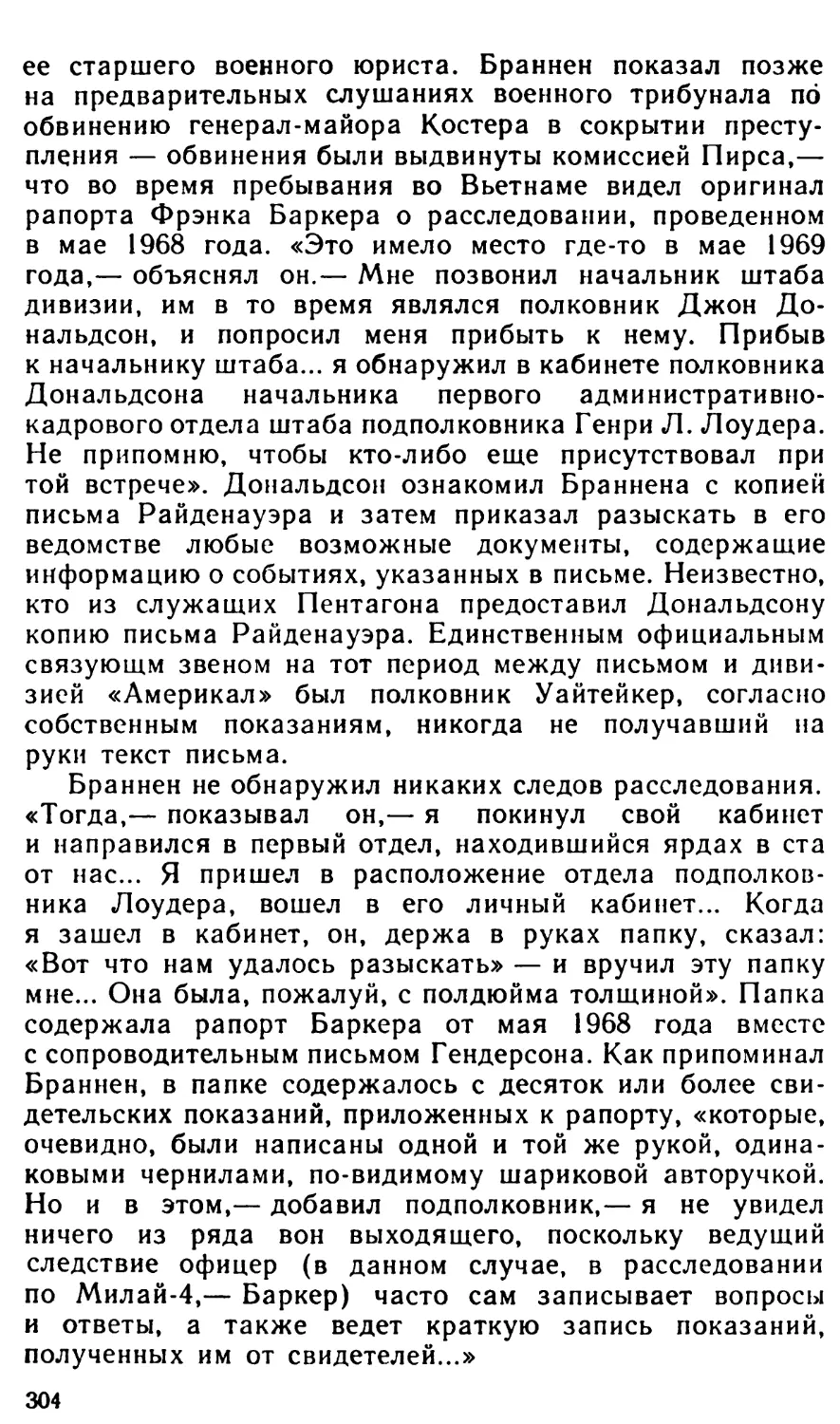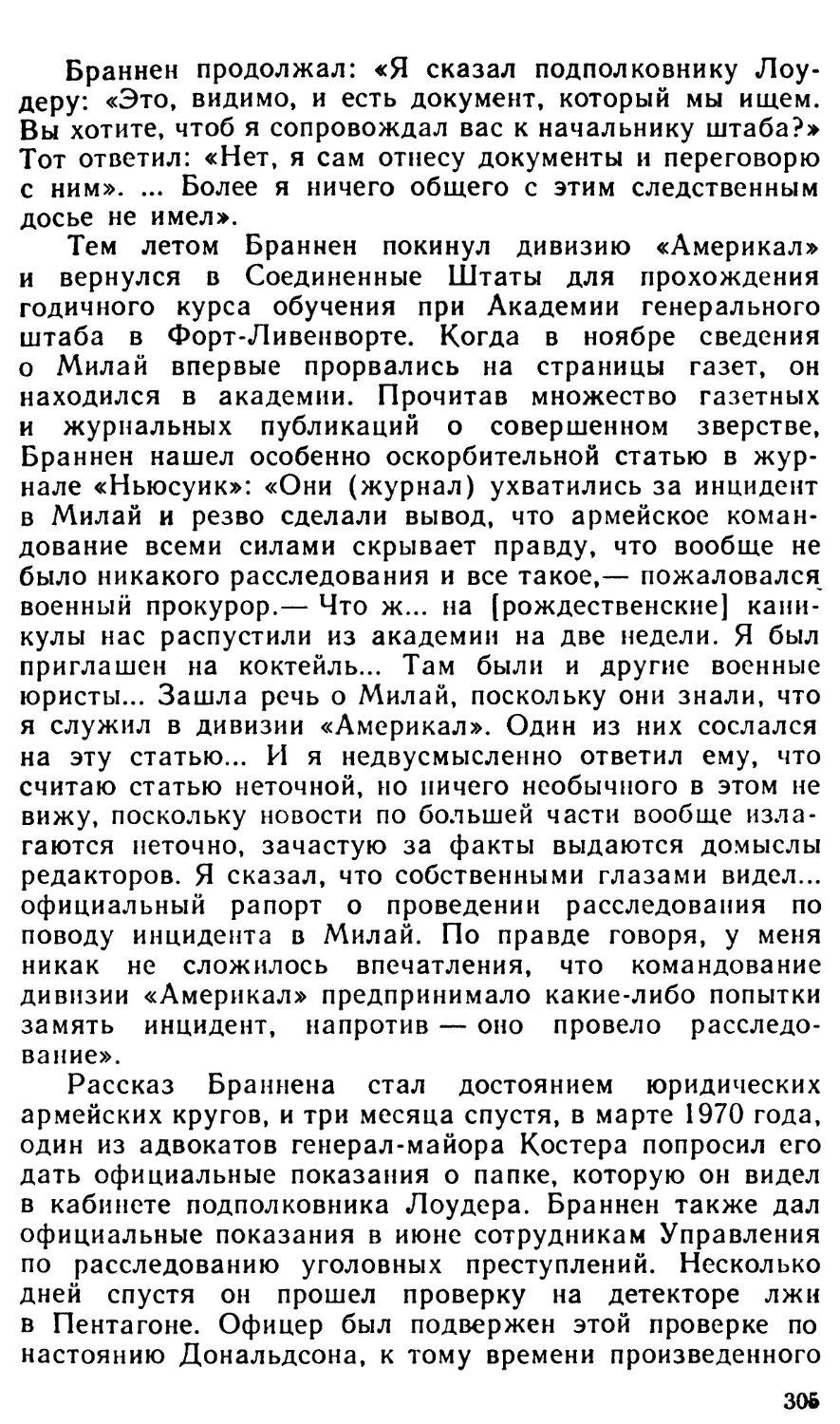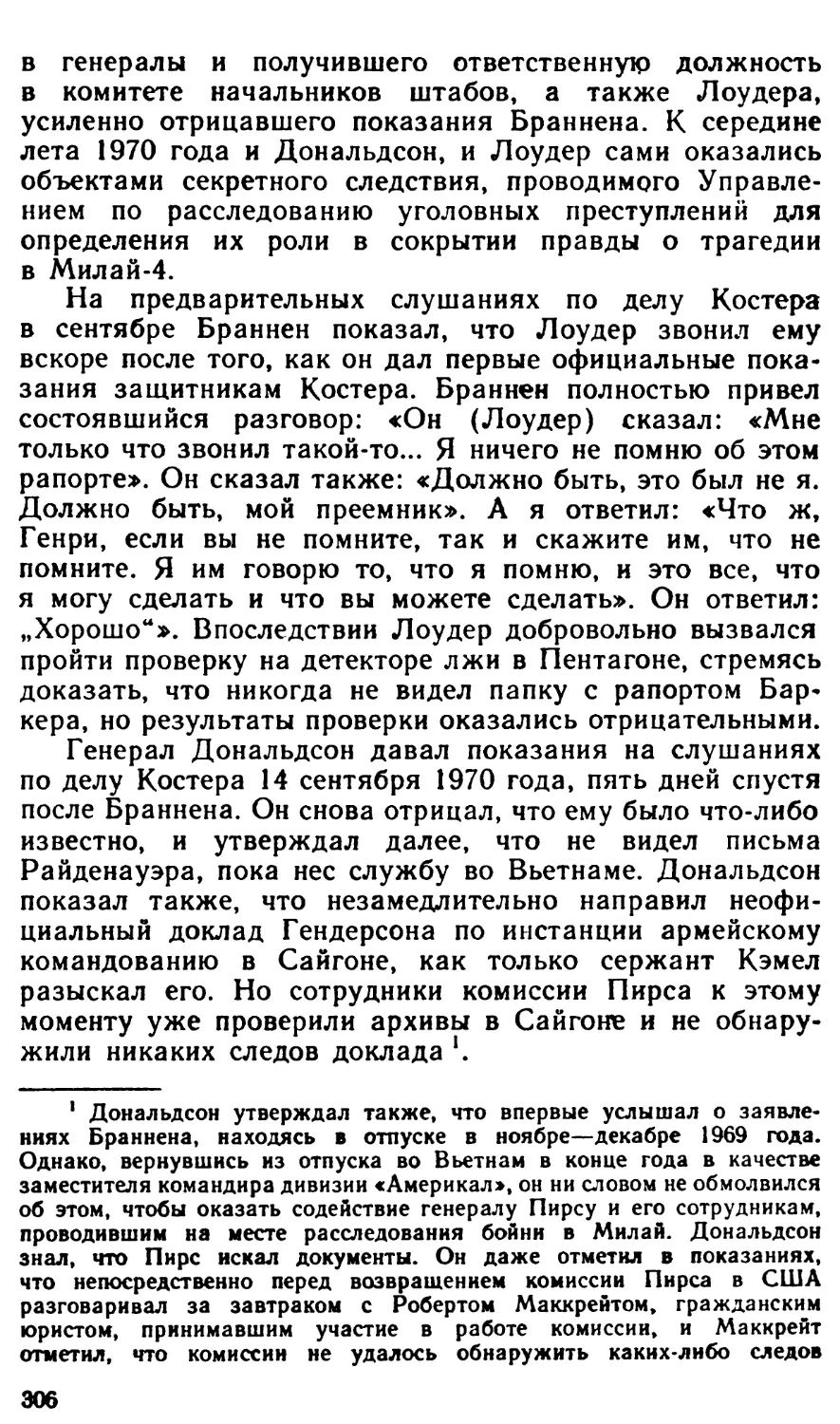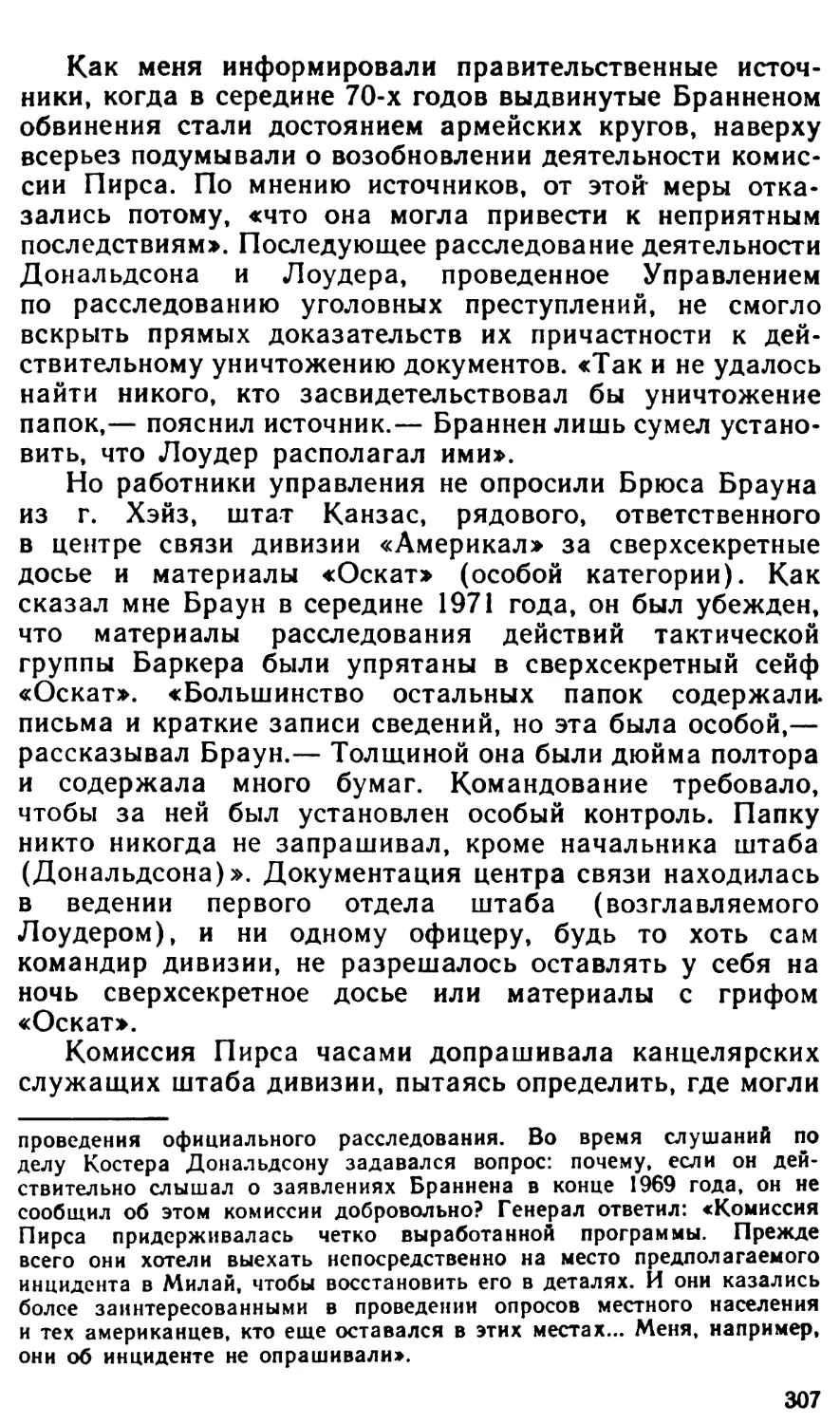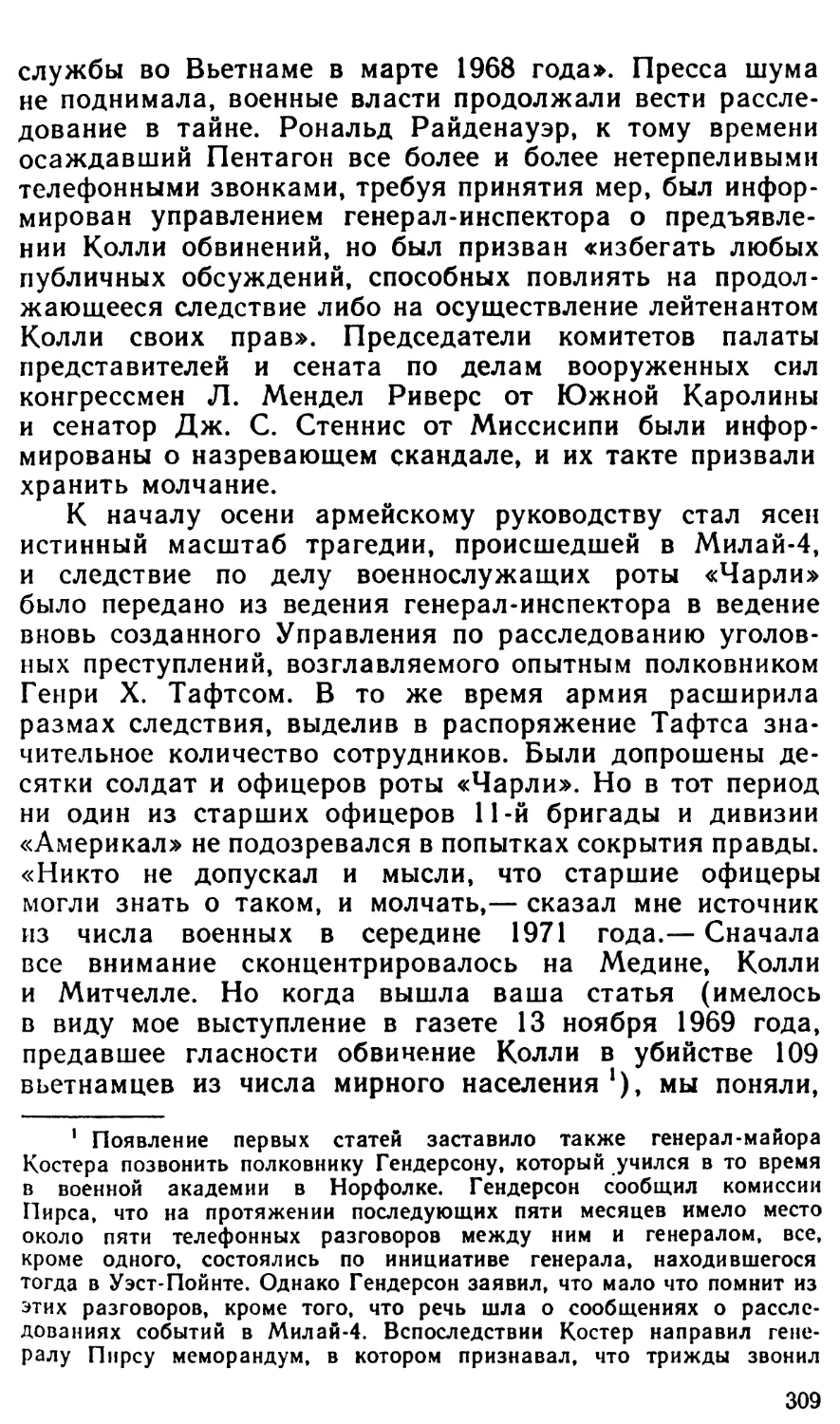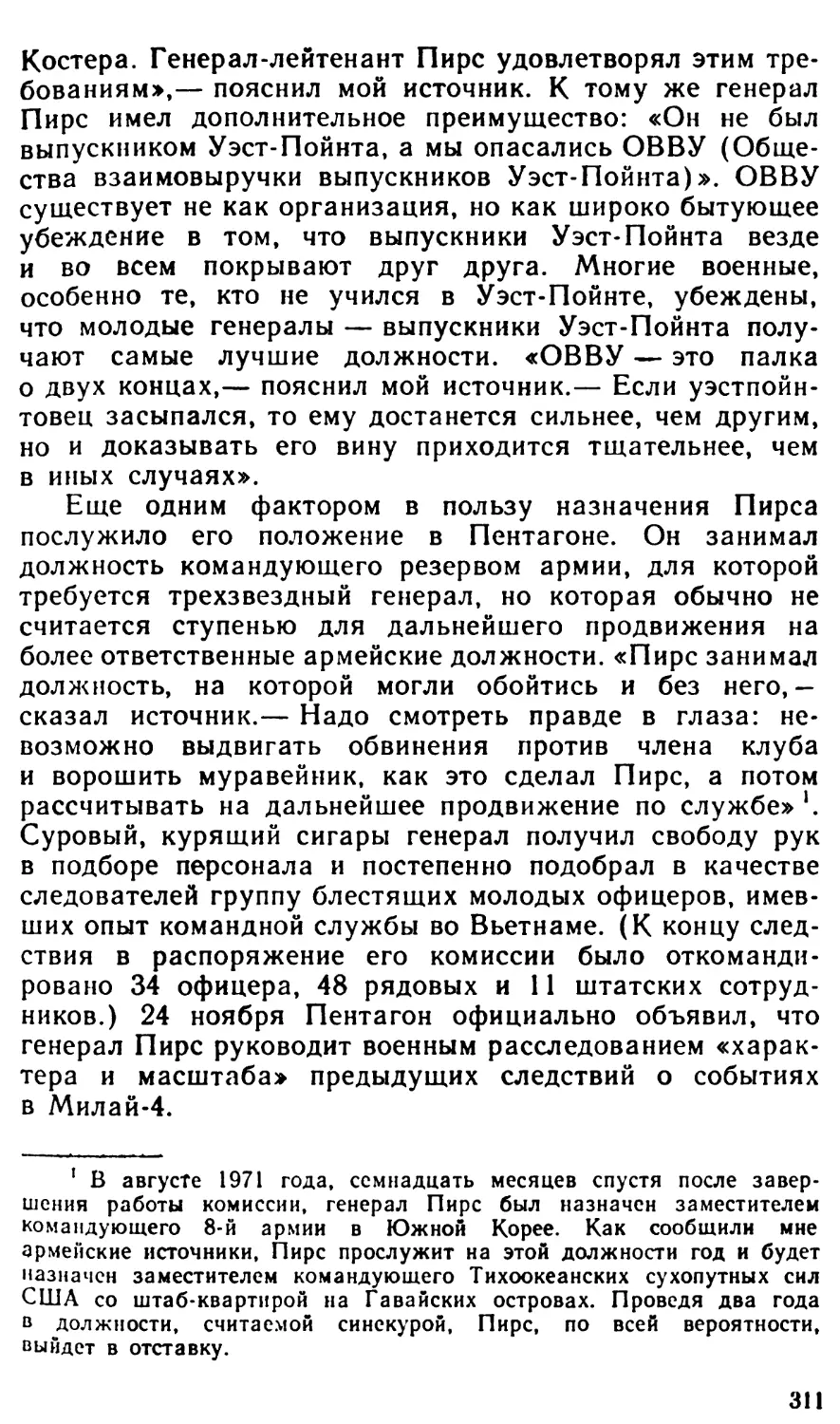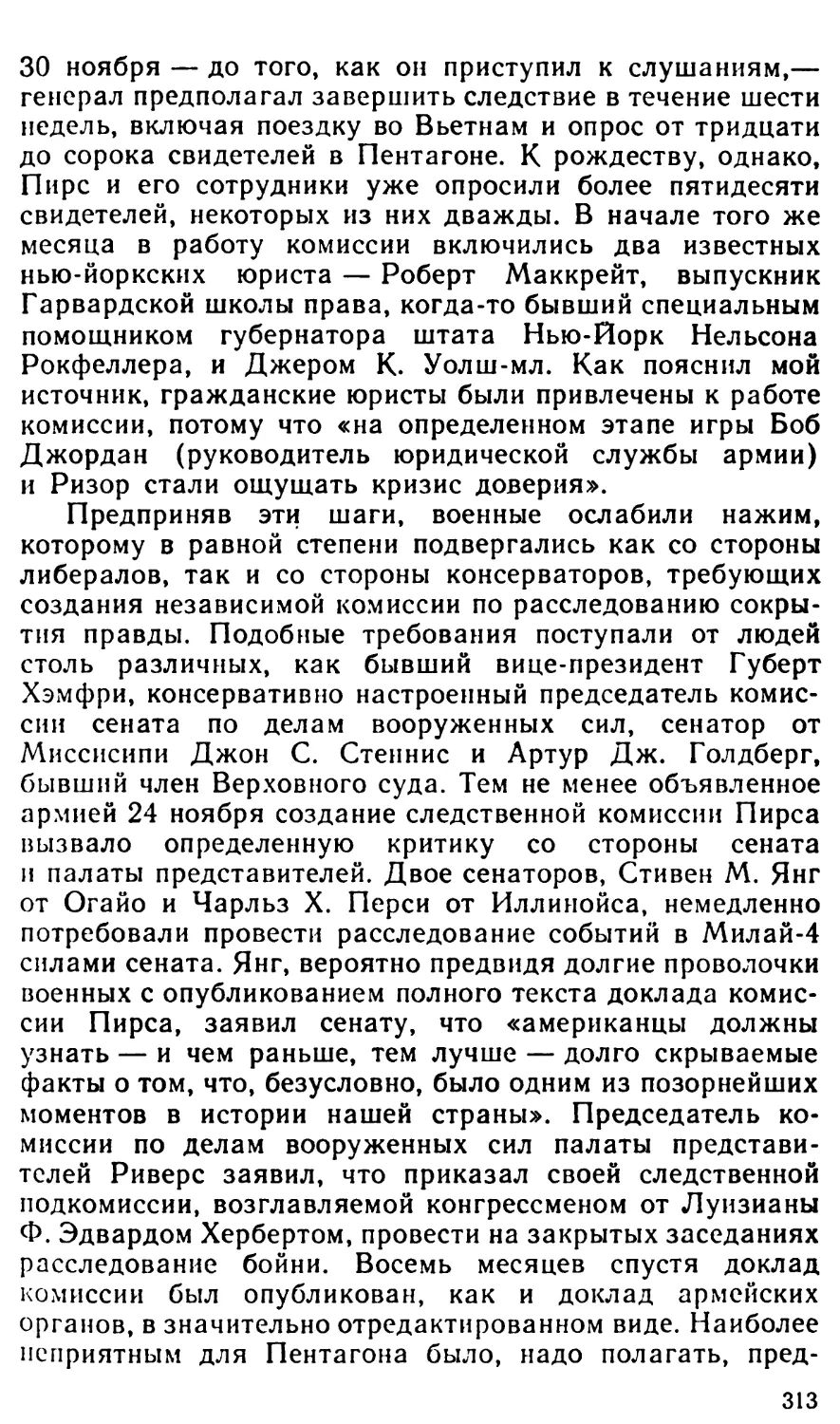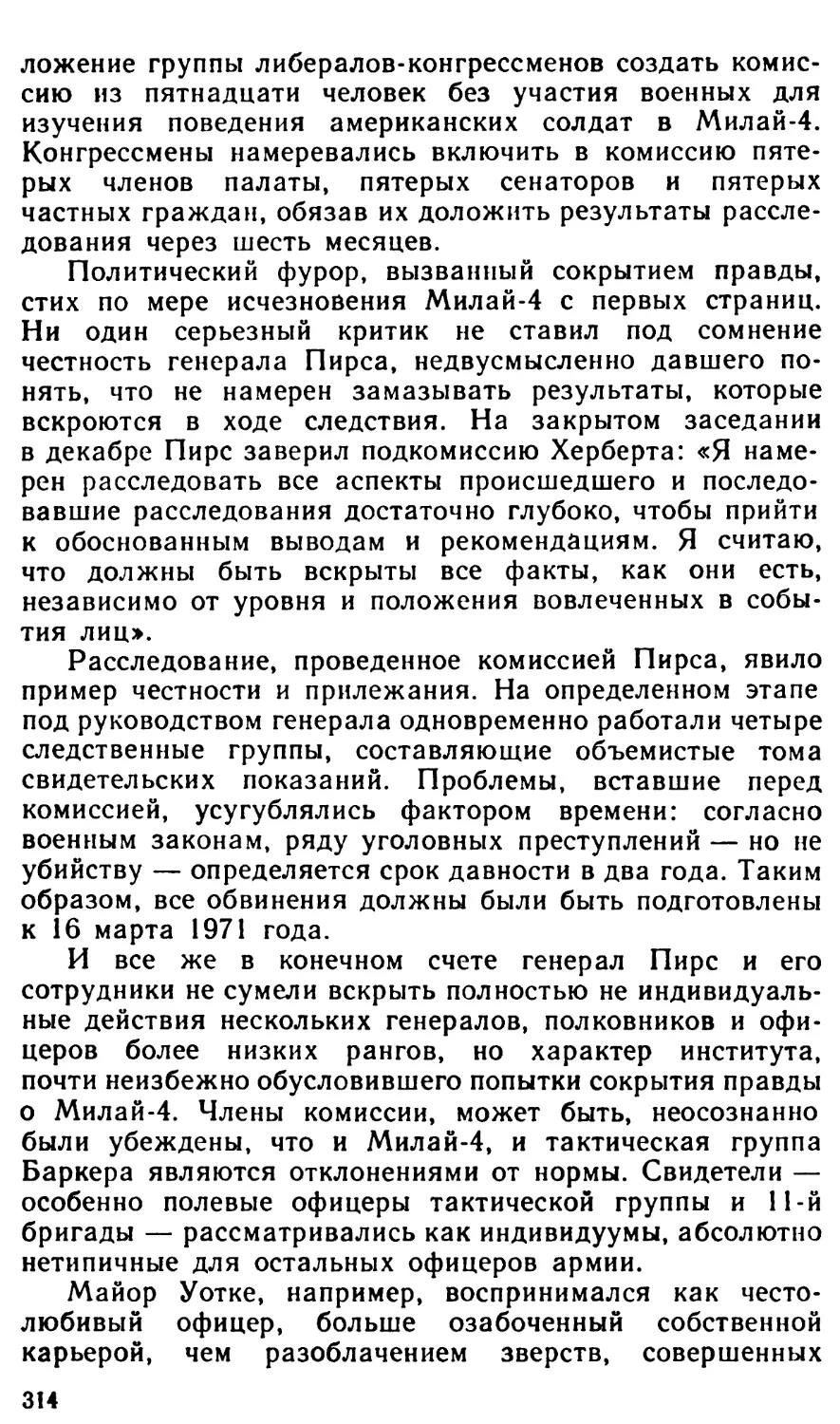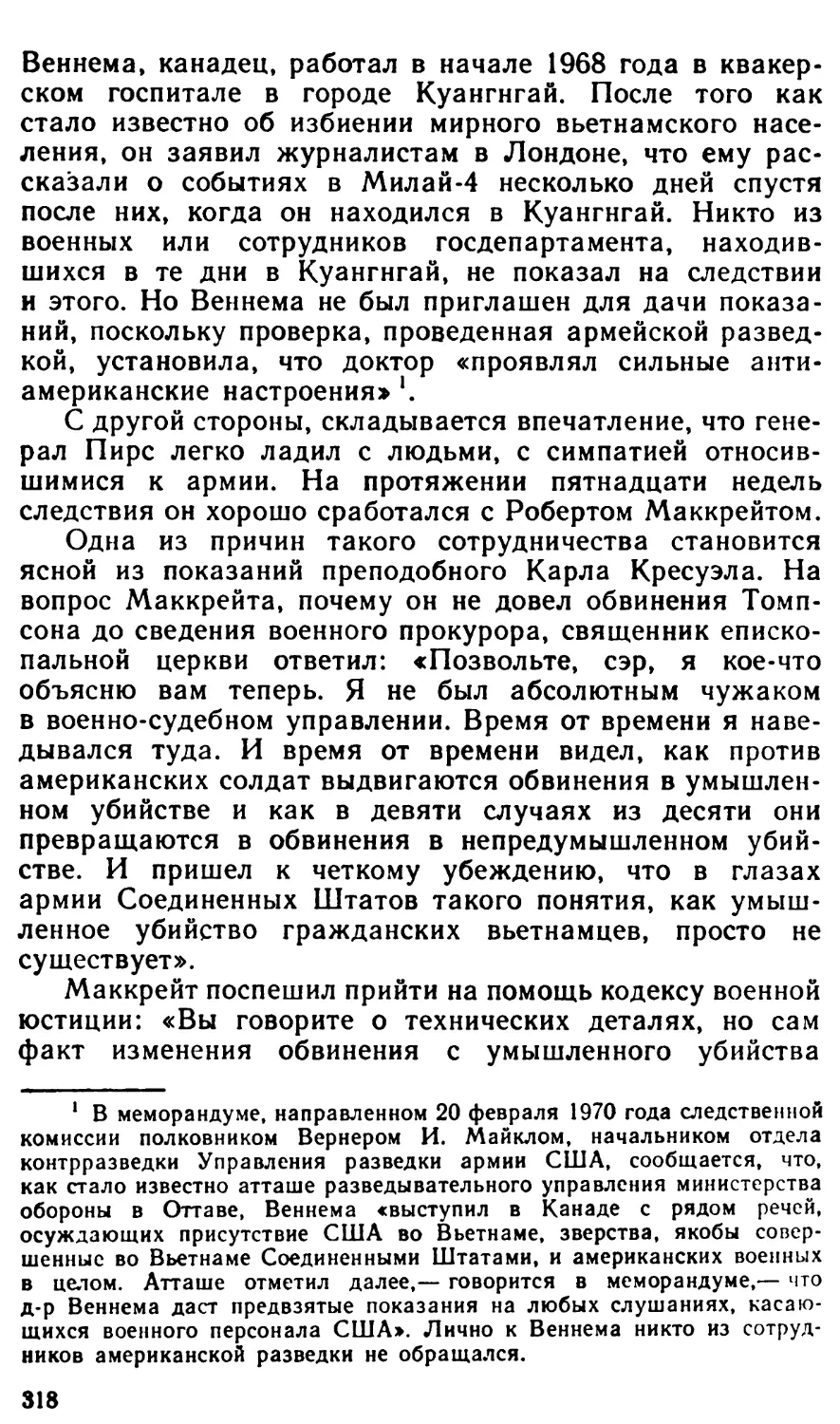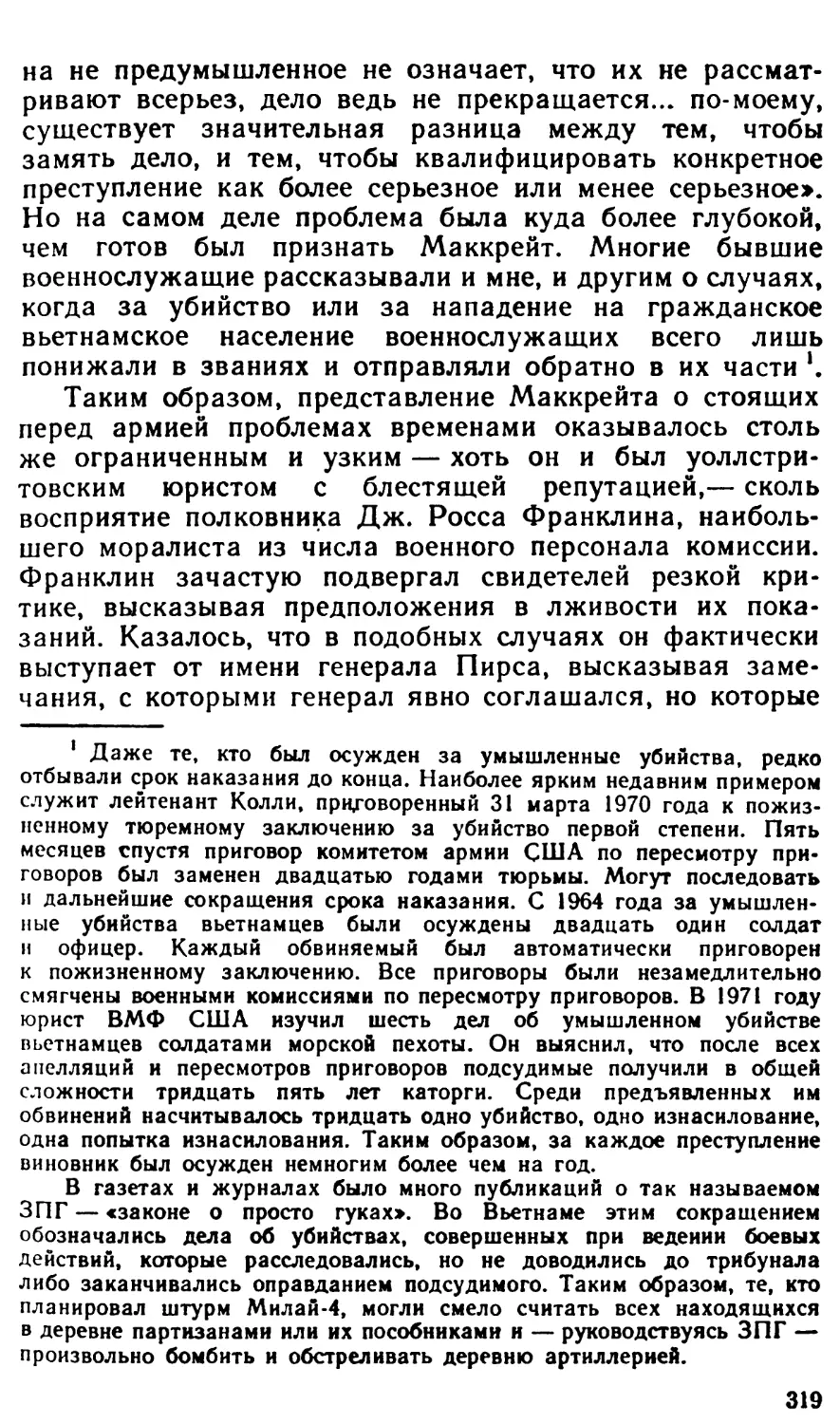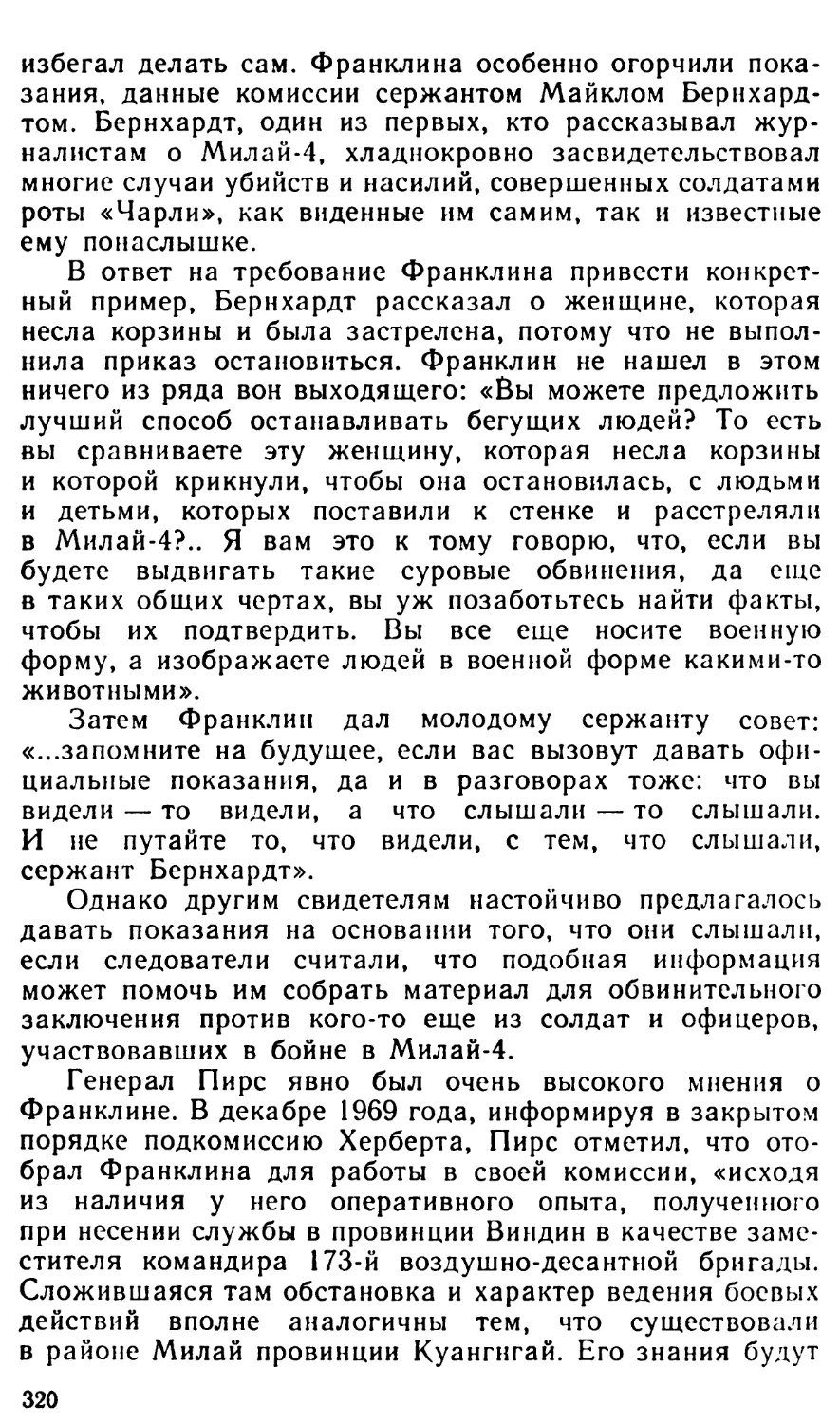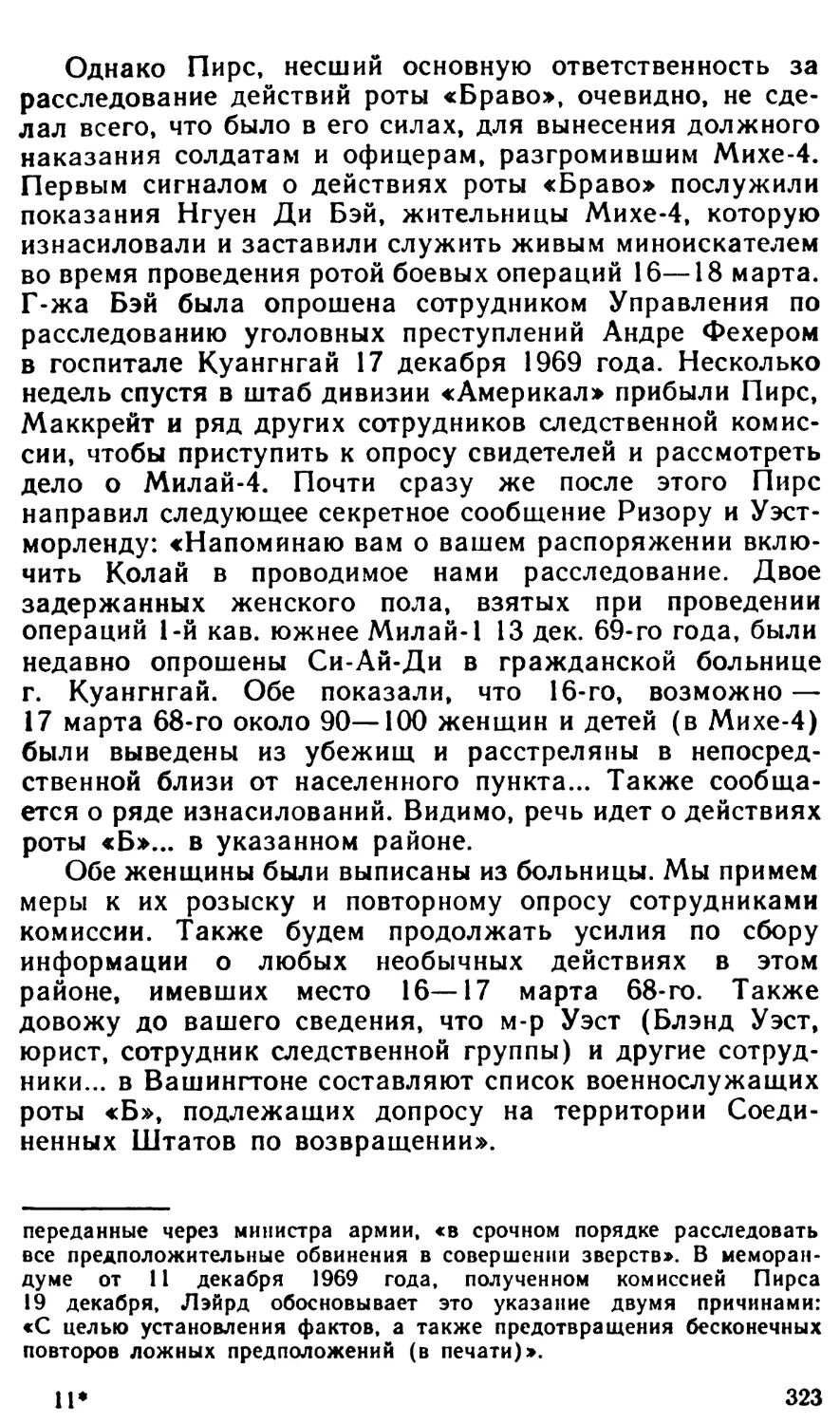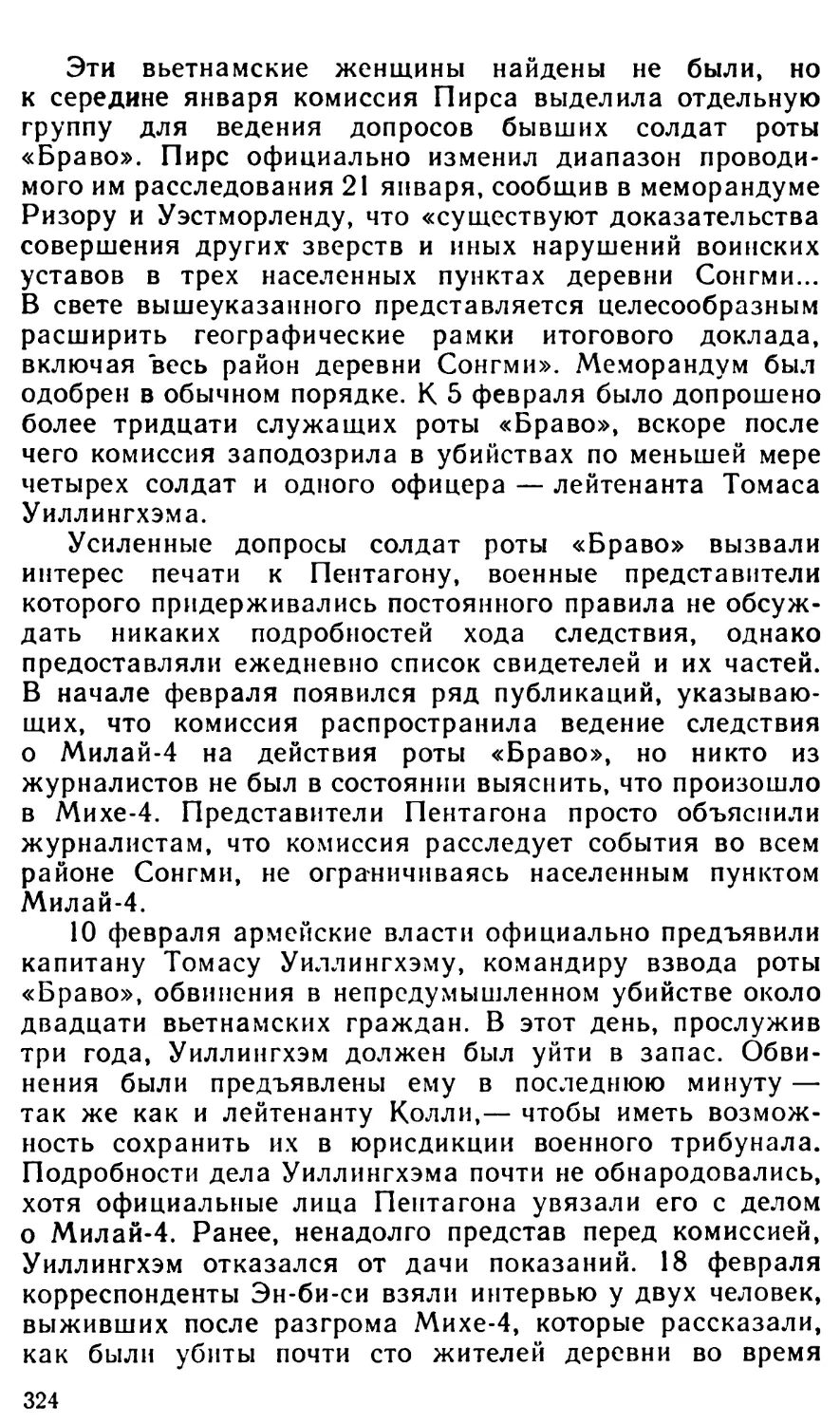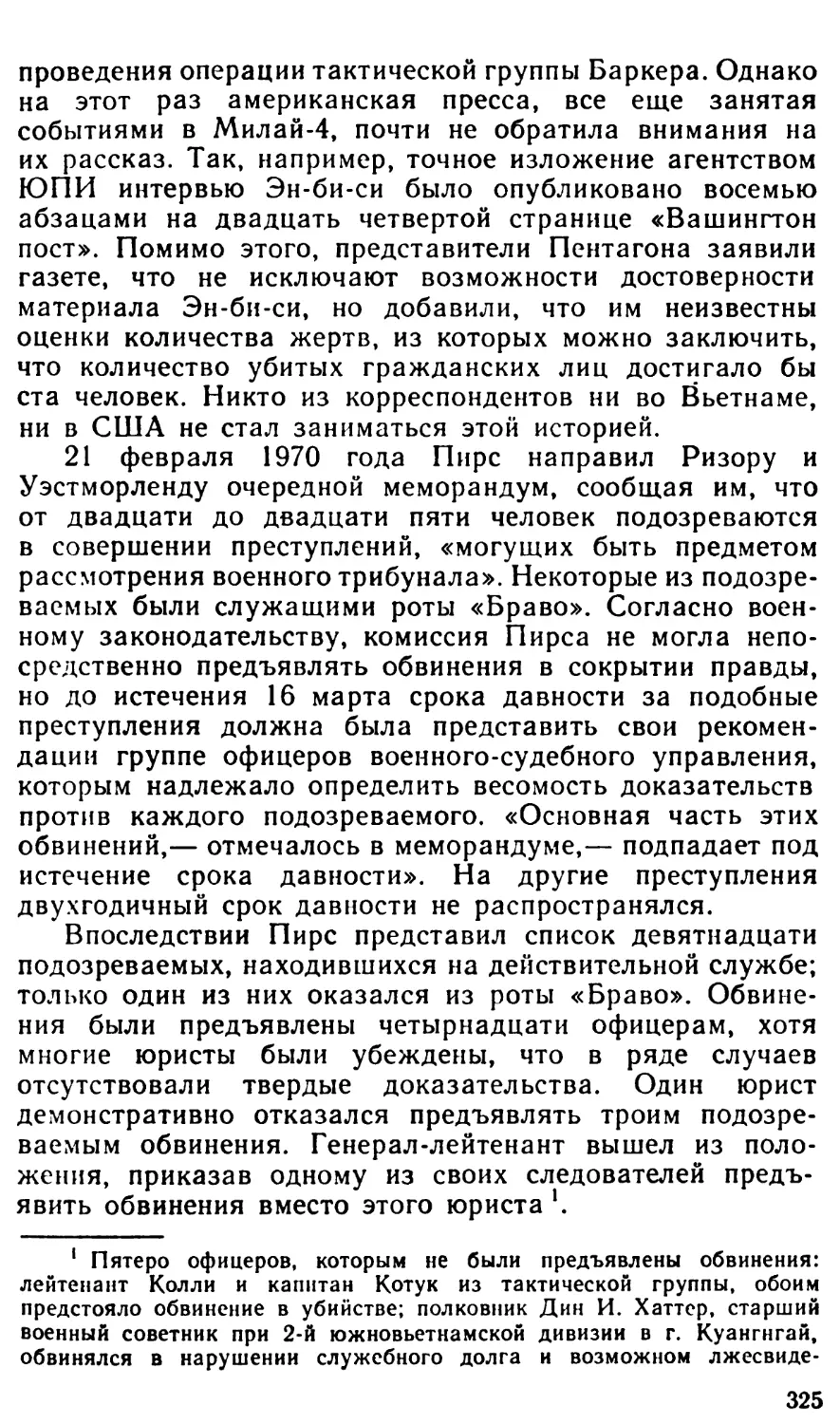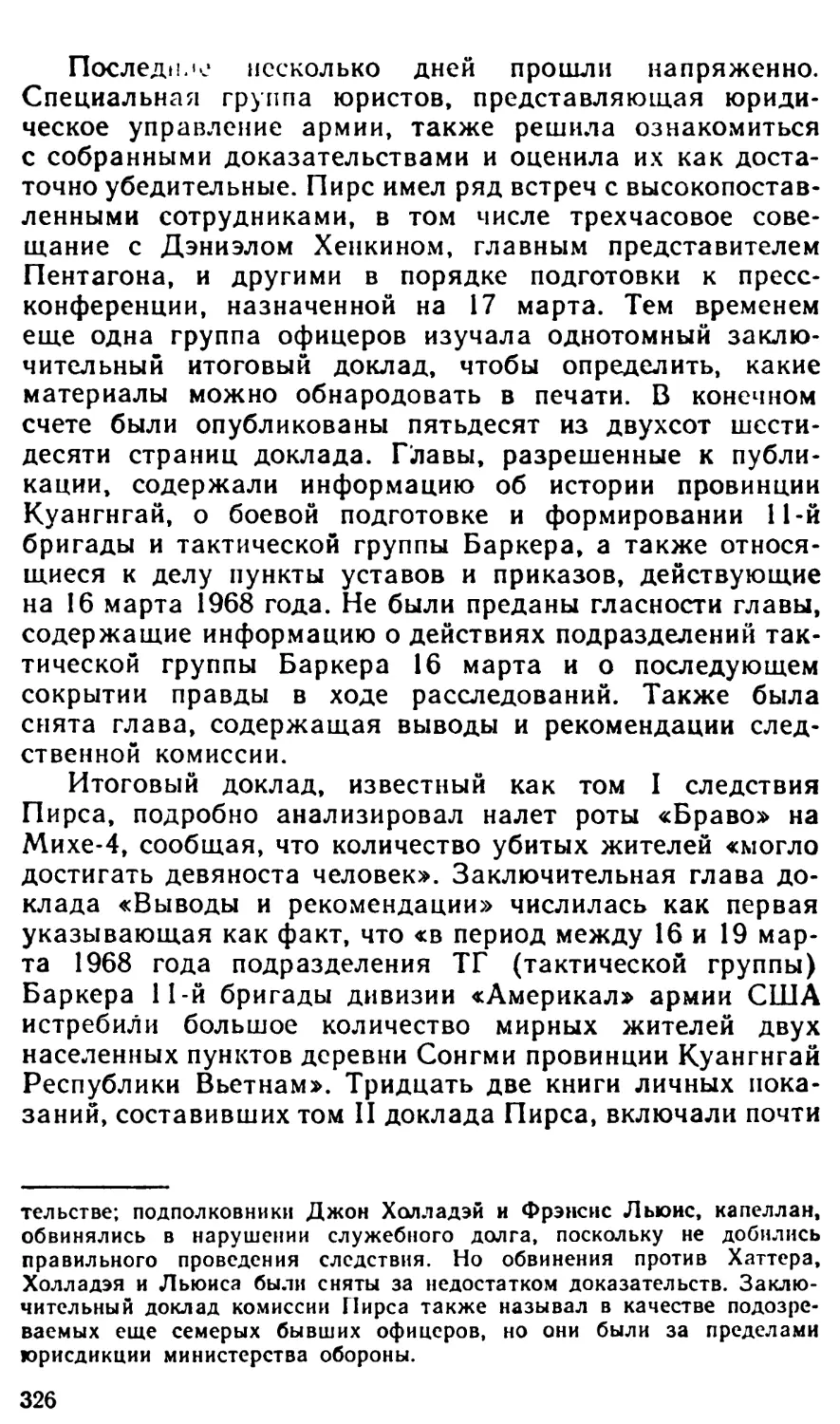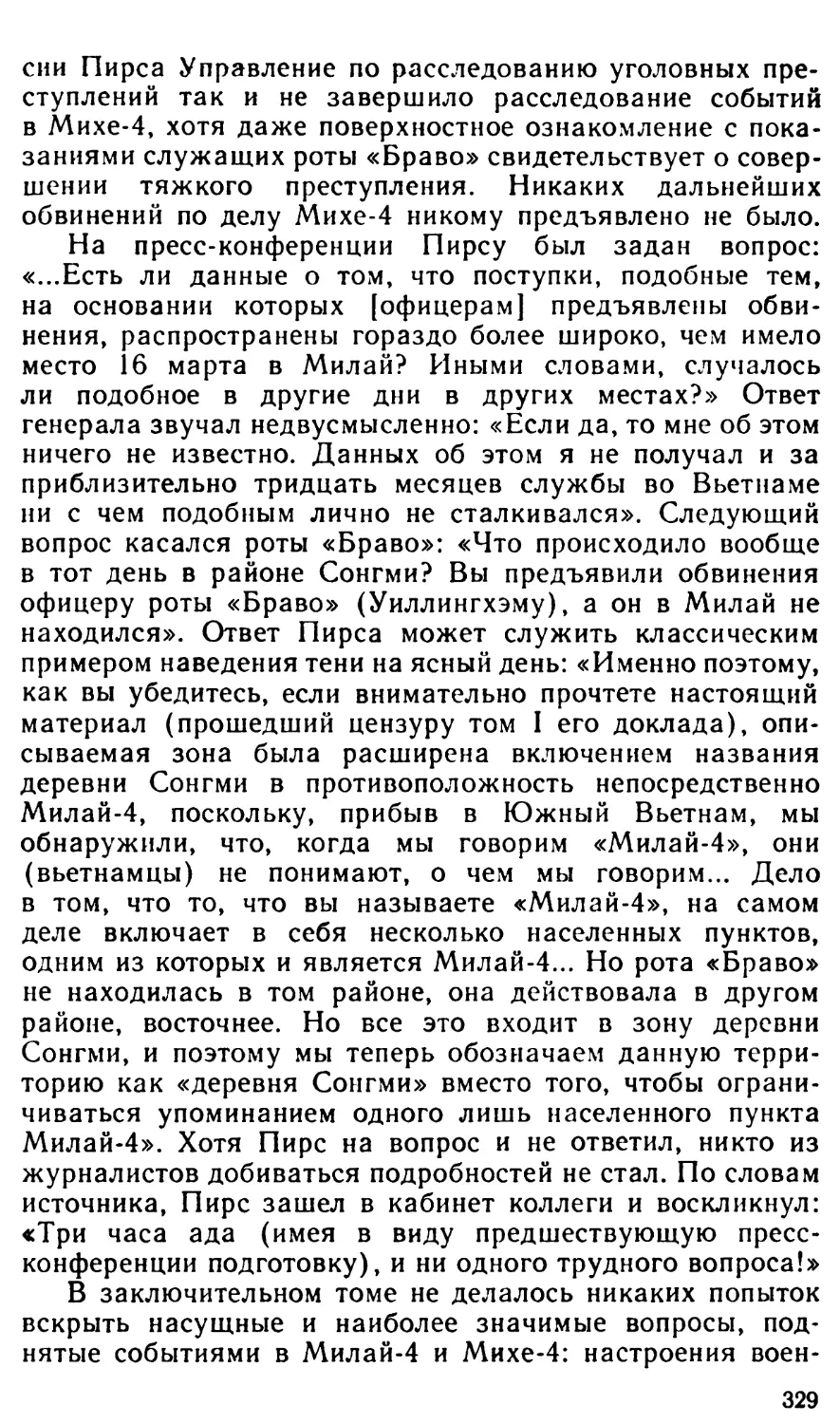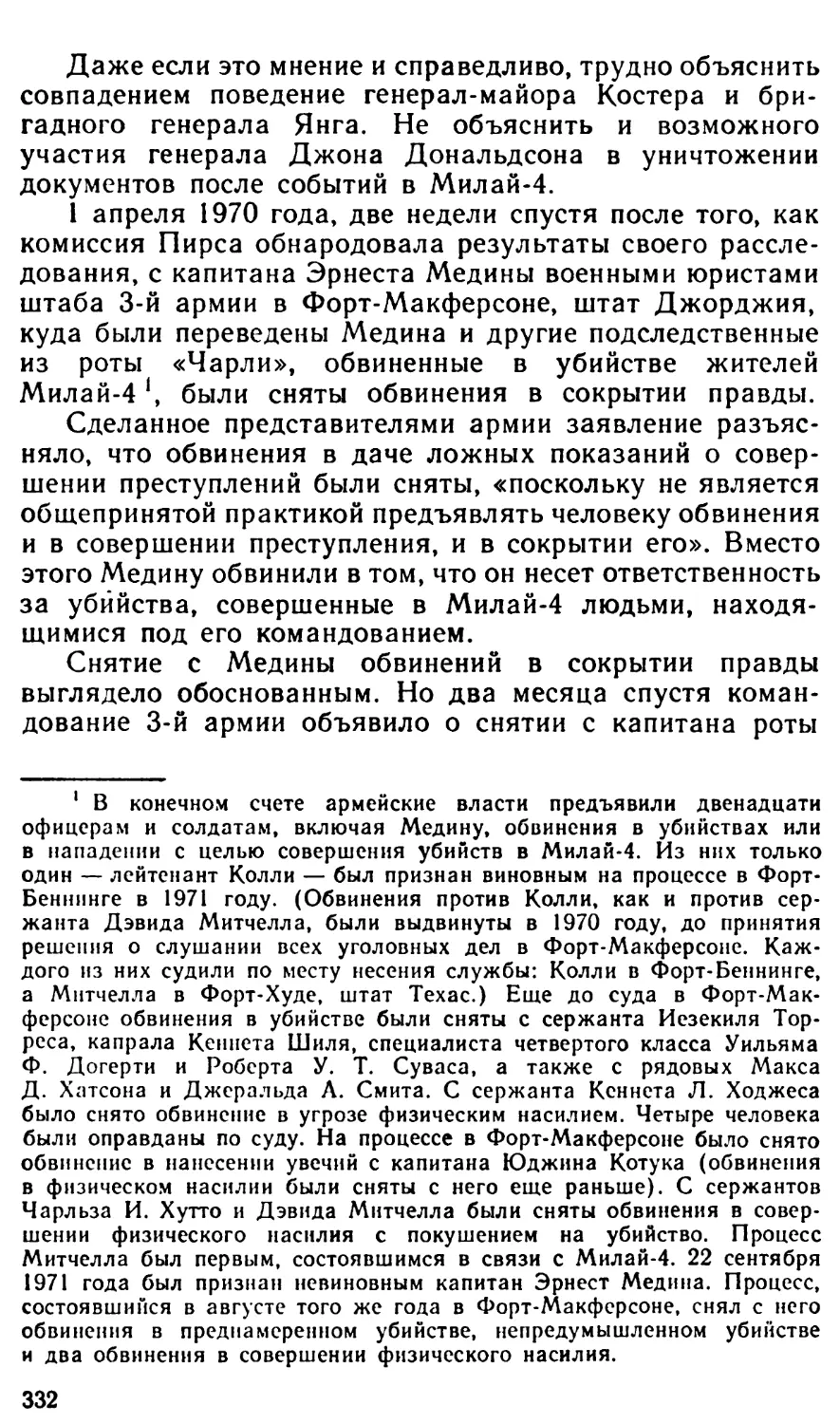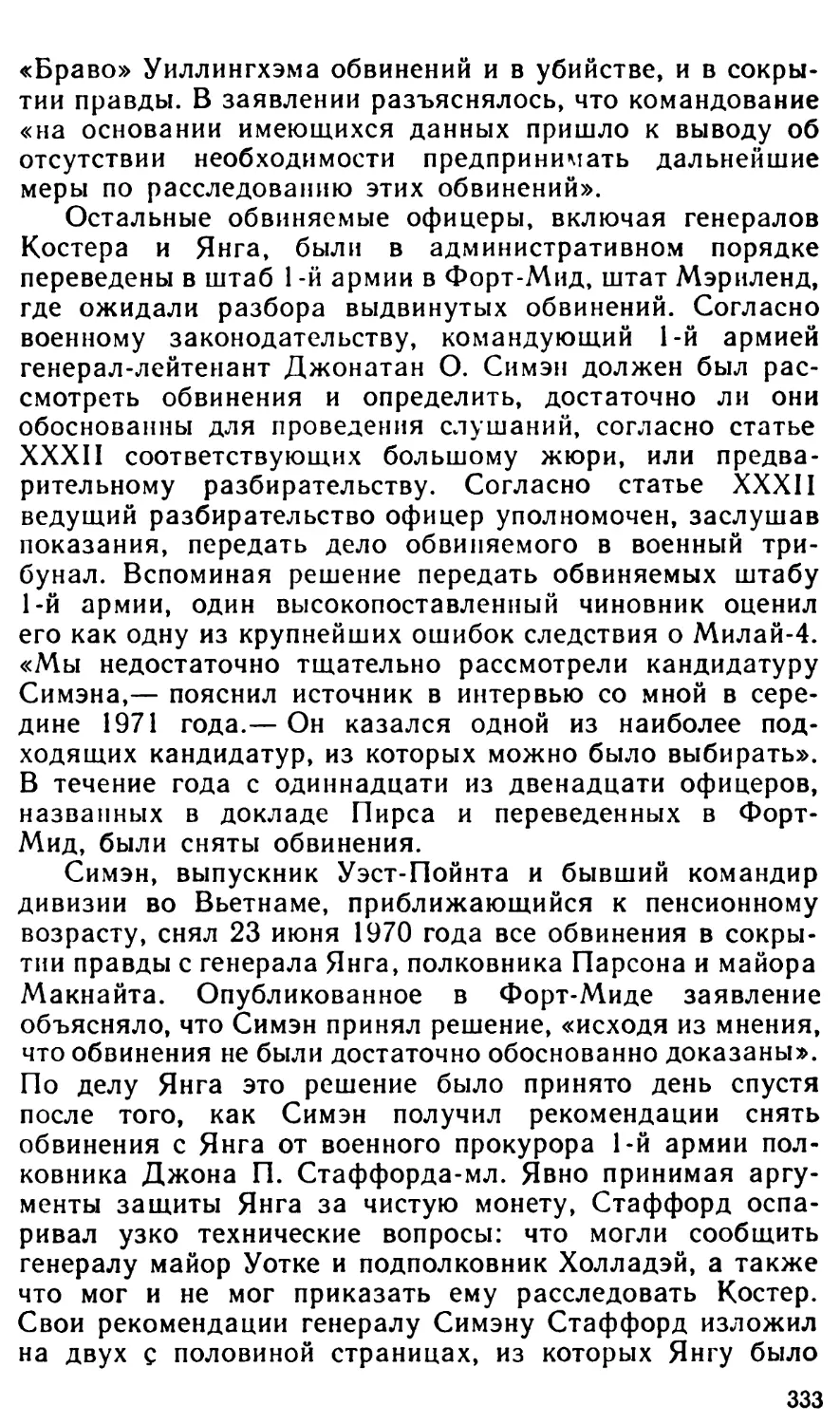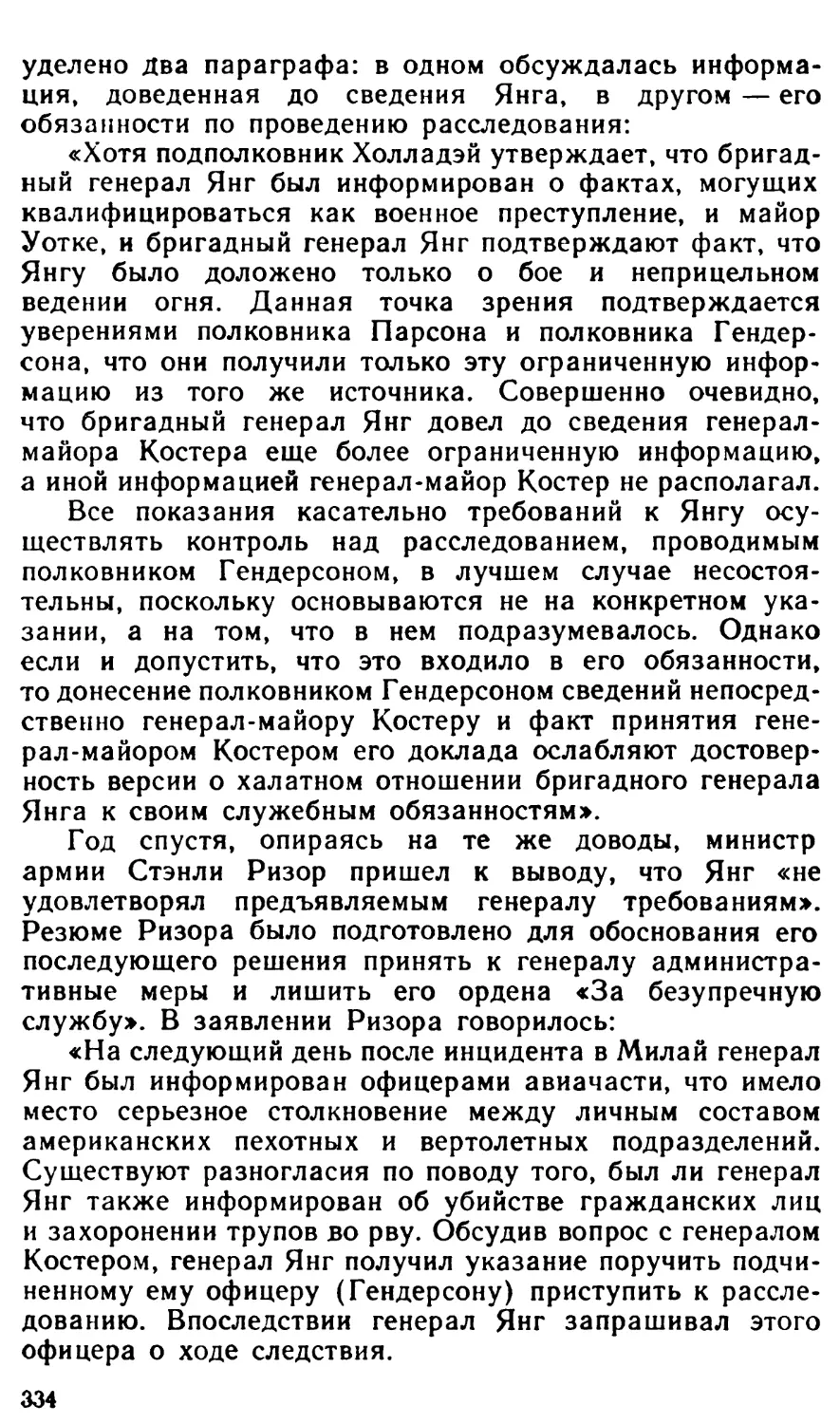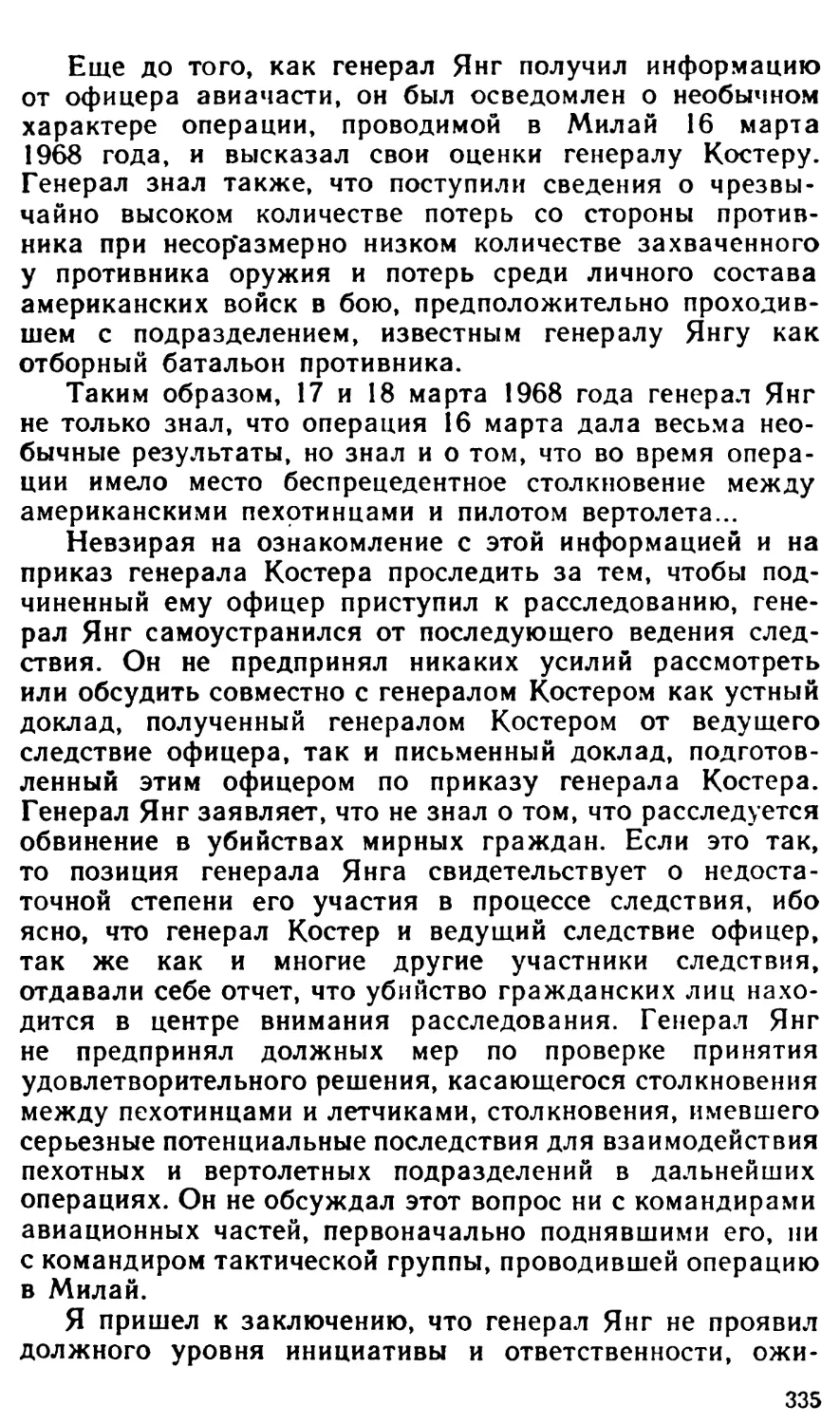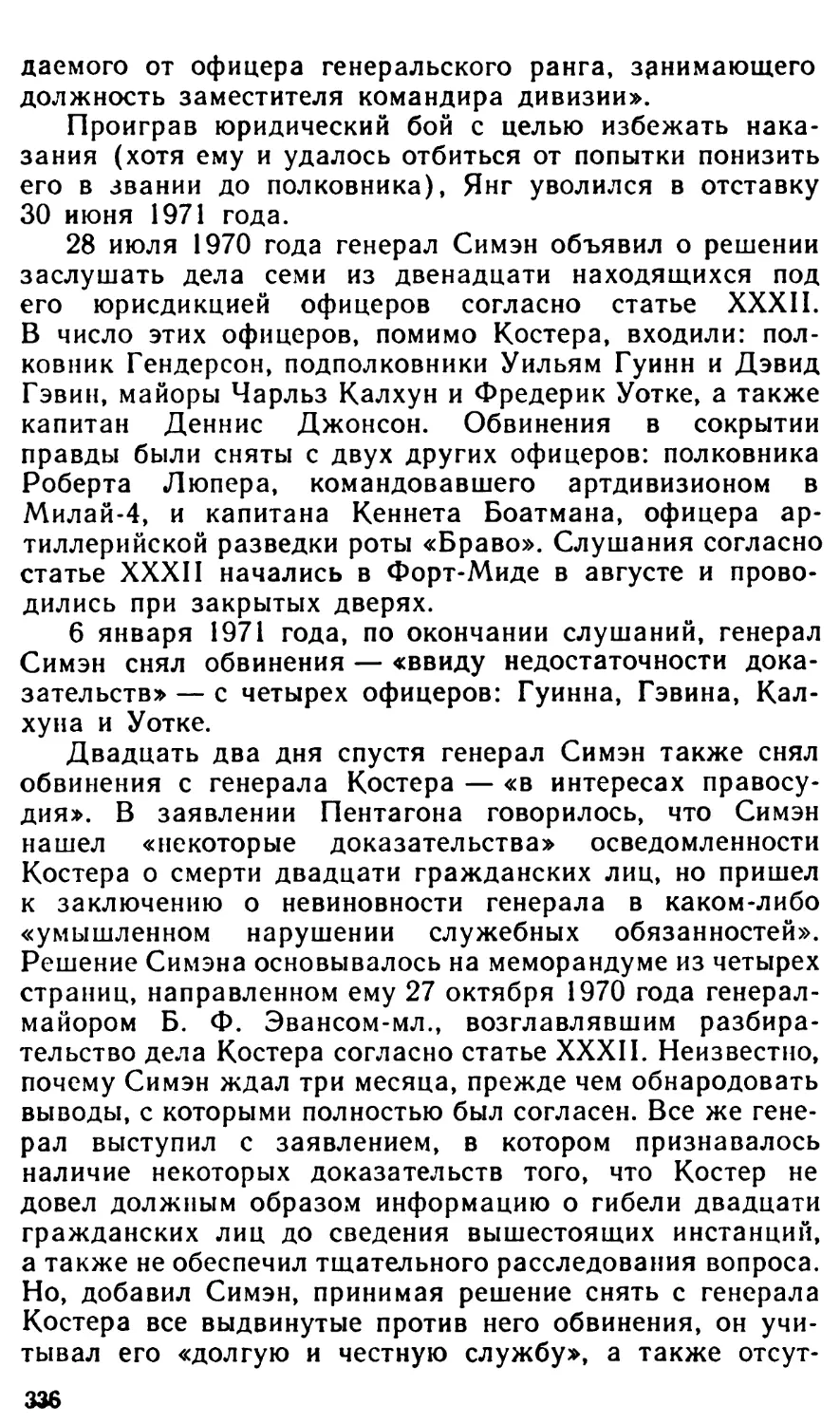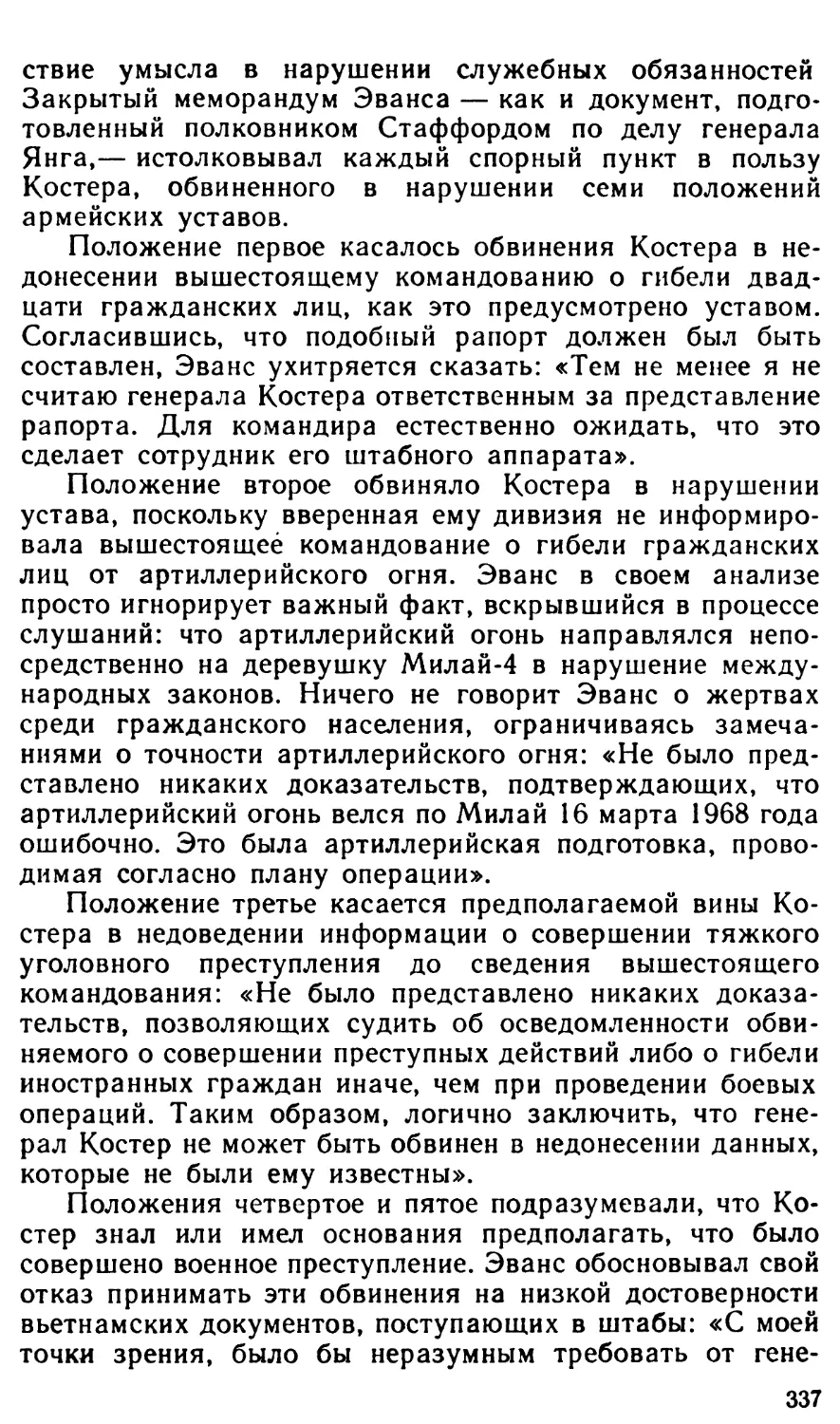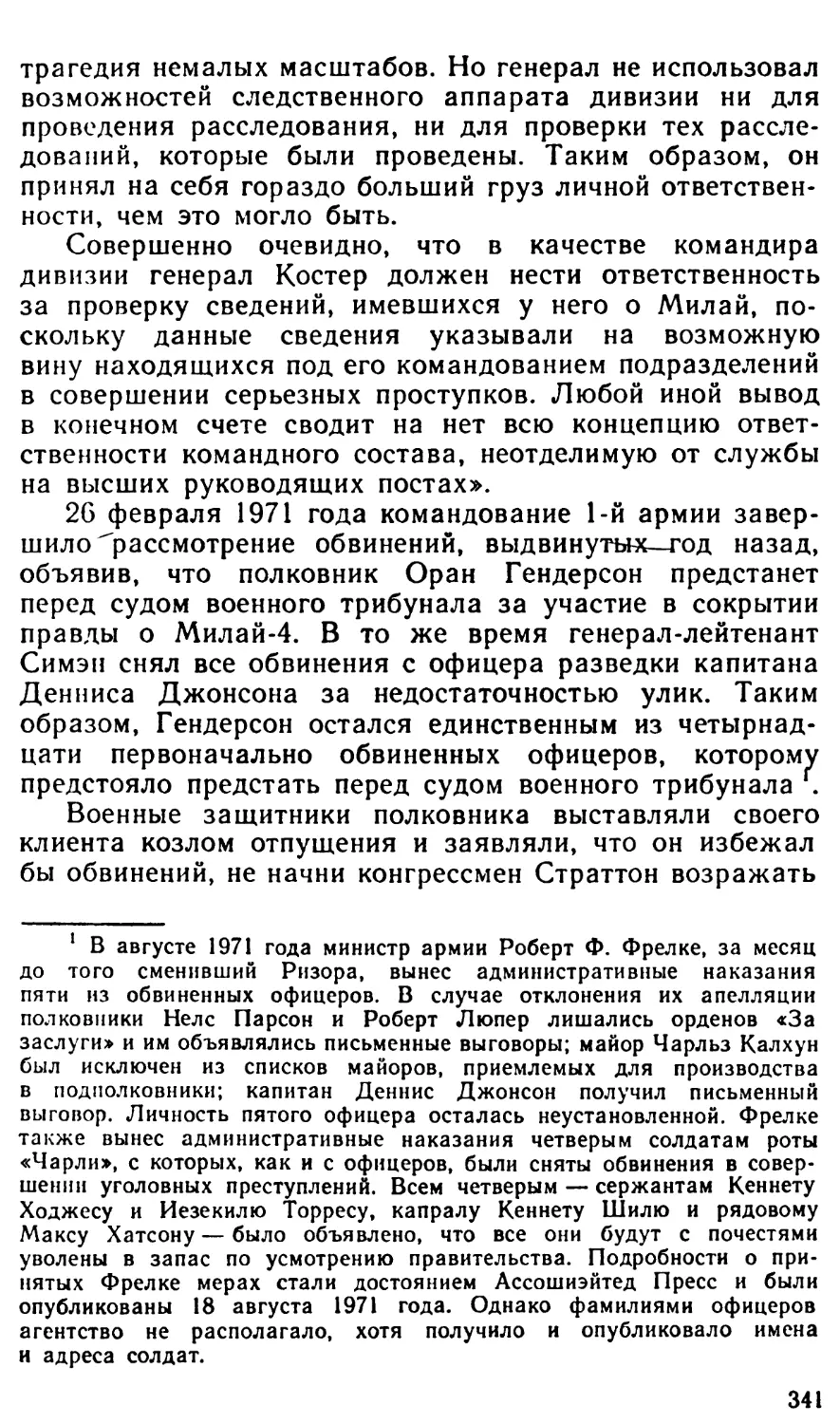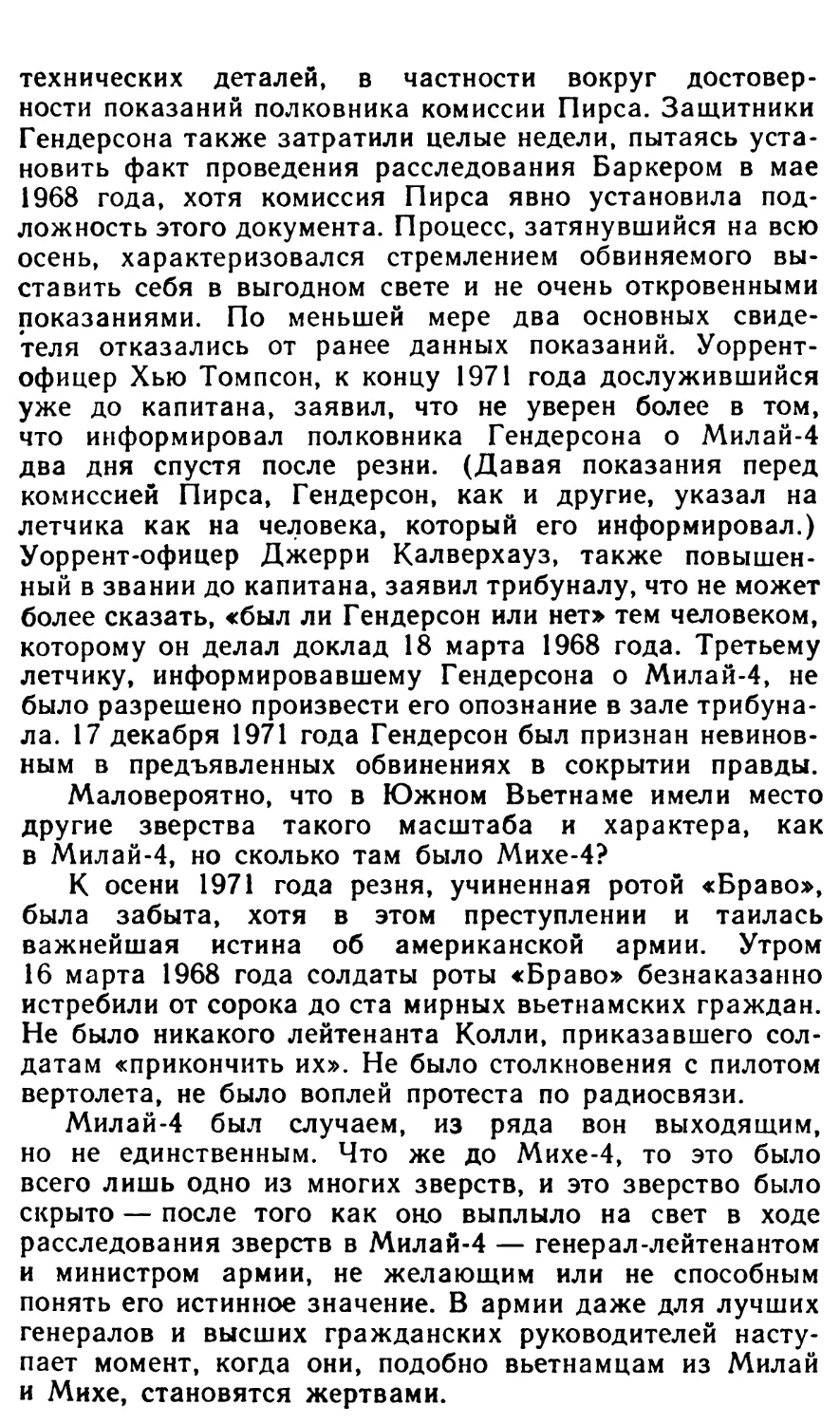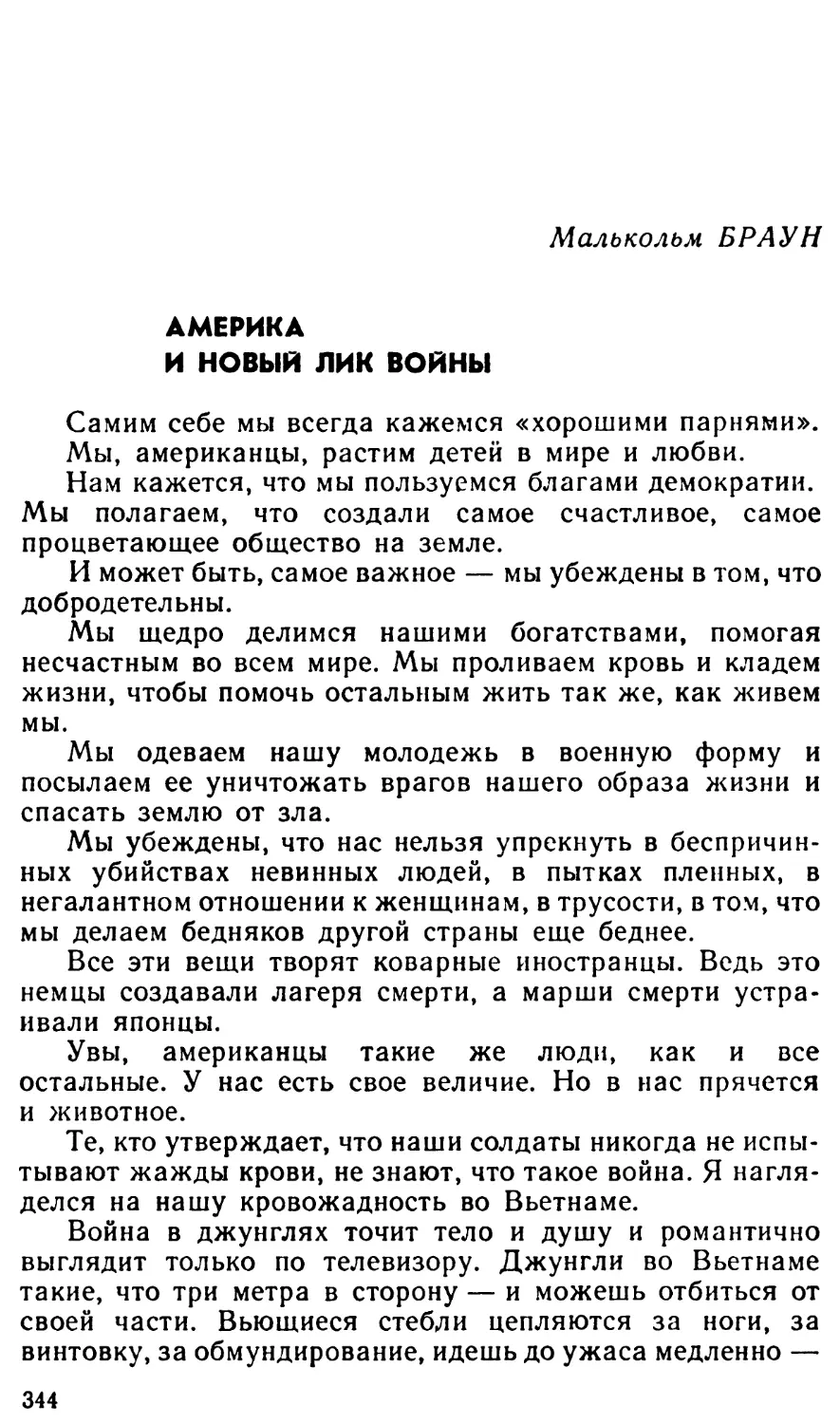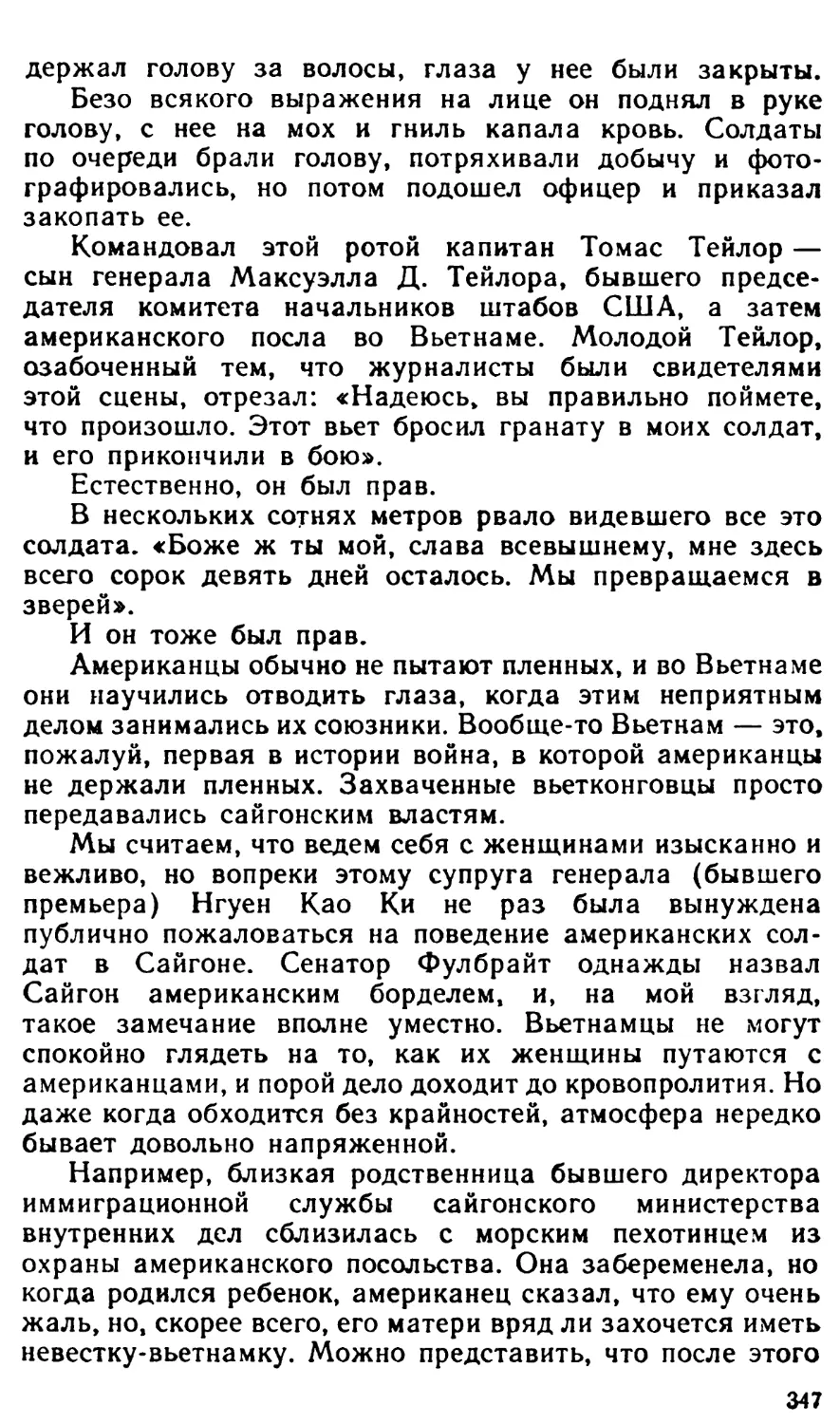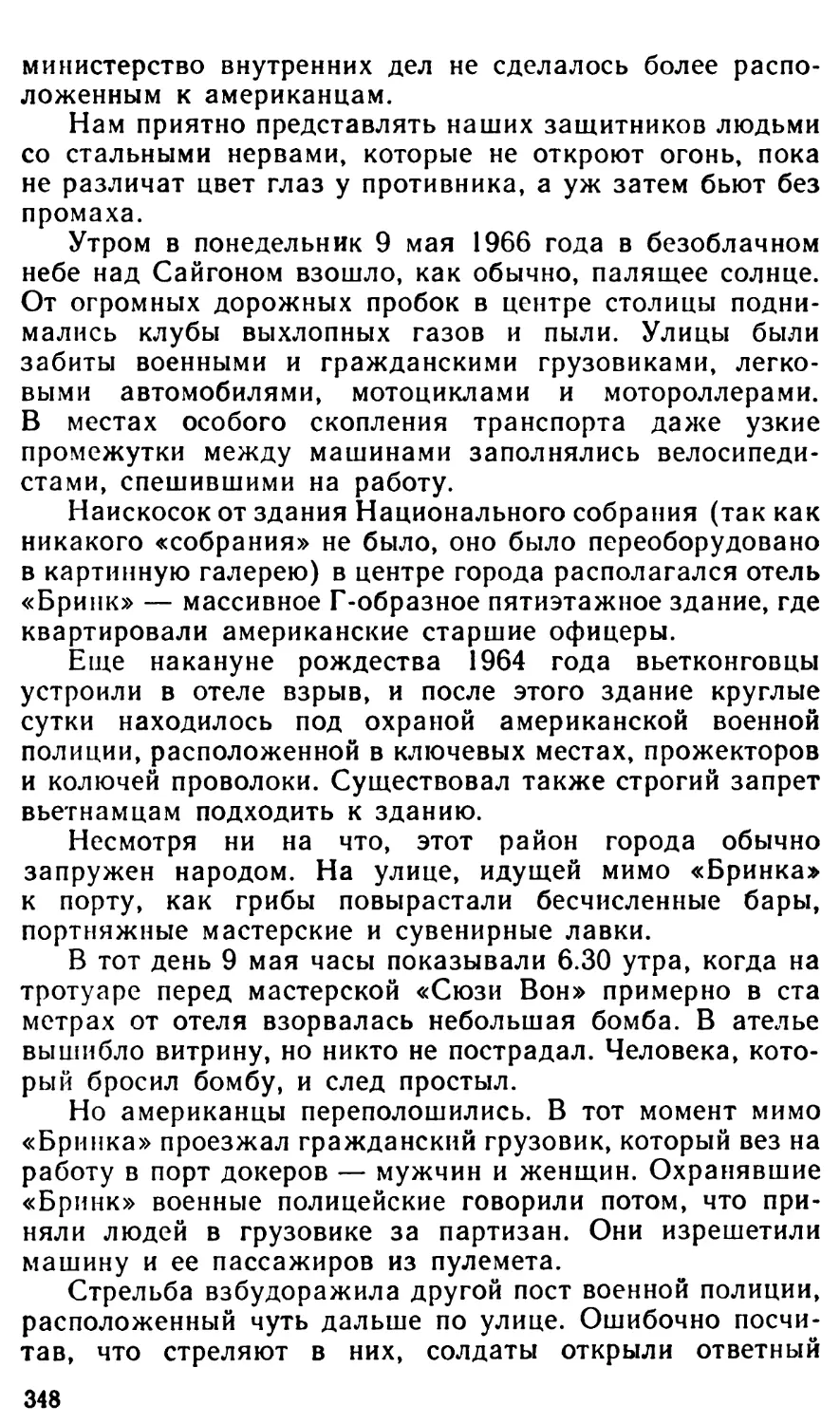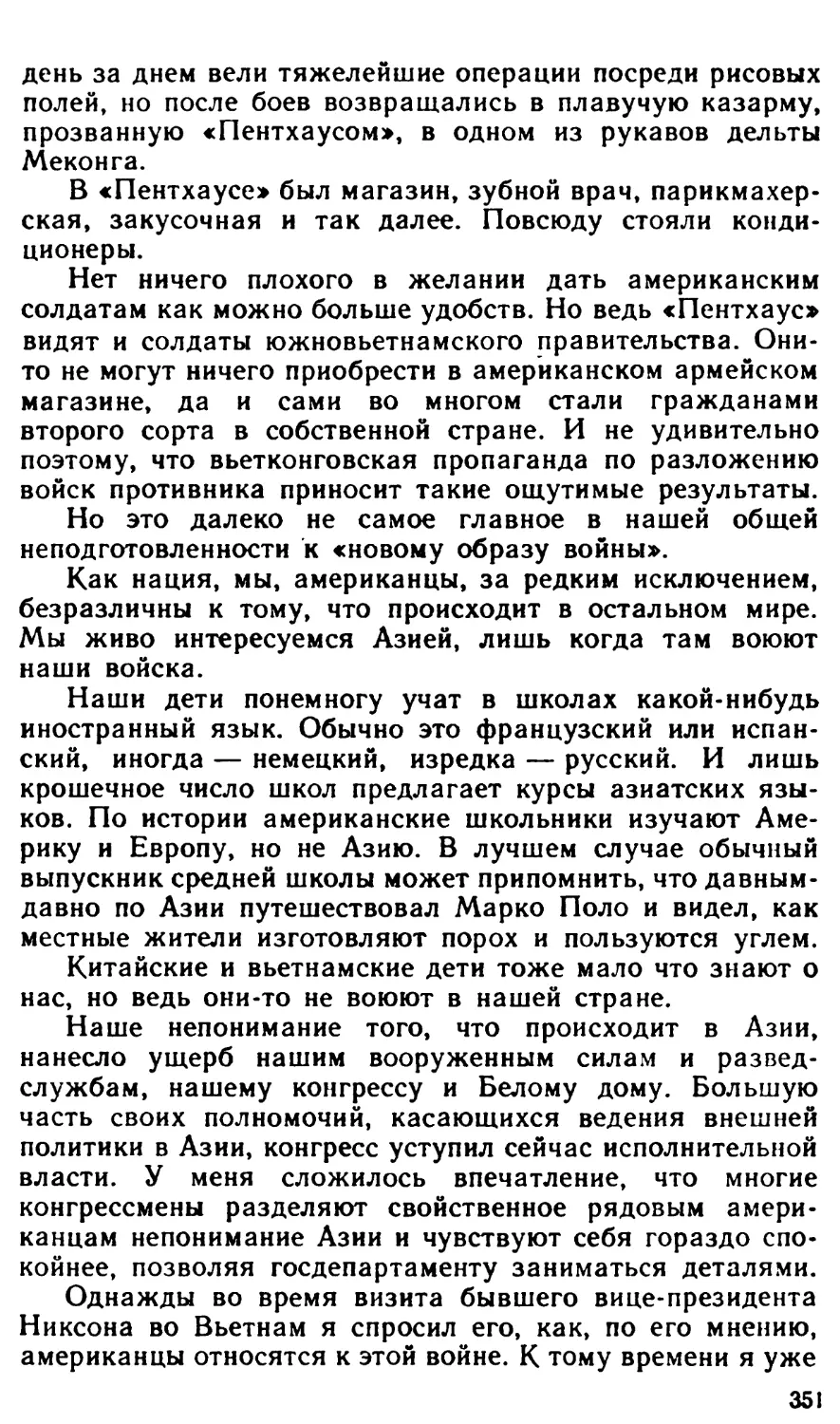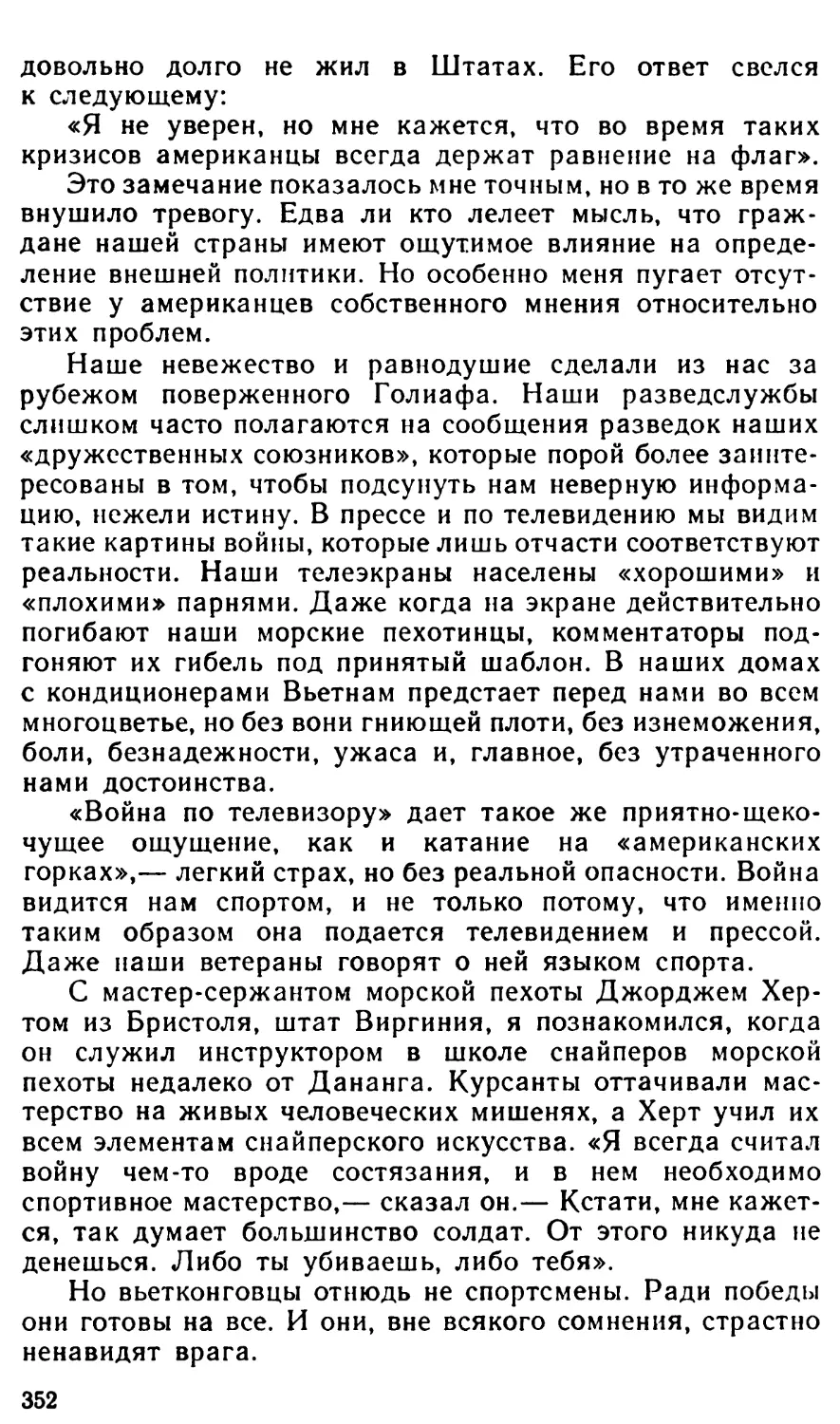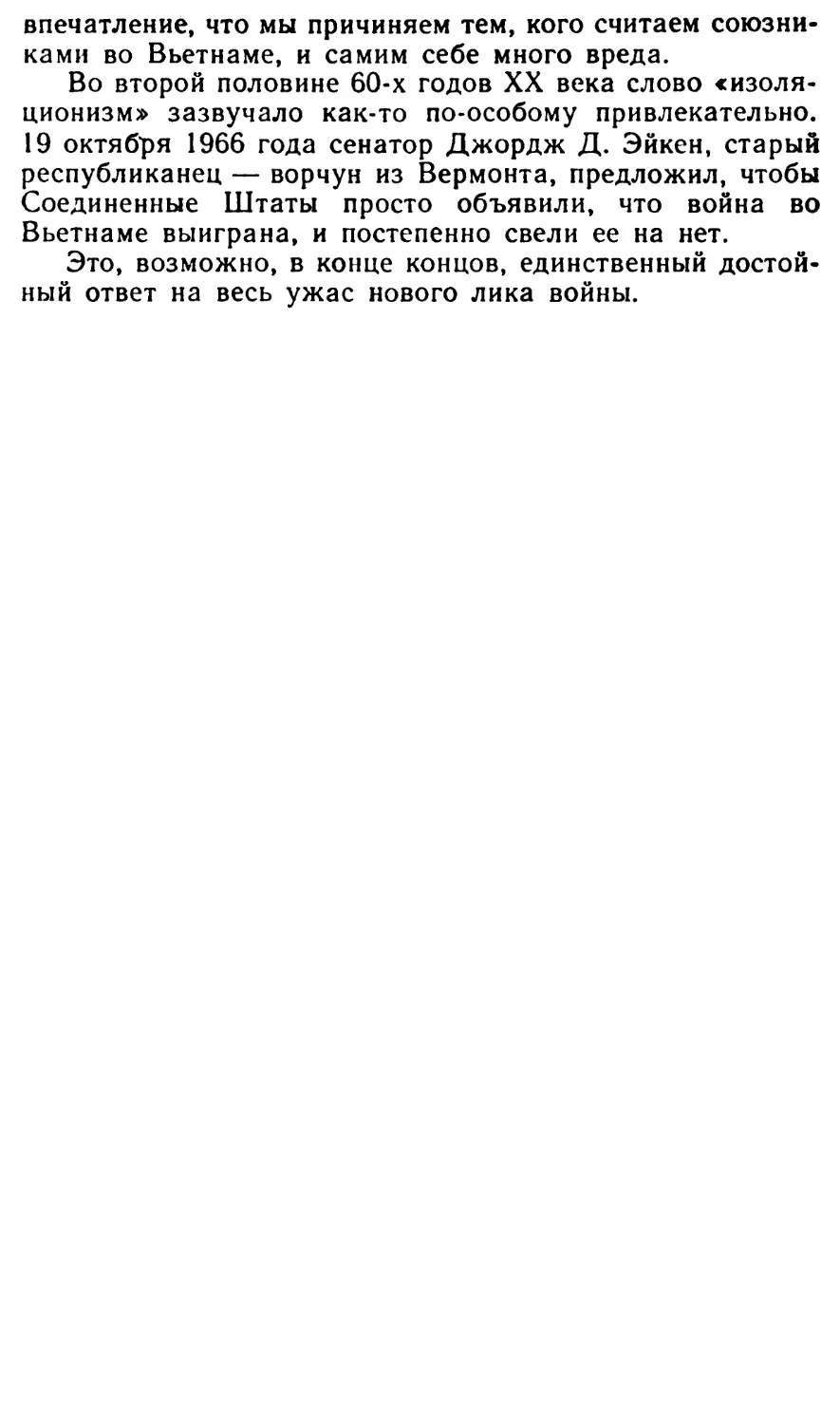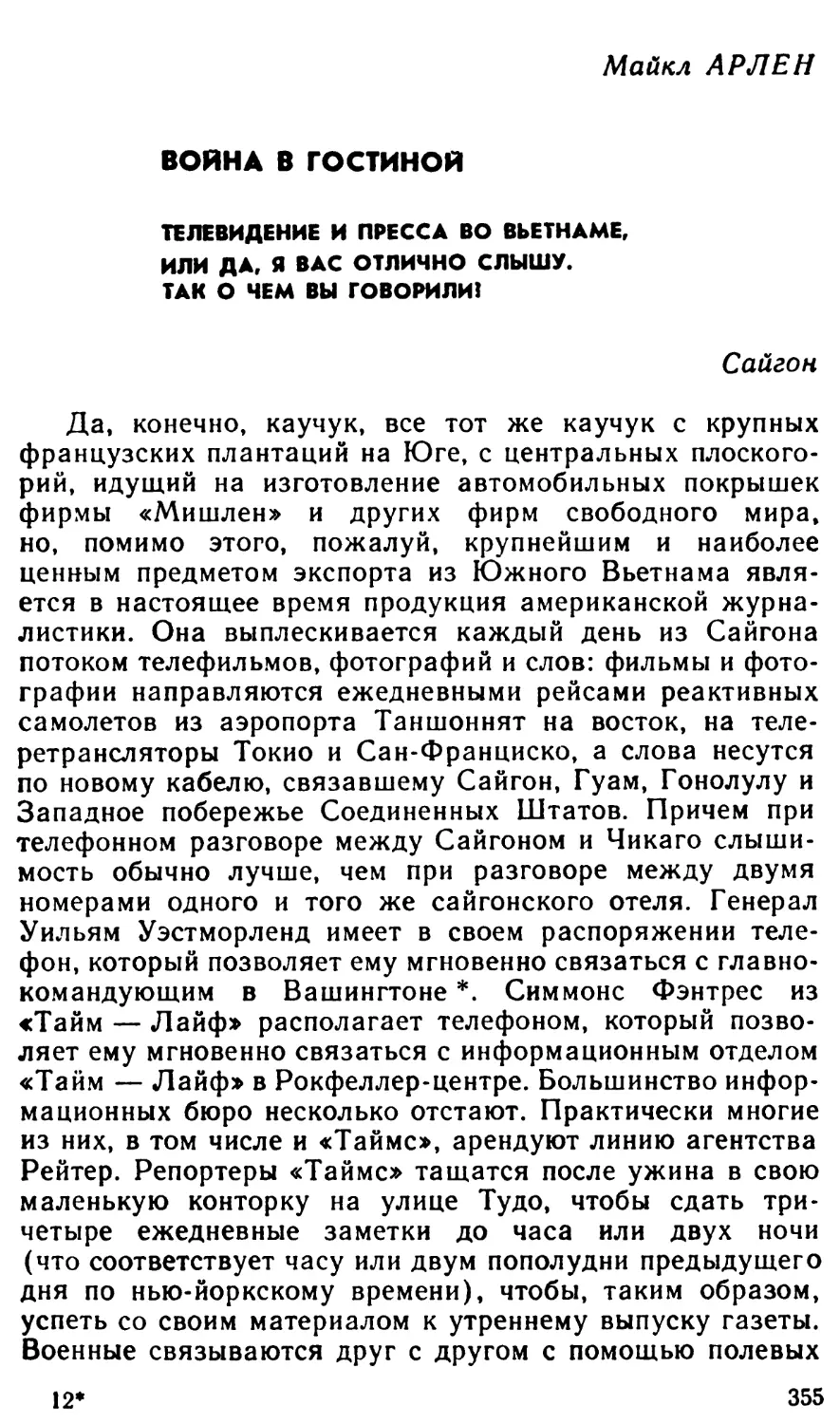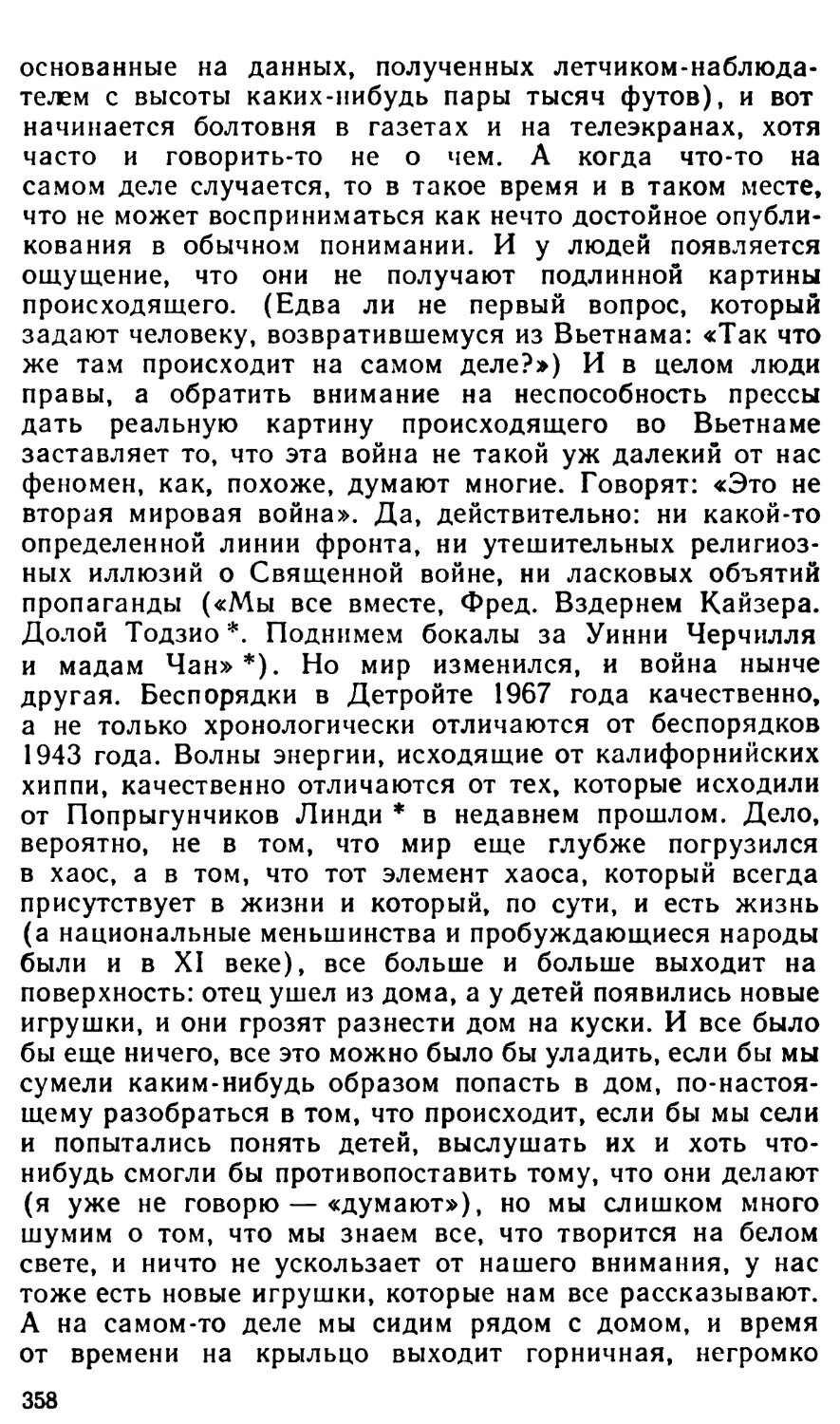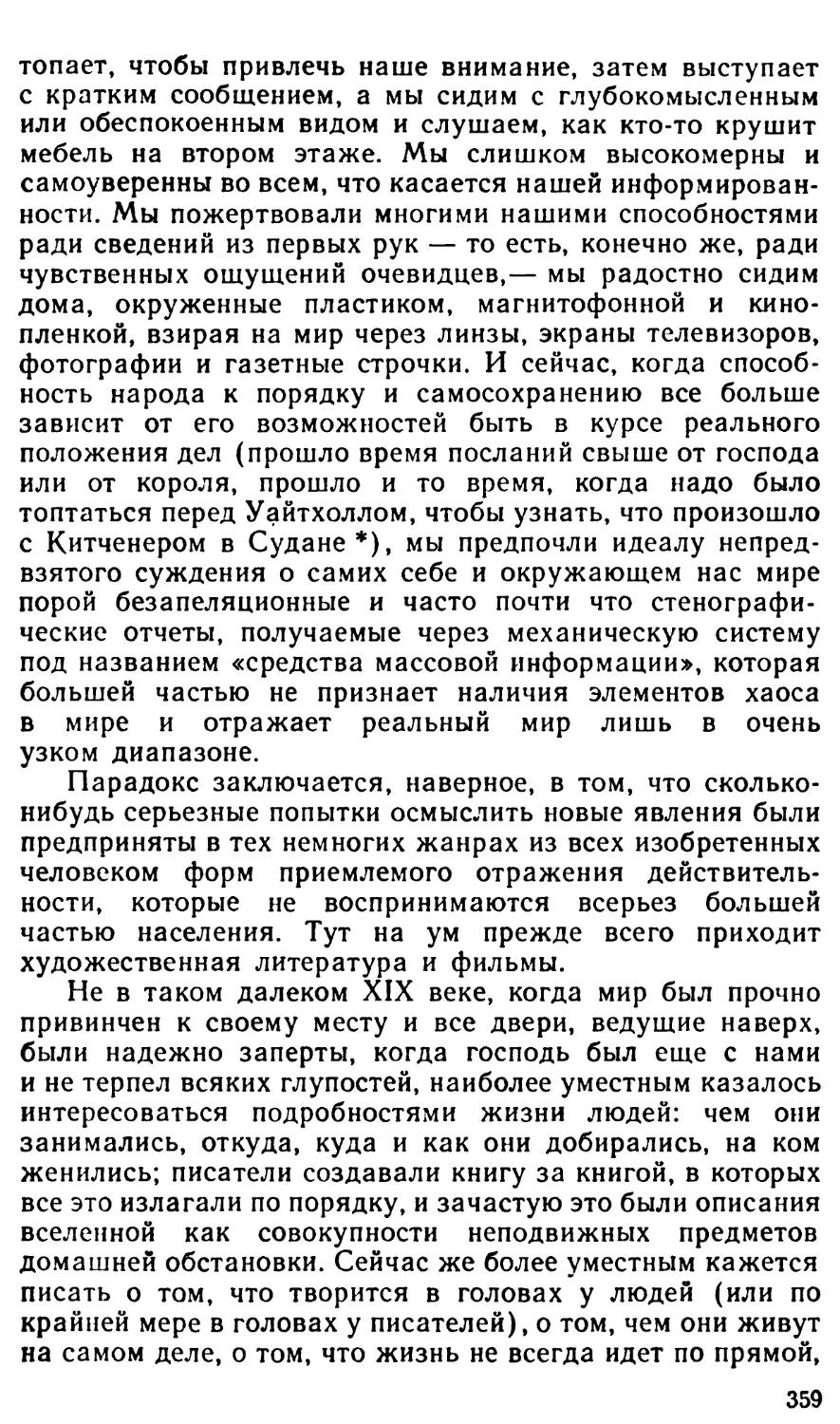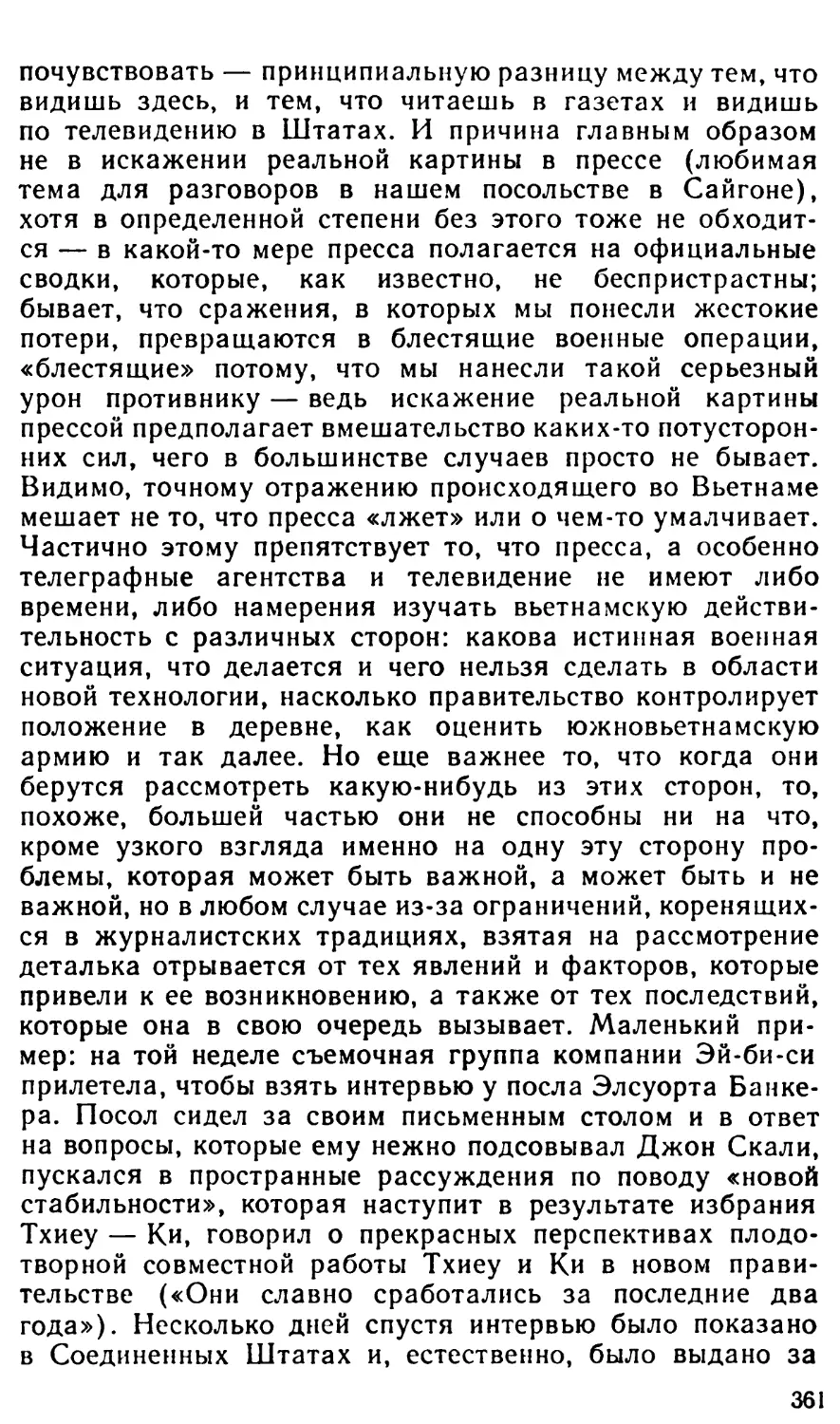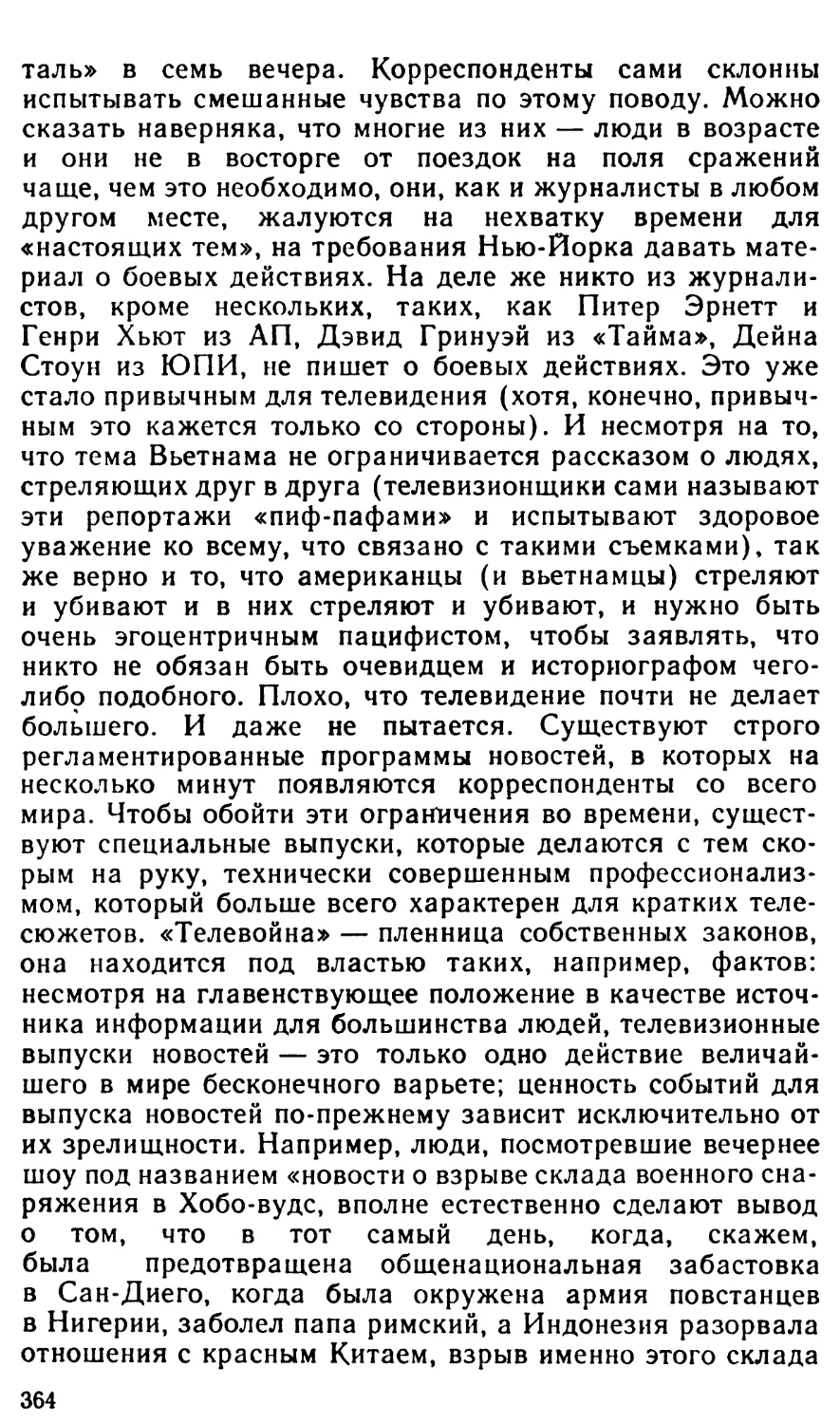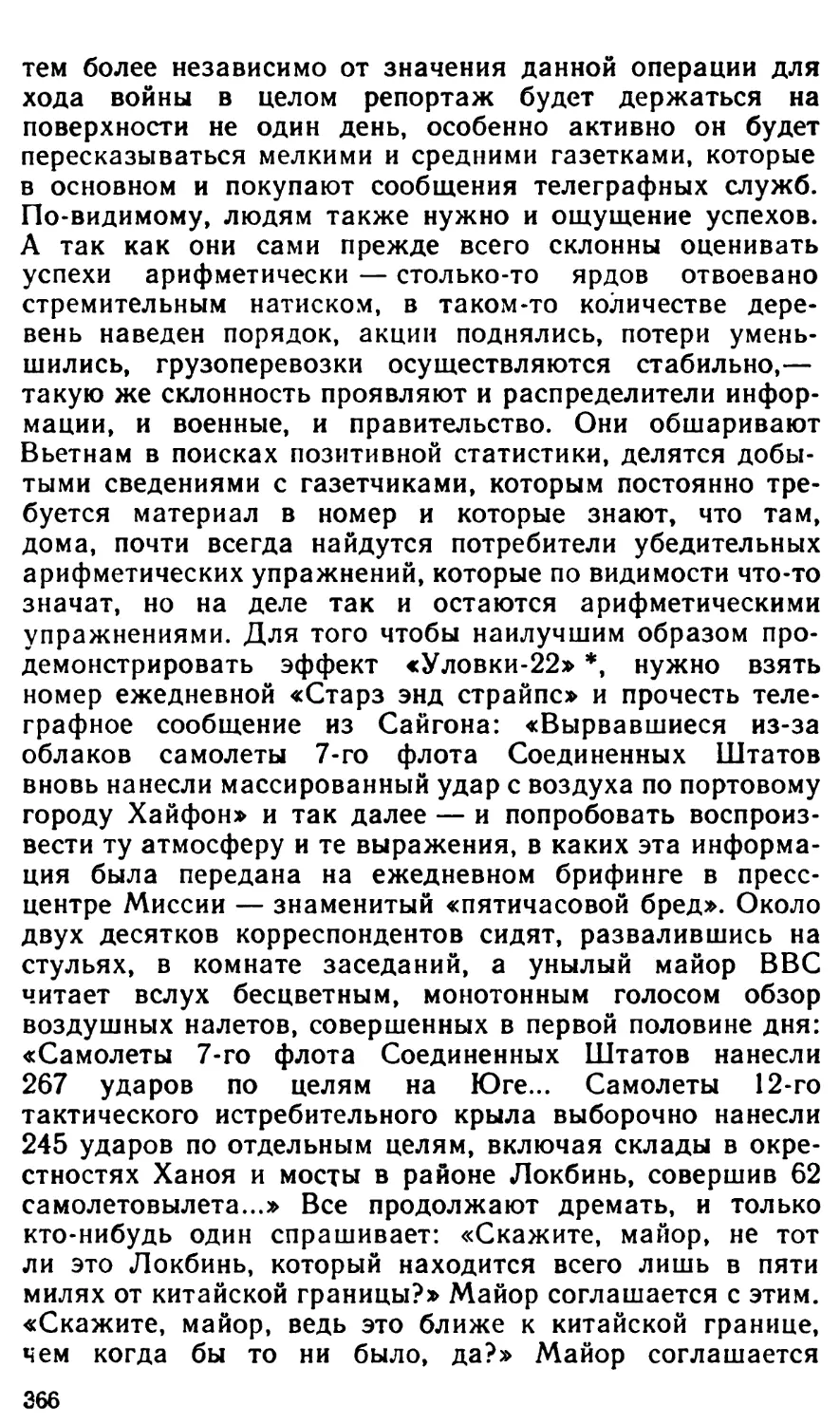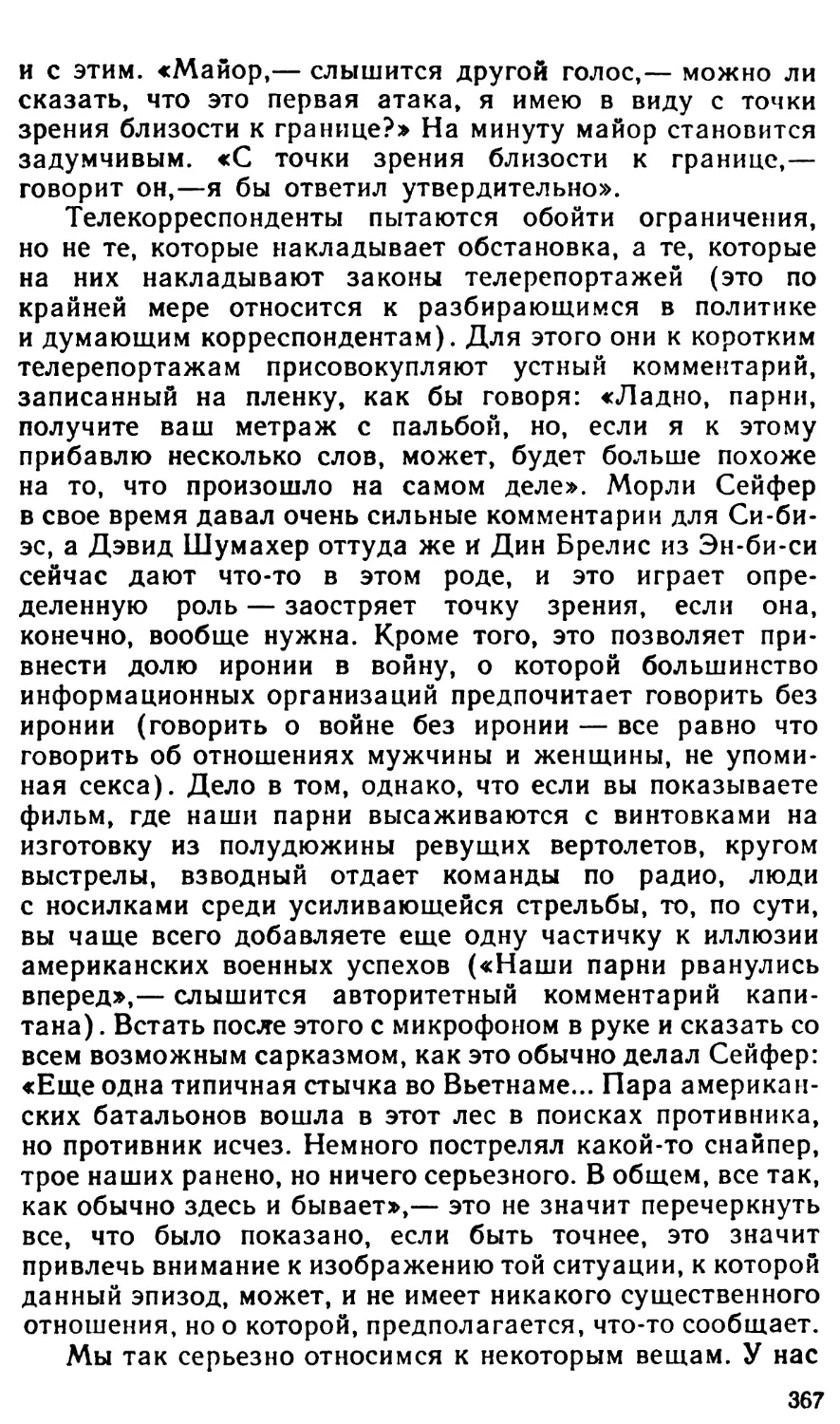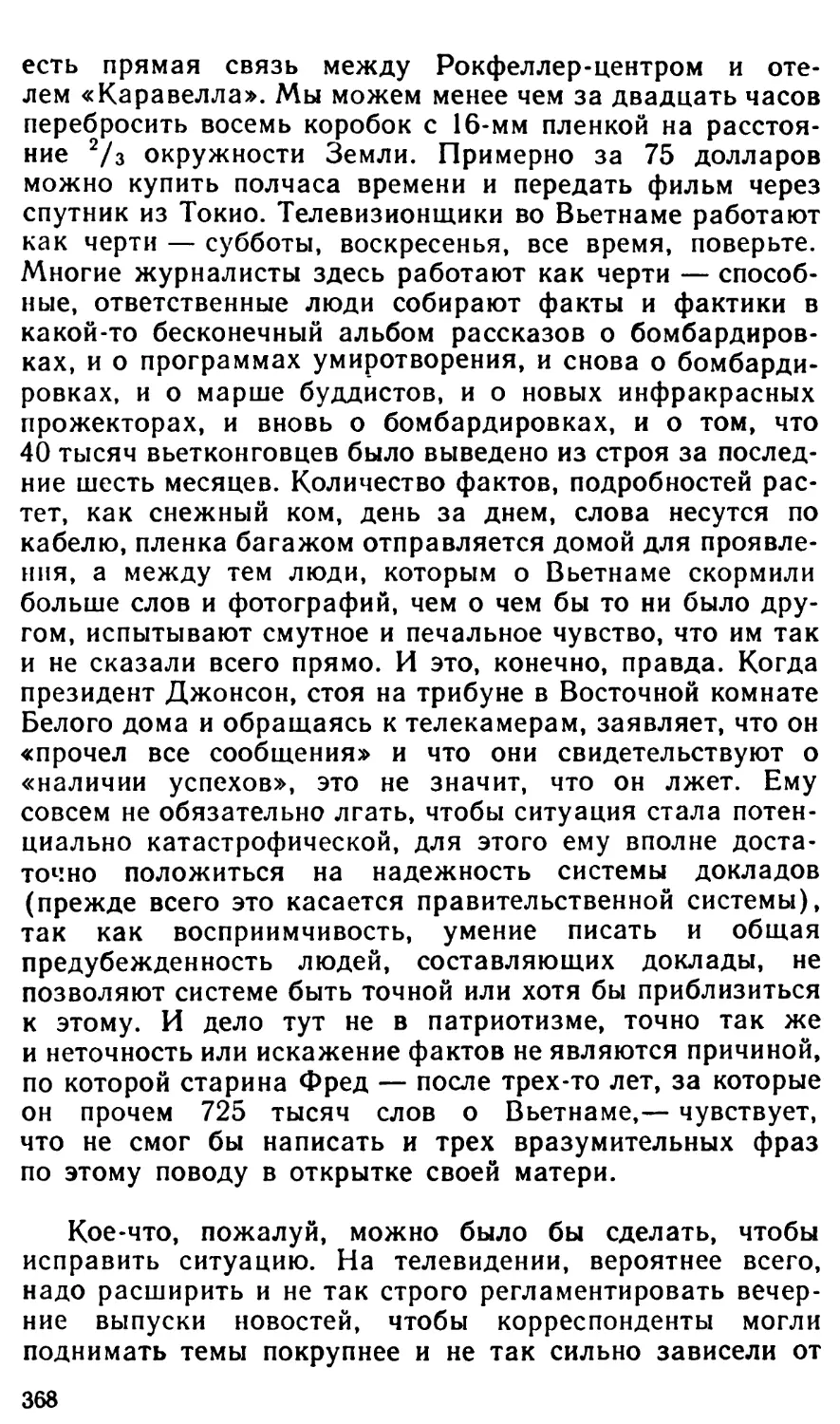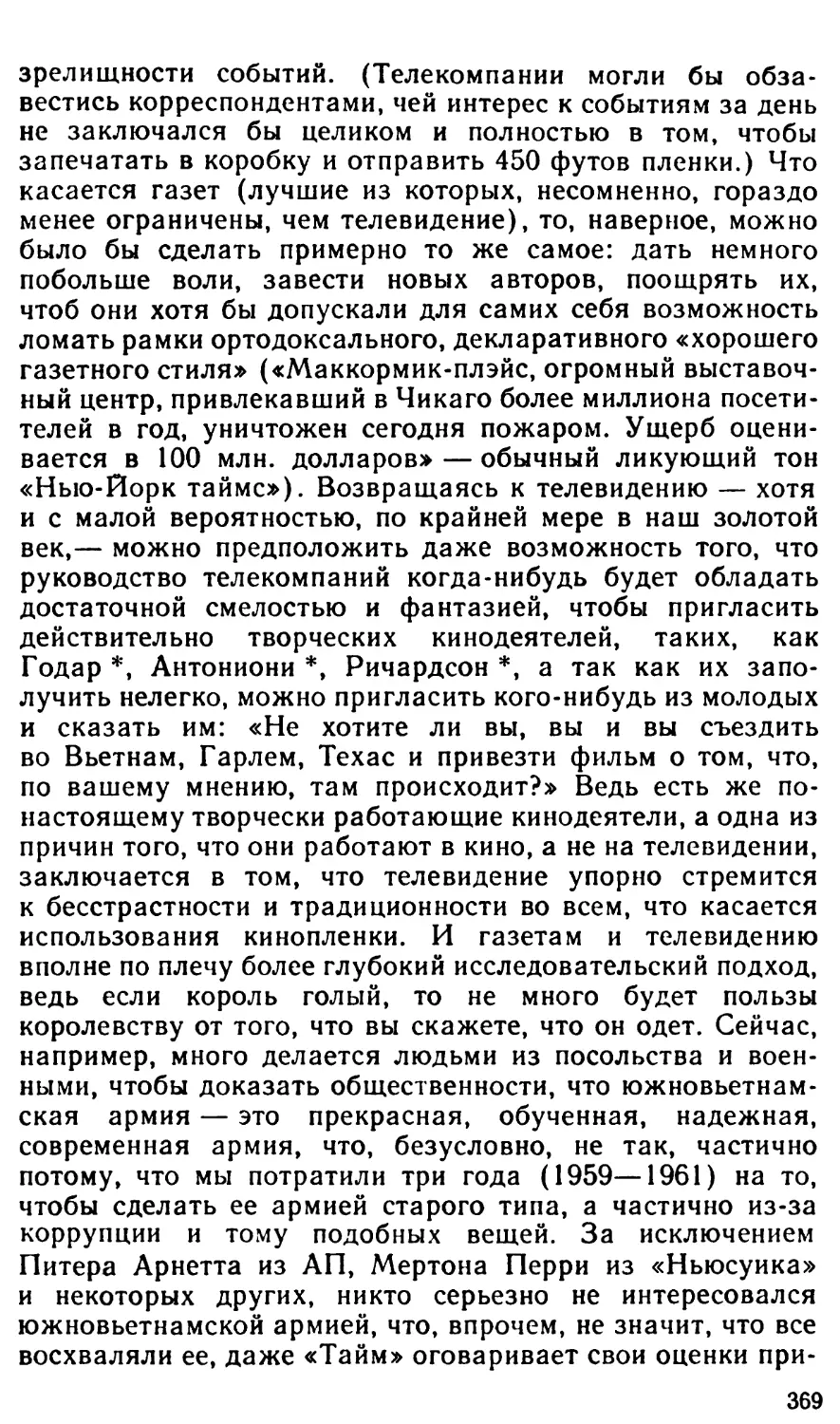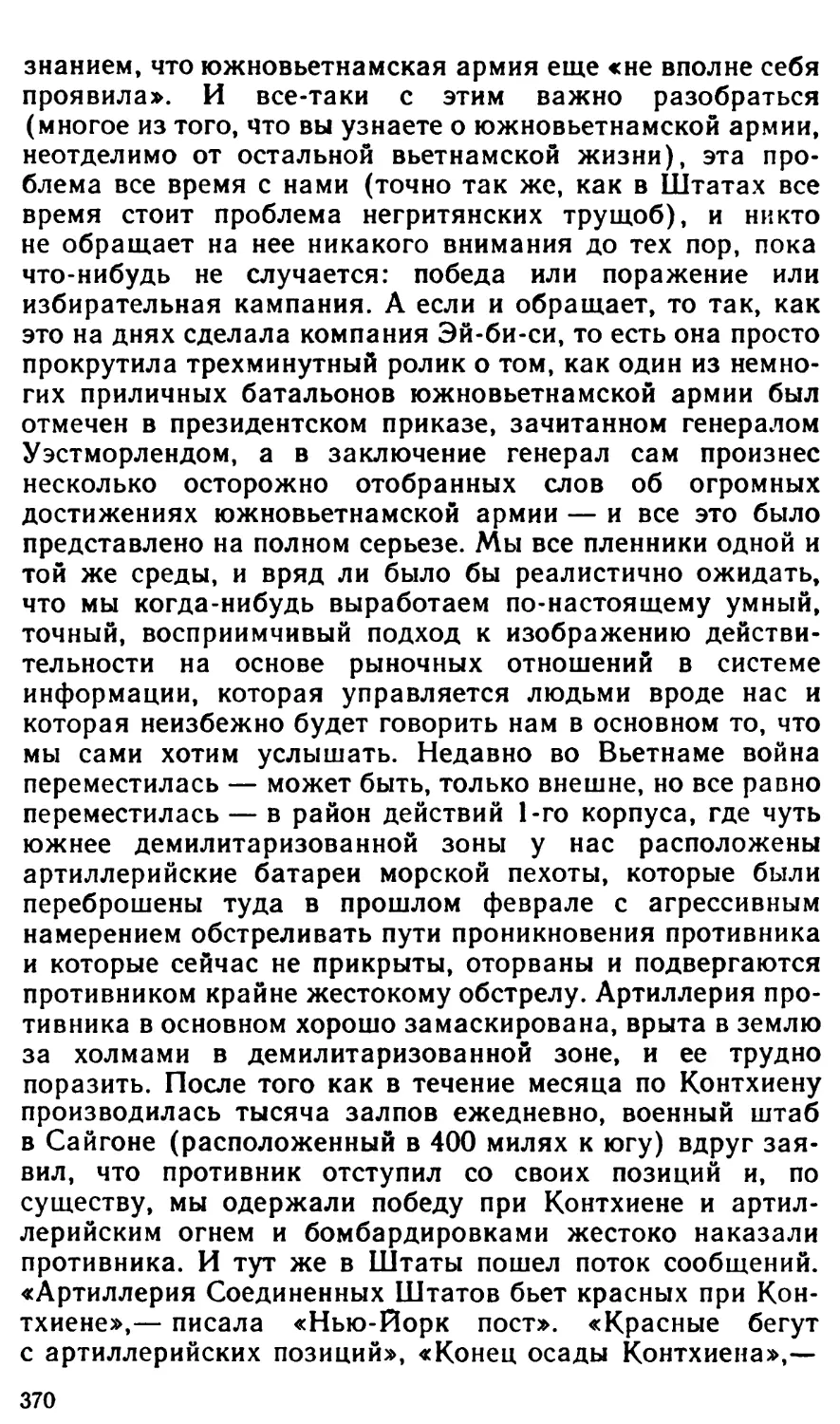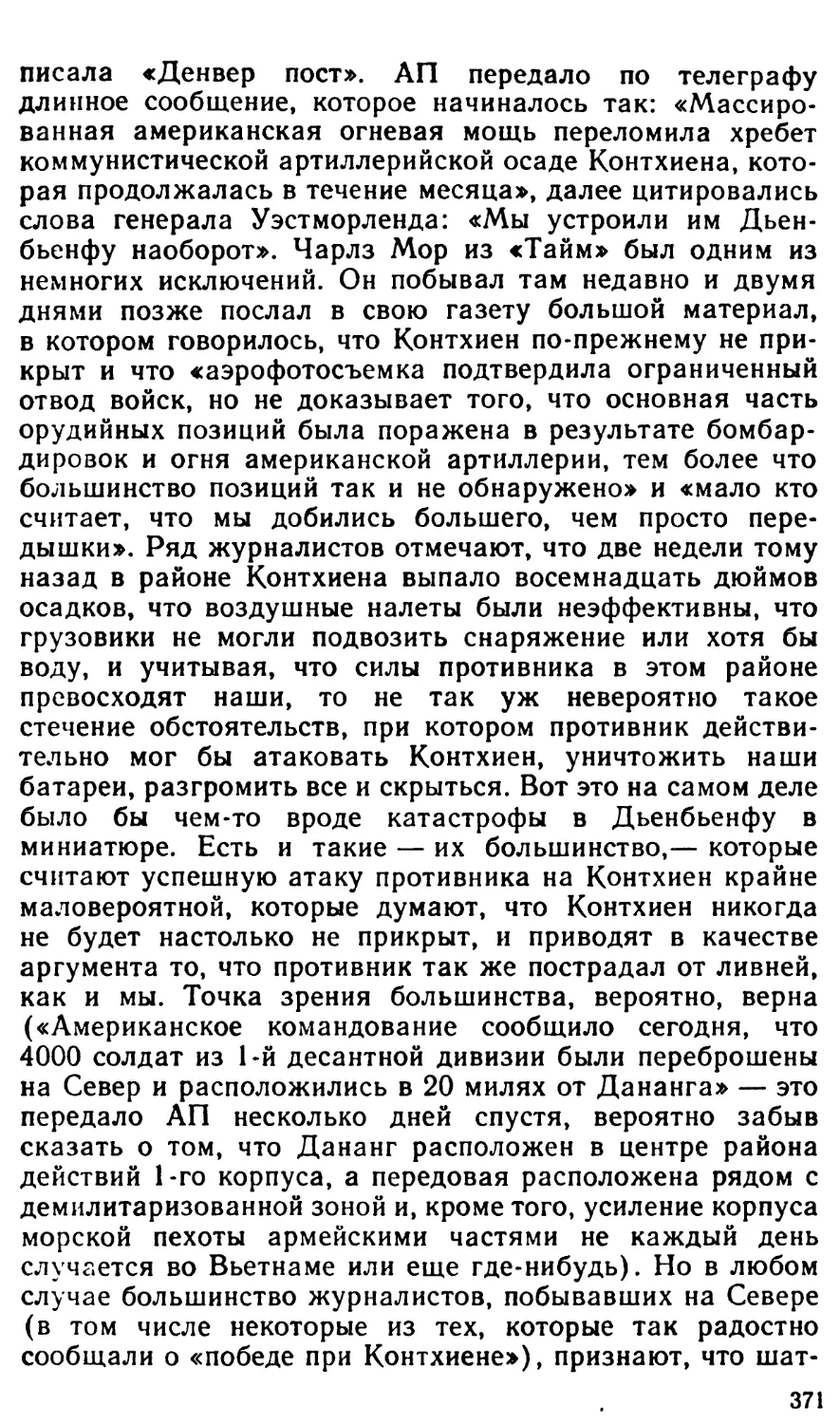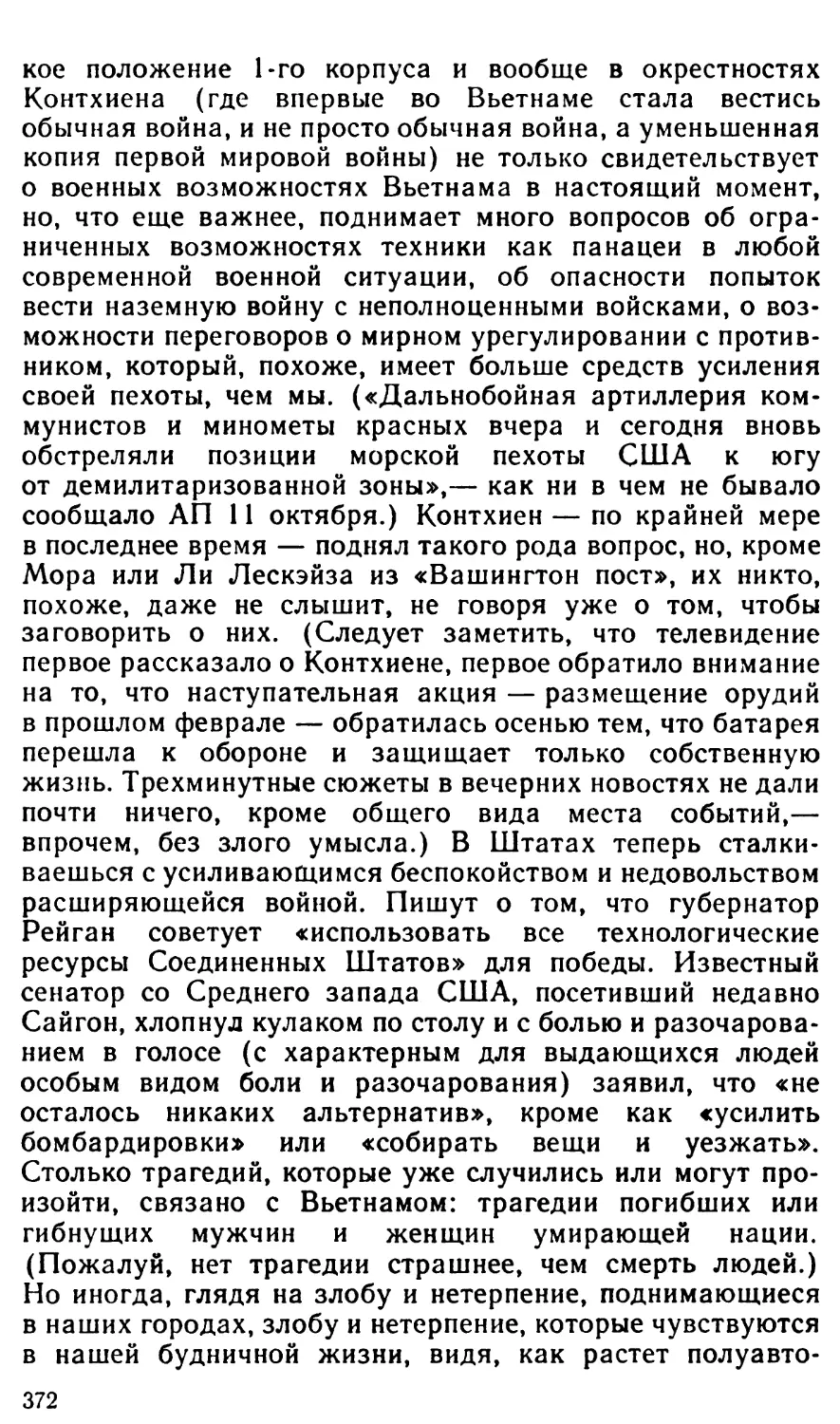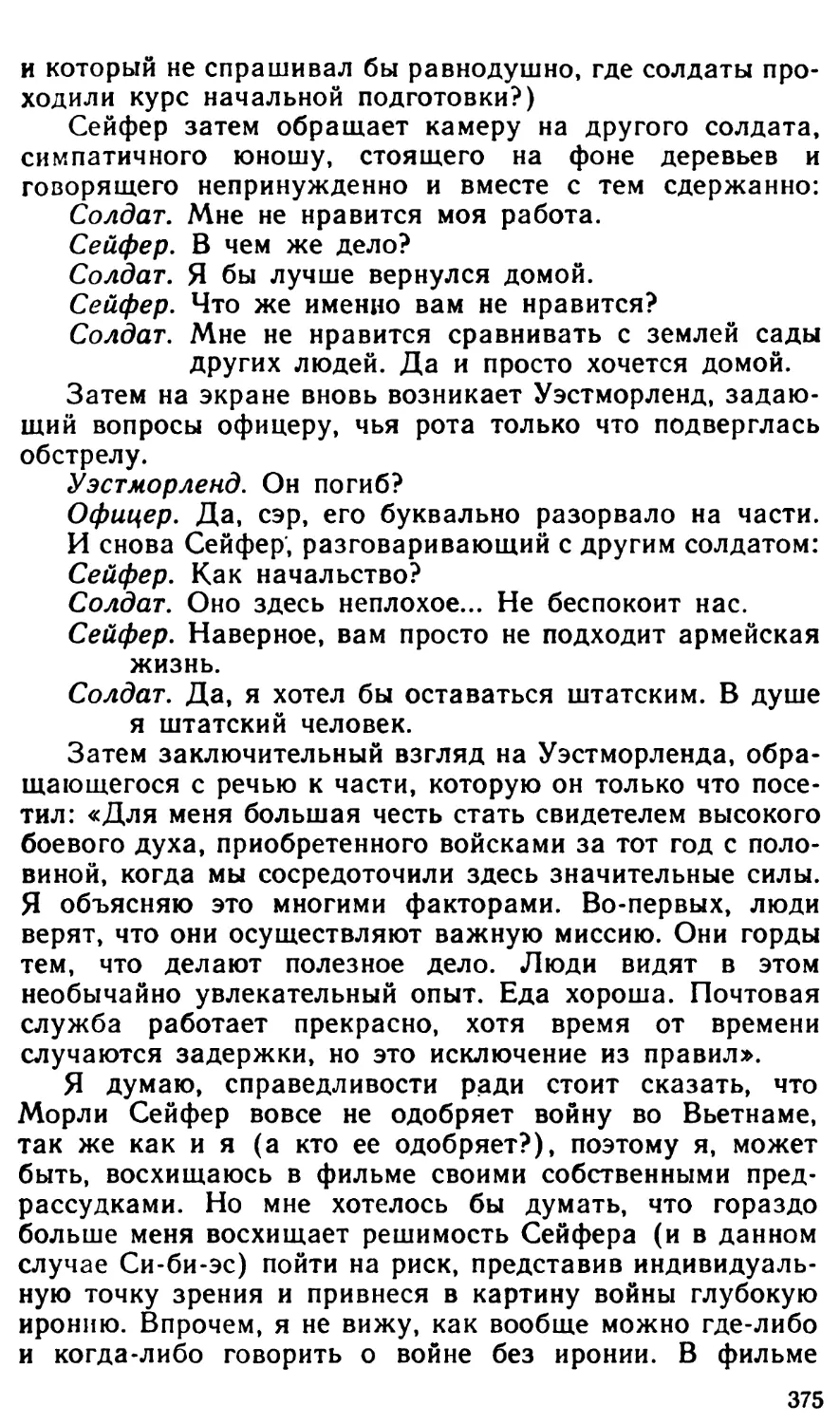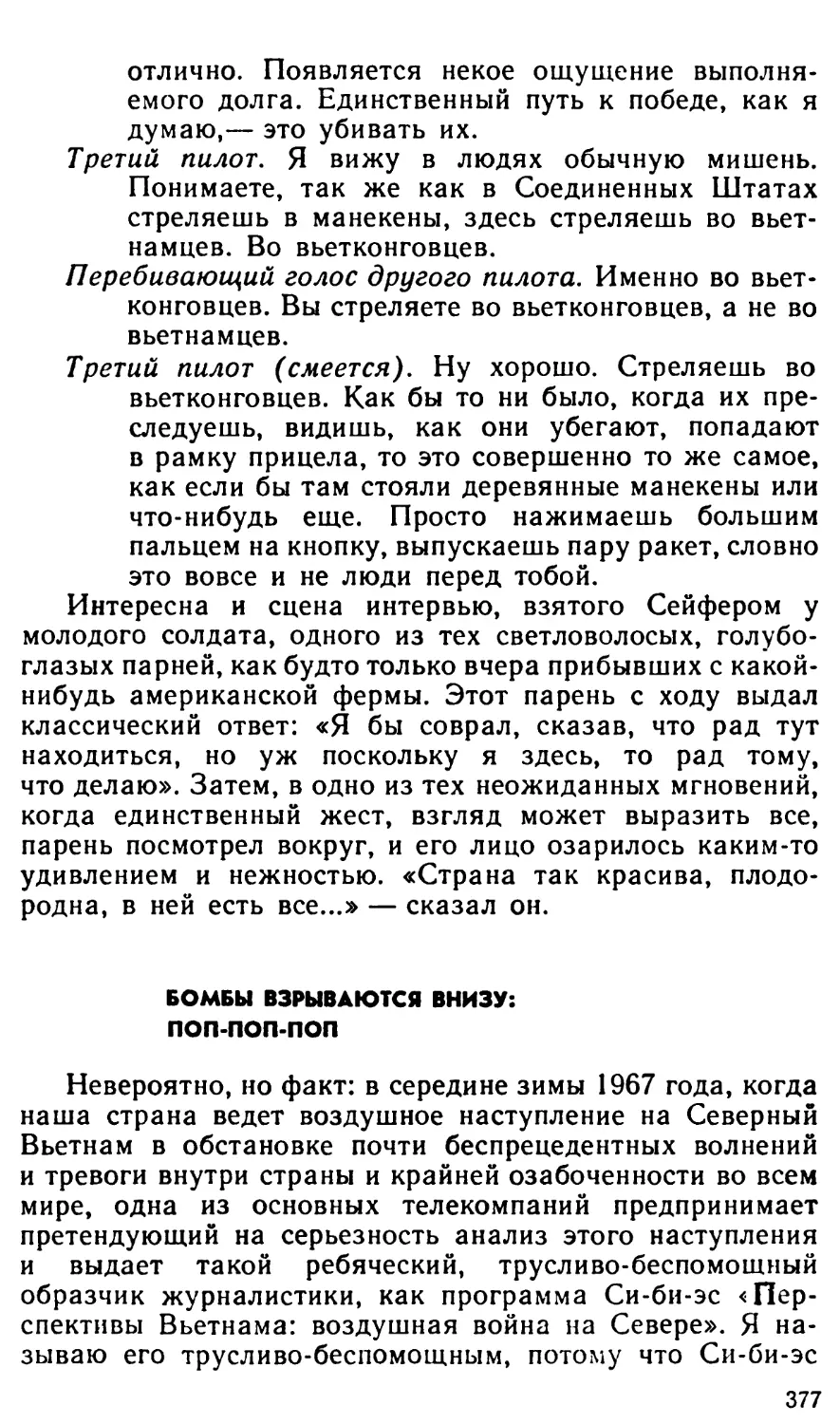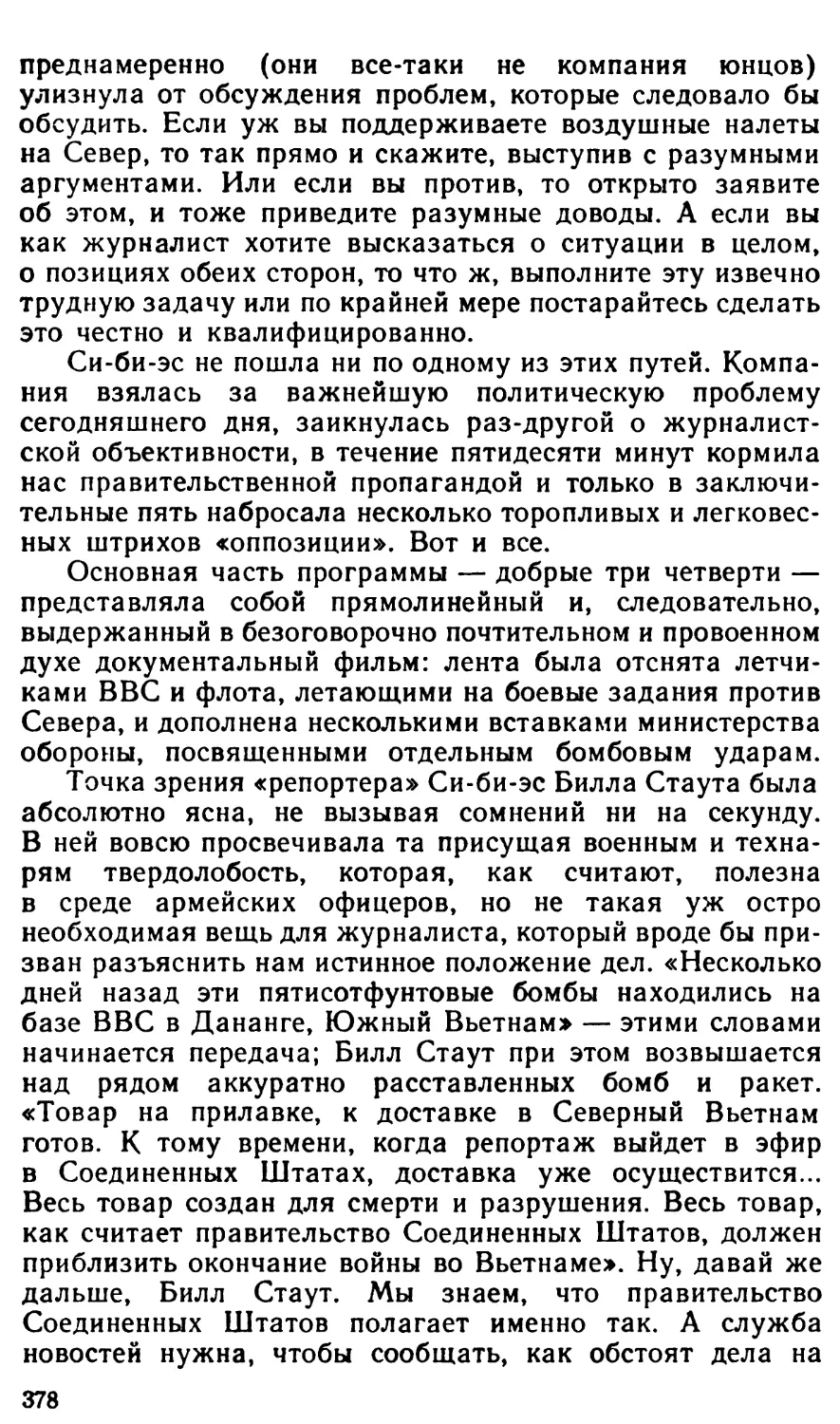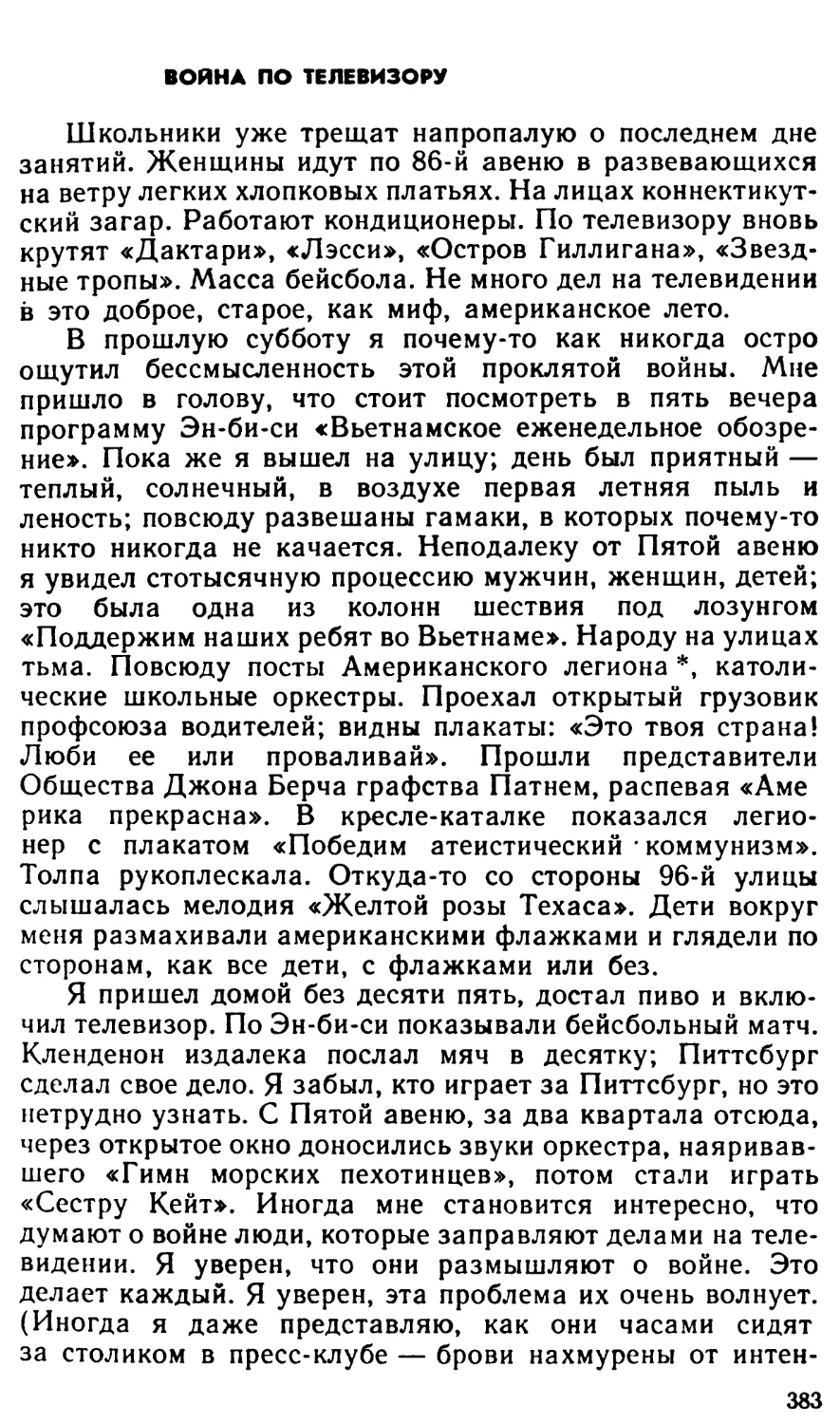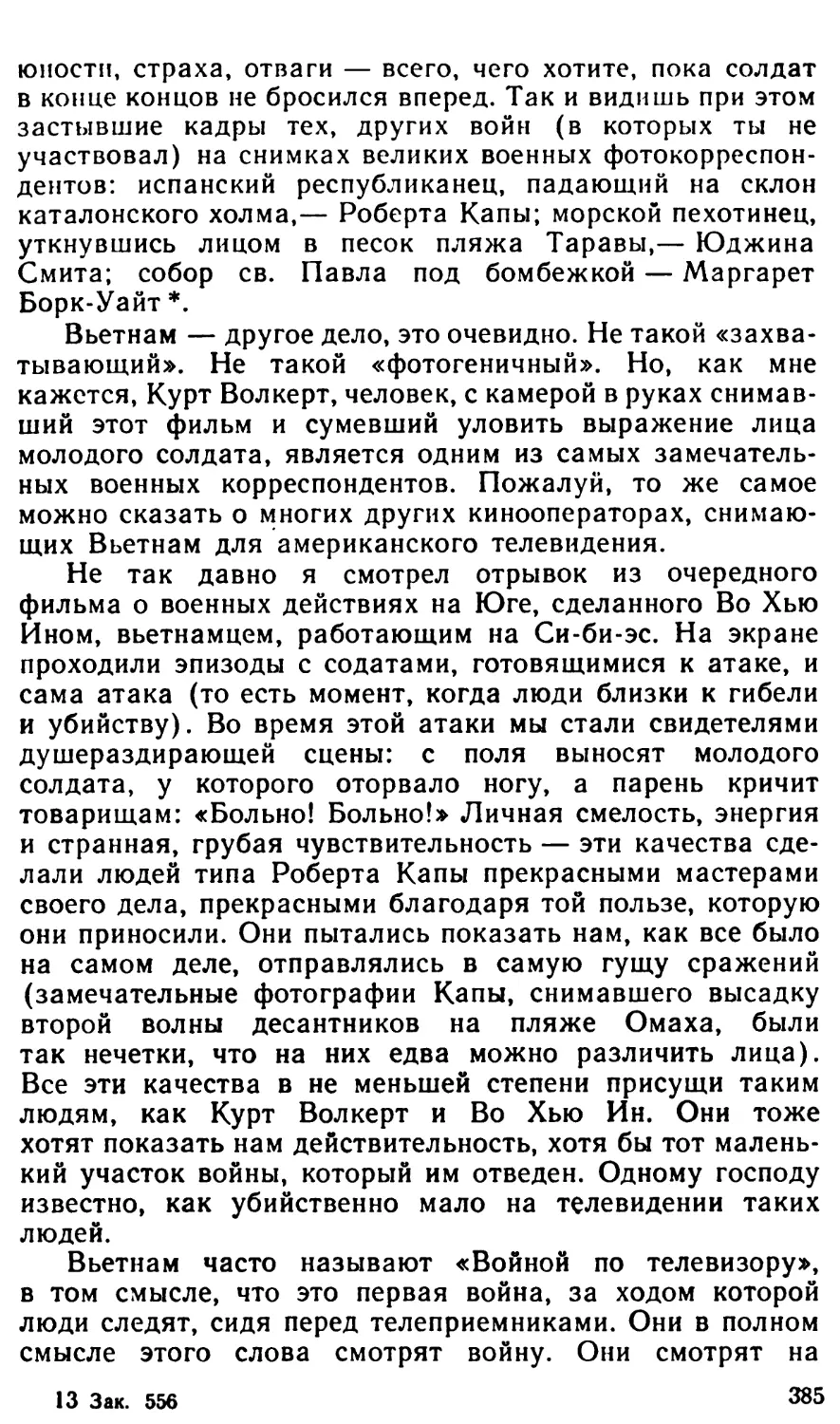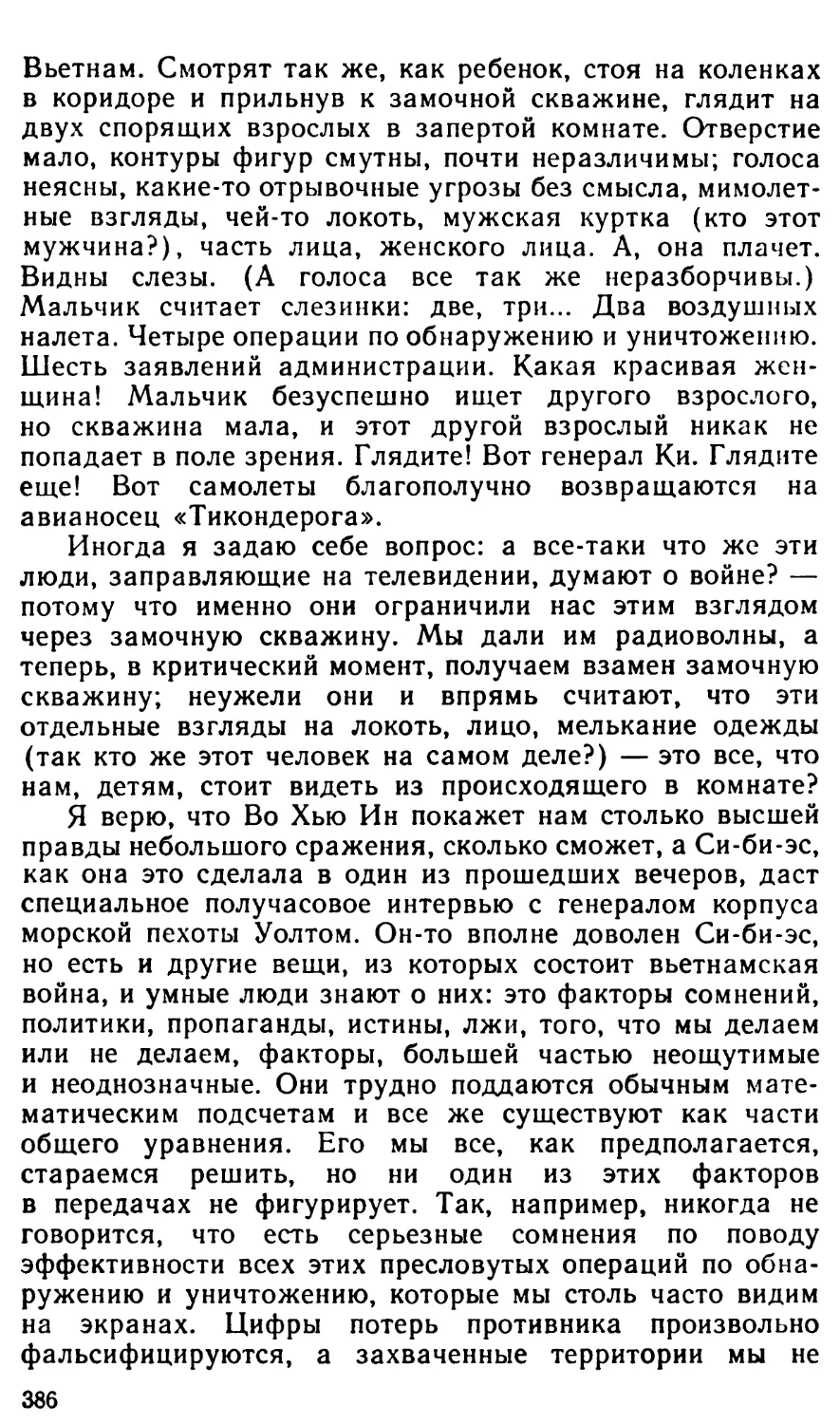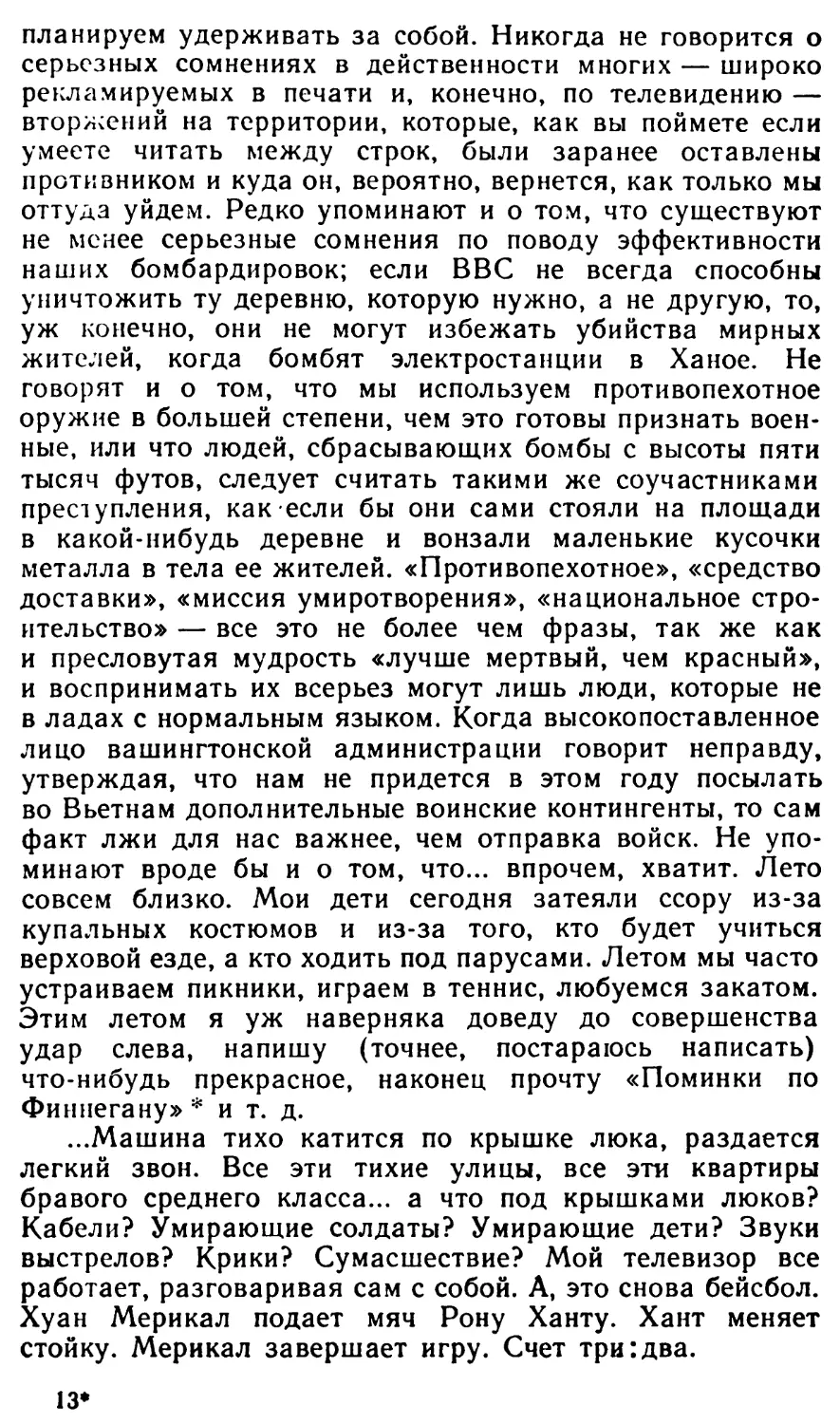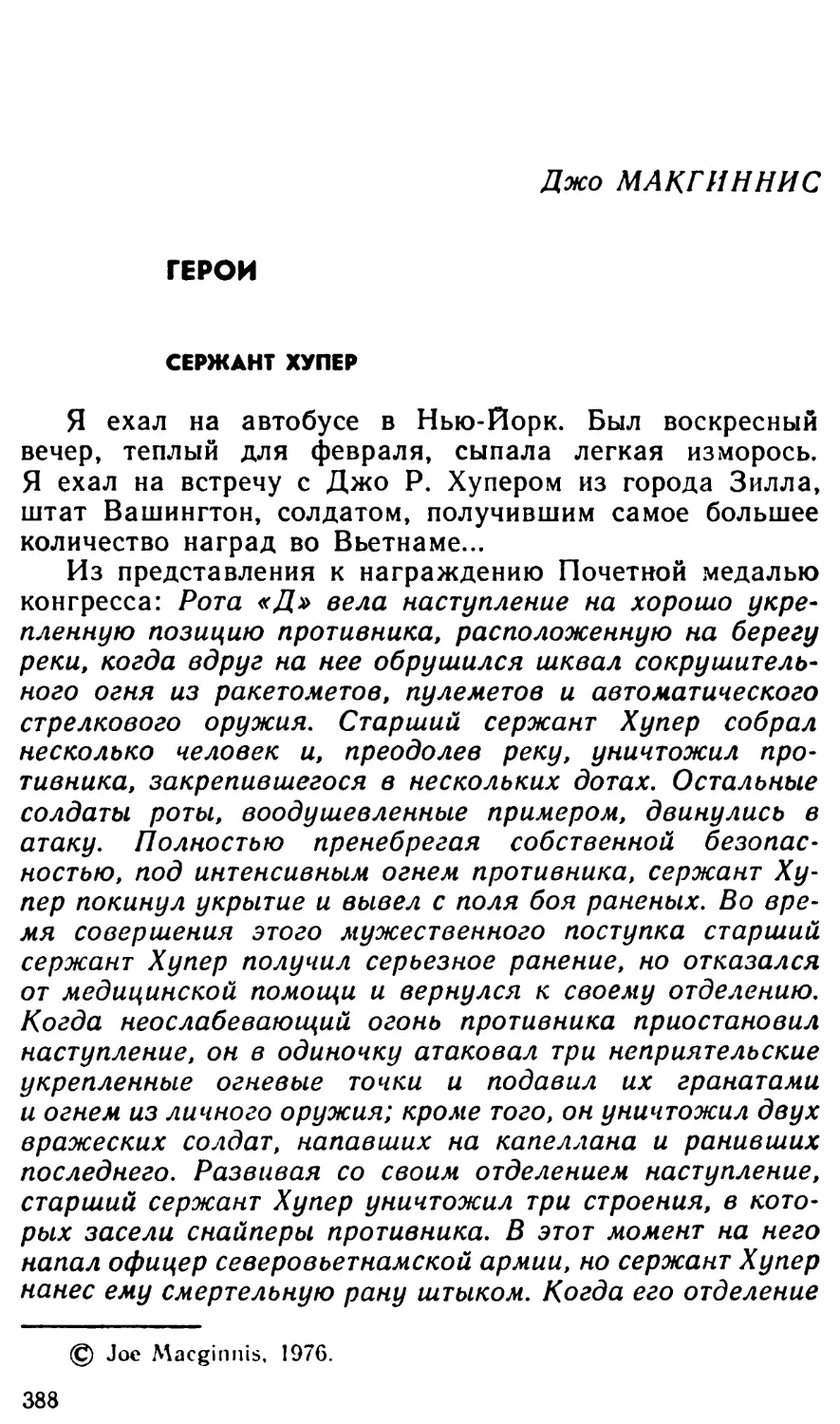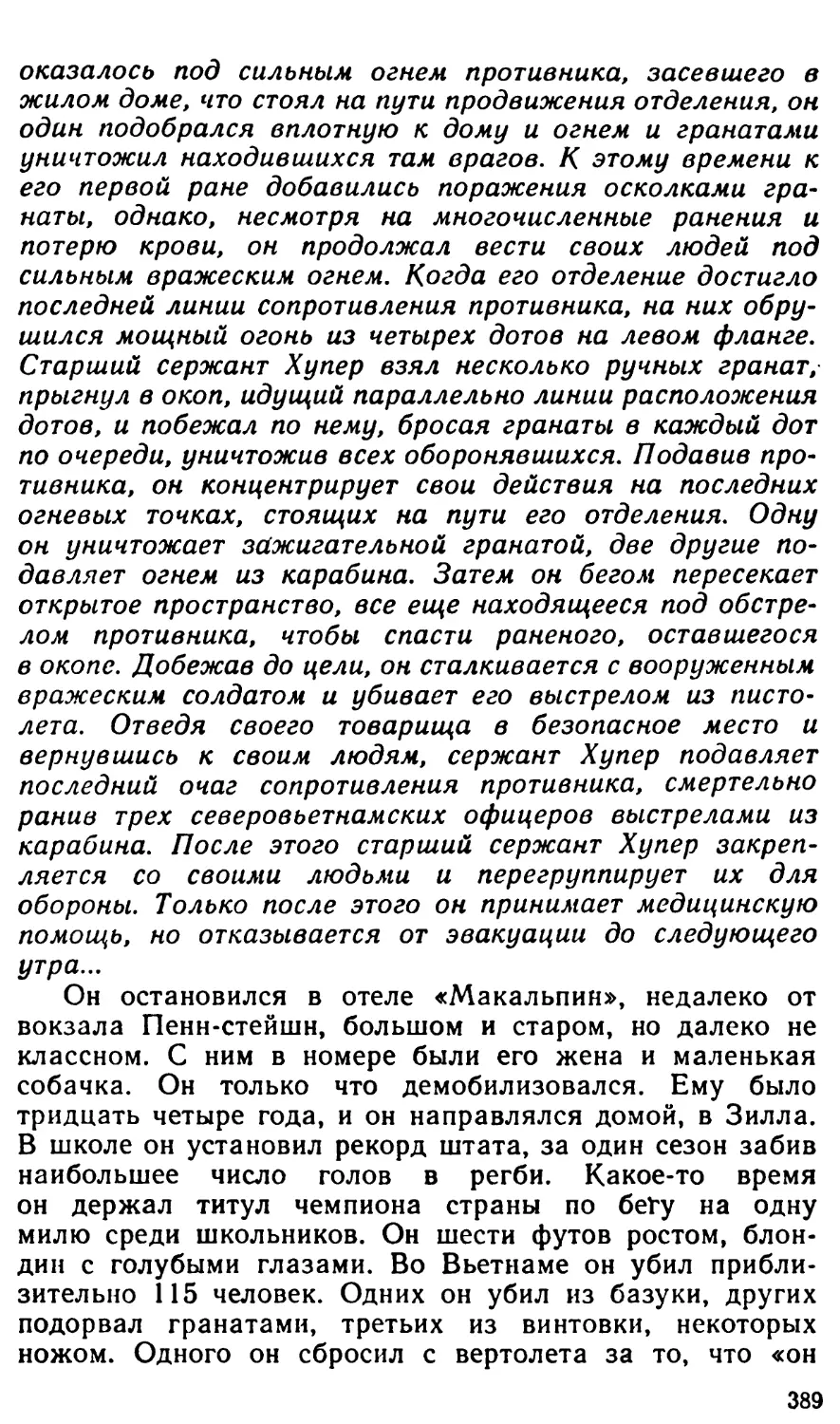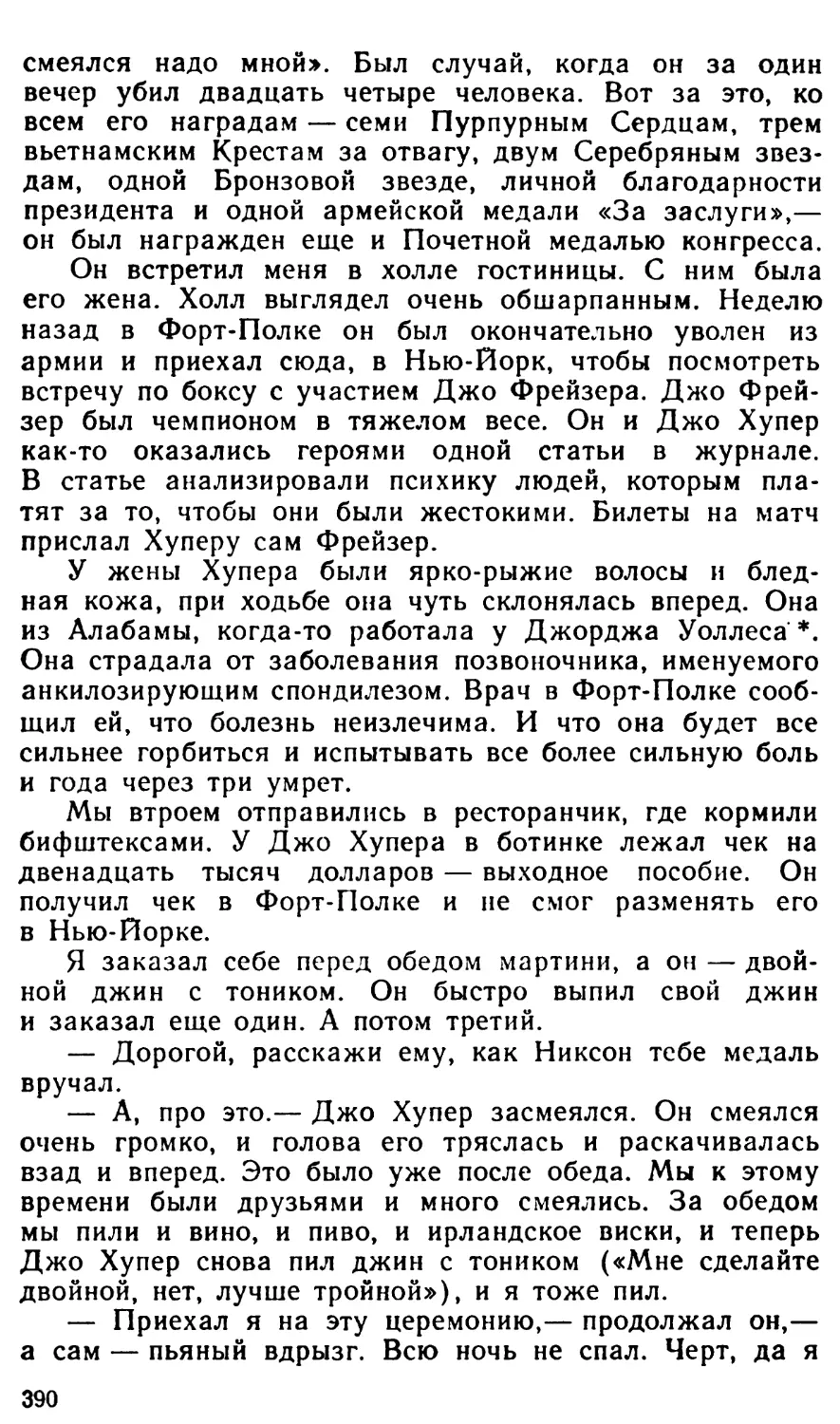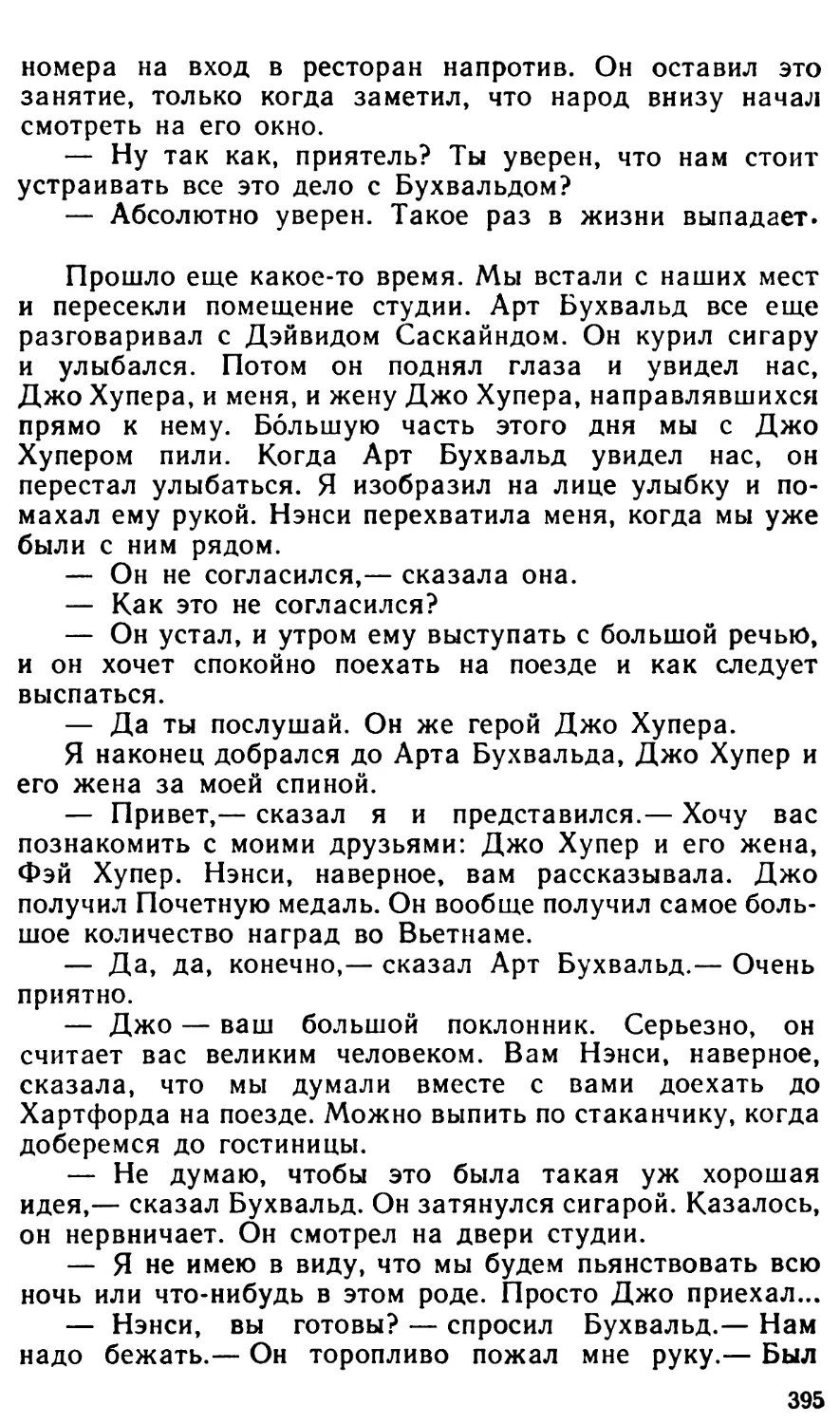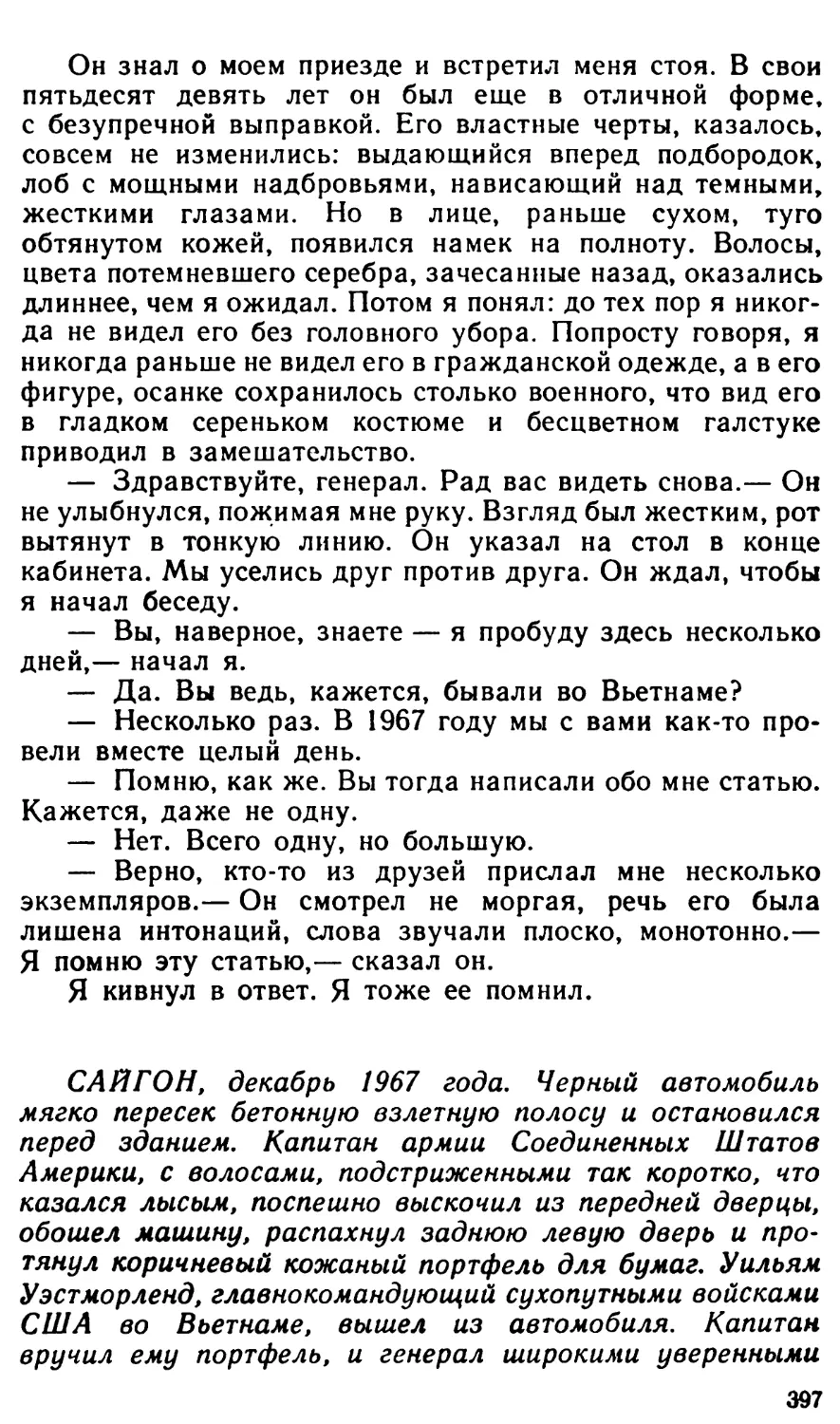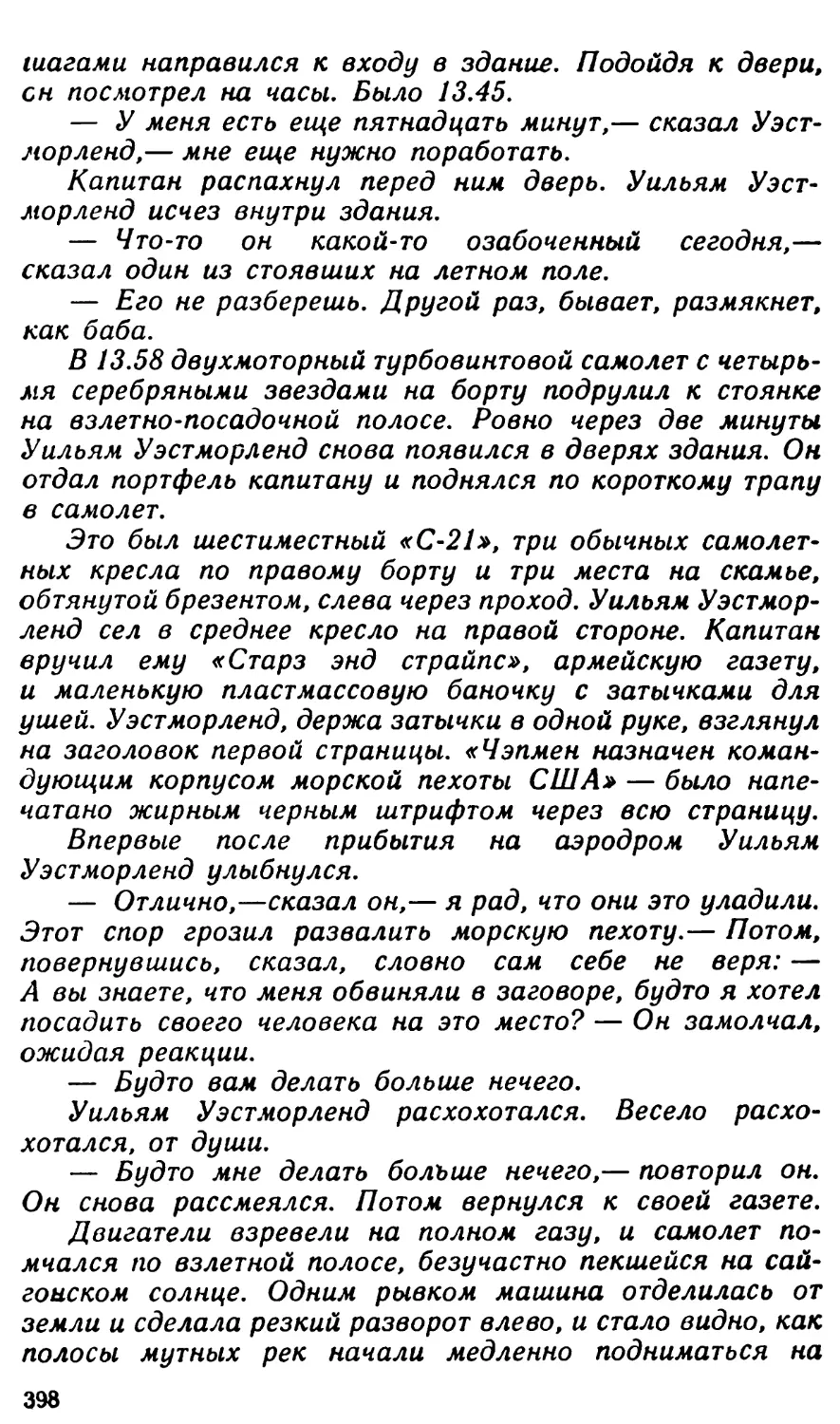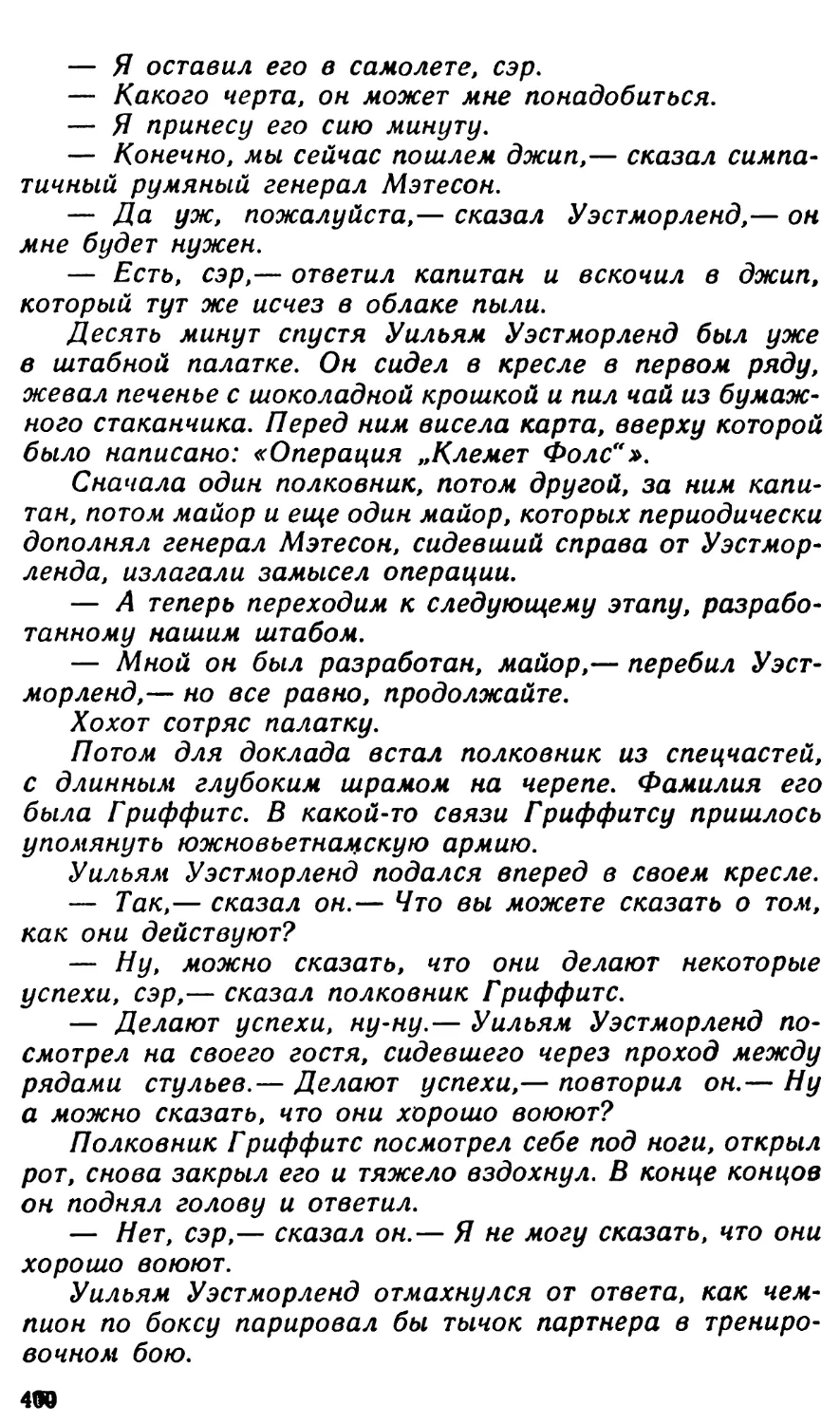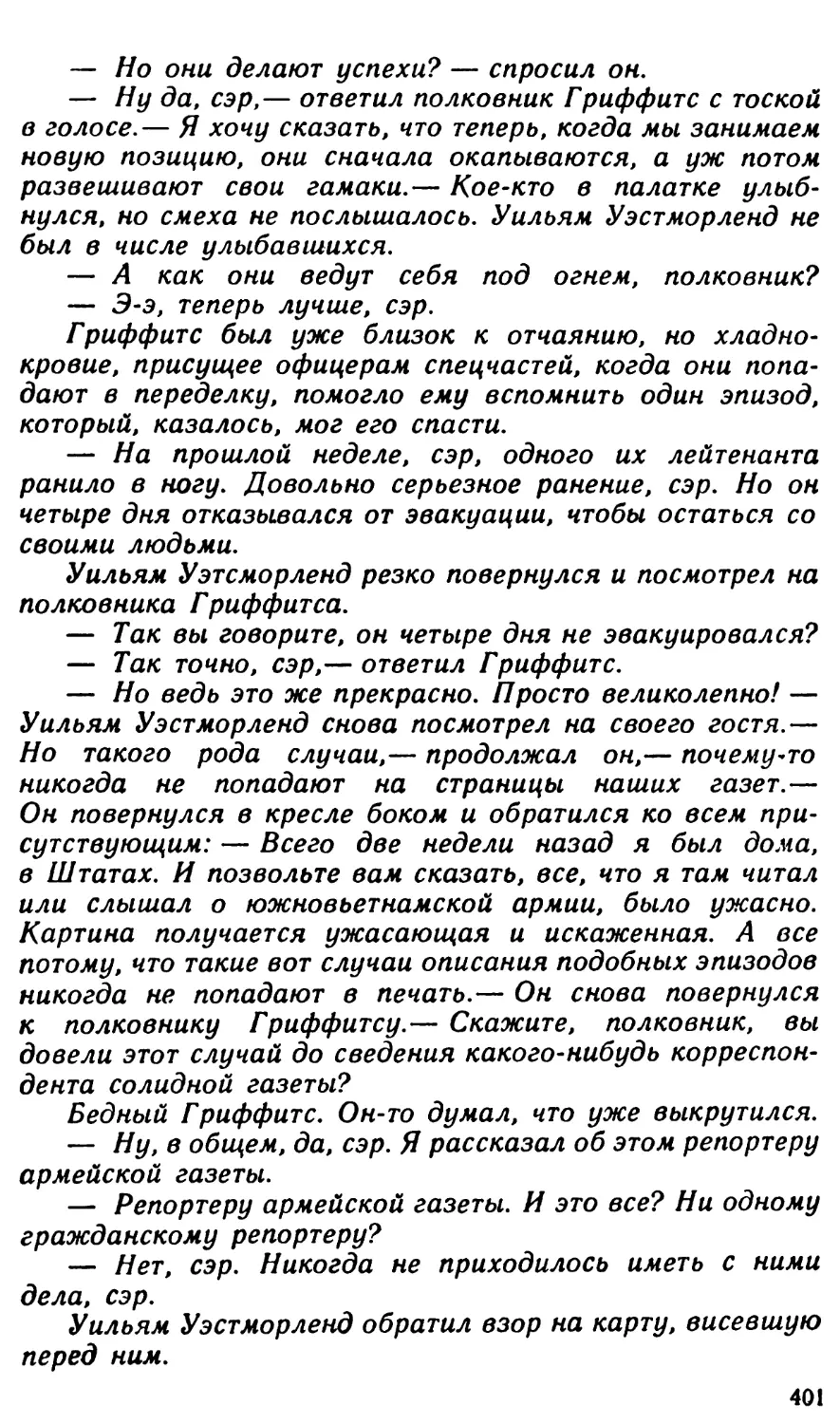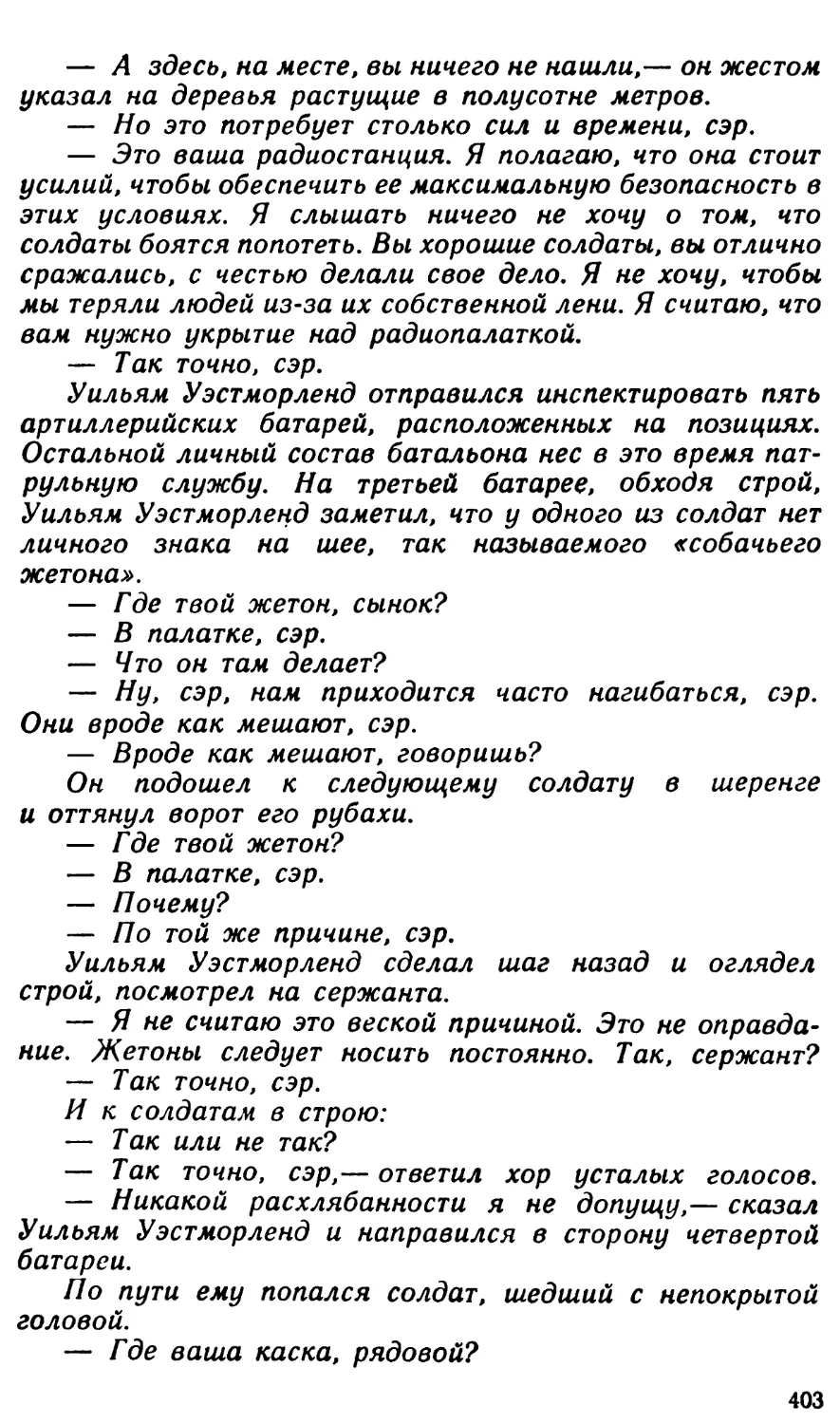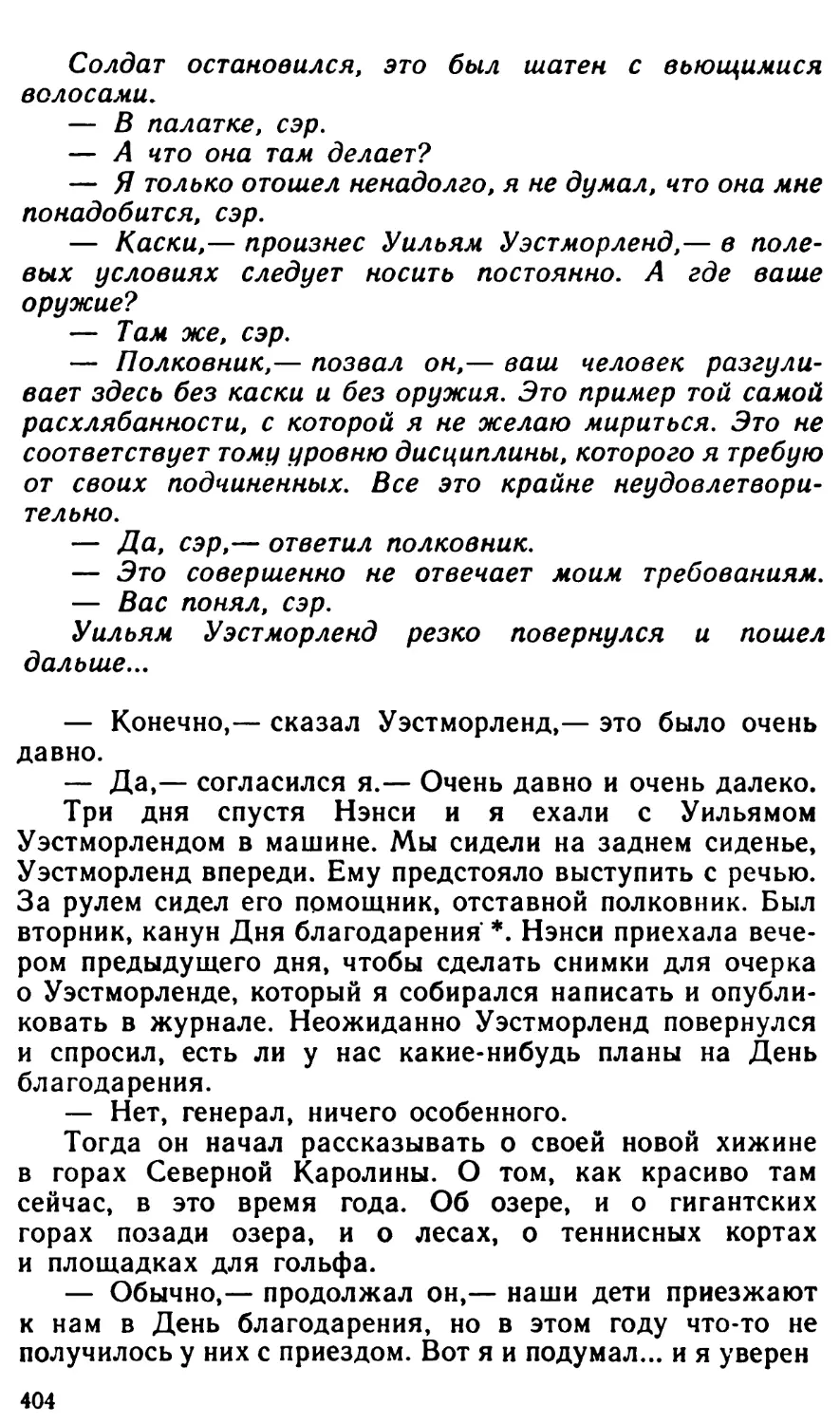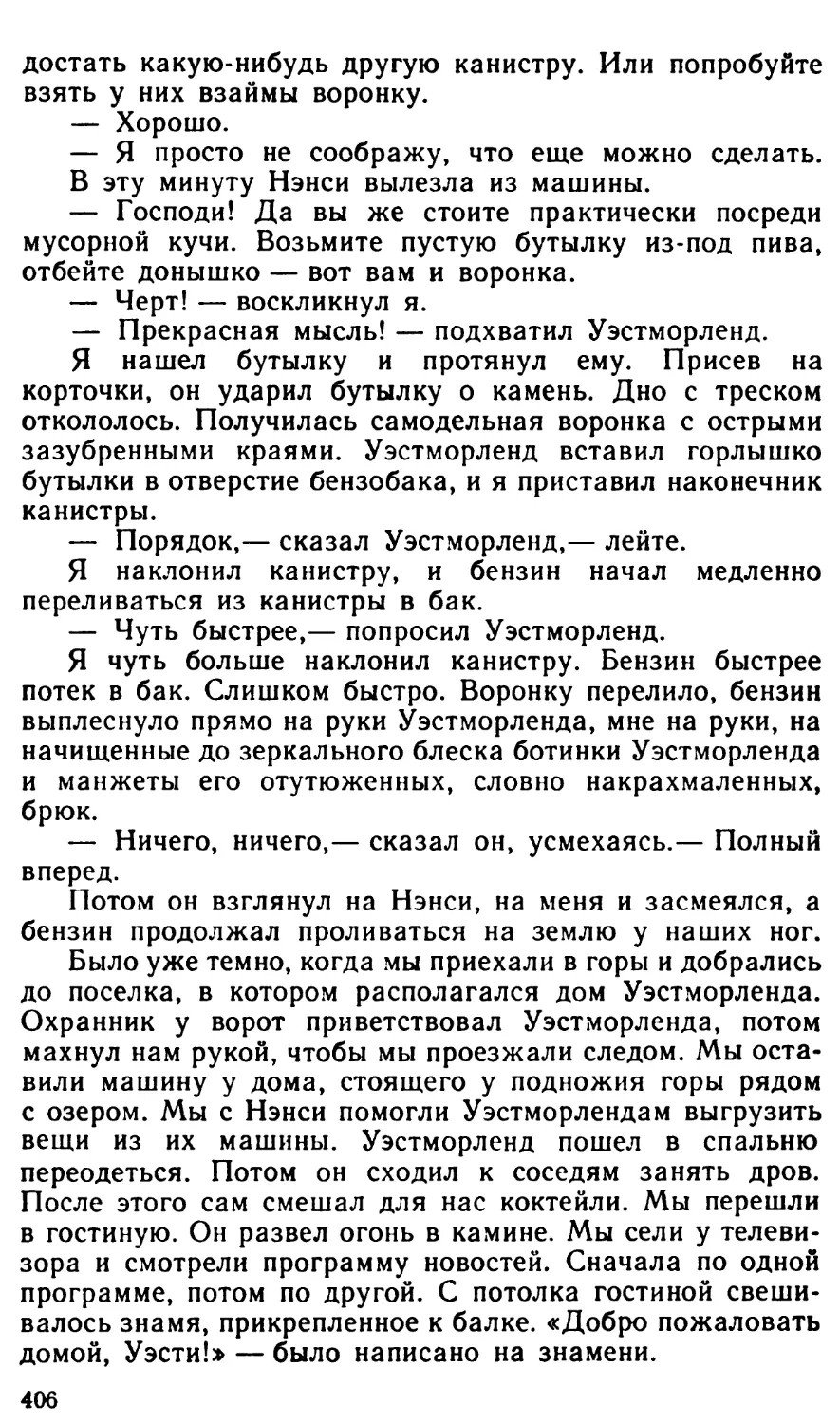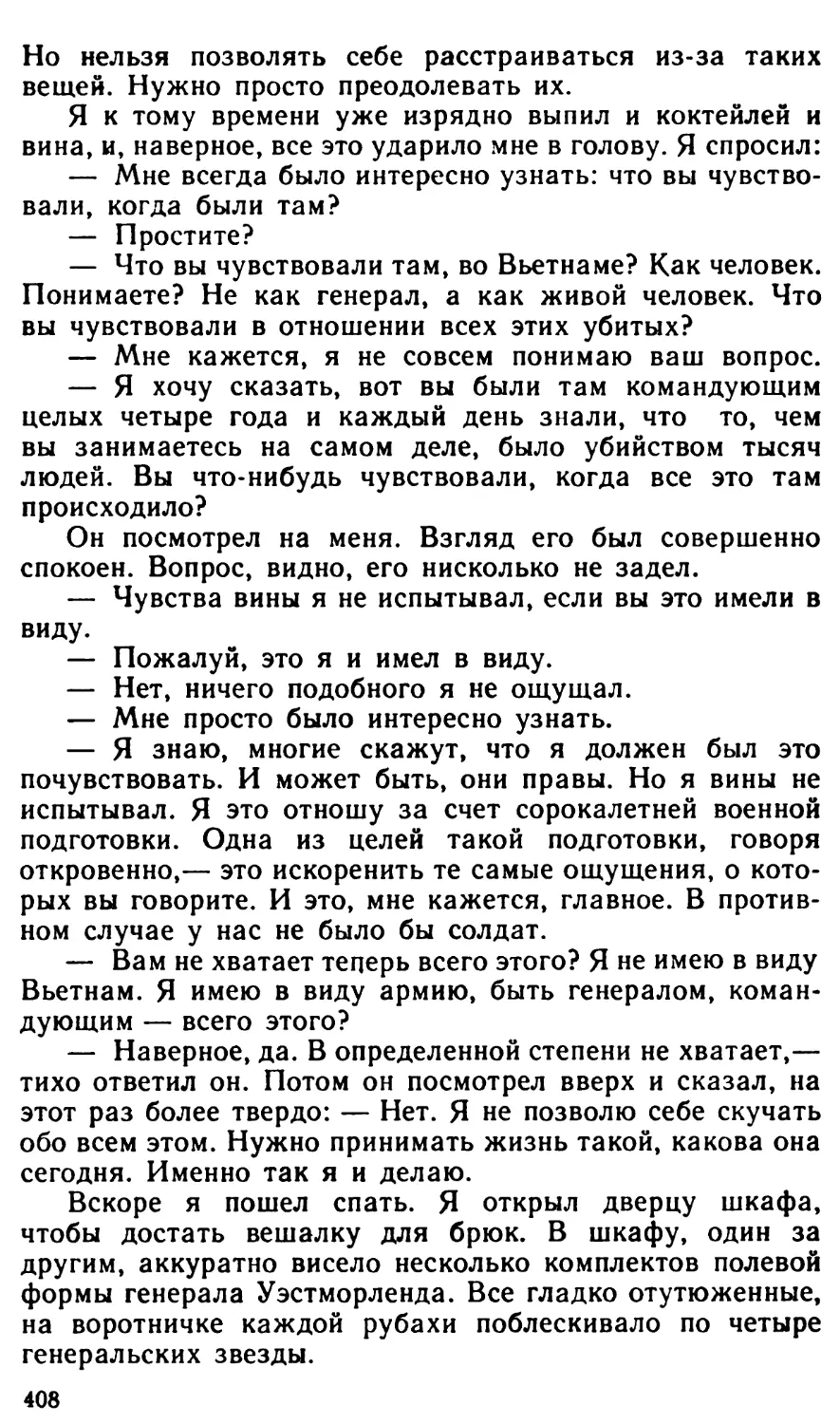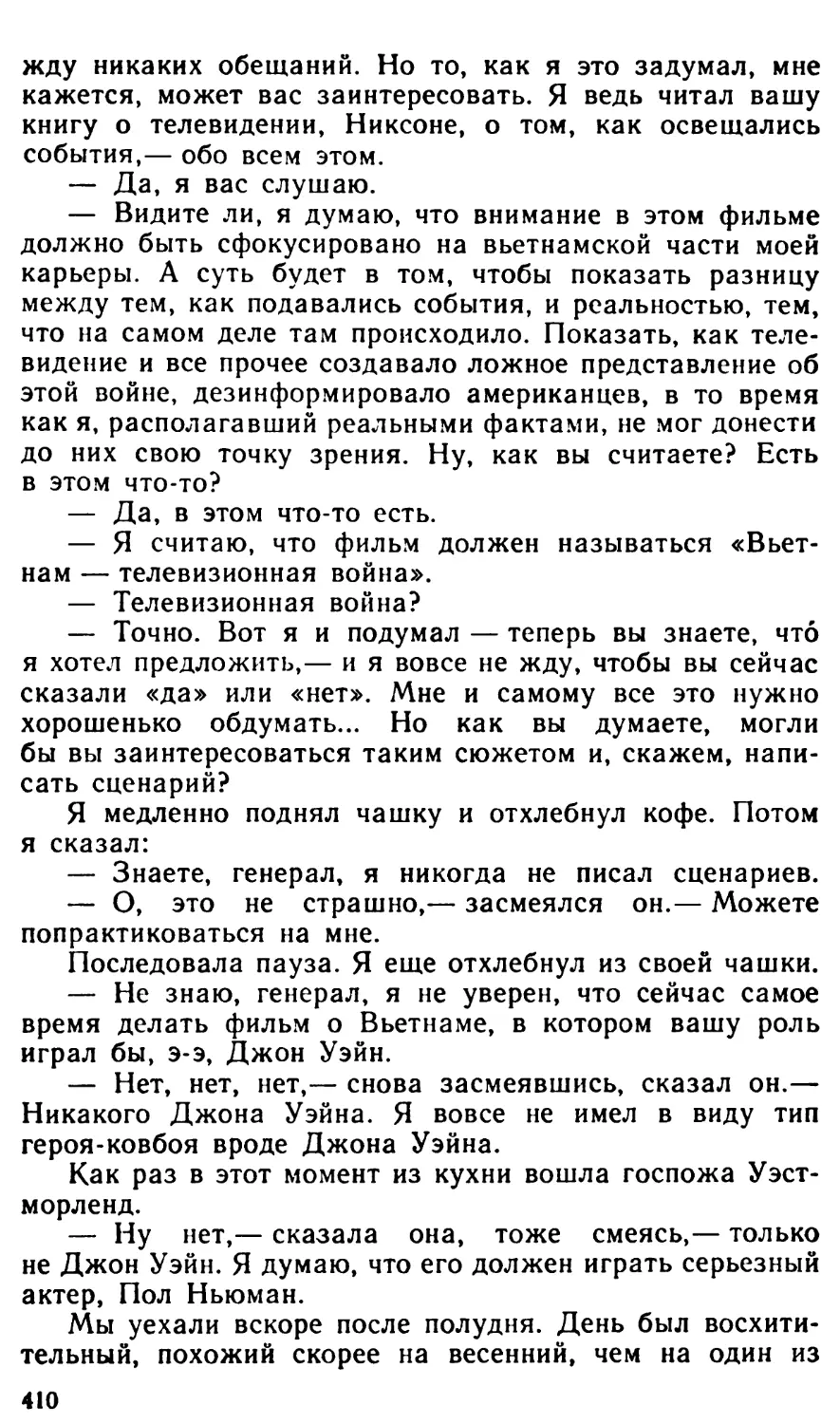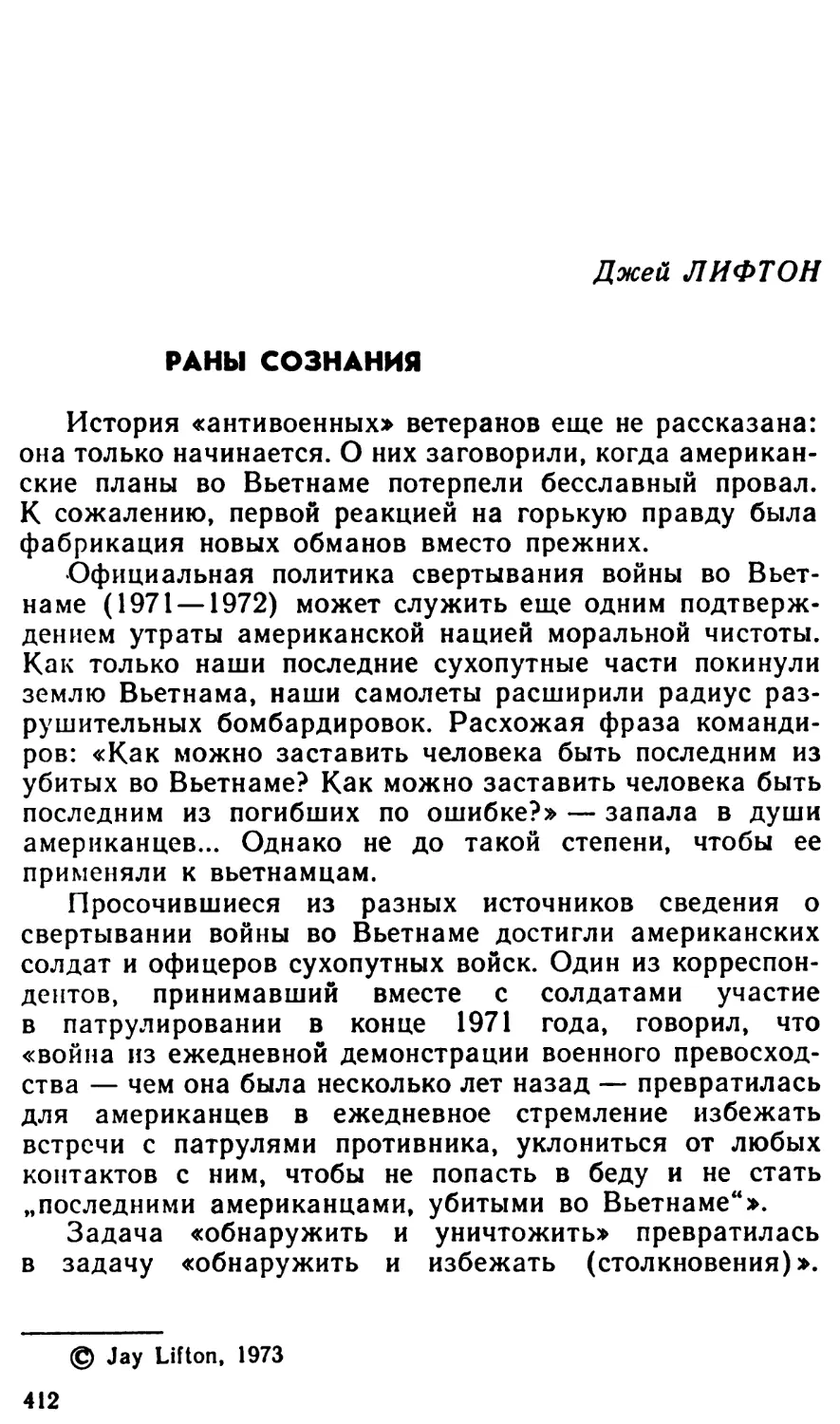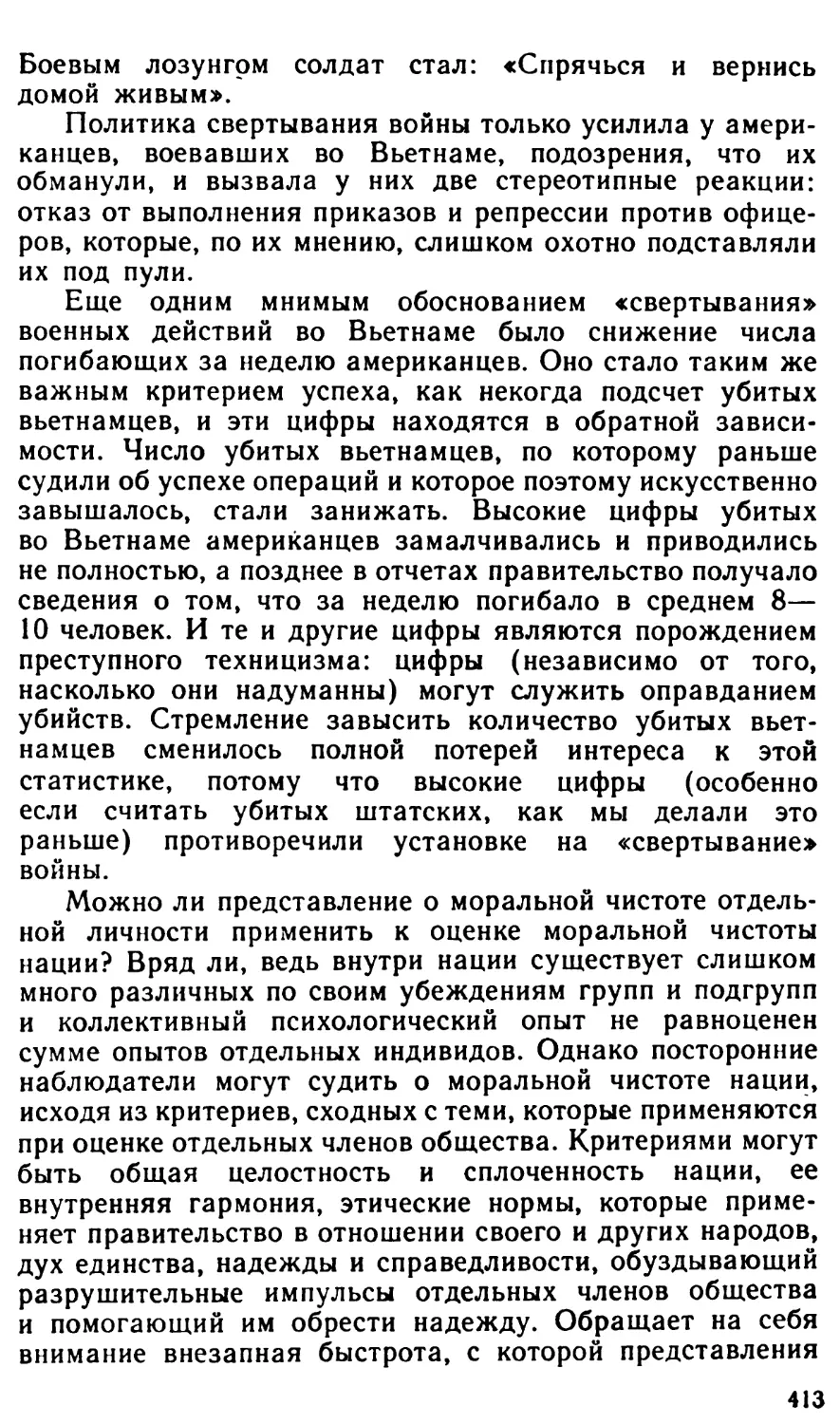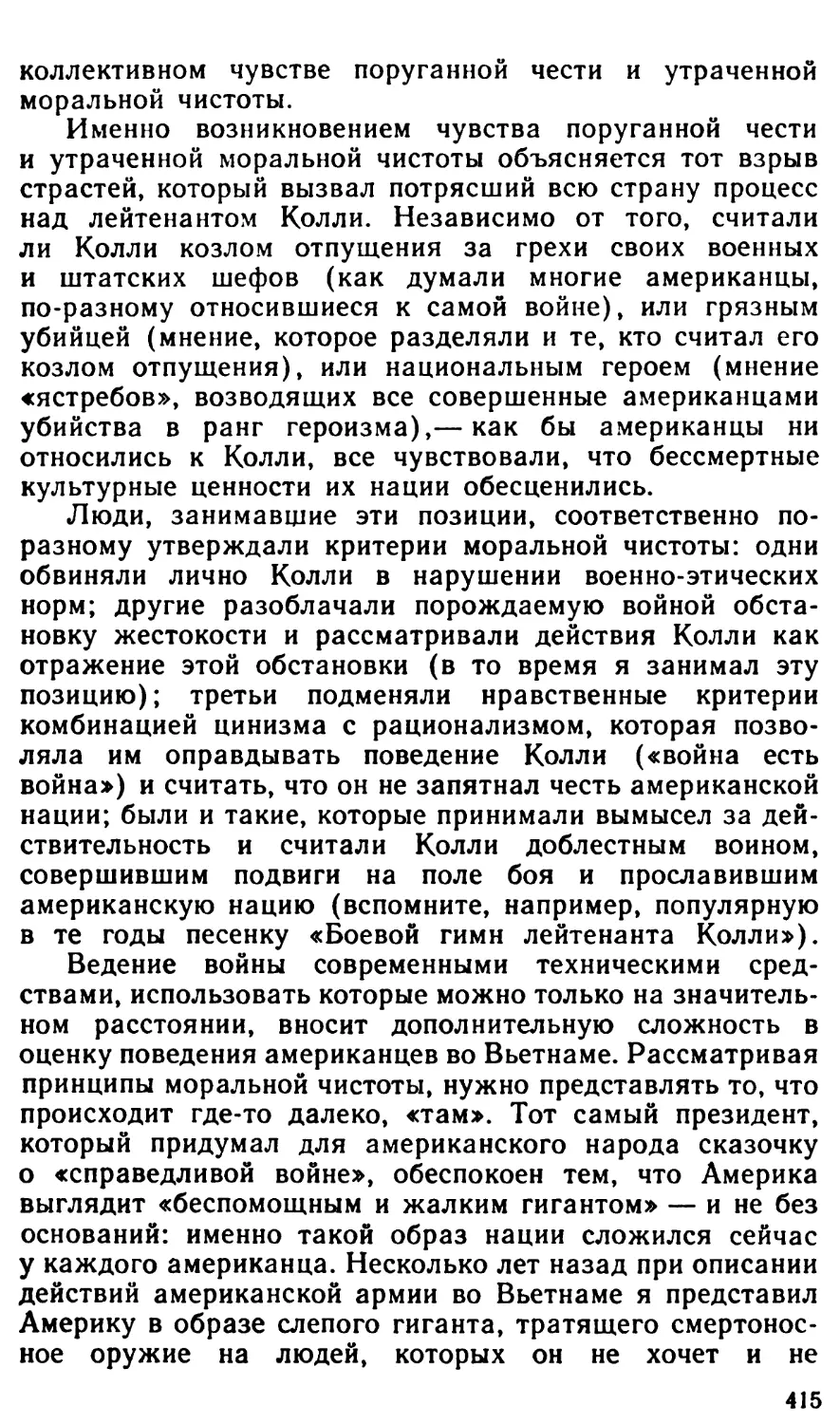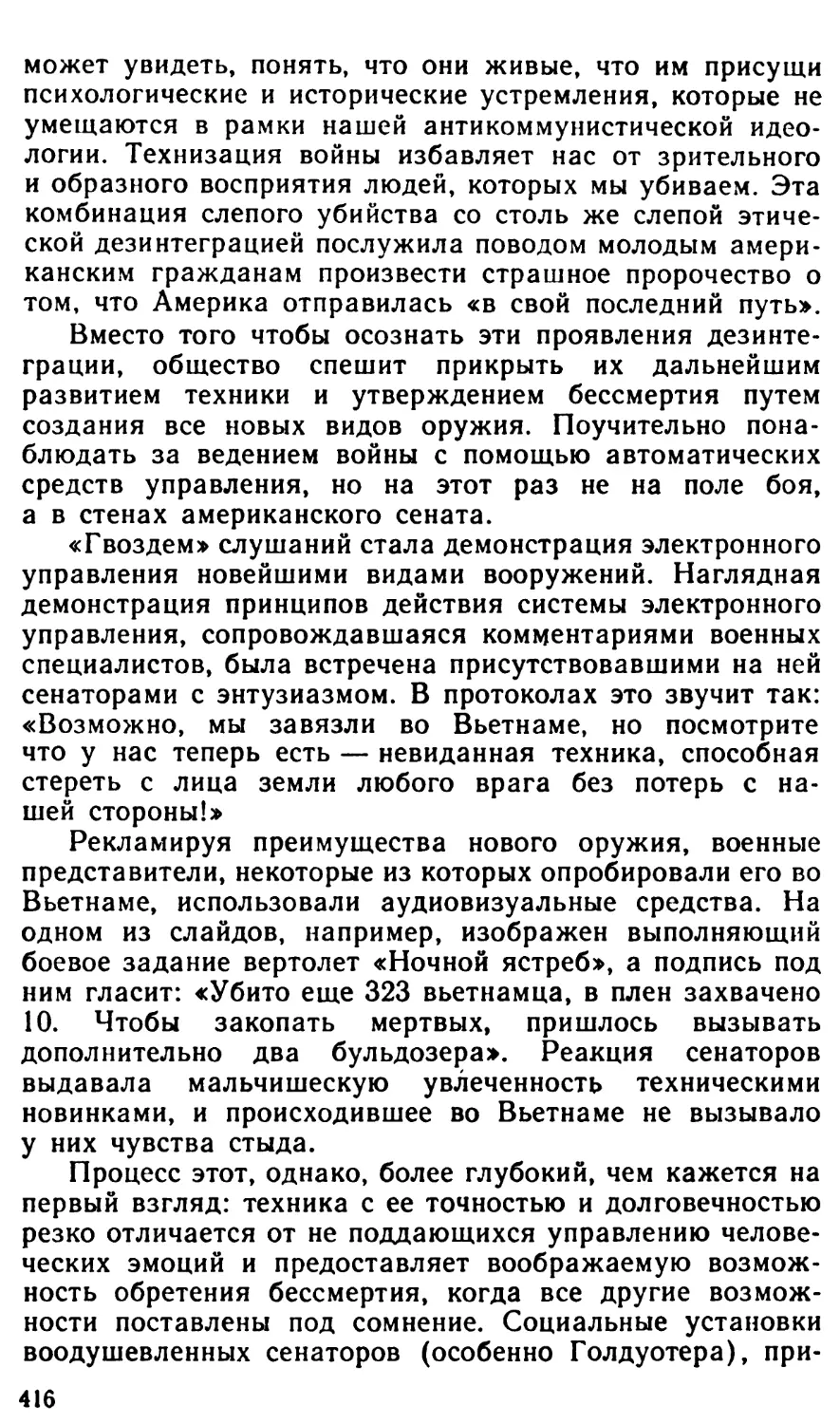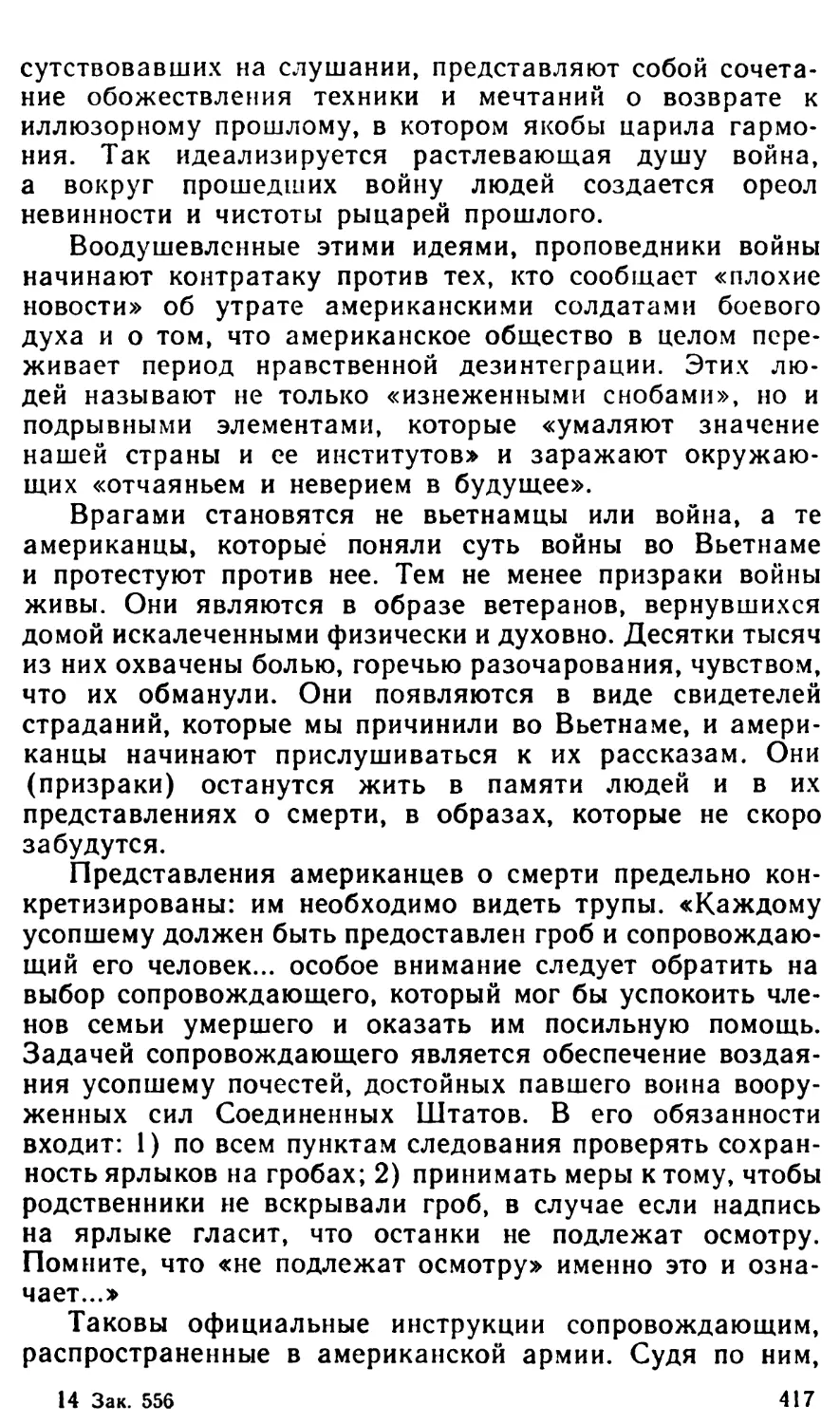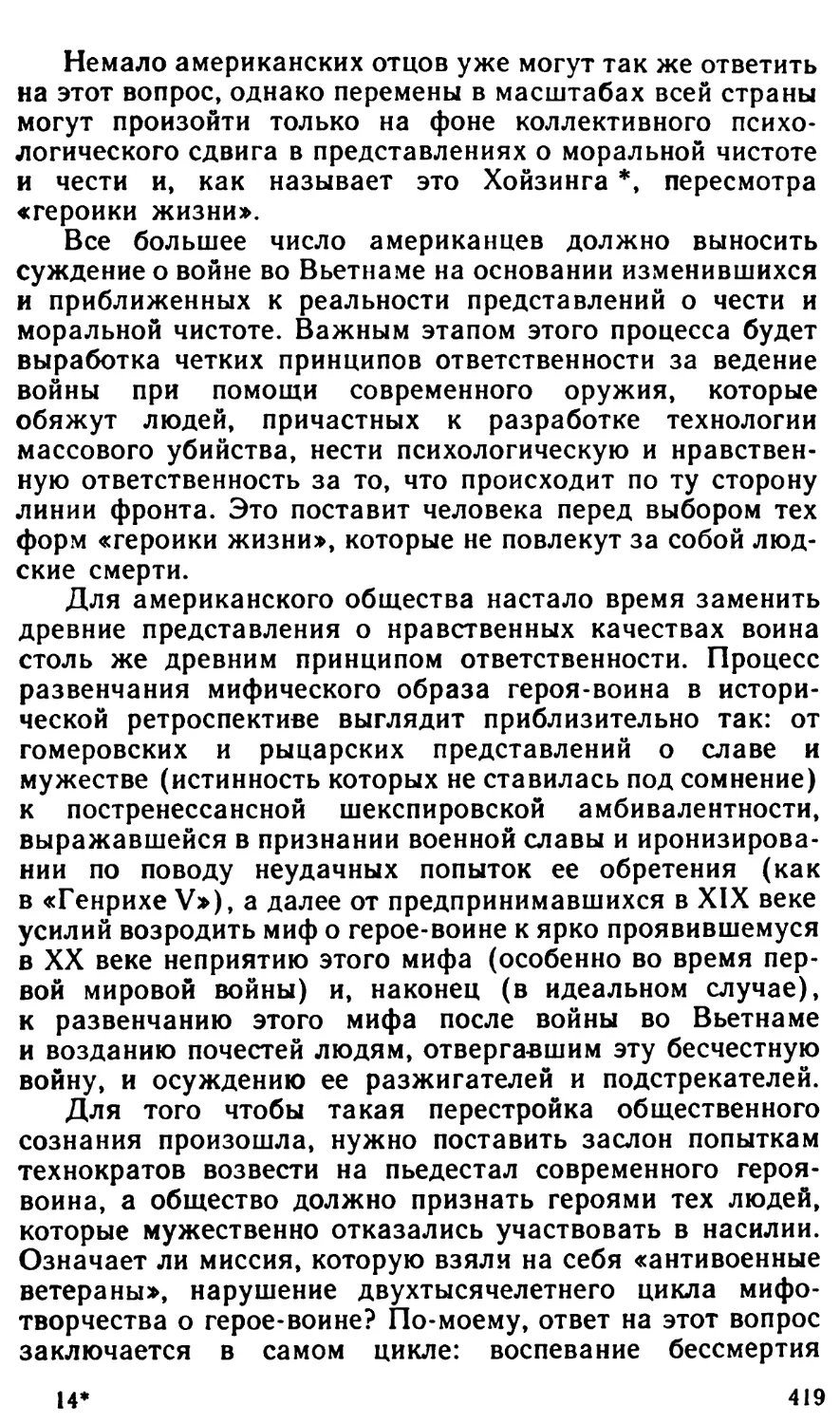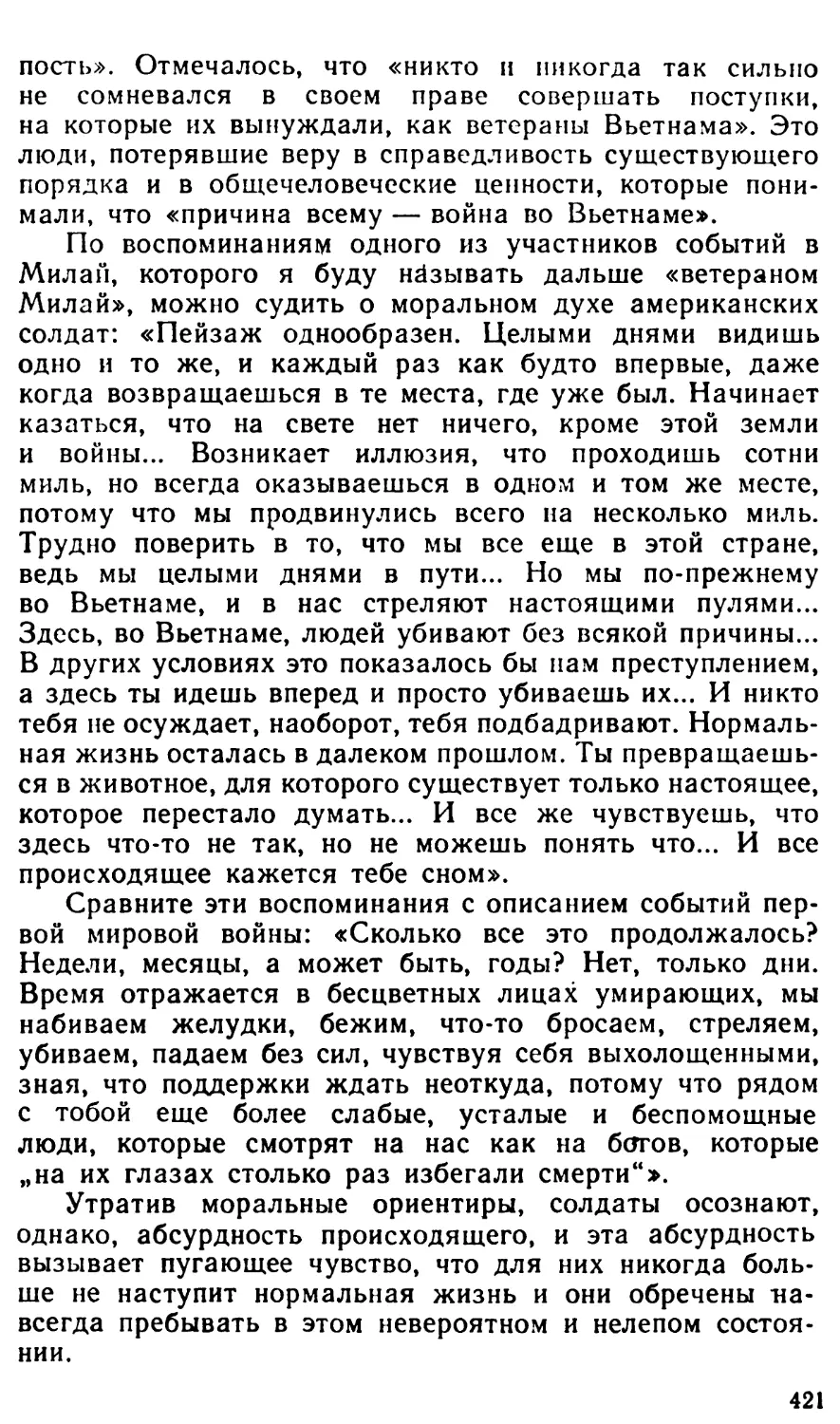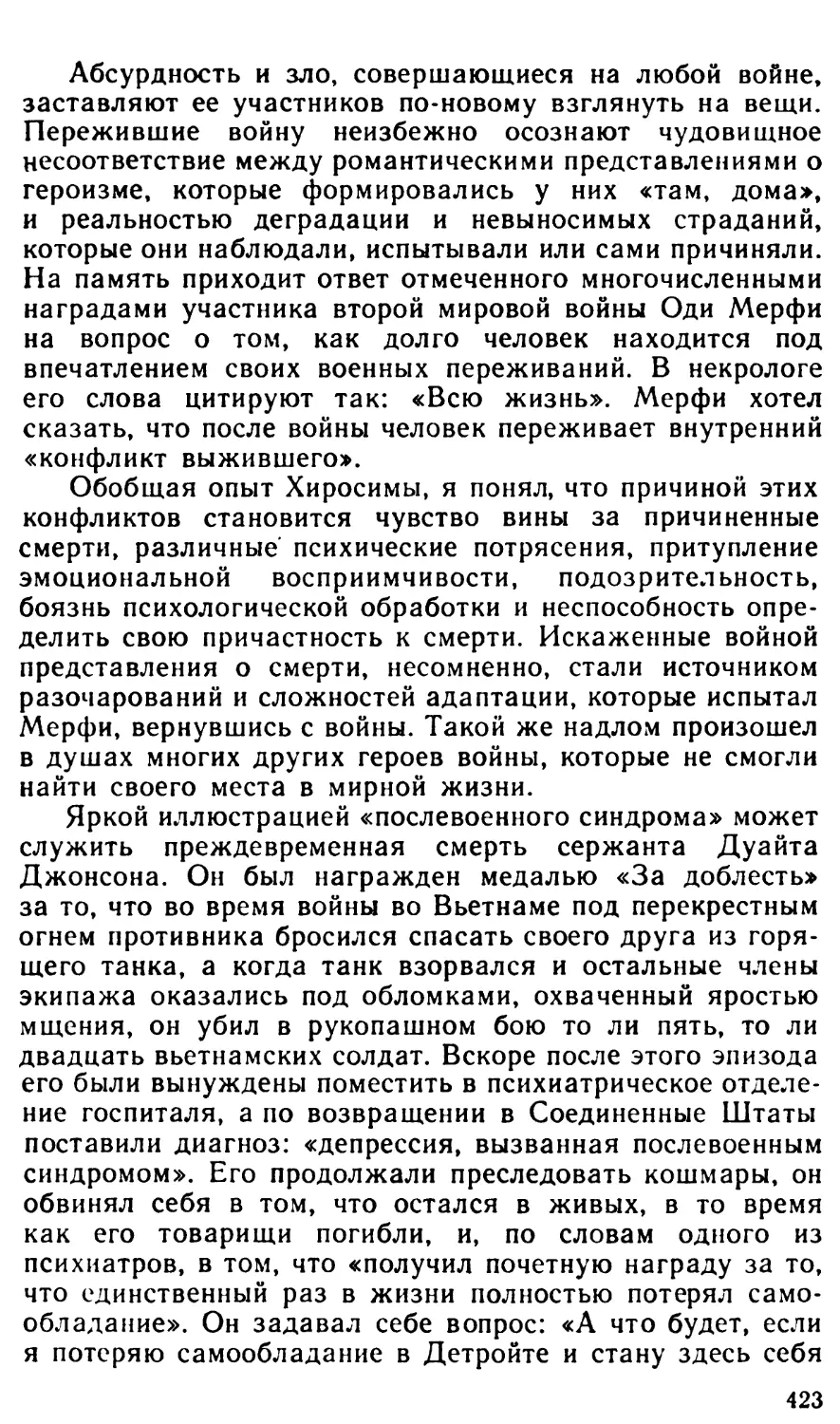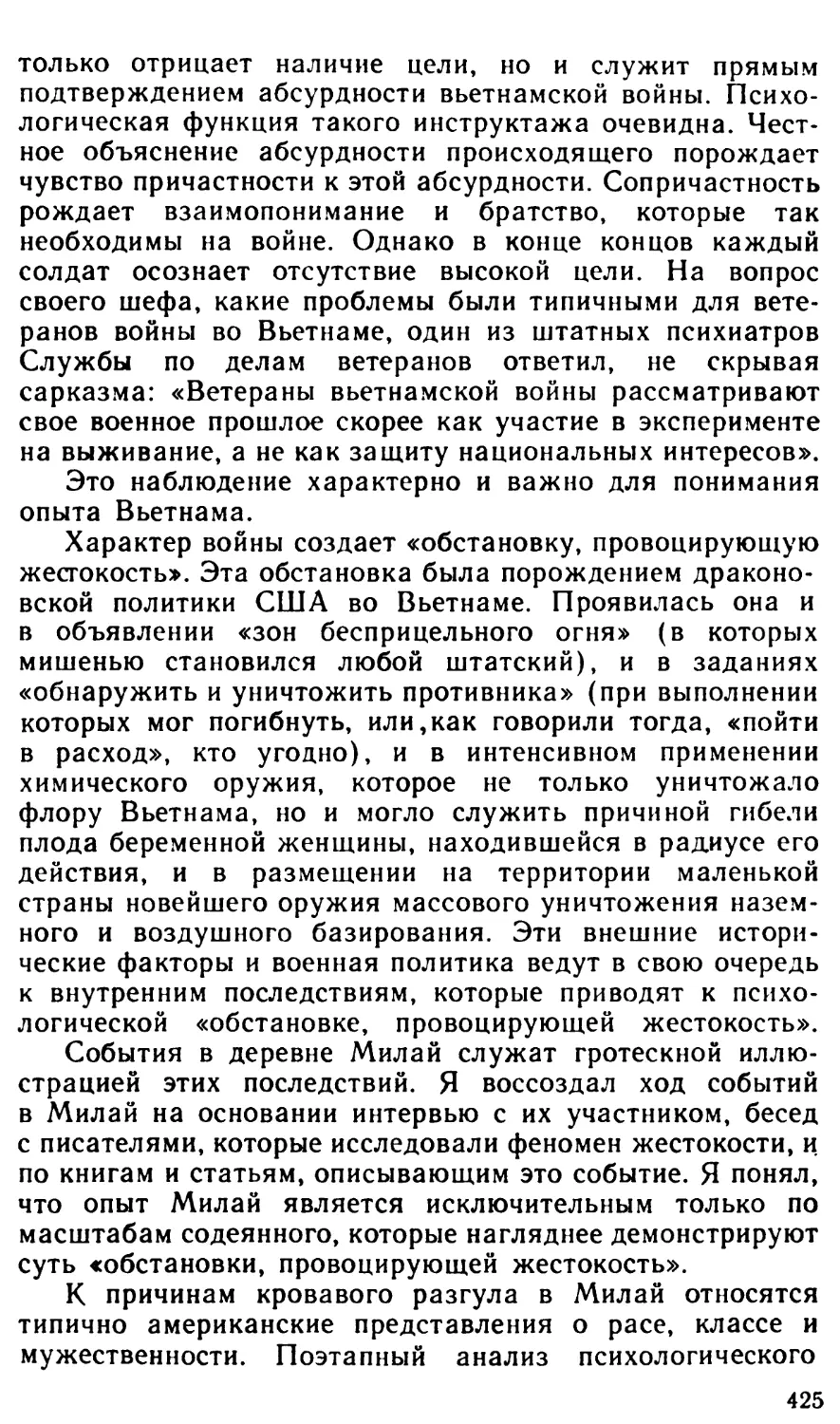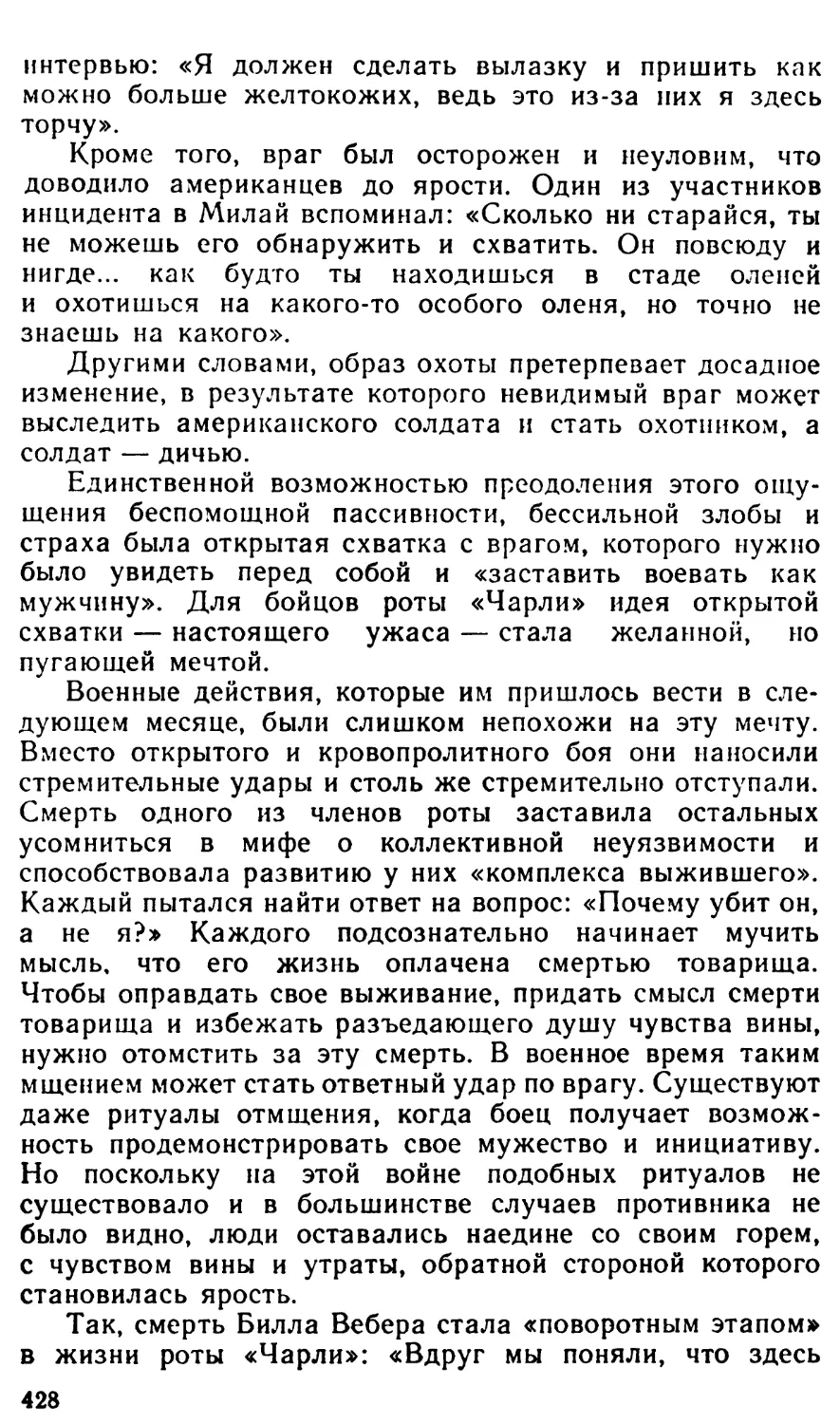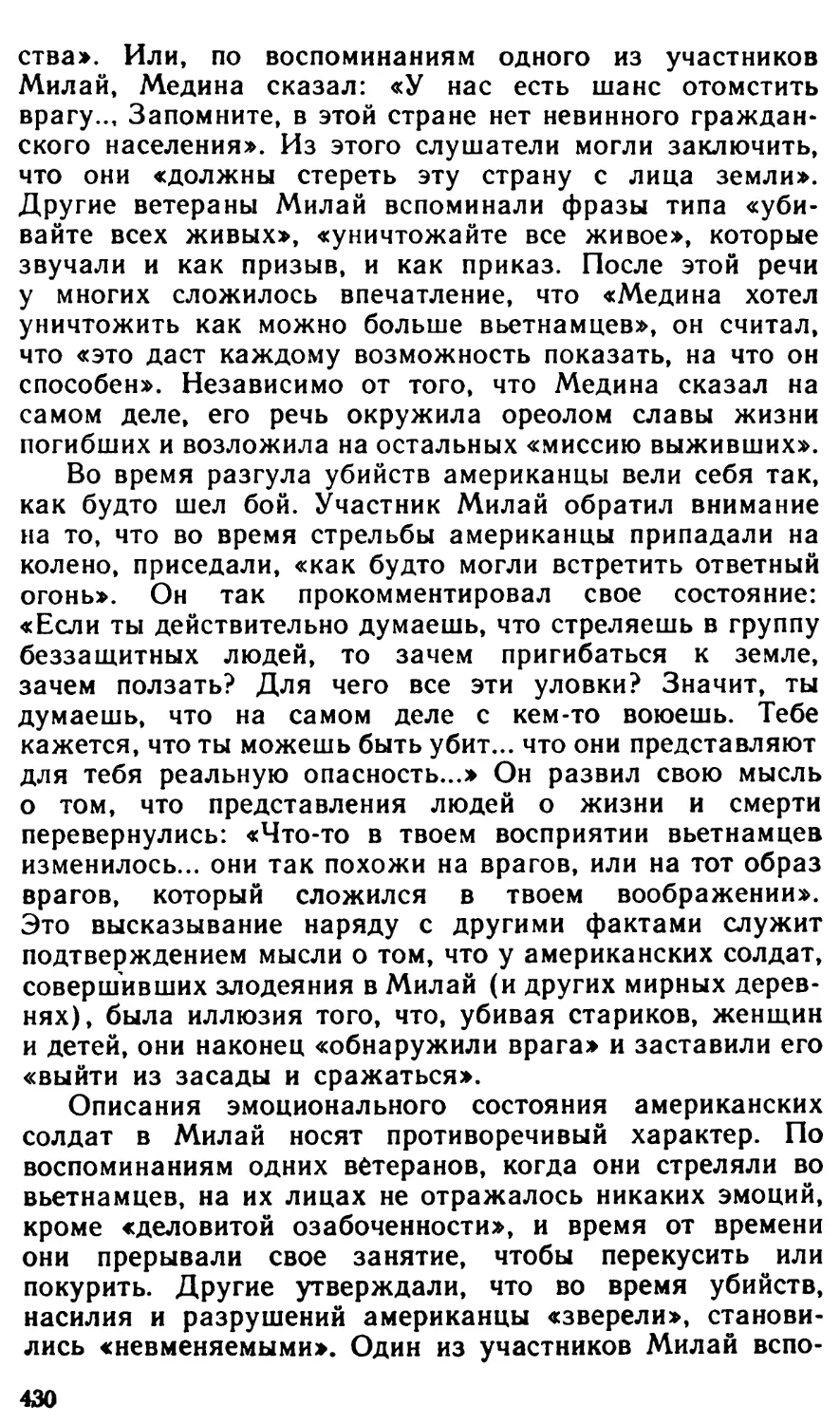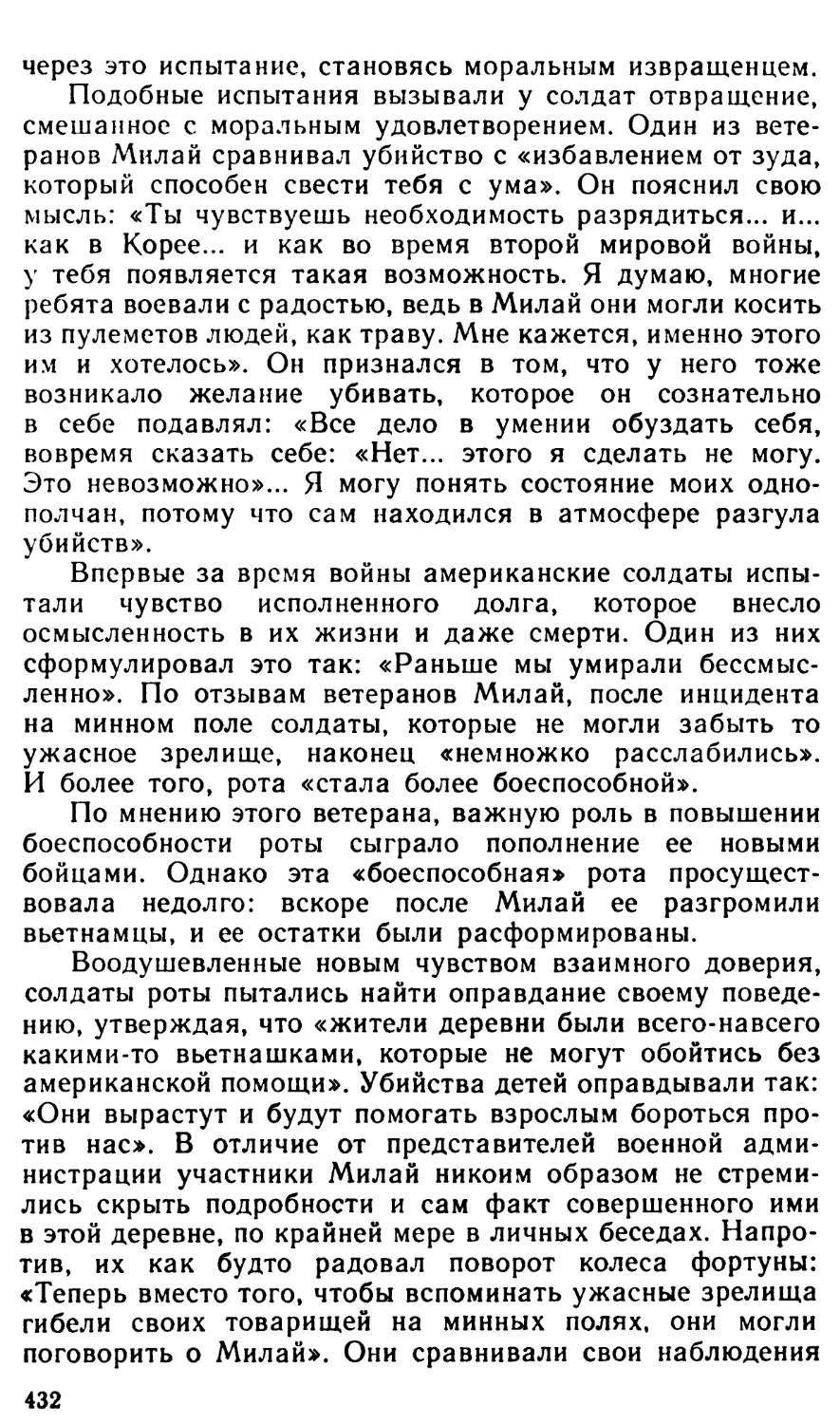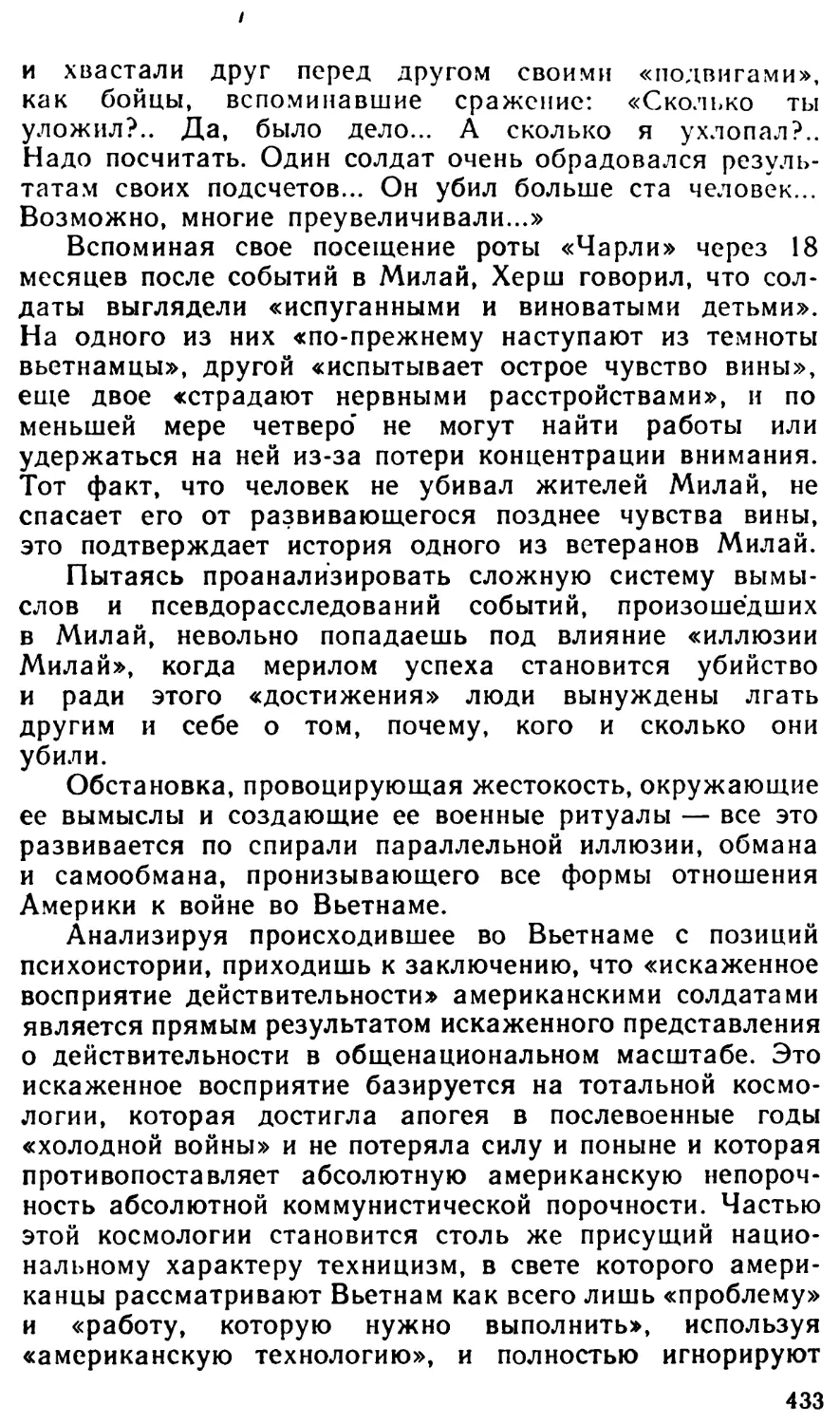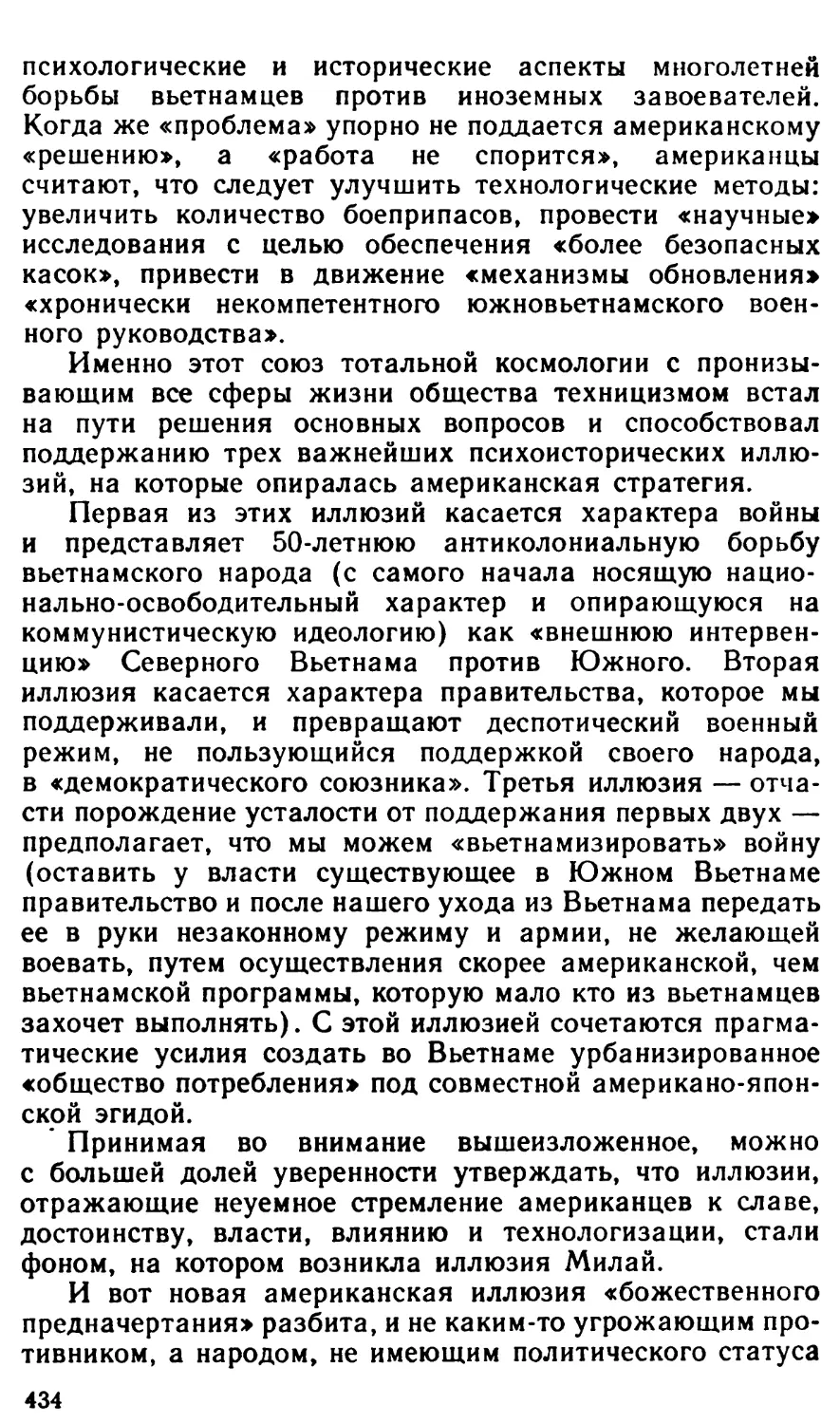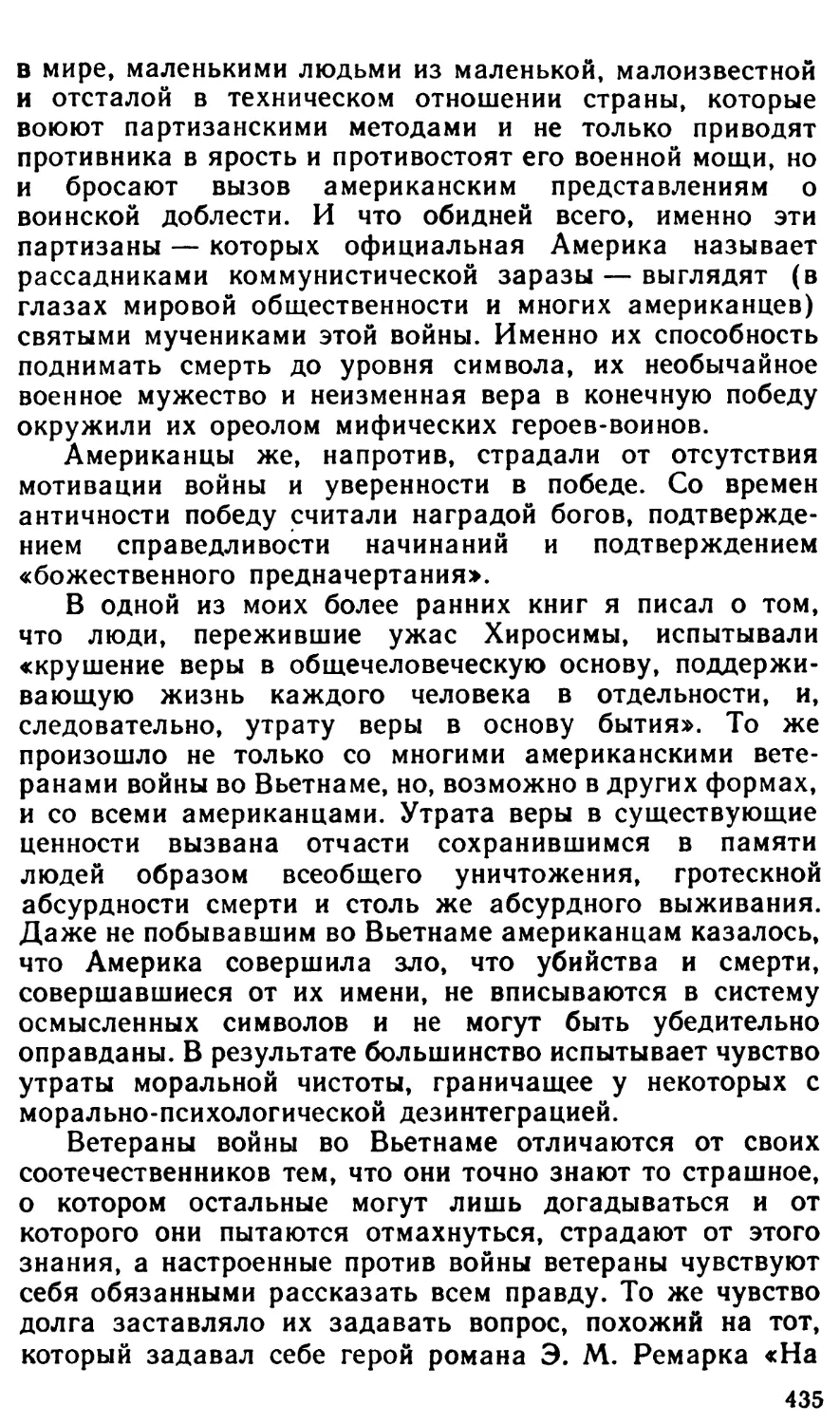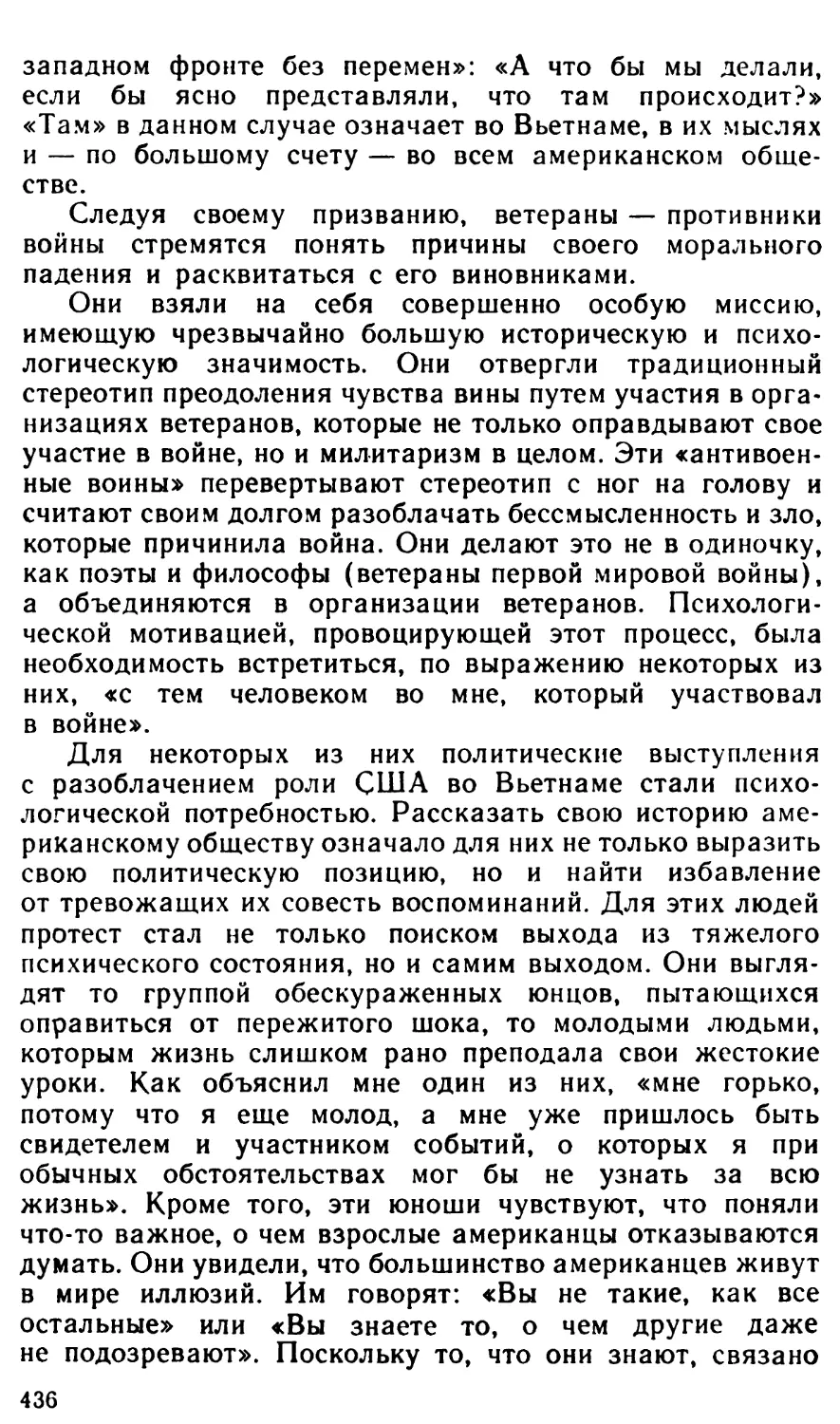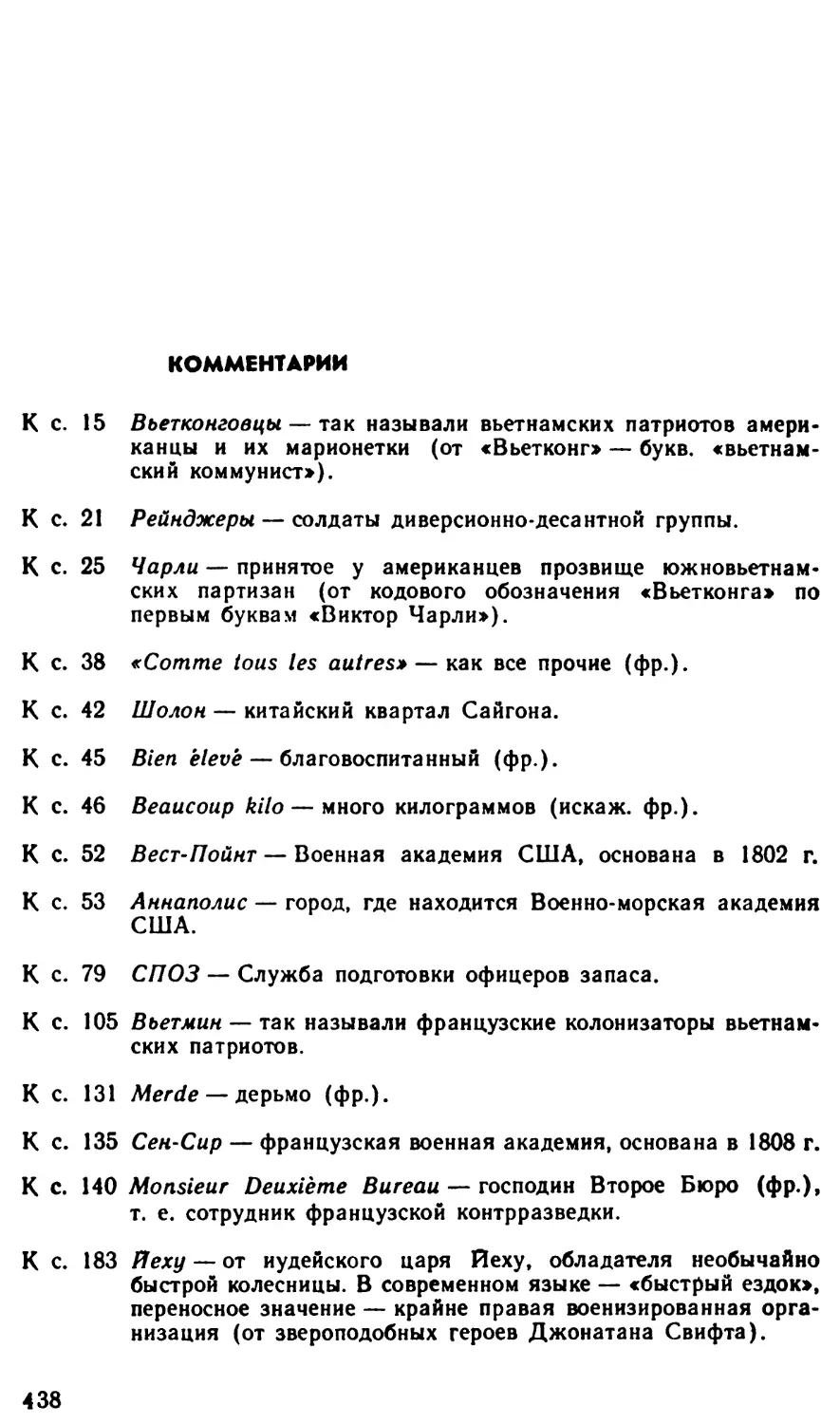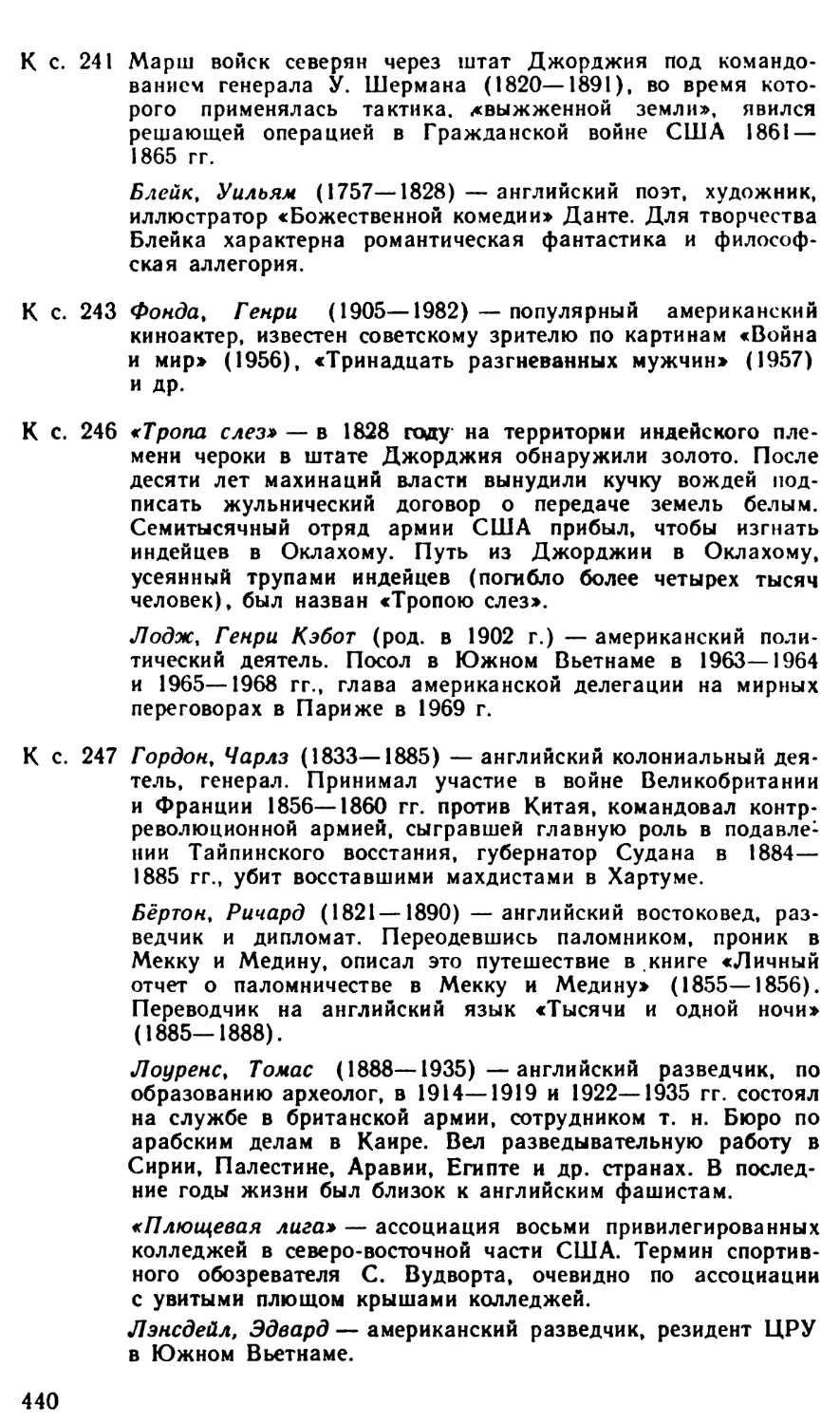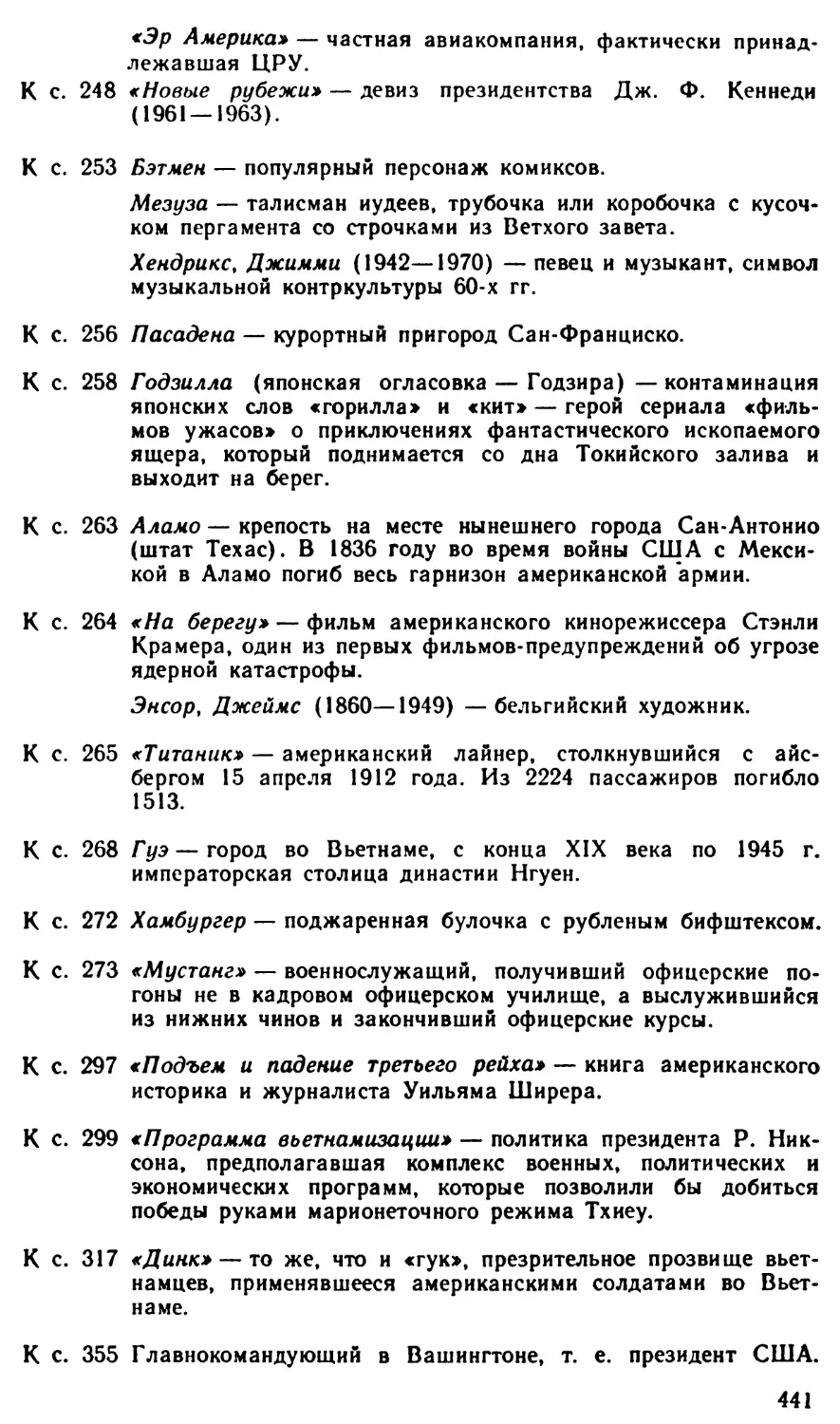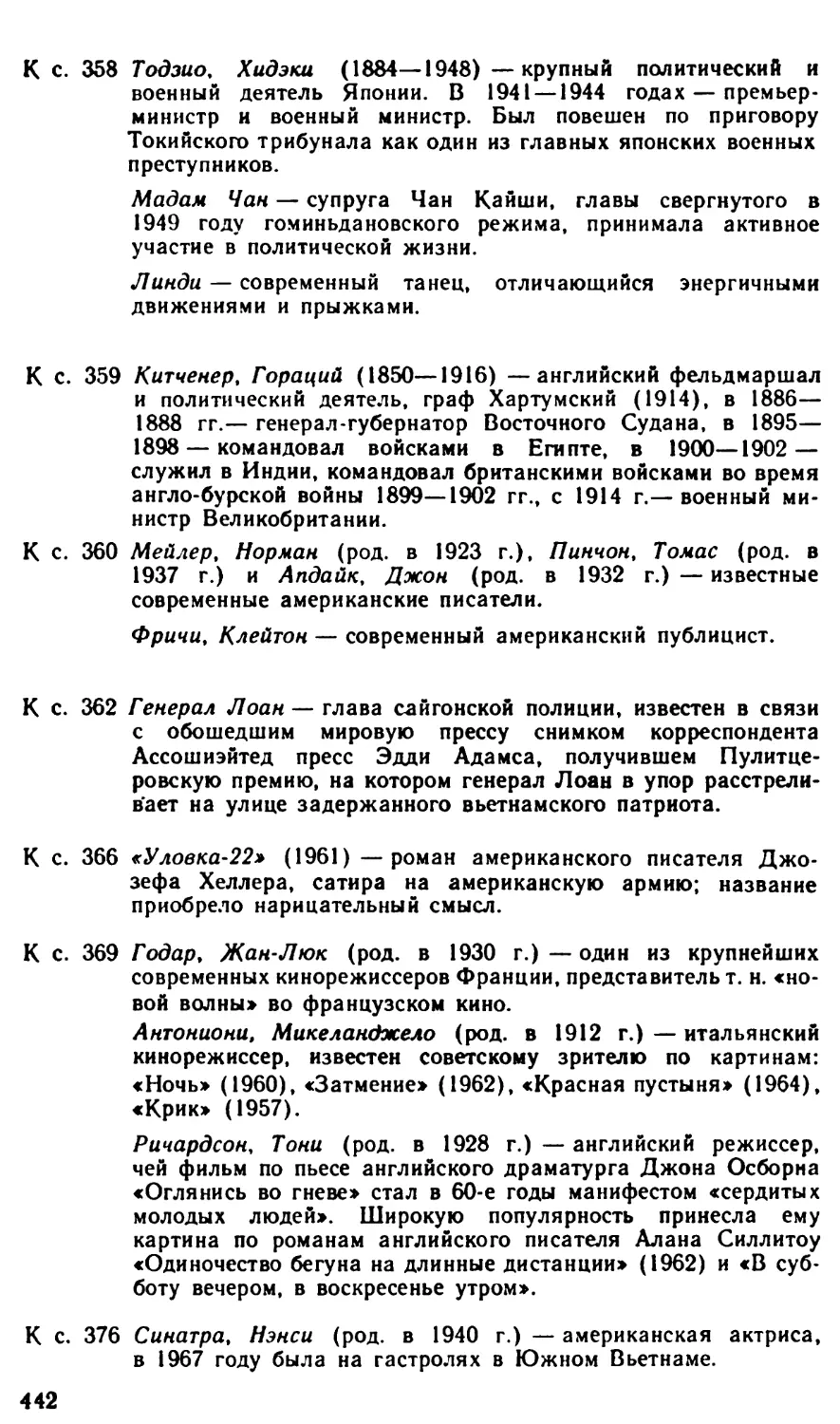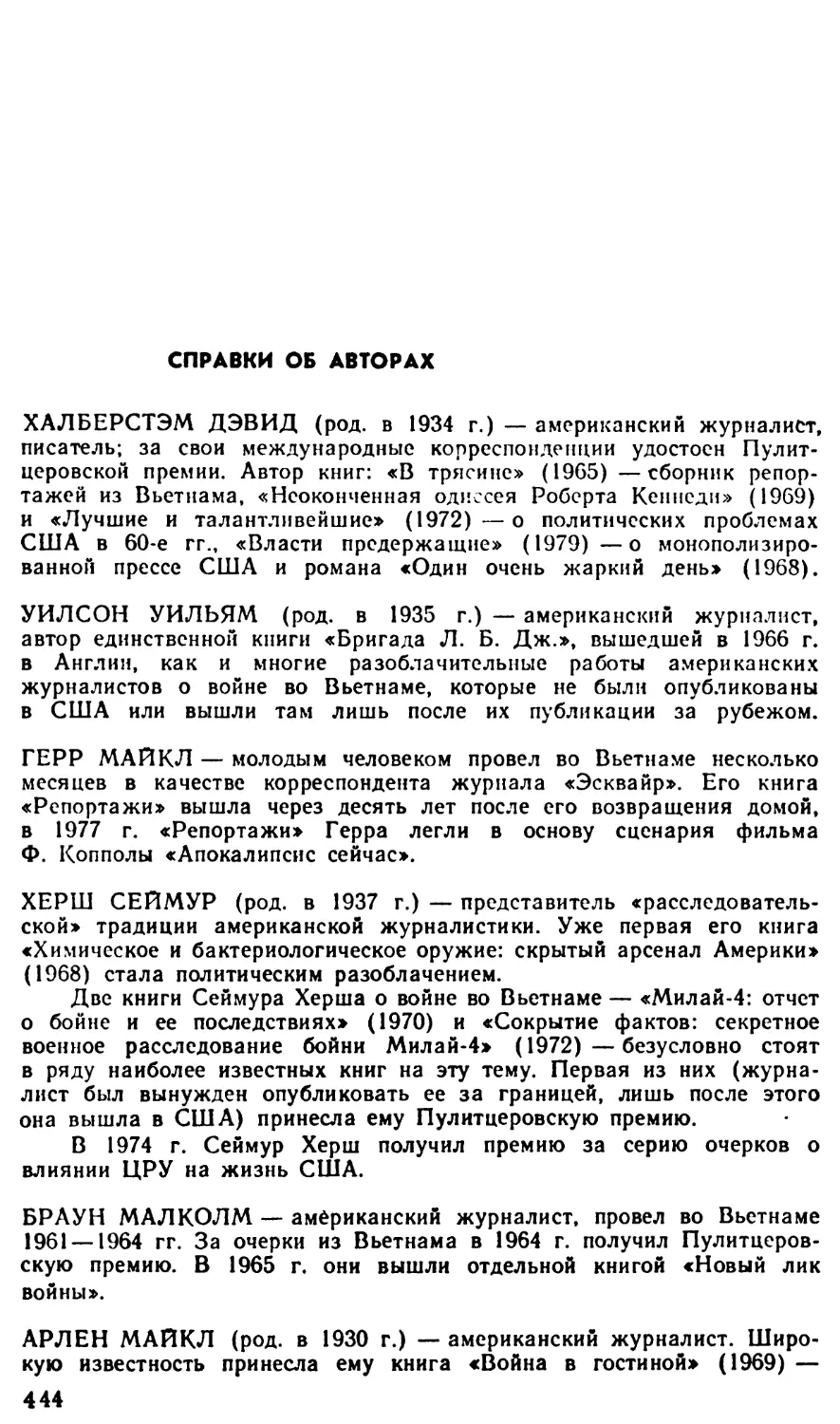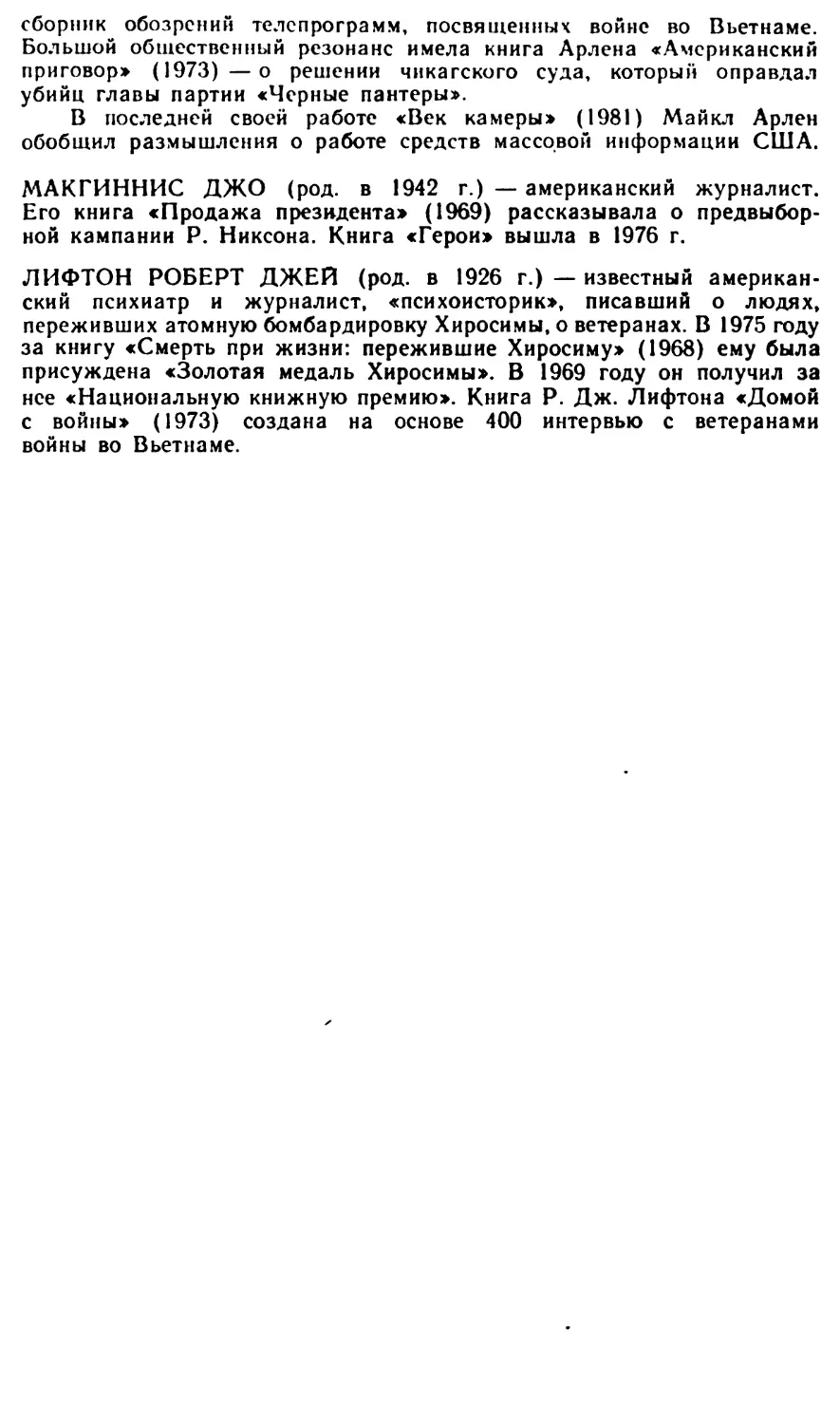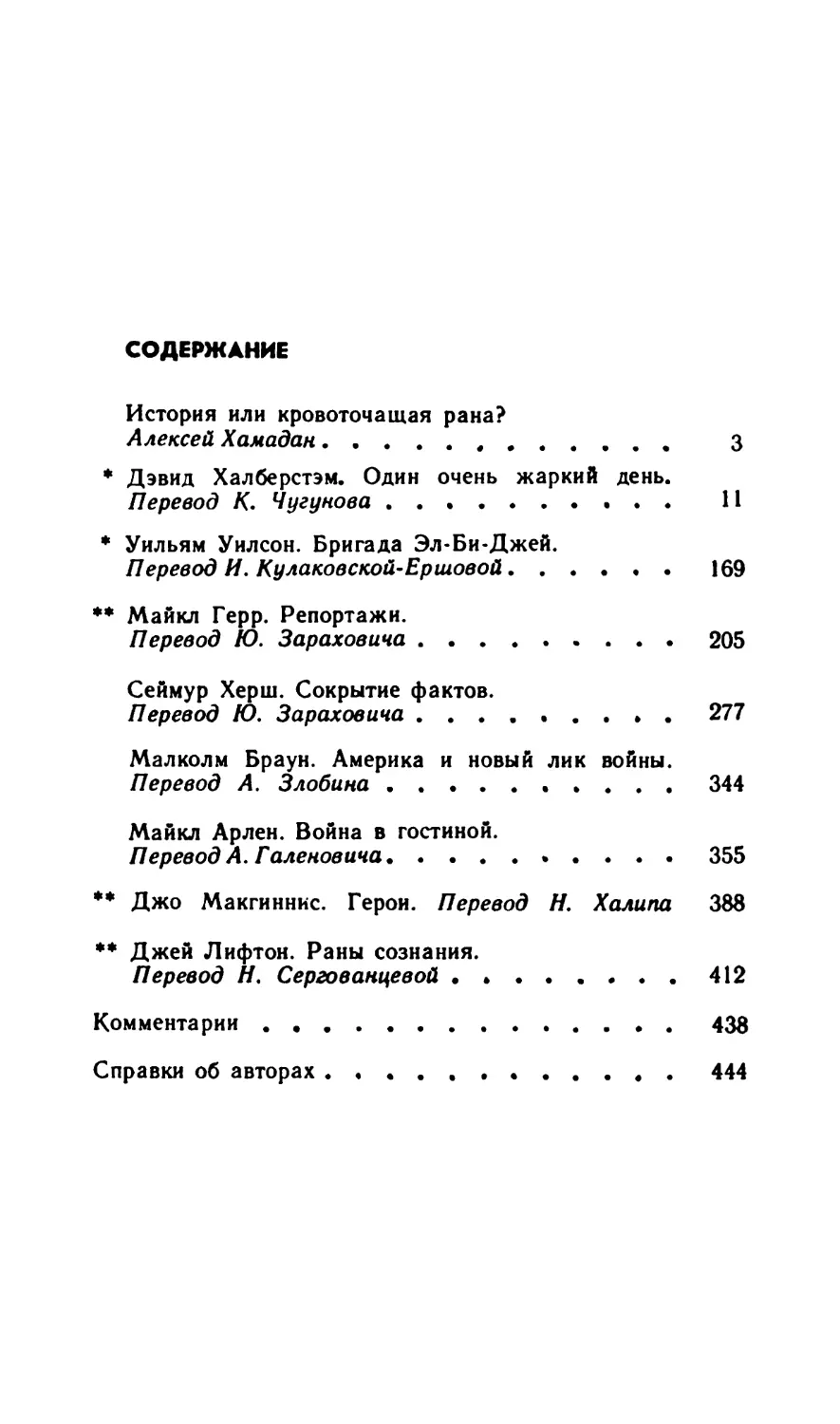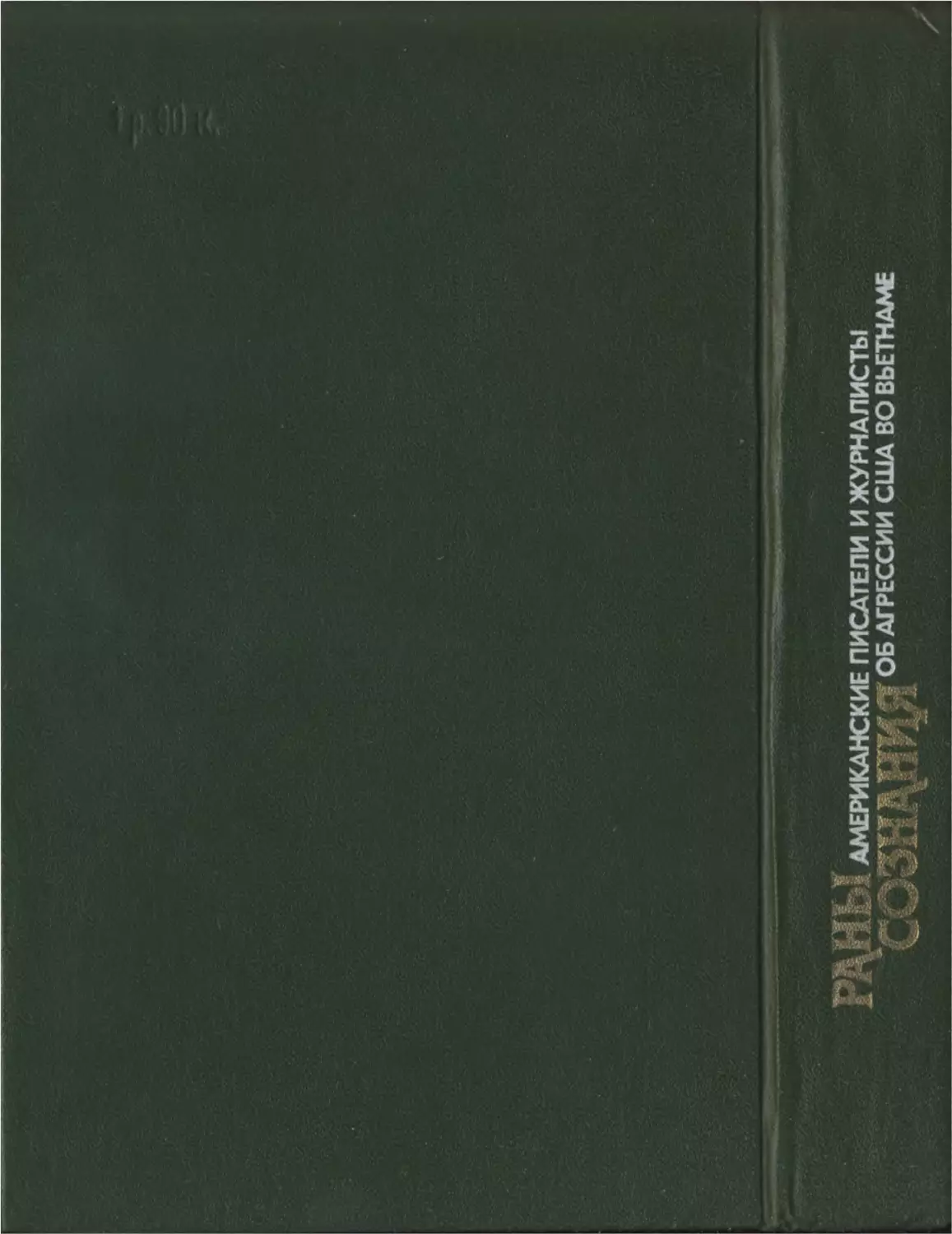Автор: Ротенберг Т.А.
Теги: международные отношения и внешняя политика сша войны публицистика история вьетнама сша агрессия
Год: 1985
Текст
РДНЫ
сознания
АМЕРИКАНСКИЕ
ПИСАТЕЛИ
И ЖУРНАЛИСТЫ
ОБ АГРЕССИИ
США
ВО ВЬЕТНАМЕ
Перевод с английского
Москва
«Прогресо
1985
ББК 66.4(7США)
Р22
32И
Составление и комментарии Т. Л. Ротенберг
Вступление Алексея Хамадана
Раны сознания. Амер. писатели и журналисты об
Р22 агрессии США во Вьетнаме: Худож. публицистика.
Пер. с англ./Вступление Алексея Хамадана.— М.:
Прогресс. 1985.—448 с.
В сборник включены произведения американских писателей и журналистов
о войне во Вьетнаме и ее последствиях, воспринимаемых честными американцами
как незаживающие раны сознания. Среди авторов — известные публицисты
Д. Халберстэм, С. Херш, М Герр, М. Арлен, Дж. Лифтон и другие.
„млллллл лео ББК 66.4(7США)
г4703000000-653 Р22
006(01)-85 32И
© Составление, вступление, перевод на русский язык произведений,
кроме отмеченных в содержании знаком *, комментарии издательство
«Прогресс», 1985 г.
Произведения, кроме отмеченных в содержании знаком**,
опубликованы на языке оригинала после 1973 г.
ИСТОРИЯ
ИЛИ КРОВОТОЧАЩАЯ РАНА!
Десять лет назад, в апрельские дни 1975 года, рухнул
марионеточный сайгонский режим в Южном Вьетнаме.
Незадолго до этого американскому воинству пришлось
в спешном порядке грузиться на корабли и самолеты
и уносить ноги с вьетнамской земли Закончилась
многолетняя война, за которой прочно закрепился
выразительный эпитет — «грязная» Под этим наименованием
вьетнамская авантюра империализма США навсегда
войдет в историю.
Если под историей понимать не сухой протокол
событий, а живой человеческий опыт, то эту войну менее
всего можно считать списанной в исторические архивы.
Она жива в руинах и исковерканной земле Вьетнама,
на которую обрушилось больше взрывчатки, чем было
использовано во второй мировой войне, она жива в
памяти людей, потерявших близких; следы ее были видны
даже в относительно благополучном Сайгоне, не знавшем
бомбардировок: напоминанием о войне еще долго стояли
вдоль взлетно-посадочной полосы аэродрома Таншоннят
разбитые американские «Фантомы». Война и сегодня
является зловещей реальностью для многих тысяч людей,
пораженных «эйджент орандж» — это отравляющее
вещество применяли во Вьетнаме американские ВВС,—
как для гражданского населения этой страны, так и для
американских ветеранов. Жива она и в душах людей —
кровоточащими ранами сознания.
Было такое время, когда во Вьетнам пркеажали
«тихие американцы». Война, которая там велась до
1954 года, была «французской», и выпускники Гарварда
сновали по стране в легких тропических костюмах в
3
поисках мифической «третьей силы», призванной спасти
Вьетнам от коммунизма. Эти молодые люди были якобы
полны идеализма, хотя на самом деле состояли на
штатной службе в ЦРУ. Большим писателям присуще
удивительное проникновение в суть дела и верность
правде даже в мелочах: и если справедливо, что романом
Грэма Грина и сегодня можно пользоваться как
путеводителем по Сайгону, то верно и то, что он с убийственной
точностью зафиксировал начало американского
вмешательства во Вьетнаме. Кстати, некоторые американские
публицисты — а им свойственно логику истории подменять
противоречиями между отдельными личностями — до сих
пор идеализируют этот период агрессии и сетуют на
ошибки ряда политических и военных деятелей, не
прислушавшихся к советам резидентов.
Агентов ЦРУ сменили военные советники. Сначала их
были сотни, потом тысячи. Потом появились «зеленые
береты» и регулярная армия, численность которой
достигла полумиллиона солдат. Как пишет один из авторов
этого сборника, в США живы почти три миллиона
ветеранов вьетнамской войны. Менялись послы,
главнокомандующие, начинались, прекращались и
возобновлялись бомбардировки Северного Вьетнама, Камбоджи,
сменялись, как в калейдоскопе, марионеточные президенты
(кое-кого из них убрало все то же ЦРУ), не менялось
только одно — сущность войны. С первого и до последнего
дня это была империалистическая агрессия против
вьетнамского народа, попытка лишить его права самому
определять свое будущее. К тому же то была неоколониальная
война с изрядным душком расизма. (Наши читатели
обратят, конечно, внимание на многочисленные
уничижительные эпитеты и прозвища, которые применялись белыми
«суперменами» по отношению к вьетнамцам, даже к своим
союзникам.) Это была война, выросшая из американской
доктрины «божественного предначертания», произвольно
присвоенного империализмом США «права» определять,
какой народ свободен, а какой — нет, нести за тысячи
миль «американскую демократию», американский образ
жизни, нравы и культуру доллара. По подсчетам
историков, во имя этой доктрины империализм США провел за
двести лет своей истории около двухсот войн.
Американская армия была вооружена по последнему
слову техники. Она обладала абсолютным господством
в воздухе. И тем не менее потерпела сокрушительное
4
поражение, что подтвердило многократно
проверенную в наш век истину: никакая армия не может
победить, если она ведет войну не против армии, а против
народа.
Это была жестокая война, сравнимая в этом отношении
лишь с действиями германского фашизма и японского
милитаризма в годы второй мировой войны. Утонченная
техника взаимодействовала с одичанием «ястребов»,
стоявших у руля государства. Многократно упоминаемые
в книге операции «по обнаружению и уничтожению»
противника превращались в тактику «выжженной земли»
(кстати говоря, похоже, что это понятие родилось в
США в годы Гражданской войны; то была тактика
генерала Шермана во время его марша через Джорджию.
Тогда же и там же родился термин
«концентрационный лагерь»...), уничтожения гражданского населения,
расстрела с воздуха всего, что движется, и т. д.
И все-таки вьетнамский народ выстоял и победил.
Разумеется, он был не одинок в этой борьбе, ему
помогали друзья, его поддерживало все прогрессивное
человечество. Не была эта война популярной и в самих
Соединенных Штатах. Против войны подняла свой голос
интеллигенция, студенчество, молодые люди сжигали
призывные повестки; раскол страны по вопросу о войне
предопределил уход с политической арены президента
Джонсона. Впрочем, идеализировать картину нет
оснований: «ястребы» в американской политике затянули войну с
этого момента (1968-й год) еще на семь лет,
практически на оба срока президентства Никсона.
Американские писатели и журналисты пишут о войне во
Вьетнаме с начала 60-х гг.; как шутливо замечает один из
авторов сборника, Майкл Арлен, продукция американской
журналистики стала едва ли не главной статьей
экспорта из Вьетнама. Как нам представляется, здесь
отобраны наиболее интересные ее образцы.
Американская пресса была представлена во Вьетнаме
не одной сотней корреспондентов; как и армия, она
была вооружена по последнему слову техники. Отснятый
материал можно было за несколько часов доставить на
западное побережье США или почти мгновенно показать
через ретрансляторы по американскому телевидению. Что
и говорить, это была колоссальная сила, способная
воздействовать на общественное мнение, формировать
его. Сохраняя полную объективность, приходится при-
5
знать, что американская пресса не сумела ни обуздать
«ястребов» в политическом и военном истэблишменте
США, ни даже донести до американского народа
правду о войне. И этому не приходится удивляться.
Монополизированная пресса Америки («Си-би-эс», «Нью-
Йорк тайме», «Вашингтон пост», «Лос-Анджелес тайме»,
«Ньюсуик», «Тайм», список можно продолжить) в целом
всегда верно служила правительству монополий. Один из
авторов сборника, Дэвид Халберстэм, выпустил семисот-
страничную книгу «Власти предержащие», где он пытается
доказать независимость перечисленных выше газет,
журналов и телекомпаний и старательно фиксирует их
конфликты с правительством. Однако очевидно, что
это лишь стычки на второстепенных театрах военных
действий, нисколько не затрагивающие истинные власти
США. Это вообще характерная черта того направления
американской журналистики, которое принято называть
«разоблачительным». Хотя, конечно, журналисты
запечатлели огромное количество фактов убийственной силы,
логика которых поднимается выше их собственного
мировоззренческого уровня и способности оценить
ситуацию в целом.
Колоссальному разрыву между затраченными усилия
ми и результатами посвящает свою книгу «Война в
гостиной» уже упоминавшийся Майкл Арлен. Несмотря
на тысячи метров телефильмов и вьетнамских кадров в
выпусках теленовостей, американцы не получали
представления о том, что происходит во Вьетнаме. Война
«растаскивалась» на бесчисленные телесюжеты,
лишенные какого бы то ни было смысла, превращалась в
развлечение, разновидность «шоу», подглядывание через
замочную скважину, когда видна только часть картины,—
во все, что угодно, только не объективный анализ
хода войны, ее скрытых пружин, ее сущности. Зачастую
средства массовой информации ограничивались
пересказом пентагоновских установок.
Публикуемый в сборнике роман Дэвида Халберстэма
«Один очень жаркий день» наглядно иллюстрирует
художественную силу реализма как метода
отражения действительности. Халберстэм-писатель оказывается
сильнее Халберстэма-журналиста. Им выпукло
запечатлены будни грязной несправедливой войны, облик
американца, одетого в военную форму, жестокость и
бессмысленность происходящего. Очень сильно передано
6
им ощущение неправоты (часто тщательно скрываемое
героями книги), обреченности американцев на горящей
под их ногами вьетнамской земле, а также расизм,
экспортированный армией США во Вьетнам.
Журналист Уильям Уилсон в повести «Бригада Эл-
Би-Джей» (то есть бригада Линдона Бейнса Джонсона)
рассказывает о прозрении молодого американского парня,
отравленного правительственной пропагандой. Он едет во
Вьетнам «спасать мир от коммунизма». Это лицемерное
мессианство рушится от соприкосновения с
действительностью. Убийства мирных жителей, бессмысленная
жестокость, неизбывный страх, чувство обреченности —
таковы будни войны в изображении автора книги.
Не менее ярко будни войны запечатлены в
«Репортажах» Майкла Герра. По силе своего воздействия на
читателя они не уступят иному роману. Герр принадлежит
к тому направлению журналистики, который принято
называть «новым журнализмом». Проще говоря, это
репортаж, выполненный художником, а не репортером.
Для него важен не только факт, но и его изображение,
осмысление, сопоставление. Картина, им нарисованная,
удручает. Ее можно передать одним словом —одичание.
Американский солдат под пером талантливого журналиста
выглядит бесчувственным существом, живущим одними
инстинктами. Герр вовсе не хочет этим сказать, что
таковы американцы; такими их сделала грязная,
бессмысленная война. Характерно, что в процессе написания
репортажей мужает мысль самого автора: «Я поехал
освещать войну, а война просветила меня»,— говорит
М. Герр. Как и для американских писателей, писавших
о второй мировой войне, для Герра неприглядный
облик своей страны открылся, когда он увидел своих
соотечественников в военной форме. Страшный эпизод:
американский врач не оказывает помощи вьетнамцу.
«Но вы же давали клятву Гиппократа» — «Да, но я
давал ее в Америке». Нечто подобное мог сказать и
нацистский врач-изувер Менгеле.
Тема книги «Сокрытие фактов» известного журналиста
Сеймура Херша — трагедия в Сонгми и попытки
военного ведомства не допустить разглашения того, что там
произошло. А произошло следующее: по всем законам
военной науки была спланирована и осуществлена
операция по уничтожению... 347 мирных жителей деревни
Милай-4. После длительных проволочек был найден и осуж-
7
ден козел отпущения — лейтенант Колли. Он получил
двадцать лет тюрьмы, но уже вскоре в результате
амнистии оказался на свободе. В шумихе вокруг него утонул
факт одновременного с Милай-4 уничтожения соседней
деревни Михэ и ста ее жителей...
В отличие от Герра Херш пишет скупо, как бы
протокольно. Но все дело, видимо, в том, что
протоколируется. Его книга — отнюдь не бесстрастный анализ, но
гнев человека, который умеет сдерживаться; это суровый
приговор военному ведомству США.
Книга молодого журналиста Джо Макгинниса «Герои»
затрагивает очень важную для понимания характера
войны тему. В самом деле, если была война, значит,
были и герои? Нет более убийственного приговора
этой войне, нежели вывод, к которому приходит автор:
героев не было. Из его книги отобраны два очерка о
людях, стоящих на диаметрально противоположных
полюсах американской армии во Вьетнаме,— солдат и
главнокомандующий. Правда, солдат не простой, а «самый
награжденный» за вьетнамскую войну. Присмотримся к
нему, прочитаем наградные листы: убийства, убийства,
убийства. Патология. Вот он дома, в Америке. Ездит
по стране, живет в мотелях. Беспробудно пьет. Не
расстается с винтовкой. Явная психическая неполноцен
ность? Да, но особого рода. Это так называемый
поствьетнамский синдром. Героизация такого человека есть,
конечно, не что иное, как свидетельство морального
падения нации.
Другое дело генерал Уэстморленд. Красивый,
подтянутый, этакий «отец солдатам». Макгиннис вроде бы даже
любуется им. Но вчитайтесь повнимательнее. И на
поверхность проступят тонкие сатирические мазки. Глупая
история с воронкой для заливки бензина. Встреча в
гольф-клубе, когда никто не хочет составить генералу
компанию. Никакого сожаления о содеянном во Вьетнаме.
И наконец, генеральские сетования: проклятое
телевидение исказило всю картину войны и его роли в ней.
Недавно в газетах было опубликовано сообщение, что
генерал подал в суд на «Си-би-эс». Свою геройскую
репутацию он оценил в сто миллионов долларов. Похоже,
что это был рекламный трюк. Герой напоминал о
себе публике. Чтоб не забыли...
«Герои» и ветераны — тема исследования Джея Лиф-
тона. Для своей книги «Домой с войны» он опросил
8
несколько сот ветеранов вьетнамской войны. Лифтон не
журналист в строгом смысле слова; сам себя он называет
«психоисториком». Что же, психиатрический ракурс
анализа последствий вьетнамской авантюры более чем
уместен: психические болезни и отклонения (наряду с
онкологическими заболеваниями) широко распространены
среди ветеранов. Анализ Лифтона ценен многими тонкими
наблюдениями, но главным образом тем, что можно
назвать выводом-пожеланием: «Самая продолжительная,
непопулярная война... может стать для американского
общества началом переоценки этических ценностей. Если
в сознании американцев произойдет подобный сдвиг,
то наступит время, когда сын задаст отцу извечный
вопрос: «Папа, а что ты делал во время великой
войны во Вьетнаме?», и отец ответит ему не «Я героически
сражался в Дельте»... а «Я протестовал против нее»,
или «Я сделал все, чтобы не участвовать в ней», или
«Я сидел в тюрьме за то, что отказался воевать»,
или «Я участвовал в ней, осудил ее и сделал все от
меня зависящее, чтобы люди узнали о ней правду».
Немало американских отцов уже могут так же ответить на
этот вопрос».
Добавим от себя: не так уж и много, к сожалению.
И вопрос этот не риторический, а сугубо практический.
Журналист Малькольм Браун правильно замечает в
публикуемом отрывке из книги «Новый лик войны»,
что политика США по отношению к Юго-Восточной
Азии и к Латинской Америке — это звенья одной цепи
и что вьетнамская война служит полигоном для новых
подобных авантюр. События в Гренаде, сообщения из
Никарагуа свидетельствуют о прозорливости Брауна:
свою книгу он написал в 1965 году.
В книге Брауна много верных мыслей об обреченности
вьетнамской авантюры США, однако вывод его не столь
уж однозначен. Он считает, что США оказались не
готовы к новому типу войны (то есть к войне против
народа?). Не хочет ли он сказать, что к таким войнам
надо лучше готовиться, тогда и результаты будут лучше?
Очевидно, в этом рассуждении сказывается та самая
двойственность американской журналистики, о которой
уже шла речь. До вывода: нечего соваться, куда не
следует, американская пресса поднимается нечасто.
И последнее: если война во Вьетнаме и стала уже
историей, то эта история представляет собой поле битвы.
9
Консервативная волна, на гребне которой в Белый дом
пришел Рейган, не замедлила затронуть историю
вьетнамской войны. Пентагоновские пропагандисты пытаются
ее героизировать, уверить американцев в том, что им
нечего стыдиться. Таков недавний многосерийный
телефильм и книга журналиста Стенли Карноу «Вьетнам:
история». Легко понять, зачем это делается. Готовятся
новые Вьетнамы. Глава внешнеполитического ведомства
США сказал недавно об этом с солдатской прямотой:
«Вьетнам и Центральная Америка — хочу четко
разъяснить аналогию между ними. Наши цели в Центральной
Америке подобны тем, какие мы преследовали во
Вьетнаме».
Предлагаемый вниманию читателей сборник,
естественно, не может претендовать на всестороннее раскрытие
темы войны во Вьетнаме. При чтении книги не следует
упускать из виду, что в ней война показана с одной
стороны линии фронта, как она виделась американцам.
Американцы пишут прежде всего о себе; противник
для них некая абстракция, он невидим, неуловим, а потому
его боль, его кровь, его жертвы как бы не
существуют в реальности. А ведь подсчитано, что жертвами
американской военщины во Вьетнаме пали почти 7
миллионов вьетнамцев. Вот какую цену заплатил
героический вьетнамский народ за свою свободу и
независимость. И он никогда об этом не забудет, как не забудут
об этом все честные люди земли.
Алексей Хамадан
Дэвид ХАЛБЕРСТЭМ
ОДИН ОЧЕНЬ ЖАРКИЙ ДЕНЬ
РОМАН
Глава первая
Духовная семинария находилась на окраине
маленького городка. Но священников в ней уже не было —
они все вернулись в Европу. Теперь семинария
превратилась в настоящую крепость, которую не так-то
просто было взять штурмом: мили и мили колючей
проволоки и горы мешков с песком, а на крыше —
вьетнамский пулеметчик, по временам даже
бодрствующий.
У ворот стоял часовой, над ним висел огромный
плакат:
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Группа советников США при Восьмой пехотной дивизии.
Лучшие в своем роде.
Под надписью ухмылялся карикатурный американский
офицер, а ниже стояли буквы МСГЭД. На плакате
эти буквы не расшифровывались, но тем, кто спрашивал,
что они означают (спрашивали обычно штатские),
давалось следующее устное объяснение: «Мы сыты по горло
этим дерьмом».
* * *
Бопре спал чутким, беспокойным сном — он был весь в
поту, а огромный вентилятор, крутившийся над ним,
совсем не помогал и только гонял по комнате горячий
воздух. Бопре чувствовал себя скверно, нервы его были
настолько напряжены, что, когда за ним прислали, он
сразу решил: пора воевать. Ночь уже прошла, и надо
отправляться на операцию. «Волейбол,— донеслось до него
сквозь дремоту.— Волейбол».
— Капитан Бопре! Хотите сыграть в волейбол?
12
За ним прислали какого-то молоденького капитана.
Бопре даже не знал его фамилии.
— Нет,— хрипло ответил он,— какой тут к черту
волейбол!
— Но меня послали за вами. Не хватает одного игрока.
Нас там девять. Они говорят, что вы должны играть.
— А ну-ка посмотрите на меня, я в самом деле
должен играть?
Вопрос в точку: ему тридцать восемь лет, выглядит он
старше своего возраста, плотный, можно сказать, даже
толстый и потеет без всякого волейбола. Задыхается
и потеет.
— Правительство Соединенных Штатов,— сказал
он,— потратило тысячу шестьсот долларов, чтобы
доставить меня сюда, и о волейболе не было сказано ни
слова.
— Нам нужен игрок,— упрямо повторил капитан.
Он был молод и в семинарию попал совсем недавно.
Его появлению предшествовали слухи. Утверждалось,
что он будет очень скоро произведен в майоры.
— Молодой игрок,— поправил Бопре.
— Полковник говорит, что волейбол — это физическое
упражнение. Вам нужно упражняться. Так же, как и всем
нам.
— Мне упражняться не нужно,— сказал Бопре.—
Я ленив. А вы все и так без конца упражняетесь.
«Черт подери,— подумал Бопре,— волейбол. Пять
часов вечера, а они уже играют в этот проклятый
волейбол».
В семинарии в волейбол играли все, потому что других
развлечений не было. Взрослые люди. Бопре теперь
слышал возгласы и покряхтывание, доносившиеся с
площадки. Единственное развлечение. К тому же
полковник любил волейбол и неплохо играл, хотя и
преувеличивал свои достижения: маленький и жилистый, он
казался самому себе отличным игроком с пушечной
подачей. Сегодня этого энтузиаста волейбола не было
среди играющих — полковник уехал в Сайгон и должен
был вернуться вечером. Когда им не хватало игрока,
полковник входил в комнату Бопре и тащил его на
площадку, превращая это в маленький и почти приятный
спектакль: «Смотрите, кто хочет с нами играть!»
Реквизированный Бопре играл, потому что в одной из
команд не хватало игрока, неуклюже метался по площадке
13
и громко крякал — все это было очень мило и унизительно.
Он возненавидел волейбол и злорадно почувствовал
себя отомщенным, когда они как-то сыграли с
вьетнамскими офицерами. Вьетнамцы тоже любили волейбол,
и полковник, услышав об этом, предложил матч, потому
что пользовался каждым случаем, чтобы налаживать
отношения. «Мы против Них». Вьетнамцы согласились
охотно, даже чересчур охотно, и полковник был очень
доволен. Американцы, уже видя себя в роли
великодушных победителей, решили после матча устроить
роскошный ужин.
Вьетнамцы пришли и стали играть — худые, даже
тощие, выглядевшие довольно нелепо в своих слишком
длинных шортах и старомодных рубашках (они были
скромнее американцев и не раздевались до пояса).
Увидев вьетнамцев рядом с рослыми, мускулистыми
американцами, Бопре вдруг проникся к ним симпатией.
Игра началась, и американцы сразу же открыли
счет. Когда вьетнамцы наконец тоже начали набирать
очки, американцы вежливо аплодировали. Но
аплодисменты прекратились, когда вьетнамцы в своих старых
рубашках и шортах лихо разделались с противником.
В пяти играх подряд победили вьетнамцы, с каждым
разом все быстрее наращивая счет. В конце встречи
вежливые аплодисменты раздавались в адрес
американцев, когда им удавалось выиграть очко.
Это был неприятный день. Вьетнамцы вели себя
корректно, но не проиграли последней игры. Ужин прошел,
в общем, неплохо, хотя вопрос о новых встречах не
поднимался. Более того, на время волейбольная
лихорадка совсем прекратилась. Но через неделю
неугомонный полковник воспрял духом, и американцы
снова начали играть в волейбол.
Бопре продолжал прислушиваться к тому, что
происходило на площадке. Инструктивное совещание состоится
поздно вечером после возвращения полковника. Сначала
покажут кинофильм. До совещания оставалось не менее
пяти часов, но, если их проспать, потом будешь
чувствовать себя еще хуже. Однако он так ненавидел
волейбол, что, несмотря на мучительную духоту и скуку,
не пошел смотреть, как играют. Он решил все-таки
вздремнуть до кино.
Офицеры кончили играть, а полковник еще не вернулся.
Он должен был приехать позже на машине по единствен-
14
ному в стране шоссе — вопреки запрещению Сайгона,
где относились к шоссе с неприязнью и опаской и
считали, что полковнику следует летать на вертолете:
будет очень неприятно, если полковник вдруг попадет
в засаду и погибнет в сорока милях от столицы.
Но полковнику не нравился Сайгон, и по мере
возможности он старался не выполнять его приказов. Он
любил, как он выражался, обозревать местность, чтобы
установить, кто здесь командует. Поэтому в семинарии
решили пока прокрутить фильм. Обычно в фильмах
показывали либо Элвиса Пресли на Гавайских островах,
либо Дорис Дэй в чьей-то постели, в свежевыглажен-
ной пижаме, с аккуратной прической. Самым интересным
был тот момент, когда Дорис, почистив зубы, уже лежала
в постели, а по стене, служившей экраном, вдруг начинала
карабкаться ящерица. Кто-нибудь, обычно Ролстон,
сообщал, что именно намерена сделать ящерица, и все
начинали подбадривать ее: «Валяй, валяй, старина!» — или,
если ящерица убегала, разочарованно стонали:
«Слабак!» и «Поучи-ка его, Бопре!» (так как Бопре была
присвоена репутация бабника). Иногда на экране
появлялась вторая ящерица, предположительно самка, и тогда
в разгар ковбойской погони или пребывания Дорис Дэй
в чьей-то постели зрители смотрели только на двух
ящериц, исполнявших свой любовный танец.
Но в этот вечер не было ни Элвиса, ни Дорис, ни
ящериц, потому что брачный сезон у них кончился,
а показывали «Пушки Наваррона» — фильм, который
будто бы все еще шел на экранах Нью-Йорка («Ну
конечно, в Уотертауне, штат Нью-Йорк»,— заметил кто-
то). Но все равно по их нормам это был боевик, а их нормы
определялись тем, что им присылало военное ведомство,
то есть фильмами, которые не желали смотреть офицеры
в Сайгоне.
Это был прекрасный фильм, полный напряженного
действия, красивых горных пейзажей и подвигов Грегори
Пека и Энтони Куина, которые на этот раз сражались
на одной стороне, хотя и не доверяли друг другу. Все
шло хорошо, пока кто-то из зрителей не разгадал
сущность Пека и не крикнул: «Да он же вьетконговец!» *
Эти слова всех как-то ошарашили, а потом до всех дошло,
что так оно, пожалуй, и есть и что Пек — вьетконговец,
после чего фильм начал восприниматься совсем по-
другому, все сразу перестали сочувствовать Пеку, сердца
!5
уже не бились тревожно при приближении немцев,
и красавица, как будто верная Пеку, а на деле
постоянно предававшая его (в фильме — шпионка, а в глазах
зрителей теперь — доблестный агент своего
правительства), вызывала одобрительные возгласы. С этой минуты
они стали громко подбадривать немецких часовых, а
когда Пек и его товарищи принялись безнаказанно
сновать мимо часовых, Ролстон послал сержанта
проверить, стоят ли посты вокруг семинарии и не
проникли, чего доброго, в лагерь какой-нибудь вьетконговец.
Когда сержант вернулся в столовую, где показывали
фильм, и доложил, что застал одного вьетнамского
часового спящим, раздался хохот, сразу разрядивший
напряжение. На экране немцы, предупрежденные
шпионкой, арестовали на рынке Пека и прочих. В зале
закричали «ура», а кто-то, чувствуя, что Пеку не время
умирать или исчезать в середине картины,
скомандовал: «Пленных не брать!» И Пек действительно не погиб,
а бежал и продолжал мужественно бороться, подавив
недовольство среди штатских членов своей группы.
Преодолевая одно препятствие за другим, они наконец добрались
до батарей, специально охранявшихся от партизан,
и — о чудо из чудес!— заставили пушки замолчать.
— Хороший фильм!— сказал лейтенант Андерсон,
когда они выходили из зала.
— Да,— сказал капитан Бопре, раздосадованный тем,
что не получил почти никакого удовольствия от
картины, тем, что Вьетнам лишил интереса даже подвиги
Грегори Пека, убивавшего немцев.
Бопре взглянул на часы и увидел, что до совещания
у них еще есть время выпить.
— Угостите старика!—сказал он Андерсону.
Они пошли в бар и заказали по одной. Андерсону не
хотелось пить, тем более перед инструктивным
совещанием, но за шесть месяцев Бопре так редко
приглашал его выпить, что отказаться было невозможно.
Пока они пили, к ним подсел капеллан и сделал
вид, что хочет выпить вместе с ними (Бопре давно
подозревал, что капеллан пить не любит и весь вечер
перед ним стоит одна-единственная жестянка пива).
Капеллан вечно сидел в баре — но пьяным его никогда
не видели — и первый смеялся соленым анекдотам,
хотя сам их никогда не рассказывал. Бопре почти жалел
беднягу (что было редким исключением, ибо вообще-то
16
он не терпел армейских священников), который прилагал
столько усилий, чтобы сойти за своего. Эта была трудная
война для священника: дело ему приходилось иметь
либо с офицерами, либо с солдатами-ветеранами, а война
пока еще носила такой характер, что они не искали
утешения у бога. И капеллан с некоторой тоской вспоминал
про Корею и про то, какая там была армия. Бопре
предложил Андерсону угостить капеллана и увидел, как
они оба смутились. Андерсон был еще настолько молод
и наивен, что присутствие капеллана в баре его
смущало. Эта сценка развлекла Бопре: простодушный
молодой офицер не хочет угощать пивом человека,
который сам не хочет, чтобы его угощали. Даже время
словно потекло быстрее, и следующие полчаса Бопре
старался быть особенно любезным со священником.
Он нарочно завел речь о Корее и о том, как там было
трудно, и капеллан разговорился. Прежде Бопре был
довольно сух с капелланом и сейчас понимал, что тот
не сразу почувствовал себя в своей тарелке. Это забавляло
его, и так он развлекался, пока их не позвали на
инструктивное совещание.
Инструктивное совещание представляло собой
странное зрелище, так как большинство офицеров уже
готовились ко сну и явились на него в японских купальных
сандалиях, с полотенцами вокруг бедер. Их обнаженные
торсы говорили о переменах в армии: молодые, стройные,
подтянутые жаждали деятельности, тогда как более
пожилые, уже побывавшие на двух войнах, за долгие
годы мира и мирного армейского рациона успели
обзавестись брюшком. Загар у большинства был
профессиональный — кирпичные лица и предплечья, а дальше —
бледная кожа. Только немногие спортсмены-энтузиасты
(почти все из нестроевой службы) загорели по-
настоящему: те, кому приходилось жить и работать
под солнцем дельты, не стремились загорать в свободные
дни. Полковник был белее всех, даже шея у него была
белая. Бопре иногда задавался вопросом, почему
полковник не загорает,— казалось бы, во время операций
он мог обгореть не хуже остальных, но он оставался
белым. Как начальника они его любили и доверяли
ему. В частности, потому, что он старался лгать им
как можно меньше. Был он человек открытый, прямой
и вспыльчивый, и сейчас, едва взглянув на неге, Бопре
17
понял, что шеф недоволен своей поездкой в Сайгон и
недоволен планом операции.
Указкой полковник обвел на карте объект—базу
вьетконговцев, расположенную, по полученным данным, на
одной из дорог, пересекающих район.
— Мотель Хо Ши Мина,— повторил кто-то бородатую,
но все еще популярную остроту.
— Насколько верны данные разведки, сэр?— спросил
другой.
— Вьетнамцы, кажется, считают их достаточно
верными,— ответил полковник, делая упор на слове
«вьетнамцы».
Кто-то засмеялся. Вот за это они и любили полковника.
— Участвовали ли мы в разработке операции?—
спросил кто-то.
— Участвовали ли мы в разработке операции?—
повторил полковник, теперь делая упор на слове «мы».
Он состроил гримасу.— Отчасти. Наши друзья называли
другие места, где, как мы полагаем, противника нет
и никогда не было.— Он сделал паузу, давая им время
улыбнуться.— Мы же высказались в пользу тех пунктов,
где, по данным нашей аэрофоторазведки, противник
возводит довольно сильные оборонительные укрепления.
После чего был достигнут компромисс, и мы остановились
на данном объекте, хотя капитан Донован из нашей
разведки сообщил мне, что, как он подозревает, это
именно то место, которое наши друзья с самого начала
имели в виду. Я подозреваю, что подозрения капитана
Донована вполне обоснованны.
Смех. Услышав его, полковник улыбнулся легкой,
довольной улыбкой. Он был скромным человеком,
похожим скорее на школьного учителя, чем на полковника,
а его манера выражаться и ирония, по мнению Бопре,
говорили о том, что полковник раз и навсегда понял:
никогда ему не быть генералом, а жене его —
генеральшей, ибо, насколько было известно Бопре, пять лет назад
полковник не считался остряком.
Полковник стал медленно объяснять план операции.
Три группы. Одна вылетит на вертолетах после того,
как выступят две другие. Вот деревни, в районе
которых они должны приземлиться.
— Кто полетит завтра?— спросил полковник.— Кто
хочет прославить себя и быть заснятым в прыжке с
вертолета?
18
Бопре сидел и ждал, стараясь придать своему
лицу безучастное выражение. «А то еще вдруг решат,
что я хочу»,— подумал он. На самом же деле он вовсе не
хотел лететь на вертолете, но не хотел угодить и в
резервную группу, которая сидит на КП, вступает в
действие, только когда остальные силы входят в
соприкосновение с противником, и чаще всего попадает во вторую,
специально подготовленную засаду. Ему хотелось быть в
наземной группе. Бопре обвел взглядом лица
присутствующих: некоторые — молодые лица — горели
желанием отличиться, на других было безразличие.
«Возможно, и эти,— подумал он,— предпочли бы вертолет,
но они слишком горды, чтобы сказать открыто».
Бопре был чуть старше и, пожалуй, чуть больше напуган,
чем большинство. Он посмотрел на сидевшего рядом
лейтенанта, своего собственного лейтенанта, чье лицо
было особенно напряженным. ^Лейтенанту хотелось
попасть на вертолет, он любил десантные операции.
— Ну так я сам выберу героев, — сказал полковник,
скользнув взглядом по лицам присутствующих.
Наступила короткая пауза. Полковнику был приятен ее
драматизм.— Редферн. Капитан Редферн,— сказал он.
Капитана Уильяма Редферна все (и чаще всех он сам)
называли Большим Уильямом.
— Редферн, вы и ваши разведчики готовы?
— Большой Уильям и его разведчики всегда готовы,—
ответил Редферн.— По правде говоря, господин
полковник, сэр, они обиделись бы, если бы узнали, что вы
задаете такой вопрос.
Редферн, великан-негр родом из Пиккенса, штат
Алабама, был дипломированным
специалистом-нефтяником, и в дипломе у него, по его словам, так и стояло:
«Большой Уильям». Он говорил, что его собирались взять
на пробу в профессиональную футбольную команду, но
из этого ничего не вышло — дядя Джим не захотел, чтоб
он играл. «Какой дядя Джим?» — спрашивали его.
«Дядя Джим Кроу,— отвечал он.— Какой еще может
быть дядя Джим, если не Джим Кроу? Но дядя Джим не
дурак и не помешал Большому Уильяму попробовать
свои силы в армии — так он мне все и возместил».
Большой Уильям не был ни вежливым, ни скромным
и не обращал никакого внимания, слушает ли кто-нибудь
его похвальбу. Был он чернее черного: его семья избежала
«интеграции», говорил он. Походка у него была чуть рас-
19
качивающаяся, грациозно-чувственная, и он всегда ходил
с тросточкой из слоновой кости, словно желая
подчеркнуть свою грацию и цвет кожи. Не считаясь с
чужим покоем и чужим вкусом, он всегда включал на
полную мощность свой проигрыватель, из которого лилась
будоражащая, чувственная музыка. И еще он без конца
говорил о женщинах, хвастаясь своими успехами. Не
все его качества были привлекательны, и в семинарии
постоянно шли споры, действительно ли Большой Уильям
так уж хорош. Некоторым молодым офицерам он нравился
(как и его музыка), они благоговели перед его
гигантской фигурой и воспринимали Большого Уильяма
так, как воспринимал себя он сам. Он, говорили
иногда самые молодые, лучший офицер-негр, какого им
приходилось видеть. Другие, постарше, в частности
Ролстон, говорили, что он такое же трепло, как и все
прочие, только треплемся громче других. «Вы их просто
не знаете,— говорил Ролстон,— а я навидался их, и он
вовсе не самый лучший, потому что лучших среди
них вообще нет; возможно даже, он худший, так как
худшие среди них попадаются». (Полковник, которому
однажды в жаркий вечер пришлось решать эту проблему,
так как к нему явилась неофициальная делегация
офицеров жаловаться на проигрыватель Большого
Уильяма — только на его проигрыватель,— сказал
следующее: «Конечно, он трепло, на этот счет никаких
сомнений: я никогда не встречал офицера, который
хвастал бы больше его. Хвастовство не лучшее
качество офицера, и мне не хотелось бы, чтобы и вы
все начали хвастать. И тем не менее он дьявольски
хороший офицер. Любопытно, что сам он этого еще не
знает. Слишком занят, разыгрывая из себя хорошего
офицера. Вероятно, так получилось случайно. Он не
самый лучший их моих офицеров — отнюдь, но советник,
пожалуй, лучший. Вьетнамцы на него прямо молятся.
Им все в нем нравится. Даже его музыка».)
Так оно и было: вьетнамцев поражал его рост, цвет
кожи, могучий бас, а он в их присутствии расцветал,
чувствуя себя в своей стихии. Каждое утро он здоровался
с ними: «Доброе утро, вьетнамцы!» — а они нараспев,
как он их учил, отвечали: «Доброе утро, Большой
Уильям!» «Как дела?» — спрашивал он. «Дела идут
хорошо!» — отвечали вьетнамцы тоненькими, как у
школьников, голосами.
20
— Ко мне продолжают поступать сведения, что
рейнджеры* теряют свою свирепость и цивилизуются прямо на
глазах. Это правда, Большой Уильям?— спросил
полковник.
Большой Уильям покачал головой, как человек,
которого оклеветали.
— Извините, господин полковник, сэр, но это брехня.
Большой Уильям не спускает глаз с рейнджеров и может
гарантировать, что они злы, как прежде. Да если я
замечу у них джентльменские замашки, я с них шкуру
спущу в вашу честь. Но Большой Уильям передаст им
ваши слова, сэр.
— Хорошо, капитан Редферн. Берите вертолеты и
готовьте десант.
На лице Андерсона отразилось явное разочарование.
Бопре перевел взгляд на Большого Уильяма: по его
лицу ясно было, что рейнджеры и их советник получили
лишь то, чего заслуживали.
— Взбодрите их, Большой Уильям. Пусть зададут
жару,— сказал полковник.
Негр кивнул.
— Завтра они полетят, господин полковник. Нам и
вертолеты не нужны, это нас только задержит. Вы хотите,
чтобы мы задали жару,— хорошо. Зададим.
До приезда Большого Уильяма рейнджеры всегда
озадачивали американцев. Предполагалось, что это
отборные части вроде морской пехоты или
авиадесантников. Но это было не так. Толку от них было мало,
и они постоянно обманывали ожидания американцев.
(Донован, начальник разведки, говорил, что слово
«отборный» надо понимать в другом смысле:
подчиняясь требованию высокопоставленных чинуш, офицеры
передавали в эти части не самых лучших своих людей
и не самых худших, а просто, как считал Донован,
самых недисциплинированных и своевольных.)
— Капитан Бопре!— сказал полковник.— Вы будете
подходить к этому пункту во главе колонны пехотинцев
с востока. Старайтесь сдерживать вашего «тигра» и не
давайте ему слишком часто завязывать бой с противником
по дороге.
Эти слова вызвали новый взрыв смеха, так как все
были очень довольны, что Бопре — раздражительного и
нередко злого на язык человека — прикрепили к Дангу,
который считался худшим из вьетнамских офицеров.
21
После того как полковник кончил отдавать
распоряжения и изобразил в лицах свои беседы в Сайгоне —
достаточно смешно, но в границах приличия («Ну как
там ваши войска в дельте, Гаррисон?» — «Отлично,
сэр».— «Это хорошо, Гаррисон, продолжайте в том же
духе!»),— OHi/ начали расходиться.
Андерсон задержался, стал жаловаться: вот беда,
завтра весь день придется шагать пешком. «Дурак,—
подумал Бопре,— пешком же безопасней, чем по воздуху.
До чего же ты еще молод, черт побери».
— Большому Уильяму повезло,— сказал Андерсон.
— Да,— сказал Бопре.— Завтра, видно, будет
жарко.— И подумал: «Повезло везучему негру».
— Капитан Бопре!— позвал его полковник.
Бопре вернулся в комнату для совещаний. Кроме
полковника, там уже никого не было.
— По моим расчетам, вы завтра сбросите восемь
фунтов. Он внимательно оглядел Бопре.— А может
быть, и девять. Нет, все-таки восемь. Пять из-за жары
и три из-за Данга.
Бопре шагнул к двери.
— Вы, я вижу, хотите остаться при нем,— сказал
полковник.— А ведь все от вас зависит Перевод легко
устроить.
— Я останусь при нем,— сказал Бопре.
Он ответил, почти не думая, машинально. Одним из
самых заветных его желаний было расстаться с Дангом.
Но он знал, как обрадовался бы Данг, если бы он
перевелся в другую часть, уступив место какому-
нибудь новичку.
Бопре вышел и побрел в бар — выпить перед сном.
В баре никого не было. Андерсон уже ушел спать.
Перед операциями Андерсон никогда не пил больше
двух банок пива и обязательно высыпался.
Бопре вырвал из книжечки талоны на две рюмки
коньяку и налил себе сам.-Здесь офицерам доверяли,
поскольку дело касалось спиртных напитков,
предназначенных и для других офицеров. Он мысленно ругал
Вьетнам, Мито и вынужденное безбрачие тех, кто
не давал обета безбрачия. Семинарии годятся для
священников, которым ничего другого и не нужно.
И более подходящего места для семинарии, чем Мито,
не найти, ибо здесь нет соблазнов. Но беда в том,
что это место не подходит для взрослых здоровых
22
мужчин, особенно для тех, кто завтра будет рисковать
жизнью.
Он вспомнил, как приехал в Мито: ему так хотелось,
чтобы его чистая, накрахмаленная форма сохранила всю
свою первозданную свежесть, но пришлось слишком
долго ждать в Таншоннят на солнцепеке, и он приехал
на место весь измятый. Его встретил молодой и очень
красивый майор.
— Добро пожаловать в Мито, капитан Бупрат.
— Бопре. Спасибо. Рад, что наконец добрался.
— Прошу прощения. В любом случае — добро
пожаловать. Здесь не так уж плохо.
— На первый взгляд этого не скажешь.
— Близко от Сайгона, в этом все дело.
— А как тут с развлечениями? Я имею в виду —
в смысле злачных мест?
— Не имеется. Забыли изобрести.
— Местные дамы?
— Ни-ни! Ни мне, ни вам и вообще никому из
длинноносых. Приказ полковника. Он принимает это
близко к сердцу, говорит, что подобные вещи вредят
нашим взаимоотношениям с друзьями. Если вам уж очень
приспичит, поезжайте в Сайгон. Большой город.
Два миллиона жителей. Множество дам. Там вы меньше
рискуете наскочить на родственницу вашего вьетнамского
коллеги. Полковнику это не понравилось бы. Как я уже
сказал, добро пожаловать.
— Значит, полковник — ханжа?
— Здесь нет ханжей, капитан. Мы все делаем то, что
должны делать, хотя нам не всегда это нравится, из
чего следует, что делаем мы это лучше, чем намеревались.
А полковник у нас лучше других. И не заставляет
нас белить ящики из-под угля, как вы, по-видимому,
ожидали.
Бопре выпил вторую рюмку коньяку, размышляя,
побриться ли ему сейчас, перед сном, или попытаться
проделать это утром, или же вовсе не бриться.
К такого рода решениям он относился весьма серьезно,
потому что тут все зависело только от него одного,
а возможность проявлять свою волю представлялась
ему теперь очень редко. Если побриться сейчас, то
утром он будет хоть и не чисто, но все же выбрит;
правда, в тропиках борода растет быстро, но, когда они
выступят, это уже будет извинительно. Правильнее всего
23
было бы побриться утром, но можно не успеть.
Если же вовсе не бриться, то утром, при встрече с
Дангом, у него будет неряшливый вид, а за день
щетина отрастет еще сильнее. Ему не хотелось бриться,
но не хотелось и показываться Дангу заросшим. Бопре
выругал армейские порядки, которые всегда одерживают
верх, даже здесь, где война и смерть и где можно
было бы не думать обо всей этой ерунде, а ты вдруг
обнаруживаешь, что эта ерунда вошла в твою плоть и
кровь и ты сам ей подчиняешься, хотя никто тебя
не заставляет. Он пошел к себе и достал бритву.
Была полночь. В половине третьего вставать. Те, кто
полетит на вертолетах, обладают единственным, но
завидным преимуществом: они могут спать до четырех,— а
вот пехоте приходится вставать раньше. Донован,
начальник разведки, утверждал, что вьетконговцы держат в
семинарии своих агентов только для того, чтобы знать,
когда там встают. И если подъем будет раньше
двух тридцати, то, утверждал Донован, об этом
немедленно узнают в самых отдаленных уголках сектора. Это
показалось логичным (кто-то спросил Донована, знает ли
он этих агентов, а он ответил, что не знает; тогда
кто-то предложил уволить весь обслуживающий персонал
и набрать новый, но Донован сказал, что это ничего не
даст, так как и среди нового состава окажутся все те
же, прежние), но потом кто-то из новичков-лейтенантов
предложил перехитрить вьетконговцев и вставать в дни
операции как можно раньше. Полковник сказал, что он
обдумает это предложение, и, слава богу, про него
забыли.
Значит, если повезет, подумал Бопре, он поспит два
часа. Он поглядел на кровать Андерсона, увидел, что
тот спит, и попробовал уснуть сам.
Глава вторая
Бопре не сразу очнулся от тревожного забытья;
на мгновение он даже пожалел, что вообще лег.
После вчерашнего виски и коньяка у него пересохло во
рту. Он разозлился, заметив, сколько москитов проникло
под сетку, и вспомнил, что ночью они его будили не то
раз, не то два. Эта чертова сетка не пропускает
воздуха, но нисколько не сдерживает москитов. Теперь
они устроились в верхних углах сетки над его головой,
24
он слышал их жужжание. Облюбовав одного, он протянул
руку и раздавил его. Брызнула кровь — его, Бопре,
кровь. Москиты были крупные и высасывали много
крови, но зато они отличались медлительностью и их легко
было убивать.
Бопре поплелся в огромную ванную комнату (уже
много раз, не будучи католиком, он, однако, задумывался
над тем, не смущала ли будущих священников
необходимость совершать свой туалет на глазах у других;
почему-то он считал, что священники должны быть
застенчивыми). Поборов отвращение, он заставил себя
выпить стакан воды. Над длинным рядом умывальных
раковин тянулась огромная надпись: «Медицинская
служба армии США приветствует вас в Мито. Нашими
стараниями вы можете эту воду пить».
Стараниями специалиста по очистке вода приобрела
отвратительный вкус. Армия хотела сберечь его, Бопре,
почки и печень. Он выпил воды и выругал вслух свои
почки.
За завтраком он выпил два стакана томатного
сока и с вожделением подумал о третьем, но усилием
воли сдержал себя. Вот если бы он не налакался
этой проклятой воды, можно было бы выпить еще стакан
томатного сока.
Яичница остыла и затвердела, кофе напоминал цветом
шотландское виски, а вкусом — воду, в которой
выкупался специалист по очистке. Бопре все же попытался
есть и с трудом одолел половину яичницы. Тут в столовую
вошел заместитель главного советника при командире
дивизии. Обходя столики, он тихо говорил: «Осталось
пять минут. Чарли* ждет. Заканчивайте и выходите.
Побыстрее, Чарли ждать не будет. Побыстрее». Когда
Бопре разделался с яичницей, к нему подсел с чашкой
кофе Андерсон. Пока они разговаривали, Бопре посмотрел
на огромный кувшин с томатным соком и налил себе
еще стакан — с вызывающим видом, на случай, если
Андерсон скажет что-нибудь о жаре. Это была первая за
сегодняшний день победа его настоящего врага — жары.
Когда он выходил из столовой, рубашка его под мышками
уже пропиталась потом. А долгий день еще впереди.
Сначала он презирал жару, но теперь научился
бояться ее. Он завидовал молодым офицерам, которые,
казалось, почти не потели, и завидовал своим
сверстникам, которые, казалось, примирились с жарой и теперь
25
спокойно выдерживали самые худшие часы трудного
дня, а потом говорили: «Да, было жарко>, как будто
этим все и исчерпывалось.
Когда он впервые приехал во Вьетнам, он
почувствовал, что жара — враг всех белых, но она скоро стала его
личным врагом, потому что он не умел ей
противостоять. Другим еще как-то удавалось держаться.
Первый день его пребывания в Мито совпал с
пасхальным воскресеньем, на которое была назначена крупная
операция. Термометр показывал 45 градусов (он
запомнил, какая была температура в этот день,— редкий
случай, так как, подобно остальным обитателям Мито,
он скоро привык считать погоду просто жаркой, а точной
температурой никто не интересовался: вчера было жарко,
сегодня жарко, завтра будет жарко. Об этом вообще не
думали). Тогда было сухо, а марш оказался очень
долгим. Четверых американцев свалил тепловой удар.
Он мучился на командном пункте, но не столько от жары,
сколько от мысли о жаре: в его воображении Вьетнам
превращался в 365 таких вот дней. Когда привезли
второго американца, молодого лейтенанта, он
почувствовал головокружение и чуть не грохнулся в обморок. Это
позабавило тогдашнего главного советника, который тут
же предложил ему отправиться в часть на место
лейтенанта. Потом, когда Бопре уже собирал свое
снаряжение, полковник остановил его и сказал, чтобы он
не принимал все так близко к сердцу: просто сегодня
тяжелый день. Позже он узнал, что и вьетнамцы
считали этот день тяжелым: к вечеру, помогая отвозить
в часть питьевую воду, он увидел, что вьетнамцы лежат
на земле без сознания, словно одурманенные. Шестерых
он погрузил в вертолет и увез с собой. Перетаскивая
почти безжизненные тела вьетнамцев, он почувствовал
себя уверенней, однако теперь он знал, что в войне у него
будет два врага.
Бопре и Андерсон вышли из семинарии к джипу,
который должен был отвезти их на вьетнамскую базу
на другом конце городка. За рулем сидел молодой
капрал — из службы связи, решил Бопре. Едва они
тронулись с места, как капрал повернулся к Андерсону и
спросил:
— Знаете, какой сегодня день?
Андерсон ответил, что не знает.
— Двадцать первый,— сообщил капрал.— Всего-на-
26
всего три недели. Ровно двадцать один день осталось
мне служить в этой стране. А там — домой!
Андерсон кивнул.
— А можно вас спросить, лейтенант? Сколько дней вам
осталось?
Андерсон улыбнулся — почти смущенно, подумал
Бопре.
— Сто восемьдесят два.
— Сто восемьдесят два? Это хорошо,— сказал
капрал.— Теперь дело пойдет на убыль. Сто восемьдесят
три уже позади, вот что важно, а теперь пошло на
убыль. Я помню мой сто восемьдесят третий день!..—
Он повернулся к Бопре и спросил:— А сколько вам,
капитан? Извините, что интересуюсь.
— Не знаю,— ответил Бопре.
— То есть как это не знаете?— удивился капрал.—
Должны знать! Все знают. Даже полковник. Так
сколько же?
— Сто одиннадцать,— сказал Бопре.
— А вы уверены, капитан? В таких делах надо
быть точным. Свой-то срок я подсчитал. Пятьсот
четыре часа. Тридцать две тысячи двести сорок минут.
Здесь точность нужна.
Бопре сказал, что он уверен. Капрал спросил, когда он
прибыл во Вьетнам. Бопре ответил.
— Нет, сэр,— сказал капрал.— Тогда это неверно.
Не может быть сто одиннадцать. Какого числа вы
прибыли, сэр?
Бопре назвал число.
— Нет, сэр,— сказал капрал,— вам куда меньше
осталось. Ну, пятьдесят девять, самое большее —
шестьдесят.
— Верно, шестьдесят,— согласился Бопре.
— Вы бы точнее считали, капитан,— посоветовал
капрал.— Тут нельзя ошибаться, не то вас оставят на
второй срок. Разве им можно доверять? Надо считать
самому. Уж они-то вам не помогут, особенно в таком
деле. Хорошо еще, что я с вами сегодня еду, а то
вы бы так и думали, что вам еще четыре месяца
осталось. Шестьдесят дней. Одна тысяча четыреста
сорок.
— Чего?— спросил Бопре.
— Часов,— ответил капрал.
— Спасибо,— сказал Бопре.
27
Наступило молчание. Небо еще не посветлело,
поэтому фары были включены на ближний свет. Но в
воздухе уже начинала чувствоваться духота. Бопре
спросил Андерсона:
— Сколько у нас сегодня деревень?
— Три,— ответил лейтенант.— Апвиньлонг, Аптхань и
Апбиньзыонг.
— Ап — что?— переспросил Бопре.
Андерсон повторил названия.
— Мы ведь там уже были.
— В которой?— спросил Андерсон.
— Во всех,— сказал Бопре.
— Нет,— ответил Андерсон.— Ни в одной из них мы
еще не были. Это все новые объекты.
Помолчав, Бопре спросил:
— Знаете, в чем беда этой страны, Андерсон?
Слишком много деревень. Слишком много этих
проклятых деревень — сотни, даже тысячи, и все похожи одна
на другую. И слишком много в них людей. Если бы
здесь не было такого множества удаленных друг от
друга деревень, не было бы и войны и не надо нам
было бы без конца ходить пешком. Вытащите-ка
всех этих людей из деревень, сгоните их в один
большой город — и не будет ни войны, ни маршей.
А потом соберите ребят, которые служат в нашем
Управлении экономической помощи и огребают по
пятнадцать тысяч в год плюс деньжата на служебные
расходы, и заставьте их изобрести большую машину,
чтобы она сажала рис, и поливала рис, и пинала
буйволов в зад, а потом собирала рис и посылала
его в тот единственный город — пусть люди там делят
его и едят. Вот тогда не будет войны и не
будет американцев. Наша обязанность — дать им такие
машины.
Андерсон засмеялся.
— Чертова страна,— сказал Бопре.— Сколько
деревень, и все называются одинаково: Апвиньтханьбинь-
диньлонгзыонг.
Они въехали в городок. Ранние прохожие уже шли на
рынок — люди, чей мир, в какой бы стране они ни
жили, был не похож на мир Бопре. Они ложились
спать, когда он только входил в бар, и он всегда
чувствовал себя неловко, если был еще на ногах,
когда они просыпались,— но не здесь, не в этой стране.
28
— Знаете, что скажет этот сукин сын Данг, когда
увидит нас?— спросил Бопре.
Андерсон засмеялся.
— Он скажет: «А-а, доброе утро, мои друзья,
американские воины! С добрым утром!»
Андерсон расхохотался: Бопре был прав.
Джип подъехал к длинной колонне грузовиков, в
которых уже ждали вьетнамские солдаты. Солдат
посадили спиной к движению — так что в случае
нападения они не могли бы сразу открыть ответный огонь.
Данг радостно им улыбнулся. Похлопал Бопре по
плечу и сказал:
— Мои самые любимые американские воины! А-а,
доброе утро! А-а, доброе утро, мой друг капитан
Бопре и мой молодой друг лейтенант Андерсон!
— Капитан Данг, мой самый любимый вьетнамский
воин!— сказал Бопре, и ему послышалось, что Андерсон
подавил смешок.
— Я вижу, у капитана Бопре сегодня хорошее
настроение, как и у его друга капитана Данга.
Сегодня мы отправляемся на охоту за коммунистами
Вьетконга. Я думаю, все пойдет очень хорошо и мы
убьем много коммунистов Вьетконга.
Бопре дипломатично кивнул и справился о здоровье
миссис Данг и маленьких Дангов.
— Сегодня, капитан Данг, коммунисты Вьетконга
получат хорошего пинка в задницу,— сказал Андерсон.
— А-а, американцы!— сказал Данг.— Энергичные
люди. Воины.
Бопре, лениво переговариваясь с Дангом, подумал о
том, что Данга он получил, можно сказать, в награду,
он словно выиграл его в лотерее на вторую неделю
своего пребывания во Вьетнаме, когда у него еще был
какой-то запас энергии и честолюбия. Его тогда
временно назначили в другой батальон, предупредив,
что батальонный командир слаб, но что он, Бопре, должен
вести себя сдержанно и тактично и не ставить союзника
в глупое положение. Это была первая лекция, которую
ему пришлось выслушать, и он машинально, почти не
слушая, кивал головой, зная заранее, что ему скажут,
зная, что ему придется к этому приспосабливаться,—
он был старый служака.
Спустя десять дней этот батальон был послан на
задание и опоздал на сорок минут к месту соединения
29
с другими частями, одна из которых, действовавшая
на восточном фланге, попала в засаду. В это время
батальон Бопре делал очередной привал (эти
бесчисленные привалы прерывали марш, как рекламные
сообщения — радиопрограмму). Когда Бопре услышал по радио о
засаде, солдаты все еще отдыхали. Он подождал
немного, затем сказал командиру, что следовало бы
сняться с привала. Командир кивнул, согласился, но
никаких распоряжений не отдал. Через несколько минут
сцена повторилась, голос Бопре звучал теперь
настойчивее: ведь там сражались свои (тогда он еще считал
их своими),—и командир снова с ним согласился и
снова не отдал никаких распоряжений. Наконец, отмерив
по своим армейским часам ровно две минуты, Бопре
опять подошел к командиру, вне себя от злости (он
ко многому был равнодушен, но не к тому, чтобы
бросать своих без поддержки под обстрелом противника),
и начал кричать: «Черт возьми, расшевелите же их!
Что у них, зады приросли? Дайте им пинка! Если не
можете сами, я это сделаю! Дьявол вас побери, люди
гибнут где-то на проклятых рисовых полях, а вы даже не
шевелитесь! Ваши же солдаты гибнут. Да что вы за люди,
черт побери!»
Это была удивительная сцена, доставившая
вьетнамским солдатам огромное удовольствие. Усмехаясь и
хихикая, они быстро снялись с привала и скорым
шагом двинулись вперед, но было уже поздно. Этот
случай вызвал страшный скандал, и у Бопре могли быть
большие неприятности, но его предшественники, к
счастью для него, неоднократно подавали на этого
офицера длинные рапорты с аналогичными жалобами,
и полковник уперся, а вьетнамцы, само собой, уступили
(командир дивизии относился к командиру попавшего
в засаду батальона более благосклонно, чем к офицеру,
с которым сцепился Бопре) и произвели
соответствующие перемещения. Американцы были чрезвычайно
довольны и говорили, что началась новая эра, а полковник
отвел Бопре в сторону и сказал, что это большая
победа, но что ему следует переменить тактику и во
что бы то ни стало наладить хорошие отношения со
своим новым коллегой — второго перевода не будет, а
потому он должен воздержаться от подобных выходок
и не кричать о пинках в зад, даже шепотом не
произносить таких слов (говоря это, полковник улыб-
30
нулся). Надо уживаться с людьми, проявлять гибкость,
слушать, давать советы и вести себя корректно; он
одержал большую победу, им гордятся, и в другую
часть перевели не его, а вьетнамца, но второй раз
этого не произойдет. Бопре слушал, кивал, удивлялся
и немножко гордился собой. После этого он получил
Данга. Неделю спустя его спросили: «Ну как Данг?» Он
ответил (это было единственное, что он сказал за
целый месяц): «Что ж, этот говорит по-английски
лучше, чем большинство из них». Это была его первая и
последняя похвала в адрес Данга.
Пока он беседовал с Дангом, к ним подошел молодой
вьетнамский лейтенант (коллега Андерсона) и заговорил
с Андерсоном. Оба держались непринужденно. Сначала
они разговаривали по-английски, а потом, отойдя в
сторону, перешли на вьетнамский. Самые обыкновенные
молодые ребята. И вдруг Бопре позавидовал им —
позавидовал тому, что они разговаривают по-вьетнамски,
и тому, что они разговаривают по-английски, и тому, что
они друзья, и тому, что они молоды.
Он повернулся к Дангу, и они продолжали
разговор: каждый сообщил другому, что день будет жаркий,
очень жаркий.
Потом они с Дангом сели в джип и подъехали к
первому грузовику, и вот уже колонна выбралась на
шоссе, с джипом и американцами во главе. Если
шоссе заминировано, подорвутся на мине они.
По обеим сторонам шоссе пробуждалась жизнь,
здесь была цивилизация: создавались импровизированные
рынки и дети продавали ананасы, нарезанные на куски.
У моста колонна остановилась, и к машине от
одного маленького прилавка хлынули дети — прямо сотни
детей протягивали ананасы. Солдаты начали торговаться,
смеялись и что-то кричали детям — один предлагал
мальчику пять пиастров за ананас и его сестру в
придачу. Они накупили ананасов, и Бопре с жадностью
поглядел на толстый и сочный кусок, прикидывая,
сколько он стоит на американские деньги — цента два,
но сдержался, хотя ни на секунду не забывал о жаре.
Потом они миновали мост и поехали по проселку, но
вскоре остановились и слезли с грузовиков: теперь даже
эта узенькая полоска цивилизации — цивилизации
голоштанных мальчишек, продающих ананасы,— и та осталась
позади. Они были в сердце страны.
31
Дальше они двинулись гуськом — маленькие люди
в больших касках, с большими автоматами. А странно:
когда Бопре в первый раз увидел их в бою с вертолета,
он был поражен, какими большими они казались.
Он ожидал увидеть миниатюрных солдатиков,
вооруженных бойскаутов, но сверху их до последней минуты
было трудно отличить от американских советников —
только походка была иная, так как вьетнамцы, конечно,
не видели такого количества «вестернов», как
американцы. Но на земле они снова выглядели маленькими
человечками в касках, превращавших в карикатуру и
их самих, и войну,— не солдаты и не бойскауты; из-за
касок все казалось почему-то несерьезным. Недаром
иногда полковник по рассеянности называл вьетнамцев
малышами.
Батальон Бопре был сформирован из солдат
одиннадцатого полка — собственно говоря, это был не полный
батальон, а штабная рота, которой придали еще одну
роту, всего сто пятьдесят человек.
Бопре видел, как Данг разговаривал с вьетнамским
лейтенантом, потом Данг что-то сказал солдатам, и они
зашагали весело и бодро. Бопре шел позади Данга, как
всегда полный утренней решимости вести себя правильно
и действовать в тесном контакте с ним — к полудню
эта решимость обычно без следа исчезала.
— Как вы думаете, капитан, войдем мы сегодня в
соприкосновение с противником?— спросил он.
— А-а, с противником!— сказал Данг.— Да.
Несколько минут они шли рядом, и Бопре тщетно
пытался начать какой-нибудь разговор; и прежде иногда
Данг прекрасно говорил по-английски, а иногда все
происходило так, как на этот раз,— Данг изолировал
его от солдат. Обойтись же без посредничества Данга
он не мог, так как не знал языка. И он чувствовал,
что Данга это устраивает, что Данг очень ревниво
относится к возможности его непосредственного контакта
с солдатами. В результате, разговаривая с одним
Дангом и встречая только улыбки сотни маленьких
людей, Бопре ощущал себя не столько советником,
сколько туристом в чужой стране. Да, он турист, просто
у него больше гидов, чем обычно полагается туристам.
Он видел страну, но по-настоящему не понимал ее.
Вначале это ощущение беспокоило Бопре, его тревожило
опасение, не один ли он здесь посторонний. Но потом
32
он заметил, что его американские коллеги почти все ходят
с фотоаппаратами — простенькими японскими
камерами — и с их помощью запечатлевают буддийские храмы,
убитых вьетконговцев и вьетнамских друзей, а потом
позируют приятелю рядом с какой-нибудь чернозубой
старухой.
Бопре посмотрел на солдат — они делали все не так
с самого утра, когда сели в грузовики таким образом,
что не смогли бы стрелять, если бы попали в засаду,
и он не сомневался, что оружие у них не чищено
(Бопре гордился тем, что он не формалист, но считал,
что в боевой обстановке оружие должно содержаться
в порядке). И они шумят на марше, как всегда.
Он не разделял нежности, которую многие его коллеги
питали к вьетнамским солдатам. Американцы, по его
мнению, для очистки совести вечно разглагольствуют
о том, как хороши вьетнамцы и как прекрасно
они ведут себя в бою, несмотря на посредственных
офицеров. Но Бопре они не нравились: он считал,
что они слишком шумят на марше, не заботятся об
оружии и, хуже того, не заботятся о своих товарищах.
(Впрочем, и товарищи их не стали бы заботиться о
них, это взаимно.)
Своим собственным поведением он был доволен:
серьезных стычек с Дангом у него не возникало
(так, небольшие споры) и он ни разу не сорвался в
присутствии Данга. Он давно уже научился не
требовать многого и, требуя мало, получал еще меньше.
Он не давал излишних советов, избегая ставить Данга
в неловкое положение, поскольку тот не догадался о
чем-то раньше, и не желая сам попадать в неловкое
положение из-за того, что его совету не последовали.
Они шли уже около получаса, когда Бопре решил все-
таки дать совет. Он всегда был очень осторожен:
когда у него возникала какая-нибудь мысль, он не
торопился ее высказать, а сперва обдумывал, взвешивал и
решал, стоит ли вмешаться. Солдаты шли скученно
с самого начала, но он ничего не говорил, не желая
начинать день с самого элементарного, самого обидного
замечания, не желая растрачивать тот маленький
авторитет, которым еще располагал. Бог знает, что еще
может случиться в течение дня, не было смысла сразу
же выскакивать со своим американским всезнайством.
Но они шли скученно, а налогоплательщики Соеди-
2 Зак. 556
33
ненных Штатов наняли его, Бопре, именно для того,
чтобы он не давал им скучиваться,— за это ему платят
жалованье, пусть даже довольно скромное. «Одной
гранаты,— повторял в Корее его первый сержант,
немолодой и флегматичный человек по фамилии Шаусс,—
одной гранаты хватит, чтобы изрешетить пятьдесят
задниц, если вы будете скучиваться, и эту паршивую
гранату брошу я, сержант Шаусс».
Бопре остановился и повернул назад, чтобы
поговорить с Дангом. Капитан улыбнулся — он всегда
улыбался, даже когда Бопре был уверен, что он взбешен.
Бопре поймал себя на том, что он и сам улыбается.
Наверно, Данг думает, что американцы всегда
улыбаются — даже когда им плюют в морду, даже когда
они требуют невозможного.
— Дай ви...— начал он.
Вьетнамское слово, означающее «капитан»,— одно из
немногих вьетнамских слов, которые знал Бопре. Поэтому
он пользовался им очень часто, словно заклятием. Это
слово как бы означало, что он, Бопре, любит его,
Данга, страну и народ. В этом слове воплощалась его
неспособность постичь эту страну. Одной из причин
неприязни Бопре к Андерсону, помимо его молодости,
его рвения и уверенности, что через два года он, Андерсон,
станет капитаном, а вскоре и майором, было то
обстоятельство, что лейтенант хорошо говорил по-
вьетнамски, знал (во всяком случае, так он утверждал),
что говорят и что думают вьетнамцы, проводил много
времени в их обществе и был способен смеяться
вместе с ними, даже с солдатами.
— Дай ви,— начал Бопре и, заплатив дань уважения
международному братству, перешел на свой родной
язык. Теперь он говорил почти извиняющимся тоном,
словно это по его, Бопре, вине солдаты шли скученно.—
Солдаты идут слишком близко друг к другу.
Он улыбнулся. Капитан улыбнулся.
— Да,— сказал Данг.
— Может быть, им лучше немного
рассредоточиться?— сказал Бопре.— Они просто напрашиваются на
засаду.
Капитан кивнул и сказал что-то по-вьетнамски.
Команду передали по колонне.
«На этом все и кончится»,— подумал Бопре.
Сначала как будто что-то началось и в колонне
34
наметилось какое-то перемещение, но через несколько
минут солдаты опять скучились — не хватало только
сержанта, Шаусса и его одной гранаты.
Бопре прошел в голову колонны. Ему не нравилось
соседство Данга, тем более что тот шел за радистом,
а вьетконговцы часто давали первый залп именно
туда, рассчитывая покончить разом с офицером и с
радистом. Какой смысл подставлять под этот залп еще
и американца? Кроме того, ему нравилось идти в
голове колонны.
К восьми часам стало жарко. Он правильно оценил
своего врага. Когда он только-только приехал во Вьетнам,
он решил придерживаться строгого режима. Одна фляга
воды в сутки. Первый глоток после одиннадцати утра.
К трем часам, то есть к середине дня, когда
солнце в зените, во фляге должно оставаться больше
половины. До полудня — никаких местных фруктов. Он
очень боялся жары, и этот страх заставлял его быть
решительным. Режим был очень строг. Но через две
недели он начал мошенничать. Человек остается
человеком, даже если он боится. Через две недели войны он
воевал уже не столько с противником, сколько с
солнцем: шагая под палящими лучами по высохшим
рисовым полям, он думал не о том, где сейчас противник,
а о том, сумеет ли он пересилить жажду и когда можно
будет еще попить. Сначала он обманывал себя тем, что
дисциплина дается не сразу, что требуется время, надо
пожить еще немного в этой стране, чтобы сладить с
жарой, а когда он похудеет и закалится, дела у него
пойдут лучше. Но чуда не произошло. Он был слишком
стар для этой страны и не мог приспособиться. Он не
переменился и не стал стройнее, а остался таким же,
иногда даже прибавляя в весе. В очень тяжелые
дни, когда операции длились долго и сильно жгло
солнце, его форма темнела от пота и он терял фунтов
десять, но между операциями всегда бывало два-три
дня перерыва, и он возвращал все потерянное, потому
что пил — за завтраком, за обедом, за ужином и в баре.
(Полковник, который знал, что происходит, когда человек
теряет выдержку, был тактичен, говорил, что всему
виной апельсиновый и томатный сок, и не возражал
против посещений бара, а только рекомендовал обходиться
без завтрака.) Когда он понял, что проигрывает свою
войну, он начал мошенничать: прикладывался к фляге
2*
35
сначала за несколько минут до положенного времени, а
затем все раньше и раньше, рассчитывая, что отыщутся
фрукты, что найдется какой-нибудь благодетель, поможет
счастливый случай или у щедрого пилота на вертолете
окажется полная фляга холодной воды. До сих пор ему
везло. Только один раз он по-настоящему попал в трудное
положение, но и тогда в последнюю минуту, когда он
уже не мог больше терпеть и решил пойти к Андерсону
попросить глоток воды, солдаты обнаружили кокосовую
рощу Потом он сидел под пальмой и пил сладкий
сок, который тек у него по лицу, по шее и, главное,
по рубашке, а Андерсон стоял и злился, потому что
отряд не двигался. Бопре же в тот день был
снисходителен к вьетнамцам.
Вместе с Бопре во главе колонны шли двое
вьетнамцев. Одного из них, широкоплечего коротышку
с усами, он узнал: это был уроженец Нунга, которого
Андерсон считал лучшим сержантом в роте. Второй,
худенький, был просто одним из сотни ему подобных.
Они шли втроем впереди колонны, все время сменяя
друг друга; когда шедшему впереди что-нибудь казалось
подозрительным, он тотчас занимал позицию, удобную
для ведения огня, а другой сходил с главной тропы
и шел вдоль фланга колонны. Они менялись, не говоря
друг другу ни слова: вьетнамцы не знали английского,
а Бопре — вьетнамского. Но здесь помогала простая
военная выучка — разговаривать не было нужды, все делалось
инстинктивно.
Некоторое время спустя их догнал молодой
вьетнамский лейтенант; он кивнул Бопре и несколько минут
принимал участие в их балете, а затем, словно по
сигналу, они с Бопре убавили шаг.
— Капитан, кажется, обеспокоен тем, как идут наши
солдаты,— сказал лейтенант.
— А вас это не беспокоит?— спросил Бопре.
— Они идут очень близко друг к другу, это верно.
— Что же вы ничего не предпримете?— сказал
Бопре.
— Разве капитан видит на моей гимнастерке
генеральские звезды?— спросил лейтенант.
— Это ваши люди,— сказал Бопре.— Письма их
вдовам буду писать не я.
— У нас во Вьетнаме эта роскошь — письма — не
принята. Это вы пишете письма.
36
— Это ваши люди,— повторил Бопре.
— Как и вьетконговцы,— сказал Тыонг.
Бопре хотел было ответить ему, что вьетконговцы не
ходят кучно и не нуждаются в советниках, но сдержался.
Лейтенант, словно по сигналу, отошел от него и занял свое
место в колонне. Бопре с досадой почувствовал, что
хочет пить; он уже готов был приложиться к фляге, но
потом решил перетерпеть и дождаться, пока отряд не
выйдет из первой деревни. Они должны войти в первую
деревню очень скоро, через полчаса или раньше, если
будут продвигаться нормально и не слишком часто
останавливаться для отдыха,— вот потом он попьет.
Он надеялся, что к полудню, когда они выйдут из
второй деревни, его фляга все еще будет наполовину
с водой.
Лейтенант Тыонг был зол на американского капитана
и зол на себя. Возвращаясь на свое место, он попытался
растянуть колонну.
— Держитесь подальше друг от друга,— говорил он.—
Не идите так скученно. Разве вы шли бы так, если бы
вьетконговцы находились в двухстах ярдах отсюда? Сегодня
они будут стрелять только в рядовых. Офицеров не
тронут. Только рядовых.
Тыонг был в очень скверном настроении, его мучила
сильная боль; он чувствовал, что скоро пойдет дождь,
и тогда ему придется совсем тяжко — ступать на больную
ступню будет еще труднее. Неудачный день — на десятой
минуте марша он поскользнулся, нога провалилась в
яму, и, еще не ощутив боли, он понял, что произошло.
С ним уже был такой случай, но тогда он был моложе
и подобная неуклюжесть казалась более извинительной.
Колышек глубоко вонзился в мякоть ступни, и он
почувствовал страшную боль. Он ничего не сказал. На
мгновение он задержался, а шедший сзади солдат
обошел его и пошел дальше, но следующий остановился,
поглядел и понял, что произошло с лейтенантом;
Солдат хотел было что-то сказать, помочь, но, взглянув в
лицо Тыонга, встретил его каменный взгляд,
приказывавший идти дальше, и, напуганный свирепостью этого
взгляда, не просто пошел, а даже как-то рванулся
вперед. Тыонг не хотел показать, что ему больно, не
хотел, чтобы другие знали о случившемся. Наступить
на колышек мог только новобранец или американец —
новобранцев за такую ошибку бьют по лицу, а американцы
37
за это награждают себя орденами. Он мог бы остановить
колонну хотя бы ненадолго, но не остановил. Он не
хотел, чтобы солдаты узнали, что произошло, не хотел,
чтобы американцы узнали про его оплошность — узнали,
что он способен на такую оплошность.
Он опустился на одно колено и быстро вытащил ногу.
Он почувствовал, как колышек вышел из резиновой
подошвы его ботинка, а вернее, офицерской теннисной
туфли, и боль стала сильнее, к ней прибавилась
какая-то новая боль. На мгновение ему показалось, что
острие колышка обломилось и осталось в ступне.
Тыонг был почти уверен, что так оно и произошло,
потому что пять лет назад, когда он был еще молодым
и глупым кандидатом в офицеры, обломок
действительно остался у него в ступне и был извлечен несколько
недель спустя из распухшей, позеленевшей ноги — это
была настоящая операция, и ее сделали только потому,
что он готовился стать офицером. Врач-француз,
оперировавший его и спасший ему жизнь, равнодушно
сказал ему тогда, что, будь он простым солдатом,
он умер бы «comme tous les autres»*. Потом врач
угостил его сигаретой — в виде исключения, сказал он,
потому что тем, кто оставался жить, он сигарет обычно не
предлагал.
Тыонг не сомневался, что колышек был чем-то
измазан — скорее всего, навозом буйвола, излюбленным
средством вьетконговцев, во всяком случае, оно дешево,
да и всегда под рукой в отличие от других,
более совершенных средств химической войны Но
промывать ранку времени не было. Он наступил на
поврежденную ногу и почувствовал резкую боль. К вечеру
она станет сильнее, а на следующий день будет совсем
скверно. Он сделал несколько осторожных шагов и
убедился, что может идти, почти не прихрамывая.
Он оглянулся и увидел, что даже не оставляет кровавых
следов. Чтобы не хромать, он старался идти на цыпочках.
Он не хотел, чтобы американцы увидели, что он хромает,
и прислали за ним вертолет (они угощали офицеров
вертолетами, как жевательной резинкой); он не хотел даже
думать о вертолете — от эвакуации в тыл он всегда мог
отказаться. Сегодня до конца дня он как-нибудь
продержится, а если повезет, ночевать в поле они не
будут; операция, по-видимому, рассчитана только на
дневное время, так что вечером он вернется в Мито и
38
пошлет своего ординарца Динга раздобыть за деньги
чистого спирта или на худой конец местного коньяка,
который, по сути, тот же спирт, только
подкрашенный, и промоет рану, а дня через три обратится к
врачу. Спирт, наверное, спасет ему ногу, хотя деньги за
него, бесспорно, попадут в руки коммунистов.
Теперь, отходя в конец колонны, он слышал, как
солдаты позади переговариваются и смеются. Один из
них включил транзисторный приемник и подпевал
певцу, исполнявшему песню о богатой девушке —
девушка любила одного юношу, но юноша был бедный, а
потому благородно отказался от нее, так что девушке
пришлось покончить жизнь самоубийством. Тыонг
подумал, что эта песня подозрительно смахивает на
коммунистическую пропаганду.
— Бинь,— спросил он солдата,— а ты знаком с
богатыми девушками?
— Да, лейтенант,— ответил солдат.— У солдата
много богатых подружек.
— И они тебя любят?
— Конечно, лейтенант. Как же иначе?
— Но ты ни на одной не женился?
— Я не хотел на такой жениться, это было бы
неправильно, потому что мой долг оставаться бедным.
Ведь если б я стал богатым, мне трудно было бы
защищать свою родину, не захотелось бы ей служить.
— И ты согласился бы на то, чтоб богатая девушка
покончила жизнь самоубийством?
— Только для спасения родины, лейтенант,— ответил
солдат.
— Так, может, ты для спасения родины не будешь так
жаться к рядовому Тханю, который идет впереди тебя?
— Простите, лейтенант. Это я делал не для спасения
родины, а для спасения Тханя.
Тыонг стоял и смотрел, как солдаты менялись местами
и Бинь толкнул Тханя в спину, чтобы тот ушел
подальше вперед. Этот разговор развлек его, но ненадолго:
двинувшись дальше, к хвосту колонны, он почувствовал,
как вернулась боль. Он не сомневался: теперь он заметно
прихрамывает,— и мысль о том, как будут пересмеиваться
солдаты, привела его в ярость. Ему показалось, что
один из солдат внимательно смотрит на него. Он
обернулся, и взгляды их встретились. Тыонг подозвал
солдата и велел открыть патронную сумку. Она оказалась
39
полной. Тыонг испытал чувство, похожее на досаду. Если
бы ему повезло и патронов не хватало бы, у него был
бы повод отчитать солдата и хотя бы на время забыть
о боли и унижении.
— Где твой индивидуальный пакет?— резко спросил
он.
Солдат, удивленный раздраженным тоном обычно
спокойного офицера, простодушно посмотрел на Тыонга
и ответил, что пакета у него нет. Вид у него был такой
невинный, что Тыонг, намеревавшийся дать ему нагоняй,
вдруг осекся и только велел в следующий раз не забыть
взять пакет — ведь в любой момент он может быть
ранен или контужен (или провалится в яму с колышком,
мысленно добавил Тыонг). Солдат улыбнулся, и Тыонг
невольно улыбнулся в ответ.
— Какой великой мудрости ты обязан тем, что взял
сегодня полный комплект патронов?— спросил он.— Твоя
жена смотрела свой гороскоп?
— Просто я удачливый,— ответил солдат.
— А свой гороскоп ты знаешь?
— Моя жена смотрела свой гороскоп и сказала,
что на этой неделе большой человек будет добр ко мне.
— У твоей жены прекрасный гороскоп,— сказал
Тыонг.— Но что с ним случилось, когда она выбрала в
мужья тебя?
В восемь тридцать они вошли в первую деревню.
И тут же поступило донесение, что на северном конце
деревни замечены два убегающих старика. В погоню за
ними было послано подразделение, но оно явно не
торопилось. Андерсон сказал себе, что это просто еще
два старика, которые куда-то скрылись; однако даже это
маленькое событие на какое-то время приятно взволновало
его: может быть, все-таки сегодня будет бой?
На подступах к деревне он внимательно осмотрел
стену леса и решил, что густая чаща деревьев и кустов
справа от него — прекрасная позиция для вьетконговцев,
так как оттуда открывался вид на все поле, через
которое сейчас шел отряд. Андерсон приготовился открыть
заградительный огонь; он сознавал, как сознавал всегда,
что вьетконговцы, если они действительно прячутся там,
прекрасно его видят, а из-за своего роста он является
естественной мишенью. Сам он, будь положение обратным,
40
несомненно, целился бы во вьетконговца, который
возвышался бы над остальными на полторы головы.
Но вьетконговцев там не оказалось, и они вошли в
деревню без единого выстрела.
Бопре сделал несколько шагов в сторону, и Андерсон
проследил за ним взглядом. Бопре как будто рассматривал
вход в одну из хижин, но на самом деле глядел на
огромную бочку с дождевой водой, стоявшую у этой
хижины. «Он думает, напиться этой воды или же налить ее
себе во флягу»,— решил Андерсон. Но воду могли
отравить, да и в любом случае в нее придется бросить
галазоновую таблетку, а они оба терпеть не могли воду,
обработанную таким способом. «Нет, он сумасшедший,—
думал Андерсон,— пьет виски и прочую дрянь, а потом
каждый день вот так приближает себя к смерти».
Андерсон заметил колебания Бопре, заметил, что тот
решил все-таки не пить, и на секунду почувствовал
к капитану симпатию и жалость, что случалось редко;
в эту минуту Бопре был не озлобленным циником, а
просто солдатом, которому хотелось пить. «Интересно,—
подумал Андерсон,— сумеет ли он выдержать в
следующий раз?»
— Жарко сегодня,— сказал Бопре, подходя к
Андерсону, и указал на вьетнамцев.— Вот и женский корпус
прибыл.
Солдаты собирали женщин на деревенской площади.
Их оказалось шестеро да еще четверо детей. Из этой
деревни бежали даже дети. Все женщины выглядели
старухами — каждой можно было дать не меньше
пятидесяти-шестидесяти лет. Когда Андерсон только
приехал во Вьетнам, он думал, что им действительно
столько лет. Но от Тыонга он узнал, что многим из этих
женщин на самом деле не больше тридцати пяти,
однако жизнь, работа, постоянные роды — а дети
нередко рождаются мертвыми — состарили их, лишили
женственности. Прежде красные от бетелевой жвачки
зубы почернели, как гнилые тыквы, груди высохли и
исчезли, словно их никогда и не было, а кожа стала не
желтой и не коричневой — он не мог подобрать
подходящего слова: цвет чего-то сухого, обо что можно
зажигать спички. Как-то, когда ему тут все было еще
внове, он сказал Тыонгу, что хотел бы понять его страну.
«Если вы хотите понять нашу страну,— ответил Тыонг,—
поезжайте в Сайгон, зайдите в самый новый бар,
41
выберите самую красивую вьетнамскую проститутку, но
отвезите ее не в отель, а к ней домой —вШолон* или
где там она еще живет,— лягте с ней в постель з
эе лачужке и весь вечер слушайте, как ее мать и бабка
кашляют до поздней ночи. Вот тогда вы поймете мою
страну».
Одна из женщин стояла в стороне от остальных, и
Андерсон-подошел к ней и сказал по-вьетнамски, что он
очень сожалеет, если они помешали их утренней работе.
Он видел ее зубы — они были крепко сжаты. Он ей
улыбнулся, но она не ответила ему улыбкой.
Он спросил, не занималась ли она стряпней и что
она стряпала. Женщина даже не отвела от него взгляда.
Он для нее не существовал.
Андерсон почувствовал на своем плече чью-то руку. Это
был Тырнг. Он безмолвно просил Андерсона предоставить
все расспросы вьетнамцам. Андерсон отошел к хижине, у
стены которой стоял, прислонясь, Бопре. Он как будто
заметил на лице капитана легкую усмешку. И немного
смутился, так как был очень горд своими познаниями
во вьетнамском языке. Он сказал Бопре, что допрос
лучше предоставить вьетнамцам.
Насмешливая улыбка исчезла с лица Бопре, оно
стало абсолютно непроницаемым.
— Возможно, их пугают ваши зубы,— сказал он.
«Сукин ты сын,— подумал Андерсон.— Пусть-ка днем
станет еще жарче, хоть мне и самому придется
несладко». Вслух же он сказал:
— А вы становитесь все больше и больше похожи
на них. Даже думаете уже, как они.
Тыонг начал допрос без всякой охоты. Для него это
была самая неприятная часть службы, и это
обстоятельство отразилось на изменениях в ходе его карьеры.
Когда он был еще кандидатом в офицеры, он больше
всего любил допрашивать, у него это получалось лучше,
чем у других,— возможно, потому, думал он, что его
родители были беднее родителей других офицеров, а он
старался быть образцовым офицером. Но с каждым
годом эта обязанность нравилась ему все меньше и
меньше, и в конце концов он проникся к ней отвращением.
Это случилось два года назад, когда они вошли в
деревню, которая, как они знали, была вьетконговской,
42
и не нашли в ней ничего. Они уже собирались уходить,
как вдруг мальчик лет трех посмотрел на него,
расплакался, а потом побежал к дереву на берегу
канала и вытащил из дупла своего отца, молодого
вьетконговского офицера. Отец ни разу не взглянул на
Тыонга, не сказал ему ни слова, а только подошел к
мальчику и стал ласково гладить его, чтобы успокоить.
А когда ребенок наконец утих, он повернулся к
Тыонгу и сказал: «Ну, куда мне идти, на север или на юг?
Давайте кончать». После этого случая война стала
казаться ему бесконечно долгой и отвратительной. Обе
воюющие стороны заставляли этих людей платить все
более высокую цену, и люди замыкались в себе, и
разговоры с ними все больше и больше превращались
в разгадывание шарад, становились все более и более
бесплодными, они говорили все больше слов, а люди —
все меньше, и в конце концов допросы сделались для
него самой неприятной стороной войны. Он считал, что
политические работники Вьетконга должны испытывать
такое же чувство, но у них, думал он, есть по
крайней мере какой-то лозунг, идея, какая-то
революционная цель, которая их поддерживает, есть
соответствующее изречение Хо, которому они верят.
Тыонг начал допрос, опасаясь, как бы не выдать всех
этих мыслей и чувств. Он пытался одновременно и
успокоить, и запугать женщину, подозревая, что ни то ни
другое у него не получается Сначала он
поинтересовался видами на урожай и выразил надежду, что урожай
будет хороший. Он услышал ее уклончивый ответ:
у лейтенанта же есть глаза и, наверно, он сам видит, он
человек ученый, так пусть посмотрит и сам скажет,
какой будет урожай, а она не отличит хорошего
урожая от плохога— как они были бедняками, так и
останутся. Он услышал собственные слова: здесь, в их
части дельты, живется лучше, чем на юге под Уминем,
откуда родом он сам (он долго работал над тем,
чтобы избавиться от северного акцента, и его уверяли,
что это ему вполне удалось). Там одни болота и дети
всегда болеют. Он посмотрел вниз, на мальчика,
стоявшего рядом с женщиной, и встретил взгляд,
полный яростной ненависти: четырехлетний мальчик уже
знал, что такое ненависть и гнев. Он услышал ее ответ:
она рада, что военный господин считает, что им живется
лучше. А им самим откуда знать? Только ученый
43
человек, мудрый человек может разобраться в этом,
сказала она.
Он смотрел на мальчика, удивленный его
враждебностью. Сначала он чувствовал раздражение, а потом его
восхитила подобная смелость. Он был бы рад, если бы его
собственный сын вел себя так. Потом, заметив на бедре
мальчика темный кровоподтек, он удивился и восхитился
еще больше.
— Зачем вы сюда пришли?— услышал он слова
женщины.
— Не потому, что нам этого хотелось,— ответил он.—
Даже у такого глупого человека, как я, нашлись бы
другие дела.
— Это не ваша деревня,— сказала она.— Вам тут
нечего взять. Тут нет денег, нет богатых людей. Если
б люди были богаты, разве они остались бы здесь жить?
— Мы пришли не за деньгами,— ответил он.
— Когда вы уйдете, мы станем еще беднее. Так
бывает всегда.
— А если придут вьетконговцы? После них вы тоже
будете беднее?
— Им тут нечего взять. Ни вам, ни им. Мы бедны и без
вас, без вашей помощи.
Он смотрел на нее, и почему-то ему казалось
(может быть, можно внушить другому свои мысли?
Может быть, он это делает слишком часто?), что она не
говорит того, что думает. (Почему ты с ними? Какая
тебе от этого польза? Однажды его отец, которого он
любил, сказал ему: «А они уже подарили тебе
американский автомобиль?» А он ответил, что у него в отличие от
отца нет не только автомобиля, но и мопеда.)
— Есть у вас в деревне больные, нуждающиеся в
лекарствах?— спросил он.— Маленькие дети?
— Они не примут ваших лекарств,— сказала она.—
Здесь нет больных, которые нуждались бы в вашей
помощи.
— У меня у самого трое детей,— солгал он.— И я
многого лишил бы их во имя моей гордости. Но одного я
не лишил бы их ни при каких обстоятельствах —
лекарства. Если бы вьетконговцы оставили моей семье
лекарства, я велел бы детям принять их.
Тыонг посмотрел женщине в глаза. Она сказала:
— Я уверена, что ваши дети будут здоровы.—
С этими словами она повернулась и пошла прочь.
44
Конечно, он мог бы задержаться и попробовать
сломить эту женщину, но он был реалистом. Какой
смысл? В конце концов он был бы вынужден вступить в
спор, рассердиться, арестовать ее, чтобы она весь день
тащилась за отрядом, а на это у него не было сил.
Поэтому победа осталась за ней, а он повернулся и
пошел к Андерсону, сознавая, что не только вновь
потерпел поражение, но, наверно, снова обидел молодого
американца; американца он оттолкнул, а с женщиной
потерпел неудачу — делаешь все как надо, а разницы
никакой, подумал он.
Он подошел к Андерсону, что делал весьма не часто
(обычно он обрывал разговор, а не начинал его), и
покачал головой. Он сказал по-вьетнамски (это была его
манера извиняться):
— С каждым разом все хуже.
— Вы уже бывали в этой деревне?— спросил
Андерсон.
— Нет,— сказал Тыонг.— Но не все ли равно? Везде
одно и то же. Всюду люди стали злее.
«Мы стали злее, противник стал злее, народ стал
злее,— думал Тыонг.— С каждым днем все хуже.
Крестьянка лжет мне, а в следующей деревне мне
будет лгать другая крестьянка, и мы пойдем в третью
деревню, и, когда там кто-нибудь начнет мне лгать,
симпатичный лейтенант Тыонг, такой bien eleve*, в восемь
часов вспылит и допустит ошибку — арестует, например,
какого-нибудь крестьянина,— а недели через две в эту же
деревню в восемь часов утра придет еще кто-нибудь
и удивится, почему люди там настолько озлоблены.
А завтра в восемь утра я буду зол на свою
первую деревню. Заколдованный круг!»
Андерсон был шестым американцем у Тыонга за три
года. Шесть раз он учил одному и тому же и за это
время повторялся по крайней мере шесть раз. При
нормальных условиях советников должно было смениться
не больше трех, но постоянно что-нибудь случалось:
некоторых перевели в другие части, один не сработался
с ним, а один не вынес нагрузки и немного свихнулся —
начал жаловаться, будто в семинарии слишком часто
кормят рисом, хотя рисом там вообще не кормили.
С каждым разом эти люди вызывали у Тыонга все
меньше интереса и все больше разочаровывали его
Когда они только-только появились во Вьетнаме, а он
45
был моложе, он верил, что от них будет толк, что
именно они могут изменить то, чего никто другой изменить
не мог. Как-никак они еще никогда не проигрывали
войн — об этом было написано во всех учебниках
(даже французских); они были сильные и богатые
(гораздо богаче французов, это он знал), и он надеялся,
что с ними во Вьетнам придут сила и богатство, и терпеливо
ждал, когда же они изменят его страну; но сначала все
оставалось по-прежнему, а потом он вдруг понял, что
происходит на самом деле: они не изменяли Вьетнама,
а изменялись вместе с ним, становились его частью.
В конце концов Тыонг стал воспринимать слабости
американцев острее, чем слабости вьетнамцев (слабости
вьетнамцев казались ему обычными человеческими
слабостями, но слабости американцев — чужих и не
похожих на него людей — были именно американскими:
пьяный вьетнамец в субботний вечер в Мито был просто
пьяным, но пьяный американец был пьяным американцем;
трус-вьетнамец был просто трус, но трус-американец был
трусливым американцем). Первый его американец глубоко
разочаровал Тыонга — он сразу проникся глубочайшей
неприязнью к этому высокому грузному человеку по
фамилии Рейнуотер. Он много пил, так что по утрам от
него всегда разило виски, и постоянно ругал страну и
жаловался на то, что войны, по его словам, вообще не
было (он вечно спрашивал: «Черт побери, где же эта
паршивая война, о которой вы тут болтаете, Тыонг?»
И произносил он не «Тыонг», а «Ту-унг», словно
присвистывая, а потом добавлял: «Как же тут воевать, если
я даже не знаю, где происходит эта паршивая война?»).
Он часто ругал вьетнамских женщин, ставя им в пример
японок — главным образом потому, что японские
проститутки говорили по-английски, а вьетнамские все еще
обходились французским, он же этому языку так и не
сумел выучиться. Проститутки, говорил он, иногда
называют его «beaucoup kilo»*, и долго хохотал, когда
Тыонг по его просьбе перевел ему эти слова. Весь год он
постоянно подсчитывал, сколько ему еще остается служить
здесь, и за завтраком обычно сообщал, сколько дней и
часов ему еще придется тут тянуть. Он делал вид,
будто удивляется, что Тыонг не думает уезжать из
Вьетнама, когда кончится война—если они все-таки ее
разыщут, чтобы положить ей конец. А потом сам же
объяснял: «Впрочем, вы ведь из этих, из здешних».
46
Сначала Тыонг считал его дураком и пьяницей, но в
последние месяцы (а также дни и минуты) против
воли проникся к нему симпатией: ему стали нравиться
честность Рейнуотера, его вспышки и даже его манера
называть вьетнамцев малышами — он сообщил Тыонгу,
что не видывал солдат хуже вьетнамцев, даже итальянцы
и те лучше. («Если бы мне пришлось вам советовать, в
какую страну вторгаться,— сказал он,— я бы назвал
Италию. Но с тех пор, как я попал сюда, я уже не так в
этом уверен*). Ко времени отъезда Рейнуотера они стали
добрыми друзьями и, как ни удивительно, относились друг
к другу с большим взаимным уважением. И тем не
менее с Рейнуотером миф об американцах развеялся раз и
навсегда, и теперь в глазах Тыонга они были в лучшем
случае людьми, способными ошибаться. Тыонг уже не
заблуждался насчет Рейнуотера и его уговоров
дезертировать, потому что он, черт побери, «слишком хорош для
этой войны и этой страны». Но и Рейнуотер не
заблуждался насчет Тыонга и однажды, в один из своих
последних дней в Мито, сказал: «Тыонг, а ты здорово
себе на уме. Ты же мог бы воевать на любой стороне.
Тебе плевать и на ту и на другую, верно?» Рейнуотер,
ныне покинувший армию по настоянию командования, был
единственным американцем, который поддерживал с Тыон-
гом переписку. На конвертах фамилия Тыонга была всегда
написана правильно, но сами письма начинались
неизменным: «Дорогой мистер Тунг!» В письмах говорилось
о том, как трудно продавать подержанные автомобили в
Арканзасе («Здешние жители давно уже уволились из
армии, а потому разбогатели и покупают только новые
автомобили, а не старые»); о недоразумениях Рейнуотера
с женой («Эта женщина дрянь, что мне было всегда
известно, но теперь она пьет больше виски, чем я, и это
скверно»); о его опасениях в связи с активизацией
военных действий («Кажется, теперь эта маленькая
война отыскалась. Не будь дураком и постарайся, чтоб
тебя не убили и даже не ранили, потому что ты еще не
навестил Рейнуотера, как обещал»). Тыонг иногда был не
в силах разобрать почерк Рейнуотера и обращался за
помощью к его преемникам, которые исполняли его
просьбу, хотя явно не одобряли ни содержания писем,
ни множества грамматических ошибок.
Другие американцы больше походили на солдат,
чем Рейнуотер; по мере того как росло значение
47
этой войны для Америки, их становилось во Вьетнаме
все больше, и они были моложе, образованней,
стройнее и воздержаннее по части выпивки. Они не
только не подсчитывали, сколько дней им осталось
служить, но нередко высказывали намерение остаться
на второй срок; они добросовестно относились к своим
обязанностям, всегда старательно хвалили страну и ее
народ и никогда не употребляли слова «малыш»
применительно к вьетнамцам. И все же разочарование
Тыонга не проходило. Это были храбрые,
профессионально хорошо подготовленные, но удивительно
бесстрастные люди. Тыонг видел в них скорее актеров, чем
солдат: они приезжали, исполненные энтузиазма, они
старались, но долго не выдерживали и вскоре
проникались тем же фатализмом и чувством обреченности,
которые Тыонг замечал в молодых вьетнамцах, тем же
фатализмом и чувством обреченности, которые он замечал
в себе.
Они ничему не могли его научить — что они знали о
войне, о крушении надежд или о том, как люди ведут
себя в бою и как выглядят, когда умирают? Когда
они все-таки давали полезные советы, которыми можно
было бы воспользоваться даже при таком командире,
как капитан Данг, он выслушивал их с раздражением
и знал (ведь вьетнамцам было прекрасно известно,
как именно смотрят на них американцы), что американцы
считают его заносчивым сукиным сыном, хотя и
неплохим офицером — одно время его даже звали Принцем.
Андерсон, несомненно, был лучшим из всех
американских офицеров, каких встречал Тыонг,— храбрым, умным,
умеющим обращаться с вьетнамскими солдатами,
прилично говорящим по-вьетнамски; и точно так же Бопре,
по мнению Тыонга, был самым худшим — неряшливым,
беззаботным, равнодушным к своим солдатам, он презирал
вьетнамцев, и, что было хуже всего, Тыонг чувствовал,
что американец боится.
Отряд пробыл в деревне пятнадцать минут. В это время
американцы по радио вызвали к аппарату Бопре. Капитан
подошел к рации Андерсона.
— Как дела, старина?— спросил дежурный по КП.
— Здесь тихо,— ответил Бопре.— Если не считать
шума, который поднимаем мы.
— На Восточном фронте тоже без перемен,— сказал
дежурный и засмеялся своей шутке.
48
— Пленные есть?— спросил Бопре.
— Нет. А у вас?
— Только Андерсон и я.
— Неплохо,— сказал дежурный.— Ну, я свяжусь с
вами попозже. Будьте осторожны. Полковник говорит,
что опасаться худшего следует тогда, когда особенно
тихо.
— Скажите от меня полковнику спасибо,— сказал
Бопре.
Отряд приготовился покинуть деревню. «Скоро я смогу
попить»,— подумал Бопре.
Андерсон прошел вдоль колонны, оглядывая солдат.
Он услышал смех и, оглянувшись, разобрал — так ему,
во всяком случае, показалось — слова одного из солдат:
тот сказал, что американец проверяет, не прихватил
ли кто-нибудь из них курицу. В колонне снова
раздался смех. Конечно, они правы — именно это он и
проверял.
— Нет,— сказал Андерсон.— Я проверял, не
прихватил ли кто-нибудь из вас с собой женщину и не
остался ли кто-нибудь защищать деревню.
Когда они вышли из деревни, Андерсон заметил,
что походка солдат изменилась — они двигались даже
медленнее обычного. Он решил подстегнуть их,
расшевелить немного.
Он направился к голове колонны, покрикивая:
— Быстрее! Чем быстрее мы пойдем, тем скорее
получим рис.
Солдаты засмеялись, и Андерсон спросил, поделится
ли кто-нибудь из них своим рисом с бедным американцем.
Они снова засмеялись, и на несколько минут Андерсону
снова понравилась и страна, и его обязанности. Когда он
только приехал во Вьетнам, он старался побольше
разговаривать с солдатами; ободренный их смешливостью
и готовностью отвечать на его шутки, он пробовал
завязывать с ними серьезные разговоры, но они вдруг
замыкались, смущались, отводили глаза, а если и
отвечали, то виноватым тоном, словно чувствовали, что
подводят его, объясняя, насколько скудной и
бесхитростной была их жизнь. Кого может это интересовать?
Они рождаются, вырастают, идут на военную службу,
умирают. Они извинялись и отворачивались, смущенные
тем, что отнимают у него столько времени, повторяя
общеизвестные вещи, давая глупые ответы на глупые
49
вопросы. К тому же он чувствовал, что Тыонга
тревожат его беседы с солдатами, если они
затягиваются. Поэтому теперь Андерсон ограничивался тем, что
поддерживал с солдатами хорошие отношения, угощая
их своей кока-колой в обмен на их рис (иногда они
угощали его рисом, и он ел, насилуя себя, так как в рисе
было множество каких-то непонятных черных крупинок,
которые он храбро проглатывал, хотя и испытывал
постоянное беспокойство, потому что не очень верил в их
чистоплотность в полевых условиях).
— Живее, живее!— говорил он теперь.— Тащитесь,
точно американские солдаты. Живее! Когда же мы при
таком темпе доберемся до Ханоя? Мне эдак никогда не
удастся познакомиться с Тонкинскими девушками! Ну
давайте же, а то в ханойских гостиницах не останется ни
одного свободного номера и рейнджеры опередят нас.
Вы же не хотите, чтобы рейнджеры занялись женщинами
раньше вас? Ну так пошевеливайтесь!
Все это им очень нравилось, и Андерсон был почти
уверен, что их смешат его шутки, а не его вьетнамский
язык — он тщательно отрабатывал эти фразы с
помощью переводчиков в семинарии, так что
грамматических ошибок в них быть не могло.
— Живее!— повторял он.— Торопитесь, иначе мы не
вернемся сегодня в Мито и вам придется три дня
обходиться этим рисом. Живее, не то я никогда не
вернусь в Америку и никогда не увижу свою жену и
ей придется выйти замуж за какого-нибудь генерала.
Он раздумывал, не отпустить ли шутку-другую об их
собственных женах: пусть-ка поторопятся, а не то в их
постелях окажутся гарнизонные солдаты и штатские.
Но он опасался, что в устах западного человека такие
слова, обращенные к вьетнамцам, могут быть истолкованы
как расистские и оскорбительные, а потому ограничился
только шуткой об опасности, грозящей его собственной
постели. Он испробовал свою шутку о вьетнамских
женах на переводчиках в семинарии, и те смеялись и
заверяли его, что солдаты будут довольны (переводчики
относились к солдатам свысока и считали, что им
понравится и обидная для них шутка). Тем не менее
он решил не рисковать. Поэтому теперь он подгонял
их, подбадривал и говорил только о рисе, а не об их женах.
Он продолжал обгонять колонну, пока не поравнялся с
Бопре. Некоторое время они шли рядом.
50
— Андерсон,— сказал Бопре,— как по-вашему, мы
сегодня встретим наших друзей-вьетконговцев?
— Ваш друг капитан Данг сказал мне, что мы убьем
beaucoup вьетконговцев. Я верю вашему коллеге. Раз
он так говорит, значит, так и будет.
— Мой друг капитан Данг — воин,— сказал Бопре.
— Вам же не понравится, если я подвергну сомнению
слова вашего коллеги.
— Эти чертовы коммунисты слишком умны, чтобы
лезть сегодня в драку. Они подождут, пока не спадет
жара. Да, сэр, сегодня они будут посиживать и
попивать свою рисовую водку вместе со своими
коммунистическими дамами. У них есть радио, которое
сообщает, сколько миль мы прошли и как мы потеем.
Они слушают и посмеиваются, а их дамы подливают им
рисовой водки. Когда в бутылке ничего не останется,
дамы сбегают в* лавочку и принесут новую бутылку.
Они еще посмеются над нами и дождутся наступления
прохлады, а затем устроят нам один из вьетконговских
спектаклей. Вы думаете, я шучу, но вы когда-нибудь
видели, чтобы вьетконговцы потели?
Андерсон засмеялся; он чувствовал симпатию к этому
Бопре. Капитан терпел настоящую пытку: его форма
потемнела от пота, по лицу тоже струился пот, но
он все-таки продолжал шутить.
— Знаете, зачем мы здесь?— спросил Бопре.
— Чтобы убить beaucoup вьетконговцев, как положено
хорошим американским воинам.
— Да нет же, это лишь предлог. Конечно, мы будем
убивать и вьетконговцев, но на самом-то деле Данг
хочет навестить своих родственников. Видите ли, его
супруга родом из этих мест, и здешние жители
повесили бы в ее честь мемориальную доску,
увековечивающую тот факт, что она вышла замуж за капитана,
да только они знают, что вьетконговцы эту доску все
равно сорвут. Но у мадам Данг здесь полно
родственников: ее брат — начальник полиции, а племянник женат
на двоюродной сестре, дядя которой одно время был
старостой деревни, какой-то деревни в этом округе,
только капитан Данг забыл, какой именно, а потому мы
побываем во всех трех деревнях, а может, и больше, в
надежде найти эту самую деревню и этого самого
старосту. Ничего не поделаешь, раз капитан Данг решил
побывать в родных местах.
51
Бопре, видимо, намеревался продолжать эту болтовню,
и Андерсон подумал, что так он заглушает жажду:
возможно, он нервничает, нервничает потому, что его
мучает жажда. Тут он краешком глаза заметил, что к
ним приближается Тыонг, а Тыонг всегда реагировал
очень болезненно, если американцы долго
разговаривали между собой. Андерсон знал, что Бопре не скрывает
от Тыонга своей неприязни к вьетнамцам, и ему не
хотелось, чтобы его отождествляли с капитаном.
Андерсон был избранником судьбы. Он кончил Вест-
Пойнт *, но не настолько блестяще, чтобы в дальнейшем
постоянно пугать этим своих непосредственных
начальников и портить себе карьеру, и был просто хорошо
обученным офицером с правильным взглядом на вещи
и честолюбием, которое он умел скрывать. Впоследствии
он окончил школу воздушных десантников, служил в
отборных частях в Западной Германии, ценился на
немке, записался добровольцем во Вьетнам и изучил
вьетнамский язык. Во Вьетнам он ехал с большими
надеждами, но сразу же разочаровался. Его разочаровали
и война, и вьетнамцы, и полковник, и Бопре.
С самого начала он проникся легкой антипатией к
Бопре — они познакомились в день его приезда в
семинарию. Бопре только что вернулся с операции,
совершенно мокрый от пота, и, раздеваясь, демонстрировал всем
соседям по комнате свои промокшие носки, рубашку,
трусы — ну, словом, все. Это сцена шокировала
Андерсона, он считал, что военные, тем более офицеры,
не должны вести себя так.
На свою первую операцию Андерсон отправился
вместе с Бопре. Полагая, что все американцы, служащие
во Вьетнаме, приехали туда, как и он, добровольцами,
он спросил Бопре, зачем тот приехал во Вьетнам,
и Бопре сказал с большой искренностью: «Чтобы
убраться подальше от жены». С тех пор отношения между
ними так и не наладились. Теперь Андерсон иногда
думал, что, если бы он тогда оценил Бопре по-другому,
выказывал бы ему больше уважения и задавал бы ему
больше вопросов, они могли бы стать почти друзьями.
Но он подсознательно избегал Бопре и не садился
за его стол, руководствуясь инстинктом молодого
человека, который делает карьеру и которому не по пути с
теми, кто ее не делает, с теми, кто, как ему твердо
известно, никогда не выдвинется, кто никогда не будет
52
майором, кто постоянно жалуется на страну и на войну.
Такие люди были ему чужды, и он не собирался делить
с ними их поражение.
Позже, когда стало ясно, что большую часть времени
во Вьетнаме им придется провести вместе («О такой
участи,— сказал Бопре,— мечтают толпы девочек в Сеуле,
Сайгоне, Париже и других местах, где мы сражались и
умирали. Вам дано право проводить со мной ночи под
открытым небом»), исправлять ошибку, допущенную
в самом начале было уже поздно. Вместо того чтобы
сесть за стол Бопре (а это все-таки был стол строевых
командиров — Бопре, Ролстона и прочих), он предпочел
стол таких же, как он, молодых офицеров, которых
Ролстон называл кадетами. Ролстон любил говорить, что
он ведь не из Аннаполиса*. А когда Андерсон понял, что
по характеру службы ему полагалось бы сидеть за
столом Бопре — Ролстона (остальные молодые офицеры
были либо связистами, либо интендантами, либо еще
чем-нибудь в этом роде), было уже поздно. С другой
стороны, если его отталкивало отсутствие у строевых
офицеров честолюбия, то они относились к нему с
недоверием, потому что он был молод, честолюбив и
не жаловался на страну, на армию, на войну и на
питание. (Ролстон в основном жаловался на питание.
Он утверждал, что вьетнамские креветки лучшие в мире,
но в офицерской столовой их не подавали, потому что
они считались антисанитарным продуктом. «В этой
паршивой стране все антисанитарно, черт побери,— говорил
он,— но креветки — единственный антисанитарный
продукт, который хорош на вкус. Пусть отменят копченую
говядину — ведь всем известно, да и медициной доказано,
что копченая говядина в жарком климате вредна для
здоровья и антисанитарна,— а дают нам креветки. Уж
если у меня будет гепатит, то пусть он будет от креветок,
а не от интендантских рационов».)
Все же Андерсон стремился как-то наладить
отношения с Бопре и время от времени заводил с ним разговор
о Вьетнаме. Однажды он коснулся разницы между
вьетнамцами южных и центральных областей, на что капитан
заметил: «На острове все люди одинаковы». «На каком
острове?» — недоуменно спросил Андерсон. «Известно на
каком, на этом»,— ответил Бопре. Такой поворот смутил
и встревожил Андерсона: он не понимал, говорит ли Бопре
серьезно или шутит, но решил не заострять на этом вни-
53
мания. Однако спустя неделю он завел разговор об
островах и островитянах и напомнил Бопре о его замечании, на
что Бопре сказал: «Какой остров? Я никогда не бывал на
островах. О чем вы говорите, черт побери? Чему вас учили
там, в Вест-Пойнте?» И так бывало всегда: если лейтенант
утверждал, что вьетнамцы храбрые, Бопре начинал
говорить об их трусости, рассказывал одну историю за
другой о том, как они удирали с поля боя; если
же Андерсон намекал (он был слишком
добропорядочным офицером, чтобы говорить об этом прямо), что
вьетнамцы не так храбры, как ему хотелось бы, Бопре
вдруг начинал превозносить героизм вьетнамцев и
однажды рассказал, как вьетнамцы вынесли его, Бопре, с поля
боя. (Когда недоверчивый Андерсон навел справки у
Ролстона, тот не оставил от истории Бопре камня на
камне, заявив: «Чтобы поднять эту жирную тушу, нужно не
меньше пятнадцати вьетнамцев; к тому же, случись
такое дело, Бопре не стал бы дожидаться и сам
поторопился бы унести ноги, если, конечно, вьетконговцы
не успели бы ампутировать их. Кроме того, он не
привык скромно умалчивать о своих подвигах, а что-то он
никому ничего подобного не говорил».)
Андерсон расхаживал вдоль колонны. Солдаты шли
медленно, очень медленно. Ему хотелось закричать на
них, толкнуть в спину, схватить за шиворот и потащить
вперед. Но вместо этого он уговаривал и подзадоривал
их. Он знал, что это бесполезно, и тем не менее
продолжал — не потому, что надеялся изменить их (он
знал, что этого не случится, во всяком случае сегодня),
а потому, что уже давно понял: надо дать выход своей
энергии, иначе от их медлительности (а они, казалось
ему, нарочно мелко-мелко семенили своими короткими
ногами) он совсем изведется, поскольку сдерживаться
всегда труднее, чем дать себе волю. Вот почему он
ходил вдоль колонны и разговаривал с солдатами.
Ему хотелось кричать, хватать их за шиворот, грозить
военным судом, но он только повторял: «Ну, поживее!
Если вы так будете ползти, я никогда не вернусь в
Америку, никогда больше не увижу жену и до конца
жизни останусь в Мито. Мне придется поступить во
вьетнамскую армию и жениться на вьетнамке. Так идите
же быстрее, выручите меня!» У него было такое ощущение,
точно он тянет какую-то бесконечную песню. В частности.
54
он именно поэтому предпочитал вертолеты: высадка,
рев мотора, страх, что тебя заденут лопасти винта или
подстрелят вьетконговцы, придавали человеку особую
энергию, заставляли кидаться вперед. Ему казалось,
что вьетнамцам тоже знакомо это чувство, что, участвуя
в десантах, они становятся чуть-чуть подвижнее, чуть-чуть
живей. Он считал, что вьетнамцам нравится летать на
вертолетах, что они чувствуют себя похожими на
американских солдат, когда взмывают в небо на машинах,
пилотируемых американскими летчиками. Это вселяло,
как полагал Андерсон, в сердца вьетнамцев гордость,
ощущение того, что и они в конце концов стали
настоящими солдатами.
Андерсон все еще злился, что его не послали с
воздушным десантом. И страна, и ход военных действий,
и многое другое, что он узнал во Вьетнаме,— все это
настолько его разочаровало, что десантные операции
начали казаться ему очень важными, они стали
той частью войны, которая больше всего нравилась ему
и приобрела для него особую ценность. За шесть
месяцев, которые оставались ему до возвращения домой,
он хотел приобрести опыт в вертолетных десантах, чтобы
его зачислили во вновь сформированную авиадесантную
дивизию, оснащенную исключительно вертолетами (она,
по мнению Бопре, специально предназначалась для
действий во Вьетнаме). Конечно, попасть в нее будет
нелегко, но, если он примет участие в достаточном
количестве десантных операций, это найдет свое
отражение в его послужном списке — в таком случае время,
проведенное во Вьетнаме, не пропадет для него зря.
Первые его дни во Вьетнаме не оставляли желать
ничего лучшего. Он хотел сюда приехать, вызвался
добровольцем и, желая как следует подготовиться, не
воспользовался возможностью отправиться с первой же
партией советников, а задержался на некоторое время,
чтобы изучить вьетнамский язык. Приехав же наконец
во Вьетнам, он был готов влюбиться в эту страну и ее
народ. Еще когда они летели над рисовыми полями, его
поразил ярко-зеленый цвет страны, и, глубоко
взволнованный, он подумал: это же как в цветном кинофильме!
Он никогда не забывал этого зеленого цвета и того
ощущения жизни, которое этот цвет, казалось, нес с
собой. Вьетнам представлялся ему гигантским садом.
В аэропорту ему очень понравились хрупкие вьетнамские
55
девушки в национальной одежде, такие стройные и
вежливые, такие восточные. Он пришел в восторг, когда
они ответили, едва он заговорил с ними. «Значит,
люди тут не чрезмерно застенчивы»,— подумал он.
В свой первый вечер в Сайгоне он не остался
ужинать в гостинице вместе с другими американцами,
которые, расположившись на крыше, жарили на
американском древесном угле толстые американские бифштексы
и пили американское пиво, а отправился один в
китайский ресторан. Возвращаясь, он нарочно сел в
велоколяску, а не в такси или старенький автобус, в
котором полагалось ездить американцам и которым было
рекомендовано пользоваться офицерам (окна автобуса
были зарешечены, чтобы в них не попадали гранаты
террористов, которые, как говорили, предпочитают
офицеров). Андерсон был полон приятного волнения, когда
его коляска, пробиваясь сквозь пестрый поток транспорта,
мчалась по сайгонским улицам, едва не наталкиваясь
на велосипеды, груженные фруктами, мужчин, несших
корзины с живыми утками, на детей и даже коз.
Был вечер, воздух немного остыл, и все вокруг словно
ожило, наполнилось энергией; Андерсону хотелось
кричать, слиться с этими людьми, смешать свой пот с их
потом, свою радость — с их радостью (ему казалось, что
все кругом тоже радуются); в конце концов он не
сдержался и действительно крикнул — это был
продолжительный, торжествующий вопль, испугавший рикшу,
который остановился, ожидая потока ругательств за то,
что он не туда повернул. Но пассажир не бранился,
и рикша решил, что это просто еще один пьяный
американец. И когда Андерсон в следующий раз испустил
свой вопль, рикша тоже закричал в ответ, и скоро у них
началась игра: то кричал Андерсон и ему вторил
рикша, то кричал рикша и ему вторил Андерсон. В конце
концов рикша получил самые большие в своей жизни
чаевые.
Второй день в Сайгоне оказался не таким приятным.
Андерсон вознамерился совершить большую экскурсию по
городу и вручил шоферу такси список
достопримечательностей, которые хотел бы посмотреть. Все названия
он тщательно выписал по-вьетнамски., Шофер взглянул на
список, улыбнулся и тронулся с места, но скоро
остановился, повернулся к Андерсону и, широко улыбаясь,
сказал: «Джигиди-джиг-джиг». Андерсон не понял и,
56
озадаченно взглянув на него, спросил по-вьетнамски, что
это значит. Шофер снова обернулся и еще раз — более
настойчиво и с легкой ухмылкой — повторил: «Джигиди-
джиг-джиг». Андерсон не понял этих слов — он думал,
что шофер говорит по-вьетнамски, а шофер полагал,
что говорит по-английски,— но ухмылку он понял,
такая ухмылка присуща не только Востоку, а вполне
интернациональна. Но когда он наконец сообразил, что к
чему, шофер уже категорическим тоном сказал:
«Джигиди-джиг-джиг, девочка первый класс!» — и
блеснул тремя золотыми зубами — эти золотые зубы долго
потом преследовали Андерсона. В конце концов,
отчаявшись, он остановил машину и пошел в гостиницу
пешком, всю дорогу испытывая к Сайгону глубокую
неприязнь.
С тех пор Вьетнам не переставал доставлять ему
огорчения. Когда его послали в Мито, Андерсон
обрадовался: там по крайней мере ближе к войне. Если
бы он легко смущался, то, наверно, со смущением
вспоминал бы письма, которые посылал жене в первый
месяц. («Это застенчивые и щепетильные люди,—
писал он,— с ними надо быть очень внимательным и
тактичным. И они очень церемонны. Им нравится
церемонность. Это составная часть их истории и культурных
традиций. Некоторые из наших ребят держатся со
своими коллегами запанибрата, хлопают их по плечу,
только я не думаю, что это умно. По-моему, людям
Востока в лучшем смысле этого слова подобная
фамильярность не может нравиться».)
Первое время ему казалось, что он способен
принести реальную пользу: его вьетнамский коллега
одобрил два его предложения, однако осуществление
одного из них было сразу прекращено, когда первый же
солдат, получивший, как он предлагал, двухдневный
отпуск в Сайгон за содержание оружия в образцовом
порядке, вернулся в часть только через три месяца.
Вначале Андерсону казалось, что ему удается
установить контакт с вьетнамцами, и он с энтузиазмом
сообщил об этом заместителю советника при командире
дивизии, пожилому, всем недовольному человеку,
собравшемуся в отставку. Тот выслушал восторженные
излияния лейтенанта, а потом сказал только: «Не очень-то
полагайтесь на них. Скверный народишко». Но Андерсон
не обратил тогда внимания на слова полковника —
57
он даже хотел написать жене, что намерен остаться
во Вьетнаме на второй срок. Но потом решил повременить
с этим, хотя его письма были по-прежнему полны
рассказов о кротости местного населения, о добродушной
веселости солдат, об очаровательных ребятишках,
босоногих, голозадых и озорных, которые выпрашивают
сладости, смеются и потешно выкрикивают только что
выученные американские ругательства. Короче говоря, он
был околдован тем, что тогда считал чистотой души
народа, сохранившейся, несмотря на смерть и страдания.
Эта идея возникла у него как-то на втором месяце
службы, когда они прошли — миля за милей — чуть не
половину провинции Диньтыонг и Бопре недовольно
ворчал: «Черт побери, мы так долго идем, что, наверное,
уже добрались до Камбоджи! Вы, конечно, говорите по-
камбоджийски, Андерсон, так спросите-ка у первого
встречного крестьянина, далеко ли до Пномпеня».
Но Андерсон был в прекрасном настроении — он все еще
не потерял интереса к стране, все еще радовался
зеленому ландшафту и умилялся при виде крестьян,
перегонявших тысячи утят из одного озерца к другому.
В тот жаркий день даже собственный пот казался
ему приятным, чистым и здоровым. Они уже миновали
три деревни и подходили к четвертой, когда Андерсон
заметил впереди какое-то движение. Навстречу шла
вереница людей, но он сразу решил, что это не вьет-
конговцы: так скученно вьетконговцы не ходят. Скорее,
это отряд местной милиции. И тут он увидел, что это
вообще не солдаты и даже не мужчины, а молодые
женщины, удивительно юные и хорошенькие, одетые в
пестрые аодаи таких ярких цветов, что казалось,
будто на землю спустилась радуга. Теперь две колонны
разделяло всего десять ярдов — солдаты,
обремененные оружием, выглядели особенно неуклюжими по
сравнению с изящными и грациозными девушками, которые,
казалось, не шли, а плыли по воздуху. Это была уже
не радуга, а балетная труппа. При их
приближении Тыонг сердито прикрикнул на солдат, чтобы они
молчали.
— Что это за процессия?— спросил Андерсон.
— Свадьба,— ответил Тыонг.— У нас пока еще есть
время и для этого.
Когда девушки молча проходили мимо молчавших
солдат, Андерсон подумал, что Тыонгу следовало бы
58
остановить солдат, чтобы поздравить девушек, пожелать
им всего наилучшего. Он был растроган и гордился
своим чувством — во имя этого он и приехал в их страну.
Тыонг, по-видимому, угадал мысли Андерсона, но
только покачал головой и не остановился. Девушки не
смотрели на солдат, они шли, потупив глаза. Но потом до
Андерсона донеслось звонкое хихиканье. Андерсон был
очень взволнован этой встречей, и некоторое время она
символизировала для него страну и народ, а потому он
вспоминал только свадебную процессию и забыл, как
солдаты позади него говорили: «Вот идет последняя
девственница Вьетнама».— «Нынче ночью она будет
думать только о тебе, Пуонг. Погубил ты ее семейную
жизнь».— «Так всегда бывает».
Первый месяц был для него самым счастливым —
он смотрел, воспринимал, узнавал страну. Но к началу
третьего месяца ему стало ясно, что никакого контакта
установить не удалось. К этому времени между ним и
Тыонгом уже сложились нынешние трудные, почти
мучительные отношения — не дружба и не вражда, не
отчужденность и не доверие. Иллюзия сближения
рассеялась, и Андерсон примирился со скучными
будничными обязанностями советника. Он уже не думал о
военных победах и пытался только предотвратить полное
поражение. С этим он примирился на удивление легко;
подводя итоги дня, он научился замечать
положительные результаты и игнорировать неудачи. И тем не менее
он все чаще и чаще спрашивал себя: правильно ли он в
свое время поступил, не попытавшись перейти в войска
специального назначения? Те не знают, что такое
неприятности с вьетнамцами, получают бешеные деньги
и вообще командуют всем и всеми.
Когда он уезжал во Вьетнам, дома столько было
разговора о войсках специального назначения, что все
его штатские знакомые, не задумываясь, решили,
будто он служит именно в этих войсках. Судя по
письмам жены, разуверить их было невозможно:
когда по телевидению передавали программу,
посвященную войскам специального назначения, друзья
обязательно звонили ей, чтобы она скорее включала телевизор —
а вдруг покажут ее мужа? Андерсона это так бесило,
что он послал жене подробнейшее описание функций
и круга обязанностей аппарата советников и войск
специального назначения. Эти его письма напоминали
59
руководство для военнослужащих, в них указывалось,
в частности, что войска специального назначения
разбиты на подразделения по двенадцать человек в каждом:
«два офицера, девять солдат и один телеоператор».
Жена, удивленная его раздраженным тоном,
добросовестно сообщила все эти сведения своим друзьям, которые
столь же добросовестно продолжали звонить ей, когда
по телевизору показывали войска специального
назначения. Андерсон даже повесил над своей койкой длинную
статью, вырезанную из одного солидного журнала, об
одном большом лагере войск специального назначения,
который подвергся нападению противника, после чего
лейтенант из этого лагеря сказал: «Мне теперь остается
получить боевой значок пехотинца». На полях Андерсон
написал: «Ну так приезжай сюда, в дельту, и заработай
его».
В такие минуты, как сейчас, Андерсон, подгоняя
солдат, с завистью думал об этих счастливчиках, которые
живут себе в горах, где нет жары, нет вьетнамцев и
где маленькие горцы выполняют все, что им приказывают.
Пожалуй, именно им и повезло с войной. У них совсем
не то что здесь, в районе дельты, уж они-то не
жалуются на медленный ход военных действий.
Глава третья
Бопре обрадовался, когда они ушли из деревни. Он
не сомневался, что эта деревня на стороне противника,
и злился на всю эту опасную бессмыслицу: на то, что
приходится садиться за стол с врагами, распивать с
ними чаи, раздавать им лекарства, вежливо
выслушивать их ложь и улыбаться, получая плевки в лицо.
Все эти деревни одинаковы, у всех жителей одинаковые
худые, угрюмые, подлые лица, везде та же ложь и
полуложь. «Они лгут и лгут, а мы улыбаемся,— думал
он.— Они ненавидят нас и с удовольствием всех бы нас
переболи. Если бы немцы смотрели на нас вот так в дни
второй мировой войны, мы бы стерли их в порошок».
Но немцы не осмеливались смотреть на них так, это
он помнил хорошо. А потом ему вспомнился сержант-
еврей, который, попав впервые в немецкую деревню,
собрал десять местных жителей и стал отдавать на идиш
приказания: улыбайтесь, не улыбайтесь, опять улыбай-
60
тесь, хмурьтесь, плачьте, улыбайтесь. А потом сержант
отошел и сам заплакал, бормоча, что мы слишком мягки,
слишком добры, слишком беззлобны.
Бопре шел теперь рядом с Андерсоном,
раздраженный и встревоженный.
— Черт возьми, надоело мне это терпеть: на нас тут
плюют, а мы только утираемся. Они плюют нам в глаза,
а когда мы уходим, хохочут и радуются, как это у них
ловко получилось.
— Не считайте себя исключением,— сказал
Андерсон.— По-вашему, нам, остальным, это нравится? И
вьетнамцам нравится?
— Ну, вьетнамцы с этим мирятся. Они терпят, а
из-за них и нам приходится терпеть. И чем больше мы
терпим, тем больше плевков получаем. А вьетконговцы
это видят. Вот мы идем, и они видят, что мы только
утираемся, и добавляют еще, а мы терпим. И завтра
будем терпеть, и чем больше терпим, тем больше они
нас ненавидят. Не удивительно, что они нас совсем не
уважают, черт возьми.— И он подумал с горечью, что
говорят о них жители: «Вот они опять идут. Этот
вежливый отряд правительственных войск. В прошлый
раз они получили полную меру, и это им так понравилось,
что вот они опять здесь. Беги, сынок, в хижину и неси
корзину с дерьмом, что мы припасли для них».
— А мы обязаны это делать,— сказал Андерсон,—
утираться, терпеть и быть вежливыми. Мы здесь для
этого, и за это нам платят. Такова моя работа.
И ваша работа. Вы старше меня чином, и вам платят
немного больше, а потому вы и плевков получаете
немного больше, чем я.
— Вы все еще этому верите!— сказал Бопре.—
Неужели вы не можете понять, что люди, которые учат вас
этой ерунде, сами в нее не верят? Они же первые и не
верят. Разве вы не знаете, что офицер, который прочитал
вам лекцию о том, что спать с вьетнамскими женщинами
в маленьких городках нельзя, потому что это плохо
отражается на наших отношениях с населением, сам же
первый подыскивает себе вьетнамскую мышку? Его
потому и назначили на это место, что он знает жизнь,
как она есть на самом деле, и только он один способен
прочесть вам такую лекцию не моргнув глазом.
Неужели даже этого я не сумел вам втолковать? Разве вы не
знаете, что этим людям в Сайгоне плевать, приобретаем
61
мы друзей или нет? Но их обязанность — внушить
вам, что это важно, вот они и стараются.
— В этом вопросе вы должны разбираться лучше меня,
капитан.
— Еще бы, черт побери! И в этом вопросе и во многих
других.
— Ну конечно, и у вас твердая рука. Вы бы не
допустили, чтобы вам плевали в лицо. Вы бы им показали,
и, если бы они не смирились, не проявили бы к вам
должного уважения и не заулыбались бы, вы поволокли бы
их в Мито и каждого превратили бы во вьетконговца
Вы показали бы свою твердость, капитан.
— Их нечего превращать во вьетконговцев, они и
так вьетконговцы. И были вьетконговцами, когда вы
еще учились в Вест-Пойнте, лейтенант. Они стали
вьетконговцами задолго до того, как вы стали тем, что
вы есть.— «Тоже мне война,— подумал он,— улыбайся
каждому крестьянину, будь добр, будь вежлив. Что ты
сделал в этой вьетнамской войне? Убил трех
вьетконговцев и расцеловал триста сорок шесть крестьян».
Они разошлись, недовольные друг другом и собой.
Этот взрыв раздражения был неожиданным для обоих.
Друзьями они, конечно, не были — этому мешала слишком
большая разница в характере и образе мышления,—
но, во всяком случае, уважали друг друга, подавляли
в себе, насколько возможно, раздражение и неприязнь
и остерегались вступать в философские споры. Правда,
иногда что-то вырывалось наружу, но вспышки вроде этой
были очень редки, и оба чувствовали теперь, что поступили
неправильно, и оба были смущены. В этой стране
хватало настоящих врагов, и ссориться было ни к чему.
Поэтому они инстинктивно разошлись, чтобы немного
остыть.
Бопре шагал впереди, испытывая облегчение. Во
всяком случае, теперь можно было выпить воды; он понимал,
что мысль о воде все время подспудно его мучила, но он
выполнил данный себе зарок, и теперь каждая
выигранная минута была еще одной победой. Однако пить
хотелось невыносимо, и жара совсем его вымотала.
Правда, ноги пока еще слушались его и не подгибались.
Но жара окутывала и сжимала Бопре со всех сторон.
Он был заперт в ней. Пот струился по его лицу, и,
высунув язык, он мог ощутить соленые капли, пот
62
застилал ему глаза, он чувствовал, что волосы под
шляпой слиплись от пота (он начинал лысеть и
считал, что во Вьетнаме волосы у него стали выпадать
гораздо быстрее, так как под шляпой образуется что-то
вроде паровой бани, выгоняющей волосы из пор).
Темные пятна под мышками исчезли — просто остальная
часть формы сравнялась по цвету и издали казалась
лишь чуть темнее, чем у других. За утро к пятнам под
мышками прибавилось пятно пониже спины, затем
появились пятна на коленях и темная полоска по ободку
шляпы. Этот процесс продолжался до тех пор, пока вся
форма не промокла насквозь. Бопре взглянул на часы
и прикинул, сможет ли он выдержать еще десять
минут. Он решил постараться и поглядел на вьетнамцев:
только у очень немногих форма чуть потемнела под
мышками. Он выдержал еще шесть минут, потом открыл
флягу и поднес ее ко рту. Он сам удивился тому, как
жадно он глотал воду, а потом пришел в ужас, обнаружив,
сколько успел выпить. Когда он завинтил флягу, она
стала заметно легче.
Бопре взглянул на часы и вспомнил, что следовало
бы поговорить с КП. Он подошел к Андерсону, который
нес рацию, и велел ему связаться с дежурным. (Идея
самостоятельной радиосвязи принадлежала полковнику —
советники других частей, как правило, обходились
вьетнамской радиосвязью, но полковник пожелал иметь свою;
он знал, что вьетнамцам это не нравится, но считал,
что это заставит их быть честнее, а также быстрее
передвигаться, в результате чего можно будет избежать
ненужных потерь.) Андерсон включил рацию. Голос
дежурного по КП звучал очень явственно: ни на востоке,
ни на севере противник не обнаружен.
— А как вертолеты?— спросил Андерсон.
— Тоже ничего,— ответил дежурный.— Отличное
приземление. Просто отличное.
— Почему же отличное?— поинтересовался Андерсон.
— Потому что ничего не произошло. Большой Уильям
говорит, что для пилотов это был настоящий отдых. Все
три машины сели, и ни единого выстрела. Даром деньги
получат.
— Если все идет так отлично, черт побери, то где же
вьетконговцы?— проворчал Бопре.
— Долгая прогулка под жарким солнцем — и все,—
63
сказал лейтенант. Это была одна из его излюбленных
фраз.
Бопре кивнул. Значит, его опасения были напрасны.
Он боялся вертолетов, так как изучал войну, изучал,
когда она особенно грозит смертью, и пришел к выводу,
что нет ничего опаснее вертолетных десантов,
приземляющихся на открытой местности, где, возможно,
противник уже ждет в засаде. Аппарат советников
терял не так много людей, но если случались потери, то
они в большинстве случаев (Бопре был в этом уверен)
имели место именно в подобные моменты. Он считал,что
идти с ротой или батальоном намного безопаснее —
шансов погибнуть меньше, явно меньше. И вот на этот раз
он перехитрил самого себя. Его отряду предстоял более
долгий переход, чем отряду, вылетевшему на вертолетах.
А это означало не только более продолжительный бой со
вторым противником — солнцем, но и гораздо больше
шансов погибнуть, так как рейнджеры превосходили
численностью его отряд и, следовательно, вероятность
нападения на них была меньше.
Андерсон, насколько мог судить Бопре, обрадовался
сообщению КП. Он, таким образом, ничего не потерял,
не полетев с воздушным десантом. Он думал, что лишился
чего-то захватывающего, но оказалось, что ровно ничего не
произошло.
— Опять пустой номер,— сказал Андерсон. К
возможности смерти он еще не относился с достаточным
цинизмом, но уже оценивал здраво боевые операции.
И Бопре иногда казалось, что со временем он, пожалуй,
мог бы изменить свое отношение к Андерсону. Мог бы,
если бы его жена не была такой белокурой,
хорошенькой и загорелой, если бы у Андерсона была одна ее
фотография, а не три, если бы она не писала лейтенанту
по два раза в день и если бы перестала писать, что
мечтает о его возвращении, чтобы, как доверительно
сообщал ему лейтенант, забеременеть и родить двойню.
А у Бопре не висело над письменным столиком никаких
фотографий, и писем он почти не получал. И вообще все
было неясно. Его брак был не очень удачным, и он
предпочитал не думать об этом. Когда ему предложили
вернуться в войска, ведущие борьбу с партизанами, он
согласился — отчасти из-за своей семейной жизни: он
смутно надеялся, что разлука с женой либо сблизит их,
либо приведет к окончательному разрыву, хотя и не знал,
64
чего ему больше хочется. Но теперь он пришел к выводу,
что эта война, бесплодная во всех отношениях, окажется
не более плодотворной и для его личных дел.
— Вы ведь не очень любите вертолеты,— сказал
Андерсон.
— Да,— сказал Бопре.— Не люблю.
— Отчего?
Бопре взвесил, может ли он сказать Андерсону все —
что дело не только в вертолетах, а во всех новинках
этой войны. Вертолеты. Собаки-ищейки, которые якобы
способны без промаха обнаруживать вьетконговцев,
но которые, взбесившись от жары, кусают самих же
американцев. Специалисты по очистке воды. Специалисты
по психологической войне. Штатские в военной форме.
Военные в штатском. Слова, которые значат как будто
одно и всегда подразумевают другое. Все это, а главное —
вертолеты, в которых негде укрыться, негде притулиться,
потому что, где ни сядешь, твой зад все равно виден и,
что еще хуже, высоко поднят, и некуда бежать... Нет,
все эти новшества не для него.
— Оттого, что на вертолете противник видит вас
лучше, чем вы его,— так уж они устроены. Вот проверьте,
и наверняка окажется, что вертолеты изобрели
коммунисты.
Он снова направился к голове колонны, а Андерсона
отослал назад. Жара уже начала оказывать на него свое
действие, и дело было не столько в том, что у него устали
ноги, сколько в том, что теперь его радовала
медлительность вьетнамцев. Он спрашивал себя, зачем он здесь,
для чего принимает участие в этих операциях. Ведь
предоставлял же ему полковник возможность не
участвовать в них. Перспектив на повышение у него нет,
так что все равно, пошел бы он на операцию или не пошел.
Для его карьеры это не имеет значения, так же как не
имеет значения для исхода войны. В этом отношении
у него не было никаких иллюзий. И полковник пред
лагал ему удобный выход. Он считал, что лишен ложной
гордости и все-таки идет туда, куда не хочет идти, и
участвует в войне, в которой не хочет участвовать.
Он ругал себя за глупость и за гордость, из-за
которой очутился тут,— именно такую ложную гордость
он приписывал людям вроде Андерсона. Он шел и
думал о том, что полковник предлагал отозвать его;
в эту минуту он мог бы сидеть на КП и по радио
3 Зак. 556
65
подбадривать рассерженных людей, шагающих где-то по
полю,— спокойнее, не надрывайтесь, никто не ждет от вас
невозможного!— или спорить с десантниками, доказывая
им полную безопасность зоны приземления, и все время
потягивать чай со льдом, который готовят по приказанию
полковника (эту практику ввел еще предшественник
полковника, убедившись, что сайгонские генералы,
заезжая на КП, всегда просят пить, а чай со льдом все-
таки лучше простой воды). Он знал, что из всех офицеров в
Мито он, пожалуй, самый циничный, и все же он из
горстки тех, кто ходит на операции, хотя один только
он не может рассчитывать на повышение и уже имеет
боевой значок пехотинца. Он снова напился, и продолжал
идти вперед, и продолжал потеть. Рука его опять было
потянулась за флягой, но в этот момент они вошли в
полосу дождя.
Впереди серебряная полоска горизонта вдруг
потемнела. Через несколько минут изменилась вся местность:
где уже шел дождь, а где еще светило солнце. Потом
перед ними возникла сплошная стена дождя — это был
настоящий тропический ливень, и они вошли в него. Но и
дождь двигался им навстречу. Бопре ступил под струи
дождя, словно под душ, а слева, шагах в пятидесяти от
него, никакого дождя не было. За время пребывания
во Вьетнаме он не раз входил в такие ливни и всегда
испытывал благоговейный страх — в такие минуты ему
хотелось снова стать ребенком, чтобы это ощущение
благоговейного страха стало еще сильнее. Он знал, какие
страдания последуют теперь: его форма насквозь
промокнет и отяжелеет, как полотенце, упавшее в
наполненную ванну, а затем солнце начнет палить еще
беспощаднее и высушит форму, задав ему жуткую паровую
баню. А потом снова пойдет дождь, снова выглянет
солнце, снова пропарит его — и опять сначала.
Возможно, эта форма пытки и в моде в салонах красоты,
но здесь она ни к чему. Тем не менее он готов был ей
подвергнуться и радостно выругал дождь. Не замедляя
шага, он задрал голову, открыл рот, ловя струи воды,
и на мгновение подставил небу раскрытые ладони.
Из-за дождя Тыонгу стало труднее идти. Он должен
был ступать на носки, а в мокрую землю надо упираться
пятками. Нога по-прежнему болела, хотя меньше, чем он
66
опасался. Однако он знал, что на следующий день она
заболит сильнее, а на следующий — еще сильнее.
Позади него солдаты смеялись, вспоминая деревню, из
которой они недавно ушли. Один сказал, что, если не
считать беременных женщин, вьетконговцев там не было, а
другой заметил, что он очень часто посещает эти места
и уж наверняка произвел на свет не меньше пяти
вьетконговцев. Несколько солдат засмеялись. И тогда
первый солдат сообщил, что, когда они входили в деревню,
женщины говорили: «Вот идет рота рядового Тхана —
козлиная рота». Раздался общий хохот.
Эта деревня чем-то тревожила Тыонга, пока он был
там, однако теперь, когда они из нее ушли, тревога,
как ни странно, только усилилась. Чего он не сумел
уловить — это какого-то настроения, которое он осознал
только после ухода. И не раньше. Они не просто
держались с ними враждебно и даже презрительно,
они были слишком спокойны, слишком уверены в себе,
как будто знали что-то такое, чего не знал он. Они словно
ожидали его прихода, ожидали допроса и даже
отрепетировали ответы. Да, они встретили его и солдат чересчур
уверенно и невозмутимо.
Ему с самого начала не нравилась эта операция —
и не столько сама по себе, сколько из-за того, во что она
могла превратиться. Ему надоело шататься по району, не
обнаруживая противника и не желая его обнаруживать,
и эта операция, он не сомневался, тоже сводилась к
уклонению от встречи с противником под видом его
поисков.
Капитан Динь, офицер разведки и один из немногих
людей в штабе, к которым Тыонг относился с доверием,
сообщил о передвижении отряда противника к юго-
западу от Мито. По его данным, отряд находился
примерно в пятнадцати километрах к югу от Мито, и его
нетрудно было обнаружить. Динь был невысок ростом и
застенчив, чем, по-видимому, и объяснялось его
зачисление в разведку: в то время никто не придавал
разведывательной службе серьезного значения и туда
направляли заведомо малопригодных людей. Но сам Динь
был доволен этим переводом; однажды он признался
Тыонгу, что смертельно боялся, как бы его не назначили
командиром строевой части: «Предположим, я отдам им
какой-нибудь приказ, а они пропустят его мимо ушей и не
двинутся с места. Я знаю, так все и произойдет:
3*
67
они посмотрят па меня и будут делать то, что им нравится.
Ведь они же все старше меня».
Избавленный от страшной необходимости отдавать
приказы сотням соотечественников, которые дружно не
стали бы их выполнять, Динь усердно взялся за своп новые
обязанности и оказался очень хорошим офицером
разведки — настолько хорошим, что многих его начальников
эго даже раздражало. Тыонг не без интереса наблюдал,
как вначале Динь, еще наивный, неопытный и
действительно опасно добросовестный, с энтузиазмом сообщал
свои данные, не понимая, что никто не желает их
знать, не замечая, что, чем больше он говорит, тем
меньше его слушают и с каждой минутой молчание
вокруг него становится все более подчеркнутым. В конце
концов Динь научился быть хитрее и умерил свой пыл,
но у него оставалась в деревнях горстка надежных
осведомителей, и он упорно сохранял им верность:
если эти люди рисковали собой, живя, в сущности,
среди врагов, то он, Динь, заставлял высокое начальство
выслушивать то, что они сообщают. Тыонга эта ситуация
очень забавляла. Из всех офицеров в Мито, не имевших
шансов стать майорами, Динь был первым (помимо
самого Тыонга). В последний раз Динь излагал
полученные им сведения спокойно и уверенно, хотя и не так
категорично и убежденно, как год назад. Когда он
кончил, командир дивизии полковник Ко похвалил его,
а затем изложил свой план операции с кодовым названием
«Счастливый зеленый цветок». Диня этот план не
слишком обрадовал. «Это,— сказал он Тыонгу в частной
беседе,— политическая операция, задуманная уже
довольно давно и утвержденная не менее десяти дней назад».
Его тревожило, что разведывательные данные, на основе
которых планировалась операция, могли уже устареть да
и вообще вызывали сомнения. Они были получены
из источников, которым Динь не вполне доверял, и собраны
губернатором провинции, другом Ко. Диня тревожило
и другое: за последние сутки поступили кое-какие
новые сведения — в том числе и от агентов, которым
он доверял,— говорившие о передвижении противника.
Динь не знал точно, что это за передвижение и какова
его цель, но счел своим долгом доложить о нем
командованию. Полковник Ко сначала как будто растерялся и
встревожился, но затем широко улыбнулся и заявил, что
эти данные, безусловно, подтверждают правоту губернэ-
68
тора провинции и что операция «Счастливый зеленый
цветок» уничтожит много вьетконговцев.
Мне не нравится ваш «Зеленый цветок»,— сказал
Динь Тыоигу.
— Благодарю, но это ваш «Зеленый цветок»,—
ответил Тыонг.— Я же просто иду туда, куда велит мой
офицер разведки.
— О!— сказал Динь.— Вы самый высокомерный
офицер в Мито, настолько высокомерный, что
позволяете себе отличаться от остальных. По сравнению с
вами все они простаки.
— cj попрошу Ко, чтобы он послал вас с нами и
поставил командовать отрядом,— сказал Тыонг.
Тыонг чуть ли не ликовал, представляя себе, как Ко,
очень давно запланировавший операцию, вдруг в
последнюю минуту узнал, что вьетконговцы, по всей вероятности,
находятся именно в этом районе. Ко, безусловно,
взбесился, поскольку изменить план операции теперь
значило бы поставить себя в глупое положение в глазах
американцев, губернатора провинции и большинства
офицеров штаба. Но тут размышления Тыонга были
прерваны. Солдаты из головной части колонны привели к
нему тощего старика, который, по их словам, шел на юг.
Старик сразу упал па колени и что-то забормотал.
Тыонг велел ему встать— он ведь не перед священником
и не на исповеди. Но крестьянин только испугался
еще больше и продолжал стоять на коленях. Тыонг
повторил, чтобы он встал: никто его убивать не собирается,
все они и без того устали.
Краем глаза Тыонг увидел приближавшегося
американского лейтенанта и сделал ему знак отойти. Толстый
американец, который был всегда сердит и открыто
ругал вьетнамцев, не интересовался допросами, не
понимал их и не любил. Тыонг улыбнулся Андерсону,
чуть ли не подмигнул ему, а про себя подумал:
«Ну почему ты не можешь быть таким, как твой
толстый друг?» Повернувшись к крестьянину, он начал
привычный разговор:
— Что-то ты слишком быстро ходишь для старика.
Старик сказал, что он человек старый и неимущий,
и если он не будет ходить быстро, то станет еще беднее.
Они обменялись несколькими фразами на эту тему, и
старик сказал, что он ушел из Апчуньбе, оттуда уходят
сегодня все жители. Нет, это не его деревня (он удивленно
69
спросил Тыонга: разве он похож на кого-нибудь из
жителей Лпчуньбе?), он живет в соседней, его деревня
больше. Приходил ли в его деревню Вьетконг? Нет, он не
Вьетконг. Тыонг сказал, что он в этом не сомневается,
и снова спросил, приходил ли Вьетконг в его деревню. Нет,
не приходил. Тогда почему жители Апчуньбе ушли из
своей деревни? Он не знает, это не его деревня, и ее жители
с ними не разговаривают, они вообще очень странные.
— Ты не доверяешь людям из этой деревни?—
спросил Тыонг.
/la, именно так (и улыбка, выражающая
почтительное изумление по поводу того, что лейтенант столь
осведомлен об обеих деревнях). Л в его деревне нет
Вьегкопга? Пет, никакого Вьетконга там нет.
— А если мы велим тебе пойти вперед проверить
дорогу?
— Ваша Bvj.jh, вы начальник.
Тыонг прикинул, какой процент правды был в том,
что сказал старик. Может, процентов двадцать, а может,
и меньше. Но что теперь правда в этой стране, можно ли
ее найти, а если и можно, какое это имеет значение?
Скажешь правду — тебя убьют, скроешь ее, солжешь —
и, быть может, останешься жив; правда — это
смертоносная роскошь. Человек хочет жить — вот она правда,
и ради этого он лжет. И все, что он говорит,
диктуется не честностью, а желанием урвать еще один
день жизни. «Вот она — великая правда,— подумал
Тыонг.— Самое главное — жить». Так что старик говорил
правду: он не видел вьетконговцев, он ничего не
слышал про них и ничего не может сказать. Возможно,
накануне, когда в его деревню приходили вьеткопговцы,
он говорил ту же правду: нет, он не видел чиновников
правительства, никогда не платил им налогов и ничего не
слышал о правительстве.
— Почему ты говоришь одну неправду?— спросил
Тыонг старика.— Ты думаешь, что я глупый? Ты думаешь,
что я глупее тебя?
Он не знал, что делать дальше. Он мог бы отправить
старика в голову колонны, или связать и заставить
идти в хвосте, или надеть ему на шею веревку и
вести, как собаку. «Но уж если ты решишь проделать
это,— с некоторой горечью подумал Тыонг,— так подбери
70
какого-нибудь крестьянина посолиднее, а не этого,
этот и весит-то не больше тридцати килограммов».
Он подозвал к себе солдата и велел отпустить
старика. Он понимал, что действует неправильно (согласно
инструкции, ему полагалось задержать этого человека)
и что у него из-за этого могут быть неприятности,
но он слишком устал и не чувствовал в себе силы
поступить с этим крестьянином по правилам войны и
выжимать из него правду до тех пор, пока он не
превратится в бесформенное месиво за несколько капель
этой прекрасной правды.
Старик опять стал на колени, что-то объясняя,
молясь и благодаря Тыонга, и, рассердившись, лейтенант
крикнул солдату:
— Убрать его! Убрать его отсюда! Немедленно!
Через пять минут после того, как пленного отпустили,
к лейтенанту подошел Данг и выразил надежду, что
крестьянин сообщил что-то хорошее — что-то хорошее
о Вьетконге.
— Что вы подразумеваете под «хорошим»?— спросил
Тыонг и подумал: «Да, я высокомерен».
— То, что они близко и мы разнесем их вдребезги,—
ответил Данг.
Тыонг посмотрел на капитана и подумал, что тот уже не
разбирает, когда разговаривает с вьетнамцами, а когда с
американцами. «Даже с вьетнамцами они разговаривают
так, словно произносят речи,— подумал он.— Они
окружают себя себе подобными: полковник Ко окружил себя
маленькими ко, и Данг один из них, поэтому Ко произносит
речи в поучение самому себе. А данги в свою очередь
окружают себя дангами помоложе и пониже чином и
произносят такие же речи, только, может быть, менее
пышные».
— Что же он сказал?— повторил Данг свой вопрос.
— Он сказал, что никогда не встречал ни одного
вьетконговца и не доверяет жителям соседней деревни.
— Он коммунист?
— Возможно. Он притворялся, что боится нас. Не
знаю. Может быть, да, а может, и нет.
— Вы задержали его?
Тыонг покачал головой. Данг прекрасно знал, что
пленного отпустили, но это все была игра. И Данг,
конечно, сердито спросил, почему это было сделано.
71
Отпущен коммунист, который сообщит, где они находятся,
сколько у них оружия (а также где в колонне
идет командир, с иронией подумал Тыонг).
— Мне не хочется таскать с собой стариков. Если бы
мы его задержали, нам пришлось бы идти медленней,
а убивать такого старика не стоило. К тому же они,
вероятно, и так знают, где мы находимся. Три наших
отряда идут по направлению к одному пункту.
Надо быть дураками, чтобы не догадаться, куда мы идем.
Данг пришел в ярость. Его голос стал резким и
злобным, а Тыонг слушал, почти забавляясь бешенством
Данга, он давно уже не боялся таких вспышек.
Он слушал слова «нарушение субординации»,
«невнимание к моим солдатам» и смотрел на вспотевшее лицо
Данга — оно блестело. «Интересно,— подумал он,—
изменит ли капитан свое место в колонне?» Он слушал,
как Данг заявил, что отныне будет вести все допросы
сам. «Без чая и без лекарств!»— кричал Данг.
Тыонг дал капитану кончить и хотел было сказать
что-нибудь высокомерное, но сказал только:
— Я уверен, мой капитан, что у вас все пойдет
хорошо, и я благодарю вас.
— Вы что-нибудь узнали у этого крестьянина,
капитан Данг?— несколько минут спустя спросил Бопре.
— Нет,— ответил Данг.— Это был простой старик. Он
шел на базар, и я его отпустил.
Немного погодя к Бопре подошел Андерсон и сообщил
о том, что он наполовину понял, а наполовину
угадал. Он наблюдал за разговором вьетнамских офицеров
и заметил, какое спокойное, почти веселое лицо было у
Тыонга и как явно взбешен был Данг.
— Данг устроил Тыонгу разнос за этого пленного,—
сказал Андерсон.
— Кто такой Тыонг?— спросил Бопре.
— Вьетнамский лейтенант,— ответил Андерсон.
— А, этот,— сказал Бопре.— Нахальный. Ваш
напарник. Когда-нибудь,— добавил он,— если мы будем
умными и храбрыми и нам повезет, мы захватим
вьетконговский штаб, и не обнаружим там ни одного
молодого человека. Да, сэр, никого, кроме тощих стариков
и старух. Никого моложе пятидесяти. И вот тогда-то мы
узнаем, что ежедневно отпускали на свободу одних
только вьетконговских полковников и генералов, что
72
каждый старый оборванец, возившийся со сломанным
велосипедом, был вьетконговским генералом.
— Вы думаете, Данг прав?— спросил Андерсон.
— Этот стервец никогда не бывает прав. Пусть он даже
кончит войну завтра или, что еще лучше, отправит
завтра меня домой, он все равно будет не прав. Ему
нужна только статистика. Он, конечно, и бесился потому,
что они не убили этого беднягу крестьянина. Ведь он
бы тогда наверняка сообщил по начальству, что они
захватили винтовку. А лейтенант что-нибудь ответил
Дангу?
Андерсон покачал головой.
— Жаль. Этот лейтенант куда лучше стервеца
Данга.
— Что вы думаете о нашем положении?— спросил
Андерсон.
— А вы не забыли, что я вам говорил на прошлой
неделе? Вот это я и думаю: надо бы вам, мой юный герой,
приобрести дополнительную страховку.
Они продолжали идти под жарким, неумолимым
солнцем, и утро заволакивалось тупой скукой, которая
отнимала у них столько времени и сил. Солнце
давило на них, и они не разговаривали друг с другом,
потому что говорить было не о чем. Жалобы на жару не
могли ни умерить ее, ни отвлечь их мысли — жара
была слишком сильна, и они думали только о ней и шли,
шли машинально, почти на грани безумия, а время текло
медленно и давило их. Они переставляли ноги, не
сознавая, что идут.
Жара оставалась жарой, и никто ничего не мог
изменить. Когда Бопре еще только приехал, он вместе
с другими советниками добивался согласия полковника
на то, чтобы операции проводились не в дневное, а в
ночное время. Однако добивался он этого совсем не
из тех побуждений, что остальные — молодые, горячие
офицеры, которые доказывали, что противник
предпочитает передвигаться и атаковать ночью и поэтому им
следует делать то же. Бопре в принципе был с этим
согласен, но сам он думал вовсе не о том, чтобы
гоняться за маленькими вьетконговцами, которые ночью
расхаживают без всяких опасений,— он думал о ночной
прохладе и о том, что ночью на марше не придется
73
раз за разом умирать от жары. И когда полковник
спросил его мнение, он сказал: «Конечно, почему бы и
нет?» Полковник, опытный офицер, продолжал
сомневаться и все спрашивал, действительно ли они к этому
подготовлены, потому что неудача может привести к
самым тяжелым последствиям. Но молодые офицеры были
уверены в своей правоте: они обсудили эту идею со
своими вьетнамскими коллегами, и те единодушно
поддержали ее. Словом, за ночные операции были как
будто все, кроме полковника (что отнюдь не объясняло,
почему никто еще не испробовал этого раньше). В конце
концов полковник сдался, уговорил Ко, и Бопре получил
возможность наслаждаться на марше ночной прохладой.
Но оказалось, что полковник был все-таки прав: они не
были готовы к ночным операциям, и затея эта кончилась
крахом. Ночная тьма только выявила все их слабости:
батальоны отрывались от полков, роты — от батальонов,
взводы — от рот. Потом в течение нескольких дней на
базу в одиночку и группами возвращались заблудившиеся
солдаты, и никогда — ни до, ни после — число дезертиров
не было так велико. В кромешной тьме войска брели
вслепую неизвестно куда, и один советник батальона,
человек в этих местах новый, в ответ на запрос по
радио, где они находятся, ответил: «У деревни Аптиен-
лыок — так написано на дощечке-указателе». Этот ответ
передали полковнику, который до того сохранял
спокойствие и выдержку, а тут вдруг почувствовал, что в глазах
Сайгона виноват в случившемся будет он, а не молодые
офицеры, и в бешенстве закричал радисту: «Скажите
этому дураку, что как в Штатах надпись «Осторожно,
пешеходы» вовсе не означает, что это название данного
места, так и тут «Аптиенлыок» перед каждой деревней
всего-навсего значит: «Стратегический пункт».
Полковнику ночная операция не доставила никакого
удовольствия, как и Бопре. Отсутствие солнца не
компенсировало всего прочего: Бопре устал, его жрали москиты и
мучил страх, что ему нечаянно выстрелит в спину
кто-нибудь из его же отряда или уложит наповал,
скажем, Ролстон, если они натолкнутся на другой
батальон. Благодаря этой ночной операции терпеть
дневные стало чуть легче.
От жары страдал не он один. Андерсону тоже
приходилось нелегко, но для Бопре даже ходьба
представляла проблему. Он то и дело прикладывался к
74
фляге, потеряв всякую выдержку и забыв о собственных
правилах. Жара начинала не на шутку тревожить его.
Правда, головокружения еще не было, но он потерял
уверенность в себе и боялся думать о том, как может
кончиться этот день. Теперь они дошли до сложной
сети каналов, тянувшихся между деревнями, и Вопре
почувствовал особенную усталость, словно он вбирал в
себя всю энергию солнца и потом ее излучал. Вместо
мостков через узенькие каналы были переброшены
скользкие жерди. Именно эту часть пути Бопре ненавидел
больше всего. По этим ненадежным мосткам нужно
было ступать быстро, ни на секунду не замедляя шага.
Если канал был пошире, вьетнамцы втыкали сбоку
от мостика шест и, переходя, хватались за него. Бопре
терпеть не мог эти проклятые мостики — человек его
сложения выглядел на них смешно. («Нужно только,
капитан,— говорил ему полковник, не щадивший его в
первые дни,— вообразить себя балериной, и все сразу
станет очень просто».) Бопре не раз уже срывался с этих
мостков. С самого начала ему казалось обидным и
унизительным, что человеку его возраста приходится,
согнувшись, неуклюже балансируя, бежать по тоненькой
жердочке, изображая грациозную походку, а потом со
всего размаха плюхаться в воду на глазах у хихикающих
солдат. («У этих коротышек,— думал он,— центр тяжести
расположен ниже, не будь они такими плюгавыми, они
бы так не смеялись».) Он считал, что нельзя ставить
человека его возраста в столь дурацкое положение.
Это уж его дело, когда, где и как строить из себя дурака.
Первый из трех каналов он перешел благополучно
(идя по мостику, он взглянул на сложную сеть каналов
и подумал, что это идеальное место для засады:
отряд не мог бы продвинуться ни на шаг, пришлось
бы подставлять под пули солдата за солдатом — один
мертвый солдат за другим). Но он устал и на втором
мостике допустил ужасную ошибку — посмотрел себе под
ноги и подумал, что может упасть. Внизу текла вода —
мутная, грязная, теплая, отвратительная жидкость, полная
нечистот. Он покачнулся и едва не упал.
Третий канал был немного шире первых двух, и Бопре
начал нервничать еще до того, как ступил на мостик.
Вьетнамцы двигались по жердям медленно, так что
образовалась пробка, и Бопре пришлось остановиться;
дожидаясь очереди, он посмотрел на шаткий мостик, сколь-
75
зкий от грязи с солдатских подошв. Он простоял так
слишком долго и когда наконец сошел на мостик, то
словно под воздействием самовнушения покачнулся,
сорвался с жерди и упал в воду — это произошло
как-то не сразу, и, прежде чем коснуться плечом воды,
он успел протянуть одну руку вниз, а другую, с
пистолетом, поднять. Он ушел с головой в теплую
грязную жижу и, хотя попытался плотно сжать губы,
все-таки хлебнул воды. Он вынырнул, отчаянно
отплевываясь, откашливаясь и проклиная каналы, мостики,
воду и всю эту страну (себя самого он проклинал
очень редко). Он был взбешен, форма его пропиталась
грязной, теплой водой, которая не освежала, несмотря на
жару. Он поглядел на вьетнамцев, все еще стоявших
на мостике, но они молчали. Сердито хмурясь, он вылез на
берег и пошел было дальше, как вдруг заметил, что
потерял свой пистолет (собственно говоря, не свой, а
Ролстона: они обменялись пистолетами, потому что
Ролстону понравился его люгер; в обойме ролстоновского
кольта было всего два патрона, Ьопре потребовал еще
четыре, но Ролстон сказал, что хватит ему и двух — один
для вьетконговца и один для себя). Бопре с отвращением
снова спустился в грязную воду — он никогда раньше не
думал, что вода в канале может быть такой теплой,—
и, присев на корточки, начал шарить рукой по дну:
окунаться с головой он ни за что не хотел. Но пальцы его
хватали один ил. Тогда с мостика спрыгнул солдат и
вопросительно посмотрел на Бопре. Тот жестами показал,
что ищет пистолет, и вьетнамец, точно водолаз, ушел под
воду. Через секунду он вынырнул, гордо держа пистолет.
Бопре, еще острее почувствовав унизительность своего
положения, неуклюже поблагодарил его и впервые
сообразил, что не знает, как по-вьетнамски «спасибо». Он
сунул было руку в карман за деньгами, но тут же
решил, что это будет еще хуже. Он улыбнулся солдату,
и тот ответил ему улыбкой. Бопре чувствовал себя
старым и глупым. Он пошел дальше, но походка его уже не
была такой самоуверенной. Солнце высасывало теплую
воду из его одежды. Потом он подумал, что ему еще
повезло: не хватись он тотчас, пришлось бы объяснять
Ролстону, куда девался кольт и эти два патрона. Он
так и не дозарядил обойму.
Бопре достал флягу и прополоскал рот, израсходовав
часть драгоценной влаги. Он даже не был уверен, что во
76
рту у него действительно дурной вкус, но так ему казалось,
а остальное не имело значения. Он выплюнул воду.
Фляга катастрофически пустела — он видел это по
наклону, когда подносил флягу ко рту. Осталось,
видимо, не более трети. Надо было взять запасную
флягу. Это определенно имело смысл: во время второй
мировой войны на юге Тихого океана солдаты носили по
две фляги, правда, они никогда не знали, сколько им
придется ждать, пока подвезут воду. Однако в семинарии
никто с двумя флягами не ходил, так что он вновь
страдал из-за своей ложной гордости. А ведь как просто —
взять две фляги.
Бопре попросил Андерсона связаться с КП. Дежурный
сообщил, что все идет прекрасно, без сучка и задоринки
И пока никто -ничего не напутал. (Бопре уловил в
этих словах намек на то, что все пройдет гладко,
если Данг и Бопре ничего не напутают.)
— Как там Ролстон?— спросил Бопре.
— Несколько старух по обыкновению обозлились на
наших дружков и набросились на них, а Ролстон решил
разыграть из себя мудрого судью и помирить их, да
только эти бабы чуть не выцарапали ему глаза. Говорит,
никогда еще не видел, чтобы женщины так злобствовали,
по сравнению с ними даже собственная супруга
показалась ему настоящей леди. Тут он взбесился и трех
из них арестовал. Говорит, что страху натерпелся, как
никогда в жизни; он им кричит: «Я ваш друг, я ваш
друг, я добрый американец!»— а они все равно лезут на
него. Да, кстати, он просил вам кое-что передать.
Будете слушать?
Бопре сказал, что будет.
— Ролстон просит передать, что у него там чертовски
жарко, и спрашивает, как дела у вас. Он договорился
с полковником, что вернется на базу на вертолете,
если будет дополнительный рейс, а вы пешком дойдете.
Говорит, что вы поймете его, поскольку вы с ним приятели.
— Ладно,— сказал Бопре.— Так ему и передайте.
Пусть пролетают над нами, чтобы мы могли их по-
дружески приветствовать.
— Полковник тоже о вас справлялся,— сказал
дежурный.— Спрашивал, как дела и все ли в порядке. Я сказал,
что все хорошо и вы, как всегда, полны бодрости, но он,
кажется, немного беспокоится. Просил ему сообщить,
если жара вас совсем замучает.
77
— Скажите ему, чтоб не беспокоился. Жара как
жара,— сказал Бопре, но позже он усомнился в
правильности такого ответа: пожалуй, лучше было бы вернуться
санитарным вертолетом. И еще он подумал о том, не
сказал ли чего-нибудь Андерсон полковнику.
Они продолжали идти, и Бопре смотрел на солдат
с невольным уза,кением. Они словно не замечали жары.
Она их не угнетала. «Как будто вышли на прогулку»,—
подумал си. У солдат была с собой еда, и кое-кто уже начал
пощипывать холодный, слипшийся в комья рис. Другие
грызли стебли сахарного тростника. Тростник они
предлагали и Бопре, но он отказывался, хотя и любил
высасывать из тростинок сок. Он считал, что сок этот, как и
кока-кола, только усиливает жажду. Слишком он сладок.
Обычно после первого часа марша, если, конечно, не
появлялся противник, солдаты начинали держаться
вольнее: шум шагов и разговоров становился громче, шли
они медленнее, то и дело раздавались смешки. Иногда
Бопре сравнивал их с американскими солдатами и
ужасался их легкомыслию и беззаботности в боевой
обстановке. Порой ему казалось, что схватки с
противником являются лишь временным нарушением привычного
течения их жизни — точно гроза. Они шли и шутили,
потом натыкались на засаду, несколько человек падали
убитыми, бой кончался, и они снова шли, смеясь и
болтая, не усмиренные даже смертью. Американские
солдаты, каковы бы ни были их недостатки (а недостатков
этих было много), не относились к смерти с такой
легкостью. Бопре попытался представить себе, что было
бы, если бы американцам пришлось воевать в одной и той
же местности лет пять или больше. Намного ли отличались
бы они тогда от вьетнамцев? Он и в себе находил
перемены; когда он только приехал сюда, он был во
всеоружии той внутренней подтянутости и
дисциплинированности, которые выработались у него за время второй
мировой войны и потом в Корее; он по-прежнему был
профессиональным военным, но теперь, думал он, это
был более расслабленный, более акклиматизированный
профессионализм. Он плыл по течению и уже не отдавал
себя на все сто процентов войне, которая велась лишь на
пять процентов мощности. Лучше всего, конечно,
считать — как им это советовали и даже приказывали во
78
время политического инструктажа,— что вьетконговцы в
любую минуту могут выскочить из-за каждого куста, из
каждого канала, хижины. («Вьетконг всегда там, где
мы его не ждем. Вьетконг всегда хитрее нас. Мы спим, а
Вьстконг думает, строит планы, чистит оружие»—
так было сказано на последнем инструктаже.) Но
если руководствоваться этими наставлениями, то очень
быстро измотаешься. Тут слишком много кустов, каналов
и хижин, чтобы всех их бояться, а вьетконговцев
слишком мало, чтобы они могли всюду прятаться.
Только сумасшедший мог бы свои первые три операции
провести, выискивая всюду вьетконговцев, к началу
четвертой он обессилел бы и физически и душевно, и вот
тут-то вьетконговцы его бы и укокошили. Такой паршивой
войны нарочно не придумаешь. Нет, лучше идти,
как идешь, и не слишком усердствовать. На этой войне,
если хочешь, чтобы тебя не застали врасплох, нужно
вжиться в нее и почувствовать ее ритм. Лейтенант
Андерсон — другое дело: он молод, честолюбив и еще не
насытился войной, а потому не признает
расслабленности. Для него каждая засада — это противник и
исполнение долга, каждый вьетконговец — новый шаг к
повышению, каждая успешная операция — победа во имя
родины, во имя долга, чести,— родины и Вест-Пойнта.
Он уже встречал таких лейтенантов раньше, в Корее
например. В Корее казалось, что их просто штампуют —
молодые, сильные, абсолютно бесстрашные, они точно
сходили с бесконечного конвейера. Они вели солдат в
бой, часто с излишней доблестью, и гибли. Их увозили
назад очень-очень скоро. Они гибли красиво, и солдаты
жалели о них ^ему ни разу не доводилось слышать
в Корее, чтобы солдаты, готовые ругаться по любому
поводу, жаловались на молодых офицеров. И это
относилось не только к выпускникам Вест-Пойнта, но ко всем:
может, курсанты СПОЗ* стремились доказать, что они
ничуть не хуже самих вестпойнтцев). Веря всему, чему
их учили, они приезжали в Корею слишком быстро,
и гибли слишком быстро, и слишком быстро заменялись
новыми, точно такими же лейтенантами, которые рвались
заменить их. Иногда ему хотелось предостеречь их,
сказать, что их плохо инструктировали, что все это
ложь, что только осторожные выживут, вернутся на
родину и будут инструктировать других, что только
осторожные сделают карьеру. Но тем из них, кто уце-
79
лел, предстояло либо узнать это самим, либо не узнать
никогда, во всяком случае, ему бы они не
поверили: не пожилым армейским капитанам читать
наставления о том, как сделать карьеру. Молодые офицеры
согласились бы учиться только у того, кто сам сумел
ее сделать.
Впервые за весь день Бопре подумал, не бросает ли
на него тень то, что его не послали с воздушным
десантом. Как-никак десант — ответственное дело,
требующее самого лучшего личного состава, самой лучшей
координации, самых лучших отношений между
советниками и вьетнамцами и самых лучших офицеров — настоящих
тигров. Бопре же тигром никак назвать было нельзя
(когда полковник в разговоре с ним иронически назвал
тигром Данга, не имел ли он в виду и его, Бопре,
и не намекал ли на то, что один стоит другого и что
иного, лучшего советника Данг не заслуживает?).
Когда-то и он был тигром, умел убивать, и у него
было тренированное, хотя и несколько неуклюжее тело.
Но теперь он отяжелел и даже в свежевыглажен-
ной форме ухитрялся иметь слегка неряшливый,
помятый вид. Впрочем, не во всем следовало винить его
самого, просто он был слишком стар и толст для
этой войны, в которой совсем не хотел участвовать.
Он спокойно — чтобы не сказать равнодушно —
дослуживал в Соединенных Штатах свой двадцатилетний срок,
занимал должности, которые армия США когда-то
(никто уже не помнил, по какой причине) включила в
сферу своей компетенции, но на которые не считала
нужным тратить свои лучшие молодые кадры,— например,
под конец Бопре преподавал на курсах СПОЗ. Конечно,
он предпочел бы что-нибудь другое, но он не
распоряжался собой. На оставшиеся четыре года службы
право думать за него сохраняло правительство
Соединенных Штатов. Собственно говоря, преподавание на курсах
СПОЗ не было неприятной или обременительной
обязанностью, наибольшая трудность для него заключалась в
том, чтобы не ругаться, когда он беседовал с курсантами.
За несдержанность в выражениях он получил выговор и
два предупреждения, впрочем, подобным проступкам
большого значения не придавали, так как, по мнению
начальства, этот недостаток органически присущ старым
армейцам. Все бопре до него и после него получали
и будут получать примерно столько же выговоров —
80
как-то само собой разумелось, что человек, настолько
не преуспевший в армии, что он в конце концов попал на
такую должность, не способен следить за своим языком.
Но Бопре эта должность, в общем, устраивала. Он уже
давно потерял надежду на успех, выдвижение и прочие
чудеса, и его вполне удовлетворяли занятия по строевой
подготовке (курсанты СПОЗ, как правило, относились
к этим занятиям более добросовестно, чем новобранцы
регулярной армии) и мечты об интрижках с женами
других преподавателей — ему и намекали, и прямо
показывали, что его ухаживание было бы принято
благосклонно. Однако он опасался, что начальство
окажется на стороне разгневанного мужа и предпочтет
убрать его, Бопре. Да и жены, в общем, не стоили того,
чтобы из-за них рисковать. Так он и служил, выполняя
свои официальные функции и не беря на себя
неофициальных, пока вновь не заговорили о Вьетнаме
и не вошла в моду война против партизан. Кто-то
(возможно, электронно-вычислительная машина)
докопался, что в начале корейской войны он был разведчиком
(машина, конечно, беспощадно игнорировала то
обстоятельство, что за время, истекшее после той войны, Бопре
прибавил в весе и в годах и убавил в храбрости).
Его действительно привлекали к службе в разведке, и он
несколько раз переходил линию фронта с заданием
захватить пленных, но произошло это только потому, что
батальонный командир не любил его и, когда ему
предложили найти добровольцев, назвал Бопре, без которого
мог прекрасно обойтись.
В 1961 году Бопре вызвали в военное ведомство и
безапелляционно заявили, что считают экспертом по
партизанской войне; он стал спорить и уверять, что
ничего не понимает в партизанской войне, что в разведке
он служил недолго, выполнял лишь очень узкие задания,
а в живых остался единственно потому, что ему повезло
больше, чем другим. Ему ответили, что скромность,
конечно, украшает его, но характер работы, которую он
выполнял, как раз и позволяет отнести его к разряду
специалистов по партизанской войне — ведь ему
приходилось бывать в тылу врага. А то, что он уцелел,
доказывает, что он настоящий эксперт. Теперь они
обнаружили, что в свое время его очень хвалили — за
закалку, за умение вынюхивать ловушки («Иногда мне
кажется, что у Бопре корейский нос»,— было написано
81
в старом рапорте); они рассказали ему, как он храбр и
хитер, и были несколько смущены тем, что он оказался
лишь'в СПОЗ, но армия велика, и Бопре, конечно,
понимает, что случаются отдельные ошибки, теперь,
слава богу, эта ошибка будет исправлена. Бопре, хотя и
был простодушно польщен отзывом в старом рапорте
(совершенно справедливым, кстати сказать), тем не менее
продолжал отказываться, ссылаясь на то, что тогда он был
на девять лет моложе, менее грузен и более подвижен
и энергичен, а к тому же он уже свыкся со своей
работой в СПОЗ. Ему растолковали, что он им нужен, а
СПОЗ — нет. А кроме того, СПОЗ будет даже полезно,
если он уйдет от них, так как там смогут говорить,
что капитан Бопре с середины семестра был направлен во
Вьетнам. Это повысит авторитет СПОЗ, и, таким образом,
во Вьетнаме Бопре принесет ему больше славы —
так сказать, держа там факел СПОЗ. Бопре опять
попробовал возразить, но это был приказ, а ему
надоела жена, надоела вся его жизнь, и в конце
концов он согласился.
Сначала его направили в форт Брэгг прочесть курс
лекций о специальных методах ведения войны и
способах проникновения в тыл противника. Когда он
впервые пришел читать лекцию молодым подтянутым
курсантам, он напоминал добродушного толстого
дикобраза, а не бывалого разведчика. Он почувствовал, что
они посмеиваются над ним (все остальные преподаватели
были молоды и честолюбивы). На следующий день он
явился на занятия при всех своих орденских ленточках,
и курсанты перестали иронизировать, зато с этого момента
иронизировать начал он, потому что не чувствовал себя
с ними свободно. Их жадная любознательность была
выше его возможностей, они ждали быстрых и точных
ответов на свои вопросы, а он говорил неуверенно и
туманно. Они смотрели на его орденские ленточки
(два боевых значка пехотинца и «Серебряная звезда»)
и ждали скромности, прикрывающей подвиги, ждали
подвигов, описанных со скромностью, и скромности,
обернувшейся подвигом, но видели только неуверенность
и неопределенность. Он догадывался об их разочаровании,
почти ощущал его. Он рассказывал им о том, как было
холодно в Корее и как он мочился на свой карабин,
а они хотели знать, как он убивал ножом; но он, выполняя
свои задания, не убивал ножом и не убивал даже из
82
карабина. Его великим подвигом, его высшим
достижением разведчика было то, что он остался жив, а это в
основном означало, что он вышел победителем из
постоянной войны с холодом. Электронно-вычислительная
машина, по-видимому, почувствовала это, потому что
Бопре попал не в особые отряды из двенадцати
человек и не в специальные диверсионные части по
борьбе с партизанами («зеленые береты»), а стал
обыкновенным американским советником и, к счастью,
был послан не в горы, а в низины (иногда он
спрашивал себя, узнали ли курсанты СПОЗ, что он не
попал в «зеленые береты», а стал всего лишь советником, и
не пригасило ли это зажженный им факел). Его страшила
даже мысль о том, что ему в его возрасте пришлось бы
лазать по горам и тайком пробираться в Лаос (у него
никогда не было желания побывать в Лаосе), и он
благодарил судьбу за то, что его послали в дельту Меконга.
Он представил себе такой же вот жаркий день в
горной местности, и его снова охватил страх. От этого
идти по дельте стало как будто легче.
К нему подошел Андерсон, и Бопре спросил его о
полковнике: не показалось ли ему, что сегодня полковник
немного нервничает? Андерсон сказал, что с самим
полковником он не разговаривал, но вопросы, которые его
интересовали, были все те же. Не слишком ли скученно
идут солдаты? Говорили ли Бопре и Андерсон что-нибудь
насчет скученности? Как действует на солдат жара?
Каково настроение в деревнях? Есть ли какие-нибудь
хорошие признаки, какие-нибудь дурные признаки, вообще
какие-нибудь признаки? Стал ли Данг лучше? Или хуже?
Начеку ли солдаты? Как выглядят посевы? Нужно ли
что-нибудь? Все те же вопросы, и полковник не
придирчивее и не мягче обычного.
Бопре, выискивавший доказательства тайных
переговоров с полковником, кивнул и сказал, что полковник
достаточно умен, чтобы в такой жаркий день не
нажимать на подчиненных.
Затем не спеша, как если бы стремление скрыть
жажду было постыдным, Бопре, как алкоголик,
доказывающий, что он не алкоголик, достал флягу и отпил
большой глоток воды под внимательным взглядом
лейтенанта.
— Такой поганой воды, как в этой проклятой
стране,— сказал он,— нет нигде в мире. Вы, может,
83
думаете, что это из-за наших армейских гениев, которые
насовали в нее разных химикалий? Ошибаетесь.
В чистом виде она такая же поганая. Химикалии
даже чуть-чуть улучшают ее. Все дело в том, что здесь
поклоняются предкам. Здешние жители всегда хоронят
своих предков на лучших землях, а это значит —
всегда недалеко от колодцев, так что когда они пьют
воду, то приобщаются к предкам. Предки же не слишком
приятны на вкус, только и всего. Ну, они, конечно, про
это знают, они, может быть, и глупы, но не настолько же!
Беда в том, что они вежливы. Они очень вежливы, вы это
знаете. Ну а как известно, человек не способен
чувствовать ни собственного запаха, ни вкуса собственных
предков, а потому он и не подозревает, насколько его предки
противны на вкус. Но потом он навещает соседа и
обнаруживает, что вода у того прескверная, а уж с предков и
вовсе рвет, но вежливость не позволяет ему сказать
об этом вслух. Вот вы, например, явившись к Дангу
с визитом и выпив там воды, не станете же поносить его
дедушку, верно?
Он молча прошел несколько шагов, потом сказал:
— Вся беда этой страны в том, что вода и люди тут
пахнут одинаково.
— Воздержитесь от подобных высказываний в
присутствии специалистов по психологической войне,—
предупредил Андерсон.— Они ведь очень тесно связаны с
местным крестьянством.
Теперь Андерсона забавляли такие разговоры. Он
никогда не знал заранее, какой оборот они примут:
говорит ли Бопре серьезно, со злостью, или шутит, или
же и злится и шутит одновременно. В двух последних
случаях Андерсон позволял себе расслабиться и получал
удовольствие от неожиданных замечаний капитана,
но, когда Бопре давал выход своей желчи, Андерсон
настораживался: он теперь несколько остерегался Бопре.
— Плевал я на специалистов по психологической
войне. Все они работают на Вьетконг, черт их дери.
Каждую неделю они приходят и объясняют нам, что мы
должны быть вежливыми с местным населением: будьте
вежливы, будьте дружелюбны, будьте кротки, не
превращайте этих маленьких дружелюбненьких крестьян в
гадких вьетконговцев. Держитесь дружески с
крестьянами, поймите их — у них тяжелая жизнь, а их матери
недостаточно их любили. И прочая чушь. Вам не при-
84
холилось наблюдать, как эти специалисты работают?
А мне вот пришлось, когда я только что сюда приехал.
Мы отправились на операцию, и с нами произошла
небольшая неприятность — не то чтобы засада, а так,
несколько вьетконговцев обстреляли нас из старых
французских винтовок и рогаток. Ну, вьетнамцы стали
отвечать: противник стрелял довольно слабо, так что они не
слишком перепугались. А специалист по психологической
войне палил больше всех. Только не знал в кого.
По-моему, он просто держал пистолет дулом вверх и
нажимал на курок. Совсем поглупел от страха. Но в
конце концов не то вьетконговцы сами отошли, не то
мы их нечаянно перебили — всякое ведь случается; во
всяком случае, он подошел ко мне и давай рассыпаться
в благодарностях и все твердил, какой я герой:
мужественный, хладнокровный и прочее и прочее. Но
потом этот сукин сын вернулся в Сайгон и написал
рапорт, что район, дескать, очень неблагополучный,
кругом вьетконговцы, а все потому, что мы с самого
начала вели себя скверно, с крестьянами обращались
хуже некуда и психологической войной их совсем не
баловали. А психологическая война — это главное. Он
написал и обо мне, но не про то, что я герой, как я
надеялся. Он указал, что я не сочувствую народу, что
я не способен завоевать их любовь и уважение и что я
угрюм. Угрюм!
— Что, устали за воскресенье в Сайгоне?— спросил
Андерсон.— Переборщили, наверное.
Сам Андерсон был верен жене, и если ездил в
Сайгон, так только за покупками или чтобы побывать в
кино. Да и то по настоянию полковника, который
любил его и беспокоился, что он слишком уж серьезно
относится к своим обязанностям, а потому иногда
просто заставлял его уезжать из семинарии.
— Да, воскресенье было тяжелым, это верно,—
сказал Бопре.— Только мне все равно мало.
Это была одна из его официальных ролей в
семинарии — роль завзятого бабника («Есть только два сорта —
хорошие и лучше; я жалею лишь, что раньше за это не
принялся» и т. д.). Полковник никогда не поощрял
поездок Бопре в Сайгон и даже не без удовольствия
иногда вспоминал о его супругах — о первой (или
американской) жене, о сайгонской жене, о шолонской и
о второй сайгонской жене. «Которая из них получает по
85
вашему аттестату, Бопре?» — осведомился он. В
последнее время Бопре уезжал в Сайгон почти каждое
воскресенье, потому что по воскресеньям вьетнамцы
обычно соблюдали перемирие. Но ему хотелось не
столько съездить в Сайгон, сколько вырваться из Мито.
(«Единственный человек, который готов попасть хоть в
пять засад ради одной индокитайской юбки»,— говорил
полковник.) Беда была в том, что, приехав в Сайгон,
он, несмотря на свою репутацию бабника, не мог бы
сказать, зачем, собственно, он туда ехал, зачем так долго
добивался отпуска и зачем мчался по дорогам, на которых
шоферы автобусов представляли не меньшую опасность,
чем вьетконговские мины. В конце концов он просто
спускал все деньги, накачиваясь разбавленным виски и
поддельным французским коньяком, а потом, мокрый от
пота, бесцельно бродил по городу вместе с такими же,
как он, мокрыми от пота американцами. И все-таки
он продолжал ездить. Его последний отпуск длился
целых три дня, так как был приурочен к одному из
бесчисленных вьетнамских праздников («дню поминовения
сдохшего козла»,— как выразился Ролстон).
Отправившись вместе с тремя другими советниками, он, едва доехав
до города, незаметно отстал от них и остановился в
дешевой гостинице на окраине Шолона, подальше от
того района, где обычно останавливались американцы, и в
частности офицеры. В гостинице жили несколько штатских
вьетнамцев (по-видимому, провинциальных чиновников)
и китайские торговцы из Сингапура. Иногда там
останавливались солдаты войск специального назначения
из горных районов — они приезжали группами по три
человека, всю ночь пили, буянили и орали. Ему
запомнился один случай. Из их номера донеслось:
«Я позвать полицию! Я позвать вьетнамскую полицию!
Вы нет хороший. Я не бояться вас, но я позвать
полицию». Потом раздался визг, и другой голос закричал:
«Вызывай, подлюга, а я скажу им, чтоб тебя вышибли из
гостиницы, потому что у тебя пятьдесят семь болезней,
черт побери!» Снова визг, смех и — тишина. Солдаты из
войск специального назначения пьянствовали все три дня
своего отпуска до самого утра, когда за ними прислали
грузовик и отвезли их, пьяных, на аэродром специальных
войск в Таншоннят, откуда, пьяные и небритые, они
были доставлены на свои маленькие базы у границы
Лаоса. Именно в этом и заключались особые пре-
86
имущества войск специального назначения. Начальство не
требовало, чтобы в последний день отпуска вы
протрезвлялись, с него было достаточно, чтобы ваше
тело было доставлено в часть вовремя.
В номерах этой гостиницы не водилось ни мыла, ни
полотенец, а туалетная бумага была такой скользкой,
что солдаты войск специального назначения крали ее в
больших количествах, чтобы в лагере чистить сапоги.
Но в отличие от «Контнненталя», «Мажестика» и
«Каравеллы» здесь можно было привести к себе в номер
девицу, а кроме того, Бопре тут не приходилось
общаться с теми же офицерами, с которыми он целую
неделю жил в семинарии (он знал, как они выглядят
голыми, знал, кто из них чистит зубы, а кто нет, а
они в свою очередь знали о нем все и, может быть,
даже больше, чем он о них, а потому ему вовсе не
хотелось общаться с ними в Сайгоне, чтобы потом все
подробности его отпуска стали известны в Мито).
В этой гостинице он мог рассчитывать хоть на какое-то
уединение. Несколько раз он действительно приводил к
себе проституток — иногда даже довольно хорошеньких,—
но он чувствовал себя неловко и смущался из-за
предосторожностей, которые принимал, чтобы скрыть,
сколько у него денег и кто он такой, словно одной
неблаговидной профессии с них было мало и они должны
были обязательно иметь и вторую, столь же
неблаговидную. Поэтому ни одна из них ему даже не запомнилась,
хотя в своих ожиданиях он не был разочарован; во
всяком случае — что в какой-то мере символично,— ни с
одной он не захотел встретиться снова. Ни разу во время
этих своих отпусков он не испытал не то что любви, но
хотя бы страсти, настолько сильной, чтобы у него могло
появиться желание снова увидеть именно эту женщину.
Они приходили, делали, что от них требовалось, и
исчезали. Он не запомнил ни их имен, ни даже
внешности — из восьми только одна сохранилась у него в
памяти благодаря пышной груди, странно
контрастировавшей с миниатюрной фигуркой, и еще потому, что
она все время словно спала.
Последний отпуск в город, начавшийся с вечера в
пятницу, оказался хуже всех предыдущих. В Шолоне
Бопре сразу пошел в ресторан, оглядел зал и вдруг увидел
Большого Уильяма, который завопил:
— Поглядите-ка, кого Иисус Христос и его вьетнам-
В7
ский коллега Будда послали Большому Уильяму к
ужину — капитана Бопэя, лучшего друга Большого
Уильяма. Большой Уильям знает, что капитан — человек
компанейский.
Бопре сел за его столик, не слишком радуясь
обществу Большого Уильяма. Не то чтобы негр вызывал у
него антипатию, наоборот, он скорее нравился ему, чем не
нравился (хотя Большой Уильям отождествлялся для него
с Вьетнамом, все они тут носили это клеймо, и ни к кому
невозможно было питать особой симпатии), но свои
отпуска в Сайгоне Бопре предпочитал проводить в
одиночестве. Они недурно поужинали. Бопре, сам того не
замечая, поносил страну и войну больше обычного,
а Большой Уильям старался его подбодрить:
— Не унывай, малыш. Конечно, здесь совсем не так,
как ты ожидал или как хЪтел. Здесь совсем не то. Да ведь
если бы здесь было уютно и красиво, так тебя бы сюда и не
послали. Уж положись на Большого Уильяма. И ничего
сделать нельзя — в этом я убедился давным-давно и в
другой стране. Так было до твоего приезда, так есть
сейчас, и так будет после нас с тобой. А потому
остается только не унывать и улыбаться. Большой
Уильям всегда улыбается, даже когда унывает, так что все
кругом думают: Большой Уильям не унывает. Большой
Уильям молодец. Вот и ты не унывай и помни одно:
если бы тут было хорошо, нас бы тут не было.
Будь здесь красиво и уютно, так был бы и закон,
запрещающий таким, как мы, приезжать сюда, приезжали
бы только те, кто делает политику, и в советниках у
вьетнамцев ходили бы наши сенаторы и конгрессмены.
Вот помни обо всем этом, и не будешь унывать.
Но Бопре оставался угрюмым и даже злым, и это как
будто огорчало Большого Уильяма.
— Не так уж все плохо, малыш, не так все плохо.
Оно, правда, и не хорошо, но и не так уж плохо. Да и
вообще, что скверного может с тобой тут случиться?
Только одно — что в один прекрасный день мы пойдем на
операцию и нас увидит вьетконговец. Большого Уильяма
он не тронет, потому что черные парни ему нравятся
и он здорово сочувствует им, знает, как они бедствуют в
Алабаме и ходят в одних черных пижамах, а вот ты —
белый, и тебя он прихлопнет. Это будет самое скверное,
а потом тебя обернут флагом, и отправят домой как
героя, и устроят тебе пышные похороны с оркестром и
88
.печальной музыкой, а в газете па первой странице под
крупным заголовком напечатают, что капитан Бопэй —
великий герой, и совершил много великих подвигов, и
убил много вьеткоыговцев, пока они не убили его, и в
газете поместят твой портрет, где ты не смеешься, а
смотришь настоящим героем. И все будут плакать по
тебе — и девушки, которые тебя любили, и девушки,
которые натянули тебе нос. Вот самое скверное, что
может случиться. А теперь возьми Большого Уильяма —
сидит в засаде тот же самый вьетконговец, но тебя он не
прихлопнет, потому что ему нравятся белые парии, а
прихлопнет Большого Уильяма, потому что он слыхал,
будто в Америке все черные разъезжают на собственных
кадиллаках, а это ему не нравится. Ну, в ту же минуту
война для Большого Уильяма кончится. А потом черную
тушу Большого Уильяма положат в самый большой
ящик, какой только можно найти, и тоже отправят, и все
гробовщики взвоют, потому что он такой большой, что
ему все их ящики малы. Ну, отправят его самой малой
скоростью, и через год-другой, когда уж и эта война,
может, кончится, прибудет ящик в Пиккенс, штат
Алабама. Но с оркестром его в Пиккенсе не встретят.
Нет, сэр. А сообщение об этом напечатают на пятьдесят
седьмой странице, в разделе «Что затевают наши
цветные друзья», и в самом низу страницы будет короткая
заметка без фотографии — дескать, Большой Уильям,
черный негр мужского пола, который, по утверждению
военного ведомства, родился в нашем городе, умер
где-то в азиатской стране. Насчет героя ничего сказано
не будет, а просто: «Мы всегда говорили, что он так
кончит, если это тот самый Большой Уильям, которого
мы знали, так как с ним всегда были одни хлопоты, и
здесь он вел себя нагло, и никакой ценности для армии
не представлял, и пусть это послужит вам всем уроком».
Так что тебе жаловаться особенно не на что. Только
оба мы что-то нарушаем первое правило Большого
Уильяма и скулим. Поэтому лучше нам пойти в один
веселый бар, который знает Большой Уильям.
Они вышли, и Большой Уильям продолжал
рассказывать о своем баре, утверждая, что лучшего нет во всем
городе («Туда ходят только те, кто не унывает»).
Бопре не знал, удобно ли ему идти в этот бар. Негр
заметил его нерешительность и сначала не понял ее
причины, а потом замотал головой и сказал, чтобы он не
89
беспокоился: в этом баре умеют веселиться и даже
дежурят около него самые веселые полицейские в городе.
Пока они шли, Большой Уильям признался, что этот
бар нравится ему из-за мамасан (хозяйки заведения),
которая все еще лучше любой из ее девчонок:
женщина в самом соку, не чета этим чирикающим
цветочкам, настоящая женщина, и денег с него не берет.
Он иногда ночует у нее на квартире — такой, что только
ахнешь: везде кондиционированный воздух — аппаратов
там больше, чем в каком-нибудь генеральском доме, и
слуг не меньше шести, хотя все они лилипуты даже
для вьетнамцев, а постель вся из шелка, и одежда
для пего тоже шелковая, и всякие напитки, фрукты и
коньяк. Веселое место, не то что в Пиккенсе, штат
Алаб:»мл. Мамасан редкостная женщина и хочет выйти за
него замуж, но кому охота, черт побери, оставаться на
всю жизнь в этой стране, даже если тебя одевают в
шелковое белье и кладут на шелковую постель, а утром
подают коньяк и фрукты. Мамасан даже готова принять
его в езое дело: она обещает открыть для него несколько
баров.
— Подумать только! Всякий раз, как американский
солдат — белый или черный — подцепит девочку,
Большой Уильям получает свою долю. Он станет королем
этого города. Его именем назовут бары, а один бар
назовут и в честь Пиккенса, штат Алабама, где родился
Большой Уильям. «Пиккенс-бар». Большой Уильям
разбогатеет и станет помогать всем американским солдатам
куда лучше Службы организации досуга войск.
Бопре думал, что Большой Уильям просто врет, но,
когда они поднялись по лестнице и постучали в дверь
бара, к ним вышла сама мамасан и, воскликнув:
«Мой Болесой Вилиям!», расцеловала его, а потом
вежливо пожала руку Бопре.
— Ты не изменял мне, Уильям?— спросила она.
— Ах, мамасан, Большой Уильям так же чист, как
был, когда уходил от тебя,— ответил негр.— Хотя, может
быть, и не по своей вине.
Войдя следом за мамасан в бар, Бопре остановился
в изумлении: зал заполняли одни негры. Все посетители
были негры — высокие и толстые, офицеры и рядовые.
Ничего подобного он еще не видел. Точно он попал
в совсем другой мир. Девушки все были вьетнамки,
их обычная белоснежная одежда напоминала тут халаты
90
медицинских сестер. Ои заметил, что кожа у них гораздо
светлее, чем обычно. Может быть, они кажутся светлее,
потому что кожа посетителей так темна, или же
мамасан, женщина, несомненно, умная, нарочно
подбирала девушек посветлее?
Бопре было очень не по себе, он не мог сделать шага
вперед. Большой Уильям придвинулся к нему поближе.
Бопре ясно ощущал возникшее напряжение и взгляды,
обращенные на него со всех сторон.
Тишина накатилась двумя волнами: сначала
замолчали негры, а немного позже — вьетнамские девушки,
сообразившие, что происходит что-то необычное и надо
молчать. Наконец высокий, стройный негр с лицом
черного индейца (Бопре принял его за офицера, а
потом узнал, что он какой-то специалист) повернулся
вполоборота к вошедшим и сказал, ни на кого не
глядя:
— Капитан Редферн, что же вы не познакомите нас с
советником вашей дивизии? Назовите нам фамилию
полковника.
— Эбен!— сказал другой.— Это вовсе не полковник.
Это генерал. Генерал Харкинс. Большой Уильям привел к
нам генерала Харкинса.
— Нет, это не генерал Харкинс,— возразил первый.—
Генерал Харкинс стройный и молодой.
В глубине зала какой-то негр спросил своего соседа
так, чтобы услышал Бопре:
— Как по-твоему, кто это?
— Вьетконговец?
— На тех вьетконговцев, которых я видел, он что-то
не похож.
— Да. Но вьетконговцы, когда идут в бар, выглядят
иначе. Уходя в увольнение, они снимают черные пижамы.
— Разве?
Наступило короткое молчание, после чего еще один
негр, в дорогом спортивном пиджаке, широком в плечах
и узком в талии, сказал:
— Джентльмены, как по-вашему, этот генерал
заслуживает права посещать наш клуб? Капитан Редферн,
вы, надеюсь, не забыли, что мы очень разборчивы,
сэр? Очень.
Все, кроме Бопре и Большого Уильяма, засмеялись.
Большой Уильям отошел от Бопре к стойке.
— Этот человек — друг Большого Уильяма. Он
91
пришел сюда с Большим Уильямом. Он спросил
Большого Уильяма: «Большой Уильям, ничего, если я пойду с
тобой в этот самый лучший бар, о котором ты мне
рассказывал?» И Большой Уильям ответил: «Конечно!
Ты мой друг, а в этом баре собираются веселые
ребята, но они все джентльмены». А потом Большой
Уильям сказал, что в этой загаженной стране только
это место еще не загажено. Еше не погублено. А что вы
сделали? Выставили Большого Уильяма обманщиком,
и вот сейчас, в восемь часов сорок семь минут вечера,
Большой Уильям приносит извинения своему другу
капитану Бопэю. Я приношу свои извинения.
Тут кто-то крикнул, чтобы Большой Уильям перестал
корчить из себя белого баптистского проповедника, а
другой протянул Бопре стакан, сказав: «Пожалуйста,
генерал», и на время Бопре признали равноправным
посетителем.
Потом появилась мамасан, взяла Большого Уильяма
за локоть и увела с собой. Большой Уильям повернулся
к Бопре, отдал честь и сказал:
— Она приготовила для Большого Уильяма совсем
новенькие шелковые штучки, так что приходится сдаться!
Пока, детка, и не вешай нос. А я иду на шелковую
смерть!
Сначала Бопре чувствовал себя словно в приемной
у зубного врача. Но негры держались очень любезно,
подвели к нему девушку и познакомили с ним. Один
что-то сказал ей по-вьетнамски, и она хихикнула.
Другой перевел:
— Он говорит, что вы белый сенегалец. Они называют
нас всех сенегальцами. Сперва они всех цветных считали
сенегальцами, а это совсем не такая уж похвала,
потому что сенегальцы, кажется, очень им насолили,
когда воевали здесь за французов, но теперь это просто
шутка.
Бопре заказал девушке три порции виски и улыбался
ей и держал ее за руку, но неприятный осадок не
исчезал, и ему хотелось уйти. У него было такое
ощущение, что негры разговаривают на каком-то
иностранном языке и происходит все это в каком-то
иностранном государстве (Вьетнам в конечном счете не
был иностранным государством — это был Вьетнам, их
Вьетнам); бар был окутан смутной неопределенностью,
как будто время остановилось. Ему казалось, что
92
вьетнамские девушки — американки, его
соотечественницы, а негры — иностранцы. В глубине зала вьетнамский
элсмроджаз играл рок-н-ролл, но музыка казалась
иностранной: все эти блюзы и роки, такие бешено
негритянские, казались тоже чужими — скорее
африканскими, чем американскими, словно негры привезли этот
оркестр с собой из Африки.
Она сказала, что ее зовут Тинь.
— Тан?— переспросил он.
— Нет,— сказала она,— Тинь.
— А,— сказал он,— Тин.
— Нет,— сказала она,— Тинь.
— Тин?— сказал он.
— Да,— сказала она.
И все их разговоры были такими же. Ему не очень
хотелось назначать ей свидание, он был способен на
многое, только не на это. Но они тут были с ним очень
любезны, и он считал неудобным просто встать и уйти,
опасаясь, что негры истолкуют это как проявление
расовой неприязни — а так оно и было на самом деле — и
оскорбятся. Поэтому он принялся многословно и громко
договариваться с девушкой о встрече. Но она не понимала
его, и один из негров, говоривший по-вьетнамски,
пришел ему на помощь, но это только еще больше
смутило его, так как он вовсе не собирался на самом
л еле встречаться с нею на другой день возле «Мажестика».
Наконец они договорились, Бопре выпил еще и собрался
уходить, но негры к этому времени прониклись к нему
такой симпатией, что один из них, высокий, худой малый,
его переводчик, взялся проводить его до гостиницы и,
догадываясь о настроении Бопре сказал:
— Послушай, не расстраивайся, не так уж это все
плохо, и нам так нравится: если бы мы и могли, все равно
ничего бы менять не стали. Мамасан здесь с нами
считается и не разбавляет виски водой. Коньяк здесь
настоящий, и девушкам подают такой же, как нам. А в
заведении, куда ходят белые? Не прими на свой счет,
я ведь не в осуждение, но там платят по пятьсот
пиастров за девочку! Пятьсот пиастров за такую кроху!
А здесь нам это обходится в сто пятьдесят — двести
пиастров, и девушки такие же, если не лучше.
Бопре кивнул и сказал, что все было хорошо, все
было прекрасно и он обязательно еще раз придет в этот
бар.
93
— Непременно приходи, потому что ты понравился
ребятам и они обидятся, если ты не придешь.
На Бопре этот вечер произвел самое тягостное
впечатление, и в то же время он был растроган; его
ужаснуло существование этого мира и то, что он нечаянно
попал в него, и растрогало их стремление этот мир
сберечь; он впервые задумался над тем, что чувствуют
негры, попадая в его мир. А потом он попытался
представить, что происходит с шелковой пижамой, когда
Большой Уильям возвращается в семинарию.
На следующий день он не пошел на свидание, не
сомневаясь, что если девушка и придет (а в это он не
верил, привыкнув считать, что эти люди никогда не держат
слово и всегда опаздывают), то ее непременно кто-нибудь
пригласит. Наверно, это будет белый офицер (в гостинице
«Мажестик» останавливались только офицеры) —
интересно, что бы он почувствовал, если бы узнал, что она из
бара Большого Уильяма.
Весь следующий день он бесцельно слонялся по
Сайгону. Два раза ел в китайских ресторанах и заглянул
в несколько баров, где с грустью наблюдал, как
крошечные семнадцатилетние девчонки хладнокровно
обводят вокруг пальца офицеров, взрослых, женатых
мужчин, и ловко стравливают поклонников, так что
атмосфера все больше накаляется, а офицеры наперебой
угощают шлюх дешевым пойлом, по виду похожим на
виски, а по вкусу — на чай, а те потихоньку выливают из
стаканов и требуют еще.
Вечер Бопре провел в заведении под названием
«Красивый чайный домик». Стойка напоминала
гигантскую подкову, но свободно было только одно место.
Бопре сел рядом с лысым американцем, который говорил
по-вьетнамски,— специалист по психологической войне,
решил Бопре. Специалисты по психологической войне
обычно знали вьетнамский язык, купались в деньгах и
подцепляли самых лучших девочек. Лысый разговаривал
с хорошенькой вьетнамкой, явно себе на уме. Она начала
поглядывать на Бопре, а потом заговорила с ним по-
вьетнамски. Лысый, оказавшийся совсем не американцем,
а австралийцем, извинился перед Бопре за то, что
беспокоит его, и перевел:
— Она говорит, что вы очень красивый. Она говорит,
что ей девятнадцать лет — что, безусловно, вранье,—
и что она с Севера — что, наверно, тоже вранье,—
94
и что ей хочется виски — а вот это уже святая
правда, приятель!
Бопре заказал; австралиец продолжал переводить,
по-видимому получая от этого злорадное удовольствие.
(«Она говорит, что такой храбрый, как вы, наверно,
убил много-много вьетконговцев. Но конечно, нам не
известно, янки, что она рассказывает про вас вьет-
конговцам».) Наконец австралиец с виноватым видом
повернулся к Бопре и сказал:
— Послушайте, приятель, я весь день только и делаю,
что перевожу с одного языка на другой, так что уже не
разбираю, где какой. Но дело в том, что сейчас-то я не
на службе, так что с вашего разрешения и разрешения
этой дамы я ограничусь далее одним.
И он опять принялся болтать с девицей по-вьетнамски.
Через несколько минут к Бопре подошла девушка,
вначале безликая, как все остальные, но в очках,
которые делали ее единственной в своем роде —
учительницей среди учениц.
— Она утверждает, что говорит по-нашему,—
сообщил австралиец.— Но вы не очень-то этому доверяйте.
Но она действительно кое-как объяснялась по-
английски. Очки заинтересовали Бопре, как и чопорный
вид, который они ей придавали. Впервые за этот долгий
день он ощутил желание.
Все девушки были в белых платьях, как
предписывалось правилами, но платья эти были настолько
короткими и так туго обтягивали фигуру, что
впечатление создавалось самое непристойное (край трусиков
вырисовывался до того четко, что пилоты вертолетов, питавшие
болезненное пристрастие ко всяческим сокращениям,
изобрели новый термин: ВЛТ — видимая линия трусиков).
Позже он смутно припомнил, что, разговаривая с девицей
в очках, приуменьшил свой возраст на пять лет,
объявил себя холостяком и, как ему казалось теперь,
выставил себя круглым дураком. Потом он
расспрашивал ее — она жила с родителями и четырьмя сестрами.
Очевидно, на выяснение ее домашних обстоятельств
ушло довольно много времени, потому что, когда девушку
позвали к новому гостю (Бопре вдруг взревновал,
совсем как те офицеры, над которыми он прежде
посмеивался), австралиец повернулся к нему и сказал*
— Конечно, это не мое дело, приятель, но я бы не
советовал ехать ночью к ней домой. Не стоит. Не по
95
правилам. В этой стране очень много всяких правил, и с
проститутками они воюют успешнее, чем с коммунистами.
Ночью сутенеру легко обуздать такую девчонку, особенно
если он видел ее в компании янки: выбирай, детка...
либо полиция, либо вступай в банду... ну, вы понимаете.
Конечно, если вы захотите, она с вами поедет — все
эти девочки добрые и смирные. Но не надо их подводить.
Лучше всего днем. Они тогда свободны — ну, вышла
девушка из богатой семьи прогуляться с янки, только
разве что одета получше. В эти часы им ничего не грозит.
Они продолжали разговаривать, и австралиец
держался все более дружески, а Бопре чувствовал себя с
ним гораздо непринужденнее, чем с американцами.
В конце концов австралиец сказал, что завтра он уезжает
в Кап-Сен-Жак и Бопре может воспользоваться для
свидания с девушкой его квартирой. Бопре согласился
и сказал об этом своей знакомой Лим Фун, которая как
будто даже обрадовалась. Австралиец вручил Бопре ключ
и дал ему необходимые инструкции.
В воскресенье Бопре нервничал, как подросток, не
сомневаясь, что она не придет... не сомневаясь, что она
придет и полиция схватит ее, как только она переступит
порог квартиры. Она опоздала на пятнадцать минут, и,
когда он уже решил, что она и не собиралась приходить,
а только посмеялась над ним, она вдруг явилась — в
плотно облегающих прогулочных штанах, в плотно
облегающей блузке и без очков.
Но он продолжал нервничать — против него было все:
и непривычная обстановка чужой квартиры, и мысль о
полиции за дверью, и резкая прохлада, которой веяло от
огромного аппарата для кондиционирования воздуха
(позже он вспоминал сначала прохладу и шум аппарата
и только уже потом — девушку). При свете дня даже ее
английский казался хуже, чем вчера. В баре, наполненном
табачным дымом и парами виски, объясняться было
почему-то проще, теперь же они как будто с трудом
понимали друг друга. Несколько минут они пытались
разговаривать, но он чувствовал, что она не воспринимает
его слов. («Я рад, что вы здесь».— «Вы — что?»—
«Я рад, счастлив, что вы здесь».— «Вы не счастлив —
я здесь?»— «Нет, я счастлив, счастлив, что вы здесь».—
«Извините».) Так что оставалось только лечь в постель.
Но у него ничего не получалось.
— Вы не любить Лим Фун,— сказала она.
96
Нет, сказал он. Она ему очень нравится. Но снова, чем
больше он говорил, тем меньше она его понимала.
Он попробовал заснуть, надеясь, что потом дело пойдет
лучше, но не смог — мешали яркий солнечный свет и шум
аппарата. Это привело его в еще большее уныние.
Лим Фун встала с кровати и, не одеваясь, принялась
ходить по комнате, рассматривая валявшиеся повсюду
журналы. Почти все это были старые номера «Плейбоя».
Ей особенно нравились цветные вклейки, и она спросила,
нельзя ли взять одну себе. Он было не позволил,
но, увидев, как она огорчилась, разрешил. Она вырвала
вклейку, быстро оделась и, довольная, ушла. Бопре
начал медленно одеваться. Он не сомневался, что
австралиец заметит пропажу вклейки и подумает на него
(но не оставлять же записку с извинением, что
вклейка очень понравилась вьетнамке и он не мог ей
отказать!). Он зйал, что ни в эту квартиру, ни в тот
бар он уже никогда не вернется.
* * *
— Мне так и показалось, что вы устали больше
обычного,— продолжал Андерсон.— Значит, отпуск
выдался тяжелый? В Сайгоне вам от них проходу нет?
— Вот именно,— согласился Бопре.— От этого и
устаешь.
— Говорят, одна была в очках и смахивала на
учительницу?
— Кто вам сказал?— спросил Бопре, ухмылкой
подтверждая свою победу.
— Ну, в этой стране ничто не остается тайной. И всем
вашим прочим подружкам это тоже известно. Ну и как?
Хорошо?
— Вы же знаете, в очкастых всегда что-то есть.
— Значит, они и правда такие?
— Даже здесь. Здесь еще хуже.— Бопре снова
ухмыльнулся:— Вернее, лучше.
— Черт побери, меня это всегда занимало. Но ведь
за это надо платить.
— Вообще — да. Но она, конечно, сказала, что денег
ей не нужно. Хотя во второй раз они уже просят вас
купить одеколон, потом одеколон и чулки, а там —
одеколон, чулки, лак для ногтей, духи, кофточку, сигареты
для отца, молоко для младенцев сестры. Поэтому я дал
4 Зак. 556 97
ей деньги. Проще. Так у них нет на тебя никаких
прав.
— Видно, рассчитывают прибрать к рукам и
выскочить замуж.
— Замуж — нет, об этом они не мечтают. Разве что
когда имеют дело с каким-нибудь молодым солдатом.
Нет, они просто хотят, чтоб ты был при них, чтоб и
подружки, которые работают в том же баре, могли
попользоваться. Они ведь нежно любят друг друга. Как и
американские девицы.
Некоторое время они шли молча. Бопре шагал немного
впереди.
— Бьюсь об заклад, что со времени второй мировой
войны вам не приходилось столько ходить пешком,—
сказал Андерсон.
— Тогда мы ходили меньше. Мы и не знали, как тогда
было хорошо, и не ценили своего счастья. Конечно,
мы ходили, но по прямой. Боновые заграждения, пляжи
Нормандии, а там — Париж и Берлин. Вот и все. Ни
отступлений, ни обходов — только вперед. Компас и
здравый смысл — вот все, что было нужно. Здесь же
надо кружить, черт побери, а потом возвращаться на
базу; на следующий день опять выходить, снова тащиться
по кругу, снова возвращаться на базу, чтобы на следую
щий день опять идти, только в обратном направлении
С каждым днем круги становятся шире и
бессмысленнее. Так и мотаешься изо дня в день то взад, то вперед.
Во Франции было другое, там мы всегда знали, где
находимся, какое расстояние прошли и сколько осталось
идти. А в этой проклятой стране... черт побери, да если
бы я знал, сколько я тут прошел, то, наверно, умер бы от
разрыва сердца. Уж конечно, не меньше, чем от Нормандии
до Берлина и обратно.
Бопре помолчал, а потом сказал с нежностью,
будто только сейчас это понял (и действительно, в свое
время он этого не замечал):
— И как прекрасно пахла Франция!
Глава четвертая
В одиннадцать- тридцать отряд в беспорядке шел по
берегу канала — настала одна из тех спокойных минут,
когда прежние страхи забылись и, одурманенные жарой
и однообразием, солдаты словно впали в забытье. И тут их
98
обстреляли. Слева, с противоположного берега канала,
раздались один за другим три выстрела — стреляли,
по-видимому, с небольшого расстояния. Пули шлепнулись
недалеко от центра колонны, рядом с тем местом, где
шел Андерсон. Он повернулся в ту сторону, откуда
стреляли, и быстро отдал приказ по-вьетнамски: троим
велел идти с ним, а четвертого отправил в хвост
колонны сообщить Тыонгу о своем решении и
предупредить, чтобы тот не посылал никаких подкреплений,
если не завяжется серьезный бой, а в таком случае он
услышит стрельбу из автоматического оружия, так как его,
Андерсона, группа автоматов с собой не берет.
Андерсон чувствовал, что это не засада. Засада выдает
себя залпом из автоматов: несколько выстрелов из
обыкновенной винтовки — это только бессмысленное
предупреждение противника, обесценивающее всю
операцию. Эти же три-выстрела подряд, по мнению Андерсона,
означали, что стрелял один человек, который хотел
создать впечатление, что он не один. Впрочем, черт
побери, думал он, разве тут угадаешь? Стараешься
рассуждать, как они, и попадаешь в беду: ждешь
хитрости, а они выбирают простейший маневр; ждешь
простейшего маневра, а они выбирают хитрость.
Андерсон подошел со своей группой к берегу канала,
и еще две пули шлепнулись рядом. Он поставил
одного вьетнамца выше по каналу, другого — ниже, а
третьему приказал стоять на месте. Они должны были
прикрывать его, пока он будет переходить канал,
и ждать, пока он не доберется до противоположного
берега. Он не хотел, чтобы они все четверо увязли в
жидкой грязи, если обнаружится, что у противника
все-таки есть автоматы. Солдаты кивнули. Он спросил
по-вьетнамски, понимают ли они его, и велел одному из
них повторить приказ. К его удивлению, вьетнамец
повторил все правильно.
— Лейтенант поплывет?— спросил вьетнамец.
— Лейтенант думает, что поплывет,— ответил
Андерсон.— А вы плавать умеете?
Солдат ответил:
— Там видно будет.
Андерсон подождал, пока снайпер даст третью очередь,
и, когда пули упали еще ближе, быстро шагнул в воду
и сразу погрузился выше пояса. Он осторожно двинулся
4*
99
вперед, вглядываясь в заросли и стараясь угадать,
где прячется снайпер. Он все еще не мог сказать
точно, откуда стреляли, хотя и установил примерное
направление. Он был один в канале и шел медленно,
с трудом преодолевая сопротивление воды и вытаскивая
ноги из вязкой тины. Он знал, что представляет
собой удобную мишень, и очень боялся, его движения
были замедленными, как во сне. Он вспоминал, что им
говорили на последнем инструктаже: «Вьетконговский
пехотинец отличается упорством и скорее умрет, чем
оставит позицию; он фанатически предан своей идеологии,
потому что всю жизнь, с младенческого возраста,
его подвергают идеологической обработке. Но он плохо
стреляет. Да, госиода, стрелок он неважный. И снайперы
у них обычно никуда не годятся, потому что стреляют
без очков. У противника нет очков, потому что очки
коммунистам не по карману. Наши врачи проверяли
их и установили, что из-за плохого питания, из-за
почти полного отсутствия в их рационе мяса и белков
зрение у них обычно слабое. А очков им не дают —
вот почему они стреляют хуже нас. Они храбры,
господа, но близоруки. Помните об этом».
Андерсон помнил об этом и надеялся, что это правда.
На противоположном берегу он видел только кусты и
деревья. Помни, сказал он себе, что враг может сидеть на
дереве — как опять-таки предупреждали на инструктаже:
«Вьетконговцы часто занимают позиции на верхушках
деревьев, как это делали японцы, а потому ищите их
там. Запомните, что я вам говорил,— это может
спасти вам жизнь. Вот вы идете по джунглям, потные
и грязные. Вдруг раздается выстрел, и, поскольку ваши
толстые лапы ступают на землю, вы воображаете,
будто и снайпер стоит на земле. Но вы ошибаетесь:
он сидит в третьем ярусе, снимает мерку с вашей
головы, считает ваших солдат и готовится попортить
вам головной убор. Вьетконговцы любят джунгли, а что
такое джунгли? Деревья. Множество деревьев. Помните
об этом, господа, и ищите их на деревьях».
Андерсон ушел с этого инструктажа, чувствуя, что все
вьетконговцы сидят на деревьях; и даже теперь он
смотрел больше на деревья, чем на землю.
Вьетнамцы у него за спиной открыли огонь, но
снайпер молчал. Андерсон добрался до середины канала,
где глубина была наибольшей — над водой оставалась
100
только его голова, часть шеи и вытянутые руки с
винтовкой. Наконец он добрался до противоположного
берега. Он махнул вьетнамцам, чтобы они перестали
стрелять, и, не выпуская винтовки (он боялся положить ее
на берег, опасаясь, как бы кто-нибудь не выскочил
из-за кустов и не схватил ее), ползком вскарабкался
по откосу, но снайпер по-прежнему молчал. Охваченный
страхом, Андерсон проскочил первый ряд кустов, так как
не знал, что там может оказаться (Ролстон однажды
вот так же прошел сквозь кусты и увидел прямо перед
собой вьетконговца; растерявшись от неожиданности, они
молча смотрели друг на друга, а потом вьетконговец
вдруг повернулся и побежал — правда, Бопре потом
утверждал, что побежал-то Ролстон, а вьетконговец
сплоховал, дал ему уйти и, испугавшись, наврал своему
начальству, так что теперь Ролстон во вьетконговских
списках числится убитым в бою и потому может ничего
не опасаться — убивать его вторично вьетконговцы не
посмеют).
Андерсон углубился в заросли и, выбрав удобную
позицию, расстрелял обойму: несколько пуль он послал
влево, несколько прямо и несколько вправо от себя, а
последнюю — в древесную крону, как дань уважения своим
инструкторам из форта Бэннинга. Все было по-прежнему
тихо, он перезарядил винтовку и пошел дальше.
Впереди просвистели две пули, на этот раз с более
дальнего расстояния (или, может, ему так показалось).
Значит, враг не ушел. Андерсон снова двинулся вперед:
что-то подсказывало ему, что снайпер должен находиться
чуть правее. Он был один, солдаты остались на
противоположном берегу канала. Здесь пользы от них не было
никакой, потому что они пошли бы прямо за ним и
подняли бы шум, не говоря уж о том, что он мог бы
получить пулю в спину — обычная опасность при
продвижении гуськом. И тем не менее он чувствовал себя
страшно одиноким — ведь он находился в их джунглях,
они, возможно, видят его, наблюдают за ним, замечают
то, чего он заметить не может. Да и кто знает, один там
снайпер или их несколько? Он прошел еще немного.
Двигался он медленно — и потому, что боялся, и потому,
что кустарник был очень густой. Если бы он шел по
часовому циферблату и в том месте на берегу канала,
где он углубился в джунгли, стояла бы цифра шесть, то
теперь он приближался бы к цифре один. Он шел,
101
стреляя непрерывно. Время от времени он внезапно
начинал стрелять в другую сторону. Вдруг где-то
совсем рядом просвистела пуля. Стрелявший был теперь
ближе, только уже не спраса, а слева, примерно на
цифре одиннадцать. Возбужденный, испуганный, Андерсон
быстро пошел туда. Ветки царапали ему лицо и руки,
но прикрыть лицо он не мог, так как руки были заняты
винтовкой. Он расстрелял еще одну обойму: два выстрела
подряд, три выстрела подряд и три через равные
интервалы — настоящая музыкальная гамма.
Ответных выстрелов не раздалось, и он торопливо
зашагал по джунглям, смыкавшимся и вокруг него, и
вокруг его противника. Потом последовал ответ —
двойной посвист, два выстрела, только у вьетконговца
он прозвучал глуше, чем у него,— но тут Андерсон
рассердился, потому что на этот раз звук донесся справа,
от цифры один, где он только что был. Он тихо выругался
и бросился вправо, сознавая, что делает глупость,
что нарушает все правила, которым его обучали, что
лезет в ловушку и дает им возможность взять в плен
американского офицера. А в Бэннинге их специально
предупреждали, чтобы они ни в коем случае не попадали
в плен: нельзя давать вьетконговцам такое
психологическое преимущество, чтобы они могли водить тебя,
пленного, по деревням.
И все же он продолжал идти, злясь и недоумевая.
Вьетконговец явно смеялся над ним, играл с ним в
кошки-мышки. А так на войне себя не ведут, война — это
не игра, и нечего устраивать глупые шутки с помощью
винтовки. Он расстрелял еще одну обойму в сторону
цифры один и пошел туда. Но там никого не оказалось.
Вдруг он услышал выстрел, на этот раз слева, со
стороны цифры десять. Он свернул немного влево, но
стрелять не стал. Несколько минут спустя вьетконговец
выстрелил сам, на этот раз со стороны цифры восемь,
зайдя ему в тыл. Но в ту сторону Андерсон стрелять
не мог, там были свои. Он долго выжидал, потом
бросился к цифре шесть, готовясь стрелять в упор. Но
ничего не произошло.
Потом пуля вдруг просвистела со стороны цифры
одиннадцать. Андерсон резко повернулся, выстрелил и
крикнул:
— А ну выходи, чертов ублюдок! Выходи же, ну!
Я здесь!
102
Он подождал, но ничего не произошло. Ему показалось,
что кто-то хихикнул. Он выкрикнул те же слова по-
вьетнамски, но это выглядело глупо. Смех прекратился.
И никто не стрелял. Он взглянул на часы: с тех пор как
он перешел канал, прошло десять минут. Он выждал еще
две минуты, но все было тихо. Вне себя от злости, он
вернулся на берег канала и собрал своих солдат.
Один из них сказал:
— Иногда вьетконговцы выкидывают такие штуки. Не
принимайте близко к сердцу. Просто они развлекаются.
Андерсон угрюмо кивнул, и друг за другом они перешли
канал. Андерсон был гораздо выше вьетнамцев, тем не
менее голова его, так же как и их головы, едва
возвышалась над водой. Это его удивило.
— Пиявкам в канале война идет на пользу,—
сказал вьетнамец.— Сегодня они нажрутся до отвала.
Андерсон опять кивнул и вышел на тропу. Хорошо
хоть то, что теперь они пойдут быстрее, догоняя отряд.
Андерсон догнал отряд довольно скоро. Солдаты
столпились вокруг очень маленького вьетнамца. Он стоял
с поднятыми руками, прислонившись спиной к дереву.
Перед ним стоял Данг, выше его на голову, а позади
Данга — Бопре, выше капитана на полторы головы.
«Они становятся все меньше и меньше»,— подумал
Андерсон. Он услышал, как Данг сказал:
— Убийца! Мы поймали убийцу. Вьетконговская
собака. Собака!
— Наверняка один из них,— сказал Бопре.— Весит
не больше пятидесяти фунтов. Наши все весят больше.
Допрос вел Данг.
— Коммунист-вьетконговец. Готовил против нас
засаду,— сообщил он Андерсону.
— Он подразумевает ту небольшую разведку, которую
вы сейчас произвели,— шепнул Бопре.
— Продолжайте допрос взятого в плен коммуниста-
вьетконговца,— приказал Данг Тыонгу.— Я окажу вам
помощь в случае необходимости.
Допрашиваемый сказал, что его зовут Хун Ван Трунг.
— Конечно, его так и зовут,— сказал Бопре
Андерсону.— У них у всех такие имена: Хун Ван Трунг, Трунг
Ван Хун или Хун Ван Хун.
Пленный сказал, что ему пятьдесят восемь лет.
— Вероятно, коммунист солгал насчет своего воз-
юз
раста,— заявил Данг.-— Эти люди по всякому поводу
лгут.
Пленный сказал, что у него есть буйвол. Андерсон
перевел эти слова Бопре. Тот сказал:
— Настоящий богач. Обычно к тому времени, когда
они попадают к нам в руки, у них не остается и
курицы.
Пленный сказал, что он живет в деревне Апсуан-
тхонг.
— Он коммунист? Спросите, коммунист он?— кричал
Данг.
Пленный что-то бессвязно забормотал — казалось, он
поет или читает молитвы.
— Скажите ему, что нас интересуют его отношения с
Хо Ши Мином, а не с Буддой,— сказал Данг.
Капрал ударил пленного по лицу. Тот стал уверять,
что он верен правительству и одно время даже служил
агентом.
— Слишком костлявые у него ноги,— сказал Бопре
Андерсону.— Не может он быть нашим.
Пленный сообщил далее, что ему, наоборот, грозит
опасность от местных коммунистов и их главаря
Тхуана Хан Тхуана («Не может быть, чтобы вьет-
конговский главарь носил то же имя, что и наш
человек!» — заметил Бопре). Они заподозрили его в
сотрудничестве с правительством и увели прошлой
ночью его жену. Назвав главного коммуниста по имени,
пленный умолк, словно считая, что других подтверждений
не нужно.
Данг потребовал у пленного удостоверение личности,
а когда удостоверения у того не оказалось, ударил его по
лицу. Пленный сказал, что документ у него отобрали
коммунисты. Его опять ударили. А сколько у него детей?
Он ответил, что у него было трое сыновей и еще дочери,
но сколько, он точно не помнит. Один сын умер от
болезни. Его спросили, от какой болезни. От желтой
болезни. Все закивали головами: «Желтая болезнь!
Ну еще бы — желтая болезнь», хотя позднее выяснилось,
что они не знают, какая именно это болезнь.
— Желтая болезнь?— переспросил Бопре, когда ему
перевели.— В этой проклятой стране все ею болеют.
Разве от нее умирают?
Два оставшихся сына служат в правительственных
войсках — один, кажется, погиб, а другой, кажется, жив.
104
— В каких частях?— устало спросил Тыонг.
Пленный ответил, что не знает, но уверен, что
сыновья воевали против Вьетмина *.
— Не Вьетмина, а Вьетконга,— сказал Данг.—
Объясните ему.
Капрал снова ударил пленного по лицу.
— Теперь расскажи, как все произошло,— потребовал
Тыонг.— Только постарайся быть честным. Докажи, что
сердце у тебя чистое.
Пленный кивнул и начал рассказывать. Он в этот день
долго работал и рано лег спать. Начался сезон дождей,
и многое предстояло сделать, тем более что в прошлом
году была засуха.
— Спросите, что он ел на завтрак,— сказал Бопре
Андерсону.— Спросите, спросите, так оно скорее пойдет.
Тыонг перебил пленного и велел ему говорить быстрее,
если он хочет остаться в живых. Ну вот, значит, он лег
спать рано, и тут его позвал Тхуан Ван Тхуан.
— Он твой сосед?— спросил Тыонг.
— Нет, он живет через три дома.
— Черт возьми,— заметил Бопре.— Пленный же
сказал, что он сразу понял, какие ему грозят
неприятности.
— Зачем он пошел?— спросил Данг.— Знал о
приходе своих друзей-коммунистов? Знал, что идут эти
собаки?
— Нет,— ответил пленный.— Просто Тхуан говорил
громко и сердито...— Пленный запнулся, словно хотел
сказать «как капитан», но удержался. Потом он сказал,
что обычно-то Тхуан разговаривает тихим, просительным
голосом, но он все равно не доверяет ему. Тхуан,
например, говорил, что у него есть электрическая
коробка — единственная в деревне,— с помощью которой
он будто бы слушает специальные сообщения из
Сайгона, Парижа и Ханоя, но он уверен, что это вовсе
не настоящая электрическая коробка. Тхуан держался
надменно и потребовал, чтобы все шли на собрание.
Он потребовал, чтобы и его жена шла на собрание, и это
его расстроило, потому что жена болела. Она кашляла и
только-только заснула. Но Тхуан ничего не хотел слушать.
Он заставил их пойти на площадь, там были зажжены
фонари, и там стояло человек двенадцать посторонних —
все мужчины. Он сразу понял, что это солдаты.
— У них было оружие? — спросил Тыонг.
105
— Оружия я не видел, но знал, что оно есть.
— Откуда он знал?— спросил Данг.— Потому что он
один из них?
— Потому что я видел, как они себя ведут,— ответил
пленный.— Те, у кого есть оружие, ведут себя не так,
как те, у которых его нет.
Пленный, видимо, удивился, что они не понимают
разницы, и спросил Тыонга:
— Вам никогда не приходилось разговаривать с
человеком, когда у него было оружие, а у вас не было?
— Дельный вопрос,— заметил Бопре.— Сукин сын
говорит правду.
Пленный замолчал, словно ожидая очередного удара,
потом сказал, что эти люди говорили о политике и о том,
что назавтра в деревню придут длинноносые (при этом
он смущенно посмотрел на Андерсона и Бопре)
и постараются всех перебить. Потом они угощали чаем.
Сам он выпил две чашки. Он хотел сначала выпить
только одну, но побоялся обидеть Вьетмин.
— Вьетконг,— поправил Данг, на этот раз не так
сердито.
Некоторые же выпили по три чашки.
— Посмотрим, сколько чашек он выпьет у нас,—
сказал Бопре, выслушав перевод Андерсона.
На следующий день ему велели идти из деревни на
север, потому что американцы подходили с юга,
востока и запада, но он не послушался и пошел на юг. Тыонг
спросил, где его жена. Коммунисты взяли ее с собой
как носильщицу и заложницу. Тыонг продолжал
расспрашивать его о противнике, а Бопре отвел Андерсона
в сторону и велел связаться по радио со штабом и передать
полученную информацию. Он не доверял вьетнамцам:
если полагаться только на них, то сведения попадут в
КП не раньше следующего дня.
— Он ведь сказал правду? — спросил Андерсон.
Бопре помолчал.
— Да, правду,— ответил он наконец.— И это самое
скверное. Я бы предпочел, чтобы он, как и все до него,
никогда не видел вьетконговцев и ничего не слыхал о
войне.— Он прошелся взад и вперед.— Молот и
наковальня. Мы с вами между молотом и наковальней.
У него было сухо во рту, и хотелось пить. Он немного
нервничал. С самого начала он относился к этой
операции иронически и окончательно перестал испытывать
106
страх, едва выяснилось, что с вертолетами посылают не
его, а Большого Уильяма. Но теперь страх вернулся.
Он вдруг осознал, что уже не молод, осознал
бессмысленность этой войны — бессмысленность не убийства,
а бесконечных, изо дня в день повторяющихся походов
и возвращений в Мито с гнетущим сознанием, что
опять он ничего не сделал, ничего не увидел, ничего не
достиг, ничего не изменил и только рисковал жизнью ради
ничтожных результатов, гадая, не продали ли тебя уже, не
зная, кому доверять. Во время второй мировой войны
Бопре не испытывал такого недоверия к людям.
Он воевал в пехотном полку, бок о бок с самыми разными
людьми, среди них были солдаты хорошие и плохие,
храбрые и трусливые, любившие войну и ненавидевшие
ее, но, как бы там ни было, недоверия к ним он не
испытывал. Тогда было проще, даже когда они воевали в
Германии, где ненавидели всех,— во всяком случае, там,
когда они вступали в деревню, их не обнимали и не
целовали для того, чтобы заманить в засаду, обмануть
или предать. Недоверие родилось в Корее, когда война
вдруг перестала быть просто сражениями и смертью
и превратилась в постоянную неизвестность: куда ты
идешь, чья разведка это устроила, кто платит агенту
и на кого еще он работает? Когда он наконец встречал
этого человека, он начинал вглядываться ему в лицо,
подчас ища слишком многого, и видел то, чего не было,
и предполагал то, чего быть не могло не только в те
дни, но, возможно, и никогда прежде. «Не ждите от
наших корейских агентов голубых глаз, русых волос
и дружеских улыбок,— сказали ему.— Ничего этого вы не
увидите. Они не похожи на морских пехотинцев, а
похожи на корейцев, потому что они и есть корейцы.
И пусть вас не тревожит, кто они и как выглядят. Это
уж наша забота. Ваше же дело — не держать в карманах
мелочи, потому что в холодные зимние ночи она
позвякивает слишком громко, полагаться на компас и на
свой здравый смысл. Мы не требуем, чтобы вы испытывали
к корейцам симпатию. В ваши обязанности это не входит».
Но по сравнению с Вьетнамом Корея казалась очень
простой. Во Вьетнаме все начиналось с недоверия и все
уже казалось сомнительным, даже то, что ты как будто
знал твердо. Даже американцы представлялись Бопре
не такими, как раньше, он и им перестал вполне
доверять: чтобы уцелеть в этом новом мире и в этой
107
новой армии, они должны были измениться. «Да» было
уже не совсем «да», «нет» было уже не совсем «нет», а
«может быть» стало вдвойне «может быть».
— Возможно, нас продали или продают,— сказал он
Андерсону и неожиданно добавил с заботливостью,
которая редко звучала в его голосе (и в этот день, и во
все предыдущие):—А вы поберегите себя, слышите?
То, что Тыонг узнал от пленного, несло на себе
страшную печать истины, и это ему не понравилось.
Эта операция не нравилась ему с самого начала —
он никогда не разделял мнения штаба об этом районе.
В штабе этот район называли синим (американцы, по его
наблюдениям, питали к военным картам даже большее
пристрастие, чем французы, и учили вьетнамцев делить
районы на красные, белые и синие; они любили менять
цвета, перекрашивать красное в белое и белое в синее,
втыкать красные булавки в белые кружки и синие в
красные), синий цвет должен был обозначать
безопасность, но Тыонгу этот район не нравился. До этого он не
часто здесь бывал и готов был принять мнение штаба
относительно его надежности, но стоило ему тут
оказаться, и он начинал чувствовать, что район этот не
такой, каким кажется на первый взгляд, и куда враждебнее,
чем утверждает начальство. Он подозревал, что этот район
коммунистический, но партизаны тут воздерживаются от
открытых действий и сохраняют видимость мирной
обстановки, оберегая свои коммуникации. Тыонг помнил,
что в этом районе Сайгону удалось завербовать очень
мало солдат, причем процент дезертиров среди них
оказался выше, чем можно было ожидать.
Тыонг шел рядом с пленным почти в конце колонны.
— По-моему, ты говорил нам правду,— сказал он.
Пленный молчал, не поднимая головы.— Возможно, к
концу дня тебя отпустят на свободу.
— Возможно, к концу дня мы все будем лежать
убитые,— с горечью сказал пленный.
— Хочешь, я дам тебе воды из моей фляги?—
спросил Тыонг.
От воды пленный отказался, но спросил, не окажет ли
ему Тыонг одну услугу, раз поверил его показаниям.
Тыонг ответил, что постарается, если только это можно
будет сделать.
108
— Свяжите мне руки,— попросил пленный.— Ведь
если они увидят, что я иду с вами...
— Понимаю,— сказал Тыонг и приказал связать ему
руки. Он подумал: «Пусть бы американцы спросили у
этого крестьянина, синий, по его мнению, этот район
или красный. Может быть, они втолковали бы ему, что
здесь безопасно ходить несвязанным, потому что это
синий район».
— Вы не из этих мест, верно?— спросил пленный.
— Верно,— ответил Тыонг.— Я с Севера.
— Я вижу, но вы не такой, как другие северяне.
Вы добрее.
— Только потому, что ты честнее других южан.
Этот человек внушал доверие, хотя вообще Тыонг
южанам не доверял. Он считал их нечестными, ленивыми,
слишком уж готовыми говорить именно то, что хотел бы
услышать от них собеседник; работу они предпочитали
предоставлять женщинам («И словно гордились этим,—
думал он,— ведь лучшим мужчиной считается у них тот,
чья жена работает больше всех»). Северян он считал
более честными, хотя, приехав на Юг, они, как и он сам,
быстро становились не особенно честными. Но что
поделаешь, чтобы выжить, приходится приспосабливаться.
Тыонгу шел тридцать второй год, хотя иностранцам
он, подобно большинству вьетнамцев, казался моложе
своих лет. У него была стройная фигура и открытое,
почти наивное лицо. Он прослужил в
правительственных войсках восемь лет (сначала кандидатом в офицеры,
потом лейтенантом) — срок, достаточный для того, чтобы
перестать быть наивным. Тот факт, что он не продвинулся
по службе, отнюдь не свидетельствовал об отсутствии
у него дарований. Те немногие его командиры, которые
брали на себя труд полистать его личное дело (где,
кстати сказать, больше документов отсутствовало, чем
имелось в наличии), удивлялись его способностям, тому,
сколько он, оказывается, сделал. Но, удивившись, они не
испытывали никакого желания представить его к
повышению. Наоборот, чем старше он становился и чем больше
накапливалось в его деле хвалебных отзывов (в том
числе и отзывов американцев, что было опасно),
тем хуже было для него: он превратился в способного
человека, не сделавшего карьеру. Значит, должна быть
какая-то причина, какие-то секретные сведения о его
политической неблагонадежности. В частности, началь-
109
ство весьма смущали взгляды отца Тыонга на религию:
живя на Севере и будучи связан с иностранцами, он
отказывался принять их веру — он работал у иностранцев,
брал от них жалованье, выполняя их распоряжения, но
их веру принять не захотел. В то время такое поведение
казалось необычным. Многие вьетнамцы одевались, как
французы, ели, как французы, и разговаривали, как
французы. Отец Тыонга называл таких людей
«вьетнамскими усачами», потому что они, следуя французской
моде, отращивали усы. Однажды Тыонг осторожно
спросил отца, почему он не принял религию французов,
и гот ответил, что берет их деньги за свой труд, а не за свою
душу. Тем не менее он был тесно связан с иностранцами
и, когда началась война с Францией, продолжал
работать у них. Тут сыграли роль не только случайные
обстоятельства, но и сознательное решение: он не
особенно любил французов, однако считал, что раз все их
покидают, то ему не пристало делать то же самое,—
одной из причин его неприязни к французам было их
презрение к вьетнамцам и откровенное убеждение, что
все вьетнамцы трусы, и уйти в такой момент, по его
мнению, значило бы подтвердить самое худшее, что
говорили французы о его народе. Когда же иностранцы
из-за своей глупости проиграли войну, тем самым доказав,
что вьетнамцы далеко не трусы, отцу Тыонга уже нечего
было доказывать — семья решила перебраться на Юг и
отправилась туда небольшими группами, чтобы не попасть
в руки Вьетмина.
Путь на Юг был труден с самого начала, и
бабушка Тыонга, которую ему поручили сопровождать,
едва не умерла от истощения. (Впоследствии Тыонг
помнил только, как он искал для нее воду и как отдавал
ей всю свою воду, и еще он помнил страшную жажду,
которая томила его изо дня в день. Поэтому мысль о
разделе страны всегда ассоциировалась у него с ощущением
жажды.) Когда они наконец оказались на Юге,
выяснилось, что буддистов туда бежало немного и их всех
поместили в лагерь для беженцев-католиков. В этом
лагере семья Тыонга разделяла с католиками все
трудности их положения нежеланных иммигрантов, но не
разделяла с ними ни их веры, ни покровительства,
которым они пользовались.
Благодаря связям отца Тыонгу удалось поступить в
военное училище, после того как он полтора года
110
дожидался своей очереди. В училище Тыонг быстро понял,
что он северянин на Юге и буддист среди католиков, а
потому всегда будет кому-то внушать недоверие и
антипатию. Южане не доверяли ему потому, что он
северянин, а католики — потому, что он буддист. В стране,
лишенной идеалов и погрязшей в цинизме и погоне за
личным благом, он не мог не внушать подозрений и,
следовательно, оставался лейтенантом. Ему не доверяли,
и он в свою очередь стал недоверчив и скептичен.
С таким же фатализмом он принял все последствия
того, что был сыном своего отца,— главным образом
потому, что другого выбора у него не было, но зато в
известной степени это давало ему возможность
чувствовать себя независимым. Он мирился с их порядками, но
пытался остаться самим собой. Он завидовал
коммунистам — их вере в себя, их идеалам, их незыблемой
уверенности в будущем; завидовал католикам — их вере,
их солидарности; завидовал американцам — их энергии и
идеализму; завидовал отцу — его душевной мягкости и
неистребимой наивности (время от времени отец смущенно
и растерянно его спрашивал, действительно ли ему
необходимо быть военным, нельзя ли ему найти другое
занятие. Конечно, отец знал, что военным хорошо
платят...). Тыонг не верил в дело, которому служил, и
подозревал, что война, вероятно, будет проиграна.
Нет, он не хотел переходить на сторону противника
(хотя это было очень просто, стоило лишь во время
операции отойти немного от своих) и не считал, что
противник более прав4: коммунисты ведь убили его дядю,
точно так же как французы убили его двоюродного,
брата, по глупости стерев с лица земли деревню
(до этого лояльную по отношению к ним), чего и
добивался Вьетмин. Вьетминовцы были такие же, как
французы, и отличались от последних лишь тем, что не
терпели коррупции. Впрочем, Тыонг полагал, что десять
лет у власти должны были бы и у Вьетмина развить
вкус к коррупции (в зависимости от степени успеха,
которого добился бы их режим, думал он: ведь чтобы
стать продажным, режим должен добиться определенного
успеха; если же успех не приходит, то режим остается
неподкупным). От перехода на сторону противника
Тыонга удерживала не мысль о том, что все эти годы
он воевал против них и убил много их солдат (в отличие
от его начальства они вели учет образцово и сразу
Ш
узнали бы, кто он и кого убил); не боялся он и лишиться
относительного комфорта Мито — содовой воды и
охлажденного пива. Просто он знал, что слишком
скептичен и не способен разделить энтузиазм коммунистов
и их преданность своему делу. «Обрести веру во
Вьетнаме,— думал он,— можно только в раннем
детстве, а сохранить ее способен только тот, кому очень
повезет».
А поэтому он старался как мог лучше выполнять
свои лейтенантские обязанности. Андерсону, молодому
американцу, он сказал, что ему двадцать пять лет, потому
что не хотел ставить его в неловкое положение. Андерсон
очень удивился: он думал, что Тыонг гораздо моложе.
В какой-то мере Тыонг даже гордился тем, что он делал,
но еще больше — тем, чего не делал: не выслуживался, не
лебезил перед своим непосредственным начальником и не
требовал длительного артиллерийского обстрела, перед
тем как начать наступление на какую-нибудь деревню.
Однако решающим мотивом его жизни был фатализм.
В свое время его отец делал эти роковые ошибки, вдруг в
самый неподходящий момент цепляясь за ложную
принципиальность (ложную потому, думал Тыонг, что и его отец, и
он сам на протяжении жизни шли на многие другие
унизительные компромиссы и примирялись со многими
другими обманами). А теперь и он упрямо и безрассудно
уходил все дальше по той же безлюдной дороге. Он
мог, например, сменить веру — другие же сменили. Ему
тоже предлагали перейти в католичество. В академии
с ним училось немало новоиспеченных католиков,
и некоторые из них были теперь капитанами, а один —
даже майором. Но для него сменить веру значило бы
сдаться — он восхищался католиками на Севере, где они
составляли меньшинство, но, перебравшись на Юг, они
стали другими. То, что прежде казалось ему спокойным
мужеством, здесь превратилось в надменность, и,
конечно, надменнее всех были новообращенные.
И он продолжал идти своей дорогой — не
дезертировал, потому что это навлекло бы неприятности на его
родителей (а также и потому, что для него все равно
ничего не изменилось бы), а в результате стал очень
старым лейтенантом. В настоящее время особой наградой
за его фатализм являлся капитан Данг. Капитан был
на год моложе Тыонга, в армии служил меньше и
скоро, по его собственным словам, должен был стать
112
майором. У него были влиятельные родственники в
Сайгоне, и он никогда об этом не забывал: постоянно
уезжал в Сайгон и часто рассказывал о банкетах
и званых вечерах, на которых присутствовал. Он часто
хвалил Тыонга (хвалил в глаза, давая понять, что
делал то же самое и в присутствии власть имущих)
и говорил, что хлопочет о его повышении, хотя Тыонг
был совершенно уверен, что если его и повысят когда-
нибудь в чине, то лишь вопреки Дангу. Данг не
помнил фамилии ни одного из своих солдат чином ниже
капрала и сообщал заведомо неверные сведения о личном
составе, систематически завышая фактические данные и
скрывая цифры потерь (это было выгодно ему по двум
причинам: так он избегал выговоров за потери в живой
силе и получал за убитых их жалованье. Таким образом,
если, по его данным, роте не хватало десяти человек,
то фактически не хватало двадцати — двадцати пяти и
соответственно увеличивалась нагрузка на остальных).
Тыонг частично поправил положение тем, что взял у
друга из соседней роты лишний ручной пулемет —
они сначала потеряли этот пулемет, но потом, после
длительного боя с вьетконговским батальоном, отбили его.
Поскольку официально пулемет считался потерянным, то
после возвращения он не попал в инвентарный список,
а друг был в большом долгу перед Тыонгом, который
в свое время одолжил им троих солдат перед
ответственной инспекцией. Тыонг старался, насколько это было
возможно, не замечать проделок Данга. Данг вполне
его устраивал, так как полностью отвечал его
представлению об офицерах и о порядках, царивших в армии, а это
помогало ему легче переносить то, что его никак не
повышали в чине. Обида была бы острее, если бы Данг
оказался настоящим солдатом. Но вот уже два с
половиной года он презирал Данга после одного случая.
Это произошло незадолго до появления в стране
американских вертолетов, обеспечивавших теперь молниеносную
доставку подкреплений,— тогда еще приходилось
преодолевать чувство жуткой оторванности от всего мира:
тебя ранило, но ты остался один драться и умирать. В тот
день их отряд попал в засаду и выдержал короткий, однако
жестокий бой. Тыонг, как и все остальные, в первые
секунды был парализован страхом, он не сомневался,
что живым отсюда не уйдет, и вот тогда-то он увидел то,
чего не мог ни простить, ни забыть (это, как ему казалось
113
тогда, было последним, что он увидел перед смертью):
Данг срывал со своих погон звездочки. «Если ты хочешь
носить звездочки в фешенебельных сайгонских салонах,—
думал Тыонг,— то носи их и в лесах Уминь».
Глава пятая
«Дело не только в жаре,— думал Бопре, уже еле
передвигая ноги.— Тут и жара и скука вместе». Скука
была частью жары. Бопре совсем отупел от жары, у
него кружилась голова, и он понимал, что проигрывает
свою войну, которую ведет в одиночку. Он наблюдал за
остальными: Андерсон пил, но его фляга, судя по
наклону, была еще почти полна. Вьетнамский лейтенант
Тыонг и вовсе не пил — Бопре даже не был уверен, что
у него есть фляга. Наверно, есть, хотя он ни разу не видел,
чтобы вьетнамец пил из нее. У Данга под мышками
очень маленькие пятна, а часто их и вовсе не бывает —
подходящий напарник, возможно, потому его и выбрали.
Бопре старался выбросить из головы мысли о жаре, но
они упорно возвращались. И в этом была вторая страшная
особенность этой войны: восемь часов в походе (если
повезет), а то и все четырнадцать (если не повезет) —
их нельзя скоротать разговорами. Можно, конечно,
перекинуться несколькими словами с Дангом — до сотни
слов: да, капитан Данг; нет, капитан Данг; прекрасно,
капитан Данг; пожалуйста, капитан Данг; очень хорошо,
капитан Данг; американцы полагают; вьетнамцы хотят;
вы; мы; благодарю вас, капитан. Ну, максимум двести
слов. Андерсон — да, с Андерсоном можно поговорить,
но не восемь же часов кряду. Хорошо, если наберется
минут тридцать. А больше нельзя — приказ по дивизии.
Полковнику это не нравится: вы, друзья, ходите на
операции не для того, чтобы интервьюировать друг друга и
выяснять, откуда родом ваши жены, вы здесь не для
того, чтобы разговаривать с американцами, а для того,
чтобы разговаривать с вьетнамцами. Конечно, полковник
абсолютно прав. Сам он, наверно, разговаривает с Ко
в общем десять минут в день: да, полковник Ко; нет,
полковник Ко; вы; мы; вьетнамцы полагают; американцы
считают; Сайгон; Вашингтон; хорошо; плохо.
У Бопре кружилась голова.
Неожиданно отряд вышел на поляну, и вьетнамцы
без объявления, без приказа, повинуясь лишь какому-то
114
неуловимому знаку, вдруг сделали привал (Бопре не
слышал никакой команды — он никогда не знал заранее,
что будет привал, не знал, объявляют ли его вьетнамские
офицеры или солдаты сами решают, когда хотят, а
офицеры уже потом отдают приказ). До сих пор Бопре
ненавидел эти бесконечные привалы; он никак не мог
приспособить свой ритм к ритму отряда: если он хотел
идти, солдаты останавливались, если он хотел
остановиться, они продолжали идти, да еще ускоренным
маршем и даже бегом и при этом смеялись и шумели.
Но на этот раз он обрадовался: жара его совсем доконала,
в голове мутилось, и он со страхом ждал, что его вот-
вот стошнит. Его форма насквозь промокла, лицо,
походившее на красную маску, лоснилось от пота,
смешанного с пылью и грязью, и щетина на жарких
тропинках его щек, казалось, росла с неимоверной
быстротой, точно растение джунглей. Он выбрал самое
прохладное, как ему казалось, место под деревом,
ближе к воде, и достал флягу. Воды, теплой от горячей
фляги, осталось совсем немного. Он допил ее и слизнул
с губ капли пота.
Подошел Андерсон, сел рядом и попросил сигарету.
— Вы же не курите. Обстановка вынуждает?
— Нет,— ответил Андерсон.— Пиявки. Слишком
много каналов пришлось сегодня облазить. Особенно тот
большой, последний. Теперь они обедают. На мне.
— Принимайте аварийный комплект системы Бопре в
количестве одной сигареты,— сказал Бопре и достал из
нагрудного кармана странный пакетик. Это была
металлическая коробочка, обтянутая добротным,
старомодным американским презервативом. Бопре хранил свои
сигареты в коробочке, чтобы они не мялись, а коробочку
обтягивал тонкой резиной, чтобы уберечь от сырости.
Он говорил, что вполне может есть сандвичи,
напитавшиеся водой рисовых полей — так они становятся
только вкуснее, словно их смазали кетчупом,— но сырых
сигарет не выносит. Другие офицеры сначала
посмеивались над ним, но теперь уже многие пользовались
таким же приспособлением, утверждая, что подобная
упаковка предохраняет сигареты не только от сырости, но
и от бактерий.
Андерсон раскурил сигарету и начал снимать штаны.
Он принимал против пиявок отчаянные меры —
эластичные трусы, вторые эластичные трусы, чулки до колен,
115
еще чулки. Но ничто не помогало, и пиявки всегда
оказывались победителями. Они были гениальны, они
преодолевали все преграды, они достигали цели,
устраивались поудобней и приступали к трапезе. Однажды
Андерсон обнаружил пиявку у самого паха и едва не
потерял сознание. Теперь он внимательно осматривал
свои ноги — мягкое белое мясо, которое так им нравится.
Сначала он ничего не нашел, но потом увидел их по
одной на каждой ляжке, огромных, разбухших от его
крови.
Бопре тоже их увидел.
— Вы были правы: они действительно обедают.
Значит, вы научились их чувствовать. Пусть это послужит
вам утешением.
— Вы только взгляните,— сказал Андерсон.— Какая
гадость!
— Прекрасные экземпляры. Самые большие, каких
только мне доводилось видеть в этой стране.
— Я их не выношу,— сказал Андерсон.
— А вы поставьте себя на их место,— посоветовал
Бопре.— Как рекомендуют специалисты по
психологической войне. Вы должны понять их точку зрения. Они
воображают себя медицинскими пиявками. Они усвоили
все, что про них пишут в их рекламах и в учебниках
их истории, прониклись этим духом и теперь воображают,
будто они не кровопийцы, а спасители. И занимаются
спасением жизней. Улучшают взаимоотношения с вами.
Оказывают вам первую помощь и бросают на вас
лучшие свои силы — выделяют самых больших. Могу
подтвердить, что это самые крупные экземпляры в
стране, известной маленькими человечками и большими
пиявками. Вам просто повезло, а вы всего только
лейтенант.
— Не выношу этой гадости,— сказал Андерсон,
лихорадочно затянулся и поднес сигарету к одной из
пиявок, точно миниатюрный паяльник.
— Ну зачем же так! Лучше взгляните на это дело
с другой стороны. Считайте, что вам оказана честь.
Возьмите, к примеру, Большого Уильяма: пиявки для
него — проблема, потому что его они не хотят трогать и
не трогают. Прикоснуться к нему не желают, а ведь
он капитан, и ростом выше вас, и крови у него, наверно,
куда больше. Он говорил мне, что к нему ни разу не
присосалась ни одна пиявка, и он уже подумывает.
Мб
не. обратиться ли ему с жалобой в отдел защиты
гражданских прав или куда-нибудь повыше. Говорит,
что тут попахивает расизмом. Вас же, хотя вы всего
лишь лейтенант, они отмечают своим вниманием, а вы еще
хотите жаловаться.
Он поглядел, как Андерсон тычет сигаретой в пиявку.
— Ну, раз уж вы ничего не хотите слушать, так
задайте ей! Вот сюда тычьте. Не отнимайте. Не бойтесь.
Не давайте ей загипнотизировать вас взглядом. Не
позволяйте разжалобить. Не отступайте. Сильнее, сильнее.
Ну вот, зашевелилась. Теперь жмите, она отступает!
Задали же вы ей перцу. Молодцом!
Андерсон совсем побелел: он действительно ненавидел
пиявок и испытывал невероятное физическое отвращение
при виде того, как они висят на нем, пьют его кровь.
Он уже свыкся со многими ужасами, которые видел
здесь,— с мертвецами, чьи лица напоминали раздавленные
дыни, с больными, покрытыми паршой детьми (хотя он
плакал, когда впервые увидел их), с женщинами, до
такой степени изможденными, что казалось, будто они
умирают у него на глазах. Ко всему этому он привык,
но даже при одной мысли о пиявках ему становилось
дурно, и если бы он мог заставить себя, то с какой
радостью попросил бы кого-нибудь снять с него пиявки,
лишь бы не смотреть на них. Но это было бы слишком
большим унижением.
— Должен сказать, вы ловко с ней справились,—
сказал Бопре.— Ведь она глубоко впилась. Очень была
уверена, что спасает вас. И впилась на совесть. Так
что вам, пожалуй, останется шрам на память о ней.
Как после хирургической операции.
— А вас они не трогают?— спросил Андерсон.
— Меня они боятся. Я для них ядовит. Некоторые
пробовали было, но все поотравлялись. Они меня не
выносят. А может, хотят мне что-то доказать. Ну-ка,
дружище, берите еще сигарету для второй. Пиявки
такого размера заслуживают по сигарете на брата!
Андерсон раскурил сигарету и начал действовать,
но пиявка не пошевельнулась. Андерсон вновь и вновь
прикладывал к ней тлеющий кончик сигареты, но
пиявка оставалась неподвижной.
— Мне не хотелось бы вмешиваться,— сказал
Бопре,— но вы начали не с того конца. Вы ей хвост
прижигаете, а надо голову. Иначе она не уйдет.
117
Андерсон посмотрел на Бопре, не сомневаясь, что тот
его разыгрывает.
— Как вы различаете голову и хвост? Ведь вообще
неизвестно, есть ли у нее какие-нибудь концы. Не
сочиняйте!— И он приложил сигарету к прежнему месту.
— Конечно, у них есть два конца. Как и у всех.
А если вы не можете разобрать, где голова, так просто
попробуйте с другого конца. И увидите. Конечно, вы не
обязаны прислушиваться к моим советам. Кровь-то не
моя.
Андерсон еще раз попробовал с того же конца.
Пиявка не шелохнулась. Тогда он прижал сигарету к
другому концу. Пиявка задвигалась.
— Ну вот видите. На этот раз вы прижгли нужный
конец, как я и говорил.
Андерсон посмотрел на Бопре с недоумением, не зная,
верить ли тому, что у пиявки действительно есть два
конца.
— Однако эта вторая оказалась зловредней,— сказал
Бопре.— Она набрала больше крови, чем первый пункт
медицинской помощи.
Потом, словно разговаривая сам с собой, Бопре
пробормотал:
— Черт, до чего паршиво я себя чувствую.
Он закрыл глаза, и у него отчаянно закружилась
голова.
— Только уж здесь, в Аптханьтхой, вы меня не
подводите,— сказал Андерсон.
— Вот, оказывается, где мы. Ну, я мог бы и сам
догадаться. Голова кружится.— Бопре открыл глаза.
— Если судить по населенности, на Аптханьтхой
непохоже. Но мы проверили, и оказалось верно. Запах тот
самый.
— Это как раз и важно. Запах — это верная примета.
Все остальное они могут изменить: переодеться, вывесить
другое название, сломать полицейский участок, насадить
больше цветов, но запаха они изменить не могут.
Деревня Аптханьтхой была пропавшей деревней.
Шесть недель назад они не нашли ее во время операции,
и с тех пор она превратилась в легенду. Это была
операция поиска и уничтожения противника, и их
предупреждали, что местное население, возможно,
настроено не очень дружелюбно — при существовавшей
системе смягчений это означало «крайне враждебно*.
118
Первый этап операции был завершен, согласно графику,
без особого успеха и трудностей, после чего они двинулись
к следующему объекту — к расположенной в четырех
километрах оттуда деревне Аптханьтхой, которая была
известна как весьма недружелюбная. Они прошли четыре
километра и не обнаружили никакой деревни. Прошли
еще километра полтора — и снова ничего. Тут их вызвал
по радио полковник и потребовал доложить, добрались
ли они до Аптханьтхой, и если нет, то почему, черт побери.
Несколько минут спустя он поинтересовался, почему они
выбились из графика, и сказал, что это наносит
ущерб престижу штаба и всей армии, а главное —
ему самому в глазах азиатских союзников. Бопре,
сказал он сухим официальным голосом, ставит его
в глупое положение перед полковником Ко, а он не любит
выглядеть дураком ни перед кем, и тем более перед
своим азиатским коллегой. Бопре ответил, что им тоже
неловко, Дангу не менее неловко, чем ему самому.
— Мне нет дела до Данга!— сказал полковник.—
Я ничего не хочу слышать о ваших трудностях, ваше
дело — заставить этих чертовых вьетнамцев шевелиться.
Вам платят не за то, чтобы вам было неловко, а за то,
чтобы вы двигались.
Через десять минут, все еще не получив сообщения
о том, что отряд вошел в деревню Аптханьтхой
(к этому времени Бопре убедил Данга послать во все
стороны разведчиков и поискать Аптханьтхой — Данг
согласился удивительно легко, из чего можно было
заключить, что Ко в свою очередь устроил ему нагоняй,
так как, не обнаружив деревни, он осрамил своего
начальника перед КП), полковник снова раздраженно
закричал, чтобы они немедленно отыскали деревню, не то
он прилетит туда на вертолете, устроит им теплую
встречу, сделает за них все сам, а потом увезет на
этом же вертолете обветренную задницу Бопре и
чистенькую задницу из Вест-Пойнта, то есть задницу Андерсона,
добавил полковник через секунду, от бешенства забыв
было фамилию лейтенанта. Тут Бопре вышел из себя.
«Моя обветренная задница,— сказал он,— отдыхает...»
Он сообщил полковнику свои координаты и потребовал,
чтобы ему назвали предполагаемые координаты деревни
Аптханьтхой. Полковник назвал те же самые координаты.
Тогда Бопре совсем уже рассердился, принес свои
извинения полковнику и заявил, что они-то, сэр, находятся
119
в вышеуказанном месте, а вот деревня — нет.
Следовательно, во всем виновата деревня... «Эта ваша
Аптханьтхон»,— сказал он.
Полковник, судя по голосу, отнесся к словам Бопре
сравнительно миролюбиво. Он повторил координаты, еще
раз уточнил, откуда он пришел и куда направляется,
а затем опять спросил, где же в таком случае деревня.
— Прошу прощения, сэр,— ответил Бопре,— но
именно это хотели бы узнать находящиеся здесь двое
американцев и сто пятьдесят вьетнамцев.
— На том берегу канала,— объявил полковник.—
Именно на том берегу канала. На карте допущена
ошибка.
— Прошу прощения, сэр,— сказал Бопре.— Ошибка
действительно допущена, но деревни нет и на том берегу
канала. Мы осматриваем его вот уже двадцать минут,
но ее и там нет.
— Но она должна быть там!— настаивал полковник.—
В донесениях даже сказано, что ее жители настроены
враждебно. Раз они враждебно настроены, значит, деревня
существует. Посмотрите вокруг себя, капитан Бопре.
Что вы видите?
— Вьетнамцев, сэр, много вьетнамцев, много деревьев
и несколько кустов.
— А что делают солдаты, Бопре?
— Солдаты садятся, сэр. Некоторые уже загрязняют
канал, а кое-кто достает рис.
— Минутку,— сказал полковник.— Подождите
минутку, Бопре. Не двигайтесь с места. Оставайтесь там,
где находитесь. Считайте, что это Аптханьтхой.
Полковник послал разведывательный самолет, который
несколько минут кружил над районом, не обнаружив
деревни и не вызвав на себя огня противника. Тогда
полковник по радио сказал Бопре:
— Зачеркните на своей карте Атттханьтхой, Бопре,
и забудьте об этом. К вам, капитан, никаких
претензий нет.
Бопре поблагодарил (полковник ему нравился) и
высказал мнение, что следовало бы составить новые
карты, поскольку пока они пользуются картами
двадцатилетней давности, которые не всегда точны.
Вечером полковник не упомянул о случившемся,
однако, по-видимому, вся группа советников была уже
прекрасно осведомлена об этом происшествии, и с того
120
дня название Аптханьтхой стало дежурным словечком.
Если кто-нибудь ехал в Сайгон, он говорил, что едет
в Аптханьтхой; если кто-то тяжело заболевал и дня три
оставался в постели, то потом говорили, что он подцепил
вирус в Аптханьтхой; если кто-нибудь из офицеров, гуляя с
девушкой в Сайгоне, встречал приятеля, он говорил, что
эта девушка из Аптханьтхой; если что-то не ладилось в
походе и создавалась тяжелая обстановка, то говорили,
что это случилось в Аптханьтхой; если планировалась
операция и кого-то интересовала политическая обстановка
в заданном районе, то ему говорили, что обстановка
там не хуже, чем в Аптханьтхой.
— Милая наша Аптханьтхой,— сказал Андерсон.—
Недавно я написал жене, что был в отпуске в
Аптханьтхой и истратил сто долларов, потому что там очень
дорогие гостиницы: пятнадцать долларов в день за номер
и десять за питание и еще всякие дополнительные
расходы, поскольку все там очень дорого, но перечислить
их я просто не могу. Она в ответ прислала мне вот
такое длинное письмо и сообщила, что это ничего, что она
понимает, какие это дополнительные расходы, но она
знает, насколько они необходимы солдату, и надеется
только, что я приятно провел время. Она спросила у
жен других офицеров про Аптханьтхой, потому что
никогда не слышала про это место и не знала, где
оно находится, и одна из них сказала, что это китайский
публичный дом (то есть она-то написала «заведение»)
в Сайгоне, а другая сказала, что это островок, где
французские солдаты заводили себе девушек. Тогда я написал
ей, что такое Аптханьтхой и что, по-моему, это очень
смешно. А она прислала мне такое возмущенное письмо,
каких я ни разу еще не получал, и просила, чтобы
я не обманывал ее, писала, что она ужасно расстроилась,
что она не ожидала от меня такого, что теперь все
другие жены смеются над ней и на что же я все-таки
истратил сто долларов?
Андерсон взглянул на Бопре и продолжал:
— Нет, вы только представьте себе: не может мне
простить, что я ни с кем не переспал. Ну, я понял, что
шутки плохи и обманывать ее не надо, а потому, когда
Кроуфорд уезжал в Гонконг, я дал ему чек на сто долларов
и попросил купить на эти деньги новый стереофонический
магнитофон, а потом написал ей, что хотел сделать ей сюр-
121
приз и эти сто долларов истратил на магнитофон.
И она написала, что я замечательный и она меня очень
любит.
Андерсон опять посмотрел на Бопре.
— Черт бы побрал этих женщин! Скажи я ей, что
не тратил никаких ста долларов, она бы не поверила...—
Он снова посмотрел на Бопре.— Знаете, капитан, хотя
это и не мое дело, но вид у вас сегодня ужасный.
Конечно, вы гораздо опытней меня в этих делах, но мне
кажется, что в Сайгоне вы уж слишком даете себе
волю. Вы злоупотребляете этим, не учитывая климат
и жару.
Он ждал, что Бопре его выругает, а потом подумал,
что старый хрен заснул. «Надрался вчера виски больше,
чем мне казалось». Но, присмотревшись внимательнее,
он обнаружил неладное: рот Бопре был приоткрыт, глаза
смотрели невидящим взглядом. Андерсон понял, что это
обморок.
Первым его побуждением было сообщить на КП, но он
тут же понял, что ничего хуже не мог бы придумать.
Нет, на КП сообщать нельзя, по крайней мере сейчас.
Он посмотрел на Бопре и почувствовал отвращение к
этому старику с грязным, небритым лицом.
Развратничает, пьянствует, блюет во время отпуска, а потом при
исполнении служебных обязанностей, пройдя немного
пешком, без конца пьет воду и падает в обморок, точно
офицер военно-морского флота. И какой пример для
вьетнамцев! Вьетнамцы никогда много не пили, и Андерсон
считал, что им должно быть противно смотреть на пьющих
американцев. «Что они могут думать про нас, когда
видят таких вот людей? А ведь мы призваны служить
им примером как представители величайшей в мире
армии — новой, современной, оснащенной вертолетами.
А мы привозим им Бопре, который кричит и ругается,
а пешком ходит хуже их женщин и не считает даже
нужным следить за собой, хотя бы при посторонних».
Именно нежелание Бопре скрывать свои слабости и
коробило Андерсона. В частной жизни слабости тоже
не похвальны, на все же допустимы; только вот если
чувствуешь, что не можешь держать себя в руках, не
показывайся на людях. И тем более в чужой стране.
Пусть отводит душу в баре семинарии. Андерсон был
уверен, что вьетнамцы не хуже его замечают, что от
Бопре разит не только потом, но и виски.
122
Несколько минут назад лицо Бопре было багровым,
теперь оно стало землисто-бледным. Андерсон встряхнул
его флягу — она была практически пуста. Бопре выпил
всю воду еще в первой половине дня, точно ребенок,
который сразу съедает все конфеты. Андерсон достал
свою почти полную флягу и перелил из нее половину
во флягу Бопре. Потом налил в пригорошню немного
воды и побрызгал Бопре на лицо. Он смотрел, как
стекают капли, промывая в грязи узенькие чистые полоски.
Андерсон плеснул еще раз, потом еще и наконец увидел,
что глаза Бопре становятся осмысленнее.
— Все в порядке. Все в порядке, дружище,—
торопливо пробормотал он.— Не бойтесь, теперь все хорошо.
Рука Андерсона снова потянулась к лицу
капитана, а голос стал неожиданно ласковым. Как ни странно,
но он уже не испытывал отвращения к этому старому
офицеру и, сам не понимая почему, сочувствовал Бопре.
К черту вьетнамцев, если они видели и если им это не
понравилось. Пусть Бопре и старый дурак, но он наш
дурак, американский, и к тому же офицер, повидавший
много войн и много стран,— если бы эту войну вели
более организованно и умело и если бы она стала чуточку
более похожа на настоящую войну, возможно, он и не
пил бы так много. А в этом они виноваты не меньше
нас. И Бопре заработал себе право пить столько.
— Ну, все в порядке. Просто вы немного
перегрелись. Такая уж стр-ана. Бог отдает вьетнамцам всю
неизрасходованную энергию солнца. Жара на всех действует,
в том числе и на меня. И на вьетнамцев. И вы должны
встать, чтобы помочь вьетнамцам выбраться отсюда.
Ему показалось, что Бопре кивнул.
— Жуткая жара,— продолжал Андерсон.— Такого
дня я здесь не припомню. Еще один чертовски жаркий
день, но мы выдержим.
Бопре вроде бы приходил в себя, вроде бы даже
кивнул, Андерсон поднес ему флягу ко рту и, дав немного
отпить, быстро отнял. Потом, выждав минуту, дал еще.
— Я ненавижу здешнюю жару и здешнее солнце,—
сказал он.— Странно, я вырос в Миннесоте, а там всегда
холодно, и я любил солнце. Мы всегда ждали, когда
же оно начнет греть. Помню, даже поздней весной
солнечные дни были событием, потому что после школы мы
уже не мерзли в школьном автобусе. А потом мы ждали
середины лета — только тогда солнце начинало греть
123
по-настоящему, и я ходил купаться. Но я не сразу бросался
в воду, а сперва лежал на берегу и наслаждался
солнцем. Я подолгу жарился, пока весь не покрывался потом,
и только тогда лез в воду. Я точно играл с солнцем.
Я так его любил! Но теперь, побывав тут, я уже
никогда не смогут относиться к солнцу по-прежнему,
никогда не смогу подставить себя солнцу, не вспомнив
про Вьетнам, про то, как я спрашивал себя,
продержусь ли я еще день. Нет, больше я не буду греться
на солнце.
— Я потерял сознание,— сказал Бопре. Андерсон
похлопал его по плечу.— Вот черт! Надо же. Никогда
со мной этого не бывало.
— В такую жару это может случиться с кем угодно.
Потом вам же придется тащить меня.
— Мне очень неприятно, что я вас так подвел. Со
мной никогда этого не бывало.— Бопре помолчал.— Данг
видел?
— Нет,— ответил Андерсон, хотя был уверен, что
Данг, конечно, ухитрился увидеть все: о таких вещах
Данг всегда осведомлен.— Он был слишком занят
беседой с генералами.
— Послушайте,— сказал Бопре,— я буду вам очень
обязан, если вы не сообщите на КП. Со мной же это
впервые. А вы знаете этих людей. Они обожают такие
случаи.
— Им сейчас не до нас, спят, наверно. Нам ведь
они не сообщают, когда им вздумается всхрапнуть.
— Этот чертов Данг наверняка знает.
Андерсон достал несколько солевых таблеток и
протянул две штуки Бопре.
— Терпеть не могу этой дряни. Не буду глотать.
— Если вы их не примете, мне придется проторчать
здесь с Дангом до конца дня.
— Ладно, дайте одну.
Андерсон дал ему одну таблетку и немного воды.
Потом заставил Бопре наклониться к земле.
— Теперь лучше?
— Лучше. С диснеевскими фильмами пока все. Я опять
во Вьетнаме. Не злаю только, действительно ли это
лучше?
— Может быть, все-таки вызвать вертолет? Наверно,
это возможно. Пожалуй, это наилучший вариант.
— Не надо. К черту вертолеты. Сам дойду. Всегда
124
ходил сам. В тот день, когда не дойду, мне подадут
деревянный ящик с американским флагом. Осталось
четыре-пять миль, и я дойду. А если вызовете вертолет,
меня уже не пустят ни на какие операции. А они будут
рады: уйдет еще один капитан. Им этого только и надо.
Переведут меня в отдел психологической войны и пошлют
инспектировать стратегические населенные пункты. Я уже
восемнадцать лет хожу, дойду и сегодня. Я же принял
вашу таблетку, верно? Вы думаете, стал бы я ее глотать,
если бы не собирался идти пешком?
— Ладно, я только хотел убедиться.
— Ну так теперь вы убедились.
Бопре поднялся и, еще неЧвердо держась на ногах,
несколько раз прошелся взад и вперед.
— Все в порядке,— сказал он.— Ну-ка, пошли
поднимать вьетнамцев. Засиделись, черт их дери.
Бопре надвинул козырек фуражки почти на самые
глаза. Андерсон предложил ему солнечные очки. Бопре
не любил очков, считая, что их носят только богатые
бездельники, но сейчас он их взял, надеясь, что с ними
будет немного легче. Он любой ценой должен был
избежать второго обморока — тогда Андерсону придется
сообщить на КП. Он остановился и погрузил руки в
воду канала. Вода была теплой, но все же казалась
холоднее воздуха. Это был старый фокус, которому он
научился в давние времена, еще в бытность свою
строительным рабочим, когда воды было много и она была
доступна. Потом он пошел дальше, не освеженный, но
не испытывая и тошноты. Сначала он шел осторожно,
и каждый шаг был достижением и залогом того, что
он выживет, каждый шаг означал, что он еще не упал, не
потерял сознание во второй раз. Затем он
почувствовал, что может идти, что выдержит, и выругал себя за
то, что сплоховал на глазах у мальчишки, за то, что
наделал глупостей, за то, что вынужден был просить
мальчишку не сообщать начальству о его обмороке. Он
ругал себя за слабость, но уже не сомневался, что
выдержит теперь до конца дня. Он осознал, что Андерсон идет
за ним всего в нескольких шагах: Андерсон беспокоился
и не верил в него. «Я покажу этим сосункам!»— подумал
Бопре, обретая уверенность в себе, и вновь вошел в
обычную колею длинного, жаркого дня.
Но привычное однообразие длилось недолго. Через
десять минут заговорило радио. Голос был пронзитель-
125
ным и взволнованным настолько, что Бопре бросился
к рации прежде, чем Андерсон успел позвать его.
— Большой Уильям! Только что обстреляли Большого
Уильяма и его рейнджеров!— кричало радио.— Большой
Уильям убит! Там творится бог знает что. Господи,
Большого Уильяма убили, а я говорил с ним, когда он
умирал, вот как сейчас с вами. Это было ужасно. «Сшибли
Большого Уильяма и его рейнджеров, как кегли, как
кегли»,— повторял он все время. А потом умер. Я такое
слышал в первый раз. Ужасно. Там все идет к чертям.
Две трети состава ведущей роты погибло на месте. Без
единого выстрела. Вьетнамцы просто свихнулись и плачут.
Кроуфорд сказал, что ничего подобного никогда не видел:
человек двадцать вьетнамцев несут тело Большого
Уильяма и плачут, как черт знает кто. Он говорит, что никогда
еще не видел, чтобы они плакали. А некоторые еще
и повторяют: «Как дела, Большой Уильям? Дела идут
хорошо». Точно так же, как он сам говорил. Черт знает
что такое там делается!
Бопре взял у Андерсона рацию и стал успокаивать
дежурного по КП:
— Говорите медленно. Начните сначала, только
медленней. Меня не интересует, кто плачет, скажите
лучше, кто убит и кто жив. Пожалуйста, говорите проще,
прошу вас.
В конце концов ему удалось восстановить картину
происшедшего: рота только что покинула деревню, где
ее встретили очень дружелюбно («Смотрите, как на них
действует обаяние Большого Уильяма, они даже хотят
назвать его именем свою деревню — деревня Большого
Уильяма»), и настроение у них было очень хорошее.
Большой Уильям утверждал, что в его честь крестьяне
назовут не только эту деревню, но и все графство,
и дежурный по КП сказал, что это невозможно, потому что
во Вьетнаме нет графств. Ну и прекрасно, ответил Большой
Уильям, пусть будет провинция, это звучит даже
солиднее, почти как целая страна. А столице этой провинции
он даст название Пиккенс, со смехом добавил он. И в
этот момент вьетконговцы открыли огонь — застигли их
врасплох на открытом месте,— и Большой Уильям сказал:
«Я ранен, тяжело ранен, и ни одного выстрела — мы не
выстрелили ни разу. Нас сшибли, как кегли»— и умер.
Убиты и некоторые вьетнамские офицеры. «Раз-два —
и готово,— сказал дежурный (он уже взял себя в руки).—
126
Когда прибыли истребители, вьетконговцы ушли. А
вертолеты за ранеными никак не вылетали. Пилот, которому
надо было вылететь первым, уперся, потому что ему
осталось дослужить одну неделю и ситуация ему не
нравилась. Ну, в конце концов его послали вторым,
и вертолеты никто не обстрелял, но там творилось черт
знает что: вьетнамцы чуть не все кричали, что они ранены,
и лезли в вертолет. Там черт знает что делалось».
Но теперь как будто все улеглось. Случилось это
так быстро, что уже и кончилось, сообщил дежурный.
Новых инструкций он не дал. Бопре было предложено
следовать в заданном направлении. Возможно, потом
придется замедлить марш, но это выяснится позднее.
Полковник просит ему передать, чтобы он не менял своего
положения в колонне: дурная примета.
— А преследование ведется?— спросил Бопре.
— По сути дела, нет. Все были заняты тем, чтобы
поднять в воздух вертолеты, да и некоторое
время нельзя было разобрать, кто там теперь за
командира. Страшная была неразбериха.
— Почему не ведется?— спросил Бопре.
— Не знаю,— ответил дежурный.— Но наверно, они
боялись, что вьетконговцы тогда всыплют им еще больше.
Разговор с КП закончился. Бопре и Андерсон
вернулись к собственным проблемам.
— Ну вот, кончились для Большого Уильяма
шелковые пижамы,— сказал Бопре.
— Какие шелковые пижамы?
— Те, что он так любил.
— Он вам нравился?
— Он был лучше большинства,— ответил Бопре,
предоставляя Андерсону решать, подразумевает ли он
большинство негров или большинство офицеров.
«Большой Уильям,— думал Бопре.— Я даже тут все
испортил». После того трехдневного отпуска он старался
избегать Большого Уильяма, но утром, когда тот вышел
из столовой, они вдруг встретились. Большой Уильям шел
навстречу, напевая какую-то песенку — себе под нос,
а также и для всех, находившихся в радиусе десяти
шагов: «Бум, бум, бум-де-дум-бум. Ах, какая крошка!
Дум, дум , дум. Но она такая крошка!» «Негритянская
музыка»,— подумал Бопре.
— Вот это был отпуск. Большой Уильям едва ноги
волочит. А мамасан сильна. Ну и сильна! Этой женщине
127
памятник надо поставить. Совсем вымотался. А на
постаменте написать: «Чемпионка». И больше ничего.
«Чемпионка». В конце концов мне пришлось ей сказать: «Мама-
сан, ты вьетконговка. Ты хочешь убить Большого
Уильяма». А она начала рассказывать про какого-то
неутомимого француза — того самого, который поставил
французский рекорд. Так что пришлось мне задержаться,
пока она не забыла и про француза и про всю Францию.
Да-а, сильна женщина.— Большой Уильям улыбнулся.—
Слушай, Бопэй, ты здоров? А ребята тебя полюбили.
Просили, чтоб я снова тебя привел. Ну как, ничего?
То-то, я же говорил. Большой Уильям друзей не подводит.
Он для них все сделает.
— Да, конечно. Все было так, как ты говорил. Все
было чудесно.
— Правда понравилось, а?
— Мой лучший отпуск в Сайгоне.
Но голос Бопре звучал фальшиво, и на лице
Большого Уильяма появилась новая, совсем другая улыбка.
— Что это с тобой, Бопэй?— Большой Уильям смерил
его долгим взглядом.— Так, значит, Большой Уильям
как будто маху дал. Ну, впредь ему наука. Я думал, ты
не такой. Приношу свои извинения." Нижайшие. И ты туда
же! Здорово. Эх ты...— И он пошел дальше, улыбаясь еще
шире и снова напевая: — Бум, бум. Ах, какая крошка!
Эх, бедняга Уильям!
И вот Большой Уильям убит. Бопре прикинул, какую
часть своего последнего дня на земле Большой Уильям
потратил на то, чтобы смеяться над ним, Бопре. «А ты
тратишь почти всю жизнь на то, чтобы подводить
других»,— подумал он с горечью.
* * *
Форма на Бопре опять была мокрой, только теперь
не от дождя, а от пота. Новая полоска соли под
мышками опустилась ниже прежних — белый меловой
полукруг, который становился тем шире, чем дольше он
оставался в этой стране. В будущем, чтобы подтвердить,
что он был во Вьетнаме, ему достаточно будет показать
вместо медалей свою рубашку. Ему хотелось пить, но,
как ни странно, жажда вроде бы уменьшилась, словно
то, что мысли сосредоточились сейчас на войне,
способствовало ее утолению. Он не сомневался, что им грозит
128
очень серьезная опасность, и в нем заговорило чувство
самосохранения. И фляга была ему уже не нужна, во
всяком случае в настоящую минуту, и силы его теперь
поддерживал инстинкт самосохранения. Солдаты, как
ему показалось, держались по-прежнему, хотя перед
вступлением в первую деревню они на некоторое время
подтянулись, сделались похожи на настоящих солдат и
перестали лопотать даже радист перестал. Когда Бопре
приехал в страну и впервые усл|ышал это лопотание,
он очень возмущался, и кто-то кто именно, он не
помнил, но, во всяком случае, такое объяснение мог дать
только человек, чей срок был на исходе,— стал
терпеливо втолковывать ему, что вьетнамский язык тональный,
а это создает значительные затруднения при
переговорах по радио, так как тон легко искажается, что приводит
к изменению смысла фразы, вот и приходится несколько
раз повторять одно и то же. Очень хорошо, ответил
Бопре (он тогда еще не утратил честолюбия и энергии),
а теперь скажите, чтобы они поменьше шумели и
прекратили это дурацкое лопотание! Он был уверен, что
противник перехватывает все это лопотание — ведь
противник-то научился понимать его с пеленок, едва залопотал
сам. В семинарии, когда он стал ругаться по этому
поводу, его попробовали убедить, что противник не
располагает техникой перехвата, но Бопре не верил ни
противнику, ни обитателям семинарии.
Бопре хотел, чтобы солдаты шли быстрее, хотел быть
настоящим командиром, который отдает приказания и
видит, как они тут же выполняются, который может
выслать разведку, может заставить солдат идти быстро
или медленно, быть мужественными, быть стойкими,
хотел, чтобы его ненавидели, боялись, даже любили,—
лишь бы быть настоящим командиром. Он хотел идти
быстрее, но не мог же он толкать их перед собой. Он было
ускорил шаг, но тут же начал натыкаться на идущего
впереди солдата, так что в конце концов вынужден был
направиться к голове колонны. Толкать их перед собой
он не может, но вдруг ему удастся подтянуть их за
собой. Да и вообще он предпочитал ходить в голове
колонны, полагая, что ставить там вьетнамца не следует
Когда он выбрался вперед, он увидел там молодого
приземистого вьетнамца, который с готовностью уступил
ему свое место и, широко улыбнувшись, поблагодарил
американца.
5 Зак. 556
129
Бопре удалось ускорить темп марша, но он все время
оглядывался, опасаясь, не отстала ли колонна.
Узнав о засаде, Тыонг стал ждать, когда к нему
подойдет Андерсон. Это было неизбежно. Это был ритуал.
Если б только была возможность, если бы на той
стороне канала сейчас находился патруль, он ушел бы
туда, лишь бы избежать предстоящего разговора. Он
прекрасно знал, как именно пойдет этот разговор — один
из тех, которые он мысленно называл заупокойной
службой. Андерсон выразит сожаление о погибших, и
Тыонг выразит сожаление, затем Андерсон заговорит о
погибших вьетнамцах, отдельно упомянет вьетнамского
офицера (он его знал? И будет его хвалить. Он его не
знал? И выразит сожаление, что не знал его лучше),
а потом скажет несколько слов о том, какая
печальная вещь война. Тыонг знал все это наизусть. Когда
Андерсон хвалил вьетнамских офицеров, Тыонг был
вынужден соглашаться и нередко хвалить людей, которых
он презирал. Конечно, ему и до Андерсона приходилось
выслушивать то же самое от других американцев (за
исключением, разумеется, Рейнуотера, который свято
веровал в закон больших чисел и почти не скрывал
радости, когда во время засады убивали кого-то другого),
но у Андерсона это получалось лучше всех. Андерсон
был самым искренним и поэтому самым худшим из них,
с точки зрения Тыонга. Сам он не хотел, чтобы такую
панихиду отслужили бы по нему в других отрядах: «Как
фамилия этого погибшего вьетнамского офицера?»—
«Тыонг».—«Тыонг?»—«Тыонг».—«Тот, который с
усиками?»—«Нет, не тот. Кажется, другой, маленький».
«Который маленький?»—«Тот, гордый».—«Ах, этот Тыонг!
Высокомерный сукин сын, но хороший офицер».—«Да».
Андерсон пришел во время привала — какого по счету,
Тыонг уже не знал. Он мог отмерять их только по
боли в ступне, которая во время отдыха усиливалась.
Сейчас нога совсем разболелась, и Тыонг предпочел бы
идти дальше, но, конечно, привал затянулся. Ему
отчаянно хотелось снять ботинок и посмотреть, какой стала
ступня — белой, распухшей, а может быть, и
зеленоватой. Но он не решился разуться, боясь, что подойдет Данг
и поднимет шум. Да и американцам ни к чему это видеть.
Он старался представить себе, какого цвета сейчас у него
ступня, и тут явился Андерсон.
130
Разговор шел как по нотам. Это была скверная
засада. Они все скверные. Столько гибнет ваших
соотечественников. Вьетнамский народ уже привык к этому —
как к солнцу или дождю; возможно, если бы это
прекратилось, возникло бы ощущение, что чего-то не хватает
Потом опять заговорил Андерсон, он был так вежлив,
деликатен, тактичен. Когда Тыонг только познакомился с
ним, он подумал: наконец-то настоящий Американец с
большой буквы высокий, сильный и чистый, с такими
светлыми волосами на руках. И Тыонг сразу же подумал,
что такой гигант должен выпивать очень много молока.
(Одним из первых вопросов, который он почти застенчиво
задал Андерсону на третий день их знакомства, было:
правда, ли, что в Америке можно пить сколько угодна
молока? Они почти час обсуждали американские завтраки
и молоко, и это был один из самых приятных их
разговоров.) Теперь Андерсон продолжал говорить о засаде и
о погибших, не делая различия между убитыми
вьетнамцами и убитыми американцами, и это сердило Тыонга,
который считал это лицемерием — не может же он и в
самом деле скорбеть о смерти вьетнамцев. Андерсон
выразил сожаление о гибели капитана Хо Ван Вьена;
капитан, как выяснилось, относился к тем вьетнамским
офицерам, которых Андерсон почти не знал и хотел бы
узнать поближе.
-*► Если бы вы познакомились с капитаном Хо Ван
Вьеном поближе, то узнали бы, как это знал я, его
солдаты и ваш высокий негритянский друг, что капитан
Вьен был merde *. Это французское слово тут подходит
больше всего. Его не интересовали ни люди, которые с
ним служили, ни сама война, и он не заботился о своих
солдатах. Если вьетконговцы и убили его, то,
наверно, случайно. Мне очень жаль, что я вынужден так
отозваться в беседе с американцем о моем
соотечественнике, и тем более умершем. Надеюсь, вы меня извините.
Тыонг увидел на лице Андерсона спокойное удивление
и понял, что напряженность между ними возникла по
его вине.
Андерсон, относившийся теперь к Тыонгу более
жестко, чем месяц назад, пристально посмотрел на него и
сказал:
— Вам виднее, лейтенант Тыонг.
Он считал Тыонга странным. Когда он приехал во
Вьетнам, его прикрепили к Тыонгу, предупредив, что
5*
131
«Тыонг — хороший офицер, возможно, даже лучший из
молодых офицеров, но трудный и не любит длинноносых».
Андерсон обрадовался: именно о таком партнере он и
мечтал — о хорошем офицере, но трудном. А
познакомившись с Тыонгом, он обрадовался еще больше: Тыонг был
явно умным и, как вскоре выяснилось, храбрым
человеком. Он решил, что нашел именно то, ради чего ехал во
Вьетнам, и уже представлял их дружбу, их будущие ветре
чи: Тыонг приедет погостить к нему в Бэннинг, и они,
может быть, назовут своих сыновей в честь друг друга
Через десять дней после их знакомства Андерсон
решил пригласить Тыонга пообедать с ним, но не стал
торопиться и выждал еще месяц, так как не хотел слишком,
навязываться Тыонгу. Пригласил он Тыонга
непринужденно и по-дружески, давая ему возможность отказаться.
Однако приглашение было принято сразу же и без
колебаний, хотя с некоторой церемонностью, которая, впрочем,
только понравилась Андерсону. Эта церемонность
придавала Тыонгу что-то истинно азиатское. Обед прошел
странно. Андерсон решил не устраивать его в семинарской
столовой, опасаясь, как бы еда не показалась вьетнамцу
слишком тяжелой и жирной, и еще он опасался, как
бы кто-нибудь не сказал чего-нибудь обидного в адрес
азиатов (Бопре мог заговорить о «косоглазых») Так
что они пошли в местный вьетнамо-китайский ресторан,
именовавшийся на семинарском жаргоне «Лиловой чумой»
не то из-за цвета стен его уборной, не то из-за
результатов, к которым приводило его посещение,— никто точно
не знал почему. Когда они уже подошли к дверям
ресторана, Андерсон вдруг усомнился, правильно ли он
сделал,— а вдруг вьетнамцы избегают посещать этот
ресторан (как оно и было на самом деле)? Однако Тыонг
искусно помешал ему отступить (хотя он уже бывал в этом
ресторане с другими американцами и сомневался в
политической благонадежности его владельца, который был
чрезвычайно любезен с американцами и хорошо говорил
по-английски)
Андерсон затеял этот обед, рассчитывая, что Тыонг
разговорится и он узнает многое о стране, о войне и о
жизни самого Тыонга. Но Тыонг, беспощадно вежливый
и учтивый, не говорил ни о собственной жизни, ни о
своей стране. И вообще говорил только Андерсон. Правда,
это был не совсем монолог: Тыонг задавал ровно
столько вопросов, сколько требовалось, чтобы поддержать
132
разговор,— об Америке, Вест-Пойнте, даже о Германии
(«Скажите, немецкие солдаты действительно носят каски,
которые мы всегда видим на них в кино?»). Вопросы
задавались очень вежливо, но у Андерсона иногда
возникало ощущение, что он разговаривает с человеком гораздо
старше себя, может быть, с чьим-то дедом, который
совсем не интересуется темой разговора, но умеет быть
любезным собеседником.
Андерсон был совершенно сбит с толку и не понимал,
то ли Тыонгу невыносимо скучно, то ли он старается
получить как можно больше всяческих сведений. (Иногда
сам Андерсон задавал вопросы вроде: «Как по-вашему,
помогают вертолеты в ведении войны?»— и получал ответ
вроде: «О, лейтенант Андерсон, вы знаете это лучше
меня! Вертолеты ведь из вашей страны».)
Разумеется, Тыонг, как человек вежливый, в свою
очередь пригласил его пообедать вместе, выждав
несколько дней. Андерсон был доволен и горд: возможно, их
первая встреча прошла лучше, чем ему показалось.
Возможно, для сближения с людьми вроде Тыонга нужно
лишь время. Тыонг просто застенчив, в этом все дело.
И нужно время, чтобы убедить его, что ты не такой,
как другие, что ты искренен и не считаешь его
косоглазым.
За день до обеда их отряду пришлось неожиданно
выдержать один из редких крупных боев. Это была
наступательная операция, в которой они сначала проявили
нерешительность, а потом позорно провалились. День,
ночь и еще один день прошли в страшном,
истерическом ожесточении среди страха и смерти — страх
передавался от одного к другому, как моровая язва, люди
стонали, умирали, кричали на двух языках. Американцы
требовали, чтобы этих сукиных детей заставили
шевелиться, вьетнамцы снова и снова отвечали, что сейчас не
время, что надо дождаться благоприятного момента;
американцы говорили: «Нет, сейчас, черт побери, или мы
все погибнем в этом вонючем болоте!», а вьетнамцы
говорили: «Нет, не сейчас, надо выждать, надо пока
укрыться». «Здесь же нет никакого укрытия!»— кричали
американцы. И все это на фоне стонов и ужаса. Прошло
только сорок восемь часов, и озлобление, горечь этого
боя еще были очень остры (даже полковник, этот образец
корректности, сказал полковнику Ко, и его слова
повторялись вновь и вновь с облегчением и злорадством, ибо
133
наконец у кого-то хватило духа высказаться прямо: «Если
вам понадобится вертолет, полковник Ко, сообщите мне.
Только сообщите мне!»). Тыонг пришел точно, минута в
минуту. Андерсон был почти уверен, что Тыонг отложит
обед, но Тыонг как будто был даже доволен, словно он
нарочно приурочил обед к сражению. Андерсон сначала
провел его по семинарии и пригласил в бар, где познакомил
с другими офицерами,— казалось, можно было видеть,
как слова, которые произносили американцы, замерзают
на лету. Но чем холоднее были слова, тем учтивее
становился Тыонг, он не торопился уходить, нарочно мешкая.
Наконец, по настоянию Андерсона они все же ушли, и
Тыонг повел его в совсем незнакомую часть Мито, в
стороне от торговых кварталов. Они вошли в крошечный
ресторанчик, где было всего четыре столика и шесть стульев.
В ресторанчике не было ни меню, ни холодильника,
и поэтому в течение вечера хозяин несколько раз посылал
своего сына на велосипеде в соседний бар за холодным
пивом. Тыонг сказал несколько слов хозяину, который,
казалось, был очень горд, что его посетили американский
лейтенант и Тыонг. Он был очень опечален:
специальность его заведения — креветки, а свежих креветок у него
нет. Он, правда, ходил на рынок, но вид креветок,
которые там продавали, ему что-то не понравился. Поэтому
они ели рыбу под жирным соусом, свинину, нарезанную
тонкими ломтиками, и пасту из сушеных креветок,
намазанную на стебли сахарного тростника. В общем,
обед получился внушительный, хотя хозяин иногда
отвлекался, чтобы дать подзатыльник сыну, обнаружив, что
пиво на исходе.
Но на этот раз разговор не клеился еще больше.
Андерсон целых полчаса говорил обо всем, кроме
Вьетнама. В конце концов он упомянул Вьетнам и опять
говорил обо всем, кроме недавнего боя. Но Тыонг прервал
его:
— А что вы скажете о бое, лейтенант Андерсон?
И Андерсон, бедный вежливый Андерсон, начал
подыскивать всякие оправдания и намекать на превосходящую
численность противника. Тыонг опять прервал его и
сказал:
— Лейтенант Андерсон, вы самый вежливый
американец, каких мне доводилось видеть. Вы даже вежливей,
чем положено быть вьетнамцам. Когда мы вежливы, мы
неискренни, и, вероятно, вы тоже. Вам, кажется, не дан
134
талант убедительно лгать, и вы даже краснеете. Это
был страшный бой. Его не назовешь даже снафу.
— Как-как? — переспросил Андерсон.
— Снафу. По-вашему это, кажется, называют бардак.
— Снафу,— повторил Андерсон.
Оба неуверенно рассмеялись.
— К сожалению,— сказал Тыонг.— Это было даже
не снафу. Так что на этот раз я буду с вами
совершенно откровенен и скажу то, что вы знаете сами: это
был позор, и, если бы не ваши американские самолеты
и не ваши американские вертолеты, позор был бы еще
больше и погибло бы еще несколько сот вьетнамских
солдат.
Андерсон сделал робкую попытку возразить.
— Нет-нет, вы учились в Вест-Пойнте, а я не учился
в Сен-Сире * — даже во вьетнамском Сен-Сире,— но я
знаю, что это был позор, причем, лейтенант, не первый
и не последний. Я был бы рад объяснить вам, почему
это происходит, и заверить вас, что этого больше не
произойдет, но ни то ни другое не в моих силах.
Андерсон перебил его и сказал, что теперь положение
меняется к лучшему, укрепляется дисциплина, появились
вертолеты, но Тыонг только посмотрел на него и
улыбнулся доброй, дружеской улыбкой, какая редко бывала
на его лице.
— Вы, американцы, пришли спасать нас.
— Не спасать, а помогать,— сказал Андерсон.
— Нет, спасать. Это более точное слово. Только я
боюсь, лейтенант, что таких людей, как мы, спасать
нелегко.
На этот раз Андерсон промолчал, и Тыонг
продолжал, понизив голос и полузакрыв глаза, точно
разговаривая сам с собой:
— Мы даже сами не можем себя спасти. И это
самое скверное. Мы не можем себя спасти. Я очень
сожалею.
Несколько минут они ели молча, потом Тыонг, словно
вдруг спохватившись, заговорил о себе и стал хвалить
Андерсона: он хороший солдат, отличный офицер, и,
если бы он, Тыонг, был полковником, он гордился бы
таким молодым офицером, и, конечно, его еще ждут
другие задания и другие страны, где люди лучше оценят
его помощь, но и Вьетнам его многому учит, больше,
чем он думает, и то, что он здесь испытает — даже
135
трудности и разочарования,— пойдет ему на пользу
Когда-нибудь в другой стране его спросят, где он служил
раньше, и он ответит, что во Вьетнаме. «В таком слу
чае,— скажут ему,— вы не только храбрый, но и
терпеливый человек».
В тот вечер они впервые за время знакомства
расстались друзьями. Тыонг очень жалел, что им не удалось
поесть свежих креветок, и обещал пойти с ним в этот
ресторан еще раз, когда будут хорошие креветки.
Но это обещание так и не было выполнено. Два
дня спустя, когда они снова отправились на операцию,
Тыонг держался с ним мягче и предупредительней
прежнего, но снова замкнулся в себе. От возникшей было
непринужденности не осталось и следа, а с ней и от
всего, что казалось, она принесла с собой. Тыонг словно
устыдился своей слабости и снова отступил за стену
гордости. Именно то, что Андерсон был прекрасным
офицером, как раз и вызывало в нем холодность и
отчужденность. Он понимал это яснее, чем Андерсон, понимал,
что, будь Андерсон посредственным офицером, будь он
похож на Рейнуотера, и то, может быть, он, Тыонг,
относился бы к нему лучше. И если бы Андерсон не был
так любезен, так неизменно вежлив, он относился бы к
нему более дружелюбно. Вот почему они по-прежнему
оставались просто коллегами, союзниками, которые
стесняются друг друга, и Андерсон упорно пытался улучшить
их отношения. Но чем больше он старался, тем ©тчуж
деннее казался Тыонг, и в конце концов Андерсон не вы
держивал: отходил от него, бывал холоден и даже груб*
Когда это случалось, Тыонг вдруг на какое-то время
смягчался. Лишь на этой поздней стадии их отношений
Андерсон начал понимать, что происходит, но он был
не способен вести себя иначе. Его с раннего детства
учили держаться с людьми именно так, особенно с теми,
кто устроен в жизни хуже его. Даже для пользы дела,
даже во имя профессионализма, которого он так добивался
и так сильно желал, Андерсон не мог изменить
принципам, ставшим за двадцать пять лет частью его натуры.
Цена была слишком высокой. Он был готов отдать свою
жизнь, воюя тут, но он не мог преодолеть эту свою
слабость. Он не мог обращаться как сволочь с
желтокожим человеком в бедной стране. А поэтому время от
времени — главным образом из-за того, что он ничего не
мог тут поделать,— Андерсон начинал сердиться, и Тыонг
136
становился мягче, но, как правило, он действовал
добротой и, когда проигрывал, не утрачивал этой доброты.
Так они и остались чужими друг другу, несмотря на
кажущееся сближение. У них не было расхождений
относительно войны, они достаточно уважали храбрость друг
друга, и за все время у них произошла только одна
серьезная стычка. Это случилось на четвертом месяце
пребывания Андерсона в стране, в убийственно жаркий
день, когда солдаты падали без сознания. Они прошли
через две деревни, до того опаленные и опустелые, что
казалось, будто солнце выжгло из них всю жизнь. Третья
деревня выглядела такой же; в ней оставалось лишь
несколько женщин, но и тех словно сожгла жара.
Андерсон, не в силах двигаться дальше, растянулся в тени
дерева и погрузился в оцепенение, граничившее со сном.
Его разбудил шум, доносившийся откуда-то из глубины
деревни, но шум тут же стих. Однако вскоре этот шум
уже опять отдавался в его ушах, как назойливый звон
будильника, который нет сил прервать. В конце концов
Андерсон начал прислушиваться. Сначала он различил
пронзительный, хихикающий голос мужчины, а потом
тонкий и резкий визг женщины; потом — явно мужской
голос, не такой пронзительный, но с еще более заметными
хихикающими нотками; потом — тонкий женский визг,
становившийся все более громким и сердитым; потом —
опять мужской голос, теперь уже не пронзительный,
и сменивший хихиканье смех; потом — другой смех, еще
и еще; и наконец — опять женский голос, разразившийся
истеричными воплями, которые нарастали, как вой сирены.
Он был до того заинтригован, что поднялся на ноги,
несмотря на жару, и поплелся в направлении голосов. Он
увидел пять женщин и человек пятнадцать солдат,
которые громко спорили и кричали. Солдаты держали в
руках уток, а женщины наскакивали на них. Одна
ухватилась за шею утки и тянула к себе, то и дело пиная
солдата ногой, но с близкого расстояния, так как отойти
подальше не позволяла короткая шея птицы, а солдат
после каждого пинка разражался хохотом. Андерсон
несколько минут наблюдал эту сцену как завороженный,
и все ее подробности одна за другой (в руках солдат
были не только утки, но и куры) запечатлевались в его
сознании, и это было не что-то случайное — не просто
одна женщина, одна утка, один солдат,— казалось, вся его
рота грабила эту деревню, эту маленькую деревушку
137
(ну сколько там у них уток?). Массовое мародерство,
не более и не менее, и Андерсон пришел в ярость, не зная,
что ничего, возможно, не случилось бы, если бы женщины
не отказали солдатам в воде, это была ошибка, которую
они никогда больше не повторят, даже в самый жаркий
день. Андерсон с возрастающим гневом смотрел, как
солдаты смеются и дразнят женщин. «Давайте бросим
уток и заберем этих молоденьких девочек>,— сказал
один из них. Другой, заметив Андерсона и не желая
обделить его (в общем, солдаты неплохо относились к
американским советникам), подошел и протянул ему
одну из двух своих уток с заговорщицкой улыбкой,
говорившей, что они в этом заодно, а уток хватит на всех.
Андерсон сердито отказался от утки и пошел искать
Тыонга.
Тыонг находился в дальнем конце деревни — случай
необычный, так как при нормальных обстоятельствах
он выбирал такое место, откуда было легче наблюдать
за всем отрядом. Только на следующий день Андерсону
пришло в голову, что это было не случайно: Тыонг
почувствовал приближение чего-то и не захотел оказаться
причастным к тому, что должно было произойти. Тыонг
встретил его приветливо и подвинулся, освобождая для
него место. Он вспомнил, как Андерсон еще рано утром
предсказывал такую жару, а вот он, Тыонг, ее не
предвидел. Он вспомнил, как в детстве в такую жару ему иногда
удавалось прокатиться на буйволе. Тогда он любил
буйволов и совсем не боялся кататься на них, а вот теперь,
когда он стал старше и сильнее, он их боится. Тыонг
все говорил, Андерсон попытался было вставить слово,
но обычная вежливость не позволила ему перебить
собеседника, так что Тыонг продолжал рассказывать. Ах,
буйволы, буйволы! Когда он был малышом, они казались
такими большими! Маленькому человечку и в голову не
приходило, что такие великаны могут быть глупыми.
Но теперь он знает, что дело не в величине, и знает,
как глупы эти животные. Андерсон, сбитый с толку
этой разговорчивостью Тыонга, обычно такого
сдержанного, наконец выпалил, что между солдатами и
жителями деревни началась драка. Тыонг удивился. Его солдаты?
Его солдаты никогда не воруют. Но Андерсон стоял
на своем со всем добротным американским упорством:
он видел сам — не меньше двадцати уток и кур. Тыонг
улыбнулся, на этот раз с легкой снисходительностью.
138
Это невозможно, в такой деревушке вообще не наберется
столько уток. Но, сказал Андерсон, он же видел это своими
глазами.
— О, вы разыгрываете меня,— сказал Тыонг.— Не
надо разыгрывать вьетнамского офицера в жаркий день.
Но Андерсон не отступал — они держали уток за шеи,
он сам это видел.
Наконец Тыонг, раздраженный, досадливо хмурясь,
после небольшой паузы спросил у Андерсона, сколько
раз в месяц ему выдают жалованье. Один раз, сказал
Андерсон. По каким числам, все с тем же наивным
видом осведомился Тыонг. Первого числа каждого месяца.
Как интересно, сказал Тыонг. Все армии одинаковы, не так
ли? Представьте, во Вьетнаме то же самое, только чеков
здесь, конечно, не выдают. Даже офицерам. Пусть
лейтенант извинит его, но случаи, подобные сегодняшнему,
бывали и прежде. Конечно, это непорядок, так в армии
быть не должно. Он, Тыонг, и сам это понимает, но что
поделаешь? Вьетнам — бедная страна, и в этом вся беда:
солдатам ничего не заплатили, а сегодня уже пятое число.
Разумеется, они могут жаловаться президенту, но это
неразумно. Вот они и промышляют — платят себе жалованье
сами. Следовательно, кур они не воруют, сказал Тыонг.
— Я, право, ничего не могу сделать,— сказал он.—
Хотя мне очень жаль жителей этой деревни.
При иных обстоятельствах Андерсон смирился бы, как
мирился со всем остальным. Но он был зол,
ожесточен, а жара действовала и на его нервы.
— Конечно,— сказал он.— Конечно, это так. И я очень
тронут тем, как вы мне все объяснили. Теперь я
понимаю. Но почему вы не боретесь? Боритесь с Сайгоном.
Боритесь с Ко. Но оставьте в покое этих бедняков,
черт побери. Почему вы не призовете к порядку своих
солдат, лейтенант?
— Я рад, что вы заботитесь о моем народе больше
меня, лейтенант.
— А мне жаль!
На этом они разошлись, но след остался — очень
глубокий.
Тыонг чувствовал, что операцию выдали врагу. Тут
у него было больше опыта, чем у американцев. Это уже
случалось с ним в этой войне, и в первый раз он возму.
щался и негодовал, но теперь он испытывал больше уста-
139
лости, чем злости. Такова цена войны вьетнамцев против
вьетнамцев. Ведь тут люди, сражающиеся друг с другом,
совсем одинаковы, даже вьетнамцы не способны их
различать. А по выражению глаз человека невозможно
угадать, на чьей он стороне,— и, что еще хуже, он,
Тыонг, утратил нравственное чутье; к тому же невозможно
сказать, чья цель выше и чей долг благороднее. Все это
как-то стерлось и смешалось. Когда он был моложе
и это случилось впервые, его охватил гнев: ведь выдали
противнику не только его, но и его товарищей и его
солдат. Он вернулся и пошел в штаб, исполненный
возмущения, как обвинитель, входящий в зал суда. У него
были факты, доводы, подозрения и не было сомнений.
Он подозревал заместителя начальника отдела
планирования. Ведь именно он указал на этот район и первым
предложил провести там операцию. Ведь он угрюм и
относится к войне без энтузиазма. Ведь его обошли с
повышением, и, значит, он обижен. И вот Тыонг в
конфиденциальном порядке высказал свои предположения,
забыв, что качества, которые он считал подозрительными,
были присущи ему самому и именно они вредили его
собственной карьере. Гнев превратил его в такого же, как
все эти. А потом произошел просчет, и по намеку одного из
агентов правительства был случайно обнаружен
настоящий предатель — молодой офицер службы тыла,
образцовый офицер, отпрыск влиятельной католической семьи,
усердный, но без назойливости, в меру вежливый со
всеми, и даже с Тыонгом, в котором было что-то от
бунтовщика. Идеальный агент — совсем такой, как надо,
безупречный внешне и непохожий только внутри,
непохожий ненавистью ко всему, что он видел и знал с детства.
Его разоблачили и убрали, а офицер, с которым Тыонг
поделился своими подозрениями, спросил его,
по-прежнему ли он считает себя прирожденным контрразведчиком,
а потом некоторое время называл его не иначе как
monsieur Deuxieme Bureau *.
Этот случай потряс Тыонга; с тех пор он уже не
высказывал своих подозрений, не имея доказательств,
и, главное, научился не доверять никому. Наибольшее
недоверие вызывали у него операции вроде этой,—
операции, которые планировались совместно с властями
провинций. Он считал, что губернаторы провинций ленивы и
не интересуются своими подчиненными. Немного лести —
и молодой офицер до конца жизни обеспечивает себе теп-
140
лое местечко. Далее, если операция кончалась скверно,
как, возможно, окончится и сегодняшняя, командованию
дивизии бывало очень трудно оказывать давление на
губернатора провинции. Что бы ни случилось сегодня,
губернатор будет защищать и выгораживать своих. Он смотрит
на дивизию как на врага и, конечно, не позволит, чтобы
на его репутацию упала тень. А потому он позвонит в
канцелярию президента (уж что-что, а связь между
провинцией и канцелярией президента действовала всегда
безотказно), доложит о случившемся, и еще до вечера Ко
вызовут к телефону, и в резкой форме ему будет
предложено не вмешиваться в дела провинции — его дело
вести войну, а не заниматься политикой.
Глава шестая
В полдень они остановились на обед возле второй
деревни, которая называлась Аптхань. То, что Бопре
и Андерсону удалось убедить Данга устраивать привалы
на обед вне населенных пунктов, они считали одной
из своих скромных побед, иначе обеспечение обеденного
меню неизбежно ложилось на плечи деревенских жителей.
Бопре достал два сандвича с ветчиной, нарезанной
толстыми ломтями, которые приготовил для него сержант-
буфетчик (первое время хлеб всегда к началу обеда
успевал сильно отсыреть, поэтому Бопре старался
хранить его в самых верхних карманах, но, поскольку это
тоже не помогало, он стал заворачивать его в целлофан).
Сандвичи были сухие, но казались тяжелыми и
неаппетитными, а из-за жары сама мысль о еде вызвала у
Бопре отвращение, и он отложил их. Данг стал угощать
его рисом. Бопре хотел отказаться, но Данг настаивал:
в такую погоду нельзя есть американскую пищу, надо
есть только вьетнамскую. Он, Данг, не стал бы есть
рис на Севере Америки. Тогда Бопре из вежливости
съел немного риса и потом взял еще. Затем Данг
предложил ему бульон, он выпил чашку и слегка ожил.
— До своего отъезда наш американский воин Бопре
успеет стать хорошим вьетнамским солдатом,— сказал
Данг, и Бопре улыбнулся и пообещал отправиться с
Дангом в Вермонт кататься на лыжах, когда Данг приедет
в Америку и они будут есть ветчину, а не рис.
— Капитан Бопре лыжник?— спросил Данг.
141
— Нет,— ответил Еопре.— Он родом из той части
страны, где жарко и где не бывает снега. И ходить на
лыжах он не умеет.
— Не умеете? Значит, вы такой же, как вьетнамский
капитан. Он тоже не умеет,— сказал Данг.— И вы
подшучиваете над капитаном Дангом, ха-ха!
Поев, Бопре встал и обошел место привала; тяжелое
оружие лежало в беспорядке, охраны почти не было.
Конечно, так не воюют, но, с другой стороны, правда
и то, что днем вьетконговцы вряд ли нападут на
правительственные войска, даже и в обеденное время. Скорее
всего, они сидят где-нибудь в укрытии, на тщательно
подготовленных позициях и ждут, пока правительственные
войска не подойдут к ним сами и не выйдут на открытое
место.
Бопре боялся присесть отдохнуть, боялся снова
потерять сознание, тогда Андерсон вынужден был бы сообщить
об этом на КП. Пришлось просто прислониться к дереву
и закурить, забавляясь мыслью о том, как они с Дангом
поедут в Вермонт кататься на лыжах и как он скажет,
вытаскивая его из сугроба: «О, это мой добрый друг,
вьетнамский лыжник капитан Данг! Капитан, вы делаете
успехи больше меня, я теряю престиж!»
Тут к нему подошел с рацией Андерсон.
— Сегодня они знают про нас всю подноготную,
черт подери,— сказал он.— Только что обстреляли Рол-
стона и тринадцатый батальон. Всего несколько минут
назад. Плохо. Чертовски плохо. Большие потери. Очень
большие. Сначала думали, что Ролстон убит, но потом его
нашли. Он ранен в ногу. Видимо, вьетконговцы не обратили
внимания, решив, что он мертв. Теперь он не переставая
бормочет: «Все убиты, все убиты!» Убитых очень много.
Больше, чем в первый раз. Та же чертова история. Они
шли через рисовое поле. Уже дошли до середины, когда
вьетконговцы открыли огонь. Уложили чуть не половину
батальона. Перекрестный огонь. Наши засекут один
пулемет, и тут же начинает стрелять другой. Проклятые
вьетконговцы все знали заранее. Командир батальона Чин
убит. Хороший офицер. Он шел в голове колонны и, когда
началась стрельба, не растерялся и пошел с группой
солдат в обход — и снова впереди, а вьетконговцы и это
предвидели: встретили их шквальным огнем. Уложили
142
почти всех. Буквально изрешетили. Атаковали колонну
сразу спереди и сзади. Тело Чина разорвало в клочья.
Как раз когда его несли, полковник стал кричать, чтобы
они послали кого-нибудь в обход, а ему ответили, что
уже послали и эта группа уже уничтожена. Он
спросил, кто ее вел, ему сказали, что Чин, и это произвело
на него сильное впечатление. Дежурный по КП говорит,
что положение скверное. Один санитарный вертолет сел
там, а второй обстреляли. Три члена экипажа погибли,
а ребята во втором злы как черти. Кричат, что все
было подстроено заранее. Дежурный говорит, что еще ни
разу не слышал, чтобы вертолетчики так бушевали.
Дежурный говорит, что туда перебрасывают резерв, хотя
Ко этого не хотел, и вьетнамцы до того нервничают,
что высадили резерв подальше от опушки, где их
обстрелять не могут, и теперь им добираться до джунглей
не меньше часа. Говорит, что полковник в бешенстве
и к тому же напуган. Говорит, первый раз видит, что
полковник испугался. Скверный день. По его мнению,
даже полковник примирился с тем, что послали
подкрепление.
— Что полковник думает обо всем этом?— спросил
Бопре дежурного.
— Обстановка ему очень не нравится. Они сейчас
решают, не прекратить ли операцию, чтобы просто забрать
вас отсюда — и дело с концом. Но мне кажется, он
боится предложить это нашим друзьям, потому что друзья
подумают, что мы струсили. Так что, скорее всего, вам
придется топать дальше. Он сожалеет и просит передать
привет нашим друзьям.
То, что произошло с группой, двинутой в обход,
рассеяло последние сомнения Бопре. Слишком уж хорошо,
слишком профессионально все было организовано. У него
возникло жуткое ощущение, что вьетконговцы играют с
ним как кошка с мышью. Он увидел себя пятнышком
на экране чьего-то радиолокатора: они наблюдали за
каждым его движением и поджидали его в удобном для
себя месте в удобное для себя время. Он твердо знал,
что они идут навстречу засаде. Возможно, вьетконговцы
как раз теперь выбирают, стрелять ли ему в голову,
грудь или живот, и спорят, что будет лучше. Вьетконгов-
цам план операции известен во всех подробностях. «Да
и вообще,— подумал он,— скорее всего, они его и
разработали».
143
Он развернул карту и прикинул, где и когда попали
в засаду две другие колонны — в одиннадцать сорок
пять и в двенадцать тридцать. Если идти к месту
соединения, которое теперь вряд ли может состояться, вдоль
канала, как указано в маршруте, то в час пятнадцать
они войдут в деревню Аптхань. Он еще раз взглянул
на карту и решил, что засада ждет их где-то за деревней.
Вьетконговцы не будут спешить, они дадут
правительственному отряду войти в деревню и не станут атаковать,
пока солдаты насторожены, подтянуты и находятся в
боевой готовности, но когда окажется, что вьетконговцев
в деревне нет, наступит расслабление, солдаты опять
станут беспечными, и тогда за деревней Вьетконг ударит.
Бопре протянул Андерсону карту, показывая место, где
это может произойти.
— Засада. Будет здесь, у первого же открытого места.
Он показал Андерсону на канал поменьше,
проходивший параллельно главному, на расстоянии немногим
более четверти мили от него. Необходимо отойти в сторону
от главного канала, так как противник — в этом он
уверен — ждет их именно там. Конечно, это тоже не выход;
в любой другой войне, если знаешь, где тебя ждет засада,
можно обойти противника с фланга и застать его врасплох,
но здесь такой маневр невозможен — не тот личный
состав. Так что единственно реальный выход — избежать
соприкосновения с основными силами противника. Надо
отходить от основного канала.
Бопре включил рацию и очень медленно, с
расстановкой, тщательно выговаривая каждое слово, сказал:
— Передайте полковнику, что мы следуем дальше,
как он хотел. Идем, как шли. Передайте, что мне не
нравится идея возвращения или обхода.— Помолчав,
Бопре повторил медленно и ясно: — Мы не хотим
сворачивать в сторону или прекращать выполнение задачи.
Считаем, что для беспокойства нет оснований.
Дежурный офицер, немного растерявшись, сказал, что,
конечно, он передаст полковнику, если Бопре
действительно этого хочет.
Бопре сказал Андерсону:
— Идите к вашему другу, пусть передаст то же
самое по своему радио, слово в слово, и повторит это
несколько раз. Добиться того, чтобы он повторил,
наверно, будет не так уж трудно. Скажите, что ему не надо
говорить с Дангом. Скажите, что Данга я беру на себя.
144
— Воина Данга?
— Его самого.
Андерсон повернулся, и Бопре сказал ему вслед:
— И посоветуйте вашему вьетнамскому другу
проверить их штабных и выяснить, кого они любят на самом
деле.
Бопре отправился искать Данга. Отряд уже снова
шел, и ему пришлось пробираться сквозь колонну. Солдаты
шли скученно и беззаботно болтали, а он думал об
открытом поле впереди, где ждет Вьетконг, и о том, как глупо
умирать здесь, среди таких вояк, которые со смехом
шагают прямо на засаду, как будто это не война, а какая-
нибудь увеселительная прогулка. Ему стало страшно.
До сих пор эта война слишком часто располагала его к
расхлябанности, лени, даже к высокомерию. Он с
презрением относился к своим коллегам, к союзникам, к народу,
иногда даже к противнику. Это он сказал священнику,
что они тут недостаточно напуганы, чтобы молиться.
И вот теперь он почувствовал, что это серьезно. Он не
хочет умирать, не хочет быть одной из этих смеющихся
кеглей.
После первой засады Тыонг не испытывал гнева,
а только раздражение и, пожалуй, даже скуку из-за
Андерсона. В конце концов, ведь когда убивали кого-то
из американцев, он, Тыонг, не бежал к Андерсону
выражать соболезнования по поводу гибели какого-нибудь
сержанта — грузного, дюжего сержанта, который приехал
во Вьетнам спать с проститутками. Но после второй засады
его охватили гнев и возмущение. Командуя группой,
выполнявшей обходный маневр, погиб Чин — один из
немногих офицеров дивизии, вызывавших у Тыонга
восхищение и доверие, худой, мускулистый меленький
северянин, который, казалось, надел форму своего старшего
брата, настолько меньше остальных офицеров он был,
но волосы он нарочно (Тыонг был в этом уверен) носил
очень длинные, потому что остальные стриглись коротко,
подражая американцам.
Тыонг шел вместе с солдатами и уговаривал их не
дремать: они отоспятся во время следующей операции,
а на этот раз он тайно договорился с Вьетконгом о том,
что стрелять из засады будут только в лентяев, в тех, кто
спит на ходу. Когда отряд приблизился к деревне Аптхань,
он приказал передним произвести разведку огнем и раз-
145
вернуться веером, потому что ему надоело таскать на
себе с поля боя по пять человек вместо одного,— если они
не поостерегутся, он, того и гляди, вывихнет себе спину.
Бопре услышал, как приказ Тыонга передавался по
колонне, и обрадовался: хотя он и считал, что противника в
деревне нет, но вьетконговцы так или иначе услышат
выстрелы и решат, что правительственные войска вот-
вот попадут в ловушку.
К деревне отряд подходил с оглушительным шумом:
стреляли легкие пулеметы, а иногда даже миномет.
Андерсон, находившийся в это время в хвосте колонны и вместе с
ней свернувший вправо, на открытое поле перед деревней,
не понимал, что происходит впереди и почему стреляют.
Он не слышал приказа, переданного в голову колонны,
и мысленно выругал вьетнамцев за то, что они ничего
ему не сообщили. Он был уверен, что они знают что-
то, чего не знает он. Он увидел, что солдат перед ним
стреляет из автомата, и быстро расстрелял половину
обоймы в ближайший куст. Он услышал позади себя стоны
и пошел вперед. Чертовски глупо со стороны
вьетнамцев не информировать его о происходящем и чертовски
типично, думал он. Стрельба была очень интенсивной,
но он не мог разобрать, откуда ведут огонь. Обычно
он умел угадывать расположение огневых точек
противника по вспышкам, но на этот раз он, как ни вглядывался
в стену леса, ничего обнаружить не смог и пришел
в уныние. Все это напоминало ужасающую грозу,
казалось, грохот никогда не прекратится, а будет
возрастать и нарастать, но вдруг стало заметно тише, а
потом, прежде чем Андерсон осознал, что произошло,
наступила полная тишина.
Когда Андерсон добрался до деревни, голова
колонны вступила в нее. Солдаты смеялись и шутили, и сначала
Андерсон терялся в догадках, но потом понял, что это
была рекогносцировка, и рассердился на вьетнамцев,
поставивших его в глупое положение. В этой стране ни
от кого нельзя добиться толку. Он поглядел на солдат,
ожидая увидеть насмешливые улыбки, но затем
сообразил, что они и не подозревали о его раздражении и
растерянности, и если даже смотрели на него тогда,
то думали, что он, как и они, стрелял, а не вел бой, не
защищался от пуль. Андерсон почувствовал, что его
раздражение проходит, и вспомнил, что вьетнамцы ему
нравятся. Он улыбнулся им.
146
Сколько людей мы потеряли при взятии этой
деревни? — спросил он.— Это была великая битва! —
И они засмеялись вместе с ним.
Аптхань была крохотной деревушкой, одной из тех, про
которые полковник говорил, что найти их можно только
на картах Вьетконга. Бопре еще не приходилось видеть
здесь таких маленьких деревень: всего несколько хижин,
причем как будто давно покинутых. В деревне царила
полная тишина — и не по контрасту с недавней пальбой,
а настоящая, нерушимая тишина. И Бопре, которому
нравилось считать, что все вьетнамцы и все вьетнамские
деревни одинаковы, был охвачен непривычным чувством.
Он видел в этой стране почти все, но не это.
Он спросил Данга, где же депутация от ликующих
жителей, но Данг не уловил шутки и сказал, что в этом
виноваты коммунисты Вьетконга.
— Вы считаете, что тут была резня, капитан Данг?—
спросил Бопре ему в тон.
— Да,— сказал Данг.—«Резня»— это точное слово.
Из ваших фильмов об индейцах.— Он казался весьма
довольным собой.
Бопре увидел, что Андерсон заговорил с молодым
вьетнамским лейтенантом. «Наверно, спрашивает, куда
девались жители деревни»,— подумал он и проникся
симпатией к вьетнамцам, что случалось с ним редко.
Теперь он чувствовал себя немного лучше и рискнул
сесть в тени хижины. Однако и тень не спасала от жары.
Наоборот, после того как он остановился, пот полил с
него даже еще сильнее. Бопре решил, что, вернувшись с
этой операции (если он вернется), он попробует пить
меньше. Какой смысл? Он сумеет воздержаться, и пусть
кто-нибудь другой уходит последним из бара. Он сидел,
перекатывая во рту воду, и очень гордился тем, что не
глотает ее.
И тут они обнаружили старика. Много худых и
изможденных стариков перевидал Бопре во Вьетнаме,
но таких, как этот, еще не встречал. Его белая одежда
была очень чистой. «Кем бы ни был этот старый хрыч,
но кто-то стирает его одежду»,— подумал Бопре. Старика
случайно обнаружили в одной из хижин. Эту хижину уже
один раз обыскивали, но он был такой худой и
неподвижный, что его сначала не заметили. Бопре, услышав это
объяснение, счел его правдоподобным.
147
Старика обступили со всех сторон, но обыскивать
не стали. Данг решил допросить его сам. Андерсон стоял
рядом. Бопре тоже заинтересовался и, подойдя ближе,
знаком попросил Андерсона переводить. Данг сказал
что-то.
— Данг спрашивает, где все остальные,— шепнул
Андерсон.
Взглянув на Данга, старик посмотрел сначала в один
конец деревни, потом в другой.
— Все ушли,— ответил он.
Это была констатация факта. С этим нельзя было
спорить. И Данг слушал молча. Потом он начал быстро
задавать один вопрос за другим: куда ушли, не спрятал
ли он их, где противник, помогает ли он противнику
Старик помолчал. А потом медленно, с гордостью
сказал что-то. Бопре заметил удивление на лицах
вьетнамцев. Андерсон перевел:
— Он говорит, что никогда не помогал французам,
никогда ничего им не говорил.
Все опешили, даже Бопре.
— Вот черт!— пробормотал он.— Что теперь скажет
Данг?
Он заметил, что на лице молодого вьетнамского
лейтенанта промелькнула улыбка, но солдаты, если им и было
смешно, сумели сохранить серьезность, точно старик
произнес клятву в верности правительству. Старик опять
что-то сказал, и Андерсон перевел:
— Французы заставляли его говорить, но он молчал.
Он не дал французам одурачить себя. Данг говорит, что
это хорошо, но та война кончилась, французы ушли.
Старик опять заговорил.
— Он говорит, что никогда не помогал им. Есть
свидетели, которые могут подтвердить. О его верности
знают. Он рад, что французы ушли. Но он спрашивает,
зачем мы здесь, если французы ушли. Сейчас Данг
говорит, что есть новый враг, даже хуже французов.
Старик спрашивает, говорят ли эти враги на чужом
языке, как французы. Данг злится. Он заявил, что они
говорят на непонятных, чужих языках. Старик говорит,
что в таком случае он им тоже не станет помогать,
что он никогда не помогал французам: они приходили и
задавали ему много вопросов, а он им все врал. («Вот
этому я верю,— заметил Бопре.— В первый раз за весь
день я чему-то поверил».) Когда французы пришли опять,
148
он послал их в такое место, где находились солдаты,
похожие на нас, и эти солдаты убили несколько французов.
На следующий день французы снова пришли и убили
много людей, в том числе его жену и сына. Сам он
спрятался, иначе его бы тоже убили. После всего этого
он, конечно, не станет им помогать, он очень рад, что
они ушли, ему никогда не нравился их язык. Судя по
всему, старику не очень-то нравится Данг. Он только
что спросил Данга, воевал ли он с французами. Данг
ответил, что конечно. Все воевали.
Внезапно, может быть из-за последнего вопроса, Данг
оборвал разговор. Но теперь уже хотел говорить старик:
он рад приветствовать таких людей, как Данг, и Данг
должен оказать ему честь и выпить с ним чаю. Данг
досадливо отказался, заявив, что его еще ждут дела.
— А,— сказал старик,— надо убивать новых врагов,
которые говорят на чужом языке.
Он как будто подмигнул Дангу, а Данг сказал: да,
именно так, а чаю они выпьют, когда придут в следующий
раз.
Бопре этот диалог сначала забавлял, но теперь он
встревожился, опасаясь, что Данг будет испытывать
неловкость и предпочтет не отклоняться от намеченного
маршрута.
Глава седьмая
Отряд уже собрался оставить деревню, когда Данг
подошел к Бопре и сказал:
— Я решил поиграть с коммунистами Вьетконга в
их игры. Мы устроим им ловушку.
Бопре молча слушал, он догадывался, что означают
эти слова: Данг решил воспользоваться его советом, в
последнюю минуту свернуть с заданного маршрута к
вспомогательному каналу, а вдоль главного канала
послать только разведывательную группу.
— Я решил идти вот здесь.— Данг указал на
вспомогательный канал, тянувшийся параллельно главному
менее чем в полумиле от него.— Если коммунисты
Вьетконга на канале Донгтьен, то они атакуют
разведывательную группу. Мы же повернем вот сюда, и...— Данг
сделал паузу,— я их уничтожу.— Он стукнул кулаком по
ладони.— Если же противник на маленьком канале, то
я его и там уничтожу.
149
«Сукин ты сын!»— подумал Бопре и, улыбнувшись
от облегчения, похлопал Данга по плечу. Он похвалил
план, типичный для всего того, чему капитан Данг учил
его в ходе этой войны. Благодаря капитану Дангу
противник будет застигнут врасплох, и это ему дорого
обойдется. «Сукин ты сын!» — думал Бопре.
Они начали обсуждать подробности. В ложной
разведгруппе пойдут восемь человек минимум с одним
автоматом. Им будет дан приказ производить как можно
больше шума — они пойдут с транзисторами и будут
разговаривать во весь голос. Из деревни они выйдут все
вместе, но потом отряд потихоньку свернет в сторону, а
разведгруппа пойдет дальше вдоль главного канала. План
был неплохой, и они быстро обо всем договорились. Но
позже, когда они выходили из деревни, Бопре проверил
оружие разведгруппы. Оказалось, что она вооружена
только карабинами и винтовками «М-1».
— По-моему, здесь какая-то ошибка, капитан Данг,—
сказал Бопре.— У разведчиков нет ни одного автомата.
— Никакой ошибки, капитан Бопэй,— сказал Данг.—
Я не думаю, что могут возникнуть трудности.
— Но им может понадобиться автомат. Если они
наткнутся на засаду, им нужно будет продержаться,
пока вы обойдете противника и атакуете его, капитан
Данг. Я знаю, что вы пойдете быстро, но некоторое
время они все равно будут одни.
— Я не думаю, что коммунисты Вьетконга нападут
на них,— сказал Данг.— Я не думаю, что была сделана
ошибка. Может быть, вы не совсем поняли.
«Нет, я-то все понимаю,— подумал Бопре.— Я уже
достаточно давно здесь и как раз это научился понимать.
Сайгону не нравится терять автоматы — даже одну
штуку, и скрыть такую потерю офицер не может. Про
потери в живой силе он может врать, сколько душе
угодно, но не про автоматическое оружие».
Он пристально посмотрел на Данга, и ему стало
тошно. Он на мгновение пожалел, что ему пришла мысль
изменить маршрут и послать разведгруппу.
Каждая война, в которой Бопре приходилось
участвовать, всегда ассоциировалась в его сознании с
определенным видом смерти. Во вторую мировую войну смерть
представлялась ему снарядом — огромным орудийным
снарядом, который поразит его, прежде чем он услышит
его вой, а потому нечего и прислушиваться: только в
150
самую последнюю долю секунды раздастся взрыв и,
подтвердив все его страхи, разнесет его тело в клочья,
оторвет руки и ноги, оставит от него кровавое месиво.
В Корее видение смерти изменилось. Оно стало более
эффектным: он переходит линию фронта, его предает
агент-двойник, и, взятый в плен в какой-нибудь
промерзшей лачуге, он двое суток подвергается допросам, есть ему
не дают вовсе, от голода и холода он с каждой минутой
теряет силы, пока в конце концов ему не становится все
равно, жив он или нет, а потом — пуля в лоб, и никто
не придет на выручку, потому что никто даже не знает,
что его нужно выручать. Во Вьетнаме опять все стало
по-другому — видение смерти не было таким четким,
потому что мысль о смерти не преследовала его так, как
в Корее. И оставалась более умозрительной. Картина
складывалась постепенно: снайперская пуля — одна-един-
ственная и, в сущности, случайная, потому что стреляют
здесь плохо; потом медленное умирание на жаре в
течение часа, потому что никто не доставит тебя в
медпункт,— процесс, мучительный именно из-за
медленности, из-за того, что ему предоставлена возможность
сознавать, наблюдать и изучать собственную смерть. А
потом все это будет расценено как недоразумение, и все
будут очень сожалеть, что снайпер не промахнулся и что
врач не прибыл, ведь потом окажется, что рана вовсе
не была смертельной, и все это будет названо
недоразумением, и его смерть послужит лишним поводом
обругать бездарность этой страны. Но ругать ее будут
другие.
Бопре включил рацию и, тщательно закодировав текст,
попросил поддержки авиацией. Дежурный по КП явно
улыбнулся, и его удивление прозвучало в приемнике.
Ведь в баре Бопре был первым, кто издевался над
военно-воздушными силами, осыпал летчиков насмешками,
называл их чистоплюями, сравнивал с кинозвездами —
у них, заявлял он ироническим голосом, самые красивые
полковники и генералы (даже красивее, чем в морской
пехоте), их генералы смахивают на лейтенантов с
посеребренными висками, так свежа и молода их кожа. И теперь
радио донесло до него удивление и улыбку дежурного
по КП: «Вам понадобилась помощь чистоплюев?»
Мысленно расшифровывая закодированные фразы, Бопре понял,
что «Т-28» не готовы к вылету.
— Завтра будет уже поздно,— сказал он.
151
— Вы у нас не единственный,— сказал дежурный.—
И вас еще даже не обстреляли.
— Ну, этот недосмотр скоро будет исправлен,— сказал
Бопре.
— Я ничего не могу обещать.
— Попытайтесь сделать что-нибудь до наступления
ночи. Ради старой дружбы.
— Послушайте,— сказал дежурный.— Не надо со
мной так разговаривать. Это не от меня зависит. Не я здесь
распоряжаюсь. Будь они у меня, вы бы их получили.
Но у меня их нет. Я и так делаю все, что могу. Когда
получу, вам первому скажу. А дать то, чего у меня нет,
я не могу. Здесь тоже не так легко. По-вашему, хуже,
чем у вас там, и быть не может...
— Вот именно,— сказал Бопре.— Хуже, чем у меня
тут, и быть не может.
Бопре оглянулся на солдат: они шли хорошо и
соблюдали тишину, как им было приказано. Против
обыкновения он был ими почти доволен. Против обыкновения они
казались серьезными. Может быть, они не меньше его
думают о смерти, может быть, им не хочется умирать,
как и ему. Бопре шел почти в голове колонны, и его
охватила тревога, когда отряд вышел на относительно
открытое место.
Первая очередь ударила позади Бопре и скосила
пятнадцать человек. Первой мыслью Бопре было: это
случилось,— а потом он осознал, что все еще жив. Он услышал
сзади себя стоны и новую очередь, на этот раз очень
длинную, точно палец стрелка прилип к спуску и никак
не мог от него оторваться. Бопре лежал, но не
отстреливался, он просто лежал, живой, пытаясь разобраться в
том, что происходило, пытаясь перевести дух и пытаясь
остаться в живых. Все произошло так быстро (хотя он
и знал, что это может случиться, он почти ждал этого),
что он не помнил даже, как выглядела местность до того,
как это началось. Они шли вдоль канала и еще не
добрались до места слияния. Справа были густые заросли,
а канал был слева. Бопре оглянулся и по разбросанным
телам увидел, что убитых много. Уцелевшие солдаты,
казалось, совсем растерялись, и он не мог понять, почему
возникла такая неразбериха, почему никто не командует
Должен же кто-то командовать. Он еще раз посмотрел,
152
как лежат солдаты, и решил, что удар был нанесен в
середину колонны, а не в голову; они рассчитывали снять
офицеров, офицеры правительственных войск редко ходят
в голове колонн. Вот почему он остался жив.
Главная огневая точка — то есть он считал ее
главной — снова ожила. Она находилась слева, на другом
берегу канала, ярдах в пятидесяти от них, а может быть,
и ближе. Ответного огня все не было. Бопре поглядел
туда, где должен был находиться хвост колонны, и понял,
что были даны одновременно две очереди, — несколько
поодаль лежала еще одна груда мертвых тел, и
потрясенному Бопре показалось, что среди них как будто лежит
и тело американца.
Сначала следовало понять, каким оружием пользуется
противник. Во-первых, легкий пулемет, в этом можно было
не сомневаться. Он прислушался, бьет ли и второй
пулемет, но пришел к заключению, что стрельба где-то впереди
ведется из автомата. Пулеметчик стрелял длинными
очередями, и Бопре сразу подумал, что вьетконговцы
очень уверены в себе, если так неэкономно расходуют
патроны. Обычно они вели себя, как инструкторы на
полигоне: стреляли короткими очередями и не бросались
патронами зря.
Позади него лежали вьетнамцы. Они смотрели на него,
словно ожидая, что он скажет им, где и когда они
умрут, там, где лежат, или на несколько ярдов дальше,
сейчас или через десять минут. Он почувствовал, что
они видят в нем своего неофициального командира. Он
не знал, жив Данг или убит, но это, видимо, уже не
имело значения. Командовать Данг, во всяком случае,
не мог.
Бопре прополз несколько ярдов до более укрытого
места, достал гранату и, выдернув чеку, метнул ее. Граната
упала на другом берегу канала, далеко не долетев до
цели, но все же это был ответный огонь. Он взял свой
автомат, прицелился примерно туда, где находился
пулемет, и, дав короткую очередь, отполз в сторону.
Немедленно раздалась новая пулеметная очередь, гораздо длиннее
и уверенней, чем его. Он почувствовал, что вьетнамцы
еще смотрят на него и чего-то ждут. Он хотел им
крикнуть, чтобы они открыли огонь, но не знал, как отдать эту
команду по-вьетнамски. Но может быть, если он будет
стрелять, то и они в конце концов последуют его примеру.
Позади себя он все еще слышал стоны и хрипы умираю-
153
щих вьетнамцев, однако они с каждой минутой
становились тише. Когда он только приехал сюда, его уверяли,
что вьетнамцы не похожи на американцев, что они
умирают молча, но это был неверно: они умирали,
как все. Он не увидел Данга и молодого вьетнамского
лейтенанта и не знал, что с ними, но тишина вокруг
подтверждала смерть Андерсона. Андерсон в первую
очередь был бесстрашен и агрессивен; он уже расстрелял
бы несколько обойм, но ободрял бы солдат, и его голос,
остававшийся голосом выпускника Вест-Пойнта, даже
когда он говорил по-вьетнамски, гремел бы над тропой.
Бопре дал еще очередь и, обернувшись, жестом
приказал вьетнамцу с автоматом подползти ближе. Он снова
убедился, что, хотя солдаты и не стреляли, а лежали,
прижавшись к земле, тем не менее они внимательно
следили за ним. «Они хотят жить, мы все хотим жить,—
подумал он.— И они будут делать то, что я им велю».
Вьетнамец действительно пополз. Снова раздалась
длинная пулеметная очередь — недолет.
Бопре не знал языка и полагался только на жесты.
Он знаками объяснил солдату, что хочет поговорить с
капитаном Дангом, а потом вернется (это и было самое
главное), а они пока должны стрелять. Он поймал взгляд
другого солдата и тоже знаками объяснил, что ему надо
отползти на несколько ярдов к дереву и оттуда
вести огонь; когда вьетнамец занял нужную позицию,
Бопре утвердительно закивал, и вьетнамец широко
улыбнулся. «О господи!— подумал Бопре.— Они даже здесь
улыбаются». Оба вьетнамца открыли огонь. Бопре пополз
назад, а они (о чудо!) начали прикрывать его. Он полз,
испытывая страх и, как ни странно, трезвое спокойствие.
Только сейчас он сообразил, что вьетконговцы слишком
надежно укрылись на том берегу канала и от этого
прицел у их пулеметов слишком высок, вот почему оказалось
возможным передвигаться ползком. Это их просчет. Слава
богу, враг тоже не безупречен, он, как и мы, тоже не
хочет умирать.
Прислушиваясь к неутихающей перестрелке, он
добрался до того места, куда ударила первая пулеметная
очередь. Там лежали трупы вьетнамцев. Они валялись как
попало, словно чья-то гигантская рука бросила их, как
игральные кости. Бопре вдруг понял, что не помнит никого
из них в лицо и не знает их имен. Ближайший к нему
сосал сахарный тростник, и стебель все еще торчал у него
154
изо рта. У лежащего рядом оторвало часть лица — очередь
прошила его шею и подбородок. Бопре опять подумал, что
прицел был слишком высок. Иначе вышло бы еще хуже.
Один солдат лежал на боку, протянув руку ладонью
вверх, точно молясь; другой лежал ничком, в безмолвии
закрыв глаза, но из его транзистора лилась их тягучая
музыка — либо он включил его, умирая, либо держал
включенным все время, несмотря на приказ о
звукомаскировке.
Бопре пополз дальше. Теперь он увидел Андерсона.
Когда в него попали пули, он повернулся и упал навзничь.
Его рот был полуоткрыт. Пули попали ему в шею и грудь.
Бопре поискал глазами капитана Данга и не увидел
его. Черт его дери, он же должен был идти здесь,
недалеко от середины колонны. Бопре снова огляделся и тут
заметил Данга в нескольких шагах от себя. Данг сидел
совершенно неподвижно, по-видимому, он был ранен в ноги
и оцепенел от шока, хотя раны вряд ли были серьезными.
Бопре вдруг почувствовал, что ему очень нужен молодой
вьетнамский лейтенант. Тыонг его зовут. Он огляделся
и обругал лейтенанта. Конечно, тоже очумел от страха,
все они такие. Он решил подождать одну-две минуты, а
потом, если понадобится, отправиться на поиски
лейтенанта. И тут он увидел Тыонга, который медленно полз
к нему.
Бопре сказал Тыонгу, что Андерсон убит, и добавил:
— А от капитана Данга толку ровно столько же.
Лейтенант мягко сказал, что капитан Данг воюет в этой
войне очень долго. Этот тихий, спокойный ответ в момент,
когда они прижимались в земле, спасаясь от пуль, тронул
Бопре. Лейтенант добавил:
— Простите, капитан, но я не думаю, что нам будет
оказана помощь.
Бопре снял с Андерсона рацию и связался с КП.
Дежурный уже получил от вьетнамцев сообщение о засаде и
считал, что Бопре и Андерсон оба убиты.
— Я пока жив,— сказал Бопре.
— Мы чертовски этому рады,— сказал дежурный.—
Оставайтесь там, слышите? Мы скоро пришлем помощь.
— Помощь нужна немедленно. Что вы пришлете?
— Вертолеты вылетели полчаса назад обратно в Сок-
транг и вряд ли вернутся. Большая часть резерва уже
введена в бой, причем Ко опасается еще более крупной
засады. Он очень нервничает,— сказал дежурный.
155
— Соврите ему что-нибудь.
— Потери тяжелые?
— Не знаю. Впрочем, тяжелые. У меня тяжелые.
Неужели вы ничего не можете прислать? А «Т-28»?
Дежурный объяснил, что у одного из самолетов
забарахлил мотор и они оба улетели в Бьенхоа.
— Пришлите один,— сказал Бопре.
— Они любят летать попарно,— сказал дежурный.—
Они не любят одиночных полетов. Военно-воздушные силы
относятся к этому очень болезненно.
— И я к этому отношусь болезненно,— сказал Бопре.
Наступила пауза, потом дежурный спросил:
— Продержитесь?
— Сообщу вам позднее,— сказал Бопре.
— Послушайте,— сказал дежурный,— если я был
резок, то извините. Это вышло случайно. Я знаю, каково
вам сейчас. Договорились?
— Договорились,— сказал Бопре.— Я понимаю.
«Черт подери,— подумал он.— Они и вправду
поставили на мне крест. Ему хочется очистить совесть».
Бопре прислушался и услышал только очереди
коммунистов.
— Прикажите им открыть огонь! —взвизгнул он,
обращаясь к лейтенанту.— Неужели вы не можете заставить
их сделать даже это? Что они за люди, черт их дери!
Возможно, Бопре ошибся, но ему показалось, что
он уловил на лице лейтенанта сочувствие. Возможно,
он слишком явно выдал свой собственный страх.
— Я тоже не хочу умереть здесь, капитан,— сказал
лейтенант.
Когда началась стрельба, Тыонг шел в хвосте колонны.
Он упал на землю и перекатился за деревья, еще не
зная, могут ли они послужить укрытием, но ему не
удавалось определить, откуда стреляют, и он хотел только
одного: распластаться на земле. Сообразив, что нападению
подверглась голова колонны, он начал медленно ползти
туда. Так он добрался до радиста. Рация все еще работала,
но радист не двигался. Тыонг подполз, взял рацию и
повернул налево за деревья, потому что где-то рядом
просвистели пули.
— Мы попали в засаду, мы попали в засаду,— сказал
он.
— Вы уверены?— спросили из штаба.
156
Да,— сказал он бесстрастно.— Я уверен. Мы
попали в засаду. Потери тяжелые.
Его голос был слишком спокоен, почти равнодушен.
Дежурный его не узнал, Тыонг резко разговаривал по
радио
А где Нгуен?— спросил дежурный про радиста.
Нгуен убит,— ответил Тыонг, не зная, насколько
его слова соответствовали истине. Он ведь даже не
пощупал пульс.
По радио назвали пароль, и Тыонг растерялся. Он
редко пользовался рацией и забыл отзыв. В конце концов
он все-таки его припомнил, а затем сказал:
Мы не вьетконговцы. Мы не вьетконговцы. Но мы
попали в засаду.
— Мы хотели удостовериться,— сказал дежурный, а
потом попросил подождать.
Вскоре он передал от имени Ко и начальника
провинции, что они ничем не могут им помочь, поскольку
американцы сделали глупость, отправив вертолеты на базу,
а их истребители по обыкновению бездействуют. Надо
оставаться на месте и ждать развития событий. Может
быть, нужна артиллерийская поддержка? Пусть остаются
на месте: начальник провинции проверил, они находятся в
радиусе действия батарей.
Нет,— ответил Тыонг, испугавшись.— Не надо
артиллерии. Поблагодарите начальника провинции.
«Начальник провинции,— подумал он,— любит
обстреливать из своих орудий всю местность, но мы не
окопались, а вьетконговцы окопались».
Хорошо,— сказал дежурный и опять попросил
подождать. Вернувшись, он сказал, что начальник провинции
просит лейтенанта передать капитану Дангу, что он
питает к капитану Дангу самое горячее уважение и
восхищение, и напомнить ему, что орудий у них очень
много.
Отлично,— сказал Тыонг и, передав рацию солдату,
вернулся в хвост колонны.
Стрельба все еще была очень интенсивной, но
доносилась она не с тыла, и это его тревожило. Он отобрал двух
человек, которые ничего не делали (это было просто,
так как они все ничего не делали)— одного с автоматом
и другого с карабином,— и, отведя их в самый конец
колонны, приказал им смотреть в оба. Что бы ни
происходило в голове колонны, они не должны оборачи-
157
ваться. Это приказ, а если их заколют в спину, он,
Тыонг, берет ответственность на себя, а они будут Героями
Республики, если кто-нибудь останется в живых, чтобы
представить их к награде. Оба солдата кивнули, Тыонг
был уверен, что, защищаясь, они будут драться
хорошо. Во всяком случае, если им зайдут в тыл, отряд
теперь будет предупрежден за несколько минут.
Обеспечив таким образом тыл, он пополз обратно к центру
колонны.
Его удивляло, что он больше не испытывал страха.
Он словно предвидел именно эту засаду, и то, что солдаты
не будут отвечать на огонь противника, и то, что отряд
останется без командира. Он давно ожидал чего-то
подобного, собственно говоря, до сих пор ему просто отчаянно
везло, слишком часто им удавалось избежать опасности,
слишком много других подразделений попадало в засады
и гибло в то время, как его собственная рота
отделывалась легкими потерями. Казалось, он смотрит на войну
со стороны, как зритель, а не участвует в ней. Собственно
говоря, когда началась стрельба, у него возникла мысль
переправиться через канал и дезертировать. Он же с
самого начала наблюдал, как удивительно глупо
развертывалась эта операция — этап за этапом, глупость за
глупостью. Они шли прямо в приготовленную для них
ловушку, и теперь ловушка захлопнулась.
Он полз к середине колонны, все больше углубляясь
в зону обстрела и двигаясь все медленней. Он различил
очереди из пулемета и из автомата и предположил, что
они должны подкреплять винтовочные залпы. Его
удивляло, почему засада ограничилась только этим и не
открыла сразу огонь из автоматов, и он с беспокойством
думал: когда же вьетконговцы ударят в полную силу?
Наконец Тыонг добрался до того места, по которому
били пулемет и автомат противника, заставляя его солдат
прижиматься к земле. Он полз вперед дюйм за дюймом,
каждую секунду ожидая пулю. Он уже понял, что хвост
колонны пострадал не очень сильно, но теперь он увидел
перед собой лежавшие вповалку трупы, и к горлу у него
подступила тошнота. Он увидел тех, кто был жив,— они
пытались укрыться за еле заметными неровностями
почвы, на их лицах были написаны страх и
растерянность, и они старательно избегали взгляда лейтенанта. В
эту минуту впереди раздались ответные выстрелы, и он
решил, что, скорее всего, это толстый американец. Он про-
158
полз мимо двух солдат, скорчившихся за деревом. Он
крикнул, чтобы они стреляли, но они не пошевелились.
Тогда он повторил свое распоряжение тоном приказа,
и один из солдат спросил, где капитан Данг.
— Я капитан Данг,— ответил Тыонг.
Он поднял карабин, дважды выстрелил у них над
головами и предупредил, что, если они не начнут стрелять
сейчас же, остальную обойму он выпустит в них.
Подкрепляя слово делом, он выстрелил еще раз — в землю у их
лиц. И они начали стрелять так злобно, как будто, стреляя
через канал, на самом деле стреляли в него, но постепенно
они вошли в ритм. Тыонг обнаружил, что он уже больше
не зритель, а участник: он принимал решения, он хотел
жить и убивать.
Он почти достиг центра колонны, где было больше
всего потерь. Тут все еще слышались тихие, приглушенные
стоны, точно музыкальный фон для очередей вьетконгов-
цев и отдельных ответных выстрелов. Он увидел перед
собой тела шестерых молодых солдат. Одних он знал,
других— нет. Среди них оказался солдат, у которого он утром
проверял медицинскую сумку. И тут же он осознал, что
нынешний вечер, если только они вернутся в Мито, будет
одним из тех ужасных вечеров, когда их опередит весть,
сообщенная по живому телеграфу, и у госпиталя соберется
огромная толпа жен, которые придут, чтобы стать вдовами,
придут причитать и просить тела погибших и будут
причитать, даже если их мужья остались живы. Почти все
будут стоять с детьми — по пятеро-шестеро детей у
каждой,— будут стоять шумной, но терпеливой толпой.
Они прождут всю ночь, и, когда наступит утро, они все еще
будут стоять у входа в приемную батальонного
командира, стоять и ждать, чтобы им объяснили их будущее:
что с ними будет теперь, куда им идти, как жить. Вот
эту обязанность Данг всегда очень охотно передает ему,
и он будет объяснять, то и дело умолкая, чтобы дать
утихнуть их слезам и воплям, что будущее их, собственно
говоря, не предусмотрено, что им следует разойтись по
домам и что им причитаются кое-какие деньги, хотя, если
говорить честно, деньги эти иногда запаздывали, и он
знал, что маленькое пособие, когда наконец оно будет
получено, все уйдет на оплату долгов. Торговцы сразу
поймут, кто жена, а кто вдова и кому какой предоставить
кредит. Торговцы сталкиваются со всем этим часто, и
глаз у них наметанный.
159
Продолжая ползти, Тыонг увидел сбоку трех солдат,
которые были живы, хотя, возможно, и ранены, они
сидели неподвижно, парализованные шоком.
— Стреляйте!— крикнул он.— Стреляйте, а то
придется вам лежать вместе вот с этими! Они были вашими
товарищами! Разве вам это безразлично? Безразлично?
Что вы за люди?
Впереди толстый американский капитан стоял на
коленях возле трупа, по-видимому молодого американца
Тыонг немного было успокоился, когда впереди раздались
выстрелы: во всяком случае, американец заставил
стрелять. Но теперь, когда он увидел лицо капитана,
уверенность пропала. По лицу капитана струился пот, его глаза
остекленели, голос был визгливым и сиплым. И он кричал
на Тыонга. Тыонг не мешал капитану кричать несколько
минут, как ему показалось («Эти сукины дети не хотят
отстреливаться, неужели вы не можете с ними сладить,
не можете заставить их драться; проклятый Данг сбежал;
проклятая армия, проклятая страна!»), а потом
попробовал успокоить человека, который теперь заменял
командира. Он старался внушить Бопре веру в солдат и
заставить его забыть о Данге.
— Простите, капитан,— сказал он.— Но я не думаю,
что нам будет оказана помощь. По-видимому, мы
предоставлены сами себе.
Разведывательная группа с шумом шла вдоль главного
канала. Впереди показалась небольшая поляна. И они
вышли на поляну — один, другой и, наконец, все восемь.
Они пересекли поляну, весело переговариваясь, и уже
почти достигли зарослей, когда вьетконговцы, терпеливо
выжидавшие появления остальных, наконец открыли
огонь. Огонь был убийственный, рассчитанный на большой
отряд: по разведчикам били три пулемета и еще автоматы,
предназначенные для уничтожения всей роты, вместо
которой на поляну вышло восемь человек. Пятеро из
них были убиты наповал, одного ранило, а остальные
двое, потеряв голову от страха, присели на корточки,
даже не попытавшись как следует укрыться, и сидели
так, пока из кустов не появились вьетконговцы. (Это
произошло только через несколько минут, так как
командир отряда не сразу отдал приказ взять пленных и трофеи,
опасаясь ловушки и ответного удара.) Наконец приказ
был отдан, и вьетконговцы вылезли из канала — они
160
находились так близко от тропы, что были бы сами
уничтожены, если бы допустили малейший просчет.
Бопре показалось, что стрельба вьетконговцев на малом
канале как будто стихает, но тут же раздалась бешеная
пальба, которая могла означать только атаку и конец
всего. Он заметил, как вздрогнул Тыонг. Затем оба они
поняли, что стреляют не здесь, а где-то на главном
канале, что стреляют по разведывательной группе. Огонь
был очень интенсивный, но ответных выстрелов не было
слышно. Потом вдруг все стихло, и они оба решили»
что все восемь убиты, иначе быть не могло.
Бопре снова взял рацию, и дежурный по КП ответил,
полный дружелюбного участия:
- Будьте спокойны, мы что-нибудь придумаем.
Оставайтесь на месте, ребята, мы что-нибудь придумаем.
Мы только что разговаривали с Бьенхоа и добьемся
этого для вас, будьте спокойны.
Бопре начал торопить его и выслушал выговор:
— Мы не можем выслать их быстрее, чем получим
сами. Они за вами, и ваша очередь первая. Это уже
точно, так что ждите. И захватите нам пару пленных.
Противник продолжал вести огонь, но теперь
отвечали и их солдаты. Лейтенант, который как будто
успокоился, вернулся и сообщил, что минометный расчет
был убит первой же очередью.
— От минометов тут все равно толку никакого,—
сказал Бопре.
Он прополз обратно к центру смерти, разыскивая
оружие. Наткнувшись на новый гранатомет, он решил взять
его. Бопре ненавидел всякие новинки, ненавидел
вертолеты, но гранатомет он взял, прикинув, что эта штука может
пригодиться. Ему не сразу удалось высвободить
гранатомет из-под тела убитого вьетнамца. Он собрал снаряды,
сколько мог унести, взял еще карабин и пополз назад,
к лейтенанту. Он отдал Тыонгу карабин и автомат и
попросил подыскать ему хорошего солдата. Слово
«хороший» он произнес с ударением.
Тыонг сделал знак коренастому усатому капралу —
наверное из местных, подумал Бопре. Он объяснил свой
план. Им известны две огневые точки противника:
пулемет на том берегу канала и автомат где-то впереди на их
берегу. Лейтенант с группой солдат будет вести
интенсивный огонь, а он проберется в голову колонны. После этого
6 Зак 556
161
лейтенант возьмет одного-двух человек, незаметно
переправится через канал и проверит тот берег, он, черт
побери, не хочет попадать под огонь какого-нибудь
снайпера, еще не обнаружившего себя.
— С вашего разрешения,— сказал лейтенант — мы
перед переправой бросим в канал несколько гранат —
иногда они прячутся под берегом — и перебьем их, как
рыб.
Бопре кивнул. Он был доволен.
Махнув усатому вьетнамцу, Бопре медленно, очень
медленно пополз к голове колонны. Когда он прополз
примерно половину пути (между трупами по крови и
грязи), снова ударил пулемет—так близко, что Бопре
решил: конец. Но пули легли сзади, и он оглянулся
как раз в ту секунду, когда ранило капрала. Вьетнамец
дернулся всем телом и замер, а потом снова пополз.
«Прекрасный солдат»,— подумал Бопре. Они оба
продолжали ползти к голове колонны. Бопре знаками спросил
напрала, целы ли у него ноги, и тот засмеялся. Когда
Бопре наконец добрался до цели, он вдруг понял, что
ничем не прикрыт, и замер. Улыбка не лице капрала
сменилась растерянностью, и это заставило Бопре
очнуться: солдат не знал, зачем они сюда пробирались, они все
полагались на него, и Бопре вспомнил, что его дело
не замирать от страха, а командовать. Он взялся за
гранатомет.
Тыонг отполз от Бопре и двинулся дальше в поисках
укрытия, где бы он мог собрать свою группу. Он прополз
мимо Андерсона, но потом медленно повернулся и, хотя
это место было более открытое, возвратился к мертвому
американцу. Среди других мертвецов Андерсон выглядел,
точно взрослый среди детей. Тыонг несколько секунд
смотрел на американца, не испытывая ни малейшей грусти:
это справедливо, пусть и они расплачиваются, пусть и они
расплачиваются, пусть и их люди погибают. Но он тотчас
опомнился, и ему стало стыдно. Протянув руку, он закрыл
американцу глаза, а потом неожиданно для себя прочел
старую буддийскую заупокойную молитву — американец
так хотел стать своим в этой стране, приобщиться к ней,
и это было последнее приобщение. Потом Тыонг отполз
в более укрытое место и начал снова стрелять во вьеткон-
говцев.
Страх Бопре еще не прошел, но тут прогремела новая
очередь, Бопре опять остался цел, и к нему вернулось
162
спокойствие. Где-то сзади стреляли их солдаты, Бопре
даже удивился, насколько ровно и непрерывно. Он взял
гранатомет и пожалел, что так ругал все эти новшества:
чем болтать, куда полезнее было бы научиться стрелять из
них. Ролстону гранатометы нравились, и он говорил, что
они похожи на дробовики. Бопре откинул вниз приклад,
как у дробовика. Пока все шло хорошо. Он запомнил
один совет Ролстона: «Не стреляйте прямо в цель —
лучше стрелять с небольшим недолетом, тогда осколки
делают свое дело наиболее эффективно». Бопре
разложил перед собой восемь гранат, похожих на длинные
пули. Он решил, что в такой обстановке фактор
неожиданности может сыграть существенную роль, значит, надо
постараться создать у противника впечатление, будто
огонь ведется из полуавтоматического оружия. Он не
сомневался, что вьетконговцы еще не видели
гранатомета в действии. Гранатометы появились в этой стране
совсем недавно, и можно было рассчитывать на
психологический эффект. Он пришел к выводу, что вьетконговцев
тут мало, иначе от его солдат уже давно ничего не
осталось бы. Несомненно, они наткнулись на фланговое
охранение основной засады, выставленной на случай
обходного маневра.
Бопре навел гранатомет на группу деревьев немного
сбоку и впереди от того места, где, по его расчетам,
находилась пулеметная точка. Он мысленно представил
себе цель, чтобы затем стрелять интуитивно, не тратя
лишнего времени. Он встал, держа гранатомет, и
выстрелил чуть ближе цели; затем несколько томительных секунд
спустя пальцами, непослушными от страха, он снова
нажал на спуск и услышал, как рвутся одна за другой
гранаты. Почувствовав себя уверенней, он выстрелил
опять, на этот раз прицелившись чуть правее. Позади
себя он услышал усилившийся шум (или просто теперь
он слышал лучше?) и почувствовал, что вьетнамцы
берутся за дело. Страх его стал спадать, пальцы
задвигались уверенней, и он выпустил по цели еще две гранаты.
Страх почти совсем прошел, и он мысленно сказал
«спасибо» технике и Макнамаре.
Он знал, что ему повезло: гранаты взорвались
примерно там, где он хотел. Он был уверен, что противник
понес покори, но не сомневался, что в живых еще остались
люди, с >бные стрелять. Он выпустил новую гранату
на ск ости бы кто-то попробовал подняться на
о*
163
ноги. Он был уверен, что вьетконговцы не собирались
вести открытый бой. Они хотели устроить засаду и убивать,
убивать безнаказанно. Они тоже, как все прочие, хотели
получить, ничего не давая взамен, но, столкнувшись с
новым опасным оружием, будут теперь очень осторожны.
Позади него солдаты стреляли регулярно и
уверенно. Не было уже никакой паники.
Пулемет противника замолчал. Когда Бопре стрелял
из гранатомета, пулемет еще действовал, но теперь
он молчал. Автомат впереди еще стрелял, однако Бопре
был спокоен: там услышат, что пулемет прекратил огонь,
и изменят тактику.
Он все еще не знал, где находится эта точка. Канал
впереди сворачивал немного вправо. Следовательно, они
не могут быть у самого берега, канал — плохой путь для
отступления, так как в воде их легко забросать
гранатами. Нет, вьетконговцы попробуют отойти по суше, решил
он. В сопровождении усатого вьетнамца Бопре пополз
дальше, стараясь определить, в каком месте могли засесть
вьетконговцы. Примерно в пятидесяти ярдах впереди
виднелись густые кусты. Местность мало подходила для
контрзасады; будь у него в распоряжении американские
солдаты, еще можно было бы попробовать, но с
вьетнамцами ничего не выйдет. Он выпустил по гранате в левый и
правый край кустов и прислушался к взрывам. Ему
показалось, что второй взрыв прозвучал глуше, чем первый,
и до него как будто донесся сдавленный стон, чей-то
словно проглоченные вопль, только чуть-чуть вырвавший
ся наружу. Он снова выстрелил в правый край кустов.
Потом, отложив гранатомет, взял автомат и связку ручных
гранат. Махнул усатому вьетнамцу, и они поползли к
кустарнику Вьетнамец полз слева и немного впереди,
а Бопре прикрывал огнем его и себя. Это отнимало много
времени и сил, и Бопре устал от невероятного напряжения
Во рту было сухо, но не так, как прежде,— не от жары
(о жаре он забыл), а от страха. Он устал, и ему все
опротивело. Ему хотелось встать во весь рост и пойти
прямо на кусты. Но это было глупо, так воюют только
в кино. И Бопре продолжал ползти. Из кустов никто
не стрелял. Когда до них оставалось только двадцать
ярдов, Бопре сделал вьетнамцу знак остановиться и
бросил гранату. Немного подождал, а затем потому
что был стар и боялся — бросил еще одну После этого
они с вьетнамцем медленно поднялись и пошли к кустам
164
Ни людей, ни оружия они там не нашли, только небольшое
кровавое пятно. Бопре оставил капрала на месте, а сам
прошел еще шагов десять вперед и, раздвинув ветки,
вдруг увидел перед собой противника — солдата в черных
шортах, без рубашки. Они уставились друг на друга
в полном изумлении. Их разделяло не более пятнадцати
ярдов, и в это мгновение Бопре увидел карабин возле
солдата, увидел огромную рваную рану на ноге, увидел,
как он жалок и изможден («Вот такие сволочи и делают
все это,— подумал он,— вот такие проклятые
заморыши»), увидел страх, появившийся на лице врага,
поднял автомат и расстрелял в солдата всю обойму.
Бопре решил, что война на сегодня окончена. Он
разогнул спину и тяжело перевел дух. У него пересохло
в горле, сердце бешено колотилось. Оставив капрала
в кустах, он вернулся к отряду и жестами послал еще
троих солдат, велев им обыскать кусты. Он стоял, смотрел
через канал и ждал. Наконец он увидел молодого
вьетнамского лейтенанта и крикнул, чтобы он еще пошарил на
том берегу. Лейтенант поднял вверх оба больших пальца.
Бопре сначала не понял, но потом широко улыбнулся и
сделал то же. «Валяй, старик, задай им перцу»,— подумал он.
Он вернулся к рации и вызвал КП. Дежурный
заговорил таким бодрым тоном, что Бопре подумал, не
нарвался ли он по ошибке на радиоконферанс. Бопре
сообщил, что вьетконговцы, по его мнению, ушли и сегодня
больше не вернутся. Дежурный спросил, сколько вьет-
конговцев он уничтожил, пояснив виноватым тоном, что
Сайгон торопит с цифрами. Бопре, конечно, понимает,
день был тяжелый, и им важен итог. Бопре подумал и
сказал, что убил одного-двух человек. Дежурный спросил:
двух или не двух?
— Передайте им: одного-двух,— упрямо повторил
Бопре.— Пусть заведут новую графу.
— Да-да,— сказал дежурный.— Я понимаю.
Он попросил Бопре подождать минуту и вскоре объявил
прежним бодрым тоном, что они только что
разговаривали с Бьенхоа и самолеты отправлены. Они уже в пути.
Ему же нужны самолеты. В Бьенхоа сожалеют, что не
могли отправить их раньше, но теперь они в его
распоряжении.
— Мне они не нужны,— ответил Бопре,— но я знаю,
куда их нужно послать.
— Куда?
165
Он сообщил координаты того места на главном канале,
где погибла разведывательная группа.
— У вас там есть наблюдатели?
— Нет. Теперь уже нет.
— Куда же вы хотите, чтоб мы их послали? — спросил
дежурный.
— Я хочу, чтобы они пролетели над всей этой
проклятой местностью. Там, где нас хотели подкараулить, и
севернее. Они, наверно, уходят на север. Скажите
летчикам, чтобы они уничтожили все, что движется в белых
пижамах, черных пижамах, совсем без пижам. Пусть
убивают без разбора. Я отвечаю.
— Хорошо,— сказал дежурный.— Раз вам так
хочется.
Позади него суетились вьетнамцы. Он подошел к телу
Андерсона, снял с него флягу и отхлебнул большой глоток
воды. Потом посмотрел его документы. Оказывается, ему
было двадцать пять лет, хотя он всегда говорил, что ему
двадцать семь. Членский билет какого-то клуба
выпускников Вест-Пойнта. Фотография жены — молоденькой
миловидной женщины, так раздражавшей Бопре. Письмо
жены, оканчивавшееся словами «...Целую тебя крепко-
крепко. Я так счастлива, что я твоя жена, хоть ты и
не со мной сейчас. Я чувствую себя счастливей всех
остальных женщин, хотя их мужья с ними». Бопре сложил
письмо и сунул себе в карман. Ему было немного стыдно,
потому что он завидовал только порядочности Андерсона,
его несчастной порядочности. Он сел и прислонился
спиной к дереву. Кора под его лопатками была изжевана
пулеметными пулями. Повернув голову, он увидел, что к
нему идет молодой вьетнамский лейтенант. Его лицо как-то
странно морщилось. Бопре вдруг сообразил, что морщится
он от боли, и впервые заметил его прихрамывающую
походку. Тыонг подошел и сел рядом, никогда прежде
он этого не делал.
— Ранены?— спросил Бопре.— Дайте-ка я погляжу.
— Нет,— сказал Тыонг.— Я наступил на ловушку
с колышком. По глупости.
— В следующий раз будьте осторожней,— сказал
Бопре.
— Да, в следующий раз нам всем следует быть
осторожнее.
Они просидели рядом несколько минут. После боя,
как и во время боя, время трудно определять: пять
166
МИНуТ словно пять часов, пять часов — как пять дней.
Наконец Тыонг, уже не думая о том, кто на него смотрит,
начал осторожно стаскивать с ноги ботинок. Бопре следил
за ним, понимая, какую он испытывает боль. Наконец
ботинок был снят. На ступне запеклась кровь. Нога была
белая, как у статуи мадонны. Бопре видел, как лейтенант,
сжав зубы, надавил на пятку.
— Нам повезло,— сказал Тыонг.— Мы ведь
наткнулись только на форпост засады.
— Да,— сказал Бопре.— Нам повезло.
Он продолжал смотреть, как Тыонг очистил рану и
снова надел ботинок, потом отошел к солдатам и начал
что-то говорить, указывая на трупы.
Сначала живые только смотрели на него, им не
хотелось прикасаться к мертвым.
— Сделайте это для них! Это последнее и самое
малое, что вы можете для них сделать!
Тыонг кричал, и в конце концов живые начали
подбирать мертвых. Они укладывали в ряд тела своих убитых
товарищей. И там положили Андерсона.
В небе появились два «Т-28» и бреющим полетом
прошли над главным каналом. Бопре услышал взрывы и
зажег лиловую дымовую шашку, чтобы показать свое
местонахождение. Самолеты покачали крыльями, давая
знать, что сигнал замечен. «Чистоплюи,— подумал
Бопре.— Теперь вернутся на базу и станут хвастать, как
здорово они воюют».
Андерсона, собственно говоря, должны были нести
вьетнамцы, но Бопре, злясь на себя, подошел и взвалил
тело на плечо. Форма его покрылась пятнами от крови
лейтенанта. Тыонг продолжал кричать на солдат, и они
одного за другим подобрали мертвых.
Вскоре Тыонг подошел к Бопре и сказал, что солдаты
очень озабочены и обеспокоены и просили его поговорить
с ним. Они хотят знать, поедут ли они на грузовиках,
или им придется добираться домой пешком. Они очень
обеспокоены.
— Мы поедем,— сказал Бопре.— Скажите им, чтобы
не волновались.
Тело лейтенанта казалось очень тяжелым, и Бопре начал
отставать — пусть впереди идет кто-нибудь другой.
Вьетнамцы уже снова пошли кое-как, смеялись и болтали.
Даже те, кто нес убитых. «Одна надежная граната
сержанта Шаусса,— подумал Бопре,— уложит их всех». Он
167
взглянул на часы: скоро два. К трем часам — при удаче —
они соединятся с другими отрядами и поедут обратно
в Мито. «Как все это бессмысленно,— думал он.— Ни
преследования, ни погони. В эту же ночь вьетконговцы
перегруппируются и опять будут делать все, что им
заблагорассудится». Конечно, он знал, что по уставу противника
полагалось преследовать, но ведь вьетнамцев не
заставишь. Хорошо хоть, что ему удастся доставить на базу
не только мертвых, но и живых. Да и вообще он устал
и был рад, что остался в живых, что преследовать
противника бессмысленно и что некому принудить его
вьетнамцев преследовать врага. Все равно они не найдут
вьетконговцев. И ему тоже вовсе не хочется охотиться
за ними и ночевать в какой-нибудь деревушке, где без
защитной сетки его заживо съедят москиты. Он хочет
ночевать в семинарии, и лечь в чистую постель, и ругать
себя за то, что они не преследовали противника, и думать
о тех восемнадцати месяцах, которые еще осталось ему
прослужить до двадцатилетнего срока.
На сегодня война для него кончилась, и он был
рад. Ему пришло в голову, что вьетнамский лейтенант
Тыонг вел себя очень хорошо, а вот Данга он не видел с
начала боя. Сегодня — впервые за все время — он увидел
врага. После этих месяцев он наконец увидел одного
вражеского солдата. «Маленькие люди, а сколько от
них шума»,— подумал он.
Бопре теперь шел медленно — невысокий толстяк,
обремененный почти непосильной ношей,— но походка у
него стала чуть ли не грациозной оттого, что приходилось
осторожно ступать. Большой Уильям и Андерсон —
в один день. Да, вьетконговцы наседают. Он вспомнил, что
ему предстоит написать жене лейтенанта, и прикинул,
что он ей скажет. Что ее муж был хорошим офицером
и беззаветно любил ее, что он умер во время марша
в жару... Нет, не так: он погиб в бою, да, именно в бою.
Но где? Под Аптханьтхой, сразу за Аптханьтхой, но тут же
он сообразил, что придумал неудачно: ей было известно,
где находится Аптханьтхой.
Уильям УИЛСОН
БРИГАДА «ЭЛ-БИ-ДЖЕЙ»
Я — <с1-А»
«1-А»— это годность № 1, всеамериканское
свидетельство одобрения. Оно подтверждает, чго я принадлежу к
цвету американской молодежи. Возраст — между
восемнадцатью и двадцатью шестью, физически, нравственно
и умственно полноценен, имею образовательный ценз.
Словом, «1-А»—это высшая аттестация, какой наше
правительство удостаивает своих граждан.
Я — «1-А», в Юго-Восточной Азии идет война, и наш
президент сказал: «Мы пришли во Вьетнам, чтобы
выполнить одну из самых высоких обязанностей, взятых на
себя американским народом. Мы будем стоять во
Вьетнаме до конца».
«Холодная война» становится горячей, мы уже
двадцать лет играем с коммунизмом в кошки-мышки, нас
достаточно долго заставляли отступать, и теперь мы
будем стоять до конца.
Во Вьетнаме мы стоим до конца; именно мое поколение
приняло на себя почетную обязанность и честь встретить
коммунизм лицом к лицу на полях сражений. Настало
время раз и навсегда покончить с врагами свободы,
настало время защитить с оружием в руках наши идеалы,
настало время действовать, как подобает мужчинам, мы
должны сражаться за честь нашей родины и за свободу
всего человечества.
Нас ждут большие дела, впереди целая жизнь —
женитьба, семья, хорошая работа, служение высокой
цели, но прежде всего война, может быть, только война:
мы должны защитить родину, построенную для нас отцами
наших отцов.
В сумеречной дымке рассвета мы слушаем шум моря,
набегающего на берег, и говорим о войне. Газеты и
журналы, телевизионные и радиопередачи полны сообщениями
169
о войне. Это взвинчивает нас. Самый воздух будто
наэлектризован, всех и каждого волнуют сообщения о военных
действиях, труба зовет романтиков, смелых душой,
каждый юноша должен испробовать, что это такое —
романтика, до того как осядет и обзаведется семьей.
Война для нас неожиданность. Когда в 1961 году
мы поступили в колледж, никакой войны не было. Со
времени корейских событий прошло шесть лет, мировые
войны остались только на страницах переизданных заново
учебников истории, и всех интересуют лишь проблемы
мира и соперничество в освоении космоса, а не война.
Но коммунисты зашли чересчур далеко. Америка
слишком долго проявляла терпение, и моему поколению
выпала честь остановить коммунистов, не дать им
уничтожить мир на земле.
Некоторых из нас уже призвали, я в тысячный раз
перечитываю призывную повестку. Другие ребята
собираются в морскую пехоту или в авиацию. Американская
молодежь двинулась в поход.
Я солдат американской армии, я служу в войсках,
которые охраняют мою родную страну и американский
образ жизни. Я готов отдать жизнь за родину.
Это устав американской пехоты. Такими словами он
начинается. Нам всем роздали эту красную книжечку; она
тоненькая, мы носим ее в заднем кармане. Там она со
временем превратится в труху. Мы только пролистали эти
книжечки и засунули их подальше, но это вовсе не значит,
что мы не принимаем их всерьез. Все это очень серьезно,
только ведь не станешь каждое утро давать
торжественную присягу. Мы — солдаты, мы не пишем заявлений
о своей преданности, мы доказываем свою преданность
делом, как и должно солдатам.
Мы грузимся в вагоны, солнце припекает не так уж
сильно, но от долгого стояния ноги затекли, и гимнастерки
взмокли от пота. В вагоне сразу становится нечем дышать,
окна наглухо законопачены, и воздух, едкий, как дым,
не лезет в легкие. Начинаем открывать окна, но сержант,
идущий по проходу, приказывает оставить их закрытыми.
С притворной яростью посылаем ему в спину проклятья.
Поезд замедляет ход в Окленде, мы с грохотом мчимся
через город, машинист то и дело дает гудок, когда,
пересекая улицы, мы проносимся вдоль домов и магазинов.
На перекрестках начинают собираться люди. Это уже
170
больше похоже на дело: сейчас нас будут приветствовать.
И тут мы обнаруживаем, что это вовсе не люди, а
коммунисты и пацифисты. Они держат лозунги
ПРЕКРАТИТЬ ВОЙНУ ВО ВЬЕТНАМЕ, они пришли, чтобы
устроить демонстрацию протеста: сядут перед поездом на
землю, чтобы ПРЕКРАТИТЬ ВОЙНУ ВО ВЬЕТНАМЕ.
Почти все они молоды, студенческого возраста, и хорошо
одеты. Полицейские разгоняют их, стараются не пустить на
полотно. Мы машем, и ребята эти тоже машут нам и что-то
кричат; все получают массу удовольствия, но только мы-то
едем на войну во Вьетнам, а они остаются здесь на
улицах, нарушают общественный порядок и бесплатно
делают себе рекламу. Правительство должно всех их
призвать, только так с ними и можно сладить, только
так, а не иначе. Если уж они такие боевые, надо отправить
их туда, где идет бой. Бой идет во Вьетнаме, враг —
коммунизм.
Вьетнамская земля спокойна и
торжественно-безмятежна. Только наше присутствие нарушает гармонию
пейзажа. Палатки на двоих, в которых мы живем,
разбрелись в пыли там, где кончается взлетная полоса,
точно стадо каких-то низкорослых горбатых животных.
Их оливковые шкуры притянуты колышками к самой
земле. Играет радио, ребята слоняются вокруг лагеря
и ждут, когда же и где начнется война. Мы потягиваем
пиво из фляжек и занимаемся строевой подготовкой,
некоторые уходят в караул, но мне не везет — я торчу
в лагере и жду.
Кровь здесь не льется, страшные рассказы о войне
оказываются выдумками. Мы слушаем, что говорят
солдаты, пробывшие во Вьетнаме много месяцев и даже
лет. О гибели каждого американца здесь сложена
коротенькая история. Когда перестанут складывать легенды о
гибели каждого, когда вместо них поползут смутные
слухи о целых пропавших без вести отрядах, о гибели
в кровавом бою целых рот и бригад, только тогда станет
по-настоящему плохо, только тогда и начнется война.
Погиб капрал Кон.
Это становится известно днем. Он был в дозоре на
холмах за пределами базы. Он погиб от случайной пули
на пути обратно в лагерь. Мы уже слышали подобные
истории и знаем, что убил его кто-то из своих. Это
случается. Мы находимся в зоне боевых действий, вся
171
страна — район боевых действий. Часовым без конца
влетает за то, что они зевают. Промах стоит капральской
нашивки, им неохота получать выволочки, и они всегда
стреляют, если есть хоть тень сомнения. Кто знает, сколько
солдат гибнет в самой Америке. Когда винтовки заряжены,
никто не может чувствовать себя в безопасности.
Взрывы сотрясают землю.
Мы выбегаем из палаток, ночное небо разорвано в
куски осветительными ракетами. Мы держим в руках
винтовки и ждем приказа, что делать дальше. Ни один
из снарядов не летит в нашу сторону, они взрываются
на взлетной полосе: враг пытается поразить стоящие
рядами самолеты.
Это стреляют коммунисты. Их минометы установлены
на холмах, окружающих базу. С десяток мин разрывается
на взлетной дорожке; внезапно начинает бить наша
артиллерия. Длинные вспышки пламени, вырывающегося
из пушек, рассекают небо. Двадцать или тридцать орудий
извергают огонь, и ночной мрак превращается в сияющее
и мерцающее облако. Мы глохнем от грохота и не можем
понять, куда бьют наши орудия.
Мы смотрим во все глаза — зрелище нам нравится;
ничто не может устоять перед этим шквалом огня; там,
где он бушует, все живое должно погибнуть.
Так же внезапно, как он начался, обстрел обрывается.
Тишина кажется страшнее, чем грохот. Мы стоим, будто
окаменев, и ждем, что будет дальше. Дальше приходит
сержант; он приближается к нам походкой генерала; у него
совершенно неправдоподобные моржовые усы и голос,
как громкоговоритель. Он возглашает: «Как дела?» Он
очень гордится и усами, и голосом, это очевидно. В руке
у сержанта автомат, на боку пистолет. Это
человек-легенда — высокий, широкоплечий, мускулистый и загорелый.
Он не идет, а шествует, стоит он как-то по-особому,
словно продолжает идти или готов сорваться с места,—
расставив ноги, склонив набок голову и не сводя глаз
с того, кто перед ним.
— Здорово, сержант,— говорит капрал Смит.
Кажется, что он разговаривает с танком.
— Я — сержант Сейс,— объявляет тот. Он отставляет
ногу, засовывает большой палец за ремень и переводит
глаза с одного на другого.— Я здесь уже десять лет,—
172
говорит он.— И все еще жив.— Он предъявляет нам это
как удостоверение личности, но он не бахвалится.
Ему лет тридцать. Усы делают его старше. Он был
здесь еще при французах, военным инструктором у сайгон-
ских властей. Теперь он у нас. Начальство стремится
прикомандировать опытного кадровика к каждой новой
части. На сей раз нам повезло: опыт сержанта Сейса
не по части военной выучки, он специалист по тому, как
выжить.
Мы не знаем, что происходит. Газет у нас нет, а судя
по радиопередачам, война кончится дня через два. Мы
побеждаем во всех боях, наши самолеты стерли
коммунистов в порошок. Мы не верим ни одному слову.
Мы хотим вернуться домой, хотим начать воевать; мы еще
не видели противника. Эти коммунисты — невидимки.
«По коням!» Команда всегда подается усталым
голосом. Это уставная острота, и волнующе она звучит только
в кино о ковбойских временах и прериях Дикого Запада.
Сейчас Сейс выкрикивает ее грубо, в его хриплом
баритоне — приказ.
— Обычная операция,— говорит он, не дожидаясь
вопросов.— «О и Д».
— Что это такое?— спрашивает Смит.
— Не сахар,— отвечает Сейс довольно беззлобно.—
«Очистить и держать»,— вот что такое «О и Д».—
Сейс совершенно спокоен, сейчас он, наверно, скажет:
«Мы начнем с вами, ребята, с чего-нибудь простенького
и безопасного». Но он говорит другое:— Чарли — так мы
прозвали вьетконговцев — ударил по деревне. Сам-то он
ушел, а мы должны обеспечить порядок в населенном
пункте.
Мы не скрываем своего облегчения, кое-кто улыбается.
Смит снова окликает Сейса:
— Послушайте, сержант!
— Заткнись!
Сейс сидит у заднего борта и держит на коленях
автомат. Мы снова оглядываем его вооружение: кроме
автомата, он носит за голенищем нож в кожаных ножнах,
на боку — кинжал, с каждой стороны у пояса по
пистолету; через плечо перекинут шведский легкий пулемет, а
на груди скрещиваются две широкие пулеметные ленты.
173
За спиной у него вещмешок. Жестянки пайковых
консервов и ручные гранаты торчат под брезентом во все
стороны. Я смотрю на свою жалкую «М-14» и чувствую
себя раздетым донага. Нам всем нужны автоматы и
пулеметы.
— «Обычная операция»— это штабное словечко,—
говорит Сейс.— Означает, что полное уничтожение всей
бригады не предполагается.— Он важно кивает при виде
наших вытянувшихся лиц.— Всего проще в этом
населенном пункте отдать концы.
В машину заглядывает капитан Шайн. Сержант кивает
капитану Шайну, капитан как будто доволен, по крайней
мере он ничего не говорит, поворачивается кругом и
вышагивает прочь от машины.
Мы тащимся по грунтовой дороге так медленно, что
пыль, которую мы поднимаем, относит вперед, и она
садится на нас же. Над головой, как ручной стервятник,
тарахтит вертолет. Он охраняет наш небольшой отряд.
Наверное, так мы будем влачиться до самого края света.
Наконец кто-то не выдерживает, говорит вслух то,
о чем думают все:
— Куда же мы едем? Где она, эта деревня?
— На фронте,— отвечают ему.
Капрал Хендсон фыркает. Этот звук выражает
неодобрение человека, знающего больше других. Мы все
смотрим на него. Кроме меня, он единственный в этом отряде
имеет высшее образование. Хендсон высок ростом, тощ
и полон сарказма. Он не раз говорил, что не хочет быть
солдатом. «Правительство затащило меня сюда
обманом»,— повторяет он чуть ли не каждый день с тех пор,
как мы сюда приехали. «Война без фронта»,— говорит
он сейчас по-французски.
— Он шпион и разговаривает как коммунист,—
возмущается капрал Эймс. Никто здесь, может быть, кроме
Сейса, не говорит по-французски, и образованность Хенд-
сона вызывает раздражение.
— Здесь нет фронта,— добавляет Хендсон.
Его слушают.
— Тут фронт повсюду, спросите сержанта.
— Сержант?
— Заткнись!
Мы перешептываемся, по-видимому, не вес так просто
Хендсон говорит:
— Это фарс. Французы тут пробыли десятки лет и
ничего не сумели сделать.
— То были французы,— отвечает Смит.
Мы чувствуем себя увереннее. Смит снова высказал
вслух то, что думаем мы все.
То была Франция, а мы — Америка, мы всегда
побеждаем. Кое-кто гибнет, но мы все же побеждаем. Это
утешает.
Тростник, тонкий, как карандаш, и длинный, как палка
от швабры, раскачивается на ветру. Мы доходим до
вершины и останавливаемся. Каждый взвод
останавливается здесь, прежде чем начать спуск. Минуту мы
смотрим на лежащую внизу долину и пытаемся достать
из сапог набившиеся камешки. Вид, который нам
открывается, совсем мирный. Долина похожа на цветную
картинку из рекламного проспекта какого-нибудь курорта:
уклон ведет к густой роще, за ней — долина, плоская и
зеленая, геометрически точно поделенная толстыми
земляными дамбами на квадратики рисовых полей. Если бы не
горы, все это было бы в точности похоже на сельскую
местность Среднего Запада. За долиной тянутся к небу
огромные скалы, они кажутся желтыми, но ближе к
вершине приобретают густо-зеленый оттенок — там по
утесам сползают к долине джунгли. Серебряной ниточкой
струится водопад. Над горами клубятся длинные белые
облака, и тени этих гор и облаков заставляют особенно
сильно ощущать сияние солнца.
Мы начинаем спуск, идем по направлению к роще,
голова колонны уже мелькает между деревьями. Мы
сжимаем свои «М-14» в потных ладонях и невольно
сбиваемся в кучу. Одной гранатой можно уложить сейчас
десятерых. Сейс останавливается, поворачивается к нам
и орет: «Рассредоточиться!» Его внезапный окрик
будоражит всю колонну, идущий впереди взвод
останавливается, люди оглядываются, некоторые бросаются на
землю, кое-кто смеется. Мы рассредоточиваемся.
Сейс ведет нас через рощу, между деревьями, мы
доходим до небольшой деревушки. Деревушка построена
без всякой логики или плана, здесь не знают, что такое
архитектурный замысел. Десятка два хижин, крытых
соломой, разбросано по бугристой местности. Строят на
деревянных сваях, чтобы полы были ровными.
175
Жители деревни сгрудились на небольшой площади.
Они покачиваются от долгого стояния на одном месте;
в руках у них узлы. Слышатся какие-то подавленные
стоны: люди переполнены горем, которому нечем помочь.
Главным образом это женщины, старые женщины,
сморщенные и малорослые, с младенцами на руках. Детишки
постарше жмутся у их ног. Все молчат. Эти люди не
смотрят в глаза: взгляд их мечется и мерцает, как у
затравленных животных. Слезы ползут по бороздкам морщин,
стекают куда-то в складки холщовых рубах. С
женщинами — старик. Он здесь, очевидно, главный и поэтому
стоит немного в стороне от остальных.
Сейс отдает команду остановиться. Мы ждем.
Капитан Шайн направляется к жителям. Он подходит вплотную
к старику, и тот начинает пятиться, пытаясь замешаться
в толпу женщин.
Где-то в деревне раздается окрик, потом слышится
выстрел, мы ломаем ряды и, пригнувшись, начинаем
пятиться к деревьям.
Из-за хижины показывается подросток. Одна его рука
поднята над головой, другая — зажимает плечо. Между
пальцами струится кровь; мальчик идет медленно, его
ведут двое солдат не нашего взвода. Они держат винтовки
дулами к земле.
Мы больше не пригибаемся. Сейс поднимает автомат
и берет пленного под прицел. Подросток он него всего
в нескольких шагах, но Сейс целится так, будто цель —
за милю. Мальчик останавливается. Дуло автомата
застывает в каком-нибудь футе от его лица, он отшатывается
и вскидывает голову. Похоже, что Сейс собирается
застрелить его на месте.
Солдаты останавливаются рядом со своим пленным.
Они смотрят на Сейса.
Подросток смотрит на Сейса, он отнимает руку от
плеча, открывая рану. Рубашка у него в крови. Потом
поднимает обе руки высоко над головой.
— Все в порядке, сержант,— говорит солдат.
— Он ранен,— добавляет другой.
Сейс не двигается. Он по-прежнему держит дуло
автомата у самого лица мальчика. Солдаты начинают
нервничать, они переводят взгляд с Сейса на пленного и снова
на Сейса. Сейс говорит с ними, он не кричит, потому
что от этого сдвинулось бы дуло нацеленного автомата, он
рычит сквозь стиснутые зубы:
176
— Возьмите его на прицел!
Солдаты поднимают свои «М-14» и целятся в
пленного. Один из них, подражая Сейсу, отходит для этого
назад. Сейс опускает левую руку, а правой тычет в шею
подростку дуло автомата. Пленный от этого еще дальше
закидывает голову и широко открывает глаза. Если он
будет пятиться, дуло автомата соскочит в сторону, но
Сейс уже шарит свободной рукой по телу мальчика,
ощупывая его под мышками, сбоку и снизу доверху.
— Это всего только мальчишка,— говорит один из
солдат.— На нем даже нет военной формы.
Сейс внезапно отскакивает от пленного и швыряет
солдатам маленький пистолет. Пистолет отбрасывает
солнечного зайчика и плюхается на землю.
— Нет, есть на нем военная форма — его кожа!
Сейс машет солдатам, чтобы они увели пленного,
поворачивается к нам, поднимает автомат над головой и
орет: «О'кей!» Потом разбивает взвод на две команды.
— Теперь подпалите населенный пункт.
Никто не двигается с места. Сейс идет к ближайшей
хижине, вынимает зажигалку, щелкает, вспыхивает
огонек. Сержант поднимает руку и подносит язычок пламени
к соломенной крыше. Через секунду хижина превращается
в пылающий костер, порыв ветра опаляет нас горячим
воздухом, и мы отходим назад. Сейс кивает второму
отряду.
— Займитесь остальными.
— Всеми?— спрашивает Хендсон.
Сейс оборачивается, чтобы заорать на него, но
передумывает и говорит совсем спокойно:
— Выполняйте.
Второй отряд идет к хижинам. Сейс приказывает нам
присоединиться к другим взводам и прочесать лес —
там может быть спрятано оружие и боеприпасы.
— Ничего не трогайте руками,— предупреждает он.—
Эти макаки минируют даже дерьмо.
Мы углубляемся в лес. Я обшариваю кусты, тыча
штыком в землю, заглядываю на всякий случай и в дупла.
По дороге на базу почти не разговариваем. Доволен
только Сейс — он опять остался в живых, и мы тоже. Он
сидит в той же позе, что и на пути туда. Он на переднем
крае, всеми своими пятью чувствами — в разведке.
177
Капрал Смит заглядывает в палатку и объявляет:
— Мы едем в город.
— Когда мы едем?
— Сию минуту. Давай выходи, не задерживайся. Сейе
сказал, что ему нужны добровольцы. Хендсон назначил
добровольцем тебя.
Я вышел вслед за ним в полуденный зной и
направился к грузовику. Сзади уже сидели Сейс, Хендсон и
южновьетнамский солдат — мы их называем арвинами. Это
сокращение. Полный чин — арьергардные вояки: они
предпочитают околачиваться по тылам. Смит и я влезаем
в кузов, Сейс стучит прикладом автомата в стенку кабины,
шофер с ходу берет скорость и выезжает из лагеря.
Четверть кузова занимают ящики с продовольствием,
мороженое мясо и овощи. Они только что прибыли по
воздуху, и Сейс объясняет, что мы — команда для
сопровождения этого груза. Смит прав. Это здорово. После
того как сдадим груз, сможем поболтаться несколько часов
в Сайгоне. Не многим удается побывать в городе. Мы ведь
здесь не для собственного удовольствия, мы здесь для
того, чтобы воевать с коммунистами. Даже если бы
и нашлось свободное время, капитан Шайн все равно
не дал бы увольнительных. Он не хочет, чтобы мы
якшались со шлюхами и цветными. Для него это одно
и то же, кто не белый — тот цветной. Говорят, что он
называет вьетнамцев желтыми черномазыми или
коричневыми жидами. Говорят также, что через неделю война
окончится нашей полной победой. Я лично ничего об этом
не знаю. Цветной, с точки зрения капитана,— это не негр,
а азиат. Он не хочет, чтобы его солдаты разлагались
под влиянием азиатов, он хочет, чтобы мы держались
на расстоянии. Это не его каприз, как он объясняет,
а приказ сверху. Все, что он говорит, и почти все, что
делает, капитан объясняет приказом сверху. Так
поступают все начальники. Никто не хочет брать на себя
ответственность.
На пути в Сайгон мы делаем две остановки. Оба раза
у вилл, окруженных тенью деревьев и охраняемых морской
пехотой. Вьетнамские кули ведут нас на склад, и мы
загружаем новые холодильники телячьим филе, говядиной,
бараниной, свининой, ветчиной, бараньими окороками,
индейками, цыплятами и дичью, брикетами свежеааморо-
женных овощей.
178
На одной из вилл живет генерал, на другой — вице-
президент американской корпорации: сейчас в Сайгон
идет уйма американских денег, там очень много строят.
— Я подаю заявление о производстве в генералы,—
говорит Смит.
Хендсону это не кажется смешным. Он злится на
вице-президента корпорации. Ну, генерал — еще ладно,
они сроду жили хорошо, но этот вице-президент из
большой стальной корпорации «ЮС стил оф Бетлем»
или еще какой-то там фирмы! Они ведь сами
устанавливают цены, чтобы нажиться на войне.
Мы развозим продовольствие еще по трем адресам
в самом Сайгоне, набиваем кладовые и холодильники
американских политических деятелей. Сейс утаивает пять
бутылок шотландского виски. Одну он отдает водителю.
Вьетнамцу дает несколько пачек краденых сигарет; все
мы должны быть причастны к недозволенному, поэтому
Смит, Хендсон и я получаем в свое распоряжение
несколько часов на развлечения в городе. Прежде чем
отпустить нас, Сейс произносит краткое напутствие:
— Если вы где-то попадетесь, по заднице надают мне,
так что не попадайтесь.
— Если они нас не любят,— спрашивает Хендсон,—
зачем мы здесь?
Смит тут же вмешивается:
— Ты прекрасно знаешь, зачем мы тут находимся.
Сейс указывает вдоль улицы, туда, где сверкают
неоновые созвездия, и говорит:
— Увидимся через пару часов в «Иглз нест».
Здесь продается все — спиртное, женщины, опиум. Мы
еще не прошли и квартала, как за нами увязалось
несколько сводников. Оказывается, мы здесь, чтобы
отстоять образ жизни сутенеров, шлюх и лакеев. Может быть,
есть и другие, но эти другие не показываются, когда на
улице солдаты. Дома нас учили, что спиртное и
ругательства, сутенеры и наркотики, воры и потаскухи — грех.
А послали нас туда, где все это цветет пышным цветом,
послали в оранжерею греха. Наши близкие недовольны.
И вьетнамцы очень недовольны, что мы превращаем их
дочерей в шлюх. Но ведь мы живем рядом с войной и со
смертью, мы рискуем жизнью во имя их проклятой страны,
уж по крайней мере они могут предоставить нам за это
бесплатные удовольствия.
179
Мы оказываемся в фешенебельной части города.
Дорогие машины фланируют по улицам, нередко на дверцах
у них американские опознавательные знаки. Генерал,
пошатываясь, выходит из отеля рядом с золотоволосой
красоткой, груди у нее выпирают из глубокого выреза,
она проскальзывает в лимузин, а генерал садится рядом,
черт его побери. Этот генерал — старая перечница, щеки
у него висят, но мы все равно замираем по стойке
«смирно». Всякий генерал богоподобен, всякий может
загнать тебя в самую последнюю вонючую дыру. Шофер
пулей мчится прочь, демонстрируя всю мощь американской
автомобильной техники.
Из той же двери выходят двое молодых людей, они
замечают нас и приближаются. Один — репортер,
другой — фотограф. Репортер худощав, почти красив. На нем
шелковый, хорошо отглаженный костюм, он выхолен и,
видно, заботится о своей внешности. Его товарищ,
напротив, неряха: форменные солдатские брюки смяты,
забрызганы грязью и покрыты пятнами, на коленях мешки,
пуговицы на мундире оборваны, несколько фотокамер и
кожаных сумок висят у него на шее и на плече.
— Хотите пивка, ребята? — спрашивает фотограф.
— Ясное дело, хотим,— отвечает молодчага капрал
Смит.
Мы чувствуем себя уличными девками, но все равно
идем. На Смита репортер произвел впечатление. Честно
говоря, и на меня, но нам не нравится, как он себя ведет.
У нас в части о прессе свое мнение. Раз в месяц они делают
нам одолжение, объезжают гарнизоны и берут интервью
у солдат. В списке дерьма у капитана Шайна пресса на
первом месте, даже раньше, чем цветные и капралы.
Мы идем в тот бар, о котором говорил Сейс,—
«Иглз нест». Это дыра, втиснутая между другими барами.
На этой улице бары различаются только по цвету
неоновой вывески.
Зал битком набит военными — солдаты, летчики,
морские пехотинцы обсели все столики, заставленные
стаканами, пивными бутылками и смердящими от окурков
пепельницами.
Находим пустой столик и садимся, заказываем пиво
и пьем. Репортер задает вопросы, фотограф пьет, курит
и задумчиво разглядывает посетителей. Одна из его камер
лежит на столе, кожаный футляр расстегнут; он играет
своими камерами, как Сейс автоматом.
180
— Как вам тут? — спрашивает репортер Смита.
Тот передергивает плечами.
— Я пошел в армию, чтобы повидать белый свет,
по-моему, таким путем увижу его не хуже, чем любым
другим.
— Из какой вы части?
— Из бригады «Эл-Би-Джей»,— отвечает Хендсон. Он
у нас главный говорун и мастер острить, когда его о чем-
нибудь спрашивают, если знает, что не заработает на
этом неприятностей. Мне он симпатичен. Мы уважаем
друг друга.
Репортер поворачивается к Смиту:
— Вы довольны, что попали сюда?
— Кто-то ведь должен воевать здесь. — Смит знает
наизусть ответы на все вопросы. Он нигде их не слышал
и не читал, но все равно знает. — Я хочу, чтобы мои
ребятишки росли в свободной стране, эта война легла
на плечи моего поколения, именно здесь мы решили
подвести черту.
— Мы здесь, чтобы остановить коммунистов,— говорю
на этот раз я. — Вы хотите, чтобы мы подписали какую-
нибудь бумагу?
— Я просто спрашиваю,— мямлит репортер.
— Меня это не касается,— говорит Хендсон. — Я
сражаюсь за то, чтобы мои близкие могли жить в
свободном мире. — С усмешкой он продолжает: — Все это —
мура собачья. Мои близкие живут в собственном домике
за тридцать тысяч долларов. Мамашу мою так же
беспокоит проблема свободы, как потеря третьей ноги.
Репортер хмурится. Фотограф долго смотрит на
Хендсона, улыбка его скользит из одного угла рта в
другой, и кажется, будто она оттягивает вбок голову.
Потом он отворачивается.
Появляется Сейс. Очень многие в зале машут ему,
раздаются приветственные восклицания, это похоже на
торжественную церемонию встречи; все эти бывалые
шлюхи знают друг друга.
Сейс взбешен: совершенно не осталось хороших девок.
Француженок и американок очень мало, и они дерут
огромные деньги с большого начальства; даже офицерам
приходится довольствоваться вьетнамками. Как не хватает
французского передвижного борделя — «Мобиль бордель
де кампань»,— который обслуживал военных всех
званий! Французы — реалисты, продолжает Сейс. Един-
181
ственные люди на земле, способные здраво соображать,—
это французы. Они призвали женщин на военную службу,
и всем было хорошо. Теперь хорошо одним только старшим
офицерам. Они забирают круглоглазых баб, держат их на
своих виллах и заставляют военных летчиков возить
для них жратву и меха.
— Всему этому городишке надо устроить Хиросиму,—
говорит Сейс в заключение.
— Победим мы в этой войне, вы как думаете? —
спрашивает репортер Сейса.
— Все эти образованные умники, которых сюда
присылают, отбросят нас на двадцать лет назад. Хотите
знать, что нам надо? Надеть лейтенантские погоны на всех
рядовых в бригаде и выдать им радио с антеннами.
Чарли как увидит, что на него идет целая бригада
лейтенантов, да еще с антеннами, сразу даст деру.
Все мы, кроме фотографа, улыбаемся, тот молча
заказывает еще пива.
— Я спрашиваю серьезно,— говорит репортер.
Сейс хватает свой автомат.
— А я что же, шучу, по-вашему? — Он садится за
другой столик, соседний с нами.
— Победить мы не можем,— говорит Хендсон.
— Откуда ты знаешь, мы ведь только что прибыли,—
взрывается Смит.
— Может быть, мы возьмем верх в эту войну, но мы
потеряем свою свободу.
— Ты просто трус. В этом все дело,— выпаливает
Смит. — Ну убили кое-кого из ребят, и что с того? Можем
себе это позволить, народу хватает.
Хендсон не хочет говорить со Смитом. Он смотрит
на репортера:
— То, что мы здесь,— свидетельство кризиса нашей
демократии.
Всем нам не по себе. Хендсон хочет навязать
политическую дискуссию, как в колледже.
— Согласно конституции, вопрос о войне решает
конгресс, а не президент. Конгресс не объявлял этой войны.
Наш дуче объявил войну сам и загнал нас сюда.
— Рано или поздно мы должны встретиться с
коммунистами лицом к лицу,— настаивает Смит.
— Тогда пусть конгресс объявит войну,— упорствует
Хендсон. — В нашей конституции не говорится, что
американцы должны жертвовать своими соотечественниками
182
ради спасения других народов. Если мы хотим поступать
именно таким образом, надо внести поправку в
конституцию. Пока народ не внес такой поправки, наши
действия здесь — такое же беззаконие, как войны
третьего рейха.
— Президент знает, что делает,— твердит Смит.
Хендсон кивает, щурит глаза, в них таится бессильная
ярость, он не решается дать ей выход, но она меняет тембр
его голоса:
— Ты слушай лучше, что тебе говорят. Президент
развращает страну. У него власть. Сидит он себе на самой
вершине, а мы ждем Нагорной проповеди. Он это здорово
умеет, отец родной западного мира. Тестообразная его
физиономия выражает готовность к самопожертвованию
и неизбывное горе; рука, конечно, поднесена ко лбу — не
следует упускать из виду этот жест, он придает
говорящему вид мыслителя,— и когда все готово, он начинает
вещать со своих скрижалей. В его устах местоимение
«я» обретает совсем новый смысл. Он мечтает войти
в историю под именем Американского Христа. Он и есть
Христос, Христос посредственностей, король всех этих
йэху *, которые любят стоять, привалясь к стене, разинув
рты и держа наготове кулаки. Такие его обожают. Самый
счастливый день в жизни этого человека — день убийства
Кеннеди; без этого он и за тысячу миль не подошел бы
к Белому дому.
— Ну и ну, парень. На чьей же ты стороне? —
восклицает репортер.
— Простите, я забылся,— отвечает Хендсон. — После
того как мы отправили сюда цвет нашей молодежи, все
остальные должны перестать мыслить. Это необходимо
для эффективности военных усилий.
Неожиданно для себя я перебиваю Хендсона:
— Если бы ты видел то, что видел сегодня я, ты бы
заговорил немного по-другому.
Все смотрят на меня. Щеки мои пылают.
— Я видел. Все видели.
— Что это вы видели? — спрашивает фотограф.
Но репортер не дает ответить, он снова обращается
к Хендсону:
— Почему тогда вы вообще здесь? Почему не заявили,
что убеждения не позволяют вам воевать с оружием
в руках?
— Не всякую войну я отрицаю. Мы провоевали две
183
войны. Много американцев погибло. Благодаря этим
людям у нас есть родина,— отвечает Хендсон.
— Тогда к чему вся эта трепотня?
— Мы здесь воюем не против армии, а против
идеологии. Идеологию нельзя победить оружием. Пушками
не вычеркнешь факт, что существует Китай.
— Война всегда война,— говорит Смит.
— Это не война, а истребление целого народа.
Снова вмешивается Смит:
— Ты злишься, потому что тебя призвали. Когда
выберешься отсюда, все будет выглядеть иначе.
— Я не выберусь отсюда,— отвечает Хендсон без
всякого раздражения. Он говорит печально, будто
приводит статистику, которая его очень огорчает. — Меня
прислали сюда на убой. Я — «цвет нашей молодежи»,
тот самый, о котором говорит этот техасец. Именно цветы
и должны гибнуть, а вовсе не сорняки. Если цветочки
не остановят его, он будет слать их сюда до тех пор, пока
в Америке не останутся одни инвалиды. В самом деле,
если ты хромой, косой, псих или дурак, если имеешь
кучу ребятишек, черт побери, у тебя без того тьма забот,
и умирать тебе не обязательно.
Сейс втягивает голову, как черепаха, прячущаяся
в свой домик, лицо его искажается гримасой, будто от
мигрени. Я хочу спросить его, что случилось, но не
успеваю: он широко раскидывает руки и падает на Хенд-
сона и репортера. Они валятся на нас, и все мы
оказываемся на полу. Хлопает оконная рама. Сейс не
останавливается, он перелезает через Смита, по-пластунски
движется в глубину зала и там забирается под стол. Я
поднимаюсь, сажусь и осматриваюсь. Зал похож на двор
бойни. Между опрокинутыми столиками и стульями лежат
тела, несколько новобранцев продолжают сидеть,
окаменев от страха. За окном вдруг раздается пулеметная
очередь, звук этот кажется невероятным среди кирпичных
стен узкой улицы. Я утыкаюсь головой в пол так, что
разбиваю нос в кровь.
— Эй, вы!
Я немного поворачиваю голову и смотрю вверх.
В центре зала стоит капрал. Он почти лыс. В руках у него
граната. За его спиной разбитое окно на улицу. Решетка,
которая, как предполагается, защищает стекло, блестит
в свете неоновых огней.
— Выбрось ее,— шепчет кто-то.
184
Капрал-новобранец усмехается, чувствует себя героем:
— Она учебная!
— Мастер ты рассуждать, лучше пораскинь мозгами,
как здесь остаться в живых.
Мы идем к двери.
Фотограф перезаряжает камеру, подмигивает Хенд-
сону, когда мы проходим мимо, и говорит репортеру:
— Сделал парочку неплохих кадров.
— Джунгли не убьешь, ребята!
Мы ждем вертолетов, и Сейс читает нам последнюю
лекцию. Мы отправляемся на фронт, нам поручено
обнаружить и уничтожить части противника. Капитан Шайн
стоит в стороне. Командует операцией он, но руководит
Сейс.
— Теперь вам предстоит стать солдатами, придется
стать солдатами, чтобы не угодить в покойники. Если
попробуете дать деру и Чарли вас не ухлопает, я сам
пристрелю дезертира. — Он по очереди смотрит каждому
в лицо. — Коли вздумаете наложить в штаны, так уж
валяйте сейчас. Летчики не любят беспорядка в машинах.
Под нами проносятся джунгли, зеленая масса,
сверкающая искорками солнечных бликов. Внизу все
неподвижно. Мы вглядываемся в землю и вздрагиваем каждый раз,
когда видим вспышку солнца, тень или солнечное пятно.
Вертолет сотрясается от собственного рева и движется
вперед. Мы держим винтовки и надеемся, что они не
откажут. Ботинки слишком туго зашнурованы, у меня
онемели ноги. Пот струйками стекает по пыльной шее,
и за воротником образуется грязь.
Мы прислушиваемся, надеясь, что в моторе н-ачнутся
неполадки — не такие, из-за которых можно разбиться,
просто перебои, требующие ремонта на базе...
Вглядываемся в джунгли. Трудно поверить, что вьетконговцы
вообще существуют: земля внизу кажется первозданной
и лишенной жизни.
Все вдруг соскальзывают вперед с нейлоновых
вертящихся стульчиков, с треском отклеиваются от
сидений прилипшие от пота штаны. Сейс рассекает рукой
воздух, бортстрелок поворачивает во все стороны пулемет.
У стрелка несчастное лицо. Жужжание мотора слышится
как-то по-другому, мы идем к земле, мы спускаемся,
вертолет рвется вниз с пугающей скоростью. Мы беспо-
185
мощны в этой жестяной ловушке, ныряем вниз и ожидаем
смерти, удара о дерево, фонтана пуль, пробивающего
снизу пол, взрыва мин; боимся, что откажет мотор и мы
шлепнемся на землю и расквасимся от удара, как
перезрелый плод. Есть тысяча видов смерти, и мы представляем
их себе все до одного. Мне вылезать из кабины последним,
и к этому времени противник уже пристреляется по двери,
в нашем вертолете нет запасного люка на случай аварии.
Сейс что-то орет. Вертолет падает вниз, мы прибыли.
Хватаемся за что попало, чтобы удержаться на месте.
Летчик нашел маленькую полянку в пушистом ковре
джунглей, с десяток ярдов голой земли, окруженной
сплошной стеной деревьев; резко опускаемся, вертолет
зарывается носом, колеса касаются земли, но мы еще не
приземлились; летчик выравнивает машину, он мастер
своего дела, все мы остались целы, немного оглушены
ревом моторов, но целы.
Сейс вылезает первым, за ним капитан. Каждому из нас
достаточно секунды, чтобы соскочить на землю. Стрелок
скорчился у выхода, держа полянку под прицелом своего
пулемета. Начинает стрелять пулемет, его отвратительный
рев отдается в вертолете, цепочка желтых трассирующих
пуль бьет, точно струя воды из взбесившегося шланга.
Деревца на другой стороне полянки взрываются и
распадаются на куски в клубах дыма; лианы с силой
раскачиваются над землей, точно разорванная паутина.
Вертолет дергается, будто его сотрясает икота, и оседает
вниз, моторы свистят и завывают, сбавляя обороты, и
постепенно смолкают. Капитан бежит к деревьям, вдруг
резко останавливается, оборачивается и смотрит на
вертолет. Беннер бежит за ним, он тоже останавливается.
Капитан глядит на него и протягивает руки. «Я убит»,—
говорит он Беннеру. «Я убит!» — вопит он. «Я убит!» —
визжит он. Он садится как-то очень комично, выбрасывая
вперед ноги, и тяжело падает на ягодицы, скрещивает руки
на груди, откидывается назад и ударяется затылком
о землю. Он произносит «мама» и умирает. Эймс
разбивается на части, как стеклянный, и дождем осыпается
на траву. Беннер смотрит на труп капитана; Беннер
озадачен, лоб его перерезает морщинка. На теле капитана
никаких следов смерти, нет страшных ран. Беннер говорит:
«О боже!» Пуля ударяет ему в шею, она идет снизу вверх
и выходит через рот, разворачивая в куски правую сторону
черепа. Эти куски летят в лицо Смиту, он утирает щеку
186
рукой, потом трясет кистью, будто хочет сбросить
прилипший клей. Потом Смит катится вперед, вскакивает
на ноги и бежит к лесу. Винтовка подпрыгивает и
поблескивает у него за спиной. Он почти добегает до деревьев,
но вдруг наступает на клуб желтого дыма, взлетает вверх
двумя кусками и ударяется о стену листвы. Он висит там
в объятиях тонких лиан, кровь бьет ключом из безногого
туловища, тело сотрясается от толчков выливающейся
крови, а семнадцатилетнее лицо еще живо. Враг невидим,
не по кому стрелять, но голос Сейса командует:
«Стреляйте, стреляйте, стреляйте!» Моя винтовка немного отдает
в плечо, я стреляю, но это все равно, что пытаться убить
океан. Нельзя убить джунгли, ребята! Стейн стоит у
вертолета, стреляет из своей «М-14», пытаясь
использовать вертолет как прикрытие. Я хочу понять, куда он
стреляет, но не вижу цели. Смотрю на него, чтобы
определить, куда он стреляет. Он смахивает что-то с руки,
ударяет себя по ляжке, болтая кистью, в которой держит
винтовку, чешет живот. Я кричу во весь голос, но меня
не слышно. Стейн мечется, роняет винтовку, руки его
шарят по всему телу, десяток пуль впивается в него, и он
выкрикивает: «Я не хочу умирать, спасите! Я не хочу
умирать». Это лебединая песнь. Она звучит все тише
и замирает совсем.
Хендсон огибает вертолет, нога у него скользит, он
ударяется о борт, теряет равновесие и падает в лужу
загустевшей крови. Вскакивает и начинает стрелять в
лужу, он хочет убить эту кровь, пули проскальзывают
сквозь кровавое месиво и уходят в землю. Он задирает
вверх голову и винтовку и с воплем выпускает весь заряд
по вертолету. Он хочет убить машину, небо, меня.
Я смотрю в сторону кабины, но не вижу пилотов.
Стены кабины покрыты чем-то, напоминающим мокрые
опилки. Они красного цвета и прилипли ко всему, что есть
в машине. Язык пламени вырывается из вертолета и
облизывает Хендсона. Тот снова бежит вокруг машины.
Горячий воздух ползет по поляне, за ним клубами тянется
дым. Хендсон с ходу останавливается, ладонью забивает
тлеющие огоньки на своей одежде, каску он потерял,
клочья серого дыма путаются в его волосах. Спотыкаясь,
он идет к телу капитана, подбирает его автомат, смотрит
в небо. Поднимает «М-14» к виску, отдергивает ногу —
в лодыжку попала пуля,— нагибается, чтобы осмотреть
рану, и другая пуля сносит ему половину черепа.
187
Сейс — на другой стороне полянки, он в джунглях.
Кажется, будто действует все его оружие сразу: гранаты
перелетают через полянку, как черные бейсбольные мячи,
из дула автомата беспрерывно вырываются вспышки
пламени. Вертолет горит, жар добирается до моих ног. Я жду,
что кто-то придет на помощь, я будто вижу Сейса — он
стреляет и снова заряжает, грохают выстрелы, в зубах зажаты
ножи, он движется на невидимого врага, приводит его
в панику, уничтожает. Сейс лежит за поваленным деревом.
Он невидим, как противник, невидим и жив.
Взрыв ударяет по боковой стенке вертолета, вихрем
несутся осколки; вдруг оказывается, что я бегу, ботинки
шлепают по пыли, рывками я неудержимо движусь вперед
под грохот своих шагов, точно в конвульсиях дергая
ногами и отбрасывая себе в лицо комья взрытой земли;
я пробиваюсь к Сейсу, мне необходимо пробиться к нему.
Это поглощает все мои мысли и делает меня
нечувствительным ко всему остальному — к собственному
свистящему горячему дыханию, к проклятиям и брани, которые
с воплями рвутся из моего горла, к тому, что мне сводит
руки, к фонтанам черной земли из-под ног, застилающим
воздух мглой. Я бегу спотыкаясь, я обезумел, я бегу до тех
пор, пока ноги, заплетаясь, не отказываются спешить, и я
грохаюсь на землю.
— Тебя только оцарапало,— говорит Сейс.
— Долго я был без сознания?
— Несколько секунд,— отвечает Сейс.
Я гляжу вперед через поваленный ствол. Охваченный
пламенем вертолет похож на остов какого-то хрупкого
насекомого. Машина горит ровным и спокойным огнем*
черный столб дыма поднимается до самого неба. Рядом на
земле люди, тела. Я смотрю на Сейса.
— Только ты да я... — говорит он.
Сейс перезаряжает свое оружие, кивает в направлении
реки. Шесть наших вертолетов движутся в сторону гор,
они, наверное, везут танки, пулеметы и ракеты. Они
видели дым, или наши пилоты успели радировать до того,
как погибли.
Сейс читает мои мысли и говорит: «Дерьмо собачье!»
Верно. Это попросту остальные вертолеты нашего же
отряда. Мы ведь всего-то и пробыли на земле минуты две.
Я поднимаюсь, делаю шаг в сторону полянки.
— Тебе отстрелят задницу, малыш.
— Эй! — кричу я во весь голос. Вертолеты прибли-
188
жаются, но Сейс жив, нет ничего важнее умения остаться
в живых. Я, пригибаясь, бегу за ним. Он говорит, не
поворачивая головы и не замедляя шага:
— Иди тихо, услышу хоть звук — пристрелю.
Он движется быстро, но прошел немного, всего каких-
нибудь сто футов; все же и от этой короткой пробежки
одежда разорвана в клочья; тысячи шипов впиваются
в руки и ноги, тонкие ветки отскакивают назад и, точно
хлысты, стегают по лицу и груди. Сейс останавливается
на краю другой, меньшей лужайки; это кусок земли
с гараж величиной. Сейс пригибается, как спринтер перед
стартом, бежит, делает бросок и прыгает вниз в какую-то
пещеру.
Я жду, пока он появится или позовет меня. Смотрю
в сторону полянки, которую мы только что оставили.
Вертолеты подходят к ней с разных сторон. Я хочу
крикнуть, мне нужен совет, но никого нет. Я не знаю,
почему Сейс побежал, я не получил приказа следовать
за ним, я — совершенно один.
Вертолеты поднимаются выше в горы, как воющая
стая призрачных птиц, они невидимы за пологом джунглей.
Кажется, нет смысла бежать от помощи. Первый залп
ракет, деревья стукаются стволами, земля уходит из-под
ног Взрывная волна отбрасывает меня вперед, я делаю
еще одно усилие и ныряю в пещеру.
Мрак здесь пропитан пылью и сажей, я ползу, и пыль
просачивается у меня между пальцами, как теплый туман.
Взрывы галопом проносятся по джунглям, стенки пещеры
трясутся, с них сеется на землю черная пыль.
— Закрой лицо,— говорит Сейс.
Я ползу вперед, ощупывая землю руками, задевая
грудью дно пещеры, ничего не видя, чутьем определяя
размеры ямы.
Рука натыкается на ногу Сейса. Я останавливаюсь
и шарю в кармане — хочу достать платок. Не могу его
найти, вытаскиваю край рубахи, расстегиваю пуговицы и
тяну его к лицу. Мне страшно, я боюсь Вьетконга,
вертолетов, бомб и пулеметов, смерти, Сейса, себя самого и
пещеры, боюсь остаться один.
Вертолеты делают один заход за другим, тонкий вой
ракет и рокот тяжелых пулеметов оглушают нас, мы
ощущаем каждый взрыв — взрывная волна проходит по
земле. Я хочу думать о чем-то мирном, чтобы успокоиться,
но новый взрыв вдребезги разбивает мою решимость.
189
Сейс здесь, Сейс знает, как выжить, он это сумеет сделать,
я держусь за его сапог.
Я плачу, я плачу еЧце сильнее потому, что стыжусь
своих слез. Я запихиваю в рот рубашку: не хочу, чтобы
Сейс слышал.
Мы останемся в этой дыре навсегда.
Вертолеты наконец улетают, и я карабкаюсь к полоске
пыльного света у входа в пещеру.
— На некоторое время отбомбились,— говорит Сейс.
Все погибли, Хендсон и Смит, все погибли!
— Помереть здесь проще всего.
— Теперь очередь военной авиации.
Прилетают реактивные истребители с ракетами,
бомбами и напалмом.
Джунгли не горят, они дымятся, дым пробивается
между лианами, будто какой-то зловещий туман. Трава
пахнет бензином и горелым деревом, небо словно смазано
белым дымом. Мы стоим у входа в пещеру. Сейс весь
черный. Он умывает лицо водой из фляжки, вытирает
оружие. Черная пудра покрывает мои руки и одежду
лещера — вход в угольную шахту.
— Ты куда пойдешь? — спрашивает Сейс.
Я пожимаю плечами. Он знает это лучше меня.
Он показывает рукой: я пойду вон туда. Постукивает
прикладом автомата по ботинку, кивает мне и шагает
вперед. Я иду вслед.
Он останавливается.
— Это я иду сюда,— говорит он. Язык его быстро
облизывает усы, кончик языка чернеет от угольной
пыли. — Через две минуты я буду стрелять по каждому,
кто пикнет.
Он сплевывает слюну, смотрит на черный плевок,
потом мне в глаза.
— Здесь не Америка, малыш, здесь другие порядки.1
То, что он говорит, лишено смысла.
— Я не Джон Уэйн *, понятно?
Я киваю.
— Тебе придется самому о себе позаботиться. Ясно?
В его голосе злость или раздражение
— Точно.
Он качает головой, ему кажется, что мне вовсе не ясно.
Но я понял его хорошо: он не хочет, чтобы я тащился
190
за ним. Одному спастись легче. Каждый за себя. Может,
это и лучше — идти врозь, он опытный человек, знает, как
вести себя в джунглях. А я не знаю, я не хочу оставаться
одни. Не может быть, чтобы он это серьезно.
— Ладно,— говорит он,— хочешь идти со мной, давай.
Но если думаешь выбраться живым, запомни, что я тебе
сказал. Выбрось из башки все, что тебе наболтали
в Штатах. Ты не сражаешься против коммунистов, ты
не сражаешься против Чарли. Ты не сражаешься за
свободу, за Америку или за соседскую шлюху. Ты
сражаешься, чтобы остаться в живых. Если хочешь выжить,
нужно убивать.
Обеими руками он сжимает автомат и смотрит на меня
не мигая.
— В кого стрелять, разобраться проще простого, тут
не ошибешься. Если не белый, знай себе пали. Это
расовая война, малыш. Столетняя ведьма пристукнет
тебя так же намертво, как полный сил вьетконговец.
И десятилетний пацан тоже. Если кто не белый, долой
все вопросы — стреляй. Эти типы смотрят на вещи не
по-нашему. Ты гонишься за Чарли, а он забегает за дерево
и выходит оттуда в крестьянской одежде. Ты пропускаешь
его и — раз! — ты уже покойник. Тебе здесь спрятаться
негде.
— Но это неправильно!
Он вскакивает на ноги и орет:
— Выкинь все это дерьмо из башки!
Потом успокаивается, но лицо остается сердитым.
— Все эти «правильно-неправильно» -г- один мусор.
Что ты болтаешь? Здесь нет ничего правильного или
неправильного. Важно одно — выжить. Мы, белые, воюем
против цветных. Поэтому и война эта — расовая.
Позабудешь про это — и ты уже труп. Здесь тебе не Париж,
малыш, здесь Азия. Тут можно рассчитывать только
на одного человека — на себя! Эти люди не хотят иметь
с нами дело. Когда-то ведь мы отсюда уберемся, а Чарли
останется. Чарли живет здесь, и в ту же минуту, как мы
смотаемся, сотрет в порошок каждого, кто нам помогал.
— Если мы не победим.
— Победим? Что победим? Джунгли? Здесь нечего
побеждать. Мы здесь не для того, чтобы что-то защищать
или завоевывать, мы здесь затем, чтобы истреблять
желтокожих. Если кто не белый и меньше шести футов ростом —
стреляй его. Не станешь, сам получишь пулю.
191
Он поднимает вверх автомат и поворачивается, чтобы
идти.
— Не думай, парень, что я болтаю, это серьезно.
У нас приказ — стрелять в каждого, кто покажется
подозрительным, а если кто не белый, так уж точно
подозрительный. Пошли.
Сейс двигается вперед, я иду вплотную за ним.
Джунгли хуже, чем самый страшный ад, о котором
только мечтают черти. Здесь такие запахи, что замирает
сердце, земля вздыхает и уходит из-под ног, по узким
ущельям идешь, как по зыбучим пескам,— они заросли
низким кустарником, на котором лежит слой лиан и
опавшие листья; кажется, будто холмы вздымаются вверх,
даже когда мы спускаемся вниз. Это камера пыток,
устроенная самой природой.
Двигаться здесь — не значит бежать или даже идти.
Это значит ковылять, прорубаться сквозь заросли,
проклинать все на свете, продираться через многослойную толщу
сухожилий и мышц, которые образуют тело джунглей.
Что-то живое распластывается под ногами, капает с
деревьев. Лианы похожи на огромную темную паутину,
спутывающую воедино деревья, а деревья имеют такой
вид, будто их вырвали с корнем и снова бросили на землю;
они покрыты какими-то травами, цветами и мелким
кустарником.
Но настоящая опасность исходит от человека. Джунгли
усеяны вьетконговскими западнями. Медвежьи ямы и
глубокие колодцы, ямы, из которых торчат заостренные
бамбуковые палки, ямы с ядовитыми змеями. Один
неловкий шаг — и с деревьев валятся бревна и мешки с камнями.
Между стволами натянута невидимая проволока,
вьетнамец всего лишь обдерет об нее кожу на голове, а белый
перережет себе горло.
Сейс обходит все ловушки с каким-то пугающим
мастерством. Он идет на цыпочках и скользит по траве,
как на коньках. Когда пальцы ног начинают соскальзывать
в яму, каблуки зарываются в землю, и ноги перебрасывают
тело через опасную западню. Я иду по его следам, точно
и тщательно повторяя движения.
Наше положение кажется безнадежным. Прежде всего,
мы заблудились. Все же мы идем, держа путь на долины
в поисках пунктов, где нас могут встретить и подобрать
наши части. С каждым шагом на коже появляются новые
192
порезы, раны и царапины. Некоторое время я думаю,
что схвачу здесь какую-нибудь страшную болезнь.
Каждый звук, каждая тень кажутся затаившимся
врагом. Я столько раз хватаюсь за винтовку, что руки
деревенеют, я уже ничего не чувствую, ощущаю только
свое горячее дыхание, раздирающее грудь, боль в ногах,
пронизывающую, точно от удара ножом, соленый пот,
заливающий лицо и глаза и превращающий угольную пыль
в струйки черной крови.
Сейс движется медленнее, чем может или хочет. Его
преувеличенно осторожные движения предупреждают
меня о препятствиях и ловушках. Я зелен и ничего не знаю,
всего лишь новобранец, я задерживаю его.
Ружье мое весит целые тонны. Сейс убьет меня, если
я брошу оружие. Вещмешок придавливает меня к земле.
Я ковыляю, как пьяница, которого гонит злость, хватаюсь
за ветки и подтягиваюсь на них вперед, словно обезьяна.
Разбухший воздух с рычанием вырывается из груди.
Нам не дают передышки, не дают времени вне игры,
не дают отбоя.
За нами, точно стая зверей, крадется по джунглям ночь.
Я стараюсь не отставать от Сейса, я хочу, чтобы он был
рядом, когда нас окутает тьма. В темноте будет
невозможно видеть его и слышать, как он движется. Я стараюсь
идти быстрее, но это как будто подстегивает и его, он тоже
идет быстрее. Рывок вперед, удар о дерево, я балансирую
между кустами, коленом сбиваю камень. Вперед, рвусь
вперед, кричу, чтобы Сейс подождал. Думаю, что кричу,
слышу свой крик, но на самом деле это только тихий
всхлип.
Спустилась ночь. Глаза открываются внезапно и
смотрят в темноту не мигая. Холодок прячется в траве и вместе
с ним — обрывки тумана. Сейс в нескольких футах от меня,
он завернут в свой глянцевый плащ и сидя спит,
прислонившись к дереву и сжимая в руке автомат.
Сейс ложкой отправляет содержимое жестянки
пайковых консервов себе в рот, тщательно закручивая вверх
усы, чтобы не мешали; внутренняя розовая сторона губ
обнажается каждый раз, как он подносит ко рту ложку,
ложка стучит по зубам. Он проглатывает порцию, запивает
ее водой из фляжки. Сейс — кадровый военный, армия
для него — профессия и повседневная жизнь.
7 Зак. 556
193
Цель его жизни — убивать, призвание и хобби —
готовиться к тому, чтобы убивать хорошо. Когда начинается
война, армии обеих воюющих сторон пополняются
новичками вроде меня, мы приезжаем и все свободное время
разговариваем о том, как вернемся домой, но для кадровых
дом — это армия.
— Сержант...
— Ты молодцом, малыш!
— Что вы делали до армии?
— Ничего.
Он перебрасывает пустую жестянку через плечо, сует
ложку в землю, чтобы ее почистить. Смотрит на ложку,
поворачивая ее в разные стороны: хочет поймать
солнечный луч на ее тусклую поверхность.
Сейс снимает каску, и я еле удерживаюсь от смеха:
он совершенно лыс, череп блестит, как бильярдный шар.
— Волосы вываливаются,— говорит он. —
Околачиваешься здесь долго, и волосы начинают вываливаться.
Потом он объясняет: когда носишь каску, легче
спастись от пули, но через несколько недель волосы под шлемом
делаются похожими на тушенку, которую оставили в
кастрюле с краю плиты на целый месяц. Пыль, кровь и пот
образуют корку, на голове получается губка из
пропитанных гноем и кишащих вшами волос.
— Учишься этому на горьком опыте,— добавляет
Сейс.
— Как вы думаете, мы выберемся?
Он смотрит на мою «М-14», я понимаю намек и начинаю
чистить оружие.
— Мы здесь мишени, малыш. Здесь каждый —
мишень. Разница лишь в одном: они маленькие мишени,
а мы большие.
Здесь все против нас — погода, земля, даже наш рост
и цвет кожи.
— Огневая мощь,— говорит Сейс. — У нас есть
огневая мощь.
Мне вовсе не весело, но я не могу удержаться от
усмешки.
— Видел я эту мощь на деле!
— Летчики все — дерьмо собачье. Знаю я, о чем они
думают.
— Они нас чуть не убили.
Он смеется. Смех вспугивает джунгли. Птицы
начинают кричать, передразнивая.
194
— Авиация — это неплохо, малыш. Она доставляет
сюда выпивку.
— А как насчет нас? Почему они нас не подобрали?
Могли и убить во время бомбежки.
— Малыш, должен быть какой-то порядок. Если кто
заговорит, стреляй его. Это наш порядок. Если кто-то
движется, стреляй его. Такой порядок в авиации. Так что
если увидишь самолет, катись к чертям подальше от меня,
коли вздумаешь махать ему рукой.
Местность поднимается, образуя небольшой холм. Сейс
уже на твердой земле и ждет. Я иду к нему, он панически
машет руками, и я замедляю шаг, потом опускаюсь на
колени и несколько последних футов передвигаюсь
ползком.
Он кивает на вершину холма и поднимает три пальца.
Сердце мое отвечает ему гулкими ударами, ноги будто
наливаются свинцом, пальцы начинают дрожать,
промокшая насквозь одежда кажется холодной как лед.
Я тоже киваю.
Мы ползем вверх по склону до вершины и смотрим
через гребень холма. Примерно футов на сто вниз тянется
поле, за ним снова поднимаются джунгли. У деревьев
стоят трое; они, по-видимому, спорят. Один показывает
в нашу сторону, другой — в противоположную, третий
стоит несколько поодаль. Я страстно хочу, чтобы тот, кто
показывает в противоположную от нас сторону, победил
в споре, а Сейс кладет перед собой три гранаты, проверяет
автомат. Пусть он отдаст пулемет мне: ему ведь не нужно
все оружие сразу.
Верх одерживает не тот, кто надо, и все трое
направляются к нам.
— Что будем делать? — спрашиваю я так тихо, что
меня не слышно и в десяти дюймах.
— Тебе лично надо делать только одно,— говорит
Сейс так громко, что я вздрагиваю,— не застрелить меня.
Вот и все.
Двое мужчин, идущие по краям, одеты в темную
форму, у них винтовки, они несут их за ремень, волоча
приклад по земле. Идут свободным широким шагом, от
которого ветер играет в волосах. Все они без шапок,
у того, что идет посередине, волосы длиннее, чем у
остальных. Я отвожу назад винтовку. У среднего нет
оружия, только какой-то сверток. Это женщина, хорошень-
7*
195
кая, но у нее кривые ноги. Наверное, очень просто
неожиданно напасть на них и захватить в плен. Мышцы мои
расслабляются, я опускаю голову, поглаживаю затылок,
протираю глаза.
Автомат Сейса дает три выстрела, шум врывается в мое
сознание, и я невольно отодвигаюсь. От рывка ноги теряют
точку опоры, я скатываюсь вниз по склону. Стараюсь
поднять винтовку, но она запутывается в лианах.
Вскакиваю на ноги и выдираю винтовку из лиан. Сейса нет на
месте. Его три гранаты по-прежнему лежат на гребне
холма, но сам он исчез. Я взбираюсь по склону и мелкими
шажками перехожу через гребень на другую сторону,
держа перед собой нацеленную винтовку.
Они лежат рядом на спине, все трое, будто их тут
положили могильщики. Мужчина слева убит пулей в
живот, девушке попало в грудь, а третьему — в лицо.
Большие мокрые впадины на теле мужчины и женщины
показывают, куда именно пришелся выстрел, но лицо
третьего — просто месиво, голова наполовину оторвана
от шеи. Смерть, когда она насильственная, всегда
сопровождается особым, тошнотворным и в то же время
печальным запахом — неприятным запахом удобрения.
У девушки видны груди — одна круглая, все еще живая,
с напряженным, торчащим, будто от желания, соском.
Другая рассечена, точно тряпка она свисает на живот.
У девушки широкие скулы, щеки по-детски припухлые,
с глубокими ямочками. Она не должна была умереть, она
должна была жить. Лучше было взять ее в плен, лучше
бы она стала моей рабой, чем трупом. Она была бы
благодарна мне, любила бы меня и заботилась обо мне.
Она мертва. Эго женщина, и она мертва. Она очень
молода, лет восемнадцати. Дома, за океаном, девушки ее
лет — студентки. Они обнимаются со своими мальчиками
в машинах, в кино, под открытым небом, наряжаются
в вечерние платья и туфли, носят модные прически,
всячески холят себя, чтобы нравиться, воркуют и
хихикают, делают всякие глупости — словом, живут. Они
самые счастливые женщины на земле. Им принадлежит
мир или большая его часть, они никогда не слышали
свиста падающих бомб, они дома, далеко от войн, им
не грозит смерть, и сами они не должны убивать. Мы не
позволяем им умирать в бою, мы не убиваем женщин.
Сейс составляет винтовки убитых и уничтожает их
очередью из автомата. Он поднимает сверток, чго несла
196
девушка. Это рюкзак бойскаута. Он встряхивает мешок,
и оттуда вываливается связка ручных гранат.
Сейс считает гранаты, рассовывает несколько штук по
карманам. Другие он подкладывает под трупы —
минирует их.
— Таким путем мы уничтожим еще парочку этих
болванов. Они любят хоронить своих покойничков.
Появляется муха, за ней другая; они заступают в
караул у трупов.
Сейс останавливается. Он медленно поднимает автомат
и поворачивает дуло в сторону реки. Он задерживается
в этой позе, потом тычет автоматом вперед, показывая
мне на что-то. Мы стоим на дне сухого оврага. В конце его,
меньше чем в двадцати футах от нас, река. Занавес
радужных брызг висит над порогом, тени деревьев
прорезают светящуюся дымку. Я не вижу ничего необычного.
Сейс опускается на колени, кладет автомат на землю.
У меня начинают неметь ноги, и я их расставляю пошире.
Сейс снимает с себя мешок с гранатами и
продовольствием, движения его бесшумны и уверенны, но он не
сводит глаз с берега. Он вынимает из мешка нечто похожее
на прыгалку. Кажется, будто от нее остались одни ручки
без веревки. На секунду вспыхивает отблеск солнца:
между ручками натянута тонкая проволока.
На берегу сидит парень, опустив в воду ноги и вытянув
вперед руки, чтобы сохранить равновесие. Он раздет
донага и похож на блестящую тень. Он смотрит, как
бежит вода, лицо его спокойно и очень юно. У него плоский
нос, плечи движутся в такт какой-то неслышной музыке.
Его одежда и винтовка сложены рядом.
Сейс кладет пистолет в кобуру и обеими руками
берется за ручки своей «прыгалки». Движение вверх
и в сторону, проволока провисает. Сейс делает два шага
вперед; когда он поднимает руки, струна, натянутая между
ручками, перерезает солнце. Кожа на затылке юноши
напрягается, мышцы за ушами дрожат, как бы
предвосхищая крик, волосы встают дыбом. Сейс резко поднимает
руки. Каждая в отдельности делает четкое круговое
движение, потом он скрещивает кисти, проволока, образуя
петлю, вспыхивает перед глазами юного солдата,
слышится тихий лязг, будто кто-то резко сжал зубы: это Сейс
рывком натягивает проволоку. Юноша не двигается,
ничего не происходит, крика не слышно. Голова отделена
197
от тела. Она остается на шее, мальчик не знает, что он
мертв. Внезапно ударяет струя крови, давление крови
наклоняет голову, она падает в реку, течение подхватывает
и поворачивает ее лицом вверх, глаза все еще живут —
они открыты.
Сейс коленом толкает тело, оно опрокидывается,
переворачивается и ногами вверх падает в воду. Оно плывет
вслед за головой. Сейс ногой сбрасывает в воду одежду, и я
подхожу к берегу. На проволоке ни следа крови. Сейс
смотрит вверх и вниз по течению и спешит назад за
своим автоматом.
Река пробивается сквозь горы. Берег чист, никаких
следов, ничего не произошло. Я стою там, где сидел юноша,
от него осталась только винтовка у моих ног. Я смотрю
на реку, она вытекает из горы, исчезает в долине. Птицы,
глупые птицы кричат в небе и ударяются крыльями о
листву.
— Малыш, убивать легко. Немного труднее к этому
привыкнуть: требуется какое-то время. А вообще-то ко
всему привыкаешь.
Он горд, так чертовски горд. Он служит Америке,
побеждает коммунизм. Он спасает соотечественников —
они чувствуют себя в безопасности, они счастливы, он
герой, он убил мальчугана и девочку.
— Я не хочу к этому привыкать!
— Не привыкай.
— Мы могли обойти его стороной.
— В каком смысле?
— Не нужно было его убивать.
— Малыш, ты что, чокнутый? Что такое, по-твоему,
вообще война?
— Убийство.
— Верно.
— И еще разные другие вещи.
— Только не здесь.
— В Америке.
— Здесь не Америка.
— Но мы все же во что-то верим.
— Ты сломаешь шею, малыш.
— Почему вы так решили?
— Здесь не библиотека-читальня. Здесь не сдают
обратно пулю, если она не понравилась. Убивай, или
убьют тебя.
198
— Но ведь это несправедливо.
Выбрось из башки справедливость.
Каждый из нас должен думать о том, что
справедливо и что несправедливо.
— Только не я. Я солдат, а не думальщик. Пусть там
эти парни в правительстве обдумывают, что к чему насчет
справедливости. Все это дерьмо, что ты ворочаешь у себя
в башке, доведет тебя до беды.
— Может быть, и так.
— Я уже видал таких ребят, как ты. Ты вовсе не дурак.
Но все эти идейки, от них у тебя мозги набекрень.
Делаешь зиг, когда надо заг. Мысли убили больше людей,
чем глупость.
Сейс — мой полис на страхование жизни, мой НЗ,
я не могу с ним спорить: он ведь знает, как остаться
в живых. Тот паренек был врагом, у него оказалось
оружие, он заслуживал смерти. Мое дело — добраться до
своей части и не заботиться о врагах. Ведь не я его убил.
Я вижу крестьянина. Сейс его не видит. Мы идем по
дороге морковного цвета. С одной ее стороны — деревья,
с другой — рисовые поля, они тянутся далеко и террасами
спадают к реке. Сейс идет впереди, он всматривается в
деревья и в лежащую перед нами тропу.
Крестьянин стар. Ему лет шестьдесят или семьдесят.
Сейс умеет различать их возраст, но мне все кажутся либо
молодыми, либо старыми. На старике только набедренная
повязка. Вода на поле доходит ему до бедер. У него седые
волосы, длинная борода спускается на грудь. Он смотрит
на нас, когда мы проходим мимо, и стоит неподвижно.
Я поворачиваю к нему дуло винтовки, и руки его начинают
ползти вверх, я опускаю винтовку, он тут же опускает руки.
Его движения машинальны. Пугаю его так несколько раз.
У него темная кожа, он по пояс в грязи и в воде, негде ему
спрятать оружие. Когда мы проходим мимо, я
разглядываю его. Все время держу под прицелом рисовое поле.
Я не спускаю предохранитель — это привлечет внимание
Сейса. Сейс убьет старика. Крестьянин так стар, кажется,
что он окаменел. Он совершенно безвреден. Но у него есть
язык, он может рассказать о нас вьетконговцам. Как это
бессмысленно. Он ведь вьетнамец, а мы здесь, чтобы
спасти его страну.
Сапоги Сейса бороздят красную пыль, мы идем домой.
Мы слышим всплеск, всего лишь камешек упал в воду.
199
Ссйс круто разворачивается, большое дуло автомата
упирается мне в грудь, я отталкиваюсь левой ногой и
пригибаюсь к земле, вспышки выстрелов проходят в
нескольких дюймах от моего лица, в голову ударяет
чудовищный грохот, я валюсь в пыль.
Переворачиваюсь на живот, поворачиваю голову и
оружие в сторону рисового поля. Старый крестьянин лежит
на спине, сжимая в своей иссохшей руке винтовку. Сейс
меня ни за что не простит. Он убьет меня, он бросит меня
здесь одного на верную смерть, он сразу узнает, что
я видел старика. Убивай, или убьют тебя. Я забыл, честное
слово, забыл. Больше это не повторится.
— Боже правый, сержант, откуда только они берутся?
Притворяйся, притворяйся. Он не знает, что я видел
старика, разыгрывай удивление, со всяким ведь может
случиться.
Он не отвечает. Я поднимаюсь на колени и смотрю на
него. Он лежит лицом в пыли, руки все еще сжимают
автомат, на затылке шарик крови; шарик дрожит и
сползает вниз, не оставляя следа на коже, он просто
скатывается, как круглый камешек, и падает в
оранжевую пыль.
— Сейс!
Ноги его раскинуты, каблуки вывернуты наружу, носки
сбились — это видно из-под брюк.
Я встаю и иду к нему, топая по пыли, пыльное облако
оседает на Сейса, он не двигается, он хочет меня испугать,
наказать.
— Эй, сержант! Сержант!
Я поднимаю ногу и толкаю его в бок.
— Сейс!
Он не отзывается, он не отзывается, он слишком
далеко отсюда, он — мертв.
— Вставай! Вставай! Вставай!
Он не может умереть, только не Сейс, он не имеет
права предавать меня, он должен вывести нас отсюда.
Я с силой толкаю его ногой в бедро. Его каска дрожит,
медленно сползает вперед, падает, задерживается на
мгновение на ободке, потом переворачивается и, тихонько
покачавшись на пыльной дороге, останавливается. На
голом черепе Сейса играет солнце.
Хватаю ручной пулемет у него за спиной и тяну, руки
его вскидываются, ремень обрывается, руки снова
плюхаются на землю, оставляя в пыли длинные борозды.
200
Я бросаю винтовку и бегу. Бегу по дороге; если я не
сойду с этой дороги, я могу добежать до дома. Я умею
бегать, мчусь, задыхаясь, вниз по склону, перепрыгиваю
через валуны, обегаю деревья. Дорога ведет меня в
безопасное место в деревню, в деревню в долине, там наша
бригада, там спасение.
Я прижимаю пулемет к груди и несусь по дороге,
ноги не поспевают за мной. Так уже было однажды, я
начинаю падать головой вперед. Ноги продолжают
двигаться и тащат меня, а руки и колени уже скребут
землю и острые камни, я опрокидываюсь и падаю на бегу.
Деревья вдруг куда-то пропадают, полог джунглей
исчезает, впереди простирается открытое поле, заросшее
высокой травой, разбросаны большие валуны. Дорога идет
совершенно прямо под уклон и где-то впереди вбегает
в деревню. До деревни примерно миля, может быть,
меньше. Я замедляю бег и передвигаюсь теперь мелкими
шажками, с трудом вдыхая режущий легкие воздух.
Деревня похожа на мазок коричневой краски по зеленому
полю долины; по дороге по направлению ко мне движется
группа людей. Я бросаюсь в сторону и через несколько
ярдов растягиваюсь на земле за грудой валунов.
Они слышали выстрел, они слышали, как я орал, они
идут сюда, чтобы узнать, в чем дело. Гражданские бы
попрятались, это, наверно, солдаты.
Они слишком далеко, ничего они не могли слышать.
Я гляжу на облака, они вытянуты по всей длине неба,
точно на бечевке, привязанной за вершины гор. Солнце
пробивается сквозь разрывы в облаках, оно рассекает
землю на громадные куски черного и светлого.
Люди слишком далеко, чтобы я мог их разглядеть. Они
друзья или враги — нейтральных тут нет. Я опираюсь на
валун, подтягиваю колени к животу, поворачиваю голову
и, прищурившись, гляжу в щель между валунами
на дорогу.
Я не хочу знать, что надо делать, я не хочу принимать
решения, я хочу, чтобы здесь был Сейс и чтобы он решал,
я хочу, чтобы меня оставили в покое.
Слишком много убийств за короткое время, совершенно
нет времени подумать.
Они движутся вверх по дороге, камни скрывают меня,
но бежать некуда. Это взрослые, и все мужчины, они
похожи на мужчин. Ростом и цветом кожи они — враги.
Они — вьетнамцы. Они поднимают и опускают головы,
201
не сводят глаз с каблуков идущих впереди, их восемь
человек, они в гражданской одежде и без оружия, но
цветные, не белые.
Я прижимаюсь к валунам, снова вглядываюсь в дорогу
через щель между ними. Ноги мои уходят из освещенного
пространства и оказываются в тени камней, на валунах —
кровавые отпечатки пальцев, капли крови в пыли; кровь,
повсюду кровь.
Они идут не торопясь, это гражданские, крестьяне,
направляющиеся на поля. За спиной у них какие-то узлы;
эти люди спокойны и выглядят так же мирно, как старик,
который застрелил Сейса.
У них свертки, там-то они и прячут свои ружья
и гранаты.
У меня только один пулеметный диск. Остальные я
забыл. Пулеметом не убьешь восемь человек, они слишком
маленькие и достаточно подвижны, чтобы укрыться от
пуль. Пули растворяются и исчезают, улетают в небо; мне
надо еще патронов, еще ручных гранат. Диск может
оказаться пустым, так оно, наверное, и есть. Я не могу
проверить. Я не умею вставлять и вынимать диск.
Это просто нелепо. Я все равно не сумею стрелять,
я окаменел, не могу убивать безоружных. Они молоды,
но невеселы; они тащатся на работу; все ходят на работу,
люди выводят машины из гаражей и катят на работу
и вовсе не думают, что вдруг выскочит какой-то
ненормальный и начнет палить по ним из пулемета, который к тому же
не в порядке.
Они слишком далеко, еще не время, еще не время,
жди до тех пор, пока не сумеешь разглядеть белки их
глаз. А что, если белки у них не белые, может быть,
они коричневые; все возможно, убивай, или убьют тебя,
стреляй первым. Неприятеля надо было заставить носить
форму, они не носят форму — и гибнут невинные люди.
Мы все убийцы, у нас нет настоящих причин убивать,
только какие-то оправдания; мы убиваем, чтобы жить,
так мы говорим, это самое лучшее оправдание, для того
чтобы убивать: убивай, или убьют тебя.
Свертки, которые они несут, набиты битком, под
парусиной что-то торчит. Это оружие, свертки круглые, гранаты
тоже круглые. Эти люди хуже, чем солдаты, солдаты
по крайней мере воюют честно, они носят форму; только
шпионы и предатели ходят в штатском, они
подкрадываются и ударяют в спину, они заслуживают смерти.
202
Молитвы не заставляют их повернуть, они продолжают
идти вперед.
Как стрелять из пулемета? Нажать спусковой крю-
чок — и пулемет выстрелит. Вот и все. Просто, очень
просто. Я умею нажимать крючок, только нажать, и все
происходит. Каждый может убить, убивать очень легко,
только нажать крючок, о чем тут думать, нажать — и все.
Я всего лишь солдат, я не принимаю политических
решений, не объявляю войн, делаю, что мне приказывают.
Хендсон — мешок дерьма, какая мне разница, объявила
Америка войну или нет, убивай, или убьют тебя.
Они все идут — видно, думают, что это пикник, вот
заразы; пулемет следит за ними; они идут сгорбившись,
свертки с оружием, наверно, тяжелые, а они все худые,
каждый их шаг грохочет у меня в ушах, как гром небесный.
Их восьмеро. Идут гуськом, это крестьяне, молодые
ребята. Тот, кто идет впереди,— вонючка; у него
коричневые морщинистые руки, босые ноги, плоскостопые,
грязные, они будто скользят по пыльным камешкам
дороги: одна нога, другая, обе вместе. Они идут и идут.
Тот, кто идет впереди, взрывается, тело лопается,
как воздушный шарик, испаряется клубами коричневого
дыма, те, кто идут за ним, пытаются бежать, бежать
внутрь земли, их крики заглушает чудовищный рев
пулемета: пули стремительно обшаривают дорогу, вздымая
фонтанчики пыли, вверх взлетают полосы огня. Пулемет
содрогается в последний раз.
Мой палец прижимает спусковой крючок, пулемет
безмолвен, но я все же вожу им над телами: я не могу
рисковать, они должны умереть, у меня только один диск,
второго не будет, убивай, или убьют тебя. Но диск уже
пуст. Я ощущаю тишину, она как песня в моих ушах,
она как кошачье мяуканье, она гудит и отвечает себе
эхом; грохот в ушах уходит в глубину черепа. Там,
в моем мозгу, они'встречаются, эти грохоты,
сталкиваются и уничтожают друг друга.
Не слышно ни звука, совсем ни звука, ни ветерка,
безмолвие в листве и в небе. Земля молчит, она перестала
вращаться.
Я отпускаю пулемет, руки падают вдоль тела, пулемет
шлепается на землю.
Видишь? Видишь, они мертвы. Тела на дороге — это
мертвецы. Бедные мертвецы.
Посмотри на бедных мертвецов.
203
Посмотри на бедный мертвый мир, он истекает кровью.
Когда входит пуля, проливается кровь, это знает
каждый.
Коммунисты мертвы, все они мертвы, я убил
коммунистов. Теперь они не могут повредить Америке, Америка
в безопасности. Я спас Америку.
Они истекают кровью, тела истекают кровью; и вдруг
я начинаю слышать звуки, шелест метелок,
раскачивающихся на ветру. Земля красного цвета. Из каждого
тела вытекает ручеек крови, ручейки проползают,
извиваясь, несколько футов вниз по склону, они сливаются
вместе и образуют речку, речка течет в сторону дороги.
Я пригнувшись бегу от камней к дороге, спотыкаюсь об
один из свертков, он разворачивается; в нем какое-то
тряпье, может быть — одежда. Я бегу к другому, наступаю
на него, ткань прорывается, скольжу по крови. Хватаю
еще один сверток и кручу его над головой, он ничего
не весит, он проносится надо мной, вырывается из рук и
падает, падает и раскрывается. И в нем одежда. Из горла
у меня рвется крик, ноги подкашиваются, кулаками я
молочу по сверткам. Я ношусь вдоль дороги, распарывая и
разрывая свертки, скользя по лужам крови, сбивая в одно
кровавое месиво куски одежды, палки, сгустки крови и
струйки пота, месиво, которое липнет ко мне, не отпускает
меня. Я шарю по истерзанным телам; мои руки роются в
одежде, мои руки ощупывают и ищут; мои руки, мои руки,
они не находят ружей и ручных гранат.
Я иду вниз по дороге. Я не прячусь. Долина погружена
в сумерки, легкая голубая светящаяся дымка окутывает
все вокруг. Солнце атакует горы, джунгли — точно
огромные равнины расплавленной лавы.
А бог? Где же бог? Я даже не могу думать о нем,
разве он не участвует во всем этом?..
Майкл ГЕРР
РЕПОРТАЖИ
ДЫХАНИЕ АДА
На стене моей сайеонской квартиры висела карта.
Иногда, вернувшись поздней ночью в город, до того
измотанный, что сил ни на что не оставалось, кроме как скинуть
сапоги, я вытягивался на койке и рассматривал ее. Чудо
что была за карта, особенно теперь, когда окончательно
устарела. А старая она была очень. Досталась она мне
в наследство от прежнего постояльца, жившего здесь
много лет назад. Француза, наверное, судя по тому, что
была отпечатана в Париже. После стольких лет сырой
сайгонской жары бумага сморщилась и покоробилась,
набросив вуаль на изображаемые страны. Вьетнам был
еще разделен на прежние колониальные территории:
Аннам, Тонкий и Кохинхину, а к западу от них, за Лаосом
и Камбоджей, лежал Сиам. Королевство Сиам. Да.
Действительно древняя карта, говорил я гостям.
Если бы призраки стран-покойниц могли являться
живым, подобно призракам покойников-людей, на моей
карте поставили бы штемпель «Текущая», а остальные
карты, которыми пользуются с шестьдесят четвертого года,
сожгли бы. Но будьте уверены, ничего подобного не
произойдет. Сейчас конец шестьдесят седьмого, и даже по
самым подробным картам ничего больше толком не
поймешь. Пытаться читать их — все равно что пытаться
читать лица вьетнамцев. А это — все равно что пытаться
читать ветер. Мы знали, что большая часть получаемой
информации поддается гибчайшей трактовке: различные
участки территории разное рассказывали разным людям.
Знали мы и то, что уже много лет здесь нет страны. Есть
только война.
© Michael Herr, I977
205
Посольство неустанно твердило нам о наголову
разбитых в боях вьетконговских частях, которые месяц
спустя вновь появлялись на поле боя в полном кадровом
составе. Вроде ничего мистического в этом не было.
Просто уж если наши войска занимали территорию
противника, то занимали ее окончательно и бесповоротно,
а если и не могли потом удержать — то что с того?
Главное, что они там по крайней мере были, а уж в этом-то
всегда можно было наглядно убедиться. К концу первой
недели, проведенной мною в боевых порядках, я
познакомился с офицером службы информации при штабе
25-й дивизии в Чучи, показавшим мне сначала по карте,
а потом со своего вертолета, что они сделали с населенным
пунктом Хобо-вудз, исчезнувшим населенным пунктом
Хобо-вудз, стертым с лица земли гигантскими
бульдозерами, химикатами и продолжительной обработкой огнем,
уничтожившей сотни акров как возделанных полей, так
и дикого леса, «лишая противника ценных ресурсов и
укрытий».
Вот уже почти год, как одной из его служебных
обязанностей стало рассказывать о проведении этой операции
журналистам, заезжим конгрессменам, кинозвездам,
президентам корпораций, штабным офицерам армий
половины стран мира, а он никак не мог привыкнуть. Казалось,
это поручение помогает ему чувствовать себя молодым,
он был настолько преисполнен энтузиазма, что энтузиазм
этот наверняка выплескивался даже в его письма домой,
жене. Проведенная операция воочию показывала, что
можно сделать, имея технику и сноровку обращения с ней.
А если в месяцы, последующие за ее проведением,
активность противника в большем районе боевой зоны «С» и
возросла «значительно» и потери американской живой силы
удвоились, а затем удвоились снова, то, черт побери,
никак не у нас в Хобо-вудз, и вы в этом нисколько не
сомневайтесь...
I
Перед выходом в ночные операции медики раздают
солдатам таблетки. Декседрин. Несет от них, как от
дохлых змей, закупоренных в банке. Мне-то они вовсе ни
к чему: любое столкновение с противником, да что там —
одна лишь возможность столкновения заставит меня
бежать быстрее, чем несут ноги. Любой звук, доносящийся
206
из-за пределов нашего тесного сжатого мирка, заставляет
меня подпрыгивать на месте. Где-то за километр отсюда
гремят в темноте выстрелы, и мне на грудь будто слон
садится, а душа уходит в пятки. Однажды мне показалось,
будто в джунглях движется огонек, и я поймал себя на том,
что чуть было не прошептал: «Не готов я к этому, не
готов». Вот тогда-то я и решил бросить эти ночные вылазки
и найти себе какое-нибудь другое занятие. А я ведь не
выходил на операции с ночными засадами, и в поиск с
разведгруппами не ходил. Разведгруппы вели поиски ночь за
ночью целыми неделями и месяцами, тайно
подкрадываясь к базам Вьетконга или следя за движением колонн
противника. Я и так дрожал как осиновый лист и не видел
иного выхода, как свыкнуться со своей трусостью. В любом
случае таблетки стоило сберечь на потом — для Сайгона,
где меня неизбежно мучали приступы жесточайшей
депрессии.
Но я знавал одного парня из подразделения поисковой
разведки 4-й дивизии, который глотал таблетки
пригоршнями: горсть успокаивающих из левого кармана
маскировочного комбинезона и сразу вслед за ними горсть
возбуждающих из правого. Первые — чтобы сразу бросило в
кайф, вторые — чтобы поглубже в него окунуться. Он
объяснял, что снадобье приводит его в должную форму,
что даже ночью ему в этих треклятых джунглях все как
на ладони, будто как через телескоп. «Враз
просветляет»,— объяснил он.
Парень служил во Вьетнаме третий срок. В шестьдесят
пятом он единственный уцелел, когда в долине Ладранг
перебили взвод, в котором он служил. В шестьдесят
шестом он вернулся во Вьетнам в составе частей
специального назначения. Как-то утром его подразделение
угодило в засаду. Он спрятался под трупами однополчан.
Сняв с убитых амуницию — в том числе и зеленые
береты*,— партизаны наконец ушли. После этого он и
представить себе не мог иного занятия на войне, кроме поисковой
разведки.
— А вернуться обратно в мир просто не могу,— сказал
он мне. И вспомнил, как ездил домой в последний раз:
сидел днями напролет, запершись в своей комнате, и
иногда выставлял в окно охотничье ружье, ведя мушкой
прохожих и проезжающие мимо автомобили, пока из всех
чувств и мыслей не оставалось лишь ощущение пальца
на спусковом крючке.— Родичей моих это сильно нерви-
207
ровало,— сказал он. Но нервировал он людей даже здесь.
— Не, брат, извини, но по мне так уж больно он
психованный,— сказал мне солдат из его подразделения.— Ты
только глянь в его зенки, там все как есть открытым
текстом записано...
— Это точно, но долго на него гляделки не лупи.
Заметит, греха не оберешься.
Он, казалось, вечно был настороже, все искал, кто на
него смотрит. Спал, наверное, и то с открытыми глазами.
Но я и так боялся его. Однажды только ухитрился бросить
на него беглый взгляд. Это было все равно, что пытаться
заглянуть на дно океана. Он носил золотую серьгу и
головную повязку, выдранную из маскировочной
парашютной ткани, и, поскольку никто не решался приказать
ему подстричься, волосы у него отросли ниже плеч,
закрывая толстый багровый шрам. Даже в расположении
дивизии он шагу не делал, не взяв с собой хотя бы нож
и кольт сорок пятого калибра. А меня считал придурком,
потому что я не носил оружия.
— Разве вы никогда раньше не встречались с
журналистами? — поинтересовался я.
— Пятая нога у собаки ваши журналисты,— ответил
он.— На свой счет не принимайте.
Но что за историю рассказал он мне! Более глубокого
и цельного рассказа о войне я никогда не слышал, да и
понять сумел только год спустя:
— Патруль ушел в горы. Вернулся лишь один человек.
И скончался, так и не успев рассказать, что с ними
произошло.
Я ждал продолжения, но было ясно, что это не тот
случай. Когда я спросил, что же дальше, он на меня посмотрел
с сочувствием. И на лице его написано: «Какого
хрена я стану тратить время, объяснять такому кретину».
Лицо его было раскрашено для выхода в ночной поиск
и казалось кошмарной галлюцинацией. Это не те
раскрашенные лица, которые я видел на карнавале в
Сан-Франциско всего несколько недель назад: другая крайность
того же театра. Несколько часов спустя он замрет где-то
в джунглях, безликий и безмолвный, как рухнувшее
дерево, и спаси господь его противников, если их не наберется
хотя бы пол-отделения: он — хладнокровный убийца, один
из лучших наших убийц. Остальные разведчики уже
собирались у палатки, поставленной поодаль от палаток
других подразделений дивизии. У разведчиков была соб-
208
ствснная уборная и усиленный рацион. Отбивные не хуже,
чем у «Аберкромби и Фитча»*. Солдаты других
подразделений чуть ли не с робостью миновали расположение
разведчиков, идя в свою столовую и обратно. Как бы ни
очерствели они на войне, но по сравнению с разведчиками
все еще выглядели невинными детьми. Собравшись,
разведгруппа цепочкой потянулась по спуску холма,
пересекла взлетно-посадочную полосу, вышла за пределы
оборонительных сооружений и потерялась в лесу.
Больше я никогда с ним не разговаривал, хотя и видел
еще раз. Когда следующим утром разведчики вернулись,
он вел с собой пленного. У пленного были завязаны глаза
и резко закручены локти за спину. Ясно, что во время
допроса пленного к палатке разведчиков никого
посторонних не подпустят. Да и вообще я уже стоял на взлетно-
посадочной полосе, ожидая вертолета, который должен
был вывезти меня оттуда.
— Эй, парни, вы что, из ОВЗП* будете? А мы думали,
из ОВЗП, волосы больно длинные.— Пэйдж
сфотографировал паренька, я записал его слова, а Флинн рассмеялся
и сказал, что мы из ансамбля «Роллинг стоунз». В то лето
мы уже почти месяц ездили втроем. На одной посадочной
площадке сел вертолет, с антенны которого свешивался
настоящий лисий хвост. Проходящего мимо нас командира
бригады чуть не хватил инфаркт.
— С каких это пор рядовые не приветствуют офицеров?
— Мы не рядовые,— ответил Пэйдж.— Мы репортеры.
Услышав это, командир был готов тут же без
подготовки провести специально ради нас боевую операцию,
распотрошить свою бригаду и часть ее уложить. Чтобы
удержать его от этого, нам пришлось убираться
следующим же вертолетом. И чего они только не сделают ради
нескольких строчек. Пэйджу нравилось украшать свой
полевой наряд всяческой дурацкой параферналией —
бусами, шарфиками,— да к тому же он был англичанин,
и солдаты пялились на него, как на марсианина. Шон
Флинн умел выглядеть еще более невероятным
красавчиком, чем даже его отец Эррол*, когда тридцать лет назад
играл капитана Блада, но иногда больше смахивал на
Арто*, возвращавшегося из трудного похода в царство
тьмы, перегруженного сведениями, информацией!
Информацией! За обработкой которой он просиживал часами,
отчаянно потея и расчесывая усы пилкой швейцарского
армейского ножа. Мы укладывали марихуану и кассеты
209
с записями: «Ты видела свою мать, малышка, там, среди
теней?», «Лучшие из зверей», «Странные деньки»,
«Пурпурная дымка», «А ну, валяй, закручивай...» Время от
времени мы попадали в вертолет, доставлявший нас прямо
в нижние круги ада, но вообще-то в ходе войны наступило
затишье, видели мы в основном посадочные площадки и
лагеря, всматривались в лица болтающихся вокруг солдат,
вслушивались в их рассказы.
— Главное, никогда не застревать на одном месте. Не
застревать, все время находиться в движении, ясно, о чем
я толкую?
Нам было ясно. Ясно, что перед нами человек, твердо
верящий в то, что он живая мишень, способная выжить,
лишь постоянно находясь в движении. Истинное дитя
войны. Как способ выживания — вроде бы не глупее
любого другого, при условии, естественно, что ты вообще
оказался там и хотел все увидеть своими глазами.
Поначалу он прост и ясен, но чем дольше им пользуешься,
тем больше он принимает определенную направленность:
ведь чем больше передвигаешься, тем больше видишь.
Чем больше видишь, тем большим, помимо смерти и
увечья, рискуешь, а чем больше рискуешь, тем больше
однажды захочется выжить. Некоторых из нас носило по
войне, как сумасшедших, пока мы вообще не начинали
терять ориентацию и уже не соображали, куда нас тянет
течение, кругом была одна лишь война, и мы скользили по
поверхности, лишь изредка и случайно окунаясь в нее
поглубже. Мы пользовались вертолетами, как такси, и
требовалось по-настоящему вымотаться, или впасть в
депрессию, близкую к шоку, или выкурить дюжину трубок
опиума, чтобы утихомириться хотя бы внешне, да и то под
кожей что-то все время свербило, ни за что не хотело
отпускать. La vida local*
Месяцы спустя после возвращения домой все сотни
вертолетов, в которых я летал, слились в моем сознании
в один супервертолет: созидатель — разрушитель,
добытчик — разоритель, левая рука — правая рука, ловкий и
быстрый, хитрый и человечный; нагретая сталь, смазка,
разрисованная под джунгли маскировочная накидка,
остывший пот и снова жара, кассетный рок-н-ролл в одно
ухо и огонь пулемета в дверном проеме в другое, горючее,
жара, жизнь и смерть, сама смерть, которая никак не
кажется здесь лишней. Вертолетчики говорят, что если раз
на борту был покойник, то он так навсегда там и останется,
210
так и будет с тобой летать. Как все нюхнувшие пороха,
они были невероятно суеверны и неизменно
мелодраматичны. Но в том, что близкое общение с мертвыми
обостряет восприятие смерти и долго, очень долго, хранит память
о ней, была невыносимая правда, и я знал это. Некоторых,
особо чувствительных, мог добить один вид мертвецов.
Но ведь и самые тупые служаки ощущали, казалось,
что с ними происходит нечто странное и
сверхъестественное.
Вертолеты, люди, выпрыгивающие из вертолетов.
Люди, настолько в них влюбленные, что бежали, только
бы успеть на борт, даже когда никто никуда их не гнал.
Вертолеты, взмывающие в небо прямо с маленьких,
расчищенных в джунглях площадок, приземляющиеся на
крыши городских зданий, сбрасывающие ящики с
провизией и боеприпасами, принимающие раненых. Иногда их
летало столько и повсюду, что за день можно было
побывать в пяти-шести местах, осмотреться, послушать, о чем
говорят, улететь со следующей машиной. Помню
укрепленные пункты размером с города, содержащие по
тридцать тысяч человек. Однажды мы совершили посадку,
чтобы выгрузить припасы для одного-единственного
человека. Бог его знает, кто такой и что за дела у него
были. Мне он сказал лишь: «Ты ничего не видел,
начальник. Понял? Тебя вообще здесь не было». Помню
роскошно оборудованные лагеря с кондиционированием воздуха,
похожие на комфортабельные пригороды, где живут
обеспеченные люди., Шум кровопролития не доносился до них;
лагеря, названные именами командирских жен:
посадочная площадка «Тельма», посадочная площадка «Бетти
Лу»; нумерованные высоты, вокруг которых заваривалась
каша и на которых не хотелось застревать; тропы, рисовые
чеки, непроходимые заросли и пустоши, болота и топи,
деревни и даже города, где земля не могла впитать всего,
что пролил бой, и приходилось смотреть, куда ступаешь.
Иногда несущий меня вертолет совершал посадку на
вершине холма. И все обозримое до следующей высоты
пространство было обуглено и изорвано и еще дымилось,
и судорогой сводило нутро. Зыбкий серый дымок над
рисовыми полями, выжженными в зоне свободного огня.
Яркий белый дым от фосфорных бомб («не захочешь, а в
бога уверуешь»), черный густой дым от напалма.
Говорили, что, если оказаться в гуще напалмового дыма, он
вытянет воздух прямо из легких. Однажды мы пролетали
2il
над поселком, который только что бомбили, и в памяти
всплыли слова песни Уинджи Мэнон, слышанной в детстве:
«Остановите войну, они же сами себя убивают». Вертолет
снизился, завис и пошел на посадку. С площадки
поднимался багровый дым. Десятки детей устремились из
хижин к месту нашей посадки. Пилот засмеялся и сказал:
«Вот вам Вьетнам. Бомби их и корми. Бомби и корми».
Летать над джунглями почти всегда было радостно.
Идти по ним почти всегда было горько. Я там никогда не
чувствовал себя в своей тарелке. Может, они
действительно были тем, чем их всегда считали живущие в них
люди: Запредельем. В одном отношении это определение
обрело для меня реальный смысл: многим я там
пожертвовал, чего, наверное, обратно никак не вернешь. («Да
нет, джунгли — это ничего. Знаешь их, так приживешься
и будешь в полном порядке, а не знаешь, так и часу не
продержишься. Проглотят».) Как-то раз в джунглях,
в дикой глуши, журналист сказал стоящим подле
солдатам: «Красивые здесь должны быть закаты, любуетесь,
наверное?» Те чуть не обделались со смеху. Но на
вертолете можно было подниматься прямо в жаркий
тропический закат, навечно меняющий представления о свете.
На вертолете можно было и улететь из мест настолько
мрачных, что пять минут спустя после вылета в памяти
оставалось лишь черно-белое их изображение.
Кажется, никогда в жизни не испытаешь больше
такого душевного холода, как стоя на краю лесной
вырубки, глядя на взлетающий вертолет, только что
доставивший тебя сюда, и размышляя, что же тебя теперь ждет
здесь: удачное ли это место для тебя, а может, вовсе не
нужное, а может, и вообще последнее, которое суждено
тебе посетить. И не совершил ли ты на этот раз
непоправимой ошибки.
Помню лагерь в Соктранг, где солдат на посадочной
площадке сказал мне: «Если ищете материал, вам крупно
повезло. У нас объявлена повышенная боевая готовность».
И прежде, чем смолк шум вертолетных моторов, я понял,
что она объявлена и для меня тоже.
— Так точно,— подтвердил командир лагеря,— мы
совершенно определенно ждем боя. Рад вас видеть.— Это
был молодой капитан. Смеясь, он связывал обоймы, чтобы
легче было перезаряжать, чтобы шло как по маслу. Все
кругом были заняты: вскрывали ящики, рассовывали
212
гранаты, проверяли минометные заряды, набирали
патроны, вгоняли бананообразные обоймы в автоматы, которых
я никогда раньше не видел. Лагерь был окружен кольцом
наблюдательных пунктов, со всеми поддерживалась связь,
связь поддерживалась и внутри лагеря между всеми и с
самими собой. Когда стемнело, стало хуже. Вышла полная
луна, отвратительный толстый и сырой ломоть какого-то
гниющего фрукта. Она казалась мягкой, окрашенной в
шафрановую дымку, но свет на джунгли и мешки с песком
бросала резкий и яркий. Мы все втирали под глаза
предписанную армией косметику для ведения боя в ночных
условиях, чтобы ослабить сияние лунного света и ужасы,
которые он заставлял видеть. (Около полуночи, просто от
нечего делать, я прошел к противоположной стороне
оборонительных сооружений и стал разглядывать дорогу,
проложенную безупречной прямой к шоссе № 4 подобно
застывшей желтой ленте, видной, насколько глаза глядят.
И вдруг понял, что она движется, вся дорога движется.)
Неоднократно возникали ожесточенные споры о том, кому
больше на руку свет, нападающим или обороняющимся.
У солдат, сидящих вокруг, под глазами лежали тени, как
у кинозвезд, а челюсти выдавались вперед, точно готовые
вот-вот открыть пальбу стволы. Они шевелились и
копошились, как муравьи, ерзали в своих комбинезонах.
«Никак нельзя расслабляться, Чарли-то, только
разнежишься где-нибудь в уютном уголке, тут-то он и налетит
и сунет тебя мордой в дерьмо». Так мы до утра и
протянули. Я выкуривал по пачке сигарет в час всю ночь
напролет, а боя так и не было. Через десять минут рассвело, и я
стоял на посадочной площадке, расспрашивая, когда будет
вертолет.
Несколько дней спустя мы с Шоном Флинном попали
в расположение артиллерийского подразделения дивизии
«Америкал», укомплектованного офицерами запаса, где
увидели доведенную до крайности другую сторону медали.
Отмечался День национальной гвардии, и командующий
частью полковник был до того пьян, что лыка не вязал,
а если ему и удавались членораздельные фразы, то только
вроде: «Нас врасплох без порток черта с два застанешь,
у нас бдительность на высоте, только за ней и следим».
Главной задачей части было вести беспокоящий и
воспрещающий огонь, но, как сказал один из артиллеристов,
беспокоили они в основном мирно спящих местных
жителей. И воспрещали действия южнокорейской морской
213
пехоте, и даже пару раз американским патрулям, но только
не Вьетконгу. (Полковник все выговаривал: «антиллерия».
Когда он выразился так в первый раз, мы с Флинном
переглянулись, а на второй раз чуть не подавились оба пивом,
пуская брызги через нос, но полковник тут же заржал
сам, обрызгав нас с головы до пят.) Укрытий из мешков
с песком нет, зато снаряды лежат прямо на земле, орудия
не чищены, солдаты слоняются с этаким выражением
лиц: «Мы-то не психуем, а вы чего?» На посадочной
площадке Шон разговорился об этом с дежурным, тот
вошел в раж:
— А вались-ка ты... Какую тебе здесь еще
дисциплину закручивать? Противника поблизости уже три
месяца как духу не было.
— Повезло вам пока что,— ответил Шон.— Как там
насчет вертолета?
Но иногда все замирало, вертолеты прекращали
вылеты, а почему, невозможно было понять. Однажды
я застрял в ожидании вертолета на позиции патруля,
затерянного в дельте Меконга, где сержант жевал одну
за другой плитки шоколада и по двадцать часов в сутки
гонял записи музыки «кантри», пока они не начали
слышаться мне во сне. Ничего себе сны. Да еще слушать это
в окружении ражих служак с до предела натянутыми
нервами; они тоже не высыпались — не доверяли ни
одному из своих четырехсот наемных солдат, ни одному из
часовых, которых сами тщательно отбирали; пожалуй,
они не доверяли никому вообще. Они так долго ждали
непонятно чего, что боялись не узнать его, когда оно
придет, а тем временем — «все горит, полыхает и тлеет...».
Наконец на четвертый день ожидания прилетел вертолет
с грузом мяса и кинофильмов и забрал меня. Я был так
счастлив вернуться в Сайгон, что целых два дня не
надирался.
Аэромобильность, если вдуматься, держит вас за пятки.
Заставляет чувствовать себя неуязвимым, вездесущим, но
ведь это всего-навсего трюк. Техника. Мобильность — она
и есть мобильность. Она все время либо спасала
человеческие жизни, либо отнимала их. (Сколько раз спасала
мою — сам не знаю. Может — десятки раз, а может — ни
разу.) Что действительно было нужно, так это гибкость,
куда большая, чем любое благодеяние техники, какой-то
щедрый необузданный талант воспринимать неожиданное
как должное, а у меня как раз его в помине не было.
214
Я научился ненавидеть неожиданности, бросающие меня
из стороны в сторону на распутьях дорог. А человеку,
вечно считающему, что ему обязательно надо знать, чего
ждать, на войне вообще крышка. Тем же кончались
непрестанные попытки свыкнуться с джунглями и
изнуряющим климатом или обволакивающей со всех сторон чуже-
родностью этой страны, которая от близкого знакомства
становилась не понятнее, а все более и более пугающей.
Хорошо было тому, кто умел приспособиться, и
приходилось пытаться приспособиться. Учиться брать себя в руки,
когда сердце бьется так, что вот-вот выскочит; действовать
стремительно, когда все замирает, и не ощущать в своей
жизни ничего, кроме давящей ее энтропии. Условия
малоприятные.
Земля была прочно задействована. Волны боев
непрестанно прокатывались по ней. Пространство под
землей принадлежало «ему». Над землей — нам. Мы владели
воздухом, могли взмывать в него, но не могли
раствориться в нем. Мы могли стремительно передвигаться, но
укрываться не могли, а «ему» и то и другое удавалось так
хорошо, что временами казалось: «он» делает это
одновременно, а мы обмякли и не можем «его» обнаружить. Там
ли, здесь ли — неважно. Все одно и то же. Дни — наши.
Ночи — «его». Можно было находиться в самом
безопасном месте во всем Вьетнаме и все равно знать, что в
безопасности находишься только условно, что безвременная
смерть, потеря глаз, рук, ног и прочего, тяжелое и
неизлечимое увечье — весь пакостный набор — может свалиться
на тебя и как снег на голову, и так называемым «обычным
путем». Столько ходило об этом рассказов, что только и
оставалось диву даваться: как это вообще хоть кто-то
выживал во всех этих перестрелках и минометно-ракетных
налетах. По прошествии нескольких недель, когда упали
шоры с глаз, я увидел, что все вокруг меня носят оружие.
Увидел я также, что это оружие в любую секунду может
пальнуть, да так, что тебе потом будет уже все равно,
случайный вышел выстрел или намеренный. Дороги
минировались, тропинки усеивались ловушками, джипы и
кинотеатры взрывались динамитными зарядами и
гранатами. Вьетконговцы проникали во все лагеря:
мальчишками — чистильщиками сапог, прачками, продавцами
меда. Они крахмалили вам форму и сжигали дерьмо в
сортирах, а потом уходили и забрасывали вас минами.
В Сайгоне, Шолоне и Дананге отовсюду лилась такая
215
ненависть, что каждый брошенный на тебя взгляд казался
взглядом снайпера, прикидывающим сквозь прицел, как
лучше всадить в тебя пулю. А вертолеты валились с неба
сотнями в день, подобно отравленным раскормленным
гггицам. В скором времени я уже не мог сесть в вертолет,
не подумав при этом, что летать на них может только псих.
Страх и движение, страх и топтание на месте. Трудно
выбрать, что лучше, не понять толком, что хуже —
ожидание действия или действие. Бой щадил гораздо больше
людей, чем убивал, но от перерывов в боях страдали все.
Тяжко идти в бой маршем, страшно — на грузовиках
и бронетранспортерах, жутко — на вертолетах, хуже
всего — на вертолетах, когда тебя несет с такой скоростью
навстречу кошмару. Временами, помню, я просто обмирал
чуть ли не до смерти от страха, который внушали мне
движение, скорость и неуклонность заранее
определенного маршрута. Страх вызывали даже «безопасные»
перелеты от крупных баз к посадочным площадкам
отдельных частей, а уж если твой вертолет подбивали
наземным огнем, «вертолетный комплекс» был тебе
гарантирован до конца дней твоих. Сам по себе огневой контакт,
когда уже случался, выматывал резкими, дергаными
рывками все силы, налетал стремительно, смачно и очищающе,
но путь к нему, неуклонный, леденящий, мрачный и
опустошающий, не позволял задуматься о чем-либо ином ни на
секунду. Оставалось только поглядывать на спутников по
полету, пытаясь определить, онемели ли от страха и они.
Если казалось, что они боятся меньше вашего, это
означало, что они не в своем уме. Если казалось, что им так же
страшно, то от этого становилось еще хуже.
Прошел я сквозь это неоднократно, а оправдались
мои страхи только единожды, в сверхтипичной «горячей
посадке», когда нас встретили ураганным огнем из-за
деревьев, росших не далее чем в трехстах ярдах от места
высадки, проливным пулеметным дождем, вжимавшим
лица солдат в болотную жижу, заставляя ползти
по-пластунски туда, где траву не раздувал ветер, доносящийся
от вертолетных винтов,— не бог весть какое укрытие,
а все же лучше, чем ничего. Не успели все высадиться,
а вертолет уже взмыл в небо, заставив последнюю группу
солдат прыгать с двадцатифутовой высоты между двух
огней — наземных пулеметов и вертолетного из дверного
проема. Когда мы добрались наконец до стены лагеря,
капитан устроил перекличку. Ко всеобщему удивлению,
216
жертв не было, никто не пострадал, кроме одного солдата,
растянувшего обе лодыжки при прыжке с вертолета.
Я припомнил потом, что, барахтаясь в болотной грязи,
больше всего боялся пиявок. Можно сказать, пожалуй,
что я просто отказывался воспринимать вещи, как они есть.
«Да, брат, тут, кроме как из дерьма, выбирать не из
чего, это уж верняк»,— сказал мне как-то парень из
морской пехоты, и я не мог не понять его слова иначе, как —
выбора здесь вообще никакого. Он, собственно, всего-то
имел в виду «ужин» из армейского рациона, но вряд ли
можно было винить его, если, вспоминая все немногие
прожитые им годы, он испытывал уверенность только в
одном: никого в мире никоим образом не интересовало,
чего именно хочет он сам. Благодарить за свой рацион
он никого не собирался, но радовался тому, что еще жив
и может его съесть, пока эти сукины дети его еще не
уделали. Уже полгода, как он не испытывал ничего, кроме
усталости и страха; ужас сколько за это время потерял —
людей в основном,— да и насмотрелся всякого вдосталь.
Однако все еще дышал: вдох, выдох, вдох, выдох... Тоже
своего рода выбор...
У него было одно из тех типичных лиц, которые я видел
не менее тысячи раз на сотнях баз и постов: вся юность
выпита из глаз, весь цвет сошел со щек, холодно сжатые
бледные губы. При взгляде на такое лицо понимаешь:
ушедшее уже не вернется, да человек и сам этого не ждет.
Жизнь состарила его, так он ее старцем и прожил. Иногда
лица этих солдат напоминали лица в толпе на концерте
рок-группы: отключившиеся, захваченные действом люди;
или лица серьезных не по летам студентов — так можно
было бы сказать, не знай вы сами, из чего складывались
минуты и часы этих лет. Они отличались от лиц многих
других солдат — те просто выглядели так, будто им и дня
больше не протянуть. (Что испытываешь, услышав вопль
души девятнадцатилетнего паренька: «Стар я уже, чтобы
в таком-то дерьме по уши сидеть!») Не походили они и на
лица убитых и раненых — на тех чаще читалась
умиротворенность, чем изумление. А это были лица мальчишек,
проживших, казалось, уже целую жизнь. Стоя от вас в
двух шагах, они смотрели на вас из такой дали, которую
вам за всю жизнь не пройти. Я говорил с ними, летал с
ними иногда — с парнями, отправлявшимися в отпуск,
сопровождавшими трупы, парнями, по уши хлебнувшими
и мира, и насилия. Однажды я летел с парнем, уезжающим
217
домой. Он бросил взгляд на землю, на которой отслужил
год, и разразился потоком слез.
Иногда приходилось летать с покойниками. Однажды
я попал на вертолет, битком набитый покойниками.
Парень в дежурке упомянул, что на борту будет труп, но его
явно неверно информировали. «Вам очень надо в
Дананг?» — спросил он. И я ответил: «Очень».
Увидев, куда влип, я расхотел садиться в вертолет, но
пришлось — они ведь специально ради меня делали крюк
и лишнюю посадку. Да и не хотел казаться брезгливым.
(Еще, помнится, пришло в голову, что быстрее собьют
вертолет, полный живых людей, чем полный трупов.)
На них даже мешков не надели. Грузовик, на котором они
ехали, подорвали управляемой миной неподалеку от
артиллерийских позиций в демилитаризованной зоне, а
потом засыпали ракетами. Морской пехоте вечно всего
не хватало — боеприпасов, медикаментов, даже
продовольствия,— так что не удивительно, что и мешков не
хватило тоже. На трупы просто накинули плащ-палатки,
кое-как закрепив пластиковыми завязками, и покидали их
в вертолет. Мне расчистили уголок между одним из них
и бортстрелком — бледным и до того злобным, что я
взглянуть на него боялся поначалу, думал, он сердит на меня.
Когда мы взлетели, по фюзеляжу потянуло ветром,
шевелившим и раздувавшим плащ-палатки. Последним резким
порывом ветер содрал накидку с трупа, что был
рядом со мной, обнажив его лицо. Ему даже глаз не
закрыли.
Стрелок завопил что было мочи: «Поправь! Поправь!
Тебе говорят!»
Ему казалось, наверное, что глаза глядят прямо на
него, но я ничего не мог сделать. Два раза протягивал
руку — и не мог. Наконец собрался с духом, плотно
натянул накидку, осторожно поднял трупу голову и сунул
край накидки под нее. А потом поверить не мог, что сделал
это. Все оставшееся время полета стрелок пытался
выдавить улыбку. Когда сели в Донгха, он поблагодарил меня
и побежал получать очередное задание. Пилоты
выпрыгнули на землю и пошли не оглядываясь, будто никогда
в жизни этого вертолета и в глаза не видели. Оставшийся
путь до Дананга я пролетел в самолете какого-то
генерала.
218
II
Известно, как бывает иногда — и хочешь взглянуть, и
боишься. Помню странные ощущения в детстве, когда
рассматривал в «Лайфе» фотографии с войны, на которых
были запечатлены трупы. Много трупов, устилающих поля
или улицы. Касающиеся друг друга, будто пытающиеся
друг друга удержать. Даже на самых четких и ясных
снимках что-то было до конца не ясно, что-то
затушевывало суть схваченного момента и главный его посыл.
Пожалуй, это ощущение и служило благовидным предлогом
моего увлечения, позволяя тратить столько времени на
разглядывание фотографий. Тогда у меня и словарного
запаса объяснить не хватило бы, но я по сей день хорошо
помню охватывавшее меня чувстэо стыда — как от
первого столкновения с порнографией, от всей порнографии
мира вообще. Я мог изучать эти фотографии, пока не
вырубался свет, но все равно так и не мог воспринять
связь между оторванной ногой и телом, не мог воспринять
поз, в которых тела находились (много позже я услышу
термин: «реакция на удар взрывной волны»), не мог
понять, какой силой гнет и выкручивает человеческие тела
в столь невообразимые позы. А всеобщая безликость
массовой смерти! Она разбрасывает тела где попало и как
попало, как застала их, перебросив ли через колючую
проволоку, или беспорядочно расшвыряв позерх других
мертвецов, или забросив на кроны деревьев, точно
воздушных акробатов: «Смотри, на что я способна!»
Когда наконец видишь убитых наяву, прямо перед
собой, считается, что ты не должен доходить до
умопомрачения, но оно приходит само, потому что слишком
часто и слишком сильно нуждаешься в защите от
увиденного, от того, что приехал увидеть за тридцать тысяч миль.
Однажды я видел трупы, разбросанные по всему
пространству от переднего края до опушки леса, больше всего
их было навалено возле колючей проволоки, посередине
группки были поменьше, но и поплотнее, а уж дальше,
к лесу, трупы попадались все реже и реже, один вообще
лежал сам по себе, наполовину зарывшись в куст. «Чуть-
чуть не дошли»,— сказал капитан. Затем несколько его
солдат принялись пинать трупы ногами в головы, проверяя
каждого из тридцати семи убитых. Потом я услышал
звуки выстрелов винтовки «М-16», поставленной на
автоматическую стрельбу. Палили целыми обоймами сразу,
219
секунда — выпустить обойму, три секунды —
перезарядить винтовку. Я увидел стрелявшего солдата. Каждый
выстрел вздымался крошечным всплеском урагана,
заставляя тела вздрагивать и содрогаться. Закончив
пальбу, солдат прошел мимо нас к своей хижине, и, увидев
его лицо, я понял, что вообще до сих пор ничего не видел.
Все покрытое красными пятнами, до того искаженное
гримасой, что, казалось, на нем вывернули наизнанку
кожу, с зелеными, чересчур темными тенями, с красной
струйкой, тянущейся к багровому синяку, мертвенно-
бледное, оно наводило на мысль, что солдата только что
хватил сердечный приступ. Глаза у него чуть не вылезли
на лоб, рот не закрывался, язык вывалился наружу, но
он шел улыбаясь. Ну точь-в-точь деревенский дурачок,
просадивший все до последнего цента. Капитану не очень-
то пришлось по душе, что я это видел.
Не проходило и дня, чтобы кто-нибудь не спросил меня,
что я здесь делаю. Иногда какой-нибудь солдат поумнее
или коллега-журналист даже спрашивали, что я по правде
здесь делаю, будто я мог честно ответить как-нибудь
иначе, нежели: «Освещаю военные действия», и
наговорить с три короба, или: «Пишу книгу», и наговорить
еще с три короба. Пожалуй, мы принимали объяснения
друг друга, почему оказались там, за чистую монету: и
солдаты, которым «пришлось»; и гражданские чиновники
и «спуки» *, которых обязала к тому вера в свое сословие;
и журналисты, которых привели туда любопытство и
честолюбие. Но в какой-то точке все эти неисповедимые
тропы сходились — от эротических сновидений самого
низкопробного джонуэйновского типа до самых
разнузданных фантазий опоэтизированной солдатчины. И в этой
точке, сдается мне, каждый из нас знал все без утайки
о любом другом — что все мы здесь на самом деле по
своей собственной воле. Но и лапши на уши по этому
поводу тоже вешали будь здоров: «Умы и Сердца,
Граждане Республики, Рушащееся Домино, Сохранение
Равновесия Того-Сего Посредством Сдерживания Извечно
Агрессивного Такого-Сякого». Некоторые, конечно,
выражались и по-другому. Как в проклятой своей невинности
заметил один юнец-солдат: «Да хреновина это все. Мы
здесь зачем? Убивать гуков. И точка». Но ко мне это не
относилось. Я туда приехал наблюдать.
Вот и говорите об имперсонификации личности, о
врастании в выбранную роль, об иронии судьбы: я отпра-
220
вился освещать войну, а война просветила меня. Старая
история, кроме как для тех, кто никогда ее раньше не
слышал. Я отправился туда, ведомый незрелым, но
искренним убеждением, что нужно уметь смотреть на все, что
угодно. Искренним — потому что я действительно
действовал соответственно убеждению; незрелым — потому что
не знал — и лишь война смогла научить,— что человек
отвечает за все, им увиденное, так же, как и за все им
содеянное. Но беда в том, что разобраться в увиденном
чаще всего можно лишь многие годы спустя, что многое из
увиденного так и остается в глазах, не сумев проникнуть
глубже. Время и информация, рок-н-ролл, жизнь. Не
информация замораживается, замораживаешься ты сам.
Иногда я не мог понять — длился бой секунду, или час,
или просто мне померещился, или что-то еще. На войне,
чаще, чем когда-либо, никак не возьмешь в толк, что ты
делаешь и чем занимаешься. Функционируешь просто, и
все, а потом насочиняешь об этом черт знает что: хорошо
тебе было или плохо, понравилось или не понравилось,
так поступил или иначе, ошибся или не ошибся; а ведь
что было — то и было.
Потом, вернувшись, рассказывая байки, я говорил:
«Ох и страшно же было!» Или: «О господи, я уж думал —
конец». И говорил я все это задолго до того, как сумел
понять, насколько действительно было страшно, и
насколько действительно неотвратимо и близко было
наступление конца, и насколько это совсем от меня не зависело.
Я, конечно, был совсем не глуп. Просто «не дошел» еще.
Некоторые вещи трудно увязать воедино, когда
возвращаешься из краев, где у всех на уме лишь одна война.
— Если получите ранение,— сказал военный врач,—
доставим вас вертолетом на базу в полевой госпиталь
минут за двадцать.
— С тяжелым ранением,— сказал санитар,— вас
перебросят в Японию часов за двенадцать.
— Если убьют,— пообещал клерк из управления
похоронной службы,— доставим вас домой в течение недели.
«Время работает на меня» — было написано на первой
каске, которую мне довелось там носить. А ниже, буквами
поменьше, скорее прошептанная молитва, чем лозунг:
«Не лги, солдат». Мне ее бросил из вертолета стрелок
хвостового пулемета на аэродроме Контум, в первое мое
утро во Вьетнаме, несколько часов спустя после сражения
под Дакто. Перекрывая шум винтов, стрелок проорал:
221
«Держи, у нас их до черта, желаю удачи!» — и вертолет
взлетел. Я был так рад экипироваться, что даже не
задумался, от кого она мне досталась. Подшлемник
оказался засален и заношен, в нем была жизнь — в отличие
от его бывшего хозяина. Избавился я от каски минут
через десять. Я не просто оставил ее на летном поле, а
стыдливо, украдкой, отдалился от нее, чтобы никто мне не
крикнул: «Эй, раззява, барахло свое забыл...»
Тем утром, пытаясь выбраться в боевые порядки, я
прошел по цепочке от полковника до майора, от майора
до капитана, от капитана до сержанта, который, окинув
меня взглядом, буркнул: «Свежачок» — и предложил мне
поискать какую-нибудь другую часть и с ней погибнуть.
Я не знал, что происходит. От нервозности я начал
смеяться. И сказал сержанту, что со мной ничего случиться
не может. Угрожающе-ласково потрепав меня по плечу,
сержант ответил: «Это тебе, так и растак, не кино». Я снова
рассмеялся и сказал, что знаю, здесь не кино. Но сержант
знал, что я ничего подобного не знаю.
Если бы в первый мой вьетнамский день хоть что-
нибудь могло пробить броню наивного неведения, я просто
удрал бы оттуда первым же самолетом. Мне казалось,
что я попал в колонию переболевших шоком. На холодном,
мокром от дождя поле аэродрома я очутился среди сотен
людей, изрядно хлебнувших чего-то такого, чего мне
никогда не узнать; таких, «какими мы не будем», грязных,
окровавленных, в изодранной полевой форме и с глазами,
в которых застыло постоянное выражение понапрасну
пережитого ужаса. Я только что упустил самое крупное
на сегодняшний день сражение этой войны, непрестанно
сожалел об этом, но знать не знал, что вот оно — прямо
вокруг меня. Я не глядел ни на кого более секунды, боялся,
что кто-нибудь заметит, как я прислушиваюсь к словам.
Ничего себе военный корреспондент — не знал, ни что
говорить, ни что делать. Мне это уже начинало не
нравиться. Когда кончился дождь и все посбрасывали плащ-
палатки, я ощутил запах, от которого меня чуть не
затошнило: пахло гнильем, выгребной ямой, сыромятной кожей,
помойкой, разверзнутой могилой — просто ужасно пахло,
а местами, где было наблевано, разило еще хуже. Мне до
смерти хотелось найти укромное местечко и выкурить
сигарету, найти маску, которая прикрыла бы мое лицо, как
плащ-палатка прикрывала мой новенький с иголочки
комбинезон. Я уже надевал его один раз — примерял прош-
222
лым утром в Сайгоне, принеся с черного рынка к себе в
гостиницу. Крутился перед зеркалом, строя рожи и
принимая позы, которых никогда больше в жизни не сострою и
не приму. Вчера мне это доставляло удовольствие. А сейчас
прямо на земле рядом со мной спал какой-то солдат,
укрывшись с головой плащ-палаткой и сжимая в руках
радиоприемник, откуда доносилась песня: «Красная
Шапочка, не следует, детка, гулять одной в таком лесу...»
Я повернул в другую сторону и наткнулся еще на одного.
Не то чтобы он стал мне на пути, но и с места не сходил.
Он моргал, и его пошатывало, он смотрел на меня и сквозь
меня; никогда еще никто не окидывал меня подобным
взглядом. Я почувствовал, как по спине пауком поползла
огромная холодная капля пота. Казалось, она ползет уже
целый час. Солдат закурил сигарету, а потом залил ее
слюнями так, что она погасла. Я глазам своим не верил.
Он сунул в рот другую. Я поднес ему прикурить. Он понял,
кивнул. Но после нескольких затяжек погасла и эта, и он
швырнул ее на землю. «Пока мы там были, я целую неделю
сплюнуть не мог,— объяснил он.— А теперь ни хрена не
могу остановиться».
Когда в 173-м служили молебен по солдатам, погибшим
под Дакто, на плацу выстроили ботинки убитых. Такова
старая традиция воздушно-десантных войск, но даже
знакомство с ней не делает церемонию менее неестественной:
рота пустых башмаков выстраивается в тени, принимая
благословение, в то время как его истинные адресаты
отправлены в пронумерованных мешках домой
посредством так называемого «Бюро путешествий для
покойников». Многие из присутствующих восприняли башмаки
как торжественный символ и погрузились в молитву.
Другие следили за происходящим с невольным уважением,
третьи фотографировали церемонию, а некоторые просто
думали, какое это все гнусное дерьмо. Они-то там не
видели ничего, кроме еще одного комплекта запчастей, и,
если бы в этих ботинках опять замаршировали живые
ноги, они бы не стали объяснять это вмешательством
святого духа.
Дакто — это всего лишь командный пункт боя без поля
битвы, развернувшегося тридцатимильной дугой по
холмам на северо-восток и юго-запад от небольшой базы с
аэродромом с начала ноября по День благодарения
1967 года. Бой непрестанно разрастался, пока не принял
223
крайне жестокие и вышедшие из-под контроля формы.
В октябре подверглись минометно-ракетному обстрелу
позиции располагавшегося в Дакто небольшого
контингента войск специального назначения, были высланы
патрули, столкнувшиеся с патрулями противника, роты
расчленяли сражение и разбрасывали его по холмам
серией отдельных схваток, позже выдаваемых за
стратегию. В дело втягивались батальоны, затем дивизии, затем
усиленные дивизии. Во всяком случае, было достоверно
известно об участии в операции усиленной дивизии с нашей
стороны и предполагалось участие такой же дивизии
противника, хотя многие и думали, что вьетнамцам было
достаточно пары легких мобильных полков, чтобы
добиться результатов, которых они добивались на этих высотах
три недели подряд, а нашему командованию только и
оставалось, что утверждать, будто мы загнали противника
на высоту 1338, на высоту 943, на высоту 875 и 876.
Противоположные же предположения оставались
невысказанными, да и вряд ли в них была нужда. А затем, вместо
того чтобы чем-то завершиться, сражение просто
прекратилось. Собрав снаряжение и большую часть убитых,
вьетнамцы просто «исчезли» однажды ночью, оставив
нашим войскам несколько трупов: подсчитывать и пинать
ногами.
«Прямо война с япошками» — так назвал один
паренек-солдат это сражение, жесточайшее во Вьетнаме после
ведущихся уже два года до этого боев в долине Ладранг
и единственное после них, в котором огонь наземных войск
достигал такой интенсивности, что санитарные вертолеты
не могли сквозь него совершать посадку. Раненых не
вывозили с поля боя часами, а то и днями. Умерли многие,
кто мог бы быть спасен. По тем же причинам были
трудности с подвозом боеприпасов, поэтому превратились в
реальность и вызвали панику опасения о нехватке
патронов. В наихудший момент сражения штурмующий высоту
875 батальон парашютистов попал в засаду, развернутую
с тыла, где наличия противника не предполагалось. Три
роты оказались отрезанными и прижатыми к земле и в
течение двух дней уничтожались в этой ловушке
шквальным огнем. Впоследствии, когда репортер спросил у одного
из выживших, что, собственно, произошло, тот ответил:
«Ни хрена себе вопросик. Разнесли нас в пух и прах, вот
что». Когда корреспондент принялся записывать ответ,
парашютист сказал: «Можете добавить: „растерли в поро-
224
шок". Когда вьетнамцы отошли, мы долго еще потом
стряхивали с деревьев „собачьи ярлыки"»*.
Даже после ухода противника оставались проблемы
транспортировки и тылового обеспечения. Из большого
сражения выводят часть за частью, солдата за солдатом.
Ежедневно лил нескончаемый дождь, перегруженная
взлетно-посадочная полоса в Дакто вышла из строя,
многие подразделения перебрасывались к большей полосе
в Контуме. Некоторые даже очутились в Плейку, в пяти-
десяти милях южнее, где должны были переформироваться
и транспортироваться в свои базовые соединения в
расположении 2-го корпуса. Живые, раненые и мертвые
грузились в переполненные вертолеты. Парням казалось
естественным пробираться по трупам в поисках свободного
местечка и обмениваться шуточками о том, как смешно
смотрятся эти давшие дуба сукины дети.
По всему аэродрому в Контуме сидели группками сотни
солдат, разбившиеся по подразделениям и ожидающие
следующей транспортировки. За исключением обложенных
мешками с песком хижины оперативного отдела и
госпитальной палатки, негде было даже укрыться от дождя.
Кое-кто пытался соорудить из плащ-накидок совершенно
бесполезные укрытия, многие спали прямо под дождем с
каской или вещмешком под головой вместо подушки,
многие просто сидели в ожидании или стояли по сторонам.
Лица их были глубоко укрыты под капюшонами накидок.
Идя между ними — молчащими и только следящими за
тобой движениями зрачков,— ты начинал ощущать, будто
за тобой следят из сотен изолированных пещер. Каждые
минут двадцать приземлялся вертолет, из него
выгружались солдаты. Затем в него грузились другие, вертолет
взлетал и шел то в Плейку, в госпиталь, то снова в район
Дакто, где проводились операции по прочесыванию
местности. Винты вертолетов двойным захватом прорезали
дождь, разбрызгивая его по сторонам косыми струйками
ярдов на пятьдесят. Одно сознание того, что перевозили
в этих вертолетах, придавало брызгам неприятный
привкус, сильный и горький. Не хотелось, чтобы они высыхали
на лице.
Поодаль толстяк средних лет орал на солдат, которые
мочились на землю. Капюшон его плаща был отдернут,
обнажая нарисованные на каске капитанские знаки
различия, но никто даже не обернулся, даже не посмотрел на
него. Сунув руку под плащ, капитан вытащил офицерский
8 Зак. 556
225
кольт и выстрелил в дождь. Выстрел, казалось, донесся
откуда-то издалека, как будто его приглушил сырой песок.
Солдаты, кончив мочиться, застегнули штаны и пошли
себе, хохоча, оставляя капитана наедине с его крикливыми
требованиями не разводить грязь и навести порядок.
А по сторонам валялись пустые и полупустые банки из-под
армейских рационов, промокшие страницы «Старз энд
страйпс» *, брошенная кем-то винтовка и — хуже того —
проявления распущенности, недоступной даже
воображению капитана. Вонь от них держалась даже при холодном
дожде. Впрочем, если дождь продержится еще час или два,
вся грязь уберется сама.
Пехота уже почти двадцать четыре часа как вышла из
боя, но он никак не стихает в памяти его недавних
участников. «Хреново, конечно, когда товарища убьют, но когда
своя задница цела — горе утраты переносится легче».
«Лейтенант у нас был, ну ей-богу, такого набитого
дурака в жизни не встречал. Мы его прозвали лейтенант
Радость, потому что он все твердил: «Солдаты, я не
заставлю вас делать ничего такого, чего с радостью не сделал
бы сам». Вот ведь дерьмо! Мы засели на высотке, он мне
и говорит: «Дуй к хребту, доложи обстановку». «Не
могу,— говорю,— лейтенант». Так он сам туда попер, сам,
представляешь? Ну и схлопотал там как миленький
промеж рогов. Еще грозился поговорить со мной всерьез,
как вернется. Ну, извини!»
«Парнишку тут (совсем, разумеется, «не тут», это
просто манера речи) одного разорвало в куски футах в десяти
за нами. Вот как перед богом, я, когда обернулся, думал,
там десять разных человек, а не один...»
«В вас, парнях, дерьма столько, что прямо из ушей оно
течет,— говорил солдат, у которого сбоку на каске
красовалась надпись: «Молись о войне». Обращался он в
основном к солдату, каска которого была озаглавлена
«Ублюдок».— Писали, небось, кипятком, да так, что все, кроме
ногтей, с мочой выходило. И не говори, что не перетрухал,
ни хрена не поверю, потому что я сам был там и напугался
до поноса. Минуты не было, чтобы не страшно, а я ничем
не хуже любого другого».
«Тоже удивил, страшно ему было!»
«И еще как! Еще как! Еще как было страшно! Глупее
тебя я в жизни расхлебая не видел, но даже ты не
настолько кретин, чтобы этого не понять. Даже морские
пехотинцы не такие кретины. Плевать я хотел на все это дерьмо,
226
чему их там в морской пехоте учат, что они ничего не
боятся... боятся, да еще как!»
Он пытался встать, но у него подломились колени.
Всхрипнув, будто в нервном приступе, он упал навзничь,
опрокинув составленные в козлы автоматические винтовки.
Винтовки с грохотом попадали, солдаты резко
повскакивали, уворачиваясь и переглядываясь, как бы пытаясь
сообразить, после того как отключились на минуту, нужно
искать укрытие или нет.
«Смотри, что делаешь, малый»,— сказал один
парашютист, но сказал смеясь. Они все смеялись, а солдат с
надписью «Молись о войне» смеялся громче всех, да так,
что смех вдруг перешел в громкие повизгивания. А когда
он вновь поднял лицо, по нему бежали слезы. «Так и
будешь стоять, сволочь? — кинул он солдату с надписью
«Ублюдок» на каске.— Или дашь руку и поможешь на
ноги встать?» Тот нагнулся, сгреб его за запястья и
медленно поднял, пока их лица не оказались в двух дюймах
друг от друга. На миг показалось, что они сейчас
поцелуются.
«Ишь, симпатяга,— сказал «Молись о войне».—
Слышь, Скудо, а ты у нас и впрямь красавчик. Чтой-то и
непохоже, будто тебе там, в бою, было страшно. Похоже,
ты всего лишь отшагал десять тысяч миль по очень плохой
дороге».
Правду говорят: удивительно, чего только не западает
в память. Вот, например, негр-парашютист,
проскользнувший мимо со словами: «Сняли с меня окалину, брат, я
теперь чистый», ушедший в мое прошлое и свое — от души
надеюсь — будущее, оставив меня изумляться не тому, что
имел в виду (зто-то понять не трудно), но тому, где
набрался таких слов. В сырой холодный день в Гуэ наш джип
завернул на стадион, куда свезли трупы сотен вьетнамцев.
Я видел их, но они не так врезались в память, как пес и
утка, которых зацепило небольшим взрывом, устроенным
подпольщиками в Сайгоне. Как-то раз в джунглях я вышел
по нужде на расчищенную в кустах прогалину и наткнулся
там на солдата, одиноко стоящего посреди вырубки. Мы
поздоровались, но радости у него мое появление не
вызвало. Когда он объяснил, что парням больше невмоготу
сидеть в джунглях и ждать атаки и поэтому он вышел из
укрытия попробовать привлечь огонь противника, я
поспешно ретировался — не мешать же человеку, когда тот
8*
227
работает. Много воды утекло. Чувства, пережитые тогда,
я помню хорошо, но испытывать их больше не способен.
Все, страдающие излишней памятливостью, молят об
одном: так или иначе, рано или поздно все забудется,
так пусть уж забудется сразу. А память хранит голоса и
лица; события просвечивают сквозь ткань времени
тусклым светом далекого маяка и так врезаются в пережитое,
что от них не избавиться и никуда не деться.
«В первом письме от моего старика только и было про,
значит, как он горд, что я служу здесь, и про наш долг.
В общем, про всю эту хреновину; меня всего аж
перекосило — еще бы, дома папаша-то не каждый день «здра-
сте» мне говорил. Н-да... А теперь я тут прослужил уже
восемь месяцев, и, когда вернусь домой, придется мне
сдерживаться изо всех сил, чтобы не пришибить этого
старого недоноска на месте...»
Куда бы я ни попадал, ото всех только и слышал:
«Надеемся, наберете материал для статьи», и, куда бы я ни
попадал, он набирался.
«Да не, не так уж и паршиво. Но в прошлый срок
служить было лучше, меньше разводили ерундовины. А тут
на каждом шагу начальство, прямо сделать ничего не
дают. В последних трех операциях отдали нам приказ:
проходя деревни, на огонь не отвечать! Да что же это на хрен
за война такая! В прошлый-то раз мы б прошли сквозь
деревню — и финиш. Все заборы снесли б, хижины пожгли
к чертям, колодцы повзрывали да перебили бы всю
живность, какая только попадись. Ты пойми — если нам по
этим людишкам не стрелять, то какого черта мы тут
вообще делаем?»
От некоторых журналистов доводилось слышать об
операциях, не дающих никакого материала для статьи.
Я таких операций не видел. Если операция срывалась и
вертолеты так и не поднимались с земли, то оставалась
ведь взлетная полоса. Жаловались обычно те самые
журналисты, которые все спрашивали нас, о чем это мы, черт
побери, ухитряемся беседовать с солдатами — по их
мнению, солдатня способна говорить лишь о машинах,
футболе и жратве. Но каждому из них было что рассказать,
и война заставляла рассказывать.
«Попали мы в самое пекло, от нас только ошметки
летели. «Недомерки»* запаниковали, а тут пришли за нами
вертолеты, чтоб эвакуировать. Места, конечно, на всех не
хватает. «Недомерки» визжат, цепляются за шасси, прямо
228
за наши ноги цепляются, вертолеты взлететь не могут.
Ну, думаем, какого черта, пусть их собственные вертолеты
отсюда вывозят. Короче, начали мы в них стрелять. А они
все равно прут. Дикое дело, я тебе скажу. То, что по ним
палит Вьетконг,— это они понимали. Но чтоб и мы по ним
начали стрелять — они никак поверить не могли...»
Это — рассказ о бое в долине Ашу, случившемся за год
до моего приезда во Вьетнам. Старый рассказ, с бородой.
А иногда случалось выслушивать рассказы о событиях
столь близких, что у рассказчика еще не прошел от них
шок. Иногда истории были долгими и запутанными, иногда
укладывались в несколько коротких слов, намалеванных
на каске или на стене, а иногда вообще ограничивались
звуками и жестами столь экспрессивно насыщенными, что
впечатляли почище любого романа. Рассказчики
выпаливали короткие яростные фразы, будто боясь, что не успеют
договорить, а то будто сказку рассказывали — невинно,
непринужденно и более чем непосредственно: «Да просто
ввязались в перестрелку, постреляли кой-кого из них,
а они — кой-кого из наших, и все дела». Многое из
услышанного повторялось изо дня в день и в зубах навязло,
с магнитофонных лент звучали одни и те же слова,
чванливые, бессвязные и безмозглые, слова людей, чей уровень
развития, казалось, застрял на вопле: «Бей их!» Но иногда
прорезалось что-то свежее, а временами даже и
незаурядное, как, например, слова санитара в Кхэсан: «Не в том
дело, как сюда попадешь, а в том, как отсюда выберешься.
Вся-то разница лишь в том, кого ухлопают, а кого нет,
а никакой разницы-то в этом и нет вовсе».
И кого же там только не было: потенциальные святые,
законченные уголовники, не осознавшие себя
поэты-лирики и тупые, злобные сукины сыны, у которых на всех
была одна извилина, да и та прямая. Даже к тому времени,
когда я разобрался, откуда вытекают все их рассказы и
к чему сводятся, я все равно был не в состоянии перестать
изумляться им. Они-то, совершенно явно, всего лишь
хотели объяснить, до чего устали, до чего потрясены, до чего
напуганы и до чего им все опротивело. А может, это я
просто все так воспринимал. К тому времени мое
положение определилось четко: «репортер». («Трудно, должно
быть, оставаться невовлеченным»,— заметил попутчик в
самолете, летящем в Сан-Франциско. «Просто
невозможно»,— ответил я.) Год спустя я настолько ощущал себя
участником всех рассказанных мне историй, настолько
229
собственной шкурой ощущал стоящие за ними образы
и стоящий за ними страх, что начал слышать даже
мертвых. Их рассказы слышались мне там, в той далекой, но
доступной сфере, где нет уже ни мыслей, ни чувств, ни
фактов, ни даже языка как такового. Есть одна лишь
незамутненная информация. Сколько бы раз это ни
случалось, независимо от того, знал ли я их в жизни или как
они погибли, их рассказ все равно приходил ко мне, и
всегда в нем звучало одно: «Поставь себя на мое место».
Однажды утром я принял кровотечение из носа за
ранение в голову. Так отпала нужда представлять, как я
среагирую, если меня когда-нибудь зацепит. Мы
участвовали в прочесывании местности к северу от города Тэйнин,
в сторону границы с Камбоджей, и ярдах в тридцати от
нас разорвалась мина. Тогда я еще не обладал чувством
дистанции; даже после полутора месяцев во Вьетнаме я
все еще воспринимал подобные сведения как интересную
для журналиста деталь, которую можно уточнить позже,
а не как знание, необходимое тому, кто хочет выжить.
Мы рухнули на землю, и шедший впереди солдат заехал
мне каблуком в лицо. Я не понял, что произошло, не
ощутил удара по лицу, потому что в этот момент грузно
ударился о землю всем телом, но почувствовал острую
боль выше глаз. Солдат обернулся и с места в карьер
понес какую-то чушь: «Ах, черт, слышь, извини, нет,
правда, извини, а?» В рот мне будто забили горячий вонючий
металлический осколок, казалось, на кончике языка шипят
мои собственные мозги. Солдат трясущимися руками
отстегивал флягу. Видно было, что он действительно сильно
перепугался: лицо бледное, голос дрожит, вот-вот
расплачется. «Ах, черт, ну и дубина же я, болван, кретин! Но вы
в порядке, ей-богу, в порядке>. Я вдруг понял, что он
только что вроде как убил меня. Кажется, я ничего не
сказал, но издал звук, который помню до сих пор: хриплый
вопль, в котором прозвучало больше ужаса, чем я мог
вообразить. Он звучал как вопль, испускаемый
сжигаемыми растениями или старухой, которую в последний раз
валят на кровать. Руки сами взметнулись к голове. Мне
просто необходимо было найти и ощупать ее. На темени
вроде крови не было, на лбу тоже. Из глаз — из моих
глаз\ — кровь тоже не шла. В этот момент полуоблегчения
боль приняла особый оттенок. Я решил, что мне взрывом
то ли свернуло, то ли вмяло, то ли оторвало нос. А парень
230
все твердил свое: «Извини. Слышь? Извини. Ах... что я за
идиот!>
В двадцати ярдах от нас метались обезумевшие люди.
Одного убило (мне объяснили позже, что погиб, он только
потому, что шел, не застегнув бронежилет: еще одна
деталь, которую следует крепко запомнить на будущее).
Другой стоял на четвереньках, выблевывая какую-то
розовую гнусь, а еще один прижался к дереву, спиной
туда, откуда летели мины, заставляя себя смотреть на
немыслимую вещь, случившуюся с его ногой: ее крутануло
вокруг собственной оси ниже колена, точно у какого-то
пугала. Он то отводил глаза, то глядел на свою ногу снова,
и каждый раз смотрел на секунду-другую дольше. Затем
не отрывал от нее глаз с добрую минуту, покачивая
головой и улыбаясь, пока улыбка на лице не сменилась
серьезным выражением, и он потерял сознание.
К тому времени я нащупал свой нос и понял, что
случилось. Все понял. Все у меня было цело. Даже очки не
разбились.Я взял у парня флягу, смочил косынку, которую
носил на шее, чтобы впитывался пот, и смыл с губы и
подбородка запекшуюся кровь. Парень перестал извиняться.
На лице его больше не было и следа жалости. Когда я
вернул ему флягу, он уже смеялся надо мной.
Я никогда никому не рассказывал об этом. И в той
части тоже никогда больше не бывал.
III
В Сайгоне я всегда ложился спать надравшись,
поэтому почти никогда не запоминал снов. Может, оно и к
лучшему. Надо было уйти от накопившейся информации
и хоть немного отдохнуть. Когда просыпался, память
стирала все образы, кроме тех, что отлеглись день или
неделю назад. Оставался лишь скверный привкус во рту,
будто лизал во сне столбик засаленных, грязных монет.
Я наблюдал, как спят солдаты, такие выдавая звуки, что
твой огневой контакт в ночной тьме. Уверен, что и со мной
случалось то же самое. Они рассказывали (я
расспрашивал их), что тоже не запоминают снов, находясь в зоне
боевых действий, но в отпуске или в госпитале к ним
постоянно приходят ясные, четкие и бурные сновидения.
Как у человека, которого я запомнил в госпитале в Плейку,
когда однажды очутился там. Было три часа утра. Было
страшно и не по себе, будто впервые в жизни слышишь
231
незнакомый язык и вдруг понимаешь каждое слово.
Он кричал, кричал громко, проникновенно, настоятельно:
«Кто? Кто? Кто там, за стеной?» В уголке, где я сидел
с дневальным, горела единственная на всю палату лампа
с затененным абажуром. Мне были видны только первые
несколько кроватей, ощущение было такое, будто в
темноту уходили тысячи коек, но на самом деле их там было
только по двадцать в ряд. После того как раненый
выкрикнул эти слова несколько раз подряд, наступил перелом, как
после кризиса при лихорадке, и голос его зазвучал
жалобно, как у малыша. Я видел, как в дальнем углу палаты
закуривали; слышал бормотание и стоны раненых,
приходивших в сознание, к своей боли, но спящий не ощущал
ничего — он все проспал... Что же до моих собственных
снов, которые я не мог вспомнить, то мне следовало бы
знать: есть вещи, которые все равно не оставят твою
память, пока окончательно не приживутся в ней. Наступит
такая ночь, когда они оживут, полные неослабной силы,
и эта ночь будет лишь первой из очень многих ночей.
Вот тогда я вспомню все и проснусь в полной уверенности,
что никогда не видел наяву ни одно из увиденных сейчас
во сне мест.
Сволочная сайгонская хандра, когда только и остается,
что покурить и соснуть хоть немного, а потом проснуться
ближе к вечеру на сырых подушках, остро ощущая, что
проснулся в постели один, и прошлепать к окну взглянуть
на улицу Тудо. Или просто лежать, следя взглядом за
крутящимися лопастями вентилятора, протянуть руку за
толстым «бычком», прилипшим к солдатской зажигалке в
застывшей лужице смолы, насочившейся из марихуаны,
пока я спал. Сколько раз начинал я день этой затяжкой,
не успев даже ноги с кровати свесить. Мама моя, мамочка,
что же я так опять надрался?
Однажды в горах, где «монтаньяры»* давали фунт
легендарной травки за блок сигарет «Сейлем», я накурился
вместе с какими-то пехотинцами. Один из них несколько
месяцев вырезал себе трубку, очень красивую,
изукрашенную цветами и символами мира. Еще там был маленький
тощий человек, он все усмехался, но почти ничего не
говорил. Человечек достал из вещмешка большой пластиковый
пакет и протянул мне. Содержимое пакета напоминало
большие куски сушеных фруктов. Я был одурманен
марихуаной и голоден. Я уже было сунул в пакет руку, но он
показался как-то по-скверному тяжелым. Остальные сол-
232
даты переглядывались — кто весело, кто растерянно, а кто
и сердито. И я вспомнил, как мне однажды сказали: во
Вьетнаме куда больше ушей, чем голов. Просто так
сказали, для сведения. Когда я протянул пакет обратно
хозяину, тот все еще усмехался, но глаза его стали
печальнее обезьяньих.
В Сайгоне и Дананге мы часто курили зелье вместе и
общими усилиями пополняли и хранили совместный запас.
Он был неисчерпаем, вокруг него кишмя кишели
разведчики, диверсанты, «зеленые береты» — хвастуны,
снайперы, насильники, палачи, мастера оставлять женщин
вдовами, любители громких кличек — классическая
основа основ Америки — одиночки, индивидуалисты,
какими они были запрограммированы еще в генах.
Отведав однажды предложенного лакомства, они начинали с
ума по нему сходить; оно точно оправдывало их ожидания.
Можно было считать себя не таким, можно было
надеяться, что у тебя против этого иммунитет, хоть пробудешь
на войне целых сто лет. Но, окунаясь в эту среду, каждый
раз я выныривал со все меньшей и меньшей уверенностью
в себе.
Кто из нас не слышал о парне, служившем в горах,
который решил «сделать» своего собственного «гука» —
благо в составных частях недостатка не было. В Чулай
морские пехотинцы показывали мне солдата и богом
клялись, что он на их глазах прикончил штыком раненого
вьетнамца, а потом начисто вылизал штык, языком. А
знаменитая история о том, как журналисты спросили однажды
бортового стрелка: «Как можно стрелять в женщин и
детей?» — и тот ответил: «Легче легкого, на них меньше
пуль идет». Говорят, правда, все дело в том, что нужно
иметь чувство юмора. Оно есть даже у Вьетконга.
Уничтожив однажды изрядное количество американцев,
попавших в засаду, партизаны разбросали по полю боя
фотографии еще одного молодого американского парня со
стереотипной надписью: «Ваши рентгеновские снимки только
что получены из лаборатории. Мы полагаем, что можем
определить причину болезни».
— Я сидел в вертолете, а солдат, сидящий напротив
меня, беззаботно уставил мне в грудь ствол заряженной
винтовки. Я замахал руками, показывая, чтобы он ее
убрал, а он разразился взрывом смеха. Потом сказал
что-то своим соседям, и те захохотали тоже...
233
— Он, наверное, сказал: «Этот подонок просит в него
не целить»,— заметил Дейна.
— Ага... А мне иногда кажется, что кто-нибудь из них
рано или поздно просто разрядит в нас обойму и крикнет:
«Эй, а я репортеришку пришил!»
— Один полковник в 7-й бригаде морской пехоты
обещал своим парням трехдневный отпуск за каждого
убитого журналиста,— сообщил Флинн.— А за Дейну —
целую неделю.
— Ни черта себе,— фыркнул Дейна.— Они меня за
господа бога держат.
— Это уж точно,— вставил Шон.— Это уж точно,
сукин ты сын. Ты же точно такой, как они.
Дейна Стоун только что вернулся из Дананга за новым
оборудованием, все его камеры сожрала война, часть
пришлось отдавать в ремонт, а остальных просто не стало.
Флинн вернулся предыдущей ночью после полутора
месяцев, проведенных с подразделениями специального
назначения 3-го корпуса, и упорно не говорил ни слова о том,
что ему довелось там увидеть. Он находился в прострации:
сидел, прислонившись спиной к стене, пытаясь разглядеть
струйку пота, стекающую со лба из-под волос.
Мы сидели в номере гостиницы «Континенталь»,
принадлежащем оператору Си-би-эс Кейту Кею. Было самое
начало мая, вокруг города шли упорные бои, велось
крупное наступление, всю неделю из зоны сражений приезжали
знакомые и возвращались обратно. На противоположной
стороне сновали по забранным решетками крылечкам
пристройки к «Континенталю» индийцы-ростовщики в
одном нижнем белье, уставшие после еще одного трудного
дня купли-продажи денег. (Их прибежище у ресторана
«Адмирал» именовалось «Индийским банком». Когда сай-
гонская полиция — «белые мышата»* — совершила на их
лавку налет, то обнаружила там два миллиона
«зелененьких»*). По улице шли грузовики и джипы, перемежаясь
тысячами велосипедов, и быстрее стрекозы порхала на
костылях девочка с засохшей ногой, предлагая прохожим
сигареты. Ее детское лицо было таким красивым, что
людям невыносимо было на нее смотреть. Визжали ее
конкуренты — уличные мальчишки: «Деньги менять!»,
«Картинки с девочками!», «Кому сигаретки с травкой!»
Шум и гомон неслись по всей улице Тудо, от собора к
набережной. У поворота на Лелой показалась большая
группа корреспондентов, вышедших с брифинга — стан-
234
дартной ежедневной информационной комедии, файвок-
лонной чепухи, пятичасового трепа. Дойдя до угла, строй
журналистов рассыпался, каждый пошел к себе
передавать материал. Мы смотрели на них в окно: битый битому
отмеряет час.
В комнату зашел поздороваться новый корреспондент,
только что из Нью-Йорка, и с места в карьер засыпал
Дейну вопросами, по большей части кретинскими: на
сколько бьют различные минометы, каков радиус ракет,
какова сравнительная дальнобойность автоматической
винтовки «М-16» и автомата Калашникова, как
разрываются снаряды, попадая в кроны деревьев, падая на
сырую землю полей и на твердую почву. Лет ему под сорок,
одет в пижонский костюм «для отдыха в джунглях»,
портные с улицы Тудо делают на этих костюмах состояния.
Всяких карманов с молниями, клапанами и без на них
столько, что можно тащить собой амуниции на целый
взвод. На каждый отвеченный вопрос парень тут же зада-
вал два новых. В общем-то, понятно: он на позиции еще
и носа не совал, а Дейна почти что не вылезал оттуда.
Того, что здесь услышишь, не прочитаешь нигде, знающий
рассказывает незнающему; а новички вечно прибывают с
вагонами вопросов, энергичные и жадные до впечатлений
Так же когда-то отвечали на вопросы и тебе. Слава богу,
если сейчас можешь хоть на какие-то из них ответить сам.
Пусть даже объясняешь только, что на некоторые вопросы
ответов нет совсем. Но этот парень расспрашивал не так,
кок другие, в его вопросах постепенно прорезалась
истерика.
— Ох, наверное, возбуждает это все? Пари держу, что
возбуждает!
— Ты даже не представляешь себе как,— ответил
Дейна.
Вошел Тим Пейдж. Он провел весь день у моста Уай,
снимая идущий там бой, и попал в волну «Си-Эс». Теперь
он тер глаза, исходил слезами и матерился.
— О, вы англичанин,— сказал новичок.— Я только что
оттуда. А что такое «Си-Эс»?
— Газ,— ответил Пейдж.— Всем газам газ.
Хлебнешь — узнаешь.— И он притворился, что раздирает себе
ногтями лицо — на самом деле он тер лицо кончиками
пальцев, но все равно оставались красные полосы.
— Снимай теперь вслепую,— сказал Флинн и
рассмеялся.
235
Не спросив ни у кого разрешения, Пейдж убрал с
проигрывателя пластинку, которую мы слушали, и заменил
пластинкой Джимми Хендрикса: долгая напряженная
гитарная фраза заставила его вздрогнуть, как в экстазе,
будто источник бешеной энергии подключился к нему
откуда-то из-под ковра и она течет по спинному хребту
прямо в размягченный мозг, возбуждая нервные центры
наслаждения, заставляя его трясти головой так, что даже
взлохматились волосы. «Испытал ли ты хоть раз?»
— А что выходит, когда попадает промеж ног? —
спросил новичок так, будто это и был вопрос, который он все
время хотел на самом деле задать. Казалось бы, какие
можно нарушить приличия в нашем обществе? Ан нет —
вопрос новичка ощутимо всех покоробил. Флинн завел
глаза к потолку, будто следя за удаляющейся из поля
зрения бабочкой. Пейдж оскорбленно фыркнул, но в то же
время ему стало смешно. Дейна даже не шевельнулся,
из его зрачков словно исходили мертвые лучи.
— Да как тебе сказать,— буркнул он.
Мы расхохотались. Не смеялся только Дейна. Он-то
видел, что это такое, и просто объяснил новичку то, что
видел. Что новичок спросил дальше, я не расслышал, зато
ответ Дейны был слышен очень хорошо. Прервав новичка,
Дейна сказал:
— По правде, я могу тебе дать только один
по-настоящему полезный совет: вернись к себе в номер и поупряж-
няйся в битье головой об стенку.
Прекрасное зрелище, если увидеть его только однажды:
вид на центр города в рассветный час из кабины самолета
с высоты восьмисот футов. С этой высоты и в этот час
видишь то, что видели люди сорок лет назад: азиатский
Париж, жемчужину Востока, прямые, широкие
обсаженные склонившимися над ними деревьями проспекты,
переходящие в просторные, тщательно спланированные
парки, мягко укутанные дымком миллиона очагов, на
которых стряпался утренний рис. Камфарный дымок
подымался вверх, растекаясь над Сайгоном и сияющими
прожилками реки, и становилось так тепло, будто
возвращались лучшие времена.
Игра воображения. В том-то и беда с вертолетами, что
ведь когда-нибудь приходится приземляться на
конкретную улицу в конкретный миг. А уж если там, внизу, нашел
жемчужину, то и храни ее в себе.
236
К половине восьмого город обезумевал от
велосипедов, воздух становился не просто как в Лос-Анджелесе,
а как в Лос-Анджелесе при аварии канализации.
Просыпалась после ночи изощренная городская война внутри
войны, война с относительно легкими потерями, но с
обостренными проявлениями отчаяния, злобной ненависти и
бессильного, травящего душу отвращения. Тысячи
вьетнамцев, образующих основание пирамиды, которой не
простоять и пяти лет, кормящиеся ею хапуги, давящиеся
от жадности. Командировочные американцы,
преисполненные ненависти к вьетнамцам и страхом перед ними.
Тысячи американцев, вопящих унылым хором в своих
служебных кабинетах: «Этих людей ни черта не заставишь
делать». А остальные — ихние, наши, те, кто не хотел
участвовать в этой игре, кого от нее тошнит. В декабре
того года министерство труда Южного Вьетнама
объявило, что проблема беженцев решена, что всем
«беженцам найдено место в хозяйственной жизни страны».
Однако складывалось впечатление, что по большей части
беженцы нашли себе место в самых темных городских
закоулках, на помойках и под машинами, оставленными на
автостоянках. В картонных ящиках из-под холодильников
и кондиционеров находили приют по десятеро детей сразу.
Большинство американцев, да и многие вьетнамцы
переходили на другую сторону улицы, чтобы миновать помойки,
на которых кормились целые семьи. И все это еще за много
месяцев до начала знаменитого наступления «Тэт»* —
поток беженцев просто затопил Сайгон. Как я слышал,
в южновьетнамском министерстве труда на каждого
сотрудника-вьетнамца приходилось до девяти советников-
американцев.
В ресторанах Броддарда и «Пагода» и в пиццериях за
углом днями напролет болтались вьетнамцы — «студенты»
и «ковбои» на мотоциклах, бессвязно друг с другом споря,
попрошайничая у американцев, стягивая со столов чаевые,
читая Пруста, Мальро и Камю в изданиях «Плеяды».
Я несколько раз говорил с одним из них, но общего языка
мы не нашли. Я ничего не понял, кроме того, что он
испытывал навязчивое желание сравнивать Вашингтон с
Римом, а еще, кажется, он считал Эдгара По французским
писателем. Ближе к вечеру «ковбои» оставляли бары и
кафе-молочные и неслись к площади Ламсон, ища
знакомств. Они могли смахнуть у вас с руки часы, мгновенно,
как ястреб ловит полевую мышь. Могли стянуть бумаж-
237
инк, ручку, фотокамеру, очки — все, что плохо лежит.
Затянись война еще немного, и они наловчились бы с вас
на ходу подметки рвать. Они почти не покидали седел
своих мотоциклов, никогда не оглядывались назад. Как-то
солдат из 1-й дивизии снимал своих однополчан с
девушками из бара на фоне Национальной ассамблеи. Он навел
камеру и прицелился, но не успел нажать на спуск, как
камера уже оказалась за квартал от него, а ему осталось
лишь окутавшее его облако газа из выхлопной трубы,
оборванный ремешок на шее да выражение беспомощного
изумления па лице: «Надо же так влипнуть!» Через
площадь перебежал мальчишка, сунул солдату за ворот кусок
картона и скрылся за углом. «Белые мышата» наблюдали
за происходящим, прыская от смеха, но мы, видевшие все
это с террасы «Континенталя», только рты раскрыли.
Позже солдат поднялся к нам выпить пива и сказал:
«Вернусь обратно на войну, ей-богу, в этом гадском
Сайгоне не выдержать». Рядом с нами обедала большая
группа штатских инженеров, из тех, что в ресторанах
швыряются друг в друга тарелками. Один из них,
пожилой толстяк, посоветовал: «Если поймаете кого из этих
цветных паршивцев, прижмите как следует. Они этого не
любят».
С пяти до семи время в Сайгоне тянулось долго и нудно,
энергия города гасла в сумерках, пока не наступала
темнота и подвижность сменялась настороженностью. Ночной
Сайгон по-прежнему был Вьетнамом, а ночь — истинная
среда войны; ночью-то в деревнях и происходило все
самое интересное; ночью не могли снимать
телевизионщики; и Феникс — ночная птица — то прилетала, то
улетала из Сайгона.
Может, только сумасшедший мог найти в Сайгоне
очарование, а может, только очень нетребовательный
человек, но для меня Сайгон был полон очарования, а
опасность лишь подчеркивала его. Дни постоянного
широкого террора в Сайгоне уже прошли, но все понимали, что
они могут в любой момент вернуться, как в шестьдесят
третьем — шестьдесят пятом годах, когда под рождество
взорвали офицерское общежитие, когда взорвали
плавучий ресторан «Микан», затем выждали, пока его отстроят
заново, оттранспортируют на другую речную стоянку,
и взорвали снова. Когда взорвали старое здание
американского посольства и навсегда изменили характер войны,
придав ей новый размах. Было известно, что в районе
238
Сайгон — Шолон находятся четыре партизанских
саперных батальона — внушающие ужас партизанские
«суперзвезды». Им даже не приходилось ничего делать, чтобы
держать всех в страхе. Перед новым зданием посольства
круглосуточно дежурили пустые санитарные машины.
Часовые ползали с зеркалами и приборами под каждой
машиной, въезжающей в каждый двор. Перед
офицерскими общежитиями возводились укрепления из мешков с
песком, устанавливались контрольно-пропускные пункты и
проволочные заграждения. Окна наших комнат
забирались решетками. Но все равно партизаны прорывались
то здесь, то там, нанося удары наугад, но эффективно.
Тогда по ночам по улицам разъезжала на «хонде»
серьезная женщина-тигрица, стреляя в американских
офицеров из кольта. За три месяца она убила, кажется,
не менее дюжины. Сайгонские газеты именовали ее
красавицей, но откуда же это было им знать? Командир одного
из подразделений военной полиции в Сайгоне
высказывал предположение, что действует переодетый в женское
платье мужчина, потому что «такой кольт чересчур тяжел
для мелкорослой вьетнамки».
Сайгон — центр, в котором любое событие,
случившееся за сотни миль в джунглях, отзывается звучанием
некой кармической струны, натянутой так туго, что тронь
ее рано утром, и она не смолкнет до поздней ночи. Какие
бы события в стране ни происходили, на все находились
формулировки и пресс-релизы, а при подготовке к
обработке компьютерами можно было жонглировать самыми
большими числами. Приходилось встречаться либо с
оптимизмом, которого не мог искоренить никакой размах
насилия, либо с цинизмом, самоедски пожирающим самого
себя изо дня в день, а затем зло и голодно
набрасывающимся на все, от чего можно урвать пищи,— вражеское
ли, свое ли, неважно. Убитых вьетнамцев именовали
«верующими»; потерять в бою взвод американских солдат
называлось «получить синяк». Послушать, так можно
подумать, что убить человека — вовсе и не значит убить.
Просто ослаб парень, и все.
На этой войне даже не казалось противоречивым, что
самое острое чувство стыда оттого, что ты — американец,
ослабевало по мере того, как ты покидал служебные
кабинеты, переполненные никогда никого не убивающими,
стремящимися лишь к добрым делам людьми, и
оказывался в джунглях среди солдат, говорящих только об
239
убийстве и все время убийства совершающих. Это правда,
что солдаты сдирали с врагов ремни, вещи и оружие.
Эта добыча все время появлялась в обороте вместе с
другим добром: часами, камерами, тайваньскими туфлями из
змеиной кожи, портретами обнаженных вьетнамок,
большими резными фигурами из дерева, которые
устанавливали на столах в кабинетах, чтобы приветствовать
посетителя. В Сайгоне никогда не имело значения то, что
вам говорили, и того меньше, когда говорившие сами
верили в то, что говорили. Карты, схемы, цифры, прикидки,
полеты фантазии, названия населенных пунктов, операций,
имена командиров, марки оружия, воспоминания, догадки,
новые догадки, личные ощущения (новые, старые,
настоящие, воображаемые, ворованные), истории, отношения —
на все можно было махнуть рукой, абсолютно на все.
В Сайгоне сведения о войне можно было услышать лишь
из рассказов друзей, вернувшихся оттуда, где шли бои,
либо увидеть в наблюдательных глазах сайгонцев, либо
прочесть по трещинам в асфальте.
Находиться в Сайгоне — все равно что очутиться в
закрытой чашечке ядовитого цветка, настолько ядовитого
до самых корней, что куда ни ткнись — всюду яд. Сайгон
единственный сохранил чувство преемственности,
доступное даже такому чужаку, как я. Гуэ и Дананг казались
замкнутыми и обособленными. Деревни, даже большие,
казались недолговечными — могли исчезнуть за несколько
часов, а место, где они стояли, или разнесли уже в пух и
прах, или оно оказалось в руках противника. Сайгон
оставался — музей и арена,— он дышал историей,
выдыхая ее, как ядовитый газ, смешанный с коррупцией.
Мощеное болото, над которым проносились горячие густые
ветры, не приносящие свежести, над которым висела
жаркая туча испарений, дизельного топлива, плесени,
экскрементов, отбросов. Короткой прогулки хватало,
чтобы всего тебя выжать, после чего ты возвращался
в гостиницу с головой, как шоколадное яблочко: стукни
его в нужном месте, и оно тут же разваливается на дольки.
Иногда замрешь на месте как вкопанный, не зная, куда
тебя несет, и только думаешь: «Да где же это я... растак
и разэтак?», будто оказался в каком-то невероятном
переплетении Востока и Запада, коридоре, купленном,
прорезанном и прожженном из Калифорнии в глубь Азии,
а зачем строили, мы сразу же забыли. Аксиомой было
240
утверждение, что мы пришли туда дать им выбор, неся
им свободу выбора, как Шерман триумфально прошел
сквозь Джорджию, уничтожая все на своем пути*,
оставляя от границы до границы ровную полосу выжженной
земли. (На вьетнамских лесопилках приходилось менять
полотна пил каждые пять минут — наша древесина
путалась с ихней.) Столько там сконцентрировалось
американской энергии — американской и в основном
незрелой,— что, если бы можно было ее воплотить во что-либо
иное, кроме шума, боли и пустых трат, ее хватило бы на то,
чтобы освещать весь Индокитай добрую тысячу лет.
Миссия и месиво: военные ведомства и гражданские,
больше грызущиеся друг с другом, чем совместно воюющие
с противником. Рука с пулеметом, с ножом, с карандашом.
Рука, разящая в голову или в живот; рука, тянущаяся
к умам и сердцам; рука, запускающая самолеты;
проковыривающая щелки, чтобы подглядывать; собирающая
информацию. Рука, скрюченная, как у человечка из
эластика. Внизу уткнувшийся мордой в грязь рядовой,
наверху Руководящая троица: голубоглазый генерал с
лицом героя, престарелый посол, которого вот-вот хватит
кондрашка, да ражий и бессердечный трюкач из ЦРУ
(Роберт Комер по прозвищу Реактивный Двигатель, шеф
программы «умиротворения» на языке шпионской братии,
а на самом деле — второй войны. «Доложи» ему Уильям
Блейк*, что видел в лесу ангелов господних, Комер сначала
постарался бы его разубедить, а не сумев, приказал бы
обработать лес дефолиантами). А кругом — сплошная
вьетнамская война и сплошные вьетнамцы, вовсе не
невинные посторонние. Если бы ужи могли убивать, Миссию
и ее многочисленные руки можно было бы сравнить со
спутавшимися в клубок ужатами. Все по большей части
были столь же невинными, и столь же разумными. И
многие так или иначе испытывали удовлетворение от того,
что делали. Думали, что боженька им за это воздаст.
Они были невинными. Ведь для нестроевого персонала,
живущего в Сайгоне, война была ничуть не более
реальной, чем на экране телевизора дома в Америке.
Огрубелость воображения и чувств усугублялась гнетущей
скукой, невыносимой отчужденностью и непреходящим
беспокоящим ощущением, что в один прекрасный день
война окажется много ближе к тебе, чем до сих пор. А
замешен был этот страх на зависти — то скрываемой, то
демонстрируемой — к каждому солдафону, который хоть раз
241
был «там» и собственными руками прикончил гука —
этакая подленькая заочная кровожадность, восседающая
за добрым десятком тысяч канцелярских столов,
выдуманная жизнь, изобилующая кровавыми подвигами из
военных комиксов, отпечаток пальцев таящегося в глубине
души головореза на каждой утренней сводке, заявке,
платежной ведомости, истории болезни, информационном
бюллетене и тексте проповеди — короче говоря, на всей
системе.
Молитвы возносились в дельте Меконга, в горах, в
блиндажах морских пехотинцев на «границе» вдоль
демилитаризованной зоны, но ведь на каждую молитву с одной
стороны приходилась молитва с другой, и трудно было
сказать, чья возьмет верх. В Далате мать императора
вплела в волосы зернышки риса, чтобы вокруг летали и
кормились птички, пока она будет молиться. В обшитых
деревом, кондиционированных кабинетах — часовнях ко-
командования Миссии американской военной помощи во
Вьетнаме — тамошние служки кадили вовсю, моля
милосердного мускулистого Иисуса благословить склады
боеприпасов, батареи стопятимиллиметровых гаубиц и
офицерские клубы. После службы вооруженные лучшим в
истории оружием патрули несли дым этой кадильницы
людям, чьи жрецы умели сгорать на уличных
перекрестках, оставляя лишь кучки священного пепла. Из глубин
аллей доносились слова буддистских молитв о мире, сквозь
густой запах азиатских улиц пробивался аромат
курящихся благовоний. Группы южновьетнамских солдат,
окруженные родней, поджидая попутный транспорт,
сжигали полоски бумаги с написанными на них священными
текстами. Радиостанция вооруженных сил передавала
короткие молитвы чуть ли не каждые два часа. Однажды
я услышал, как завелся капеллан из 9-й дивизии: «О боже,
обучи нас более динамично жить с именем Твоим в сии
тяжкие времена, дабы мы могли лучше послужить Тебе в
борьбе против врагов Твоих...» Священная война,
бессрочный джихад. Или поединок между богом, который
подержит нам снятый с противника скальп, пока мы будем
прибивать его к стене, и богом, который в остраненности
своей будет наблюдать, как льется кровь десяти
поколений, если ему потребуется именно такой срок, чтобы
повернуть колесо.
242
И крутить его дальше. Еще рушились последние
линии связи и списывались последние жертвы, а
командование уже поспешило добавить Дакто к списку
одержанных нами побед. Этот чисто рефлекторный шаг
получил поддержку со стороны сайгонского пресс-корпуса, но
не получил поддержки ни от одного из журналистов,
кто собственными глазами видел, как метр за метром,
дюйм за дюймом уходила там почва из-под ног. Это
очередное дезертирство репортеров подлило масло в давно
уже пылающий огонь, в результате чего командир 4-го
корпуса громогласно осведомился в моем присутствии:
считаем ли мы вообще себя американцами, которые в
этом деле должны держаться заодно? Я ответил, что
считаем. Считаем безусловно.
Киномифология — «Форт Апачей»; Генри Фонда *,
новоиспеченный полковник, говорит Джону Уэйну, тертому
калачу: «Мы видели группу апачей, приближаясь к
форту», на что Джон Уэйн отвечает: «Если вы их видели,
сэр, то это не апачи». Но полковник одержим, отважен,
как маньяк, и не очень умен. Уэстпойнтовский пижон,
чья гордость и перспективы карьеры омрачены
назначением в эту дыру в Аризоне, и утешает его только одно:
он — профессиональный военный, а другой войны у страны
сейчас нет. Он оставляет без внимания советы Джона
Уэйна, в результате чего погибает, таща за собой половину
своих людей. Не столько вестерн, сколько фильм о войне.
И очень похоже на войну во Вьетнаме. Только Вьетнам —
это не кино, не мультяшка с приключениями, где герои
попадают из переплета в переплет, где их пытают током
и швыряют в пропасти, потрошат и опять зашивают, бьют
на куски, как посуду, и ничего с ними не случается — вот
они снова живы и здоровы, пройдя огонь, воду и медные
трубы. «Смерти нет» — так гласит другой фильм о войне.
В начале декабря 1967 года я включил радио и, поймав
радиостанцию американского экспедиционного корпуса во
Вьетнаме, услышал: «Пентагон объявил сегодня, что по
сравнению с корейской войной война во Вьетнаме
обойдется недорого, при условии что она не продлится дольше
корейской войны». Таким образом, она должна
завершиться где-то в 1968 году.
К тому времени, когда осенью домой в Штаты вернулся
генерал Уэстморленд — пробуждать патриотизм и с
мольбами требовать еще четверть миллиона человек, клянясь
243
и божась при этом, что «уже виден свет в конце
тоннеля»,— люди так жадно ждали хороших известий, что
сами были готовы увидеть этот свет. (Неподалеку от
города Тэйнин я познакомился с человеком, который
«вообще из этих чертовых тоннелей не вылезал». Он
забрасывал тоннели гранатами, палил в них из автомата, пускал
в них слезоточивый газ, ползал по ним на четвереньках,
выкуривая оттуда противника живым или мертвым. Это
была его работа. Он чуть не рассмеялся, услышав
заявление Уэстморленда. И сказал: «Что эта задница понимает
в тоннелях!»)
Несколькими месяцами ранее лозунг «Домой к
рождеству» пытались запустить с самого верху, но он не
прижился, поскольку настроение в войсках было
единодушным: «Не выйдет». Когда какой-нибудь офицер говорил,
что на его участке все в порядке, в голосе его звучал
пессимизм. От многих офицеров можно было услышать,
что дело в шляпе и все путем. «Чарли уже выбился из сил,
напрочь выбился, выложился весь до предела»,— как
заявил мне один из них. На брифингах в Сайгоне это
преобразовывалось в иные формулировки: «С нашей
точки зрения, противник более не обладает возможностями
подготовить, обеспечить и провести серьезную
наступательную операцию». Сидевший за моей спиной
корреспондент — и не чей-нибудь, а самой «Нью-Йорк тайме» —
фыркнул: «Здорово вы это провели, полковник». Но в
окопах, где не было информации другой, кроме собранной на
месте, солдаты настороженно оглядывались по сторонам,
повторяя: «Не знаю, не знаю. Сдается мне, Чарли что-то
затеял. Это уж такие хитрованцы. С ними смотри в оба!»
Предыдущим летом тысячи морских пехотинцев
соединениями численностью до дивизии в кровь сбивали ноги,
совершая броски-прочесывания к северу от зоны
расположения 1-го корпуса, вычеркивая букву «Д» из ДМЗ
(демилитаризованной зоны), но противник так ни разу и не
принял открытого боя, да и трудно поверить, что кто-то
всерьез этого ожидал. Просто на оперативном
пространстве в тысячи миль в самый разгар сухого сезона —
летнего пекла, сопровождаемого солнечными ударами,—
совершалось вторжение. Патрули возвращались на базы,
либо не сумев войти в соприкосновение с противником,
либо перемолотые засадами и быстрыми сокрушительными
минометно-ракетными обстрелами — зачастую соседних
подразделений морской пехоты. К сентябрю перешли к
244
«сдерживанию» противника под Контьен — отсиживались
на позициях, пока противник методично уничтожал
морских пехотинцев артиллерийским огнем. В зоне действий
2-го корпуса месяц спорадических стычек с противником
близ лаосской границы перерос в крупные бои вокруг
Дакто. Самой запутанной казалась ситуация в зоне 3-го
корпуса, вокруг Сайгона, где Вьетконг вел действия,
охарактеризованные в ежемесячном анализе оперативной
ситуации как «серия вялых безынициативных атак» от
Тэйнина и Локнина до Будопа. Речь шла о стычках вдоль
границы, которые в глазах некоторых журналистов
выглядели не столько вялыми, сколько намеренно
сдержанными, продуманными и прекрасно
скоординированными, как будто подразделения войск противника ведут
боевую подготовку к массированному наступлению. В зоне
расположения 4-го корпуса происходило то же, что и
обычно,— шла глухая, изолированная рамками дельты
Меконга настоящая партизанская война, где измена
служила таким же средством ведения боя, как и патроны.
До людей близких к частям специального назначения
доходили тревожные сведения о тройной игре и мятежах
наемников в тайных лагерях, после чего лишь на немногие
из этих лагерей можно было рассчитывать.
Той осенью ключевым словом в военной миссии было
слово «контроль». Контроль над потоком оружия,
контроль над информацией, контроль над ресурсами, политико-
психологический контроль, контроль над населением,
контроль над принявшей сверхъестественные размеры
инфляцией, контроль над территорией, обеспечиваемый
проведением стратегического курса. Но когда смолкали
речи, оставалось неизменно справедливым лишь одно:
ощущение того, насколько все вышло из-под контроля на
самом деле. Год за годом, сезон за сезоном, будь то сезон
жары или сезон дождей, расходуя эпитеты быстрее
патронов пулеметной ленты, войну именовали праведной
и справедливой, набирающей силы и чуть ли уже не
выигранной, а она все шла и шла, как прежде, своим
собственным путем. Когда все ваши расчеты, планы и намерения
рушатся и выплескиваются вам в лицо кровью
бесчисленных жертв, что толку в сожалениях? Ничего нет хуже,
когда на войне все идет не так.
Все спорили, пытаясь определить момент, когда все,
если так можно выразиться, пошло вразнос, но к единому
245
мнению не приходили. Служащие в составе Миссии
интеллектуалы склонялись к 1954 году как к точке отсчета;
а если человек был способен докапываться до таких
глубин, как вторая мировая война и японская оккупация,
то сходил чуть ли не за исторического провидца.
«Реалисты» полагали, что для нас Вьетнам начался в 1961-м,
но в целом персонал Миссии считал началом 1965-й,
период, следующий за Тонкинской резолюцией, как будто
.все кровопролитие, происходившее прежде, настоящей
войной не считалось. Но можно ли вообще определить
точку отсчета роковых событий? Можно просто сказать,
что Тропа слез* только и могла привести к Вьетнаму,
к поворотному пункту, где события замкнутся в круг.
Можно увидеть корни вины еще в тех предках нынешних
американцев, которые сочли леса Новой Англии слишком
неуютными и необжитыми и заселили их дьяволами
собственного изготовления. А может, все для нас кончилось
в Индокитае еще тогда, когда из-под моста в Дакао
выловили труп Олдена Пайла с забитыми грязью легкими.
Может, все лопнуло еще под Дьенбьенфу. Но Пайл погиб
на страницах романа, а под Дьенбьенфу хоть и
по-настоящему, но разбили французов, и для Вашингтона это имело
не больше значения, как если бы и французов, наряду с
Олденом Пайлом, сочинил Грэм Грин. Как ни крути
историю, или вовсе не крути, а бери, как есть, как ни
изучай сотни статей, трактатов и «белых книг> и километры
пленки, все равно там не найдешь ответа на вопрос,
который никто и не думал задавать. Мы строили на
обоснованном фундаменте исторических знаний, но, когда
фундамент дал трещину и «поплыл», знания не помогли нам
спасти ни единой человеческой жизни. Велико было
потрясение и велик накал страстей. А под перекрестным огнем
фактов и цифр скрывалась тайная история, которую мало
кто стремился раскопать.
Как-то в 1%3-м Генри Кэбот Лодж* прогуливался в
сопровождении журналистов по сайгонскому зоопарку, и
сквозь прутья решетки на него помочился тигр. Лодж
изволил пошутить, сказал нечто вроде: «Тому, кто
обрызган тигриной мочой, грядущий год не может не сулить
успеха». Наверное, ничто не выглядит таким печальным,
как неверно истолкованное предзнаменование.
Многие воспринимают 1963-й как далекое прошлое,
когда гибель американца в джунглях была из ряда вон
выходящим событием, волнующим своей мрачной новиз-
246
ной. Тогда это еще была не война, а приключение,
авантюра по части «плаща и кинжала». Солдат там толком еще
не было, не было даже советников, одни лишь мастера
«плаща и кинжала», действующие в глуши у черта на
куличках, мало кому подчиняясь и давая разыгрываться
собственной фантазии до пределов, мало кому доступных.
Годы спустя, вспоминая это время, его уцелевшие «герои»
предавались воспоминаниям, сравнивая себя с Гордоном*,
Бёртоном * и Лоуренсом * — почтенными психопатами еще
более древних авантюр, рвавшимися из своих бунгало и
палаток задать туземцам перцу, жаждавшими секса и
смерти, «утратившими связь со штабами». На Вьетнам
обрушились шпионы и диверсанты с дипломами
университетов «Плющевой лиги»*, гоняющие вдоль и поперек
в джипах и разбитых «ситроенах» со шведскими
пулеметами на коленях. Они в буквальном смысле слова
устраивали себе долгосрочный пикник вдоль границы с
Камбоджей, скупая китайские рубашки, зонтики и сандалии.
Затем появились «спуки» — этнологи, те любили разумом
и навязывали свою любовь туземцам, которым
стремились подражать, сидя на корточках в черных пижамах
и бормоча по-вьетнамски. Был там человек, ставший
«хозяином» провинции Лонган, «герцогом» Натранга,
были сотни других, слово которых служило
непререкаемым законом в деревушках и районах, где они проводили
свои операции, пока не переменился ветер, повернув эти
операции против них же самих. У «спуков» были свои
кумиры, подобные Лу Конейну, «Черному Луиджи»,
который, по слухам, посредничал между Вьетконгом,
правительством Южного Вьетнама, Миссией и
корсиканской мафией, или самому Эдварду Лэнсдейлу*, в
шестьдесят седьмом году еще жившему на своей вилле в
Сайгоне, угощая чаем и виски второе поколение шпионской
братии, обожавшее его, хоть он и сильно к тому времени
сдал. Были «спуки» административного типа,
появлявшиеся на аэродромах и расчищенных в джунглях
просеках, потея в своих белых костюмах, как головки сыра.
Были «спуки»-бюрократы, сиднем сидящие в кабинетах
Далата и Квинхона либо занимающиеся онанизмом в
какой-нибудь символизирующей «Новую жизнь» деревне.
«Спуки» из «Эр Америка»* готовы были перевозить любое
оружие, любое барахло, любую смерть на любое
расстояние и в любое место. «Спуки» из частей специального
назначения рыскали по стране, яростно демонстрируя
247
выучку, ища вьетконговцев, с которыми можно бы было
расправиться.
Наиболее умные из них сумели почувствовать
конвульсии и гримасы тяжелой и изнурительной поступи
истории. Сигналом для них прозвучал приезд в Сайгон
Лоджа, начавшего с того, что реквизировал для себя
виллу, занимаемую прежде руководителем сети ЦРУ,
момент особо забавный для тех, кто знал, что еще раньше
на этой вилле располагалась штаб-квартира Второго
бюро. Изменилась официальная доктрина решения
проблемы (в частности, стало погибать гораздо больше людей),
и романтика «плаща и кинжала» начала увядать, как мясо
на засыхающей кости. Время «спуков» истекло, как
истекает время выпавшей за ночь росы. Война шла своим
чередом, переходя в твердые руки поклонников огневой
мощи, жаждущих поглотить целиком всю страну, предав
забвению тонкости и хитрости, и «спуки» остались на мели.
Так и не сумев стать настолько опасными, насколько
хотели, они так и не осознали сами, насколько были опасны
на самом деле. Их авантюра выросла в войну, а затем
война так укоренилась во времени, в таком
продолжительном и так плохо объясненном времени, что превратилась
в самостоятельный институт, за неимением возможности
вылиться в какие-то иные формы. Участникам прежних
иррегулярных боевых действий пришлось либо
выметаться, либо поспешно вливаться в ряды регулярной
армии. К шестьдесят седьмому году от них осталась
лишь тень, рефлекторные движения отборных
авантюристов, которых слишком долго держали на задворках
событий, где даже не пахло кровью. Убитые горем и
отравленные воспоминаниями, они трудились, всеми брошенные,
над созданием своей тайной вселенной. И казались самыми
жалкими из всех жертв шестидесятых годов: все надежды
славной службы на Новых рубежах* либо пошли прахом,
либо сохранились в смутных воспоминаниях, но
сохранилась все еще любовь к их покойному вождю, унесенному
в самом расцвете и его, и их сил. А еще у них сохранился
печальный дар не доверять никому, да вечный холод во
взоре, да собственный, уже мало кому понятный жаргон:
«опечатывание границы», «черные операции» (для
жаргона неплохо), «радикальное развитие», «вооруженная
пропаганда». Я спросил одного «спука», что сие означает, и он
лишь улыбнулся в ответ. Конек нашей разведки —
наблюдение, сбор и обработка данных — превратился ныне в
248
карнавального медведя, забитого и тупого. А с конца
шестьдесят седьмого года, когда он все еще хромал и
ковылял по Вьетнаму, уже назревало наступление «Тэт».
IV
Иногда по ночам в джунглях вдруг замирали все звуки.
Не стихали, не растворялись вдали, а просто внезапно
смолкали, будто все живое получало какой-то сигнал:
летучие мыши, птицы, змеи, обезьяны, насекомые
воспринимали его на волне, которая могла стать доступной
нашему восприятию, проживи мы в джунглях с тысячу лет.
Сейчас же оставалось лишь гадать, чего же именно мы
не слышим, и пытаться жадно ловить любой звук, любые
обрывки сведений. Мне и раньше случалось слышать
такие затишья в джунглях — на Амазонке и
Филиппинах,— но в тех джунглях было «безопасно», там вряд
ли можно было предполагать, что сотни вьетконговских
партизан маршируют по джунглям во все стороны, либо
поджидают в засадах, либо просто живут там, выжидая
удобного момента расправиться с тобой. Мысль об этом
заставляла насыщать любую секунду нежданной тишины
всем тем, что дремало в собственном воображении, и даже
будила способности к яснослышанию. Начинало казаться,
что слышишь вещи абсолютно невозможные — дыхание
корней, биение сердец мелких зверьков; что слышишь
даже, как покрываются росой фрукты и деловито возятся
насекомые.
Оставаться в состоянии такой повышенной
чувствительности иногда удавалось довольно долго, пока снова не
поднимался обычный визг, писк и стон джунглей либо
пока из него не выводил какой-нибудь очень знакомый
звук — вертолета, пролетевшего над головой, или странно
успокаивающий шум захлопываемой двери в соседней
комнате. Однажды нас по-настоящему напугала передача
с борта вертолета управления психологических операций,
оснащенного мощной громкоговорящей установкой. Они
транслировали записанный на пленку детский плач. Его и
днем-то услышать не приведи господи, а уж ночью тем
более. Звук плача доносился до нас, искаженный накатами
убежища, и заставлял нас замирать на месте. И мало
способствовал успокоению визгливый истеричный голос,
пронзительно — как ледорубом по уху — верещавший
по-вьетнамски нечто вроде: «Это ребенок одного из лояль-
249
ных граждан вьетнамского правительства! Если не хочешь,
чтобы то же самое случилось с твоим ребенком, сражайся
с Вьетконгом сегодня!»
Иногда охватывала такая усталость, что забывал, где
находишься, и спал, как не спал и в детстве. Я знавал
многих, кто так и не проснулся, уснув этим сном. Одни
называли их счастливчиками, другие — чокнутыми (если
они засыпали, накурившись зелья). Каждая смерть
обсуждалась как своего рода подсчет собственных шансов.
А настоящий сон ценился как редчайший дар. (Помню
одного рейнджера из полевой разведки; ему, чтобы
заснуть, достаточно было сказать: «Сосну чуток,
пожалуй»,— и закрыть глаза. День стоял или ночь, лежал он
или сидел — неважно. На одни вещи — громкий звук
радио, например, или буханье стопятимиллиметровок
прямо рядом с палаткой — он не реагировал вовсе,
другие — шорох в кустах ярдах в пятидесяти от палатки или
внезапно вырубившийся генератор — будили его
мгновенно.) Чаще всего удавалось подремать настороженно,
когда думаешь, что спишь, а на самом деле — всего лишь
ждешь. Ты лежишь ночью на брезентовой койке, глядя
или в потолок чужого жилья, или в мерцающее небо
над полем боя сквозь распахнутый полог палатки. Тебя
бросает в пот, мозг то включает, то выключает сознание.
Либо погружаешься в дрему и вдруг просыпаешься под
москитной сеткой, весь покрытый липким потом, жадно
ища ртом воздух, который не состоял бы на девяносто
девять процентов из влаги, пытаясь одним полным глотком
смыть тревогу и застоялый запах собственного тела.
Но вместо этого глотаешь растворенный в воздухе туман,
отшибающий аппетит, выедающий глаза и придающий
сигарете такой вкус, будто ты натолкал туда набухших
от крови насекомых и куришь их живьем. В джунглях
иногда попадаешь в такие места, где приходится весь день
не выпускать изо рта сигарету — независимо от того,
курильщик ты вообще или нет,— иначе набьется полон рот
москитов. Война под водой, болотная лихорадка, от
которой человек тает как свеча, малярия, выворачивающая
наизнанку и валящая с ног, усыпляющая на двадцать три
часа в сутки и не дающая ни минуты покоя, звучащая
потусторонней музыкой, предвещающей, как говорят,
распад мозга. («Принимай таблетки, парень,— посоветовал
мне военный врач в Канто.— Большие оранжевые раз в
неделю, белые маленькие ежедневно, и ни дня не про-
250
пускай. Здесь есть такие штаммы, что и здоровяка вроде
тебя уложат за неделю в гроб».) Иногда так жить больше
было невмоготу и приходилось бежать к кондиционерам
Дананга и Сайгона. А иногда панике не поддавался лишь
потому, что даже на это не оставалось сил.
Люди гибли ежедневно из-за мелочей, на которые не
удосуживались обратить внимание. Вот представьте себе:
человек чересчур устал, чтобы застегнуть пуленепроница-
емый жилет, чересчур устал, чтобы почистить винтовку,
чтобы прикрыть ладонями зажженную спичку, чтобы
соблюдать обеспечивающие безопасность правила,
повсеместно требуемые на войне. Просто чересчур устал, чтобы
беспокоиться, и теперь гибнет от этой усталости. Иногда
казалось, что обессилела сама война: произошло
расслабление эпических размеров, полуобезумевшая военная
машина катится куда-то сама по себе в состоянии полной
депрессии, питаясь разжиженными остатками
прошлогодних сил. Целые дивизии действовали как в кошмарном
сне, проводя заумные операции без всякой логической
связи с их основной задачей. Однажды я говорил с
сержантом, только что приведшим отделение из длительного
патрулирования, и только минут пять спустя сообразил,
что пленка бессмысленного выражения в его глазах и
бессвязные слова объясняются тем, что он погружен в
глубокий сон. Сержант стоял, привалившись к стойке бара
в клубе для младшего командного состава, с банкой пива
в руках и с открытыми глазами, но говорил во сне с
воображаемым собеседником. У меня взаправду пошли мурашки
по коже — дело было на второй день наступления «Тэт»,
нашу базу почти полностью окружили, единственная
безопасная дорога для отступления была усеяна мертвыми
вьетнамцами, информации почти никакой, и сам я усталый
и дерганый, как на иголках. Поэтому мне показалось на
секунду, что я говорю с мертвецом. Когда я сказал об этом
сержанту, он лишь расхохотался и ответил: «Чертовщина
какая-то. Да я все время так».
Проснувшись как-то ночью, я услышал звуки боя,
доносящиеся за несколько километров,— «перестрелки»
где-то перед передним краем нашей обороны.
Приглушенные расстоянием выстрелы походили на звуки, которые мы
испускали, играя в детстве в войну: «кых-кых». Мы знали,
что это правдоподобнее звучит, чем «ба-бах», и игра
казалась от этого интереснее. И здесь шла игра, только нако-
251
нец она отбилась от рук и мало кто мог себе позволить
играть в нее, кроме нескольких очень уж заядлых игроков.
Правила теперь стали жесткими и неуклонными, никаких
споров о том, кто пропал, а кто убит. Протест «нечестно»
больше во внимание не принимается, а «почему я?» —
самый печальный в мире вопрос, на который никто еще
не нашел ответа.
«Желаю удачи» — вьетнамский словесный тик. Даже
войсковой разведчик, служащий во Вьетнаме третий срок,
не забыл хотя бы бросить мне это напутствие, выходя
на ночную операцию. Слова его прозвучали отдаленно и
сухо, я понимал, что сказал он их с полнейшим
безразличием к тому, будет мне сопутствовать удача или нет.
Возможно, я даже восхищался его бесстрастностью.
Казалось, люди просто не могут заставить себя не говорить
этих слов, даже когда хотят на самом деле выразить
абсолютно противоположное пожелание: «Чтоб ты сдох,
сволочь!» Обычно это пожелание просто произносилось как
атавизм отмершего языка, а иногда вылетало по пять раз
в одном предложении, подобно знакам препинания. Иногда
его выпаливали безразлично с телеграфной скоростью,
чтобы подчеркнуть, что выхода нет: «Эх, влипли, ну, удачи
тебе». Но иногда эти слова звучали с таким чувством и с
такой нежностью, что способны были проникнуть сквозь
натянутую на тебя маску — столько любви посреди такой
войны! И я тоже каждый день чувствовал себя обязанным
пожелать удачи друзьям-журналистам, отправляющимся
на операции; солдатам, встреченным на огневых
позициях и аэродромах; раненым, убитым и всем виденным
мною вьетнамцам, обманутым нами и друг другом. Реже,
хотя и более страстно, я желал удачи самому себе, и хотя
всегда искренне, но сознавая всю бессмысленность этого.
Это все равно, что сказать человеку, выходящему из дома
в бурю, чтобы его не замочило. Или все равно, что сказать:
«Надеюсь, вас не убьют, не ранят и с вами не случится
ничего, что сведет вас с ума». Можно было совершать все
ритуальные жесты, носить с собой талисман на счастье,
или надевать счастливую тропическую шляпу, или
целовать сустав большого пальца, пока он не становился
обсосанным, как обкатанный морем голыш, но
Неумолимое Таинственное все равно поджидало тебя за дверьми,
безжалостно определяя по своей собственной воле, жить
тебе дальше или нет. И оставалось сказать лишь одно, что
не звучало кондовой банальностью: «Тот, кто получил свое
252
сегодня, уже может не опасаться завтра». А этого-то
никто слышать и не хотел.
С течением времени воспоминания ослабевают и
отстаиваются и само название становится молитвой, как и
все молитвы, выходящей далеко за рамки просьб и
благодарности: Вьетнам-Вьетнам-Вьетнам — повторяй снова и
снова, пока слово не утратит все изначальные оттенки
боли, радости, ужаса, вины и ностальгии. Там тогда
каждый всего лишь пытался выжить, держась за
экзистенциальный костыль; трудно поверить, но в окопах не
было атеистов. Даже преломившаяся в ожесточении вера
лучше, чем никакая. Как у чернокожего морского
пехотинца, который сказал во время массированного
артобстрела под Контьен: «Не бойсь, парень, бог что-нибудь
придумает».
Одной религии не хватало, и трудно винить людей,
если они были готовы верить во что угодно. Помню целое
отделение солдат, одетых под Бэтмена*: глупо, но, должно
быть, это придавало им духа. Другие солдаты носили
под каской пикового туза, снимали на амулеты вещи с
убитых ими солдат противника, чтобы впитать в себя их
силу. Некоторые носили с собой пятифунтовые библии,
полученные из дому, кресты, мезузы*, образки со св.
Христофором, локоны, кусочки белья подружек, снимки своих
семей, жен, собак, коров, машин, портреты Джона
Кеннеди, Линдона Джонсона, Мартина Лютера Кинга, папы
римского, Че Гевары, битлов, Джимми Хендрикса*. Один
парень прослужил весь срок с овсяным печеньицем в
кармане, завернутым в фольгу, пластик и три пары носок.
Ему пришлось за это изрядно нахлебаться («Как уснешь,
съедим твое печенье к такой-то матери»), но печенье
испекла и прислала ему жена, и он не был намерен шутить.
Часто приходилось видеть перед боевой операцией, как
солдаты старались сгрудиться вокруг «счастливого»
бойца, которого выдумывали во многих частях,—
считалось, что он всегда выведет тех, кто будет его держаться,
из любой беды. Потом, когда истекал срок его службы или
когда он погибал, однополчане начинали считать везучим
кого-нибудь другого. Если пуля оцарапала тебе голову,
или если ты наступил на несработавшую мину, или если
граната грохнула тебе промеж ног, но не взорвалась —
значит, ты в достаточной степени обладал магическими
свойствами. Если у тебя прорезались какие-то признаки
экстрасенсорных способностей, если ты мог учуять прибли-
253
жение вьетконговцев и исходящей от них опасности, как
проводники-охотники умеют учуять перемену погоды, если
ты обладал способностью видеть в темноте или отменным
слухом, то это тоже свидетельствовало о твоей
необычности и любая постигшая тебя беда способна была вызвать
уныние в твоей части. В кавалерийской дивизии я
познакомился с человеком, который однажды мочился в утку
в огромной палатке на тридцать коек, из которых все были
пусты, кроме его. Палатку накрыло минометным залпом.
Весь брезент в клочья, все койки прошило осколками,
кроме его. Он все не мог прийти в себя, его пьянили
ощущения мгновенности происходящего, уверенности в
собственной везучести. Существовало два варианта солдатской
молитвы — стандартная, отпечатанная на пластиковых
карточках типографиями министерства обороны, и
стандартно-усовершенствованная, которую словами передать
невозможно. Она состояла из хаотического набора звуков:
воплей, мольбы, обещаний, угроз, рыданий, бесконечного
поминания святых. Солдаты молились, пока не сводило
пересохшие глотки, пока, как случалось, обезумевшие
люди не перегрызали воротники униформы, ружейные
ремни, а иногда даже цепочки личных знаков.
Разнообразные проявления религиозного опыта,
добрые вести вперемешку с дурными. Во многих война
пробудила чувство милосердия, многие не могли с этим чувством
ужиться, потому что война требовала полного отказа от
чувств, всем все должно быть без разницы. Люди искали
убежища в иронии, цинизме, отчаянии. А некоторые в
бою — только разгул смерти мог заставить их ощутить,
что они еще живы. Другие просто сходили с ума;
повинуясь мрачным указателям поворота, они вступали в права
владения безумием, хранившимся в ожидании их
прихода где восемнадцать, где двадцать пять, а где пятьдесят
лет. Каждый бой давал человеку право сойти с ума, и в
каждом бою кто-нибудь срывался. А остальные не
замечали срыва. Как не замечали и того, что сорвавшийся
человек не возвращался в нормальное состояние.
Однажды в Кхесани солдат морской пехоты открыл
дверь уборной и был убит на месте взрывом подвешенной
к двери гранаты. Командование пыталось свалить
происшествие на просочившихся в лагерь диверсантов, но
солдаты знали, что произошло на самом деле: «Да вы
что, в своем уме? Станут гуки рыть тоннель, только чтобы
пробраться в лагерь и заминировать сортир? Кто-то из
254
наших чокнулся». Таких историй по ДМЗ ходило сколько
угодно, люди лишь посмеивались, покачивали головами,
понимающе глядя друг на друга, но ужаса никто не
испытывал. О физических ранах говорили одним тоном, о
душевных — совсем другим. Каждый солдат мог рассказать
вам, какие психи все остальные солдаты в его отделении.
Каждый знал солдат, сошедших с ума в разгар боя, в
патруле, вернувшись в лагерь, в отпуске, а то и месяц
спустя после возвращения домой. Помешательство стало
неотъемлемой частью службы здесь, и оставалось лишь
надеяться, что это не случится рядом с тобой, что никого
поблизости не охватит безумие, заставляющее опорожнять
обоймы в незнакомцев или подвешивать гранаты на
дверях уборных. Это действительно было безумие; по
сравнению с ним многое другое казалось почти нормальным:
и долгие мутные взгляды, и непроизвольные улыбочки —
такие же неотъемлемые элементы военного снаряжения,
как плащ-палатки и автоматические винтовки. Если
кому-то хотелось убедить остальных, что он действительно
сошел с ума, приходилось изрядно постараться: «Вопи
вовсю и без передышки».
Были люди, которые просто хотели разнести здесь все
к чертям, уничтожить все, включая животных,
растительность и самое землю. Им нужен был Вьетнам, способный
вместиться в пепельницы их автомобилей. Это им
принадлежала шутка: «Вьетнамскую проблему можно решить
только одним путем. Всех дружественных вьетнамцев
погрузить на корабли и вывезти в Южно-Китайское
море. Потом разбомбить страну в порошок. А потом
затопить корабли». Многие понимали, что победить эту страну
нельзя, можно только уничтожить, и они принялись за
уничтожение с захватывающим дух пылом, не оставляя
камня на камне и сея семена болезни, всепожирающей
лихорадки, достигшей масштабов чумы, вырывающей
жертвы из каждой семьи, семьи из каждой деревеньки,
деревеньки из каждого района, пока она не пожрала
добрый миллион людей и заставила многие миллионы
бежать от нее в поисках хлеба и крова.
На крыше офицерского отеля «Рекс» в Сайгоне я
оказался участником сцены куда более воинственной, чем
огневой контакт. Не менее пятисот офицеров торчали в
баре как прикованные, только успевая подписывать счет
за очередную порцию выпивки. Лоснящиеся раскраснев-
255
шиеся лица, разговоры о войне. Они пили так, будто
отправлялись на фронт. Может, некоторым из них
действительно предстояло отправиться на фронт. Остальные уже
считали себя на фронте — служили в сайгонском
гарнизоне. Прослужить там год, не пострадав, требовало не
меньше мужества, чем сражаться на позициях с
пулеметом в руках (с пулеметом в зубах — такого еще никому
не удавалось). Мы посмотрели фильм («Невада, Смит»,
в котором Стив Маккуин играл жестокого мстителя, в
финале он, очищенный и в то же время постаревший
и опустошенный, точно принес себя в жертву насилию),
а за фильмом последовал концерт филиппинской труппы
из тех, с кем даже управление военно-зрелищных
мероприятий не станет связываться: грохот ударных и
мрачный рок-н-ролл, сально сочащийся в спертом воздухе.
Крыша офицерского отеля «Рекс», нолевая точка
отсчета, люди, как будто вскормленные волками. Умри
они здесь на месте, их челюсти еще с добрых полчаса
не прекратят жевать. Это здесь обычно задавали вопросы:
«Вы ястреб или голубь?» и «Вам не кажется, что лучше
воевать с ними здесь, чем в Пасадене?*». Может, в
Пасадене мы бы и победили, думал я, но вслух не говорил,
особенно здесь, где они знали, что я знал, что они-то ни с
кем вообще не воюют, и от этого становились задиристыми.
В тот вечер я слушал, как один полковник растолковал
войну с точки зрения протеина. Мы — нация охотников-
мясоедов, питающихся едой с высоким содержанием
протеина. А они едят один рис, да иногда чуток каких-то
паршивых рыбьих голов. Да мы их нашим мясом в гроб
вобьем. Что тут можно сказать, кроме: «Вы часом не
сошли с ума, полковник?» Что перебивать сумасшедших,
тянущих одну и ту же песню? Один раз я только не
выдержал, во время наступления «Тэт», когда врач
расхвастался при мне, что отказался пустить к себе в больницу
раненого вьетнамца. «Господи боже, вы же давали клятву
Гиппократа!» — вскричал я, на что у врача был заранее
готов ответ: «Да. Но я давал ее в Америке». Знаменитости,
возвещающие Судный день, обожествляющие технику
маньяки, размахивающие химическим оружием, газами,
лазерами, находящимися еще в проекте
электрозвуковыми сверхновинками... И у каждого в глубине души мечта
о последнем их прибежище — ядерной бомбе. Как они
любили напоминать, что ведь есть она у нас, есть, «прямо
здесь, на месте». Однажды я познакомился с полковни-
256
ком, предлагавшим ускорить завершение войны, сбреете
рыб пиранья на рисовые поля Северного Вьетнама.
Полковник говорил о рыбе, а в мечтательных его глазах
стояла многомиллионная смерть.
— Пошли,— сказал капитан,— возьмем вас поиграть
в ковбоев и индейцев.
Мы вышли из Сонбе длинной цепью: около ста
человек, винтовки, тяжелые пулеметы, минометы, портативные
однозарядные ракетные установки, рации, военврачи.
На ходу колонна перестроилась в цепи для
прочесывания — пять цепей, в каждой маленькая группка
специалистов. Низко над головами летел вертолет прикрытия;
когда дошли до подножия низких холмов, над нами
зависли еще два, обработав их огнем, прежде чем мы
безопасно через них перевалили. Отличная была операция.
Играли все утро, пока кто-то в передовом дозоре не
прихлопнул кого-то. Думали — разведчика, но толком сказать
не могли. Не могли даже толком определить, из союзного
он племени или из враждебного — на стрелах не было
боевой окраски, потому что колчан был пуст. И карманы
оказались пусты, и руки. Капитан обдумывал все это на
обратном пути, но, возвратившись на базу, указал в
отчете: «Убит один вьетконговец». Объяснил, что это поможет
репутации части. Репутации самого капитана, надо
полагать, тоже не повредит.
Операция по «поиску и уничтожению противника» —
больше состояние духа, нежели военная тактика —
оживляющее и бодрящее соприкосновение с командирской
психикой. Не просто марш и огневой контакт, на деле
операцию следовало бы назвать наоборот. Просей
разгромленное и посмотри, не наберешь ли чего. И помни,
что убитых гражданских хозяин не берет. Считалось, что
противник также придерживается подобной тактики,
именуемой «найти и убить». В общем, получалось, что мы
охотились за ним, а он охотился за нами, охотящимися
за ним. Война как на картинке, и все меньше и меньше
результатов.
Многие считали, что все поломалось и запуталось,
когда нашим солдатам стрелять стало так же легко, как не
стрелять. В 1-м и 2-м корпусах экипажам вертолетов
предоставлялось право решать самим — открывать огонь
или нет, если объекты внизу замирали на месте. В зоне
Дельты принято было стрелять, если объекты пытались
9 Зам. 556
257
убежать или укрыться. В любом случае возникала
сложная дилемма: какое решение принять? «Воздушный
спорт,— сказал один вертолетчик, и с жаром принялся
объяснять: — Ничего нет лучше. Ты летишь на высоте две
тысячи футов и чувствуешь себя богом. Открывай люки
и поливай их, пришивай эту мразь, размазывай эту мразь
по стенкам рисовых чек. Ничего нет лучше. А потом быстро
обратно и собирай добычу».
«Дома я сам набивал патроны для охоты,— сказал
мне один взводный.— Мы с отцом и братьями делали за
год, может, штук сто. Но такого, как здесь, ей-богу, нигде
не видел».
А кто видел? Ни с чем не сравнимая картина — в
открытом поле настигнут отряд противника. На них
обрушивается такой огонь, что только брызги летят. Даже по
Годзилле* так не стреляли в кино. Для обозначения
ведения огня даже сложился специфический жаргон: «дать
очередь», «зондирование», «отбор цели», «конструктивный
вес залпа», но я никак не мог научиться различать виды
огня, для меня все было едино: просто конвульсивный
взрыв, минута безумия, затянувшаяся на час. Иногда
велся огонь такой плотности, что невозможно было понять,
ведется ли хоть какой-то огонь в ответ. Уши и головы
наполнялись таким грохотом, что постепенно все начинали
слушать животом. Один мой знакомый английский
журналист записал на пленку разрыв тяжелого снаряда и
утверждал, что использовал запись, соблазняя
американок.
Временами вы чувствуете себя настолько хрупким, что
не хочется ни во что влезать. Это чувство наваливалось,
как предпоследний вздох. Порывы к действию и страх то
и дело перевешивали друг друга, и тогда мечешься из угла
в угол, пытаясь найти одно или другое, но ничего не
находишь. Вообще ничего не происходило, разве что муравей
в ноздрю залезет, или сыпь в паху высыпет, либо лежишь
всю ночь, ожидая утра, когда можно будет встать и
продолжать ждать уже на ногах. Как бы оно ни
оборачивалось, ты продолжал освещать войну, отобранные тобою
истории рассказывали о ней все как есть, а во Вьетнаме
увлеченность насилием не долго могла оставаться
неудовлетворенной. Рано или поздно она обдавала всего тебя
диким дыханием своей пасти.
«Трясуха-потрясуха» называлось это на жаргоне,
пальба со страшной силой. Огневой контакт. Ничего не
258
остается, кроме тебя и земли. Целуй ее, жри ее,
совокупляйся с ней, паши ее собственным телом, прижмись к ней
как можно плотнее, но только так, чтобы в нее не уйти, не
стать частью ее. И угадай, что там пролетает в дюйме над
твоей головой. Сожмись и покорись. Это земля. Под
обстрелом теряешь голову. И тело тоже. Неправдоподобно,
невероятно; люди, занимавшиеся самыми жестокими
видами спорта, говорили, что никогда не испытывали ничего
подобного: наносимый удар молниеносен и внезапен; тебя
захлестывают волны адреналина из резервов, о которых ты
и не подозревал, пока не окунаешься в них с головой,
топя в них чувство страха, испытывая готовность чуть
ли не утонуть в них и, как ни странно, обретая
безмятежность. Если, конечно, не наложишь в штаны и не завопишь
от ужаса, молясь и отдаваясь всеобъемлющей панике,
проносящей над тобой весь бардак этого мира, а иногда и
пронизывающей тебя насквозь. Вряд ли можно
одновременно любить войну и всем нутром ее ненавидеть, но
временами эти чувства способны перемежаться со
страшной скоростью, сливаясь в колесо, закручивающее тебя
до того, что война и впрямь превращается в балдеж,
как гласят надписи на бесчисленных касках. После
подобного опьянения наступает жуткое похмелье.
В начале декабря я вернулся после первой боевой
операции с морской пехотой. Я забился в сбитый на скорую
руку блиндаж, который разваливался на части еще
быстрее, чем я сам, и просидел там несколько часов,
прислушиваясь к звукам сражения, стону и вою пальбы,
глухим повторяющимся разрывам и к истеричному плачу
молодого солдата, каким-то образом ухитрившегося
сломать палец: «О господи, он же на сопле держится!» Затем
огонь тяжелой артиллерии прекратился, но не прекратился
кошмар — последний снаряд угодил прямо в груду трупов,
уложенных в мешки и в ожидании вертолетов на Фубай
оставленных прямо на взлетной полосе. После разрыва
снаряда там образовалось такое месиво, что его и убирать
никто не хотел — «хуже, чем сортиры чистить». В Сайгон
я добрался за полночь, меня подвезли от Таншоннят на
джипе военные полицейские, панически боявшиеся
снайперов. В гостинице меня ждал небольшой пакет с почтой.
Сбросив полевой комбинезон в прихожей, я закрыл
ведущую в комнаты дверь, даже, кажется, запер ее на замок.
Все эти печенки, селезенки, мозги и опухший иссиня-чер-
ный большой палец витали надо мной, лезли на меня со
9*
259
стен душа, где я отмывался с полчаса, лезли на постель,
но я не боялся их, я смеялся над ними: что они могли мне
сделать? Налив полный стакан арманьяка, я скрутил
сигарету с марихуаной и начал читать письма. В одном из
них сообщалось, что в Нью-Йорке покончил с собой мой
товарищ. Погасив свет и улегшись в постель, я все пытался
вспомнить, как он выглядел. Он отравился снотворным,
но, как я ни напрягался, не видел ничего, кроме крови и
обломков костей, а покойного моего друга увидеть не мог.
Некоторое время спустя мне удалось вдруг увидеть его на
секунду, но к тому моменту я только и смог, что
запечатлеть его в памяти вместе со всеми остальными и уснуть.
Между всем кошмаром боев и усталостью, между всем
из ряда вон выходящим, что доводилось видеть и слышать,
и всеми личными утратами среди общих утрат война
отводила тебе только лично тебе одному принадлежащее,
твое собственное место. Найти его было все равно, что
слышать эзотерическую музыку, которую не слышишь по-
настоящему, сколько ни повторяй, пока она не сольется
с твоим дыханием, пока не станет исполняться им. А к тому
времени она и не музыка уже, она — жизненное
ощущение. Жизнь как кино; война как кино. Завершенный
процесс, если есть потребность его завершить, путь ясный,
но тяжкий и трудный, нисколько не становящийся легче
от того, что знаешь: ты вступаешь на него умышленно и,
грубо говоря, сознательно. Одни совершали по этому пути
несколько шагов и поворачивали вспять, поумнев, иногда
с сожалением, иногда нет. Многие другие пошли по нему
дальше и нашли свою смерть. Прочие зашли значительно
дальше, чем следовало бы, и полегли там, забывшись
скверным сном ярости и боли, жаждая пробуждения,
мира, хоть какого-нибудь, любого мира, который не был
бы просто отсутствием войны. А некоторые шли и дальше,
пока не достигали места, где все происходило
противоположно ожидаемому, того фантастического изгиба, где
сначала отправляются в путешествие, а потом уже
расстаются.
Уберечь от опасности свое тело вовсе не означало
решить все свои проблемы. Существовала страшная
опасность до того измотаться в поисках информации, что в
информацию превращалась сама твоя измотанность.
Перегрузка была настоящей опасностью — пусть не такой
260
очевидной, как шрапнель, или наглядной, как летящие
с неба бомбы, может, она не могла убить или разнести
тебя вдребезги, но она могла искорежить тебе антенну
и опрокинуть тебя навзничь. Уровни информации —
уровни ужаса. Выпустив ее, обратно уже не загонишь. На нее
не закроешь глаза, не прокрутишь фильм обратно. Через
сколько этих уровней ты действительно намеревался
пройти, на каком плато сломаешься и начнешь
возвращать письма нераспечатанными?
Освещать войну — ну и занятие ты себе изобрел!
Отправляешься в поисках одних сведений, а находишь
другие, абсолютно другие, от которых у тебя
раскрываются глаза, в жилах стынет кровь, сохнет рот так, что
вода испаряется из него, прежде чем успеваешь глотнуть,
а дыхание смердит хуже, чем трупы. Временами страх
принимал формы столь дикие, что приходилось
останавливаться, ждать, пока страх раскрутится. Забудь о Вьеткон-
ге, деревья убьют тебя. Слоновья' трава жаждет тебя
уничтожить, сама земля, по которой ты ходишь, таит
зловещие намерения, тебя окружает сплошная кровавая
баня. Но и при этом, учитывая, где ты находился и что
там случалось со многими другими, способность
испытывать страх сама по себе была благословением.
Итак, ты познал страх, но трудно понять, насколько
ты в действительности познал отвагу. Сколько раз нужно
бежать под пулеметным огнем, чтобы начать считать это
проявлением трусости? А как насчет тех поступков, что не
требуют отваги для свершения, но делают тебя трусом,
если ты не совершаешь их? Трудно их предугадать, легко
совершить ошибку, когда наступает момент действия. Так,
например, ошибка думать, что достаточно лишь
собственных глаз, чтобы быть очевидцем. То, что люди зовут
отвагой, во многом лишь недифференцированная энергия,
высвобожденная интенсивностью происходящего;
дисфункция мозга, заставляющая человека действовать
немыслимым образом. Если выживет, он получит шанс
решать потом, действительно ли проявил отвагу или просто
его переполняла жажда жизни. Многие нашли в себе
мужество просто отказаться участвовать, навсегда выйти
из игры. Совершив подобный поворот, они либо отдавали
себя в руки карательного механизма системы, либо
полностью рвали с ней. Так поступали и многие журналисты.
У меня были друзья в пресс-корпусе, после одного-двух
боевых эпизодов отказавшиеся принимать дальнейшее
261
участие в происходящем. Иногда мне кажется, что из всех,
бывших там, они оказались самыми серьезными и
разумными. Но если быть честным, я никогда не высказывал
этой точки зрения вслух, пока срок моего пребывания во
Вьетнаме не истек почти до конца.
— Мы хотели содрать шкуру с гука,— рассказывал
мне солдат.— Ну, он, конечно, мертвый был, но тут
приходит лейтенант и говорит: «Сдурели совсем? Здесь
журналист шляется, хотите, чтоб он на вас нарвался? Головой
думать надо, ясно? Всему есть время и место».
— Жаль, вас не было с нами на прошлой неделе,—
сказал другой солдат, когда мы возращались с операции,
не сумев войти в соприкосновение с противником.—
Столько гуков перебили, даже неинтересно.
Неужели это возможно — быть там и не испытывать ни
малейших угрызений? Нет, невозможно. Просто никак.
Я знаю, я же был не один такой. Где все они сейчас?
(А я где сейчас?) Я был настолько к ним близок, насколько
можно быть близким, не становясь одним из них. И
настолько от них далек, насколько позволяли пределы
планеты. Одним лишь словом «отвращение» не выразить того,
что они у меня вызывали. Они выбрасывали людей из
вертолетов, травили связанных пленников собаками. Слово
«жестокость» раньше просто было для меня словом.
Но «презрение» — всего лишь одна из красок в картине
мироздания, где другие краски — доброта и милосердие.
Я думаю, что те, кто говорил, что оплакивают одних лишь
вьетнамцев, на самом деле не оплакивали никого, если у
них не нашлось ни слезинки хотя бы для одного из этих
мужчин и юнцов, у которых были отобраны или
исковерканы жизни.
И разумеется, мы с ними были свои люди. Я объясню
вам, насколько свои: они служили моей винтовкой, и
служили с моего позволения. Я никогда не позволял им рыть
за меня окопы или таскать мое снаряжение, хотя солдаты
всегда предлагали, но я позволял им стрелять, пока я
смотрел. Может, ради них, а может, и нет. Мы
обеспечивали друг друга взаимными услугами, и обмен совершался
исправно, но как-то раз я оказался не на своем месте:
залег за ограждением из мешков с песком на аэродроме
в Канто, прикрывая огнем из автомата пытавшуюся
пробиться обратно к нам группу из четырех человек,
262
посланную прощупать намерения противника. Последняя
моя история о войне.
Первая ночь наступления «Тэт» застала нас в лагере
частей специального назначения, расположенном в
Дельте. Насколько мы понимали, мы были окружены.
Новости поступали только плохие: из Гуэ, из Квинон, из
Кхесана, из Банметуота, из самого Сайгона. Мы думали
в тот момент, что Сайгон уже пал: захвачены посольство,
весь Шолон; горит Таншоннят, нас вышибли отовсюду,
кроме Аламо*. В тот момент я не был журналистом, я был
стрелком.
Утром на поле — в направлении огня, который мы
вели,— обнаружились трупы десятка вьетнамцев. Мы
послали грузовик погрузить их и убрать. Произошло все
очень быстро, как обычно об этом рассказывают, как
рассказывает каждый, хоть раз побывавший в подобной
переделке. Мы сидели, покуривая марихуану,
прислушиваясь к взрывам, которые приняли за доносящийся из
города новогодний фейерверк. А шум все приближался и
приближался, пока дурман с нас не сняло как рукой.
Потом оказалось, что ночь уже прошла и я гляжу на
разбросанные вокруг меня расстрелянные обоймы,
понимая, как трудно понять даже самого себя. За всю свою
жизнь не припомню, чтобы когда-нибудь чувствовал себя
таким усталым, таким изменившимся, таким счастливым.
Той ночью во Вьетнаме погибли тысячи людей.
Двенадцать на том поле, еще сто на дороге, ведущей от лагеря
к госпиталю в Канто, где я проработал следующий день
не репортером, не стрелком, а санитаром, напуганным и
неумелым. Вернувшись к ночи в лагерь, я выбросил
комбинезон, в котором проходил весь день. И все следующие
шесть лет они стояли у меня перед глазами: и те, кого я
по-настоящему видел, и те, кого вообразил, наши и ихние,
друзья, которых я любил, и незнакомцы — неподвижные
фигуры, застывшие в танце, старинном танце. Годами
размышляешь о том, что происходит с тобой, изобретаешь
фантазии, пока они не превращаются в действительность,
а затем не можешь с действительностью справиться. А в
конце концов я понял, что я тоже танцор в этом танце.
Глядя со стороны, мы объявляем сумасшедшими тех,
кто слышит голоса, но ведь они действительно слышат
их в самих себе. (Кого считать сумасшедшим? Что такое
безумие?) Однажды ночью, подобно годами выходившему
осколку, прорезался сон: я увидел усеянное трупами поле,
263
которое я пересекал с другом. Больше чем с другом —
с поводырем. Он заставил меня наклониться и посмотреть
на трупы. Они были покрыты пылью и кровью, как бы
нанесенной на них широкими мазками. С некоторых
взрывами сорвало одежду, точно как в тот день, когда их
кидали в грузовик в Канто. И я сказал: «Но ведь я же уже
видел их». Друг ничего не ответил, лишь показал рукой,
и я склонился над ними снова, на этот раз заглядывая
им в лица. Нью-Йорк, тысяча девятьсот семьдесят пятый
год. Проснувшись на следующее утро, я смеялся.
РАЗВЕРЗШИЙСЯ АД
В первые недели наступления «Тэт» комендантский
час вводился сразу после полудня и строго соблюдался.
Каждый день к двум тридцати Сайгон становился похожим
на город из последних кадров фильма «На берегу»* —
брошенный город с замусоренными пустыми проспектами,
по которым ветер гонит обрывки бумаг вдоль отчетливо
заметных маленьких кучек человеческих испражнений,
увядших цветов и пустых футляров новогодних хлопушек.
Сайгон и так производил достаточно угнетающее
впечатление, но во время наступления это чувство ощущалось
столь сильно, что даже каким-то непонятным образом
начинало подбадривать. Деревья вдоль главных улиц
смотрелись так, будто по ним били молнии; стоял неуютный
и необычный холод — еще одно проявление невезения
в городе, где вечно все не по сезону. Город зарос грязью,
власти опасались вспышки чумы, а если и существовал
город, заслуживавший чумы, сам на нее
напрашивавшийся, то это и был Сайгон в период чрезвычайного
положения. Штатские американцы, инженеры и строительные
рабочие, преуспевавшие здесь так, как никогда в жизни
дома, начали сколачиваться в большие вооруженные
отряды, обвешавшись оружием с ног до головы. Ни одна
банда истеричных линчевателей не вызывала никогда
столько опасений, как они. К десяти утра они уже
осаждали террасу «Континенталя», ожидая открытия бара,
а до открытия они даже прикуривали с трудом. Толпы
на улице Тудо словно сошли с полотен Джеймса Энсора*,
а в воздухе и помимо коррупции государственных
служащих стояла гниль. После семи вечера, когда
комендантский час распространялся и на американцев, становясь
обязательным для всех, на улицах появлялись лишь пат-
264
рули «белых мышат» и джипы военной полиции, да
маленькие дети сновали по грудам мусора, запуская в
пронизывающий до костей ветер склеенные из обрывков газет
воздушные змеи.
У нас у всех дружно сдали нервы. Жарким дыханием
развернувшихся боев обдало каждого находящегося во
Вьетнаме американца. Страна походила на полную
страшилищ неосвещенную комнату. Вьетконг был повсюду.
Вместо того чтобы проигрывать войну понемножечку в
течение долгих лет, мы проиграли ее быстро, менее чем
за неделю, после чего вели себя, подобно персонажу
солдатского фольклора: его уже убили, но у него никак
недоставало ума лечь. Сбывались самые страшные наши
опасения. Мы быстро отбивали утраченные позиции — не
считаясь с потерями, в абсолютной панике и почти что с
крайней жестокостью. Наши противники гибли, но
непохоже было, чтобы их число убывало, тем более —
истощилось, как утверждала военная Миссия к четвертому
дню боев. Наша машина была всесокрушающей. И
универсальной. Она могла все, что угодно. Только не
остановиться. Как сказал один американский майор, чем и вошел
в историю: «Нам пришлось уничтожить Бентре, чтобы
спасти его». Вот так мы восстанавливали то, что называли
контролем над большей частью страны; так она и
оставалась в основном занятой противником вплоть до того
дня годы спустя, когда там не осталось никого из нас.
Руководство Миссии, взявшись за руки, шагнуло в
Зазеркалье. Горела колесница командующего, а он вдыхал
дым и сообщал нам истории о победах и триумфах, столь
неправдоподобные, что некоторым высокопоставленным
американцам пришлось попросить его поостыть и
предоставить возможность говорить им. Журналист-англичанин
сравнил позицию Миссии с объявлением, которое сделал
капитан «Титаника»*: «Нет никаких причин для
беспокойства, мы всего лишь сделали непродолжительную
остановку, чтобы принять на борт немного льда».
Когда я на четвертый день вернулся в Сайгон, там
уже скопилась масса сведений, поступивших со всех
концов страны, и сведения эти были плохими, даже после
того, как от них отсеялись явные слухи: о том, что на
стороне Вьетконга якобы воюют «белые» — явно
американцы; или о том, что в Гуэ и в прилегающих к городу
равнинах противник проводит массовые казни. Потом я
265
понял, что, каким бы ребячливым я ни оставался, мою
молодость на самом деле выпили три дня, которые
потребовались, чтобы преодолеть шестьдесят миль,
отделяющие Канто от Сайгона. В Сайгоне на моих глазах почти
напрочь исчезли друзья: одни уехали, другие днями не
вставали с постелей, измотанные непроходящей
депрессией. У меня это проявлялось по-другому: суетливой
деятельностью. Я не находил себе места и спал три часа в
сутки. Мой приятель из «Тайме» говорил, что его пугают
не столько кошмары по ночам, сколько почти
непреодолимое желание записать их, проснувшись, и отослать в
редакцию. Ветеран, освещавший войну еще в тридцатых,
услышав, как мы распускаем нюни над творившимся
кошмаром, только фыркнул: «Ха! Нравятся мне эти люди!
А какого же хрена вы еще ждали?» Мы думали, что пик,
после которого одну войну не отличишь от другой, уже
миновал. Знай мы, как тяжко она еще обернется в
дальнейшем, мы бы чувствовали себя лучше. Несколько дней
спустя вновь открылись воздушные маршруты, и мы
вылетели в Гуэ.
Нас было шестьдесят, набившихся как сельди в бочке
в один из восьми грузовиков конвоя, движущегося из
Фубай с тремя сотнями пополнения для войск, понесших
потери в боях, имевших место ранее к югу от Ароматной
реки. Несколько дней не стихали хлесткие проливные
дожди, размывшие дорогу. В грузовиках было невыносимо
холодно, а дорогу усеивали листья, сорванные с деревьев
дождем и огнем нашей артиллерии, которая подвергла
интенсивному обстрелу все пространство вдоль дороги.
Многие дома были напрочь разрушены, и не было ни
одного, не изрешеченного осколками. Пропуская нас, к
обочинам жались сотни беженцев, многие из них раненые.
Дети все равно вопили и смеялись, а взрослые
поглядывали на них с тем терпеливым умением молча сносить
несчастья, которое заставляло испытать неловкость
многих американцев и которое обычно ошибочно
воспринималось как безразличие. Но мужчины и женщины помоложе
часто бросали на нас взгляды, в которых безошибочно
читалось презрение, и оттаскивали детей подальше от
грузовиков.
Мы сидели на лавках, пытаясь подбадривать друг
друга, посмеиваясь над плохой погодой и неудобствами,
деля первые страхи, радуясь, что не едем в авангарде
266
и не замыкаем колонну. Противник постоянно подвергал
грузовики обстрелу, многим конвоям приходилось
поворачивать обратно. Дома, мимо которых мы проезжали,
служили хорошим укрытием для засады, а одной ракеты
хватило бы, чтобы разнести всех, кто ехал в грузовике.
Все солдаты насвистывали что-то, но каждый свистел
свое — прямо как в раздевалке стадиона перед игрой, в
которой никто не хочет играть. Или почти что никто.
Среди нас был чернокожий морской пехотинец по
прозвищу Пес из Фили (Филадельфии). У себя в
Филадельфии он был вождем уличной шайки и жаждал вернуться
к уличным дракам после шести месяцев в джунглях — он
покажет, на что способен, когда под ногами городской
асфальт. (В Гуэ он оказался невероятно полезным. Я
видел, как он выпустил очередь в сотню патронов в пролом
в стене, хохоча при этом: «Не подмажешь, не поедешь».
Во всей своей роте он оказался единственным человеком
без единой царапины.) Еще с нами ехал корреспондент
газеты морской пехоты, сержант Дейл Дай, из
маскировочной сетки его каски торчал на длинном стебле яркий
желтый цветок, представляя собой отличную мишень.
Он стрелял глазами по сторонам, приговаривая: «Ну да,
ну да, Чарли что-то затеял, плохо дело», и счастливо при
этом улыбался. Точно такую же улыбку на его лице я
видел неделю спустя, когда пуля чиркнула о стенку в двух
дюймах над его головой — мало для кого подходящий
повод для веселья, кроме солдатни.
У всех, сидящих в грузовике, застыл в глазах тот
дикий загнанный взгляд, который означал, что быть здесь,
где ожидаются самые жестокие бои, где не будет половины
того, что необходимо, где стоит небывалый для Вьетнама
холод,— совершенно нормально. На касках и пуленепро-
ницаемых куртках красовались названия белых операций,
имена девушек, армейские клички («Далеко не
бесстрашный», «Обезьянка Микки», «Мститель В»), их фантазия
(«Рожденный проигрывать», «Рожденный черт-те что
творить», «Рожденный убивать», «Рожденный умереть»),
их мнения о происходящем («Ад разверзся», «Время
работает на меня», «Только мы с тобой вдвоем, боже!»).
Один парнишка крикнул мне: «Слышь! Тебе материал
нужен, да? Вот тебе, запиши: в мае месяце на высоте
восемь-восемь-один иду я прямо по гребню, как
кинозвезда, вдруг этот гад выскакивает, откуда ни возьмись,
и тычет свой автомат прямо в меня. Только до того его
267
поразило мое хладнокровие, что я успел в него всадить
всю обойму». Проехав вот так около двадцати
километров, мы, несмотря на нависшее черное небо, увидели
дым, поднимающийся с дальнего берега реки, из
Цитадели Гуэ *.
Предыдущей ночью партизаны взорвали мост через
канал, отделяющий деревню Анкуу от южной окраины
Гуэ, район на противоположном берегу не считался
безопасным, поэтому мы остановились на ночевку в деревне,
В ней не было ни души. Мы разместились в брошенных
хижинах, стеля плащ-палатки прямо на битое стекло и
обломки кирпичей. В сумерках, когда мы расположились
на берегу поужинать, спикировали два вертолета корпуса
морской пехоты, поливая нас огнем. Мы кинулись в
укрытия, более удивленные, чем испуганные. «Противника бы
так мордой к земле прижимали, сукины дети,— буркнул
один из солдат и изготовил пулемет на случай, если они
вернутся.— Уж такого дерьма мы хлебать никак не
должны»,— объяснил он. Были высланы дозорные и
расставлены караулы, и мы разбрелись по хижинам спать.
Неизвестно почему, той ночью нас даже не обстреляли
из минометов.
Утром мы переправились через канал на мелких
подручных плавсредствах и шли маршем, пока не наткнулись
на первые из сотен трупов местного населения, которые
нам предстояло увидеть в последующие недели: старик,
выгнувшийся над своей соломенной шляпой; маленькая
девочка, которую сбили вместе с ее велосипедом. Рука ее
задралась, как бы в жесте немого укора. Трупы лежали
здесь уже не менее недели. Впервые мы порадовались
настоящим холодам.
Вдоль южного берега реки разбит просторный
элегантный парк, отделяющий самый приятный проспект города,
Лелой, от набережной. Горожане часто рассказывали,
как любили сидеть там на солнце, любуясь сампанами на
реке и девушками-велосипедистками на Лелой,
проезжающими мимо вилл местных чиновников и построенного
французскими архитекторами здания университета. Теперь
большинство этих вилл было уничтожено, а зданию
университета нанесен непоправимый ущерб. Посреди улицы
лежали обломки двух карет «скорой помощи» из
западногерманской миссии, а Спортивный центр зиял пробоинами
от пуль и снарядов. От дождя ожила зелень, ее окутывал
густой белый туман. В парке мы наткнулись на нарядную
268
клетку, внутри которой сидела маленькая дрожащая
обезьянка. Вокруг клетки лежали раздувшиеся трупы.
Переступив через них, один из журналистов покормил
обезьянку фруктами. (Несколько дней спустя я туда
вернулся. Трупы исчезли, обезьянка исчезла тоже. Так много
тогда было беженцев и так мало еды, что ее вполне могли
съесть). Морская пехота очистила почти весь центральный
участок южного берега и начала теперь медленно
развертываться к западу, ведя бой и очищая один из основных
каналов. Мы ожидали, бросят морскую пехоту на
Цитадель или нет, но мало кто испытывал сомнение
относительно того, какое решение будет принято. Мы тряслись
от страха, глядя на столбы дыма за рекой. Временами по
нам постреливали, иногда из пулеметов. На наших глазах
обрушился плотный огонь на флотский катерок на реке.
Сидящий подле меня солдат все сокрушался: «Несчастные
люди, за что же их так, и дома здесь такие красивые, и
даже бензоколонка „Шелл" есть». Он поглядел на черные
пятна напалмовых пожарищ, на разрушенные строения.
«Похоже, конец пришел городу императоров»,—
сказал он.
Двор Американского центра в Гуэ был весь в лужах.
Под тяжестью дождевой воды провисали брезентовые
крыши грузовиков и джипов., Шел пятый день боев, и все
изумлялись, что противник не атаковал дом в первую же
ночь. В ту ночь во двор забрел огромный белый гусь, и
теперь его крылья отяжелели от нефтяной пленки,
образовавшейся на поверхности луж. Каждый раз, как во двор
въезжала машина, гусь начинал яростно бить крыльями
и шуметь, но со двора не уходил. Насколько мне известно,
его так и не съели.
Нас набилось человек двести в две комнатушки,
которые раньше служили столовой. Армейцы были не в
восторге, что приходится расквартировывать столько
проходящей маршем морской пехоты, а журналисты, болтающиеся
под ногами в ожидании того, что бой переместится на
противоположный берег реки, в Цитадель, приводили их в
ярость. Считалось удачей просто найти на полу место,
чтобы прилечь, еще большей удачей — найти носилки, и
уж совсем фантастическим везением, если носилки
оказывались новыми. Всю ночь напролет немногие уцелевшие
оконные стекла содрогались от бомбовых разрывов за
рекой да прямо у дома беспрерывно палил миномет. В два
269
или три часа утра возвращались морские пехотинцы из
патрулей, топая по комнате, не особенно заботясь,
наступают на кого-нибудь или нет. Они включали
радиоприемники и перекликались через весь зал. «Ребята, неужели
вы не можете подумать хоть немного о других?» — спросил
журналист-англичанин. Его слова вызвали такой взрыв
хохота, что проснулись все, кто еще спал.
Через дорогу от нас находился лагерь для
военнопленных, и как-то утром там возник пожар. Мы увидели
черный дым над колючей проволокой и услышали пальбу
из автоматов. Лагерь был полон пленных и подозреваемых
в принадлежности к противнику. Охрана утверждала, что
пожар устроили сами заключенные с целью совершить под
его прикрытием побег. Южновьетнамские солдаты и
несколько американцев стреляли наугад в огонь.
Падающие на землю тела тут же охватывало пламя. Всего лишь
в квартале от дома на тротуарах лежали трупы местных
жителей, трупами мирных граждан был усеян и парк над
рекой. Было холодно, солнце не выходило, но дождь
уродовал трупы еще хуже, чем солнце. В такой вот день
и начинаешь понимать, что увидел все трупы, кроме
одного — который тебе не суждено увидеть.
Было темно и холодно все последующие десять дней.
Этот промозглый мрак и послужил фоном всему, что мы
сняли в Цитадели. Слабый солнечный свет был настолько
насыщен тяжелой пылью, поднимавшейся с развалин
восточной стены, что все виделось как бы сквозь мутный
фильтр. Из-за густой пыли кислый запах пороха долго
еще висел в воздухе после боя, а ветер нес обратно на
наши позиции слезоточивый газ, которым обрабатывались
позиции противника. Из-за этого невозможно было
глотнуть чистого воздуха, да еще примешивался запах,
остающийся обычно в разбомбленных авиацией развалинах.
Он проникал в ноздри, впитывался в ткань одежды. Могли
пройти недели, но этот запах будил по ночам, преследовал
неотступно. Противник так глубоко врылся в стену, что
авиации приходилось сносить ее метр за метром,
сбрасывая напалмовые бомбы всего метрах в ста от наших
передовых позиций. Взобравшись на остатки башни на самой
высокой точке стены, я посмотрел на окружающий
Цитадель ров и увидел солдат противника, быстро бегущих
по развалинам противоположной стены. Мы были так
близко, что видели их лица. В нескольких шагах от меня
270
раздался выстрел, одна из бегущих фигурок дернулась и
упала. Высунувшись из укрытия, снайпер ухмыльнулся
мне.
Из-за дыма, тумана и висящей в воздухе пыли трудно
было назвать час перед наступлением темноты сумерками.
Мы находились всего лишь в нескольких метрах от места
самого ожесточенного боя, всего лишь на расстоянии
вьетнамского городского квартала, но все равно то и дело
появлялись местные жители — улыбаясь, пожимая
плечами, они пытались пробраться к своим домам. Солдаты
отгоняли их винтовками, ругаясь и крича, а те только
снова улыбались, кланялись и исчезали в разрушенных
улицах. К группе солдат подошел мальчик лет десяти. Он
смеялся и потешно тряс головой. Горящая в его глазах
ярость должна была бы объяснить каждому, что с ним,
но большинству солдат и в голову не приходило, что
ребенок-вьетнамец тоже может сойти с ума, а когда они
наконец это поняли, ребенок уже пытался выцарапать им
глаза, цеплялся за комбинезоны, пугая и нервируя всех,
пока его не сгреб сзади за руки чернокожий пехотинец.
— Уходи, бедный малыш,— сказал он,— пока кто-
нибудь из этих сволочей тебя не пристрелил.— И отнес
ребенка к санитарам.
В самые тяжелые дни сражений никто даже не
рассчитывал выжить. Бойцов батальона охватило отчаяние,
подобного которому не видели даже ветераны старшего
поколения, воевавшие в двух предыдущих войнах. Нес-
сколько раз солдаты из похоронной команды, забирающие
личные вещи погибших из вещмешков и карманов,
находили письма из дома, полученные уже несколько суток
назад, но до сих пор даже не распечатанные.
Мы грузили раненых на полутонный грузовик, и какой-
то молодой солдат плакал, лежа на носилках. Сержант
держал его за обе руки, а солдат все повторял:
— Мне не выжить, сержант, мне не выжить. Я умру,
да? Умру?
— Господи, да нет, конечно, нет,— отвечал сержант.
— Умру! Умру!
— Краули! — сказал сержант.— Тебя не так уж
сильно ранило. Заткнись, понял? Как мы прибыли сюда,
только и делаешь, что ноешь.
Но сержант не знал, что говорил. Парня ранили в
горло, а с горловыми ранениями никогда ничего не
известно. Все боялись горловых ранений.
271
С транспортом повезло. На батальонном эвакопункте
вертолет забрал нас с десятком раненых солдат на базу
в Фубай, а три минуты спустя после посадки мы успели
на самолет в Дананг. «Голосуя» на аэродроме, мы
наткнулись на офицера из управления психологических
операций, который пожалел нас и- подбросил к пресс-центру.
Входя в ворота, мы увидели, что защитная сетка поднята
и морские пехотинцы из охраны пресс-центра режутся,
как всегда, в волейбол.
— Откуда это вы, черт побери? — спросил один из
них. Вид у нас был здорово потрепанный.
В ресторане веяло холодом от кондиционеров. Сев за
стол, я заказал «хамбургер»* и бренди у одной из
миловидных девушек-официанток. Я просидел там часа два,
заказав еще четыре «хамбургера» и не менее дюжины
рюмок бренди. Невероятно, просто невероятно в один и тот
же день оказаться и там, где мы были, и там, где
находимся сейчас. Один из корреспондентов, вернувшихся со мной,
сидел за другим столиком, тоже один. Мы поглядели
друг на друга, покачали головами и расхохотались. Я
пошел в свою комнату, сбросил башмаки и комбинезон и
отправился в душ. Вода оказалась невероятно горячей,
я даже подумал, что с ума от нее сойду. Я долго просидел
на бетонном полу, побрился там, снова и снова
намыливался. Потом оделся и вернулся в ресторан. Сетку уже
опустили. Один из часовых поздоровался со мной и
спросил, какой сегодня фильм. Я заказал бифштекс и снова
бессчетное количество бренди. Когда я уходил, тот
корреспондент так по-прежнему и сидел один. Я лег в постель
и выкурил сигарету с марихуаной. Разумелось, что утром
я возвращаюсь обратно, но почему разумелось? Все мое
барахло было в порядке, все приготовлено к подъему в
пять часов. Докурив, я с трудом погрузился в сон.
К концу недели штурмующий стену батальон морской
пехоты потерял примерно по человеку на каждый отбитый
метр, четверть из них убитыми. Этот батальон, который
позже стал известен как «Цитадельный», участвовал
во всех самых ожесточенных сражениях, выпавших за
последние полгода на долю морской пехоты, несколько
недель назад между перевалом Хайван и Фулок он даже
дрался с теми же частями противника, что и здесь. Сейчас
численность состава каждой из его рот не достигала и
взвода. Каждому было ясно, что происходит. Новизна
ведения боя в городе породила немало горького юмора.
27*
Все только и мечтали, что оказаться в числе
эвакуированных по ранению. Майор, командир батальона, сидел
ночами на КП, читая карты, вперив отсутствующий
взгляд в трапециевидные очертания Цитадели. Сцена,
как на какой-нибудь ферме в Нормандии двадцать пять
лет тому назад: на столе горячие свечи, на разбитых
полках ряды бутылок с красным вином, холодок в
комнате, высокие потолки, тяжелый изукрашенный крест на
стене. Майор не спал пятую ночь подряд, и пятую ночь
подряд уверял нас, что завтра, безусловно, доведет дело
до конца: возьмет оставшийся участок стены, солдат ему
для этого хватит, больше и не надо. А один из его
офицеров — старший лейтенант, этакий крепкий орешек-«мус-
танг»* — отвечал на его взгляд кривой ироничной
усмешкой, отвергающей подобный оптимизм. В усмешке
явно читалось: «Твои слова выеденного яйца не стоят,
майор, и знаешь ты это не хуже меня».
Время от времени одна из рот оказывалась полностью
отрезанной от своих. Невозможно было эвакуировать
раненых. Помню, на КП доставили наконец одного
солдата с ранением в голову. Джип, на котором его везли,
вдруг стал. Раненый выпрыгнул и начал толкать джип —
знал, что иначе ему не убраться отсюда. Эвакуирующим
раненых танкам и грузовикам по большей части
приходилось идти по длинной прямой дороге без какого бы то
ни было прикрытия. Дорогу эту прозвали «Ракетная
аллея». У морской пехоты не осталось ни одного танка,
который хотя бы раз не был бы подбит. Символом Гуэ
стала потрясающая фотография Джона Олсона в журнале
«Лайф»: второпях набросанные на танк тела раненых.
По дороге в полевой госпиталь на многих раненых начинал
появляться зловещий сизо-серый, как рыбье брюхо,
оттенок, расплывающийся с груди на лицо. Одному солдату
с простреленной шеей санитар всю дорогу массировал
грудь. Однако к тому времени, как они добрались до
госпиталя, раненый был так плох, что врач посмотрел его
и занялся теми, кого, как считали, еще можно было спасти.
Не исключено, что, когда этого раненого сунули в зеленый
резиновый мешок, он еще был клинически жив. Врачу
никогда ранее не приходилось принимать подобных
решений, и привыкнуть к ним он не мог. Если случалась минута
передышки, он выходил дыхнуть воздуха, но и там было
не лучше. Кругом горы трупов и постоянная толпа.
Солдаты, выделенные для перевозки трупов, не успевали
273
справляться и нервничали. Сердито срывали с убитых
вещмешки, штыками срезали амуницию, засовывая трупы
в зеленые мешки. Один труп так застыл, что не лез в мешок.
«Вот сволочь,— буркнул солдат, запихивая ноги мертвеца
вовнутрь,— ну и ножищи отрастил». В госпитале я
познакомился с самым молодым из встреченных мною морских
пехотинцев. Ему угодил в колено крупный осколок. Он не
знал, что его теперь ждет. Лежа на носилках, он слушал,
как врач объяснял ему, что его эвакуируют вертолетом в
Фубай, оттуда в Дананг, а потом домой в, Штаты, где он
и будет дослуживать оставшийся ему срок. Сначала
парень был убежден, что доктор просто его успокаивает,
затем начал ему верить, а когда понял, что врач говорит
правду и его действительно вывезут отсюда, не мог согнать
с лица улыбку, а из глаз его покатились крупные слезы.
К тому времени я стал узнавать почти каждого
раненого, вспоминать разговоры с ним несколькими днями или
буквально несколькими часами раньше. В тот момент я и
улетел из Гуэ на борту санитарного вертолета вместе
с покрытым кровавыми бинтами лейтенантом. Лейтенант
был ранен в обе ноги, обе руки, голову и грудь. Уши и
глаза были полны запекшейся крови. Он попросил
летящего с нами в вертолете фотографа снять его в таком виде,
чтобы послать фотографию домой жене.
К тому времени сражение за Гуэ уже подходило к
концу. Части кавалерийской (механизированной) дивизии
очищали северо-восточные бастионы Цитадели, а
подразделения 101-й (парашютно-десантной) дивизии оседлали
маршрут, по которому до сих пор подбрасывал подкрепления
своим войскам противник. (За пять дней эти части
потеряли столько же людей, сколько морские пехотинцы за
три недели.) Южновьетнамская морская пехота и части
1-й дивизии южновьетнамской армии отжимали
оставшиеся здесь подразделения противника к стене. Флаг
противника, так долго реявший над южной стеной, был
сброшен, и на его место был водружен американский
флаг. Еще два дня спустя удалось прорваться сквозь
стены Императорского дворца, но противника во дворце не
оказалось. За исключением нескольких трупов во рву,
все погибшие солдаты противника были преданы огню.
Один из прекраснейших городов Вьетнама был процентов
на семьдесят разрушен, и если ландшафт казался
безжизненным, то можете себе представить, какими на
фоне этого ландшафта казались люди.
274
Отступление противника отмечалось двумя
официальными церемониями, обе с подъемом флагов. На южный
берег реки согнали две сотни беженцев из какого-то
лагеря, они молча и угрюмо стояли под проливным
дождем, наблюдая, как подымают флаг Южного Вьетнама.
Но на флагштоке лопнула веревка, и толпа, решив, что
веревка перебита выстрелом партизанского снайпера, в
панике рассеялась. (В сообщениях сайгонских газет не
упоминались ни дождь, ни лопнувшая веревка, а
ликующая толпа исчислялась тысячами.) Что же до второй
церемонии, то люди считали нахождение в Цитадели
небезопасным, поэтому, когда наконец подняли флаг, там
присутствовала лишь горстка южновьетнамских солдат.
Майор Тронг трясся на сиденье своего джипа,
пробирающегося сквозь развалины по улицам Гуэ. Его лицо
казалось совершенно бесстрастным, когда мы проезжали
толпы вьетнамцев, спотыкающихся об обрушенные балки
и разбитые в осколки кирпичи своих домов, но глаза его
скрывали черные очки, и понять, что он чувствует, было
невозможно. Он совсем не походил на победителя,
маленькая его фигурка обмякла, и я боялся, что при резком
толчке его выбросит из машины. За рулем сидел сержант
по имени Данг, один из самых рослых вьетнамцев, каких
мне доводилось видеть. Он говорил по-английски лучше,
чем майор. Время от времени джип буксовал в грудах
мусора, и сержант оборачивался к нам с извиняющейся
улыбкой. Мы ехали в Императорский дворец.
Месяцем ранее территория дворца была завалена
трупами противника и обгоревшим мусором, оставшимся
после трехнедельной осады и обороны. Принятию решения
о бомбежке дворца противились, но дворцу все равно был
причинен изрядный ущерб бомбежкой прилегавших
окрестностей и артиллерийским обстрелом. Огромные
бронзовые урны были помяты так, что их уже не
реставрировать, а сквозь дыру в крыше тронного зала лил дождь,
заливая два малых трона, на которых когда-то восседали
аннамские императоры. В большом зале зияли огромные
выбоины на покрытых красным лаком стенах, и все
покрывал густой слой пыли. Рухнуло перекрытие главных
ворот, в саду, точно трупы гигантских насекомых, лежали
ветви древних деревьев. Ходили слухи, что дворец
удерживала часть, состоявшая из студентов-добровольцев,
275
воспринявших наше вторжение в Гуэ как сигнал и
устремившихся в ряды армии повстанцев.
Но после взятия стен и прорыва на территорию дворца
там не осталось никого, кроме трупов. Трупы заполнили
ров и все подходы ко дворцу. Среди них ходили морские
пехотинцы, добавляя к грудам мусора опорожненные
консервные банки и испачканные страницы армейской газеты.
Один из них фотографировал своего
толстяка-однополчанина, мочившегося в рот разлагающегося трупа
партизана.
— Не есть хорошо,— сказал майор Тронг.— Не есть.
Шибко сильный бой здесь, шибко плохой.
Я расспрашивал сержанта Данга о дворце и о
династии императоров. Когда мы застряли в очередной груде
мусора у подножия моста через ров, я спрашивал у него
имя последнего императора, занимавшего трон.
Улыбнувшись, сержант пожал плечами — не столько показывая,
что не знает, сколько то, что это не имеет значения, и
направил взревевший джип в глубь дворцового парка.
Сеймур ХЕРШ
СОКРЫТИЕ ПРАВДЫ
ТРИСТА СОРОК СЕМЬ
Ранним утром 16 марта 1968 года рота американских
солдат была высажена вертолетным десантом для штурма
деревушки, известной как Милай-4, расположенной в
провинции Куанг-Нгай на северо-восточном побережье
Южного Вьетнама, за обладание которой велись жестокие
бои. Сто американских солдат и офицеров брали
деревню по всем правилам военной науки, наступая
повзводно, рассчитывая вступить в бой с 48-м батальоном
Вьетконга, одной из отборных частей противника. Вместо
этого они обнаружили стариков, женщин и детей, многие
из которых только-только начали готовить на завтрак
рис на уличных очагах у дверей. В течение нескольких
последующих часов жители деревни были безжалостно
уничтожены. Одних согнали вместе и расстреляли. Других
пошвыряли в дренажный канал на краю деревни и
расстреляли там. Еще больше людей было уничтожено
беспорядочной стрельбой прямо в их жилищах и во дворах
домов. Девушек и женщин помоложе сначала насиловали,
потом убивали. Расстреляв население, американские
солдаты сожгли деревушку, методично поджигая дом за
домом, перебили скот, уничтожили запасы продовольствия
и загрязнили все источники питьевой воды.
Командование роты (это была 3-я рота) не представило
командованию своей тактической группы никаких
официальных сведений о происшедшем. Вместо этого на свет
появилась версия о том, что в бою было уничтожено
128 солдат противника и захвачено три единицы
вооружения. Постепенно эта версия дошла до высшего
американского командования в Сайгоне и была подана в
мировой печати как значительная победа.
За пределами своего круга солдаты помалкивали о
277
содеянном, но у злодеяния оказались и другие свидетели.
Последовали первые расследования, приведшие к
ошибочному заключению, что 20 гражданских лиц погибли,
случайно попав под артобстрел и плотный перекрестный
огонь во время боя американцев с подразделениями
Вьетконга. Расследование охватило все
непосредственные элементы организационной структуры: рота была
придана тактической группе полковника Баркера, которая
в свою очередь подчинялась 11-й бригаде легкой пехоты,
составлявшей наряду с двумя такими же
подразделениями дивизию «Америкал».
Победа, одержанная тактической группой Баркера,
оставалась лишь одним из многих элементов статистики
вплоть до апреля 1969 года, когда бывший
военнослужащий по имени Рональд Л. Райденауэр обратился
в Пентагон, Белый дом, другие правительственные
учреждения и к двадцати четырем конгрессменам с письмами,
в которых описал бойню в Милай-4. Во время штурма
деревушки Райденауэра там не было, но он разговаривал
об этой операции с некоторыми из ее участников. Четыре
месяца спустя военные следователи вскрыли многие
подробности злодеяния, а в сентябре 1969 года юному
лейтенанту по имени Уильям Л. Колли-мл. были
предъявлены обвинения в убийстве 109 вьетнамцев — гражданских
лиц. Никаких существенных фактов по делу Колли тогда
не было предано гласности; напротив, армейское
командование выступило с неточным и туманным заявлением,
не содержащим и намека на количество жертв. Но факты
постепенно выплыли наружу, и в середине ноября
появилась серия газетных статей, частично проливших свет
на масштабы бойни. Того, что рассказали о Милай-4
последующие выступления печати, оказалось достаточно,
чтобы в вопле протеста содрогнулся весь мир. Несколько
недель спустя после первых публикаций армейское
командование объявило о создании специальной комиссии,
уполномоченной установить, почему первоначальные
расследования весной 1968 года не вскрыли истину о
совершенном злодеянии. Комиссия министерства армии по
пересмотру предварительного расследования инцидента в
Милай была известна неофицально как комиссия Пирса,
по имени ее председателя генерал-лейтенанта Уильяма Р.
Пирса. Генерал Пирс, которому было тогда пятьдесят
шесть, около трех лет командовал полевыми
соединениями во Вьетнаме.
278
Пирс и его помощники, среди которых были два
нью-йоркских адвоката, быстро поняли, что они не
способны в полной мере вскрыть замолченное злодеяние,
не собрав большее количество фактов о том, что же
произошло в Милай-4 в тот день, когда туда вошли
американские солдаты. 2 декабря 1969 года следственная
группа приступила к опросу солдат и офицеров роты
«Чарли» тактической группы Баркера 11-й бригады
дивизии «Америкал». Был опрошен 401 свидетель — около
50 в Южном Вьетнаме, остальные представали перед
самим Пирсом и группой военных и гражданских
следователей, насчитывающей от трех до восьми человек, в
специально отведенном комиссии помещении в подвалах
Пентагона.
Естественно, что многие из опрашиваемых давали
показания, пытаясь выгородить себя. Чтобы докопаться
до истины, комиссия Пирса вызывала их для дачи
повторных показаний и уличала расхождениями в версиях.
Только шестеро свидетелей отказались дать комиссии
показания, хотя по закону право на отказ от
показаний имели все: мало кто из профессиональных военных
может позволить себе вести себя так, будто ему есть что
скрывать от генерал-лейтенанта.
К середине марта комиссия Пирса собрала достаточно
доказательств, чтобы рекомендовать предъявление
обвинений пятнадцати офицерам. Рассмотрев рекомендации
комиссии, командование пришло к заключению, что
четырнадцати из них обвинение должно быть предъявлено, в том
числе и генерал-майору Сэмюэлу У. Костеру, который
во время событий в Милай-4 командовал дивизией «Аме-
рикал». К 1970 году Костер занимал должность
начальника Уэст-Пойнта, военной академии США, и
предъявление ему обвинений в сокрытии фактов ошеломило армию.
Обвинения были предъявлены еще одному генералу, двум
полковникам, двум подполковникам, четырем майорам,
двум капитанам и двум старшим лейтенантам.
Официальные представители армии заявили
журналистам, что за пятнадцать недель работы комиссия Пирса
собрала более 20 000 страниц показаний и 500 документов.
Отмечалось, что одни только исходные материалы
включали 32 тома непосредственных показаний, 6 томов
дополнительных документов и данных под присягой письменных
показаний, а также тома карт, диаграмм, служебных
документов и вещественных доказательств. Было тща-
279
тельно разъяснено, что никакие материалы следствия
до суда не могут быть преданы гласности во избежание
публичных обсуждений, пока не будут завершены все
предусмотренные законом юридические действия против
обвиняемых; это, как признали те же представители,
может длиться годами. Было также разъяснено, что
материалы следствия будут подвергнуты тщательной цензуре,
дабы избежать публикации каких-либо данных, способных
нанести ущерб внешней политике или национальной
безопасности США. В мае 1971 года, четырнадцать
месяцев спустя после первоначального сообщения, все
еще цитировались высказывания официальных лиц, что
«потребуются годы», прежде чем результаты следствия
будут преданы гласности. К тому времени с тринадцати
из четырнадцати военнослужащих обвинения уже были
сняты.
Ранней весной 1971 года в мое распоряжение было
предоставлено полное следственное дело комиссии Пирса,
включающее более 30 томов показаний, документов и иных
материалов. Нижеследующий рассказ основан главным
образом на этих документах, дополненных из иных
источников, в частности документов Управления по
расследованию уголовных преступлений армии США (Си-Ай-Ди),
несущего основную ответственность за проведение
первоначальных расследований как резни в Милай-4, так и
попыток утаить правду о ней. Далее я беседовал с
десятками военных и гражданских официальных лиц, в том
числе и с теми, кто давал показания комиссии Пирса,
и с теми, кто должен был бы их дать, но либо не был
вызван, либо отказался от дачи показаний. Я также
обсудил некоторые из установленных мною фактов с
бывшими военнослужащими, непосредственно связанными
с комиссией.
Серьезная озабоченность соблюдением прав тех, кто
потенциально может предстать перед судом военного
трибунала, несомненно, существует на всех уровнях
армейского командования. Но тщательное рассмотрение
собранных показаний и материалов делает столь же ясным
и то, что наибольший ущерб они наносят самой армии.
Из многих документов явствует, что официальные военные
лица сознательно утаили от общественности
существенные, но бросающие на армию тень факты о событиях
в Милай-4. Так, например, армия упорно отказывалась
опубликовывать данные о количестве гражданских лиц,
280
уничтоженных ротой «Чарли» 16 марта,— позиция, ничего
общего не имеющая более с желанием избежать
досудебной шумихи. Представители командования не раз
заявляли журналистам, что не располагают подобной
информацией. Однако в феврале 1970 года
Уголовно-следственным управлением по запросу комиссии Пирса был
произведен тайный подсчет жертв среди гражданского населения
Милай-4. Проанализировав имеющиеся данные, Си-Ай-Ди
сообщило в меморандуме генералу Пирсу, что 16 марта
1968 года рота «Чарли» уничтожила в Милай-4 347
вьетнамцев — мужчин, женщин и детей,— то есть в два раза
больше, чем признавалось ранее.
Более того, комиссии Пирса стало в дальнейшем
известно, что примерно одна треть совершенных убийств —
от 90 до 130 — приходится на долю первого взвода
лейтенанта Колли, одного из взводов, штурмовавших Милай.
Около ста убийств отнесли на счет второго взвода, а
остальные — на счет третьего взвода и экипажей вертолетов.
Однако в процессе следствия вскрылось
обстоятельство, еще более ошеломляющее, нежели подробные данные
о массовом убийстве в Милай и попытках замолчать о нем
правду: вскрылась несостоятельность всех существующих
в армии систем управления, контроля и отчетности, по
меньшей мере в дивизии «Америкал», какой она была
в 1968 году. Стало очевидным, что высший командный
состав имеет смутное представление о деятельности своих
подчиненных на уровнях рот и взводов. Во всей зоне
действий дивизии зверства могли совершаться почти
бесконтрольно, и вышестоящие инстанции не обладали никакими
средствами их обнаружения.
Так, комиссия Пирса установила, что бойня в Милай
была не единственным массовым убийством, совершенным
тем утром в провинции Куанг-Нгай американскими
солдатами. Как стало известно следствию, командование
тактической группы Баркера выделило для проведения операции
«Пинквилль» три пехотные роты. Рота «Альфа» была
выдвинута на блокирующую позицию за Милай-4, где,
как предполагалось, она устроит засаду отступающим
партизанам. Рота «Браво» получила приказ атаковать
возможное месторасположение партизанского штаба в
Милай-1, в полутора милях к востоку от Милай-4. Личный
состав роты также был предупрежден о предстоящем
тяжелом бое с опытными войсками противника. Но в
населенном пункте Милай-1 партизан не было.
281
ПЛАНИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ
Решение Баркера провести в Сонгми повторную
операцию было неизбежным. В начале марта он говорил о ней
с генералом Липскомбом и получил его разрешение.
«Баркер говорил мне раз или два, что этот 48-й
(партизанский) батальон был у него как бельмо на глазу,
поэтому он хотел повторить операцию...— показал
комиссии Липскомб.— Без этого просто нельзя было
установить контроль над районом». Прежде чем ввести в дело
свои подразделения, Баркер безрезультатно просил
разрешения расчистить зону Сонгми «римскими плугами» —
чудовищной мощности полуторатонными бульдозерами,
способными снивелировать сотни гектаров за день.
О неудачной попытке Баркера убедить командование
бригады в необходимости применения «плугов» рассказал
мне сержант Сесил Д. Холл, служивший в тактической
группе связистом. «Я неоднократно слышал его слова,—
сказал Холл,— что было бы здорово нагнать сюда
бульдозеров и расчистить зону раз и навсегда».
Теоретически Сонгми не находилась в пределах
участка, выделенного тактической группе Баркера, а была
включена в зону действия 2-й южновьетнамской дивизии,
штаб которой находился менее чем в десяти милях в
городе Куанг-Нгай. Но Баркер и его сослуживцы не
испытывали к своим союзникам ничего, кроме презрения,
из-за неспособности южновьетнамских войск оказать
поддержку тактической группе при проведении февральских
операций в Сонгми. «2-я дивизия южновьетнамской армии
никуда не годилась,— показал генералу Пирсу
капитан Юджин М. Котук, начальник разведки тактической
группы Баркера.— Сэр, они не то что сражаться, они
и защищаться-то толком не могли».
Чувство презрения к южновьетнамской армии не
ограничивалось рамками тактической группы. Управляющие
провинцией американские офицеры в установленном
порядке удовлетворили запрос Баркера и дали ему
разрешение на проведение боевых операций в районе деревни
Сонгми, но офицеры 2-й дивизии южновьетнамской армии
о планах тактической группы уведомлены не были.
Подполковник Уильям Д. Гуинн-мл., заместитель военного
советника провинции Куанг-Нгай, показал, что Барксру
предстояло действовать в этом районе самостоятельно,
«...не информируя нас о своих действиях. Это было в по-
282
рядке вещей, они не хотели информировать нас, поскольку
в структуре вьетнамского командования было чересчур
много утечек».
Хотя Костера и заверили, что наступление,
планируемое тактической группой, будет еще более успешным,
чем две предыдущие операции — Баркер доложил, что
рассчитывает обнаружить 400 партизан,— командир
дивизии признал, что в действительности знал чрезвычайно
мало о планируемой операции. Ему вообще сообщили
о предстоящих боевых действиях лишь потому, заявил
Костер, что только он мог санкционировать участие в них
двенадцати боевых вертолетов, что Баркер считал
необходимым. Как поначалу объяснял генералу Баркер, главной
целью была деревушка Милай-1, центр района Пинквилль,
где, по данным разведки, находился штаб 48-го батальона
противника. Как впоследствии показал Костер, он, хотя
и санкционировал операцию, даже и не утруждал себя
ее анализом. «Я достаточно уверенно могу сказать: он,
наверное, объяснил, что планирует блокировать отход
противника двумя ротами — одна рота идет маршем,
остальные десантируются с воздуха... Но я не припомню,
чтобы я даже нашел ее точно на карте, одну маленькую
деревушку из многих... Да там, конечно, все равно ничего
не было, кроме развалин. Я знал, что войска входили туда
не единожды и пытались взрывать убежища и ходы
сообщения, и я знал, что это продолжается постоянно.
Каждый раз, проходя этот населенный пункт, мы пытались
взорвать что-нибудь еще».
Ни на одном этапе подготовки операции не
составлялось никаких официальных письменных документов о ее
тактических аспектах. Составленный Баркером план
операции не предъявлялся в какой бы то ни было форме
ни одному из старших офицеров дивизии «Америкал»,
таким, как начальник разведки дивизии подполковник
Томми П. Тресклер. Более того, начальник штаба
тактической группы майор Чарльз Калхун не мог припомнить
каких-либо конкретных проявлений беспокойства о судьбе
гражданского населения Сонгми перед началом операции
16 марта; он даже заявил комиссии, что, по его мнению,
в Милай-4, главном объекте роты «Чарли», проживало
всего около сотни человек. (На самом деле там жило
не менее пятисот). Майор отметил, правда, что «над
районом постоянно разбрасывались листовки,
рекомендующие гражданскому населению перемещаться в центр
283
для беженцев... они (личный состав тактической группы)
предупреждали гражданское население, что из этого
района надо уходить, и некоторые, видимо, ушли».
Остается неясным, отдавал ли кто-нибудь себе в штабе
Баркера отчет в том, что населению было некуда уходить,
даже если бы они и хотели уйти, потому что лагеря
беженцев уже были переполнены, но на уровне дивизии
положение дел было известно многим офицерам. В ответ на
вопрос о планах перемещения населения генерал-майор
Костер просто ответил, что их не существовало: «Я, право
же, не рассматривал этот район как нашу основную
заботу. Им надлежало заниматься 2-й дивизии южновьет*-
намской армии... Пожалуй, моя дивизия и не взяла бы
на себя перемещение этих людей. Не думаю, что я стал бы
поощрять и вьетнамское командование заниматься
перемещением населения из этих деревушек, потому что это
абсолютно невыполнимая задача. Людей просто некуда
было девать».
Капитан Котук, офицер разведки, вступивший в
должность за три недели до операции в Милай-4, представил
комиссии Пирса возможное объяснение отсутствия какой-
либо заботы о гражданском населении со стороны
тактической группы: «Было известно, что местное население
весьма активно поддерживает Вьетконг. Партизанская
часть набиралась из местных. В одних семьях
оставались матери, отцы, дети партизан. Из других к
партизанам ушли отец или дядя».
Каких политических взглядов ни придерживались бы
жители Сонгми, если придерживались их вообще, ситуация
для них сложилась безысходная. Капитан Чарльз
К. Уиндем, до 16 марта служивший при тактической
группе офицером по делам гражданского населения,
показал на следствии, что ни разу не принимал участия
в каких-либо совещаниях по обеспечению безопасности
гражданского населения до начала боевых действий.
Капитан добавил также, что опыт службы во Вьетнаме
показал ему «полную бесполезность попыток работы
с гражданским населением, когда выходишь на боевую
операцию с пехотной ротой».
На каком-то этапе подготовки операции командование
тактической группы получило непроверенные
разведывательные данные о том, что жители Милай-4 покинут
деревушку около семи утра в субботу, в день проведения
операции, чтобы отправиться на рынок.
284
Поскольку никаких деталей о подготовке операции
вышестоящим инстанциям не докладывалось, офицеры
штаба не имели возможности дать более
квалифицированную оценку предположениям разведчиков.
Из всей противоречивой информации, предоставленной
комиссии Пирса, не вызвало, однако, сомнений одно:
не было абсолютно никаких оснований полагать, что все
жители Милай-4 покинут деревню в семь утра, чтобы
отправиться на рынок. На самом деле, как показал
лейтенант Кларенс И. Дьюкс, хорошо информированный
офицер разведки при штабе дивизии «Америкал»,
следовало ожидать как раз обратного: «Я бы сказал, что если
партизаны располагаются в населенных пунктах, то к
восходу солнца, до рассвета, они обычно уходят... Большая
часть мужского населения выходит в поле на работу,
в домах в основном остаются женщины и дети».
Аналогичного мнения придерживался и подполковник Трекслер:
«Полагаю, что в населенном пункте с более или менее
значительным количеством населения всегда будет
находиться кто-то из местных и днем и ночью, если только
их не предупредили о необходимости эвакуации по какой-
либо причине». Но ведь при любых обстоятельствах,
спросили его, «в деревне всегда останется кто-то из
стариков, беременных женщин, маленьких детей, других
людей подобных категорий»? Трекслер ответил
утвердительно.
Итак, план наступления был составлен без проявления
какой бы то ни было озабоченности возможными жертвами
среди гражданского населения. Майор Калхун изложил
свое представление об этом плане следующим образом:
«...основной состав 48-го батальона снова находился
в этом районе (деревни Сонгми). Поскольку
предыдущие марши по открытым рисовым чекам, окружающим
Милай-4, доставляли нам столько хлопот, полковник Бар-
кер хотел высадить десант как можно ближе к деревне
либо совершить к ней максимально стремительный бросок,
чтобы использовать фактор внезапности. Поэтому он
и принял решение использовать вертолеты. В общих чертах
он предполагал высадить возле Милай-4 пехотную роту
(роту «Чарли» под командованием капитана Медины),
блокировать расположенный там форпост противника,
а затем высадить в тылу противника еще одну роту для
быстрого марш-броска непосредственно в район Пинк-
вилль (Милай-1), имея целью захват штаба противника,
286
прежде чем тот успеет переместиться, как это случалось
в других операциях».
Однако офицер разведки Котук предоставил комиссии
Пирса совсем иное толкование важности объекта Милай-4:
«Мы направились туда, потому что ожидали обнаружить
в Милай-4 штаб и два подразделения 48-го батальона».
Однако не вызывает никаких разногласий применение
полковником Баркером другого основного элемента
полевой тактики. Он приказал приданной его тактической
группе четырехорудийной батарее открыть в семь часов
двадцать минут утра, то есть за десять минут до
приземления первого вертолета с подразделением
лейтенанта Колли на борту, залповый огонь продолжительностью
от трех до пяти минут. Военные называют это «обработкой
местности».
Подполковник Роберт Л. Люпер служил тогда
командиром артиллерийских подразделений, приданных 11-й
бригаде. Он показал, что Баркер «требовал
артподготовки, но не по зоне высадки его десанта. Требование
несколько отличалось от обычной практики, поскольку
он считал, что его войска высаживаются для ведения
наступления на достаточно открытую местность и, если
возникнут препятствия, он их сразу сумеет обнаружить.
Он требовал, чтобы артподготовка велась по участку
севернее зоны десантирования, что неминуемо
подвергало обстрелу Милай, деревню Милай». В ответ на
вопрос, предполагалось ли сосредоточивать огонь по
деревне все пять минут, отведенные на артподготовку, Люпер
ответил: «Да... Видите ли, эта деревня, безусловно, была
одно время густо заселена, но на день проведения
операции большая часть домов и построек уже была
взорвана и участок был сравнительно небольших
размеров по сравнению с тем, что показывала карта». Люпер
признал во время опроса, что ведение артиллерийского
огня даже по малонаселенным деревням являлось
нарушением принятой в бригаде практики, но добавил, что
полковник Гендерсон был детально информирован
о плане, разработанном Баркером.
Ведение артиллерийского огня по населенному пункту
также считалось само собой разумеющимся офицерами
тактической группы. Оправдание подобной тактике —
явному нарушению международного права — предложил
майор Калхун: «Утром 15 марта (за день до начала
операции) он (Баркер) должен был принимать решение,
286
высаживать ли десант в такой непосредственной
близости от деревни без артиллерийской обработки ее
западного фланга. Он полагал, что если произведет высадку
десанта — я сейчас вынужден говорить за него, и я уверен,
что он именно так и думал,— если, значит, высаживать
десант, имея опыт предшествующих десантов и зная, что
противник оснащен тяжелым вооружением, пулеметами
и автоматами, если высаживаться девятью или
двенадцатью вертолетами в пределах досягаемости огня
противника... то можно потерять и вертолеты, и американцев...
самые, конечно, уязвимые — это первые машины, которые
идут на посадку; на земле ничего ведь нет, никакого
прикрытия, а вертолеты садятся медленно и сидят, как
утки на воде. Либо он мог обработать участок артогнем,
понимая, конечно, что кого-то из гражданских заденет.
Но есть ведь разница, кем жертвовать — американцами
или какими-то местными».
Еще одним оправданием артиллерийского обстрела
деревни служило «разрешение» на подобную акцию,
полученное от южновьетнамских властей этой зоны.
Власти считали весь район зараженным влиянием
Вьетконга и давно объявили его зоной свободного
огня. Разрешение требовалось только для того, чтобы
удостовериться в отсутствии в предполагаемом секторе
обстрела американских или южновьетнамских войск.
Ответственным за передачу соответствующим
южновьетнамским властям запросов американского командования
на разрешение вести артобстрел был капитан Уэйн
И. Джонсон, офицер связи дивизии «Америкал» при
штабе 2-й дивизии южновьетнамской армии в Куанг-
Нгай. Разрешения неизменно давались. По мнению
Джонсона, как американцы, так и южновьетнамские
военные, служащие в провинции Куанг-Нгай, «считали
все население деревни Милай враждебно настроенным.
Если обнаруживалась цель, стоящая того, чтобы вести
по ней огонь, присутствие там гражданского населения
не могло служить препятствием. Руководство района
не считало, что там находится много гражданских. Он
не был густо заселен».
Эта широко распространенная точка зрения была
трагически неверна, как показала последующая
программа переселения. Сайгонские власти приступили к
перемещению жителей Сонгми в феврале 1969 года,
рассчитывая переселить 5000 гражданских лиц. В конечном
287
счете из этого района было перемещено 12 000 человек.
Как разъяснил генералу Пирсу подполковник Люпер,
получив разрешение южновьетнамских властей, его люди
открывали огонь по любой указанной цели. Ему был
задан вопрос: «И если вы вели огонь по населенным
пунктам, убивая мирных жителей, то вам как артиллеристу
это было глубоко безразлично. Так я вас понял?» Люпер
ответил: «Никак нет, сэр, я не хочу сказать, что мне
это было безразлично. Но я хочу сказать, что если
пехотный офицер требует огневой поддержки... Я
полагаю, что обязан усомниться в ее необходимости, если знаю,
что он требует обстрела населенного пункта, так точно,
сэр, обязан, но, если офицер все же настоятельно требует
ведения огня, я обязан вести огонь».
15 марта, за день до проведения операции, полковник
Баркер, майор Калхун и капитан Котук назначили
оперативное совещание в небольшой палатке
непосредственно рядом со штабом тактической группы. На
совещание были приглашены офицеры, которым предстояло
сыграть ключевые роли в бою 16 марта: командир
роты «Чарли» капитан Медина, капитан роты «Браво»
капитан Майкле, командир артбатареи четырехорудийного
состава, расположенной в зоне высадки, в пяти милях
от Милай-4, капитан Стивен Гэмбл и майор Фредерик
У. Уотке, командир разведывательной эскадрильи
авиачасти 123, расположенной в месте расквартирования
штаба дивизии «Америкал» в Чулай. Его летчикам
предстояло обеспечивать воздушное прикрытие. Роте
«Альфа» — третьему подразделению тактической группы
Баркера — активной роли при проведении операции не
предназначалось.
За несколько часов до начала совещания в штаб
тактической группы нанес свой первый визит преподобный
Карл Кресуэл, дивизионный капеллан. «Это был в
основном светский визит,— вспоминал священник в интервью
со мной,— Баркер и майор Калхун работали с картами,
нанося на них оперативные данные. Я стоял и смотрел,
как они работают». Кресуэлу запомнилась «чрезвычайно
враждебная атмосфера, царившая в штабе дивизии. Они
намеревались «сровнять Пинквилль с землей».
Враждебность прямо висела в воздухе, хоть ножом режь. О
переселении гражданского населения никто и не упомянул.
Я заметил, что воевать так — не в наших правилах».
Кто-то из офицеров ему ответил, Кресуэл не помнит, кто
288
именно, но ответ был безапелляционный: «Идет
жестокая война». Ярость их высказываний удивила его.
Хотя он и привык к несдержанности высказываний во
взводах, он отметил, что «на уровне батальона обычно
можно себе позволить более спокойное отношение к делу».
Само совещание было проведено по-военному четко.
Работники штаба тактической группы Баркера,
набившиеся в переполненную палатку, выслушали выступление
полковника Гендерсона, которое свелось к тому, чтобы
«дать им накачку». Гендерсон всего лишь несколько
часов как официально вступил в должность командира
11-й бригады. Выступление его было кратким, и
капитан Стивен Гэмбл сумел припомнить многое из его слов,
когда давал показания комиссии: «...Он отметил, что
операция намечена очень важная, что командование
хочет раз и навсегда разделаться с действующим здесь
подразделением Вьетконга и очистить район от
противника. Это он подчеркнул особо и потребовал проследить,
чтобы в ротах все шло без сучка без задоринки и чтобы
операция велась слаженно, как часовой механизм».
Капитан Эрнст Медина припомнил требование
Гендерсона, чтобы роты действовали более агрессивно:
«Полковник Гендерсон... отметил, что неудачи
предыдущих двух операций объяснялись недостаточной
агрессивностью солдат в стычке с противником. Мы оставляли
на поле боя чересчур много оружия, поэтому другие
вражеские солдаты при отступлении, а также женщины
и дети из местного населения подбирали это оружие
и прятали его. Таким образом, когда солдаты прибывали
на место, где убили противника, его оружия уже не было».
Капитан Котук вспомнил обещание Гендерсона:
«Дайте только добраться до этого 48-го батальона, больше
у нас с ним проблем не будет. Разделаемся раз и навсегда».
Жесткая линия Гендерсона пришлась капитану по душе:
«Я лично подумал, что он здорово сказал».
После выступления Гендерсона Котук сжато
проанализировал разведданные, включая сведения о том, что
все гражданское население покинет Милай-4 к семи утра.
За ним с картографическим обзором выступил майор
Калхун. Затем нанялся Баркер. Котук живо припомнил
его слова: «Полковник Баркер требовал очистить район,
нейтрализовать его. Жилища сжечь, тоннели засыпать,
домашний скот и прочую живность истребить. О том,
чтобы убивать гражданское население, полковник Баркер
10 За к. 556
289
ничего не говорил, сэр,— заявил капитан Котук
генералу Пирсу.— И я ничего такого не говорил тоже. Он
хотел нейтрализовать этот район».
Далее капитан Медина показал, что Баркер «приказал
мне сжечь и уничтожить деревню, уничтожить всех
домашних животных, буйволов, свиней, цыплят. Засыпать
все колодцы, какие найдем в деревне». Майор Уотке,
командир вертолетчиков, заявил комиссии: «Больше
всего мне запомнилось их неподдельное предвкушение
встречи с контингентом противника. Они просто были
убеждены, что в районе находится вражеский батальон,
и стремились настичь его, прежде чем он уйдет...
Последняя стычка позволяла судить о значительном количестве
вражеских солдат. Они намеревались ворваться в деревню,
выбить этот батальон и покончить с ним. Совещание
было типичным для тех, в которых я принимал участие
ранее,— добавил он.— Оно проводилось очень
профессионально. Все высказывались откровенно. Операция
обсуждалась профессиональным образом».
Специалист четвертого класса Фрэнк Биардсли тоже
слышал, о чем шла речь на совещании. Положение
личного водителя Баркера позволило ему, не вызывая
вопросов, забиться в угол палатки. «Баркер приказал
им навести в деревне порядок. Я так понял, что он
имел в виду очистить ее,— поведал Биардсли в
интервью.— Он не сказал: «Стереть с лица земли все
живое», не приказывал убивать детей и женщин. Просто
сказал: «Навести порядок». Мы собирались «не
покладать рук», пока от 48-го следа не останется». Биардсли
вызвался идти добровольцем с ротой «Чарли» — хотел
получить «Боевой знак» пехотинца.
После того как совещание было закончено, Баркер
вылетел с капитанами Мединой и Майклсом для
рекогносцировки намеченных на следующий день целей, указывая
им районы десантирования и показывая намеченные
участки артобстрела. Позже он высадил Медину и Майкл-
са в расположениях их рот, где им предстояло
проинструктировать своих солдат. Капитаны, на которых
произвела впечатление информация, полученная от
командования, исполнительно довели до сведения подчиненных
жизненно важные данные об операции. Той ночью
расположение роты «Чарли» обходил сержант Нгуен
Динь Фу, переводчик южновьетнамской армии.
Инструктаж закончился два часа назад, но сержант на нем не
290
присутствовал. Он показал комиссии: «Очень многие
солдаты перепились. Один сказал мне, что завтра они
пойдут в бой и перережут детей, женщин, домашний
скот, всех, кто попадет под руку... «Ты не думай, я не шучу,
я всерьез». Поскольку солдат был пьян,'я отнес это на
счет алкоголя. Потом я пил с солдатами». Позже,
сказал Фу, он вернулся в палатку, где жил с капитаном
Мединой, и лег спать. Капитан уже спал.
ТЕ, КТО ЗНАЛ
В дни и недели, последующие за Милай-4, рота
«Чарли» развалилась. «По-моему, некоторое время спустя
все устыдились того, что натворили,— показывал Фрэнк
Биардсли,— потому что убили многих из тех, кого
называют неповинными». Самому Биардсли не давала покоя
мысль об убитых в тот день детях. «Они просто
подворачивались под руку... на спинах матерей и все такое...»
Позже Биардсли объяснял в данном мне интервью:
«Мы и понять-то не поняли, что происходило, пока все
не кончилось». Роджер Олэкс, артиллерийский
наблюдатель, сказал комиссии, что «по всей роте ощущалась
общая депрессия после завершения операции, и
продержалась она — я за это время со многими поговорил —
неделю или две, и очень многих из них одолевали мысли
о том, что же произошло, и почему...».
К середине апреля тактическая группа Баркера была
в обычном порядке расформирована. Лейтенант Колли
был освобожден от командования первым взводом',
а капитал Медина готовился к переходу на должность
в штаб бригады. Его рота, которой когда-то выпала
честь возглавлять высадку подразделений бригады во
Вьетнаме, пришла в полный упадок.
Один из членов комиссии Пирса излагает
характеристику роты «Чарли» после событий у Милай-4,
доложенную подполковнику Эдвину Д. Бирсу, командиру
1-го батальона 20-й пехотной бригады, базового батальона
1 В июне 1968 года Колли получил новое назначение —
офицером по делам гражданского населения и умиротворению в другом
батальоне 11-й бригады. «Он отлично справлялся со своими
обязанностями,— заявил комиссии Пирса его командир подполковник
Уильям Д. Келли,— особенно если учеть полное отсутствие опыта.
Был энергичен и выполнял все мои распоряжения».— Здесь и далее
прим. автора.
10*
291
роты: «Ко времени ухода из роты капитана Медины,
по словам опытного боевого младшего командира, он
никогда в жизни не видел такой, так сказать,
распущенной и недисциплинированной оравы — никакого контроля
со стороны офицеров... некоторые солдаты по два месяца
не стригутся. С утра до вечера шляются, не приводят
себя в порядок. Ночью дисциплины не соблюдается
практически никакой. По ночам не окапываются. Укрытий
для личного состава не готовят. Офицеры совершенно не
справляются с обязанностями командиров обеспечить
бойцам укрытие. Довольно скверная выходит история...»
Бирс согласился: «Рота „Чарли", полученная мною
обратно (от Баркера), вовсе не та рота, которая в декабре
высаживалась со мной во Вьетнаме... Произошел обрыв
где-то в командной структуре, разрушилось
взаимодействие между капитаном Мединой, командирами взводов
и сержантским составом» \
Майор Хэрри П. Киссинджер-третий, заместитель
капеллана 11-й бригады, провел несколько дней подле
расположения роты «Чарли» после операции в Сонгми.
Зная, как высоко ценят ротные командиры большое
количество убитых в бою солдат противника, «я поздравил
Медину с тем, что его солдаты помогли истребить
128 вражеских солдат. Я стал расспрашивать о
сражении, но он почти не отвечал. Не припомню, чтобы он
1 К июню рога «Чарли» уже месяц как была возвращена в свой
базовый батальон, но все еще находилась в стадии полнейшей
дезорганизации. Капитан Джерри У. Свенсон, третий за два месяца
командир роты, так отозвался о своих солдатах в середине 1971 года:
«Никакого чувства собственного достоинства, отвратительный внешний
вид и никакого ухода за оружием... Я знал, что что-то произошло,
имел место какой-то инцидент». Свенсон служил в 11-й бригаде на
Гавайях в 1967 году, когда рота «Чарли» неизменно выходила
победительницей возможных соревнований, проводимых в батальоне.
«Я не психиатр,— сказал молодой офицер,— но это была совсем не та
рота, которую я знал раньше». Однако в определенных отношениях
рота была та же. Один ее солдат предоставил комиссии Пирса
страницы дневника, который он ежедневно вел. Они включали следующую
запись, сделанную в мае, около двух месяцев спустя после Милан:
«Спускались в долину. Передний заметил бегущих гуков
(презрительное прозвище вьетнамцев.— Ред.). Стреляли, но промазали. Зашли
слева, метров через двести другой наш парень обнаружил трех гуков
в кустах — женщину и двух мужчин. При них еда и медикаменты.
Ребята позабавились с девкой. Вошли дальше в долину. Обнаружили
хижины. Мы все их разнесли, баб раздели догола и изнасиловали.
Сэл одну избил. Потом на холме остановились на привал пожрать
и готовиться к ночевке. Я сделал несколько снимков».
292
сказал что-нибудь, кроме: «Да, вот именно*, или просто
кивал в ответ. У меня не сложилось впечатления, что
он горд успехами... Я попытался расспрашивать других,
но толком никто не отвечал. Я понял, что собеседник
не хочет об этом говорить, и оставил эту тему без
внимания, не задавая больше вопросов».
Подумав, капеллан отметил также, что оставался
ночью с солдатами на позициях, даже выходил с ними
на патрулирование. «Но никто ничего не говорил мне,—
продолжал Киссинджер,— я разговаривал со многими
из них, а ведь можно предположить, что кто-то должен
был поделиться с капелланом, если у них что-то лежит
на совести».
Однако десять дней спустя один из солдат рассказал
о Милай-4 военному юристу, и пришедший в ужас офицер
попросил разрешения солдата доложить об этом по
инстанции. За какой-то незначительный проступок капитан
Медина наложил на солдате взыскание по статье XV —
несудебное наказание на уровне роты, обычно влекущее
за собой несколько нарядов вне очереди либо
дополнительное несение караульной службы. «Этот солдат
начинает испытывать острое отвращение к армии в целом
и к своей роте и капитану Медине в частности,— писал
юрист, капитан Морис И. Борис, служивший тогда в
юридическом отделе штаба дивизии «Америкал» в Чулай,
в частном письме, впоследствии мне представленном.—
Суть его жалобы в следующем: он просто не понимает,
как человек, совершивший убийство и приказавший
совершить убийство другим, может теперь наказывать
его за сущую ерунду».
Борис быстро узнал, что история о Милай опережает
его и разносится по всей дивизии. Узнал он также и то,
что никто не собирается принимать никаких мер. Сначала
он поставил этот вопрос перед своим непосредственным
начальником, майором Робертом Ф. Комо, в то время
заместителем начальника юридической службы дивизии.
Перед переходом в штаб Комо служил в 11-й бригаде,
и репутация Медины была ему известна. «Мы обсудили
инцидент и его участников,— писал Борис,— особенно
с точки зрения возможного измышления со стороны
моего клиента либо по меньшей мере преувеличения,
вызванного желанием «отомстить» командиру роты за
наложенное взыскание, и на этом разговор прекратился.
Майор Комо дал мне понять, что „займется этим делом"».
293
(Когда майор Комо давал свои непродолжительные
показания комиссии, ему был задан вопрос, припоминает
ли он какие-либо запросы, сообщения, следствия или
что-либо в этом роде касательно инцидента в Милай-4...
Он ответил: «Никак нет, сэр».)
Тогда капитан Борис начал задавать вопросы
в штабе 11-й бригады в Дукфо, где обнаружил, что
к рапорту роты «Чарли» о большом количестве трупов
противника и о малом количестве захваченного оружия
относятся «чуть ли не как к шутке».
Позже он говорил об инциденте с курирующим Дукфо
сотрудником Управления по расследованию уголовных
преступлений. «Он сказал мне, что до него доходили
слухи об инциденте 16 марта и о других инцидентах,
связанных с ротой «Чарли»... Он поставил меня в
известность о имевшемся у него намерении провести
расследование. Однако, когда я вновь затронул в разговоре
с ним эту тему некоторое время спустя, он ответил, что
ему рекомендовали «забыть об этом». Насколько мне
известно, никакого расследования этот офицер не
проводил». После этого, говорилось в письме, юрист обсудил
вопрос о выдвинутом солдатом обвинении с другими
офицерами штаба и постепенно стал заниматься другими
делами. «Честно говоря, в этом обвинении не было ничего
необычного. О том, что якобы совершались зверства,
я слышал не в первый и не в последний раз. Из ряда
вон выходящим казалось лишь количество жертв».
Некоторые подробности бойни в Милай-4 быстро
стали широко известны в 11-й бригаде. Фрэнк Биардсли,
участвовавший в операции с ротой «Чарли», поделился
впечатлениями с солдатами в Дукфо. Джей Роберте
и Рональд Хэберли — журналист и фотограф, своими
глазами видевшие большую часть убийств,— тоже
рассказали своим друзьям о событиях, свидетелями которых
стали. Клинтон П. Стефенс, сержант-разведчик
тактической группы, показал, что слышал высказывания
солдат — он счел их шуткой,— «что группа Баркера
перебила массу неповинных гражданских, или «группа
Баркера» достала «тьму местных».
В авиачасти 123 капитан Брайан Ливингстон с
отвращением отмечал, что все газеты, издаваемые службами
информации бригады и дивизии, упивались восторгом
по поводу последних успехов «баркеровских бандитов»
в борьбе с отборными частями противника. «Тактическая
294
группа Баркера сокрушает опорный пункт противника»,—
гласил один из заголовков. 19 марта, в самый разгар
рекламной шумихи, Ливингстон пишет очередное письмо
жене: «Помнишь, я писал тебе о резне, свидетелем
которой оказался? Так вот, я прочитал статью о ней
в газете. Там говорится (я цитирую): «Американские
солдаты вступили в тяжелый бой с неизвестным
количеством партизан. Двое американцев погибли, семеро
ранены. Потери противника составили 128 человек».
Это же полная...»
Большинство летчиков эскадрильи разделяли точку
зрения Ливингстона. Несколько недель спустя после Ми-
лай-4, вспоминает Лоуренс Куберт, майор Уо/гке собрал
личный состав эскадрильи для текущего инструктажа,
который проводил молодой офицер из дивизионной
разведки. «По данным разведки,— показал Куберт,— в Милай
было уничтожено 120 гражданских лиц... Я не помню
сейчас, кто сказал тогда: «А, это вы о тех женщинах
и детях?»... Вопрос вызвал реакцию среди офицеров.
Тогда разведчик, который вел инструктаж, ответил, что
есть достоверные сведения о сотрудничестве этих
гражданских с Вьетконгом. Его ответ вызвал новое
замечание: «Что-то не было похоже, чтобы эти люди
представляли для нас какую-то опасность». Тогда вмешался
майор Уотке: „Хватит об этой старой истории. Мы для
этих людей сделали все, что могли... Сейчас вроде как
начинаем все сначала"».
Уильям Безансон, пилот одного из десантных
вертолетов авиачасти 123, пролетавших над деревушкой,
объяснил в интервью, как он смог пережить увиденное
в тот день: «Вернувшись, мы сидели в бункере и смолили
марихуану. Одного из моих дружков начало трясти —
он на этом деле чуть не чокнулся. Все сидел и твердили
«В кого же мы превращаемся?» Помню, тогда-то я и
задумался обо всем этом впервые. Да подумаешь дело —
это же всего-навсего гуки. На следующий день мы снова
вылетали на задания и снова их убивали. Надо было
просто выкинуть все это из головы».
Солдаты, которые не участвовали в бойне и не видели
ее, охотно говорили о ней. По словам подполковника
Чарльза Энистрэнски, уполномоченного офицера дивизии
«Америкал» по делам гражданского населения, «к концу
марта... об этом ходило много толков... Солдаты
разговаривали в столовых... Проходя мимо штаба дивизии,
295
мимо часовен... можно было услышать, как люди об этом
говорят. Но все в очень шутливом тоне: „Эй, ты слыхал?
Во дела!"» В ряде случаев, отметил подполковник, он
слышал, как упоминались имена лейтенанта Колли
и сержанта Митчелла. «Удивительно,— не без тени иронии
добавил Энистрэнски,— что никто из офицеров об этом
не говорил, ни в штабе, ни в столовой, ни где-либо еще».
Обеспокоенность старших офицеров несдержанной
болтовней и боязнь скандала, способного испортить
карьеру, подтверждаются печальным опытом
достопочтенного Фрэнсиса Льюиса, капеллана-методиста,
пытавшегося в течение нескольких последующих недель
добиться рассмотрения командованием дивизии рапорта
о совершенных зверствах. Сначала капеллан Льюис,
услышавший рассказ Хью Томпсона от разгневанного
и упорно стучащегося во все двери преподобного Карла
Кресуэла, исповедника Томпсона, обратился к полковнику
Джесмонду Болмеру, начальнику оперативного отдела
штаба дивизии. «Я заявил Болмеру, что до моего сведения
дошли крайне неприятные известия,— показал Льюис.—
Он ответил, что ему эти сведения известны и будет
проведено тщательное расследование». Позже они оба —
Льюис и Болмер — обсуждали операцию в присутствии
полковника Томми Трекслера, начальника разведки.
Льюис изложил офицерам сведения, полученные от
Кресуэла, и «оба они ответили, что слышали об этом.
Я хорошо помню их ответ. Все подробности
совершенного злодеяния до меня не дошли, но я понял, что имели
место убийства женщин и детей. [Болмер] сказал, что
один сержант открыл огонь по женщинам и детям».
На этой или на следующей встрече, показал Льюис,
он спросил Болмера: «Да кто же это допустил? Кто
же не усмотрел?» Тот ответил: «Мы же не всегда знаем,
что происходит». Затем, показал Льюис, он поднял
вопрос о проведении расследования в отдельном
разговоре с полковником Нельсом Парсоном». Я спросил:
«В каком сейчас состоянии находится дело Милай?
Я бы хотел переговорить о нем с генералом Костером».
Или что-то в этом роде. Полковник ответил: «Идет
следствие, и говорить об этом не положено». Иными
словами, он просто не дал мне встретиться с генералом».
Затем священник в третий раз встретился с Энистрэнски,
который к тому времени уже совершил безуспешную
попытку расследовать преступление. Подполковник, как
296
и другие штабные офицеры более низких рангов,
предостерег капеллана от дальнейших разговоров на эту тему
При даче показаний комиссии Пирса почти все
офицеры дивизии упорно отрицали какие-либо беседы
с капелланом Льюисом касательно следствия по делу
Милай-4. Один только Энистрэнски подтвердил, что
советовал священнику прекратить задавать вопросы.
Энистрэнски объяснил, почему он это сказал:
«Капеллан Льюис проявил большую активность в сборе сведений.
А раз я знал, что командир проводил какое-то
расследование, то и посоветовал капеллану не мешать своими
расспросами генералу проводить следствие, если вам
угодно трактовать это таким образом».
Капеллан Льюис обсуждал этот вопрос даже с самим
Баркером. Случайно наткнувшись однажды на Баркера
в штабе дивизии в Чулай, капеллан задал ему вопрос
о повальных убийствах. По словам капеллана, Баркер
ответил ему: «Вот что, Льюис. Я так считаю: шел бой.
Что случилось, то случилось. Ужасно, конечно, что мы
постреляли детей и женщин, но шел бой». Как показал
Льюис, Баркер сказал тогда, что обсуждал итоги операции
со своими офицерами и солдатами и пришел к заключению,
что «сообщения (о злодеянии), поступившие
командованию дивизии, о том, что что-то произошло... не
соответствуют действительности».
Льюис был не единственным офицером, в частном
порядке обратившимся к Баркеру. За разъяснениями
обратился также капитан Кешел, офицер 11-й бригады
по умиротворению, до которого дошло множество слухов
о событиях в марте и апреле. Его разговор с Баркером
состоялся уже после того, как тактическая группа
завершила существование и Баркер занял должность
начальника штаба бригады. «В повседневной текучке,—
показывал Кешел,— я все время почти что начисто
забывал об этом, но однажды вечером я читал в своей хижине
«Подъем и падение Третьего рейха» *. Я как раз дошел
до главы о совершенных немцами зверствах, и они мне
как бы напомнили обо всей этой истории, и я — как
я упоминал, мне от нее было не по себе — решил: это
же просто чушь какая-то, черт возьми. Пойду и спрошу
полковника, правда все это или нет. Дня два я колебался*
все-таки он полковник и мой начальник, к тому же ему
давать оценку моей службе... Но я решил все же спросить
его, потому что я его знал и у нас были очень хорошие
297
отношения, он мне симпатизировал, а я его очень уважал...
и я к нему обратился в столовой перед ужином... Перед
ужином офицеры штаба обычно собирались поболтать,
выпить пива или чего-нибудь еще, и в тот день я попросил
у полковника разрешения обратиться, полковник ответил:
«Да, конечно», подошел ко мне, и тут я его спросил.
«Сэр,— сказал я,— до меня доходили всякие слухи...
Ходят слухи о том, что ваша тактическая группа убивала
гражданских.— И я сказал еще: — Я просто хотел
спросить: это действительно было?» А он только — ну, он
глянул на меня, будто, знаете, я ему дал пощечину.
«Армия Соединенных Штатов не действует подобным
образом. С невинными людьми мы не воюем. Мне как
командиру абсолютно ничего не известно о чем-либо
подобном, а если бы стало известно, я ничего подобного
бы просто не потерпел»... Примерно так он ответил.
На этом наш разговор и окончился... Я поблагодарил
его и отошел» \
Кажущаяся недостаточность служебной информации,
доступной командованию дивизии «Америкал», могла быть
восполнена путем опроса людей, имевших самое
непосредственное отношение к бойне,— тех, кто выжил
в деревне Милай-4.
ПРОПАВШЕЕ ДОСЬЕ
К марту 1969 года штурм деревни Сонгми тактической
группой Баркера оказался всего лишь одной из многих
забытых военных побед. Баркер и Майкле умерли, Костер
служил начальником Уэст-Пойнта, Гендерсон и Янг
получили новые назначения и покинули Вьетнам, большинство
1 В последние дни существования тактической группы Баркера
некоторые ее офицеры все больше и больше ощущали необходимость
оправдываться и защищаться. Имело место открытое столкновение
с капитаном Уинстоном Гузулесом, занимавшимся вопросами
умиротворения в другом батальоне 11-й бригады, действовавшем в начале
1968 года близ расположения тактической группы. В конце марта
в присутствии молодых офицеров, принимавших участие в операции,
Гузулес отпустил саркастическое замечание об убийстве гражданского
населения людьми Баркера. Несколько недель спустя, когда группа
уже расформировалась, капитан посетил десантную зону «Дотти>
и обратился к майору Калхуну с расспросами о происшедшем.
«Он ответил, что не желает больше слышать никаких замечаний
о группе Баркера, а я пытался объяснить, что никаких замечаний
и не делал...— показал капитан.— А потом все вообще было забыто».
298
солдат рот «Браво» и «Чарли» либо демобилизовались,
либо считали оставшиеся до демобилизации дни.
Демобилизовался и Рональд Райнденауэр и к концу
месяца отправил письмо с описанием «мрачного и
кровавого» штурма Милай-4 тридцати членам конгресса
и правительственным чиновникам. Осторожно
составленное письмо произвело впечатление разорвавшейся бомбы.
Ничего подобного никогда ранее не ложилось на столы
трех- и четырехзвездных генералов. «Честно говоря,
поначалу я отнесся к этим обвинениям с абсолютным
недоверием,— заявил подкомиссии конгресса по делам
вооруженных сил во время закрытых слушаний по делу
Милай-4 тогдашний начальник штаба армии генерал
Уильям Уэстморленд.— Групповые действия такого рода,
как они описаны в письме, настолько нетипичны для
американских войск во Вьетнаме, что я почувствовал
крайний скептицизм».
Письменное обращение Райденауэра к столь широкому
кругу лиц составляло непосредственную угрозу
деятельности военных по обработке общественного мнения
как раз в то время, когда военное руководство оказывало
содействие президенту Никсону в попытках «продать
стране» программу «вьетнамизации» *. Поэтому военное
командование в Сайгоне получило срочный приказ
расследовать обвинения. Эта задача была поручена
полковнику Хауарду К. Уайтейкеру, одному из старших
офицеров управления генерал-инспектора в Сайгоне. Он был
командирован на Север в штаб дивизии «Америкал»
в Чулай. «Мне было приказано собрать всю возможную
информацию, раскопать все, что я сумею, и по
возможности опросить указанных в письмах свидетелей и
участников событий»,— показал комиссии Уайтейкер. Имена
свидетелей и участников были предоставлены из
тщательно скрываемого теперь письма Райденауэра —
которого полковник Уайтейкер в глаза не видел,— и
большинство из упомянутых там солдат уже находились
в США. Единственным участником событий, оставшимся
во Вьетнаме, был Колли, к тому времени служивший
в разведывательном подразделении дивизии «Америкал»,
но Райденауэр неправильно написал его фамилию,
поэтому лейтенанта не сразу удалось разыскать.
Последующие действия полковника Уайтейкера были
аналогичны проводившимся ранее расследованиям
событий в Милай-4. В дивизии «Америкал» он не провел и двух
299
дней и принял на веру все документы, которые сумел
разыскать. Поэтому, ознакомившись с рапортом Фрэнка
Баркера о проведенной 16 марта операции, он написал:
«Из рапорта следует, что в районе населенного пункта
Милай дислоцировалось подразделение противника
предполагаемой численностью до батальона... Во время боя
противник понес тяжелые потери... Численность местного
населения, оказывающего поддержку противнику,
составляла около двухсот человек, что создало проблему
контролирования и оказания помощи гражданским
лицам, попавшим под перекрестный огонь
противоборствующих войск». Однако Уайтейкер не отметил, что было
захвачено только три единицы оружия, не выразил он
и озабоченности тем, что проверка документации
дивизии «Америкал» и 11-й бригады не показала никаких
следов проводимых расследований. Из письма же Райде-
науэра вытекало, что расследование имело место.
Попытки полковника «докопаться» до истины,
очевидно, ограничились разговорами со старшими офицерами
дивизии «Америкал», в том числе с командиром дивизии
генерал-майором Чарльзом Геттисом и начальником
штаба полковником Джоном У. Дональдсоном. Уайтейкер
отмечал в рапорте: «Оба заявили, что им ничего не
известно о каких-либо попытках расследования якобы
имевшего место инцидента». И полковник пришел
к скептическому выводу: «Анализ всех имеющихся
документов касательно предполагаемого инцидента
показывает, что заявитель (Райденауэр) значительно
преувеличил масштабы боевой операции, о которой идет
речь. Не обнаружено никаких доказательств, способных
подтвердить выдвинутые обвинения». Однако полковник
предложил все же опросить ряд свидетелей указанных
событий, чтобы «определить, имеют ли эти обвинения
под собой почву». С марта 1968 года ни один участник
событий в Милай-4 так и не был опрошен о них.
В середине апреля управление генерал-инспектора
министерства обороны получило указания провести
подробное расследование. В конце апреля руководство
управления в свою очередь поручило ведение следствия
полковнику Уильяму В. Уилсону. Приняв это решение,
армия дала толчок неизбежному развитию последующих
событий. Основными источниками информации служили
Райденауэру солдаты роты «Чарли», некоторые из
которых принимали участие в расстрелах. Они же стали
300
и источниками Уилсона. На первоначальном этапе
следствие не соприкасалось с майорами и полковниками,
фабрикующими фальшивые версии событий, оно имело
дело лишь с измученными чувством вины солдатами,
жаждущими рассказать все, что знали, и объяснить
совершенные ими злодеяния. К концу мая Уилсон лично
разыскал по меньшей мере шестерых бывших
военнослужащих роты «Чарли» и накопил достаточное
количество неопровержимых доказательств, чтобы иметь
основания отозвать лейтенанта Колли из Вьетнама для
допроса. Хотя общественность и не была уведомлена
о назревающем деле, служащие в Пентагоне офицеры
знали, что что-то происходит. Как вспоминал в интервью
со мной человек, служивший в то время в комитете
начальников штабов в чине подполковника, все знали,
что «во Вьетнаме что-то происходит, что управление
генерал-инспектора взялось за следствие, что дело
пахнет большой неприятностью, вот-вот вспыхнет паника.
Но что именно произошло, никто не знал: все
скрывалось за семью печатями. Я решил, что какие-то части
то ли отказались идти в бой, то ли взбунтовались».
Дошли эти слухи и до штаба дивизии «Америкал»
в Чулай, и — как впоследствии установила комиссия
Пирса — из архивов исчезли документы следствия,
которое проводил Гендерсон. Все, кроме двух. Была
обнаружена пропажа досье, имеющих отношение к событиям
16 марта и в последующие дни, в штабе дивизии
«Америкал», в штабе 11-й бригады (где обнаружился
один экземпляр рапорта Гендерсона от 24 апреля),
в управлении провинции Куангнгай и в районном
управлении Сонтинь. Вся документация артдивизиона
подполковника Роберта Люпера из 11-й бригады за 16 марта
также исчезла. Подробный опрос комиссией десятков
офицеров, сержантов и канцелярского персонала
дивизии и бригады выявил лишь двоих свидетелей, способных
припомнить, что имели дело с досье, касающимися
следствия по поводу Милай-4: Роберта Гербердинга,
сержанта разведки 11-й бригады, и Кеннета И. Кэмела,
сменившего его в начале года. Гербердинг сказал, что
он, вводя Кэмела в курс дел, «показал ему досье и
объяснил... что это сугубо секретный документ. Я сказал
ему, что все время обращался с досье как с секретным,
и он должен вести себя так же, не перекладывать его
в разряд открытых документов». Как припомнил Гер-
301
бердинг, в досье содержались многие документы по
Милай-4, включая письмо Костера Гендерсону от апреля
1969 года и аналогичные бумаги.
Проводя расследование, полковник Уайтейкер этого
досье не обнаружил. О его существовании никто не знал.
Однако в конце мая 1969 года полковник Уилсон,
руководивший теперь следствием, связался с Гендерсоном
и приказал ему прибыть в Вашингтон для дачи показаний
в связи с массовым убийством. Гендерсон, служивший
в то время на Гавайях, немедленно позвонил начальнику
штаба дивизии «Америкал» Дональдсону и сказал ему,
что экземпляр рапорта о проводимом им расследовании
подшит либо в оперативном, либо в разведывательном
отделе штаба 11-й бригады. Гендерсон добавил: «Я
попросил его связаться с 11-й и приказать кому-нибудь
посмотреть в сейфах разведывательного или
оперативного отдела, нет ли там пакета с экземпляром рапорта
о расследовании». Позже Гендерсон показал, что речь
шла о материалах официального расследования по
делу Баркера от мая 1968 года со всеми приложенными
к нему документами.
К тому времени, однако, официальные досье исчезли,
и Дональдсон послал Гендерсону сообщение:
«Запрошенные вами материалы неофициального расследования
(курсив мой.— С. X.) не удалось обнаружить ни в
архивах штаба дивизии, ни 11-й пехотной бригады, несмотря
на тщательные поиски». Неизвестно почему в сообщении
Дональдсона упоминался неофициальный рапорт, обычно
не подлежащий длительному хранению. Однако несколько
дней спустя Дональдсон известил Гендерсона по
телефону, что продолжающиеся поиски в архивах помогли
обнаружить лишь предварительный рапорт от 24 апреля
на двух страницах, который был переслан Гендерсону
и который Гендерсон в свою очередь передал полковнику
Уилсону.
Этот экземпляр рапорта Дональдсон получил от
сержанта 11-й бригады Кэмела. Прежде чем отправить
рапорт в дивизию, с него сняли машинописные копии
и по крайней мере одну из них подшили в разведотделе
бригады (где ее обнаружил следователь комиссии Пирса
7 января 1970 года). Остальные копии — включая
материалы из первоначального секретного досье Гербердин-
га — так и не были обнаружены. Кэмел показал, что
документы исчезали у него в два приема. Той весной к нему
302
обратился за подробным досье один из старших офицеров
11-й бригады. «Ему надо было подготовить по этим
материалам доклад для кого-то еще»,— сказал Кэмел об этом
офицере, личность которого так и не была установлена.
Получив день или два спустя досье обратно, Кэмел
заметил пропажу части документов: «Каких именно не
хватало, сказать не могу. Просто помню... ощущение
такое было, когда досье принесли обратно, что чего-то
там не хватает... Я этому не придал значения». По
словам Кэмела, в сентябре 1969 года к нему вновь
обратился за досье один из старших штабных офицеров.
Более он папки не видел. Пятого числа того же месяца
армейское командование объявило, что лейтенанту
Уильяму Колли предъявлены обвинения в убийствах.
Хотя и неохотно, Кэмел дал существенные показания,
постоянно подчеркивая, что не может припомнить, кто
именно затребовал у него оба досье. Единственный
офицер, чье имя он назвал под нажимом со стороны
комиссии, покинул 11-ю бригаду еще до проведения
ведомством генерал-инспектора предварительного
расследования в апреле 1969 года.
Комиссия Пирса завершила следствие в марте 1970
года, так и не сумев установить, куда исчезли досье с
документами по Милай-4. Сам генерал Пирс подозревал
некоторых из замешанных в деле старших офицеров. Так,
например, он тщательно допрашивал всех сотрудников
личного штата генерал-майора Костера, стремясь
установить, сколько багажа и какого рода он вывозил с собой,
переводясь из Вьетнама в Уэст-Пойнт в июне 1968 года.
Вскрылась истина, наносящая еще больший ущерб
авторитету армии, чем мог предполагать Пирс: новый
командный состав дивизии «Америкал», не имевший
непосредственного отношения ни к событиям в Милай-4,
ни к расследованию их, уничтожил документы, чтобы
выгородить коллег-офицеров, своих предшественников.
Первые доказательства того, что некоторые рапорты
о Милай-4, включая рапорты об официальном
расследовании, проведенном Баркером, находились в архивах
дивизии «Америкал» еще в мае 1969 года — то есть
четырнадцать месяцев спустя после бойни,— поступили
в распоряжение армейских властей весной 1970 года.
Доказательства были представлены подполковником
Барни Л. Бранненом, занимавшим весной 1969 года
должность военного прокурора дивизии «Америкал», то есть
303
ее старшего военного юриста. Браннен показал позже
на предварительных слушаниях военного трибунала по
обвинению генерал-майора Костера в сокрытии
преступления — обвинения были выдвинуты комиссией Пирса,—
что во время пребывания во Вьетнаме видел оригинал
рапорта Фрэнка Баркера о расследовании, проведенном
в мае 1968 года. «Это имело место где-то в мае 1969
года,— объяснял он.— Мне позвонил начальник штаба
дивизии, им в то время являлся полковник Джон До-
нальдсон, и попросил меня прибыть к нему. Прибыв
к начальнику штаба... я обнаружил в кабинете полковника
Дональдсона начальника первого административно-
кадрового отдела штаба подполковника Генри Л. Лоудера.
Не припомню, чтобы кто-либо еще присутствовал при
той встрече». Дональдсон ознакомил Браннена с копией
письма Райденауэра и затем приказал разыскать в его
ведомстве любые возможные документы, содержащие
информацию о событиях, указанных в письме. Неизвестно,
кто из служащих Пентагона предоставил Дональдсону
копию письма Райденауэра. Единственным официальным
связующм звеном на тот период между письмом и
дивизией «Америкал» был полковник Уайтейкер, согласно
собственным показаниям, никогда не получавший на
руки текст письма.
Браннен не обнаружил никаких следов расследования.
«Тогда,— показывал он,— я покинул свой кабинет
и направился в первый отдел, находившийся ярдах в ста
от нас... Я пришел в расположение отдела
подполковника Лоудера, вошел в его личный кабинет... Когда
я зашел в кабинет, он, держа в руках папку, сказал:
«Вот что нам удалось разыскать» — и вручил эту папку
мне... Она была, пожалуй, с полдюйма толщиной». Папка
содержала рапорт Баркера от мая 1968 года вместе
с сопроводительным письмом Гендерсона. Как припоминал
Браннен, в папке содержалось с десяток или более
свидетельских показаний, приложенных к рапорту, «которые,
очевидно, были написаны одной и той же рукой,
одинаковыми чернилами, по-видимому шариковой авторучкой.
Но и в этом,— добавил подполковник,— я не увидел
ничего из ряда вон выходящего, поскольку ведущий
следствие офицер (в данном случае, в расследовании
по Милай-4,— Баркер) часто сам записывает вопросы
и ответы, а также ведет краткую запись показаний,
полученных им от свидетелей...»
304
Браннен продолжал: «Я сказал подполковнику Лоу-
деру: «Это, видимо, и есть документ, который мы ищем.
Вы хотите, чтоб я сопровождал вас к начальнику штаба?»
Тот ответил: «Нет, я сам отнесу документы и переговорю
с ним». ... Более я ничего общего с этим следственным
досье не имел».
Тем летом Браннен покинул дивизию «Америкал»
и вернулся в Соединенные Штаты для прохождения
годичного курса обучения при Академии генерального
штаба в Форт-Ливенворте. Когда в ноябре сведения
о Милай впервые прорвались на страницы газет, он
находился в академии. Прочитав множество газетных
и журнальных публикаций о совершенном зверстве,
Браннен нашел особенно оскорбительной статью в
журнале «Ньюсуик»: «Они (журнал) ухватились за инцидент
в Милай и резво сделали вывод, что армейское
командование всеми силами скрывает правду, что вообще не
было никакого расследования и все такое,— пожаловался
военный прокурор.— Что ж... на [рождественские]
каникулы нас распустили из академии на две недели. Я был
приглашен на коктейль... Там были и другие военные
юристы... Зашла речь о Милай, поскольку они знали, что
я служил в дивизии «Америкал». Один из них сослался
на эту статью... И я недвусмысленно ответил ему, что
считаю статью неточной, но ничего необычного в этом не
вижу, поскольку новости по большей части вообще
излагаются неточно, зачастую за факты выдаются домыслы
редакторов. Я сказал, что собственными глазами видел...
официальный рапорт о проведении расследования по
поводу инцидента в Милай. По правде говоря, у меня
никак не сложилось впечатления, что командование
дивизии «Америкал» предпринимало какие-либо попытки
замять инцидент, напротив — оно провело
расследование».
Рассказ Браннена стал достоянием юридических
армейских кругов, и три месяца спустя, в марте 1970 года,
один из адвокатов генерал-майора Костера попросил его
дать официальные показания о папке, которую он видел
в кабинете подполковника Лоудера. Браннен также дал
официальные показания в июне сотрудникам Управления
по расследованию уголовных преступлений. Несколько
дней спустя он прошел проверку на детекторе лжи
в Пентагоне. Офицер был подвержен этой проверке по
настоянию Дональдсона, к тому времени произведенного
306
в генералы и получившего ответственнук) должность
в комитете начальников штабов, а также Лоудера,
усиленно отрицавшего показания Браннена. К середине
лета 1970 года и Дональдсон, и Лоудер сами оказались
объектами секретного следствия, проводимого
Управлением по расследованию уголовных преступлений для
определения их роли в сокрытии правды о трагедии
в Милай-4.
На предварительных слушаниях по делу Костера
в сентябре Браннен показал, что Лоудер звонил ему
вскоре после того, как он дал первые официальные
показания защитникам Костера. Браннен полностью привел
состоявшийся разговор: «Он (Лоудер) сказал: «Мне
только что звонил такой-то... Я ничего не помню об этом
рапорте». Он сказал также: «Должно быть, это был не я.
Должно быть, мой преемник». А я ответил: «Что ж,
Генри, если вы не помните, так и скажите им, что не
помните. Я им говорю то, что я помню, и это все, что
я могу сделать и что вы можете сделать». Он ответил:
„Хорошо"». Впоследствии Лоудер добровольно вызвался
пройти проверку на детекторе лжи в Пентагоне, стремясь
доказать, что никогда не видел папку с рапортом Бар-
кера, но результаты проверки оказались отрицательными.
Генерал Дональдсон давал показания на слушаниях
по делу Костера 14 сентября 1970 года, пять дней спустя
после Браннена. Он снова отрицал, что ему было что-либо
известно, и утверждал далее, что не видел письма
Райденауэра, пока нес службу во Вьетнаме. Дональдсон
показал также, что незамедлительно направил
неофициальный доклад Гендерсона по инстанции армейскому
командованию в Сайгоне, как только сержант Кэмел
разыскал его. Но сотрудники комиссии Пирса к этому
моменту уже проверили архивы в Сайгоне и не
обнаружили никаких следов доклада !.
1 Дональдсон утверждал также, что впервые услышал о
заявлениях Браннена, находясь в отпуске в ноябре—декабре 1969 года.
Однако, вернувшись из отпуска во Вьетнам в конце года в качестве
заместителя командира дивизии «Америкал», он ни словом не обмолвился
об этом, чтобы оказать содействие генералу Пирсу и его сотрудникам,
проводившим на месте расследования бойни в Милай. Дональдсон
знал, что Пирс искал документы. Он даже отметил в показаниях,
что непосредственно перед возвращением комиссии Пирса в США
разговаривал за завтраком с Робертом Маккрейтом, гражданским
юристом, принимавшим участие в работе комиссии, и Маккрейт
отметил, что комиссии не удалось обнаружить каких-либо следов
306
Как меня информировали правительственные
источники, когда в середине 70-х годов выдвинутые Бранненом
обвинения стали достоянием армейских кругов, наверху
всерьез подумывали о возобновлении деятельности
комиссии Пирса. По мнению источников, от этой меры
отказались потому, «что она могла привести к неприятным
последствиям». Последующее расследование деятельности
Дональдсона и Лоудера, проведенное Управлением
по расследованию уголовных преступлений, не смогло
вскрыть прямых доказательств их причастности к
действительному уничтожению документов. «Так и не удалось
найти никого, кто засвидетельствовал бы уничтожение
папок,— пояснил источник.— Браннен лишь сумел
установить, что Лоудер располагал ими».
Но работники управления не опросили Брюса Брауна
из г. Хэйз, штат Канзас, рядового, ответственного
в центре связи дивизии «Америкал» за сверхсекретные
досье и материалы «Оскат» (особой категории). Как
сказал мне Браун в середине 1971 года, он был убежден,
что материалы расследования действий тактической
группы Баркера были упрятаны в сверхсекретный сейф
«Оскат». «Большинство остальных папок содержали,
письма и краткие записи сведений, но эта была особой,—
рассказывал Браун.— Толщиной она были дюйма полтора
и содержала много бумаг. Командование требовало,
чтобы за ней был установлен особый контроль. Папку
никто никогда не запрашивал, кроме начальника штаба
(Дональдсона)». Документация центра связи находилась
в ведении первого отдела штаба (возглавляемого
Лоудером), и ни одному офицеру, будь то хоть сам
командир дивизии, не разрешалось оставлять у себя на
ночь сверхсекретное досье или материалы с грифом
«Оскат».
Комиссия Пирса часами допрашивала канцелярских
служащих штаба дивизии, пытаясь определить, где могли
проведения официального расследования. Во время слушаний по
делу Костера Дональдсону задавался вопрос: почему, если он
действительно слышал о заявлениях Браннена в конце 1969 года, он не
сообщил об этом комиссии добровольно? Генерал ответил: «Комиссия
Пирса придерживалась четко выработанной программы. Прежде
всего они хотели выехать непосредственно на место предполагаемого
инцидента в Милай, чтобы восстановить его в деталях. И они казались
более заинтересованными в проведении опросов местного населения
и тех американцев, кто еще оставался в этих местах... Меня, например,
они об инциденте не опрашивали».
307
храниться материалы расследования Гендерсона, но
сотрудников центра связи не опросил никто. Костер
показал, что передал окончательный вариант рапорта Баркера
самому начальнику штаба полковнику Парсону на
хранение. Документ должен был тщательно оберегаться.
Парсон, как и его преемники на посту начальника штаба
дивизии, часто оставлял подобные материалы на
хранение в центре связи.
Однако не прошло и года, как на многообещающую
карьеру генерала Дональдсона легла опасная тень.
В конце 1970 года военный прокурор, проверяя сигнал
о том, что полковник Гендерсон, командуя в 1968 году
бригадой, занимался «охотой на гуков», опросил ряд
вертолетчиков, воевавших во Вьетнаме. Прокурор
выяснил, что подавший сигнал человек ошибся лишь в
личности «охотника за гуками». Им оказался не Гендерсон,
а Дональдсон, который, как утверждалось, провел
десятки часов на борту вертолетов, высматривая
подходящие цели. Было возбуждено следствие, и в июне 1971 года
Дональдсону предъявили официальные обвинения в
убийстве шести вьетнамских гражданских лиц и в покушении
на убийство еще двоих. Его тут же освободили от
занимаемой должности в комитете начальников штабов
в Пентагоне. В декабре, после четырехмесячного
закрытого разбирательства, армейские власти сняли с
Дональдсона все обвинения.
ПЕНТАГОН ВЕДЕТ СЛЕДСТВИЕ
Вечером 5 сентября 1969 года министр обороны
Мелвин А. Лэйрд и другие высокие чины Пентагона
с тревогой следили за телетайпами Ассошиэйтед Пресс
и Юнайтед Пресс Интернэшнл. Днем ранее отдел
публичной информации военной базы в Форт-Беннинге,
штат Джорджия, выпустил первый пресс-релиз о
предъявлении проходящему там службу юному лейтенанту
Уильяму Колли обвинений в совершении массовых
убийств. Но официальным лицам не было нужды
переживать: выпущенный военными пресс-релиз — подобные
сообщения о серьезных преступлениях были в порядке
вещей — ни словом не обмолвился о масштабах бойни
в Милай-4. Колли обвинялся в убийстве. Как гласил
пресс-релиз, «...в преступлениях, предположительно
совершенных против гражданского населения во время несения
308
службы во Вьетнаме в марте 1968 года». Пресса шума
не поднимала, военные власти продолжали вести
расследование в тайне. Рональд Райденауэр, к тому времени
осаждавший Пентагон все более и более нетерпеливыми
телефонными звонками, требуя принятия мер, был
информирован управлением генерал-инспектора о
предъявлении Колли обвинений, но был призван «избегать любых
публичных обсуждений, способных повлиять на
продолжающееся следствие либо на осуществление лейтенантом
Колли своих прав». Председатели комитетов палаты
представителей и сената по делам вооруженных сил
конгрессмен Л. Мендел Риверс от Южной Каролины
и сенатор Дж. С. Стеннис от Миссисипи были
информированы о назревающем скандале, и их такте призвали
хранить молчание.
К началу осени армейскому руководству стал ясен
истинный масштаб трагедии, происшедшей в Милай-4,
и следствие по делу военнослужащих роты «Чарли»
было передано из ведения генерал-инспектора в ведение
вновь созданного Управления по расследованию
уголовных преступлений, возглавляемого опытным полковником
Геири X. Тафтсом. В то же время армия расширила
размах следствия, выделив в распоряжение Тафтса
значительное количество сотрудников. Были допрошены
десятки солдат и офицеров роты «Чарли». Но в тот период
ни один из старших офицеров 11-й бригады и дивизии
«Америкал» не подозревался в попытках сокрытия правды.
«Никто не допускал и мысли, что старшие офицеры
могли знать о таком, и молчать,— сказал мне источник
из числа военных в середине 1971 года.— Сначала
все внимание сконцентрировалось на Медине, Колли
и Митчелле. Но когда вышла ваша статья (имелось
в виду мое выступление в газете 13 ноября 1969 года,
предавшее гласности обвинение Колли в убийстве 109
вьетнамцев из числа мирного населения1), мы поняли,
1 Появление первых статей заставило также генерал-майора
Костера позвонить полковнику Гендерсону, который учился в то время
в военной академии в Норфолке. Гендерсон сообщил комиссии
Пирса, что на протяжении последующих пяти месяцев имело место
около пяти телефонных разговоров между ним и генералом, все,
кроме одного, состоялись по инициативе генерала, находившегося
тогда в Уэст-Пойнте. Однако Гендерсон заявил, что мало что помнит из
этих разговоров, кроме того, что речь шла о сообщениях о
расследованиях событий в Милай-4. Вспоследствии Костер направил
генералу Пирсу меморандум, в котором признавал, что трижды звонил
309
что этому, аспекту дела (возможному сокрытию правды)
не было уделено должного внимания».
История Колли вызвала фурор, и несколько дней
спустя Пентагон охватила атмосфера кризиса. Высшие
чины провели ряд совещаний в поисках путей сдержать
волну критики со стороны печати и общественности по
поводу очевидных попыток скрыть правду. Невероятно,
но в Пентагоне до этих пор даже не обсуждалась
официально подобная возможность. Рабочая группа,
созданная в составе министра армии Стэнли Р. Ризора,
начальника юридической службы армии Роберта
Джордана-третьего, заместителя начальника штаба армии
Брюса Палмера и заместителя министра обороны по
связям с общественностью Дэниела 3. Хенкина, приняла
решение, говоря словами одного из близких к работе
группы официальных лиц, «о необходимости проведения
какого-то расследования. Эту мысль (о проведении
армией расследования) подали Ризор и Палмер. Но надо
было решить, на какой основе строить работу группы,
кого привлечь к работе в ней, в каких пределах
установить ее самостоятельность. Все эти вопросы обсуждались».
Прежде чем к середине ноября были приняты какие-то
решения, ряд офицеров, приданных дивизии «Америкал»
и группе советников провинции Куанг-Нгай, были вызваны
в Пентагон для закрытых консультаций. Среди
опрошенных офицеров были майор Фредерик Уотке из
авиачасти 123, подполковник Уильям Гуинн из группы
советников провинции Куанг-Нгай и подполковник Джесмонд
Балмер, ранее служивший у Костера начальником штаба.
«Лично у нас сложилось мнение (после опроса офицеров),
что в королевстве Датском действительно что-то
неладно»,— сказал мне мой источник из военных кругов.
Было решено не поручать ведение следствия вновь
организованному управлению полковника Тафтса,
поскольку подследственные превосходили чинами
следователей. В силу высокого звания Костера следственной
комиссией должен был руководить двух- или трех-
звездный генерал. «Мы хотели найти военного, имеющего
опыт службы во Вьетнаме и превосходящего званием
полковнику. Первый звонок, по словам Костера, имел место примерно
20 ноября, как раз тогда, когда начали появляться публикации
в печати. сЯ имел довольно продолжительное обсуждение с полковником
Гендерсоном,— пишет Костер,— того, что представлялось неточностями
и преувеличениями в описании прессой боевых действий...>
310
Костера. Генерал-лейтенант Пирс удовлетворял этим
требованиям^— пояснил мой источник. К тому же генерал
Пирс имел дополнительное преимущество: «Он не был
выпускником Уэст-Пойнта, а мы опасались ОВВУ
(Общества взаимовыручки выпускников Уэст-Пойнта)». ОВВУ
существует не как организация, но как широко бытующее
убеждение в том, что выпускники Уэст-Пойнта везде
и во всем покрывают друг друга. Многие военные,
особенно те, кто не учился в Уэст-Пойнте, убеждены,
что молодые генералы — выпускники Уэст-Пойнта
получают самые лучшие должности. «ОВВУ — это палка
о двух концах,— пояснил мой источник.— Если уэстпойн-
товец засыпался, то ему достанется сильнее, чем другим,
но и доказывать его вину приходится тщательнее, чем
в иных случаях».
Еще одним фактором в пользу назначения Пирса
послужило его положение в Пентагоне. Он занимал
должность командующего резервом армии, для которой
требуется трехзвездный генерал, но которая обычно не
считается ступенью для дальнейшего продвижения на
более ответственные армейские должности. «Пирс занимал
должность, на которой могли обойтись и без него,—
сказал источник.— Надо смотреть правде в глаза:
невозможно выдвигать обвинения против члена клуба
и ворошить муравейник, как это сделал Пирс, а потом
рассчитывать на дальнейшее продвижение по службе» '.
Суровый, курящий сигары генерал получил свободу рук
в подборе персонала и постепенно подобрал в качестве
следователей группу блестящих молодых офицеров,
имевших опыт командной службы во Вьетнаме. (К концу
следствия в распоряжение его комиссии было
откомандировано 34 офицера, 48 рядовых и 11 штатских
сотрудников.) 24 ноября Пентагон официально объявил, что
генерал Пирс руководит военным расследованием
«характера и масштаба» предыдущих следствий о событиях
в Милай-4.
1 В августе 1971 года, семнадцать месяцев спустя после
завершения работы комиссии, генерал Пирс был назначен заместителем
командующего 8-й армии в Южной Корее. Как сообщили мне
армейские источники, Пирс прослужит на этой должности год и будет
назначен заместителем командующего Тихоокеанских сухопутных сил
США со штаб-квартирой на Гавайских островах. Проведя два года
в должности, считаемой синекурой, Пирс, по всей вероятности,
выйдет в отставку.
311
К тому времени большинство военных самостоятельно
и во многом спонтанно уже пришли к той же оценке
убийств в Милай-4 и попыток сокрытия правды, что была
публично высказана министром армии Ризором 26 ноября.
«Я обсудил все данные, которыми мы располагаем
об инциденте в Милай, с рядом офицеров, служивших
во Вьетнаме,— заявил Ризор комиссии сената по делам
вооруженных сил.— Они полагают — и лично я разделяю
и поддерживаю их мнение,— что происшедшее в Милай
никоим образом не является характерным для образа
ведения нами военных действий во Вьетнаме».
В тот же день впервые среагировал на растущий шум
вокруг событий в Милай Белый дом, не только изображая
их как нетипичный случай, но возлагая ответственность
на администрацию Джонсона, находившуюся тогда
у власти. 8 декабря президент Никсон заявил на
пресс-конференции: «Я убежден, что это отдельный
нетипичный случай. Разумеется, наша администрация
принимает все возможные меры, чтобы выяснить, был ли
он отдельным...» Но в тот же день 8 декабря, когда
проводилась пресс-конференция, Генри Киссинджер, советник
Никсона по вопросам национальной безопасности,
направил закрытый меморандум касательно Милай-4
министру обороны Лэйрду. В меморандуме отмечалось
опубликованное в печати свидетельство о совершенных
зверствах Терри Рейда, бывшего солдата роты «Браво»
тактической группы Баркера. «Рейд,— писал
Киссинджер,— утверждает, что явился свидетелем ряда зверств,
совершенных в области Чулай в Южном Вьетнаме,
включая расстрел шестидесяти детей, женщин и стариков,
а также убийства изнасилованных женщин». Затем
Киссинджер задает вопрос: «Президент спрашивает,
существуют ли факты, подтверждающие рассказ Рейда,
и ожидаете ли вы появления аналогичных историй,
имеющих под собой достоверную почву?» Складывается
впечатление, что на данном этапе Белый дом больше
обеспокоен тем, как будет выглядеть в глазах
общественности, чем масштабами случившейся человеческой
трагедии или возможностью обнаружения глубоких
органических проблем в самой армии.
К началу декабря Пирс начал понимать, что сильно
недооценил возможные масштабы предстоящего ему
следствия. В меморандуме, направленном им Ризору
и начальнику штаба армии генералу Уэстморленду
312
30 ноября — до того, как он приступил к слушаниям,—
генерал предполагал завершить следствие в течение шести
недель, включая поездку во Вьетнам и опрос от тридцати
до сорока свидетелей в Пентагоне. К рождеству, однако,
Пирс и его сотрудники уже опросили более пятидесяти
свидетелей, некоторых из них дважды. В начале того же
месяца в работу комиссии включились два известных
нью-йоркских юриста — Роберт Маккрейт, выпускник
Гарвардской школы права, когда-то бывший специальным
помощником губернатора штата Нью-Йорк Нельсона
Рокфеллера, и Джером К. Уолш-мл. Как пояснил мой
источник, гражданские юристы были привлечены к работе
комиссии, потому что «на определенном этапе игры Боб
Джордан (руководитель юридической службы армии)
и Ризор стали ощущать кризис доверия».
Предприняв эти шаги, военные ослабили нажим,
которому в равной степени подвергались как со стороны
либералов, так и со стороны консерваторов, требующих
создания независимой комиссии по расследованию
сокрытия правды. Подобные требования поступали от людей
столь различных, как бывший вице-президент Губерт
Хэмфри, консервативно настроенный председатель
комиссии сената по делам вооруженных сил, сенатор от
Миссисипи Джон С. Стеннис и Артур Дж. Голдберг,
бывший член Верховного суда. Тем не менее объявленное
армией 24 ноября создание следственной комиссии Пирса
вызвало определенную критику со стороны сената
и палаты представителей. Двое сенаторов, Стивен М. Янг
от Огайо и Чарльз X. Перси от Иллинойса, немедленно
потребовали провести расследование событий в Милай-4
силами сената. Янг, вероятно предвидя долгие проволочки
военных с опубликованием полного текста доклада
комиссии Пирса, заявил сенату, что «американцы должны
узнать — и чем раньше, тем лучше — долго скрываемые
факты о том, что, безусловно, было одним из позорнейших
моментов в истории нашей страны». Председатель
комиссии по делам вооруженных сил палаты
представителей Риверс заявил, что приказал своей следственной
подкомиссии, возглавляемой конгрессменом от Луизианы
Ф. Эдвардом Хербертом, провести на закрытых заседаниях
расследование бойни. Восемь месяцев спустя доклад
комиссии был опубликован, как и доклад армейских
органов, в значительно отредактированном виде. Наиболее
неприятным для Пентагона было, надо полагать, пред-
313
ложение группы либералов-конгрессменов создать
комиссию из пятнадцати человек без участия военных для
изучения поведения американских солдат в Милай-4.
Конгрессмены намеревались включить в комиссию
пятерых членов палаты, пятерых сенаторов и пятерых
частных граждан, обязав их доложить результаты
расследования через шесть месяцев.
Политический фурор, вызванный сокрытием правды,
стих по мере исчезновения Милай-4 с первых страниц.
Ни один серьезный критик не ставил под сомнение
честность генерала Пирса, недвусмысленно давшего
понять, что не намерен замазывать результаты, которые
вскроются в ходе следствия. На закрытом заседании
в декабре Пирс заверил подкомиссию Херберта: «Я
намерен расследовать все аспекты происшедшего и
последовавшие расследования достаточно глубоко, чтобы прийти
к обоснованным выводам и рекомендациям. Я считаю,
что должны быть вскрыты все факты, как они есть,
независимо от уровня и положения вовлеченных в
события лиц».
Расследование, проведенное комиссией Пирса, явило
пример честности и прилежания. На определенном этапе
под руководством генерала одновременно работали четыре
следственные группы, составляющие объемистые тома
свидетельских показаний. Проблемы, вставшие перед
комиссией, усугублялись фактором времени: согласно
военным законам, ряду уголовных преступлений — но не
убийству — определяется срок давности в два года. Таким
образом, все обвинения должны были быть подготовлены
к 16 марта 1971 года.
И все же в конечном счете генерал Пирс и его
сотрудники не сумели вскрыть полностью не
индивидуальные действия нескольких генералов, полковников и
офицеров более низких рангов, но характер института,
почти неизбежно обусловившего попытки сокрытия правды
о Милай-4. Члены комиссии, может быть, неосознанно
были убеждены, что и Милай-4, и тактическая группа
Баркера являются отклонениями от нормы. Свидетели —
особенно полевые офицеры тактической группы и 11-й
бригады — рассматривались как индивидуумы, абсолютно
нетипичные для остальных офицеров армии.
Майор Уотке, например, воспринимался как
честолюбивый офицер, больше озабоченный собственной
карьерой, чем разоблачением зверств, совершенных
314
в Милай-4. На одном этапе следствия полковник Франклин
обвинил его в том, что он производит впечатление,
«не знаю, умышленно или нет, офицера, более всего
озабоченного собственной карьерой, который позволил
себе затуманить, отфильтровать или даже замять
информацию о возможном совершении ужасающего военного
преступления... только потому, что она могла отрицательно
сказаться на карьере». Ответ Уотке полковнику раскрывал
важную истину о военных: «Если бы речь шла о моей
карьере, я бы вообще не предпринял ничего. По-моему,
тот факт, что я довел информацию до сведения моего
командира и полковника Баркера... Будь я обеспокоен
собственной карьерой... эта информация дальше меня бы
просто не пошла». Пирс никоим образом не мог принять
это его высказывание. «Майор Уотке,— сказал он,—
будьте благоразумны. Вы никак не могли бы сделать
этого. Если бы вы даже думали только о карьере,
наихудшее, что могло случиться с вами — и посмотрите
на это реально,— это если бы [жалобы Томпсона] пошли
наверх по инстанции, минуя вас. Тогда вам вообще не
пришлось бы больше думать о карьере». Однако в целом
показания, собранные комиссией Пирса, наводят на
мысль, что, если бы Уотке промолчал, немедленного
расследования не проводилось бы вообще.
Есть данные, позволяющие сделать вывод, что
генерал Пирс считал себя морально и профессионально выше
офицеров, вовлеченных в сокрытие правды о Милай-4.
Часто, когда ключевой свидетель прибегал к своему
конституционному праву отказаться от дачи показаний,
Пирс устраивал ему разнос за попытку уклониться от
обязательств перед армией. Так, когда Уильям Гуинн
по совету защитника решил прекратить отвечать на
вопросы после того, как был предупрежден, что
подозревается в совершении ряда преступлений, Пирс сказал ему:
«Я хотел бы немного поговорить с вами... поскольку
не уверен, что вы достаточно полно осознаете серьезность
ситуации, масштабы происшедшего и ответственности,
возложенной на настоящую следственную комиссию...
Цели настоящего расследования не ограничиваются
ни мной, ни вами, ни вашим защитником... В глазах
американского народа судят не солдат тактической группы
Баркера, а армию в целом. Вас, меня, всех и вся, кого
мы знаем, о чем думаем. И даже более того, поскольку
процесс распространяется на все министерство обороны
315
в целом... Видите ли, с моей точки зрения и с точки зрения
американского народа, здесь перед нами сидит старший
офицер армии США (Гуинн), имеющий определенные
обязательства. Ведь, вступая в ряды армии, вы присягали,
что берете на себя определенные обязательства по
обороне и защите своей страны. Ваше производство
в офицеры санкционировал конгресс, утверждая вас
в качестве офицера и джентльмена. Поэтому не считаю,
что было бы справедливым рассматривать вас в том же
свете, что и обыкновенного штатского гражданина...»
С аналогичными словами обращались к некоторым из
основных свидетелей, которые решали прекратить дачу
показаний.
Настроения Пирса отражались и в позициях других
следователей, в частности Маккрейта и Уолша. Когда
майор Роберт Макнайт, офицер оперативного отдела
штаба 11-й бригады, отказался давать показания, будучи
предупрежденным о подозрениях комиссии Пирса на
его счет, Пирс и Уолш насели на него и его военного
защитника капитана Гриффитса, продолжая настоятельно
задавать вопросы и даже требуя опознания Макнайтом
предъявляемых ему письменных показаний. Гриффите
заявил протест: «Не понимаю, зачем было нам поручать
защиту, если члены следственной комиссии не намерены
считаться с советами, которые мы даем подзащитным...
По-моему, Макнайт имеет конституционное право не
слушать вопросы и тем более не отвечать на них».
Настойчивость Уолша заставила его сделать смехотворное,
хотя и опирающееся на факты заявление: «Капитан,
в конституции ничего не сказано о том, чтобы не
отвечать на вопросы, и я не помню, чтобы Общий свод
положений военной юриспруденции включал положения
о том, чтобы их не слушать». В конце концов Макнайту
было разрешено отказаться от дачи показаний.
Это, разумеется, примеры крайностей, но они дают
представление о настроениях комиссии. По мере того
как накапливались свидетельские показания, генералу
Пирсу и его сотрудникам должно было стать ясно, что
за показаниями опрашиваемых ими офицеров таятся
намного более глубокие проблемы. И тем не менее
события в Милай-4 продолжали обсуждаться лишь с точки
зрения анализа системы, не позволившей буквально
сотням военнослужащих — солдат и офицеров —
сообщить командованию о Милай-4.
316
Рональд Райденауэр в ответ на вопрос генерала
Пирса, почему он обратился с письмом вместо того,
чтобы доложить о бойне своему непосредственному
военному командованию во Вьетнаме, сказал: «Я мало
доверял армейскому начальству, особенно после того,
что случилось. К тому же мне не раз откровенно
говорили: не беспокойся, если что произойдет, мы тебя
прикроем... Я не мог отделаться от ощущения, что такое
отношение было в дивизии («Америкал») общепринятым
и что все прикрывали друг другу хвост. Это — первое
правило, которому теперь учат в армии новобранцев.
Раньше было: „Не высовывайся". Теперь: „Прикрывай
хвост"».
Реакция Пирса на откровенную оценку Райденауэром
увиденного во Вьетнаме не была неожиданной:
«Исключительно для вашего сведения, м-р Райденауэр, просто
чтобы вы поняли, как я отношусь к этому делу, и не
только я, но я знаю, что так же к нему отнесся генерал
Уэстморленд, я хотел бы ознакомить вас хотя бы с двумя
документами, которые мы уже приобщили к делу».
Затем генерал зачитал скептически настроенному
бывшему солдату выдержки из действующих уставных
положений о наказании за совершение военных преступлений.
Пирс отметил в разговоре с Райденауэром, что до того,
как начал опрос солдат роты «Чарли», не знал
значения слова «динк» *». «Я нахожу этот термин крайне
неприемлемым,— к изумлению Райденауэра, заявил
генерал.— Буду с вами абсолютно откровенен. До того как
я приступил к следствию... я и не знал, что используется
подобный термин, потому что в Первом полевом
соединении (которым командовал во Вьетнаме Пирс) мы
такой термин не применяли».
Райденауэр сказал мне позже, что считает заявление
генерала абсолютно неправдоподобным.
Комиссия Пирса проявляла нежелание брать
свидетельские показания у известных противников войны во
Вьетнаме. Например, не был приглашен давать
показания ни один из гражданских сотрудников
организаций по оказанию помощи и добровольных
организаций, работающих в провинции Куангнгай, хотя они
более свободно рассказали бы о деятельности группы
советников в этой провинции. В одном случае армейские
власти умышленно обошли потенциально важного
свидетеля из-за его антивоенной репутации. Доктор Элджи
317
Веннема, канадец, работал в начале 1968 года в
квакерском госпитале в городе Куангнгай. После того как
стало известно об избиении мирного вьетнамского
населения, он заявил журналистам в Лондоне, что ему
рассказали о событиях в Милай-4 несколько дней спустя
после них, когда он находился в Куангнгай. Никто из
военных или сотрудников госдепартамента,
находившихся в те дни в Куангнгай, не показал на следствии
и этого. Но Веннема не был приглашен для дачи
показаний, поскольку проверка, проведенная армейской
разведкой, установила, что доктор «проявлял сильные
антиамериканские настроения» 1.
С другой стороны, складывается впечатление, что
генерал Пирс легко ладил с людьми, с симпатией
относившимися к армии. На протяжении пятнадцати недель
следствия он хорошо сработался с Робертом Маккрейтом.
Одна из причин такого сотрудничества становится
ясной из показаний преподобного Карла Кресуэла. На
вопрос Маккрейта, почему он не довел обвинения
Томпсона до сведения военного прокурора, священник
епископальной церкви ответил: «Позвольте, сэр, я кое-что
объясню вам теперь. Я не был абсолютным чужаком
в военно-судебном управлении. Время от времени я
наведывался туда. И время от времени видел, как против
американских солдат выдвигаются обвинения в
умышленном убийстве и как в девяти случаях из десяти они
превращаются в обвинения в непредумышленном
убийстве. И пришел к четкому убеждению, что в глазах
армии Соединенных Штатов такого понятия, как
умышленное убийство гражданских вьетнамцев, просто не
существует».
Маккрейт поспешил прийти на помощь кодексу военной
юстиции: «Вы говорите о технических деталях, но сам
факт изменения обвинения с умышленного убийства
1 В меморандуме, направленном 20 февраля 1970 года следственной
комиссии полковником Вернером И. Майклом, начальником отдела
контрразведки Управления разведки армии США, сообщается, что,
как стало известно атташе разведывательного управления министерства
обороны в Оттаве, Веннема «выступил в Канаде с рядом речей,
осуждающих присутствие США во Вьетнаме, зверства, якобы
совершенные во Вьетнаме Соединенными Штатами, и американских военных
в целом. Атташе отметил далее,— говорится в меморандуме,— что
д-р Веннема даст предвзятые показания на любых слушаниях,
касающихся военного персонала США». Лично к Веннема никто из
сотрудников американской разведки не обращался.
318
на не предумышленное не означает, что их не
рассматривают всерьез, дело ведь не прекращается... по-моему,
существует значительная разница между тем, чтобы
замять дело, и тем, чтобы квалифицировать конкретное
преступление как более серьезное или менее серьезное*.
Но на самом деле проблема была куда более глубокой,
чем готов был признать Маккрейт. Многие бывшие
военнослужащие рассказывали и мне, и другим о случаях,
когда за убийство или за нападение на гражданское
вьетнамское население военнослужащих всего лишь
понижали в званиях и отправляли обратно в их части '.
Таким образом, представление Маккрейта о стоящих
перед армией проблемах временами оказывалось столь
же ограниченным и узким — хоть он и был уоллстри-
товским юристом с блестящей репутацией,— сколь
восприятие полковника Дж. Росса Франклина,
наибольшего моралиста из числа военного персонала комиссии.
Франклин зачастую подвергал свидетелей резкой
критике, высказывая предположения в лживости их
показаний. Казалось, что в подобных случаях он фактически
выступает от имени генерала Пирса, высказывая
замечания, с которыми генерал явно соглашался, но которые
1 Даже те, кто был осужден за умышленные убийства, редко
отбывали срок наказания до конца. Наиболее ярким недавним примером
служит лейтенант Колли, приговоренный 31 марта 1970 года к
пожизненному тюремному заключению за убийство первой степени. Пять
месяцев спустя приговор комитетом армии США по пересмотру
приговоров был заменен двадцатью годами тюрьмы. Могут последовать
и дальнейшие сокращения срока наказания. С 1964 года за
умышленные убийства вьетнамцев были осуждены двадцать один солдат
и офицер. Каждый обвиняемый был автоматически приговорен
к пожизненному заключению. Все приговоры были незамедлительно
смягчены военными комиссиями по пересмотру приговоров. В 1971 году
юрист ВМФ США изучил шесть дел об умышленном убийстве
вьетнамцев солдатами морской пехоты. Он выяснил, что после всех
апелляций и пересмотров приговоров подсудимые получили в общей
сложности тридцать пять лет каторги. Среди предъявленных им
обвинений насчитывалось тридцать одно убийство, одно изнасилование,
одна попытка изнасилования. Таким образом, за каждое преступление
виновник был осужден немногим более чем на год.
В газетах и журналах было много публикаций о так называемом
ЗПГ — «законе о просто гуках». Во Вьетнаме этим сокращением
обозначались дела об убийствах, совершенных при ведении боевых
действий, которые расследовались, но не доводились до трибунала
либо заканчивались оправданием подсудимого. Таким образом, те, кто
планировал штурм Милай-4, могли смело считать всех находящихся
в деревне партизанами или их пособниками и — руководствуясь ЗПГ —
произвольно бомбить и обстреливать деревню артиллерией.
319
избегал делать сам. Франклина особенно огорчили
показания, данные комиссии сержантом Майклом Бернхард-
том. Бернхардт, один из первых, кто рассказывал
журналистам о Милай-4, хладнокровно засвидетельствовал
многие случаи убийств и насилий, совершенных солдатами
роты «Чарли», как виденные им самим, так и известные
ему понаслышке.
В ответ на требование Франклина привести
конкретный пример, Бернхардт рассказал о женщине, которая
несла корзины и была застрелена, потому что не
выполнила приказ остановиться. Франклин не нашел в этом
ничего из ряда вон выходящего: «Вы можете предложить
лучший способ останавливать бегущих людей? То есть
вы сравниваете эту женщину, которая несла корзины
и которой крикнули, чтобы она остановилась, с людьми
и детьми, которых поставили к стенке и расстреляли
в Милай-4?.. Я вам это к тому говорю, что, если вы
будете выдвигать такие суровые обвинения, да еще
в таких общих чертах, вы уж позаботьтесь найти факты,
чтобы их подтвердить. Вы все еще носите военную
форму, а изображаете людей в военной форме какими-то
животными».
Затем Франклин дал молодому сержанту совет:
«...запомните на будущее, если вас вызовут давать
официальные показания, да и в разговорах тоже: что вы
видели — то видели, а что слышали — то слышали.
И не путайте то, что видели, с тем, что слышали,
сержант Бернхардт».
Однако другим свидетелям настойчиво предлагалось
давать показания на основании того, что они слышали,
если следователи считали, что подобная информация
может помочь им собрать материал для обвинительного
заключения против кого-то еще из солдат и офицеров,
участвовавших в бойне в Милай-4.
Генерал Пирс явно был очень высокого мнения о
Франклине. В декабре 1969 года, информируя в закрытом
порядке подкомиссию Херберта, Пирс отметил, что
отобрал Франклина для работы в своей комиссии, «исходя
из наличия у него оперативного опыта, полученного
при несении службы в провинции Виндин в качестве
заместителя командира 173-й воздушно-десантной бригады.
Сложившаяся там обстановка и характер ведения боевых
действий вполне аналогичны тем, что существовали
в районе Милай провинции Куангнгай. Его знания будут
320
необходимы при оценке данных опросов свидетелей
с оперативной точки зрения».
Франклина часто приводили в пример во время
слушаний как ответственного командира, правильно
исполняющего свой долг. Однако год спустя полковник
Франклин сам был обвинен коллегой-офицером в семи
случаях нарушения служебного долга и невыполнении
письменных указаний в связи с убийством в 1969 году —
до начала работы комиссии Пирса — по меньшей мере
пяти пленных вьетнамцев и в пытке шестого электрическим
током. Эти обвинения официально выдвинул 15 марта
1971 года полковник Энтони Б. Херберт, кавалер
четырех Серебряных звезд, служивший в начале 1969 года
по ведомству генерал-инспектора, а затем
командиром батальона 173-й бригады под началом Франклина
и его командира генерал-майора Джона У. Барнеса '.
1 Франклин занимал престижную должность командира бригады
1-й кавалерийской дивизии (авиадесантной), когда в ноябре 1970 года
Херберт обратился в Управление по расследованию уголовных
преступлений с обвинениями в его адрес. Херберт показал, что
незамедлительно после вступления в должность командира батальона
он начал информировать Франклина о случаях жестокого обращения
и расправ с пленными. Полковник описал следователям типичный
случай убийства, совершенного вьетнамской полицией на глазах
американского офицера: «Вьетнамец держал молодую женщину за волосы,
обхватив рукой горло и прижав к шее нож. Я рванулся мимо
[американского] лейтенанта и закричал вьетнамцу, чтобы тот отпустил
ее. За брюки женщины цеплялся плачущий ребенок. Еще один ребенок
плакал навзрыд, уткнувшись лицом в песок, а вьетнамский солдат
наступил на него ногой, втаптывая в песок. Полицейский посмотрел
мне прямо в глаза, перерезал женщине горло и бросил ее на песок.
Я обратился к лейтенанту. Тот объяснил, что эти вьетнамцы ему
не подчинены, он у них только советник. Я ответил, что он —
американский офицер, что он мог и должен был прекратить убийства
задержанных. Я заявил ему... что не желаю ни его участия, ни участия
этих вьетнамских солдат в дальнейших действиях моей части».
Херберт показал, что он немедленно информировал о случившемся
Франклина, но Франклин обвинил его либо в преувеличении, либо
во лжи. «Франклин сказал мне, что сам займется этим, что меня
это больше не касается»,— заявил Херберт. Тем не менее Херберт,
награжденный наибольшим количеством наград из всех ветеранов
войны в Корее, продолжал настоятельно требовать от своих солдат
прекратить убийства и пытки подозреваемых вьетнамцев. По словам
Херберта, на его очередную жалобу о том, что американские офицеры
подвергли подозреваемых вьетнамцев пытке водой, Франклин ответил,
«что методы допроса, применяемые личным составом бригады, меня
не касаются». Херберт продолжал заявлять официальные протесты
до тех пор, пока его внезапно не отстранили от командования и не
отправили обратно в Соединенные Штаты. 21 июля 1971 года армейские
власти официально опровергли обвинения, выдвинутые Хербертом
11 Зак. 556
321
Барнес также был обвинен Хербертом в трех случаях
нарушения служебного долга.
Вероятно, генерал Пирс был недостаточно хорошо
осведомлен о полковнике Франклине, когда заявил
Рональду Райденауэру во время дачи бывшим солдатом
показаний: «Я глубоко огорчен тем, что вынужден делать
сейчас, поскольку всегда гордился нашей армией,
идеалами, которые она отстаивает и которые, находясь
в рядах армии, отстаивал я сам. Я убежден, что именно
это имел в виду полковник Франклин (ссылка на
предыдущий разговор о суровости обучения солдат), потому
что у нас действительно существует высокий уровень
требований. И я не способен воспринять ничего, что
этим требованиям не удовлетворяете
Есть основания полагать, что Пирс сам, будучи
продуктом армейской системы, оказался не в состоянии
следовать взглядам, которые высказывал относительно
ответственности за недонесение о совершении зверств.
Он объяснял Джею Робертсу, военному корреспонденту
при 11-й бригаде: «Уставом четко определено, что, если
совершено зверство, независимо от того, чьей стороной,
идет ли речь об одном человеке или о том, что можно
классифицировать как «бойню», военнослужащие обязаны
доложить об этом, будь то подтвержденный факт или
предположение о совершении зверства* 1.
против Франклина, а также отклонили 15 октября того же года
аналогичные обвинения, выдвинутые им против генерала Барнеса.
(Барнес в обычном порядке был произведен в генерал-майоры четыре
месяца спустя после того, как Херберт выдвинул против него обвинения.)
Но так совпали обстоятельства, что к июлю карьера Франклина
пошатнулась, однако вне всякой связи с обвинениями Херберта.
После инцидента с убийством вьетнамского гражданина он был
освобожден от командной должности в 1-й кавалерийской дивизии и назначен
советником части южновьетнамской армии в дельте Меконга, что
омрачило перспективы его дальнейшего продвижения по службе.
1 Не удивительно, что личные взгляды Пирса об обязанности
сообщать о фактах зверств близки к официальной позиции по этому
вопросу, изложенной в бюллетене министерства армии 2 апреля
1971 года, во время вспышки негодования, вызванной осуждением
лейтенанта Колли: «Министерство армии несет моральные и
юридические обязательства за проведение политики подробного
расследования всех обоснованных обвинений в нарушении правил ведения
войны американскими военнослужащими. Каждое предположение
о нарушении норм поведения в полевых условиях будет тщательно
расследоваться, невзирая на звание и занимаемую должность
предполагаемого виновника». Более того, комиссия Пирса получила
непосредственные указания министра обороны Мел вин а А. Лэйрда,
322
Однако Пирс, несший основную ответственность за
расследование действий роты «Браво», очевидно, не
сделал всего, что было в его силах, для вынесения должного
наказания солдатам и офицерам, разгромившим Михе-4.
Первым сигналом о действиях роты «Браво» послужили
показания Нгуен Ди Бэй, жительницы Михе-4, которую
изнасиловали и заставили служить живым миноискателем
во время проведения ротой боевых операций 16—18 марта.
Г-жа Бэй была опрошена сотрудником Управления по
расследованию уголовных преступлений Андре Фехером
в госпитале Куангнгай 17 декабря 1969 года. Несколько
недель спустя в штаб дивизии «Америкал» прибыли Пирс,
Маккрейт и ряд других сотрудников следственной
комиссии, чтобы приступить к опросу свидетелей и рассмотреть
дело о Милай-4. Почти сразу же после этого Пирс
направил следующее секретное сообщение Ризору и
Уэстморленду: «Напоминаю вам о вашем распоряжении
включить Колай в проводимое нами расследование. Двое
задержанных женского пола, взятых при проведении
операций 1-й кав. южнее Милай-1 13 дек. 69-го года, были
недавно опрошены Си-Ай-Ди в гражданской больнице
г. Куангнгай. Обе показали, что 16-го, возможно —
17 марта 68-го около 90—100 женщин и детей (в Михе-4)
были выведены из убежищ и расстреляны в
непосредственной близи от населенного пункта... Также
сообщается о ряде изнасилований. Видимо, речь идет о действиях
роты «Б»... в указанном районе.
Обе женщины были выписаны из больницы. Мы примем
меры к их розыску и повторному опросу сотрудниками
комиссии. Также будем продолжать усилия по сбору
информации о любых необычных действиях в этом
районе, имевших место 16—17 марта 68-го. Также
довожу до вашего сведения, что м-р Уэст (Блэнд Уэст,
юрист, сотрудник следственной группы) и другие
сотрудники... в Вашингтоне составляют список военнослужащих
роты «Б», подлежащих допросу на территории
Соединенных Штатов по возвращении».
переданные через министра армии, ев срочном порядке расследовать
все предположительные обвинения в совершении зверств». В
меморандуме от 11 декабря 1969 года, полученном комиссией Пирса
19 декабря, Лэйрд обосновывает это указание двумя причинами:
«С целью установления фактов, а также предотвращения бесконечных
повторов ложных предположений (в печати)».
И*
323
Эти вьетнамские женщины найдены не были, но
к середине января комиссия Пирса выделила отдельную
группу для ведения допросов бывших солдат роты
«Браво». Пирс официально изменил диапазон
проводимого им расследования 21 января, сообщив в меморандуме
Ризору и Уэстморленду, что «существуют доказательства
совершения других* зверств и иных нарушений воинских
уставов в трех населенных пунктах деревни Сонгми...
В свете вышеуказанного представляется целесообразным
расширить географические рамки итогового доклада,
включая весь район деревни Сонгми». Меморандум был
одобрен в обычном порядке. К 5 февраля было допрошено
более тридцати служащих роты «Браво», вскоре после
чего комиссия заподозрила в убийствах по меньшей мере
четырех солдат и одного офицера — лейтенанта Томаса
Уиллингхэма.
Усиленные допросы солдат роты «Браво» вызвали
интерес печати к Пентагону, военные представители
которого придерживались постоянного правила не
обсуждать никаких подробностей хода следствия, однако
предоставляли ежедневно список свидетелей и их частей.
В начале февраля появился ряд публикаций,
указывающих, что комиссия распространила ведение следствия
о Милай-4 на действия роты «Браво», но никто из
журналистов не был в состоянии выяснить, что произошло
в Михе-4. Представители Пентагона просто объяснили
журналистам, что комиссия расследует события во всем
районе Сонгми, не ограничиваясь населенным пунктом
Милай-4.
10 февраля армейские власти официально предъявили
капитану Томасу Уиллингхэму, командиру взвода роты
«Браво», обвинения в непредумышленном убийстве около
двадцати вьетнамских граждан. В этот день, прослужив
три года, Уиллингхэм должен был уйти в запас.
Обвинения были предъявлены ему в последнюю минуту —
так же как и лейтенанту Колли,— чтобы иметь
возможность сохранить их в юрисдикции военного трибунала.
Подробности дела Уиллингхэма почти не обнародовались,
хотя официальные лица Пентагона увязали его с делом
о Милай-4. Ранее, ненадолго представ перед комиссией,
Уиллингхэм отказался от дачи показаний. 18 февраля
корреспонденты Эн-би-си взяли интервью у двух человек,
выживших после разгрома Михе-4, которые рассказали,
как были убиты почти сто жителей деревни во время
324
проведения операции тактической группы Баркера. Однако
на этот раз американская пресса, все еще занятая
событиями в Милай-4, почти не обратила внимания на
их рассказ. Так, например, точное изложение агентством
ЮПИ интервью Эн-би-си было опубликовано восемью
абзацами на двадцать четвертой странице «Вашингтон
пост». Помимо этого, представители Пентагона заявили
газете, что не исключают возможности достоверности
материала Эн-би-си, но добавили, что им неизвестны
оценки количества жертв, из которых можно заключить,
что количество убитых гражданских лиц достигало бы
ста человек. Никто из корреспондентов ни во Вьетнаме,
ни в США не стал заниматься этой историей.
21 февраля 1970 года Пирс направил Ризору и
Уэстморленду очередной меморандум, сообщая им, что
от двадцати до двадцати пяти человек подозреваются
в совершении преступлений, «могущих быть предметом
рассмотрения военного трибунала». Некоторые из
подозреваемых были служащими роты «Браво». Согласно
военному законодательству, комиссия Пирса не могла
непосредственно предъявлять обвинения в сокрытии правды,
но до истечения 16 марта срока давности за подобные
преступления должна была представить свои
рекомендации группе офицеров военного-судебного управления,
которым надлежало определить весомость доказательств
против каждого подозреваемого. «Основная часть этих
обвинений,— отмечалось в меморандуме,— подпадает под
истечение срока давности». На другие преступления
двухгодичный срок давности не распространялся.
Впоследствии Пирс представил список девятнадцати
подозреваемых, находившихся на действительной службе;
только один из них оказался из роты «Браво».
Обвинения были предъявлены четырнадцати офицерам, хотя
многие юристы были убеждены, что в ряде случаев
отсутствовали твердые доказательства. Один юрист
демонстративно отказался предъявлять троим
подозреваемым обвинения. Генерал-лейтенант вышел из
положения, приказав одному из своих следователей
предъявить обвинения вместо этого юриста К
1 Пятеро офицеров, которым не были предъявлены обвинения:
лейтенант Колли и капитан Котук из тактической группы, обоим
предстояло обвинение в убийстве; полковник Дин И. Хаттер, старший
военный советник при 2-й южновьетнамской дивизии в г. Куангнгай,
обвинялся в нарушении служебного долга и возможном лжесвиде-
325
Последи jo несколько дней прошли напряженно.
Специальная группа юристов, представляющая
юридическое управление армии, также решила ознакомиться
с собранными доказательствами и оценила их как
достаточно убедительные. Пирс имел ряд встреч с
высокопоставленными сотрудниками, в том числе трехчасовое
совещание с Дэниэлом Хенкином, главным представителем
Пентагона, и другими в порядке подготовки к пресс-
конференции, назначенной на 17 марта. Тем временем
еще одна группа офицеров изучала однотомный
заключительный итоговый доклад, чтобы определить, какие
материалы можно обнародовать в печати. В конечном
счете были опубликованы пятьдесят из двухсот
шестидесяти страниц доклада. Главы, разрешенные к
публикации, содержали информацию об истории провинции
Куангнгай, о боевой подготовке и формировании 11-й
бригады и тактической группы Баркера, а также
относящиеся к делу пункты уставов и приказов, действующие
на 16 марта 1968 года. Не были преданы гласности главы,
содержащие информацию о действиях подразделений
тактической группы Баркера 16 марта и о последующем
сокрытии правды в ходе расследований. Также была
снята глава, содержащая выводы и рекомендации
следственной комиссии.
Итоговый доклад, известный как том I следствия
Пирса, подробно анализировал налет роты «Браво» на
Михе-4, сообщая, что количество убитых жителей «могло
достигать девяноста человек». Заключительная глава
доклада «Выводы и рекомендации» числилась как первая
указывающая как факт, что «в период между 16 и 19
марта 1968 года подразделения ТГ (тактической группы)
Баркера 11-й бригады дивизии «Америкал» армии США
истребили большое количество мирных жителей двух
населенных пунктов деревни Сонгми провинции Куангнгай
Республики Вьетнам». Тридцать две книги личных
показаний, составивших том II доклада Пирса, включали почти
тельстве; подполковники Джон Холладэй и Фрэнсис Льюис, капеллан,
обвинялись в нарушении служебного долга, поскольку не добились
правильного проведения следствия. Но обвинения против Хаттера,
Холладэя и Льюиса были сняты за недостатком доказательств.
Заключительный доклад комиссии Пирса также называл в качестве
подозреваемых еще семерых бывших офицеров, но они были за пределами
юрисдикции министерства обороны.
326
три тысячи страниц показаний, снятых с солдат и офицеров
роты «Браво». Более того, в самом разгаре было
интенсивное расследование новых обвинений подразделений
тактической группы Баркера в совершении второго
массового убийства, которое велось Управлением по
расследованию уголовных преступлений армии США. На
пресс-конференции Пирса в Пентагоне на это не
прозвучало и намека.
Итак, 17 марта 1970 года генерал объявил, что
обвинения предъявлены следующим офицерам:
Генерал-майор Сэмюэл Костер обвиняется в
несоблюдении уставов и нарушении служебного долга.
Бригадный генерал Джордж Янг также обвиняется
в несоблюдении уставов и нарушении долга.
Полковник Оран Гендерсон обвиняется в нарушении
долга, несоблюдении устава, лжесвидетельстве.
Полковник (тогда подполковник) Роберт Люпер
обвиняется в невыполнении законного приказа.
Полковник Неле Парсон — несоблюдение уставов
и нарушение долга.
Подполковник Уильям Гуинн — несоблюдение уставов,
нарушение долга, лжесвидетельство.
Подполковник (тогда майор) Дэвид Гэвин —
несоблюдение уставов, нарушение долга, лжесвидетельство.
Майор Чарльз Калхун — нарушение долга и
недонесение о возможных нарушениях. (Предъявленное ранее
обвинение в участии в разработке операции, целиком и
полностью направленной против мирного населения,
было снято.)
Майор Роберт Макнайт — лжесвидетельство.
Майор Фредерик Уотке — несоблюдение уставов
и нарушение долга.
Капитан (тогда лейтенант) Кеннет Боатман,
служивший артиллерийским наблюдателем при роте «Браво»,
был обвинен в недонесении о возможных нарушениях.
В выпущенных армией пресс-релизах о его связи с ротой
«Браво» не говорилось ничего.
Капитан (тогда лейтенант) Деннис Джонсон, офицер
разведки роты «Чарли», был обвинен в несоблюдении
уставов.
Капитан (тогда лейтенант) Томас Уиллингхэм, ранее
обвиненный в непредумышленном убийстве, был
обвинен в даче ложных показаний и недонесении о
преступлении.
327
Капитан Эрнест Медина, также обвиненный в убийстве,
был обвинен и в недонесении о преступлении.
Печать закономерно сосредоточила внимание на
обвинениях, предъявленных Костеру, начальнику Уэст-Пойнта.
Он и Янг были первыми армейскими генералами за
восемнадцать лет, которым мог угрожать трибунал. На
пресс-конференции журналистам было объявлено, что
многие из материалов Пирса, включая записи опросов,
«не могут в настоящее время быть преданы гласности
во избежание создания в органах военной юстиции
возможного предубеждения против четырнадцати
офицеров, которым предъявлены обвинения».
Несмотря на это заявление, трудно было найти
весомые юридические основания утаивать от
общественности информацию о второй резне, имевшей место
в Михе-4. Пирс, правда, заявил журналистам:
«Проведенное нами расследование недвусмысленно установило,
что в тот день в деревне Сонгми произошла крупная
трагедия». В интервью юрист, сотрудничавший с
комиссией Пирса в подготовке пресс-релиза, ответил на мой
вопрос, почему ни слова не было сказано о Михе-4:
«Хороший вопрос. Ничем не могу помочь вам, потому
!то ничего об этом не помню». По его словам, за
последние несколько дней, когда редактировался том I доклада
Пирса и окончательно формулировались обвинения, никто
и не упоминал о трагедии, происшедшей всего в полутора
милях от Милай-4. В середине 1971 года ответственный
сотрудник Пентагона, также принимавший участие в
работе над докладом, беседуя со мной, не придал значения
действиям роты «Браво». «Одна из проблем с этим делом
заключалась в том, что, хотя мы и располагали кое-
какой информацией, оно явилось лишь побочным
продуктом расследования Пирса»,— заявил он. Во время
своей пресс-конференции Пирс был готов отвечать на
вопросы о втором преступлении, пояснил мой источник,
но было решено попытаться замолчать этот вопрос: «Мы
очень боялись отпугнуть некоторых свидетелей из той
роты». Аналогичная забота о правах потенциальных
подсудимых выражалась и в итоговом томе I доклада Пирса,
отмечавшем, что «подробный отчет должен быть отложен
до завершения ныне ведущегося уголовного следствия
и получения результатов судебного разбирательства».
Может, забота о сохранении потенциальных свидетелей
и имеет законное обоснование, но после роспуска комис-
328
сии Пирса Управление по расследованию уголовных
преступлений так и не завершило расследование событий
в Михе-4, хотя даже поверхностное ознакомление с
показаниями служащих роты «Браво» свидетельствует о
совершении тяжкого преступления. Никаких дальнейших
обвинений по делу Михе-4 никому предъявлено не было.
На пресс-конференции Пирсу был задан вопрос:
«...Есть ли данные о том, что поступки, подобные тем,
на основании которых [офицерам] предъявлены
обвинения, распространены гораздо более широко, чем имело
место 16 марта в Милай? Иными словами, случалось
ли подобное в другие дни в других местах?» Ответ
генерала звучал недвусмысленно: «Если да, то мне об этом
ничего не известно. Данных об этом я не получал и за
приблизительно тридцать месяцев службы во Вьетнаме
ни с чем подобным лично не сталкивался». Следующий
вопрос касался роты «Браво»: «Что происходило вообще
в тот день в районе Сонгми? Вы предъявили обвинения
офицеру роты «Браво» (Уиллингхэму), а он в Милай не
находился». Ответ Пирса может служить классическим
примером наведения тени на ясный день: «Именно поэтому,
как вы убедитесь, если внимательно прочтете настоящий
материал (прошедший цензуру том I его доклада),
описываемая зона была расширена включением названия
деревни Сонгми в противоположность непосредственно
Милай-4, поскольку, прибыв в Южный Вьетнам, мы
обнаружили, что, когда мы говорим «Милай-4», они
(вьетнамцы) не понимают, о чем мы говорим... Дело
в том, что то, что вы называете «Милай-4», на самом
деле включает в себя несколько населенных пунктов,
одним из которых и является Милай-4... Но рота «Браво»
не находилась в том районе, она действовала в другом
районе, восточнее. Но все это входит в зону деревни
Сонгми, и поэтому мы теперь обозначаем данную
территорию как «деревня Сонгми» вместо того, чтобы
ограничиваться упоминанием одного лишь населенного пункта
Милай-4». Хотя Пирс на вопрос и не ответил, никто из
журналистов добиваться подробностей не стал. По словам
источника, Пирс зашел в кабинет коллеги и воскликнул:
«Три часа ада (имея в виду предшествующую пресс-
конференции подготовку), и ни одного трудного вопроса!»
В заключительном томе не делалось никаких попыток
вскрыть насущные и наиболее значимые вопросы,
поднятые событиями в Милай-4 и Михе-4: настроения воен-
329
пых, уровень офицеров, методы подготовки, система
повышения в званиях и другие насущные для армии проблемы 1.
Вместо этого итог доклада свелся к трем замечаниям
о том, насколько отвечают предъявленным требованиям
политика армии, издаваемые ею директивы и подготовка
личного состава, в свете разбираемых случаев массовых
убийств. Во-первых, говорилось в докладе, существующая
политика «выражает четкое намерение» добиваться
правильного обращения с пленными и мирными жителями.
Во-вторых, что существующие уставы не смогли
обеспечить должной процедуры для доведения до сведения
командирования информации о совершении военных
преступлений, если эти преступления санкционировались
офицерами и офицеры принимали в них участие. В-третьих,
отмечалось недостаточное ознакомление личного состава
11-й бригады с положениями Женевской конвенции,
а также с их обязанностями по доведению до сведения
командования фактов совершения военных преступлений.
(В томе I указывалось: «Данные об отдельных
инцидентах, включающих плохое обращение, изнасилования
и возможные убийства вьетнамцев личным составом
11-й бригады, имевшие место до операции в Сонгми,
свидетельствуют об атмосфере попустительства и не были
раскрыты и пресечены в период командования бригадой
генералом Липскомбом». Липскомб командовал бригадой
до Гендерсона.) Заключительный доклад комиссии Пирса
вынес лишь одну-единственную рекомендацию из двухсот-
пятидесятистраничного обзора зверств, совершенных
в Милай-4 и Михе-4: «Следует рассмотреть возможности
изменений проводимой политики, указаний и методов
подготовки для исправления очевидных недостатков...
перечисленных выше>.
1 Разговаривая в ноябре 1971 года с одним из ответственных
сотрудников комиссии Пирса, я выразил недовольство узостью
проведенного расследования. Не колеблясь мой собеседник отметил, что
указания, полученные генералом Пирсом в ноябре 1969 года от
генерала Уэстморленда и министра армии Ризора, четко предписывали
ему не выходить за рамки и придерживаться характера
предшествующих расследований событий в Милай-4, проводимых армией.
Действуя в этих рамках, заметил собеседник, было невозможно
подвергнуть анализу армию как институт. Фактически слова этого
сотрудника означают, что и Пирс, и остальные члены комиссии
всего лишь выполняли приказы. Аналогичную позицию заняли на суде
лейтенант Колли и другие обвиняемые по делу Милай.
330
Несколько часов спустя после пресс-конференции
Пирса последовала предсказуемая реакция со стороны
военных: генерал-майор Уинант Сайдл, начальник
армейского управления внешней информации, заявил
журналистам, что министерство армии уже приступило
к изучению мер, которые позволяют ускорить
информирование командования о возможном совершении военных
преступлений. Однако за последующие несколько месяцев
не появилось никаких оснований полагать, что
проводятся в жизнь какие-то рекомендации комиссии Пирса.
Следствием, проведенным армией, таких требований
и не выдвигалось. После 17 марта становилось все более
ясным, что на деле Пирс и его следственная комиссия
послужили лишь громоотводом для армии, перед которой
встали серьезные проблемы.
СИСТЕМА БЕРЕТ ВЕРХ
Незамедлительно после того, как генерал Пирс
представил свой доклад, имеющие к нему доступ чины
Пентагона и армии начали искать рациональное объяснение,
как мог остаться незамеченным факт убийства
подразделением американских солдат трехсот сорока семи
вьетнамских граждан. Был сделан вывод о полном
служебном несоответствии четверых офицеров, несущих
непосредственно по инстанции ответственность за события
в Милай-4. Все они с большой натяжкой оказались
достойными офицерского звания, все четверо были так
называемыми «мустангами», то есть людьми, вступившими
в вооруженные силы рядовыми и попавшими
впоследствии в офицерское училище. Согласно логике тех, кто
придерживался этого объяснения, Колли вылетел из
колледжа низшей ступени, Медина был
«мустанга-переросток, не имеющий высшего образования Баркер
вступил в армию из национальной гвардии, Гендерсон
характеризовался как человек, вступивший в армию
в 1939 году, а затем ждавший офицерских погон четыре
года и получивший их только в самый разгар войны.
Очень многие армейские чины всерьез уверяли меня, что,
окажись хоть один из этих четверых выпускником
Уэст-Пойнта, о бойне было бы доложено немедленно.
Говорят, такого же мнения придерживался Пирс и ряд
сотрудников его комиссии.
331
Даже если это мнение и справедливо, трудно объяснить
совпадением поведение генерал-майора Костера и
бригадного генерала Янга. Не объяснить и возможного
участия генерала Джона Дональдсона в уничтожении
документов после событий в Милай-4.
1 апреля 1970 года, две недели спустя после того, как
комиссия Пирса обнародовала результаты своего
расследования, с капитана Эрнеста Медины военными юристами
штаба 3-й армии в Форт-Макферсоне, штат Джорджия,
куда были переведены Медина и другие подследственные
из роты «Чарли», обвиненные в убийстве жителей
Милай-4 *, были сняты обвинения в сокрытии правды.
Сделанное представителями армии заявление
разъясняло, что обвинения в даче ложных показаний о
совершении преступлений были сняты, «поскольку не является
общепринятой практикой предъявлять человеку обвинения
и в совершении преступления, и в сокрытии его». Вместо
этого Медину обвинили в том, что он несет ответственность
за убийства, совершенные в Милай-4 людьми,
находящимися под его командованием.
Снятие с Медины обвинений в сокрытии правды
выглядело обоснованным. Но два месяца спустя
командование 3-й армии объявило о снятии с капитана роты
1 В конечном счете армейские власти предъявили двенадцати
офицерам и солдатам, включая Медину, обвинения в убийствах или
в нападении с целью совершения убийств в Милай-4. Из них только
один — лейтенант Колли — был признан виновным на процессе в Форт-
Беннннге в 1971 году. (Обвинения против Колли, как и против
сержанта Дэвида Митчелла, были выдвинуты в 1970 году, до принятия
решения о слушании всех уголовных дел в Форт-Макферсоне.
Каждого из них судили по месту несения службы: Колли в Форт-Беннинге,
а Митчелла в Форт-Худе, штат Техас.) Еще до суда в
Форт-Макферсоне обвинения в убийстве были сняты с сержанта Иезекиля
Торреса, капрала Кеннета Шиля, специалиста четвертого класса Уильяма
Ф. Догерти и Роберта У. Т. Суваса, а также с рядовых Макса
Д. Хатсона и Джеральда А. Смита. С сержанта Кеннета Л. Ходжеса
было снято обвинение в угрозе физическим насилием. Четыре человека
были оправданы по суду. На процессе в Форт-Макферсоне было снято
обвинение в нанесении увечий с капитана Юджина Котука (обвинения
в физическом насилии были сняты с него еще раньше). С сержантов
Чарльза И. Хутто и Дэвида Митчелла были сняты обвинения в
совершении физического насилия с покушением на убийство. Процесс
Митчелла был первым, состоявшимся в связи с Милай-4. 22 сентября
1971 года был признан невиновным капитан Эрнест Медина. Процесс,
состоявшийся в августе того же года в Форт-Макферсоне, снял с него
обвинения в преднамеренном убийстве, непредумышленном убийстве
и два обвинения в совершении физического насилия.
332
«Браво» Уиллингхэма обвинений и в убийстве, и в
сокрытии правды. В заявлении разъяснялось, что командование
«на основании имеющихся данных пришло к выводу об
отсутствии необходимости предпринимать дальнейшие
меры по расследованию этих обвинений».
Остальные обвиняемые офицеры, включая генералов
Костера и Янга, были в административном порядке
переведены в штаб 1 -и армии в Форт-Мид, штат Мэриленд,
где ожидали разбора выдвинутых обвинений. Согласно
военному законодательству, командующий 1-й армией
генерал-лейтенант Джонатан О. Симэн должен был
рассмотреть обвинения и определить, достаточно ли они
обоснованны для проведения слушаний, согласно статье
XXXII соответствующих большому жюри, или
предварительному разбирательству. Согласно статье XXXII
ведущий разбирательство офицер уполномочен, заслушав
показания, передать дело обвиняемого в военный
трибунал. Вспоминая решение передать обвиняемых штабу
1-й армии, один высокопоставленный чиновник оценил
его как одну из крупнейших ошибок следствия о Милай-4.
«Мы недостаточно тщательно рассмотрели кандидатуру
Симэна,— пояснил источник в интервью со мной в
середине 1971 года.— Он казался одной из наиболее
подходящих кандидатур, из которых можно было выбирать».
В течение года с одиннадцати из двенадцати офицеров,
названных в докладе Пирса и переведенных в Форт-
Мид, были сняты обвинения.
Симэн, выпускник Уэст-Пойнта и бывший командир
дивизии во Вьетнаме, приближающийся к пенсионному
возрасту, снял 23 июня 1970 года все обвинения в
сокрытии правды с генерала Янга, полковника Парсона и майора
Макнайта. Опубликованное в Форт-Миде заявление
объясняло, что Симэн принял решение, «исходя из мнения,
что обвинения не были достаточно обоснованно доказаны».
По делу Янга это решение было принято день спустя
после того, как Симэн получил рекомендации снять
обвинения с Янга от военного прокурора 1-й армии
полковника Джона П. Стаффорда-мл. Явно принимая
аргументы защиты Янга за чистую монету, Стаффорд
оспаривал узко технические вопросы: что могли сообщить
генералу майор Уотке и подполковник Холладэй, а также
что мог и не мог приказать ему расследовать Костер.
Свои рекомендации генералу Симэну Стаффорд изложил
на двух с половиной страницах, из которых Янгу было
333
уделено два параграфа: в одном обсуждалась
информация, доведенная до сведения Янга, в другом — его
обязанности по проведению расследования:
«Хотя подполковник Холладэй утверждает, что
бригадный генерал Янг был информирован о фактах, могущих
квалифицироваться как военное преступление, и майор
Уотке, и бригадный генерал Янг подтверждают факт, что
Янгу было доложено только о бое и неприцельном
ведении огня. Данная точка зрения подтверждается
уверениями полковника Парсона и полковника Гендер-
сона, что они получили только эту ограниченную
информацию из того же источника. Совершенно очевидно,
что бригадный генерал Янг довел до сведения генерал-
майора Костера еще более ограниченную информацию,
а иной информацией генерал-майор Костер не располагал.
Все показания касательно требований к Янгу
осуществлять контроль над расследованием, проводимым
полковником Гендерсоном, в лучшем случае
несостоятельны, поскольку основываются не на конкретном
указании, а на том, что в нем подразумевалось. Однако
если и допустить, что это входило в его обязанности,
то донесение полковником Гендерсоном сведений
непосредственно генерал-майору Костеру и факт принятия
генерал-майором Костером его доклада ослабляют
достоверность версии о халатном отношении бригадного генерала
Янга к своим служебным обязанностям».
Год спустя, опираясь на те же доводы, министр
армии Стэнли Ризор пришел к выводу, что Янг «не
удовлетворял предъявляемым генералу требованиям».
Резюме Ризора было подготовлено для обоснования его
последующего решения принять к генералу
административные меры и лишить его ордена «За безупречную
службу». В заявлении Ризора говорилось:
«На следующий день после инцидента в Милай генерал
Янг был информирован офицерами авиачасти, что имело
место серьезное столкновение между личным составом
американских пехотных и вертолетных подразделений.
Существуют разногласия по поводу того, был ли генерал
Янг также информирован об убийстве гражданских лиц
и захоронении трупов во рву. Обсудив вопрос с генералом
Костером, генерал Янг получил указание поручить
подчиненному ему офицеру (Гендерсону) приступить к
расследованию. Впоследствии генерал Янг запрашивал этого
офицера о ходе следствия.
334
Еще до того, как генерал Янг получил информацию
от офицера авиачасти, он был осведомлен о необычном
характере операции, проводимой в Милай 16 марта
1968 года, и высказал свои оценки генералу Костеру.
Генерал знал также, что поступили сведения о
чрезвычайно высоком количестве потерь со стороны
противника при несор'азмерно низком количестве захваченного
у противника оружия и потерь среди личного состава
американских войск в бою, предположительно
проходившем с подразделением, известным генералу Янгу как
отборный батальон противника.
Таким образом, 17 и 18 марта 1968 года генерал Янг
не только знал, что операция 16 марта дала весьма
необычные результаты, но знал и о том, что во время
операции имело место беспрецедентное столкновение между
американскими пехотинцами и пилотом вертолета...
Невзирая на ознакомление с этой информацией и на
приказ генерала Костера проследить за тем, чтобы
подчиненный ему офицер приступил к расследованию,
генерал Янг самоустранился от последующего ведения
следствия. Он не предпринял никаких усилий рассмотреть
или обсудить совместно с генералом Костером как устный
доклад, полученный генералом Костером от ведущего
следствие офицера, так и письменный доклад,
подготовленный этим офицером по приказу генерала Костера.
Генерал Янг заявляет, что не знал о том, что расследуется
обвинение в убийствах мирных граждан. Если это так,
то позиция генерала Янга свидетельствует о
недостаточной степени его участия в процессе следствия, ибо
ясно, что генерал Костер и ведущий следствие офицер,
так же как и многие другие участники следствия,
отдавали себе отчет, что убийство гражданских лиц
находится в центре внимания расследования. Генерал Янг
не предпринял должных мер по проверке принятия
удовлетворительного решения, касающегося столкновения
между пехотинцами и летчиками, столкновения, имевшего
серьезные потенциальные последствия для взаимодействия
пехотных и вертолетных подразделений в дальнейших
операциях. Он не обсуждал этот вопрос ни с командирами
авиационных частей, первоначально поднявшими его, ни
с командиром тактической группы, проводившей операцию
в Милай.
Я пришел к заключению, что генерал Янг не проявил
должного уровня инициативы и ответственности, ожи-
335
даемого от офицера генеральского ранга, занимающего
должность заместителя командира дивизии».
Проиграв юридический бой с целью избежать
наказания (хотя ему и удалось отбиться от попытки понизить
его в звании до полковника), Янг уволился в отставку
30 июня 1971 года.
28 июля 1970 года генерал Симэн объявил о решении
заслушать дела семи из двенадцати находящихся под
его юрисдикцией офицеров согласно статье XXXII.
В число этих офицеров, помимо Костера, входили:
полковник Гендерсон, подполковники Уильям Гуинн и Дэвид
Гэвин, майоры Чарльз Калхун и Фредерик Уотке, а также
капитан Деннис Джонсон. Обвинения в сокрытии
правды были сняты с двух других офицеров: полковника
Роберта Люпера, командовавшего артдивизионом в
Милай-4, и капитана Кеннета Боатмана, офицера
артиллерийской разведки роты «Браво». Слушания согласно
статье XXXII начались в Форт-Миде в августе и
проводились при закрытых дверях.
6 января 1971 года, по окончании слушаний, генерал
Симэн снял обвинения — «ввиду недостаточности
доказательств» — с четырех офицеров: Гуинна, Гэвина, Кал-
хуна и Уотке.
Двадцать два дня спустя генерал Симэн также снял
обвинения с генерала Костера — «в интересах
правосудия». В заявлении Пентагона говорилось, что Симэн
нашел «некоторые доказательства» осведомленности
Костера о смерти двадцати гражданских лиц, но пришел
к заключению о невиновности генерала в каком-либо
«умышленном нарушении служебных обязанностей».
Решение Симэна основывалось на меморандуме из четырех
страниц, направленном ему 27 октября 1970 года генерал-
майором Б. Ф. Эвансом-мл., возглавлявшим
разбирательство дела Костера согласно статье XXXII. Неизвестно,
почему Симэн ждал три месяца, прежде чем обнародовать
выводы, с которыми полностью был согласен. Все же
генерал выступил с заявлением, в котором признавалось
наличие некоторых доказательств того, что Костер не
довел должным образом информацию о гибели двадцати
гражданских лиц до сведения вышестоящих инстанций,
а также не обеспечил тщательного расследования вопроса.
Но, добавил Симэн, принимая решение снять с генерала
Костера все выдвинутые против него обвинения, он
учитывал его «долгую и честную службу», а также отсут-
336
ствие умысла в нарушении служебных обязанностей
Закрытый меморандум Эванса — как и документ,
подготовленный полковником Стаффордом по делу генерала
Янга,— истолковывал каждый спорный пункт в пользу
Костера, обвиненного в нарушении семи положений
армейских уставов.
Положение первое касалось обвинения Костера в
недонесении вышестоящему командованию о гибели
двадцати гражданских лиц, как это предусмотрено уставом.
Согласившись, что подобный рапорт должен был быть
составлен, Эванс ухитряется сказать: «Тем не менее я не
считаю генерала Костера ответственным за представление
рапорта. Для командира естественно ожидать, что это
сделает сотрудник его штабного аппарата».
Положение второе обвиняло Костера в нарушении
устава, поскольку вверенная ему дивизия не
информировала вышестоящее командование о гибели гражданских
лиц от артиллерийского огня. Эванс в своем анализе
просто игнорирует важный факт, вскрывшийся в процессе
слушаний: что артиллерийский огонь направлялся
непосредственно на деревушку Милай-4 в нарушение
международных законов. Ничего не говорит Эванс о жертвах
среди гражданского населения, ограничиваясь
замечаниями о точности артиллерийского огня: «Не было
представлено никаких доказательств, подтверждающих, что
артиллерийский огонь велся по Милай 16 марта 1968 года
ошибочно. Это была артиллерийская подготовка,
проводимая согласно плану операции».
Положение третье касается предполагаемой вины
Костера в недоведении информации о совершении тяжкого
уголовного преступления до сведения вышестоящего
командования: «Не было представлено никаких
доказательств, позволяющих судить об осведомленности
обвиняемого о совершении преступных действий либо о гибели
иностранных граждан иначе, чем при проведении боевых
операций. Таким образом, логично заключить, что
генерал Костер не может быть обвинен в недонесении данных,
которые не были ему известны».
Положения четвертое и пятое подразумевали, что
Костер знал или имел основания предполагать, что было
совершено военное преступление. Эванс обосновывал свой
отказ принимать эти обвинения на низкой достоверности
вьетнамских документов, поступающих в штабы: «С моей
точки зрения, было бы неразумным требовать от гене-
337
рала Костера рассматривать документы Вьетконга
(пропагандистская листовка) либо сообщение старосты
деревни (лейтенанту Тану из района Сонтин) как
достоверные сведения о совершении военных преступлений».
Положения шестое и седьмое касаются нарушения
Костером служебного долга, проявившегося в том, что
он не поставил под сомнение первоначальные устные
рапорты полковника Гендерсона и генерала Янга, а также
последующие письменные доклады. Вывод Эванса:
сУ генерала Костера не было никаких очевидных причин
не ожидать от двоих своих старших офицеров подробного,
точного и правдивого доклада. С моей точки зрения,
генерал Костер, приняв устный рапорт о расследовании,
сделал все, что можно требовать в подобных
обстоятельствах от командира дивизии». Эванс также заключает,
что Костер действовал разумно, приняв и последующие
письменные доклады. Правда, он признает, что «при
рассмотрении их сейчас, более чем два с половиной года
спустя, становится ясно, что генералу Костеру следовало
оспорить каждый пункт доклада. Сделай он это,
последующее расследование могло бы вскрыть истинные
факты». Здесь генерал Эванс делает далеко идущий
вывод, высказывая мнение, что Костер ничего уже не мог
предпринять, чтобы раскрыть правду о Милай-4: «Однако
уверенности в том, что именно так бы и было, нет,
поскольку, если существовал заговор с целью сокрытия
от генерала Костера истины, второе расследование
могло бы оказаться таким же бесплодным».
Эванс считает, что Костер «дал исключительно
правдивые показания. Я также полагаю,— добавляет
Эванс, подытоживая доклад,— что со стороны генерала
Костера не имело места попыток затруднить
расследование инцидента в Милай... Характеристики, приложенные
к материалам разбирательства согласно статье XXXII,
подтверждаемые годами безупречной службы, делают
маловероятным участие генерала Костера в каких-либо
бесчестных действиях или в попытках уклониться от
ответственности». Почтительная вера Эванса в искренность
Костера во многом основывалась на свидетельских
показаниях, утверждавших существование
заключительного доклада в мае 1968 года, как и утверждал во время
разбирательства генерал. Самый больной вопрос —
насколько хорошо Костер был информирован об этом
докладе — Эванс закрыл просто: «Если этот доклад
338
был «состряпан», я убежден, что генерал Костер ничего
об этом не знал».
Снятие обвинений с Костера вызвало немедленный
протест Роберта Маккрейта. Он заявил в газете «Нью-
Йорк тайме» в своем первом публичном выступлении
о Милай за десять месяцев: «Снятие генералом Симэном
обвинений с генерала Костера в настоящий момент
вызывает шок». Однако Маккрейт протестовал не против
сути принятых Симэном мер, но против выбора момента
для них. «Еще предстоит разбирать обвинения против
военнослужащих, находившихся под его (Костера)
командованием» во время инцидента, заявил юрист, имея
в виду офицеров, находящихся под следствием в Форт-
Миде. Он обвинил Симэна в нарушении «упорядоченного
хода следствия по инстанции».
Кроме Маккрейта, мало кто высказал возмущение
решением армии снять обвинения против старшего по
званию военного, связанного с бойней в Милай-4;
большинство газет, питавшихся ограниченной информацией,
получаемой от армии, расценили снятие обвинений как
само собой разумеющееся событие. И только один
конгрессмен — Сэмюэл С. Страттон, республиканец от
штата Нью-Йорк, участвовавший в работе подкомиссии,
расследовавшей дело о Сонгми,— опротестовал это
решение. Страттон, бывший офицер флота,
квалифицировал снятие обвинений с Костера как «грубейшее
нарушение военной юстиции. Снять в данной ситуации
обвинения со старшего по званию офицера,— заявил
обычно поддерживавший военных конгрессмен,—
означает вновь поднять вопрос о замазывании военными
своих грехов в целом». Затем Страттон выступил с
угрозой, которую армия хорошо поняла: «Если армейская
система либо не способна, либо не желает представить
факты и подвергнуть наказанию виновных, то я склонен
думать, что нам надлежит создать какой-то
независимый трибунал, стоящий выше и отдельно от обычного
военного трибунала, контролируемого военными
властями, для того чтобы вынести окончательное решение
по данному делу».
День спустя представитель армейского командования
объявил, что генерал Симэн действительно вынес
генералу Костеру письменное порицание, одновременно со
снятием с него обвинений — за «недоведение до сведения
информации о наличии жертв среди гражданского насе-
339
ления и за неспособность провести быстрое и тщательное
расследование обстоятельств, при которых эти жертвы
имели место». Представитель командования даже не
пытался объяснить, почему этот документ не был
обнародован днем ранее.
Еще несколько дней спустя Страттон представил
коллегам-конгрессменам объемистое досье о
предположительно совершенных Костером нарушениях служебного
долга, составленное на основании прошедшего цензуру
доклада подкомиссии, расследовавшей события в Сонгми,
опубликованного предыдущим июлем. И опять не многие
газеты уделили внимание обвинениям, выдвинутым
конгрессменом. «Боюсь,— заявил Страттон в палате
представителей,— что это как раз тот случай, когда законы
пресловутого ОВВУ взяли верх над интересами
благополучия нации и фундаментальным правом американского
народа знать правду: неважно, что грозит армии или
стране, важно уберечь своих платных сотрудников от
неприятностей и беспокойства». Конгрессмен также
поставил под вопрос избрание момента для предания гласности
письменного порицания, вынесенного Костеру. «Трудно
не задать вопрос, почему об этом взыскании не было
объявлено одновременно с сообщением о снятии
обвинений,— заявил Страттон.— Зачем было создавать
впечатление, что генерал Костер вышел сухим из воды? Может,
армия хотела подождать и проверить, как среагирует
общественность на попытку спустить все дело на
тормозах?»
Впоследствии Костер был в административном порядке
понижен в звании до бригадного генерала и лишен
ордена «За безупречную службу», что безрезультатно
пытался обжаловать. 1 августа 1971 года он вступил
в новую должность, которая была равносильна отставке,—
заместителя начальника группы испытаний и оценки на
Аберлинском полигоне в штате Мэриленд. Заявление
министра армии Ризора, оправдывающее принятые
против Костера административные меры, резко расходится
с аргументами генерала Эванса, высказанными в пользу
прекращения дела Костера, особенно в области оценки
ответственности командира. Ризор писал:
«Генералу Костеру было либо известно
непосредственно, либо достаточно легко доступно из оперативных
и иных документов дивизии огромное количество
сведений о том, что в Милай, по всей вероятности, произошла
340
трагедия немалых масштабов. Но генерал не использовал
возможностей следственного аппарата дивизии ни для
проведения расследования, ни для проверки тех
расследований, которые были проведены. Таким образом, он
принял на себя гораздо больший груз личной
ответственности, чем это могло быть.
Совершенно очевидно, что в качестве командира
дивизии генерал Костер должен нести ответственность
за проверку сведений, имевшихся у него о Милай,
поскольку данные сведения указывали на возможную
вину находящихся под его командованием подразделений
в совершении серьезных проступков. Любой иной вывод
в конечном счете сводит на нет всю концепцию
ответственности командного состава, неотделимую от службы
на высших руководящих постах».
20 февраля 1971 года командование 1-й армии
завершило "'рассмотрение обвинений, выдвинутые—год назад,
объявив, что полковник Оран Гендерсон предстанет
перед судом военного трибунала за участие в сокрытии
правды о Милай-4. В то же время генерал-лейтенант
Симэн снял все обвинения с офицера разведки капитана
Денниса Джонсона за недостаточностью улик. Таким
образом, Гендерсон остался единственным из
четырнадцати первоначально обвиненных офицеров, которому
предстояло предстать перед судом военного трибунала .
Военные защитники полковника выставляли своего
клиента козлом отпущения и заявляли, что он избежал
бы обвинений, не начни конгрессмен Страттон возражать
1 В августе 1971 года министр армии Роберт Ф. Фрелке, за месяц
до того сменивший Ризора, вынес административные наказания
пяти нз обвиненных офицеров. В случае отклонения их апелляции
полковники Неле Парсон и Роберт Люпер лишались орденов «За
заслуги» и им объявлялись письменные выговоры; майор Чарльз Калхун
был исключен из списков майоров, приемлемых для производства
в подполковники; капитан Деннис Джонсон получил письменный
выговор. Личность пятого офицера осталась неустановленной. Фрелке
также вынес административные наказания четверым солдатам роты
«Чарли», с которых, как и с офицеров, были сняты обвинения в
совершении уголовных преступлении. Всем четверым — сержантам Кеннету
Ходжесу и Иезекилю Торресу, капралу Кеннету Шилю и рядовому
Максу Хатсону — было объявлено, что все они будут с почестями
уволены в запас по усмотрению правительства. Подробности о
принятых Фрелке мерах стали достоянием Ассошиэйтед Пресс и были
опубликованы 18 августа 1971 года. Однако фамилиями офицеров
агентство не располагало, хотя получило и опубликовало имена
и адреса солдат.
341
против снятия обвинений с Костера. (Один источник
сообщил мне, что за пять месяцев слушаний по делу
Гендерсона согласно статье XXXII в Форт-Миде было
взято семь тысяч страниц свидетельских показаний'.)
По завершении слушаний в январе — как раз перед тем,
как в палате представителей выступил со своими
нападками Страттон,— ведущий следствие офицер снял два
из четырех выдвинутых против Гендерсона обвинений,
но обнаружил доказательства, подтверждающие
обвинения в нарушении служебного долга и даче ложных
показаний. По данным источников, этот офицер не
рекомендовал передачу дела военному трибуналу,
предложив вместо этого подвергнуть Гендерсона
неюридическому наказанию по статье XV.
Однако вскоре после того, как министр армии Ризор
начал принимать меры по вынесению административного
наказания Костеру и Янгу, генерал Симэн объявил
о своем решении передать дело военному трибуналу.
Но Страттон, в то время основной критик методов
ведения армией дел по обвинению в сокрытии правды,
не был умиротворен ни административными мерами, ни
предъявлением обвинений Гендерсону. Страттон так и не
мог добиться широкого освещения этих событий печатью
и 8 марта 1971 года написал статью для редакционной
страницы «Нью-Йорк тайме», в которой язвительно
заметил, что письменное порицание «дает одно очевидное
преимущество по сравнению с военным трибуналом:
благодаря ему дело генерала Костера не попало в газеты».
Однако, как ни важна была публичная критика
Страттоном образа действия армейских властей, она
все же не затрагивала коренного вопроса об армии как
об организации, способной скрывать бойни типа Милай-4
и оставлять без внимания бойни типа Михе-4.
Не дал ответа на этот вопрос и военный суд над
полковником Гендерсоном, начавшийся 23 августа 1971 года
в Форт-Миде и быстро увязший в дискуссиях вокруг
1 Свидетельские показания, полученные во время заседаний
комиссии Пирса, слушаний по статье XXXII и заседаний военных
трибуналов по делам Милай и Михе, составили более 100 000 страниц.
Ряд опубликованных материалов комиссии Пирса включал
дорогостоящие репродукции цветных фотографий. Несмотря на все собранные
доказательства, конечный результат, по состоянию на осень 1971 года,
составил: один приговор и несколько административных шлепков
по рукам. Стоимость всех этих мероприятий так и осталась
неизвестной общественности.
342
технических деталей, в частности вокруг
достоверности показаний полковника комиссии Пирса. Защитники
Гендерсона также затратили целые недели, пытаясь
установить факт проведения расследования Баркером в мае
1968 года, хотя комиссия Пирса явно установила
подложность этого документа. Процесс, затянувшийся на всю
осень, характеризовался стремлением обвиняемого
выставить себя в выгодном свете и не очень откровенными
показаниями. По меньшей мере два основных
свидетеля отказались от ранее данных показаний. Уоррент-
офицер Хью Томпсон, к концу 1971 года дослужившийся
уже до капитана, заявил, что не уверен более в том,
что информировал полковника Гендерсона о Милай-4
два дня спустя после резни. (Давая показания перед
комиссией Пирса, Гендерсон, как и другие, указал на
летчика как на человека, который его информировал.)
Уоррент-офицер Джерри Калверхауз, также
повышенный в звании до капитана, заявил трибуналу, что не может
более сказать, «был ли Гендерсон или нет» тем человеком,
которому он делал доклад 18 марта 1968 года. Третьему
летчику, информировавшему Гендерсона о Милай-4, не
было разрешено произвести его опознание в зале
трибунала. 17 декабря 1971 года Гендерсон был признан
невиновным в предъявленных обвинениях в сокрытии правды.
Маловероятно, что в Южном Вьетнаме имели место
другие зверства такого масштаба и характера, как
в Милай-4, но сколько там было Михе-4?
К осени 1971 года резня, учиненная ротой «Браво»,
была забыта, хотя в этом преступлении и таилась
важнейшая истина об американской армии. Утром
16 марта 1968 года солдаты роты «Браво» безнаказанно
истребили от сорока до ста мирных вьетнамских граждан.
Не было никакого лейтенанта Колли, приказавшего
солдатам «прикончить их». Не было столкновения с пилотом
вертолета, не было воплей протеста по радиосвязи.
Милай-4 был случаем, из ряда вон выходящим,
но не единственным. Что же до Михе-4, то это было
всего лишь одно из многих зверств, и это зверство было
скрыто — после того как око выплыло на свет в ходе
расследования зверств в Милай-4 — генерал-лейтенантом
и министром армии, не желающим или не способным
понять его истинное значение. В армии даже для лучших
генералов и высших гражданских руководителей
наступает момент, когда они, подобно вьетнамцам из Милай
и Михе, становятся жертвами.
Малькольм БРАУН
АМЕРИКА
И НОВЫЙ ЛИИ ВОИНЫ
Самим себе мы всегда кажемся «хорошими парнями».
Мы, американцы, растим детей в мире и любви.
Нам кажется, что мы пользуемся благами демократии.
Мы полагаем, что создали самое счастливое, самое
процветающее общество на земле.
И может быть, самое важное — мы убеждены в том, что
добродетельны.
Мы щедро делимся нашими богатствами, помогая
несчастным во всем мире. Мы проливаем кровь и кладем
жизни, чтобы помочь остальным жить так же, как живем
мы.
Мы одеваем нашу молодежь в военную форму и
посылаем ее уничтожать врагов нашего образа жизни и
спасать землю от зла.
Мы убеждены, что нас нельзя упрекнуть в
беспричинных убийствах невинных людей, в пытках пленных, в
негалантном отношении к женщинам, в трусости, в том, что
мы делаем бедняков другой страны еще беднее.
Все эти вещи творят коварные иностранцы. Ведь это
немцы создавали лагеря смерти, а марши смерти
устраивали японцы.
Увы, американцы такие же люди, как и все
остальные. У нас есть свое величие. Но в нас прячется
и животное.
Те, кто утверждает, что наши солдаты никогда не
испытывают жажды крови, не знают, что такое война. Я
нагляделся на нашу кровожадность во Вьетнаме.
Война в джунглях точит тело и душу и романтично
выглядит только по телевизору. Джунгли во Вьетнаме
такие, что три метра в сторону — и можешь отбиться от
своей части. Вьющиеся стебли цепляются за ноги, за
винтовку, за обмундирование, идешь до ужаса медленно —
344
иногда меньше четверти мил» за час. Сквозь одежду
глубоко в тело вонзаются длинные, до пяти сантиметров,
колючки. Почти на каждой ветке над головой кишат
маленькие красные муравьи, прозванные «огненными».
Их укус действует как ожог. Стоит задеть ветку, и муравьи
сыплются за шиворот, расползаясь по шее и груди.
Не спасает даже застегнутый наглухо воротник. Глубокие
речки в джунглях полны пиявок, которые заползают в
одежду и накрепко присасываются к телу. С земли
в джунглях поднимается удушающий жар, и ветер редко
пробивается сквозь густые заросли. То и дело льет
дождь. Солдаты промокают до нитки, амуниция и техника
покрываются плесенью и ржавеют.
Солдаты редко тащат с собой надувной матрас или
палатку. И утром они просыпаются под дождем с
побелевшей и сморщенной от сырости кожей, а из-за грибковых
инфекций на ногах начинают сходить ногти.
Во время долгих переходов в джунглях я часто видел,
как солдат рвало кровью. Страшный бич — малярия. Во
Вьетнаме есть один-два вида ее возбудителя, против
которых бесполезны лекарства, которые выдают солдатам
в таких районах. От малярии даже умирают.
Во время боевых операций даже ночь не приносит
облегчения. Солдаты просто располагаются на привал
в зарослях, выставляют посты и пережидают ночь.
Из пластмассовых бочонков, которые доставляют
вертолеты, разливают по флягам воду, открывают консервы.
Если есть горючая пластиковая взрывчатка, то консервы
разогревают, а если нет, то приходится довольствоваться
холодными макаронами и тефтелями или чем-нибудь
в этом роде.
В джунглях несут потери и безо всяких военных
действий. Но у вьетнамцев есть еще и снайперы, и мины-
ловушки, и обычные мины, и еще несчетное число
всяких способов испортить американцам жизнь.
Когда наши солдаты колоннами продираются сквозь
джунгли, никаких сил на разговоры уже не остается.
Словно скованные цепью каторжники, бредут парни с
застывшими лицами, под маскировочную сетку на касках
засунуты пачки сигарет и свернутая туалетная бумага.
Нервы напряжены до предела, и случись какая ссора —
ничего хорошего не жди. Капитан рычит на сержантов,
те — на солдат, а солдатам остается лишь материться себе
под нос.
345
Жарким январским днем 1966 года 2-я рота 2-го
батальона 502-й бригады 101-й воздушно-десантной
дивизии «Клекочущие орлы> тяжело продиралась сквозь
джунгли к северу от Сайгона.
Время от времени солдаты натыкались на огромные
воронки от тысячефунтовых бомб, сброшенных с «Б-52».
Деревья вокруг были вырваны с корнем, и идти
эти 15—20 метров было гораздо легче. Только
воронки и нарушали мучительную зеленую монотонность
джунглей.
Издалека доносились звуки бомбежки, едва слышимые
за нежным пением лесных птиц.
Были, конечно, и следы человека. Иногда колонна
набредала на небольшие шалаши с мешками риса,
явно оставленные партизанами. Солдаты обливали их
бензином и поджигали. Попадались и мины-ловушки. Одна
была устроена так, что срабатывала от прикосновения
к подвешенной на ветке мертвой цесарке; идея,
по-видимому, заключалась в том, что кто-нибудь польстится на
вкусную птицу.
У каждого солдата на поясе висел полученный
в хозяйственной службе топорик. Они не входят в обычную
боевую экипировку, да и в джунглях они не так полезны,
как мачете. Однако командир батальона подполковник
Генри Эмерсон решил назвать свое подразделение
«Томагавк» и соответственно его экипировать. Он даже засылал
в районы расположения врага «команды томагавщиков»
по три-четыре человека. Первому, кто убьет вьетконговца
топориком, Эмерсон обещал выставить ящик
шотландского виски.
Не подозревая об опасности, колонна двигалась вперед.
Внезапно солдаты заметили, что сбоку произошло какое-то
быстрое движение, и тут же под ногами у них оказалась
китайская граната с тлеющим в деревянной ручке
запалом. Через одну-две секунды раздался оглушительный
взрыв, и по густой листве, по стволам защелкали
разлетавшиеся осколки. Четверо были ранены, один
закричал от боли.
Вся колонна как будто закипела от ненависти,
поднялась стрельба. В чаще убегал какой-то человек. Он уже
почти скрылся из виду, когда кто-то из солдат бросился за
ним вдогонку, на ходу выхватывая из чехла топорик
с черной ручкой. Никто не произнес ни слова. Через
минуту все было кончено. Американец вернулся. Он
346
держал голову за волосы, глаза у нее были закрыты.
Безо всякого выражения на лице он поднял в руке
голову, с нее на мох и гниль капала кровь. Солдаты
по очереди брали голову, потряхивали добычу и
фотографировались, но потом подошел офицер и приказал
закопать ее.
Командовал этой ротой капитан Томас Тейлор —
сын генерала Максуэлла Д. Тейлора, бывшего
председателя комитета начальников штабов США, а затем
американского посла во Вьетнаме. Молодой Тейлор,
озабоченный тем, что журналисты были свидетелями
этой сцены, отрезал: «Надеюсь» вы правильно поймете,
что произошло. Этот вьет бросил гранату в моих солдат,
и его прикончили в бою».
Естественно, он был прав.
В нескольких сотнях метров рвало видевшего все это
солдата. «Боже ж ты мой, слава всевышнему, мне здесь
всего сорок девять дней осталось. Мы превращаемся в
зверей».
И он тоже был прав.
Американцы обычно не пытают пленных, и во Вьетнаме
они научились отводить глаза, когда этим неприятным
делом занимались их союзники. Вообще-то Вьетнам — это,
пожалуй, первая в истории война, в которой американцы
не держали пленных. Захваченные вьетконговцы просто
передавались сайгонским властям.
Мы считаем, что ведем себя с женщинами изысканно и
вежливо, но вопреки этому супруга генерала (бывшего
премьера) Нгуен Као Ки не раз была вынуждена
публично пожаловаться на поведение американских
солдат в Сайгоне. Сенатор Фулбрайт однажды назвал
Сайгон американским борделем, и, на мой взгляд,
такое замечание вполне уместно. Вьетнамцы не могут
спокойно глядеть на то, как их женщины путаются с
американцами, и порой дело доходит до кровопролития. Но
даже когда обходится без крайностей, атмосфера нередко
бывает довольно напряженной.
Например, близкая родственница бывшего директора
иммиграционной службы сайгонского министерства
внутренних дел сблизилась с морским пехотинцем из
охраны американского посольства. Она забеременела, но
когда родился ребенок, американец сказал, что ему очень
жаль, но, скорее всего, его матери вряд ли захочется иметь
невестку-вьетнамку. Можно представить, что после этого
347
министерство внутренних дел не сделалось более
расположенным к американцам.
Нам приятно представлять наших защитников людьми
со стальными нервами, которые не откроют огонь, пока
не различат цвет глаз у противника, а уж затем бьют без
промаха.
Утром в понедельник 9 мая 1966 года в безоблачном
небе над Сайгоном взошло, как обычно, палящее солнце.
От огромных дорожных пробок в центре столицы
поднимались клубы выхлопных газов и пыли. Улицы были
забиты военными и гражданскими грузовиками,
легковыми автомобилями, мотоциклами и мотороллерами.
В местах особого скопления транспорта даже узкие
промежутки между машинами заполнялись
велосипедистами, спешившими на работу.
Наискосок от здания Национального собрания (так как
никакого «собрания» не было, оно было переоборудовано
в картинную галерею) в центре города располагался отель
«Бринк» — массивное Г-образное пятиэтажное здание, где
квартировали американские старшие офицеры.
Еще накануне рождества 1964 года вьетконговцы
устроили в отеле взрыв, и после этого здание круглые
сутки находилось под охраной американской военной
полиции, расположенной в ключевых местах, прожекторов
и колючей проволоки. Существовал также строгий запрет
вьетнамцам подходить к зданию.
Несмотря ни на что, этот район города обычно
запружен народом. На улице, идущей мимо «Бринка»
к порту, как грибы повырастали бесчисленные бары,
портняжные мастерские и сувенирные лавки.
В тот день 9 мая часы показывали 6.30 утра, когда на
тротуаре перед мастерской «Сюзи Вон» примерно в ста
метрах от отеля взорвалась небольшая бомба. В ателье
вышибло витрину, но никто не пострадал. Человека,
который бросил бомбу, и след простыл.
Но американцы переполошились. В тот момент мимо
«Бринка» проезжал гражданский грузовик, который вез на
работу в порт докеров — мужчин и женщин. Охранявшие
«Бринк» военные полицейские говорили потом, что
приняли людей в грузовике за партизан. Они изрешетили
машину и ее пассажиров из пулемета.
Стрельба взбудоражила другой пост военной полиции,
расположенный чуть дальше по улице. Ошибочно
посчитав, что стреляют в них, солдаты открыли ответный
348
огонь. Вспыхнула перестрелка. Из отеля начали выбегать
жившие там офицеры, некоторые прямо в трусах,
беспорядочно паля из пистолетов и карабинов. Редко
увидишь такую разболтанность и трусость.
Сражение утихло, лишь когда американцы поняли
наконец, что поблизости нет ни единого партизана, а всю
стрельбу затеяли они сами. В это утро пятеро
вьетнамцев погибли (в основном рабочие в грузовике)
и было ранено двадцать шесть вьетнамцев и восемь
американцев.
Заместитель посла США Уильям Портер срочно
принес извинения премьеру Ки и пообещал возместить
ущерб пострадавшим в ходе инцидента. Семья каждого
из погибших вьетнамцев получила от правительства
Соединенных Штатов по одному одеялу, по москитной
сетке, по мешку риса и примерно по десять долларов
наличными. В Сайгоне так дороги места для могил на
хороших кладбищах, что часто их не покупают, а
арендуют на несколько лет. Когда срок аренды истекает,
кости выкапывают и перевозят в другое место. Десять
долларов не хватит на аренду даже самой плохонькой могилы.
Мы считаем себя честными людьми, но, куда бы мы
ни прибыли, там сразу возникают черные рынки, и мы
развращаем общество, с которым соприкасаемся.
Однажды разыгрался крупный скандал, в котором
оказался замешанным даже бывший директор сети
американских гарнизонных магазинов во Вьетнаме капитан
Арчи Кунце. Этот довольно приятный человек,
называвший себя «мэром Сайгона», в 1966 году предстал перед
военным трибуналом. Он был оправдан по всем пунктам
официального обвинения, но из списков перспективного
повышения офицеров ВМС его вычеркнули.
На вьетнамский черный рынок ежемесячно поступают
сотни тонн американских товаров, потоком льется
американская контрабандная валюта. Существует даже курс
на американскую валюту, покупаемую за американские же
деньги. Во Вьетнаме военнослужащие жалованье
получают военными сертификатами, которые можно
отоваривать в гарнизонных магазинах и других армейских
учреждениях. Иметь у себя обычные американские
деньги запрещено. Но те, кто ухитряется разжиться
«зелененькими» (получив, например, по почте из Штатов),
могут за обычный доллар получить у местных менял один
с четвертью доллар в сертификатах. На дополнительные
349
сертификаты народ покупает в гарнизонной лавке разные
товары, которые потом с выгодой сбываются на черном
рынке.
США платят жалованье и южнокорейским
военнослужащим, присланным воевать в Южном Вьетнаме. Они
тоже имеют право пользоваться армейскими магазинами
и тем самым могут подзаработать на черном рынке.
Некоторые вьетнамцы получают неслыханные барыши
на самых разных махинациях, особенно на сделках по
продаже недвижимости американцам, которым нужны
участки для военных объектов.
1 августа 1967 года в одной из комиссий сената
США по расследованиям были обнародованы факты
о деятельности процветающего бизнесмена Ла Тхань
Нге. Он получил от каких-то американских
фармацевтических фирм незаконные выплаты на сумму в
896 258 долларов. Нге, кстати, был членом кабинета и
министром в правительстве премьера Ки, которое
поддерживала Америка.
Один вьетнамский бизнесмен рассказывал мне, что
считает американцев самой продажной нацией из всех,
с кем он имел дело. «За пятьдесят долларов,— сказал
он,— американский солдат мать родную продаст».
Будучи сам бывшим солдатом, я решительно отвергаю
такое мнение. К сожалению, однако, оно довольно широко
распространено во Вьетнаме.
Я привожу все эти примеры не для того, чтобы
попотчевать читателя антиамериканской риторикой.
Просто мне хочется показать, что наше этноцентричное мнение
о себе, наше самолюбование отнюдь не обязательно
разделяет остальной мир. Для какого-нибудь вьетнамца
соседство полумиллионной американской армии может и
не быть самой большой радостью в жизни.
Некоторые вьетнамцы действительно наживаются, но
это проститутки, дельцы, гангстеры и прочее дна Для
большинства же вьетнамцев присутствие американских
войск — настоящее бедствие, порча нравов. Войне не
видно конца, и многие из моих знакомых, даже
антикоммунистически настроенные, говорили: «Вот от
американцев отделаемся, тогда и Вьетконгом можно заняться».
Мы были не готовы к этой войне.
Мы так привыкли потакать своим капризам и в нас так
укоренилась жажда наживы, что мы принесли их с собой
и во Вьетнам. Солдаты 2-й бригады 9-й пехотной дивизии
350
день за днем вели тяжелейшие операции посреди рисовых
полей, но после боев возвращались в плавучую казарму,
прозванную «Пентхаусом», в одном из рукавов дельты
Меконга.
В «Пентхаусе» был магазин, зубной врач,
парикмахерская, закусочная и так далее. Повсюду стояли
кондиционеры.
Нет ничего плохого в желании дать американским
солдатам как можно больше удобств. Но ведь «Пентхаус»
видят и солдаты южновьетнамского правительства. Они-
то не могут ничего приобрести в американском армейском
магазине, да и сами во многом стали гражданами
второго сорта в собственной стране. И не удивительно
поэтому, что вьетконговская пропаганда по разложению
войск противника приносит такие ощутимые результаты.
Но это далеко не самое главное в нашей общей
неподготовленности к «новому образу войны».
Как нация, мы, американцы, за редким исключением,
безразличны к тому, что происходит в остальном мире.
Мы живо интересуемся Азией, лишь когда там воюют
наши войска.
Наши дети понемногу учат в школах какой-нибудь
иностранный язык. Обычно это французский или
испанский, иногда — немецкий, изредка — русский. И лишь
крошечное число школ предлагает курсы азиатских
языков. По истории американские школьники изучают
Америку и Европу, но не Азию. В лучшем случае обычный
выпускник средней школы может припомнить, что давным-
давно по Азии путешествовал Марко Поло и видел, как
местные жители изготовляют порох и пользуются углем.
Китайские и вьетнамские дети тоже мало что знают о
нас, но ведь они-то не воюют в нашей стране.
Наше непонимание того, что происходит в Азии,
нанесло ущерб нашим вооруженным силам и
разведслужбам, нашему конгрессу и Белому дому. Большую
часть своих полномочий, касающихся ведения внешней
политики в Азии, конгресс уступил сейчас исполнительной
власти. У меня сложилось впечатление, что многие
конгрессмены разделяют свойственное рядовым
американцам непонимание Азии и чувствуют себя гораздо
спокойнее, позволяя госдепартаменту заниматься деталями.
Однажды во время визита бывшего вице-президента
Никсона во Вьетнам я спросил его, как, по его мнению,
американцы относятся к этой войне. К тому времени я уже
351
довольно долго не жил в Штатах. Его ответ свелся
к следующему:
«Я не уверен, но мне кажется, что во время таких
кризисов американцы всегда держат равнение на флаг».
Это замечание показалось мне точным, но в то же время
внушило тревогу. Едва ли кто лелеет мысль, что
граждане нашей страны имеют ощутимое влияние на
определение внешней политики. Но особенно меня пугает
отсутствие у американцев собственного мнения относительно
этих проблем.
Наше невежество и равнодушие сделали из нас за
рубежом поверженного Голиафа. Наши разведслужбы
слишком часто полагаются на сообщения разведок наших
«дружественных союзников», которые порой более
заинтересованы в том, чтобы подсунуть нам неверную
информацию, нежели истину. В прессе и по телевидению мы видим
такие картины войны, которые лишь отчасти соответствуют
реальности. Наши телеэкраны населены «хорошими» и
«плохими» парнями. Даже когда на экране действительно
погибают наши морские пехотинцы, комментаторы
подгоняют их гибель под принятый шаблон. В наших домах
с кондиционерами Вьетнам предстает перед нами во всем
многоцветье, но без вони гниющей плоти, без изнеможения,
боли, безнадежности, ужаса и, главное, без утраченного
нами достоинства.
«Война по телевизору» дает такое же
приятно-щекочущее ощущение, как и катание на «американских
горках»,— легкий страх, но без реальной опасности. Война
видится нам спортом, и не только потому, что именно
таким образом она подается телевидением и прессой.
Даже наши ветераны говорят о ней языком спорта.
С мастер-сержантом морской пехоты Джорджем Хер-
том из Бристоля, штат Виргиния, я познакомился, когда
он служил инструктором в школе снайперов морской
пехоты недалеко от Дананга. Курсанты оттачивали
мастерство на живых человеческих мишенях, а Херт учил их
всем элементам снайперского искусства. «Я всегда считал
войну чем-то вроде состязания, и в нем необходимо
спортивное мастерство,— сказал он.— Кстати, мне
кажется, так думает большинство солдат. От этого никуда не
денешься. Либо ты убиваешь, либо тебя».
Но вьетконговцы отнюдь не спортсмены. Ради победы
они готовы на все. И они, вне всякого сомнения, страстно
ненавидят врага.
352
А мы дома, в Штатах, по-прежнему заняты самими
собой, но не Вьетнамом.
В недрах Америки бурлит какая-то революция — нечто
такое, что побудило Никсона сказать: «Как же произошло,
что всего лишь на несколько быстротечных лет нация,
обладающая такой свободой и таким материальным
изобилием, стала одной из наиболее разнузданных
и пронизанных насилием в истории свободных народов?»
(Ричард Никсон. «Что случилось с Америкой?».— «Ридерс
дайджест», 26 сентября 1967 года.)
Невозможно, конечно, отрицать распространение
насилия в Соединенных Штатах. За пять лет во Вьетнаме я
был дважды ранен в бою, но меня ни разу не грабили.
За шесть месяцев в Соединенных Штатах мою квартиру
ограбили дважды (нью-йоркские детективы посоветовали
жене купить ружье), в другом районе квартиру моего
отца сначала ограбили, а через несколько недель ее
закидала самодельными бомбами банда подростков. Среди
моих близких знакомых есть несколько женщин, которых
изнасиловали прямо в их собственных домах.
Когда мы так озабочены нашими собственными
проблемами, мне кажется неразумным посылать легионы
за рубеж в надежде, что они смогут чего-то добиться
в такой войне, как вьетнамская.
...В первом издании этой книги, вышедшем три года
назад, я высказал мнение, что перед Америкой-
встала новая и опасная проблема, с которой ей придется
столкнуться во многих частях света, а не только во
Вьетнаме.
Я отмечал, что американцам нужно глубоко
проанализировать новый тип войны во Вьетнаме, и не жалеть при
этом сил, так как вьетнамская война может оказаться
предвестником многих аналогичных конфликтов в
будущем.
Я по-прежнему считаю, что Вьетнам — это своего рода
предвестник. То там, то здесь в разных частях света
вспыхивают ограниченные войны, в которых партизаны
строят свои кампании по меньшей мере отчасти по образцу
Вьетконга. Боливия, например, видится мне вероятным
разгорающимся Вьетнамом, хотя нужно, конечно,
учитывать важные местные особенности.
Но я уже не верю в способность Америки освоить
этот тип войны, во всяком случае в условиях
господствующей ныне у нас в стране психологии. У меня сложилось
12 Зак. 556
353
впечатление, что мы причиняем тем, кого считаем
союзниками во Вьетнаме, и самим себе много вреда.
Во второй половине 60-х годов XX века слово
«изоляционизм» зазвучало как-то по-особому привлекательно.
19 октября 1966 года сенатор Джордж Д. Эйкен, старый
республиканец — ворчун из Вермонта, предложил, чтобы
Соединенные Штаты просто объявили, что война во
Вьетнаме выиграна, и постепенно свели ее на нет.
Это, возможно, в конце концов, единственный
достойный ответ на весь ужас нового лика войны.
Майкл АРЛЕН
ВОЯНА В ГОСТИНОЙ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ И ПРЕССА ВО ВЬЕТНАМЕ,
ИЛИ ДА, Я ВАС ОТЛИЧНО СЛЫШУ.
ТАК О ЧЕМ ВЫ ГОВОРИЛИ!
Сайгон
Да, конечно, каучук, все тот же каучук с крупных
французских плантаций на Юге, с центральных
плоскогорий, идущий на изготовление автомобильных покрышек
фирмы «Мишлен» и других фирм свободного мира,
но, помимо этого, пожалуй, крупнейшим и наиболее
ценным предметом экспорта из Южного Вьетнама
является в настоящее время продукция американской
журналистики. Она выплескивается каждый день из Сайгона
потоком телефильмов, фотографий и слов: фильмы и
фотографии направляются ежедневными рейсами реактивных
самолетов из аэропорта Таншоннят на восток, на
телеретрансляторы Токио и Сан-Франциско, а слова несутся
по новому кабелю, связавшему Сайгон, Гуам, Гонолулу и
Западное побережье Соединенных Штатов. Причем при
телефонном разговоре между Сайгоном и Чикаго
слышимость обычно лучше, чем при разговоре между двумя
номерами одного и того же сайгонского отеля. Генерал
Уильям Уэстморленд имеет в своем распоряжении
телефон, который позволяет ему мгновенно связаться с
главнокомандующим в Вашингтоне *. Симмонс Фэнтрес из
«Тайм — Лайф» располагает телефоном, который
позволяет ему мгновенно связаться с информационным отделом
«Тайм — Лайф» в Рокфеллер-центре. Большинство
информационных бюро несколько отстают. Практически многие
из них, в том числе и «Тайме», арендуют линию агентства
Рейтер. Репортеры «Таимо тащатся после ужина в свою
маленькую конторку на улице Тудо, чтобы сдать три-
четыре ежедневные заметки до часа или двух ночи
(что соответствует часу или двум пополудни предыдущего
дня по нью-йоркскому времени), чтобы, таким образом,
успеть со своим материалом к утреннему выпуску газеты.
Военные связываются друг с другом с помощью полевых
12*
355
радиостанций, частных телефонов и телетайпов.
Посольство, ЦРУ, разведотдел американской армии и так далее
обмениваются информацией в рамках своих «миссий».
И все они, когда пожелают, передают информацию
журналистам, журналисты — редакторам, редакторы —
публике; сотни телетайпов и телексов трещат и трещат по всей
залитой кровью стране, здесь работает добрых пять сотен
журналистов (и, между прочим, работают они в
большинстве своем довольно напряженно). Ну и к чему все это?
А к тому, чтобы в одиннадцать тридцать вечера
некий Фред сгорбился в своем кресле, уперся
напряженным взглядом в пол и, несколько выдвинув вперед
подбородок, с глубокомысленным видом обращаясь куда-
то в сторону своего левого ботинка, изрек: «Да, надо
сказать, м-м, ситуация поистине, э — э... очень...
сложная».
Даже после краткого пребывания во Вьетнаме кое-что
кажется достаточно ясным. Во-первых, несмотря на то
что в каком-то смысле трудно избежать определения
«сложная» применительно к ситуации во Вьетнаме (если
уж на то пошло, то сложна и клеточная структура
аризонской древесной лягушки), надо признать, что слово
«сложный» стало одним из наших современных
талисманов, чего им не коснись — все обращается в нечто
священное и непостижимое, и, вероятно, скоро интерес
к предмету и его важность будет определяться его
сложностью, а не сущностью. Ситуация во Вьетнаме
складывается из множества различных элементов, в том
числе и таких, на первый взгляд несоизмеримых,
как политика местных властей, положение
южновьетнамских крестьян, конгресс Соединенных Штатов, огневая
мощь и военная тактика, политика на местах и коррупция,
но каждый их этих элементов в отдельности относительно
прост или по крайней мере постижим. Никто никогда
не будет знать всего о политике в Соединенных Штатах.
Никто никогда не будет знать всего о политике во
Вьетнаме. И все же, если бы кто-нибудь выбрал время и взял
на себя труд связаться с некоторыми надежными людьми
из числа вьетнамских официальных лиц и спросил бы у них,
что же все-таки происходит в результате такой-то
расстановки сил или что произойдет в результате таких-то
перемещений в составе кабинета министров, то ему
рассказали бы достаточно для того, чтобы он смог провести
конкретный и полезный анализ предмета, и тогда он не был
356
бы поражен тем, например, что после недавних выборов во
Вьетнаме буддисты вышли на улицы, студенты
подверглись избиениям, а Ассамблея угрожала отвергнуть
выборы. А между тем большинство американских
телекомпаний и газет было этим поражено. Застигнутые
врасплох, они суетливо пытались объяснить в конце сентября
то, что происходило уже более месяца и указывало на
возможность подобной вспышки (а большей частью и не
пытались объяснить, а давали лишь голые факты или
проводили время в беготне, пытаясь эти факты
проиллюстрировать), а люди между тем выслушивали еще одно
неудобоваримое, наспех состряпанное объяснение, кивали
головой и бурчали: «А я что говорил? Еще одна
запутавшаяся южноамериканская республика».
Может быть, Вьетнам — это и тема номер один, но
журналистам она. дается нелегко. Практически ни один
из них не говорит по-вьетнамски. Большинство газетчиков
и телерепортеров сейчас приезжают во Вьетнам на шесть
месяцев. Этого времени едва хватает на то, чтобы
выяснить, кто руководитель в провинциальном городе Биндин,
и уж вряд ли кому-нибудь придет в голову спросить у них,
как там обстоят дела с коррупцией, не говоря уже о том,
что большая часть этого срока уходит на погоню
за вьетнамскими огнетушителями для своей нью-йоркской
конторы. Когда кто-нибудь нападает на тему для
репортажа, как, например, Си-би-эс напала на тему Контхиена
в начале сентября, все начинают за ней охотиться:
телеграфные агентства, газеты, соперничающие
радиокомпании. Руководители сайгонских информационных
бюро получают «молнии» из Нью-Йорка с требованием
обойти конкурентов. (Все это, по существу, похоже на то,
как газеты и телевидение освещают какую-нибудь
неожиданно обрушившуюся новость в Штатах.) Но вся
беда в том, что во Вьетнаме редко случаются сенсации.
Американские газеты имеют зарезервированное место для
новостей, у телевидения существуют регулярные
информационные выпуски, и журналисты здесь, во Вьетнаме,
пытаются давать туда хоть что-нибудь, и что-нибудь
обычно есть, что-нибудь в принципе подходящее и
временами интересное (к примеру, Р. У. Эппл в августе этого
года опубликовал прекрасный большой материал в
«Тайме» о «патовой» ситуации в войне). Но иногда
попадается и просто нелепый материал (как нелепы,
например, напыщенные сообщения о потерях противника,
357
основанные на данных, полученных
летчиком-наблюдателем с высоты каких-нибудь пары тысяч футов), и вот
начинается болтовня в газетах и на телеэкранах, хотя
часто и говорить-то не о чем. А когда что-то на
самом деле случается, то в такое время и в таком месте,
что не может восприниматься как нечто достойное
опубликования в обычном понимании. И у людей появляется
ощущение, что они не получают подлинной картины
происходящего. (Едва ли не первый вопрос, который
задают человеку, возвратившемуся из Вьетнама: «Так что
же там происходит на самом деле?») И в целом люди
правы, а обратить внимание на неспособность прессы
дать реальную картину происходящего во Вьетнаме
заставляет то, что эта война не такой уж далекий от нас
феномен, как, похоже, думают многие. Говорят: «Это не
вторая мировая война». Да, действительно: ни какой-то
определенной линии фронта, ни утешительных
религиозных иллюзий о Священной войне, ни ласковых объятий
пропаганды («Мы все вместе, Фред. Вздернем Кайзера.
Долой Тодзио *. Поднимем бокалы за Уинни Черчилля
и мадам Чан»*). Но мир изменился, и война нынче
другая. Беспорядки в Детройте 1967 года качественно,
а не только хронологически отличаются от беспорядков
1943 года. Волны энергии, исходящие от калифорнийских
хиппи, качественно отличаются от тех, которые исходили
от Попрыгунчиков Линди * в недавнем прошлом. Дело,
вероятно, не в том, что мир еще глубже погрузился
в хаос, а в том, что тот элемент хаоса, который всегда
присутствует в жизни и который, по сути, и есть жизнь
(а национальные меньшинства и пробуждающиеся народы
были и в XI веке), все больше и больше выходит на
поверхность: отец ушел из дома, а у детей появились новые
игрушки, и они грозят разнести дом на куски. И все было
бы еще ничего, все это можно было бы уладить, если бы мы
сумели каким-нибудь образом попасть в дом,
по-настоящему разобраться в том, что происходит, если бы мы сели
и попытались понять детей, выслушать их и хоть что-
нибудь смогли бы противопоставить тому, что они делают
(я уже не говорю — «думают»), но мы слишком много
шумим о том, что мы знаем все, что творится на белом
свете, и ничто не ускользает от нашего внимания, у нас
тоже есть новые игрушки, которые нам все рассказывают.
А на самом-то деле мы сидим рядом с домом, и время
от времени на крыльцо выходит горничная, негромко
358
топает, чтобы привлечь наше внимание, затем выступает
с кратким сообщением, а мы сидим с глубокомысленным
или обеспокоенным видом и слушаем, как кто-то крушит
мебель на втором этаже. Мы слишком высокомерны и
самоуверенны во всем, что касается нашей
информированности. Мы пожертвовали многими нашими способностями
ради сведений из первых рук — то есть, конечно же, ради
чувственных ощущений очевидцев,— мы радостно сидим
дома, окруженные пластиком, магнитофонной и
кинопленкой, взирая на мир через линзы, экраны телевизоров,
фотографии и газетные строчки. И сейчас, когда
способность народа к порядку и самосохранению все больше
зависит от его возможностей быть в курсе реального
положения дел (прошло время посланий свыше от господа
или от короля, прошло и то время, когда надо было
топтаться перед Уайтхоллом, чтобы узнать, что произошло
с Китченером в Судане*), мы предпочли идеалу
непредвзятого суждения о самих себе и окружающем нас мире
порой безапеляционные и часто почти что
стенографические отчеты, получаемые через механическую систему
под названием «средства массовой информации», которая
большей частью не признает наличия элементов хаоса
в мире и отражает реальный мир лишь в очень
узком диапазоне.
Парадокс заключается, наверное, в том, что сколько-
нибудь серьезные попытки осмыслить новые явления были
предприняты в тех немногих жанрах из всех изобретенных
человеком форм приемлемого отражения
действительности, которые не воспринимаются всерьез большей
частью населения. Тут на ум прежде всего приходит
художественная литература и фильмы.
Не в таком далеком XIX веке, когда мир был прочно
привинчен к своему месту и все двери, ведущие наверх,
были надежно заперты, когда господь был еще с нами
и не терпел всяких глупостей, наиболее уместным казалось
интересоваться подробностями жизни людей: чем они
занимались, откуда, куда и как они добирались, на ком
женились; писатели создавали книгу за книгой, в которых
все это излагали по порядку, и зачастую это были описания
вселенной как совокупности неподвижных предметов
домашней обстановки. Сейчас же более уместным кажется
писать о том, что творится в головах у людей (или по
крайней мере в головах у писателей), о том, чем они живут
на самом деле, о том, что жизнь не всегда идет по прямой,
359
а движется вперед и назад, переворачивается с ног на
голову и в сознании, и в реальности. Наиболее сильные
и дерзкие писатели, такие, как Мейлер, Пинчон, Апдайк*,
стремятся постичь, схватить происходящее именно в
данный момент. Книга Мейлера или фильм Антониони, быть
может, и не отвечают на вопрос, что такое наш мир, они
могут не нравиться, но все вместе книги и фильмы,
появляющиеся сейчас,— это, похоже, попытка глубже
отразить изменчивый динамизм нынешней жизни, чем это
получается пусть даже в самых удачных образцах
ежедневной журналистики (это касается и прессы, и
телевидения), которую мы воспринимаем очень серьезно и
полагаемся на нее во всех наших, частных и общественных,
суждениях о мире и, как мы считаем, о нас самих.
Ежедневная журналистика, по существу, очень мало
изменилась за последние десятилетия (разве что на полосе
стало посвободнее, Клейтон Фричи * публикуется в
нескольких изданиях сразу, да женские странички стали
поживее), как будто ее традиции утвердились на вечные
времена и никто не знает, как с ней быть. «Тайме»,
имеющая в своем распоряжении редакторов и журналистов
с достаточным воображением и историческим чутьем,
способных понять, что из накапливающегося вьетнамского
опыта заслуживают опубликования не только ежедневные
отчеты о бомбардировках, тем не менее по-прежнему
относится к войне как к упражнению на составление
отчетов и сводок, причем делается это весьма успешно,
и наш хаотичный мир предстает на страницах «Тайме»
как нечто упорядоченное и солидное. Это немного похоже
на то, как бестолковая человеческая жизнь в составленном
адвокатом завещании становится (со всеми словами вроде
«недвижимости», «доходов») чем-то прекрасно
отлаженным. Телевидение при его технических средствах, при его
возможностях делать фильмы, раскрывающие сущность
происходящих изменений, в основном продолжает
преподносить войну в виде бесконечных, двух-, трех- или
четырехм-инутных телесюжетов. Бесспорно, множество
военных, да и не только военных событий можно
рассматривать с бухгалтерской точки зрения, множество
зрелищных событий можно с высокой степенью точности
воспроизвести на экране. Важное сражение должно быть
зарегистрировано, освещено в прессе и по телевидению —
и только. Но все дело в том, что не так много времени
нужно провести во Вьетнаме, чтобы понять — вернее,
360
почувствовать — принципиальную разницу между тем, что
видишь здесь, и тем, что читаешь в газетах и видишь
по телевидению в Штатах. И причина главным образом
не в искажении реальной картины в прессе (любимая
тема для разговоров в нашем посольстве в Сайгоне),
хотя в определенной степени без этого тоже не
обходится — в какой-то мере пресса полагается на официальные
сводки, которые, как известно, не беспристрастны;
бывает, что сражения, в которых мы понесли жестокие
потери, превращаются в блестящие военные операции,
«блестящие» потому, что мы нанесли такой серьезный
урон противнику — ведь искажение реальной картины
прессой предполагает вмешательство каких-то
потусторонних сил, чего в большинстве случаев просто не бывает.
Видимо, точному отражению происходящего во Вьетнаме
мешает не то, что пресса «лжет» или о чем-то умалчивает.
Частично этому препятствует то, что пресса, а особенно
телеграфные агентства и телевидение не имеют либо
времени, либо намерения изучать вьетнамскую
действительность с различных сторон: какова истинная военная
ситуация, что делается и чего нельзя сделать в области
новой технологии, насколько правительство контролирует
положение в деревне, как оценить южновьетнамскую
армию и так далее. Но еще важнее то, что когда они
берутся рассмотреть какую-нибудь из этих сторон, то,
похоже, большей частью они не способны ни на что,
кроме узкого взгляда именно на одну эту сторону
проблемы, которая может быть важной, а может быть и не
важной, но в любом случае из-за ограничений,
коренящихся в журналистских традициях, взятая на рассмотрение
деталька отрывается от тех явлений и факторов, которые
привели к ее возникновению, а также от тех последствий,
которые она в свою очередь вызывает. Маленький
пример: на той неделе съемочная группа компании Эй-би-си
прилетела, чтобы взять интервью у посла Элсуорта
Байкера. Посол сидел за своим письменным столом и в ответ
на вопросы, которые ему нежно подсовывал Джон Скали,
пускался в пространные рассуждения по поводу «новой
стабильности», которая наступит в результате избрания
Тхиеу — Ки, говорил о прекрасных перспективах
плодотворной совместной работы Тхиеу и Ки в новом
правительстве («Они славно сработались за последние два
года»). Несколько дней спустя интервью было показано
в Соединенных Штатах и, естественно, было выдано за
361
чистую монету. А в конце следующей недели буддисты
вышли на улицы, студентов избивала полиция, репортеры
и съемочные группы метались по Сайгону (в том числе
и съемочная группа компании Эй-би-си), пытаясь дать
репортажи о событиях, которые вполне можно было
предсказать и которые были результатом непопулярности
недавних выборов, результатом того, что «новая
стабильность», на которую мы смотрим с такой надеждой,
похоже, главным образом зависит от способности генерала
Лоана * держать ситуацию под контролем, не говоря уже
о последствиях того факта, что Тхиеу и Ки на дух друг
друга не переносят и, уж конечно, не могут находиться
в одном правительстве. Я не имею в виду, что мистеру
Банкеру не следовало говорить того, что он сказал, а
журналистам не следовало охотиться за новостями о
беспорядках. Суть в том, что в жизни нет ничего застывшего,
события нельзя расположить на отдельных страничках,
нельзя подогнать под трехминутные повествовательные
телесюжеты, они сталкиваются, оттесняют друг друга,
смешиваются в безостановочном потоке, и процесс такого
переплетения часто важнее для осмысления
происходящего (той непрерывной цепи реальных событий, ушедшую
в прошлое часть которой мы гордо называем историей),
чем отдельные сообщения, которыми мы обычно
обходимся. Явно несправедливо или по крайней мере
нереалистично ожидать неизменной гибкости и изобретательности
в сочинениях, политических анализах и так далее от
людей, чья профессия традиционно больше всего
располагает к энергичности. Видимо не будет ошибкой сказать,
что большинство здешних корреспондентов дают более
осмысленную картину Вьетнама за пару часов вечерней
беседы (когда окончания слов глотаются, но картина
получается цельная), чем то, что у них нередко получалось
(вместе с их редакторами и их аудиторией) за шесть
месяцев передачи разрозненных конкретных сообщений.
И еще ближе к истине было бы, наверное, утверждение,
что одним из заметных результатов всего этого стала
почти осязаемая неспособность людей ц Штатах проявлять
серьезный интерес к Вьетнаму. И это, конечно, беспокоит
людей, причем беспокойство проявляется чаще всего в
виде нервного расстройства (вызванного неспособностью
постижения истины), которое отнюдь не облегчает
попытки большого, играющего важную роль народа наладить
отношения с большим регионом, который также играет
362
важную роль, а ведь вне зависимости от того, как
оценивать эти усилия — плохие или хорошие,
нравственные или безнравственные, полезные или бесполезные,—
в них-то и заключается все дело.
Телевизионные репортажи из Вьетнама часто называют
«телевойной» (также и передачи о гражданских правах
можно было бы, вероятно, назвать «гражданской
телевойной»), и, несмотря на справедливость утверждения, что
в целом телевидение поработало неплохо, оценивая при
этом телесюжеты о боевых действиях в утренних и
вечерних выпусках новостей, справедливо также и то, что
в основном телевидение во Вьетнаме действовало на
уровне, не очень отличающемся от своего рода
иллюстраций к телеграфным сообщениям. Съемочные группы при
этом блуждают по стране в поисках материала, который им
подсказывают оперативные карты в Сайгоне («Опер.
4-й дивизии», «История с вертолетом», «Опер, в Хобо-
вудс», «Буддийский марш»). От них постоянно требуют
новых сюжетов (в идеале о боевых действиях),
чтобы подкармливать нью-йоркские программы новостей,
и вот они нынче здесь, завтра там, а послезавтра еще
где-нибудь. Не так давно военные усилия в основном
предпринимались на Севере, в районе действий 1-го
корпуса, поэтому многие корреспонденты теперь работают
за пределами данангского' пресс-центра, хотя обычно
значительная часть работы делается по-конторски
в Сайгоне. И это сказано не для того, чтобы преуменьшить
степень риска, которому подвергаются корреспонденты во
время освещения различных операций (и которая
колеблется от очень небольшой до весьма существенной), а для
того, чтобы показать, как трудно подобраться поближе
к странной войне в чужой стране. Чаще всего это бывает
так: вы завтракаете в отеле «Каравелла» в 7.30, затем
едете на вертолетную базу, затем летите на вертолете
туда, где проводится какая-нибудь операция (например,
поиск района предположительного расположения склада
военного снаряжения Вьетконга, при этом для съемок
представляет ценность возможный взрыв склада),
блуждаете по лесу, делаете снимки до 3.30, при этом вас
могут подстрелить, а могут и не подстрелить, затем
возвращаетесь на вертолете домой, проделываете всю
бумажную работу, организуете отправку отснятой
пленки, встречаетесь с друзьями в баре отеля «Континен-
363
таль» в семь вечера. Корреспонденты сами склонны
испытывать смешанные чувства по этому поводу. Можно
сказать наверняка, что многие из них — люди в возрасте
и они не в восторге от поездок на поля сражений
чаще, чем это необходимо, они, как и журналисты в любом
другом месте, жалуются на нехватку времени для
«настоящих тем», на требования Нью-Йорка давать
материал о боевых действиях. На деле же никто из
журналистов, кроме нескольких, таких, как Питер Эрнетт и
Генри Хьют из АП, Дэвид Гринуэй из «Тайма», Дейна
Стоун из ЮПИ, не пишет о боевых действиях. Это уже
стало привычным для телевидения (хотя, конечно,
привычным это кажется только со стороны). И несмотря на то,
что тема Вьетнама не ограничивается рассказом о людях,
стреляющих друг в друга (телевизионщики сами называют
эти репортажи «пиф-пафами» и испытывают здоровое
уважение ко всему, что связано с такими съемками), так
же верно и то, что американцы (и вьетнамцы) стреляют
и убивают и в них стреляют и убивают, и нужно быть
очень эгоцентричным пацифистом, чтобы заявлять, что
никто не обязан быть очевидцем и историографом чего-
либо подобного. Плохо, что телевидение почти не делает
большего. И даже не пытается. Существуют строго
регламентированные программы новостей, в которых на
несколько минут появляются корреспонденты со всего
мира. Чтобы обойти эти ограничения во времени,
существуют специальные выпуски, которые делаются с тем
скорым на руку, технически совершенным
профессионализмом, который больше всего характерен для кратких
телесюжетов. «Телевойна» — пленница собственных законов,
она находится под властью таких, например, фактов:
несмотря на главенствующее положение в качестве
источника информации для большинства людей, телевизионные
выпуски новостей — это только одно действие
величайшего в мире бесконечного варьете; ценность событий для
выпуска новостей по-прежнему зависит исключительно от
их зрелищности. Например, люди, посмотревшие вечернее
шоу под названием «новости о взрыве склада военного
снаряжения в Хобо-вудс, вполне естественно сделают вывод
о том, что в тот самый день, когда, скажем,
была предотвращена общенациональная забастовка
в Сан-Диего, когда была окружена армия повстанцев
в Нигерии, заболел папа римский, а Индонезия разорвала
отношения с красным Китаем, взрыв именно этого склада
364
имел какое-то особое значение, и уж если не особое,
то хотя бы просто важное, и что демонстрация этого
взрыва по телевидению дала какие-то полезные сведения
о войне. Слишком часто, однако, картина взрыва говорит
лишь о том, что, когда взрывается склад военного
снаряжения, слышно «бах-бах», потом появляется много дыма,
ну и, пожалуй, все. Ежедневная журналистика в целом,
похоже, очень привязалась к традиционной бесхитростной
манере преподносить реалии каждодневной жизни, как
будто законы ежедневной журналистики связаны
священными узами с устоявшимися взглядами того огромного
количества людей, которому она служит. Это все более
явственно проявляется в неотступном следовании
традиционной манере подачи большинства крупных проблем
нашего времени. Например, проблема гражданских прав:
технически изощренные, боевые сводки о беспорядках —
и поверхностный, беглый, откровенно скучный обзор или
мрачное молчание, когда таких беспорядков нет. Сейчас
стало особенно очевидным и обидным то, что во Вьетнаме,
где американская журналистика практически полностью
отдалась во власть последовательной, деятельной,
порционной манеры подачи материала («на-следующий-день-
первая-армия-продвигалась-далее-по-направлению-к-Аке-
ну») о войне, о которой даже сами журналисты знают,
что она непоследовательна и бездеятельна, что это война
молчания, странных жестов, война, в которой удар
кулаком по столу ничего не решает, а из-за беспечного
моргания глазами что-то происходит там, где вас еще нет,
где нет Акена, а слово «далее-по-направлению-к» не
очень-то хорошо переводится на местный язык.
Журналисты раздергивают вьетнамскую действительность на
отдельные конкретные события, потому что это нужно
редакторам. Редакторы говорят, что этого требует
общественность, и здесь они во многом правы. Люди
действительно в этом нуждаются, они хотят чего-нибудь
конкретного в этом хаотичном мире, чего-нибудь такого,
чтобы можно было чуть ли не пощупать собственными
руками за утренним кофе, например номер высоты:
высота 63, высота 881. Общепризнано, особенно среди
репортеров телеграфных агентств во Вьетнаме, что
если к боевой операции с какого-нибудь бока приладить
номер высоты (обычно операции начинаются в одной
точке с определенными координатами и движутся по
направлению к другой точке), то независимо от потерь и
365
тем более независимо от значения данной операции для
хода войны в целом репортаж будет держаться на
поверхности не один день, особенно активно он будет
пересказываться мелкими и средними газетками, которые
в основном и покупают сообщения телеграфных служб.
По-видимому, людям также нужно и ощущение успехов.
А так как они сами прежде всего склонны оценивать
успехи арифметически — столько-то ярдов отвоевано
стремительным натиском, в таком-то количестве
деревень наведен порядок, акции поднялись, потери
уменьшились, грузоперевозки осуществляются стабильно,—
такую же склонность проявляют и распределители
информации, и военные, и правительство. Они обшаривают
Вьетнам в поисках позитивной статистики, делятся
добытыми сведениями с газетчиками, которым постоянно
требуется материал в номер и которые знают, что там,
дома, почти всегда найдутся потребители убедительных
арифметических упражнений, которые по видимости что-то
значат, но на деле так и остаются арифметическими
упражнениями. Для того чтобы наилучшим образом
продемонстрировать эффект «Уловки-22» *, нужно взять
номер ежедневной «Старз энд страйпс» и прочесть
телеграфное сообщение из Сайгона: «Вырвавшиеся из-за
облаков самолеты 7-го флота Соединенных Штатов
вновь нанесли массированный удар с воздуха по портовому
городу Хайфон» и так далее — и попробовать
воспроизвести ту атмосферу и те выражения, в каких эта
информация была передана на ежедневном брифинге в пресс-
центре Миссии — знаменитый «пятичасовой бред». Около
двух десятков корреспондентов сидят, развалившись на
стульях, в комнате заседаний, а унылый майор ВВС
читает вслух бесцветным, монотонным голосом обзор
воздушных налетов, совершенных в первой половине дня:
«Самолеты 7-го флота Соединенных Штатов нанесли
267 ударов по целям на Юге... Самолеты 12-го
тактического истребительного крыла выборочно нанесли
245 ударов по отдельным целям, включая склады в
окрестностях Ханоя и мосты в районе Локбинь, совершив 62
самолетовылета...» Все продолжают дремать, и только
кто-нибудь один спрашивает: «Скажите, майор, не тот
ли это Локбинь, который находится всего лишь в пяти
милях от китайской границы?» Майор соглашается с этим.
«Скажите, майор, ведь это ближе к китайской границе,
чем когда бы то ни было, да?» Майор соглашается
366
и с этим. «Майор,— слышится другой голос,— можно ли
сказать, что это первая атака, я имею в виду с точки
зрения близости к границе?» На минуту майор становится
задумчивым. «С точки зрения близости к границе,—
говорит он,—я бы ответил утвердительно».
Телекорреспонденты пытаются обойти ограничения,
но не те, которые накладывает обстановка, а те, которые
на них накладывают законы телерепортажей (это по
крайней мере относится к разбирающимся в политике
и думающим корреспондентам). Для этого они к коротким
телерепортажам присовокупляют устный комментарий,
записанный на пленку, как бы говоря: «Ладно, парни,
получите ваш метраж с пальбой, но, если я к этому
прибавлю несколько слов, может, будет больше похоже
на то, что произошло на самом деле». Морли Сейфер
в свое время давал очень сильные комментарии для Си-би-
эс, а Дэвид Шумахер оттуда же и Дин Брелис из Эн-би-си
сейчас дают что-то в этом роде, и это играет
определенную роль — заостряет точку зрения, если она,
конечно, вообще нужна. Кроме того, это позволяет
привнести долю иронии в войну, о которой большинство
информационных организаций предпочитает говорить без
иронии (говорить о войне без иронии — все равно что
говорить об отношениях мужчины и женщины, не
упоминая секса). Дело в том, однако, что если вы показываете
фильм, где наши парни высаживаются с винтовками на
изготовку из полудюжины ревущих вертолетов, кругом
выстрелы, взводный отдает команды по радио, люди
с носилками среди усиливающейся стрельбы, то, по сути,
вы чаще всего добавляете еще одну частичку к иллюзии
американских военных успехов («Наши парни рванулись
вперед»,— слышится авторитетный комментарий
капитана) . Встать после этого с микрофоном в руке и сказать со
всем возможным сарказмом, как это обычно делал Сейфер:
«Еще одна типичная стычка во Вьетнаме... Пара
американских батальонов вошла в этот лес в поисках противника,
но противник исчез. Немного пострелял какой-то снайпер,
трое наших ранено, но ничего серьезного. В общем, все так,
как обычно здесь и бывает»,— это не значит перечеркнуть
все, что было показано, если быть точнее, это значит
привлечь внимание к изображению той ситуации, к которой
данный эпизод, может, и не имеет никакого существенного
отношения, но о которой, предполагается, что-то сообщает.
Мы так серьезно относимся к некоторым вещам. У нас
367
есть прямая связь между Рокфеллер-центром и
отелем «Каравелла». Мы можем менее чем за двадцать часов
перебросить восемь коробок с 16-мм пленкой на
расстояние 2/з окружности Земли. Примерно за 75 долларов
можно купить полчаса времени и передать фильм через
спутник из Токио. Телевизионщики во Вьетнаме работают
как черти — субботы, воскресенья, все время, поверьте.
Многие журналисты здесь работают как черти —
способные, ответственные люди собирают факты и фактики в
какой-то бесконечный альбом рассказов о
бомбардировках, и о программах умиротворения, и снова о
бомбардировках, и о марше буддистов, и о новых инфракрасных
прожекторах, и вновь о бомбардировках, и о том, что
40 тысяч вьетконговцев было выведено из строя за
последние шесть месяцев. Количество фактов, подробностей
растет, как снежный ком, день за днем, слова несутся по
кабелю, пленка багажом отправляется домой для
проявления, а между тем люди, которым о Вьетнаме скормили
больше слов и фотографий, чем о чем бы то ни было
другом, испытывают смутное и печальное чувство, что им так
и не сказали всего прямо. И это, конечно, правда. Когда
президент Джонсон, стоя на трибуне в Восточной комнате
Белого дома и обращаясь к телекамерам, заявляет, что он
«прочел все сообщения» и что они свидетельствуют о
«наличии успехов», это не значит, что он лжет. Ему
совсем не обязательно лгать, чтобы ситуация стала
потенциально катастрофической, для этого ему вполне
достаточно положиться на надежность системы докладов
(прежде всего это касается правительственной системы),
так как восприимчивость, умение писать и общая
предубежденность людей, составляющих доклады, не
позволяют системе быть точной или хотя бы приблизиться
к этому. И дело тут не в патриотизме, точно так же
и неточность или искажение фактов не являются причиной,
по которой старина Фред — после трех-то лет, за которые
он прочем 725 тысяч слов о Вьетнаме,— чувствует,
что не смог бы написать и трех вразумительных фраз
по этому поводу в открытке своей матери.
Кое-что, пожалуй, можно было бы сделать, чтобы
исправить ситуацию. На телевидении, вероятнее всего,
надо расширить и не так строго регламентировать
вечерние выпуски новостей, чтобы корреспонденты могли
поднимать темы покрупнее и не так сильно зависели от
368
зрелищности событий. (Телекомпании могли бы
обзавестись корреспондентами, чей интерес к событиям за день
не заключался бы целиком и полностью в том, чтобы
запечатать в коробку и отправить 450 футов пленки.) Что
касается газет (лучшие из которых, несомненно, гораздо
менее ограничены, чем телевидение), то, наверное, можно
было бы сделать примерно то же самое: дать немного
побольше воли, завести новых авторов, поощрять их,
чтоб они хотя бы допускали для самих себя возможность
ломать рамки ортодоксального, декларативного «хорошего
газетного стиля» («Маккормик-плэйс, огромный
выставочный центр, привлекавший в Чикаго более миллиона
посетителей в год, уничтожен сегодня пожаром. Ущерб
оценивается в 100 млн. долларов» — обычный ликующий тон
«Нью-Йорк тайме»). Возвращаясь к телевидению — хотя
и с малой вероятностью, по крайней мере в наш золотой
век,— можно предположить даже возможность того, что
руководство телекомпаний когда-нибудь будет обладать
достаточной смелостью и фантазией, чтобы пригласить
действительно творческих кинодеятелей, таких, как
Годар *, Антониони *, Ричардсон *, а так как их
заполучить нелегко, можно пригласить кого-нибудь из молодых
и сказать им: «Не хотите ли вы, вы и вы съездить
во Вьетнам, Гарлем, Техас и привезти фильм о том, что,
по вашему мнению, там происходит?» Ведь есть же по-
настоящему творчески работающие кинодеятели, а одна из
причин того, что они работают в кино, а не на телевидении,
заключается в том, что телевидение упорно стремится
к бесстрастности и традиционности во всем, что касается
использования кинопленки. И газетам и телевидению
вполне по плечу более глубокий исследовательский подход,
ведь если король голый, то не много будет пользы
королевству от того, что вы скажете, что он одет. Сейчас,
например, много делается людьми из посольства и
военными, чтобы доказать общественности, что
южновьетнамская армия — это прекрасная, обученная, надежная,
современная армия, что, безусловно, не так, частично
потому, что мы потратили три года (1959—1961) на то,
чтобы сделать ее армией старого типа, а частично из-за
коррупции и тому подобных вещей. За исключением
Питера Арнетта из АП, Мертона Перри из «Ньюсуика»
и некоторых других, никто серьезно не интересовался
южновьетнамской армией, что, впрочем, не значит, что все
восхваляли ее, даже «Тайм» оговаривает свои оценки при-
369
знанием, что южновьетнамская армия еще «не вполне себя
проявила». И все-таки с этим важно разобраться
(многое из того, что вы узнаете о южновьетнамской армии,
неотделимо от остальной вьетнамской жизни), эта
проблема все время с нами (точно так же, как в Штатах все
время стоит проблема негритянских трущоб), и никто
не обращает на нее никакого внимания до тех пор, пока
что-нибудь не случается: победа или поражение или
избирательная кампания. А если и обращает, то так, как
это на днях сделала компания Эй-би-си, то есть она просто
прокрутила трехминутный ролик о том, как один из
немногих приличных батальонов южновьетнамской армии был
отмечен в президентском приказе, зачитанном генералом
Уэстморлендом, а в заключение генерал сам произнес
несколько осторожно отобранных слов об огромных
достижениях южновьетнамской армии — и все это было
представлено на полном серьезе. Мы все пленники одной и
той же среды, и вряд ли было бы реалистично ожидать,
что мы когда-нибудь выработаем по-настоящему умный,
точный, восприимчивый подход к изображению
действительности на основе рыночных отношений в системе
информации, которая управляется людьми вроде нас и
которая неизбежно будет говорить нам в основном то, что
мы сами хотим услышать. Недавно во Вьетнаме война
переместилась — может быть, только внешне, но все равно
переместилась — в район действий 1-го корпуса, где чуть
южнее демилитаризованной зоны у нас расположены
артиллерийские батареи морской пехоты, которые были
переброшены туда в прошлом феврале с агрессивным
намерением обстреливать пути проникновения противника
и которые сейчас не прикрыты, оторваны и подвергаются
противником крайне жестокому обстрелу. Артиллерия
противника в основном хорошо замаскирована, врыта в землю
за холмами в демилитаризованной зоне, и ее трудно
поразить. После того как в течение месяца по Контхиену
производилась тысяча залпов ежедневно, военный штаб
в Сайгоне (расположенный в 400 милях к югу) вдруг
заявил, что противник отступил со своих позиций и, по
существу, мы одержали победу при Контхиене и
артиллерийским огнем и бомбардировками жестоко наказали
противника. И тут же в Штаты пошел поток сообщений.
«Артиллерия Соединенных Штатов бьет красных при
Контхиене»,— писала «Нью-Йорк пост». «Красные бегут
с артиллерийских позиций», «Конец осады Контхиена»,—
370
писала «Денвер пост». АП передало по телеграфу
длинное сообщение, которое начиналось так:
«Массированная американская огневая мощь переломила хребет
коммунистической артиллерийской осаде Контхиена,
которая продолжалась в течение месяца», далее цитировались
слова генерала Уэстморленда: «Мы устроили им Дьен-
бьенфу наоборот». Чарлз Мор из «Тайм» был одним из
немногих исключений. Он побывал там недавно и двумя
днями позже послал в свою газету большой материал,
в котором говорилось, что Контхиен по-прежнему не
прикрыт и что «аэрофотосъемка подтвердила ограниченный
отвод войск, но не доказывает того, что основная часть
орудийных позиций была поражена в результате
бомбардировок и огня американской артиллерии, тем более что
большинство позиций так и не обнаружено» и «мало кто
считает, что мы добились большего, чем просто
передышки». Ряд журналистов отмечают, что две недели тому
назад в районе Контхиена выпало восемнадцать дюймов
осадков, что воздушные налеты были неэффективны, что
грузовики не могли подвозить снаряжение или хотя бы
воду, и учитывая, что силы противника в этом районе
превосходят наши, то не так уж невероятно такое
стечение обстоятельств, при котором противник
действительно мог бы атаковать Контхиен, уничтожить наши
батареи, разгромить все и скрыться. Вот это на самом деле
было бы чем-то вроде катастрофы в Дьенбьенфу в
миниатюре. Есть и такие — их большинство,— которые
считают успешную атаку противника на Контхиен крайне
маловероятной, которые думают, что Контхиен никогда
не будет настолько не прикрыт, и приводят в качестве
аргумента то, что противник так же пострадал от ливней,
как и мы. Точка зрения большинства, вероятно, верна
(«Американское командование сообщило сегодня, что
4000 солдат из 1-й десантной дивизии были переброшены
на Север и расположились в 20 милях от Дананга» — это
передало АП несколько дней спустя, вероятно забыв
сказать о том, что Дананг расположен в центре района
действий 1-го корпуса, а передовая расположена рядом с
демилитаризованной зоной и, кроме того, усиление корпуса
морской пехоты армейскими частями не каждый день
случается во Вьетнаме или еще где-нибудь). Но в любом
случае большинство журналистов, побывавших на Севере
(в том числе некоторые из тех, которые так радостно
сообщали о «победе при Контхиене»), признают, что шат-
371
кое положение 1-го корпуса и вообще в окрестностях
Контхиена (где впервые во Вьетнаме стала вестись
обычная война, и не просто обычная война, а уменьшенная
копия первой мировой войны) не только свидетельствует
о военных возможностях Вьетнама в настоящий момент,
но, что еще важнее, поднимает много вопросов об
ограниченных возможностях техники как панацеи в любой
современной военной ситуации, об опасности попыток
вести наземную войну с неполноценными войсками, о
возможности переговоров о мирном урегулировании с
противником, который, похоже, имеет больше средств усиления
своей пехоты, чем мы. («Дальнобойная артиллерия
коммунистов и минометы красных вчера и сегодня вновь
обстреляли позиции морской пехоты США к югу
от демилитаризованной зоны»,— как ни в чем не бывало
сообщало АП 11 октября.) Контхиен — по крайней мере
в последнее время — поднял такого рода вопрос, но, кроме
Мора или Ли Лескэйза из «Вашингтон пост», их никто,
похоже, даже не слышит, не говоря уже о том, чтобы
заговорить о них. (Следует заметить, что телевидение
первое рассказало о Контхиене, первое обратило внимание
на то, что наступательная акция — размещение орудий
в прошлом феврале — обратилась осенью тем, что батарея
перешла к обороне и защищает только собственную
жизнь. Трехминутные сюжеты в вечерних новостях не дали
почти ничего, кроме общего вида места событий,—
впрочем, без злого умысла.) В Штатах теперь
сталкиваешься с усиливающимся беспокойством и недовольством
расширяющейся войной. Пишут о том, что губернатор
Рейган советует «использовать все технологические
ресурсы Соединенных Штатов» для победы. Известный
сенатор со Среднего запада США, посетивший недавно
Сайгон, хлопнул кулаком по столу и с болью и
разочарованием в голосе (с характерным для выдающихся людей
особым видом боли и разочарования) заявил, что «не
осталось никаких альтернатив», кроме как «усилить
бомбардировки» или «собирать вещи и уезжать».
Столько трагедий, которые уже случились или могут
произойти, связано с Вьетнамом: трагедии погибших или
гибнущих мужчин и женщин умирающей нации.
(Пожалуй, нет трагедии страшнее, чем смерть людей.)
Но иногда, глядя на злобу и нетерпение, поднимающиеся
в наших городах, злобу и нетерпение, которые чувствуются
в нашей будничной жизни, видя, как растет полуавто-
372
матическая агрессивность «ястребов» и стремление к миру
«голубей», появляется ощущение, что мы можем
действительно что-то совершить вскоре, и это будет не менее
страшной трагедией, чем любая другая. Мы (нация,
которая всегда должна что-то делать, чтобы не сойти
с ума), сбитые с толку, ошеломленные подробностями,
которые нам казались информацией, но всегда оставались
только подробностями, журналистикой — она слишком
часто говорила нам только то, что мы хотели слышать,—
мы совершим что-нибудь трагичное и будем выражать
преданность, твердость, сожаление, все, что угодно,
сограждане будут похлопывать друг друга по спине («Мы
все правильно сделали, Фред»), так и не зная, что же мы
натворили. И зачем. И в который раз мы так ничему
и не научимся.
ВЬЕТНАМ МОРЛИ СЕЙФЕРА
...Теперь, пожалуй, самое время сказать, что наши
теленовости часто из рук вон плохи, глупы, льстивы,
получены не из первых рук, страдают упрощенчеством.
Если эти эпитеты и еще дюжину других слить в одно
целое, то получишь представление о том, что такое
наши теленовости. И только изредка они могут быть по-
настоящему неплохими, как, например, 60-минутный
репортаж, озаглавленный «Вьетнам Морли Сейфера»,
показанный по Си-би-эс на прошлой неделе. Час времени,
предоставленный Сейферу, совершенно поразил меня по
той простой причине, что это один из лучших образцов
журналистики из всех, посвященных Вьетнаму любым из
средств массовой информации. В значительной мере
успех объясняется тем, что Сейфер (который в течение
последних нескольких лет был корреспондентом Си-би-эс
во Вьетнаме) получил разрешение сделать фильм целиком
по-своему, со своим собственным и очень сильным
чувством иронии, представить свою собственную
недвусмысленную точку зрения (такое, конечно, не часто
увидишь в новостях компании). Сейфер смог это себе
позволить. Ключевым здесь являются слова «собственная
точка зрения». Считается, что война во Вьетнаме слишком
обширная и важная тема, чтобы позволить одному
человеку выражать собственные взгляды, и это достойно
сожаления. Конечно, иногда требуется так называемое
373
«объективное изложение фактов*, но чаще всего никакие
полезные факты не приводятся, а те, что приводятся,
бессмысленны и неуместны. (Например: «американские
войска уничтожили 55 вьетконгонцев в ходе рейда».)
Такие факты ничего не говорят и оставляют покрытыми
пеленой тумана важные вопросы (тем более ответы).
Сейфер же выхватил из общей картины маленькие
кусочки Вьетнама — людей, солдат, сельскую местность,
мертвых, живых. Он как бы сказал: «Вот я, и вот как
это видится и понимается мною», и в результате получился
самый волнующий, суровый, тонкий и глубоко
прочувствованный комментарий к войне.
Почти невозможно с какой-либо надеждой на успех
передать на бумаге то, что было показано Сейфером,—
в первую очередь потому, что воздействие этого фильма
объясняется и звучанием диалогов, и удачной работой
редакторов, и монтажом. Вот, например, эпизод посещения
генералом Уэстморлендом войск на позициях. Генерал —
высокий, недоступный — смотрит сверху вниз на какого-
то совсем юного паренька, его лицо наполовину скрыто
подшлемником каски. Паренек вытянулся по стойке
«смирно» на вьетнамском поле. Генерал задает ему
вопросы, которые в другое время и в другом месте должны
были бы объединять людей, но здесь, в этот час словно
подтверждают их немыслимую, прямо-таки
нечеловеческую разобщенность.
Уэстморленд. Как боевой дух?
Солдат. Отличный, сэр.
Уэстморленд. Какое питание?
Солдат. Очень хорошее, сэр.
Уэстморленд. Сынок, ты из какого штата?
Солдат. Из Техаса, сэр.
Уэстморленд. А из какой его части?
Солдат. С юго-востока. Шаллервиль.
Уэстморленд. Сколько тебе лет, сынок?
Солдат. Двадцать, сэр.
Уэстморленд. Двадцать лет. Где ты проходил курс
начальной подготовки?
Солдат. В Форт-Полке, штат Луизиана, сэр...
Все это очень было похоже на сон и вполне могло бы
быть эпизодом старого фильма. (Разве начиная со времен
Александра Великого был такой генерал, который не стоял
бы сурово перед своими молодыми солдатами, глядя
поверх их голов куда-то вдаль, в сторону Индии или Ханоя,
374
и который не спрашивал бы равнодушно, где солдаты
проходили курс начальной подготовки?)
Сейфер затем обращает камеру на другого солдата,
симпатичного юношу, стоящего на фоне деревьев и
говорящего непринужденно и вместе с тем сдержанно:
Солдат. Мне не нравится моя работа.
Сейфер. В чем же дело?
Солдат. Я бы лучше вернулся домой.
Сейфер. Что же именно вам не нравится?
Солдат. Мне не нравится сравнивать с землей сады
других людей. Да и просто хочется домой.
Затем на экране вновь возникает Уэстморленд,
задающий вопросы офицеру, чья рота только что подверглась
обстрелу.
Уэстморленд. Он погиб?
Офицер. Да, сэр, его буквально разорвало на части.
И снова Сейфер, разговаривающий с другим солдатом:
Сейфер. Как начальство?
Солдат. Оно здесь неплохое... Не беспокоит нас.
Сейфер. Наверное, вам просто не подходит армейская
жизнь.
Солдат. Да, я хотел бы оставаться штатским. В душе
я штатский человек.
Затем заключительный взгляд на Уэстморленда,
обращающегося с речью к части, которую он только что
посетил: «Для меня большая честь стать свидетелем высокого
боевого духа, приобретенного войсками за тот год с
половиной, когда мы сосредоточили здесь значительные силы.
Я объясняю это многими факторами. Во-первых, люди
верят, что они осуществляют важную миссию. Они горды
тем, что делают полезное дело. Люди видят в этом
необычайно увлекательный опыт. Еда хороша. Почтовая
служба работает прекрасно, хотя время от времени
случаются задержки, но это исключение из правил».
Я думаю, справедливости ради стоит сказать, что
Морли Сейфер вовсе не одобряет войну во Вьетнаме,
так же как и я (а кто ее одобряет?), поэтому я, может
быть, восхищаюсь в фильме своими собственными
предрассудками. Но мне хотелось бы думать, что гораздо
больше меня восхищает решимость Сейфера (и в данном
случае Си-би-эс) пойти на риск, представив
индивидуальную точку зрения и привнеся в картину войны глубокую
иронию. Впрочем, я не вижу, как вообще можно где-либо
и когда-либо говорить о войне без иронии. В фильме
375
много и простых человеческих чувств, которые
порождаются боями, невзгодами, тягостным ритмом армейской
жизни, игрой в мяч, ожиданием, сном, снова ожиданием,
отправкой писем домой (теперь их записывают на
магнитофонные кассеты). Особенно хорошо Сейфер передал
чувства, порождаемые спецификой времени и места
происходящих событий, впечатления от жизни нашей армии во
Вьетнаме, от всего, что там есть,— людей, полей, Сайгона,
танков, крестьян, танков и крестьян одновременно.
Есть в фильме и много суровых и жестоких моментов.
Сурова сцена у армейского госпиталя, когда раненые
смотрят на танцующую девушку: ею оказалась Нэнси
Синатра * — настоящая куколка в мини-юбке,
голливудских ковбойских сапожках из голубой замши; девчонка
скакала на траве и выделывала па под песенку в стиле
«рок». Из кроватей и кресел-каталок за ней следили
десятки людей, у многих ноги были перевязаны или не было ног
вообще. В этом и состоит (на мой взгляд) наиболее
знакомая всем ирония войны, эта ирония чертовски
правдива и жестока, когда камера мечется между Нэнси
в голубых сапожках и всеми этими ранеными, которые
получали очевидное удовольствие и фотографировали
девушку. Нэнси Синатра выглядела такой куколкой!
Солнце светило. Громко звучал оркестр. Песенка была
прелестна.
Нельзя не сказать о других впечатляющих сценах
фильма. Например, посещение ежегодной садовой
выставки в Сайгоне мадам Ки и другими благородными
или по крайней мере высокопоставленными вьетнамскими
дамами, а также немногими оставшимися
представительницами французской колонии (все они вырядились
в платья от Девиля модели 1938 года). А вот сцена,
в которой огромный негр-солдат моет голову маленькому
вьетнамцу, грубовато ворча о том, как плохо у южных
вьетнамцев с гигиеной. Или взять замечательный диалог
в офицерском клубе, где Сейфер берет интервью у экипажа
боевого вертолета, только что вернувшегося с задания.
Летчики улыбаются, они расслабились и отдыхают,
расхаживая с пивными банками в руках. Все симпатичные
ребята. Сейфер спрашивает: «Что вы чувствуете, когда
убиваете людей подобным образом?»
Летник. Меня это как бы не касается. Я не переживаю
это лично...
Капитан. Когда мы это делаем, я чувствую себя
376
отлично. Появляется некое ощущение
выполняемого долга. Единственный путь к победе, как я
думаю,— это убивать их.
Третий пилот. Я вижу в людях обычную мишень.
Понимаете, так же как в Соединенных Штатах
стреляешь в манекены, здесь стреляешь во
вьетнамцев. Во вьетконговцев.
Перебивающий голос другого пилота. Именно во
вьетконговцев. Вы стреляете во вьетконговцев, а не во
вьетнамцев.
Третий пилот (смеется). Ну хорошо. Стреляешь во
вьетконговцев. Как бы то ни было, когда их
преследуешь, видишь, как они убегают, попадают
в рамку прицела, то это совершенно то же самое,
как если бы там стояли деревянные манекены или
что-нибудь еще. Просто нажимаешь большим
пальцем на кнопку, выпускаешь пару ракет, словно
это вовсе и не люди перед тобой.
Интересна и сцена интервью, взятого Сейфером у
молодого солдата, одного из тех светловолосых,
голубоглазых парней, как будто только вчера прибывших с какой-
нибудь американской фермы. Этот парень с ходу выдал
классический ответ: «Я бы соврал, сказав, что рад тут
находиться, но уж поскольку я здесь, то рад тому,
что делаю». Затем, в одно из тех неожиданных мгновений,
когда единственный жест, взгляд может выразить все,
парень посмотрел вокруг, и его лицо озарилось каким-то
удивлением и нежностью. «Страна так красива,
плодородна, в ней есть все...» — сказал он.
БОМБЫ ВЗРЫВАЮТСЯ ВНИЗУ:
ПОП-ПОП-ПОП
Невероятно, но факт: в середине зимы 1967 года, когда
наша страна ведет воздушное наступление на Северный
Вьетнам в обстановке почти беспрецедентных волнений
и тревоги внутри страны и крайней озабоченности во всем
мире, одна из основных телекомпаний предпринимает
претендующий на серьезность анализ этого наступления
и выдает такой ребяческий, трусливо-беспомощный
образчик журналистики, как программа Си-би-эс <
Перспективы Вьетнама: воздушная война на Севере». Я
называю его трусливо-беспомощным, потому что Си-би-эс
377
преднамеренно (они все-таки не компания юнцов)
улизнула от обсуждения проблем, которые следовало бы
обсудить. Если уж вы поддерживаете воздушные налеты
на Север, то так прямо и скажите, выступив с разумными
аргументами. Или если вы против, то открыто заявите
об этом, и тоже приведите разумные доводы. А если вы
как журналист хотите высказаться о ситуации в целом,
о позициях обеих сторон, то что ж, выполните эту извечно
трудную задачу или по крайней мере постарайтесь сделать
это честно и квалифицированно.
Си-би-эс не пошла ни по одному из этих путей.
Компания взялась за важнейшую политическую проблему
сегодняшнего дня, заикнулась раз-другой о
журналистской объективности, в течение пятидесяти минут кормила
нас правительственной пропагандой и только в
заключительные пять набросала несколько торопливых и
легковесных штрихов «оппозиции». Вот и все.
Основная часть программы — добрые три четверти —
представляла собой прямолинейный и, следовательно,
выдержанный в безоговорочно почтительном и провоенном
духе документальный фильм: лента была отснята
летчиками ВВС и флота, летающими на боевые задания против
Севера, и дополнена несколькими вставками министерства
обороны, посвященными отдельным бомбовым ударам.
Точка зрения «репортера» Си-би-эс Билла Стаута была
абсолютно ясна, не вызывая сомнений ни на секунду.
В ней вовсю просвечивала та присущая военным и
технарям твердолобость, которая, как считают, полезна
в среде армейских офицеров, но не такая уж остро
необходимая вещь для журналиста, который вроде бы
призван разъяснить нам истинное положение дел. «Несколько
дней назад эти пятисотфунтовые бомбы находились на
базе ВВС в Дананге, Южный Вьетнам» — этими словами
начинается передача; Билл Стаут при этом возвышается
над рядом аккуратно расставленных бомб и ракет.
«Товар на прилавке, к доставке в Северный Вьетнам
готов. К тому времени, когда репортаж выйдет в эфир
в Соединенных Штатах, доставка уже осуществится...
Весь товар создан для смерти и разрушения. Весь товар,
как считает правительство Соединенных Штатов, должен
приблизить окончание войны во Вьетнаме». Ну, давай же
дальше, Билл Стаут. Мы знаем, что правительство
Соединенных Штатов полагает именно так. А служба
новостей нужна, чтобы сообщать, как обстоят дела на
378
самом деле; если же репортер высказывает подобное
утверждение и затем сразу переходит к другому вопросу,
то он тем самым подразумевает истинность сказанного.
После этого нам показали подготовку и сам бомбовый
налет. Инструктаж по погоде: «Переменная облачность до
высоты 4000 футов, выше 7000 — чистое небо»; инстук-
таж разведки: «Доброе утро, джентльмены. Ваша цель на
сегодня, как сообщалось...»; наконец, долгие инструкции
командира полета своим экипажам, как уходить от атак
зенитных ракет: «Мне известно, что многие из вас никогда
раньше не попадали под огонь зенитных ракет...» Далее
идут бодренькие кадры типа «ой, как я люблю парады»:
с ревом уносящие со взлетных полос самолеты, самолеты
в воздухе (на фоне гор, неба, облаков и так далее);
затем бомбы, вызывающие где-то внизу слабые,
негромкие, отдаленные, почти приятные всплески (поп-поп-поп)
белого и красного цвета на темной синеве леса. Ну,
теперь мне уже меньше всего хочется ставить под сомнение
храбрость или компетентность летчиков, чья работа,
в конце концов, и заключается в том, чтобы вести за
всех нас эту проклятую войну. Однако посвящать
основную часть предположительно глубокого исследования
крайне сложной ситуации репортажу в стиле «наши
храбрые парни на войне» — значит, намеренно или нет,
вести самую обыкновенную пропаганду. Да, конечно, такие
пилоты, как полковник ВВС Сэм Хилл (которого мы
видим на экране всего несколько мгновений),— смелые
люди, и иногда об этом действительно следует говорить.
Но если вы лишь восхищаетесь этим самым полковником
Хиллом, человеком храбрым, настоящим профессионалом,
«просто делающим свое дело», то одновременно
утверждаете и кое-что другое. Вы предпочли использовать
отведенное для передачи время, отказавшись честно и серьезно
взглянуть на разногласия, касающиеся последствий
бомбардировок,— военного, политического и
дипломатического характера. Тем самым вы подразумеваете, что
разногласий на самом деле нет или что причины, их
порождающие, несущественны; но ни то ни другое не верно.
Изображая бомбежку неким удаленным от нас
техническим актом (вспомним все эти «доставка», «товар
на прилавке»), хотя по меньшей мере половина
участвующих в ней людей, то есть «доставщиков», воспринимает это
как глубоко человеческое испытание, вы добиваетесь,
что вашей аудитории в этот критический момент значи-
379
тельно труднее по-человечески понять реакцию врагов —
таких же людей — на творимое полковником Хиллом.
И, что еще хуже, вы побуждаете зрителей одобрять то, что
он делает (а это сторона дела, заслуживающая отдельного
рассмотрения), лишь по той простой причине, что он такой
смелый, знающий свое дело и т. д. человек (а речь-то ведь
не об этом).
...После налета экипажи возвращаются на базу. Мы
видим Стаута, оживленно обсуждающего результаты
бомбардировки с одним из летчиков.
Стаут. Расскажите, полковник, как все это
происходило?
Полковник. Это был на самом деле удачный налет.
Погода была просто прекрасна. Мы с успехом
разбомбили цель, четверка Оттера великолепно
перерезала дорогу. Она сбросила бомбы прямо на
нее.
Стаут. Вашей целью была дорога?
Полковник. Дорога и парк грузовиков; мы сбросили все
бомбы на парк грузовиков, а четверка Оттера
на парк грузовиков и дорогу.
Стаут (в заключение). Их радость искренна. В ней
чувствуется как гордость за работу, которую они
выполнили, так и облегчение.
Репортер Стаут затем выяснял у летчиков, в чем, по их
мнению, состоит польза бомбардировок Севера.
Подполковник Гэст — без сомнения, человек отважный: «Я
считаю, что они приближают окончание войны».
Подполковник Тэнгай — тоже, без сомнения, человек отважный:
«Я считаю, что нам следует прибегнуть к еще большему
давлению». Полковник Хилл: «Я согласен с вами».
Полковник Стэнфилд: «Я считаю, что северные вьетнамцы
в такой же степени участвуют в войне, как и Вьетконг,
и если оставить их в неприкосновенности, то это скорее
ободрит их, чем отобьет охоту воевать с нами». В этих
интервью Билл Стаут — или Си-би-эс — ни разу не
отмежевался от подобных взглядов, не попытался их
прокомментировать или, что еще важнее, рассмотреть в более
широком свете, то есть сопоставив с не менее весомыми
интервью с невоенными людьми. Действительно, видя,
с какой серьезностью и в то же время как бодро отдал
Стаут всю проблему бомбардировок на суд людям, которые
бомбят (метод ведения репортажа, называемый иначе
«Спроси у знатоков»), вы бы заключили, что нет никого
380
на свете, чья точка зрения по данному вопросу была
бы весомее, и что Стаут прав. Они (бомбардировки),
втолковывает Стаут, «с точки зрения американцев — от
президента и до летчиков, выполняющих боевые задания
на Севере,— крайне важная составляющая наших
усилий во Вьетнаме».
Несколько минут спустя Стаут с самым серьезным
видом сообщил, что в заключение мы «посмотрим,
насколько эффективны бомбардировки», и уже казалось
вполне естественным, что в первую очередь он спросил
об этом адмирала. Адмирал сначала проявил некоторую
нерешительность, но, подталкиваемый старательными
вопросами-уколами Стаута («Как вы считаете, адмирал,
оправдывают ли себя затраты?»), он заявил нам:
«Да, я твердо считаю, что затраты совершенно
определенно оправдываются». Затем Стаут спросил генерала,
восседавшего на фоне карты; у него множество медалей на
груди, и выглядел он великолепно. Он оказался тем
самым генералом, который возглавляет силы авиации,
осуществляющие бомбардировки. Суть его взглядов,
изложенных в длинноватой речи, полной выражений
военного и делового жаргона вроде «продолжающихся
воспрещающих действий», состояла во фразе: «Я думаю,
главное воздействие мы оказали на коммуникационные
линии». Далее спросили генерала Кертиса Лимэя. Хорошо.
Спросим Кертиса Лимэя — хоть он и в гражданском, но
выглядит блестяще. Лимэй внес следующий вклад в общее
разъяснение: «Я бы предупредил северных вьетнамцев, что
мы будем бить по их дорогостоящим и важным объектам,
и начнем с ликвидации Хайфона. Существует много
способов сделать это. Потом я сразу взялся бы за ту
промышленность, которой они располагают, за
электростанции... систему транспорта... посоветовал бы населению
убраться... Они хотят, чтобы все в стране было разрушено.
Хорошо, скажите им, что мы готовы пойти на это».
Затем нас вновь возвращают к флоту, и выступает
другой адмирал — Шарп, возглавляющий, как
выясняется, военно-морские силы на Тихом океане. Сначала он
несколько мрачно отнесся к теме разговора («Я как
военный, конечно, хотел бы, чтобы ограничения были сняты,
но как командующий объединенными силами я признаю,
что там, в Вашингтоне...). Он нас порадовал следующим
выводом: «По моему мнению, бомбардировки приближают
окончание войны, и, несомненно, прекращение бомбарди-
381
ровок, как я считаю, автоматически затягивает войну».
К этому моменту вы, вероятно, думаете, что Си-би-эс —
это один из филиалов правительства, или ведомства
вооруженных сил, или того и другого одновременно.
Ни в коем случае. В конце концов, в полемике о
бомбардировках должны быть две спорящие стороны, не так ли?
Если, конечно, такая полемика действительно имеет место,
хотя Си-би-эс, похоже, не очень-то верит в реальность
этого факта. По прошествии пятидесяти трех минут из
отведенных шестидесяти, за пять минут до конца передачи
(не считая рекламных вставок), Си-би-эс позволила
высказаться оппозиции: был показан минутный отрывок
из выступления Гаррисона Солсбери — одетого в простой
твидовый костюм, без медалей, с лицом, затерявшимся
среди многих других на слушаниях в сенате (где, как
казалось, никто из находившихся в поле зрения камеры не
обращал на него никакого внимания). Слушания касались
вопроса о позитивных и негативных аспектах
бомбардировок («Насколько я понимаю, одно исключает другое...»);
кроме того, Си-би-эс дала очень короткое,
натянуто-формальное интервью — как обычно, с сенатором Фулбрай-
том. Фулбрайт заметил, что министр обороны Макнамара
сам говорил об отсутствии ощутимого уменьшения
поставок и проникновения вьетнамцев с Севера на Юг в
результате бомбардировок.
После рекламной вставки Стаут вновь появился на
какой-то момент, упомянул между делом о жертвах среди
гражданского населения («Гражданские лица всегда
гибнут на войне»), а затем попытался «о п р а в д и т ь» —
слово, которое я только что изобрел и предоставляю на
время Си-би-эс,— «оправдить» предыдущие пятьдесят
восемь минут пропаганды признанием, впрочем не очень
вразумительным, что бомбардировки принесли лишь
частичный успех.
Считается, что Си-би-эс вместе с Эн-би-си является
основным источником новостей и мнений для большинства
населения нашей страны. По грубым подсчетам,
«Перспективы Вьетнама» в тот вечер смотрели девять миллионов
человек. Считается, что мы избираем наше
правительство — так мы по крайней мере говорим — на основе того,
что знаем и что нам сообщают. Что ж, остается признать,
что заслуживаем мы в тысячу раз лучшего.
382
ВОЙНА ПО ТЕЛЕВИЗОРУ
Школьники уже трещат напропалую о последнем дне
занятий. Женщины идут по 86-й авеню в развевающихся
на ветру легких хлопковых платьях. На лицах
коннектикутский загар. Работают кондиционеры. По телевизору вновь
крутят «Дактари», «Лэсси», «Остров Гиллигана»,
«Звездные тропы». Масса бейсбола. Не много дел на телевидении
в это доброе, старое, как миф, американское лето.
В прошлую субботу я почему-то как никогда остро
ощутил бессмысленность этой проклятой войны. Мне
пришло в голову, что стоит посмотреть в пять вечера
программу Эн-би-си «Вьетнамское еженедельное
обозрение». Пока же я вышел на улицу; день был приятный —
теплый, солнечный, в воздухе первая летняя пыль и
леность; повсюду развешаны гамаки, в которых почему-то
никто никогда не качается. Неподалеку от Пятой авеню
я увидел стотысячную процессию мужчин, женщин, детей;
это была одна из колонн шествия под лозунгом
«Поддержим наших ребят во Вьетнаме». Народу на улицах
тьма. Повсюду посты Американского легиона *,
католические школьные оркестры. Проехал открытый грузовик
профсоюза водителей; видны плакаты: «Это твоя страна!
Люби ее или проваливай». Прошли представители
Общества Джона Берча графства Патнем, распевая «Аме
рика прекрасна». В кресле-каталке показался
легионер с плакатом «Победим атеистический коммунизм».
Толпа рукоплескала. Откуда-то со стороны 96-й улицы
слышалась мелодия «Желтой розы Техаса». Дети вокруг
меня размахивали американскими флажками и глядели по
сторонам, как все дети, с флажками или без.
Я пришел домой без десяти пять, достал пиво и
включил телевизор. По Эн-би-си показывали бейсбольный матч.
Кленденон издалека послал мяч в десятку; Питтсбург
сделал свое дело. Я забыл, кто играет за Питтсбург, но это
нетрудно узнать. С Пятой авеню, за два квартала отсюда,
через открытое окно доносились звуки оркестра,
наяривавшего «Гимн морских пехотинцев», потом стали играть
«Сестру Кейт». Иногда мне становится интересно, что
думают о войне люди, которые заправляют делами на
телевидении. Я уверен, что они размышляют о войне. Это
делает каждый. Я уверен, эта проблема их очень волнует.
(Иногда я даже представляю, как они часами сидят
за столиком в пресс-клубе — брови нахмурены от интен-
383
сивной работы мысли, стаканы с бренди и грушевой водой
лишь едва пригублены. В конце концов кто-то произносит:
«Ладно, брось, Фред. Я думаю, Том Хейден * говорит за
всех нас».) Возможно, я несправедлив. Возможно, все
обстоит совсем наоборот. Они хорошие парни, эти люди на
телевидении, которые пытаются рассказать нам о войне.
Например, в прошлый понедельник вечером, в самом
начале восьмого, Уолтер Кронкайт *, бросив с экрана
на нас приятный взгляд, сказал: «Сейчас вы увидите
репортаж о положении во Вьетнаме на сегодняшний день».
И через мгновение мы уже были в этой стране,
наблюдая подробности действий разведки морской пехоты,
посланной на розыск северовьетнамских лагерей. Фильм,
снятый двадцатью шестью часами ранее в 18 милях
к югу от демилитаризованной зоны, начался, как обычно,
с инструктажа. Создается впечатление, что этот эпизод
всегда включают в фильмы, хотя в реальной жизни его
не увидишь. Мы следили за действиями маленькой группы
людей, взбиравшихся на густо поросший лесом холм. «Они
хотят выяснить, кому принадлежат голоса вдали»,—
прокомментировал находившийся на месте корреспондент;
послышались звуки отдаленного пулеметного и
автоматного огня; вдруг перед камерой забегали люди, выстрелы
стали громче и интенсивнее, и снова с легким
равнодушием — ведь мы видели такие сцены столь часто — мы
наблюдали, как пули убивали и ранили живых людей,
точно таких же, как мы с вами. Убивали и ранили на
телеэкране в вашей гостиной, в баре Йельского клуба,
на борту роскошной яхты «Фатима», когда вы,
развалившись на палубе, смотрели портативный «Сони»,
поставив его на собственный живот.
В одном из кадров фильма мина падает рядом с
оператором, и в течение нескольких секунд на экране все
запрыгало, пока оператор не пришел в себя. Потом мы
смотрели на молодого человека — мальчишку, никак не
старше 19—20 лет, с квадратной челюстью, статного,
этакого стопроцентного американца, застывшего на склоне
холма с прижатой к телу винтовкой и ожидавшего
сигнала двинуться туда, где идет стрельба; он явно
боялся. На заднем плане слышались автоматные очереди
и басовитый голос командира отделения, негра: «Эй там,
наверху, давай вперед! Давай, давай!» Глаз объектива
следил за парнем еще несколько мгновений, его
собственный взгляд был устремлен вперед, а лицо было полно
384
юности, страха, отваги — всего, чего хотите, пока солдат
в конце концов не бросился вперед. Так и видишь при этом
застывшие кадры тех, других войн (в которых ты не
участвовал) на снимках великих военных
фотокорреспондентов: испанский республиканец, падающий на склон
каталонского холма,— Роберта Капы; морской пехотинец,
уткнувшись лицом в песок пляжа Таравы,— Юджина
Смита; собор св. Павла под бомбежкой — Маргарет
Борк-Уайт*.
Вьетнам — другое дело, это очевидно. Не такой
«захватывающий». Не такой «фотогеничный». Но, как мне
кажется, Курт Волкерт, человек, с камерой в руках
снимавший этот фильм и сумевший уловить выражение лица
молодого солдата, является одним из самых
замечательных военных корреспондентов. Пожалуй, то же самое
можно сказать о многих других кинооператорах,
снимающих Вьетнам для американского телевидения.
Не так давно я смотрел отрывок из очередного
фильма о военных действиях на Юге, сделанного Во Хью
Ином, вьетнамцем, работающим на Си-би-эс. На экране
проходили эпизоды с содатами, готовящимися к атаке, и
сама атака (то есть момент, когда люди близки к гибели
и убийству). Во время этой атаки мы стали свидетелями
душераздирающей сцены: с поля выносят молодого
солдата, у которого оторвало ногу, а парень кричит
товарищам: «Больно! Больно!» Личная смелость, энергия
и странная, грубая чувствительность — эти качества
сделали людей типа Роберта Капы прекрасными мастерами
своего дела, прекрасными благодаря той пользе, которую
они приносили. Они пытались показать нам, как все было
на самом деле, отправлялись в самую гущу сражений
(замечательные фотографии Капы, снимавшего высадку
второй волны десантников на пляже Омаха, были
так нечетки, что на них едва можно различить лица).
Все эти качества в не меньшей степени присущи таким
людям, как Курт Волкерт и Во Хью Ин. Они тоже
хотят показать нам действительность, хотя бы тот
маленький участок войны, который им отведен. Одному господу
известно, как убийственно мало на телевидении таких
людей.
Вьетнам часто называют «Войной по телевизору»,
в том смысле, что это первая война, за ходом которой
люди следят, сидя перед телеприемниками. Они в полном
смысле этого слова смотрят войну. Они смотрят на
13 Зак. 556
385
Вьетнам. Смотрят так же, как ребенок, стоя на коленках
в коридоре и прильнув к замочной скважине, глядит на
двух спорящих взрослых в запертой комнате. Отверстие
мало, контуры фигур смутны, почти неразличимы; голоса
неясны, какие-то отрывочные угрозы без смысла,
мимолетные взгляды, чей-то локоть, мужская куртка (кто этот
мужчина?), часть лица, женского лица. А, она плачет.
Видны слезы. (А голоса все так же неразборчивы.)
Мальчик считает слезинки: две, три... Два воздушных
налета. Четыре операции по обнаружению и уничтожению.
Шесть заявлений администрации. Какая красивая
женщина! Мальчик безуспешно ищет другого взрослого,
но скважина мала, и этот другой взрослый никак не
попадает в поле зрения. Глядите! Вот генерал Ки. Глядите
еще! Вот самолеты благополучно возвращаются на
авианосец «Тикондерога».
Иногда я задаю себе вопрос: а все-таки что же эти
люди, заправляющие на телевидении, думают о войне? —
потому что именно они ограничили нас этим взглядом
через замочную скважину. Мы дали им радиоволны, а
теперь, в критический момент, получаем взамен замочную
скважину; неужели они и впрямь считают, что эти
отдельные взгляды на локоть, лицо, мелькание одежды
(так кто же этот человек на самом деле?) — это все, что
нам, детям, стоит видеть из происходящего в комнате?
Я верю, что Во Хью Ин покажет нам столько высшей
правды небольшого сражения, сколько сможет, а Си-би-эс,
как она это сделала в один из прошедших вечеров, даст
специальное получасовое интервью с генералом корпуса
морской пехоты Уолтом. Он-то вполне доволен Си-би-эс,
но есть и другие вещи, из которых состоит вьетнамская
война, и умные люди знают о них: это факторы сомнений,
политики, пропаганды, истины, лжи, того, что мы делаем
или не делаем, факторы, большей частью неощутимые
и неоднозначные. Они трудно поддаются обычным
математическим подсчетам и все же существуют как части
общего уравнения. Его мы все, как предполагается,
стараемся решить, но ни один из этих факторов
в передачах не фигурирует. Так, например, никогда не
говорится, что есть серьезные сомнения по поводу
эффективности всех этих пресловутых операций по
обнаружению и уничтожению, которые мы столь часто видим
на экранах. Цифры потерь противника произвольно
фальсифицируются, а захваченные территории мы не
386
планируем удерживать за собой. Никогда не говорится о
серьезных сомнениях в действенности многих — широко
рекламируемых в печати и, конечно, по телевидению —
вторжений на территории, которые, как вы поймете если
умеете читать между строк, были заранее оставлены
противником и куда он, вероятно, вернется, как только мы
оттуда уйдем. Редко упоминают и о том, что существуют
не менее серьезные сомнения по поводу эффективности
наших бомбардировок; если ВВС не всегда способны
уничтожить ту деревню, которую нужно, а не другую, то,
уж конечно, они не могут избежать убийства мирных
жителей, когда бомбят электростанции в Ханое. Не
говорят и о том, что мы используем противопехотное
оружие в большей степени, чем это готовы признать
военные, или что людей, сбрасывающих бомбы с высоты пяти
тысяч футов, следует считать такими же соучастниками
преступления, как если бы они сами стояли на площади
в какой-нибудь деревне и вонзали маленькие кусочки
металла в тела ее жителей. «Противопехотное», «средство
доставки», «миссия умиротворения», «национальное
строительство» — все это не более чем фразы, так же как
и пресловутая мудрость «лучше мертвый, чем красный»,
и воспринимать их всерьез могут лишь люди, которые не
в ладах с нормальным языком. Когда высокопоставленное
лицо вашингтонской администрации говорит неправду,
утверждая, что нам не придется в этом году посылать
во Вьетнам дополнительные воинские контингенты, то сам
факт лжи для нас важнее, чем отправка войск. Не
упоминают вроде бы и о том, что... впрочем, хватит. Лето
совсем близко. Мои дети сегодня затеяли ссору из-за
купальных костюмов и из-за того, кто будет учиться
верховой езде, а кто ходить под парусами. Летом мы часто
устраиваем пикники, играем в теннис, любуемся закатом.
Этим летом я уж наверняка доведу до совершенства
удар слева, напишу (точнее, постараюсь написать)
что-нибудь прекрасное, наконец прочту «Поминки по
Финнегану» * и т. д.
...Машина тихо катится по крышке люка, раздается
легкий звон. Все эти тихие улицы, все эти квартиры
бравого среднего класса... а что под крышками люков?
Кабели? Умирающие солдаты? Умирающие дети? Звуки
выстрелов? Крики? Сумасшествие? Мой телевизор все
работает, разговаривая сам с собой. А, это снова бейсбол.
Хуан Мерикал подает мяч Рону Ханту. Хант меняет
стойку. Мерикал завершает игру. Счет три:два.
13*
Джо МАКГИННИС
ГЕРОИ
СЕРЖАНТ ХУПЕР
Я ехал на автобусе в Нью-Йорк. Был воскресный
вечер, теплый для февраля, сыпала легкая изморось.
Я ехал на встречу с Джо Р. Хупером из города Зилла,
штат Вашингтон, солдатом, получившим самое большее
количество наград во Вьетнаме...
Из представления к награждению Почетной медалью
конгресса: Рота «Д» вела наступление на хорошо
укрепленную позицию противника, расположенную на берегу
реки, когда вдруг на нее обрушился шквал сокрушитель-
ного огня из ракетометов, пулеметов и автоматического
стрелкового оружия. Старший сержант Хупер собрал
несколько человек и, преодолев реку, уничтожил
противника, закрепившегося в нескольких дотах. Остальные
солдаты роты, воодушевленные примером, двинулись в
атаку. Полностью пренебрегая собственной
безопасностью, под интенсивным огнем противника, сержант
Хупер покинул укрытие и вывел с поля боя раненых. Во
время совершения этого мужественного поступка старший
сержант Хупер получил серьезное ранение, но отказался
от медицинской помощи и вернулся к своему отделению.
Когда неослабевающий огонь противника приостановил
наступление, он в одиночку атаковал три неприятельские
укрепленные огневые точки и подавил их гранатами
и огнем из личного оружия; кроме того, он уничтожил двух
вражеских солдат, напавших на капеллана и ранивших
последнего. Развивая со своим отделением наступление,
старший сержант Хупер уничтожил три строения, в
которых засели снайперы противника. В этот момент на него
напал офицер северовьетнамской армии, но сержант Хупер
нанес ему смертельную рану штыком. Когда его отделение
© Joe Macginnis, 1976.
388
оказалось под сильным огнем противника, засевшего в
жилом доме, что стоял на пути продвижения отделения, он
один подобрался вплотную к дому и огнем и гранатами
уничтожил находившихся там врагов. К этому времени к
его первой ране добавились поражения осколками
гранаты, однако, несмотря на многочисленные ранения и
потерю крови, он продолжал вести своих людей под
сильным вражеским огнем. Когда его отделение достигло
последней линии сопротивления противника, на них
обрушился мощный огонь из четырех дотов на левом фланге.
Старший сержант Хупер взял несколько ручных гранат,
прыгнул в окоп, идущий параллельно линии расположения
дотов, и побежал по нему, бросая гранаты в каждый дот
по очереди, уничтожив всех оборонявшихся. Подавив
противника, он концентрирует свои действия на последних
огневых точках, стоящих на пути его отделения. Одну
он уничтожает зажигательной гранатой, две другие
подавляет огнем из карабина. Затем он бегом пересекает
открытое пространство, все еще находящееся под
обстрелом противника, чтобы спасти раненого, оставшегося
в окопе. Добежав до цели, он сталкивается с вооруженным
вражеским солдатом и убивает его выстрелом из
пистолета. Отведя своего товарища в безопасное место и
вернувшись к своим людям, сержант Хупер подавляет
последний очаг сопротивления противника, смертельно
ранив трех северовьетнамских офицеров выстрелами из
карабина. После этого старший сержант Хупер
закрепляется со своими людьми и перегруппирует их для
обороны. Только после этого он принимает медицинскую
помощь, но отказывается от эвакуации до следующего
утра...
Он остановился в отеле «Макальпин», недалеко от
вокзала Пенн-стейшн, большом и старом, но далеко не
классном. С ним в номере были его жена и маленькая
собачка. Он только что демобилизовался. Ему было
тридцать четыре года, и он направлялся домой, в Зилла.
В школе он установил рекорд штата, за один сезон забив
наибольшее число голов в регби. Какое-то время
он держал титул чемпиона страны по бегу на одну
милю среди школьников. Он шести футов ростом,
блондин с голубыми глазами. Во Вьетнаме он убил
приблизительно 115 человек. Одних он убил из базуки, других
подорвал гранатами, третьих из винтовки, некоторых
ножом. Одного он сбросил с вертолета за то, что «он
389
смеялся надо мной». Был случай, когда он за один
вечер убил двадцать четыре человека. Вот за это, ко
всем его наградам — семи Пурпурным Сердцам, трем
вьетнамским Крестам за отвагу, двум Серебряным
звездам, одной Бронзовой звезде, личной благодарности
президента и одной армейской медали «За заслуги»,—
он был награжден еще и Почетной медалью конгресса.
Он встретил меня в холле гостиницы. С ним была
его жена. Холл выглядел очень обшарпанным. Неделю
назад в Форт-Полке он был окончательно уволен из
армии и приехал сюда, в Нью-Йорк, чтобы посмотреть
встречу по боксу с участием Джо Фрейзера. Джо
Фрейзер был чемпионом в тяжелом весе. Он и Джо Хупер
как-то оказались героями одной статьи в журнале.
В статье анализировали психику людей, которым
платят за то, чтобы они были жестокими. Билеты на матч
прислал Хуперу сам Фрейзер.
У жены Хупера были ярко-рыжие волосы и
бледная кожа, при ходьбе она чуть склонялась вперед. Она
из Алабамы, когда-то работала у Джорджа Уоллеса*.
Она страдала от заболевания позвоночника, именуемого
анкилозирующим спондилезом. Врач в Форт-Полке
сообщил ей, что болезнь неизлечима. И что она будет все
сильнее горбиться и испытывать все более сильную боль
и года через три умрет.
Мы втроем отправились в ресторанчик, где кормили
бифштексами. У Джо Хупера в ботинке лежал чек на
двенадцать тысяч долларов — выходное пособие. Он
получил чек в Форт-Полке и не смог разменять его
в Нью-Йорке.
Я заказал себе перед обедом мартини, а он —
двойной джин с тоником. Он быстро выпил свой джин
и заказал еще один. А потом третий.
— Дорогой, расскажи ему, как Никсон тебе медаль
вручал.
— А, про это.— Джо Хупер засмеялся. Он смеялся
очень громко, и голова его тряслась и раскачивалась
взад и вперед. Это было уже после обеда. Мы к этому
времени были друзьями и много смеялись. За обедом
мы пили и вино, и пиво, и ирландское виски, и теперь
Джо Хупер снова пил джин с тоником («Мне сделайте
двойной, нет, лучше тройной»), и я тоже пил.
— Приехал я на эту церемонию,— продолжал он,—
а сам — пьяный вдрызг. Всю ночь не спал. Черт, да я
390
тогда, наверно, двое суток не ложился. Ну, тут выходит
Никсон поболтать немного, пока все эти официальные
дела не начнутся; там были еще два парня, медали
вроде получали. Времени всего одиннадцать часов утра,
понимаешь, а от меня разит так, что он чуть с катушек
не свалился. Тут он начинает на меня странно так
смотреть, и тут я подумал: «Ну и дерьмо», потому что
я слышал про него, что он зануда и очень уж
правильный, понимаешь? Но, смотрю, он ничего, улыбается
и говорит: «Не знаю, что вы там пили, сержант, но дух
знатный». А я ему — что, мол, у меня во фляжке еще
осталось. А он говорит: «Да?» А я ему говорю: «Точно,
хотите попробовать?» Он говорит: «Давай». Ну тогда
идем мы в эту маленькую комнатушку, и он закрывает
дверь. Я достал флягу, и он как хлебнет, а потом я как
хлебну. Ну а потом мы вошли обратно и он мне дал
медаль. Вот я с тех самых пор и считаю: Никсон — он
в порядке.
— Слушай, мне надо ехать. Мне еще нужно на
автобус успеть,— сказал я.
— Ты не можешь ехать. Ты же еще не взял у меня
интервью.
— Ничего, я позвоню тебе через пару дней, и мы
встретимся. А это последний автобус.
— Ты что. Да ночь-то только начинается.
— Нет, меня ждет Нэнси.
— Ты позвони ей. Скажи, что щас будешь
интервьюировать Джо Хупера, у которого больше всех наград
за Вьетнам и Почетная медаль конгресса.
— Она это уже знает.
— Я-то чем виноват, что ты все больше ешь, пьешь
и треплешься, а не интервьюируешь?
— Мне надо успеть на автобус.
— Оставайся у нас. Он ведь может лечь на полу,
правда, малышка?
— Конечно, Джо, если он хочет. Но может быть,
ему и правда нужно успеть на этот автобус.
— Не нужно ему на автобус. Ему только и нужно,
что позвонить по телефону.
— Нет, правда, мне нужно на автобус.
— Ну вот, я стараюсь тебе помочь, дать тебе
исключительное интервью, а ты хочешь сбежать. Это не очень
вежливо.
— Ну ладно тебе, Джо. Пусть он едет, если хочет.
391
— Дело не в том, что я хочу. Но моя машина
осталась на стоянке у автобусной остановки. А утром
она нужна Нэнси и...
— А я тебе говорю, тебе нужно подойти к этому
чертову аппарату... и позвонить, и сказать, что ты
с Джо Хупером и не успеешь на автобус.
— Джо, если вы будете спорить, он на него и так
не успеет.
— Э-э, черт, точно. Осталось-то всего двенадцать
минут.
— Вот и порядок. Тебе все равно на него было не
успеть. Иди звони. Если что не так, я подойду, поговорю
с ней. И приходи скорей назад, приятель, мы еще
выпьем.
Я позвонил и вернулся к столу. Джо Хупер сказал:
— Хочешь, я тебе скажу, кто мой герой? Арт Бух-
вальд, вот кто.
— Арт Бухвальд?
— Я считаю, что он просто гений.
— Арт Бухвальд твой герой?
— Дорогая, помнишь ту статейку про войну,
которую он написал? Ну, где он говорит, как там все нам
обгадили?
— Которая, Джо? Я что-то не помню.
— Да ты знаешь, о чем я говорю. Статья, которую
я вырезал и таскал с собой в бумажнике. Ну, черт, я и не
думал, что можно так смешно написать.
— Просто потрясающе! — сказал я.
— Да, он гений, черт его побери. Он так все прямо
и видит насквозь. Вот, я тебе скажу, с кем бы я хотел
хоть раз встретиться. Слушай, где он живет? В
Вашингтоне?
— Нет, это просто потрясающе. Слушай, завтра
приезжает Нэнси. А приезжает она потому, что для
одной филадельфийской газеты пишет про Арта Бух-
вальда.
— Врешь!
— Завтра он снимает выступление Дэйвида Сас-
кайнда * и потом поездом едет в Хартфорд. И Нэнси
с ним едет.
— Точно?
— Ты серьезно хочешь познакомиться с ним?
— А ты думаешь, это можно устроить?
— Конечно. Мы просто пойдем завтра в студию
392
Саскайнда и... Нет, мы лучше сделаем вот как, Что
ты делаешь завтра вечером?
— Нам нужно встретиться кое с кем, но это не
обязательно делать завтра.
— Отлично, тогда мы сделаем так. Мы встретимся
с Нэнси и Бухвальдом в студии, а потом поедем вместе
с ними в Хартфорд. Возьмем с собой в поезд выпивку.
— Да ну?
— Это же будет здорово.
— А мы не испортим Нэнси ее интервью?
— Что ты! Так даже лучше получится, живее,
понимаешь?
— А ты с ним знаком, с Бухвальдом?
— Нет, никогда с ним не встречался.
— Так с чего ты решил, что он вдруг захочет,
чтобы мы с ним вместе ехали?
— Ты, что, шутишь? Да он будет рад, как я не знаю
кто. Он гигантский парень. Все говорят.
— Ты и правда так думаешь?
— Конечно. Ты только не забывай: ты не кто-нибудь,
ты — Джо Хупер, у тебя больше всех наград за
вьетнамскую войну, да еще Почетная медаль конгресса.
Прошло время. Было полшестого утра. За окном
начало светлеть. Мы сидели в гостиничном номере Джо
Хупера. Пили белое вино — теплое и сладкое. Жена Джо
Хупера сидела в халате. Ее собачонка на меня тявкала.
До этого мы с Джо Хупером куда-то ходили. Его жена
легла спать, но из-за боли в спине не могла заснуть.
Джо Хупер снял ботинки. Он хотел убедиться, что его
чек на месте. Чек на двенадцать тысяч, по которому
он никак не мог получить деньги. Он начал сморщиваться
и кое-где порвался оттого, что его так долго носили
в ботинке.
— Я тут выступал перед бойскаутами в Хьюстоне,—
сказал Джо Хупер.— Ты бы видел! Они просто сбесились.
И так везде, куда бы я ни пришел, на бейсбол или еще
куда. Прихожу на стадион «Доджер», к примеру. Они тут
же пишут на табло, что я здесь — и, раз! — для меня игра
кончена, я весь вечер должен подписывать автографы.
То же самое с работой. Я могу выбирать, что хочу.
Практически любое место. Мне такие предложения
делали — ты не поверишь. Триста тысяч, чтобы я
согласился работать на одну итальянскую фирму. Одна из
393
этих крупных итальянских компаний. Потом эта, «Хьюз
эйркрафт», самолеты делают. Они хотят, чтобы я у них
заведовал отделом по связи с публикой,— пятьдесят
четыре тысячи в год. Я им отказал. Предлагали и сто тысяч —
быть вроде как представителем предприятия в одной
авиакосмической компании, я лучше название и
произносить не буду. Вся штука в том, что все хотят меня
заполучить. Каждый хочет сказать: вот он, Джо Хупер,
это мы его хапнули. И знаешь, от этого уже тошно
делается.
— Да, да, я знаю.
— А еще, видишь ли, есть Голливуд. Я мог пойти
в Голливуд, и я знаю, что у меня вышло бы. Я здорово
получаюсь на экране, они сами сказали. Я там встречался
с большими людьми, и они сказали: «Ты очень
естественный, ты нам годишься». Но я уже завернул их
предложение. Хотели, чтобы я снялся в аннивоенке.
— Что? Анни...?
— Аннивоенке, ну, в антивоенном фильме. Я
наотрез оказался. Ни за какие деньги. А потом мне
предложили заняться политикой. Они хотели, чтобы я
выставил свою кандидатуру в мэры.
— Кто это — они?
— Ну... эти люди.
— В Голливуде?
— Нет, в Беверли-Хиллс. Они и сейчас меня просят,
хотят, чтобы я был мэром Беверли-Хиллс.
Потом он подарил мне ручку и копию своей Почетной
медали, на обратной стороне которой было факсимиле его
подписи.
Четыре часа спустя Джо Хупер снова запихивал свой
чек в ботинок, готовясь начать еще один день.
— Эй, приятель,— сказал он,— может, выпьем?
Тут я впервые заметил пистолет на ночном столике у его
кровати. А потом я увидел винтовку, прислоненную к двери
стенного шкафа. Он объяснил, что таскать с собой чек на
такую крупную сумму безопаснее с пистолетом в кармане.
Я, правда, не понял, о чем он беспокоился. Он и сам-то
не смог обменять его на наличные. И я вовсе
не представлял, как человек, укравший чек из его ботинка,
мог получить по нему деньги. «А винтовка — это
сувенир»,— сказал он. Он ее достал, только чтобы проверить
прицел. Он проверял его, наводя винтовку из окна своего
394
номера на вход в ресторан напротив. Он оставил это
занятие, только когда заметил, что народ внизу начал
смотреть на его окно.
— Ну так как, приятель? Ты уверен, что нам стоит
устраивать все это дело с Бухвальдом?
— Абсолютно уверен. Такое раз в жизни выпадает.
Прошло еще какое-то время. Мы встали с наших мест
и пересекли помещение студии. Арт Бухвальд все еще
разговаривал с Дэйвидом Саскайндом. Он курил сигару
и улыбался. Потом он поднял глаза и увидел нас,
Джо Хупера, и меня, и жену Джо Хупера, направлявшихся
прямо к нему. Большую часть этого дня мы с Джо
Хупером пили. Когда Арт Бухвальд увидел нас, он
перестал улыбаться. Я изобразил на лице улыбку и
помахал ему рукой. Нэнси перехватила меня, когда мы уже
были с ним рядом.
— Он не согласился,— сказала она.
— Как это не согласился?
— Он устал, и утром ему выступать с большой речью,
и он хочет спокойно поехать на поезде и как следует
выспаться.
— Да ты послушай. Он же герой Джо Хупера.
Я наконец добрался до Арта Бухвальда, Джо Хупер и
его жена за моей спиной.
— Привет,— сказал я и представился.— Хочу вас
познакомить с моими друзьями: Джо Хупер и его жена,
Фэй Хупер. Нэнси, наверное, вам рассказывала. Джо
получил Почетную медаль. Он вообще получил самое
большое количество наград во Вьетнаме.
— Да, да, конечно,— сказал Арт Бухвальд.— Очень
приятно.
— Джо — ваш большой поклонник. Серьезно, он
считает вас великим человеком. Вам Нэнси, наверное,
сказала, что мы думали вместе с вами доехать до
Хартфорда на поезде. Можно выпить по стаканчику, когда
доберемся до гостиницы.
— Не думаю, чтобы это была такая уж хорошая
идея,— сказал Бухвальд. Он затянулся сигарой. Казалось,
он нервничает. Он смотрел на двери студии.
— Я не имею в виду, что мы будем пьянствовать всю
ночь или что-нибудь в этом роде. Просто Джо приехал...
— Нэнси, вы готовы? — спросил Бухвальд.— Нам
надо бежать.— Он торопливо пожал мне руку.— Был
395
рад познакомиться. Миссис Хупер, мистер Хупер...—
Потом он еще раз пыхнул своей сигарой и исчез.
Я провел с Джо Хупером еще три дня и три ночи.
Его чек за это время сильно сморщился и покрылся
пятнами. Мы обошли кучу разных заведений и выпили
колоссальное количество напитков. Фактически
потребление алкоголя явно стало основной целью нашей жизни.
Мы пили целые дни и ночи напролет, а наши иллюзии
становились все более яркими и заумными.
Джо Хупер рассказывал истории. О том, как он летел
домой из Боливии и вдруг захотел, чтобы его
приятельница встретила его в аэропорту, и он послал ей
телепатический сигнал, передал номер своего рейса и время
прибытия, и она приехала в аэропорт и встретила его.
И еще другую историю, о медали святого Христофора,
об огнемете и чудесном спасении десятков жизней. И еще
история о световом пятне, которое он видел всякий раз,
когда молился во время боя. Было еще много других.
Прошло время. Было три часа утра, мы сидели
в баре, и старуха с морщинистым лицом гадала мне по
руке, а Джо Хупер говорил мне, чтобы я заткнулся,
потому что все, что говорила старуха, сбудется. Потом
мы сидели еще где-то, было обеденное время, и нас никто
не гнал, и мы заказали много-много пива перед обедом,
а потом еще вина, и виски, и бренди, а потом прошел день,
потом наступил вечер, и мы снова пили пиво и не ушли
из этого ресторана, пока народ не начал приходить
ужинать. Мы пошли на вокзал Пенн-стейшн и купили
билеты на вашингтонский поезд. Не знаю зачем. Но мы
сидели в поезде, в салон-вагоне, и заказывали напитки,
и Джо Хупер рассказывал новые истории, и я тоже
рассказывал истории, а поезд мчался, увозя в ночь нас
и наши иллюзии.
УИЛЬЯМ УЭСТМОРЛЕНД
Через неделю после встречи с Дэниелом Берриганом *
я поехал в город Колумбия, штат Южная Каролина,
к Уильяму Уэстморленду. Я отправился прямо к нему
в офис, расположенный в здании банка. Уэстморленд тогда
возглавлял спецгруппу по вопросам экономического
развития при губернаторе штата и ждал, что его пригласят
баллотироваться на пост самого губернатора.
396
Он знал о моем приезде и встретил меня стоя. В свои
пятьдесят девять лет он был еще в отличной форме,
с безупречной выправкой. Его властные черты, казалось,
совсем не изменились: выдающийся вперед подбородок,
лоб с мощными надбровьями, нависающий над темными,
жесткими глазами. Но в лице, раньше сухом, туго
обтянутом кожей, появился намек на полноту. Волосы,
цвета потемневшего серебра, зачесанные назад, оказались
длиннее, чем я ожидал. Потом я понял: до тех пор я
никогда не видел его без головного убора. Попросту говоря, я
никогда раньше не видел его в гражданской одежде, а в его
фигуре, осанке сохранилось столько военного, что вид его
в гладком сереньком костюме и бесцветном галстуке
приводил в замешательство.
— Здравствуйте, генерал. Рад вас видеть снова.— Он
не улыбнулся, пожимая мне руку. Взгляд был жестким, рот
вытянут в тонкую линию. Он указал на стол в конце
кабинета. Мы уселись друг против друга. Он ждал, чтобы
я начал беседу.
— Вы, наверное, знаете — я пробуду здесь несколько
дней,— начал я.
— Да. Вы ведь, кажется, бывали во Вьетнаме?
— Несколько раз. В 1967 году мы с вами как-то
провели вместе целый день.
— Помню, как же. Вы тогда написали обо мне статью.
Кажется, даже не одну.
— Нет. Всего одну, но большую.
— Верно, кто-то из друзей прислал мне несколько
экземпляров.— Он смотрел не моргая, речь его была
лишена интонаций, слова звучали плоско, монотонно.—
Я помню эту статью,— сказал он.
Я кивнул в ответ. Я тоже ее помнил.
САЙГОН, декабрь 1967 года. Черный автомобиль
мягко пересек бетонную взлетную полосу и остановился
перед зданием. Капитан армии Соединенных Штатов
Америки, с волосами, подстриженными так коротко, что
казался лысым, поспешно выскочил из передней дверцы,
обошел машину, распахнул заднюю левую дверь и
протянул коричневый кожаный портфель для бумаг. Уильям
Уэстморленд, главнокомандующий сухопутными войсками
США во Вьетнаме, вышел из автомобиля. Капитан
вручил ему портфель, и генерал широкими уверенными
397
шагами направился к входу в здание. Подойдя к двери,
сн посмотрел на часы. Было 13.45.
— У меня есть еще пятнадцать минут,— сказал
Уэстморленд,— мне еще нужно поработать.
Капитан распахнул перед ним дверь. Уильям
Уэстморленд исчез внутри здания.
— Что-то он какой-то озабоченный сегодня,—
сказал один из стоявших на летном поле.
— Его не разберешь. Другой раз, бывает, размякнет,
как баба.
В 13.58 двухмоторный турбовинтовой самолет с
четырьмя серебряными звездами на борту подрулил к стоянке
на взлетно-посадочной полосе. Ровно через две минуты
Уильям Уэстморленд снова появился в дверях здания. Он
отдал портфель капитану и поднялся по короткому трапу
в самолет.
Это был шестиместный «С-21», три обычных
самолетных кресла по правому борту и три места на скамье,
обтянутой брезентом, слева через проход. Уильям
Уэстморленд сел в среднее кресло на правой стороне. Капитан
вручил ему «Старз энд страйпс», армейскую газету,
и маленькую пластмассовую баночку с затычками для
ушей. Уэстморленд, держа затычки в одной руке, взглянул
на заголовок первой страницы. «Чэпмен назначен
командующим корпусом морской пехоты США» — было
напечатано жирным черным штрифтом через всю страницу.
Впервые после прибытия на аэродром Уильям
Уэстморленд улыбнулся.
— Отлично,—сказал он,— я рад, что они это уладили.
Этот спор грозил развалить морскую пехоту.— Потом,
повернувшись, сказал, словно сам себе не веря: —
А вы знаете, что меня обвиняли в заговоре, будто я хотел
посадить своего человека на это место? — Он замолчал,
ожидая реакции.
— Будто вам делать больше нечего.
Уильям Уэстморленд расхохотался. Весело
расхохотался, от души.
— Будто мне делать больше нечего,— повторил он.
Он снова рассмеялся. Потом вернулся к своей газете.
Двигатели взревели на полном газу, и самолет
помчался по взлетной полосе, безучастно пекшейся на сай-
гонском солнце. Одним рывком машина отделилась от
земли и сделала резкий разворот влево, и стало видно, как
полосы мутных рек начали медленно подниматься на
398
горизонте, словно подъемная госпитальная койка. Самолет
выровнялся и со скоростью 180 миль в час двинулся на
восток.
Уильям Уэстморленд листал газету быстро, читая в
основном заголовки; более подробно он остановился
только на спортивном разделе. Минут через десять он
сложил газету и оставил ее на коленях.
— Сколько времени вы уже здесь? — спросил он.
— Скоро месяц,
— Месяц? Так вы теперь просто специалист.
Он сделал паузу, ожидая, чтобы я засмеялся.
Дождавшись, тоже хохотнул.
— На самом деле,— сказал я,— я теперь знаю гораздо
меньше, чем до того, как попал сюда. Пожалуй,
единственный абсолют, в который я еще верю,— это то, что никаких
абсолютов не существует.
— Это верно,— сказал Уильям Уэстморленд.— Это
очень правильно. Тут только нельзя заниматься
обобщениями. Хотя всегда можно подобрать факты в поддержку
любой точки зрения, которую вы хотите принять.
— Люди так и поступают.
Он снова засмеялся, и его смех было слышно,
несмотря на шум двигателей.
— Да, именно так люди и поступают.
Затем он открыл баночку и вставил затычки в уши.
Полчаса спустя самолет приземлился в Пхан-Тьет на
восточном побережье. Издали была видна бирюзовая вода
и пена прибоя у берега.
— Здесь сейчас находится первая бригада 101-й
авиадесантной дивизии,— сказал Уэстморленд.— Только
неделя как прибыли. Дорога номер один проходит совсем
рядом отсюда, и мы пытаемся удерживать вьетконговцев
подальше от нее, чтобы можно было начать коммерческие
перевозки грузов. Генерал Мэтесон, который встречает
меня, командует здесь. В Корее он служил в моей
бригаде.— Уильям Уэстморленд встал и опоясался
протянутым капитаном ремнем, к которому были пристегнуты
пистолет и нож с перламутровой рукояткой.
— Последний раз мы встречались с генералом Мэтесо-
ном две недели назад,— сказал Уэтсморленд уже в джипе,
который, поднимая облако пыли, катил к штабу бригады,—
мы были приглашены в Белый дом на уик-энд.
Джип остановился, и генерал вышел.
— Где мой портфель? — спросил он капитана.
399
— Я оставил его в самолете, сэр.
— Какого черта, он может мне понадобиться.
— Я принесу его сию минуту.
— Конечно, мы сейчас пошлем джип,— сказал
симпатичный румяный генерал Мэтесон.
— Да уж, пожалуйста,— сказал Уэстморленд,— он
мне будет нужен.
— Есть, сэр,— ответил капитан и вскочил в джип,
который тут же исчез в облаке пыли.
Десять минут спустя Уильям Уэстморленд был уже
в штабной палатке. Он сидел в кресле в первом ряду,
жевал печенье с шоколадной крошкой и пил чай из
бумажного стаканчика. Перед ним висела карта, вверху которой
было написано: «Операция „Клемет Фоле"».
Сначала один полковник, потом другой, за ним
капитан, потом майор и еще один майор, которых периодически
дополнял генерал Мэтесон, сидевший справа от
Уэстморленда, излагали замысел операции.
— А теперь переходим к следующему этапу,
разработанному нашим штабом.
— Мной он был разработан, майор,— перебил
Уэстморленд,— но все равно, продолжайте.
Хохот сотряс палатку.
Потом для доклада встал полковник из спецчастей,
с длинным глубоким шрамом на черепе. Фамилия его
была Гриффите. В какой-то связи Гриффитсу пришлось
упомянуть южновьетнамскую армию.
Уильям Уэстморленд подался вперед в своем кресле.
— Так,— сказал он.— Что вы можете сказать о том,
как они действуют?
— Ну, можно сказать, что они делают некоторые
успехи, сэр,— сказал полковник Гриффите.
— Делают успехи, ну-ну.— Уильям Уэстморленд
посмотрел на своего гостя, сидевшего через проход между
рядами стульев.—Делают успехи,— повторил он.— Ну
а можно сказать, что они хорошо воюют?
Полковник Гриффите посмотрел себе под ноги, открыл
рот, снова закрыл его и тяжело вздохнул. В конце концов
он поднял голову и ответил.
— Нет, сэр,— сказал он.— Я не могу сказать, что они
хорошо воюют.
Уильям Уэстморленд отмахнулся от ответа, как
чемпион по боксу парировал бы тычок партнера в
тренировочном бою.
400
— Но они делают успехи? — спросил он.
— Ну да, сэр,— ответил полковник Гриффите с тоской
в голосе.— Я хочу сказать, что теперь, когда мы занимаем
новую позицию, они сначала окапываются, а уж потом
развешивают свои гамаки.— Кое-кто в палатке
улыбнулся, но смеха не послышалось. Уильям Уэстморленд не
был в числе улыбавшихся.
— А как они ведут себя под огнем, полковник?
— Э-э, теперь лучше, сэр.
Гриффите был уже близок к отчаянию, но
хладнокровие, присущее офицерам спецчастей, когда они
попадают в переделку, помогло ему вспомнить один эпизод,
который, казалось, мог его спасти.
— На прошлой неделе, сэр, одного их лейтенанта
ранило в ногу. Довольно серьезное ранение, сэр. Но он
четыре дня отказывался от эвакуации, чтобы остаться со
своими людьми.
Уильям Уэтсморленд резко повернулся и посмотрел на
полковника Гриффитса.
— Так вы говорите, он четыре дня не эвакуировался?
— Так точно, сэр,— ответил Гриффите.
— Но ведь это же прекрасно. Просто великолепно! —
Уильям Уэстморленд снова посмотрел на своего гостя.—
Но такого рода случаи,— продолжал он,— почему-то
никогда не попадают на страницы наших газет.—
Он повернулся в кресле боком и обратился ко всем
присутствующим: — Всего две недели назад я был дома,
в Штатах. И позвольте вам сказать, все, что я там читал
или слышал о южновьетнамской армии, было ужасно.
Картина получается ужасающая и искаженная. А все
потому, что такие вот случаи описания подобных эпизодов
никогда не попадают в печать.— Он снова повернулся
к полковнику Гриффит су.— Скажите, полковник, вы
довели этот случай до сведения какого-нибудь
корреспондента солидной газеты?
Бедный Гриффите. Он-то думал, что уже выкрутился.
— Ну, в общем, да, сэр. Я рассказал об этом репортеру
армейской газеты.
— Репортеру армейской газеты. И это все? Ни одному
гражданскому репортеру?
— Нет, сэр. Никогда не приходилось иметь с ними
дела, сэр.
Уильям Уэстморленд обратил взор на карту, висевшую
перед ним.
401
— Это просто позор, что такие случаи не доходят до
газет. Могут поспорить, что побеги этот лейтенант с поля
боя после первых выстрелов, как тут же налетела бы целая
куча гражданских репортеров.
Под тентом наступила долгая, тяжелая тишина.
В конце концов генерал Мэтесон кивнул в сторону еще
одного полковника, и тот начал говорить об операции
«Ниагара», которая должна следовать сразу за операцией
«Клемет Фоле».
Когда совещание было закончено, Уэстморленд решил
не возвращаться сразу в Сайгон, а посетить батальон
на боевой позиции. Путешествие заняло двадцать минут
полета на вертолете. От побережья в сторону зеленых,
густо поросших гор, которые неожиданно выросли из менее
яркой зелени равнины.
Командный пункт батальона был отмечен
американским флагом, который в послеполуденном бризе
развевался над палаткой радиостанции. Уильям Уэстморленд
вышел из вертолета и быстрым шагом направился вверх
по склону холма к штабной палатке батальона. Грязные,
потные солдаты со всех сторон заторопились в его
сторону, поспешно щелкая фотоаппаратами.
Не больше десяти минут он слушал доклад, затем
обратился к командиру батальона:
— Полковник, этот флаг, там наверху,— ваша идея?
— Так точно, сэр,— ответил тот с гордостью.
— Мне эта идея не очень нравится,— сказал Уильям
Уэстморленд.— Будь я на месте вьетконговского
минометчика вон на той высоте, этот флаг показался бы мне
отличной целью. Вы со мной согласны?
— Так точно, сэр.
— Мне бы вряд ли удалось обнаружить вашу
радиоантенну, но уж флаг, черт возьми, я бы увидал
наверняка.
— Мы его спустим, сэр.
Когда через две минуты Уильям Уэстморленд вышел
из штабной палатки и направился вверх по холму, флаг
уже был спущен. Он остановился у палатки
радиостанции, окруженной стенкой, сложенной из мешков с
песком.
—А что, здесь нет никакого укрытия сверху? — спросил
Умильям Уэстморленд.
— Сэр, мы путешествуем налегке, так сказать, и не
захватили с собой соответствующих материалов.
402
— А здесь, на месте, вы ничего не нашли,— он жестом
указал на деревья растущие в полусотне метров.
— Но это потребует столько сил и времени, сэр.
— Это ваша радиостанция. Я полагаю, что она стоит
усилий, чтобы обеспечить ее максимальную безопасность в
этих условиях. Я слышать ничего не хочу о том, что
солдаты боятся попотеть. Вы хорошие солдаты, вы отлично
сражались, с честью делали свое дело. Я не хочу, чтобы
мы теряли людей из-за их собственной лени. Я считаю, что
вам нужно укрытие над радиопалаткой.
— Так точно, сэр.
Уильям Уэстморленд отправился инспектировать пять
артиллерийских батарей, расположенных на позициях.
Остальной личный состав батальона нес в это время
патрульную службу. На третьей батарее, обходя строй,
Уильям Уэстморленд заметил, что у одного из солдат нет
личного знака на шее, так называемого «собачьего
жетона».
— Где твой жетон, сынок?
— В палатке, сэр.
— Что он там делает?
— Ну, сэр, нам приходится часто нагибаться, сэр.
Они вроде как мешают, сэр.
— Вроде как мешают, говоришь?
Он подошел к следующему солдату в шеренге
и оттянул ворот его рубахи.
— Где твой жетон?
— В палатке, сэр.
— Почему?
— По той же причине, сэр.
Уильям Уэстморленд сделал шаг назад и оглядел
строй, посмотрел на сержанта.
— Я не считаю это веской причиной. Это не
оправдание. Жетоны следует носить постоянно. Так, сержант?
— Так точно, сэр.
И к солдатам в строю:
— Так или не так?
— Так точно, сэр,— ответил хор усталых голосов.
— Никакой расхлябанности я не допущу,— сказал
Уильям Уэстморленд и направился в сторону четвертой
батареи.
По пути ему попался солдат, шедший с непокрытой
головой.
— Где ваша каска, рядовой?
403
Солдат остановился, это был шатен с вьющимися
волосами.
— В палатке, сэр.
— А что она там делает?
— Я только отошел ненадолго, я не думал, что она мне
понадобится, сэр.
— Каски,— произнес Уильям Уэстморленд,— в
полевых условиях следует носить постоянно. А где ваше
оружие?
— Там же, сэр.
— Полковник,— позвал он,— ваш человек
разгуливает здесь без каски и без оружия. Это пример той самой
расхлябанности, с которой я не желаю мириться. Это не
соответствует тому уровню дисциплины, которого я требую
от своих подчиненных. Все это крайне
неудовлетворительно.
— Да, сэр,— ответил полковник.
— Это совершенно не отвечает моим требованиям.
— Вас понял, сэр.
Уильям Уэстморленд резко повернулся и пошел
дальше...
— Конечно,— сказал Уэстморленд,— это было очень
давно.
— Да,— согласился я.— Очень давно и очень далеко.
Три дня спустя Нэнси и я ехали с Уильямом
Уэстморлендом в машине. Мы сидели на заднем сиденье,
Уэстморленд впереди. Ему предстояло выступить с речью.
За рулем сидел его помощник, отставной полковник. Был
вторник, канун Дня благодарения *. Нэнси приехала
вечером предыдущего дня, чтобы сделать снимки для очерка
о Уэстморленде, который я собирался написать и
опубликовать в журнале. Неожиданно Уэстморленд повернулся
и спросил, есть ли у нас какие-нибудь планы на День
благодарения.
— Нет, генерал, ничего особенного.
Тогда он начал рассказывать о своей новой хижине
в горах Северной Каролины. О том, как красиво там
сейчас, в это время года. Об озере, и о гигантских
горах позади озера, и о лесах, о теннисных кортах
и площадках для гольфа.
— Обычно,— продолжал он,— наши дети приезжают
к нам в День благодарения, но в этом году что-то не
получилось у них с приездом. Вот я и подумал... и я уверен
404
госпожа Уэстморленд будет очень рада, если, конечно,
у вас действительно ничего особенного не запланировано...
Там, в горах, и на самом деле очень хорошо. Я просто
уверен, вам понравится.
Я взглянул на Нэнси. Нэнси смотрела на меня.
— Конечно, генерал. Что за вопрос,— сказал я,—
мы будем очень рады.
А в среду вечером мы ехали в машине, взятой напрокат,
по узкой пустынной асфальтовой дороге с частыми
подъемами и спусками. Впереди ехал Уильям Уэстморленд
в своем новеньком голубом «ауди», набитом провизией на
весь уик-энд. Рядом с ним сидела госпожа Уэстморленд.
Мы ехали в горы праздновать День благодарения: Уэсти и
Китси, Нэнси и Джо.
«Ауди» вдруг сбавил скорость и вскоре остановился на
обочине. Уэстморленд отстегнул ремень безопасности,
открыл дверцу, вышел из машины и направился в нашу
сторону. Выглядел он мрачно.
— Что стряслось? — спросила Нэнси.
— Не знаю, может быть, он передумал.
Я опустил стекло. Незадолго до этого шел дождь,
но теперь небо прояснилось. Было ветрено и прохладно.
Подошел Уэстморленд.
— У нас небольшая проблема,— сказал он с ухмылкой.
— Что такое?
— Похоже, у нас бензин кончился.
С бензоколонки, которую мы миновали за десять минут
до этого, я привез галлонную канистру бензина, но у нее
оказался слишком короткий наконечник. Заливная
горловина бака у новенького голубого «ауди» была глубоко
утоплена в корпус. Казалось совершенно невозможным
перелить бензин из канистры в бак машины. Я стоял
с канистрой в руках, уставившись на горловину бензобака.
Уильям Уэстморленд, которого даже его недоброжелатели
признавали человеком, в течение всей своей военной
карьеры проявлявшим холодную компетентность в делах,
касавшихся вопросов снабжения и обеспечения, стоял
рядом со мной, потирая рукой подбородок, и тоже
смотрел на бензобак.
— О господи,— сказал я.
— Чертовщина,— сказал Уэстморленд.
— Что же теперь делать?
Уэстморленд подумал с минуту и сказал:
— Боюсь, вам придется съездить назад и попытаться
405
достать какую-нибудь другую канистру. Или попробуйте
взять у них взаймы воронку.
— Хорошо.
— Я просто не соображу, что еще можно сделать.
В эту минуту Нэнси вылезла из машины.
— Господи! Да вы же стоите практически посреди
мусорной кучи. Возьмите пустую бутылку из-под пива,
отбейте донышко — вот вам и воронка.
— Черт! — воскликнул я.
— Прекрасная мысль! — подхватил Уэстморленд.
Я нашел бутылку и протянул ему. Присев на
корточки, он ударил бутылку о камень. Дно с треском
откололось. Получилась самодельная воронка с острыми
зазубренными краями. Уэстморленд вставил горлышко
бутылки в отверстие бензобака, и я приставил наконечник
канистры.
— Порядок,— сказал Уэстморленд,— лейте.
Я наклонил канистру, и бензин начал медленно
переливаться из канистры в бак.
— Чуть быстрее,— попросил Уэстморленд.
Я чуть больше наклонил канистру. Бензин быстрее
потек в бак. Слишком быстро. Воронку перелило, бензин
выплеснуло прямо на руки Уэстморленда, мне на руки, на
начищенные до зеркального блеска ботинки Уэстморленда
и манжеты его отутюженных, словно накрахмаленных,
брюк.
— Ничего, ничего,— сказал он, усмехаясь.— Полный
вперед.
Потом он взглянул на Нэнси, на меня и засмеялся, а
бензин продолжал проливаться на землю у наших ног.
Было уже темно, когда мы приехали в горы и добрались
до поселка, в котором располагался дом Уэстморленда.
Охранник у ворот приветствовал Уэстморленда, потом
махнул нам рукой, чтобы мы проезжали следом. Мы
оставили машину у дома, стоящего у подножия горы рядом
с озером. Мы с Нэнси помогли Уэстморлендам выгрузить
вещи из их машины. Уэстморленд пошел в спальню
переодеться. Потом он сходил к соседям занять дров.
После этого сам смешал для нас коктейли. Мы перешли
в гостиную. Он развел огонь в камине. Мы сели у
телевизора и смотрели программу новостей. Сначала по одной
программе, потом по другой. С потолка гостиной
свешивалось знамя, прикрепленное к балке. «Добро пожаловать
домой, Уэсти!» — было написано на знамени.
406
— Откуда это у тебя? — спросил генерал госпожу
Уэстморленд.
Она взглянула на него удивленно:
— Что значит, откуда это у меня?
— Ну, это знамя, которое мне сделали в Чарлстоне.
— Никто тебе его в Чарлстоне не делал.
— Ну как же, они его сделали по случаю моего
возвращения из Вьетнама.
— Мы с дочерью сделали его к твоему приезду
из Вьетнама. И мы держали его над головами, когда
встречали тебя в аэропорту.
Уильям Уэстморленд снова посмотрел на знамя.
— Интересно. А я всегда думал, что мне его
преподнесли в Чарлстоне.
Позже, когда огонь в камине погас, но угли еще
мерцали и госпожа Уэстморленд уже отправилась спать,
Уэстморленд, Нэнси и я сидели вокруг низкого столика
и пили вино.
— Вас очень радушно приняли в Северной
Каролине,— сказал я.
— Да, пожалуй.
— Наверное, это особенно приятно после Вашингтона
и после того, как все обернулось для вас по всей стране.
— Да, нет. Вы, может, удивитесь, но я, например,
не помню случая, чтобы я появился где-нибудь в
аэропорту и чтобы два-три человека не подошли поговорить
со мной. А совсем недавно я возглавлял парад в
Балтиморе. Там была патриотическая церемония с парадом.
Говорят, было не меньше полумиллиона зрителей.
— Неужели?
— Ну да. А представьте, если бы я возглавлял парад
два, три или четыре года назад. Можете быть уверены —
все эти антивоенные элементы тут же налетели бы со
своими протестами. Но сейчас никаких грубых выходок. Нет,
в самом деле, зрители меня узнавали и почти каждый
раз устраивали овацию.
— Приятное, должно быть, ощущение.
— Конечно. Да я и не думаю, что во всей этой
враждебности было что-то личное. Просто в их глазах
я был воплощением того, против чего они выступали.
Нельзя сказать, чтобы это доставляло удовольствие —
все эти люди, размахивающие плакатами с надписями,
что я убийца женщин и детей и так далее и тому подобное.
407
Но нельзя позволять себе расстраиваться из-за таких
вещей. Нужно просто преодолевать их.
Я к тому времени уже изрядно выпил и коктейлей и
вина, и, наверное, все это ударило мне в голову. Я спросил:
— Мне всегда было интересно узнать: что вы
чувствовали, когда были там?
— Простите?
— Что вы чувствовали там, во Вьетнаме? Как человек.
Понимаете? Не как генерал, а как живой человек. Что
вы чувствовали в отношении всех этих убитых?
— Мне кажется, я не совсем понимаю ваш вопрос.
— Я хочу сказать, вот вы были там командующим
целых четыре года и каждый день знали, что то, чем
вы занимаетесь на самом деле, было убийством тысяч
людей. Вы что-нибудь чувствовали, когда все это там
происходило?
Он посмотрел на меня. Взгляд его был совершенно
спокоен. Вопрос, видно, его нисколько не задел.
— Чувства вины я не испытывал, если вы это имели в
виду.
— Пожалуй, это я и имел в виду.
— Нет, ничего подобного я не ощущал.
— Мне просто было интересно узнать.
— Я знаю, многие скажут, что я должен был это
почувствовать. И может быть, они правы. Но я вины не
испытывал. Я это отношу за счет сорокалетней военной
подготовки. Одна из целей такой подготовки, говоря
откровенно,— это искоренить те самые ощущения, о
которых вы говорите. И это, мне кажется, главное. В
противном случае у нас не было бы солдат.
— Вам не хватает теперь всего этого? Я не имею в виду
Вьетнам. Я имею в виду армию, быть генералом,
командующим — всего этого?
— Наверное, да. В определенной степени не хватает,—
тихо ответил он. Потом он посмотрел вверх и сказал, на
этот раз более твердо: — Нет. Я не позволю себе скучать
обо всем этом. Нужно принимать жизнь такой, какова она
сегодня. Именно так я и делаю.
Вскоре я пошел спать. Я открыл дверцу шкафа,
чтобы достать вешалку для брюк. В шкафу, один за
другим, аккуратно висело несколько комплектов полевой
формы генерала Уэстморленда. Все гладко отутюженные,
на воротничке каждой рубахи поблескивало по четыре
генеральских звезды.
408
Утром в День благодарения мы с генералом поехали
в гольф-клуб. Солнце светило сквозь легкую дымку, было
очень тепло. Двое мужчин вышли из здания клуба и
направились к площадке, толкая перед собой тележки
с принадлежностями для игры, они пересекали стоянку
автомобилей. Генерал остановил машину и опустил стекло.
— Доброе утро. Я генерал Уэстморленд.
Мужчины ответили на приветствие.
— Похоже, будет хороший денек.
Мужчины согласились.
— Собираетесь поиграть, я вижу?
Мужчины в ответ кивнули.
— Я и сам собрался поиграть.— Генерал сделал паузу,
явно давая им возможность спросить, не присоединится
ли он к ним. Они промолчали.
— Да, чудесный день,— повторился генерал.
Мужчины снова кивнули.
— Сейчас поставлю машину. Может, я догоню вас
через пару минут.
Мужчины кивнули в третий раз и направились к
первому флажку.
Нам с Нэнси пора было уезжать. Я вошел в гостиную,
где сидел Уильям Уэстморленд. Перед ним на столе
были разложены бумаги. Он повернулся ко мне.
— Мои мемуары,— сказал он,— собираюсь
поработать немного.
Я стоял с чашкой кофе в руке. Из-за спины
Уэстморленда через окно падал яркий солнечный свет,
заставлявший меня жмуриться.
— Почти закончил,— сказал он,— еще несколько
месяцев и все.
— Что вы говорите!
— Да, и, между прочим, с самого начала я не забыл
оставить за собой права на постановку фильма.
— Фильма?
— А что вы думаете, неплохой фильм можно сделать
на основе моего жизненного опыта, всего, что я пережил,
особенно во Вьетнаме. Вы присаживайтесь.— Он жестом
пригласил меня сесть на диван.— Садитесь.
Я сел. Мне все еще приходилось жмуриться от солнца.
Чашку с кофе я пристроил на коленях. Уэстморленд
посмотрел на меня.
— Я хочу подбросить вам одну идею, понимаете? Я не
409
жду никаких обещаний. Но то, как я это задумал, мне
кажется, может вас заинтересовать. Я ведь читал вашу
книгу о телевидении, Никсоне, о том, как освещались
события,— обо всем этом.
— Да, я вас слушаю.
— Видите ли, я думаю, что внимание в этом фильме
должно быть сфокусировано на вьетнамской части моей
карьеры. А суть будет в том, чтобы показать разницу
между тем, как подавались события, и реальностью, тем,
что на самом деле там происходило. Показать, как
телевидение и все прочее создавало ложное представление об
этой войне, дезинформировало американцев, в то время
как я, располагавший реальными фактами, не мог донести
до них свою точку зрения. Ну, как вы считаете? Есть
в этом что-то?
— Да, в этом что-то есть.
— Я считаю, что фильм должен называться
«Вьетнам — телевизионная война».
— Телевизионная война?
— Точно. Вот я и подумал — теперь вы знаете, что
я хотел предложить,— и я вовсе не жду, чтобы вы сейчас
сказали «да» или «нет». Мне и самому все это нужно
хорошенько обдумать... Но как вы думаете, могли
бы вы заинтересоваться таким сюжетом и, скажем,
написать сценарий?
Я медленно поднял чашку и отхлебнул кофе. Потом
я сказал:
— Знаете, генерал, я никогда не писал сценариев.
— О, это не страшно,— засмеялся он.— Можете
попрактиковаться на мне.
Последовала пауза. Я еще отхлебнул из своей чашки.
— Не знаю, генерал, я не уверен, что сейчас самое
время делать фильм о Вьетнаме, в котором вашу роль
играл бы, э-э, Джон Уэйн.
— Нет, нет, нет,— снова засмеявшись, сказал он.—
Никакого Джона Уэйна. Я вовсе не имел в виду тип
героя-ковбоя вроде Джона Уэйна.
Как раз в этот момент из кухни вошла госпожа
Уэстморленд.
— Ну нет,— сказала она, тоже смеясь,— только
не Джон Уэйн. Я думаю, что его должен играть серьезный
актер, Пол Ньюман.
Мы уехали вскоре после полудня. День был
восхитительный, похожий скорее на весенний, чем на один из
410
последних дней ноября. Госпожа Уэстморленд
приготовила нам еды на дорогу, а мы по пути купили ящик
пива. До аэропорта Джонсон-Сити, штат Теннесси,
было около ста миль. Мы ехали с открытыми окнами
по холмам, освещенным солнцем, и всю дорогу слушали по
радио музыку «кантри».
Джей ЛИФТОН
РАНЫ СОЗНАНИЯ
История «антивоенных» ветеранов еще не рассказана:
она только начинается. О них заговорили, когда
американские планы во Вьетнаме потерпели бесславный провал.
К сожалению, первой реакцией на горькую правду была
фабрикация новых обманов вместо прежних.
Официальная политика свертывания войны во
Вьетнаме (1971 —1972) может служить еще одним
подтверждением утраты американской нацией моральной чистоты.
Как только наши последние сухопутные части покинули
землю Вьетнама, наши самолеты расширили радиус
разрушительных бомбардировок. Расхожая фраза
командиров: «Как можно заставить человека быть последним из
убитых во Вьетнаме? Как можно заставить человека быть
последним из погибших по ошибке?» — запала в души
американцев... Однако не до такой степени, чтобы ее
применяли к вьетнамцам.
Просочившиеся из разных источников сведения о
свертывании войны во Вьетнаме достигли американских
солдат и офицеров сухопутных войск. Один из
корреспондентов, принимавший вместе с солдатами участие
в патрулировании в конце 1971 года, говорил, что
«война из ежедневной демонстрации военного
превосходства — чем она была несколько лет назад — превратилась
для американцев в ежедневное стремление избежать
встречи с патрулями противника, уклониться от любых
контактов с ним, чтобы не попасть в беду и не стать
„последними американцами, убитыми во Вьетнаме"».
Задача «обнаружить и уничтожить» превратилась
в задачу «обнаружить и избежать (столкновения)».
© Jay Lifton, 1973
412
Боевым лозунгом солдат стал: «Спрячься и вернись
домой живым».
Политика свертывания войны только усилила у
американцев, воевавших во Вьетнаме, подозрения, что их
обманули, и вызвала у них две стереотипные реакции:
отказ от выполнения приказов и репрессии против
офицеров, которые, по их мнению, слишком охотно подставляли
их под пули.
Еще одним мнимым обоснованием «свертывания»
военных действий во Вьетнаме было снижение числа
погибающих за неделю американцев. Оно стало таким же
важным критерием успеха, как некогда подсчет убитых
вьетнамцев, и эти цифры находятся в обратной
зависимости. Число убитых вьетнамцев, по которому раньше
судили об успехе операций и которое поэтому искусственно
завышалось, стали занижать. Высокие цифры убитых
во Вьетнаме американцев замалчивались и приводились
не полностью, а позднее в отчетах правительство получало
сведения о том, что за неделю погибало в среднем 8—
10 человек. И те и другие цифры являются порождением
преступного техницизма: цифры (независимо от того,
насколько они надуманны) могут служить оправданием
убийств. Стремление завысить количество убитых
вьетнамцев сменилось полной потерей интереса к этой
статистике, потому что высокие цифры (особенно
если считать убитых штатских, как мы делали это
раньше) противоречили установке на «свертывание»
войны.
Можно ли представление о моральной чистоте
отдельной личности применить к оценке моральной чистоты
нации? Вряд ли, ведь внутри нации существует слишком
много различных по своим убеждениям групп и подгрупп
и коллективный психологический опыт не равноценен
сумме опытов отдельных индивидов. Однако посторонние
наблюдатели могут судить о моральной чистоте нации,
исходя из критериев, сходных с теми, которые применяются
при оценке отдельных членов общества. Критериями могут
быть общая целостность и сплоченность нации, ее
внутренняя гармония, этические нормы, которые
применяет правительство в отношении своего и других народов,
дух единства, надежды и справедливости, обуздывающий
разрушительные импульсы отдельных членов общества
и помогающий им обрести надежду. Обращает на себя
внимание внезапная быстрота, с которой представления
413
американцев о себе как о нации и представления о них
других людей из первой категории (целостность,
справедливость, надежда) перешли во вторую
(разрушительность, распад, утрата веры).
Вьетнамская война, конечно, не единственная причина
этой перемены. Ее можно считать одновременно и
причиной и следствием. Чтобы обнаружить источник этого
отрицательного образа Америки, достаточно обратиться
к социальным проблемам страны: усилению расистских
тенденций, свертыванию производства, безработице,
бедности, росту преступности и наркомании, распаду
инфраструктуры городов, настроениям рабочих, специалистов,
гражданских служащих...
Психоисторические причины кризиса веры в
стабильность американского общества заключаются в отживании
психологических символов и привычных представлений
и неспособности всей нашей системы противостоять
натиску мощных исторических процессов.
И все же война во Вьетнаме — важный этап в утрате
американской нацией моральной чистоты, независимо от
того, считаем ли мы ее причиной, следствием или тем и
другим одновременно. Я имею в виду не только то, что
война обострила этнические и расовые конфликты и имела
губительные последствия для нашей экономики или что
наше высокоразвитое капиталистическое общество
помогло развязать и продолжать войну, но и ту ауру зла,
моральной нечистоплотности и тупости, которой война
в Индокитае окутала эти проблемы, сделав их решение
дозволенными способами невозможным.
Какими бы ни были подлинные причины возникновения
у американцев чувства грозящей национальной
катастрофы, многие, возможно, будут считать, что виноваты
радикалы, студенты, феминисты, негры, а не война во
Вьетнаме, устаревшие государственные институты,
несовершенная система правосудия или беспрецедентные
исторические события. Однако многим американцам
кажется, что их общество утратило моральный стержень
и что война в Индокитае в значительной мере
способствовала ускорению наблюдающегося сейчас процесса
социальной дезинтеграции.
Чувство, что они обмануты, которое испытывают
представители всех возрастных и социальных слоев
американского общества, перерастает в чувство разобщенности,
внутреннего разлада. В этом смысле можно говорить о
414
коллективном чувстве поруганной чести и утраченной
моральной чистоты.
Именно возникновением чувства поруганной чести
и утраченной моральной чистоты объясняется тот взрыв
страстей, который вызвал потрясший всю страну процесс
над лейтенантом Колли. Независимо от того, считали
ли Колли козлом отпущения за грехи своих военных
и штатских шефов (как думали многие американцы,
по-разному относившиеся к самой войне), или грязным
убийцей (мнение, которое разделяли и те, кто считал его
козлом отпущения), или национальным героем (мнение
«ястребов», возводящих все совершенные американцами
убийства в ранг героизма),— как бы американцы ни
относились к Колли, все чувствовали, что бессмертные
культурные ценности их нации обесценились.
Люди, занимавшие эти позиции, соответственно по-
разному утверждали критерии моральной чистоты: одни
обвиняли лично Колли в нарушении военно-этических
норм; другие разоблачали порождаемую войной
обстановку жестокости и рассматривали действия Колли как
отражение этой обстановки (в то время я занимал эту
позицию); третьи подменяли нравственные критерии
комбинацией цинизма с рационализмом, которая
позволяла им оправдывать поведение Колли («война есть
война») и считать, что он не запятнал честь американской
нации; были и такие, которые принимали вымысел за
действительность и считали Колли доблестным воином,
совершившим подвиги на поле боя и прославившим
американскую нацию (вспомните, например, популярную
в те годы песенку «Боевой гимн лейтенанта Колли»).
Ведение войны современными техническими
средствами, использовать которые можно только на
значительном расстоянии, вносит дополнительную сложность в
оценку поведения американцев во Вьетнаме. Рассматривая
принципы моральной чистоты, нужно представлять то, что
происходит где-то далеко, «там». Тот самый президент,
который придумал для американского народа сказочку
о «справедливой войне», обеспокоен тем, что Америка
выглядит «беспомощным и жалким гигантом» — и не без
оснований: именно такой образ нации сложился сейчас
у каждого американца. Несколько лет назад при описании
действий американской армии во Вьетнаме я представил
Америку в образе слепого гиганта, тратящего
смертоносное оружие на людей, которых он не хочет и не
415
может увидеть, понять, что они живые, что им присущи
психологические и исторические устремления, которые не
умещаются в рамки нашей антикоммунистической
идеологии. Технизация войны избавляет нас от зрительного
и образного восприятия людей, которых мы убиваем. Эта
комбинация слепого убийства со столь же слепой
этической дезинтеграцией послужила поводом молодым
американским гражданам произвести страшное пророчество о
том, что Америка отправилась «в свой последний путь».
Вместо того чтобы осознать эти проявления
дезинтеграции, общество спешит прикрыть их дальнейшим
развитием техники и утверждением бессмертия путем
создания все новых видов оружия. Поучительно
понаблюдать за ведением войны с помощью автоматических
средств управления, но на этот раз не на поле боя,
а в стенах американского сената.
«Гвоздем» слушаний стала демонстрация электронного
управления новейшими видами вооружений. Наглядная
демонстрация принципов действия системы электронного
управления, сопровождавшаяся комментариями военных
специалистов, была встречена присутствовавшими на ней
сенаторами с энтузиазмом. В протоколах это звучит так:
«Возможно, мы завязли во Вьетнаме, но посмотрите
что у нас теперь есть — невиданная техника, способная
стереть с лица земли любого врага без потерь с
нашей стороны!»
Рекламируя преимущества нового оружия, военные
представители, некоторые из которых опробировали его во
Вьетнаме, использовали аудиовизуальные средства. На
одном из слайдов, например, изображен выполняющий
боевое задание вертолет «Ночной ястреб», а подпись под
ним гласит: «Убито еще 323 вьетнамца, в плен захвачено
10. Чтобы закопать мертвых, пришлось вызывать
дополнительно два бульдозера». Реакция сенаторов
выдавала мальчишескую увлеченность техническими
новинками, и происходившее во Вьетнаме не вызывало
у них чувства стыда.
Процесс этот, однако, более глубокий, чем кажется на
первый взгляд: техника с ее точностью и долговечностью
резко отличается от не поддающихся управлению
человеческих эмоций и предоставляет воображаемую
возможность обретения бессмертия, когда все другие
возможности поставлены под сомнение. Социальные установки
воодушевленных сенаторов (особенно Голдуотера), при-
416
сутствовавших на слушании, представляют собой
сочетание обожествления техники и мечтаний о возврате к
иллюзорному прошлому, в котором якобы царила
гармония. Так идеализируется растлевающая душу война,
а вокруг прошедших войну людей создается ореол
невинности и чистоты рыцарей прошлого.
Воодушевленные этими идеями, проповедники войны
начинают контратаку против тех, кто сообщает «плохие
новости» об утрате американскими солдатами боевого
духа и о том, что американское общество в целом
переживает период нравственной дезинтеграции. Этих
людей называют не только «изнеженными снобами», но и
подрывными элементами, которые «умаляют значение
нашей страны и ее институтов» и заражают
окружающих «отчаяньем и неверием в будущее».
Врагами становятся не вьетнамцы или война, а те
американцы, которые поняли суть войны во Вьетнаме
и протестуют против нее. Тем не менее призраки войны
живы. Они являются в образе ветеранов, вернувшихся
домой искалеченными физически и духовно. Десятки тысяч
из них охвачены болью, горечью разочарования, чувством,
что их обманули. Они появляются в виде свидетелей
страданий, которые мы причинили во Вьетнаме, и
американцы начинают прислушиваться к их рассказам. Они
(призраки) останутся жить в памяти людей и в их
представлениях о смерти, в образах, которые не скоро
забудутся.
Представления американцев о смерти предельно
конкретизированы: им необходимо видеть трупы. «Каждому
усопшему должен быть предоставлен гроб и
сопровождающий его человек... особое внимание следует обратить на
выбор сопровождающего, который мог бы успокоить
членов семьи умершего и оказать им посильную помощь.
Задачей сопровождающего является обеспечение
воздаяния усопшему почестей, достойных павшего воина
вооруженных сил Соединенных Штатов. В его обязанности
входит: 1) по всем пунктам следования проверять
сохранность ярлыков на гробах; 2) принимать меры к тому, чтобы
родственники не вскрывали гроб, в случае если надпись
на ярлыке гласит, что останки не подлежат осмотру.
Помните, что «не подлежат осмотру» именно это и
означает...»
Таковы официальные инструкции сопровождающим,
распространенные в американской армии. Судя по ним,
14 Зак. 556
417
военные щадят чувства родственников умерших, не
позволяя им видеть сильно изуродованные трупы их сыновей
и мужей. Инструкции обретают образ символа в свете
общего негласного соглашения, предложенного военными,
к которому присоединились гражданские: не думать
о войне, сделав трупы «не подлежащими осмотру». На
память приходит скептическое замечание одного из
ветеранов: «Единственный способ заставить американцев
понять, что такое война,— это дать им возможность
увидеть у себя перед носом трупы».
Мне кажется, что ни одно общество не способно
долго созерцать реальные, а не метафорические трупы.
Ему приходится задуматься, и эти раздумья открывают
путь к истине и нравственному возрождению.
Если американцы смогут воспринять уроки войны во
Вьетнаме, то они отвергнут представления о войне как
о «веселом приключении» и поймут, что она зиждется
на «фальшивом энтузиазме» и «моральной интоксикации».
Принимая во внимание влияние, которое оказывают
«фальшивый энтузиазм» и «моральная интоксикация»
на оценку происходящего, коллективное прозрение
кажется труднодостижимым и маловероятным и всегда
чревато неопределенностью и возвратом к прежним
представлениям. На память приходят строки Уоллеса
Стивенса: «Как холодна зияющая пустота,/ Когда
изгнаны призраки/ И потрясенный реалист/ Впервые
осознает действительность».
Все мы ощутили эту «холодную пустоту»; каждый
американец в каком-то смысле стал «потрясенным
реалистом», даже если он еще не «осознал действительность».
Самая продолжительная, непопулярная и — с точки
зрения утраты национальной сплоченности и моральной
чистоты — самая опасная война может стать для
американского общества началом переоценки этических
ценностей.
Если в сознании американцев произойдет подобный
сдвиг, то наступит время, когда сын задаст отцу извечный
вопрос о войне: «Папа, а что ты делал во время великой
войны во Вьетнаме?», а отец ответит ему не «Я героически
сражался в Дельте» или где-нибудь еще, а «Я протестовал
против нее», или «Я сделал все, чтобы не участвовать
в ней», или «Я сидел в тюрьме за то, что отказался
воевать», или «Я участвовал в ней, осудил ее и сделал
все от меня зависящее, чтобы люди узнали о ней правду».
418
Немало американских отцов уже могут так же ответить
на этот вопрос, однако перемены в масштабах всей страны
могут произойти только на фоне коллективного
психологического сдвига в представлениях о моральной чистоте
и чести и, как называет это Хойзинга *, пересмотра
«героики жизни».
Все большее число американцев должно выносить
суждение о войне во Вьетнаме на основании изменившихся
и приближенных к реальности представлений о чести и
моральной чистоте. Важным этапом этого процесса будет
выработка четких принципов ответственности за ведение
войны при помощи современного оружия, которые
обяжут людей, причастных к разработке технологии
массового убийства, нести психологическую и
нравственную ответственность за то, что происходит по ту сторону
линии фронта. Это поставит человека перед выбором тех
форм «героики жизни», которые не повлекут за собой
людские смерти.
Для американского общества настало время заменить
древние представления о нравственных качествах воина
столь же древним принципом ответственности. Процесс
развенчания мифического образа героя-воина в
исторической ретроспективе выглядит приблизительно так: от
гомеровских и рыцарских представлений о славе и
мужестве (истинность которых не ставилась под сомнение)
к постренессансной шекспировской амбивалентности,
выражавшейся в признании военной славы и
иронизировании по поводу неудачных попыток ее обретения (как
в «Генрихе V»), а далее от предпринимавшихся в XIX веке
усилий возродить миф о герое-воине к ярко проявившемуся
в XX веке неприятию этого мифа (особенно во время
первой мировой войны) и, наконец (в идеальном случае),
к развенчанию этого мифа после войны во Вьетнаме
и возданию почестей людям, отвергавшим эту бесчестную
войну, и осуждению ее разжигателей и подстрекателей.
Для того чтобы такая перестройка общественного
сознания произошла, нужно поставить заслон попыткам
технократов возвести на пьедестал современного героя-
воина, а общество должно признать героями тех людей,
которые мужественно отказались участвовать в насилии.
Означает ли миссия, которую взяли на себя «антивоенные
ветераны», нарушение двухтысячелетнего цикла
мифотворчества о герое-воине? По-моему, ответ на этот вопрос
заключается в самом цикле: воспевание бессмертия
U*
419
«героического поступка» всякий раз фиксирует изменения
представлений о героизме и служит источником создания
новых этических ценностей. Новая мифология
антивоенных ветеранов уже вошла в сознание американцев...
* * *
Все, кому приходилось общаться с ветеранами войны
во Вьетнаме, утверждают, что они чем-то отличаются от
ветеранов других войн. Чаще всего их называют
«отчужденными». В отчете Службы по делам ветеранов
отмечается, что этой группе ветеранов свойственно
«большее недоверие ко всякого рода учреждениям и неуважение
к традиционным институтам власти», поэтому «они
меньше других расположены пассивно воспринимать нашу
мудрость». В том же отчете говорится, что ветеран
Вьетнама «испытывает потребность в отождествлении
себя с представителями своей возрастной группы» и
участвует в «негласном заговоре молодежи против
грозящих ей опасностей».
Даже ветеранов, которые из-за серьезных психических
травм попадают в психиатрические отделения госпиталей,
больше волнует конфликт поколений и другие вопросы
общественной жизни, нежели их собственные болезни.
По сведениям, подтвержденным моими личными
наблюдениями, многие ветераны, нуждающиеся в услугах
психиатров, избегают контактов со Службой. У них эта
организация ассоциируется с военным истэблишментом,
с силами, которые в ответе за пережитый ими кошмар,
они испытывают «горечь, недоверие и подозрительность
ко всем представителям власти в стране».
Подобная реакция, наряду с частой переменой
местожительства и работы и нарушением коммуникабельности,
наблюдается и у ветеранов других войн. Именно эти
симптомы проявились у ветеранов второй мировой
войны — «утрата чувства собственного «я» и
непрерывности истории».
Однако с ветеранами войны во Вьетнаме все не так
просто: опрос более чем 200 ветеранов различного
происхождения, профессии и политических убеждений
показал, что «каждый из них сомневается в справедливости
войны во Вьетнаме и задумывается над той ролью, которую
играла в ней Америка». Как возрастная группа, они
испытывали «болезненное чувство, что эта война — неле-
420
пость». Отмечалось, что «никто и никогда так сильно
не сомневался в своем праве совершать поступки,
на которые их вынуждали, как ветераны Вьетнама». Это
люди, потерявшие веру в справедливость существующего
порядка и в общечеловеческие ценности, которые
понимали, что «причина всему — война во Вьетнаме».
По воспоминаниям одного из участников событий в
Милан, которого я буду нёзывать дальше «ветераном
Милай», можно судить о моральном духе американских
солдат: «Пейзаж однообразен. Целыми днями видишь
одно и то же, и каждый раз как будто впервые, даже
когда возвращаешься в те места, где уже был. Начинает
казаться, что на свете нет ничего, кроме этой земли
и войны... Возникает иллюзия, что проходишь сотни
миль, но всегда оказываешься в одном и том же месте,
потому что мы продвинулись всего на несколько миль.
Трудно поверить в то, что мы все еще в этой стране,
ведь мы целыми днями в пути... Но мы по-прежнему
во Вьетнаме, и в нас стреляют настоящими пулями...
Здесь, во Вьетнаме, людей убивают без всякой причины...
В других условиях это показалось бы нам преступлением,
а здесь ты идешь вперед и просто убиваешь их... И никто
тебя не осуждает, наоборот, тебя подбадривают.
Нормальная жизнь осталась в далеком прошлом. Ты
превращаешься в животное, для которого существует только настоящее,
которое перестало думать... И все же чувствуешь, что
здесь что-то не так, но не можешь понять что... И все
происходящее кажется тебе сном».
Сравните эти воспоминания с описанием событий
первой мировой войны: «Сколько все это продолжалось?
Недели, месяцы, а может быть, годы? Нет, только дни.
Время отражается в бесцветных лицах умирающих, мы
набиваем желудки, бежим, что-то бросаем, стреляем,
убиваем, падаем без сил, чувствуя себя выхолощенными,
зная, что поддержки ждать неоткуда, потому что рядом
с тобой еще более слабые, усталые и беспомощные
люди, которые смотрят на нас как на богов, которые
„на их глазах столько раз избегали смерти"».
Утратив моральные ориентиры, солдаты осознают,
однако, абсурдность происходящего, и эта абсурдность
вызывает пугающее чувство, что для них никогда
больше не наступит нормальная жизнь и они обречены
навсегда пребывать в этом невероятном и нелепом
состоянии.
421
Моральное разложение американских солдат вызвано
не только полной утратой нравственных ориентиров, но
и абсурдностью происходящего, когда убийство
становится нормой поведения, неспособностью найти ему
оправдание.
Эмоциональный настрой, который можно назвать
«абсурдным злом», еще выразительнее прозвучал в словах
одного из участников событий в Милай; он рассказал о
том, как после сокрушительного воздушного налета его
отряд увидел груду изуродованных трупов. Это зрелище
вызвало у многих бурное ликование, и они в диком
восторге продолжали калечить трупы. Тогда он подумал:
«Что я здесь делаю? Ведь мы не захватываем землю
и не возвращаем ее. Мы только уродуем человеческие
тела. Какого черта нам здесь надо?»
Воспоминания эти типичны для ветеранов Вьетнама.
Несмотря на разницу в оценке происходившего, они
отражают моральное состояние армии. Во время беседы
с ветеранами о том, как они относятся к тому, что
делали во Вьетнаме, один из них воскликнул: «Что же,
черт побери, там происходило? Что мы там делали?»
Из этих вопросов ясно, что война не велась по четко
разработанному плану и не имела определенной цели,
что в ней нечего было защищать или захватывать,
невозможно было добиться никаких результатов. Можно
сказать, что у этой войны не было «сценария», который
придал бы ей смысл или позволил проследить
последовательность событий, «сценария», по которому вступают
в противоборство армии, выигрываются сражения, в
рамках которого можно было бы оценить страдания,
мужество, трусость или доблесть отдельных участников. Ни
патрули, отыскивающие ускользающего врага, ни засады,
удивленными жертвами которых становились американцы,
ни внезапно предпринимаемые на мирное население
налеты с заданиями «обнаружить и уничтожить» —
ничто не могло создать ощущения осмысленных военных
действий, напротив, они становились частью общей
абсурдности, антисмыслом. То же чувство вызывали
«секретные передвижения» войск по этой чужой земле,
когда, по словам одного из солдат, «даже ребенку было
понятно, где мы остановимся следующей ночью». По
чьей-то воле люди оказались в чужой и враждебной
обстановке, которая не сулила им честных боев и военной
славы.
422
Абсурдность и зло, совершающиеся на любой войне,
заставляют ее участников по-новому взглянуть на вещи.
Пережившие войну неизбежно осознают чудовищное
несоответствие между романтическими представлениями о
героизме, которые формировались у них «там, дома»,
и реальностью деградации и невыносимых страданий,
которые они наблюдали, испытывали или сами причиняли.
На память приходит ответ отмеченного многочисленными
наградами участника второй мировой войны Оди Мерфи
на вопрос о том, как долго человек находится под
впечатлением своих военных переживаний. В некрологе
его слова цитируют так: «Всю жизнь». Мерфи хотел
сказать, что после войны человек переживает внутренний
«конфликт выжившего».
Обобщая опыт Хиросимы, я понял, что причиной этих
конфликтов становится чувство вины за причиненные
смерти, различные психические потрясения, притупление
эмоциональной восприимчивости, подозрительность,
боязнь психологической обработки и неспособность
определить свою причастность к смерти. Искаженные войной
представления о смерти, несомненно, стали источником
разочарований и сложностей адаптации, которые испытал
Мерфи, вернувшись с войны. Такой же надлом произошел
в душах многих других героев войны, которые не смогли
найти своего места в мирной жизни.
Яркой иллюстрацией «послевоенного синдрома» может
служить преждевременная смерть сержанта Дуайта
Джонсона. Он был награжден медалью «За доблесть»
за то, что во время войны во Вьетнаме под перекрестным
огнем противника бросился спасать своего друга из
горящего танка, а когда танк взорвался и остальные члены
экипажа оказались под обломками, охваченный яростью
мщения, он убил в рукопашном бою то ли пять, то ли
двадцать вьетнамских солдат. Вскоре после этого эпизода
его были вынуждены поместить в психиатрическое
отделение госпиталя, а по возвращении в Соединенные Штаты
поставили диагноз: «депрессия, вызванная послевоенным
синдромом». Его продолжали преследовать кошмары, он
обвинял себя в том, что остался в живых, в то время
как его товарищи погибли, и, по словам одного из
психиатров, в том, что «получил почетную награду за то,
что единственный раз в жизни полностью потерял
самообладание». Он задавал себе вопрос: «А что будет, если
я потеряю самообладание в Детройте и стану здесь себя
423
вести, как во Вьетнаме?» Три года спустя, в возрасте
24 лет, он был убит управляющим бакалейного магазина
при предполагаемой попытке вооруженного ограбления.
Сообщение об этом происшествии было помещено в «Нью-
Йорк тайме» от 26 мая 1971 года. Там же приводились
слова его матери, которые служат горьким комментарием
к смерти сына: «Иногда мне приходит в голову мысль,
что, может быть, Скип (сержант Джонсон) так устал от
этой жизни, что было необходимо, чтобы кто-то наконец
нажал на курок вместо него».
Единственным способом преодоления «комплекса
выживших» могла бы явиться возможность уверовать в то,
что война несла с собой не только ужасы, свидетелями
которых они были, но и осмысленность,
целенаправленность. Только так можно было бы оправдать свое
поведение на войне высокими принципами и внушить
себе, что они выполняли грязную, но необходимую
работу.
Однако главным для понимания вьетнамской войны
является то, что никто не может поверить в ее
справедливость. Попытки представить целью американского
присутствия во Вьетнаме отражение внешней интервенции или
предоставление вьетнамцам возможности самим выбирать
свое правительство моментально вступали в
противоречие с действительностью. Солдаты убеждались на своем
опыте, что именно они и были интервентами, что народ
справедливо ненавидит правительство, которому они хотят
помочь, а больше всего ненавидит их, американских
помощников. И даже те, кто путем огромных внутренних
усилий и «психологической работы» заставляет замолчать
голос совести, продолжают сомневаться в правомерности
совершенного.
Не помогал избавиться от сомнений и
квазирелигиозный лозунг «борьбы с коммунистами», который никто
не принимал всерьез. Наоборот, каждый чувствовал, что
с этой войной «что-то не так». Очень часто инструктаж,
обычно проводимый лейтенантом или капитаном, звучал
приблизительно так: «Я не знаю, почему я здесь, и ты
не знаешь, почему ты здесь, но уж раз мы оба здесь
оказались, попробуем выполнить нашу работу хорошо и
постараемся уцелеть». Подобный инструктаж не имеет
ничего общего с героическими идеалами или высокими
целями, а поскольку стремление выжить является
естественной потребностью участников любой войны, он не
424
только отрицает наличие цели, но и служит прямым
подтверждением абсурдности вьетнамской войны.
Психологическая функция такого инструктажа очевидна.
Честное объяснение абсурдности происходящего порождает
чувство причастности к этой абсурдности. Сопричастность
рождает взаимопонимание и братство, которые так
необходимы на войне. Однако в конце концов каждый
солдат осознает отсутствие высокой цели. На вопрос
своего шефа, какие проблемы были типичными для
ветеранов войны во Вьетнаме, один из штатных психиатров
Службы по делам ветеранов ответил, не скрывая
сарказма: «Ветераны вьетнамской войны рассматривают
свое военное прошлое скорее как участие в эксперименте
на выживание, а не как защиту национальных интересов».
Это наблюдение характерно и важно для понимания
опыта Вьетнама.
Характер войны создает «обстановку, провоцирующую
жестокость». Эта обстановка была порождением
драконовской политики США во Вьетнаме. Проявилась она и
в объявлении «зон бесприцельного огня» (в которых
мишенью становился любой штатский), и в заданиях
«обнаружить и уничтожить противника» (при выполнении
которых мог погибнуть, или,как говорили тогда, «пойти
в расход», кто угодно), и в интенсивном применении
химического оружия, которое не только уничтожало
флору Вьетнама, но и могло служить причиной гибели
плода беременной женщины, находившейся в радиусе его
действия, и в размещении на территории маленькой
страны новейшего оружия массового уничтожения
наземного и воздушного базирования. Эти внешние
исторические факторы и военная политика ведут в свою очередь
к внутренним последствиям, которые приводят к
психологической «обстановке, провоцирующей жестокость».
События в деревне Милай служат гротескной
иллюстрацией этих последствий. Я воссоздал ход событий
в Милай на основании интервью с их участником, бесед
с писателями, которые исследовали феномен жестокости, и
по книгам и статьям, описывающим это событие. Я понял,
что опыт Милай является исключительным только по
масштабам содеянного, которые нагляднее демонстрируют
суть «обстановки, провоцирующей жестокость».
К причинам кровавого разгула в Милай относятся
типично американские представления о расе, классе и
мужественности. Поэтапный анализ психологического
425
состояния участников событий в Милай показывает, что
они сначала прониклись психологической установкой
на убийство, а затем действовали в соответствии с
ней.
Строевую подготовку перед отправкой во Вьетнам
новобранцы проходили под командованием сержантов,
которые были ветеранами вьетнамской войны. От этих
людей новобранцы впервые слышали о том, как трудно,
«грязно, мерзко и убого» было во Вьетнаме. Слушая
рассказы о различных военных операциях, новобранцы
понимали, что во время них погибло и гражданское
население. Им говорили о том, что американцы незаметно
подбирались к деревням и бросали гранаты в этих
«дикарей», об артиллерийских обстрелах населенных
пунктов, о жестоком обращении с захваченными во время
рейдов вьетнамцами. Иногда рассказы подкреплялись
фотографиями сильно изуродованных трупов
вьетнамцев.
На подготовительном, как и на более поздних этапах
участия новобранцев в войне, обнаруживалось явное
противоречие между формальным инструктажем (который
если и проводили, то лишь для проформы) убивать только
военных и неформальным призывом (произносимым вслух
и громко) убивать всех подряд. Ветеран Милай так
сформулировал этот приказ: «Ничего страшного, убивайте
их», и даже «именно этого от вас и ждут».
Иногда неформальный приказ убизать может быть
передан символическим путем, как, например, в «уроке
кролика», который преподают морским пехотинцам. За
день до отправки во Вьетнам, объясняя приемы ведения
войны в джунглях, сержант держит перед собой кролика.
За время занятия слушатели привыкают к кролику
и начинают испытывать к нему симпатию, и тогда
«сержант резко ударяет его по голове, сдирает с него
шкуру, разрезает ему брюшко и... бросает внутренности
в присутствующих». Один из новобранцев вспоминает об
уроке так: «Понимай это как хочешь, но это наглядный
урок, который ты получаешь дома перед отправкой во
Вьетнам».
Для многих американцев, которые позднее стали
участниками событий в Милай, идея всеобщего
уничтожения обрела конкретную форму во время подготовки
в специальном Центре по обучению методам ведения войны
в джунглях, находившемся на Гавайях; учения проходили
426
в искусно подготовленном макете вьетнамской деревни, и
стрельба велась по узкоглазым муляжам вьетнамцев.
Там проходило обучение одно из подразделений
американской армии, известное под названием роты «Чарли»,
командование которой принял пришедшийся по нраву
солдатам, энергичный и способный офицер, слишком рьяно
относившийся к своим обязанностям, за что получил
прозвище «бешеная собака Медина». Сформировавшееся
у членов роты представление о массовом уничтожении
проявилось в конкретных действиях сразу же после их
прибытия во Вьетнам. Один из солдат сказал: «Если
вьетнамцев можно целыми ночами обстреливать
артиллерией и бомбами, неужели жизнь каждого их них
чего-то стоит?» Убедительнее слов было зрелище
транспортера, «на антенну которого было нанизано
около 20 человеческих ушей». Сначала все были
шокированы («В это было трудно поверить: у них на антенне
висели уши»), но прошло совсем немного времени, и
некоторые солдаты стали возвращаться из рейдов и
приносить в качестве трофеев человеческие уши, чем
вызвали одобрение своего командира. Другие стали
обозначать количество убитых вьетнамцев засечками на
прикладах своих автоматов. Американские солдаты вели
себя во Вьетнаме, как на сафари. Они стреляли в
«животных» лишь для того, чтобы принести трофеи, по которым
остальные будут судить об их смелости.
Однако этот вид «спорта» не позволял членам роты
расслабляться; первые десять недель во Вьетнаме они
провели, строя укрепления, неся патрульную службу и
участвуя в бессмысленных маневрах. Эта утомительная,
непонятная и пугающая работа постепенно вела к
эмоциональной тупости, и их отношение к вьетнамцам
становилось все более жестоким и бесчеловечным. Они
оправдывали свое поведение непредсказуемостью обстановки
и «несправедливым» отношением к ним вьетнамцев,
которые неправильно расценивали их «дружеские жесты».
«Мы снабжаем жителей одной из деревень медикаментами,
а другие нападают на нас и убивают». Идея массового
уничтожения подкреплялась видом солдат
южновьетнамских войск, которые «валялись в окопах и не собирались
воевать», что вызывало возмущение американских
солдат, которые думали: «Зачем мы будем за них воевать?»
Более отчетливо идея вседозволенности прозвучала
в словах одного из солдат роты «Чарли», у которого я брал
427
интервью: «Я должен сделать вылазку и пришить как
можно больше желтокожих, ведь это из-за них я здесь
торчу».
Кроме того, враг был осторожен и неуловим, что
доводило американцев до ярости. Один из участников
инцидента в Милай вспоминал: «Сколько ни старайся, ты
не можешь его обнаружить и схватить. Он повсюду и
нигде... как будто ты находишься в стаде оленей
и охотишься на какого-то особого оленя, но точно не
знаешь на какого».
Другими словами, образ охоты претерпевает досадное
изменение, в результате которого невидимый враг может
выследить американского солдата и стать охотником, а
солдат — дичью.
Единственной возможностью преодоления этого
ощущения беспомощной пассивности, бессильной злобы и
страха была открытая схватка с врагом, которого нужно
было увидеть перед собой и «заставить воевать как
мужчину». Для бойцов роты «Чарли» идея открытой
схватки — настоящего ужаса — стала желанной, но
пугающей мечтой.
Военные действия, которые им пришлось вести в
следующем месяце, были слишком непохожи на эту мечту.
Вместо открытого и кровопролитного боя они наносили
стремительные удары и столь же стремительно отступали.
Смерть одного из членов роты заставила остальных
усомниться в мифе о коллективной неуязвимости и
способствовала развитию у них «комплекса выжившего».
Каждый пытался найти ответ на вопрос: «Почему убит он,
а не я?» Каждого подсознательно начинает мучить
мысль, что его жизнь оплачена смертью товарища.
Чтобы оправдать свое выживание, придать смысл смерти
товарища и избежать разъедающего душу чувства вины,
нужно отомстить за эту смерть. В военное время таким
мщением может стать ответный удар по врагу. Существуют
даже ритуалы отмщения, когда боец получает
возможность продемонстрировать свое мужество и инициативу.
Но поскольку на этой войне подобных ритуалов не
существовало и в большинстве случаев противника не
было видно, люди оставались наедине со своим горем,
с чувством вины и утраты, обратной стороной которого
становилась ярость.
Так, смерть Билла Вебера стала «поворотным этапом»
в жизни роты «Чарли»: «Вдруг мы поняли, что здесь
428
могут убить каждого из нас, и решили отомстить за всех».
Их лейтенанта тоже будто подменили: «Он больше не
требовал соблюдения дисциплины, а, как и остальные,
дал волю своим инстинктам». После нескольких засад,
в которых люди получили ранения, роту постигла большая
беда: она попала на минное поле, где пострадало двадцать
процентов личного состава (4 человека убиты, 28 —
тяжело ранены). По другим сведениям, убиты были
6 человек, а ранены 12. Это событие обострило у
оставшихся в живых комплекс вины. Один из них потом вспоминал
это так: «На твоих глазах умирали люди, а ты не был
среди них». Чувство вины заглушала тревожная мысль,
что рота, как военное подразделение, как единое целое,
заменившее солдатам целый мир, перестала
существовать.
Только новые, экстремальные идеи могли вернуть
людей к реальности и заставить их примириться с самими
собой. Не удивительно, что такой идеей стала идея
тотальной мести. Вот как описывает это состояние один из
участников событий в Милай: «Мы стали говорить вслух
о том, о чем каждый из нас думал про себя: о том,
чтобы стереть эту страну с лица земли. Популярной
стала так называемая «индейская психология», смысл
которой сводился к тому, что «хороший вьетнамец —
мертвый вьетнамец». Расплывчатое определение понятия
«враг» стало еще более свободным и распространялось на
любого человека, который не имел отношения к
американской армии».
Смерть сержанта Кокси, подорвавшегося на мине-
ловушке, обострила чувство утраты, страха и ярости.
На следующий день в память о Кокси и других недавно
погибших бойцах в роте отслужили панихиду. Важность
происходящего была подчеркнута присутствием
священника, но «гвоздем» программы стал панегирик умершим,
произнесенный командиром роты капитаном Мединой.
Надгробное слово придает безвременно оконченной
жизни особое значение, а оставшихся в живых оно
облекает миссией увековечить эту жизнь, продолжив дело
умершего. Существует много вариантов той речи Медины,
но, по общему мнению, она была патетичной, растрогала
слушателей почти до слез и дала им повод взять на себя
«миссию выживших». Звучала она приблизительно так:
«В этом аду мы потеряли много наших парней. Теперь
мы должны за них отомстить, и здесь хороши любые сред-
429
ства». Или, по воспоминаниям одного из участников
Милан, Медина сказал: «У нас есть шанс отомстить
врагу.., Запомните, в этой стране нет невинного
гражданского населения». Из этого слушатели могли заключить,
что они «должны стереть эту страну с лица земли».
Другие ветераны Милай вспоминали фразы типа
«убивайте всех живых», «уничтожайте все живое», которые
звучали и как призыв, и как приказ. После этой речи
у многих сложилось впечатление, что «Медина хотел
уничтожить как можно больше вьетнамцев», он считал,
что «это даст каждому возможность показать, на что он
способен». Независимо от того, что Медина сказал на
самом деле, его речь окружила ореолом славы жизни
погибших и возложила на остальных «миссию выживших».
Во время разгула убийств американцы вели себя так,
как будто шел бой. Участник Милай обратил внимание
на то, что во время стрельбы американцы припадали на
колено, приседали, «как будто могли встретить ответный
огонь». Он так прокомментировал свое состояние:
«Если ты действительно думаешь, что стреляешь в группу
беззащитных людей, то зачем пригибаться к земле,
зачем ползать? Для чего все эти уловки? Значит, ты
думаешь, что на самом деле с кем-то воюешь. Тебе
кажется, что ты можешь быть убит... что они представляют
для тебя реальную опасность...» Он развил свою мысль
о том, что представления людей о жизни и смерти
перевернулись: «Что-то в твоем восприятии вьетнамцев
изменилось... они так похожи на врагов, или на тот образ
врагов, который сложился в твоем воображении».
Это высказывание наряду с другими фактами служит
подтверждением мысли о том, что у американских солдат,
совершивших злодеяния в Милай (и других мирных
деревнях), была иллюзия того, что, убивая стариков, женщин
и детей, они наконец «обнаружили врага» и заставили его
«выйти из засады и сражаться».
Описания эмоционального состояния американских
солдат в Милай носят противоречивый характер. По
воспоминаниям одних ветеранов, когда они стреляли во
вьетнамцев, на их лицах не отражалось никаких эмоций,
кроме «деловитой озабоченности», и время от времени
они прерывали свое занятие, чтобы перекусить или
покурить. Другие утверждали, что во время убийств,
насилия и разрушений американцы «зверели»,
становились «невменяемыми». Один из участников Милай вспо-
430
минает, как солдат устроил «бешеную погоню» за свиньей,
которую в конце концов заколол штыком; другие
развлекались, бросая гранаты и стреляя из тяжелых орудий
в хрупких «обезьянок» — жителей деревни. Оба описания
психологически точны. Деловитый вид американских
солдат объясняется тем, что они пребывали в состоянии
«эмоционального отупения» и считали, что занимаются
«профессиональным» военным делом.
Процесс трансформации воображаемого в
действительное через еще большее число убийств так описан одним из
солдат: «...проведя раведку, мы поняли, что подошли
к обыкновенной деревне... а жители продолжают
заниматься своими делами, не обращая на нас никакого внимания...
пока в деревню не зашли одновременно 15—20 наших
солдат. Потом, совсем неожиданно... жители
забеспокоились... а вскоре .наши сержанты уже отдавали приказы
«схватить этих двух и привести их сюда, а к ним добавить
вон того». И вот мы собрали из них целую толпу, а они
кричали, визжали, брыкались и не могли понять, что
происходит... А потом грянул выстрел, за ним другой,
и кто-то закричал: «Так тебе и надо, грязный ублюдок!»
Я пришел в такое возбуждение, что несколько раз
выстрелил в толпу... И увидел, как после этого несколько
человек упали... Меня охватил ужас. Но чтобы как-то
оправдать свои действия, я выстрелил еще. Понимаете,
вам это покажется нелогичным, но когда совершаешь
нечто абсурдное, то для придания этой абсурдности
какого-то смысла иногда делаешь это еще и еще...»
Один молодой солдат вспоминал, что во время бойни
в Милай он пытался решить, убивать ему или нет
маленького испуганного мальчика, которому уже отстрелили одну
руку. Он подумал, что мальчик, должно быть, ровесник
его сестре, и спрашивал себя: «А что, если бы в нашей
стране оказалась иностранная армия и какой-нибудь
солдат смотрел на мою сестру, как я смотрю сейчас на
этого малыша? Мог бы тот солдат убить мою сестру?»
И он решил: «Если у него хватило смелости сделать это,
то хватит ее и у меня» — и нажал на предохранитель.
Образ массовых убийств так овладел воображением
солдат, что превратился в программу действий, которая
оправдывала несправедливость и абсурдность
происходящего. Критерии оценки мужества и смелости так
исказились, что убийство ребенка возводилось в ранг
испытания. Подавив в душе сомнения, человек проходил
431
через это испытание, становясь моральным извращенцем.
Подобные испытания вызывали у солдат отвращение,
смешанное с моральным удовлетворением. Один из
ветеранов Милан сравнивал убийство с «избавлением от зуда,
который способен свести тебя с ума». Он пояснил свою
мысль: «Ты чувствуешь необходимость разрядиться... и...
как в Корее... и как во время второй мировой войны,
у тебя появляется такая возможность. Я думаю, многие
ребята воевали с радостью, ведь в Милай они могли косить
из пулеметов людей, как траву. Мне кажется, именно этого
им и хотелось». Он признался в том, что у него тоже
возникало желание убивать, которое он сознательно
в себе подавлял: «Все дело в умении обуздать себя,
вовремя сказать себе: «Нет... этого я сделать не могу.
Это невозможно»... Я могу понять состояние моих
однополчан, потому что сам находился в атмосфере разгула
убийств».
Впервые за время войны американские солдаты
испытали чувство исполненного долга, которое внесло
осмысленность в их жизни и даже смерти. Один из них
сформулировал это так: «Раньше мы умирали
бессмысленно». По отзывам ветеранов Милай, после инцидента
на минном поле солдаты, которые не могли забыть то
ужасное зрелище, наконец «немножко расслабились».
И более того, рота «стала более боеспособной».
По мнению этого ветерана, важную роль в повышении
боеспособности роты сыграло пополнение ее новыми
бойцами. Однако эта «боеспособная» рота
просуществовала недолго: вскоре после Милай ее разгромили
вьетнамцы, и ее остатки были расформированы.
Воодушевленные новым чувством взаимного доверия,
солдаты роты пытались найти оправдание своему
поведению, утверждая, что «жители деревни были всего-навсего
какими-то вьетнашками, которые не могут обойтись без
американской помощи». Убийства детей оправдывали так:
«Они вырастут и будут помогать взрослым бороться
против нас». В отличие от представителей военной
администрации участники Милай никоим образом не
стремились скрыть подробности и сам факт совершенного ими
в этой деревне, по крайней мере в личных беседах.
Напротив, их как будто радовал поворот колеса фортуны:
«Теперь вместо того, чтобы вспоминать ужасные зрелища
гибели своих товарищей на минных полях, они могли
поговорить о Милай». Они сравнивали свои наблюдения
432
/
и хвастали друг перед другом своими «подвигами»,
как бойцы, вспоминавшие сражение: «Сколько ты
уложил?.. Да, было дело... А сколько я ухлопал?..
Надо посчитать. Один солдат очень обрадовался
результатам своих подсчетов... Он убил больше ста человек...
Возможно, многие преувеличивали...»
Вспоминая свое посещение роты «Чарли» через 18
месяцев после событий в Милай, Херш говорил, что
солдаты выглядели «испуганными и виноватыми детьми».
На одного из них «по-прежнему наступают из темноты
вьетнамцы», другой «испытывает острое чувство вины»,
еще двое «страдают нервными расстройствами», и по
меньшей мере четверо' не могут найти работы или
удержаться на ней из-за потери концентрации внимания.
Тот факт, что человек не убивал жителей Милай, не
спасает его от развивающегося позднее чувства вины,
это подтверждает история одного из ветеранов Милай.
Пытаясь проанализировать сложную систему
вымыслов и псевдорасследований событий, произошедших
в Милай, невольно попадаешь под влияние «иллюзии
Милай», когда мерилом успеха становится убийство
и ради этого «достижения» люди вынуждены лгать
другим и себе о том, почему, кого и сколько они
убили.
Обстановка, провоцирующая жестокость, окружающие
ее вымыслы и создающие ее военные ритуалы — все это
развивается по спирали параллельной иллюзии, обмана
и самообмана, пронизывающего все формы отношения
Америки к войне во Вьетнаме.
Анализируя происходившее во Вьетнаме с позиций
психоистории, приходишь к заключению, что «искаженное
восприятие действительности» американскими солдатами
является прямым результатом искаженного представления
о действительности в общенациональном масштабе. Это
искаженное восприятие базируется на тотальной
космологии, которая достигла апогея в послевоенные годы
«холодной войны» и не потеряла силу и поныне и которая
противопоставляет абсолютную американскую
непорочность абсолютной коммунистической порочности. Частью
этой космологии становится столь же присущий
национальному характеру техницизм, в свете которого
американцы рассматривают Вьетнам как всего лишь «проблему»
и «работу, которую нужно выполнить», используя
«американскую технологию», и полностью игнорируют
433
психологические и исторические аспекты многолетней
борьбы вьетнамцев против иноземных завоевателей.
Когда же «проблема» упорно не поддается американскому
«решению», а «работа не спорится», американцы
считают, что следует улучшить технологические методы:
увеличить количество боеприпасов, провести «научные»
исследования с целью обеспечения «более безопасных
касок», привести в движение «механизмы обновления»
«хронически некомпетентного южновьетнамского
военного руководства».
Именно этот союз тотальной космологии с
пронизывающим все сферы жизни общества техницизмом встал
на пути решения основных вопросов и способствовал
поддержанию трех важнейших психоисторических
иллюзий, на которые опиралась американская стратегия.
Первая из этих иллюзий касается характера войны
и представляет 50-летнюю антиколониальную борьбу
вьетнамского народа (с самого начала носящую
национально-освободительный характер и опирающуюся на
коммунистическую идеологию) как «внешнюю
интервенцию» Северного Вьетнама против Южного. Вторая
иллюзия касается характера правительства, которое мы
поддерживали, и превращают деспотический военный
режим, не пользующийся поддержкой своего народа,
в «демократического союзника». Третья иллюзия —
отчасти порождение усталости от поддержания первых двух —
предполагает, что мы можем «вьетнамизировать» войну
(оставить у власти существующее в Южном Вьетнаме
правительство и после нашего ухода из Вьетнама передать
ее в руки незаконному режиму и армии, не желающей
воевать, путем осуществления скорее американской, чем
вьетнамской программы, которую мало кто из вьетнамцев
захочет выполнять). С этой иллюзией сочетаются
прагматические усилия создать во Вьетнаме урбанизированное
«общество потребления» под совместной
американо-японской эгидой.
" Принимая во внимание вышеизложенное, можно
с большей долей уверенности утверждать, что иллюзии,
отражающие неуемное стремление американцев к славе,
достоинству, власти, влиянию и технологизации, стали
фоном, на котором возникла иллюзия Милай.
И вот новая американская иллюзия «божественного
предначертания» разбита, и не каким-то угрожающим
противником, а народом, не имеющим политического статуса
434
в мире, маленькими людьми из маленькой, малоизвестной
и отсталой в техническом отношении страны, которые
воюют партизанскими методами и не только приводят
противника в ярость и противостоят его военной мощи, но
и бросают вызов американским представлениям о
воинской доблести. И что обидней всего, именно эти
партизаны — которых официальная Америка называет
рассадниками коммунистической заразы — выглядят (в
глазах мировой общественности и многих американцев)
святыми мучениками этой войны. Именно их способность
поднимать смерть до уровня символа, их необычайное
военное мужество и неизменная вера в конечную победу
окружили их ореолом мифических героев-воинов.
Американцы же, напротив, страдали от отсутствия
мотивации войны и уверенности в победе. Со времен
античности победу считали наградой богов,
подтверждением справедливости начинаний и подтверждением
«божественного предначертания».
В одной из моих более ранних книг я писал о том,
что люди, пережившие ужас Хиросимы, испытывали
«крушение веры в общечеловеческую основу,
поддерживающую жизнь каждого человека в отдельности, и,
следовательно, утрату веры в основу бытия». То же
произошло не только со многими американскими
ветеранами войны во Вьетнаме, но, возможно в других формах,
и со всеми американцами. Утрата веры в существующие
ценности вызвана отчасти сохранившимся в памяти
людей образом всеобщего уничтожения, гротескной
абсурдности смерти и столь же абсурдного выживания.
Даже не побывавшим во Вьетнаме американцам казалось,
что Америка совершила зло, что убийства и смерти,
совершавшиеся от их имени, не вписываются в систему
осмысленных символов и не могут быть убедительно
оправданы. В результате большинство испытывает чувство
утраты моральной чистоты, граничащее у некоторых с
морально-психологической дезинтеграцией.
Ветераны войны во Вьетнаме отличаются от своих
соотечественников тем, что они точно знают то страшное,
о котором остальные могут лишь догадываться и от
которого они пытаются отмахнуться, страдают от этого
знания, а настроенные против войны ветераны чувствуют
себя обязанными рассказать всем правду. То же чувство
долга заставляло их задавать вопрос, похожий на тот,
который задавал себе герой романа Э. М. Ремарка «На
435
западном фронте без перемен»: «А что бы мы делали,
если бы ясно представляли, что там происходит?»
«Там» в данном случае означает во Вьетнаме, в их мыслях
и — по большому счету — во всем американском
обществе.
Следуя своему призванию, ветераны — противники
войны стремятся понять причины своего морального
падения и расквитаться с его виновниками.
Они взяли на себя совершенно особую миссию,
имеющую чрезвычайно большую историческую и
психологическую значимость. Они отвергли традиционный
стереотип преодоления чувства вины путем участия в
организациях ветеранов, которые не только оправдывают свое
участие в войне, но и милитаризм в целом. Эти
«антивоенные воины» перевертывают стереотип с ног на голову и
считают своим долгом разоблачать бессмысленность и зло,
которые причинила война. Они делают это не в одиночку,
как поэты и философы (ветераны первой мировой войны),
а объединяются в организации ветеранов.
Психологической мотивацией, провоцирующей этот процесс, была
необходимость встретиться, по выражению некоторых из
них, «с тем человеком во мне, который участвовал
в войне».
Для некоторых из них политические выступления
с разоблачением роли США во Вьетнаме стали
психологической потребностью. Рассказать свою историю
американскому обществу означало для них не только выразить
свою политическую позицию, но и найти избавление
от тревожащих их совесть воспоминаний. Для этих людей
протест стал не только поиском выхода из тяжелого
психического состояния, но и самим выходом. Они
выглядят то группой обескураженных юнцов, пытающихся
оправиться от пережитого шока, то молодыми людьми,
которым жизнь слишком рано преподала свои жестокие
уроки. Как объяснил мне один из них, «мне горько,
потому что я еще молод, а мне уже пришлось быть
свидетелем и участником событий, о которых я при
обычных обстоятельствах мог бы не узнать за всю
жизнь». Кроме того, эти юноши чувствуют, что поняли
что-то важное, о чем взрослые американцы отказываются
думать. Они увидели, что большинство американцев живут
в мире иллюзий. Им говорят: «Вы не такие, как все
остальные» или «Вы знаете то, о чем другие даже
не подозревают». Поскольку то, что они знают, связано
436
со смертью и страданиями, они испытывают двойственное
отношение к себе еще и по этой причине. Они то ощущают
себя обманутыми и не признанными обществом изгоями,
то своеобразной элитой, которая причастна к какому-то
важному и порочному знанию.
Даже те, кто утверждал, что «мы должны вывернуться
наизнанку, но победить в этой войне», тоже борются со
своими сомнениями и пытаются найти осмысленное
оправдание тому, что остались в живых. Есть достаточно
оснований полагать, что «антивоенные» и «провоенные»
ветераны (эти термины могут ввести в заблуждение,
потому что последний не употребляется в общественной
жизни) более близки психологически, чем принято считать,
или — другими словами — разными путями пытаются
разрешить одни и те же психологические конфликты. Вот
как говорит об этом один из антивоенных ветеранов:
«Мне часто говорят: «Мы знаем ветеранов войны,
которые ведут себя не так, как ты». Я отвечаю им:
«Поживем — увидим. Если им повезет, они поведут себя
так же. Если им повезет, они „взорвутся"».
Вероятность того, что' «взорвутся» многие из трех
миллионов ветеранов Вьетнама, невелика, однако ясно,
что эти немногие выполняют символическую
психологическую работу за всех ветеранов и, если вдуматься,
за американское общество в целом.
КОММЕНТАРИИ
К с. 15 Вьетконговцы — так называли вьетнамских патриотов
американцы и их марионетки (от «Вьетконг» — букв,
«вьетнамский коммунист:*).
К с. 21 Рейнджеры — солдаты диверсионно-десантной группы.
К с. 25 Чарли — принятое у американцев прозвище
южновьетнамских партизан (от кодового обозначения «Вьетконга» по
первым буквам «Виктор Чарли»).
К с. 38 «Comme tous les autres»— как все прочие (фр.).
К с. 42 Шолон — китайский квартал Сайгона.
К с. 45 Bien eleve— благовоспитанный (фр.).
К с. 46 Beaucoup kilo— много килограммов (искаж. фр.).
К с. 52 Вест-Пойнт — Военная академия США, основана в 1802 г.
К с. 53 Аннаполис — город, где находится Военно-морская академия
США.
К с. 79 СПОЗ — Служба подготовки офицеров запаса.
К с. 105 Вьетмин — так называли французские колонизаторы
вьетнамских патриотов.
К с. 131 Merde — дерьмо (фр.).
К с. 135 Сен-Сир — французская военная академия, основана в 1808 г.
К с 140 Monsieur Deuxieme Bureau — господин Второе Бюро (фр.)»
т. е. сотрудник французской контрразведки.
К с. 183 Иеху — от иудейского царя Йеху, обладателя необычайно
быстрой колесницы. В современном языке — «быстрый ездок»,
переносное значение — крайне правая военизированная
организация (от звероподобных героев Джонатана Свифта).
438
К с. 190 Уэйн, Джон (1907—1982) —актер американского кино,
исполнитель ролей американских «суперменов».
К с. 207 «Зеленые береты» — форменный головной убор войск
специального назначения; словосочетание приобрело
нарицательный смысл.
К с. 209 «Аберкромби и Фитч» — англо-американская торговая фирма.
ОВЗП — Объединение военно-зрелищных предприятий,
занимавшееся организацией концертных бригад и прочими
увеселениями американских солдат во Вьетнаме.
Флинн, Эррол (1909—1959)—популярный американский
киноактер, известен советскому зрителю по фильму
«Приключения Робин Гуда» (1938). Сыграл главную роль в
картине по роману Э. Хемингуэя «И восходит солнце» (1957).
Арто, Антонен (1896—1948) —французский актер, режиссер
и теоретик театра, поэт. Идеи Арто нашли наиболее полное
отражение в книге «Театр и его двойник» (1938), особенно
в главе, посвященной «театру жестокости» (термин Арто).
По мысли автора, театр призван посредством сценических
образов насилия вовлечь зрителя в максимально сильные
переживания и способствовать таким образом его духовному
обновлению. Идеи Арто оказали существенное влияние на
развитие театра Западной Европы и Америки.
К с. 210 La vida /oca — безумная жизнь (исп.).
К с. 220 «С пук» — презрительное прозвище работников спецслужб.
К с. 225 «Собачьи ярлыки» — личные знаки военнослужащих.
К с. 226 «Звезды и полосы» — газета вооруженных сил США (по
названию национального флага США).
К с. 228 «Недомерки» — презрительное прозвище, данное
американскими солдатами своим южновьетнамским союзникам.
К с. 232 «Монтаньяры» — на жаргоне, принятом американцами во
Вьетнаме, так назывались живущие в горах племена
национальных меньшинств, которые ЦРУ вооружало и
финансировало, создавая из их числа военные формирования,
разжигая чувства национальной розни.
К с. 234 «Белые мышата» — презрительная кличка южновьетнамских
полицейских, носивших белые мундиры.
«Зелененькие» — американские доллары.
К с. 237 «Тэт» — вьетнамский праздник Нового года по лунному
календарю. Речь идет об одном из крупнейших наступлений
народных вооруженных сил освобождения в начале 1968 г.,
когда они прорвались в Сайгон, Гуэ и около пятидесяти
других городов и населенных пунктов.
439
К с. 241 Марш войск северян через штат Джорджия под
командованием генерала У. Шермана (1820—1891), во время
которого применялась тактика, двыжженной земли», явился
решающей операцией в Гражданской войне США 1861 —
1865 гг.
Блейк, Уильям (1757—1828)—английский поэт, художник,
иллюстратор «Божественной комедии» Данте. Для творчества
Блейка характерна романтическая фантастика и
философская аллегория.
К с. 243 Фонда, Генри (1905—1982) — популярный американский
киноактер, известен советскому зрителю по картинам «Война
и мир» (1956), «Тринадцать разгневанных мужчин» (1957)
и др.
К с. 246 «Тропа слез» — в 1828 году на территории индейского
племени чероки в штате Джорджия обнаружили золото. После
десяти лет махинаций власти вынудили кучку вождей
подписать жульнический договор о передаче земель белым.
Семитысячный отряд армии США прибыл, чтобы изгнать
индейцев в Оклахому. Путь из Джорджии в Оклахому,
усеянный трупами индейцев (погибло более четырех тысяч
человек), был назван «Тропою слез».
Лодж, Генри Кэбот (род. в 1902 г.) — американский
политический деятель. Посол в Южном Вьетнаме в 1963—1964
и 1965—1968 гг., глава американской делегации на мирных
переговорах в Париже в 1969 г.
К с. 247 Гордон, Чарлз (1833—1885) — английский колониальный
деятель, генерал. Принимал участие в войне Великобритании
и Франции 1856—1860 гг. против Китая, командовал
контрреволюционной армией, сыгравшей главную роль в подавле:
нии Тайпинского восстания, губернатор Судана в 1884—
1885 гг., убит восставшими махдистами в Хартуме.
Бёртон, Ричард (1821 —1890) — английский востоковед,
разведчик и дипломат. Переодевшись паломником, проник в
Мекку и Медину, описал это путешествие в книге «Личный
отчет о паломничестве в Мекку и Медину» (1855—1856).
Переводчик на английский язык «Тысячи и одной ночи»
(1885—1888).
Лоуренс, Томас (1888—1935) — английский разведчик, по
образованию археолог, в 1914—1919 и 1922—1935 гг. состоял
на службе в британской армии, сотрудником т. н. Бюро по
арабским делам в Каире. Вел разведывательную работу в
Сирии, Палестине, Аравии, Египте и др. странах. В
последние годы жизни был близок к английским фашистам.
«Плющевая лига» — ассоциация восьми привилегированных
колледжей в северо-восточной части США. Термин
спортивного обозревателя С. Вудворта, очевидно по ассоциации
с увитыми плющом крышами колледжей.
Лэнсдейл, Эдвард — американский разведчик, резидент ЦРУ
в Южном Вьетнаме.
440
«Эр Америка» — частная авиакомпания, фактически
принадлежавшая ЦРУ.
К с. 248 «Новые рубежи» — девиз президентства Дж. Ф. Кеннеди
(1961 — 1963).
К с. 253 Бэтмен — популярный персонаж комиксов.
Мезуза — талисман иудеев, трубочка или коробочка с
кусочком пергамента со строчками из Ветхого завета.
Хендрикс, Джимми (1942—1970) — певец и музыкант, символ
музыкальной контркультуры 60-х гг.
К с. 256 Пасадена — курортный пригород Сан-Франциско.
К с. 258 Годзилла (японская огласовка — Годзира) — контаминация
японских слов «горилла» и «кит» — герой сериала
«фильмов ужасов» о приключениях фантастического ископаемого
ящера, который поднимается со дна Токийского залива и
выходит на берег.
К с. 263 Аламо — крепость на месте нынешнего города Сан-Антонио
(штат Техас). В 1836 году во время войны США с
Мексикой в Аламо погиб весь гарнизон американской армии.
К с. 264 «На берегу» — фильм американского кинорежиссера Стэнли
Крамера, один из первых фильмов-предупреждений об угрозе
ядерной катастрофы.
Энсор, Джеймс (1860—1949) —бельгийский художник.
К с. 265 «Титаник» — американский лайнер, столкнувшийся с
айсбергом 15 апреля 1912 года. Из 2224 пассажиров погибло
1513.
К с. 268 Гуэ — город во Вьетнаме, с конца XIX века по 1945 г.
императорская столица династии Нгуен.
К с. 272 Хамбургер — поджаренная булочка с рубленым бифштексом.
К с. 273 «Мустанг» — военнослужащий, получивший офицерские
погоны не в кадровом офицерском училище, а выслужившийся
из нижних чинов и закончивший офицерские курсы.
К с. 297 «Подъем и падение третьего рейха» — книга американского
историка и журналиста Уильяма Ширера.
К с. 299 «Программа вьетнамизации» — политика президента Р.
Никсона, предполагавшая комплекс военных, политических и
экономических программ, которые позволили бы добиться
победы руками марионеточного режима Тхиеу.
К с. 317 «Динк» — то же, что и «гук», презрительное прозвище
вьетнамцев, применявшееся американскими солдатами во
Вьетнаме.
К с. 355 Главнокомандующий в Вашингтоне, т. е. президент США.
441
К с. 358 Тодзио, Хидэки (1884—1948) — крупный политический и
военный деятель Японии. В 1941 — 1944 годах — премьер-
министр и военный министр. Был повешен по приговору
Токийского трибунала как один из главных японских военных
преступников.
Мадам Чан — супруга Чан Кайши, главы свергнутого в
1949 году гоминьдановского режима, принимала активное
участие в политической жизни.
Линди — современный танец, отличающийся энергичными
движениями и прыжками.
К с. 359 Китченер, Гораций (1850—1916) —английский фельдмаршал
и политический деятель, граф Хартумский (1914), в 1886—
1888 гг.— генерал-губернатор Восточного Судана, в 1895—
1898 — командовал войсками в Египте, в 1900—1902 —
служил в Индии, командовал британскими войсками во время
англо-бурской войны 1899—1902 гг., с 1914 г.—военный
министр Великобритании.
К с. 360 Мейлер, Норман (род. в 1923 г.), Пинчон, Томас (род. в
1937 г.) и Апдайк, Джон (род. в 1932 г.) — известные
современные американские писатели.
Фричи, Клейтон — современный американский публицист.
К с. 362 Генерал Лоан — глава Сайгон с кой полиции, известен в связи
с обошедшим мировую прессу снимком корреспондента
Ассошиэйтед пресс Эдди Адамса, получившем Пулитце-
ровскую премию, на котором генерал Лоан в упор
расстреливает на улице задержанного вьетнамского патриота.
К с. 366 «Уловка-22» (1961) —роман американского писателя
Джозефа Хеллера, сатира на американскую армию; название
приобрело нарицательный смысл.
К с. 369 Годар, Жан-Люк (род. в 1930 г.) — один из крупнейших
современных кинорежиссеров Франции, представитель т. н.
«новой волны» во французском кино.
Антониони, Микеланджело (род. в 1912 г.) — итальянский
кинорежиссер, известен советскому зрителю по картинам:
«Ночь» (1960), «Затмение» (1962), «Красная пустыня» (1964),
«Крик» (1957).
Ричардсон, Тони (род. в 1928 г.) — английский режиссер,
чей фильм по пьесе английского драматурга Джона Осборна
«Оглянись во гневе» стал в 60-е годы манифестом «сердитых
молодых людей». Широкую популярность принесла ему
картина по романам английского писателя Алана Силлитоу
«Одиночество бегуна на длинные дистанции» (1962) и «В
субботу вечером, в воскресенье утром».
К с. 376 Синатра, Нэнси (род. в 1940 г.) — американская актриса,
в 1967 году была на гастролях в Южном Вьетнаме.
442
К с. 383 Американский легион — реакционная организация ветеранов
США, финансируется крупными монополиями.
К с. 384 Хейден, Том (род. в 1939 г.) — писатель, активист
антивоенного движения в США в период войны во Вьетнаме, один
из создателей организации «Студенты за демократическое
общество», автор книги по проблемам либерального
сознания, религии и этики в США.
Кронкайт, Уолтер (род. в 1916 г.)—один из
популярнейших в США радио- и телекоментаторов.
К с. 385 Каппа, Роберт, Смит, Юджин, Борк-Уайт, Маргарет —
известные американские фотокорреспонденты на фронтах
второй мировой войны.
К с. 387 «Поминки по Финнегану» — роман одного из классиков
мировой литературы XX века ирландского писателя Джеймса
Джойса (1882—1941).
К с. 390 Уоллес, Джордж (род. в 1919 г.) — губернатор штата
Алабама в 1963—1966 и 1971 — 1979 гг., в 1972 г.—кандидат
на пост президента США.
К с. 392 Саскайнд, Дэвид (род. в 1920 г.) — американский
режиссер и телекоментатор.
К с. 396 Вэрриган, Дэниел (род. в 1921 г.) — американский писатель,
священник, активист движения против войны во Вьетнаме,
автор книг «Ночной полет в Ханой» (1968) и «Суд над
девяткой из Каттонсвилля» (1970).
К с. 404 День благодарения — национальный праздник, отмечаемый
с 1621 г., когда первые американские колонисты
отпраздновали конец тяжелого года и хороший урожай.
К с. 418 Стивене, Уоллес (1879—1955) —американский поэт,
считавший воображение главным путем познания мира. Критика
называла его «поэтом для немногих». В год смерти
Стивене был удостоен Пулитцеровской премии за «Собрание
стихотворений».
К с. 419 Хойзинга, Йохан (1872—1945) —голландский историк и
социолог. По его мнению, уникальность каждого исторического
события делает бессмысленными попытки познания законов
истории, описание истории он сводит к описанию культуры,
происхождение которой ведет от игры, наивысшего
проявления, как считает Хойзинга, человеческой сущности.
Основные произведения: «Играющий человек» (1958) и «Люди
и идеи» (1959).
СПРАВКИ ОБ АВТОРАХ
ХАЛБЕРСТЭМ ДЭВИД (род. в 1934 г.) — американский журналист,
писатель; за свои международные корреспонденции удостоен Пулит-
церовской премии. Автор книг: «В трясине» (1965) —сборник
репортажей из Вьетнама, «Неоконченная одиссея Роберта Кеннеди» (1969)
и «Лучшие и талантливейшие» (1972) —о политических проблемах
США в 60-е гг., «Власти предержащие» (1979) —о
монополизированной прессе США и романа «Один очень жаркий день» (1968).
УИЛСОН УИЛЬЯМ (род. в 1935 г.) — американский журналист,
автор единственной книги «Бригада Л. Б. Дж.», вышедшей в 1966 г.
в Англии, как и многие разоблачительные работы американских
журналистов о войне во Вьетнаме, которые не были опубликованы
в США или вышли там лишь после их публикации за рубежом.
ГЕРР МАЙКЛ — молодым человеком провел во Вьетнаме несколько
месяцев в качестве корреспондента журнала «Эсквайр». Его книга
«Репортажи» вышла через десять лет после его возвращения домой,
в 1977 г. «Репортажи» Герра легли в основу сценария фильма
Ф. Копполы «Апокалипсис сейчас».
ХЕРШ СЕЙМУР (род. в 1937 г.) — представитель
«расследовательской» традиции американской журналистики. Уже первая его книга
«Химическое и бактериологическое оружие: скрытый арсенал Америки»
(1968) стала политическим разоблачением.
Две книги Сеймура Херша о войне во Вьетнаме — «Милай-4: отчет
о бойне и ее последствиях» (1970) и «Сокрытие фактов: секретное
военное расследование бойни Милай-4» (1972)—безусловно стоят
в ряду наиболее известных книг на эту тему. Первая из них
(журналист был вынужден опубликовать ее за границей, лишь после этого
она вышла в США) принесла ему Пулитцеровскую премию.
В 1974 г. Сеймур Херш получил премию за серию очерков о
влиянии ЦРУ на жизнь США.
БРАУН МАЛКОЛМ — американский журналист, провел во Вьетнаме
1961 — 1964 гг. За очерки из Вьетнама в 1964 г. получил
Пулитцеровскую премию. В 1965 г. они вышли отдельной книгой «Новый лик
войны».
АРЛЕН МАЙКЛ (род. в 1930 г.) — американский журналист.
Широкую известность принесла ему книга «Война в гостиной» (1969) —
444
сборник обозрений телепрограмм, посвященных войне во Вьетнаме.
Большой общественный резонанс имела книга Арлена «Американский
приговор» (1973) —о решении чикагского суда, который оправдал
убийц главы партии «Черные пантеры».
В последней своей работе «Век камеры» (1981) Майкл Арлен
обобщил размышления о работе средств массовой информации США.
МАКГИННИС ДЖО (род. в 1942 г.) — американский журналист.
Его книга «Продажа президента» (1969) рассказывала о
предвыборной кампании Р. Никсона. Книга «Герои» вышла в 1976 г.
ЛИФТОН РОБЕРТ ДЖЕЙ (род. в 1926 г.) — известный
американский психиатр и журналист, «психоисторик», писавший о людях,
переживших атомную бомбардировку Хиросимы, о ветеранах. В 1975 году
за книгу «Смерть при жизни: пережившие Хиросиму» (1968) ему была
присуждена «Золотая медаль Хиросимы». В 1969 году он получил за
нее «Национальную книжную премию». Книга Р. Дж. Лифтона «Домой
с войны» (1973) создана на основе 400 интервью с ветеранами
войны во Вьетнаме.
СОДЕРЖАНИЕ
История или кровоточащая рана?
Алексей Хамадан 3
* Дэвид Халберстэм. Один очень жаркий день.
Перевод К. Чугунова 11
* Уильям Уилсон. Бригада Эл-Би-Джей.
Перевод И. Кулаковской-Ершовой 169
** Майкл Герр. Репортажи.
Перевод Ю. Зараховича 205
Сеймур Херш. Сокрытие фактов.
Перевод Ю. Зараховича 277
Мал кол м Браун. Америка и новый лик войны.
Перевод А. Злобина 344
Майкл Арлен. Война в гостиной.
Перевод А. Галеновича • . . . . 355
** Джо Макгиннис. Герои. Перевод Н. Халипа 388
** Джей Лифтон. Раны сознания.
Перевод Н. Сергованцевой . • 412
Комментарии 438
Справки об авторах 444
РАНЫ СОЗНАНИЯ
ИБ № 13615
Составитель Татьяна Александровна Ротенберг
Редактор А. А. Файнгар
Художник В. К. Бисенгалиев
Художественный редактор В. А. Пузанков
Технический редактор Т. И. Юрова
Корректор Я. И. Мороз