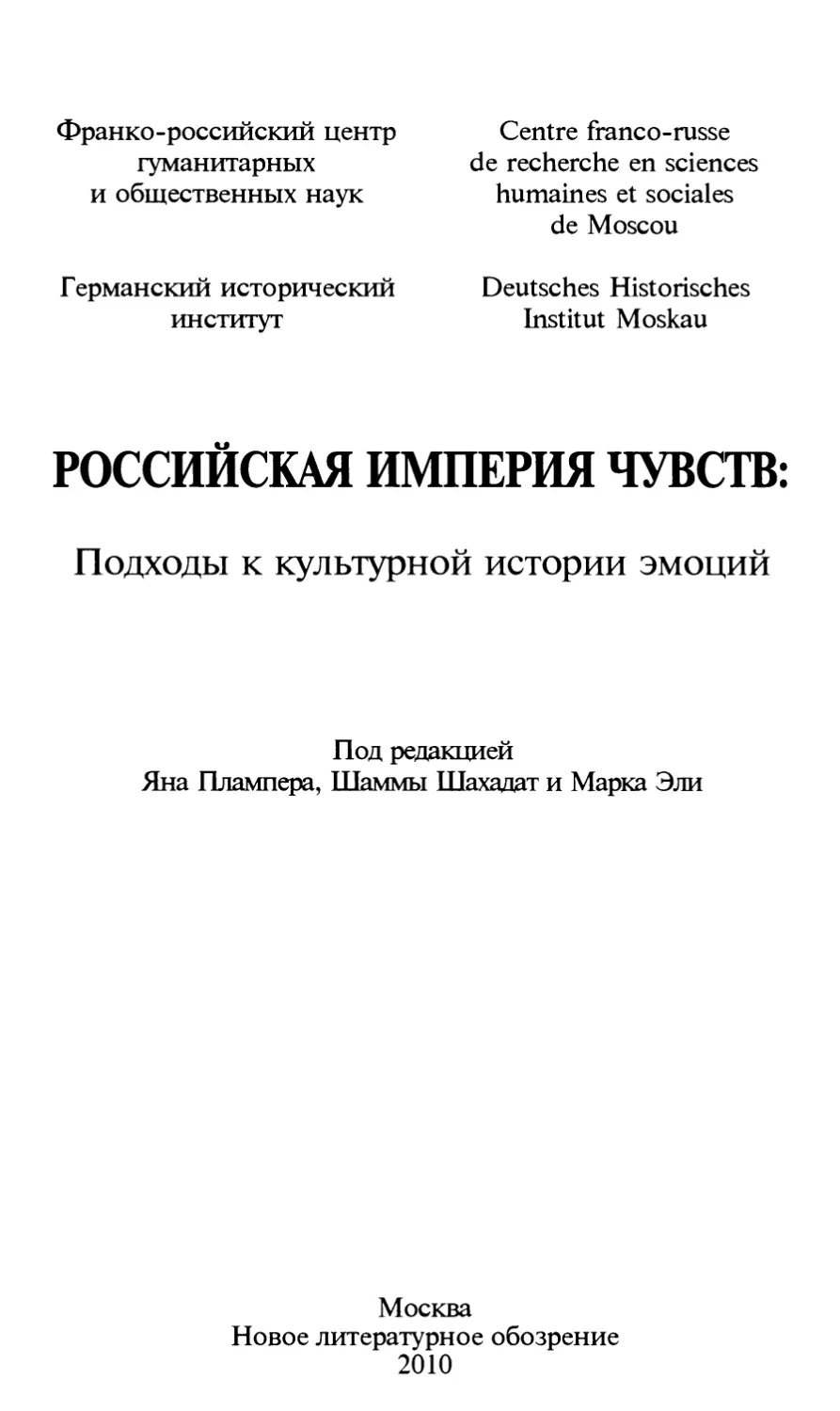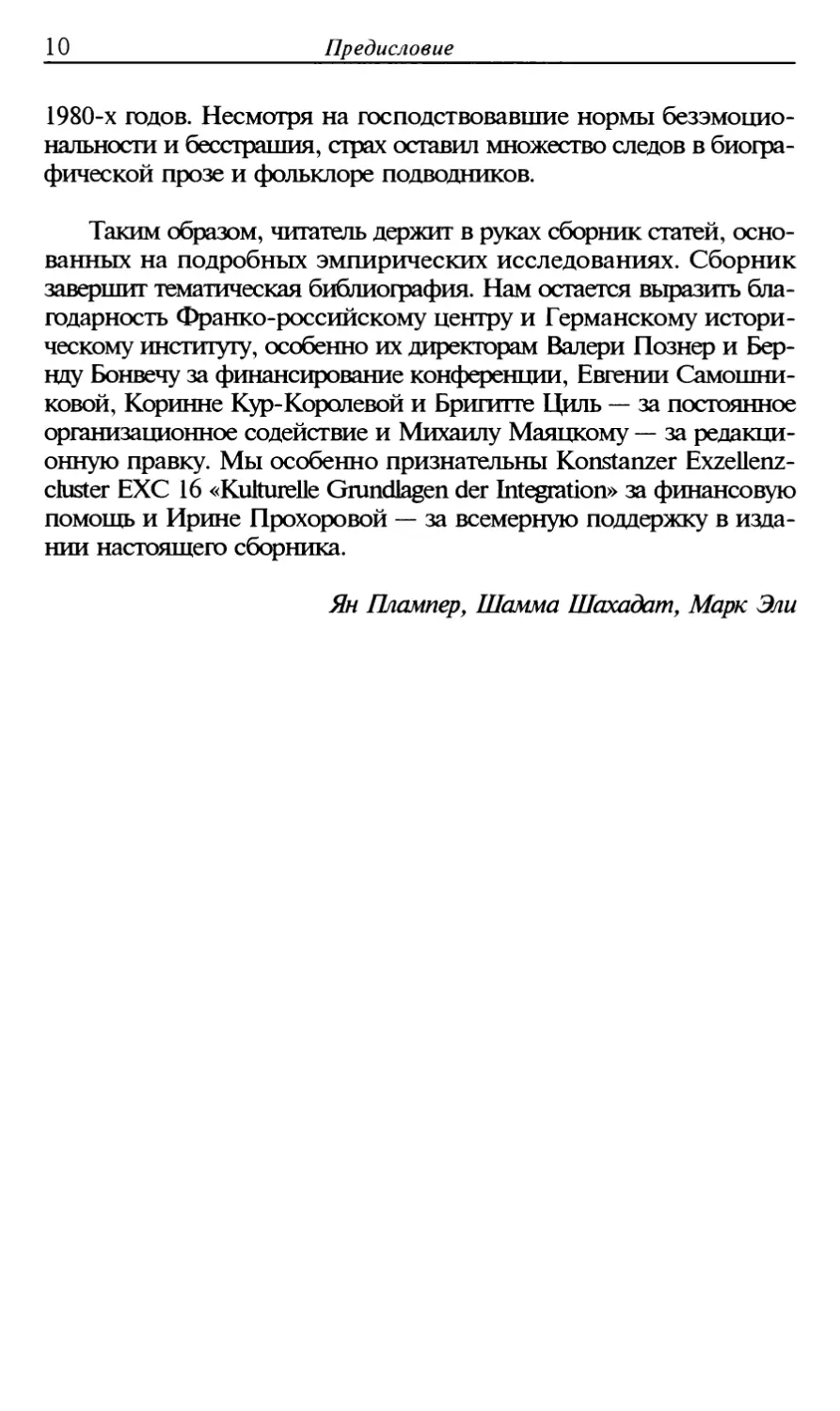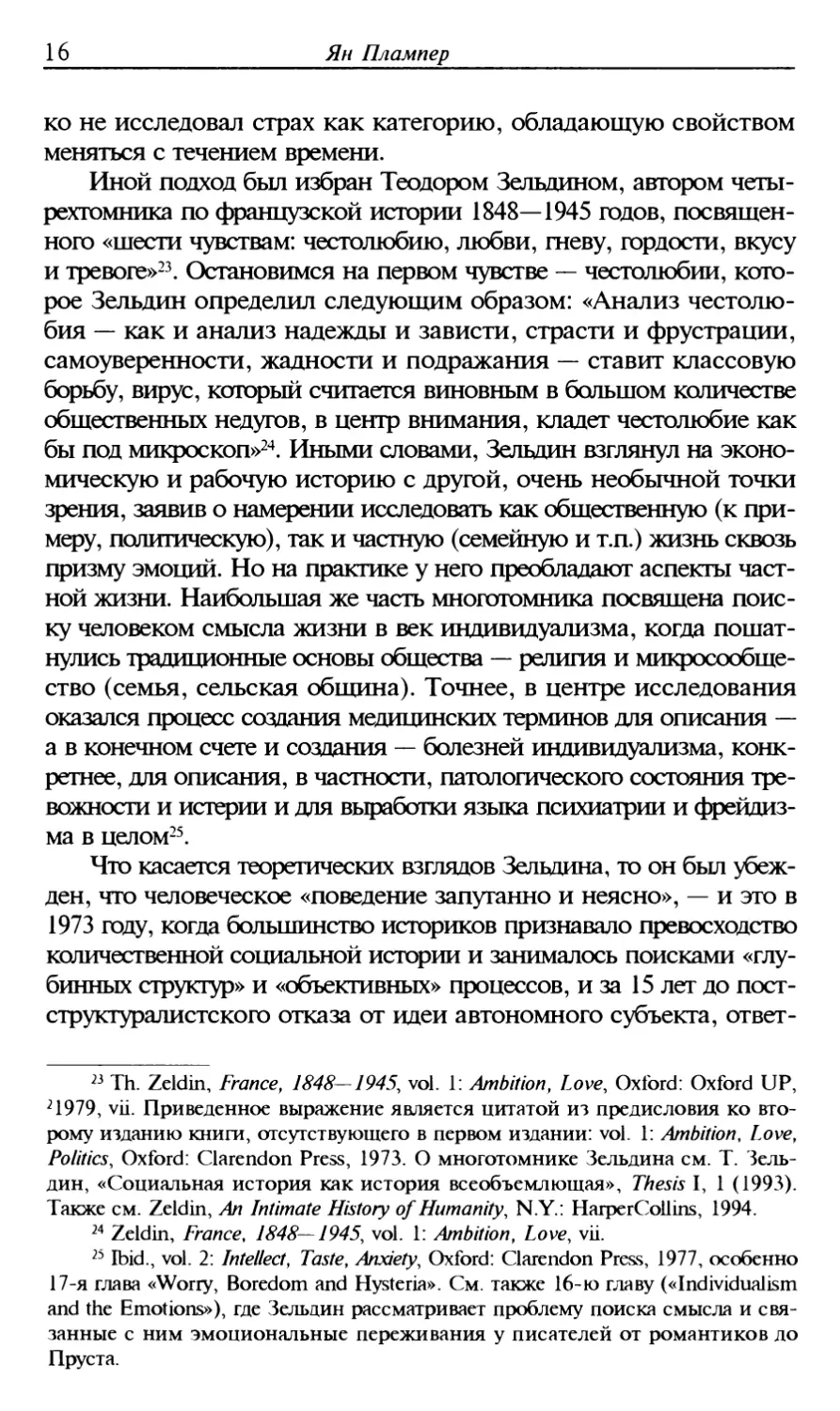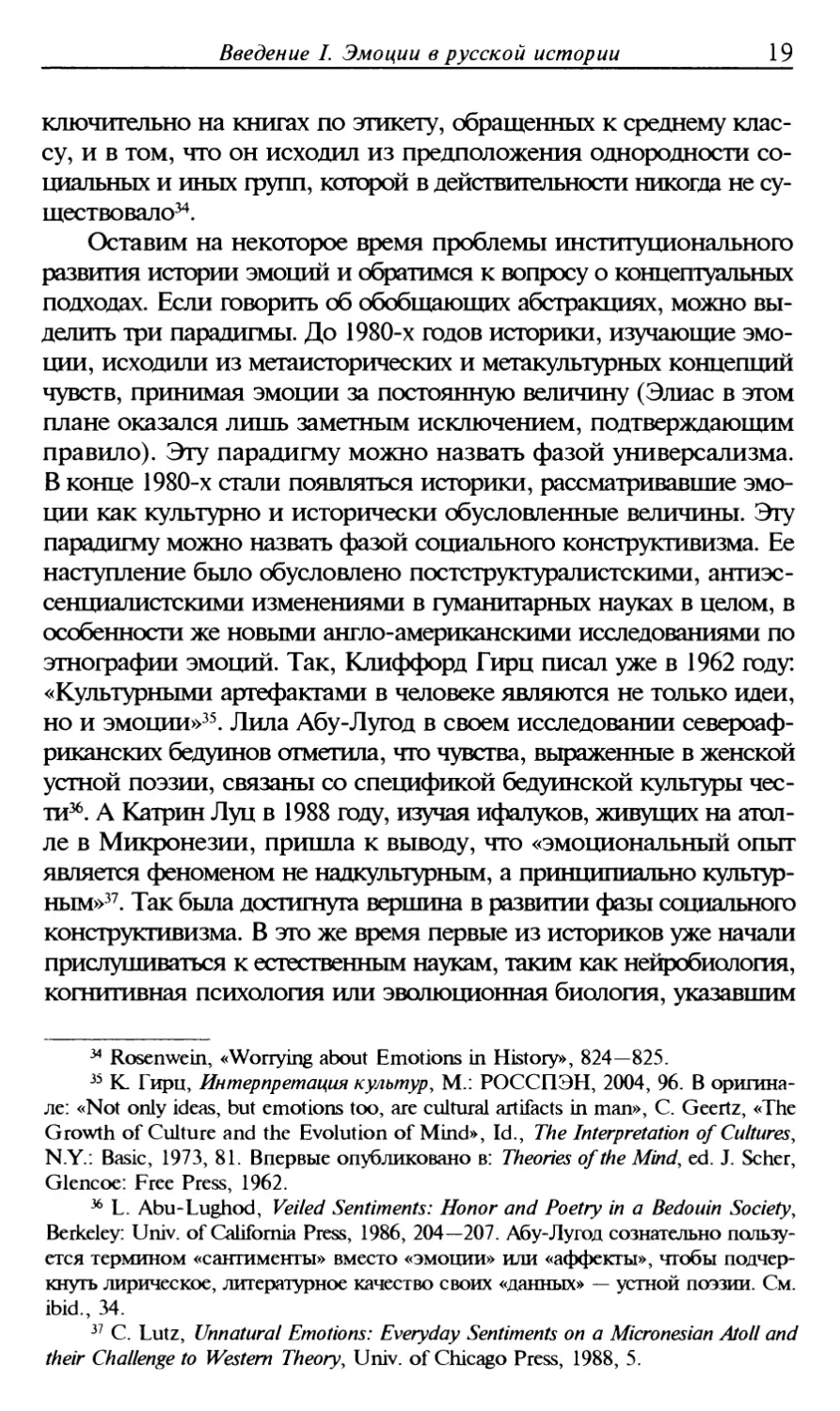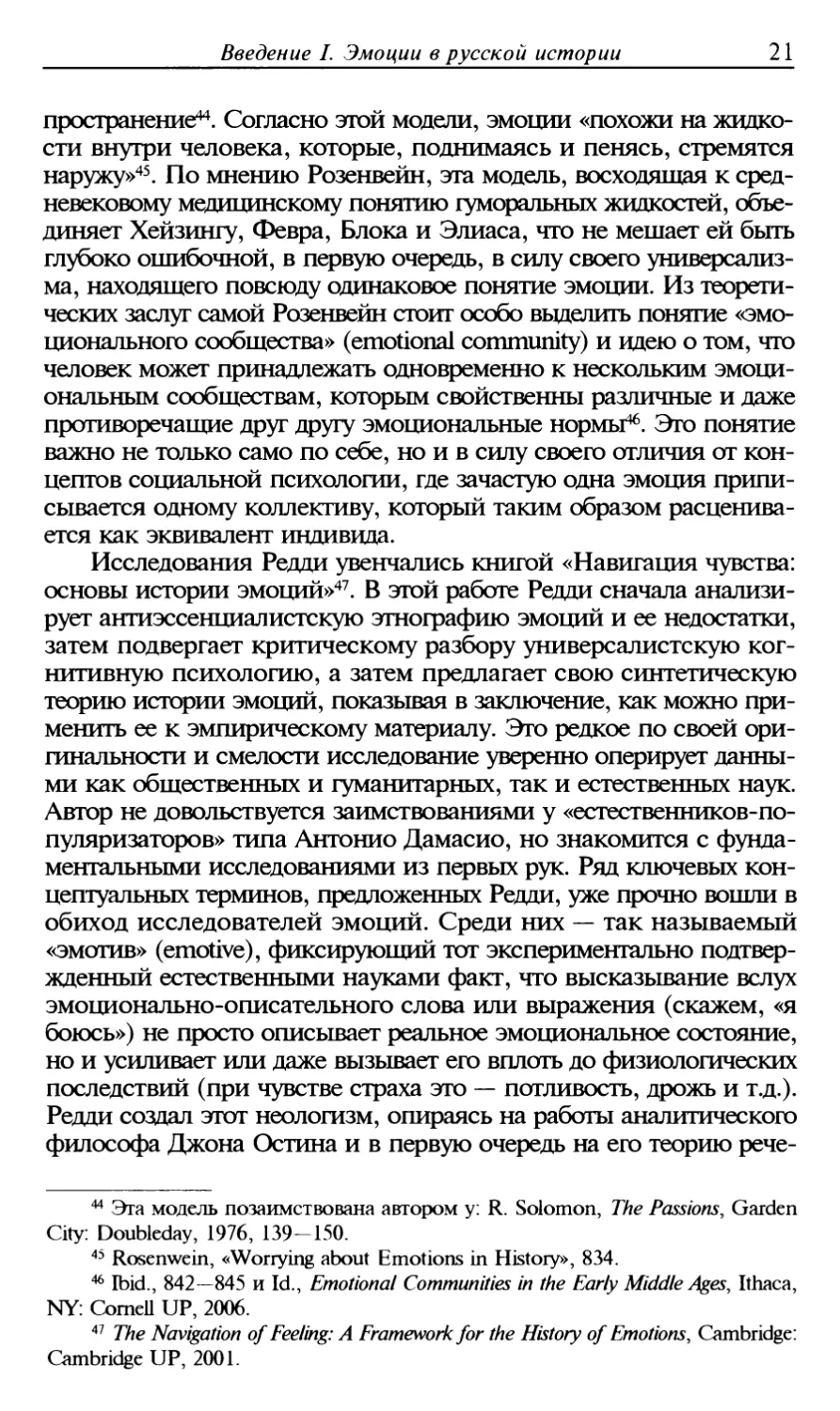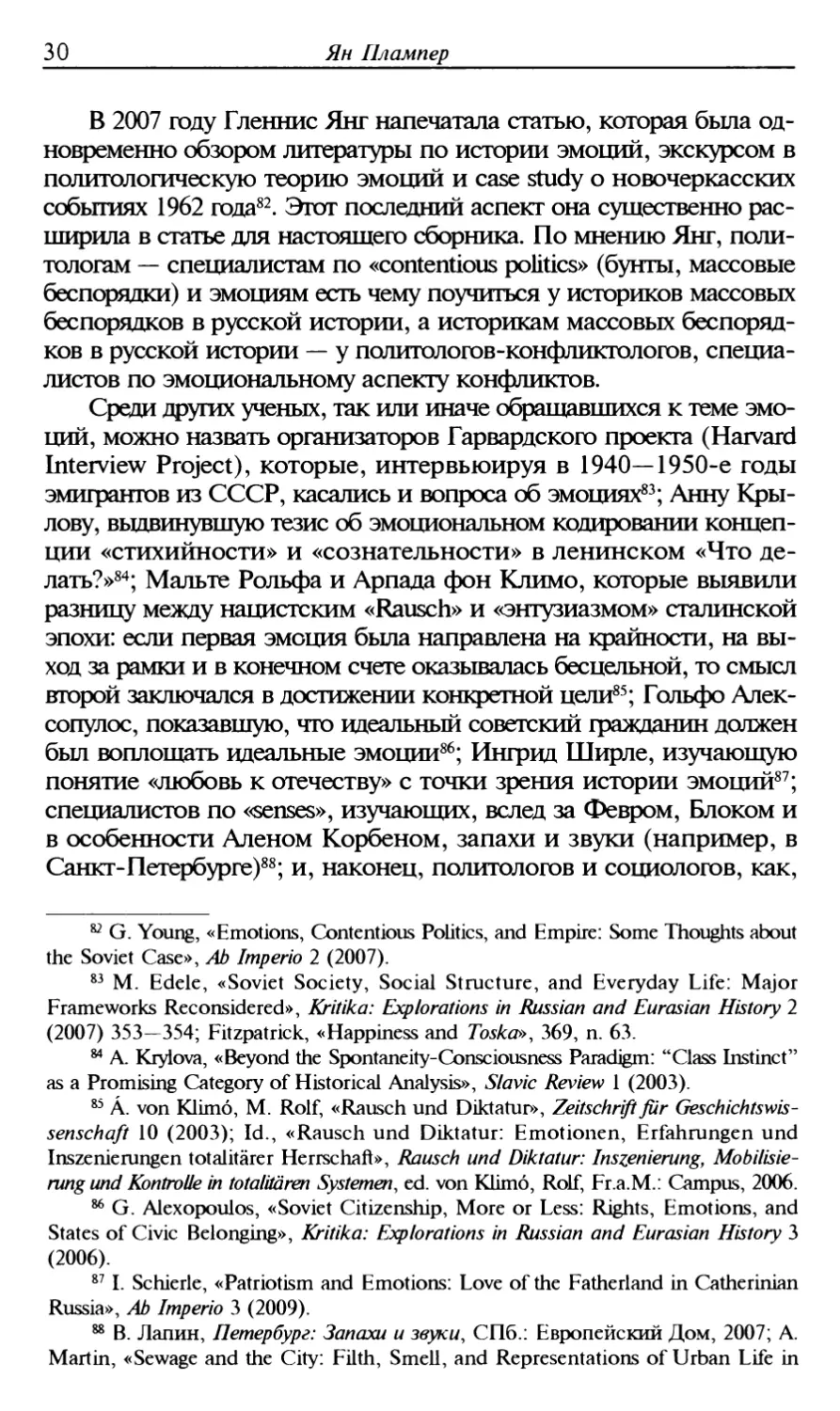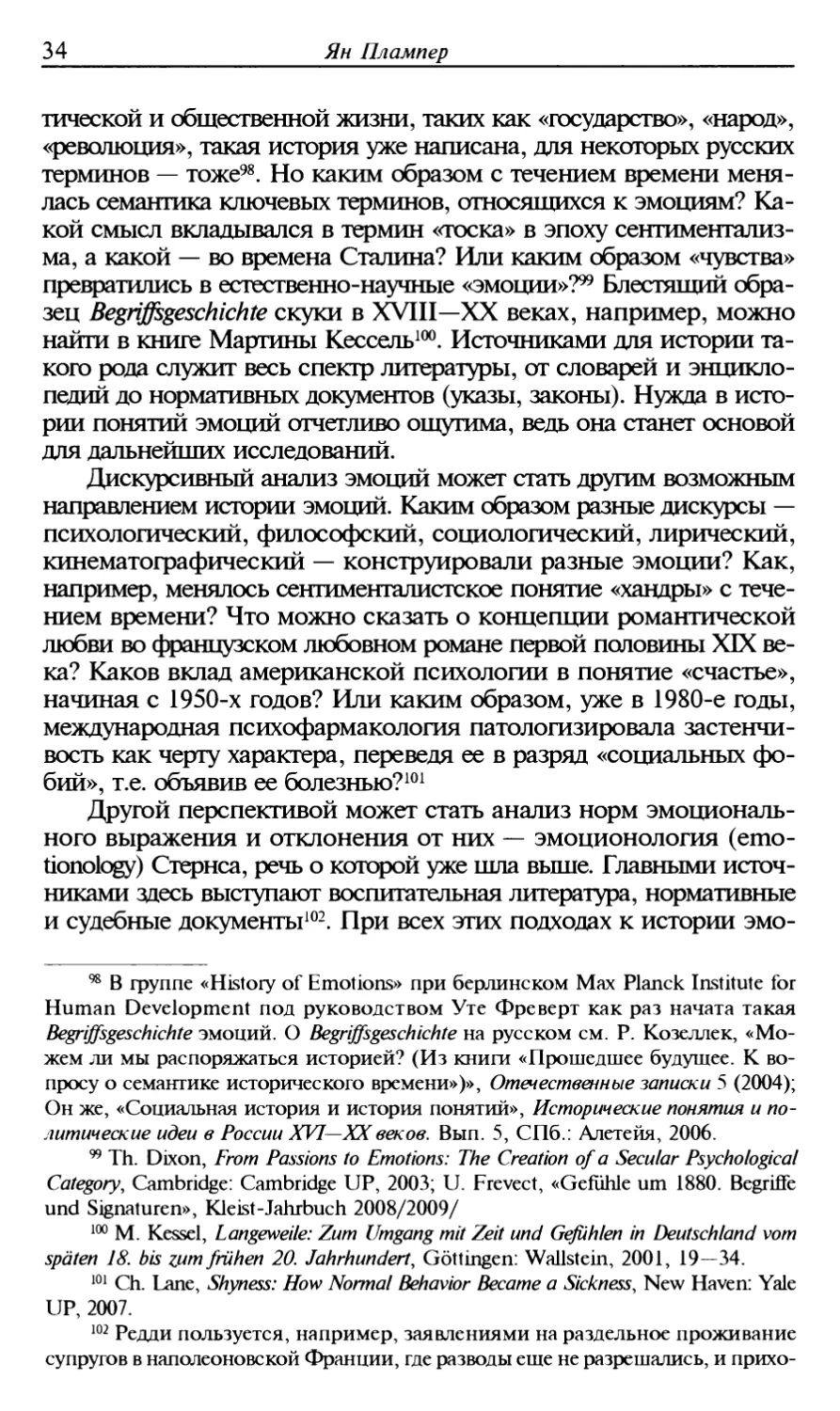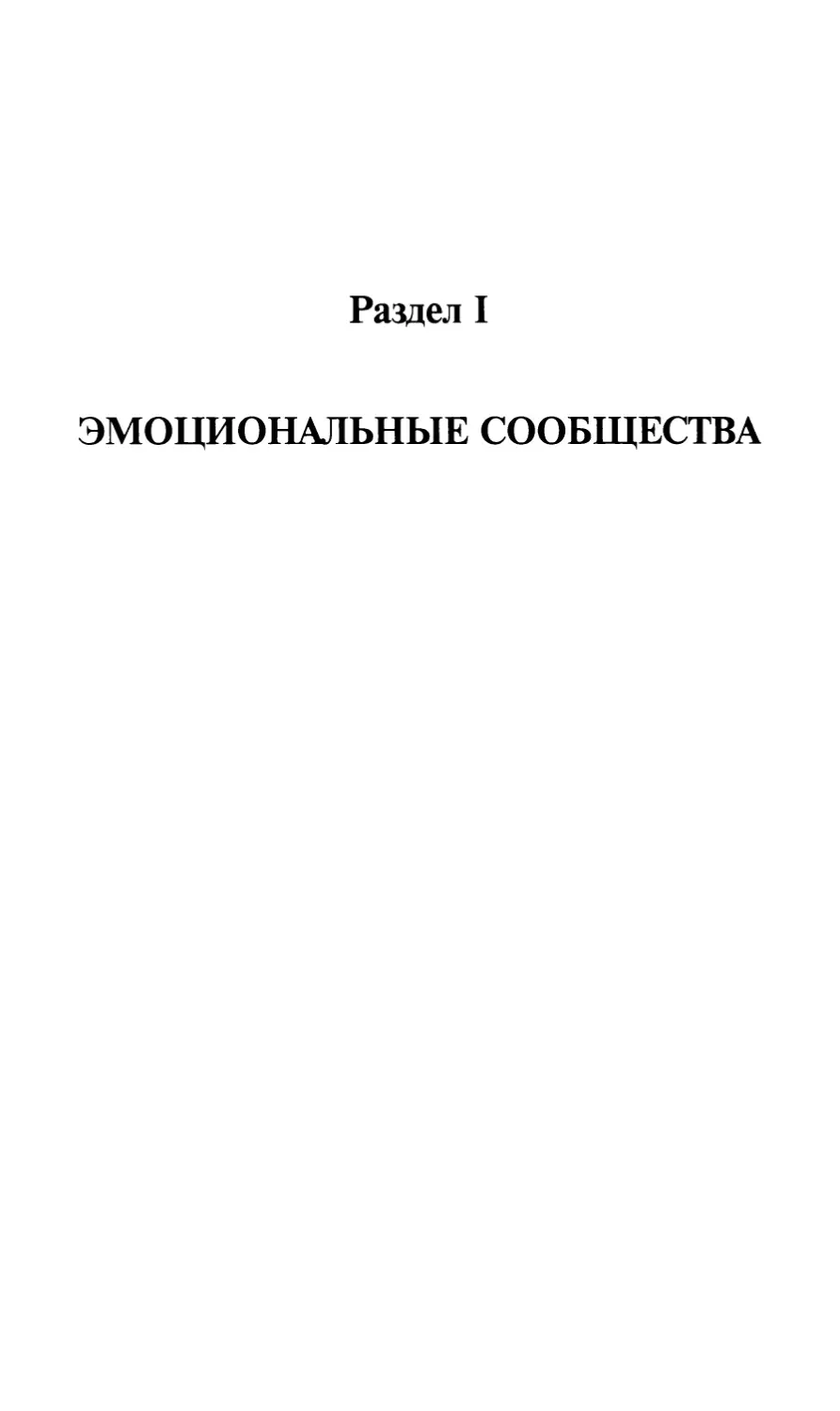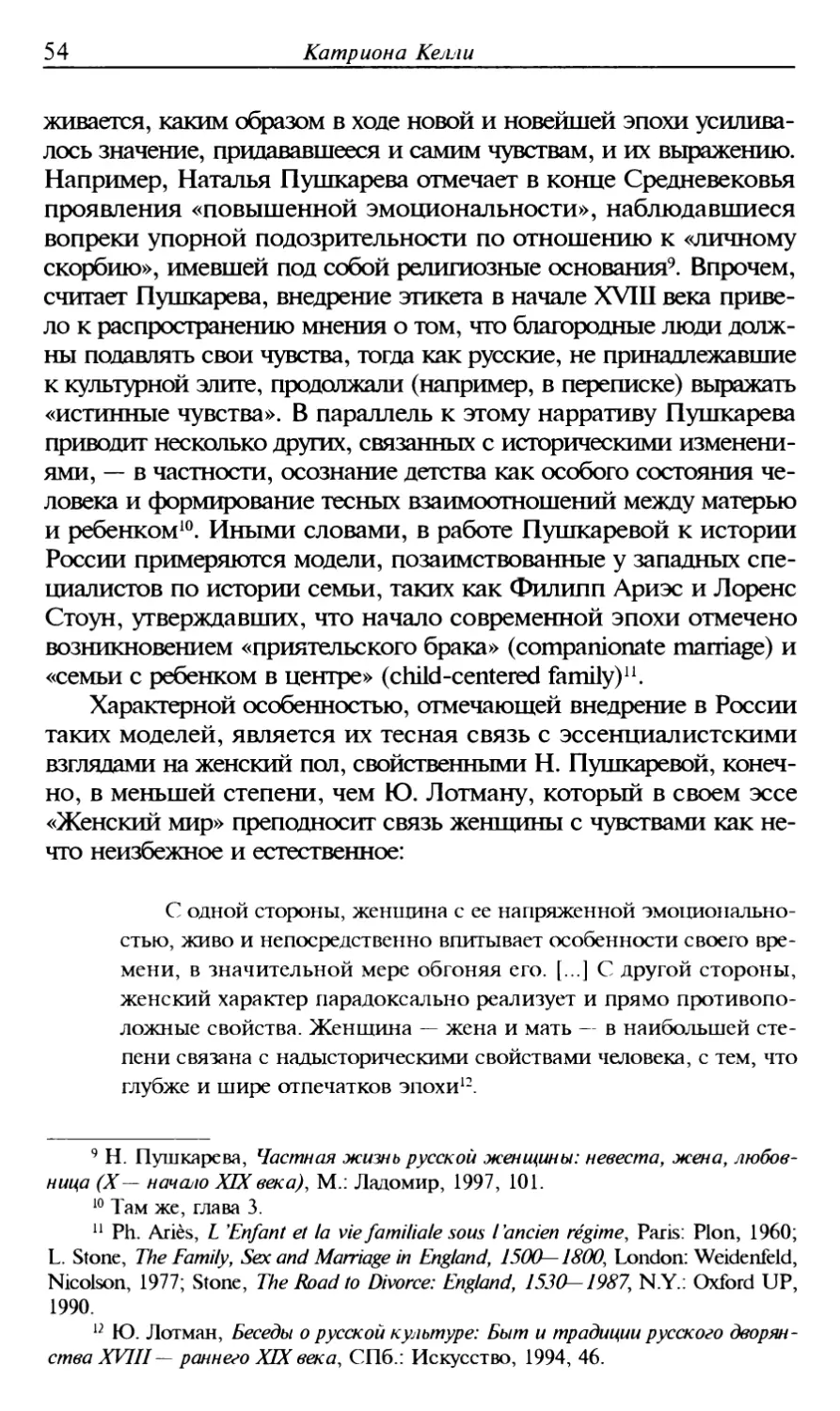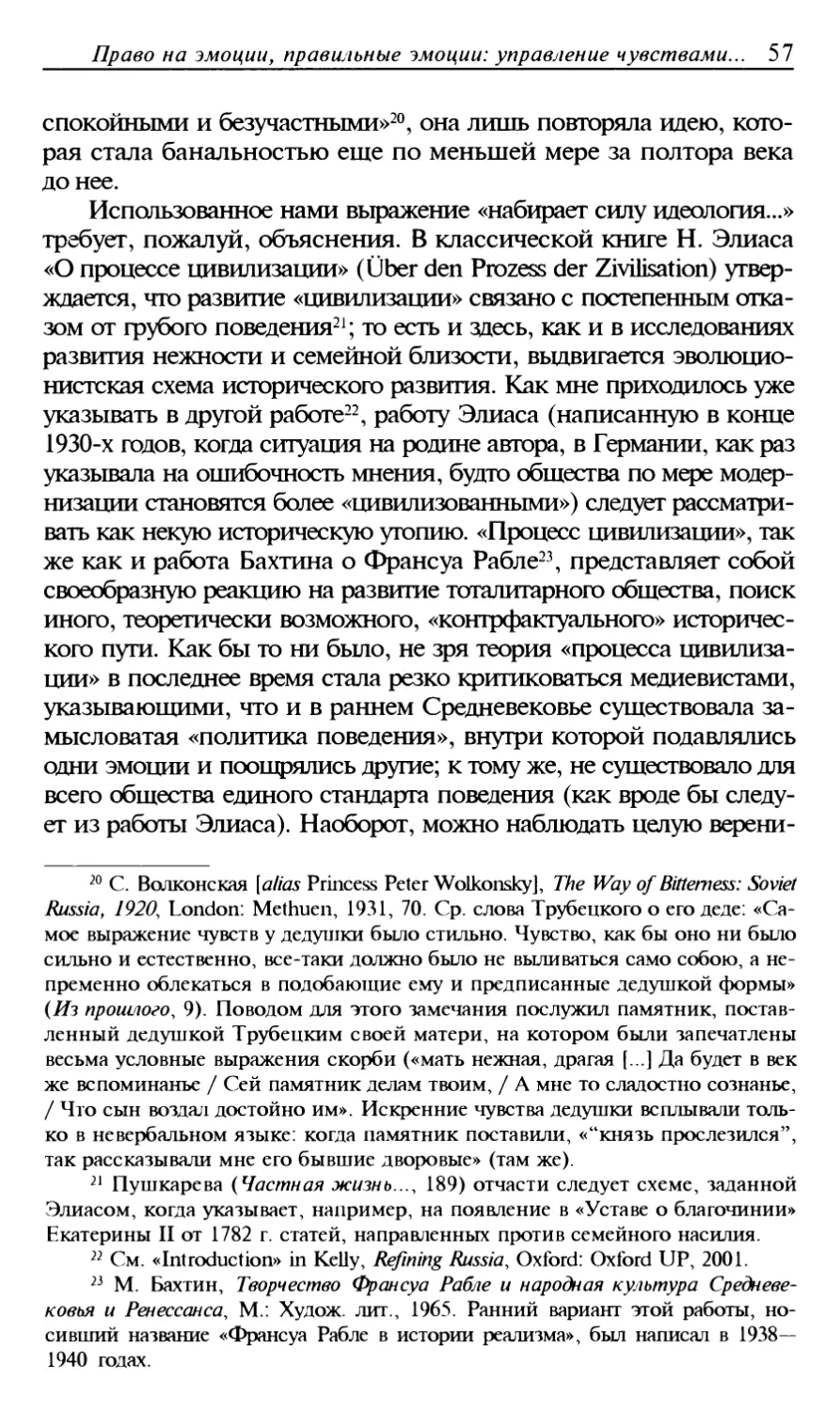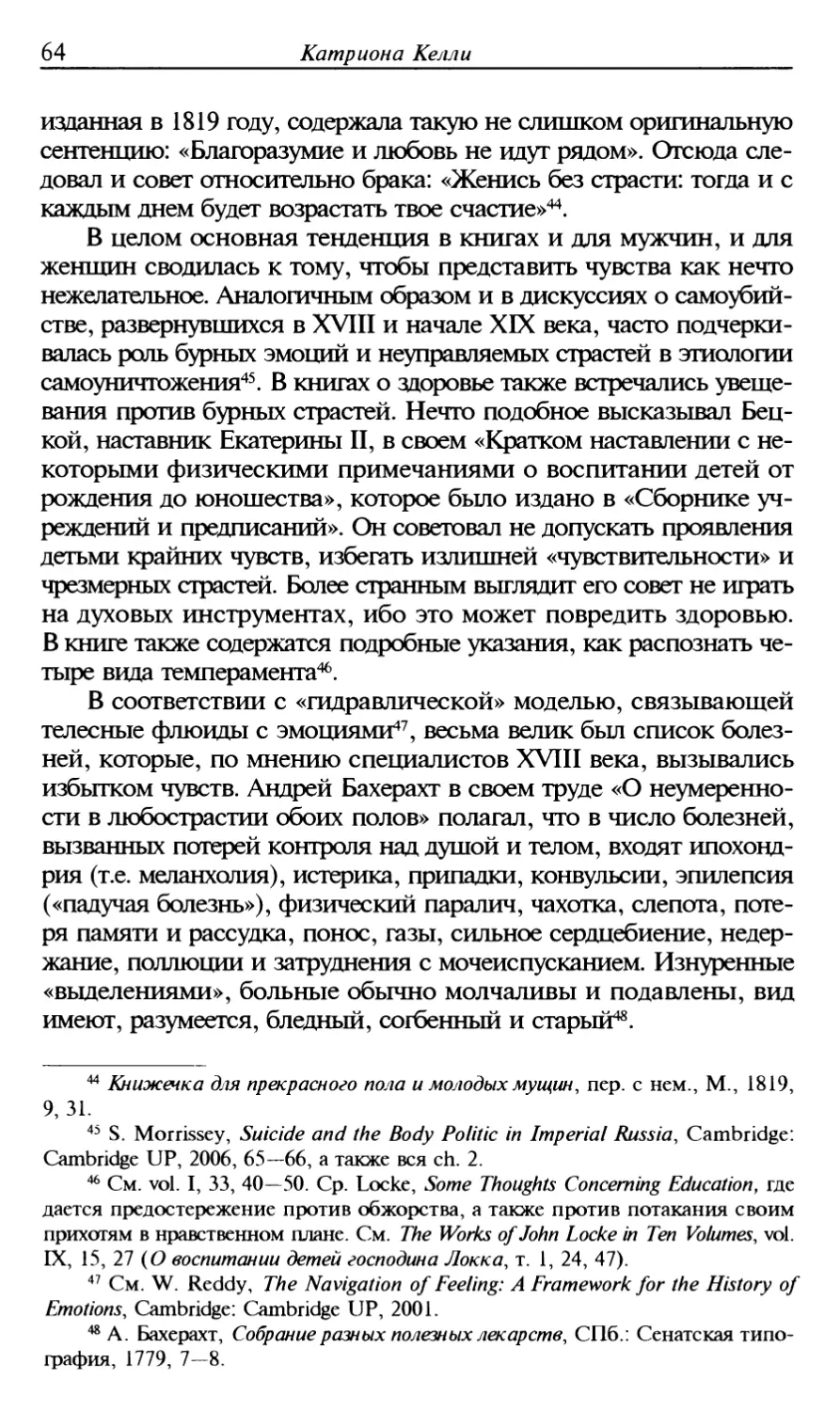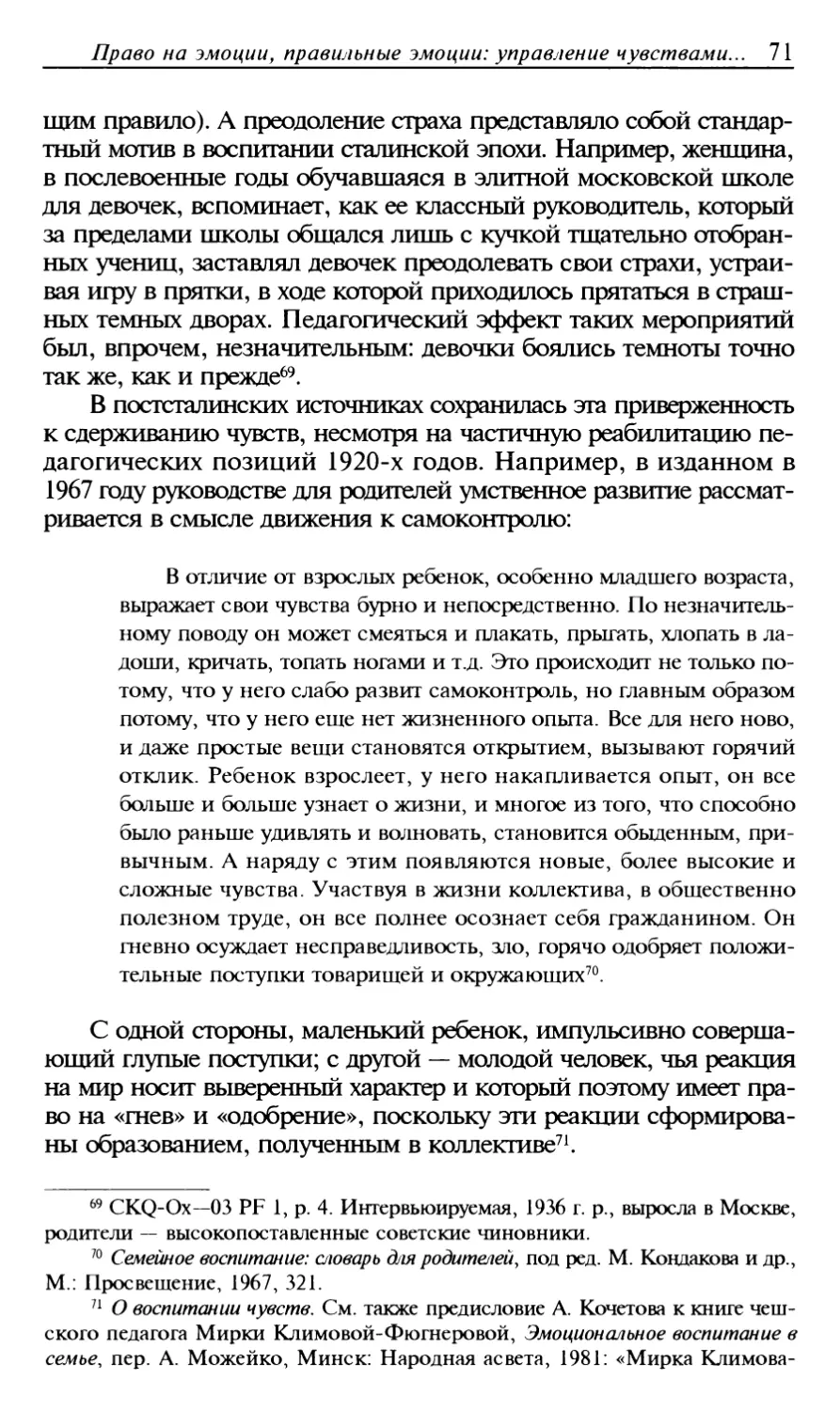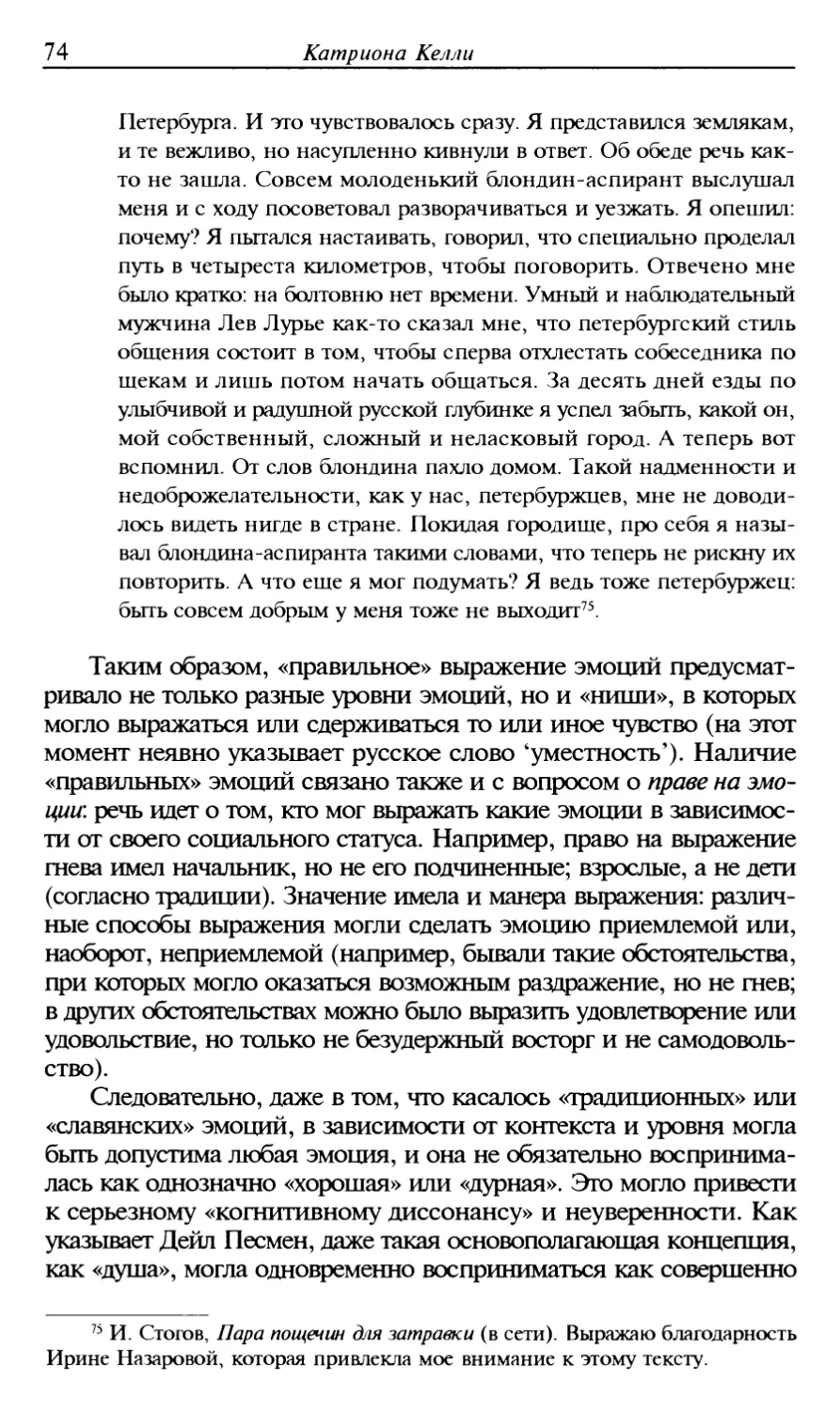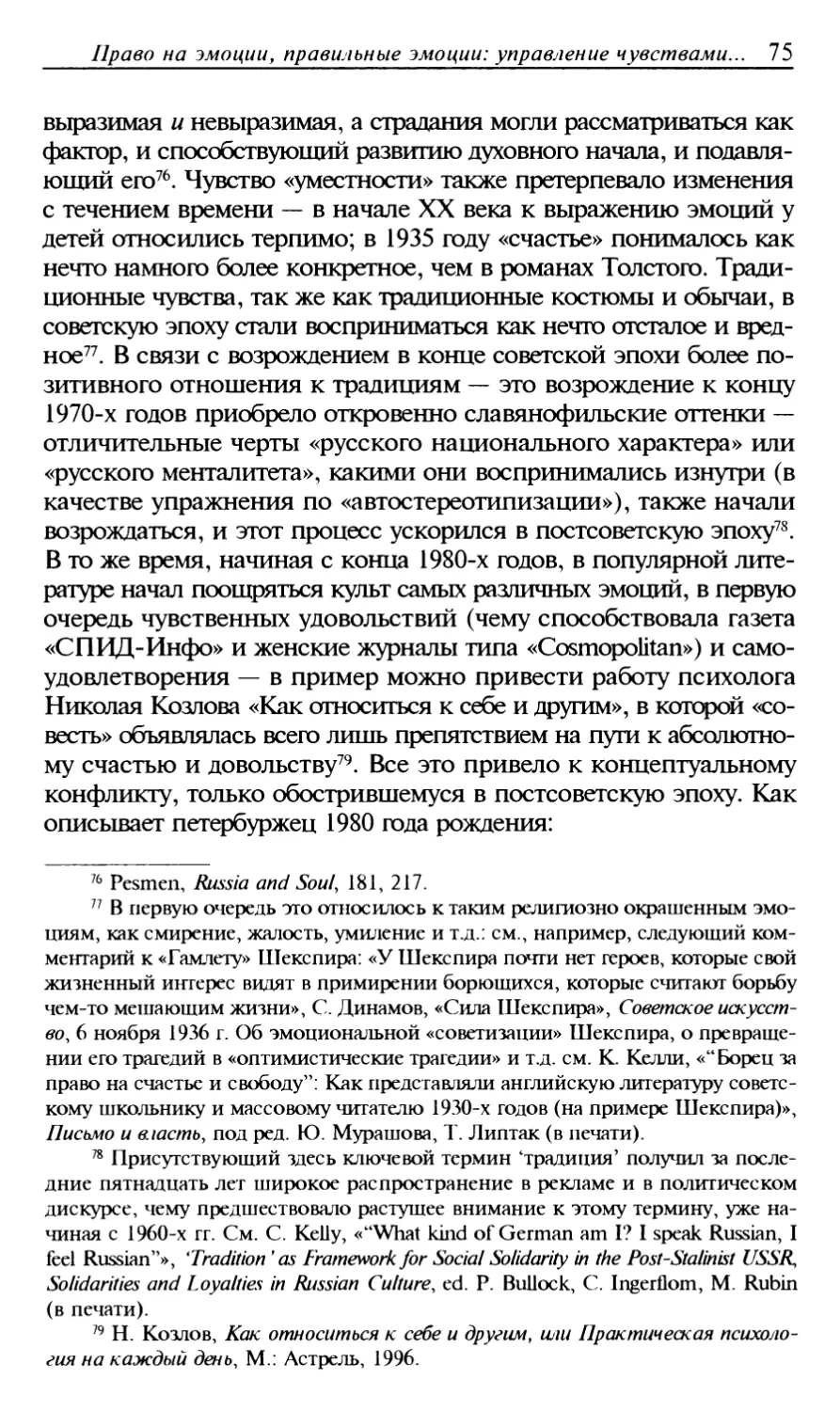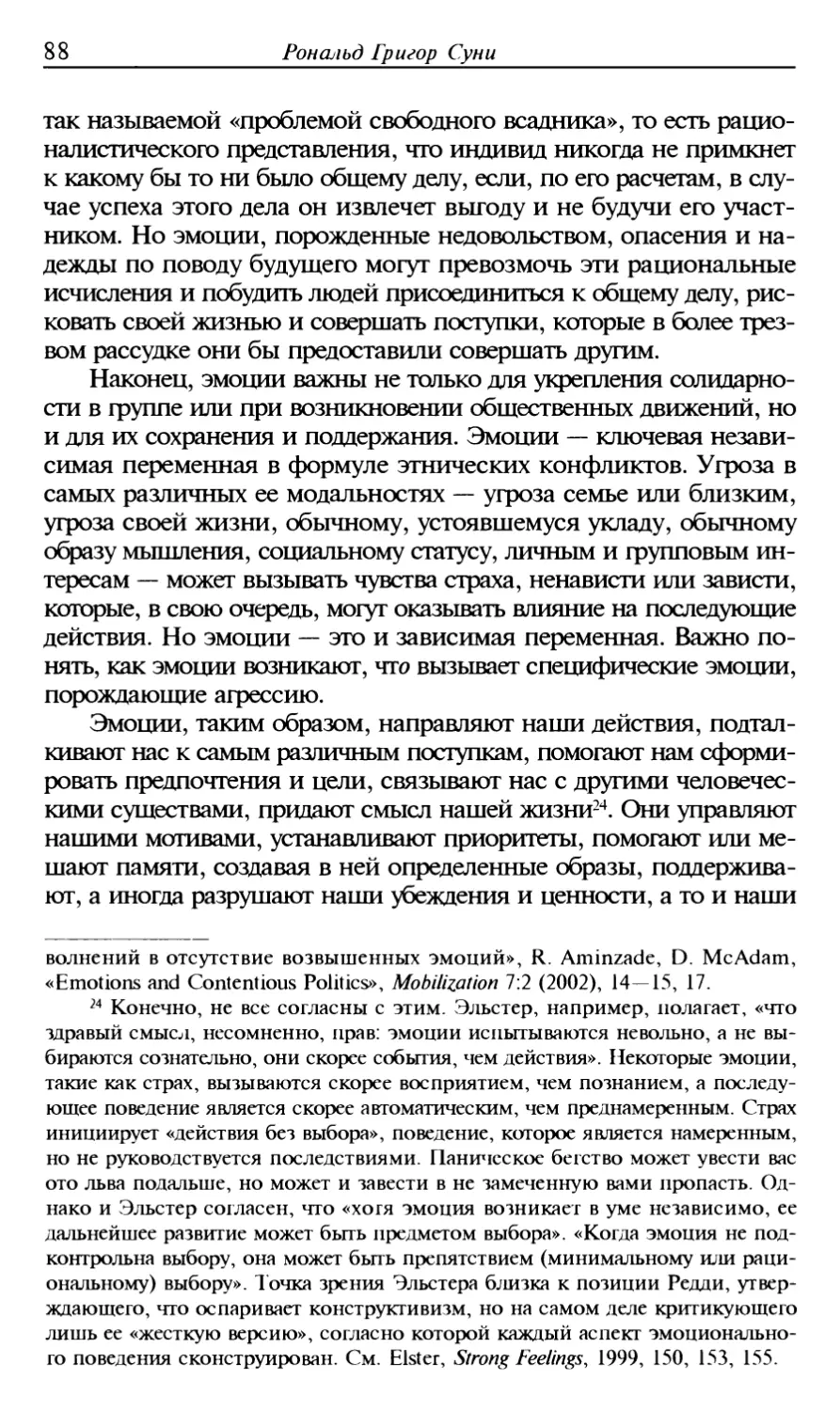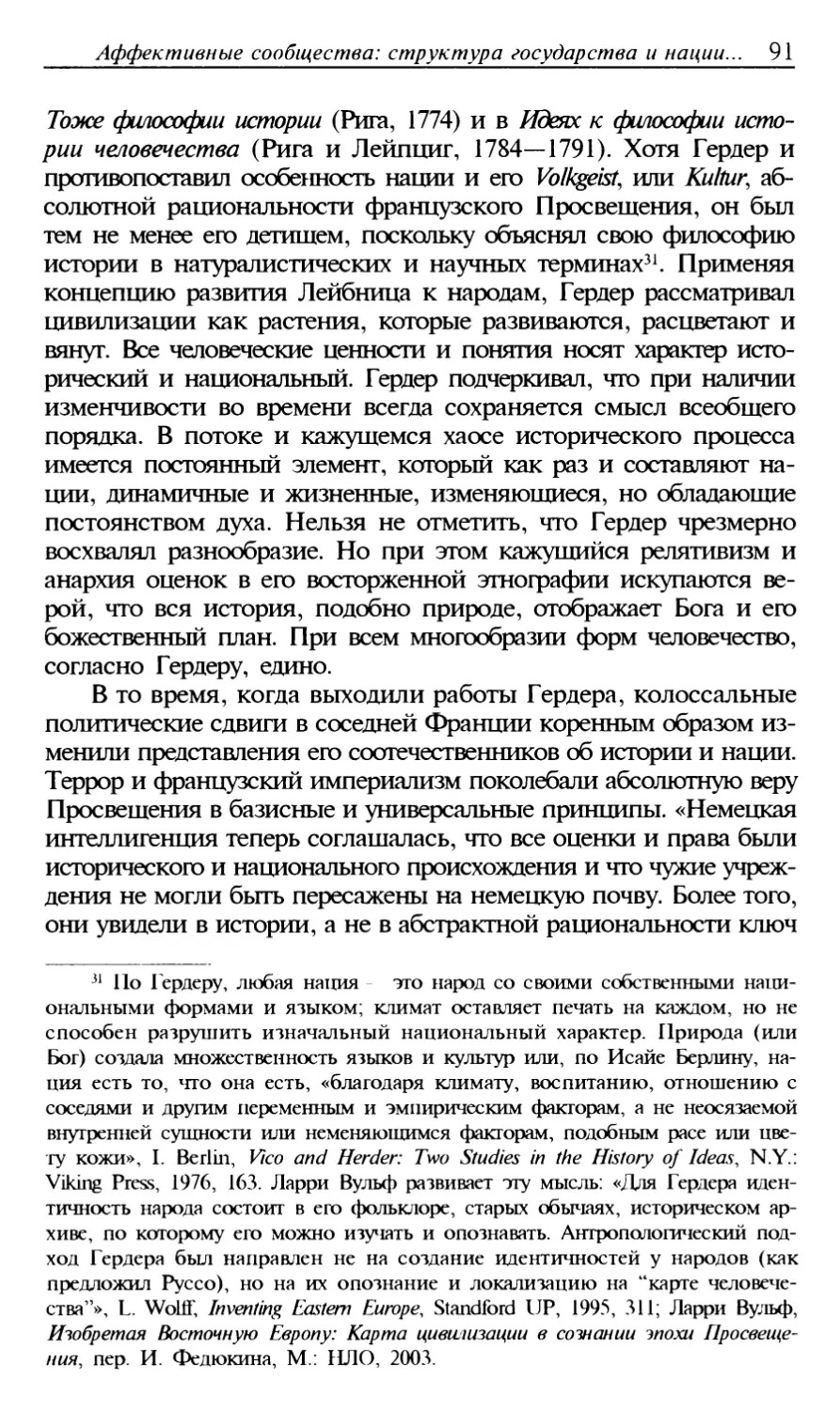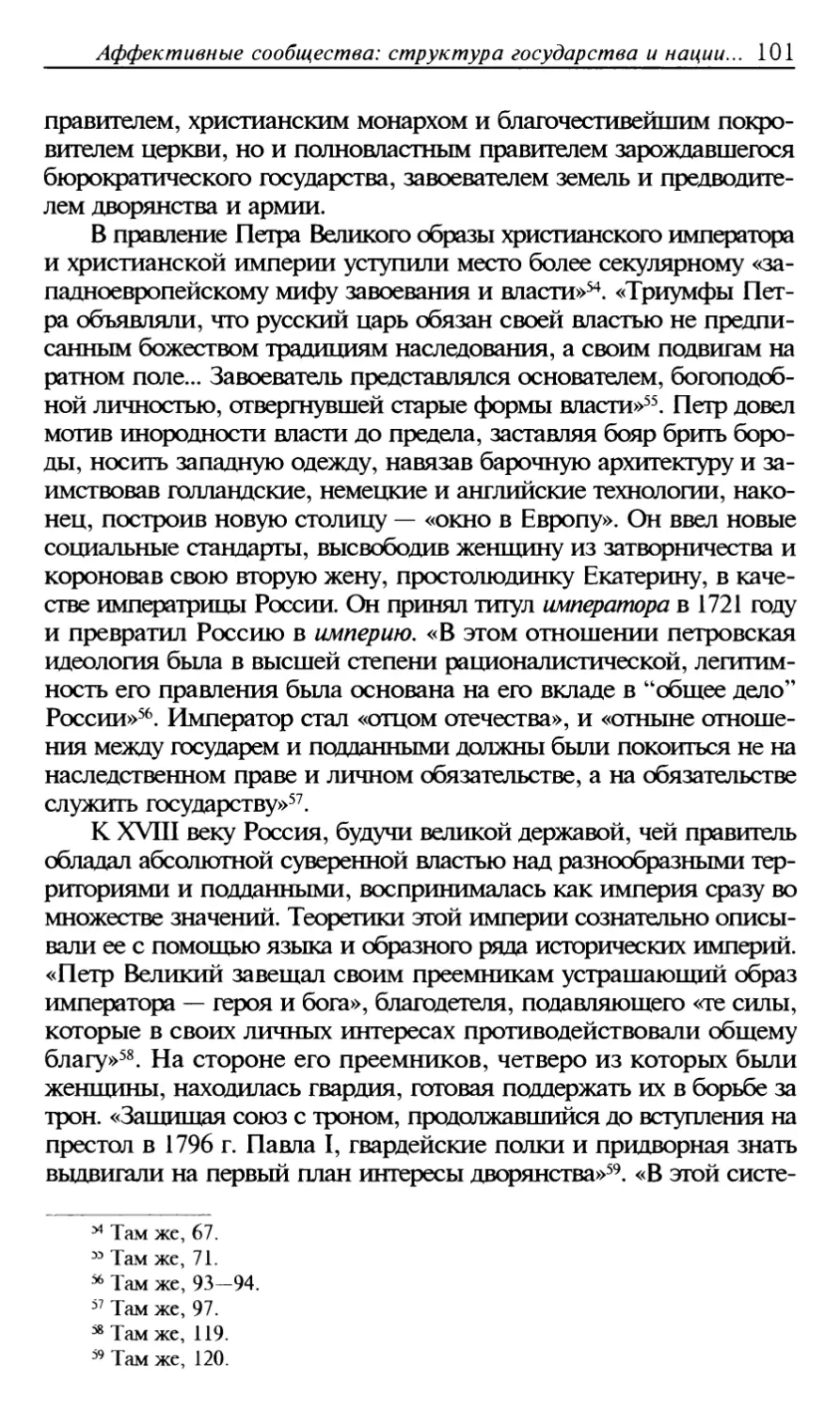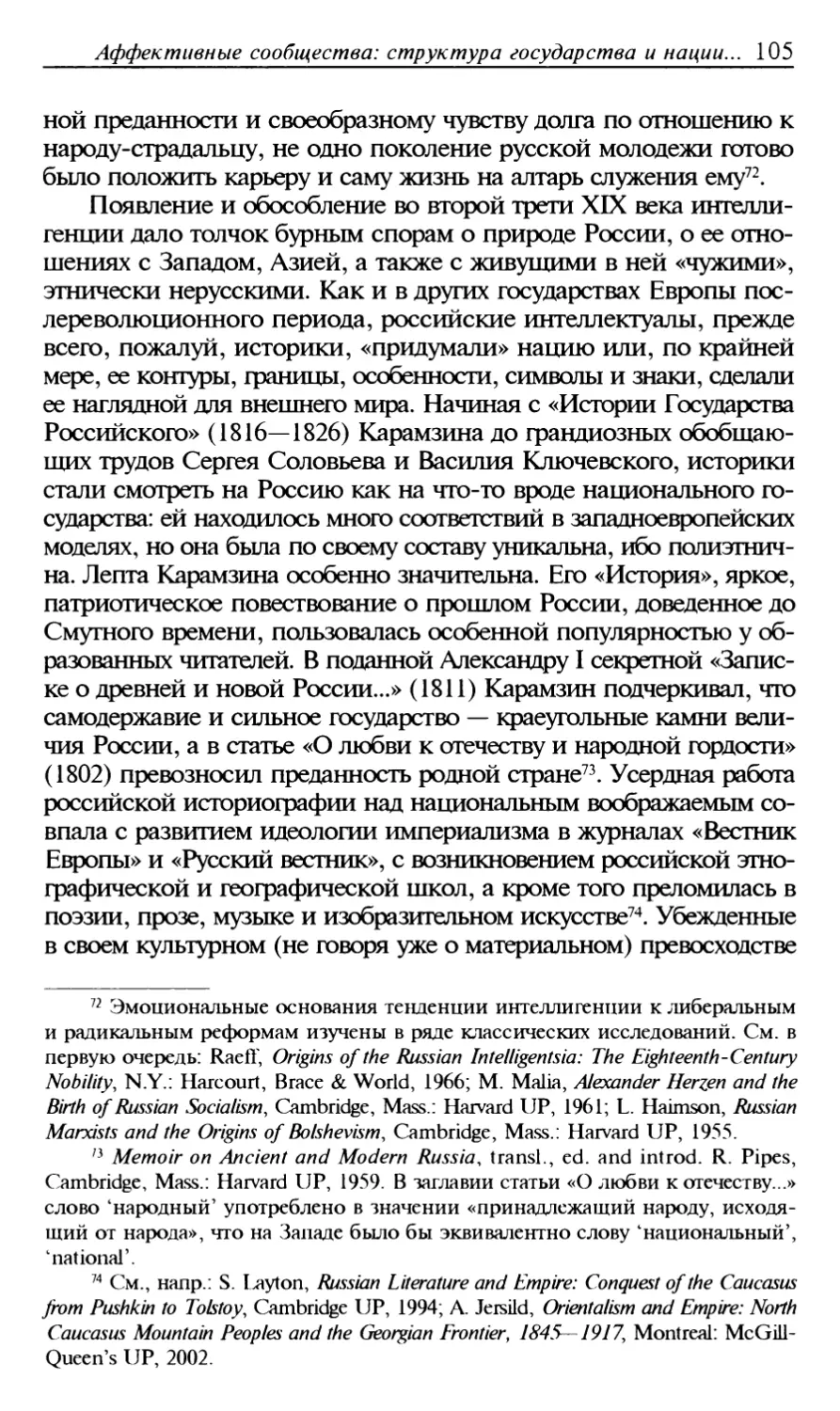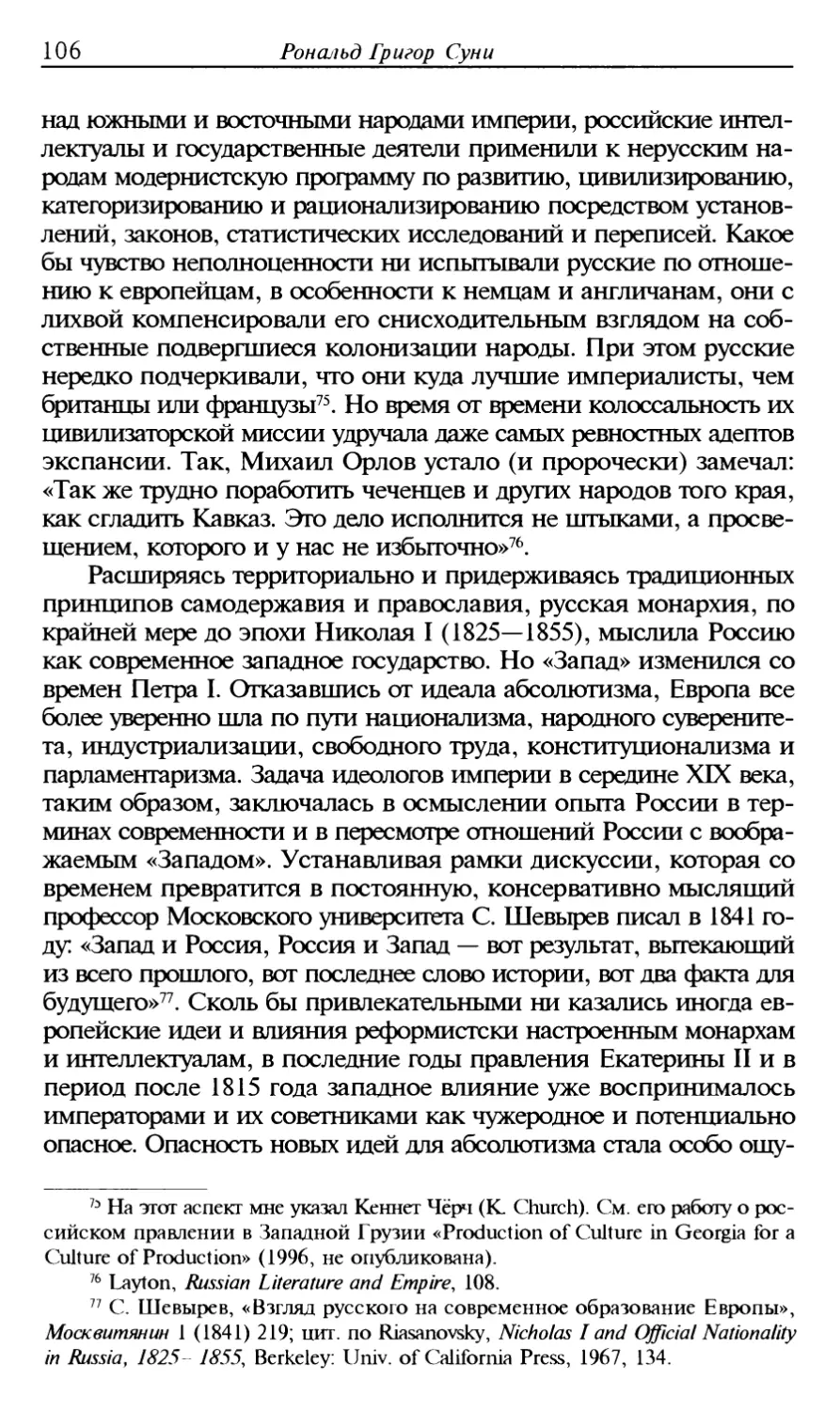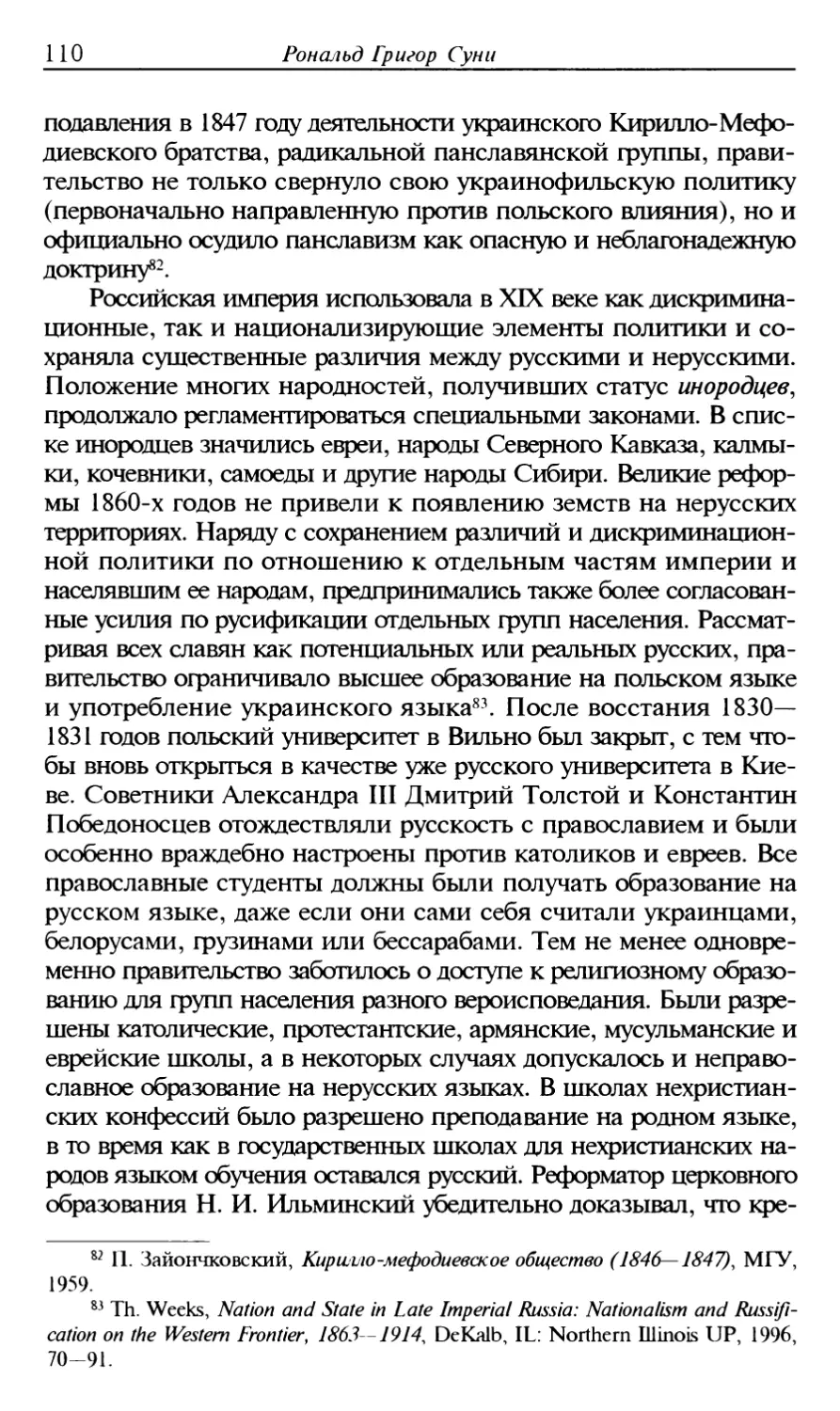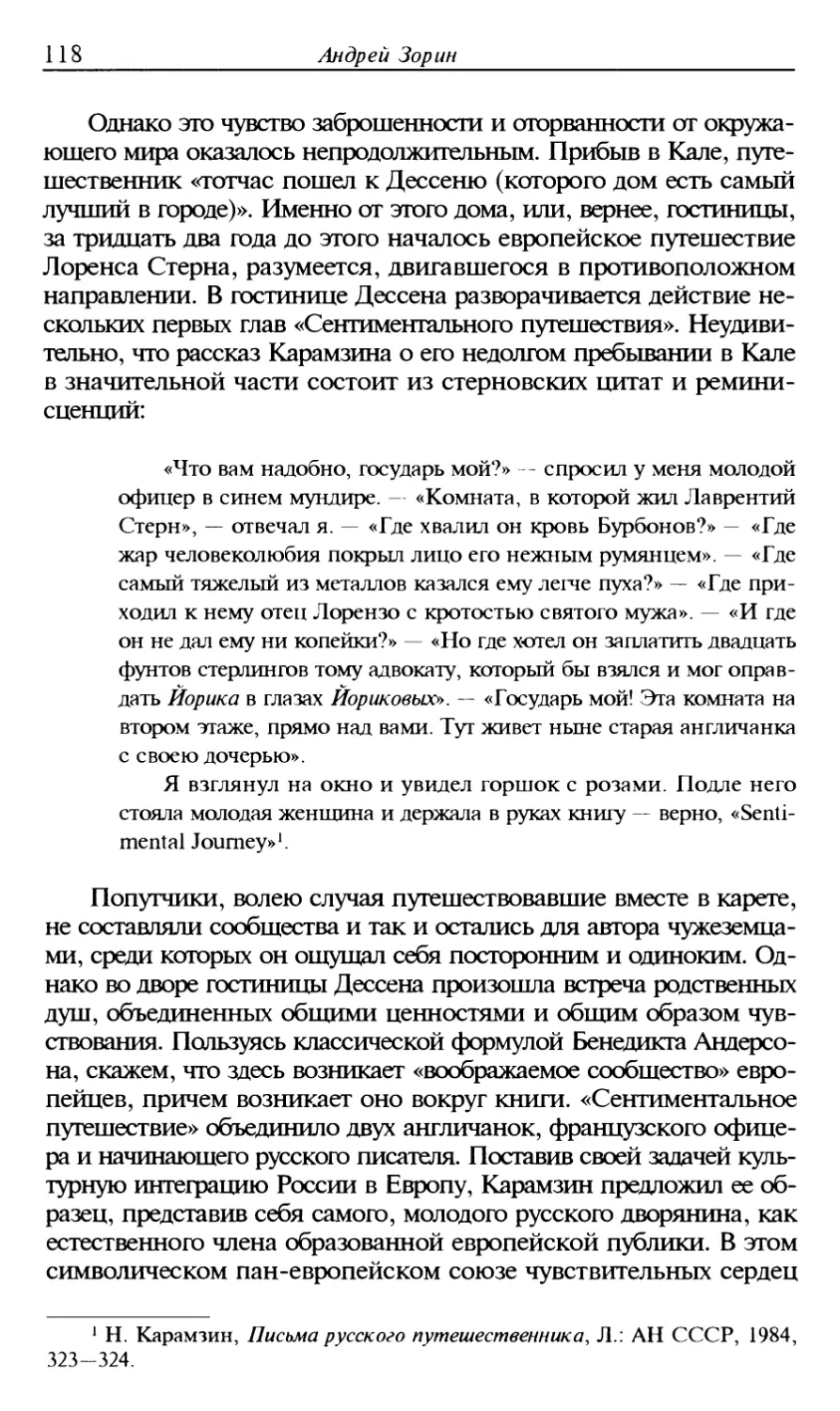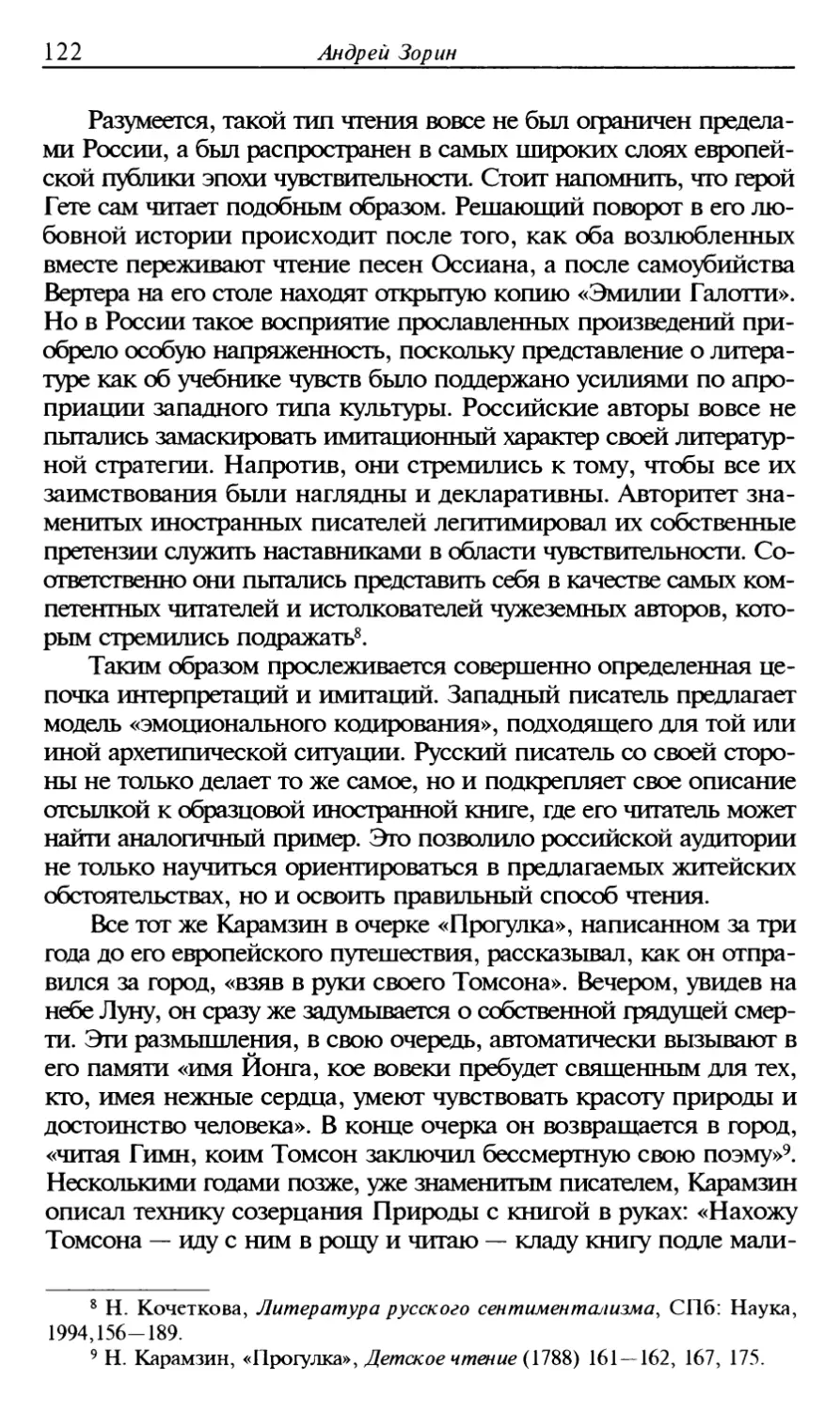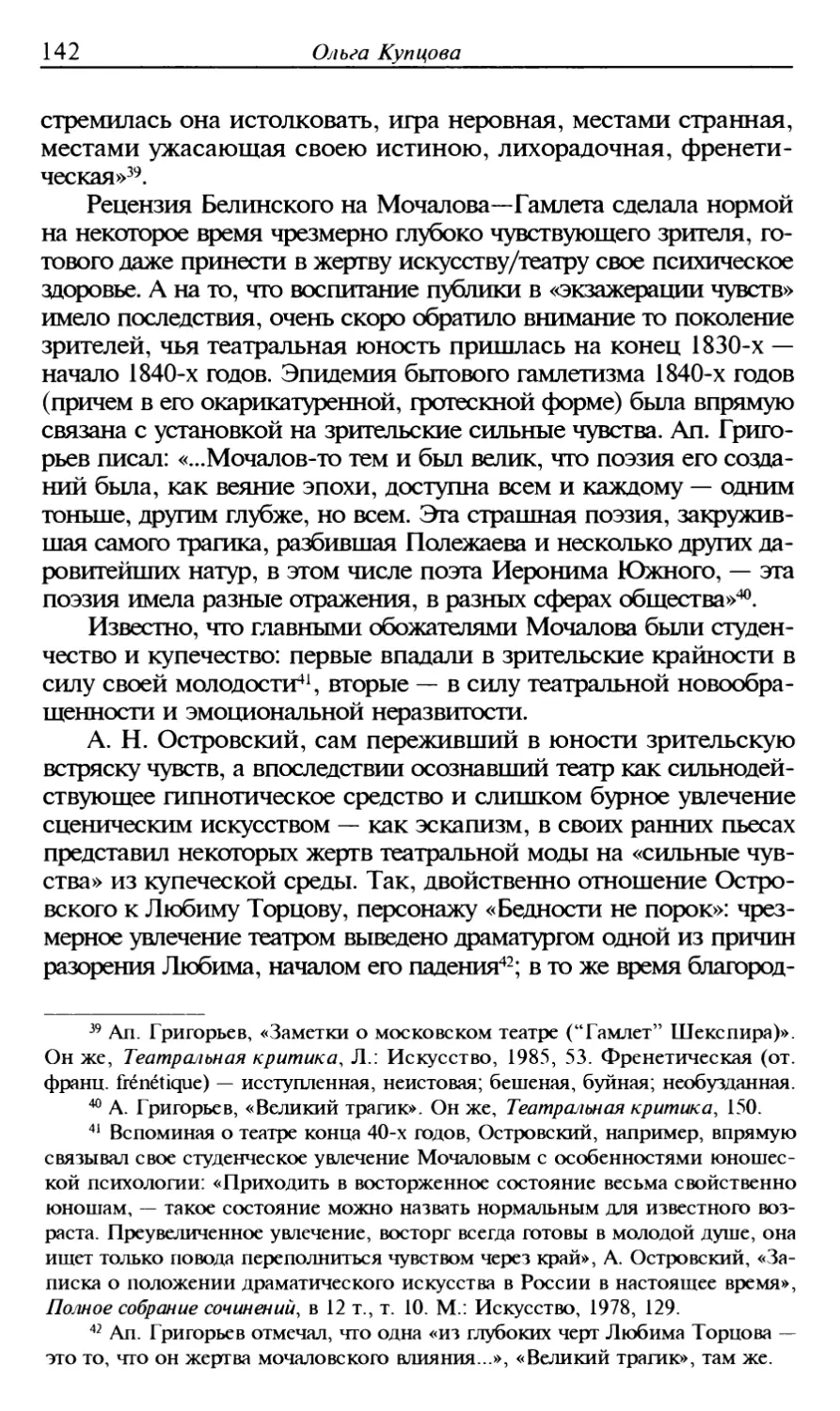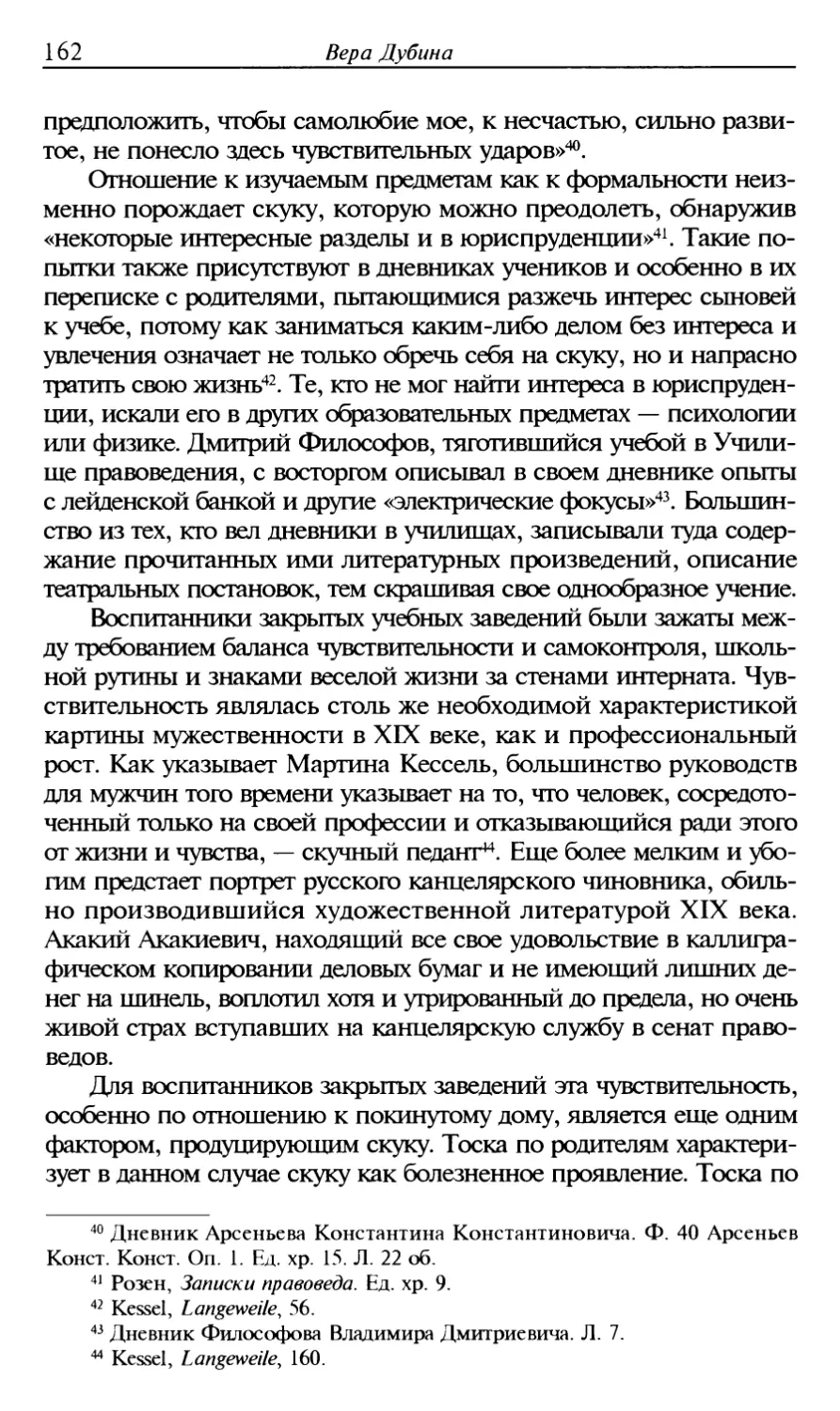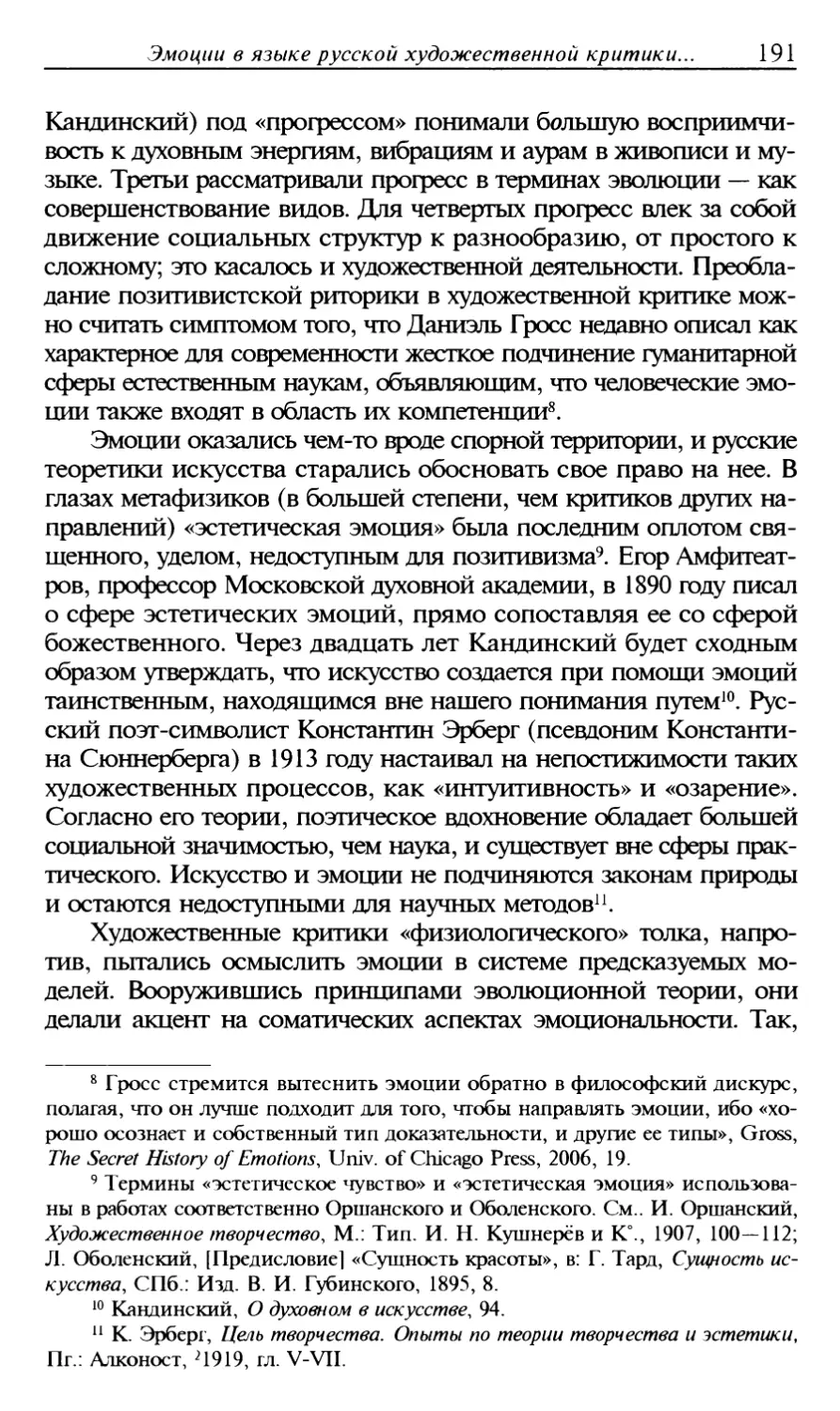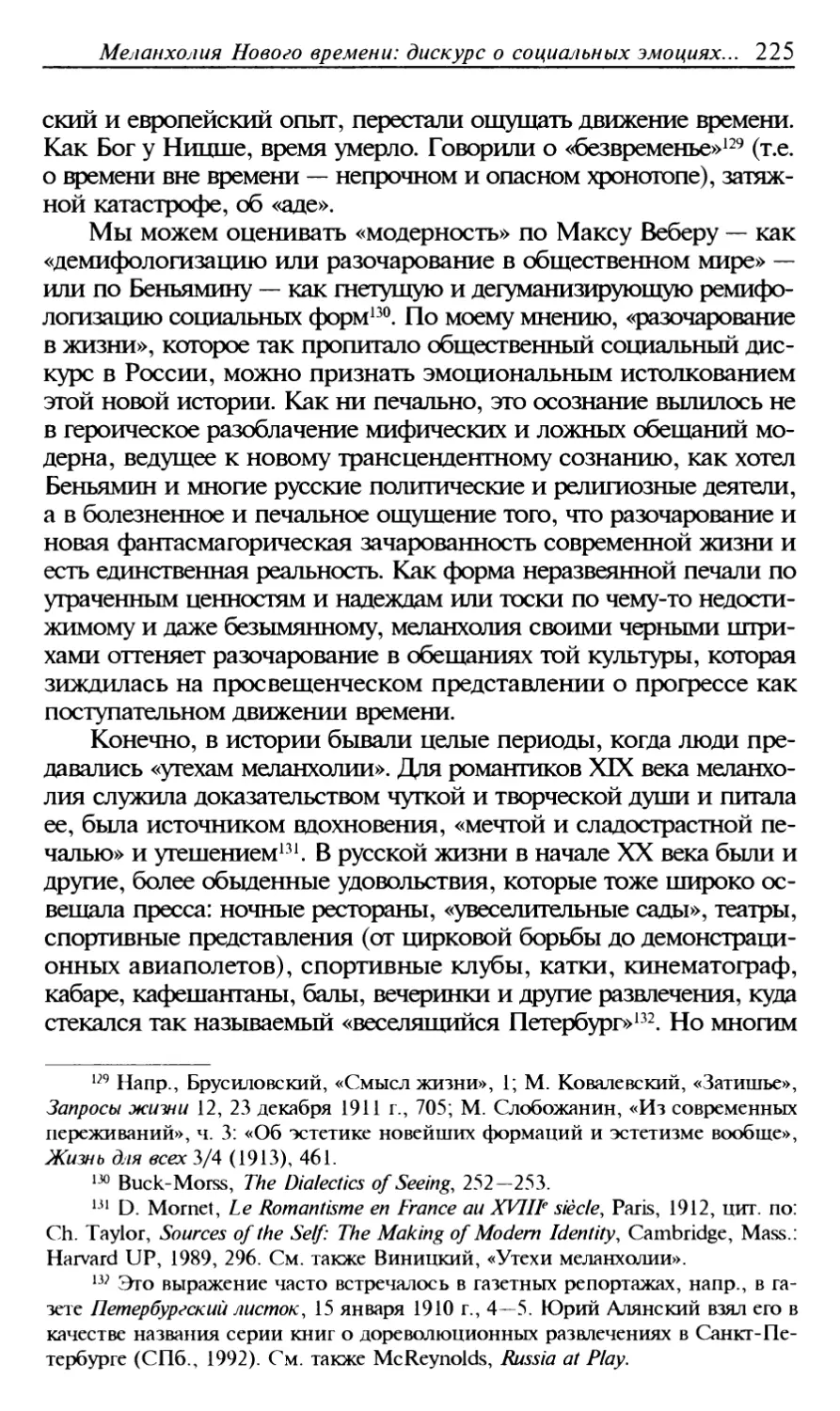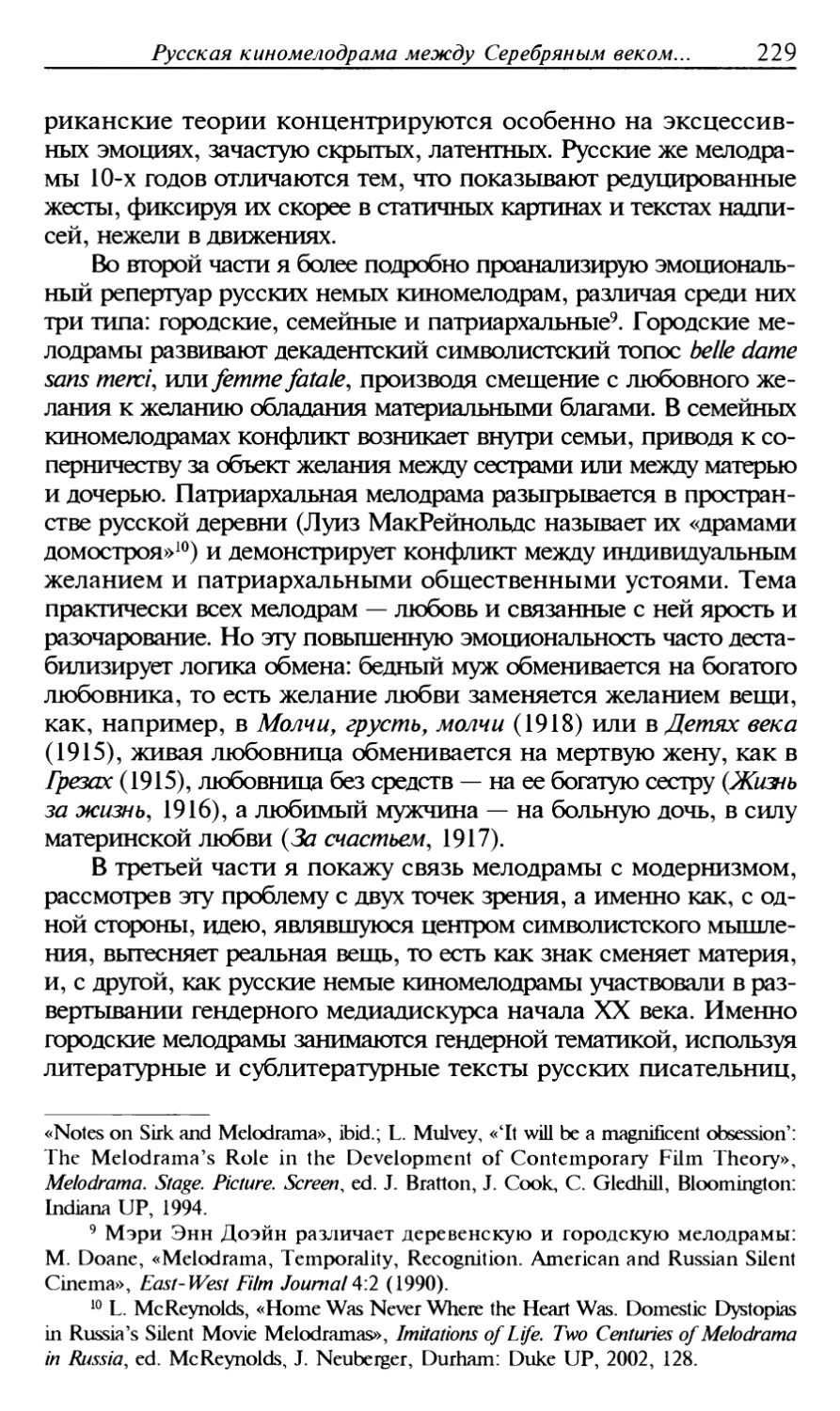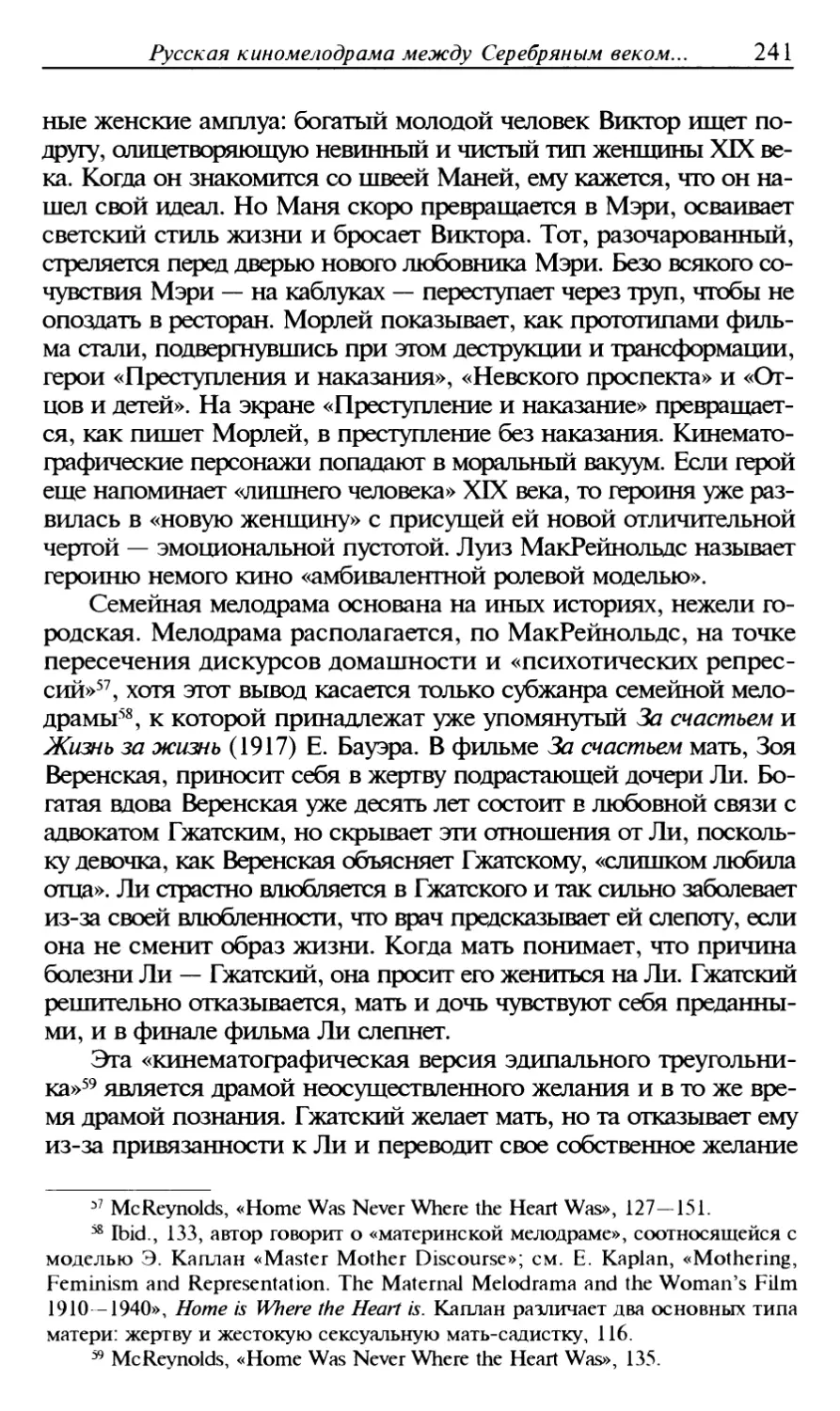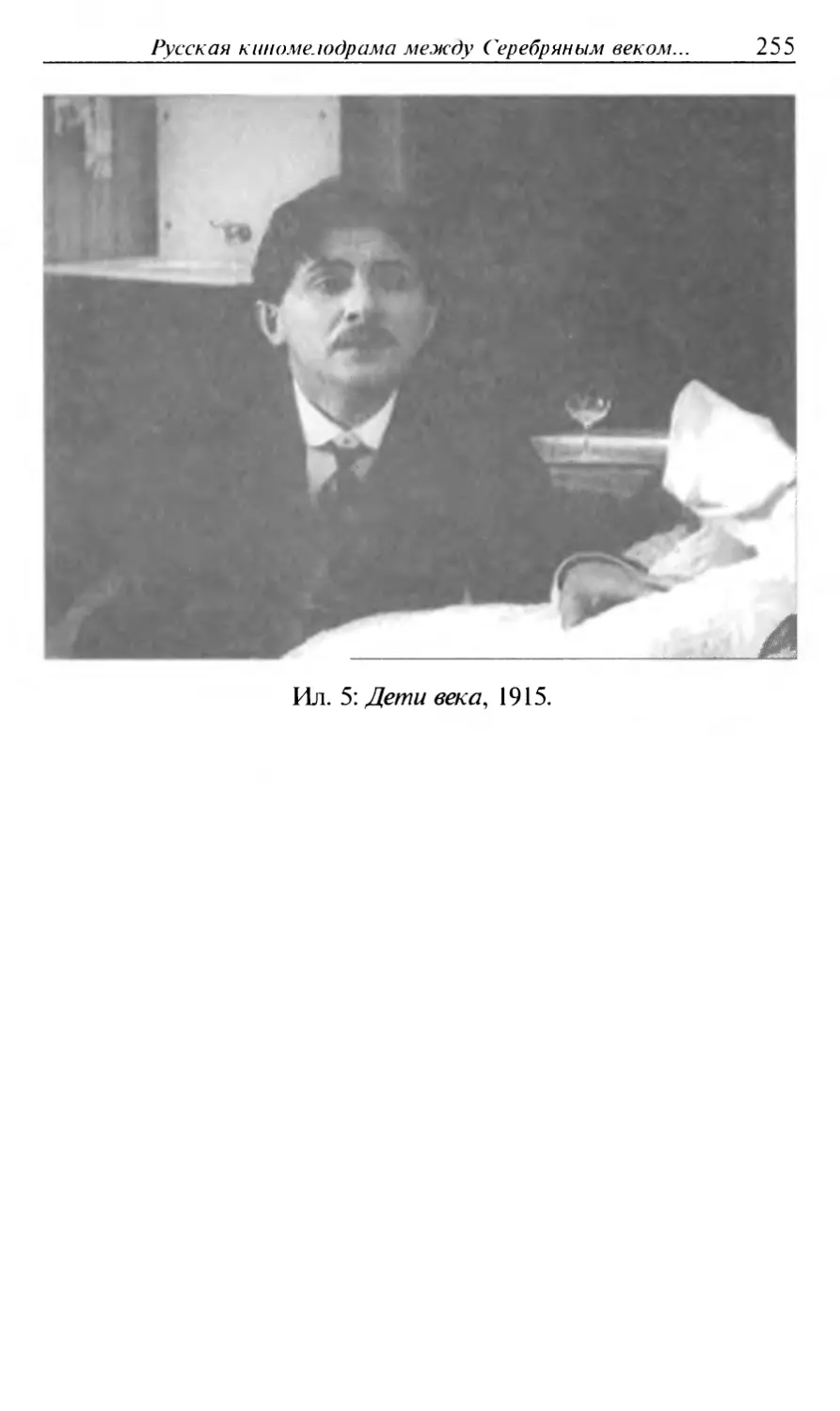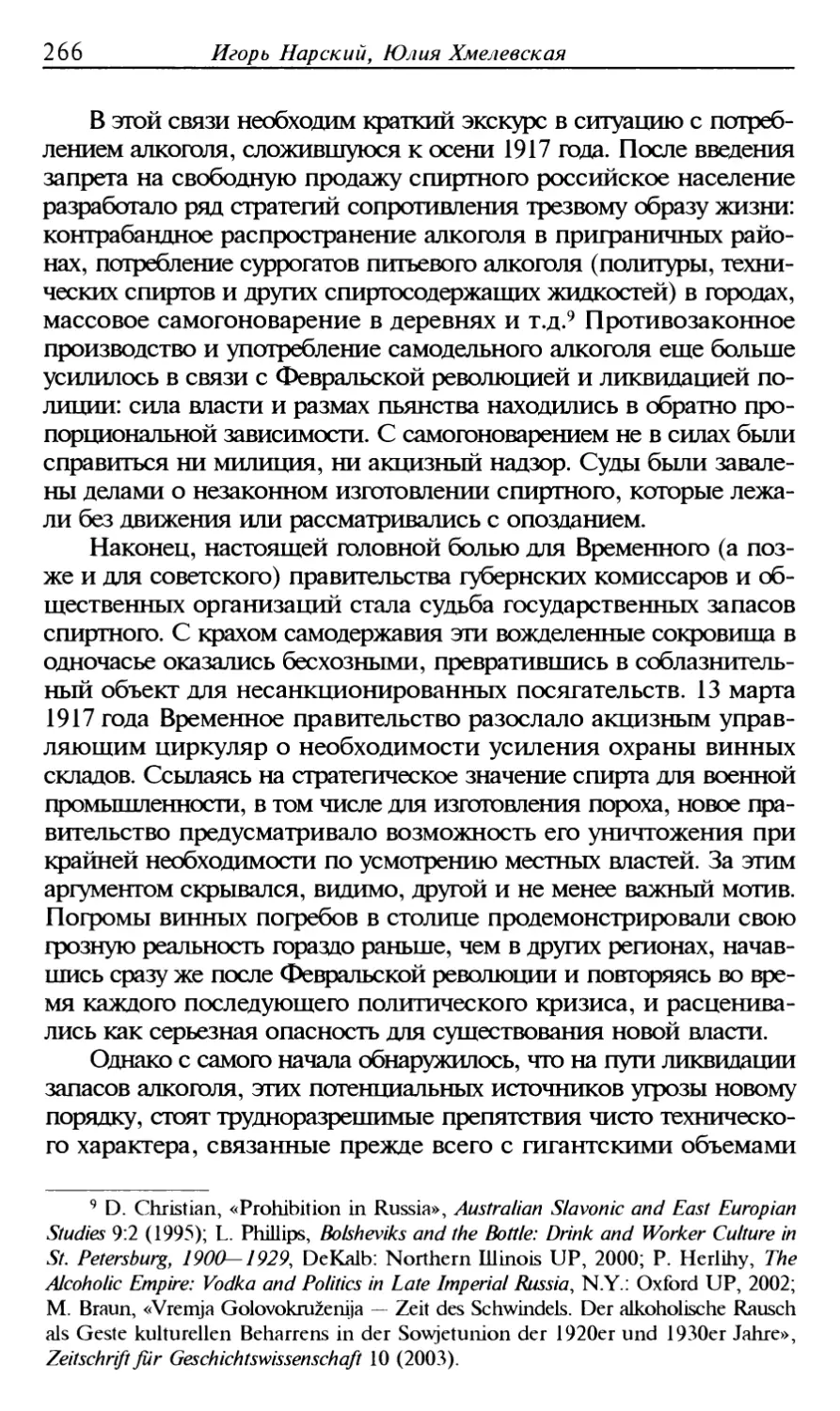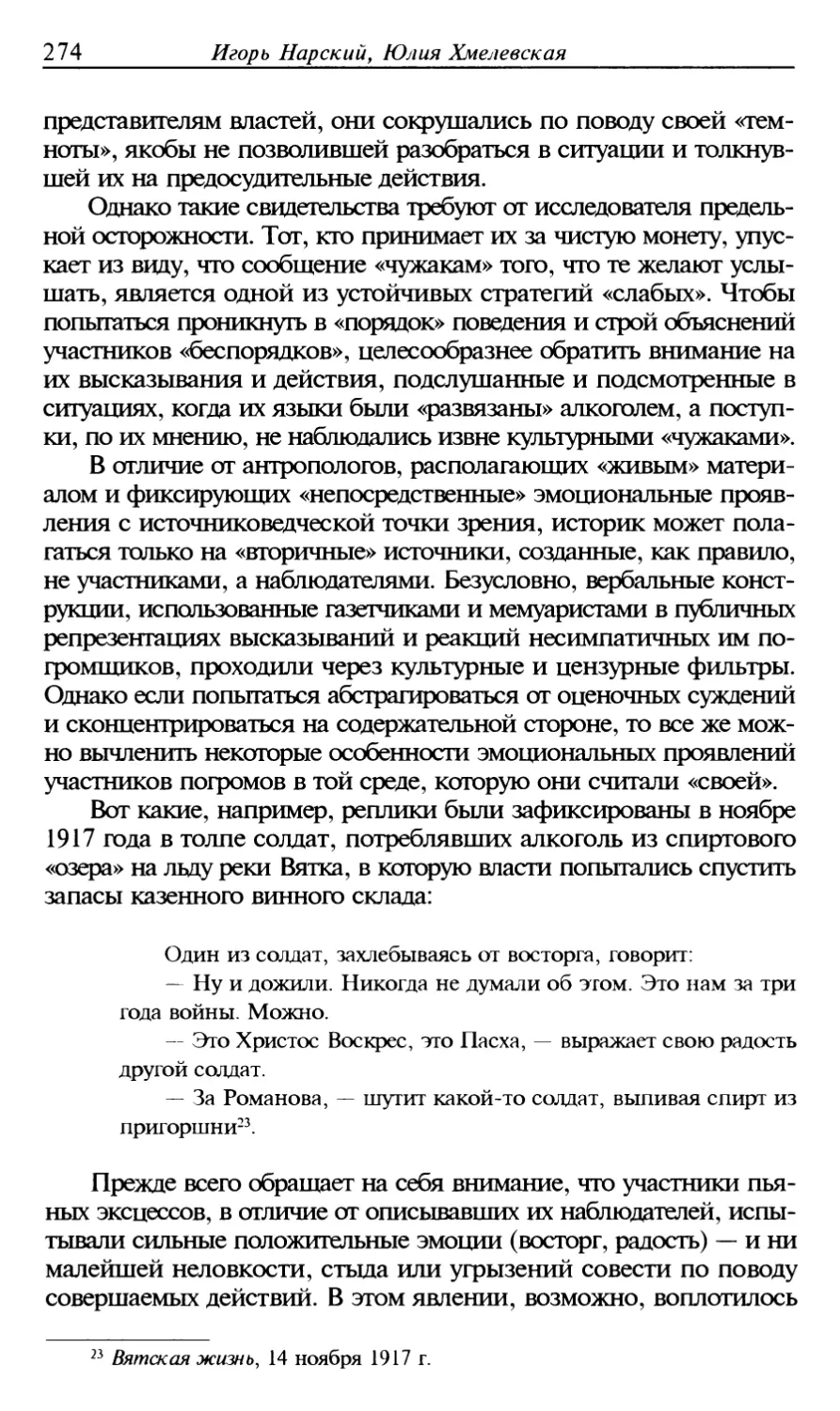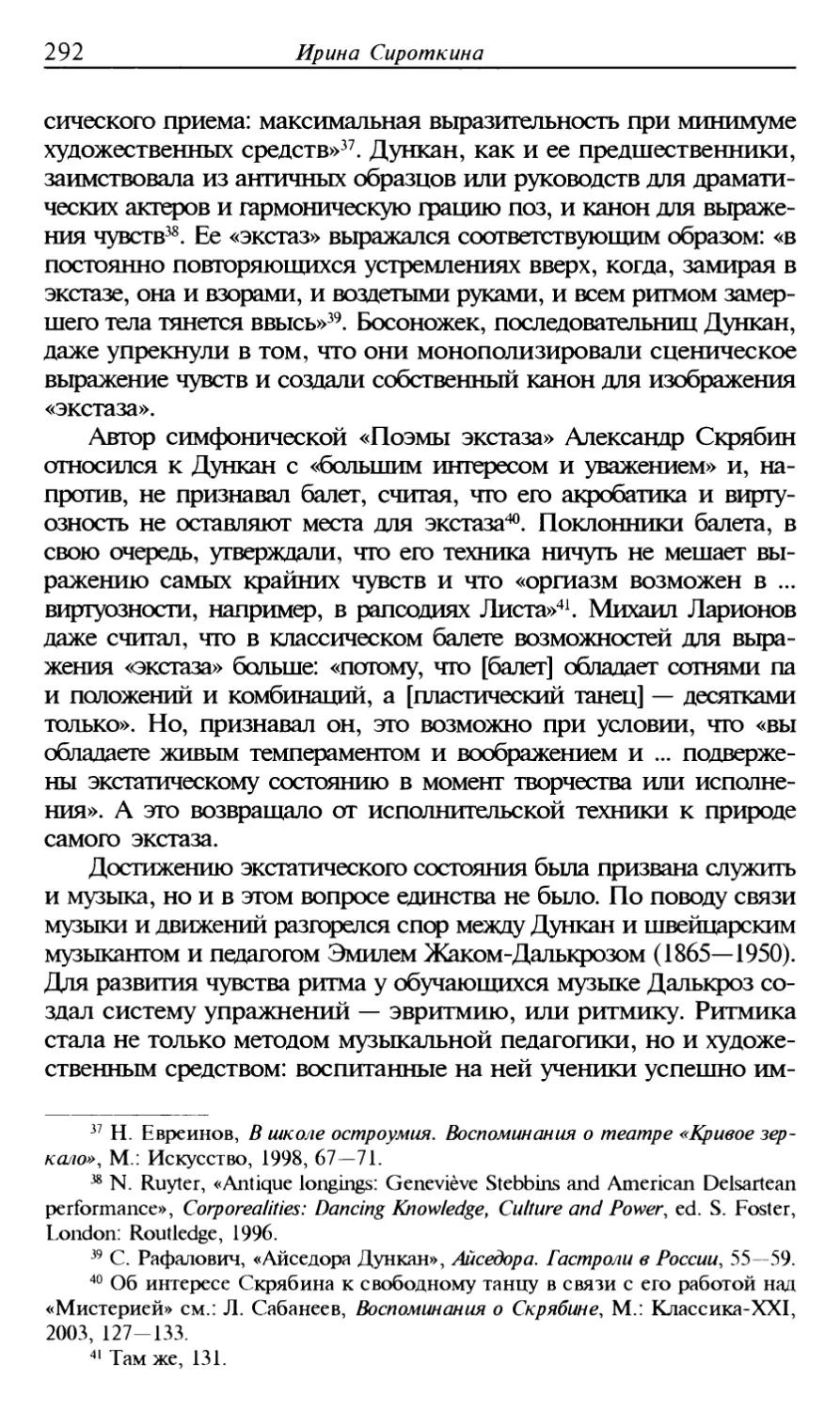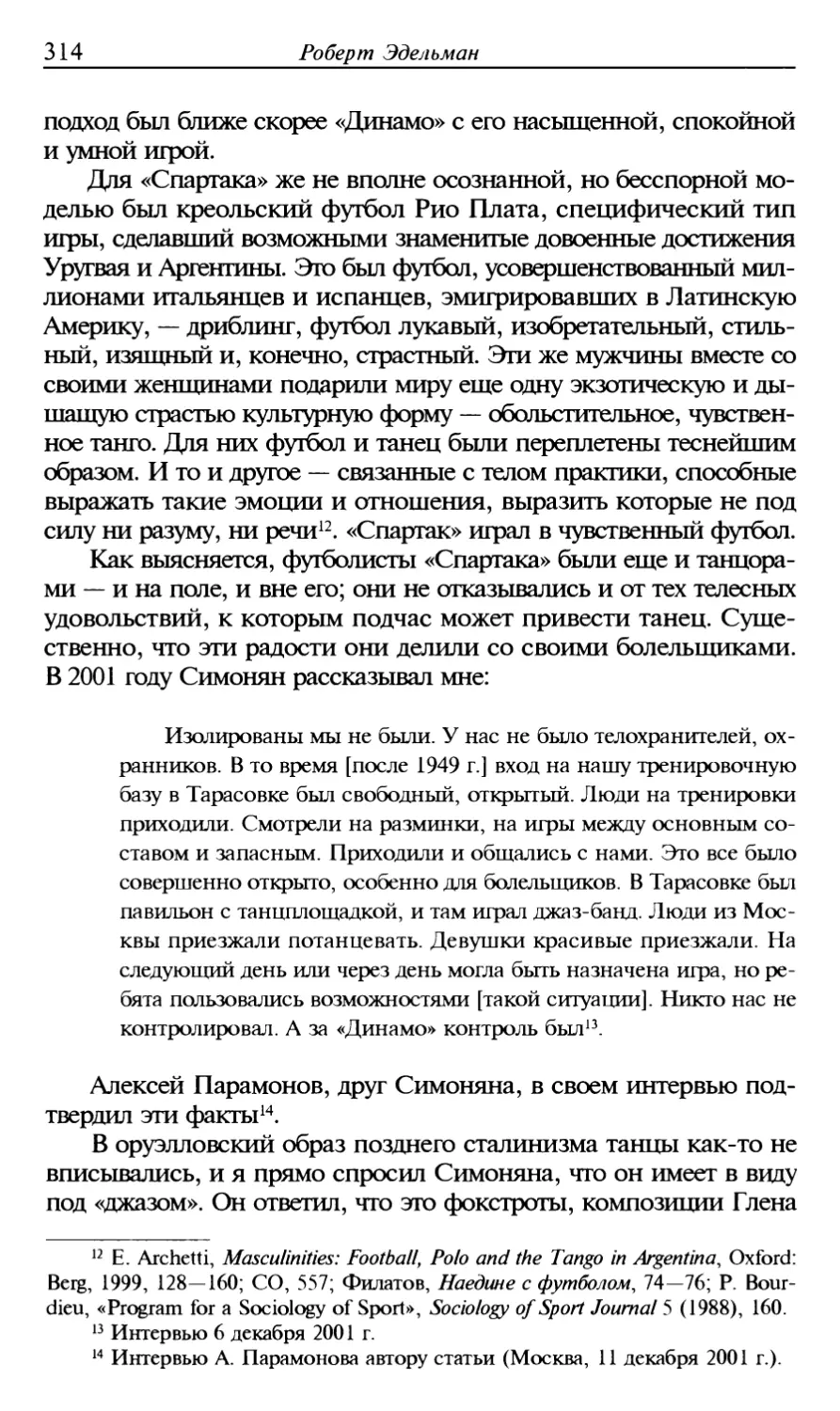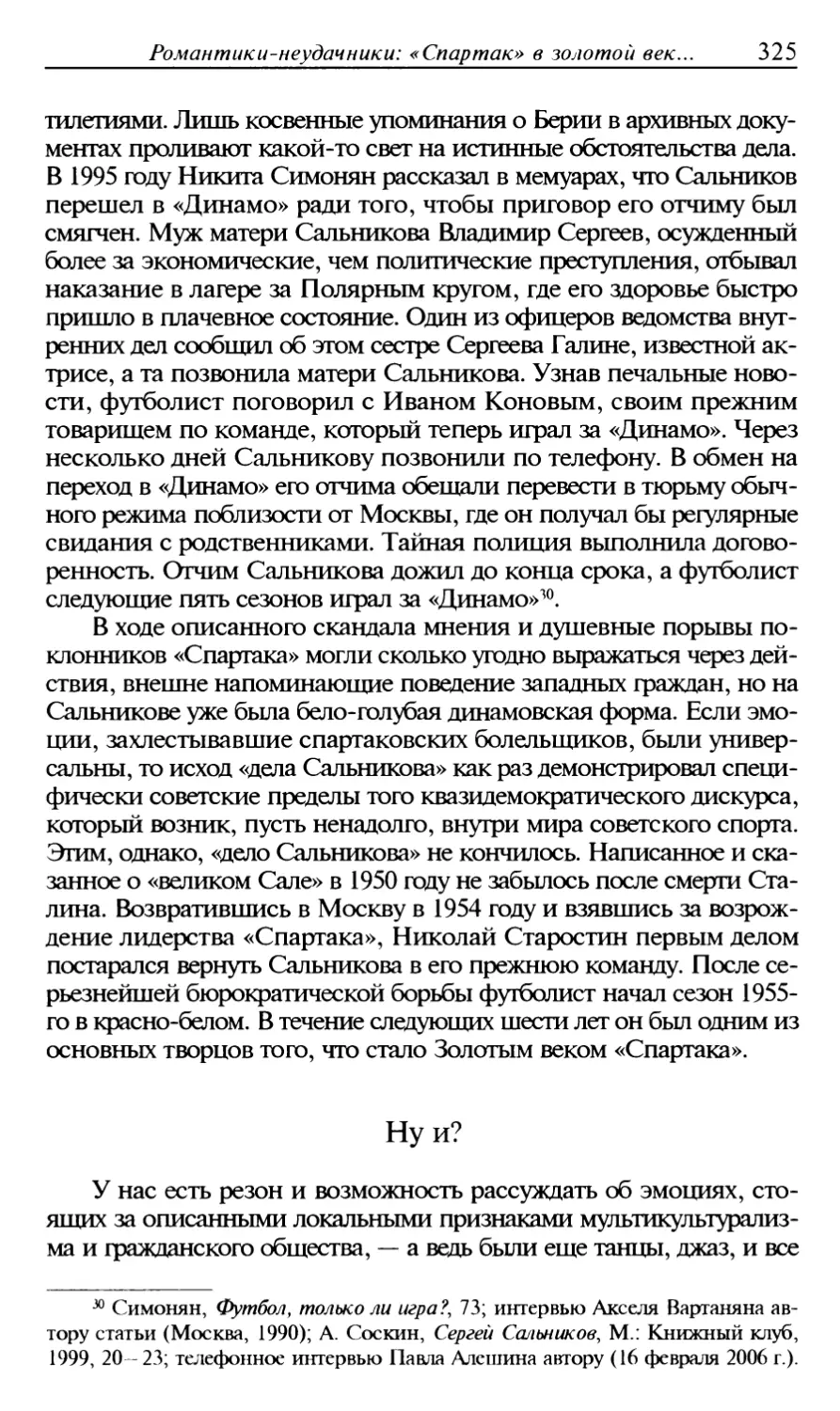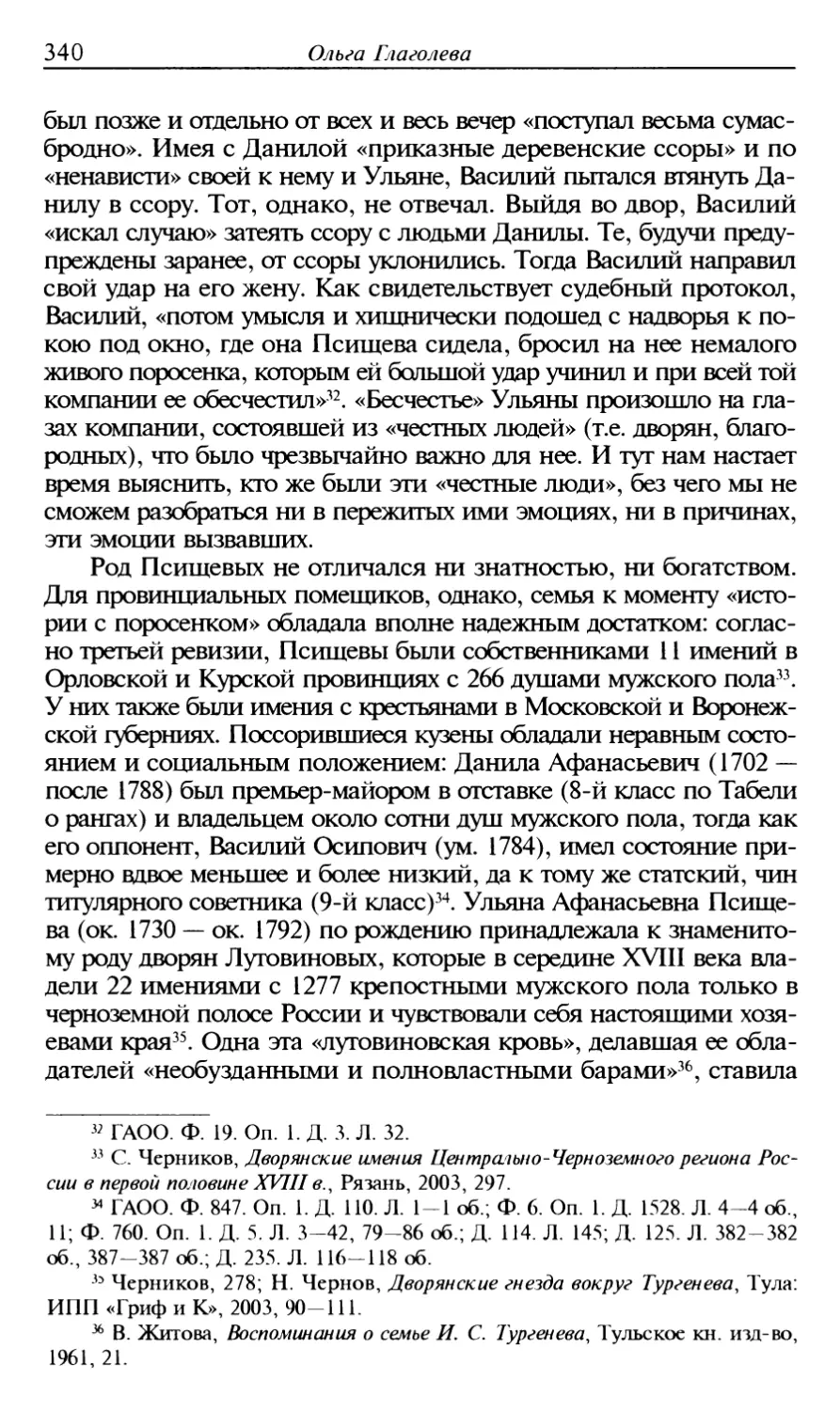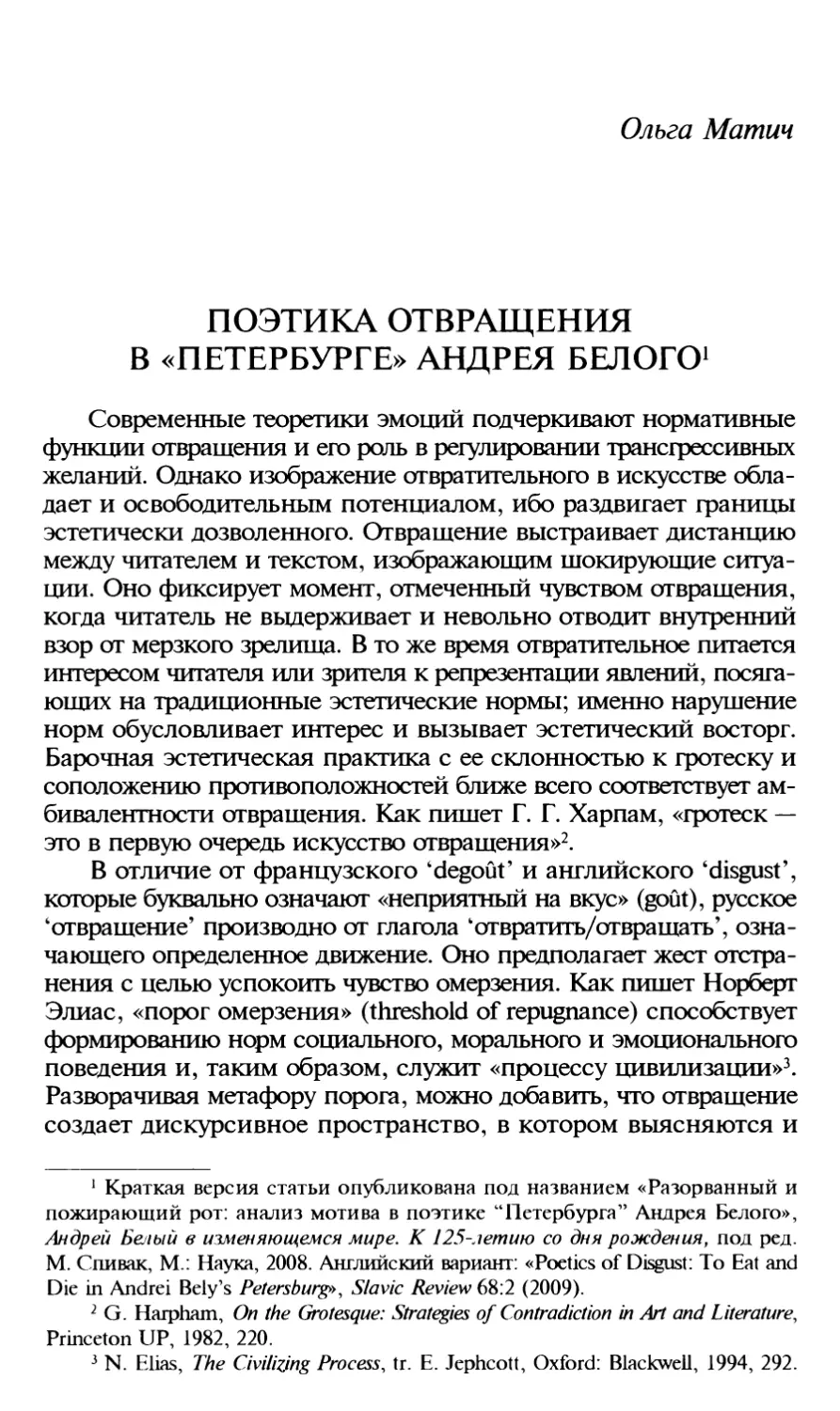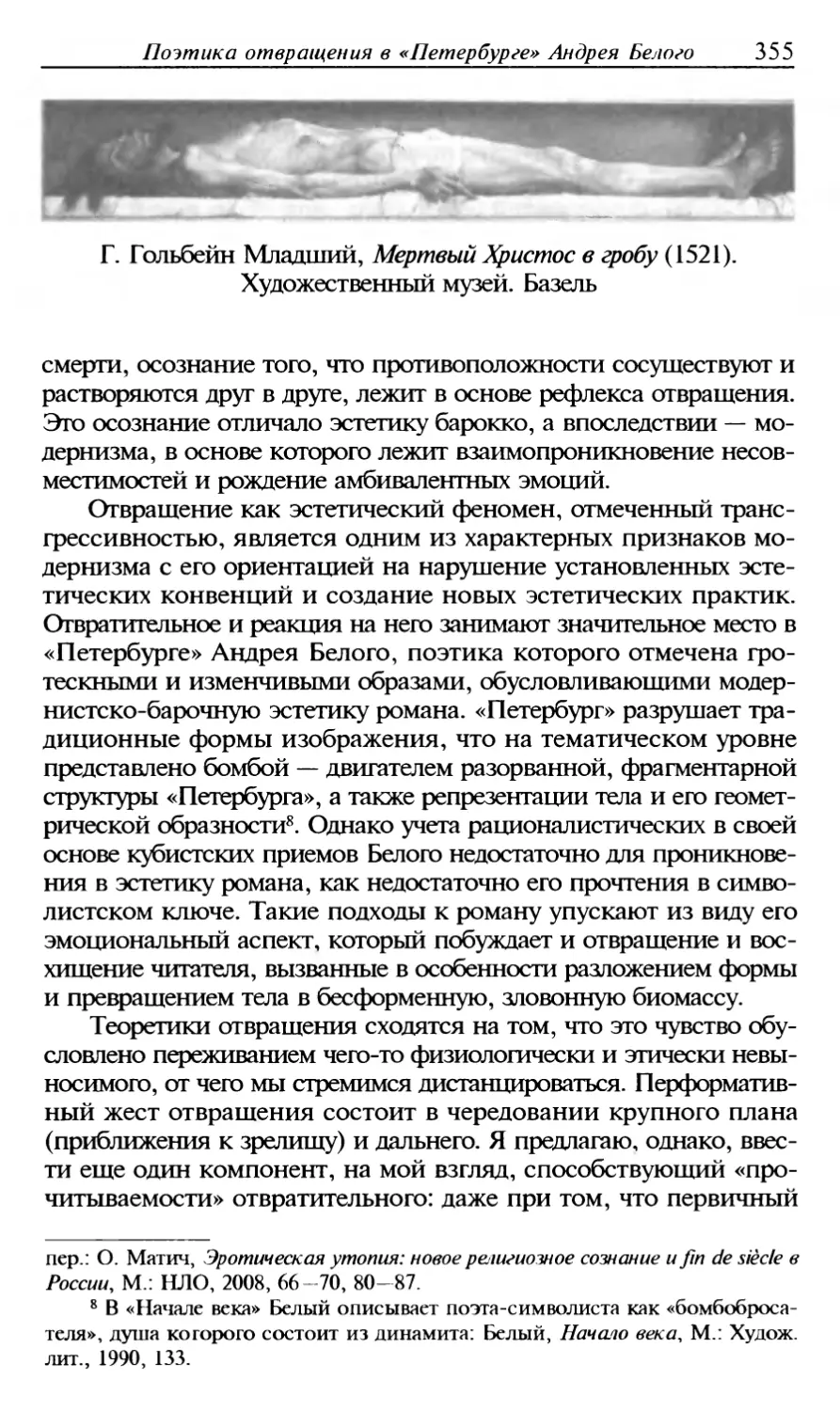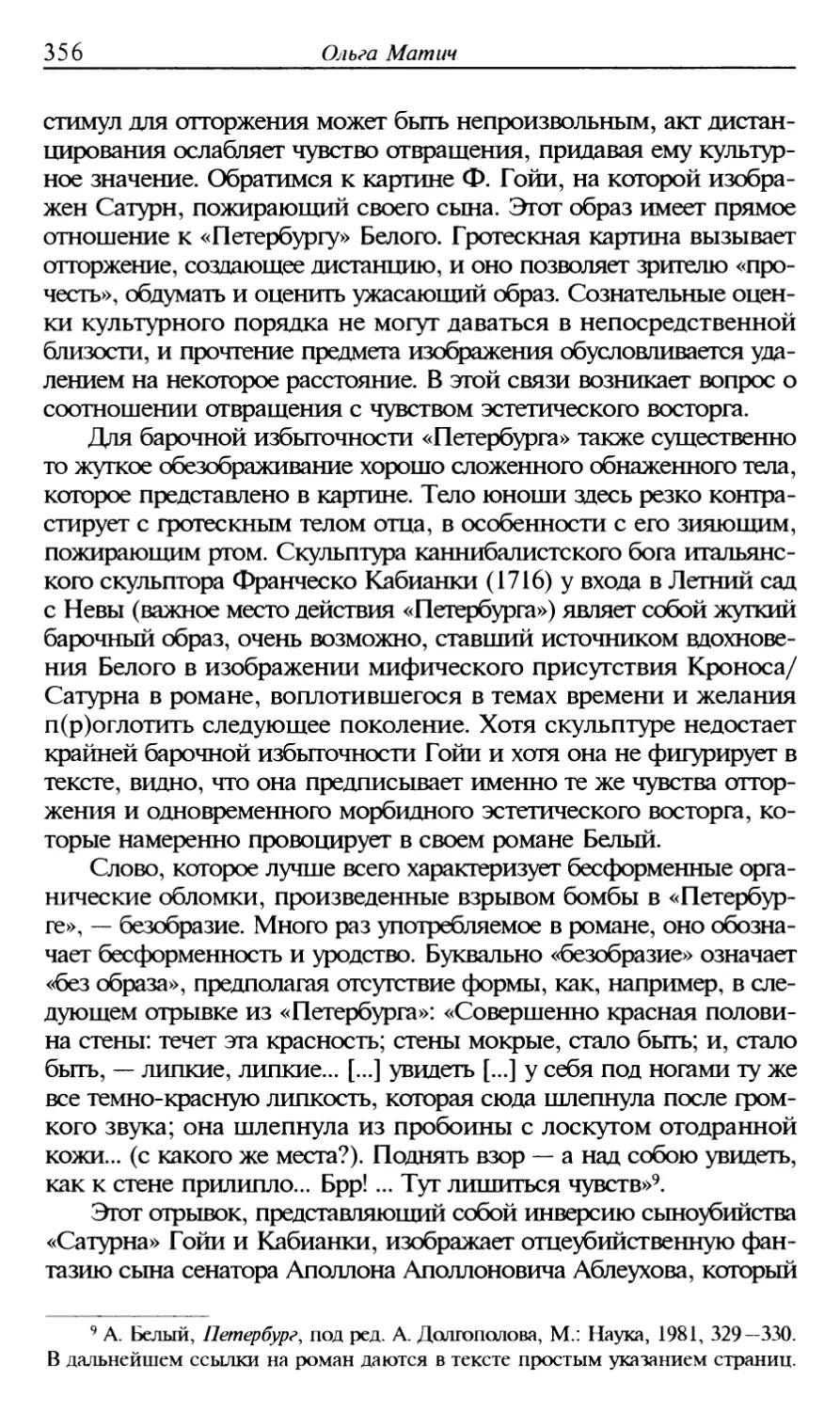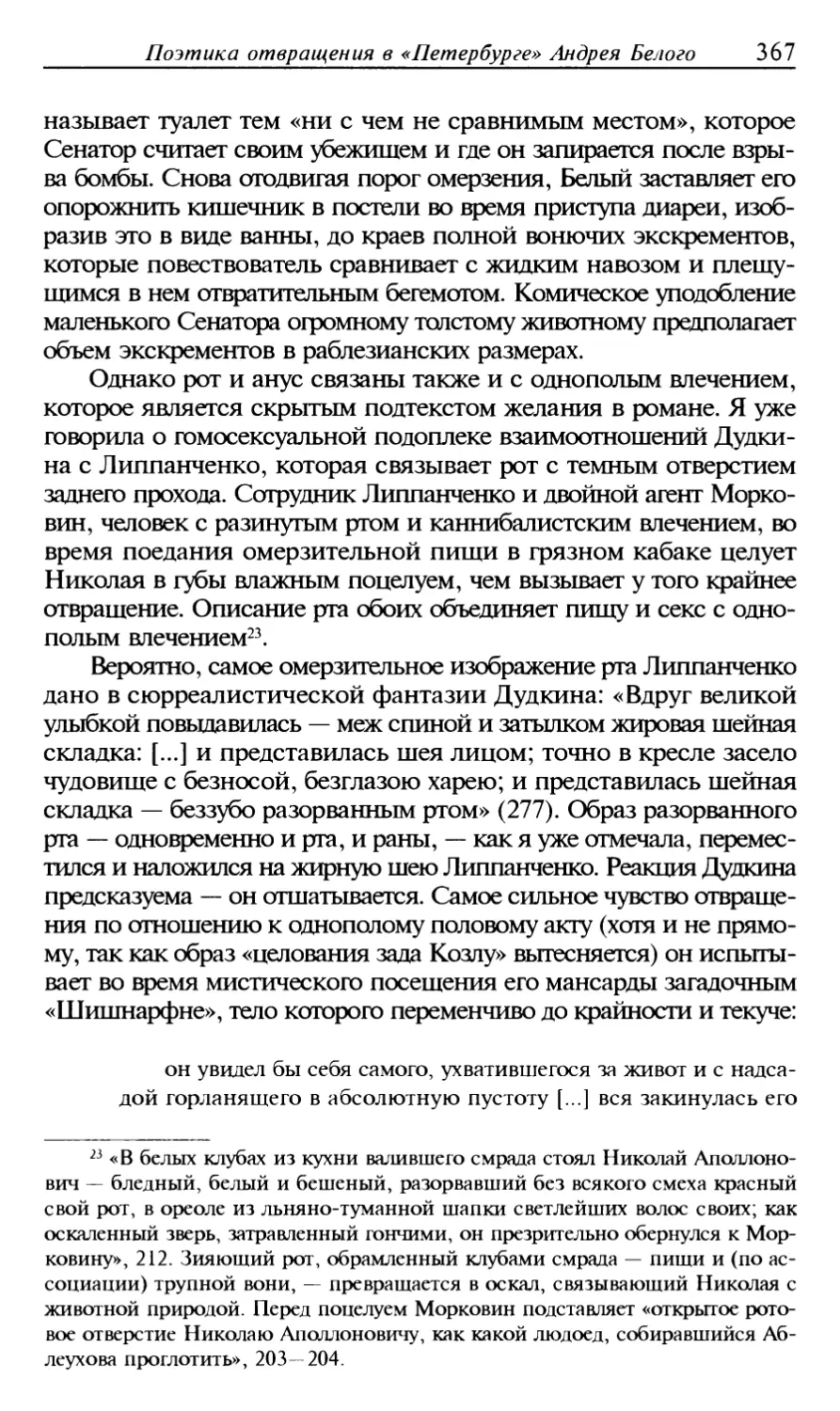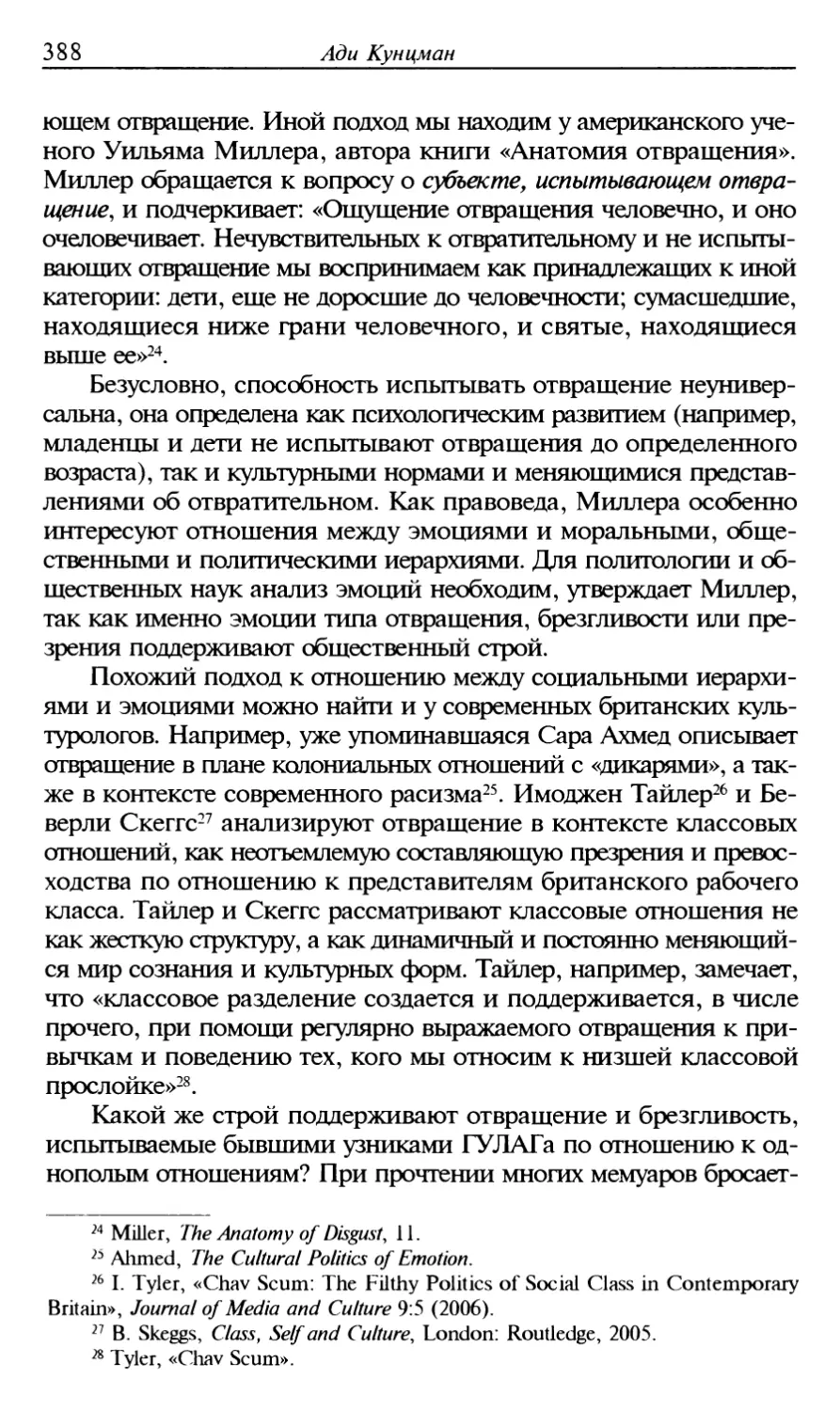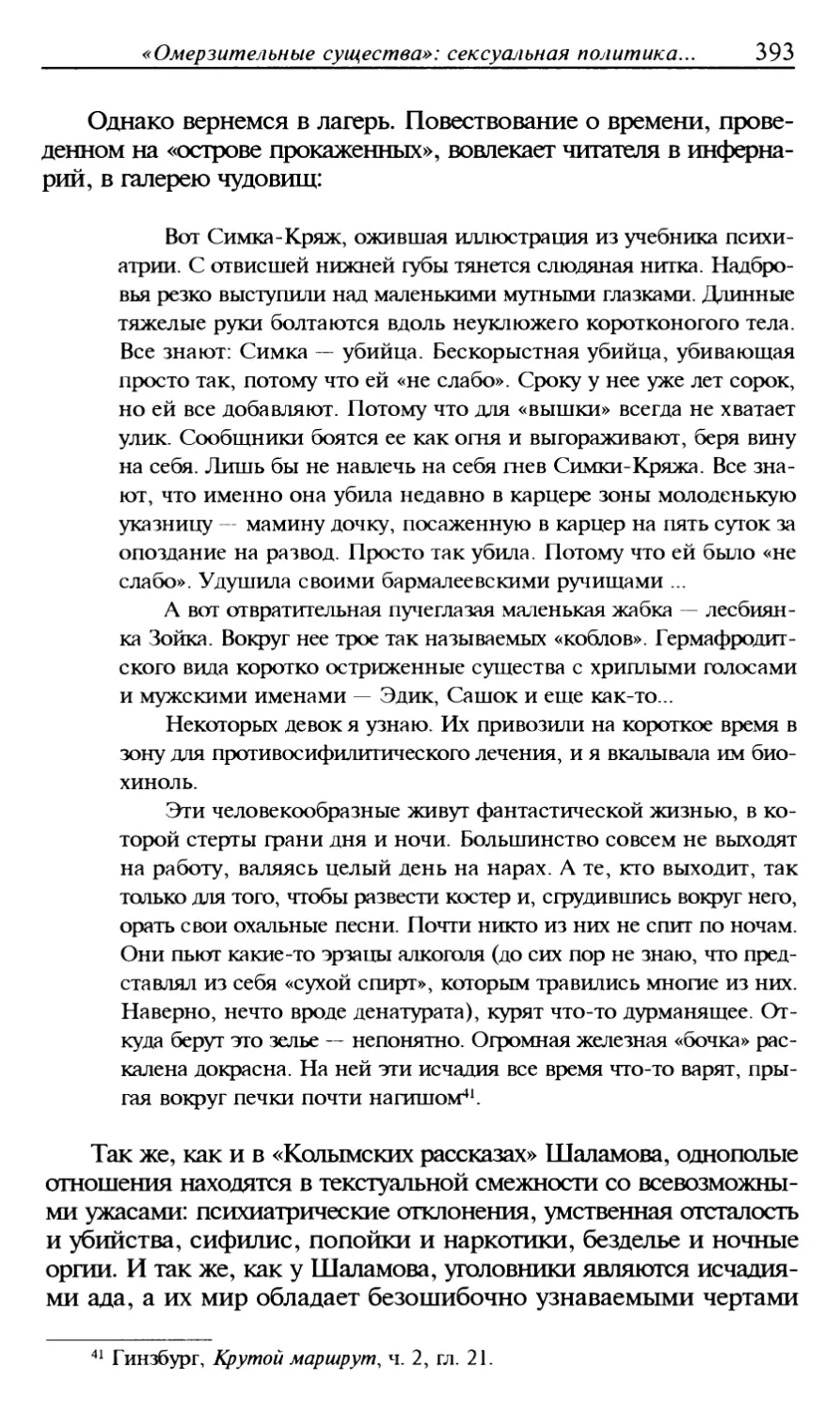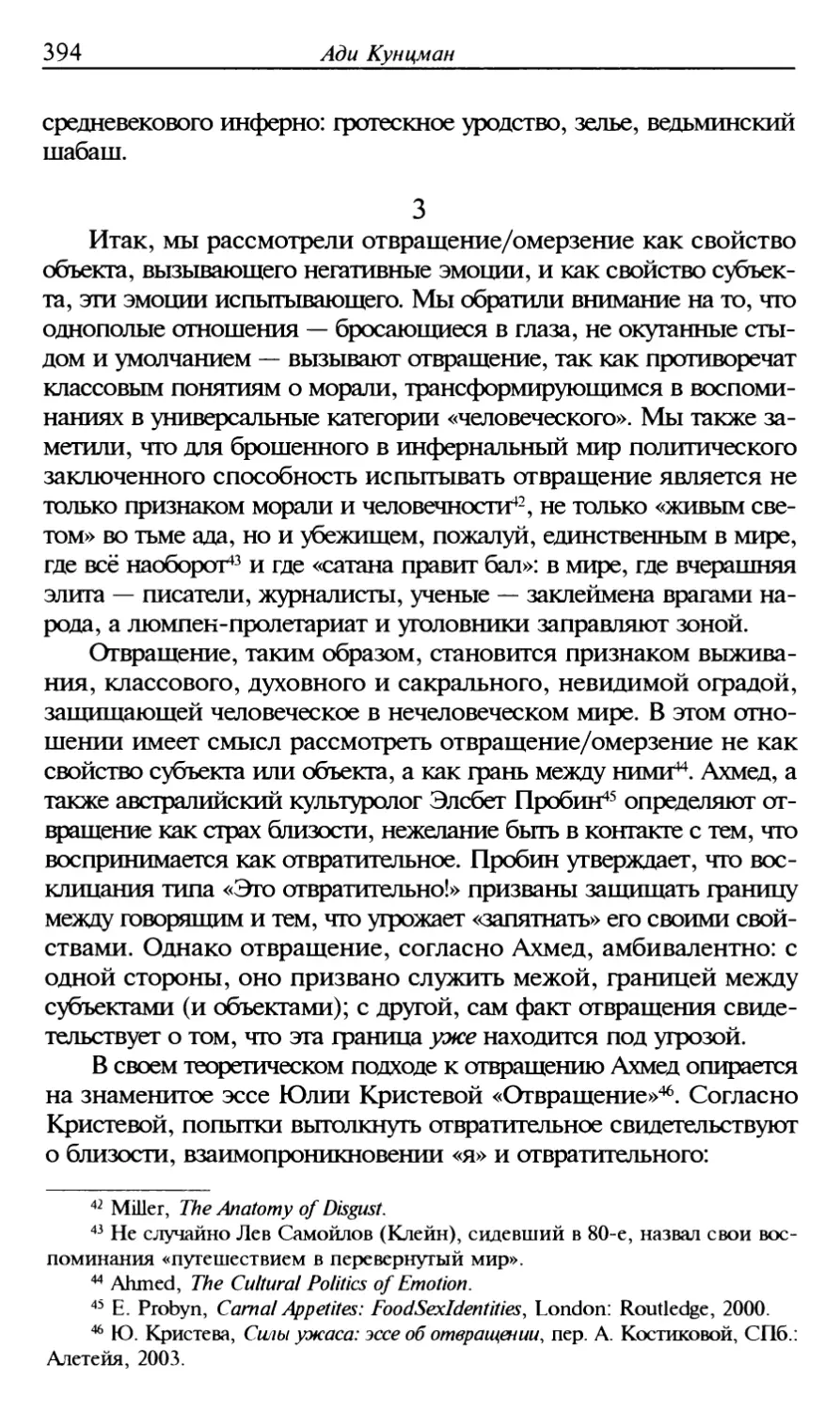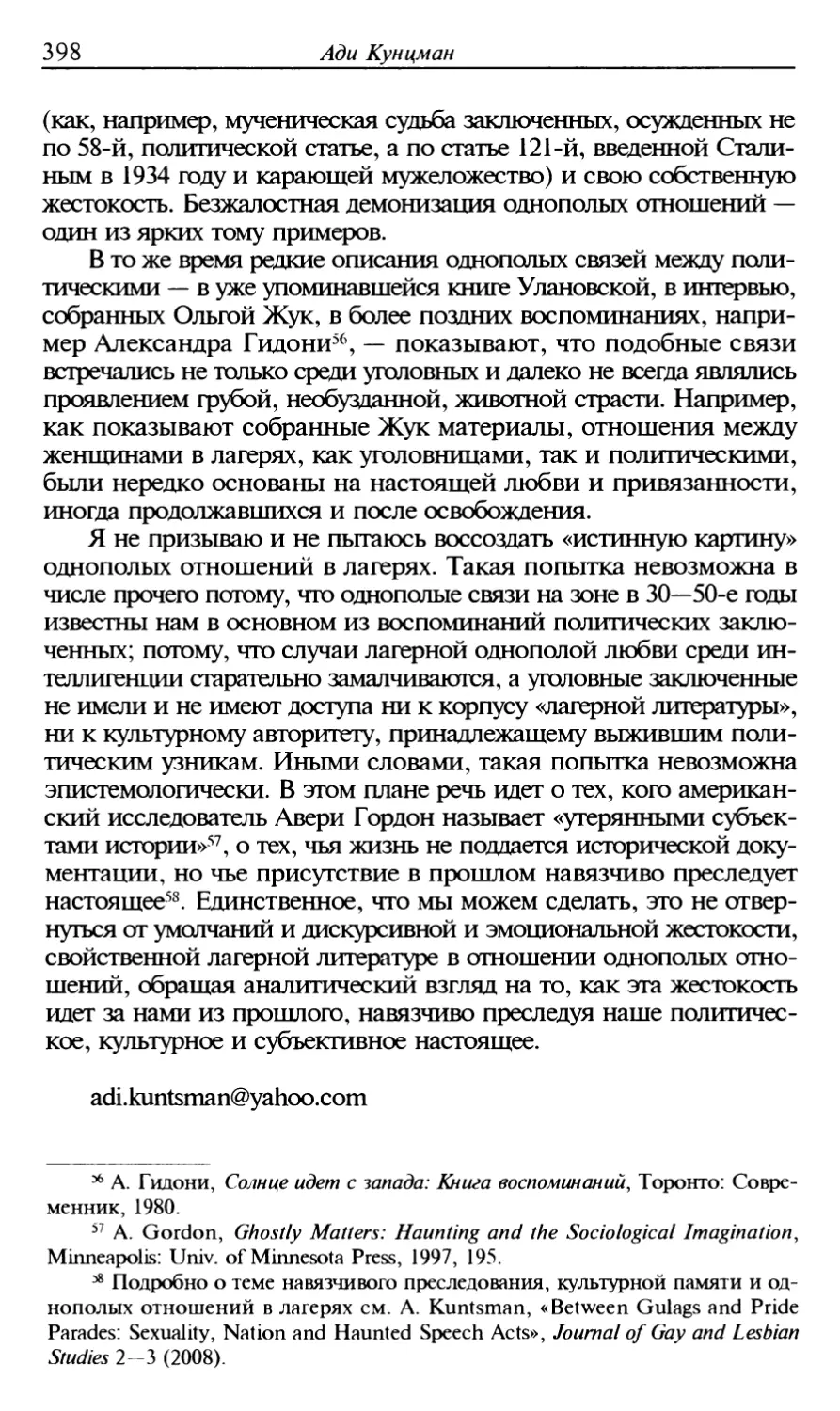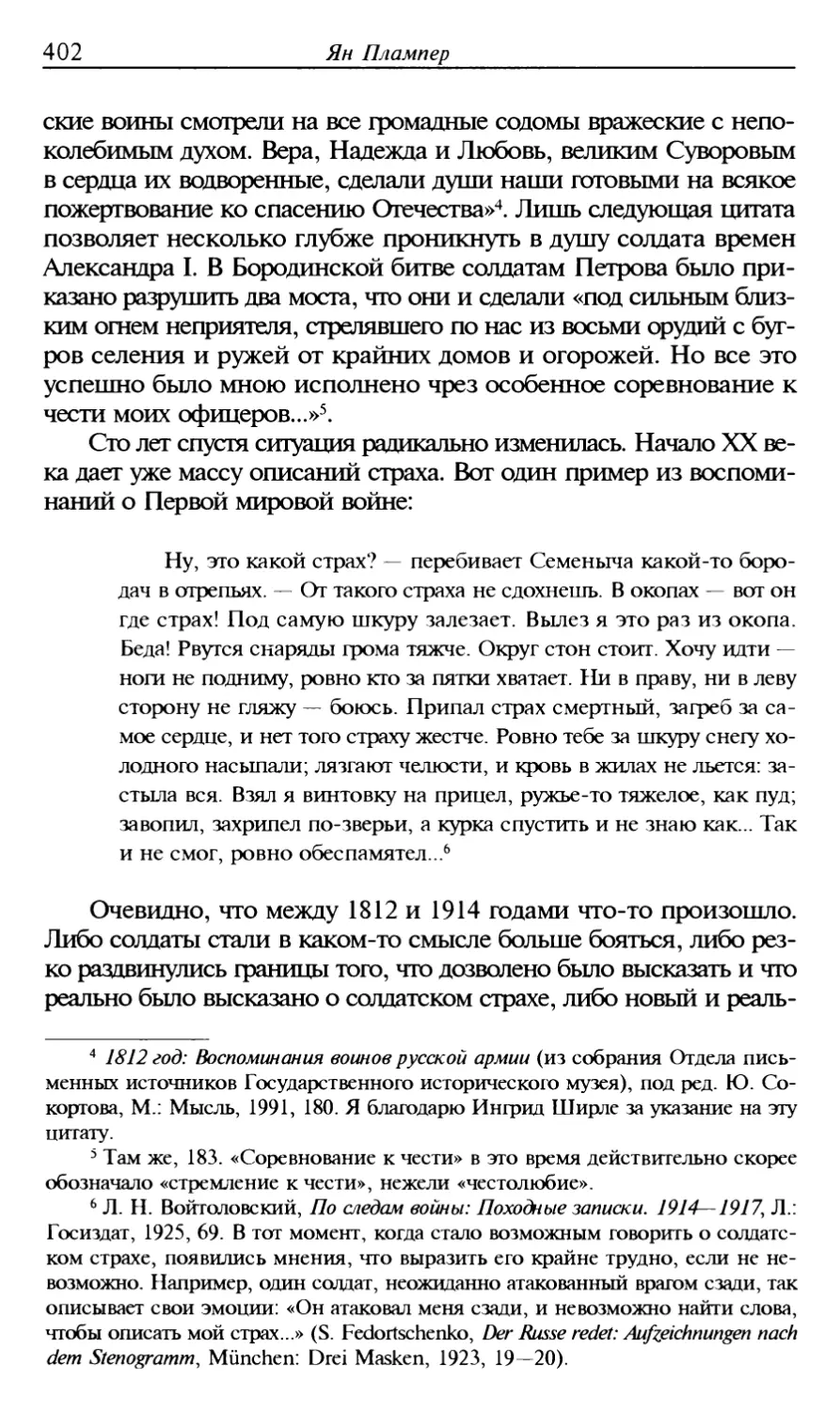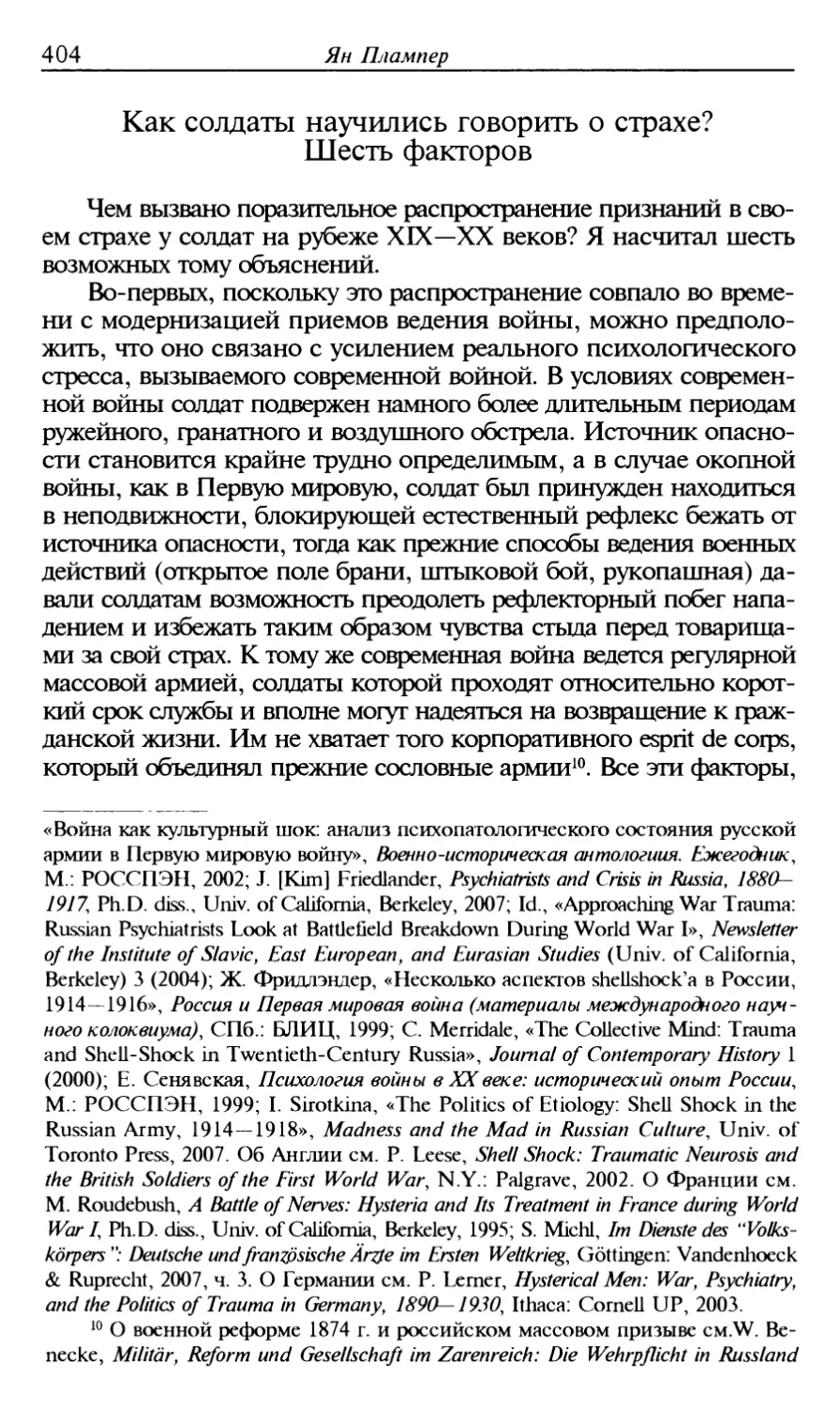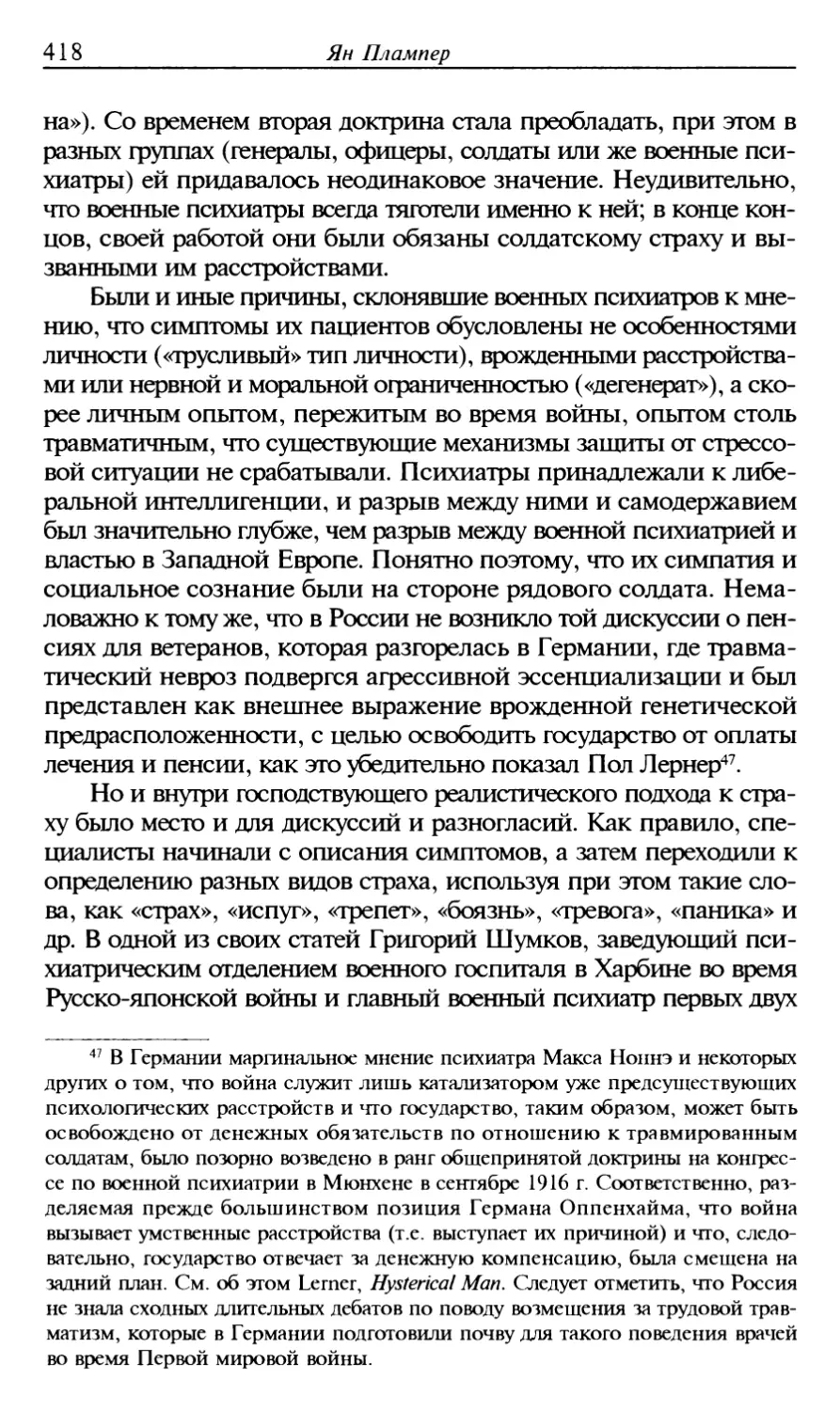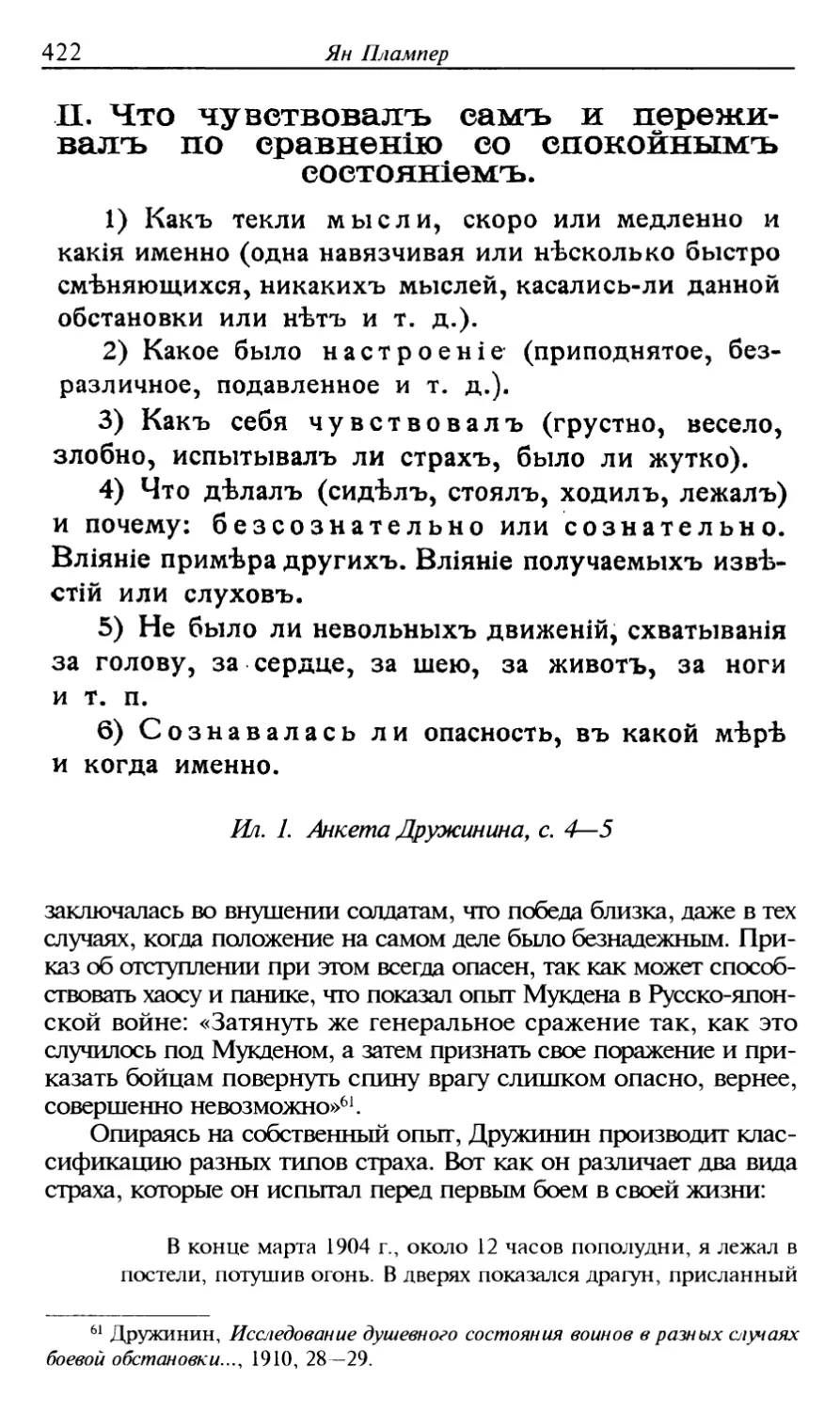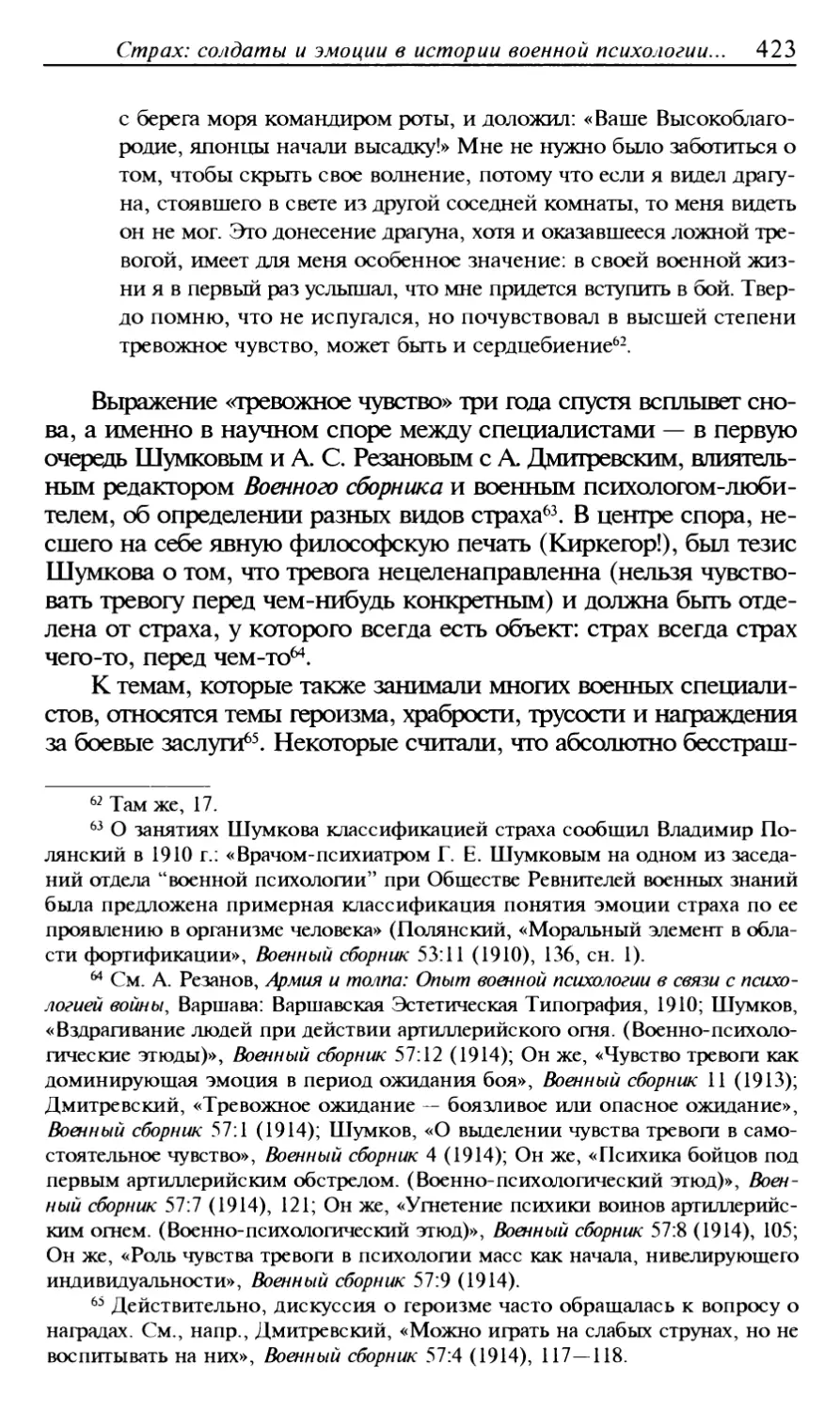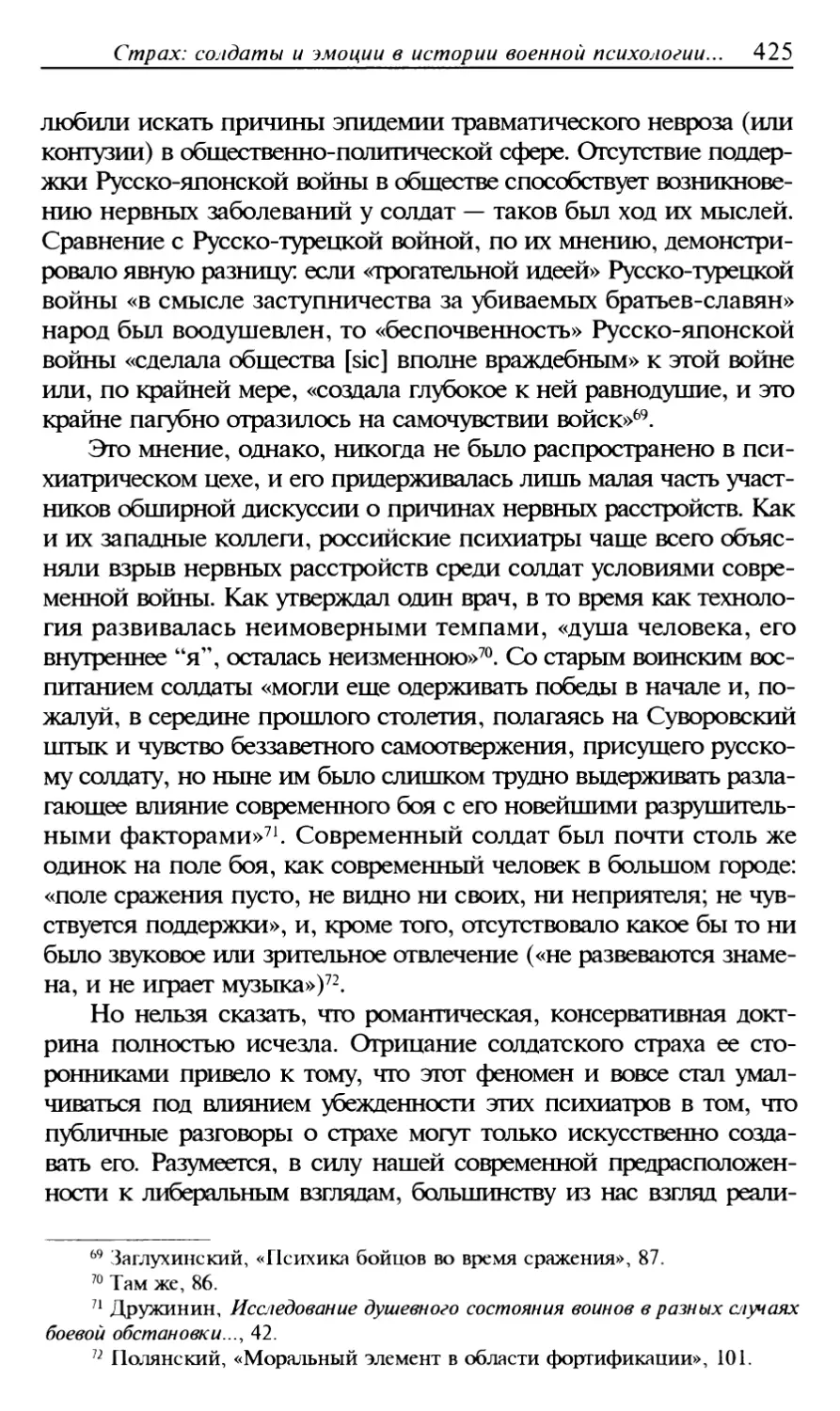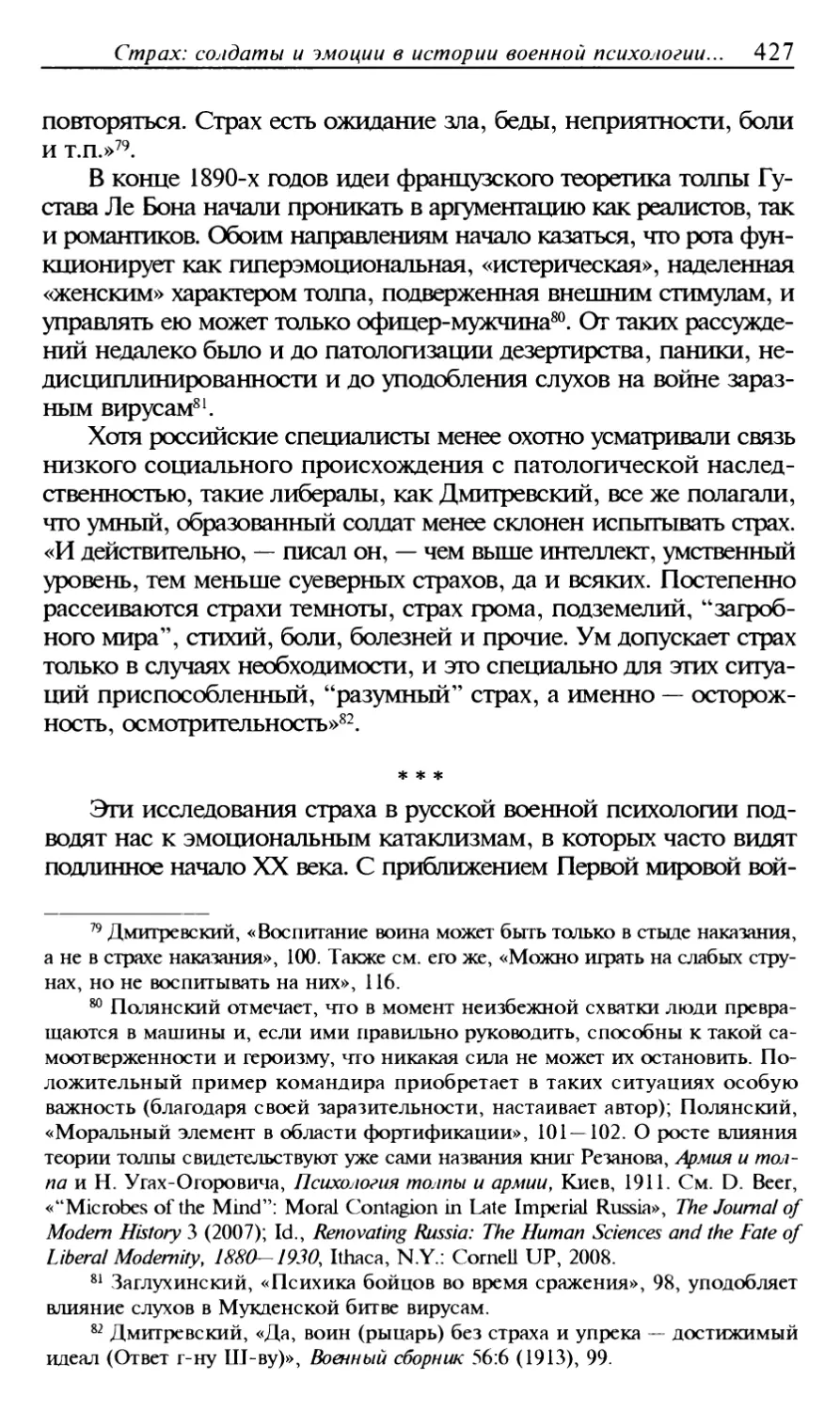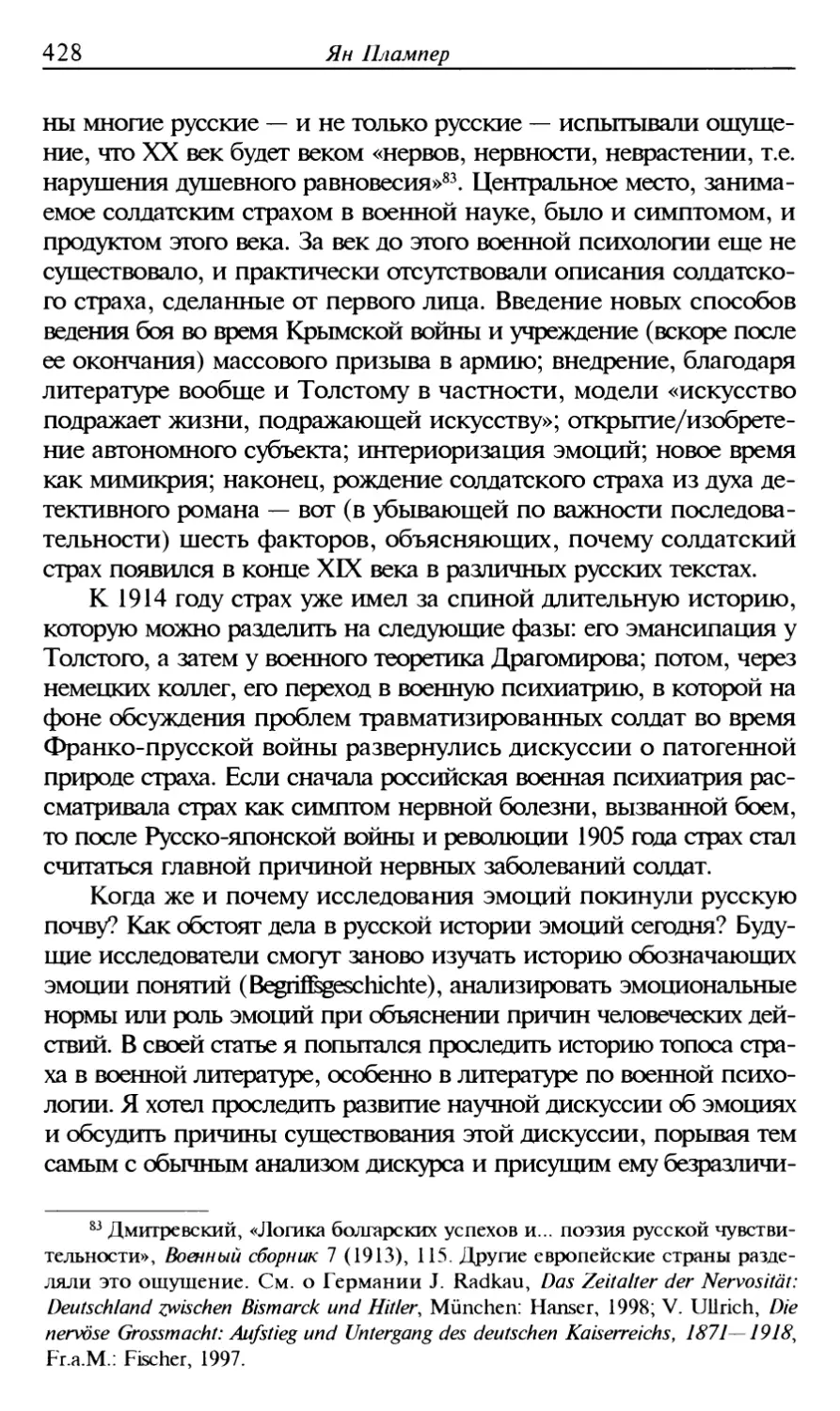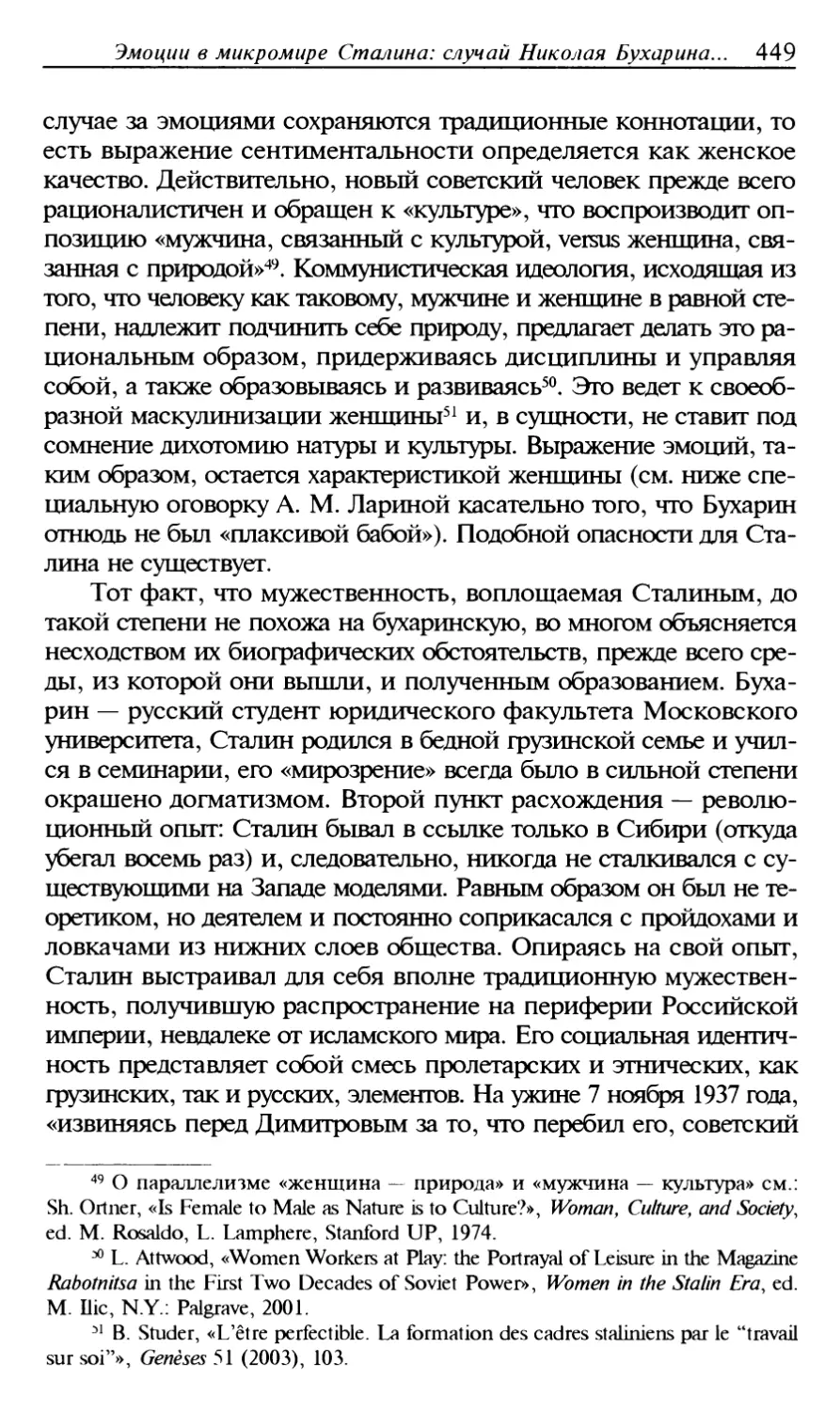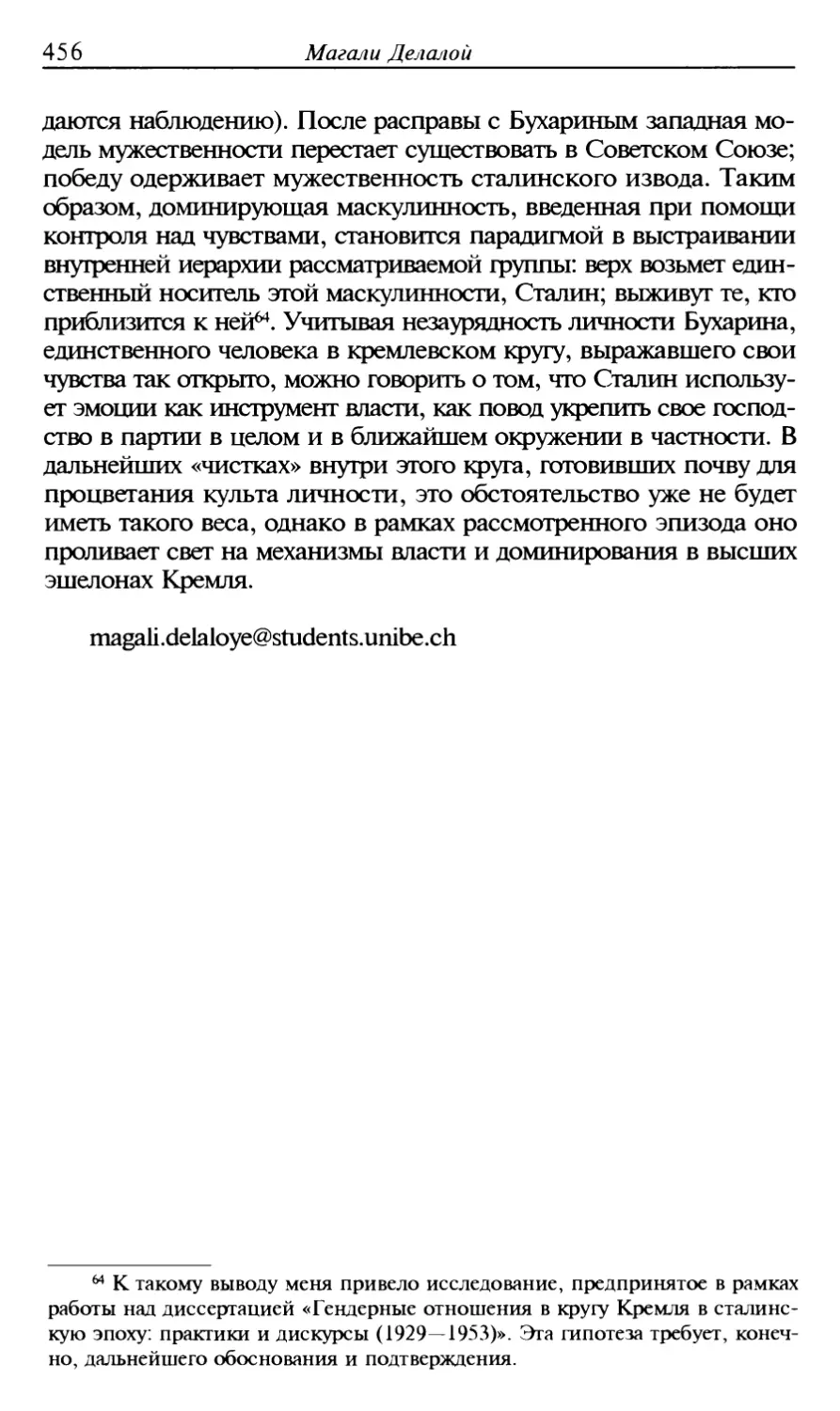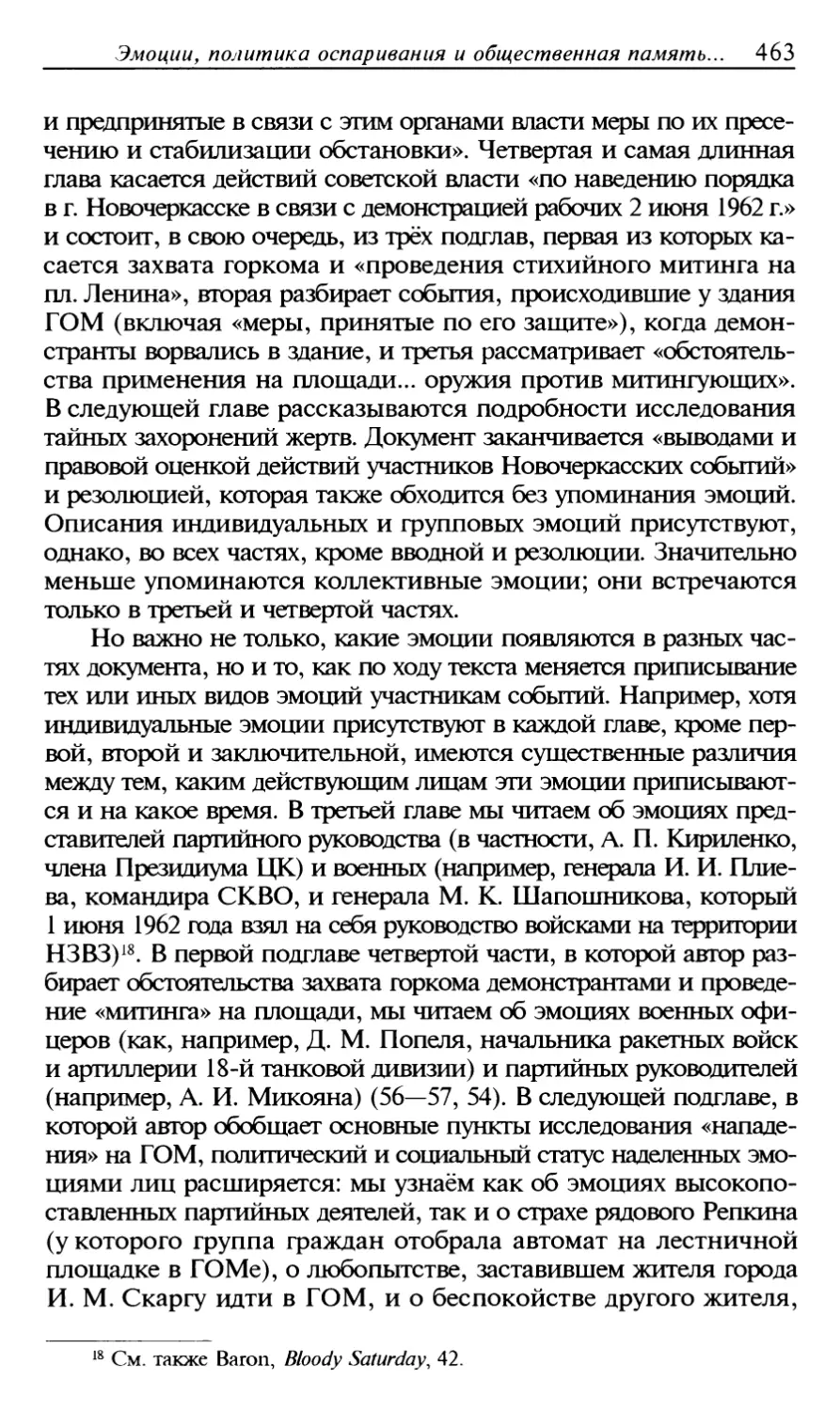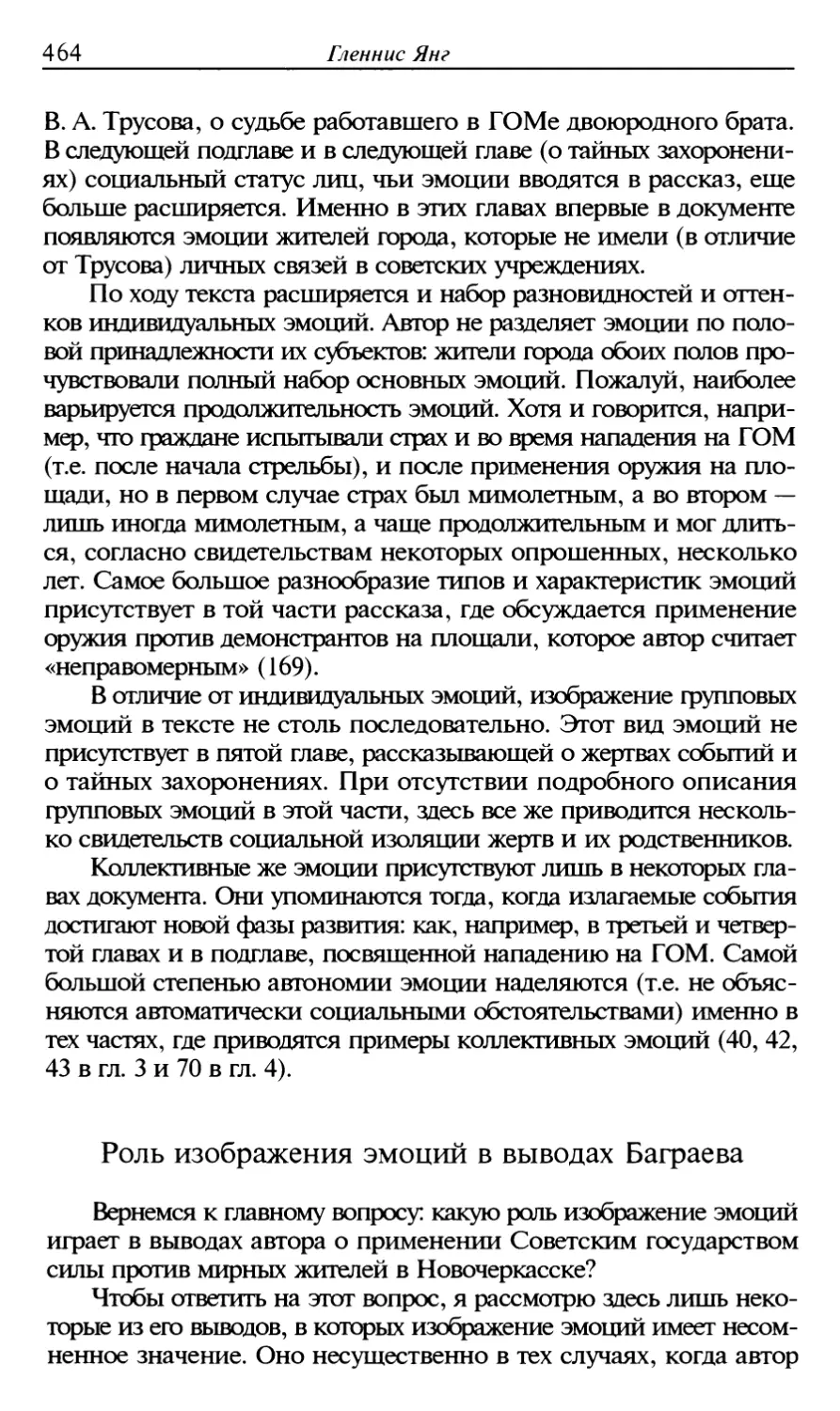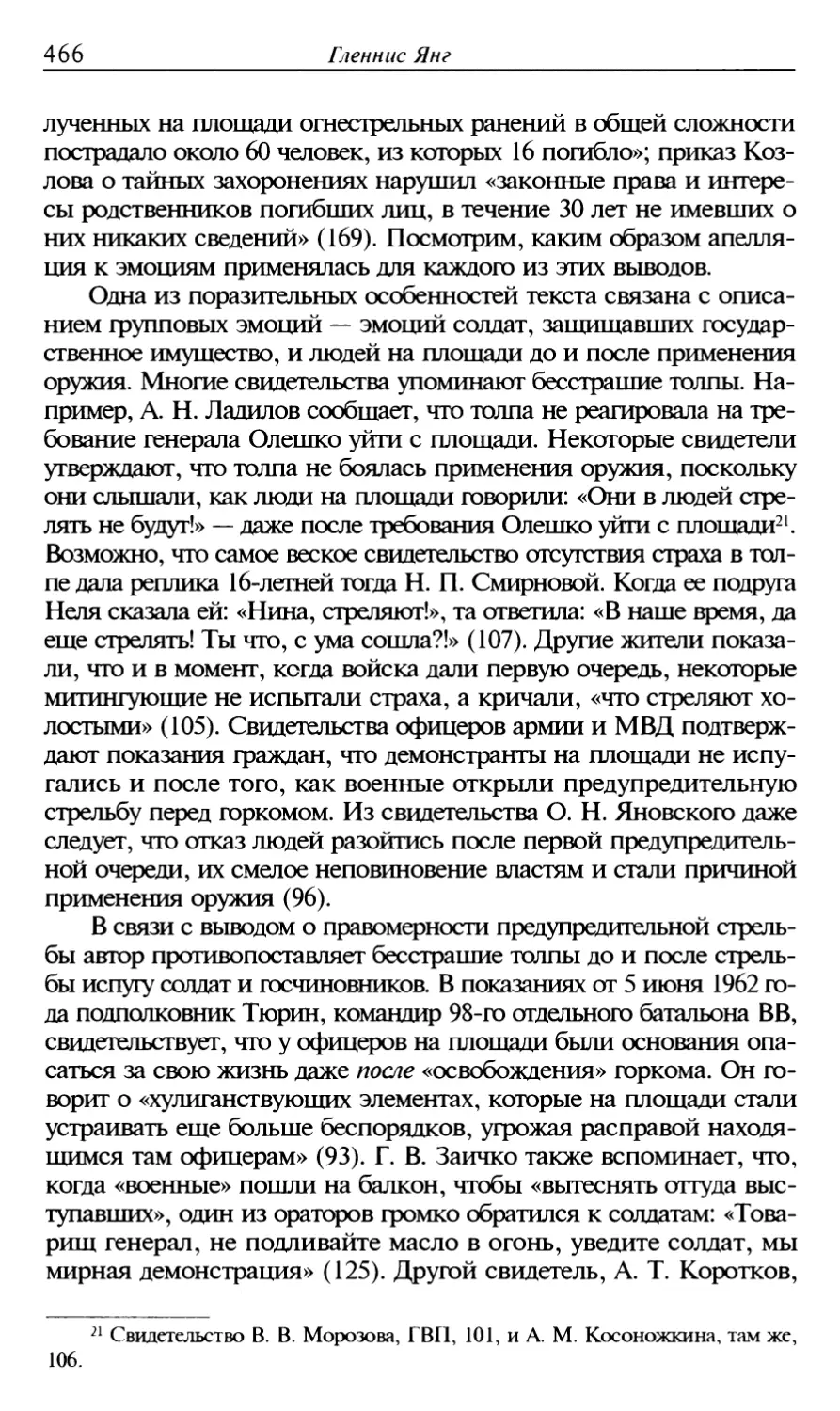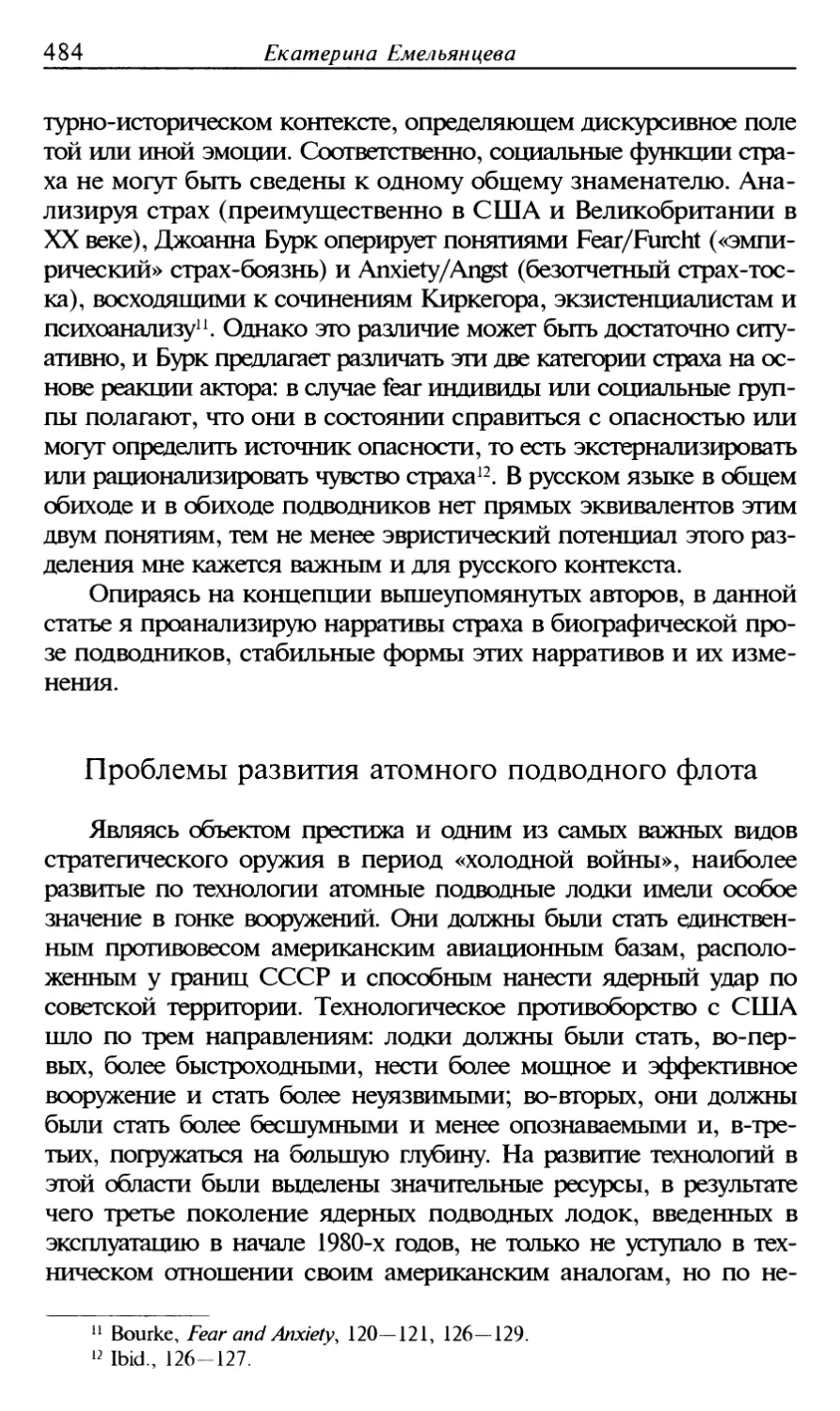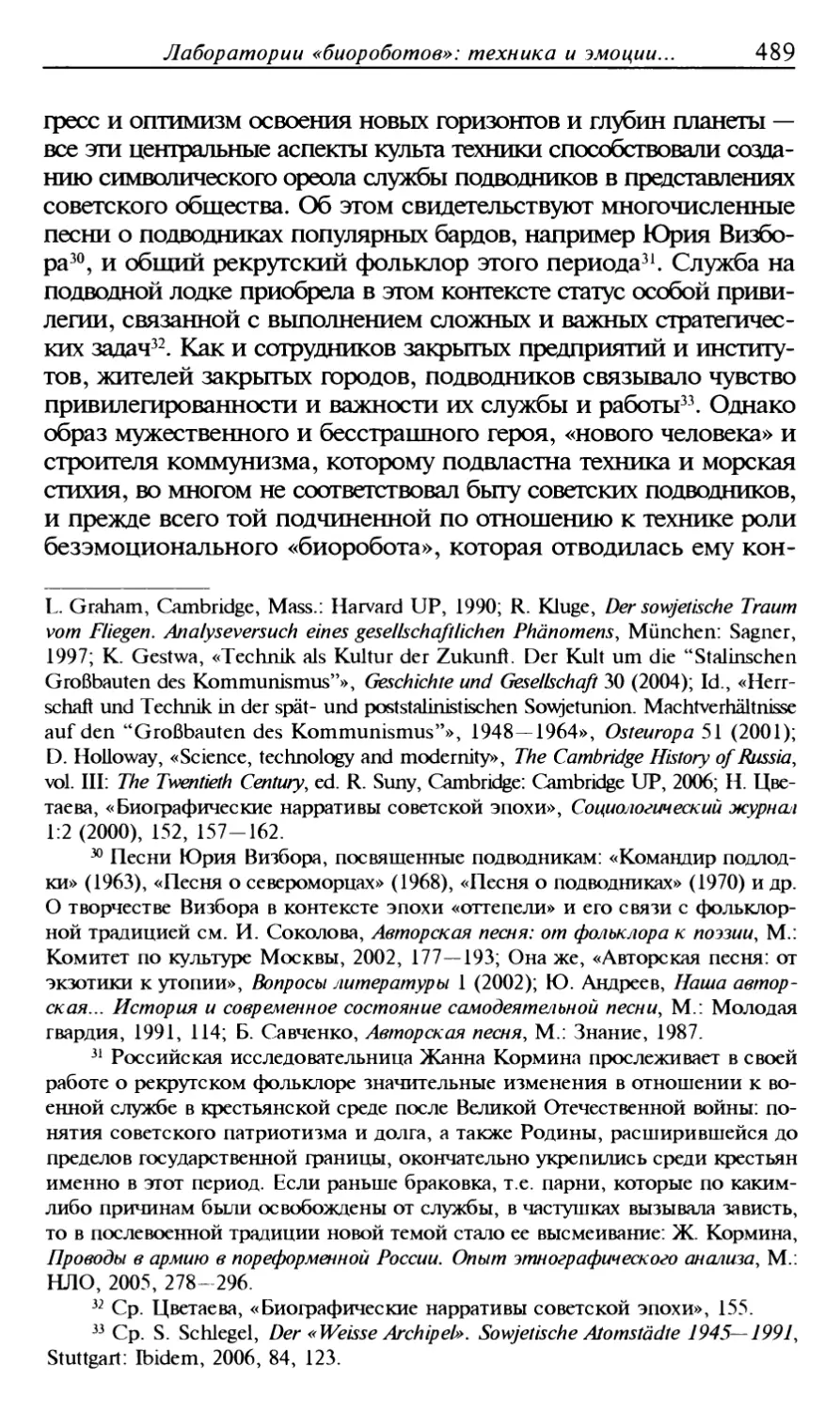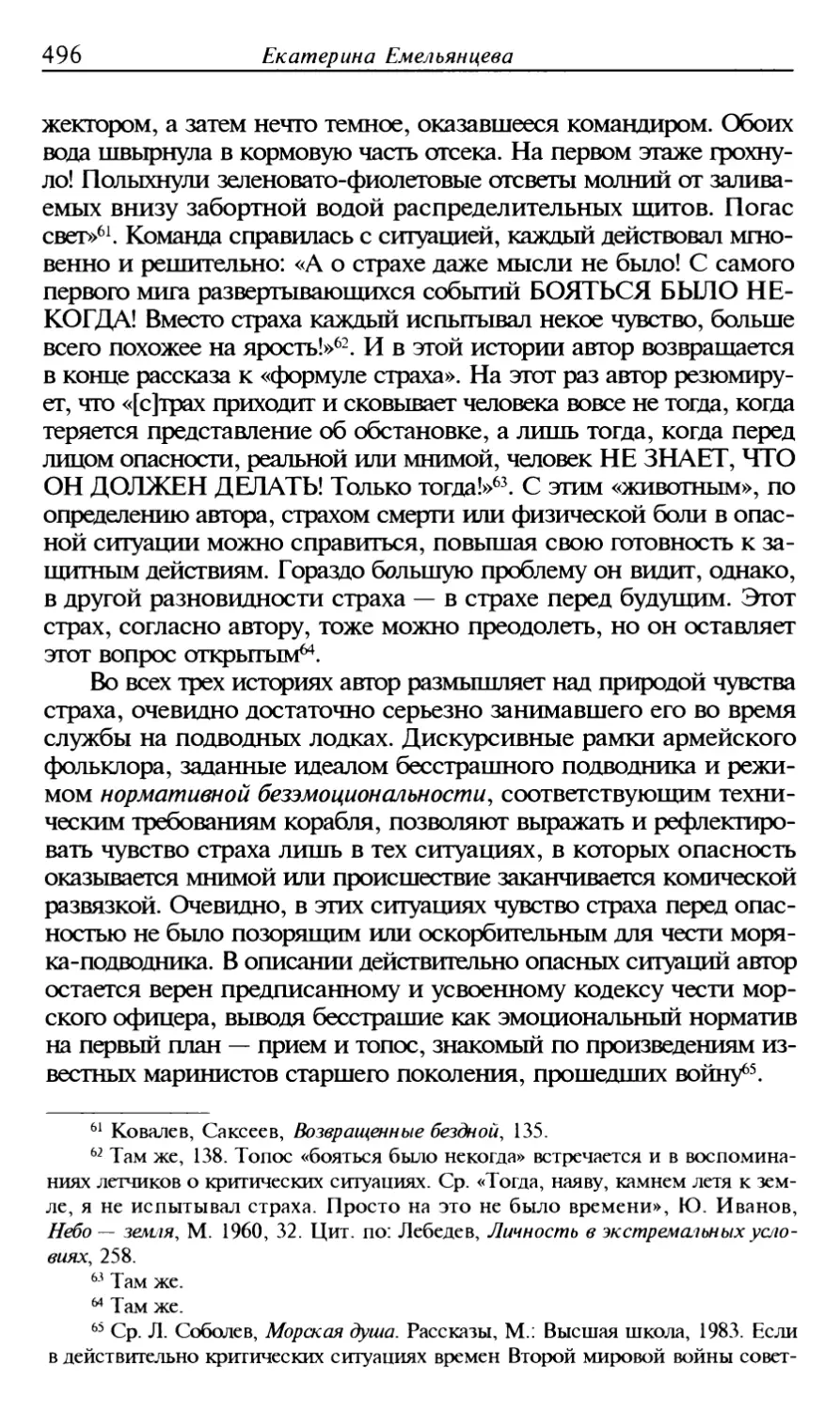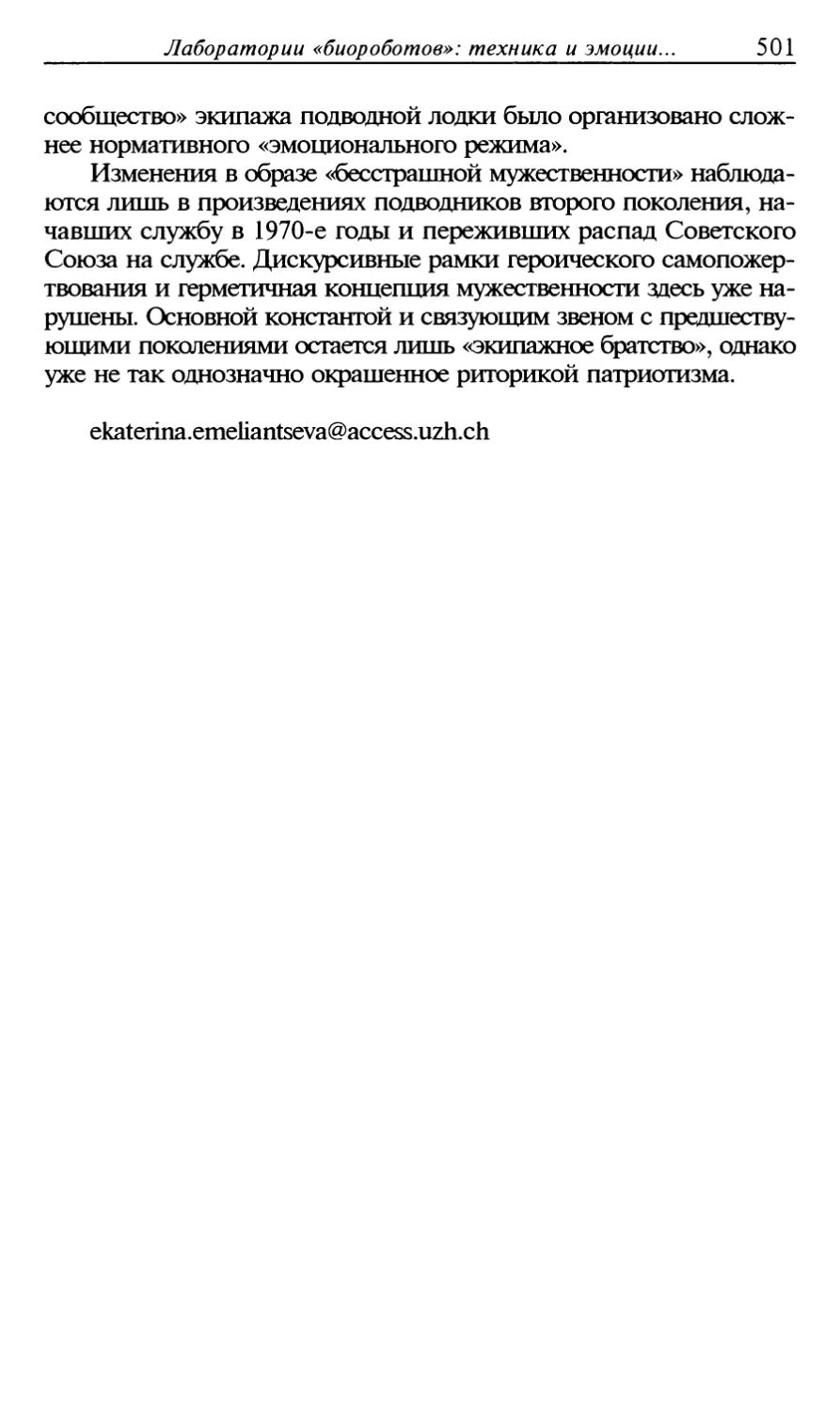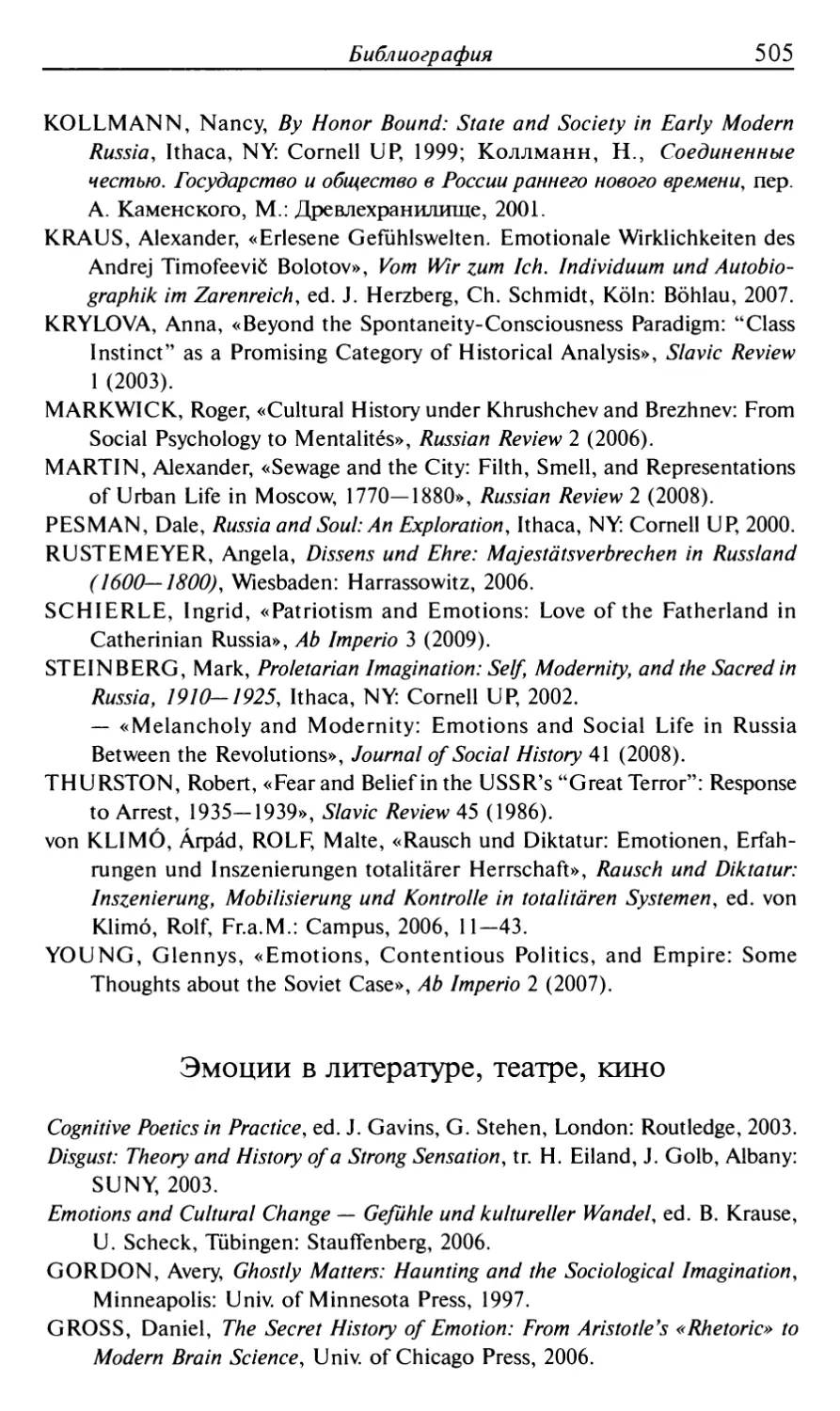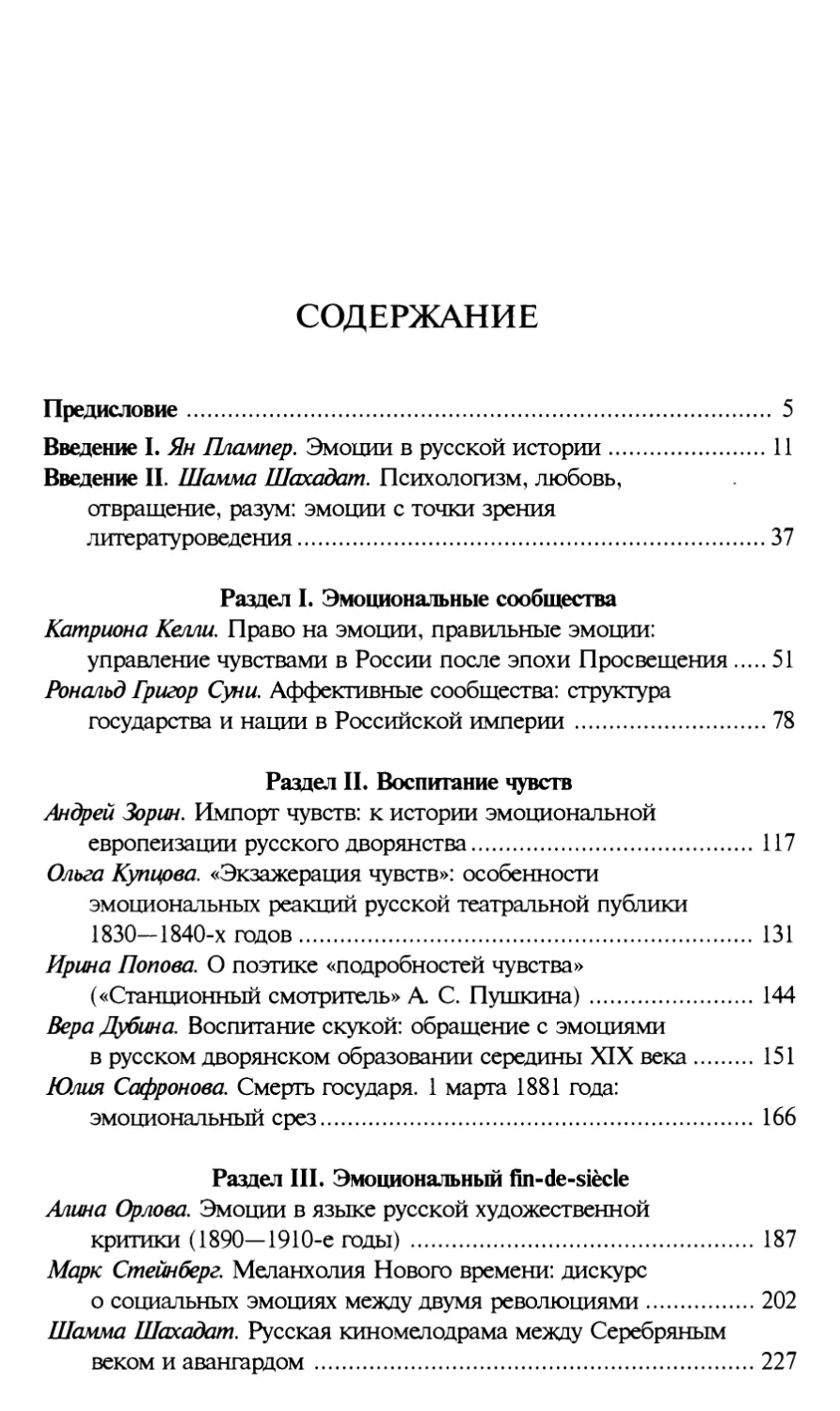Автор: Плампер Я. Шахадат Ш. Эли М.
Теги: развитие и способности психики сравнительная психология биологические науки в целом психология наций (этническая психология) философия историческая литература
ISBN: 978-5-86793-785-0
Год: 2010
Научное приложение. Вып. LXXXIII
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Франко-российский центр гуманитарных и общественных наук
Centre franco-russe de recherche en sciences humaines et sociales de Moscou
Германский исторический институт
Deutsches Historisches
Institut Moskau
РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ ЧУВСТВ
Подходы к культурной истории эмоций
Под редакцией
Яна Плампера, Шаммы Шахадат и Марка Эли
Москва
Новое литературное обозрение 2010
УДК 159.922.4(470+571)
ББК 88.58(2)
Р76
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Научное приложение. Вып. LXXXIV
Издание осуществлено при поддержке:
Р 76 Российская империя чувств: Подходы к культурной истории эмоций.
Сб. статей / Под ред. Яна Плампера, Шаммы Шахадат и Марка Эли. М.: Новое литературное обозрение, 2010. — 512 с.: ил.
Этот сборник впервые на русском языке рассматривает российскую культурную историю под углом зрения наметившегося в общественных и гуманитарных науках во всем мире «эмоционального поворота». На чем зиждется расхожее мнение, что одни народы — в частности, русские — эмоциональнее других? Как вообще историку, литературоведу, антропологу работать с эмоциями — описывать, учитывать, анализировать их? Каким образом рождаются групповые эмоции? Что способно воздействовать на них? Кто может возложить на себя миссию коллективного «воспитания чувств»? Верно ли, что история шла по линии нарастания контроля над эмоциями? Какими способами политические режимы используют и трансформируют эмоции своих подданных и граждан? Ответы на эти ключевые вопросы вы найдете в двадцати исследованиях (и двух методологических введениях), принадлежащих известным российским и иностранным специалистам по русской истории и культуре.
ISBN 978-5-86793-785-0
УДК 159.922.4(470+571)
ББК 88.58(2)
© Авторы статей, 2010
© «Новое литературное обозрение», 2010
ПРЕДИСЛОВИЕ
Эмоции стали в последние годы предметом пристального внимания гуманитарных и общественных наук (не говоря уже о естественных)1. «Эмоциональный бум» достиг теперь, кажется, и исследований о России2. Удивительно, что это происходит только сейчас. Ведь представление об особой эмоциональности Востока (включая Россию) является на Западе давним расхожим представлением, подкрепляемым, впрочем, и автостереотипом россиян.
«Разбудить» гуманитарные исследования об эмоциях в России было целью московской конференции «Эмоции в русской истории и культуре», организованной Франко-российским центром гуманитарных и общественных наук (Centre franco-russe de recherche en sciences humaines et sociales de Moscou) и Германским историческим институтом (Deutsches Historisches Institut Moskau), проходившей в Москве с 3 по 5 апреля 2008 года. Эта первая в России конференция, посвященная эмоциям, вызвала живой интерес, о чем свидетельствует уже количество — свыше 130 — предложений, присланных в ответ на Call for Papers. Материалы конференции и составили настоящий сборник3.
1 «Эмоциональный поворот» затронул философию, литературоведение, искусствоведение, музыковедение, гендерные исследования, cultural studies, социологию, культурную антропологию... Об «emotional turn» в литературоведении см., напр., Th. Anz, «Emotional Turn? Beobachtungen zur Gefiihlsforschung» (2006, www.literaturkntik.de/public/rezension.php?rezid= 10267). Об «аффективном повороте» в социальных науках см. The Affective Тит: Theorizing the Social, ed. P. Clough, Durham: Duke UP, 2007.
2 Среди конференций, посвященных эмоциям в российской истории и культуре, следует упомянуть Workshop «History of Emotions in Russia» в Чикагском университете (24 ноября 2003 г.), в котором приняли участие Ш. Фицпатрик (организатор конференции), К. Келли, А. Людтке, У. Редди, Б. Розен-вейн; круглый стол «Thinking about Feelings: Emotions in Russian/Soviet History and Culture», AAASS, Boston (5 декабря 2004 г.) при участии Р. Суни (председатель секции), И. Паперно, Я. Плампера, М. Рольфа, Ш. Фицпатрик, В. Фреде. Наконец, в июне 2008 г. в Иллинойском университете (Urbana-Champaign) М. Стейнберг и В. Соболь организовали конференцию «Interpreting Emotion in Eastern Europe, Russia, and Eurasia».
3 Конференция была финансирована на паритетных началах обеими институциями. Организаторами выступили Ян Плампер, Шамма Шахадат и Марк
6
Предисловие
Сборник предваряется двумя вводными статьями. В первой, «Эмоции в русской истории», Ян Плампер (Jan Plamper, Берлин) показывает процесс возникновения исследовательского поля «история эмоций», затем предлагает обзор трудов, посвященных непосредственно России, и, наконец, обсуждает будущие направления исследований в этом поле4. Во второй вводной статье, «Психологизм, любовь, отвращение, разум: эмоции с точки зрения литературоведения», Шамма Шахадат (Schamma Schahadat, Тюбинген) обращается к теме эмоций в русской культуре. Рассмотрев место эмоций в теоретической мысли ключевых деятелей русского театра, кино и литературы, она более подробно останавливается на трактовке эмоций в формализме, риторике, психоанализе и, наконец, западных cultural studies. В заключение, она касается сложного диалога между гуманитарными и естественными науками вокруг эмоций.
Теперь о самом сборнике. В начале первого раздела, «Эмоциональные сообщества», литературовед и историк культуры Катриона Келли (Catriona Kelly, Оксфорд) предложит читателю обширный обзор эмоциональных норм, начиная с XVIII века. Келли отвергает модель Н. Элиаса о линейном процессе возрастающего эмоционального контроля. Она показывает, что авгостереотип об особой эмоциональной несдержанности россиян был менее распространен, чем это часто утверждается. Опираясь в основном на воспитательную и художественную литературу, Келли выделяет три периода существенных изменений эмоциональных норм: конец XVII, конец XVIII и конец ХЕК века.
В своей статье историк и политолог Рональд Суни (Ronald Suny, Энн Арбор) обращается — с не менее впечатляющей широтой кругозора — к эмоциональному заряду триады «государство—империя—нация» и анализирует соотношение между эмоциональным и национальным вопросами. Суни начинает с обзора естественнонаучной и политологической литературы по эмоциям, затем опре
Эли. В конференции участвовали кроме авторов настоящего сборника Валерий Мильдон и Александр Рожков.
4 См. также обзоры на других языках: A. Pinch, «Emotion and History», Comparative Studies in Society and History 1 (1995); U. Frevert, «Angst vor Gefuhlen? Die Geschichtsmachtigkeit der Emotionen im 20. Jahrhundert», Perspektiven der Gesellschaftsgeschichte, ed. P. Nolte, M. Hettling, F.-M. Kuhlemann, H.-W. Schmuhl, Munchen: Beck, 2000; B. Rosenwein, «Worrying about Emotions in History», American Historical Review 3 (2002); J. Bourke, «Fear and Anxiety: Writing About Emotion in Modern History», History Workshop Journal 1 (2003); M. Kessel, «Gefuhle und Gesc hie htswissensc haft», Emotionen und Sozialtheorie: Disziplinare Ansatze, ed. R. Schiitzeichel, Fr.a.M.: Campus, 2006; J. Plamper, Geschichte und Gefiihl: Grundlagen der Emotionsgeschichte, Munchen: Siedler, 2011 (в печати).
Предисловие
7
деляет роль эмоций у теоретиков нации от Гердера до Бенедикта Андерсона и заканчивает анализом причин краха царизма, заключая, что он рухнул в том числе и потому, что ему не удалось построить функционирующее национальное эмоциональное сообщество.
Во втором разделе, «Воспитание чувств», литературовед Андрей Зорин (Оксфорд/Москва) рассматривает эмоциональное воспитание дворянина-литератора Николая Карамзина, полученное во время поездки по Европе в 1790 году, где он учился у Лоренса Стерна, Гёте и Шиллера чувствовать по-европейски, а позже в своих «Письмах русского путешественника» учил других русских чувствовать по-европейско-карамзински, как это показывают, в частности, дневники Андрея Тургенева. Статья Зорина является применением к эмоциям известной модели «life imitates art imitates life...».
Сходную модель анализирует театровед Ольга Купцова (Москва), чья статья посвящена показу зрительских эмоций в театре 1830—1840-х годов. После того как Белинский описал идеальные эмоциональные реакции публики на игру таких звезд, как П. С. Мочалов, зрители Воронежа и Одессы в своих реакциях на игру великого актера стали вскоре равняться на выдвинутый Белинским перечень идеальных эмоций.
Литературовед Ирина Попова (Москва) отталкивается от мнения литератора, выступающего в функции критика, — а именно Льва Толстого, об эмоциональной скупости пушкинских «Повестей Белкина». На примере одной повести, «Станционный смотритель», Попова показывает, что «Повести» на самом деле богаты эмоциями, но поставленными в другие жанровые рамки, чем в век реализма Толстого.
Историк Вера Дубина (Москва/Майнц) на основе воспоминаний, дневников и писем воспитанников закрытого учебного заведения Императорского училища правоведения показывает эмоциональную разорванность учеников между скукой образования и представлением о веселой жизни за стенами училища, которую они часто пытались преодолеть сочинением стихов. Статья Дубиной иллюстрирует потенциал микроистории эмоций применительно к маленькому «эмоциональному сообществу» (Б. Розенвейн) учеников в определенную эпоху, а именно в середине XIX века, когда еще действовали дворянские нормы и уже — нормы государственной службы.
Историк Юлия Сафронова (Санкт-Петербург) обращается к «эмоциональному режиму» (У. Редди) во время убийства царя Александра II в 1881 году. Каким именно образом верноподданным следовало скорбеть, когда их монарх уходил из жизни? И каким образом они должны были ужасаться и возмущаться преступлением
8
Предисловие
революционеров? Отдавая себе полный отчет в методологической сложности такого предприятия, Сафронова не только описывает эмоции, переживание которых ожидалось от народа, но и пытается раскрыть, как люди реагировали «на самом деле». Таким образом, в этом разделе мы знакомимся с четырьмя примерами истории эмоциональных норм конца XVIII — конца XIX века.
Искусствовед Алина Орлова (Лос-Анджелес) открывает третий раздел, «Эмоциональный fin-de-siecle», анализом роли эмоций в различных теориях искусства и эстетического восприятия конца XIX — начала XX века.
Историк Марк Стейнберг (Mark Steinberg, Урбана-Шампэйн) поднимает тему меланхолии, охватившей широкие слои русского общества в последние два-три десятилетия существования Российской империи. Стейнберг прослеживает проявления меланхолии во множестве культурных текстов, от стихов рабочих до философских текстов Розанова, и объясняет эпидемиию меланхолии разочарованием в современности как таковой и сомнениями в историческом прогрессе, как в него принято было верить со времен Ньютона и Декарта, иначе говоря, кризисом самого восприятия времени.
Литературовед Шамма Шахадат обращается к русской немой киномелодраме: выявляет теоретические основы и исторических предшественников киномелодрамы, ее место в культуре модернизма, обращая внимание, в частности, на гендерный дискурс в связи с эмоциональностью и с (экономической) логикой обмена.
В четвертом разделе, «Упоение — и не только в бою», историки Игорь Нарский и Юлия Хмелевская (Челябинск) останавливаются на феномене, при анализе которого чаще всего принято руководствоваться антропологическими константами и выносить его за рамки истории и культуры: это насилие и связанные с ним эмоции. Речь идет о разгромах винных складов во время Октябрьской революции 1917 года.
Если Нарский и Хмелевская сосредотачиваются на стихийном характере экстаза, то историк науки Ирина Сироткина (Москва) изучает именно антистихийный, даже планомерный его вариант в своем анализе «пляски-экстаза» от Вагнера и Ницше до русского Серебряного века, останавливаясь на философско-танцевальной программе Айседоры Дункан 1920-х годов. Сироткина ставит эту программу в многочисленные, порой неожиданные контексты, от дискуссий с участием Л. Толстого о сильном эмоциональном воздействии музыки до гипнотизма и рефлексологии Бехтерева.
Статья историка Роберта Эдельмана (Robert Edelman, Сан-Диего) посвящена эмоциональному сообществу футбольных болельщиков московского «Спартака», которое не чуждалось и ненависти (к бериевскому «Динамо», например), но отличалось, скорее, эк
Предисловие
9
стазом (по случаю побед над тем же «Динамо») — бесспорно, ключевым элементом эмоциональной сущности советского футбола. Футбольный экстаз наряду с опьянением и пляской и по сей день считается воплощением безоговорочной эмоциональности («иррациональности») .
Открывая пятый раздел, «Оскорбление в лучших чувствах», историк Ольга Глаголева (Торонто) возвращает нас в XVIII век. На примере одной «(микро)истории с поросенком» автор реконструирует эмоциональную жизнь русского провинциального дворянства XVIII века. Глаголева ставит эту историю в различные правовые, исторические, региональные, гендерные и другие контексты и дает наглядное представление об ином, отличном от нашего, понятии чести в конце XVIII века.
Литературовед Ольга Матич (Olga Matich, Беркли) проделывает опыт прочтения «Петербурга» Андрея Белого сквозь призму эмоций, особенно отвращения. Отвращение, по крайней мере со времен барокко, является двусмысленной эмоцией, которую характеризует не только отталкивание, но и притягивание.
Та же амбивалентность эмоции отвращения прослеживается и в мемуарах узников ГУЛАГа, анализируемых этнографом культуры Ади Кунцман (Adi Kuntsman, Манчестер). Зэки-гомосексуалисты и гомосексуальные практики в лагере и притягивают, и отталкивают мемуаристов. И Матич, и Кунцман бросают радикально новый взгляд на, казалось бы, хорошо известные тексты.
Шестой раздел, «Эмоции на грани», историк Ян Плампер открывает реконструкцией места страха в военно-психологической мысли конца XIX — начала XX века. В мемуаристике Отечественной войны 1812 года никто не писал о солдатском страхе, а в мемуарах Первой мировой страх присутствует повсеместно. Как стал возможен такой сдвиг?
Историк Магали Делалой (Magali Delaloye, Берн) спускается в недра Лубянки и читает сквозь призму эмоций переписку Николая Бухарина со Сталиным. Перед расстрелом Бухарин из тюремной камеры неоднократно письменно обращался к своему старому товарищу Сталину, употребляя эмоционально насыщенный язык, который Делалой расшифровывает с помощью новейшего инструментария эмоциональной и гендерно-маскулинной истории.
Гленнис Янг (Glennys Young, Сиэтл) показывает на примере восприятия новочеркасской трагедии в перестроечное время, как возникла новая культура коллективных эмоций, сочувствующая жертвам расстрела.
Историк Екатерина Емельянцева (Бангор/Уэльс, Цюрих) изучает солдатский страх в еще более закрытом пространстве, чем это делает Плампер, а именно в советской подводной лодке 1960—
10
Предисловие
1980-х годов. Несмотря на господствовавшие нормы безэмоциональности и бесстрашия, страх оставил множество следов в биографической прозе и фольклоре подводников.
Таким образом, читатель держит в руках сборник статей, основанных на подробных эмпирических исследованиях. Сборник завершит тематическая библиография. Нам остается выразить благодарность Франко-российскому центру и Германскому историческому институту, особенно их директорам Валери Познер и Бернду Бонвечу за финансирование конференции, Евгении Самошни-ковой, Коринне Кур-Королевой и Бригитте Циль — за постоянное организационное содействие и Михаилу Маяцкому — за редакционную правку. Мы особенно признательны Konstanzer Exzellenz-cluster EXC 16 «Kultuielle Grundlagen der Integration» за финансовую помощь и Ирине Прохоровой — за всемерную поддержку в издании настоящего сборника.
Ян Плампер, Шамма Шахадат, Марк Эли
Введение I
Ян Плампер
ЭМОЦИИ В РУССКОЙ ИСТОРИИ1
1. История истории эмоций
Принято считать, что первым, кто призвал историческую науку изучать эмоции, был Люсьен Февр. В июне 1938 года Февр участвовал в конференции «Чувствительность в человеке и природе», организованной Анри Берром. Свой доклад он опубликовал в 1941 году в журнале «Annales d’histoiie cconomique et sociale» под названием «Чувствительность и история» (1941)2. В этой статье он на примере различных исторических феноменов показал, что эмоции должны находиться в самом центре внимания историков. В изучении эмоций он предлагал опираться на концепции, выработанные в психологии. Помимо настойчивого предложения изучать изображение эмоций, к примеру в живописи, Февр требовал применить к эмоциям то, что сегодня назвали бы Begriffsgeschichte: «Никакая работа со словарем не позволит восстановить во всей ее целостности эволюцию системы чувств в данном обществе и в данную эпоху»3. До сих пор остается актуальной его концепция одновременного сосуществования разных, а то и противоположных чувств в человеке, «фактор амбивалентности чувств»4. В пользу необходимости изучения эмоций историками, по мнению Февра, говорит то, что историки и без того уже оперируют психологическими кате
1 Автор благодарит Юдит Девлин, Андрея Зорина, Ивана Соколовского, Марка Стейнберга и Шамму Шахадат за высказанные ими ценные замечания к тексту.
2 L. Febvre, «La sensibilite et 1’histoire. Comment reconstituer la vie affective d’autrefois»; Л. Февр, «Чувствительность и история». Он же, Бои за историю, М.: Наука, 1991. Текст доклада Февра был опубликован в 1943 г. уже после переработки версии для Анналов'. L. Febvre, «La sensibilite dans 1’histoire: les “courants” collectifs de pensee et d’action», La sensibilitd dans I’homme et dans la nature, ed. H. Berr, Paris: PUF, 1943. Об истории написания см. Р. Schottler, «Lucien Febvre, die Renaissance und eine schreibende Frau» (Nachwort) in Febvre, Margarete von Navarra: Eine Konigin der Renaissance zyvischen Macht, Liebe und Religion, Fr.a.M.: Campus-Verlag, 1998, 361—362, 377—378, n. 63.
3 Февр, «Чувствительность и история», 118.
4 Там же, 116.
12
Ян Плампер
гориями, только делают это неосознанно и примитивно, перенося психологию своего собственного времени на исследуемую эпоху. Они, например, используют выражения вроде «Наполеоном овладел приступ ярости» или «Наполеон испытал чувство живейшего удовольствия», апеллируя к вечному и всеобщему «здравому смыслу» (common sense)5.
В самом начале своей статьи Февр отметил: «Чувствительность и История — новая тема. Я не знаю книги, в которой бы она обсуждалась»6. Трудно не согласиться с этим замечанием, хотя Февр сам ссылается на — пусть и немногочисленных — предшественников, так или иначе затронувших тему эмоций (в их числе на Йохана Хейзингу с его «Осенью Средневековья», 1919)7. О том, насколько необычным казался тогда подход Февра, можно судить по взглядам британского историка Робина Дж. Коллингвуда, высказанным еще через пять лет после Февра, что-де «иррациональные элементы», то есть «ощущения, а не мысли, чувство, а не концепции» являются «предметом психологии... а не частью исторического процесса»8.
Считать ли случайностью, что статья Февра была напечатана в 1941 году?9 Несомненно, на Февра оказали сильное и продолжительное влияние труды французских этнографов 20-х годов, такие как «Первобытное мышление» Люсьена Леви-Брюля («La Mentalite primitive», 1922) и «Введение в коллективную психологию» Шарля Блонделя («Introduction a la psychologie collective», 1929)10. Но, конечно, главным образом на характер статьи повлияла ситуация в Европе, отмеченная набирающим силы фашизмом. Для такого вывода есть несколько оснований. Во-первых, Февр излагает концепцию эмоций как сугубо интерсубъективного феномена, где эмо
5 Февр, «Чувствительность и история», 111.
6 Там же, 109.
7 Статья Февра вышла спустя два десятилетия после обращения «анналистов» Марка Блока, самого Февра и голландца Хейзинги к проблемам психологии в истории. О предыстории статьи Февра см. J. Corrigan, «Introduction», Religion and Emotion: Approaches and Interpretations, ed. J. Corrigan, N.Y.: Oxford UP, 2004, 28-29, n. 20.
8 R. Collingwood, «Human Nature and Human History», Id., The Idea of History, Oxford: Oxford UP, 1946, 231.
9 Речь не может идти, как часто ошибочно указывается, о влиянии опыта Виши, поскольку вариант для Анналов был написан к коллоквиуму, организованному Анри Берром в июне 1938 г. (см. выше сн. 2). Я приношу благодарность указавшему мне на это Н. Шетлеру.
10 На связь этих работ со статьей Февра указывает A. Corbin, «А History and Anthropology of the Senses», Id., Time, Desire and Honor: Towards a History of the Senses, Cambridge: Polity Press, 1995, 181.
Введение I. Эмоции в русской истории
13
ции одного человека вызывают и определяют эмоции других. Февр использует при этом термин «заражение», который указывает на влияние Густава Ле Бона и др.11 Однако трудно не разглядеть лицо нацистского молоха за такими фразами: «А что касается истории ненависти и страха, истории жестокости и любви, то, ради бога, перестаньте нам докучать всей этой пошлой литературщиной! Этой пошлой литературщиной, чуждой всякой науке, но грозящей тем не менее сегодня-завтра окончательно превратить наш мир в смрадную бойню»12. Во-вторых, согласно февровскому историческому нарративу, если раньше люди открыто выказывали свои чувства, то сегодня они переносят их в сферу научной деятельности и искусства. Разумеется, здесь трудно не услышать обертоны фрейдовской сублимации13. Иными словами, «речь идет о более или менее постепенном подавлении эмоций активностью интеллекта»14. И опять-таки дыхание нацизма ощутимо за следующими словами: «Приступая к чтению данной статьи, иные, возможно, задавались вопросом: “Куда ведет весь этот психологический разбор?’’. Теперь, надеюсь, им стало ясно: он ведет к истории. К самой древней и самой актуальной из историй. К истории первобытных чувств, проявляющихся сейчас...»15. Таким образом, у истоков истории эмоций стояли Гитлер и Февр.
Следует еще раз подчеркнуть, что хотя Февр и является первым историком, потребовавшим выделения истории эмоций в отдельную исследовательскую область, это не означает, что никто до него не затрагивал темы эмоций в истории. Напротив, и раньше авторы приписывали действующим лицам истории эмоциональную мотивацию или даже описывали целые эпохи через призму присущих им чувств. Так, писали о «страхе» чумы в 1348 году, о «Великом страхе» («La Grande Реиг»), последовавшем за Французской революцией, и т.д.16 Однако эмоции в этих исследованиях не явля
11 «Эмоции заразительны», см. Февр, «Чувствительность и история», 111. Кроме того, подчеркивание коллективных эмоций является аргументом против тех потенциальных критиков, которые могли бы возразить, что история эмоций индивидуальна и нерепрезентативна. См. там же, 112. На влияние Ле Бона указывает и Corbin, «А History and Anthropology of the Senses», 181.
12 Февр, «Чувствительность и история», 125.
13 Февр описывает, например, литературное творчество как «наилучший способ душевного обезболивания для многих художников», там же, 113. Однако этот феномен вернее характеризовать не как сублимацию в смысле фрейдизма, а как субституцию, подмену.
14 Там же, 113.
15 Там же, 125.
16 Как верно отметил Д. Смейл: «Дело в том, что историки всё равно мыслят психологически. Мы склонны делать непродуманные допущения о психологическом состоянии людей, о которых сообщают наши источники», D. Smail, On Deep History and the Brain, Berkeley: Univ. California Press, 2008, 159.
14
Ян Плампер
лись собственно объектом анализа. Скорее, они представлялись либо неким побудителем поступков исторических «акторов», будь то отдельные личности или целые сообщества, либо центральной характеристикой духа описываемой эпохи. Каким именно образом при этом происходила трансляция концепций эмоций, обусловленных временем и культурой самих историков, можно проследить на примере Василия Ключевского, у которого «Русская земля, механически сцепленная первыми киевскими князьями из разнородных этнографических элементов в одно политическое целое, теперь, теряя эту политическую цельность, впервые начала чувствовать себя цельным народным или земским составом. Последующие поколения вспоминали о Киевской Руси как о колыбели русской народности». Здесь ясно просматривается представление XIX века о современной нации как эмоционально сплоченном сообществе17. К эмоциональной действительности Киевской Руси, особенно к широким слоям ее населения, это представление времен Ключевского имеет мало отношения. Другим таким примером может служить Стивен Уитфилд, автор известной книги о культуре эпохи «холодной войны», утверждавший, что «американская политическая система» испытывала «фобическую гиперреакцию [overreaction] в конце 1940-х — 1950-х годах» на Американскую коммунистическую партию18. Обратим внимание: психологическая концепция «гиперреакции» основана на диспропорциональной логике, когда реакция несоразмерна с силой стимула (источника опасности), а значительно превосходит ее. Другие, более расхожие концепции страха основываются на пропорциональности реакции силе стимула, когда интенсивность реакции возрастает с увеличением силы стимула.
За два года до статьи-призыва Февра малоизвестный, не замеченный Февром историк-социолог Норберт Элиас издал в Швейцарии труд «О процессе цивилизации: социогенетические и психогенетические исследования», написанный в Париже и Лондоне после эмиграции из Германии в 1933 году. В этой книге, нашедшей отклик в немецкоязычной научной среде лишь после переиздания в 1969 году, а в англоязычной — только в 1978 году, когда вышел
17 В. Ключевский, Сочинения, в 9 т., М.: Мысль, 1987, т. 1, 212. Ср. также с последующим разделом «Общеземское чувство» его XII лекции из Курса русской истории, М., 1912.
18 S. Whitfield, The Culture of the Cold War, Baltimore: Johns Hopkins UP, 1991, 3. Также см. некритически принимающую позицию Уитфилда статью К. Филиппса, который писал о сенаторе Джо Маккарти: «Он задел оголенный нерв встревоженной нации и довел тревогу до невроза», ibid., 38.
Введение I. Эмоции в русской истории
15
ее перевод19, Элиас представил читателю сложный, но все же линеарный процесс становления Нового времени как процесс постепенно усиливающегося контроля за эмоциями20. Он охарактеризовал современного человека как личность, сдерживающую свои эмоции, будь то слезы, безграничная радость или открытая ненависть. Сама концепция эмоций у Элиаса поразительно гибка для своего времени. Эмоции у него выступают продуктом и «человеческой природа», и «истории». Более того, эмоции зависят от «отношений с другими людьми»21. Иначе говоря, элиасовской концепции эмоций присущи как элементы эссенциализма и социал-конструкгивизма, так и основы интерсубъективизма. Его концепция, во-первых, рассматривает чувства отдельной личности как результат взаимного и культурно варьирующегося влияния эмоционального выражения индивидов. Во-вторых, эмоциональное поле целого коллектива расценивается как результат эмоционального воздействия членов этого коллектива друг на друга, а не анализируется по аналогии с индивидуальным.
Однако эта очень современная концепция, на полвека опередившая синтетическую универсально-социальную концепцию эмоций 1990-х годов, не нашла последователей среди историков. Те из них, кто затрагивал тему эмоций, исходили из антиисторических концепций. Так, например, Жан Делюмо, автор многотомника о страхе в Европе в Средние века и раннее Новое время, первый том которого вышел под названием «Страх на Западе»22, составил опись вещей и событий, вызывавших в те времена чувство страха, одна
19 N. Elias, Uber den Proze/3 der Zivilisation: Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen, Basel: Haus zum Falken, 1939; Bern: Francke, 1969; Id., The Civilizing Process, tr. E. Jephcott, N.Y.: Urizen Books, 1978.
20 Эта концепция подвергается критике на основе эмпирических данных в Н-Р. Duerr, Der Mythos vom Zivilisationsproz^, Bd. 1: Nacktheit und Scham, Fr.a.M.: Suhrkamp, 1988. Последующие три тома вышли в 1990, 1993 и 1997 гг.
21 См. напр., в нем. оригинале: «Sicherlich ist die Moglichkeit, Angst zu empfinden, genau wie die Moglichkeit, Lust zu empfinden, eine unwandelbare Mitgift der Menschennatur. Aber die Starke, die Art und Struktur der Angste, die in dem Einzelnen schwehlen oder aufflammen, sie hangen niemals allein von seiner Natur ab, und, zum mindesten in differenzierten Gesellschaften, auch niemals von der Natur, in deren Mitte er lebt; sie werden letzten Endes immer durch die Geschichte und den aktuellen Aufbau seiner Beziehungen zu anderen Menschen, durch die Struktur seiner Gesellschaft bestimmt; und sie wandeln sich mit diesen*, Elias, Uber den Proztf der Zivilisation, Bd. 2. Fr.a.M.: Suhrkamp, 1997, 457.
22 J. Delumeau, La Peur en Occident, XIV — XVIIP siecles. Une cite assiegee, Paris: Fayard, 1978. См. на русском: Ж. Делюмо, Греки и страх: формирование чувства вины в цивилизации Запада XIII—XVIII веков, Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2003.
16
Ян Плампер
ко не исследовал страх как категорию, обладающую свойством меняться с течением времени.
Иной подход был избран Теодором Зельдином, автором четырехтомника по французской истории 1848—1945 годов, посвященного «шести чувствам: честолюбию, любви, гневу, гордости, вкусу и тревоге»23. Остановимся на первом чувстве — честолюбии, которое Зельдин определил следующим образом: «Анализ честолюбия — как и анализ надежды и зависти, страсти и фрустрации, самоуверенности, жадности и подражания — ставит классовую борьбу, вирус, который считается виновным в большом количестве общественных недугов, в центр внимания, кладет честолюбие как бы под микроскоп»24. Иными словами, Зельдин взглянул на экономическую и рабочую историю с другой, очень необычной точки зрения, заявив о намерении исследовать как общественную (к примеру, политическую), так и частную (семейную и т.п.) жизнь сквозь призму эмоций. Но на практике у него преобладают аспекты частной жизни. Наибольшая же часть многотомника посвящена поиску человеком смысла жизни в век индивидуализма, когда пошатнулись традиционные основы общества — религия и микросообщество (семья, сельская община). Точнее, в центре исследования оказался процесс создания медицинских терминов для описания — а в конечном счете и создания — болезней индивидуализма, конкретнее, для описания, в частности, патологического состояния тревожности и истерии и для выработки языка психиатрии и фрейдизма в целом25.
Что касается теоретических взглядов Зельдина, то он был убежден, что человеческое «поведение запуганно и неясно», — и это в 1973 году, когда большинство историков признавало превосходство количественной социальной истории и занималось поисками «глубинных структур» и «объективных» процессов, и за 15 лет до пост-струкгуралистского отказа от идеи автономного субъекта, ответ
23 Th. Zeldin, France, 1848—1945, vol. 1: Ambition, Love, Oxford: Oxford UP, 21979, vii. Приведенное выражение является цитатой из предисловия ко второму изданию книги, отсутствующего в первом издании: vol. 1: Ambition, Love, Politics, Oxford: Clarendon Press, 1973. О многотомнике Зельдина см. Т. Зельдин, «Социальная история как история всеобъемлющая», Thesis I, 1 (1993). Также см. Zeldin, An Intimate History of Humanity, N.Y.: HarperCollins, 1994.
24 Zeldin, France, 1848—1945, vol. 1: Ambition, Love, vii.
25 Ibid., vol. 2: Intellect, Taste, Anxiety, Oxford: Clarendon Press, 1977, особенно 17-я глава «Worry, Boredom and Hysteria». См. также 16-ю главу («Individualism and the Emotions»), где Зельдин рассматривает проблему поиска смысла и связанные с ним эмоциональные переживания у писателей от романтиков до Пруста.
Введение I. Эмоции в русской истории
17
ственного за единство мысли, языка и действия, и переосмысления индивида как неоднозначного и фрагментированного26. К тому же Зельдин обратил внимание на пестрое разнообразие человеческой деятельности («каждый род деятельности вращается вокруг своей оси, каждый род деятельности отделен от других и поглощен собой»). Его подход был поэтому близок к социологии Пьера Бурдье и Никласа Луманна, для которых «поле», или «система» и «подсистема», действуют, руководствуясь только своей логикой и темпом27, в то время как большинство историков исповедовало либо теории «модернизации», либо один из видов марксизма, утверждавших, что все «поля/системы», будь то культура, наука или спорт, зависят от логики социально-экономического «поля/системы»28. Наконец, Зельдин был, пожалуй, первым историком, напомнившим, что и историки являются людьми, которым присущи различные чувства, что их отношение к своему предмету окрашено эмоционально и часто формируется на основе эмоций. По словам Зельдина, например, Жан Делюмо «начал свое исследование, потому что ему хотелось понять чувство ужаса, которое он испытывал в возрасте 10 лет, когда неожиданно умер его друг; это чувство было настолько сильно, что он три месяца не ходил в школу; проблема страха всегда преследовала его; его жизнь была поиском покоя через принятие неизбежного; поэтому его книга в высшей степени отражает его личный опыт»29. Как в свое время Элиас и Февр, Зельдин так и не стал «пророком в своем отечестве», и лишь сегодня, на волне растущего интереса к истории эмоций, его труды постепенно переосмысляются30.
Независимо от Февра и его единомышленников, в 1970-х годах «психоистория» Питера Гея, Ллойда ДеМоса и Питера Ловенбер-га начала проявлять интерес к эмоциям31. Критика, высказывав
26 Zeldin, France, 1848—1945, vol. 1, vii.
27 См., напр., П. Бурдье, Начала, ч. 1: Маршрут, М.: Socio-Logos, 1994; Н. Луман, Социальные системы. Очерк общей теории, под ред. Н. Головина, пер. И. Газиева, СПб.: Наука, 2007.
28 Краткое изложение этой проблемы можно найти у G. Steinmetz, «German Exceptionalism and the Origins of Nazism: The Career of a Concept», Stalinism and Nazism: Dictatorships in Comparison, ed. I. Kershaw, M. Lewin, Cambridge: Cambridge UP, 1997, 269-271.
29 Zeldin, «Personal History and the History of Emotions», Journal of Social History 3 (1982), 345.
30 Необходимо, однако, отметить, что одна ученица Зельдина с конца 1970-х годов исследовала суеверия в популярной культуре Франции XIX в. и связанные с ними эмоции: J. Devlin, The Superstitious Mind: French Peasants and the Supernatural in the 19th Century, New Haven: Yale UP, 1987.
31 См., напр., описание детских страхов как реакции на нелюбовь родителей (и реакции на расхожую практику пеленать младенцев) у L. deMause, «The
18
Ян Плампер
шаяся в адрес психоистории, приложима и к подходу психоисториков к эмоциям: для него характерно антиисторическое применение психоаналитических понятий к другим временам и культурам, без учета того факта, что, например, Фрейд, простите за банальность, свои теории сформулировал на основе наблюдений за венскими горожанами конца XIX века. В результате злоба Нерона, агрессия Чингисхана или страх Людовика XVI представлялись как последствия сексуальных переживаний раннего детства — зависти к пенису, эдипову комплексу и т.д.
Отдельное исследовательское поле для истории чувств появилось только в 1980-е годы, то есть сорок лет после публикации статьи Февра. Питер Стернс, создатель и главный редактор влиятельного «Журнала социальной истории» (Journal of Social History), предложил предпринять исследование эмоциональных норм и стандартов, называя его, вслед за психологами Полом и Анн Клей-нгинна, «эмоционологией»32. Издательство New York University Press выпустило целую серию книг по истории эмоций (The History of Emotions Series) под редакцией самого Стернса и Жана Льюиса, в которой выходили преимущественно работы, посвященные эмо-ционологии. После нескольких активных лет, однако, наступило затишье. В других странах и языках этот термин не был воспринят. Создавалось впечатление, что изучение эмоций, не связанное со Стернсом, следовало по параллельным ему орбитам33. Только в конце 1990-х годов, когда международное исследование эмоций в разных отраслях науки, в том числе и исторической, достигло таких масштабов, что стало уместно говорить об «эмоциональном повороте», критики, обращаясь к истокам истории эмоций, стали упрекать Стернса в том, что он основывал свои работы почти ис
Evolution of Childhood», The History of Childhood, ed. L. deMause, N.Y.: Psychohistory Press, 1974, 49—50. См. также P. Gay, The Bourgeois Experience: Victoria to Freud, in 5 vols, N.Y.: Oxford UP, 1984—1998; P. Loewenberg, «Emotion und Subjektivitat. Desiderata der gegenwartigen Geschiehtswissenschaft aus psychoana-lytischer Perspektive», Perspektiven der Gesellschaftsgeschichte, ed. P. Nolte et al., Munchen: C.H. Beck, 2000.
32 См. особенно P. Stearns with C. Stearns, «Emotionology: Clarifying the History of Emotions and Emotional Standards», American Historical Review 4 (1985), а также C. Stearns, P. Stearns, Anger: The Struggle for Emotional Control in America ’s History, Univ, of Chicago Press, 1986; P. Stearns, American Cool: Constructing a Twentieth-Century Emotional Style, N.Y.: NYU Press, 1994; An Emotional History of the United States, ed. P. Stearns, J. Lewis, N.Y.: NYU Press, 1998.
33 См., налр., подход немецкой исторической антропологии: Emotionen und materielle Interessen. Sozialanthropologische und historische Beitrage zur Familien-forschung, ed. H. Medick, D. Sabean, Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1984.
Введение I. Эмоции в русской истории
19
ключительно на книгах по этикету, обращенных к среднему классу, и в том, что он исходил из предположения однородности социальных и иных групп, которой в действительности никогда не существовало34.
Оставим на некоторое время проблемы институционального развития истории эмоций и обратимся к вопросу о концептуальных подходах. Если говорить об обобщающих абстракциях, можно выделить три парадигмы. До 1980-х годов историки, изучающие эмоции, исходили из метаисторических и метакультурных концепций чувств, принимая эмоции за постоянную величину (Элиас в этом плане оказался лишь заметным исключением, подтверждающим правило). Эту парадигму можно назвать фазой универсализма. В конце 1980-х стали появляться историки, рассматривавшие эмоции как культурно и исторически обусловленные величины. Эту парадигму можно назвать фазой социального конструктивизма. Ее наступление было обусловлено постструктуралистскими, антиэс-сенциалистскими изменениями в гуманитарных науках в целом, в особенности же новыми англо-американскими исследованиями по этнографии эмоций. Так, Клиффорд Гирц писал уже в 1962 году: «Культурными артефактами в человеке являются не только идеи, но и эмоции»35. Лила Абу-Лугод в своем исследовании североафриканских бедуинов отметила, что чувства, выраженные в женской устной поэзии, связаны со спецификой бедуинской культуры чести36. А Катрин Луц в 1988 году, изучая ифалуков, живущих на атолле в Микронезии, пришла к выводу, что «эмоциональный опыт является феноменом не надкультурным, а принципиально культурным»37. Так была достигнута вершина в развитии фазы социального конструктивизма. В это же время первые из историков уже начали прислушиваться к естественным наукам, таким как нейробиология, когнитивная психология или эволюционная биология, указавшим
34 Rosenwein, «Worrying about Emotions in History», 824—825.
35 К. Гирц, Интерпретация культур, M.: РОССПЭН, 2004, 96. В оригинале: «Not only ideas, but emotions too, are cultural artifacts in man», C. Geertz, «The Growth of Culture and the Evolution of Mind», Id., The Interpretation of Cultures, N.Y.: Basic, 1973, 81. Впервые опубликовано в: Theories of the Mind, ed. J. Scher, Glencoe: Free Press, 1962.
36 L. Abu-Lughod, Veiled Sentiments: Honor and Poetry in a Bedouin Society, Berkeley: Univ, of California Press, 1986, 204—207. Абу-Лугод сознательно пользуется термином «сантименты» вместо «эмоции» или «аффекты», чтобы подчеркнуть лирическое, литературное качество своих «данных» — устной поэзии. См. ibid., 34.
37 С. Lutz, Unnatural Emotions: Everyday Sentiments on a Micronesian Atoll and their Challenge to Western Theory, Univ, of Chicago Press, 1988, 5.
20
Ян Плампер
на присущие эмоциям универсальные элементы38. Эта тенденция усилилась в 1990-е годы, когда постструктурализм был уже на исходе, а гуманитарные науки начали все чаще обращаться к естественным, так что к началу тысячелетия стало возможным говорить о некоем синтезе универсалистских и культурно обусловленных подходов к эмоциям. Эго обусловило восприятие эмоций как состоящих из какой-то неизменной основы и некой культурной оболочки39. Если же не принимать синтетическую тенденцию всерьез, то можно утверждать, что вся социальная наука об эмоциях колеблется между этими двумя полюсами — социального конструктивизма и универсализма40. Итак, в результате получаются три парадигмы: 1. универсализм (1940—1980), 2. социальный конструктивизм (1980—1995) и 3. синтез универсализма и социального конструктивизма (с середины 1990-х).
Важным событием 1990-х годов стала большая конференция, посвященная историчности эмоций («The Historicity of Emotions», Иерусалим, 1998). Среди прочих с докладами здесь выступили Натали 3. Дэвис (N. Z. Davies), Энтони Графтон (A. Grafton) и Гади Альгази (G. Algazi)41. Но, пожалуй, еще большее значение для исторического цеха имели исследования медиевистки Барбары Розенвейн и этнографа-историка, специалиста по Французской революции, Уильяма Редди, занимавшихся соответственно гневом в Средние века42 и честью и любовью на рубеже XVIII—XIX веков43. В начале 2000-х годов и Розенвейн и Редди перешли к более обобщающим исследованиям. Уже цитировавшаяся статья Розенвейн мгновенно стала классической, и введенное в ней понятие «гидравлической модели» (hydraulic model) сразу получило широкое рас
38 Знаковой в этом отношении была статья W. Reddy, «Against Constructionism: The Historical Ethnography of Emotions», Current Anthropology 3 (1997).
39 См. один из примеров синтеза: D. Smail, On Deep History and the Brain.
40 Как верно отметил Александер Хинтон, «к сожалению, дискуссия об эмоциях нередко остается в плену оппозиции натура/культура (nature/nur-ture)», A. Hinton, «Introduction: Developing a Biocultural Approach to the Emotions», Biocultural Approaches to the Emotions, ed. A. Hinton, Cambridge: Cambridge UP, 1999, 1.
41 Я благодарю Михаля Альтбауэра-Рудника за предоставление информации об этой конференции.
42 Anger’s past: The Social Uses of an Emotion in the Middle Ages, ed. B. Rosenwein. Ithaca, NY: Cornell UP, 1998.
43 W. Reddy, The Invisible Code: Honor and Sentiment in Postrevolutionary France, 1814—1848, Berkeley: Univ, of California Press, 1997; Id., «Sentimentalism and Its Erasure: The Role of Emotions in the Era of the French Revolution», Journal of Modern History 1 (2000). См. также: J. Plamper, «The History of Emotions: An Interview with William Reddy, Barbara Rozenwein, and Peter St earn», History and Theory 49 (2010).
Введение I. Эмоции в русской истории
21
пространение44. Согласно этой модели, эмоции «похожи на жидкости внутри человека, которые, поднимаясь и пенясь, стремятся наружу»45. По мнению Розенвейн, эта модель, восходящая к средневековому медицинскому понятию гуморальных жидкостей, объединяет Хейзингу, Февра, Блока и Элиаса, что не мешает ей быть глубоко ошибочной, в первую очередь, в силу своего универсализма, находящего повсюду одинаковое понятие эмоции. Из теоретических заслуг самой Розенвейн стоит особо выделить понятие «эмоционального сообщества» (emotional community) и идею о том, что человек может принадлежать одновременно к нескольким эмоциональным сообществам, которым свойственны различные и даже противоречащие друг другу эмоциональные нормы46. Эго понятие важно не только само по себе, но и в силу своего отличия от концептов социальной психологии, где зачастую одна эмоция приписывается одному коллективу, который таким образом расценивается как эквивалент индивида.
Исследования Редди увенчались книгой «Навигация чувства: основы истории эмоций»47. В этой работе Редди сначала анализирует антиэссенциалистскую этнографию эмоций и ее недостатки, затем подвергает критическому разбору универсалистскую когнитивную психологию, а затем предлагает свою синтетическую теорию истории эмоций, показывая в заключение, как можно применить ее к эмпирическому материалу. Эго редкое по своей оригинальности и смелости исследование уверенно оперирует данными как общественных и гуманитарных, так и естественных наук. Автор не довольствуется заимствованиями у «естественников-популяризаторов» типа Антонио Дамасио, но знакомится с фундаментальными исследованиями из первых рук. Ряд ключевых концептуальных терминов, предложенных Редди, уже прочно вошли в обиход исследователей эмоций. Среди них — так называемый «эмотив» (emotive), фиксирующий тот экспериментально подтвержденный естественными науками факт, что высказывание вслух эмоционально-описательного слова или выражения (скажем, «я боюсь») не просто описывает реальное эмоциональное состояние, но и усиливает или даже вызывает его вплоть до физиологических последствий (при чувстве страха это — потливость, дрожь и т.д.). Редди создал этот неологизм, опираясь на работы аналитического философа Джона Остина и в первую очередь на его теорию рече
44 Эта модель позаимствована автором у: R. Solomon, The Passions, Garden City: Doubleday, 1976, 139-150.
45 Rosenwein, «Worrying about Emotions in History», 834.
46 Ibid., 842—845 и Id., Emotional Communities in the Early Middle Ages, Ithaca, NY: Cornell UP, 2006.
47 The Navigation of Feeling: A Framework for the History of Emotions, Cambridge: Cambridge UP, 2001.
22
Ян Плампер
вых актов (speech act theory). Включенная в эту теорию концепция «перформативов» (performatives) определяет слово как величину не только миметическую или констатирующую, но и воздействующую на говорящего или слушающего48. Под термином «эмоциональный режим» (emotional regime) Редди подразумевает тот комплекс эмоций, который служит интеграции и созданию Gemeinschaft (в смысле социолога Ф. Тённиса): «Набор нормативных эмоций и официальных ритуалов, практик и эмотивов, которые их выражают и внедряют; необходимый фундамент любого стабильного политического режима»49 *. Концепт же «когмоции» (cogmotion) выражает невозможность отделить эмоцию от когнитивных процессов, чувства от разума, emotio от ratio™.
«Навигация чувств» вышла в издательстве Кембриджского университета 10 сентября 2001 года51, накануне события, вошедшего в историю как «9/11». Совпадение этих двух дат, конечно, случайно, но в нем можно усмотреть и некую закономерность. Террористические акты 11 сентября 2001 года среди многочисленных своих последствий дали сильнейший толчок историческим исследованиям в области эмоций. Во-первых, теракты послужили наглядным примером того, как фанатические чувства могут двигать людьми, и указали на необходимость их изучения и по мере возможности понимания. Во-вторых, 9/11 подтолкнул гуманитариев к естественным наукам, завершил «прощание с постструктурализмом», оказавшим на историческую науку столь сильное влияние. Произошел «поворот от лингвистического поворота», ибо в 2001 году стало ясно, что постструктурализм с трудом справлялся с тем, что воспринималось как малодискурсивные, физические феномены, в частности с эмоциями. Другой, этико-эстетический, аспект усиливал ощущение фальши постструктурализма: иронический стиль постструктуралистской историографии вдруг оказался неуместным, неэтичным. Наступил период «ироноборчества», продлившийся, правда, недолго, так как в скором времени иронические нотки зазвучали снова. Стремительно восходящие life sciences стали задавать тон повсеместно. Так называемая биологическая революция бурно вторглась в экономику (биотехнология) и переместила обсуждение самых насущных проблем conditio humana из сферы гума
48 См. краткое определение ibid., 128.
49 Ibid., 129.
30 Ibid., 15. Термин cogmotion предложен в: D. Barnett, Н. Ratner, «Introduction: The Organization and Integration of Cognition and Emotion in Development», Journal of Developmental Child Psychology 67 (1997).
31 Cm. http://www.amazon.com/Navigation-Feeling-Framework-History-E mot ions/dp/05 21004721/ref=sr_ 1 _ 1 ?ie=UT F8@s=books&qid= 1216212175&sr= 1 — 1 [16 июля 2008 г.].
Введение I. Эмоции в русской истории
23
нитарных в сферу естественных наук. Снова разгорелась дискуссия о свободе воли: является ли преступник таковым, если повинуется своей генетической программе и гормональным и нейрохимическим процессам? Сходное движение затронуло культуру и искусство: в романе Мишеля Уэльбека любые любовно-сексуальные отношения сводятся к эволюционно-биологической борьбе человека за выживание собственного генофонда; его роман разрушил не одну европейскую пару, дотоле верившую в романтическую любовь52.
После событий 2001 года история эмоций переживает настоящий бум. Об этом свидетельствует множество конференций, публикаций и прочих признаков профессионализации этого, еще недавно маргинального, исследовательского поля53. Этот процесс сопровождался и общей модой на эмоции. На это указывает не только избыток слов «эмоция» и «эмоциональный», к примеру, в рекламе или спорте, но и введение в популярную психологию понятия «EQ» (эмоциональная компетентность) Даниэля Гоулмэна (D. Goleman), основание немецкого глянцевого журнала Emotion и т.д. Среди важных научно-исторических публикаций этого периода следует прежде всего назвать книгу Джоанны Бурк «Страх: культурная история»54, в которой анализируются не только различные естественно-научные, психиатрические и прочие подходы к состоянию страха в разные эпохи, но и широкий спектр объектов, в разное время вызывавших страх. В книге наглядно показано, каким именно образом можно прослеживать эмоции на протяжении длительного времени и какие отличия становятся при этом очевидными. Кто помнит, например, распространенный в конце XIX века страх быть похороненными заживо, вследствие которого многие англичане в своих завещаниях требовали, чтобы им перерезали
52 М. Houellebecq, Les particules elementaires, Paris: Flammarion, 1998; M. Уэльбек, Элементарные частицы, пер. И. Васюченко, Г. Зингера, М.: Иностранка, 2001.
53 См. конференции «Representing Emotions: Evidence, Arousal, Analysis» (University of Manchester, май 2001) с участием Питера Бурка (P. Burke), Отни-эль Дрора (О. Dror) и др.; «Emotions in Early Modern Europe and Colonial North America» (German Historical Institute, Washington, D.C., ноябрь 2002); три конференции Arbeitskreis Geschichte+Theorie (AG+T): «Medien und Emotionen: Zur Geschichte ihrer Beziehungen seit dem 19. Jahrhundert» (Бохум, февраль 2005), «Rationalisierungen des Gefuhls: Zum Verhaltnis von Wissenschaft und Emotionalitat, 1880—1930» (Берлин, октябрь 2006), «Die Prasenz der Gefuhle: Mannlichkeit und Emotion in der Moderne» (Берлин, сентябрь 2007); «Interpreting Emotion in Eastern Europe, Russia, and Eurasia» (University of Illinois, Urbana-Champaign, июнь 2008). Ср. также Institute for the Study of Emotion Флоридского госуни-ве pc иг era под руководством теолога и специалиста по эмоциям Джон Корригана (J. Corrigan). У. Редди, П. Стернс и др. читали лекции по случаю его основания в 2002 г.
54 J. Bourke, Fear: A Cultural History, London: Virago, 2005.
24
Ян Плампер
горло или снабдили гробы, в которых их похоронят, колокольчиками и дыхательными трубками?55 Таким образом, книга Бурк указала на важный факт в истории эмоций: изменения культурной обусловленности эмоций становятся ясными при сравнении между культурами и (довольно продолжительными) отрезками времени.
2. Русская история эмоций
Этот раздел, как нам представляется, стоит начать не с исследований по русской истории эмоций, а с психологии до и после революции, оказавшей большое влияние на теорию эмоций в западной науке. Так, концепция условного рефлекса И. П. Павлова повлияла на развитие теории эмоций Эрика Кендела в 1980-е и Жозефа Ле Ду в 1990-е годы. Кецдел работал над состояниями тревожности и панического страха, оперируя павловскими понятиями рефлексов. Он утверждал, что тревожность и паника являются условными рефлексами, выражающимися чрезмерно, то есть срабатывающими даже при отсутствии опасного стимула56. Ле Ду, со своей стороны, как бы расширил павловскую теорию рефлексов до нейрохимического уровня. Он выявил два способа проявления страха при появлении визуального стимула опасности (например, змеи) и первой отработки этого стимула в таламусе. Первый, быстрый путь (high road) ведет прямо к миндалине, которая активирует метаболическую и моторную системы для реализации физических реакций (например, контрактация мышц и усиление сердцебиения для бегства). Второй, медленный путь (low road) проходит через визуальный корковый слой, отвечающий кроме прочего за сравнение реального изображения с изображениями, сохраненными в памяти (действительно ли это змея? не игрушечная ли она? или, быть может, это лишь похожая на змею ветка?). Второй путь напоминает расширенный и обновленный вариант условного рефлекса Павлова57. Критики новейших теорий эмоций также ссылаются
55 J. Bourke, Fear: A Cultural History, London: Virago, 2005, 34- 43.
36 «Приступы паники, наступающие внезапно и без заметного провоцирующего события, не подчиняются явному стимульному контролю, тогда как предваряющая и хроническая тревожность в какой-то мере ему подчиняется», Е. Kandel, «From Metapsychology to Molecular Biology: Explorations Into the Nature of Anxiety», American Journal of Psychiatry 10 (1983), 127— 128. Там же ссылки и обширные цитаты из Павлова. Я благодарю Ренату Лахман за идею связи между российско-советской психологией и западными теориями эмоций.
5/ J. LeDoux, The Emotional Brain: The Mysterious Underpinnings of Emotional Life, N.Y.: Simon & Schuster, 1998, 164, 166. О Павлове см. особенно ibid., 142— 148. Кроме Павлова Ле Ду ссылается на Александра Лурия, Higher Cortical Functions in Man, N.Y.: Basic Books, 1966. Cm. ibid., 356.
Введение I. Эмоции в русской истории
25
на русских психологов. Джером Каган, например, критикует Ле Ду как раз за то, что тот называет эмоцией сложный процесс, происходящий на нейрохимическом уровне, тогда как сам Павлов говорил только о рефлексах: «Иван Павлов... не считал, что выделение слюны у собаки... отражает состояние голода»58. По Кагану, «эмоция» — нечто гораздо большее.
На исследования советских историков в области эмоциональной жизни в хрущевский период повлияли советский психолог Л. С. Выготский и его ученики А. Лурия и А. Леонтьев59. В секторе методологии истории Института всеобщей истории при АН СССР, созданном в 1964 году и возглавляемом Михаилом Геф-тером, был организован семинар по социальной истории под руководством социолога-медиевиста Бориса Поршнева. Под редакцией Б. Ф. Поршнева и Л. И. Анциферовой в 1971 году был издан сборник «История и психология», в который вошли не только статьи об «Идее времени в средневековой Европе» А. Я. Гуревича и «Национальном характере» И. С. Кона, но и статья самого Александра Лурия «Психология и историческая наука»60. Наверное, для того, чтобы отвлечь внимание от имен запрещенных психологов, авторы сборника приложили большие усилия для акцентирования внимания на преемственности «добрых» традиций. Они сослались на В. О. Ключевского, который в их трактовке превратился в основоположника дисциплины социальной психологии времен «оттепели»61. Еще откровеннее историки и социальные психологи использовали традицию языка чувств самого Ленина. Так, по Пор-шневу, «настроение» становится чуть ли не центральной марксистско-ленинской категорией:
нельзя не упомянуть используемые Лениным понятия «чутье», «чувства», «энергия», «страсть», «энтузиазм», а также «усталость»,
58 J. Kagan, What Is Emotion ? History, Measures, and Meaning, New Haven: Yale UP, 2007, 15.
39 Имелись и другие предшественники, а именно петербургско-ленинградская филологически ориентированная школа начала XX в. и А. Я. Пресняков, чей ученик Б. А. Романов еще в 1947 г. опубликовал единственный во времена Сталина труд, который можно классифицировать как изучение частной и ментальной жизни и который вполне закономерно подвергся жесточайшей критике: Люди и нравы Древней Руси. Историко-бытовые очерки XI XIII вв., Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1947. См. R. Markwick, «Cultural History under Khrushchev and Brezhnev: From Social Psychology to Mentalites», Russian Review 2 (2006), 284-285.
60 История и психология, под ред. Б. Поршнева и Л. Анциферовой, М.: Наука, 1971. См. Markwick, «Cultural History under Khrushchev and Brezhnev», 286 288.
61 Markwick, «Cultural History under Khrushchev and Brezhnev», 288.
26
Ян Плампер
«гнев», «ненависть», «апатия» и другие подобные. [...] Настроение находит свое выражение, как правило, не опосредствованно — через культуру, обычаи, воспроизводящие жизненные порядки, а непосредственно — в виде определенных эмоций, сдвигов сознания62.
Сектор методологии истории Гефтера был закрыт при Брежневе в 1969 году, а в 1972-м умер Поршнев. Новые веяния частично переместились в подполье. Кроме старой исторической школы можно выделить три интеллектуальных течения, повлиявших на группу историков вокруг А. Я. Гуревича (большинство из них занимались историей допетровской Руси, областью традиционно более свободной, чем история царской империи и особенно Советского Союза). Эго были идеи Михаила Бахтина, московско-тартуской школы и французской школы Анналов. Влияние первого шло исключительно через книги, точнее книгу «Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса», и в особенности разработанную в ней бахтинскую категорию «мироощущения», тогда как московско-тартуская школа и школа Анналов воздействовали как через книги, так и посредством личных встреч и обсуждений: Гуревич с конца 1960-х годов участвовал в Тартуских встречах, а начиная с 1958 года анналисты под руководством Фернана Броделя раз в два года встречались с советскими историками на регулярном Франко-советском симпозиуме63. В 1969 году в журнале «Коммунист» министр образования А. И. Данилов обрушился на коллег Гуревича Ю. Л. Бессмертного, М. А. Барга и Л. В. Данилову за скептическое отношение к тезису о первостепенности социально-экономической сферы в докапиталистических обществах. А. Я. Гуревич ответил на критику Данилова, что «антимарксистские положения высказывает он, а не я», и в защиту своей позиции привел аргумент, что «антропологический подход, учитывающий человека и его эмоциональный мир, не был чужд Марксу, во всяком случае, на ранних стадиях его творчества»64. Гуревич расценивал выдвижение в 1961 году Жоржем Дюби концепции mentalites как «коперниканскую революцию»65. Mentalite, ментали
62 Б. Поршнев, Социальная психология и история, М.: Наука, 1966, 63—64, 111.
63 Markwick, «Cultural History under Khrushchev and Brezhnev», 293—296. Необходимо также упомянуть о поездке Гуревича в Польшу в 1967 г. и о посредничестве Б. Геремека и других польских историков между школой Анналов и Россией: ibid., 296. Гуревич опубликовал с собственным предисловием книгу М. Блока: Апология истории, или Ремесло историка, М.: Наука, 1973.
64 А. Гуревич, История историка, М.: РОССПЭН, 2004, 140—141.
65 Markwick, «Cultural History under Khrushchev and Brezhnev», 296.
Введение I. Эмоции в русской истории
27
тет, ментальность оставалась в центре интересов Гуревича и его коллег и в перестроечные, и в постсоветские годы, когда направление было уже переименовано из «социальной психологии» в «историческую антропологию»66.
Итак, истоки этой историографической традиции периода «оттепели» следует искать, во-первых, в дореволюционной филологически ориентированной петербургской исторической школе, в идеях Бахтина — во-вторых, в московско-тартуской семиотике — в-третьих, и, наконец, в концепции mentalites школы Анналов — в-четвертых. Именно в контексте возрождения этой традиции следует рассматривать сборник «Человек в мире чувств» (2000)67. В этом сборнике история эмоций трактуется в рамках истории семьи, сексуальности и частной жизни вообще. Н. Пушкарева пишет здесь о мире чувств и сексуальности русской дворянки конца XVIII — начала XIX века, Ю. Бессмертный — о том, как скорбели по ближним в Англии и Франции XII—XIII веков, Н. Усков — о чувствах, сопровождавших обращение в монашество в XI веке68. На Западе в 1990-е годы специалисты по Московской Руси и XVIII веку, такие как Нэнси Коллман и Ангела Рустемайер, также начали писать об эмоциях в широком смысле слова69. В центре их внимания — понятие чести, при этом они опираются на западные работы по Средневековью и раннему Новому времени.
Одним из первых на Западе, кто рассмотрел тему, взятую из русской истории, сквозь призму новейшей истории эмоций Уильяма Редди, Дэвида Сабина и других был Марк Стейнберг70 (см. так
66 Ibid., 300—301. Работу Е. Сенявской, Фронтовое поколение: 1941—1945: историко-психологическое исследование, М.: Институт русской истории РАН, 1995, можно рассматривать как возвращение к социальной психологии Поршне ва в стенах сектора методологии истории Гефтера.
67 Человек в мире чувств. Очерки по истории частной жизни в Европе и некоторых странах Азии до начала Нового времени, под ред. Ю. Бессмертного, М.: РГГУ, 2000. Для контекстуализации Юрия Бессмертного и его подхода к средневековым эмоциям см. М. Кром, Д. Сэбиан, Г. Альгази, «История и антропология: путь к диалогу», История и антропология: междисциплинарные исследования на рубеже XX—XXI веков, СПб.: Европейский ун-т, Алетейя, 2006, 28-29.
68 Человек в мире чувств. По словам Н. Пушкаревой, «одной из главных черт душевного мира русской женщины “на пороге Нового времени” — как и человека вообще — была и оставалась в XVI—XVII вв. повышенная эмоциональность», Н. Пушкарева, Частная жизнь русской женщины: невеста, жена, любовница (X— начало ХЕХ века), М.: Ладомир, 1997, 101.
69 N. Kollmann, By Honor Bound: State and Society in Early Modern Russia, Ithaca, NY: Cornell UP, 1999; A. Riistemeyer, Dissens und Ehre: Majestatsverbrechen in Russland (1600—1800), Wiesbaden: Harrassowitz, 2006.
70 M. Steinberg, Proletarian Imagination: Self, Modernity, and the Sacred in Russia, 1910—1925, Ithaca, NY: Cornell UP, 2002. Но уже за два года до этой публика
28
Ян Плампер
же в настоящем сборнике). В своей книге о «пролетарском воображении» он исследовал малоизвестные тексты рабочих поэтов и писателей 1910—1925 годов и выявил преобладание эмоционально заряженного языка, «лексикон духовного бедствия» (a vocabulary of spiritual affliction): «грусть, печаль, скорбь, горе, угрызения, мука, жертвенность, страдание, тоска, меланхолия, томление»71. «В метафорическом храме правды и любви Сергея Ганьшина алтарь был освещен “огнем чувства”», а Федор Калинин в 1912 году утверждал, что интеллигенты буржуазного происхождения не умеют «чувствовать», как рабочий класс, и что рабочему классу нужны писатели и мыслители пролетарского происхождения и с пролетарским «мироощущением»72. Стейнберг не только выявил чувства в языке своих героев — рабочих поэтов, но и сделал эмоции, какими бы труднодоступными они ни были, целью всего анализа, указав на «очевидный факт, что опыт и действия человека состоят из эмоций и рационального восприятия, из моральных чувств и этических убеждений»73. Раньше многих других Стейнберг заметил возможность рассмотрения материала через аналитическую оптику эмоций. Однако, в отличие от Редди, эмоции у Стейнберга остаются антиподами разума, близкими скорее к сакральному и мистическому74.
Возможно, сама тема и характер источников (еще в большей степени, чем в случае Стейнберга) подтолкнули Катриону Келли к изучению эмоций, изначально не находившихся в центре ее интересов. В ее книге о воспитательной литературе конца ХУШ — конца XX века речь идет об управлении (management) эмоциями, а именно о том, как ими следует управлять или как их (например, злобу) можно подавлять, а также о состоянии тревожности, возникающем в случаях, когда подстроить эмоции под социальные нормы оказывается слишком сложно75. Говоря об Императорском лицее времен Пушкина, например, Келли указывает на «интересное противоречие между просвещенческой установкой на контроль страстей и “культивированием” эмоциональной выразительности, восходящей к культу чувствительности позднего ХУШ века»76. Кроме того,
ции Дейл Песман описала этнографические характеристики города Омска, используя аналитический топос «души»: D. Pesman, Russia and Soul: An Exploration, Ithaca, NY: Cornell UP, 2000.
71 M. Steinberg, Proletarian Imagination, 2002, 232.
72 Ibid., 244, 279.
73 Ibid., 15.
74 Ibid., 224-225, 230, 245, 283.
75 C. Kelly, Refining Russia: Advice Literature, Polite Culture, and Gender from Catherine to Yeltsin, Oxford: Oxford UP, 2001.
76 Ibid., 42.
Введение I. Эмоции в русской истории
29
много внимания она уделяет эмоциональной стороне взаимоотношений супругов-родителей и детей внутри семьи. Господствующий нарратив, с которым Келли как будто стремится бороться, — это процесс эмоционального контроля, или цивилизационный процесс Н. Элиаса77. Однако, несмотря на то что Келли предлагает заменить эту единую линеарную концепцию множеством «civilizing processes», она, так же как и Элиас, прослеживает некий единый, всеохватывающий процесс, а именно:
другую, прямо противоположную, динамику, которую можно наблюдать в русской культуре после 1700 года: подъем идеологии, требующей самоконтроля вместо самовыражения и скорее подчеркнутого подавления чувств, нежели их выражения или культивирования. Считались подозрительными не только гнев или брутальные эмоции, как можно было ожидать по Элиасу...; подозрительной считалась любая эмоция крайности: скорбь, веселье, романтическая любовь, плотская страсть78.
Под впечатлением той чрезмерной эмоциональности бунтующих народных масс, которую им явно продемонстрировала Французская революция, российские консерваторы начала XIX века стали требовать от соотечественников эмоциональной сдержанности79. Келли считает возможным говорить о диалектических отношениях между требованиями эмоционального контроля, выдвигаемыми воспитательной литературой с начала XVIII века, и транслируемыми через художественную литературу требованиями эмоциональной выразительности, например, в эпоху сентиментализма или в период революции 1905 года80.
В 2004 году Шейла Фицпатрик выступила со статьей о счастье и тоске в довоенном СССР81. В частных документах и художественной литературе 1930-х годов («Счастливая Москва» Андрея Платонова и др.) Фицпатрик обнаружила интересную связь между личной бедой и тоской, с одной стороны, и общественным, коллективным счастьем — с другой. Выход из индивидуальной тоски предлагался один: он был в счастье эпохи, когда «жить стало лучше, жить стало веселее».
77 Ibid., XXV—xxxii.
78 Ibidem. См. Kelly, «Regulating Emotion: Gender and Sensibility in Russian Conduct Literature, 1760—1820» (текст доклада для Workshop «History of Emotions in Russia», University of Chicago, 24 ноября 2003 г.), 3, а также статью в настоящем сборнике.
79 Kelly, «Regulating Emotion», 5.
80 Ibid., 11-12.
81 Sh. Fitzpatrick, «Happiness and Toska'. An Essay in the History of Emotions in Pre-war Soviet Russia», Australian Journal of Politics and History 3 (2004).
30
Ян Плампер
В 2007 году Гленнис Янг напечатала статью, которая была одновременно обзором литературы по истории эмоций, экскурсом в политологическую теорию эмоций и case study о новочеркасских событиях 1962 года82. Этот последний аспект она существенно расширила в статье для настоящего сборника. По мнению Янг, политологам — специалистам по «contentious politics» (бунты, массовые беспорядки) и эмоциям есть чему поучиться у историков массовых беспорядков в русской истории, а историкам массовых беспорядков в русской истории — у политологов-конфликтологов, специалистов по эмоциональному аспекту конфликтов.
Среди других ученых, так или иначе обращавшихся к теме эмоций, можно назвать организаторов Гарвардского проекта (Harvard Interview Project), которые, интервьюируя в 1940—1950-е годы эмигрантов из СССР, касались и вопроса об эмоциях83; Анну Крылову, выдвинувшую тезис об эмоциональном кодировании концепции «стихийности» и «сознательности» в ленинском «Что делать?»84; Мальте Рольфа и Арпада фон Климо, которые выявили разницу между нацистским «Rausch» и «энтузиазмом» сталинской эпохи: если первая эмоция была направлена на крайности, на выход за рамки и в конечном счете оказывалась бесцельной, то смысл второй заключался в достижении конкретной цели85; Гольфо Алек-сопулос, показавшую, что идеальный советский гражданин должен был воплощать идеальные эмоции86; Ингрид Ширле, изучающую понятие «любовь к отечеству» с точки зрения истории эмоций87; специалистов по «senses», изучающих, вслед за Февром, Блоком и в особенности Аленом Корбеном, запахи и звуки (например, в Санкт-Петербурге)88; и, наконец, политологов и социологов, как,
82 G. Young, «Emotions, Contentious Politics, and Empire: Some Thoughts about the Soviet Case», Ab Imperio 2 (2007).
83 M. Edele, «Soviet Society, Social Structure, and Everyday Life: Major Frameworks Reconsidered», Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History 2 (2007) 353—354; Fitzpatrick, «Happiness and Toska», 369, n. 63.
84 A. Krylova, «Beyond the Spontaneity-Consciousness Paradigm: “Class Instinct” as a Promising Category of Historical Analysis», Slavic Review 1 (2003).
85 A. von Klimo, M. Rolf, «Rausch und Diktatun>, Zeitschrift fur Geschichtswis-senschaft 10 (2003); Id., «Rausch und Diktatur: Emotionen, Erfahrungen und Inszenierungen totalitarer Herrschaft», Rausch und Diktatur: Inszenierung, Mobilisie-rung und Kontrolle in totaliiaren Systemen, ed. von Klimo, Rolf, Fr.a.M.: Campus, 2006.
86 G. Alexopoulos, «Soviet Citizenship, More or Less: Rights, Emotions, and States of Civic Belonging», Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History 3 (2006).
87 I. Schierle, «Patriotism and Emotions: Love of the Fatherland in Catherinian Russia», Ab Imperio 3 (2009).
88 В. Лапин, Петербург: Запахи и звуки, СПб.: Европейский Дом, 2007; А. Martin, «Sewage and the City: Filth, Smell, and Representations of Urban Life in
Введение I. Эмоции в русской истории
31
например, Владимир Шляпентох, занимающихся страхами россиян в постсоветский период89.
3. Проблемы и перспективы истории эмоций
Как уже указывалось, готовность гуманитариев обращаться к естественным наукам за теоретическим вдохновением в последнее время очень выросла. Однако историкам эмоций не следует бездумно заимствовать методы у естественных наук. И для критического отношения к естественным наукам существует целый ряд причин.
Во-первых, в настоящий момент сложно определить, на какой стадии изучения эмоций находятся естественные науки. Вполне возможно, что они находятся лишь в начале пути, и то, что у них может быть позаимствовано сегодня, завтра ими самими же будет признано неверным90. Историки, еще помнящие печальный опыт таких псевдонаук, как френология в XIX веке или евгеника во времена нацизма, должны были бы выработать определенный иммунитет к такого рода заимствованиям. У историков России, которые к тому же помнят увлечение материалистов-нигилистов «Силой и материей» (1855) Бюхнера во времена Достоевского, иммунитет ко всякого рода «биореволюциям» и прочим упрощенным заимствованиям у естественных наук должен быть особенно высок91.
Во-вторых, не стоит забывать принципиальные отличия между дисциплинарными конвенциями естественных и исторических наук. Достаточно сказать, что естественники, специализирующиеся на эмоциях, в большинстве своем проводят эксперименты над
Moscow, 1770—1880», Russian Review 1 (2008); A. Corbin, Time, Desire and Horror: Towards a History of the Senses, Cambridge: Polity, 1995.
89 V. Shlapentokh, Fear in the Post Communist World, Washington, D.C.: NCEER, 2000; С. Матвеева, В. Шляпентох, Страхи в России в прошлом и настоящем, Новосибирск: Сибирский хронограф, 2000; В. Шляпентох, «Fears in Postcommunist Society: A Comparative Perspective», ed. Shlapentokh, E. Shiraev, Basingstoke: Palgrave, 2002; Id., Страхи и дружба в нашем тоталитарном прошлом, СПб.: Красная звезда, 2003; Id., An Autobiographical Narration of the Role of Fear and Friendship in the Soviet Union, Lewiston: Edwin Mellon Press, 2004; Id., Fear in Contemporary Society: Its Negative and Positive Effects, Basingstoke: Palgrave, 2006.
90 Дж. Каган указывает на «незрелое состояние теории и данных», Kagan, What Is Emotion?, 2007, 45.
91 К сожалению, у некоторых ученых этот иммунитет явно мало развит. Например, недавно ушедший от нас Ричард Хелли описывает Московскую Русь как неграмотную «right-brained civilization», из чего якобы следует ее деспотизм, милитаризм и пр. вплоть до наших дней, в то время как на Западе будто бы преобладала грамотная «left-brain civilization», со своим рационализмом, демократичностью и относительно низкой степенью насилия: R. Hellie, «Late Medieval and Early Modern Russian Civilization and Modern Neuroscience», Culture and Identity in Muscovy, 1359—1584, ed. A. Kleimola, G. Lenhoff, Москва: ITZ-Garant, 1997.
32
Ян Плампер
подопытными животными (большей частью крысами), а с людьми работают по аналогии. Эго возможно только при установке на дарвиновскую теорию эволюции, согласно которой нейробиология эмоций крысы является более ранней стадией нейробиологии эмоций homo sapiens sapiens92. Более того, естественники проводят аналогии между животными и людьми, не делая различий по возрасту, полу, этничности и т.д. При постановке опытов с людьми они имеют дело с людьми живыми, специфика же наших исследований заключается, если можно так выразиться, в работе с умершими. Одним словом, эпистемология гуманитарных наук принципиально отличается от эпистемологии естественных наук.
В-третьих, за очень редким исключением, сами историки не знакомятся с исследованиями естественников из первых рук93. Но даже если бы они их читали, то вряд ли могли бы — в силу нехватки естественно-научного образования — судить об их качестве. Как правило, историки получают знания об исследованиях эмоций в естественных науках от «переводчиков-популяризаторов», естественников, занимающихся обобщением результатов исследований на языке, доступном для непрофессионалов. Однако нельзя забывать, что не бывает нейтральных «переводчиков», и каждый из них зачастую выдает свою точку зрения за общепринятую. В Америке к таким переводчикам можно причислить прежде всего Антонио Дамасио, а также Жозефа Ле Ду, Пола Экмана и Яка Панксеппа94,
92 J. LeDoux, The Emotional Brain, 106 112. См. критику такого эволюционизма у Дж. Кагана: «Итак, дарвиновская гипотеза о психобиологической преемственности животного и человека, двойная убежденность Фрейда в том, что отрицательный опыт порождает тревожность и что тревожность является первичной причиной неврозов, и, с другой стороны, отчет об айовских экспериментах исходят из того, что понимание причин реакций животных на условия, которые им спонтанно кажутся неприятными, поможет нам в понимании всего разнообразия человеческой тревожности. Эго допущение, прелестное по своей простоте, широте применения и возможности использовать крыс и мышей для прояснения человеческих эмоций, увы, парит высоко над фактами», Kagan, What is Emotion?, 16 -17.
93 Исключения составляют кроме уже упомянутого У. Редди многие историки науки. См., напр., критику теории эмоций С. Томкинса, П. Екман и К. Изард в R. Leys, From Guilt to Shame: Auschwitz and After, Princeton UP, 2007.
94 A. Damasio, Descartes’ Error: Emotion, Reason, and the Human Brain, N.Y.: Putnam, 1994; Id., The Feeling of what Happens: Body and Emotion in the Making of Consciousness, N.Y.: Harcourt Brace, 1999; Id., Looking for Spinoza: Joy, Sorrow, and the Feeling Brain, Orlando: Harcourt, 2003; The Nature of Emotion: Fundamental Questions, ed. P. Ekman, R. Davidson, N.Y.: Oxford UP, 1994; Ekman, Emotions Revealed: Recognizing Faces and Feelings to Improve Communication and Emotional Life, N.Y.: Times Books, 2003; J. Panksepp, Affective Neuroscience: The Foundations of Human and Animal Emotions, N.Y.: Oxford UP, 1998.
Введение I. Эмоции в русской истории
33
в Германии — Вольфа Зингера и Герхарда Рота93 * 95. Концепция эмоций будет варьироваться в зависимости от популяризатора, на которого опирается гуманитарий.
В-четвертых, сколь бы велика ни была жажда «объективной реальности» после 9/11 и «поворота от лингвистического поворота», естественные науки вряд ли смогут ее утолить. Дело в том, что социальные, политические и им подобные факторы влияют и на естественные науки. Когда, например, естественник-невролог Джон Хаглингс Джексон в конце XIX века решил найти место в мозгу, отвечающее за эмоции, он, не задумываясь, принялся искать его исключительно в низкой части мозга, исходя из культурно обусловленной пространственной иерархии emotio—ratio как низкого— высокого. Для Джексона было ясно, что повреждение переднего коркового слоя мозга равносильно революционному путчу, повергающему массы в пучину анархии96. Уже слышны первые призывы естественников прислушиваться к философским представлениям об эмоциях от древних греков до наших дней и к историческим исследованиям для концептуального расширения их знаний97.
В-пятых и в-последних, даже если допустить существование каких-то универсальных аспектов в эмоциях, которые можно было бы позаимствовать у естественных наук, любое дальнейшее исследование эмоций потеряло бы смысл после их единоразового описания. Нас же, гуманитариев, a priori интересует культурная вариативность. Нас интересует непосредственно тот факт (если, для примера, еще раз обратиться к исследованию Джоанны Бурк), что в конце XIX века британцы были охвачены эпидемией страха быть похороненными заживо и заказывали гробы с трубами и колокольчиками, а тридцать лег спустя, в 1914 году, резко потеряли к этому всякий интерес. Из чего следует, что историку при каждом упоминании миндалины или гипоталамуса стоит задуматься над тем, какой аналитической выгоды он может от них ожидать.
Каковы же перспективы истории эмоций, в каком направлении, на наш взгляд, должна она двигаться? Одно из таких направлений — это история понятий (Begriffsgeschichte), обозначающих эмоции. Для многих ключевых понятий западноевропейской поли
93 G. Roth, Fiihlen, Den ken, Handeln: Wie das Gehirn unser Verhalten steuert,
Fr.a.M.: Suhrkamp, 2005; W. Singer, Der Beobachter im Gehirn: Essays zur Himfor-
schung, Fr.a.M.: Suhrkamp, 2002.
96 A. Heinz, «Irre Liiste und lustloses Irren. Konstruktionen von Lust und Begierde im 20. Jahrhundert», Philosophic der Freude, ed. D. Schottker, Leipzig: Reclam, 2003, 176- 177.
97 Kagan, What is Emotion ? Но отчетливее всего подчеркивается значение древней философии для современной естественной науки об эмоциях в D. Gross, The Secret History of Emotion: From Aristotle s «Rhetoric» to Modem Brain Science, Univ, of Chicago Press, 2006.
34
Ян Плампер
тической и общественной жизни, таких как «государство», «народ», «революция», такая история уже написана, для некоторых русских терминов — тоже98. Но каким образом с течением времени менялась семантика ключевых терминов, относящихся к эмоциям? Какой смысл вкладывался в термин «тоска» в эпоху сентиментализма, а какой — во времена Сталина? Или каким образом «чувства» превратились в естественно-научные «эмоции»?99 Блестящий образец Begriffsgeschichte скуки в XVIII—XX веках, например, можно найти в книге Мартины Кессель100. Источниками для истории такого рода служит весь спектр литературы, от словарей и энциклопедий до нормативных документов (указы, законы). Нужда в истории понятий эмоций отчетливо ощутима, ведь она станет основой для дальнейших исследований.
Дискурсивный анализ эмоций может стать другим возможным направлением истории эмоций. Каким образом разные дискурсы — психологический, философский, социологический, лирический, кинематографический — конструировали разные эмоции? Как, например, менялось сентименталистское понятие «хандры» с течением времени? Что можно сказать о концепции романтической любви во французском любовном романе первой половины XIX века? Каков вклад американской психологии в понятие «счастье», начиная с 1950-х годов? Или каким образом, уже в 1980-е годы, международная психофармакология патологизировала застенчивость как черту характера, переведя ее в разряд «социальных фобий», т.е. объявив ее болезнью?101
Другой перспективой может стать анализ норм эмоционального выражения и отклонения от них — эмоционология (ешо-tionology) Стернса, речь о которой уже шла выше. Главными источниками здесь выступают воспитательная литература, нормативные и судебные документы102. При всех этих подходах к истории эмо
98 В группе «History of Emotions» при берлинском Max Planck Institute for Human Development под руководством Уте Фреверт как раз начата такая Begriffsgeschichte эмоций. О Begriffsgeschichte на русском см. Р. Козеллек, «Можем ли мы распоряжаться историей? (Из книги «Прошедшее будущее. К вопросу о семантике исторического времени»)», Отечественные записки 5 (2004); Он же, «Социальная история и история понятий», Исторические понятия и политические идеи в России XVI—XXвеков. Вып. 5, СПб.: Алетейя, 2006.
99 Th. Dixon, From Passions to Emotions: The Creation of a Secular Psychological Category, Cambridge: Cambridge UP, 2003; U. Frevect, «Gefuhle um 1880. Begriffe und Signaturen», Kleist-Jahrbuch 2008/2009/
100 M. Kessel, Langeweile: Zum Umgang mit Zeit und Gefihlen in Deutschland vom spaten 18. bis zum fruhen 20. Jahrhundert, Gottingen: Wallstein, 2001, 19—34.
101 Ch. Lane, Shyness: How Normal Behavior Became a Sickness, New Haven: Yale UP, 2007.
102 Редди пользуется, например, заявлениями на раздельное проживание супругов в наполеоновской Франции, где разводы еще не разрешались, и прихо
Введение I. Эмоции в русской истории
35
ций важно сравнение культур и разных отрезков времени. Сравниваемые периоды должны быть достаточно длительными: для того чтобы понять, скажем, эволюцию предметов страха, необходимо оперировать по меньшей мере десятилетиями. Специфика описания страха у солдат во время Первой мировой войны в русских мемуарах становится ясной только в сравнении с мемуарами немецкими, французскими, британскими и т.д. Историк эмоций должен быть готов к сравнительному анализу более широкого плана, как во временном, так и в географическом плане, нежели он привык в своем обычном историографическом опыте.
Нам осталось рассмотреть последнюю историко-эмоциональную перспективу. Пожалуй, самое сложное в истории эмоций — эго вплетенность эмоционального фактора в причинность исторических событий. Сложность обусловлена тем, что эмоции часто невозможно выявить или подтвердить документально. Когда, например, генерал Второй мировой войны в своих мемуарах описывает ход какой-то битвы, он в силу существующих в его время эмоциональных норм не станет описывать страх той роты, которая в панике бежала «не туда», решив тем самым исход целого сражения. Эмоция страха в источниках оказывается в таких случаях для историка недоступной. И все же она является решающей для понимания хода битвы. Можно, конечно, признать неизбежное вплетение исследователя в его культурно-исторический контекст, его фундаментальное неумение вырваться из герменевтического круга и его обреченность на герменевтическое поражение, что само по себе является эмоционально сложным событием103. Или же можно объяснить действия исторических «акторов» при помощи общепринятого мнения, которое, как правило, является лишь самопроеци-рованием историка в исторический документ. Такая операция может быть успешной, если культура эмоций исследователя, из которой он исходит, совпадает с культурой эмоций исторических акторов, которых он изучает. Но она может привести и к поражению, как показывает опыт психоистории 1970-х годов и использование психоаналитических понятий, претендующих на универсальность, но обусловленных городской культурой венской интеллигенции конца XIX века.
Однако возможно, что выход из ситуации есть. Историкам необходимо разработать новую «герменевтику тишины», или «герменевтику чтения между строк», то есть герменевтику, сосредоточенную на микроуровне текста и замечающую малейшие изменения
дит к выводу, что послереволюционная Франция оставалась подчиненной модели «чести» (отсюда желание избежать публичного суда); Reddy, The Invisible Code.
103 Об этом Андрей Зорин говорил в заключительной дискуссии конференции.
36
Ян Плампер
языковой логики — «случайные проговорки» (Ю. Бессмертный) или «случайные детали» («queieinschieBende Details», X. Р. Яус)104. Когда, например, генерал, описывая битву, вопреки ее ходу и исходу четыре раза подряд упоминает, сколь храбрыми были его солдаты, то отсюда можно заключить, что они наверняка паниковали. Или когда он подробно описывает, как солдат в двадцатый раз чистит винтовку во время боя, это может служить указанием на присутствие страха. В таких случаях мы, восстановив, насколько это возможно, значение эмоции страха в данном историческом контексте, имеем право сделать аналитический скачок и утверждать, что солдат испытывает страх. И мы можем учесть фактор страха, давая причинное объяснение хода битвы.
* * *
Со времен обращения Февра к историкам с призывом изучать эмоции прошло почти семьдесят лег. О возможности самостоятельного исследовательского поля «история эмоций» впервые заговорили в середине 1980-х годов Питер и Кэрол Стернс. Однако о подлинном возникновении такого поля со всеми признаками институционализации — конференциями, публикациями, активными исследовательскими группами — можно говорить лишь с 2001 года. Внесет ли настоящий сборник свой вклад в развитие подобного исторического поля в России? Мы на это надеемся.
plamper@mpib-berlin.mpg.de
Перевод Н Гадаловой и автора
104 «В связи с этим потребовалось присмотреться к мельчайшим деталям в описании поступков отдельных людей, к случайным “проговоркам” составителей документов, позволяющим понять, чем было продиктовано поведение того или иного персонажа. Мы не пропускали ни одной “недосказанности”, стараясь осмыслить, чем она была вызвана, какова была ее подоплека. Пристально исследовались словесные формы, особенно нестандартные. Сравнивая их с клишированными выражениями, мы стремились уяснить их возможный подтекст и истоки появления», Бессмертный, Человек в мире чувств, 12. О «quereinschieBende Details» см. Н. R. JauB, «Nachahmungsprinzip und Wirk-lichkeitsbegriff in der Theorie des Romans von Diderot bis Stendhal», Nachahmung und Illusion (Poetik und Hermeneutik 1), ed. JauB, Miinchen: W. Fink, 1969.
Введение II
Шамма Шахадат
ПСИХОЛОГИЗМ, ЛЮБОВЬ, ОТВРАЩЕНИЕ, РАЗУМ:
ЭМОЦИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ1
Если Восток представляется «эмоциональным» по сравнению с «рациональным» Западом2, то русская культура считается особенно психологичной: в России видят родину психологического романа. Михаил Ямпольский связывает психологизм с эмоциональностью:
Самое поразительное достижение русской культуры XIX века, на мой взгляд, это создание искусства невероятно изощренного психологизма. Тонкость психологического анализа, которой добивались Толстой, Достоевский, Чехов, Станиславский, не знает равных и идет дальше достижений в области психологизма на Западе. Это развитие психологизма, почти что его гипертрофия, отчасти может быть объяснено специфической социальной ситуацией в России. Абсолютистский контроль над сферой политики и власти, поддерживавшийся самодержавием, привел к тому, что именно сфера интимных переживаний, эмоционального и интеллектуального богатства начинает культивироваться в противовес той области, в которой царили статус и властный произвол3.
Эту склонность русской культуры к эмоциям Ямпольский объясняет социальной структурой, которая из-за самодержавного контроля приобрела авторитарный квазисемейный характер. Про
1 Автор благодарит Яна Плампера и Марка Стейнберга за высказанные ими ценные замечания к тексту.
2 Согласно славянофилам, России присуща «внутренняя культура», тогда как Запад довольствуется лишь культурой «внешней». См. И. Киреевский, «О необходимости и возможности новых начал для философии», Русская беседа II (1856).
3 М. Ямпольский, «Самодержец российский, или Анти-Дарвин», Киноведческие записки 47 (2000), 26.
38
Шамма Шахадат
тивостояние между государством и личностью оборачивалось, таким образом, борьбой «отцов» и «детей». Но и на метауровне, в размышлениях о психике и эмоциях, Россия кажется исключением: с середины XIX века и особенно после революции 1917 года «новый человек» вместе со своими чувствами и психикой выдвигается в центр культурной рефлексии. Став культурным проектом уже с 1860-х годов (ключевым в этом контексте был роман Н. Чернышевского Что делать?Повесть о новых людях, 1863), новый человек стремительно стал реальностью. Самые разные дисциплины занялись наблюдением за ним, начали измерять его характеристики, тщательно исследовать его физические и психические черты и пытаться влиять на них: за это принялись, в частности, такие научно-образовательные институты, как ИНХУК и ВХУТЕМАС.
Но прежде, чем наука обратила внимание на нового человека, им уже занялись художники. Зрелищно-перформативные искусства особенно интенсивно исследовали взаимодействие между телом и психикой. В начале XX века князь Сергей Волконский развил концепцию «выразительного человека»4, опираясь на теорию Франсуа Дельсарта (F. Deisarte) об участии эмоций в движениях тела и на систему Эмиля Жака-Далькроза (Dalcroze), соединившего в ритмической гимнастике музыку, движение и эмоции. Эта концепция повлияла и на мейерхольдовские эксперименты с актером, и на рефлексологию Павлова и Бехтерева. В центре этих проектов стоял вопрос о самом существовании эмоций. Если Волконский и Станиславский утверждали наличие у человека эмоций, которые встраиваются в систему взаимодействия внутреннего и внешнего, тела и психики, то поздние, конструктивистские теории отрицали эмоциональную жизнь. Волконский определял человека как машину с эмоциями5; Станиславского интересовал прежде всего вопрос, как происходит взаимодействие между телом и психикой: идет ли импульс снаружи (от тела, от действительности) вовнутрь (в психику, в эмоции) или наоборот? Сначала он полагал, что переживание зарождается во внутреннем мире и потом выражается вовне6, но позже придал этому процессу обратное направление. Мейерхольд противопоставляет системе Станиславского эксцентричную
4 С. Волконский, Выразительный человек. Сценическое воспитание жеста (по Дельсарту), СПб.: Аполлон, 1913; Ср.: J. Bochow, Vom Gottmenschentum zum neuen Menschen. Subjekt und Religiositat im russischen Him der 20er Jahre, Trier: WVT, 1997.
3 Yampolsky, «Kuleshov’s experiments and the new anthropology of the actor», Inside the Film Factory. New Approaches to Russian and Soviet Cinema, ed. R. Taylor, I. Christie, London: Routledge, 1991, 35.
6 К. Станиславский, Работа актера над ролью. Материалы к книге, сост. М. Кедрова. М.: Искусство, 1957, 161.
Введение II. Психологизм, любовь, отвращение, разум...
39
модель актера. В отличие от Станиславского, Мейерхольд ставит во главу своей теории не переживание, а тело. Биомеханические упражнения должны были приблизить человека к машине, отключить мешающие эмоции7.
Основным средством показа психических и физиологических процессов в человеке отныне стал кинематограф. «Кино стало живо и подробно обсуждаемым инструментом. С одной стороны, оно обратило внимание зрителей к обычно не замечаемым процессам, а с другой, сделало зримыми процессы, не видимые человеческому глазу», — пишет Маргарет Фёрингер о психотехнических экспериментах русских авангардных кинорежиссеров8. К этому ряду относятся как научно-популярный документальный фильм о Павлове «Механика головного мозга» (реж. Вс. Пудовкин, 1926)9, так и ку-лешовская теория натурщика, в которой эмоции связаны с ритмическим киномонтажом.
Русская культура 1920-х годов в целом была «экспериментальной культурой» (Vohringer), развившей разные психотехники для стимуляции человеческого восприятия и эмоций. Помимо ученых-рефлексологов своего рода прикладным исследованием эмоций занимались деятели искусства. В своих теоретических работах 30-х годов Эйзенштейн разрабатывал эстетику художественного воздействия, писал о пафосе и об экстазе, исходя из того, что само по себе художественное произведение может быть в той или иной степени патетическим или экстатическим. Исступление, постоянный выход из себя Эйзенштейн понимает как «скалок с диалектических закономерностей, согласно которым происходит непрерывный процесс ежесекундного становления и развития вселенной»10. Эйзенштейн следует здесь за Ницше, который ввел пафос в европейскую культуру и особенно в философию как трансформирующую и визионерскую силу11. Эйзенштейн читал мистиков (Лойолу) и этнологов (Леви-Брюля), а в Мексике сам наблюдал формы
7 О проблеме противоборствующих концепций переживания у Станиславского и деэмоционализации у Мейерхольда см. Н. Schmid, «Stanislavskij und Mejerchol’d», Konstantin Stanislavski. Neue Aspekte und Perspektiven, ed. G. Ahrends, TUbingen: G. Narr, 1992.
8 M. Vohringer, Avantgarde und Psychotechnik, Gottingen: Wallstein, 2007, 123— 124.
9 Ibid., 108- 121.
10 Эйзенштейн, «О строении вещей», Избранные произведения, т. Ill, М.: Искусство, 1964, 63. Об Эйзенштейне, пафосе и исступлении см. D. Bordwell, The Cinema of Eisenstein, Cambridge, Mass.: Harvard UP, 1993, 190—195; A. Bohn, Film und Macht. Zur Kunsttheorie Sergej M. Eisensteins 1930—1948, MUnchen: Diskurs Film Bibliothek, 2003.
11 K. Busch, I. Darmann, «Einleitung», Pathos. Konturen eines kulturwissen-schaftlichen Grundbegriffs, ed. Busch, Darmann, Bielefeld: transcript, 2007, 11—12.
40
Шамма Шахадат
религиозной экзальтации12, что дало ему материал для собственной теории экстаза и пафоса. Производство аффектов связывается у Эйзенштейна с их медиальной репрезентацией. Ярким примером может послужить здесь сцена с сепаратором в фильме Генеральная линия (1929): неэмоциональный и прозаический предмет, механизм для производства сливок из молока, своим всё ускоряющимся вращением вызывает упоение как у персонажей, столпившихся возле сепаратора, так и у зрителей фильма. В тот момент, когда молоко превращается в сливки, машина и зрители достигают экстаза13. Менее эмоциональными являются, пожалуй, те страстные движения, которые Аби Варбург назвал «формулой пафоса», — «патетически усиленная мимика» («pathetisch gesteigerte Mimik»)14, соответствующая определенному репертуару страстей, бывшему в ходу у художников Античности и Возрождения.
Если оставить междисциплинарное поле прикладного изучения эмоций и обратиться к литературоведению в узком смысле слова, то и там мы сможем обнаружить области, где эмоции играют ключевую роль. Вообще литература — это настоящее царство чувств; уже трагедия, к примеру, определяется вечной борьбой между чувством и долгом. Литературу всегда занимали эмоции — любовь Татьяны к Онегину, ревность Отелло, меланхолия Гамлета... Однако чувство в литературе не сводится к сюжетному мотиву. В том, как литературоведы подходят к эмоциям, можно различить формалистскую, риторическую, психоаналитическую и кулътуроведческую тенденции. К ним примыкает тенденция гуманитаристики к сотрудничеству с нейронауками, что проявляется, например, в разработках когнитивной поэтики, а в целом — в подходе к эмоциям, который пытается согласовать между собой разум и чувства. Рассмотрим эти тенденции более подробно.
Эмоции и формализм. Предпосылки для изучения эмоций в рамках литературоведения создал русский формализм с его концепцией «литературной личности». Поздний формализм (то есть формализм «прагматической фазы», как назвал период с 1925 по 1934 год А. Ханзен-Лёве15) вышел за рамки собственно литературного про
12 Bohn, Film und Macht, 227—230.
13 См. подробнее: Н. Григорьева, Anima Laborans. Писатель и труд в России 1920— 1930-х ее., СПб.: Алетейя, 2005, 141.
14 A. Warburg, «Diirer und die italienische Antike», Id., Ausgewahlte Schriften und Wurdigungen, Baden-Baden: V. Koerner, 31992, 125. О (не-)отношении формул пафоса у Варбурга и Эйзенштейна см. S. Sasse, «Pathos und Antipathos. Pathosformein bei Sergej Ejzenstejn und Aby Warburg», Transformationen des Pathos, ed. C. Zumbusch, Berlin: Akademie Verlag, 2009.
15 A. Hansen-Love, Der russische Formalismus, Wien: Verlag der osterreich. Akad. der Wissensch., 1978.
Введение II. Психологизм, любовь, отвращение, разум...
41
изведения и ввел в поэтический анализ исследование внетекстовых рядов. Вследствие этого «биографическая» и «литературная» личности стали литературными фактами. Лидия Гинзбург обозначает эстетическую «деформацию»16 — скачок от биографической к литературной личности17 — как «моделирование». Ее книга о психологической прозе дополняет формалистскую модель психологизмом (опираясь на У. Джеймса и К. Г. Юнга18). Гинзбург придает личности в дополнение к статичной и динамичную составляющую, которая строится по образцу «эпохального характера»19: «я» для Гинзбург исторически обусловлено. Вместе с психологией в центр выдвигаются и эмоции; анализ романтического и реалистического эпохальных характеров включает в себя изучение эмоциональных изменений. Гинзбург демонстрирует, как взаимодействие истории и литературы влияет на становление психологической прозы. Эмоциями совсем другого типа Гинзбург занимается в «Записках блокадного человека» 1942 года. В этом тексте она показывает, как человек, точнее блокадный человек, теряет способность что бы то ни было чувствовать20, руководствуясь в своем поведении одними инстинктами и стремясь лишь спастись от голода и холода.
Формалисты дали литературоведам возможность взглянуть на литературу в ее взаимодействии с внелитературными рядами (или системами, как их позже назовет Никлас Луманн). Тем самым психика и эмоции стали объектами литературоведческого исследования, а литература оказалась частью всеохватывающей картины мира. Литературоведы, культуроведы или историки анализируют эмоции каждый на своем материале и своими методами, имея в виду обширную антропологическую перспективу тотальности человека (totalite de ГИотте), идущую от школы Анналов21.
Эмоции и риторика. Разумеется, риторика аффектов существует уже с античных времен, но нас интересует прежде всего связь между аффектами и литературой. Еще Лютер исходил из того, что фило
16 Этот термин Тынянова использует и Ханзен-Лёве, Der russische Forma-lismus, 416.
17 Л. Гинзбург, О психологической прозе, Л.: Советский писатель, 1971, 17.
18 Там же, 16.
19 Там же, 24.
20 Гинзбург, «Записки блокадного человека», в ее же, Записные книжки. Воспоминания. Эссе, СПб.: Искусство, 2002, 643 и след.
21 Об аффекгивных и эмоциональных элементах в историософии у Февра, в школе Анналов, о totalite de Ihomme и totalite de 1’histoire и вообще о проекте науки, нацеленном на тотальность, см. В. Krause, «Scham(e), schande und ere: Selbstwahrnehmung — zwischen Afiekt und Tugend», Emotions and Cultural Change — Gejuhle und kultureller Wandel, ed. B. Krause, U. Scheck, Tiibingen: Stauffenberg, 2006, 22 - 24.
42
Шамма Шахадат
София характеризуется рациональной аргументацией, риторику же отличают аффекты и сила их воздействия («Dialectica docet, Rheto-rica movet»)22. Многочисленные современные исследования взаимовлияния литературы и философии23 показывают, что философия пользуется литературными приемами и тем самым оказывает эмоциональное воздействие на своих читателей. В русском контексте ярким примером такого процесса служат «Философические письма» Чаадаева, считающиеся началом русской философии.
Не случайно, что и на Западе, и в России интенсивные размышления о пафосе (А. Варбург, Эйзенштейн) приходятся на 20—30-е годы XX века, когда проблема воздействия на массы оказалась в центре культурного (Беньямин, Кракауэр, Бахтин) и политического дискурсов. В статье, посвященной аффектам у Бахтина и Достоевского, «Карнавальная манера письма: антипраздники Достоевского»24, Ренате Лахманн анализирует скандалы у Достоевского как антипраздник, включающий в себя опьянение и исступление. Антипраздник представляет собой, с одной стороны, семиотический эксцесс, а с другой — демонстрацию эмоций, которую Лахманн называет «праздником гротескной души» («Festakt der grotesken Seele»)25.
Эмоции и психоанализ. Как психоаналитическое измерение литературы, так и психоаналитическое толкование литературы обращаются к патологическим психическим феноменам. Речь идет о том, что Фрейд называл «состояниями души» (Seelenzustande)26, о происхождении и формах репрезентации психики. Связь психоанализа и литературы казалась соблазнительной в постструкгуралис-тские 70—80-е годы, так как оба дискурса занимались не только изображением страстей, но и их чтением, стремились к дешифров
22 К. Dockhorn, «Rhetorica movet. Protestantischer Humanismus und karo-lingische Renaissance», Rhetorik, ed. H. Schanze, Fr.a.M.: Athenaum, 1974, 21.
23 См., напр.: Ecritures. Denk- und Schreibweisen jenseits der Grenzen von Literatur und Philosophic, ed. M. Brink, Ch. Solte-Gresser, Tiibingen: Stauffenberg, 2004.
24 Lachmann, «Die karnevaleske Schreibweise: Dostoevskijs Gegenfeste», Id., Gedachtnis und Literatur. Lntertextualitat in der russischen Modeme, Fr.a.M.: Suhrkamp, 1990 (пер. на англ.: Memory and Literature. Lntertextuality in Russian Modernism, Minneapolis: Univ, of Minnesota Press, 1997). В двух своих новых статьях Лахманн продолжает исследование этого аспекта: «Intimitat: Rhetorik und litera-rischer Diskurs», Nahe schaffen, Abstand halten. Zur Geschichte der Lntimitat in der russischen Kultur, ed. N. Grigor’eva, Sch. Schahadat, I. Smirnov, Wien, Miinchen: Wiener Slawist. Almanach, 2005; «Die Lehre der Affekte und ihre Rolle im Werk Dostoevskijs», Arcadia 44:1 (2009).
25 Lachmann, «Die karnevaleske Schreibweise...», 276.
26 Freud, «Der Wahn und die Traume in W. Jensens Gradiva» [1907], Studien-ausgabe, Bd. X, Fr.a.M.: Fischer, 1969, 43.
Введение II. Психологизм, любовь, отвращение, разум...
43
ке латентных психических состояний и пытались найти знаки, ведущие в глубину текста или души. Знание текста и знание больной психики содержалось в подтексте, который должен был быть раскрыт врачом или читателем27. Чтение Достоевского Фрейдом (см. его статью «Достоевский и отцеубийство») связывает воедино литературу и психоанализ на русском материале. Фрейд выводит роман «Братья Карамазовы» из психики его автора. Для Достоевского, как пишет Фрейд, характерно неразрешимое колебание между любовью и ненавистью (при «грандиозной способности любить»), проявляющееся в садизме и мазохизме, в экстремальных аффектах. Фрейдовскими категориями оперирует и «Психодиахронологика» Игоря Смирнова28 29. В этой книге Смирнов классифицирует русскую литературу по принципу господствующих в ту или иную эпоху психических отклонений — так, романтизм стоит под знаком кастра-ционного комплекса, реализм оказывается эдипальным, символизм — истеричным, авангард характеризуется как «садоавангард», соцреализм выступает эпохой мазохизма, а постмодернизм отличается нарциссизмом, шизоидностью и шизо-нарциссизмом. Американская славистика также занималась взаимоотношением литературы и психоанализа. Сборник Русская литература и психоанализ23 посвящен явным и скрытым эмоциональным состояниям в русской литературе: любви Пушкина к Наталье Гончаровой (Н. Kucera), амбивалентному отношению Солженицына к евреям (D. Rancour-Laferriere), поэтическому наслаждению (В. Cooke) и ярости у Зощенко (К. Hanson).
Культурологическое изучение эмоций. Предмет западных cultural studies совпадает с культурой, как ее определил Реймонд Уильямс: «совокупный способ жизни» (a whole way of life)30. Уильямс, считающийся основателем бирмингемской школы, понимал культуру как социальный процесс, объединяющий идеологию, институты и эстетику. Культурологическая точка зрения на эстетические явле
27 См., напр., классическую антологию Literature and Psychoanalysis. The Question of Reading: Otherwise, ed. Sh. Felman, Baltimore, London: Johns Hopkins UP, 1982. В книге U. Haselstein, Entziffemde Hermeneutik. Zum Begriff der LektUre in der psychoanalytischen Theorie des Unbewussten, Miinchen: Fink, 1991, объединяются Фрейд, имплицитный читатель Вольфганга Изера, Лакан, Деррида и криптограмматика.
28 И. Смирнов, Психодиахронологика. Психоистория русской литературы от романтизма до наших дней, М.: НЛО, 1994.
29 Russian literature and psychoanalysis, ed. D. Rancour-Laferriere, Amsterdam: Benjamins, 1989.
30 R. Williams, Culture, London: Fontana, 1986. См. также W. Karrer, «Raymond Williams. Vom ‘Kultur’-Begriff zur Kulturanalyse», Kulturwissenschaftler des 20. Jahrhunderts. Ihr Werk im Blick auf das Europa der Fruhen Neuzeit, ed. K. Garber, Miinchen: Fink, 2002.
44
Шамма Шаха дат
ния, осуществленная в специфических формах дискурсивной теории, нового историзма и системной теории, сделала возможным понимание эмоций как дискурсивных репрезентаций, определенных окружающей культурой. В этом культурологическом поле происходит взаимодействие историков и литературоведов. Чувством, которое культурологи изучают особенно часто, является любовь. Начиная с Любви как страсти Луманна31 и «миметического желания» Рене Жирара32 до исследования Альбрехта Кошорке о взаимодействии чувств и медиа33, любовь оказалась идеальным аффектом, на примере которого можно было продемонстрировать культурное кодирование и эстетическую медиализацию чувств34. В славистике культурологическое изучение любви на примере литературных текстов оказалось особенно плодотворным в исследованиях по русскому символизму, что неудивительно, поскольку сами символисты понимали любовь как жизне- и мифотворческую силу. Влиятельной в этом плане оказалась статья «Значение любви у символистов» Ольги Матич35. Для символистов любовь, как показывает автор, является чувством, насыщенным метафизикой и связанным с творческим актом.
Постепенно и другие чувства, в частности отвращение, стали объектом внимания литературоведов и культурологов. В своей работе «Отвращение. Теория и история сильного чувства» немецкий компаративист Винфрид Меннингхаус прослеживает историю отвращения в эстетике, психоанализе и философии. Рассмотренные им концепции сходятся в том, что связывают отвращение с «нежелательной близостью», с «назойливым присутствием»36. Ольга Матич изучает проявления отвращения и его интермедиальные связи на примере русской культуры и литературы (особенно у Андрея Белого; см. статью в данном сборнике).
31 N. Luhmann, Liebe als Passion. Zur Codierung der Lntimitat, Fr.a.M.: Suhrkamp, 1982.
32 R. Girard, Mensonge romantique et уег'йё romanesque, Paris: Grasset, 1961.
33 A. Koschorke, Korperstrome und Schriftverkehr. Mediologie des 18. Jahrhunderts, Miinchen: Fink, 1999.
34 Интересный сдвиг эти исследования получают в работе Эвы Иллуз, которая связывает чувство любви с экономикой. Экономические действия (как, например, ужин в ресторане, цветы и прочие подарки и т.д.) являются, по Иллуз, важной частью развития любовных отношений и самого чувства любви: Е. Illouz, Consuming the Romantic Utopia. Love and the Cultural Contradictions of Capitalism, Stanford: Univ, of California Press, 1997.
Зэ O. Matich, «The Symbolist Meaning of Love: Theory and Practice», Creating Life. The Aesthetic Utopia of Russian Modernism, ed. I. Paperno, J. Grossman, Stanford UP, 1994.
36 W. Menninghaus, Ekel. Theorie und Geschichte einer starken Empfmdung, Fr.a. M.: Suhrkamp, 1999, 7.
Введение II. Психологизм, любовь, отвращение, разум...
45
Эмоции между гуманитарными и естественными науками. Общей основой и объектом исследования эмоций для гуманитарных и естественных наук выступает мозг как источник эстетических реакций. В литературоведении этим занимается так называемая когнитивная поэтика, философы же обсуждают вопрос о корреляции между чувствами и разумом. Опираясь на когнитивную лингвистику и когнитивную психологию, когнитивная поэтика ставит задачей аналитически осмыслить эмоциональные реакции читателя во время чтения. Целью, в общем, оказывается научность литературоведческого дискурса, к которой стремились еще формалисты и вслед за ними структуралисты. Эмоциональная реакция читателя, несомненно, должна быть учтена в общей картине37.
Взаимодействие эмоций и разума — подлинная философская проблема. Если философы Просвещения (Кант) еще исходили из того, что разум способен подчинять себе чувство, то в современных философских исследованиях эмоций чувство и разум трактуются как взаимодействующие силы38. Философ Рональд де Суза и психиатр и нейробиолог Антонио Дамасио являются ведущими представителями этого интеллектуального направления. Главная идея де Суза состоит в том, что человек, будучи сложным, интенционально действующим механизмом, нуждается в поддержке своих рациональных действий. Чистый разум, подобно компьютеру, не способен отличить важную информацию от второстепенной. Эмоции, по де Суза, как раз и призваны фильтровать информацию, без чего человек не был бы способен принять ни одного решения39. Рациональные процессы, таким образом, напрямую зависят от эмоций40. Теория де Суза послужила исходным пунктом для других философов, занимающихся взаимоотношением чувств и разума41. Попытка разрешить проблему эмоций, разума и ценностей
37 См. учебник по когнитивной поэтике: Р. Stockwell, Cognitive Poetics. An Introduction, London: Routledge, 2002. Эмоциями читателя с точки зрения когнитивной поэтики впервые начала заниматься Кейт Оугли: К Oatley, Best Laid Schemes: The Psychology of Emotions, Cambridge: Cambridge UP, 1992. Новый анализ немецкой литературы по этой проблематике см. в S. Winko, Kodierte Gefiihle. Zu einer Poetik der Emotionen in tyrischen und poetologischen Texten urn 1900, Berlin: E. Schmidt, 2003. Несколько статей по «когнитивной поэтике» собраны в Cognitive Poetics in Practice, ed. J. Gavins, G. Stehen, London: Routledge, 2003.
38 Общее введение в проблематику можно найти в: Е.-М. Engelen, Gefiihle, Stuttgart: Reclam, 2007, 35 -53.
39 de Sousa, The Rationality of Emotion, Cambridge, Mass.: МГГ, 1987, 172.
40 Ibid., 201.
41 К этой традиции примыкает, например, Забине Дёринг, исследующая, как из согласованной игры разума и чувства возникают ценности. На примере анализа «Гекльберри Финна» Марка Твена она показывает, что именно
46
Шамма Шахадат
приводит многих философов к участию в научных проектах, ориентированных на этические проблемы. Можно привести пример проекта HUMAINE (http://emotion-research.net/), посвященного эмоциям и взаимодействию человека и машины (MMI, Man-Machine Interface).
Нейробиолога Антонио Дамасио интересует всё тот же вопрос об отношениях между разумом и чувствами. Как и де Суза, Дамасио исходит из того, что роботы и компьютеры не могут действовать самостоятельно из-за ограниченной способности к логическим операциям. Дамасио проводил эксперименты с больными, у которых не работали части мозга, управляющие эмоциями, и пришел к заключению, что чувства можно наблюдать на нейронном уровне42.
Против нейронаучных подходов выступает американский профессор риторики Дэниел Гросс, написавший масштабную Тайную историю эмоций, полемизирующую с нейротеориями с риторической и политической точек зрения43. Анализируя риторическую структуру текстов Аристотеля и Гоббса, парламентских речей XVII века, работ Юма, Адама Смита и Джудит Батлер, он исследует социальный контроль над «социальными чувствами»44. Его главная идея противоположна тезису о процессе цивилизации Норберта Элиаса. Если Элиас исходит из возрастающего контроля над аффектами, то Гросс говорит о дискурсивной трансформации эмоций. По Гроссу, эмоции были вначале частью риторического производства и контроля за аффектами (т.е. частью «цивилизации»), но постепенно их завоевали психофизиологические дискурсы, объявив эмоции частью «природы». Поэтому соединение психоанализа и политики (например, у Джудит Батлер) оказывается возможностью вернуть эмоции как объект изучения в интеллектуальную историю.
Мы до сих пор говорили об эмоциях, но следует упомянуть и античувства (безразличие, бесчувствие), о которых также много и ярко рассказывает русская литература. Достаточно вспомнить чеховских персонажей, обычно не достигающих счастья, потому что они не могут или запрещают себе чувствовать. Подобное ангичув-ство, «холодное поведение» на материале Веймарской республики
конфликт между рациональностью и эмоциональностью ведет к познанию новых ценностей: S. Doring, «Huckleberry Finn. Pionier einer neuen Wahrneh-mung», Arcadia 44:1 (2009).
42 Damasio, Descartes1 Error. Emotion, Reason and the Human Brain, N.Y.: Putnam’s Son, 1994.
43 D. Gross, The Secret History of Emotion. Erom Aristotles’s “Rhetoric ” to Modem Brain Science, Univ, of Chicago Press, 2006. Полемику с Дамасио см. с. 28—39.
44 Ibid, 6.
Введение II. Психологизм, любовь, отвращение, разум...
47
исследовал Хельмут Летен45. Книга Летена является своего рода исключением: кажется, и на Западе, и на Востоке ученые предпочитают заниматься теплыми эмоциями — будь то любовь или ненависть.
schamma.schahadat@uni-tuebingen.de
Перевод Н. Григорьевой и автора
45 Н. Lethen, Verhaltenslehren der Kalte. Lebensversuche zwischen den Kriegen, Fr.a. M.: Suhrkamp, 1994.
Раздел I
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА
Катриона Келли
ПРАВО НА ЭМОЦИИ, ПРАВИЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ: УПРАВЛЕНИЕ ЧУВСТВАМИ В РОССИИ ПОСЛЕ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ1
Когда иностранцы обращаются к теме «русских эмоций», они, хорошо это или плохо, часто имеют в виду такое выражение чувств, которое выглядит безыскусным, искренним, непредсказуемым, исходящим из самого сердца или, если использовать заезженное выражение, «из глубины души». Источниками такого представления могут служить то и дело скатывающиеся в «надрыв» романы Достоевского2 и русская литература XIX века вообще, а также непосредственные этнографические наблюдения. Относительно свежим примером опоры на этот последний тип источников является книга Дейл Песмэн «Россия и душа», автор которой постоянно подчеркивает, что «душа» — это все, что угодно, но только не сдержанность. Например, автор вспоминает: «Один омский актер говорил мне, что русские актеры предпочитают сознательную грубость и нетерпимость своих режиссеров вежливости иностранных режиссеров. Когда человек кричит на тебя, ты по крайней мере видишь, что у него есть душа, что ему не все равно»3. И хотя «крик» — не един
1 Я благодарю участников конференции по российской культуре XVIII века в St Edmund Hall, в Оксфорде, организованной Эндрю Каном (A. Kahn) и семинара «Эмоции в истории» при Чикагском университете, организованного Шейлой Фитцпатрик (Sh. Fitzpatrick), за многочисленные стимулы для работы над этой статьей. В статье использованы материалы проекта «Детство в России, 1890—1991 гг.: социальная и культурная история», выполненного по гранту F/08736/A от фонда Leverhulme, и проекта «Национальная идентичность в России: традиции и детерриториализация» по гранту АН/Е509967/1. См. наши сайты http://www.ehrc.ox.ac.uk/lifehistory, http://www.mod-langs.ox.ac.uk/russian/ nationalism и http://www.mod-langs.ox.ac.uk/russian/childhood. Я благодарю Ирину Назарову за предоставление материалов на тему «Петербургские эмоции» и, как и Светлану Сиротинину, за проведение интервью.
2 См., напр., D. Protopopova, «Dostoevsky, Chekhov, and the Ballets Russes: Images of Savagery and Spirituality in the British Response to Russian Culture, 1911— 1929», The New Collection (Oxford) 3 (2008).
3 D. Pesmen, Russia and Soul, Ithaca, NY: Cornell UP, 2000, 40—41; курсив автора.
52
Катриона Келли
ственный эмоциональный регистр, фигурирующий в подобных описаниях, мы почти не встречаем в них нюансов или тонкой градации чувств: различные вариации эмоций связаны исключительно с ошеломляющими контрастами, о чем говорит Морис Беринг, вспоминая один из своих визитов в Российскую империю в 1900-х годах:
Русская толпа напоминает мне большую тугую губку. Кажется, ничто не в состоянии как-то повлиять на нее. Она поглощает погружающихся в нее пришельцев, ее можно тут сжимать, там растягивать, но она остается, какой была: нерушимой, пассивной и непокорной. Возможно, то же самое верно и для всей русской нации; думаю, это наверняка верно для русского характера, в котором с виду так много слабости и мягкотелости, так много кажущейся гибкости и податливости и так много скрытого пассивного сопротивления4.
Представление об эмоциях как о национально обусловленной черте свойственно не одним лишь иностранцам: в самой России существует давняя традиция приписывать каждому народу особый способ чувствовать и выражать чувства. Она нередко выводит различное представление о чувствах из их различного наименования и распределения в разных языках5.
Однако анахронистический партикуляризм (который считает вечные и неизменные русские чувства легко узнаваемыми и отличными от любого «западного» опыта) не является единственным признанным способом описания русской эмоциональности. Всё большее распространение получает взгляд, что эмоция является не врожденным, а социально и культурно обусловленным явлением6. Существует каноническая история о том, как русские люди «открывали для себя чувства». Ключевыми моментами в ней являются
4 М. Baring, The Puppet Show of Memory, London: Cassell, [1932] 1987, 384.
э См., напр.: Анна Зализняк, И. Левонтина, А. Шмелев, Ключевые идеи русской языковой картины мира, М.: Языки русской культуры, 2005. Ср. также: «Деление на концепты-универсалии, присутствующие в любой лингвокуль-туре (счастье, мир, любовь, свобода, вера и пр.) и концепты-уникалии — идио-этнические [...]- в достаточной мере условно, поскольку идиопоэтичность частично присутствует и в концептах-универсалиях, отличающихся от одного языкового сознания к другому своим периферийным семантическим составом и способами его иерархической организации», С. Воркачев, Любовь как лингвокультурный концепт, М.: Гнозис, 2007, 31.
6 На эту тему существует колоссальная литература; см. Subjectivity: Ethnographic Investigations, ed. J. Biehl, B. Good, A. Kleinman, Berkeley: Univ, of California Press, 2007, особенно статью A. Kleinman, E. Fitz-Henry, «The Experiential Basis of Subjectivity».
Право на эмоции, правильные эмоции: управление чувствами... 53
проникновение в Россию через переводы западных романов в конце XVII века экзотической «романтической любви»; распространение знаний об этой новой поведенческой модели через беллетристику, жадно поглощавшуюся россиянами в последние три четверти XVIII века; расцвет сентиментализма, который считается ключевым моментом в истории русской литературы; и, наконец, рождение русской «психологической прозы», или литературного реализма7. Сочинения Н. Карамзина, в частности «Бедная Лиза» (1792), стали, согласно этой интерпретации, новаторским манифестом искренних чувств, причем заявление Карамзина «ибо и крестьянки умеют любить» было воспринято как демократическое признание эмоционального эгалитаризма и существования души у эксплуатируемых. Подобный анализ позволяет проследить, каким образом на волне сентиментализма русские читатели ознакомились со словарем чувств, представлявших собой кальку с французского («я тронут» — ‘je suis touche(e)’), и то, как впоследствии традиция «светской повести», повествования о высшем обществе, в котором фигурирует борьба запретной любви с социальными условностями, послужила переходом к более радикальным произведениям типа «Кто виноват?» Герцена и «Что делать?» Чернышевского. Классический анализ такого рода содержится в книге Лидии Гинзбург «О психологической прозе»: аутентичное описание чувств началось с Руссо, чье влияние, лишь слегка затронувшее романтиков, достигло своего наивысшего развития в романах Толстого и в письмах и мемуарах Герцена, явившихся апогеем аутентичности; позднейшая проза (например, Джойс) представляет собой в этом отношении упадок8.
Подобную историю литературы можно сопоставить с историческими исследованиями частной жизни, в которых также просле
7 О раннем периоде см., напр.: Л. Сазонова, «“Любовный лексикон” в России XVIII века — amoris documentum», Новая деловая книга 37 (1997); Ю. Лотман, «“Езда в острова Любви” Тредьяковского и функция переводной литературы в русской культуре первой половины XVIII века», Проблемы изучения культурного наследия, М., 1985; о третьем периоде: G. Hammarberg, «Flirting with Words: Domestic Albums, 1770—1840», Russia— Women — Culture, Bloomington: Indiana UP, 1996; о четвертом периоде: Л. Гинзбург, О психологической прозе, Л.: Советский писатель, 1977.
8 В текстах, не предназначенных для публикации, Гинзбург, конечно, описывает чувства иначе и менее «эволюционистски»; см., напр., ее тонкие замечания о связи между выражением чувств и эмоциями в «Записных книжках»: «Я читала (меня принудила его прочесть Мар. Викг.) письмо, которое Виктор Иванович Рыков написал Грише летом 28-го года. Там говорилось о светлой памяти покойницы, об общей их святыне... и все эти слова, которые “мы” не можем произнести, были абсолютно полноценны», Записные книжки. Воспоминания. Эссе, СПб.: Искусство, 2002, 407.
54
Катриона Келли
живается, каким образом в ходе новой и новейшей эпохи усиливалось значение, придававшееся и самим чувствам, и их выражению. Например, Наталья Пушкарева отмечает в конце Средневековья проявления «повышенной эмоциональности», наблюдавшиеся вопреки упорной подозрительности по отношению к «личному скорбию», имевшей под собой религиозные основания9. Впрочем, считает Пушкарева, внедрение этикета в начале XVIII века привело к распространению мнения о том, что благородные люди должны подавлять свои чувства, тогда как русские, не принадлежавшие к культурной элите, продолжали (например, в переписке) выражать «истинные чувства». В параллель к этому нарративу Пушкарева приводит несколько других, связанных с историческими изменениями, — в частности, осознание детства как особого состояния человека и формирование тесных взаимоотношений между матерью и ребенком10. Иными словами, в работе Пушкаревой к истории России примеряются модели, позаимствованные у западных специалистов по истории семьи, таких как Филипп Ариэс и Лоренс Стоун, утверждавших, что начало современной эпохи отмечено возникновением «приятельского брака» (companionate marriage) и «семьи с ребенком в центре» (child-centered family)11.
Характерной особенностью, отмечающей внедрение в России таких моделей, является их тесная связь с эссенциалистскими взглядами на женский пол, свойственными Н. Пушкаревой, конечно, в меньшей степени, чем Ю. Лотману, который в своем эссе «Женский мир» преподносит связь женщины с чувствами как нечто неизбежное и естественное:
С одной стороны, женщина с ее напряженной эмоциональностью, живо и непосредственно впитывает особенности своего времени, в значительной мере обгоняя его. [...] С другой стороны, женский характер парадоксально реализует и прямо противоположные свойства. Женщина — жена и мать — в наибольшей степени связана с надысторическими свойствами человека, с тем, что глубже и шире отпечатков эпохи12.
9 Н. Пушкарева, Частная жизнь русской женщины: невеста, жена, любовница (X— начало XIX века), М.: Ладомир, 1997, 101.
10 Там же, глава 3.
11 Ph. Aries, L ’Enfant et la vie familiale sous I’ancien rdgime, Paris: Pion, 1960; L. Stone, The Family, Sex and Marriage in England, 1500—1800, London: Weidenfeld, Nicolson, 1977; Stone, The Road to Divorce: England, 1530—1987, N.Y.: Oxford UP, 1990.
12 Ю. Лотман, Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства XVIII— раннего XIX века, СПб.: Искусство, 1994, 46.
Право на эмоции, правильные эмоции: управление чувствами... 55
В практическом смысле из этого заявления довольно затруднительно вывести взаимосвязь гендерных ролей с социальными нормами, поскольку женщина одновременно ставится и впереди, и позади, и внутри истории ее собственной эпохи. Обращает на себя внимание выражение «напряженная эмоциональность»: выходит, что женщина отражает и раскрывает характер своего времени именно на уровне «чувствительности».
Как догадался читатель, в моей статье я предложу несколько иной, ревизионистский подход к истории эмоций в России. Конечно, в стандартном подходе имеются некоторые элементы, которые я не собираюсь оспаривать. У нас есть убедительные свидетельства того, что с конца XVII по XIX век риторика чувств обретала новые формы и что менялось представление о том, в каких контекстах допустимы проявления чувств. Подтверждением тому может служить хотя бы широкое распространение убеждения в том, что чувства подвержены изменениям. В конце XVIII века «смягчение нравов» как достижение недавнего времени стало практически избитой темой, и это достижение приветствовалось даже теми, кто в целом выступал против модернизации. Например, консервативный оппонент Екатерины II, князь М. Щербатов, в своем сочинении «О повреждении нравов в России» упоминал распространение романтических чувств как один из положительных моментов петровского правления: «Страсть любовная, до того почти в грубых нравах незнаемая, начала чувствительными сердцами овладевать, и первое учреждение сей перемены от действия чувств произошло»13.
Строго говоря, в значительном числе мемуаров и записок путешественников отмечается, что культ чувствительности и интимности сравнительно медленно завоевывал себе место на русской почве. Интересно, что в русском переводе книги Луизы д’Эпине (Louise d’Epinay) «Les Conversations d’Emilie» (Разговоры Эмили), в отличие от французского оригинала, маленькая девочка в диалогах со своей матерью церемонно обращается к ней на «вы», а не на «гы»14. Англичанка, в конце 40-х годов XIX века путешествовавшая по русской провинции, отмечает, что главной фигурой в первом доме неподалеку от Москвы, где она остановилась, была «хозяйка»: «Дружелюбием она почти не отличалась, представляя собой пре
13 М. Щербатов, О повреждении нравов в России, ed. A. Lentin, N.Y.: Cambridge UP, 1969, 136.
14 [Л. д’Эпине], Училище юных девиц, или Разговоры матери с дочерью [...] служащие продолжением Детского училища, пер. А. М. М., 1784. В этом издании автором книги на титульном листе ошибочно называется М. Leprins de Bomon; эта ошибка повторяется и в Сводном каталоге книг гражданской печати XVII I века, № 3641.
56
Катриона Келли
восходный образец определенного типа русских дам: страстная, суровая, тираничная, капризная и антипатичная; однако при этом благородные побуждения были ей не чужды. Слуги и дети никогда не обращались к ней без трепета»13 * 15. Евгений Трубецкой, детство которого пришлось на 1870—1880-е годы, отмечал, что лишь в его поколении дети из верхнего слоя дворянского общества начали пользоваться полным и безраздельным вниманием своих родителей16.
Разумеется, все это совсем не опровергает гипотезу о происходившей в России эволюции в сторону «приятельского брака» и «семьи с ребенком в центре»: скорее, это просто говорит о том, что такая эволюция происходила несколько позже, чем предполагается у Лотмана и Пушкаревой, а именно в середине XIX, а не в конце XVIII века, на что указывает и Джессика Товров в своем новаторском исследовании о русской дворянской семье начала XIX века17. К середине XIX века эмоциональные внутрисемейные отношения считались «приличными» даже среди национал-консер-ваторов из числа славянофилов, решительно выступавших против насаждения западного образа жизни. А к началу XIX века словарь отношений между близкими людьми действительно содержал набор смыслов, весьма отличный от принятого в Средневековье. «Любовь» стала пониматься как эмоциональные узы интимности и близости, в то время как прежде она в первую очередь означала отсутствие конфликтов в семье; «ласка» отныне воспринималась как нежность, в отличие от своего прежнего значения — «благосклонное расположение», «привязанность»18.
И тем не менее развитие было отнюдь не линейным. В русской культуре после 1700 года наблюдается и другая, совершенно иная и нередко прямо противоположная динамика: набирает силу идеология, требующая вовсе не самовыражения, а самоконтроля и делающая упор отнюдь не на акцентировании и культивировании чувств, а на их подавлении19. Когда княгиня Софья Волконская в 1931 году сравнивала старые дома с «истинными аристократами: какие бы страсти ни бушевали у них внутри, их лица оставались
13 Amelia Lyons, Al Ноте with the Gentry: A Victorian English Lady s Diary of
Russian Country Life, ed. J. McNair, Nottingham: Bramcote Press, 1998, 15.
16 E. H. Трубецкой. Из прошлого: Воспоминания: Из путевых заметок,
Newtonville, Mass.: Oriental Research Partners, 1976, 37.
17 J. Tovrov, The Russian Noble Family: Structure and Change, N.Y.: Garland, 1987.
18 Пушкарева, Частная жизнь..., 107.
19 To же наблюдалось и в других культурах: см. Р. Stearns, Battleground of Desire: The Struggle for Self-Control in Modem America, N.Y.: NYU Press, 1999.
Право на эмоции, правильные эмоции: управление чувствами... 57
спокойными и безучастными»20, она лишь повторяла идею, которая стала банальностью еще по меньшей мере за полтора века до нее.
Использованное нами выражение «набирает силу идеология...» требует, пожалуй, объяснения. В классической книге Н. Элиаса «О процессе цивилизации» (Uber den Prozess der Zivilisation) утверждается, что развитие «цивилизации» связано с постепенным отказом от грубого поведения21; то есть и здесь, как и в исследованиях развития нежности и семейной близости, выдвигается эволюционистская схема исторического развития. Как мне приходилось уже указывать в другой работе22, работу Элиаса (написанную в конце 1930-х годов, когда ситуация на родине автора, в Германии, как раз указывала на ошибочность мнения, будто общества по мере модернизации становятся более «цивилизованными») следует рассматривать как некую историческую утопию. «Процесс цивилизации», так же как и работа Бахтина о Франсуа Рабле23, представляет собой своеобразную реакцию на развитие тоталитарного общества, поиск иного, теоретически возможного, «контрфакгуального» исторического пути. Как бы то ни было, не зря теория «процесса цивилизации» в последнее время стала резко критиковаться медиевистами, указывающими, что и в раннем Средневековье существовала замысловатая «политика поведения», внутри которой подавлялись одни эмоции и поощрялись другие; к тому же, не существовало дня всего общества единого стандарта поведения (как вроде бы следует из работы Элиаса). Наоборот, можно наблюдать целую верени
20 С. Волконская [alias Princess Peter Wolkonsky], The Way of Bitterness: Soviet Russia, 1920, London: Methuen, 1931, 70. Ср. слова Трубецкого о его деде: «Самое выражение чувств у дедушки было стильно. Чувство, как бы оно ни было сильно и естественно, все-таки должно было не выливаться само собою, а непременно облекаться в подобающие ему и предписанные дедушкой формы» (Из прошлого, 9). Поводом для этого замечания послужил памятник, поставленный дедушкой Трубецким своей матери, на котором были запечатлены весьма условные выражения скорби («мать нежная, драгая [...] Да будет в век же вспоминанье / Сей памятник делам твоим, / А мне то сладостно сознанье, / Что сын воздал достойно им». Искренние чувства дедушки всплывали только в невербальном языке: когда памятник поставили, «“князь прослезился”, так рассказывали мне его бывшие дворовые» (там же).
21 Пушкарева (Частная жизнь..., 189) отчасти следует схеме, заданной Элиасом, когда указывает, например, на появление в «Уставе о благочинии» Екатерины II от 1782 г. статей, направленных против семейного насилия.
22 См. «Introduction» in Kelly, Refining Russia, Oxford: Oxford UP, 2001.
2i M. Бахтин, Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса, М.: Худож. лит., 1965. Ранний вариант этой работы, носивший название «Франсуа Рабле в истории реализма», был написал в 1938— 1940 годах.
58
Катриона Келли
цу «эмоциональных сообществ», в которых ходячие стереотипы поведения и коды эмоционального выражения («эмотивы», пользуясь термином У. Редди) могли быть совершенно различными24.
Эти критические замечания в значительной степени справедливы, хотя в них аргументация самого Элиаса (как раз признающего существование разных «эмоциональных сообществ», пусть и в сильно абстрагированном виде — как «французской» civilisation и «немецкой» Kultur) представляется в упрощенной форме. Но сила и в то же время слабость «Процесса цивилизации» в том, что эта книга очень (если не слишком) верно следует мировоззрению самого Просвещения, когда образ воспитанности как преодоления первобытной грубости и жестокости стал клише, приведенным в бесчисленных трактатах о поведении, в том числе и в переведенных на русский. Любые сильные эмоции — скорбь, восторг, романтическая склонность, сексуальная страсть — ставились под сомнение. Интересно, что в других нормативных источниках, словарях конца XVIII и начала XIX века, сильные чувства (или, как тогда говорили, «чувствования») тоже вызывали некоторую долю неодобрения: в шестом томе 1-го и 2-го изданий «Словаря Академии Российской» (1794 и 1822) даются такие примеры употребления слова «страсть» во втором его значении («сильное чувствование охоты или отвращения, соединенное с необыкновенным движением крови и жизненных духов»): «Укрощать страсть», «Иметь сильную, слепую к чему страсть» и (в первом издании) «Предаться стремлению страстей»25.
Если ключевую роль в распространении культа чувств (наряду с их внешними выражениями, такими как закатившиеся глаза, побледневшее лицо и обмороки) сыграла беллетристика, то глав
24 См. В. Rosenwein, Emotional Communities in the Early Middle Ages, Ithaca, NY: Cornell UP, 2006, 3-24.
25 Словарь Академии Российской no азбучному порядку, т. 6. СПб.: В Имп. Рос. Акад. Наук, 1794, 21822. Как и в других европейских языках, само слово эмоция в русском языке вторичное и стало в русском употребляться позже, чем, например, во французском и в английском, как ясно по двуязычным словарям. См., напр., П. Жданов, Новый словарь английский и российский, СПб.: При Тип. Морского Шляхетного Корпуса, 1784, где emotion переводится как «смятение, смущение» (а слово «эмоция» не включается); Ф. Рейф, Русско-французский словарь, СПб.: Тип. Н. Греча, 1835 (слово «эмоция» не включается); Новый карманный русско-английский словарь, Лейпциг: Напечатанный с иждивением Карла Таухница, 1846 (emotion переводится как «душевное чувство, движение, умиление, чувство»). В разговорном русском той эпохи, как известно, сохраняется значение «эмоции» как «смятения» или «душевного движения»: ср. «я понимаю твои эмоции» и пр. (в английском нельзя сказать, I understand your emotions, и эту фразу можно адекватно перевести только как I understand why you’re so upset или ...why you’re so happy).
Право на эмоции, правильные эмоции: управление чувствами... 59
ным средством для распространения культа «спокойного, безучастного» самообладания, о котором говорит Волконская, стала воспитательная литература26. Одной из влиятельных книг, в которых проповедовалось руководство или управление чувствами, была «Avis d’une mere a sa fille», вышедшая из-под пера г-жи Ламбер(т) (Madame de Lambert) и изданная на русском в 1732 году, сперва в журнале (в «Примечаниях к ведомостям»), а через 29 лет отдельной книгой27. В книге Ламберт, написанной в 90-х годах XVII века отчасти по образцу «Трактата о воспитании девиц» (Traite de ledu-cation des filles) Фенелона, также одного из самых популярных текстов о женском воспитании, когда-либо издававшихся в России, значение придавалось не бурному изъявлению чувств, а грациозности чувств (gmces des sentiments): Ламберт подчеркивала необходимость умерять свои чувства и превыше всего ставила их приятное выражение28.
Не поощрялись и такие занятия, которые могли привести к избытку эмоций. Одним из них было чтение романов (излюблен
26 Разумеется, верно также и обратное: в докладе о спокойствии в русской литературе XVIII в., представленном на конференции по русской культуре XVIII в. в 2000 г. в St Edmund Hall, Oxford, Эндрю Кан (A. Kahn) проследил тенденцию к выражению самообладания в литературе. См. также статью А. Зорина в этом сборнике. В распоряжении русских людей имелись и пособия, обучавшие навыкам самовыражения с должной степенью чувствительности; например, в «Письмовнике» П. И. Богдановича приведен такой образец делового письма, в котором о неспособности заплатить дош советуется сообщать в следующих словах: «С крайней чувствительностью принужден я вам объявить, что недавно претерпел великий урон» [курсив мой. — К. Л'.], П. Богданович, Новый и полный письмовник, или Подробное и ясное наставление, как писать купеческие, канцелярские, просительные, жалобные, одобрительные, дружеские, увещательные и вообще всякого рода деловые письма [...]. СПб., 1791, 100. Но дело в том, что роль поведенческой литературы до сих пор недостаточно оценена: есть тенденция или отрицать роль такой литературы вообще (на основе того, что «ее никто не читал», чему явно противоречит огромное количество оригинальной и переводной литературы на тему норм поведения), или черпать из нее материал о реальных нормах поведения (как, напр., в книге О. Муравьевой, Как воспитывали русского дворянина, М.: Искусство, 1999), что содержит некоторую степень историографической наивности. Дело в том, что поведенческие книги безусловно влияли на идеалы поведения, но далеко не все читатели могли или даже желали подражать моделям, в них изложенным (напр., во второй трети XIX в. существовал культ «антиповедения», часто со славянофильским и маскулинистским оттенком, идущий как раз вразрез с идеалами, изложенными в поведенческой литературе; см. об этом мою Refining Russia, ch. 2).
27 Письма Госпожи де Ламберт к ея сыну о праведной чести и к дочери о добродетелях приличн ых жен ск ому полу, СПб., 1761.
28 См. de Lambert А.-Т., CEuvres, Paris: Champion, 1990, 103—105.
60
Катриона Келли
ная тема в книгах по воспитанию эпохи Просвещения), по поводу которых Ламберт замечает: «По большей части бывают они вымышлены и мечтание чрез меру возбуждают. Непорочные сердца приводят они в соблазн и оставляют во оных непорядочные движения. Ежели молодой человек к чувствованию страсти хотя только мало склонен, то может легко учиняться, что он потом в сей склонности весьма неумеренно поступит»29.
Сочинения Ламберт — типичный пример пособий по воспитанию XVIII века, написанных женщинами и адресованных женщинам. Для таких пособий характерно подчеркивание связи между избыточными эмоциями и опасными любовными страстями, предпочтение дружбе в ущерб романтической привязанности и представление о чувствах как о том, что надлежит выражать очень аккуратно и только частным образом, но даже и тогда сдержанно и изящно. Аналогичные взгляды проповедуются в «Советах несчастной матери ее дочери» Сары Пеннингтон, изданных на русском в 1788 году или в переведенном в том же году «Magasin des adolescents» (под названием «Юношеское училище») для школьного чтения г-жи Ж. М. Лепренс де Бомон (Leprince de Beaumont), где предупреждается, что управлять своими страстями проще, нежели удовлетворить их30. В глазах таких авторов возможности женщин как цивилизующей силы в частной сфере и их независимость в вопросах нравственности непосредственно увязывались со сдержанностью: предполагалось, что спонтанное выражение чувств отдает женщин на милость мужчин. Аналогичные идеи можно найти и в дидактических сказках г-жи Жанлис (Madame de Genlis), а также, разумеется, в произведениях Екатерины II: то значение, которое императрица придавала самоконтролю, очевидно не только из ее пьес, таких как «Именины госпожи Ворчалкиной», но и из мемуаров, в которых она с большим неодобрением отзывается о собственном поведении в юности.
Подобное отношение получило лишь дополнительное подкрепление в общепринятом мнении, что бунт цареубийц против французского ancien regime был вызван недостатком воспитания31.
29 Lambert, CEuvres, 112; см. Письма Госпожи де Ламберт, 107.
30 С. Пеннингтон, Советы несчастной матери ее дочерям, М., 1788 (S. Pennington, An Unfortunate Mother’s Advice to her Daughter), M. Leprince de Bomon, Юношеское училище, M., 1788, 7.
31 Другим вариантом реакции на революцию был исторический пессимизм. Например, первый корреспондент в карамзинской переписке Мелодо-ра с Филалетом ставит под вопрос зародившееся в эпоху Просвещения понятие прогресса как таковое, опять же в качестве мерила цивилизованности используя уровень нежных чувств: «Кто более нашего славил преимущества осьмого-надесять века: свет философии, смягчение нравов, тонкость разума и
Право на эмоции, правильные эмоции: управление чувствами... 61
К началу XIX века неодобрительное отношение к бурным эмоциям особенно распространилось среди консервативных русских националистов, которые, по странной иронии истории, видели в импортированной идеологии самообладания орудие борьбы против иностранных влияний. В панегирике, написанном Сергеем Глинкой в честь матери Петра Великого, автор возлагает на «иноплеменное воспитание» ответственность за «слепое пристрастие к разорительным модам», безразличие к родному языку, а также за тщеславие, «ложное понятие о чувствительности» и «неумеренность желаний». Глинка утверждал, что в славном XVII веке «Россиянки не рассуждали о чувствительности, не употребляли сего слова в разговорах; благотворя ближним, оне на деле были чувствительны»3,2.
То мнение, что выражение своих чувств создает для женщин проблемы и опасности, отражалось и в стереотипах так называемой светской повести, включая даже такие нетрадиционные ее варианты, как «Пиковая дама», а также в частной переписке. Императрица Мария Федоровна в письме своей дочери Анне, принцессе Оранской, так отвечает на полученное от дочери известие об опасной болезни ее маленького сына: «Слезы — вещь естественная, мое дорогое дитя, но вы не должны позволять себе падать духом. [...] Я могу назвать многие из чувств, которые вас сейчас одолевают, моя дорогая, но во имя неба не позволяйте себе падать духом и следите за своими нервами»32 33. Неудивительно, что идеальной матерью обычно называли ту, которая воспитывает своих детей разумно, не потакая их капризам. Например, Николай Поповский, русский переводчик сочинения Локка «Об образовании» (On Education), предвидел, что его правила, относящиеся к телу, «могут несносны показаться матерям, пристрастившимся к своим детям и желающим содержать их больше в неге, нежели в строгости», но напоминал таким нежным душам, сколь благотворным суровое
чувства, размножение жизненных удовольствий, всеместное распространение духа общественности, теснейшую и дружелюбнейшую связь народов, кротость правлений, и проч., и проч.? [...] Осьмой-надесять век кончается: что же видишь ты на сцене мира? [...] Век просвещения! Я не узнаю тебя — в крови и пламени не узнаю тебя — среди убийств и разрушения не узнаю тебя!», Н. Карамзин, Записки старого московского жителя, М.: Московский рабочий, [1795] 1986, 243-244.
32 С. Глинка, «Царица Наталья Кирилловна, или Свойства матери Россиянки», Русский вестник 4 (1808), 279; курсив оригинала.
33 Письмо от 18 августа 1822 г. См. Chere Annete: Letters from Russia 1820— 1828: The Correspondence of the Empress Maria Feodorovna of Russia to her Daughter the Grand Duchess Anna Pavlovna, the Princess of Orange, ed. S. Jackman, Dover, NH: Alan Sutton, 1994, 67—68.
62
Катриона Келли
воспитание оказалось для спартанцев: «от того произошли толь храбрые солдаты, что сей народ учинился повелителем всей Азии»34. Хотя отдельные тексты знакомили российскую публику с руссоистскими идеями о пользе и естественности кормления грудью, значение придавалось в то время в первую очередь цивили-зирующей роли матери. Книга Песталоцци для матерей, единственный раз переведенная на русский, также оказала на русскую публику значительно меньше влияния, чем Ламберт или Фенелон.
А как обстояло дело с эмоциональным воспитанием мужчин? Согласно общему представлению, его принципы разительно отличались от тех советов, которые давались женщинам. Собственно, сама Мария Федоровна писала: «[Графиня Ливен] ожидает от нас такого совершенства, на которое мужчины совсем неспособны. Мы должны ожидать его от женщин, но для мужчин столь же строгих правил не установлено»35. Даяна Грин, проводя анализ литературы воспитания в своей статье «Идеология домашней жизни в России середины XIX века»36, подчеркивает различие между мужским и женским чтением и указывает, например, что мальчикам не советовали быть набожными и покорными37. В первой главе моей обширной работы о литературе воспитания «Облагораживание России» (Refining Russia) я выделяла и другие различия — например, тот факт, что в литературе для мужчин подчеркивалась важность вертикальной шкалы поведения (по которой решающую роль играла почтительность к вышестоящим), в то время как женщинам советовалось придерживаться «горизонтальных» взглядов, согласно которым за чертой можно оказаться в результате нарушения приличий. Но в сущности литература воспитания эпохи Просвещения уделяла различию между мужчинами и женщинами куда меньше внимания, чем, скажем, нормативный материал начала XX века, не говоря уже о советских книгах по поведению 70-х годов. Типичным было такое утверждение (из предисловия к изданию мадам де Ламберт 1761 г.): «Знание свободных наук не меньше женскому
34 О воспитании детей господина Локка, пер. Н. Поповского, в 2 т., М., 1760, т. 1, hi iv. Эти слова явно приобретали особое звучание в «антиевразий-ском» контексте Екатерининской эпохи, когда официальные источники старались подчеркнуть фундаментальное различие между «Россией» и «Востоком» — в частности, с целью обосновать антитурецкую внешнюю политику (о последней см., напр.: А. Зорин, Кормя двуглавого орла, М.: НЛО, 2001).
35 Chere Annette...,66.
36 D. Greene, «Mid-Nineteenth-Century Domestic Ideology in Russia», Women and Russian Culture: Projections and Self-Perceptions, ed. R. Marsh, N.Y.: Cambridge UP, 1998, 84 -87.
37 Более основательный обзор воспитания русских мужчин см. в книге R. Friedman, Masculinity, Autocracy, and the Russian University, 1804—1863, N.Y.: Palgrave Macmillan, 2005.
Право на эмоции, правильные эмоции: управление чувствами... 63
полу достойно, чем оное мужскому нужно»38. А руководства по поведению для мужчин фактически так же решительно отвергали излишнюю эмоциональную распущенность, как и руководства для женщин. Например, в «Некоторых мыслях касательно образования» Локка (Some Thoughts Concerning Education, 1690), переведенных на русский в 1760-х годах, подчеркивалось значение «почтительности, любезности и вежливости» и выстраивалась система, согласно которой «разумный», то есть контролирующий себя, родитель должен насаждать такую же разумность в своих сыновьях: «мягкостью своих манер, спокойствием и даже теми наказаниями, которым ты их подвергаешь, ты должен внушить им разумную обоснованность своих поступков»39.
Локк утверждал, что одна из задач «взращивания» (breeding) состоит в том, чтобы научить человека различать тонкие оттенки приемлемого и неприемлемого поведения: например, проводить различие между образованностью и педантизмом или между отвагой и жестокостью40. Точно так же и в других руководствах по поведению требовалось, чтобы юный читатель мужского пола постиг разницу между храбростью (однозначно необходимой) и агрессивностью (от которой следует себя отучать). Как выражался в 1760 году Г. Н. Теплов, автор «Наставления сыну», «забиячество [есть] продерзость приобретенная, то есть происходящая от дурного воспитания, у которого при отпуске из общества проводником бывает палач. [Оно свойственно] грубым невежам, хотя в благородстве рожденным»41.
Интересно, что неприязнь к избыточным проявлениям чувств у мужчин находила свое продолжение в подозрительном отношении к любви, которое было свойственно и женскому воспитанию. «Не будь безумен в страсти любовной», — советовал Теплов в «Наставлении сыну»42. «Любовь есть идол, который ничего иного не требует, кроме беспорядка и греха», — проповедовал Й. Грабене-кий в «Дружеских советах молодому человеку, начинающему жить в свете»43. «Книжечка для прекрасного пола и молодых мужчин»,
38 Письма Госпожи де Ламберт, 1.
39 The Works of John Locke in Ten Volumes, London, 1801, vol. IX, 69. Перевод этого пассажа Поповским весьма волен: «преклонишь их гораздо лучше, куда ни захочешь, чрез рассужденья, предлагаемые кротким и внушительным образом», О воспитании детей господина Локка, т. 1, 162.
40 The Works of John Locke..., vol. IX, 78.
41 Г. Теплов, Наставление сыну, СПб.: При Имп. Акад, наук, 1760, Правило 7, с. 19.
42 Там же, Правило 9, с. 23.
43 Дружеские советы молодому человеку, начинающему жить в свете, М., 1765, 36; ориг.: J. Grabiensky, Conseils d’un ami a un jeune homme qui entre dans le monde, Berlin, 1760.
64
Катриона Келли
изданная в 1819 году, содержала такую не слишком оригинальную сентенцию: «Благоразумие и любовь не идут рядом». Отсюда следовал и совет относительно брака: «Женись без страсти: тогда и с каждым днем будет возрастать твое счастие»44.
В целом основная тенденция в книгах и для мужчин, и для женщин сводилась к тому, чтобы представить чувства как нечто нежелательное. Аналогичным образом и в дискуссиях о самоубийстве, развернувшихся в XVIII и начале XIX века, часто подчеркивалась роль бурных эмоций и неуправляемых страстей в этиологии самоуничтожения45. В книгах о здоровье также встречались увещевания против бурных страстей. Нечто подобное высказывал Бецкой, наставник Екатерины II, в своем «Кратком наставлении с некоторыми физическими примечаниями о воспитании детей от рождения до юношества», которое было издано в «Сборнике учреждений и предписаний». Он советовал не допускать проявления детьми крайних чувств, избегать излишней «чувствительности» и чрезмерных страстей. Более странным выглядит его совет не играть на духовых инструментах, ибо это может повредить здоровью. В книге также содержатся подробные указания, как распознать четыре вида темперамента46.
В соответствии с «гидравлической» моделью, связывающей телесные флюиды с эмоциями47, весьма велик был список болезней, которые, по мнению специалистов XVIII века, вызывались избытком чувств. Андрей Бахерахт в своем труде «О неумеренности в любострастии обоих полов» полагал, что в число болезней, вызванных потерей контроля над душой и телом, входят ипохондрия (т.е. меланхолия), истерика, припадки, конвульсии, эпилепсия («падучая болезнь»), физический паралич, чахотка, слепота, потеря памяти и рассудка, понос, газы, сильное сердцебиение, недержание, поллюции и затруднения с мочеиспусканием. Изнуренные «выделениями», больные обычно молчаливы и подавлены, вид имеют, разумеется, бледный, согбенный и старый48.
44 Книжечка для прекрасного пола и молодых мущин, пер. с нем., М., 1819, 9, 31.
45 S. Morrissey, Suicide and the Body Politic in Imperial Russia, Cambridge: Cambridge UP, 2006, 65—66, а также вся ch. 2.
46 См. vol. I, 33, 40—50. Cp. Locke, Some Thoughts Concerning Education, где дается предостережение против обжорства, а также против потакания своим прихотям в нравственном плане. См. The Works of John Locke in Ten Volumes, vol. IX, 15, 27 (О воспитании детей господина Локка, т. 1, 24, 47).
47 См. W. Reddy, The Navigation of Feeling: A Framework for the History of Emotions, Cambridge: Cambridge UP, 2001.
48 А. Бахерахт, Собрание разных полезных лекарств, СПб.: Сенатская типография, 1779, 7—8.
Право на эмоции, правильные эмоции: управление чувствами... 65
В книге Бахерахта особенно четко проводится связь между управлением своими чувствами и подавлением сексуальности. Строго говоря, этот мотив более явственно проявляется в отношении женщин, которым с утомительным постоянством вдалбливается, что «скромность — лучшее достижение женского пола». Обличениями фривольного женского поведения наполнена, например, книга «Наставление юной принцессе» Тропи де ля Шетарди (во французских изданиях XVIII века регулярно выходившая под одной обложкой с гораздо более популярным «Трактатом о воспитании девиц» Фенелона), где мечутся громы и молнии в адрес «развращенной души [esprit gate\, порочного сердца, души без веры и нежности, разума без рассудительности, чрезвычайной узости суждений, пустого тщеславия» и прочих пороков, присущих этому ужасному чудищу — кокетке49. Подозрительное отношение к романам, в полном соответствии с таким подходом, основывалось на убеждении, что их содержание может быть столь же нескромным50. Обличая французское влияние, В. А. Левшин с ужасом сообщал в 1807 году: «Самому мне неоднократно случилось [т.е. случалось] некоторых девиц и молодых дам заставать, углубленных в чтение довольно известных книг: Therise-philosophe, fille de joie [Тереза-философ, девица легкого поведения. — К. К.}, и подобных изобретений Французского просвещения, которых по счастию не издано ни на одном языке, кроме сего всеобщего и общеполезного языка. Известно также, что сии издания sont enrichie [sic] de belles figures en Taille douce» [т.е. были украшены красивыми офортами. — К. АГ.]51.
Впрочем, упор на требующийся от женщин самоконтроль не обязательно носил чисто репрессивный характер — по крайней мере, не во всех источниках. В сочинениях некоторых авторов, включая Ламберт и Жанлис, подавление женщинами эмоций связывалось еще с одним элементом социализации: внушением жен
49 Trotti de la Chetardie, Instruction pour une jeune princesse, Paris, 1771, 171.
30 Читать литературу воспитательного характера, включая романы, считалось вполне в порядке вещей, что очевидно, например, из дидактического трактата мадам де Жанлис Adele et Theodore, ои Lettres sur Education, contenant tous les principes relatifs aux trois differens plans d Education, des princes, des jeunes personnes, et des hommes, 3 vols., Maastricht, 1781, vol. I, 31. Русские переводы этой книги (Аделия и Теодор) издавались в 1791, 1792 и 1794 гг.
2,1 В. Левшин, Послание рускаго к франиузолюбцам: Вместо подарка в новый 1807год, М., 1807, 26. Therese-philosophe один из самых скандально известных либертинских (или, выражаясь современным языком, порнографических) французских романов конца XVIII в. В 1840 г. выражались опасения о возможной связи между чтением молодых девушек и мастурбацией: см., напр.: А. Никитин, О вредных последствиях рукоблудия, или Гигиенические замечания о несчастных тайных привычках детей, в назидание родителям и наставникам, СПб., 1844, 12.
66
Катриона Келли
щинам идеи о том, что управление своими чувствами необходимо для их независимости. Как многозначительно говорится в одном трактате 1804 года о поведении, «никогда сладострастие не унизит меня»52. «Старайся нравиться женщинам своею тихостью и заслуживать почтение и уважение мужчин добродетелью и хорошими поступками», — советует другая книга53.
Параллельно иногда проводилось различие между акцентом на внешнее поведение у мужчин и традицией «внутреннего» у женщин. Хотя слово «честь» использовалось в отношении обоих полов, оно получало применительно к каждому из них разное звучание. В книгах для мужчин под «честью» нередко понималась репутация: «Мы судим о людях по наружностям», — говорится в русском переводе книги аббата Бельгарда (АЬЬё Bellegarde)54; но именно в превратности такого подхода постоянно пытались убедить своих читательниц книги для женщин. В руководствах по поведению для женщин, в отличие от аналогичных книг для мужчин, обычно большее значение придавалось «совести». Например, г-жа де Ламберт рекомендовала своей дочери жить вдалеке от света и руководствоваться императивами своей совести55.
Таким образом, вместо однозначной тенденции ко все более аутентичному выражению своих чувств в конце XVIII и начале XIX века наблюдалась довольно сложная эволюция различных вза-имоконфликгующих кодексов поведения. Художественная литература и руководства по поведению входили друг с другом в своеобразный контрапункт, поскольку эффектное выражение эмоций в одном контексте требовало подавления эмоций в другом. Чувствами предполагалось управлять по принципу шлюза, сформулированному в той или иной форме в несчетных пособиях по правильно
52 [Аноним], Наставление добродетельной матери, М., 1804, 81.
2,3 [Аноним], Советы воспитательницы к воспитаннице, пер. И. Синягина, 1787.
54 Рассуждения о том, что может нравиться и не нравиться в светском обращении, написанные г. Аббатом Беллегардом, М., 1795.
55 Lambert, CEuvres, 100: «Je crois qu’il faut eviter le monde et I’eclat, qui prennent toujours sur la pudeur, et se contenter d’etre a soi-meme son propre spectateun>. Такой стиль воспитания девочек наблюдался и в конце XIX в. По-видимому, он каким-то образом способствовал явлению, замеченному Сюзан Морисей, а именно что протесты и агитационные памфлеты студенток чаще основывались на нравственном индивидуализме, проявлявшемся в большем внимании к проблеме так называемой «нравственной личности», нежели к интересам широкого (в данном случае — студенческого) сообщества: «В ходе актуального и потенциального конфликта между полом и политикой студентки заменили идеал “студенчества” концепцией индивидуальной этики», S. Morrissey, Heralds of Revolution: Russian Students and the Mythologies of Radicalism, N.Y.: Oxford UP, 1998, 87-88.
Право на эмоции, правильные эмоции: управление чувствами... 67
му поведению. Но возможно также, что эти пособия внесли свою скромную лепту в дело воспитания более утонченного читателя, поскольку на их фоне художественные тексты могли восприниматься как таковые, как литературный вымысел, а не как инструкции о том, как себя вести. Во всяком случае, водораздел между отрицательным и положительным отношением к эмоциям имел решающее значение в русской литературе романтической эпохи, герои которой — кавказский пленник, лермонтовский Демон или, наконец, Печорин — изображались одновременно и лишенными эмоций56, и весьма чувствительными.
Равным образом и пропагандировавшаяся в руководствах по поведению связь между особенно строгим соблюдением моральных норм и контролем за эмоциями у женщин оказывала различное воздействие на женскую идентичность. Многие читательницы отвергали отношение к женщинам как к столпам нравственности. В некоторых романтических текстах (например, в «Двойной жизни» Каролины Павловой) это напряжение находило выражение в конфликте между поколениями. При этом даже в романтическую эпоху многие женщины подписывались под идеологией эмоционального контроля: например, в «Кадрили» Павловой одна из героинь страшно сожалеет о подверженности женщин эмоциональным порывам, в то время как пушкинская Татьяна, в своей последней ипостаси ставшая живым воплощением контроля за чувствами (и социальной независимости, полученной благодаря такому контролю), была одной из главных литературных героинь в женском чтении XIX века. Таким образом, борьба между различными взглядами на отношения между чувствами и добродетелью представляла собой нечто вроде перетягивания каната.
Следует также отметить, что конфликт между самовыражением и самоконтролем не был свойствен лишь XVIII и началу XIX века. Безусловно, к концу XIX века русскую культуру охватил неслыханный доселе культ чувств и чувствительности, чему способствовало и цензурное послабление в 1905 году57. Но дискуссии о неуместных чувствах всё так же подвергались интенсивному «омедицинива-нию»; вместо пагубности избыточных эмоций отныне подчеркивалась вредность «подавления чувств». С этой точки зрения, разделявшейся и образованными слоями советского общества в
36 Здесь, конечно, играли ро.гь и такие литературные модели, как Адольф Б. Констана, от скуки просто неспособный отвечать на спонтанную эмоциональность своей возлюбленной.
37 См. Р. U. Moller, Postlude to the Kreut^er Sonata: Tolstoj and the Debate on Sexual Morality in Russian Literature in the 1890s, Leiden: Brill, 1988; L. Engelstein, The Keys to Happiness: Sex and the Search for Modernity in fin-de-Siecle Russia, Ithaca, NY: Cornell UP, 1992.
68
Катриона Келли
1920-е годы этос эмоционального самоограничения представлялся причудливым и абсурдным явлением. Однако в книгах по поведению продолжалась пропаганда самоконтроля (в конце XIX века он был переформулирован в рамках маскулинистского этоса «тренировки воли»)58. К тому же, ширившаяся государственная кампания по насаждению в советских массах понятия о том, как стать «культурным», снова поставила управление страстями в центр внимания. Предполагалось, что насаждение таких суровых добродетелей, как самоограничение, сила воли, храбрость и нечувствительность к жаре и холоду, должно, согласно Г. Н. Сперанскому, ведущему специалисту ранней советской эпохи по уходу за детьми, осуществляться с самого детства59.
В сталинскую эпоху образцовым ребенком считался тот, кто с самого раннего возраста умел обуздывать свои побуждения. В книге Л. Космодемьянской о своих детях, дочери Зое, впоследствии прославившейся как «партизанка Таня», и сыне Шуре, также герое войны, читаем:
И Зоя и Шура очень сдержанно, даже осторожно проявляли свои чувства. По мере того как они подрастали, эта черта в характере обоих становилась все определеннее. Они как огня боялись всяких высоких слов. Оба были скупы на выражение любви, нежности и восторга, гнева и неприязни. О таких чувствах, о том, что переживают ребята, я узнавала скорее по их глазам, по молчанию, по тому, как Зоя ходит из угла в угол, когда она огорчена или взволнована60.
Основной добродетелью, свойственной младшим Космодемьянским, была даже не храбрость в смысле отважного поведения, а скорее именно сдержанность в проявлении чувств — добродетель, позволившая «Тане» выстоять перед мучителями-нацистами, когда на их настойчивые вопросы о том, где скрывается Сталин, она отвечала простым: «Товарищ Сталин на своем посту».
«Закал» и самообладание занимали важное место уже в популярной литературе 1920-х годов, наряду с памфлетами о вреде курения и опасностями мастурбации61. Но когда речь заходила о социализации детей, представления отличались большим разно
58 С. Kelly, «The Education of the Will: Advice Literature, Zakal, and Manliness in Early Twentieth-Century Russia», Russian Masculinities in History and Culture, ed. B. Clements, R. Freedman, D. Healey, N.Y.: Palgrave, 2002.
2,9 Сперанский, Уход за ребенком раннего возраста, М., 41929.
60 Л. Космодемьянская [в соавторстве с Ф. Вигдоровой], Повесть о Зое и Шуре, Лениздат, 1951, 113—114.
61 См. Kelly, Refining Russia, ch. 4.
Право на эмоции, правильные эмоции: управление чувствами... 69
образием. По крайней мере, в некоторых нормативных руководствах 20-х годов подчеркивалось, что подавлением своих чувств лучше не заниматься. Однако уже к 1932 году «дисциплина» в школах получила статус официальной политики, а в 1935 году кодификация первого свода общих правил поведения для школьников (пересматривавшегося в 1943 и 1960 годах) вменяла в обязанность каждому школьнику прилежность, уважение к старшим и приличное поведение на улице62. И хотя в указе от 4 июля 1936 года о борьбе с «педологическими извращениями» явным образом не упоминалась необходимость дисциплины, этот указ знаменовал собой окончательный разгром психологии обучения, столь влиятельной в Наркомпросе в 1920-е и начале 1930-х годов, и возвращение к педагогике, то есть к традиционным методам воспитания.
Главные методологические принципы советской педагогики, согласно ее идеологам, отныне заимствовались не у Фребеля или Монтессори (или у Пиаже и Выготского), а из российских источников XIX века, прежде всего у К. Д. Ушинского. Однако представления о добродетельном и неприемлемом поведении имели более давнее происхождение, восходя к неоклассическим принципам, пришедшим в Россию в конце XVIII века, и в конечном счете к классической Греции и Риму. Порой это классическое наследие пикантным образом дает себя знать в пособиях для советских учителей. Например, в пухлый справочник «Начальная школа», изданный в 1950 году для учителей начальных школ, включена не только иерархия «высоких» чувств в их противопоставлении «низким» (последние делятся на интеллектуальные, эстетические и нравственные), но и классификация темпераментов: сангвинический, холерический, меланхолический и флегматический63. Такое возрождение галеновских принципов никак не объясняется и не оправдывается, но, вероятно, восходит к работам П. Ф. Лесгафта конца XIX века64. Стародавние принципы «гуморов» получили современное истолкование в связи с различными типами строения нервной системы, «особенности которой лежат в основе различных темпераментов»65.
Диапазон допустимых эмоций, устанавливавшийся в этом справочнике для учителей, был весьма ограничен: чувство долга
62 КПБЦК 1929—1935, 11. 203—205. Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР, т. 3 (1940—1947). М., 1958, 340—349; Справочник директора школы, М.: Просвещение, 1971, 106-107.
63 Начальная школа: Настольная книга учителя, под ред. М. Мельникова, М.: Учпедгиз, 1950, 91—92.
64 См., напр., Лесгафт, Семейное воспитание ребенка и его значение, СПб., 1884. Книга выдержала много переизданий (я пользовалась изданием 1906 г.).
63 Начальная школа, 92.
70
Катриона Келли
защитника родины и любовь к труду; чувство советского патриотизма и национальной гордости; чувство товарищества; чувство социалистического гуманизма. Существенно, что согласно этой модели спонтанные поступки и поведение подавлялись в пользу жесткого внешнего фасада. Маленьким детям, попавшим под юрисдикцию школьной системы и едва достигшим семи лет, еще дозволялось проявлять «импульсивность», но даже они считались способными на сознательное управление своими поступками66.
Очевидно, в глубинах такого подхода скрывается ленинская дихотомия «спонтанное—сознательное», однако в реальности система разрешенных и запрещенных проявлений чувств имела более сложный характер, нежели можно заключить из прямолинейной бинарной оппозиции. Важным было также понимание того, кто в этой иерархической культуре мог проявлять определенные эмоции, а кто не мог. С одной стороны, статус принадлежности к элите был отмечен (как и в традиционной культуре)67 полным самообладанием, каковое было присуще образу Сталина как I’homme moyen serieux (уравновешенный, серьезный человек) с его скромностью, трудолюбием, вниманием к посетителям и т.д. Но, с другой стороны, от тех, кто занимал ведущие позиции, ждали и проявления таких сильных эмоций, как гнев. Кроме того, согласно этим общим представлениям об уместности выражения тех или иных эмоций в социальной структуре, к советским детям, имевшим статус особо привилегированных подчиненных лиц, предъявлялись еще более суровые требования, чем к взрослым, в той степени, в какой это касалось темперамента в психологическом смысле. Например, у взрослых гнев в смысле праведного гнева, то есть направленного на врагов родины, мог быть положительной эмоцией. Равным образом и страх в смысле благоговения (нечто вроде библейского «страха перед Господом») в качестве орудия подчинения высшим идеалам и средства избавления через «самокритику» от таких негативных эмоций, как высокомерие, считался совершенно похвальным чувством. Например, именно к этому сводится содержание пьесы Александра Афиногенова «Страх» (1931)68. С другой стороны, дети определенно не имели права на изъявление гнева. Даже в историях из военного времени — там, где дети играли хоть какую-нибудь активную роль, — им, как правило, надлежало перехитрить врага, а не оказывать ему неповиновение (такие герои, как Зоя Космодемьянская, были исключением, доказываю
66 Начальная школа, 79, 82.
67 См. А. Байбурин, А. Топорков, У истоков этикета, Л.: Наука, 1990,65 —71.
68 См. также Б. Сарнов, Наш советский новояз: Маленькая энциклопедия реального социализма, М.: Материк, 2002.
Право на эмоции, правильные эмоции: управление чувствами... 71
щим правило). А преодоление страха представляло собой стандартный мотив в воспитании сталинской эпохи. Например, женщина, в послевоенные годы обучавшаяся в элитной московской школе для девочек, вспоминает, как ее классный руководитель, который за пределами школы общался лишь с кучкой тщательно отобранных учениц, заставлял девочек преодолевать свои страхи, устраивая игру в прятки, в ходе которой приходилось прятаться в страшных темных дворах. Педагогический эффект таких мероприятий был, впрочем, незначительным: девочки боялись темноты точно так же, как и прежде69.
В постсталинских источниках сохранилась эта приверженность к сдерживанию чувств, несмотря на частичную реабилитацию педагогических позиций 1920-х годов. Например, в изданном в 1967 году руководстве для родителей умственное развитие рассматривается в смысле движения к самоконтролю:
В отличие от взрослых ребенок, особенно младшего возраста, выражает свои чувства бурно и непосредственно. По незначительному поводу он может смеяться и плакать, прыгать, хлопать в ладоши, кричать, топать ногами и т.д. Это происходит не только потому, что у него слабо развит самоконтроль, но главным образом потому, что у него еще нет жизненного опыта. Все лля него ново, и даже простые вещи становятся открытием, вызывают горячий отклик. Ребенок взрослеет, у него накапливается опыт, он все больше и больше узнает о жизни, и многое из того, что способно было раньше удивлять и волновать, становится обыденным, привычным. А наряду с этим появляются новые, более высокие и сложные чувства. Участвуя в жизни коллектива, в общественно полезном труде, он все полнее осознает себя гражданином. Он гневно осуждает несправедливость, зло, горячо одобряет положительные поступки товарищей и окружающих70.
С одной стороны, маленький ребенок, импульсивно совершающий глупые поступки; с другой — молодой человек, чья реакция на мир носит выверенный характер и который поэтому имеет право на «гнев» и «одобрение», поскольку эти реакции сформированы образованием, полученным в коллективе71.
69 CKQ-Ox—03 PF 1, р. 4. Интервьюируемая, 1936 г. р., выросла в Москве, родители — высокопоставленные советские чиновники.
70 Семейное воспитание: словарь для родителей, под ред. М. Кондакова и др., М.: Просвещение, 1967, 321.
71 О воспитании чувств. См. также предисловие А. Кочетова к книге чешского педагога Мирки Климовой-Фюгнеровой, Эмоциональное воспитание в семье, пер. А. Можейко, Минск: Народная асвета, 1981: «Мирка Климова-
72
Катриона Келли
Таким образом, в сталинскую эпоху оказался в значительной степени возрожден ключевой этос эмоционального сдерживания; механика самоконтроля также весьма сблизилась с той, что пропагандировалась в неоклассической литературе XVIII века, трактующей поведение. Однако при этом, точно так же, как и в прежние эпохи, признавалось существование таких контекстов, которые требовали выражения эмоций. В число санкционированных форм эмоционального самовыражения входили не только праведный гнев или выражение законного страха и благоговения, которые упоминались выше, но и вспышки чувств в более «светском», если можно так выразиться, контексте. Сюда относилась реакция на произведения искусства, на рассказы о патриотизме, а также при исследовании мира природы. Инспекторы из Академии педагогических наук, посетившие в 1947 году Свердловск, с одобрением отмечали, что «знания учащихся по литературе, истории, геологии, биологии и другим предметам нередко эмоционально окрашены». По-прежнему ценились упражнения по «эмоциональному чтению», внедренные в 1920-е годы. Те же инспекторы были рады видеть, как «молодая учительница 101-й школы Розовская, разбирая стихотворение Лермонтова “Бородино”, в яркой эмоциональной форме сумела раскрыть его патриотическое содержание, показать учащимся выраженные в его образах мысли и чувства русских людей, что отразилось в стремлении учащихся эмоционально и выразительно прочитать стихотворение Лермонтова»72. Вследствие повышенного внимания к роли семьи в советском обществе в 1930-е годы еще одним «светским» контекстом, в котором одобрялась эмоциональность, стало выражение любви и нежности в браке или добрачных (деэротизированных!) отношениях, которое всячески приветствовалось в официальной советской литературе, а также (что еще более существенно) в официальной живописи и визуальной пропаганде. (Например, в «Детском календаре», ежегодно издававшемся с конца 1940-х годов, нередко изображались дети в нежных объятиях кого-либо из родителей — при мальчике обычно изображался отец, при девочке — мать). Пусть такой конфликт между двумя альтернативными отношениями к эмоциям и не привел к появлению произведений литературы и искусства, обладавших утончен-
Флюгерова справедливо говорит о том, что в наше время нельзя быть счастливым без развитых чувств, без умения видеть и понимать красоту жизни, дарить людям радость, создавать прекрасное в человеческих отношениях. Правильное эмоциональное воспитание — один из путей к счастливой семейной жизни, к личному счастью человека».
72 О состоянии преподавания и знаний учащихся в школах г. Свердловска. НА РАО (Научный архив Российской академии образования). Ф. 32. On. 1. Д. 118. Л. 13-37.
Право на эмоции, правильные эмоции: управление чувствами... 73
ностью «Евгения Онегина», но тем не менее он занимал ключевое место в культурной политике и в политике идентичности73.
Таким образом, «душевность» являлась далеко не единственной поведенческой моделью, доступной для жителей России в эпоху после Просвещения и в Советском Союзе. Но тотальный самоконтроль тоже не приветствовался: от людей ждали вовсе не его, а сложного взаимодействия между сдержанностью и эмоциональностью, хотя в повседневной жизни на первый план все же выдвигалась первая. В частности, поскольку начиная с 1960-х годов западная молодежная культура сама взяла на вооружение этос сердечности и задушевности, иностранцы могли поучиться у своих русских знакомых тому, как преодолевать лицемерие и холодность (хотя и такое по-прежнему встречалось) и как бороться с неуместными и избыточными проявлениями эмоций и провокационно безалаберным поведением. Русские зачастую смотрели на иностранцев как на «детей» именно потому, что те создавали впечатление людей, неспособных управлять собой.
Также вполне понятно, что не всех русских следует «грести под одну гребенку». Санкт-Петербург по меньшей мере два столетия ассоциировался с горделивым самообладанием — эта вера подпитывалась такими широко распространенными литературными произведениями, как «Евгений Онегин» и «Смерть Ивана Ильича», а кроме того, еще и поведением самих жителей города. Если для москвичей петербургская сдержанность казалась провинциальной и нелепой, — Виктор Топоров отмечает: «скромный, тихий, бездарный, из Питера — все эти слова произносились тогда в Москве на одном дыхании как целостная и универсальная характеристика74, — то «провинциалы» в истинном смысле или просто «чужаки», попавшие в петербургскую среду, могли ощущать ее воздействие более болезненно. Вот как Илья Стогов недавно описывал свое столкновение с «вежливым хамством», какое практикуется в «городе на Неве», если использовать избитый штамп, — оно кажется особенно поразительным в импровизированном окружении, на нейтральной территории археологической экспедиции:
Последним пунктом маршрута было Рюриково городище под Новгородом. Все мои предыдущие собеседники были москвичами или провинциалами. Л здесь, на городище, копали археологи из
73 О конфликтах в советской системе см. также A. Krylova, «Identity, Agency, and the “First Soviet Generation”», Generations in Twentieth-Century Europe, ed. S. Lovell, Basingstoke: Palgrave, 2007.
74 В. Топоров, Двойное дно: Признания скандалиста, М.: Захаров-ACT, 1999,
243.
74
Катриона Келли
Петербурга. И это чувствовалось сразу. Я представился землякам, и те вежливо, но насупленно кивнули в ответ. Об обеде речь как-то не зашла. Совсем молоденький блондин-аспирант выслушал меня и с ходу посоветовал разворачиваться и уезжать. Я опешил: почему? Я пытался настаивать, говорил, что специально проделал путь в четыреста километров, чтобы поговорить. Отвечено мне было кратко: на болтовню нет времени. Умный и наблюдательный мужчина Лев Лурье как-то сказал мне, что петербургский стиль общения состоит в том, чтобы сперва отхлестать собеседника по щекам и лишь потом начать общаться. За десять дней езды по улыбчивой и радушной русской глубинке я успел забыть, какой он, мой собственный, сложный и неласковый город. А теперь вот вспомнил. От слов блондина пахло домом. Такой надменности и недоброжелательности, как у нас, петербуржцев, мне не доводилось видеть нигде в стране. Покидая городище, про себя я называл блондина-аспиранта такими словами, что теперь не рискну их повторить. А что еще я мог подумать? Я ведь тоже петербуржец: быть совсем добрым у меня тоже не выходит75.
Таким образом, «правильное» выражение эмоции предусматривало не только разные уровни эмоций, но и «ниши», в которых могло выражаться или сдерживаться то или иное чувство (на этот момент неявно указывает русское слово ‘уместность’). Наличие «правильных» эмоций связано также и с вопросом о праве на эмоции: речь идет о том, кто мог выражать какие эмоции в зависимости от своего социального статуса. Например, право на выражение гнева имел начальник, но не его подчиненные; взрослые, а не дети (согласно традиции). Значение имела и манера выражения: различные способы выражения могли сделать эмоцию приемлемой или, наоборот, неприемлемой (например, бывали такие обстоятельства, при которых могло оказаться возможным раздражение, но не гнев; в других обстоятельствах можно было выразить удовлетворение или удовольствие, но только не безудержный восторг и не самодовольство).
Следовательно, даже в том, что касалось «традиционных» или «славянских» эмоций, в зависимости от контекста и уровня могла быть допустима любая эмоция, и она не обязательно воспринималась как однозначно «хорошая» или «дурная». Эго могло привести к серьезному «когнитивному диссонансу» и неуверенности. Как указывает Дейл Песмен, даже такая основополагающая концепция, как «душа», могла одновременно восприниматься как совершенно
ъ И. Стогов, Пара пощечин для затравки (в сети). Выражаю благодарность Ирине Назаровой, которая привлекла мое внимание к этому тексту.
Право на эмоции, правильные эмоции: управление чувствами... 75
выразимая и невыразимая, а страдания могли рассматриваться как фактор, и способствующий развитию духовного начала, и подавляющий его76. Чувство «уместности» также претерпевало изменения с течением времени — в начале XX века к выражению эмоций у детей относились терпимо; в 1935 году «счастье» понималось как нечто намного более конкретное, чем в романах Толстого. Традиционные чувства, так же как традиционные костюмы и обычаи, в советскую эпоху стали восприниматься как нечто отсталое и вредное77. В связи с возрождением в конце советской эпохи более позитивного отношения к традициям — это возрождение к концу 1970-х годов приобрело откровенно славянофильские оттенки — отличительные черты «русского национального характера» или «русского менталитета», какими они воспринимались изнутри (в качестве упражнения по «автостереотипизации»), также начали возрождаться, и этот процесс ускорился в постсоветскую эпоху78. В то же время, начиная с конца 1980-х годов, в популярной литературе начал поощряться культ самых различных эмоций, в первую очередь чувственных удовольствий (чему способствовала газета «СПИД-Инфо» и женские журналы типа «Cosmopolitan») и самоудовлетворения — в пример можно привести работу психолога Николая Козлова «Как относиться к себе и другим», в которой «совесть» объявлялась всего лишь препятствием на пути к абсолютному счастью и довольству79. Все это привело к концептуальному конфликту, только обострившемуся в постсоветскую эпоху. Как описывает петербуржец 1980 года рождения:
76 Pesmen, Russia and Soul, 181, 217.
77 В первую очередь это относилось к таким религиозно окрашенным эмоциям, как смирение, жалость, умиление и т.д.: см., например, следующий комментарий к «Гамлету» Шекспира: «У Шекспира почти нет героев, которые свой жизненный ингерес видят в примирении борющихся, которые считают борьбу чем-то мешающим жизни», С. Динамов, «Сила Шекспира», Советское искусство, 6 ноября 1936 г. Об эмоциональной «советизации» Шекспира, о превращении его трагедий в «оптимистические трагедии» и т.д. см. К. Келли, «“Борец за право на счастье и свободу”: Как представляли английскую литературу советскому школьнику и массовому читателю 1930-х годов (на примере Шекспира)», Письмо и власть, под ред. Ю. Мурашова, Т. Липтак (в печати).
78 Присутствующий здесь ключевой термин ‘традиция’ получил за последние пятнадцать лет широкое распространение в рекламе и в политическом дискурсе, чему предшествовало растущее внимание к этому термину, уже начиная с 1960-х гг. См. С. Kelly, «“What kind of German am I? I speak Russian, I feel Russian”», 'Tradition' as Framework for Social Solidarity in the Post-Stalinist USSR, Solidarities and Loyalties in Russian Culture, ed. P. Bullock, C. Ingerflom, M. Rubin (в печати).
79 H. Козлов, Как относиться к себе и другим, или Практическая психология на каждый день, М.: Астрель, 1996.
76
Катриона Келли
Шла девочка в Москве, купила себе хот-дог. Зашла в какой-то дворик, села — стала есть хот-дог. На лавочку, да? Из хот-дога там чего-то на землю капало. К ней подсел мужик. И сказал: «Что же ты, милая девочка, гадишь своим хот-догом на наш милый ухоженный дворик? Шла бы ты отсюда. А то — ходят туг всякие, мусорят...» Пятнадцать страниц комментариев, значит, и в флеш-моб выродилось. То есть он ее в итоге выгнал из этого двора. Люди спорят о чем? Правильно ли повела себя девочка? И правильно ли повел себя мужчина? То есть — можно ли есть хот-дог на улице? Если можно, то так? Можно ли заходить во двор, и прилично ли это? А если в твой двор зашел кто-то и ест хот-дог? Или пьет, например, бутылку пива? Или что-то еще, да? В каких случаях можно его оттуда выгнать? И правомерно ли считать этот двор своим? В итоге собирается толпа интернетчиков, которые все... несколько, так сказать, десятков человек, которые все покупают хот-доги и в знак протеста приходят в этот двор и едят там хот-доги. Вы чувствуете уровень задаваемых вопросов? То есть это уровень, вот, прилично ли класть ноги на стол или неприлично? Мыть ли руки перед едой или не мыть? Понимаете, о какой... как бы, какой Путин и его идеология, простите меня? Какой план Путина? О чем речь вообще? Люди... люди... люди не знают вот этого. Эти нормы были разрушены80.
Однако противоречия и парадоксы встречались и намного раньше. Даже в контролируемом окружении сталинской эпохи не запрещались такие «мягкие» эмоции, как горе, при условии адекватности их стимула — им могла служить, скажем, смерть советского героя81. Напротив, даже «подходящие» события всегда были чреваты эмоциональной опасностью; например, интервьюируемая, родившаяся в 1931 году в Перми, так вспоминает 5 марта 1953 года:
Соб: А когда Сталин умер, Вы помните, какая была реакция?
Инф: Помню. Я работала тогда продавцом в магазине. И, конечно, нас директор в перерыв к себе пригласил, небольшую речь сказал. И сказал: «Водку всю с витрины убрать, водку никому не продавать». А я стояла на мясо-рыбном отделе. Плюс у меня туг была и водка и вино — всё тут было. Я уже замужем была, а до этого я дружила с парнем, и его взяли в армию, в морской флот, Крон
80 Oxf/AHRC SPb—07 PF39 IN, р. 20. Информант родился в 1980 г. в Ленинграде, отец рабочий, мать служащая. Собиратель Ирина Назарова, декабрь 2007 г.
81 О таких эмоциях см. Fitzpatrick, «Happiness and Toska. An Essay in the History of Emotions in Pre-War Soviet Russia», Australian Journal of Politics and History 50:3 (2004).
Право на эмоции, правильные эмоции: управление чувствами... 11
штадт. И вот вечером приходит его мать, такая улыбается, радостная. «Слушай, — говорит, — Оля! Ведь Аркашка пришел в отпуск!» Я говорю: «Да?» И мы так поговорили. Вот, говорит, «только что сейчас час тому назад все собрались и нигде не можем водку купить, нет нигде. Пожалуйста, продай тихонько. Я выйду, и никто не увидит». Я не продала. Вот насколько я была... Думаю, как это можно! Сталин умер, да, умер Сталин, а им пить водку! Ну и что, что сын пришел. Можно встретить и просто так, не обязатсгтыю же пировать. Как можно пировать в такое время? И меня настолько это возмутило тоже. И я говорю: «Нет, нам категорически запретили. Нет». И я ей не дала82.
Пусть за точность этих воспоминаний нельзя поручиться, но они свидетельствуют о наличии связи между «приличиями» и контролем за эмоциями в умах самих советских и постсоветских граждан83.
Таким образом, нормы поведения претерпели за последние столетия на российской земле колоссальные изменения, что делает глубоко спорной любую концептуальную систему, которая пытается на фундаменте единства «наших» способов ощущения воздвигнуть некоторую определенную и неизменную национальную идентичность. Равным образом становится ясно, что развитие чувств отнюдь не всегда идет в «эволюционном» направлении, в сторону все большей утонченности и цивилизованности: скорее, в разные эпохи существуют разные моды на эмоции, в соответствии с которыми одни чувства выставляются напоказ, а другие тщательно скрываются. Так, признаки гнева и страданий знакомы каждому, но та степень, в которой приемлемо их обнаруживать, и вытекающие из этого предположения по поводу идентичности сильно зависят от времени, конкретной среды и «эмоционального сообщества», не говоря уже о различиях между индивидами.
catriona.kelly@new.ox.ac.uk
Авторизованный перевод Н. Эдельмана
82 Oxf/Lev Р—07 PF30A, р. 12. Информантка родилась в 1931 г., в деревне в Пермской области, переехала в Пермь в 1948 г. Родители — колхозники. Работала продавцом в магазине, затем кладовщиком. Собиратель Светлана Сиротинина, январь 2007 г.
83 К проблематике этой статьи непосредственно примыкает тема выпивки как «свободного пространства», важного в контексте нормативной этики «чувства меры», особенно в последние десятилетия советской власти. Но, повинуясь чувству меры, я оставляю эту тему для другого случая.
Рональд Григор Суни
АФФЕКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА: СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВА И НАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ1
Участников нашей конференции не нужно убеждать в том, что в эмоциях кроется ключ к пониманию человеческого поведения. Действительно, мы не были бы людьми, не будь у нас эмоций, — ведь именно они стимулируют нас к действию. Эмоции — это своего рода фундамент самоидентификации, осознания того, кто есть «мы» и кто — «другие». Они имеют огромное значение для социальных связей в группах и сообществах. Будучи основой всех человеческих отношений и действий, эмоции должны приниматься во внимание для уяснения того, чем руководствуются люди, совершая конкретные поступки. Такой подход должен расширить узкорационалистические объяснения человеческих действий. Как бывший политолог, я намерен не развенчать рациональный «методологический индивидуализм», а лишь уточнить и достроить теорию «рационального выбора» до более полной теории человеческого выбора. Я надеюсь тем самым дополнить и усовершенствовать общественно-научные объяснения национальной идентичности и этнических конфликтов2.
Для реализации поставленной задачи я использую многоуровневый анализ — начиная его с нейрофизиологической основы эмоций, проходя через более специфические социальные эмоции и нормы и заканчивая контекстом социальной среды, в которой действуют политические «акторы»3. Мы зададимся здесь следующими вопросами: почему люди так настойчиво идентифицируют себя с этническими группами и нациями? Почему за национальную иден
1 Частично опубликовано, см. «The Empire Strikes Out: Imperial Russia, ‘National’ Identity, and Theories of Empire», in A State of Nations: Empire and Nation-Making in the Age of Lenin and Stalin, ed. R. Suny, T. Martin, N.Y.: Oxford UP, 2001.
2 Cm. J. Cacioppo, P. Visser, «Political Psychology and Social Neuroscience: Strange Bedfellows or Comrades in Arms?», Political Psychology 24:4 (2003), 64.
3 Значение и достоинства многоуровневого анализа рассмотрены в J. Cacioppo, G. Bemtson, «Social Psychological Contributions to the Decade of the Brain», American Psychologist 47:8 (1992).
Аффективные сообщества: структура государства и нации... 79
тичность они бывают готовы убить или умереть? Как можно объяснить отождествление самого себя с определенной национальной формой? Что является источником агрессии и конфликтов, возникающих на основе этнических и национальных идентификаций?4 Моя цель состоит в том, чтобы расширить и сделать более комплексными наши объяснения этих феноменов.
Диспозиции и эмоции
Эмоции являются настолько фундаментальными и значимыми для человека и его поведения, что не поддаются точному определению. Психолог Нико Фрайда характеризует их как реакцию на события, существенные для индивидуального, субъективного опыта, вызывающие удовольствие или страдание и действующие по определенным законам5. Не сводя эмоции к нейрологическому понятию, он считает, что эмоции разворачиваются во времени скорее как процесс, чем как кратковременное явление, и проходят в своем развитии через различные стадии. Эмоции вызываются отдельным событием, определенным изменением среды, важным для индивида, оценивающего его в контексте смысловых структур конкретной ситуации. Согласно с тем, что Фрайда называет «законом ситуативного значения», событие определенного значения вызывает и эмоцию определенного вида. Таким образом, и эмоция, и ее выражение обретают форму в специфической смысловой структуре, например в определенной эмоциональной культуре. События, гармонирующие с целями, вызывают позитивные эмоции, а события, противоречащие целям, создают эмоции негативные. Первичная оценка ситуации может быть мгновенной, неосознанной, она, как правило, задает готовность к действию (будь то сближение, отступление, побег или борьба), установку приоритетов по отношению к тем или иным целям и планам. За первичным оцениванием следует вторичное оценивание или контекстное обдумывание, включающее в себя важные усилия, направленные на понимание
4 Эмоции становятся предметом изучения во многих областях социального знания. Ср.: «Чтобы продвинуться вперед, нам необходимо вывести модель обработки информации за жесткие рамки сегодняшних представлений о познании. И здесь мы обращаемся к сфере эмоций...», G. Marcus, М. Mackuen, «Anxiety, Enthusiasm, and the Vote: The Emotional Underpinnings of Learning and Involvement During Presidential Campaigns», American Political Science Review 87:3 (1993), 673.
5 N. Frijda, «The Laws of Emotion», American Psychologist 43 (1988). Мы опираемся также на К. Oatley, J. Jenkins, Understanding Emotions, Cambridge, Mass.: Blackwell, 1996, 98-110.
80
Рональд Григор Сун и
того, как следует реагировать на событие. Согласно «закону заботы о последствиях» Фрайда, эмоциональные импульсы порождают вторичные импульсы, смягчающие или подавляющие эмоции и обеспечивающие таким образом своего рода эмоциональный контроль. Теперь эмоция ведет к готовности к действию по восстановлению равновесия. Как выражена эмоция, какие физические изменения она влечет за собой, какое действие предпринимается в результате ее возникновения — всё это определяется оценкой события и контекста, значением, которое им приписывается и культурной средой, в которой это происходит. Время, место и культура влияют на выражение эмоции и соответствующую ей поведенческую реакцию.
Психологи не достигли единства как в понимании взаимоотношений между эмоциями и познанием, так и в определении того, что такое познание вообще. Согласно наиболее современным теориям, эмоции предполагают наличие оценки. Она некоторыми теоретиками отождествляется с познанием, тогда как, на мой взгляд, необходимо отличать оценку от высших мыслительных функций, связанных с предлобной коркой (или коргексом), которые принято называть познанием6. При всех разногласиях в этих вопросах, можно признать, что один из способов понять и развести эмоции и познание — это признать, что чувственные данные выбирают в мозге различные пути. Лимбическая система, регулирующая основные биологические механизмы для максимизации шансов организма на выживание, включает в себя собирающий информацию таламус (зрительный бугор) и многофункциональную миндалину, действующую одновременно как центр, отвечающий за эмоции, особенно страх, и как фильтр памяти7. Джозеф Ле Ду показал, что иногда эмоции возникают в процессе познания, и тогда они двигаются от таламуса к неокортексу и к миндалине, но иногда сигналы могут продвигаться непосредственно от таламуса к миндалине, обходя неокортекс. И если, например, человек видит палку, напоминающую змею, миндалина реагирует на нее, как на змею, еще до того, как неокортекс определит настоящую природу предмета. «Если этот предмет и в самом деле змея, то миндалина успешно справилась со своей ролью. С точки зрения выживания, лучше ответить на потенциально опасные события так, будто они и в самом
6 R. McDermott, «The Feeling of Rationality: The Meaning of Neuroscience for Political Science», Perspectives on Politics 2 (2004), 692 -693.
7 Ibid. О страхах см: A. Ohman, S. Wiens, «The Concept of an Evolved Fear Module and Cognitive Theories of Anxiety», Feelings and Emotions: The Amsterdam Symposium, ed. A. Manstead, Frijda, A. Fischer, Cambridge UP, 2004.
Аффективные сообщества: структура государства и нации... 81
деле опасны, чем не среагировать, когда это действительно нужно. Лучше принять палку за змею, чем наоборот»8.
Социальные и политические эмоции уже максимально близки, расположены гораздо ближе к познавательным процессам, поскольку вовлекают высшие мыслительные функции и зоны «старого мозга». Эмоции — это то, что мы чувствуем, или, другими словами, — чувства; однако не все чувства — эмоции. Хотя термины разнятся у разных ученых, представляется полезным объединить в одну аффективную сферу эмоции (эпизоды недолговечные и связанные с действием), настроения (менее фокусированные состояния более длительной продолжительности), состояния (относящиеся к внутренним чувствам и интимно связанные с телом), диспозиции (смешанные длительные состояния, определяемые очень общо) и предпочтения. Я называю эмоциями чувства, у которых имеется мотивировка и объект, например любимый человек или угрожающее будущее, и которые отличаются от настроений (к примеру, от раздражения или хорошего самочувствия) наличием мотивировки9. Будучи «продолжительными эмоциональными состояниями, испытываемыми без одновременного осознания источников их возникновения», настроения не связаны с объектами и не имеют четких целей. И все же экспериментаторы показали, что настроения воздействуют на поведение, влияя на оценку способности к действию, то есть, например, при ответах на вопросы типа «Смогу ли я справиться с этим заданием?». Чем оптимистичнее настроение, тем больше уверенность в выполнимости задачи. Не мотивируя действий непосредственно, настроения «влияют на мобилизацию телесных ресурсов на решение задачи»10.
Настроения, в свою очередь, следует отличать от другого аффективного состояния — диспозиций. Можно говорить, что объект, индивид или группа имеют диспозицию, то есть склонность к какой-то позиции или линии поведения в конкретной ситуации или перед лицом какой-то перемены. Диспозиция в этом случае — это тенденция или склонность думать или действовать известным образом при определенных обстоятельствах, набор предпочтений и интеллектуальных привычек и связанные с ними чувства и эмоции, толкающие людей или группы к определенным действиям.
8 Joseph LeDoux, The Emotional Brain, N.Y.: Simon & Schuster, 1996, 165; J. Elster, Alchemies of the Mind, Cambridge: Cambridge UP, 1999, 268.
9 Frijda, «Moods, Emotion Episodes, and Emotions», Handbook of Emotions, ed. M. Lewis, J. Haviland, N.Y.: Guilford, 1993.
10 G. Gendolla, A. Abele, J. Kriisken, «The informational impact of mood on effort mobilization: A study of cardiovascular and electrodermal responses», Emotion 1 (2001), 12, 14.
82
Рональд Григор Сун и
Если настроения характеризуются индивидуальным аффективным состоянием, то диспозиции могут принимать форму коллективного аффективного состояния. Хотя историки и теоретики социальных движений, возможно, недооценивали эмоции, они были на верном пути, когда рационализировали поведение толпы. В отличие от иррациональной или субрациональной толпы, действие групп включает в себя высокий уровень познания, даже когда сильные эмоции толкают их на улицы или вызывают агрессию. Хотя не всегда понятно, имеем ли мы дело с эмоциями, настроениями или диспозициями, я попытаюсь здесь продемонстрировать различия между ними, анализируя в дальнейшем феномены идентичности, конфликта и агрессивности.
Социальные эмоции и социальные нормы
Данные эволюционной психологии подтверждают, что эмоции — это тот язык, без которого немыслимы социальные отношения. Грудные младенцы постепенно начинают преобразовывать неразборчивые реакции в более специфические и понятные эмоциональные ответы, в значительной степени опираясь на ориентиры, предоставляемые родителями или другими первичными опекунами. Негативные эмоции, в частности, сначала плохо дифференцированы; семимесячные дети редко способны отчетливо выражать страх или горе, однако к двум годам они уже овладевают этим искусством и безошибочно выражают страх перед опасными ситуациями, незнакомцами или масками. Младенцы постарше упражняются в чувстве гнева, которым пользуются для общения с родителями. Реакции близких предоставляют своего рода инструкцию по эмоциональному выражению, соответствующему нормам данного общества. В полгода-год, например, матери уже меньше реагируют на крики своих малышей, чем на их попытки что-то сказать, и чаще реагируют на крики девочек, чем мальчиков, тем самым приобщая своих детей к соответствующим гендерно-культурным моделям.
Наиболее важным для развития эмоций является процесс выработки у ребенка значения собственного «Я», его отличия от других, а кроме того, растущий интерес к эмоциям других людей, отношение к их страданию и стремление создать комфорт для других. Через какое-то время появляются и сложные социальные эмоции, такие как смущение. Обогащается и разнообразится вербальное выражение эмоций и способы сообщения их собеседнику. Сочувствие, этот эмоциональный ключ к социальному взаимодействию, перемещается от эгоцентрической аналогии (горе других похоже на мое собственное) к осознанию того, что разный опыт у разных
Аффективные сообщества: структура государства и нации... 83
людей обусловливает различные реакции. Дети постепенно научаются скрывать эмоции и вообще управлять ими. Дифференцированное их выражение связано также с половыми стереотипами и культурой. К подростковому возрасту индивид уже разрабатывает свой эмоциональный репертуар, свою модальную «теорию» того, как работают эмоции, что они подразумевают и как их следует или не следует выражать11.
Очень важную роль играют социальные эмоции (гнев, ненависть, вина, стыд, негодование, гордость, самолюбие, восторг, симпатия), связанные с общественными нормами, со следованием им или с их нарушением12. Социальные эмоции принадлежат к числу самых сконструированных, вовлекающих сложные оценки окружения, культурные нормы и межличностные отношения. Хотя политическая теория часто утверждает, что нормативные политические убеждения являются результатом взвешенного размышления над наилучшим способом организации общественного устройства, многие теоретики на протяжении веков не менее часто указывали на то, что политические добродетели, типа справедливости или равенства, зиждутся на «моральных чувствах» или, более общо, на эмоциях. Правосознание, например, может явиться результатом сочетания различных эмоций: жалости, негодования, жажды возмездия, чувства справедливости, стремления покарать зло13. А идея равенства может происходить из зависти, мстительности или ненависти к власти. Не только эмоции поддерживают или, напротив, подрывают убеждения и ценности, но и убеждения и ценности глубоко влияют на эмоции, их допустимость и недопустимость, на способы их выражения. Ценности и эмоции составляют, таким образом, иногда благой, а иногда порочный круг, непрерывно воздействуя друг на друга.
Важно различать близкие, на первый взгляд, политические эмоции. Политолог Ян Эльстер, следуя за Аристотелем, так уточняет отличие гнева от ненависти:
В гневе моя враждебность направлена на иное действие и может подавляться с помощью другого действия, которое вновь со
11 Подробнее об этом в главах «The Development of Emotions» и «Individual Differences in the Development of Emotions» in: Oatley, Jenkins, Understanding Emotions, 1996. См. также: P. Harris, Children and Emotion: The Development of Psychological Understanding, Oxford: Blackwell, 1989; M. Lewis, «Self-Conscious Emotions», American Scientist 83 (1995).
12 Elster, Alchemies of the Mind, 1999, 139—145, 241—242; Id., Strong Feeling: Emotion, Addiction, and Human Behavior, Cambridge, Mass.: МГГ, 1999, 98.
13 Cm. R. Solomon, A Passion for Justice: Emotions and the Origins of the Social Contract, Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1990.
84
Рональд Григор Суни
здаст равновесие. В ненависти же моя враждебность нацелена на другого индивида или категорию индивидов, которые воспринимаются как сущностно и неисправимо плохие. Дня восстановления целостности мира им придется исчезнуть... По сравнению с гневом, ненависть более совместима с рациональным расчетом. Самый большой акт ненависти в истории, Холокост, осуществлялся методическим и систематическим путем. Хотя ненависть является болезненной, она не омрачает ум, как это происходит с гневом или страхом... Если разгневанный человек может пойти на риск, то испытывающий ненависть скорее всего на него не отважится, потому что отсутствие инструментальной рациональности снижает его шансы на успех* 13 14.
В обычном разговоре слово «ненависть» обозначает просто интенсивный гнев, но надо отличать гнев, направленный против чего-то конкретного, от более общей ненависти, направленной против тех или того, кто объявляется плохим сущностно, независимо от его действий. Превращение гнева в ненависть может быть крайне опасно.
Официальная американская реакция на события 11 сентября 2001 года была основана в целом, я считаю, на гневе и страхе, а не на ненависти. Американское руководство заявило, что отнюдь не все мусульмане или определенное направление ислама подлежит ликвидации, но что нужно нацелить удар на тех, кто совершил теракты и, предположительно, продолжает угрожать Соединенным Штатам. Карать их следует за то, что они сделали, могут и могли бы сделать, а не за то, чем они сущностно являются, — такая мотивировка чувств и действий американских должностных лиц давалась, по крайней мере, в официальной риторике. Грань между страхом, гневом и ненавистью, однако, часто размывается. Смысл убежденности американцев в своей уязвимости, приведшей к вторжению в две мусульманские страны, основан на приписывании врагу совершенно другого менталитета. Враг представляется нам ненавидящим нас за то, что мы есть, независимо от того, что мы делаем15.
Страх лежит в основе многих этнических конфликтов и массовых истреблений. Д. Лейк и Д. Ротшильд говорят о «страхе того, что
14 Elster, Alchemies of the Mind, 65—67.
13 Об ошибке проекции, или приписывания, см. Т. Pettigrew, «The Ultimate Attribution Error: Extending Allport’s Cognitive Analysis of Prejudice», Personality
and Social Psychology Bulletin 5 (1979). По мнению исследователя, «предельная ошибка проекции» — это склонность определенной группы людей считать свое
позитивное поведение результатом внутренних причин, а негативное видеть как обусловленное извне. При этом негативное поведение оппонентов рассматривается как запрограммированное извне, тогда как к позитивному их вынуждают исключительно внешние обстоятельства.
Аффективные сообщества: структура государства и нации... 85
может принести будущее», ссылаясь на то, как объясняла причины террора в бывшей Югославии сербская пацифистка Весна Пе-сич: «бояться будущего, живя прошлым»16. Страх перед будущим может включать в себя опасения за культурную ассимиляцию или физическое истребление. Как сказал однажды Милан Кундера, «малая нация может исчезнуть и знает это». Сложная эмоция негодования может быть связана со страхом. Изменение статуса, социальное унижение, ощущение, что некий индивид или группа незаслуженно обрели превосходство над тобой или твоей группой, могут основываться на желании сохранить чувство собственного достоинства или на опасении потерять статус, стать уязвимым. Далеко не всегда легко понять, с какой именно эмоцией мы сталкиваемся в каждом конкретном случае: с чувством несправедливости, невозможностью переносить унижение или со страхом перед риском. Унижение или оскорбление может спровоцировать возникновение фантазий, основанных на неправильных причинно-следственных связях, что может вылиться в планирование и осуществление мести.
Группы
Будучи социальными животными, люди вступают в отношения, предполагающие различные чувства. Группа определяется как «набор индивидов, осознающих себя членами одной общественной категории, сходно эмоционально воспринимающих принадлежность к этой категории и достигших определенного консенсуса относительно оценки их группы и их членства в ней»17. Образование группы связано с человеческой способностью, даже настоятельной потребностью распределять по категориям чувственное восприятие и опыт, чтобы придать миру смысл. Категоризация есть средство организации и понимания сложного мира, преобразование его в более простой, управляемый. С самого раннего возраста люди производят распределение по категориям, то есть создают «познавательные инструменты, расчленяющие, классифицирующие и упорядочивающие общественное окружение и таким образом дающие возможность индивиду совершать разнообразные акты общественной деятельности»18.
16 The International Spread of Ethnic Conflict: Fear, Diffusion, and Escalation, ed. D. Lake, D. Rothchild, Princeton UP, 1998, 7.
17 H. Tajfel, J. Turner, «The Social Identity Theory of Intergroup Behavior», Psychology of Intergroup Relations, ed. S. Worchel, L. Austin, Chicago: Nelson-Hall, 1986, 15.
18 Ibid., 15-16.
86
Рональд Григор Сун и
Начиная с простейшего психологического допущения, что животные (как И. П. Павлов продемонстрировал столетие тому назад) способны устанавливать ассоциации между событиями, происходящими одновременно, мы можем сказать, что человеческие существа организуют объекты по сходству. Сходство — это первоначальная основа для распределения по категориям, и люди с раннего возраста распределяют по категориям других людей на основании соматических и общественных особенностей19. Социальная идентификация — то есть сортировка по группам, отнесение того или иного индивида в одну, а не в другую группу — это не просто классификационный процесс, но и деятельность по оценке отличий и сходств между группами. Социальная идентификация обладает определенной аффективной стороной, подобно идентификации индивидуальной, при которой индивиды стараются угодить своему чувству собственного достоинства, стремятся к позитивной самооценке и т.д. Тайфель и Тёрнер утверждают, что «усилия по положительной оценке своей собственной группы с помощью сравнения как внутри, так и вне группы приводят общественные группы к попытке дифференцироваться друг от друга» на основе даже самых простых характеристик; Фрейд называл это «нарциссизмом мелких отличий»20. Внутригрупповые оценки — мощное средство установления межгрупповых отношений, и социального разделения на две различные группы «достаточно, чтобы вызвать различение между группами, подчеркивающее преимущества собственной группы»21. Эти сравнения порождают конкуренцию между группами, что, однако, вовсе не обязательно должно приводить к конфликту, враждебности или агрессии.
Экспериментаторы так и не обнаружили, какие эмоции участвуют в подобном различении, но показали, что поддержка своей группы, как и социокультурная конкуренция между группами, существует даже при отсутствии явных материальных выгод или корыстных интересов. В ходе исследований было установлено, что
19 Этими наблюдениями я обязан общению с психологами в Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences в 2001 -2002 гг. См. также Sh. Taylor, «А Categorization Approach to Stereotyping», Cognitive Processes in Stereotyping and Intergroup Behavior, ed. D. Hamilton, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1981; W. Bousfield, «The Occurrence of Clustering in the Recall of Randomly Arranged Associates», Journal of Genetic Psychology 49 (1953); Taylor et al., «The Categorical and Contextual Bases of Person Memory and Stereotyping», Journal of Personality and Social Psychology 36 (1978); J. Maurer, «Where to Draw the Line? Observable Characteristics in the Formation of National Identity» (неопубликованный доклад).
20 Tajfel, Turner, «The Social Identity Theory of Intergroup Behavior», 15 —16.
21 Ibid., 13.
Аффективные сообщества: структура государства и нации... 87
дискриминация по отношению к внешней группе способствует позитивной социальной идентификации членов собственной группы22. Особенно существенными для объяснения причин конфликтов являются полученные учеными доказательства того, что вероятность откровенных проявлений враждебности, агрессивности и конфликта возрастает в ситуациях, когда подвергается сомнению статус-кво или когда статусные отношения воспринимаются как подверженные переменам, когда группе не удается позитивно выглядеть в собственных глазах по сравнению с другими и/или когда группы полагают, что их интересы противоречат друг другу.
Несмотря на то что категоризация — процесс общий и необходимый для понимания окружающего мира, конкретные черты, по которым люди отличают себя и свои группы от других людей и групп, могут сильно варьироваться и по сути весьма произвольны.
Убеждения, культурные установки и связанные с ними эмоции участвуют в создании союзов, альянсов с одними людьми и в дистанцировании от других. Релевантные характеристики могут быть телесными или культурными, но даже самые наглядно-физические из них, такие как цвет кожи, чрезвычайно зависимы от культурного контекста. Люди, конечно, судят друг о друге на основании набора физических и культурных характеристик, которые воспринимаются как признаки реальных различий. В целом идея расы зиждется на смешении физических и нормативных характеристик, на наложении специфических значений на различные телесные особенности.
Не только психологические, но и социальные выгоды от членства в той или иной группе побуждают людей гипостазировать и приписывать определенные характеристики себе и своей группе и, соответственно, другим людям и группам. Чем большей опасности подвергается группа, чем большую угрозу она чувствует со стороны другой группы, тем более она склонна к подчеркиванию и усилению различий и к соответствующим действиям. Но для любого действия, тем более группового, необходимы (хотя и недостаточны) эмоции. В соединении с другими факторами (институции, харизматические лидеры...) эмоции могут приобрести большое значение23. Теоретики рационального выбора долго ломали голову над
22 Ibid., 19.
23 «Мобилизация эмоций — необходимая и весьма важная составляющая любой инстанции коллективного действия». Однако «мобилизация возвышенных эмоций является необходимой, но недостаточной, чтобы порождать случаи противостояния». Другими словами, «мобилизация сильных эмоций не “вызывает” ни волнений, ни революций, но... даже благоприятные окружающие обстоятельства (например, наличие упрочившихся организаций, расширяющиеся политические возможности, давление населения и т.д.) не породят
88
Рональд Григор Сун и
так называемой «проблемой свободного всадника», то есть рационалистического представления, что индивид никогда не примкнет к какому бы то ни было общему делу, если, по его расчетам, в случае успеха этого дела он извлечет выгоду и не будучи его участником. Но эмоции, порожденные недовольством, опасения и надежды по поводу будущего могут превозмочь эти рациональные исчисления и побудить людей присоединиться к общему делу, рисковать своей жизнью и совершать поступки, которые в более трезвом рассудке они бы предоставили совершать другим.
Наконец, эмоции важны не только для укрепления солидарности в группе или при возникновении общественных движений, но и для их сохранения и поддержания. Эмоции — ключевая независимая переменная в формуле этнических конфликтов. Угроза в самых различных ее модальностях — угроза семье или близким, угроза своей жизни, обычному, устоявшемуся укладу, обычному образу мышления, социальному статусу, личным и групповым интересам — может вызывать чувства страха, ненависти или зависти, которые, в свою очередь, могут оказывать влияние на последующие действия. Но эмоции — это и зависимая переменная. Важно понять, как эмоции возникают, что вызывает специфические эмоции, порождающие агрессию.
Эмоции, таким образом, направляют наши действия, подталкивают нас к самым различным поступкам, помогают нам сформировать предпочтения и цели, связывают нас с другими человеческими существами, придают смысл нашей жизни* 24. Они управляют нашими мотивами, устанавливают приоритеты, помогают или мешают памяти, создавая в ней определенные образы, поддерживают, а иногда разрушают наши убеждения и ценности, а то и наши
волнений в отсутствие возвышенных эмоций», R. Aminzade, D. McAdam, «Emotions and Contentious Politics», Mobilization 7:2 (2002), 14—15, 17.
24 Конечно, не все согласны с этим. Эльстер, например, полагает, «что здравый смысл, несомненно, прав: эмоции испытываются невольно, а не выбираются сознательно, они скорее события, чем действия». Некоторые эмоции, такие как страх, вызываются скорее восприятием, чем познанием, а последующее поведение является скорее автоматическим, чем преднамеренным. Страх инициирует «действия без выбора», поведение, которое является намеренным, но не руководствуется последствиями. Паническое бегство может увести вас ото льва подальше, но может и завести в не замеченную вами пропасть. Однако и Эльстер согласен, что «хогя эмоция возникает в уме независимо, ее дальнейшее развитие может быть предметом выбора». «Когда эмоция не подконтрольна выбору, она может быть препятствием (минимальному или рациональному) выбору». Точка зрения Эльстера близка к позиции Редди, утверждающего, что оспаривает конструктивизм, но на самом деле критикующего лишь ее «жесткую версию», согласно которой каждый аспект эмоционального поведения сконструирован. См. Elster, Strong Feelings, 1999, 150, 153, 155.
Аффективные сообщества: структура государства и нации... 89
основные политические нормы. Они позволяют нам справляться с неопределенностью и неизвестностью грядущего. Они фокусируют наше внимание и делают одно более важным для нашего сознания, чем другое. Эмоции, говоря словами Оутли и Дженкинса, — это эвристика, это наши учебники по решению проблем, поставленных перед нами эволюцией23 * 25. Люди могут в некоторой степени регулировать эмоции. Но поскольку сильные чувства воздействуют на восприятие и оценку, то иногда люди воспринимают их как разрушительные для познания, выбора и рациональности26. Конечно, настроения, предпочтения или убеждения могут создавать бесполезные установки и приводить к разрушительным последствиям. Но они не так бессмысленны, как в случае некомпетентной оценки. Даже эмоции, которые, на первый взгляд, мешают рациональному принятию решений, могут фактически содействовать правильному выбору. Доказано, например, что тревога подталкивает к поиску дополнительной информации, а энтузиазм или отвращение способствуют сохранению существующих убеждений в большей степени, чем их пересмотру в свете новой информации27.
Эмоции и нации
Этнические группы и нации — это различные виды групп людей, отличающиеся одна от другой дискурсивными универсумами, в которых они существуют, самовосприятием и восприятием их другими. Этническая группа отличается сознанием общего происхождения, родства (настоящего или выдуманного) и культурных черт28. У этнической группы (ethnie) могут быть, а могут и отсутствовать любовь к отечеству или политические требования, основанные на ее отличии от других. Но она должна иметь коллективное имя, этноним, общий миф о происхождении, общую историю, характерную общую культуру, связь со специфической территорией и чувство солидарности29.
23 Oatley, Jenkins, Understanding Emotions, 1996, 258, 283.
26 Elster, Strong Feelings, 1999, 205.
27 D. Sears, L. Huddy, R. Jervis, «The Psychologies Underlying Political
Psychology», Orford Handbook of Political Psychology, ed. Sears, Huddy, Jervis, N.Y.:
Oxford UP, 2003, 9.
28 Веберовское понятие «субъективной веры» в «общее происхождение... несмотря на присутствие или отсутствие объективного кровного отношения» практически воспроизводится у D. Horowitz, Ethnic Groups in Conflict, Berkeley: Univ, of California Press, 1985, 5154.
29 A. Smith, The Ethnic Origins of Nations, Oxford: Basil Blackwell, 1986, 21—31.
90
Рональд Григор Сун и
Нации же — это принципиально современные формы политических сообществ, образованные из людей, убежденных, что в силу некоторых общих особенностей, будь то язык, религия, общее происхождение или исторический опыт, они имеют право на самоопределение, самоуправление и обладание их — предположительно «национальным» — отечеством. Хотя группы, подобные нациям, существовали и прежде, форма нации в полном своем объеме стала господствующей формой коллективной политической идентификации только с развитием «дискурса нации» в раннем Новом времени (ориентировочно с XVII до начала XIX столетия), в котором подходящая легитимация суверенитета исходила от «народа», организованного в «нацию». Здесь культура, часто этническая, но иногда и гражданская политическая культура, стала основой для политических прав и законности государственной власти.
Дискурс нации возникает и национальные идентичности закрепляются за определенными народами именно в переходные периоды переворотов конца XVIII — начала XIX века, в эпоху восстания романтизма против рационализма Просвещения. После разрыва колоний с их европейскими метрополиями, начиная с Американской революции, идея наций как новых государственных устройств, наделенных правом на самоуправление, вошла в язык политики. Начавшись с риторического определения нации, понятия народного суверенитета и оппозиции по отношению к абсолютной монархии во времена Великой английской революции 1688 года, апелляция к нации как результат разрыва с традицией и устаревшими формами политической легитимации закончилась народовластием во времена Французской революции30. Примерно в то же время понятие нации как сообщества людей с общей культурой, чаяниями и политическими целями появилось как центральная тема в исторических трудах. В начале ХЕХ столетия в Европе государственные деятели и интеллигенция научились «разговаривать национально». Понятие нации стало общим в политическом языке, но его значение оставалось изменчивым, нестойким и чрезвычайно спорным.
Конечно, одно из самих сильных и долговечных определений нации как общей культуры было предложено в двух версиях всемирной истории Йоганна Готфрида фон Гердера (1744—1803) — в
30 S. Pincus, «Nationalism, Universal Monarchy, and the Glorious Revolution», State/Culture: State-Formation after the Cultural Turn, ed. G. Steinmetz, Ithaca, NY: Cornell UP, 1999; L. Hunt, Politics, Culture, and Class in the French Revolution, Berkeley: Univ, of California Press, 1984, 123—125; W. Sewell, Jr., «The French Revolution and the Emergence of the Nation Form», Revolutionary Currents: Transatlantic Ideology and Nationbuilding, 1688—1821, ed. M. Morrison, M. Zook, Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 2004.
Аффективные сообщества: структура государства и нации... 91
Тоже философии истории (Рига, 1774) и в Идеях к философии истории человечества (Рига и Лейпциг, 1784—1791). Хотя Гердер и противопоставил особенность нации и его Volkgeist, или Kultur, абсолютной рациональности французского Просвещения, он был тем не менее его детищем, поскольку объяснял свою философию истории в натуралистических и научных терминах31. Применяя концепцию развития Лейбница к народам, Гердер рассматривал цивилизации как растения, которые развиваются, расцветают и вянут. Все человеческие ценности и понятия носят характер исторический и национальный. Гердер подчеркивал, что при наличии изменчивости во времени всегда сохраняется смысл всеобщего порядка. В потоке и кажущемся хаосе исторического процесса имеется постоянный элемент, который как раз и составляют нации, динамичные и жизненные, изменяющиеся, но обладающие постоянством духа. Нельзя не отметить, что Гердер чрезмерно восхвалял разнообразие. Но при этом кажущийся релятивизм и анархия оценок в его восторженной этнографии искупаются верой, что вся история, подобно природе, отображает Бога и его божественный план. При всем многообразии форм человечество, согласно Гердеру, едино.
В то время, когда выходили работы Гердера, колоссальные политические сдвиги в соседней Франции коренным образом изменили представления его соотечественников об истории и нации. Террор и французский империализм поколебали абсолютную веру Просвещения в базисные и универсальные принципы. «Немецкая интеллигенция теперь соглашалась, что все оценки и права были исторического и национального происхождения и что чужие учреждения не могли быть пересажены на немецкую почву. Более того, они увидели в истории, а не в абстрактной рациональности ключ
31 По Гердеру, любая нация это народ со своими собственными национальными формами и языком; климат оставляет печать на каждом, но не способен разрушить изначальный национальный характер. Природа (или Бог) создала множественность языков и культур или, по Исайе Берлину, нация есть то, что она есть, «благодаря климату, воспитанию, отношению с соседями и другим переменным и эмпирическим факторам, а не неосязаемой внутренней сущности или неменяющимся факторам, подобным расе или цве-гу кожи», I. Berlin, Vico and Herder: Two Studies in the History of Ideas, N.Y.: Viking Press, 1976, 163. Ларри Вульф развивает эту мысль: «Для Гердера идентичность народа состоит в его фольклоре, старых обычаях, историческом архиве, по которому его можно изучать и опознавать. Антропологический подход Гердера был направлен не на создание идентичностей у народов (как предложил Руссо), но на их опознание и локализацию на “карте человечества”», L. Wolff, Inventing Eastern Europe, Standford UP, 1995, 311; Ларри Вульф, Изобретая Восточную Европу: Карта цившизации в сознании эпохи Просвещения, пер. И. Федюкина, М.: ПЛ О, 2003.
92
Рональд Григор Сун и
к любой истине и ценности»32. Лично для Гердера переход от восторга к сомнению во французском рационализме наступил намного раньше, после путешествия в Нант летом 1769 года, когда он смог воочию наблюдать (как описывает Исайя Берлин), какую «смесь зависти, унижения, восхищения, негодования и надменности испытывают отсталые народы по отношению к развитым, члены одного общественного класса — по отношению к тем, кто принадлежит к высшему рангу в иерархии»33. Для Гердера чувство (Gefiihl) означало мысль и понимание. Язык дает возможность воспринимать действительность с непосредственностью, недоступной чувствам. Человек и мир соединены в чувстве, которое затем можно выразить в слове, но каждое значение изначально влечет за собой эмоциональное отношение к миру. Поэзия и музыка были не просто прекрасными творениями, отображающими мир, они были для Гердера средствами к пониманию его через «логику эмоций». Поэт, как он писал, создает нацию вокруг себя самого.
Я хотел бы сконцентрироваться на вопросе происхождения, потому что оно представляется мне «сверх-заданным» как проснувшимся интересом к эмоциям, так и реальным эмоциональным опытом индивидов и групп. Эмоциональная обусловленность романтического национализма XIX века уже давно и хорошо изучена. Даже когда историки и теоретики интересовались в первую очередь социологическими параметрами, необходимыми для возникновения нации и национализма (разрушение старых культурных систем и идентичности, большая социальная мобильность и социальная коммуникация, развитие письменно-печатного капитализма, методы абсолютистских бюрократий), они уже встраивали эмоции любви, гордости, страха и негодования в свои нарративы. Заимствованный у Ницше nessentiment становится центральной темой в гигантском исследовании пяти национализмов Лии Грин-фельд34.
Нация и национальное государство — не одно и то же. Нация — это сообщество людей, убежденных, что в силу общей культуры, будь она этнической, исторической или политической, они заслуживают политического самоопределения, собственной территории (родины) и, по возможности, государства, то есть национального государства. За последние два столетия нация доказала, что явля
32 G. Iggers, The German Conception of History: the national tradition of historical thought from Herder to the present, Middletown, Conn.: Wesleyan UP, 41.
33 I. Berlin, «The Counter-Enlightenment», The Proper Study of Mankind: An Anthology of Essays by Isaiah Berlin, ed. H. Hardy, R. Hausheer, N.Y.: Farrar Straus, Giroux, 2000, 397.
34 L. Greenfeld, Nationalism: Five Roads to Modernity, Cambridge, Mass.: Harvard UP, 1992.
Аффективные сообщества: структура государства и нации... 93
ется самой могущественной формой политической солидарности, сообществом, разумеется, воображаемым, но очень значимым; за него люди готовы бороться, убивать и умирать. Как же объяснить силу нации? Почему эта форма коллективной солидарности доказала свою силу, тогда как другие, такие как класс, например, оказались преходящими?
Как и прочие виды идентификации, современные нации можно представить в виде арен, на которых люди выясняют, кто они, спорят о границах, о том, кто входит в группу, а кто — нет, о том, где начинается и где заканчивается «родина», что есть «истинная» история нации, что в истории нации «подлинное» или «свое», а что следует отвергнуть и т.д. Нации образуются через истории, которые люди рассказывают о себе. Нарратив чаще всего представляет собой сказку про происхождение и преемственность, часто про жертву и страдание, а также про славу и героизм35. Современная национальная форма начинается с определенного «объективного» критерия, превращающего сообщество в нацию (чаще всего таким критерием служит язык) и предоставляющего четкие маркеры для границ, правила и исключения. Хотя первые современные нации — Франция и новые «креольские» государства в Южной и Северной Америке — мыслили себя как новые образования в истории человечества, всего за несколько десятилетий нация как таковая почти полностью перетолковала себя и превратилась в древнюю и изначальную, преемственную и наследуемую по восходящей линии, неумолимо движущуюся к самосознанию и государственности. Как характеризует самоописание национализма Этьен Балибар,
иллюзия двояка. Она состоит из веры в то, что поколения, веками сменяющие друг друга на относительно стабильной территории под относительно однозначным обозначением, передавали друг ДРУГУ некую инвариантную сущность. Но она же состоит и из убеждения в том, что процесс развития, из которого мы задним числом выбираем удобные характеристики, чтобы представить самих себя как его кульминацию, был единственно возможным и был судьбой этого народа36.
Начиная с середины XIX века, конструирование национальной идентичности больше занято выработкой единственной унитарной идентичности, чем множественностью вариантов самопонимания.
35 R. Suny, «History», Encyclopedia of Nationalism, I, ed. A. Motyl, San Diego: Academic Press, 2001.
36 E. Balibar, «The Nation Form: History and Ideology», in Balibar, I. Wallerstein, Race, Nation, Class: Ambiguous Identities, London: Verso, 1991, 86.
94
Рональд Григор Суни
Сила этой идентичности лежит в широком транснациональном дискурсе нации, который оправдывает и территориальные владения, и государственность перед теми, кто может выдвинуть свои веские притязания, основанные на языке, культуре или расе. Как новая форма политической легитимации, нация создает специфическую культуру, включающую в себя сильные политические претензии на самоуправление, опирающиеся в конечном счете на сказания и предания о прошлом. Практика выискивания далеких предков и создания длинных генеалогий определенно восходит к самым ранним формам политической легитимации, по меньшей мере, к Библии, если не раньше, к рассказу о царях и сыновьях, получающих власть из рук отцов.
В мире ожесточенной борьбы за территорию и политическую власть такие генеалогические предания были необходимы, чтобы решить практическую проблему: как выдвинуть и обосновать приоритетное и эксклюзивное требование на участок «мировой недвижимости»? Откровенное признание факта сфабрикованности прошлого или сконструированной природы национального господства ослабило бы желаемую цельность и единство массы людей, возведенной теперь в нацию. Так как донациональные этнические и религиозные сообщества не находят четкого соответствия с современными нациями, а сами нации являются сущностно нестабильными категориями, на примордиализм и эссенциализм возлагается сложная работа по реификации нации. Фактически идентичности могут изменяться, но в реальном мире политики по стратегическим соображениям и ради эмоционального удовлетворения действуют так, будто они неизменны. Как и идея семьи, национальная форма придает четкие границы сообществу, в рамках которого могут должным образом распределяться общественные блага.
Национальная идентичность начинается поэтому с ощущения привязанности к тем, кто включен в группу, и с дистанцирования от тех, кто в нее не входит. Разделяемые всеми нарративы связывают членов нации в сконструированное сообщество, в данном случае нацию, которое легитимирует право людей на самоуправление при помощи избранных ими лидеров. Как и этническая группа, нация является аффективным сообществом, убежденным, что разделяет общие интересы и судьбу. Угроза группе есть угроза личностям, идентифицирующим себя с этой группой; тревоги, обиды, страхи и ненависть могут увязываться с коллективной идентичностью и создавать в группе эмоциональную диспозицию (в вышеуказанном смысле), в рамках которой, при наличии необходимого стимула, возникают более специфические эмоциональные реакции. Из этих диспозиций и эмоций складывается предсказуемая тенден
Аффективные сообщества: структура государства и нации... 95
ция к тому или иному действию. Результатом в определенных обстоятельствах может стать конфликт или насилие.
Россия: Российская империя и русская нация
Вопрос о «национальной» идентичности в имперской России и Советском Союзе с давних пор привлекал историков и других обществоведов. Какие типы идентификаций были свойственны людям по отношению к государству, царю, России, империи, их собственной этнической принадлежности? Каким образом они ощущали себя русскими, украинцами, армянами? Ответы на эти глобальные вопросы можно получить, лишь учитывая специфику эпохи, места, социального статуса и гендера. На мой взгляд, такие ответы требуют своеобразного «снимания покровов» как с эмоциональных диспозиций вообще, так и с отдельных эмоций, посредством которых выражались лояльность и склонности. Я полагаю, что если некоторые элиты умели проявлять свои предпочтения по отношению к широкой патриотической или «национальной» лояльности и идентичности, то, насколько можно судить, обычные люди идентифицировали себя прежде всего с местом проживания, религией, своими близкими и лишь в очень незначительной степени к политической власти царя. Национальная идентичность или идентификация с империей до 1917 года были довольно слабы, хотя мы и можем указать на ряд коротких вспышек патриотического рвения, особенно ярких на фоне обычного безразличия по отношению к широкой политической идентификации.
В сфере «монархического», или «имперского», воображаемого правители изначально не столько стремились к тому, чтобы подданные идентифицировали себя с ними, сколько подчеркивали дистанцию и несходство между монархами, дворянами и остальной массой. В своей работе, посвященной церемониям, ритуалам и мифам, созданным русской монархией, Ричард Уортман утверждает, что основным мотивом репрезентации монархии была ее чужеродность, которая подчеркивала разделение на правителя и элиту, с одной стороны, и простой народ — с другой37. Монархический миф утверждал происхождение правителей от чужеземцев-варягов, связанных с другими чужеродными правителями Запада. «Выражая политическое и культурное превосходство правителя, чужеродные
37 R. Wortman, Scenarios of Power: Myth and Ceremony in Russian Monarchy, vol. I, From Peter the Great to the Death of Nicholas II, Princeton UP, 1995; cm. P. Уортман, Сценарии власти: мифы и церемонии русской монархии от Петра Великого до смерти Николая II, пер. С. Житомирской, М.: ОГИ, 2002.
96
Рональд Григор Сун и
черты представляли некую позитивную ценность, а черты местные — нейтральную или негативную»38. Даже модели политического управления имели иностранное происхождение (Византия и монгольские ханы); иностранность в данном случае подчеркивала превосходство. Позднее, в XVII и XIX столетиях, миф о правителе-завоевателе использовался для создания образа монархии, несущей в Россию цивилизацию и прогресс; сам же правитель изображался как самоотверженный герой, избавляющий Россию от деспотизма и разорения.
Какого типа ранняя идентичность (или идентичности) сформировалась у «русских»? Согласно первым письменным свидетельствам, народы, населявшие территорию, которая впоследствии стала Россией, в культурном и языковом отношениях были чрезвычайно различными39. Начальный Летописный свод отмечает, что в этом регионе жили славяне, балты, тюркские и финские народы, причем славяне, в свою очередь, делились на обособленные группы. По легенде, изложенной в Своде, различные восточнославянские народы стали стягиваться в нечто целое только после прихода в «Россию» варягов, называвшихся «русью». Немногие ученые, ставившие перед собой этот вопрос, в общем сходятся на том, что с момента принятия и распространения православия (традиционная дата — 988 год) и в течение нескольких последующих столетий русские представляли собой такую общность, где православие сливалось с русскостью, и отличали себя от католиков Польши и Литвы и от кочевых народов Поволжья и Сибири40. Верность тому или иному династическому правителю была существенна, но ее не следует смешивать с лояльностью государству. Правильнее было бы пользоваться термином «княжество, удел», а не «государство», поскольку в этот ранний период народ как общность не мыслился отдельно от политической власти. Валерия Кивельсон замечает по этому поводу:
Великие князья киевские, судя по всему, едва ли представляли себе государство как обособленную территориальную единицу, находящуюся под управлением единой властной структуры, возлагающей на себя миссии по администрированию, налогообложению и контролю. Напротив, территория Киевского государства остава-
38 Ibid., 6; там же, 21.
39 Этот вопрос превосходно раскрыт в: A. Kappeler, Russland als Vielvol-kerreich: Entstehung, Geschichte, Zerfall, Miinchen: С. H. Beck, 1992.
40 N. Riasanovsky, Historical Consciousness and National Identity: Some Considerations on the History of Russian Nationalism, New Orleans: The Graduate School of Tulane University, 1991, 2—3; O. Pritsak, «The Origin of Rus’», Russian Review 36:3 (1977).
Аффективные сообщества: структура государства и нации... 97
лась размытой, границы — подвижными. Понятие и титул «великий князь» единого Киевского княжества входили в политическое сознание и лексикон древнего Киева медленно, как некое заимствование из Византии. Государство как таковое (если таковое вообще имелось) строилось без жесткой определенности, вокруг нечетко очерченного народа («русь»); части его управлялись пересекающимися, соперничающими и враждующими ветвями княжеской династии. Предсмертные завещания великих князей свидетельствуют о том, что цели княжеской политики оставались скорее личными, семейными и не реализовали никакого более глобального стремления к единой государственности или территориальному правлению41.
Идентичность сложилась как изнутри, через религиозную консолидацию и церковь, так и, в конечном итоге, через единое Московское государство (начиная приблизительно с XV века), а кроме того — на границах, в схватках с народами, воспринимавшимися как чужие, иные. Таким образом, начиная со своего возникновения, российская идентичность была связана с наднациональной сферой веры, со смутно, через царствующую династию определяемым политическим миром и резко противопоставлялась «иным» — тем, кто жил вокруг, на периферии42. Религия в этот период (пред)раннего Нового времени функционировала, скорее всего, так же, как в наши дни для многих функционирует этническая принадлежность — а именно как доступный словарь идентичности. Именно в области религии и политики велись споры о том, из чего складывается общность и какое поведение считать подобающим, а какое — нет43. По замечанию Ричарда Хелли, «жители Московского государства чаще называли себя православными, нежели русскими (многие из них русскими и не были)»44. Даже при том, что государство становилось все более разнородным в этническом и конфессиональном отношениях, «проверкой» на принадлежность к Московии было православное вероисповедание. Однако при всей своей изолированности и пресловутой ксенофобии Россия была на удивление экуменична в отношении иностранцев.
41 V. Kivelson, «Merciful Father, Impersonal State: Russian Autocracy in Comparative Perspective», Modem Asian Studies 31:3 (1997), 637—638.
42 M. Chemiavsky, «Russia», National Consciousness, History, and Political Culture in Early-Modem Europe, ed. O. Ranum, Baltimore: Johns Hopkins UP, 1975, 119— 121.
43 G. Guroff, A. Guroff, «The Paradox of Russian National Identity», The Influence of Ethnicity on Russian Eoreign Policy, Russian Littoral Project Conference, 16 (1993), 7-9.
44 R. Hellie, Slavery in Russia, 1450—1725, Univ, of Chicago Press, 1982, 392.
98
Рональд Григор Суни
«Обращение в православие автоматически делало любого иностранца московитом, к которому была полностью лояльна как центральная власть, так и, по-видимому, коренное население»43 * 45. Предпочтение, отданное «греческой», а не «латинской» ветви христианства, было знаком отличия русских от их западных соседей. Позднее, по примеру болгар, русские сделали еще один шаг в разработке своеобразного «славянского извода» христианства (напомним, универсалистского по своей сути) — начали использовать специальный богослужебный язык (церковнославянский)46. Русское православие пришло к русским от государства и на протяжении следующего тысячелетия оставалось глубинно и тесно связанным с политическими и идеологическими проектами этого государства.
После завоевания Иваном IV Казанского и Астраханского ханств в середине XVI века Московское государство включило в свой состав территории, компактно заселенные нерусскими народами, то есть, по сути, инородные политические сообщества, превратив Россию в многонациональную империю. Вместо термина «Русь», относившегося к центральным русским областям, цари предпочитали использовать отныне для обозначения подвластного им пространства термин «Россия». В отличие от византийского императора или монгольского хана русский царь был провозглашен не властителем Вселенной, а только абсолютным и суверенным правителем всей России (царем «всея Руси»)47. Тем не менее в качестве завоевателя Казани и Астрахани московский царь унаследовал часть престижа монгольских ханов, требовал подчинения и устанавливал субординацию в отношениях с правителями малых политических образований Сибири и Северного Кавказа. Как показывает Майкл Ходорковский, заключая договор с русским царем, кабардинские принцы или же шамхал Дагестана полагали, что вступают в союз с равным себе, тогда как русская сторона неизменно
43 Ibid.
46 Саймон Франклин в чрезвычайно интересной, хотя и спорной статье пишет о религии как о публичной национальной идентичности в Древней Руси. Я приберегаю слово «национальный» для более позднего периода, когда возникло понятие нации, и предпочитаю рассматривать религию как коллективную идентичность жителей Руси. Английское слово ‘national’ часто используется для описания большого сообщества, пространства или народа, а поскольку
никакого другого слова в английском языке не существует, оно сращивается с более специфическим сегментом значений, связанных с нацией в ее современном понимании. См. S. Franklin, «Identity and Religion», National Identity in
Russian Culture, ed. Franklin, E. Widdis, Cambridge: Cambridge UP, 2004.
47 P. Bushkovitch, «The Formation of a National Consciousness in Early Modern Russia», Harvard Ukrainian Studies 10:3/4 (1986), 363.
Аффективные сообщества: структура государства и нации... 99
трактовала соглашения как подчинение младших правителей русскому суверену48.
Российская имперская власть проникала в периферийные зоны в качестве старшего суверена, не считаясь с положением местных правителей и народов. Завоевание и аннексия пограничных земель воспринимались как расширение царского суверенитета, осуществляемое посредством двора и удела и представляемое в виде очередного этапа «собирания русских земель». Нерусские элиты были кооптированы в русское дворянство, так же как и городская верхушка Казани и Астрахани, хотя часть повинностей крестьянского сословия была переадресована в пользу Москвы. После включения какого-либо региона в состав империи царское государство было готово к применению силы, чтобы не допустить его потери. Восстания подавлялись безжалостно. Но как только решалась проблема безопасности, Москва позволяла местным элитам, переставшим быть суверенными, управлять территорией, продолжать существовавшие до аннексий традиции и применять прежние законы. Подчиненные центру пограничные территории были включены в состав империи на правах окраин с отличительными административными особенностями. Россия стала империей — и структурно, и в сознании своих правителей.
Империя представляла собой государственное образование, основанное на разрыве, разнице между управляющей институцией и ее подданными, а также на том, что периферия подчиняется имперскому центру. Находящая оправдание во власти правителя, освященная апелляциями к божественной милости и династической легитимности, империя требовала повиновения и лояльности, при этом не взыскуя (хотя, быть может, и желая) любви к монарху. Эмоциональные валентности империй устроены совсем не так, как в аффективных сообществах, называемых нациями. Они зиждутся не на разделяемых большинством эмоциях любви и родства (fratemite, братство) и не на горизонтальной равноценности (egalite, равенство). В арсенал имперской политической власти входят скорее страх и благоговение перед правящим государем49. Удаленность
48 М. Kliodarkovsky, «From Frontier to Empire: The Concept of the Frontier in Russia, Sixteenth-Eighteenth Centuries», Russian History 19:1/4 (1992); Id., Where Two Worlds Met: The Russian State and the Kalmyk Nomads, 1600 1771, Ithaca, NY: Cornell UP, 1992; Id., «Of Christianity, Enlightenment, and Colonialism: Russia in the North Caucasus, 1550—1800», Journal of Modern History 71:2 (1999).
49 В личной беседе Валерия Кивельсон отметила, что каждый правитель Московского царства видел себя отцом-защитником своих подданных, как русских, так и нерусских, и это должно было создавать некую эмоциональную связь. Однако отношения отца (в особенности отца сурового) и детей весьма отличны от идеализированных отношений братьев и сестер.
100
Рональд Григор Суни
власти от народа характерна для империи куда более, чем любовная, семейная связь, и отличает ее от национального государства следующих столетий.
В эпоху Смутного времени (начало XVII века) появилось представление о России не просто как об уделе московского царя, а как о государстве, управляющемся царем и включающем в себя народ. Однако взошедшая на престол в 1613 году династия Романовых не приняла эту новую концепцию России, усмотрев в собственном избрании скорее акт провидения, чем волю всенародного собрания. Подобно другим династиям, правившим на Руси, Романовы дистанцировали себя от народа, провозгласив свое происхождение от Рюрика и Святого Владимира, князя Киевской Руси50.
После присоединения Украины (1654) и Вильно (1656) имперские претензии получили дополнительную поддержку, и теперь монарх был провозглашен «царем всея Великия, Малыя и Белыя Руси»51. Утвержденная в 1667 году государственная печать Алексея Михайловича изображала орла с поднятыми крыльями, увенчанного тремя коронами, символизирующими Казань, Астрахань и Сибирь, и окаймленного тремя колоннами, олицетворяющими Великую, Малую и Белую Русь. Царь также присовокупил к своему титулу название святой, возвысив «себя над своими подданными, явившись высшим на земле заступником перед Богом, чье благочестие превосходит их собственное»52. Наконец, к концу XVII века царь Федор ввел понятие «Великое Российское царство», обозначающее «имперскую абсолютную монархию, которой подчинены и русские, и нерусские земли»53. В этом видении великорусской империи конца XVII века царь и государство были слиты в единой концепции суверенитета и абсолютизма. Государство, империя и самодержавный царь оказались объединенными в сложную систему взаимосвязанных легитимаций. Царь являлся не только святым
50 Пол Бушкович обратил внимание на малоизвестную тенденцию XVII века, которую он назвал «Славянским ренессансом». Это интеллектуальное течение развивалось повсеместно, но особенно активно в Польше и Хорватии и утверждало древнее и благородное происхождение славян. Польские авторы выводили славян из древних сарматов. Симеон Полоцкий принес эту идею в русскую среду, и в XVHI веке она проникла в труды Татищева и Ломоносова, став частью их государство-центристских историй. Данное течение полностью исчезло с расцветом имперской идеологии, основанной на идеях Просвещения. В частности, оно не оставило никакого следа в творчестве Карамзина; Bushkovitch, «What is Russia? Russian National Consciousness and the State 1500— 1917», 4—7 (не опубликовано).
51 J. Сгасгай, «Empire Versus Nation: Russian Political Theory Under Peter I», Harvard Ukrainian Studies 10:3/4 (1986); перепечатано в Major Problems in the History of Imperial Russia, ed. Cracraft, Lexington, Mass.: Heath, 1994.
52 Wortman, Scenarios of Power, 33, Уортман, Сценарии власти, 56—57.
Ibid., 38; там же, 62. Далее цит. только по русскому изданию.
Аффективные сообщества: структура государства и нации... 101
правителем, христианским монархом и благочестивейшим покровителем церкви, но и полновластным правителем зарождавшегося бюрократического государства, завоевателем земель и предводителем дворянства и армии.
В правление Петра Великого образы христианского императора и христианской империи уступили место более секулярному «западноевропейскому мифу завоевания и власти»54. «Триумфы Петра объявляли, что русский царь обязан своей властью не предписанным божеством традициям наследования, а своим подвигам на ратном поле... Завоеватель представлялся основателем, богоподобной личностью, отвергнувшей старые формы власти»55. Петр довел мотив инородности власти до предела, заставляя бояр брить бороды, носить западную одежду, навязав барочную архитектуру и заимствовав голландские, немецкие и английские технологии, наконец, построив новую столицу — «окно в Европу». Он ввел новые социальные стандарты, высвободив женщину из затворничества и короновав свою вторую жену, простолюдинку Екатерину, в качестве императрицы России. Он принял титул императора в 1721 году и превратил Россию в империю. «В этом отношении петровская идеология была в высшей степени рационалистической, легитимность его правления была основана на его вкладе в “общее дело” России»56. Император стал «отцом отечества», и «отныне отношения между государем и подданными должны были покоиться не на наследственном праве и личном обязательстве, а на обязательстве служить государству»57.
К XVIII веку Россия, будучи великой державой, чей правитель обладал абсолютной суверенной властью над разнообразными территориями и подданными, воспринималась как империя сразу во множестве значений. Теоретики этой империи сознательно описывали ее с помощью языка и образного ряда исторических империй. «Петр Великий завещал своим преемникам устрашающий образ императора — героя и бога», благодетеля, подавляющего «те силы, которые в своих личных интересах противодействовали общему благу»58. На стороне его преемников, четверо из которых были женщины, находилась гвардия, готовая поддержать их в борьбе за трон. «Защищая союз с троном, продолжавшийся до вступления на престол в 1796 г. Павла I, гвардейские полки и придворная знать выдвигали на первый план интересы дворянства»59. «В этой систе
34 Там же, 67.
Там же, 71.
56 Там же, 93—94.
57 Там же, 97.
58 Там же, 119.
59 Там же, 120.
102
Рональд Григор Сун и
ме термин “общее благо” стал означать обеспечение интересов дворянства»60. Монархи XVIII века сочетали в своем образе черты завоевателя и реформатора, «вместе с тем сохраняя и упрочивая стабильность, обеспечивающую господство крепостнического дворянства. Завоеватель был в то же время охранителем, защищавшим и расширявшим власть элиты»61.
Россия следовала определенной логике строительства империи. После приобретения какой-либо территории, обычно посредством завоевания или расширяющихся поселений, представители царя производили кооптацию местной элиты в ряды служащих империи62. Но во многих периферийных регионах (бассейне Волги, Сибири, Закавказье, Центральной Азии) интеграция новых территорий ограничивалась кооптацией элит (кстати, не всегда окончательной и полной) и обычно не распространялась на крестьянское или кочевое население, сохранявшее племенную, этническую и религиозную идентичность. Некоторые элиты, как, например, представители татарской и украинской знати, растворились в российском дворянстве; другие же, например немецкие бароны в Прибалтике или шведские аристократы Финляндии, сохранили особые привилегии и идентичность. «Национализация», гомогенизацион-ная политика, интеграция различных народов в «российское» сообщество (особенно в среде дворянства) сосуществовали с политикой дискриминации и сохранения различий. После подчинения Сибирского ханства башкиры получили право на военное представительство империи в волжском регионе. Другим народам, например грузинскому, было позволено сохранить существовавшее у них до присоединения обычное право. Немецкие бароны, греческие и армянские купцы пользовались экономическими и правовыми преимуществами, в то время как евреям запрещалось покидать черту оседлости, а религиозная и социальная жизнь мусульман регулировалась государством.
В эпоху, когда Европа переживала череду кризисов, начавшуюся в 1789 году, Россия представляла собой «наиболее “имперскую”» из существовавших наций, охватывая больше народов, чем любая другая нация. Академик Генрих Шторх восхищался в
60 Там же. Проблема государства как защитника интересов дворянства разобрана в R. Suny, «Rehabilitating Tsarism: The Imperial State and its Historians», Comparative Studies in Society and History 31:1 (1989).
61 Уортман, 121.
62 M. Raeff, «Patterns of Russian Imperial Policy Toward the Nationalities», Soviet Nationality Problems, ed. E. Alwarth, N.Y.: Columbia UP, 1971; Id., «In the Imperial ManncD>, Catherine the Great: A Profile, ed. Raeff, N.Y.: Hill & Wang, 1972; F. Starr, «Tsarist Government: The Imperial Dimension», Soviet Nationality Policies and Practices, ed. J. Azrael, N.Y.: Praeger, 1978.
Аффективные сообщества: структура государства и нации... 103
1797 году этнографическим составом России, отмечая, что «ни одно государство на земле не содержит такого разнообразия жителей»63. В собственном же воображении Россия представала возрожденной Римской империей. В то время как в Европе в ходе Французской революции и Наполеоновских войн формировался дискурс нации и получили широкое распространение концепции «народа» и народного суверенитета, в России традиционный монархический миф о чужеродности династий существенно сдерживал развитие нового национального популизма. Отпор, данный Россией Наполеону, а также включение в состав империи Кавказа и Великого княжества Финляндского закрепили за Россией славу непобедимой державы, чья сила постоянно демонстрировалась царями как на полях сражений, так и на парадах64. В момент нападения Наполеона на Россию в 1812 году Александр I издал указ, в котором заявлял: «Я не положу оружия, доколе ни единого неприятельского воина не останется в царстве моем!»65. В указе не упоминался русский народ, и империя представлялась как личное владение императора. Даже в критической ситуации, связанной с угрозой французского продвижения на Москву, советникам императора пришлось уговаривать Александра I отправиться в Москву и показать себя национальным лидером. Манифесты императора, написанные консерватором и поэтом адмиралом А. С. Шишковым, содержали призывы к «патриотическим и религиозным чувствам народа»66. Писатели того времени одаривали царя такими эпитетами, как «Ангел Божий» и «Наш отец», любящий своих подданных и любимый ими. После отступления французов «крепкая доблесть Богом вверенного народа» и Божий Промысл рассматривались как основные причины победы67. Российские власти сопротивлялись попыткам изобразить победу в войне как народный триумф, настаивая на божественно предопределенном характере победы самодержавия, которое было поддержано преданным народом.
После Наполеоновских войн Россия стала еще более имперской, чем прежде. Являясь великим князем финляндским и царем польским, российский император был вынужден выступать в качестве конституционного монарха и подчиняться законам этих двух владений. В соответствии с Основными законами Российской империи 1832 года российский император провозглашался «самодержавным» и «неограниченным» монархом, но, в отличие от
63 Цит. по Kappeler, Russland als Vielvdlkeireich, 121; Уортман, 187.
64 Уортман, 227.
65 Там же, 289.
66 Там же.
67 Там же, 294-295.
104
Рональд Григор Сун и
деспотий Востока, его империя была правовым государством (Rechtsstaat)68. Царь возвышался над народом, сохранявшим не только этническое разнообразие, но и традиционные институты власти, посредством которых осуществлялось управление. Россия, победившая в Наполеоновских войнах и принявшая на себя роль консервативного буфера, защищавшего Европу от влияния идей Французской революции, воплотила в себе своего рода антитезу национализму. Александр I лично выразил свои политические пристрастия в схеме «Священного Союза», который подразумевал единение различных государств «в одной христианской нации», подвластной «Самодержцу христианского народа» Иисусу Христу69.
Включенность российской элиты в европейское Просвещение, сильнейшее интеллектуальное увлечение писателей и художников сентиментализмом, а затем романтизмом, войны с Францией — все эго сильнее, чем в прежние эпохи, втягивало Россию в политическую и дискурсивную орбиту Западной Европы. На гребне европейской национальной волны идеи и мода (а также модные идеи) вынесли на повестку дня вопросы о российской идентичности, о связях России с Западом, о том, какой тип нарратива о прошлом максимально полезен для остро актуальной потребности в реформах. Сентименталистский взгляд на простой народ, превознесение крестьянской верности устоям, внимание к страданиям карамзинской бедной Лизы или к похвальной скромности радищевской Анюты — все это сочеталось с самозабвенным собиранием русских песен и сказок. Радищев, путешествуя из Петербурга в Москву, не сомневался, что в унылых песнях ямщика слышится душа русского народа70. Поворот к простому народу и его «подлинной» культуре, которую просвещенному сословию надлежит вычленить в чистом виде, перебрав и гармонизировав множество локальных вариаций, долго определял представления о национальном характере русских — глубоко чувствующих, страстных, трагических, задумчивых меланхоликов71. В последующие десятилетия российские интеллектуалы как левых, так и правых взглядов развивали свои идеализированные образы народа: преданного сына царя-батюшки или, напротив, нетронутого источника социального обновления и специфического русского социализма. Повинуясь сентименталь
68 М. Szeftel, «The Form of Government of the Russian Empire Prior to the Constitutional Reforms of 1905—06», Essays in Russian and Soviet History in Honor of G. T. Robinson, ed. J. Curtiss, Leiden: Brill, 1962.
69 Ibid., 230.
70 M. Frolova-Walker, «Music of the Soul», National Identity in Russian Culture, 2004, 125.
71 Краткий обзор некоторых из перечисленных проблем см. в: Н. Jahn, «‘Us’: Russians on Russianness», National Identity in Russian Culture.
Аффективные сообщества: структура государства и нации... 105
ной преданности и своеобразному чувству долга по отношению к народу-страдальцу, не одно поколение русской молодежи готово было положить карьеру и саму жизнь на алтарь служения ему72.
Появление и обособление во второй трети XIX века интеллигенции дало толчок бурным спорам о природе России, о ее отношениях с Западом, Азией, а также с живущими в ней «чужими», этнически нерусскими. Как и в других государствах Европы послереволюционного периода, российские интеллектуалы, прежде всего, пожалуй, историки, «придумали» нацию или, по крайней мере, ее контуры, границы, особенности, символы и знаки, сделали ее наглядной для внешнего мира. Начиная с «Истории Государства Российского» (1816—1826) Карамзина до грандиозных обобщающих трудов Сергея Соловьева и Василия Ключевского, историки стали смотреть на Россию как на что-то вроде национального государства: ей находилось много соответствий в западноевропейских моделях, но она была по своему составу уникальна, ибо полиэтнич-на. Лепта Карамзина особенно значительна. Его «История», яркое, патриотическое повествование о прошлом России, доведенное до Смутного времени, пользовалась особенной популярностью у образованных читателей. В поданной Александру I секретной «Записке о древней и новой России...» (1811) Карамзин подчеркивал, что самодержавие и сильное государство — краеугольные камни величия России, а в статье «О любви к отечеству и народной гордости» (1802) превозносил преданность родной стране73. Усердная работа российской историографии над национальным воображаемым совпала с развитием идеологии империализма в журналах «Вестник Европы» и «Русский вестник», с возникновением российской этнографической и географической школ, а кроме того преломилась в поэзии, прозе, музыке и изобразительном искусстве74. Убежденные в своем культурном (не говоря уже о материальном) превосходстве
72 Эмоциональные основания тенденции интеллигенции к либеральным и радикальным реформам изучены в ряде классических исследований. См. в первую очередь: Raeff, Origins of the Russian Intelligentsia: The Eighteenth-Century Nobility, N.Y.: Harcourt, Brace & World, 1966; M. Malia, Alexander Herzen and the Birth of Russian Socialism, Cambridge, Mass.: Harvard UP, 1961; L. Haimson, Russian Marxists and the Origins of Bolshevism, Cambridge, Mass.: Harvard UP, 1955.
73 Memoir on Ancient and Modern Russia, transl., ed. and introd. R. Pipes, Cambridge, Mass.: Harvard UP, 1959. В заглавии статьи «О любви к отечеству...» слово ‘народный’ употреблено в значении «принадлежащий народу, исходящий от народа», что на Западе было бы эквивалентно слову ‘национальный’, ‘national’.
74 См., напр.: S. Layton, Russian Literature and Empire: Conquest of the Caucasus from Pushkin to Tolstoy, Cambridge UP, 1994, A. Jersild, Orientalism and Empire: North Caucasus Mountain Peoples and the Georgian Erontier, 1845—1917, Montreal: McGill-Queen’s UP, 2002.
106
Рональд Григор Суни
над южными и восточными народами империи, российские интеллектуалы и государственные деятели применили к нерусским народам модернистскую программу по развитию, цивилизированию, категоризированию и рационализированию посредством установлений, законов, статистических исследований и переписей. Какое бы чувство неполноценности ни испытывали русские по отношению к европейцам, в особенности к немцам и англичанам, они с лихвой компенсировали его снисходительным взглядом на собственные подвергшиеся колонизации народы. При этом русские нередко подчеркивали, что они куда лучшие империалисты, чем британцы или французы7 * 75. Но время от времени колоссальность их цивилизаторской миссии удручала даже самых ревностных адептов экспансии. Так, Михаил Орлов устало (и пророчески) замечал: «Так же трудно поработить чеченцев и других народов того края, как сгладить Кавказ. Это дело исполнится не штыками, а просвещением, которого и у нас не избыточно»76.
Расширяясь территориально и придерживаясь традиционных принципов самодержавия и православия, русская монархия, по крайней мере до эпохи Николая I (1825—1855), мыслила Россию как современное западное государство. Но «Запад» изменился со времен Петра I. Отказавшись от идеала абсолютизма, Европа все более уверенно шла по пути национализма, народного суверенитета, индустриализации, свободного труда, конституционализма и парламентаризма. Задача идеологов империи в середине XIX века, таким образом, заключалась в осмыслении опыта России в терминах современности и в пересмотре отношений России с воображаемым «Западом». Устанавливая рамки дискуссии, которая со временем превратится в постоянную, консервативно мыслящий профессор Московского университета С. Шевырев писал в 1841 году: «Запад и Россия, Россия и Запад — вот результат, вытекающий из всего прошлого, вот последнее слово истории, вот два факта для будущего»77. Сколь бы привлекательными ни казались иногда европейские идеи и влияния реформистски настроенным монархам и интеллектуалам, в последние годы правления Екатерины II и в период после 1815 года западное влияние уже воспринималось императорами и их советниками как чужеродное и потенциально опасное. Опасность новых идей для абсолютизма стала особо ошу-
7э На этот аспект мне указал Кеннет Чёрч (К. Church). См. его работу о рос-
сийском правлении в Западной Грузии «Production of Culture in Georgia for a
Culture of Production» (1996, не опубликована).
76 Layton, Russian Literature and Empire, 108.
77 С. Шевырев, «Взгляд русского на современное образование Европы», Москвитянин 1 (1841) 219; цит. по Riasanovsky, Nicholas I and Official Nationality in Russia, 1825 1855, Berkeley: Univ, of California Press, 1967, 134.
Аффективные сообщества: структура государства и нации... 107
тимой после восстания декабристов, и поэтому государственные чиновники сами почувствовали необходимость конструирования русской национальной идеи, отличной от дискурса нации, господствовавшего на Западе.
Идеологическая формула николаевского царствия, известная под именем «официальной народности», была суммирована в лозунге «православие, самодержавие, народность». Доктрина официальной народности, разработанная консервативным министром народного просвещения графом Сергеем Уваровым, подчеркивала связь царя с народом, возводя ее ко времени Московского царства. В содержательном отношении доктрина включала историю о призвании русскими иностранных правителей-варягов и почитании их наследников на престоле, упоминала о преданности народа церкви и специфическом характере любви его к проевропейско-му самодержавию. Связь между самодержавием, православием и народностью существовала с момента зарождения России, как утверждал журналист Федор Булгарин:
Вера и самодержавие создали русское государство и общее отечество для всех русских славян...
Этот великий колосс, Россия, практически отдельный континент, с разными типами климата и всеми мыслимыми племенами человечества, может находиться в балансе только благодаря вере и самодержавию. Вот почему в России никогда не существовало и не может существовать никакой другой народности, кроме народности, основанной на православии и самодержавии78.
В основе доктрины официальной народности лежит образ России «как единой семьи, в которой правитель выступает в роли отца, а подданные — в роли детей. Отец обладает всей властью над детьми, и он же предоставляет им полную свободу. В отношениях между отцом и детьми нет места подозрению или предательству; общую судьбу и счастье они делят вместе»79. «Народность», наименее определенный и наиболее спорный компонент в официальной триаде, была связана с идеей подчинения, покорности и лояльности. Русским, как истинно христианскому народу, приписывались такие качества, как самоотречение и жертвенность, спокойствие и созерцательность, глубокое почитание своего суверена и стойкость в сопротивлении революции. Во время коронации, отложенной из-за декабристского восстания, Николай I трижды поклонился народу, вводя тем самым новую традицию, сохранившуюся вплоть до
78 Цит. по Riasanovsky, ibid., 77.
79 Михаил Погодин, цит. по Riasanovsky, ibid., 118—119.
108
Рональд Григор Сун и
последних дней династии. В то же время он сделал и существенные шаги по пути национализации монархии. Во время бала, проведенного после церемонии возведения Николая I на трон, дворяне танцевали в национальных костюмах среди декораций в московском стиле. Русский язык стал активно использоваться при дворе и вместе с русской историей вошел в список предметов университетской программы; новые церкви возводились в русско-византийском стиле. Под непосредственным контролем императора был сочинен национальный гимн «Боже, царя храни», а композитор Михаил Глинка сложил национальную оперу «Жизнь за царя», повествующую о том, как крестьянин-патриот Иван Сусанин сбил с пути польский отряд, чтобы не выдать место укрытия будущего царя80.
«Официальная народность» была попыткой догнать Запад на последнем круге развития национального дискурса, связать нацию с государством, монархом и государственной религией в то время, когда в самой Европе политическое сообщество в форме нации уже отделялось от государства, по крайней мере, на концептуальном уровне, и быстро становилось независимым источником легитимации власти. Русская монархическая идеология сопротивлялась западному вызову, брошенному концепции политического сообщества ancien regime, суверенитет которого отождествлялся с фигурой правителя. Отталкиваясь от примера русской истории, Бенедикт Андерсон усматривает в «официальном национализме» особую разновидность, появившуюся после распространения «народного языкового национализма». Она стала своеобразным «ответом пра
80 После Французской революции в Западной Европе возник новый образ монархии, в котором монарх уже не изображался богом, а принял вид обыкновенного смертного, разделяющего обычные семейные ценности. Монархи «стали примерами человеческого поведения, скромной добродетели и должны были вызывать восхищение среди своих подданных». Идеализация королевской семьи возвысила правящую династию до уровня символа нации. Сопоставление с семьей сократило дистанцию между монархом и его народом: они теперь принадлежали общей нации, являясь частью ее. Этот идеал буржуазной монархии принял своеобразную форму в России. Николай I идентифицировал династию с исторической судьбой российского государства и русского народа. «Его сценарий... изображал императора в качестве воплощения всех атрибутов западной монархии, но в то же время как члена своей семьи, человеческое существо, возвышенное в силу своего происхождения и принадлежности к правящей семье, которая воплощала высшие человеческие ценности... Тщательно декорированная частная жизнь царя, выставленная русской публике на обзор, должна была демонстрировать воплощение западноевропейского идеала», Wortman, op. cit., 402; см. также G. Mosse, Nationalism and Sexuality: Middle-Class Morality and Sexual Norms in Modern Europe, Madison: Univ, of Wisconsin Press, 1985.
Аффективные сообщества: структура государства и нации... 109
вящих групп, преимущественно династических и аристократических, на угрозу исключения или маргинализации в воображенном сообществе». Официальный национализм «скрывал разрыв между нацией и династическим укладом» и по сути был попыткой аристократии и монархии сохранить империю81. Конечно, официальный взгляд на существо национального был глубоко консервативным в том смысле, что настаивал на сохранении существовавшей формы государства в эпоху, когда легитимность данной формы оспаривалась новыми политическими концепциями на Западе. Используя идеализированный образ гармоничных отношений между правителем и народом в русском прошлом, Николай I противопоставлял «святую Русь» безбожной и революционной Европе. В то же время монархия, с трудом сочетая в себе русские и европейские черты, сопротивлялась попыткам местных националистов, таких как славянофил Константин Аксаков, идентифицировать русскость с простым народом, национальным костюмом и бородой.
Власти империи попытались расширить практику применения официального национализма, сначала посредством бюрократической централизации, а потом и культурной русификации, для подавления нерусского национализма и сепаратизма, а также в целях идентификации династии и монархии с русской «нацией». Однако эти разнообразные и часто противоречивые попытки нивелировались под давлением противоположных тенденций и прежде всего из-за мощного противовеса в виде наднациональных идентификации России с империей, православием и славянством. Даже консервативный националист Михаил Катков (1818—1887) усматривал основу русской идентичности в государственном начале. Поскольку государство не было этнически гомогенно, данное положение нуждалось в изменении. Русификация должна была снабдить государство основанием в виде этнической нации. Хотя газета Каткова «Московские ведомости» была самой популярной у правых, его националистические взгляды имели ограниченное влияние на широкую публику. Идея панславянского единства, возглавляемого всеславянским, а не просто русским царем (проект поэта Федора Тютчева и других), постоянно дискредитировалась сопротивлением других славянских народов, в особенности поляков, не только не разделявших православной веры с русскими, но и идентифицировавших себя в терминах сопротивления русскому владычеству. Возникновение украинской национальной идентичности нанесло ощутимый удар как по панславизму, так и по более скромной концепции русского народа, которая включала в свой состав наряду с «великороссами» «малороссов» (украинцев) и «белорусов». После
81 Anderson, Imagined Communities, 109 - 110.
но
Рональд Григор Сун и
подавления в 1847 году деятельности украинского Кирилло-Мефо-диевского братства, радикальной панславянской группы, правительство не только свернуло свою украинофильскую политику (первоначально направленную против польского влияния), но и официально осудило панславизм как опасную и неблагонадежную доктрину82.
Российская империя использовала в XIX веке как дискриминационные, так и национализирующие элементы политики и сохраняла существенные различия между русскими и нерусскими. Положение многих народностей, получивших статус инородцев, продолжало регламентироваться специальными законами. В списке инородцев значились евреи, народы Северного Кавказа, калмыки, кочевники, самоеды и другие народы Сибири. Великие реформы 1860-х годов не привели к появлению земств на нерусских территориях. Наряду с сохранением различий и дискриминационной политики по отношению к отдельным частям империи и населявшим ее народам, предпринимались также более согласованные усилия по русификации отдельных групп населения. Рассматривая всех славян как потенциальных или реальных русских, правительство ограничивало высшее образование на польском языке и употребление украинского языка83. После восстания 1830— 1831 годов польский университет в Вильно был закрыт, с тем чтобы вновь открыться в качестве уже русского университета в Киеве. Советники Александра III Дмитрий Толстой и Константин Победоносцев отождествляли русскость с православием и были особенно враждебно настроены против католиков и евреев. Все православные студенты должны были получать образование на русском языке, даже если они сами себя считали украинцами, белорусами, грузинами или бессарабами. Тем не менее одновременно правительство заботилось о доступе к религиозному образованию для групп населения разного вероисповедания. Были разрешены католические, протестантские, армянские, мусульманские и еврейские школы, а в некоторых случаях допускалось и неправославное образование на нерусских языках. В школах нехристианских конфессий было разрешено преподавание на родном языке, в то время как в государственных школах для нехристианских народов языком обучения оставался русский. Реформатор церковного образования Н. И. Ильминский убедительно доказывал, что кре
82 П. Зайончковский, Кирилло-мефодиевское общество (1846—1847), МГУ, 1959.
83 Th. Weeks, Nation and State in Late Imperial Russia: Nationalism and Russification on the Western Frontier, 1863—1914, DeKalb, IL: Northern Illinois UP, 1996, 70-91.
Аффективные сообщества: структура государства и нации... 111
щеные инородцы должны слышать Евангелие, читаемое на родном языке, и в 1870-х годах так называемая «система Ильминского», предусматривающая организацию сети миссионерских школ с преподаванием на местных языках, стала частью официальной политики84.
В последние годы царизма высшее общество и государственные власти оказались разделенными на тех, кто не желал что-либо менять в традиционных институтах самодержавия и дворянства, и тех, кто стремился к реформированию государства с целью представления интересов социальных слоев, лишенных представительства, сокращению или уничтожению социальной и этнической дискриминации и переходу к формированию нации85. Однако сопротивление социальному эгалитаризму и этнической терпимости оказалось критическим для процессов национального строительства. Знаменитая попытка ввести выборные земства в Западном крае спровоцировала политический кризис. При следовании обычному принципу сословного представительства западные земства должны были бы оказаться во власти польских землевладельцев. Однако предложенная вместо него система представительства по этническим куриям была отвергнута консервативным Государственным советом как раз именно из-за нарушения сословного принципа. Проект закона о городском самоуправлении на территории польских губерний был отвергнут антисемитски настроенными поляками, опасавшимися еврейского преобладания в городских муниципалитетах. Русские националисты одержали временную победу в 1912 году, когда Холмская область, населенная преимущественно украинцами и католиками, была выведена из состава Царства Польского и превращена в самостоятельную губернию86. Во всех трех случаях на принятии решений сказались партикуляристские представления о национальности и классе. Универсальное представление о принадлежности к общей нации практически отсутствовало.
Царизм так и не смог создать нацию (то есть аффективное сообщество) в пределах империи или хотя бы привить национальное чувство титульному русскому населению, хотя то, что со стороны казалось империализмом, было для правителей страны «частью общих проектов государственного и национального строитель
84 I. Kreindler, «А Neglected Source of Lenin’s Nationality Policy», Slavic Review 36:1 (1977).
85 Этот конфликт противоположных подходов к конструированию современного русского политического сообщества проанализирован в: J. Sanborn, Drafting the Russian Nation: Military Conscription, Total War, and Mass Politics, 1905— 1925, DeKalb, IL: Northern Illinois UP, 2003.
86 Weeks, Nation and State, 131 — 192.
112
Рональд Григор Суни
ства»*1. Царская Россия прекрасно справилась с задачей строительства государства и создания империи, однако потерпела неудачу в создании полиэтнической «российской нации». История царизма есть история империи, которая время от времени становилась на путь национального строительства, но эта государственная национализирующая практика всегда вступала в конфликт со структурами и дискурсом империи. Имперское стремилось к ограничению, если не к подрыву национального в той же мере, в какой национальное разрушало стабильность и легитимность государства. В то время как Московское государство и имперская Россия сумели интегрировать центральные регионы империи (часто называемые «внутренними губерниями») в единую национальность, различия в отношениях между русской центральной областью и нерусскими перифериями сохранились и даже усилились в силу неоднородности административной и переселенческой политики и компактности проживания местных этнических групп87 88. После относительно успешного завоевания и ассимиляции православного славянского населения Центральной России (Владимира, Новгорода и других удельных княжеств) Московское государство приступило к «собиранию» земель с неславянским и неправославным населением, таких как Казань. В некоторых регионах царский режим сумел создать лояльных подданных путем трансформации культурной идентичности, но его политика не отличалась последовательностью и существенно варьировалась. Ему так и не удалось ни сформировать эффективную национальную идентичность, основанную на принципе гражданства, ни построить (или хотя бы попытаться построить) этническую нацию даже среди русских. Местечковость, религиозная идентичность и распространенное восприятие России более в связи с образом царя и государства, чем в качестве единого народа осложнили конструирование межклассовых и межкультурных национальных отношений в рамках империи. Более того, царское правительство не смогло превратить в русских даже крестьянское население89. В отличие от Франции, в России не существовало программы образования и сплочения миллионов людей вокруг идеи нации. Царская Россия представляет опыт неполного национального строительства. Здесь уместно сравнение российского опыта с историей удачного создания Британской империи Ан
87 М. Beissinger, «The Persisting Ambiguity of Empire», Post-Soviet Affairs 11:2 (1995), 2.
88 Этим наблюдением я обязан Кеннету Чёрчу, давшему тщательный критический разбор одной из моих ранних работ.
89 Идея, высказанная Романом Шпорлюком.
Аффективные сообщества: структура государства и нации... 113
глией и с неудачей последней в Ирландии или же со случаем успеха Франции в национализации «гексагона» и провалом в Алжире90.
Россия была сложносоставным государством, которое характеризовалось неравными отношениями между нерусскими частями населения и «русской» метрополией, представлявшей хотя и полиэтническую, но культурно русифицированную правящую элиту. Дискриминация и неравные отношения между метрополией и периферией, сопротивление нерусских культур ассимиляции и контрнационализм нерусских народов препятствовали гомогенизации и инкорпорации населения в единое воображаемое сообщество «русская нация», при всех попытках имперских властей пойти по пути национализирующей политики. Хотя распад Российской империи произошел не в результате действия периферийных национа-лизмов, а из-за растущего ослабления и дезинтеграции центра, к 1917 году имперская легитимность была в значительной степени ослаблена. Элиты отказали монархии в поддержке, и в целом произошло отчуждение режима от интеллигенции и рабочих, стратегически сконцентрированных в крупнейших городах. Политика индустриализации и ограниченных реформ после 1905 года создала в имперском обществе новые политические группы, стремящиеся к представительству собственных интересов на политическом уровне, которое царь отказывался гарантировать. В новом мире, где цивилизация отождествлялась с нацией, конституционализмом, экономическим развитием (которому препятствовал царизм), а в некоторых случаях и с социализмом и революцией, политическая структура самодержавия все в большей степени воспринималась как помеха на пути дальнейшего развития. В последние годы своего существования династия всё больше проявляла себя как некомпетентная и даже предательская. Поражения и колоссальные потери, понесенные Россией в ходе Первой мировой войны, лишили императора и императрицу хрупкой ауры легитимности; в общественном восприятии эти две фигуры представлялись далекими и чуждыми интересам России. То, что в прошлом прибавляло династической монархии могущества, а именно ее дистанция от народа, теперь стало фатальной помехой. Сочетание патриотизма элиты, фрустрированного национализма нерусских народов и изнуренности крестьян бесконечными жертвами, приносимыми во имя чуждого им дела, оказалось роковым для монархии. Принципы существования империи, основанные на концепции дифференциации и иерархии, оказались несовместимыми с современными идеями демократического представительства и эгалитарного гражданства,
90 I. Lustick, State-Building Failure in British Ireland and French Algeria, Berkeley: Univ, of California Press, 1985.
114
Рональд Григор Сун и
которые овладели умами большей части интеллигенции и городского населения вообще. Не выдержав испытания войной, монархия потеряла последний ресурс легитимности и привлекательности в глазах народа, и в февральские дни 1917 года Николай II не сумел найти военную поддержку, чтобы подавить народное сопротивление хотя бы в одном городе империи.
igsuny@umich.edu
Перевод Н. Кузнецовой, Д. Унаняна, редакторов Ab Imperio и М. Маяи/сого
Раздел II
ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ
Андрей Зорин
ИМПОРТ ЧУВСТВ:
К ИСТОРИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ЕВРОПЕИЗАЦИИ РУССКОГО ДВОРЯНСТВА
В июле 1790 года двадцатитрехлетний московский писатель Николай Карамзин завершал свое путешествие по континентальной Европе. Он уже больше года странствовал по Пруссии, Саксонии, Швейцарии и Франции, провел несколько месяцев в Париже и теперь приближался к Кале, чтобы сесть там на пакетбот и отправиться в Англию — «ту землю, которую в ребячестве своем любил со всем жаром» и посещение которой должно было стать завершающей частью его европейского Гранд-тура. По дороге он делал заметки, которые впоследствии легли в основу «Писем русского путешественника», превративших малоизвестного дебютанта в признанного лидера русской литературы. Одной из задач Карамзина было сделать культурный мир Европы достоянием российского читателя. В своих «Письмах...» он подробно рассказывал о встречах с Кантом, Виландом, Бонне, Гердером, Лафатером, о посещении литературных святилищ Западной Европы: Рейнского водопада, описанного Морицем и Гете, Женевского озера, на берегах которого разворачивалось действие «Новой Элоизы», дома Вольтера в Фернее и могилы Руссо в Эрменонвиле. Его книга стала путеводителем по европейскому сентиментализму, своего рода литературной картой современной Европы.
Тем не менее на побережье неподалеку от Кале, на маленькой почтовой станции Го- Бюиссон, путешественника охватило ощущение одиночества и потерянности:
Странное чувство! Мне кажется, будто я приехал на край света, — там необозримое море — конец земли — природа хладеет, умирает — и слезы мои льются ручьями. [...] Товарищи мои сидят на траве, подле нашей кареты, не говоря между собою ни слова; [...]
Кто видит мои слезы? кто берет участие в моей горести? кому изъясню чувства мои? Я один... один. Друзья! где взор ваш? где рука ваша? где ваше сердце? Кто утешит печального?
О милые узы отечества, родства и дружбы! Я вас чувствую, несмотря на отдаление, чувствую и лобызаю с нежностью.
118
Андрей Зорин
Однако это чувство заброшенности и оторванности от окружающего мира оказалось непродолжительным. Прибыв в Кале, путешественник «тотчас пошел к Дессеню (которого дом есть самый лучший в городе)». Именно от этого дома, или, вернее, гостиницы, за тридцать два года до этого началось европейское путешествие Лоренса Стерна, разумеется, двигавшегося в противоположном направлении. В гостинице Дессена разворачивается действие нескольких первых глав «Сентиментального путешествия». Неудивительно, что рассказ Карамзина о его недолгом пребывании в Кале в значительной части состоит из стерновских цитат и реминисценций:
«Что вам надобно, государь мой?» — спросил у меня молодой офицер в синем мундире. — «Комната, в которой жил Лаврентий Стерн», — отвечал я. — «Где хвалил он кровь Бурбонов?» — «Где жар человеколюбия покрыл лицо его нежным румянцем». — «Где самый тяжелый из металлов казался ему легче пуха?» — «Где приходил к нему отец Лорензо с кротостью святого мужа». — «И где он не дал ему ни копейки?» — «Но где хотел он заплатить двадцать фунтов стерлингов тому адвокату, который бы взялся и мог оправдать Йорика в глазах Йориковых». — «Государь мой’ Эта комната на втором этаже, прямо над вами. Тут живет ныне старая англичанка с своею дочерью».
Я взглянул на окно и увидел горшок с розами. Подле него стояла молодая женщина и держала в руках книгу — верно, «Sentimental Journey»1.
Попутчики, волею случая путешествовавшие вместе в карете, не составляли сообщества и так и остались для автора чужеземцами, среди которых он ощущал себя посторонним и одиноким. Однако во дворе гостиницы Дессена произошла встреча родственных душ, объединенных общими ценностями и общим образом чувствования. Пользуясь классической формулой Бенедикта Андерсона, скажем, что здесь возникает «воображаемое сообщество» европейцев, причем возникает оно вокруг книги. «Сентиментальное путешествие» объединило двух англичанок, французского офицера и начинающего русского писателя. Поставив своей задачей культурную интеграцию России в Европу, Карамзин предложил ее образец, представив себя самого, молодого русского дворянина, как естественного члена образованной европейской публики. В этом символическом пан-европейском союзе чувствительных сердец
1 Н. Карамзин, Письма русского путешественника, Л.: АН СССР, 1984, 323-324.
Импорт чувств: к истории эмоциональной европеизации... 119
русских принимают как равных, поскольку они оказываются способны оценить и юмор Стерна, и его чувствительность, не в меньшей степени, чем представители страны, где Стерн родился, или страны, которую он описал в своей самой знаменитой книге. Общие эмоции формируют особое поле, связывающее тех, кто способен их испытывать, особыми «узами чувствительности», не менее значимыми и «милыми», чем «узы отечества, родства и дружбы».
Клиффорд Гирц писал:
Культурными артефактами в человеке являются не только идеи, но и эмоции... Ни правящие координационные области [в мозге], ни умственное строение человека не могут быть сформированы достаточно четко в отсутствии направляющего воздействия со стороны символических моделей чувства. Чтобы принимать решения, мы должны знать, что мы чувствуем по поводу тех или иных вещей, а чтобы знать, что мы чувствуем по их поводу, нам нужны публичные образы чувствования, которые нам могут дать только ритуал, миф и искусство2.
Помочь понять роль этих «публичных образов чувствования» в процессе формирования индивидуальных эмоций может концепция эмоционального «кодирования» (event coding), предложенная голландскими психологами Нико Фрайда и Батья Месквита. Согласно этой концепции, «эмоциональный процесс, ассоциирующийся с произошедшим событием, направляется не столько природой этого события per se, сколько приписываемым ему значением»3. Различные кодировки могут соотносить одно и то же событие с разным кругом представлений и соответственно вызывать разные эмоции. «Кодируя» событие, субъект переживания идентифицирует его (не обязательно облекая такую идентификацию в словесную форму) как, например, угрозу, оскорбление, неожиданность, со
2 К. Гирц, Интерпретация культур, М.: РОССПЭН, 2004, 96. В этом свете очевидно, что литературное переживание — лишь одна из разновидностей культурного переживания, которое может быть основано на разных формах символической деятельности.
3 N. Frijda, В. Mesquita, «The Social Roles and the Function of Emotions», Emotion and Culture. Empirical Studies of Mutual Influence, ed. Sh. Kitayama, H. Markus, Washington DC: American Psychological Association, 1994, 57—59. Эта начальная (логически, хотя и не обязательно хронологически) стадия эмоционального процесса порождает готовность к действию, реализующуюся в поведенческих и физиологических реакциях: человек убегает, бросается в атаку, проявляет внимание, краснеет, бледнеет и т.д. (ibid., 50—54). См. подробнее: Frijda, The Emotions, Cambridge UP, 1986. Также см. Зорин, «Понятие литературного переживания и конструкция психологического протонарратива», История и повествование, М.: НЛО, 2006.
120
Андрей Зорин
блазн и т.п. На основе этой кодировки и возникает соответствующая «оценка» (appraisal) произошедшего: испуг, гнев, удивление, интерес и пр. Именно эту часть эмоционального процесса имел в виду Р. Шведер, называя эмоцию «интерпретативной схемой», которая накладывается на «сырой материал, поставляемый опытом»4.
Вместе с тем, по Фрайда и Месквита, как кодирование и оценка, так и готовность к действию определяются, в первую очередь, «регулятивными процессами». Эту роль исполняют преимущественно культурные нормы, предписания и табу, источником которых в определенные эпохи и в определенных культурно-социальных группах могут становиться и произведения изящной словесности. По мере того как в культуре Нового времени институцио-нализованная религия и ее ритуалы постепенно утрачивают свою определяющую роль в жизни образованных сословий, производство «публичных образов чувствования» все в большей степени берет на себя литература. В сентиментальную эпоху она становится «школой чувствительности», задающей образцы эмоционального кодирования в базовых жизненных ситуациях. Классические произведения того времени выполняли роль своего рода камертонов, по которым читатели учились настраивать свои сердца и проверять, насколько в унисон они чувствуют. Совместное чтение и переживание одних и тех же сочинений гарантировало распространение единых моделей чувства поверх национальных барьеров и государственных границ.
Незадолго до отъезда в Кале Карамзин расстался в Париже со своим спутником, немецким писателем и ученым бароном В*. Эго событие отразилось на страницах «Писем...» характерной ламентацией:
Прости любезный В*! Мы родились с тобой не в одной земле, но с одинаким сердцем; увиделись и три месяца не расставались. Сколько приятных вечеров провел я в твоей сен-жерменской отели, читая привлекательные мечты единоземца и соученика твоего, Шиллера, или занимаясь собственными нашими мечтами, или философствуя о свете, или судя новую комедию, нами вместе виденную. [...]
А вы, отечественные друзья мои, не назовете меня неверным за то, что я в чужой земле нашел человека, с которым сердце мое было как дома.
4 R. Schweder, «You are not sick, you are just in love. Emotion as an interpretative system», The Nature of Emotions. Fundamental Questions, ed. P. Ekman, R. Davidson, N.Y.: Oxford UP, 1994, 32.
Импорт чувств: к истории эмоциональной европеизации... 121
Общие образцы чувствования объединили «одинакие сердца», и единообразное усвоение этих образцов определялось совместным переживанием литературных и театральных впечатлений. Карамзин и Вольцоген читали те же произведения Шиллера и ходили на те же комедии в парижских театрах. По существу, любая значимая составляющая душевной жизни образованного человека была охвачена тем или иным «образцовым» писателем, задавшим модус соответствующего эмоционального переживания и вытекающего из него поведения. Европейская публика училась любить по «Новой Элоизе» и «Страданиям молодого Вертера», наслаждаться природой по Томсону и Руссо, посещать кладбища по Юнгу и Грею, уединяться от мира по Циммерману.
«Ты прав, что по Циммерману можно поверять себя. Я знаю это по опыту», — писал в 1801 году молодой германофил Андрей Кайсаров своему другу Андрею Тургеневу5, учившему его строить свою жизнь по рецептам современных немецких писателей и мыслителей. Сам Тургенев в том же году записал в своем дневнике:
Сегодни утром купил я [...] Вертера и велел без всякой дальней мысли переплести его пополам с белой бумагой. Сам не знал еще, на что мне это будет. Теперь пришла у меня быстрая мысль. So eine wahre warme Freude ist nicht in der Welt, als eine groBe Seele zu sehen, die sich gegen einen offnet6 — говорит в одном месте Вертер. Я читал это прежде равнодушно и хладнокровно, теперь, слушая Ив[ана> Владимировича] (Лопухина. — А. 3.), [...] от безделицы, но которая показала мне благородную твердость души его, почувствовал я сам эту радость, хотя он говорил и не со мною. За этим и другая мысль родилась мгновенно. Я вспомнил это место в Вертере, и в — новом Вертере своем буду поверять мои чувства с его и отмечать для себя, что я чувствовал так же, как он, — сказал я сам себе, вскочил, прибежал в свою комнату и тут же написал эти строки7.
Его собственный дневник до такой степени слился в его воображении с романом Гете, что ему захотелось физически объединить два этих текста и продолжать свои записи непосредственно на полях любимой книги.
5 РО ИРЛИ (Пушкинский Дом). Ф. 309. Ед.хр. 50. Л. 74 об.
6 Право же, самая лучшая, самая чистая радость на свете — слушать откровенные излияния большой души (нем.), in Die Leiden des jungen Werther, II, am 26.11 (= 1. Fassung, II, am 10.11).
7 РО ИРЛИ (Пушкинский Дом). Ф. 309. Ед. хр. 272. Л. 12.
122
Андрей Зорин
Разумеется, такой тип чтения вовсе не был ограничен пределами России, а был распространен в самых широких слоях европейской публики эпохи чувствительности. Стоит напомнить, что герой Гете сам читает подобным образом. Решающий поворот в его любовной истории происходит после того, как оба возлюбленных вместе переживают чтение песен Оссиана, а после самоубийства Вертера на его столе находят открытую копию «Эмилии Галогги». Но в России такое восприятие прославленных произведений приобрело особую напряженность, поскольку представление о литературе как об учебнике чувств было поддержано усилиями по апроприации западного типа культуры. Российские авторы вовсе не пытались замаскировать имитационный характер своей литературной стратегии. Напротив, они стремились к тому, чтобы все их заимствования были наглядны и декларативны. Авторитет знаменитых иностранных писателей легитимировал их собственные претензии служить наставниками в области чувствительности. Соответственно они пытались представить себя в качестве самых компетентных читателей и истолкователей чужеземных авторов, которым стремились подражать8.
Таким образом прослеживается совершенно определенная цепочка интерпретаций и имитаций. Западный писатель предлагает модель «эмоционального кодирования», подходящего для той или иной архетипической ситуации. Русский писатель со своей стороны не только делает то же самое, но и подкрепляет свое описание отсылкой к образцовой иностранной книге, где его читатель может найти аналогичный пример. Эго позволило российской аудитории не только научиться ориентироваться в предлагаемых житейских обстоятельствах, но и освоить правильный способ чтения.
Все тот же Карамзин в очерке «Прогулка», написанном за три года до его европейского путешествия, рассказывал, как он отправился за город, «взяв в руки своего Томсона». Вечером, увидев на небе Луну, он сразу же задумывается о собственной грядущей смерти. Эти размышления, в свою очередь, автоматически вызывают в его памяти «имя Йонга, кое вовеки пребудет священным для тех, кто, имея нежные сердца, умеют чувствовать красоту природы и достоинство человека». В конце очерка он возвращается в город, «читая Гимн, коим Томсон заключил бессмертную свою поэму»9. Несколькими годами позже, уже знаменитым писателем, Карамзин описал технику созерцания Природы с книгой в руках: «Нахожу Томсона — иду с ним в рощу и читаю — кладу книгу подле мали
8 Н. Кочеткова, Литература русского сентиментализма, СПб: Наука, 1994,156-189.
9 Н. Карамзин, «Прогулка», Детское чтение (1788) 161—162, 167, 175.
Импорт чувств: к истории эмоциональной европеизации... 123
нового кусточка, погружаюсь в задумчивость. Потом снова берусь за книгу»10.
Описательная поэма Томсона «Времена года» открывала русскому любителю природы красоты окружающего его пейзажа и учила тому, как надо правильно воспринимать эти красоты и какой эмоциональный настрой должно вызывать их созерцание. В стихотворении «Дарования» Карамзин эксплицировал этот психологический механизм:
Ламберта, Томсона читая, С рисунком подлинник сличая, Я мир сей лучшим нахожу: Тень рощи для меня свежее, Журчанье ручейка нежнее.
К словам «мир сей» Карамзин сделал авторское примечание: «го есть мир физический, который описывали Томсон и Ст. Ламберт в своих поэмах»11. Тем самым воображенная литературная природа делает природу подлинную более прекрасной, обучая сердце ощущать ее очарование. Карамзин видит в подмосковной роще тот же идеализированный пейзаж, который описал Томсон во «Временах года», поскольку для истинно чувствительного сердца все житейские впечатления принципиально сводимы к набору архетипических эмоциональных кодировок, воплощенных великими писателями. Тем самым главным для человека, изучающего науку чувствительности, оказывается тщательное проникновение в ее нетленные образцы и по возможности наиболее полное их воспроизведение в своем эмоциональном обиходе:
На все с веселием гляжу, Что Клейст, Делиль живописали; Стихи их в памяти храня, Гуляю, где они гуляли, И след их радует меня, —
заключает Карамзин12.
Великие писатели и их книги становились неотделимыми от описанных ими житейских ситуаций. В 1790-е годы русский писатель Иван Мартынов в своем литературном путешествии «Филон»,
10 Н. Карамзин, «Деревня», Московский журнал 7 (1792), 52.
11 Н. Карамзин, Полное собрание стихотворений, Л.: Советский писатель, 1966, 219.
12 Там же.
124
Андрей Зорин
построенном одновременно по образцу стерновского «Сентиментального путешествия» и карамзинских «Писем...», по сути уравнивал чтение Стерна и помощь бедным и обиженным:
Дети... [...] для нравственной вашей жизни довольно только чувствовать, поражаться... ищите трогательных явлений; принудите себя быть оных свидетелями; [...] часто из школы угрюмого учителя выходим мы с пустым, хладным сердцем; а на лице несчастных читаем наставление, которое печатлеется глубоко в нашем чувственном составе. Не знаю почему, но я нахожу больше уроков лля себя в бедной, помешанной Марии, сидящей под ивою с милым ее Сильвио, пережившим верность ее любовника и козочки, нежели во всех с важным видом произнесенных правилах13.
Мария из этого фрагмента — одновременно и героиня «Сентиментального путешествия», и символическое воплощение всех несчастных, и реальная страдающая девушка, с которой можно столкнуться во время путешествия. Плакать над страницами Стерна и над судьбами страдальцев — это, в сущности, одно и то же, поскольку «Сентиментальное путешествие» предоставило читателю «публичный образ» сострадания, позволило ему эмоционально кодировать и оценивать столкновения с несчастными.
Тот же способ интериоризации эмоциональных моделей, почерпнутых из литературных источников, можно обнаружить и в уже упоминавшихся дневниках Андрея Тургенева, юного энтузиаста, учившегося чувствовать по Гете и Шиллеру и пытавшегося превратить себя в человека Sturm und Drang а.
28 августа 1799 года, в день, когда православная церковь отмечала день усекновения главы Иоанна Крестителя, семнадцатилетний Тургенев ехал на лошади по центру Москвы. Как он записал потом в своем дневнике, все кругом, вне зависимости от пола, возраста и сословного статуса, были по случаю церковного праздника совершенно пьяны. Проезжая мимо кабака на Кузнецком Мосту, он стал свидетелем сцены, привлекшей его внимание:
Боже мой! Что я увидел! оттуда вышла мерзкая, отвратительная старуха, самое гадкое творение во всей Природе. С ней была — молодая девушка, лет 15, которая шла и шаталась. Какой вид! На лице девушки изображалась невинность и чистосердечность (сап-deur), я мало видел таких открытых интересных физиономий. Старуха куда-то ее толкала, и она шла как бы нехотя. Она имела любезное, доброе, привлекательное [л. 7 об.] лице — и в таком
13 И. Мартынов, «Филон», Муза 1 (1796) 58—59.
Импорт чувств: к истории эмоциональной европеизации... 125
состоянии’’ Боже мой’ Боже мой’ Сердце мое взволновалось. Я проклинал старуху (не могу найти слова, как назвать ее), сильные чувства жалости, негодования, досады, что должен видеть это и тщетно скрежетать зубами, и еще что-то смешанное занимали душу мою. Нет! надобно видеть эту любезную, слез достойную девушку, жертву мерзкого корыстолюбия, надобно видеть ее чистую, открытую физиономию, надобно самому все это видеть, и тогда сердце твое раздерется14.
Тургенев не связывает плачевное состояние встреченной им «молодой девушки лет 15» с происходящим кругом массовым перепоем по случаю Иванова дня. Он видит, как она выходит из кабака вместе со старухой и как та ее куда-то «толкает». Современному читателю естественно было бы предположить, что мать (бабушка, воспитательница) выводит свою дочь (внучку, воспитанницу) из неподобающего места, где она несколько загуляла по случаю праздника. Между тем такого рода возможность даже не приходит в голову юному автору. Дело в том, что его переживание ноет всецело литературный характер, а определивший его образец воспринят из ранних мелодрам Шиллера, фанатическим поклонником которых был Андрей Иванович, работавший в эти годы вместе с группой друзей над переводом «Коварства и любви».
В этих драмах Шиллера, резко усилившего и без того характерную для литературы и особенно театра XVIII века прямолинейную физиогномику, состояние души прямо отражалось во внешнем облике персонажей. Омерзительно, почти нечеловечески уродлив в «Разбойниках» Франц Моор, убивший отца, оклеветавший брата и пытавшийся фальшивыми софизмами совратить его невесту. В «Коварстве и любви» отец Луизы музыкант Миллер так характеризует Вурма, претендующего на руку его дочери: «Точно он и на белый свет только контрабандой попал. Лукавые мышиные глазки, огненные волосы, подбородок выпирает. Точно природа, обозлившись на безобразное изделие, схватила милого дружка за это место и шваркнула куда-нибудь в угол»15.
Именно Вурм становится инициатором интриги, в итоге приводящей Луизу и Фердинанда к гибели, а потом пытается не только подчинить Луизу своей воле, но и отравить ее душу.
Соответственно Тургенев кодирует происходящее между «мерзкой, отвратительной старухой, самым гадким творением во всей Природе» и выпившей молодой девушкой, лет 15, на лице которой
14 РО ИРЛИ. Ф. 309. Ед.хр. 272. Л. 7. Подробнее см. Зорин, «Прогулка верхом в Москве в августе 1799 г.», НЛО 65 (2004).
15 Ф. Ши/uiep, Собрание сочинений, т. II, М.: Academia, 1936, 338.
126
Андрей Зорин
«изображались невинность и чистосердечность (candeur)», как «совращение невинности». Адекватной оценкой таким образом закодированного события оказываются «сильные чувства жалости, негодования», дополнительно осложненные «досадой, что должен видеть это и тщетно скрежетать зубами». Разумеется, реализовавшаяся в реакциях Тургенева «оценка» предполагала и готовность к действию — пламенному шиллеристу следовало деятельно защищать невинность. Невозможность реализовать эту готовность вносила в эмоциальный процесс, переживавшийся Тургеневым, еще одну яркую краску16.
Этот тип аккультурации моделей эмоционального переживания, заимствованных из инонациональной и иноязычной словесности, побуждает в несколько иной перспективе увидеть сакраментальную проблему соотношения устройства эмоциональной жизни человека и языка, на котором он говорит и думает. Как утверждает Анна Вежбицкая, наиболее последовательный сторонник идеи языковой обусловленности эмоционального переживания, «каждый язык обладает своим устойчивым набором готовых (readymade) понятий, обозначающих эмоции, которые носители данной культуры рассматривают как наиболее значимые». Различия в эмоциональном лексиконе «не только отражают, но и стимулируют различные культурно специфические способы думать и чувствовать»17.
Не претендуя на сколько-нибудь полное освещение этого вопроса, требующего куда более полного исторического, антропологического и психологического материала18, отметим, что сохранившиеся сведения об эмоциональной жизни русской дворянской элиты ХУШ—XIX столетий не подтверждают этой гипотезы. Существенно, что этот вполне специфический случай может, как кажется, иметь далеко идущие теоретические последствия. Разумеется, невозможно отрицать культурную специфичность многих значимых типов эмоционального переживания. Однако соответствующий «эмоциональный лексикон» оказывается не только не единственным, но и едва ли не самым важным фактором, определяющим такую специфичность. Социальные, гендерные, поколенческие и групповые вариации внутри языкового сообщества формируют эмоциональную культуру личности куда в большей степени, чем родной язык.
16 Для краткости мы опускаем анализ еще одного чувства, «занимающего душу» Тургенева, которое он сам определяет как «и еще что-то смешанное».
17 A. Wierzbicka, Semantics, Culture and Cognition. Universal Human Concepts in Culture Specific Configurations, N.Y.: Oxford UP, 1992, 124.
18 Cm. W. Reddy, The Navigation of Feeling, 3—63.
Импорт чувств: к истории эмоциональной европеизации... 127
Вежбицкая считает продуктивным «прототипический подход» к изучению эмоций19. Как подчеркивал теоретик этого подхода Аарон Бен Зеев, «эмоции в целом, как и каждая эмоция в отдельности, являются прототипическими категориями. Возможность отнести тот или иной случай именно к данной категории определяется сходством с наиболее типичным случаем»20. Однако такие «типические», или «архетипические», случаи, интериоризирован-ные субъектами эмоционального процесса в качестве образцовых, могут существенно различаться внутри единого языкового сообщества, а также вовсе не обязательно должны облекаться в конкретную лингвистическую форму. Более того, они могут вполне адекватно распознаваться и усваиваться носителями эмоции из языка, не являющегося для них родным.
В 1828 году русского поэта Константина Батюшкова перевозили домой из психиатрической лечебницы. По рассказу доктора, сопровождавшего его в этом путешествии, он несколько раз указывал на голубое небо, вспоминал Италию и говорил: «Dort ist mein Vaterland»21. Возможно, знаменитые слова «Dahin! Dahin!» (Туда! Туда!) так и остались непроизнесенными, но именно они служили явным источником батюшковской эмоции. За ностальгией пламенного италомана Батюшкова по небесной отчизне стояла цитата из гетевской «Миньоны», стихотворения, ставшего эмблемой тоски по Италии и уравнивавшего этот земной Элизий с небесным. Повредившийся в уме русский поэт выражал свои интимные душевные движения с помощью эмоциональной модели, почерпнутой им у немецкого собрата.
Стоит отметить, что этот тип эмоционального переживания невозможно объяснить билингвизмом русских дворян. Большинство из них было обычными русскоговорящими людьми, хотя и владевшими иностранными языками; и если какой-то из этих языков и мог претендовать на статус второго родного, то им, безусловно, был французский. Тем не менее это не мешало многим русским дворянам усваивать немецкие эмоциональные модели. Невозможно определить, испытывал ли Батюшков русскую «тоску», немецкий «Sehnsucht» или итальянскую «nostalgia» — да и, в сущности, для понимания природы владевшей им эмоции это не имеет особого значения.
19 Wierzbicka, Emotions across Languages and Cultures, Cambridge UP, 1999, 12-17.
20 A. Ben-Ze’ev, The Subtlety of Emotions, Cambridge, Mass.: A Bradford Book, МГГ, 2000, 7.
21 Там мое отечество (нем.); К. Батюшков, Полное собрание сочинений, СПб: 1887, т. I, 337-338.
128
Андрей Зорин
«Чтобы понять личность, необходимо понять культурную форму. [...] Мы никогда не узнаем, почему люди чувствуют и поступают так, а не иначе, пока не отбросим повседневные представления о человеческой душе и не сосредоточим свой анализ на символах, используемых нами для понимания жизни и превращающих наше сознание в сознание социальных существ», — писала Мишель Ро-залдо в своей основополагающей статье «К антропологии личности и чувства»22 23. Именно зоны распространения подобных символов и определяют границы эмоциональных сообществ, совсем не обязательно совпадающих с национальными или языковыми границами.
Уже упоминавшийся Андрей Тургенев, размышляя в дневнике о своей любви к знаменитой певице и актрисе Елизавете Сандуновой, которую он не без оснований подозревал в поведении, не вполне соответствовавшем его возвышенным ожиданиям, выразил свою мысль цитатой из Шиллера: «О! es muB reizender sein, mit diesem Madchen zu buhlen, als mit andem noch so himmlisch zu schwar-men»-\ Эта реплика Фердинанда из «Коварства и любви» выступает здесь как довольно пространный, но совершенно понятный «реди-мейд» для обозначения любви, которую можно испытывать к недостойной женщине, когда сила страсти исключает романтическую идеализацию предмета, при том, что такого рода идеализация сохраняет для влюбленного высшую ценность. Такие чувства, как любовь, похоть, ревность, восхищение, конечно, имеют соответствующие обозначения и в русском, и в немецком языках, но для данного переживания (как и, собственно, для огромного их большинства) обобщенных ярлыков, обозначающих эмоцию, оказывается недостаточно, и автор предпочитает выразить его иноязычной цитатой.
Существенно, что «публичный образ чувства», выразившегося в этой дневниковой записи, включает в себя не только прямую цитату из шиллеровской мелодрамы, но и отсылку к ее сюжету и системе персонажей. Автор дневника воспроизводит здесь весь смысловой комплекс, связанный для него с этим произведением и служащий для него эмоциональной моделью.
Точно так же, совершив серьезное моральное прегрешение, Тургенев выражает свою тоску по утраченной чистоте отсылкой к «Разбойникам»: «Проливая слезы горести о себе, я читал некото-
22 Rosaldo, «Toward an anthropology of self and feeling», Culture Theory. Essays on Mind Self and Emotion, ed. R. Schweder, R. Le Vine, Cambridge UP, 1984, 141.
23 PO ИРЛИ. Ф. 309. Ед. xp. 271. Л.8. О, блудить с этой девушкой, должно быть, много приятнее, чем предаваться самым восхитительным мечтаниям с другими! (нем.)
Импорт чувств: к истории эмоциональной европеизации... 129
рые сцены и готов был вскричать Карлу Моору: Брат мой! Я чувствовал в нем совершенно себя! и плакал о себе и об нем. Die goldnen Maienjahre der Knabenzeit leben wieder auf in der Seele des Elenden!24 Что этого простее, сильнее и трогательнее!»25.
Эмоция здесь снова оказывается структурированной и аурой пьесы в целом, и ее сюжетом, и характером Карла Моора, и тем конкретным эпизодом «Разбойников», где он произносит цитируемые слова, и непосредственным смыслом цитаты. Вся эта модель эмоции предъявлена для обсуждения и уяснения узкому кругу посвященных адептов, которые распознают друг друга по способности чувствовать в соответствии с заданным Шиллером стандартом:
Вчера же за обедней размышлял я о разбойническом чувстве. Мы уже с Мерзляковым определяли, что оно состоит из чувства раскаяния, смешанного с чем-нибудь усладительным, сильно действующим на наше сердце. — Однако ж, почему раскаяние. Это он сказал только относительно к Карлу Моору, но можно сказать и чувство нещастия, хотя все кажется нужно, чтобы нещастие происходило от нашей собственной вины. Взор на невинных младенцев, добрых, любезных, играющих вместе, может произвести это чувство. И всегда, кажется, сильнее действует оно, когда мы в взрослые лета, лишившись детской невинности, чистоты и пр., входим в тот дом, где мы воспитывались в детстве своем. [...] Как это чувство сильно изображено в Карле Мооре в те минуты, например, когда он вспоминает о жилище своего детства и когда бросается в объятья Амалии с словами: Noch liebt sie mich! [...] Ich bin gliick-lich’26
Невозможно судить, в какой степени Тургенев действительно был в состоянии испытывать описанные им чувства. Но едва ли ответ на этот вопрос имеет особое значение. Важнее, что он видел здесь образец, который поражал его воображение и который он воспринимал как норму. Поэтому он и стремился осмыслить этот образец, чтобы потом воспроизвести его в своем душевном обиходе. И осмысление, и воспроизведение оказываются здесь коллективным предприятием, позволяющим целой группе молодых людей сформировать своего рода эмоциональное сообщество молодых энтузиастов. Впрочем, это сообщество, объединенное ранними
24 Золотые майские годы детства снова оживают в душе несчастного! (нем.) in Schiller, Die Rauber, Trauerspiel, IV, 2.
25 PO ИРЛИ. Ф. 309. Ед.хр. 271. Л. 56
26 Там же. Л. 45 об. Она еще любит меня, еще любит! / Я счастлив (нем.) in Schiller, Die Rauber, Trauerspiel, V, 7.
130
Андрей Зорин
пьесами Шиллера, включало в себя сравнительно узкий круг близких друзей. Если вернуться к примеру, с которого мы начали эту статью, то мы увидим там образец эмоционального сообщества, возникшего, с одной стороны, вполне окказионально, а с другой, объединившегося вокруг книги, сплотившей совершенно незнакомых читателей из трех разных стран в круг родственных душ. По сути дела, это пример идеального сообщества просвещенных европейцев.
«Петр дал нам бытие, Екатерина — душу», — написал русский поэт Александр Сумароков. Смысл этой часто цитируемой формулы можно понять, только если учесть, что для ее автора и читателей существовать значило быть европейцем. Соответственно, если Петр дал русскому дворянству европейские одежды, облик и манеры, позволившие ему существовать телесно, то Екатерина завершила эту великую трансформационную и гуманизационную миссию: в ее царствование россияне научились чувствовать по европейским стандартам. Июльским днем 1790 года во дворе гостиницы Дессе-ня в Кале молодой русский путешественник продемонстрировал Европе, что у русских есть душа. Неудивительно, что читающая публика на его родине была взволнована и благодарна.
andrei.zorm@mod-langs.ox.ac.uk
Ольга Купцова
«ЭКЗАЖЕРАЦИЯ ЧУВСТВ»: ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ РУССКОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПУБЛИКИ
1830-1840-Х ГОДОВ
Эмоциональное воспитание русского театрального зрителя началось на рубеже XVIII—ХГХ веков1. В предшествующую эпоху классицизма театр обращался прежде всего к зрительскому разуму, а для изображения эмоций в актерской игре использовал универсальные жесты-знаки. Жестовая азбука, доставшаяся по наследству от барочной сцены, включала всего около пятнадцати аффектов и не учитывала их оттенков или индивидуального проявления. Эм-блематичность аффектов не позволяла зрителю проявлять сочувствие, хотя судить об этом трудно: русский XVIII век не научился рефлектировать по этому поводу.
Установка/мода на открытое проявление эмоций возникла в «чувствительную эпоху», когда театрального зрителя приучили не стыдиться своих переживаний и публично обнаруживать их. И хотя меланхолия (во всех ее вариациях) как основная эмоция сентиментализма не предполагала коллективного чувствования, современники отмечали плачущий зрительный зал как обыденное явление.
Публика начала XIX столетия представляла собой пеструю и разнородную «массу», «толпу», «собрание»; являла «весь Петер-бург», «всю Москву», «все русское общество». Создание литературных послойных портретов зрительного зала (по сословиям, чинам, возрастам и пр.) с обозначением различий поведения зрителей кресел, лож, партера, райка стало общим местом уже во втором деся
1 Этой проблеме посвящена не утратившая и по сегодняшний день книга И. Игнатова, Театр и зрители, ч. I. Первая половина XIXв., М., 1916. Игнатов предпосылает историко-театральному исследованию теоретический очерк о зрительских эмоциях, в котором говорит о театре как об искусстве, вызывающем «паралич активности» и вследствие этого заставляющем бездействующего зрителя глубже и острее чувствовать.
132
Ольга Купцова
тилетии века2. Эмоциональные реакции публики разных групп настолько не совпадали, что один из критиков в статье 1822 года предлагал, чтобы партеру и райку «запретить хлопанье и вызовы и предоставить это право только сидящим в креслах»3.
С началом третьего десятилетия причин для дифференциации зрителей стало больше. Когда в 1832 году был открыт Александрийский, а через сезон — Михайловский театр, петербургская публика четко разделилась на две части, которые «никогда между собою не встречались»4. Публика Михайловского театра, ходившая на спектакли французской труппы, «большею частию образованная, непременно приличная, искала в театре разумного наслаждения, выражала свои одобрения и порицания умеренно, но зато единогласно, из чего можно было тотчас заметить, что в суждениях своих руководствовалась она здравым смыслом и разборчивым вкусом»5. Публика же Александрийского театра, «шумная, многочисленная, нестройная — посещала театр ради того, чтоб пошуметь и похлопать. В состав ее входило так много разнородных элементов разноплеменного петербургского народонаселения, что подвести ее
2 Ярусное («итальянское») театральное здание предполагало иерархическое разделение зрителей в соответствии с их социальным местом в обществе. См. об этом подробнее: Игнатов, там же; Л. Гроссман, Пушкин в театральных креслах. Картины русской сцены 1817—1820 годов, Л.: Брокгауз-Ефрон, 1926; С. Денисенко, «Театр», Быт пушкинского Петербурга. Опыт энциклопедического словаря. Л — Я, СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2005, 307—309. На этом же была построена незавершенная и нс опубликованная при жизни статья Пушкина «Мои замечания об русском театре» (1820). Театральный зал, представленный как метафора «общества», позволил Ф. В. Булгарину показать историю карьеры молодого человека через смену его «места» в зрительном зале: Булгарин, «Путешествие из райка в ложу первого яруса», Русская талия, СПб., 1824.
3 А. Курганов, Театр. Цит. по: Хрестоматия по истории русского актерского искусства конца XVHI — первой половины XIXвека, Изд-во Санкт-Петербургской гос. академии театр, искусства, 2005, 320.
4 Н. Некрасов, «Выдержки из записок старого театрала (Материалы для физиологии Александрине кого театра)», Он же, Собрание сочинений, в 8 т., т. 5, М.: Худож. лит., 1966, 426. Отделенность аристократической публики Михайловского театра от пестрого, демократического зрителя Александрийской сцены характерна вплоть до конца 1840-х годов. Ср.: «... маменька только что уехала, а перед тем побранила Полиньку, зачем позволила она мужу везти себя вчера в русский театр», А. Дружинин, «Полинька Сакс», Он же, Повести. Дневник, М.: Наука, 1986, 21.
5 Некрасов, «Выдержки из записок старого театрала...», 426. Ср.: «В Михайловском театре [...] публика самая умная, беспристрастная, образованная... Эти зрители аплодируют мало, вызывают редко; их одобрение ценится высоко», Сын отечества IX (1839). Цит. по: Игнатов, Театр и зрители, 201—202.
Экзажерация чувств»: особенности эмоциональных реакций... 133
под общий уровень, уловить в ней общий определенный характер едва ли было возможно»6.
С первых московских гастролей петербургского «первого трагика» В. А. Каратыгина весной 1833 года и одновременных гастролей П. С. Мочалова в Петербурге широко развернулось также противопоставление двух театральных столиц — Москвы и Петербурга, которое шло прежде всего по линии актерского искусства, но касалось в том числе и публики7.
В 1840-е годы портреты зрительного зала «по разрядам» были поддержаны жанром «физиологического очерка». «Физиология театра», серьезная или иронично-пародийная, одинаково включала описание различных, несовпадающих моделей зрительского поведения8.
Зрительское проявление эмоций в первые два десятилетия XIX века сдерживалось только этикетными правилами: никаких театральных запретов, предписаний или развитых традиций на этот счет не существовало. Вот как С. Т. Аксаков описывает поведение кн. А. А. Шаховского на представлении его комедии «Пустодомы»
6 Некрасов, «Выдержки из записок старого театрала...», 426. Ср.: Александрийский театр «привлекает исключительно русских. Провинциалы считают за обязанность на другой вечер после приезда явиться в Александринский театр. Как добра, невзыскательна Александрийская публика!.. Ни одна публика, может быть, во всей Европе не наслаждается театром с таким фанатизмом, она любит похлопать за свои деньги; у многих при выходе болят ладони, театр трясется в основании, когда аплодируют артистке. Неумеренными рукоплесканиями эта публика повредила многим прекрасным талантам», Сын отечества IX (1839). Цит. по: Игнатов, Театр и зрители, 202.
7 См., например: «Вообще в театре московском заметно более солидности, нежели в петербургском, говоря и о направлении искусства и о характере самой публики. [...] между зрителями никогда не увидите вы горячих юношей, которые вызывали бы артиста или артистку после каждой сцены, вызывали бы, обернувшись спиной к сцене, и как будто делая это оттого, что больше делать нечего; там не увидите вы и домашних насекомых, которые, как сверчки, надоедают ушам вашим. Вообще у московской публики более внутреннего сочувствия, более умеренного, отчетливого энтузиазма к драматическому искусству, чем у петербургской», [Б.а.], «Русский театр в течение прошлого театрального года», статья вторая, Северная пчела, 93, 30 апреля 1840 г., 578. См. также стихотворные фельетоны первой половины 1840-х годов: [В. Зотов], Петербургский театрал. Куплеты. С восемью литографиями, рисованными В. Тиммом, СПб., 1843; Московский театрал. Куплеты И. А. с 8 литографированными картинками, М., 1845.
8 Эго и уже упоминавшийся очерк Некрасова «Выдержки из записок старого театрала...», и «Заметки петербургского зеваки. Большой театр. Физиоло-гически-философическо-типологический очерк» {Пантеон и Репертуар, 3 (1845), и наблюдения Р. М. Зотова, Театральные воспоминания, СПб., 1859, 3—4), и мн. др.
134
Ольга Купцова
в 1826 году: он «то бесновался от восторга, то умилялся до слез»9, глядя на игру Мочалова. А на другом спектакле он же, возмущаясь игрой новичка на московской сцене, каждое слово и движение актера осыпал «бранью и проклятиями. Наконец, совершенно вышел из себя, и, когда Максин подошел поближе к директорской ложе, Шаховской, будучи уже не в состоянии говорить, начал высовываться из ложи и дразнить языком бедного актера»10.
Однако постепенно вырабатывались коллективные способы внешнего проявления отношения зрителей к сцене. Сама литературная фиксация этих способов (в художественной литературе, мемуаристике, письмах, критике и пр.) и описание всех их оттенков и вариантов была в первой трети XIX века новым явлением, и ей уделялось много места.
Театральная «адорация», восторг, восхищение выражались прежде всего рукоплесканиями («аплодисманами»), от которых театр «дрожал», «ходенем ходил», потрясался до основания. Своему любимцу публика хлопала уже при первом его выходе. А в минуты восхищения аплодисменты могли прерывать реплики актера. На дебюте В. А. Каратыгина в трагедии «Фингал» В. А. Озерова во втором акте «во многих местах его роли публика не давала ему окончить своей речи...»11. Удачные места сопровождались рукоплесканиями «с громким смехом, изъявлявшим полное удовольствие». Более всего ценились «взрывы» аплодисментов (Каратыгина даже обвиняли в желании «искать мгновенного взрыва аплодисментов»). Особо отмечались овации (рукоплескания стоя) и продолжительность аплодисментов.
Другой критерий успеха — количество вызовов. Театральные рецензенты вели их обязательный подсчет. Как правило, вызывали актеров в конце представления. Впервые на петербургской сцене публика заставила выйти Каратыгина не в конце спектакля, как обычно, а в четвертом акте, после сцены, когда Ляпунов выбрасывает Фидлера в «Князе Михаиле Васильевиче Скопине-Шуйском» Н. В. Кукольника. Это произошло в бенефис актера 14 января 1835 года.
В 1810—1820-е годы признаком исключительного успеха были два-три вызова после окончания спектакля. В 1830-х — начале 1840-х годов среднее число вызовов петербургской публики (она была щедрее на вызовы, чем московская) «постоянно держится между пятью и пятнадцатью; по тридцати же раз она очень редко
9 С. Аксаков, «Литературные и театральные воспоминания». Цит. по: Рассказы о русских актерах, М.: Искусство, 1989, 122.
10 Там же.
11 П. Каратыгин, «Записки». Цит. по: Рассказы о русских актерах, 181.
Экзажерация чувств»: особенности эмоциональных реакций... 135
вызывает даже самого Каратыгина»12. Восторг выражался также стуком каблуков, одобрительными криками «браво», «ура!» и требованием повтора («фора!», «бис»).
Впервые на русскую драматическую сцену были брошены цветы и венки 17 октября 1844 года при прощании с А. М. Каратыгиной, уходившей со сцены. После чего в течение нескольких сезонов Петербург охватило настоящее «цветобесие» (по выражению В. А. Соллогуба)13. Московская публика (особенно купечество и студенчество) любила одаривать своих кумиров (и прежде всего, конечно, Мочалова) лавровыми венками14.
Неудовольствие проявлялось почти так же, как и восторг: шум, ропот, топанье ногами, свист, шиканье, молчание, смех. Многие эмоциональные проявления требовали пояснения. Так, например, молчание могло быть «грозным» от неудовлетворенности публики сценической игрой или «молчанием от упоения» (то есть высшим проявлением восхищения: «онемением от восторга»). Поэтому в рецензиях и статьях для каждой зрительской реакции тщательно подыскивались оттеночные определения.
Театральный критик в рецензиях 1820-х годов постоянно смотрел на театр под особым ракурсом, который точно обозначил Н. В. Гоголь, приступая к работе над первой своей комедией «Владимир третьей степени». С одной стороны, «движется сцена», с другой — «шумит аплодисмент...»15. Зритель отслеживал (а критик как профессиональный зритель и описывал) тройной спектакль: тот, который разворачивался на сцене; коллективные реакции на него зрительного зала; свои собственные ощущения от первого и второго. В эпоху романтического театра этот третий слой описания стал дневниковым, почти исповедальным. Постоянно обогащающаяся, развивающаяся эмоциональная жизнь и сцены, и зрителя требовала пристального внимания и вынуждала к созданию нового языка описания.
Таким образом, основа для появления сильных зрительских переживаний уже существовала к началу 1830-х годов.
12 Белинский, «Александринский театр». Он же, О драме и театре, в 2 т., т. 2. М.: Искусство, 1983, 303.
13 Этой теме посвящен водевиль В. Соллогуба, Букеты, или Петербургское цветобесие (Шутка в одном действии), СПб., 1845, действие которого по ремарке происходит во время Масленицы 1845 г.
14 Ср. из письма А. Н. Верстовского к С. А. Гедеонову: «Вчера хоронили Мочалова с великолепным кортежем московского купечества и студентов, которые и тут явились с лавровым венком», М. Ласкина, П. С. Мочалов. Летопись жизни и творчества, М.: Языки русской культуры, 2000, 499.
15 Письмо Гоголя М. П. Погодину от 20 февраля 1833 г., Н. Гоголь, Полное собрание сочинений, в 14 т., М., Л.: Изд-во АН СССР, 1940, т. 10, 263.
136
Ольга Купцова
В знаменитом фрагменте о театре-кафедре, «с которой можно много сказать миру добра», несколькими строками раньше этих слов Н. В. Гоголь излагает программу идеального зрительского поведения в театре. Он мысленно видит толпу из пяти-шести тысяч человек (и это уже само по себе преувеличение, так как средняя театральная зала вмещала количество зрителей вдвое-втрое меньшее), ни в чем не схожую между собой, если разбирать каждого зрителя по отдельности, которая «может вдруг потрястись одним потрясением, зарыдать одними слезами и засмеяться одним всеобщим смехом»16.
Основное понятие здесь — потрясенность зрителей (их готовность и способность к сильным ощущениям), наивысшая степень которой проявляется в остолбенении, окаменении, как бы временном параличе. В этом смысле «немая сцена» «Ревизора» есть зеркальное отражение и зрительского состояния. Высшее потрясение, по Гоголю, должно производить на зрителя в драматическом спектакле «совершенно согласованное согласие всех частей между собою»17.
Второе важнейшее качество идеального зрительного зала, по Гоголю, — его единочувствие. Для мощного эмоционального объединения нужен и особый актер — проводник/медиум коллективных эмоций, способный загипнотизировать публику, ввести ее в транс, добиться от нее не контролируемого рассудком поведения. Таким актером видел Гоголь В. А. Каратыгина, «который вдруг и с первого раза влечет к себе, схватывает в охапку насильно и уносит с собой, так что вы не имеете даже времени очнуться и прийти в себя»18.
Возможность испытать сильные ощущения может привлечь публику много раз сряду смотреть одну и ту же пьесу. А в записных книжках Гоголь напишет даже: «50 раз должно ездить на одну и ту же пиэсу»19. Таким образом, взрыв чувств, воспринимаемый как способ внутреннего обновления, требует постоянного подкрепления; устанавливается повтор эмоционального потрясения, своего рода эмоциональная зависимость от театра, и шире: искусства.
Гоголевская программа для идеального зрителя (письмо со строками о «геатре-кафедре» входило в состав «Выбранных мест из
16 Гоголь, «О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности (отрывок из письма гр. А. П. Т...му)», Полное собрание сочинений, т. 8, 268.
17 Там же, 270.
18 Письмо Гоголя М. П. Балабиной 30 мая 1839 г., Полное собрание сочинений, т. И, 230.
19 Гоголь, <3аписная книжка 1845 — 1846 г.>, Полное собрание сочинений, т. 9, 559.
Экзажерация чувств»: особенности эмоциональных реакций... 137
переписки с друзьями») была сформулирована поздно, уже на излете короткой и бурной эпохи русского романтического театра, когда оставалось всего несколько сезонов зрительской «экзажера-ции чувств». Она возникла не только на основе собственных гоголевских впечатлений от спектаклей московской, петербургской и, возможно, европейской сцены. Кратко и точно сформулированная, она появилась и как скорректированное отражение «театральных мечтаний» и театральных манифестов В. Г. Белинского, воспитателя сильных чувств у русского зрителя.
Как известно, первые театральные впечатления будущий критик получил в Пензе, во время учебы в пензенской гимназии в 1825—1829 годах. Белинский позже вспоминал «магнетические ясновидения», которые возникали в его воображении после спектаклей, когда он «выходил из театра, не помня, что в нем делалось, но довольный, страстно блаженный [...] мечтами...»20. В тот момент ему неважны были ни актеры (все они казались ему «чародеями»), ни сами спектакли («на волшебной сцене все так чудесно, так полно очарования; молодое, неискушенное чувство так всем довольно»), однако для полноты переживаний остро не хватало со-чувственника (что-то вроде романтических поисков дружества): «Чудесный мир! В нем было мне так хорошо, так привольно; сердце билось двойным бытием; внутреннему взору виделись вереницы светлых духов любви и блаженства, — и мне недоставало только груди, другой души, души нежной и любящей, как душа прекрасной женщины, которой передал бы я мои дивные видения...»21.
Образ идеального театра Белинский искал в реальной практике. В первый приезд В. А. Каратыгина в Москву критик полагал найти подтверждение своему театральному идеалу в игре петербургского трагика. На гастрольных спектаклях Белинский прислушивался к своим ощущениям, но не находил в себе правильных эмоций, зато оставил в статье «И мое мнение об игре г. Каратыгина» их перечень. Он ждал, чтобы «забилось сердце, поднялись дыбом волосы, вырвался тяжкий вздох, навернулась бы на глазах восторженная слеза, [...] затрепетал судорожно зритель, бросило бы его в озноб и жар»22. А вместо этого игра актера пробуждала в нем «по временам какое-то странное чувство, похожее на чувство, происходящее от страха или от давления домового...»23.
20 Белинский, «Александринский театр...», 288.
21 Там же.
22 Белинский, «И мое мнение об игре г. Каратыгина». Он же, О драме и театре, т. 1. М., 1983, 25.
23 Там же. Ср. у Гоголя об эмоциях, испытываемых зрителем от мелодрамы: «Никогда еще не выходил из театра зритель растроганный, в слезах; на-
138
Ольга Купцова
И не было главного — не возникало состояния, когда «тысячи глаз устремлены на один предмет, тысячи сердец бьются одним чувством, тысячи грудей задыхаются от одного упоения, где тысячи я сливаются в одно общее целое я в гармоническом сознании беспредельного блаженства»* 24.
Четыре года, вспоминал Белинский, его душа «ждала совершения чуда и отчасти дождалась»25. Этим чудом стали для критика девять первых представлений (из которых он видел только восемь) на московской сцене в 1837 году «Гамлета» с Мочаловым в главной роли. Знаменитая рецензия Белинского на это событие появилась не сразу, не по свежим впечатлениям, а только через год после премьеры и была несомненно и воспоминанием, и поэтической фантазией. Половина статьи посвящалась самой пьесе Шекспира и ее переводу Н. А. Полевым, вторая половина — игре Мочалова, однако обычно не обращают внимания на слова Белинского о том, что публика являлась «главнейшим вопросом нашего рассуждения»26.
против того, в каком-то тревожном состоянии торопливо садился он в карету и долго не мог собрать и сообразить своих мыслей», Гоголь, «Петербургские записки 1836 г.», Полное собрание сочинений, т. 8, 182.
24 Белинский, «И мое мнение об игре г. Каратыгина». Интересно сопоставить это зрительское ожидание Белинского с тем, что ожидал от тех же гастролей 1833 г. московский драматург и режиссер Н. И. Куликов. Эпизод, который он описывает в своих поздних мемуарах 1883 г., по-видимому, не имел места (так как его главное действующее лицо, П. С. Мочалов, был в это время на гастролях в Петербурге). Но нам в данном случае не столь важно, подвела ли Куликова память или это была сознательная мифологизация, романтизация театральной истории полувековой давности, сколь важна сама установка мемуариста: «По окончании действия в первых рядах кресел начали негромко вызывать петербургского гостя, вдруг выбежавшая из задних рядов молодежь, поклонники Мочалова, не решаясь еще шикать, начали громко протестовать: “За что тут вызывать! Эго чтец — не трагик... Какое сравнение с нашим Мочаловым!”. А Павел Степанович, не дав им кончить, вскочил с места и, обернувшись лицом к публике, закричал на них: “Эй вы, мочаловцы! Стыдитесь! Не срамите себя!” И стоя в оркестре, в виду узнавшей его публики, зааплодировал, крича: ’’Каратыгина!”»; Куликов, «Театральные воспоминания», Рассказы о русских актерах, 107. Если Белинский мечтал об эмоциональном объединении зрителей, то Куликов, обнаруживая разделение публики на два лагеря (поклонников Мочалова и Каратыгина), находил это замечательным, вероятно, ожидая от приезда Каратыгина скандала, аналогичного тому, что произошел на премьере романтической трагедии В. Гюго «Эрнани» в парижском театре, то есть конфликта между театральными партиями. Но «мочаловцы» повели себя робко и вяло, при первом же отпоре «стушевались и разбежались, а явившийся на вызов Каратыгин был торжественно принят публикой» (там же.) К большому сожалению Куликова, повторения ситуации «Эрнани» в русском театре не случилось.
25 Белинский, «Александринский театр...», 288.
26 Белинский, «“Гамлет”. Драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета», Полное собрание сочинений, т. 2. М.: Институт русской литературы (Пушкинский дом), 1953, 254.
Экзажерация чувств»: особенности эмоциональных реакций... 139
«Чудо» для Белинского заключалось не только в том, что актер «потрясал огромный амфитеатр своим нечеловеческим хохотом», но прежде всего в том, что единые в своем эмоциональном порыве зрители «сливались в одну душу и — то с испуганным взором, затаив дыхание, смотрели на страшного художника, то единодушными воплями тысячей восторженных голосов, единодушным плеском тысячей рук в свою очередь заставляли дрожать своды здания!..»27.
Эта статья Белинского явилась первой в русской театральной критике партитурой зрительских реакций с подробным описанием двух «зрительских озарений» (произошло это на первом спектакле в «сцене мышеловки» и в третьем акте девятого, последнего представления), подобных актерским «мочаловским озарениям». Сопереживание персонажу зрителями в эти моменты было сопоставимо с полным перевоплощением актера в персонажа. Экстатике актерской игры соответствовала «наэлектризованность», «неистовость» состояния публики28. Экспрессивная актерская пластика — многожестие, «метания по сцене», контрастность движения (после стремительного бега, например, резкая остановка) и подчеркнутая мимика рифмовались с жестовым поведением зрителей: «Жаркие рукоплескания начинались и прерывались недоконченные; руки поднимались для плесков и опускались, обессиленные; чужая рука удерживала чужую руку: незнакомец запрещал изъявление восторга незнакомцу, и никому это не казалось странным...»29
Зрители, по Белинскому, переставали иметь какие-либо индивидуальные различия, превращаясь в единое эмоциональное сообщество: «...все эти люди разных званий, характеров, склонностей, образования, вкусов, лет и полов слились в одну огромную массу, одушевленную одной мыслию, одним чувством...»30.
Психофизический портрет зрителя, который создает Белинский, описывая момент потрясения чувств, — это паранормальное коллективное состояние, которое начинается оцепенением (полной тишиной в зале) и ощущением ужаса («кровь леденела в жилах у зрителей»); остановкой дыхания, при которой лицо вытягивается, взгляд жестко фиксируется на одном актере («заколдованный взор»); а заканчивается эмоциональным взрывом (воплями, воем, бурей/шквалом/громом аплодисментов и т.п.). Как и в актерской
27 Белинский, «Александринский театр...», 288.
28 Описывая актерскую игру, Белинский часто сравнивает реакции публики со стихиями (буря, шквал, гром и т.д.) или звериным миром (рев, вой и пр.). Ср. у Ап. Григорьева в «элегии-оде-сатире» «Искусство и правда»: «Толпа, как зверь голодный, выла, / То проклинала, то любила...».
29 Белинский, «“Гамлет”...», 321.
30 Там же.
140
Ольга Купцова
игре, в поведении зрителей отмечается эмоциональная раскачка, пики и спады (контрасты) эмоций.
Собственную, личную реакцию на игру Мочалова Белинский обозначает как мучительное наслаждение: «Мы стонали, слушая все это, потому что наше наслаждение было мучительно...»31.
Эго состояние некоторыми зрителями осознавалось, ощущалось как своего рода болезнь, от которой, впрочем, не следовало излечиваться: «Я сейчас возвратился с “Гамлета”, и, поверишь ли, не токмо слезы лились из глаз моих, но я рыдал. [...] Я воротился домой весь взволнованный... [...] Ты сделаешься больна после этой пьесы»32, — пишет А. И. Герцен жене. И хотя данное описание касалось Гамлета—Каратыгина, оно точно передает состояние зрителей на спектаклях Мочалова.
Любопытно, что неудачу четвертого спектакля «Гамлета» с Мочаловым Белинский приписывал тому, что представление происходило днем (состояние зрительской психики вечером другое, и она лучше поддается гипнотическому эффекту): «Известно, что денной спектакль всегда производит на душу неприятное впечатление — точь-в-точь как прекрасная девушка поутру, после бала, кончившегося в 6 часов»33.
Эмоциональной нормой признавалось длительное послечув-ствие: перевозбужденный зритель после спектакля должен был надолго лишиться спокойного сна34.
Таким образом, гипнотичность актерской игры и завороженность, зачарованность зрителя, наблюдающего за ней, становились едва ли не основным критерием оценки театрального искусства.
Можно было бы посчитать все это одной лишь фантазией «неистового Виссариона», чья личная эмоциональность подпитывалась неровной и страстной игрой Мочалова. Но вот зрительское свидетельство (одно из многих) об игре актера в драме «Графиня Клара д’Обервиль» О. Анисе-Буржуа и А.-Ф. Деннери (в данном случае речь идет о последнем спектакле Мочалова на московской сцене 8 января 1847 года):
Как исказилось болезненно лицо Мочалова, как он стал приподниматься с кресла, как под его дрожащими руками зашелестели на столе бумаги и задребезжали аптечные склянки, каким
31 Белинский, «“Гамлет”...», 337.
32 Из письма А. И. Герцена к Н. А. Герцен от 18—19 декабря 1839 г., Собрание сочинений, в 30 т. М.: Изд-во АН СССР, 1961, т. XXII, 65.
33 Белинский, «“Гамлет”...», 333.
34 Ср.: «...мы не один раз слышали этот ужасный голос, и каждый раз, при воспоминании о нем, у нас стынет кровь в жилах», там же, 276.
Экзажерация чувств»: особенности эмоциональных реакций... 141
странным голосом он воскликнул слово: «Отравитель!» Это я передать не берусь и не в силах. Знаю и помню одно, что электрическая искра мгновенно пробежала со сцены в партер. Я сам, бессознательно, привстал с моего кресла, и вместе со мною приподнялись также все сидевшие внизу зрители. Более сильного, насквозь пронизывающего и глубоко поражающего впечатления не производил на меня ни один сценический художник, а видел я их в течение моей жизни бесчисленное множество и на всевозможных театрах — русских, французских, немецких, английских, итальянских35.
В своей рецензии на Мочалова—Гамлета Белинский ни разу не отметил зрительского «непопадания»; по его ощущениям зритель точно и адекватно, без сбоя отвечал своими реакциями на игру актера36. И сам Белинский чувствовал себя частью этой единой зрительской души37. Позже критик признавался в том, что его статья 1838 года была плодом разгоряченного воображения и заблуждения в том, «что окружающая меня толпа велика, как художник, которому рукоплещет она, что понимает она искусство и что полна она таинственной думы, как лес, как море...»38. Но более спокойные и аналитичные статьи Белинского 1840-х годов о различии московской и петербургской публики, о неодинаковых переживаниях зрителя в трагедии и комедии не имели и доли того резонанса, какой имели его «судорожные впечатления», по определению Ап. Григорьева, вообще считавшего, что статья Белинского, «писанная под влиянием страстного увлечения, представляет собою какой-то волканический хаос: точь-в-точь игра артиста, которую
35 Ласкина, П. С. Мочалов. Летопись жизни и творчества, 478—479. Это свидетельство Н. Е. Вильде можно проверить, сравнив его с другими. Актер П. М. Садовский, со слов Ф. С. Потанчикова, об этом же моменте спектакля писал: «... так страшен был этот взгляд, с такой силой охватил он публику, что вместе с Мочаловым поднялся весь театр!», там же, 463. См. также воспоминания режиссера Малого театра С. П. Соловьева: «... все зрители были увлечены и потрясены до глубины души, увлечены в полном смысле этого слова, я видел, как многие зрители, сидевшие в креслах, невольно и бессознательно тихо поднялись со своих мест в одно время с гениальным актером», там же, 464.
36 Любопытно, что по созданной Белинским модели всюду, куда приезжал московский трагик на гастроли: в Воронеже, Харькове, Одессе — зрители проверяли не только игру самого актера, но и свою эмоциональную реакцию; во многих провинциальных рецензиях встречаются почти буквальные совпадения со статьей Белинского.
37 Ср.: «И незнакомый мне сосед / Сжимал мне судорожно руку. / И сам я жал ему в ответ / В душе испытывая муку, / Которой и названья нет», Ап. Григорьев, «Искусство и правда».
38 Белинский, «Александринский театр...», 288.
142
Ольга Купцова
стремилась она истолковать, игра неровная, местами странная, местами ужасающая своею истиною, лихорадочная, френети-ческая»39.
Рецензия Белинского на Мочалова—Гамлета сделала нормой на некоторое время чрезмерно глубоко чувствующего зрителя, готового даже принести в жертву искусству/театру свое психическое здоровье. А на то, что воспитание публики в «экзажерации чувств» имело последствия, очень скоро обратило внимание то поколение зрителей, чья театральная юность пришлась на конец 1830-х — начало 1840-х годов. Эпидемия бытового гамлетизма 1840-х годов (причем в его окарикатуренной, гротескной форме) была впрямую связана с установкой на зрительские сильные чувства. Ап. Григорьев писал: «...Мочалов-то тем и был велик, что поэзия его созданий была, как веяние эпохи, доступна всем и каждому — одним тоньше, другим глубже, но всем. Эта страшная поэзия, закружившая самого трагика, разбившая Полежаева и несколько других да-ровитейших натур, в этом числе поэта Иеронима Южного, — эта поэзия имела разные отражения, в разных сферах общества»40.
Известно, что главными обожателями Мочалова были студенчество и купечество: первые впадали в зрительские крайности в силу своей молодости41, вторые — в силу театральной новообращенное™ и эмоциональной неразвитости.
А. Н. Островский, сам переживший в юности зрительскую встряску чувств, а впоследствии осознавший театр как сильнодействующее гипнотическое средство и слишком бурное увлечение сценическим искусством — как эскапизм, в своих ранних пьесах представил некоторых жертв театральной моды на «сильные чувства» из купеческой среды. Так, двойственно отношение Островского к Любиму Торцову, персонажу «Бедности не порок»: чрезмерное увлечение театром выведено драматургом одной из причин разорения Любима, началом его падения42; в то же время благород
39 Ап. Григорьев, «Заметки о московском театре (“Гамлет” Шекспира)». Он же, Театральная критика, Л.: Искусство, 1985, 53. Френетическая (от. франц, frenetique) — исступленная, неистовая; бешеная, буйная; необузданная.
40 А. Григорьев, «Великий трагик». Он же, Театральная критика, 150.
41 Вспоминая о театре конца 40-х годов, Островский, например, впрямую связывал свое студенческое увлечение Мочаловым с особенностями юношеской психологии: «Приходить в восторженное состояние весьма свойственно юношам, — такое состояние можно назвать нормальным для известного возраста. Преувеличенное увлечение, восторг всегда готовы в молодой душе, она ищет только повода переполниться чувством через край», А. Островский, «Записка о положении драматического искусства в России в настоящее время», Полное собрание сочинений, в 12 т., т. 10. М.: Искусство, 1978, 129.
42 Ап. Григорьев отмечал, что одна «из глубоких черт Любима Торцова — это то, что он жертва мочаловского влияния...», «Великий трагик», там же.
Экзажерация чувств»: особенности эмоциональных реакций... 143
ство его мыслей и поступков порождено воспоминаниями о героях, виденных им на сцене (то есть жизнетворчеством по театральной модели: неслучайно множество театральных цитат в речи и поведении Любима Торцова).
Еще резче, определеннее выразил Островский отношение к этой проблеме «в лице заколоченного в голову до помешательства и помешавшегося на трагическом Купидоши Брускова»43 в комедии «В чужом пиру похмелье». «Дурачок» Капитон Титыч, «ума рехнувший по театру», кухню брусковского дома воображает сценой, а в бытовые диалоги ни к месту вставляет строки из репертуара Мочалова-трагика. Неприкаянный, никчемный Капитон Титыч ездит в театр «душу отводить» — и для него это своеобразное «похмелье», эмоциональный «запой», не развивающий ни ум, ни сердце, но подменяющий собой жизнь.
Вторая половина XIX века принесла в русский театр установку на зрительскую самоуглубленность, постепенно подготавливающую возникновение психологического театра. Продуманное воспитание зрителей в Московском Художественном театре начала XX века, сопровождавшееся выработкой кодекса поведения зрителей с точно определенными запретами и предписаниями, соответствовало этой установке: запрещены были любые внешние проявления чувств (такие, например, как аплодисменты в середине действия, вызовы, крики и пр.). Тихая сосредоточенность как норма зрительского поведения переводила эмоции публики внутрь (аналогично самой игре акгеров-художественников).
Возврат к требованиям зрительских потрясений, но, разумеется, с другими обертонами снова произошел в театре Серебряного века (не столько в его театральной практике, сколько в теориях-утопиях), прежде всего в символистском театре, выдвинувшем идеи «соборности», театра-храма, актера-жреца, единой Мировой души и многие другие.
okouptsova@yandex.ru
43 Там же.
Ирина Попова
О ПОЭТИКЕ «ПОДРОБНОСТЕЙ ЧУВСТВА» («Станционный смотритель» А. С. Пушкина)
Реакцию Баратынского, одного из первых читателей «Повестей Белкина»1, Пушкин в письме к Плетневу описал известной формулой: «ржет и бьется» (XIV, 133)2. Полторы сотни лет и читатель «бьется» над разгадкой бурной эмоциональной реакции Баратынского, человека скорее замкнутого и сдержанного, ум которого, по выражению Вяземского, «не выбивался наружу с шумом и обилием»3. Конечно, эмоциональная реакция поэта может быть рассмотрена с точки зрения внутренней полемики и весьма непростых отношений с Пушкиным, представляющих собой проблему психологическую, искушающую исследователей трактовать ее в моцар-то-сальерианском духе4. Однако «Повести Белкина» создали немало других психо-эмоциональных коллизий не только в истории читательского восприятия, но и в поэтике эмоций. «Повести» дают богатый материал для исследования смеха и слез в литературе и жизни первой трети XIX века, механизмов авторского воздействия на эмоции читателя, соотношения эмоций и этикета, гендерного и сословного аспектов эмоциональной жизни, исторических норм эмоциональных реакций. В этой короткой статье мы рассмотрим
1 Баратынский был одним из первых, кого Пушкин познакомил с рукописью «Повестей Белкина». В декабре 1830 г. Баратынский писал Д. Н. Свер-бееву: «Он [Пушкин] теперь здесь и привез с собой четыре трагедии, поэму, последние две главы Онегина и целую папку прозы. Деятельность его неимоверна», а в декабре 1831 г. — И. В. Киреевскому: «Повести Белкина я знаю. Пушкин мне читал их в рукописи. Напиши мне о них свое мнение», Е. Баратынский, Стихотворения. Письма. Воспоминания современников, М.: Правда, 1987, 99, 226.
2 Все ссылки на тексты Пушкина даны по изд.: А. Пушкин, Полное собрание сочинений, в 16 т., М.; Л.: Изд. АН СССР, 1937—1949, с указанием тома римской цифрой и страницы арабской.
3 П. Вяземский, Полное собрание сочинений, в 12 т., СПб.: 1877—1896, VIII, 290.
4 А. Песков, «Пушкин и Баратынский: Материалы к истории литературных отношений», Новые безделки /‘Сборник статей к 60-летию В. Э. Вацуро, М.: НЛО, 1995-1996, 270.
О поэтике «подробностей чувства»...
145
одну из пяти «Повестей Белкина» — «Станционный смотритель» — с точки зрения поэтики эмоций и эмоционального катарсиса в литературном тексте, тяготеющем к форме притчи.
* * *
Перечитав «Повести Белкина», Л. Н. Толстой записал в дневнике: «Должен сознаться, что теперь уже проза Пушкина стара — не слогом, — но манерой изложения. Теперь справедливо — в новом направлении интерес подробностей чувства заменяет интерес самых событий. Повести Пушкина голы как-то»5.
Баланс между интересом «событий» и интересом «подробностей чувства», склоняющийся в первой трети XIX века в пользу событий, а во второй половине XIX века — в пользу чувства, для развития русской литературы действительно принципиален. Очевидно, что и методы интерпретации поэтики эмоций в литературе пушкинского времени отличны от тех, что сформированы «золотым веком» русского романа, временем Толстого и Достоевского.
Скупость деталей, отсутствие развернутых описаний, закрытость характеров, нередко принимаемая за их неразвитость, и, как следствие, недостаточность психологических мотивировок в поступках героев — все то, что ставили в вину Пушкину критики второй половины XIX века, — обусловлено не столько неразвитостью языка прозы, сколько ее жанровыми особенностями.
Не стоит забывать, что сюжет «Станционного смотрителя» строится по канве Притчи о блудном сыне, а нет ничего более чуждого для истории, тяготеющей к форме притчи, чем «подробности чувства»: можно представить, как далеко от смысла Притчи о блудном сыне могли бы увести, например, воображаемые подробности о том, что чувствовал старший сын, видя милость к промотавшему имение брату — милость, которой сам он за свою добродетельную жизнь не удостоился.
И все-таки, несмотря на то что «интерес самых событий» в «Станционном смотрителе» остается на первом плане в сравнении с «интересом подробностей чувства», сюжет и нарративная структура повести парадоксальным образом оказываются подчиненными одной главной эмоции — радости, на которую надеется и о которой молится смотритель, но которую ему так и не удается испытать.
История текста свидетельствует: Пушкин намеренно спрямлял сюжет, упорядочивал и упрощал повествовательную структуру, обнажая притчевую канву истории смотрителя и его дочери. Пер
5 Л. Толстой, «Дневник 1853 года», Полное собрание сочинений, в 90 т., М.: Гос. изд-во худож. лит., 1928—1958, т. 46, 187—188.
146
Ирина Попова
воначальный план6 предполагал развитие еще одной любовной истории — линии писаря. Именно писарь, согласно первоначальному плану, ехал за смотрителевой дочерью в Петербург, видел ее «на гуляньи», один возвращался на станцию и умирал вслед за несчастным отцом.
В результате переделки петербургской части сюжет и смысл повести претерпели важную метаморфозу. Рассказ о петербургской жизни дочери теперь целиком принадлежал отцу, отчего связь их судеб стала яснее и очевиднее. Сама судьба смотрителевой дочери счастливо переменилась. Обыкновенная участь молоденьких дур, ожидавшая, согласно обычаю и первоначальному плану, бедную Дуню, стала наваждением смотрителя, его худшими и несбывши-мися опасениями.
Нечаянное благополучие дочери, однако, нисколько его не утешило, напротив, счастливая развязка любовной истории лишь оттенила и усилила безысходность смотрителевой скорби и неотвратимость его гибели. «Мне думается, — писал В. Ф. Ходасевич о новом повороте сюжета, — что Пушкин в “Станционном смотрителе” потому-то и разрешил судьбу любовников так благополучно, что хотел выдвинуть и резко очертить драму отца. То, что несчастие дочери только мерещится станционному смотрителю, а в действительности она счастлива, — все это лишь подчеркивает несчастье старика»7.
Печаль смотрителя, кажется, и вправду не имела более оснований: дочь его избежала худшей участи, но то, что дочь почитала за счастье, не могло его успокоить. Этот парадокс сюжета, отмеченный еще М. О. Гершензоном, был и остается главным камнем преткновения для интерпретаторов повести.
Сам Гершензон считал всему виной благочестивый обман, то есть стремление жить по Писанию, поверяя «живую правду» жизни каноническим порядком вещей и событий: «А погиб смотритель не от существенной напасти; важно то, что погиб он из-за тех немецких картинок. Так, как в этих картинках рассказана история блудного сына, — так верит смотритель, и потому, что он верит именно так, ему уже все вещи видятся в неверном свете»8.
6 «Рассуждение о см<отрителях> — вообще люди несч<астные> и доб-р<ые>. Приятель мой см<отритель> вдов. Дочь. — Тракт сей уничто<жен>. Недавно поехал я по нем — дочери не нашел Ист<ория> дочери. — Любовь к ней писаря. — Писарь за нею в П<етер>-Б<ург> видит ее на гуляньи. Возвр<а-тясь> находит отца мертв<ым> [Дочь прие<зжает>] Мотала за околицей. Еду прочь. Писарь умер — ямщик мне рассказы<вает> — о дочери», VIII, 661.
7 В. Ходасевич, Поэтическое хозяйство Пушкина, Л.: Мысль, 1924, 134.
8 М. Гершензон, Мудрость Пушкина, М.: Книгоизд-во писателей в Москве, 1919, 125 -126.
О поэтике «подробностей чувства»...
147
Статья Гершензона оказала едва ли не решающее влияние на все позднейшие интерпретации «Станционного смотрителя». Хотя использованный в ней стилистический ход, уподобивший пушкинский текст загадочной детской картинке, был принят за методологию и в этом качестве оценен с подобающей долей скепсиса, отмеченная здесь впервые сюжетообразующая роль Притчи о блудном сыне сомнений не вызвала.
Притча об обретении радости, радости о кающемся грешнике, по канве которой строится центральная часть повести, оборачивается в рассказе смотрителя историей скорби и гибели. Дважды плачет смотритель: первый раз, видя нераскаявшегося Минского («Сердце старика закипело, слезы навернулись на глазах...»), и второй раз, когда замечает взятые им за гибель Дуни деньги («Слезы опять навернулись на глазах его, слезы негодования!»). Перед третьей, нежданной, попыткой найти и вернуть свою Дуню он идет через весь город и молится в Церкви Всех Скорбящих Радости и туг же, возвращаясь с молебна по Литейной, видит дрожки Минского и находит Дуню. Но чуда, в которое он, было, уже совсем уверовал «неизъяснимым движением сердца», не произошло, грешница не раскаялась, и смотритель один возвратился на свою станцию. М. О. Гершензон видел причину гибели смотрителя в том, что тот верил в порядок вещей, изображенный на немецких картинках; рассказ смотрителя свидетельствует об обратном — он гибнет оттого, что перестал так верить.
Переведя смысл трех Иисусовых притч - о потерянной драхме, о заблудшей овце и о блудном сыне — на язык «универсальных концептов», А. Вежбицкая сформулировала их семантику следующим образом: «Все три притчи этой группы [...] делают предельно ясным, что, если когда-нибудь “заблудшая овца” подумает: “я не хочу больше делать плохих вещей — я хочу жить с Богом”, этот человек будет с радостью принят назад: собственно говоря, это и есть в точности то, чего Бог хочет, и чего Бог “ждет”, и на что Он “надеется”»9.
Смотритель приезжает из Петербурга с неискупимым чувством вины — позже он рассказывает проезжему, как, сам того не желая, взял у Минского деньги за гибель Дуни. (Подчеркнем особо — появление эпизода с ассигнациями было последним добавлением в уже завершенный текст повести.) Этот поступок, который Самсон Вырин ни объяснить, ни простить себе так и не смог, собственно, и заставляет его, говоря словами Гершензона, видеть вещи «в не
9 А. Вежбицкая, «Значение Иисусовых притч: Семантический подход к Евангелиям»; Она же, Сопоставление культур через посредство лексики и прагматики, М.: Языки славянской культуры, 2001, 238.
148
Ирина Попова
верном свете». После эпизода с ассигнациями история дочери потеряла для него прежнюю ясность: его вина уже не позволяла ему соотносить себя с отцом блудного сына из Иисусовой притчи; ни «ждать», ни «надеяться», как прежде, он больше не мог.
Восстановление первоначального смысла истории, утраченного несчастным отцом под гнетом вины, происходит в финале, когда на печальном кладбище близ уничтоженной уже станции, воображению проезжего открылось то, что не увидел смотритель, — его дочь вернулась. Сюжет приобрел завершенность перед глазами наблюдателя, персонажа незаметного и недооцененного.
События пушкинской повести не исчерпываются историей Самсона Вырина и бедной Дуни; история смотрителя вписана в историю жизни рассказчика и только в перспективе этой другой жизни приобретает завершенность и, как следствие, притчевый смысл.
Жизнь смотрителя разворачивается перед глазами наблюдателя. Собственно, сюжет повести, выстроенный по канве Притчи о блудном сыне, — это сюжет собирателя историй. Именно он в первый свой приезд ироническим взглядом окидывает немецкие картинки, иллюстрирующие Притчу о блудном сыне, и именно перед ним несколько лет спустя история смотрителя и смотрителевой дочери повторит вечный сюжет.
Контуры жизни рассказчика обозначены в прологе. Монолог повествователя отчетливо распадается на две части: слово о смотрителях и слово о быстротекущей жизни. А. Г. Н. рассказывает, что за двадцать лет сряду изъездил всю Россию, что вел путевые заметки, которые в скором времени намерен издать. То, как сам он изменился за эти годы, — важная и совсем не замеченная тема пролога. Не без иронии он вспоминает молодость и былую вспыльчивость. Так, незаметно, во вступлении обозначена общая хронология рассказа: около двадцати лет отделяют момент повествования от первого приезда на забытую Богом станцию. И, как следует уже из самого рассказа, около десяти лет А. Г. Н. наблюдал историю Самсона Вырина и бедной Дуни. Тем самым время в «Смотрителе» приобретает символический смысл: три приезда на ***станцию отмечают три возраста человеческой жизни. Тема быстротекущей жизни, только обозначенная в прологе, в композиции повести развернута просто и прозрачно: первый приезд на станцию изображен жарким майским днем, последний — холодной осенью на закате. Трем возрастам соответствуют три чувства, определяющие тон рассказа: ирония, интерес и радость.
Таким образом, эмоции проезжего становятся самостоятельной темой пушкинской повести. Обратим внимание: речь идет не о сочувствии или сопричастности чужой судьбе, а об эмоциях сто
О поэтике «подробностей чувства»...
149
роннего наблюдателя, испытывающего интерес, — наблюдателя, для которого слезы, страдания, а потом и сама смерть несчастного отца становятся источником финального эмоционального катарсиса. (Примечательная деталь: слушая рассказ смотрителя о самом драматичном моменте его жизни, наблюдатель не забывает подливать ему пунш — верное средство для «разрешения» языка, и потом замечает, что слезы смотрителя — как дополнительная аффектация — были вызваны «отчасти» пуншем.)
Замысел о стороннем наблюдателе, движимом интересом, в пушкинском кругу был не нов. В «Старой записной книжке» Вяземский сохранил неосуществленный план Дельвига — план «домашней драмы, подмеченной с улицы»10. Некто, пожалуй автор, нашел себе две-три комнаты в доме на Петербургской стороне и с тех пор каждый раз, отправляясь по своим делам, проходил мимо небольшого домика, через окна наблюдая за его обитателями. Сначала он видел одинокую жизнь немолодого офицера, отставного кавказца; затем — приготовления к свадьбе и появление в доме молодой жены, еще через год — зачастившего в гости к супругам молодого офицера, а месяцев через семь — кормилицу с грудным ребенком и постаревшего лет на десять хозяина дома. Вяземский не помнил, как Дельвиг собирался закончить историю, кажется, смертью молодой женщины, но, по его свидетельству, повесть в замысле была «очень естественна и вместе с тем очень занимательна и замысловата»11. Неосуществленный замысел Дельвига заостряет прием — драма, подмеченная с улицы. Правильно ли рассказчик понимает события, мотивы и эмоции своих героев — неизвестно, но это и неважно; его мотивация — интерес.
В «Станционном смотрителе», в силу заданного в прологе повествовательного обрамления сюжета, тон рассказа меняется, сообразуясь не только с развитием истории, но и с тем, как с течением времени меняется ее восприятие самим рассказчиком. Вместе со смотрителевой жизнью проходит и его собственная жизнь, вместе с развитием истории стареет и меняется он сам.
Природа иронической интонации первой части подсказана историей текста. Описание немецких картинок позаимствовано автором из оставленного им отрывка, названного в рукописи «Смотрителя» «Записками молодого человека». Смысловым и ин
10 Вяземский, Полное собрание сочинений, VIII, 443.
11 Там же, 446. О соотношении плана Дельвига с повестью Пушкина см., напр.: Н. Берковский, «О “Повестях Белкина” (Пушкин 30-х годов и вопросы народности и реализма)». Он же, Статьи о литературе, М.; Л.: Гослитиздат, 1962, 324; П. Дебрецени, Блудная дочь. Анализ художественной прозы Пушкина, СПб.: Академический проект, 1995 [1996], 143.
150
Ирина Попова
тонационным обрамлением рассказа Самсона Вырина о путешествии в Петербург становится интерес — как мотивация и как эмоциональная доминанта наблюдателя. И, наконец, в третий свой приезд на не существующую уже станцию наблюдатель переживает радость, которую не дано было испытать смотрителю. Мальчик, посланный проводить проезжего на печальное кладбище, рассказывает о «прекрасной барыне», бывшей здесь летом, — о «славной барыне», долго лежавшей на могиле смотрителя. Подчеркнем особо: эмоциональный катарсис описан не языком «подробностей чувства», а скупым языком событий — услышав историю о барыне, А. Г. Н. «не жалел уже ни о поездке, ни о семи рублях», на нее истраченных.
Так радость, которой ждал и на которую надеялся несчастный отец, пока не испытал отчаяние от взятых у Минского денег, открылась случайному проезжему. История приобрела завершенность, а жизнь смотрителя — предначертанный ей порядок и смысл. Порядок и смысл, в который должно верить и который можно наблюдать в истории чужой жизни, но который так трудно распознать в своей собственной, уже в силу того, что он, этот смысл, не принадлежит одной конечной человеческой жизни, а только бесконечному сцеплению разных жизней, которые продолжаются и после окончания одной из них.
История смотрителя завершается смертью: смотритель не выдержал гнета вины и разуверился в радости. История наблюдателя, напротив, завершается эмоциональным катарсисом, переживанием радости от того, что предначертанный порядок вещей не нарушен: смогрителева дочь вернулась. Около двадцати лет жизни наблюдателя оказались спрессованными в короткой повести, скупой, как и вся проза Пушкина, на «подробности чувства»: три приезда на забытую Богом станцию символически соотнесены в ней с тремя возрастами человеческой жизни сменой эмоциональных доминант рассказа — переходом от иронии к интересу и от интереса к радости.
irina.popova@mail.ru
Вера Дубина
ВОСПИТАНИЕ СКУКОЙ: ОБРАЩЕНИЕ С ЭМОЦИЯМИ В РУССКОМ ДВОРЯНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ СЕРЕДИНЫ XIX ВЕКА
«Школа была отчаянно скучна, а многие из полученных знаний — откровенно бесполезны в последующей жизни» — подобная оценка, согласно Катрионе Келли, является общим местом в современных воспоминаниях о школе на пространстве от Советского Союза до Англии1. В исследованиях эмоций в современной школе скука входит в число основных «академических эмоций» наряду с радостью и беспокойством2. Воспоминания о школе прошлых столетий редко обходятся без упоминания о «скучных» уроках или «скучных» учителях, и особенно это характерно для закрытых учебных заведений, вся жизнь в которых представлялась воспитанникам сплошной скукой и тоской3. «Скука» является настолько распространенной характеристикой школьной жизни на протяжении столетий, что кажется уже одной из самых обычных и непременно возникающих в процессе обучения эмоций. Однако, хотя эмоции сами по себе и универсальны, то, как они выражаются и чувствуются, зависит и от личной склонности переживающего, и от культурных норм его окружающих4. Поэтому при всей распространенности и очевидности скучной школьной жизни скука легитимируется и преодолевается учениками в разные эпохи по-разному, а содержащиеся в ней посылки могут быть прочитаны в соответствии с различными культурными кодами. В этой статье предлагается попытка «прочесть» культурный код скуки в русских закрытых учебных заведениях середины XIX века, а также на материале вос
1 К. Келли, «“Школьный вальс”: повседневная жизнь советской школы в послесталинское время», Антропологический форум 1 (2004), 116.
2 Th. Goetz, A. Frenzel, R. Pekrun, «The Domain Specificity of Academic Emotional Experiences», The Journal of Experimental Education 75:1 (2006), 9.
3 См., напр.: Институтки. Воспоминания воспитанниц институтов благородных девиц, М.: ОГИ, 2001; Л. Ушаков, «Корпусное воспитание при императоре Николае I», Голос минувшего 6 (1915).
4 В. Rosenwein, «Worrying about Emotions in History», 837.
152
Вера Дубина
поминаний, дневников и писем воспитанников закрытого учебного заведения Императорского училища правоведения рассмотреть вопрос о том, как исторические акторы объясняли для себя скуку и какие стратегии обращения с ней развивали.
В своей дефиниции понятия «скуки» применительно к русскому обществу XIX века молодая история эмоций следует за художественной литературой: неизменным русским примером, можно сказать, образцом «человека скучающего» стал Илья Ильич Обломов, а понятие «скука» вследствие этого получила устойчивые ассоциации с ленью5. Литературный концепт «скуки» содержит в себе отсылку ко множеству коннотаций, представленных в тексте романа И. А. Гончарова, — тоска, неподвижность, уныние, служба, однообразие, застой, покой, разочарованность, напасть, томление — и в результате приобретает характеристики некоего рода болезни6. Болезненное значение скуки усиливается в ее трактовках как сплина, ennui и меланхолии, что особенно проявляется в концепции fin-de-siecle, а в исследованиях, использующих методы психологии, скука постепенно обращается в депрессию7. Эти две главные перспективы в трактовке скуки — как пустой траты времени и как болезненного состояния или, другими словами, «экзистенциального недомогания», как осознания бессмысленности своего существования — характеризуют представления о скуке в XIX веке на всем общеевропейском культурном пространстве8.
Несмотря на то что способность скучать кажется некой изначально присущей человеку характеристикой, представления о скуке позапрошлого века имеют вполне определенную дату рождения. Мартина Кессель в своем исследовании о скуке в Германии XVIII и XIX веков относит возникновение Langeweile к эпохе Просвещения. С этого периода доминирующий дискурс контроля над проявлением эмоций и человеческими страстями вообще, а также стремление к экономии времени усиливают страх перед скукой как потерей времени и контроля. Усиление роли профессии и образования все больше требует преодолеть скуку — обрести умение держать необходимый баланс между страстями и обязанностями,
5 A. Kuhn, «Dobroliubov’s Critique of Oblomov. Polemics and Psychology», Slavic Review 30:1 (1971), 93.
6 E. Сороченко, Концепт «скука» и его лингвистическое представление в текстах романов И. А. Гончарова, Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Специальность 10.02.01 — русский язык, Ставрополь, 2003.
7 J. Kristeva, Black Sun. Depression and Melancholia, N.Y.: Columbia UP, 1989; W. Laqueur, «Fin-de-siecle: Once More with Feeling», Journal of Contemporary History 31:1 (1996).
8 M. Kessel, Langeweile. Zum Umgang mit Zeit und Gejuhlen in Deutschland vom spaten 18. bis zum friihen 20. Jahrhundert, Gottingen: Wallstein, 2001, 7—9.
Воспитание скукой: обращение с эмоциями...
153
между профессией и частной жизнью, то есть научиться быть гармоничной личностью. Таким образом, скука попадает не только в разряд тех эмоций, которые неприличны воспитанному человеку, но и в разряд эмоций «опасных», способных остановить личный рост. Потому человек Просвещения живет под девизом, высказанным Екатериной II в ее записках: «умному человеку никогда не бывает скучно»9.
«Запрет на скуку» не ведет, однако, к табуизации этой эмоции, и педагоги Просвещения уделяют немало внимания вопросу о ее преодолении в процессе обучения и воспитания, без чего невозможны декламируемые филантропической педагогикой главные составляющие обучения: любознательность и готовность к восприятию нового10. Элита видит в скуке также опасность для продвижения по социальной лестнице, поэтому вопрос о преодолении скуки очень часто встает в переписке между детьми и родителями. Одним из главных рецептов преодоления скуки и защиты от потери смысла в работе или в жизни вообще представлялось экономное обхождение со временем, состоящее в структурированной работе, распределенной по определенным часам дня, что, по словам Мартины Кессель, отсылает к линейности времени как центральной оси самовосприятия11. Главной заботой педагогики XIX века в отношении преодоления скуки осталась та же стратегия постоянного заполнения каждой минуты времени умственной работой и разумное распределение времени12.
Однако жесткий распорядок учебных заведений XIX века, призванный заполнить время и не допустить скуки, как раз и вызывал у воспитанников жалобы на школьную скуку, вызванную однообразием проходящих дней. В особенности это было свойственно закрытым учебным заведениям, в которых контролировалось и свободное от занятий время. Жалобы на однообразие школьных будней, в которых нельзя отличить одной недели от другой, — очень распространенная тема дневников воспитанников закрытых учебных заведений. Во многих дневниках можно встретить таблицы, в которых воспитанники отмечали прошедшие и считали оставшиеся до выпуска дни13. Почти каждый из писавших дневники точно знает, сколько дней осталось до выпуска, до того «счастли
9 Записки императрицы Екатерины Второй, СПб.: Образование, 1907, 255.
10 Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte, ed. N. Hammerstein, U. Hermann, Miinchen: С. H. Beck, Bd. 2, 2005, 108.
11 Kessel, Langeweile, 76.
12 «Langeweile», Enzyklopadie des gesamten Erzjehungs- und Unterrichtswesens, ed. K. Schmid, Gotha: 1881, Bd 4, 183 184.
13 См. приложение. Таблица расчета оставшихся и прошедших дней в Пажеском корпусе, составленная Михаилом Жемчужниковым.
154
Вера Дубина
вого времени освобождения из застенков и запоров», когда их «выпустят погулять на свежий воздух»14.
Желание вырваться из учебного заведения «на свободу» характеризует дневниковые записи учеников практически всех закрытых учебных заведений: военных и гражданских, мужских и женских. Однако описание тоски перед будущим, скуки и однообразия учебной жизни уступает в военных заведениях место описанию стратегий выживания. Возможно, оттого, что в кадетских корпусах отношения между учениками, а также между учителями и учениками были более брутальными, здесь главное место отводится вопросу о еде, побоях и порке. Лев Жемчужников, проведший в разных кадетских корпусах все свое детство и «не чаявший уже когда-нибудь выйти из них на волю», писал о резком контрасте этих заведений с пажеским корпусом, где с ним никто не обращался грубо, а «порки и в помине не было»15.
Возможно, что более сытая, спокойная и интеллектуально насыщенная жизнь элитарных учебных заведений способствовала рефлексии воспитанников по поводу скуки учебных предметов и однообразного распорядка. Кроме того, стоит принять во внимание, что и сами воспитанники таких заведений происходили из семей с большими ожиданиями от будущего и, в среднем, с большим материальным достатком. В этот период жалобы на тоску были весьма частым явлением среди родившихся в начале XIX века представителей высших кругов Европы. Например, юрист и один из основателей исторической школы права Рудольф фон Иеринг не переставал жаловаться на скуку в каждом своем письме16.
Барон Евгений Розен, воспитывавшийся в 40-е годы XIX века в элитарном закрытом Училище правоведения, писал в своих воспоминаниях: «Однообразно текла наша жизнь подобно стоячему болоту, на котором вместо крика чаек раздавались крики воспитателей на трех языках, русском, французском и немецком, эти крики были весьма незатейливы и состояли из нескольких возгласов “вставайте, стричься, застегнись, ступайте в классы, строиться, застегнитесь и ложитесь”»17.
Учившийся в этом же учебном заведении несколькими годами ранее барон Федор Бюлер распространял это тягучее однообразие
14 РГАЛИ, Ф. 1183. Философов Дм. Вл. (1872—1940), публицист. Дневник Философова Владимира Дмитриевича, Он. 1. Ед.хр. 5,13 марта 1838 — 30 января 1839. Л. 58.
15 Л. Жемчужников, Мои воспоминания из прошлого, Л.: Искусство, 1971, 45, 52.
16 Kessel, LangeweUe, 173.
17 Е. Розен, Записки правоведа. ГЦТМ им. А. Бахрушина, Ф. 229, Розен Е.А. Ед. хр. 5.
Воспитание скукой: обращение с эмоциями...
155
шкальных будней и на учебные предметы. Причиной, побудившей его начать вести дневник, стали приступы истерической тоски, вызываемой школьной жизнью.
Чем отличается день ото дня? Тем, что сегодня тебе какой-нибудь профессор поставит нуль, а завтра другой расхвалит тебя, да поставит тебе 12; сегодня пироги с кашей, а завтра с капустой, сегодня оладьи, а завтра сосиски; сегодня долбишь пропедевтику, а завтра изнываешь над математикой! Все это однообразно до крайности. Еще если бы все эти прелести следовали бы одна за другой не так однообразно, а то, когда бывает класс Лейцмана, то непременно бывают пироги с капустой — это уж всегда так в пятницу, так же регулярно как и макароны в понедельник. Так мы влачим наше существование, и это — это называется жизнь!18
В случае с бароном Бюлером главной причиной страданий от школьной рутины мог быть ее контраст с интересной и бурной жизнью дома. В каникулы он с отцом-дипломатом отправлялся в заграничные путешествия, в которых «каждый из дней, проведенных там, до сих пор памятен и живо представляется в прекрасных воспоминаниях», тогда как в школе «однообразие, ужасное однообразие...»19.
Эго различие между родительским домом и школьной рутиной становилось причиной страданий многих представителей функциональной элиты в Европе. Феликс Буш, сын дипломата и в дальнейшем представитель высшего прусского чиновничества, описывает школьный распорядок с такой же тоской, как и правовед Федор Бюлер: ранние вставания, расписанные по часам уроки, минимум свободного времени и удивительное однообразие школьных будней20. Несмотря на то что родители дома также приучали своих сыновей к распределению времени и дисциплине, жизнь дома маркировалась как достойная дворянского положения, интересная и разнообразная, в отличие от скучных, однообразных школьных дней.
Однако и те воспитанники, которые не находили дома жизни полной развлечений и, как барон Розен, считали, что «жизнь в доме моего отца текла крайне скучно и однообразно», характеризовали жизнь внутри школьных стен как «скучную», а за их пределами — как свободную и интересную, потому как «засмеяли бы того
18 Дневник Бюлера за 1838 год. РГАДА, Ф. 186, Бюлер Федор, On. 1. Ед. хр. 421. Л. 26 (об.).
19 Там же.
20 F. Busch, Aus dem Leben eines kdniglich-preu/3ischen Landrats, ed. J. Schoeps, Berlin: Verlag fur Berlin-Brandenburg, 1991, 12—15.
156
Вера Дубина
смельчака, который стал бы жаловаться, что ему скучно дома»21. Отпуск на каникулы домой или только на один день в воскресенье описывается воспитанниками как глоток свободы и интересной жизни, а возвращение в школу — как возвращение в место несвободы и скуки («скучно ворочаться в училище»22). «Эта пренеприятная минута в понедельник. Все являются туг с особенно заспанными, кислыми лицами после разгульного воскресенья. Никому не хочется ни есть, ни говорить: всем хочется заснуть, чтоб позабыть, что они в училище. День, проведенный дома, рисуется такими привлекательными красками, он так мил, его проводишь так приятно...»23.
Жизнь дома хороша не только хорошей пищей и возможностью поспать дольше, чем до 6 часов утра, — в дневниках она маркируется как жизнь, тогда как пребывание внутри интерната — как сплошная обязанность. Таким образом, «настоящая жизнь» протекает за пределами школьных стен, и настоящий интерес — за пределами школьных предметов.
В мемуарной литературе эмоции отступают на задний план перед описанием событийной стороны учебной жизни, и по причине отдаленности описываемых событий вопрос о скучной жизни взаперти стоит уже не так остро. Большинство авторов, пишущих мемуары, предполагают их опубликовать или так или иначе обнародовать, поэтому о негативных сторонах училищной жизни в этих источниках упоминается реже, чем в дневниковых записях. Например, в наиболее оптимистичных воспоминаниях музыкального критика Владимира Стасова об Училище правоведения, опубликованных в связи с юбилеем заведения, он пишет, что полюбил училище более родительского дома: «семейная жизнь скоро начала многим из нас казаться бесцветною и безвкусною, мало удовлетворяющею, от того-то как ни жаловались мы на казарменную жизнь, а все воскресенья и праздники казались нам лишь антрактами, а настоящая жизнь — что-то совсем другое»24.
Однако те восторги, которые Стасов расточает в адрес училища, лежат за пределами учебных предметов и принадлежат целиком кругу его товарищей и книгам, покупаемым в складчину и запрещенным для чтения начальством25. Как и большинство его товари
21 Розен, Записки правоведа. Ед. хр. 7—8.
22 Вырезки П. Е. Щеголева (1910) из писем семьи Аксаковых. РГАЛИ. Ф. 10. Аксаковы. Ед. хр. 178. Л. 1.
23 Дневник Бюлера за 1838 год. Л. 51.
24 В. Стасов, «Училище Правоведения сорок лет тому назад. 1836—1842», Русская старина 29 (1880), 1023.
25 Напр., Стасов описывает случай, как директор отобрал у него томик Пушкина, за что Стасову отказали в причастии на пасхальной неделе: Стасов, «Училище Правоведения сорок лет тому назад», Русская старина 30 (1881), 412.
Воспитание скукой: обращение с эмоциями...
157
щей, в училище он интересовался более музыкой и художественной литературой, чем юриспруденцией, и «ничто не могло быть дальше» от его мыслей, «чем училище правоведения, карьера чиновника, да еще законника»26. Ко времени написания мемуаров он освободился уже полностью от своей служебной деятельности, которая так пугала и нагоняла скуку на многих правоведов во время учения, и беспокойство о тоскливом будущем чиновника его уже не мучило.
Для русского потомственного дворянина карьера канцелярского чиновника мало сочеталась с концепцией «1’homme du monde» — светского человека, доминировавшей в среде русского дворянства начала XIX века27. Тем менее это относилось к чиновнику судебного ведомства, которым предположительно должен был стать каждый выпускник Императорского училища правоведения. Суд находился в приниженном состоянии, и служить в нем не обещало ни денег, ни положения28. Воспитанники Императорского училища правоведения, элитарного учебного заведения, дети столбовых дворян или высших чинов, получали в училище специальное образование, считавшееся прежде уделом людей низших званий. Специальные учебные предметы из области права — вроде юридической пропедевтики, местных законов и т.д. — редко вызывали интерес у молодых дворян и рассматривались ими как обязанность, успешное выполнение которой выражается в оценке и в возможности выйти из училища «титулярным советником», то есть в возможном профессиональном преуспеянии в дальнейшей жизни. Однако для родовитых или образованных молодых людей такая цель не могла оправдывать необходимости учения «сухой юриспруденции». Мучившийся вопросом, покинуть ли училище, не окончив курса, или терпеть скуку до выпуска, Владимир Философов оценивал в своем дневнике возможные выгоды учения в «Правоведении»: «Разумеется, я не считаю того пользою, что меня выпустят отсюда 9-м классом и что, пользуясь выгодами образования и молодостью, я мог бы достигнуть довольно скоро чинов и почестей. Какая цель! Сколько мы видим людей, которые гоняются за какой-нибудь побрякушкой, украшенной именем святого, и готовы сделать всевозможные подлости лишь бы достигнуть своей цели»29. Можно предположить, что многие из тех, кто вел в училище дневники, потому
26 Стасов, «Училище Правоведения...», Русская старина 29 (1880), 1016.
27 Характеристику такого человека см. в: Ю. Лотман, Беседы о русской культуре: быт и традиции русского дворянства в XVIII — начале XIX в. СПб.: Искусство, 1994.
28 Р. Уортман, Властители и судьи. Развитие правового сознания в имперской России, М.: НЛО, 2004, 12, 75.
29 Дневник Философова Владимира Дмитриевича. РГАЛИ Ф.1183 Философов Дм. Вл. (1872- 1940) публицист, Оп.1. Ед.хр. 5. Л. 86.
158
Вера Дубина
и обратились к этому занятию, чтобы преодолеть овладевшие ими сомнения и скуку. Барон Бюлер признается в своем дневнике: «Нынче среда, и вчера уже весь день меня преследовала мысль, что я изменяю своим обещаниям, что перестаю делать свои выписки, что и они немного не разнообразят мое существование [...], [оно] становится мне скушным»30.
Вполне возможно, что было достаточно учеников, довольных предоставлявшимися им возможностями выйти с чином титулярного советника. Однако большинство из тех, кто, как барон Розен, «не чувствовал в себе ни охоты, ни способности к юридическому поприщу», продолжали учиться так же, как и Розен, который «ни на минуту не отступил от своих обязанностей»31. Правда, в случае с бароном Розеном можно законно усомниться в успешности его учения, поскольку он был отчислен «по болезни» и не окончил полного курса. Однако у большинства русских дворян, в отличие, например, от их немецких собратьев, в воспоминаниях нет демонстративного пренебрежения к учению, хотя будущая карьера и представляется им в самых мрачных красках как «безмерная скука» и «черная тоска»32. Необходимость службы и чина как часть русского дворянского этоса, а в случае студентов Училища правоведения еще, по большей части, и отсутствие необходимого для жизни, приличествующей дворянину, капитала превращали долг учебы в бремя более тяжелое, чем для их сверстников из аристократических кругов Европы.
Все воспитанники училища после выпуска обязаны были отслужить 6 лет при Министерстве юстиции в низких чинах и после 7 лет интерната видели перед собой бесконечно долгую карьеру в провинции или на секретарских должностях сената. Не только одна «сухая юриспруденция», но и необходимость службы и положения в обществе были тем грузом будущего, который провоцировал скуку во время обучения.
Поэт Алексей Жемчужников, также окончивший Училище правоведения, описывал в своей автобиографии время службы как самое черное время своей жизни:
30 Дневник Бюлера за 1838 год. Л. 47.
31 Розен, Записки правоведа. Ед.хр. 9.
32 В воспоминаниях немецкие аристократы часто выказывают свое пренебрежение к учебе, тем самым утверждая, что и без образовательного ценза высшее положение в обществе принадлежит им. Например, граф Шенбург-Вальденбург описывал свою одиссею по разным школам, где показал, что школьная дисциплина беспомощна перед высшим дворянством. См.: Kessel, Langeweile, 195. Этот же принцип демонстрировала и австрийская аристократия. См.: О. Хаванова, Заслуги отцов и таланты сыновей. Венгерские дворяне в учебных заведениях монархии Габсбургов 1746—1784, СПб.: Алетейя, 2006, 12.
Воспитание скукой: обращение с эмоциями...
159
Самым тяжелым и мрачным временем моей жизни я считаю вступление мое на службу в 4— 1 департамент сената после выпуска из училища. Я помню, что первое порученное мне занятие состояло в исправлении старого алфавитного указателя, в котором наибольшая часть дел, чуть ли не целый том, значилась под буквою О: о наследстве, о спорной земле, о духовном завещании и т.д. до бесконечности. Помню также, что я около того же времени написал на черновом листе какой-то деловой бумаги стихотворение, в котором призывал себе на помощь терпение ослиное, т.к. человеческого было недостаточно33.
Однообразие школьной жизни, совмещенное с будущим однообразием служебных занятий, добавляло уныния в оценку воспитанниками своего положения в училище. Необходимость служить, иметь профессию навевала скуку в оценке своего будущего молодыми мужчинами. С одной стороны, господствующая концепция мужественности требовала состояться в своей профессии — в случае выпускников Училища правоведения стать чиновниками, а с другой, специализация рассматривалась как ограничение «гармоничной личности» и тем самым вызывала скуку34. Как на этот счет заметил Козьма Прутков, одним из участников творчества которого был учившийся в Училище правоведения Алексей Жемчужников, «специалист подобен флюсу — полнота его одностороння».
Вопрос о том, может ли одна профессия быть интересна всю жизнь и может ли человек, служащий в канцелярии, быть нескучным, то есть не сконцентрированным только на одних своих занятиях, но и разносторонне развитым, был одним из главных вопросов, который задавали себе ученики в выпускном классе. В училище немало было мечтавших о музыкальной карьере или славе поэта, но сознание необходимости служить возвращало мечтателей с небес на землю, к повседневной рутине, и превращало учебу в настоящую тоску, обещающую при освобождении еще большую скуку на службе.
Владимир Философов, мечтавший, как и его друг Алексей Жемчужников, стать поэтом, на старшем курсе отказался от писания стихов, решившись избрать карьеру чиновника, в которой нет места искусству. Алексей Жемчужников отчаянно призывал его вернуться к поэзии, которую мыслил сочетать с чиновничьей службой.
33 А. Жемчужников, «Автобиографический очерк», Стихотворения А. М. Жемчужникова в двух томах, т. 1, СПб.: тип. М. М. Стасюлевича, 1892, ix.
34 Kessel, Langeweile, 165.
160
Вера Дубина
Увы! Когда средь долгого бесстрастья Ты музу усыпишь —
Ничем, ничем утраченного счастья, Клянусь, не заменишь35.
На что Владимир Философов остался непреклонен, пророча другу славу поэта, а себе карьеру юриста, жизнь которого Жемчужников так оценил в стихотворном послании к Философову:
Прожив средь суетных занятий, Я мир покину без следа
Средь богохульства и проклятий36.
Не все воспитанники училища оценивали увлечение искусствами и жизнь чиновника в терминах «или-или». Многие пытались избежать однообразия школьной и впоследствии служебной рутины как раз путем занятия музыкой, рисованием или писанием стихов. Другой стратегией избежать чиновничьей скуки был приличный для дворянина того времени род службы: при Министерстве иностранных дел или военная карьера. Еще не дойдя до выпускного класса, барон Федор Бюлер мучается отчаянием, размышляя о своем будущем юриста:
Какова будет моя жизнь, когда, лишенный добрейшего из отцов, я буду привыкать к бедному образу жизни, довольствуясь 700 р. жалованья и 1000 р. доходов с 27 тыс. капитала? Какова будет жизнь, когда, посвятив себя службе, буду убивать день за днем, сидя в канцелярии Сената за бумагами. При всем при этом иное, связи и знакомства заставляют меня жить прилично... К чорту пойдут обманутые мечты юности, которые рисовали в моем воображении камер-юнкеров, камергеров, место при Миссии, наконец, сан русского министра или посланника при каком-нибудь дворе... Этот сан Посланника, о котором мне, конечно, слишком много наговорили с раннего детства... Но отчего бы я не мог быть помещен при какой-нибудь миссии?37
Иван Аксаков, оставив еще в средних классах мечты о Министерстве иностранных дел по причине недостаточного знания
35 Памятная книжка Жемчужникова М. М. с копиями писем отцу. 1838— 1841. РГАЛИ. Ф.639. Ед. хр. 5. Л. 52.
36 Письма Жемчужникова А. М. ОР РНБ. Ф. 101 Жемчужников. Картон 5283. Ед. хр. 3. Л. 19.
37 Дневник Бюлера за 1838 год. Л. 55.
Воспитание скукой: обращение с эмоциями...
161
французского языка, едва ли не в каждом письме мучается вопросом «служить или не служить» и справляется у своего отца и брата о возможности прожить на литературные доходы и о наличии у него необходимого для того литературного таланта38.
Приличная для дворянина военная карьера была мечтой многих учившихся в гражданском учебном заведении. Среди воспитанников Училища правоведения была распространена так называемая «мундиромания», как назвал барон Розен мечты одноклассников о переходе в военную службу. Самые смелые даже рисковали идти против воли родителей и саботировали учебу, требуя отдать их в армию. Будущий крупный чиновник Владимир Философов, хотя и не бывший в числе «муцдироманов», но уже в средних классах глубоко раскаявшийся в своем поступлении в училище, писал в дневнике:
Хотя блеск мундира не может занимать истинно возвышенного ума, но признаюсь, что гром военного оружия, духовой музыки, мысль умереть на поле битвы облагораживают в мнении моем звание воина, и уже*конечно я предпочитаю его сухому, прозаическому состоянию Правоведов, обреченных на вечную обязанность рыться в пыльных архивах. К несчастью, ни моя наружность [...] ни состояние не позволили мне предаться той склонности, которая во мне преизбыточествовала, и я принужден ее погребеть в училище. [...] Что за жалкое существованье! О! Выпуск, Выпуск, когда мы тебя дождемся39.
Необходимость заниматься рутинным и неинтересным делом или «долбить сухую юриспруденцию» порождала в молодых воспитанниках тоску, которая оправдывалась только необходимостью быть послушным сыном и полезным своему отечеству гражданином на своем месте службы. Будущий адвокат К. К. Арсеньев дистанцированно описывает в своем дневнике сдаваемые им экзамены, ни разу не входя в содержание предмета, тогда как фабулу прочитанных им романов излагает весьма подробно. Учеба выступает здесь как обязанность, как необходимая жертва, которую нужно принести, чтобы стать полезным для общества человеком. Перед выпуском он мучается тоскою, размышляя о своем будущем: «Бог знает, как устроится моя служба, как установятся мои отношения с начальниками и сослуживцами, наконец, в какой мере я окажусь способным к чиновнической деятельности. Трудно
38 И. Аксаков, Письма к родным 1844—1849, М.: Наука, 1988, 299.
59 Дневник Философова Владимира Дмитриевича. РГАЛИ. Ф.1183 Философов Дм. Вл. (1872—1940), публицист. On. 1. Ед. хр. 5.
162
Вера Дубина
предположить, чтобы самолюбие мое, к несчастью, сильно развитое, не понесло здесь чувствительных ударов»40.
Отношение к изучаемым предметам как к формальности неизменно порождает скуку, которую можно преодолеть, обнаружив «некоторые интересные разделы и в юриспруденции»41. Такие попытки также присутствуют в дневниках учеников и особенно в их переписке с родителями, пытающимися разжечь интерес сыновей к учебе, потому как заниматься каким-либо делом без интереса и увлечения означает не только обречь себя на скуку, но и напрасно тратить свою жизнь42. Те, кто не мог найти интереса в юриспруденции, искали его в других образовательных предметах — психологии или физике. Дмитрий Философов, тяготившийся учебой в Училище правоведения, с восторгом описывал в своем дневнике опыты с лейденской банкой и другие «электрические фокусы»43. Большинство из тех, кто вел дневники в училищах, записывали туда содержание прочитанных ими литературных произведений, описание театральных постановок, тем скрашивая свое однообразное учение.
Воспитанники закрытых учебных заведений были зажаты между требованием баланса чувствительности и самоконтроля, школьной рутины и знаками веселой жизни за стенами интерната. Чувствительность являлась столь же необходимой характеристикой картины мужественности в XIX веке, как и профессиональный рост. Как указывает Мартина Кессель, большинство руководств для мужчин того времени указывает на то, что человек, сосредоточенный только на своей профессии и отказывающийся ради этого от жизни и чувства, — скучный педант44. Еще более мелким и убогим предстает портрет русского канцелярского чиновника, обильно производившийся художественной литературой XIX века. Акакий Акакиевич, находящий все свое удовольствие в каллиграфическом копировании деловых бумаг и не имеющий лишних денег на шинель, воплотил хотя и утрированный до предела, но очень живой страх вступавших на канцелярскую службу в сенат правоведов.
Для воспитанников закрытых заведений эта чувствительность, особенно по отношению к покинутому дому, является еще одним фактором, продуцирующим скуку. Тоска по родителям характеризует в данном случае скуку как болезненное проявление. Тоска по
40 Дневник Арсеньева Константина Константиновича. Ф. 40 Арсеньев Конст. Конст. On. 1. Ед. хр. 15. Л. 22 об.
41 Розен, Записки правоведа. Ед. хр. 9.
42 Kessel, Langeweile, 56.
43 Дневник Философова Владимира Дмитриевича. Л. 7.
44 Kessel, Langeweile, 160.
Воспитание скукой: обращение с эмоциями...
163
матери, вызывающая истерики или постоянные слезы, — не редкое явление на страницах воспоминаний о жизни закрытых учебных заведений. Племянник Натальи Николаевны Пушкиной, помещенный родителями в Училище правоведения, не смог пережить расставания с семьей и так и не закончил курса в училище. Пушкина забирала его на выходные, поскольку родители жили за пределами Петербурга: «Лев Павлищев приехал вчера из своей школы провести с нами два дня. Бедный мальчик в совершенном отчая-ньи, и достаточно произнести слово правоведение, как он разражается потоком слез. Его уже бранил директор за то, что он вечно плачет»45.
Алексей Жемчужников также писал своему отцу (впрочем, постоянно проживавшему в Петербурге) письма, полные слез и просьб навестить его в училище. Тон его писем граничит с болезненной экзальтацией, и когда Жемчужников жалуется на то, что был скучен, он объясняет это тоской по дому и любимому отцу.
Когда я проснулся, то голова моя была тяжелая, также и теперь, и по утру я был скучен, не скучен, но маленькая, легкая грусть, сопровождаемая желанием молиться; я был окружен товарищами, не становился печальнее, не крестился, но в мыслях моих я помолился, как можно помолиться в душе, немного плакал, и слезы мои видел только Бог, и ты теперь их видишь, читая мое письмо. Теперь я Слава Богу повеселее, но очень мне приятно от чего? — откровенно говорю тебе: от того, что я теперь с тобой, от того, что я говорю с тобой, вижу тебя, хотя не лично — но согласен, что можно иногда лучше целовать заочно; так я теперь тебя целую46.
И Алексей Жемчужников, и барон Бюлер рано потеряли мать, и отец оставался для них единственным родителем. Дневник Бюлера также полон тоски по отцу и близкой к тону Жемчужникова религиозной экзальтации: «Разлука с батюшкой всегда была для меня особенно чувствительна со времени кончины матушки: слава Богу, что он так твердо перенес эту ужасную потерю и что он не скучает своим уединением. ... Отец небесный, сохрани мне его! Но мне нельзя не грустить при мысли, что мне еще останется 3 года быть в училище и лишь через улицу от батюшки видеться с ним только по воскресеньям и праздничным дням»47.
45 М. Дементьев, Наталья Николаевна Пушкина, М.: Наука, 1985, 311.
46 РГАЛИ. Ф. 639 Жемчужников Александр Михайлович. Оп. 2. Ед. хр. 26. Письма Жемчужникова Алексея Михайловича отцу Жемчужникову Михаилу Николаевичу. 1829—1838, 112 л. Л. 3—4.
47 Дневник Бюлера за 1838 год. Л. 17.
164
Вера Дубина
Скуке и вполне понятной тоске по дому воспитанники противопоставляли и увлечение искусствами. В этом отношении они получали полную поддержку со стороны начальства училища и в особенности опекуна Принца Петра Георгиевича Ольденбургского, никогда не стремившегося сузить задачи обучения до узкой специализации чиновника сената. Благодаря заботе принца, например, Петр Ильич Чайковский, оставаясь на службе, практически там не появлялся, обучаясь музыке в консерватории. Один из выпускников училища отметил впоследствии, что в отношении музыкального и литературного образования Училище правоведения преуспело даже более, чем на юридическом поприще, поскольку оно не дало в области юриспруденции ни одного имени, сравнимого с именами П. И. Чайковского, А. В. Стасова, А. М. Жемчужникова или А. Н. Апухтина48. А поступив на службу, многие молодые правоведы сразу же искали себе литературные занятия, чтобы не утонуть в односторонности чиновной службы и не прекратить умственного развития. Так, например, поступив на службу в сенат, К. К. Арсеньев обсуждает с одноклассниками, какому занятию себя посвятить, чтобы не засохнуть над бумагами49.
Подводя итог, следует сказать, что проблема скуки занимала видное место в жизни высших классов в Европе в XIX веке. С одной стороны, осознание нежелательности этой эмоции, признание ее в качестве тормозящего фактора в образовании и продвижении по карьерной лестнице побуждало педагогов и самих представителей высших слоев общества искать способы борьбы с ней. Однако, с другой стороны, сами эти способы борьбы со скукой — как, например, четкое распределение времени, контроль за тем, чтобы каждая минута была занята каким-либо видом интеллектуальной или физической деятельности, — вновь порождали скуку, лишая жизнь разнообразия. Особенно остро скука ощущалась в закрытых учебных заведениях, которым русское дворянство привыкло доверять воспитание своих детей, неохотно принимая другие институциональные формы образования50. Запертые за стенами закрытого заведения дворянские юноши характеризовали жизнь внутри как «скучную» по сравнению с жизнью «настоящей», кипящей за пределами школьных стен и за пределами школьных предметов.
В противовес опасности скуки воспитанники закрытого заведения стремятся выказать в письмах и дневниках чувствительность,
48 К. Арсеньев, «Воспоминания об Училище Правоведения», Русская старина 50 (1886), 214.
49 Дневник Арсеньева Константина Константиновича. Ед. хр. 15. Л. 15.
50 О предпочтении дворянами закрытых пансионов университетам см. С. Рождественский, Сословный вопрос в русских университетах в первой четверти 19 века, СПб.: Сенатская типография, 1907, 15- 16.
Воспитание скукой: обращение с эмоциями...
165
подчеркивают свою способность самим распоряжаться своим временем и пространством. С одной стороны, господствующая концепция мужественности требовала состояться в своей профессии (от выпускников Училища правоведения — стать чиновниками), а с другой, специализация рассматривалась как ограничение «гармоничной личности», тем самым вызывающее скуку. С нарастающей профессионализацией образования давление службы все более нарушает баланс этой «гармоничной личности». Профессия означает сужение области интересов, и для русского дворянина середины XIX века профессия юриста, в данном случае прежде всего судебного чиновника, контрастирует с концепцией светского человека, доминировавшей в дворянской среде. Давление будущей необходимости служить вызывает к жизни различного рода обходные стратегии, используемые воспитанниками Училища правоведения: переход на приличную для дворянина военную службу или в Министерство иностранных дел, а также занятие разными искусствами.
Необходимость образования и службы оказывает все большее давление на мужчин-дворян как в России XIX века, так и в других европейских странах. Контраст между привычками дворянской семьи и дисциплиной закрытого учебного заведения, как и необходимость поддерживать дворянский образ жизни при традиционно «недворянской» канцелярской службе, превращает скуку в одну из важных проблем повседневной жизни дворян, принадлежащих к высшей бюрократии России.
vera.dubina@googlemail.com
Юлия Сафронова
СМЕРТЬ ГОСУДАРЯ. 1 МАРТА 1881 ГОДА: ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СРЕЗ
1 марта 1881 года после прогремевших на Екатерининском канале взрывов на площади перед Зимним дворцом стояла многотысячная толпа, ожидавшая известий о состоянии императора Александра И. В 3 часа 35 минут пополудни на крыше дворца стал опускаться императорский штандарт. «В стоявшем народе пошел стон, и как будто по мановению руки все опустились на колени, осеняя себя крестным знамением» — так описал эту минуту в воспоминаниях граф фон Пфейль1.
Принцип передачи государственной власти по наследству предполагает, что каждый следующий правитель встает во главе государства после смерти своего предшественника по принципу «Le roi est mort, vive le roi». В Российской империи смерть монарха, как и восшествие на престол его преемника, сопровождалась целым рядом церемоний: панихидами, перенесением тела, погребением. Церемонии эти служили не только для репрезентации власти2, но и для формирования определенных эмоций у подданных, того, что У. Редди назвал «эмоциональным режимом». В своей уже знаменитой книге он определяет «эмоциональный режим» как «набор нормативных эмоций и официальных ритуалов, методов и эмоциональных практик, которые служат их выражению и внушению; как необходимое подкрепление любого устойчивого политического режима»3. В настоящей статье я обращаюсь к экстраординарной ситуации цареубийства. Я ставила задачей рассмотреть, какие именно инструменты и насколько успешно были использованы в марте 1881 года для поддержания «эмоционального режима». Во
1 «Последние годы Императора Александра II. Из воспоминаний графа фон Пфейля из русской службы 1878—1881 гг.», Новый журнал литературы, искусства и науки 4 (1908), 44.
2 В понимании репрезентации власти я следую за Р. Уортманом: Уортман, Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии, пер. С. Житомирской, М.: ОГИ, 2004.
3 Reddy, The Navigation of Feeling, 129.
Смерть государя. 1 марта 1881 года...
167
второй части статьи речь пойдет о тех эмоциях, которые фиксировались в дневниках и переписке, то есть в текстах, не предназначенных для публичного прочтения. Эти свидетельства позволят говорить о степени прочности «эмоционального режима», а также о влиянии на представителей общества рассуждений журналистов и проповедников о том, как должно переживать катастрофу на Екатерининском канале населению Российской империи.
Смерть монарха в России должна была повергать всех верноподданных в глубокое горе. Уверенность в том, что скорбь о почившем государе объединяет страну с новым монархом, выражал как Александр II в манифесте 20 февраля 1855 года, так и Николай II 21 октября 1894 года4. Подданные сами заверяли государя в адресах, а позднее — и в телеграммах в том, что всецело разделяют его сыновние чувства. Типичной можно назвать телеграмму, отправленную Николаю II московским предводителем дворянства князем П. Н. Трубецким: «Да, Государь, мы понимаем Ваше горе, его не выразить словами, но им скорбит каждое русское сердце. В искренних слезах, проливаемых нами за упокой души горячо любимого царя, Родителя Вашего, мы не только мыслью, но и всеми чувствами вступаем в единение с Вами»5. Вероятно, если бы Александр II «тихо в Бозе почил»6, как его сын, или даже внезапно скончался, но в своей постели, как его отец, содержание направленных Александру III адресов было бы примерно таким же. Цареубийство же, ставшее кульминацией глубокого политического кризиса, приведшее верхи в состояние паники и заставившее образованное общество со страхом (или надеждой) ждать революции, вынудило откорректировать список «нормативных эмоций», которые подданным следовало чувствовать и демонстрировать. Симптоматично, что в манифесте 1 марта 1881 года, которым новый император сообщал об убийстве Александра II, нет ни слова о чувствах его самого или России. Александр III не выражал уверенности ни в верности населения, ни в его скорби, а лишь призывал подданных «соединить их молитвы с Нашими мольбами пред Алтарем Всевышнего»7.
Подданные в этой ситуации все же посчитали необходимым выразить государю свои чувства в телеграммах и адресах. Прежде чем обратиться непосредственно к текстам этих документов, попробуем описать процедуру составления адреса. Обычно адрес (или телеграмма как разновидность такого рода обращения к монарху)
4 Северная пчела, 21 февраля 1855 г.; «Высочайший манифест», Санкт-Петербургские ведомости (далее СП В), 22 октября 1894 г.
5 СП В, 26 октября 1894 г.
6 «Телеграмма министра императорского двора», СП В, 21 октября 1894 г.
7 Правительственный вестник, 2 марта 1881 г.
168
Юлия Сафронова
отправлялся не от имени отдельного лица (хотя и такие случаи бывали), а от группы лиц — гласных городской думы, членов губернского или уездного дворянского собрания, земства, даже волостного схода (то есть органов самоуправления разного уровня), а также от служащих различных учреждений, учебных заведений, благотворительных обществ и т.п. Сразу после 1 марта были собраны экстренные заседания органов местного самоуправления и различных обществ для служения панихиды (а порой также — для принесения присяги на верноподданство). Так, Санкт-Петербургская городская дума собралась 2 марта. После того, как была отслужена панихида, городской голова П. Л. Корф выступил перед гласными с краткой речью: «Едва ли кто мог бы выразить в эту тяжелую и важную минуту чувства ваши и чувства всего городского населения, вами представляемого; можно только сказать, что это чувство величайшего негодования»8. После этого дума приступила к обсуждению обращения к императору. Примерно по такому же сценарию проходило составление других адресов.
Здесь следует сказать, что верноподданнический адрес как максимально ритуализированная форма коммуникации подданных с монархом всегда давал повод заподозрить в неискренности тех, кто его составляет. Б. Н. Чичерин писал К. П. Победоносцеву Т1 мая 1881 года о том, что адреса «можно посылать по всякому случаю», и в пример приводил заявления по поводу отмены соляного налога в 1880 году, над которыми их составители сами смеялись9. В своем нелегальном издании народовольцы утверждали, что верноподданнические адреса — это только «пуф, воспроизводимый чернилами на бумаге». Их составляют лица, «желающие отличиться во что бы то ни стало, пусть по способу Герострата», а подписывают равнодушные или трусливые10.
Мне кажется, с адресами по поводу убийства Александра II дело обстояло иначе. Необходимо принять в расчет то психологическое состояние, в котором находились люди, только что отстоявшие панихиду, во время которой просили Бога «упокоить душу новопреставленного раба Божьего Александра», «оставить ему грехи» и «вселить в рай». На само собрание люди приходили, уже чго-
8 Выписка из журнала Санкт-Петербургской городской думы, 2 марта 1881 г. ЦША СПб. Ф. 792. On. 1. Д. 3156. О поднесении городским обществом адреса императору Александру III по поводу мученической кончины его родителя. Л. 2.
9 Чичерин Б. Н., Письмо, 27 мая 1881 г., Победоносцев К. П. и его корреспонденты: Воспоминания. Мемуары, т. 1, Минск: Харвест, 2003, 124. Другой корреспондент обер-прокурора, П. Д. Голохвастов, утверждал, что многие считают верноподданнические адреса «дутыми»: Голохвастов, Письмо, 10 декабря 1879 г., там же, 9.
10 [Тихомиров Л. А.], «Кошачий концерт», Народная воля 3 (1880), 12.
Смерть государя. 1 марта 1881 года...
169
то зная о совершившемся цареубийстве. Особенно сильное впечатление должны были производить подробнейшие медицинские отчеты о последних минутах жизни царя, которые уже через два дня после 1 марта появились в газетах. В этих описаниях доминировали указания на раздробленные взрывом ноги и кровь, заливавшую тротуар. Эффект официальных отчетов усиливали рассказы очевидцев: [Александр П] «опирался рукою и тяжело дышал, видимо, стараясь приподняться [...]. Ноги его величества ниже колен были раздроблены. Не было ни сапогов [sic. — Ю. С], ни брюк, ни кальсон, а виднелась окровавленная масса, состоящая из мяса, кожи и костей. Кровь лилась страшно»11.
Отстояв панихиду, выслушав своего председателя, собрание приступало непосредственно к составлению адреса. В большинстве случаев в адресе было заверение государя в «верноподданнических чувствах», а также выражение «скорби», «ужаса» и «негодования»12. Выше уже говорилось, что выражение скорби было обычным в адресах, посылавшихся по случаю смерти каждого государя. Выражение «негодования» и «ужаса» также не было изобретением марта 1881 года. Такие же формулировки присутствуют в адресах, направлявшихся в 1879—1880 годах по случаю спасения Александра II от покушения13. Решая проблему того, в какой мере по верноподданническим адресам можно судить об эмоциях по поводу убийства императора, не следует ставить вопрос об искренности или притворстве их составителей. Мне кажется, более верным использовать здесь концепцию «эмотивов», предложенную У. Редда. Опираясь на классификацию речевых актов Остина, У. Редда называет эмотивом такой тип речевого акта, который одновременно описывает мир и изменяет его. Эмотив (т.е. высказывание об эмоциях) «сам по себе является инструментом для непосредственного изменения, выстраивания, утаивания и усиления эмоций»14. Поря
11 «Хроника», Молва, 4 марта 1881 г.
12 Приведу в качестве примера адрес Ораниенбаумской городской думы: «Желая хотя несколько выразить чувство глубокой скорби и негодования по поводу рокового известия о кончине в Бозе почившего Государя Императора Александра Николаевича, последовавшей от злодейской руки, гласные Ораниенбаумской городской думы постановили повергнуть перед Его Императорским Величеством, ныне царствующим Государем адрес с выражением верноподданнических чувств. Адрес этот предоставляем господину начальнику губернии с просьбой дать этому адресу дальнейшее движение», Журнал заседания Ораниенбаумской городской думы, 9 марта 1881 г. ЦГИА СПб. Ф. 253. Оп. 3. Д. 1491. О предоставлении адресов всеподданнейших по случаю печального события 1 марта 1881 г.
13 См., напр., Правительственный вестник, 6 апреля 1879 г.; там же, 12 декабря 1879 г.; там же, 13 февраля 1880 г.
14 W. Reddy, «Emotional Liberty: Politics and History in the Anthropology of Emotions», Cultural Anthropology 14:2 (1999), 270.
170
Юлия Сафронова
док составления верноподданнического адреса, обсуждение конкретных формулировок, зачитывание проекта и подписание оригинала адреса — все это предполагало активное использование эмо-тивов, что в свою очередь изменяло чувства присутствовавших, усиливало те самые «негодование», «ужас» и «скорбь», которые они свидетельствовали монарху.
О том, что верноподданнические адреса были исключительно важны для монархии, свидетельствует тот факт, что все они докладывались лично императору, который приказывал «благодарить» за них общество или лицо, их отправлявшее. Эта благодарность через те же инстанции, через которые она попадала на стол императора (например, министр внутренних дел — генерал-губернатор — городской голова), передавалась обратно15. Кроме того, в «Правительственном вестнике» перечислялись те собрания и общества, которые отправляли адреса. После каждого такого списка стояла фраза: «Государь Император соизволил благодарить вышепоименованные сословия, земства, общества и частных лиц за выраженные ими чувства»16. За редким исключением полные тексты адресов не публиковались, однако при каждом списке было краткое резюме, из которого выяснялось, что в адресах были выражены «верноподданнические чувства и глубокая скорбь», а также «глубокое потрясение страшным злодеянием»17. Таким образом, можно говорить о том, что составление верноподданнических адресов и публикация их краткого содержания в официальном издании правительства были важными инструментами поддержания «эмоционального режима». Подданные выражали власти именно те эмоции, которые свидетельствовали об их преданности, а следовательно, были для власти знаком того, что выход из кризиса возможен.
То, что «нормативными эмоциями» по поводу цареубийства должны были стать именно «скорбь» и «негодование», подтверждает разосланный начальникам губерний 27 марта циркуляр, который начинался с утверждения, что цареубийство 1 марта, повергнувшее страну в «ужас», вызвало «всеобщее рыдание по в Бозе почившему Царю и выражения искренних верноподданнических чувств к Его Царственному Преемнику»18. Донесения с мест губер
15 Так, в фонде канцелярии Петербургского губернатора кроме копий адресов хранятся копии ответов на них Министерства внутренних дел, в которых сообщалось, что Государь «изволили благодарить». ЦГИА СПб. Ф. 253. Оп. 3. Д. 1491.
16 Правительственный вестник, 5 марта 1881 г.
17 Там же, 13 марта.
18 Циркулярное предложение Начальникам губернии за № 1387. ГАРФ. Ф. 102. 1881. 3 д-во. Оп. 77. Д. 188. О распространении в народе ложных слухов и толкований по поводу события 1 марта. Л. 18.
Смерть государя. 1 марта 1881 года...
171
наторов и начальников губернских жандармских управлений подтверждали, что население страны переживает смерть монарха как должно, испытывая «непритворную скорбь»19, а также «чувство ужаса и изумления, соединенное с негодованием»20.
В ритуализированном, но все же диалоге между властью и населением страны осуществлялось закрепление «эмоционального режима». Сама возможность такого диалога свидетельствовала о том, что у монархии остается запас прочности, достаточный для выхода из глубокого кризиса, кульминацией которого стало 1 марта 1881 года. Эмоции по поводу совершившегося цареубийства выражались, однако, и за пределами этого диалога. О чувствах, испытываемых страною в связи с убийством ее государя, писали газеты и говорили проповедники с церковных кафедр.
На страницах русских газет смерть Александра II описывалась как ужасное, потрясающее событие, говорить о котором спокойно невозможно. «Тяжело поднимается перо», «какое слово может выразить»21, «настроение в высшей степени удручающее и унылое»22, «Голос правды и истины при настоящих обстоятельствах может изливаться только в лирическом потоке, а не в холодном, беспристрастном, конечном слоге!» — утверждали публицисты разных направлений и политических взглядов23. Разумеется, журналисты отмечали прежде всего «скорбь» по убитом императоре, а также чувства «негодования» и «ужаса».
Следует отметить то подчеркнутое внимание, с которым журналисты относились к выражению чувств «простого народа». При описании «искренних слез» толпы, стоявшей на площади перед Зимним дворцом, корреспондент газеты «Новое время» подчеркнул, что это общее «горе» «скажется в последней избе, оно отдастся в каждом сердце»24. В газете «Голос» рассказывалось о том, как приняла известие об убийстве императора Москва: «народ, молясь в приходских церквях на панихиде, горько плакал; Архангельский собор оглашался рыданиями. Известия из других городов показывают, что это были чувства всего русского народа»25. При таком подчеркнутом внимании к тому, что чувствует «народ», неудиви
19 Отношение Витебского губернатора в министерство внутренних дел, 1 апреля 1881 г. ГАРФ. Ф. 102. 1881. 3 д-во. Он. 77. Д. 188. Л. 22.
20 Записки о толках и суждениях населения гор. Варшавы № 16. ГАРФ. Ф. 102. 1881. 3 д-во. Оп. 77. Д. 1019. О толках и суждениях населения города Варшавы. Л. 92.
21 Московские ведомости, 2 марта 1881 г.
22 Д. Иловайский, «Из Москвы», СПВ, 13 марта 1881 г.
23 СП В, 4 марта 1881 г.
24 Новое время, 2 марта 1881 г.
23 «Интересы дня», Голос, 5 марта 1881 г.
172
Юлия Сафронова
тельно, что единственная статья, в которой очевидец рассказывал о возложении венка на гроб императора, описывала чувства именно члена крестьянской депутации: «И чем ближе подходили мы к церкви, тем больше сердце падало [...] пали мы все на колени и зарыдали. В землю поклонились, а слезам удержу нет, так и льются, так и льются, точно ручей какой [...] что в это время мы перечувствовали, как переболела наша душа у гроба нашего Отца и Благодетеля — выразить невозможно»26. Очевидно, что в этом описании скорби «простого крестьянина» делается упор на «естественность» его слез, не поддающихся контролю, льющихся без «удержу».
Подчеркнутое внимание к чувствам «простого народа» становится понятно в свете противопоставления его «образованному обществу». Такое противопоставление было для публицистов не просто общим местом, но одной из ключевых аксиом, из которой выводились заключения о проблемах и неурядицах страны и способах изменения существующего положения вещей. По версии журналистов консервативного лагеря, «образованное общество» «встало между русским народом и его царем, оно разорило народ, довело его до хронической голодовки, оно же приготовило контингент юношей, из которых выуживаются различного вида государственные преступники, завершающиеся цареубийцами»27. Чувства «простого народа» были для консерваторов тем примером, на котором общество должно учиться любить своего царя и свою страну. М. Н. Катков утверждал: «В России государственную партию составляет весь русский народ. Гнилой либерализм и гнилой консерватизм оказываются только в нашем гнилом космополитическом и поверхностном образовании»28.
Журналисты либерального лагеря очень хорошо понимали, что призыв к единению «общества» и «народа» есть не более чем способ обвинить первое в оторванности от нужд и искренних чувств второго. Опровергая эти обвинения, журналист газеты «Порядок» в статье «Очерки общественной жизни» доказывал, что единение, к которому так «назойливо» призывают консерваторы, и было целью либеральных реформ. То, что предлагают противники, он назвал «теорией единения на почве бесправия»29.
Была и другая причина подчеркнутого внимания к чувствам «народа» — страх перед возможным бунтом. Этот страх виден в тех заметках, которые сообщают о случаях народной расправы с по
26 «Интересы дня», Голос, 5 марта 1881 г.
27 СП В, 10 марта 1881 г.
28 Московские ведомости, 12 марта 1881 г.
29 «Очерки общественной жизни», Порядок, 29 марта 1881 г.
Смерть государя. 1 марта 1881 года...
173
дозрительными лицами на площади перед Зимним дворцом30, на месте цареубийства31 или в других городах России32. М. Н. Катков высказал предположение, что террористический акт 1 марта 1881 года был осуществлен не столько с целью убийства императора, сколько затем, чтобы «внести смуту в наш народ, взволновать его и подвигнуть к бессмысленным мятежам»33. В описаниях отношения «народа» к цареубийству подчеркивались скорбь и слезы как ее внешнее проявление, гораздо реже говорилось о «негодовании» или «возмущении». Напротив, и консервативные, и либеральные журналисты настойчиво подчеркивали, что «народ [...] спокоен»34.
Совершенно иначе передавались журналистами эмоции представителей «образованного общества», тех, кто часто объединялся местоимением «мы». В этих описаниях присутствовали «скорбь», «ужас» и «негодование», выражения которых требовал «эмоциональный режим». Яркое описание общего горя являет собою стихотворение Александра Ревы, опубликованное в «Петербургском листке»:
Нет слез, чтобы выплакать горе!
Любимый наш царь, погляди: Средь нас, как в взволнованном море, Бушует то горе в груди!
О плачьте, молитесь, рыдайте
Над прахом, священным для нас [,..]35
Об общем горе писал и другой поэт — Александр Шитов:
Ты лежишь, наш страдалец державный. О тебе неутешно скорбя, Стонет Русь от палат и до хижин [...]36
Описание «ужаса» относилось скорее к характеристике ситуации, чем к передаче эмоционального состояния. При рассказе о цареубийстве журналисты часто использовали эпитет «ужасный» («ужасное событие»37, «ужасные дни»38, «ужасный успех»39, «ужас
30 Московские ведомости, 3 марта 1881 г.
31 «Дневник», Порядок, 14 марта 1881 г.
32 «Московские заметки», Голос, 17 марта 1881 г.
33 Московские ведомости, 15 марта 1881 г.
34 См., напр., Политическое обозрение, Порядок, 10 марта 1881 г.
35 А. Рева, «К событиям дня. 1 марта 1881 года», Петербургский листок, 12 марта 1881 г.
36 А. Шитов, «Царю-Мученику», Минута, 5 марта 1881 г.
37 «Катастрофа 1-го марта», Неделя, 8 марта 1881 г.
38 «Московские заметки», Голос, 10 марта 1881 г.
39 Московские ведомости, 3 марта 1881 г.
174
Юлия Сафронова
но умерщвлен»40). Поэтому состояние «ужаса» в статьях журналистов представлено как реакция на «ужасное событие». В состояние «ужаса» приводил сам факт покушения на царя, а также упоминавшиеся ранее подробности его смерти. «Что же, кроме ужаса, могло наполнять чувства и мысли Москвы в эту страшную неделю?» — спрашивал корреспондент газеты «Голос»41. «Мы не сознаем настоящего; мы ужасаемся и сокрушаемся; мы веруем и надеемся, но еще не разумеем!» — отмечалось в «Санкт-Петербургских ведомостях»42. «Тяжела боль окаменевших от ужаса сердец» — писали «Современные известия»43. Следует сказать, что об испытанном «ужасе» писали журналисты и ранее, когда освещали предыдущие покушения. Например, о вырвавшемся «вопле ужаса» говорилось в одной из публикаций «Русских ведомостей» после покушения 19 ноября 1879 года44. Чувство «негодования» также относилось к совершенному преступлению и способу, для этого избранному. «Жгучая скорбь, негодование и горькое сознание собственного бессилия в виду ужасных явлений — вот чувства, волнующие в настоящее время русское общество», — писала «Неделя»45.
С точки зрения части журналистов, однако, чувства, демонстрировавшиеся «образованным обществом» во время предыдущих покушений, не были искренними. Как писал И. С. Аксаков, «мы призываем к скорби и негодованию как к самому законному, самому честному, самому нужному, очистительному действию общественной совести [...]. О, если б мы все, искренно, а нелицемерно [курсив И. С. Аксакова. — Ю. С], сумели восскорбить и вознегодовать в свое время, тогда, может быть, не пришлось бы переживать настоящей минуты скорби, стыда и срама!»46. Подчеркнем, что, употребляя термин «свое время», И. С. Аксаков имел в виду предыдущие покушения на Александра II, начиная с выстрела Каракозова.
В приведенном высказывании И. С. Аксакова упоминаются эмоции, которые не встречались в верноподданнических адресах и официальных сообщениях о переживаниях страны: «стыд» и «срам». Утверждение, что русское общество чувствует стыд, a priori предполагало, что ему есть за что стыдиться. Одним из первых, кто высказал мысль о том, что именно общество виновно в смерти царя, был протоиерей Иоанн (Янышев). 2 марта на панихиде в
40 Московские ведомости, 2 марта 1881 г.
41 «Московские заметки», Голос, 17 марта 1881 г.
42 СПВ, 4 марта 1881 г.
43 Современные известия, 3 марта 1881 г.
44 Русские ведомости, 21 ноября 1879 г.
45 «Катастрофа 1 марта», Неделя, 8 марта 1881 г.
46 Русь, 7 марта 1881 г.
Смерть государя. 1 марта 1881 года...
175
Исаакиевском соборе он воскликнул: «Государь наш не скончался только — Он убит! — убит среди собственной столицы, — мученический венец Его сплетён на русской земле... Вот что делает скорбь нашу невыносимою, болезнь истинно русского сердца — неизлечимою, наше неизмеримое бедствие — нашим неизгладимым позором»47. Пытаясь объяснить причину гнева Провидения, отобравшего у России ее монарха, священники утверждали: «Кровь его пролита, жизнь его прекращена через нас, грехов наших ради, за беззакония наши!»48. Главное, в чем обвиняли проповедники паству, — отсутствие веры, равнодушие, с которым были приняты первые предупреждения Провидения. «Ни молитвою к Богу, ни делом, ни житием не сохранили Его [Александра II. — Ю. С] от адской крамолы, живя беспечно по злой воле, извращающей все доброе, святое, забывая самонужнейшие обязанности христианские и не подчиняясь учению церкви»49. Утверждая, что именно русское общество виновно в смерти императора, священники настаивали на необходимости покаяния и возвращения к вере.
Под другим углом смотрели на вопрос о вине русского общества журналисты. И консерваторы, и либералы настаивали: «образованное общество» должно испытывать чувство стыда за совершившееся цареубийство, даже «казниться»50. «Настроение в высшей степени удручающее и унылое [...]. Скорбь, стыд и позор подавляют [...] мысль», — писал Д. И. Иловайский в статье «Из Москвы»51. «Страшные дни пережиты. Никто не может сказать, конечно, чтоб улеглось чувство горького стыда за катастрофу 1-го марта. Бог знает, когда уляжется это чувство!» — писал корреспондент газеты «Голос»52. О «тяжести позора» было сказано в четверостишии на фотографическом портрете Александра II в гробу, продававшемся тогда во многих магазинах53.
Чувство «стыда» находилось в прямой связи с обсуждавшимися журналистами вопросами вины и ответственности русского об
47 «В Исаакиевском соборе», Новое время, 3 марта 1881 г.
48 А. Анисимов, «Речь, сказанная в Иерусалиме по получении телеграммы о кончине Всероссийского Государя Императора Александра Николаевича», Харьковские епархиальные ведомости (неофициальная часть) 8 (1881), 203.
49 Н. Румянцев, «Речь, сказанная перед панихидою, по случаю мученической кончины Государя Императора Всероссийского Александра Николаевича», Руководство для сельского пастыря 14 (1881), прил., 193.
50 «Интересы дня», Голос, 8 марта 1881 г. См. также «Телеграммы», Московские ведомости, 5 марта 1881 г.; «Интересы дня», Голос, 10 марта 1881 г.; «Портрет Александра II», Голос, 15 марта 1881 г.
51 Голос, 8 марта 1881 г.
52 «За две недели», Голос, 17 марта 1881 г.
53 Голос, 15 марта 1881 г.
176
Юлия Сафронова
щества за произошедшее цареубийство. И. С. Аксаков утверждал: «Смерть Царя явление не случайное. Эго наш общий грех. Мы все повинны в ней, во сколько [sic] повинны в растлении общества через воспитание нашего юношества, через созидание общественного духа и мнения. Очнемся ли наконец? Отрезвимся ли в виду бездны?»54. Под пером журналистов русское общество представало вялым и апатичным, дозволившим «крамоле» в течение 15 лет преследовать Царя-Освободителя, а затем убить его.
Хотя все журналисты были готовы признать коллективную вину общества, все же каждый предпочитал говорить о том, что кто-то виноват больше, чем остальные. Разумеется, публицисты либеральных газет утверждали, что этот грех общества — грех невольный; оно и желало помочь правительству, но не находило средств и все более погружалось в апатию, по их мнению, становилось лишь пассивным зрителем противостояния правительства и крамолы. В этой апатии виновато, с одной стороны, правительство, после покушения Каракозова переставшее доверять обществу: «меры строгости» его были направлены не против злоумышленников, а «скорее против самого общества. [...] Может быть, ничем более, как излишней подозрительностью не распложалась настолько та среда, из которой преступники вербовали потом своих рекрут»55. С другой стороны, вина лежит на представителях консервативного лагеря, постоянно травивших либеральную печать и запугивавших общество. Именно против консервативных противников было направлено обличение «Голоса»: «Мы пережили длинный ряд годов, когда крамола поражала наши умы своими дерзновенными попытками на нашу народную святыню; а мы что делали? Мы где были? И вот до чего довела нас наша общественная апатия. Казнись, русское общество! Казнитесь, виновники его апатии!»56.
Консервативные журналисты, напротив, обвиняли либералов в поголовной измене русскому народу и русскому государству. В передовой статье 10 марта 1881 года в публикации газеты «Санкт-Петербургские ведомости» была нарисована страшная картина общественной жизни: «Под камертоном тунеядной администрации могло образоваться только общество повального тунеядства. [...] Вот это-то общество [...] и родило государственное бессилие — са-моизмен^. [выделено автором статьи. — Ю.С.] [...] Государственная самоизмена и убила Царя-Освободителя!»57. «Охранители» приходили к выводу, что именно либеральная печать развратила обще
54 Русь, 12 марта 1881 г.
55 «К вопросу дня», Молва, 16 февраля 1880 г.
36 «Интересы дня», Голос, 8 марта 1881 г.
57 СП В, 10 марта 1881 г.
Смерть государя. 1 марта 1881 года...
177
ство, внеся в него ложные понятия, распространяя «лже-либераль-ные идеи». Появившиеся в газетах «Страна» и «Голос» в начале марта статьи, в которых высказывалась мысль о необходимости введения представительства, были охарактеризованы «Санкт-Петербургскими ведомостями» как «пляска Иродиады перед усекновением главы Иоанна Крестителя». Статья заканчивалась требованием: «Умолкните, враги России и русского народа. Ваши речи так же не чисты, как и ваши желания [...], нам не нужно никаких благ земных за невинную кровь нашего Монарха, мученика земли нашей»58.
Таким образом, изображение чувства «стыда» в текстах журналистов и проповедях священников было подчинено решению проблемы вины и ответственности общества за совершившееся цареубийство. Интересно, что ни в официальных отчетах, ни в верноподданнических адресах описание «стыда» не фигурирует. Очевидно, «стыд» не входил в список «нормативных эмоций», которые служили для поддержания «эмоционального режима». Возможно, причина такого положения вещей заключалась в том, что «скорбь» об умершем императоре и «негодование» против его убийц были эмоциями, способными поддерживать сложившийся политический порядок. Верноподданные скорбели всегда, когда их монарх уходил из жизни. Верноподданные должны были «ужасаться» и «возмущаться» преступлением революционеров, таким образом исключая их из своих рядов. «Стыд», напротив, был той эмоцией, которая содержала опасность для сложившегося порядка вещей. Признание того, что у русского общества есть причины испытывать его, было признанием глубокого кризиса политического режима, отсутствия взаимопонимания между властью и обществом. «Стыд» делал очевидным тот факт, что «образованное общество» сперва вырастило террористов, а потом позволило им убить «Царя-Освободителя».
До сих пор речь шла об эмоциях, как они представлены в текстах, предназначенных для всеобщего прочтения и написанных для выражения чувств. Теперь попробуем посмотреть на те же события через другую призму, а именно используя дневники и переписку, то есть тексты, не предназначавшиеся для публичного прочтения. На этом пути исследователя подстерегает ряд серьезных трудностей, так как круг таких источников невелик, а попытка дополнить представление об эмоциональных состояниях, переживавшихся в связи с цареубийством, свидетельствами мемуаристов, возможно, исказит картину. Тем не менее такая попытка поможет понять и оценить устойчивость изучаемого «эмоционального режима». Вместе с тем мы сможем проверить, в какой мере рассуждения журна
38 СПВ, 8 марта 1881 г.
178
Юлия Сафронова
листов и проповедников об испытываемом «всей Россией» «стыде» имели влияние на эмоции людей.
Круг лиц, оставивших описания 1 марта в дневниках и воспоминаниях, широк, но довольно случаен. Разумеется, речь идет о представителях так называемого «образованного общества». Это определение позволяет объединить военного министра Д. А. Милютина, государственного секретаря Е. А. Перетца, нескольких знатных дам, с одной стороны, и революционерку В. Н. Фигнер, с другой. Картина, которую я попытаюсь воссоздать, заведомо неполна: сохранилось много свидетельств о реакции высшей аристократии и чувствах революционеров, но почти ничего об эмоциях среднего обывателя. Эго скорее набросок, чем законченная картина.
Первой реакцией высших кругов петербургского общества были слезы. Позднее генерал П. А. Черевин мог позволить себе написать в дневнике: «Я всей своей карьерой обязан Александру II и все-таки скажу: хорошо, что его убили, иначе своим либерализмом до чего бы он довел Россию!»59, а «близкие к покойному государю» люди в приватной беседе позволяли себе говорить молодому С. Ю. Витте, что в случае продолжения царствования Александра II и коронации княгини Юрьевской «главное влияние утвердилось бы в совершенно невозможных руках»60. В первые дни марта, однако, настроение аристократического общества было иным. В дневнике предводителя петербургского дворянства А. А. Бобринского есть описание реакции первых минут после известия о смерти императора: «Все бело-бледные, лица взволнованные, на глазах слезы»61. Современники фиксировали разнообразные проявления скорби: собравшиеся перед Салтыковским подъездом дворца люди, близкие ко двору, «снимают шляпы. Плачут. Крестятся. У всех на глазах слезы», дочь великой княгини Марии Елена Шереметева «заливается слезами и молча уезжает»62. Проникший во дворец вслед за генералом Н. И. Бобриковым В. В. Воейков увидел там «угрюмые и печальные лица». У генерала Розенбаха «по щекам катились слезы», а генерал Родионов при известии о смерти императора «громко зарыдал, прислонившись к притолоке так, что пришлось его поддержать»63. Государственный
59 «Из истории “конституционных” веяний 1879- 1881 годов», Былое 12 (1906), 265.
60 С. Витте, Воспоминания, в 2 т., М.,1960, т. I, 520.
61 А. Бобринский, «Воспоминания», 1 марта 1881 года: Казнь императора Александра II, Л., 1991, 173.
62 Там же, 174.
63 «Последние дни царствования императора Александра II и воцарение императора Александра III. (Воспоминания отставного ротмистра лейб-гвардии уланского Ее Величества полка В. В. Воейкова)», Известия состоящей под высочайшим его императорского величества Государя императора покровительством Тамбовской ученой Архивной комиссии 54 (1911), 88.
Смерть государя. 1 марта 1881 года...
179
секретарь Е. А. Перетц видел, как «почти все плакали. Горе было неподдельное», Д. М. Сольский был «совершенно расстроен», граф А. В. Адлерберг — «совершенно удручен горем»64. Д. А. Милютин под «тяжелым впечатлением» от случившегося «не мог удержаться от слез»65. А. А. Ознобишин запомнил, что его отец, помещик Гродненской губернии, дочитав матери объявление о смерти императора, «выронил газету из рук, упал в кресло, и слезы покатились у него из глаз»66. В первые дни марта плакали в Исаакиевском соборе во время проповеди отца Янышева, в дворянском собрании «как ребенок рыдал старый Суворов»67.
Если не о слезах, то о сильнейшем потрясении писали и другие современники. Фрейлина А. А. Толстая была «подавлена, разбита, безутешна»68, бывшая камер-юнгфера А. И. Яковлева «находилась в почти бессознательном состоянии»69, в семье генерала Епанчина все были «страшно взволнованны и расстроены»70. М. А. Паткуль так описывала свою реакцию на известие о смерти государя: «меня точно обдало ледяной водой, я вся дрожала, зубы немилосердно начали щелкать один о другой; не быв в состоянии выговорить ни слова, я с каким-то тупоумием вытаращила на него [флигель-адъютанта барона Когена, который принес ей это известие] глаза»71.
Хирург Н. И. Пирогов под впечатлением известия о цареубийстве записал в дневнике 2 марта: «Пожалуй, задохнешься от наплыва взволнованных чувств и мыслей, если не дашь им вылиться на бумагу»72. Характеристика 1 марта как «ужасного», «страшного» события есть в дневниках сенатора Я. Г. Есипо-вича73, моряка М. М. Курбанова74, в воспоминаниях Ф. Г. Терен-
64 Дневник Е. А. Перетца, Государственного секретаря (1880—1883), М.; Л.: Гос. изд-во, 1927, 23.
65 Дневник Д. А Милютина. 1881 1882, М., Отдел рукописей Библиотеки им. Ленина, 1950, 29.
66 А. Ознобишин, Воспоминания члена IVГосударственной думы, Париж, 1927, 7.
67 Бобринский, «Воспоминания», 178.
68 А. Толстая, Записки фрейлины. Печальный эпизод из моей жизни при дворе, М.: Энциклопедия российских деревень, 1996, 137.
69 А. Яковлева, «Воспоминания камер-юнгферы», Исторический вестник 1-3 (1888), 605.
70 Н. Епанчин, «На службе трех императоров. Воспоминания», М.: Поли-графресурсы, 1996, 149.
71 М. Паткуль, «Воспоминания», Исторический вестник, 1902, сентябрь.
72 Н. Пирогов, Сочинения, т. 1, СПб., 1887, 39.
73 «Записки сенатора Есиповича», Русская старина 7 (1909), 35.
74 Курбанов М. М. Дневник 1878—1889 гг. ОР РНБ .Ф. 406 Курбанов М.М. On. 1. Д. 53. Л.ЗЗ.
180
Юлия Сафронова
ра75, Б. Н. Чичерина76. О цареубийстве как о «горестном» событии писали чиновник второго отделения собственной его императорского величества канцелярии П. М. Майков77, ученый-экономист И. И. Янжул78, престарелый генерал в отставке А. Я. Миркович79.
Описанная в дневниках и мемуарах реакция людей вполне укладывалась в рамки «эмоционального режима». Наблюдая за собой и за окружающими, они писали о «скорби», «горе» и «ужасе». Попытка найти в личных документах переживание «стыда», о котором говорили проповедники и писали журналисты, дает более скромный результат. «Позор, позор, вечный позор нам, Русскому народу!» — писал в «Дневнике» князь В. П. Мещерский. Следует, однако, помнить, что в данном случае мы имеем дело скорее с публицистом, чем с мемуаристом. В 1881 году, лишенный собственной газеты, он стал издавать ежемесячно свои дневники, в которых личные впечатления перемешивал с анализом прессы и набросками политических статей. Упоминание о переживании цареубийства как «позора» можно найти в письме К. П. Победоносцева Е. Ф. Тютчевой: «Бог наказал нас таким горем, таким позором! [...] Такой ужас во мне, что кажется, какой-то кошмар случился и как будто еще не верится»80. Еще одно свидетельство — запись в дневнике А. В. Богданович, жены генерала Е. В. Богдановича, хозяйки известного в Петербурге салона: «Такое страшное злодейство совершилось, что до сих пор не могу прийти в себя. Такой позор трудно перенести»81. Все три лица, в записях которых встречается упоминание стыда, по воззрениям своим принадлежали к консервативной партии.
Если большинство людей в марте 1881 года испытывали и выражали «скорбь», «ужас», «негодование», то были и такие, которые чувствовали радость и откровенно ее проявляли. Последнее относится прежде всего к представителям революционных кругов, а также к оппозиционно настроенной интеллигенции. Член Ис
75 Воспоминания жизни Ф.Г. Тернера, ч. 2, СПб.: Издание М. Г. и Э. Г. Тернер, 1911, 108.
76 Б. Чичерин, Воспоминания. Земство и Московская дума, М.: Кооперативное изд-во «Север», 1934, 116.
77 П. Майков, Второе отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии. 1826 1882. Исторический очерк, СПб.: Тип. И.Н. Скороходова, 1906, 508.
78 И. Янжул, Воспоминания о пережитом и виденном в 1864 1909 гг. Выл. 1, СПб.: Электро-Типография Н. Я. Стойковой, 1910, 164.
79 Миркович А. Я. Мои воспоминания. ОР РНБ. Ф.1000. Оп. 2. Д. 879. Л. 67.
80 «Первые недели царствования императора Александра III. Письма К. П. Победоносцева из Петербурга в Москву к Е. Ф. Тютчевой», Русский архив 5 (1907), 89.
81 А. Богданович, Три последних самодержца. Дневник, М., [1924] 1979, 55.
Смерть государя, i марта i88i года...
181
полнительного комитета «Народной воли» В. Н. Фигнер так описывала свое состояние 1 марта:
Я плакала, как и другие: тяжелый кошмар, на наших глазах давивший в течение десяти лет молодую Россию, был прерван; ужасы тюрьмы и ссылки, насилия и жестокости над сотнями и тысячами наших единомышленников, кровь наших мучеников — все искупала эта минута, эта пролитая нами царская кровь; тяжелое бремя снималось с наших плеч, реакция должна была кончиться, чтобы уступить место обновлению России82.
Брат С. Л. Перовской, В. Л. Перовский, в воспоминаниях писал о 1 марта: «радость в душе чувствовалась сильно»83.
Интересный эпизод описан в воспоминаниях Н. А. Виташев-ского, узнавшего о событии 1 марта в мценской тюрьме: «На “форуме” (так звали мы нашу столовую) собрались скоро все обитатели тюрьмы. Толком и разговорам не было конца [...]. В общем царило необычное оживление, и на лицах всех была написана радость»84. С большим размахом «отметили» смерть Александра II ссыльные города Киренска Иркутской губернии. По свидетельству местного исправника, они «в красных рубахах, пьянствовали, пели запрещенные песни и при выезде в ту же ночь врача [одного из участников «праздника». — Ю. С.] из города в округ, провожали его выстрелами из револьвера»85. О «злобной радости» жены одного из ссыльных писал В. Г. Короленко в полухудожественном-полубио-графическом произведении «История моего современника»86. С подобным же чувством встретили известие о гибели императора фрондирующие литераторы, собравшиеся в редакции журнала «Дело»: «Большинство литературной братии отдавалось, напротив [в отличие от Н. В. Шелгунова, который «был сдержан, но, очевидно, внутренне доволен». — Ю. С.], всецело чувству радости и строило самые радужные планы. Старик Плещеев и соредактор Николая
82 В. Фигнер, Запечатленный труд, в 2 т., М.: Мысль, 1964, т. I, 140.
83 В. Перовский, Воспоминания о сестре, М.; Л.: Госиздат, 1927, 98.
84 Н. Виташевский, «В мценской “гостинице”», Былое 4 (1907), 184. Следует отметить, что жители города были возмущены таким поведением арестантов, о чем свидетельствует анонимное письмо, полученное московским генерал-губернатором В. А Долгоруким; Б. Козьмин, «Мценская гостиница», Каторга и ссылка 24 (1926), 163—164.
85 Свод заслуживающих внимания сведений, полученных Департаментом государственной полиции, 11—17 мая 1881 г. ГАРФ. Ф. 102. 1881. 3 д-во. Оп. 77. Д. 695. Еженедельные своды заслуживающих внимания сведений, полученных Департаментом государственной полиции. Л. 3 об.
86 В. Короленко, История моего современника, в 4 т., Л., 1976, т. Ш—IV, 157.
182
Юлия Сафронова
Васильевича по «Делу» Станюкович особенно врезались мне своим оптимизмом в память»87. Именно об этих людях и их радости писал в 1910 году В. В. Розанов в статье «В русских потемках»: «остановимся на “сочувственниках”, не имевших никакой связи с реальной революцией [...] И все-таки “ликовали”... Люди такие добрые, беззлобные. Писавшие идиллические повести об идиллических маленьких людях [...] Вдруг этих добрых людей согрела эта человеческая кровь»88.
К этим воспоминаниям следует отнестись с некоторой долей осторожности: ни одно из них не было записано непосредственно после 1 марта 1881 года. Эти воспоминания — продукты эпохи своего издания, — революции 1905—1907 годов или, как воспоминания В. Н. Фигнер, — советского периода, когда революционеры представали в героическом свете, а протест против самодержавного государства должен был изображаться как всеобщий. Они показывают, как виделись эти переживания людьми, уверенными, что ив 1881 году смерть Александра II вызывала у них самих и всех окружавших их людей только «радость».
Кроме «нормативных эмоций», выраженных в адресах, прессе и большинстве личных документов, кроме «радости», которую чувствовали революционные и оппозиционные круги, свидетели эпохи зафиксировали «равнодушие» части общества. Сообщения о равнодушии людей, появившиеся в воспоминаниях современников, также требуют осторожности. Они показывают реакцию скорее тех авторов, которые оценили менее бурные (чем собственные) выражения эмоций как безразличие. Тем не менее нельзя пройти мимо этих свидетельств. Отправившийся 1 марта на прогулку генерал Винтмер засвидетельствовал удивившее его «равнодушие не только интеллигенции, в смысле приличного костюма, но и простого народа — извозчика, чуйки, чернорабочего. Везде улица имела обыкновенный праздничный вид, праздничный в том смысле, что народ теснился около кабаков [...]. Никакой горести, никакого массового проявления сожаления я, к удивлению, не заметил. Люди шли равнодушные, говорили о своих делах, о мелких интересах»89. В. А. Дмитриева услышала в толпе сожаление о том, что закроют театры90. В сельскохозяйственном клубе Е. М. Феоктистов увидел «странное зрелище»: «как будто не случилось ничего особенного, большая часть гостей сидели за карточными столами, по
87 Н. Русанов, «События 1 марта и Николаи Васильевич Шелгунов», 1 марта 1881 года..., 147.
88 В. Розанов, Загадки русской провокации. Статьи и очерки 1910 г. (под ред. А. Николюкина), М.: Республика, 2005, 347.
89 А. Витмер, Что видел, слышал, кого знал, СПб., [1914] 2005, 529.
90 В. Дмитриева, Так было (Путь моей жизни), М.; Л., 1930, 199.
Смерть государя. 1 марта 1881 года...
183
груженные в игру; обращался я и к тому, и к другому, мне отвечали наскоро и несколькими словами и затем опять: “два без козырей”, “три в червях” и тд.»91. Такое же равнодушие встретил в варшавском клубе Н. И. Кареев: «Я бросился в столовую, и был момент, когда я подумал, что швейцар [сообщивший об убийстве императора. — Ю. С.] сошел с ума [...]. За столиками, как водится, сидело человека по четыре с картами [...] На одном конце особенно длинного стола сидела небольшая компания [...] больше люди военные, пожилые [...], быть может, пропивали выигрыш, но меня на сей раз шампанское шокировало [...]. Спорили, но без всякого увлечения, в какой мундир оденут тело покойного и о том, от каких частей какое будет дежурство у гроба»92. О «ледяном равнодушии», с которым было встречено известие о смерти императора, писал в воспоминаниях актер А. И. Южин-Сумбатов93.
Для революционеров и откровенно фрондирующих интеллигентов выражение «радости» по поводу убийства императора было проявлением их в целом враждебного отношения к монархии, после уничтожения которой они хотели создать новое государство. Равнодушие, однако, было таким же нарушением «эмоционального режима», как и чувство «радости». Оно было знаком дестабилизации политической системы: чем больше было равнодушных, тем больше была пропасть непонимания, разделившая общество и власть.
Итак, обращение к концепции «эмоционального режима» У. Редди позволяет по-новому взглянуть на события марта 1881 года и на источники, которые эти события освещают. Общее критическое отношение к верноподданническим адресам как к исключительно формальному жанру, не свидетельствующему ни о действительных настроениях общества, ни о его эмоциях, может быть преодолено, если увидеть в текстах адресов эмотивы, способные влиять на эмоции тех, кто их составляет. Очевидно, что психологическая атмосфера чрезвычайных заседаний, на которых адреса составлялись, воздействие панихиды, речи председателя собрания, тех риторических приемов, с помощью которых подробности цареубийства освещались в прессе, — все это не могло не влиять на эмоциональное состояние представителей общества. Если принять во внимание, что адреса отправлялись сотнями, а в их составлении принимали участие тысячи человек (представите
91 Е. Феоктистов, За кулисами литературы и политики [1849—1896], М., 1991, 195.
92 И. Кареев, «1 марта 1881 г. и “варшавские россияне”», Былое 3 (1907), 281.
93 А. Южин-Сумбатов, Воспоминания. Записи. Статьи. Письма, М.; Л., 1941, 351.
184
Юлия Сафронова
ли городского и сельского самоуправления, земств, дворянства, чиновники различных ведомств, учителя, врачи), то можно говорить о том, что цареубийство 1 марта 1881 года вызвало стабилизацию «эмоционального режима» самодержавного государства. Эго в свою очередь свидетельствует о запасе прочности, который монархия все еще сохраняла. Интересно, что попытка ввести в список «нормативных эмоций» чувство «стыда», предпринятая журналистами и проповедниками, не была востребована властью. Вероятно, причина этого лежала в потенциальной опасности, которая содержалась в рассуждениях о вине и ответственности общества за событие 1 марта. Подобные рассуждения легко могли перейти, и нередко переходили, в полемику о том, кто виноват в апатичном состоянии общества. В таких спорах поднимался вопрос об ограничении самодержавия и введении конституции, чего, разумеется, власти желали избежать. Следует особо подчеркнуть, что за редким исключением представители общества также не называли «стыд» среди эмоций, которые ими испытывались в связи с убийством царя. Вероятно, они не хотели признавать свою ответственность за совершившееся цареубийство. Можно предположить, что такое отрицание вины было все же следствием оппозиционности общества по отношению к власти. Оппозиционности, которая нарастала на протяжении 70-х годов XIX века в связи с ужесточением политического режима. Неоднократно отмечавшееся современниками самоустранение «образованного общества» от конфликта между революционерами и самодержавием было следствием глубокого взаимного непонимания между властью и обществом.
Цареубийство 1 марта 1881 года, ставшее кульминацией политического кризиса рубежа 70—80-х годов XIX века, выявило всю неустойчивость самодержавия в России. С одной стороны, убийство императора и страх перед возможными революционными событиями заставили многих представителей общества, прежде фрондировавших, подтвердить свою преданность режиму, следствием чего стало массовое составление верноподданнических адресов. Власти удалось не только сохранить, но и укрепить «эмоциональный режим». С другой стороны, наличие не только небольшого числа явных противников режима, испытывавших и демонстрировавших радость по поводу цареубийства, но также и равнодушных, отказ испытывать чувство «стыда», а значит, и признать свою вину — все это свидетельствует о том, сколь хрупкой была стабильность и сколь глубоким взаимное непонимание власти и общества.
jsafronova@eu.spb.ru
РАЗДЕЛ III
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ FIN-DE-SIECLE
Алина Орлова
ЭМОЦИИ В ЯЗЫКЕ РУССКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КРИТИКИ
(1890-1910-е ГОДЫ)
Искусство не есть, как это говорят метафизики, проявление какой-то таинственной идеи красоты, Бога; не есть, как это говорят эстетики-физиологи, игра, в которой человек выпускает излишек накопившейся энергии; не есть проявление эмоции внешними знаками; не есть производство приятных предметов, главное — не есть наслаждение, а есть необходимое для жизни и для движения к благу отдельного человека и человечества средство общения людей, соединяющее их в одних и тех же чувствах.
Лев Толстой, «Что такое искусство?» (1897)
Выдвинутое Львом Толстым определение искусства как проводника «чувств», то есть в первую очередь эмоционального (а не рационального, «головного») содержания, — одна из многочисленных вариаций теории возбуждения, известной со времен Аристотеля и благополучно дожившей до наших дней1. Толстовская теория «заражения», развернутая в трактате «Что такое искусство?» (1897) в своих основных положениях, едва ли открыла читателям что-то ошеломительно новое. Оригинальной в ней была лишь мессианская телеология, перенаправившая характерные для XIX века социалистические симпатии в русло специфически толстовского представления о человеческом сообществе. Благодаря колоссальной известности и авторитету Толстого, его идеи, основанные на вполне традиционной модели искусства, вызвали живейший интерес.
Родственные между собой теории заражения и возбуждения выдвигают на первый план коммуникативный момент, передачу чувственного настроя художника публике. Они, таким образом,
1 См. защиту теории возбуждения от нападок «узкого когнитивизма» в: D. Matravers, Art and Emotion, Oxford: Clarendon, 1998, 4, а также гл. 2, 3 и 7.
188
Алина Орлова
определяют творческий процесс как двусторонний: художник находится на одной его стороне, публика — на другой. Художник «чувствует» и передает свои ощущения и настроения в стихотворении, картине или музыке, которые, в свою очередь, вызывают эмоциональный отклик в читателе, зрителе, слушателе. Отметим эту бинарную структуру; она позволяет выявить важное обстоятельство: тех, кто писал об искусстве в России на рубеже веков, больше интересовала первая часть схемы, нежели вторая. Такое подчеркивание значимости переработки чувств художника резко контрастирует с современной постановкой вопроса о воздействии искусства, чаще всего рассматриваемого в контексте цензуры и негативных влияний2.
В предлагаемой статье анализируются работы, хронологически предшествующие пристальному модернистскому интересу к процессу воздействия искусства на эмоциональное состояние зрителя. Мы сосредоточимся на том небольшом отрезке интеллектуальной истории России, когда кипели споры о творческом процессе как выражении внутреннего состояния души (психеи) художника. Мы хотели бы здесь описать дискуссию об искусстве и эмоциях, которая разворачивалась, так сказать, «в тени Толстого», и очертить ее проблематику. Нас будут интересовать статьи 1890—1913 годов, написанные малоизвестными критиками: Егором Амфитеатровым (1815—1888), Константином Эрбергом (1871—1942), Борисом Лезиным (1880—1942), Исааком Оршанским (1851 — ?) и Аполлоном Смирновым (1838—1902)3. Кроме того, будут привлекаться взгляды более известных западноевропейских авторов: Виктора Шербюлье (1829—1899), Пьера Прудона (1809—1865) и Габриэля Тарда (1843— 1904), переведенные на русский язык в середине 80—90-х годов XIX столетия. Предисловие к переводу Прудона написал А. П. Федоров, к переводу Тарда — Леонид Оболенский (1845—1906); оба русских критика сформулировали в этих заметках собственные воззрения, к анализу которых мы также обратимся. Эти ранние исследования эмоций не только послужили непосредственным контекстом (а нередко и контрастным фоном) для трактата Толстого, но и создали атмосферу, в которой появился манифест Василия Кандинского «О духовном в искусстве» (1911), статьи М. А. Кузмина «Де
2 В. Gaut, Art, Emotion and Ethics, Oxford: Oxford UP, 2007, 11 — 14. Автор справедливо считает, что вопрос о влиянии искусства на публику следует отнести к компетенции социологии и психологии.
3 Своеобразным «прологом» к «физиологическому» направлению в эстетике оказался труд В. Ф. Велямовича, Психо-физиологические основания эстетики. Сущность искусства, его социальное значение и отношение к науке и нравственности (Новый опыт философии искусств), ч. 1—2, СПб., 1878.
Эмоции в языке русской художественной критики...
189
кларация эмоционализма» и И. А. Ильина «Талант и творческое созерцание», а также их поздние эссе 20—30-х годов4.
Эти тексты понимаются нами как отражение риторических нюансов и сложного хода общей дискуссии, а кроме того, как воплощение одной часто недооцениваемой коллизии во взаимоотношениях романтического и реалистического направлений в конце XIX века. Мы намерены доказать существование тесных нарративных связей между философскими дисциплинами и социальными науками, связей, служивших платформой для выработки концепций художественной критики. Надеясь передать философскую насыщенность привлекаемого материала, мы распределяем его между «метафизическим» и «физиологическим» полюсами, заимствуя эти термины-вехи у Толстого. Наша цель — доказать, что центр тяжести переместился от одного полюса к другому, а именно от идеализма к материализму, и что это смещение повлияло на многие стороны философии искусства. В частности, возобладавший физиологический подход повлиял на теорию мимесиса, на культ художника-гения, на эстетические идеалы, на телеологию и на метод категоризации различных видов искусства.
«Метафизики» и «эстетики-физиологи»5
Русские теории искусства, в особенности искусства визуального и изобразительного, через посредство немецкой философии впитали оппозицию разума-тела, восходящую к картезианской традиции6. Человеческая душа мыслилась в ней как своего рода двусторонняя поверхность, поле взаимодействия внутреннего и внешнего миров. Тело испытывало физические «ощущения» или «чувства», они переводились во внутренние «эмоции», которые смешивались с прочими (также внутренними) составляющими
4 В. Кандинский, О духовном в искусстве, N.Y.: Inter-Language Associates, [1911] 1967; М. Кузмин, «Эмоциональность и фактура; Декларация эмоционализма», Id., Proza, in 12 vols., ed. V. Markov, Berkeley: Berkeley Slavic Specialties, 1984—2000. Статьи Ильина «Талант и творческое созерцание», «Художники и художественность», «Что такое художественность», «Искусство и вкус толпы» были недавно сведены в один сборник Одинокий художник: Статьи, речи, лекции, М.: Искусство, 1993.
5 См.: Л. Толстой, «Что такое искусство?», Полное собрание сочинений, в 90 т., М.: 1928 -1959; т. 30, М., 1951.
6 Памятники немецкой романтической философии продолжали публиковаться в России в течение всего XX в., но начали переводиться они еще в 20-е годы XIX в., см., напр., В. Вакенродер, Об искусстве и художниках. Размышления отшельника, любителя изящного, М., 1826.
190
Алина Орлова
души, в том числе с тем, что Декарт в трактате «О страстях души» (1649) называл «животными духами» и мыслями. Ученый полагал, что это смешение происходит в расположенной в мозгу шишковидной железе, и эта точка зрения, модифицируясь, стала исходной для нарождавшейся нейрофизиологии7. Человеческая тяга к прекрасному осмысливалась как одна из эмоций, возникающих при взаимодействии с внешним физическим миром. Включив в свою модель животные духи, Декарт прочно обеспечил божественному место в процессе познания. Романтическая философия Шиллера, Шопенгауэра и Ницше сохранит в человеческом сознании пространство для непостижимого («духа» или «души»), теснее всего связанного с эстетическим опытом. Современные подходы к эмоции в целом рассматривают ее как поле битвы надчеловеческих и биофизиологических сил.
В России возможность по-новому взглянуть на эмоции возникла в связи с превращением науки в основной тип исследования, чему весьма способствовало широкое распространение теории Дарвина во второй половине XIX века. Эстетика и художественная критика, как и другие области знания, стремились не только усовершенствовать собственные методы, но и поставить себе на службу открытия естественных и точных, а также нарождавшихся социальных наук. Намерение критики действовать единым фронтом с эмпирическими науками диктовалось желанием постичь эмоциональную составляющую художественного творчества. Забрезжила надежда на то, что наука вскоре овладеет тайной внутреннего мира художника, что отношение к красоте, традиционно рассматривавшееся как одна из функций «души» (в картезианском понимании), откроется нам на уровне молекул и социального поведения. Эта надежда восхищала одних и устрашала других, образуя центр возникавшей полемики. И те и другие (в том числе и негодовавшие по поводу вторжения науки на территорию «души») прибегали, однако, к детерминистской риторике. Они также подчинялись научным требованиям к манере изложения — опирались на достоверность данных, проверяли на прочность границы дедуктивной логики и подкрепляли свои утверждения результатами исследований и экспериментов. С уст буквально не сходило слово «прогресс», вектор которого направлялся по вертикали или по горизонтали, в зависимости от метафизического или материалистического подхода. С точки зрения Толстого, «прогресс» расширял границы сочувствия к страданиям других. Другие (как, например,
7 D. Summers, «Cogito embodied: Force and Counterforce in Rene Descartes’s Les passions de Гате», Representing the Passions: Histories, Bodies, Visions, ed. R. Meyers, Los Angeles: Getty Research Institute, 2003.
Эмоции в языке русской художественной критики...
191
Кандинский) под «прогрессом» понимали большую восприимчивость к духовным энергиям, вибрациям и аурам в живописи и музыке. Третьи рассматривали прогресс в терминах эволюции — как совершенствование видов. Для четвертых прогресс влек за собой движение социальных структур к разнообразию, от простого к сложному; это касалось и художественной деятельности. Преобладание позитивистской риторики в художественной критике можно считать симптомом того, что Даниэль Гросс недавно описал как характерное для современности жесткое подчинение гуманитарной сферы естественным наукам, объявляющим, что человеческие эмоции также входят в область их компетенции8.
Эмоции оказались чем-то вроде спорной территории, и русские теоретики искусства старались обосновать свое право на нее. В глазах метафизиков (в большей степени, чем критиков других направлений) «эстетическая эмоция» была последним оплотом священного, уделом, недоступным для позитивизма9. Егор Амфитеатров, профессор Московской духовной академии, в 1890 году писал о сфере эстетических эмоций, прямо сопоставляя ее со сферой божественного. Через двадцать лет Кандинский будет сходным образом утверждать, что искусство создается при помощи эмоций таинственным, находящимся вне нашего понимания путем10. Русский поэт-символист Константин Эрберг (псевдоним Константина Сюннерберга) в 1913 году настаивал на непостижимости таких художественных процессов, как «интуитивность» и «озарение». Согласно его теории, поэтическое вдохновение обладает большей социальной значимостью, чем наука, и существует вне сферы практического. Искусство и эмоции не подчиняются законам природы и остаются недоступными для научных методов11.
Художественные критики «физиологического» толка, напротив, пытались осмыслить эмоции в системе предсказуемых моделей. Вооружившись принципами эволюционной теории, они делали акцент на соматических аспектах эмоциональности. Так,
8 Гросс стремится вытеснить эмоции обратно в философский дискурс, полатая, что он лучше подходит для того, чтобы направлять эмоции, ибо «хорошо осознает и собственный тип доказательности, и другие ее типы», Gross, The Secret History of Emotions, Univ, of Chicago Press, 2006, 19.
9 Термины «эстетическое чувство» и «эстетическая эмоция» использованы в работах соответственно Оршанского и Оболенского. См.. И. Оршанский, Художественное творчество, М.: Тип. И. Н. Кушнерёв и К°., 1907, 100—112; Л. Оболенский, [Предисловие] «Сущность красоты», в: Г. Тард, Сущность искусства, СПб.: Изд. В. И. Губинского, 1895, 8.
10 Кандинский, О духовном в искусстве, 94.
11 К. Эрберг, Цель творчества. Опыты по теории творчества и эстетики, Пг.: Алконост, 21919, гл. V-VII.
192
Алина Орлова
Аполлон Смирнов, профессор философии, занимавшийся эмпирической психологией, в 1894 году объяснял, что, в силу общности биологического наследства людей и животных, красный цвет вызывает у них одинаковую реакцию на нервном и мышечном уровне. В природе этот цвет встречается редко и сигнализирует мозгу о чем-то новом или опасном. То, что мы ошибочно считаем «некоей внутренней эмоцией», есть на самом деле подчинение нашего тела определенным органическим законам. Смирнов, в сущности, пытался объявить эмоции чем-то второстепенным. Опираясь на теории Дарвина, Спенсера и Гельмгольца, он истолковывал наше влечение к красному цвету в искусстве как функцию биологических механизмов, которые нужны для отдаленных целей эволюции12.
Сходное желание систематизировать человеческие реакции на цвет позднее проявится у Кандинского, считавшего, как известно, что за определенными цветами и формами строго закреплены эмоциональные свойства. По схеме Кандинского, красный цвет несет архаические ассоциации с огнем и кровью, означая тепло, возбуждение, отвращение и боль. Но если чувство красоты детерминировано биологически, то и несходство вкусов должно быть детерминировано таким же образом. На этом настаивает и А. П. Федоров в упоминавшемся предисловии к труду Прудона об искусстве13. Эго же утверждение формулировалось и в терминах расовых различий. Алексей Ачкасов пытался описать эмоциональные способности разных народов и пришел к заключению, в частности, что семиты наделены большим эмоциональным потенциалом, а галлы способны лишь к номинальному «социальному оживлению»14.
Утверждение мимесиса
Эстетическая критика надеялась найти законы, связующие нас с красотой, переместив эмоции из «души» в «тело». Эта переориентация вылилась в обширную и по сей день не оконченную дискуссию о достоинствах экспрессивных и миметических теорий искусства. Первые восходили к Аристотелеву понятию катарсиса, возвышающего и очищающего опасные эмоции. Искусству при-
12 А. Смирнов, Эстетика как наука о прекрасном, Казань: Изд. бр. Башмаковых, 1894-1900, 8-11, 90-99, 191-204, 253-277.
13 А. Фёдоров, «Научные основания искусства», в: П. Ж. Прудон, Искусство, его основание и общественное назначение, СПб.: Тип. Дома призрения малолетних бедных, 1895.
14 А. Ачкасов, Психография, М.: Тип. «Рассвет», 1899, гл. III, «Художественная этнография: национальные типы».
Эмоции в языке русской художественной критики...
193
писывалась способность просветлять душу. Катарсическая ценность того или иного произведения зависела от того, насколько развиты эмоциональные способности художника. Под оригинальностью понималась степень «отфильтрованное™» реального мира, пропущенного художником через собственную душу. Французский романист и критик Виктор Шербюлье предложил вариацию этой теории, сравнив искусство со змеей без зубов. Страсти — сердце любого искусства, но они не могут ранить. Публика не ощущает эмоции в той их исходной силе, в какой они были пережиты художником. Шербюлье сравнивал искусство с бурей на море, которую мы наблюдаем с берега, находясь вне опасности13 * 15 (подобное разделение эмоций на «мнимые» и «подлинные» станет основным принципом когнитивного подхода к искусству16). Миметическая теория искусства, основанная на платоновском презрении к искусству как вещи лишь подражательной, превозносила рациональные способности художника. «Перевернув» негативное суждение Платона, эта теория постулировала, что дело художника — отбирать, сочетать и определять, при этом постоянно дистанцируясь от собственных эмоций. Профессор психиатрии Исаак Оршанский в 1907 году писал, что живопись и скульптура первичны (в его терминологии — «воспроизводительны»), ибо они более аналитичны, чем поэзия и песня (которые, в свою очередь, «выразительны»)17. Филолог Борис Лезин в 1911 году отмечал, что художники подобны ученым: они организуют хаотичный поток фактов в некую когерентную форму, двигаясь от общего к частному18. У истоков возрождения миметической теории (обязанного отчасти трудам Оршанского и Лезина) стоит взгляд на художника как на тело, чьи перцептивные возможности не безграничны. Желание художника «воспроизводить» не является ни упрощением, ни чем-то поверхностным, как считал Платон. Напротив, это желание лежит в русле величайшего эпистемологического вызова современности — компенсировать наше приблизительное и зачастую ошибочное видение физического мира. Будучи предприятием коллективным, искусство (как и наука) позволяет нам выйти за рамки субъективного и относительного восприятия.
13 В. Шербюлье, Искусство и природа. Новая теория изяшцых искусств, пер.
М. Калмыкова, СПб.: Г. А. Куковеров, 1894, 37, 40.
16 В когнитивном определении эмоции заложен обязательный элемент
веры: если человек не верит, что тигр в кино или в романе действительно опасен, то страх, им испытываемый, квалифицируется как «псевдо-эмоция».
17 Оршанский, Художественное творчество, 3—21.
18 Б. Лезин, «Художественное творчество как особый вид экономии мысли», Вопросы теории и психологии творчества, под ред. Лезина, Харьков, 1911.
194
Алина Орлова
Прилежный художник
Позитивистски ориентированная эстетическая философия иначе смотрит на участие эмоций в творчестве, сужая их диапазон до пределов, доступных рациональному различению. Дело творца — «организовывать» действительность, складывать ее фрагменты «в порядке». Развенчание романтического культа поэта-гения, начатое Белинским, чьи взгляды были развиты в 1850—1860-х годах Чернышевским и другими критиками, совпало с принижением роли эмоций в философии искусства. Художника уже не прославляют как существо, обладающее сверхчувствительностью в духе Шиллера, Гете, Эдгара По. Перед нами уже не вдохновенный, мгновенно отзывающийся на все творец, действующий на уровне подсознательного, иррационального и интуитивного. Зато расширяются иные его способности, в том числе упорство, сила воли, последовательность и прилежание.
Критики-метафизики не сомневались, что творческий процесс предполагает определенную эмоциональную дистанцию. Так, Шербюлье считал, что за исходным возбуждением обязательно должно следовать трезвое созерцание. Русские эстетики рубежа веков с неугасающим пылом развенчивали романтическую модель. Ачкасов, к примеру, отрицал, что крайняя эмоциональность является прерогативой художника, что «пылкость», «страстность» и «возбуждение» у него развиты больше, чем у других19. Как раз наоборот: настоящий «артист в силе» всегда собран, ровен и рассудителен. Лезин высказывался в том же духе, считая, что художнику следует не отдаваться во власть муз или воображения, но разумно распределять свои способности во времени, принимая взвешенные стратегические решения, тщательно следя за соотнесенностью частей, за композицией. Творец «создает вследствие соображения, а не воображения»20. Оршанский писал, что без уравновешенности и спокойствия не может быть подлинно великого искусства. Художнику не нужны ни исступление, ни экстаз; обязательным условием творчества эти вспышки стали с подачи людей менее талантливых, нарочито их культивировавших. В понимании Ачкасова, Лезина и Оршанского, творец обладает ясным сознанием, он осмотрителен, систематичен и несентиментален.
А. Смирнов также подвергает образ художника правке подобного рода, сосредотачиваясь на практической стороне дела. В духе Лезина он отстаивает, к примеру, мнение о том, что художнику
19 Ачкасов, Психография, 16.
20 Лезин, «Художественное творчество как особый вид экономии мысли», 222.
Эмоции в языке русской художественной критики...
195
следует как можно дольше — неделями, месяцами — не отвлекаться от творчества. Любые испытываемые им чувства преходящи и случайны. Куда важнее физические состояния — здоровье, сила. Утренняя прогулка может настроить композитора на создание великого похоронного марша, между тем как мимолетная грусть оставит его в бездействии. На прогулке художник переживает ритм и движения телесно, извлекает из них свои музыкальные идеи, так что состояние его тела следует считать важнейшим элементом творческого настроя. Музыкальное сочинение, конечно, может выражать грусть, но было бы ошибкой считать, что композитор, создавая его, обязательно находился во власти этой эмоции.
Объективная красота
Связав эстетическое чувство с сигналами мозга и ощущениями тела, можно было по-новому объяснить факт различий во вкусах разных людей или разных поколений. Каждого из нас влечет свое, но обусловлено ли это различиями в биологическом складе? Положительный ответ на этот вопрос утвердил бы понимание красоты как свойства индивидуального зрения, то есть вещи относительной и субъективной. Но критика не идет по этому пути. Она отстаивает концепцию поддающихся измерению стандартов, утверждая, что в нашем устройстве больше единообразия, чем вариативности. Перед эстетикой, таким образом, ставится двоякая задача: открыть законы и схемы, определяющие а) идеалы красоты и б) исторические колебания во вкусах. Предпринятая Кандинским в 1911 году попытка систематизировать эмоции, связанные с цветами и формами в живописи, могла бы довести этот поиск жестких правил до логического конца. Однако, не располагая весомыми доказательствами из области естественных наук, художественная критика могла лишь вновь и вновь настаивать на том, что ее действующим принципом является объективность. Для этого критики выдвигают такие привычные критерии красоты, как гармония, соразмерность, симметрия, пользуясь ими как временными заменителями более точных параметров, которые вот-вот выработает наука. Так, Оршанский апеллирует к заведомо расплывчатому определению: ценно то искусство, которое обращено «к высочайшим человеческим устремлениям». Прекрасное напоминает человеку об «истине, справедливости, силе и любви»21.
Смирнов же, перечислив классические критерии красоты (соразмерность, гармонию между частями целого), предложил более
21 Оршанский, Художественное творчество, 21—29.
196
Алина Орлова
новаторский взгляд, в основе которого лежат гибридные понятия, заимствованные из биологии и антропологии. Ход его рассуждений таков. Иногда мазок красной краски оказывается необходимым для картины. Эго происходит потому, что наш мозг, сформированный сотнями тысяч лет эволюции, умеет распознавать существующие в природе комбинации цветов. Поскольку красный цвет в естественной среде редок (в основном он встречается у пчел и птиц в период привлечения партнера), мы обязательно его замечаем. В примитивном и народном искусстве красный цвет и его оттенки в большом ходу; искусство более тонкое и развитое пользуется им весьма осмотрительно. Из этого наблюдения Смирнов выводит определение красоты как того, что стимулирует нервы, но легко и едва заметно, ибо чрезмерная их встряска неприятна.
Леонид Оболенский (настоящее имя — М. Красов), издатель «толстого» журнала «Русское богатство» (1883—1891) и убежденный почитатель Толстого, в 1895 году также писал о том, что хорошее искусство возбуждает наши нервы лишь до определенной степени. Если стимуляция недостаточна или избыточна (например, вызвана назойливым повторением), эффект распыляется или становится обратным. Мы утомляемся или раздражаемся. В поисках золотой середины Оболенский предлагает художнику создавать контекст, в котором шок от нового не был бы так ощутим, работать для «приготовления новизны»22. В целом, сторонники научно ориентированной эстетики полагали, что наши отношения с красотой поддаются четкой концептуализации, ибо коренятся в физиологии человека и прочно закреплены в ней эволюцией.
Телеология искусства
Ставя перед искусством высокую задачу «осуществления братского единения людей», Толстой неизбежно вступал в полемику со множеством иных телеологий23. Так, он нападает на «метафизиков» (в частности, Канта и Гегеля), видевших в искусстве путь духовной и нравственной свободы отдельной личности. Он также недоволен Шопенгауэром, который считал искусство утешением в несчастьях и способом выйти за рамки узкой и мелочной повседневности. Высмеивая «эстетиков-физиологов», сводивших искусство к физической игре, он имеет в виду прежде всего Герберта Спенсера с его верой в то, что законы природы могут объяснить любую человеческую деятельность. Толстой оспаривает и концепцию Гете, соглас
22 Оболенский, [Предисловие] «Сущность красоты», 15.
23 Толстой, «Что такое искусство?», 125—130.
Эмоции в языке русской художественной критики...
197
но которой при помощи искусства художник может выразить свой внутренний мир, свое воображение. Считая, что философия искусства не должна предусматривать подобные частные цели, он, однако, не солидаризовался с принципом «искусство для искусства» и отождествлял его с «производством приятных предметов».
Русские современники Толстого также отстаивали телеологич-ность искусства, хотя и расходились в понимании специфики его задач. По мнению Амфитеатрова, искусство есть цивилизующая сила. Цитируя Гоголя, он пишет, что, не будь искусства, человечество скатилось бы обратно в бессмысленную, примитивную дикость, подобную царившей в описанной Гомером пещере циклопа Полифема. Однако искусство нельзя привязать к каким бы то ни было посторонним материальным целям, утверждает Амфитеатров, оспаривая ультраугилитарную философию Чернышевского. В то же время он до некоторой степени соглашается с так называемой теорией самоцельности (т.е. искусства как самоцели) американского психолога Джеймса Болдуина (1861—1934), поскольку она помогает в борьбе против нигилизма, приравнивающего искусство к предметам повседневного обихода. Амфитеатров подчеркивает: если на ранних стадиях искусство и подразумевало некую прагматическую социальную функциональность, то в ходе духовного развития человека она исчезла. К примеру, татуировки и яркие узоры некогда могли быть знаком готовности к половому акту, но со временем стали подчеркивать связь индивида с обществом. Цивилизующие силы довершили вытеснение искусства из сферы труда и технологий. Мы безоговорочно признаем за искусством право отрываться от его утилитарных корней, когда отводим ему отдельные пространства современных музеев24.
И все же дискуссия о телеологии развивалась во многом в рамках детерминистского подхода: «искусство — сила, движущая человечество вперед». Так, Оршанский, не отрицая склонности искусства к бесполезности, полагал, что оно укрепляет благороднейшие общественные устремления. Как и Амфитеатров, он ссылается на сведения из исторической антропологии, напоминая о том, что в древности поэзия и песня вели солдат на борьбу и прославляли плодородие. По его мнению, эта цель все еще актуальна для искусства; ему по-прежнему необходимо руководить нами в нравственном отношении, напоминая о том, что такое «добро, свет, развитие»25. Оршанский сходится с Амфитеатровым в признании «самоцельности» искусства, коль скоро оно сопротивляется грубо- * 23
24 Е. Амфитеатров, Исторический очерк учений о красоте и искусстве, Харьков: Изд. академ, чтений Амфитеатрова, 1890.
23 Оршанский, Художественное творчество, 20
198
Алина Орлова
му утилитаризму. В конечном же счете искусство служит «материализации движений человеческой души» и увековечивает гуманистические идеалы.
В 1895 году в России был переведен трактат Прудона «Искусство, его основания и общественное предназначение» (1865). Взгляды французского философа хорошо вписались в социалистическую колею разбираемой дискуссии. По мысли Прудона, искусство помогает политическому освобождению, проясняя национальный характер разных народов и объединяя их в исполненном смысла общем деле. Переводчик Прудона А. П. Федоров осовременил его социалистический императив, вписав его в более широкие дарвинистские рамки. Федоров писал, что искусство — это род социальной деятельности, которая, пусть непрямым образом, содействует ходу эволюции видов. Политическая функция, которую признавал за искусством Прудон, при таком подходе оказывается служебной по отношению к более фундаментальной цели.
Категоризация искусств
Позитивистская ориентация новой эстетики перекликалась со сдвигами в иерархии разных видов искусства. Оршанский, ставивший идеи выше чувств, отводил первое место живописи, архитектуре и скульптуре. Их главенство основывается на их репрезентативной модальности, вследствие чего они вовлекают большую часть души, поднимаются над физиологическим уровнем удовольствия, воплощают и передают сознательное мышление. Подкрепляя свои доводы нейробиологической связью между разными участками мозга и моторикой рук, Оршанский доказывал, что художники, скульпторы и строители, работая руками, упражняют волю и интеллект. В лирических же искусствах исходным инструментом является голос. Пение и поэзия соотнесены с субъективными чувствами, узаконивают ощущения и поэтому стоят ниже изобразительных искусств. Исключение составляет инструментальная музыка. Ее исполняют руками, она требует более сложной оркестровки, чем вокальная, и таким образом стоит ближе к пластическим искусствам. Классификация Оршанского вытекает из его взглядов на историю искусства: оно, с его точки зрения, шло от простого к сложному параллельно с эволюцией познания. Выходит следующая траектория: от физиологического к психологическому, затем к подражательному, иконическому, умственному и, наконец, мыслительному.
Конечный эстетический опыт для Оршанского целостен и всеобъемлющ, он влечет за собой и телесные ощущения, и умствен
Эмоции в языке русской художественной критики...
199
ные движения; кроме того, он открыт большим сообществам людей. Живопись и другие пластические искусства несут идеи и то, что Оршанский именует «общечеловеческими чувствами», которые длятся и после того, как окончился творческий процесс, и могут быть восприняты и разделены публикой, не входящей в круг друзей и знакомых автора26. Изобразительные искусства максимально расширяют возможность соприкоснуться с прекрасным, что художник совершает активным, а зритель — пассивным образом. Они обращаются к человечеству вообще. К тому же для них необходим зритель, а стихотворение, песня или танец могут быть исполнены «для себя». Кроме того, подчеркивает Оршанский, полотно существует еще долгое время после того, как художник, закончив работу, отошел от него. Песня же не живет отдельно от исполнителя, и это ограничивает силу ее воздействия. Певец есть воплощение своего искусства: он одновременно и инструмент, и продукт; стоит ему умолкнуть, как произведение искусства перестает существовать. (Критик, конечно, не мог предвидеть возможностей, возникших с рождением звукозаписи, а «бумажные» фиксации поэзии и песнопений он не рассматривал.) Иными словами, Оршанский обосновывает превосходство изобразительных искусств тем, что они развивались в тесной связи с эволюцией познавательных способностей человека и что потенциал их социального влияния намного значительней.
Смирнов оспаривает классификацию Оршанского, сглаживая заложенную в ней оппозицию «разум versus тело». Он полагает, что волнение, свойственное эстетическому опыту, имеет мышечную основу. Смирнов призывал эстетику встать под знамена физиологии, чтобы понять, каким образом нейроимпульсы преобразуются в эмоции, в то, что мы называем «душевными движениями». Эмоциональный аспект искусства неотъемлем от непознаваемого, утверждал критик. Аналитическое мышление — отнюдь не венец развития человеческой психологии, пусть даже ранняя стадия развития искусства в данном отношении показательна. Согласно исторической схеме Смирнова, декламация открыла дорогу поэзии, та развилась в песню, из которой родилась инструментальная музыка. Ни на одном из этих этапов эмоциональность не востребована. Всякое великое искусство, отмечает Смирнов, имеет в виду прежде всего чувство — нежность, любовь, пылкость, ликование или любое другое. Эти эмоции отличны от повседневных, от страстей, радостей или скорбей обыденной жизни. Эстетические эмоции обогащены конденсированной историей общечеловеческого опыта, который наследуется, подобно генетическому материалу.
26 Оршанский, Художественное творчество, 9.
200
Алина Орлова
Мы сопереживаем трагедии, даже бесконечно далекой от окружающей нас действительности, поскольку она несет в себе пафос, пережитый нашими предками. По этой же причине младенец засыпает под определенную мелодию: он слышит ее впервые, но врожденным образом схватывает ее эмоциональный смысл. Таким образом, в своем понимании ценностной иерархии искусств (лирическое начало сильнее изобразительного) Смирнов прямо противоположен Оршанскому.
В отличие от Толстого, критики его поколения не сводили эмоции к чисто соматической функции, а кроме того, серьезно расходились в вопросе о применимости научных методов к теории искусства. Последовательно минимизировал эмоции в искусстве Б. Лезин: вместо бурных, опасных чувств (в терминологии В. Шер-бюлье, «буря на море», «яд змеи») он оперировал куда более нейтральным понятием «интуитивной познавательности». Художник, утверждал Лезин, при помощи своей незаурядной чувствительности должен непрерывно впитывать подробности жизни и только потом обрабатывать их для публики. Однако позиция Лезина, при всей ее заостренности, лишь переводит эмоциональность художника на уровень восприимчивости. Это мнение разделяли и другие критики-«физиологи»: не сбрасывая со счетов роль эмоций в творческом процессе, они облекали их в иную форму.
Как мы стремились показать в данной статье, это переформатирование имеет отношение к разным аспектам эстетических и художественных теорий. Во-первых, на непродолжительное время миметические теории искусства берут верх над экспрессивистски-ми. Во-вторых, ниспровергается представление о художнике как вдохновенном гении. Теперь считается, что он проверяет свои чувственные наблюдения и эмоции на идеях и фактах и представляет их комбинацию аналитическими средствами. Он собран, методичен, а его работа сравнима с научным исследованием. В-третьих, эмоции соотносятся с биологией вообще так же, как и входящие в одну с ними категорию эстетические чувства. Как следствие, наши идеалы прекрасного оказываются подвижными и поверхностными. Они различны у разных людей, поколений, рас. В-четвертых, искусство, рассмотренное сквозь призму естественных наук, участвует в биологических и социальных процессах, и его телеология определяется в связи с ними. Апелляция к «искусству для искусства» нужна для того, чтобы оторвать искусство от политических, религиозных и моральных целей, ранее перед ним ставившихся, однако она не дает искусству внятного разумного объяснения. Наконец, пересматривается иерархия разных видов искусства: на высшую ступень поднимается тот вид, который требует интеллекта и более высокого уровня аранжировки.
Эмоции в языке русской художественной критики...
201
Критики-«метафизики» (Амфитеатров, Шербюлье, Эрберг) защищают поле эмоций от вторжения науки, оставляя его границы размытыми, подчеркивая его непостижимость и отдавая ему предпочтение перед интеллектом в творческом процессе. Амфитеатров пишет, что гармония в произведении искусства возбуждает в нас некое одобрительное суждение, но он не уточняет, где заканчивается эмоция и начинается рациональное мышление. Эрберг отождествляет эмоции с иррациональностью и интуицией, ссылаясь на тезис Пуанкаре о том, что логика доказывает рожденное интуицией. Напротив, критики-«физиологи» (Смирнов, Тард, Оболенский, Прудон, Федоров, Ачкасов, Оршанский, Лезин) особое внимание уделяют тому, каким образом эмоции сращиваются с интеллектом. Для них несомненно, что со временем при помощи психологии, биологии, социологии и других наук этот внутренний механизм станет для нас яснее. Пока же их модели эмоций остаются зыбкими и экспериментальными. И лишь на лексическом уровне обнаруживается значительная пестрота: термины типа «эстетические эмоции» соседствуют с «возбуждением», «чувством», «чувствованием», «страстью», «страстностью», «ощущением». Как мы попытались показать, полемика об эмоциях в России на рубеже XIX—XX веков обнаружила многосторонний характер проблематики эмоций и выдвинула ее на передний план теорий искусства и эстетики.
alinaorlov@hotmail.com
Марк Стейнберг
МЕЛАНХОЛИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: ДИСКУРС О СОЦИАЛЬНЫХ ЭМОЦИЯХ МЕЖДУ ДВУМЯ РЕВОЛЮЦИЯМИ1
Тошнота открывает наготу бытия.
Эммануэль Левинас, «О бегстве», 1935
Концептуальные подходы: общественные настроения, время и существование, современная меланхолия
В годы неуверенности и растерянности после революции 1905 года городская жизнь в России была насыщена тревожным дискурсом об эмоциях. Особенно горячо обсуждалось так называемое «общественное настроение». И это были не просто разговоры о настроениях в обществе. Интерес к общественному настроению охватил всё общество и стал важной гранью самого общественного чувства. Общество анализировало свое настроение (прежде всего в периодической печати) и определяло его социальные причины и следствия. Хотя эти повсеместные тогда дебаты об эмоциях в обществе еще мало изучены историками, они определяли общественный и политический климат в России эпохи fin-de-siecle2. Бурные дискуссии на тему «общественного настроения» затронули все слои общества и в разных идеологических лагерях: авторы интеллектуальных «толстых журналов», многотиражных листков и журналов, бульварные беллетристы и утонченные поэты Серебряного века, социалисты, либералы и консерваторы, светские и религиозные писатели — все разделяли озабоченность настроениями эпохи и считали главной болезнью времени повышенную эмоциональность. При этом они часто
1 Ранняя версия текста опубликована по-английски: «Melancholy and Modernity: Emotions and Social Life in Russia between the Revolutions», Journal of Social History 41:4 (2008).
2 Я использую выражение fm-de-siecle как исторический термин, указывающий на окончание эпохи и ощущение приближающегося конца, а не в буквальном значении «конца века».
Меланхолия Нового времени: дискурс о социальных эмоциях... 203
пользовались сходным языком и образами и приходили к одним и тем же выводам. Российская общественность, возможно, была менее разобщенной, чем это обычно полагают историки (и полагали современники). По крайней мере, разнообразные общественные группы были в равной степени озабочены тревожным ощущением, характерным для эпохи, и связывали это настроение с такими насущными проблемами, как время, прогресс, «модер-ность» (современность, modemile) и современный кризис России. Различия заключались в приводимых аргументах о причинах этого кризиса и в предложенных решениях.
С теоретической точки зрения я соглашаюсь с исследователями, которые подчеркивают социальное конструирование эмоций, определяют местонахождение эмоций не просто в теле, но во времени и пространстве, рассматривая эмоции как часть сложного социального процесса, и не как имманентные, а как изменяющиеся в истории. Конечно, чувства всегда отчасти телесны. У душевных переживаний, несомненно, есть и аспекты физические, ней-робиологические. Но, на мой взгляд, исследования, в которых делается главный упор на телесный, пред-личностный, бессознательный и неречевой аспект чувства (методология, которая перекликается с преобладающим нейропсихологическим подходом в медицине3), весьма проблематичны. Для интерпретации чувств как субъективных переживаний и практик белее плодотворно изучать взаимодействие и переплетение чувств и культуры, языка, истории, общества, власти (в широком ее фукоистском понимании). В наиболее убедительных работах по феноменологии эмоций последних лет (и шире — в работах, в которых речь идет о политическом, социальном и физическом формировании «субъектов») отсутствует антиномия познавательного мышления и телесного чувства, или души и тела, или внутреннего «я» и общественного «я». Однако необходимо придать как можно больше веса социальному компоненту. В наиболее убедительных и ценных, на мой взгляд, работах среди быстро растущей литературы об аффектах, эмоциях и чувствах в различных дисциплинах (особенно в литературоведении, антропологии, истории, философии, в так называемой «критической теории») эмоции и дискурс об эмоциях представлены как часть переплетенных структур опыта и практики, которые сами создаются в точке пересечения телесных ощущений индивидуума, общества, власти, культуры, истории и чувства в качестве глубокого «осмысления сложностей» (inter
3 См., напр., В. Massumi, Parables for the Virtual, Durham: Duke UP, 2002, J. Thrailkill, Affecting Fictions: Mind, Body, and Emotion in American Literary Realism, Cambridge, Mass.: Harvard UP, 2007.
204
Марк Стейнберг
pretations of predicaments), по терминологии филолога и литературоведа Сиэнн Нгай4.
В своей статье я рассмотрю, в частности, центральную роль времени в процессе модернизации России. Время давно уже стало решающей проблемой в определении эпохи модерна, и не только в России, и в толковании и восприятии разных концепций «модер-ности». В XIX и XX веках картезианско-ньютоновская убежденность в абсолютности, истинности и математической измеримости пошатнулась и уступила место новым представлениям о времени как об относительном, изменчивом, неопределенном и субъективном5. В России дискурс об эмоциях в обществе часто был попыткой понять данное, конкретное время и место («наше время», «современность») и оценить возможности прогрессивного развития России, а также касался самого понятия времени в условиях современности. Так, двусмысленное, неопределенное слово «современность», бытовавшее в начале XX века, означало не просто «нынешний момент» (по определению словаря Ушакова, «относящееся к настоящему времени, к текущему моменту»), но и определенное Новое время, modemite.
И это было совершенно определенно эмоциональное время: Россия переживала, по выражению одного журналиста, небывалую «эпоху настроений»6. В годы между двумя революциями наблюдатели постоянно выявляли общественные настроения, бесконечно писали об исключительной важности «настроения», «субъективных и инстинктивных» чувств, «психологических переживаний» и «мироощущения»7, полагая, что важнейшие истины о мире и обществе можно найти в сфере чувств, и признавая в эмоциональности одну
4 Language and the Politics of Emotion, ed. C. Lutz, L. Abu-Lughod, Cambridge UP, 1990; J. Butler, The Psychic Life of Power: Theories in Subjection, Stanford UP, 1997; W. Reddy, The Navigation of Feeling;, B. Rosenwein «Worrying about Emotions in History»; Id., Emotional Communities in the Early Middle Ages, Ithaca: Cornell UP, 2006; S. Ahmed, The Cultural Politics of Emotions, N.Y.: Routledge, 2004; S. Ngai, Ugly Feelings, Cambridge, Mass.: Harvard UP, 2005; D. Gross, The Secret History of Emotion, Univ, of Chicago Press, 2007.
5 S. Guerlac, Thinking in Time: An Lntroduction to Henri Bergson, Ithaca, NY: Cornell UP, 2006, 1 (Бергсон оказал огромное влияние на русскую мысль начала 1900-х гг.); S. Kern, The Culture of Time and Space, 1880—1918, Cambridge, Mass.: Harvard UP, 1983; R. Koselleck, Futures Past: On the Semantics of Historical Time, Cambridge, Mass.; Harvard UP, 1985; Id., The Practice of Conceptual History: Timing History, Spacing Concepts, Stanford UP, 2002.
6 Моловер, «Эпоха настроений», Весна 6, 10 февраля 1908 г., 44.
7 См. Петербургский листок, 3 октября 1905 г.; Н. Михайлович, «Политика и эротика», Свободные мысли 21, 8 октября 1907 г., 1; Записки Санкт-Петербургского религиозно-философского общества 1 (1908), 2; «Современность и думы», Церковный вестник 31, 1 августа 1913 г., 946.
Меланхолия Нового времени: дискурс о социальных эмоциях... 205
из определяющих черт современной эпохи. Люди модерна беспрестанно искали смысл «чувствований», «влечений, страстей, ощущений, настроений»8. Всё «современное творчество», от высокоинтеллектуального до общедоступного, решительно повернулось к «интуитивному восприятию», «инстинкту», «субъективизму» и «психологизму»9. Религиозное и духовное возрождение в России связывалось уже не с догматикой и верой, а скорее с «инстинктами», «эстетико-психологическими» устремлениями, «голосом непосредственного чувства» и «настроенностью»10. Эго был не только век чувств ради чувств, но и эпоха свободы чувств от оценочных суждений. Это «настроение» было не просто «внутренним психическим состоянием» (Ушаков), не зависимым от социального процесса. Напротив, основным «настроением» той эпохи было напряженное «осмысление сложностей» (interpretation of predicaments), в особенности сложностей жизни в данное время и в данном месте и сложностей жизни в «новое время» (т.е. в обоих значениях слова ‘современность’, столь привлекавшего именно своей двусмысленностью и неопределенностью).
Как и сама жизнь в эпоху модерна, эти направления мысли и чувства были раздробленными и разноречивыми, от экстатического наслаждения11 и радостной веры (включая религиозные, политические и другие формы верований) до мрачной депрессии и губительного отчаяния. Но в этой гамме переживаний все более преобладала густая масса темных чувств, отчего настоящее вызывало смятение, а будущее ожидалось с тревогой. Конечно, многие современники думали или чувствовали иначе. Русский fin-de-siecle был и эпохой веселья, удовольствия, надежды, радостного осознания новых возможностей. История слишком сложна, чтобы какое-либо «эмоциональное сообщество»12 могло быть охарактеризовано ка
8 Б. Шапошников, «Футуризм и театр», Маски 7—8 (1912—1913), 29- 30; Л. Гуревич, «Литература нашего времени», Новый журнал для всех 3 (1909), 100, 102.
9 В. Марков, «Принципы нового искусства», Союз молодежи 1 (1912), 6, 10; 2 (1912), 5—6; С. Маковский, «Женские портреты современных русских художников», Аполлон 5 (1910), 11, 12, 15; Жизнь для всех 3 (1910), 135—137.
10 «Блудный сын», Церковный вестник, № 22, 29 мая 1914 г., 652; Записки Санкт-Петербургского религиозно-философского общества 1 (1908), 6; С. Аскольдов, «О старом и новом религиозном сознании», Записки Санкт-Петербургского религиозно-философского общества 1 (1908): встреча 3 октября 1907 г. «Религиозность и самоубийство молодежи», см. также: Sacred Stories: Religion and Spirituality in Modern Russia, ed. M. Steinberg, H. Coleman, Bloomington: Indiana UP, 2007.
11 Cm. L. McReynolds, Russia at Play: Leisure Activities at the End of the Tsarist Era, Ithaca, NY: Cornell UP, 2003.
12 Термин из Rosenwein, Emotional Communities in the Early Middle Ages.
206
Марк Стейнберг
ким-то однообразным и однородным «ландшафтом» чувств. В своей статье я сосредоточусь на темных чувствах потому, что они занимали все более господствующее положение в публичной сфере, определяя язык, на котором современники истолковывали свою эпоху.
Эту мрачную настроенность я называю современной общественной меланхолией (modem social melancholy). Современники явно не нашли слова, точно передающего их сильные и зачастую беспорядочные чувства. Их оценка современного существования и настроения, как я покажу в статье, основывалась на смешанных, часто неопределенных, но эмоционально сильных категориях: разочарование, тоска, печаль, уныние, отчаяние, грусть, скорбь, страдание, пессимизм и т.д. Лишь изредка мы слышим слово «меланхолия», хотя, конечно, оно существовало и даже пользовалось популярностью у образованных людей XIX века13. Несмотря на его архаичность, слово «меланхолия» вполне подходит для нашего исследования. Более того, в ту эпоху часто цитировались определения меланхолии, уже много веков бывшие в ходу в европейской науке и культуре (с античности, когда эта болезнь была впервые обнаружена и названа, в эпоху Возрождения, во времена Реформации и, наконец, до романтизма, когда новый интерес к самоанализу снова привлек внимание к этой болезни). В XVI веке меланхолия стала предметом знаменитых трактатов английских авторов Тимоти Брайта и Роберта Бертона, описывавших ее в терминах «уныния», «опустошенности» и «страха»14. Позднее психоаналитики подчеркивали симптомы тревоги и безысходности в восприятии настоящего и будущего. Нередко время само было одним из мрачнейших спутников меланхолии. Меланхолия была травматическим ощущением: человек чувствовал себя потерянным во времени, ему казалось, что он оставлен на произвол судьбы и не имеет твердой почвы под ногами. Эти мучительные ощущения сходны с так называемыми «безобразными/уродливыми чувствами» (ugly feelings, термин Сиэнн Нгай), которые, по ее мнению, часто являются неоднозначным результатом (ибо им можно не поддаваться и можно их покорно принимать) «задержанной воли» (obstructed agency). Это состояние характерно для России эпохи самодержавия и капитализма15
13 И. Виницкий, «Утехи меланхолии», Ученые записки Московского культурологического лицея № 1310, Серия: Филология, 2 (1997), 107—289.
14 The Nature of Melancholy: From Aristotle to Kristeva, ed. J. Radden, N.Y.: Oxford UP, 2000; R. Klibansky, E. Panofsky, F. Saxl, Saturn and Melancholy: Studies in the History of Natural Philosophy, Religion, and Art, N.Y.: Basic Books, 1964; S. Jackson, Melancholy and Depression: From Hippocratic Times to Modem Times, New Haven, Conn.: Yale UP, 1986; H. Ferguson, Melancholy and the Critique of Modernity: Soren Kierkegaard's Religious Psychology, London: Taylor, Francis, 1995, ch. 1.
15 Ngai, Ugly Feelings (особенно предисловие).
Меланхолия Нового времени: дискурс о социальных эмоциях... 207
История меланхолии как понятия отозвалась в русской меланхолии начала XX века, но с некоторыми важными различиями. В традиционных определениях меланхолии подчеркивается беспочвенность негативных чувств: говорится о «беспричинной печали», чрезмерной подавленности, «не оправданной обстоятельствами»16. Причину искали внутри человека, сначала в нарушении равновесия физических «гуморов» (сегодня наиболее распространен диагноз «депрессия», которая считается нейробиологическим заболеванием), позднее — в душе или в психике человека. Иными словами, классическая меланхолия была болезнью индивидуальных, а не общественных организмов, подобно депрессии, которая возникает внутри человека и обращена вовнутрь. Но меланхолия начала XIX века в России (но и в других частях мира) перевернула эти представления. Это была сугубо общественная и экзистенциальная меланхолия. Она проявлялась особенно в общественной сфере, в публичном дискурсе (личные настроения вызывали куда меньший интерес, чем «общественное настроение»). Причины ее усматривались преимущественно в социальных условиях, и ее постоянно использовали для интерпретации общества, культуры и времени. Это была меланхолия, выраставшая не столько из расстроенного ума, сколько из расстроенного мира, не столько из личной утраты и скорби, сколько из совместного опыта, и не столько переживалась лично, сколько выражалась публично17.
Русская общественная меланхолия была разновидностью более широкого явления «новой» (т.е. «модерновой») меланхолии. И опять главным фактором было время. Питер Фрицше описал «меланхолию истории» в Европе накануне Французской революции: она определялась чувствами потерянности и крушения, ощущением необратимой утраты прошлого, усугублявшейся утратой эпистемологической уверенности в настоящем. Образованные и чуткие европейцы, как Шатобриан, чувствовали себя «чужими» и «изгнанниками» в этом странном, «новом времени», где они блуждали среди «бесформенных руин». В XIX веке это новое ощущение ужаса, по мнению госпожи де Сталь, стало «болезнью целого континента»18. В России XIX века такие романтические поэты, как Жуковский, предавались задумчивой меланхолии о больном и слабом мире, полном утрат19. Постепенно взрослея вместе с веком, многие
16 The Nature of Melancholy, 10—12.
17 См. также Е. Gidal, «Civic Melancholy: English Gloom and French Enlightenment», Eighteenth-Century Studies 37:1 (2003), 26; W. Lepenies, Melancholic und Gesellschaft, Fr.a.M.: Suhrkamp, 1969.
18 P. Fritzsche, Stranded in the Present: Modern Time and the Melancholy of History, Cambridge, Mass.: Harvard UP, 2004, 8, 30, 45, 47, 75, 90.
19 Виницкий, «Утехи меланхолии», 165—168 (и далее).
208
Марк Стейнберг
мыслящие люди стали воспринимать современное историческое время с разочарованием и ужасом20.
Этот страх времени граничил с «травмой» — опытом, часто катастрофическим, подавляющим способность понимать и справляться с ситуацией, ведущим к чувству беспомощности и отчаяния. Роберт Пиппин утверждает, что в высокой культуре преобладающее настроение европейского XIX века окрашено смертью, утратой, скорбью и меланхолией, «эдиповым восприятием “модер-ности” как травмы»21. Знаменитый афоризм Ницше «Бог умер» можно истолковать как отражение этого нового опыта травмирующих утрат. Позднее Фрейд, исследуя современную меланхолию, постулирует центральную роль утраты — осадок неизжитой скорби по утраченным объектам любви в развивающемся субъекте. Он признавал, что причиной скорби может быть не только личное горе (прежде всего «потеря любимого человека»), но и «утрата некой абстрактной ценности, скажем, страны, свободы, идеала и т.д.»22 Развивая эти идеи Фрейда, Юлия Кристева описала возникновение меланхолии из травматического «уничтожения символических ценностей», из потрясения значений и обозначений, которые часто сопутствуют эпохам глубокого «кризиса»23. В России, особенно в эпоху приближающихся концов и неопределенных начал между двумя революциями, в эпоху разобщения и беспочвенности времени многие люди чувствовали, что живут среди руин и обломков24 и блуждают в расколотом времени.
Для этого опыта переживания современности характерно ощущение пребывания в аду времени, из которого нет выхода. В «Веселой науке» (1882) Ницше говорил о «демоне», который подкрадывается к человеку в одиночестве, чтобы жестоко напомнить, что жизнь постоянно повторяется, что «в ней никогда не будет ничего нового». Позже Беньямин описал временный характер современной жизни как мифическую маску, «страшную фантасмагорию», обманчиво сулящую постоянную новизну и прогресс, тогда как на самом деле «лицо мира никогда не меняется... новейшее остается во всех отношениях неизменным». Он утверждал,
20 См., напр., Н. К. Михайловский «Что такое прогресс», 1870.
21 С примерами из Гёльдерлина, Стендаля, Достоевского, Пруста, Рильке и других: R. Pippin, «Nietzsche and the Melancholy of Modernity», Social Research 66:2 (1999).
22 S. Freud, «Trauer und Melancholic» [1915, 1917], Studienausgabe, Ziirich: ExLibris, Bd. 3, 197. См. также Butler, The Psychic Life of Power, особенно 132 -134, 167-195.
23 J. Kristeva, Black Sun: Depression and Melancholia, N.Y.: Columbia UP, 1989, 5-6, 10-14, 123, 128, 171, 221-222.
24 См. также форум «Руины и русская культура» в Slavic Review 65:4 (2006).
Меланхолия Нового времени: дискурс о социальных эмоциях... 209
что «современность — время ада» с его нескончаемыми и неизменными наказаниями, с его мифическими отголосками Тантала, Сизифа и Данаид23 * 25. В этом же смысле Хайдеггер в «Бытии и времени» описывал условия общественного существования человека как мир падения, потерянности, беспочвенности, безосновности, двусмысленности, рассеивания, растворения и непребывания. Русские писатели эпохи между двух революций узнали бы в этих рассуждениях собственное ощущение времени или, по крайней мере, те «настроения», которые, как им казалось, пронизывали общественную жизнь. Метафоры Беньямина (в основном цитаты из произведений XIX века, включенные им в его археологию современности) показались бы им особенно близкими: современный человек «бьет копытом на одном месте», а его жизнь — «затяжная катастрофа», «застывшая агония смерти»26. Они ощутили бы знакомое беспокойство, читая рассуждения Беньямина об эмоциональных последствиях существования в такие времена: «усталость от жизни, глубокая депрессия, скука»27, ощущение, что «жизнь бесцельна и беспочвенна и всякое стремление к счастью и спокойствию тщетно»28.
Ужас, который, по мнению г-жи де Сталь, охватил в XIX столетии «целый континент», в действительности был болезнью лишь образованной элиты и звучал главным образом в частной переписке, дневниках, художественной литературе и поэзии. Но к началу XX века этот философский ужас входит в разряд повседневных и злободневных «новостей», как в Европе, так и в России. Он вырывается за пределы литературы и изящной словесности и превращается в популярный язык, на котором журналисты и писатели говорят с постоянно расширяющейся читательской аудиторией. Перетолкованная на новый лад и заново открытая для общественных дискуссий, переосмысленная на фоне напряженного российского опыта утрат и сомнений, эта болезнь чувствительных интеллектуалов возродилась как опасная массовая эпидемия, даже болезнь всего общественного организма.
23 W. Benjamin, The Arcades Project, trans. H. Eiland, K. McLaughlin, Cambridge, Mass.: Harvard UP, 1999, 101 -119, 544—545 (цитаты SI,5, D10a,4); Id., «Paris, Capitale du XIXе siecle: Expose», Das Passagen-Werk, ed. R. Tiedemann,
2 vols., Fr.a.M.: Suhrkamp, 1982, I, 61; The Arcades Project, 15. См. обсуждение 6e-ньяминовских концепций «модерна» в: S. Buck-Morss, The Dialectics of Seeing:
Walter Benjamin and the Arcades Project, Cambridge, Mass.: MIT, 1989, 79, 95—97, 99, 103-109, 178.
26 Benjamin, The Arcades Project, 111, 113, 115 (D5,7, D6a,l, D8,6).
27 Ibid., 108 (D3a,4). См. также 104-105 (D2,2, D2,5), 110 (D4a,2).
28 Ibid., 105 (D2,8).
210
Марк Стейнберг
Но меланхолические настроения в России начала XX века сильно отличались как от русской меланхолии XIX века, так и от более поздней меланхолии в Западной Европе, например, у экзистенциалистов29. Меланхолия в России в эпоху fm-de-siecle была более мрачной или, если прибегнуть к терминологии Нгай, «безоб-разной/уроддивой». Для многих европейцев XIX века и модернистов по всей Европе в XIX и XX веках утрата ясного смысла прошлого и смысла как такового приоткрыла возможности для других субъективностей и иных путей в настоящее и будущее. «Руины прошлого, — писал Фрицше, — послужили фундаментом для другого варианта настоящего». Утрата обернулась приобретением30. В начале XX века настроения в России были куда менее оптимистичными. После краха революции 1905 года (испугавшей одних и разочаровавшей других) и перед началом мировой войны (когда катастрофа, травма и разрушение стали конкретными, как никогда прежде) широкий круг авторов — не только когорта известных поэтов, писателей, художников и философов, но и многочисленные более или менее анонимные журналисты — открыто высказывал беспокойство в связи с распространяющимся и даже напоминающим эпидемию «общественным унынием»31, «отчаянием»32, «пессимизмом обывательским»33, «общим упадком настроения» и «угнетенным настроением»34. Говорили об ужасной, безнадежной пустоте35, о «печальной современной общественной атмосфере», о «скучной» и «бесцельной» жизни36. В 1912 году либеральная марксистская журналистка Екатерина Кускова писала в журнале «Со
29 Жан-Поль Сартр назвал свою первую повесть «Melancholia», но издатель предпочел другое название, «La Nausee» («Тошнота»), 1938.
30 Fritzsche, Stranded in the Present, 96, ch. 3 passim.
31 Напр., Б. Базилевич, «Мнимые страхи», Свободные мысли, 13, 13 августа 1907 г., 2; И. Брусиловский, «Смысл жизни», Современное слово, 13 марта 1910 г., 1.
32 См. также «К самоубийствам молодежи», Церковный вестник 12, 25 марта 1910 г., 362; А. Зорин [Гастев], «Рабочий мир: Вера, отчаянье, опыт», Новый журнал для всех 8 (1911), 1075; Немирович-Данченко, «Жизнь дешево! (очерки эпидемии отчаянья)», Запросы жизни, 10, 7 марта 1910 г., 588.
33 Л. Андреев, «Люди теневой стороны», Свободные мысли, 41, 18 февраля 1908 г., 2; Моловер, «Эпоха настроений», Весна 6, 10 февраля 1908 г., 44; Л. Лог-винович, «Смех и печаль», Жизнь для всех 1 (1912), 111; А. Луначарский, «Самоубийство и философия», Самоубийство: сборник общественных, философских и критических статей, М.: Заря, 1911, 79.
34 В. Лаврецкий, «Трагедия современной молодежи», Речь 14—15 (1910), 106; О. Гридина, «Без руля», Газета-копейка, 11 апреля 1910 г., 5.
33 Д. Жбанков, «Современные самоубийства», Современный мир 3 (1910), 48, 53; «Половая преступность», Современный мир 7 (1909), 64; Теософическое обозрение 3 (1907), 113—114.
36 «Развал духа», Церковный вестник 45, 10 ноября 1911 г., 1412.
Меланхолия Нового времени: дискурс о социальных эмоциях... 211
временник», что Максим Горький уловил современное настроение и современное положение России в рассказе «Жалоба», напечатанном в том же «Современнике»: «...все это на песке, все в воздухе: в России нет фундамента духовного, нет почвы, на которой можно строить храмы и всякие дворцы разума, крепости веры и надежды — все это зыбко, сыпуче, все дресва — и бесплодно»37. Что же делать? — спрашивает герой Горького. Его ответ (Кускова предпочла его не цитировать, возможно потому, что он был еще мрачнее и невыносимей): «издыхаешь в тоске — и молчишь»38.
С новым годом, с новым временем
Приход нового года на смену старому естественно пробуждает мысли о течении времени. Надежда на то, что новое будет лучше, что время движется вперед и несет с собой прогресс, явно звучала в традиционных новогодних пожеланиях: «С новым годом, с новым счастьем!» Каждый год в эти праздничные дни журналисты и публицисты традиционно делились мыслями и чувствами о настоящем, стоящем «на пороге» нового39. Очень часто мы встречаемся с тревожным чувством, что время раскололось, что настоящее оторвано от прошлого и будущего и выброшено на некий затерянный остров времени, куда ничто новое, похоже, не доберется. В новогодних статьях журналистов звучали драматические — даже мелодраматические нотки: прогрессивные обещания «нового счастья» якобы сменило время, ковыляющее, как калека, надломленное и потерянное, так что было ясно — из «тупика» настоящего (расхожее выражение тех лет) «нет выхода»40.
Пока авторы передовиц и публицисты периодически пытались вселить в читателей надежду и оптимизм, призывали их усилием воли перебороть депрессию и победить меланхолию41, большинство
37 М. Горький, «Жалоба», Современник 1 (1911), цит. в ст. Кусковой «Во что же верить (наброски и мысли)», Современник 5 (1912), 266. См. М. Горький, Полное собрание сочинений, М., 1971, т. XI, 12.
38 Горький, там же, т. XI, 12.
39 См. также «С новым годом», Церковный вестник 1, 3 января 1908 г., 1; Р. Бланк, «1909-й год», Запросы жизни 11, 29 декабря 1909 г., 1; «1910 год», Современное слово, 1 января 1910 г., 5; Огонек 1, 6 января 1913 г.; Газета-копейка, 1 января 1912 г., 2; 1 января 1913 г., 3; В. Поссе, «Общественная жизнь: в предчувствии беды», Жизнь для всех 1 (1913), 171.
40 Напр., В. Широкий, «Черты современной русской жизни», Новый журнал для всех 1 (1914), 45.
41 Напр., Н. В., «Итоги минувшего года», Весна 1, 6 января 1908 г., 1; Н. Никифоров, «С новым годом» (стихотворение) и редакционная статья «С новым счастьем», Петербургский листок, 1 января 1914 г., 2.
212
Марк Стейнберг
считало, что те бросают слова на ветер. «Общественное настроение» было слишком отравлено «подавленностью» и «отчаянием», чтобы общество могло откликнуться на одни лишь призывы. Авторы газет и журналов разделяли эти мрачные настроения. Публицист Михаил Энгельгард в новогоднем, 1908 года, выпуске еженедельной газеты «Свободные мысли» начал свой очерк с характерным названием «Без выхода» эпиграфом из Плача Иеремии (4:17): «Наши глаза истомлены в напрасном ожидании помощи...» Затем следовал его собственный плач: «Перед нами длинный, черный, зловонный коридор, которому не видно конца»42. Сходные настроения звучали в новогоднем очерке 1913 года одного из популярнейших обозревателей «Газеты-копейки» О. Блотерманца, писавшего под псевдонимом Скиталец. Прошлогодние пожелания нового счастья, писал он, не принесли не только нового, но и вообще никакого счастья — ничего, кроме «горечи и разочарования». Оценивая прошлый год, он приходит к заключению: «наша действительность — безотрадна, итоги — ничтожны, а надежда — отлетела от нас». Взамен новых пожеланий счастья он предлагал молчание43. На самом деле молчали немногие. Русская современная общественная меланхолия тех лет была говорлива.
Тоска
Подыскивая словарь для описания современных настроений общества, русские писатели неустанно говорили о «тоске». Конечно, тоска, как и меланхолия, — понятие неуловимое и неоднозначное и, возможно, в силу этого столь широко употребляемое. Говоря о том, как трудно найти простое английское слово, эквивалентное русской «тоске», Владимир Набоков сделал известное замечание:
Ни одно английское существительное не передает всех оттенков этого слова. На самом глубоком и мучительном уровне это чувство сильнейшего душевного страдания, часто не имеющее объяснимой причины. В менее тяжелых вариантах оно может быть ноющей душевной болью, стремлением непонятно к чему, болезненным томлением, смутным беспокойством, терзанием ума, неясной тягой. В конкретных случаях оно означает стремление к кому-то или чему-то, ностальгию, любовные страдания. На низшем уровне — уныние, скуку44.
42 М. Энгельгардт, «Без выхода», Свободные мысли 35, 7 января 1908 г., 1.
43 Скиталец, «Молчание», Газета-копейка, 1 января 1913 г., 3—4.
44 В. Набоков, Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин», СПб.: Искусство, 1998, 170 (гл. 1, XXXIV).
Меланхолия Нового времени: дискурс о социальных эмоциях... 213
Бытовавшее в XIX веке употребление этого слова свидетельствует о том, что это было внутреннее, душевное, психическое заболевание45. Но к началу XX века тоска станет не столько вопросом интимного, личного чувства, сколько экзистенциальным беспокойством по поводу современных условий жизни.
Наблюдатели общественных настроений в годы после революции 1905 года были поражены повальным распространением тоски46. В 1908 году Дмитрий Мережковский после возвращения из-за границы гулял по улицам Петербурга и заметил «страшную тоску на лицах»47. Многие замечали то же самое. Георгий Плеханов в 1910 году выразил все более знакомое ощущение емкой формулой: «Теперь много тоскующих — а еще больше наводящих тоску — людей в России»48. Считалось, что современная литература отражала — а многие с осуждением добавляли, что и поощряла, — тоску. «“Боль” и “безнадежность” пронизывают нынешнюю литературу, — писал один критик, — холодом и тленом веет почти от всего»49. Эго относилось и к художественной литературе, и к бульварной беллетристике. К примеру, необычайно популярное творчество Михаила Арцыбашева было отмечено «чем-то кошмарным, больным, полным мрака и отчаяния», и все было окрашено черным цветом, так что весь мир казался «черной комнатой, в которой кто-то томится и плачет»50. Те же настроения звучали в газетах, и журналистам приходилось защищаться от обвинений в том, что их ежедневные репортажи о темных сторонах жизни деморализуют публику. «Зеркало не виновато», — утверждала Ольга Гридина, влиятельный обозреватель «Газеты-копейки», выходившей огромными тиражами; в нем отражается «жизнь такова, как она есть», полная «ужаса, холода и эгоизма»51.
Особенно тревожным симптомом современной меланхолии стала «эпидемия» самоубийств, разразившаяся между 1906 годом и
45 См. также В. Даль, Толковый словарь живаго великорусского языка, СПб., 1882, IV, 422.
46 Об упорном, «вездесущем» распространении тоски в 1930-е гг. см. Sh. Fitzpatrick, «Happiness and Toska. An Essay in the History of Emotions in Prewar Soviet Russia», Australian Journal of Politics and History 50:3 (2004), 357—359, 365—371. О ее распространении в первые годы после революции см. М. Steinberg, Proletarian Imagination: Self Modernity, and the Sacred in Russia, 1910—1925, Ithaca, NY: Cornell UP, 2002, 134-135, 144, 278.
47 Д. Мережковский, «Петербургу быть пусту», Речь, 21 декабря 1908 г., 2.
48 Г. Плеханов, Современный мир 10 (1909), цит. по: В. Брусьянин, «Литературная хроника», Новый журнал для всех 15 (1910), 138.
49 М. Не ведоме кий, «Что сталось с нашей литературой», Современник 5 (1915), 254.
50 Львов-Рогачевский, «М. Арцыбашев», Современный мир 3 (1909), 2, 32, 36.
31 О. Гридина, «Зеркало не виновато», Тазета-копейка, 31 октября 1910 г., 3.
214
Марк Стейнберг
мировой войной52. Многочисленные современники называли самоубийство одной из наиболее «вопиющих уродливостей» этого «разъединенного» и «уродливого» века53. Пытаясь понять, почему подавляющее число самоубийц совсем молодые люди, писатели объясняли это тем, что молодежь — «барометр общественного настроения», «угнетенного» и исполненного «тоски и нытья». Конечно, не только молодые лишали себя жизни в те годы: все поколения и сословия переживали один и тот же опыт времени и вдыхали одну и ту же роковую атмосферу тоски и уныния. «Люди измучились, издумались, приходят в тупик». Поэтому многие «всё окутывают в темную вуаль своей меланхолии»54. В своих прощальных записках самоубийцы часто говорили о «тоске, беспредельной тоске»55, как написал один студент в записке, которую часто цитировали в прессе.
Разочарование
Разочарование — особенно в буквальном значении как крах или исчезновение того, что очаровывает, завораживает, — играло центральную роль в этом мрачном восприятии времени. В конце лета 1907 года, после того как власти распустили Думу и были приняты новые избирательные законы, что ознаменовало, по мнению многих, решительный конец краткой поры революционных реформ, один обозреватель заметил, что появился «особый термин — разочарование», обозначавший распространение «общественного уныния»56. Это разочарование могло быть формой политического недовольства и отражало утрату гражданского пафоса и идеалов,
32 См. дискуссию того времени в: Самоубийство', сборник..., 1911 и научный анализ в: I. Рарегпо, Suicide as a Cultural Institution in Dostoevskys Russia, Ithaca, NY: Cornell UP, 1997; S. Morrissey, «Suicide and Civilization in Late Imperial Russia», Jahrbucherfur Geschichte Osteuropas 43 (1995); Id., Suicide and the Body Politic in Imperial Russia, Cambridge UP, 2007.
53 Б. Ягодин, «Самоубийство и борьба с ним», Жизнь для всех 12 (1912), 1881; Вадим, «Дух зла», Газета-копейка, 16 февраля 1913 г., 3; «Развал духа», Церковный вестник 45, 10 ноября 1911 г., 1412; В. Широкий, «Черты современной русской жизни», Новый журнал для всех 1 (1914), 45.
54 В. Лаврецкий, «Трагедия современной молодежи» (из газ. Речь), Весна 14—15 (1910) 106—107; Брусиловский, «Тревога», Современное слово, 11 марта 1910 г., 1; Абрамович, «Самоубийство», Самоубийство', сборник..., 113; Айхен-вальд, «О самоубийстве», там же, 123.
55 В. Лаврецкий, «Трагедия современной молодежи», 107.
36 Б. Базилевич, «Мнимые страхи», 2. См. также Весна 2, 13 января 1908 г., 10—11; Церковный вестник 1, 7 января 1910 г., 3; Ю. Делевский, «Социальные антагонизмы и общественный идеал», Современник 1 (1912), 252.
Меланхолия Нового времени: дискурс о социальных эмоциях... 215
вдохновлявших столь многих в 1905 году. Но «царящее в обществе разочарование»57 не ограничивалось печалью о недавно рухнувших политических мечтах и идеологиях. Прибегая к широким обобщениям, общественные обозреватели описывали людей (иногда самих себя) «без веры, без надежды, без желания жить... Ничто для нас не существует, кроме мысли, а мысль доводит до самоубийства»58. Современные люди «блуждают во тьме без идеала»59, понимая лишь «всю бессмысленность и бесцельность жизни»60; у них нет «надежд и упований»61. Эго разочарование проистекало из сильного, сущностного, даже экзистенциального чувства утраты и потерянности — утраты опор, понимания, идеалов, веры или, быть может, неспособности вообще найти веру и смысл настоящего и будущего. Одним словом, считалось (и заметьте, в общественном сознании отчаяние отнюдь не ограничивалось одной Россией), что «человечество потеряло надежду», отчего в душе человеческой осталось лишь ощущение «пустоты и бесцельности жизни»62. Религиозные писатели, встревоженные духовным состоянием общества, особенно чутко реагировали на распространение такого явления, как «разочарование сердца»63. Им казалось, что утрата религиозной веры, в том числе и веры в телеологию спасения, обещаемого христианством, — важнейшая составная часть этого экзистенциального отчаяния. Люди ищут Бога, этот лучший для них залог того, что счастье когда-нибудь наступит, но не могут найти Его, писал публицист И. Г. Ашкинази64. Но даже многие религиозные писатели чувствовали, что утрата веры глубже и сложнее, чем просто разочарование в богословских истинах. Глубокий экзистенциальноонтологический скепсис, казалось, заразил общественное сознание. В 1913 году журнал С.-Петербургской духовной академии характеризовал настроение современной эпохи как «самое скептическое» за всю историю человечества. И в отличие от преимущественно теоретического и умозрительного «скепсиса» былых эпох современный скепсис был явлением экзистенциальным, кореня
57 «К вопросу о современных задачах пастырства», Церковный вестник 50, 15 декабря 1911 г., 1573.
58 Газета-копейка, 12 августа 1910 г., 4.
59 «Христос Воскресе’», Теософическое обозрение 7 (1908), 488.
60 Н. Рубакин, «Для чего я живу на свете», Новый журнал для всех 6 (1912), 67.
61 «К вопросу о современных задачах пастырства», 1572—1573.
62 Теософическое обозрение 3 (1907), 113—114.
63 «Современное богоискательство», Церковный вестник 11, 12 марта 1909 г., 321.
64 Ашкинази, «От индивидуализма к богостроительству», Новый журнал для всех 6 (1909), 107.
216
Марк Стейнберг
щимся в ощущении времени: «глубокое недоверие ко всему и всем, [...] полное разочарование во всем, что окружает, и безнадежность в том, что будет». Церковный публицист заключает, что подобное настроение было «господствующим» «для людей нашей эпохи». Эго наиболее распространенное мироощущение «современного человека» накладывало на всех «роковой отпечаток скепсиса, разочарования, безнадежности»65.
Светские либералы точно так же оценивали духовное состояние общества. К примеру, Николай Рубакин, известный специалист по народному чтению, размышлял в 1912 году над многочисленными письмами, в которых люди откликались на его недавние статьи о самообразовании. Больше всего его поразило всеобщее ощущение того, что жизнь утратила всякое значение, смысл и цель. В результате люди больше не живут, а, как часто говорили его корреспонденты, наблюдают, как «жизнь проходит». В этом опыте восприятия времени Рубакин находил «внутренний ужас»66. Даже массовая культура отражала атмосферу разочарования. В газете «Петербургский кинематограф» был напечатан отрывок из «романа настроений», где подобающим шаблонным образом представлен типичный герой этого времени: он «терзается тоской одиночества, горьким чувством разочарования, сознания суетности и ненужности, мелочности всего окружающего»67.
Беспочвенность и неуверенность
Мрак меланхолии носил характер и эпистемологический и ощущался как телесно, так и духовно. «Господствующее теперь настроение [...] — неуверенность»68. Люди чувствовали, что «блуждают во тьме»69 и находятся в «беспочвенном положении, без ясной перспективы»70. С неизменной тревогой обозреватели всё больше и больше замечали, отсутствие «ясности» и «яркости»71. Во всех
65 «Современность и думы», Церковный вестник 31, 1 августа 1913 г., 945 — 946, 948.
66 Рубакин, «Для чего я живу на свете», 67.
67 А. Лукоянов, «Ты помнишь...» (отрывок из романа настроений), Петербургский кинематограф, 19 марта 1911 г., 2. См. также «Умирающие фиалки», Петербургский кинематограф, 25 января 1913 г., 2.
68 Жбанков, «Половая преступность», Современный мир 7 (1909), 64.
69 «Христос Воскресе!», Теософическое обозрение 7 (1908), 488.
70 «К вопросу о современных задачах пастырства», Церковный вестник 50, 15 декабря 1911 г., 1572—1573. См. Горький, «Жалоба».
71 Ал. Федоров, «В наши дни», Петербургский кинематограф, Т1 января 1911 г., 2. См. также Притыкин «Кризис интеллигентской души», Свободные мысш 46, 24 марта 1908 г., 2.
Меланхолия Нового времени: дискурс о социальных эмоциях... 217
сферах нашей «умственной жизни» «нет строгой определенности»72. Все «объективные признаки истины» исчезли, оставив лишь «безнадежный “Апофеоз беспочвенности”»73. Повседневная общественная жизнь, как ее изображали в печати, тоже казалась «дикой, пугающей и непонятной»74. Эпоху можно было охарактеризовать марксистским афоризмом: «Alles Standische und Stehende verdampft» (Все прочное испаряется в воздухе), который вызывал значительно больший резонанс и экзистенциальный ужас, чем предполагал Маркс, охарактеризовав так потрясения, вызванные капитализмом75. Религиозные мыслители были особенно склонны переживать утрату смысла и уверенности и чувствовали, что «время расшатывает основы», а надежда на прогресс оставляет лишь «неопределенность»76. Те же настроения пронизывали и светскую прессу. «Вокруг все большее и большее разложение», — писал один публицист о современной культуре в 1908 году. Все ощущали «неустойчивость»77. Если бы кто-нибудь пожелал обратиться к литературе в поисках истин, казавшихся в ту пору столь неуловимыми, то в ней, по мнению критиков, он мог бы обнаружить лишь разочарование. Современную литературу, как и современную жизнь, переполняла та же «пустота или сумятица»78, тот же «зыблющий хаос» и «мутность»79, та же «анархия ценности»80, те же «колебанья и сомненья, душевная сумятица, путаница, хаос душевный»81. В этом широко распространенном опыте существования на зыбкой почве явственно ощущался «сложный и разносоставный хаос различных
72 «Трагедия современной культуры», Церковный вестник 27, 3 июля 1914 г., 811.
73 Ашкинази, «От индивидуализма к богостроительству», 105. «Апофеоз беспочвенности» — книга Льва Шестова, СПб., 1905, где автор рассматривает разочарование как знак времени и надежды.
74 В. Широкий, «Черты современной русской жизни», Новый журнал для всех 1 (1914), 46.
75 См. М. Berman, All That is Solid Melts into Air. The Experience of Modernity, N.Y.: Penguin, 1982.
76 «С новым годом», Церковный вестник 1, 3 января 1908 г., 1; см. также 2, 10 января 1908 г., 43.
77 В. Португалов, «В области культуры» (из газеты «Новое время»), Весна 1, 6 января 1908 г., 3.
78 Л. Пушкин, «Как жить», Новый журнал для всех 35 (1912), 81.
79 Обзор Гуревича произведений Леонида Андреева в: Запросы жиэни 31, 18 октября 1909 г., 30.
80 Г. Тастевин, Футуризм (на пути к новому символизму), М.: Прометей Н. Михайлова, 1914, 5.
81 Львов-Рогаче вс кий, «Новая драма Леонида Андреева», Современник 10 (1913), 254 255; Гуревич, «Литература нашего времени», Новый журнал для всехЪ (1909), 102.
218
Марк Стейнберг
до противоположности течений» современности, и его считали главной «трагедией современной культуры»82.
Кризис, катастрофа, трагедия
В настроениях разочарованности часто видели признаки (а возможно, и побудительные причины) «кризиса» той эпохи. Слово повторяли повсюду. Обозреватели констатировали у интеллигенции «кризис души»83, который, в свою очередь, был отголоском более обширного «внутреннего кризиса»84, поразившего все сферы жизни: науку, искусство, религию, общественную жизнь85. Вместе с тем кризис в России казался эхом глобального культурного и духовного «кризиса», с которым столкнулся «современный человек»86. В основе этого переживания кризиса лежало чувство утраты и крушения времени. Постоянно говорили о том, что прошлое, в том числе и прошлые надежды на будущее, лежит в руинах. В 1912 году один из авторов прогрессивного журнала «Современник» рисует типичную картину этого кризиса: «Мы переживаем эпоху кризисов», эпоху, отмеченную «видимым и действительным крушением принципа, системы, программы»87. Ему вторит консервативный религиозный публицист: с его точки зрения, для эпохи характерно «недовольство, неудовлетворенность прежним, отжившим», впавшим в «дряхлость и негодность», и неспособность найти что-либо удовлетворительное в новом88.
Переживание кризиса переходило в осознание катастрофы. «И вдруг стало всем страшно, — писал один очеркист в 1910 году, — как во время стихийного бедствия — чумы, труса, потопа»89. Это ощущение краха и катастрофы могло достигать мифического размаха. Как отмечали многие историки, предвоенные годы в России были временем обостренных эсхатологических ожиданий, особенно среди образованных людей. Городская интеллигенция, как писали в газетной статье 1909 года (в данном случае не без издевки),
82 «Трагедия современной культуры», 811.
83 Притыкин, «Кризис интеллигентской души», 2.
84 Пчела, «Культ разврата», Петербургский листок, 8 декабря 1908 г., 2.
85 «Блудный сын», Церковный вестник 22, 29 мая 1914 г., 649—654.
86 С. Исаков, «Мысли об искусстве», Новый журнал для всех 1 (1914), 54; «О духовном кризисе современной эпохи», Церковный вестник 30, 25 июля 1911г., 913-914.
87 Делевский, «Социальные антагонизмы и общественный идеал», 252.
88 «Блудный сын», 651; «Современная культура и христианство», Церковный вестник 23, 5 июня 1914 г., 682.
89 Калед, «Иванушковцы», С-Петербургские ведомости, 9 декабря 1910 г., 2.
Меланхолия Нового времени: дискурс о социальных эмоциях... 219
непрерывно говорит о «трагизме, Апокалипсисе, конце мира»90. В обзорах современной литературы также отмечалось, что многие влиятельные писатели и художники — Мережковский, Сологуб, Андреев, Петров-Водкин, Рерих91 — постоянно выражают апокалиптические настроения и образы. Интеллигенты, писатели и художники были не одиноки; во всяком случае, они замечали сходные апокалиптические настроения вокруг себя. В конце 1908 года в статье, напечатанной в газете «Речь», Мережковский описывает, как он гуляет по столице и глядит на лица прохожих или читает газеты, и его переполняет «знакомое “чувство конца”»92. Конечно, для верующих апокалипсис — нечто большее, чем метафора, и его вовсе не следовало бояться. Апокалипсис — это обнадеживающая картина кризиса. Катастрофическое время для верующих людей было временем спасения. Церковные писатели, охваченные подобными настроениями, недвусмысленно указывали на усиливающееся сходство библейского апокалипсиса с нынешними «горькими временами», когда рушилась вера и нравственность93. Многие разделяли это ощущение углубляющегося кризиса, хотя зачастую было трудно поверить в то, что он ведет к новому миру.
Эго ощущение кризиса и крушения часто выражалось в понятиях трагедии. В одном очерке 1909 года описывается состояние духа петербургских интеллигентов, исполненное «трагизма»94. И это состояние было характерно не только для интеллигенции. В январе 1912 года в журнале левого толка «Современник» появилась статья об охватившем всех «глубоком трагизме»95. Автор редакционной статьи в журнале «Духовная Академия» приводит сходные доводы: «современное культурное мировоззрение большинства» глубоко трагично вследствие «распада и растерянности», напоминающих «надрыв» из романов Достоевского96.
«Трагическая печать времени» отчетливо проступала в современной литературе97. Например, в рецензиях на произведения Лео
90 С. Любош в: Слово 686 (1909), см. также в статье «Религиозность и религиозно», Церковный вестник 35, 29 января 1909 г., 135.
91 Л. Гуревич, «Литература нашего времени», Новый журнал для всех 3 (1909), 102; Огонек 3, 20 января 1913 г.; С. Исаков, «Мысли об искусстве», Новый журнал для всех 1 (1914), 53.
92 Д. Мережковский, «Петербургу быть пусту», Речь, 21 декабря 1908 г., 2.
93 И. Филевский, «О борьбе с порнографией», Церковный вестник 17, 26 апреля 1912 г., 510; «Антихрист», Петербургский листок, 12 февраля 1914 г., 4; Путник, «Пьянство телесное и пьянство духовное», Маленькая газета, 18 декабря 1915 г., 2; «Блудный сын», 651.
94 «Религиозность и религиозно», 135.
95 Делевский, «Социальные антагонизмы и общественный идеал», 252.
96 «Трагедия современной культуры», 809.
97 Гуревич, «Литература нашего времени», 103.
220
Марк Стейнберг
нида Андреева, которого называли «хроникером общественных настроений»98, подчеркивалось настроение трагической красоты, трагического одиночества, трагического страдания99. Популярная культура тоже была заражена этим трагическим настроением. По мнению Льва Клейнборта, часто писавшего о массовой литературе и искусстве, «драма» в кинематографе обычно переходила в мелодраму, которая в свою очередь всегда была глубоко «трагична»100. В самом деле, популярная русская мелодрама, в отличие от западной, обычно завершавшейся хеппи-эндом, тяготела к печальной развязке101. Трагизм сквозил и в будничных драмах обыденной жизни. К примеру, в статье о бедных и бездомных Петербурга Ольга Гридина доказывала, что в обычной жизни столичного города больше трагизма, чем мог бы выразить любой трагический актер или театр. Трагедия в искусстве, утверждала она, «есть лишь бледная тень, детская игра перед тем, что создает жизнь»102. Ежедневные истории о самоубийствах тоже воспринимались как форма трагедии и отголоски более масштабной трагедии времени, или, по выражению Юлия Айхенвальда, «трагической практики наших черных дней»103. Время будничное стало нарративом и представлением времени трагического.
Теоретически трагедия, как и апокалипсис, безусловно, может обладать положительной целью: согласно классическим представлениям, сформулированным философами от Аристотеля до Ницше, страдание неизбежно, но вместе с тем оно возвышает человеческий дух, углубляет душу и, возможно, указывает на искупление и спасение. Но всё же большинство комментаторов не видели пути к спасению из трагического настоящего. Выхода не было — был только, словами Василия Розанова, постоянный «ад тревог, мук, недоумения»104. Трагизм в этом значении был не столько эстетической или философской системой, сколько еще одним выражением (и определением) эпохи меланхолии, и не столько движением, сопровождающим человека через мифическую тоску и страдание к катарсису, возвышенному наслаждению и избавлению, сколько
98 Логвинович, «Смех и печаль», 108.
99 В. Сперанский, «Идея трагической красоты и Леонид Андреев», Новый журнал для всех 1 (1908). См. также рецензию на пьесу Л. Андреева «Дни нашей жизни» в Новом театре: Новый журнал для всех 2 (1908).
100 Л. Клейнборт, «Кинематограф», Новый журнал для всех 6 (1912), 104.
101 Imitations of Life: Two Centuries of Melodrama in Russia, ed. L. McReynolds, J. Neuberger, Durham: Duke UP, 2002, 143—145.
102 О. Гридина, «Предел скорби», Газета-копейка, 13 сентября 1910 г., 3.
103 Айхенвальд, «О самоубийстве», Самоубийство', сборник..., 117.
104 Записки С-Петербургского религиозно-философского общества 1 (1908), 44 (встреча 15 октября 1907 г).
Меланхолия Нового времени: дискурс о социальных эмоциях... 221
переживанием жизни в адском застое, ощущением современности как травматического «адского времени». Это была катастрофа в мифологическом значении — без движения, без цели, без выхода105.
Объяснение меланхолии
Прошлое, настоящее и будущее, казалось, оторвались от всякого положительного движения во времени, даже от всякой прочной почвы. Миф о прогрессе утратил свое соблазнительное очарование, стало казаться, что путь вперед потерян или уничтожен. Русские авторы — философы и бульварные журналисты, консерваторы и либералы, светские и религиозные — все отмечали, что миф о поступательном развитии времени развеян. В этой меланхолии более всего поражало не только то, что она стала глубоко общественным и даже популярным явлением, но и то, что ее упорно перемещали с традиционного места во внутреннем мире человека, из его души, — вовне. В бесконечных разговорах о крушении, сомнении, отчаянии и разочаровании неизменно обнаруживалась социальная болезнь с социальной причиной. Подавленность и депрессия в русских городах считались следствием и комментарием к гнетущим условиям русской жизни. Современная Россия, по образному выражению Рубакина, размышлявшего над приходившими к нему читательскими письмами, превратилась в «гигантскую фабрику бессмысленности»106. Комментаторы изо всех сил стремились описать особый механизм, порождавший эти мрачные состояния современной души.
Некоторые винили политические события 1905 года и последовавшие за ними репрессии, которые, по распространенному убеждению, развеяли былые идеалы и надежды107. В 1908 году обозреватель «Петербургского листка» писал, что в русском обществе, как после Французской революции и как «в конце всякой революции», господствует «всеобщая деморализация», «цинизм» и «апатия»108. Другие писатели обнаруживали «какую-то пустоту, какое-то неумение жить и действовать при новых условиях»109.
1(Ь См. сходную оценку «постмодерна» в: J. Baudrillard, The Illusion of the End, Stanford: Polity, 1994, 90—114.
106 H. Рубакин, «Для чего я живу на свете», 67.
107 К. Арсеньев в газете «Слово», перепечатано в: Весна 2, 13 января 1908 г., 10.
108 Пчела, «Культура разврата», 2.
109 «Настроение интеллигенции» (из Столичной почты), Весна 5, 3 февраля 1908 г., 35.
222
Марк Стейнберг
Однако многие считали эти объяснения кризисной ситуации слишком узкими и поверхностными. Хотя революция и ее последствия, несомненно, обострили настроения интеллигенции и других слоев общества, было очевидно, что эти тенденции отнюдь не новы в русской культурной жизни. Некоторые писатели, напротив, настойчиво повторяли, что причины тоски и разочарования нужно искать в глубинах русской народной культуры, а не в каком-то определенном моменте ее истории. Наши народные песни полны «раздумья и тоски», писал обозреватель «Газеты-копейки» Скиталец, и наши поэты всегда писали об «унынии и бессильи»110. Специалист по городской политической жизни видел «в русской психологии» глубоко присущий ей «фатализм», традиционное отношение к человеку как к «ничтожной части целого и как бы игрушке Провидения», ведущее к убеждению, что никакая перемена невозможна и истинная мудрость заключена в древней формуле: «суета сует и всяческая суета»111.
Большинство толкователей считали русскую меланхолию не выражением исконной «русской души» и не следствием лишь данного момента русской истории, а признаком современных условий существования, которые писатель и критик Георгий Чулков назвал в 1914 году «культурными условиями современности»112. Особенно порицали современный город как рассадник меланхолии. Литература о Петербурге как хронотопе русской «модерности» подробно изучала чувства тоски, трагизма, неуверенности, растерянности, смерти, хаоса и катастрофы113. И это были отнюдь не только фигуры речи. Уже в XIX веке городская пресса стала замечать тревожные признаки скуки, подавленности, опустошенности и меланхолии у городских жителей. В 1911 году автор очерка «Без весны» писал: «Люди, выросшие в городах, — хилые, заморенные, безвольные, вялые физически и духовно [...]. Эго — казнь нашего века»114. Образ города как места, где нет весны, места, осененного тьмой и
110 Скиталец, «Бодрые люди», Газета-копейка, 10 апреля 1911 г., 4.
111 Л. Вилихов, «Идеализм и материальная культура», Городское де/ю 11/12, 1 — 15 июня 1912 г., 742—743.
112 Г. Чулков, «Демоны и современность» (Мысли о французской живописи), Аполлон 1/2 (1914), 66.
113 Напр., см. дискуссию о литературных образах Петербурга в: Н. Анциферов, «Душа Петербурга» (1922). Он же, «Непостижимый город»: Душа Петербурга, Петербург Достоевского, Петербург Пушкина, Л.: Лениздат, 1991. См. также В. Топоров, Петербургский текст русской литературы, СПб.: Искусство, 2003; J. Buckler, Mapping St. Petersburg: Imperial Text and Cityshape, Princeton UP, 2005.
114 Ал. Федоров, «Без весны», Петербургский кинематограф, 19 марта 1911 г., 2. См. также его очерк в номере от 26 января 1911 г., 2 о Санкт-Петербурге, городе «голода, полу-света и отчаяния».
Меланхолия Нового времени: дискурс о социальных эмоциях... 223
разлученного с природой, часто мелькал в дискуссиях о гнетущем воздействии городской окружающей обстановки115. Одиночество городских жителей, «оторванность личности», которую называли новой болезнью современного общества116, порождали меланхолию.
Но город был лишь частью современного пространства. Комментаторы постоянно возвращались к духовному и эмоциональному кризису всей «современной действительности», которая, как в 1909 году писал один публицист в «Новом журнале для всех», «наполняет человеческую душу неизъяснимой грустью». В самом деле, несмотря на прогресс науки и техники, человечество никогда не было так «несчастно и неудовлетворено, как именно теперь»117. Главной причиной современного неблагополучия был экзистенциальный кризис «современного человека»118, не ограничившийся Россией, но не пощадивший и ее кризис «современной культуры»119, «духовный кризис современной эпохи»120. Этот современный кризис был наполнен опытом утрат и крушений, растерянностью и сомнениями перед лицом рухнувших убеждений и ценностей121 122, всеобщей «тоской по смыслу жизни, на которую наука наложила свое ignorabimus»[22. Одни авторы считали, что душевная патология современной жизни проистекает из-за постоянной погони за новизной, которая ведет к нервному истощению и «утомлению»123. Другие обращали внимание на упадок религии, «непрочность» форм общественной жизни и анархию производства и потребления, ведущих к возникновению «случайности и нецельно-сти»124. Подобные оценки современности неоригинальны, это — клише европейских определений данного понятия. Но клише не позволяли сохранять дистанцию или бесстрастность. Обычность и
115 Налр., «Весна», Аргус 5 (1913), 39.
116 Гуревич, «Литература нашего времени», 102. Г. Гордон «Об одиноких», Новый журнал для всех 7 (1909), 85, 88.
117 Ашкинази, «От индивидуализма к богостроительству», 105.
118 Исаков, «Мысли об искусстве», 54.
119 «Блудный сын», 651.
120 «О духовном кризисе современной эпохи», 913—914.
121 Налр., Исаков, «Мысли об искусстве», 53; Калед, «Иванушковцы», 2.
122 Ашкинази, «От индивидуализма к богостроительству», 106. Выражение ignoramus et ignorabimus (не знаем и не узнаем) часто употреблялось в XIX в. как выражение познавательного пессимизма.
123 П. Черский, «Парадоксы современности», Новый журнал для всех 4 (1914), 51. О нервном истощении, вызванном современной городской жизнью, см. G. Simmel, «The Metropolis and Mental Life» (1903), The Sociology of Georg Simmel, ed. K. Wolff, Glencoe, II.: Free Press, III, 1950.
124 Чулков, «Демоны и современность», 66, 70—71.
224
Марк Стейнберг
даже привычность «современного разочарования» делала его еще более безысходным.
Заключения о меланхолии, меланхоличные заключения
Для некоторых русских оставалась если и не твердая вера, то надежда на то, что революция, демократическая или социалистическая, освободит разочарованное и унылое человечество из этого ада. Ленин и другие революционеры упорно твердили, что «пролетарское мировоззрение» исполнено «оптимизма» и «бодрости», а после 1917 года постановили считать этот лозунг единственным политически верным, хотя невозможно было отрицать, что эмоциональный и внутренний мир реально существующих рабочих, в отличие от «сознательных пролетариев» (т.е. определяемых с позиций идеологии, а не социологии), больше напоминает «царство беспросветной тоски, непроницаемого безверия, застоявшейся инертности»125. Художники и писатели, модернисты и футуристы часто упивались крушением старого позитивистского мифа о линейном поступательном движении времени, заменив его другой оптимистической картиной нового времени как царства свободы, открытости и возможности (по крайней мере, для людей вдохновенных, витальных и творческих, по терминологии Бергсона126). Другие делали упор на религию и духовность, обещающие спасение. Третьи, уповавшие на спасение изнутри, говорили о способности воли преодолеть уныние. Но голоса этих оптимистических авангардистов, этих поборников новых мифов прогресса, были, как они сами нередко ощущали, гласом вопиющего в пустыне.
Судя по петербургской прессе, большинство русских слабо верило в то, что время может содействовать грядущему счастью или быть полем их собственного творческого действия. Они сами сознавали, что наступило время разочарования. Очень характерным было ощущение Мережковского в 1908 году, что в городской жизни можно увцдеть то, что врачи называют «facies Hippocratica» — «лицо смерти»127, или ощущение Айхенвальда, что существование превратилось в «капель жизни»128. Большинство авторов, писавших о современном общественном настроении и опиравшихся на рус-
125 Зорин (Гастев), «Среди трамвайщиков (набросок)», Единство 12, 21 декабря 1909 г., 11. См. также Steinberg, Proletarian Imagination, 100—101.
126 О связи между этими направлениями русского модернизма и популярными идеями Анри Бергсона в русской культуре после 1900 г. см. Н. Fink, Bergson and Russian Modernism, 1900—1930, Evanston: Northwestern UP, 1999.
127 Мережковский, «Петербургу быть пусту», 2.
128 Айхенвальд, «О самоубийстве», Самоубийство', сборник..., 123.
Меланхолия Нового времени: дискурс о социальных эмоциях... 225
ский и европейский опыт, перестали ощущать движение времени. Как Бог у Ницше, время умерло. Говорили о «безвременье»129 (т.е. о времени вне времени — непрочном и опасном хронотопе), затяжной катастрофе, об «аде».
Мы можем оценивать «модерность» по Максу Веберу — как «демифологизацию или разочарование в общественном мире» — или по Беньямину — как гнетущую и дегуманизирующую ремифологизацию социальных форм130. По моему мнению, «разочарование в жизни», которое так пропитало общественный социальный дискурс в России, можно признать эмоциональным истолкованием этой новой истории. Как ни печально, это осознание вылилось не в героическое разоблачение мифических и ложных обещаний модерна, ведущее к новому трансцендентному сознанию, как хотел Беньямин и многие русские политические и религиозные деятели, а в болезненное и печальное ощущение того, что разочарование и новая фантасмагорическая зачарованность современной жизни и есть единственная реальность. Как форма неразвеянной печали по утраченным ценностям и надеждам или тоски по чему-то недостижимому и даже безымянному, меланхолия своими черными штрихами оттеняет разочарование в обещаниях той культуры, которая зиждилась на просвещенческом представлении о прогрессе как поступательном движении времени.
Конечно, в истории бывали целые периоды, когда люди предавались «утехам меланхолии». Для романтиков XIX века меланхолия служила доказательством чуткой и творческой души и питала ее, была источником вдохновения, «мечтой и сладострастной печалью» и утешением131. В русской жизни в начале XX века были и другие, более обыденные удовольствия, которые тоже широко освещала пресса: ночные рестораны, «увеселительные сады», театры, спортивные представления (от цирковой борьбы до демонстрационных авиаполетов), спортивные клубы, катки, кинематограф, кабаре, кафешантаны, балы, вечеринки и другие развлечения, куда стекался так называемый «веселящийся Петербург»132. Но многим
129 Напр., Брусиловский, «Смысл жизни», 1; М. Ковалевский, «Затишье», Запросы жизни 12, 23 декабря 1911 г., 705; М. Слобожанин, «Из современных переживаний», ч. 3: «Об эстетике новейших формаций и эстетизме вообще», Жизнь для всех 3/4 (1913), 461.
130 Buck-Morss, The Dialectics of Seeing, 252—253.
131 D. Mornet, Le Romantisme en France au XVIIIе siecle, Paris, 1912, цит. no: Ch. Taylor, Sources of the Self: The Making of Modem Identity, Cambridge, Mass.: Harvard UP, 1989, 296. См. также Виницкий, «Утехи меланхолии».
132 Это выражение часто встречалось в газетных репортажах, напр., в газете Петербургский листок, 15 января 1910 г., 4—5. Юрий Алянский взял его в качестве названия серии книг о дореволюционных развлечениях в Санкт-Петербурге (СПб., 1992). См. также McReynolds, Russia at Play.
226
Марк Стейнберг
в России начала XX века казалось, что все эти удовольствия утекали в «бесплодную и сыпучую дресву»133 настоящего.
Русское общество и на самом деле приближалось к катастрофическому перелому в своей истории. Меланхолию можно поэтому считать пророческим знаком смутного времени. Кроме того, тоскливое общественное настроение само по себе могло быть силой, подрывавшей основы позитивного прогресса и тем самым ускорявшей перелом. В свою очередь, отражение, выражение и развитие этой эмоции в прессе повлияло на общественное настроение: утверждение, что «зеркало не виновато», является в данном случае весьма спорным. Революция, воодушевляемая новым подъемом надежды и веры (или же вдохновившая этот подъем), принесет великие страдания и вновь поставит под сомнение мифы о поступательном движении времени и о модернизации как эквиваленте счастья. Неудивительно, что в 20-е годы большевистские руководители будут проявлять все более агрессивное беспокойство по поводу общественного уныния и тоски134. Разумеется, всего этого нельзя было знать в 1908-м и даже в 1914 году. Не будущая катастрофа тревожила русских, оставивших свидетельства о своем времени. Гораздо большую тревогу вызывало то, что разворачивалось на их глазах: крушение идеалов и веры, «беспочвенность», «неустойчивость», «разложение», «неопределенность», «сумятица» и «хаос», разорванное и заблудившееся время, «безнадежный» и «катастрофический» опыт русской жизни и, наконец, чувство, что «нет выхода».
steinb@illinois.edu
133 Горький, «Жалоба», Полное собрание сочинений, XI, 12.
134 Steinberg, Proletarian Imagination, 283 284; Fitzpatrick, «Happiness and
Toska».
Шамма Шахадат
РУССКАЯ КИНОМЕЛОДРАМА МЕЖДУ СЕРЕБРЯНЫМ ВЕКОМ И АВАНГАРДОМ1
«Modem culture was “cinematic” before the fact», — пишут Ванесса Шварц и Лео Чарней2 в своей книге о взаимодействии кино и модернизма. Модернизм, как нам представляется, тесно связан с особой формой восприятия, воплощением которой явился новый медиум — кино. Вальтер Беньямин, например, предсказывал «обновление человечества» благодаря новому зрению, сформированному кинематографом3. В то же время модернизм считается «нервической» эпохой: конец века характеризовался тесными связями искусства с болезнью, в особенности с неврозом, а литература определялась как «искусство нервов»4. Вообще модернизм понимается как переходное время, когда радикально изменяется само восприятие. С этой точки зрения кино является идеальным выражением современного мироощущения. Кино — эго не причина нового восприятия, но часть целого ряда разных явлений, определяющих возникновение модернизма и включающих урбанизацию,
1 Эта статья обсуждалась на двух конференциях: «Страсти в культурах -Культуры страстей» в Тюбингене в декабре 2007 г. и «Эмоции в русской истории и культуре» в Москве в апреле 2008 г. При работе над ней были учтены замечания многих коллег, в частности Надежды Григорьевой, Конрада Клей-сы, Валери Познер и Игоря Смирнова. Я особенно благодарна Корине Заутер и Эдуарду Фолю за редакторскую и библиографическую помощь. Статья опубликована в сокращенном виде по-немецки в журнале Arcadia 44:1 (2009), Kulturen der Leidenschaften — Leidenschaften in den Kulturen, ed. D. Kimmich, Sch. Schahadat.
2 L. Charney, V. Schwartz, «Introduction», Cinema and the Invention of Modem Life, ed. Charney, Schwartz, Berkeley: Univ, of California Press, 1995, 1.
J W. Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit und weitere Dokumente, Fr.a.M: Suhrkamp, 2007, 15. Но смена восприятия начинается не только с приходом киномедиума. Джонатан Крэри понимает живопись XIX в. как начало «нового зрения», переносящего взгляд с картины на наблюдателя: J. Crary, Techniques of the Observer. On Vision and Modernity in the Nineteenth Century, Cambridge, Mass.: MIT, 1990.
4 Понятие «art des nerfs» впервые появляется в дневнике братьев Гонкур: М. Worbs, Nervenkunst: Literatur und Psychoanalyse in Wien der Jahrhundertwende, Fr.a. M.: Europaische Verlagsanstalt, 1983, 8.
228
Шамма Шахадат
технические нововведения (например, появление фотографии и железных дорог5), а также культурную динамику вообще. Кино оказывается символом современной культуры и «нового человечества», о котором писал Беньямин.
Другим лейтмотивом исследований, посвященных модернизму, является представление о взаимосвязи тела и модернизма, так как именно телу предстояло справиться с ускорением, с возбуждающим воздействием города и с постоянным раздражением нервной системы. О трудностях приспособления к миру новой техники свидетельствовал испуг первых кинозрителей, когда с экрана на них мчался поезд или когда в них стреляли, как это происходило в фильме The Great Train Robbery (1903). В начале XX века формируются эмоциональные отношения между зрителем и фильмом. Борис Эйхенбаум в 1927 году писал в «Проблемах киностилистики»: «Состояние зрителя близко к одиночному, интимному созерцанию — он как бы наблюдает чей-то сон»6, описывая таким образом аффективную связь, редукцию расстояния между зрителем и фильмом.
В данной статье я попытаюсь показать эмоциональные изменения, произошедшие в медиуме кино в контексте модернизма. Я собираюсь проанализировать сигнатуры аффектов, акцентируя внимание на отношениях между фильмом и зрителем, точнее — зрительницей: поскольку в дореволюционном немом кино, в особенности мелодраме, блистали звезды женского пола и направлено оно было прежде всего на женскую аудиторию7, гендерные вопросы становятся центральной темой обсуждения. Таким образом, моя статья в значительной части будет посвящена связям между фильмом (и особенно мелодрамой), эмоциями и модернизмом.
Предлагаемая статья состоит из трех частей. В первой я скажу несколько слов о русском немом кино 1910-х годов и о жанре мелодрамы. Теоретические дебаты вокруг мелодрамы в кино развернулись по поводу американской мелодрамы 1950-х годов8. Аме
5 О железнодорожной теме в модерне см. W. Schivelbusch, The Railway Journey: Trains and Travel in the 19th Century, N.Y.: Urizen Books, 1979.
6 Б. Эйхенбаум, «Проблемы киностилистики». Он же, Поэтика кино, Л.: Кинопечать, 1927, 21.
7 Согласно 3. Кракауэру, нет такого китча, который превосходил бы жизнь, и «самые лживые образы» на самом деле «украдены из жизни», и их носители — это служанки, девицы и машинистки (Tippmamsells): S. Kracauer, «Die kleinen Ladenmadchen gehen ins Kino» [1927], Id., Das Ornament der Masse. Essays, Fr.a.M.: Suhrkamp, 1977, 280.
8 P. Brooks, The Melodramatic Imagination, New Haven: Yale UP, 1976; Th. El-saesser, «Tales of Sound and Fury», Home is where the Heart is: Studies in Melodrama and the Woman’s Film, ed. C. Gledhill, London: BFI Publishing, 1987; L. Mulvey,
Русская киномелодрама между Серебряным веком...
229
риканские теории концентрируются особенно на эксцессив-ных эмоциях, зачастую скрытых, латентных. Русские же мелодрамы 10-х годов отличаются тем, что показывают редуцированные жесты, фиксируя их скорее в статичных картинах и текстах надписей, нежели в движениях.
Во второй части я более подробно проанализирую эмоциональный репертуар русских немых киномелодрам, различая среди них три типа: городские, семейные и патриархальные9. Городские мелодрамы развивают декадентский символистский топос belle dame sans merci, или femme fatale, производя смещение с любовного желания к желанию обладания материальными благами. В семейных киномелодрамах конфликт возникает внутри семьи, приводя к соперничеству за объект желания между сестрами или между матерью и дочерью. Патриархальная мелодрама разыгрывается в пространстве русской деревни (Луиз МакРейнольдс называет их «драмами домостроя»10) и демонстрирует конфликт между индивидуальным желанием и патриархальными общественными устоями. Тема практически всех мелодрам — любовь и связанные с ней ярость и разочарование. Но эту повышенную эмоциональность часто дестабилизирует логика обмена: бедный муж обменивается на богатого любовника, то есть желание любви заменяется желанием вещи, как, например, в Молчи, грусть, молчи (1918) или в Детях века (1915), живая любовница обменивается на мертвую жену, как в Грезах (1915), любовница без средств — на ее богатую сестру (Жизнь за жизнь, 1916), а любимый мужчина — на больную дочь, в силу материнской любви (За счастьем, 1917).
В третьей части я покажу связь мелодрамы с модернизмом, рассмотрев эту проблему с двух точек зрения, а именно как, с одной стороны, идею, являвшуюся центром символистского мышления, вытесняет реальная вещь, то есть как знак сменяет материя, и, с другой, как русские немые киномелодрамы участвовали в развертывании гендерного медиадискурса начала XX века. Именно городские мелодрамы занимаются гендерной тематикой, используя литературные и сублитературные тексты русских писательниц,
«Notes on Sirk and Melodrama», ibid.; L. Mulvey, «‘It will be a magnificent obsession’: The Melodrama’s Role in the Development of Contemporary Film Theory», Melodrama. Stage. Picture. Screen, ed. J. Bratton, J. Cook, C. Gledhill, Bloomington: Indiana UP, 1994.
9 Мэри Энн Доэйн различает деревенскую и городскую мелодрамы: М. Doane, «Melodrama, Temporality, Recognition. American and Russian Silent Cinema», East-West Film Journal4:2 (1990).
10 L. McReynolds, «Home Was Never Where the Heart Was. Domestic Dystopias in Russia’s Silent Movie Melodramas», Imitations of Life. Two Centuries of Melodrama in Russia, ed. McReynolds, J. Neuberger, Durham: Duke UP, 2002, 128.
230
Шамма Шахадат
изображавших свободную любовь как решающий шаг на пути к эмансипации женщины. При этом эмансипация означала освобождение не только от репрессивных структур семьи, но и от нравственных норм: героини мелодрам действовали не в рамках какого-то символического порядка, а на основе эротического или экономического желания.
1. Русская немая киномелодрама
Начиная с 1908 года — со времени съемок первого русского фильма, как литераторы, так и остальная публика смотрели прежде всего мелодрамы с трагическим концом, так называемым «русским финалом»11. В 1918 году в американском журнале Moving Pictures World сообщалось, что русские фильмы обычно характеризуются «трагической нотой», в отличие от современных им американских кинолент12. При экспорте фильмы часто снабжались альтернативным вариантом с хеппи-эндом. В конце почти каждого из этих фильмов есть, по крайней мере, одна жертва: муж стреляется от отчаяния, потеряв жену, ребенка и работу (Дети века), вора застреливают на месте кражи (Молчи, грусть, молчи), femme fatale перешагивает через труп покончившего с собой любовника, чтобы не опоздать в ресторан Дитя большого города), труппа пьяных мужчин сгорает вместе с трактиром Дочь купца Башкирова) или, в лучшем случае, несчастная в любви девушка слепнет в финале (За счастьем). Разница между русскими финалами-катастрофами и американскими хеппи-эндами очевидна. Например, фильм Гриффита Way Down East (1920) имеет совершенно другую телеологию, развиваясь от кризиса (соблазнение) до разрешения этого кризиса (свадьба), «the movement is [...] from the familial (or maternal) to the conjugal (the marriage), defining the trajectory of the classical Hollywood cinema and infusing the site of the hearth with patriarchal law»13.
11 Ю. Цивьян, «Введение: Несколько предварительных замечаний по поводу русского кино», Великий кинемо. Каталог сохранившихся игровых фильмов России 1908—1919, под ред. В. Ивановой и др., М.: НЛО, 2002, 8.
12 The Moving Picture World 35:5 (1918), 640. Цит. по: Ю. Цивьян, «Введение», Великий кинемо, 8.
13 S. Flitterman-Lewis, «The Blossom and the Bole: Narrative and Visual Spectacle in Early Film Melodrama», Cinema Journal 33:3 (1994), 12. Здесь автор исследует связь между театральной традицией и новой кинематографической техникой в мелодрамах Гриффита Way Down East (1920) и Broken Blossoms (1919). Конец Broken Blossoms никак нельзя назвать счастливым, так как к финалу все важные персонажи умирают: отец убивает свою дочь Люси; Ченг, любивший Люси, стреляет в ее жестокого отца, а в конце закалывает самого себя рядом с трупом Люси.
Русская киномелодрама между Серебряным веком...
231
Иностранные критики объясняли трагизм русской мелодрамы «ужасными славянскими эмоциями»14. Этому культурологическому объяснению Юрий Цивьян противопоставляет генеалогию жанра — театральную традицию мелодрамы, зародившуюся в классической трагедии. Как пишет Цивьян, «своеобразие русского кинематографа и русской массовой культуры — в неустанном стремлении копировать формы высокого искусства», и потому мелодрама — это разыгранная для масс трагедия, которая получает свою «трагическую ноту» именно из жанра высокой трагедии15.
Феминистские теоретики кино прочитывают русские финалы по-другому: в то время как западные мелодрамы демонстрируют ясное различение между добром и злом, мораль русских немых киномелодрам оказывается смутной16, а такая моральная амбивалентность не допускает хеппи-энда с наказанием злых и награждением хороших персонажей. «There is no hint of moral judgment in the films; they are not concerned with what is right or wrong», — пишет Хайде Шлюпманн17. Разворачивающееся действие не дает возможности для реализации поэтической справедливости18; вместо этого русский финал становится «реалистической репрезентацией женских судеб в патриархальном мире»19.
«Русский финал» является лишь одним из признаков дореволюционного кино: русский стиль отличается также медленным темпом и «нарративным синтаксисом» (Цивьян). Относительную статичность Цивьян объясняет развитием дореволюционного русского кино, различая две фазы его развития: с 1908 по 1913 год и с 1913 по 1917 год. Если первая фаза характеризуется определенными «русскими темами», то есть экранизациями произведений русской литературы и наличием в фильмах русских деталей быта, то во второй фазе растет влияние датских и итальянских мелодрам. Кроме того, действие переносится из прошлого в современность, из деревни в город, и местом действия служит уже не русская действигель-
14 Цит. по: Цивьян, Введение, 2002, 9.
15 Там же.
16 Ср. М. Hansen, «Deadly Scenarios. Narrative Perspective and Sexual Politics in Pre-Revolutionary Russian Film», Cinefocus 2:2 (1992); H. Schliipmann, «From Patriarchal Violence to the Aesthetics of Death. Russian Cinema 1909—1919», Cinefocus 2:2 (1992); M. Doane, «Melodrama, Temporality, Recognition»; J. Gaines, «Prerevolutionary Theory / Prerevolutionary Melodrama», Discourse \Т.Ъ (1995).
17 H. Schliipmann, «From Patriarchal Violence to the Aesthetics of Death», 4.
18 «The void at the end of many of these films, for a spectator accustomed to the Hollywood mode, is linked to the absence of a textual balancing act associated with the concept of narrative justice. Events take place, but they are not organized in the direction of a binding of meaning, morality, and desire», Doane, «Melodrama, Temporality, Recognition», 79.
19 M. Hansen, «Deadly Scenarios...», 11.
232
Шамма Шахадат
ность, а декадентский интерьер20. Так как в России производство фильмов началось довольно поздно, русское немое кино перескочило через период трюковых фильмов с гонками и преследованиями21, вскоре обратившись к более медленной мелодраме. В сравнении с американской и французской «кино-драмой», русский стиль определялся как «кино-новелла»22. В этой связи Юрий Цивьян цитирует русского сценариста и режиссера Федора Оцепа, который в 1913 году описал три киношколы: американскую школу движения, европейскую школу форм и русскую школу психологии23. Эта «русская» психологическая киношкола, как пишет Цивьян, развила так называемую «immobility doctrine», в которой предпочитались медленные движения актеров. Поэтому страсти в дореволюционном русском кино часто изображаются в длинных, замедленных картинах и в театральных позах24.
Третьим характерным признаком раннего русского кино является «нарративный синтаксис» фильма. Цивьян сравнивает просмотр фильма с чтением книги, во время которого «“страницы” текста чередуются со “страницами” изображения и обладают теми же правами»25. Цивьян возводит эту технику «чтения» к русскому литературоцентризму — типичному для русской культуры восприятию мира (и искусства) как текста26. Эта манера восприятия является важной для эстетики воздействия русских мелодрам, ибо зритель не включается в фильм, как это происходит в классическом кино Голливуда, но просматривает статические картины и надписи, что напоминает созерцание лубка или чтение книги, то есть зритель находится вне рамок фильма, подобно стороннему наблюдателю. Другой прием «отчуждения» зрителя — это введение в
20 Y. Tsivian, «Russland vor der Revolution», Geschichte des internationalen Films, ed. G. Nowell-Smith, Stuttgart: Metzler, 1998, 149—52.
21 Ibid., 150.
22 Y. Tsivian, «Le style russe», Le cinema russe avant la revolution, ed. A. Kher-roubi, Paris: Ramsay, 1989.
23 Y. Tsivian, «New Notes on Russian Film Culture between 1908 and 1919», The Silent Cinema Reader, cd. L. Grieveson, P. Kramer, London: Routledge, 2004, 342.
24 Каппельхофф называет картину в кино «картиной чувства» (Empfin-dungsbild) в отличие от раннего кинематографа аттракционов: Н. Kappelhoff, Matrix der Gefiihle. Das Kino, das Melodrama und das Theater der Empfindsamkeit, Berlin: Vorwerk 8, 2004, 20.
25 Tsivian, «Le style russe», 97.
26 Хотя Цивьян сам не говорит о литературоцентризме, он имеет в виду именно это качество русской культуры, характеризуя кинозрителя 10-х годов как «impregne de litterature». О русском литературоцентризме (или граммато-центризме, как его называет Юрий Мурашов) см., напр.: J. Murasov, Jenseits der Mimesis. Russische Literaturtheorie im 18. und 19. Jahrhundert von M. V. Lomonosov zu V. G. Belinskij, Miinchen: Fink, 1993.
Русская киномелодрама между Серебряным веком...
233
фильм саморефлексивных элементов. Герман Каппельхофф видит особенность киномелодрамы именно в том, что она превращает «темное пространство» кино в «переходную зону», в которой и осуществляется перенос чувств27. Эта переходная зона разрешает зрителю самому определить степень своего отчуждения от фильма или включения в него; она выстраивается в фильмах отчасти с помощью саморефлексивных знаков, например, нефункциональных персонажей-наблюдателей, появляющихся в фильме и действующих как «нейтральные представители зрителя» (слуги, прохожие, зрители в театре28), или же нефункциональных вещей типа зеркал, окон и рамок. Как пишет Томас Эльзессер в тексте об окнах и рамках, авторефлексивные вещи и персонажи как бы отставляют зрителя на безопасное расстояние от действия29. Таким образом, зритель, наблюдающий эмоциональные сцены через рамку, окно или же глазами одного из персонажей, пребывает в амбивалентной позиции: он находится одновременно далеко от действия и близко к нему. Игорь Смирнов выдвигает тезис, что именно сцены такого «двойного зрения» и вызывают амбивалентную эмоциональность у зрителя:
Мелодрама позволяла нагрузить двойное кинозрение таким воздействующим на реципиентов эмоциональным зарядом, который вызывал у них разнокачественную, разорванную реакцию [...]. Основной эмоциональный эффект киномелодрамы состоял в том, чтобы спровоцировать у ее потребителей взаимоотрицающие чувства (возникающие в процессе партиципирования действия и отчуждения от него), т.е. подвергнуть воспринимающих субъектов шоку, позволить и не позволить им отождествить себя с персонажами фильма [...]30.
Показательную сцену двойного зрения можно найти в фильме Грезы Евгения Бауера, где главный герой, скорбящий о своей умершей жене, находится на оперном спектакле, копируя тем самым ситуацию реального зрителя, находящегося в кино. Смирнов называет это явление «гуманизацией машинной визуальности»31, в результате которой, как он пишет, фильм как бы возвращается к театру и зрение становится человеческим, а не техническим актом.
27 Kappelhoff, Matrix der Gefiihle, 14.
28 Об этом пишет Игорь Смирнов, «Двойное зрение. Киногенезис (1908— 1919)», Медиафилософия, под ред. В. Савчук, Санкт-Петербургское философское общество, 2008, 241.
29 Th. Elsaesser, М. Hagner, Filmtheorie. Eine Einjuhrung, Fr.a.M.: Junius, 2004.
30 Игорь Смирнов, «Двойное зрение», 251.
31 Там же, 236.
234
Шамма Шахадат
Итак, дореволюционное русское кино, и в особенности мелодрама, отличается трагическим концом, медленным темпом и специфическим «нарративным синтаксисом», сближающим просмотр фильма с чтением и отставляющим зрителя на эмоциональное расстояние от действия. Встает вопрос: как обстоит дело с эмоциями в самих мелодрамах? Западные теории мелодрамы Питера Брукса, Томаса Эльзессера и Лоры Мальви исходят из эксцессивной эмоциональности. Русская мелодрама, напротив, обладает признаком, который можно было бы связать с контекстом модернизма: эмоции соперничают с потреблением и деньгами. Во многих фильмах герои, и особенно героини, в конечном итоге предпочитают материальные блага, тем самым отодвигая чувства на второй план.
2. Эмоциональный репертуар в русской немой киномелодраме
Питер Брукс обнаруживает во французской театральной мелодраме «возвышенную эмоциональность» и называет свою книгу о мелодраме «книгой об эксцессе» («а book about excess»)32; Ноуэль-Смит говорит в связи с мелодрамами Винсента Минелли об истерии и эксцессе33. Высказывания такого рода характерны для западной дискуссии о мелодраме, определяющей мелодраму либо как пространство, где разыгрываются страсти (Брукс), либо как жанр подавленных эмоций34. Как считает Каппельхофф, американский кинодискурс видит в мелодраме «дисфункцию» голливудского кино, в котором невыразимое обычно исключено. Каппельхофф противопоставляет этой «матрице чувств» «диспозитив сентиментального наслаждения», тем самым передвигая центр тяжести с эксцессивных эмоций, выраженных или подавленных в театре, на отношения между фильмом и зрителем. Мелодраматическое кино, по Каппельхоффу, является «такой формой выражения, при которой изображенное движение становится мотором театрализации, подчеркивающей муки и страдания, что сказывается прежде всего в воздействии на публику»35.
32 Brooks, The Melodramatic Imagination, ix.
33 G. Nowell-Smith, «Minelli and Melodrama», Home is Where the Heart is, 73-74.
34 Эльзсссер исходит из того, что американская киномелодрама построена на логике эмоций, а это приводит к тому, что атмосфера в фильме характеризуется постоянным кипением истерии: Elsaesser, «Tales of Sound and Fury», 59.
35 Kappelhoff, Matrix der Gefiihle, 19—20. Каппельхофф противопоставляет этот кинематограф чувств кинематографу действия, описанному Эльзессером.
Русская киномелодрама между Серебряным веком...
235
В этой перспективе русская немая киномелодрама 1910-х годов играет особую роль: хотя эксцессивные эмоции (прежде всего любовь и страсть) являются двигателем сюжета, эти эмоции нередко оказываются всего лишь пустыми оболочками. Эмоции часто выступают в форме сексуального желания у героев мужского пола или в виде страсти к потреблению у героинь. Они могут проявляться и как аллюзии на романтическую или символистскую любовь36. Сдерживаемое возбуждение обнаруживается в ограниченных способах эмоционального самовыражения персонажей37: тяжелое дыхание часто намекает на внутреннее возбуждение, которое поясняется в титрах38, что только подтверждает вышеупомянутое наблюдение Ю. Цивьяна о «чтении» фильма. Можно предположить, что литературоцентричная, или «грамматоцентричная», русская культура совершает переход от логоса к imago постепенно. Этим можно объяснить и многочисленные экранизации литературных произведений, характерные для русского и советского кино.
Какую же роль играют страсти в мелодраме вообще и в русской дореволюционной мелодраме в частности? И о каких страстях идет речь? В своей книге о поэтике аффектов Буркхард Мейер-Сиккен-дийк развил жанровую типологию аффектов, приписав каждому жанру свои эмоции. Эмоциями, характерными для мелодрамы, он считает «тоску» и «ревность». Ключевой сценарий мелодрамы он описывает так: «Любовь, которой угрожают темные силы, обстоятельства или злые соперники»39. Драматическую силу мелодрамы исследователь видит в борьбе между долгом и желанием, которая определяет основной конфликт и буржуазной драмы, однако в мелодраме этот конфликт ограничивается личной сферой.
Этот ключевой сценарий с некоторыми изменениями действует и в русской немой киномелодраме: и в ней тоска, любовь и ревность являются теми чувствами, которые находятся в центре филь
36 Эго демонстрирует Рейчел Морлей в своей статье о Детях века: R. Morley, «Crime without punishment: reworkings of nineteenth-century Russian literary sources in Evgenii Bauer § Child of the Big City», Russian and Soviet Film Adaptations oj Literature, 1900—2001. Screening the word, ed. S. Hutchings, A. Vernitski, London: Routledge, 2005.
37 Напр., у Веры Холодной: Р. Соболев, Люди и фильмы русского дореволюционного кино, М.: Искусство, 1962, 142.
38 Эго тяжелое дыхание является, например, барометром чувств в фильме Жизнь за жизнь: когда Ната признается своей приемной матери, что не любит мужа, зато любит мужа «сестры» (т.е. на самом деле дочери своей приемной матери), она сперва тяжело дышит, что потом объясняется в титрах: «Я несчастливая, мама. Я не люблю моего мужа ... никогда не любила его».
39 В. Meyer-Sickendiek, Affektpoetik. Eine Kulturgeschichte literarischer Emo-tionen, Wiirzburg: Konighausen & Neumann, 2005, 52.
236
Шамма Шахадат
ма. Но здесь эти страсти скрещиваются с альтернативными структурами желаний: с одной стороны, с эротическим желанием, отсылающим к роману соблазнения XVIII века, а с другой стороны, с характерным мотивом модерна, состоящим в свойственном прежде всего персонажам женского пола желании обладать материальными объектами. Часто героини жертвуют семейным счастьем ради финансовой выгоды, так что любовь оказывается лишь пустым знаком. Когда в своей книге о связи любви и потребления Ева Иллуз описывает любовь, а точнее, романтическую любовь, как эмоцию, подчиненную «двойному влиянию экономической и политической сферы» и к тому же включающую «непосредственный телесный опыт», она помещает любовь в культурное пространство, охватывающее «картины, произведения искусства и повествования»40. Исследовательница выдвигает тезис, что любовные переживания зависят от культуры, в которой они развиваются. Если применить его к русским немым киномелодрамам, то обнаружится, что, поскольку они погружены в контекст современной меркантильной культуры, экономика в них часто определяет любовь.
Западные теории мелодрамы объясняют происхождение мелодраматического киножанра его связью с театральной мелодрамой, а именно с театром Французской революции. Главные признаки этого мелодраматического театра, по Бруксу, заключаются в эксцессе, экспрессивности и крайностях разного рода, причем экспрессивность выступает здесь как знак гиперболической риторики мелодрамы41. Эксцессивны «немые картины»42, а крайность определяет нравственные и эмоциональные состояния персонажей. Манихейская логика мелодрамы, балансирующая между добром и злом, исключает середину. Для Брукса мелодрама пребывает в поле напряжения между эмоциональностью и нравственностью, между добром и злом, для нее нет никаких промежуточных нюансов. Главный герой такого сценария — наделенное значением тело («the body seized by meaning»)43.
Томас Эльзессер в своем психоаналитическом исследовании голливудских мелодрам 50-х годов (особенно Дугласа Сёрка)
40 Е. Illouz, Der Konsum der Romantik. Liebe und die kulturellen Wlderspruche des Kapitalismus, Fr.a.M.: Suhrkamp, 2007, 28, 30.
41 Brooks, The Melodramatic Imagination, 56, 40.
42 «Melodrama [...] is an expressionistic form [...]. The play typically seeks total articulation of the moral problems [...]. Yet here we encounter the apparent paradox that melodrama so often, particularly in climactic moments and in extreme situation, has recourse to non-verbal means [...]. Words, however unrepressed and pure [...] appear not wholly adequate to the representation of meanings», Brooks, The Melodramatic Imagination, 56.
43 Ibid., 15-18.
Русская киномелодрама между Серебряным веком...
237
продолжает развивать эту идею говорящего тела: он обращает внимание на симптоматическое поведение тела, показывающего то, что не поддается рассказу44. В дальнейшем Лора Мальви переносит эту «симптоматологию» на американское буржуазное общество 50-х годов, связывая психоанализ с критикой общества. Она говорит о «коллективной фантазии», разыгрывающейся в киномелодраме того времени: «the popular cinema is more symptomatic of the social and historical»45.
Русскую немую киномелодраму непросто вписать в эти западные теории. У нее другое происхождение, и, поскольку она пережила расцвет в предреволюционном модернизме, ее культурный контекст тоже совсем иной. Иногда и русская мелодрама бывает эксцессивной — например, в фильме За счастьем (1917), где мать и дочь влюблены в одного мужчину, и любовный треугольник приводит к тому, что дочь теряет зрение; или в фильме Дочь купца Башкирова (1913), где героиня после того, как над ней надругались, запирает своих обидчиков в трактире и поджигает его. Но часто в мелодраме мы наблюдаем и «среднюю» эмоциональную температуру, когда эмоциональная логика уступает экономической.
Источники русской киномелодрамы 1910-х годов можно найти, помимо прочего, в театральной традиции Московского Художественного театра46, потому что многие звезды немого кино пришли из МХТ47. Эстетика МХТ основывалась на многозначительных
44 Эльзессер связывает расцвет американской мелодрамы с открытием американцами Фрейда. Он находит в мелодраме такие приемы, как смещение, подмена и метафоричность: Elsaesser, «Tales of Sound and Fury», 58—59.
43 L. Mulvey, «‘It will be a Magnicifent Obsession’», 126.
46 Y. Tsivian, «Le style russe», 93. Драмы Чехова, впервые получившие успех в МХТ, также основывались на этой вытесненной эмоциональности. Они прятали эмоции в подтекст неизреченного, который только намекал на переживания героев. Хорошим примером для этого служит начальный диалог «Чайки» (1896): «Медведенко: Отчего вы всегда ходите в черном? / Маша: Эго траур по моей жизни. Я несчастна. / Медведенко: Отчего? (В раздумье.) Не понимаю...»; А. Чехов, Собрание сочинений. Пьесы, т. 10, М.: Правда, 1950, 120. Печаль Маши косвенно выражается в черном платье.
47 Многие звезды немого кино были актерами, прошедшими через школу Станиславского. См. об этом N. Zorkaja, «Les stars du muet», Le cinema russe avant la revolution, 44. Так как профессионального образования для актеров кино не существовало, большая их часть приходила из театров, а именно из МХТ. С другой стороны, и люди безо всякого актерского образования становились звездами, как, например, Вера Холодная, «королева экрана» и самая крупная женская звезда в русском немом кино. Соболев считает эту практику найма необученных дилетантов и подчинения их логике кинопроизводства предвестником авангардистской техники натурщиков, ставящей в центр медиум фильма (в отличие от Станиславского, который считал центром представления своих актеров): Соболев, Люди и фильмы дореволюционного кино, 99- 100.
238
Шамма Шахадат
паузах, сдвигавших эмоции в подтекст и подчеркивавших «пробелы» вместо сильных эмоциональных жестов. Но помимо этой традиции, перенесенной из театра в кино при помощи затянутых кадров и замедленного темпа48, мелодрама развивала свой собственный код. Оксана Булгакова говорит о «живописной (pictorial) манере игры», использующей иконографические жесты живописи49. Другим таким кодом был код истерии, занесенный символистами из Парижа Шарко в Россию. Так, герой Детей века (1915) Евгения Бауэра, потерявший жену, ребенка и работу, напоминает своими жестами истеричек, сфотографированных Шарко50. В русскую киномелодраму поза пришла, по мнению Цивьяна, из итальянской оперы, а медленный стиль игры — из Художественного театра51.
Какими особенностями характеризуется русский киномело-драматический эмоциональный репертуар, включающий в себя прежде всего любовь, тоску и отчаяние? Во-первых, ему свойственны редуцированные жесты, медленный стиль актерской игры, выражающийся скорее в «образе-времени», чем в «образе-движении» (Делёз)52. Образ-время поясняется титрами. Сильное возбуждение проявляется, как уже было сказано, в тяжелом дыхании, при этом сам герой остается статичным (ил. 1). Во-вторых, русская немая киномелодрама далека от манихейства, она амбивалентна, в ней нет жесткого разделения на хороших и плохих персонажей. Логика эмоций здесь уже не действует, но трансформируется по законам модернизма, подчиняясь экономическим обстоятельствам, эротическому желанию, занимающему место романтической любви, а также растущей самостоятельности женщины53. Если мужское желание направлено обычно на тело женщины, то женское желание нацелено на материальные блага: героини стремятся к финансовой обеспеченности, красивым платьям и светской жизни. Поскольку медиум фильма располагает
48 Tsivian, «Le style russe», 93.
49 О. Булгакова, Фабрика жестов, М.: НЛО, 2005, 21. Булгакова согласна с Цивьяном в том, что русская немая киномелодрама является скорее «языком читаемым», нежели видимым.
50 Tsivian, «Russland vor der Revolution», 151.
31 Tsivian, «Le style russe», 93.
32 Делёз различает в своей работе о кино «образ-движение», навеянный Бергсоном (кино 1), и «образ-время», восходящий к итальянскому неореализму (кино 2): G. Deleuze, Das Bewegungs-Bild. Кто 1, 21989; Das Zeit-Bild. Кто 2, Fr.a.M.: Suhrkamp, 21999.
э3 В фильме Грезы, переполненном символистскими цитатами, герой хочет воскресить свою мертвую жену в живой любовнице. Телесность реальной женщины ему противна — но как раз этот момент и отсылает к символистской эстетике.
Русская киномелодрама между Серебряным веком...
239
Ил. 1: Жизнь за жизнь, 1916.
только материальной поверхностью, то и во многих мелодрамах утверждается «внешнее» и отрицается «внутреннее» измерение жизненного мира. Например, в фильме Молчи, грусть, молчи (1918) Петра Чардынина цирковая артистка Пола выступает объектом желания. Ее муж, артист Лорио, будучи пьян, падает во время представления и становится инвалидом. Группа молодых мужчин замечает Полу в цирке, а потом на улице, где она с мужем играет на гитаре и поет. Любители развлечений приглашают их обоих на холостяцкую вечеринку. Богатый коммерсант Праков хочет, чтобы Пола осталась у него, и дарит ей драгоценное ожерелье, предлагая еще и большую сумму денег. Пола возмущенно отказывается, но когда денежная ситуация в семье становится невыносимой, она уходит от мужа и становится любовницей Прахо-ва. Для нее начинается роскошная новая жизнь. Когда же Пола надоедает Прахову, он пытается «продать» ее одному из своих приятелей, и она находит другого любовника, Зарницкого. Роман кончается плохо: Зарницкий — игрок, постоянно рискующий своим состоянием. Однажды, когда Пола поет на вечеринке, Зарницкий выбирает момент, когда никто не обращает на него внимания, и пытается вскрыть сейф хозяина. Но срабатывает сигнализация, и хозяин, «заметив в полумраке какую-то фигуру,
240
Шамма Шахадат
выстрелил и наповал уложил несчастного Зарницкого...»54. Зритель этой картины знакомится исключительно с событийной, феноменальной стороной действительности, а отнюдь не с духовными исканиями персонажей.
Таким образом, внешность, поверхность оказываются в центре кинематографа, который в 1910-е годы всё еще не признан полноправным искусством. Фильмы населены, с одной стороны, телами, а с другой, вещами. «Enter the world of Russian filmmaker Evgeny Bauer and you enter a world of things», — пишут Луиз МакРей-нольдс и Джоан Нойбергер55. Фильмы заполнены телефонами, пудреницами, детскими игрушками, часами, статуями. Вещи, как и тела, можно истолковать как ответ на фиксацию символистов на духе и идеях. Героини в фильмах стремятся прежде всего к вещам; они ищут не любви, но богатства. При этом вещи не являются знаками потустороннего, трансцендентного мира, более реального, чем чувственная реальность: вещи в кино твердо укоренены в действительности. Вещи служат фетишами. Как пишет вслед за Георгом Зиммелем Хартмут Бёме, они становятся «центром излучения, под обаяние которого попадает субъект... Фетиш наделяет продукт маской странности, придающей ему магию и ауру товара»56. Вещи обещают киноперсонажам (как правило, женщинам) другую, чужую жизнь, которая в любом случае лучше их собственной. В Молчи, грусть, молчи переход Полы от старой (бедной) к новой (богатой) жизни обозначается тем, что она надевает ожерелье, подаренное ей Праховым. С ожерельем на шее Пола начинает грезить о новой жизни. Человек и вещь взаимозаменяются, обмениваются местами. Пола не злодейка, но ей присуща амбивалентность современной женщины.
Русская немая киномелодрама как жанр модерна подхватывает формулы более старых жанров, модифицирует и трансформирует их, как это показала Рэйчел Морлей в своем анализе фильма Дитя большого города (1914). Исследователи русского немого кино обычно считают, что Бауэр, в отличие от других режиссеров своего времени, не экранизировал русскую классическую литературу XIX века. Морлей же доказала, что классика в фильмах Бауэра присутствует, но претерпевает сильную субверсивную трансформацию. Так, например, Дитя большого города переворачивает традицион
54 Великий кинемо..., 452.
55 McReynolds, Neuberger, «Introduction», Imitations of Life, 1.
56 H. Bohme, «Fetischismus im 19. Jahrhundert. Wissenschaftshistorische Analysen zur Karriere eines Konzepts», Das schwierige neunzehnte Jahrhundert. Germanistische Tagung zum 65. Geburtstag von Eda Sagarra, ed. J. Barckhoff, G. Carr, R. Paulin, Tiibingen: M. Niemeyer, 2000, 461.
Русская киномелодрама между Серебряным веком...
241
ные женские амплуа: богатый молодой человек Виктор ищет подругу, олицетворяющую невинный и чистый тип женщины XIX века. Когда он знакомится со швеей Маней, ему кажется, что он нашел свой идеал. Но Маня скоро превращается в Мэри, осваивает светский стиль жизни и бросает Виктора. Тот, разочарованный, стреляется перед дверью нового любовника Мэри. Безо всякого сочувствия Мэри — на каблуках — переступает через труп, чтобы не опоздать в ресторан. Морлей показывает, как прототипами фильма стали, подвергнувшись при этом деструкции и трансформации, герои «Преступления и наказания», «Невского проспекта» и «Отцов и детей». На экране «Преступление и наказание» превращается, как пишет Морлей, в преступление без наказания. Кинематографические персонажи попадают в моральный вакуум. Если герой еще напоминает «лишнего человека» XIX века, то героиня уже развилась в «новую женщину» с присущей ей новой отличительной чертой — эмоциональной пустотой. Луиз МакРейнольдс называет героиню немого кино «амбивалентной ролевой моделью».
Семейная мелодрама основана на иных историях, нежели городская. Мелодрама располагается, по МакРейнольдс, на точке пересечения дискурсов домашности и «психотических репрессий»57, хотя этот вывод касается только субжанра семейной мелодрамы58, к которой принадлежат уже упомянутый За счастьем и Жизнь за жизнь (1917) Е. Бауэра. В фильме За счастьем мать, Зоя Верейская, приносит себя в жертву подрастающей дочери Ли. Богатая вдова Верейская уже десять лет состоит в любовной связи с адвокатом Гжатским, но скрывает эти отношения от Ли, поскольку девочка, как Верейская объясняет Гжатскому, «слишком любила отца». Ли страстно влюбляется в Гжатского и так сильно заболевает из-за своей влюбленности, что врач предсказывает ей слепоту, если она не сменит образ жизни. Когда мать понимает, что причина болезни Ли — Гжатский, она просит его жениться на Ли. Гжатский решительно отказывается, мать и дочь чувствуют себя преданными, и в финале фильма Ли слепнет.
Эта «кинематографическая версия эдипального треугольника»59 является драмой неосуществленного желания и в то же время драмой познания. Гжатский желает мать, но та отказывает ему из-за привязанности к Ли и переводит свое собственное желание
37 McReynolds, «Ноте Was Never Where the Heart Was», 127—151.
58 Ibid., 133, автор говорит о «материнской мелодраме», соотносящейся с моделью Э. Каплан «Master Mother Discourse»; см. Е. Kaplan, «Mothering, Feminism and Representation. The Maternal Melodrama and the Woman’s Film 1910—1940», Home is Where the Heart is. Каплан различает два основных типа матери: жертву и жестокую сексуальную мать-садистку, 116.
59 McReynolds, «Ноте Was Never Where the Heart Was», 135.
242
Шамма Шахадат
в гипертрофированную материнскую любовь; Ли желает Гжатского и в то же время игнорирует всякую форму дочерней любви. Хотя большая часть фильма состоит из меланхолических сцен (ил. 2), эмоциональная атмосфера нарушается после своего рода «первичной сцены» (Urszene) познания (Верейская и Гжатский подслушивают, как Ли рассказывает поклоннику о своей любви к Гжатскому), после чего истеричность нарастает. Движения киноперсонажей освобождаются от меланхолии и становятся динамичнее, их руки и тела начинают подергиваться (ил. 3). Истерическая динамизация тел достигает одновременно кульминации и финальной остановки в той сцене, где Ли поражает истерическая слепота.
Здесь представлена модель романтической (неосуществленной) любви, которая обнажает свою экономическую основу и потому не так далеко отходит от тех мелодрам, в центре которых стоит «новая женщина». Верейская торгуется с Гжатским о цене жизни своей дочери, требуя, чтобы он пожертвовал собой ради здоровья Ли. Таким образом, Гжатский становится объектом обмена: Бауэр подменяет гендерные роли, поскольку символический порядок в обществе традиционно основывается на обмене женщинами. Сцена, зеркальная по отношению к этому обмену, есть в фильме Жизнь за жизнь, где тема обмена заявлена уже в названии. Этот фильм также показывает отношения внутри любовного треугольника, только здесь в него вовлечены две сестры. Ната, приемная дочь в доме миллионерши Хромовой, вступает в любовную связь с князем Бар-тинским. Бартинский — игрок, и ему нужны большие деньги, поэтому он хочет жениться на Мусе, настоящей дочери Хромовой. Купец Журов предлагает помочь Бартинскому в сватовстве, но в обмен за свое посредничество требует Нату. Результатом этих переговоров становятся две пары, страдающие от безответной любви, так как Муся любит князя, купец любит Нату, Ната любит князя, а князь вообще никого не любит60.
В этом фильме эмоции тоже развиваются на экономической основе: происходит обмен женщинами в смысле Леви-Стросса61. Все персонажи, кроме Муси, действуют из денежных соображений: миллионерша хочет получить князя для своей родной дочери, князь хочет завладеть состоянием Хромовой, Ната хочет обеспечить себе безбедную жизнь, купец хочет жениться на Нате и в качестве объекта обмена предлагает князю Мусю. Единственный персонаж, стоящий вне этой экономической циркуляции, — Муся, кажущаяся
60 И эта мелодрама кончается русским финалом: Хромова убивает зятя после того, как тот погубил ее дочь и, кроме того, обманывал ее с Натой.
61 С. Levi-Strauss, Les Structures elementaires de la parente, Paris: PUF, 1949.
Русская киноме.юдрама между Серебряным веком...
243
Ил. 2: За счастьем, 1917.
Ил. 3: За счастьем, 1917.
244
Шамма Шахадат
при этом наивной и жалкой. Она не только тратит свои деньги, но и жертвует собой ради любви к князю. Меланхоличная, статичная героиня, безмолвно сносящая все несчастья, она изображается сидящей на стуле в задумчивой позе. Бауэр использует здесь известную иконографию меланхолии (ил. 4).
3. Мелодрама и современность
«Новая женщина» русской немой киномелодрамы ставит экономические интересы выше эмоций. Таким образом, этот жанр становится пограничным между высокой и массовой культурой, между классической русской литературой XIX века и современностью. Тот факт, что новый медиум появился прежде всего в форме мелодрамы, поставил под вопрос саму принадлежность кино сфере искусства. Игорь Смирнов объясняет феномен единства раннего русского фильма и жанра мелодрамы тем, что мелодрама связана с действительностью: если Французская революция способствовала рождению театральной мелодрамы, то революционный медиум кино возвращается к мелодраматическому жанру. В обоих случаях человек освобождается от влияния судьбы и берет действительность в свои руки62.
Однако мелодрама граничит и с другим дискурсом, затронувшим культурную и социальную жизнь в России 10-х годов, а именно с гендерным. Здесь мелодрама также маркирует культурный сдвиг: героиня уже не служит олицетворением вечной женственности, а действует в публичном пространстве. При этом появление нового типа женщины было тесно связано с отказом от идейного творчества, определившего Серебряный век. Женщины освободились от модели вечной женственности, предложенной декадентскими и символистскими художниками, и начали существовать в явном материальном окружении.
Культурные рамки утверждающего себя киномедиума способствовали движению от идеи к материи, от знака к вещи, от чувства к коммерции. Параллельно с этим русский символизм со своей сосредоточенностью на трансцендентном сменился авангардом, ориентирующимся на имманентное. В дальнейшем я покажу, как эти изменения отразились на изображении тела и на гендерном дискурсе, вписанном в киномелодраму.
62 И. Смирнов, «“Доктор Живаго” в его отношении к киноискусству», «Любовь пространства...»: Поэтика места в творчестве Бориса Пастернака, под ред. В. Абашева, М.: Языки славянской культуры, 2008.
Русская киномелодрама между Серебряным веком...
245
Ил. 4. Жизнь за жизнь, 1916.
Мелодрама и тело
Эстетика конца XIX — начала XX века в России была прежде всего эстетикой идейного творчества. В центре этой идейной системы находилось восстановление божественного всеединства. Произведения искусства ориентировались на утопию потерянного рая, где земное расщепление на тело и дух, эрос и агапэ еще не совершилось. Возвращение этих золотых времен выразилось в разнообразных мечтах о конце света. Русская философия любви, достигшая своего апогея в статье Владимира Соловьева «Смысл любви» (1892—1894), была ориентирована в первую очередь на мистическую любовь. У Соловьева «смысл любви» состоит в достижении мистического единства с Богом; человек приближается к божественному всеединству с помощью любви к другому, к своему социальному окружению и, наконец, ко всей вселенной. Статья Соловьева дала исходную концепцию любви многим русским философам и писателям начала XX века.
Не менее мистической и богатой идеями являлась и жизненная практика символистов, доминировавших в культуре начала века. На первый взгляд, при всем разнообразии форм личной жизни,
246
Шамма Шахадат
общей для символистов являлась идея свободной любви: писатели и художники, объединяясь в группы по два-три человека, образовывали союзы с гомо- или гетеросексуальной ориентацией. Однако, как правило, в этих любовных парах и треугольниках отсутствовал культ или даже значение тела и телесного: символисты практиковали безбрачие и зачастую инсценировали мистические свадьбы. Даже философ Василий Розанов, проповедовавший возвращение к телу и сексуальности, не занимался сугубой телесностью, а сакрализовал тело и его части во имя высшей идеи.
Параллельно этому мистически-идейному искусству, сосредоточенному на духовном и превращающему всякое физическое желание в стремление к высшим ценностям, на периферии высокой культуры возникают литература и искусство, игнорирующие дух и всецело посвященные телу. В своей книге «Ключи от счастья» Лора Энгельстайн определяет эту тенденцию как движение от авангарда к бульвару. Исследовательница характеризует улицу как пространство современности, где фигуры передвигаются и вступают в контакт друг с другом на публике. Бульвар, являющийся центральным топосом художественного авангарда 10-х годов, являет собой пространство, альтернативное закрытым литературным кружкам и салонам с их журфиксами и литературно-мистическим сеансам элиты символистской культуры. Город, по Энгельстайн, оказывается местом «культурного сдвига». В 1907 году вышел в свет скандальный роман Михаила Арцыбашева, в котором главный герой, Санин, агрессивный и свободный от каких-либо моральных или идеологических предрассудков, занят исключительно удовлетворением своих гомо- и гетеросексуальных потребностей. Критика увидела в «Санине», с одной стороны, феномен буржуазного индивидуализма и современной меркантильности, а с другой — разоблачение буржуазного притворства63. Нея Зоркая делает вывод, что роман стал скандалом не только из-за шокирующей тематики, но и потому, что Арцыбашев «перевел» свое произведение на язык, понятный для массового читателя, для не-интеллекгуальной, вульгарной или просто провинциальной публики64. Бульварный роман, как и кинематография, и прежде всего киномелодрама, неотделим от публичной сферы, где действуют тела, вдруг оказавшиеся на виду у всех.
Таков фон русской киномелодрамы 1910-х годов — культ идей, с одной стороны, вульгаризация — с другой. Одним из фильмов,
63 L. Engelstein, The Keys to Happiness. Sex and the Search for Modernity in Fin-de-Siecle Russia, Ithaca, NY: Cornell UP, 1992, 359- 360.
64 H. Зоркая, На рубеже столетий. У истоков массового искусства в России 1900—1910годов, М.: Наука, 1976, 531—532. См. также: Engelstein, The Keys to Happiness, 386.
Русская киномелодрама между Серебряным веком...
показавшим столкновение тела и идеи и тем самым сделавшим шаг от трансцендентности к имманентности, стала картина Евгения Бауэра Грезы (1915). По своей эстетике и тематике Грезы ориентированы на современную им «высокую» литературу символизма. Главный герой, Неделин, хранит косу своей покойной жены Елены, смерть которой тяжело переживает, — пока не знакомится с актрисой Тиной, как две капли воды похожей на Елену. Неделин находит в Тине воплощение умершей жены, но Тина не желает приспосабливаться к его грезам: сначала она сопротивляется сакрализации образа покойной, а затем начинает издеваться над фетишами Неделина, который становится все более безумным и несчастным. Когда Тина, выхватив косу жены из рук Неделина, кружится с ней в танце на карнавале, Неделин в ярости душит девушку этой косой. В фильме можно обнаружить целый ряд символистских тем: оригинал и копия, двойничество, возвращение из царства мертвых, фетишизм. Но если в символизме те, кто возвращается из царства мертвых, таинственным образом отбрасываются назад65, то в фильме Бауэра героиня (живая копия мертвого оригинала) погибает в результате банального убийства. Живая женщина, не желая повторять покойницу и тем самым превращаться в пограничное между жизнью и смертью существо, становится жертвой убийцы. Эго убийство восстанавливает изначальный порядок, воссоздает границу между миром живых и миром мертвых. Борьбу Тины против мертвой жены Неделина можно интерпретировать и как борьбу авангарда, противопоставляющего вещь (действительность) угасающему искусству символизма66.
Сакрализация женщины, которую предпринимает в этом фильме Бауэр, — уже лишь слабый отзвук первоначального символистского мифа, цитируемого и трансформируемого в кино. Символисты превращали женщину в персонаж художественного текста не только в искусстве, но и в жизни. Александр Блок, Андрей Белый и Сергей Соловьев считали жену Блока, Любовь Дмитриевну Менделееву, олицетворением небесной Софии на земле. В символистской модели мира это смешение жизни и текста, жизни и смерти,
65 Как, напр., в рассказе «Тень Филиды» (1907) Михаила Кузмина.
66 Официальным концом русского символизма считается 1910 год, когда начался спор между «старшими» и «младшими» символистами. Очерк «Заветы символизма» Вячеслава Иванова и текст, написанный в полемике с ним, «О речи рабской в защиту поэзии» Валерия Брюсова отмечают кризис символизма. Символисты и в дальнейшем продолжали писать символистские тексты, Андрей Белый делал это до самой смерти в 1934 году. Но именно 10-е годы определили смену символизма авангардистскими течениями. См. A. Hansen-Love, «Zur Periodisierung der russischen Moderne. Die “dritte Avantgarde”», Wiener Slawistischer Almanach 32 (1993).
248
Шамма Шахадат
имманентного и трансцендентного еще продолжает функционировать, тогда как в немой киномелодраме Бауэра оно уже не действует. Женщина сопротивляется слиянию мертвого и живого, выражая свое сопротивление при помощи эксцессивных жестов, как, например, в финальной сцене Грез. копия умершей героини кружится в демоническом танце с косой покойницы в руках, словно призывая героя, уже не различающего грани между жизнью и смертью, совершить убийство при помощи фетиша. Танец с косой мертвой жены, с одной стороны, является цитатой декадентской иконографии (танец Саломеи), а с другой, разрушает символистскую утопию двое-мирия, то есть представление о двух сосуществующих мирах, из которых истинным оказывается мир трансцендентный.
Оксана Булгакова описывает, как натуралистический театр элиминировал жесты, как «безжестие» стало программой, а жесты вытеснились в цирк или в поведенческий канон футуристов, которые были, как известно, анти-символистами. Лишь в 10-е годы жесты возвращаются, являя собой нечто среднее между пассивной «восточной» позой полулежа и отрывистыми, дикими танцевальными па67. Карнавальный танец в Грезах опирается на символистский код жестов, но обращается уже к массовой культуре, к «дикому танцу». К тому же истерические жесты часто можно наблюдать у героев мужского пола: как нервный художник-декадент модерна, наследник истеричек Шарко XIX века, так и мужчина в немом кино часто терял самообладание и совершал телодвижения в стилистике истерической иконографии.
Одним из эффектов коммерциализации фильма было появление нового типа видения, а вместе с ним и нового типа зрителя. Изучение докинематографической эпохи выявило множество жанровых предшественников кино, которые первое время мирно сосуществовали с ним: волшебный фонарь68, панорама69, фотография и развлекательная культура на рубеже XIX—XX веков — варьете, мюзик-холл, водевиль70. На ранней фазе своего существования кино являлось всего лишь одним аттракционом среди прочих71 и
67 Булгакова, Фабрика жестов, 92 -96.
68 К. Bartels, «Proto-kinematographische Effekte der Laterna magica in Literatur und Theater des achtzehnten Jahrhunderts», Die Mobilisierung des Sehens. Zur Vor-und Friihgeschichte des Films in Literatur und Kunst, ed. H. Segebeig, Miinchen: Fink, 1996.
69 A. Koschorke, «Das Panorama: die Anfange der modernen Sensomotorik um 1800», Die Mobilisierung des Sehens.
70 Ch. Maintz, «Harlekine der Leinwand. Von der Theater- zur Filmkomik», Schaulust. Theater und Film — Geschichte und Intermedialitat, ed. Maintz, O. Mobert, M. Schumann, Miinster: Lit-Verlag, 2002.
71 J. Paech, Literatur und Film, Stuttgart: Metzler, 21997, 2 и далее.
Русская киномелодрама между Серебряным веком...
249
включалось в существующий набор видов развлекательной культуры72. С появлением кинотеатров приблизительно в 1907—1908 годах ситуация резко изменилась, и началась, как пишет Йоахим Пэх, фикционализация, коммерциализация и институционализация кино73. Вместе с институционализацией возник и новый тип зрителя, соответствующий сдвигу в публичном и приватном пространствах74.
Изменения, произошедшие в кинозрителе, обусловлены сменой внешней точки зрения на внутреннюю: если для первых фильмов еще характерна некоторая театральная рамка и пространство как бы движется в сторону зрителя, то более позднее классическое (голливудское) кино включает зрителя в фильм75. Раннее русское кино, ориентированное не только на зрителя-наблюдателя, но и на зрителя-читателя, соответствует модели, разработанной Мириам Хансен на примере европейского и американского фильмов. Наблюдатель «живых картин», с которым считался Евгений Бауэр, располагался вне фильма, подобно реципиенту, созерцающему живописное полотно. В этих фильмах еще нет того «углубления восприятия», которое Беньямин описал как один из признаков нового фильмического медиума76: в кинематографе Бауэра, ориентированном на живопись, прослеживаются лишь первые подступы к «новому зрению», развитому впоследствии в фильмах Эйзенштейна, Кулешова и Вертова. При помощи своего живописного
72 Н. Segeberg, «Literarische Kino-Asthetik. Ansichten der Kino-Debatte», Die Modellierung des Kinofilms. Zur Geschichte des Kinoprogramms zyvischen Kurtfilm und Langfilm 1905/06—1918, ed. Segeberg, K. Hickethier, C. Miiller, Miinchen: Fink, 1998.
73 J. Paech, Literatur und Film, 27.
74 M. Hansen, Babel and Babylon. Spectatorship in American Silent Film, Cambridge, Mass.: Harvard UP, 2006, 2.
73 Ibid., 34. Определяющей для вопроса о роли зрителя является насыщенная психоаналитическими идеями теория «воображаемого означающего» («signifiant imaginaire») Кристиана Метца. Рассматривая художественное произведение, зритель, по Метцу, должен испытывать двойную самоидентификацию: с тем, что он видит на экране, и с самим собой как наблюдателем/каме-рой: Ch. Metz, «The Imaginary Sigmfier» [Excerpts], Narrative, Apparatus, Ideology, ed. Ph. Rosen, N.Y.: Columbia UP, 1986. Можно было бы использовать теорию Метца для того, чтобы определять положение зрителя по отношению к фильму в разные культурно-исторические эпохи. Как уже было сказано, в дореволюционной киномелодраме зритель еще не включен в фильм, т.е. он пока не идентифицирует себя с тем, что происходит на экране.
76 Фильм, по Беньямину, раздробил тотальность нашего восприятия. Благодаря камере мы видим скрытые от обычного глаза детали и совершаем увлекательные путешествия между обломками мира, разбросанными в разные стороны: Benjamin, Das Kunstwerk..., 39—40.
250
Шамма Шахадат
стиля Бауэр старался остановить кризис восприятия XIX века, децентрирующий позицию наблюдателя и тем самым приводящий его в движение77.
Поразительно, насколько сильно эти чисто внешние характеристики героев определяют сюжет, оттесняя другие темы — любовь, доверие, материнство — на второй план. Тело и сексуальные потребности оказываются движущей силой сюжета, причем тело обычно женское, а потребности — мужские. Подобно тому как медиум фильма располагает только материальной поверхностью, так и во многих мелодрамах утверждается «внешнее» и отрицается «внутреннее» измерение жизненного мира. Таким образом, и в русском модернизме тело, телесное постепенно передвигается в центр, будь то наблюдатель (фланер или кинозритель), «орган внимания» или «локус восприятия»78.
Мелодрама и гендерный дискурс
В центре мелодрамы действуют женщины79, и это показательно не только для русских, но и для ранних немецких80, и для американских мелодрам 1950-х годов. Хотя в патриархальной, в городской и в семейной мелодрамах присутствуют разные женские типы, во всех этих субжанрах повторяется одна и та же тема — крушение семьи в современном мире. При этом женщина играет амбивалентную роль, будучи одновременно и жертвой, и преступницей. «These movies illustrate the dissension developing between competing concepts of public obligations and private desires» — так МакРейнольдс резюмирует главный конфликт этих мелодрам81. Например, в фильме Николая Ларина Дочь купца Башкирова (1913) катастрофу вызывает случайно совершенное преступление. В начале фильма героиня, дочь купца, боясь отцовского гнева, прячет своего любовника под перины. Он там задыхается, и девушка в отчаянии просит дворника помочь ей избавиться от трупа. Тем самым она становится
77 Делёз пишет о переходе от образов аффектов к образам действия, и хотя его рассуждения относятся только к эстетике и технике фильма, можно было бы распространить эту теорию и на зрителя: Deleuze, Das Bewegungs-Bild. Kino 1, 171.
78 Charney, Schwartz, «Introduction», 5.
79 Flitterman-Lewis, «The Blossom and the Bole: Narrative and Visual Spectacle in Early Film Melodrama», Cinema Journal 33:3 (1994).
80 См. H. Schliipmann, «Melodrama und soziales Drama im friihen deutschen Kino», Kino der Kaiserzeit. Zwischen Tradition und Moderne, ed. Th. Elsaesser, M. Wedel, Miinchen: Text+Kritik, 2002.
81 Mulvey, «Notes on Sirk and Melodrama», 129.
Русская киномелодрама между Серебряным веком...
251
зависимой от дворника и впоследствии вынуждена выполнять все его требования. «В конце концов девушка не выдерживает, — пишет рецензент в Сине-Фоно в 1913 году, — и после того, как дворник заставляет ее прийти к нему в трактир и пить вместе с ним и его собутыльниками, чаша ее терпения переполняется, и она поджигает трактир, где все ее случайные собутыльники и свидетели ее позора сгорают»82. Единственная возможность освободиться от эмоционального стресса состоит в уничтожении всех мужчин. Образ дочери купца Башкирова ярко олицетворяет амбивалентность добра и зла и обозначает своего рода антропологический переворот: если женские персонажи Серебряного века могут быть проститутками или святыми, добрыми или злыми, то героини киномелодрам отличаются моральной неопределенностью. Наследница femme fatale наделяется психологически сложным характером. Дочь купца Башкирова сопротивляется мучающему ее мужчине. Таким образом, происходит решающий сдвиг по сравнению с прототипической театральной мелодрамой, изученной Питером Бруксом. Первоначально мелодрама моделировала некий универсум в соответствии с манихейской доктриной, четко различавшей добро и зло; добро (как правило, преследуемая невинная девушка) в конце драмы награждалось, а зло наказывалось. В Дочери купца Башкирова остается неясным, что произойдет с героиней после ее преступления: «зло» наказывается, но награда преступнице не полагается. Если патриархальная мелодрама продолжает традицию в изображении зла в русской литературе (Гоголь, Островский, Достоевский, Сологуб), то городские мелодрамы участвуют в образовании дискурса модернизма.
Эмансипация женщины тесно связана с модерном, и это выражается в сексуальной свободе, воле к другой (лучшей) жизни и в отказе от эмоциональных привязанностей. Героиня городской мелодрамы — женщина, владеющая своими эмоциями достаточно для того, чтобы они не мешали ее решениям. Она хотя и наследует femme fatale, но уже является и «новой женщиной», изображенной Анастасией Вербицкой в бульварном романе Ключи счастья (1908— 1913) или в публицистике Александры Коллонтай. В шести томах, на протяжении почти полутора тысяч страниц, Вербицкая изображает женщину, всю жизнь отказывающуюся от каких бы то ни было эмоциональных привязанностей и буквально шагающую по мужским трупам. Маня, героиня Ключей счастья, читает «Санина» и обсуждает этот роман с одним своим знакомым. Тог объясняет ей, что сексуальное удовлетворение без эмоциональной зависимости — это и есть «ключи счастья»83. Сходную аргументацию Ленин при
82 Великий кинемо, 155.
83 См. Engelstein, The Keys to Happiness, 404—414.
252
Шамма Шахадат
писывал Александре Коллонтай. Эго пресловутая теория стакана воды: совершить половой акт, по этой теории, означает то же, что выпить стакан воды84. Все эти женщины — Вербицкая и ее героиня Маня, Александра Коллонтай и героини немых киномелодрам — участвуют, таким образом, в дискуссиях, которые велись в России с середины XIX века и затрагивали, с одной стороны, эмансипацию женщин, а с другой — их сексуальность.
Наиболее впечатляюще тема сексуальности была затронута в «Крейцеровой сонате» (1889) Льва Толстого. Герой повести убивает свою жену из ревности; половая жизнь кажется ему источником зла. Нигилистические романы 60—70-х годов XIX века обходились с этой темой более свободно. Они позволяли женщинам выбирать себе партнеров по желанию, независимо от институциональных оков брака или семьи. В Серебряном веке, с одной стороны, торжествует мистическая любовь, отражающаяся в реальной жизни как брачный союз без плотских отношений, а с другой — популярными становятся персонажи проститутки или святой.
Героини мелодрам 1910-х годов далеко ушли от неземных созданий русских символистов: упав, они поднимаются снова. Я здесь имею в виду не только жестикуляцию и движения в эпизодах, где женщины падают в прямом смысле слова, но и то, что после «нравственного падения» эти женщины тоже встают и пытаются оправить растрепанную прическу. Обеими ногами они стоят на земле85: из алчности они готовы бросить семью и торговать своим телом.
Рассмотрим типичные городские мелодрамы. Дети века (1915) — это современная версия «Анны Карениной». Образ женщины символизирует здесь кризис семьи и традиционного общества. Главную героиню в картине играет Вера Холодная, которая исполняла и роль Полы в Молчи, грусть, молчи. Как в фильме Чар-дынина, так и в фильме Бауэра изображается ситуация соблазнения. Героиня Детей века Мария, скромно живущая с мужем и грудным ребенком, случайно встречает старинную школьную приятельницу86, которая вышла замуж за богача. На вечеринке у этой
84 См. С. Zetkin, Erinnerungen an Lenin, Berlin: Dietzverlag, 1957 (глава «Lenin und die sexuelle Frage»).
85 Булгакова описывает, как отдельные части тела в дореволюционном кино используются в виде не только метонимий, но и метафор. Эту идею можно было бы применить и в нашем контексте, хотя в центре внимания у Булгаковой стоит социальная стратификация в ее отношении к разным движениям тела; Булгакова, Фабрика жестов, 64- 65.
86 Следует подчеркнуть, что они встречаются у входа в пассаж: Мария, уже перешагнув мостик, поворачивается и идет обратно, к бывшей приятельнице. Тем самым она уже выбрала путь к гибели, к тому же место встречи (модный магазин) указывает на огромную роль консюмеризма в решении Марии.
Русская киномелодрама между Серебряным веком...
253
подруги богатый коммерсант Лебедев замечает Марию и пытается соблазнить ее. На прогулке в парке он насилует ее (изнасилование не показано, присутствуют лишь намеки на него). Затем Лебедев затевает интригу, добиваясь того, чтобы муж Марии потерял работу. Мария бросает мужа и уходит к Лебедеву. После слезообильной сцены прощания с мужем она спокойно идет в новую жизнь, а муж в отчаянии стреляется (выстрел также не показан, зритель наблюдает только подготовку к самоубийству, а затем, в финальном кадре, видит труп)87.
В Детях века, как и в фильме Дитя большого города, произошли различные трансформации прежнего культурного контекста. С одной стороны, можно считать Детей века киновариантом романа о супружеской измене, столь распространенного во второй половине XIX века. Героиня такого романа являлась персонификацией кризиса семьи и, как следствие, кризиса общества, показываемого в разных вариациях. Тони Тэннер называет измену признаком де-мифологизованного общества88. Прелюбодеяние являет собой трансгрессию общественных и семейных границ и ведет к хаосу, а порядок восстанавливается только с помощью катастрофы в виде смерти героини. Однако порядок непоправимо нарушен супружеской изменой, семья разбита, мир переходит в некоторое постсоциальное состояние89. Как никакой другой литературный персонаж, нарушительница супружеской верности олицетворяет нарушение границ. Прелюбодеяние переносит ее по ту сторону границы, в социально «ничейную» зону. Женщина становится воплощением парадокса, она и мать, и любовница, порядок и беспорядок, созданный страстью.
Семьи в немых киномелодрамах 10-х годов — уже дефицитные, в них обычно не хватает одного из членов семьи (отца, как в фильмах Жизнь за жизнь или За счастьем; жены, как в Грезах; матери, как в Дочери купца Башкирова). Если мертвая идеализированная
87 Этот фильм может служить примером вышеупомянутого различия между русским трагическим финалом и западным хеппи-эцдом. Например, мелодрама Way Down East (1920) Дэвида Гриффита кончается восстановлением социального и семейного порядка, нарушение которого определяет ход действия; соблазненная героиня находит хорошего мужа, и фильм кончается свадьбой. Сэнди Флиттерман-Луис характеризует женское тело как сцену и как объект этого катартического движения: «Thus in Way Down East familial order is restored, but it is through a crises both generated and resovled across the eroticized, violated, idealized, and ultimately domesticated body of the woman», Flitterman-Lewis, «The Blossom and the Bole», 7. Трагический финал Детей века, наоборот, показывает, что порядок безвозвратно утерян.
88 Т. Tanner, Adultery and the Novel. Contract and Transgression, Baltimore: Johns Hopkins UP, 1979, 15.
89 Ibid., 14—15.
254
Шам.ма Шахадат
жена является символистским мотивом, тоской по Вечной Женственности, то отсутствие отца намекает на пробел в символическом порядке, вызывающий патологическое поведение, например инцестуозное желание. Брак, кажущийся цельным, разрушается, но, в отличие от «Анны Карениной», страдает не женщина-преступница, а брошенный муж, и уже не она, а он в отчаянии кончает жизнь самоубийством. Муж выставлен слабонервным, эмоционально уязвимым; сильные эмоции ломают его, как неврастенического художника-символиста. Женский персонаж намного стабильнее, и Марии предназначено выжить и пережить мужа. Между тем в поведении Марии проступают иные черты, так описанные Александрой Коллонтай в статье «Новая женщина» (1913): «Новая женщина должна научиться отводить любовным переживаниям то подчиненное место, какое они играют в жизни большинства мужчин»90. И еще: «ее интересы все шире и шире выходят за пределы семьи, дома, любви»91. Хотя мелодраматические героини пока и не коммунистки, они тем не менее уже не скрывают своих любовных переживаний. И, в отличие от Анны Карениной, они уже действуют согласно не эмоциональной, но экономической логике. Мелодрама открывает путь новому поколению женщин, в то время как мужчины в ней остаются в застывших позах, приданных им истерическим художником модерна (ил. 5).
Список фильмов, упомянутых в статье:
Дочь купца Башкирова (Драма на Волге), реж. Николай Ларин, 1913.
Дитя большого города, реж. Евгений Бауэр, 1914.
Грезы, реж. Евгений Бауэр, 1915.
Дети века, реж. Евгений Бауэр, 1915.
Жизнь за жизнь, реж. Евгений Бауэр, 1916.
За счастьем, реж. Евгений Бауэр, 1917.
Молчи, грусть, молчи, реж. Петр Чардынин, 1918.
schamma.schahadat@uni-tuebingen.de
Перевод Н Григорьевой и автора
90 Т. Осипович, «Новая женщина в беллетристике Александры Коллонтай», Преображение. Русский феминистский журнал 2 (1994).
91 А. Коллонтай, Новая мораль и рабочий класс, М.: Изд-во ВЦИК, 1918.
Русская киноме.юдрама между Серебряным веком...
255
Ил. 5: Дети века, 1915.
Раздел IV
УПОЕНИЕ - И НЕ ТОЛЬКО В БОЮ
Игорь Нарский, Юлия Хмелевская
«УПОЕНИЕ» БУНТОМ В РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ (на примере разгромов винных складов в России в 1917 году)1
Массовая эмоциональная «разнузданность» и насилие «снизу»: к вопросу о языках описания
Так повелось, что историки — как, впрочем, и представители других отраслей знания, — чтобы облегчить коммуникацию с коллегами по научному сообществу и с более широким читательским кругом по поводу сложных явлений естественно-научного, социального и гуманитарного порядка, активно используют антропоморфные метафоры. Устойчивые обороты вроде «экономический характер», «социальный профиль» или «политический темперамент» являются принадлежностью научного языка, не вызывающей, как правило, рефлексии по поводу их корректности или эпистемологической оправданности. Это положение дел наглядно проявляется и в неотрефлексированной эксплуатации представителями исторического цеха «эмоциональной» терминологии. В характеристиках отдельных исторических акторов, социальных групп, целых обществ и даже эпох историки к месту и не к месту уверенно пишут о равнодушии и страстности, ненависти и любви, жестокости и великодушии, ярости и милосердии, совершенно не задаваясь вопросом об историчности и изменчивости феноменов, привлекаемых в качестве объяснительных клише.
Пожалуй, наиболее часто выстраивание прямых причинно-следственных цепочек между индивидуальными и коллективными
1 Статья подготовлена в рамках коллективного проекта «Слухи и насилие в России (сер. XIX — сер. XX вв.)» при поддержке РГНФ, проект 07-01-94-001 А/Д 2007. Авторы выражают глубокую признательность Ади Кунцман, Яну Пламперу, Валери Познер, Марку Стейнбергу и другим участникам московской конференции «Эмоции в русской истории и культуре» (апрель 2008) за ценные предложения и критические замечания, высказанные при обсуждении первоначальной версии текста.
260
Игорь Нарский, Юлия Хмелевская
настроениями и действиями встречается при изучении места насилия в истории. Констатация неразрывной связи между массовым, бесконтрольным «выбросом» эмоций, эскалацией насилия и деструктивными социальными процессами давно превратилась в общее место социальных и исторических исследований. Однако в теоретической аргументации, обосновывающей эту связь, акцент делается либо на «насилии», либо на «эмоциях», причем отрефлекги-рованность эмоциональной проблематики заметно отстает от концептуальной разработанности понятия «насилие».
С известной долей упрощения разнообразие многочисленных концепций, предлагаемых философией, социологией, социальной психологией и другими гуманитарными дисциплинами для интерпретации обоих феноменов, можно свести к двум принципиально различным группам. Первая из них представлена так называемой «гидравлической моделью» (термин Б. Розенвейн), рассматривающей эмоции как неструктурированные феномены, нуждающиеся в сдерживании и постепенно подпадающие под влияние различных цивилизующих инстанций. Соответственно, насильственные практики расценивались как преимущественно иррациональные, деструктивные «нецивилизованные» явления, ведущие к хаосу и беспорядку, а потому требующие осуждения и контроля. Различные версии этой интерпретационной матрицы представлены в работах просветителей и моралистов XVIII и XIX веков, а также 3. Фрейда, М. Вебера, Н. Элиаса, школы Анналов, М. Фуко. Отдавая приоритет не столько самим «чувствам», их проявлениям и функциям, сколько процессу формирования «рациональных» внешних и внутренних механизмов их сдерживания и выражения (от принуждения извне до самодисциплины), эта модель достаточно органично вписалась в конвенциональный «просвещенный» дискурс. С одной стороны, она обеспечила новые основания для «больших нарративов», постулирующих контроль над «аффектами» как признак цивилизации, сознательности и модерной ментальности, но, с другой, существенно снизила познавательную ценность эмоций как таковых, фактически заменив историю эмоций интеллектуальной историей и историей властных дискурсов.
Качественный сдвиг в изучении как насилия, так и эмоций был связан со сменой исследовательских парадигм, последовавшей за развитием в 1960—1970-х годах антропологии, когнитивной психологии и конструктивистской философии. Все большее внимание исследователей стала привлекать ритуальная и структурирующая роль насилия как особого способа социальной коммуникации и выстраивания идентичностей в экстремальных ситуациях2. В ана
2 См., напр.: Е. Hobsbawm, Primitive Rebels. Studies in Archaic Forms of Social Movement in the 19th and 20th Centuries, Manchester UP, 1963, ch. VII, IX;
«Упоение» бунтом в русской революции...
261
лизе эмоционального приоритеты также переместились с «воспитания чувств» и аффективной стороны эмоций на рассмотрение их инструментальной роли, позволяющей индивиду ориентироваться в обществе и выбирать подходящие для себя стратегии. Таким образом, основной задачей исследователя становится не изучение «управления» эмоциями и аффективного компонента насилия, а анализ их инструментальной роли и расшифровка содержащихся в них «посланий» и их символики, даже если сами их агенты и не осознают этого символизма* 3. Такой междисциплинарный по своей сути подход, требующий учета как «телесных», так и «культурных» аспектов, гораздо труднее интегрируется в привычный для историков исследовательский инструментарий, однако именно в рамках этой модели были выдвинуты наиболее продуктивные предложения по поводу историзации эмоций4.
Последние несколько десятков лет были отмечены значительными успехами «истории эмоций» в отношении Средневековья и раннего Нового времени. Однако в русистике, и особенно в истории российских революционных потрясений, эго направление себя пока что не проявило. Несмотря на частое использование терминов и метафор, связанных с насилием и эмоциями, в настоящее время и в отечественной, и в зарубежной историографии русской революции все еще преобладает констатирующая, а не интерпретирующая модель, причем чаще всего рассматриваются насильственные практики «сверху» с акцентом именно на деструктивные, аморальные, «трагические» аспекты, «иррациональные», «психопатические» настроения «масс» или «власти», зачастую с претензиями на уникальность российского случая5. Исследования, выходя
h. Goldberg, «Rites and Riots. The Tripolitanian Pogrom of 1945», Plural Societies 8 (1977); D. Niremberg, Communities of Violence: Persecution of Minorities in the Middle Ages, Princeton UP, 1996; W. Sofsky, Traktat uber die Gewalt, Fr.a.M.: Fischer, 1996; M. Wievorka, «Gewalt, Gesellschaft und Identitat», Das zivilisierte Tier. Zur historischen Anthropologic der Gewalt, ed. M. Wimmer et al., Fr.a.M.: Fischer, 1996; C. Merridale, Night of Stone. Death and Memory in Twentieth-Century Russia, London: Granta, 2000; R. Burton, Blood in the City: Violence and Revelation in Paris 1789— 1945, Ithaca, NY: Cornell UP, 2001; J. Baberowski, Zivilisation der Gewalt. Die kulturellen Urspriinge des Stalinismus, Humboldt Univ, zu Berlin, 2005; H. Дэвис, «Обряды насилия», История и антропология: междисциплинарные исследования на рубеже XX—XXI веков, под ред. М. Крома, Д. Сэбиана, Г. Альгази, СПб.: Европейский ун-т, 2006.
3 A. Blok, «The Meaning of “Senseless” Violence», Id., Honor and Violence, Malden, Mass.: Blackwell, 2001.
4 Cm. Reddy, The Navigation of Feeling, B. Rosenwein, «Worrying about Emotions in History».
5 В. Булдаков, Красная смута: природа и последствия революционного насилия, М.: РОССНЭН, 1997; Р. Пайпс, Россия при большевиках, М.: РОССПЭН,
262
Игорь Нарский, Юлия Хмелевская
щие за рамки этой вполне устоявшейся традиции и вписывающие российскую «специфику» в мировой «континуум насилия», довольно редки6.
Между тем привлечение методологического инструментария «истории эмоций» в различных ее версиях может оказаться продуктивным для понимания природы массового революционного насилия и сопутствующих ему эмоций, а также влияния, оказываемого этими феноменами на общественный климат и «большие» политические решения. Ниже предлагается попытка из разных перспектив — «сверху» и «снизу», «извне» и «изнутри» — описать конкретное историческое явление, получившее распространение в революционной России 1917 года. Речь пойдет о повсеместных и происходивших синхронно разгромах винных складов. Эти эксцессы, привлекшие относительно незначительное внимание исследователей русской революции и культуры пития, сыграли, на наш взгляд, серьезную роль как в протекании самой революции, так и в долговременном изменении представлений большевистских теоретиков и практиков о стихийном «творчестве» масс. Бесчисленные нарративы, созданные современниками этих вспышек «инстинктов» и насильственной активности «снизу», не только позволяют взглянуть на массовое возбуждение и спонтанное насилие с разных сторон, но и добавить новые грани старой дискуссии об особой судьбе России в XX столетии.
«Пьяные погромы» 1917 года: событийные сценарии
Осенью 1917 года, спустя несколько дней после празднования 29 августа всероссийского дня трезвости и через три года после введения в России государственного запрета на свободную продажу спиртного в связи с началом Первой мировой войны, в стране поднялась волна разгромов казенных винных складов. В сентябре
1997; М. Malia, The Soviet Tragedy: A History of Socialism in Russia, N.Y.: Free Press, 1994; V. Danilov, «Violence cont re Violence. La Revolution paysanne en Russie, 1902 — 1922», Violences et Pouvoirs Politiques, Toulouse: Presses univ. du Mirail, 1996; O. Figes, A People’s Tragedy: the Russian Revolution, 1891 1924, N.Y.: Penguin, 1997; D. Raleigh, Experiencing Russia’s Civil War: Politics, Society and Revolutionary Culture in Saratov, 1917—1922, Princeton UP, 2002, и др.
6 См. A. Mayer, The Furies: Violence and Terror in the French and Russian Revolutions, Princeton UP, 2000; P. Holquist, Making War, Forging Revolution: Russia s Continuum of Crisis, 1914—1921, Cambridge, Mass.: Harvard UP, 2002; П. Холквист, «Россия в эпоху насилия, 1905—1921», Опыт мировых войн в истории России, под ред. И. Нарского, О. Нагорной, О. Никоновой, Ю. Хмелевской, Челябинск: Каменный Пояс, 2007.
«Упоение» бунтом в русской революции...
263
она охватила Астрахань, Ташкент, Орел, Гомель, Тамбов, Уфу, в октябре — Харьков, Стародуб, Тарнополь и ряд других городов на юго-западе бывшей Российской империи, в ноябре захлестнула Петроград, а после первых слухов о падении Временного правительства — большинство губернских и уездных центров провинциальной России. В декабре разгромы винных запасов утихли (за исключением единичных эксцессов, которые случались до лета 1918 года), отбушевав на окраинах страны, в том числе в этнически русских регионах, вышедших из-под контроля большевистских властей.
Все эти «бесчинства», по авторитетному мнению командующего войсками Московского военного округа — фигуры, располагавшей достаточной для обобщений информацией, — протекали по одному сценарию: «Картина всюду наблюдается приблизительно одинаковая. Начинается с разгромов винных складов; перепившаяся толпа переходит потом к разгромлению магазинов, лавок и домов. Руководителями и зачинщиками является кучка темных лиц, большей частью освобожденных уголовных каторжников»7.
Грандиозность и размах «пьяной революции» явно недооценены исследователями и заставляют задуматься о природе этого феномена. Для его историзации представляется целесообразным сопоставить «пьяную революцию» 1917 года с массовым возбуждением и насилием «снизу» осени 1905 года. Сразу оговоримся, что квалификация «еврейские погромы», данная им современниками и некритично усвоенная историографией, не вполне корректна: октябрьские эксцессы первого года Первой русской революции не ограничились чертой еврейской оседлости, и среди жертв самосуд-ной ярости «низов» оказались не только иудеи.
Во второй половине октября 1905 года, в разгар забастовочного движения и вслед за опубликованием Манифеста 17 октября, означавшего неожиданную смену правительственного курса, по стране прокатилось около 360 погромов, в том числе в регионах, в которых евреи составляли сотые доли процента населения. Ущерб от этой деструктивной волны достиг 26 млн рублей, более 1600 человек погибло, более 3,5 тыс. получили ранения различной степени тяжести. На скамье подсудимых оказалось почти 2 тыс. участников погромных акций8. Точный подсчет жертв и разрушений,
7 Цит по.: Нарский, Жизнь в катастрофе: Будни населения Урала в 1917— 1922 гг., М.: РОССПЭН, 2001, 198.
8 Детальный обзор погромов 1905 г. во всероссийском масштабе см. в: С. Степанов, Черная сотня в России (1905—1914), М.: Росвузнаука, 1992; в частности, об Урале: Нарский, «Революционеры справа»: Черносотенцы на Урале в 1905—1916 гг. (Материалы к исследованию «русскости»), Екатеринбург: Cricket, 1994, 12-19.
264
Игорь Нарский, Юлия Хмелевская
причиненных в ходе разгрома винных складов в последние месяцы 1917 года, невозможен, поскольку в переживавшем фазу коллапса государстве и объятом хаосом обществе не нашлось ни одной всероссийской государственной или общественной инстанции, способной вести соответствующую статистику. Однако разрозненные данные свидетельствуют, что количество смертей, произошедших в ходе разгромов винных складов, было на один-два порядка выше, чем двенадцатью годами раньше: в тех городах, где в октябре 1905 года оно составляло единицы или десятки, в 1917 году оно достигло сотен. Причем в 1917 году, в отличие от 1905-го, среди погибших преобладали не убитые и раненые, а жертвы пьяной ненасытности и неосторожности: утонувшие в цистернах с алкоголем, сгоревшие во время пожаров винных складов, отравившиеся и — с ноября-декабря — умершие от переохлаждения.
Внешне в погромной волне осени 1917 года многое напоминает события, произошедшие за 12 лет до этого. В обоих случаях мы имеем дело со стихией, которая из-за одновременности событий и схожести сценария порождала у современников ощущение организованности. Погромные эксцессы последовали за нарушением привычной жизни, серьезно повлиявшим как на повседневные нужды, так и на сопровождавшие их социальные нормы и правила, что и в том, и в другом случае способствовало дезориентации населения перед лицом революции. В 1905 году вспышке погромной активности предшествовали политические пертурбации в центре и вызванные всеобщей стачкой закрытия магазинов и учебных заведений, прекращение железнодорожного и телеграфного сообщения. В 1917 году это был многомесячный поступательный рост дефицита на самое необходимое и дороговизна, разочарование и напряженное ожидание дальнейших перемен к худшему после краткой эйфории первых месяцев революции.
Общим для обоих всплесков коллективных страхов была также активная циркуляция слухов: в 1905 году — за редкими случаями не подтвердившиеся сведения о покушении «жидов», «студентов» и «революционеров» на символы царской власти и церковные святыни; в 1917 году — о грядущей или свершившейся смене власти в Петрограде и (как правило, достоверные) сообщения о желании местных властей уничтожить накопившиеся за годы «сухого закона» запасы спиртного.
События 1905 и 1917 годов роднит также неопределенный, безадресный характер агрессии со стороны погромщиков. Борясь в первом случае с «жидами», а во втором — с «буржуями», участники погромов имели довольно смутное представление о тех и других, следствием чего стали «бессмысленные», с точки зрения образованных наблюдателей, жертвы и разрушения. Общим было и бездей
Упоение» бунтом в русской революции...
265
ствие властей, растерявшихся или оказавшихся бессильными перед лицом уличной анархии.
Вместе с тем в протекании и исходе погромов помимо количества жертв нетрудно заметить симптоматичные различия. Более длительный и разрушительный характер беспорядков в 1917 году, видимо, связан с кардинальным изменением политических, экономических и социальных условий повседневного существования. В немалой степени пьяным разгромам содействовали слабость и низкий уровень организованности власти, служившие основанием для вполне справедливых сомнений по поводу возможности гарантировать физическую защищенность и удовлетворение потребностей в продовольствии и предметах первой необходимости. Растущее недоверие к способности власти противостоять тому, что прежде считалось «иллегитимным», нежелательным или табуизированным, порождало, с одной стороны, опасения и пессимистические прогнозы, а с другой, провоцировало иллюзию вседозволенности в соответствии с принципом «теперь все можно».
В непродуманных и поспешных мерах по ликвидации спиртных запасов в 1917 году отразились панические ожидания погромов и стремление их предотвратить, вне всякого сомнения, связанные с более ранним опытом и тем резонансом, который погромная волна 1900-х годов получила в России и в мире. В то же время отсутствие действенных мер по пресечению начавшихся беспорядков способствовало фактической безнаказанности погромных акций. В отличие от 1905 года, ни при Временном правительстве, ни после прихода к власти большевиков за массовыми разгромами винных складов не последовало ни одного судебного разбирательства. Решающим фактором прекращения «бесчинств» 1917 года стал не организованный отпор с помощью мобилизации правоохранительных органов, не чрезвычайное положение, не использование воинских и казачьих контингентов и не возбуждение уголовных дел в отношении нарушителей порядка — они утихли сами собой, по мере опустошения хранилищ алкогольной продукции.
Хотя «горячительный» компонент присутствовал в обеих погромных волнах, роль алкоголя в них была различна. Несмотря на опасения горожан осенью 1905 года по поводу возможного разгрома винных лавок и пьянства забастовщиков, насильно закрывавших магазины, случаев столь массового коллективного употребления алкоголя, предшествовавшего «беспорядкам», в источниках не зафиксировано. Спиртное, по-видимому, играло вспомогательную, подбадривающую роль. В 1917 году алкоголь служил не только средством высвобождения аффектов. Он стал главной целью погромщиков.
266
Игорь Нарский, Юлия Хмелевская
В этой связи необходим краткий экскурс в ситуацию с потреблением алкоголя, сложившуюся к осени 1917 года. После введения запрета на свободную продажу спиртного российское население разработало ряд стратегий сопротивления трезвому образу жизни: контрабандное распространение алкоголя в приграничных районах, потребление суррогатов питьевого алкоголя (политуры, технических спиртов и других спиртосодержащих жидкостей) в городах, массовое самогоноварение в деревнях и т.д.9 Противозаконное производство и употребление самодельного алкоголя еще больше усилилось в связи с Февральской революцией и ликвидацией полиции: сила власти и размах пьянства находились в обратно пропорциональной зависимости. С самогоноварением не в силах были справиться ни милиция, ни акцизный надзор. Суды были завалены делами о незаконном изготовлении спиртного, которые лежали без движения или рассматривались с опозданием.
Наконец, настоящей головной болью для Временного (а позже и для советского) правительства губернских комиссаров и общественных организаций стала судьба государственных запасов спиртного. С крахом самодержавия эти вожделенные сокровища в одночасье оказались бесхозными, превратившись в соблазнительный объект для несанкционированных посягательств. 13 марта 1917 года Временное правительство разослало акцизным управляющим циркуляр о необходимости усиления охраны винных складов. Ссылаясь на стратегическое значение спирта для военной промышленности, в том числе для изготовления пороха, новое правительство предусматривало возможность его уничтожения при крайней необходимости по усмотрению местных властей. За этим аргументом скрывался, видимо, другой и не менее важный мотив. Погромы винных погребов в столице продемонстрировали свою грозную реальность гораздо раньше, чем в других регионах, начавшись сразу же после Февральской революции и повторяясь во время каждого последующего политического кризиса, и расценивались как серьезная опасность для существования новой власти.
Однако с самого начала обнаружилось, что на пути ликвидации запасов алкоголя, этих потенциальных источников угрозы новому порядку, стоят трудноразрешимые препятствия чисто технического характера, связанные прежде всего с гигантскими объемами
9 D. Christian, «Prohibition in Russia», Australian Slavonic and East Europian Studies 9:2 (1995); L. Phillips, Bolsheviks and the Bottle: Drink and Worker Culture in St. Petersburg, 1900—1929, DeKalb: Northern Illinois UP, 2000; P. Herlihy, The Alcoholic Empire: Vodka and Politics in Late Imperial Russia, N.Y.: Oxford UP, 2002; M. Braun, «Vremja Golovokruzenija — Zeit des Schwindels. Der alkoholische Rausch als Geste kulturellen Beharrens in der Sowjetunion der 1920er und 1930er Jahre», Zeitschrift far Geschichtswissenschaft 10 (2003).
Упоение» бунтом в русской революции...
267
спиртного, отсутствием технологий его уничтожения и несовершенством канализации, в которую его можно было бы незаметно спустить, в большинстве губернских и уездных городов10. Иного выхода, кроме сброса алкоголя в городские водоемы (что и было проделано во многих городах), власти придумать не смогли. Иначе им пришлось бы сидеть на этой бочке горючего, предпринимая вялые и малоэффективные попытки побороть народное пьянство и ожидая либо успокоения, либо взрыва «пьяной революции» в буквальном значении слова, которая и прокатилась по всей стране осенью — в начале зимы 1917—1918 годов.
С центральной ролью алкоголя связана и изменившаяся по сравнению с октябрем 1905 года топография погромов 1917 года. После опубликования Манифеста 17 октября 1905 года в городах повсеместно формировались две противоборствующие группы демонстрантов. В первую из них входили люди, проявлявшие верноподданнические настроения; их отличительным признаком стали молебны и шествия с иконами и царскими портретами. Вторая группа состояла из оппозиционно настроенных манифестантов, которые проводили демонстрации с красными флагами и революционным пением. Их неизбежные столкновения, как правило, происходили на центральных площадях и улицах городов. Стычки перерастали в массовые драки и погромы магазинов и частных квартир, в ряде случаев — принадлежащих евреям. При появлении полиции или казаков участники столкновений и погромов быстро рассеивались, вскоре вновь объединяясь в группы в близлежащих местах.
Во время «пьяных погромов» 1917 года толпы собирались в местах расположения винных складов или неудачного спуска алкоголя, которые отнюдь не всегда располагались в центральных частях городов. Вкусив горячительной добычи, участники разграбления казенных запасов спиртного зачастую оказывались просто физически не в состоянии покинуть место доступа к дармовому алкоголю, и по этой причине их погромная активность распространялась на магазины и частные квартиры в значительно меньшей степени, чем на винные заводы и склады.
Наконец, не представляется возможным ограничить круг погромщиков 1917 года по политическим или социальным критериям, в отличие от ситуации октября 1905 года, где участники «патриотических» и «революционных» манифестаций имели ясный для очевидцев возрастной, профессиональный, образовательный и культурный профиль: среди «патриотов», как правило, преобладали люди более старшего возраста, «неинтеллигентных» профессий,
10 Подробнее см. Нарский, Жизнь в катастрофе..., 182—183.
268
Игорь Нарекай, Юлия Хмелевская
в то время как среди «оппозиционеров» фигурировала преимущественно учащаяся молодежь.
Если в 1905 году зачинщиком чаще всего выступал «лабазник», то в 1917-м инициатором и активистом разгромов винных складов, как правило, являлся «человек с ружьем» — чаще в солдатском обличье, в исключительных случаях — в казачьем. Но вскоре это военизированное ядро обрастало штатской массой, представителями всех социальных групп вне зависимости от пола, возраста, происхождения и рода занятий. Не стоит полагать, что в погромах участвовало исключительно оглушенное алкоголем простонародье. Неблаговидную роль в них могли играть и трезвые представители бывшей «приличной» публики, подстрекавшие громил к грабежам из желания по дешевке разжиться дефицитными товарами массового спроса. Одного из провинциальных журналистов особенно возмутило, например, то обстоятельство, что ворованное «покупали те, кто сам не решился идти на добычу... И что всего циничнее — женщины, прилично одетые, говорят, покупая воровскую добычу за гроши, — вот, говорили, товаров нет и дороги они, солдаты нам все достали и недорого. Ситцу бы нам еще, — подстрекают жадные женщины, и им обещают»11. Социально не выраженный характер «пьяных погромов» отчасти подтверждается тем фактом, что разграбления винных складов не локализовались в городах, а широко распространялись и по сельской местности, став составной частью крестьянской революции. В 1905 году погромы выходили за пределы городов только в черте оседлости.
Но при всем обилии различий погромы 1905 и 1917 годов роднят важнейшие общие черты: и в том, и в другом случае налицо массовые проявления стихийного насилия и коллективного возбуждения, вышедшего из-под контроля как властей, так и самих участников «беспорядков».
Эмоции сквозь призму «эмоций»: интерпретация пьяных эксцессов в интеллигентском дискурсе
Попытки описать беспрецедентные «пьяные» беспорядки последних месяцев 1917 года с позиции «объективной» беспристрастности равноценны утопическому желанию увидеть прошлое «из ниоткуда». Дошедшие до нас свидетельства об этих «безобразиях» принадлежат почти исключительно очевидцам из «культурных» слоев общества, дистанцировавшихся от «варварских» акций «тем
Уральская жизнь, 10 ноября 1917 г.
«Упоение» бунтом в русской революции...
269
ных масс». Зафиксированные по горячим следам в газетах различных политических направлений и включенные задним числом в многочисленные мемуары противников большевистской диктатуры, эти колоритные описания затем вошли в немногочисленные исследования, в которых поведение «погромщиков» интерпретировалось с позиций культурного превосходства и морального осуждения12. С одной стороны, по-видимому, это было обусловлено традиционными просвещенческими стереотипами о бессмысленности и беспощадности «русского бунта», прочно вошедшими в употребление еще в первой половине XIX века с легкой руки классика русской литературы. С другой стороны, к началу XX века более образованные слои российского общества уже освоили заимствованные у зарубежных авторов и их последователей из числа российских психиатров понятия «эмоция толпы» и «психология толпы». Это проявлялось, например, в достаточно уверенном использовании ими метафор «эпидемии», «психической заразы» и тд. при характеристике массовых беспорядков и насилия13.
Разгромы винных складов проходили по одной схеме, порождая у очевидцев подозрения в их спланированное™ и наличии злонамеренных организаторов. Однако попытки современников политизировать эти события, обвинив в их организации контрреволюционных или же большевистских «провокаторов» (в зависимости от партийных позиций рассказчика и местной конъюнктуры), не выдерживают критики. Из культурно-исторической перспективы однотипность, вплоть до дословных совпадений, рассказов о «пьяных погромах» следует скорее искать в двух обстоятельствах: во-первых, в том, что эти нарративы конструировались на основе культурных клише интеллигентских кругов, которым свойственно было смотреть на «толпу» сверху вниз, и, во-вторых, в том, что в действиях «погромщиков» отразились не менее устойчивые интерпретационные и поведенческие коды альтернативной культуры городских и сельских «низов».
В газетных репортажах, воспоминаниях современников и художественной литературе разгромы винных складов единодушно описываются в дегуманизирующих категориях «озверения», «одича
12 П. Канн, «Борьба рабочих Петрограда с пьяными погромами (ноябрь декабрь 1917 г.)», История СССРЪ (1962); В. Канищев, Русский бунт — бессмысленный и беспощадный: Погромное движение в городах России в 1917—1918 гг., Тамбов: Изд-во ТГУ, 1995; С. Павлюченко, «Веселие Руси: революция и самогон», Революция и человек: быт, нравы, поведение, мораль, М.: Ин-т рос. истории РАН, 1997; М. Алексеев, В. Канищев, М. Протасов, «Допьем романовские остатки’ Пьяные погромы в 1917 году», Родина 8 (1997).
13 Подробнее см. D. Beer, «“Microbes of the Mind”: Moral Contagion in Late Imperial Russia», Journal of Modern History 79 (2007).
270
Игорь Нарский, Юлия Хмелевская
ния» и «потери человеческого облика» с частым употреблением зооморфных метафор или не менее метафоричным акцентом на прямое присутствие в пьяной толпе животных, чаще всего свиней, перебравших дарового алкоголя. Их зачинщиками называются анонимные «темные силы», асоциальные «каторжники» или солдаты, ставшие «похуже собак»14. Каноническое описание винного погрома дает, например, Л. Кассиль в известном романе «Кондуит и Швамбрания»:
Погром начали дезертиры. Громили винно-гастрономический магазин, отобранный у богача Пустодумова. Толпа с угра окружила магазин и потребовала выдачи вина. Зеркальные витрины безмолвно отражали беснование толпы. Тогда крапивный человек железным прутом ударил по стеклу. Стекло отчетливо провизжало слово «зиг-заг»...
Через час Брешка была пьяна. Бабы на коромыслах несли ведра портвейна. На Брешке стояли винные лужи. Вино текло по водосточным канавам. Люди ложились на землю и пили прямо из канавы. Гимназисты обнимались с солдатами. Предназначаемые для детского дома апельсины рассыпались по Брешке. В апельсинах рылись свиньи. Большая, обвислая хавронья купалась в болоте из мадеры. На углу страдал пестрый боров. Его рвало шампанским...
— Все общее! — кричала пьяная орава за крапивным человеком. — Кровь, сукровицу лили...
И тогда в окне большого дома закляцал, забился пулемет... Он ударил над Брешкой, выпустил первую очередь поверх хмельных голов, и трусливую Брешку вымело...
Через полчаса красноармейцы вытащили из подвала магазина утопленника. Человек упал, должно быть, в подвал и захлебнулся в вине15.
Традиция дистанцированного описания «простонародных» действий господствовала и в газетных репортажах об октябрьских
14 Д. Рейли, Политические судьбы российской губернии: 1917 г. в Саратове, Саратов: Слово, 1995, 153.
15 Л. Кассиль, Кондуит и Швамбрания, Петрозаводск: Карелия, [1931] 1975, 179- 180. Этот эпизод, воспроизведенный автором, выходцем из интеллигентной семьи, по своим детским воспоминаниям, в тексте романа отнесен к осени 1918 г. Он точно передает восприятие пьяных разгромов образованной публикой, но грешит недостоверными деталями в описании их событийной стороны. Во-первых, насколько нам известно, в источниках нет данных о разграблениях винных складов после лета 1918 г., во-вторых, винных магазинов, да еще с зеркальными витринами, в контролируемых большевиками регионах на тот момент уже не сохранилось.
«Упоение» бунтом в русской революции...
271
погромах 1905 года, в которых они квалифицировались как «ужасы», «зверские расправы», «преступные деяния», «бесчинства». Неадекватное влияние известий о «свободе» на городских жителей сопровождалось тогда сокрушенными ремарками: «Наконец. Мы стали свободными. Вчерашние рабы, боявшиеся каждого полицейского, мы почувствовали в себе, увы, не человека, а зверя...»16. Однако примечательно, что, в отличие от 1917 года, в 1905 году звероподобные образы, которые употреблялись в отношении участников погромных эксцессов, символически больше соответствовали опасности, чем отвращению: например, они характеризовались как «свирепые быки», реагировавшие на красные флаги17.
Наиболее детально очевидцы из «образованных классов» описывали ключевое событие разгромов складов — массовое и безмерное потребление спиртного, последовавшее за неудачными попытками местных властей, согласно весенней инструкции Временного правительства, уничтожить гигантские казенные запасы алкоголя, спустив их в водоемы. Особенно смаковались такие подробности, как лакание спирта из прудов, дренажных канав, с земли, из ведер или бочек, невзирая ни на наличие в спиртном омерзительных примесей (нечистот, рвоты), ни на возможное присутствие в разгромленных цистернах человеческих трупов, ни на низкое качество выгоревшего или разбавленного алкоголя. Вот одно из типичных описаний потребления солдатами спущенного в пруд спирта:
Солдаты, ругаясь, толкая друг друга, бросились на лед, к краю проруби и с радостью лакали из нее разбавленный водой спирт, не обращая внимания ни на грязь, что текла в ту же прорубь, ни на навоз, окружающий ее. Лед не выдержал — провалился, и все лакающие погрузились в холодную воду. Но — счастье их — вода была мелка. Отдуваясь, хохоча, солдаты вылезали на лед и снова начинали пить. Пили до одурения, до «положения риз». Многих тут же у проруби рвало, и рвотная пакость плавала в проруби, но «алчущие», не смущаясь этим, отмахивали ее рукой и пили18.
Очевидцы сетовали на разрушительные последствия коллективного опьянения — массовые отравления, ожоги и переохлаждение со смертельным исходом: «В ведрах уносили горящую жидкость, на землю ложились, мокрую землю сосали... Горящие ведра не могли нести, садились на них, чтобы потушить. Утром лазаре
16 Оренбургская газета, 20 октября 1905 г.
17 Южный Телеграф (Ростов-на-Дону), 22 октября 1905 г.
18 Народная свобода (Челябинск), 12 ноября 1917 г.
272
Игорь Нарский, Юлия Хмелевская
ты были переполнены людьми с однородными ожогами таких частей, которые вообще не имеют случая прикасаться к огню...»19.
«Культурные» наблюдатели целенаправленно фиксировали шокировавшее их яростное «варварское» уничтожение артефактов «высокой» культуры — книг, нотных альбомов, музыкальных инструментов, битье оконных и витринных стекол, жестокие кулачные расправы с конкурентами, желавшими первыми добраться до вожделенных запасов спиртного, и со случайными прохожими. Как и в 1905 году, спонтанное применение насилия в ходе «пьяных погромов» вызывало у представителей либеральной и социалистической интеллигенции одинаковое разочарование по поводу «простонародного» понимания свободы, вылившегося в «свободу рукоприкладства»: «У освобожденного народа руки чешутся...»20. Самым явным и очевидным смысловым полем для образованных очевидцев выступало поле «драки» и «войны» в самых негативных его проявлениях, тем более что в качестве самых отчаянных мародеров и «активистов» пьяных беспорядков, как правило, фигурировали солдаты и дезертиры. Тема же распоясавшихся «победителей», поддавшихся самым низменным инстинктам, стала практически общим местом в газетной публицистике и предметом горькой иронии.
В описаниях разгромов винных складов современниками отмечаются три ключевых настроения их участников: безудержная радость дорвавшейся до дармового алкоголя «черни»; тупая озлобленность погромщиков, с которой они пачкали и рвали книги, мазали чернилами гравюры и картины, били оконные стекла частных квартир, городских управ и публичных библиотек; сомнамбулическое состояние перепившихся солдат, которые, словно зомбированные алкоголем, походя крушили то, до чего еще могли дотянуться: «Шатаясь и скверно ругаясь, плетется солдат. Под мышкой левой руки у него две иконы новенькие, а в правой руке — железная палка. Этой палкой он, как бы по пути, разбивал стекла подряд всех домов в первом этаже, где он может достать палкой окна»21.
Эмоциональное возбуждение и «потеря человеческого облика» участниками пьяных погромов вызвали у «образованных» очевидцев культурный шок. Настроения и поведение «громил» описывались ими сквозь «культурные очки» отвращения, возмущения и неприязни. Совершенно очевидно, что в описаниях представителями «чистой публики» разгромов винных складов присутствует
19 С. Волконский (князь), Мои воспоминания, в 2 т., М.: Искусство, 1992, II, 253-254.
20 Вятская мысль, 27 октября 1917 г.
21 Там же, 10 ноября 1917 г.
Упоение» бунтом в русской революции...
273
репрезентация их собственных негативных чувств, вызванных поведением «освобожденного народа». Вместе с тем здесь прослеживается и приверженность укоренившемуся рационалистическому («гидравлическому») дискурсу, согласно которому в конструировании представлений о «сознательности» и «сознательной личности» решающая роль отводилась разуму и воле, а не чувствам и ощущениям22. Неспособность контролировать свои чувства рассматривалась образованными слоями в качестве очевидного признака незрелости и отсталости. Манифестация возмущения по поводу «несознательности» и «озверения» масс и связанных с этим опасений должны были мобилизовать просвещенчески ориентированные образованные слои на ответные действия.
Разгромы винных складов подтвердили и укрепили патерналистский интеллигентский стереотип о «темноте» и «отсталости» российского населения, не готового к пользованию плодами свободы, не созревшего до статуса субъекта исторических действий, а потому нуждавшегося в просвещении, воспитании и жестком руководстве. Опыт последних месяцев первого года революции позволительно рассматривать как один из факторов, опосредованно повлиявших на брутальное поведение и «красных» и «белых» властей в отношении городских и сельских «обывателей» в годы Гражданской войны. Насилие «снизу» и сопровождавшие его антиобщественные выплески эмоций воспринимались как виновник и катализатор социального хаоса, которому следовало противопоставить оправданное в этих условиях организованное насилие «сверху» во имя наведения порядка, сохранения нравственности и усмирения «вояк» и поборников кулачного права.
«Это Христос Воскрес, это Пасха»: массовое эмоциональное возбуждение из перспективы участников «винных погромов»
Некритичное восприятие описаний осенних разгромов 1917 года, оставленных «образованными» современниками, создает ощущение иррационального характера действий «толпы» и блокирует доступ к интерпретационной и поведенческой логике непосредственных участников погромных насилий и грабежей. На первый взгляд, версию «культурных» наблюдателей подтверждали и сами погромщики: давая задним числом объяснения возмущенным
22 См., напр., определение личности, написанное В. Соловьевым для популярной энциклопедии Брокгауза и Ефрона: Энциклопедический словарь, СПб., 1896, XVII, 868.
274
Игорь Нарский, Юлия Хмелевская
представителям властей, они сокрушались по поводу своей «темноты», якобы не позволившей разобраться в ситуации и толкнувшей их на предосудительные действия.
Однако такие свидетельства требуют от исследователя предельной осторожности. Тог, кто принимает их за чистую монету, упускает из виду, что сообщение «чужакам» того, что те желают услышать, является одной из устойчивых стратегий «слабых». Чтобы попытаться проникнуть в «порядок» поведения и строй объяснений участников «беспорядков», целесообразнее обратить внимание на их высказывания и действия, подслушанные и подсмотренные в ситуациях, когда их языки были «развязаны» алкоголем, а поступки, по их мнению, не наблюдались извне культурными «чужаками».
В отличие от антропологов, располагающих «живым» материалом и фиксирующих «непосредственные» эмоциональные проявления с источниковедческой точки зрения, историк может полагаться только на «вторичные» источники, созданные, как правило, не участниками, а наблюдателями. Безусловно, вербальные конструкции, использованные газетчиками и мемуаристами в публичных репрезентациях высказываний и реакций несимпатичных им погромщиков, проходили через культурные и цензурные фильтры. Однако если попытаться абстрагироваться от оценочных суждений и сконцентрироваться на содержательной стороне, то все же можно вычленить некоторые особенности эмоциональных проявлений участников погромов в той среде, которую они считали «своей».
Вот какие, например, реплики были зафиксированы в ноябре 1917 года в толпе солдат, потреблявших алкоголь из спиртового «озера» на льду реки Вятка, в которую власти попытались спустить запасы казенного винного склада:
Один из солдат, захлебываясь от восторга, говорит:
— Ну и дожили. Никогда не думали об этом. Это нам за три года войны. Можно.
— Это Христос Воскрес, это Пасха, — выражает свою радость другой солдат.
— За Романова, — шутит какой-то солдат, выпивая спирт из пригоршни23.
Прежде всего обращает на себя внимание, что участники пьяных эксцессов, в отличие от описывавших их наблюдателей, испытывали сильные положительные эмоции (восторг, радость) — и ни малейшей неловкости, стыда или угрызений совести по поводу совершаемых действий. В этом явлении, возможно, воплотилось
23 Вятская жизнь, 14 ноября 1917 г.
«Упоение» бунтом в русской революции...
275
существенное культурное перекодирование отношения населения к власти у представителей одного поколения. Всего за 12 лет до анализируемых событий, в октябре 1905 года, слухи о посягательствах на символы светской и духовной власти — гербы, знамена, портреты членов императорской фамилии, хоругви и иконы — были способны повсеместно мобилизовать низы на коллективные верноподданнические визиты в присутственные места и расправу с «революционерами» и «жидами». Теперь же, будучи абсолютно уверенными в правомерности и безнаказанности своих поступков, те же обыватели громили государственные склады и растаскивали казенное имущество, демонстрируя тем самым предельное недоверие и пренебрежение к властям. Внешние же поведенческие проявления, которыми сопровождались эти действия, носили не только «антиобщественный», но и просто «непристойный» характер, превращая, таким образом, власть в объект инверсии.
Как видно из приведенного фрагмента, в разгроме винных складов также явно присутствует смысловое поле войны, однако, в отличие от интеллигентского истолкования, с позитивным акцентом на воздаяние по заслугам. Возможно также — хотя эта гипотеза требует основательной проверки, — что в погромах осени 1917 года отразился и недавний собственно военный опыт, примененный их наиболее активными участниками — солдатами, которым до определенной степени свойственно было вести себя «по-берсеркерски», как в бою, а захват казенной и частной собственности расценивать как право победителя.
Кто же выступал в сознании участников разгромных акций главным объектом насилия и источником «трофеев»? Если в 1905 году это были «жиды», «революционеры» и «студенты», то в 1917-м насилие адресовалось «буржуям» как феномену без «классового» лица, но с ясным культурным профилем: разгрому подвергались не столько сами представители «буржуазных» категорий, сколько все то, что так или иначе ассоциировалось с их образом жизни — в том числе книги, музыкальные инструменты и т.д. Самой же желанной «добычей» стали якобы узурпированные ими запасы алкоголя.
Если рассмотреть различия в сценариях «бесчинств» 1905 и 1917 годов и в поведении их участников с помощью аргументации, предложенной У. Редди и Б. Розенвейн24, то в событиях 1917 года нашли свое отражение, во-первых, кризис прежде относительно устойчивого «эмоционального режима», последовавший за политическими пертурбациями и сменой власти, а во-вторых, совер
24 Reddy, The Navigation of Feeling, 128—129; Rosenwein, «Worrying about Emotions in History».
216
Игорь Нарский, Юлия Хмелевская
шенно разная природа «аффективных связей», на которых основывались «эмоциональные сообщества», столь деструктивно проявившие себя в обеих погромных волнах. В октябре 1905 года погромщики не могли остановиться в яростном и целенаправленном коллективном избиении своих жертв, превращая их в кровавое месиво. Основным объектом аффекта выступали достаточно предметно воспринимаемые «враги» существующего порядка, а внешним легитимизирующим основанием для «выброса» эмоций в конечном итоге служил вопрос о субъективной лояльности к власти. Эмоциональная среда, сложившаяся во время погромов 1917 года, выстраивалась на иных аффективных связях, в которых «предметность» власти и телесность потенциального «врага» были отодвинуты на вторые роли по сравнению с внезапно открывшимися возможностями удовлетворения желанных и прежде вполне «легитимных» потребностей, которые были прочувствованы как табуизированные. Громилы 1917 года были не в состоянии прекратить безудержные возлияния, которые превосходили границы физического усвоения. Не исключено, что именно поэтому последующие расправы отличались вялостью. «Ярость» и насилие имели более произвольный характер и направлялись в основном на материальные объекты, а не на людей, которые рисковали стать жертвами лишь в том случае, если сами приобщались к погромам и становились конкурентами в борьбе за добычу или попадали «под горячую руку».
Для адекватного описания эмоционального состояния, охватившего активистов «пьяных погромов» 1917 года, представляется целесообразным воспользоваться ключевым концептом участников проекта «Rausch und Diktatur», объединившим в себе и культурно сконструированные, и телесные аспекты. Немецкое понятие «Rausch» может быть переведено на русский с помощью заимствованных существительных «эйфория», «экстаз», «экзальтация». Из русских аналогов наиболее подходящими представляются «опьянение» и семантически наиболее близкое «упоение». Не ограничиваясь традиционным «поэтическим» истолкованием, авторы проекта предлагают понимать под ним ограниченное во времени сильное переживание индивидуального эмоционального переполнения, распространившееся в большой труппе людей. Эго состояние может быть вызвано коллективными действиями или впечатлениями — от совместного прослушивания музыки до групповой расправы над беззащитной жертвой. Для него характерны утрата контроля над чувствами и стремительное «заражающее» распространение; тесная связь с массовой насильственной практикой, выступающей в качестве программного призыва и способа сплочения спонтанно формирующейся труппы; переживание общности, стабилизирующей рамки коммуникации; освобождение от будней, не совместимое с чувствами стыда и раскаяния.
Упоение» бунтом в русской революции...
277
По мнению инициаторов проекта А. фон Климо и М. Рольфа, такое применение понятия «Rausch» открывает новые перспективы в изучении диктатур XX века:
Представляется, что понятие ‘Rausch’ позволяет увидеть эмоциональные и психологические предпосылки современных диктатур более четко, чем чисто «мужское» рассмотрение системных структур и их целе-рационально действующих представителей. Эту последнюю перспективу следует не отбрасывать, а дополнить особым новым вниманием к эмоциональному измерению действительности (и ее «рациональному» толкованию) в целом и к формам «иррациональной» беспредельной эмоциональности в особенности25.
Поведенческий и вербальный характер эмоциональных проявлений участников винных погромов говорит о том, что свободный доступ к «благам», сокрытым от них государством и «буржуями» на протяжении трех лет войны и «сухого закона», воспринимался ими как заслуженный праздник, компенсация за понесенные лишения и жертвы. Однако о «хореографии» какого праздника может идти речь в данном случае? Чтобы ответить на этот вопрос, можно прибегнуть к типологии, предложенной американским историком Дж. фон Гелдерном, который выделяет в структуре праздника два компонента — «мистерию» и «карнавал»26. Первый из них наделяет действительность смыслом, проникнут серьезностью и торжественностью и в большей степени присущ официозным и государственным праздникам. «Карнавал» имеет более неформальный характер и выполняет функцию временного разрыва с буднями, выхода за пределы обыденности, символического слома привычных иерархий и статусов, подразумевая, помимо всего прочего, активное субъективное участие.
Как было отмечено этнологами, «ни одна из социальных систем, вне зависимости от уровня ее развития, не в состоянии воспроизводить себя без привлечения в общественной сфере механизмов, связанных с глубоко укорененной потребностью в высвобождении телесности»27. Одним из важнейших и общественно востребован
25 A. von Klimo, М. Rolf, «Rausch und Diktatur», Zeitschrift fur Geschichts-wissenschaft 10 (2003), 895.
26 J. von Geldern, Bolshevik festivals, 1917—1920, Berkeley: Univ, of California Press, 1993, 40—55.
27 A. Honneth, «Die unendliche Perpetuierung des Naturzustandes. Zum theoretischen Erkenntnisgehalt von Canettis Masse und Macht», Einladung zur Verwaltung. Essays zp Canettis «Masse und Macht», ed. M. Krueger, Munchen: Hanser, 1995, 114.
278
Игорь Нарский, Юлия Хмелевская
ных каналов этого «выброса» телесности по традиции служили массовые праздники, обеспечивавшие их участникам относительную свободу выражения эмоций как в психофизиологическом, так и в ритуальном плане. Однако исследователи народной праздничной и смеховой культуры обращают внимание не только на «психотерапевтическую», но и на «политическую» и «миросозерцательную» роль традиционных народных праздников и «праздничного поведения». М. Бахтин считал празднества «важной первичной формой человеческой культуры», которая имеет «существенное и глубокое миросозерцательное значение» и не может быть объяснена ни из практических условий и целей общественного производства, ни из «биологической потребности в праздничном отдыхе»28. Рассмотрение ритуально-поведенческой стороны народных празднеств позволило исследователям предположить глубокую родственность бунта и праздника, которая проявлялась в формальных структурообразующих чертах — в том, что многие компоненты праздничного поведения вошли в поведение бунтарское и наоборот (состояние экзальтации, крайнее возбуждение и шумовые эффекты, инвекгизация речи и жестов и т.д.)29.
Роль такого рода практик, их «заразительность» как способов «выброса» накопившихся чувств и перспективы их воздействия на текущие «эмоциональные режимы» подмечена авторами, интересующимися историей эмоций30. Изучение ритуальной, «празднично-бунтарской» стороны карнавальной культуры западноевропейского Средневековья и Нового времени давно и прочно утвердилось в качестве особого направления международной историографии31. Однако в не меньшей степени элементы такого «карнавала», сочетающего в себе как телесные проявления, так и
28 М. Бахтин, Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса, М.: Худож. лит., 1990, 13
29 Y.-M. Berse, Fete et wvolte. Des mentalites populates du XVF au XVIIF siecle, Paris: Hachette, 2006; 3. Чеканцева, «Праздник и бунт во Франции между Фрондой и Революцией», Одиссей. Человек в истории, М.: Наука, 2005.
30 Reddy, The Navigation of Feeling..., 128; см. также Л. Февр о ритуальной стороне эмоций и их роли как объединяющего фактора при коллективных действиях: Февр, «Чувствительность и история. Как воссоздать эмоциональную жизнь прошлого», Бои за историю, М.: Наука, 1991, 112, 124.
31 См.: Бахтин, Творчество Франсуа Рабле...', Р. Дарнтон, Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории французской культуры, М.: НЛО, 2002; М. Озуф, Революционный праздник 1789—1799, М.: Языки славянской культуры, 2003; 3. Чеканцева, Порядок и беспорядок. Протестующая толпа во Франции между Фрондой и Революцией, Новосибирск: НГПУ, 1996; Е. Le Roy I^dune, Carnival: A People's Uprising at Romans, 1579—1580, London: Scholar Press, 1980; W. Beik, «The Violence of the French Crowd from Charivari to Revolution», Past and Present 197:1 (2007) и др.
«Упоение» бунтом в русской революции...
279
неписаные обычаи, присущи и российской простонародной праздничной культуре. Сошлемся лишь на празднование святок и особенно Масленицы, сопровождавшееся безудержным весельем, неумеренным принятием пищи и алкоголя, играми и рискованными забавами с ослаблением моральных табу и нарушением возрастных ролей, в том числе кулачными боями, взятием снежных городков, прыжками через костры, нырянием в проруби и т.д.
Эго отчасти объясняет, почему погромы 1917 года расценивались их участниками как нечто не только законное и нормальное, но и похвальное, как победа в рискованной игре. Такое отношение проявилось в наивном, на первый взгляд, молодечестве добытчиков алкоголя — в пренебрежительном отношении к риску, с которым были связаны их действия, в дурашливом спаивании домашних животных, в разгульном возбуждении дележа. Очевидец погрома в Борисоглебске оставил яркое свидетельство настроения среди охотников за даровой выпивкой в горящем складе:
Цистерны и бочки пылали, и толпа, несмотря на это, черпала, пила и упивалась. Мужчины, женщины, дети, старухи — все хотели своей доли праздника. Выказывали такое презрение к опасности, что оно граничило с храбростью; только не храбрость то была, это было опьянение; они были пьяны раньше, чем пили, они были пьяны от желания. Взлезали на край цистерн, припав грудью, пили. Были случаи, что люди падали в горящий алкоголь; на поверхности плавал жир человеческий, а они все пили32.
Сами громилы винных складов обозначали безудержное пьянство как Пасху — главный православный праздник, по традиции сопровождавшийся особенно интенсивными возлияниями и эмоциональным ликованием. Но и внешние наблюдатели устойчиво именовали погромщиков «паломниками», а их походы к местам скопления бесхозного алкоголя у разрывов спускных труб, водоемов и заводских цистерн — «алкогольным крещением», «паломничеством» и «водосвятием». Помещение столь предосудительных действий в смысловое поле светлого праздника с паломничеством к «святому» источнику отчасти объясняет нарушение культурных табу при потреблении алкоголя: никакие «человеческие» примеси не были в силах испортить трансцендентной «чистоты» этого источника и радости по поводу его доступности.
Несмотря на религиозные корни пасхальной символики, использование участниками винных погромов метафорики Пасхи не следует ассоциировать с религиозностью «низов» в революции, хотя
32 Волконский, Мои воспоминания..., 254.
280
Игорь Нарский, Юлия Хмелевская
идея «воздаяния» за пережитые страдания присутствует и в процитированном выше газетном фрагменте, и в других высказываниях солдат-погромщиков. Скорее, можно предположить, что здесь имела место своеобразная секуляризация первоначального смысла религиозного праздника, которая, кстати сказать, произошла не без посредничества более образованных соотечественников. Еще с весны 1917 года на волне эмоциональной эйфории, вызванной Февральской революцией, ее восторженные приверженцы стали пропагандировать образ «революции-пасхи», которая воскресит российский народ. Этот образ, судя по всему, оказался настолько универсальным, что активисты погромов винных складов уверенно замещали понятие «революции» нагруженным многослойными смыслами понятием «Пасхи», которое, по-видимому, казалось им наиболее удачным и лаконичным синонимом «свободы» и «праздничной вседозволенности». А пьяные эксцессы осени 1917 года воспринимались ими как естественная часть и прямое воплощение такой революции — революции как праздника-бунта, снимавшего моральные и социальные барьеры.
* * *
Сопровождавшее русскую революцию «упоение» бунтом, конечно, далеко не исчерпывается алкогольными погромами второй половины 1917 года. «Особость» же этого явления, нередко относимая на счет специфики российской/национальной культуры, заключается разве что в его размахе. Аналогичные действия «толпы», наделившей понятия власти, свободы и справедливости собственными «перверсивными» смыслами, имеют массу исторических прецедентов, самыми известными из которых можно считать Великую французскую революцию и Парижскую коммуну. Однако российские «пьяные эксцессы» конца 1917 года являются одной из наиболее наглядных иллюстраций культурного конфликта «верхов» и «низов», который не только не был снят политической революцией, но, напротив, приобрел новое и гораздо более политизированное измерение.
Как отмечает американский социолог К. Уоррен, «насилие, будь оно направленным или рассеянным, не является социальным фактом или культурным опытом, пока ему не придано значение рассматривающими его субъектами»33. В случае разгрома винных складов коллективное пьянство, асоциальное поведение и раздел чужого имущества казались бессмысленными проявлениями «тем
33 К. Warren, «Revealing Conflicts Across Cultures and Disciplines», Id., The Violence Within: Cultural and Political Opposition in Divided Nations, Boulder, CO: Westview Press, 1993, 8.
«Упоение» бунтом в русской революции...
281
ноты», «варварства», «озверения» и «разнузданности» только из перспективы европеизированных культурных слоев. Но в контексте плебейской культуры эти действия имели свою логику и ясный смысл. Они восстанавливали справедливый, по мнению низов, порядок, создавали неформальное братство, обозначали опасности и врагов, перед лицом которых следовало объединиться, и вписывали появившиеся в кризисной ситуации новые возможности в привычные поведенческие коды и символы.
inarsky@mail.ru
jkhmel@mail.ru
Ирина Сироткина
ПЛЯСКА И ЭКСТАЗ В РОССИИ ОТ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА ДО КОНЦА 1920-х ГОДОВ1 2
ПЛЯСКА — азартная, безудержная, безумная, бесшабашная (разг.), бешеная, бойкая, буйная, бурная, быстрая, вдохновенная, весёлая, головокружительная, горячая, задорная, залихватская (разг.), захватывающая, искромётная, неистовая, отчаянная, пламенная, развесёлая (разг.), разгульная, раздольная, разудалая (нар.-поэт.), страстная, стремительная, сумасшедшая (разг.), удалая, ухарская (разг.), энергичная, яростная. Восточная, народная, половецкая, русская, северная, солдатская, цыганская и т.п.
Словарь эпитетов1
Автор этой статьи исходит из убеждения, что именно история культуры, а не естественные науки или психология может пролить свет на вопрос о природе эмоций. В жизни мы часто неявно постулируем, что эмоции — это наиболее прямой, непосредственный, моментальный ответ человека на воспринятое им событие, слово, образ. Это житейское представление об эмоциях как «естественном» ответе организма на воздействие (в английском языке есть для этого хороший термин — a gut reaction, т.е. реакция, которая идет «изнутри», буквально — «из кишок») переняли современные естественные науки. Согласно распространенной в психологии теории, существует базовый набор простейших эмоций, в который входят, например, радость, страх, ненависть. Над этими якобы общими для всех людей универсальными эмоциями надстраиваются все другие чувства, от мелочной зависти или ревности до восторга перед созерцанием восхода солнца. Где-то на самом верху этой пирамиды
1 Я благодарю Яна Плампера и Роджера Смита за их комментарии к ранним вариантам статьи.
2 Словопедия (в сети).
Пляска и экстаз в России от Серебряного века...
283
располагаются, например, эстетические чувства, которые вызывает восприятие красоты, художественного произведения. Согласно этому взгляду, они наиболее далеко отстоят от базовых, «природных» эмоций и являются культурно обусловленными, то есть в некотором смысле социальными конструкциями. Вот этот взгляд на эмоции как более или менее «естественные», выстроенные в определенную иерархию в зависимости от того, насколько они близки к «непосредственным реакциям», и опровергает, по моему мнению, история культуры. В статье я попытаюсь показать, что даже наиболее эстетизированные и «концептуальные» чувства, — например, экстаз и пляска, связанные с идеями Серебряного века о дионисий-стве, — оказывают на жизнь людей воздействие не менее сильное и прямое, чем так называемые «естественные» эмоции. С другой стороны, как показывают историки, эти последние столь же «при-родны», сколь и «культурны» — как и всё в человеке3.
Я начну статью с характеристики пляски и экстаза как репрезентаций чувств, распространенных в культуре Серебряного века, след которых еще сохранялся в 1920-е годы. В эстетической философии Вагнера и Ницше пляска-экстаз стала ключевым понятием, метафорой духа. Ницше пророчествовал: «Божественное приближается лёгкою стопою» — и советовал «плясать ногами и головой»4. Вслед за ним интеллектуалы Серебряного века сделали пляску одним из элементов своей эстетической утопии. Изолированному индивиду, разделенному на разум и эмоции, скованному условностями и тоскующему по «естественности», пляска казалась средством воссоединиться с другими, вернуть утраченные свободу и единство души и тела. Одной из ключевых для этой утопии фигур стала американская танцовщица Айседора Дункан. Эта танцовщица-философ сознательно позиционировала себя как первую ласточку «артистического человечества», о котором мечтал Вагнер, «современную вакханку» в духе Ницше. В России у нее было множество поклонников, прежде всего из круга символистов и их читателей, и немало последователей, основавших десятки школ и студий нового танца. В своей эстетической программе Дункан отводила большое место «чувствам»: ее танец был наполнен раз
3 Некоторые историки работают над соединением схем «универсальных» и «культурно обусловленных» эмоций; см., напр., W. Reddy, The Navigation of Feeling: A Framework for the History of Emotions, Cambridge UP, 2001.
4 Ф. Ницше, Так говор на Заратустра, пер. Ю. Антоновского, М.: МГУ, 1990, 184, 255. О популярности Ницше в России см., напр., Фридрих Ницше и философия в России, под ред. Н. Мотрошиловой, Н. Синеокой, СПб.: Изд-во Русско-христианского гуманитарного института, 1999; Е. Clowes, The Revolution of Moral Consciousness: Nietzsche in Russian Literature, 1890- 1914, DeKalb, Ill.: Northern minors UP, 1988.
284
Ирина Сироткина
личными «эмоциями», вплоть до «экстаза». Но поскольку эти «эмоции» навеяны музыкой или другими художественными впечатлениями, их можно назвать эстетическими, а экстаз — и вовсе философски нагруженным понятием5.
Во второй части статьи речь пойдет о том, как утопия пляски была реализована группой последователей Дункан — студией «Гептахор» (1914—1934). Пляска стала не только их кредо, но и образом жизни. Кроме того, им пришлось столкнуться с парадоксами пляски', можно ли научить танцу, «свободному» по определению? Можно ли намеренно пережить «экстаз»? И почему так называемые «естественные» движения столь непривычны для современного человека? Пройдя испытание жизнью, реалии которой в тот период были особенно непростыми, эстетическая утопия пляски завершила свое существование с окончанием 1920-х годов.
Пляска versus танец
Семантически пляску от танца отличают эмоциональность, «естественность» и свобода: «дикая» и «экстатическая» пляска, часть древних очистительных обрядов, противостоит танцу как цивилизованному и регламентированному правилами «искусству». Пляска — локус эмоций, синоним страстности и стихийности; она свободна от всяких ограничений и подчинена только музыке, которая сама — эмоциональная стихия. Пляс нельзя «исполнить», в него можно только пуститься, отдаться ему, как страсти, как экстазу. Иногда пляской называют народный танец — как собирательное понятие, в целом, а не какие-то отдельные его виды6. Но в значении широком и собирательном пляска и танец противоположны: как свободное проявление чувств и самоконтроль. У человека, потерявшего контроль над собой, «пляшут нервы»; «пляшет», согласно идиоме, душа.
5 Слово «экстаз», которое в современном русском языке означает «высшую степень восторга», «исступленно-восторженное состояние» (П. Черных, Историко-этимологический словарь русского языка, т. 2, М.: Русский язык, 1993, 351) и используется редко и, как правило, с ироническим оттенком, было весьма употребительным в лексиконе Серебряного века. Там оно означало состояние не психологическое, а мистическое, трансцендентное; именно в этом смысле говорилось о «плясовом, религиозном, созерцательном экстазе». См., напр., К. Эйгес, Сверки по философии музыки, М.: Тов-во Маковский и сын, 21918; Звучащие смыслы, альманах, СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2007, 212.
6 Поэтому было бы неверным переводить его безусловно как «русский танец», как это делается в: О. Figes, Natasha ’s Dance: A Cultural History of Russia, N.Y.: Picador, 2002, 105.
Пляска и экстаз в России от Серебряного века...
285
Если танец, в особенности бальный, представляет собой сочетание «порядка» и «свободы»7, то в пляске второй гораздо больше, чем первого. Пляска и танец — классовые антиподы: танцуют на балах, пляшет народ. Пляшут цыгане, и русский человек не мыслит страсти без их разгульных песен и плясок. Пляшут скоморохи, торжествуя над запретами официальной репрессивной культуры, пляшет канатоходец в небе над ярмаркой. Классическое противопоставление пляски танцу — знаменитая сцена из «Войны и мира», когда обученная бальным танцам Наташа Ростова, при полном одобрении крестьян, пляшет русскую под дядюшкину гитару8. В отличие от танца, на котором лежит налет современной цивилизации, пляска отсылает в глубь прошлого, в Золотой век единства души и тела. Пляска — chorea — гораздо древнее танца, она — часть магических ритуалов, оргиастических культов. Менады, вакханки, фурии пляшут до исступления и могут навести безумие на каждого, кто их случайно увидит. В античной трагедии на орхестре пляшет хор, и тем самым достигается катарсис — очищение души актеров и зрителей.
Понятие пляски пришлось как нельзя более ко двору в России Серебряного века, в эпоху расцвета театра и создания театральных утопий. Вячеслав Иванов, Максимилиан Волошин, Георгий Чулков и многие другие мечтали о «соборном театре», театре-«храме» или «общине», где будет уничтожена рампа, то есть разделение на актеров и зрителей, и отдельные люди сольются в единую душу9. Представление выльется на улицы в виде грандиозных процессий, манифестаций и празднеств, и пляска — прообраз такого театра. В театре будущего, писал Анатолий Луначарский, произведенные «коллективной душой» пролетариата «монументальные фигуры-символы» будут «танцевать великий танец жизни под еще неслыханную музыку».10 Пляска должна была принести исцеление человеку, тяготящемуся своим индивидуализмом и разрывом между рацио и эмоциями, телесным и духовным. В ней сливается «космическое и физиологическое, чувство и логика, разум и познание»; «мир, раздробленный граненым зеркалом наших восприятий, получает свою вечную внечувственную цельность»11.
7 Ю. Лотман, Роман Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий, Л.: Просвещение, 1980, 85—86.
8 Л. Толстой, Война и мир, т. 2, ч. 4, гл. 7.
9 См. С. Стахорский, Искания русской театральной мысли, М.: Свободное издательство, 2007; Г. Степанова, Идея «соборного театра» в поэтической философии Вячеслава Иванова, М.: Гитис, 2005.
10 Цит. по: Стахорский, Искания русской театральной мысли, 155.
11 М. Волошин, «Айседора Дункан» [1904], Айседора. Гастроли в России, М.: Артист, Режиссер, Театр, 1992.
286
Ирина Сироткина
Именно в таком контексте была воспринята в России Айседора Дункан (1877—1927). Критики, близкие символизму, провозгласили ее танец пляской12. Сама она называла его свободным, противопоставив традиционному балету, в котором тело танцовщицы сковано сценическим костюмом, ноги сдавлены балетными туфлями, а движения подчинены указаниям балетмейстера. Танец, проповедовала она, должен отказаться от условностей балета и стать «естественным», сродни «движениям животного» или «пляске дикаря»13. Свободный танец был противопоставлен балету еще в одном отношении: как выражающий «чувства» танцующего. Реформатор русского балета Михаил Фокин, приветствуя Дункан, констатировал: «Старый балет опоздал умереть. [...] Уже вне балета происходит возрождение танца, вне балета культивируется красота и выразительность человека, и тело его опять становится предметом радостного созерцания и лучшим средством для выражения всех душевных настроений, переживаний»14.
Искусство переживания
Подготовленные «дионисийством» Ницше и Вячеслава Иванова, эстетизмом Оскара Уайльда и культом античности Фаддея Зелинского, интеллектуалы Серебряного века увидели в танце Дункан воплощение мечты о современных вакхантах, о целостном человеке. Она казалась провозвестницей «нашей будущей жизни — жизни счастливого человечества, предающегося тихим пляскам на зеленых лугах». Заглавие статьи Андрея Белого о Дункан было скрытой цитатой из «Другой песни-пляски» Заратустры15.
12 Первым, по-видимому, это сделал Волошин в своих отзывах на ранние (парижские) выступления Дункан. См.: Волошин, «Весенний праздник тела и пляски» [1904], Путник по вселенным, М.. Советская Россия, 1990, 87, 89.
13 А. Дункан, Танец будущего. Моя жизнь. Мемуары, Киев: Мистецтво, 1989, 25.
14 М. Фокин, «Революция в балете» [1909], Против течения. Воспоминания балетмейстера. Сценарии и замыслы багетов. Статьи, интервью, письма, Л.: Искусство, 1981, 303—304. В антрепризе Дягилева он, а за ним и другие хореографы, начал ставить балеты на так называемую «недансантную» музыку: признанным шедевром стал «Послеполуденный отдых фавна» Вацлава Нижинского. В Петербурге балетмейстер Федор Лопухов ввел жанр «танцеимфонии», поставив балет «Величие мироздания» на музыку Четвертой симфонии Бетховена. Одним из его исполнителей был Георгий Баланчивадзе — будущий Джордж Баланчин, позднее прославившийся балетной интерпретацией симфонической и вообще классической «недансантной» музыки.
15 А. Белый, Луг зеленый, М.: Атьциона, 1910, 3—18. «Другая песнь-пляска» — глава из третьей части Ницше, Так говор ил Заратустра.
Пляска и экстаз в России от Серебряного века...
287
В облагороженном античностью виде пляска нашла дорогу туда, где ей до этого не было места — в салоны и артистические кружки16. Для зрителей Дункан, большинство из которых получило добротное классическое образование, «в ее искусстве действительно воскресала Греция»17. В ней видели вакханку, амазонку, нимфу, ожившую древнегреческую статую18. Дункан культивировала не только пластический образ античности, но и ее идеалы. Отчасти под влиянием своего брата Раймонда, ведшего «древнегреческий» образ жизни, отчасти же под влиянием ее первых зрителей-эстетов из артистических салонов Парижа и Берлина, познакомивших ее с творчеством Шопенгауэра, Вагнера и Ницше, она создала эстетическую утопию, центральное место в которой занимал танец-пляска. Вагнер мечтал об «искусстве будущего»: возникнет оно в результате эстетической революции, которая представлялась ему в образе богини, «приближающейся на крыльях бурь»19. Крылатая Нике стала излюбленным образом Дункан. Айседора познакомилась с Козимой Вагнер, танцевала в байрейтском театре и проповедовала «танец будущего». У Ницше она взяла идею экстаза — мистического оргиазма, благодаря которому жизнь утратит фрагментарность и обретет цельность. Она пророчествовала о новой женщине, чей «знак — возвышеннейший дух в безгранично свободном теле», о будущем, лёгком и радостном, как античная пляска.
Балансируя на тонкой грани между «порядком» и «свободой», Дункан удалось избежать скабрезности и создать танец, как казалось современникам, «вольный и чистый», а главное — выражающий чувства20. «Очарован ее чистым искусством и вкусом», — пи
16 См., напр., I. Duncan, Му Life, N.Y.: Boni & Liveright, 1927; Irma Duncan, A. Macdougall, Isadora Duncan ’s Russian Days and Her Last Years In France, N.Y.: Covici-Friede, 1929; B. Fredrika, Isadora Portrait of the Artist as a Woman, N.Y.: McGraw-Hill Book Company, 1986; A. Daly, Done into Dance: Isadora Duncan in America, Middletown, CT: Wesleyan UP, 1995. О Дункан в Росии см., напр., статью: N. Stiidemann, «Roter Rausch? Isadora Duncan, Tanz und Rausch in ausge-henden Zarenreich und der friihen Sowjetunion», Rausch und Diktatur: Inszenierung, Mobilisierung und Kontrolle in totalitaren Systemen, ed. A. von Klimo, M. Rolf, Fr.a. M.: Campus Verlag, 2006; Id., Dionysos in Sparta: Isadora Duncan in Russland. Eine Geschichte von Tanz und Kbrper, Bielefeld transcript, 2008.
17 M. Волошина (Сабашникова), Зеленая змея. История одной жизни, пер. с нем., М.: Энипиа, 1993, 118—119.
18 Гимназист пятого класса Александр Пастернак (сын художника и брат поэта) вспоминал: «Как фея жизни, Айседора Дункан снимала с изваяний их оцепенение; скульптуры оживали и продолжали свое, прерванное окаменением движение после двухтысячелетнего глубокого сна», А. Пастернак, «Метаморфозы Айседоры Дункан», Айседора. Гастроли в России, 328.
19 Ц иг. по: Ст ах орский, Искания русской театральной мысли, 34.
20 А. Белый, Луг зеленый, 4.
288
Ирина Сироткина
сал К. Станиславский. Бившийся над вопросом, как возможно переживать подлинные чувства на сцене, он, казалось, нашел в Дункан союзника. Станиславский любил наблюдать за ней «во время спектаклей, репетиций и исканий»: звучала музыка, и «она от зарождающегося чувства сначала менялась в лице, а потом со сверкающими глазами переходила к тому, что вскрывалось в ее душе»21. Ее пляска представлялась режиссеру не исполнением роли, а чем-то идущим из глубины души — молитвой в театре, о которой мечтал он сам. В один из приездов Дункан в Россию Художественный театр предоставил ей свое помещение для утренних спектаклей и завел «Дункан-класс»22.
Айседора брала для своих танцев только классическую музыку — в основном Бетховена, композиторов-романтиков Шуберта, Шопена или ее современника Скрябина. Никогда до этого балетная музыка не поднималась на такую высоту. К тому же в театре музыке вообще отводилось подчиненное место, и движения танцоров часто были связаны с ней лишь поверхностно, следуя только музыкальному метру и ритму. Современники подчеркивали, что у Айседоры «пустоту старой балетной музыки заполнила эмоциональность Глюка и Шопена, пафос греческих хоров и подъем Шестой симфонии Чайковского»23. Для Станиславского музыка стала средством пробуждения эмоционального начала в театре: он ставил в один ряд «искусство переживания» и «музыкальность»24.
Правда, критики отмечали, что диапазон эмоций у Дункан неширок и ограничен в основном радостью или светлой грустью. По крайней мере, так было в начале ее карьеры, когда Волошин заметил: «Трагизм — не ее элемент. ... Ее стихия — радость»25. Некоторые даже находили, что ее танцы «пронизаны мещанским сентиментализмом и робкой лирикой английской гувернантки». Но и те признавали ее индивидуальность и искренность: ее чувства «проистекали из лично пережитого, и порожденные ими движения ярко отличались от заученного механизма балетных антраша и фуэте»26. В отличие от балета, где танцы придумывает хореограф, а танцоры только их исполняют — как правило, достаточно механически, под счет, — свободный танец воспринимался как индивидуальный, глубоко интимный, как импровизация. Дункан поддерживала это
21 К. Станиславский, Моя жизнь в искусстве, М.: Искусство, 1941, 429.
22 К. Станиславский, Из записных книжек, в 2 т., т. 1, 1880—1911. М.: ВТО, 1986, 539, 412.
23 А. Гвоздев, «Айседора Дункан» [1927], Айседора. Гастроли в России, 312.
24 По поводу «музыкальности» драматургии Чехова; цит. по: Г. Морозова, Пластическое воспитание актера, М.: Терра-Спорт, 1998, 198.
25 Волошин, «Айседора Дункан», 39.
26 Гвоздев, «Айседора Дункан», 311.
Пляска и экстаз в России от Серебряного века...
289
впечатление, отказываясь сделать свое искусство ремеслом и подчеркивая, что нельзя никого научить танцевать — можно только пробудить такое желание27. Однако она умалчивала о двух вещах: о своей серьезной хореографической и музыкальной подготовке и о том, что в ее танце речь идет об особых эмоциях — художественных, или эстетических. Кроме музыки Айседора «танцевала» стихи Омара Хайяма, а увидев в музее «Весну» Боттичелли, «пыталась претворить ее в танец» и создала композицию «Танец будущего»28.
Вопрос о статусе эстетических эмоций встал особенно рельефно в отношении музыки. Главными авторитетами для российских философов и музыковедов оставались Шопенгауэр и Ницше, сходившиеся в том, что музыка — особое, эстетическое бытие, к которому неприменимы житейские или психологические категории. Композитор и музыкальный критик Серебряного века К. Р. Эйгес (1875—1950) определял музыку как «деятельность свободную, произвольную и эстетически закономерную, не зависящую от переживаемых в жизни эмоций». Свободная от житейских чувств, музыка стремится лишь к «красоте звуковых форм»29. Философ А. Ф. Лосев (1893—1988), прекрасно игравший на фортепиано, считал, что музыка вызывает особые чувства — эстетические, которые психофизиологическое понятие эмоции не описывает. И хотя композитор, по словам Эйгеса, рождает музыку из «хаоса», ждет «вдохновений» и испытывает «восторги» и «томления», это состояние не может быть целью. Лосев сформулировал это так: «Психический поток беспорядочен и мутен; он все время несется вперед, и форма протекания его в высшей степени случайна. Музыка, наоборот, известна нам лишь в стройнейших и законченных музыкальных образах, и о какой бы бесформенности и хаосе она ни говорила, все же сама она дана в строжайшей форме, и иначе нельзя было бы и говорить об искусстве музыки»30.
Понятие эстетического чувства возвращает нас от нововременной категории эмоции как психофизиологической реакции на раздражитель к старому понятию аффекта. По отношению к нашему поведению аффекты, как и эстетические чувства, не дескриптивны, а нормативны', они формируют, задают образец нашим чувствам. В XVII и первой половине XVIII века представление об активных, произвольных и добродетельных аффектах нашло практическое приложение в музыке. Композиторы барокко выдвинули теорию музыкальных аффектов, согласно которой сила воздействия му
21 Дункан, Танец будущего, 71 -72.
28 Там же, 53, 90
29 Эйгес, Очерки по философии музыки, 208. Курсив ангора.
30 А. Лосев, «Музыка как предмет логики». Он же, Из ранних произведений, М.: Правда, 1990, 203.
290
Ирина Сироткина
зыкального произведения определяется заключенным в нем аффектом. Причем в каждом произведении должен быть только один аффект, и он должен не меняться, а оставаться тем же самым на всем протяжении той или иной арии или части концерта.
Аффект — будь то гнев, ревность, отчаяние или умиротворенность — всегда очищен и разумен. Ему соответствует определенная «музыкальная фигура», построенная по правилам риторики. Теория аффектов видела в музыке бессловесный аналог искусства красноречия и предписывала стандартизованные формальные приемы изложения, аргументации, обсуждения и утверждения музыкального тезиса. Одной из целей музыкантов-теоретиков было создание «словаря» аффектов и соответствующих им выразительных средств; в 1730-х годах немецкий композитор Иоганн Маттезон перечислил их около двадцати31.
В своем танце Дункан использовала только несколько позиций этого словаря, но они как нельзя лучше резонировали с настроением публики и современными ей эстетическими течениями. За два года до гибели танцовщицы Хосе Оргега-и-Гассег написал ставшую впоследствии знаменитой статью, в которой противопоставил искусству прошлого с его серьезностью и мессианским пафосом легкое, играющее и игривое современное искусство. Метафорой его он выбрал пляску:
Для современного художника <...> нечто собственно художественное начинается тогда, когда он замечает, что в воздухе больше не пахнет серьезностью и что вещи, утратив всякую степенность, легкомысленно пускаются в пляс. Этот всеобщий пируэт — для него подлинный признак существования муз. <...> Символом искусства вновь становится волшебная флейта Пана, которая заставляет козлят плясать на опушке леса32.
Техника экстаза
Станиславскому пляска Дункан казалась «простой, как природа»; Михаила Фокина восхищала ее «естественность, выразительность и настоящая простота»33. По мнению искусствоведа Алексея
31 S. Langer, Philosophy in a New Key: A Study in the Symbolism of Reason, Rite and Art, Cambridge, Mass.: Harvard UP, [1942] 1996; M. Арановский, Музыкальный текст: структура и свойства, М.: Композитор, 1998.
32 X. Ортега-и-Гассет, «Дегуманизация искусства» [1925], Самосознание европейской культуры XX века. Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе, М.: Политиздат, 1991, 259.
33 Станиславский цит. по: В. Тейдер, Касьян Голейзовский, «Иосиф Прекрасный», М.: Флинта; Наука, 2001, 17; Фокин, Против течения, 354.
Пляска и экстаз в России от Серебряного века...
291
Сидорова, главное «нововведение» Дункан — «пляска и бег» — было до гениального просто и ставило ее в один ряд с «родоначальниками новых эпох и стилей»34. А Николай Евреинов признавался: ее танцы «произвели на меня одно из самых сильных впечатлений в моей жизни: они показались мне ... чем-то вне спора гениальным по своей поразительной, казалось, простоте».
Возможно, босоногий танец и казался таким же «простым» и «естественным», как пляска козлят на опушке леса, но он был далек от неискушенности и наивности. Его критики заявляли: он «искусственен» уже потому только, что подчинен идее — «следовать порыву тела и духа», «быть натуральным». Художник Михаил Ларионов, оформлявший балеты и сам участвовавший в постановке некоторых из них, задавал риторический вопрос: «Что может быть менее натурально для современного человека, чем бегать голыми ногами по полу, по сырой траве, полуголым или в греческой тунике?»35. Кроме того, босоножки, как их называли современники, танцевали «экстаз», а это «дионисийское» понятие предполагало, во-первых, частичное или полное снятие контроля человека над собой, а во-вторых, «выход из себя», отказ от личного я и слияние с надличным — Богом, природой, коллективным мы. Вот как, например, описывал свой собственный опыт музыкального творчества Эйгес:
Перед наступлением вдохновения композитора большей частью охватывает какое-то внутреннее горение. Еще ни одной музыкальной фразы не явилось, звуков еще нет, а душа уже полна какого-то восторга. Это состояние еще не есть собственно музыкальное настроение, это род опьянения, имеющее с музыкальным настроением общее только то, что при этом уничтожается в сознании граница между «я» и «не-я», художник «освобождается» (как об этом говорит Ницше) от своего индивидуального, конкретного «я». При этом воля его сливается с «первобытно единым»36.
Но как «дионисийство» танцора сочетается с необходимыми в исполнительском искусстве техникой и мастерством? Дункан претендовала на то, что в танце она не изображает, а действительно переживает «экстаз», но и у нее, конечно, имелись свои исполнительские приемы. Кажущаяся простота свободного танца также была искусством; она была, по словам Евреинова, простотой «клас
34 А. Сидоров, Современный танец, М.: Первина, 1923, 16, 19.
35 М. Ларионов, «Классический балет и “босоножки”», в: Г. Поспелов, Е. Илюхина, Михаил Ларионов, М.: Галарт, 2005, 351—353.
36 Эйгес, Очерки по философии музыки, 215.
292
Ирина Сироткина
сического приема: максимальная выразительность при минимуме художественных средств»37. Дункан, как и ее предшественники, заимствовала из античных образцов или руководств для драматических актеров и гармоническую грацию поз, и канон для выражения чувств38. Ее «экстаз» выражался соответствующим образом: «в постоянно повторяющихся устремлениях вверх, когда, замирая в экстазе, она и взорами, и воздетыми руками, и всем ритмом замершего тела тянется ввысь»39. Босоножек, последовательниц Дункан, даже упрекнули в том, что они монополизировали сценическое выражение чувств и создали собственный канон для изображения «экстаза».
Автор симфонической «Поэмы экстаза» Александр Скрябин относился к Дункан с «большим интересом и уважением» и, напротив, не признавал балет, считая, что его акробатика и виртуозность не оставляют места для экстаза40. Поклонники балета, в свою очередь, утверждали, что его техника ничуть не мешает выражению самых крайних чувств и что «оргиазм возможен в ... виртуозности, например, в рапсодиях Листа»41. Михаил Ларионов даже считал, что в классическом балете возможностей для выражения «экстаза» больше: «потому, что [балет] обладает сотнями па и положений и комбинаций, а [пластический танец] — десятками только». Но, признавал он, это возможно при условии, что «вы обладаете живым темпераментом и воображением и ... подвержены экстатическому состоянию в момент творчества или исполнения». А это возвращало от исполнительской техники к природе самого экстаза.
Достижению экстатического состояния была призвана служить и музыка, но и в этом вопросе единства не было. По поводу связи музыки и движений разгорелся спор между Дункан и швейцарским музыкантом и педагогом Эмилем Жаком-Далькрозом (1865—1950). Для развития чувства ритма у обучающихся музыке Далькроз создал систему упражнений — эвритмию, или ритмику. Ритмика стала не только методом музыкальной педагогики, но и художественным средством: воспитанные на ней ученики успешно им-
37 Н. Евреинов, В школе остроумия. Воспоминания о театре «Кривое зеркало», М.: Искусство, 1998, 67—71.
38 N. Ruyter, «Antique longings: Genevieve Stebbins and American Delsartean performance», Corporealities: Dancing Knowledge, Culture and Power, ed. S. Foster, London: Routledge, 1996.
39 С. Рафалович, «Айседора Дункан», Айседора. Гастроли в России, 55—59.
40 Об интересе Скрябина к свободному танцу в связи с его работой над «Мистерией» см.: Л. Сабанеев, Воспоминания о Скрябине, М.: Классика-ХХ1, 2003, 127-133.
41 Там же, 131.
Пляска и экстаз в России от Серебряного века...
293
яровизировали, сами создавали музыкально-пластические композиции. Дункан спорила с Далькрозом, который, как ей казалось, подчиняет движения счету и не оставляет места эмоциональному ответу на музыку. Российский последователь Далькроза князь Сергей Волконский так комментировал их спор: «Айседора — это пляшущее я. У Далькроза — это пляшущая музыка. Он выявляет ритм, не свое настроение...» В ответ сторонник Дункан Федор Сологуб назвал ритмику «дрессированным плясом»: «аристократическому» подходу Далькроза, воплощению традиции и дрессировки, он противопоставил «хороводную и демократическую» пляску босоножек42. Он считал, что из-за его свободы и импровизационное™ свободный танец намного лучше балета и ритмики подходит для выражения экстаза.
Семь плящущих
У Дункан в России быстро появилось множество последователей. И если Осип Мандельштам в 1918 году сказал: «Над нами варварское небо, и все-таки мы эллины»43, в этом — большая заслуга и нового танца, необъяснимым образом расцветшего в те голодные и холодные годы. Школы и студии пластики возникали как грибы после дождя. «Девушка с чемоданчиком», приехавшая в одну из столиц, чтобы учиться пластическому танцу, вошла в поговорку44. За скобками оставался вопрос о том, можно ли научиться пляске — вольной, стихийной, созданной не для публики, не для света рампы? Не превратится ли она при этом в «дрессированный пляс»? Преподавать методу шло вразрез с бунтарским духом Дункан. По словам Станиславского, когда ее спросили, у кого она училась танцам, она ответила: «у Терпсихоры»45. И тем не менее почти все основатели пластических студий и школ брали уроки танца Дункан. Элла Рабенек, Франческа Беата, Инна Чернецкая, Валерия Цветаева занимались в школе ее сестры Элизабет в Дармштадте, другие — Людмила Алексеева, Србуи Лисициан-Азарапетян, Вера Майя — учились у этих первых. Некоторых (и только мужчин) Айседора, будучи в Москве, приглашала позаниматься с ней лич
42 Цит. по: Э. Жак-Далькроз, Ритм, М.: Классика-ХХ1, 2006, 240.
43 О. Мандельштам, «Государство и ритм» [1918], «И ты, Москва, сестра моя, легка...», М.: Московский рабочий, 1990, 229—232; П. Нерлер, «Поэт и город. Вступ. статья», там же, 6—8.
44 Н. Шереметьевская, Танец на эстраде, М.: Изд. дом «Один из лучших», 22ОО6, 27.
43 Цит. по: Фокин, Против течения, 220.
294
Ирина Сироткина
но: так повезло Александру Румневу и Касьяну Голейзовскому46. Были и такие, кто, как Стефанида Руднева (1890—1989), учился у нее издалека, восхищаясь и размышляя над ее искусством, но предпочитая идти собственным путем.
Увидев в 1908 году выступление Дункан, семнадцатилетняя Стеня Руднева уже не могла успокоиться: придя вечером домой, она, задрапировавшись в восточные ткани, попыталась плясать47. Вскоре к ней, поступившей на историко-филологическое отделение Высших женских (Бестужевских) курсов, присоединились подруги — Наташа Энман, Наташа Педькова, Камилла и Ильза Тревер, Екатерина Цинзерлинг и Юлия Тихомирова. Девушки собирались у кого-нибудь дома в зале с роялем, надевали хитоны и плясали, стараясь движениями передать музыку. Их было семь — легендарное число; Фаддей Францевич Зелинский (1859—1944), их профессор с Бестужевских курсов, дал группе имя «Гептахор» — от греческого hepta — семь и khorvs — пляска. Зелинский — филолог-классик, переводчик античных авторов, ницшеанец, страстный поклонник Вагнера и Дункан (он читал лекции о ней в Петербургском университете) — стал для Стени Рудневой «Учителем жизни и творчества».
Их романтическая встреча вне стен курсов произошла в Крыму. «Моей заветной мечтой, — вспоминает Руднева, — было найти Учителя; образ древних учителей, сопровождаемых группой учеников и поучающих их, был моим идеалом. И вот волею судеб совершилось чудо — учитель оказался тут, среди южной природы и под южными звездами». В Крыму, в Мисхоре, на скале над морем Зелинский показывал Стене созвездия и цитировал Ницше.
46 О студийном движении 1920-х годов см. Шереметьевская, Танец на эстраде; Человек пластический, каталог выставки, М.: Минкульт РФ, ГЦТМ, 2000. Об отдельных студиях см. статьи в сборниках: Искусство движения. История и современность, под ред. Т. Клим, М.: ГЦТМ, 2002; Experiment/Эксперимент, A Journal of Russian Culture 2 (1996). О занятиях Румнева и Голейзовс-кого с Дункан см.: А. Румнев, «Минувшее проходит предо мною», Айседора. Гастроли в России', Тейде, Касьян Голейзовский..., 18.
47 Так случилось не только с ней, но и с семилетним Александром Румне-вым: наслушавшись рассказов родителей о концерте Дункан, он «разделся догола, завернулся в простыню и пытался перед зеркалом воспроизвести ее танец» (цит. по: К. Кропотова, «Александр Румнев. Эстетические идеалы», Искусство движения, 78). Еще удивительнее такая же реакция уже взрослого мужчины, скромного чиновника Николая Федоровича Барабанова. Попав на выступление Дункан, он был поражен до такой степени, что решил на досуге работать, запершись у себя в комнате, над ее «пластическим каноном». Он «сбрил свои щегольские усики, выбрал себе женский парик, заказал хитон в стиле Дункан» и выступал (под псевдонимом Икар) в кабаре «Кривое зеркало»; см.: Евреинов, В школе остроумия, 69.
Пляска и экстаз в России от Серебряного века...
295
Роман не состоялся: впоследствии Зелинский обмолвился, что между ним и Стефанидой, «как меч Тристана», лежало слово, данное ее матери. Но он стал духовным отцом Гептахора48.
Любая студия, по определению, — не только театр; Гептахор был больше, чем просто группа пластического танца. Его участники образовали братство (сначала — сестринство, поскольку мужчины в студии появились только в 1918 г.) и в начале 1920-х годов жили коммуной, отдавая свои заработки в общий котел49. Самой большой ценностью они считали дружбу — в ее античном понимании, которое передал им Учитель. Жизнь в «соборном духе» — коммуной — диктовалась не только и не столько необходимостью разделить скудные средства, сколько квинтэссенцией идей Вагнера, Ницше, Вл. Соловьева и Дункан о «просветлении жизни красотой». Вся работа и образ жизни студийцев были подчинены миссии «формирования человеческой личности, обогащения, просветления ее, необходимых для создания новой жизни»50. Они не только изучали эстетику на Бестужевских курсах, но и жили согласно эстетической утопии Вл. Соловьева о «художестве как важном деле» и, подобно «мистическому анархизму» Вяч. Иванова, отвергали «данный мир — во имя долженствующего быть»51. В образовательной поездке по Греции Стеня Руднева и другие бестужевки случайно встретились с Всеволодом Мейерхольдом:
Полушутя, снисходительно он говорил что-то о скуке и пустоте реальной жизни и призрачности искусства; это звучало модернистским пессимизмом и было непохоже на него. Вероятно, вид так внезапно открывшегося передо мной Парнаса заставил меня неожиданно для меня самой вмешаться в разговор. Негромко я сказала — не то ему, не то самой себе: «А разве нельзя сделать, чтобы было наоборот — чтобы реальным было искусство, а призрачным — остальное?» Он резко повернул ко мне голову, метнул на меня свой острый, незабываемый взгляд и тихо, быстро сказал: «Я так и сделал, и потому я радостен», — и снова повернулся к своим собеседницам.
48 Воспоминания счастливого человека. Стефанида Дмитриевна Руднева и студия музыкального движения «Гептахор» в документах Центрального московского архива-музея личных собраний, под ред. А. Каца. М.: Главархив Москвы, 2007, 129, 139.
49 А. Айламазьян, «О судьбе музыкального движения», Балет 4 (1997); Тейдер, «Гептахор — студия музыкального движения», Альманах Московской государственной академии хореографии 6 (2006), 8 (2007).
50 Центральный московский архив-музей личных собраний (ЦМАМЛС). Ф. 140 (С.Д. Руднева). On. 1. Ед. хр. 14. Л. 24.
51 Стах орский, Искания..., 57, 111.
296
Ирина Сироткина
«Больше, — пишет Руднева, — мы не соприкасались», но эту беседу она вспоминала и в конце ее долгой жизни52.
Единственная из всех студий свободного танца, Гептахор принципиально отказался от слова «танец»: в манифесте, экземпляр которого никогда не выносился из студии, она названа студией не музыкального движения, а пляски. Пляска для Гептахора имела значение прежде всего экзистенциальное — какое ей придали ницшеанцы Дункан и Зелинский. «Только творческое жизнеощущение дает человеку внутреннюю силу и свободу, делает его прекрасным, — утверждали участники студии. — А между тем лишь в редкие минуты озарения постигает современный человек такое жизнеощущение — творческое и гармоническое. Как продлить эти мгновения? Как сделать, чтобы жизнь всегда являла себя единой, говорящей? Один из немногих путей к такому жизнеощущению лежит через пляску». И когда Гептахор задумал создать «метод преподавания и воспитания в учениках пляски», речь шла о гораздо большем, чем техника движений, — о воспитании «жизнеощущения»53. И первым средством для этого стала музыка.
Великое и страшное дело
Идея о могучем, прямом, почти гипнотическом воздействии музыки на психику была в XIX веке общим местом: гипнотизеры и психиатры использовали музыку, чтобы вызвать у человека определенную эмоцию. На рубеже веков получили известность «гипнотические эксперименты» с женщинами, якобы страдающими «легкой истерией»: при звучании музыки они начинали танцевать или мимировать навеянные музыкой образы и чувства. В начале 1890-х годов во Франции полковник в отставке и гипнотизер-любитель де Роша (Albert de Rochas) обнаружил у своей пациентки Лины исключительный дар к пантомиме и танцу. Не меньшую известность получила Мадлен Г., под гипнозом обнаружившая тонкую способность выражать эмоции в танце54.
32 Воспоминания счастливого человека, 142.
53 Там же, 497.
54 На деле оказалось, что мать Маллен, родом из Тифлиса, была хорошей пианисткой, а отец-швейцарец — учителем танцев, причем в его семье это было потомственной профессией. Мадлен училась танцу у отца, музыке — в консерватории, но, выйдя замуж, оставила эти занятия. Она вновь «нашла свой дар» только на приеме врача, делая то, к чему лежало ее сердце, под прикрытием гипноза. См. Е. Magnin Emile, L "Art et I’Hypnose. Interp Station plastique d’oeuvres litteraires et musicales, Geneve: Atar, около 1910. Предисловие к книге написал известный женевский психолог Теодор Флурнуа, который присутство-
Пляска и экстаз в России от Серебряного века...
297
Всеобщее, достигшее размаха «эпидемии» увлечение музыкой даже вызвало озабоченность врачей, видевших в этом причину нервных расстройств. Невропатолог Г. И. Россолимо (1860—1928) риторически вопрошал: «Укажите мне ту интеллигентную семью, где бы не раздавалась музыка, — игра на рояли, на скрипке или пение. Если вы мне укажете на таковую, я в ответ назову вам также дома, где инструмент берется с бою, особенно, если в семье преобладает женский пол». Чтобы противостоять «эпидемии», врач предлагал ввести «медико-психологическую нормировку эстетического воспитания»: исключить из школьной программы эстетического развития «некоторые виды современного вырождающегося искусства», запретить посещение театров и участие в любительских спектаклях, а музыкальное образование ограничить хоровым пением55.
Также обеспокоенный необъяснимым и могущественным действием музыки Лев Толстой допускал искусство, только если оно «передает чувства, влекущие к братскому единению»56. (Подобно ему, Вяч. Иванов вслед за Вагнером мечтал о том времени, когда «весь народ сольется в экстатическом братстве, танцуя финал Девятой симфонии Бетховена!».) Всякое другое искусство, по мнению Толстого, вредно и деструктивно. В «Крейцеровой сонате» «бесполезное» музицирование вызывает у героя мучительные переживания и в конечном счете толкает его к убийству:
Музыка заставляет меня забывать себя, мое истинное положение, она переносит меня в какое-то другое, не свое положение: мне под влиянием музыки кажется, что я чувствую то, чего, собственно, не чувствую, что понимаю то, чего не понимаю, что могу то, чего не могу... И потому музыка только раздражает, не кончает. Ну, марш воинственный сыграют, солдаты пройдут под марш, и музыка дошла; сыграли плясовую, я проплясал, музыка дошла; ну, пропели мессу, я причастился. Тоже музыка дошла; а то только раздражение, а того, что надо делать в этом раздражении, — нет. И оттого музыка так страшно, так ужасно иногда действует.
Цитируя тот же пассаж о музыке как «великом и страшном деле», психолог Л. С. Выготский (1896—1934) спрашивал: «если военный марш разрешается в том, что солдаты браво проходят под
вал на сеансах Мадлен: Th. Flournoy, «Choreographic somnambulique. Le cas de Magdeleine G.», Archives de Psychologie de la Suisse romande 3 (1904).
20 Г. Россолимо, Искусство, больные нервы и воспитание, М.: Русская мысль, 10—11, 37, 46.
36 Цит. по: Стахорский, Искания..., 51.
298
Ирина Сироткина
музыку, то в каких же исключительных и грандиозных поступках должна реализоваться музыка Бетховена?»57
Ответом Гептахора на вопрос — что делать, чтобы музыка «дошла»? — было: воспринимать музыку эмоционально-двигательно, выражать ее художественно, в движении. Соединение движения и музыки, достижение их «органической» связи было сердцем эстетической программы свободного танца. Возможно, участники студии прислушались к манифесту их друга поэта Михаила Кузми-на об «эмоциональности как основном элементе искусства». Куз-мин видел сущность искусства в «произведении единственного, неповторимого эмоционального действия посредством выраженного в единственной неповторимой форме единственного неповторимого эмоционального восприятия»58.
Экспрессивность, выразительность стала желанной целью; современники Оскара Уайльда приняли близко к сердцу его совет «положить себя на музыку»59. Реформаторы танца требовали, чтобы движения повторяли «архитектуру музыки»60. Многие основатели студий пластики — Лев Лукин, Вера Майя, Николай Позняков — были пианистами по образованию, другие работали с талантливыми концертмейстерами. Они задались целью создать музыкальнодвигательный тренаж — серию упражнений-этюдов на отобранные ими музыкальные фрагменты или произведения. По этому пути в то время пошел не только Гептахор: так, основательница Института ритма и пластики в Тбилиси Србуи Азарапетян создала свой тренаж на музыку; Людмила Алексеева, чья студия какое-то время входила в ГАХН, была автором «гармонической», или «художественной, гимнастики»; ритмические упражнения по системе Жака-Далькроза еще ранее преподавали на Курсах ритмической гимнастики, основанных С. Волконским в Петербурге, и в Институте ритма в Москве61. У Далькроза главное внимание уделяли точной передаче ритма — развитию своего рода «сольфеджио для тела»62, — в других школах шли от навеянного музыкой чувства или образа. Гептахор же подвел под это теорию, в которой переплелись между собой идея о дионисийской пляске с мыслями Толстого о музыке и с физиологическим понятием рефлекса.
57 Цит. по: Л. Выготский, «Психология искусства» [вторая пол. 1920-х гг.], М.: Педагогика, 1987, 242 -243.
58 М. Кузмин, «Эмоциональность как основной элемент искусства», Арена, Пб., 1921, 9.
39 Стахорский, Искания..., 241.
60 См.: А. Сидоров, Современный танец, 60.
61 М. Трофимова, «Князь С. М. Волконский и его курсы ритмической гимнастики», Искусство движения, 85—92.
62 Фраза Адольфа Аппиа, цит. по: Жак-Далькроз, Ритм, 17.
Пляска и экстаз в России от Серебряного века...
299
Рефлекс на музыку
В 1926 году по инициативе Хореологической лаборатории ГАХН в издательстве «Academia» был подготовлен и выпущен сборник «Ритм и культура танца», статьи для которого написали руководители студий и театров пластики — Зинаида Вербова, Николай Фореггер, Вера Майя. Участники Гептахора — выполняя требование о потере личности в коллективном мы — написали коллективную статью с изложением основ своего подхода, названного ими музыкальным движением.
Движение, считали они, в определенном смысле уже содержится в музыке, и танцующему остается только его там найти. Дункан, которой это замечательно удавалось, точных указаний не оставила, но ссылалась на некие «телесные вибрации»: «научившись сосредоточивать всю свою силу в этом единственном центре [расположенном в области солнечного сплетения], — писала она, — я обнаружила, что, когда я слушаю музыку, вибрации ее устремляются потоком к этому единственному источнику танца, находящемуся как бы внутри меня. Вслушиваясь в эти вибрации, я могла претворять их в танце»63. Знаменитая танцовщица Лои Фуллер (1862—1928), в труппе которой Дункан начинала свою карьеру, тоже была склонна интерпретировать свой танец в терминах «вибраций». Видевшие ее говорили о «вибрациях», исходящих из движений ее тела64. Само слово «вибрации» в применении к восприятию музыки или танца не вызывало удивления. В начале XIX века о «вибрациях нервов» как причине психических явлений писали Й. Ф. Гербарт и Дэвцд Гартли: так они модернизировали представление о рефлексе, который до этого объясняли передвижением «животных духов» по полым трубкам-нервам65.
Гептахор сформулировал примерно эту же мысль на современном ему языке рефлекса’, слушая музыку, человек часто совершает мелкие, подчас незаметные для себя самого движения, которые, не получая продолжения, теряются. Внешнее движение помогает зафиксировать и прояснить эти «внутренние движения души» для самого человека. Путь от неясных телесных «реакций на музыку» к художественно-пластическому воплощению лежит через развитие «музыкально-двигательного рефлекса»66. Неявная ссылка на популярнейшие в 1920-е годы доктрины — теорию условных рефлексов
63 Дункан, Танец будущего, 70—72.
64 М. Ямпольский, Демон и Лабиринт (Диаграммы, деформации, мимесис), М.: НЛО, 1996, 285-286.
6э G. Richards, Mental Machinery: The Origins and Consequences of Psychological Ideas, Part 1: 1600-1850, London: The Athlone Press, 1992, 150-151.
66 «Гептахор», Ритм и культура танца, М.: Academia, 1926, 60—65.
300
Ирина Сироткина
И. П. Павлова и «рефлексологию» В. М. Бехтерева — неудивительна: термин «рефлекс» стал расхожим и даже вошел в советский новояз. Считалось, что рефлексы можно формировать a la carte. биолог Э. Енчмен написал «тезисы о новой психофизиологии» (1918), где призывал к полной перестройке человеческих рефлексов; создатель Института труда А. Гастев поставил на поток формирование рабочих движений, а большевик Н. Бухарин назвал теорию условных рефлексов «железным инвентарем материалистической идеологии»67.
Однако слова Гептахора о выработке телесно-двигательного рефлекса были скорее данью научно-политическому дискурсу эпохи. Получив солидное образование в области эстетики и истории искусств, студийцы, конечно, знали: буквальное, физиологическое воздействие, которое производит на людей музыка (такое, как влияние ее на частоту пульса), совсем не тождественно эстетическому постижению произведений искусства. Гептахор стремился сформулировать принципы перевода музыки в движение — ее пластической интерпретации. Кроме метра и ритма, как у Далькроза, здесь упоминается «мелодия — голос, напевность; гармония — краска движения; мажор-минор (светлое, радостное — темное, грустное); акцент — органный пункт, сила звучания, многоголосие». Но такой «формально-рациональный» анализ музыкального произведения не должен вытеснять «спонтанный отклик на музыку» (отсюда и идея «рефлекса»). «Плясовое движение», по мнению Гептахора, вытекает из целостного, или «расширенного», слушания, которое само — результат эмоционального восприятия музыки68.
Музыкальная коллективизация чувств
В эпитафиях Дункан, написанных вскоре после гибели танцовщицы в 1927 году, советские критики признали за ней силу «лозунга, эстетической программы», для которой лучше всего подходило слово пляска. «Историческая заслуга Дункан, — писал А. Гидони, — заключается в том, что она вскрыла перед нами плясовую стихию танца. Пляска — всенародна. Пляска — всечеловечна, чего нельзя сказать о танце. [...] Всем своим творчеством Дункан утверждала
67 Цит. по: С. Богданчиков, Происхождение марксистской психологии: дискуссии между К. Н. Корниловым и Г. И. Челпановым. Саратов: Изд-во СГУ, 2000, 7.
68 ЦМАМЛС. Ф. 140. On. 1. Ед.хр. 480 (В. Бульванкер, Целевая установка и пути работы Государственной студии музыкального движения «Гептахор»); «Гептахор», 64.
Пляска и экстаз в России от Серебряного века...
301
право человеческого тела (всякого) на пляску — право, давно забытое в «кастовой» нивелировке дореволюционной, классовой культуры»69. Говоря о «слиянии плясового жеста, музыки и драмы», И. Соллергинский видел перекличку этих идей Дункан с «соборнодейственными» теориями Вячеслава Иванова70.
Однако от «соборности» до «коллективизма» — один шаг. В 1918 году в качестве заведующего историко-театральной секцией московского ТЕО Наркомпроса Вяч. Иванов предлагал «ставить хоры на площадях»71. Соллергинский также присоединился к этой программе, когда в год «великого перелома» интерпретировал симфонию как «музыкальную коллективизацию чувств»72. Мечта Вяч. Иванова и Скрябина о Мировой Мистерии превращалась в идеи Пролеткульта о создании театра массового действия и организации народных празднеств и шествий. Эстетика социализировалась и механизировалась: искусство представлялось теперь «общественной техникой чувства, орудием общества, посредством которого оно вовлекает в круг социальной жизни самые интимные и самые личные стороны нашего существа»73. В этот период и Гептахор уверовал в то, что «требования современности выдвинули искание движения объективно-художественного, а также коллективного движения, отделившегося от личного эмоционального переживания»74. А еще через несколько лет за этим последовала внутренняя катастрофа студии, разрушившая утопию пляски как совместного жизне-творчества. Ближайшая сподвижница Рудневой, Наталья Энман, под влиянием своей подруги-коммунистки вышла из Гептахора, что кроме гибели идеи лишило студию финансовой поддержки.
«Приручение» пляски в советские годы, превращение ее в «дрессированный пляс» — вероятно, судьба эстетической утопии в целом. Как пишет исследователь, театральная утопия невозможна потому, что «искусство, приближаясь к религии, к морали, к политике, никогда не сливается с ними и не способно их поглотить»75. Дело всегда кончается обратным: политика поглощает искусство, тем более если эта политика репрессивная. После краткого и бур
69 А. Гидони, «Дунканизм» [1927], Айседора. Гастроли в России, 306—307.
70 И. Соллергинский, «Об Айседоре Дункан» [1927], там же, 323 -324.
71 А. Гвоздев, Адр. Пиотровский, «Петроградские театры и празднества в эпоху военного коммунизма», История советского театра, Л.: Гос. изд-во ху-дож. лит., 1933, т. 1, Петроградские театры на пороге Октября и в эпоху военного коммунизма, 1917 1921, 238, 258.
72 Соизлертинский, «Проблема симфонизма в советской музыке» [1929], Из истории советской эстетической мысли, 1917—1932, М.: Искусство, 1980, 444.
73 Выготский, «Психология искусства», 239.
74 «Гептахор», 63—64.
73 Стахорский, Искания..., 71.
302
Ирина Сироткина
ного расцвета свободного танца последовало централизованное закрытие частных студий — сначала в Москве, указом МОНО летом 1924 года, а потом и в Ленинграде. Некоторые из них (как Гептахор) получили статус государственных, но, не получая финансовой поддержки, закрылись; другие искали убежища под эгидой более крупных структур — Российской академии художественных наук или Государственного техникума театрального искусства им. А. В. Луначарского.
Для свободного танца наступил мрачный период выживания под видом то физкультуры, то — народной пляски, теперь уже в узком советском смысле этого слова. Руководители Хореологической лаборатории РАХН А. И. Ларионов и А. А. Сидоров переименовали «художественное движение» в «художественную физкультуру» и призвали «выйти ... из рамок интимной эстетики... на дорогу общенародного зрелища»76. При Научно-техническом комитете Всесоюзного совета по физической культуре в 1925 году была создана Секция художественного движения и образована Комиссия по пляске как средству физического воспитания. Сотрудники секции работали над «проблемой физкульт-танца» и сочиняли «инструкцию по проведению танцев и плясок в клубных условиях»77. В октябре 1929 года работа секции была раскритикована за «отсутствие необходимой идеологической установки». Упреки были смехотворными: например, требование о том, чтобы пришедшие имели с собой носовой платок, содержащееся в инструкции о клубных танцах, по заявлению критика, — «недопустимое насилие над участниками танцев». Другой пункт критики — «в инструкции по обучению не указано, что лишенцы не могут быть преподавателями танцев»78. На этом заседании протоколы секции обрываются — видимо, она была расформирована.
Пляска попала в немилость из-за ассоциаций с идеями Серебряного века, тогда уже смутных — «экстазом», «соборностью», «мистицизмом». В докладе активиста Общества воинствующих материалистов-диалектиков (1929—1934) упоминаются некие «мис
76 Отдел рукописей ГЦТМ им. Бахрушина. Ф. 517 (ГАХН). Ед. хр. 133 (Высшие мастерские художественной физкультуры). Л. 13—15 (А. Сидоров, А. Ларионов, Заявление в правление РАХН 26.12.1923). О Хореологической лаборатории см. Н. Мислер, «Хореологическая лаборатория ГАХНа», Вопросы искусствознания 9:2 (1997); Она же, «Эксперименты А. Сидорова и А. Ларионова в Хореологической лаборатории ГАХН», Искусство движения} N. Misler, «Choreological Laboratory», Experiment 2 (1996).
77 Отдел рукописей ГЦТМ им. Бахрушина. Ф. 517 (ГАХН). Ед. хр. 138 (Материалы секции художественного движения при НМК ВСФК, 1928—1929). Л. 38, 45, 78.
78 Там же. Л. 182—183.
Пляска и экстаз в России от Серебряного века...
303
тические секты» из представителей ленинградской «интеллигенции, высоко оплачиваемой в прежние годы». «Эти люди, — сообщает докладчик, — тайно проводят монашеские обеты и добиваются экстаза путем пляски в голом виде»79.
Пляска осталась только как «народная», найдя себе на какое-то время пристанище в художественной самодеятельности. Однако и там она попала под централизованное руководство. На Спартакиаде 1928 года прошло соревнование по пляскам, а затем прерогатива проводить смотры и олимпиады самодеятельного искусства отошла к специально созданным для этой цели учреждениям, проводившим также инструктивно-методическую работу. В середине 1930-х годов право работать с «народными исполнителями» было целиком отдано «квалифицированным балетмейстерам»: «только им можно поручить это ответственное дело. Иначе не избежать извращений и подделок». Даже в хоре М. Е. Пятницкого (который был создан как крестьянский, а в 1940 году получил звание «Государственного русского народного») пляска как импровизация была утрачена и заменена хореографическими постановками80. Коллективное плясовое начало было вытеснено партийным руководством.
Гептахор оказался и невольным участником, и жертвой превращения пляски-экстаза в «организованную пляску». В целом студия всегда подчеркивала свое коллективное мы — и в совместном написании статьи-манифеста «Гептахор», и в сочинении своих композиций без постановщика-режиссера, коллективным творчеством, когда участвующие «координируются единым импульсом музыкального восприятия». Гептахор считал, что «развивает... дело, начатое Дункан, в сторону коллективизма». Студийцы занялись «массовой художественной работой»; пойдя по этому пути, Владимир Бульванкер (по прозвищу Волк) стал профессиональным «массовиком-затейником» очень высокого уровня81. А Стефанида Руднева, Лидия Генералова и Эмма Цильдерман-Фиш после закрытия студии летом 1935 года переехали из Ленинграда в Москву и стали работать педагогами по танцу в госучреждениях для детей. В 1936 году при их участии были созданы Курсы для руководителей детских коллективов Московской области. Стать методистами отделов народного образования было единственным
79 Г. Гымянский, «Перспективы классовой борьбы на теоретическом фронте». Доклад на конференции ячеек содействия ОВМД 7 мая 1930 г., Репрессированная наука, Л.: Наука, 1991, т. 1, 476—477.
80 Цит. по: Г. Богданов, Самобытность русского танца, М.: Изд-во МГУК, 2003, 84-86.
81 Автобиография Владимира Захаровича Бульванкера (Волка), Воспоминания счастливого человека.
304
Ирина Сироткина
способом сохранить их дело — музыкальное движение — и отзвуки той пляски82.
* * *
Свободный танец, от Айседоры Дункан до Гептахора и других студий в России 1910—1920-х годов, был сфокусирован на эмоциях. Язык «естественного» в противоположность «искусственному», столь важный для тех, кто освободился от традиционных форм танца, от конвенционального костюма и других условностей само-презентации, может навести на мысль о том, что свободный танец — это попытка изобразить «настоящие» эмоции. Тем не менее в статье я хотела показать, что танцоры искали в музыке особых эмоций, которые не могут быть поняты как «реальные» физиологические или психологические состояния. И хотя сами танцоры в своих теоретических исканиях обращались к понятию «рефлекса», под эмоциями в пляске понимались прежде всего чувства эстетические — например, эстетизированный «экстаз». История студии Гептахор показывает, что, хотя и нагруженные определенной философией, чувства эти не менее мощны и «реальны», чем повседневные эмоции и так называемые «непосредственные реакции».
Идея пляски в том виде, какой придали ей интеллектуалы Серебряного века и в каком воплотили его танцоры, была определенной концептуализацией эмоций. Она не предполагала «выражения» или «сублимации» неких «естественных» эмоциональных реакций. В конечном счете человеческие чувства никогда не бывают «сырыми»; они, пользуясь выражением Клода Леви-Стросса, всегда «приготовленные», существуют в форме, которую придала им культура. В Серебряном веке на искусство возлагалась роль более ответственная, чем просто выразить эмоции, понятые как заданные, уже готовые состояния', от него требовалось вызвать к жизни новые формы человеческого бытования, а значит, и новые чувства. Свой идеал в искусстве и жизни танцоры назвали пляской, соединив в этом понятии идеализированную античность с русской народной мудростью, мечту о единстве души и тела с могучим воздействием музыки, древнюю трагедию с поиском новых эстетических форм. В культуре Серебряного века пляска стала способом воплотить «ди-онисийство» Ницше, мечту Владимира Соловьева о пересоздании
82 См.: Руднева Ст., Хазан Т., Цильдерман Э., Чихачёва, Работнова, Хейфец, «Краткая история Московского областного дома художественного воспитания детей», Воспоминания счастливого человека, 502 -506. В 1972 г. Рудневой с единомышленниками удалось опубликовать опыт преподавания музыкального движения в кн.: С. Руднева, Э. Фиш, Ритмика. Музыкальное движение, М.: Просвещение. О сегодняшнем дне музыкального движения в России см. www.heptachor.ru.
Пляска и экстаз в России от Серебряного века... 305
действительности с помощью искусства и идею Вячеслава Иванова о «соборном действе». Такова была питательная среда свободного танца и одной из его форм — музыкального движения. История танцоров, стремившихся жить и чувствовать в соответствии со своей утопией пляски, свидетельствует, что кроме научного дискурса о «дистиллированных» эмоциях, который практикуется в психофизиологической лаборатории, существуют еще и другие, не менее богатые и значимые дискурсы о чувствах. Любая попытка разобраться в вопросе о «природе эмоций» не должна сбрасывать их со счетов.
isiro@mail.ru
Роберт Эдельман
РОМАНТИКИ-НЕУДАЧНИКИ: «СПАРТАК» В ЗОЛОТОЙ ВЕК
СОВЕТСКОГО ФУТБОЛА (1945-1952)
Почти без преувеличения можно утверждать, что футбол столь же популярен, сколь и иррационален. Невзирая на все усилия науки о спорте (а также букмекеров и их клиентов) рационализировать эту игру и определить ее количественные параметры, она остается раздражающе непредсказуемой. Ее цель — ногами, а не руками загнать довольно большой мяч в ворота — раздражающе трудна. Поскольку роль чистейшей случайности здесь неотменима, футбол кажется сумасшедше несправедливым, судейство остается разновидностью искусства, а его результаты слишком часто выводят болельщиков из себя. Бесспорная красота футбола идет рука об руку с насилием и гневом. За последние два столетия в этой игре заявили о себе тысячи клубов. Но немногие из них стали воплощением присущей футболу эмоциональности и спонтанности в большей степени, чем популярнейший советский клуб «Спартак» (Москва), чьи многочисленные болельщики с полным основанием сходили с ума в последние годы правления Сталина.
Прежде чем коснуться собственно спортивных материй, необходимо сделать несколько кратких замечаний о куда менее веселой проблематике. Я имею в виду так называемую «тоталитарную модель», сложившуюся после Второй мировой войны и задавшую сначала доминирующий тип суждений о сталинском периоде в его излете, а затем — и обо всей советской истории. Сейчас, хотя сам этот термин еще широко распространен, историки России, в особенности на Западе, сравнительно редко прибегают к понятию тоталитаризма. Сильно пошатнувшийся в результате кропотливой архивной работы ученых ревизионистской школы, этот реликт «холодной войны» подвергался и подвергается массированной критике — но лишь для того, чтобы в усложненном виде воскреснуть в трудах талантливых «постревизионистов», которые используют его самым различным образом1. Кроме того, академические исследо
1 О тоталитаризме см. Hannah Arendt, Origins of Totalitarianism, N.Y.: Harcourt, 1958. Ведущее место в ревизионистской школе принадлежит
Романтики-неудачники: «Спартак» в золотой век...
307
ватели как ревизионистской, так и постревизионистской школы занимались преимущественно межвоенным периодом. Изучение эпохи, многими ощущаемой как самая мрачная в советской истории, еще только начинается, однако представление о ней, возникающее из работ последнего времени, оказывается гораздо более сложным и нюансированным, чем виделось раньше. Собственно, пересматривается периодизация как таковая.
В своем фундаментальном труде, посвященном понятию и истории тоталитаризма, Эббот Глисон писал: «Из книг, оказавшихся существенными для становления идеи тоталитаризма (и его визуальной репрезентации), прежде всего следует упомянуть “1984” Джорджа Оруэлла»2. Совсем недавно Анна Крылова отметила: «Наблюдатели не просто соотносили [роман] со сталинской Россией, но рассматривали его как достоверный портрет современного им советского общества»3. В подтверждение правоты Оруэлла напомним, что авгорепрезентация СССР этот образ не развеивала. По предположению Алексея Кожевникова, сталинизм стремился предстать «идеологически управляемым и эффективно контролируемым обществом»4. Тем не менее, если бы Оруэллу довелось жить в Москве в конце 1940-х годов (он там не жил), если бы он был футбольным болельщиком (которым точно не был) и если бы он сам решил сыграть в футбол (чего, по-видимому, никогда не делал), то он увидел бы нечто весьма непохожее на его прославленный роман.
Ш. Фитцпатрик; см. ее работы Stalin’s Peasants: Resistance and Survival in the Russian Village after Collectivization, N.Y.: Oxford UP, 1994; Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in the 1930's, N.Y.: Oxford, 1999; Tear off the Masks: Identity and Imposture in Twentieth Century Russia, Princeton UP, 2005. Среди постревизионистских работ укажем S. Kotkin, Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization, Princeton UP, 1995; J. Hellbeck, Revolution on My Mind: Writing a Diary under Stalin, Cambridge, Mass.: Harvard UP, 2006; P. Holquist, Making War, Forging Revolution: Russia ’s Continuum of Crisis, 1914—1921, Cambridge, Mass.: Harvard UP, 2002; M. David-Fox, Revolution of the Mind: Higher Learning Among the Bolsheviks, 1918—1921, Ithaca, NY: Cornell UP, 1997; D. Hoffman, Stalinist Values: the Cultural Norms of Soviet Modernity, Ithaca, NY: Cornell UP, 2003; A. Weiner, Making Sense of War: the Second World War and the Fate of the Bolshevik Revolution, Princeton UP, 2001; I. Halfin, Terror in My Soul: Communist Autobiographies on Trial, Cambridge, Mass.: Harvard UP, 2003.
2 A. Gleason, Totalitarianism: The Inner History of the Cold War, N.Y: Oxford UP, 1995, 3.
3 A. Krylova, «The Tenacious Liberal Subject in Soviet Studies», The Resistance Debate in Russian and Soviet History (Kritika Historical Studies), ed. M. David-Fox, P. Holquist, M. Poe, Bloomington, IN: Slavica Publishers, 2003, 183.
4 A. Kojevnikov, «Rituals of Stalinist Culture at Work: Science and the Games of Intraparty Democracy circa 1948», Russian Review 57 (1998), 51.
308
Роберт Эдельман
Когда ужасы войны остались позади, люди во всем мире захотели играть. Одной из составляющих этой мощной тяги к развлечениям была бешеная популярность зрелищных видов спорта. Невиданные толпы стекались на бейсбольные матчи в США, прежде всего в Нью-Йорке с его тремя знаменитыми командами, и на футбольные — в Великобритании. В охваченном возбуждением мире СССР не был исключением, и Москва с ее пятью командами высшей лиги представляла собой эпицентр этой игры. Дважды в месяц, с апреля по ноябрь, все 55 тысяч мест стадиона «Динамо» бывали заняты. Радостные, беспорядочные толпы ехали на матчи в переполненных троллейбусах с открытыми дверями, висели на подножках трамваев, выплескивались из вагонов метро, втискивались на эскалаторы, которые в эти часы работали только на выход. Знаменитый футболист тех лет свидетельствует: «В дни футбольных матчей, казалось, вся Москва устремлялась на стадион “Динамо”»5. В столице было очень мало машин, но казалось, любой имевший такую возможность автомобиль или грузовик ехал в сторону стадиона, вследствие чего случались редчайшие в коммунистической Москве события — транспортные пробки. В дни знаменательных матчей возле стадиона могло собираться до полумиллиона человек. Одни в ту дотелевизионную эпоху приходили, так сказать, ради атмосферы, но многие другие — с нешуточным намерением разнести ворога стадиона. Болельщики весьма эмоционально поддерживали свои любимые команды и реагировали на забиваемые мячи со спонтанной, непредсказуемой страстностью. Поистине это был Золотой век советского футбола, не виданный ни до того, ни впоследствии.
Лидирующая роль в рассматриваемую эпоху принадлежала двум командам — «Динамо», клубу МГБ, и армейскому ЦДКА («Центральный дом Красной Армии»), который болельщики в шутку именовали «командой лейтенантов», поскольку ни один из его игроков отродясь не брал в руки оружия. До войны ЦДКА не был сильной командой. В дальнейшем на позицию самого серьезного противника «Динамо» выдвинулся популярнейший гражданский клуб — «Спартак», известный как «народная команда». Возникновение профессионального футбола в СССР относится к 1936 году — первому году показательных процессов и Большого террора. Граждане ненавидели карательные органы и боялись их. Как мне уже доводилось писать, поддержка «Спартака» для его болельщиков (главным образом представителей рабочего класса) была крохотной возможностью сказать «нет» тому, что происходило вокруг. На долю «Спартака» выпали тяжелые испытания. Его
5 Н. Симонян, Футбол, только ли игра? М.: ФАИР-Пресс, 1995, 42.
Романтики-неудачники: «Спартак» в золотой век...
309
основатели, братья Старостины (Николай, Андрей, Александр и Петр), были в 1942 году арестованы по приказу Лаврентия Берии, главы НКВД и почетного председателя спортивного общества «Динамо». Напомню, что Сталин назначил Берию наркомом внутренних дел в конце 1938 года с целью приостановить крайности чисток, вырвавшихся из-под контроля властей при безумном наркоме Николае Ежове. С приходом Берии число расстрелов стремительно пошло на убыль. Эго было удачей для народа, но не для «Спартака». Одной из первых жертв Берии стал лидер комсомола Александр Косарев, самый политически значимый покровитель команды. Вскоре затем глава тайной полиции применил к потенциально опасному «Спартаку» тактику, которая наверняка понравилась бы не отличавшемуся изысканными манерами Джорджу Штейнбрен-неру, владельцу клуба «New York Yankees»: «Не можешь их побить — посади». Старостины, однако, отбывали свои сроки не на тяжелых работах, а (без ведома Берии) тренируя команды в ГУЛАГе. Эта деятельность давала некоторые привилегии, вне всякого сомнения, спасшие им жизнь. В отсутствие Старостиных (они вернулись из лагерей в 1954 году) «Спартак» откатился в середину национальной лиги. Незавидные результаты команды отступали на задний план, когда она случайно и неожиданно выигрывала кубок. Благодаря этому надежда в сердцах ее многочисленных болельщиков не угасла.
Редкие триумфы на фоне внушавшей отчаяние серости — таким было трудное положение «Спартака» в послевоенные годы. И «Динамо», и армейский клуб, как команды — представительницы силовых структур, имели возможность уберечь своих игроков от опасностей фронта, искать и находить новые таланты. «Спартак» же, как и все гражданские клубы, попал в своего рода спортивное чистилище. По окончании войны ведущими его игроками оказались спортсмены, завоевавшие известность в конце 30-х. Они постарели, и теперь им лишь время от времени удавалось психологически собраться для значительных усилий. Завоевание «Спартаком» кубка СССР в 1946, 1947 и 1950 годах дало повод многим наблюдателям, как сторонним, так и внутренним, характеризовать его как «команду настроения». «Сила», приводившая клуб к этим случайным успехам, представляла собой в высокой степени мифологический конструкт под названием «спартаковский дух», которого, по утверждению (совершенно неверному) приверженцев команды, не имели ее соперники. После войны болельщики «Спартака» никогда не знали заранее, как он себя проявит. Впрочем, непредсказуемость команды способствовала ее популярности. По словам Льва Филатова, одного из самых известных советских спортивных журнали
310
Роберт Эдельман
стов и на протяжении всей жизни поклонника «Спартака», игроки клуба никогда не оставляли болельщиков равнодушными6.
Для тех интеллектуалов, которые в послевоенные годы интересовались футболом вообще и «Спартаком» в частности, упомянутый «спартаковский дух» вполне объяснял сам себя. С точки зрения творчески активных профессионалов, зрелищные взлеты и падения клуба были отражением их собственной профессиональной борьбы в эпоху нараставшего политического контроля. Игорь Нетто, одна из ярчайших спартаковских звезд, писал позднее: «Игра московского “Спартака” несколько напоминает поведение человека с артистическими наклонностями. Человека не очень уравновешенного, способного на спады в настроении, на поступки, которые трудно объяснить логично. Но и способного на совершенно неожиданные взлеты! [...] Даже в самые тяжелые для себя годы становления нового состава “Спартак”, уступавший многим и многим командам, вдруг буквально “громил” лидеров, показывая если не высокий игровой класс, то уж, во всяком случае, дерзость и напористость...»7.
Доминирование команд армии и органов внутренних дел гарантировало «Спартаку» привязанность тех, кто в годы правления Сталина чувствовал себя отрешенным от власти.
Нерусские идут!
Нет ничего странного в том, что в период, непосредственно следовавший за большим военным конфликтом, команды — представительницы силовых структур занимали главенствующее положение. И все же, хотя политические условия в 1949 году, с началом «холодной войны», стали еще более жесткими, «Спартаку» удалось найти путь к процветанию. В 1946—1948 годах апеллировали, среди прочего, к великорусскому национализму, расцветшему особенно зловеще после смерти секретаря ЦК А. А. Жданова в августе 1948 года. В московских командах, сильнейших в лиге, традиционно преобладали русские. Представители иных национальностей отсутствовали здесь не в силу какого-либо специального запрета, а скорее потому, что все еще ограниченная инфраструк
6 Л. Филатов, Обо всем по порядку. Репортаж о репортаже, М.: Физкультура и спорт, 1990, 72. Помимо Филатова за «Спартак» болела целая когорта выдающихся спортивных журналистов, в том числе Мартын Мержанов из «Правды», Герман Колодный («Вечерняя Москва»), Юрий Ваньят («Труд»), Илья Бару и Александр Виттенберг («Советский спорт»),
7 И. Нетто, Это футбол, М.: Физкультура и спорт, 21974, 42.
Романтики-неудачники: «Спартак» в золотой век...
311
тура и плохо развитый транспорт чисто географически затрудняли поиск новых игроков.
Тем не менее в 1949 году «Спартак» пополнился несколькими нерусскими игроками. Шаг в этом направлении не был чем-то неслыханным. Представители национальных меньшинств уже давно играли в командах своих республик. Многие из них были весьма известными футболистами. Рекрутирование нерусских не было в новинку и «Спартаку». В 1936 году с командой работал тренер-чех, в 1945—1947 годах — эстонец. Под руководством Николая Старостина клуб постоянно обращал взгляд к внешнему миру в поисках операционных моделей как на поле, так и за его пределами. В 1949 году «Спартак» снова стал подыскивать тренера за пределами России и включил в свой состав представителей национальных меньшинств. Почему конкретно были предприняты эти шаги, неясно. Выбор «Спартака» был обусловлен скорее профессиональными, чем политическими стратегиями, но действия в профессиональной сфере, как всем известно, могут иметь политические следствия. В советском обществе способность оценивать любую деятельность посредством чисто профессиональных критериев выглядела не вполне тривиально. В период крайнего шовинизма настрой «Спартака» на мультикультурность, осознанный или нет, оказал серьезное влияние и на сам клуб, и в конечном счете на весь советский футбол.
В 1949 году тренером был назначен Абрам Дангулов, армянин из северокавказского города Армавира8. Вместе с ним в состав команды вошел талантливый бомбардир Никита Симонян — также армянин, уроженец Сухуми. В следующем сезоне постоянным игроком полузащиты стал Игорь Нетто, эстонец, родившийся в Москве. Вместе они заложили основу для возвращения «Спартака» к вершинам футбола — используя новые методы выявления талантливых спортсменов, развивая неповторимый стиль игры, преодолевая политические препоны и, наконец, добившись победы в чемпионате 1952 года9. Армяне, как и представители других национальностей, уже до войны трудились в столице во многих сферах деятельности, прежде всего на поприще театра и литературы, но профессия московского футболиста была в общем и целом закреплена за славянами.
8 М. Мержанов, Играет «Спартак», М.: Физкультура и спорт, 1974, 51; «Спартак» Москва. Официальная история, 1922—2002, под ред. Э. Нисенбой-ма, В. Расине кого, М.: Сергей Сенин, 2002, 97 [далее в сносках издание обозначается сокращенно — СО].
9 К. Есенин, Московский футбол, М.: Московский рабочий, 1974, 153, 170-172; СО, 97.
312
Роберт Эдельман
Дангулов представлял собой нечто новое. Его футбольная карьера началась в Краснодаре во время Гражданской войны. В дальнейшем он проявил себя как сильный центровой игрок в армавирских клубах; ушел с поля в 1934 году. За тренерской работой в Пятигорске и Донецке последовало приглашение стать тренером московских «Крыльев Советов», одной из команд, принадлежавших авиапромышленности. В столице Дангулов соединил соревновательную сторону с теми небольшими финансовыми средствами, что имелись в его распоряжении. Он считал, что команду необходимо комплектовать не только неславянскими, но и иностранными игроками — в частности, двумя испанцами, покинувшими родину во время гражданской войны. Пресса одобрительно отзывалась о профессионализме Дангулова; он, в свою очередь, поддерживал с ведущими спортивными журналистами тесные отношения. К 1948 году, когда из-за травм ведущих игроков «Крылья Советов» оказались последними в чемпионате и были переведены в группу «Б», Дангулов был хорошо известен. И все же когда авиапромышленность, не пожелав смириться с понижением статуса своей команды, распустила ее, он лишился работы10. В тот момент у «Спартака» как раз не было тренера. Трудно с уверенностью сказать, кто именно в клубе, в отсутствие Старостиных, принял решение пригласить на вакантную должность Дангулова, но выбор оказался на редкость удачным. Насколько можно понять, это решение едва ли было связано с национальной принадлежностью Дангулова. «Спартак» не проводил политику селективности, но и не объявлял об этом во всеуслышание. Дангулов был в первую очередь компетентным, заметным профессионалом, который — так сложились обстоятельства — в тот момент был свободен. Для ряда команд тот факт, что он был армянином, мог бы оказаться камнем преткновения, но не для «Спартака».
Новый тренер навсегда изменил спартаковский подход к футболу. Ему не было равных в игре с короткими передачами, с быстрыми, технически великолепно подготовленными игроками, которые образуют на поле постоянно изменяющиеся треугольники. Голы строились в артистичном, с высокой долей импровизации, но структурированном стиле, который поклонники «Спартака», пусть не вполне точно, называли «романтическим». Эта стратегия в дальнейшем была дополнена талантливыми футболистами (такими, как Симонян), ведущими мяч и способными ломать защиту противни
10 Мержанов, Играет «Спартак», 53; Симонян, Футбол, только ли игра?, 48, 58; Российский футбол за 100лет, под ред. Л. Лебедева, М.: Грэгори Пэйдж, 1997, 105 (далее — РФС); СО, 762—763; Л. Филатов, Наедине с футболом, М.: Физкультура и спорт, 1977, 17, 76.
Романтики-неудачники: «Спартак» в золотой век...
313
ка. По мнению Льва Филатова, Дангулов привнес в московский футбол своеобразный «южный стиль». Кавказские игроки (грузины, вероятно, в большей степени, чем армяне) славились как виртуозы мяча, игравшие, по свидетельству Филатова и многих других, «с пылкой южной страстностью и готовностью к атаке». За этим наблюдением стоит хорошая осведомленность о латиноамериканских стилях игры. В предвоенные годы советская спортивная периодика регулярно помещала репортажи о мировом футболе, и люди из футбольной среды имели доступ к самым разным материалам об этой игре. Сильнейшую грузинскую команду, тбилисское «Динамо», в прессе довольно долго именовали «летучими уругвайцами» (Уругвай вместе с соседней Аргентиной тогда входил в число величайших футбольных держав, выиграв Олимпийские игры 1924 и 1928 годов, а также победив в 1930 году на первом чемпионате мира в Монтевидео).
Теперь «Спартак» стал «самым южным» из северных клубов. В «додангуловский» период он представлял собой сильную команду защитного типа с рослыми, атлетически сложенными игроками, которые одерживали победы за счет напора и воли. В среднем спартаковцы играли так же, как и другие московские команды, но только лучше. Новые игроки «Спартака» были меньше ростом, подвижнее и техничнее. Они выглядели и играли иначе. Новаторские стратегии и личные предпочтения Дангулова легли в основу того, что со временем стало известно как «спартаковский стиль». Дан-гуловской системой прониклись не только игроки, но и болельщики, смотревшие на эти нововведения как на доказательство «прогрессивного» подхода «Спартака» к игре11.
В связи с этим подходом трудно не задаться вопросом: был ли это, в эпоху ксенофобии, осознанный выбор одной из разновидностей советского социалистического интернационализма? Конечно, таких формулировок тогда не существовало. Произносить подобные вещи вслух было равносильно самоубийству. И все же несходство «Спартака» с его московскими соперниками бросалось в глаза. Небольшого роста, проворные — такие, как Алексей Парамонов и Симонян, или высокие, но грациозные — Нетто и восходящая звезда Сергей Сальников — спартаковцы играли в какой-то совсем другой футбол. Эго была не «кровавая и мощная» беговая игра с агрессивным нападением и длинными передачами, характерная для британского футбола, черты которого восходят еще к Викторианской эпохе, к «разумному развлечению» среднего класса. Такой
11 СО, 97; интервью Н. Симоняна автору статьи (Москва, 6 декабря 2001 г.).
314
Роберт Эдельман
подход был ближе скорее «Динамо» с его насыщенной, спокойной и умной игрой.
Для «Спартака» же не вполне осознанной, но бесспорной моделью был креольский футбол Рио Плата, специфический тип игры, сделавший возможными знаменитые довоенные достижения Уругвая и Аргентины. Эго был футбол, усовершенствованный миллионами итальянцев и испанцев, эмигрировавших в Латинскую Америку, — дриблинг, футбол лукавый, изобретательный, стильный, изящный и, конечно, страстный. Эти же мужчины вместе со своими женщинами подарили миру еще одну экзотическую и дышащую страстью культурную форму — обольстительное, чувственное танго. Для них футбол и танец были переплетены теснейшим образом. И то и другое — связанные с телом практики, способные выражать такие эмоции и отношения, выразить которые не под силу ни разуму, ни речи12. «Спартак» играл в чувственный футбол.
Как выясняется, футболисты «Спартака» были еще и танцорами — и на поле, и вне его; они не отказывались и от тех телесных удовольствий, к которым подчас может привести танец. Существенно, что эти радости они делили со своими болельщиками. В 2001 году Симонян рассказывал мне:
Изолированы мы не были. У нас не было телохранителей, охранников. В то время [после 1949 г.] вход на нашу тренировочную базу в Тарасовке был свободный, открытый. Люди на тренировки приходили. Смотрели на разминки, на игры между основным составом и запасным. Приходили и общались с нами. Это все было совершенно открыто, особенно для болельщиков. В Тарасовке был павильон с танцплощадкой, и там играл джаз-банд. Люди из Москвы приезжали потанцевать. Девушки красивые приезжали. На следующий день или через день могла быть назначена игра, но ребята пользовались возможностями [такой ситуации]. Никто нас не контролировал. А за «Динамо» контроль был13.
Алексей Парамонов, друг Симоняна, в своем интервью подтвердил эти факты14.
В оруэлловский образ позднего сталинизма танцы как-то не вписывались, и я прямо спросил Симоняна, что он имеет в виду под «джазом». Он ответил, что это фокстроты, композиции Глена
12 Е. Archetti, Masculinities: Football, Polo and the Tango in Argentina, Oxford: Berg, 1999, 128—160; CO, 557; Филатов, Наедине с футболом, 74—76; Р. Bour-dieu, «Program for a Sociology of Sport», Sociology of Sport Journal 5 (1988), 160.
13 Интервью 6 декабря 2001 г.
14 Интервью А. Парамонова автору статьи (Москва, И декабря 2001 г.).
Романтики-неудачники: «Спартак» в золотой век...
315
Миллера и в особенности танго. В западной литературе о Советском Союзе после войны одним из ключевых пунктов было утверждение, что саксофоны в последние сталинские годы находились под запретом, так что я полюбопытствовал, имелись ли они в оркестре. Он взглянул на меня, как на умалишенного, и сказал: «Ну конечно у них были саксофоны. Эго был джаз». В 1949 году шикарные рестораны в центре Москвы прекратили помещать в «Вечерней Москве» рекламные объявления о том, что джаз-банд входит в их развлекательную программу, однако в пригородах контроль был менее жестким. Среди игравших в подмосковной Тарасовке был Леонид Утесов, руководитель знаменитого оркестра и киноактер, а также страстный поклонник «Спартака». Что существенно, такие дансинги на закате сталинской эпохи не были только столичным явлением. Как показала на обширном материале Джулиана Фурст, молодые люди в СССР очертя голову бросились в увлекательное танцевальное безумие, охватившее всю страну, от крошечных провинциальных городков до сверхмодного танцзала в Парке Горького и комфортабельных квартир представителей разных слоев московской элиты15.
Исследователям мирового футбола хорошо известно, что футболисты, танцы и хорошенькие женщины зачастую связаны неразрывно. Интересно, однако, что и СССР в период с 1949 по 1953 год не составлял исключения из этого, по-видимому, универсального правила, а «Спартак» находился (прошу прощения за штамп) «в авангарде» этого стремления к удовольствиям. Скажем, любившего порисоваться и очень стильного Сальникова часто упрекали в том, что он играет «на девушек». Иными словами, «Спартак» предъявлял окружающему миру иной тип телесной культуры, чем его соперники, более космополитичную или, точнее, метросексуальную форму маскулинности. Специфическая телесная культура «Спартака» и свойственная только ему версия мужественности не были окрашены оппозиционностью, не являлись практиками сопротивления. Открыто оппозиционная сексуальная политика явно нехарактерна для позднего сталинизма. И все же не будет ошибкой считать, что таким образом «Спартак», намеренно или нет, выделялся на фоне остального советского футбола и одновременно дистанцировался от норм эпохи.
От женского внимания, всегда сопутствующего звездам, едва ли бегали игроки и других команд. Говоря об этом типе публичности,
15 Juliane Furst, «The importance of being stylish: youth, culture and identity in late Stalinism», Id., Late Stalinism: society between reconstruction and reinvention, London: Routledge, 2006; Sport, Dance and Embodied Identities, ed. N. Dyck, E. Archetti, Oxford: Berg, 2003.
316
Роберт Эдельман
нельзя не посетовать на то, что печатные и устные источники могут нам поведать немногое. В советскую эпоху множество игроков «отметились» как мемуаристы. Но все эти тексты безмолвствуют, если предметом исследования является сексуальность. Величайший футболист той эпохи, армеец Всеволод Бобров, был хорошо известен как плейбой, обожавший ночные развлечения. В отличие от Симоняна или Сальникова, Бобров был крупным, сильным мужчиной вроде русского крестьянина, мужика. Стиль его игры (и телесной культуры, им выражаемой) напоминал танковую атаку. По большей части он попросту завладевал мячом и без претензий на элегантность сметал всех со своего пути. Увы, на вопрос о том, так же ли он вел себя с женщинами, источники не отвечают.
«Смычка с югом» доставила Дангулову величайшего из его игроков, уже неоднократно упоминавшегося Никиту Симоняна. Он родился в 1925 году в Армавире, куда его родители бежали из Западной Армении в 1915 году, во время геноцида. В 1931 году семья перебралась в многонациональный Сухуми. Общим разговорным языком здесь был русский, на котором Симонян, подрастая, говорил все охотнее, чем тревожил и пугал своего приверженного традициям отца-сапожника. Кто-то увидел, как он играет в уличный футбол, и вскоре он вошел в состав ведущего городского клуба, сухумского «Динамо». В 1945 году Дангулов привез «Крылья Советов» в Сухуми для весенних тренировок. В двух матчах с «Крыльями» Симонян забил шесть мячей, и Дангулов пригласил его играть в Москву. Родители Никиты восстали было против столь решительного шага, но изменили свое мнение после долгого разговора (по-армянски) Симоняна-отца с Дангуловым, упомянувшим о возможности получить техническое образование в престижном институте16.
В 1949 году Дангулов пришел на работу в «Спартак», но Симонян, к тому времени игравший под его руководством уже три года, не сразу последовал за ним. На его таланты всерьез претендовал «Торпедо», клуб промышленного гиганта ЗиС (Завод имени Сталина). Знаменитый центр-форвард этой команды, Александр Пономарев, твердил, что «Торпедо» пользуется сильнейшей поддержкой заводских рабочих, но Симонян, считая, что центр-фор-вардом должен быть именно он, опасался, что не сумеет занять место Пономарева. В «Спартаке» эти функции были закреплены за более слабым игроком. Симонян очень уважал Дангулова, но мотив его перехода в «Спартак» проще: это желание играть. Симонян расцвел в 1949 году, забив 26 мячей в 32 играх. Он стал первым игроком нерусского происхождения, который добился такой из
16 Симонян, Футбол, только ли игра?, 45.
Романтики-неудачники: «Спартак» в золотой век...
317
вестности в одном из главных московских клубов. Сравнить этот рывок можно только с блистательным дебютом Джеки Робинсона, первого афроамериканца в бейсбольной команде «Brooklyn Dodgers» в 1947 году. Ранее армяне и грузины блистали в национальных футбольных командах, теперь они получили возможность выступать на главных аренах. Вскоре в упорные поиски талантливых игроков включились другие команды. Впрочем, трудно сказать, что «Спартак» искал себе «хорошего армянина». Весь процесс выглядел значительно более прозаическим, чем нескрываемое желание «Dodgers» (и в первую очередь Бранча Рики, главного менеджера команды) совершить исторический шаг.
К Игорю Нетто, еще одному новичку в «Спартаке», успех пришел не столь быстро. Уроженец Москвы, Нетто не обладал яркой экзотичностью Симоняна. Основополагающими элементами его нерусскости были эстонская фамилия и особый стиль игры. Высокий и тощий, с вытянутым лицом и длинным носом, Нетто отнюдь не выглядел славянским супергероем. Чрезвычайно умный, хотя и раздражительный, Нетто так или иначе встроился в новый «Спартак». Энтузиаст короткой и средней передачи, он продумывал игру на три хода вперед, как шахматист (которым по совместительству и был). Интеллектуалы его обожали. Дарования Нетто идеально сочетались с системой Дангулова, и в 1950 году он вошел в основной состав17, а вскоре стал капитаном не только «Спартака», но и сборной. «Спартак», оттесненный на периферию в первые послевоенные годы — в период шовинизма, по иронии судьбы оказался миниатюрной рабочей моделью советской мечты о мультикультурности, интернационализме и братстве, которой, увы, суждено было с треском развалиться.
Обкатка новых теорий
С новыми игроками, новым тренером и новым подходом «Спартак», полный оптимизма, начал сезон 1949 года. Некоторое время команда раскачивалась, но вскоре одержала ряд ярких и убедительных побед, вызвавших одобрительные отклики прессы. Сезон закончился победой «Динамо», второе место у «Спартака» буквально выхватили армейцы. Большую часть сезона «Спартак» держался в первой строке турнирной таблицы, поклонники были в эйфории, но зрелищный проигрыш «Динамо» в конце октября
17 Нетто, Это футбол, 21—36; Симонян, Футбол, только ли игра?, 67—72; Филатов, Наедине с футболом, 80.
318
Роберт Эдельман
(со счетом 5:4) отбросил команду к бронзе18. Такого же результата она добилась и за год до этого, но достижения Дангулова воспринимались руководством и болельщиками как более значимые. Была заложена основа для будущего. У поклонников «Спартака», в число которых после войны входили не только рабочие, но и многие представители интеллигенции, вновь появились основания верить, что в их клубе есть что-то особенное, что-то, если угодно, артистическое. Из этого нового подхода росла идея «спартаковского духа», которая всячески потакала представлению об особости этой команды, о присущем ей драматизме.
Заключительная глава сезона, однако, еще не была написана. Она оказалась событием, напомнившим «Спартаку» о том, что политические препятствия на его пути никуда не делись. Упоение перешло в уныние. Два знаменитых соперника сошлись в игре полуфинала 30 октября, в холодный дождливый день; на матче присутствовало 60 тысяч зрителей. Матч развивался как предельно грубый и, без преувеличения, грязный поединок, быстро вышедший из-под контроля Михаила Дмитриева, судьи с немалым опытом. На первых минутах игры динамовец Владимир Савдунин ударил игрока команды-соперницы по лицу. Это оставшееся безнаказанным нарушение повлекло за собой разнузданное применение физической силы, сильно ударившее по шансам «Спартака» — команды с более миниатюрными и легкими игроками — на победу. Футболисты разлетались в разные стороны, болельщики «Спартака» требовали немедленно отозвать Дмитриева с поля, но поединок закончился вничью. В те времена пенальти еще не существовало, и была назначена переигровка19.
По завершении матча начались закулисные игры, никаких выгод «Спартаку» не принесшие. Вопреки обыкновению, переигровку поставили на следующий же день, что было противопоказано «Спартаку» с его меньшим по сравнению с «Динамо» числом запасных игроков. Составив акт о неспортивном поведении Сав-дунина, дисциплинарная комиссия Комитета по делам физкультуры и спорта дисквалифицировала его на следующий матч, однако это решение было демонстративно отменено главой Комитета Аркадием Аполлоновым. Лично назначив день переигровки, он, кроме того, заявил, что Савдунин может быть допущен к игре, и распорядился, чтобы матч опять судил Дмитриев, себя фактически дискредитировавший. Аполлонов прошел целый ряд ступеней в управлении «Динамо», и есть основания считать, что он был хоро-
18 Советский спорт, 4 октября 1949 г.; Вечерняя Москва, 3 октября 1949 г.; СО, 99; Филатов, Наедине с футболом, 83.
19 Советский спорт, 1 ноября 1949 г.
Романтики-неудачники: «Спартак» в золотой век...
319
шо осведомлен о точке зрения Берии и тщательно учитывал ее в своих решениях. «Спартак» проиграл со счетом 2:1. Подобный произвол вызвал резкое недовольство публики.
В последующие недели в газеты хлынула волна негодующих писем от спартаковских болельщиков. Масса такого рода жалоб поступила в Отдел пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), получил их и ряд членов Политбюро, в том числе лично Сталин. Гнев болельщиков был настолько силен, что агитпроповские функционеры среднего звена почувствовали: о ситуации следует доложить вышестоящему начальству, в данном случае — секретарю ЦК Георгию Маленкову. Чиновники, о которых идет речь, А. Сушков и К. Калашников, отнеслись к своим обязанностям с должным уровнем профессионализма и объективности. Они отмечали, и вполне справедливо, что авторами практически всех писем были болельщики «Спартака» и что эти обращения носили «тенденциозный характер». Кроме того, они утверждали, что переигровка полуфинального матча была «острой спортивной борьбой», в которой «законно выиграла команда “Динамо”», а значит, причин назначать еще один повторный матч, как того требовали многие поклонники «Спартака», не было.
В то же время Сушков и Калашников признавали, что возмущение болельщиков имело под собой основания. Типичный пример подобных жалоб — обращение к Сталину москвича А. А. Ха-хамова, члена ВКП(б). Стараясь не впадать в просительный тон, он писал:
Я не хочу загромождать фактами и отнимать у Вас время, но хочу обратить Ваше внимание на возмущение зрителей (о чем Вы, возможно, слыхали по радио), которые в течение долгого времени требовали вывода судьи с поля, заявляя, что игру выиграла не команда «Динамо», а судья тов. Димитриев. [...] Футбольное судейство в истории Советского Футбола не знало такого массового возмущения, которое выразилось в криках, в течение долгое время [sic] — «Судью с поля!» [...] Я как коммунист, политработник запаса Советской Армии, патриот физкультурного движения возмущен до глубины души20.
Конечно же, мысль о том, что Сталин слушал по радио репортаж об этом матче, попросту смехотворна. Сталин был совершенно равнодушен к спорту вообще и к футболу в частности. Утверждение, что крики с мест представляли собой нечто невиданное в
20 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 137. Ед. хр. 265. Л. 141-142.
320
Роберт Эдельман
советском футболе, также абсурдно. Резкие выходки в адрес судей были нормой поведения болельщиков с первых дней революции, не говоря уже о предреволюционном периоде. Вообще-то говоря, злобные выкрики такого рода — неотъемлемая составляющая футбола как такового, с той минуты, когда обитатели деревень и прочие простолюдины придумали гонять надутый свиной мочевой пузырь из одной части поля в другую. Однако следует признать, что обращение к лидеру мирового коммунизма с письмом, где опротестовывается результат футбольного матча, для советского гражданина едва ли было заурядным фактом.
Сушков и Калашников отнеслись к негодующим письмам серьезно. Эти обращения, а также другие материалы, сообщали они Маленкову, прямо обвиняют Аполлонова «в покровительстве» «Динамо»:
Настроения зрителей на стадионе во время матчей с участием команды «Динамо» [...] свидетельствуют о том, что среди части советской спортивной общественности и любителей футбола команда «Динамо» авторитетом и любовью не пользуется. [...] Тов. Аполлонов часто игнорирует общественное мнение, не скрывая своих симпатий к команде «Динамо». [...] необъективный подход т. Аполлонова [...] ведет к дискредитации этой команды.
Чиновники Агитпропа настоятельно просили Маленкова указать Аполлонову на «игнорирование мнения общественности» по поводу «вопроса о наказании футболиста т. Савдунина»21.
Сушков и его коллеги в дальнейшем еще не раз поднимали вопрос о мнении общественности. Подчеркнем: постановка этого вопроса перед начальством для последних сталинских лет была действием необычным, а вернее, из ряда вон выходящим. Мы не ошибемся, сказав, что лидеры Советского Союза не имели привычки считаться с общественным мнением. Если им нужно было узнать, каковы настроения граждан, они обращались к органам, но вряд ли в этой ситуации НКВД сообщило бы руководству, что толпы столичных болельщиков открыто выражают свое презрение к «Динамо». В данном же случае подчиненные настойчиво просят Маленкова, второго или третьего человека в СССР, прислушаться к тому, что они называют «спортивной общественностью». Трудно найти более убедительное доказательство того, что футбол на глубинном уровне был переплетен с реалиями и фантазмами повседневной жизни обыкновенных московских мужчин. Непредска-
?1 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 137. Ед. хр. 265. Л. 138 -141; курсив мой - Р. Э.
Романтики-неудачники: «Спартак» в золотой век...
321
зуемость, эмоциональность и значительный деструктивный потенциал футбола заставляли советских руководителей оглядываться, по совету Сушкова и Калашникова, на поведение болельщиков во время матчей.
Дело Сальникова
«Спартак» возвратился на вершины советского футбола в 1949 году, но следующей зимой перед ним встала новая колоссальная проблема. Практически на каждом уровне каждой командной игры возникал вопрос о перемещениях игроков, один из самых спорных и вызывавших наибольшее раздражение. Если на Западе профессиональные футболисты, вступающие в договорные отношения с тем или иным клубом, покупались и продавались, то есть находились «в свободном обращении», то в СССР все спортсмены формально были любителями и контрактов не заключали. С первых дней советской власти четких правил, регулирующих трансферы игроков, было очень мало. В сущности, звезды советского футбола были относительно вольны переходить из одной команды в другую. Несмотря на широкое распространение такой практики, многие не скрывали своего презрения к ней, считая, что погоня за материальными благами, за высокой зарплатой — черты самовлюбленного, приземленного профессионала, а настоящий игрок остается верен воспитавшему его коллективу. О спортивных обществах, которые, вместо того чтобы растить собственных футболистов, подбирают сильных игроков в других командах, высказывались неодобрительно, обвиняя их в «насаждении буржуазных нравов в советском спорте». Слух о том, что Сергей Сальников намерен перейти из «Спартака» в «Динамо», возник зимой 1950 года. Этому эпизоду суждено было стать одним из самых спорных и скандальных трансферов в истории советского футбола.
Ослабленный «Спартак» с некоторых пор жил, так сказать, на осадном положении. Его спортсменов переманили к себе более богатые и сильные клубы, в первую очередь авиапромышленный, находившийся под покровительством Василия Сталина, и «Динамо». Все эти опустошительные набеги официально одобрялись ненавистным Аполлоновым и Комитетом физкультуры и спорта22. Сальников был «Спартаку» особенно дорог. Он вырос неподалеку от тренировочной базы клуба в Тарасовке; поговаривали даже, что это внебрачный сын Николая Старостина. Как же он мог взять и
22 Письмо Василия Сталина к Аполлонову (РГАСПИ. Ф. 17. Он. 137. Ед. хр. 448. Л. 18 -19).
322
Роберт Эдельман
уйти к «заклятым врагам»? Болельщики «Спартака» чувствовали себя растоптанными. Уходы талантливых нападающих становились ежегодно повторяющимся событием. В 1949-м это был Иван Конов, теперь — Сальников. «Спартак» только-только добился относительного равенства с «Динамо» и ИДКА — и вот у него из-под ног выдергивают опору. В глазах обычного москвича, болевшего за «Спартак», уход Сальникова из команды был еще одной иллюстрацией тому, как могущественные «они» угнетают и унижают многострадальных «нас».
3 марта 1950 года переходу Сальникова в «Динамо» было дано окончательное «добро». Когда об этом стало известно, в печатные органы и в Агитпроп хлынул поток обращений. Известные лица и простые граждане выражали свой гнев в письмах к самым высокопоставленным чиновникам СССР. Лишь только запахло скандалом, Сушков и Калашников вновь уведомили о ситуации Маленкова. В их записке вскользь упоминалось о том, что Сальников, подав заявление о разрешении перейти в «Динамо» и получив отказ, обратился к Берии; дальше они, разумеется, не шли и вопрос об аннулировании трансфера не поднимали. «Считаем также необходимым предложить т. Аполлонову оказать помощь в укреплении Московской команды «Спартак», т.к. она за последнее время действительно стала слабее», — писали они в заключение23.
Михаил Суслов, главный идеолог страны, только что назначенный заведовать Агитпропом, получил письмо от редактора «Комсомольской правды». По мнению журналиста, открытое покровительство Аполлонова «Динамо» не осталось без серьезных политических последствий: «Зрители во время спортивных мероприятий выражают свое недовольство моральным обликом некоторых игроков. На стадионах, особенно в Москве, при появлении команд, в составе которых есть такие “перекати-поле”, на поле летят огрызки яблок. Болельщики освистывают этих перебежчиков и громко выкрикивают придуманные им оскорбительные клички»24. Далее редактор выражал протест по поводу того, что его газете не позволили напечатать разоблачительную заметку о динамовском чиновнике, стоявшем за переходами Конова и Сальникова. Приманкой для этих спортсменов, утверждал автор письма, послужили не столько зарплаты, сколько квартиры — величайший соблазн на фоне острейшего жилищного кризиса в послевоенной Москве, где практически все ютились в коммуналках. Сушков и Калашников, действуя с присущей им осторожностью, предложили Суслову, не
23 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 137. Ед. хр. 448. Л. 35-37.
24 Там же.
Романтики-неудачники: «Спартак» в золотой век...
323
печатая заметку, еще раз предупредить Аполлонова о необходимости покончить с подобной практикой25.
Немало писем от граждан, пытавшихся обжаловать переход Сальникова, получил заместитель председателя Совета министров Климент Ворошилов. Так, «по поручению» единомышленников — в связи с тем, что «затронутый вопрос представляется весьма актуальным в политическом и общественном отношении», — к нему обратился некто Е. Смирнов. Цитируя «Московский комсомолец», он писал:
Спортивная общественность столицы глубоко взволнована и возмущена, что воспитанник «Спартака», футболист С. Сальников (а ранее также Конов), обманным порядком, с корыстными и сугубо эгоистичными целями был перетащен в команду «Динамо», которая на протяжении ряда лет не готовит смены, а занимается перетаскиванием лучших игроков из других команд.
Ответственность за такую ситуацию Смирнов возлагал на Аполлонова, который «в угоду своих низменных чувств не считается с общественным мнением». Авторы письма требовали, чтобы Сальникова вернули в «Спартак» «в интересах справедливости, успокоения общественного мнения»26. На стол Ворошилову также легло письмо, направленное в редколлегию «Правды» «группой любителей спорта и спортсменов», которые сетовали на распространение в советском физкультурном движении буржуазных нравов, на то, что игроки гоняются за «лучшими материальными условиями, а вернее, за длинным рублем». По их утверждению, «Динамо», несмотря на «большие спортивные достижения, не пользуется популярностью у зрителей»27.
Еще большее количество жалоб и писем было послано непосредственно в Агитпроп. Заместитель заведующего отделом информации Г. Пантюшенко подготовил для Суслова их обзор. «Группа инженеров» возмущалась тем, что «отдельные зарвавшиеся рвачи летают» из одного общества в другое, подчеркивая, что покупка знаменитостей может иметь место в трумэновской Америке, но не «в нашем социалистическом отечестве». В заключение дайджеста Пантюшенко напоминал о том, что советское общественное мнение обеспокоено таким положением вещей, как явствует из огромного количества и разнообразия обращений в центральные газеты и в ЦК, однако Всесоюзный комитет по делам физкультуры и
25 РТАСПИ. Ф. 17. Оп. 137. Ед. хр. 448. Л. 35-37, 60.
26 Там же. Л. 68-70.
27 Там же. Л. 71 — 72.
324
Роберт Эдельман
спорта «с барской пренебрежительностью относится к письмам трудящихся»28. Проигнорировав все сигналы со стороны того, что чиновник Агитпропа именовал «массами», Аполлонов дал разрешение на переход Сальникова.
На первый взгляд, и бесспорный размах открытого протеста, вызванного этим трансфером, и особенно апелляция к общественному мнению предстают как явление для советских лет необычное. Граждане выражали свое возмущение в письмах в органы печати. Они также писали напрямую политическим лидерам, не прося, но требуя отмены решения, принятого в правительственных кругах. Комментируя происходящее, компетентные и наделенные развитой интуицией подчиненные высших государственных и партийных функционеров убеждали свое начальство внимательно отнестись к проявлениям «общественного мнения». Более того, эти чиновники среднего звена всячески подчеркивали, что не учитывать его значит создавать политическую угрозу режиму.
Легко заметить, что несчастье как раз и состояло в том, что разговоров было слишком много. С одной стороны, выходя из себя по поводу разрушения любимой команды, болельщики-москвичи прибегали к тем (пусть несовершенным) протестным механизмам, которые с давних пор имеются в странах с либеральной демократией и гражданским обществом. С другой — единодушный хор жалоб по поводу «дела Сальникова» вызывает ассоциации с яростью и гневом, из которых соткано современное спортивное радиовещание, столько же эксплуатирующее свободу слова, сколько и являющееся ее выражением. Болельщики со всех концов света протестуют в эфире, когда ничего не смыслящий в спорте владелец той или иной команды увольняет популярного менеджера, но эти вопли негодования остаются без малейших последствий. Как и их советские собратья, современные фанаты плюют против ветра.
Дебаты о Сальникове были жаркими и нетривиальными, однако конкретная причина его желания уйти из «Спартака» располагается в совершенно иной плоскости, очень далекой от миниатюрной модели работающего гражданского общества. Перед нами скорее классический случай властного произвола, вмешательства власти в мир спорта. Пресловутый эгоизм и беспринципность Сальникова стали причиной устроенной ему обструкции29. В сезоне 1950 года трибуны освистывали его в каждой игре, однако эгоизм туг был совершенно ни при чем: игрока вынудили перейти в «Динамо» старым добрым способом — при помощи шантажа. Слухи и мифы вокруг этого эпизода из истории советского футбола муссировались деся
28 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 137. Ед. хр. 448. Л. 74, 101-108.
29 Советский спорт, 14 апреля 1950 г.
Романтики-неудачники: «Спартак» в золотой век...
325
тилетиями. Лишь косвенные упоминания о Берии в архивных документах проливают какой-то свет на истинные обстоятельства дела. В 1995 году Никита Симонян рассказал в мемуарах, что Сальников перешел в «Динамо» ради того, чтобы приговор его отчиму был смягчен. Муж матери Сальникова Владимир Сергеев, осужденный более за экономические, чем политические преступления, отбывал наказание в лагере за Полярным кругом, где его здоровье быстро пришло в плачевное состояние. Один из офицеров ведомства внутренних дел сообщил об этом сестре Сергеева Галине, известной актрисе, а та позвонила матери Сальникова. Узнав печальные новости, футболист поговорил с Иваном Коновым, своим прежним товарищем по команде, который теперь играл за «Динамо». Через несколько дней Сальникову позвонили по телефону. В обмен на переход в «Динамо» его отчима обещали перевести в тюрьму обычного режима поблизости от Москвы, где он получал бы регулярные свидания с родственниками. Тайная полиция выполнила договоренность. Отчим Сальникова дожил до конца срока, а футболист следующие пять сезонов играл за «Динамо»30.
В ходе описанного скандала мнения и душевные порывы поклонников «Спартака» могли сколько угодно выражаться через действия, внешне напоминающие поведение западных граждан, но на Сальникове уже была бело-голубая динамовская форма. Если эмоции, захлестывавшие спартаковских болельщиков, были универсальны, то исход «дела Сальникова» как раз демонстрировал специфически советские пределы того квазидемократического дискурса, который возник, пусть ненадолго, внутри мира советского спорта. Этим, однако, «дело Сальникова» не кончилось. Написанное и сказанное о «великом Сале» в 1950 году не забылось после смерти Сталина. Возвратившись в Москву в 1954 году и взявшись за возрождение лидерства «Спартака», Николай Старостин первым делом постарался вернуть Сальникова в его прежнюю команду. После серьезнейшей бюрократической борьбы футболист начал сезон 1955-го в красно-белом. В течение следующих шести лет он был одним из основных творцов того, что стало Золотым веком «Спартака».
Ну и?
У нас есть резон и возможность рассуждать об эмоциях, стоящих за описанными локальными признаками мультикультурализма и гражданского общества, — а ведь были еще танцы, джаз, и все
30 Симонян, Футбол, только ли игра?, 73; интервью Акселя Вартаняна автору статьи (Москва, 1990); А. Сое кин, Сергей Сальников, М.: Книжный клуб, 1999, 20— 23; телефонное интервью Павла Алешина автору (16 февраля 2006 г.).
326
Роберт Эдельман
это робко тянулось к свету из множества трещин, побежавших по монолиту сталинизма в его последние годы. Эти веяния, ощутимые уже во время войны, после ухода диктатора давали себя знать все отчетливее — уже как составная часть «оттепели». Небезынтересно, что «оттепельный» период совпал с эпохой высших достижений в истории «Спартака». Выход упомянутых тенденций на поверхность ставит перед нами вопрос о том, насколько они могли/дол-жны были проявиться, не предшествуй им своего рода репетиция, проба. Бесспорно, годы перед смертью Сталина были не просто тяжелыми, но кошмарными, однако и в эту мрачную пору обретали как публичное, так и частное выражение непредсказуемые, с трудом различимые практики, а также порождаемые ими глубокие чувства.
Судя по всему, кончина Сталина — это веха, рубежность которой нуждается в пересмотре. Недавно появились основанные на таком подходе работы Елены Зубковой, Джулианы Фурст, Эгана Поллока, Эрика Даскина, Льюиса Зигельбаума и Алексея Кожевникова, а также группы исследователей под руководством Йорама Горлицкого и Олега Хлевнюка31. Кто в 1953 году мог предположить, что уже через четыре года молодые люди со всей планеты будут танцевать рок-н-ролл на Московском международном фестивале молодежи и студентов, а спустя еще девять месяцев в столице мирового социализма появятся на свет сотни, если не тысячи цветных младенцев? Нелишне напомнить афоризм Зеппа Хербергера, знаменитого тренера команды ФРГ, чья победа на чемпионате мира 1954 года застала поклонников футбола врасплох. Объясняя этот неожиданный триумф, он обронил: «Мяч круглый». В иррациональном виде спорта в иррациональную эпоху возможно все что угодно.
redelman@ucsd.edu
u Е. Zubkova, Russia after the War: Hopes, Illusions and Disappointments, 1945-1957, Armonk, NY: Hugh Ragsdale, 1998; Furst, ibid., 1—20; Eric Duskin, Stalinist Reconstruction and the Confirmation of a New Elite, 1945—1953, N.Y.: Palgrave Macmillan, 2001; E. Pollock, Stalin and the Soviet Science Wars, Princeton UP, 2006; A. Kojevnikov, Stalin’s Great Science: The Times and Adventures of Soviet Physicists, London: Imperial College Press, 2004; Borders of Socialism: Private Spheres of Soviet Russia, ed. L. Siegelbaum, N.Y: Palgrave Macmillan, 2006; Y. Gorlitzki, O. Khlevniuk, Cold Peace: Stalin and the Soviet Ruling Circle, 1945 1953, Oxford: Oxford UP, 2004, 2-14, 165-171.
Раздел V
ОСКОРБЛЕНИЕ В ЛУЧШИХ ЧУВСТВАХ
Ольга Глаголева
ОСКОРБЛЕННАЯ ДОБРОДЕТЕЛЬ: БЕСЧЕСТЬЕ И ОБИДА
В ЭМОЦИОНАЛЬНОМ МИРЕ РУССКОЙ ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ДВОРЯНКИ XVIII ВЕКА1
24 августа 1764 года орловская помещица Ульяна Псищева подала в воеводскую канцелярию г. Карачева Орловской провинции жалобу на двоюродного брата своего мужа, который, по утверждению пострадавшей, обесчестил ее. Современный читатель скорее всего предположит, что женщина подверглась изнасилованию, и будет неправ. Хотя изнасилование было довольно распространенным способом «бесчестья» женщины2, в этом случае дело обстояло совсем иначе. Как следовало из челобитной Ульяны, акт «бесчестья» произошел за неделю до того, теплым летним вечером, когда она с мужем Данилой была в гостях у дальнего родственника, где собрались и другие представители местного дворянского общества. Приятное времяпрепровождение было прервано ссорой двоюродных братьев, Данилы и Василия Псищевых, во время которой Василий пытался спровоцировать драку, а Данила старательно от нее уклонялся. В результате Василий, согласно показаниям Ульяны, «по ненависти его» к ее мужу Даниле и к ней, вышел из дома и, «поймав случившегося на дворе... немалого живого поросенка», бросил им в Ульяну, сидевшую в доме у открытого окна. Этим действием он «при всей компании ее обесчестил». Ульяна
1 Настоящая статья является частью моего проекта Woman’s Honour, or The Story with a Pig: Every day Lite of Noblewomen in the Eightteenth-centry Russian Provinces (готовится к печати). Исследование осуществлялось при финансовой поддержке School of Graduate Studies, University of Toronto. Проект получил награду 2007 г. Американского общества по изучению XVIII в. — Enulie Du Chatelet Award for Independent Scholar ship.
2 E. Levin, Sex and Society in the World of the Orthodox Slavs, 900—1700, Ithaca: Cornell UP, 1989; D. Kaiser, «“He Said, She Said”: Rape and Gender Discourse in Early Modern Russia», Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History 3:2 (2002).
330
Ольга Глаголева
просила власти о защите ее чести и о «показании» ей, «обиженной», «законного удовольствия». Разбирательство затянулось почти на 30 лет и так ничем и не закончилось: дело было закрыто в 1792 году по просьбе невестки Ульяны, снявшей все претензии3. К этому моменту ни «обесчещенной» Ульяны, ни ее обидчика Василия уже не было в живых. Оскорбление осталось безнаказанным, а честь женщины — неотмщенной.
Историки, изучающие повседневное поведение людей в Европе Нового времени, выделяют понятие чести как основу морального кодекса, определявшего все стороны взаимоотношений как внутри локальных сообществ, так и между человеком и государством. Честь, с ее высоким эмоциональным зарядом, обеспечивала репутацию человека и его социальный статус, а бесчестье часто сравнивалось со смертью4. В России, являвшейся в этом отношении частью пан-европейского мира еще в допетровские времена, существовали правовые механизмы защиты чести, и женщины нередко выигрывали такого рода судебные процессы5. Почему же Ульяна Псищева не преуспела в защите чести во времена Екатерины П, когда, как принято считать, положение женщины в обществе значительно улучшилось? Почему удар поросенком так ее обидел, что она боролась за восстановление своей чести всю оставшуюся жизнь? И, наконец, что означали понятия «честь» и «бесчестье» в эмоциональном мире человека XVIII века?
Для ответа на эти вопросы я использую, наряду с традиционными методами исторического исследования, методы микроистории и исторической антропологии. Я попытаюсь представить ситуации, в которых в XVIII веке проявлялись такие чувства, как ненависть, обида, стыд; прояснить причины этих реакций человека, а также способы, которыми общество регламентировало его эмоциональный опыт, и, наконец, проследить изменил в эмоциональном поведении провинциального дворянства на протяжении XVIII века. Иными словами, я ставлю целью реконструировать эмоциональную жизнь русского провинциального дворянства XVIII века в ее социокультурном контексте и динамике.
3 Государственный архив Орловской области (далее ГАОО). Ф. 19. On. 1. Д. 3.
4 A. Farge, «The Honor and Secrecy of Families», A History of Private Life, ed. Ph. Aries, George Duby, vol. Ill: Passions of the Renaissance, ed. R. Chartier, tr. A. Goldhammer, Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard UP, 1989; L. Pollock, «Honor, Gender, and Reconciliation in Elite Culture, 1570—1700», Journal of British Studies 46 (2007).
5 H. Коллманн, Соединенные честью. Государство и общество в России раннего нового времени, пер. А. Каменского, М.: Древлехранилище, 2001.
Оскорбленная добродетель: бесчестье и обида...
331
Безусловно, рассуждения о чужих эмоциональных переживаниях, в особенности в отдаленную от нас эпоху, схематичны и не могут быть иными. Антропологический подход может оказаться здесь весьма полезным, так как он нацелен на выявление реакций конкретных людей в категориях определенной эпохи и локального сообщества6. «История с поросенком», рассмотренная в контексте «биографии семьи» Пситцевых, их межличностных, родственных и социальных связей, статуса в местном дворянском обществе, а также реальных событий, описанных на языке эпохи, поможет нам проникнуть в сферу эмоций людей, так или иначе участвовавших в этой истории. При анализе эмоциональной жизни моих героев я различаю собственно эмоции и эмоциологию (emotionology)7: если эмоции — это физическое и психологическое переживание, возникающее как реакция на окружающую действительность, то эмоциология имеет дело с системой ценностей, относящихся к эмоциям и их выражению. Эти ценности навязываются индивиду через законы, культуру и традиции, то есть через общественные нормы, которым люди обязаны подчиняться и по которым они оценивают свое собственное и чужое поведение. При этом формулируемые нормами конструкции нередко расходятся как с эмоциональным опытом людей, зависящим от их физических, гендерных, психологических и прочих особенностей, так и с мотивацией их поведения в реальных жизненных обстоятельствах8.
Большинство исследователей едины в том, что физическая и психическая способность человека испытывать эмоции универсальна, и выделяют «базовые» эмоции, напрямую определяемые нервной системой человека, — страх, гнев, печаль, радость, ненависть и любовь9. Сегодня, однако, не подлежит сомнению, что социокультурные нормы влияют на эмоции в поведении отдельного человека не менее, чем его индивидуальные особенности, тоже в большой степени сформированные средой. Важно, что эмоции являются фактором самоанализа, который находится в центре отношений человека с самим собой и окружающим миром. Сравнение самооценки и отзыва окружающих на выстраиваемый челове
6 Р. Burke, The Historical Anthropology of Early Modem Italy: Essays on Perception and Communication, Cambridge, Eng.: Cambridge UP, 1987; R. Darnton, The Great Cat Massacre and Other Episodes in Trench Cultural History, N.Y.: Vintage, 1985.
7 P. Stearns with C. Steams, «Emotionology: Clarifying the History of Emotions and Emotional Standards», The American Historical Review 90:4 (1985).
8 W. Reddy, «Against Constructionism: 1 he Historical Ethnography of Emotions», Current Anthropology 38 (1997); Id., The Navigation of Feeling, Rosenwein, «Worrying about Emotions in History».
9 J. Turner, Human Emotions. A Sociological Theory, London, N.Y.: Routledge, 2007.
332
Ольга Глаголева
ком образ себя вызывает реакцию, выражаемую через эмоции: удовлетворение, радость и т.п. при их совпадении; гнев, горечь и т.п. при несовпадении. Благодаря этому эмоции выполняют функцию регулятора социальной жизни. По меткому выражению Дж. Тёрнера, «эмоции — эго “клей”, скрепляющий общества, или динамит, взрывающий их»10.
Хотя за последние годы вышло много интересных работ по истории России XVIII века, наши представления об эмоциональном опыте человека той поры крайне ограниченны и базируются в основном на узком круге мемуарных свидетельств и эпистолярных источников. В эмоциональном плане жизнь русских дворян XVIII века в их провинциальных поместьях нередко изображается полной тревог и страхов, а в плане физических удобств и умственных интересов мало отличающейся от жизни их же крепостных11. По мнению некоторых историков, такое положение порождало у русских дворян чувство ущербности, незащищенности по сравнению с более «передовым» Западом и даже вело к ощущению «неотмщенной обиды», ставшему основой национального самосознания12. Если эти авторы правы в своих выводах, то не в этой ли «ущербности» коренится ненависть, взбудоражившая семейство Псищевых и приведшая к оскорблению женщины, навсегда запятнавшему ее честь?
Документы судебных разбирательств все чаще привлекают внимание историков как прекрасный источник по истории повседневности13. Понятно, что их применение для рассуждений об эмоциональной сфере дает ограниченные возможности, поскольку, являясь результатом конфликта, они освещают в основном негативные стороны человеческих отношений. Более того, судебный документ призван в силу самого своего жанра избегать эмоциональной окраски фиксируемых фактов. Однако дело Ульяны Псищевой,
10 J. Turner, «Emotions and Social Structure: Toward A General Sociological Theory», Social Structure and Emotion, ed. J. Clay-Warner, D. Robinson, San Diego: Academic Press, 2008, 319.
11 M. Raeff, Origins of the Russian Intelligentsia: the Eighteenth-century Nobility. N.Y.: Harcourt, Brace & World, 1966; M. Confino, «А propos de la noblesse russe au XVIII siecle», Annates 22:6 (1967); P. Roosevelt, Life on the Russian Country Estate. A Social and Cultural History, New Haven, London: Yale UP, 1995, 157—191, 245; Th. Newlin, The Voice in the Garden: Andrei Bolotov and the Anxieties of Russian Pastoral, 1738—1833, Evanston, Ill.: Northwestern UP, 2001.
12 L. Greenfeld, «The Formation of the Russian National Identity: The Role of Status Insecurity and Ressentiment», Comparative Studies in Society and History 32 (1990).
13 Коллманн, Соединенные честью', А. Каменский, Повседневность русских городских обывателей: Исторические анекдоты из провинциальной жизни ХУШвека, М.: РТГУ, 2006.
Оскорбленная добродетель: бесчестье и обида...
333
включающее явочную челобитную, апелляционные прошения, выписки из допросов свидетелей, запечатлело, пусть скупо и формально, чувства участников конфликта. Сложность интерпретации этих документов заключается не в скудности их эмоционального наполнения, а скорее наоборот, — в многочисленных пластах эмоций, выявляемых при работе с ними: это, в первую очередь, мотивационные эмоции, вызвавшие конфликт (ненависть, вражда, злоба); эмоциональная реакция Ульяны на оскорбление (гнев, стыд, обида), а ее обидчика — на собственные действия и реакцию Ульяны (удовлетворение, гордость, злорадство). При обращении Ульяны в суд произошла трансляция реальных событий и эмоций в судебный нарратив, причем цели Ульяны в отображении случившегося могли не совпадать с целями канцелярских чиновников. Наконец, у читателя судебного дела возникают личные чувства (любопытство, сочувствие, исследовательский азарт), которые могут вести к опасной тенденции достраивания эмоционального мира людей другой эпохи нынешними представлениями. Действительно ли провинциальная помещица середины XVIII века испытывала при «бесчестии поросенком» те эмоции, которые мы ей приписываем?
Гордость и стыд нередко называют ключевыми эмоциями социального контроля. Именно они лежали в основе понятий «честь» и «бесчестье» и определяли их огромный эмоциональный потенциал. Нормативные требования общества о чести и ее защите диктовали эмоциональную реакцию в случае ее оскорбления или утраты, конструировали поведенческие стратегии и влияли на эмоциональный климат в локальных сообществах. Хотя Россия не принадлежала к так называемым обществам «чести и стыда», Нэнси Коллманн обнаружила большое сходство в том, как функционировала честь в XVI —XVII веках в Московии и в Средиземноморских странах. И там и там от женщины «ожидалась культивация “стыда”, тогда как честь мужчины была пропорциональна его способности защитить женщин его семьи от оскорблений... Честь, следовательно, была реальной частью ресурсов семьи, ее... “символическим капиталом”» и, тем самым, орудием удовлетворения амбиций и разрешения конфликтов. Московский дискурс чести, по мнению Коллманн, подчеркивал нерушимость семьи, уважение к социальной иерархии, неприменение насилия. Особенно суровый по отношению к женщине, он объявлял смирение и послушание основой ее чести, а также предписывал полное подчинение женщины власти мужчин и жесткий контроль за ее сексуальностью14.
Если судить по делу Ульяны Псищевой, концепция чести сильно изменилась к середине ХУШ века. Безусловно, честь продолжала
14 Коллманн, 52- 53, 391- 392.
334
Ольга Глаголева
играть роль «символического капитала» семьи, что видно из «истории с поросенком», где честь была выбрана объектом проявления вражды и ненависти. Однако этим, на наш взгляд, практически ограничивается совпадение форм работы концепции чести в раннем Новом времени и в рассматриваемый нами период, причем наиболее очевидными являются различия по отношению к женщине. Вместо безответного ожидания защиты от мужа Ульяна Псище-ва сама берется за восстановление своей поруганной чести, в то время как ее муж остается в тени как в момент ее унижения, так и в течение всего тридцатилетнего разбирательства по этому поводу. Уязвленная женщина демонстрирует независимость и социальную активность, тем самым дестабилизируя семью и подвергая риску свое положение в местном обществе. Ульяна «выносит сор из избы», делая публичным собственное унижение, что не приносит ей удовлетворения и даже не приводит в итоге к защите чести. Не смирение и послушание, «дававшие честь» женщинам допетровского времени, движут Ульяной, и не «культивация стыда» как проявление скромности лежит в основе ее поведения. Стыд, безусловно, играет туг важную роль, но, похоже, вследствие не скромности, а скорее противоположного чувства — гордости.
Как мы видим из прошений самой Ульяны, ее надежды на возможность защиты ее достоинства опирались прежде всего на веру в силу закона. Ульяна (или ее доверенное лицо) демонстрирует прекрасное знание законов и того, как они должны обеспечивать защиту ее чести. Вопреки нашим ожиданиям, однако, в апелляционных прошениях Ульяны цитируются, в первую очередь, не современные ей законы, а пункты из Соборного Уложения 1649 года.
Уложение, не давая точного определения чести, рассматривало две категории тяжб, относящихся к чести и бесчестью: об оскорблении чести («бесчестье») и о местничестве, то есть знатности рода и связанных с ней привилегиях. Так как местничество было отменено манифестом 1682 года, нас будет интересовать лишь первая из этих категорий. Слово «бесчестье» употребляется в Уложении в двух смыслах: как состояние человека, чья честь оскорблена, и как компенсация за оскорбление чести, причем во втором значении гораздо чаще15. Уложение также широко использует термин «обида», применяя его в первом значении слова «бесчестье»16. Оскорбление чести любого представителя элиты — боярина, боярского сына или дворянина — вело к суровому наказанию, прямо зависящему от социального положения оскорбленного. Компенсация за бесчестье в виде словесного оскорбления или легкого телесного повреждения предполагала выплату пострадавшему денежной сум
13 ПСЗ, т. 1, Уложение, гл. I: 5; гл. X: 83—86, 136 и др.
16 Там же, гл. XIII: 4—5 и др.
Оскорбленная добродетель: бесчестье и обида...
335
мы в размере его оклада. Более серьезное телесное повреждение или ущерб имуществу требовали двойных компенсации и возмещения убытков17. Честь же женщины оберегалась еще серьезнее — замужняя женщина получала компенсацию в двойном размере относительно той, которую получил бы ее муж за подобное бесчестье, а незамужняя дочь — в четверном размере. Главным аспектом функционирования чести был ее родовой характер18.
Законодательство первой половины XVIII века не отменило актов Уложения относительно чести и бесчестья. Однако реформы Петра I, направленные на внедрение европейских норм в повседневную жизнь, кардинально изменили представления русского человека о грехе, стыде и бесчестье19. Указы 1700 года о ношении европейского платья болезненно ломали психологию женщины и ее религиозное мировосприятие, подвергая серьезному испытанию ее эмоциональный мир. Они требовали отказа от традиционного женского костюма, закрывавшего тело и волосы от посторонних взглядов и тем самым обеспечивавшего соблюдение ею приличий и оберегавшего ее от бесчестья (показ непокрытой головы даже членам своей семьи считался большим грехом) и злых духов (с помощью украшений и амулетов на груди). Традиция ранее поддерживалась и законом, запрещавшим носить платье иностранного покроя под страхом лишения социальных привилегий, а также церковными догматами, нарушителей которых ждала страшная кара — отлучение от церкви20. Платья европейского покроя глубоко открывали грудь, головные уборы не прикрывали волос, к тому же женщин могло всерьез обеспокоить отсутствие защиты от злых духов. В глазах многих переодевание в новомодное платье в сочетании с принудительным питьем вина и курением табака, что в допетровские времена почиталось страшным грехом (Уложение запрещало курение табака под страхом смертной казни21), выглядело как следование указаниям Антихриста. В результате законов 1720-х годов о старообрядцах, чьим женам и дочерям разрешалось носить платье старого образца, традиционный русский костюм с его морально-эмоциональной символикой становился знаком социальной неблагонадежности22. О яростном сопротивлении реформам Пет
17 ПСЗ, т. 1, Уложение, гл. X: 83, 91—93, 199 и др.
18 Там же, гл. X: 99; Коллманн, 64—104.
19 Glagoleva, «Dream and Reality of Russian Young Provincial Ladies (1700— 1850)», The Carl Beck Papers 1405 (2000), 17—19.
20 ПСЗ, t. 4, № 1741, 1887; t. 1, № 607; С. Соловьев, Публичные чтения о Петре Великом, М.: Наука, 1984, 73.
21 ПСЗ, т. 1, Уложение, гл. XXV, ст. 11.
22 И. Юркин, «Старообрядец и его костюм в русском городе второй четверти XVIII в.», Общественная и культурная жизнь центральной России в XVII нач. XXв., Сб. науч, трудов, Изд-во Воронежского гос. ун-та, 1999.
336
Ольга Глаголева
ра со стороны приверженцев старины хорошо известно, но нельзя забывать, что определенный психологический стресс должна была пережить каждая женщина, даже если смена нарядов была ей по вкусу. Ситуация ставила ее в противоречие с самой собой, церковью, обществом и властью. Исполнять требования было стыдно, грешно, а ослушаться — страшно и чревато наказанием. Безусловно, Ульяна Псищева, родившаяся не ранее 1730 года, принадлежала к поколению, выросшему уже в новых условиях, однако слом вековых моральных ориентиров не мог не оставить в душах людей следа, заметного и в ее время.
Указы Петра, регламентировавшие вопросы чести и бесчестья, еще больше трансформировали понятия пристойного и постыдного и связанные с ними нормы эмоциональных реакций. Честь в среде дворянского сословия все теснее связывалась с государственной службой, в которой личные чувства должны были уступить место общественному долгу. Непосредственное проявление негативных эмоций осуждалось как наносящее вред службе и сурово наказывалось. В Артикуле воинском 1716 года говорилось, что если офицер, солдат или драгун «другого бранными словами зацепит, оного шельмом или сему подобным назовет, таковой обидящий на несколько месяцев за арест посажен имеет быть, а потом у обиженного на коленях стоя прощения просить». За применение силы — удар рукой или палкой — обидчик должен был не только претерпеть тюремное заключение с лишением жалованья и просить прощения у обиженного на коленях, но и быть готовым «от обиженного равную месть принять, или за негодного почтен», лишившись чинов. Обиженный же становился ответственным за немедленное сообщение властям о случившейся обиде (таким образом делая свое оскорбление достоянием «общественности») и в случае промедления признавался виновным наравне с обидчиком. Стремление государства регулировать эмоции людей в конфликтных ситуациях особенно ярко выразилось в петровском законодательстве о дуэлях: того, кто осмеливался немедленно реагировать на оскорбление и пытался разрешить конфликт на месте, ожидало особо жестокое наказание — за вызов офицера или рядового на поединок обиженный не только лишался «уповаемой сатисфакции», но и всех своих «чинов и достоинств, и наперед за негодного объявлен» с конфискацией части имения23. Морской устав 1720 года вводил смертную казнь для всех участников дуэли, включая секундантов24. Такое жестокое наказание было напрямую связано с настойчиво провозглашавшейся и всеми способами насаждавшейся прерога
23 ПСЗ, т. 5, № 3006, гл. LXIX, арт. 2-4, 8, 11.
24 ПСЗ, т. 6, № 3485, кн. 5, гл. 13, п. 95.
Оскорбленная добродетель: бесчестье и обида...
337
тивой государства на правосудие. Суровость закона в данном случае оказывалась хорошей «школой чувств»: за первую половину XVIII века в России произошли лишь единичные случаи дуэлей, и те между иностранцами25. Законодательство в данном случае «срабатывало», побуждая дворян к сдержанности в выражении эмоций. Это не значит, что законы предупреждали все проявления жестокости и насилия в повседневной жизни. Случаи драк в XVIII веке известны во множестве. Однако большое количество дел о бесчестье, разбиравшихся судами, свидетельствует о том, что оскорбленные нередко действительно проявляли сдержанность и не отвечали словами или действием (в этом случае они теряли право обращаться в суд), а прибегали к помощи властей. В нашем случае Данила успешно продемонстрировал диктуемую законом сдержанность, несмотря на попытки Василия спровоцировать драку.
Принципиальным элементом петровского законодательства, менявшим отношение общества к бесчестью и оскорблению, был перенос внимания с пострадавшего на обидчика. Вместо пространных рассуждений о компенсации оскорбленному (о чем главным образом и «беспокоилось» Уложение) петровские законы в первую очередь регулировали наказание обидчика. Более того, Артикул воинский прямо указывал, что «никакое оскорбление (каково б ни было) чести обиженного никаким образом умалить не может, понеже обидящий наказан быги имеет». А вот обидчик, если не будет наказан, будет «за негодного почтен», то есть сам станет «бесчестным». Если раньше, по Уложению, честь обиженного требовала компенсации, так как ее умаление мешало нормальному функционированию человека в своей среде, то теперь страдала честь оскорбителя, его поведение выводилось за рамки общественных норм пристойного. Именно он, оскорбитель, должен был теперь испытывать стыд и страх; именно его гордость страдала, чему способствовал акт публичного покаяния — вымаливание на коленях прощения у обиженного. При этом обиженный не должен был испытывать каких-либо неудобств, связанных с его жизнью в обществе, — любой попрекнувший его должен был понести наказание, как если бы «он сам те обиды учинил». Показательно, что, хотя слово «бесчестье» продолжает употребляться в петровских и даже послепетровских законах, его все чаще заменяют термины «обида» или «оскорбление» как тождественные «бесчестью», однако относящиеся уже только к морально-эмоциональной стороне дела. Материальная компенсация за бесчестье продолжает существовать в XVIII веке, однако утрачивает роль нормативного регулятора 2 *
2э I. Reyfman, Ritualized Violence Russian Style: The Duel in Russian Culture and
Literature, Stanford UP, 1999.
338
Ольга Глаголева
отношений, поскольку страх быть объявленным «за негодного» и, таким образом, оказаться вне общества должен был удерживать человека от недостойных поступков. Воинское законодательство стремилось формировать корпоративное чувство дворянства, основой которого по-прежнему была честь, но уже не в родовом, а в более индивидуализированном варианте. В порядке поддержания в обществе позитивного эмоционального климата законодатель прямо предписывал офицерам и вообще всей армии пребывать «в неразорванной любви, миру и согласии»26.
Положения воинских законов имели чрезвычайно важное значение для изменения отношения к оскорблениям и установлению правил достойного поведения во всем дворянском обществе. Введение обязательной государственной службы для дворян, а также реорганизация всей структуры общества с введением Табели о рангах (1722), ранжировавшей все разряды служилых людей (а также их жен и детей) относительно чинов в воинской службе, сделали воинское законодательство универсальным для всего дворянского сословия. Диктуемые им модели поведения и эмоциональных реакций проводились в жизнь с помощью судебной практики. Мы находим многочисленные ссылки на воинские уставы и в деле Ульяны Псищевой, и в других случаях разбора конфликтов гражданских лиц дворянского происхождения27.
Основной идее петровского законодательства, что человек может стать бесчестным, совершая бесчестные поступки, вторила и литература, бывшая в ходу во времена «истории с поросенком». Еще в 1737 году был издан перевод анонимной французской книги La veritable politique des personnes de quality где развивалась мысль, что для человека благородного происхождения лучше быть лишенным жизни, чем потерять честь через бесчестные или дурные поступки28. Однако идеи дворянской корпоративной чести, point d’honneur, описанные в этом сочинении и выраженные, в первую очередь, в дуэльном кодексе, стали овладевать дворянскими массами России лишь в конце XV11I века, когда законодательство Екатерины дало дворянству большую свободу и независимость от государства и власти. Но даже и тогда честь еще не отождествлялась с сословной гордостью и служебным статусом, как, например, во времена Пушкина, и «не являлась центральной ценностью... господствующего сознания»29.
26 ПСЗ, т. 5, № 3006, гл. LXIX, арг. 9, 1.
27 ГАОО. Ф. 31. On. 1. Д. 737; Ф. 41. On. 1. Д. 1255; Ф. 43. On. 1. Д. 910; 1099; 1771; 1260; 2032; 2037, др.
28 Истинная политика знатных и благородных особ переведена с франиусскаго чрез Василья Тредиаковскаго, СПб.: Печ. при Имп. Акад, наук, 1737.
29 Е. Марасинова, Психология элиты российского дворянства последней трети XVIII века (По материалам переписки), М.: РОССПЭН, 1999, 180—181.
Оскорбленная добродетель: бесчестье и обида...
339
В еще меньшей степени можно говорить о чувстве чести как о главной эмоции, цементирующей дворянское сословие в 1760-е годы, особенно в провинции. Похоже, что для провинциальных дворян индивидуальное благополучие было гораздо важнее сословной чести. Этому способствовали радикальные изменения в их жизни — отмена обязательной государственной службы в 1762 году и возможность выхода в отставку. Возвратившиеся в родные края еще не старые мужчины приводили в порядок родовые гнезда, налаживали хозяйство и устанавливали отношения с соседями. Указ Екатерины П от 8 июня 1764 года о засеках30 взбудоражил, однако, начинавшее складываться провинциальное общество: государыня предполагала распродать всем желающим дворянам казенные земли, в первую очередь засеки бывшей оборонительной черты Московского государства, для чего всем помещикам предлагалось в годичный срок объявить о самовольно ими захваченных казенных землях. Объявившим разрешалось через год выкупить эти земли по льготным ценам; на тех же, кто утаил или исказил факты захвата, каждый мог донести и получить в награду четвертую часть захваченных обвиняемым земель, причем последний лишался не только этих земель и права их выкупить, но и равной по площади земли из собственного имения, а также подвергался огромному денежному штрафу. Известный мемуарист А. Т. Болотов свидетельствовал, что «сей указ, по особливости своей и по строгости предписания, произвел великое волнение и колебание умов во всем государстве... А так как таких людей, у коих земля и леса были в завладении, находилось в государстве превеликое множество, то все сии и перетревожились тем до чрезвычайности»31. Понятно, что эта мера существенно влияла на эмоциональный климат местных сообществ: возможность доноса со стороны соседа или даже собственного крестьянина порождала страх и подозрительность.
Весьма вероятно, что участники «истории с поросенком» собрались в тот вечер 16 августа 1764 года, то есть почти сразу после того, как указ о засеках должен был стать известен в отдаленной стороне Орловской провинции, чтобы обсудить эти новости и попытаться договориться о том, кому какие земли объявить своими, а какие декларировать как захваченные. Договориться, как видно, не удалось, и вышла совсем другая история.
Напряжение между двумя кузенами чувствовалось с момента прихода Василия в дом, где уже находились Ульяна и Данила Пси-щевы. В своих показаниях Ульяна подчеркивала, что Василий при
30 ПСЗ, т. 16, № 12178.
31 А. Болотов, Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков, т. 1—4, СПб., 1870—1873, 2:561.
340
Ольга Глаголева
был позже и отдельно от всех и весь вечер «поступал весьма сумасбродно». Имея с Данилой «приказные деревенские ссоры» и по «ненависти» своей к нему и Ульяне, Василий пытался втянуть Данилу в ссору. Тот, однако, не отвечал. Выйдя во двор, Василий «искал случаю» затеять ссору с людьми Данилы. Те, будучи предупреждены заранее, от ссоры уклонились. Тогда Василий направил свой удар на его жену. Как свидетельствует судебный протокол, Василий, «потом умысля и хищнически подошед с надворья к покою под окно, где она Псищева сидела, бросил на нее немалого живого поросенка, которым ей большой удар учинил и при всей той компании ее обесчестил»32. «Бесчестье» Ульяны произошло на глазах компании, состоявшей из «честных людей» (т.е. дворян, благородных), что было чрезвычайно важно для нее. И тут нам настает время выяснить, кто же были эти «честные люди», без чего мы не сможем разобраться ни в пережитых ими эмоциях, ни в причинах, эти эмоции вызвавших.
Род Псищевых не отличался ни знатностью, ни богатством. Для провинциальных помещиков, однако, семья к моменту «истории с поросенком» обладала вполне надежным достатком: согласно третьей ревизии, Псищевы были собственниками 11 имений в Орловской и Курской провинциях с 266 душами мужского пола33. У них также были имения с крестьянами в Московской и Воронежской губерниях. Поссорившиеся кузены обладали неравным состоянием и социальным положением: Данила Афанасьевич (1702 — после 1788) был премьер-майором в отставке (8-й класс по Табели о рангах) и владельцем около сотни душ мужского пола, тогда как его оппонент, Василий Осипович (ум. 1784), имел состояние примерно вдвое меньшее и более низкий, да к тому же статский, чин титулярного советника (9-й класс)34. Ульяна Афанасьевна Псищева (ок. 1730 — ок. 1792) по рождению принадлежала к знаменитому роду дворян Луговиновых, которые в середине XVIII века владели 22 имениями с 1277 крепостными мужского пола только в черноземной полосе России и чувствовали себя настоящими хозяевами края35. Одна эта «лутовиновская кровь», делавшая ее обладателей «необузданными и полновластными барами»36, ставила
32 ГАОО. Ф. 19. On. 1. Д. 3. Л. 32.
33 С. Черников, Дворянские имения Центрально-Черноземного региона России в первой половине XVIII в., Рязань, 2003, 297.
34 ГАОО. Ф. 847. On. 1. Д. ПО. Л. 1-1 об.; Ф. 6. On. 1. Д. 1528. Л. 4-4 об., 11; Ф. 760. On. 1. Д. 5. Л. 3-42, 79-86 об.; Д. 114. Л. 145; Д. 125. Л. 382-382 об., 387-387 об.; Д. 235. Л. 116-118 об.
ъ Черников, 278; Н. Чернов, Дворянские гнезда вокруг Тургенева, Тула: ИПП «Гриф и К», 2003, 90-111.
36 В. Житова, Воспоминания о семье И. С. Тургенева, Тульское кн. изд-во, 1961, 21.
Оскорбленная добродетель: бесчестье и обида...
341
Ульяну в особое положение в местном обществе. Если же принять во внимание низкое социальное положение («подьяческий сын») хозяина дома, в котором произошло «бесчестье» Ульяны, а также невысокие чины и несолидное состояние остальных членов компании (подпоручик, прапорщик и жена вахмистра37), то можно представить себе, что Ульяна, будучи одновременно Лутовиновой и премьер-майоршей, чувствовала себя гранд-дамой общества. Тем больнее было оскорбление от небогатого и нечиновного родственника.
Чин премьер-майорши означал немало не только для свидетелей «бесчестья» Ульяны, но и вообще в среде провинциальных дворян 1760-х годов. Северо-западная часть Орловской провинции, где жили участники «истории с поросенком», то есть территория между небольшими в ту пору городами Орлом и Карачевом (ныне в Брянской области), относившаяся к Карачевскому, Орловскому и Волховскому уездам, была покрыта дремучими лесами и непроходимыми болотами, оставлявшими мало места для земледелия. Лучшими землями владели десять богатейших семейств России — Галицыны, Шереметевы, Каменские и др. Однако половину пахотной земли со времен южной оборонительной черты занимали однодворцы. Их незначительные клочки земли перемежались с дворянскими имениями, что создавало большие проблемы в регионе. То немногое, что оставалось от богатейших и беднейших землевладельцев, приходилось на долю «обыкновенных» помещиков, которым принадлежало по 200—250 десятин земли с 30—50 крепостными38. Данила Псищев со своей сотней душ выглядел на этом фоне довольно респектабельно.
Именно малодостаточные помещики и составляли уездное дворянское общество. Об этом мы имеем прямое свидетельство в наказах дворян в Уложенную комиссию 1767—1768 годов, то есть всего через 3 года после описываемых событий. Для участия в выборах и составлении наказов дворяне обязаны были проживать на территории уезда, что редко имело место в случае богатейших землевладельцев. Дворяне, находившиеся на действительной службе вдали от дома, реального участия ни в голосовании, ни в составлении наказов не принимали. Поэтому количество дворян, подписавших наказы, примерно совпадало с количеством действительно живших в тех местах помещиков. Можно с достаточной уверенностью предположить, что те 18 и 19 дворян, что подписали наказы
37 ГАОО. Ф. 19. On. 1. Д. 3. Л. 1, 3, 32 об.; Черников, 304-307; РГАДА. Ф. 286. On. 1. Д. 419. Л. 912 об.; РГВИА. Ф. 490. On. 1. Д. 3836. Л. 52 об.; Д. 517. Л. 49 об.
38 М. Лавицкая, Орловское потомственное дворянство, Орел: Вешние воды, 2005, 35-36.
342
Ольга Глаголева
от Карачевского и Орловского уездов, представляя в дворянских собраниях свои семьи, и были тем обществом, в котором вращались наши Псищевы. Это подтверждается и архивными документами, где их имена упоминаются чаще других в сделках купли-продажи и мелких тяжбах, решавшихся на месте. Если проанализировать социальное положение представителей провинциальной «элиты» по их чинам, то мы обнаружим, что местное общество не блистало выдающимися успехами: высшим чином среди подписавших карачевский наказ был секунд-майор, а наиболее ответственные посты дворянского предводителя и депутата, куда обычно избирали самых уважаемых (читай, богатейших и влиятельнейших) членов местного дворянского сообщества, занимали два капитана39. Таким образом, супруги Псищевы с их премьер-майор-ским чином были и в этом отношении выше своих соседей и знакомых, что не могло не порождать в них чувство гордости.
Судя по наказам, жизнь дворян Карачевского и Орловского уездов не была окрашена в счастливые тона всеобщего благополучия. Читателю наказов передаются беспокойство, неуверенность и даже страх, испытываемые помещиками в своих имениях, что, казалось бы, подтверждает мрачные характеристики времени и нравов, которые мы находим у позднейших исследователей. Однако можно усомниться в полноте рисуемой наказами картины: их авторы стремились осветить прежде всего «неправильные» стороны местной жизни в надежде, что верховная власть найдет средство улучшить положение вещей.
Карачевские дворяне писали о недостатке пахотной земли и частых неурожаях. Они просили переместить дальше на юг однодворцев, чье присутствие больше не требовалось для защиты государства, а освобожденные таким образом земли передать им, что позволило бы им лучше обеспечить себя и своих крестьян. Дворяне Орловского уезда писали в своем наказе, что права землевладения постоянно нарушаются и более богатые и сильные соседи «ту землю у прямых владельцев насильно отнимают, а их грабят, бьют и до смерти убивают, и от того возрождаются великие дела и по них доводят себя до разорения»40. Подобные обстоятельства не способствовали возникновению у местных дворян чувства единства, сословной чести и уверенности в будущем.
Своеобразную картину отношения некоторой части провинциальных дворян 1760—1770-х годов к вопросам чести и бесчестья мы
39 Сборник Императорского Русского Исторического Общества 68 (1889), 528- 534. Данилы нет среди подписавших наказ; скорее всего, он не участвовал в кампании в силу пожилого возраста (65 лет).
40 Имеется в виду, что тем самым порождаются длительные судебные разбирательства, приводящие судящихся к разорению; там же, 507.
Оскорбленная добродетель: бесчестье и обида...
343
находим в сочинениях Фонвизина и Новикова. Помня о сатирической заостренности пера этих писателей, следует, конечно же, учитывать пародийность изображения, но она говорит и о широком распространении подобных явлений. В письме уездного дворянина к сыну Фал ал ею, опубликованном в журнале Живописец за 1775 год, отец советует сыну выйти в отставку, так как «за честью, свет, не угоняешься; честь! честь! худая честь, коли нечего будет есть». Свои советы отец подкрепляет примерами из старины и жалобами на «несправедливости» наступившей жизни: «Дали вольность, а ничего не можно своею волею сделать; нельзя у соседа и земли отнять: в старину-то побольше было нам вольности. Бывало, отхватишь у соседа земли целое поле; так ходи же он да проси, так еще десять полей потеряет... был бы только ум да знал бы приказные дела, так соседи и не куркай. То-то было житье!»41
В комедии Фонвизина Бригадир (1768) провинциальные дворяне также трактуют понятия чести и бесчестья в наиболее «удобном» для них варианте:
Сын. Батюшка! я такой сын, по которому свет узнает вас больше, нежели по вашем бригадирстве! Вы, monsieur (к Добролюбову), конечно, знаете сами много детей, которые делают честь своим отцам.
Добролюбов. А еще больше таких, которые им делают бесчестье. Правда и то, что всему причиной воспитание...
Советник. Нет, сударь мой; я знаю, что с сыном вашим делать. Он меня обесчестил; а сколько мне бесчестья положено по указам, об этом я ведаю.
Бригадирша. Как! Нам платить бесчестье! Попомни бога, за что?
Советник. За то, моя матушка, что мне всего дороже честь... Я все денежки, определенные мне по чину, возьму с него и не уступлю ни полушки42.
Эта мысль о бесчестье в его прямом (и единственном) материальном выражении высказана еще ярче в письме из провинции, обращенном прямо к автору Живописца'.
... хотя ты меня и обидел, однакож я суда с тобою заводить не хочу, ежели ты разделаешься со мною добрым порядком и так, как водится между честными людьми. Сделаем мировую; заплати только мне да жене моей бесчестье, что надлежит по законам; а буде
41 Н. Новиков, Живописец 1775, ч. X—XI, с. 121 — 124.
42 Д. Фонвизин, Бригадир, д. 4, явл. VI и д. 5, явл. IV.
344
Ольга Глаголева
не так, то по суду взыщу с тебя все до копейки. Мне заплатишь бесчестье по моему чину, жене моей вдвое, трем сыновьям недорослям в полы против моего жалованья, четырем дочерям моим девицам вчетверо каждой; а к тому времени авось-либо бог опростает мою жену, и родит дочь, так еще и пятой заплатишь. Видишь ли, что я с тобою поступаю по-христиански, как довлеет честному и доброму человеку. Смотри, не испорть этого сам и не разори себя. К эдаким тяжбам мне уже не привыкать; я многих молодчиков отбрил так, что одним моим, жены моей и дочерей бесчестьем накопил трем дочерям довольное приданое. Что ж делать живучи в деревне отставному человеку? чем-нибудь надобно промышлять43.
Приводя эти примеры, мы не хотим сказать, что практика использования оскорбления чести в корыстных целях не существовала в допетровские времена. Но не подлежит сомнению, что, перенеся акцент в ситуациях бесчестья с оскорбленного на оскорбителя, новое законодательство расшатывало границы пристойного и меняло отношение общества к постыдному. Стыд больше не выполнял функцию стимулятора восстановления чести и тем самым как бы вообще исключался из спектра нормативных эмоциональных реакций оскорбленного. В то же время материальная компенсация, служившая ранее средством возмещения потерь, связанных с постыдностью положения оскорбленного и потенциальной утратой репутации как им самим, так и его родом, продолжала сохраняться в законодательных актах и судебной практике. Все это придавало совершенно иную морально-эмоциональную окраску ситуации бесчестья, в которой материальная компенсация приобретала статус чуть ли не награды за оскорбление. Конечно, эмоциональные реакции людей не всегда соответствовали предписываемым нормам, и многие оскорбленные по-прежнему испытывали стыд и страх потери репутации. Однако состояние бесчестья, считавшееся ранее сравнимым со смертью, теперь выводилось в разряд эмоционально нейтральных, становясь не только пристойным, но и приобретая некоторую привлекательность.
В этом контексте вполне уместно предположить, что Ульяна Псищева руководствовалась не только гневом и стыдом, обращаясь в суд за восстановлением поруганной чести. Согласно законам она могла рассчитывать на выплату ей двойного оклада ее мужа-майора, то есть суммы в тысячу рублей или более, что дало бы ей возможность приобрести небольшую деревню с крестьянами. Так что челобитная в суд о бесчестье могла иметь и весьма прагматическую мотивацию, сродни изображенной сатириками. Однако
43 Новиков, ч. XIV, с. 130—131.
Оскорбленная добродетель: бесчестье и обида...
345
такого рода мотивы, если они и были у Ульяны, меняют свою эмоциональную окраску в контексте истории отношений между ее мужем и его двоюродным братом: желание наказать обидчика было вызвано скорее всего не корыстью, а многолетней ненавистью и обидами, существовавшими в семье, а также гневом и желанием мщения, вспыхнувшими в момент оскорбления. Правомерность такого прочтения эмоциональной реакции Ульяны подтверждается указанием в челобитной на ненависть как мотивационную эмоцию Василия и на «приказные деревенские ссоры», то есть тяжбы. Ко времени «истории с поросенком» в семье было, по крайней мере, две незаконченные тяжбы, напрямую касавшиеся Данилы и Василия. Вот вкратце их суть.
Земли в Карачевском уезде, полученные за службу прапрапра-дедом Данилы и Василия Гаврилой Псищевым в 1645 году, достались по наследству их деду Даниле и его двоюродному брату Самой-ле. Когда Самойла умер в 1692 году, не оставив сына, его часть вотчинных земель, за вычетом прожитков его вдове и дочери, должна была быть поделена поровну между сыновьями Данилы Афанасием и Осипом (отцами наших героев Данилы и Василия). Осип, однако, подал челобитную в Поместный приказ с просьбой справить все земли с принадлежавшими к ним крестьянами за ним, утаив, что у него есть брат. Тогда же все наследство было зарегистрировано за ним, но он его фактически не получил, так как земля осталась «в насильном владении» у вдовы и дочери Самойлы. Афанасий, узнав об обмане, подал жалобу в Поместный приказ, но начавшееся разбирательство велось так неспешно, что он умер, не дождавшись решения. Когда же в 1745 году умер и Осип, его вдова Дарья и сын Василий (наш Василий) подали челобитную о вступлении в наследство, опять-таки скрыв, что не вся собственность принадлежит им по праву. Наследство было зарегистрировано за ними, в том числе и часть Самойлы, которой должны были владеть Данила и его братья. Узнав об этом, Данила с братьями заявили протест. Прошло пять лет, однако ответа так и не последовало. Тогда Данила и его брат Александр написали прошение на имя Елизаветы. В нем они гневно обвиняли своего дядю Осипа и его сына Василия в подаче ложных челобитных, утверждали, что Василий и его мать завладели землей и крестьянами незаконно, и с горечью жаловались, что их, законных наследников, силой лишают права на положенную им часть наследства44. Дело дошло до Сената, но к 1764 году так и не было решено.
Спорное имущество, о котором 50 с лишним лет велась тяжба, состояло к этому моменту всего лишь из небольшого участка зем-
44 РГАДА. Ф. 1209, Дела молодых лет по г. Карачеву. Д. 8/9218. Л. 386— 387 об., 402 об.
346
Ольга Глаголева
ли и двух крестьян с семьями, но вопрос о его принадлежности вставал с новой силой каждый день. Кузены жили в одной деревне, Семеновке Псищевой Карачевского уезда, где их земли, включая спорные, были в чересполосном владении. Ситуация обострялась еще и тем, что пока крестьяне были в «насильном владении» у вдовы и дочери Самойлы, последние женили и выдавали их замуж за своих крестьян. Родившиеся от этих браков дети вообще неизвестно кому принадлежали по закону. Все это не могло не вызывать постоянных эмоциональных взрывов.
Однако ярость и отчаяние Данилы и Александра, проявившиеся в их прошении на имя императрицы («... а нас показанных... до того владения недопущают...»), связаны не только и не столько с тем, что их лишили собственности. Их права нарушались в течение десятилетий, и все их попытки восстановить законное владение оканчивались неудачей. Знать, что их отец был обманут собственным братом и умер, так и не отстояв своей чести и прав семьи; пережить спустя полвека тот же обман, сопровождаемый ложными челобитными, от своего двоюродного брата и опять-таки быть не в состоянии что-либо сделать — все это должно было ущемлять гордость и честь Данилы и Александра. В 1764 году оба брата, майор и полковник в отставке, со связями в высшем свете (сын Александра служил пажом при дворе), не могли справиться с более бедным родственником, что, безусловно, вызывало в них приступы злости. Их противник, Василий, служа в местных канцеляриях, был, по-видимому, более сведущ в местных делах, что и позволяло ему долго и безнаказанно удерживать чужую собственность (совсем как изображенные сатириками сутяги).
Не стоит, однако, представлять Данилу как невинную жертву коварства Василия и его отца. Сам Данила не раз демонстрировал свою способность ущемлять права родственников. В том же 1750 году, когда они с братом жаловались императрице на Василия, между ними самими вспыхнула ссора, переросшая в длительную тяжбу. Поводом было все то же наследство их двоюродного деда: братья не смогли договориться между собой о разделе этой спорной собственности — поистине шкуры неубитого медведя45. В 1760 году возникла новая семейная ссора: Мария Псищева, мать тех же братьев, решила разделить имение их умершего отца поровну между ними. Однако два года спустя она потребовала передела, поскольку Данила забрал больше крестьян, чем ему полагалось. Мать вскоре умерла, не дождавшись решения суда, но братья и в этот раз не сумели договориться. После смерти Александра в 1772 году Данила участвовал в оспаривании его наследства. Тогда же вновь
45 ГАОО. Ф. 6. On. 1. Д. 1528. Л. 6 об.
Оскорбленная добродетель: бесчестье и обида...
347
всплыл вопрос о неправомерном завладении частью собственности Василием46.
Как видим, у Данилы и Василия были основания для взаимной ненависти. Ущемленные права собственности, ежедневная неразбериха с крестьянами, длящееся десятилетиями оскорбление чести — все это было поводом для вспышек самых бурных эмоций, среди которых «бесчестье поросенком» должно было стать лишь одним из звеньев в бесконечной цепи взаимных обид. Почему же, однако, Данила так старательно избегал ссоры в тот вечер 16 августа 1764 года, а Василий, не добившись своего, решил оскорбить его жену?
Как уже говорилось, бесчестье жены накладывало пятно на репутацию всей семьи и часто использовалось в качестве средства унизить мужа. Очевидно, что Василий этого и добивался, о чем прямо говорится в челобитной Ульяны. Из судебного дела становится также ясно, что оба противника прекрасно понимали возможные последствия своего поведения, предусмотренные в действующем законодательстве. Выступая истцом в тяжбе о наследстве, Данила должен был проявлять сдержанность и не отвечать на оскорбления, чтобы Василий не мог использовать его эмоциональный порыв как доказательство «недружбы и ссоры», то есть формальный повод к отклонению иска. Ульяна же не имела прямого отношения к этой тяжбе, так как по закону 1753 года супруги получили право владеть своим имуществом независимо друг от друга. Оскорбление Ульяны не могло повлиять на ход тяжбы между кузенами, но оно явно имело своей целью вызвать ответную реакцию Данилы. Когда же, к неудовольствию Василия, тот не вступился за жену, Василий тут же извинился перед ней, пытаясь таким образом избежать судебных действий с ее стороны. Он надеялся, что Ульяна примет извинения и инцидент будет исчерпан. В результате Василий испытал бы удовлетворение от оскорбления жены противника, не осложнив своей тяжбы с ним и не понеся никакого наказания. Вполне вероятно, что Василий надеялся, что его провокация приведет не только к бесчестью Данилы, но и поможет ему выиграть их давний имущественный спор. Эти коварные планы почти воплотились в жизнь.
Орудие бесчестья — «немалый живой поросенок» — должно было серьезно повлиять на степень оскорбления дамы благодаря богатым ассоциациям, связанным с образом свиньи в русской культуре. Трудно найти другое животное, символический образ которого включал бы в себя столько негативных, оскорбительных черт. Простое помещение слова «свинья» рядом с чьим-либо именем
46 ГАОО. Ф. 760. On. 1. Д. 5. Л. 39-42; Д. 1528.
348
Ольга Глаголева
могло испортить человеку репутацию, а уж удар поросенком был для столбовой дворянки нестерпимым унижением47. Нет никаких сомнений, что весть о «бесчестье» Ульяны быстро распространилась и чета Псищевых надолго превратилась в посмешище всей округи. Ульяна, с ее «дутовиновской кровью» и чувством превосходства по отношению к местному обществу, была, вероятно, в ярости.
Суд состоялся через год, но решения не вынес, так как Василий отвел свидетелей как близких родственников Ульяны. Она подала апелляцию, но он сделал все возможное, чтобы дело застряло в недрах судебной машины. Только через 20 лет оно было «дорасследовано», и новый суд принял в 1784 году решение: признать Ульяну... виновной. На основании статьи Уложения за ложные обвинения суд приговорил ее к выплате Василию за «бесчестье» компенсации в размере 714 руб. 12 коп., а также 75 руб. 22 коп. судебных издержек48.
Нетрудно себе представить, сколько негодования, отчаяния и слез вызвал у Ульяны столь несправедливый приговор. Вторично оскорбленная, она отказалась признать решение суда, которое было, по ее словам, «противно всем правилам законным». В апелляционном прошении она настаивала, приводя тому веские доказательства, что суд действовал в пользу Василия благодаря его личным контактам с судебными чиновниками. Подписав «неудовольствие», Ульяна заплатила 25 руб. за перенос дела в более высокую инстанцию, но и там вердикт получил подтверждение. Тогда она подписала еще одно «неудовольствие» и заплатила теперь уже 100 руб. (сумму, достаточную для покупки крестьянской семьи) за перенос дела в губернский суд и написала прямо на имя императрицы прошение, где излагала все обстоятельства ее бесчестья и последовавших за ним издевательств со стороны местных властей. Должно было пройти еще 4 года, прежде чем обвинительный приговор Ульяне был наконец отменен по факту процессуальных нарушений. Суд 1788 года постановил произвести еще одно расследование, собрать новые свидетельские показания, а дело между тем «числить в числе решенных» до поступления новых улик. Таким образом, после 24 лет разбирательств Ульяна не только не отомстила обидчику, но даже и не отстояла своего доброго имени.
Следующей записью в журнале суда явилось прошение от 1792 года невестки Ульяны, Прасковьи Псищевой, которая уна
47 См. юридические подробности дела в моей статье: «Woman’s Honour, or The Story with a Pig: The Animal in Every day Life in the Eighteenth-century Russian Provinces», Other Animals. Beyond the Human in Russian Culture and History, eds. J. Costion, A. Nelson, Pittsburgh UP, 2010.
48 ГАОО. Ф. 19. On. 1. Д. 3. Л. 32 об.
Оскорбленная добродетель: бесчестье и обида...
349
следовала тяжбу. Она заявляла, что поскольку истица, ее муж Данила, их сын (а ее муж) Алексей, ответчик Василий, его жена и двое их сыновей уже умерли, то она «в этом деле не истица» и просит его закрыть. Прасковья, возможно, и вообще не беспокоилась бы о давно забытом споре, однако она имела свои соображения: в прошении она настаивала на возвращении ей, как наследнице, апелляционных денег, выплаченных когда-то Ульяной (125 руб.), с которой было все-таки снято обвинение в ложном иске. Кроме того, Прасковья просила снять с имения Василия запрещение, наложенное в ходе следствия, для продажи его с аукциона, чтобы она, Прасковья, могла восстановить деньги, которые ей задолжали по векселям сыновья Василия. Рассмотрев прошение, Орловская палата гражданского суда постановила 31 мая 1792 года вернуть Прасковье апелляционные деньги, снять запрещение с имения Василия и окончательно закрыть тридцатилетнее дело о бесчестье. Так бесславно закончилась эта длительная попытка провинциальной дворянки отстоять свое оскорбленное достоинство. Вместо восстановленной чести семьи ее наследница удовлетворилась небольшой денежной суммой.
Как видно из дела Ульяны Псищевой и других разбирательств, связанных с честью, власти на местах не слишком спешили удовлетворять подобные иски. Бесчестье и обида женщин и в последней четверти века по-прежнему нередко являлись основанием для возбуждения судебных расследований. Однако реальная практика все чаще убеждала в малоперспективности таких исков. Нередко оскорбленные жертвы вынуждены были идти на соглашение с обидчиком, либо боясь потерять состояние из-за широко распространенной судебной волокиты, либо уступая давлению более могущественного или просто более «включенного в систему» противника49. В семье Псищевых за эти годы было еще по крайней мере два судебных разбирательства о бесчестье, оставшихся без решений50.
Примечательно, что в приговорах судов о бесчестье конца XVIII века даже в случае осуждения виновного речь уже больше не идет о выплате денежной компенсации. Осуждение обидчика начинает восприниматься обществом как достаточная степень восстановления справедливости. Кроме заметного уменьшения количества тяжб в результате прекращения выплат «бесчестья», столь осмеянных сатириками, изменение форм «работы» концепции бесчестья имело и другие последствия. Невозможность добиться справедливости в суде вызывала у некоторой части дворянства желание
49 ГАОО. Ф. 31. On. 1. Д. 737; Ф. 41. On. 1. Д. 1255; Ф. 43. On. 1. Д. 910, 1099, 1771, 1260, 2032, 2037 и др.
50 ГАОО. Ф. 38. On. 1. Д. 60, 182; Ф. 19. On. 1. Д. 508.
350
Ольга Глаголева
взять дело защиты чести в свои руки. Либеральная политика Екатерины II по отношению к дворянству и в еще большей степени культ рыцарства и кодекс чести в западном варианте, развившиеся при Павле I, привели к широкому распространению дуэльной практики в России на рубеже XVIII—XIX веков. Перемены в концепции чести, бесчестья и обиды в дворянской среде воздействовали, в свою очередь, на эмоциональные нормы и эмоциональный опыт дворян. Не подлежит сомнению, что в пушкинские времена муж-офицер немедленно вызвал бы обидчика Ульяны на дуэль. Дуэль позволяла уладить конфликт быстро и без огласки, давая немедленный выход эмоциям оскорбленного (или защитника чести женщины) через слова и действия, предписываемые ритуалом. Подобная реакция не только не осуждалась, но и всячески одобрялась обществом, став моделью единственно достойного поведения и сделав абсолютно неприемлемой материальную компенсацию за унижение чести (предложение таковой стало бы еще большим оскорблением чести). В среде же провинциального дворянства 1760-х годов дуэль была еще неслыханным делом. Суровость закона, отсутствие дуэльной традиции и материальные соображения, связанные с сохранившимся законодательством и практикой компенсаций, диктовали подавление эмоциональных порывов и обусловливали обращение за защитой к властям.
В XVIII веке бесчестье как эмоциональное и социальное состояние продолжало выполнять роль регулятора социальных отношений. Как и в более ранние времена, эмоциональное состояние противника нередко использовалось конфликтующими сторонами для достижения перевеса. Эго прекрасно продемонстрировал Василий Псищев, пытаясь сыграть на давней ненависти к нему Данилы. Не добившись взрыва эмоций в ответ на провокацию, Василий оскорбил жену противника, опять-таки толкая Данилу на эмоциональную реакцию в ожидании тех же последствий. И, наконец, используя свои связи в чиновных кругах и бесчестье супругов Псищевых, чреватое для них утратой уважения в своем сообществе, Василий добился обвинительного приговора Ульяне и присуждения выплаты «бесчестия» ему, тем самым еще более ущемив гордость своих оппонентов. Слом традиционных моральных норм обусловил допустимость подобных стратегий в сознании значительной части провинциального дворянства.
Политика государства, направленная на конструирование и регламентирование поведения граждан и их эмоциональных реакций с помощью законов и судебной практики, не отличалась последовательностью. С одной стороны, правительство навязывало обществу эмоциональный климат, основанный на чести, любви,
Оскорбленная добродетель: бесчестье и обида...
351
добрососедстве, а также вере в закон и отеческую (материнскую) заботу монарха; с другой стороны, рядом практических мер в экономической и законодательной сферах и мелочным вмешательством в частную жизнь оно стимулировало противоположные модели эмоционального поведения и ущемляло эмоциональную свободу граждан, способствуя тем самым сохранению зависимости дворян от государства.
Тем не менее, разбирая действия героев нашей истории, мы увидели, что моральные нормы и модели эмоциональных реакций, предписываемые государством в конфликтных ситуациях, были, несмотря на некоторую их противоречивость, усвоены тем провинциальным сообществом, к которому принадлежала Ульяна Псище-ва. На примере изменений в функционировании концепций стыда, чести, бесчестья и обиды в русском обществе XVIII века можно говорить о серьезных переменах в эмоциональном мире дворянства. Случаи взаимного оскорбления, рассмотренные здесь, свидетельствуют, конечно же, о довольно низком уровне нравов провинциальных дворян, однако не стоит спешить обвинять этих людей в дикости и аморальности. Существовавшее законодательство о земле и сложившаяся практика наследования собственности порождали ощутимое социальное напряжение; несовершенная судебная система и отсутствие дееспособных органов власти на местах не позволяли быстро решать неизбежно возникавшие конфликты, что вело к многолетним тяжбам, разорению тяжущихся сторон и новым конфликтам. Осознание настоятельной потребности в судебной реформе, выраженное в большинстве дворянских наказов в Уложенную комиссию 1767—1768 годов, говорит о желании дворян искоренить «дикие» стороны провинциальной жизни.
Мы разобрали здесь примеры только негативных эмоций, сопутствующих конфликтам, но даже в них видно, как провинциальные Простаковы и Митрофанушки проявляют порой неожиданную сдержанность и веру в закон, ищут возможного разрешения конфликта мирным путем, то есть выказывают качества и чувства, достойные граждан любого общества. Если внимательно посмотреть на проявления других эмоций в других, неконфликтных ситуациях, то в среде провинциального дворянства XVIII века мы обнаружим и нежную любовь, и трогательную заботу о детях и родителях, и знаки благородства и душевной красоты51. Взрывы негативных
Подробнее см. мои работы: Глаголева, «Горькие плоды Просвещения: Три женских портрета XVIII века», Социальная история. Ежегодник 2003: Женская и гендерная история, М.: РОССПЭН, 2003; «Жизнь в русской провинции в середине XVHI века (по материалам дворянских наказов Уложенной Комиссии 1767 1768 гг.)», Вестник Томского гос. ун-та 22 (2006); Glagoleva, «Dream and Reality».
352
Ольга Глаголева
эмоций у провинциальных дворян XVIII века являлись вполне естественной реакцией людей на проблемы, возникавшие в их жизни, а вовсе не проявлением «чувства ущербности» перед Западом или «неотмщенной обиды». Эмоциональный мир провинциальных дворян XVIII века был отражением их жизни, такой же непростой и разнообразной, как и жизнь сегодняшних людей.
olga.glagoleva@utoronto.ca
Ольга Матич
ПОЭТИКА ОТВРАЩЕНИЯ
В «ПЕТЕРБУРГЕ» АНДРЕЯ БЕЛОГО1
Современные теоретики эмоций подчеркивают нормативные функции отвращения и его роль в регулировании трансгрессивных желаний. Однако изображение отвратительного в искусстве обладает и освободительным потенциалом, ибо раздвигает границы эстетически дозволенного. Отвращение выстраивает дистанцию между читателем и текстом, изображающим шокирующие ситуации. Оно фиксирует момент, отмеченный чувством отвращения, когда читатель не выдерживает и невольно отводит внутренний взор от мерзкого зрелища. В то же время отвратительное питается интересом читателя или зрителя к репрезентации явлений, посягающих на традиционные эстетические нормы; именно нарушение норм обусловливает интерес и вызывает эстетический восторг. Барочная эстетическая практика с ее склонностью к гротеску и соположению противоположностей ближе всего соответствует амбивалентности отвращения. Как пишет Г. Г. Харпам, «гротеск — это в первую очередь искусство отвращения»2.
В отличие от французского ‘degoQt’ и английского ‘disgust’, которые буквально означают «неприятный на вкус» (gout), русское ‘отвращение’ производно от глагола ‘отвратить/отвращать’, означающего определенное движение. Оно предполагает жест отстранения с целью успокоить чувство омерзения. Как пишет Норберт Элиас, «порог омерзения» (threshold of repugnance) способствует формированию норм социального, морального и эмоционального поведения и, таким образом, служит «процессу цивилизации»3. Разворачивая метафору порога, можно добавить, что отвращение создает дискурсивное пространство, в котором выясняются и
1 Краткая версия статьи опубликована под названием «Разорванный и пожирающий рот: анализ мотива в поэтике “Петербурга” Андрея Белого», Андрей Белый в изменяющемся мире. К 125-летию со дня рождения, под ред. М. Спивак, М.: Наука, 2008. Английский вариант: «Poetics of Disgust: То Eat and Die in Andrei Bely’s Petersburg», Slavic Review 68:2 (2009).
2 G. Harpham, On the Grotesque: Strategies of Contradiction in Art and Literature, Princeton UP, 1982, 220.
3 N. Elias, The Civilizing Process, tr. E. Jephcott, Oxford: Blackwell, 1994, 292.
354
Ольга Матич
утверждаются нравственные, социальные и эстетические читательские ценности. Рассмотренное в эстетической перспективе, отвращение являет собой реакцию зрителя или читателя на разложение формы, одним из основных подтекстов которого выступает порог смерти — и вместе с тем предельный порог отвращения. Как пишет Винфрид Меннингхаус, «каждая книга об отвращении есть в неменьшей степени книга о гниющем трупе»4. Смерть превращает тело в труп, который, нарушая запреты классической эстетики, обращается в бесформенное органическое вещество и в конце концов в отбросы. По словам Юлии Кристевой, «труп, этот самый тошнотворный из отбросов, претендует быть пределом всего», и его пересечение означает заражение жизни смертью5. Один из самых противоречивых трупов в классическом изобразительном искусстве — это «Мертвый Христос» Гольбейна, где рот Христа (с отвисшей челюстью) представляет собой отвратительное вместилище смерти и гниения, а не святых и пророческих слов.
Реакция Достоевского на эту картину в «Идиоте», где она обладает важной символической и эмоциональной ролью, приписывает зрителям чувство тревоги, которое лишает их веры в Воскресение, так как тело Христово превращено в локус абсолютного унижения. Зияющий рот, который мы видим в картине Гольбейна, связан не только с натуралистическим трупом, но и с отталкивающим видом пищи и идеей ее поглощения. Иными словами, отвращение отражает смерть и разложение, а наш отказ принимать испорченную пищу непосредственно выражает утверждение жизни и отвержение смерти.
Однако, как пишет Бахтин, смерть — это «оборотная сторона рождения»6. Смерть в природе также производит генерирующую склизкую гниль, в которой зарождается новая жизнь, чтобы продолжить или повторить жизненный цикл, который для таких русских мыслителей, как Владимир Соловьев и его последователь Андрей Белый, был философским источником отвращения. Люди умирают и становятся материалом для нового рождения, порождая бесконечную цепочку смертей7. Именно соотношение жизни и
4 W. Menninghaus, Disgust: Theory and History of a Strong Sensation, tr. H. Eiland, J. Golb, Albany: SUNY, 2003, 1.
5 Ю. Кристева, Силы ужаса: эссе об отвращении, пер. А. Костиковой, СПб.: Алетейя, 2003, 7—10.
6 М. Бахтин, Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса, М.: Худож. лит., 1965, 443.
7 О природном цикле и преодолении его неумолимого императива смерти у Владимира Соловьева см. Matich, Erotic Utopia: The Decadent Imagination in Russia's Fm de Siecle, Madison: Univ, of Wisconsin Press, 2005, 59—61, 74—77 и рус.
Поэтика отвращения в «Петербурге» Андрея Белого
355
Г. Гольбейн Младший, Мертвый Христос в гробу (1521). Художественный музей. Базель
смерти, осознание того, что противоположности сосуществуют и растворяются друг в друге, лежит в основе рефлекса отвращения. Это осознание отличало эстетику барокко, а впоследствии — модернизма, в основе которого лежит взаимопроникновение несовместимостей и рождение амбивалентных эмоций.
Отвращение как эстетический феномен, отмеченный транс -грессивностью, является одним из характерных признаков модернизма с его ориентацией на нарушение установленных эстетических конвенций и создание новых эстетических практик. Отвратительное и реакция на него занимают значительное место в «Петербурге» Андрея Белого, поэтика которого отмечена гротескными и изменчивыми образами, обусловливающими модернистско-барочную эстетику романа. «Петербург» разрушает традиционные формы изображения, что на тематическом уровне представлено бомбой — двигателем разорванной, фрагментарной структуры «Петербурга», а также репрезентации тела и его геометрической образности8. Однако учета рационалистических в своей основе кубистских приемов Белого недостаточно для проникновения в эстетику романа, как недостаточно его прочтения в символистском ключе. Такие подходы к роману упускают из виду его эмоциональный аспект, который побуждает и отвращение и восхищение читателя, вызванные в особенности разложением формы и превращением тела в бесформенную, зловонную биомассу.
Теоретики отвращения сходятся на том, что это чувство обусловлено переживанием чего-то физиологически и этически невыносимого, от чего мы стремимся дистанцироваться. Перформативный жест отвращения состоит в чередовании крупного плана (приближения к зрелищу) и дальнего. Я предлагаю, однако, ввести еще один компонент, на мой взгляд, способствующий «пропитываемости» отвратительного: даже при том, что первичный
пер.: О. Матич, Эротическая утопия: новое религиозное сознание и fin de siecle в России, М.: НЛО, 2008, 66- 70, 80-87.
8 В «Начале века» Белый описывает поэта-символиста как «бомбоброса-теля», душа которого состоит из динамита: Белый, Начало века, М.: Худож. лит., 1990, 133.
356
Ольга Матич
стимул для отторжения может быть непроизвольным, акт дистанцирования ослабляет чувство отвращения, придавая ему культурное значение. Обратимся к картине Ф. Гойи, на которой изображен Сатурн, пожирающий своего сына. Этот образ имеет прямое отношение к «Петербургу» Белого. Гротескная картина вызывает отторжение, создающее дистанцию, и оно позволяет зрителю «прочесть», обдумать и оценить ужасающий образ. Сознательные оценки культурного порядка не могут даваться в непосредственной близости, и прочтение предмета изображения обусловливается удалением на некоторое расстояние. В этой связи возникает вопрос о соотношении отвращения с чувством эстетического восторга.
Для барочной избыточности «Петербурга» также существенно то жуткое обезображивание хорошо сложенного обнаженного тела, которое представлено в картине. Тело юноши здесь резко контрастирует с гротескным телом отца, в особенности с его зияющим, пожирающим ртом. Скульптура каннибалистского бога итальянского скульптора Франческо Кабианки (1716) у входа в Летний сад с Невы (важное место действия «Петербурга») являет собой жуткий барочный образ, очень возможно, ставший источником вдохновения Белого в изображении мифического присутствия Кроноса/ Сатурна в романе, воплотившегося в темах времени и желания п(р)оглотить следующее поколение. Хотя скульптуре недостает крайней барочной избыточности Гойи и хотя она не фигурирует в тексте, видно, что она предписывает именно те же чувства отторжения и одновременного морбидного эстетического восторга, которые намеренно провоцирует в своем романе Белый.
Слово, которое лучше всего характеризует бесформенные органические обломки, произведенные взрывом бомбы в «Петербурге», — безобразие. Много раз употребляемое в романе, оно обозначает бесформенность и уродство. Буквально «безобразие» означает «без образа», предполагая отсутствие формы, как, например, в следующем отрывке из «Петербурга»: «Совершенно красная половина стены: течет эта красность; стены мокрые, стало быть; и, стало быть, — липкие, липкие... [...] увидеть [...] у себя под ногами ту же все темно-красную липкость, которая сюда шлепнула после громкого звука; она шлепнула из пробоины с лоскутом отодранной кожи... (с какого же места?). Поднять взор — а над собою увидеть, как к стене прилипло... Брр!... Туг лишиться чувств»9.
Этот отрывок, представляющий собой инверсию сыноубийства «Сатурна» Гойи и Кабианки, изображает отцеубийственную фантазию сына сенатора Аполлона Аполлоновича Аблеухова, который * В
9 А. Белый, Петербург, под ред. А. Долгополова, М.: Наука, 1981, 329—330.
В дальнейшем ссылки на роман даются в тексте простым указанием страниц.
Поэтика отвращения в «Петербурге» Андрея Белого
357
Ф. Гойя, Сатурн (1821—1823). Ф. Кабианка, Сатурн Прадо, Мадрид (нач. XVIII века). Летний сад.
Санкт- Петербург
воплощает в романе образ Сатурна/Кроноса. В ней разъятое тело отца изображено в виде сочащейся по стене спальни крови с прилипшим куском кожи. Сенатор, представляющий собой в «Петербурге» реакционную политическую власть и рациональную геометрию, превращается в «сплошную, кровавую слякоть» на глазах сына и читателя. Вместо излюбленных геометрических форм, которые помогали Аполлону Аполлоновичу поддерживать рациональный порядок в его жизни, мы сталкиваемся с преобразованием его тела в бесформенную органическую слизь. Рассказ вовлекает нас вместе с сыном в некий перформанс: разыгрывание отвращения в пространстве. Подобно Николаю Аполлоновичу, мы отводим глаза от омерзительного явления бесформенной вязкости, которая напоминает нам о нашей собственной смертности и ее обезображивающих последствиях10, но вместе с тем нас неудержимо влечет к ней. Жест дистанцирования, подобный тому, который мы совершаем при созерцании «Сатурна» Гойи, способствует читаемости этой сцены
10 М. Nussbaum, Upheavals of Thought: The Intelligence of Emotions, Cambridge: Cambridge UP, 2001, 203 205.
358
Ольга Матич
и соответствующему выражению нравственного отвращения, а может быть, и трансгрессивного восхищения.
Мы проделываем своего рода зигзаг: двигаемся к предмету изображения, а потом от него. Рассказчик в «Петербурге» вводит ассоциацию между зигзагом, этим очевидно пространственным образом, и проблемой читаемости в поэтике романа: Николай Аполлонович, например, делает ногтем зигзаг-пометку на полях книги, чтобы отметить важное место. Первое появление зигзага связано с Дудкиным, который поскользнулся на черной лестнице с бомбой в руках; далее Аполлон Аполлонович пытается понять смысл угрожающего зигзага, проделанного на углу Невского Дудкиным, от которого Аблеухов отшатывается в ужасе. Принадлежа, как и отвращение, к спектру аверсивных эмоций, страх, как правило, связан с движением отшатывания. Однако именно желание Сенатора понять смысл зигзагообразного движения заставляет его предпринять расследование в отношении молодого террориста. Иными словами, зигзаг, как и префикс ‘от-’ в ‘отвращении’, ассоциируется с интерпретацией, невозможной без установления дистанции. Будучи непроизвольным жестом, зигзаг, как и отвращение, преобразуется, однако, в жест металитературный, который также символизирует противоречивые эмоции читателя романа. В силу же его когнитивно-пространственного измерения он напоминает пристальное рассматривание картины то с ближнего, то с дальнего расстояния.
Но вернемся к фантазии отцеубийства Николая. Она вызывает в нем отвращение к своему собственному зачатию; он вспоминает, что его часто именовали отцовским «отродьем». Эти мысли приводят его к заключению, что «человек, как известно, есть слякоть, зашитая в кожу [...]. Преждевременно разложилась в нем [Николае] кровь [...], отгого-то он, видно, и вызывал отвращение» (332). В воображении Николая рождение и смерть сливаются в нечто единое, так как человеческая жизнь зарождается в генерирующей слизи и в слизь обратится, но вместо того, чтобы смириться с биологической закономерностью, Николай рассматривает начало жизненного цикла, свое зачатие, и его конец, смерть отца, как равно мерзкие11. Переживаемое им чувство стыда, родственное отвращению, связано с этими воспоминаниями. Барочный взгляд под
11 «Смерть [в смеховой культуре] входит в целое жизни как ее необходимый момент, как условие ее постоянного обновления и омоложения. Смерть здесь всегда соотнесена с рождением, могила — с рождающим лоном земли. ... в системе гротескной образности смерть и обновление неотделимы друг от друга в целом жизни, и это целое менее всего способно вызвать страх», Бахтин, 58.
Поэтика отвращения в «Петербурге» Андрея Белого
359
кожу, на склизкие внутренности, апеллирует к несформированно-му, эстетически отвратительному аспекту жизни; слизь («слякоть»), помещающаяся между твердой поверхностью и свободно движущимися жидкостями, растворяет жизнь. Однако она присутствует как физическая субстанция, которая занимает место в пространстве и медленно распространяется по поверхности, поглощая все на своем пути. И хотя воспоминания Николая стимулируют когнитивный отклик, в заключение проявляется отвращение, глубже других аффектов укоренившееся в пяти чувствах, поскольку оно постоянно порождается телом, а в психоаналитическом смысле — сексуальным беспокойством и сексуальной репрессией.
В «Бытии и ничто» Сартр описывает слизь (le visqueux) как промежуточное состояние, аморфное и, следовательно, аберрантное, отвратительное для взора, поскольку представляющее постоянную угрозу со стороны небытия. Сартр связывает слизь с женской природой и ее липкой, поглощающей сущностью, засасывающей в себя другого. Слизь, липкая, клейкая бесформенная масса, может связываться с категориальной скользкостью, состоянием, порождающим не только физическое, но и когнитивное отвращение, поскольку оно растворяет смысл12. В эстетическом отношении разложение формы и категориальная скользкость в «Петербурге» представляют модернистский вызов установленным изобразительным практикам, в особенности в случае Липпанчен-ко, самого скользкого и отталкивающего персонажа в романе. Его роль скользка в разных отношениях: политически он двойной агент, онтологически он лишает Дудкина смысла и веры в революцию.
Наиболее любопытные вспышки отвращения в связи со смертью в романе Белого ассоциируются с воображаемым приемом пищи. Липпанченко непосредственно связывает смерть и потребление пищи в обманчиво безобидном высказывании «смерть как хочется есть». Родство еды и смерти определяет характерный образ омерзительного рта, виртуально способного на поедание человеческой плоти, как у Гойи или у скульптуры в Летнем саду. Липпанченко, кроме того, обладатель самого отталкивающего тела в романе, тела как бы текучего, неоформленного. Он — то тень, то силуэт, то особа, бесформенная глыба и жирная спина; к нему применяются существительные в основном женского рода, проблематизирующие его пол; его тело превращается в мясо, в вязкую органическую слизь. Дудкин ассоциирует его с буквой «ы», которую он описывает как «что-то тупое и склизкое», связанное с безобразием.
12 J.-P. Sartre, Nausde, tr. Hazel Barnes. N.Y.: Washington Square Press, 1966, 772-778.
360
Ольга Матич
Владелец омерзительного рта, Липпанченко сам отвратительно съедобен: его губы «напоминали кусочки на ломтики нарезанной семги — не желто-красной, а маслянистой и желтой (семгу такую, наверное, ты едал на блинах в небогатом семействе)» (40). Эти губы не только до омерзенья рыбьи, но они и съедобны; отсылка к «ты едал» предлагает читателю еще и отведать губы Липпанченко. Съедобность Липпанченко быстро подавляется в тексте: его жирные шепчущие губы сюрреалистически уподобляются шуршащим муравьиным лапкам в развороченном муравейнике, что утверждает глубинную незавершенность (без-образность) его тела. Эти быстрые переходы, добавляющие монструозности его образу, напоминают функцию зигзага в изобразительной практике «Петербурга».
Ассоциация с рыбой связывает Липпанченко со зловещей «же-стянницей» из-под сардин, которую он приготовил для Сенатора. Ассоциация еды и смерти усугубляется тем, что сын Сенатора воображает, будто проглотил «жестянницу», несмотря на отвращение к «желтой слизи, в которой плавают сардинки»13. Если попытаться представить себе реакцию читателя на эти строки, то он, вполне вероятно, брезгливо дистанцируется от них, пытаясь при этом также извлечь смысл из изображаемого. В этой связи возникает вопрос, насколько читаемость образа, которая требует рационального подхода, ослабляет его эмоциональное воздействие. Я бы предположила, что дистанция усугубляет читательскую реакцию, добавляя к физическому отторжению культурньгй когнитивный слой, впитавший в себя результаты цивилизационного процесса.
Наиболее загадочное изображение съедобности Липпанченко — каннибалистическая фантазия Дудкина, в которой Липпанченко предстает «заливным поросёнком под хреном», — образ, впервые сформулированный в фантазии отцеубийства Николаем. Согласно Элиасу, «в ходе процесса цивилизации люди стремятся подавить в себе все черты, которые они считают “животными”. Аналогичным образом они подавляют эти черты и в своей пище», уничтожая все следы своего животного происхождения14. Белый в «Петербурге» делает прямо противоположное и тем усугубляет трансгрессивность своих эстетических установок.
13 Интересно процитировать здесь слова Белого об экспрессивной гиперболической поэтике Маяковского: «Поэма “Война и мир” — гипербола, разинувшая пасть на гиперболу Гоголя, чтобы, ее проглотив, на ее соках протуч-неть и пустить те сока в сокопроводы артерий: “во всех водопроводах сочилась рыжая жижа”; висят “тушами на штыках материки”», Белый, Мастерство Гоголя, М.: Гос. изд-во худож. лит., 1934, 312.
14 Elias, The Civilizing Process, 120.
Поэтика отвращения в «Петербурге» Андрея Белого
361
Мысленно обнажая плечи и спину Липпанченко, Дудкин представляет, как можно было бы разделать его в виде аппетитного кушанья, но кулинарная фантазия прерывается реальным тараканом, заставляющим Дудкина сплюнуть от отвращения. Жест плевка, обозначающий границу между внутренним и внешним, устраняет желание буквально (слюна, как и другие телесные выделения, вызывает отвращение)13 * 15. Затем кулинарная фантазия, в которой Липпанченко разделывается, как мясо, вызывает у Дудкина чувство ужаса: он представляет себе его жирную шею как безносое, безглазое лицо (буквальный пример безобразия) с разорванным, беззубым ртом. Как и в случае губ Липпанченко, напоминающих ломтики семги, фантазия и ее прекращение при появлении таракана осуществляют перформативную зигзагообразную функцию отвращения посредством чередования крупного плана и дистанцирования: в своем воображении Дудкин намеревается съесть Липпанченко, но таракан, расположенный по ту сторону фантазии, устраняет это желание. Движение отстранения в тексте часто сопровождается словами «фу, пакость». Читатель, ввергнутый в фантазию Дудкина, участвует в его двойной жестикуляционной (пространственной) игре, обладающей геометрической, зигзагообразной формой.
Образ Липпанченко в виде молочного поросенка материализуется в сцене, где Дудкин в конце концов совершает акт убийства, правда с помощью пародийных ножниц: «разрезается так белая безволосая кожа холодного поросенка под хреном» (386). По-видимому, он преодолел чувство отвращения, которое, согласно Миллеру, является эмоцией расслабляющей, приводящей к потере энергии и решимости к действию. Располагая читателя как зрителя непосредственно на «пороге омерзения», повествование здесь перформативно разыгрывает убой — убийство с кулинарными намерениями. Связь трупа с кушаньем предполагает еще более трансгрессивный акт — копрофагию. Даже море около дачи Липпанченко участвует в убийстве и поедании его тела: волны набегают на песок, как тонкие лезвия, «облизывают» его и затем откатываются, как если бы они имитировали откатное движение отпрянувшего во время акта убийства тела Липпанченко и ответное движение читателя. Рухнув на кровать, Липпанченко осознает («он понял»), что его спина и живот были вспороты; отшатывание, таким образом, помогает осмыслить (прочитать) ситуацию не только читателю, но и самому герою.
13 Теоретики отвращения утверждают, что его главный компонент — тош-
нотворность. Согласно Марте Нуссбаум, тошнота — классическое выражение отвращения, вызванное «гадкими запахами и предметами омерзительного
вида», Nussbaum, Upheavals of Thought, 20.
362
Ольга Матич
На следующий день мы видим Дудкина сидящим верхом на голом трупе Липпанченко, с простертой рукой, тогда как по лицу Дудкина — «через нос, по губам — уползало пятно таракана» (386), как будто и он стал трупом. Эта гротескная картина наводит на мысль о Медном всаднике Фальконе, genius loci Петербурга, превратившиеся в образ умирающего и разлагающегося города. Это tableau vivant воплощает гротескную эстетику романа, здесь представленную вторжением паразитов и гниения в скульптурный символ и гений места города. Фигура Медного всадника с ее классическими эстетическими пропорциями превращается в средоточие декадентско-барочной избыточности, а сам всадник становится воплощением сумасшествия и физического разложения, наводнивших столицу империи.
Мотив мяса и превращение Липпанченко в кусок мяса усиливается еще и тем, что его жена носит фамилию Флейш (т.е. «мясо» по-немецки). Принюхиваясь к аппетитному жаркому, которое готовит его жена, Липпанченко объявляет, что проголодался и произносит ранее цитированное «Смерть как хочется есть...» (281), невольно предвосхищая предстоящую расправу Дудкина над собой. В конце этой сцены он приглашает Дудкина на обед, приготовленный госпожой Флейш.
Как объясняется кулинарная метафора и гротескное сочетание еды со смертью, подсказывающее Дудкину его преступное намерение? Как следует понимать роль «поварихи» — жены Липпанченко, которая, в известном смысле, готовит и подает своего мужа к столу как деликатес? И как интерпретировать изображение Липпанченко в виде опасного зверя, сырого мяса, аппетитного блюда из свинины, а его губ в виде «кусочков на ломтики нарезанной семги», сочетающихся с омерзительными образами насекомых? Несомненно, этот ряд образов, который предполагает поглощение продуктов моральной и телесной гнили, включая отвратительно съедобный труп, напоминает нам о нашей собственной смерти, от которой мы с отвращением отшатываемся. Насекомые-паразиты символизируют моральную и психологическую порчу и последующее превращение тела Липпанченко в труп «с висящей челюстью», который естественным порядком превратится в склизкое органическое вещество. Другими словами, жизнь в романе Белого переживает тот устрашающий конец Петербурга, что был предсказан его апокалиптическим мифом, и смерть в нем принимает вызывающе гротескно-декадентские формы, превращающие аполлини-ческий город в локус отвращения, в котором нарушаются все человеческие нормы с целью создания шокирующей новой изобразительности.
Поэтика отвращения в «Петербурге» Андрея Белого
363
Так, в момент своего первого появления в романе Липпанченко изображается как «некая гадкая слизь», которая попадает Дудкину за шиворот и стекает по спине. По словам Белого, человек — всего лишь «небольшой комок слизи», на протяжении всей истории преследуемый исконным хаосом16. Этот образ предполагает, что наружность, гладкая поверхность тела — это всего лишь прикрытие склизкой сущности, отсылающее к барочной эстетике гротескных противоположностей: тело лишь обманчивая внешность; человек выходит из слизи и возвращается в слизь; таким образом, стирается граница между жизнью и смертью, эта самая сакральная когнитивная и экзистенциальная граница.
Затем образ Липпанченко видоизменяется в наречие «вдруг», краеугольный камень временного аспекта барочной эстетики, основной категорией которой является неожиданность. Одно из самых поразительных мест романа представляет собой длинное рассуждение о «вдруг», в котором на первый план выходят его животная природа и ненасытный аппетит:
Иногда [...] чуждое “вдруг” поглядит на тебя из-за плеч собеседника, пожелая снюхаться с “вдруг” твоим собственным. [...] Твое [же] “вдруг” кормится твоею мозговою игрою; гнусности твои пожирает охотно; распухает оно, таешь ты, как свеча; если гнусны твои мысли [...] то “вдруг”, обожравшись [...] как откормленный, но невидимый пес, всюду тебе начинает предшествовать (39).
Белый наделяет это наречие отталкивающим собачьим телом и снова обращается к пожиранию, на сей раз адресуясь к читателю (твое «вдруг»), делая его соучастником отвратительных действий «вдруг». Субстантивированное наречие, которое «кормится твоею мозговой игрою», предлагает читателю отождествить себя со своей собственной отвратительной животной сущностью17. Действие подчеркивается грамматически: субстантивированное наречие воплощает метаморфозу на уровне языка тем, что футуристы называли «сдвигом», тропом, подрывающим основы традиционной репрезентации. Подчеркиваемая на протяжении всей главы связь «вдруг» с Липпанченко и с читателем относится к определенному моменту времени, однако наречие приобретает омерзительное пространственное измерение: вдруг «распухает», пожирая гнусные мысли.
16 М. Ljunggren, The Dream of Rebirth: A Study of Andrej Belyj’s Novel Peterburg, Stockholm: Almqvist, Wiskell, 1982, 27.
17 Подробнее о «вдруп> и «мозговой игре» см. Matich, «Backs, Suddenlys, and Surveillance in Andrej Belyj’s Petersburg», Russian Literature (Special Issue: Andrej Bely — On the Occasion of His 125th Birthday) 58:1—2 (2005).
364
Ольга Матич
Более того, само пожирание, ассоциируемое с «вдруг», вызывает постоянно присутствующий в романе образ Сатурна/Кроноса. Связь между этим наречием и Аполлоном Аполлоновичем как Сатурном устанавливается несколькими страницам ранее; вопрос, кто кого пожрет, — отцы детей или же дети отцов, — ключевой вопрос «Петербурга». Нарративная потенция «вдруг», связанная с Липпанченко, и его метафорическая потенция слияния времени и пространства становятся характеристиками романного пространства будущего убийства, о котором нам периодически напоминает тикающая бомба с часовым механизмом.
Но если мы рассмотрим преобразование Липпанченко в бесформенное органическое вещество, из которого он первоначально возникает, то обнаружим в романе связь не только между смертью и пищей, но и между смертью, пищей и сексом. Ассоциация Липпанченко со слизистой жидкостью, стекающей по спине Дудкина, и образ обнюхивающих друг друга собак намекают на их гомосексуальную связь, вызывающую у Белого однозначно гомофобские чувства18. Гомосексуальный подтекст подтверждается позже участием молодого анархиста в отвратительном акте с участием Липпанченко в Гельсингфорсе, который привел к нервному расстройству Дудкина и породил в нем замысел политического убийства. Хотя Белый и устранил описание отвратительного акта из окончательной версии романа, из его черновиков мы знаем, что этот акт заключался в «целовании зада Козлу и топтанье креста» (676, примечание). Этот таинственный акт, который повторен несколько раз курсивом в ключевой сцене романа, является источником отчаяния Дудкина19. Впрочем, все сексуальные акты в «Петербурге» вызывают чрезвычайное омерзение — эмоции, которая в психоанализе ассоциируется с сексуальной репрессией. Вот как Николай воображает свое собственное зачатие: «[он] представил себе [...] Аполлона Аполлоновича в момент исполнения супружеских отношений к матери [...] и с новой силой почувствовал знакомую тошноту»20.
18 Насколько мне известно, Магнус Люнггрен первым обратил внимание на гомосексуальные мотивы в «Петербурге»: см. его The Dream of Rebirth...
19 В сцене убийства Дудкин, продвигающийся к окну Липпанченко, обретает шишковидную форму (головастая, безлобая шишка) - образ, имеющий сексуальные коннотации, особенно если мы вспомним фигуру Дудкина, сидящего верхом на трупе.
20 Николай считает себя «постыдным отродьем» своего отца. Так же, как и Николай, Кафка выражал отвращение по поводу своего собственного зачатия. Он пишет в письме, что вид кровати, на которой он был зачат, «способен вывернуть его желудок наружу», как будто он был «неразрывно связан с этими мерзостями; что-то все еще липнет к ногам, когда они стараются освободиться, они завязли в исконной слизи», цит. по Menninghaus, Disgust, 243 244.
Поэтика отвращения в «Петербурге» Андрея Белого
365
А вот как он осмысляет близость с отцом: «Неизъяснимую близость Николай Аполлонович ощущал как позорный физиологический акт; в ту минуту мог бы он отнестись к выделению всяческой родственности, как к естественному выделению организма: выделения эти ни не любят, ни любят: ими — брезгуют» (109). Именно такого рода тошноту Сартр впоследствии будет связывать с экзистенциальной тревогой и тем растворением смысла, которое в сознании и Николая, и Дудкина связано с сексуальным желанием. Этот образ манифестирует нарушение телесных границ и герметичности тела, являющееся одним из первичных источников чувства омерзения и в конечном счете причиной смерти21.
Особенно яркий пример ассоциации между смертью, вязкостью, пищей и сексом дан в описании Невского проспекта, в котором толпа превращается в вязкую отвратительную бесформенную массу, нарушающую все телесные границы. Как вариация на пародирующее бюрократический стиль введение «Пролога» («Что есть Русская Империя наша?»), описание Невского открывается словами «Что такое икринка?» и разворачивается как смехотворное обсуждение столь же смехотворного вопроса, превращающее Дудкина в икринку, которую вышвыривают в липкую, сочащуюся толпу:
Что такое икринка? Она есть и мир и объект потребления; как объект потребления икринка не представляет собой удовлетворяющей цельности; таковая цельность — икра: совокупность икринок; потребитель не знает икринок; но он знает икру, то есть гущу икринок, намазанных на поданном бутерброде. Так вот тело влетающих на панель индивидуумов превращается на Невском проспекте в орган общего тела, в икринку икры: тротуары Невского — бутербродное поле. То же стало и с телом сюда влетевшего Дудкина (256).
Пародируя философский дискурс, рассуждение переходит в сознательное провоцирование читательского отвращения введением съедобности в образ «человеческой текущей гущи». И вновь в образе икроподобной толпы нужно отметить каннибалистские коннотации: в воображении повествователя население тротуара превращается в деликатес — бутерброд с икрой. Не один человек становится съедобным, но все идущие по тротуару. И подобно сравнению губ Липпанченко с рыбой, каннибалистическая метафора толпы также обладает чертами чего-то рыбного и мягкого. Разве что в случае со съедобной толпой аппетит повествователя —
21 Аполлон Аполлонович вспоминает свою первую ночь с Анной Петровной как изнасилование и отвратительный «акт».
366
Ольга Матич
как у Кроноса — достигает небывалых пропорций, и этот гротескный образ конца «Петербурга» становится достойным и пера Рабле, и анализа Бахтина.
Петербург Белого — умирающий город, архитектурная красота которого подлежит разложению. В соответствии с барочной эстетикой, в этом образе сополагаются жизнь и смерть и выявляется их неумолимая связь: рыбные яйца (икринки) вводят зачатие и деторождение в комически-отвратительное изображение толпы на Невском. По словам Миллера в «Анатомии отвратительного», «отжившее и живое объединяются в органическом мире генерирующей гнили — мощной, зловонной, мерзкой на ощупь. Вязкая грязь, мерзкая тина — из этого супа происходит жизнь. Само плодородие, склизкое, мутное, кишмя кишащее биологическими формами, спонтанно происходит на свет из омерзительной гущи»22. Описание Миллера на глубинном уровне сродни идеям Соловьева и его последователей, но не Бахтина, по мнению которого, в сме-ховой культуре смерть является необходимым и радостным условием для возобновления жизни.
Изображение Невского в виде бутерброда с икрой, несмотря на комичность, содержит не только тривиальную мысль, что «человек есть то, что он ест», но и что мы поедаем самих себя: мы приходим в мир в виде икринок, чтобы, объединясь с себе подобными икринками, пожирать себе подобных, как Сатурн — своего сына. Рассуждение об икринке отсылает нас к пьяному выяснению истины посетителями зловонного трактира в начале романа. На вопрос «что есть истина?» (пародия на Пилата) кто-то отвечает: «Истина — ес-тина», имея в виду, что истина — в свинье, которую посетители трактира поедают и с которой они друг друга сравнивают. Трактирный каламбур, таким образом, не только уничтожает цивилизационную дистанцию между животным и человеком, но и превращает человека в съедобный объект для потребления человеком же, посягая таким образом на самое запретное табу.
Аверсивные чувства всегда связывались с телесными отверстиями (ртом, носом, ушами, гениталиями и анусом) и открытыми ранами как искусственными отверстиями, созданными насильственно. Через них внешний мир в виде болезней и морального разложения проникает в физическое и нравственное тело и заражает его. Рот в «Петербурге» — это не только отверстие, поглощающее тошнотворную пищу, но и путь к анусу, самой нечистой части тела. Аполлон Аполлонович, страдающий несварением желудка, проводит много времени в туалете, частном пространстве, связывающем поглощение пищи и ее исторжение. Повествователь
22 W. Miller, The Anatomy of Disgust, Cambridge, Mass.: Harvard UP, 1997, 40—41.
Поэтика отвращения в «Петербурге» Андрея Белого
367
называет туалет тем «ни с чем не сравнимым местом», которое Сенатор считает своим убежищем и где он запирается после взрыва бомбы. Снова отодвигая порог омерзения, Белый заставляет его опорожнить кишечник в постели во время приступа диареи, изобразив это в виде ванны, до краев полной вонючих экскрементов, которые повествователь сравнивает с жидким навозом и плещущимся в нем отвратительным бегемотом. Комическое уподобление маленького Сенатора огромному толстому животному предполагает объем экскрементов в раблезианских размерах.
Однако рот и анус связаны также и с однополым влечением, которое является скрытым подтекстом желания в романе. Я уже говорила о гомосексуальной подоплеке взаимоотношений Дудкина с Липпанченко, которая связывает рот с темным отверстием заднего прохода. Сотрудник Липпанченко и двойной агент Морковин, человек с разинутым ртом и каннибалистским влечением, во время поедания омерзительной пищи в грязном кабаке целует Николая в губы влажным поцелуем, чем вызывает у того крайнее отвращение. Описание рта обоих объединяет пищу и секс с однополым влечением23.
Вероятно, самое омерзительное изображение рта Липпанченко дано в сюрреалистической фантазии Дудкина: «Вдруг великой улыбкой повыдавилась — меж спиной и затылком жировая шейная складка: [...] и представилась шея лицом; точно в кресле засело чудовище с безносой, безглазою харею; и представилась шейная складка — беззубо разорванным ртом» (277). Образ разорванного рта — одновременно и рта, и раны, — как я уже отмечала, переместился и наложился на жирную шею Липпанченко. Реакция Дудкина предсказуема — он отшатывается. Самое сильное чувство отвращения по отношению к однополому половому акту (хотя и не прямому, так как образ «целования зада Козлу» вытесняется) он испытывает во время мистического посещения его мансарды загадочным «Шишнарфне», тело которого переменчиво до крайности и текуче:
он увидел бы себя самого, ухватившегося за живот и с надсадой горланящего в абсолютную пустоту [...] вся закинулась его
23 «В белых клубах из кухни валившего смрада стоял Николай Аполлонович — бледный, белый и бешеный, разорвавший без всякого смеха красный свой рот, в ореоле из льняно-туманной шапки светлейших волос своих; как оскаленный зверь, затравленный гончими, он презрительно обернулся к Морковину», 212. Зияющий рот, обрамленный клубами смрада — пищи и (по ассоциации) трупной вони, — превращается в оскал, связывающий Николая с животной природой. Перед поцелуем Морковин подставляет «открытое ротовое отверстие Николаю Аполлоновичу, как какой людоед, собиравшийся Аб-леухова проглотить», 203—204.
368
Ольга Матич
голова, а громадное отверстие орущего рта ему показалось бы черною, небытийственной бездной; [...] «А тогда: после акта», — оглушительно разорвался его рот; и, разорвавшись, сомкнулся. Тут внезапно пред Александром Ивановичем разверзлась завеса: все он вспомнил отчетливо... Этот сон в Гельсингфорсе [...] из него перли ревы [...] И понял он: «Шишнарфне» [...]. Это было словом знакомым, произнесенным им при свершении акта\ только сонно знакомое слово то надо было вывернуть наизнанку. И в припадке невольного страха он силился выкрикнуть: «Енфраншиш». [...] из-за запертой двери угрожающе прогремел голос, только что перед тем гремевший из горла: — «Да, да, да... Это — я... Я — гублю без возврата...» (298—299).
Библейский образ зияющей разверстой завесы, метафоризиру-ющий возвращение в подавленные воспоминания Дудкина, дублирует образ разорванного, раненого рта, который разверзается в темную бездну. Внезапно он вспоминает, что во время «акта» у него вырвалось слово «Енфраншиш», загадочный палиндром, который он опознает как «Шишнарфне», вывернутое наизнанку, и которого он назовет «своей изнанкой». Одно из значений слова «шиш», соответственно первого и последнего слогов Шишнарфне/Енфран-шиш — обеденный жест (большой палец между указательным и средним), и если вернуться к телесным отверстиям, через которые в тело проникают физические и моральные опасности, то именно таков его ночной гость. Он является связующим звеном с однополым «актом», который состоялся между Дудкиным и Липпанченко, а ассоциация между разорванным ревущим ртом Дудкина и барочным палиндромом — словесной инверсией — предполагает инвертированное желание24. Если сформулировать эту связь анатомически, то рот — это начало трубы, а анус — ее конец, или, как пишет Миллер, «врата, которые защищают неприкосновенность, автономию мужчины»25.
Если мы вернемся к изображению рта Дудкина во время этого визита, то увидим, что он кричит («ревет»), а это предполагает
24 Первый намек на гомосексуальное желание Дудкина мы получаем во
время его первой встречи с Николаем, когда он признается Николаю, что никогда не любил женщину и что с Гельсингфорса у него появилось похотливое желание к фетишам: женским частям тела и предметам одежды, например чулкам. Он говорит также Аблеухову, что его любили мужчины, — Аблеухов понимает под этим Липпанченко. Иными словами, Дудкин представляет себя фетишистом, что в начале XX века связывалось с однополым желанием. Однако в разговоре о Шишнарфне он говорит только о здоровом поклонении фетишу, особенно у сатанистов, снова намекая на подавленное целование зада козлу и топтание креста.
25 Miller, The Anatomy of Disgust, 98—100.
Поэтика отвращения в «Петербурге» Андрея Белого
369
несколько иное чувство, чем отвращение. Душераздирающий крик выражает стыд и глубокую экзистенциальную тревогу26, напоминая о знаменитой протоэкспрессионистской картине Эдварда Мунка Крик (1893). Белый назвал свой доклад «Трагедия искусства Достоевского» в Религиозно-философском обществе в 1910 году «воплем о моей ситуации»27. То же можно сказать и о его новаторском романе. Картина Мунка, как и вопль Дудкина, изображает тревогу, от которой невозможно избавиться. Вот как художник описывает источник Крика'.
Я шел по дороге с двумя друзьями. Солнце село. Я почувствовал легкий приступ меланхолии. Внезапно небо стало кроваво-красным. Я остановился, привалился к ограждению, совершенно без сил, и посмотрел на пылающие облака, которые висели, как кровь и меч, над иссиня-черным фьордом и городом. Мои друзья пошли дальше. А я стоял там, дрожа от страха. И я почувствовал громкий, бесконечный крик, пронзающий природу28.
Эдипово желание Николая изображается подобным образом в одной из многочисленных сцен, где сын противопоставляется отцу: он видит отражение солнца на том месте лестницы, где только что оступился Аполлон Аполлонович, как яркие пурпуровые пятна, напоминающие ему кровь; искаженный рот сына ширится на зарю, а сам Николай превращается в столб дымящейся крови, который танцует в воздухе и приземляется на окружающие предметы в аб-леуховском особняке.
Изображение Николая Аполлоновича в рисунке Белого напоминает полотно Мунка, хотя рот Николая закрыт и, по справедливому замечанию Н. А. Кайдаловой, скорее напоминает знаменитый портрет Александра Блока кисти Константина Сомова (1907)29. И
26 Подобные чувства вызывает у нас преображение гротескного тела Дудкина в следующей сцене, где Медный всадник вливает расплавленный металл в вены Дудкина: «металлами пролился в его жилы», 307. Подобно другим персонажам романа, Медный всадник склонен к метаморфозам, меняет очертания и принимает различные формы.
27 Ljunggren, 14.
28 Цит. по: V. Rumble, «The Scandinavian Conscience: Kierkegaard, Ibsen, and Munch», Edvard Munch: Psyche, Symbol and Expression, ed. J. Howe, Univ, of Chicago Press, 2001, 27. В «Философии искусства» Шопенгауэр утверждает, что искусство не в состоянии выразительно воспроизвести крик. Как и Мунк, Белый доказал его неправоту, обратившись к символистской синестезии, в данном случае к синтезу цвета и звука.
29 Н. Кайдалова, «Рисунки Андрея Белого», Андрей Белый: проблемы творчества, М.: Советский писатель, 1988, 599.
370
Ольга Матич
Э. Мунк, Крик. Литография (1895). Музей Мунка, Осло
А. Белый, Николай Аполлонович Аблеухов. Ил. к роману «Петербург».
Сер. 1910-х годов. ГЛМ
всё же выразительная извивающаяся форма Николая и широкие штрихи, которыми выполнен фон на рисунке Белого, не могут не напомнить о «Крике» Мунка, особенно о литографической чёрнобелой версии. Тревога нарисованного Белым образа и общая атмосфера рисунка, несомненно, напоминают экспрессионистский стиль Мунка.
Мне пока не удалось установить, знал ли Белый работу Мунка, которая часто выставлялась в начале прошлого века. С 1909 года «Крик» находится в Национальной галерее в Осло. Белый ездил в Норвегию в 1913 году, где посещал лекции Рудольфа Штейнера, столь фундаментально повлиявшие на «Петербург». Ранее он по-
Поэтика отвращения в «Петербурге» Андрея Белого
371
К. Сомов. Портрет А Блока (1907). Третьяковская галерея, Москва
знакомился с Пшибышевским в Мюнхене, близким другом и почитателем Мунка, сыгравшим важную роль в создании первой монографии, посвященной художнику (1894)30. Мы знаем, что Белый много читал Пшибышевского и написал о нём в 1908 году статью, в которой он описывает отчаянных героев польского декадента бросающими в бездну свой ревущий хохот31. Пшибышевский же включил «Крик» Мунка в первый том своего романа «Homo Sapiens», «Uber Bord» (с которым Белый был знаком), где художник Микита изображает закат как «тысячу разинутых ртов в небе, выкрикивающих цвет (реки крови в форме темно-красных полос) в
30 Белый часто бывал в кафе Simplicissimus в Мюнхене, где собирались представители направления Secession, близкого Мунку.
31 Белый, «Пророк безличия», Арабески: критика, эстетика, теория символизма, под рсд. А. Казина, М.: Искусство, 1994, т. II.
УП
Ольга Матич
мир»32. Если не само полотно, то это описание могло стать одним из источников неоднократного рева в «Петербурге».
Таким образом, зияющий рот в романе характеризует образ не только Дудкина, но и Николая, и связан он с чувством тревоги, а не только отвращения33; проведение границы между отвращением и экзистенциальным отчаянием является исключительно субъективным решением. Однако для моей интерпретации «Петербурга» существенно, что этот текст предлагает читателю множество порогов трансгрессивное™ — не только отвращение, смешанное со стыдом, ужасом и отчаянием, но и шокирующую репрезентацию и новаторскую литературную форму, восхищающую читателя. Таким образом, можно утверждать, что двигатель изобразительного новаторства Белого находился в сфере аверсивных эмоций, в особенности в чувстве отвращения.
Единственный образ кричащего разорванного рта в романе, который выражает только отчаяние, — это рот благородной кариатиды, рев которой становится пророческим. Белый превращает мускулистую бородатую кариатиду в образ оракула, отверзающего свою ротовую полость и извергающего пророческий рев грядущего разрушения: «Распрямились бы мускулистые руки на взлетевших над каменной головою локтях: и резцом иссеченное темя рванулось бы бешено; в гулком реве, в протяжно-отчаянном реве, — разорвался бы рот; ты сказал бы: “То рев урагана” (так ревели черные тысячи картузов городских громил на погромах)» (265). Здесь Белый изображает рев отчаявшейся кариатиды, которая долгое время со своей возвышенной позиции высоко над толпой наблюдала неизменную, невежественную, недостойную человеческую многоножку. Кариатида предвещает физическое разрушение, пророчит вихрь надвигающейся революции и надвигающегося конца петербургского текста в русской литературе и конца самого города.
В противоположность эллинистическому Лаокоону, который, как утверждает в одноименном трактате Лессинг, выражает боль и страдание благородно (по Лессингу, его челюсти сжаты), Кариатида своим зияющим ртом нарушает классический «закон о красоте»34.
32 Цит. по: R. Stang, Edvard Munch: The Man and His Art, tr. G. Culverwell, N.Y.: Abbeville Press, 1977, 90. Роман «Homo Sapiens» был очень популярен в России. Один из последних романов Пшибышевского назван «Крик» («Krzyk», 1917; «Der Schrei», 1918). Герой романа, художник, пытается изобразить крик, но сомневается в своей способности передать всю его эмоциональную мощь.
33 Испуганный, в извивающейся позе, изображенный на рисунке Белого Николай показан с открытым «самым неприятным образом» ртом за чтением письма, из которого он узнает о своей роли в заговоре с целью убийства отца.
34 Lessing, Laocoon: An Essay on the Limits of Painting and Poetry, ed. E. McCormick, Baltimore: Johns Hopkins UP, 1984, 7—8. Аналогичные взгляды на эстетику высказывались Кантом, писавшим, что единственный тип уродства, ко
Поэтика отвращения в «Петербурге» Андрея Белого
373
Лаокоон и сыновья (ок. I века н.э.). Приписывается Агезавдру, Полидору, Афинодору. Ватиканский музей, Рим.
Она издает характерный для барочной и модернистской избыточности отчаяный рев, который исключает возможность рациональной речи и поэтому несовместим с классицистской эстетикой Лессинга. Отвращение становится предметом изображения в барочной, романтической и модернистской эстетике благодаря не только своему омерзительному, но и морбидно декадентсткому аспекту. Не только отвратительное, но и избыточное в широком смысле становится важным локусом репрезентации в «Петербурге», где мотив разорванного зиящего рта, искаженного болью и/или словесно несвязным пророчеством, совмещается со сферой барочного ужаса, смешанного с отвращением. Именно этот метаморфизирующийся образ представляет изнанку прекрасной столицы.
торый нельзя изобразить в соответствии с природой без полного уничтожения артистической красоты и эстетического удовольствия, — это уродство, вызывающее отвращение; Критика способности суждения, кн. 2, гл. 48. См. обсуждение у Menninghaus, Disgust, 103—127.
374
Ольга Матич
Кариатида (как и Медный всадник, связанный в романе с насилием, смертью и разложением) предвещает смерть и разрушение в барочном ключе — разорванным зияющим ртом.
Белый прибегает к образу зияющей ротовой полости и за пределами романа. Он описывает лицо Владимира Соловьева с «большим, словно разорванным ртом, с выпяченной губой». Это изображение ассоциируется с образом кровоточащей раны и таким образом перекликается с темой отвратительного. Но при этом рот философа у Белого также исполняет функцию оракула: из него издаются «глаголы пророка»35. Столь же амбивалентным является описание у Белого часто упоминаемого в литературе тика Николая Бердяева: «Разрывался тогда его красный рот; блистали в отверстии рта, на мгновение ставшего пастью, кусаяся, зубы его; голова ж начинала писать запятые; и наконец, оторвавшись руками от кресла, сжимал истерически пальцы под разорвавшимся ртом, чтобы спрятать язык»36. Обретя вновь дар слова, пишет Белый, Бердяев как бы вступает в спор на тему познания с богом-Огцом. Другими словами, как и в случае с Соловьевым, Белый наделяет искалеченный рот Бердяева профетической силой, хотя и с долей иронии.
В соответствии с барочной, романтической и модернистской эстетикой Белый помещает отвратительное в контекст более широких представлений о правде и возвышенном, по отношению к которым отвратительное является оборотной стороной — изнанкой. Рот служит двойной цели: он является проводником силы философского или пророческого языка и, в силу своей непосредственной связи с пищеварительным трактом, источником отвращения. Представляется, что на эмоциональном и эстетическом уровне возвышенное, или величественное, и отвратительное связаны тем, что вызывают у читателя ужас: и то и другое одновременно притягивают и отталкивают читателя или зрителя.
Бахтин в своей работе о гротеске предлагает иную трактовку зияющего рта, который он ассоциирует с гротескным лицом: оно «сводится, в сущности, к зияющему рту, — все остальное только обрамление для этого рта, для этой зияющей и поглощающей телесной бездны»37. Далее Бахтин пишет, что «гротескное тело не ограничено от остального мира, не замкнуто, не завершенно, не готово, перерастает себя самого, выходит за свои пределы»38. Ины
35 Белый, «О Владимире Соловьеве», Арабески, 350. В той же статье Белый отмечает хриплый демонический смех Соловьева, исходящий из его разорванного рта.
36 Белый, Между двух революций, под ред. А. Лаврова, М.: Худож. лит., 1990, 416-417.
37 Бахтин, 343.
38 Там же, 31.
Поэтика отвращения в «Петербурге» Андрея Белого
375
ми словами, оно бесформенно и аморфно. Именно так можно охарактеризовать изображение Белым Липпанченко и призрачной эманации Дудкина — Шишнарфне. Бахтин, как и позднейшие теоретики отвращения, утверждает, что основными характеристиками гротескного тела являются «отверстия и выпуклости» и что оно растет «при таких актах, как совокупление, беременность, роды, агония, еда, питье, испражнение», и в этом проявляется постоянная изменчивость тела39. Однако, по Бахтину, зиящий рот и гротескное тело — это позитивные, радостные понятия, как и природный цикл рождения и смерти. Как и в романе Белого, зияющая бездна у Бахтина, скорее всего, вызывает образ хаоса, который на греческом ее и означает. У Белого образ бездны предполагает отверстие, порождающее пророческие слова и крики боли. Эго, безусловно, соответствует его описанию Соловьева и Бердяева, а также кариатиды и Дудкина в «Петербурге».
Рассматривая «Петербург» с точки зрения отвращения, можно констатировать, что он является крайне человеконенавистническим романом. Но действительно ли в этом его суть? Исследователи утверждают нормативную нравственную роль отвращения, защищающего нормативные иерархические границы — между жизнью и смертью, возвышенным и низменным, человеком и животным, «я» и другим, мужским и женским, гетеросексуальным и гомосексуальным. В каждой паре реакция отвращения укрепляет первый член оппозиции в его противостоянии другому40. В нормативном отношении чувство отвращения защищает человека не только от низкого и от смерти, но также и от женской угрозы и однополого эроса, реализуя женоненавистничество и гомофобию. Как утверждают Марта Нуссбаум41 и Спэнн Нгай42, в основе отвращения лежит нетерпимость к посягательству на моральные устои, учрежденные обществом43. В «Петербурге» большинство этих гра
39 Там же, 32.
40 Nussbaum, Upheavals of Thought, 625.
41 Nussbaum, Hiding from Humanity: Disgust, Shame, and the Law, Princeton UP, 2004.
42 S. Ngai, Ugly Feelings, Cambridge, Mass.: Harvard UP, 2005.
43 Следует отметить, что взгляды Нуссбаум и Нгай на отвращение в значительной мере отличаются от позиции Элиаса, исследовавшего более ранние периоды европейской истории и для которого чувство омерзения обусловлено «процессом цивилизации». Хотя, как и Элиас, Нуссбаум работает в традициях либерального гуманизма, ее труды направлены в основном на современное американское общество, в особенности на проблематику дискриминации маргинальных сообществ. Она видит в отвращении консервативную эмоцию, которая, по ее мнению, в силу своей консервативности не располагает легитимностью для учреждения норм, например, в сфере гендера и расы.
376
Ольга Матич
ниц оказываются под угрозой, а в некоторых случаях растворяются друг в друге.
Персонажи Белого делятся на тех, кто сам крайне отвратителен, и тех, кто, демонстрируя отвратительное поведение, часто и сам охвачен отвращением и сопутствующими ему чувствами ужаса и стыда. В случае Дудкина и Николая Аполлоновича эти эмоции мотивированы нарушением ими же (то есть Белым) установленных персональных нравственных границ: Дудкин испытывает стыд и ужас в отношении «акта», который он осуществил с Липпанченко; Николай ужасается своему эдипову желанию и сексуальному желанию в целом. Хотя отвращение и устанавливает нравственные границы вокруг отцеубийства, убийства и других форм насилия, оно, однако, не приводит к восстановлению нравственного порядка в романе. Ведь в конечном итоге это пассивная эмоция, которая заключается в отстранении от объекта, а не в действии.
Я сознательно избегаю в этом анализе разговора о сатирическом аспекте «Петербурга», чтобы подчеркнуть его эмоциональную и противоречивую нравственную ауру и эстетическую трансгрес-сивность. Это не означает, что я хочу умалить значение мрачного смеха, вызываемого этим гротескным романом. Цель моего исследования — выявление аффективного ужаса и разложения формы в «Петербурге», которые сами по себе не вызывают смеха. Ведь слизь — это субстанция ужаса, которая, по словам Роберта Р. Уилсона, «слишком страшна, чтобы смотреть, и слишком неотразима, чтобы не замечать»44. Кроме того, в отличие от слизи, которая определенно ползуче-пространственна, смех лишен пространственного измерения.
Остается рассмотреть «Петербург» в контексте декадентского мировозрения на рубеже веков, отмеченного эстетизацией смерти и ее соотношением с эросом. Один из самых шокирующих примеров декадентской репрезентации смерти дан в стихотворении Бодлера «Падаль» («Une charogne), эстетизирующем будущее разложение трупа любимой женщины. Белый хорошо знал это стихотворение, которое перевел его друг Эллис в 1908 году45. Его можно
44 R. Wilson, The Hydra s Tale: Imagining Disgust, Edmonton: Univ, of Alberta Press, 2002, 66.
45 В «Начале века» Белый иронизирует над отношениями Эллиса с какой-то дамой, отмечая, что их отношения расстроились на почве «разговоров о “Падали” Бодлера». Белый утверждает, что Эллис называл быт падалью. Там же он передает слова Эллиса о рассказе, который тот собирался написать: «Рассказ напишу про беднягу, у которого в голове кавардак; он ... сунет нос в книгу, а книжные строки расстраиваются. ... Буквы считывает; уткнется в страницу: и всё — расползается; строчки червями ползут на руку; ползут клопами в кресло; они — кусаются; в книге — белое место; вдруг “ща” скорпиоником
Поэтика отвращения в «Петербурге» Андрея Белого 377
сопоставить с романным кругом жизни Липпанченко, завершающимся распадом его гротескного тела до состояния той самой слизи, которая стекает по спине Дудкина в начале романа. Поэтику отвращения в «Петербурге» также можно сравнить, хотя и с некоторыми оговорками, с инстинктами жизни и смерти, или Эроса и Танатоса, разработанными Фрейдом, теория которого выросла на декадентской почве* 46. Согласно поздним сочинениям Фрейда, «процесс цивилизации» развивается в борьбе жизнеутверждающего Эроса с Танатосом, инстинктивным желанием вернуться к первозданному неорганическому состоянию. Роман Белого — о победе инстинкта смерти, характерной для декадентского мировоззрения, но, в отличие от Фрейда, смерть у Белого ведет не к неорганическому состоянию, а к растворению тела в первородной слизи. Соотношение жизни и смерти в «Петербурге» напоминает идеи Соловьева об Эросе как союзнике Танатоса в самовозрождающемся жизненном цикле, идее, во многом сформировавшей взгляды Белого. Парадоксальная эротическая утопия Соловьева в «Смысле любви» призывала к воздержанию как единственно возможному орудию против проникнутого смертным началом естественного цикла рождения и смерти, преодолеть который и стремился его утопический проект47.
«Петербург», однако, не утопический текст. Как раз наоборот. Повествование в нем полностью подчиняется Танатосу — в декадентском смысле, но как локусу не прекрасного трупа, а его гротескного разложения, как у Бодлера. Структурно роман построен на повторениях на всех уровнях — что в психоанализе известно как принуждение к повторению (Wiederholungzwang), которое, согласно Фрейду, управляет инстинктом смерти (хотя, на мой взгляд, тот
переползает по томику». «Фу, гадость какая!» — отвечает Белый (Белый, Начало века, 59—60). В этом пассаже мне видится метаописание изобразительной практики самого Белого в «Петербурге». Главка об Эллисе в «Начале века» изобилует мотивами, которые потом попали в роман, например: паршивенький трактир, в котором музыкальная машина «бабацает» «Сон негра» (как и в трактире, где встречаются Липпанченко и Дудкин); двойничество как отношение между «субъектом» и его тенью или контуром; Эллис, страдающий расстройством желудка (как и Аполлон Аполлонович) и кошмарами (как Дудкин и оба Аблеухова); у него толпятся «нелегальные» и члены разных боевых организаций; Эллис сам отсидел в тюрьме (как Дудкин). В главке обсуждаются отношения двойничества.
46 О Фрейде как декадентском мыслителе см. Ch. Bernheimer, «Freud’s Decadence», Decadent Subjects: The Idea of Decadence in Art, Literature, Philosophy, and Culture of the Fin de Siecle, ed. T. Kline, N. Schor, Baltimore: Johns Hopkins UP, 2002.
47 Cm. Matich, «The Meaning of The Meaning of Love: What Is Erotic about Vladimir Solove’v’s Utopia?», Id., Erotic Utopia.
378
Ольга Матич
же принцип управляет и прокреативным инстинктом жизни). «Петербург» построен на повторяющемся сопряжении влечения к смерти с пожиранием деликатесов и падали и с омерзительным изображением секса и начала жизненного цикла (ср. с зачатием Николая). Белый изображает конец рода Аблеуховых, генеалогия которого в начале романа пародийно прослежена до Адама, чем утверждается бесконечность прокреативного импульса. Очевидно, что завершение линии Аблеуховых не отменило смерть: она царит в эпилоге. Однако различие состоит в том, что смерть здесь не вызывает омерзения читателя. Вместо отвратительного крупного плана мы созерцаем на расстоянии старение и смерть родителей Николая, чтение им «Книги мертвых» и его возвращение в Россию для уединенной жизни в деревне. Мы могли бы заключить из этого, что отвращение к смерти преодолено, поскольку очевидно, что в природе нет больше той плодородной гнили, которая возобновляет порождающую жизнь и, как следствие, семейный роман, модернистскую пародию на который являет собой «Петербург».
Как и в барокко, романтизме и модернизме, ужас и отвращение переплетаются в романе и вместе подтачивают прекрасный имперский город — его классический порядок и тех, кто в нем живет, ест и умирает. В противоположность градостроительной истории Петербурга, в которой классический порядок восторжествовал над барокко, роман Белого знаменует возвращение или месть барочного излишества. Роман растворяет традиционную образность, предлагая отвратительное и в то же время завораживающее зрелище конца столицы империи. Барочная литература торжествует и в эпилоге романа, где Николай читает украинского мистика XVIII века Григория Сковороду, самого важного представителя украинского барокко.
Это возвращает нас снова к эстетической роли отвращения в романе и его стремлению к разложению классической формы. Рассматривая ее в символистских терминах, можно констатировать, что отвращение противостоит аполлонической сдержанности и жесткости классических эстетических границ и выявляет дионисийское изобилие «Петербурга», символом которого становится тикающая бомба в жестянке от сардин и слизь, которую она содержит и создает. Однако обращение Белого к поэтике отвращения в вершинном произведении его творчества претендует на нечто большее. Оно приглашает читателя испытать эстетический восторг и преодолеть желание отводить свой читательский взор от шокирующих изображений. В этом отношении отвращение, вызывающее чувство ужаса, напоминает эстетический принцип возвышенного, обусловленный парадоксальным переживанием высоких чувств и ужаса. ‘Ужас’ (и его производные формы) выступает одним из
Поэтика отвращения в «Петербурге» Андрея Белого 379
основных слов, формирующих словесную ткань «Петербурга». Роман приглашает читателя осознать этот парадокс и одновременно признать, что отталкивающее лучше всего передает суть эстетического эксперимента Белого, заключающегося в опыте восторга перед отвратительным, лежащим за пределами музыкальной и сине-стетической структуры и символистской поэтики романа.
omatich@berkeley.edu
Ади Кунцман
«ОМЕРЗИТЕЛЬНЫЕ СУЩЕСТВА»: СЕКСУАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ОТВРАЩЕНИЯ
В МЕМУАРАХ УЗНИКОВ ГУЛАГа1 2
В своем субъективном ощущении и общественном выражении омерзение пронизано культурной значимостью. Оно является динамичной составляющей самых экзальтированных философских систем и самых убийственных политических идеологий. Оно может служить защитой культурных границ, однако иногда именно эта защита указывает на уязвимость границ и на психологическую и общественную цену поддержания их безопасности.
Джонатан Доллимор1
Однополые отношения в советских лагерях — тема не слишком популярная в среде историков и литературоведов. Научная литература, как русско- так и иноязычная, посвященная узникам ГУЛАГа и их воспоминаниям, редко задерживается на теме сексуальности вообще и, как правило, обходит молчанием вопрос об однополых отношениях. Частично это молчание можно объяснить отсутствием эмпирических материалов: описывая свою жизнь на зоне, бывшие политические заключенные практически не упоминают однопалые отношения. Подобное отсутствие может бьпъ результатом «неприятия и опровержения», как предполагает Дан Хили3, или, согласно Веронике Шаповаловой, следствием личного и культурного нежелания открыто обсуждать вопросы сексуальности, в
1 Английский вариант: «“With a shade of disgust”: Affective politics of sexuality and class in memoirs of the Stalinist Gulag», Slavic Review 68:2 (2009).
2 J. Dollimore, «Sexual Disgust», Homosexuality and Psychoanalysis, Univ, of Chicago Press, 2001, 368.
3 D. Healey, Homosexual Desire in Revolutionary Russia: The Regulation of Sexual and Gender Dissent, Univ, of Chicago Press, 2001, 238.
«Омерзительные существа»: сексуальная политика...
381
особенности в случае женщин-заключенных4. Однако подобное замалчивание касается не только личных биографий: например, криминализация однополых отношений и преследование гомосексуалистов в сталинском и постсталинском Советском Союзе редко удостаивались внимания диссидентов. «Никогда и никто не подсчитывал число жертв уголовного преследования гомосексуалистов в Советском Союзе. Не делали этого, и даже не пытались это сделать советские правозащитники эпохи так называемого “застоя”», — с горечью замечает поэт и публицист Геннадий Трифонов5.
В то же время авторы, описывающие историю однополых отношений в советский период, неоднократно упоминают лагерные мемуары как основной (и чуть ли не единственный) источник, из которого сегодняшний читатель может почерпнуть информацию об однополой сексуальности во времена репрессий и застоя6. Источник небеспристрастный, Ольга Жук в своей известной научно-популярной книге замечает, что «[Диссидентская мемуарная литература] с отвращением и нескрываемым презрением отзывается о женщинах-лесбиянках»7. Ей вторит Владимир Козловский: «Политзаключенные описывают это явление [гомосексуализм. — А. К\
4 V. Shapovalov, Remembering the Darkness: Women in Soviet Prisons, Lanham: Rowman, Littlefield, 2001, 279. К сожалению, сама Шаповалова частично воспроизводит подобное умолчание. В своем сборнике женских воспоминаний о советских лагерях она прилагает немалые усилия для воссоздания многогранной картины половых отношений в жизни женщин-заключенных (включая такие табуированные темы, как групповые изнасилования). Единственное упоминание о лесбийских отношениях вынесено в сноску (р. 309), где Шаповалова кратко цитирует одну из женщин, описывающую лесбиянок среди проституток-уголовниц, а затем приводит подробную цитату из воспоминаний Майи Улановской. В своем непредвзятом отношении к лесбийским связям описание Улановской представляет собой редкое исключение среди лагерных мемуаров: она одна из немногих упоминает подобные связи среди интеллигенции (см. ниже). Тот факт, что подобное описание не удостоилось отдельной главы, а было упрятано в сноску, лишний раз подтверждает «неважность», маргинальность однополых отношений в глазах исследователей и правозащитников.
5 Г. Трифонов, «Советские гомосексуалисты: вчера, сегодня, завтра» (в сети). Подобно Трифонову, Мишель Фуко в интервью о советской психиатрии упоминает репрессии гомосексуалистов и умолчания диссидентов. Подробнее см. J. Plamper, «Foucault’s Gulag», Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History 2 (2002), 267.
6 О. Жук, Русские амазонки: история лесбийской субкультуры в России, XXвек, М.: Глагол, 1998; В. Козловский, Арго русской гомосексуальной культуры, Vermont: Benson, 1986; А. Булкин, Записки голубого, М., 1997.
7 Жук, Русские амазонки, 97.
382
Ад и Кунцман
с оттенком брезгливости, и создается впечатление, что все они держатся от тюремного мужеложества в стороне»8.
Оба автора одинаково отмечают любопытный момент: негативный эмоциональный накал лагерных воспоминаний, когда они затрагивают однополые связи. Однако ни Жук, ни Козловский не объясняют этот аффективный аспект воспоминаний и ограничиваются лишь констатацией его существования. А ведь как раз культурологический анализ отвращения/омерзения и сопутствующих им эмоций, таких как презрение, брезгливость, ненависть или страх, необходим для понимания как негативного подхода к однополым отношениям в воспоминаниях, так и упорного молчания, окружающего эту тему7 в гулаговедении.
В своем анализе я основываюсь на культуроведческом подходе к эмоциям (и их текстуальным проявлениям), согласно которому эмоции формируются и существуют на стыке личностного и общественного, субъективного и исторического, внутреннего и внешнего9. Будучи явлением и биологическим, эмоции всегда «пронизаны культурной значимостью»10.
Так какова же культурная значимость отвращения/омерзения в литературном мире лагерных воспоминаний? Что именно вызывает у авторов омерзение и как они это омерзение описывают? Какие культурные границы оно защищает? Какова роль эмоций (и в частности, спектра отвращение-омерзение-брезгливость) в континууме морали и человечности? И, наконец, какую роль играют эмоции в трансформации памяти в литературу?
В рамках данной дискуссии я ограничусь периодом сталинского террора и, соответственно, лагерями 30—50-х годов. В частности, я остановлюсь на двух наиболее известных и влиятельных авторах в истории жанра: Евгении Гинзбург с ее книгой «Крутой маршрут» и Варламе Шаламове с его «Колымскими рассказами» и «Очерками преступного мира». Приведенный здесь анализ является частью проекта, посвященного лагерным воспоминаниям и их роли в формировании понятий сексуальности, морали и культурности в советский и постсоветский период.
1
«А вот отвратительная пучеглазая маленькая жабка — лесбиянка Зойка. Вокруг нее трое так называемых “коблов”. Гермафродит-ского вида коротко остриженные существа с хриплыми голосами
8 Козловский, Арго русской гомосексуальной культуры, 338.
9 Подробнее см. S. Ahmed, The Cultural Politics of Emotion, Edinburgh UP, 2004.
10 Dollimore, Sexual Disgust, 368.
«Омерзительные существа»: сексуальная политика...
383
и мужскими именами — Эдик, Сашок и еще как-то...»11. Так описывает Евгения Гинзбург уголовниц-лесбиянок, встреченных ею в одном из самых отдаленных лагерей на Колыме. Любопытно, что Гинзбург использует термин «лесбиянка» только в отношении одной из женщин, исполняющей, по всей видимости, «женскую», «пассивную» роль в однополой лагерной паре12. Для остальных Гинзбург употребляет лагерный термин «кобел». Так называли'себя женщины, исполнявшие «активную», «мужскую» роль13.
И те и другие описаны автором с презрением и отвращением. И те и другие помещены за пределы человеческого мира: пассивная лесбиянка Зойка напрямую наделена животными характеристиками — пучеглазостью — и названа жабкой, а активные лесбиянки-коблы наречены «существами». Заметим, что отвращение, испытываемое по отношению к Зойке, переносится и на «коблов». Сара Ахмед в работе о культурной политике эмоций14 подчеркивает, что аффект функционирует на текстуальном уровне при помощи метонимического «прилипания»: понятия, находящиеся в отношениях смежности15, окрашиваются в схожий эмоциональный тон. У Гинзбург отвращение употреблено по отношению к «пучеглазой жабке». Эмоциональная реакция, вызванная у читателя, «прилипает» к последующему образу — «гермафродитского вида существам», женщинам, преступающим гендерные границы визуально (неженственный вид, короткие стрижки), голосом, именем и, конечно же, своей сексуальностью.
Антрополог Мэри Дуглас утверждает, что отвращение служит для определения и поддержания культурно-нормативных границ.
11 Е. Гинзбург, Крутой маршрут, М.: Советский писатель, 1990, ч. 2, гл. 21. Сходное описание женщин-лесбиянок встречается и у Василия Гроссмана: «На каторге женщины принуждали женщин к неестественному сожительству. В женских каторжных бараках создавались нелепые характеры — женщины-коблы, с сиплыми голосами, с размашистой походкой, с мужскими замашками, в брюках, заправленных в солдатские кирзовые сапоги. А рядом возникали потерянные жалкие существа — ковырялки. Коблы пили чифир, курили махру, под пьяную руку избивали своих лживых, легкомысленных подруг, но и охраняли их силой кулака и силой ножа от обиды и грубых чужих притязаний. Этот трагичный, уродливый мир отношений и был любовью в каторжном лагере. Он был страшен, он не порождал смеха, соленых разговоров, а один лишь ужас в душах воров и убийц», Гроссман, «Все течет», Октябрь 6 (1989), гл. 12.
12 Лесбийские отношения в тюрьмах и лагерях, как правило, характеризовались достаточным постоянством пар и четко выраженным гендерным разделением ролей (подробнее см. Жук, Русские амазонки).
13 Активные лесбиянки также именовались «оно» (см. ниже). Подробнее см. Жук, Русские амазонки, и Healey, Homosexual Desire in Revolutionary Russia.
14 Ahmed, The Cultural Politics of Emotion.
13 P. Якобсон, Работы no поэтике. M.: Прогресс, 1987, 324—338.
384
Ад и Кунцман
Недаром почти в каждой культуре существуют обряды очищения: «нечистое» выталкивается, как на физическом уровне (смывание грязи, крови или нечистот), так и на уровне символическом. В свою очередь то, что нарушает основополагающие нормы, считается табуированным и нередко воспринимается как омерзительное16. В тексте Гинзбург однополые отношения, так же как и добровольный вызов гендерным нормам17, оттеняют одновременно и женственность, и человечность. «Нечистые» лагерные лесбиянки вынесены за пределы допустимого, определены как отвратительные и помещены за границы человеческого, в животный мир.
Похожие описания гендерной трансгрессии, заклеймленной с омерзением, встречаются и в других воспоминаниях. Например, Екатерина Олицкая описывает лагерных лесбиянок 30-х годов подобным образом:
Благом нашего барака было то, что у нас не было уголовных. Уголовниц мы встречали в столовой, в зоне. На первых же порах нас ошеломили резко бросающиеся в глаза женщины — «оно». Противные, омерзительно наглые существа. В Магадане их было меньше. Их обычно высылали в глубинные лагпункты. Наглые лица, по-мужски остриженные волосы, накинутые на плечи телогрейки... Они имели своих любовниц, своих содержанок среди заключенных. Парочками, обнявшись, ходили они по лагерю, бравируя своей любовью. Начальство, как и огромное большинство зэков, ненавидело «оно». Лагерницы боязливо сторонились их18.
Подобно Гинзбург, эмоциональный накал Олицкой направлен на неженственных женщин — активных лесбиянок, «существ», для которых используется местоимение «оно», которое в русском языке используется для неодушевленных предметов и для живых существ, символически расположенных за пределами цивилизации — животное, чудовище и т.д. Однако к описанию Гинзбург Олицкая добавляет еще один элемент, к которому «прилеплено» омерзение, а именно браваду однополыми отношениями. Однополые пары вызывают омерзение не только фактом своего существования, но и своей двойной видимостью — на уровне индивидуального тела («оно» не похожи на остальных заключенных, своим необычным внешним видом и своей неженственностью они «бросаются в гла-
16 М. Douglas, Purity and Danger, London: Routledge, 1966.
17 В отличие от внешнего вида остальных заключенных женщин, нежен-ственность которых была навязана им лагерем, лагерной одеждой и тяжелыми бытовыми условиями и была им ненавистна.
18 Е. Олицкая, Мои воспоминания, Fr.a.M.: Посев, 1971, 243—244.
Омерзительные существа»: сексуальная политика...
385
за») и на уровне территории лагеря, где женщины ходят, обнявшись и не стесняясь своих отношений, как будто помечая свою власть над пространством зоны.
Подобная видимость противоречит понятиям стыдливости, свойственной интеллигенции, в отношении женской сексуальности вообще, а особенно сексуальности ненормативной, «порочной». Примечательно, что в редких случаях, когда упоминаются однополые отношения среди политических заключенных из интеллигенции, обязательно подчеркивается их секретность, не-види-мость. Например, Майя Улановская, описывая лесбийские связи в лагере, подчеркивает, что «в интеллигентной среде всё было скрыто, завуалировано, двусмысленно»19. К теме интеллигенции я еще вернусь, а пока что мне хотелось бы рассмотреть подробнее проблематику отсутствия стыдливости.
Нарушение гендерных норм, или ролевой маскарад (как, например, человек, носящий имя противоположного пола), в сочетании с отсутствием стыда или стеснения, встречается и в описании однополых отношений у Варлама Шаламова: «Говоря о женщине в блатном мире, нельзя пройти мимо целой армии этих “Зоек”, “Манек”, “Дашек” и прочих существ мужского пола, окрещенных женскими именами. Поразительно то, что на эти женские имена носители их откликались самым нормальным образом, не видя в этом ничего позорного или оскорбительного для себя»20.
19 Н. и М. Улановские, История одной семьи, СПб.: Инапресс, 2003, 250. Майя Улановская пишет: «На 20-й колонне я дружила еще с одной немкой, Урсулой. На эту дружбу с беспокойством смотрели мои подруги и знакомые. Лена печально констатировала, что ее соплеменница “швайн”: Урсула была из тех, кого в лагере называли по-разному — от смешливого “оно” до, по-блатному, “кобёл”. Термин “лесбиянка” не был принят. Желая походить на мужчин, такие женщины часто ходили в брюках и коротко стриглись. Особенно много их было среди блатных, на втором по количеству месте — немки, бывали они и среди нашей интеллигенции. ... В интеллигентной среде всё было скрыто, завуалировано, двусмысленно. Довольно редко открыто признавались в пороке, но и это бывало. Мне говорила Тамара, дочь русских эмигрантов, влюбленная в красивую эстонку Ванду: “Я была два раза замужем, но только от Ванды хотела бы иметь ребенка”. Тамара страшно ревновала свою красотку к известной ратлучнице, чешской еврейке Елене. Именно этим Елена была знаменита на трассе. Из обольщенных ею помню художницу-литовку, хрупкую блондинку, которая обменивалась с Еленой любовными письмами с рисунками. Рисунки изображали две парящие в воздухе женские фигуры, обвитые черной змеей. Письма эти Елена показывала с гордостью, наверное, не мне одной», 249—250.
20 Шаламов, «Женщина блатного мира» из «Очерков преступного мира», Колымские рассказы, т. 2, М.: Русская книга / Советская Россия, 1992.
386
Ад и Кунцман
Стыд, стеснение, позор упоминаются Фрейдом наряду с отвращением как механизмы, защищающие цивилизацию от власти инстинктов. Однако и само понятие цивилизации не универсально, а является историко-культурным конструктом21. По мнению Дуглас, стыд, позор, а также ощущение нечистоты и омерзения появляются не случайно, а в моменты, когда под угрозой оказываются культурные нормы и казавшиеся незыблемыми границы «нормального». К проблеме поставленных под вопрос границ я еще вернусь.
Итак, отсутствие стыда или позора там, где им предписано быть, а точнее, там, где их ожидает автор, выносит индивида за грань цивилизации и человечности. Неудивительно, что, подобно Гинзбург, Шаламов нарекает пассивных гомосексуалистов «существами», описывает их с презрением и брезгливостью и помещает в животный мир:
Блатари все — педерасты. Возле каждого видного блатаря вьются в лагере молодые люди с набухшими мутными глазами: «Зойки», «Маньки», «Верки» — которых блатарь подкармливает и с которыми он спит. В одном из лагерных отделений (где не было голодно) блатари приручили и развратили собаку-суку. Ее прикармливали, ласкали, потом спали с ней, как с женщиной, открыто, на глазах всего барака. В возможность обыденности подобных случаев не хотят верить из-за их чудовищности. Но это — быт22.
В лагерной космологии Шаламова активные гомосексуалисты (педерасты) сродни зверям. Они не делают различий между женщинами, «существами мужского пола с женскими именами» и собаками. Пассивные гомосексуалисты изображены безымянной стаей и также помещены в животный мир, их имена собственные превращены автором в имена нарицательные. Повествование Шаламова построено таким образом, что собака-сука и «молодые люди с мутными глазами» метонимически замещают друг друга, находясь в непосредственной текстуальной близости. Шаламов использует практически те же самые слова для описания пассивных гомосексуалистов и собаки-суки. И те и другие спят с блатарями, и тех и других блатарь подкармливает. «Молодые люди» вьются вокруг блатаря, словно звери.
Если Гинзбург употребляет животные образы метафорически, то метонимические замещения Шаламова практически приравнивают однополые отношения к зоофилии. Таким образом, однопо
21 См. Elias, The Civilizing Process, Oxford: Blackwell, 1982.
22 Шаламов, «Жульническая кровь», там же.
«Омерзительные существа»: сексуальная политика...
387
лые отношения нарушают одновременно две непреложные границы: между человеческим и животным и между мужским и женским. Нарушение этих границ табуировано, и, соответственно, преступающие табу определены как нелюди, а их действия — как нечто немыслимое, чудовищное, омерзительное. И хотя Шаламов, в отличие от Гинзбург, не называет своих эмоций напрямую, его тексты пронизаны презрением и отвращением.
Отвращение играет немаловажную роль и в создании самого понятия «человеческого». Ахмед, например, так описывает функцию отвращения:
Отвращение... является пространственной иерархией, в которой тела других превращаются в значимый, бросающийся в глаза объект. Они представлены как ненавистные и вызывающие тошноту в той мере, в какой они оказываются слишком близко. Они представлены как не-человеческие, находящиеся за пределами человеческого и ниже человеческого тела: «низость», таким образом, становится свойством их тел. Своим телом они воплощают то, что находится ниже человеческого23.
Итак, однополые отношения, описанные с отвращением и презрением, поддерживают культурные границы морали вообще и гетеросексуальности и гендерной дихотомии в частности. В этом плане лагерные мемуары не уникальны — тема однополых отношений табуирована во многих (хотя и далеко не во всех) культурах прошлого и настоящего. Не уникален и мотив не-человечности, по крайней мере, на первый взгляд: согласно Дуглас и другим антропологам, табуированное «нечистое» выносится за пределы культурно-космологической сферы «мы», то есть за пределы человеческого. Однако такое прочтение, на мой взгляд, недостаточно для полного понимания лагерных мемуаров и их культурной и исторической специфики, а также для понимания работы, проделываемой отвращением. Для полноты анализа нам необходимо подробнее остановиться на понятии границ человеческого и уязвимости этих границ. Как будет показано ниже, отвращение в лагерных воспоминаниях призвано защитить не только сексуальность, но и классовый барьер между политическими заключенными из интеллигенции и уголовниками.
2
Антропологический подход к отвращению, заданный работой Дуглас, сосредотачивается, в первую очередь, на объекте, вызыва
23 Ahmed, The Cultural Politics of Emotion, 97.
388
Ад и Кунцман
ющем отвращение. Иной подход мы находим у американского ученого Уильяма Миллера, автора книги «Анатомия отвращения». Миллер обращается к вопросу о субъекте, испытывающем отвращение, и подчеркивает: «Ощущение отвращения человечно, и оно очеловечивает. Нечувствительных к отвратительному и не испытывающих отвращение мы воспринимаем как принадлежащих к иной категории: дети, еще не доросшие до человечности; сумасшедшие, находящиеся ниже грани человечного, и святые, находящиеся выше ее»24.
Безусловно, способность испытывать отвращение неуниверсальна, она определена как психологическим развитием (например, младенцы и дети не испытывают отвращения до определенного возраста), так и культурными нормами и меняющимися представлениями об отвратительном. Как правоведа, Миллера особенно интересуют отношения между эмоциями и моральными, общественными и политическими иерархиями. Для политологии и общественных наук анализ эмоций необходим, утверждает Миллер, так как именно эмоции типа отвращения, брезгливости или презрения поддерживают общественный строй.
Похожий подход к отношению между социальными иерархиями и эмоциями можно найти и у современных британских культурологов. Например, уже упоминавшаяся Сара Ахмед описывает отвращение в плане колониальных отношений с «дикарями», а также в контексте современного расизма25. Имоджен Тайлер26 и Беверли Скеггс27 анализируют отвращение в контексте классовых отношений, как неотъемлемую составляющую презрения и превосходства по отношению к представителям британского рабочего класса. Тайлер и Скеггс рассматривают классовые отношения не как жесткую структуру, а как динамичный и постоянно меняющийся мир сознания и культурных форм. Тайлер, например, замечает, что «классовое разделение создается и поддерживается, в числе прочего, при помощи регулярно выражаемого отвращения к привычкам и поведению тех, кого мы относим к низшей классовой прослойке»28.
Какой же строй поддерживают отвращение и брезгливость, испытываемые бывшими узниками ГУЛАГа по отношению к однополым отношениям? При прочтении многих мемуаров бросает
24 МШег, The Anatomy of Disgust, 11.
25 Ahmed, The Cultural Politics of Emotion.
26 I. Tyler, «Chav Scum: The Filthy Politics of Social Class in Contemporary Britain», Journal of Media and Culture 9:5 (2006).
27 B. Skeggs, Class, Self and Culture, London: Routledge, 2005.
28 Tyler, «Chav Scum».
«Омерзительные существа»: сексуальная политика...
389
ся в глаза, что эти отношения приписываются исключительно уголовным заключенным. Разделение на людей и существ/чудовищ, наложенное на разделение на «естественные» гетеросексуальные и «омерзительные» однополые отношения, оказывается разделением классовым. Причем под классом подразумевается как статус заключенного в лагере (политический), так и принадлежность к интеллигенции. Заметим, что речь идет не только и не столько о материальном положении до ареста и ссылки, сколько об образованности и определенном культурном сознании и праксисе, иными словами, о том, что Пьер Бурдье29 определил как культурный капитал и хабитус — пре-дискурсивную предрасположенность, эстетический вкус, телесность и, добавим, моральный кодекс.
Когда Майя Улановская пишет, что «в интеллигентской среде всё было завуалировано»30, она имеет в виду однополые отношения между политическими заключенными. Однако принцип завуалированное™, дискретное™ и невидимое™ довольно точно описывает отношение к сексуальное™ (и телесноста) вообще среди интеллигенции. Не случайно описания любви и секса среди политических заключенных изобилуют умолчаниями и эвфемизмами. Не стоит забывать и то, что секс и тело зачастую противопоставлены понятию литературност31 и, соответственно, могут быть вынесены за рамки повествования из эстетических и стилистических соображений.
Однако сексуальность и сексуальная телесность отсутствуют только в повествовании о политических заключенных. Описания уголовных зэков, как мы уже убедились, представляют собой прямую противоположность. Уголовники/блатари вызывающе сексуальны и потому омерзительны. Например, в 11-й главе «Крутого маршрута», посвященной теме любви и пола, Гинзбург представляет моральную дилемму, стоявшую перед женщинами в лагере. Многие из них вступали в отношения с уголовными заключенными, поддавшись «голосу желудка» или видя «пример соседки по нарам, поправившейся, приодевшейся, сменившей мокрые, расползающиеся чуни на валенки»32. Иные же отрицали возможность личных связей на Колыме, «поскольку так легко здесь соскользнуть в прямую проституцию»33. Рассуждая о нелегких решениях жен
29 Р. Bourdieu, Outline of a Theory of Practice, Cambridge: Cambridge UP, 1977.
30 Улановские, История одной семьи, 250.
31 Подробнее см. S. Boym, «Loving in Bad Taste: Eroticism and Excess in Marina Tsvetaeva’s “The Tale of Sonechka”», Sexuality and the Body in Russian Culture, ed. J. Costlow, S. Sandler, J. Vowles, Stanford UP, 1993.
32 Гинзбург, Крутой маршрут, ч. 2, гл. 11.
33 Там же.
390
Ад и Кунцман
щин-заключенных и о самой нечеловечное™ ситуации, в которой они делают свой выбор, Гинзбург вносит показательное уточнение: «Оговариваюсь: я веду речь только об интеллигентных женщинах, сидящих по политическим обвинениям. Уголовные — за пределами человеческого [курсив мой. — А. А1]. Их оргии не хочу я живописать, хоть и пришлось немало вынести, становясь их вынужденным свидетелем»34.
Итак, бесконтрольная и животная сексуальность и отсутствие морального кодекса (уголовные не испытывают моральных дилемм, как раз наоборот, их сексуальность порождает проституцию) характеризуют контекст, в котором — и только в котором! — встречаются упоминания об однополых отношениях. «Уголовность» и «гомосексуальность» смешиваются, замещают друг друга метонимически.
Понятие метонимического замещения по смежности, разработанное лингвистом и литературоведом Романом Якобсоном35, наиболее удачно характеризует описания однополых отношений как не отделимых от криминальной среды лагеря. И в мемуарах Шаламова и Гинзбург, и в воспоминаниях Олицкой замещение происходит на двух уровнях: непосредственной текстуальной близости двух понятий («Блатари все педерасты», «Уголовниц мы встречали в столовой ... нас ошеломили ... “оно”»), а также на уровне сюжета и контекста. На последних мне бы хотелось остановиться подробнее.
В очерке «Женщина блатного мира» Шаламов помещает описания однополых отношений в контекст уголовного мира, а также венерических болезней: «Венерические мужские зоны были всегда местом, откуда в больницу поступали молодые жертвы блатарей — зараженные сифилисом через задний проход. Блатари почти сплошь педерасты — в отсутствие женщин они развращали и заражали мужчин под угрозой ножа чаще всего, реже за “тряпки” (одежду) или за хлеб»36. В рассказе «Жульническая кровь» однополые отношения описаны в контексте уголовного мира, а также зоофилии и беспредельной жестокости, как принадлежащие миру не-человеческому:
«Эх, славно пожил зиму, — вспоминал блатарь. - Там, ясное дело, всё за хлеб, за паечку. И обычай, уговор такой был: отдаёшь пайку ей в руки — ешь! Пока я с ней, должна она эту паечку съесть, а что не успеет — отбираю обратно. Вот я утром паечку получаю -и в снег ее! Заморожу пайку — много ли баба угрызет заморожен
34 Гинзбург, Крутой маршрут, ч. 2, гл. 11.
35 Якобсон, Работы по поэтике, 324—338.
36 Шаламов, «Женщина блатного мира».
«Омерзительные существа»: сексуальная политика...
391
ного-то хлеба...» Трудно, конечно, представить, что человеку может прийти в голову такое. Но в блатаре и нет ничего человеческого37.
Необходимо подчеркнуть, что сам по себе секс между мужчинами упоминается только в отношении возможного заражения венерическими болезнями, однако факт однополых отношений постоянно находится в смежности со зверствами и ужасами уголовников-блатарей. Здесь крайне важно еще одно: тема уголовного мира вообще описана Шаламовым как инфернарий. Мотив ада и вообще богатое присутствие христианских ассоциаций в «Колымских рассказах» неоднократно упоминались исследователями. Израильский литературовед Леона Токер, например, указывала на обилие у Шаламова отсылок к Новому Завету, а также на наличие «средневекового сознания» и соответствующих ему образов бесов и дьявольщины, святости и спасения. Иными словами, выживание политических заключенных в мире уголовников представлено как мученичество, испытание адом и как встреча двух начал: божественного и дьявольского38.
Сюжетное обрамление однополых отношений у Гинзбург имеет схожие элементы. Зойка-лесбиянка и окружающие ее коблы появляются в книге в момент, когда автор описывает временный перевод в один из наиболее отдаленных лагерей на Колыме, населенный практически исключительно уголовными заключенными, причем наиболее опасными и жестокими, рецидивистами. «Известковая. Штрафная из штрафных. Остров прокаженных» — так начинает Гинзбург свое описание лагеря, в котором она чудом избежала изнасилования, а возможно, и смерти. Участь Гинзбург решил случайно оказавшийся там мужчина-политический, спасший ее и способствовавший переводу в другой лагерь. А дух Гинзбург на этапе и в лагере спасали стихи, которые она постоянно твердила про себя: «За поворотом дорога становится ровнее, шаги ритмичнее. Под такой шаг можно и стихи себе читать. И я читаю...»39. Сти
37 Шаламов, «Жульническая кровь».
38 L. Toker, «А Tale Untold: Varlam Shalamov’s “A Day Off’», Studies in Short Fiction 28 (1991); Id., «Varlam Shalamov’s Kolyma», Between Heaven and Hell: The Myth of Siberia in Russian Culture, N.Y.: St. Martin’s Press, 1993; Id., Return from the Archipelago: Narratives of Gulag Survivors, Bloomington: Indiana UP, 2000.
39 Гинзбург пишет: «Однажды, уже в Москве шестидесятых годов, один писатель высказал мне сомнение: неужели в подобных условиях заключенные могли читать про себя стихи и находить в поэзии душевную разрядку? Да-да, он знает, что об этом свидетельствую не я одна, но ему все кажется, что эта мысль возникла у нас задним числом. Этот писатель прожил в общем-то благополучную жизнь, безотказно издавая книги и посиживая в президиумах.
392
Ад и Кунцман
хи, литература — именно то, что Бурдье именует «культурным капиталом», и помогает выжить Гинзбург, причем личная история выживания трансформируется в выживание всего класса интеллигенции, а сила поэзии и мудрость поэтов приобретают религиозный статус «подлинного живого света»40.
К тому же, хоть он и был всего на четыре года моложе меня, но все-таки плохо представлял себе наше поколение. Мы были порождением своего времени, эпохи величайших иллюзий. Мы приходили к коммунизму не “низом шахт, серпов и вил”. Нет, мы “с небес поэзии бросались в коммунизм”. По сути, мы были идеалистами чистейшей воды при всей нашей юношеской приверженности к холодным конструкциям диамата. Под ударами обрушившегося на нас бесчеловечья поблекли многие затверженные смолоду “истины”. Но никакие вьюги не могли потушить ту самую свечу, которую мое поколение приняло как тайный дар от нами же раскритикованных мудрецов и поэтов начала века. Нам казалось, что мы свергли их с пьедесталов ради некой вновь обретенной правды. Но в годы испытаний выяснилось, что мы — плоть от плоти их. Потому что даже та самозабвенность, с какой мы утверждали свой новый путь, шла от них, от их презрения к сытости тела, от их вечно алчущего духа.
А мы, мудрецы и поэты, хранители тайны и веры, унесем зажженные светы в катакомбы, в пустыни, в пещеры...
Нет, мы далеко не были мудрецами. Наоборот, с великим трудом пробивалась наша отягощенная формулами мысль к подлинному живому свету. Но тем не менее наши “зажженные светы” мы все-таки сумели унести в свои одиночки, в бараки и карцеры, в метельные колымские этапы. И только они, только эти светильники, и помогли выбраться из кромешной тьмы» (Гинзбург, Крутой маршрут, ч. 2, гл. 21).
40 Интересно, что у Шаламова мы находим похожий мотив, причем в нем духовный и даже религиозный оттенок поэзии еще более я вен: «Я знаю, что у каждого человека здесь было свое самое последнее, самое важное — то, что помогало жить, цепляться за жизнь, которую так настойчиво и упорно у нас отнимали. Если у Замятина этим последним была литургия Иоанна Златоуста, то моим спасительным последним были стихи — чужие любимые стихи, которые удивительным образом помнились там, где все остальное было давно забыто, выброшено, изгнано из памяти. Единственное, что еще не было подавлено усталостью, морозом, голодом и бесконечными унижениями» (Шаламов, «Выходной день», там же). Приведенные здесь цитаты настаивают на духовной силе литературы. Однако встречаются в мемуарах и упоминания более прозаичные, свидетельствующие о буквально «защитной» функции литературы: известно, например, уважение конвоиров и уголовников к образованным политическим заключенным и их литературной эрудированности. В одном из «Колымских рассказов» Шаламов описывает Андрея Платонова, бывшего киносценариста, выжившего на Джанхаре среди воров благодаря своей литературной грамотности. Будучи единственным грамотным человеком, он «тискал романы» — пересказывал книги по памяти (Шаламов, «Заклинатель змей», там же).
«Омерзительные существа»: сексуальная политика...
393
Однако вернемся в лагерь. Повествование о времени, проведенном на «острове прокаженных», вовлекает читателя в инферна-рий, в галерею чудовищ:
Вот Симка-Кряж, ожившая иллюстрация из учебника психиатрии. С отвисшей нижней губы тянется слюдяная нитка. Надбровья резко выступили над маленькими мутными глазками. Длинные тяжелые руки болтаются вдоль неуклюжего коротконогого тела. Все знают: Симка — убийца. Бескорыстная убийца, убивающая просто так, потому что ей «не слабо». Сроку у нее уже лет сорок, но ей все добавляют. Потому что для «вышки» всегда не хватает улик. Сообщники боятся ее как огня и выгораживают, беря вину на себя. Лишь бы не навлечь на себя гнев Симки-Кряжа. Все знают, что именно она убила недавно в карцере зоны молоденькую указницу — мамину дочку, посаженную в карцер на пять суток за опоздание на развод. Просто так убила. Потому что ей было «не слабо». Удушила своими бармалеевскими ручищами ...
А вот отвратительная пучеглазая маленькая жабка — лесбиянка Зойка. Вокруг нее трое так называемых «коблов». Гермафродит -ского вида коротко остриженные существа с хриплыми голосами и мужскими именами — Эдик, Сашок и еще как-то...
Некоторых девок я узнаю. Их привозили на короткое время в зону для противосифилитического лечения, и я вкалывала им био-хиноль.
Эти человекообразные живут фантастической жизнью, в которой стерты грани дня и ночи. Большинство совсем не выходят на работу, валяясь целый день на нарах. А те, кто выходит, так только для того, чтобы развести костер и, сгрудившись вокруг него, орать свои охальные песни. Почти никто из них не спит по ночам. Они пьют какие-то эрзацы алкоголя (до сих пор не знаю, что представлял из себя «сухой спирт», которым травились многие из них. Наверно, нечто вроде денатурата), курят что-то дурманящее. Откуда берут это зелье — непонятно. Огромная железная «бочка» раскалена докрасна. На ней эти исчадия все время что-то варят, прыгая вокруг печки почти нагишом41.
Так же, как и в «Колымских рассказах» Шаламова, однополые отношения находятся в текстуальной смежности со всевозможными ужасами: психиатрические отклонения, умственная отсталость и убийства, сифилис, попойки и наркотики, безделье и ночные оргии. И так же, как у Шаламова, уголовники являются исчадиями ада, а их мир обладает безошибочно узнаваемыми чертами
41 Гинзбург, Крутой маршрут, ч. 2, гл. 21.
394
Ад и Кунцман
средневекового инферно: гротескное уродство, зелье, ведьминский шабаш.
3
Итак, мы рассмотрели отвращение/омерзение как свойство объекта, вызывающего негативные эмоции, и как свойство субъекта, эти эмоции испытывающего. Мы обратили внимание на то, что однополые отношения — бросающиеся в глаза, не окутанные стыдом и умолчанием — вызывают отвращение, так как противоречат классовым понятиям о морали, трансформирующимся в воспоминаниях в универсальные категории «человеческого». Мы также заметили, что для брошенного в инфернальный мир политического заключенного способность испытывать отвращение является не только признаком морали и человечности42, не только «живым светом» во тьме ада, но и убежищем, пожалуй, единственным в мире, где всё наоборот43 и где «сатана правит бал»: в мире, где вчерашняя элита — писатели, журналисты, ученые — заклеймена врагами народа, а люмпен-пролетариат и уголовники заправляют зоной.
Отвращение, таким образом, становится признаком выживания, классового, духовного и сакрального, невидимой оградой, защищающей человеческое в нечеловеческом мире. В этом отношении имеет смысл рассмотреть отвращение/омерзение не как свойство субъекта или объекта, а как грань между ними44. Ахмед, а также австралийский культуролог Элсбет Пробил45 определяют отвращение как страх близости, нежелание быть в контакте с тем, что воспринимается как отвратительное. Пробил утверждает, что восклицания типа «Это отвратительно!» призваны защищать границу между говорящим и тем, что угрожает «запятнать» его своими свойствами. Однако отвращение, согласно Ахмед, амбивалентно: с одной стороны, оно призвано служить межой, границей между субъектами (и объектами); с другой, сам факт отвращения свидетельствует о том, что эта граница уже находится под угрозой.
В своем теоретическом подходе к отвращению Ахмед опирается на знаменитое эссе Юлии Кристевой «Отвращение»46. Согласно Кристевой, попытки вытолкнуть отвратительное свидетельствуют о близости, взаимопроникновении «я» и отвратительного:
42 Miller, The Anatomy of Disgust.
43 He случайно Лев Самойлов (Клейн), сидевший в 80-е, назвал свои воспоминания «путешествием в перевернутый мир».
44 Ahmed, The Cultural Politics of Emotion.
45 E. Probyn, Carnal Appetites: Food Sexidentities, London: Routledge, 2000.
46 Ю. Кристева, Силы ужаса: эссе об отвращении, пер. А. Костиковой, СПб.: Алетейя, 2003.
«Омерзительные существа»: сексуальная политика...
395
Уже не я отторгаю и выталкиваю, а «я» вытолкнуто и отторгнуто. Граница сама стала объектом. Как можно существовать без границ? Это другое, находящееся по ту сторону, которое я представляю себе иначе, чем настоящее, или которое я воображаю себе для того, чтобы иметь возможность в настоящем разговаривать с вами, размышлять о вас, — это другое теперь здесь, брошенное, отторгнутое в «мой» мир. Отторгнутый от мира, таким образом, я теряю сознание и исчезаю47.
Вслед за Кристевой Ахмед утверждает: то, «что угрожает нам снаружи, представляет угрозу постольку, поскольку оно уже находится внутри [нас]... Это не значит, что отвратительное попало внутрь, скорее, отвратительное выворачивает нас наружу, обращая наружное внутрь»48.
Одновременный акцент на значимости границ и их невозможности как нельзя лучше характеризует положение политических заключенных в лагерном мире уголовников. Практически все воспоминания узников ГУЛАГа затрагивают тему выживания, как физического, так и морального49, причем последнее нередко противопоставляется первому. Моральное выживание, сохранение человеческого облика всегда связано в лагерных мемуарах с преступлением границ. Однако это не значит, что границы остаются незыблемыми, как раз наоборот, невообразимое, немыслимое становится частью существования в лагере. Например, Гинзбург замечает по поводу личных связей в лагере: «Трудно проследить, как человек, загнанный бесчеловечными формами жизни, понемногу лишается привычных понятий о добром и злом, о мыслимом и немыслимом. Иначе откуда же в деткомбинате такие младенцы, у которых мама — кандидат философских наук, а папа — известный ростовский домушник!»50.
Показательно, что для Гинзбург немыслимым является сам факт близких отношений между образованной женщиной и вором. «Крутой маршрут» и многие другие воспоминания, особенно написанные женщинами, отличаются надменным презрением по отношению к не-интеллигенции.
Если Гинзбург описывает близость сексуальную, то Шаламов дает пример иной, но тоже физической, близости между блатарями и политическим заключенным — прием табуированной пищи.
47 Там же.
48 Ahmed, The Cultural Politics of Emotion, 86.
49 Toker, Return from the Archipelago.
Гинзбург, Крутой маршрут, ч. 2, гл. 11.
396
Ад и Кунцман
В рассказе «Выходной день» описаны два блатаря, хладнокровно убившие и сварившие четырехмесячного щенка овчарки. Насытившись, блатари предлагают остатки супа Шаламову. Будучи свидетелем заклания51, Шаламов отказывается. Тогда суп предлагают другому заключенному из того же барака, священнику Замятину, с которым щенок дружил. Замятин уже известен читателю: первая половина очерка описывает встречу между автором и священником, творящим в лесу молитву и вспоминающим воскресную литургию.
Принимая пишу, Замятин находится в неведении относительно состава супа: блатари дают ему котелок со словами: «Э, батя, вот прими от нас баранинки». Когда Замятин узнаёт правду, его организм отторгает неприемлемое буквально, физически, исторгая из себя съеденное:
Замятин явился из темноты на желтый свет коптилки-бензинки, взял котелок и исчез. Через пять минут он вернулся с вымытым котелком.
— Уже? — спросил Семен с интересом. — Быстро ты глотаешь... Как чайка. Это, батя, не баранинка, а псина. Собачка тут к тебе ходила — Норд называется.
Замятин молча глядел на Семена. Потом повернулся и вышел. Вслед за ним вышел и я. Замятин стоял за дверьми на снегу. Его рвало. Лицо его в лунном свете казалось свинцовым. Липкая клейкая слюна свисала с его синих губ. Замятин вытерся рукавом и сердито посмотрел на меня.
— Вот мерзавцы, — сказал я.
— Да, конечно, — сказал Замятин. — Но мясо было вкусное. Не хуже баранины52.
«Выходной день» подробно проанализирован в книге Токер в контексте отношений между моральным и физическим выживанием53. Токер подробно останавливается на двух составляющих очерка — сцене молитвы в лесу и сцене с супом — и указывает, что обе сцены разрушают упрощенное разделение на духовное/мораль-ное и физическое выживание. Здесь Токер особенно интересует литературный прием симуляции, где две истории, по всей видимое-
51 Описание щенка, играющего в считанные моменты перед смертью и лижущего руку своего будущего палача — блатаря с топором, одновременно вызывает ассоциации с жертвоприношением, мученичеством и публичной казнью.
32 Шаламов, «Выходной день».
53 Toker, Return from the Archipelago, 152—155.
«Омерзительные существа»: сексуальная политика...
397
ти происходившие на самом деле, но не обязательно в одно и то же время или с теми же участниками, помещены в отношения текстуальной смежности. Подобная близость позволяет Шаламову рассмотреть тему выживания путем параллелей и противопоставлений.
Однако не менее интересен и другой образ вынужденной физической близости, другое принятие недопустимого вовнутрь — принятие женщинами-политическими внутрь себя тел уголовников. И Гинзбург и Шаламов указывают на амбивалентность недопустимого: оно вызывает одновременно и притяжение (Шаламов, например, описывает аппетитный запах супа, не дававший спать истощенным заключенным; священник Замятин подчеркивает вкус мяса — «вкусное, не хуже баранины»; а Гинзбург упоминает зов желудка и плоти), и отторжение, вплоть до рвоты. А вот как описывает двойственность отвращения Кристева: «Отвращение к еде, к грязи, к отбросам, к мусору. Меня защищают спазмы и рвота. Отторжение и приступ тошноты отстраняют и отгораживают меня от грязи, клоаки, нечистот. И позорно пойти на компромисс, на какое-то соглашение, на предательство. К нему меня подталкивает, а затем отделяет непреодолимый рвотный позыв»54.
Дети в деткомбинате, плоды невообразимого союза, и суп из щенка, неприемлемый, но вкусный, как баранина, как нельзя лучше демонстрируют, как тесно переплетены физическое и моральное выживание, как невозможна граница между блатарями и интеллигентами, между человеческим и чудовищным, и в то же время как отчаянно она необходима для выживших узников.
Именно эта отчаянная потребность, на мой взгляд, и приводит к тому яростному эмоциональному накалу, с которым описывают Гинзбург, Шаламов и многие другие авторы случаи однополых отношений в лагерях. Инфернальный уголовный мир и вынужденная, подневольная, страшная близость к нему вызывают у интеллигенции отвращение. В этом отношении для авторов воспоминаний отвратительны не только сами однополые отношения. Они — лишь часть инфернария, но в определенном смысле становятся его синекдохой: в процессе трансформации памяти в литературу «омерзительные существа» воплощают собой ужас репрессий и лагерей и тошнотворную близость нечеловеческого.
Очень важно иметь в виду, что речь здесь идет о литературе, а не просто об историческом документе. Лагерные мемуары как литературный жанр, имеющий свои структурные, стилистические и тематические особенности55, имеет и свои лакуны, свои умолчания
2,4 Кристева, Силы ужаса, 37.
55 Подробное обсуждение лагерных мемуаров как жанра см. Toker, Return from the Archipelago.
398
Ад и Кунцман
(как, например, мученическая судьба заключенных, осужденных не по 58-й, политической статье, а по статье 121-й, введенной Сталиным в 1934 году и карающей мужеложество) и свою собственную жестокость. Безжалостная демонизация однополых отношений — один из ярких тому примеров.
В то же время редкие описания однополых связей между политическими — в уже упоминавшейся книге Улановской, в интервью, собранных Ольгой Жук, в более поздних воспоминаниях, например Александра Гидони56, — показывают, что подобные связи встречались не только среди уголовных и далеко не всегда являлись проявлением грубой, необузданной, животной страсти. Например, как показывают собранные Жук материалы, отношения между женщинами в лагерях, как уголовницами, так и политическими, были нередко основаны на настоящей любви и привязанности, иногда продолжавшихся и после освобождения.
Я не призываю и не пытаюсь воссоздать «истинную картину» однополых отношений в лагерях. Такая попытка невозможна в числе прочего потому, что однополые связи на зоне в 30—50-е годы известны нам в основном из воспоминаний политических заключенных; потому, что случаи лагерной однополой любви среди интеллигенции старательно замалчиваются, а уголовные заключенные не имели и не имеют доступа ни к корпусу «лагерной литературы», ни к культурному авторитету, принадлежащему выжившим политическим узникам. Иными словами, такая попытка невозможна эпистемологически. В этом плане речь идет о тех, кого американский исследователь Авери Гордон называет «утерянными субъектами истории»57, о тех, чья жизнь не поддается исторической документации, но чье присутствие в прошлом навязчиво преследует настоящее58. Единственное, что мы можем сделать, это не отвернуться от умолчаний и дискурсивной и эмоциональной жестокости, свойственной лагерной литературе в отношении однополых отношений, обращая аналитический взгляд на то, как эта жестокость идет за нами из прошлого, навязчиво преследуя наше политическое, культурное и субъективное настоящее.
adi.kuntsman@yahoo.com
36 А. Гидони, Солнце идет с запада: Книга воспоминаний, Торонто: Современник, 1980.
57 A. Gordon, Ghostly Matters: Haunting and the Sociological Imagination, Minneapolis: Univ, of Minnesota Press, 1997, 195.
38 Подробно о теме навязчивого преследования, культурной памяти и однополых отношений в лагерях см. A. Kuntsman, «Between Gulags and Pride Parades: Sexuality, Nation and Haunted Speech Acts», Journal of Gay and Lesbian Studies 2 -3 (2008).
Раздел VI
ЭМОЦИИ НА ГРАНИ
Ян Плампер
СТРАХ: СОЛДАТЫ И ЭМОЦИИ В ИСТОРИИ ВОЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ НАЧАЛА XX ВЕКА1 2 3
Основная черта школы суворовского воспитания заключалась в искоренении из сердца и изгнании из голов человеческих не только эмоции страха, но даже и всякого понятия об этом позорном лля воина чувстве.
[В. П. ?] Прасолов1
Как я не могу себе представить плезиозавра на Невском, так я не могу представить себе, чтобы кто-нибудь не знал, что такое страх и как он действует на организм.
A. [M.J Дмитревский1
Поиск эмоции солдатского страха в личных свидетельствах периода войны 1812 года можно сравнить с пресловутым поиском иголки в стоге сена. Прямые упоминания крайне редки, да и те, как правило, звучат, как мемуары офицера Михаила Петрова: «Но рус
1 Статья содержит выводы исследования, выполненного при поддержке фонда SFB 437 «Kriegserfahrungen. Krieg und Gesellschaft in der Neuzeit» Тюбингенского университета, Historisches Kolleg в Мюнхене, Center for the History of Emotions под руководством Уте Фреверт в Max Planck Institute for Human Development в Берлине и Dilthey Fellowship (Фонд Fritz Thyssen). Я особо благодарен Ким (Жаклин) Фридлендер за ценные и содержательные замечания и за ее диссертацию, предоставленную еще до ее публикации. Я признателен Дитриху Байрау, Франку Биссу, Сюзан Моррисей, Ирине Сироткиной, Марку Стейнбергу, Йохену Хелльбеку, Беньямину Шенку, Монике Шер, Ольге Эдельман и Гленис Янг за комментарии к ранним вариантам статьи. Английская ее версия: «Fear: Soldiers and Emotion in Early Twentieth-Century Russian Military Psychology», Slavic Review 68:2 (2009).
2 [В. П.?] Прасадов, «Несколько слов к статье В. Полянского “Моральный элемент в области фортификации”», Военный сборник 54:5 (1911), 89.
3 А. Дмитревский, «Воспитание воина может быть только в стыде наказания, а не в страхе наказания», Военный сборник 56:10 (1913), 100. Автор статьи являлся главным редактором «Военного сборника».
402
Ян Плампер
ские воины смотрели на все громадные содомы вражеские с непоколебимым духом. Вера, Надежда и Любовь, великим Суворовым в сердца их водворенные, сделали души наши готовыми на всякое пожертвование ко спасению Отечества»4. Лишь следующая цитата позволяет несколько глубже проникнуть в душу солдата времен Александра I. В Бородинской битве солдатам Петрова было приказано разрушить два моста, что они и сделали «под сильным близким огнем неприятеля, стрелявшего по нас из восьми орудий с бугров селения и ружей от крайних домов и огорожей. Но все это успешно было мною исполнено чрез особенное соревнование к чести моих офицеров...»5.
Сто лет спустя ситуация радикально изменилась. Начало XX века дает уже массу описаний страха. Вот один пример из воспоминаний о Первой мировой войне:
Ну, это какой страх? — перебивает Семеныча какой-то бородач в отрепьях. — От такого страха не сдохнешь. В окопах — вот он где страх! Под самую шкуру залезает. Вылез я это раз из окопа. Беда! Рвутся снаряды грома тяжче. Округ стон стоит. Хочу идти — ноги не подниму, ровно кто за пятки хватает. Ни в праву, ни в леву сторону не гляжу — боюсь. Припал страх смертный, загреб за самое сердце, и нет того страху жестче. Ровно тебе за шкуру снегу холодного насыпали; лязгают челюсти, и кровь в жилах не льется: застыла вся. Взял я винтовку на прицел, ружье-то тяжелое, как пуд; завопил, захрипел по-зверьи, а курка спустить и не знаю как... Так и не смог, ровно обеспамятел...6
Очевидно, что между 1812и 1914 годами что-то произошло. Либо солдаты стали в каком-то смысле больше бояться, либо резко раздвинулись границы того, что дозволено было высказать и что реально было высказано о солдатском страхе, либо новый и реаль
4 1812 год: Воспоминания воинов русской армии (из собрания Отдела письменных источников Государственного исторического музея), под ред. Ю. Со-кортова, М.: Мысль, 1991, 180. Я благодарю Ингрид Ширле за указание на эту цитату.
3 Там же, 183. «Соревнование к чести» в это время действительно скорее обозначало «стремление к чести», нежели «честолюбие».
6 Л. Н. Войтоловский, По следам войны: Походные записки. 1914—1917, Л.: Госиздат, 1925, 69. В тот момент, когда стало возможным говорить о солдатском страхе, появились мнения, что выразить его крайне трудно, если не невозможно. Например, один солдат, неожиданно атакованный врагом сзади, так описывает свои эмоции: «Он атаковал меня сзади, и невозможно найти слова, чтобы описать мой страх...» (S. Fedortschenko, Der Russe redet: Aufaeichnungen nach dem Stenogramm, Miinchen: Drei Masken, 1923, 19—20).
Страх: солдаты и эмоции в истории военной психологии... 403
ный опыт страха совместился с дискурсивным сдвигом7. Одно можно утверждать с определенностью: особенно важным для этой перемены было превращение страха во вполне законный предмет научного исследования. Ключевую роль сыграли в этом такие науки, как неврология, невропатология, психиатрия, психология, психоанализ, педагогика, которые здесь простоты ради я объединю под рубрикой «военной психологии». Эти науки сформировались в конце XIX века и претерпели с тех пор сложные изменения: профессионализацию, международные взаимовлияния (так называемый «культурный трансфер»), взаимодействия и взаимопереплетения. Я собираюсь здесь рассмотреть, что и как военные психологи писали о страхе. Но для начала зададимся вопросом о том, как вообще стало возможным писать о страхе.
Главным источником для моего исследования послужили публикации (журнальные статьи и книги) военных психиатров и психологов8. В центре моего внимания находится изучение российских источников, но поскольку историческая и культурная специфика выражения эмоций яснее видна в сравнении с другими культурами и в «длительной протяженности» (longue duree), то я буду прибегать к регулярным экскурсам в источники, опубликованные в Германии, Франции, Англии и США, относящиеся также к началу XIX века. Мы рассмотрим первые два десятилетия XX века, когда Россия приняла участие в двух больших войнах: Русско-японской войне 1904— 1905 годов и Первой мировой 1914—1918 годов, став при этом первой нацией в истории, которая (в Русско-японской войне) прибегла к помощи военных психиатров при фронтовом лечении солдат с теми симптомами, которые позже стали фигурировать под названием военная контузия, или травматический невроз, в России, shell shock в Англии, commotion de la guerre или emotion de la guerre во Франции и Kriegsneurose в Германии и Австро-Венгрии9.
7 О «границе выразимого» см. фундаментальные тексты школы Begriffs-geschichte: R. Koselleck, Futures Past: On the Semantics of Historical Time, tr. K. Tribe, Cambridge, Mass.: МГГ, 1985; Id., The Practice of Conceptual History: Timing History, Spacing Concepts, tr. T. Presner et al., Stanford UP, 2002; W. Steinmetz, Das Sagbare und das Machbare: Zum Wandel politischer Handlungsspielraume. England 1780—1867, Stuttgart: Klett-Cotta, 1993.
8 Истории болезни составляют главный пробел в документации. Такие истории болезни доступны, лишь начиная с совете ко-финской войны; см., напр., Д. Журавлев, «Основные этапы развития государственного военного здравоохранения России», Военно-медицинский журнал 2 (2004).
9 Литература, касающаяся феномена shell shock, обширна и продолжает расти. Для сравнительного анализа этого феномена в разных странах см. Traumatic Pasts: History, Psychiatry, and Trauma in the Modem Age, 1870—1930, ed. M. Micale & P. Lerner, Cambridge: Cambridge UP, 2001. О России см. А. Асташов,
404
Ян Плампер
Как солдаты научились говорить о страхе? Шесть факторов
Чем вызвано поразительное распространение признаний в своем страхе у солдат на рубеже XIX—XX веков? Я насчитал шесть возможных тому объяснении.
Во-первых, поскольку это распространение совпало во времени с модернизацией приемов ведения войны, можно предположить, что оно связано с усилением реального психологического стресса, вызываемого современной войной. В условиях современной войны солдат подвержен намного более длительным периодам ружейного, гранатного и воздушного обстрела. Источник опасности становится крайне трудно определимым, а в случае окопной войны, как в Первую мировую, солдат был принужден находиться в неподвижности, блокирующей естественный рефлекс бежать от источника опасности, тогда как прежние способы ведения военных действий (открытое поле брани, штыковой бой, рукопашная) давали солдатам возможность преодолеть рефлекторный побег нападением и избежать таким образом чувства стыда перед товарищами за свой страх. К тому же современная война ведется регулярной массовой армией, солдаты которой проходят относительно короткий срок службы и вполне могут надеяться на возвращение к гражданской жизни. Им не хватает того корпоративного esprit de corps, который объединял прежние сословные армии10. Все эти факторы,
«Война как культурный шок: анализ психопатологического состояния русской армии в Первую мировую войну», Военно-историческая антологиия. Ежегодник, М.: РОССПЭН, 2002; J. [Kim] Friedlander, Psychiatrists and Crisis in Russia, 1880— 1917, Ph.D. diss., Univ, of California, Berkeley, 2007; Id., «Approaching War Trauma: Russian Psychiatrists Look at Battlefield Breakdown During World War I», Newsletter of the Institute of Slavic, East European, and Eurasian Studies (Univ, of California, Berkeley) 3 (2004); Ж. Фриллэндер, «Несколько аспектов shellshock’a в России, 1914—1916», Россия и Первая мировая война (материалы международного научного колоквиума), СПб.: БЛИЦ, 1999; С. Merridale, «The Collective Mind: Trauma and Shell-Shock in Twentieth-Century Russia», Journal of Contemporary History 1 (2000); E. Сенявская, Психология войны в XXвеке: исторический опыт России, М.: РОССПЭН, 1999; I. Sirotkina, «The Politics of Etiology: Shell Shock in the Russian Army, 1914—1918», Madness and the Mad in Russian Culture, Univ, of Toronto Press, 2007. Об Англии см. P. Leese, Shell Shock: Traumatic Neurosis and the British Soldiers of the First World War, N.Y.: Palgrave, 2002. О Франции см. M. Roudebush, A Battle of Nerves: Hysteria and Its Treatment in France during World War I, Ph.D. diss., Univ, of California, Berkeley, 1995; S. Michl, Im Dienste des “Volks-korpers Deutsche und franzpsische Artfe im Ersten Weltkrieg, Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2007, ч. 3. О Германии см. Р. Lerner, Hysterical Men: War, Psychiatry, and the Politics of Trauma in Germany, 1890—1930, Ithaca: Cornell UP, 2003.
10 О военной реформе 1874 г. и российском массовом призыве cm.W. Ве-necke, Militar, Reform und Gesellschaft im Zarenreich: Die Wehrpflicht in Russ land
Страх: солдаты и эмоции в истории военной психологии... 405
вместе взятые, стали причиной существенного роста психологического стресса, который и повлиял на характер описаний солдатами перенесенного ими на поле боя.
Надо учесть и то, что с приходом Нового времени возникло понятие о человеке как об автономном субъекте, который определяет окружающий мир и себя самого. Разрушение субъекта — например, вследствие смерти на войне — вызывает большую тревогу, нежели то было в царстве сверхъестественных сил, которым подвластен и мир и человек. Смерть теперь уже не результат божьей воли, а угроза человеческой автономии, самому основанию, на котором зиждется существование человека в мире* 11.
Другое объяснение, появившееся под влиянием Фуко, указывает на характерную для Нового времени интериоризацию эмоций. Поскольку солдаты становятся автономными субъектами и уже не чувствуют себя вплетенными в сложную сеть обязательств, а потому и не должны отстаивать свою честь перед лицом товарищей, эмоции сдвигаются с телесной поверхности к телесному нутру. С этим сдвигом связано и становление «наук» о внутреннем мире: психологии и психиатрии. Если следовать этому объяснению, психологические науки не только создали и распространили язык для выражения эмоций, но и само их появление оправдало (если не изобрело) солдатский страх и возможность его публичного озвучивания12.
1874—1914, Paderborn: F. Schoningh, 2006. Следует подчеркнуть, что в зависимости от принципов построения армии факт службы в ней и смерти за родину может приобретать различный смысл. В наемных армиях сграх входит в акт свободной экономической воли и поэтому не обсуждается, подобно тому как возможная смерть шахтера предполагается в его самостоятельном экономическом решении и поэтому умалчивается. Только когда риск перестает быть личным и становится частью более широкого, общенационального решения, открывается дискурсивное поле для его обсуждения.
11 См. эту идею у С. Robin, Fear. The History of a Political Idea, N.Y.: Oxford UP 2004, 11 — 12. Сходную метаморфозу вызвало рождение пацифизма в XIX в. Как только стало мыслимым решать конфликты мирным путем, все тяготы войны и смерть, как их апогей, а равно и страх перед ней стали восприниматься как сугубо необязательные.
12 По словам Дж. Бурк, «психиатры, клинические психологи и социальные работники должны были “лечить” от шока, вызываемого убийством [на войне]. Они же внесли радикальные перемены в военную терминологию: “трусость” (с соответствующими репрессивными мерами по борьбе с ней) стала “травматическим неврозом” и “тревожным состоянием”, требовавшим лечения, а нс осуждения» (J. Bourke, An Intimate History of Killing: Face-to-Face Killing in Twentieth-Century Warfare, N.Y.: Basic Books, 1999, 82). Об интериоризации см. M. Foucault, Histoire de la folie, Paris: Pion, 1961 (M. Фуко, Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы, пер. В. Наумова, под ред. И. Борисовой, М.: Ad Marginem, 1999).
406
Ян Плампер
Возможно еще одно объяснение. В России стало допустимым говорить о страхе на войне, поскольку это стало возможным в Западной Европе. То есть произошел своеобразный импорт: Россия расширила сферу того, о чем можно говорить, не в силу своего вхождения в Новое время, а в силу подражания, мимикрии. Создавая и делая общедоступными тексты о солдатском страхе, Россия доказывала себе и Западу, что «догнала» Новое время.
Можно, кроме того, предположить, что определенную роль сыграли повышение общей грамотности населения и возникновение новых медиа, с такими их жанрами, как детектив и скандальная желтая пресса с их неслыханными дотоле возможностями «нагнать на читателя страха»13. Статичные медиа (лубки, живопись и фотографии), хотя и могут изобразить страх, едва ли способны его вызвать, что вполне по силам таким динамичным жанрам, как кинематограф и художественная литература, прекрасно умеющим нагнетать напряжение и страх. Эго объяснение опирается на характеристики жанра. Можно предположить, что в связи с появлением таких жанров, как детектив, способных вызывать в читателях (число которых росло вместе с ростом грамотности) страх, раздвинулись и границы дозволенного в публичном выражении собственного страха. Эта дозволенность повлияла и на медицину, превратившую, в свою очередь, страх в объект исследований, и на личные солдатские свидетельства.
Наконец (и этот фактор по важности уступает только изменениям в способе ведения войны), решающую роль в расширении границ дозволенности в описаниях страха, испытываемого военными, сыграла русская литература. Трудно переоценить в этом смысле значение «Севастопольских рассказов» Льва Толстого, опубликованных в 1855 году. Эти рассказы, многим обязанные «Пармской обители» (1839) Стендаля, дают три изображения разных периодов осады Севастополя и его падения в сентябре 1855 года14.
13 J. Brooks, When Russia Learned to Read: Literacy and Popular Literature, 1861 1917, Princeton UP, 1985; L. McReynolds, The News under Russia's Old Regime: The Development of a Mass-Circulation Press, Princeton UP, 1991. Первый русский детектив был опубликован в 1866 г. См. N. Franz, Moskauer Mordge-schichte: Der russisch-sowjetische Krimi 1953- 1983, Mainz: Liber, 1988, 67.
14 О связи между Стендалем и Толстым см. G. Schwarz, Krieg und Roman: Untersuchungen zu Stendhal, Hugo, Tolstoj, Zola und Simon, Fr.a.M.: P. Lang, 1992, 85; C. Manning, «The Significance of Tolstoy’s War Stories», PMLA 52:4 (1937). (Я благодарю Беньямина Шенка за указание на эти публикации.) «Севастопольские рассказы» получили широчайший отклик. О том, насколько действенными (т.е. реалистичными) были описания чувств солдат для современников, можно судить по письму прозаика А. Писемского драматургу А. Островскому по поводу одного из «Севастопольских рассказов»: «Ужас овладевает, волосы
Страх: солдаты и эмоции в истории военной психологии... 407
27-летний Толстой переживал и наблюдал осаду вблизи. К этому времени он был уже ветераном кавказской войны, где чуть не был убит снарядом. Страх — преобладающая эмоция «Севастопольских рассказов», именно его описывает автор, его хочет вызвать и в читателе. Толстой начинает с описания целой гаммы чувственных впечатлений, которые накатывают на солдата, включая взрывы бомб, свист пуль, рев снарядов.
Вы вдруг поймете, и совсем иначе, чем понимали прежде, значение тех звуков выстрелов, которые вы слушали в городе. [...] собственная ваша личность начнет занимать вас больше, чем наблюдения; у вас станет меньше внимания ко всему окружающему, и какое-то неприятное чувство нерешимости вдруг овладеет вами. Несмотря на этот подленький голос при виде опасности, вдруг заговоривший внутри вас, вы, особенно взглянув на солдата, который, размахивая руками и оскдизаясь под гору, по жидкой грязи, рысью, со смехом бежит мимо вас, — вы заставляете молчать этот голос, невольно выпрямляете грудь, поднимаете выше голову... («Севастопольские рассказы»).
Далее Толстой стремится передать ощущение нарастающей опасности. Ужас у Толстого приближается мучительно медленно. Нарративная стратегия передачи страха как будто перевешивает фотографическую изобразительность. Или как будто реализм «теряет очки» у эмоционально взвинченного читателя.
Уже первое упоминание слова ‘страх’ дается в описании переживания наивысшего ужаса (и зеркально отражается в повествовании о восхождении рассказчика на вершину Севастопольских высот):
Как вам кажется, недалеко от себя слышите вы удар ядра, со всех сторон, кажется, слышите различные звуки пуль — жужжащие, как пчела, свистящие, быстрые или визжащие, как струна, — слышите ужасный гул выстрела, потрясающий всех нас, и который вам кажется чем-то ужасно страшным. «Так вот он, четвертый бастион, вот оно, это страшное, действительно ужасное место!» — думаете вы себе, испытывая маленькое чувство гордости и большое чувство подавленного страха.
становятся дыбом от одного только воображения того, что делается там. Статья написана до такой степени безжалостно-честно, что тяжело [даже] становится читать. Прочти ее непременно!» (А. Писемский, Материалы и исследования. Письма, М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1936, 82).
408
Ян Плампер
Отныне Толстой берется очертить всю эту огромную и многообразную область, которую он называет «целый мир чувств». Он описывает разные телесные проявления солдатского страха: сердцебиение, пот, затрудненное дыхание, бледность, замедленное кровообращение. Он описывает феномен возбужденного волнения, «странное чувство наслаждения и вместе страха» (Angstlust, как его назвал Майкл Балинт)15. Он описывает, как и солдаты, и офицеры изображают храбрость. Он описывает трусость и страх показать себя трусом. Для Толстого надежда кроется только в религии, ее отправлении (молитва, иконы) и в ее посулах (жизнь после смерти). В самом конце второго рассказа, «Севастополь в мае», Толстой оправдывает свой реализм в религиозных терминах:
И эти люди — христиане, исповедующие один великий закон любви и самоотвержения, глядя на то, что они сделали, с раскаянием не упадут вдруг на колени перед тем, кто, дав им жизнь, вложил в душу каждого, вместе с страхом смерти, любовь к добру и прекрасному, и со слезами радости и счастия не обнимутся, как братья? Нет! [...] Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, — правда.
Во имя любви к правде, основанной на христианском милосердии, Толстой призывает офицеров (и, косвенно, солдат) нарушить молчание и дать слово своему страху. Так, специфический реализм с христианско-толстовскими обертонами немало способствовал расширению границ того, что могло быть публично сказано о солдатском страхе в России в XIX веке.
Место страха в российской военной психологии (I): до 1860-х годов включительно
В конце XIX века в Северной Америке и Европе (включая Россию) быстрыми темпами развивались такие медицинские науки, как психиатрия, неврология, невропатология, психология и психоанализ16. В этом развитии военный фактор сыграл роль куда более
15 М. Balint, Angstlust und Regression, Stuttgart: Klett-Cotta, 2000.
16 В последующем изложении я опираюсь в первую очередь на Friedlander, Psychiatrists and Crisis in Russia, 1880—1917. Также см. J. V. Brown, The Professionalization of Russian Psychiatry: 1857—1911, Ph.D. diss., Univ, of Pennsylvania, 1981; R. Gabriel, Soviet Military Psychiatry: The Theory and Practice of Coping with Battle
Страх: солдаты и эмоции в истории военной психологии... 409
значительную, чем обычно признается историей психиатрии17. Военные были заинтересованы в лечении нервных расстройств и возвращении в строй боеспособных солдат. Психиатрическая наука, в свою очередь, была заинтересована в психически больных солдатах как объектах для наблюдения, классификации (а возможно, и для обнаружения новых) симптомов, причин и способов лечения нервных болезней. Эмоция страха оказалась в центре этих исследований. Чтобы понять, как это произошло, рассмотрим подробнее институционное, политическое и идейное развитие медицинских наук в этот период.
В России до начала 1920-х годов это развитие было в целом сходным с западноевропейским, лишь с некоторыми различиями. Сначала психически больные отдавались под присмотр их семей, местных властей, церквей и монастырей, пока при Петре I не были учреждены первые дома для душевнобольных. В 1832 году лечебница для душевнобольных была открыта недалеко от церкви Всех Скорбящих, близ Санкт-Петербурга. Ее возглавил И. Ф. Рюль, а затем Ф. И. Герцог, считающиеся с тех пор отцами-основателями русской психиатрии. С 1830-х годов психиатрия входит в учебную программу медицинских факультетов, хотя и не на полных правах. В государственном университетском уставе 1835 года психиатрии отводилась уже большая роль, но настоящим импульсом для развития психиатрии послужила Крымская война — и поражение в ней в 1856 году. Военная неудача не только подстегнула так называемые Великие реформы (и в частности, образовательную профессионализацию психиатрии), но и — что часто недооценивается — ясно показала военачальникам, что в будущих войнах на психологическую науку ложится основная нагрузка при восстановлении психической боеспособности солдат, психология становится все более необходимой в условиях новых направлений в военной стратегии, которые показала Крымская война.
Stress, N.Y.: Greenwood, 1986; I. Sirotkina, Diagnosing Literary Genius: A Cultural History of Psychiatry in Russia, 1880 1930, Baltimore: Johns Hopkins UP, 2002. О психологической науке см. D. Todes, From Radicalism to Scientific Convention: Biological Psychology in Russia from Sechenov to Pavlov, Ph.D. diss., Univ, of Pennsylvania, 1981; Сеня вс кая, Психология войны в XX веке. О психоанализе см. А. Эткинд, Эрос невозможного: История психоанализа в России, СПб.: Медуза, 1993; М. Miller, Freud and the Bolsheviks: Psychoanalysis in Imperial Russia and the Soviet Union, New Haven: Yale UP, 1998.
17 Тем более заслуживают упоминания исключения: Friedlander, Psychiatrists and Crisis in Russia, 1880 1917, P. Wanke, Russian/Soviet Military Psychiatry, 1904 1945, London: Routledge, 2005; Gabriel, Soviet Military Psychiatry. Исследование Brown, The Professionalization of Russian Psychiatry: 1857—1911 уделяет особое внимание процессу профессионализации.
410
Ян Плампер
Психо-неврологическая ветвь стала отделяться от общего древа медицины внутренних болезней начиная с 1850-х годов, что приняло и институциональное оформление (создание специальных факультетов, больниц и соответствующих государственных дипломов)18. В 1890-е годы психиатрия и неврология начали отделяться друг от друга, а несколько позже из психиатрии выделился психоанализ. К 1900 году российская психиатрия уже устойчиво стояла на ногах19. Различить военные и гражданские стороны этих процессов практически невозможно. Достаточно упомянуть о том, что «отец» российской психиатрии, И. М. Балине кий, был военным врачом по образованию, что Санкт-Петербург являлся центром медицинских наук во многом благодаря присутствию военного министерства и что главным учреждением медицинского образования была Военно-медицинская академия в Санкт-Петербурге (а позже Ленинграде), которая сдала эту позицию обычным медицинским вузам только в 1940-е годы. Русско-японская война, Первая балканская война 1912 года и Первая мировая война дали дополнительный толчок развитию военной психиатрии. Русско-японская война породила 6225 официально зарегистрированных случаев «истерии и нервного истощения». Многие называют ее первой современной войной или даже «Нулевой мировой войной» (World War Zero20). Она привлекла пристальное внимание исследователей, поскольку, как отметил американский военный психиатр, капитан Р. Л. Ричардс, в 1910 году, «впервые в истории человечества психические заболевания лечились отдельно от других заболеваний специалистами как на фронте, так и в тылу»21. К концу второго
18 Такие журналы, как «Военно-медицинский журнал», продолжали публиковать статьи о психиатрии в рубрике «Внутренние болезни» еще в XX веке, когда психиатрия давно стала отдельной уважаемой медицинской наукой.
19 Об этом свидетельствует ее появление за рамками чисто медицинских и психиатрических естественно-научных журналов в «Военном сборнике», ее влияние на другие отрасли науки и искусства—художественную литературу, живопись и театр. См. Эгкинд, Эрос невозможного и Sirotkina, Diagnosing Literary Genius.
20 См. Wanke, Russian/Soviet Military Psychiatry, 18.
21 R. Richards, «Mental and Nervous Diseases in the Russo-Japanese War», Military Surgeon (1910), 177. На Западе стало известно о российском опыте, связанном с душевными заболеваниями в Русско-японской войне, не только от российских психиатров, но и в связи с лечением российских офицеров в немецких психиатрических больницах. См. H.-G. Hofer, Nervenschwiiche und Krieg: Modernitatskritik und Krisenbewaltigung in der osterreichischen Psychiatric (1880— 1920), Wien: Bohlau, 2004, 205. До Русско-японской войны многие войны считались первой современной войной: о Наполеоновских войнах как «первой тотальной войне» см. D. Bell, The First Total War: Napoleon s Europe and the Birth of Warfare as We Know It, Boston: Houghton Mifflin, 2007. Также см. D. Lange-
Страх: солдаты и эмоции в истории военной психологии... 411
десятилетия XX века Россия вышла в авангард в мировой военной психиатрии.
Российские психиатры не раз обращались к прошлому своей науки22. Написанные ими истории были во многом сходны между собой (церковная опека, Петр I, создание Военно-медицинской академии, влияние западной психиатрии), но место, которое занимал в этих историях страх, существенно менялось на протяжении времени. В истории российской психиатрии А. Л. Щеглова (1899) слово «страх» присутствует лишь дважды, и в одном из этих случаев он трактуется почти (но все же не вполне) как причина умственного расстройства. В одном случае Щеглов цитирует исследование немецкого психиатра Вернер Нассе об Австрийско-прусской войне 1866 года, а в другом — работу немецкого психиатра Рудольфа Арндта о Франко-прусской войне 1870—1871 годов; в обоих исследованиях страх описывается как болезнетворное явление. Всего восемь лет спустя М. О. Шайкевич придает страху уже статус главного патогенного фактора, вызывающего многочисленные нервные расстройства и заболевания у солдат в военное время23. Русско-японская война и революция 1905 года способствовали распространению страха и как причины психических заболеваний, и как их симптома. Если Русско-японская война наглядно показала, что в условиях современной войны страх выступает причиной основных нервных заболеваний, которыми страдают солдаты, то революция 1905 года окончательно сняла запрет на публичное обсуждение солдатского страха. Широкое общественное обсуждение страха (страха революции и хаоса) позволило, с одной стороны, солдатам обсуждать свои страхи, с другой — психиатрам ретроспективно вставить страх в профессиональную версию собственной дисцип
wiesche, «Eskalierte die Kriegsgewalt im Laufe der Geschichte?», Moderne Zeiten? Krieg, Revolution und Gewalt im 20. Jahrhundert, ed. J. Baberowski, Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2006.
22 По словам Анджелы Бринтлингер, «они принялись очень агрессивно писать свою историю, и в конце XIX века создание таких историй стало главным источником их легитимности» (A. Brintlinger, «Writing about Madness: Russian Attitudes toward Psyche and Psychiatry, 1887 — 1907», Madness and the Mad in Russian Culture, ed. A. Brintlinger, I. Vinitsky, Toronto UP, 2007, 173).
23 См. А. Щеглов, «Материалы к изучению расстройств в армии», Военномедицинский журнал 77:11 (1899), 863 (Nasse), 870 (Arndt); М. Шайкевич, «К вопросу о душевных заболеваниях в войске в связи с Русско-японской войной: I», Военно-медицинский журнал 85:6 (1907); Id., «К вопросу о душевных заболеваниях в войске в связи с Русско-японской войной: II», Военно-медицинский журнал 85:9 (1907), 86 (о страхе как сокращенном описании разных патогенических факторов).
412
Ян Плампер
линарной истории24. Психиатрам предоставилась возможность с уверенностью писать о Крымской и Русско-турецкой войнах: «Конечно, больные нервными расстройствами там были; были несомненно, но, в силу слабых познаний тогдашних врачей в области нервных болезней, такие случаи не отмечались и проходили под другими названиями»25.
Но одно дело — историческое описание психиатрии самими психиатрами, другое — путь, проделанный концептом страха в психиатрических науках и наблюдаемый извне. В вышедшей в 1834 году книге Романа Четыркина Опыт военно-медицинской полиции, или Правила к сохранению здоровья русских солдат в сухопутной службе (1834) страх упоминается лишь один раз. При обсуждении преимуществ русских, малороссиян и казаков перед другими народами империи автор указывает, что эти три славянских народа, в отличие от других народов, «воспитаны в страхе Божием»26. Хотя Четыркин и советует офицерам воспитывать волю своих солдат, чтобы те могли «преодолевать все нужды, труды и опасности для одержания победы над неприятелем, без возбуждения в них угнетающих страстей и ослабления душевных сил»27 28, но все же основные понятия, в которых обсуждается страх, лежат больше в области морали и религии, нежели медицины и психологии, и анализ национального характера солдат основан скорее на понятиях климата и религии, нежели генов или типов личности отдельных индивидов. Болезни здесь объясняются преимущественно проблемами гигиены, а если речь заходит о чувствах, то это чувства либо религиозные, либо патриотические, коренящиеся в национальном характере («в страхе Божием, любви и покорности к ГОСУДАРЮ»24). Таким образом, началась эмоционализация («чувствизация» было бы более подходящим термином, поскольку чувства и страсти еще не превратились в то время в научное понятие «эмоции») религии, культа царя и патриотизма, что вместе с существующими в русском языке физиологическими категориями «органов чувств», «обмана чувств» и других было очень важно для складывания языковой основы для возникновения позже медицинских терминов, описываю
24 См., напр., Ф. Гадзяцкий, «Душевные расстройства в связи с политическими событиями в России», Военно-медицинский журнал 86:9 (1908), 97.
25 Г. Шумков, «Философская покорность судьбе и болезненное малодушие», Военный сборник 57:1 (1914), 109, сн. 2.
26 Р. Четыркин, Опыт военно-медицинской полиции, или Правила к сохранению здоровья русских солдат в сухопутной службе, СПб.: Типография Иверсена, 1834, 66.
27 Там же, 62.
28 Там же, 66.
Страх: солдаты и эмоции в истории военной психологии... 413
щих солдатский страх29. Языком чувств пронизана и книга А. Кислова Военная нравственность (1838), в которой страх божий и любовь к царю и отечеству представлены как врожденные качества, героизм — как естественное последствие этих качеств, не зависящее от каких бы то ни было стимулов (финансовых или символических, например, орденов), и согласно которой офицером и солдатом движут чувства любви и благодарности30.
Несмотря на появление языка чувств, работы 1830-х годов еще принадлежат миру чести и дуэли, миру, в котором о страхе можно было говорить отрицательно («неустрашимость»), но положительно — еще нет; в котором Кутузов проливает слезы только один раз, и не в связи с ощущением страха или горести, а потому, что вынужден приговорить двух солдат к смертной казни31. Перемена произошла где-то между 1830-ми годами и Великими реформами, которые, как известно, коснулись и военного дела. Частью военной реформы была новая военная доктрина и устав проведения военных учений; особое внимание в этой связи заслуживают статьи генерала Драгомирова.
Генерал Драгомиров и доктрина «контролируемого самоотвержения»
Михаил Иванович Драгомиров (1830—1905) быстро поднялся по военной иерархической лестнице и в конце 1850-х годов был по
29 Об «органах чувств» и «обмане чувств» см., напр., Ф. Гадзяцкий, «О влиянии душевно-больных друг на друга», Военно-медицинский журнал 76:12 (1898), 1555, 1567.
30 А. Кислов, Военная нравственность, СПб.: Типография Главного Управления путей сообщения и публичных зданий, 1838, 32, 79, 47. Здесь же на двух страницах дана идеальная эмоциональная характеристика солдата: в нее входит ненависть к врагу, запальчивость, смелость, ревность к должности и чувство обязанности; там же, 72 — 73. Таксономия чувств здесь, конечно, еще не отработана, несколько беспорядочна и избыточна при отсутствии внутренней связи. Несмотря на религиозность и патриотизм, которыми солдаты, по-видимому, снабжены от рождения, решающее, над всеми возвышающееся чувство «великодушия» может варьироваться от солдата к солдату, поэтому перед лицом опасности не все они выказывают «неустрашимость», а некоторые даже впадают в наихудший из воинских пороков — в «робость». См. там же, 105 — 106, 58, 67—68, 77—78. Кислов различает также врожденную «храбрость» и благоприобретаемую, поддающуюся тренировке «смелость»; см. 69—70.
31 Там же, 92, 90, 98. Про честь и дуэль также см. U. Frevert, Men of Honour: A Social and Cultural History of the Duel, Cambridge: Polity, 1995; I. Reyfman, Ritualized Violence Russian Style: The Duel in Russian Culture and Literature, Stanford UP, 1999. Цитата Петрова времен войны 1812 г., приведенная в начале этой статьи, свидетельствует именно об этой культуре чести. О культуре чести допетровской России см. N. Kollmann, By Honor Bound: State and Society in Early Modem Russia, Ithaca: Cornell UP, 1999.
414
Ян Плампер
слан в Европу изучать тактику и воинское воспитание. После возвращения в Россию во время реформ он привлекался на службу не только для пересмотра основ системы обучения и воспитания войск, но и как педагог нескольких царевичей. В его военный послужной список входит подавление Польского восстания 1863 года, служба в прусской армии во время войны 1866 года и командование дивизией в победоносной Русско-турецкой войне 1877—1878 годов. После ранения, полученного на этой войне, он получил назначение в Военную академию в Петербург, где получил известность как самый активный и самый читаемый как в стране, так и за рубежом российский военный теоретик32.
Страх был в центре военно-теоретических разработок Драгомирова. Он начинает с аксиоматического положения о человеческой природе: «Готовность страдать и умирать, то есть самоотвержение» есть универсальное понятие33. По Драгомирову, русского воина характеризовала «преданность государю и Родине до самоотвержения»34. «Самоотвержение» для Драгомирова является антиподом и врагом чувства самосохранения35. Чтобы «самоотвержение» победило самосохранение, согласно Драгомирову, необходима прежде всего тренировка послушания. Тренировка и опыт — лучшие противоядия от страха. Поэтому даже в мирное время маневры должны быть максимально устрашающи и опасны, то есть сколь возможно близки к реальности36.
Важнейшей частью теории Драгомирова стала доктрина «контролируемого самоотвержения». Согласно Драгомирову, русскую
32 See Encyclopaedia Britannica, vol. 8, N.Y., 111911, 466.
33 Цит. по: Л. Бескровный, «М. И. Драгомиров», в: М. Драгомиров, Избранные труды. Вопросы воспитания и обучения войск, М.: Воениздат, 1956, 28. О Драгомирове также см. J. Sanborn, «The Short Course for Murder: How Soldiers and Criminals Learn to Kill», Violent Acts and Violentization: Assessing, Applying, and Developing Lonnie Athens ’ Theories, ed. L. Athens, J. Ulmer, Cambridge: JAI, 2003, 109. Разумеется, аксиома об инстинкте самосохранения как самом фундаментальном чувстве солдата имеет более древнюю генеалогию, восходящую по меньшей мере к Суворову и Клаузевицу.
34 Драгомиров, «Подготовка войск в мирное время (воспитание и образование)». Он же, Избранные труды, 612.
35 Там же. Это диалектическое понятие оказалось весьма влиятельным. Оно может проявиться и в других одеждах, например, как оппозиция «самосохранения versus патриотизм». В. Заглухинский, «Психика бойцов во время сражения», Военный сборник 54:1 (1911), 87.
36 Но в полном согласии с либерализмом пореформенной эпохи Драгомиров считает страх, внушаемый солдату офицером, явлением вредным. Солдата нужно воспитывать так, чтобы он испытывал чувство страха как можно реже, ибо кто боится своих, испугается и врага; см. «Подготовка войск в мирное время», 605.
Страх: солдаты и эмоции в истории военной психологии... 415
армию от западных отличал ее особый упор на мораль, а не на военную технику. Русского солдата от западного отличало то, что он мог выпускать и снова брать под контроль свою агрессию без употребления современного огнестрельного оружия способами, недоступными декадентствующему западному солдату37. Эта доктрина вылилась в формулу «Пуля дура — штык молодец» (англ, «bayonets before bullets»)38. В своей основе это была попытка реанимировать непосредственный поединок между мужчинами, типичный для войны до Нового времени. Как ни парадоксально, она базировалась на представлениях о личности в духе Просвещения и Нового времени: только автономный, разумный субъект может по команде освобождать зверя в себе и по команде снова брать его под контроль. Появление идеи контролируемого отхода от разумного поведения стало возможным только после того, как разум был определен как основная черта человека.
До Первой мировой войны солдаты обучались по доктрине Драгомирова, ею же руководствовалась русская военная тактика, ею же был вдохновлен, в частности, Устав строевой пехотной службы (1866) — первый новый устав, принятый с 1831 года. В связи с этой доктриной развился «эмоциональный режим», который удивительно открыто обсуждал страх и его преодоление39. Таким образом, реалистическая проза Толстого, с одной стороны, и военная теория Драгомирова, с другой, были первыми шагами в расширении риторики касательно солдатского страха. Они готовили почву для вынесения страха на широкое обсуждение, в том числе руководящими офицерами, после окончания Русско-турецкой войны 1877—1878 годов. Генерал Скобелев, например, писал:
Нет людей, которые не боялись бы смерти; а если тебе кто скажет, что не боится, — плюнь тому в глаза; он лжет. И я точно так же не меньше других боюсь смерти. Но есть люди, кои имеют дос
37 По сути, мы имеем дело с глубоко консервативной концепцией. Сходным образом 50 лет спустя консервативный врач с удовлетворением отмечал, что безграмотность российских солдат сводит к минимуму их критику в адрес офицеров: Заглухинский, «Психика бойцов во время сражения», 89.
38 В. Menning, Bayonets before Bullets: The Imperial Russian Army, 1861—1914, Bloomington: Indiana UP, 1992.
39 Понятие «эмоциональный режим», согласно Редди, включает в себя «набор нормативных эмоций и официальных ритуалов, методов и эмоциональных практик, которые служат их выражению и внушению; необходимое подкрепление любого устойчивого политического режима» (Reddy, The Navigation of Feeling, 129). Возможно, другие государства развивали сходный эмоциональный режим. См., напр., роль прорыва во французской армии (я благодарю Чэда Брайанта за этот пример).
416
Ян Плампер
таточно силы воли этого не показать, тогда как другие не могут удержаться и бегут пред страхом смерти. Я имею силу воли не показывать, что я боюсь; но зато внутренняя борьба страшная, и она ежеминутно отражается на сердце40.
Место страха в российской военной психологии (II): после 1860-х годов
Что же касается собственно медицинской, а точнее, психиатрической точки науки, то в Россию идея о патогенной роли страха в возникновении нервных заболеваний у солдат пришла из Германии в 1873 году, то есть почти сразу после Франко-прусской войны41. Следующей важной вехой стала публикация в 1891 году диссертации А. И. Озерецковского «Об истерии в войсках»42. Озерецковский, один из первых российских специалистов, обративших внимание на фактор страха, все же отрицал его патогенное свойство в случае такого заболевания, как «истерия». Этиология «мужской истерии», которой заболевали в первую очередь молодые солдаты, сводилась к физиологически окрашенному понятию «травмы»: «падение с гимнастических лестниц или трапеций, неудачные прыжки и тому подобные падения и ушибы», так же как и световые и звуковые впечатления. Например, в одном из случаев
40 Цит. по: Н. Головин, Исследование боя: Исследование деятельности и свойств человека как бойца, СПб.: Экономическая Типо-Л изография, 1907, 52. Скобелев указал на сердце отнюдь не случайно. О феномене «солдатского сердца» см. J. Howell, «“Soldier’s Heart”: The Redefinition of Heart Disease and Specialty Formation in Early Twentieth-Century Great Britain», War, Medicine and Modernity, ed. R. Cooter, M. Harrison, S. Sturdy, Stroud: Sutton, 1998. Другой генерал, Петр Паренсов, признавался после Русско-турецкой войны в чувстве страха, пережитом в момент полного одиночества в окружении многочисленных врагов: «Признаюсь, ужас охватил меня», П. Паренсов, Из прошлого: воспоминания офицера Генерального штаба, СПб., 1901— 1908, 2:135. Цит. по: Головин, Исследование боя, 141.
41 См. синопсис статьи О. Kots из Berliner kUnische Wochenschrift (1873) «О влиянии страха на развитие болезни», Военно-медицинский журнал 51:9 (1873), 10—11. Позже в своих публикациях по истории психиатрии психиатры обнаружили причинную связь между страхом и нервными заболеваниями даже у Жана Эсквироля (Jean Etienne Dominique Esquirol, Allgemeine und specielle Pathologic und Therapie der Seelenstdrungen. Leipzig: Hartmann, 1827). См. Щеглов, Материалы к изучению расстройств в армии, 862.
42 См. автореферат: А. Озерецковский, «Об истерии в войсках», Военномедицинский журнал 69:11 (1891), 371. Впоследствии Озерецковский часто упоминался как первый русский ученый, описавший мужскую истерию. См., напр., Поспелов, «К вопросу об истерии у солдат», Военно-медицинский журнал 76:8 (1898), 1138.
Страх: солдаты и эмоции в истории военной психологии... 417
наблюдалась «истерическая светобоязнь, обусловленная продолжительной работой на заводе электрического освещения, где и освещение завода было электрическое»43. Такой отрыв страха от нервных заболеваний преобладал на протяжении целого десятилетия. Как уже было упомянуто выше, понимание страха как главной причины нервных заболеваний постепенно стало доминирующим после Русско-японской войны и особенно после массового социального революционного кризиса 1905 года44. Перемена не была резкой. Постепенно травма, сопряженная с «испугом», была признана патогенным фактором, вызывающим страх как симптом болезни («после испуга от какого-то сильного грохота у него сделался припадок»45). Пациенты уже считали страх причиной заболевания, тогда как врачи все еще отрицали причинную связь.
Какое представление о человеческой природе лежит в основе этиологии Озерецковского и других психиатров? Здесь можно различить два варианта: либо страх признается неотъемлемой частью человеческой природы, либо же он ей несвойствен. Эта бинарная оппозиция получила в 1911 году весьма влиятельное закрепление в Военном сборнике под названием «двух доктрин» солдатского страха — «романтической» и «реалистической». Эти понятия позже часто встречаются в различных источниках. Автор этих доктрин, М. В. Энвальд, так объясняет различие между ними: романтическая доктрина представляет солдата храбрым и бесстрашным и рассматривает страх как отклонение от нормы; реалистическая же доктрина исходит из того, что все солдаты испытывают страх перед, во время и часто даже после сражения46. Бинарная оппозиция романтической и реалистической доктрин предоставила новый язык уже существующей оппозиции; вскоре «романтическая» и «реалистическая» доктрины начали упоминаться в различных работах по военной психиатрии. Страх в военной психиатрии стал, таким образом, дискурсивным полем, ограниченным двумя полюсами: с одной стороны, образ бесстрашного по своей натуре солдата («романтическая доктрина»), с другой — образ солдата, которому по природе свойственно испытывать страх («реалистическая докгри-
43 Озерецковский, «Об истерии в войсках», 371.
44 Эго развитие не было простым и включало в себя скачки и исключения. См., напр., Я. Горшков, «К казуистике психозов сифилитического происхождения», Военно-медицинский журнал 76:8 (1898), 1168; Э. Эриксон, «Два случая тяжелой истерии на почве самовнушения», Военно-медицинский журнал И (1902), 4185.
43 Я. Горшков, «К казуистике психозов сифилитического происхождения», 1168.
46 М. Энвальд, «Две доктрины боевого воспитания войск», Военный сборник 54:1 (1911).
418
Ян Плампер
на»). Со временем вторая доктрина стала преобладать, при этом в разных группах (генералы, офицеры, солдаты или же военные психиатры) ей придавалось неодинаковое значение. Неудивительно, что военные психиатры всегда тяготели именно к ней; в конце концов, своей работой они были обязаны солдатскому страху и вызванными им расстройствами.
Были и иные причины, склонявшие военных психиатров к мнению, что симптомы их пациентов обусловлены не особенностями личности («трусливый» тип личности), врожденными расстройствами или нервной и моральной ограниченностью («дегенерат»), а скорее личным опытом, пережитым во время войны, опытом столь травматичным, что существующие механизмы защиты от стрессовой ситуации не срабатывали. Психиатры принадлежали к либеральной интеллигенции, и разрыв между ними и самодержавием был значительно глубже, чем разрыв между военной психиатрией и властью в Западной Европе. Понятно поэтому, что их симпатия и социальное сознание были на стороне рядового солдата. Немаловажно к тому же, что в России не возникло той дискуссии о пенсиях для ветеранов, которая разгорелась в Германии, где травматический невроз подвергся агрессивной эссенциализации и был представлен как внешнее выражение врожденной генетической предрасположенности, с целью освободить государство от оплаты лечения и пенсии, как это убедительно показал Пол Лернер47.
Но и внутри господствующего реалистического подхода к страху было место и для дискуссий и разногласий. Как правило, специалисты начинали с описания симптомов, а затем переходили к определению разных видов страха, используя при этом такие слова, как «страх», «испуг», «трепет», «боязнь», «тревога», «паника» и др. В одной из своих статей Григорий Шумков, заведующий психиатрическим отделением военного госпиталя в Харбине во время Русско-японской войны и главный военный психиатр первых двух
47 В Германии маргинальней: мнение психиатра Макса Ноннэ и некоторых других о том, что война служит лишь катализатором уже предсуществующих психологических расстройств и что государство, таким образом, может быть освобождено от денежных обязательств по отношению к травмированным солдатам, было позорно возведено в ранг общепринятой доктрины на конгрессе по военной психиатрии в Мюнхене в сентябре 1916 г. Соответственно, разделяемая прежде большинством позиция Германа Оппенхайма, что война вызывает умственные расстройства (т.е. выступает их причиной) и что, следовательно, государство отвечает за денежную компенсацию, была смещена на задний план. См. об этом Lerner, Hysterical Man. Следует отметить, что Россия не знала сходных длительных дебатов по поводу возмещения за трудовой травматизм, которые в Германии подготовили почву для такого поведения врачей во время Первой мировой войны.
Страх: солдаты и эмоции в истории военной психологии... 419
десятилетий XX века, обобщил панораму эмоций солдата следующим образом: «Бойцы многое переживают; они страшатся, сердятся, радуются, временами отчаиваются, надеются, верят в успех, разочаровываются и снова верят. Жизнь на войне есть яркий калейдоскоп различных переживаний, переживаний, свойственных человеку и в мирное время, но на войне более резко и выпукло»48. Эго ставило перед военным психиатром определенные задачи, которые Шумков суммировал так: «Сторонники другого — реального направления [...] стараются изучать человека, психо-физическую природу воина, стараются проникнуть в область психических явлений; познать законы психики бойцов в боевых столкновениях и, познав их, разъяснить будущим бойцам природу явлений и указать средства борьбы с нежелательными проявлениями в их психической природе». Пытаясь придать нервным заболеваниям тот внушающий уважение статус, которым пользовались инфекционные заболевания, Шумков проводит параллели между солдатским страхом и холерой: «Чтобы бороться с холерой, необходимо изучить холеру; [...] чтобы бороться со страхом смерти на войне, [сторонники второго, реального направления] изучают проявления этого страха; чтобы избежать паники — стремятся познать ее природу, зарождение, проявление, распространение и т.п.»49. В заключение Шумков писал: «Военная психология, как наука, необходима»50.
Со временем описание симптомов страха психиатрами становилось все сложнее и многостороннее51. Среди этих описаний исследование Шумкова о «душевном состоянии солдат» перед, во время и после боя занимает особо видное место. Опираясь на собственный врачебный опыт и множество других источников, Шумков сконструировал «идеал-тип» солдата и проследил за его психическим состоянием во время боя. Рассмотрим хотя бы одно из описаний Шумкова. Период перед боем особенно показателен, поскольку он, если верить Шумкову, превосходит по шкале страха периоды во время и после сражения. Описание «психофизиоло
48 Ш—, «“За” и “против” военной психологии», Военный сборник 55:8 (1912), 72.
49 Там же, 75—76.
30 Там же, 80. А. Дмитревский, соглашаясь в основном с Шумковым, настаивал на одном отличии: да, все солдаты испытывают страх, и важно, чтобы они это знали. Однако поощрять следует не выражение, а подавление страха. Ибо страх, будучи выражен, становится чрезвычайно заразителен; см. Дмитревский, «“За” и “против” психологии г-на Ш-а», Военный сборник 55:11 (1912), 96.
51 См., напр., подробный список солдатских эмоций в: Ш—, «Эмоции страха, печали, радости и гнева в период ожидания боя», Военный сборник 57:2 (1914).
420
Ян Плампер
гического» образа солдата перед боем Шумков начинает с описания звукового фона артиллерийских выстрелов, когда все ждут приказа для наступления.
Все начинают рыться в своих записных книжках, кошельках, сумках, вынимают оттуда письма и читают. Большею частью, бегло перечитывая, их сжигают. Начинают передавать друг другу кое-какие записки и словесные просьбы: «В случае смерти отправь домой и извести, что я вспоминал их»... Многие набожные вынимают заветные иконки и, истово крестясь, целуют и вешают их себе на грудь52.
После совершения «последних» действий экзистенциального характера солдаты начинают поправлять свою форму и особенно оружие. Поскольку нервы солдат напряжены, «сапоги и ремень жмут более заметно, чем в мирное время»53. В такие моменты сосредоточиться на какой-то одной мысли практически невозможно, мысли бегут, как кадры в кино. Царит всеобщее молчание и напряженная нервозность. Многие «бегут справлять нужды... и даже не по одному разу»54. Все пытаются утолить жажду и наполняют свои бутылки. Винтовка проверяется не один раз. Рука тянется к сумке для патронов чаще, чем нужно.
Наконец рога двигается с места, что снимает часть напряжения. Приближающийся артиллерийский огонь заставляет солдат думать, «что они идут на смерть. “Но лучше смерть, чем ожидание смерти”. Все стремятся вперед, желая скорее достигнуть цели и хотя какой-либо конец, но конец»55. В нескольких сотнях шагов до зоны стрельбы солдаты получают приказ остановиться и ждать. Именно это состояние бездеятельного ожидания было, по словам Шум-кова, самым невыносимым на войне.
Я, рассказывал офицер, мало того, что ходил взад и вперед от волнения, я, кажется, бегал и скакал... Усидеть на месте нет сил... А в душе... на сердце так щемит, так ноет, как никогда... Начинаешь говорить и, не докончив фразы, перескочишь к другому... Спрашивая товарища о чем-нибудь, не слышишь его ответа, а в это время как бы упиваешься своими мыслями. И как только он окончит говорить, очнешься и спросишь: «а? ты что говорил?»56.
52 Шумков, «Душевное состояние воинов в ожидании боя. (По наблюдениям офицеров). Военно-психологический этюд», Военный сборник 56:5 (1913), 100.
53 Там же.
34 Там же.
33 Там же, 101.
36 Там же.
Страх: солдаты и эмоции в истории военной психологии... 421
Во время этого периода ожидания восприимчивость к слухам, полуправдам и к лжи достигает своего предела. Пропагандистское газетное сообщение воспринимается как чистая правда. «Внушаемость играет первую и существенную роль в неожиданных подъемах и упадках духа войск на войне»57. (Очевидно, что за этим стоят теории Густава ле Бона о толпе.) Когда сообщаются плохие новости (например: «несколько наших солдат захвачены японцами»), все умолкают, общее настроение портится и солдаты идут в бой в подавленном состоянии. Хорошие новости имеют при этом обратный эффект, заключает Шумков.
Одним источником знаний о страхе были, таким образом, наблюдения врачей во время Русско-японской войны. Другой метод получения данных для изучения страха состоял в опросах ветеранов этой войны. В 1909—1910 годах К. Дружинин по инициативе отдела военной психологии «Общества ревнителей военных знаний» распространил среди ветеранов анкету. В ней были следующие вопросы: «Как себя чувствовал (грустно, весело, злобно, испытывал ли страх, было ли жутко) [?]» и «Сознавалась ли опасность, в какой мере и когда именно[?]» (Ил. 1). В рубрике «Как чувствовал себя физически» спрашивалось о температуре тела, о потоотделении, сердцебиении, дыхании, аппетите, сне, мочеиспускании и стуле. В другой рубрике, «Что заметил у других в то же время», спрашивалось о темах разговоров среди других солдат, о том, как звучали их голоса, о «выражении и цвете лица у окружающих (спокойное, беспокойное, грустное, бледное, синюшно-бледное и т.п.)» и о том, «не заметно ли неловкости или дрожания рук (при зажигании спичек, закручивании папирос, заряжении винтовки и т.п.)[?]»58. Дружинин обобщил результаты этого анкетирования, вставив описания собственного опыта службы офицером разведки во время Русско-японской войны. Непосредственно перед боем, особенно «если уже слышны орудийные и в особенности ружейные выстрелы, то волнение [...] и страх перед неизвестностью, сознание возможности близкой смерти и ранения достигает у необстрелянных войск невероятной силы»59. Безусловно, имел место процесс некоторой адаптации: «перед первым боем настроение острее, а при последующих спокойнее»60. Способность солдат перебороть свой страх во многом зависела также от вероятности победы. Если победа казалась вероятной, солдаты были способны вынести невероятные трудности; следовательно, главная задача хорошего офицера
37 Там же, 102.
58 К. Дружинин, Исследование душевного состояния воинов в разных случаях боевой обстановки по опыту русско-японской войны 1904—1905 гг., СПб.: Русская Скоропечатня, 1910, 4—6.
59 Там же, 14.
60 Там же, 60.
422
Ян Плампер
П. Что чувствовалъ самъ и пережи-валъ по сравнению со спокойнымъ состоян1емъ.
1) Какъ текли мысли, скоро или медленно и каюя именно (одна навязчивая или нисколько быстро сменяющихся, никакихъ мыслей, касались-ли данной обстановки или нЪтъ и т. д.).
2) Какое было настроен!е (приподнятое, безразличное, подавленное и т. д.).
3) Какъ себя чувствовалъ (грустно, весело, злобно, испытывалъ ли страхъ, было ли жутко).
4) Что дЪлалъ (сидЪлъ, стоялъ, ходилъ, лежалъ) и почему: безсознательно или сознательно. Вл1яше примера другихъ. ЕЬпяше получаемыхъ извЪ-стш или слуховъ.
5) Не было ли невольныхъ движешй, схватывашя за голову, за сердце, за шею, за животъ, за ноги и т. п.
6) Сознавалась ли опасность, въ какой мЪрЪ и когда именно.
Ил. 1. Анкета Дружинина, с. 4—5
заключалась во внушении солдатам, что победа близка, даже в тех случаях, когда положение на самом деле было безнадежным. Приказ об отступлении при этом всегда опасен, так как может способствовать хаосу и панике, что показал опыт Мукдена в Русско-японской войне: «Затянуть же генеральное сражение так, как это случилось под Мукденом, а затем признать свое поражение и приказать бойцам повернуть спину врагу слишком опасно, вернее, совершенно невозможно»61.
Опираясь на собственный опыт, Дружинин производит классификацию разных типов страха. Вот как он различает два вида страха, которые он испытал перед первым боем в своей жизни:
В конце марта 1904 г., около 12 часов пополудни, я лежал в постели, потушив огонь. В дверях показался драгун, присланный
61 Дружинин, Исследование душевного состояния воинов в разных случаях боевой обстановки..., 1910, 28—29.
Страх: солдаты и эмоции в истории военной психологии... 423
с берега моря командиром роты, и доложил: «Ваше Высокоблагородие, японцы начали высадку!» Мне не нужно было заботиться о том, чтобы скрыть свое волнение, потому что если я видел драгуна, стоявшего в свете из другой соседней комнаты, то меня видеть он не мог. Это донесение драгуна, хотя и оказавшееся ложной тревогой, имеет лля меня особенное значение: в своей военной жизни я в первый раз услышал, что мне придется вступить в бой. Твердо помню, что не испугался, но почувствовал в высшей степени тревожное чувство, может быть и сердцебиение62.
Выражение «тревожное чувство» три года спустя всплывет снова, а именно в научном споре между специалистами — в первую очередь Шумковым и А. С. Резановым с А Дмитревским, влиятельным редактором Военного сборника и военным психологом-любителем, об определении разных видов страха63. В центре спора, несшего на себе явную философскую печать (Киркегор!), был тезис Шумкова о том, что тревога нецеленаправленна (нельзя чувствовать тревогу перед чем-нибудь конкретным) и должна быть отделена от страха, у которого всегда есть объект: страх всегда страх чего-то, перед чем-то64.
К темам, которые также занимали многих военных специалистов, относятся темы героизма, храбрости, трусости и награждения за боевые заслуги65. Некоторые считали, что абсолютно бесстраш
62 Там же, 17.
63 О занятиях Шумкова классификацией страха сообщил Владимир Полянский в 1910 г.: «Врачом-психиатром Г. Е. Шумковым на одном из заседаний отдела “военной психологии” при Обществе Ревнителей военных знаний была предложена примерная классификация понятия эмоции страха по ее проявлению в организме человека» (Полянский, «Моральный элемент в области фортификации», Военный сборник 53:11 (1910), 136, сн. 1).
64 См. А. Резанов, Армия и толпа: Опыт военной психологии в связи с психологией войны, Варшава: Варшавская Эстетическая Типография, 1910; Шумков, «Вздрагивание людей при действии артиллерийского огня. (Военно-психологические этюды)», Военный сборник 57:12 (1914); Он же, «Чувство тревоги как доминирующая эмоция в период ожидания боя», Военный сборник 11 (1913); Дмитревский, «Тревожное ожидание — боязливое или опасное ожидание», Военный сборник 57:1 (1914); Шумков, «О выделении чувства тревоги в самостоятельное чувство», Военный сборник 4 (1914); Он же, «Психика бойцов под первым артиллерийским обстрелом. (Военно-психологический этюд)», Военный сборник 57:7 (1914), 121; Он же, «Угнетение психики воинов артиллерийским огнем. (Военно-психологический этюд)», Военный сборник 57:8 (1914), 105; Он же, «Роль чувства тревоги в психологии масс как начала, нивелирующего индивидуальности», Военный сборник 57:9 (1914).
65 Действительно, дискуссия о героизме часто обращалась к вопросу о наградах. См., напр., Дмитревский, «Можно играть на слабых струнах, но не воспитывать на них», Военный сборник 57:4 (1914), 117—118.
424
Ян Плампер
ный солдат представляет собой отклонение от нормы и становится в будущем социопатом, опасным в мирной жизни, тогда как другие психиатры, например Шумков, старались толковать по-новому значение самого понятия «героизм» и создать образ солдата, который может испытывать страх и все же поступать героически66. Рассмотрев сначала «героев храбрости», «героев смелости», «героев решимости» и «героев хладнокровия», Шумков представил нового, незаметного героя — «героя терпения», как он назвал одну из своих статей (основанную, вероятно, на истории болезни пациента психиатрического отделения Харбинского военного госпиталя времен Русско-японской войны). Процитируем этого «героя терпения», некоего Ющенко: «Мне 30 лет; я крестьянин Полтавской губ. Кременчугского уезда, женат; есть дети. [...] Всегда был здоров; никогда ничем не хворал; ехал на войну охотно. Трусить или бояться, как бывает иногда у других, я не знал. Мне было нестрашно и среди огня, и среди штыков. Да и чего бояться! Убьют — пострадаю за Царя и Веру; быть может, Бог и грехи простит; жив останусь — слава Богу»67. Ющенко, к своему великому стыду, попал в японский плен. После нескольких попыток ему удалось бежать, он проскитался по жаре 18—20 суток и наконец был спасен казаками-разведчиками, которые так описали это событие: «Вдруг видим, бежит с горы совершенно голый человек; бежит и что-то непонятное кричит. Не добежав до нас, он споткнулся, упал, силился вновь подняться, но видимо подняться не мог. Худой, весь голый, исцарапанный, глаза на-выкат; лежал и что-то бормотал. Наш русский солдатик с ума сошел, подумали мы [...]. Почти постоянно бредил японцами: “японцы...”, “свистят японцы...”». Казаки затем передали Ющенко Шумкову в Харбине. «14-го августа того же 1904 г. комиссией врачей он был признан нервно-слабым и истощенным и отправлен домой на поправку». Статья (по сути коллаж, составленный из медицинско-диагностического заключения, либерально-политической оценки, казацкого описания событий и, наконец, мнения самого Ющенко, взятого из истории болезни) заканчивается следующим образом: «Да, он, рядовой Ющенко, истинный герой!»68.
Какова этиология коллективной солдатской травмы, по ту сторону индивидуальных тел и душ? Умеренно либеральные врачи
66 По словам одного автора, храбрость природная существует, но «храбрость природная редко бывает храбростью разумной»: Б. Никулишев, «Моральный элемент в области военного искусства. (Опыт психологического исследования)», Военный сборник 55:1 (1912), 14.
67 Шумков, «Герой терпения. Военно-психологический этюд», Военный сборник 54:2 (1911), 145.
68 Там же, 147—150.
Страх: солдаты и эмоции в истории военной психологии... 425
любили искать причины эпидемии травматического невроза (или контузии) в общественно-политической сфере. Отсутствие поддержки Русско-японской войны в обществе способствует возникновению нервных заболеваний у солдат — таков был ход их мыслей. Сравнение с Русско-турецкой войной, по их мнению, демонстрировало явную разницу если «трогательной идеей» Русско-турецкой войны «в смысле заступничества за убиваемых братьев-славян» народ был воодушевлен, то «беспочвенность» Русско-японской войны «сделала общества [sic] вполне враждебным» к этой войне или, по крайней мере, «создала глубокое к ней равнодушие, и это крайне пагубно отразилось на самочувствии войск»69.
Это мнение, однако, никогда не было распространено в психиатрическом цехе, и его придерживалась лишь малая часть участников обширной дискуссии о причинах нервных расстройств. Как и их западные коллеги, российские психиатры чаще всего объясняли взрыв нервных расстройств среди солдат условиями современной войны. Как утверждал один врач, в то время как технология развивалась неимоверными темпами, «душа человека, его внутреннее “я”, осталась неизменною»70. Со старым воинским воспитанием солдаты «могли еще одерживать победы в начале и, пожалуй, в середине прошлого столетия, полагаясь на Суворовский штык и чувство беззаветного самоотвержения, присущего русскому солдату, но ныне им было слишком трудно выдерживать разлагающее влияние современного боя с его новейшими разрушительными факторами»71. Современный солдат был почти столь же одинок на поле боя, как современный человек в большом городе: «поле сражения пусто, не видно ни своих, ни неприятеля; не чувствуется поддержки», и, кроме того, отсутствовало какое бы то ни было звуковое или зрительное отвлечение («не развеваются знамена, и не играет музыка»)72.
Но нельзя сказать, что романтическая, консервативная доктрина полностью исчезла. Отрицание солдатского страха ее сторонниками привело к тому, что этот феномен и вовсе стал умалчиваться под влиянием убежденности этих психиатров в том, что публичные разговоры о страхе могут только искусственно создавать его. Разумеется, в силу нашей современной предрасположенности к либеральным взглядам, большинству из нас взгляд реали
69 Заглухинский, «Психика бойцов во время сражения», 87.
70 Там же, 86.
71 Дружинин, Исследование душевного состояния воинов в разных случаях боевой обстановки..., 42.
72 Полянский, «Моральный элемент в области фортификации», 101.
426
Ян Плампер
стов представляется ближе и симпатичнее73. Поэтому не следует забывать, что в то время был широко распространен взгляд, напрочь отрицавший, что на войне всем солдатам свойственно испытывать страх74. Романтики считали, что лучшей вакциной против страха является страх же — страх перед наказанием и стыдом, — и выступали за возвращение к практике военных колоний и телесных наказаний75.
У либералов на это был готовый ответ: воинское воспитание (муштровка под руководством муштровых наставников, «дядьков») и без того внушает достаточно страха, который только способствует процветанию нервных болезней, особенно у рекругов с генетической предрасположенностью76. Как писал Н. Бутовский в 1888 году, «строгость и грубость у такого начальника — синонимы... Высшее удовольствие... он чувствует, когда... новобранец стоит перед ним навытяжку и дрожит от его грозного взгляда. Служба, по его понятиям, только и может держаться страхом, внушаемым начальником своему подчиненному»77. Либерал Шумков требовал: «Из приемов военной педагогии должны быть исключены способы застращивания и запугивания»78. Дмитревский соглашался в своей статье «Воспитание солдата может быть только в стыде наказания, а не в страхе наказания»: «Как я не могу себе представить плезиозавра на Невском, так я не могу представить себе, чтобы кто-нибудь не знал, что такое страх и как он действует на организм. Но приходится
73 Бен Шепхард справедливо заметил по поводу трилогии «Regeneration» британской писательницы Пэт Баркер (и исторического исследования, лежащего в ее основе, Е. Showalter, The Female Malady: Women, Madness, and English Culture, 1830—1980, N.Y.: Pantheon, 1986, ch. 7), что мы склонны переоценивать значимость либеральных психиатров: Shephard, A War of Nerves: Soldiers and Psychiatrists in the Twentieth Century, Cambridge, Mass.: Harvard UP, 2001, 109.
74 См., напр., Прасадов, «Несколько слов к статье В. Полянского “Моральный элемент в области фортификации”», Военный сборник 54:5 и 54:7 (1911).
ъ Это не значит, что предлагавшийся возврат к суровым мерам пытался обойти закон. Обсуждались, напр., различные вопросы судебной медицины, и, в частности, определение психической непригодности рекрута, данное в § 24а уложения, которым руководствовались военные психиатры. В это же время имперская администрация часто объясняла самоубийства среди крепостных страхом перед (телесными) наказаниями со стороны помещиков: S. Morrissey, Suicide and the Body Politic in Imperial Russia, Cambridge: Cambridge UP, 2006, 126 127.
76 Следует отметить, что речь пока идет не о дедовщине, которая является более поздним феноменом.
77 Н. Бутовский, О способах обучения современного солдата, т. 2, СПб.: изд-во В. Березовского, 1888, цит. по: Шумков, «Что делать с порочным элементом в армии?», Военный сборник 54:11 (1911), 112.
78 Шумков, «Что делать с порочным элементом в армии?», 116.
Страх: солдаты и эмоции в истории военной психологии... 427
повторяться. Страх есть ожидание зла, беды, неприятности, боли и т.п.»79.
В конце 1890-х годов идеи французского теоретика толпы Густава Ле Бона начали проникать в аргументацию как реалистов, так и романтиков. Обоим направлениям начало казаться, что рога функционирует как гиперэмоциональная, «истерическая», наделенная «женским» характером толпа, подверженная внешним стимулам, и управлять ею может только офицер-мужчина80. От таких рассуждений недалеко было и до патологизации дезертирства, паники, недисциплинированности и до уподобления слухов на войне заразным вирусам81.
Хотя российские специалисты менее охотно усматривали связь низкого социального происхождения с патологической наследственностью, такие либералы, как Дмитревский, все же полагали, что умный, образованный солдат менее склонен испытывать страх. «И действительно, — писал он, — чем выше интеллект, умственный уровень, тем меньше суеверных страхов, да и всяких. Постепенно рассеиваются страхи темноты, страх грома, подземелий, “загробного мира”, стихий, боли, болезней и прочие. Ум допускает страх только в случаях необходимости, и это специально для этих ситуаций приспособленный, “разумный” страх, а именно — осторожность, осмотрительность»82.
* * *
Эти исследования страха в русской военной психологии подводят нас к эмоциональным катаклизмам, в которых часто видят подлинное начало XX века. С приближением Первой мировой вой
79 Дмитревский, «Воспитание воина может быть только в стыде наказания, а не в страхе наказания», 100. Также см. его же, «Можно играть на слабых струнах, но не воспитывать на них», 116.
80 Полянский отмечает, что в момент неизбежной схватки люди превращаются в машины и, если ими правильно руководить, способны к такой самоотверженности и героизму, что никакая сила не может их остановить. Положительный пример командира приобретает в таких ситуациях особую важность (благодаря своей заразительности, настаивает автор); Полянский, «Моральный элемент в области фортификации», 101 — 102. О росте влияния теории толпы свидетельствуют уже сами названия книг Резанова, Армия и толпа и Н. Угах-Огоровича, Психология толпы и армии, Киев, 1911. См. D. Beer, «“Microbes of the Mind”: Moral Contagion in Late Imperial Russia», The Journal of Modem History 3 (2007); Id., Renovating Russia: The Human Sciences and the Fate of Liberal Modernity, 1880—1930, Ithaca, N.Y.: Cornell UP, 2008.
81 Заглухинский, «Психика бойцов во время сражения», 98, уподобляет влияние слухов в Мукденской битве вирусам.
82 Дмитревский, «Да, воин (рыцарь) без страха и упрека — достижимый идеал (Ответ г-ну Ш-ву)», Военный сборник 56:6 (1913), 99.
428
Ян Плампер
ны многие русские — и не только русские — испытывали ощущение, что XX век будет веком «нервов, нервности, неврастении, т.е. нарушения душевного равновесия»83. Центральное место, занимаемое солдатским страхом в военной науке, было и симптомом, и продуктом этого века. За век до этого военной психологии еще не существовало, и практически отсутствовали описания солдатского страха, сделанные от первого лица. Введение новых способов ведения боя во время Крымской войны и учреждение (вскоре после ее окончания) массового призыва в армию; внедрение, благодаря литературе вообще и Толстому в частности, модели «искусство подражает жизни, подражающей искусству»; открытие/изобрете-ние автономного субъекта; интериоризация эмоций; новое время как мимикрия; наконец, рождение солдатского страха из духа детективного романа — вот (в убывающей по важности последовательности) шесть факторов, объясняющих, почему солдатский страх появился в конце XIX века в различных русских текстах.
К 1914 году страх уже имел за спиной длительную историю, которую можно разделить на следующие фазы: его эмансипация у Толстого, а затем у военного теоретика Драгомирова; потом, через немецких коллег, его переход в военную психиатрию, в которой на фоне обсуждения проблем травматизированных солдат во время Франко-прусской войны развернулись дискуссии о патогенной природе страха. Если сначала российская военная психиатрия рассматривала страх как симптом нервной болезни, вызванной боем, то после Русско-японской войны и революции 1905 года страх стал считаться главной причиной нервных заболеваний солдат.
Когда же и почему исследования эмоций покинули русскую почву? Как обстоят дела в русской истории эмоций сегодня? Будущие исследователи смогут заново изучать историю обозначающих эмоции понятий (Begriffsgeschichte), анализировать эмоциональные нормы или роль эмоций при объяснении причин человеческих действий. В своей статье я попытался проследить историю топоса страха в военной литературе, особенно в литературе по военной психологии. Я хотел проследить развитие научной дискуссии об эмоциях и обсудить причины существования этой дискуссии, порывая тем самым с обычным анализом дискурса и присущим ему безразличи
83 Дмитревский, «Логика болгарских успехов и... поэзия русской чувствительности», Военный сборник 7 (1913), 115. Другие европейские страны разделяли это ощущение. См. о Германии J. Radkau, Das Zeitalter der Nervositat: Deutschland zyvischen Bismarck und Hitler, Miinchen: Hanser, 1998; V. Ullrich, Die nervose Grossmacht: Aufstieg und Untergang des deutschen Kaiserreichs, 18711918, Fr.a.M.: Fischer, 1997.
Страх: солдаты и эмоции в истории военной психологии... 429
ем к причинности84. Нынешняя волна интереса к истории эмоций частично обусловлена именно этим новым вниманием к причинности в историографии. Хотя когнитивные и биологические науки предложили свои подходы к эмоциям, обещая установление ясных причинных связей85, я предпочитаю не привлекать их к исследованию в силу общеметодологических соображений, которые я уже изложил как в 3-й части своей вводной статьи к этому сборнику, так и в другой работе86. Другими важными факторами нынешнего бума истории эмоций следует считать «поворот от лингвистического поворота» в исторических науках и теракт 11 сентября 2001 года, ускоривший этот поворот. Катастрофа 11 сентября, с одной стороны, вызвала острый интерес к феноменам фанатической ненависти и религиозного экстаза — к этим крайним и, казалось бы, телесным, долингвистическим проявлениям эмоций; и, с другой, дискредитировала (вероятно, временно) иронию как преобладающий стиль исторического повествования.
Исследование испытываемого военными страха дало нам материал, которому еще предстоит вписаться в более обширное исследовательское поле. Можно двинуться в следующую за Первой мировой войной эпоху и посмотреть, как «романтическая» парадигма трансформировалась в штрафные батальоны и заградительные отряды, сформированные после знаменитого «Ни шагу назад!» — сталинского приказа номер 227 в июле 1942 года. Задачей этих формирований было стрелять в отступающих и паникующих солдат, — «Уловка—22» в ее своеобразной вариации — по-сталински87. Или можно рассмотреть реабилитацию военной психиатрии и «реалистической» школы при Хрущеве88. Можно также проанализиро
84 Следует отметить, что вплоть до «Надзирать и наказывать» (1975) фу-коистское понятие дискурса в археологическом методе было особенно невнятным в вопросе о причинности, на что жаловались даже симпатизирующие комментаторы, см. Н Dreyfus, Р. Rabinow, Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics, Univ, of Chicago Press, 1982, xxiv. Его позднее обсуждение дискурса в генеалогическом методе уже явно отвергает причинность. По словам Р. O’Brian, «генеалог-историк ищет начал, а не истоков. Для Фуко разница принципиальна. Истоки предполагают причины, а начала предполагают различия», Р. O’Brian, «Michel Foucault’s History of Culture», The New Cultural History, ed. L. Hunt, Berkeley: Univ, of California Press, 1989, 37.
85 См., напр., S. Pinker, The Stuff of Thought: Language as a Window into Human Nature, N.Y.: Penguin, 2007.
86 Plamper, Geschichte und Gefiihl: Grundlagen der Emotionsgeschichte, Miinchen: Siedler, 2011.
87 C. Merridale, Ivan s War: Life and Death in the Red Army, 1939—1945, N.Y.: Metropolitan, 2006, 70-71, 98, 108-110, 135-138.
88 Сенявская, Психология войны в XX веке', Gabriel, Soviet Military Psychiatry: The Theory and Practice of Coping with Battle Stress.
430
Ян Плампер
вать, как советские психофармакологические исследования страха были вовлечены логикой «холодной войны» в соревнование с западными разработками медикаментозного лечения тревожных состояний. Ждет своего летописца и советский пласт истории «про-зака»89. Можно было бы рассмотреть и возврат к судебному преследованию за трусость в американской армии, которое не практиковалось с вьетнамской войны, благодаря тому, что психоанализ проторил свои дорожки и в военной психиатрии. Теперь же, в силу того, что фармацевтические фирмы гарантируют высокую эффективность выпускаемых ими препаратов, терпимость к поведению, которое можно характеризовать как трусливое, резко упала, что и привело в ноябре 2003 года во время войны в Ираке к первому, начиная с 1968 года, процессу по обвинению в трусости. 33-летне-му сержанту Джорджу Ацдерасу Погани было предъявлено обвинение в «трусливом поведении, вызванном страхом»90. Вероятность того, что где и когда бы то ни было в обозримом будущем удастся освободить солдата от страха, представляется столько же высокой, как вероятность появления плезиозавра на Невском проспекте.
plamper@mpib-berlin.mpg.de
Перевод И. Кременеирой, М. Маяи/сого и автора
89 Намеки на связь между шпионажем, наводящим ужас биологическим оружием и западным психофармацевтическим лечением тревожных состояний см. в: A. Kouzminov, Biological Espionage: Special Operations of the Soviet and Foreign Intelligence Services in the West, London: Stackpole, 2005. См. рец. Дж. Такера, Moscow Times 3127 (18—24 марта 2005 г.), 4.
90 M. Glassman, «The Changing Battlefield; When Grace Flees Under Fire», The New York Times, 25 July 2004. Я благодарю Сюзан Моррисей за указание на этот источник.
Магали Делалой
ЭМОЦИИ В МИКРОМИРЕ СТАЛИНА: СЛУЧАЙ НИКОЛАЯ БУХАРИНА (1937-1938).
ТИПЫ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ МУЖЕСТВЕННОСТИ И ПРАКТИКА ЭМОЦИЙ1
В ночь с 12 на 13 марта 1938 года в одной из камер Лубянской тюрьмы был казнен Николай Бухарин — старый большевик, по выражению Ленина, «любимое дитя партии». Он был главным обвиняемым в процессе «правотроцкистского блока», состоявшемся в Москве в феврале—марте 1938 года. Это была знаменательная победа, одержанная Сталиным над наиболее серьезными его противниками. В этой статье я намерена предложить новый подход к анализу гендерных идентичностей исторических лиц, действовавших в рассматриваемый период, а также к межличностным связям между его главными героями, в первую очередь Сталиным и Бухариным. Для этого я попытаюсь прояснить ту роль, которую имело выражение (или не-выражение) эмоций в драматургии разыгрываемого процесса, в развитии стратегий и тактик его протагонистов. Рассматривая в качестве центральной категории «гендер», я остановлюсь на том, как Сталин и Бухарин создают и выдвигают на авансцену советские модели «доминирующей мужественности»2 (на макросоциальном уровне) и борются за доминирование в кремлевском кругу (на уровне микросоциальном). Упомянутый показательный процесс знаменует окончание этой борьбы, и для побежденного Бухарина — это последняя отчаянная схватка.
1 Приношу искреннюю благодарность Брижит Штудер, Еве Маурер, Монике Рютерс, Александру Ватлину, Татьяне Христовой и Олегу Хлевнюку за плодотворные дискуссии, конструктивные замечания и поправки. Выражаю признательность также участникам этой конференции и моим коллегам по аспирантской школе Бернского и Фрибургского университетов «Gender: Scripts and Prescripts».
2 Этот термин используется в гендерных исследованиях на русском языке. См. О муже(\)ственности, под ред. С. Ушакина, М.: НЛО, 2002. Эго своеобразное резюме процесса многомерных взаимодействий, в ходе которого мужчина конструирует себя как такового.
432
Магали Дел алой
Постановка вопроса об эмоциях применительно к кремлевскому кругу может показаться на первый взгляд не вполне оправданной. В самом деле, в кремлевском обществе приемлемыми считались только такие эмоциональные позиции, как сдержанность, осторожность или энтузиазм, тогда как чересчур «женская» сентиментальность не находит в нем места. Бухарин, тем не менее, представляет собой значимое исключение. Поэтому сначала я подробно остановлюсь на его манере выражения эмоций и их использования как инструмента коммуникации, после чего перейду к различным аспектам воздействия этой практики на структуру всего кремлевского круга. Далее я коснусь того, как Сталин позиционировал себя в качестве воплощения партийного государства и как он управлял своим образом «отца народов». В заключение будет выдвинута гипотеза, касающаяся борьбы этих двух лиц в связи с конструированием гендера. Сравнение двух персонажей в конструировании мужественности наглядно покажет роль эмоций в отношениях власти и доминирования, то есть продемонстрирует, как иерархия в кремлевском кругу структурировалась в этот исторический момент эмоциональными практиками.
В данной работе я анализирую выражение эмоций как некую социальную практику, предварительно приняв, что любое сообщество можно описать как «сообщество эмоций». Согласно Барбаре Розенвейн,
Люди жили и живут в том, что я предлагаю назвать «эмоциональные сообщества». Это точно такие же социальные сообщества, как семьи, группы соседей, парламенты, гильдии, монастыри, церковные приходы. Однако рассматривающий их исследователь ищет прежде всего способ раскрыть системы чувств. Что эти сообщества (и человек внутри них) определяют и оценивают как приемлемое или вредное для них? Как они оценивают эмоции других? Какова основа аффективных связей? Какие способы эмоциональных выражений ожидаются, поощряются, а какие лишь терпятся или осуждаются?3
С точки зрения Даниэлы Заксер4, прагматика эмоций может быть корректным инструментом анализа эмоциональных взаимодействий в определенной социальной ситуации. Особенность
3 Rosenwein, «Worrying about Emotions in History».
4 D. Saxer, «Mit Geflihl handeln. Ansatze der Emotionsgeschichte», Die Pragmatik der Emotionen im 19. und 20. Jahrhundert; La pragmatique des emotions au 19е et 20? siecles, ed. M. Meier & D. Saxer (= Traverse 2 (2007)).
Эмоции в микромире Сталина: случай Николая Бухарина... 433
такого подхода состоит в том, что во внимание принимается не одна-единственная эмоция, а их совокупность, с тем чтобы реконструировать различные «эмоциональные сообщества», в рамках которых выражаемые чувства могут быть как включающими (инклюзивными), так и исключающими. С этой точки зрения необходимо описать конкретный процесс «негоциаций» между акторами. Прагматика эмоциональных взаимодействий (понимаемая как navigation of feeling^, т.е. способ взаимодействия эмоций или их проявлений в социальной динамике) уступает место суверенному господству социальных норм над чувствами, при том, что и те и другие изменяются5 6. Таким образом, заявленный подход призван реконструировать динамику эмоциональных действий в тех или иных социальных ситуациях, например в течение последних месяцев жизни Бухарина. Эго означает, что сила нормы (особенно касающейся выражения эмоций) зависит от степени ее самоактуализации в каждый конкретный момент. В этом случае она служит стратегией для исторических акторов7 8. Отталкиваясь от этого, я попытаюсь реконструировать модели мужественности, соответствующие двум главным действующим лицам. Реконструкция мужественности для историка — процедура эмпирическая. С экспериментальной точки зрения речь идет о том, чтобы в так называемых «зеркальных» конструктах (т.е. в таких, которые создают образ Другого — женщины, гомосексуалиста, иностранца) выявить модели доминирующей мужественности, которую вслед за Дж- Моссом принято называть «virilite»s.
5 Уильям М. Редди пишет скорее о «навигации», чем об «управлении» эмоциями (Arlie Hochschild), связанной с мимолетным инструментализмом выражения эмоций (об этом см. далее). Эго понятие он вводит для «соотнесения со всей совокупностью содержания эмоциональной жизни». Если мы исходим из того принципа, что каждое «я» может стать объектом пересмотра, то метафора «навигации» кажется более предпочтительной: она включает возможность резкой смены направления, подобную простой смене цели в ходе того или иного действия; Reddy, The Navigation of Feeling, 108, 122.
6 Saxer, «Mit Gefuhl handeln», 26.
7 B. Lepetit, Les formes de [’experience. Une autre histoire sociale, Paris: Albin Michel, 1995, 19.
8 G. Mosse, L ’image de I’homme. L ’invention de la virilite moderne, Paris: Abbeville, 1997. Я предпочитаю использовать понятие «доминирующей мужественности», чем концепт «гегемонической мужественности», который был введен в гуманитарные исследования австралийским социологом Робертом Коннеллом. См.. R. Connell, Gender and Power, Society, the Person, and the Sexual Politics, Stanford UP, 1987. В самом деле, после моих первых эмпирических исследований мне кажется, что этот концепт слишком «западный» и современный, чгобы его применять в этом контексте.
434
Магали Делало й
Теоретик и горец: история одной дружбы
Воспоминания Анны Лариной-Бухариной, последней жены Н. Бухарина, которая после смерти мужа оказалась в лагере и никак не может быть уличена в сочувствии к Сталину, — важное документальное свидетельство о дружбе, связывавшей этих мужчин:
Наряду с этим я осмеливаюсь высказать предположение, как ни парадоксально оно будет выглядеть, что Сталин какой-то частью своего жестокого сердца любил Бухарина, если это чудовище вообще способно было на такое чувство. [...] Мог Коба любить и Николая — любить его и убить его, ибо чувство любви боролось с чувством ненависти — ненависти из зависти к его яркой личности. [...] Я бы сказала, наряду с политическими соображениями чувствовалась некоторая интимность в отношении Сталина к Бухарину — интимность, которая вовсе не обязательна была в целях политического расчета. [...] Характер Сталина никогда не импонировал Н. И. Но, так или иначе, в недалеком прошлом Н. И. был близким человеком Сталину и любимцем его семьи. Это подспудно жило в сознании погибающего Бухарина, потому и вселяло надежду на спасение, несмотря на то что впоследствии из-за разногласий они прошли через полосу острых личных конфликтов9.
Эта дружба родилась довольно поздно. В конце января 1913 года Сталин по требованию Ленина выехал из России в Вену, где состоялась его первая встреча с Бухариным. Целью этой поездки была переработка, прежде всего в теоретическом аспекте, сочинения Сталина «Марксизм и национальный вопрос». Бухарин помог в переводе цитат, вошедших в итоговый вариант текста10. Довольно быстро между этими во всем несхожими людьми завязалась дружба. После смерти Ленина их контакты стали особенно интенсивными, и два советских руководителя вошли в очень тесные и близкие отношения. Бухарин регулярно бывал у Сталина на даче, в Зубало-ве, где сдружился с его второй женой Надеждой Аллилуевой. Дети Сталина очень любили Бухарина: он рассказывал им о природе, играл и гулял с ними, приручал лисенка и тд.11. Однако дружба эта
9 А. Ларина-Бухарина, Незабываемое, М.: Вагриус, 2003, 354—355.
10 J.-J. Marie, Staline, Paris: Fayard, 2001, 117.
11 «В Зубалове у нас часто летом живал Николай Иванович Бухарин, которого все обожали. [...] Я смутно помню Н. И. Бухарина в сандалиях, в толстовке, в холщовых летних брюках. Он играл с детьми, балагурил с моей няней, учил ее ездить на велосипеде и стрелять из духового ружья; с ним всем было весело» (С. Аллилуева, Двадцать писем к другу, письмо 3, N.Y.: Harper & Row 1967).
Эмоции в микромире Сталина: случай Николая Бухарина... 435
имела под собой и политическую основу: с 1925 года она переросла в альянс, необходимый для отстранения от власти Троцкого, Каменева и Зиновьева. В этот период «Бухарин и Сталин, как правило, делят между собой всю работу. Обобщая, можно сказать, что первый формулирует политические цели и шаги и теоретизирует, а второй обеспечивает функционирование организационных механизмов»12.
В 1929 году эти отношения рухнули. Исключенный из Политбюро Бухарин вынужден был принести покаяние. Начиная с этого момента Сталин играл на его нервах. А. М. Ларина писала: «...после 1929 года, после разгрома так называемой правой оппозиции, с тех пор как Бухарин перестал занимать руководящее положение в партии, он был всегда под сталинским прицелом и сталинским обстрелом, и это угнетало его»13. В этот период Сталин чередовал моменты доверительной близости с Бухариным, когда он вслух выражал сокровенные мысли и чувства14, с моментами, когда он всячески отталкивал и гнал его15. Он мог одновременно ободрять своего мнительного, беспокойного товарища16, даже делиться с ним некоторыми почестями17 и туг же недвусмысленно давать ему
12 S. Cohen, Nicolas Boukharine: la vie d’un bolchevik (1888—1938), Paris: Maspero, 1979, 257. Подробную характеристику «дуумвирата» см.: ibid., 255—283.
13 Ларина-Бухарина, Незабываемое, 49.
14 «... в 1934 году мы встретились со Сталиным в правительственной ложе театра. Заметив Бухарина, Сталин устремился к нему. Позади ложи была комната, где члены правительства проводили антракт. Беседа Сталина с Бухариным длилась настолько долго, что они пропустили целое действие спектакля. Вскоре после этого разговора Н. И. был назначен ответственнььм редактором газеты “Известия”. Дома Н. И. рассказал мне, что Коба вспоминал Надю, жаловался, что тоскует по ней, с горечью говорил, как ему ее не хватает» (там же, 355).
15 «Он [Сталин] позвонил и пробрал Бухарина за то, что в потоке славословий автор одной статьи написал, что мать Сталина называла его Сосо. “Эго еще что такое за Сосо?” — вопрошал разгневанный Сталин. Непонятно, что его разозлило. Упоминание ли о матери, которой он никогда не оказывал внимания (как я слышала), или он считал, что и мать тоже должна была называть сына “отцом всех народов” и “корифеем науки”» (там же, 49—50).
16 Так, именно Бухарин был командирован в 1936 г. в Париж для переговоров с меньшевиками о продаже архива Маркса. Переговоры провалились, ибо Сталин отказался платить больше той суммы, которая была оговорена предварительно. Когда Бухарин, возвратившись в Москву, поделился с ним своей досадой, Сталин ответил: «Не волнуйся, Николай, не надо торопиться, они еще уступят» (там же, 304).
17 «Одновременно он “ласкал” Николая Ивановича, проявлял к нему “внимание”. Произнес на банкете, устроенном для выпускников военных академий весной 1935 года, тост в честь Бухарина: “Выпьем, товарищи, за Николая Ивановича, все мы его любим и знаем, а кто старое помянет, тому глаз вон’”» (там же, 50).
436
Магали Делалой
почувствовать, что он находится в опале. Бухарин, со своей стороны, эту игру принимал вплоть до августа 1936 года, когда, находясь на Памире, узнал, что его имя упоминается в слушаниях на процессе Зиновьева—Каменева. С этого момента начался отсчет последней схватки. По-прежнему живя в Кремле, оставаясь главным редактором «Известий», Бухарин ожидает удара, который вот-вот на него обрушится. Сталин посылает ему противоречивые сигналы, играет на их дружбе и в то же время готовит падение Бухарина. В этом душевном состоянии противники подходят к решающей точке в их борьбе за власть.
Бухарин: игра в выражении эмоции
Во время последних месяцев жизни Бухарин демонстрирует «эмоциональную» основу своей натуры: «Просто не знаю, как я совладаю сам с собой — ты знаешь мою природу; я не враг ни партии, ни СССР, и я все сделаю, что в моих силах, но силы эти в такой обстановке минимальны, и тяжкие чувства подымаются в душе; я бы, позабыв стыд и гордость, на коленях умолял бы, чтобы не было этого»18. Эго письмо Бухарина к Сталину от 10 декабря 1937 года служит чрезвычайно красноречивым источником для анализа эмоциональной натуры его автора. Выдающийся по насыщенности документ, это послание, написанное из лубянских застенков, в которых Бухарин провел уже несколько месяцев (следовательно, появившееся в момент предельного напряжения), послужит мне основой для дальнейшего анализа. В данной ситуации Бухарин использует эту черту своего характера в борьбе со Сталиным. Выражая свои эмоции и позиционируя себя в этот экстремальный период своей жизни, Бухарин жонглирует между разными уровнями (микро и макро). Чтобы разгадать его игру, необходимо понимание того, какое соотношение было между частной и публичной сферой в СССР при Сталине. Принято считать, что различение между частным и публичным в западном смысле этих понятий некорректно, когда речь идет об анализе советских социальных идентичностей, так как в советском обществе, в отличие от западных, эти две сферы формально не были разграничены19. Эго
18 Это письмо было впервые опубликовано в журнале Источник 0 [sic] (1993), 23 -25. Комментарии к тексту см.: N. Werth, «Lettie de Nikolai Bou-kharine a Staline, 10 decembre 1937», Le Ddbat 107 (1999). Далее все цитаты без сносок взяты из этого письма.
19 Parler de soi sous Staline. La construction identitaire dans le communisme des amwes trente, ed. B. Studer, B. Unfried, I. Herrmann, Paris: Maison des sciences de 1’homme, 2002, 22.
Эмоции в микромире Сталина: случай Николая Бухарина... 437
означает прежде всего, что в конструктах, имеющих отношение к идентичности, особенно в высших государственных сферах, они постоянно переплетаются. Для исследователя, работающего с историческими документами, интересно деконструировать эти две сферы, в первую очередь для того, чтобы проанализировать стратегии акторов, лавирующих между уровнем микросоциального (частного) и макросоциального (публичного), и воссоздать «игру масштабов» в конструкциях идентичности и межличностных связях20.
В соответствии с этой точкой зрения будет корректно утверждать, что Бухарин играет выражением своих эмоций. Прежде всего надо отметить, что он действует как компетентный «актор»21, выстраивая перечень характеристик той ситуации, в которой он оказался: «Я бы, позабыв стыд и гордость, на коленях умолял бы, чтобы не было этого. Но это, вероятно, уже невозможно, дать мне возможность умереть до суда, хотя я знаю, как ты сурово смотришь на такие вопросы».
Равным образом он учитывает характеристики других вовлеченных в ситуацию лиц. Именно поэтому он и обращается к Молотову22 и Ворошилову23. Вероятно, он «умел разговаривать» со Сталиным, становясь на уровень своего собеседника и принимая во внимание релевантные для него нормы и риторику. Можно про
20 J. Revel, Jeux d’echeUes. La micro-analyse a [’experience, Paris: Le Seuil-Gallimard, 1996, 7—35.
21 Согласно Бернару Лепети, компетентный «актор», деятель, агент 1) способен отдавать себе отчет в множественности нормативных полей и видеть за каждым из них соответствующее содержание, 2) умеет «выстраивать иерархически характеристики той или иной ситуации и качества ее действующих лиц» и, наконец, 3) способен проскользнуть в зазоры, образующиеся между универсумами правил, мобилизовать ту систему норм, которая наиболее адекватно служит его выгоде» и формировать «такие интерпретации, которые иным образом организуют мир на основе разрозненных правил и ценностей» (Lepetit, Les formes de [’experience, 20).
22 1 декабря 1936 г. Бухарин в длинном письме Молотову обвиняет его в непонимании сложившейся ситуации. См.: Советское руководство. Переписка. 1928—1941 гг., под ред. Ф. Квашонкина, Л. Кошелевой, Л. Роговой, О. Хлев-нюка, М.: РОССПЭН, 1999, 357-360.
23 Бухарин пишет Ворошилову 21 августа 1936 г., напоминая о связывающей их дружбе (РГАСПИ. Ф. 329. Оп. 2. Д. 6. Л. 10—13). Хорошо понимая политическую игру, которую вел Сталин, и демонстрируя свою лояльность, Ворошилов отстраняется от Бухарина: «Возвращаю твое письмо, в котором ты позволил себе гнусные выпады в отношении парт, руководства. Если ты твоим письмом хотел убедить меня в твоей полной невиновности, то убедил пока в одном: впредь держаться от тебя подальше, независимо от результатов следствия по твоему делу, а если ты письменно не откажешься от мерзких эпитетов по адресу парт, руководства, буду считать тебя и негодяем» (ответное письмо от 3 сентября, там же. Л. 14).
438
Мигали Делалой
демонстрировать три момента в бухаринской игре эмоциями. Первый момент заключается в том, что он не отрицает систему, а, наоборот, ее поддерживает. Он делится неким глубоко личным чувством, чувством «тоски», он выражает свои эмоции и меланхолию, но не подвергает сомнению линию партии. Как показала Шейла Фицпатрик24, в СССР в 30-е годы выражения эмоций подвергаются общественному контролю. Существуют публично допустимые эмоции, такие как счастье, веселье, блогодарность Сталину, тогда как глубоко личные эмоции канализованы и цензурированы (письма в государственные органы), например, тоска Бухарина. Эта тоска связана с литературным наследием России, что и объясняет возможность ее выражения. Она связана с чувством отторжения от общества, члены которого обязаны или потенциально могут быть счастливы25. И Бухарин в совершенстве разыгрывает свою партию; его тоска имеет четкое направление. Он не нарушает правила игры, когда выражает свою тоску публично во время пленума. Тем самым он демонстрирует, что знает правила, но не полностью им подчиняется. Например, на февральско-мартовском 1937 года пленуме26 он делает попытку манипулировать чувствами присутствующих, говоря о своей любви к Ленину и Орджоникидзе и напоминая о своих тесных связях с этими историческими личностями:
Третье. «Спекуляция» именем Ленина и именем Орджоникидзе. При смерти Ильича я действительно присутствовал, при его последнем вздохе, и бесконечно его любил, в чем же тут «спекуляция»? Вы, может быть, думаете, что для меня смерть Орджоникидзе ничего? Что я просто мимо нее прохожу и только? Пожалуйста, не верьте, если не хотите. Но я вам говорю, что я Серго глубоко и горячо любил27.
Выражать такую любовь для члена партии вполне приемлемо и даже необходимо. Однако в данном случае она, более чем любое другое стереотипное выражение, дает Бухарину некую страховку, противодействующую созданию образа «одномерного чудовища»28. Он ищет способ помешать сталинской группировке исключить его
24 «В тридцатые годы печаль и меланхолия — вовсе не “советские” эмоции; тем не менее, выражать их можно было без особенных затруднений», если это не оспаривало господствующую систему; Fitzpatrick, «Happiness and Toska», 370.
23 Ibid.
26 Материалы февральско-мартовского пленума ЦК ВКП(б) 1937 года. 23 февраля 1937 г., Вопросы истории 4—5 (1992).
27 Там же, 25 (далее в ссылках — 23 февраля 1937 г., с указанием страницы).
28 Unfried, «Parler de soi au Parti: I’autocritique dans les milieux du Komintern en URSS durant les annees trente», Parler de soi sous St aline, 157.
Эмоции в микромире Сталина: случай Николая Бухарина... 439
из сообщества, напоминая о своих личных и особенных отношениях с этими двумя эмблематическими персонажами того времени.
Даже если исходить из того, что в этот момент он был искренен в выражении своих чувств, тем не менее можно вслед за У. Редди говорить о некотором мимолетном инструментализме (fugitive instrumentalism), вступающем в силу при взаимодействии двух персонажей:
В силу того, что эмоционально заряженные слова оказывают на собеседника значительное и непредсказуемое воздействие, искренность не следует рассматривать как состояние естественное, лучшее или же наиболее очевидное, к которому стремится каждая личность. Напротив, очевиднейшая ориентация эмотивно окрашенных слов на власть есть форма мимолетного инструментализма. Человек пытается использовать этот важный инструмент для достижения своих целей, которые лишь косвенным образом можно соотнести с содержанием того или иного высказывания29.
Второй момент игры Бухарина позволяет понять, как он, еще надеясь спасти свою жизнь, пользуется как инструментом чувствами Сталина. В данном письме этот «мимолетный инструментализм» может быть рассмотрен в трех ракурсах. Прежде всего в его построении обнаруживается игра масштабов: Бухарин стратегически осознанно, в зависимости от того, что он хочет сказать, чередует два уровня авторепрезентации: микросоциальный (апеллируя к дружбе, связывающей его с адресатом письма) и макросоциальный (выдвигая на первый план свои заслуги как теоретика партийного дела). Эмоциональная риторика обнажает эту игру: друг Николай выражает чувства, тогда как революционер Бухарин изъясняется рационально. Этот прием, хорошо видимый уже в первых словах письма, структурирует практически весь текст. Абзацы, касающиеся партийной деятельности Бухарина, перемежаются с абзацами, которые должны затронуть эмоции его друга Кобы. Так, начиная с обращения «Иосиф Виссарионович», Бухарин как будто задает письму формальный строй30, но тут же переходит на уровень личных отношений: «Пишу это письмо как, возможно, последнее,
29 Reddy, Navigation of Feelings, 108.
30 Ознакомление co всем корпусом переписки Бухарина со Сталиным показывает, что в большинстве случаев Бухарин называл своего адресата «Коба» и обращался к нему на «ты». Впрочем, порой, в более формальных по содержанию письмах, он именует Сталина «Иосиф Виссарионович» или «тов. Сталин» (РГАСПИ. Ф. 329. Оп. 2. Д. 5, 6; РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 709, 710).
440
Магали Делало й
предсмертное, свое письмо. Поэтому прошу разрешить мне писать его, несмотря на то что я арестант, без всякой официалыцины, тем более, что я его пишу только тебе, и самый факт его существования или несуществования целиком лежит в твоих руках...». Чтобы полностью понять бухаринский «мимолетный инструментализм», необходимо пристальное исследование отдельно взятого микросо-циального уровня, а именно анализ отношений «Николай — Коба», отразившихся в этом письме. Переходя к стратегии беседы с Кобой, он выражает чувства сообразно «своим странностям» (собственное выражение Бухарина) и прибегает к лексике из религиозной сферы:
Я не христианин. Но у меня есть свои странности. Я считаю, что несу расплату за те годы, когда я действительно вел борьбу. [...] Хочешь верь, хочешь не верь, но вот этот факт [свидание с Каменевым] стоит у меня в голове как какой-то первородный грех для иудея. Боже, какой я был мальчишка и дурак! А теперь плачу за это своей честью и всей жизнью. За это прости меня, Коба. Я пишу и плачу. [...] и у тебя прошу прощенья, хотя я уже наказан так, что все померкло, и темнота пала на глаза мои.
Такая риторика, казалось, могла тронуть Сталина — истового большевика, а в далеком прошлом семинариста. В самом деле, как показал Михаил Вайскопф31, церковное образование Сталина отразилось на стиле его писем, будь он Коба или Генералиссимус, сказывается его опыт семинариста: риторические стратагемы, почерпнутые Сталиным из арсенала православной гомилетики позволяли умело воздействовать на собеседников. На сходной ноте заканчивает свое письмо и Бухарин: «А сейчас, хоть с головной болью и со слезами на глазах, все же пишу. Моя внутренняя совесть чиста перед тобой теперь, Коба. Прошу у тебя последнего прощенья (душевного, а не другого). Мысленно поэтому тебя обнимаю. Прощай навеки и не поминай лихом своего несчастного». И наконец, на этом микросоциальном уровне, ключевым аспектом использования в своих целях чувств Сталина является апелляция к особо значимым для адресата моментам прошлого. Для этого Бухарин прямо обращается к «Кобе». Первый факт, о котором сказано открыто, и даже с упоминанием пережитых автором галлюцинаций, — дружеские чувства, связывавшие Бухарина с Надеждой Сергеевной, второй женой Сталина:
Когда у меня были галлюцинации, я видел несколько раз тебя и один раз Надежду Сергеевну. Она подошла ко мне и говорит:
31 М. Вайскопф, Писатель Сталин, М.: НЛО, 2001.
Эмоции в микромире Сталина: случай Николая Бухарина... 441
«Что же это такое сделали с Вами, Н. И.? Я Иосифу скажу, чтобы он Вас взял на поруки». Это было так реально, что я чуть было не вскочил и не стал писать тебе, чтоб... ты взял меня на поруки! Так у меня реальность была перетасована с бредом. Я знаю, что Н. С. не поверила бы ни за что, что я злоумышлял против тебя, и недаром подсознательное моего несчастного «я» вызвало этот бред. А с тобой я часами разговаривал...
Бухарин, в 1920-е годы бывший в семье Сталиных фактически домашним человеком, знал, как и все близкое окружение, о том, что Сталин тяжело переживал смерть Нади. Второй факт — апелляция, также прямая, к дружбе со Сталиным. Бухарин «кается»: «И если хочешь уж знать, то больше всего меня угнетает один факт, который ты, может быть, и позабыл: однажды, вероятно, летом 1928 года, я был у тебя, и ты мне говоришь: знаешь, отчего я с тобой дружу: ты ведь неспособен на интригу? Я говорю: Да. А в это время я бегал к Каменеву (“первое свидание”)». Как видим, Бухарин пытается создать (или воссоздать) узы интимности. С его точки зрения, дружба между ними двумя нарушена Сталиным. В этот момент Бухарину важно вспомнить бывшую дружбу, поскольку это ему позволяет выйти из-под иерархического подчинения. Играя на своем знании интимной жизни Сталина, он может ниспровергать «партийного шефа». С той же позиции он говорит о разгроме гадины, объявляет себя защитником партийной чести и ставит тем самым Сталина в трудное положение:
д) если мне будет сохранена, паче чаяния, жизнь, то я бы просил (хотя мне нужно было бы поговорить с женой):
*) либо выслать меня в Америку на п лет. Аргументы за: я провел бы кампанию по процессам, вел бы смертельную борьбу против Троцкого, перетянул бы большие слои колеблющейся интеллигенции, был бы фактически Анти-Троцким и вел бы это дело с большим размахом и прямо с энтузиазмом; можно было бы послать со мной квалифицированного чекиста и в качестве добавочной гарантии на полгода задержать здесь жену, пока я на деле не докажу, как я бью морду Троцкому и Ко. и т.д.
Эта стратегия появляется уже в самом начале письма. В самом деле, Бухарин писал его как строго личное («Весьма секретно. Лично»): «Прошу никого другого без разрешения И. В. Сталина не читать». Несмотря на предупреждения, Бухарин, имевший представление о привычках Политбюро, должен был понимать, что это письмо будет прочитано перед другими членами ПБ. Но он это пишет для того, чтобы Сталин почувствовал себя неловко.
442
Магали Делалой
В этом контексте микросоциальных отношений можно пытаться плодотворно воздействовать на Сталина через эмоции. В отличие от моментов, когда Бухарин говорит с Иосифом Виссарионовичем, вождем партии, который отбрасывает личные чувства во имя великого дела социалистического строительства, именно в таком контексте эмоции могут сыграть какую-то роль. На другом уровне Бухарин задействует иную стратегию.
И в разбираемом письме, и на февральско-мартовском пленуме 1937 года Бухарин подает себя как человека, сыгравшего ключевую роль в истории партии и, следовательно, в создании великого социалистического общества. Когда он говорит с Иосифом Виссарионовичем, придерживаясь линии партии в сфере выражения эмоций, используемая им риторика становится рациональной:
4) Кроме внешних моментов и аргумента 3) (выше), я, думая над тем, что происходит, соорудил примерно такую концепцию: Есть какая-то большая и смелая политическая идея генеральной чистки а) в связи с предвоенным временем, Ь) в связи с переходом к демократии. Эта чистка захватывает а) виновных, Ь) подозрительных и с) потенциально подозрительных. Без меня здесь не могли обойтись. Одних обезвреживают так-то, других — по-другому, третьих — по-третьему.
Он даже упоминает о своих работах, апеллируя таким образом к тому, что было сделано им как теоретиком партии: «еще: философская работа, оставшаяся у меня, — я в ней сделал много полезного». В финале письма Бухарин помещает самого себя перед лицом истории, ссылаясь на авторитет Маркса, — прием, необходимый для солидного большевика-теоретика: «Иосиф Виссарионович! Ты потерял во мне одного из способнейших своих генералов, тебе действительно преданных. Но это уж прошлое. Мне вспоминается, как Маркс писал о Барклае-де-Толли, обвиненном в измене, что Александр I потерял в нем зря такого помощника». В ходе пленума Бухарин обращается к той же стратегии, которая будет шаг за шагом разрушена Сталиным. Сначала он пытается растрогать аудиторию, хотя его физическая слабость (следствие голодовки протеста) вполне реальна: «Товарищи, я очень прошу вас не перебивать, потому что мне очень трудно, просто физически тяжело говорить; я отвечу на любой вопрос, который вы мне зададите, но не перебивайте меня сейчас»32. И дальше: «Но поймите, что мне тяжело жить»33. Не достигнув намеченной цели, он несколько раз попытается занять позицию теоретика, педагога:
32 23 февраля 1937 г., 23.
33 Там же.
Эмоции в микромире Сталина: случай Николая Бухарина... 443
Позвольте я вам расскажу, как я объяснил это дело. Тов. Микоян говорит так: по самому основному вопросу у него, у Бухарина, остались разногласия с партией: он остался по существу на прежних позициях. Это неверно. Я вовсе не оставался на прежних позициях ни насчет индустриализации, ни насчет коллективизации, ни насчет переделки деревни вообще34.
В другом случае он «опрокидывает» отношения силы, разворачивая диалог в рамках формальной майевтики, что вызывает раздражение Сталина:
Бухарин: К кому он [Астров] обращался?
Сталин: К тебе.
Бухарин: А что я ответил, т. Сталин!
Сталин: Ты что ответил? У тебя ответы были двух родов: первые ответы ты вел в отношении троцкистов: «врете, мерзавцы», то же и по другим.
Бухарин: Совсем нет35.
Обращаясь на «вы» к Сталину, Бухарин учитывает его положение шефа и дистанцируется. В то же время нервозность доводит Сталина до перехода на «ты», показывая его близость Бухарину. Как и в цитируемом письме, в этих столкновениях мнений Бухарин ставит Сталина в уже упомянутое щекотливое положение.
И наконец, третий момент игры Бухарина с выражением эмоций. В менее строго структурированной прозе Бухарин прибегает к стратегии выражения эмоций для того, чтобы убедить Сталина в своей правоте. Между тем он оказывается лицом к лицу с чувством сильнейшей неуверенности: «Пишу это письмо как, возможно, последнее». И ниже: «Сейчас переворачивается последняя страница моей драмы и, возможно, моей физической жизни». Действующие лица истории сталкиваются с сомнениями, ибо не могут четко представить себе выход из той социальной ситуации, в которой они находятся36. В то же время сомнение может быть рассмотрено и проанализировано как эмоция. Благодаря значительно менее строгой риторике, здесь сама стратегия обнаруживает неуверенность, обнажает свои эмоциональные и рациональные аспекты. Так, в решающий момент, бросая на борьбу последние силы, Бухарин умоляет Сталина, унижаясь перед ним и в то же время пытаясь подобрать рациональные доводы. Такова, например, его жалобная просьба:
34 23 февраля 1937 г., 24 -25.
33 Там же, 32.
36 Revel, Jeux dechelle, 35.
444
Магали Делало й
в) если меня ждет смертный приговор, то я заранее тебя прошу, заклинаю прямо всем, что тебе дорого, заменить расстрел тем, что я сам выпью в камере яд (дать мне морфию, чтоб я заснул и не просыпался). Для меня этот пункт крайне важен, я не знаю, какие слова я должен найти, чтобы умолить об этом, как о милости: ведь политически это ничему не помешает, да никто этого и знать не будет. Но дайте мне провести последние секунды так, как я хочу. Сжальтесь! Ты, зная меня хорошо, поймешь. Я иногда смотрю ясными глазами в лицо смерти, точно так же, как — знаю хорошо — что способен на храбрые поступки. А иногда тот же я бываю так смятен, что ничего во мне не остается. Так если мне суждена смерть, прошу о морфийной чаше. Молю об этом...
В завершение этого пассажа он, впрочем, пишет: «Однако, по правде сказать, я на это не надеюсь, ибо самый факт изменения директивы февральского пленума говорит за себя (а я ведь вижу, что дело идет к тому, что не сегодня-завтра процесс)». Он опять-таки предчувствует уготованную ему судьбу, но на эмоциональном уровне выражает надежду на то, что все же останется в живых. Выявляя парадоксальность дискурса Бухарина, рассмотренный документ является в то же время превосходным образчиком неуверенности, в которой находится этот исторический персонаж.
Как видно из этой части, для того чтобы повлиять на ход событий и избавить себя от фатальной судьбы, Бухарин использует широкий диапазон стратегий в выражении эмоций. Используя все свои ресурсы, которые и делают его таким компетентным актером, он пытается манипулировать чувствами Сталина, касающимися как общественной деятельности, так и интимной сферы. Со своей стороны, Сталин чувствует себя обязанным реагировать.
Сталин: «Отец народов»37
В борьбе с Бухариным Сталин обращается к другим стратегиям — хотя бы потому, что преследует иные цели. Он стремится укрепить свое главенство в группе руководящих лиц Политбюро. Параллельно с этим он придает законченность собственному культу личности, при помощи окружения внося последние штрихи в образ «отца народов». В период завершения дела, связывающего его с Бухариным, Сталин решительно отклоняет любое выражение дружбы, в частности не отвечает на рассмотренное выше письмо. Такой шаг — в общем и целом демонстрация того, что дальше он
37 Marie, Statine, 745.
Эмоции в микромире Сталина: случай Николая Бухарина... 445
будет действовать на макросоциальном уровне. В самом деле, сделанное Бухариным напоминание об их бывшей дружбе ставит Сталина в затруднительное положение. Эго для него своего рода препятствие, и он чувствует себя обязанным мыслить и действовать стратегически, чтобы не попасть в западню и успешно реализоваться в роли шефа партии, находящегося выше всяческих личных чувств и отношений. И все же он совершает ряд неформальных действий на уровне личных отношений, играя на нервах Бухарина. Приведу два примера. Первый касается вторжения в его кремлевскую квартиру незадолго до открытия пленума 1937 года:
Мы еще оставались в кабинете, как неожиданно вошли трое мужчин. Звонка в дверь мы не слышали, открыл им Иван Гаврилович. Эти трое сообщили товарищу Бухарину — так они его назвали, — что ему предстоит выселение из Кремля. Н. И. и прореагировать не успел - зазвонил телефон. У аппарата был Сталин.
— Что там у тебя, Николай? — спросил Коба.
— Вот пришли из Кремля выселять, я в Кремле вовсе не заинтересован, прошу только, чтобы было такое помещение, куда вместилась бы моя библиотека.
— А ты пошли их к чертовой матери! — сказал Сталин и повесил трубку.
Трое неизвестных стояли около телефона, услышали слова Сталина и разбежались к «чертовой матери»38.
Вторым примером может послужить встреча Сталина с Бухариным в зале свиданий накануне открытия пленума, когда обессилевший Бухарин не может справиться с приступом головокружения и падает:
К нему [Бухарину] подошел Сталин и сказал:
— Кому ты голодовку объявил, Николай, ЦК партии? Посмотри, на кого ты стал похож, совсем истощал. Проси прощения у пленума за свою голодовку.
— Зачем это надо, — спросил Бухарин Сталина, — если вы собираетесь меня из партии исключать? [...]
— Никто тебя из партии исключать не будет, — ответил Сталин39.
В ходе февральско-мартовского пленума Сталин обнародует такую саморепрезентацию, в которой он по соображениям страте
38 Ларина-Бухарина, Незабываемое, 396—397.
39 Там же, 403—404.
446
Магали Делало й
гии выражает или же не выражает эмоции. Причем узнать, до какой степени он их интериоризирует, крайне трудно. В первую очередь он действует в рамках формирования, а затем сплочения своего ближайшего окружения, стремясь добиться главенства этой группы над партией в целом. Когда изможденный голодовкой Бухарин говорит на пленуме о том, что ему тяжело жить, Сталин коротко отвечает: «А нам легко?»40 — и затем передает слово Ворошилову. Как явствует из этих слов, прибегая к «мы», Сталин выражает эмоции для создания некоего «эмоционального сообщества» (в том смысле, который придавала этому термину Розенвейн), цель которого — дополнительно сплотить нужную группу. Здесь Сталин как харизматический лидер, стоящий в центре этой группы, действует, чтобы укрепить свое, и без того центральное, положение в иерархии данного круга. В самом деле, он занимает это положение с 1929 года, выступая в роли связующего звена, медиатора для всех членов группы. Ему необходимо управлять конкуренцией, возникающей из динамики «эмоционального сообщества», и оперировать как инклюзивными (включающими), так и эксклюзивными (исключающими из сообщества) факторами, порождаемыми этой динамикой41. Так что образ, который Сталин преподносит партии, нельзя считать его атакой против Бухарина лично. Эго скорее результат бдительности, которую проявляет правящая группа по отношению к «врагу народа». Точно так же напоминает он об этой конфронтации во время одного из заседаний Политбюро: «Причем, когда к каждому из арестованных я или кто-нибудь обращался: “По-честному скажите, добровольно вы даете показания или на вас надавили”»42. Сплоченность группы отражается в страхе Бухарина перед исключением из этого «сообщества эмоций» — между тем он уже исключен из него de facto постольку, поскольку не отказывается от я-риторики, чтобы проскользнуть в плотную массу нас, то есть группы. В последнем выступлении на процессе 12 марта 1938 года он делает публичное признание: «И когда спрашиваешь себя: ну, хорошо, ты не умрешь; если ты каким-нибудь чудом останешься жить, то опять-таки для чего? Изолированный от всех, враг народа, в положении нечеловеческом, в полной изоляции от всего, что составляет суть жизни...». В этот момент страх быть исключенным, как подтверждает Анна Ларина43, усиливал связи внуг-
40 23 февраля 1937 г., 23.
41 R. Boudon, F. Bourricaud, A Critical Dictionary of Sociology, Univ, of Chicago Press, 1989, 71-72.
42 23 февраля 1937 г., 32.
43 «Исключение из партии Н. И. рассматривал как наихудшую кару, хотя временами готов был отправиться к “чертям на рога”, лишь бы жить» (Ларина-Бухарина, Незабываемое, 403).
Эмоции в микромире Сталина: случай Николая Бухарина... 447
ри этого эмоционального сообщества, создавая узы зависимости членов окружения Сталина от самого Сталина. И наконец, во имя упрочения своей главенствующей позиции Сталин постоянно маневрировал внутри своего ближайшего окружения. Его демарш в отношении Ворошилова — необходимый элемент для понимания этого механизма. В самом начале пленума тот оскорбляет Бухарина: «Подлость! Типун тебе на язык. Подло»44, дистанцируясь от него и подчеркивая через выплескивание негативных эмоций свою приверженность Сталину и связь с его ближайшим окружением. Но туг же, не выходя из привычной роли верховного судьи, Сталин отодвигает Ворошилова на положенное ему место подчиненного в группе: напоминая о том, что один из сотрудников ведомства последнего является обвиняемым на процессе, Сталин при помощи этой завуалированной угрозы ставит Ворошилова в крайне уязвимое положение:
Ворошилов: Они [ученики Бухарина] были раньше арестованы.
Сталин: Наоборот, на последней очной ставке мы не только Бухарина привлекли, но и известного военного работника Пугачева проверили45.
После этого Ворошилов вплоть до окончания прений не выступал с обвинениями против Бухарина. Этим выпадом Сталин напомнил своему кругу, что бразды правления находятся в руках у него. Вышеописанный механизм играет большую рать в конструкте сталинской идентичности, определяющей его поведение в отношении партии, то есть на публичном макросоциальном уровне. Как можно заметить, Сталин действует стратегически, с целью концентрации вокруг себя «эмоционального сообщества», в котором он будет не только центром, но и ключевым персонажем — ориентиром для других членов сообщества. Другими словами, для Сталина эмоциональные проявления становятся факторами доминирования, вследствие чего происходит укрепление такого типа мужественности.
Типы мужественности у Сталина и Бухарина
Вернусь к одному из сформулированных в начале статьи вопросов: что дает нам этот анализ с точки зрения гендера? Мне представляется возможным рассматривать практику выражения эмоций
44 23 февраля 1937 г., 23.
45 Там же, 33.
448
Магали Делалой
как подступ к воссозданию гендерных идентичностей Бухарина и Сталина. Очевидно, что стратегии выражения эмоций у обоих акторов совершенно разные. Они дают ключи, чтобы понять их способы конструирования мужественности. Начнем со Сталина (мы уделяем этой теме больше внимания потому, что она наименее разработана). Его цель — подчеркнуть такую вирильность, которая посредством управления чувствами упрочит его доминирующее положение в группе и в партии. В отношении партии он, укрепляя свой культ личности, выдвигает на первый план образ «отца народов». Взглянем пристальнее на эту конструкцию идентичности, создающую определенный тип доминирующей мужественности. Вообще говоря, советская модель мужественности воспроизводит старый шаблон, унаследованный от имперского периода, — военно-героическую форму, которая зачастую тяготеет к подчеркиванию некоего национального единства, в то же время соблюдая этнические различия:
В процессе конструирования патриотизма военно-героическая маскулинность нередко сводит к минимуму различия между мужчинами — гражданами одного государства. Отвага, самопожергво-вание и стойкость в бою описываются как средство уничтожения преград между мужчинами, как способ создания товарищества, соединяющего мужчин вне зависимости от их классовой принадлежности. В самом деле, иерархии социального статуса обнаруживают свойство исчезать, уступая место героической мужественности46.
С 1929 года кремлевский круг активно использует военную риторику для обоснования индустриализации, что придает дополнительную прочность образу мужчины как солдата-героя и включает общество в мобилизационную динамику «военного времени»47 (ср. постоянные упоминания внешних («капиталистическое окружение») и внутренних («пятая колонна») врагов). Бдительность, смелость и дисциплина становятся в этой схватке основополагающими ценностями. Эта модель не является исключительно плодом пропаганды. Однако Сталин, являющийся главным ее вдохновителем, в рамках созидаемого им культа личности охотно будет демонстрировать, что именно он является ее воплощением48. В данном
46 К. Petrone, «Masculinity and Heroism in Impartial and Soviet Military-Patriotic Cultures», Russian Masculinities in History and Culture, ed. B. Clements, R. Freedman & D. Healey, N.Y.: Palgrave, 2002, 173—174.
47 Th. Schrand, «Socialism in One Gender: Masculine Values in the Stalin Revolution», Russian Masculinities in History and Culture, 199.
48 Такую авторепрезентацию Сталин адресует, так сказать, вовне, макро-социальному уровню. Внутри своего круга его мужественность более соответствует модели «мужчины-соблазнителя».
Эмоции в микромире Сталина: случай Николая Бухарина... 449
случае за эмоциями сохраняются традиционные коннотации, то есть выражение сентиментальности определяется как женское качество. Действительно, новый советский человек прежде всего рационалистичен и обращен к «культуре», что воспроизводит оппозицию «мужчина, связанный с культурой, versus женщина, связанная с природой»49. Коммунистическая идеология, исходящая из того, что человеку как таковому, мужчине и женщине в равной степени, надлежит подчинить себе природу, предлагает делать это рациональным образом, придерживаясь дисциплины и управляя собой, а также образовываясь и развиваясь50. Эго ведет к своеобразной маскулинизации женщины51 и, в сущности, не ставит под сомнение дихотомию натуры и культуры. Выражение эмоций, таким образом, остается характеристикой женщины (см. ниже специальную оговорку А. М. Лариной касательно того, что Бухарин отнюдь не был «плаксивой бабой»). Подобной опасности для Сталина не существует.
Тот факт, что мужественность, воплощаемая Сталиным, до такой степени не похожа на бухаринскую, во многом объясняется несходством их биографических обстоятельств, прежде всего среды, из которой они вышли, и полученным образованием. Бухарин — русский студент юридического факультета Московского университета, Сталин родился в бедной грузинской семье и учился в семинарии, его «мирозрение» всегда было в сильной степени окрашено догматизмом. Второй пункт расхождения — революционный опыт: Сталин бывал в ссылке только в Сибири (откуда убегал восемь раз) и, следовательно, никогда не сталкивался с существующими на Западе моделями. Равным образом он был не теоретиком, но деятелем и постоянно соприкасался с пройдохами и ловкачами из нижних слоев общества. Опираясь на свой опыт, Сталин выстраивал для себя вполне традиционную мужественность, получившую распространение на периферии Российской империи, невдалеке от исламского мира. Его социальная идентичность представляет собой смесь пролетарских и этнических, как грузинских, так и русских, элементов. На ужине 7 ноября 1937 года, «извиняясь перед Димитровым за то, что перебил его, советский
49 О параллелизме «женщина — природа» и «мужчина — культура» см.: Sh. Ortner, «Is Female to Male as Nature is to Culture?», Woman, Culture, and Society, ed. M. Rosaldo, L. Lamphere, Stanford UP, 1974.
30 L. Attwood, «Women Workers at Play: the Portrayal of Leisure in the Magazine Rabotnitsa in the First Two Decades of Soviet Power», Women in the Stalin Era, ed. M. Ilic, N.Y.: Palgrave, 2001.
31 B. Studer, «L’etre perfectible. La formation des cadres staliniens par le “travail sur soi”», Geneses (2003), 103.
450
Магали Делалой
лидер заявил: “[...] Я не европеец, а обрусевший грузин-азиат”»52. Перечисленные составляющие позволяли ему принимать политические решения, основываясь на своих представлениях о централизованном и мультикультурном советском государстве и обществе53. Исходя из этого, Сталин подавал себя как пример советского человека, неукоснительно следовавшего партийной линии и не выражающего своих эмоций. В одном из тех редких случаев во время очных ставок, когда Сталин говорит о себе от первого лица, он, как можно заметить, говорит о чувствах, одобренных партией, и даже предлагает им следовать. Таковы его реплики во время конфликта с Политбюро:
Сталин: Ведь очная ставка отличается тем, что обвиняемые, когда приходят на очную ставку, то у них у всех появляется чувство: вот пришли члены Политбюро, и я могу здесь рассказать все в свое оправдание. Вот та психологическая атмосфера, которая создается в головах арестованных при очной ставке. Если я мог допустить, что чекисты кое-что преувеличивают, — таков род их работы, что они могут допустить некоторые преувеличения, я в искренности их работы не сомневаюсь, но они могут увлечься, но на последней очной ставке, где было полное совпадение старых протоколов с показаниями в нашем присутствии, я убедился, что очень аккуратно и честно работают чекисты.
Петровский: Честно?
Сталин: Честно. Вот здесь для Радека и для всех была возможность сказать правду. Мы же просили — скажите правду по чести. Я говорю правду, и глаза его, тон его рассказа, - человек я старый, людей знаю, видал, ошибаться я могу, но здесь впечатление — искренний человек54.
Такое позволенное и разрешенное выражение эмоций в реальности лишь цементирует систему, в рамках которой отсутствие у Сталина сомнений для публики оказывается фактом более весомым, чем какие бы то ни было «объективные» данные. Кроме того, именно это отсутствие сомнений легитимизирует работу чекистов. Перед нами отнюдь не спонтанное, но полностью просчитанное выражение эмоций. Им обеспечивается главенство Сталина в
52 В. Невежин, Застольные речи Сталина: Документы и материалы, М.; СПб.: АИРО-ХХ, Д. Буланин, 2003, 158.
A. Rieber, «Stalin: Man of the Borderlands», American Historical Review 5 (2001); Stalin: A New History, ed. S. Davis, J. Harris, Cambridge: Cambridge UP, 2006, 18.
54 23 февраля 1937 г., 33—34.
Эмоции в микромире Сталина: случай Николая Бухарина... 451
партии: его слова не подвергаются сомнению, разве что в форме риторического вопроса. Сталин строит образ себя как мужчины, но еще интенсивнее — как отца, мудрого и сурового, который не колеблясь наказывает тех членов семьи, которые отклоняются от линии партии. Его реплики на пленуме это наглядно демонстрируют. Например, он «инфантилизирует» Бухарина, толкая его на самоуничижение и четче обрисовывая собственную суровость. Так, во второй день пленума Бухарин в самом начале заседания приносит извинения за объявление голодовки:
Бухарин: Я, товарищи, имею сообщить вам очень краткое заявление такого порядка. Приношу пленуму Центрального Комитета свои извинения за необдуманный и политически вредный акт объявления мною голодовки.
Сталин. Мало, мало!
Бухарин. Я могу мотивировать. Я прощу пленум Центрального Комитета принять эти мои извинения, потому что действительно получилось так, что я поставил пленум ЦК перед своего рода ультиматумом и этот ультиматум был закреплен мною в виде этого необычайного шага.
Каганович. Антисоветского шага.
Бухарин. Этим самым я совершил очень крупную политическую ошибку, которая только отчасти может быть смягчена тем, что я находился в исключительно болезненном состоянии. Я прошу Центральный Комитет извинить меня и приношу очень глубокие извинения по поводу этого, действительно совершенно недопустимого политического шага.
Сталин. Извинить и простить.
Бухарин. Да, да, и простить.
Сталин. Вот, вот!55
Такова инсценировка его поведения перед партией. В стратегическом плане такое конструирование вносит свою лепту в утверждение его доминирования, которое может быть рассмотрено как маскулинное. Не-выражение эмоций и выражение одобренных партией чувств служат инструментом доминирования — как в партии, так и среди руководителей высшего эшелона, которые в этом гомосоциальном мире допускают подобное доминирование. Таким образом, Сталин настойчиво продвигает доминирующую мужественность, которая, как можно заметить, противопоставлена мужественности Бухарина.
55 Материалы февральско-мартовского пленума ЦК ВКП(б) 1937 года.
24 февраля 1937 г., Вопросы истории 6—7 (1992), 2.
452
Магали Дел алой
В этот жизненно важный момент Бухарин строит собственную мужскую идентичность по модели, не совпадающей с той, что была актуальна для 1930-х годов. В действительности он максимально реализует мужественность старых большевиков, в свое время живших на Западе и впитавших коммунистическую модель в том виде, как ее описал Джордж Л. Мосс56. По мнению последнего, это мужественность сильная, но не агрессивная. Следовательно, ее носитель обязан учиться борьбе, но не превращает ее в удовольствие: «Кровь, в том числе свою, необходимо было проливать ради победы пролетариата, чтобы в будущем она уже никогда не проливалась»57. Эго городской мужчина, начисто отрицающий гомофобию, проповедующий равенство мужчин и женщин и таким образом ниспровергающий идеальный тип западной буржуазной мужественности. Описанная модель, во главу угла ставящая дисциплину, начинает меняться (в том числе на Западе) после создания СССР. Возвращаясь к Бухарину, приведем пример гендерного деконструирования, который чрезвычайно интересен. Михаил Ларин, старый друг и будущий свекор Бухарина, рассуждал в статье в «Правде» от 7 ноября 1920 года о том, что благодаря развитию науки наступит время, когда люди смогут менять пол, и в качестве примера указывал на Бухарина, который в таком случае из Николая станет Ниной. Высказываясь в своей речи на X съезде ВКП(б) публично о какой-то статье А. Коллонтай, Бухарин упомянул эту остроту: « ...если бы даже осуществилась мечта т. Ларина и я был бы превращен в Нину Бухарину, я не пришел бы в восхищение от этой статьи». В данном случае, в отличие, скажем, от Ленина, Бухарин заходит очень далеко в деконструкции маскулинности58, прежде всего в сфере эмоций. Его мужественность — результат мощного стремления отбросить буржуазный патриархат. Это видно и в его концепции брака: будучи женат в третий раз, он продолжает жить под одной крышей со второй женой. Таким образом, выражать чувства — не прерогатива «женственного» в традиционном смысле (т.е. пассивного), это процесс активный и непосредственно влияющий на выстраивание линии поведения: «Я весь дрожу сейчас от волнения и тысячи эмоций и едва владею собой. Но именно потому, что речь идет о пределе, я хочу проститься с тобой заранее, пока еще не поздно, и пока пишет еще рука, и пока открыты еще глаза мои, и пока так или иначе функционирует мой мозп>. И в финале письма: «Может быть, что у меня, как у неврастеника, будет такая универсальная апатия, что и пальцем не смогу
56 Mosse, L 'image de t’homme, 129.
57 Ibid., 130.
Ларина-Бухарина, Незабываемое, 247—248.
Эмоции в микромире Сталина: случай Николая Бухарина... 453
пошевельнуть». Эта конструкция воплощает модель альтернативную и отнюдь не банальную — не случайно Ларина-Бухарина беспокоилась, как бы муж в ее описании не выглядел женоподобным59. На микросоциальном уровне Бухарин вводит стоящую особняком, весьма эмоциональную мужественность, невиданную в кремлевском кругу, где мужчины, как будет показано ниже, придерживаются более традиционных путей, прежде всего в выражении чувств60. Как мы видим, эта эмоциональная позиция, которая помогает ему не подчиняться и избежать покорности Сталину, в то же время позволяет Бухарину казаться «менее вирильным» по сравнению с генералиссимусом. Обозначив таким образом роль выражения эмоций в конструировании гендерной идентичности, я хотела бы выдвинуть гипотезу, суть которой в том, что в их последней схватке выражение и не-выражение эмоций для актуализации соответствующего типа мужественности приводят двух главных действующих лиц этого эпизода к конкурентной борьбе за право определять тип доминирующей маскулинности.
Конкурентная борьба за мужественность: роль в истории
Как говорилось выше, практика эмоций — то есть их выражения или не-выражения — оказывается точкой отсчета и структурной категорией в конкурентной борьбе за доминирующую маскулинность между Сталиным и Бухариным. Они оба стратегически использовали ее в своих демаршах ради достижения своих целей. В то же время Бухарин понимал, чем кончится его процесс, даже если не был в этом полностью уверен. Поэтому его стратегия нацелена не только на спасение жизни, но и на создание определенного образа для будущих поколений. Сталин же, в свою очередь, не только борется за политическое главенство, но и навязывает свой тип доминирующей мужественности. Тип мужественности, выдви
59 «Не хотелось бы, чтобы на основании рассказанного мною сложилось впечатление, что Николай Иванович был “плаксивой бабой”. Эго далеко не так» (там же, 132).
60 Хотя советская идеология и психология стремились выработать теории, в равной степени приложимые и к мужчинам, и к женщинам, но о женщинах они регулярно забывали. Из-за этого воспроизведение гендерных различий становилось неизбежным. В модели, основывавшейся на положениях теоретической психологии, эмоции, за которыми прочно сохранялись женские коннотации, полагалось дисциплинировать. См. L. Attwood, The New Soviet Man and Woman: Sex-Role Socialization in the USSR, Basingstoke- Birmingham: Macmillan-Centre for Russian and East European studies, 1990, 63 -64.
454
Магали Делалой
гаемый Бухариным, строится на отрицании традиции и потому опасен для доминирующей мужественности, предлагаемой Сталиным. Как было показано выше при разборе гендерных идентичностей, будучи компетентными актерами на политической сцене, два основных протагониста прибегают к мобилизации ресурсов, создаваемых игрой масштабов между частным и публичным уровнями. Их ближайшие цели несомненно различны. Однако в их борьбе обрисовывается и некая общая цель: историческая роль каждого. Стратегии, применяемые ими на микро- и макросоциальном уровне, подчинены именно этой цели, что и неудивительно, если вспомнить большевистскую концепцию истории. Письмо Бухарина «Будущему поколению руководителей партии», выдержанное в драматическом тоне и выученное его женой наизусть для передачи потомкам, представляет собой один из самых разительных примеров:
Ухожу из жизни. Опускаю голову не перед пролетарской секирой, должной быть беспощадной, но и целомудренной. Чувствую свою беспомощность перед адской машиной, которая, пользуясь, вероятно, методами средневековья, обладает исполинской силой, фабрикует организованную клевету, действует смело и уверенно. [...]
Прощу новое, молодое и честное поколение руководителей партии зачитать мое письмо на пленуме ЦК, оправдать и восстановить меня в партии.
Знайте, товарищи, что на том знамени, которое вы понесете победоносным шествием к коммунизму, есть и моя капля крови61.
Сталин, со своей стороны, борется за свою роль в истории не только в конкретный момент осуждения Бухарина. В более масштабном процессе становления культа личности этот суд — лишь отдельный шаг. Тем не менее это значимый этап, ибо устранение Бухарина в восприятии Сталина означало окончание серьезной и чреватой опасностями борьбы, взятие последнего бастиона оппозиции, сопротивлявшейся распространению власти диктатора на всю партию. В этот ключевой момент Сталин разрабатывает «эмоциональный режим»62 и стремится ввести его в действие: дисцип-
61 Ларина-Бухарина, Незабываемое, 419—421.
62 Согласно Редди, «эмоциональные режимы» доминирующей культуры, как правило, репрессивны, ибо однозначно предписывают эмоциональные параметры приемлемости в рамках данной культуры. См.: В. Rosenwein, «Histoire de I’emotion: methodes et approches», Cahiers de civilisation medi6vale 49 (2006), 44. Будучи репрессивными, эти режимы логически входят в анализ доминирования, в первую очередь маскулинного, ибо за эмоциями закреплены гендерные коннотации.
Эмоции в микромире Сталина: случай Николая Бухарина... 455
дина и отказ от выражения «личных» чувств, которое угрожало бы сложившейся системе; товарищеские отношения, предусматривающие выражение свойственных данной группе эмоций; лояльность «отцу народов» и слепая вера в правоту руководителя; постоянство и организованность в травле «врагов народа». Мне кажется, что на такого рода борьбу за высшие идеалы можно взглянуть как на конкуренцию за доминирующую маскулинность. И действительно, «две вершины Гималаев»63 входят в элиту партии; оба они — старые большевики, оказывающие влияние на партию; оба воплощают модели доминирующей маскулинности. При этом фундаментальные и непримиримые различия между двумя этими типами мужественности неизбежно толкают их к стычке, к борьбе. В социальной среде, отнюдь не отрицающей насилие, исход этой борьбы может быть только фатальным. Уничтожение Бухарина означает исчезновение определенной концепции большевистской мужественности. Из этого поединка Сталин вышел победителем во всех отношениях.
Заключение
Бухарин использует выражение эмоций как коммуникативный инструмент в построении своей мужской идентичности; она отталкивается от традиционной, исповедуемой окружением Сталина модели. В силу этого, оказавшись в крайней и трагической ситуации, он прибегает к выражению чувств в попытке сыграть на чувствах собеседников и тем спасти свою жизнь. Такое выражение чувств оказывает влияние на сталинское окружение: вынуждает эту группу занять по отношению к бухаринской модели определенную позицию, усиливает ее внутреннюю сплоченность (группа смыкает ряды, извергая из себя чуждый элемент). Сталин, со своей стороны, оборачивает в свою пользу эту острую ситуацию, укрепляя с ее помощью свой образ «отца народов». Заставив партию вынести приговор Бухарину, он консолидирует власть в своих руках. И наконец, как мы видели, проблема выражения чувств — центральный пункт в конструировании гендерных идентичностей. По этой причине ее следует учитывать в конструировании различных типов мужественности (невзирая на то, что чувства с трудом под
63 Ларина-Бухарина, Незабываемое, 254. Как-то Сталин сказал в беседе с Бухариным, что они с ним — Гималаи, а остальные — карлики. Бухарин сослался на эти слова во время одного из заседаний Политбюро, незадолго до его отстранения от власти, что вызвало живую реакцию Сталина: «Лжешь, ты лжешь».
456
Магали Делалой
даются наблюдению). После расправы с Бухариным западная модель мужественности перестает существовать в Советском Союзе; победу одерживает мужественность сталинского извода. Таким образом, доминирующая маскулинность, введенная при помощи контроля над чувствами, становится парадигмой в выстраивании внутренней иерархии рассматриваемой группы: верх возьмет единственный носитель этой маскулинности, Сталин; выживут те, кто приблизится к ней64. Учитывая незаурядность личности Бухарина, единственного человека в кремлевском кругу, выражавшего свои чувства так открыто, можно говорить о том, что Сталин использует эмоции как инструмент власти, как повод укрепить свое господство в партии в целом и в ближайшем окружении в частности. В дальнейших «чистках» внутри этого круга, готовивших почву для процветания культа личности, это обстоятельство уже не будет иметь такого веса, однако в рамках рассмотренного эпизода оно проливает свет на механизмы власти и доминирования в высших эшелонах Кремля.
magali.delaloye@students.unibe.ch
64 К такому выводу меня привело исследование, предпринятое в рамках работы над диссертацией «Гендерные отношения в кругу Кремля в сталинскую эпоху: практики и дискурсы (1929—1953)». Эта гипотеза требует, конечно, дальнейшего обоснования и подтверждения.
Гленнис Янг
ЭМОЦИИ, ПОЛИТИКА ОСПАРИВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАМЯТЬ:
ИЗ ИСТОРИИ НОВОЧЕРКАССКОЙ ТРАГЕДИИ1
Иногда исследователю в руки попадаются исторические документы, позволяющие не только задаваться вопросами об их историческом и теоретическом значении, но и способствующие переосмыслению самой концепции этих вопросов. Интересным примером такого документа являются материалы следствия Главной военной прокуратуры по делу о событиях, произошедших 13 июня 1962 г. в городе Новочеркасске2, когда после того, как 1 июня 1962 года в связи со снижением расценок на оплату труда и одновременным повышением розничных цен на мясо, масло и т.д., прекратили работу рабочие стального цеха Новочеркасского электровозостроительного завода им. С. М. Буденного (НЭВЗ). Датированный 11 сентября 1994 года и составленный Юрием Баграевым3, возглавлявшим следствие, этот документ резюмирует 31 том следственных показаний. Документ позволяет затронуть различные вопросы, как, например, вопрос о том, что последовало за новочеркасской трагедией и, в частности, как и с какими оценками правительство и граждане СССР обсуждали причины и следствия этих событий, проблемы виновности и правомерности применения военной силы, в результате чего 25 человек были убиты (16 — на площади Ленина перед горкомом и 7 — во время стрельбы по демонстрантам, ворвавшимся в городское отделение милиции (ГОМ)) и
1 Посвящается памяти Реджинальда Зелника. За предложения и замечания я благодарю Я. Плампера, М. Стейнберга, В. Мильдона и других участников конференции «Эмоции в русской истории и культуре». Английский вариант статьи: «Emotion as a Category of Historical Analysis? An Exploration Based on a Story from the Annals of the Novocherkassk Tragedy».
2 Главная Военная Прокуратура, «О Новочеркасских событиях 1962 года», документ, предназначенный для внутреннего пользования. Далее в тексте: ГВП; указание страниц в круглых скобках.
3 Он был помощником Главного военного прокурора и полковником юстиции (1).
458
Гленнис Янг
многие десятки ранены (163)4. Работа с документом позволила нам поставить и другой теоретический вопрос: каким образом в исторических и даже юридических документах изображение эмоций может использоваться в качестве стратегии для эпистемического обоснования приговоров? Иначе говоря, как с помощью привлечения эмоций логический аргумент может предстать более верным и более убедительным?
Внимательное прочтение этого документа, как я надеюсь, продемонстрирует возможность такого исторического и теоретического анализа и, возможно, прольет свет на природу революционного процесса конца 1980-х — начала 1990-х годов.
Действительно, история этого расследования тесно связана с политическими изменениями, сопровождавшими распад СССР, то есть революционный период от середины 80-х до середины 90-х годов, когда столкнулись конкурирующие модели суверенитета и политической организации5. В июне 1989 года «новочеркасский вопрос» был поднят некоторыми делегатами (включая Анатолия Собчака) Первого съезда народных депутатов СССР6. В ходе обсуждения делегаты съезда настаивали на том, чтобы дать этим событиям «политическую оценку, а также проверить обоснованность привлечения их участников к уголовной ответственности». В связи с этим «в декабре 1989 г. Генеральный прокурор Советского Союза поручил Главной военной прокуратуре провести проверку обстоятельств использования войск в период массовых волнений
4 Один студент Новочеркасского политехнического института скончался в больнице «не позднее 6 июня 1962 г.» из-за огнестрельного ранения бедра, он был ранен во время комендантского часа (157—158.) Другой мужчина умер в больнице 6 или 7 июня, вероятно, «в результате причиненного ему огнестрельного ранения в первой декаде июня 1962 г.» (158); S. Baron, Bloody Saturday in the Soviet Union — Novocherkassk, 1962, Stanford UP, 2001, 67—68.
3 Cm: Th. Skocpol, States and Social Revolutions, N.Y.: Cambridge UP, 1979.
6 В дополнение к изложению Баграева и Baron, Bloody Saturday, среди других источников, касающихся исследования новочеркасской трагедии, следует упомянуть: П. Сиуда, Новочеркасск 1—3 июня 1962 г. Забастовка и расстрел, М.: Союзмединформ, 1992; И. Мардарь, Хроника необъявленного убийства, Новочеркасск: Пресс-сервис, 1992; Ю. Беспалов, В. Коновалов, «Новочеркасск, 1962», Свет и тени «великого десятилетия», под ред. Л. Киршнер, С. Прохватиловой, Л.: Лениздат, 1989; В. Козлов, Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе, Новосибирск: Сибирский хронограф, 1999; И. Лебедев, Расстрел на площади, М.: Олимп, 1997; Т. Бочарова, Новочеркасск — кровавый полдень, Ростов-н/Д: Изд-во Ростовского ун-та, 2002. См. также «Новочеркасская трагедия, 1962», Исторический архив 1 (1993), 4 (1993). См. также: А. Солженицын, Архипелаг ГУЛАГ, ч. V—VII; W. Taubman, Khrushchev: The Man and His Era, N. Y.: Norton, 2003, 519-523, 548, 598; The Cambridge History of Russia, ed. R. Suny, vol. 3, N.Y.: Cambridge UP, 2006, 302, 403, 457.
Эмоции, политика оспаривания и общественная память... 459
в г. Новочеркасске в 1962 г. с выяснением последствий применения войсками оружия» (1). Одновременно предполагалось произвести расследование «обоснованности» привлечения ряда лиц к уголовной ответственности «за участие в массовых беспорядках» (1). С января 1990 по май 1991 года главный военный прокурор производил «прокурорскую проверку» использования армии и внутренних войск «при пресечении массовых волнений 12 июня 1962 г. и применении оружия». Было установлено, что погибшие были похоронены «на нескольких кладбищах в Ростовской области». 22 мая 1991 года, когда ветер либеральных перемен стал еще сильнее, пленум Верховного суда РСФСР отменил приговоры от 20 августа 1962 года. В марте 1992 года был создан «Фонд Новочеркасской трагедии» (ФНТ), сотрудники которого в мае этого же года вскрыли одну из могил и обнаружили в ней останки четырех человек. 22 мая 1992 года Верховный Совет РСФСР принял постановление, осудившее «действия властей при подавлении демонстрации трудящихся города Новочеркасска в июне 1962 г.». Наконец, 11 июня 1992 года Генеральный прокурор РСФСР поручил заместителю Главного военного прокурора «окончательно выяснить причины и обстоятельства Новочеркасских событий» с целью «установления правомерности применения военнослужащими оружия», уточнения «обстоятельств гибели граждан и обнаружения их останков» (2). По результатам проведенного расследования и была написана книга Баграева.
Необходимо рассматривать его выводы по вопросу о правомерности использования государством оружия против гражданского населения в контексте более широкого обсуждения новочеркасских событий до и после распада СССР. В это время нашумевшее дело (cause celebrC) о новочеркасском расстреле было в центре конфликта, сопровождавшего «борьбу за будущее» между «соперничающими версиями прошлого». Обсуждение новочеркасских событий было существенным элементом революционного процесса, а именно тем иконоборческим элементом, который следует рассматривать как «попытку создания нового и более аутентичного начала», для чего необходимо установление некоторого «легитимного истока в прошлом» (some prior ground)7 8. Документ оценивает действия (включая использование оружия) государства в соответствии с законами СССР. Это не единственный случай обсуждения использования оружия и насилия с точки зрения законодательства. Обращение к закону применялось и в других официальных документах,
7 Baron, Bloody Saturday, 149.
8 К. Clark, Petersburg: Crucible of Cultural Revolution, Cambridge, Mass.: Harvard UP, 1995, xu.
460
Гленнис Янг
например, в отчете Главного прокурора СССР Н. Трубина, опубликованном в «Правде» от 3 июня 1991 года9. Отличие и особое значение книги Баграева состоит в том, как он применяет советское законодательство при расследовании новочеркасских событий.
В отличие от тех, кто занимал «либеральную позицию» и желал использовать новочеркасские события для окончательной дискредитации коммунизма, и от тех храбрых членов ФНТ, которые хотели сохранить и обнародовать правду, Баграев не делает вывода, что применение оружия государством было во всех случаях незаконным10. Напротив, он настаивал на законности использования насилия и войск в некоторых случаях. Законными были, по его мнению, решение Хрущева использовать армию в случае «массовых беспорядков и внутренних конфликтов»; восстановление движения поездов с помощью объединенных сил «подразделений 18-й танковой дивизии, а также отдельных воинских частей СКВО и личного состава 505-го полка 89-й дивизии внутренних войск»; принятие мер 2 июня при освобождении здания горкома от людей, его захвативших; предупредительные выстрелы в воздух у ГОМа и применение оружия военнослужащими 505-го полка, «когда их жизни и здоровью угрожала опасность»; наконец, предупредительные выстрелы в воздух с целью очистить «площадь Ленина от митингующих» (167—168). Но, в отличие от «консерваторов», пытавшихся защищать официальную точку зрения, согласно которой все без исключения случаи применения насилия государством были «правомерны и в пределах, предусмотренных законом», включая применение оружия на площади, автор не делает вывода о том, что использование оружия государством было законным действительно во всех случаях (166).
Его позиция радикально расходилась с версией Трубина, считавшего, что применение оружия государством на площади и при «защите» ГОМ следовало одному и тому же принципу: и в том, и в другом случае насилие применялось как средство самозащиты от нападавших, стремившихся отобрать у военных оружие11. Позиции Баграева и Трубина также не совпадают в том, что Баграев возлагает ответственность за незаконное применение оружия (скорее всего, снайперами КГБ и МВД, стрелявшими с крыш) на площади и за организацию секретных захоронении, нарушавших «права и интересы» погибших, на Фрола Романовича Козлова, члена Президиума ЦК. Уголовное дело против Козлова было закрыто в связи с его смертью в 1965 году, а для обвинения других политических
9 Правда, 3 июня 1991 г.
10 Напр., Мардарь, Хроника...
11 Правда, 3 июня 1991 г.
Эмоции, политика оспаривания и общественная память... 461
деятелей, включая Хрущева, не было достаточно оснований (168— 170). Документ Баграева должен был представить окончательные выводы о правомерности действий государства. Но прямые цитаты и изложение мнений высокопоставленных представителей армии, партии, КГБ, а также обычных жителей города нарушали типичный казенный язык советских документов, придавая событиям и их последствиям эмоциональную окраску.
Эмоции — неотъемлемая часть нарратива Баграева. Я имею в виду не только, как можно ожидать, эмоции рабочих НЭВЗ и других рядовых граждан, но и — и с той же степенью подробности — эмоции руководителей завода и членов Политбюро (Хрущева, Микояна, Шелепина и других). Иначе говоря, эмоциями в этом документе наделены те, кто в официальных советских документах, монографиях по истории советского периода или в официальном языке начала 1960-х годов (вообще или в связи с «массовыми беспорядками» в Новочеркасске в частности) обычно их лишен12. При этом, хотя автор неоднократно упоминает наличие эмоций, они не становятся устойчивой темой его текста. Они приходят и уходят. Неустойчивое присутствие эмоций может объясняться по-разному. Возможно, что наличие или отсутствие описания эмоций зависит от излагаемых им свидетельских показаний и их большей или меньшей эмоциональной нагруженности. У нас нет доступа к первоисточникам, обобщенным автором, и пока нам не представится возможности их изучить, мы не сможем точно сказать, цитирует ли он их, перефразирует ли или перемежает с собственными рассуждениями об эмоциях, или, может быть, комбинирует эти варианты. В конечном счете это не так важно. Важнее понять то, как эмоции используются в тексте, нежели то, как они туда попали. Меня интересует, какую роль изображение эмоций играет в выводах автора и как он к ним приходит?13 Как понимает сам автор политическое значение разных видов эмоций? В связи с этим возникают следующие вопросы. Был ли этот документ связан с определением «легитимного истока в прошлом » для установления в перестроечные годы некоторой «революционной подлинности»? Какую роль играют эмоции в этом документе в связи с «борьбой за будущее» и определением прошлого?14
12 Однако эмоции присутствуют, напр., в: Козлов, Массовые беспорядки, 215, 220.
13 Полезный обзор вопроса о значении эмоций см. в: Reddy, The Navigation of Feeling, 3—33.
14 Я использую термин «эмоциональные сообщества», понимаемый Розен-вейн как «группы людей, члены которых придерживаются одинаковых норм эмоционального выражения» (Rosenwein, Emotional Communities in the Middle 4ges, 2).
462
Гленнис Янг
Моя статья состоит из четырех частей. Сначала я попытаюсь рассмотреть анатомию эмоций в этом документе (т.е. у кого присутствовали какие эмоции и в какой части документа об этом говорится), затем проанализирую, как автор использует рассказ об эмоциях для обоснования своих спорных юридических выводов относительно применения оружия. Наконец, рассмотрев этот текст в контексте истории преобразования эмоциональной культуры в 1960—1990-е годы, я предложу некоторые теоретические выводы.
Анатомия эмоций в тексте Баграева
В этом документе мне представляется уместным различать три основных типа эмоций: индивидуальные, групповые и коллективные. Под «индивидуальными эмоциями» я подразумеваю «конкретное чувство, владеющее индивидом... или проявляющееся в его действиях»15. Эго, например, описание страха, испытанного одним из жителей города, когда началась стрельба. Понятие «групповые эмоции» относится к эмоциональному состоянию группы (например, толпы, ворвавшейся в здание ГОМ). Понятие «коллективные эмоции» абстрагируется от эмоционального состояния отдельных лиц или групп и обращается к эмоциональным отношениям, состоящим из «психических инвестиций, вовлеченностей и наделений [cathexes16], [...] возникающих в динамическом процессе общения между отдельными лицами и группами»17. Например, по словам одного из свидетелей, демонстранты на площади возмутились, когда, несмотря на выдвинутое ими требование поговорить с местными представителями власти, никто из них не появился, — несомненно, как явствует из других источников, по причине страха (71).
Но не все эти типы эмоций присутствуют в документе в равной степени. Документ состоит из глав, каждой из которых дано название. После краткой вводной части, определяющей контекст и цель документа (эмоции в ней отсутствуют), автор переходит ко второй главе, «Краткие сведения о Новочеркасске. Социально-экономическое положение рабочих... (НЭВЗ)... накануне июньских событий 1962 г.». Третья и довольно обширная глава рассматривает «причины и обстоятельства волнений рабочих НЭВЗ 1 июня 1962 г.
15 G. Young, «Emotions, Contentious Politics, and Empire: Some Thoughts About the Soviet Case», Ab Imperio 2 (2007), 116.
16 Множественное число от cathexis. В английском языке употребляется для перевода фрейдистского термина Besetzung, в смысле наделения объекта или индивида эмоциональной (либидинальной) энергией.
17 М. Emirbayer, Ch. Goldberg, «Pragmatism, Bourdieu, and Collective Emotions in Contentious Politics», Theory and Society 34 (2005), 507.
Эмоции, политика оспаривания и общественная память... 463
и предпринятые в связи с этим органами власти меры по их пресечению и стабилизации обстановки». Четвертая и самая длинная глава касается действий советской власти «по наведению порядка в г. Новочеркасске в связи с демонстрацией рабочих 2 июня 1962 г.» и состоит, в свою очередь, из трёх подглав, первая из которых касается захвата горкома и «проведения стихийного митинга на пл. Ленина», вторая разбирает события, происходившие у здания ГОМ (включая «меры, принятые по его защите»), когда демонстранты ворвались в здание, и третья рассматривает «обстоятельства применения на площади... оружия против митингующих». В следующей главе рассказываются подробности исследования тайных захоронений жертв. Документ заканчивается «выводами и правовой оценкой действий участников Новочеркасских событий» и резолюцией, которая также обходится без упоминания эмоций. Описания индивидуальных и групповых эмоций присутствуют, однако, во всех частях, кроме вводной и резолюции. Значительно меньше упоминаются коллективные эмоции; они встречаются только в третьей и четвертой частях.
Но важно не только, какие эмоции появляются в разных частях документа, но и то, как по ходу текста меняется приписывание тех или иных видов эмоций участникам событий. Например, хотя индивидуальные эмоции присутствуют в каждой главе, кроме первой, второй и заключительной, имеются существенные различия между тем, каким действующим лицам эти эмоции приписываются и на какое время. В третьей главе мы читаем об эмоциях представителей партийного руководства (в частности, А. П. Кириленко, члена Президиума ЦК) и военных (например, генерала И. И. Плие-ва, командира СКВО, и генерала М. К. Шапошникова, который 1 июня 1962 года взял на себя руководство войсками на территории НЗВЗ)18. В первой подглаве четвертой части, в которой автор разбирает обстоятельства захвата горкома демонстрантами и проведение «митинга» на площади, мы читаем об эмоциях военных офицеров (как, например, Д. М. Попеля, начальника ракетных войск и артиллерии 18-й танковой дивизии) и партийных руководителей (например, А. И. Микояна) (56—57, 54). В следующей подглаве, в которой автор обобщает основные пункты исследования «нападения» на ГОМ, политический и социальный статус наделенных эмоциями лиц расширяется: мы узнаём как об эмоциях высокопоставленных партийных деятелей, так и о страхе рядового Репкина (у которого группа граждан отобрала автомат на лестничной площадке в ГОМе), о любопытстве, заставившем жителя города И. М. Скаргу идти в ГОМ, и о беспокойстве другого жителя,
18 См. также Baron, Bloody Saturday, 42.
464
Гленнис Янг
В. А. Трусова, о судьбе работавшего в ГОМе двоюродного брата. В следующей подглаве и в следующей главе (о тайных захоронениях) социальный статус лиц, чьи эмоции вводятся в рассказ, еще больше расширяется. Именно в этих главах впервые в документе появляются эмоции жителей города, которые не имели (в отличие от Трусова) личных связей в советских учреждениях.
По ходу текста расширяется и набор разновидностей и оттенков индивидуальных эмоций. Автор не разделяет эмоции по половой принадлежности их субъектов: жители города обоих полов прочувствовали полный набор основных эмоций. Пожалуй, наиболее варьируется продолжительность эмоций. Хотя и говорится, например, что граждане испытывали страх и во время нападения на ГОМ (т.е. после начала стрельбы), и после применения оружия на площади, но в первом случае страх был мимолетным, а во втором — лишь иногда мимолетным, а чаще продолжительным и мог длиться, согласно свидетельствам некоторых опрошенных, несколько лет. Самое большое разнообразие типов и характеристик эмоций присутствует в той части рассказа, где обсуждается применение оружия против демонстрантов на площади, которое автор считает «неправомерным» (169).
В отличие от индивидуальных эмоций, изображение групповых эмоций в тексте не столь последовательно. Этот вид эмоций не присутствует в пятой главе, рассказывающей о жертвах событий и о тайных захоронениях. При отсутствии подробного описания групповых эмоций в этой части, здесь все же приводится несколько свидетельств социальной изоляции жертв и их родственников.
Коллективные же эмоции присутствуют лишь в некоторых главах документа. Они упоминаются тогда, когда излагаемые события достигают новой фазы развития: как, например, в третьей и четвертой главах и в подглаве, посвященной нападению на ГОМ. Самой большой степенью автономии эмоции наделяются (т.е. не объясняются автоматически социальными обстоятельствами) именно в тех частях, где приводятся примеры коллективных эмоций (40, 42, 43 в гл. 3 и 70 в гл. 4).
Роль изображения эмоций в выводах Баграева
Вернемся к главному вопросу: какую роль изображение эмоций играет в выводах автора о применении Советским государством силы против мирных жителей в Новочеркасске?
Чтобы ответить на этот вопрос, я рассмотрю здесь лишь некоторые из его выводов, в которых изображение эмоций имеет несомненное значение. Оно несущественно в тех случаях, когда автор
Эмоции, политика оспаривания и общественная память... 465
ссылается на законодательство для обоснования такого, например, вывода, что Хрущев «не превысил предоставленных ему законом полномочий», потому что «в действовавшем в 1962 г. законодательстве СССР отсутствовали правовые нормы, регламентирующие порядок и условия использования Советской армии в случае массовых беспорядков и других внутренних конфликтов либо запрещающие ее использование в подобных целях» (167, 166). Другой пример — вывод автора, что в соответствии с законодательством уголовное дело против Козлова следовало прекратить из-за его смерти в 1965 году (169—170). Эмоции не упоминаются и в тех случаях, когда автор использует конкретные «факты», наличествующие в нескольких подтверждающих друг друга свидетельствах, чтобы воссоздать процесс принятия решений главными официальными лицами. Например, заявление о том, что члены Президиума ЦК во главе с Козловым решили использовать армию, КГБ и МВД для «стабилизации обстановки»19.
Однако изображение эмоций непосредственно участвует в некоторых из самых спорных его выводов. Оно приобретает особую важность, когда Баграев не находит подходящего к данному случаю законодательного акта. Несмотря на то что документ составлен Главным военным прокурором, ссылки на законодательство в нем встречаются очень редко, только в случаях обоснования привлечения людей к уголовной ответственности, возникновения вопроса о недостаточности доказательств или наличия иных осложняющих обстоятельств (например, если преступник еще жив!)20.
Автор признаёт трудности, возникающие при решении о правомерности действий, для которых нет соответствующих правовых норм. Если отсутствие «правовых норм, регламентирующих порядок и условия использования Советской Армии в случае массовых беспорядков» оправдывает Хрущева, то вопрос о законности в других случаях становится особенно сложным (166). Поэтому, когда не хватает юридических, автор прибегает к иным видам аргументов, делая, например, следующие выводы: предупредительная стрельба, открытая военными перед горкомом, «не причинила какого-либо вреда собравшимся... людям»; стрельба, начатая солдатами по нападающим на ГОМ, «когда их жизни и здоровью угрожала опасность», была «правомерной и в пределах, предусмотренных законом» (168); но использование оружия против митингующих на площади «являлось неправомерным»; Козлов приказал открыть огонь с «верхних этажей и крыш зданий... в результате чего от по
19 ГВП, «Оглавление».
20 В последней части документа есть две ссылки на уголовный кодекс РСФСР: ГВП, 170.
466
Гленнис Янг
лученных на площади огнестрельных ранений в общей сложности пострадало около 60 человек, из которых 16 погибло»; приказ Козлова о тайных захоронениях нарушил «законные права и интересы родственников погибших лиц, в течение 30 лет не имевших о них никаких сведений» (169). Посмотрим, каким образом апелляция к эмоциям применялась для каждого из этих выводов.
Одна из поразительных особенностей текста связана с описанием групповых эмоций — эмоций солдат, защищавших государственное имущество, и людей на площади до и после применения оружия. Многие свидетельства упоминают бесстрашие толпы. Например, А. Н. Ладилов сообщает, что толпа не реагировала на требование генерала Олешко уйти с площади. Некоторые свидетели утверждают, что толпа не боялась применения оружия, поскольку они слышали, как люди на площади говорили: «Они в людей стрелять не будут!» — даже после требования Олешко уйти с площади21. Возможно, что самое веское свидетельство отсутствия страха в толпе дала реплика 16-летней тогда Н. П. Смирновой. Когда ее подруга Неля сказала ей: «Нина, стреляют!», та ответила: «В наше время, да еще стрелять! Ты что, с ума сошла?!» (107). Другие жители показали, что и в момент, когда войска дали первую очередь, некоторые митингующие не испытали страха, а кричали, «что стреляют холостыми» (105). Свидетельства офицеров армии и МВД подтверждают показания граждан, что демонстранты на площади не испугались и после того, как военные открыли предупредительную стрельбу перед горкомом. Из свидетельства О. Н. Яновского даже следует, что отказ людей разойтись после первой предупредительной очереди, их смелое неповиновение властям и стали причиной применения оружия (96).
В связи с выводом о правомерности предупредительной стрельбы автор противопоставляет бесстрашие толпы до и после стрельбы испугу солдат и госчиновников. В показаниях от 5 июня 1962 года подполковник Тюрин, командир 98-го отдельного батальона ВВ, свидетельствует, что у офицеров на площади были основания опасаться за свою жизнь даже после «освобождения» горкома. Он говорит о «хулиганствующих элементах, которые на площади стали устраивать еще больше беспорядков, угрожая расправой находящимся там офицерам» (93). Г. В. Заичко также вспоминает, что, когда «военные» пошли на балкон, чтобы «вытеснять оттуда выступавших», один из ораторов громко обратился к солдатам: «Товарищ генерал, не подливайте масло в огонь, уведите солдат, мы мирная демонстрация» (125). Другой свидетель, А. Т. Коротков,
21 Свидетельство В. В. Морозова, ГВП, 101, и А. М. Косоножкина, там же, 106.
Эмоции, политика оспаривания и общественная память... 461
токарь НЭВЗ, говорит о том, что солдаты боялись толпы, хотя он, находясь у главного входа в горком, не видел «никаких конфликтов, драк между солдатами и демонстрантами» (127).
Чему служит противопоставление бесстрашия толпы страху солдат? Иначе говоря, какое значение это противопоставление имеет для вывода о том, что предупредительная стрельба не нарушала «права и интересы» граждан? Чтобы разобраться в этом, нам нужно понять логику изображения эмоций в этом документе; я имею в виду повторяющиеся шаблоны в изображении тех, кто характеризуется определенными видами эмоций или их отсутствием. В данном случае работают два принципа. С одной стороны, говорится, что официальные деятели, и особенно военные, испытывали страх до того момента, как власти приняли решение использовать оружие, что, в свою очередь, явилось законным действием. Среди официальных деятелей, испытавших страх до применения «законного насилия», которое они сами и санкционировали, были члены Президиума ЦК (Шелепин, Кириленко), сотрудники ГОМ, пытавшиеся проникнуть в НЭВЗ 1 июня, партийные и государственные работники, старавшиеся выступить на балконе горкома, и солдаты, «защищавшие» ГОМ от «нападения» митинговавших (45, 26, 57—59, 76, 79, 81). Указание на страх превращает применение оружия из акта нападения в акт необходимой самозащиты, а заодно и защиты советской власти. Когда, с другой стороны, автор заявляет, что использование оружия было незаконным, он указывает на то, что виновники насилия страха не испытывали. Этот, второй, принцип иллюстрируют показания члена Президиума ЦК Козлова и стрелявших с крыш снайперов.
Утверждение о том, что предупредительные выстрелы не нарушали прав граждан, демонстрирует применение в этом документе еще одного принципа логики использования эмоций. С одной стороны, кажется противоречивым заключение автора, будто применение оружия против толпы, нападавшей на ГОМ, было законным, а против собравшихся на площади — незаконным (в обоих случаях жертвы не испытывали страха). Однако следует учесть, что толпа перед горкомом не просто не испытывала страха, а находилась в праздничном настроении. В отличие от небольшой группы людей, нападавшей на ГОМ, эта толпа не проявляла агрессии или возмущения. Можно только допустить, что праздничное настроение сохранилось после шествия из района НЭВЗ к горкому, когда родители шли вместе с детьми и все были нарядно одеты. Кроме того, толпа перед горкомом была эмоционально неоднородной по сравнению с группой, занявшей здание ГОМ: некоторые демонстранты во главе колонны были настроены по-боевому, другие же, особенно идущие в хвосте, были расположены мирно и испытыва
468
Гленн ис Янг
ли скорее любопытство (67, 98, 162). Другими словами, согласно принципу распределения эмоций между действующими лицами, контраст между эмоциональным состоянием той и другой группы иллюстрирует и одновременно создает то «правило», что только толпы, хоть и не испытывающие страха, но вместе с тем неагрессивные, могут считаться жертвами незаконного насилия со стороны государства.
Пытаясь установить законность применения оружия против граждан в случаях нападения на ГОМ и на площади, автор делает в двух случаях разные выводы, поставив тем самым перед собой новую трудноразрешимую задачу. Дело не только в недостатке специфических правовых норм для обоснованных суждений. Автору приходится обосновывать противоположные выводы применительно к весьма сходным случаям. Определенные отличия, конечно, между ними имеются. Одно из них состоит в том, что стрельба у ГОМа началась после того, как нападавшие ворвались в цитадель городской власти. На площади же огонь был открыт после того, как демонстранты и сочувствующие отказались подчиниться приказу Олешко покинуть площадь. У здания ГОМа военные открыли огонь, только когда один из нападавших отобрал автомат (который тот успел разрядить) у рядового Репкина и начал целиться в солдат, в то время как на площади перед горкомом стрельба началась несмотря на то, что невооруженные демонстранты не пытались завладеть оружием. И все-таки существовало одно явное сходство: в обоих случаях оружие было применено против невооруженных граждан после того, как они перестали угрожать использованием насилия в отношении солдат или государственной собственности. У ГОМа, даже если предположить, что рядовой Ш. Азизов (не знавший о том, что оружие не заряжено) стрелял в «нападавшего», который отобрал автомат у Репкина, в целях самозащиты, большая часть выстрелов была сделана в невооруженных людей, выпрыгивавших во двор здания. Среди них было значительно больше убитых и раненых, чем среди тех, кто был на лестничной площадке, где один из «нападавших» выхватил автомат у рядового Репкина22. Учитывая такое разительное сходство между этими случаями, Багаеву для обоснования неидентичных выводов о законности применения оружия государством необходимо было представить эти случаи принципиально разными. Для этих целей изображение эмоций оказалось чрезвычайно полезным инструментом.
В рассказе автора о человеческих жертвах эмоции, однако, отсутствуют. Когда он пишет о защите ГОМа, он отмечает, что один из демонстрантов, ворвавшийся в ГОМ, был убит, при этом не
22 Baron, Bloody Saturday, 59—60, 160.
Эмоции, политика оспаривания и общественная память... 469
сообщая никаких подробностей о телесных травмах или об эмоциональной реакции непосредственных свидетелей произошедшего (76). Эмоций нет и в свидетельстве бывшего командира 505-го полка Н. С. Малютина, который участвовал в «защите» ГОМа, хотя он признает, что «в результате применения... оружия несколько человек... было убито и ранено» (77). Нет речи об эмоциях в показаниях бывшего командира 10-й роты 505-го полка В. В. Сатина, который «с группой своих солдат охранял центральный вход в здание милиции» (77—78). Он тоже просто отметил, что в результате применения оружия в здании ГОМа «среди демонстрантов были убитые и раненые» (78). Эмоций нет также в показаниях, данных в 1962 году рядовым Репкиным, даже когда он описывает убийство или ранение человека. Свидетельство же рядового Азизова содержит намек на страх: когда началась стрельба, один человек выпрыгнул из окна, а другие были закрыты в камере. Эмоций нет и в свидетельстве Н. Н. Иващенко, следователя ГОМа, когда она сообщает (в пересказе автора), что «в результате применения военнослужащими оружия несколько человек из числа ворвавшихся в здание милиции получили ранения» и один из них скончался во время оказания медицинской помощи (84). Не выражает эмоций Н. X. Новиков (начальник уголовного розыска ГОМа), сообщая о раненом, лежащем на площадке второго этажа. Будто пытаясь оправдать применение властями оружия, он отмечает, что этот человек вырвал у солдата автомат на лестничной площадке (85).
Тем не менее эмоции присутствуют в других частях изложения событий, происходивших у ГОМа. Мы читаем о групповых эмоциях толпы у горкома, из которой вышли нападавшие на ГОМ. М. Н. Абросимов сообщает, что Е. П. Левченко, женщина, вышедшая на балкон горкома с криком, что «ночью арестовали наших товарищей, надо идти всем освобождать арестованных из милиции», взбудоражила толпу (73), 200—300 человек из которой и отправились от здания горкома к ГОМу. Несколько больше свидетельств о групповых эмоциях присутствует в показаниях С. С. Гершта, бывшего рядового 505-го полка. Он был среди тех, кто нёс службу по охране ГОМа. Он показал (в пересказе автора), что, «взломав входные двери, возмущенные люди ворвались в здание. Они агрессивно выкрикивали в адрес военнослужащих угрозы» (79). Есть свидетельство Милютина о том, что он «возмутился», когда, «доложив руководству» о том, что толпа «стала ломиться в здание милиции через центральный вход», получил следующий ответ от командира полка: «Действуйте по обстановке» (80).
Итак, даже те, кто, по мнению автора, нарушили закон, испытывают эмоции. Но это эмоции сиюминутные, они ограничены событиями момента и не сохраняются десятилетиями, чего не скажешь об эмоциях тех, кто был ранен. Пример тому — свидетельство
470
Гленнис Янг
Т. М. Скарги, которой в 1962 году было 17 лет. Она присоединилась к демонстрантам, идущим в горком, и когда по пути она увидела толпу людей, пытавшихся взломать дверь ГОМа, «из любопытства» решила подойти поближе и поэтому наблюдала стрельбу во дворе вблизи. Она вспоминает, что «закричала от испуга», увидев, «как во дворе падают сраженные пулями люди» (87). Другой пример — свидетельство Н. Н. Горкавченко, присоединившегося к «толпе людей» у центрального входа в ГОМ. Он показал, что, когда открыли огонь, «началась паника». «От страха» он вместе с другими людьми, которые выпрыгнули через окна во двор и не были ранены, «упал на землю здесь же у стены здания» и лежал 5—7 минут, пока длилась стрельба (88).
Таким образом, пытаясь представить два сходных случая использования властями оружия против безоружных граждан как можно более различными, автор обнаруживает важный принцип логики изображения эмоций. Он показывает отличия и даже несопоставимость, представляя жертв различными по эмоциональности. В случае нападения на ГОМ жертвы законного применения оружия властями впадают в состояние паники сразу после начала стрельбы, но находятся в этом состоянии лишь в течение нескольких секунд или минут (79, 81). Возможно, эмоциональное потрясение не прошло и спустя годы и десятилетия после стрельбы (и возможно, что в 31-м томе материалов следствия есть подтверждения этого), но документ нам об этом ничего не говорит. В случае стрельбы на площади жертвы незаконного насилия не только испытывают мимолетную панику во время и после выстрелов (103), но и получают эмоциональную травму, дающую себя знать еще десятилетия спустя и оказывающую влияние на их отношение к другим гражданам и к советскому обществу в целом. Некоторые свидетели сообщили, например, что из страха они не рассказывали никому о пережитом в Новочеркасске и поэтому в течение десятилетий чувствовали себя изолированными от общества23.
Конечно, отличия можно увидеть не только в описаниях эмоциональных реакций жертв государственного насилия. По-разному показано также, как они переживают боль и физические страдания. Там, где описываются события у ГОМа, о боли и страданиях жертв говорится очень коротко и сухо: отмечаются лишь места попадания пуль и виды ран24. Огромен контраст между этой конста
23 ГВП, 102 (свидетель Морозов); с. 108 (свидетельство Н. П. Смирновой, которая показала, что у нее страх ареста сохранялся еще в 1990-х гг.); с. 110 (свидетельство А. Ф. Молчанова.)
24 Напр., ГВП, 76, 80 (рассказ автора и свидетельство Н. С. Милютина, бывшего командира 505-го полка), с. 78 (свидетельство В. В. Сагина, бывшего командира 10-й роты 505-го полка).
Эмоции, политика оспаривания и общественная память... 471
тацией и рассказом о боли и страданиях жертв на площади, о ранах которых читатель узнаёт жуткие подробности25.
Изображение эмоций также привлекается автором для заключения, что именно Козлов приказал открыть стрельбу с крыш. В действительности это только догадка. Если следствие не обнаружило достаточного количества фактов для обвинения Хрущева и других членов Президиума ЦК, как и солдат 505-го полка ВВ, в противоправном применении оружия у ГОМа (170, 168), то, следуя логике самого автора, невозможно уличить Козлова в том, что он отдал приказ стрелять с крыш. Тем не менее автор использует изображение эмоций, чтобы придать больше убедительности своему выводу о санкционировании Козловым применения оружия26. Документ утверждает, что, по сравнению с другими основными участниками новочеркасских событий, Козлов меньше выражал свои эмоции. Впрочем, и он представлен не совсем безэмоциональным. Козлов с Микояном находились «в возбужденном состоянии», когда они встретились с Шапошниковым в «военном городке», еще до того, как ситуация накалилась (29—30). Но не исключено, что намек на это делается потому, что Козлов понял, что Микоян и Шапошников были решительными противниками применения оружия. В сравнении с Плиевым, Олешко и Шапошниковым, например, Козлов не испытывает ни гнева, ни депрессии, ни мук совести из-за применения оружия против мирных граждан (35, 120, 29—30). Говорится, что, в отличие от Кириленко, Шелепина и Басова, Козлов никогда не боялся применять насилие против населения27. И, в отличие от других высоких партийных деятелей, у Козлова нет и невысказанных эмоций. Документ намекает на то, что даже Хрущев был расстроен из-за событий в Новочеркасске.
Можно возразить, что существуют другие, более убедительные объяснения того, почему Козлов не испытывает эмоций по сравнению с другими государственными деятелями, чьи решения оп
25 Напр., «он [Кондрашов В. В., 1949 г. р.] увидел бегущего прямо на него мужчину, который держал на руках женщину с большой раной на голове... из которой ручьем текла кровь», (102); А. И. Саморуков, который видел «10-летнего мальчика со сквозным пулевым ранением левой ноги» (113). О продолжительных физических страданиях вследствие ран, полученных на площади (напр., инвалидность), см. свидетельство Н. П. Смирновой, которая провела две недели в больнице (107); свидетельство В. Г. Кобелева, у которого «был перебит седалищный нерв» (109); свидетельство А.Ф. Молчанова, который страдал много лет из-за последствий огнестрельной раны (ПО).
26 Имеется свидетельство, опровергающее утверждение автора о том, что Козлов единолично принял решение о захоронениях. О роли других лиц см. (Ю7).
27 (45) о Кириленко и Шелепине, (48, 20, 22) о Басове.
472
Гленн ис Янг
ределили характер и степень репрессий28. Можно было бы, например, сказать, что Козлов по природе был малоэмоционален. Поэтому в отчете встречаются несколько свидетельств о том, что Козлов испытывал эмоции, например возбуждение, только в тех случаях, когда его намерения применить оружие встречали препятствия. Таким образом, автор просто обобщил подтверждающие друг друга свидетельства о том, что другие официальные лица были более эмоциональными, что выражалось не только в глубине, но и в наборе эмоций, испытываемых ими во время этих трагических событий. Но такая интерпретация, как мне кажется, ошибочна. Вопрос заключается не в том, был ли Козлов менее эмоциональным, чем другие, по природе или в силу обстоятельств. Не существует такого документа, такой неоспоримой, «явной улики» («smoking gun»), которая бы могла однозначно установить это. Вопрос в конечном счете касается сравнительного изображения эмоциональной природы Козлова и других деятелей. Главное, что автор, сознательно или нет, решил включить в свой рассказ свидетельства, касавшиеся эмоций различных официальных деятелей. Без знакомства со следственными материалами невозможно узнать, исключил ли он такие свидетельства касательно Козлова. Но даже если в этих томах, как и в отчете, Козлов представлен неэмоциональным, автор мог бы не упоминать об эмоциях других официальных деятелей. В таком случае отсутствие эмоций у Козлова не казалось бы чем-то исключительным и не приобрело бы такого значения.
Но как безэмоциональность Козлова помогает установить факт санкционирования им расстрела мирных демонстрантов? Для ответа на этот вопрос нам необходимо обратить внимание на логику изображения эмоций в рассматриваемом документе. Один из ее принципов таков: те, кто не выражали страха (по поводу собственной безопасности или безопасности защитников власти до момента применения оружия), гнева или тоски (после применения насилия государством), действовали, по мнению автора, незаконно29. Помимо Козлова имеются и другие примеры: «нападающие» на ГОМ до возникшей там стрельбы, ворвавшиеся в горком и даже снайперы на крыше30. Другой принцип логики изображения эмоций состоит в том, что, как и другие лица и группы, действовавшие незаконно, Козлов знал только один вид эмоций: агрессию.
28 Хотя свидетели давали показания о характере Козлова, в них были разные, даже противоположные, оценки (43, 46, 47, 48).
29 О незаконных действиях Козлова см. (169).
30 Относительно «правильных» эмоций (как, напр., страх тех, кто позже использовал насилие «законно»), см. о нападающих на ГОМ (73, 75, 76, 78. 79, 81, 88); о ворвавшихся в горком (51, 61, 62, 63—64, 70); о снайперах (114).
Эмоции, политика оспаривания и общественная память... 473
Баграев прибегает к изображению эмоций и для подкрепления вывода о том, что приказ Козлова о тайных захоронениях и отказ родственникам в предоставлении информации были нарушением «охраняемых законом прав и интересов граждан» (169)31. (Представляется важным, что, делая такой вывод, он не ссылается на конкретные законы и ни разу не указывает, какие именно «права и интересы» были нарушены Козловым.) Автор предлагает нам широкое разнообразие свидетельств — показания милиционеров, хоронивших погибших, медицинских сотрудников и граждан, которые видели трупы при вывозе из морга, и родственников, страдавших от неведения, где и как умерли их близкие. Но, несмотря на изобилие информации и разнообразие точек зрения, остается без ответа вопрос: на каком основании автор утверждает, что тайные захоронения нарушали «охраняемые законом права... граждан»? (169).
В свидетельствах об «обстоятельствах», которые привели к тайным захоронениям, заметен явный контраст между эмоциями тех, кто участвовал в тайных погребениях (милиционеры, сотрудники больницы и т.д.), и эмоциями родственников покойных. Баграев утверждает, что первые исполняли свои служебные обязанности без эмоций, без какого-либо страха, гнева или печали, в то время как в других источниках они же и их близкие родственники рассказывали о последствиях эмоциональной травмы (например, о страхе быть арестованными), неотступно преследовавших их десятилетиями, даже после распада СССР32. Примерами таких «машин» без эмоций были милиционеры, которые выполняли приказ по захоронению тел, а также А. В. Верещагин, бывший заместитель начальника ГОМа, Г. С. Саркисова, сотрудница морга, и персонал больницы (144,149, а также 143—150, 154—157). Особо ярким подтверждением отсутствия эмоций у официальных лиц выглядят по
31 Вероятно, что автор исключил информацию, содержавшуюся в 31-м томе свидетельств, относительно роли деятелей в принятии решения о тайных захоронениях. В пятичасовом обсуждении этого решения приняли участие Плиев, Микоян, Козлов, Стрельченко (начальник КГБ округа) и Иващенко. Предлагались разные альтернативы, среди которых было захоронение трупов в Центральной Азии или Таганрожском заливе. Принятый «ужасный» вариант был, по словам Иващенко, предложен не Козловым, а Микояном. Подробнее см.: Мардарь, Хроника..., 43.
32 См. примеры у Мардарь, Хроника..., 44- 45. Особенно яркий случай представляет К. П. Малышев, начальник ГОМа в Николаеве, который принимал участие в тайных захоронениях. По словам Сычева, который работал в Николаевском КГБ, Малышев часто приходил к нему в офис и плакал. Будучи свидетелем случившегося, он признавался, что ему было очень трудно жить среди родственников убитых, которые часто обращались к сотрудникам милиции с расспросами о местах захоронений; там же, 45.
474
Гленнис Янг
казания С. Н. Снежкова, рассказавшего, что в середине июня 1962 года «он с несколькими курсантами школы милиции во главе с подполковником Малышевым выехал в лесополосу, расположенную недалеко от с. Октябрьского (г. Новочеркасск), откуда, по сообщению жителей поселка, исходил сильный трупный запах» (157). Мы видим не только то, что сам Снежков выполнил этот приказ без эмоций; его показания сообщают также о бесчеловечном отсутствии эмоций у других представителей власти. Он показал, например, что во время одного из перезахоронений труп бросили в могилу, «как собаку» (157).
Те, кто не участвовал в тайных захоронениях, но знал о них, оказываются, в интерпретации автора, единственными, кто испытывает эмоции. Хотя — и я пока не знаю, какой вывод из этого можно сделать, — эмоций нет и в показаниях некоторых свидетелей (не являвшихся родственниками погибших), которые видели трупы в морге33. В ряде свидетельств мы читаем о глубине эмоционального чувства у родственников жертв. Бывшая медсестра городской инфекционной больницы рассказала не только о том, что видела около десяти трупов у дверей в морг, но и о том, что «за оградой больницы толпились люди, кричавшие о том, что здесь находятся их убитые родственники. По просьбе какой-то молодой женщины она, — пересказывает Баграев, — по описанию отыскала среди убитых ее мужа» (145). Тот факт, что на единственных похоронах, где присутствовали родственники (похороны Леонида Васильевича Шульги), было приказано не плакать, косвенно свидетельствует о сильном горе семьи Шульги и семей других жертв. В изложении мы также читаем о других аспектах эмоциональной травмы в семьях погибших: мать Шульги рассказала, что она «опасалась» (по словам автора), что милиционеры могли перехоронить ее сына (153).
Какое всё это имеет значение? Чтобы понять это, нам нужно найти возможные объяснения этого контраста в изображении эмоций. Можно допустить, что автор таким образом пытается обратиться к эмоциям читателя. Но это представляется маловероятным. Во-первых, документ был рассчитан не на широкую публику, а составлялся для небольшой группы государственных деятелей, ожидавших выводов, основанных на анализе соответствия принимавшихся решений законодательству. Во-вторых, «контрастное эмоциональное состояние» — это лишь описание естественных
33 См. свидетельство А. Л. Сморукова, который видел трупы, когда перевозил раненого человека в больницу. Эмоций нет в свидетельстве Н. И. Мехе-дова, допрошенного в связи со смертью В. И. Соловьева, с которым он учился в Новочеркасском ПТУ в 1962 г. (159).
Эмоции, политика оспаривания и общественная память... 475
реакций: конечно же, родственники убитых были более эмоциональными, чем официальные лица, которые даже при наличии у них эмоций должны были их сдерживать, находясь при исполнении служебных обязанностей. Но против такого объяснения можно возразить: сам документ отвергает предположение, что деятели государства не были способны испытывать эмоции перед лицом страдания и смерти. Например, мы неоднократно читаем, что различные лица, от Плиева и Олешко до рядовых солдат, испытывали подавленность, страх, ужас и угрызения совести по поводу смертей и страданий в Новочеркасске, особенно в связи с событиями на площади34. Весьма значимым в разрушении образа неэмоционального представителя власти является рассказ о солдате, который стоял 2 июня близко к трупам на площади. Офицер сказал ему, когда он «плакал, вытирая слезы руками»: «Ты что раскис, распустил слюни?!», на что получил в ответ: «Не трожь меня, командир! Уйди, командир!» (114).
Явный контраст между отсутствием эмоций у официальных деятелей и сильной печалью родственников иллюстрирует, скорее, логику изображения эмоций в документе. Единственными представителями государства, которые показаны опечаленными, сокрушающимися, мучающимися или пораженными горем, оказываются те, кто, по мнению автора, действовал в рамках закона. Можно предположить, например, что плачущий солдат был среди тех рядовых, которые не нарушали закона, стреляя в воздух или «освобождая» горком. Еще более убедительный пример эмоциональности представителя власти, действовавшего, по мнению автора, в пределах закона, являет сам Олешко. Сделанный в отчете вывод о том, что ни Плиев, ни Олешко не могли санкционировать огонь, подкрепляется свидетельством А. С. Давыдова, начальника политотдела 18-й танковой дивизии, который сообщил, что Олешко имел «очень расстроенный вид», когда находился в своем офисе во 2-й половине дня 2 июня (121). Другими словами, незаконность тайных захоронений устанавливается путем обозначения контраста между отсутствием эмоций у тех, кто эти захоронения санкционировал и осуществил, и сильными эмоциями у тех официальных лиц, которые, как утверждает документ, действовали по закону (121).
Какие именно «права» родственников убитых были нарушены при организации тайных захоронений? Автор не отвечает на этот вопрос, хотя и намекает на то, что среди «прав и интересов», которые призвано защищать законодательство, должно фигурировать
34 См. о возмущении (33), негодовании при сообщении о применении оружия на площади (117), гневе (120) Плиева. О беспокойстве Олешко после стрельбы на площади (121).
476
Гленнис Янг
право иметь определенные эмоции (например, право родственников плакать на похоронах) и право не иметь определенные эмоции (например, право не беспокоиться о том, будет ли могила сына перенесена государством без ведома родственников). Но остается еще один важный вопрос: на чем основывается утверждение Баграева, что были нарушены именно эти права? Ответ на этот вопрос вытекает из логики документа, использующей эмоции для установления факта нарушения прав и интересов. Важными представляются различия в том, кому и какие именно эмоции приписываются автором. Очевидно, что при подборе свидетельств, в описаниях и выводах Баграев устанавливает свои правила, как, например: только у тех, чьи права были нарушены, могут возникать и сохраняться на протяжении долгого времени такие эмоции, как страх, печаль и горе.
За пределами документа Баграева: I
Баграев не просто использует изображение эмоций для обоснования своих суждений. Он предлагает нам нарратив, противопоставляющий культуре эмоций официальных учреждений начала 60-х годов не только культуру начала 90-х, но и некоторые перспективы ее изменений в будущем. Точнее, он создает некую нормативность, оперируя контрастом между коллективными эмоциями, существовавшими в начале 60-х и в 90-х годах.
Документ демонстрирует некоторые проблематичные черты коллективных эмоций в 60-х годах. Одна из них — отсутствие отзывчивости официальных лиц к эмоциональным нуждам граждан. Возможно, самым ярким примером этого служит презрительное замечание директора завода Курочкина в ответ на жалобы рабочих в связи с повышением цен на мясо и мясопродукты: «Пусть едят пирожки с капустой» (7). Еще одна проблематичная черта выражалась в том, что представители власти склонялись к подавлению выражений эмоций граждан из-за того, что боялись их силы. Документ свидетельствует о репрессивных тактиках эмоционального регулирования: например, уже упомянутые похороны Шульги, во время которых родственникам было запрещено плакать, за чем следили вооруженные милиционеры (153). Третья проблематичная черта заключалась в вызывании (иной раз обманом) и использовании эмоций для мобилизации толпы с целью совершения насилия. Примером этого может служить Е. П. Левченко, произнесшая демагогическую [rabble rousing] речь с призывом идти с ней в ГОМ, чтобы освободить рабочих НЭВЗ. К заявлению Левченко о том, что эти рабочие были избиты, необходимо относиться критически, рассматривая его как тактику эмоциональной мобилизации. Со
Эмоции, политика оспаривания и общественная память... 477
мнения в том, что избиение действительно имело место, вызваны показаниями свидетелей, рассказавших, что, когда Левченко рассказывала толпе, как ее били, демонстрант, стоявший рядом с ней, увидел, что у нее нет кровоподтеков, и прошептал ей в ухо: «Что ты брешешь?», чем вызвал ее бегство с балкона (72)35.
Мне кажется важным проанализировать и то, как автор осуждает репрессивную эмоциональную культуру 60-х годов. В этих целях Баграев демонстрирует, каким образом пейоративные динамики коллективных эмоций ведут к незаконным действиям, совершаемым либо представителями государства, либо частными лицами. В документе есть несколько примеров, подтверждающих это утверждение. Когда Левченко солгала, заявив, что ее били, она не только злоупотребила доверием слушателей. Это был обман, воздействующий на эмоции, что вызвало незаконное нападение на ГОМ. Именно недоверие советских властей и страх перед демонстрантами на площади явился причиной противозаконного приказа Козлова о применении оружия. Беспокойство власти по поводу мобилизующей сипы эмоций привело к тому, что Козлов незаконно приказал произвести тайные захоронения, а в том единственном случае, когда было допущено присутствие родственников, им запретили выражать свое горе36. Автор выстраивает причинно-следственные связи между этими недостатками в коллективных эмоци-альных отношениях и отсутствием законности, то есть в каком-то смысле между человеческим страданием и смертью.
Таким образом, документ подчеркивает контраст между коллективными эмоциями 60-х и начала 90-х годов и показывает возможное направление их развития в будущем. Можно воспринимать этот отчет как официальное заявление, что культура эмоций претерпела преобразования. Исчезли проблематичные динамики коллективных эмоций 60-х годов. В отличие от неотзывчивых на эмоции рядовых граждан, функционеров типа Козлова, Курочкина, Басова и командира, пристыдившего плачущего солдата, автор признает за людьми право на эмоции. Вместо того чтобы отвергать эмоции людей, он, предоставляя свидетельства их наличия, рекомендует постсоветским учреждениям принимать их во внимание. Возможно интерпретировать его настойчивое внимание к «эмоциональности» показаний как часть новой официальной эмоциональной культуры, в которой выражение эмоций поощряется (166). Автор не дает отчетливого представления о возможностях коллективных эмоций в будущем, но мы можем предположить, что, по его мнению, будущая культура коллективных эмоций противоположна эмоциональной культуре постсталинского периода, которой он
35 «Rabble-rousing» употребляется в Baron, Bloody Saturday, 59.
36 См. подробности похорон Шульги (153).
478
Гленн ис Янг
в своей работе предъявил тяжелые обвинения. Другими словами, он не только говорит о неприемлемости страдания и насильственной смерти, но и устанавливает неизбежную связь между строительством «новой» эмоциональной культуры, законностью и процветанием человеческого общества.
Этот документ, свидетельствующий о преобразовании культуры эмоций, дает возможность переосмыслить революционный процесс 80—90-х годов, который повлиял в том числе на создание новой культуры коллективных эмоций. Конечно, существовали разные представления об этой культуре; возможные пути ее становления обсуждались на основе различных интерпретаций положения дел в прошлом и в настоящем. Как при любой революции, происходивший процесс был иконоборческим. Но, несмотря на это, речь все же шла и о необходимости установления «легитимного истока в прошлом» для обоснования подлинности революционного процесса37. В прошлом существовали истоки будущего, они были представлены, например, теми участниками новочеркасской трагедии, которые отклонились от общей репрессивной культуры эмоциональных отношений: в их числе следует упомянуть Микояна, который не боялся выступления перед толпой, но которого отговорили от этого Козлов и КГБ, и даже рядовых солдат (как того, который рисковал наказанием за неподчинение, давая выход своему горю)38. По мнению автора, важный элемент революционного процесса в создании новой культуры коллективных эмоций состоял в высвобождении возможностей, которые были репрессированы в прошлом.
За пределами документа Баграева: II. Теоретические выводы
Представленный анализ изображения эмоций в этом удивительном тексте приводит к теоретическим выводам, которые могут оказаться важными для будущих исследований. В рамках этой статьи я ограничусь лишь самыми общими из них.
Я считаю доказанным, что эмоции заслуживают особого внимания не только как предмет исторического анализа, но и как аналитический материал, необходимый для интерпретации исторических документов39. Я имею в виду, что предметом исследований
37 Clark, Petersburg, xii.
38 О Микояне (54), Шапошникове и делегатках (30), плачущем солдате (114).
39 См. J. Scott, «Gender: A Useful Category of Historical Analysis», American Historical Review 91 (1986).
Эмоции, политика оспаривания и общественная память... 479
должно стать то, как изображение различных видов и характеристик эмоций в таких документах демонстрирует позицию власти. (Под «властью» я понимаю не нечто статичное, а динамические отношения, в ходе которых развивается исторический процесс, в котором задействованы исторические акторы.) Хотя нельзя забывать и о том, что Баграев сам принадлежал к правящим кругам, и, может быть, поэтому его документ, созданный на основе изображения эмоций, занял официальное место и определил, в чем состояла и должна состоять «правда» о Новочеркасске. В его труде то, что выглядит как разумная аргументация, на деле создано путем закрепления устойчивых ассоциаций между разными видами, валентностью или характером эмоций (страха, возмущения, горя и т.д.) и свойствами, которые приписываются тем, кто их испытывает (т.е. тем или иным акторам — официальным лицам или гражданам). То, что представляется «разумным», определяется тем, что является «эмоциональным» и, возможно, наоборот.
Историкам стоит обратить внимание на то, как изображение эмоций используется в формировании «объективного знания» в определенных контекстах. Заслуживающим интереса исследователей представляется и то, как почти бесконечные символические возможности эмоций ограничиваются в определенных контекстах (например, бинарные оппозиции «страх—бесстрашие» приобретают определенное значение в определенных документах, в свою очередь ограничивая значение различных понятий, как, скажем, «законное» и «незаконное» действие, или как даже «мужской» и «женский», находящихся за пределами эмоциональной сферы).
Заключение
Баграев демонстрирует, что само политическое значение эмоций подвергалось сомнению в начале 80-х — 90-х годах и что это необходимо было учитывать при описании того, «как это было» в Новочеркасске. В то же время следует признать, что его работа открывает возможности для исторического анализа не только документов постсталинского, позднего советского и начала постсоветского периодов, но и документов, созданных в других местах и в другие эпохи. Таким образом, новочеркасская трагедия продолжает влиять на развитие исторической науки, что может не нравиться сторонникам применения военной сипы против собственных граждан в Советском государстве.
glennys@u.washington.edu
Перевод Е. Кэмпбелл, М. Маяи/сого и Г. Димент
Екатерина Емелъянцева
ЛАБОРАТОРИИ «БИОРОБОТОВ»: ТЕХНИКА И ЭМОЦИИ
НА АТОМНОЙ ПОДВОДНОЙ ЛОДКЕ (1960-1980-Е ГОДЫ)
«“Не давайте во время боевых операций разыгрываться вашим чувствам, эмоциям. Все провокации, которые устраивают наши враги, рассчитаны только на наши нервы. Во всех обстоятельствах вы должны помнить — ноль эмоций!” Вот так говорил однажды капитан-лейтенант Дроздов, беседуя с личным составом корабля...»1. Юрий Визбор начинает рассказ из быта советских пограничников на Северном море с эмоциональной установки на подавление и контроль эмоций. Ее он избрал основной характеристикой их повседневности, вынеся ее в название — «Ноль эмоций» (1965). В еще большей степени это относится к морякам-подводникам, поскольку эмоциональное состояние экипажа в специфических условиях службы на подводной лодке — постоянная жара, теснота, дефицит одиночества, ограниченные возможности гигиены, зловоние, длительная информационная изоляция, нехватка солнечного света — оставалось нерешенной проблемой особенно во время длительных походов: «Нервы, нервы... На шестом или седьмом месяце автономного плаванья они неизбежно дают о себе знать. К черту загробные мысли! Лучший способ от них избавиться — пройти по отсекам, “выйти на люди”», — пытался взбодрить себя офицер-подводник к концу длительного боевого патрулирования в Средиземном море в середине 1970-х годов2. Очевидно, на практике реализовать установку на самоконтроль и подавление эмоций было непросто.
В этой статье речь пойдет о том, как выстраивался «эмоциональный режим» (У. Редди) в специфическом социальном пространстве подводной лодки в условиях нормативной безэмоционапь-
1 Ю. Визбор, Сочинения, в 2 т., т. 2, Повести. Рассказы. Пьеса, М.: Локид, 1999, 455.
2 Н. Черкашин, Повседневная жизнь российских подводников, М.: Молодая гвардия, 2000, 12.
Лаборатории «биороботов»: техника и эмоции...
481
ноет и, в той мере, в какой этот процесс можно реконструировать на материале биографической прозы подводников. Особое внимание я уделяю при этом чувству страха, его функции и репрезентации в фольклоре и произведениях подводников3 как одной из основных эмоциональных нагрузок во время службы на подводной лодке.
Статья построена следующим образом: после некоторых терминологических разъяснений я попытаюсь кратко обрисовать основные проблемы развития атомного подводного флота и условий службы на подводных лодках, охарактеризовать культурно-социальную значимость подводного флота в контексте советского культа техники и проекта создания «нового человека», а затем перейду к непосредственному анализу избранных биографических произведений подводников.
Терминология и подходы к изучению эмоций
Изучение эмоций, их функций и выражений в различных исторических и культурных контекстах может происходить с разных позиций и на разных уровнях: на нормативном уровне целого общества, на нормативном или прагматическом (социального взаимодействия) уровне определенной группы, исходя из индивидуального жизненного мира (Lebenswelt) отдельного актора. Однако в любом случае необходимо учитывать как физиологические, так и когнитивные аспекты реализации и выражения эмоций, а также взаимосвязанность коллективных установок и индивидуальных смысловых нагрузок4. Опираясь на понятие Уильяма Редди «эмо
3 Из большого количества воспоминаний, биографической прозы и фольклора подводников указываю выборочно на: I. Kolyschkin, In den Tiefen des Nordmeeres, Berlin: Militarverlag der DDR, 1982; Л. Осипенко, Л. Жильцов, H. Мормуль, Атомная подводная эпопея. Подвиги, неудачи, катастрофы, М.: Боргес, 1994; Черкашин, Повседневная жизнь российских подводников', Э. Ковалев, А. Саксеев, Возвращенные бездной. Записки подводников, М.: Центрполиграф, 2002. Многочисленные электронные публикации находятся (к моменту работы над этой статьей, в ноябре 2007 г.) на интернет-страницах различных организаций ВМФ, и в частности подводного флота, а также организаций ветеранов подводного флота и военных писателей: ВМФ России: http://www.navy.ru; Российский подводный флот: http://www.submarine.id.ru; Подводный флот России: http://www.baplpskov.ru/links/vmf ru/podlodka.info; авторский сайт Александра Викторова, посвященный жизни и творчеству Подводного Флота России: http: //avtonomka.org; Александр Покровский: http://rasstrel.ru/avtor.htm; Содружество военных писателей «Покровский и братья»: http://www.litovkin.ru/kniga.
4 Актуальный обзор теоретической литературы по анализу и истории эмоций см. D. Saxer, «Mit Gefuhl handeln. Ansatze der Emotionsgeschichte», Traverse
482
Екатерина Емельянцева
циональный режим», подразумевающее набор нормативных эмоций и официальных ритуалов, практик, а также выражающих и внушающих их эмотивов (речевых актов, связанных с выражением эмоций), которому Редди отводит важную роль в стабилизации социально-политических структур2 * * 5, я рассматриваю эмоциональную ситуацию на подводной лодке как комплекс взаимоотношений и представлений, реализующийся в рамках эмоционального режима подводного флота.
Если предложенный Редди термин фокусирует внимание на нормативности эмоциональных установок общества или определенной социальной среды, то введенное Барбарой Розенвейн понятие «эмоциональных сообществ» подчеркивает скорее динамичный и интерактивный характер эмоциональных отношений в определенной социальной группе и взаимосвязанность социальных структур и актора6. В этом качестве термин Розенвейн становится важен, если речь идет о перспективе актора и анализе его жизненного мира7. Концептуализация эмоций, предлагаемая Розенвейн, близка в этом плане к эстезиологическому подходу Джоанны Бурк, также предлагающей изучение эмоций в процессе взаимодействия индивида и общества8. По сути тем же путем идет и Редди, находя как раз на эмоциональном уровне, в не подвластных полному контролю эмоциональных реакциях, возможность преодоления социальных структур9. Анализ перекрещивания и дистанции между
2 (2007); U. Frevert, «Angst vor Gefuhlen? Die Geschichtsmachtigkeit von Emotionen im 20. Jahrhundert», Perspektiven der Gesellschaftsgeschichte, Miinchen, 2000. Обзоры литературы по истории эмоций на российском и советском материале см.
М. Steinberg, «Melancholy and Modernity: Emotions and Social Life in Russia Between the Revolutions», Journal of Social History 41:4 (2008); A. Kraus, «Erlesene
Gefiihlswelten. Emotionale Wirklichkeiten des Andrej Timofcevic Bolotov», Vom Wir zum Ich. Individuum und Autobiographik im Zarenreich, Koln et al.: Bohlau, 2007; G. Young, «Emotions, Contentious Politics, and Empire: Some Thoughts About the Soviet Case», Ab Imperio 2 (2007).
5 Reddy, The Navigation of Feeling, 129.
6 Rosenwein, «Worrying about Emotions in History».
7 О понятии «жизненный мир» см. Н. Haumann, «Lebensweltlich orientierte Geschichtsschreibung in den jiidischen Studien. Das Basler Beispiel», Jiidische Studies Reflexionen zu Theorie und Praxis eines wissenschaftlichen Feldes, Innsbruck u.a.: StudienVerlag, 2003; Id., «Geschichte, Lebenswelt, Sinn. Uber die Interpretation von Selbstzeugnissen», Anfang und Grenzen des Sinns. Fur Emil Angehm, ed. B. Hilmer, G. Lohmann, T. Wesche. Gottingen: Velbriick, 2006; E. Emeliantseva, «Osteuropa und die Historische Anthropologic: Impulse, Dimensionen, Perspektiven», Osteuropa 3 (2008).
8 J. Bourke, «Fear and Anxiety: Writing about Emotion in Modern History».
9 Редди рассматривает эмоциональность (реализацию и выражение эмоций) как перформативные акты, в процессе которых может происходить как аффирмативная, так и субверсивная реакция на нормативные установки; в
Лаборатории «биороботов»: техника и эмоции...
483
различными эмоциональными уровнями: установками эмоционального режима определенной среды, в данном случае подводного флота, эмоциональной динамики определенной группы, экипажа подводной лодки или отдельного отсека и, наконец, индивидуальных эмоциональных реакций в рамках конкретного жизненного мира определенного подводника — кажется мне наиболее продуктивным путем изучения эмоций как социально-культурного феномена.
В рамках истории эмоций о страхе было написано довольно много10. Основными нерешенными вопросами остаются при этом проблемы определения соматических, психологических и социальных импликаций страха в отличие от других эмоций, таких как, например, злость, изумление, отвращение, подозрение или ненависть, поскольку различные виды страха могут сопровождаться различными физиологическими реакциями, не говоря уже о куль
этом суть его подхода к изучению эмоций. В этом контексте он вводит такие понятия, как «эмоциональная свобода», «эмоциональное убежище», «эмоциональная навигация», Reddy, The Navigation of Feeling, 128—129.
10 Среди многочисленных исследований о страхе следует отметить прежде всего работы Джоанны Бурк, предложившей новый взгляд на функции страха в англоязычной культурной среде XX века: J. Bourke, Fear: A Cultural History', Id., Fear and Anxiety, Id., The Emotions at War: Fear and the British and American Military, 1914—1945, Historical Research 74:185 (2001). См. также P. Sterns, American Fear: The Causes and Consequences of High Anxiety, N.Y.: Routledge, 2006; Id., «Tear and Contemporary History», Journal of Social History 40:2 (2006). Подход к изучению страха французского историка Жана Делюме в его монументальном труде о страхе в Европе Средних веков и периода раннего Нового времени вызывает серьезные сомнения. Опираясь в основном на нормативные клерикальные источники, автор делает выводы о практиках и представлениях различных слоев общества: Delumeau, Leрёсйё et la peur. La culpabilisation en Occicent (XHF—XVHF siecle), Paris: Fayard, 1983; Id., La peur en Occident (XIVе—XVIIIе siecle). Une сПё asstegee, Paris: Fayard, 1978. На материале советской истории 1930-х годов о страхе писал американский историк Роберт В. Торстон, однако не касаясь теоретических вопросов: R. Thurston, «Fear and Belief in the USSR’s “Great Terror”: Response to Arrest, 1935 — 1939», Slavic Review 45:2 (1986). Страха в боевой обстановке касается в своих работах российская исследовательница Елена Сенявс-кая: Сенявская, Психология войны в XXвеке. Исторический опыт России, М.: РОССПЭН, 1999. С социологической точки зрения с использованием данных социологических опросов состояния страха в посткоммунистических обществах были рассмотрены в сборнике Fears in Post-Communist Societies. A Comparative Perspective, ed. V. Shlapentokh, E. Shiraev, N.Y.: Palgrave, 2002. Для более углубленного анализа социальных и культурных аспектов эмоционального состояния и модусов его выражения сложно полагаться на данные социологических опросов, представляющих собой достаточно ограниченный источник информации; в данном случае исследования значительно выиграли бы, расширив свою источ-никовую базу.
484
Екатерина Емельянцева
турно-историческом контексте, определяющем дискурсивное поле той или иной эмоции. Соответственно, социальные функции страха не могут быть сведены к одному общему знаменателю. Анализируя страх (преимущественно в США и Великобритании в XX веке), Джоанна Бурк оперирует понятиями Fear/Furcht («эмпирический» страх-боязнь) и Anxiety/Angst (безотчетный страх-тос-ка), восходящими к сочинениям Киркегора, экзистенциалистам и психоанализу11. Однако это различие может быть достаточно ситуативно, и Бурк предлагает различать эти две категории страха на основе реакции актора: в случае fear индивиды или социальные группы полагают, что они в состоянии справиться с опасностью или могут определить источник опасности, то есть экстернализировать или рационализировать чувство страха12. В русском языке в общем обиходе и в обиходе подводников нет прямых эквивалентов этим двум понятиям, тем не менее эвристический потенциал этого разделения мне кажется важным и для русского контекста.
Опираясь на концепции вышеупомянутых авторов, в данной статье я проанализирую нарративы страха в биографической прозе подводников, стабильные формы этих нарративов и их изменения.
Проблемы развития атомного подводного флота
Являясь объектом престижа и одним из самых важных видов стратегического оружия в период «холодной войны», наиболее развитые по технологии атомные подводные лодки имели особое значение в гонке вооружений. Они должны были стать единственным противовесом американским авиационным базам, расположенным у границ СССР и способным нанести ядерный удар по советской территории. Технологическое противоборство с США шло по трем направлениям: лодки должны были стать, во-первых, более быстроходными, нести более мощное и эффективное вооружение и стать более неуязвимыми; во-вторых, они должны были стать более бесшумными и менее опознаваемыми и, в-тре-тьих, погружаться на большую глубину. На развитие технологий в этой области были выделены значительные ресурсы, в результате чего третье поколение ядерных подводных лодок, введенных в эксплуатацию в начале 1980-х годов, не только не уступало в техническом отношении своим американским аналогам, но по не
11 Bourke, Fear and Anxiety, 120—121, 126—129.
12 Ibid., 126-127.
Лаборатории «биороботов»: техника и эмоции...
485
которым параметрам, как, например, качеству корпусного материала, их даже превосходило13.
Условия пребывания экипажа ядерной подводной лодки также постепенно улучшались, особенно на лодках, предназначенных для более длительных походов. На первом атомоходе-гиганте нового типа, тяжелом ракетном крейсере стратегического назначения класса «Акула» (классификация НАТО Typhoon), построенном в начале 1980 года и рассчитанном на экипаж в 179 человек с возможностью автономного плавания от 120 до 180 суток, была устроена даже зона отдыха со спортивным залом, бассейном, сауной и комнатой отдыха. Офицеры размещались в двухместных и четырехместных каютах, старшины и матросы располагались в маломестных кубриках14. Были улучшены также спасательные системы и системы безопасности. Однако принципиальных изменений в составе экипажей и его подготовки, в том числе и психологической, не предусматривалось15. Психологическая подготовка сводилась в основном к идеологической и основывалась на убеждении, что правильно подготовленный солдат в любой критической ситуации остается хозяином положения, если у него достаточно силы воли16.
13 Р. Huchthausen, I. Kudrin, A. White, Hostile Waters, London. Hutchinson, 1997; Huchthausen, K—19 und die Geschichte der russischen Aiom-U-Boote, Hamburg: G und J/RBA, 2002; G. Weir, W. Boyne, Rising Tide. The Untold Story of the Russian Submarines That Fought the Cold War, N.Y.: Basic Books, 2003; A. Koldobskij, «Die strategische U-Boot-Flotte der UdSSR und Russlands. Veigangenheit, Gegenwart und Perspektiven aus russischer Sicht», Osterreichische Militarische Zeitschrift 39:3, 39:4 (2001); D. Holloway, «Innovation in the Defence Secton>, Industrial Innovation in the Soviet Union, ed. R. Amann, J. Cooper, New Haven: Yale UP, 1982.
14 Теснота была постоянной проблемой для экипажа, но улучшение боевых характеристик лодок всегда оставалось приоритетом. Первые значительные улучшения размещения экипажа были осуществлены на подводных лодках второго поколения класса Навага (классификация НАТО Yankee), введенных в строй в конце 1960-х — начале 1970-х годов и являвшихся во многих отношениях копией американской модели «George Washington». На модернизированных лодках класса 705 и 7О5К «Лира» (классификация НАТО Alfa), разработанных в то же время и предназначенных для скоростного маневрирования с малым офицерским экипажем в 30—32 человека, условия пребывания экипажа ухудшились, что даже привело к недовольству со стороны подводников из-за тесноты в помещениях: А. Тарас, Атомный подводный флот, 1955—2005, М.: ACT, 2006, 133-137, 166-169.
15 Там же, 171-175. В походе вопросы и проблемы психологического характера решал в первую очередь заместитель командира по политической части.
16 Ср. R. Gabriel, Soviet Military Psychiatry. The Theory and Practice of Coping with Battle Stress, N.Y.: Greenwood Press, 1986.
486
Екатерина Емельянцева
Начиная со второй половины 1960-х годов советское военное руководство стало вновь проявлять больший интерес к вопросам психологии и психиатрии в условиях боевых действий, считавшихся в начале «холодной войны» отжившими свой век областями военной науки в ситуации, когда возможные боевые действия будут вестись с применением атомного оружия17. Это коснулось и подводного флота. Психологами и психоневрологами был проведен ряд экспериментов и наблюдений за психологическим состоянием подводников во время длительных походов. Однако результаты этих исследований не имели какого-либо влияния на подбор и подготовку личного состава18.
Постоянно повышающийся в 80-х годах уровень автоматизации управления кораблем и навигации приводил лишь на немногих кораблях к соответствующей технической подготовке экипажа. Это касалось прежде всего серии «автоматических» лодок класса Альфа, экипаж которых состоял из 25—40 высококвалифицированных специалистов. Однако на большинстве атомных подводных лодок, оснащенных новейшей техникой, продолжали служить и обычные призывники, осваивавшие сложную технику лишь к концу службы. На подготовку младших специалистов на подводных лодках отводилось лишь несколько месяцев19. В целом развитие техники на подводных лодках шло гораздо более быстрыми темпами, чем связанные с техническими инновациями подготовка и обучение экипажа.
17 Ibid.
18 Результаты этих исследований были мне доступны тольно в форме научно-популярных публикаций: В. Лебедев, Личность в экстремальных условиях, М.: Политиздат, 1989.; ср. Gabriel, Soviet Military Psychiatry', И. Образцов, «Советская военная социология: история и современность», Социологические исследования 12 (2003); А. Покровский, «Врач — специальность среди подводников смешная», интервью корреспондента «Новой газеты» Натальи Столяренко (23.07.08), http://rasstrel.ru/interview.htm. На страницах пропагандистской литературы 1970-х годов вопросы психологической подготовки поднимались достаточно часто, создавая тем самым совершенно иную картину. Ср. A. Voropai, «The Medical Officer and Psychological Training», Soviet Military Review 11 (1977), 28—29; V. Dudnik, «Military Labour and Servicemen’s Abilities», Soviet Military Review 2 (1978), 42—43. Очевидно, значение основательной психологической подготовки военнослужащих в принципе признавалось советским военным руководством, однако на практике уступало другим целям и приоритетам.
19 Лебедев, Личность в экстремальных условиях, 61. Проблемы освоения сложной техники на подводной лодке нашли свое отражение и в армейском фольклоре. Ср. А. Дмитриев, «Юмор как зеркало армейской жизни (непричесанные заметки)», Социологические исследования 12 (1993), 98.
Лаборатории «биороботов»: техника и эмоции...
487
Лаборатории «биороботов»: технизация быта на подводной лодке
Условия работы и службы на новейших подводных лодках даже для подготовленных специалистов очень непросты, поскольку их функционирование рассчитано на команду, состоящую из «биороботов»: эмоциональность, ослабление концентрации и памяти или усталость являются в этой ситуации факторами риска, опасными для жизни20. Молодые призывники были, как правило, слабо подготовлены к службе как в техническом, так и в психологическом плане: «Я выхожу с новобранцами в море, погружаюсь и иду вдоль родного берега на перископной глубине. Вдруг я замечаю, что некоторые страдают клаустрофобией, а у одного эпилептический приступ [...]», — жаловался впоследствии командир одной атомной подводной лодки21.
Вместе с тем пребывание на подводной лодке связано с крайней технизацией быта22 и существенными нарушениями привычной среды обитания человека: отсутствие многих раздражителей органов чувств, как, например, земных запахов, монотонность окружающего мира и отсутствие внешних объектов, за которыми можно было бы наблюдать, постоянное освещение на борту лодки и неумолкающий шум энергетических установок или же полная тишина при положении лодки на грунте, отсутствие перепадов в температуре и влажности воздуха, ограниченные возможности движения (во время плавания подводники проходят пешком в день в среднем в 20 раз меньше, чем человек, находящийся в обычных условиях), нарушение ритма сна и бодрствования из-за скользящих графиков вахт, что нередко ведет к чрезмерному употреблению снотворных медикаментов, ограниченность информации, одиночество в часы вахты, групповая изоляция и невозможность уединения и, наконец, постоянная угроза для жизни23. Непрямое восприятие пространства через приборы требует постоянной повышенной концентрации и быстрой реакции24. По наблюдениям врачей, всё
20 Черкашин, Повседневная жизнь российских подводников, 372—373.
21 Цит. по: A. Antonow, V. Marinin, N. Valuev, Sowjetisch-russische Aiom-U-Boote, Augsburg: Weltbild, 2000, 132.
22 На материале истории советского подводного флота историками культуры эта тема еще не затрагивалась. Ср. J. Riiger, «Das U-Boot», Orte der Modeme. Erfahrungswelten des 19. und 20. Jahrhunderts, ed. A. Geisthovel, H. Knoch, Fr.a.M.: Campus, 2005.
23 Лебедев, Личность в экстремальных условиях, 9—10, 13, 15, 18, 25, 30, 33, 41-43, 154.
24 Там же, 19—20.
488
Екатерина Емельян цева
это способствует истощению нервной системы у подводников и развитию неврозов.
Свою специфику имеет и согласование действий подводников, от которого зависит жизнь каждого. В условиях крайней технизации быта и службы взаимодействие экипажа происходит не только напрямую, но и через показания приборов, образуя при этом цепочку человек—прибор—человек25, в которой информация о действиях других членов экипажа сводится к безликим и безэмоцио-нальным показаниям аппаратуры. С другой стороны, тесный совместный быт членов экипажа формирует социальную структуру группы, в которой складываются свои поведенческие нормы. Молодым матросам непросто адаптироваться в таких группах. Нередко этот процесс заканчивался неврозами и списанием на берег26.
Технизация быта на подводной лодке, таким образом, требовала от подводника автоматической функциональности «биоробота» в обращении с техникой, но ситуация групповой изоляции предусматривала и достаточно большую эмоциональную гибкость и приспособляемость внутри экипажа.
Культ техники и «новый советский человек» на подводной лодке
Фактически в повседневном быту подводники должны были реализовывать утопическую модель «нового человека», преодолевшего физиологические границы, окрылявшую биологов и физиологов еще на заре советской власти27. В послевоенные десятилетия романтические представления о сверхчеловеке, покорившем дали, высоты и глубины планеты, приняли новую форму: авангардом «нового советского человека» эпохи «развитого социализма» стали прежде всего космонавты28. Однако в контексте советского культа техники 1960-х годов служба подводников также заняла важное место, став своего рода лабораторией «нового человека», покорителя техники и природы, преодолевшего границы и природы человеческой29. Героическая романтика будней, вера в научный про
25 Лебедев, Личность в экстремальных условиях, 69—71.
26 Там же, 83.
2' Die Neue Menschheit. Biopolitische Utopien in Russland zu Beginn des 20. Jahrhunderts, ed. B. Grays, M. Hagemeister, Fr.a.M.: Suhrkamp, 2005.
28 Cp. S. Gerovitch, «“New Soviet Man” Inside Machine: Human Engineering, Spacecraft Design, and the Construction of Communism», OSIRIS 22 (2007).
29 П. Вайль, А. Генис, 60-е. Мир советского человека, M.: НЛО, 1996; Е. Hoffmann, R. Laird, Technocratic socialism. The Soviet Union in the advanced industrial era, Durham: Duke UP, 1985; Science and the Soviet social order, ed.
Лаборатории «биороботов»: техника и эмоции...
489
гресс и оптимизм освоения новых горизонтов и глубин планеты — все эти центральные аспекты культа техники способствовали созданию символического ореола службы подводников в представлениях советского общества. Об этом свидетельствуют многочисленные песни о подводниках популярных бардов, например Юрия Визбора30, и общий рекрутский фольклор этого периода31. Служба на подводной лодке приобрела в этом контексте статус особой привилегии, связанной с выполнением сложных и важных стратегических задач32. Как и сотрудников закрытых предприятий и институтов, жителей закрытых городов, подводников связывало чувство привилегированности и важности их службы и работы33. Однако образ мужественного и бесстрашного героя, «нового человека» и строителя коммунизма, которому подвластна техника и морская стихия, во многом не соответствовал быту советских подводников, и прежде всего той подчиненной по отношению к технике роли безэмоционального «биоробота», которая отводилась ему кон-
L. Graham, Cambridge, Mass.: Harvard UP, 1990; R. Kluge, Der sowjetische Traum vom Fliegen. Analyseversuch eines gesellschaft lichen Phanomens, Miinchen: Sagner, 1997; K. Gestwa, «Technik als Kultur der Zukunft. Der Kult um die “Stalinschen GroBbauten des Kommunismus”», Geschichte und Gesellschaft 30 (2004); Id., «Herr-schaft und Technik in der spat- und poststalinistischen Sowjetunion. Machtverhaltnisse auf den “GroBbauten des Kommunismus”», 1948—1964», Osteuropa 51 (2001); D. Holloway, «Science, technology and modernity», The Cambridge History of Russia, vol. Ill: The Twentieth Century, ed. R. Suny, Cambridge: Cambridge UP, 2006; H. Цветаева, «Биографические нарративы советской эпохи», Социологический журнал 1:2 (2000), 152, 157-162.
30 Песни Юрия Визбора, посвященные подводникам: «Командир подлодки» (1963), «Песня о североморцах» (1968), «Песня о подводниках» (1970) и др. О творчестве Визбора в контексте эпохи «оттепели» и его связи с фольклорной традицией см. И. Соколова, Авторская песня: от фольклора к поэзии, М.: Комитет по культуре Москвы, 2002, 177—193; Она же, «Авторская песня: от экзотики к утопии», Вопросы литературы 1 (2002); Ю. Андреев, Наша авторская... История и современное состояние самодеятельной песни, М.: Молодая гвардия, 1991, 114; Б. Савченко, Авторская песня, М.: Знание, 1987.
31 Российская исследовательница Жанна Кормина прослеживает в своей работе о рекрутском фольклоре значительные изменения в отношении к военной службе в крестьянской среде после Великой Отечественной войны: понятия советского патриотизма и долга, а также Родины, расширившейся до пределов государственной границы, окончательно укрепились среди крестьян именно в этот период. Если раньше браковка, т.е. парни, которые по каким-либо причинам были освобождены от службы, в частушках вызывала зависть, то в послевоенной традиции новой темой стало ее высмеивание: Ж. Кормина, Проводы в армию в пореформенной России. Опыт этнографического анализа, М.: НЛО, 2005, 278-296.
32 Ср. Цветаева, «Биографические нарративы советской эпохи», 155.
33 Ср. S. Schlegel, Der «Weisse Arch ip el». Sowjetische Aiomstadte 1945—1991, Stuttgart: Ibidem, 2006, 84, 123.
490
Екатерина Емельянцева
струкгорами в системе управления подводной лодкой. Вячеслав Ге-рович убедительно показал противоречия в моделях «нового человека» в контексте культа техники послевоенных десятилетий, проявившихся особенно отчетливо на примере космонавтов34. На пилотируемых, но практически полностью автоматизированных космических кораблях техническая роль самого космонавта сводилась к нулю. Космонавт был важен прежде всего с идеологической точки зрения. Как для зарубежной общественности, так и для советских граждан он должен был стать символом успеха советского общества в достижении своих целей. Однако это назначение, подразумевающее активного строителя коммунизма, резко контрастировало с той пассивной ролью, которую конструкторы фактически отводили космонавту во время полета.
Ситуация подводников была несколько иная, хотя и не менее противоречивая. Как и на космическом корабле, на подводной лодке человек является прежде всего дополнением к машине. Однако в последнем случае он в значительной степени обеспечивает функциональность техники. Если космонавту практически запрещалось самостоятельное управление кораблем35, то от подводника требовалось существенное техническое участие в управлении подводной лодкой, в координации различных ее систем. В этой ситуации человек является составным звеном, неотъемлемой частью технического обеспечения функций корабля, и от человека требуется точно такая же стабильная функциональность. Не случайно в технических условиях на корабле нормам, определяющим пребывание личного состава на подводной лодке, например нормам на отдых и сон, отводится последнее место36. К тому же на практике даже достаточно жесткие установленные нормы нередко игнорировались, когда речь шла о срочных показательных походах и учениях37. И если космонавты тщательно готовились к полетам в течение длительного времени, подводникам в этом плане уделялось несравнимо меньше внимания. Идеологическая цена риска на подводных лодках, оперирующих в режиме полной секретности, очевидно была ниже, чем на космических кораблях, демонстрировавших мощь страны на виду у мировой общественности. Лишь через несколько месяцев после триумфа Юрия Гагарина в июле 1961 года на одной из первых советских атомных подводных лодок, К-19 (классификация НАТО Hotel), произошла серьезная авария на атомном реакторе, причиной которой были скрытые дефекты
34 Gerovitch, «“New Soviet Man” Inside Machine».
35 Ibid., 136.
36 Покровский, «Врач — специальность среди подводников смешная».
37 Там же.
Лаборатории «биороботов»: техника и эмоции...
491
производства и недостаточная подготовка личного состава38. То, что плохо подготовленный экипаж выпустили в море со сложной несовершенной и непроверенной техникой, было не исключением, а скорее правилом: авральные методы работы времен индустриализации39 продолжали действовать, невзирая на развитие техники.
Романтические утопии 1920-х годов о «новом человеке», об улучшении природы человека и преодолении его физиологических границ40 в условиях «развитого социализма» должны были в приказном порядке стать реальностью. И если по решению XXII съезда партии коммунистическое общество было «запланировано» на ближайшее будущее, то согласно конструкции подводных лодок подводник уже в настоящем должен был быть «новым человеком», однако не столько покорителем техники, сколько ее неотъемлемой составляющей.
Кроме того, культ героев-подводников, мужественных защитников Родины, пропагандировавшийся официально и воспевавшийся бардами 1960—1970-х годов, резко контрастировал с той ролью, которую военное руководство фактически отводило рядовым подводникам, чья жизнь ценилась крайне мало и о чьих подвигах порой не знали даже родственники41.
Какими путями подводники приспосабливались к противоречивой роли «нового человека» и «биоробота» и соответствующему режиму нормативной безэмоциональности и каким образом они рефлектировали эти процессы, можно проследить на материале биографической прозы и фольклора подводников, особенно наблюдая за различными модусами выражения страха.
Страх и бесстрашие в фольклоре подводников
В условиях длительной групповой изоляции во время похода, когда общение с членами экипажа значительно сокращалось42,
38 Huchthausen, К-19 und die Geschichte der russischen Atom-U-Boote. Cp. А. Покровский, «Авария на К-19: “Тогда мало знали не только подводники. Мало знали и академики...”», Правда, 11 декабря 2002 г.
39 Ср., напр., D. Neutatz, Die Moskauer Metro. Von den ersten Planen bis zur Grofibaustelle des Stalinismus (1897—1935), Koln et al.: Bohlau, 2001.
40 M. Hagemeister, J. Richers, «Utopien der Revolution: Von der Erschafliing des Neuen Menschen zur Eroberung des Weltraums», Die Russische Revolution 1917, ed. Heiko Haumann, Koln et al.: Bohlau, 2007.
41 Ср. Черкашин, Повседневная жизнь российских подводников, 311—317.
42 По данным наблюдений на надводных кораблях стабильные отношения в экипаже складываются по прошествии 30—40 дней, и начиная с 80-го дня плавания атмосфера на корабле становится напряженной: Лебедев, Личность в экстремальных условиях, 223.
492
Екатерина Емельянцева
литературное творчество становилось для многих подводников возможностью компенсировать сенсорный и информационный голод и создавать моменты уединения43. В то же время необходимо принимать во внимание, что подводники находились под постоянным контролем представителей особого отдела и что эти произведения подлежали цензуре и самоцензуре44.
Анализ художественной и документальной прозы подводников показывает, что эмоциональные категории страха — как «эмпирического» страха-боязни (Furcht/fear), так и безотчетного страха-тоски (Aiigst/anxiety) — отображались авторами в рассматриваемый период в рамках традиционного топоса армейского фольклора «бесстрашной мужественности» и советского патриотизма45. Таким путем подводники сознательно и бессознательно канализировали чувство страха, которое было для подводника, по сути, табу.
Эту установку поддерживали и психологи. Лебедев, проводивший ряд наблюдений на подводных лодках во время длительных походов, подчеркивает, что «подавляющее большинство [...] подводников [...] в условиях серьезного риска испытывают стени-ческие эмоции, проявляют мужество и героизм» и «действуют уверенно, в соответствии со складывающейся обстановкой»46. К сожалению, он не приводит данных, на которых основывается это заключение, и в данном случае трудно определить в этом высказывании долю общего идеологического балласта. Характерно также, что психологическая неустойчивость и аффективные реакции (кратковременный ступор) у подводников в условиях угрозы для жизни в монографии Лебедева в принципе допускаются, однако не у командиров подводных лодок или вахтенных офицеров47.
Показательными в этой связи являются записки и произведения офицеров-подводников Эрика Ковалева и Андрея Саксее-ва, чья активная служба на подводных лодках пришлась на 1950— 1960-е годы48. Тема страха и боязни появляется на страницах их сборника рассказов объемом в 360 страниц относительно редко. Лишь в трех коротких рассказах Андрея Саксеева под названиями «Страх-1», «Страх-2» и «Страх-3», занимающих 11 страниц сбор
43 Лебедев, Личность в экстремальных условиях, 182, 185, 215.
44 А. Покровский, «Армия должна заговорить» [интервью газете «Аргументы и факты»] (14.03.2007), http://rasstrel.ru/interview.htm.
45 О мужественности (Masculinity/Mannlichkeiten) в историографии по России и Советскому Союзу см. Russian Masculinities in History and Culture, ed. B. Clements, R. Friedman, D. Healey, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2002; О муже(н)ственности, под ред. С. Ушакина, М.: НЛО, 2002.
46 Лебедев, Личность в экстремальных условиях, 45, 240.
47 Там же, 246.
48 Ковалев, Саксеев, Возвращенные бездной.
Лаборатории «биороботов»: техника и эмоции...
493
ника, эта тема является центральной49. Во всех трех рассказах речь идет об «эмпирическом» страхе-боязни (Furcht/fear). Основную бытовую ситуацию, с которой подводники связывают чувство страха, ситуацию боевой тревоги, автор представляет в карикатурном виде: ситуации боевой тревоги разворачиваются как комические, и чувство страха как не соответствующее комизму ситуации разряжается в комическом и «прощается» герою. Юмор играет достаточно важную роль в поведенческих нормах подводников. Об этом свидетельствуют и литературная традиция писателей-маринистов, и фольклор подводников50.
В рассказе «Страх-1» Саксеев вспоминает свою практику в июле 1954 года на флагманском корабле эскадры Северного флота, крейсере «Александр Невский», в походе по Баренцеву морю. Саксеев заканчивал четвертый курс Высшего военно-морского училища связи и был распределен на боевой пост гидроакустического наблюдения. Эпизод, демонстрирующий в этом рассказе отношение моряков к страху, произошел со старшиной поста, служившим на корабле седьмой год. Старшина до смерти испугался в неожиданной ситуации, когда не смог со сна быстро сориентироваться и доложить о готовности поста по команде. Основная задача поста заключалась при этом в постоянной готовности к вахте. Отработанная рутина гидроакустиков состояла в том, что они выключали свет и спали прямо на боевом посту, если в них не было прямой необходимости, но реагировали мгновенно на сигналы. Однако на этот раз привычка не сработала, поскольку старшина спал на новом месте, отдав свое практиканту, и не смог в темноте на ощупь определить привычное место нахождения. Вместо доклада о готовности поста в информационном посту крейсера слышали стоны, всхлипы и поскребывания старшины. Положение спас младший гидроакустик, доложив по форме и включив свет:
Посреди палубы сидел старшина Митя, бледный до голубизны, с вылупленными глазами. Покрутив головой, старшина несколько раз крепчайшим образом выругался. Бледность отошла. «Чтоб я, м-моряк Белов, когда-нибудь так пугался! Такого не было! И не дай бог, чтобы повторилось! Помру! Ведь я, кретин, край столешницы искал! Соскочить не мог! Ребята! О моем позоре — мол
49 Ковалев, Саксеев, Возвращенные бездной, 65—67, 106—109, 134—138.
50 Это упоминает и психолог Лебедев, проводивший эксперименты на подводных лодках: Лебедев, Личность в экстремальных условиях, 85; В. Конецкий, Собрание сочинений, в 7 т., Кронштадт: Междунар. фонд 300 лет Кронштадту, 2002; А. Вашков, Ходили мы походами (сказка), В. Кучерявый, Фольклор ВМФ. см. оба на сайте www.submarine.id.ru.
494
Екатерина Емельянцева
чок! Годки засмеют!» Но сам же вечером в кубрике взахлеб рассказывал весело регочущей братии из радиотехнической службы, как он стал маленьким, как таракан, и долго-долго полз к краю столешницы, а его все не было!51
Эта история стала не только анекдотом для экипажа, но и поводом поговорить о чувстве страха. Компания пришла к выводу, что «самое жуткое — это неожиданная и полная “потеря обстановки” в момент, когда надо действовать, а как — неизвестно!»52.
Очевидно, чувство страха было темой разговора для всей команды и сильно занимало моряков. Однако с кодексом чести военного моряка оно было несовместимо и, следовательно, должно было быть рационализировано', как препятствие в действии или причина бездействия из-за недостаточной информации53. Этот момент коллективного обсуждения страха, поиска адекватного к нему отношения в данной группе и обработку этой эмоции в режиме нормативной безэмоциональности можно охарактеризовать термином Арли Хохшильд «эмоциональная работа» (emotion work), подразумевая под этим термином все внутренние и внешние усилия актора, при которых он моделирует свои собственные эмоции и эмоции окружающих54. Согласно Хохшильд, эмоциональная работа начинается в тот момент, когда актор ощущает несоответствие своих чувств принятой для определенной ситуации норме. При этом Хохшильд различает ряд техник эмоциональной работы: когнитивную, телесную, или физическую, и экспрессивную55 * *. Проанализировать, как проходил процесс эмоциональной работы у каждого
31 Ковалев, Саксесв, Возвращенные бездной, 67.
32 Гам же.
31 Такое объяснение причин возникновения страха в принципе соответствовало и советским теориям возникновения отрицательных эмоций, в частности информационной теории эмоций П. В. Симонова, по которой отрицательные эмоции возникают при недостатке необходимой информации и могут перейти в положительные при увеличении объема информации; Лебедев, Личность в экстремальных условиях, 104. Преодоление чувства страха путем рационализации не отличалось в этом смысле от предложений англо-американской военной психологии. Однако дискурсивных рамок возможной нормализации страха как неотъемлемой эмоциональной реакции в ситуации боевой тревоги, советские нормативы не предполагали. Ср. Bourke, The Emotions at War, Ъ21— 8; Gabriel, Soviet Military Psychiatry, 87—97.
54 A. Hochschild, «Emotion Work, Feeling Rules, and Social Structure», American Journal of Sociology 85:3 (1979), 561—563; Id., The Managed Heart. Commercialisation
of Human Feeling, Berkeley: Univ, of California Press, 1983.
53 Hochschild, «Emotion Work», 261. Эта классификация важна в чисто теоретическом плане, на практике различные техники эмоциональной работы
появляются в комплексе.
Лаборатории «биороботов»: техника и эмоции...
495
участника этого обсуждения, лишь на материале мемуарного рассказа невозможно. На данном этапе можно лишь указать на факт этого процесса на когнитивном уровне.
В рассказе «Страх-2» комическая развязка ситуации «боевой тревоги» или «готовности» повторяется56. Автор вспоминает эпизод пребывания на суше в офицерском общежитии дивизиона подводных лодок в Северодвинске, когда во сне на него свалилось «нечто» и сильно напугало:
Страх пробил навылет каждую клетку старлейского тела! Каждый волосок (включая ворс на шерстяном одеяле!) встал дыбом! НЕЧТО! Откуда-то сверху! После мгновенного шороха и тупого удара ОБРУШИЛОСЬ на засыпающего, ВДАВИЛО его в постель, СКАЧКАМИ ПРОНЕСЛОСЬ от груди к ногам и ИСЧЕЗЛО! Рассудок возвращался не спеша. Сначала с тела сошел иней. Потом удалось встать и зажечь свет57.
Как и в первом рассказе, развязка комична: «нечто» оказалось котом, охотившимся в темноте. Так же как и в «Страхе-1», автор заканчивает эпизод, резюмируя свое отношение к страху и «пытаясь понять “формулу страха”»58. Показательно, что как раз при настоящих происшествиях (автор употребляет здесь кальку с английского ‘эксидент’), при которых, по мнению автора, страх должен был присутствовать, его не было: «По содержанию многих “эксиденгов” страх в них вроде бы должен был присутствовать, но он не только не вспоминался, его просто не было. Почему?»59.
Если в первых двух рассказах ситуация воспринималась героем как экстренная, но оказывалась комичной, и соответственно чувство страха, испытываемое героем, было тем самым переведено в рамки комизма, то в «Страхе-3» речь идет о действительно экстренной ситуации на подводной лодке. Показательно при этом, что в данной ситуации автор описывает не возможное чувство страха, а его отсутствие60. В этом небольшом рассказе речь идет о героическом поведении команды «К-5» во время боевой тревоги в 1963 году. «К-5» возвращалась в надводном положении при сильном шторме в Западную Лицу, когда в центральный пост ворвался огромный водяной столб и вывел из строя всю аппаратуру: «В рушащейся воде промелькнуло тело сигнальщика в обнимку с про-
36 Ковалев, Саксеев, Возвращенные бездной, 106- 109.
37 Там же, 107.
2)8 Там же, 108.
59 Там же.
60 Там же, 134—138.
496
Екатерина Емельян цева
жекгором, а затем нечто темное, оказавшееся командиром. Обоих вода швырнула в кормовую часть отсека. На первом этаже грохнуло! Полыхнули зеленовато-фиолетовые отсветы молний от заливаемых внизу забортной водой распределительных щитов. Погас свет»61. Команда справилась с ситуацией, каждый действовал мгновенно и решительно: «А о страхе даже мысли не было! С самого первого мига развертывающихся событий БОЯТЬСЯ БЫЛО НЕКОГДА! Вместо страха каждый испытывал некое чувство, больше всего похожее на ярость!»62. И в этой истории автор возвращается в конце рассказа к «формуле страха». На этот раз автор резюмирует, что «[с]трах приходит и сковывает человека вовсе не тогда, когда теряется представление об обстановке, а лишь тогда, когда перед лицом опасности, реальной или мнимой, человек НЕ ЗНАЕТ, ЧТО ОН ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ! Только тогда!»63. С этим «животным», по определению автора, страхом смерти или физической боли в опасной ситуации можно справиться, повышая свою готовность к защитным действиям. Гораздо большую проблему он видит, однако, в другой разновидности страха — в страхе перед будущим. Этот страх, согласно автору, тоже можно преодолеть, но он оставляет этот вопрос открытым64.
Во всех трех историях автор размышляет над природой чувства страха, очевидно достаточно серьезно занимавшего его во время службы на подводных лодках. Дискурсивные рамки армейского фольклора, заданные идеалом бесстрашного подводника и режимом нормативной безэмоциональности, соответствующим техническим требованиям корабля, позволяют выражать и рефлектировать чувство страха лишь в тех ситуациях, в которых опасность оказывается мнимой или происшествие заканчивается комической развязкой. Очевидно, в этих ситуациях чувство страха перед опасностью не было позорящим или оскорбительным для чести моряка-подводника. В описании действительно опасных ситуаций автор остается верен предписанному и усвоенному кодексу чести морского офицера, выводя бесстрашие как эмоциональный норматив на первый план — прием и топос, знакомый по произведениям известных маринистов старшего поколения, прошедших войну65.
61 Ковалев, Саксеев, Возвращенные бездной, 135.
62 Там же, 138. Топос «бояться было некогда» встречается и в воспоминаниях летчиков о критических ситуациях. Ср. «Тогда, наяву, камнем летя к земле, я не испытывал страха. Просто на это не было времени», Ю. Иванов, Небо — земля, М. 1960, 32. Цит. по: Лебедев, Личность в экстремальных условиях, 258.
63 Там же.
64 Там же.
65 Ср. Л. Соболев, Морская душа. Рассказы, М.: Высшая школа, 1983. Если в действительно критических ситуациях времен Второй мировой войны совет
Лаборатории «биороботов»: техника и эмоции...
497
Каким образом этот норматив кристаллизовался в быту подводника, наглядно показывает практика расследования аварийных ситуаций на подводных лодках, поскольку табу на выражение страха служило, кроме всего прочего, и защитным механизмом при допросах в «особых отделах», отвечающих за безопасность и контрразведку. Члены личного состава упражнялись при этом в налаженной нарративной технике описания их действий в момент аварийной ситуации: строгое соблюдение предписаний и героическая самоотверженность при выполнении воинского долга — «инстинкт политического самосохранения» срабатывал безукоризненно. Мичман Алексей Кузьмич Ковалев не потерял этот инстинкт лет 35 лет спустя даже в беседе с сыном о столкновении атомохода «К-108» (классификация НАТО Echo П) с американской подводной лодкой «Тотог» (Tautog) в акватории Охотского моря 20 июня 1970 года66. На вопрос Павла Ковалева о действиях экипажа сразу после удара бывший мичман не задумываясь ответил: «Мы все встали и проследовали на боевые посты!» Сын, однако, напомнил Ковалеву, что из опубликованных материалов известно, что сразу после столкновения у лодки был сильный дифферент (продольный крен) на нос, и экипажу было практически невозможно стоять на ногах, а тем более следовать на боевые посты. Позже Ковалев признался, что сильно нервничал, когда лодка стала стремительно погружаться после удара. А команда оправилась после первоначального шока лишь тогда, когда лодка начала выравниваться:
Итак, 20 июня 1970 г. атомная подводная лодка К-108 под командованием капитана 1-го ранга Багдасаряна выполняла отработку курсовых задач в Охотском море. На борту находились ядерные боеприпасы. Мичман Ковалев, старшина команды по обслуживанию главных энергоустановок БЧ-5 [электромеханическая боевая часть. — Е. £.], сменившись с вахты в 04.00, отдыхал в 9-м отсеке в каюте левого борта. Вместе с ним в каюте находилось пять человек. Мичман Ковалев занимал диван второго уровня возле переборки и читал книжку. Около 5 угра раздался сильный удар, от которого он ударился головой о переборку. Погас свет. Но
ским подводникам незнакомо чувство страха, как, например, в рассказе известного мариниста Леонида Соболева «Держись, старшина...» (1942), то в мирное время, не разобравшись в ситуации, подводник может испугаться и «оторопеть» и «всякое здравое рассуждение» потерять, как это описано в отрывке «Загадки техники» из цикла «Рассказы капитана 2-го ранга В. Л. Кирдяги, слышанные от него во время “Великого сидения”» (1967).
66 А. Ковалев, «АПЛ К-108 и столкновение с АПЛ ВМС США “ТОТОГ”», записал беседу Павел Ковалев, 01.10. 2007: http://avtonoinka.oig/kovalev.htm.
498
Екатерина Емельянцева
слышался грохот падающих предметов. (Позже выяснилось, что со штатных мест сорвало прикрепленные к палубе регенерационные установки, а также аппараты ИДА—59 [изолирующие дыхательные аппараты. — Е. Е]) Стало тихо. Придя немного в себя, он сказал: «Все, пи**ец нам, ребята!». Все, кто был в каюте, попытались подняться на ноги. Никакой паники. Но палуба резко накренилась, — лодка с дифферентом на нос стремительно погружалась, — передвигаться на ногах не было никакой возможности, и в наступившей тишине люди поддерживали себя руками, схватившись за что попало, и ждали. Никто больше не произнес ни звука. Сколько продолжалось погружение, оценить было невозможно, но в какой-то момент палуба стала выравниваться, а потом колени почувствовали, что лодка резко пошла на всплытие. И только когда корпус закачался на волнах поверхности моря, когда люди поняли, что будут еще жить, прошло оцепенение от шока. Они выбрались в центральный проход, который едва освещал фонарь аварийного освещения, и, возбужденно матерясь во славу жизни, стали пробираться на свои боевые посты67.
По рассказам бывшего мичмана Ковалева, члены экипажа боялись обсуждать вслух тему риска службы. Несмотря на бодрые партсобрания, несколько человек из офицерского и мичманского состава перевелось на берег, количество случаев «симуляции» перед выходом в море среди подводников срочной службы участилось по всей дивизии.
В отличие от рассказов Саксеева, интервью с Ковалевым ясно дает понять, что рациональное канализирование чувства страха путем лучшей боевой подготовки не имело должного успеха. Подводники нередко брали с собой на лодку иконы, будучи членами партии и даже ее руководящими работниками на подлодке68. Курсирование слухов о мифических подводных волках, американских лодках, якобы предназначенных специально для тарана советских кораблей, также отражает альтернативные пути приспособления к эмоциональной нагрузке на подводной лодке. Очевидно, что на практике «эмоциональное сообщество» на подводной лодке было гораздо сложнее, чем предписывалось нормативным режимом.
67 А. Ковалев, «АПЛ К-108 и столкновение с АПЛ ВМС США “ТОТОГ”», записал беседу Павел Ковалев, 01.10. 2007: http://avtonomka.org/kovalev.htm.
68 Ср. Сенявская, Психология войны в XX веке, 238, 248.
Лаборатории «биороботов»: техника и эмоции...
499
Стабильные формы (константы) и изменения в образе «бесстрашной мужественности» советских подводников
Стабильные формы советского патриотизма и «бесстрашной мужественности» изменяются лишь в произведениях следующего поколения69 подводников, начавших службу в 1970-х годах, таких, например, как Александр Покровский, служивший на подводных лодках с 1976 по 1991 год, и переживших на службе перестройку и распад СССР. Покровский, так же как и его старшие коллеги, широко использует в своих произведениях юмористическую топику армейского фольклора. В то же время он преодолевает целый ряд основных табу подводников и пишет о чувстве страха вне рамок привычной комики или героического пафоса:
У нас идешь по кораблю и думаешь: «Ну вот, ничего не случилось, пока ничего не случилось, хорошо, что ничего не случилось!» А когда случалось? Иногда так случается, что, если сразу начинаешь говорить, заикаешься. И тогда выдохнуть надо, сказать себе пятнадцать раз скороговоркой: «Все будет хорошо!» — и потом уже можно разговаривать. А паника? Самое страшное, что можно придумать. Люди на людей не похожи. Навстречу бегут, и ты принимаешь их на себя. Ты их должен остановить, задержать, иначе всем труба. А они такие сильные, просто беда, они кремальеру в руку толщиной ломают, как спичку, они на бегу, кучей, зарываются в ящики лицом, прячутся, забиваются в щели, они лбом раздвигают трубопроводы, мнут на лице все кости, срывают руками клапаны. А ты схватил лом с аварийного щита и на них с ломом. А они ударов не чувствуют, понимаешь ты это, не чувствуют? И тогда приходится орать, так орать, что не знаешь, откуда у тебя только голос появляется70.
69 О поколении как категории социологического и исторического анализа см. К. Mannheim, «Das Problem der Generation», Id., Wissenssoziologie, Auswahl aus dem Werk, ed. K. Wolff, Neuwied/Berlin: Luchterhand, 1964. В историографии по советскому периоду эта категория стала широко применяться лишь в последнее время: A. Yurchak, Everything Was Forever, Until It was No More. The Last Soviet Generation, Princeton UP, 2006; Russia’s Sputnik Generation. Soviet Baby Boomers Talk about Their Lives, ed. D. Raleigh, Bloomington: Indiana UP, 2006; Generations in Twentieth-Century Europe, ed. S. Lovell, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007. О поколениях в военной историографии см. Е. Сенявская, 1941—1945. Фронтовое поколение. Историческо-психологическое исследование. М.: Ин-т российской истории РАН, 1995; R. Reese, The Soviet Military Experience: A History of the Soviet Army, 1917—1991. Warfare and History, N.Y.: Routledge, 2000. Ср. также W. Odom, The Collapse of the Soviet Military, New Haven: Yale UP, 1998.
70 Покровский, «Депрессия?» (2001), http://rasstrel.ru/newl3.htm.
500
Екатерина Емельянцева
Покровский касается и проблемы неуставных отношений, ранее фигурировавших в произведениях подводников крайне редко и только в юмористических тонах71.
В отличие от своих предшественников, Покровский уже не старается сохранять дискурсивные рамки героического самопожертвования подводников в ракурсе советского патриотизма и представлять «экипажное братство» на почве советского патриотизма72. Эту основу составляют здесь лишь неотъемлемые для военного союза поведенческие нормы так называемого «мужского союза» (Manneibund), в данном случае уже не окрашенные в первую очередь риторикой «холодной войны» и официального патриотизма73. Именно эта составляющая остается константой в представлениях подводников о самих себе. Однако образ мужчины и герметичная концепция мужественности у Покровского нарушены: мужчина может быть не только «бесстрашным» и не только «патриотичным».
Заключение
Рассмотренные произведения позволяют проследить, каким образом подводники рефлектировали режим нормативной безэмоциональности, предусматривавшийся на атомных подводных лодках. Возрастающая технизация повседневной службы и быта требовала полного контроля над эмоциями. Утопия «биороботов», однако, не реализовалась. На практике эта эмоциональная установка осуществлялась только на допросах в «особых отделах» и в мемуарной литературе. В особенности произведения первого поколения подводников, служивших на атомоходах в 1950—1960-х годах, остаются верны герметичному топосу «бесстрашной мужественности» и советского патриотизма. Чувство страха в ситуациях боевой тревоги остается при этом табу. Однако «эмоциональная работа», связанная с этим чувством, происходила в нескольких направлениях — путем повторения нарративов, соответствующих норме, и путем поиска альтернатив, в том числе в религии. «Эмоциональное
71 Покровский, «Скороговорки о смерти и всякое такое про жизнь» (2001), http://rasstrel.ru/newl3.htm.
72 Ср. Сенявская, Психология войны в XXвеке, 130—131.
73 О концепции Mannerbund ср. Mannerbunde — Mannerbande: Zur Rolle des Mannes im Kulturvergleich, ed. K. Vogler, Koln, Rautenstrauch-Joest-Museum, 1990; M. Desmond, The soccer tribe, London: Cape, 1981. Эта концепция близка во многих аспектах концепции «товарищества» (Kameradschaft), использовавшейся в историографии по Второй мировой войне. См. Th. Kiihne, Kameradschaft. Die Soldaten des nationalisoftalistischen Krieges und das 20. Jahrhundert, Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2006; Merridale, Ivan s War. The Red Army 1939—1945.
Лаборатории «биороботов»: техника и эмоции...501
сообщество» экипажа подводной лодки было организовано сложнее нормативного «эмоционального режима».
Изменения в образе «бесстрашной мужественности» наблюдаются лишь в произведениях подводников второго поколения, начавших службу в 1970-е годы и переживших распад Советского Союза на службе. Дискурсивные рамки героического самопожертвования и герметичная концепция мужественности здесь уже нарушены. Основной константой и связующим звеном с предшествующими поколениями остается лишь «экипажное братство», однако уже не так однозначно окрашенное риторикой патриотизма.
ekaterina.emeliantseva@access.uzh.ch
БИБЛИОГРАФИЯ
История и эмоции
An Emotional History of the United States, ed. P. Stearns, J. Lewis, NYU Press, 1998.
Anger's Past: The Social Uses of an Emotion in the Middle Ages, ed. B. Rosenwein, Ithaca, NY: Cornell UP, 1998.
BOURKE, Joanna, Fear: A Cultural History, London: Virago, 2005.
— «Fear and Anxiety: Writing About Emotion in Modern History», History Workshop Journal 1 (2003).
— «The Emotions at War: Fear and the British and American Military, 1914—1945», Historical Research 74 (2001).
CORBIN, Alain, Time, Desire and Horror: Towards a History of the Senses, Cambridge: Polity, 1995.
CORRIGAN, John, «Introduction», Religion and Emotion: Approaches and Interpretations, ed. J. Corrigan, N.Y: Oxford UP, 2004.
DELUMEAU, Jean, La Peuren Occident, XIVе — XVIIIе siecles. Une cite assiёgёe, Paris: Fayard, 1978.
— Leрёскё et la peur. La culpabilisation en Occident (XIIIе — XVIIIе siecle), Paris: Fayard, 1983; Ж. Делюмо, Грех и страх: формирование чувства вины в цивилизации Запада XLLL—XVLLL веков, Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2003.
DIXON, Thomas, From Passions to Emotions: The Creation of a Secular Psychological Category, Cambridge: Cambridge UP, 2003.
ELIAS, Norbert, Uber den Prozefi der Zivilisation: Soziogenetische und psycho-genetische Untersuchungen, Basel: Haus zum Falken, 1939; Bern: Francke, 1969; Id., The Civilizing Process, tr. E. Jephcott, N.Y: Urizen Books, 1978.
FARGE, Arlette, «The Honor and Secrecy of Families», A History of Private Life, ed. Ph. Aries, G. Duby, vol. Ill: Passions of the Renaissance, ed. R. Chartier, tr. A. Goldhammer, Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard UP, 1989.
FEBVRE, Lucien, «La sensibilite et 1’histoire. Comment reconstituer la vie affective d’autrefois»; Л. Февр, «Чувствительность и история»; Он же, Бои за историю, М.: Наука, 1991.
FREVERT, Ute, «Angst vor Gefiihlen? Die Geschichtsmachtigkeit der Emo-tionen im 20. Jahrhundert», Perspektiven der Gesellschaftsgeschichte, ed. P. Nolte et al., Miinchen: Beck, 2000.
— «Gefiihle um 1800. Begriffe und Signaturen», Kleist-Jahrbuch 2008/2009.
Библиография
503
GAY, Peter, The Bourgeois Experience: Victoria to Freud, in 5 vols, N.Y: Oxford UP, 1984-1998.
«Geschichte der Gefuhle», Geschichte und Gesellschaft 35 (2009).
KESSEL, Martina, Langeweile. Zum Umgang mit Zeit und GefUhlen in Deutschland vom spaten 18. bis zum friihen 20. Jahrhundert, Gottingen: Wallstein, 2001.
KESSEL, «Gefuhle und Geschichtswissenschaft», Emotionen und Sozialtheorie: Disziplinare Ansatze, ed. R. Schiitzeichel, Fr.a.M.: Campus, 2006.
LAQUEUR, Walter, «Fin-de-sidcle: Once More with Feeling», Journal of Contemporary History 31 (1996).
LEYS, Ruth, From Guilt to Shame: Auschwitz and After, Princeton UP, 2007.
LOEWENBERG, Peter, «Emotion und Subjektivitat. Desiderata dergegenwar-tigen Geschichtswissenschaft aus psychoanalytischer Perspektive», Perspektiven der Gesellschaftsgeschichte, ed. P. Nolte et al., Miinchen: Beck, 2000.
MEDICK, Hans, SABEAN, David Warren, «Interest and Emotion in Family and Kinship Studies: A Critique of Social History and Anthropology», Interest and Emotion: Essays on the Study of Family and Kinship, ed. Medick, Sabean, Cambridge: Cambridge UP, 1984.
PINCH, Adela, «Emotion and History», Comparative Studies in Society and History 1 (1995).
PLAMPER, Jan, «The History of Emotions: An Interview with William Reddy, Barbara Rosenwein, and Peter Steams», History and Theory 49 (2010). — Geschichte und Gefilhl: Grundlagen der Emotionsgeschichte, Miinchen: Siedler, 2011 (в печати).
POLLOCK, Linda, «Honor, Gender, and Reconciliation in Elite Culture, 1570— 1700», Journal of British Studies 46 (2007).
REDDY, William, The Invisible Code: Honor and Sentiment in Postrevolutionary France, 1814—1848, Berkeley: Univ, of California Press, 1997.
— The Navigation of Feeling: A Framework for the History of Emotions, Cambridge: Cambridge UP, 2001.
— «Against Constructionism: The Historical Ethnography of Emotions», Current Anthropology 3 (1997).
— «Emotional Liberty: Politics and History in the Anthropology of Emotions», Cultural Anthropology 14 (1999).
— «Sentimentalism and Its Erasure: The Role of Emotions in the Era of the French Revolution», Journal of Modern History 1 (2000).
ROSENWEIN, Barbara, Emotional Communities in the Early Middle Ages, Ithaca, NY: Cornell UP, 2006.
— «Worrying about Emotions in History», American Historical Review 3 (2002).
SAXER, Daniela, «Mit Gefiihl handeln. Ansatze der Emotionsgeschichte», Traverse 2 (2007).
SMAIL, Daniel, On Deep History and the Brain, Berkeley: Univ, of California Press, 2008.
504
Библиография
STEARNS, Peter, STEARNS, Carol, Anger: The Struggle for Emotional Control in America's History, Univ, of Chicago Press, 1986.
— «Emotionology: Clarifying the History of Emotions and Emotional Standards», American Historical Review 90 (1985).
STEARNS, Peter, American Cool: Constructing a Twentieth-Century Emotional Style, N.Y.: NYU Press, 1994.
— American Fear: The Causes and Consequences of High Anxiety, N.Y: Routledge, 2006.
— Battleground of Desire: The Struggle for Self-Control in Modern America, N.Y: NYU Press, 1999.
— «Fear and Contemporary History», Journal of Social History 40 (2006).
ZELDIN, Theodor, An Intimate History of Humanity, N.Y: HarperCollins, 1994.
— France, 1848—1945, vol. 1: Ambition, Love, Oxford: Oxford UP, 21979; vol. 2: Intellect, Taste, Anxiety, Oxford: Clarendon Press, 1977.
— «Personal History and the History of Emotions», Journal of Social History 3 (1982).
Эмоции в истории России
ГУРЕВИЧ, Арон, История историка, М.: РОССПЭН, 2004.
История и психология, под ред. Б. Поршнева и Л. Анциферовой, М.: Наука, 1971.
ЛАПИН, Владимир, Петербург: Запахи и звуки, СПб.: Европейский Дом, 2007.
МАТВЕЕВА, Сусанна, ШЛЯПЕНТОХ, Владимир, Страхи в России в прошлом и настоящем, Новосибирск: Сибирский Хронограф, 2000.
ПОРШНЕВ, Борис, Социальная психология и история, М.: Наука, 1966.
ПУШКАРЕВА, Наталья, Частная жизнь русской женщины: невеста, жена, любовница (X— начало XIX века), М.: Ладомир, 1997.
Человек в мире чувств. Очерки по истории частной жизни в Европе и некоторых странах Азии до начала нового времени, под ред. Ю. Бессмертного, М.: РГГУ, 2000.
ШЛЯПЕНТОХ, Владимир, Страхи и дружба в нашем тоталитарном прошлом, СПб.: Красная Звезда, 2003.
ALEXOPOULOS, Golfo, «Soviet Citizenship, More or Less: Rights, Emotions, and States of Civic Belonging», Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History 3 (2006).
FITZPATRICK, Sheila, «Happiness and Toska: An Essay in the History of Emotions in Pre-War Soviet Russia», Australian Journal of Politics & History 3 (2004).
KELLY, Catriona, Refining Russia. Advice Literature, Polite Culture, and Gender from Catherine to Yeltsin, Oxford: Oxford UP, 2001.
Библиография
505
KOLLMANN, Nancy, By Honor Bound: State and Society in Early Modern Russia, Ithaca, NY: Cornell UP, 1999; Коллманн, H., Соединенные честью. Государство и общество в России раннего нового времени, пер. А. Каменского, М.: Древлехранилище, 2001.
KRAUS, Alexander, «Erlesene Gefuhlswelten. Emotionale Wirklichkeiten des Andrej Timofeevi£ Bolotov», Vom Wir zum Ich. Individuum und Autobio-graphik im Zarenreich, ed. J. Herzberg, Ch. Schmidt, Koln: Bohlau, 2007.
KRYLOVA, Anna, «Beyond the Spontaneity-Consciousness Paradigm: “Class Instinct” as a Promising Category of Historical Analysis», Slavic Review 1 (2003).
MARKWICK, Roger, «Cultural History under Khrushchev and Brezhnev: From Social Psychology to Mentalites», Russian Review 2 (2006).
MARTIN, Alexander, «Sewage and the City: Filth, Smell, and Representations of Urban Life in Moscow, 1770—1880», Russian Review 2 (2008).
PESMAN, Dale, Russia and Soul: An Exploration, Ithaca, NY: Cornell UP, 2000. RU STEM EYER, Angela, Dissens und Ehre: Majestdtsverbrechen in Russland (1600—1800), Wiesbaden: Harrassowitz, 2006.
SCHIERLE, Ingrid, «Patriotism and Emotions: Love of the Fatherland in Catherinian Russia», Ab Imperio 3 (2009).
STEINBERG, Mark, Proletarian Imagination: Self, Modernity, and the Sacred in Russia, 1910—1925, Ithaca, NY: Cornell UP, 2002.
— «Melancholy and Modernity: Emotions and Social Life in Russia Between the Revolutions», Journal of Social History 41 (2008).
THURSTON, Robert, «Fear and Belief in the USSR’s “Great Terror”: Response to Arrest, 1935—1939», Slavic Review 45 (1986).
von KLIMO, Arpdd, ROLF, Malte, «Rausch und Diktatur: Emotionen, Erfah-rungen und Inszenierungen totalitarer Herrschaft», Rausch und Diktatur: Inszenierung, Mobilisierung und Kontrolle in totalitdren Systemen, ed. von Klimo, Rolf, Fr.a.M.: Campus, 2006, 11—43.
YOUNG, Glennys, «Emotions, Contentious Politics, and Empire: Some Thoughts about the Soviet Case», Ab Imperio 2 (2007).
Эмоции в литературе, театре, кино
Cognitive Poetics in Practice, ed. J. Gavins, G. Stehen, London: Routledge, 2003. Disgust: Theory and History of a Strong Sensation, tr. H. Eiland, J. Golb, Albany: SUNY, 2003.
Emotions and Cultural Change — Gefiihle und kultureller Wandel, ed. B. Krause, U. Scheck, Tiibingen: StaufTenberg, 2006.
GORDON, Avery, Ghostly Matters: Haunting and the Sociological Imagination, Minneapolis: Univ, of Minnesota Press, 1997.
GROSS, Daniel, The Secret History of Emotion: From Aristotle's «Rhetoric» to Modern Brain Science, Univ, of Chicago Press, 2006.
506
Библиография
HEINZ, Andreas, «Irre Liiste und lustloses Irren. Konstruktionen von Lust und Begierde im 20. Jahrhundert», Philosophie der Freude, ed. D. Schottker, Leipzig: Reclam, 2003.
KAPPELHOFF, Hermann, Matrix der Gefuhle. Das Kino, das Melodrama und das Theater der Empfindsamkeit, Berlin: Vorwerk 8, 2004.
KRISTEVA, Julia, Black Sun. Depression and Melancholia, N.Y.: Columbia UP, 1989.
— Powers of Horror: An Essay on Abjection, tr. L. Roudiez, N.Y.: Columbia UP, 1982; Кристева, Ю., Силы ужаса: эссе об отвращении, СПб.: Але-тейя, 2003.
Kulturen der Leidenschaften — Leidenschaften in den Kulturen, ed. D. Kimmich, Sch. Schahadat, special edition of arcadia, 2009.
MENNINGHAUS, Winfried, Ekel. Theorieund Geschichte einerstarken Empfln-dung, Fr.a.M.: Suhrkamp, 1999.
MEYER-SICKENDIEK, Burkhard, Affektpoetik. Eine Kulturgeschichte literari-scher Emotionen, Wiirzburg: Konighausen & Neumann, 2005.
MILLER, William Ian, The Anatomy of Disgust, Cambridge, Mass.: Harvard UP, 1997.
Nahe schaffen, Abstand halten. Zur Geschichte der Intimitat in der russischen Kultur, ed. N. Grigor’eva, Sch. Schahadat, I. Smirnov, Wien, Miinchen: Wiener Slawistischer Almanach 62 (2005).
NGAI, Sianne, Ugly Feelings, Cambridge, Mass.: Harvard UP, 2005.
Pathos. Konturen eines kulturwissenschaftlichen Grundbegriffs, ed. K. Busch, I. Darmann, Bielefeld: transcript, 2007.
Representing the Passions: Histories, Bodies, Visions, ed. R. Meyers, Los Angeles: Getty Research Institute, 2003.
STOCKWELL, Peter, Cognitive Poetics. An Introduction. London: Routledge, 2002.
TH RAILKILL, Jane, Affecting Fictions: Mind, Body, and Emotion in American Literary Realism, Cambridge, Mass.: Harvard UP, 2007.
Transformationen des Pathos, ed. C. Zumbusch, Berlin: Akademie Verlag, 2008.
WILSON, Robert Rawdon,77ze Hydra's Tale: Imagining Disgust, Edmonton: Univ, of Alberta Press, 2002.
WIN KO, Simone, Kodierte Gefuhle. Zu einer Poetik der Emotionen in lyrischen und poetologischen Texten um 1900, Berlin: E. Schmidt, 2003.
Эмоции в литературе, театре, кино в России
ВОРКАЧЕВ, Сергей, Любовь как лингвокультурный концепт, М.: Гнозис, 2007.
СМИРНОВ, Игорь, Психодиахронологика. Психоистория русской литературы от романтизма до наших дней, М.: НЛО, 1994.
Библиография
507
Лингвистика и эмоции
WIERZBICKA, Anna, Emotions across Languages and Cultures, Cambridge UP, 1999; Вежбицкая, А., Сопоставление культур через посредство лексики и прагматики, М.: Языки славянской культуры, 2001.
— Semantics, Culture and Cognition. Universal Human Concepts in Culture Specific Configurations, N.Y: Oxford UP, 1992.
Этнография и эмоции
ABU-LUGHOD, Lila, Veiled Sentiments: Honor and Poetry in a Bedouin Society, Berkeley: Univ, of California Press, 1986.
Biocultural Approaches to the Emotions, ed. A. Hinton, Cambridge UP, 1999.
Language and the Politics of Emotion, ed C. Lutz, L. Abu-Lughod, Cambridge UP, 1990.
LUTZ, Catherine A., Unnatural Emotions: Everyday Sentiments on a Micronesian Atoll and their Challenge to Western Theory, Univ, of Chicago Press, 1988.
ROSALDO, Michelle, «Toward an anthropology of self and feeling», Culture Theory. Essays on Mind, Self and Emotion, ed. R. Schweder, R. Le Vine, Cambridge UP, 1984.
Философия и эмоции
BEN-ZE’EV, Aaron, The Subtlety of Emotions, Cambridge, Mass.: A Bradford Book, MIT, 2000.
de SOUSA, Ronald, The Rationality of Emotion, Cambridge, Mass.: MIT, 1987. DORING, Sabine, «Explaining Action by Emotion», The Philosophical Quarterly 53 (2003).
— «Seeing What to Do: Affective Perception and Rational Motivation», Dialectica 61 (2007).
ELSTER, Jon, Alchemies of the Mind, Cambridge UP, 1999.
— Strong Feeling: Emotion, Addiction, and Human Behavior, Cambridge, Mass.: MIT, 1999.
Emotional Experience, ed. S. Doring, R. Reisenzein, special edition of Emotion Review 1 (2009).
ENG ELEN, Eva-Maria, Gefuhle, Stuttgart: Reclam, 2007.
GAUT, Berys, Art, Emotion and Ethics, Oxford: Oxford UP, 2007.
NUSSBAUM, Hiding from Humanity: Disgust, Shame, and the Law, Princeton UP, 2004.
— Upheavals of Thought: The Intelligence of Emotions, Cambridge UP, 2001. SOLOMON, Robert, A Passion for Justice: Emotions and the Origins of the Social Contract, Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1990.
508
Библиография
Социология и эмоции
AHMED, Sara, The Cultural Politics of Emotions, N.Y.: Routledge, 2004.
HOCHSCHILD, Arlie Russell, The Managed Heart. Commercialization of Human Feeling, Berkeley: Univ, of California Press, 1983.
— «Emotion Work, Feeling Rules, and Social Structure», American Journal of Sociology 85 (1979).
ILLOUZ, Eva, Consuming the Romantic Utopia. Love and the Cultural Contradictions of Capitalism, Berkeley: Univ, of California Press, 1997.
LUHMANN, Niklas, Liebe als Passion. Zur Codierung der Intimitat, Fr.a.M.: Suhrkamp, 1982.
The Affective Turn: Theorizing the Social, ed. P. Clough, Durham: Duke UP, 2007. TURNER, Jonathan, Human Emotions. A Sociological Theory, London: Routledge, 2007.
— «Emotions and Social Structure: Toward A General Sociological Theory», Social Structure and Emotion, ed. J. Clay-Warner, D. Robinson, San Diego: Academic Press, 2008.
Политология и эмоции
AMINZADE, Ronald, MCADAM, Doug, «Emotions and Contentious Politics», Mobilization 7 (2002).
CACIOPPO, John, VISSER, Penny, «Political Psychology and Social Neuroscience: Strange Bedfellows or Comrades in Arms?», Political Psychology 24 (2003).
EMIRBAYER, Mustafa, GOLDBERG, Chad, «Pragmatism, Bourdieu, and Collective Emotions in Contentious Politics», Theory and Society 34 (2005). Fears in Post-Communist Societies. A Comparative Perspective, ed. V. Shlapentokh, E. Shiraev, N.Y: Palgrave, 2002.
GOETZ, Thomas, FRENZEL, Anne, PEKRUN, Reinhard, «The Domain Specificity of Academic Emotional Experiences», The Journal of Experimental Education 75 (2006).
MARCUS, George, MACKUEN, Michael, «Anxiety, Enthusiasm, and the Vote: The Emotional Underpinnings of Learning and Involvement During Presidential Campaigns», American Political Science Review 87 (1993).
MCDERMOTT, Rose, «The Feeling of Rationality: The Meaning of Neuroscience for Political Science», Perspectives on Politics 2 (2004).
Oxford Handbook of Political Psychology, ed. D. Sears, L. Huddy, R. Jervis, N.Y: Oxford UP, 2003.
ROBIN, Corey, Fear: The History of a Political Idea, N.Y: Oxford UP 2004. The International Spread of Ethnic Conflict: Fear, Diffusion, and Escalation, ed. D. Lake, D. Rothchild, Princeton UP, 1998.
Библиография
509
Психология и естественные науки об эмоциях
DAMASIO, Antonio, Descartes' Error: Emotion, Reason, and the Human Brain, N.Y.: Putnam, 1994.
— Looking for Spinoza: Joy, Sorrow, and the Feeling Brain, Orlando: Harcourt, 2003.
— The Feeling of what Happens: Body and Emotion in the Making of Consciousness, N.Y: Harcourt Brace, 1999.
EKMAN, Paul, Emotions Revealed: Recognizing Faces and Feelings to Improve Communication and Emotional Life, N.Y: Times Books, 2003.
Emotion and Culture. Empirical Studies of Mutual Influence, ed. Sh. Kitayama, H. Markus, Washington DC: American Psychological Association, 1994.
Feelings and Emotions: The Amsterdam Symposium, ed. A. Manstead, N. Frijda,
A. Fischer, Cambridge UP, 2004.
FRIJDA, Nico, The Emotions, Cambridge UP, 1986.
— «Moods, Emotion Episodes, and Emotions», Handbook of Emotions, ed.
M. Lewis, J. Haviland, N.Y: Guildord, 1993.
— «The Laws of Emotion», American Psychologist 43 (1988).
KAGAN, Jerome, What Is Emotion? History, Measures, and Meanings, New Haven: Yale UP, 2007.
KANDEL, Erik, «From Metapsychology to Molecular Biology: Explorations Into the Nature of Anxiety», American Journal of Psychiatry 10 (1983).
LANE, Christopher, Shyness: How Normal Behavior Became a Sickness, New Haven: Yale UP, 2007.
LEDOUX, Joseph, The Emotional Brain: The Mysterious Underpinnings of Emotional Life, N.Y: Simon and Schuster, 1998.
OATLEY, Keith, Best Laid Schemes: The Psychology of Emotions, Cambridge UP, 1992.
OATLEY, Keith, JENKINS, Jennifer, Understanding Emotions, Cambridge, Mass.: Blackwell, 1996.
PAN KS EPP, Jaak, Affective Neuroscience: The Foundations of Human and Animal Emotions, N.Y: Oxford UP, 1998.
ROTH, Gerhard, Fiihlen, Denken, Handeln: Wie das Gehirn unser Verhalten steuert, Fr.a.M.: Suhrkamp, 2005.
SINGER, Wolf, Der Beobachter im Gehirn: Essays zur Hirnforschung, Fr.a.M.: Suhrkamp, 2002.
The Nature of Emotion: Fundamental Questions, ed. P. Ekman, R. Davidson, N.Y: Oxford UP, 1994.
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие............................................. 5
Введение I. Ян Плампер. Эмоции в русской истории........11
Введение II. Шамма Шахадат. Психологизм, любовь,
отвращение, разум: эмоции с точки зрения литературоведения....................................37
Раздел I. Эмоциональные сообщества
Катриона Келли. Право на эмоции, правильные эмоции: управление чувствами в России после эпохи Просвещения.51
Рональд Григор Суни. Аффективные сообщества: структура государства и нации в Российской империи.............78
Раздел II. Воспитание чувств
Андрей Зорин. Импорт чувств: к истории эмоциональной европеизации русского дворянства....................117
Ольга Купцова. «Экзажерация чувств»: особенности эмоциональных реакций русской театральной публики 1830—1840-х годов.................................. 131
Ирина Попова. О поэтике «подробностей чувства» («Станционный смотритель» А С. Пушкина).............144
Вера Дубина. Воспитание скукой: обращение с эмоциями в русском дворянском образовании середины XIX века. 151
Юлия Сафронова. Смерть государя. 1 марта 1881 года: эмоциональный срез..................................166
Раздел III. Эмоциональный fin-de-siecle
Алина Орлова. Эмоции в языке русской художественной критики (1890—1910-е годы) .........................187
Марк Стейнберг. Меланхолия Нового времени: дискурс о социальных эмоциях между двумя революциями........202
Шамма Шахадат. Русская киномелодрама между Серебряным веком и авангардом..................................227
Содержание
511
Раздел IV. Упоение — и не только в бою
Игорь Нарский, Юлия Хмелевская. «Упоение» бунтом в русской революции (на примере разгромов винных складов
в России в 1917 году)................................259
Ирина Сироткина. Пляска и экстаз в России от Серебряного века до конца 1920-х годов...........................282
Роберт Эдельман. Романтики-неудачники. «Спартак» в золотой век советского футбола (1945—1952).................. 306
Раздел V. Оскорбление в лучших чувствах
Ольга Глаголева. Оскорбленная добродетель: бесчестье и обида в эмоциональном мире русской провинциальной дворянки XVIII века .................................329
Ольга Матич. Поэтика отвращения в «Петербурге» Андрея Белого........................................353
Ади Кунцман. «Омерзительные существа»: сексуальная политика отвращения в мемуарах узников ГУЛАГа.................380
Раздел VI. Эмоции на грани
Ян Плампер. Страх: солдаты и эмоции в истории военной психологии начала XX века............................401
Магали Делалой. Эмоции в микромире Сталина: случай
Николая Бухарина (1937—1938). Типы большевистской мужественности и практика эмоций ....................431
Гленнис Янг. Эмоции, политика оспаривания и общественная память: из истории новочеркасской трагедии...........457
Екатерина Емельянцева. Лаборатории «биороботов»: техника и эмоции на атомной подводной лодке (1960—1980-е годы) .. 480
Библиография.............................................502
российская империя чувств
Подходы к культурной истории эмоций
Редактор
М. Маяцкий Дизайнер О. Смирнов Корректор Л. Морозова Компьютерная верстка
С. Пчелинцев
Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2;
953000 — книги, брошюры
ООО Редакция журнала «НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ» Адрес издательства:
129626, Москва, абонентский ящик 55
Тел.: (495) 976-47-88 факс: (495) 977-08-28 e-mail: real@nlo.magazine.ru Интернет: http://www.nlobooks.ru
В оформлении обложки использованы: 1-я сторонка: В. Перов «Тройка» (фрагмент) 4-я сторонка: В. Маковский «На бульваре».
Формат 60x90 716. Бумага офсетная № 1.
Печ. л. 32. Тираж 1000. Заказ № 828 Отпечатано в ОАО «Типография “Новости”» 105005, г. Москва, ул. Фр. Энгельса, 46