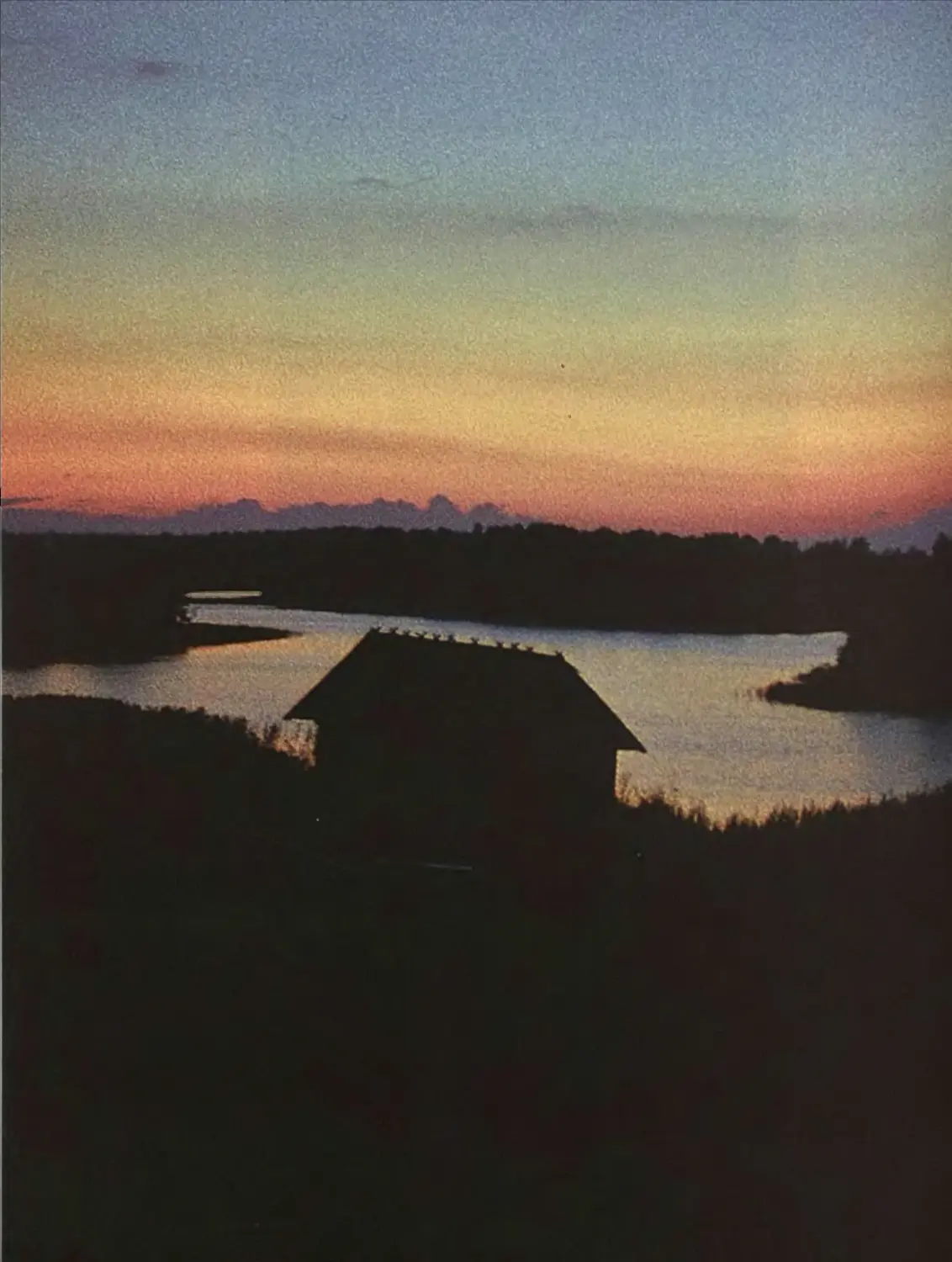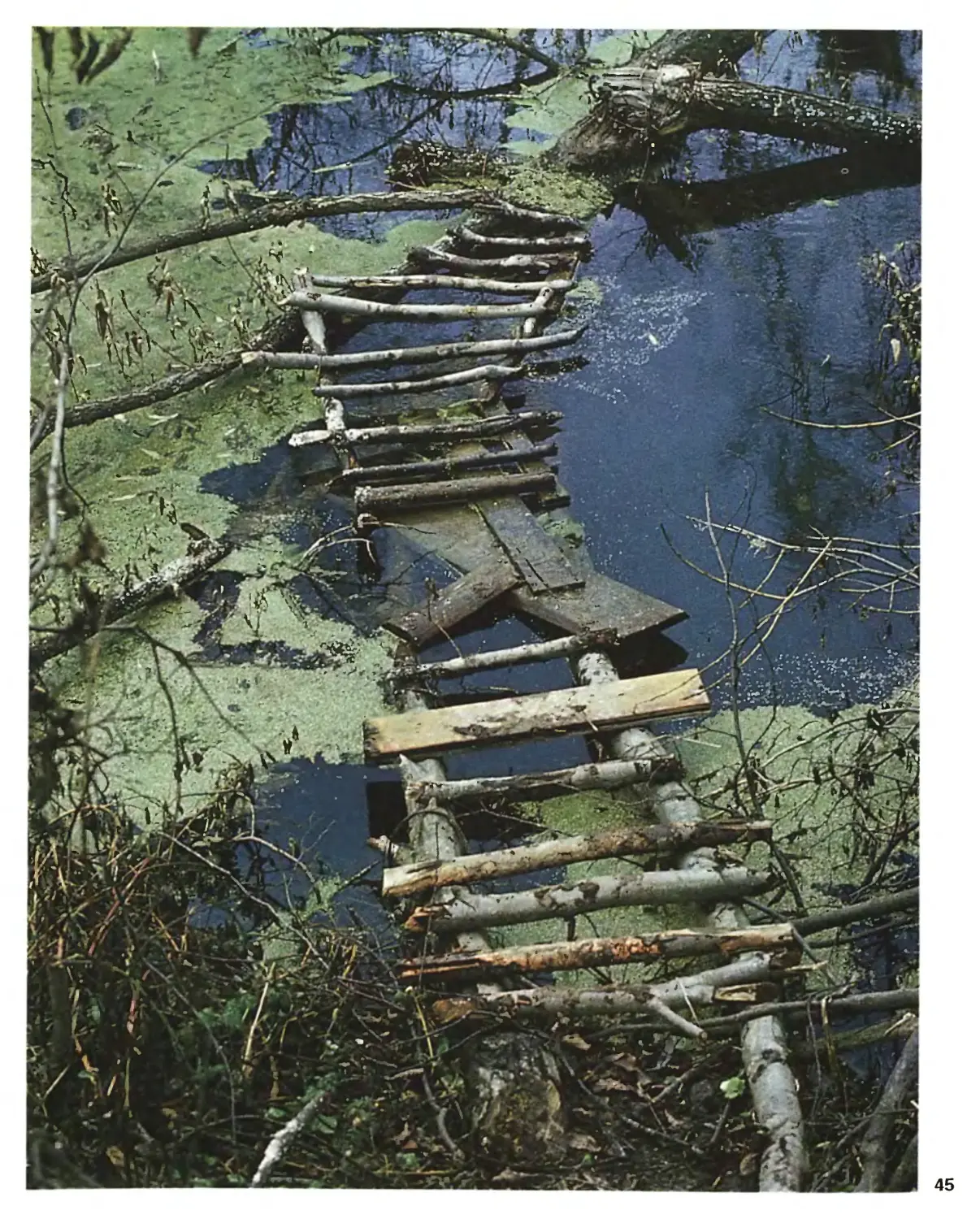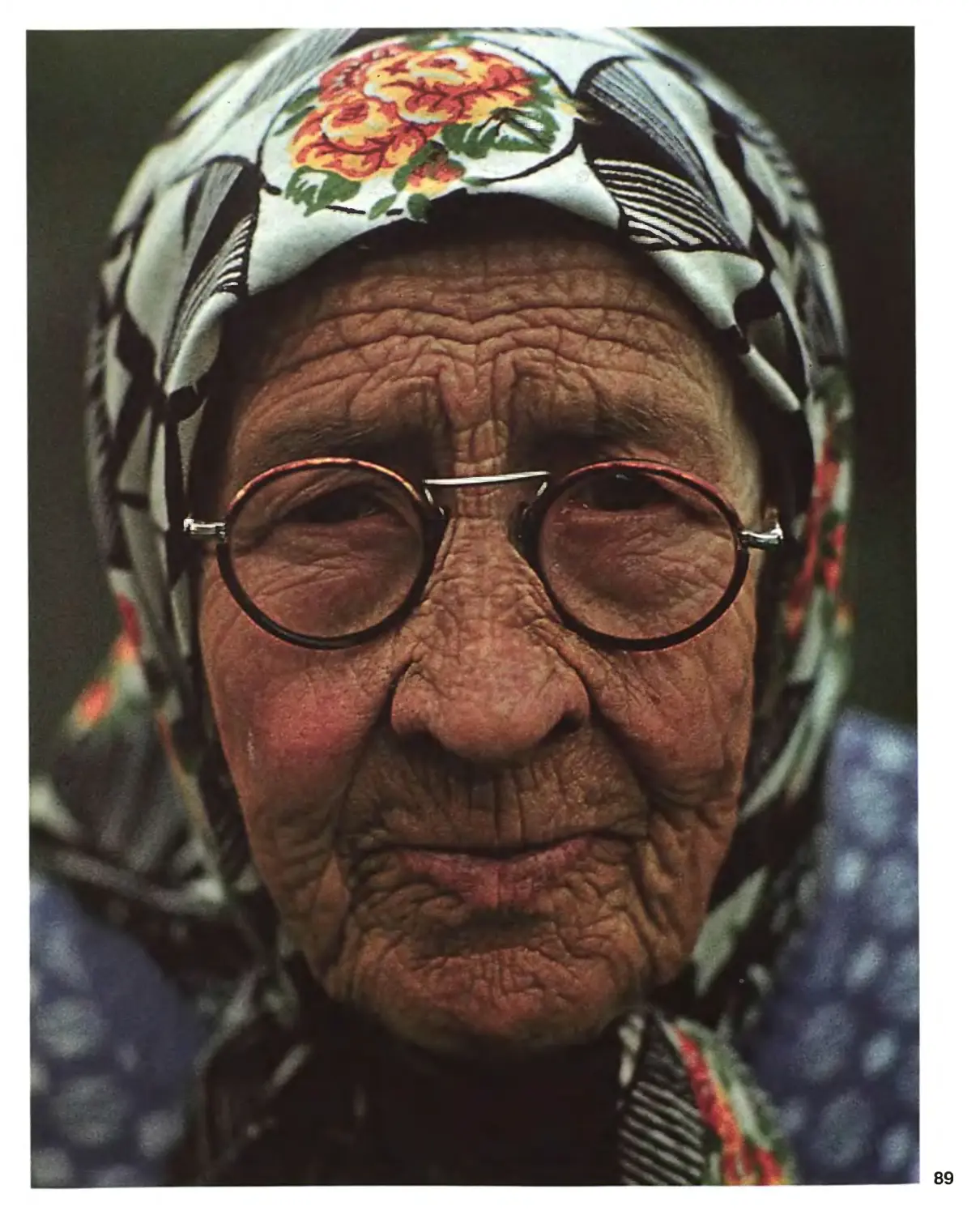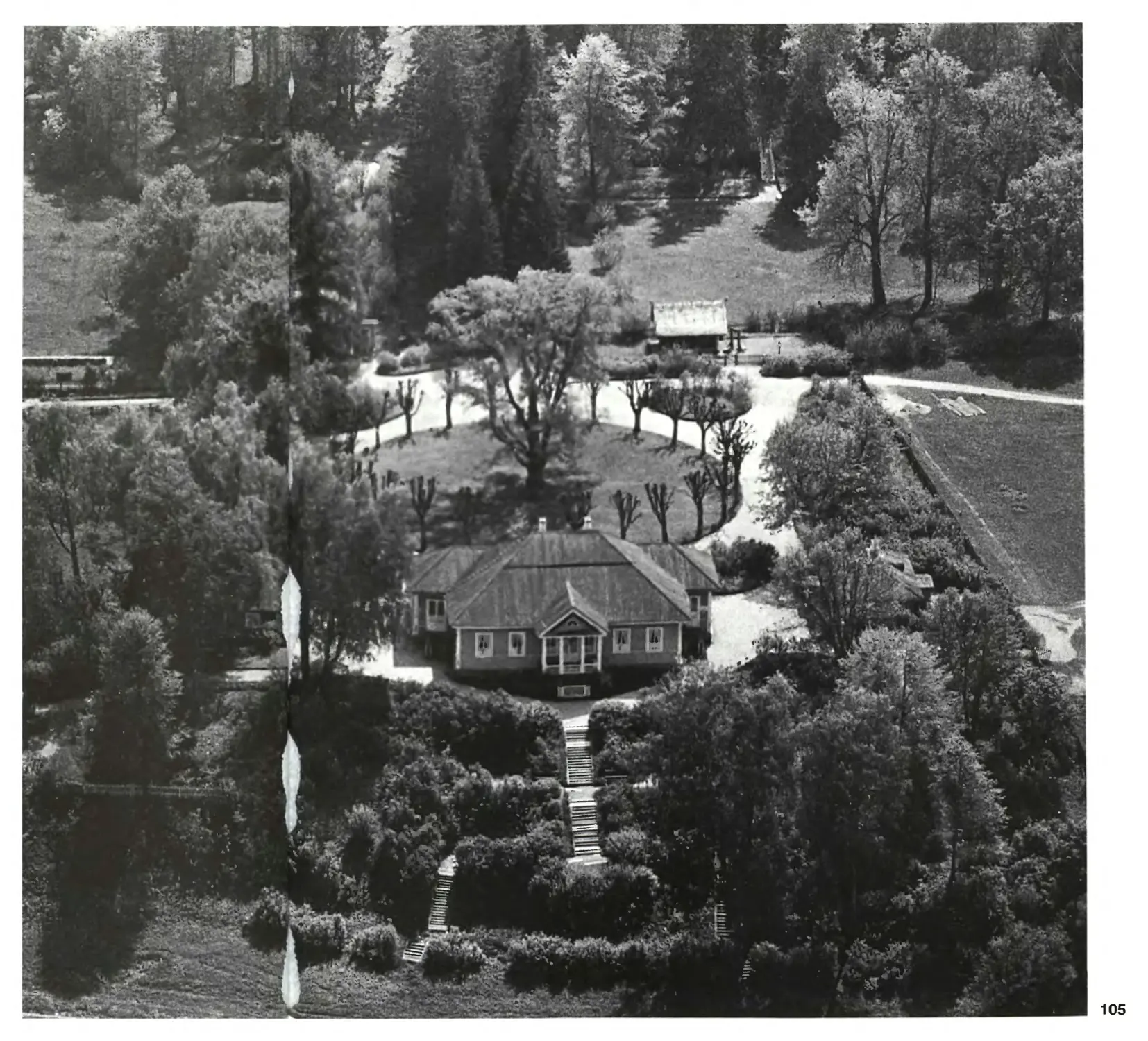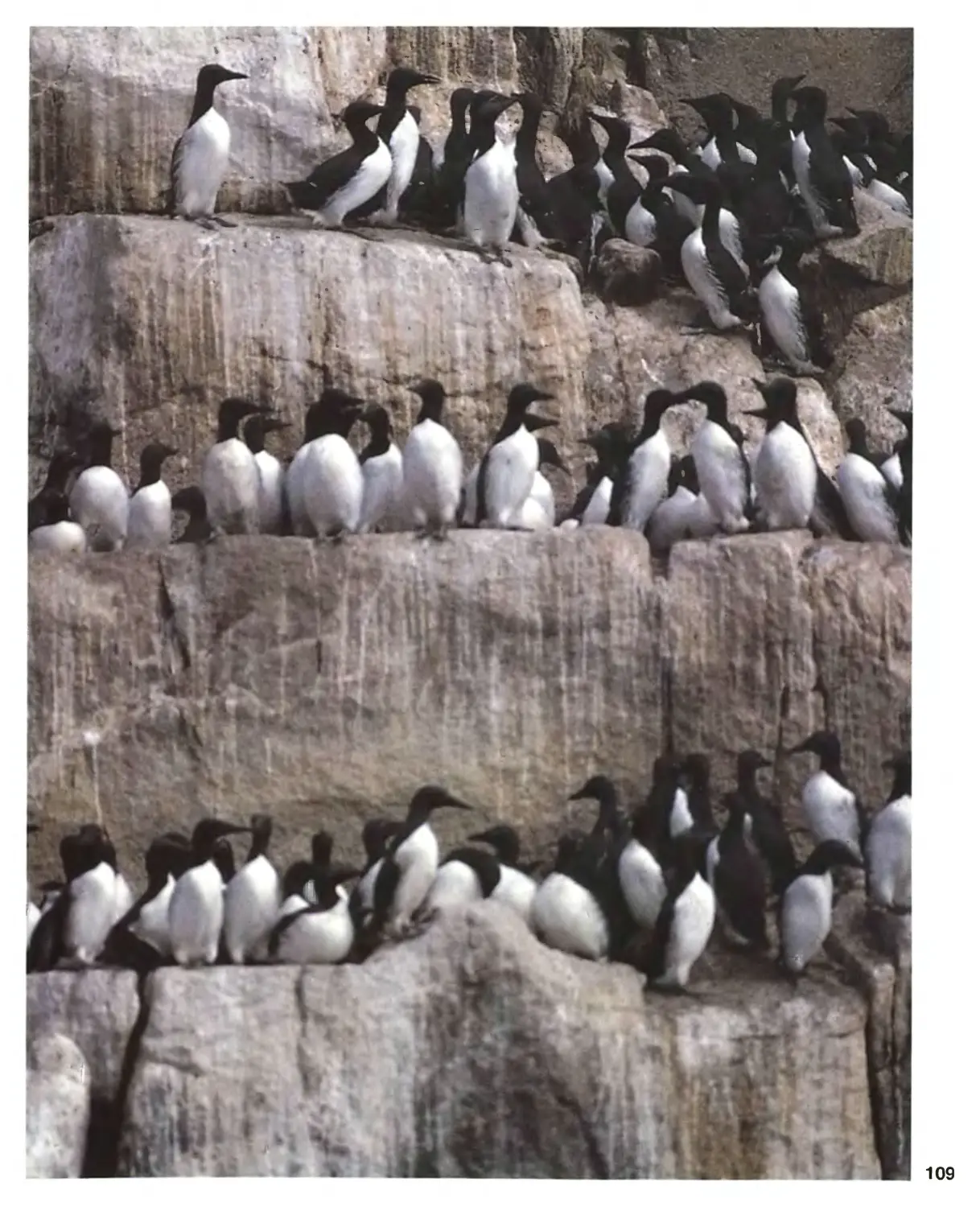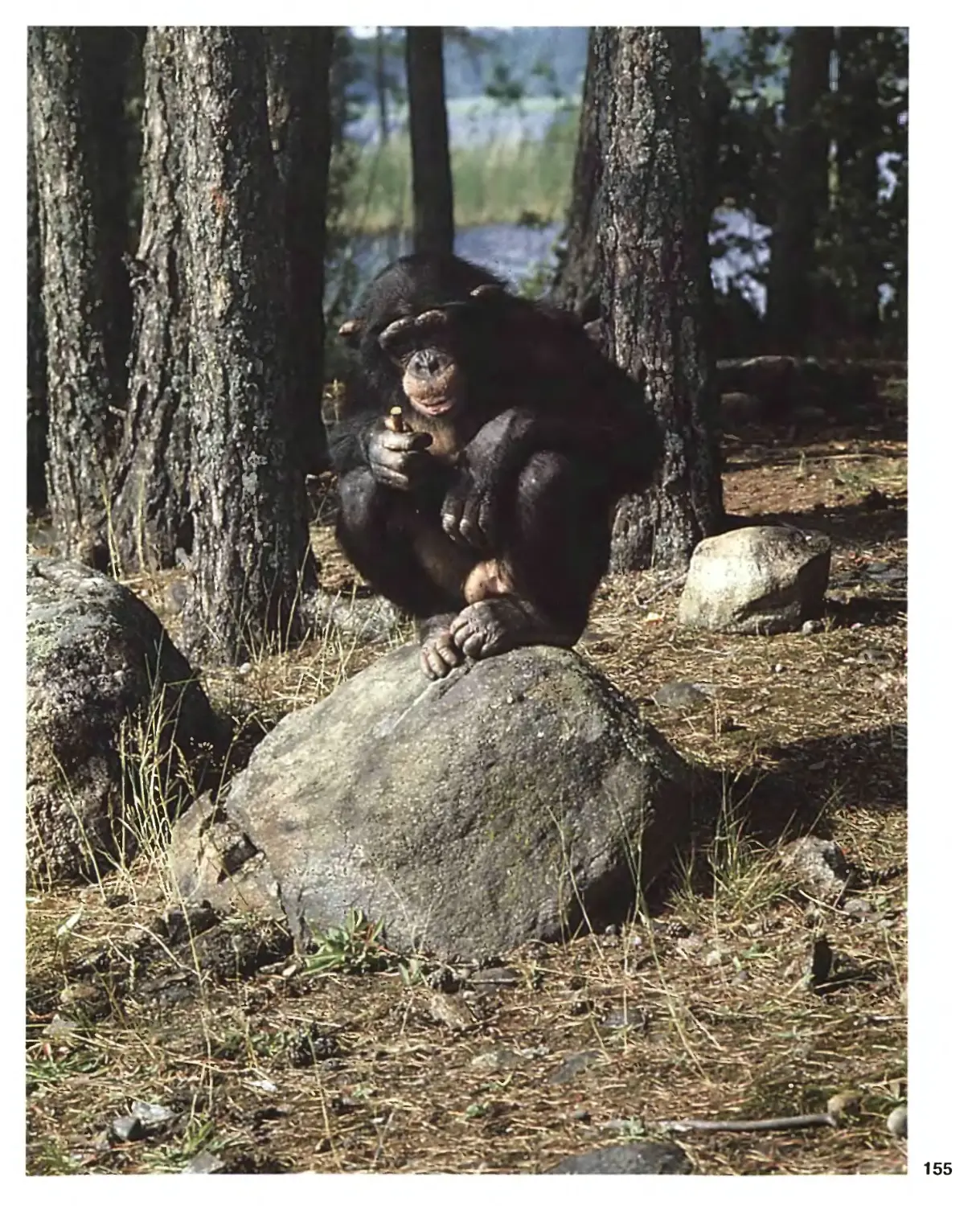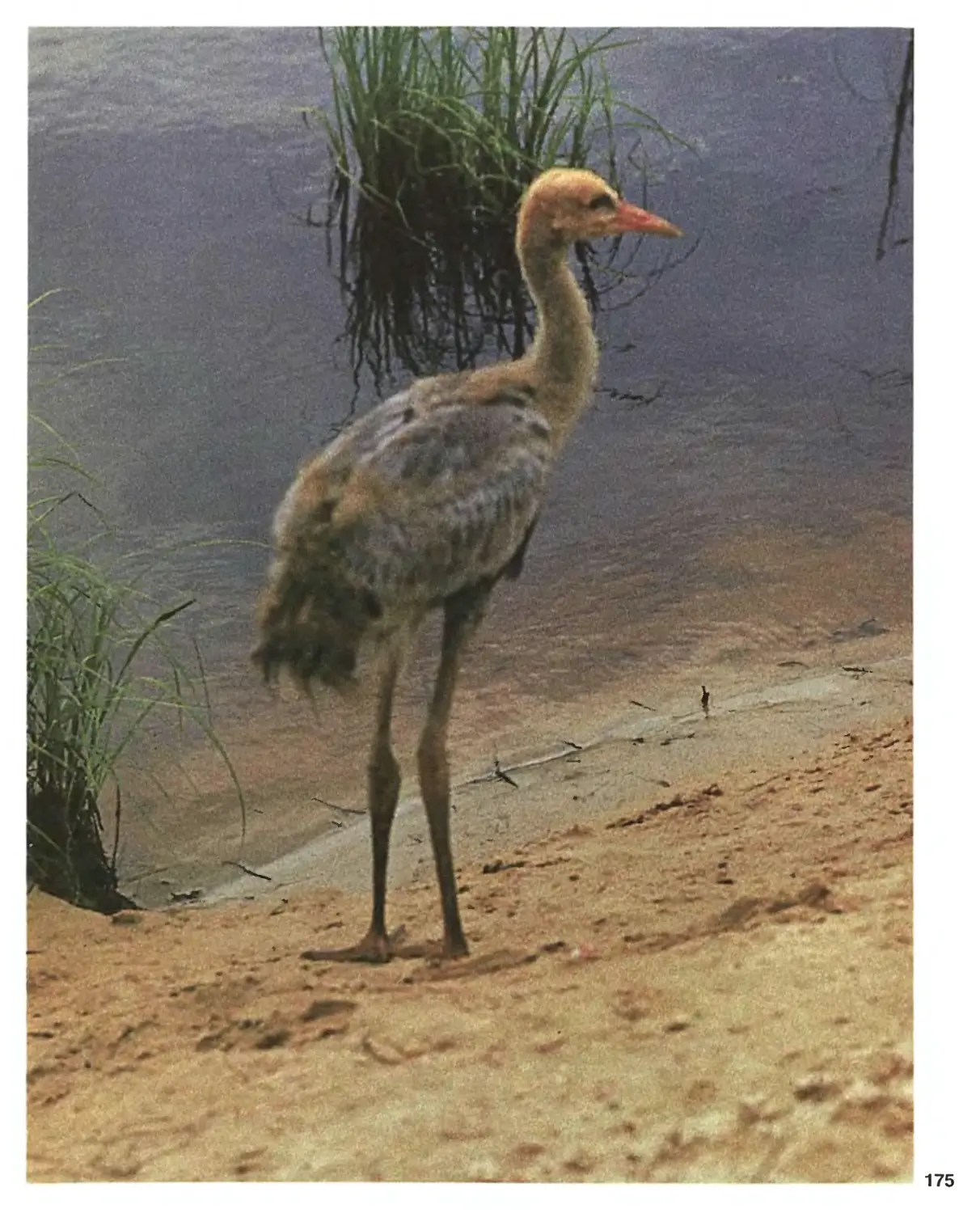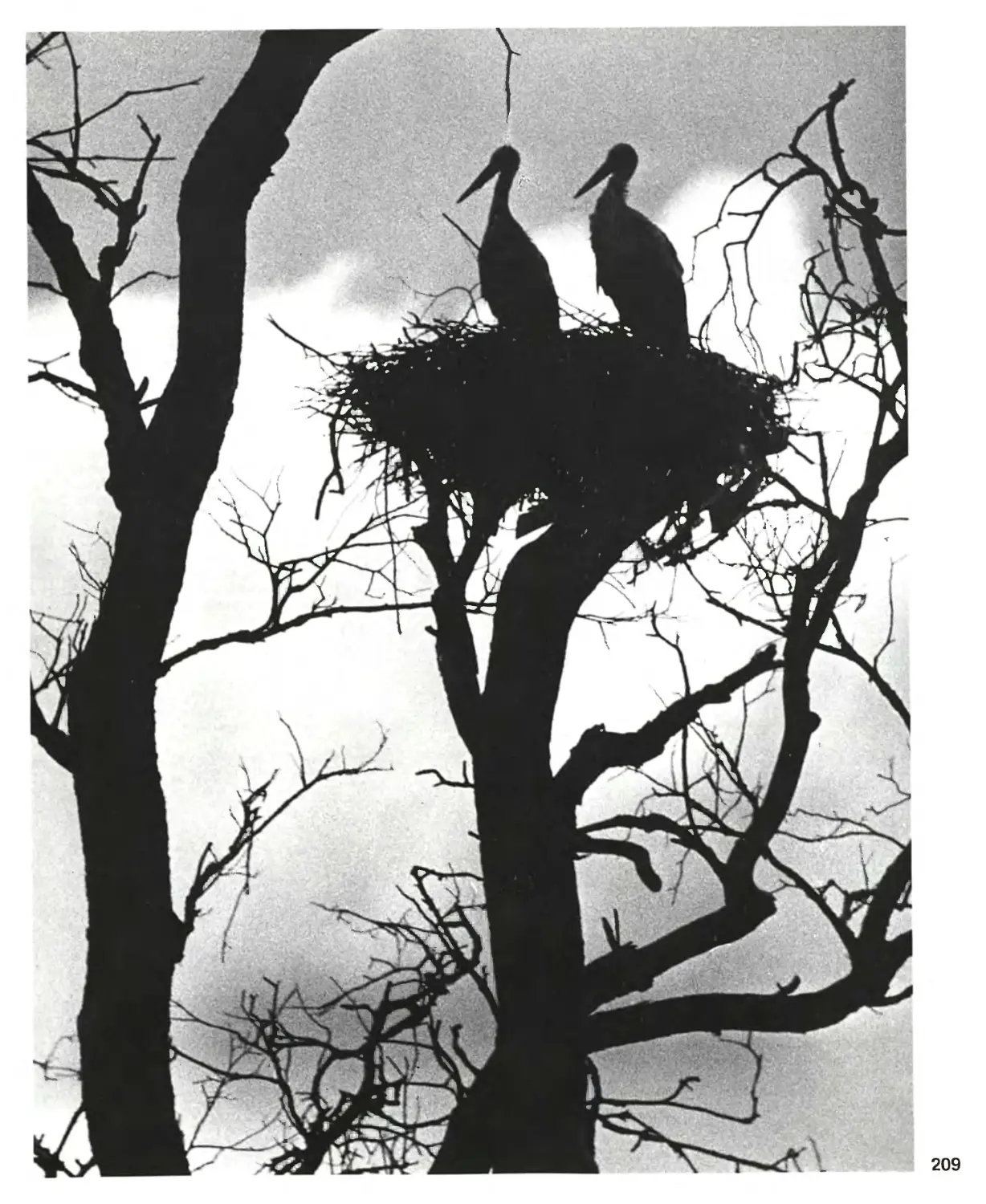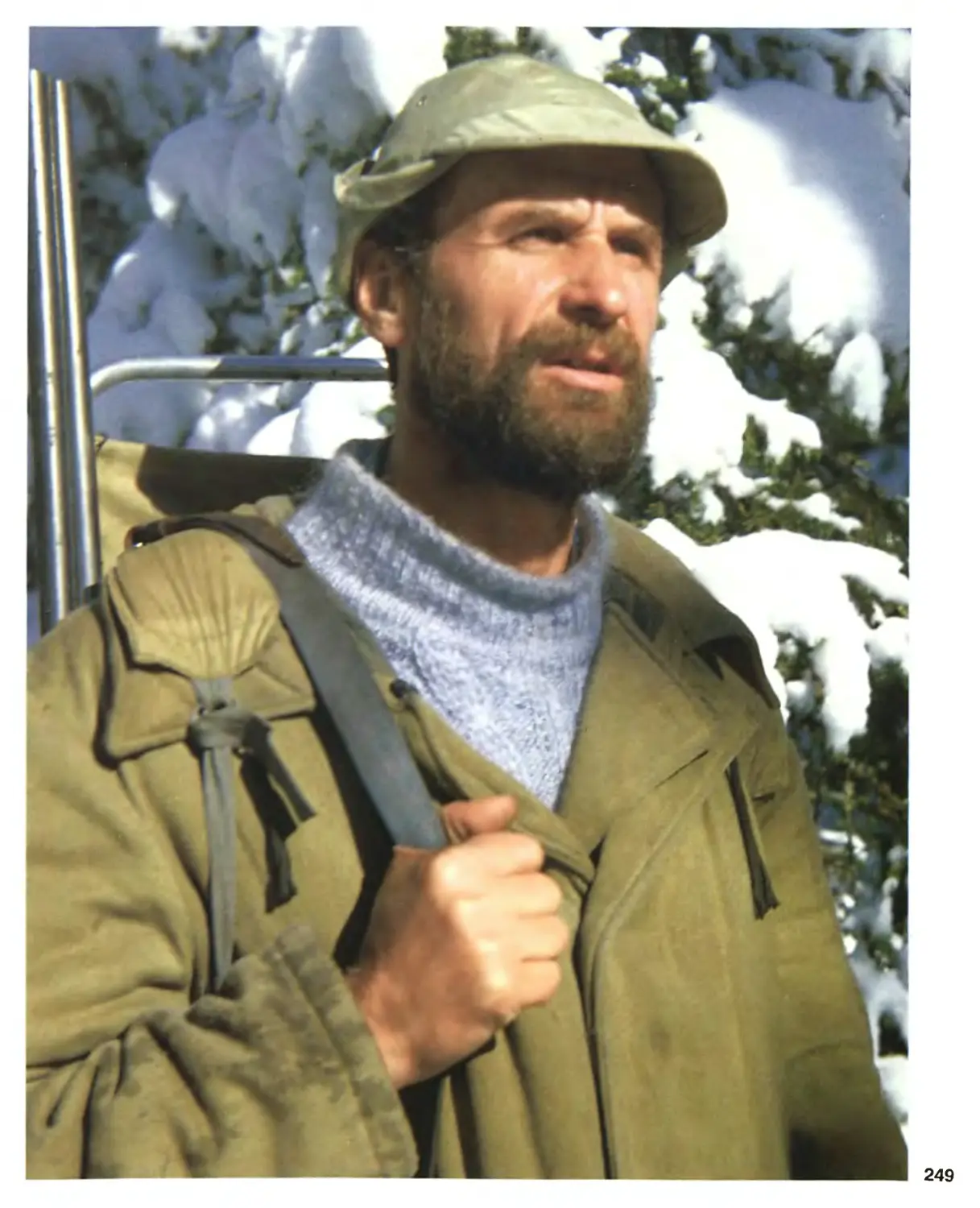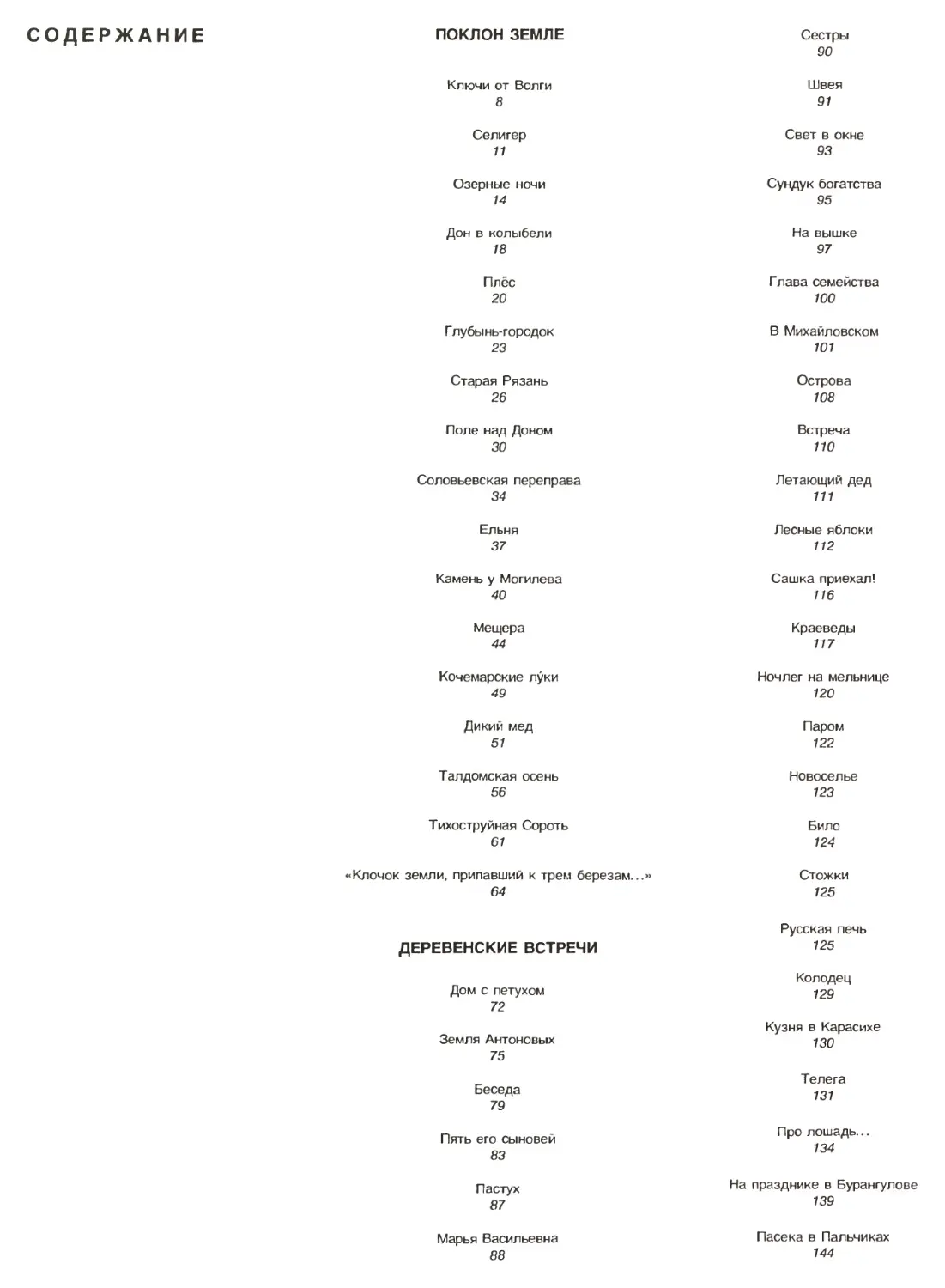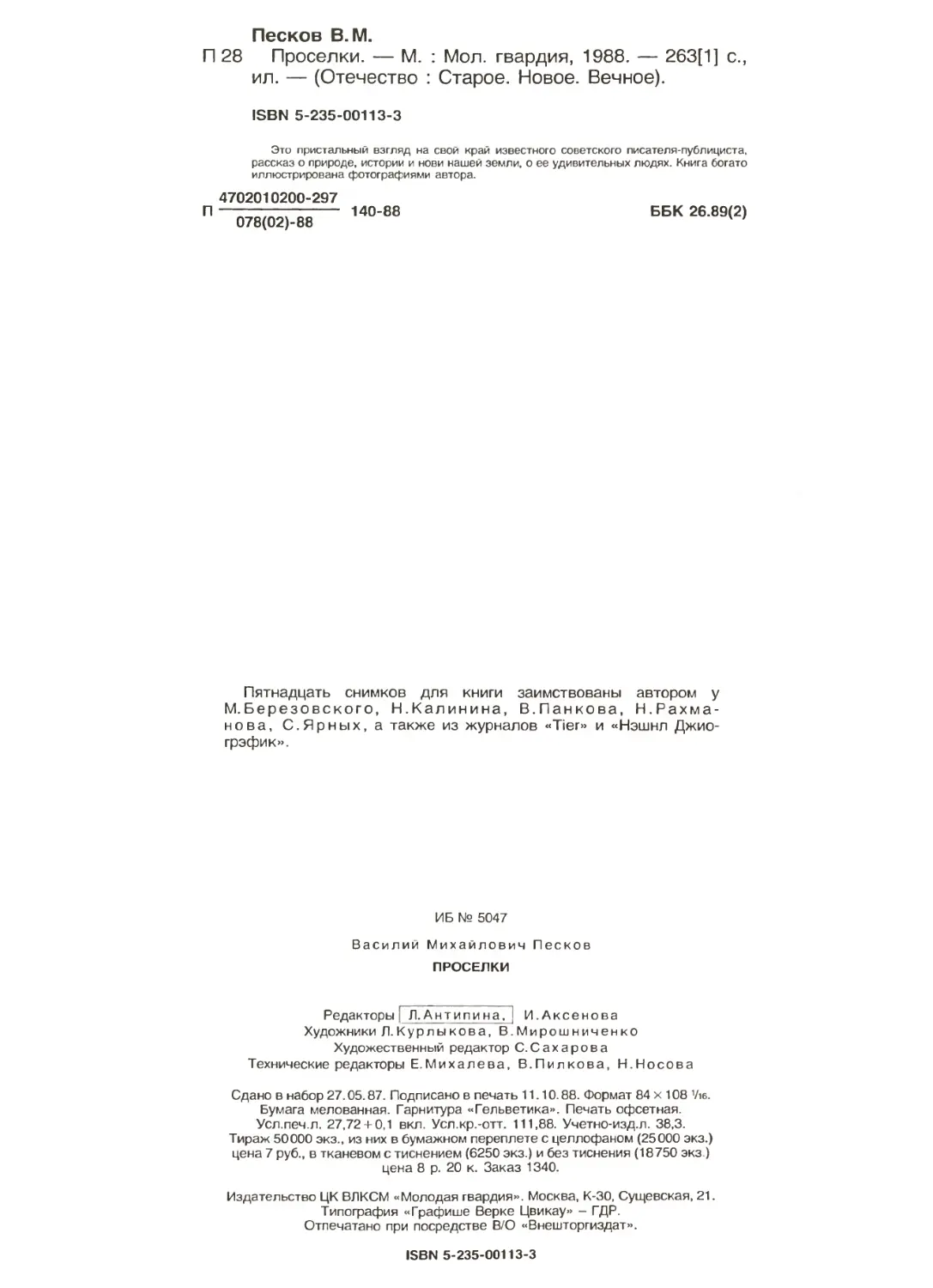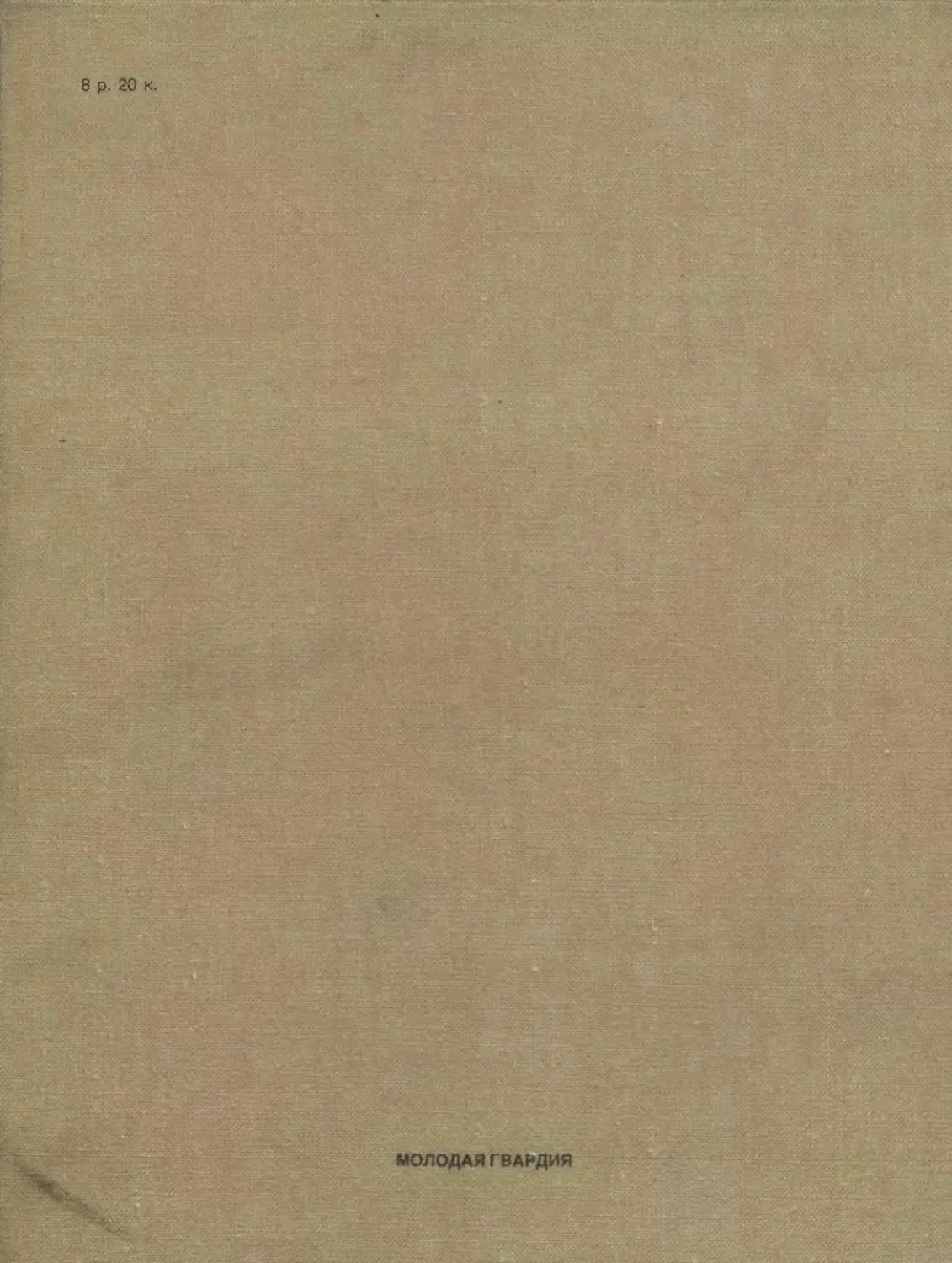Автор: Песков В.
Теги: страноведение краеведение география фотография этнография фотоальбом
ISBN: 5-235-00113-3
Год: 1988
Текст
Пятнадцать лет назад в нашем издательстве вышла книга Василия Михайловича Пескова «Отечество». Книга с благодарностью была встречена читателями, выдержала несколько изданий, переведена на несколько языков Она положила начало издательской серии «Отечество». «Проселки» — очередной рассказ о нашей Родине. Для Василия Пескова это как бы продолжение начатого им путешествия. В «Отечестве» мы посетили наиболее приметные точки страны — от Красной площади и Ясной Поляны до Магнитки и камчатских вулканов. На этот раз автор приглашает нас к неспешному хождению по проселкам — по дорогам деревенской России.
ПРОСЕЛКИ
©«тав©
СТАРОЕ
НОВОЕ
ВЕЧНОЕ
ФОТОГРАФИИ АВТОРА
МОСКВА МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 1988
ассмотрим удивительный снимок.
Ребенку известно, что Земля — шар. Но, я думаю, и седые академики с волнением разглядывали этот подлинный, «во весь рост» портрет планеты Земля.
Все тут уменьшено расстоянием. Деталей не видно — небольшой, покрытый голубой дымкой шар.
Себя со стороны человек увидел в изначальные времена, заглянув в тихую воду. Свой дом мы видим, оглянувшись с дороги. Город мы можем увидеть, поднявшись на самолете. Землю со стороны увидеть было нельзя. Жил человек муравьем на огромном арбузе и считал арбуз плоским. Последние полтысячи лет мы знаем, что Земля — шар. Знаем благодаря множеству доказательств. Знаем настолько хорошо, что создали точную модель Земли — глобус и нанесли на него все черточки и морщины планеты.
И все-таки в обыденной жизни трудно представить, что мы плаваем, ходим и ездим по шару. На снимках, сделанных космонавтами, проглядывала округлость Земли, но только теперь мы отчетливо видим: Земля — это шар.
Все, как на глобусе. Проглядывают очертания суши. Видны моря — Черное и Средиземное. Виден сомалийский «рог» Африки. Облака мешают разглядеть другие подробности планеты. Но интересно и расположение облаков. Даже непосвященному человеку можно судить о погоде на земном шаре в минуту, когда делался снимок.
В Азии, у побережья Каспия ясно. И можно представить, как жарко в эту минуту в пустынных песках. А над Европой облачно. Видны завихренья циклона. Осенняя погода над материком. Люди в городах и поселках идут под зонтами. Мокнет сено в стогах. Раскисают дороги... А там, где облака похожи 4 на пряди волос, гудят ураганные ветры.
Живая планета... Облака. Песок пустынь. Воды морей и рек. Горы. Ледяные поля. Вспаханные человеком земли. Все мчится в темном пространстве Вселенной с огромной скоростью. И ничего Земля не расплескает, не потеряет в движении.
Если бы чей-нибудь неземной глаз увидел планету издалека вот таким шаром, он не обо всем мог бы догадаться. Ему надо было бы опуститься под облака, чтобы узнать: Земля полна шорохов, криков, музыки, запахов Растут на Земле леса и цветы. В воде плещется рыба. Изрыта Земля норами, испещрена следами зверей. И живет на Земле Человек.
Невообразимо маленьким и незаметным кажется на таком шаре человек со своими страстями, войнами, мечтами и огорчениями. Но как велик человек, если он сумел в точности предсказать очертания своей планеты, сумел найти средства глянуть на Землю со стороны так же, как мы глядим на свой дом, обернувшись с убегающей вдаль дороги.
Этот снимок сделан советской космической станцией «Зонд-5» 21 сентября 1968 года в 12 часов 08 минут по московскому времени на пути от Луны к Земле. Расстояние до Земли в этот момент было 90 000 километров.
С более близкого к Земле расстояния космонавты видят огни городов, следы кораблей на морях. Видят даже большие асфальтированные дороги. Но сколько ни напрягай зрение, не способен человеческий глаз разглядеть на Земле самые поэтичные из дорог — проселки. Невидимой паутиной они покрывают всю Землю, соединяя людей, живущих на фермах, на хуторах, в деревнях, змеятся по холмам, обтекают лесные опушки, бегут по скрипучим мостам.
Это самые древние из дорог. И самые поэтичные.
С Издательство « Молодая гвардия», 1988 г.
роселок, по Далю, — это «расстоянье и пути между селеньями в стороне от городов и больших дорог». Это глухая, не очень ухоженная дорога. Ее всегда поругивали. «Ехать проселком — дома не ночевать». И верно. Застрять на проселке — обычное дело. Колеса телеги после дождей увязают по ступицы, а на нынешних «Жигулях» на проселок лучше и не заглядывать.
С хозяйственной стороны поглядеть — погибель эти дороги. Всю быструю жизнь тормозят. Овощ, не увезенный вовремя с грядок, вянет, хлеб мокнет, яблоко-слива гниют. Иное дело шоссе: утром — в Москве, вечером — в Конотопе. Быстрота и всему экономия, времени в первую очередь. Радость большая, когда проселок превращается в асфальтированную дорогу. Жизнь, ставшая на резиновые колеса, требует и дорог подобающих.
Но для странствия, для хождения по земле с котомкой, теперь называемой рюкзаком, и для небыстрой езды на надежной машине что за чудо эти плохие дороги — проселки! Тут дорога тебя ведет не спеша, ко всем подробностям жизни. Всего ты можешь коснуться, ко всему как следует приглядеться. Радости и печали тут живут обнаженными рядом с дорогой. Все крупное на земле соединил сегодня асфальт. А деревеньку в четыре двора ты увидишь только тут, у проселка. Из ключа, текущего у шоссе, кто из нас решится напиться? А проселок может привести тебя к роднику, и ты изведаешь вкус первородной воды, ничем не сдобренной и здоровой. Скрипучий мосток. Проезжая его, прощаешься мысленно с жизнью. Однако ничего, переехали. Стоишь, наблюдаешь, как в омутке играют резвые красноперки. Чья-то пасека возле старинных лип, оставшихся после усадьбы. Чьей? Тебе называют по книгам знакомое имя, и ты стоишь пораженный: вот тут Он ходил, под этой липой, возможно, сидел, наблюдая за облаками, за этой дорогой, убегающей в перелески... На проселке ты можешь остановиться, изумленный полоской неизвестных, скорее всего каких-то заморских растений. Батюшки, да это же конопля, которую сеяли ранее всюду. Теперь ее посеяла только эта вот сидящая на завалинке бабка. «Зачем же теперь конопля?» «А блох выводить!» — простодушно отвечает старуха.
Дорога от крайнего дома, где растет конопля, спускается к лугу, потом, огибая ржаное поле, углубляется в лес. За лесом ты опять уже видишь на синеющем взгорье светлый шнурочек — дорога пошла к другой, незнакомой тебе деревне. Ничто любопытного человека не дразнит так сильно, как эти проселки по древним российским землям. Запахи трав. Звоны кузнечиков. Урчание лягушек в болотце. Следит за тобою с сухого дерева птица. Пастух притронулся к козырьку, отвечая на приветствие проходящего. На проселке версты не бывает, чтобы с кем-то не перекинулся словом, а то завяжется разговор — не хочется расставаться...
Лет двадцать назад возникла плодотворная ветвь на древе литературы и журналистики — краеведческие писания. Начало всему положил Владимир Алексеевич Солоухин своей замечательной книгой «Владимирские проселки». В девятнадцатом веке литераторы говорили: «Все мы вышли из гоголевской «Шинели». Нынешние талантливые писатели-деревенщики могли бы сказать: «Все мы гуляли на Яшинской «Вологодской свадьбе». А краеведы, в последние годы немало сделавшие для познанья родной земли, справедливо чтут Солоухина: «Все мы ходили «Владимирскими проселками». 5
ПРОСЕЛКИ
ПОКЛОН ЗЕМЛЕ
ключи от ВОЛГИ
““ Ну вот и пришли. Запоминайте минуту...
Мы оглянулись. На горке виднелась деревня, мимо которой мы только что шли. За нею — дорога по освещенным солнцем холмам, и еще одна кроткая деревенька с названием Вороново, а далее лес — хранитель здешнего таинства, зарожденья великой реки.
Лес вековой в полном смысле этого слова. Топор его не касался. Прорубили только дорогу, по которой когда-то ездили на телегах, но теперь дорога доступна лишь пешему. Она почти скрыта пологом елей, огромных дуплистых осин, темнотой черемухи и ольхи. Лужи на этой дороге не высыхают все лето. И все кругом пронизано влагой. Шаг в сторону от дороги — под ногою, как губка, сочится мох, упавшее дерево мокро и скользко, грибы тоже какие-то водянистые, и даже позеленевший камень, кажется, будет сочиться, если как следует сжать его в кулаке.
Шумно хлопая крыльями, улетают с дороги не очень пугливые тут глухари. Часто видишь на мягкой глине четкий след лося. Отпечаток собачьего следа? Нет, это волки прошли за лосем Леший если и водится, то, несомненно, в таких вот лесах, сырых, непролазных и старых, как сам Валдай.
Пеший путь — километров десять- двенадцать — посильное испытание всякому, кто хочет видеть, как зарождается Волга. Сама ее колыбелька, освещенная солнцем, лежит у холмов, поросших ромашками, и приходящего к ней встречают оркестры кузнечиков. Однако дорога лесом напоминает: места глухие, удаленные от сует, веками лежат они в тишине и покое. Человеку надлежит прийти сюда поклониться и тихо вернуться к шумным своим дорогам.
Размышление это, возникающее у всех, кто приходит к истоку Волги, прервем сообщением: строят сюда шоссе. Новость эта, конечно, должна быть приятна для тех, кто привык уже видеть землю свою из окошка автомобиля. Однако будем уповать на мудрость тех, кто дорогу наметил: ее ни в коем случае не следует вести до истока. Владельца автомобиля надо заста- 8 вить из него выйти и понудить хотя бы
два-три километра идти пешком Только в этом случае в душе его шевельнется волнение от встречи. И сам исток великой реки не потонет в бензиновой гари, в конфетных и сигаретных обертках.
Минуту, когда мы скинули рюкзаки и сели на них — оглядеться, вспоминаешь сейчас, как зарубку на прожитом. Важная эта минута, когда видишь то, о чем много раз думал, старался себе представить, к чему стремился давно и только на пятом десятке годов дошел вот сюда.
Маленький ручеек. Вода немного коричневатая Она не течет, а сочится из мхов, от подножия невысоких березок, ив, ольхи и болотной травы. Летают стрекозы, снуют по воде жуки-водомерки, окунек размером с мизинец полосатым тельцем жмется к тонкому стеблю водяной травки. Вода прозрачная и кажется неподвижной. Но вот ты кинул ольховый листок, и вода его медленно потянула в проход между стенками таволги и осоки. Течение есть. И течет это Волга Хотя странно называть Волгой ключик, который можно перешагнуть, над которым челноком, охотясь на комаров, порхает резвая трясогузка, в который издалека, снизу заплывают шальные щурята и обна¬
руживают: пути дальше нет, тут начало реки.
Река-младенец. Через три десятка шагов пересечет ее первый деревянный мосток. Немного дальше встретит она подругу, такую же малую, как и сама, Персянку. И потечет с нею вместе.
Потом еще приток, потом озера, вытянутые по течению воды. А дальше — первые лодки, паромы, мосты, водопои, причалы и пристани, катера, теплоходы, водокачки, плотины, каналы. Отразятся в воде селения большие и малые, огромные города, шалаши рыбаков, обрывы, леса, степное небо, речные огни Почти четыре тысячи километров пути у реки-красавицы и работ-
— Кощунством кажется даже умыться в этой воде...
— Да, — соглашается парень, — родник. .. А между прочим, мыли в нем тут сапоги. Сейчас я вам покажу.
Он уносит ведерко в дом на горе и, вернувшись, достает из кармана погнутый черный патрон от немецкой винтовки.
— Тут, под березой, нашел. Дошли сюда. На этом месте как раз снимались — «Мы у истока Волги». Дед мне рассказывал: гоготали, мыли в этой воде свои добротные сапоги. Страшно подумать, что стало бы с нами со всеми, если бы там, ниже по Волге, их бы не повернули...
дающий начало Волге. Петр Великий, не слишком благоволивший к монастырям, этот жаловал и вниманием, и средствами, и богослужебными книгами. Однако глушь, удаленность от дорог и бедность местного люда не дали окрепнуть монастырю. Он захирел, и деревянные постройки за год до сметри Петра сгорели. От огня уцелела только часовенка над истоком. Паломники продолжали сюда идти, и часовенку подновляли, а когда она сильно ветшала, «на деньги, собранные в кружку», ставили новую. Нынешний домик с остроконечной крышей повторяет своими чертами традиционность постройки. На многочисленных снимках именно этот
ницы. А тут, в колыбельных лесах, забот у нее никаких. Полуденный сон, тихие детские шалости в камышах...
С горки от старой церкви спускается парень с ведерком.
— Для самовара?
— Для него. Заходите на чай...
Заметив колебание — можно ли пить прямо тут из ключа? — парень откинул волосы и, нагнувшись, припал к воде.
— Пейте. Чистая и здоровая. Пили ее всегда. Монахи раньше считали даже целебной.
Вода слегка отдает настоем травы, но холодная, на вкус приятная.
Все, что стало великим — человеческая жизнь, река, событие, путь, творение, — всегда привлекает людей своим началом, истоком: откуда и как пошло? Если хотите узнать поэта, побывайте у него на родине, говорил Гёте.
Исток Волги люди знали давно, хотя научно географы подтвердили его только в конце минувшего века. И, надо думать, величие Волги, а не свойство воды, заставляло христиан-богомольцев совершать паломничество в эти глухие места, «к святому ручью».
В 1649 году указом царя Алексея Михайловича основан был монастырь, святыней которого был этот ключ, домик известен как символ начала Волги.
Домик закрыт на ключ. И эта мера оправдана. Люди бывают тут разные, и место общего поклонения должо быть в покое. Однако всякий, кто пожелает увидеть круг темной воды в полу на сваях стоящего теремка, легко может ключ получить.
«В Волго-Верховье разыщите Нину Андреевну Полякову. Ключи от домика у нее», — сказали провожавшие нас в Осташкове.
Найти старушку проще простого — в Волго-Верховье всего двенадцать домов, а Нина Андреевна — единственное «должностное лицо» в деревне. Зимой 9
И вот уже появляются на реке моторные лодки, плоты, быстроходные «Метеоры», а далее — теплоходы, танкеры, баржи. И уже до самого Каспия держит их рюка у себя на плечах.
она расчищает дорожку к истоку, а летом, когда идет сюда много людей, ее дело — присматривать за порядком.
Нина Андреевна сгребала сено за огородом и издали нам покричала:
— Ключи от Волги (так и сказала: «от Волги») — на гвоздике возле двери. Открывайте, а я приду.
Ключ оказался на месте, и минут через пять мы стояли в домишке с непокрытыми головами.
Стены, обитые тесом, полосы света через окошки, запах воды и смолы. И вот он у ног, символический круг-коло- дец, означающий: в этой точке начинается Волга. Аккуратный — метр в поперечнике — круг. Вода таинственнотемная. Движение родниковых струй незаметно, однако оно тут есть. В окошко видно: вода из-под домика утекает.
— Ну, помолчали? — улыбается на пороге Нина Андреевна. — Не вы первые, не вы последние. Идут и идут. На горе, слышишь, погомонят, а тут как- то все утихают. Вот так всегда стоят и молчат.
Старуха запирает домик на ключ, черпает из ручья два ведерка воды и. охотно отдав нести их до дому одному из «паломников», продолжает рассказ- размышление:
— Разные люди. И, скажу вам, едут со всего света. Германцы недавно на 10 кино тут Волгу снимали. Попросили цветной платочек надеть. Молодые совсем ребята, обходительные. Японцы тоже снимали. Небольшие росточком, шустрые, головы у всех черные. Тоже не дурные люди...
— Нина Андреевна, вы сами-то Волгу в ином каком месте видали? — спрашиваю я напоследок.
Нет, в другом месте Волгу Нина Андреевна не видала. Шестьдесят девять лет живет она тут безвыездно у истока. Схоронила умершего от ран мужа, взрастила трех сыновей.
— Виктор шофером в Нелидове, Николай в Мурманске большие электрические столбы подымает, Алексей в Баку водолазом. И я вот тоже при должности. Соберусь умирать, скажу, чтобы тут, на горке, и положили.
На прощание мы постояли возле дороги на теплом песчаном холме. Вечернее солнце золотило в низине верхушки леса, удивленно и радостно глядел на мир белобровый домик над родником. Одеялом тумана накрылось узкое руслице Волги.
— Люди вот умирают, а она течет и течет... Ну, с богом. Если еще приедете — ключ на гвоздике возле двери.
Раза два мы еще оглянулись помахать старушке рукой. Она недвижно стояла возле воды. Маленькая собачка бегала рядом. Подошел с ведерком парень-турист. Анна Николаевна что-то негромко стала ему объяснять. Заметив, что мы остановились на горке и ждем ее взгляда, она встрепенулась, радостно помахала. И мы уже скоро двинулись к лесу...
Шли потом уже в темноте с фонарем. Опять лужи, хлопанье крыльев невидимых птиц. Ярко свитились, попадая в луч фонаря, соцветья таволги у дороги. Усталость скрыла на время яркие впечатления дня. Вместо них в голове почему-то всплыли и обозначились древней таинственной связью три слова: Волга, иволга, таволга. В такт шагам они повторялись, следуя друг за другом, несчетное число раз: Волга — иволга — таволга. . Под музыку этих слов я, помню, и шел до ночлега.
1979 г.
□
СЕЛИГЕР
Ну а Селигер, бывали, конечно?
Когда говоришь «не бывал» — удивленье. Объяснение — «берегу про запас» — встречается с пониманием: у каждого есть заветное место, которое хочется видеть не мимоходом И все же встреча эта была короткой. Дорога лежала у Селигера. И мы завернули. Сразу после ржаного поля увидели много тихой воды. Однако не сплошь водяная гладь, а полосы темной осоки, острова с кудряшками леса, за которыми снова сверкала вода. Садилось солнце. И все кругом как будто оцепенело в прощании со светилом. Дым от костра на синеющем вдалеке берегу подымался кверху светлым столбом. Стрекоза сидела на цветке таволги возле воды, и блики заката играли на слюдяных крыльях. Мы зачерпнули воды в ладони, сполоснули пыльные лица.
— Здравствуйте, Селигер Сели- герыч...
— Первый раз приехали? — понимающе отозвался натиравший песочком кастрюлю явно нездешний загорелый рыбак. — Я тоже, помню, так же под вечер увидел все это. И теперь вот в плену, восемнадцатый раз приехал. Откуда? Не поверите, из Сухуми..
У большинства наших больших озер мужское имя. Каспий, Арал, Балхаш, Байкал, Сенеж. И это — Селигер Сели- герыч. На карте, где восточное чудо — Байкал синеет внушительной полосой, Селигер почти незаметен — в лупу я разглядел лишь подсиненную неясного очертания слёзку. И только тут, вдыхая запах воды, одолевая взглядом уходящие друг за друга гребешки прибрежного леса, понимаешь, как много всего скрывала от глаза мелкомасштабная карта
Озеро очень большое. И все же его размеры разом определить невозможно. С моторной лодки одновременно видишь два берега. Они то расходятся, то сужаются, так что даже не слишком смелый пловец вполне одолеет протоку. Но лодка идет полчаса, час, два часа, и озеро все не кончается. На коленях измятая карта, где крупно помечена каждая из морщинок земли, заполненная водой. Лишь этот крупномасштабный рисунок дает представление о водяном кружеве. Длина озера — сто, ширина — пятьдесят километров. По нему не плывешь — путешествуешь!
Иные озера похожи на огромную залу под куполом, Селигер же вызывает в памяти лабиринт Эрмитажа — сотни причудливых «помещений», переходящих одно в другое — протоки, заливы, тайные устья речек, плесы, мыски, острова. И все это в зелени трав и подступающих к самой воде лесов. Одних островов тут насчитано сто шестьдесят. Есть малютки, сверху глянуть — мыши одолевают воду, и есть большие, есть один с деревеньками у воды, с непроходимым лесом, большим и малым зверьем, с озерами, на которых — свои острова и тоже с озерами.
Отцом озера был ледник, отступавший с Валдая, как считают, двадцать пять тысяч лет назад. Получив изначально талую воду утомленного ледника, озеро пополняется теперь постоянным стоком сотен маленьких речек Избыток же вод Селигер, подобно Байкалу, отдает в одном месте, одним только руслом, впадающим в Волгу.
Исток Волги лежит по соседству, в девятнадцати километрах от озера. Взглянув на подробную карту, можно увидеть: очень близко от колыбели Волги резвятся еще две маленькие речки. Приглядимся, проследим их пути — Днепр, Западная Двина... Вспомним Днипро у Киева, Даугаву у Риги, на российских просторах матушку Волгу— могучие реки! А тут, в Валдайских лесах, — они еще босоногие ребятишки. Не познакомившись даже, они разбегаются в разные стороны из непролазной чащи их общего детского сада Они мало чем отличимы от десятков таких же ма-
леньких речек. В этих местах главный держатель вод — Селигер. Богат, красив и заметен. «Европейский Байкал» зовут Селигер любители странствий.
Человеческая история у этой воды теряется в дымке времен. Никто не знает, когда впервые появились тут люди. Но кремневые молотки, скребки и долота, отрытые в городищах на берегу, говорят о том, что в каменном веке Селигер уже был приютом для человека. Череда веков, именуемая «до нашей эры», тут тоже оставила память. А в XIII веке берега Селигера уже густо заселены славянскими племенами криви- недавно совсем, в 41-м году, в Селигер уперлась, забуксовала машина фашистского наступления. Обойдя природную крепость с юга и с севера, Селигер фашисты все же не одолели. Проплывая сейчас по озеру, видишь на западном берегу памятник — пушку на постаменте. Надпись — «Отсюда люди гнали прочь войну...» — имеет в виду наступление 42-го года, однако смысл ее глубже: с берегов Селигера поворачивали вспять многие силы, сюда подступавшие.
Можно перечислить здешних людей- героев из разных времен. Двое из них хорошо нам известны — Лиза Чайкина и Константин Заслонов.
чей. Деревушки, видимые сейчас с воды и скрытые за лесами, нередко имеют глубокие корни во времени. Сотни лет назад выглядели они, конечно, иначе, но в названиях деревенек сохранились звуки минувшего, ощущения пространств и преград, разделявших людей. Заречье, Залучье, Заплавье, Забо- лотье, Заборье, Замошье, Задубье, Селище, Свапуща, Кравотынь...
Селение Кравотынь, дразнящее путника белой церковью и сиреневой россыпью деревянных домов, название получило, как считают, из-за резни, устроенной тут Батыем. С юго-востока до Селигера в 1238 году докатились конные орды завоевателей. Воображенье Батыя, покорившего многие земли, возбуждали теперь Псков и Новгород. «Посекая людей яко траву», двигалось войско к желанной цели «селигерским путем». И осталось до Новгорода всего несколько переходов, когда «озеро вскрылось». Это надо считать легендой. Озеро вряд ли так рано вскрывалось. Но текущие в него речки набухли водой, опасными стали оттаявшие болота. Войско Батыя, боясь распутицы, повернуло на юг. Предвесенние воды и глухие леса без дорог загородили, прикрыли Новгород.
Позже этот природный щит прикрывал россиян и с другой стороны, с запада, при походах сюда литовцев. Служил он также амортизатором в ме- 12 ждоусобных стычках русских князей. И
Это все Селигер — его столица, город Осташков, деревеньки и села на берегах, простор воды и тихие заводи, следы зверей, шорохи крыльев...
Мирная жизнь искони держалась на Селигере рыболовством, лесными промыслами, ремеслами и торговлей (Селигерский путь «из варяг в греки» и выгодное торговое положение позже). У каждой из приютившихся на берегах деревенек поныне свой норов. Звоном кузнечиков и дремотною тишиной встретило нас Залучье. Кажется, даже собаки лаять тут не обучены и вся деревенька создана для любования ею. На взгорке между водою и лесом как будто чья-то большая рука рассыпала деревянные домики, а по соседству та же рука насыпала холм, с которого видишь эту деревню, леса, уходящие за горизонт, а глянешь в сторону Селигера — что в самом деле занесло тебя в некий северный Голливуд — смешенье строительных стилей, красок, форм и объемов. Все покоряюще необычно, как детский рисунок, наивно и ярко — не деревня, а дымковская игрушка! «Как будто специально для туристов построено», — говорит кто-то идущий сзади тебя. Однако большому туризму в этих краях лет двадцать от роду, а деревенька — старожил Селигера. Не замечая множества любопытных глаз, она живет своей накатанной жизнью. Во дворе за малиново-красным забором слышно — доят корову, на улице перед стайкой туристов посторонились овцы, ходят три лошади около бани. На лод-
В среде уездных городков России конца XVIII — начала XIX века Осташков слыл знаменитостью. О нем охотно и много писали в столичных газетах. Много людей шло и ехало сюда на богомолье, просто «взглянуть на славный Осташков» и даже, как сейчас бы сказали, «за опытом». И было чему подивиться тут ходокам из уездной России. «На грани столетий, — читаем мы у историков, — в Осташкове были: больница, народные и духовные училища, библиотека, театр, бульвары, воспитательный дом, училище для девиц, городской сад и духовой оркестр, мощенные булыжником улицы, первая в России добровольная общественная пожарная ко-
кудрявые косы и островки, лес и вода полосами. «Кто в Залучье не бывал — Селигера не видал», — пишет путеводитель.
Тот же путеводитель очень советует заглянуть и в Заплавье. «Вы знаете — Голливуд, Голливуд!» — прокричал нам со встречной моторки знакомый «киношник» из Ленинграда. Мы заглянули в Заплавье минут на двадцать, а пробыли там пять часов, хотя деревня эта, как все другие на Селигере, совсем небольшая.
Очарование Заплавья начинается с пристани. Видишь какую-то ярмарку лодок — рабочих и праздных туристских, с парусами, без парусов. Дощатые мостики, баньки, деревянные склады и щегольской магазинчик, толчея людей, приезжих и местных, собаки и кошки — завсегдатаи причала, ребятишки- удильщики, местный юродивый. И тут же — рыбацкие сети на кольях, копенки сена, одноглазые баньки под крышами из щепы. И, обрамляя все, глядит на воду прибрежная улица Дома пестрые и необычные — то крепость из бревен, то деревянное кружево от низа до конька кровли. И более всего неожиданно — много домов тут каменных, но построенных и украшенных так, как будто трудился плотник. Так, видно, и было. На одном из крахмально-белых строений читаешь вдруг надпись: «Строил плотник Александр Митриев».
Углубляясь в деревню, чувствуешь, ках привезли сено. Молодая мамаша катит младенца в ярко-желтой коляске. Двое соседей через забор выясняют давние отношения. До пояса голый старик варит в огромном котле смолу, а по краю деревни (субботний день!) курятся баньки и сохнут сети.
Заплавье жило всегда и теперь живет рыболовством. Здешние рыбаки — возможно, лучшие на Селигере, а весь край славен и рыбой, и уменьем ее ловить. Рыба отсюда издавна шла в Петербург и в Москву. А слава о рыбаках расходилась и того дальше. В 1724 году шведский король обратился к царю Петру с просьбой прислать в королевство двух рыбаков для обучения шведов рыбному промыслу. Понятное дело, царь приказал разыскать лучших. И выбор пал на рыбаков с Селигера. И нисколько не удивляешься, когда на гербе столицы здешнего края — града Осташкова — видишь три серебряные рыбы.
Город Осташков, как и все здешние поселения. — дитя Селигера. Он жил тоже рыбой, кузнечным и кожевенным ремеслом, славен был знаменитыми богомазами, сапожниками, чеканщиками и оборотистыми купцами, подарил Отечеству двух математиков — Леонтия Магницкого (по его учебнику постигал азы арифметики Ломоносов) и Семена Лобанова, читавшего лекции в Московском университете.
манда, в городе почти все были грамотны, жители брили бороды и называли себя гражданами». Немало для уездного городка! И осташи всем этим, конечно, гордились. Был тут даже и собственный гимн с такими вот строчками:
От конца в конец России
Ты отмечен уж молвой:
Из уездных городов России Ты слывешь передовой.
Образцово-показательная провинция!
Но нам интересно сейчас, что все это было и дошло до нас не слишком поврежденное временем. Бурное течение нашего века уездный Осташков не подмяло, не затопило. Что строилось — строилось в стороне, не разрушая облика городка. Он хорошо сохранился, уездный Осташков. И (диалектика времени!) «уездность» эта с памятниками архитектуры и старины стала его богатством. Он снова — столица озерного края. На этот раз столица туристского Селигера.
Сегодня не надо доказывать, что селигерский край разумней всего использовать для отдыха и радостей путешествия. Это, кажется, все уже понимают. Досадно, однако, что оснащение удобствами и утверждение этого края «национальным парком» (или местом отдыха с иным каким статусом) движется медленно. Слишком медленно, ибо стихийные, без разумного регулирования потоки людей могут повредить 13
уникальное на земле место, да и удобства, хотя бы самые небольшие, в путешествиях людям нынче необходимы.
Потоки людей сюда остановить уже невозможно. Наиболее неприхотливые, запасаясь едою и всем, что надо для жизни две-три недели в лесах у воды, едут сюда зимою и летом. Люди находят тут ценности, в других местах поглощенные городами и громадами производства. Тишина. Чистый здоровый воздух. Чистые воды. Рыбная ловля. Лес со всеми его богатствами. Своеобразие жизни на берегах. Следы истории. Все это, объединенное символом «Селигер», стоит ныне в ряду самых больших человеческих ценностей. Дело только за тем, чтобы богатством этим разумно распоряжаться.
Прощай, Селигер... Мы стоим на пристани Свапущи, готовые двинуться к пограничной новгородской земле, к деревенькам, откуда повернули вспять орды Батыя. Белый пароход выплыл из-за полоски леса, помаячил на синей воде и снова скрылся за поворотом.
— Мама, мама, я поймал окуня! — кричит шестилетний рыбак.
— Он маленький. Отпусти его. Лови большого, — отвечает женщина, перебирающая грибы у мостка.
Мальчик с сожалением разжимает в воде ладошку, смотрит, что стало с рыбкой, и снова забрасывает удочку.
Застыли на воде лодки рыболовов серьезных. Неподвижно стоят над озером облачка. Оцепенели леса над гладью. Стрекоза слюдяными крыльями блестит на тростинке, взлетает, делает в воздухе круг и садится на старое место, отражаясь в воде.
— Эх, искупаться, что ли, в последний разок, — говорит шофер И мы решаем именно так попрощаться со стариком Селигером...
Об озере много написано. Так же много, как о Байкале. В одной книжке я подчеркнул строчку: «Осмотреть селиге- ровские владения не хватит никакого отпуска». Верно. Два дня же — это так, мимолетность. И все-таки в памяти что- то осталось. Так при коротком знакомстве запоминаешь лицо хорошего человека и думаешь: мы еще встретимся.
1979 г
ОЗЕРНЫЕ НОЧИ
Не помню, где прочитал: «В Карелии сорок две тысячи озер...» С тех пор, как только услышу слово Карелия сразу же вспоминаю «сорок две тысячи...». Глянешь на карту — кажется, и того больше: голубые льдинки озер тянутся с северо-запада на юго-восток, и нет им счету. И не все, конечно, уместились они на карте, потому что, кроме озер больших, есть еще маленькие. Зовут их по-местному ламбы, или еще красивее: ламбушки. И дивишься людям, которые все озера, все ламбы и ламбушки обошли, исходили все берега, измерили глубину светлой воды, нарисовали все на карте и дали название: Айталамба, Кучозеро, Юстозеро, Шуро- зеро, Янгозеро, Л индозеро... Сорок две тысячи. У нас пять свободных дней. Какое озеро выбрать? Закрыли глаза, ткнули карандашом в карту. Справа внизу — город Медвежьегорск. Сверху синеет огромное, величиной с ноготь — Сегозеро. У нашего озера названия нет. Тем лучше, на месте выясним, а пока назовем его озером № 42000, и скорей за билетами
В мире нет звуков. Только скрипят уключины. От лодки к темному берегу лениво бежит волна. Удар весел — волна. Удар весел — волна. Друг за другом бегут по спящей воде стеклянные волны и вдалеке неслышно припадают к каменному берегу. В берестяном коробе трепыхается рыба. Хозяин лодки, обрусевший карел Петро Егорович Яковлев, сидит на корме, тихонько правит веслом:
— Стоп.
Сушим весла. Лодка сбавляет ход. Петро Егорович находит глазами выступающий в воду валун, чуть правее замечает сухую березу, ведет по воде две воображаемые линии. Там, где линии сходятся, он говорит:
— Бросай.
Бросаем в теплую, как молоко в подойнике, воду камень на длинной ве- 14 ревке. Кидаем удочки. Столбики по-
плавкое сразу идут косо вниз. Небольших, в ладонь, окуней, подержав, отпускаем. Лодка стоит над лудой — подводной грядой камней Тут прошлой осенью. Петро Егорович опустил на дно пушистые верхушки елок. Окуни любят такие места. Мы знаем: вслед за мелким пойдет окунь крупный. Надо только посерьезнее делать наживку... Согнулось удилище Невидимая сила стремительно уводит лесу под лодку. Дзинь! — одно удилище в руке Попробуй угадай, кто там ушел с твоим синеватым крючком в губе. Минутное дело привязать новую леску. Пока возимся, приятель кричит:
— Подсак!
И вот в берестяной коробке бьет хво-
15
стом окунище в килограмм весом. А у тебя леса звенит струной, и тоже кричишь:
— Подсак!
Настоящий разбой. Клев идет на червя и на живую рыбку, на рыбий хвост, на рыбий глаз, на блесну, на рыбьи кишки, и даже голый крючок поднимаешь, а на нем окунь.
Почти в каждом из нас живет первобытный охотник. Родился этот охотник давным-давно в погонях за зверем, у древних костров, на озерах и реках. Давно уже человек вышел из леса, стал пленником городов. Но в каждом из нас не умер и древний обитатель лесов. Оттого так целебен для глаза зеленый цвет листьев, оттого нам приносят душевное равновесие пение птиц, плеск волны и шорохи леса. И почти в каждом из нас живет охотник. Давно нет мамонтов, и даже зайцы становятся редкостью, в иной реке и ершей не осталось, но древний дух, пробудившись однажды, зовет нас из города. И мы в морозный день, вызывая насмешки, сидим где-нибудь на Москве-реке, ловим рыбок размером с мизинец или, получив отпуск, едем за тридевять земель половить окуней покрупнее. Мы жаждем чистого неба, светлой воды, душистых цветов, первобытной еды, сваренной на дымном костре, тишины. Живущим в каменных городских клетках это необходимо хотя бы летом, хотя бы в году один раз...
Как усы, от лодки к двум берегам уходят тихие волны. На минуту перестаем грести.
— Петро Егорыч, а в город не тянет? Ваши вон все подались...
— Подались, подались, — грустно соглашается лодочник. — Всех тянет... И то сказать — все тебе удовольствия, а тут что же, тут на любителя...
Лодка проходит в узком, поросшем осокой месте. Вечером вдоль берега кто-то выставил жерлицы. Почти на каждую попалась щука. Заслышав лодку, щуки подняли возню, одна ухитрилась высигнуть из воды, мелькнула белым матовым брюхом, затрясла удилище.
— Пожалуй, с пол пуда будет, — равнодушно сказал Егорыч. — Учитель приехал. Любит эту глупую снасть. Поставит, а сам у костра...
И правда, за поворотом мелькнул огонек. Белесый дым от костра стлался низко, над самой водой, щекотал ноздри.
— Это ты, Егорыч? — послышалось с берега.
— А кто же кроме... Другой бы к огню пригласил, — тихо ворчит Егорыч. — Плохой человек, все думает, его щук с жерлиц снимают...
Полночь. Мы кидаем на берег удочки, ставим берестяной короб с неуснувшими окунями. Егорыч, подтянув лодку на камни, глядит на синевато-белое небо.
— Юпитер, — говорит он протяжно не то с грустью, не то с сожалением. — Ну вот, можно считать, и окончились бе- 16 лые ночи.
Кончились белые ночи Сегодня рядом с ярким Юпитером на светлом небе мы разглядели еще две маленькие звездочки. В белые ночи звезду не увидишь, а сегодня звезды можно хорошо разглядеть даже в тихой воде И все-таки очень светло. Солнце часа на два опустилось за лес. Следы от солнца, как перья подбитой птицы, плавают над деревьями, отражаются в озере, а чуть правее по горизонту уже появился румянец восхода. Середина неба, лес, озеро залиты матовым серебряным светом — ночь и не ночь. Спать не хочется, хотя все над озером спит. В трех шагах от тропинки спит на сучке, положив под крыло голову, серая птица. Не слышно чаек. Только белая лошадь тихо ходит по берегу. Два молодых зайца пасутся у нее под ногами
Зайцы еще не знают людей. Подходим, а они чуть в сторону из-под ног лошади и продолжают обкусывать стебелек высокой травы. Озеро, синее при солнечном свете, сейчас как будто наполнено молоком. На холодных, обросших голубоватым лишайником валунах выступила роса. По гулким скрипучим мосткам идем к бревенчатой бане на сваях Садимся, опускаем босые ноги в теплую озерную воду, чистим рыбу. Если минут через двадцать подойти к этому месту и нагнуть с мостков голову, увидишь, как в лунного света воде кормятся раки. Раки терзают рыбьи головы и кишки. Сняв рубаху, наклоняешься, запускаешь в воду руку по самые плечи... Хвать! — кидаешь на берег первого рака
Разговариваем вполголоса — то ли потому, что устали, то ли нельзя иначе в такую ночь. Плещется рыба в молочном озере... Где-то я уже видел этот серебряно-матовый свет. Это было, кажется, в детстве при затмении солнца Было так же тихо и непривычно тревожно. Белая ночь. Слышно, как хрустит трава на зубах белой лошади. У берега на сваях забрели в воду десять бревенчатых бань. Когда-то десять хозяев жили на озере. Десять больших бревенчатых домов глядят в воду потускневшими окнами. Но только в одном доме загорается свет, когда кончаются белые ночи, кончается лето и наступают длинные белые зимы. В девяти домах нет хозяев. Сначала в город и в селения, что покрупнее, ушла молодежь, а за ними, пожив в одиночестве зиму-другую, ушли старики. Один Петро Егорыч остался, и то, наверное, потому только, что выправили ему в Петрозаводске должность егеря - присматривать за рыбой и зверем в этих краях.
Мы живем в большом чуть похили- вшемся доме с резным крыльцом, подпольем. с гулким сухим чердаком, заваленным обрывками сетей старыми удочками, обломками прялки и мотоцикла, граблями, ухватами В доме пахнет глиной давно не топленной печи, старым деревом и старым сеном Хозяева бросили дом два года назад Но домовой, живущий, по поверью, на чердаке возле борова, должно быть, остался
в доме и без хозяев Под утро, похлебав холодной вчерашней ухи и пожевав хлеба с черникой, мы ложимся на сено» но долго не можем заснуть. На чердаке кто-то шуршит, громыхает. Потом скребется в сенях Тихо идем к двери, чтобы застать врасплох Домового, распахиваем — никого нет. Но утром видим: лески на удочках спутаны так. что легче оторвать и привязать новые, опрокинута деревянная чашка с рыбой, из мыльницы на крыльце украдено мыло
— Да не иначе как Домовой, — смеется Петро Егорыч Он стоит у крыльца с веслами, с берестяным коробом и самодельным спиннингом, блесны для которого он делает из старинных николаевских пятаков
Чтобы стряхнуть сон, бросаемся в синюю холодную при солнце озерную воду. Пьем чай — и опять в лодку.
В середине дня обязательно вылезаем на берег, варим уху, лежим на теплом песке. Потом, распугав в ельнике косачей, собираем горстями сизую, прогретую солнцем чернику. В одном месте, прыгая с кочки на кочку, добираемся к зарослям дикой малины. Прислушались: кроме нас, кто-то еще бродит по зарослям Петро Егорыч сразу смекнул: с этим любителем ягоды лучше бы не встречаться. И точно — на сыром песке возле болотца встречаем следы огромной медвежьей лапы. Скорее в лодку!..
Последнюю ночь не спали совсем. Была ночь прощального ужина и прощального разговора. Вспомнили рекордного веса щуку с утенком в желудке, вспомнили Домового. Мыло, оказалось, украла ворона, она и ко второму куску пригляделась, да сама едва не попала на зубы хозяйской собаке. А лески ночами путал хорек... На прощальном столе — редкая рыба ряпушка, какую хозяин ездил ловить далеко на край озера. В тарелках грибы, карельские лепешки — калитки. Подавались уха и жареный окунь, черника. Хозяин рассказывал:
— ...И осталось нас двое. Федя и я. Феде было тринадцать. Говорю генералу: так, мол, и так, разрешите поехать — будет сынишка в полку воспитанником... Весь взвод пришел просить генерала: шинель сошьем, сапоги справим, одним словом, будем воспитывать. Ладно, говорит генерал (хороший был человек), езжай, говорит, только чтоб быстро. И поехал я в сорок третьем с фронта за сыном. Привез, в десять дней обернулся. Полюбили Федю в полку: шапку, шинель, сапоги, приварок — все чин чином. И дошел он в сапогах солдатских со мной в самую Австрию, до города Вены. У меня пригоршня медалей, и у него столько же. Сейчас тут по соседству работает. Лесоруб — в день три нормы дает. И еще сына имею. Этот мальчишка еще. Сейчас в город уехал гостить. Боюсь, как бы там не застрял. А я нет. Прирос. И теперь уж до конца дней. Вон ушли люди, дома побросали — молодые еще туда-сюда, а старые приезжают и плачут. А как не плакать — приволья, красоты такой где найдешь? До Вены дошел — такого нет...
В окошко видно Юпитер, молочного цвета воду, темные бани на сваях, тонкие струны уснувшего камыша.
Так и стоит в памяти эта летняя ночь на озерах.
□
Рыбалка в этих местах надежна для птицы, для зверя и для людей...
Дремлет лодка на привязи, горит полуночный костер. Заря вечерняя, не угаснув, сменяется утренней.
17
ДОН В КОЛЫБЕЛИ
Скажи-ка, Лена, где течет Дон?
— В Ростовской области, там, где Шолохов, — сказала, минуту подумав, девятиклассница...
При слове Дон мы все представляем себе широкую реку с казачьими станицами по берегам и с жизнью, знакомой по «Тихому Дону». Литературный образ реки стирает школьные знания географии, и нам кажется: Дон течет только в «донском, казачьем краю», он всегда тихий и от рожденья большой. Ростовчане, живущие в самом низовье реки, места у Вешенской называют Верхним Доном. Между тем Вешенская — это среднее течение Дона. Взгляните на карту — хвостик реки мелькает почти в Подмосковье, на тульских холмах, и до первых казачьих станиц путь Дона лежит по землям тульским, липецким и воронежским.
Проезжая недавно на Куликово поле, я был поражен, увидев у тощей степной речушки дорожную надпись Дон. По речке плавали гуси, мальчишки, стоя в воде по колено, удили пескарей. Я сразу вспомнил низовье реки, где, подобно гусям, плывут по тихой воде белые пароходы, где лишь хороший пловец решится одолеть реку. То был «хрестоматийный», прославленный Дон, на рисунках изображаемый в образе казака в шароварах с лампасами и с усами из пшеничных колосьев. Тут же, на тульской земле, я видел худощавого мальчика, которому предстояло одолеть тысячу верст пространства, прежде чем стать казаком.
Нашим предкам времен Куликовской битвы нижний Дон был почти что неведом. Верховье Дона было для них границей, отделявшей обжитую землю от «дикого Поля». Беды и разоренья, подобно пожарам, шли на Русь из-за Дона. В верховьях реки состоялась решающая историческая схватка со степняками, однако долго еще и после княженья Дмитрия Донского река оставалась пограничьем Руси. И сословие казаки тут зарождалось из храбро-отчаянных хлебопашцев, «державших одной рукой соху, а другою — ружье». По Дону к Азову плыл построенный на Воронеже изначальный российский флот. На памяти нынешних поколений донская вода каналом соединялась с волжской...
У переправы на тульской земле я бросил в реку спичечный коробок и представил путь его до Азова. Тысяча девятьсот километров! И почти всюду эта дорога была по степям. Всюду река открыта ветрам и солнцу. Притоки в верховьях водой небогаты, и силу река набирает с трудом и не сразу. Теченье, в верховьях достаточно резвое (наши предки называли Дон «быстрым»), постепенно становится медленным и уже в липецких землях Дон равниною укрощен. Слово тихий к нему подходит вполне.
У Лисок (нынешнее название городка — Георгиу-Деж), помню, появлялась на Дону первая пристань. И далее вниз шли уже пароходы. От Лисок до Вешенской Дон может хвастаться красотою. Тут он течет то в меловых кручах, то в дубовых густо-зеленых лесах, выходящих к нему из степи, то в лесах пойменных, непролазных и непроглядных. Я, помню, плыл осенью в этих местах. Ветерок с берега приносил запах хмеля, запах диких лежалых груш, опавших дубовых листьев. Это был запах Дона, знакомый по знаменитой книге.
Ниже река впечатляет уже не красою, а силой. Большая вода неспешно течет степями к столице Дона, к Ростову. А там рукой подать уже до Азова, до устья, где в камышовых дебрях не сразу поймешь, где река, а где уже море. Тут, петляя на лодке по тихим пространствам воды, невольно думаешь о начале ее, о месте, где река зачиналась...
Исток у Дона не окружен тайной. Иные реки берут начало в непрохо-
Так начинается Дон — сначала потное место со ржавой водицей, потом жиденький ручеек, теченье с мостками и деревянными переходами. И вот уже не ручей, уже река течет по равнине...
18
димых болотах, в малодоступных замшелых лесах, в ледяных расщелинах гор. Колыбелька реки почти всегда, как будто нарочно, упрятана, увидеть ее дано не каждому. С Доном все обстоит иначе. Его исток мы нашли в шумном промышленном городе. Нашли в полном смысле под ногами людей.
Город Новомосковск — заметная точка на карте. И синяя жилка реки именно тут появляется.
— Можно ль увидеть, где начинается Дон? — спросили мы с другом парня, чинившего возле дороги автомобильное колесо.
— О, это просто! Езжайте автобусом...
Не менее часа мы колесили по городу, пока кондуктор назвал остановку: «Березовая роща! Кто спрашивал про исток Дона, выходите!»
Мы вышли и увидели городской парк — река людей, скамейки, деревянные терема для детишек, киоски с мороженым... Под дубами, возле дорожки, покрытой асфальтом, затейливый столбик нес наверху надпись: «Исток реки Дон». Все основательно — столб металлический, буквы резаны из металла... Но где же река? Под ногами сухо — асфальт, в ста шагах за забором — городская шумная площадь. Ищем хотя бы след от воды... Вот он! — трава, непохожая на растущую в парке зелень, узенькой лентой тянется от асфальта. Пониженье — и видим осоку, сначала робкие кустики, потом грива осоки, потом уже космы водолюбивой травы. Но воды еще нет. Тропа-переход через травы сухая. Еще полсотни шагов — чувствуем запах сырого места. И вот они, первые блестки — вода! Она еще не течет. Она робко сочится из потного русла. Ржавый кружочек воды. Упавший лист дуба почти целиком его накрывает. Но солнце уже отразилось в крошечном зеркальце, зяблик, присевший возле травы, может напиться из водяной лунки.
И вот уже не отдельные блестки, а полоска воды показалась из трав. Теченье еще незаметно, ширина — один шаг, даже старушка, опираясь на палку, одолела преграду... А вот уже и дощечка положена через воду, вот первый мосток, явно великоватый для тощего ручейка, — точь-в-точь шапка взрослого человека на мальчике. А дальше — запруда, и сколько ни есть воды в ручейке с названием Дон, перед запрудой она выглядит озерцом. И в озерце отражаются двенадцать из бревен тесанных казаков в латах, с копьями и секирами, глядятся чугунные пушки и горки ядер. Так город Новомосковск обозначил свою принадлежность к великой реке. Суждено было вырасти городу на самом ее истоке. И потому колыбель Дона у всех на виду, освещена электричеством, над ней постоянно слышны голоса и шаги, музыка из приемников, молодой смех и стариковские вздохи. Такое у Дона начало.
Из Новомосковска река пускается в древний путь до Азова. Чего только нет на ее берегах! Угольные шахты (сразу у Новомосковска и ниже в Донбассе); поля хлебов на всем пути от истока до устья; места сражений полузабытых и недавних совсем, от которых болят еще раны; атомная станция стоит на Дону под Воронежем; Цимлянским морем разливается Дон, соседствуя с Волгой; в меловых кручах у Белогорья увидишь пещеры; у Костёнок — мирового значенья раскопки древнейшего поселения человека. Сотни речек, ручьев и немаленьких рек принимает Дон на пути к морю. Тысячи деревень, сел, хуторов и станиц приютили его берега. И жил у Дона преданный ему человек, воспевший реку и большие страсти людей на Дону...
Нельзя перечислить всего, что помнит и видит река на пути к морю. И потому с волнением смотришь на ключик воды, дающий всему начало.
□
ПЛЁС
Летом 1888 года еще мало известный молодой пейзажист Исаак Левитан плыл по Волге из Нижнего Новгорода в поисках «источника сильных впечатлений». Художник был грустен, даже уныл — Волга, вопреки ожиданию, душу не задевала. И вдруг за Кинешмой взгляд живописца и его спутницы привлек маленький городок, убегавший от воды круто в гору, в зелень берез и елок. На бугре стояла бревенчатая церковка, кругом темнел отражавшийся в Волге лес. Левитан побежал к капитану.
— Что за место?
— Городок Плёс, — равнодушно сказал капитан, — точнее сказать, городишко...
Но художник уже не слушал. Городок приближался. И было в нем что-то заставлявшее поспешить.
— Сходим! — художник побежал в каюту за мольбертом и саквояжами.
Так случайно Левитан встретился с Плёсом.
Теперь, спустя без малого сотню лет, пассажиры на теплоходах заранее выходят на палубы и с нетерпением ждут... Со времен Левитана облик города мало в чем изменился. И в этом его привлекательность. Случается, два, даже три громадных теплохода борт к борту стоят у Плёса. Местные жители растворяются в потоке приезжих. По делу прибывают сюда немногие. Главное — навестить городок, самому убедиться: справедлива ль о нем молва?
История Плёса не бездонна, но глубока. Основан он был в год Грюнвальд- ской битвы (1410) с назначением: оберегать границы Руси от набегов с востока. Место для рубленой крепости посланцы московского князя Василия (сына Дмитрия Донского) выбрали не случайно. На Верхней Волге это самая высокая точка. Крутизна берегов обрывалась возле воды, и с двух сторон крепость обрамляли овраги. Неприступной стояла она на мысу. Это не помешало, однако, молодому казанскому хану Махмуту Хази «сжечь Плёсо» (так изначально назван был город). Но то был всего лишь набег. Плёсо восстановился. Служил позже сборным пунктом для войска против казанских ханов. Беспокойство с востока сменилось потом нашествием с запада — в Смутное время просочилось сюда шляхетское войско... А в 1812 году город был тылом, куда эвакуировались воспитанники и педагоги Московского театрального училища. Приютивший беженцев заштатный патриархальный Плёс обескуражен был ученьем резвых «ахте- рок». Особо богопротивными показались плесянам балетные танцы. Балетмейстер тех лет Глушковский записал реплики собиравшихся поглазеть на ученье: «Ах, матки мои, как их вертит нечистая сила, как она их подымает!» Кто знает, быть может, отзвук далекой той встречи с Плёсом побудил именно 20 тут организовать дом отдыха театрального общества. И нынешний Плёс видит на своих улочках «ахтерок», хорошо им знакомых по телевидению и кино.
Звездный час малого городка приходится на вторую половину минувшего века. Плёс поставлял в это время рыбу в Москву, славился кузнецами и оборотистыми извозчиками, портняжничал и сапожничал, поставлял на волжский путь бурлаков, но главное — сделался важной торговой точкой речной дороги. Тут с барж на телеги переваливали хлеб, шедший с юга, сюда свозились товары из Иваново-Шуйской промышленной зоны. На ручьях и речках, впадающих в Волгу, вертелись мельничные колеса, на открытых ветру буграх шевелили крыльями ветряки. Появилось несколько маленьких ткацких фабрик. Город бурлил. Население его достигло двух с половиной тысяч. Дома росли как грибы. Наверху места уже не хватало, заняли низ у самой воды. И по буграм, вырезая на склонах площадки, рубили дома. Так сложился облик городка, бегущего вверх по откосу.
В летнюю навигацию население Плёса возрастало в несколько раз. В ночлежных домах обитали портовые грузчики. Ненадолго находили приют под крышами города бурлаки, проходившие «бечевою» вдоль Волги до тридцати километров в день. Набережная белела двухэтажными домами купцов. Торговали в Плёсе разным товаром На удивленье много было тут книжных лавок — двенадцать.
Рельсовый путь Иваново-Вознесенск — Кинешма сделал невыгодным вывоз хлеба из Плёса гужевым транспортом. И городок быстро утих. Тишина была уже главной его примечательностью, когда Левитан первый раз сошел с парохода на пристань.
В Плёсе художник нашел то, что искала его душа. Поселившись в домике с окнами на реку, он обрел житейский покой и жадную страсть работать. Исчезли мнительность, неуверенность в своих силах. Его зонт над этюдником видели то у воды, то на кручах над речным плесом, то в окрестных деревнях.
Тихая жизнь городка, мир простых радостей, близость к природе пробудили все лучшее, чем была богата эта натура. Плёс оказался для Левитана тем же, что и сельцо Михайловское для Пушкина. Жилось и работалось радостно. Расширился жизненный горизонт. Молодой еще человек, видевший в Москве главным образом приказчиков, коридорных, половых, извозчиков, увидел тут, на Волге, основы жизни, начал понимать историческую силу народа. И хотя полотна Левитана «безлюдны», мироощущение человека, писавшего их, явственно проявляется. Чехов, увидев холсты, привезенные другом из Плёса, сказал: «...на твоих картинах появилась улыбка».
В Плёсе состоялось открытие Левитаном Волги. Волжских пейзажей до него написано было много. Левитан в своих наблюдениях и переживаниях постиг душу великой реки. Он почувствовал здесь просторы России, волжский плес, в котором отражался маленький городок, подарил художнику острые ощущения переменчивой красоты. Картины «Вечер. Золотой плес», «После дождя. Плёс», «Свежий ветер. Волга»,
глубоко волнующие нас сегодня, — результат и громадного мастерства, и особого строя души, способной остановить волнующие мгновения жизни.
Плёс подарил живописцу много таких мгновений. Полотна, привезенные с Волги, сразу поставили Левитана в ряд великих художников. Всеобщее любопытство вызвал и маленький городок. Сюда устремились художники. Перебывало их, начинающих и маститых, в городке много, и каждый увозил на холстах «свой Плёс». Но имя Левитана для Плёса — то же самое, что имя Толстого для Ясной Поляны, Тургенева — для Спасского-Лутовинова, Чехова — для Мелихова. Левитан ездил сюда три лета подряд. Написал много больших полотен и полсотни этюдов. Мотив знаменитой картины «Над вечным покоем» подсказан был обликом деревянной церквушки, стоявшей над плесом.
Волжский маленький городок пробудил талант Левитана. И сам он навечно прославлен художником. По знакомым картинам мы знаем с детства: есть где- то Плёс, хорошо бы там побывать... Левитан сохранил сердечную благодарность местечку на Волге. Незадолго до смерти, вспоминая лучшее, что увидел, о Плёсе сказал: «Никогда не забуду...»
Сто лет почти минуло с той поры, когда по желтым дорожкам в гору ходил Левитан. За сотню лет сколько воды унесла в море Волга! Выросли, переменились города на ее берегах. А Плёс остался Плёсом. И это его старинное постоянство обернулось сегодня ценностью. Возможно, овраги и кручи помешали его застроить на современный лад.
Овраги в Плёсе громадные. Из-за них городок недоступен автомобилям. Тут царствует пешеход. Глиняные дорожки змейками убегают на кручи мимо таинственных, непролазно-зеленых каньонов. Весной овраги пенятся белым цветом черемух и служат приютом для соловьев. Летом тут пахнет нагретыми лопухами, ежевикой, жасмином. Внизу, в потемках, журчат ручейки, вверху, на припеке, гремят кузнечики. Осенью по оврагам шуршат дрозды, как детские самолетики из бумаги, скользят над желтеющим миром сороки. В пахучем царстве зарослей тут хочется заблудиться. Но невозможно. Дорожки выводят тебя на вершину откоса под полог громадных старых берез. Отсюда Волга — как на ладони.
На лодке переправиться можно на левый берег (из Ивановской в Костромскую область). Через реку, как бы со стороны, городок виден весь целиком. Видна внизу слева бывшая рыбачья слобода, виден в ней домик, где жил Левитан. И в мелких подробностях видны уступы кружевной зелени леса, уступы домов, садов, паутина желтых дорожек, освещенные солнцем полянки и темные русла оврагов, плешины на круче, вытоптанные туристами. Светел, зелен, радостен городок! А у ног его — зеркало Волги. Город похож на большой многопалубный пароход, приставший тут и не желающий уплывать — так ему хорошо. Как мачты, белеют церквушки. Нижняя палуба — самая оживленная. Плотно друг к другу стоят дома. Почти что все двухэтажные, низ — каменный, верх — деревянный. Заборы. Наличники. Двери с коваными запорами. В окнах — герань. У заборов — скамейки с обязательными старушками. Девятнадцатый век! Кажется, вот сейчас выйдет купчина в поддевке и проследует, оглядевшись, к лабазам у церкви. В огородах возле домов пахнет укропом, нагретой ботвой помидоров. Пахнет яблоками, колотыми дровами, вяленой рыбой, дымком. Куда-то в зеленые джунгли склона чешуйчатой змейкой уползает дорожка, мощенная камнем.. .
Таким видит Плёс человек, сошедший на два-три часа с теплохода.
В зелени своей Плёс прячет маленькую местную промышленность, сельскохозяйственный техникум, санаторий, дома отдыха, пансионаты, туристскую базу и памятник основателю города князю Василию. Не великое число жителей — как раз то, что надо для городка. И зимою Плёс становится тихим- тихим. Но как и прежде, вскроется Волга — число людей в Плёсе немедленно возрастает в четыре-пять раз. Через Плёс за летние месяцы проходит полмиллиона людей. Останавливаются теплоходы. И прибрежная улица превращается — не знаешь уж как и сказать — в Невский проспект, в Бродвей? Одежда — под стать маскараду: от купальных костюмов до цветных ярких шалей. В толпе я увидел даже чалму. Думал, индус путешествует, оказалось — москвич. Жена его с собачкой на поводке важно представила мужа: «Парапсихолог... Интересуется йогой...»
Какой-то веселый малый, возбужденный жарой и пестрой этой толпою, в дверях магазинчика, где продается кое- что, припасенное для туристов, озорно крикнул:
— Кольты в продаже есть?!
— Нет! — машинально ответила продавщица.
— А парабеллумы?!
— Нету...
— Ну и слава богу, что нету...
Хохот.
Плёс охлаждает сюда прибывающих. Дорожки вверх по откосу, стояние под березами на буграх, откуда белые теплоходы кажутся небольшими игрушками, посещение дома, где жил Левитан, возвращают людей в состояние, которое их самих удивляет и радует. «Ты знаешь, как будто душу в чистой воде сполоснул», — сказал мне сосед по каюте, когда мы на палубе утром заговорили о Плёсе.
Есть у маленьких глубынь-городков свои «жрецы», ревнители красоты. Плёсу особенно повезло. Тут никогда не забывали, что живут в местечке исключительной привлекательности. А когда в начале 60-х годов народ повалил сюда валом, сочли это вполне естественным. Сразу нашлись добровольцы встречать теплоходы и группами провожать экскурсантов по городу. В числе их была библиотекарь Алла Павловна Вавилова. Те, кто в Плёсе бывал, читая эти заметки, сразу вспомнят гостеприимного человека, сердечно и хорошо рассказавшего им о родном городке, о Левитане, о других людях, оставивших в Плёсе хорошую по себе память. Этой женщине принадлежит идея создать тут картинную галерею. Потом она стала бороться за музей Левитана. С преодолением множества трудностей музей был создан. И хороший музей! — с подлинниками работ художника, с вещами, каких касалась его рука. Алла Павловна сама на пороге встречает гостей и вводит их в мир Левитана... Слушатели не догадываются, сколько иных, самых разных забот лежит на плечах этой женщины. Плёс (во многом стараниями Аллы Павловны Вавиловой) объявлен историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником. Намечено сделать Плёс «вторым Суздалем». Цель хорошая, мудрая. Но дело, вопреки стараниям местных энтузиастов, движется пока медленно, слишком медленно. И, главное, в сохранении ценностей Плёса не учтена пока важная ценность — природа.
После прогулки по Плёсу Алла Павловна пригласила в дом к себе — ужинать. Ели громадного, не уместившегося на одной сковородке леща. Хозяйка дома по привычке экскурсовода рассказывала: «Рыба — традиционное угощение в Плёсе. Когда-то к домам, стоящим на склоне, из бегущих сверху ручьев отводили воду в садки, и в них с приходом гостя сачками ловили стерлядь. Левитан, несомненно, не раз едал стерляжью уху...»
Сидели за ужином долго. В открытое окно залетали на свет августовские бабочки. Были слышны густые гудки теплоходов на Волге. А в темноте сада гулко падали с веток перезревшие яблоки.
1985 г.
«■ им стоит на семи холмах, Касимов - на семи оврагах...» — говорящий это на виду городка не рискует, что местное изречение будет воспринято как насмешка.
Касимов, стоящий на высоком речном берегу, от воды ступенями поднимается вверх. И по всей панораме вдоль берега плывут пологие волны понижений и возвышений. На гребнях — церкви и белые пятна новых строений. Одноэтажные, главным образом давней постройки жилые дома, сбегая по склонам, вместе с крышами тонут в кудрявой овражной зелени, всплывают и опять — вниз. Природа была тут верным союзником поселенцев. В сочетании с рекой, с лесами, по которым на север уходит знаменитый Муромский тракт, Касимов с пристани и с проплывающих теплоходов дразнит глаза своей живописностью.
Город принадлежит к числу поселений с богатой историей и некогда шумной деловой жизнью. (Вспоминаю Ростов Великий, Рыльск, Боровск, Осташков.) Но появились иные, более скорые пути сообщений, и знаменитые города по рекам и сухопутным торговым трактам оказались в стороне от больших обновлений, превратились в «районные городки». Иным, например, Суздалю и Ростову, посчастливилось оказаться на больших туристских дорогах, и старину в них держат в порядке. Касимов и тут обойден. С дороги от пристани, идущей мимо церквей и приземистых с толстенными колоннами старых торговых строений, город встречает тебя, не стыдясь обветшалых одежд, — принимай, какой есть!
И он интересен, этот город, названный по имени татарского царя Касима. Он стоит над самой Окой, глядит в нее,
ГЛУБЫНЬ-ГОРОДОК
Старинный тихий Касимов с шумным базаром по воскресеньям, с пристанью на Оке, с полуразрушенными церквами, с резными наличниками на окнах, мощеными улицами и дорожками с кручи к реке. как в зеркало. Пыльные дороги, где асфальтированные, где мощеные, а где и просто утоптанные ногами, ведут тебя мимо строений, ныне горячо любимых режиссерами фильмов о прошлом веке.
Покосившийся домик с геранью в окошке... Глухие ворота с запором кузнечной работы... Забор, горбящийся над оврагом... Давней кирпичной кладки подвал с решеткой на окнах столь мощной, что можно подумать: именно тут хранилась городская казна. Опять домишки в один и в два этажа с садами и палисадами, из коих яблоки грозятся падать прохожим на головы... Кое-что из строений скособочилось и подперто, на что-то махнули рукой, что-то сменили современной постройкой, что-то собрались подправить, но дело ограничилось пока лишь кучей битого кирпича...
Дорога между тем приводит к «татарской горе», и по долгой деревянной лестнице (со скамейками — отдохнуть!) ты подымаешься к белому мусульманскому минарету, которому... э-ге-ге — пятьсот с лишним лет!
Странно видеть эту постройку в самом центре России. Однако было время, когда Касимов с названием Го- родец-Мещерский стоял на самом краю Московского государства. Основан он был Юрием Долгоруким и всего лишь пятью годами позже Москвы. Из бревен рубленый городок считался столицей Мещеры и был поставлен для береже- ния Русской земли от татар, но волею судеб надолго сделался центром «татарского царства».
В пору, когда татарское ханство слабело, а Московское государство крепло, к великому князю Василию Темному перебежал из Казани (середина XV
века), опасаясь за свою жизнь, сын хана Улу-Махмета Касим. Московский князь отечески принял беглеца с войском, дал ему «на кормление» Городец- Мещерский с прилежащими землями по Оке. И стали татары союзниками русских князей в борьбе с татарами же, с литовцами, с Польшей и новгородцами, не хотевшими стать «под высокую руку Москвы».
Касимовское царство (историк чуть округляет цифры) «простояло 200 лет и простиралось на 200 верст». Правители его, получившие титул «царей», были достаточно автономны (в здешних местах поселилось много татар, выходцев из Казанского царства), но, конечно, все они верно служили Москве. (Касимовский царь Шах-Али, например, вместе с Иваном Грозным брал штурмом Казань.)
За двести лет пестрая череда мусульманских фамилий причудливой вязью помечает свиток российской истории. В Касимове правили выходцы из Казани, из Астрахани, правили отпрыски крымской династии ханов, правил царевич Арслан — внук сибирского хана Ку- чума. При нем жил и умер в Касимове племянник того же Кучума, взятый в плен Ермаком. Прах татарских царевичей и царевен покоится под сводами мавзолеев, поставленных на горе. А башня мечети, сложенная из белого здешнего камня еще при Касиме, помнит все страсти, кипевшие тут на Оке.
Постепенно «касимовское царство» из окраинного сделалось серединным. И Петр I, как говорят, весьма удивился, увидев, проплывая Окой, минарет: «Что за невидаль в здешних местах?» Ему сказали. «А ну пальнем!» — будто бы решил позабавиться царь. Но ядро пролетело мимо постройки. Не повредили ее и поздние бурные времена...
В мечети сейчас музей. Не богатый, но и не бедный для районного городка. Когда вопросы мои вышли за круг вопросов привычных, миловидная и внимательная провожатая по музею простодушно призналась: «Этого я не знаю. Провожу вас к Ахмету Мартыновичу...»
Так я познакомился с потомком подданных царя Касима, ныне пенсионером, заслуженным учителем школы РСФСР и страстным краеведом Ахметом Муртазиновичем Ишимбаевым.
Люди, подобные Ахмету Мартыновичу (так его называют и так он просил называть), сами постепенно становятся примечательностью таких городков, как Касимов. Из музея к нему бегут за справкой, школы приглашают его рассказать об истории города, к нему приезжают и пишут из других городов. И на все старик отзывается. Остаток жизни его украшен делом благородным и интересным.
Дед краеведа торговал луком. И возил его обозами на санях не близко, не далеко — а в Сибирь, за реку Ишим. Туда — лук, оттуда — меха. Не бедный был человек... Отец Ахмета 24 промышлял изготовлением мошны — кожаных кисетов для бурлаков. Сам же Ахмет стал народным учителем и сорок лет учил ребятишек по селам окрест Касимова. Он воевал. Отличился в боях под Тихвином и у Волхова. Вместе с «учительской медалью» в деревянной коробке хранит шесть медалей военных.
Живет Ахмет Мартынович в деревянном высоком доме на кирпичной подклети. Дом построен отцом для матери. Она болела чахоткой, и земский врач посоветовал: «Муртаза, жена проживет еще пять годов, если построишь здоровый сосновый дом». Отец все бросил и немедленно взялся строить. Ровно пять лет мать и жила в этом доме.
Отец умер позже. В 1929 году, когда сын заимел самодельный приемник, отец, до крайности озадаченный музыкой из наушников, имел еще силы полезть на крышу, ощупать руками антенну...
Ахмет, учительствуя, в отцовском доме почти не жил. Вернулся в него пенсионером. И живет сейчас с сестрой, уже совсем древней и неподвижной. Ахмет Мартынович трогательно о ней заботится. Несколько раз во время беседы он говорил «извините...» и нес в соседнюю комнату то чай, то яблоко...
Есть в доме реликвия — часы, которым без малого двести лет. Причудливое сооружение с большими медными гирями и сонным хрипом в высоком футляре имеет «звуковые окошки».
Через каждую четверть часа поет перепелка, и время от времени по дому разносится голос кукушки, такой натуральный, что можно подумать: залетела в окошко из сада.
— Равнодушная штука — часы, — говорит старик, подымая помятые гири. — Родился — прокуковали, умрешь — прокукуют. А жизнь... Славная штука жизнь! Тут у нас над Окой много кукушек и соловьев. Соловьи, замечаю, к городу льнут...
Разговор принимает направление краеведческое. Сообща выясняем, почему соловьи «льнут к Касимову», почему славятся голосами соловьи курские и «любят ли соловьев в других государствах...».
Краеведение — это страсть, но побогаче, чем любое коллекционирование. И потому неприятным и чужим словом хобби эту страсть не хочется называть. Краеведение — это естественная потребность человека узнавать вокруг себя мир. И сколько я знал краеведов — это были всегда счастливые люди, очарованные странники, для которых посещенье мест, где еще не бывал, — праздник, а узнавание подробностей всего, что лежит в пределах их досягаемости, — сама радость жизни.
Ахмет Мартынович смолоду был таким, таким и остался на восьмом десятке лет жизни. Конечно, прежней крепости — «одолеть сорок верст за день!» — давно уже нет, да и моторный велосипед, облегчающий странствия по району, уже не часто тарахтит от дома под гору — к пристани и к мосту.
— Я вроде аккумулятора — был все время под током, а теперь ко мне проводок подключают: посвети-ка, Ахмет Мартынович! — Старик добродушно смеется. И чувствуешь: хорошо прожитая жизнь скопила радость на окончанье ее.
Ахмет Мартынович не ждет, когда к нему «подключатся», он сам подключается, появляясь перед взрослыми и детьми как проповедник с аршинной папкой наглядных пособий, сделанных из любительских фотографий. Он страстный фотограф и проводит ночи при красном свете — готовит снимки для намеченной где-то беседы. Это могут быть портреты героев войны, снимки старинных построек, памятных мест, интересных людей. Он и открытки к праздникам делает сам из фотографий по истории города...
Беседуя с краеведом, всегда узнаешь больше, чем написано в книжках о тех же местах. Под песню кукушки и хрип старинного механизма часов я узнал, где в лесах под Касимовом надо искать грибоварню, на карте в деревне Анань- ино за Окой была помечена водяная мельница — «проверьте, давно там не был...». (Проверили. И действительно, обнаружили исправную водяную старушку, возможно, последнюю на Рязанщине.) Узнал я, в какой деревне плетут для туристов и для театров лапти. Помечены в памяти краеведа места, где варят на зиму «смоквы» (фрукто¬
вые «хлебы» из яблок, смородины и малины), и, конечно, на счету у Мартыныча села, где еще делают конскую колбасу, где перед домом непременно стоит кирпичный амбар — убежище от пожара, где плетутся корзины из хвороста и где держат коз исключительно ради пуха. («Оренбургский платок-то, он раньше вязался из здешнего пуха, пудами шел из касимовских сел’») Разумеется, хорошо знает Мартыныч, чего и сколько производит сейчас Касимов. («Морские сети, точила, утюги, мясорубки, ветеринарное оборудование, дубленые полушубки...») Но это все на виду, это можно пойти посмотреть. А вот ушедшее и забытое — это знает лишь краевед.
Ему ведомо, кто и когда посетил го? род, как о нем отозвался, что приключилось тут с человеком... Царь Алексей Михайлович, желая обновить родовую кровь, решил жениться на девушке из глубинной России. Выбор пал на касимовскую красавицу Фиму, дочь небогатого дворянина. Дело дошло до венчанья, но в церкви, стоя рядом с царем, Фима упала без чувств. . Драматическую коллизию расстроенного замужества Мартыныч советует прочитать в романе В.Соловьева «Царская невеста». У краеведа же в записях значится еще один брак, со счастливым исходом. Отбывая в Касимове царскую ссылку, азербайджанец Бабаев женился на местной девушке. От этого брака родился Петя Бабаев, ставший знаменитым революционером. (Мартыныч перебирает свои документы, достает коробку из-под конфет. «Вот посмотрите: «Москва, кондитерская фабрика имени Бабаева».)
Что еще ведомо краеведу? Много всего. Вспоминается грамота Грозного здешней ямской слободе. («Хранилась у старосты триста лет!») Вспоминается мальчик Волченков Саша. С комиссарским пакетом мальчишка обошел дозоры мятежников и на реке криком остановил пароход, спешивший в Касимов из Мурома — подмога избежала засады на пристани. (Мартыныч достает собственноручно вычерченную карту с условными знаками. На ней — путь мальчика через город к реке, и тут же портрет с пометкой: 1918 год.)
Пошел разговор об Оке — потянулась длинная цепь интересных подробностей жизни на ней. Мартыныч знал многих бакенщиков, зажигавших когда-то «керосиновый свет». На его глазах поэтическая профессия умерла — появились бакены-автоматы с электрической лампой. Помечено у Мартыныча лето, когда в Касимов впервые пришла «Ракета». И год — 1858-й, когда по Оке из Касимова на Рязань в первый раз прошел пароход. А заглянули глубже в историю, обнаружилось: первым кораблем на Руси был вовсе не ботик Петра на Плещеевом озере, а корабль «Орел», построенный в здешнем краю при отце царя-флотоводца, Алексее Михайловиче. Корабль дошел до Каспия, но был сожжен вольницей Стеньки Разина...
На вопрос: кого Мартыныч считает образцом для себя в делах краеведения? — старик лукаво сощурился:
— В музее нашем висит картина: Юрий Долгорукий на коне у Оки и рядом — старик проводник. Так вот этого русского князя можно считать замечательным краеведом. Все время был на коне. И был умен, любознателен. Землю свою, по всему судя, знал весьма хорошо. Ведь какое удачное выбрал для Москвы место! И наш городок посадил на Оке тоже без всякой промашки...
У многих краеведов я замечал забавную слабость: место, которое исходили, изведали, в рассуждениях об Отечестве они непременно в строку поставят вслед за столицей. И это легко понять. Отечество для каждого из нас — большая страна и еще уголки в ней, исхоженные, изведанные и вследствие этого всегда любимые. Для Ахмета Муртазиновича Ишимбаева таким местом является земля на Оке и старинный глубынь-городок.
1979 г.
□
СТАРАЯ РЯЗАНЬ
Каждый год, принимаясь за огород, тетя Шура кладет на меже тряпицу и носит в нее все, что блеснет под лопатой: бусину, черепок, костяную пуговицу, наконечник стрелы, обломки стеклянных браслетов. Кажется, эти вещицы на огороде растут. «Копаешь весной — попадаются, осенью дергаешь лук и копаешь картошку — снова пригоршня!» И так каждый год.
В июне, когда в село съезжаются археологи и главный из них поселяется в домике тети Шуры, старуха несет из закути узелок, и ученый немедля надевает очки и садится к столу: «Ну-ка, ну- ка...» Тетя Шура чуть улыбается, наблюдая детскую радость взрослого человека. «Сплошь тринадцатый век! Тебя, тетя Шура, пора уже в штат зачислить...»
Лет тридцать назад тетя Шура не сомневалась, что приезжие люди только для виду интересуются черепками, на самом же деле ищут тут золото. Но каждый год, слушая разговоры и споры под своей крышей и будучи от природы человеком любознательным, она стала вполне разбираться в находках. Отдавая тряпицу, она теперь говорит: «Тринадцатый век... А это из позднего кое- что...»
В этом году раскопки Старой Рязани не проводились, и Владислав Петрович, всегда жаждущий видеть сокровища из земли, прямо после приветствия тете Шуре сказал: «Ну скорее хвались...» Узелок на столе появился сию же минуту. Электричества в этот вечер Старой Рязани почему-то не дали. Находки ученый разбирал при свете тонкой церковной свечки, хвалил тетю Шуру, а мне, новичку, объяснял: «Это бусина из Хорезма... Это пряслице здешнее... Осколок браслета — тоже местной рязанской работы. Все — тринадцатый век...»
В последние годы «тринадцатый век» тетя Шура находит не только на огороде. «Постоянно гляжу под ноги. И каждый раз что-нибудь попадается. Особенно после дождика, смотришь, блестит...»
Огород тети Шуры в Старой Рязани - это, конечно, лишь место случайных находок. Черепки древней посуды, изделия из стекла, из железа, из меди (из золота и серебра тоже!) тут специально ищут. Ищут многие годы. О находках в Старой Рязани написаны книги. Некоторые из находок зачислены в фонд мировых сокровищ искусства. Но главное состоит в том, что эти находки помогают восстановить облик древнего города, понять его жизнь — его связи с миром, его место в старой Руси и трагедию, им пережитую в начале зимы 1237 года.
Нынешняя многолюдная промышленная Рязань имя свое унаследовала от древней столицы Рязанского княжества, стоявшей в полста километрах вниз по Оке, на изгибе реки, где южные степи ближе всего подходили к Русской земле. Города нет давно, но след его явственно сохранился, не затоптан поздним строительством и не стерт ни сохою, ни плугом, хотя древнее городище многие лета пахалось.
Старая Рязань сегодня — это обветшавшая деревенька с горсткой домов, церковью, ценной как памятник, с посадками лука и хрена, древним кладбищем, перевозом через Оку. Деревня стоит на подоле, где и в давние времена вот так же, если поглядеть сверху, пестрели бы огороды, дома, сады, стежки.
Сам город стоял на круче, окруженный громадным насыпным валом и рвом. Это земляное зеленое ожерелье и по нынешний день производит сильное впечатление. Такую же древнюю насыпь я видел лишь в Переславле-За- лесском. Но там городище совсем небольшое, в Рязани же вал тянется больше чем на два километра, и он лишь
немного оплыл, потерял крутизну. По- прежнему на него непросто взобраться, по-прежнему ров возле вала ливневый дождь наполняет водой. Легко представляешь стену из дуба с башнями и воротами на валу. Но дерево не могло сохраниться, а земляная основа крепости сохранилась. Как стенные курганы, она увита и скреплена травами — донником, пижмой, полынью и пахучей, тревожащей душу тимьян-травою. Вал будоражит память, пробуждает желание узнать: а что же было за этой громадной насыпью, возведенной людьми?
С Владиславом Петровичем мы обошли вал по гребню, пролетели над городищем на вертолете, потом, выбрав погожий час, посидели на самой высокой точке возле Оки. «Ну как, представляете город?» Я улыбнулся: что можно представить по месту, где многие годы сеяли рожь и сажали картошку?
В 1822 году крепостной крестьянин Ефимов, пахавший зябь в городище, увидел, как под сохою что-то блеснуло. Оказалось, раскопан золотой клад княжеских драгоценностей, зарытый неглубоко, как видно, в спешке, как видно, в ту роковую зиму. Клад отослали царю. Крепостной получил вольную и порядочно денег в награду. А находка (она хранится сейчас в Оружейной палате Кремля под названьем «Рязанские бармы») наделала много шуму. Встрепенулась совсем молодая тогда наука археология, оживились собиратели древностей, стали зорче глядеть под соху крестьяне в Старой Рязани.
И находки пошли одна за другой. Серебро, золото попадались нечасто, но с интересом встречалось и покупалось- перекупалось все, извлеченное тут из земли. Для некоторых жителей Старой Рязани кладоискательство сделалось промыслом и, говорят, неплохо кормило.
Нынешние археологи недобрым словом поминают кладоискателей, нанесших «культурному слою» непоправимый урон. Археологи прошлого века поначалу вели работы тоже почти любительски. И тоже с нынешней точки зрения принесли вреда больше, чем пользы. Но их раскопки впервые позволили глянуть за пелену времени. Город, о котором было известно только по упоминаниям в летописях и поэтической «Повести о разорении Рязани Батыем», стал обретать для историков реальные очертания.
Строго научные и тщательные раскопки в 40-х годах и долго после войны в Старой Рязани вел археолог Александр Львович Монгайт, передавший дело всей своей жизни наиболее прилежному из последователей — Владиславу Петровичу Даркевичу.
За годы раскопок тут найдены тысячи древних вещей, всего нельзя перечесть — остатки мечей, лопат, серпов, остатки посуды, стальные кресала и кремни для добывания огня, кузнечные инструменты, топоры, молотки, литейные формы, дужки ведер, наконечники стрел и копий. Обычны среди находок игрушки детей, украшения женщин, поясные накладки и накладки на конской сбруе, резьба по камню, по кости. И конечно, много на городище могил — ритуальные погребения мирного времени и могилы, где рядом и друг над другом лежат останки десятков людей — взрослые, дети. В том же временном слое обгоревшие зерна ржи и пшеницы, пепел спаленного дерева и соломы. Это декабрь 1237 года.
Все тут найдено не в год, не в два, не в тот час, как захотелось найти. («Хотя бывало и много счастливых случайностей!») Кропотливая работа по строгому плану, «работа не столько лопатой, Такими видишь валы Старой Рязани, когда пролетаешь на вертолете... Уже многие годы ведет тут раскопки Владислав Петрович Даркевич.
сколько ножом и кистью», возобновляется каждое лето. В находках многое повторяется, но были тут и сенсации.
Всегда сенсация — клад. Их найдено тут двенадцать. «Клад в рутинной работе раскопщиков — событие чрезвычайное. Это праздник. Позднее находку положат в музее на бархат или закроют в тяжелом сейфе. Но до этого ценность кто-то увидит в глыбе земли. И такая находка — всегда неожиданность». Это слова Владислава Петровича. Сам он радость большой удачи испытал летом 1966 года, обнаружив в раскопе клад серебряных украшений. И не заморских, а кованных тут, в Рязани, в мастерской древнего ювелира!
В нынешней новой Рязани в музее мне показали эту находку. Массивное, холодящее руку старинное серебро с тонким, отменного вкуса узором! Кто-то из древних спешно зарыл драгоценности в мерзлую землю, когда гудел вечевой колокол, когда Рязань, возможно, уже горела и враг врывался в проломы ее защитной стены.
Однако клад кладом — он ценность яркая, впечатляющая! — но при раскопках очень важны и невзрачные с виду находки, например, застежки от книжных окладов, металлическое писало, писали которым по бересте. Это свидетельство: в Рязани были не только умелые кузнецы, гончары, искусные резчи-
ки, ювелиры, но были и просто грамотные люди, умевшие писать и читать.
Важны и совсем незаметные для стороннего глаза находки: миллиметровая жилка древесного тлена — след подполья в жилище, остаток печи, пепел дерева и соломы, кости рыб и животных. Сопоставление находок, их топография дают богатую пищу для размышлений, для реконструкции облика города, для представленья о том, что промышляли, с кем и чем торговали, на что охотились, кому молились, как радовались и веселились наши далекие предки.
Рязанское городище сейчас признается первостатейным археологичес- 27
Так представляют себе историки и художники облик Старой Рязани и штурм города в декабре 1237 года.
ким памятником нашей страны. Все в целом оно представляет для историков подлинный клад, почти такой же, как рухнувшая под пеплом вулкана Помпея.
Владислав Петрович намерен написать популярную книгу, «оживляющую» Рязань. И по рассказу его можно представить себе этот город.
Выбор точки для города был безупречным. Соображения стратегического порядка не потеснили заботу о красоте места. С окской кручи открываются живописные дали Мещеры, с лугами, болотцами, кустарником и деревьями. И рядом Ока. Крутые обрывы оставляют возле воды полоску земли для приста- 28 ни, а выше — величественные валы. Юный Виссарион Белинский, посетивший Рязанское городище в 1829 году, написал: «Эти места достойны, чтобы на них стоял столичный город».
Со стороны хозяйственной у древней столицы тоже были все преимущества. Перед лицом — большая, богатая рыбой вода, за спиной — черноземное поле. Луга и лес рядом. Обилие зверя, бортные угодья. Но главное — город стоял на великом водном пути. Ока и Волга с притоками и короткие сухопутные волоки связывали Рязань почти со всеми городами Руси, с караванными путями, идущими в Среднюю Азию, Персию, на Кавказ. (В раскопках находят хорезмские бусы из сердолика и хрусталя, иранскую бирюзу, крымские амфоры, янтарь из Прибалтики, печати из Византии.) Из Рязани в дальние страны увозили меха, мед и воск. А на внутренний рынок Рязанского княжества местные мастера поставляли все — от ножа и сапог до тончайшей работы ювелирных изделий.
С Оки и с юга, с хлебных равнин далеко было видно три каменных храма. Остальной город был сплошь деревянным: дома, сараи, церквушки — все рубилось из бревен и крылось щепою и тесом. Естественно, город боялся огня. Но в вечевой колокол били не только когда случались пожары. Молодое Рязанское княжество было на Руси пограничным со степью. Беспокойные кочевые соседи, набегавшие с Дикого поля, в первую очередь поживиться стремились в Рязани. Земледельцы, кузнецы, плотники, ювелиры и рыбаки обязаны были искусно владеть и мечом. Ощущение постоянной опасности, постоянные стычки со степняками (да и с соседями-единоверцами тоже!) воспитали тут, на Оке, особый «рязанский характер» — людей предприимчивых, небоязливых, готовых с кем угодно сцепиться («за князем — в огонь и в воду!»), людей с «буею речью», упрямых и непокорных. Словом, то были люди беспокойного пограничья, у которых вечевой колокол вызывал не страх, а приливы энергии.
Жило в столице людей, по нынешним представленьям, немного — тысяч семь-восемь. Но и вся-то земля в те годы была редко населена. Нынешний семимиллионный Лондон имел населения тридцать тысяч. И Париж столько же. А Москва была еще городком, для которого Рязань с ее соборами и ремеслами была тем же примерно, чем является нынешняя Москва для нынешней Рязани.
Город на Оке расширялся и рос, богател, процветал. Летом 1237 года город еще не чуял беды. На пристани теснились ладьи и лодки купцов, курился дымок над домами ремесленников. С дальних речек княжества, с Усманки и Воронежа доставлен был урожай меда и бобровые шкурки. Но беда была уже близко. Осенью сторожевые отряды с тех же далеких речек принесли весть: из Заволжья, с востока идет неведомый враг.
В музее современной Рязани есть впечатляющий уголок — панорама штурма Старой Рязани Батыем. Редкий по силе воздействия экспонат! Сначала видишь плоское полотно с огромным — черным по белому — рисунком древнего города и слышишь спокойный, повествующий голос. Потом — набат, полотно подымается, и ты свидетель того, что случилось 21 декабря 1237 года
Город в огне. (Горшками с горючей смесью из катапульт и стрелами с огненной паклей поджечь деревянную крепость было нетрудно.) Со стены летят еще бревна, льется смола, кипяток, еще слышен набат, но в проломы над валом уже устремились разъяренные люди с кривыми мечами. Это пятый день штурма. В этот день Рязань перестала существовать. Мужчины-защитники все полегли. Детей, стариков, женщин косоглазые воины рассекали мечами, в иных, как в мишень, забавляясь, пускали стрелы. «А храмы божия разориша, и во святых олтарех много крови пролияше. И не оста во граде ни един живых: вси равно умроша и єдину чашу смертную пиша...»
У врагов, доселе неведомых, город пощады не попросил. Защищался до последней минуты и рухнул героем. Город остался лежать в головешках и пепле. Все, чем был он богат, столетия спустя
А это находки на месте спаленного города — кресты из золота, массивные украшения. Клад закопан был в землю в роковой для Рязани день.
стало «культурным слоем» для археологов, полигоном для изучения жизни, от которой нас отделяет семь с половиной веков.
Рязань была первой жертвой на пути полчищ Батыя, первой страницей в многолетней драме Руси. С рязанского пепелища Батый пошел на Коломну, Москву, на Суздаль, Владимир... Всюду был один ультиматум: покориться и отдавать десятину во всем — «в людях, и в князях, и в конях, во всем — десятая». И поскольку ни один русский город ультиматум не принял и ни один город на милость победителя не сдался, вслед за Рязанью головешки и пепел остались от всех городов.
Смерч нашествия, как стрела на излете, иссяк у границ Западной Европы. Просторы Русской земли и ожесточенное сопротивление (по несчастью, разрозненное!) истощили силу орды, и к «Последнему морю» она не дошла. Однако дыханием ее на Европу все же повеяло. «Это было событие, искры которого разлетались и зло которого простерлось на весь мир», — писал в XIII веке арабский историк Ибн-аль-Асир. Для Русской земли, однако, это были не искры пожара, это был сам пожар, разрушительный, беспощадный, с последствиями долгими и тяжелыми.
Рязань первой испила эту чашу несчастья. Было это очень давно. Еще не была открыта Америка (и даже Колумб в не страдавшей от ига Европе еще не родился!), люди не знали еще, что Земля — это шар (Магеллан еще не родился!), и не знали, что этот шар вертится вокруг Солнца, — еще не родился Коперник. Но это было, в сущности, все же не очень давно: каждый дождик вымывает на месте Старой Рязани следы ее жизни. И тетя Шура (Александра Яковлевна Курганова) каждую весну и каждую осень находит на своем огороде кресты и бусы далеких родичей. «Если их потереть о тряпицу — блестят, как новые...»
Историки полагают, что Рязань пыталась подняться на ноги, но не смогла. Немудрено. На этот крайний город Руси приходился с юго-востока удар за ударом. Столицей Рязанского княжества сделался городок Переяславль (перенявший имя Рязани), городок, более защищенный лесами от набегов кочевников. А от Старой Рязани остались только валы с полынью и драгоценный для историков «культурный слой» почвы, отмеченный первым годом и первым шагом нашествия.
С той драматической зимней недели до Куликовской битвы было сто сорок три лета.
1980 г.
□
29
ПОЛЕ НАД ДОНОМ
Недавно туристы, ночевавшие где-то в устье Лопасни, у межи капустного поля нашли наконечник копья. Поиграв находкой возле костра, ребята передали ее в заповедник, расположенный по соседству. Хранитель музея на заповедной усадьбе, мой давний друг Сергей Кулигин позвонил, заметно взволнованный: «Приезжай поглядеть. Чует сердце, находка ценнейшая».
Вещи — свидетели давних событий, необычайно волнуют. Изъеденный ржавчиной наконечник копья был еще крепок. Надев на древко, им и сегодня еще можно оборониться. Устье Лопасни... В устье Лопасни 26 августа 1380 года через Оку на встречу с Мамаем переправилось войско московского князя Дмитрия. Сто пятьдесят тысяч воинов — конные, пешие, с подводами, груженными оружием, провиантом и саперными средствами, переправлялись бродами и на лодках. В сумятице переправы копье, наверное, и потерялось. И пролежало в земле 600 лет! Напильником Сергей Дмитриевич чуть коснулся копья, и под ржавчиной синевою блеснула здоровая сталь, откованная и наточенная для поля брани, для Куликова поля.
Поле... В нынешнем языке — это сельскохозяйственные угодья, место, где что-то посеяно и посажено. В широком смысле поле — это равнина без леса. Не так уж давно равнины европейской части нашей страны распаханы не были. Это была целина, дикая степь. Дикое поле. Было время, Поле начиналось ниже Киева по Днепру, за Тулой, шло от окского правого берега к Дону и дальше за Дон. Вспомним буроватожелтый пейзаж полотна Васнецова «Богатыри». Это Дикое поле.
Лесные земли в Поле переходили не сразу. Могучие древостои редели — живописная лесостепь! И постепенно глазам открывались пространства с серебристыми травами — ковылем и полынью.
В лесном крае земля небогатая. Степь же веками копила тлен травы и животных, превращая их в чернозем. Отчего же русские хлебопашцы не селились на черноземе, а корчевали и выжигали леса, обретая небольшие куртинки под пашню? Неужто не понимали преимущества чернозема? Вполне понимали и пахали землю на границе леса и поля. Но жизнь на этой границе была несносно тяжелой — кочевые народы постоянно грабили поселенца, постоянно держали его в напряжении. Русь посылала в Дикое поле заставы, предупреждавшие эти набеги. Васнецовские богатыри — такая застава. Но надежный заслон в безбрежных степях создавать было трудно.
На княжеском съезде в 1103 году Владимир Мономах жаловался великому князю Святополку Изяславичу: «Весною выйдет смерд в поле пахать 30 на лошади и приедет половчин, ударит смерда стрелою и возьмет его лошадь, потом приедет в село, заберет его жену, детей и все имущество, да и гумно его зажжет».
Так было веками. Оседлого хлебопашца беспокойный и хищный сосед разорял, истощал, заставлял искать в конце концов место для жизни в лесах. Вот почему тощий суглинок был предпочтен чернозему.
Леса были лучшей крепостью от набегов. Но соприкосновение с Полем все-таки оставалось. Это было неспокойное пограничье, проходившее долгое время по течению Оки. Левый берег — леса, правый — Поле. Кочевники прорывались, случалось, за реку. И тогда лесные городки и селения становились добычей огня и разбоя.
Вплоть до «времен Очакова и покорения Крыма» Русь вела с Полем постоянные истощавшие ее войны. Уже хорошо укрепившись, имея авторитет сильного государства на Западе, Москва платила стыдную дань крымскому хану — «абы поганые не тревожили». А тревожили «поганые» непрерывно. Набегая в степные пограничные села, они уводили пленных и скот, «в преметные сумы сажали детей — продать на невольничьем рынке».
Нужна была постоянная служба защиты на огромных пространствах. В лесах за Тулой делались засеки, на открытых местах возводились валы с частоколом, строились городки-крепости, конным дозорам, выдвинутым за эту черту, наказывалось: «Глядеть в оба. Два раза кашу на одном месте не варить. Там, где обедал, — не ужинать, где ужинал — не ночевать!»
И все-таки Дикое поле прорывалось на север. В такие дни по степи зажигались костры «с большими дымами» — татары!!! А когда эта весть эстафетой достигала лесных районов, тревога передавалась уже не дымами, а колокольным звоном. Весть достигала Москвы. Снаряжалось встречное войско. Но грабитель, поживившись, уже исчезал...
Кто же тревожил Русь с юга и юго-востока? Поначалу это были хазары, народ, по дошедшим свидетельствам, несвирепый и, в общем, терпимый. Русь наказывала хазар за набеги. Но, предпочитая жить в мире, соглашалась платить нетяжкую дань — «по белице с дыму».
Печенеги, пришедшие из глубин Поля, были непримиримей и беспокойней хазар, «белицей с дыму» мир покупать было уже невозможно.
В открытых больших столкновениях кочевые разбойники терпели от русских дружин пораженья. Князь Ярослав Мудрый победой 1036 года, казалось, положил конец нашествиям печенегов. Они исчезли. Но из марева степных далей вскоре появилась напасть еще более неотступная. Половцы! Дошедшие к нам сказания и былины тех давних времен полны ярких красок непрестанной борьбы с половцами.
Но Дикое поле готовило для Руси и более страшное испытание. Разбоем промышлявшие половцы не покушались и не могли покуситься на самостоятельность русской земли. Новая сила, пришедшая из глубин степи, на два столетия поставила Русь в унизительную и разорительную зависимость.
На землю Восточной Европы эта сила обрушилась подобно неведомым марсианам в человеческом облике — «народ неведомый», «наказание божье». Между тем в этой военной орде все было вполне земное. «Саранчей», берущей все лишь числом и жестокостью, она показалась только вначале. Скоро в кочевниках разглядели высокую степень воинской выучки, дисциплину, организованность. Наполеон, изучавший их опыт, вынес такое суждение: «Это было глубоко продуманное наступление армии, в которой военная организация была значительно выше, чем в войсках ее противников».
И ко всему прочему это были еще и шадей и мог в любой момент пересесть на свежую.
Вооружение... Основой были кривая сабля и лук. Но были еще копье, аркан и топор. Доселе неведомый русским кочевник владел оружием превосходно. Он стрелял на скаку в сторону и назад, обернувшись; спускал тетиву лука правой и левой рукой. В минуту он посылал десять-пятнадцать стрел. И попадал — «тела убитых напоминали ежей, все тело было утыкано стрелами». В колчане воина было тридцать красного цвета стрел. (Красные легче собрать после боя.) И всадник имел еще запас наконечников специальной закалки в соленой воде и пилку для их заточки. В бою противника засыпали стрелами в буквальном смысле. Когда летописцы говорят «солнце померкло от стрел», они говорят почти языком репортеров.
Сам воин заслонялся щитом из кожи и латами, тоже чаще всего кожаными, причем только спереди — «спину противнику кажут трусы». В снаряжении, кроме оружия, всадник имел еще огниво, ножик, иголки и нитки, ситечко для очистки мутной воды — остальное добывалось в пути, отнималось у побежденных.
Были в войске для взятия городов катапульты, метавшие камни и кувшины с горючими смесями, тараны для разби-
Слияние Дона с Непрядвои. Тут стоят памятники Куликовской битве, тут находят следы исторического сражения.
кровные дети Дикого поля — выносливые, неприхотливые, готовые месяцами ночевать у костров, питаться кониной и двигаться, двигаться. О войске татаро- монголов, их вооружении, организации, тактике написано много книг и статей. Возьмем из них любопытные для многих из нас подробности, помогающие понять, с какой силой столкнулась Русь и что помогало степному войску одерживать стремительные победы.
Лошадь была главным двигателем степной армады. Низкорослые мохнатые лошаденки не требовали фуража — подножный корм! Даже зимой из-под глубокого снега! Лошадь не только несла всадника, она его и питала. «Отбивные» из сырого конского мяса, возимого под седлом, были основной пищей войска. Каждый воин имел в запасе пять ло-
31
вания стен. Умели кочевники делать подкопы под крепость, запрудами «учинять наводненья». В походах вперед высылалась разведка, велась охота за «языками». Когда возникала необходимость ночью подойти скрытно, всадники затыкали рты себе кляпами, на лошадей же, чтобы не ржали, надевались особой формы уздечки.
Организация войска была простой и четкой: низшая единица — десяток, потом — сотня, тысяча и тьма — десять тысяч. Соответственно командиры: десятник, сотник, тысяцкий, темник. В низших ячейках организации войско связано было кровным родством. И всех вместе в едином боевом кулаке держали жестокая дисциплина и круговая порука — за трусость и отступление в бою одного карались смертью все остальные в десятке.
Стойкости, мужества, фанатизма войску было не занимать. Но жизненная философия людей, его составляющих, была разбойничья: «Счастливее всех на земле тот, кто гонит разбитых им неприятелей, грабит их добро, любуется слезами людей, им побежденных, и целует их жен и дочерей» (хан Чингиз).
Такую вот силу обрушило Поле на Русь в год Обезьяны по восточному календарю, «в лето 6745 от сотворения мира», в 1237 году по нынешнему счету времени Предводителю этой силы Батыю (внуку хана Чингиза) было двад- 32 цать девять лет.
Дмитрию (еще не Донскому, просто князю Московскому) тоже исполнилось двадцать девять, когда пробил час Куликова поля, час, когда Русь разогнулась и посмотрела в лицо врагов.
Сто сорок лет ига многому научили русских людей. В горьком опыте было и знанье повадок врага, его силы и слабостей. Мамай, хотевший повторения дела Батыя, и войско Мамая для воинов Дмитрия уже не были неизвестными марсианами. Русь не запиралась теперь в крепостях и церквах. Русь сама вышла в Поле, навстречу врагу, с огромной решимостью победить.
У слова поле — большое число всевозможных значений. Для встречи с Мамаем степное пространство за Доном сузилось до нескольких сотен гектаров, называемых полем брани. Этим местом суждено было стать географической точке под названием «Поле Куликово».
600 лет отделяют нас от дня в сентябре, когда в считанные часы и на малом пространстве решалось многое в нашей судьбе. Шесть веков — ничтожно малое время, если глянуть на мир глазами геолога, астронома. И огромное время! — если учитывать перемены в судьбе народов, человеческие открытия, а также и то, что стрела даже из очень тугого, тяжелого лука, летевшая метров на триста, обернулась теперь снарядом, способным обогнуть Землю, даже покинуть ее пределы. И не горящая на стреле пакля, не горшки с нефтью из катапульты грозят теперь падать на города... Кое-что переменилось в природе самого человека, но идея Чингиза «овладеть миром» оказалась живучей. Вот почему образ Поля за Доном нас так волнует, вот почему шестьсот лет спустя мы много читаем о далеких седых временах и совершаем паломничества на клочок земли, священной для нашей памяти.
Всегда интересно знать, почему именно здесь, а не в ином месте, случилось событие. И всегда мы видим цепь обстоятельств, определивших место: Бородино, Сталинград, Прохоровка... Куликово поле исключением не является. Казалось бы: степь без селений и без дорог — лишь случай свел тут противников. Да, случай, но не слепой. Оба шли по степи навстречу путем проверенным. Если б сегодня мы глянули сверху на прежние степи у Дона, то смогли бы увидеть строчки хоженых троп. По ним из Москвы до крымского Суро- жа (Судака) ходили купцы. Тем же путем «изгоном» в «залесские» (рязанские и московские земли) ходила татарская конница. Почему именно этим путем? Потому что он был наиболее экономным, проходил по водоразделу (нечасто надо было пересекать болота и речки) и, главное, шел через броды донские (близ устья Непрядвы), а также через Оку у Лопасни (Сенькин Брод).
Пятисотлетие Куликовской битвы отмечалось в 1880 году. Церковка со шлемовидными куполами на башнях и эта колонна — памятники мужеству наших предков... В названии степного цветка (татарник) тоже слышится голос древних событий.
Нынче пунктиром почти любого большого пути служат населенные пункты. В те времена степная дорога тоже имела вехи: Сенькин Брод, Кузьмина Гать, озеро Ивановское, речка Красивая Меча. И Куликово поле тоже было известно. Разведчики Дмитрия доносили: «Мамай прошел Кузьмину Гать и находится в трех переходах от Куликова поля». Предполагают даже: князю московскому и его воеводам поле было известно не только как путевая веха, но и топографически, — уж очень уверенно Дмитрий стремился на поле, и очень выгодным оказалось оно для русского войска.
И побежал Мамай с остатками войска той же дорогой, что и пришел, через броды Красивой Мечи и через Гать. Поле за Доном закономерно оказалось встречным местом двух армий, двух исторических сил.
Чем было оно в природно-географическом смысле в те годы? Нам интересно это представить сегодня, поскольку место, конечно, неузнаваемо изменилось. Тогда Дон и Непрядва были совсем не тощими речками, по ним ходили суда. Дон этих мест «тихим» не назывался. В летописях и в поэтичной «За- донщине» он называется «быстрым».
Верховье Дона было чертой, за которой человек уже находился во власти Дикого поля. Пахаря эти земли не знали. Были попытки в иных местах поднимать чернозем, но с приходом Батыя все запустело на многие годы. Через девять лет после битвы в Царьград из Москвы проплывал митрополит Пимен. Его записи — ценнейшие свидетельства очевидца того, чем было верховье Дона в те годы. «Не видно ни городов, ни сел... Нигде не видно человека; только дикие звери: козы, лоси, волки, лисицы, выдры, медведи, бобры и птицы: орлы, гуси, лебеди... во множестве встречаются в этой пустыне». Добавим: в этих местах водился в то время еще и дикий бык тур, а также дикая лошадь тарпан.
Можно себе представить, как всполошился богатый дикий мир лесостепи с появленьем невиданного числа людей. Когда летописцы говорят о том, что перед битвою в поле «кричали лебеди, выли волки, гавкали лисы... и летали орлы», то следует верить: так все и было.
Совершенно открытым местом Куликово поле стало сегодня. В те же далекие времена его покрывали дубовые рощи, а поймы речек Смолки и Дубика, тут протекавших (от них остались лишь
балки), из-за болотистых берегов, зарослей тростника, тальников и ольхи были с трудом проходимы.
Дубы на поле срубили частично сразу же после битвы — на церковь у погребения воинов и на колоды, в которых павших везли схоронить в Коломне, Серпухове, Москве.
Сегодня поле — поле в нынешнем понимании. Все распахано. (Давно распахано, но не тотчас же после битвы!) Несколько деревенек совхоза «Куликово поле» ютятся в низинах, по краю балок. (Хворостянка стоит прямо на месте сраженья.)
Для здешних жителей поле — это прежде всего земля-кормилица. Сеют тут рожь, пшеницу, гречиху, ячмень. Обходя большое пространство пешком, я безуспешно пытался отыскать хотя бы клочок, хотя бы примету Дикого ПОЛЯ. Нет, все исчезло. В деревне Даниловке тракторист Григорий Сергеевич Степин кликнул из дома вихрастого мальчугана: «Валерка, своди-ка к обрыву, я там видел ковыль...»
Мальчик нас вел километра два с половиной по бывшему руслу Дубика удивительно живописной и диковатой балкой. На глубоких пологих склонах растет тут дубняк, калина, волчье лыко, шиповник. Много трав, пахнущих степью. Среди них то и дело видишь малиновый чепчик татарника, прутья цикория, тысячелистник. Но ковыля, когда-то обычного тут, даже с проводником отыскать не пришлось. (Уверяют все-таки: есть!)
Уверяют еще: есть в земле и свидетельства битвы — наконечники стрел и копий. Местные ребятишки мечтают об этих находках. Однако не слышно, чтоб попадались. Шестьсот лет! Да и собрали сразу же после битвы копья, мечи и стрелы — оружие! Оно было нужно Руси.
На память о битве в поле в разное время поставлены памятники. Чугунная литая колонна с золотым верхом — памятник Дмитрию. (Врезалась в память листовка времен минувшей войны: портрет бородатого, но не старого человека в боевом шлеме и два только слова — Дмитрий Донской. Более ничего, только два слова. Но они делали свое дело, эти два слова, в 1943 году.)
Людей на поле сегодня бывает тысячи. У всех посещение поля оставляет хорошую память. Но любопытно: осмотрев экспонаты музея и монументы, люди пересекают шоссе поискать глазами клочок полынной земли. К этому зову памяти человеческой надо прислушаться. Все поле не к чему заповедовать. Но клок земли с дорожкой к нему надо из пашни бы выделить и оставить дикой траве. (Не привьется ковыль, пусть растут хотя бы татарник, полыни, ромашка.) Этот памятник полю будет естественным дополнением к монументам.
.. .Прощаясь с полем, я постоял на заходе солнца у Дона. Зажигались огни в Монастырщине (место, где погребли павших). С высокого берега через реку совхозные пастухи прогоняли на ночную пастьбу лошадей. Громко и долго ржал у воды отставший от матери жеребенок. Так громко, что скрипнули двери в двух-трех домах: не случилось ли что? Жеребенок перешел воду к отозвавшейся кобылице, и все успокоилось. Край поля светился красной зарей. Светлела дорога, уходившая строго на север, к Москве. Туда бежали автомобили. Но ржание жеребенка почему-то вызвало мысли о всаднике-«марафонце». 600 лет назад в сентябре этот всадник мчался с Дона к Москве с одним бесконечно желанным словом: «Победа!»
1980 г.
33
СОЛОВЬЕВСКАЯ ПЕРЕПРАВА
Днепр — это Украина. Мы к этому так привыкли, что с удивленьем стоишь у реки на Смоленщине. Днепр. Он тут неглубок и не очень широк. У села Соловьева четверо ребятишек ловят с надувной лодки плотву.
Спрашиваю: не находят ли что-нибудь тут на дне? Ребятишки не здешние. Приехали в Соловьеве гостить из Москвы. Но о находках тут знают и одну готовы мне показать... Нагнувшись с лодки к самой воде, вижу в чистом песке шероховатую спину снаряда. «Он ведь может взорваться...» — «А мы уже в сельсовете сказали. Завтра приедут минеры». Тут каждый год вода вымывает снаряды и бомбы. Знают ли ребятишки, что было тут, на Днепре, у села Соловьева, во время войны? Самый бойкий говорит: «Переправа...»
Да, тут была знаменитая Соловьевская переправа. При двух последних словах те, кто был тут в 41-м, вздрогнут — страшная переправа. Проходила как раз вот тут, где бродом идут ребятишки. Днепр был тогда и шире, и глубже. Возможно, от той поры сохранилась в воде осклизлая расщепленная свая. Взрывные находки в песке и эта свая напоминают о страшном годе. Да еще память людей.
Соловьевская переправа... Женщина в Москве, участница смоленских боев в 41-м, разрыдалась, не сразу смогла говорить о той переправе.
Память из пережитого постепенно опускает детали, оставляет лишь важные вехи, узловые моменты событий. Вспоминая войну, мы говорим: «Сорок первый», говорим: сражение за Москву, Сталинградская битва, битва за Днепр, Белорусская операция, освобождение Европы, взятие Берлина. Таковы самые крупные вехи. А если вглядеться более пристально, обнаружим героические точки войны помельче, но тоже заметные, ставшие символами в страшной нечеловеческой схватке.
Много рассказано о лоскутке суши возле Новороссийска — «Малой земле». Вспомним также Мамаев курган — высоту, за которую в Сталинграде шли непрерывные схватки, переходившие в рукопашную. «Завладев Мамаевым курганом, он (противник) будет господствовать над городом и над Волгой. Мы, в свою очередь, решили во что бы то ни стало удержать Мамаев курган», — вспоминал герой Сталинграда Василий Иванович Чуйков. Бои за курган в Сталинграде не прекращались ни на минуту. «Авиабомбы до тонны весом, артиллерийские снаряды калибром до 203 мм переворачивали землю». Склоны этой, на военном языке высоты 107,5, были устланы телами убитых. «Здесь были разгромлены многие танковые и пехотные полки и дивизии противника, и не одна наша дивизия выдержала бои — бои на истребление, невиданные в истории по своему упорству и жестокости...» В громадном сражении на Волге Мамаев курган был самой горячей, самой гибельной точкой.
Многое можно вспомнить также о Са- пун-горе в Севастополе, о Волоколамском шоссе под Москвой, о крепости у Бреста, о деревне Прохоровке под Курском, о ледовой и водной дороге на Ладоге, о Пулковских высотах под Ленинградом и о высотах Зееловских у Берлина. К тому же ряду географически-ге- роических точек войны относится Соловьевская переправа.
В донесениях с фронта название переправы замелькало в июле 41-го года. Все тогда, затаив дыхание, следили за сражением у Смоленска. Взятие Смоленска открывало немцам прямо по автостраде путь на Москву. Выиграть время, измотать противника как можно больше, как можно дольше задержать его у Смоленска — такова была задача в июле 41-го года. Взглянув на карту сражений тех дней, мы увидим синие, сходящиеся за Смоленском стрелы ударов противника и между ними красный овал с номерами 20А и 16А. Две наши армии, изнемогая, дрались за Смоленск почти окруженными. Дорога Москва — Минск, идущая через город, была про-
34
тивником перерезана. Тонкая ниточка коммуникаций, по которой окруженным можно было посылать боеприпасы и пополнение, проходила по старой Смоленской дороге с переправой через Днепр у села Соловьева. Именно это место стало самой драматической точкой в Смоленском сражении. Сюда с двух сторон устремили свои удары фашисты, стараясь стянуть горловину мешка. Командование нашего Западного фронта, в свою очередь, принимало все меры, чтобы кольцо на Днепре не замкнулось. Переправа у села Соловьева стала важнейшей стратегической точкой войны.
Можно вообразить, что тут было в том горьком июле. Сотни повозок, автомобилей, тягачей, пушек, ящиков со снарядами, патронами, продовольствием, тысячи людей плотной нетерпеливой массой сбились на левом восточном берегу. Переправу беспрерывно бомбили и поливали свинцом висевшие над рекой «мессершмитты» и «юнкерсы», с юга и севера по реке давили на переправу сухопутные силы фашистов. Дело доходило до стрельбы по переправе прямой наводкой из прорвавшихся танков. Понтонные и паромные средства на переправе, едва их наводили, сносило фугасами. Скопления войск были незащищенной мишенью для самолетов. Сколько тут полегло, вряд ли кто скажет. «Днепр ниже села тек красный от крови», — рассказывала мне нынешняя жительница Соловьева Мария Андреевна Мазурова. Дорогой ценой доставлялось боепитание сражавшимся у Смоленска.
Значение переправы было так велико, что командование Западного фронта создало специальную подвижную группу защиты, выделив для нее все возможные технические средства и надежного командира. Им был полковник Александр Ильич Лизюков. Задачу ему поставил маршал С.К.Тимошенко лично: «Обеспечить пути снабжения 16-й и 20-й армий, а при необходимости обеспечить пути их отхода».
О том, как сражался этот подвижной отряд, ходят легенды. С небольшим числом легких танков Лизюков появлялся то перед северным, то перед южным клином наседавших на переправу фашистских войск, останавливал их, отбрасывал, непрерывно атаковал. Свидетельство маршала Рокоссовского: «Он (Лизюков) чувствовал себя уверенно в любой самой сложной обстановке, среди всех неожиданностей, которые то и дело возникали на том ответственном участке. Смелость Александра Ильича была безгранична».
Между тем сражение за Смоленск догорало. 27 июля синие стрелы немецких ударов с юга и севера в направлении Соловьева сошлись. Днепровская переправа оказалась в руках у врага. Это означало полное окружение дравшихся у Смоленска армий. Теперь переправляться надо было уже на левый, восточный берег. Но вначале предстоя-
Память о лете 41-го года. Ее хранит Днепр, неглубокий в этих местах, ее хранят обелиски на берегу.
ло отнять у врага переправу. И опять отряд Лизюкова! Усиленный Рокоссовским свежими силами, отряд на рассвете устремился на штурм села, примыкавшего к переправе. Положение было неравным. Фашисты окопались на возвышениях правого берега. Луг за Дне¬
пром, по которому двигались цепи атаковавших, был перед ними как на ладони. И наверное, захлебнулась бы решающая атака, но сам Лизюков, соскочив с танка, поднял залегших под страшным огнем бойцов. В который раз Днепр окрасился кровью. Но сначала с берега, а потом из села Соловьева фашисты, отчаянно сопротивляясь, все- таки отошли. Переправа вновь заработала. Вновь закружились над ней самолеты, сбивая фугасами переправу. Но вновь и вновь ее наводили.
Еще больше недели вертелась тут, у Днепра, страшная мельница смерти. Немцы во что бы то ни стало хотели стянуть горловину мешка окружения. Ударами танков с двух сторон вдоль днепровского берега воздушными десантами стремились они парализовать переправу. Но она действовала. В первых числах августа отходившие армии подошли к горловине мешка. Теперь уже на правом берегу набухала масса людей и техники. Два слова: «стояли насмерть» — кратко и полно характеризуют тех, кто сумел в нужное время удержать важнейшую переправу. В ночь с 4 на 5 августа измотанные боями, обескровленные, но сохранившие честь и знамена 16-я и 20-я армии, перейдя Днепр, соединились с основными силами фронта.
Садясь за эти заметки, я покопался в книгах: не забыты ли были в страшные напряженные дни герои, оборонявшие 35
ход через Днепр у села Соловьева? Нет. 5 августа 1941 года (в день выхода армии из окружения) в Кремле был подписан Указ о присвоении звания Героя Советского Союза Александру Ильичу Лизюкову. Орденами и медалями были награждены многие из отряда, оборонявшего переправу.
То были начальные недели войны. И сколько было еще переправ на восток и обратно! Все нелегкие, часто страшные. Переправы через Дон, через Волгу, Днепр, Вислу, Одер. А сколько маленьких переправ, и тоже нелегких! Кто их видел — не позабудет. «Переправа, переправа! Берег левый, берег правый. Снег шершавый, кромка льда... Кому память, кому слава, кому темная вода...»
Александра Ильича Лизюкова судьба на переправе у Соловьева уберегла. Погиб он в степных местах под Воронежем в 42-м уже генералом. Сгорел в танке во время атаки.
Соловьеве по-прежнему стоит над Днепром. Все, перемолотое войной, восстановлено. Село — в садах. У реки успели вырасти и состариться вербы. Лишь воронки от взрывов да снаряды и бомбы, вымытые Днепром, напоминают о страшном лете.
Да еще память... Сижу на скамейке с Буренковой Ефросиньей Терентьевной. 36 Ей было в то лето шестнадцать. «Мы спасались в лесу, километрах в шести от села. Слышали взрывы и видели самолеты. Они вертелись над переправой, как осы... Когда наши начали отходить, я не стерпела и побежала к Днепру — может, увижу брата! Переправлялись по наведенным мостам, а кто налегке — прыгали по затонувшим машинам, лодкам, лошадям, танкам, по торчавшим из воды пушкам. Днепр был запружен техникой. Мы потом до прихода наших пользовались этим мостом... А в день отхода наших из окруженья, поверите ль, брата я встретила! Шел торопливо вместе со всеми и вдруг окликнул меня. И я закричала: «Митя!!!» Времени было — только обняться. Брат помахал мне с другого берега. Таким и остался в глазах...»
И еще свидетель тех драматических дней на Днепре. В Смоленске мне рассказали: командир роты связи Вера Салбаева в решающий момент боя за переправу увлекла бойцов за собой — атакой был опрокинут десантный отряд фашистов. Мне дали адрес. И недавно в Москве я увиделся с Верой Ивановной. Седая, тихая, добрая женщина. Трудно представить ее в гимнастерке и с пистолетом в руках. Но подтвердила рассказ.
— Была такая минута. Надо было подняться и крикнуть: «За мной!» Я поднялась, а в пистолете уже ни одного патрона... Одолели штыками.
Вера Ивановна вместе с мужем Исламом Магометовичем — командиром батальона — сражалась возле Смоленска. Когда начался отход к переправе, мужа оставили прикрывать переход. «Встретимся за Днепром», — сказали супруги на прощанье друг другу. Встретились они только после войны. Ислам Магометович раненым попал в плен. Вера Ивановна прошла войну до Берлина. Летом 1943 года была начальником связи в поезде маршала Жукова. На военном кителе у Веры Ивановны двенадцать наград.
— Какая дороже всего?
— Эта... — Вера Ивановна трогает орден Красной Звезды. — Эта. За переправу... — Ия вижу у старой женщины слезы.
Показал снимок Вера Ивановна надела очки.
— Да, ребятишки... Вода тихая... Как будто и не было ничего. А я часто вижу себя во сне. Подымаяюсь во ржи, кричу: «За мной!», а пистолет у меня без патронов... Страшная была переправа
1984 г.
□
ЕЛЬНЯ
Кружочек Ельни вы найдете на карте юго-восточней Смоленска. Обратите внимание: Ельня — перекресток дорог и место, откуда берут начало многие реки. Синие хвостики убегают от Ельни на карте в разные стороны. Десна и Остер текут на юг, Хмара — на запад, Устром и Волость — на северо-запад, Ужа — на север, Угра — на восток. Ельня стоит в центре возвышенности. Верховые болота соседствуют тут с холмами. Густая зелень низин оттеняется желтизною ржаных и овсяных полей. Лесов, вопреки ожиданию (Ельня!), немного. Леса кудрявые, невысокие — ольха, береза, осина. Но Ельня не зря имела на гербе три ели: город родился в гуще еловых боров. Главным богатством края были «леса и глина». На шумные ярмарки в Ельню съезжались колесники, бондари, гончары, лыкодеры. Ель затрещала под топором, как только легла через Ельню рельсовая дорога. Старожилы еще помнят лесопромышленников Левыко и Сухино, «ставивших бочки вина мужикам» и гнавших здешнюю ель в степные районы, на Орел и Козлов.
Леса валили и после войы. Маленький городок война спалила, сровняла с землей. Лес рубили на местные нужды и для лежавшего в пепле Смоленска. Так постепенно лесная Ельня стала городом полевым.
Городок этот древний (упомянут впервые в 1150 году), но искать старины тут не следует. Война поглотила и камень, и дерево. От Ельни осталось лишь место, где заново («начинали с землянок») был выстроен городок. Роль архитектора в этой застройке — «не до жиру, быть бы живу» — была очень скромной: «Мы вторые за Ленинградом: посмотрите, улицы все — по линейке», — улыбнулся мой провожатый.
И все-таки есть в городке милая прелесть небогатого, глуховатого, однако прочно обжитого и щедро озелененного места. Единственный пятиэтажный дом выглядит тут небоскребом. Все остальные постройки укутаны липами, тополями, кленами и березами. Вдоль улиц посажен шиповник. За заборами во дворе желтеют подсолнухи, синеют капуста, головки мака, пахнет укропом, помидорной ботвой, смолою от накаленных солнцем колотых дров. С забора тебя провожает глазами ленивый, не понимающий, что живет не в деревне, а в городе, кот.
По части «окружающей среды» все тут пока что благополучно. Ельня варит сыры, шьет из хлопковой ткани рубашонки и ползунки для детишек, снабжает поредевшее гужевое хозяйство России телегами и санями. Все, вместе взятое, производство не отравляет воздух, не загрязняет текущую через город
Десну, не создает шума, однако ничего почти не дает в коммунальный кошель городка. И местные власти находятся на распутье: заманчиво залучить, посадить в городке какое-нибудь предприятие — будут места для работы, будут городские удобства. Но, наезжая в соседние городки, власти не могут не видеть: за удобства в домах заплатить придется «средою». И пока что обозный завод (200 рабочих, в год — 8500 телег) — основное предприятие Ельни, которого местный музей почему-то стыдится: на стендах представлена вся городская продукция, исключая телегу. А между тем заводик из семнадцати ему подобных на самом хорошем счету в государстве — «низкая себестоимость изделий, сносное качество, умение сделать телегу по любому заказу». Директор завода назвал мне больше десятка фильмов, в которых снималсиь повозки прежних времен, либо целый обоз из телег, специально сработанных в Ельне...
Среди знаменитых людей, либо живших в этом краю, либо посетивших Ельню в исторически важное время, вам назовут фельдмаршала Кутузова,
Монумент в Ельне в честь первых гвардейцев.
37
маршала Жукова, композитора Глинку, поэтов Исаковского и Твардовского... Исаковский в здешнем уезде родился, два года редактировал ельнинскую газету и до смерти сохранил нежность к этой земле — «Край мой смоленский, край мой родимый! Здесь моя юность когда-то бродила». Твардовский рожден и крещен был в здешнем краю, учился тут грамоте, написал первые стихи и уже знаменитым много раз приезжал в Ельню. «Страну Муравию» впервые прочитал здесь. Писал позже о том, что Никиту Моргунка встретил на шумной ельнинской ярмарке. И родиной главного своего героя Василия Теркина он тоже считал окрестности Ельни.
На генеральных картах штабов немецких и наших в августе 41-го года район, прилегающий к Ельне, считался важнейшим и напряженным пунктом войны. Шло драматическое Смоленское сражение. В этом районе фашистская армия, наступая, несла большие потери и в конце концов, хоть и временно, забуксовала, остановилась. «Это был... первый в истории второй мировой войны случай вынужденной обороны гитлеровских войск на главном стратегическом направлении» (Г.К.Жуков, «Воспоминания и размышления»).
Глядя сейчас на карту фронтовой обстановки тех дней, даже и не военный человек сразу заметит юго-восточней крайнюю сложность обстановки тех дней. Ельнинский выступ был только частью проблем, при оценке которых мнения Сталина и Жукова не вполне совпадали. После крутого, нелегкого разговора Жуков сказал, что хотел бы быть в действующей армии. Эту просьбу его, освобождая с поста начальника Генерального штаба, Сталин удовлетворил с поручением руководства войсками Резервного фронта в верховьях Днепра и ликвидацией выступа.
Вот так получилось, что Ельня стала местом первого испытания полководца. На склоне лет, давая оценку всему пережитому, Жуков писал: «Ельнинская операция была моей первой само- Вспомним поэму. Теркин с боями идет по родной стороне: «Здравствуй, пестрая осинка, ранней осени краса, здравствуй, Ельня, здравствуй, Глинка, здравствуй, речка Лучеса...»
Восемь веков истории Ельни в тихих еловых лесах тихими не были. Великие бури накрывали маленький городок. Сюда дотянулась рука ордынского хана, позднее Ельня попала под иго Литвы и Польши, множество раз сжигалась и разорялась. В партизанской войне с войсками Наполеона здешние чащи укрывали Дениса Давыдова. Но главное испытание и громкая слава выпали Ельне в веке текущем, в 41-м 38 году.
Смоленска выступ фронта, обращенный прямо к Москве. По обводу этого выступа (десятки километров в ширину и длину) ни на минуту не утихали бои. «Позднее стало известно, что, ссылаясь на тяжелые потери, командование группы армий «Центр» просило у Гитлера разрешения оставить ельнинский выступ. Но гитлеровское руководство эту просьбу отклонило: район Ельни рассматривался как выгодный плацдарм для нанесения удара в дальнейшем наступлении на Москву» (Г. К. Жуков).
В Москве значение «выступа» тоже вполне понимали. Читая воспоминания маршала, мы чувствуем драматизм и
стоятельной операцией, первой пробой личных оперативно-стратегических способностей в большой войне с гитлеровской Германией. Думаю, каждому понятно, с каким волнением, особой осмотрительностью и вниманием я приступил к ее организации и проведению».
Ельнинскую возвышенность со многими ее высотами немцы превратили в хорошо укрепленный район. По фронту и в глубине обороны в землю были зарыты танки, артиллерия, штурмовые орудия, низины между холмами перекрывались пулеметным и минометным огнем, были густо минированы, затянуты колючей проволокой. Непрерывные, неуспешные попытки нашей 24-й
армии сдвинуть противника стоили многих потерь, войска были измотаны, обессилены. Нужны были сильная воля и вера в победу, способность внушить командирам и всем, кто дрался у выступа, возможность успеха.
Военные историки хорошо теперь изучили эту не очень большую в масштабах войны, но очень важную на фоне событий лета 41-го года операцию. Времени на ее подготовку было немного — менее двух недель. Но сделано было все возможное для успеха: намечен план операции (два встречных удара в основание выступа), втайне группировались войска, тщательно были разведаны огневые точки врага, инженерные сооружения, выявлены слабые и сильные стороны обороны.
Решительное сражение началось 30 августа и длилось, не затихая, по 8-е число сентября. Не быстро, по километру, по два за сутки, атаковавшие двигались в глубь обороны врага, и скоро немцы поняли, что взяты в клещи. Бои тут были кровопролитными, потери большими с обеих сторон. «Противник противопоставил нашим наступавшим дивизиям хорошо организованный плотный артиллерийский и минометный огонь. Со своей стороны, мы также ввели в дело всю наличную авиацию, танки, артиллерию и реактивные минометы» (Г. К. Жуков).
Пытаясь спасти положение, немцы спешно двинули к Ельне отборные свежие силы. Но ничего не могло уже остановить порыв наступавших. И, пожалуй, впервые немцы узнали не только мужество противника, но и почувствовали «грамотную войну» — наступавшие хорошо взаимодействовали, умело маневрировали, точно вели огонь, захватив орудия, били врага его же снарядами и готовы были сомкнуть уже клещи первого за войну окружения. В узкий коридор немцы еле-еле успели вывести остатки потрепанных войск. 6 сентября наши первые батальоны ворвались в Ельню, а два дня спустя с ельнинским выступом было покончено. Потери наши в этих боях были большими, но и немцам это сражение стоило более 45 тысяч солдат.
Радостным в горькое лето 41-го года был этот успех под Ельней. Появилась точка опоры в оценке наших возможностей. Убедительно было доказано: можем не только обороняться, можем уверенно наступать, можем гнать немцев, брать в окружение, можем воевать не только самоотверженно, но и умело, талантливо.
Ельнинская операция родила много героев. Нынешнему читателю мало что могут сказать номера полков и дивизий, штурмовавших холмы под Ельней. Но на этом вот цифровом перечне внимание надо остановить. Дивизии 100-я, 127-я, 107-я и 120-я дрались под Ельней особо успешно. Жуков, вернувшись в Москву, доложил об этом Главнокомандующему. «Сталин внимательно слушал и что-то коротко заносил в свою записную книжку, затем сказал:
— Молодцы! Это именно то, что нам теперь так нужно» (Г.К.Жуков).
В сентябре приказами народного комиссара обороны СССР перечисленные дивизии были поименованы гвардейскими. Так родилась советская гвардия. Это звание, отличаясь в боях, получили потом тысячи соединений сухопутных, авиационных, морских. От гвардии старой России и многих стран («привилегированные, отборные части войска») советская гвардия отличалась тем, что только испытание боем, доблесть в сражении давали право воину называться гвардейцем. И привилегия новой гвардии была лишь одна — быть впереди в грядущих боях. Свои знамена гвардейцы донесли до Берлина. А зачиналась эта мощная сила на холмах Ельни.
Смоленский городок с гордостью носит звание родины гвардии. В самом центре его стоит обелиск, напоминающий о событиях лета и осени 41-го года. В местном музее — реликвии битвы за Ельню, портреты героев. Среди них мы видим и маршала Жукова. Он по праву считается первым в первой шеренге гвардейцев. Его авторитет полководца по возвращении из-под Ельни укрепился и вырос. Ставкой Жуков был сразу же послан на новый, крайне тяжелый участок фронта — под Ленинград. И в ту же осень была Московская битва... Многие города считают Жукова почетным своим гражданином. И Ельня тоже. Среди экспонатов музея рядом с истлевшими в земле пулеметами, штыками, осколками бомб и снарядными гильзами лежит рубашка с полевыми погонами маршала. Она прислана Жуковым в Ельню незадолго до смерти.
В Ельне я увиделся с человеком, который тут воевал. Им оказался пулеметчик 107-й гвардейской дивизии Иван Федорович Неудахин. Для этого уроженца Сибири Ельня с 41-го года стала судьбою. Тут в жестоких летне-осенних боях он отличился. Был ранен. Воевал потом под Орлом, у Тулы, под Москвою у Рузы, на Калининском фронте под Ржевом. После второго ранения в госпитале санитарка (тоже раненая) сказала потерявшему глаз пулеметчику: «Иван, а поедем-ка в Ельню, ко мне на родину». И они приехали в Ельню в 43-м году. «Имущество: у нее шинель и юбка, у меня шинель и штаны. И дите на руках. Жить начали во фронтовом блиндаже. Через год срубили избенку».
И вот почти сорок лет Иван Неудахин живет и работает в Ельне. В первые годы был трактористом — заготавливал лес на строительство в тех же местах, где лежал с пулеметом. «Подорвался в лесу на мине. Трактор списали, а я оказался живучим». Строил гвардеец 39
в Ельне сыроварный завод, работал в школе завхозом, «на почте служил ямщиком» — развозил газеты, посылки и письма по дальним ельнинским деревням. Вышел на пенсию. Но последние годы снова работает, возглавляет районный ОСВОД (Общество спасения на водах). «Сам себе и начальник, и подчиненный — одна штатная единица».
Характер у бывшего гвардии пулеметчика остался солдатским, причем с чертами Василия Теркина и того солдата из сказки, который суп из топора сварит и огниво добудет, несмотря на препятствия. Над фамилией своей Иван Федорович посмеивается. «Неудахин... А я как раз удачлив во всем. Все превозмог, — говорит он с гордостью, на какую имеет полное право. — Землю свою защитил, сына вырастил, внуков вынянчил и пока еще хоть куда — хоть по ягоды, хоть по орехи». Портрет гвардейца в музее висит в одном зале с портретом маршала Жукова. И каждый может увидеть, каким он был, Иван Неудахин, в двадцать четыре года под Ельней.
Лето и осень 41-го года — особая часть «ельнинской биографии» Неудахина. И он ничего не забыл из пережитого тут. На «газике» мы поехали по деревням, окаймляющим город, точно следуя карте кипевшего тут сраженья. Но солдат и без карты помнит все бугорки и лощины, политые кровью. У деревни Ушаково он показал оплывший окоп и место, где стоял его пулемет. «Высотка с деревней восемь раз переходила из рук в руки. Дрались врукопашную лопатами и штыками. Я тут много патронов спалил. Наши лежали на склоне снопами, но и немцу мы показали кузькину мать. Он с неба гвоздил самолетами, а мы полыхнули «катюшей».
Опираясь на палку, Иван Федорович ведет меня вдоль заросших траншей на высотке. «Отсюда на семь километров все видно. И на семь километров почти по кругу вся местность простреливалась. Железа тут!..» Подрезаем лопатой уже задерненную землю, и на ладонь вместе с божьими коровками и муравьиными яйцами падают ржавые гильзы, осколки бомб и снарядов. «Семьсот жизней стоила эта высотка. Все лежат вот тут, под березами...»
У деревни Садки Иван Федорович показал место, где полз с пулеметом из оврага по полю к деревне Митино. «На этом вот месте стоял сарай. Оттуда немец ударил из пулемета. И две мины, помню, сзади меня взорвались. Вот следы, посмотрите». Два места, где сорок лет назад взорвались мины, обозначены на траве кругами темно-зеленой крапивы и лебеды. В воронках от бомб на склоне оврага, как в плошках, растут высокие ольхи. В сосне наверху — осколок снаряда. И такие следы у каждой деревни, где сжималось кольцо окружения немцев...
«Под Орлом я едва не заплакал, когда узнал, что Ельню мы снова отдали. Думал: за что же там полегли? И только потом рядовым умом своим понял: очень важной, очень нужной была наша стойкость под Ельней».
Иван Федорович не первый раз проходит местами боев. «Сначала самого любопытство брало: что там и как? Потом водил военных историков. Приезжали однополчане. В прошлом году приехали земляки из Сибири, сироты из детдома: покажи, дядя Ваня, где воевал. Все показал. Приютил детишек у себя в доме. Вместе в земле покопались, нашли в ней кое-что для музея. Сам я тоже Сибирь навестил. Встретил там своего командира Батракова Матвея Степановича. Старый уже. Обнял меня: Ельню, говорит, никогда не забуду! У него, между прочим, за Ельню и знак гвардейца, и Золотая Звезда».
Этим летом Ельня жила двумя новостями. Новость первая и большая: город, где родилась гвардия, награжден орденом Отечественной войны. Новость вторая, небольшая, но трогательная: неожиданно и впервые в истории города, в самом центре его, в городском парке, загнездилась парочка аистов. И где загнездилась — на самом верху монумента гвардейцам! Городские власти попали в трудное положение. С одной стороны, милые сердцу птицы, с другой — гнездо-то на монументе. Решили было гнездо передвинуть на специально поставленный столб. Но столб кто-то ночью распилил и унес. Позвонили в Смоленск: как быть? Там сказали: решайте сами... Судили-рядили, спорили, а аисты между тем гнездо достроили, вывели в нем птенцов и стали любимцами ельничан. Человеческое чувство воедино соединило и птиц, и монумент, и вести об ордене Ельне. Поток людей к монументу был небывалым. Старушки видели в аистах знаки памяти о погибших, молодежь собиралась фотографировать птиц, матери приводили к монументу детей. Приехал скульптор и, говорят, прослезился: «Это же замечательно!»
В Ельне я был в момент, когда аисты- старики парили над городом, а две молодые птицы уже пробовали крылья в гнезде. На дорожках парка ельничане оживленно гадали: улетят птицы или останутся до момента, когда в город съедутся гости? Всем хотелось, чтобы остались.
В августе Ельня готовилась принять награду, готовилась почтить мужество тех, кто сражался за город в суровом 41-м году, готовилась отметить славную годовщину рождения гвардии. Два слова — Ельня и Гвардия в истории нашей армии неразрывны.
1981 г.
□
КАМЕНЬ У МОГИЛЕВА
На шестом километре дороги, если ехать из Могилева в Бобруйск, шоссе слегка расширяется, в разрезе придорожной полосы елей и кленов проезжий видит площадку и на ней дикий камень. Памятник?.. Остановившись, видишь у камня цветы и хорошо знакомое факсимиле еще недавно жившего человека, а теперь резцом просеченное на валуне — Константин Симонов. С тыльной стороны камня — литая доска: «...Всю жизнь он помнил это поле боя 1941 года и завещал развеять здесь свой прах». Эти слова заставляют снять шапку и помолчать, глядя на поле, прилегающее к дороге.
Если проезжий не очень спешит, он от кого-нибудь узнает: полоса кустарника и деревьев, линейкой идущая в поле, скрывает остатки рва, который когда- 40 то спешно вырыли — остановить танки.
Но немецкие танки тут в 41-м остановил не этот теперь оплывший земляной ров, а люди, тут и полегшие. Симонов видел, как это было. Помнил об этом всю свою жизнь. И однажды обмолвился, что хотел бы, чтобы прах его был развеян на поле боя под Могилевом.
...Симонов много видел и много всего пережил. И если уж так запал ему в душу кусок земли на подступах к Могилеву, то, видно, были на это причины немаленькие. И это действительно так.
Я беседовал с Константином Михайловичем незадолго до его смерти. Перебрали многое, что пришлось пережить на войне и после войны, и было заметно: все, что касалось июня-июля 41-го, и особенно всего, что было пережито под Могилевом, его очень волновало. Читая книги его, статьи, вспоминая его беседы и публичные речи, многие могут заметить: слово Могилев непременно всюду нет-нет да всплывет, и непременно в почетном ряду названий, в ряду таких славных мест, как Москва, блокадный Ленинград, Сталинград, Курская дуга, Севастополь, Одесса...
Оборона Могилева была героической. Город сражался в кольце врагов, когда оставлены были Минск и Смоленск, — сражался, зная, что обречен. Слава его заслуженная. Однако была у Симонова и личная приязнь к этому древнему белорусскому городу, к могилевским полям, лесам и дорогам. Обращаясь к опубликованным теперь военным дневникам писателя, отчетливо видишь причину этой приязни.
В 1941 году Константину Симонову было двадцать пять лет. За Могилев, к
линии фронта, военным корреспондентом он прибыл к пятому дню войны. Каким он был, этот совсем еще молодой человек, уже известный, впрочем, как автор только что пошедшей пьесы «Парень из нашего города», известный как поэт? «Шинель была хорошо пригнана, ремни скрипели, и мне казалось, что вот таким я всегда буду. Не знаю, как другие, а я, несмотря на Халхин-Гол, в эти первые два дня настоящей войны был наивен, как мальчишка». Это из дневника. И там же, через пять-шесть страниц: «Две недели войны были так не похожи на все, о чем мы думали раньше. Настолько не похожи, что мне казалось: я и сам уже не такой, каким уезжал 24 июня из Москвы». Таково потрясение, пережитое на могилевской и смоленской земле. Это все тогда пережили. Симонов надолго это сохранил — в памяти, в дневниках. Нельзя без волнения читать страницы записок о выходивших из окружений, о беженцах на дорогах, о самолетах над дорогами, о танках, вдруг прорывавшихся в тыл отступающим, об июльской пыльной жаре, неразберихе, путанице, об ощущении огромного горя, которое разом обрушилось и которое разрасталось.
Общее горе сближает людей. Это известно. Но и место, где горе превозмогалось, тоже становится особо дорогим человеку. Пробираясь на драном пикапе по проселкам Могилевщины и Смоленщины (большаки уже заняты были шедшими на восток танками!), молодой горожанин, корреспондент столичной и армейской газет, впервые близко увидел деревню, деревенскую жизнь, деревенских людей. И в душе его проросли до этих дней дремавшие в зернах чувства. «Я понял, насколько сильно во мне чувство Родины, насколько я чувствую эту землю своей и как глубоко корнями ушли в нее все эти люди, которые живут на ней... Было чувство острой жалости и любви ко всему находившемуся здесь: к этим деревенским избам, к женщинам, к детям, играющим возле дороги, к траве, к березам, ко всему русскому, мирному, что нас окружало и чему недолго оставалось быть таким, каким оно было сегодня». Это из дневника, опубликованного недавно. А тогда, в 41-м, чувства, пробужденные на могилевско-смоленской земле, были выражены в стихах. В сильных стихах.
Ты знаешь, наверное, все-таки Родина — Не дом городской, где я празднично жил, А эти проселки, что дедами пройдены, С простыми крестами их русских могил.
Не знаю, как ты, а меня с деревенскою Дорожной тоской от села до села, Со вдовьей слезою и с песнею женскою Впервые война на проселках свела.
Это часть стихотворения, посвященного А. Суркову.
А вот из другого стихотворения тех же далеких дней:
Но в час, когда последняя граната Уже занесена в твоей руке
И в краткий миг припомнить разом надо Все, что у нас осталось вдалеке,
Тут по завещанию Константина Симонова развеяли его прах.
Ты вспоминаешь не страну большую, Какую ты изъездил и узнал, Ты вспоминаешь Родину — такую, Какой ее ты в детстве увидал.
Клочок земли, припавший к трем березам,
Далекую дорогу за леском,
Речонку со скрипучим перевозом, Песчаный берег с низким ивняком.
Эти строки и сегодня сжимают сердце. А тогда, в 41-м, 42-м?! В духовной жизни тех дней такие стихи были новой и свежей силой, такой же, как новой конструкции танки и самолеты. Я это знаю не с чьих-то слов. Я помню, как эти стихи в облетевшем осеннем саду прямо говорит об этом памятном для нас месте: «Одному человеку этот мирный сейчас пейзаж ничего не говорит, а для других — это поле боя... Я не был солдатом, был всего-навсего корреспондентом, но и у меня есть кусок земли, который мне век не забыть, — поле под Могилевом, где я впервые видел в июле сорок первого, как наши сожгли тридцать девять немецких танков...»
Сколько сожженной техники пришлось увидеть за годы войны! Но всю жизнь он помнил эти тридцать девять подбитых танков. Случайно ли? Нет. По дневникам мы видим, как тяжело, как мучительно тяжело было переживать неудачи первых недель войны. Человеку нужна, просто необходима была ка-
нашего прифронтового села читал красноармейцам молоденький лейтенант. Читал не из газеты, не из книжки. Из тетрадки, куда стихи переписаны были карандашом! И сейчас помню взволнованный голосок лейтенанта: «Кусок земли, припавший к трем березам...», помню, как его слушали, какая была тишина. Мы с приятелем, сидевшие, как воробьи, возле кучки бойцов. украдкой, когда все уже расходились, попросили лейтенанта переписать стихи. Лейтенант пристально нас оглядел и вдруг вырвал из тетрадки листок: «Возьмите, я это знаю на память». Через два года в школе из книжки я уз- 42 нал, что запавшие в душу стихи называются «Родина» и написал их К.Симонов.
Очень жалею, что забыл рассказать об этом давнем памятном эпизоде Константину Михайловичу во время нашей долгой беседы весной 1978 года, — тогда я больше спрашивал, а он отвечал. Но это уместно вспомнить сейчас, у камня под Могилевом. Уместно потому, что родник святого, высокого чувства, ощущаемый в этих стихах, пробился сквозь боль и тревогу на могилевско- смоленской земле.
На поле, у которого стоит теперь этот камень, Симонов приезжал не единожды после войны. В большой последней своей работе «Шел солдат...» он кая-то точка опоры в мыслях и чувствах, попытка глянуть немного вперед, обрести какую-нибудь надежду и написать в газету «не ложь во спасенье», не полуправду, простительную в те драматические дни, а что-то такое, что и другим служило бы точкой опоры, вселяло бы веру. И военный корреспондент такую точку нашел на подступах к Могилеву.
В шести километрах от города на пути немцев оказалась дивизия, которая не отступала, которая сама попятила танки Гудериана. Из дневника узнаем: корреспонденты «Известий» Павел Трошкин и Константин Симонов прибыли в один из полков оборонявшей город ди-
визии ночью. И об этом приходе лучше, чем записано в дневнике, не расскажешь. «Нас задержали и под конвоем доставили в штаб полка. Из окопа поднялся очень высокий человек и спросил, кто мы такие...
— Какие корреспонденты?! — закричал он. — Какие корреспонденты могут быть здесь в два часа ночи? Кто вас послал? Вот я вас сейчас положу на землю, и будете лежать до рассвета. Я не знаю ваших личностей».
«В те дни, — рассказывал Симонов, — такой прием нас обрадовал. Я сразу почувствовал дисциплину, порядок, уверенность. И не ошибся. Все это было в полку, которым командовал Семен Федорович Кутепов».
За время войны и после нее писатель видел много разных людей — командиров и рядовых. О многих сумел рассказать со знанием военного дела и знанием человеческой сущности. Много разных фамилий. И всюду имя Кутепова стоит у него в самом почетном ряду имен. Так же, как Могилев упоминается рядом с Москвой, Ленинградом, так и Кутепова он решается назвать рядом с очень известными нам именами. Несомненно, тут много личного. Кутепов был первым из командиров, в ком писатель увидел человека знающего, умного, стойкого, храброго. Конечно, имел значение психологический фон, на котором возникла для молодого, пока еще растерянного интеллигента с наганом фигура решительного бойца. Отступление, неразбериха — и вдруг порядок, железная стойкость, и главное — налицо результаты: разбитые танки. Танки, о которых так много было в те дни разговоров тревожных, нередко панических, стоят, разбитые в пух и прах! И тут рядом — люди, только что выдержавшие четырнадцатичасовой бой. Несомненно, навалятся новые танки, но люди тут собранны и спокойны, как и сам командир, сказавший неожиданным в той горячей точке гостям: «Мы так уж решили тут между собой, что бы там кругом ни было, кто бы там ни отступал, а мы стоим вот тут, у Могилева, и будем стоять, пока живы».
Менее суток были корреспонденты «Известий» в расположении полка Кутепова. «Беседовали с людьми. Прошли по траншее к подбитым танкам».
Менее суток — срок небольшой, чтобы верно судить о людях. Обстановка, однако, до крайних пределов обнажала тогда человеческую сущность. И Симонов увидел в Кутепове и в людях его полка подлинных героев. Молодому корреспонденту, писателю и поэту еще предстояло рассказывать о войне, и встреча под Могилевом явилась важнейшей точкой опоры, символом веры, успокоением. «Сопротивление прущему немцу действительно существует, и. несомненно, Кутепов не единичен на всем огромном пространстве войны».
Так оно и было. И люди, полегшие у Могилева, навсегда остались для Симонова образцом мужества. Мы это чувствуем по его дневнику, мы это знаем по тщательным розыскам (не остался ли кто в живых из полка?), по частым упоминаниям в статьях и книгах. Литературный образ Серпилина — собирательный образ, но в основе его лежит личность конкретная — командир 388- го стрелкового полка 172-й дивизии Семен Федорович Кутепов. Помещая портрет полковника в дневниках, Симонов пишет: «В моей памяти Кутепов — человек, который, останься он жив там, под Могилевом, был бы способен на очень многое».
Кутепов и все, кто был с ним рядом, остаться в живых не могли. Корреспонденты «Известий» почувствовали это уже в тот день, когда уезжали с линии обороны. Они и сами на своем помятом пикапе чудом проскочили линию окружения Могилева. Несомненно, Симонов часто думал об этом дне. Отвечая в беседе на мой вопрос: «Что для вас, журналиста, было самым тяжелым в войну?» — он сказал: «Уезжать от людей в критической для них ситуации...»
Корреспонденты «Известий» спешили в Москву с бесценной для той поры информацией. 20 июля в газете появился рассказ о сражении под Могилевом.
Я отыскал в архиве тот номер газеты. На пожелтевшей первой странице — большой портрет Сталина (в тот день объявлялось о назначении его народным комиссаром обороны СССР), а внизу, во всю газетную полосу, снимок — панорама подбитых танков. Симонов в дневнике пишет: «У витрин с газетами стояли толпы народа... Это было вполне объяснимо. В сводках Совинформбюро постоянно сообщалось о подбитых немецких танках, число их перевалило за тысячу. Но впервые люди увидели: танки действительно подбивают».
В том же номере «Известий» на третьей странице с пометкой «Действующая армия» напечатан очерк «Горячий день». Это был первый репортаж Симонова с войны. Его, несомненно, с волнением прочли тогда миллионы людей. Но его скорее всего не прочли, не могли прочесть люди, которым он посвящался. Возможно, как раз 20 июля они умирали под Могилевом в схватке с новой, свежей колонной танков...
Наверное, этого и довольно, чтобы понять, почему Симонов постоянно помнил о Могилеве и людях, которые его защищали, и почему однажды сказал: «Мое поле там...»
Сам Симонов умер не в бою — в больничной постели. Последнее его деловое распоряжение: «Папка с документами о Жукове — с краю на верхней полке». Об этом человеке он готовился написать...
Он много сделал. Очень много для одной человеческой жизни. Прилежно работал (иногда по двенадцать-пятнадцать часов в сутки!), любил работать, умел хорошо организовать работу. Непрерывность труда была стилем и смыслом жизни. И, возможно, самым печальным днем для этого человека был день в июле 1979 года, когда он почувствовал, что не может работать. В тот день на телеграфном бланке, найденном недавно среди бумаг, возможно лишь для себя, Симонов записал: «Я уже ничего не могу доделать. Что сделано, то сделано, что задумано и не додумано, тоже не в моей власти. Я могу только, если потребуется, привести в порядок неприведенное в него».
Крепким здоровьем он не отличался — за жизнь много раз болел воспалением легких. С температурой 39 он полетел на Даманский. Не жаловался. Говорил: «Война приучила». И оттого, что не жаловался, многим казалось, что износа этому человеку не будет. Но сам он почувствовал этот износ. Незадолго до смерти, как-то вечером, полушутливо стал вдруг считать, сколько же лет ему не по метрике. «Военное время засчитывать надо год за два... Годы сидения над «Живыми и мертвыми» тоже надо удвоить. Этот вот фильм («Шел солдат...») — тоже нелегкая ноша. Словом, мне сейчас — восемьдесят семь...» Он улыбнулся, грустно радуясь тому, что жизнь его была плотной, наполненной до краев, и потому ему хотелось считать ее более длинной. А по метрике он не дожил до шестидесяти четырех.
В 1978 году, условившись о беседе для «Комсомолки», я приуныл, узнав, что Константин Михайлович лег в больницу. Но он позвонил с шуткой: «Приезжайте, в больнице тоже можно работать». Сразу после больницы он, помню, поехал в Берлин, работал над фильмом, начал новую повесть, собирал документы, наезжая довольно часто в Подольский военный архив. Работал. Вот почему смерть его была для многих ошеломляюще неожиданной. Уже израненный жизнью, он все-таки шел. Шел и упал.
Могилев, через который война прошла «туда и обратно», давно залечил свои раны. О войне напоминают только названия улиц. Есть среди них улица полковника Кутепова, есть теперь еще и улица писателя Симонова. Вблизи большой городской площади улицы скрещиваются.
А на шестом километре шоссе, идущего в Бобруйск, след войны сохранился. Заросший ольхою, шиповником, бузиной и волчьим лыком противотанковый ров упирается в берег Днепра. Тут видишь бетонный дот, траншеи на кручах, окопы, пулеметные гнезда, заросшие бурьяном. И по правую сторону от шоссе — то самое поле, то место, где в сорок первом по немецкой броне хлестали снаряды защитников Могилева.
В память тех, кто остался навечно у этого поля, уже много лет стоит обелиск. И чуть в стороне, в разрезе зеленых посадок, с военного вездехода сняли и поставили камень. Это память о человеке, чья жизнь была связана крепко с судьбою тех, которые воевали, — с живыми и мертвыми. 43
МЕЩЕРА
Кто бывал в селе Константинове, обязательно помнит: с высокого берега через Оку открывается дразнящая синяя даль с блестками пойменных вод, с копнами сена, извилистой желтой дорогой, силуэтами пасущихся лошадей, округлыми пятнами ивняка, одинокими ветлами и туманным гребешком леса.
Не видать конца и края — Только синь сосет глаза.
Хорошо представляешь себе Есенина-мальчика, стоящего на крутом глинистом берегу. За спиной: родное село, жаркое поле ржи, березовые лески по равнине, рябины и тополя у домов, яблоневые сады — черноземная лесостепь подступает с юга к Оке, и тут ей граница. Внизу, в долине реки, начинается как будто иная страна. Ее приметы мы находим в стихах выраставшего тут поэта. И название ей — Мещера.
Москвичи, может быть, удивятся, но край Мещеры кое-кто из них видит с верхних этажей городского жилища. Сокольники и зелень Лосиного острова — это остатки великого пояса хвойных лесов, тянувшихся ранее от Десны, от Брянска и Чернигова до лесов муромских на Оке. Теперь от большого зеленого пояса повсюду остались лишь острова. Но есть район, где пока еще сохранилась «грибная бабушкина глушь».
Возьмите карту и цветной карандаш. Соедините на ней Москву, Владимир, Рязань и Касимов линией по Оке, Клязьме, Москве-реке, речкам Колпь и Судогде (одна стекает в Оку, другая — в Клязьму). Полученный треугольник с острием у Москвы и есть знаменитая Мещера. Как видите, не край света, самая середина хорошо заселенной России. Однако много ли в треугольнике городов и селений? Почти сплошь это место на карте залито зеленым цветом лесов, пестрит черточками низин.
В опоясанном реками треугольнике покоится чаша, вернее, огромное, в половину Швейцарии (23 тысячи километров квадратных), плоскодонное блюдо земли с плотным глинистым дном и песчаными возвышениями. Считают: когда-то было тут море. Потом, одно к одному, теснились озера. Старея, они превращались в болота. И ныне край — болотистая низина, с пахучими сухими борами на песчаных буграх, с затопляемым по весне чернолесьем и знаменитыми «мшарами» — моховыми болотами, на которых произрастают робкий березнячок и чахлые сосны. Есть, впрочем, места, где землю пашут и где посевы страдают от чрезмерного высыхания песчаной почвы, но обилие вод — основная примета этого среднерусского междуречья. Даже в сухое время край во многих местах доступен лишь пешеходу. В половодье же Мещера (особо рязанская ее часть) превращается в море. Ока, пятисоткилометровой извилистой лентой окаймляющая понижение, не успевает уносить в Волгу талые воды. Поднимаясь в иные годы на десять-двенадцать метров, вода из реки в степную сторону, огражденную высокими берегами, не изливается, вода устремляется в мещерское понижение, затопляя луговую широкую пойму, леса и болота, отрезает друг от друга селенья. Местами лишь небольшие песчаные гривы (их называют тут «горы» — Липовая гора, Агеева гора) остаются сухими.
Не раз я видел эти разливы с высокого правого окского берега. Море! В пять-шесть дней вода накрывает пространство, уходящее за горизонт. Все в воде: дороги, мачты высоковольтных линий, деревянные постройки летнего лагеря для скота. Чтобы не уносило мосты, на них загодя возят огромные камни. В лесу вода подымается к кронам деревьев. Скворечник, на который неделю назад надо было глядеть, задрав голову, затоплен по самый леток. В воде плавают птичьи гнезда. Лесные кордоны, для которых выбирают места на «горах», тоже, случается, заливает выше окон.
Так повторяется тысячи лет. Природа и люди приспособились к этим разгулам воды. На Оке пристани и поселки, от Касимова до Рязани, — все по правому берегу. Животных — зайцев, енотов, лисиц, кабанов — вода выжимает на «горы». Лесник в Елатьме наблюдал: даже мыши с первым признаком половодья еще по льду перебегают Оку на возвышенный берег.
Много воды на Мещере остается и в лето. Как губка, держат ее болота, сообщаясь друг с другом ключами и моче- жинами. Голубизной сверкает вода в луговых поймах. А пробираясь по лесу, вдруг упираешься в черные, как палехские шкатулки, озера. Они тут не считаны, не помечены картой. И только местные жители да какой-нибудь дошлый турист, не изменивший Мещере ни разу в летних своих скитаниях, скажет, где и что таится в лесах.
Есть тут и целый озерный «архипелаг».
О Русь — малиновое поле И синь, упавшая в реку, — Люблю до радости и боли Твою озерную тоску.
Есенин не однажды стоял у этих озер на границе московской и рязанской земель. Озера большие, открытые, светлые (под стать названия: Святое, Великое, Белое), но до крайнего удивления мелкие. «Из деревни в деревню парни и девушки переходили по озеру вброд», — вспоминает озадаченный путешественник. И правда, в редких местах лодочный шест на этих озерах опус-
44
кается глубже одного метра. Озера идут цепочкой, вливаясь одно в другое. С севера в них втекают, объединившись, речки Бужа и Поль, с юга озерные воды в Оку уносит проворная, чайного цвета, Паустовским воспетая Пра.
Других сколько-нибудь заметных речек на Мещере немного. Можно назвать еще Полю (Поля и Поль — две реки разные!), пограничную Колпь, тихую, сонную Нарму, ну и, конечно, реку-работника Гусь. Города края Мещеры Гусь-Хрустальный и Гусь-Желез- ный названы так по речке, на которой стоят.
Такова краткая география Мещеры. рились в массе переселенцев. От них остались лишь названия рек, озер и урочищ. Племя мещера, исчезнув, оставило после себя название целого края.
Позже край этот был глухим «потайным карманом» Руси. В мещерских лесах за Окой население рязанской земли укрывалось от набегов татар. (И сами татары позже селились в этих лесах.) Сюда ссылали за разного рода провинности и проступки. (Князь Иван III и царь Грозный сослали на Мещеру «многие тысячи» новгородцев, не хотевших верховной власти Москвы.) Сюда бежали крестьяне-раскольники, тут оседали разбойники, промышлявшие с кистенем на муромском тракте, тут по какой-то ра, который на просьбу «угостите водицей...» приветливо вынесет воду, но кружку потом выбросит в мусор.
Все, однако, быстро меняется. Переживут неизбежные перемены, пожалуй, лишь названия речек, озер, деревень и поселков, идущие от времен чуди и несущие на себе отпечаток всего, что было тут позже. Вот вслушайтесь: Са- лаур, Ушмар, Тума, Ерахтур, Сынтул, Чаур, Гиблицы, Лашма (есть еще Ла- мша!), Лакаш, Кочемары, Мурмино, Ибердус, Курша, Иваньково, Давыдово, Голованово... Впрочем, названия деревень исчезают в последние годы вместе с самими деревнями. Раньше бежали в мещерскую глушь. В наши годы разного
46
История этого края тоже своеобразна.
В Московском историческом музее хранятся две флейты, сделанные из трубчатых костей животных. Это самые древние музыкальные инструменты, найденные в европейской части нашей страны. И найдены они на Мещере, на берегу одного из озер, в спрессованной толще пепла, среди наконечников стрел и обожженных костей. Четыре тысячи лет назад одетый в шкуры полудикий наш предок уже нуждался в средстве излить свою душу.
Жили в лесных и озерных дебрях финские племена рыболовов и звероловов — мордва, мокша, мурома, мещера, названные пришедшими сюда славянами-переселенцами одним словом — чудь.
Славяне стали переселяться к северу от Оки тысячу лет назад. Шли они с юго-запада — с земли киевской и северо-запада — с новгородской. История не оставила нам указаний на стычки аборигенов с пришельцами. Как видно, они мирно поладили, перенимая друг у друга житейский опыт обитания среди лесов, благо и бог у них был поначалу един — Природа. Они поклонялись солнцу, воде, лесному зверю, дуплистым дубам. Возможно, славянин чувствовал некоторое превосходство над добродушным, бесхитростным охотником чуди. Нынешние слова чудить, чудно, чудак дошли к нам из далеких времен общения двух народов.
Постепенно финские племена раство- причине осели переселенцы из дальней Литвы. Тут находили убежище остатки разгромленной вольницы Разина и Болотникова. Сюда сослали стрельцов после бунта 1698 года и привезли на работу пленных французов после разгрома Наполеона. Сюда бежали от беззакония и от закона. И всех лесная, болотная, бездорожная глушь укрывала и берегла.
Легко представить себе лоскутное одеяло этнографии этого края. Обособленные друг от друга, деревеньки и поселения Мещеры дольше, чем где-то еще в Центральной России, хранили обычаи старины, своеобразие языка, одежды, обряды труда и праздников, наивную поэтичную веру в русалок, водяных, леших, домовых и баешников (стариков, живущих на чердаке бани). Еще в 20-х годах мещерская сторона была притягательным эльдорадо для краеведов.
Сегодня лодки, вездеходы, мотоциклы, телевизор и радио быстро приводят к единому знаменателю яркую самобытность веками формировавшейся жизни. Но еще можно встретить на Мещере колоритные говоры с цоканьем («Девоцка не цепоцка — за окошко не кинешь»), встретишь часовню с погостом возле дороги; заметишь: дома к северу от реки Пра стоят к улице боком, а к югу — лицом на улицу; увидишь села с непременным амбаром перед жилою постройкой; увидишь колодец с журавлем местной мещерской конструкции, встретишь старика старове- рода причины, в том числе соблазны городской жизни, заставляют бежать из глуши. Но в это же время из разбухающих городов (Москва, Рязань и Владимир — под боком) потянулся людской поток опять на Мещеру. Гонит людей житейская теснота, нечистый городской воздух, разного рода стрессы и перегрузки. Едут в мещерский оазис на лето, на отпускной месяц или хотя бы на пару дней. Целебную силу мещерской глуши еще до войны оценил Паустовский. В наши дни глушь мало где еще сохранилась, а где сохранилась — становится ценностью. Однако приезжающий сюда с рюкзаком и палаткой всего лишь гость, он не связан корнями с этой землей. Он только полюбопытствует: а чем же живы тут люди?
Помню, в Воронеж на практику в областную газету приехал молодой журналист из Мещеры. Мы отправились вместе в командировку, и не забуду его удивления в поле: «Земля-то черная!» А какая еще бывает земля? Он стал рассказывать...
Теперь, путешествуя по Мещере, я увидел светлую, почти белую землю. Нетребовательный сосновый лес растет на ней превосходно. Поля же бедны до крайности. И эта скудость земли определила уклад здешней жизни. Изначальные племена кормились тут рыболовством, промышляли лесного зверя и дикий мед. Позже погустевшее население стало выращивать хлеб, но
урожай был «сам-треть», то есть одно ржаное зерно посева давало всего лишь три зерна урожая. Навоз-удобре- ние был столь ценим, что его включали, как пишет коренной мещерец поэт Виктор Васильевич Полторацкий, даже в приданое за невестой. Сваты рядились примерно так: «Значит, за Анютой даете в полушубок овчинный, чесанки с калошами, половиков тканых восемь аршин и четыре подводы навоза». Земля была слабой кормилицей человека. И, казалось, тут, у болот, должна бы гнездиться крайняя бедность. Ничуть не бывало! Мещеряки жили куда справнее своих заокских соседей, сеявших хлеб по тучному чернозему. Степ- поле и в огороде. Промышлять принимались в пору, когда «серп и соха отдыхали». Все делалось на дому и увозилось на ярмарки в города, стоявшие на Оке. Однако существовал тут избыток рабочих рук, и Мещера поставляла их повсеместно. Выражение «Рязань косопузая» рождено обликом мещерского плотника, кочевавшего по России с топором, взятым за пояс. Ни одно большое строительство в Питере или в Москве без мещерского плотника не обходилось. Здешние бондари ежегодно сотнями уплывали в Астрахань делать бочки. Смолокуры ходили в Финляндию. Столяр особо высокого мастерства Андрей Тулупов побывал со шадь не дастся. Баба при ловле смело бросается лошади прямо на шею и тут же ловко накидывает обороть». На сельских сходках мещерская женщина имела голос, равный с мужчиной.
Мужик же, возвращаясь к дому «с отхода», приносил впечатления странствий, окрепшее мастерство, знание жизни, желание у себя дома устроить все «не хуже людей». Соревнуясь с соседом, он перекраивал дом, менял наличники, благоустраивал двор. Оттого дома во многих местах на Мещере один милее другого. В деревне Уречье, на Нарме, я потратил полдня, примеряясь с фотокамерой почти что к каждой постройке. И каждый хозяин (чаще это няки, обитавшие в избах, крытых соломой, дивились, бывая в мещерских лесах: «Неужто не баре, неужто простые люди проживают в этих хоромах?»
Дворцов мещерские мужики, понятно, не строили. Но каждый дом тут глядел молодцом, был чист и опрятен. Почти всегда его украшало крылечко, резьба по карнизу, кружевные наличники. Любая деревня глядела на путника весело и приветливо. И жалобы на нужду в чести тут не были. Мещера хорошо была приспособлена распоряжаться лесом — главным своим богатством. В документе давности двухсотлетней читаем: «Жители по худобе своих пашен кормятся ремеслом топорным».
Все ремесла, тут бытовавшие, перечислить было бы затруднительно. Едва ли не каждая деревенька имела свой трудовой профиль. Тут жили тележники, смолокуры, плотники, бондари, рогожники, колодезники, грибники, богомазы, корзинщики шерстобитчики, столяры, коновалы, сундучники, корыт- ники, прялочники, лапотники, лодочники, игрушечники, лошкари...
Во время войны, многие помнят, появились на «хитрых рынках», едва ли не повсеместно, коврики с лебедями. Примитивное рукоделие было потом мишенью для нашей сатиры. Однако войной разоренная жизнь требовала хоть какого-нибудь украшения жилищ, и предприимчивая Мещера немедленно уловила эту потребность.
Мещерские промыслы были подспорьем тому, что давала земля в лугах, на
Мещера — это болота, лес, равнинные тихие речки. «Грибная бабушкина глушь...»
своим инструментом в Китае и даже в Австралии.
В отхожий промысел с Мещеры уходило ежегодно двести тысяч мужчин. (Одних только плотников двадцать пять тысяч!) Вполне понятно, хозяин в доме был гостем. Он возвращался из дальних краев к петрову дню — косить луга, а к успенью (середина августа), убрав с полей хлеб, снова отправлялся «в отход».
Хозяйством ведали женщины. Необычайно трудолюбивые («Ногой каци, каци, а рукой тоци, тоци», то есть люльку качай, а руками тачай, шей что-нибудь), мещерские женщины и мужскую долю хозяйстких забот несли исправно. «В некоторых местах лошадь в лесу может поймать только баба — мужику ло-
была старуха) ревниво ждал: подойдет ли фотограф к его крылечку.
Сохранилась ли схема хозяйственной жизни — пашня, промыслы и «отход» — в наше время? Пожалуй, что нет. От промыслов можно найти лишь осколки. Кое-где собирают грибы и сдают в грибоварни, в приокских селах плетут корзины из ивняка для картошки. Из деревни Курмыш старик с невесткой поставляют в Касимов для заезжих людей диковину старины — лапти. В Гиб- лицах (родина космонавта Аксенова) производят кирпич. Кое-где вяжут метлы, делают бочки. Это и все.
Между тем земля на Мещере богаче не стала. Ее, правда, сейчас удобряют («Удобряют привозным химикалом», — сказал старик бондарь на выселках Ам- ляши). И все же без промысла в этих краях хозяйствам трудно сводить концы с концами. Колхозы в большинстве своем бедные. Во многих местах в деревнях доживают одни старухи. Молодежь подалась в Горький, Владимир, Муром, Рязань, Москву. Те из мужчин, что еще держатся «мещерского корня», в колхозах тоже, можно сказать, не ра- 47
ботники, как в прежние времена, добывают средства на жизнь «отходом».
Оптимисты выход из положения видят «в преобразовании Мещеры» — в осушении болот, введении в оборот новых посевных площадей. Эта мера, если к ней обращаться разумно, конечно, расширяет возможности земледельца. Однако опыт ставших на ноги здешних хозяйств вразумляет: по-прежнему промысел нужен здешнему земледельцу и как статья дохода, и как средство покончить с отходничеством, разрушающим и семью, и деревню как таковую.
Возможно ли возрождение промы-
слов, столь естественных для этого края? Люди, изучавшие эту проблему, считают: необходимо. Но нужен широкий государственный взгляд на это насущное дело. Рогожи, корыта из дерева, лапти, деготь, прялки и сундуки сегодня не нужны, но очень разумной представляется мысль о смычке больших городских производств с сезонным производством в селах и деревнях. Уже сейчас кое-где шьют тенты для грузовых автомобилей, трут краски, производят тару, деревянные (и пластмассовые!) детали машин, изготовляют упаковочный материал. Всемерное расширение подобного разделения труда между городом и деревней выгодно 48 всем. Завод восполнит всевозрастающую нехватку рабочей силы, деревня найдет дело рабочим рукам в межсезонье. Это крайне важно в целом для государства — предотвращается распухание городов, и остается на земле землепашец.
Система эта открытием не является. Японцы широко и давно ее практикуют, отдавая крестьянам-надомникам и деревенским артелям сборку деталей даже для электронной промышленности. Нечерноземье в целом нуждается в таком разделении труда. Мещера же, где промыслы, как мы видим, всегда были жизненно важной частью хозяйства, могла бы стать опытным регионом для проверки этой системы.
О мещерской природе принято всегда говорить в первую очередь. Чаще о ней только и говорят. Во времена писателя Куприна (начало этого века) поэзия Мещеры была не очень заметна, потому что было в России много других не очень тронутых человеком мест. И Куприн увидел тут лишь ужаснувшую его глушь. Но сорок лет спустя Паустовский эту глушь воспринял уже иначе. Мещера показалась ему лучшим на земле местом — «эту затерянность я ощущал, как счастье».
Паустовский много лет ездил сюда постоянно и надолго — «всего двести верст от Москвы!». Он любил этот край преданно и сумел рассказать о нем тонко и поэтично. По Паустовскому, не побывав здесь, мы уже знаем притягательность сонной воды, тихих неярких зорь, кафедральную высь и торжественность бора, таинственность топких мшар, очарование глухих полянок с копнами сена и манящую силу одинокого огонька. Книжный лист с рассказами о Мещере (проверьте!) источает запах грибов, сосновой живицы, запах приводных трав и нагретых солнцем лугов. Я уверен, много людей в минуты душевного неустройства засыпали успокоенными, пробежав глазами три-четыре страницы мещерских рассказов. И многих Паустовский побудил к странствию в эти места.
Сорок лет назад запечатлел писатель Мещеру. Изменилась она с тех пор? И да, и нет. Солотча, где жили Паустовский с Гайдаром, уже не тихое место. Тут расположены туристский стан и не менее двух десятков лагерей пионеров. Паустовский писал о заросших поэтичных, полных уток и рыбы каналах генерала Жилинского, в XIX веке неуспешно осушавшего Мещеру. Сейчас тут встречаешь много свежих, вовсе не поэтичных канав, прокопанных экскаваторами, и видишь эти машины, осушающие Мещеру довольно успешно и не всегда к лучшему.
Паустовский был в этих местах в пору легендарного бездорожья. Когда-то у мещерских крестьян существовал особый промысел — вытаскивать из колдобин застрявшие в них повозки купцов, господ и служилых людей. Паустовский этот промысел не застал, но бездорожье, его нисколько не огорчавшее, было тут прежним. Единственным сколько-нибудь надежным путем была нитка узкоколейки, соединявшей Соло- тчу через леса и топи с поселками Спас-Клепики, Тумой и дальше с Мещерой Владимирской. Эта «железка» цела и поныне. Правда, ходившие по ней «со скоростью пешехода» пассажирские поезда теперь не ходят. Но товарные, которые водит сейчас почти игрушечный тепловозик, ходят по-прежнему. В Спас-Клепиках я наблюдал, как лесом груженный поезд резво бежал деревянным мостом через Пру и с мелодичным стуком скрылся в лесах.
В корне изменило представление о доступности этого края недавно проложенное шоссе от Касимова до Рязани. 170 километров асфальта — хороший подарок для хозяйственной жизни Мещеры. Но, конечно, высоко ценимую Паустовским глушь и затерянность асфальт нарушил. Впрочем, юркие «Жигули» с твердой дороги в этих местах не рискуют съезжать, и кусок Мещеры, заключенный в объятия на севере новой дорогой, а на юге Окой, хранит по-прежнему все, что пленило тут Паустовского.
1979 г.
□
КОЧЕМАРСКИЕ ЛУКИ
Если плыть до Горького по Оке пароходом, то после древнего правобережного села Копаново замечаешь: река, повсюду спокойная, вдруг начинает петлять — солнце видишь то прямо по курсу, то сбоку, то за кормою. «Проплываем Кочемарские луки», — скажет знающий пассажир.
Село Кочемары, давшее лукам названье, с реки не увидишь — остается где-то слева по борту, за островами ольхи и ветел, за зубцами мещерского хвойного бора. На Кочемарских луках вообще никакого селенья не видишь. А если плыть, скажем, в августе, то и людей тут тоже не видно. Одни стога! Десятки верст они тянутся над рекою слева и справа, то открытые глазу, то затененные зеленью пойменных ветел, лип и гривами леса. Они стоят то цепочкой возле озер, то кучно, как африканские хижины. Поднимаешься выше на палубу — горизонт отступает, и продлевается в глубь равнины царство стогов. «Луговая столица», — говорит все тот же знающий пассажир и просит бинокль рассмотреть какую-то крупную птицу, сидящую на стожке.
Тишина. Звенят кузнечики. Синеет вдалеке лес. И ни единой души на этой накопившей тепла на зиму равнине. А ведь недавно совсем, в июле, все тут звенело, пестрело цветами легких летних одежд, синело дымом костров; голоса песни, урчанье моторов, ржание лошадей... «Смотрите...» — говорит сосед-пассажир, возвращая бинокль с предвкушеньем твоей улыбки... У ручья темнеет шалаш, а возле него на большой перекладине две черные посудины ведер на восемь каждая. И на дощечке, привязанной к столбику, надпись «Котлодром». Остатки костра... Чей-то картуз, надетый на бурый кустик конского щавеля... Колея, по отаве уходящая к лесу... «Луговая столица...» — влюбленно говорит спутник. И я в тот момент оставляю в памяти метку — «прекрасное место» — и даю себе слово побывать тут в июле.
Разливу трав предшествуют тут разливы воды. Кочемарские луки в апреле — сплошное море воды. На многие километры — только вода! В воде стоят островками ольхи и ветлы. Из воды торчит дощатая крыша летнего лагеря для скота. Дорожный знак на столбе затопило по маковку. Бескрайнее море воды!
И везде, где весной вода побывала, с приходом тепла, с мая месяца, «дуром земля гонит травы». К июню разливы весенней воды сменяют разливы трав. И слово «море» опять подходяще. Однако для глаза заливные луга привлекательней, радостней и богаче воспетой морской красоты. Зазеленев в мае, луга непрерывно меняют краски до самых покосов. Теплые брызги лютиков сменяет тепло одуванчиков, потом на¬
чнут серебриться под ветром жесткие спицы злаков — овсяницы, лисохвоста, тимофеевки, мятлика. В какой-то день луг покрывается дымкой розовых васильков и травы-полевицы; и тут же куртинами — белая кашка, ромашки, как желтые плотные скатерти, пятна медовой свербиги, разливы донника, белое кружево купырей, колокольчиков синие скромные звезды, сизые шишки мордовника, розоватая белизна дикой мальвы, вызывающе синий дельфиниум. .. Все это луг взрастил в тесноте необычной, в плотности непролаз¬
В апреле — разливы воды. В июне — буйное разнотравье. А к осени пойма Оки пестреет стогами сена...
ной. Все образует сообщество с названием разнотравье.
По-над Окою луговое сообщество необычайно богато. Ученые эту зону выделяют даже в особый ботанический регион с названием «окская флора». Паустовский, эти края исходивший, признавался в скудости ботанических знаний, в растерянности перед многоликим миром растений. С прогулок он приносил пучки трав, чтобы дома под крышей по книгам, по атласам узнавать: это имеет названье мышиный горошек, это — смолка, это — душистый луговой колосок, кровохлебка, козлобородник... Ботаники насчитывают в Окской пойме до сотни различных трав. Обилие это — результат особых условий климатических, почвенных, пограничных. (По Оке проходит граница леса и степи. И тут в особо благоприятных условиях дружно соседствуют растения-северяне и выходцы с юга, со знаменитого некогда Дикого поля.)
49
Что же касается щедрости окской земли, то вот что писал Паустовский: «Эти луга иные ученые сравнивают по плодородию с поймой Нила. Луга дают великолепное сено». Мой друг Данила Кузьмич Архипов, живущий в селе Коче- мары семьдесят с лишним лет, называет Окскую пойму «золотым дном, даром небесным». «До войны у нас в Коче- марах держали 1000 лошадей упряжных и полтысячи молодых. И держали еще 1500 коров. Весь этот скот кормили луга, кормил пай сена, полагавшийся кочемарцам. И такие паи были у каждого поселенья, хотя стоят они от реки нередко за двадцать пять верст. Сена всегда хватало. Излишки возили в давали почти без затрат. Обжегшись в 30-х годах на распашке, в начале 60-х опять подверглись искусам подымать луга под морковку, свеклу, кукурузу. Успех во многих местах был временным, потери — долговременными. На той же Оке появились песчаные пустыри с лопухами мать-мачехи, с полупустынными будяками. Спохватились. Остановились. В немалой степени способствовал этому (хорошо помню газетные публикации!) писатель, уроженец Мещеры Борис Андреевич Можаев, восставший против шаблонного, необдуманного вторжения в пойму с плугами. Противники у Можаева были сильными, но союзником у воителя была сама трясогузки качаются на верхушках конского щавеля. Летает кругами потревоженный чибис. Прощально кукует кукушка. Соловья еще можно услышать. Но чаще из синего леса доносится тонкая флейта иволги.
И есть у луга свои певцы. «Пить подать! Пить подать!» — изнывает от летней жары перепелка. А под ветлами в бочаге хор лягушек славит лучшее для лугов время: «Как-кова! Трава как-ко- ва...» И отклик лягушкам тоже ласкает ухо: «Хо-рош! Хо-рош!» Всю ночь дергач-коростель хвалит травы, с непостижимым проворством перебегая в их тесноте с места на место.
Даже и не поэта в этих лугах поТуму, в Касимов». Добавим: окское сено знавали сенные рынки даже в Москве, даже, говорят, в Петербурге.
В жизни Приокских мещерских сел сено играло большую роль, чем хлеба. «С хлебами бабы справлялись. А мужики, убывавшие на отход в города, непременно, где бы ни находились, в сенокос возвращались домой. Сложили сено в стога — главное дело сделано».
Ширина луговой поймы у Кочемар- ских луков достигает местами двадцати километров. Представьте себе этот зеленый, пестрящий цветами пояс с островками кустов и деревьев, с озерцами, с холодными ручейками — истинно золотое дно, дарованное человеку природой!(«Только черпай и не теряй добра между пальцев», — говорит Данила Кузьмич.)
Конечно, не только Оку обрамляет зеленая самобраная скатерть. Любая река и речонка имела пойменный луг. К сожаленью, о многих лугах говорить приходится как о богатстве утраченном. Соблазны брать у поймы больше, чем давала она сама добровольно, привели к распашке лугов. И во многих местах сразу потеряны были и луга, и сами речки — полые воды смывали пойменный слой плодородной земли, заиляли речные русла. Между тем документы начала 30-х годов говорят: «Пойменные луга давали 20 процентов всей кормовой продукции страны». Есть чему подивиться! Полоски земли у речек давали пятую часть всех кормов, давали 50 стабильно, не подверженные засухе,
Самая поэтичная из работ. «Коси коса пока роса...» А в полдень — артельный обед, час отдыха возле реки.
жизнь. И правоту Можаева пришлось признавать.
Кочемарских лук распашка коснулась несильно по причине естественной главным образом — долго стоят тут вешние воды, с механизмами можно сунуться только в июле. Правда, озерную воду тут кое-где ухитрились спустить в Оку, автоматически понизив уровень грунтовых вод и, естественно, ухудшив луга. (Можаев и против этого воевал!) И все-таки Кочемарские луки остались с лугами. Травы растут ежегодно без перебоев. Судьба урожая решается тут в июле во время уборки, когда все зависит лишь от погоды и человеческой расторопности.
Лучшее время в здешних местах — недели перед покосом. Вполне понимаешь откровение Паустовского, предпочитавшего всем заморским красотам, всем чудесам света «росистую тропку в окских лугах».
В конце июня все тут созрело. Все цветы стоят напоказ пролетающим тяжело груженным шмелям и пчелам. Все источает медовый запах. Желтые
сещает потребность каким-нибудь образом выразить набежавшие чувства. Мой друг однажды стал в лугах на колени: «Ты знаешь, хочется или молиться, или по-собачьи лаять от радости».
Однако красота красотою, а приходит час лечь траве под косой. Этот час у Оки совпадает обычно с Ивановым днем (7 июля). Но жаркий июнь иногда приближает день косовицы. Важно, дождавшись полной спелости трав, не упустить потом времени. («Летний день год кормит», «Убрать сено в пору — в каждый стог пуд меда отвесить».)
Все знают: нет для скота более желанной и полноценной еды, чем упавшее под косой погожее разнотравье. «Хотел бы я пить молоко от коровы, у которой все это будет хрустеть ЗИМОЙ
на зубах», — сказал мне ботаник, лучше других понимающий: силос из кукурузы или даже царь-трава — сеяный клевер — не могут сообщить молоку тот вкус и целебную силу, какие дает бу- кет-сено. В духе времени можно тут вставить словцо о ферментах, о витаминах, микроэлементах и фитонцидах. Но можно о том же сказать очень просто, как это сделал рязанский поэт Борис Сильвестров: «Бродят буренки по белым ромашкам. Щиплют клубнику и красную кашку. Медом пропахли кусты и ракиты. Вот почему молоко духовито». Так объясняют ценность лугов детишкам. Взрослым тоже, как видим, надо напоминать: ценность! Величайшая ценность — заливные луга! «Беречь их надо, как курицу, несущую золотые яички», — говорит старожил Окской поймы Данила Кузьмич Архипов.
Начало июля — разгар работы в лугах. Кочемарские луки полны людских голосов. Из всех деревень, стоящих по краю травяного разлива, все, кто способен работать, сейчас находятся в пойме. Есть тут, в лугах, люди и городские. Живут в шалашах. Едят из старинных чугунных котлов. И работа с утра до заката. Работа нелегкая. Но нет труда поэтичней и благодарней, чем этот на летнем лугу...
Стог сена — украшенье любого пейзажа. У любого человека этот маленький складец сушеной травы рождает теплое чувство. У художников это любимый объект для картины. Почему? Потому что стога — это память о лете, итоги труда на лугу, это запас на зиму тепла, залог благополучия...
Всему, что родила земля на лугах и полянах, к августу полагается быть в стогах. В луговой столице, на Кочемар- ских луках, таких стожков за лето вырастает многие тысячи.
7980 г.
□
ДИКИЙ МЕД
Нас трое. На трех лошадях. Путь не дальний, но и не близкий — километров за восемнадцать от деревни Максютово по реке Белой. Понятие «медвежий угол» для этих мест характерно не только в образном смысле — конный след по росной траве пересекают медвежьи следы. Лошади мнутся, поводят ушами, но люди спокойны, хотя ружьишко на всякий случай висит у Заки за плечами.
У нас, троих, и у медведя, которого мы не видим, но который нас может видеть, цель одинакова: добыть дикий мед из дупел, скрытых в первобытных здешних лесах. Конкуренция давняя, тысячелетняя. Название «медведь» дано человеком лесному зверю за постоянный интерес к меду — «мед ведает».
В большинстве мест медведи исчезли вместе с дикими пчелами. В других (крайне холодных местах) пчелы не водятся и мед медведям неведом. Но есть еще уголок, где сохранились дикие пчелы, сохранились медведи и сохранились люди, ведущие промысел меда.
Вот они передо мной покачиваются в седлах, последние из могикан-бортников. К седлу у Заки приторочен топор, дымарь, снаряжение для лазания по деревьям, два чиляка — долбленки из липы для меда. Все аккуратно подогнано, всему свое место, и только изредка при подъемах и спусках ритмично, в такт ходу лошади стукает деревяшка о деревяшку.
Едем вначале по сеновозной дороге, по полянам, уставленным копнами, потом по узеньким тропам и, наконец, лесной целиною. Передняя лошадь раздвигает густые травы в подлеске, и временами кажется: мы проплываем по зелени — видны лишь головы лошадей и головы всадников.
Вот наконец перед нами первое бортное дерево — большая сосна, стоящая у ручья над джунглями дудника и малины. Заки обращает мое внимание на клеймо — «тамгу». Заплывший, топором рубленный знак говорит о том, что
дерево принадлежит бортникам деревни Максютово, а специальное добавление к знаку — свидетельство: владеет бортью Закий Мустафьин.
На длинной привязи лошади пущены в стороне попастись. А мы приступаем к ревизии борти. Заки проверяет свой инвентарь и, охватив сосну длинным ремнем кирамом, подымается по стволу. Носками ног Заки безошибочно и быстро находит в сосне идущие кверху зарубки, а продолжением рук служит ему плетеный ремень. Взмах — и обнявший сосну кирам взлетает выше, еще один взмах, еще... Об этом дольше рассказывать — Заки уже у цели, на высоте примерно двенадцати метров! да без большого запаса, килограммов десять-двенадцать. Меда хватит лишь самим на зимовку. Такие запасы бортник трогать не должен. Заки приводит в порядок все входы и борть, приводит в готовность «автоматику» против медведей и спускается вниз.
И вот все снаряжение в походном состоянии. Три низкорослые лошаденки снова несут нас по дикому горному разнотравью. Заки все борти свои (их сорок) знает так же хорошо, как семерых детей своих.
— Вот тут пчелки с нами, пожалуй, поделятся, — говорит он гадательно возле третьей по счету сосны с фамильным клеймом.
это ей стоило жизни — хрупкое, уже засохшее на ветру тельце.
— Заки, почему она темная, почти черная?
— А потому, — отвечает едущий первым Заки, — что это «бурзянка» —- дикая лесная пчела. Она сохранилась только в Башкирии, и только у нас, в Бурзянских лесах.
Добыча меда и воска — древнейший человеческий промысел. Можно представить одетого в шкуры далекого нашего предка, на равных началах с медведем искавшего в лесах желанные дупла. В отличие от медведя человек понял, что увеличит шансы добы-
Петлю он замыкает узлом — ременный круг выше пояса подвижно соединяет его с сосной. Еще одна операция — укрепить на сосне приступку для ног. Цирковая работа! Справа, огибая ствол дерева, надо кинуть веревку и поймать ее слева. С третьего раза этот трюк Заки удается. Знак рукою напарнику — и на транспортной, от пояса свисающей веревке вверх поплыли дымарь, топор и сетка для головы. Все это сделано в три минуты, не больше. Теперь Заки надевает на голову сетку, быстро вскрывает борть, с веселым приговором «Предупреждаю...» пускает в дупло пахучее облачко дыма.
Пчелы, уже готовые зимовать, очень свирепы. Но для существ, живущих по законам инстинкта, дым означает лесной пожар — надо без промедления спасаться. Это знали еще пещерные люди, поднимаясь к пчелиным дуплам с пучками горящего мха. Теперь же в руках у Заки жестяной дымарь...
— План выполнили. А сверху плана ничего нету! — кричит он с дерева.
Это значит, что пчелы заготовили ме-
Опять почти цирковые приемы влезания к борти. Дымарь в руке, неизменная шутка «Предупреждаю!..» и голос: «Давай чиляк!» Напарник Заки, Сагит Галин, быстро цепляет к висящей веревке липовую долбленку, и я вижу в бинокль подробности изымания меда из борти. Деревянным ножом Заки ловко срезает висящие языки сотов и кладет их в чиляк. Движения ловкие, точные. Время от времени от хозяев дупла надо обороняться дымом, надо мокрой тряпицей, висящей у пояса, вытирать руки...
— Двенадцать — им, двенадцать — нам! — весело, как рыболов, поймавший хорошую рыбу, балагурит Заки, и тяжелый чиляк плывет на веревке к земле.
За день мы успеваем проверить шесть бортей и возвращаемся уже в сумерки. Четыре чиляка, полные меда, по два за седлами у Заки и Сагита, мерно качаются над дорогой.
В гриве своей спокойной кобылы я замечаю пчелу. Раздраженная, видимо, запахом пота, пчела ужалила лошадь, и
Снаряжение бортника — ремни, веревки, дымарь, топор, посуда для меда... Все искусно приторочено к седлу для дальнего переезда.
52
тчика, если будет выдалбливать дупла борти в деревьях, — охотник за медом сделал полшага к занятию пчеловодством.
Бортничество в богатой лесами Руси было делом повсеместно распространенным. Главной сладостью до появления сахара у человека был мед. Свет до появления стеарина, керосина и электричества давали лучина и восковая свеча. Мед и воск Древняя Русь потребляла сама в огромных количествах. Мед и воск наравне с мехами служили главным предметом экспорта из Руси. «Бортные урожаи» особо были богаты в лесах Приднепровья, Десны, пограничных со степью лесах по Оке, по Воронежу, Сосне, Битюгу, Усманке.
С приходом в леса дровосека бортник вынужден был, спасая дупла, вырезать куски вековых сосен и вешать дуплянки в спокойных местах. Отсюда был один шаг уже и до пасек — дуплянки свозились поближе к жилью либо в особо благоприятные уголки леса. Пчелы были теперь под присмотром — медведю и лихоимцу уже не просто было ограбить дупло. Но скученность пчел порождала у них воровство и болезни, сильно сузила площади медосбора. При этом колода на пасеке оставалась по- прежнему диким дуплом — вмешаться в пчелиную жизнь было никак невозможно. Изымая мед из дуплянок, человек разрушал соты, пчелиные семьи при этом гибли.
Нынешний рамочный улей появился в 1814 году. Это было великое изобретение «великого пасечника» Петра Ивановича Прокоповича. (В селе Пальчики на Черниговщине Прокоповичу поставлен памятник.) Рамочный улей позволил проникнуть в тайны пчелиной жизни, позволил оказывать пчелам помощь (временами они в ней нуждаются). Резко увеличивая продуктивность пасек, улей повсеместно и быстро стал вытеснять дуплянки. Пчеловодство сегодня — это царство ульев.
Улей, совершенствуясь непрерывно, в принципе оставался таким же, каким был предложен Прокоповичем. Но от борти, «вписанной» в первобытную жизнь леса, улей отличается так же, как первобытная охота от современного животноводства. И потому не чудо ли нынче встретить в лесу охотника за диким медом?! Такого же охотника, каким был он тысячи лет назад.
Почему древнейший человеческий промысел сохранился в Башкирии и нигде больше? Этому есть причины. Одна из них — особые природные условия, обилие липовых и кленовых лесов — источника массовых медосборов. Вторая — башкирские леса до недавних времен оставались нетронутыми. Местное население земли не пахало, занимаясь лишь кочевым скотоводством, охотой и сбором меда. Лес для башкира был убежищем и кормильцем, а пчелы в нем — едва ли не главными спутниками жизни. Полагают даже, что слово «башкир» («башкурт», «баш» — голова, «курт» — пчела) следует понимать как «башковитый пчеловод». Таковым башкир и являлся всегда.
Во многих исторических документах и в записях землепроходцев рядом со словом «башкир» непременно находишь слово «пчела». «А кормит их мед, зверь и рыба, а пашню не имеют» («Книга Большому чертежу», 1672 год). «Едва ли сыщется такой народ, который бы мог их превзойти в пчелиных промыслах... Редко можно было тут видеть такую сосну, около которой бы не жужжали толпы медоносных пчел. Были башкиры, у которых тысячи по две бортей». То есть по две тысячи дупел, разбросанных там и сям по лесам. Разбросанность обеспечивала максимальные медосборы и, конечно, сохранность лесного богатства — при набегах такую «пасеку» не ограбишь. Что касается сородичей, то строгие племенные законы повсюду остерегали покуситься на борть, помеченную «тамгой» соседа. (На Руси разорение борти каралось штрафом в «четыре лошади или шесть коров», а в Литве — смертной казнью.)
Бортное дерево для башкира было мерилом всех ценностей. Оно кормило несколько поколений людей, переходя от отца к сыну, от деда к внуку. За бортное дерево можно было выменять ценной породы лошадь, бортное дерево было лучшим подарком другу. «Счастливые борти» (дупла, где пчелы селились охотно), как корабли, имели названия. Стоят и поныне в лесах по-над Белой борти «Бакый», «Баскура», «Айгыр каскан», выдолбленные еще в прошлом веке.
Каждая борть в урожайный год давала до пуда ценнейшего меда. Мед был «валютой» башкирского края. Зимой охотник промышлял в лесу зверя, летом — промышлял мед.
Массовая распашка земель и сведение лесов в Башкирии начались поздно (сто с небольшим лет назад). И это продлило сохранность давнего промысла. Но бурная перестройка векового уклада жизни коснулась и старинного пчеловодства. Лишь с запозданием, но почти всюду охотник за медом превращался в пасечника, собирая сначала в единое место колоды и меняя их постепенно на ульи.
И все же остался в Башкирии островок древнейшего промысла. В глухих поныне, почти бездорожных отрогах Уральских гор леса сохранились нетронутыми. Сохранилась и черная лесная пчела, жизнеспособная, трудолюбивая, выносливая. В 1958 году природная зона обитания пчелы была объявлена заповедной. Бортничество стало и поощряться, и изучаться. В заповеднике работают лесники-бортники. Есть по здешним глухим деревням еще и любители древнего промысла. Дома у них — пасеки, но три раза в год — зимой, весной и под самую осень — седлают они лошадей и только им известными тропами направляются в лес.
Во дворе у Заки листаем пожелтевшую книгу прошлого века о башкирах и бортничестве. Сравниваем инструменты и снаряжение, какими мог пользоваться прадед Заки, и нынешние. Все — ремешки, деревяшки, железки — одинаково по конструкции и названию. От современной жизни для бортного дела Заки приспособил лишь кеды, в них по деревьям лазать удобней, чем в шерстяных носках.
Строительство борти начинается с поиска подходящего дерева. В старой книге написано: «Увидев хорошую сос-
53
ну, башкир немедленно вырезает на ней «тамгу» — эта сосна моя». Так же поступит бортник сегодня.
Сосна должна быть достаточно толстой (около метра диаметром). Очень желательна близко вода, очень важно, есть ли вблизи поляна с лесным разнотравьем и каков рядом лес. Есть и еще какие-то тонкости, известные разве что пчелам, ибо заселяют они лишь треть приготовленных бортей, упорно предпочитая одни («счастливые») и оставляя другие осам и паукам.
Долбится борть на высоте от шести до двенадцати метров. Сначала бортник вырезает в дереве неширокую щель и потом уже специальными ин- Ставит внутри из жердочек крестовину — опору для сот и кленовыми шпильками укрепляет «приманку» — полоски вощины или сухие соты. Оформив как надо леток, он тщательно закрывает заслонкой большую щель, для утепления накрывает заслонку «матрацем», похожим на банный веник, и заслоняет сверху еще горбылем. «Борть должна быть теплой, сухой, но иметь хорошую вентиляцию». Все это пчелы оценят сразу, как только борть обнаружат. Принудить их к выбору бортник не может. Его дело теперь — ожидание.
Роение пчел в Бурзянских лесах начинается в жарком июне. Семья с молодой маткой остается в дупле. А ста- долгие времена эта пара приспособилась действовать сообща. Дятел настойчиво долбит доску над щелью, но пасует, обнаружив под верхней крышкой утепляющий «веник». За работу теперь берется куница, перегрызая мелкие ветки, а далее снова дело за дятлом.
Разумеется, бортник придумал немало хитростей уберечься от конкурентов. Помимо беспощадной войны с медведем (теперь заповедник эту войну ограничил), у борти ставится много упреждающей грабежи «техники». Возможно, не самое эффективное, но занятное и древнейшее средство прогнать медведя — тукмак — висящее на веревке у борти бревно. Оно мешает струментами выбирает дупло высотою около метра, довольно просторное, но не грозящее дереву переломом. Внутренность борти тщательно зачищается круглым стружком и специальным хороших размеров рашпилем с рукояткою, как у лопаты. Леток для пчелы прорубается сбоку, а щель закрывают деревянной заслонкой, подгоняют ее со всей тщательностью — в дуплах пчелы переносят суровую зиму.
После этого борть оставляют сушиться. И только через два года ее можно готовить к заселению пчелами. Подготовка эта, как мог я понять со слов увлеченного делом Заки, похожа на подготовку к очень серьезной рыбалке. Тут нет несущественных мелочей. Бортник в этот момент не работает — священнодействует! Лошадь привяжет он в стороне от сосны, чтобы не было запаха пота. Одежда тоже не должна иметь пугающих запахов. («Коровьего масла в это время не ем».) Очистив борть от всего, что могло появиться за время сушки, Заки натирает ее изнутри 54 ольховыми или осиновыми листьями.
рая с роем взмывает над лесом и в поисках нужного ей жилья может лететь до пятнадцати километров. Высокие бортные сосны сверху очень заметны, и пчелы-разведчики не упускают возможности обследовать все, что увидят.
В середине лета, объезжая участок, бортник с волнением приближается к «новостройкам». И сердце его счастливо бьется, если сверху он слышит приглушенный пчелиный гул. В июле главный взяток — с цветущей липы. Работая по семнадцать часов в день, дикие пчелы за сезон могут припасти в борти до двенадцати килограммов меду.
О том, что в борти кипит работа, известно становится не только тому, кто оставил клеймо на сосне. Свои клейма когтистой лапой ставит на дереве и медведь. Чутким ухом косматый любитель меда нередко ранее человека берет на контроль пчелиную семью. Конкурентами бортника бывают и муравьи, способные (окажись поблизости муравейник) понемногу, но неустанно «чистить» борть. Среди любителей меда числятся также куница и дятел. За
медведю орудовать, и он его раздраженно пихает, но, чем сильнее бревно он толкнет, тем больнее, качнувшись, оно его ударяет. Сами пчелы, не щадя жизни, защищают свое богатство, выступая союзником человека, который потом забирает добычу, попугав пчел дымком.
Вскрывая перед осенью борть, сборщик меда видит в дупле висящие языки сотов — мед и воск. Того и другого пчела запасает с излишком, зная, что капризы погоды могут сделать следующее лето неурожайным. Этот излишек бортник и забирает.
Борть служит обычно долго, так долго, как может стоять сосна, часто больше ста лет. Примерно раз в десять лет борть очищается, сушится и, как после постройки, стоит в ожидании новых поселенцев.
Поселяются пчелы также в естественных дуплах. Наибольшая радость обнаружить в угодьях такое дупло. Бортник его не коснется и будет беречь пуще глаза, ибо хорошо знает: ничем не нарушенный ход дикой жизни лучше
всего сохраняет жизнеспособность пчелы. Дикие дупла — это рассадники бортевых пчел. (В старинной книге читаем: «Заселенная борть стоит рубль, семья-дичок — шесть рублей».)
Качество меда в диком дупле и в борти вряд ли разнится. Но мед, привезенный из леса и полученный около дома, Заки различает: «Я сразу скажу: это — с пасеки, а это — из борти. Мед из улья мы спешим откачать, а в борти мед вызревает, к тому же он смешан с пергою. И в этом двойная его целебность — нектар и пыльца...»
— Борть человека переживает, — задумчиво говорит Заки, вынимая самодельным пинцетом занозу из пальца. — Мы с вами сегодня ели мед из борти, которую сделал мой дед. Счастливая борть! Отец говорил: «Эту борть береги всеми силами». Даже в письмах с войны спрашивал: «А как там борть у поляны Буйлау?»
Отец Заки до конца войны не дожил четырнадцати дней. Похоронен в братской могиле где-то в Германии. Сыну в том давнем апреле было тринадцать — самое время учиться бортному делу. В последнем письме отец, как будто предчувствуя смерть, написал.: «Мои инструменты — теперь твои. Пользуйся. Бортное дело даст тебе силу и радость» .
Все так и вышло в жизни Закия Му- стафьина. На армейском призывном пункте положили в руку ему железку, сказали: сожми. Сжал — удивились, думали, неисправен прибор. Еще попросили сжать. Расспрашивать стали: откуда, мол, сила? «А я говорю: бортник я, понимаете, бортник — лазаю по деревьям.. .»
...Радости этого человека можем мы позавидовать, представив его на лошадке, идущей с горы на гору, по лесу, звенящему птицами, пестрому от цветов, гудящему пчелами.
Профессия бортника нелегка, требует смелости, ловкости, острого глаза, хороших знаний природы, силы и страсти, сходной со страстью охотника. Заки это все в себе сочетает, авторитет его в здешних местах высокий, но к прочим его достоинствам надо прибавить еще и скромность. С любовью вспоминает отца, называет других максютовских бортников. Их сейчас шесть. О каждом Заки говорит с удовольствием. Но первым среди мастеров называет живущего где-то поблизости бурзянско- го бортника Искужу, возрастом близкого к столетию. «В девяносто два года он лазил по соснам, как молодой!»
Наш разговор неизбежно касается также и тех, кто должен сменить стариков. Тут Заки долго мнет в пальцах шарик из воска и кивает на сына, с молчаливой улыбкой сидящего рядом.
— Ну, Марат, говори...
Я понимаю, как был бы счастлив отец, если бы сын вдруг сказал, что дорого и ему старинное дело. Марат, однако, по-прежнему улыбаясь, молчит, деликатно не принимая вызов отца поспорить.
— В нашем деле нужен охотник, страсть нужна, — с пониманием и примирительно говорит Заки. — В нашем деле невольник — не богомольник...
Надежды отца связаны с сыном Булатом. Он старший, последний год в армии. Пишет, что борти видит во сне и что даже на чемодане вырезал бортевой знак.
— У Булата дело пойдет. Тоскует... А я понимаю, что значит тоска по лесу...
Из этого разговора я понял: «проблема кадров» для продолжения промысла существует. Это заботит старого бортника, это забота всего заповедника, забота выходит и за пределы Бурзянских лесов. И не с меркою только ценности
Подходы к бортному дереву. И вот уже сборщик устроился наверху. На веревке уплывают к нему инструменты. А вниз в деревянном чиляке опускается мед.
меда из борти следует подходить к делу. Оно касается ценностей более значительных.
О многом в древней жизни людей мы судим по «черепкам», раскапывая в земле и в книгах свидетельства о былом. Островок же бортничества в Башкирии — не черепок былого, не полустертая надпись на камне о древнейшем из промыслов — живое дело, дошедшее из глубин времени! Целый, без трещин сосуд народного опыта и вековой мудрости! Бурзянский девственный лес — единственное в стране место, где под гул высоко пролетающих самолетов человек вершит старинное дело так же, как вершил его предок еще при жизни мамонтов. Всеми доступными средствами промысел надо поддержать. И не сделать при этом ошибки.
От одного вовсе не глупого человека я услыхал: «Надо им труд облегчить. Придумать, скажем, подъемник. Что же они лазят по соснам, как обезьяны». Сказавший это имеет к данному делу служебное отношение. И будем надеяться, эти заметки его образумят. Оснащать бортевое дело подъемниками или другим каким механизмом все равно что лошади «для облегчения» вместо ног попытаться приделать колеса. Лазанье по деревьям настоящего бортника не тяготит, как не тяготит альпиниста лазанье по горам, а охотника — по болотам Это спорт для него, и удаль, и способ сберечь здоровье до конца жизни, как правило, очень долгой. Помочь промыслу надо мудро и осторожно, всячески поощряя местых людей его продолжать, приобщая к нему не пришлого человека, пусть и с пчеловодным образованием, а местного парня, с детства знакомого с дикой пчелой. И если уж говорить о помощи бортнику, то непременно нужна ему обыкно-
55
Бортник Закий Мустафьин — сильный, тренированный человек.
венная лошадь, нужно доброе к нему отношение и поддержка в его заботах. Нужна такая же мудрость, какой обязаны нынешним процветанием чеканщики селения Кубами и живописцы селения Палех. Не меньшая.
Заинтересованность наша в бурзянском бортничестве должна подкрепляться еще и тем, что только в здешних лесах сохранилась дикая лесная пчела, не подпорченная повсеместной гибридизацией с южными формами пчел. На всем земном шаре только «бурзянка» способна переносить суровые зимы с морозами в пятьдесят градусов и все другие невзгоды жизни в дикой природе. Для пчеловодства «бурзянка» — величайшая драгоцен¬
ность, надежный страховой материал в селекции, веками проверенный гено- фонд.
Таким образом, ценность, как видим, двойная — и «сосуд» и его содержимое. Не расплескать бы, не уронить, не кинуть как устаревшую вещь на свалку — потомкам пришлось бы бережно собирать черепки.
Такие дела и заботы в «медвежьем углу», в Бурзянских лесах... Живо сейчас представляю себе этот лес. Выделяются высокие сосны с «тамгой»... Если Булат Мустафьин уже вернулся в родную деревню, представляю его нетерпение проехать с отцом по лесу. Представляю долгие вечера в деревянном уютном доме. Булат рассказывает о службе, отец — о новостях леса. На столе большой самовар, коржи с сушеной черемухой и, конечно, посуда с мутноватым («пыльца и нектар вперемешку») бортевым медом. В такое время особо приятна беседа о лете, которое было, и о том, которое будет.
1981 г.
□
ТАЛДОМСКАЯ ОСЕНЬ
Талдом... Согласитесь, есть в этом звучном названии городка притягательная таинственность. Далеко ли он, Талдом? Два часа езды от Москвы, прямо на север, с самого тихого из вокзалов — Савеловского.
Но Талдом — это не только маленький городок (что-то среднее между городом и деревней), это и край, необычный для московской земли по природному своему облику и по хозяйству тоже...
После пологих увалов Клинско-Дми- тровской гряды земля становится вдруг равнинной, горизонт отодвигается, как море. Леса и лески по равнине. Малые рощицы и одиночно стоящие деревца, подрумяненные сентябрем.
Но это не южная лесостепь. Низменное место. Повсюду блестит вода. Болота, болотца, малые бочаги, лужи. При дождливой осени картофельные поля похожи на рисовые чеки — вода между грядок, а на самих грядках лоснятся 56 спинки обнаженных дождями клубней.
Техника — тракторы, комбайны, автомобили — кучно стоит в бездействии. Созрели овсы, кукурузу пора скосить на корма, но невозможно на поле влезть — все вязнет.
Поля тут изрезаны канавами и каналами. По ним торопливо бежит торфяная коричневая, как чай, вода. От воды всеми силами избавляются. Все равно ее много. Чуть с дороги — хлюпает под сапогами.
В лес без сапог пойти тут нельзя — то и дело на пути таинственно-темные бочаги и трясины. Тут почти нет характерного для соседней «дмитровской Швейцарии» краснолесья. Осинник, березняк, ельники, черный ольшаник, чахлые сосенки. И всюду темные свечи рогоза — верный признак очередного болота. Деревни на возвышениях, еле заметных для глаза. Названия их характерны: Квашонки, Мокряги, Остров...
И есть у этой близкой к Волге низменности своя низина — таинственная, непролазная, опасная для новичка, как амазонские джунгли. Глядишь с равнины — низина подернута синей дымкой и дальний край ее в синеве исчезает. Эта пойма главной здешней реки Дубны — громадное болото шириною в десять и длиною в тридцать километров. Отважно тут ходят лишь лоси да кабаны. И прилетают с полей сюда на ночлег журавли. Сборщики клюквы либо держатся с краю, либо ходят редкими, ненадежными тропами, рискуя заблудиться и затеряться в топких, перевитых хмелем лозняках и ольшаниках. Это целый мир, называемый местными жителями поймо. Дубна протекает по этим зарослям сонно, неторопливо, образуя озера, разливы, протоки. Царство комаров, надежное убежище для гнездящейся и пролетной весной и осенью дичи.
Справедливая страсть к осушению здешней земли жила в человеке тут издавна. Рожь и овес крестьяне, случалось, сеяли на грядах между канавами, по которым сбегала вода. Но лишь
машины обеспечили сухость, при которой на немалых массивах вырастают теперь хлеба, картофель и кукуруза, — земля тут стала кормилицей человека. Но существуют пределы, за которыми осушение блага уже не приносит. Покусились тут, хорошо не подумав, на приречную пойму, на вековые болота, полагая, что можно их обратить в пашню. Проектанты, как рассказывают, приезжали сюда на бронетранспортерах. То было лет пятнадцать назад. И вот результаты. Участок поймы напоминает голову новобранца, по которой прошлись машинкой для стрижки. Повален и сдвинут бульдозерами в громадные кучи ольховый лес, спущены воды озер и болот, по линейке спрямлена обмелевшая сразу Дубна, исчезает клюквенное богатство... Пестреют изрезанные канавами поля моркови, сеяных трав, овса. Но в год дождливый взять что-либо трудно — всюду блестит вода. Десятикилометровую дорогу (середина полей) через пойму к реке зовут тут БАМом — дорого стоила и трудно досталась. Первоначально положенные тут бетонные плиты земля попросту поглотила. Пришлось рядом делать отсыпку новой дороги. Все вместе — осушение, сведение леса, дорога, нарезка полей, дренаж, спрямление реки, стоившие громадных средств, заставляют подумать в данном конкретном случае о той овчинке, которая выделки, может быть, и не стоит. А если во что-нибудь оце-
Пойма реки Дубны — край мокрых лугов, непролазных болотных крепей. Тут осенью перед отлетом на юг собираются журавли.
нить еще и разрушенье уникальных природных ценностей, то остановку наступления на знаменитую пойму надо признать за благо. В одном из справочников про немалое здешнее озеро уже сказано: «Осушение экономически не оправдалось». Неудивительно, если что-нибудь в этом же роде прочтем и про здешнюю пойму. И такое признанье ошибок необходимо. Иначе будем делать их непрерывно.
Талдом стоит посредине «мокрых земель». С одной стороны районным пограничьем служит ему Дубна, с другой — канал Москва—Волга. Кроме Талдома, есть в этом крае, названном Пришвиным «московским Полесьем», еще два города: Вербилки и Запрудня. В одном делают исстари знаменитый на всю Россию фарфор, в другом ранее делали аптечные пузырьки и ламповые стекла, теперь делают кинескопы для телевизоров. На Талдом, административную столицу, эти два периферийных, но современных по облику города смотрят со снисходительностью: «деревня...»
Между тем недавно Талдому стукнуло триста. Большим миром событие это замечено не было. Но талдомчане дату достойно отметили. Районная газета с похвальной последовательностью пошевелила не только историю самого городка, но и окрестностей, с которыми Талдом был связан особым образом. Краеведы вспомнили родословную едва ле не каждой из деревенек, по расспросам и документам установили, чем жили их предки — что брали с земли, чем промышляли, как одевались, что ели, как веселились, какими бывали в горе.
От здешних краеведов я узнал, что уголок этот до начала текущего века не знал бань — «Мылись в печке, хорошо ее накаляли, выгребали угли, стлали
57
солому и лезли в печь с шайкой воды и березовым веником». Самовар тут появился впервые в 1875 году. Пользовались им немногие. Чаепитие из самовара да еще и «китайского чая» считалось почти грехом. Самовар хранили в мешке и доставали его только по праздникам.
Тут дольше, чем где-либо еще, сохранилась языческая вера в бога Ярилу. Верили также в этом водяном краю в домовых, русалок, леших, кикимор. «От холеры деревни опахивали, запрягая в соху шесть голых девок». Снопы, не просыхавшие в поле, сушили в овинах, разводя небезопасный для соломы огонь. Общаясь с соседями, талдомчане из-за обилия вод имели прозвище «лягушатники». Всякой дичи, грибов и ягод была тут прорва. Что касается земли пахотной, то она прокормить население не могла. Развивались тут разные промыслы. И главные моменты своей истории Талдом пережил в конце прошлого и начале этого века. И это стоит особого разговора.
В бумагах Талдом впервые упомянут в 1677 году: «деревня о семи дворах». Полтораста лет спустя — все та же деревня, «тридцать дворов» — но деревня, лежавшая на пути с Волги в Москву. Через Талдом из Калязина, Кашина, Углича и обратно шли потоки товаров. К ним в Талдоме присоединяли свои изделия здешние древоделы, башмачники, вальщики, скорняки.
Отмена крепостного права и «мокрое безземелье» дали промыслу новый толчок, и под влиянием близко лежащих Кимр, где издревле промышляли шитьем сапог, талдомская округа взялась башмачничать. Да так споро, с такой энергией, что к концу прошлого века, вздумай Талдом обзавестись гербом, на нем башмак бы и оказался в обрамлении шила и сапожного молотка.
Шили башмаки в деревнях. А в Талдом, раз в неделю на базар и раз в год на громадную ярмарку, пешком и на подводах доставлялся товар — главным образом женские башмаки. Обувка была не бог весть какая, но там, где меняли лапти на башмаки, годилась и эта. В Талдом съезжались купцы со всей России, здешней обувкой снабжались Поволжье, Урал, Сибирь, Средняя Азия, Архангельск, Новгород, Вологда. Пик производства — 10 миллионов пар обуви. Цифра значительная, если учесть: не фабрика, а кустари на дому шили обувку простую и прихотливо-изысканную. Местный поэт в те годы писал: «У нас в округе все подряд, зубами расправляя кожу, цветные туфли мастерят для легких и лукавых ножек...» Было в округе всего лишь три- четыре деревни, не втянутых в здешний промысел. В остальных каждый (!) двор, собирая с земли кое-какой уро- жаишко ржи, овса и картошки, имея немного скотины, главные силы отдавал промыслу. Женщины в доме кроили обувку, мужчины шили. Судьба тут рожденного человека определялась с де-
тства — каждый становился башмачником. «Отделяя сына, отец ничего не давал ему, кроме сапожного инструмента. Будешь жить — будешь шить, что надо и наживешь».
Жил этот край, однако, до крайности бедно, чахотка распоряжалась тут человеческими судьбами. А редко удачливый «обзаводился работниками, справлял телегу на железном ходу, строил дом с кирпичным низом для мастерской и деревянным, для житья, верхом».
Талдом был нешуточной столицей башмачного края, селом, известным на многих торговых путях государства. Местные купцы держали башмачника в кулаке, не давая ему разогнуться, передохнуть, сами же сказочно богатели. Были в этом селе торговые воротилы с миллионными прибылями. Их вкусом, а главным образом коммерческими потребностями определялась застройка села. Дома, возведенные в годы башмачного бума, не износились, служат Талдому и поныне. Сохранилась площадь, где бурлили всероссийские башмачные ярмарки, целы лабазы, амбары, склады. В музее можно увидеть обувку тех лет и конуру кустаря, где сидел он у керосиновой лампы, поглядывая на окно соседа: «у него еще свет, мне тоже ложиться рано». Такова история «столицы кустарей».
Былыми традициями рождена и работает сейчас в Талдоме обувная фабрика, производящая женскую и детскую обувь. Что касается сугубо ручной работы, то действует тут маленькая артель из двенадцати человек. Приходят в нее с заказами изготовить кроссовки, улучшить фабричные, только что купленные сапожки. Фабричному производству не просто следовать за капризами моды. Артель «ручников» выручает местную модницу — меняет, к примеру, у новой обувки каблук. В прейскуранте цен так и значится эта работа: «улучшение». Могут тут сшить сапоги и сразу по моде, обмерив «лукавую ножку». «Обувка больше любит прикоснование руки, чем машины», — сказал один из двенадцати мастеров и не удивился, когда я сказал, что у знаменитой фирмы «Адидас» 82 процента ручной работы — «качество того требует».
Часа два посидел я с сапожниками, наблюдал, как на колодках обретает форму совсем недурная обувка. Постукивая молотками, словоохотливые мастера рассказали мне много всего любопытного о тайнах башмачного производства. Перечислили множество разных фасонов, которые «претерпела обувка по прихоти баб», нарисовали туфли с носком неимоверной длины и тонким, как шило — «носили такие!».
В грозное время шили тут сапоги для солдат. Сюда же, в Талдом, вагонами на починку приходила с фронта окровавленная обувка.
А в годы нэпа шалили здешние ба- шмари: вместо кожи могли поставить картонку — «носи без заботы от пятницы до субботы». Угождая заказчику или по озорству шили обувку с оглушительным скрипом, скаредному или капризному клали под стельку щетину «для беспокойства ноги». В целом обувка считалась сносной, хотя шили ее, разумеется, с разным старанием. Были «лепилы» — «абы побольше, двадцать пар выгоняли в неделю». Были «художники» — мастера добросовестные. И были «волчки» — самые бедные ба- шмари оттого, что шили всего лишь пару-другую обувки в неделю — мастера в себе уважали. «Их обувка была — в Париж отправляй!»
— А есть среди вас такой, что и сейчас бы самой капризной моднице угодил?
Мои говорливые собеседники в один голос сказали: один есть! Назвали: «Баранов Виктор Иваныч. Обует самого бога!»
Современного Левши-сапожника на месте не оказалось, куда-то поехал. Но узнал я в артели адрес старого здешнего мастера — «шил еще при царе».
Застал его за сапожным столом, хотя старику без трех девяносто. Пожаловался: «Глаза... Целый башмак шить уже не возьмусь. А починить — отчего же!» И стал Иван Сергеевич Гусев рассказывать о своей жизни, о том, как отдан был мальчиком на ученье в Москву, о том, какое это было житье у сапожника. «От мастеров попадало и колодкой, и шпандырем, била по пустякам жена хозяина. А сам мастер за то, что
Осень у Талдома удивительно живописна. Цвета желтые, бурые, красные видишь тут во множестве разных оттенков.
морщинку при шитье допустил, как в ухо двинул, так из другого кровь повалила». Все было у талдомского Ваньки Гусева в точности, как у чеховского Ваньки Жукова. Отцу написал: «Батюшка, забери, христа ради, нету никакой мочи. Не хочу быть сапожником. Башмачником буду».
И был башмарем Иван Сергеевич, подсчитали, семьдесят пять лет. Семьдесят пять! «В артельное время, в 20-х годах, меня переманивали — шил хорошо и еще играл на гармони. На двадцать копеек за пару мне больше платили. И башмаки мои всегда в окно выставляли — вот так-де работаем».
— Не утомила сидячая жизнь?
названием «Башмачная страна». Кустарной столице на радостях революций решили дать новое почетное и созвучное эпохе имя. Однако почему-то не прижилось. Талдом остался Талдомом. Название это древнее, уходящее к языку угро-финских племен мери и веси. Тал — значит дом. Славянское толкование слова, соединившись с финской первоосновой, дало название месту звучное и влекущее.
У каждого края обязательно есть знатные люди. Талдом ими не обделен. Имена узнаешь их, зайдя в музей, разместившийся в старом купеческом доме. Три — особо заметные, все принад- ский и этот, талдомский — были дружны. Встречались тут, в деревне Дубровки. Сергей талдомский был постарше Есенина, и можно думать, влиял на него. Родство душ несомненное. Вот характерные строчки:
Идет, как прежде, все по чину, Как заведено много лет...
Лишь вместо лампы и лучины Пылает небывалый свет.
У окон столб, с него на провод. Струится Яблочкин огонь...
...И кажется: к столбу за повод Изба привязана, как конь...
— Нет! — Старик весело разогнулся.
— Дело есть дело! Глаза вот... Когда уж сильно начинают слезиться, беру гармошку. Вот она у меня.
Из деревянного сундучка с ременной ручкой извлечена была старая, много всего повидавшая гармонь, сработанная в молодости ее хозяина, кустарем тоже, где-нибудь в Шуе или, может быть, в Туле.
— Башмарь от сидячего дела любил поплясать и песни любил. Тут ведь нашего брата было не счесть — в каждом доме башмарь.
Еще рассказал Иван Сергеевич, что выходила в столице башмачной округи 60 газета «Кустарный край» и журнал с лежат литераторам: Салтыков-Щедрин, Пришвин, Сергей Клычков. Два первых имени в пояснении не нуждаются. Третье я слышал впервые. Поэт? Наверное, местная знаменитость — где не пишут стихов! Оказалось, поэт масштаба не талдомского — российского! Три- четыре тут же на стенде прочтенных стиха заставили встрепенуться, так пронзительно точны слова, так обнажено чувство, так велика любовь к здешней неяркой природе и к людям, тонкое понимание их труда на земле. Поэт настоящий, большой. Глаза немного усталые глядят с фотографии. Родился в семье сапожника в 1889 году. Был известен, признан, любим. Есенинские мотивы в стихах. Два Сергея — рязан-
Роковым для жизни Клычкова оказался тяжелопамятный предвоенный год. Ложное обвинение ныне с человека полностью снято. В литературной энциклопедии Сергей Клычков назван «русским, советским» писателем. Однако стихи его известны сегодня лишь в Талдоме старанием музея и местной газеты. Справедливо ли? Вероятно, не все, написанное Клычковым, будет и ныне принято-понято. Но чей-то рачительный глаз и чуткое сердце должны выбрать все ценное в его наследии. А ценного много — стихи о любви, о тонкостях человеческих отношений, о радостях жизни, о связи души человека с природой, наконец, стихи о самой природе родного края, который Сергей
Клычков любил нежно и преданно. Несправедливость надо исправить. Есенина мы тоже ведь заново открывали после войны. А на чьей полке нет сегодня его стихов? Пишу это и вижу глаза Клычкова, глядящие с фотографии. Мы все должны чувствовать их упрек. В букете русской поэзии должно найтись место для цветка самородного, выраставшего в самой гуще народной, в «забытом углу России».
Еще с одного портрета в музее смотрит охотник Пришвин. Он родился в российском подстепье. Но, уже будучи бородатым, приехал в талдомские края «в поисках себя». Было это в 1923 году. Пленила Пришвина самобытность этих мест, глушь, нетронутая природа, непроходимые леса и болота, кишевшие дичью. Он тут охотился за всем: за боровыми и болотными птицами, за метким словом, за интересной мыслью, за умным собеседником. Жил он вначале в Дубровках, в доме Сергея Клычкова, потом переехал в деревню Костино, в самую гущу башмачного промысла. Он до тонкостей изучил этот промысел, и кто хотел бы прочесть подробней об этом талдомском феномене, должен в собрании пришвинских сочинений отыскать любопытные очерки «Башмаки».
Однако себя, свой путь в писательстве, Пришвин нашел не под крышей жилья, не на шумных талдомских ярмарках, а под небом, в единении с природой, в размышлениях о ее тайнах и красоте. Лучшего места для этого вблизи от Москвы не было. Пришвин прожил тут три года. В высоких своих сапогах исходил он все леса и болота, перезнакомился, пополняя записную книжку и память, со множеством людей, написал тут первые охотничьи рассказы, положил в основу «Календаря природы» — лучшей из своих книг. Мудрено ли, что талдомчане считают Пришвина «своим писателем».
Писатель любил это «московское Полесье», видел в нем много поэзии, рвался в эти места. Но восторги Михаила Пришвина отличаются от сдержанной, сыновней любви к своему краю другого Михаила — Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. У него любовь к этим местам («Замечательно, что я родился и вырос в деревне...») придавлена гнетущими воспоминаниями крепостных нравов. Представления о болотах природных у него связаны с беспросветной трясиной человеческой жизни — «Все ужасы... вековой кабалы я видел в их наготе». И если здешняя глушь Пришвина восхищала, то для «прокурора российской действительности» она была горем. Два времени, два восприятия жизни. Любопытно, что то же самое наблюдаем в отношении и к другому сугубо болотистому месту серединной России — Мещере. Куприна ужаснула ее глухомань, а Паустовский эту затерянность воспринимал как счастье. Сделав поправку на два различных характера и различные взгляды на жизнь, заметим: по мере загустения городской жизни мы все больше будем любить глухомани. Правда, тут же надо сказать: Михаил Салтыков на возке по непролазным дорогам добирался из Москвы в Спас-Угол никак не меньше двух дней. Михаил же Пришвин и мы вслед за ним доезжаем за два часа.
...Дороги в этом некогда совершенно бездорожном краю сейчас на удивление хороши — добротный асфальт. В Спас-Угол (самый дальний угол района) из Талдома на «козле» мы доехали в полчаса. Не знаю уж почему, после чтения Щедрина — по контрасту или потому, что деревню держат в особом порядке из-за строгого взгляда, которым встречает тут каждого скульптурный портрет сатирика, помещенный у сельсовета, но прежняя вотчина Салтыковых показалась мне самой опрятной, самой ухоженной талдомской деревенькой. Дома, палисадники, огороды — все в нужном порядке. Почти за каждым домом поджарые, ладно сложенные стожки — знак того, что есть во дворе корова.
«Стожки кладут тут с отменным старанием — кособокого не увидишь». Здешние мужики башмачным промыслом не соблазнялись, жили тем, что давала земля. Эта прямая зависимость от того, что собрано в поле, на лугу, в огороде, и приучила быть аккуратными.
Большого, знакомого по картинкам дома помещиков нет — сгорел в 1919-м. Но сохранились парк, пруд и церковь с фамильным кладбищем Салтыковых. Тут покоятся предки великого правдолюбца России. Надписи на надгробных камнях деда и бабки проросли изумрудно-зелеными мхами. На могиле отца — Евграфа Васильевича Салтыкова — надпись: «Жития его в сем мире было 74 года, 4 месяца, 25 дней, 8 с половиной часов». Еще одна строчка обращена к проходящему тут: «Присядь... Сорви былиночку и вспомни о судьбе...»
Судьба... Родители знаменитого сына России были матерыми, беспощадными крепостниками. Сын же вырос неистовым, страстным борцом с крепостничеством. Стоя у этих камней, кто бы проникся судьбою господ Салтыковых, если б не сын?
Родительский дом вспоминал писатель без радости. И родичей тоже. Господа Головлевы — это господа Салтыковы. Что касается здешней природы, то она нашла в сердце сурового человека надежное место и согревала его. «Я люблю эту бедную природу, может быть, потому что, какова она ни есть, она все-таки принадлежит мне; она сроднилась со мной, точно так же, как и я сжился с ней».
Сентябрьский день в Спае-Угле был солнечным и пронзительно синим. В желтом оцепенении стояли липы и клены. Синее небо отражалось в пруду. Высыпавший из автобуса «десант на картошку» остановился возле скульптуры у сельсовета, с любопытством разглядывал суровое бородатое лицо сатирика. Курились на огородах дымки. За парком среди множества аккуратных стожков гремела цепью черная лошадь. И с трубными криками, по три-четыре пролетали обычные в этих местах журавли.
□
ТИХОСТРУЙНАЯ СОРОТЬ
D энциклопедиях Сороть не значится: невелика речка. Зато в пушкинских книжках или в книжках о Пушкине вы ее сразу найдете: «тихоструйная Сороть», «прихотливая», «голубая».
В жизни Пушкина было две реки, о которых можно сказать: река-судьба. Нева, в дельте которой расположился великий город, и эта деревенская синяя речка, текущая на Псковщине.
В Михайловском мы обсуждали план «проплыть по реке от истока». Хранитель пушкинских мест Семен Степанович Гейченко сам решил участвовать в этой маленькой экспедиции. Но сидевшая тут же за чаем жена не потерявшего любознательность восьмидесятилетнего человека сказала: «Семен...» — и перечислила доводы, исключавшие самого адмирала из списков команды.
— Ну вот, — засмеялся Семен, — как говорится, артиллерия не стреляла по двадцати причинам, во-первых, не было снарядов...
Не переставая шутить, Семен Степанович стал «вычислять» спутника для меня.
— Лучше всего Генка Петров — служит в ОСВОДе, умел, здоров. И ничего, кроме воды из Сороти, в рот не берет. Благословляю!
И вот мы с Генкой — в Новоржевском районе Псковщины, у истоков реки. Сверяем с картой места. На карте все зелено, покрыто синей штриховкой и голубыми кружками — озерный болотистый край у отрогов Валдая. Всюду — ивняк, ольховый кустарник, низкорослые стайки берез, и всюду — блестки воды.
Одичавшая белая лошадь с любопытством взирает на двух пришельцев и нагибается, пьет из бегущего в травах ручья. Небоязливо летают и шумно падают в воду утки. Кричат чибисы. Поет в черемухе соловей. Неторопливо и высоко, дожидаясь, когда
61
ются тут рыбалкой — то и дело видишь над водою жерлицу.
Сидел ли с удочкой у воды Пушкин? В изученной до мельчайших подробностей михайловской жизни поэта указаний на это, кажется, нет.
— Горяч характером был, — говорит Генка. — Удочка любит спокойствие. Но сети Пушкин помогал рыбакам вынимать, это известно.
Во время оно ловля сетью браконьерством не почиталась. Имение в Михайловском славилось «изрядными» урожаями, богатым был лес, луга кормили много скотины, но особо отмечено тут обилие рыбы. Муж сестры Пушкина Н.Павлищев так и писал: «...а рыбы без числа».
С тех давних пор речка, конечно, переменилась — уже стала и мельче. Однако обычной жалобы «рыба исчезла» мы не услышали.
В среднем течении ширина Сороти двадцать пять—тридцать метров. В жаркое время река мелеет — даже лодка с мотором пройдет не везде. Но в старые времена Сороть являлась частью водных путей по Руси. В 30-х годах ходили по Сороти пассажирские парохо- дишки. В войну пароходишки потопили. А недавно отыскали с них якоря. Один хранится в Михайловском, другой — в какой-то из деревенек.
Деревеньки к Сороти льнут с обеих сторон. Названья их сохранились со времен Пушкина: Дедовцы, Зимари, Петровское, Слепни, Жабкино, Марково, Соболицы, Житево, Кузино, Селивано-
исчезнет туман над водою, летает скопа.
— Или что потеряли, добрые люди? — спрашивает невесть откуда возникший пастух в треухе и полушубке.
— Да вот ищем, откуда Сороть берется?
— Сороть... Да чего же искать? Вот она, Сороть! — Пастух поболтал в воде резиновым сапогом. — А вытекает из озера. Оно рядом, но туда не пробьешься: на лодке — маловато водицы, а пеше — мокро.
Все было в соответствии с картой. Озеро Михалкинское. Деревня Кузино. Двумя протоками вытекает из озера речка и почти тут же впадает в другую под названием Уда. В Уде воды больше, но почему-то победило название Сороть.
До слияния с Великой отсюда шестьдесят километров. Интересно, бывал ли Пушкин в этих местах? Очень может быть, что бывал. Тогда он видел эти низкие берега, из которых вода вот-вот растечется по сторонам. И она действительно растекается. Русло местами можно угадывать лишь по верхушкам затопленных ивняков. Всюду вода желтая от купальниц, и лишь островками — ольхи, ветлы; копенка старого сена с сидящим на ней лунем, гривка елового леса.
Разливы воды уходят за горизонт, речка, кажется, потерялась в этих разли- 62 вах. И все же течение есть. Плывет по
Сороть течет по лугам, по лесам, мимо маленьких деревень, льется мимо памятных пушкинских мест и впадает в реку Великую.
течению белый гусиный пух, удаляется брошенный с лодки спичечный коробок.
И вот уже Сороть снова в объятьях сухих берегов. Они стали выше. Уже не только ивы, ольха и черемуха опушают синюю воду. Уже дубы и сосны маячат по берегам. Стада коров и телят, не привыкшие к шуму, провожают нас взглядом черных гипнотизеров, а пастухи без отрыва от производства занима- во, а дальше от берега еще и Лопатино, Авдаши, Клопы, Козляки... Милые тихие деревеньки с песчаными тропами к речке, с гнездами аистов, с баньками у воды, с мостками для полосканья белья, с обязательной грудой замшелых камней у околицы. («Камни на нашей земле растут. Свезешь их с пашни, а через год, глядишь, новые появились», — сказал старик в Соболицах.)
Не болит ли душа у тех, кто покинул эти селенья? Не тянет ли воротиться? Не снится ли в городе кроткая, тихая речка, эти холмы с перелесками, этот прозрачный пахучий воздух, эта щемящая благодатная тишина? «Реки не текут вспять, а люди могут вер-
нуться. Кое-кто возвращается. И не жалеют. Условия подходящие открываются для обратной дороги», — так сказал в Зимарях Никита Ювенальевич Ювенальев. (Есть в пушкинском крае такие фамилии-имена!) Работал Никита Ювенальевич трактористом и кузнецом. Сейчас на пенсии. Обрастает хозяйством, коим недавно пренебрегал. Завел корову, овец, теленка. Мы застали старика на лугу. Был он в соломенной шляпе, в чистой белой рубахе и держал в руке ведерко-подойник. Оказалось, пришел в полдень доить корову, но не умеет (иль не решился) пока доить, ожидал помощи от соседки. Та, сидя на маленькой табуретке возле черной своей буренки, помахала рукой: «Я сейчас, Ювеналич!»
А в Пискунове, состоящем сегодня из двух обветшалых домов, мы говорили со стариком, который с войны, с 44-го года, после ранения в позвоночник, прикован к постели. Когда мы причалили в деревеньке, дочь старика — сама уже бабушка с двумя городскими внучатами — полоскала в речке белье. После знакомства она попросила: «Зайдите к старому. Он уже месяц людей не видел».
Мы присели возле кровати неподвижного старика. Поговорили о нестойкой погоде, о войне, о страданиях от войны, о чем-то еще уместном при такой встрече. Украдкой старик достал из подголовья жестянку от чая.
— Откройте, там медаль у меня. И книжка к медали. Все честь по чести: Белов Николай Николаевич — «За отвагу» ...
Когда мы были уже на крыльце, дочь старика позвала:
— Зайдите еще, батя хочет спросить...
— Забыл я сказать, — попытался подняться с подушек старик. — Когда тут Пушкину дом рубили, я тогда мог сидеть. На табуретке сидел, выводили меня на крыльцо — и сидел. Все помню: как сруб на берег свозили, как в половодье по Сороти все пошло. Людей было пропасть. И деревенька наша была еще справной... Как дом-то? Стоит?.. Вот, говорите, с больших пространств съезжаются люди. А я тут рядом — и не увидел... — Старик заплакал и, как ребенок, стал кулаками вытирать слезы...
В Пискунове мы углубились в лес. Разыскали делянку, где сразу после войны, зимою 46-го года, рубили лес для сожженной и разоренной фашистами усадьбы в Михайловском. По чертежам реставраторов при горячих хлопотах Семена Степановича Гейченко в этом лесу срубили дом, каким был он при Пушкине. На санях бревна и разобранный сруб подтянули на берег. А весной в половодье все пущено было вниз по течению. Сороть стала купелью возрожденного дома в Михайловском.
Делянка, где на святое дело были взяты самые лучшие сосны, дремала сейчас под пологом молодого, уже возмужавшего леса. Пеньки от спиленных тут деревьев изъедены муравьями, издолблены дятлами. А стволам, пахучим сосновым стволам суждена долгая и почетная жизнь в постройках, стоящих над Соротью. Сосновый пушкинский дом обжит непрерывным потоком идущих в него людей, омыт дождями, прокален солнцем, обвит плющом, поцарапан коготками ласточек и скворцов. Крышу дома ночами белят своими отметками совы. На окнах цветы.
Михайловский дом лучше всего видеть издали, с Сороти. Явственно просматривается похожий на старое городище холм. Серебристое очертание дома врезано в темную зелень парка, видны ступеньки к воде, змейки дорожек... Место для жизни предками Пушкина выбрано безошибочно! На всем протяжении Сороти это самая живописная ее часть. И река словно бы не торопится покидать это место — отдает свои воды двум прилегающим к ней озерам, прощально изгибается «лукоморьем», ветвится протоками.
Ничто — ни современного вида постройка, ни столб с проводами, ни транспорт — не нарушает пушкинского пейзажа. И нам кощунственным показалось плыть в этом месте с мотором. Пересели вблизи Михайловского в весельную лодку и плыли, не торопясь, переговариваясь вполголоса, отмечали: 63
тут Пушкин мог к реке подходить... Тут бултыхался в воду, нахлеставшись веником в баньке Тригорского... Тут сидел на скамье у обрыва...
Проплыли слева зеленые насыпные бока Савкиной горки и городища Вороним — места давно известные тут, над Соротью, героической стражей, ратными схватками с иноземцами. Кажется, сама вечность задремала на этих буграх. Несомненно, такое же ощущенье испытывал тут и Пушкин. Он любил бывать на высотках у Сороти. Возможно, что проплывал и на лодке вниз до Великой. Наверняка проплывал! И если было это в начале лета, то так же густо цвела сирень, оглушительно щелкали соловьи, пролетал, отражаясь в Сороти, аист, сновали в затишье стрекозы и будоражила душу иволга — любимая его птица.
Ну вот и кончается Сороть. Генка и я вслед за ним ополоснули лица водой. И вот уже лодку несет течение реки Великой. Генка был огорчен, что не смог показать мне разницу в цвете воды. По его уверению, в солнечный день хорошо видно: в одном русле какое-то время текут две реки — слева коричневатые воды Великой, справа — синяя Сороть.
«Прибежали в избу дети, второпях зовут отца...» — как всегда весело, встретил водных странников Гейченко. — Ну, извольте держать отчет!
Рассказывал больше, однако, Семен Степанович сам. Рассказывал о реке, о прудах и озерах, об особой роли воды в облике заповеданных пушкинских мест и в поэзии Пушкина, об опыте реставрации всего, что было разрушено временем, нераденьем, врагом. Оказалось, воды труднее всего поддаются починке. «Можно вырастить лес, сад, по строго научному методу можно восстановить постройки и вдохнуть в них жизнь. (На примере возрожденного дома Пушкина это доказано.) Но если «сломалась» вода, «чинить» ее трудно!»
Все воды стареют: зарастают и исчезают пруды, озера в течение многих лет стареют и умирают. Исчезли даже моря, оставив ракушечный мел.
Вода текущая долговечней. Реки более стойки к «поломкам», но тоже, как знаем теперь на многих примерах, тоже уязвимы и смертны. Застрахована ли пушкинская река от этой участи? К сожалению, нет. И это сильно беспокоит Семена Степановича и должно беспокоить нас всех. Беда грозит Сороти в самой ее колыбели. Основную массу воды река получает в болотах Новоржевского района. В последнее время эти болота оказались в поле зрения мелиораторов. Конкретных «осушительных планов» пока что вроде бы нет. Но от разговоров, известно, недолог путь и к делам. И потому важно сегодня уже остеречься и помнить: первое — упуская из оборота старинные пашни, допуская зарастание их мелколесьем, вряд ли разумно взамен их «искать землю в болотах»; второе — горький опыт показывает: многие из осушенных мест превратились в бесплодные пустоши; и третье — в этом конкретном случае нельзя забывать о судьбе Сороти. Дорогая нам, как и множество других малых рек, Сороть является еще и частью общей нашей святыни. Без нее нетленный мир пушкинских мест сразу поблек бы. Допустимо ли это? Ответ для всех очевиден.
...Белой июньской ночью мы вышли из дома на край михайловского холма. Луга, косогоры, окраины леса были окутаны перламутровым сумраком. И в нем серебристой светлой дугой виднелась Сороть. Постояли, слушая, как щелкает соловей, как, скрипя перьями, низко пролетела запоздалая цапля. Семен Степанович сдернул видавшую виды кепчонку с седой головы и прочел известный пушкинский стих, где слышался взволнованный, благодарный поклон тихоструйной воде, поклон всему, что ютится у ее берегов.
1982 г.
«КЛОЧОКЗЕМЛИ, ПРИПАВШИМ КТРЕМ БЕРЕЗАМ...»
О чем думаешь, то и приснится. Приснилась недавно мне Третьяковская галерея. Подхожу к шишкинской знаменитой картине и вижу: спилены сосны. Нет сосен — большие пеньки по ржи.
Пялю утром глаза в потолок, размышляю о причудах сновидений и вспоминаю вдруг село Парижская Коммуна (бабы называли — «Париж»), вспоминаю эвакуацию в это село, холодную зиму 1942/43 года. Четыре месяца, пока горели Сталинград и Воронеж, мы жили в «Париже». Родное село было в семи километрах, но в нем пролегала запасная линия обороны, и всех жителей до единого передвинули в недальний тыл. Это было житье в нужде, тесноте, тревоге и в горе. Но не в обиде. «Парижане» безропотно приютили в своих домишках переселенцев.
И мы четыре месяца жили в селе, пока немец не попятился из Воронежа. Доброе чувство сохранилось у меня к селу. Вспоминались обретенные там друзья, хозяйка, у которой мы жили, речка, протекавшая за огородом, лесок, из которого воровски мы тягали дровишки. И с особенной радостью вспоминал я четыре огромных сосны, росших у «парижского» сельсовета. Весь облик села был связан с этими соснами. Их было видно издалека. Сначала из-за бугра над дорогой возникали темные их вершины, потом появлялись литые мед- 64 ного цвета стволы. И вот уже видно: дерева царствуют над цепочкой домов. Сады, дворы, амбары, палисадники, погреба — все было маленьким, будничным рядом с этими великанами. Мне казалось тогда: сначала тут выросли сосны, а потом уже возле них поселились и люди.
Весной я решил проведать «Париж». Цвели одуванчики, и орали у речки лягушки. Я шел знакомой дорогой и знал, с какого места увижу над горизонтом верхушки сосен... Но сосен не было. Последние два километра я почти пробежал, не веря своим глазам. Белело возле дороги поскучневшее здание сельсовета. Торчал кирпичный амбар. И желтели на месте сосен четыре громадных пня.
Мне в голову не пришло тогда узнавать, кто и зачем спилил четыре сосны. В те годы привыкли, притерпелись к потерям, да и возраст не позволял еще оценивать все без ошибки. Однако я чувствовал: сделано что-то серьезноошибочное, неразумное, зряшное. И эта заноза, понимаю теперь, засела тогда глубоко. Вот даже сон... Впрочем, «материала» для подобного сна в памяти накопилось немало.
Чувство Родины — важнейшее чувство для каждого человека. У взрослого это чувство подобно большой реке. Опыт жизни и впечатления от всего увиденного понятие Отечество расширяют до границ всего государства. Но есть у каждой реки исток, маленький ключик, от которого все начинается. И чувство Родины (обратите вниманье на корни слов: род — родник — Родина) прорастает, как все большое, из малого зернышка. Этим зернышком в детстве могла быть речка, текущая в ивняках по степи, зеленый косогор с березами и пешеходной тропинкой. Это могла быть лесная опушка с выступающей в поле грушей, дикий запущенный сад за околицей, овраг с душистыми травами и холодным ключом на дне, это могли быть копны сена за огородом и телок на привязи возле них. Могли быть те самые четыре сосны над равнинной дорогой или городской двор с какими-нибудь дорогими сердцу подробностями. Перечислять можно до бесконечности. Каждый, читающий эти строки, без труда вызовет в памяти что-то подобное. И не так уж сложно объяснить, почему все это нам дорого. Почему память долго это хранит, почему дорогие воспоминания служат точкой опоры на кругах жизни и особо в трудные ее моменты.
Близкие сердцу картины родной земли связаны у нас с самыми первыми радостями узнавания жизни, с ощущением жизни как таковой, с неосознанной еще благодарностью за эту жизнь. Это могучая сила памяти! Она влечет птиц из дальных краев к месту, где они роди¬
лись, она всю жизнь согревает человеческое сердце, делает его счастливым. Или несчастным, если человек почему- то потерял Родину. И что важно сейчас подчеркнуть, разветвленное дерево чувства Родины должно иметь самый первый изначальный росток, и чем он крепче, тем быстрее дерево вырастает, тем зеленее его вершина.
Ничего особо нового в размышлении этом нет. Читая Ушинского, мы видим, как много этот большой педагог уделял внимания воспитательной силе природы, воздействию пейзажа на формирование человека, значению изначальных ростков в глубоком патриотическом чувстве: «Зовите меня варваром в педагогике, но я вынес из впечатлений моей жизни глубокое убеждение, что прекрасный ландшафт имеет такое громадное влияние на развитие молодой души, с которым трудно соперничать влиянию педагога». Красноречивые строки!
Вряд ли надо еще что-нибудь говорить в доказательство, как важно беречь нам в облике нашей земли, нашей страны все, что может тронуть человеческое сердце и оставить по себе благодарную память. Все ли у нас тут в порядке?
По праву человека, изрядно поездившего, должен поделиться своей тревогой. Много говорим о красоте земли, но бережем плохо то, что надо непременно беречь. Грустно признать, но на «клочке земли, припавшем к трем березам», частенько видишь кучу бетонного мусора, или забытую ржавую сеялку, или нетленную кучу полиэтиленовых мешков из-под удобрений. Песчаный берег украшает автомобильное колесо или какие-то старые ящики, брошенная мелиораторами труба. Опушка леса и полосы лесопосадок в степи опалены химикатами, неаккуратно распыленными с самолета. Живописную вековечную тропку к деревне вдруг видишь запруженной морем навоза, для которого почему-то именно тут устроили склад. Березы в лесу испачканы пятнами масляной краски — помечали лыжный маршрут. Зеленый травяной склон горы нередко видишь изрезанным громадными буквами какого-нибудь призыва. Достигает ли цели этот призыв, когда его вырубают лопатой в зеленом дерне?
Пренебрежение обликом всего, что нас на земле окружает, встречаешь настолько часто, что нет возможности всего даже и перечислить. Работали мелиораторы — оставили после себя «лишние» трубы, ржавый, отслуживший свое бульдозер. Дорожники брали песок — оставили рваную язву в земле, хотя обязаны были рекультивировать землю, засадить ее лесом. Газопроводчики по лесам оставляют иногда полосы, кои немудрено спутать со следами печально известного смерча — поваленный, сдвинутый в кучи, гниющий лес, бугры земли, погнутое железо.
Строителям скоростной магистрали Москва—Симферополь был нужен песок, и такой, чтобы стоил недорого, чтобы был под рукой. Где же его нашли? В пойме Оки, на узкой полоске земли, лежащей между рекой и Приокско-террасным заповедником. Это было особой красоты место с холмами, поросшими соснами, с остатками реликтовых растений, оберегаемых заповедником. Близость заповедника (сто метров до его границы!), близость крупнейшего в нашей стране биологического центра Пущино (стоит на противоположном берегу Оки) добывателей песка не смутила. Ревели бульдозеры — срезали «песчаные неровности рельефа», пылили тяжелые самосвалы, размалывая колесами податливую землю. В рытвины по пробитым дорогам из Серпухова сейчас же повезли всякий мусор и хлам. Кто разрешил тронуть место не просто живописное, но драгоценное из-за близости к двум исследовательским и природоохранительным центрам? И как объяснить равнодушие и- заповедника, и ученого мира в Пущине, на глазах у которых добывался «дешевый песок»?
Уникальность ландшафта, дорогие сердцу черты природы в ряду ценностей, как правило, не стоят. Без колебаний они приносятся в жертву сиюминутной выгоде и потребностям дня. А часто эта небрежность сопряжена с бесхозяйственностью. Всем памятно ув¬
лечение «культурными пастбищами». Луга, там, где они еще сохранились, поделили на секции — сегодня пасем коров в одной загородке, завтра — в другой. Хорошее в принципе дело, пошумев и затратив деньги на городьбу, почему- то, однако, забросили — пасут коров, как пасли раньше. Но тогда убрать бы с лугов бетонные столбы и рваную проволоку. Нет. Во многих местах торчат эти столбы, как обглоданные кости, путается проволока под ногами коров и людей, растут ребятишки, полагая, что это дело нормальное.
К деревне Зимёнки на юго-западе от Москвы недавно взамен электролинии на старых сосновых столбах подвели новую — на бетонных. Хорошо! — упрочнилась подача электричества в деревеньку. Плохо, что старую линию не убрали, не увезли. В живописном местечке, приютившем пионерский лагерь, торчат так и сяк столбы и старые провода. В обнимку — бесхозяйственность и равнодушие...
И как-то неловко уже после всего этого говорить о некоторых тонкостях восприятия человеком пейзажа. О том, например, что всегда внимание людей останавливало и волновало одиноко стоящее дерево. Можно докопаться до причинности этого. Не в том сейчас дело. Главное — что волнует, всегда волновало и заставляло беречь эти стоящие над ручьем в поле, на взгорке или где-нибудь особняком на опушке березу, дуб, вербу, дикую грушу. И это у всех народов.
Интересный разговор у меня состоялся с крестьянином одной деревеньки в Швейцарии. Ему по каким-то важным хозяйственным соображениям надо было срубить одиноко стоявший на его земельном участке вяз. Оказалось, не может он это сделать без разрешения сельской власти. Обратился. И ему отказали — «испортишь пейзаж». Пейзаж в Швейцарии — это валюта. Но к тому, что создано тут природой, много красоты прибавил и человек, изначально заботясь не об охах и ахах туристов, а о том, чтобы самому видеть землю свою нарядной.
В нашем равнинном пейзаже очень много дорогого для сердца («Как бы ни был красив Шираз, он не лучше рязанских раздолий»). Но в раздольях глаз наш всегда искал какую-то точку опоры, живое, приметное пятнышко. И люди всегда берегли, обходили сохой и плугом дерево или группку деревьев в полях. Шишкинская картина «Рожь» написана ведь с натуры. Если поле возникло на не распаханном месте, восхитимся мудростью человека, оставившего островок сосен и давшего им вырасти при ежегодной вспашке земли до таких величавых размеров. Если сосны были посажены — еще более восхитимся.
Вот теперь настало время сказать, что ныне мы вовсе не бережем эти драгоценности в нашем равнинном пейзаже — спиливаем, выкорчевываем. «С хозяйственной точки зрения, одинокое дерево в поле бесполезно и даже вредно — помеха машинам», — сказал мне один молодой агроном. Я возразил: «Во- первых, дерево — у оврага, и помеха машинам ничтожная. Во-вторых, ведь миритесь вы не с одной даже, а с шеренгой высоковольтных опор на поле...» Моим союзником в споре на этой черниговской пашне явился мальчик, принесший отцу-трактористу обед. С узелком и бидончиком он уселся, естественно, не под железной опорой, а под той самой дикой грушей, что мозолила глаз агроному.
Продолжая сейчас этот спор, не хочется быть жестко категоричным. Страна наша большая. Есть места, где мелиораторам приходится на заброшенных пашнях выкорчевывать вставший березовый лес. Но видел я и места в лесостепи, где ради «выгодной геометрии клина» валят вековые деревья — памятники времени; не счи-
Живописный ландшафт на краю заповедника и на виду у города Пущино был так вот обезображен — брали «дешевый песок» для дороги...
таясь с обликом земли, выкорчевывают ветлы, растущие по низине, и распахивают саму низину; под урез, сминая кусты, пашут земли у маленьких речек.
Эти и подобные им деяния проводятся с благой вроде бы целью умножения пашни и, значит, хлеба. Но ох как часто получаем мы результаты, обратные желаемым! Выросший равнодушным к родной земле, к родному краю жнец и сеятель хорошим хозяином быть не может. Да и некрепко держится он на земле. На Псковщине в умирающей деревеньке Марково я спросил старожила: «По какой причине-спилены три столетние ели, росшие в самой средине деревни?» — «На корыта спили- вышек, теле- и радиомачт, опор электрических линий, силосных башен, бетонных заборов, нефтяных вышек, станционных построек, причалов. Закономерное течение жизни. Беда состоит в том, что проектировщики, как правило, не заботятся об эстетическом облике предназначенных «не для города» сооружений — черты функциональности, и только! Часто даже и попытки не видно сделать постройку приятной для глаза.
Посмотрите на водонапорную башню, построенную в прошлом веке, — архитектурное сооружение! Она не только не портит, она украшает пейзаж. А что сплошь и рядом возводим сегодня? По- жные наши постройки. На водных путях сохранились еще удивительной красоты плавучие станции-дебаркадеры — деревянное кружево в обрамлении зелени и воды. Подлинное украшение рек и озер! Но что построено было в послевоенные годы, уже ветшает. Сегодня же строят грубый, невзрачный причал, а то и просто ставится старая баржа.
Постройки у путей рельсовых... Рассказывают, на БАМе есть на что посмотреть. Но что касается повсеместных платформ для электричек, то просто диву даешься неряшливости, с какой они лепятся. Бетонные плиты изготовлены кое-как и положены как что-то временное, подлежащее сносу, — толи», — ответил старик. На корыта... В трудное время, надо думать, спилили деревья. Возможно, в том же трудном году, что и четыре сосны в моем черноземном «Париже». И все же нельзя, немыслимо переводить на корыта то, что является фундаментом бытия. Марково опустело по многим и разным причинам. Но и ели, сотню лет росшие в деревеньке и изведенные вдруг на корыта, тоже со счета не сбросишь.
Особо — о всякого рода постройках, составляющих ныне повсюду непременную часть пейзажа. С каждым годом все больше становится труб, водонапорных башен, мостов, релейных
рою кажется, что намеренно уродливыми строятся эти башни — с однобокими выростами, с торчащими в стороны металлическими балками, кладка часто пестрит кирпичами красными вперемешку с серыми, силикатными. И эта постройка ведь не спрятана где-нибудь поукромней. По естественному назначению ставят ее на пригорке, на самом заметном месте.
Высокие мачты... Оригинальных проектов типа Шуховской башни, конечно, не напасешься при нынешнем бурном развитии теле- и радиосети. И все же хочется видеть типовые железные вышки более привлекательными для глаза.
На виду у миллионов людей придоро-
рчит из них арматура, края как будто каким-нибудь динозавром обгрызаны. Может быть, это и неизбежно в наш торопливый и неспокойный век? Да нет, «кибитки» автобусных остановок на многих шоссейных дорогах это не подтверждают. С завидной прочностью, с выдумкой, с привлечением художников сделаны эти приюты для пассажиров. И глаз проезжающих с благодарностью отмечает нарядные «бусины» на дорожном шнурке.
О чувстве такта в размещении индустриальных построек. Их сейчас так много, что проектировщики и исполнители проектов наряду со всеми другими задачами непременно должны иметь в виду и еще одну важную — не портить 67
красоту местности или хотя бы свести до минимума наносимый ущерб! Проблемы тут могут быть иногда сложные, иногда и очень простые — для решений их бывает довольно сыновнего чувства к земле и здравого смысла. На наших глазах довольно разных примеров, говорящих о том, что пока мы об этом думаем очень мало. Строят коровник, например, на самом высоком месте села. Глянешь издали — только его и видно. Но коровник, даже самый добротный, — не более чем коровник, в ряд эстетических ценностей его не поставишь. Почти всегда, почти любой стройке «решают» деревья. Их рубят, чтобы потом начать озеленительные работы. И в сотый раз приходится указать на пример сибирского академгородка — сохраненный тут лес стал основой красоты города.
Эгоистично возводить постройки для отдыха (и тем более индустриальные сооружения!) у самой речной воды. Река — достояние общественное. Всем, кто на нее попадает, важно видеть на берегу все, чем одарила тут человека природа, а не проспекты электрифицированных и радиофицированных застроек.
Повсюду приходится мириться с проводами и опорами электролиний. Но есть места, где их быть не должно. Ну, например, режут глаз столбы и провода к историческим памятникам на Куликовом поле. Во время реставрации можно было бы сделать кабельную подводку.
И вот особый пример нашего небреженья к пейзажу. Церковь Покрова на Нерли. Кто не знает по снимкам это белое чудо, глядящее в воду, простоявшее в лугах на слиянье Нерли и Клязьмы восемьсот с лишним лет. Проезжая в позапрошлом году из Москвы в Горький, я был свидетелем возбужденья в вагоне: «Церковь Покрова на Нерли!» Был у меня с собою бинокль. Опустив оконную раму, я приблизил к глазам объект всеобщего интереса и был поражен: церковь мне показалась бабочкой, попавшей в сплетения
паутины: мощные провода и опоры электролиний — возле самой постройки.
Садясь за эти заметки, я, конечно, вспомнил про знаменитый памятник, но усомнился: его ли видел? Больно уж не вязалось то, что знакомо было по снимкам, с тем, что осталось в памяти от мимолетного взгляда. Боясь ошибки, специально съездил во Владимир и прямо с вокзала направился к слиянию Нерли и Клязьмы.
Увы, величавая белая древность действительно не избежала удручающего соседства. Из Владимира через пойменные луга тянулись две большие современные электролинии. Фотографы, изощряясь, находят точку — снять церковь вне общества проводов и железных опор. Но всяк, сюда приходящий, видит все в удручающей совокупности.
Между тем это как раз тот особенный случай, когда постройка ценна не только исключительными архитектурными достоинствами, не только покоряющей древностью, но и тем, что поставлена она в заведомой, прочной, неповторимой связи с окружающим ее пейзажем. Для церкви древние зодчие сделали насыпь, и во время весенных разливов стоит она островком. А летом луга, излучины вод, редкие деревца, оттеняющие белизну камня, соседствуют с делом рук человека. Любая постройка вблизи разрушала бы тут гармонию неба, земли, воды и одинокого храма. И не случайно ведь восемьсот лет даже кола никто не забил. «Всемирно известный памятник...» — читаем на чугунной доске. Действительно, всемирная ценность. Для нас — особая. Равнинный этот пейзаж с церквушкой — такое же достояние народа, как холм Кремля над Москвою-рекой, как Владимирская горка в Киеве, как острова Тракая в Литве. Тысячи людей приезжают на Нерль увидеть то, что, как парус, приплыло к нам из тумана веков. И чья же это рука равнодушно провела на карте черную линию? И кто-то ведь ставил опоры, тянул провода.
Совсем уже непостижимо, случилось это на глазах у Владимира, у города, славного своей историей и культурой охраны памятников и ландшафтов. Я просто не знаю другого города, где в последние двадцать лет было бы сделано столько разумного в сбережении наших исторических ценностей. Вот уж действительно на старуху проруха...
Можно ль поправить? Хочется верить, что можно. Я проследил эти злосчастные электролинии. Они вовсе не держатся строгой прямой: у Владимира — поворот, в другую сторону глянешь — тоже у горизонта крутой поворот. Значит, можно и тут, на Нерли, сделать километровый хотя бы обход. Расходы? При многих тысячих километров строительства электролиний (да по каким непролазным местам!) этот километровый обход по лугам — копейки для энергетиков. Хорошо бы поправить оплошность и кое-чему научиться на этом.
И если уж коснулись особо важных ценностей в нашем пейзаже, надо сказать о том, что есть у нас опыт сохранения дорогих мест. Ясная Поляна, Спас- ское-Лутовиново, Тарханы, Мелихово, Шушенское, сельцо Михайловское на Псковщине оставляют у всех, посетивших эти места, благодарную память. И главным «экспонатом» этих священных для нас уголков является бережно сохраненный пейзаж.
От усадьбы в Михайловском с войны осталось ведь пепелище. Но сохранилась природа, впечатлением от которой наполнено творчество Пушкина. Пейзаж, по словам хранителя этих мест Семена Степановича Гейченко, был основой, с которой началось возрождение этой святыни. Все в совокупности: лес, вековые деревья — свидетели жизни поэта, холмы, вода в прудах и в прихотливо текущей тут Сороти, луга, мосток, мельница — оставляют у посетивших Михайловское чувство свидания с Пушкиным. Такова сила пейзажа. Но только непосвященному может казаться, что все это «сделалось само собой». Далеко нет. Пейзаж легко «оскорбить», разрушить его гармонию какой-нибудь несообразностью, необдуманной постройкой, оградой, назойливым указателем, да мало ли чем. В Михайловском есть электричество, но вместе с тем его как бы и нет. Никто тут не видит ни столбов, ни проводов — они сразу разрушили бы ощущение нашего «гостеванья у Пушкина». На всей немаленькой территории заповедника вы не увидите трактора, автомобиля, мотоцикла. Колея у дороги — тележная. Мельницы водяная и ветряная — сами по себе интересные для современного глаза — являются точно найденными временными акцентами. Лошадь, бродящая на лугу, тоже случайностью тут не является. Даже урны для мусора, сплетенные из ивняка, подчиняются общей картине.
Опыт устройства музея-заповедника в Михайловском — опыт мирового порядка. Сюда приезжают учиться музейные работники не только нашей страны. Для нас же это важнейшая точка отсчета при устройстве дорогих заповеданных мест нашей истории и культуры. В этих делах, однако, полезно обращаться не только к удаче, но и к тому, что служит уроком.
Село Константиново, где вырос Есенин, стало в последние годы местом паломничества. И тут немало сделано для создания мемориального центра. Однако бросаются в глаза огорчительные просчеты. Природа в поэтическом мире Есенина играла важнейшую роль. Ожиданием встречи с есенинскими местами проникнуты все подплывающие на теплоходе к Константинову. И вот оно, село, на бугре. Но что это там, на самом заметном месте, где сходятся идущие от воды тропки? Высокая заводского вида труба и под стать ей угрюмого серого цвета постройка. С досадой думаешь: угораздило ж именно в этой точке поставить какой-то заводик.
Огорчение удваивается, когда, поднявшись наверх, узнаешь: это и есть мемориал Есенина — гостиница, кинозал и зал для выставок. Все вместе с трубою котельной являет обликом нечто похожее на банно-прачечный комбинат. В чем причина такого убожества? Приспособили под «есенинский центр» готовый проект, или, проектируя, до крайности поскупились, или проектанты были без головы? Так или иначе, «постройка с трубой» является, как сказали бы специалисты, доминирующей в пейзаже.
Этот «шедевр» каждый год лицезре- ют десятки тысяч поклонников есенинской тонкой поэзии. Наверное, желая как-то поправить изначальный просчет, очередную постройку мемориала решили, как видно, возводить, не скупясь. В результате рядом с серой коробкой появился деревянный ресторан-терем с разухабистыми излишествами а-ля Русь.
Представьте теперь в этом обществе реально существовавший и недавно восстановленный дом Снегиных. Когда постройку реконструируют по памяти и фотоснимкам, убедительность подлинника ей обрести нелегко. В данном конкретном случае облик ранее возведенных строений этому никак не способствует — усадьба Снегиных выглядит добросовестно сделанной декорацией на дворе киностудии. Так изначально допущенные ошибки влекут за собой новые и несообразности.
Не скажу, что поклонники Есенина уезжают из Константинова совершенно неудовлетворенными. Сельская улица, подлинный домик Есениных, выставки оставляют хорошее впечатление. И об этом можно было бы рассказать. Но это выходит за рамки нашегофазговора. Зато лыком в строку ложится деталь, опять же имеющая отношение к пейзажу.
После часового киносеанса, где зрители видят картины здешней природы и слышат стихи Есенина, они высыпают на край откоса, откуда через Оку открывается мир, пленявший поэта. И действительно видишь волнующее приволье — синие дали с копнами сена, с кустами, с блеском озерных вод. Но это — дали. А на переднем плане, на самом берегу реки прямо против мемориала видишь большое коровье стойло. Все знают, как это выглядит: плешина земли без единой зеленой былинки, месиво грязи, навоза... Что мешает перенести стойло на полкилометра в сторону?
Не надо ярче примера — даже в святых для нашей памяти местах к пейзажу мы относимся с небрежением.
Вот и все, что хотелось сказать. Забота об облике нашей земли мне представляется очень важной. Истоки сыновнего чувства к Отчизне лежат там, где мы рождаемся и живем. Наш общий дом — Родина, — богатея, должен оставаться прекрасным во всех его уголках. Это дело нашей совести, нашей культуры, нашего долга.
1984 г. 69
ПРОСЕЛКИ
ДОМ С ПЕТУХОМ
Дом мы нашли без труда. Хозяин чинил крышу и прыгнул вниз с легкостью подростка, хотя ему исполнилось пятьдесят.
— Вот все тут: семья, хозяйство, радости и заботы — врастаем в рязанскую землю. Правда, Аленка? — отец прислонил к носу четырехлетней дочери испачканный краской палец. Со смехом нос всей семьей оттирали. Потом Аленка вернулась к ораве кроликов и, вполне уже понимая, что забавляет взрослых, стала считать: «Раз, два, три...» Но кроликов около сотни, они бегали по двору, а способности в счете дальше десятка пока не шли...
Была во дворе минутка, когда все рады отвлечься от дел и сообща позабавиться. В такой момент как-то сразу чувствуешь, чем живут в доме: ладно ли, дружно ли? Чувствуешь, как относятся дети к родителям, а родители к детям, сколько времени уделяют потехе, а сколько делу. И переход от забавы к делам тоже какой-то естественный. Вон кролики уже объедают морковку, которую девочка держит в ручонке, сын носит с тележки траву, мать продолжает резку яблок для сушки, дочь подала отцу полотенце и стирает в тазу испачканный фартук сестры.
— Няня, — кричит Аленка, — все! — и показывает растопыренные пальцы. Сестра бежит в огород за морковкой.
— Няня... — улыбается мать, провожая ее глазами, — недавно сама старшую сестру так называла.
— Сколько же их у вас?
— О, со счета собьешься — шестеро!
— Жили-то все по местам, где нет электричества, — подмигивает жене хозяин дома, и мы садимся с ним на скамейку, как раз под задиристым, сверкающим свежими красками петухом.
Павел Николаевич Константинов... Этому человеку жизнь ничего не поднесла на тарелке. Двухлетним его нашли на пороге приюта с запиской в ручонке: «Мальчика зовут Павел. Простите»».
К его имени изобрели отчество, а фамилию дали по названию села на Рязанщине. Приютил же его Касимов, старинный городок на Оке, городок, который Павел всегда вспоминал с благо- 72 дарностью.
Павел рано «стал на колеса»», много ездил и много видел. В обычных спорах — где лучше? — он всегда говорил: «А вот в Касимове...»» — и так рассказывал, что мало кто сомневался: все благодати земные лежат именно в этом городе. Но самое главное, он и сам в это верил.
В Касимове прошло его детство. Детство подкидыша, совпавшее к тому же с войной. «В приюте жили голодновато. И это заставляло быть предприимчивыми: ловили рыбу в Оке, ходили в лес за орехами и грибами, пекли в золе грачиные яйца, таскали из садов яблоки...»»
В четырнадцать лет из детдома он убежал. Пришло известие, что погиб любимый всеми в приюте военрук, и двенадцать подростков решили: надо немедленно ехать на фронт — отомстить за учителя. Подобных мстителей в те годы к фронту стремилось много. Их снимали с товарных и пассажирских составов, ими полны были детские приемники на вокзалах. Они убегали опять и, случалось, в самом деле добирались до фронта.
Павел ухитрился проехать до Львова, но тут, несмотря на продуманный план конспирации, путешествие кончилось — его обнаружили на платформе в куче угля. В компании таких же, как он, чумазых и оборванных беспризорников мальчишку отправили в Сочи учиться на маляра.
Первую свою зарплату юный маляр получил в известном нам по бутылочным этикеткам Абрау-Дюрсо. Первая получка — важная веха в любой биографии. И очень существенно, какой человек окажется рядом в этот момент. К счастью, мастер, учивший Павла, не был из тех, которые говорят: «Ну, парень, обмыть полагается»... Понимая что он, возможно, единственный, кто может сказать мальчишке напутствие в жизнь, старик увел маляра-дебютанта в парк на скамейку и прочел ему небольшую житейскую лекцию, которую Павел крепко запомнил: «Главное богатство в человеческой жизни — умелые руки... Деньги заработать значительно легче, чем их разумно истратить».
Молодость — время, когда человека тянет за горизонт. Хочется многое видеть. И Павел, научившись, кроме малярного, еще и столярному, и штукатурному делу, поехал, как он сейчас говорит, «обстраивать послевоенную Родину». Он работал на Дальнем Востоке, в леспромхозе под Красноярском, а в Башкирии на реке Белой, на строительстве гидростанции, его биография отмечена еще одной вехой — женился.
Вспомнить события двадцатипятилетней давности Павел Николаевич зовет жену, и они вместе с видимым удовольствием вспоминают (нет, переживают заново!) все подробности того года. Любовь! Но родители Нины Парфеновны (на стройке она тоже была штукатуром и маляром) категорически против замужества: «Детдомовец, семьи у вас не получится». Мать даже сказала: «Я тебе больше не мать». Однако свадьба все-таки состоялась. Со стороны невесты было четыре десятка родственников, а Павел позвал приятеля- плотника, «вдвоем и держали весь фронт».
Время надежно определяет, кто чего стоит. Пригляделась теща к зятю-«подкидышу», и стал он для нее зятем любимым, как в той всем известной народной песне. Всем хорош: на производстве — первый, в доме за любое дело берется, и оно у него обязательно получается, здоров, уважителен, весел. Была и осталась в Павле еще и свойственная многим детдомовцам неукротимая жизнестойкость. Для иного маленький холмик житейских помех превращается в гору неодолимых трудностей. Павел же, переживший много трудностей в ранние годы жизни, сказал жене: «Вдвоем мы все одолеем. Детей заведем полный дом. И не бойся. По миру они у нас не пойдут».
Годы рожденья детей отец и мать сейчас вспоминают по названию строек. «Виктор, Сергей и Ольга — на Павловской ГЭС, Светлана — в Бурятии, Андрей и Алена — на Дальнем Востоке».
Шестеро детей, и частые переезды... Легко ль? Нелегко. Сегодня для многих это кажется почти невозможным, немыслимым — шесть детей. Но вот она, вся семья, на ногах. И это не просто большая семья. Это семья здоровая и счастливая. Непостаревшие мать и отец, крепкие, работящие и послушные дети. Секреты жизни такой семьи? О них, наверное, можно было написать целую книгу. Но сами старшие Константиновы книжек по воспитанию не читали. «Все получилось само собой. Работали, старались, чтобы дети росли работящими, ну и, конечно, важно, чтобы лад-мир были в доме, чтобы куда иголка, туда и нитка», — говорит мать. «У нас тут, как улей, — с пеленок каждому свое дело. А с возрастом дел прибавляется. И вот поглядите на них, никто не заморен». Это слова отца.
В детский сад Константиновы ребятишек своих не водили. Первых, Ольгу и
Виктора, помогала вынянчить бабка, а потом старшие дети были няньками младших. «С работы идешь — младшие уже спят, а старшие ужин варят. И все дела по дому управлены. Школе это ничуть не мешало. Учились и учатся все хорошо».
Родители этот со мной разговор ведут, не отрываясь от дела. Отец, играючи, режет из липовой чурки игрушку, мать выпаривает кадушку — солить помидоры. Семиклассник Андрей чистит клетки у кроликов. Утки, кролики и козел, заведенный во дворе для потехи, — его забота. Светлана, девятиклассница, по домашнему распорядку дел нянчит сестренку, на ней же лежит забота об огороде — прополка, сбор огурцов, помидоров, «и колорадских жуков с картошки!» — весело откликается она, прислушиваясь к беседе.
Трое старших уже на ногах. Виктор — тракторист, Ольга — замужем, порадовала Константиновых двумя внуками. (Ее муж Василий работает вместе с отцом и принят в семье наравне с сыновьями.) Девятнадцатилетний Сергей — в армии. Пишет: «Служба — дело суровое. Но мне не трудно. И за это, отец, спасибо тебе большое. Чему научен, все пригодилось». Сергей — общий любимец в семье. (Мать с гордостью: «Не пьет и не курит».) К армии он, работая рядом с отцом, научился столярному, слесарному, малярному, штукатурному делу. Он и зарабатывал столько же, сколько отец. И главная гордость семьи: Сергей от отца унаследовал незаурядные способности художника. (Дом Константиновых увешан картинами и резьбою по дереву, на которую с завистью поглядел бы художник профессиональный. Это все работы отца и сына.)
Вот такая семья выросла под крылом так удачно соединивших жизни свои Павла Николаевича и Нины Парфеновны. Переезжая на новое место, они забирали с собой лишь ребятишек, одежонку для них и ящики с инструментами. «Ничем лишним старались не обрастать. И подыматься было легко. Из мебели брали лишь табуретку. Я ее еде- 73
лал из ясеня, когда только-только взялся столярничать. Вот она стоит у окна».
Кочевая жизнь, однако, приятна лишь в молодости. Возраст просит оседлости, прочного корня. Размышляя, где бросить якорь, склонились к жизни в деревне. «Будем работать в колхозе, справим дом, заведем уток, корову. На доме вырежу петуха, и внукам легко будет находить, где живут дед и бабка», — балагурил глава семьи, когда вечерами все собирались вместе.
За Уралом они и осели. Оборудовали себе дом в совхозе «Георгиевский», обсадили его черемухой, завели скотину. Павел Николаевич стал работать на
В марте того же года во время школьных каникул семья Константиновых со своей реликвией — табуреткой, швейной машиной, точилом, с ящиками резцов, стамесок, рубанков, кистей, буравов, молоточков и разным другим инструментом заняла отведенное ей жилье на улице Молодежной. «Ну вот мы и дома!» — сказал отец, оглядывая пока еще неуютные стены рубленого строения.
Семья Константиновых — не единственный поселенец в рязанском колхозе. В последние годы тут заметно определилось движенье людей в деревню из города. Константиновы дали другим пример домовитости, трудолюбия, спо- многих в селе стало заманчивым завести над крышей что-нибудь в этом роде. Сам председатель колхоза Петр Иванович Жидков пожелал иметь над дверью своего дома оленя. Другие пока примеряются, кого из домашней и дикой фауны заказать. «А что ж, хорошее дело! Будут дома в деревне различаться не номерами, а скажем, так: дом с зайчиком, дом с конем, журавлем... — говорит председатель. — А сделать... Павел все может сделать!»
Павел село покорил не только трудолюбием и умением. Он и на празднике оказался самым заметным. 3 июня в колхозе праздник окончания весенних работ. В числе разных забав на празферме скотником, Нина Парфеновна дояркой. Прожили в совхозе более десяти лет. Жили хорошо. Сами были довольны местом, и совхоз дорожил работящей семьей. Однако Павел Николаевич почему-то все чаще стал вспоминать свой Касимов. Рассказывал детям по вечерам об Оке, о рязанских лесах и садах. И постепенно созрело решение: едем! Колебалась лишь Нина Парфеновна, для которой родиной была земля за Уралом, «но что же делать, куда иголка, туда и нитка».
В начале 1978 года Павел Николаевич приехал в Касимов сначала один. Отдал должное разом нахлынувшим чувствам: по льду перешел Оку, поглядел на город с правого берега, поднялся потом по знакомой деревянной лестнице к татарской мечети, поглядел на леса за Окой, постоял у дома, где был когда-то приют... И вот он уже в двадцати километрах от городка, в селе Дмитриеве, в правлении колхоза «Заветы Ильича» говорит с председателем о том, что именно тут хотел бы с 74 семьею жить и работать...
собности, «цепко взяться за землю».
На работу в колхоз из дома Константиновых явилось сразу шесть человек — отец, мать, два сына, дочь с зятем. И уже можно увидеть в колхозе, к чему приложила руку семья мастеров. И на дом, где живут, поглядеть — сразу видно: не на время люди приехали, прочно пускают житейский корень. Во дворе — живность, в огороде — все, чему полагается быть, — от картошки до подсолнухов и фасоли. У дома — свежая изгородь, цветы в палисаднике и два десятка пересаженных из приокского леса рябинок. Весь дом молодцом смотрит! Своими руками сложена печь, перестелен пол, вырыт погреб, построен сарай, водяное отопление в доме проложено — и это в полтора года всего. «Как на все у них хватает», — дивятся соседи. «Такая закваска — не сидеть сложа руки», — улыбается Константинов-старший. Минувшим летом на велосипеде они с сыном объехали приокские села, срисовывая наличники для своих окон. А когда над домом появился задорный пестрый петух, для
Семья Павла Николаевича Константинова. И он сам с украшением для нового дома.
днике в парке был установлен высокий гладкий, мылом натертый, столб. «Ну, кто добудет часы?!» — весело пригласили желавших показать удаль. Пробовали молодые парни, пробовал молодой зять Василий — никто до верхушки столба не добрался. И тогда вышел сорокадевятилетний глава семьи Константиновых. Кто притих, кто начал смеяться. А невысокий, коренастый человек поплевал на ладони и сначала под недоверчивый шепот и даже смешки, а потом под крик одобренья достиг верхушки столба. На глазах тысячи с лишним людей он прошел с часами в руке к скамейке, где сидела жена с ребятишками: «Нина, это тебе...» А председатель сейчас же позвал Константинова Павла Николаевича к трибуне: «Молодец! Те часы добыл удалью. А это за труд в хозяйстве». И вручил часы именные с дарственной надписью.
Вот так на новом месте начала жизнь семья Константиновых. Возвращаясь в беседе к прошлому, Павел Николаевич опять вспоминает Касимов, военное детство, воспитательницу приюта Елизавету Михайловну Максимову. (Он недавно ее разыскал.) О своей неизвестной матери Павел Николаевич говорит без осуждения и без горечи: «В пятьдесят лет хорошо понимаешь, какая сложная штука жизнь. Я давно уже все простил. Мне только жалко ее. Самой большой радостью было бы помочь ей сейчас. Привел бы ее в этот дом — смотри, мать, это я, твой сын. А это — мои дети. Дети, мама, — это большое счастье».
1980 г.
□
ЗЕМЛЯ АНТОНОВЫХ
Они коренные мещеряки. Дед был портным, ходил по деревням, шил полушубки. Отец, Антонов Дмитрий Аверьянович, одним из первых в здешних краях сел на трактор, стал позже хорошим механиком. С гаечным ключом в руках он и умер... Игрушками пятерых его сыновей в детстве были железки. И мало в том удивительного, что все они, исключая старшего Виктора, продолжают дело отца. Другое важно отметить: все, кроме Виктора («Он на Урале — большая шишка»), остались тут, на Мещере. У других сыновья после армии кто куда, а Дмитрий Антонов, сам Мещеру любивший преданно, и сыновей сумел на ней удержать. «Где родился, там и годился... В родном краю и картошка — пряник медовый», — слышали сыновья от матери и отца.
Что касается дела, то братьям Антоновым искать его не пришлось. Дело само отыскало их в сельце Афанасьеве в местах болотных, нелюдных. Все четверо стали мелиораторами. Николай, Алексей и Владимир сели за рычаги экскаваторов. Сергей обучает мещерских парней в районной школе мелиорации.
Говоря о Мещере нынешних дней, мелиорацию обойти никак невозможно. Она тут — стержень хозяйственной жизни. Само слово мелиорация изустно и на бумаге повторяется так же часто, как полвека назад повторялось слово коллективизация. И перемены, за этим словом стоящие, тоже не маленькие.
Жизнь в этих почти заповедных местах была приучена к тишине, к бездорожью. Тут у людей сложились особый быт и привычки. Вода, леса и болота, разъединяя людей, давали им также немалые радости и, худо ли бедно, кормили, поили и одевали. И вдруг почти разом все должно измениться.
На болотах, где раньше еле угадывались тропы сборщиков ягод и грибников, ревут экскаваторы. Появились дороги. Спрямилась, укоротилась речка. Исчезло озеро. Всюду трубы, каналы, канавы. На былых мшарах белеет пашня. Умирают запустелые деревеньки, и кое-где показались над лесом невиданные в этих местах дома о трехчетырех этажах. Это целая революция. Плоды у нее еще в завязи, а пока идет ломка с потерями и надеждами, со вздохами и барабанным боем начальных успехов.
Братья Антоновы оказались в самой гуще работ. Дело у них нелегкое. Жара, комары, одиночество, риск увязнуть в болоте. Но братья привыкли. Работают споро, умело и давно уже получили известность как мастера. Известность эта подкрепляется родственной сплоткой — «братья Антоновы». В любом деле — на шахте ли, в поле, на лесосеке или на рыболовном судне три брата плечом к плечу — это всегда впечатляет и привлекает внимание. Братья, если они не лодыри, непременно окажутся на виду. Именно так сложилась судьба сыновей старого тракториста Антонова — всемерно отмечены и обласканы, получили квартиры, сидят в президиуме, привыкли видеть себя в газетах. Старший из них, Николай, получил в награду автомобиль, избран депутатом в Рязанский Совет.
Размышляя, с кем откровенно можно бы было поговорить о делах мелиорации, я колебался. «Антоновы скорее
всего будут говорить «по писаному»... Но, со другой стороны, они — старожилы Мещеры, все, что тут происходит, близко их сердцу, к тому же дело знают и последствия видят...»
Собрать их вместе оказалось делом нелегким — работают в разных местах, домой в Клепики возвращаются поздно.
Все-таки вечером мы собрались у среднего, Алексея. Братья оставили за порогом свои болотные сапоги, сходили под душ и сели за стол приодетыми на городской лад.
При знакомстве выяснилось: старшему, Николаю, — сорок один. Алексею — тридцать седьмой, Владимиру — двадцать девять. Увидев их, сразу скажешь, что это братья. Однако чем-то они и несхожи. Старший степенен: «Ну что говорить, все об нашем деле известно...» Младший готов, пожалуй, много чего сказать, он со стрункой романтика (не поленился, долго искал упавший метеорит и нашел, отправил в Москву ученым, мечтает побывать на Камчатке), но положение младшего его сдерживает — с улыбкой или усмешкой он только следит за беседой.
Говорит, главным образом, Алексей, средний. Одиночество на болотах, однако, приучило его больше думать, чем говорить. Он не спешит, едва ли не каждое слово запивает глотками чая. И говорит он совсем не «по писаному». У него свой взгляд на дела.
По лицам и замечаниям братьев я чувствую: мнение среднего разделяется.
— Скажу так... Глушь нашу здешнюю я бы ругать не стал. Если б спросили, где лучше мне жить — тут, на втором этаже с душем и телевизором, или в самой глуши в отцовском рубленом доме с баней, охотой, рыбалкой, грибами? — я бы еще подумал, что выбрать. Но в том- то и дело, что выбора нет. Жизнь расширяется. Это все понимают. Мещерские наши места, как посмотришь, — островок в круговерти. И, конечно, брать с болота только ягоды и грибы — это мало. Вот и копаем, надеемся — будем брать больше... Мелиорация, не поспоришь, дело, конечно, правильное. Но только если правильно ее делать. А вот копаешь, копаешь, и временами сердце начинает щемить — не все правильно! И жалко не только деньги, а мелиорация — деньги немалые, землю жалко! В иных местах чувствуешь: губим. Мелиорацию нельзя кое-как делать. Ее надо делать только хорошо. Тогда будет толк. А хорошо у нас выходит нечасто... Что касается нас, Антоновых, то работать стараемся честно. Неплохо и зарабатываем. Но этот вот крендель за чаем был бы для меня куда слаще, если бы я был уверен: делаем все, как надо, и завтра не будем чесать в затылке...
Все это сказано отнюдь не за водкой — за чаем. Я ожидал, что два других брата что-нибудь возразят среднему. Но старший и младший только сказали: «Да-а...»
Слово мелиорация в переводе на русский означает улучшение, улучшение земли. Крестьянин мелиорацией занимался почти всегда. Удаление с пашни камней, расчистка луга от зарастанья кустами и отведение с луга излишков влаги — это мелиорация. Но слово это в ходу у нас стало с тех пор, когда землеройная техника позволила покуситься на земли избыточной влажности, ранее недоступные земледельцам.
На освоение «болотной целины» двинулись почти что с криком «ура!». Все казалось предельно простым: прорыл канаву, сбежала по ней вода, и дело сделано — паши и сей, коси травы. Рыли эти канавы споро, спрямляя речки, спуская озерную воду. Уродовалась земля, но ладно, мол, зато кормилицей будет...
Увы, не все обернулось так, как хотелось. Во многих местах земли, с которых силой согнали воду, превратились в голые пустыри. Хуже того, понижение грунтовых вод повредило плодородию исконной пашни, без прежней ПОДПИТКИ иссякли малые реки, обмелели озера.
В Белоруссии пришлось видеть, как страдали и погибали от недостатка влаги посевы на землях, где, помню, с влагой вели большую войну. Да что Бело¬
руссия, вода показалась помехой даже там, где всегда ее не хватало. Канавы споро и спешно копали в Воронежской области. Деньги и технику в этих местах следовало употребить на сбережение влаги, на заделку вершин оврагов, которые пожирают тут золотой чернозем. Нет, «резервную пашню» искали там, где ее искать не следовало ни в коем случае. И удивительно ль, слово мелиорация стало во многих местах почти что ругательным.
На Мещере война с водой погубила немало прекрасных озер, местами пострадали луга, а то, что думали сделать пашней, сейчас кое-где именуется «Каракумами» и «сахарами».
Я видел такие места у Оки. Прокаленный солнцем песок с лопухами мать- мачехи и какой-то жесткой травой Ни пашни, ни пастбищ на этих землях не получилось. Лежат укором всякому проходящему человеку. А каково это видеть местному жителю!
Таковы издержки от спешки и непродуманное™. Сейчас мелиораторы взялись наконец за «двойное регулирование» — избыток влаги отводят, но держат воду в резерве и, если надо, в нужный момент ее возвращают земле.
Двойное регулирование (польдерная система) дает хорошие результаты. Тут, на Мещере, эту систему «обкатывают» вблизи Клепиков на Макеевском мысу, около речки Пры. Если кого-нибудь надо убедить в эффективности мелиорации, везут сюда. И тут в самом деле
Братья Антоновы — Владимир, Николай, Алексей. есть на что поглядеть. Бывший болотный кочкарник площадью в две тысячи гектаров с лишним осушили и разровняли, нарезали «карты» полей, разделили их водотоками, под слоем пахотной почвы, подобно кровеносной системе в живом организме, положили сетку мелких гончарных труб. Избыток влаги уходит в этот дренаж. А видит агроном, что влаги недостает — закрывают затворы в каналах, отток воды внизу прекращается. а сверху поливочный механизм на колесах, забирая из канав воду, посылает ее на земли в виде почти небесного дождика.
«От господа бога никак не зависим», — сказал мне техник, объясняя работу системы. И правда, мочливое лето или сухое — урожаи овса, пшеницы, картофеля и капусты с этого полигона, напоминающего огромный фабричный цех, получают высокие и стабильные.
Стоит такая система недешево («в каждый гектар на мысу вложили 751 рубль»), но конечные результаты, как видим, все покрывают. И вроде бы нет причины для беспокойства. Однако тревога братьев Антоновых многими тут разделяется. Дело в том, что польдерная система — очень тонкий и деликатный процесс земледелия. Перейти на него все равно что с телеги пересесть на сверхзвуковой самолет. Постройка такого «самолета» требует очень большой культуры, аккуратности и добросовестности. («Гончарные трубы в земле надо класть чуть ли не по лучу лазера с уклоном в четыре сантиметра на сотню метров».) Малейшие «шаляй-валяй», «авось» и «быстрее!» рубят под корень весь замысел.
Эксплуатация поля тоже не терпит ни малейшей ошибки. Все должно быть вовремя, точно, трезво и качественно. «Примерно как в цветной фотографии, — объяснил техник, глядя на мою фотокамеру. — Чувствительность пленки, экспозиция, состав проявителя, температура, время проявки... В чем-то малость ошибся — и нет желанного результата. А тут при грубом просчете возможна еще и поломка системы...»
Но есть ведь Макеевский мыс. И действует! Да, отправная точка хорошая. Но она, к сожалению, осталась пока что витриной мелиорации. Тут в оба глаза за делом глядели и райком, и обком, и люди из министерства. Тут рядом большой населенный пункт с избытком рабочей силы. А вот далее в глубь лесов и болот дела не так хороши, местами просто плачевны. Огромные средства из казны государства вязнут почти без отдачи. Мелиораторы сдают работу, мягко говоря, без знаков качества. («Качество! — с понятной злостью говорит начальник ПМК-9 Николай Петрович Павлов. — Вот поглядите на эти гончарные трубы. Их полагается привозить к нам в контейнерах. Нет, возят так. Пока по болотным ухабам трясут — сорок процентов боя! Полагается эти трубы привозить загодя, в зимнее время. Нет, получаем в последний момент — неизбежна спешка с укладкой!»)
Поругивая мелиораторов, в совхозах добавляют к их недоделкам и приблизительностям свои просчеты, промахи да и попросту нерадивость. В результате земля ставится под угрозу превращения в «каракумы». (Антонов: «Я видел заокские черноземы — то плотный войлок. А наша земля как ситчик. Чуть промахнулся — и дырка».)
И еще есть проблема. Допустим, что все в порядке и есть урожай. Однако людей на Мещере немного, рабочих рук не хватает. Урожай большой своей долей остается неубранным. И, стало быть, нельзя просто так отмахнуться от
существенного вопроса: «А стоит ли выделки эта овчинка?»
Между тем сейчас обсуждается план коренного перестройства Мещеры. В основе его лежит предпосылка: не лес и вода — главная ценность этого края, а пашня, которую надо создать. Плановики, составлявшие «схему» переустройства, утверждают: овчинка выделки стоит! План «большой мелиорации» на бумаге логичен и гладок. Кое-что на Мещере он оставляет рыбакам и охотникам, есть в нем упоминание даже о «национальном мещерском парке», но главное в плане — решительное наступление на болота.
Этот план невозможно уже оспорить, он прочитан во многих инстанциях. Выгода недешевой и непростой ломки природы Мещеры основана в плане на предпосылке, что все будет сделано, как написано и рассчитано на бумаге. Однако даже разведочные шаги в глубь Мещеры показывают, каким далеким оказывается действительное от желаемого. Жизнь с ее «битыми гончарными трубами», с ее «не туда, не то, не вовремя», со спешкой, недоделками и «авосями» заставляет с тревогой думать о «большом наступлении». Если оно неизбежно, то отнестись к нему надо с такой же ответственностью, с какой хирург относится к предстоящей операции на сердце. Мещера у нас одна. Загубить этот оазис в самом центре промышленного района России с нынешним натиском техники очень даже легко.
А потому — осторожность! И еще раз — осторожность!
Главное, чего следует избежать, — спешка. Это тот самый случай, когда мудрость «семь раз отмерь» должна быть написана видными буквами и в кабинете проектировщика, и на будке мелиоратора. Пресловутых щепок, которые, мол, неизбежны при рубке леса, быть не должно — слишком велика ценность, на которую покушаемся.
Стратегия выполнения плана, как представляется, должна быть в постепенности и осмотрительности, в тщательном и качественном освоении того, что уже «тронуто». «Я наблюдаю, многие несообразности оттого, что откусываем больше, чем в состоянии прожевать», — говорит Алексей Антонов. Верное наблюдение! Мелиорация на Мещере — задача со многими неизвестными. Даже Макеевский мыс при всей тщательности работ на нем преподнес немало сюрпризов. Накапливать опыт, проверять все расчеты практикой жизни и потом уже двигаться дальше. «Лучше меньше, но лучше» — такова сверхзадача.
И нужен, конечно, постоянный контроль (общественный, хозяйственный и партийный) по всему фронту работ.
А смотреть, между прочим, в оба глаза надо в первую очередь за исполнителями проекта, вооруженными всесокрушающей техникой. Характер у наших мелиораторов, как у бобра. Известно, 78 что этот житель болотистых речек
Веками эти края кормили, давали приют человеку. Но все, что накоплено тут природой, ранимо и требует от людей расчетливых бережных отношений.
грызет, добывая пищу, но грызет он и просто так, иначе его погубят все время растущие зубы Мелиораторы тоже «грызут» частенько и где не надо бы грызть — у них свои планы, сметы, прогрессивка, «тринадцатая зарплата» и премии. Нельзя допустить, чтобы жертвой ведомственных интересов становились спрямленные речки, обезвоженные озера, земля с без надобности вырытыми канавами.
В оценке — что сегодня важнее: вода, лес или пашня? — тоже надо все тщательно взвешивать. Было время, когда любое болото считалось едва ли не язвой на теле земли. Осушение почиталось заведомым благом. Сейчас бедственное положение во многих местах с водой обнаружило, какую роль играют болота в сохранении и распределении на земле влаги. Вряд ли надо упускать из виду и явно нелепое положение, когда ценою немалых затрат пашню мы ищем на дне болота, а в это же время выбывает из обихода, поглощается бурьянами и лесом земля, веками служившая человеку около многочисленных, теперь умирающих деревень.
В размышлении о богатстве Мещеры никак нельзя сбрасывать со счетов и уникальность ее природы. Важно хотя бы часть мещерской земли оставить не тронутой экскаваторами. Поговаривают о создании здесь национального парка. Но это пока журавль в небе. Реально и разумно на этом этапе максимально расширить территорию Окского заповедника — он сегодня тут самый надежный хранитель проверенных временем ценностей. Эти ценности — тишина, здоровый воздух и чистые воды — сейчас нужны человеку ничуть не меньше, чем хлеб насущный.
Утром я снова увидел братьев Антоновых. Они спешили на свой облезлый «болотный» автобус. Но что-то у автобуса не заладилось, и мы с полчаса посидели у тощей речушки, наблюдая, как по огромным, нагретым солнцем железным трубам бегает трясогузка.
— Мы солдаты, — сказал Алексей, кидая камешки в воду. — Копаем, копаем... Но жизнь уже научила: от этой нашей канавы бывает польза, а бывает — локти кусаешь. Земля — не эта вот колымага. Эту спишут в утиль, как только другую пришлют. А землю попробуй- ка замени...
— Садись, поехали! — крикнула у автобуса шофер-женщина. Два десятка мелиораторов, весело подталкивая друг друга, сели в автобус, и он поехал, слегка скособочась. За поселком автобус повернул с бетонной дороги на блестевшую синими лужами колею и, колыхаясь, как лодка на крупной волне, долго плыл вдоль опушки... Через час-полтора он приедет в места, где совсем недавно ходили лишь лоси и грибники.
1980 г.
□
БЕСЕДА
С дороги, идущей от Касимова полем, видишь в лощине верхушки ветел, крыши домов и на взгорке — красного кирпича колокольню, крытую свежей жестью. О колокольне я прежде всего и спросил Александра Александровича.
— Совсем новая крыша...
— Да нет, церковь не действует, — ответил парторг.—Еще с довоенных лет на замке. Кровля пообветшала, решили подправить. Дело для колхоза не разорительное, а сразу как-то опрятнее выглядеть стало село... — Опасаясь, что городской его собеседник, грешным делом, может и не понять этой необычной заботы, Александр Александрович прибавил: — Опрятность этой видной с любого двора постройки, конечно, воспитывает уваженье у человека к порядку. Так что бог тут совсем ни при чем...
После беседы в правлении мы пошли с Александром Александровичем по деревне. Как водится, гостю было показано все, чем законно тут можно гордиться: большая новая школа, еще чахнущий свежей краской и похожий на маленький городок детский сад, автоматический телефонный узел, большой и хороший клуб («кино — каждый вечер»), добротные деревянные дома для колхозников («ставим дом и сразу сажаем сад»). Асфальт на главной улице и телевизионные антенны над каждой крышей дополняли увиденное. Однако не только эти признаки достатка, разумной, расчетливой траты средств и движения в ногу с жизнью останавливали внимание. Очень обрадовал не утраченный тут, в Дмитриеве, чисто деревенский дух жизни.
Дома не все были новые, но у каждого был палисадник, двор, сад, огород. Во дворах по-вечернему гагакали гуси. Посреди улиц на траве возились дети. Старухи сидели на скамейках возле домов. (Одна, подозвавшая Александра Александровича для какого-то разговора, сбивала в горшке сосновой мутовкой масло.) Пахнуло вечерним дымком, деревенской стряпней из труб, и главной улицей степенно, неторопливо возвращались с пастьбы коровы. В домах скрипели калитки и слышались голоса: «Марусь, Марусь...», «Зорька...» Парень на оранжевом тракторе приглушил мотор, давая проследовать стаду.
«Доброго здоровья!» — приветствовал пастух моего провожатого и поручил стадо с врученьем кнута подвернувшемуся мальчишке. Александр Александрович извинился, и они с пастухом, присев на бревна у дома, минут десять обсуждали какой-то деликатный и важный для пастуха житейский вопрос. «Ну ладно, так значит так», — согласился пастух, прощаясь, видимо, даже довольный разрушением своего обдуманного в одиночестве плана...
Еще в правлении, наблюдая заходивших к секретарю колхозников, я заметил особую атмосферу отношения ме-
жду людьми. Заходили по делу, но разговор непременно касался чего-то еще, вроде бы к делу не имеющего отношения, но явно ему помогавшего. «Коля! — кричал Александр Александрович со второго этажа в окно шоферу, с которым только что говорил в кабинете. — Я забыл тебя попросить, будь другом, заехай к Прасковье Ивановне, узнай, привезли или нет ей дрова... Сам привезешь? Ну, что ж, хорошо...» И такой тон со всеми. Молодые у него: «Коля... Таня... Федя», к старику вышел из-за стола: «Василь Андреич, извини, пожалуйста. Знаю, зачем пришел, но я не успел поговорить с председателем... Мимоходом сам загляну».
— У вас село, почти как семья... — сказал я, когда прощался еще один посетитель.
Александр Александрович, извинившись, прочитал в телефон короткую сводку в район и сам вернулся к начатому разговору.
— Семья, говорите... Семья — дело особое. Хорошую семью и под одной крышей не просто сладить. А вот добрые отношения, уклад жизни с учетом всего, что деревне должно быть свойственно, это и Петр Иванович как председатель, и я как парторг всегда помним. А мы ведь почти что состарились в этой деревне. Часто ведь как бывает — «план по мясу, планы по молоку», а все остальное из поля зрения уплывает. И получается, что вроде бы только для плана человек и живет. А человек должен чувствовать радость жизни, радость труда на земле, радость своего очага. И когда он понимает, что это в нем уважается, будет и план, и даже многое сверх плана. Наше село не обветшало, не обезлюдело, а сейчас просто крепко стоит на ногах, потому что как-то так получилось: тут не забыли эту несложную мудрость.
Мы просидели с Александром Александровичем до полуночи. Разговор о деревенском укладе жизни неизбежно коснулся прежних традиций, обрядов и праздников, рожденных спецификой сельского быта, близостью человека к природе, влиянием времен года на его занятость.
— Это все — употребим не крестьянское слово — поэзия бытия. И это очень важная вещь. При нелегком труде на земле особый деревенский уклад давал человеку, даже при бедности, ощущение радости жизни... Согласны?! Так вот, надо ли это забыть и переделывать деревенскую жизнь на городской лад? Некоторые думают: именно так следует сделать. А мы вот так не считаем.
Я возразил, главным образом из желания удержать разговор в нужном русле:
— Но, Александр Александрович, жизнь-то в корне переменилась. Есть ли что сохранять, утверждать и отстаивать?
— А вот давайте поразмышляем...
Взялись прикидывать вместе, и ока- 80 залось, что есть! На примере села
Дмитриева это можно и рассмотреть.
Сельский дом... Традиционно — это не просто жилище, это еще и двор, сад, огород. Это корова (коза, на худой конец), куры, гуси, кошка, собака, скворечня, ласточки под карнизом. Это целый мир для деревенского человека от рождения и до старости. Это его школа жизни, его убежище, это основной корень, соединяющий человека с землей. Подруби этот корень, и человек уже — перекати-поле, ему все равно, где и на каких этажах жить. На эту традиционную жизнь кое-где покушаются, пытаясь втиснуть деревню в три-четыре многоэтажных дома. «Последствия этого неизбежно будут печальными, ибо человека, с его извечной жаждой «копаться в земле», можно все-таки приучить к сидению у телевизора и к игре в домино», — говорит Александр Александрович.
В Дмитриеве, правда, тоже построен один жилой двухэтажный дом. В нем поселили учителей и молодых специалистов, недавно в деревню приехавших. «Но курс основной — одноэтажный дом для семьи. Строит такие дома колхоз. Плата жильца — менее трех рублей в месяц. Всячески поощряем инициативу в строительстве. Строящий себе дом — это постоянный жилец в деревне. Это опора в нашем хозяйстве».
Неосмотрительное нарушение основ в сельском укладе жизни уже дало примеры для поучительных размышлений на этот счет. Лет двадцать назад возобладала мысль, что если сельский житель не будет иметь коровы и иной живности во дворе, то все свои силы он направит на работу в хозяйстве общественном. Мы помним то время. Сколько было и вздохов, и слез при расставании с буренками! Корова для сельского жителя всегда была чем-то само собой разумеющимся в домашнем хозяйстве — «Как жить без коровы?!».
И вот видим теперь, что вышло из насильственной операции. Пожилые владельцы скотины поплакали, повздыхали и успокоились постепенно — житье без коровы оказалось возможным и даже не лишенным удобств: не надо о кормах думать, не надо с зарей подыматься на дойку. Не стало в доме «своего» молока, масла, творога — да уж ладно, как-нибудь перебьемся. («Во град ездим за молоком», — сказала мне жительница деревеньки, стоящей в пятидесяти километрах от столичного града. Старуха это сказала с горечью, а молодуха из той же деревни о привозном «городском молоке» говорила с вызывающей бодростью, как будто во градах молоко бьет из артезианских скважин.)
Итог невеселый. С молоком и творогом туговато. И не потому только, что ранее от любой коровы молоко так или иначе попадало в общегосударственный
бидон. Не достигнута цель, ради которой все затевалось. Пожилые теперь Дарья Петровна или Марья Петровна, лишившись своей коровы, на общественной ферме все-таки продолжали работать. А вот дочери их, не понюхав с детства навоза на своем дворе (деревенская пословица говорит: «что воняет, то и пахнет»), не спешат идти и на общественный двор. Таково следствие повреждения корня традиции. Сейчас помаленьку поправляется дело. Но подобного рода просчеты исправить очень и очень непросто.
Дмитриево не было исключением, когда коров провожали под нож. Но тут раньше других поняли ошибку, а общий стиль жизни села позволил легче ее исправить. Сейчас тут на 240 дворов 90 коров, то есть больше, чем в каждом третьем дворе. (Не говорите, что это мало. Приходилось бывать в деревнях, где молоко купить невозможно — нет ни единой коровы.) И количество скота в Дмитриеве возрастает. «Колхоз, — как сказал Александр Александрович, — создал для этого «режим наибольшего благоприятствия»: по низкой цене продаются телки и поросята, всячески помогаем с кормами, из общих укосов каждый владелец коровы получил долю, а неудобья отдали косить исполу: копна — колхозу, копна — косцу». В результате колхоз обеспечен кормами и личный скот тут не будет голодным. Итог: в каждом третьем доме свежее молоко, масло, творог. (Излишки покупает сосед, а поскольку и при этом условии молоко остается, то каждое утро по селу проезжает машина с цистерной, и эти излишки — 700—900 литров — вместе с удоем общественной фермы идут государству, «во грады».)
Еще одна сторона жизни... Александр Александрович особо ее подчеркнул — забота о стариках. «В деревне всё на виду, всё рядом — жизнь и работа. Забвение тех, кто ослаблен годами, неизбежно подточит все ценности. Это ведь как на войне. Если о раненых забывают — армия обречена. Умный командир даже ценою новых потерь вынесет раненых с поля боя. Таким образом укрепляется нравственная сила. А она важна одинаково всюду, где живут и действуют люди. Заботясь о стариках, мы не только воздаем должное за все, что они тут сделали, мы укрепляем веру у молодых: твое село, твой колхоз — надежное место для жизни».
Александр Александрович по памяти перечисляет людей, которые, перешагнув пенсионный возраст, продолжают работать в колхозе. «Никого не понуждаем бросать. Потребность трудиться у многих сохраняется до последней черты. Помогаем подыскать дело по силам, лишний раз похвалишь, поддержишь старания человека, и это часто главное, в чем он нуждается. А когда приходит время все-таки сесть на скамейку у дома, человек опять же ломтем отрезанным себя не чувствует. К государственной пенсии мы выделяем специальную «колхозную надбавку», заботимся о дровах, о том, чтобы яблоком из колхозного сада, молоком, зерном для птицы не был человек обделен. Из каждого урожая выделяем пшеницы. И что, возможно, самое главное — несмотря на дела, находишь минутку забежать, спросить: как жив-здоров?»
О молодых в колхозе своя система забот. Учиться поехал — держат его в поле зрения, помогают. В армию идет — проводы. Вернулся из армии — деньги из специального фонда. Свадьба — тоже колхоз участие принимает. Обстроиться захотел — опять же в помощи не откажут. Пять лет механиком отработал — в четверть зарплаты надбавка. «Восемь человек из десяти, отслужив в армии, едут домой, да еще и невесту с собой привозят. Приятно это все видеть? Приятно! Однако не будем при этом преувеличивать блага материальные. Мы знаем хозяйства, где этот поводок легко обрывается и люди, как горох из сухого стручка, — кто куда. Важен нравственный климат. А всякий климат в одночасье не создается. Это работа долговременная. Вот почему важно, заботясь о молодежи, не терять из виду и стариков. И ежели обратиться к опыту жизни, то мы увидим: в деревнях, аулах, на хуторах, в кишлаках так и было всегда. В этом мудрость традиции».
Коснулись мы в разговоре и того, что обычно в первую очередь вспоминают, когда говорят о традициях на селе, — праздников и обрядов. «Увы, — сказал Александр Александрович, — многое ушло невозвратно. Искусственно возрождать то, что было связано с прежним укладом в деревне, бессмысленно». И это, конечно, верно. Но вот что важно заметить в прежних праздниках и обрядах. Все они были крепко привязаны к укладу именно деревенской жизни, к срокам сельских работ, к переменам в природе. Масленица — это конец зимы, троица — это начало лета. Яблочный спас, медовый спас, печенье жаворонков из теста в марте, смоление кабана к рождеству и свадьбы на покров, осенью — главные сельские праздники не приходились на горячее время работ. Они предваряли эти работы, а чаще венчали их. Иначе говоря, дело, труд, зависимые от капризов природы, — в первую очередь, а праздник — это в подходящее время передых от трудов. В этом смысле в сельской жизни, несмотря на обилие механизмов, условия не изменились. Тут по-прежнему не потерянный в нужное время день (даже час!) кормит год. И по этой причине в колхозе «Заветы Ильича» 1 Мая, например, — день рабочий. Это не значит, конечно, что село Дмитриево не ценит солидарности со всем трудовым человечеством. Просто начало мая — это самый разгар работ. Потерять в это время 81
два дня и, хуже того, сбиться с ритма — это очень большие потери. «Поэтому мы вывешиваем флаги, а сами в борозду», — говорит Александр Александрович.
Майский праздник в этом селе передвинулся на начало июня (точного числа у него нет, проводится по окончании весенних работ и называется «Праздник березки»). Дома в этот день не остается никто. Тысячи полторы людей, молодые и старые, с ребятишками на руках и в колясках, под руку с женами и невестами, с гостями из других деревень (в колхозе есть отделения), собираются в парке. «Минут пятнадцать говорит председатель или я говорю. А потом — кому премия, кому подарок, кому
доброе слово. Ну и тут же веселье: ярмарка со всякими выдумками, своя самодеятельность и еще артистов из Москвы приглашаем, пять буфетов работает. Я сам люблю этот праздник, знаю, как его ждут и потом едва ли не полгода еще вспоминают...»
Так понимают традиции в селе Дмитриеве. Сама жизнь научила тут различать, что хорошо, что плохо. Но этому селу на Мещере и повезло. Повезло на двух хороших людей, тут выраставших и близко к сердцу принявших судьбу всего, что дорого человеку в родном углу. С большим удовольствием называю этих людей. Это председатель колхоза Жидков Петр Иванович и мой собеседник, секретарь колхозной партийной организации Александр Александрович Петропавлов. Иногда о людях этих двух должностей говорят: сработались. В этом случае слово сработались слишком бедное и неточное. Это единомышленники, хорошо понимающие и государственные задачи, и повседневную жизнь родного села.
«Мне тут легко, — говорит Александр Александрович. — Почти все люди в колхозе — мои ученики. И я, как прежде в школе, всех называю: Лида, Федя...»
Отец и мать Александра Александровича — учителя. (Отцу присвоено звание заслуженного учителя школы РСФСР.) И сын тут, в Дмитриеве, стал учителем, а потом и директором школы. 82 При нем в 1939 году нынешний председатель колхоза, а тогда Петя Жидков, кончил школу. Во время войны Александр Александрович был начальником школы девушек-снайперов, Петр Жидков воевал пехотинцем. После войны Александр Александрович снова директорствовал, а ученик его стал счетоводом. В 1958 году директора школы односельчане попросили возглавить колхоз, и он согласился. Председателем он оказался хорошим и работал четыре года, но, присмотревшись к Петру Жидкову, сказал: «Вот для колхоза настоящий хозяин». С его доводами согласились, но самого из колхоза не отпустили, выбрав секретарем партийной организации. Работают вместе уже восемнадцатый год.
«Петр Иванович — это хозяин с золотой головой и добрым мужицким сердцем», — говорит Александр Александрович о своем друге. О нем самом же, хитровато прищурясь, сказала мне Евдокия Петровна Митина, самая древняя из старожилов в деревне: «Лександр Лександрыч у нас все равно как в старое время поп. Только лучше. Батюшка, бывало, послушает, посочувствует, посоветует. А этот послушает, посочувствует, посоветует и поможет».
Деревенский капитал всяко можно измерить. Можно посчитать деньги в итоге года, можно счет вести на пуды, на приплод и привес у скотины, можно вспомнить, сколько построек возведено, какие дороги проложены, что купле¬
но. Но есть богатство, которое не измеришь привычными мерами, однако оно в человеческой жизни главное — это нравственный капитал. При этом главном богатстве все остальное, как вагоны при исправном и хорошо отлаженном паровозе. Эту очередность ценностей в Дмитриеве вполне понимают и председатель, и секретарь. Оттого и село прочно стоит на ногах, и жизнь в этом мещерском селении проходит осмысленно, не бестолково, с радостями и надеждами.
Все, однако, познается в сравнении. Было время — отсюда тоже уезжали и на стройки, и в города. Не жалеют ли сейчас об отъездах и нет ли теперь движения обратного — в село из города?
Оказалось, что есть: и для колхоза это немаленькая проблема. Желающих переехать в село из города очень много. Мне показали папку с сотней недавно полученных писем. Во всех просьба: «Сообщите, нельзя ли приехать и вступить в ваш колхоз?» Письма разные, в том числе от людей, у которых личная жизнь дала трещину, и они, прослышав о здешнем хозяйстве, ищут прибежища. Есть наивные письма от коренных горожан, для которых житье в деревне — это сплошной сенокос, хождение за грибами и чистый воздух. Но в большинстве пишут люди, когда-то жившие тут, в селе, а теперь, приглядевшись к городскому житью-бытью, увидели, что прогадали. Есть у колхоза уже и опыт взаимных отношений с теми, кто приезжает. «Коренные горожане не приживаются. И мы теперь соответственным образом отвечаем на письма, — говорит Александр Александрович. — Деревенская жизнь человеку много дает, в том числе свежий воздух, сенокос и грибы, но много от него и требует. Эти требования горожанину часто и непонятны, и тяжелы. Лучше всех приживаются те, кто когда-то покинул именно наше село. Для них возвращенье — все равно что выход на знакомую просеку после блужданий в лесу. Ну и вообще человек деревенской закваски довольно скоро пускает корни, если он, конечно, не лодырь, не пьяница, не стремится брать больше, чем отдает, и уважает наши традиции и порядки».
Мы прощались близко к полуночи. Село заливало сиянье погожей осенней луны. Синеватые блики света отражал сонный омуток речки, кровля на колокольне, синеватыми редкими фонарями светились яблоки в темной листве. «Вот и еще картинка к нашему разговору, — Александр Александрович срывает яблоко с ветки над пряслом. — Пробуйте. Это антоновка. Подчеркиваю — антоновка, старинный российский сорт. Там, где эти местные яблоки извели, заменили сортами южными, в этом году погорели. И как погорели! Мороз все убил. Видели сами, сады стоят черные. А вот воргуль и антоновка живы! Почему? Веками притерты к нашему климату, испытаны самыми лютыми холодами... В сельском укладе жизни, прежде чем что-то отбросить и позабыть как ненужное, следует пять раз подумать... Ну, теперь уж прощайте».
Александр Александрович уходит по белой от лунного света дорожке. Ему шестьдесят три, идет он немного ссутулившись. Сорок лет своей жизни он ходит по этой улице, и она стала его судьбою.
1980 г.
О
ПЯТЬ ЕГО СЫНОВЕЙ
Вот они в сборе у отцовского дома и рядом с отцом. Слева младший Сергей и старший Иван, крайний справа — Геннадий и рядом с ним близнецы — Анатолий и Александр. Шесть мужиков — Садовниковы.
Отца зовут Сергей Афанасьевич. Когда снимались, он, поправляя на голове свою «мичуринку», пошутил:
— Ну, скобари, в одну шеренгу становись!
И получилось что-то вроде боевого подразделенья с веселым, признанным и почитаемым командиром-отцом.
Завидно стать вот так рядышком с сыновьями. Пятеро. Один к одному. Здоровые. Веселые. Работящие. И не рассыпались, как горох из стручка, по белому свету, живут, где родились. Сказал отец одному: «Собери-ка ребят» — и вот они вечером после работы явились все вместе к родному дому в семидворную приозерную деревеньку Грибно.
Ранний осенний вечер. Топится русская печь, бросает на стены красные блики света. На середину комнаты сдвинут стол — его всегда так ставят, когда собираются вместе. На столе в тарелках и чашках капуста, соленые помидоры, грибы («не зря же в Грибно живем!»). Блюдо горячей картошки, две сковородки некрупной плотвы, пойманной к ужину. Шесть крепких людей да после работы все стоящее на столе как будто за себя кинули. «Мама, что там еще?»
Мать Зинаида Федоровна, привыкшая к этим запросам, вынимает ухватом из печки чугун горячего варева.
— Как едим, так и работаем! — весело щурит глаза в подначке озорной Анатолий.
— Работяга... — ширяет пальцем в бок Анатолию рядом сидящий Геннадий. Это на случай, если бы гость вдруг принял шутку за похвальбу.
— Секретарствуешь! Дома норовишь секретарствовать? — Анатолий хватает брата за холку, и тарелки от возни за столом начинают подрагивать.
Отец добродушно смеется. Мать грозится огреть обоих ухватом. Старший Иван, сидящий рядом со мной, объясняет: Геннадий выбран недавно освобожденным партийным секретарем, он сейчас примеряется к новой для себя роли и вполне понимает: самую первую критику, ежели что не так, услышит вот тут, дома, от братьев и от отца.
Гость в доме. Газетчик. Приехал специально увидеть отца и пятерых его сыновей. По опыту знаю, в таких случаях душу свою нараспашку не держат. Нужно время — растопить ледок настороженной сдержанности. Тут уже все настежь. Никаких недомолвок, полная откровенность. Суждение друг о друге и о делах — с шутками, подковырками, равная доля которых перепадает и гостю.
Чувствую себя в этот вечер, как будто и я вырастал в этом доме, грелся на печке, надевал висящий у двери старенький кожушок, слушал собачий лай за окном, ел, обжигаясь, картошку, капусту, моченые яблоки.
Мать с ухватом у печки. Отец в меховой телогрейке и старых валенках у стола... Хорошо знаю: представленье о счастье у многих людей связано с такими вот встречами в отчем доме. В сутолоке жизни возможность увидеться с матерью и отцом, с братьями, сестрами у родимого очага — как островок для плывущего в море, как ощущение прочного тыла в сраженье. Для матери и отца тоже наивысшая радость — увидеть рядом взрослых своих детей. Но ох как часто эти желанные встречи мы все откладываем — дела, далеко ехать, еще что-нибудь. И как сиротеем мы, взрослые, как остро ощущаем потерю, когда уходит под воду маленький островок.
Гляжу на Садовниковых. Они драго-
83
ценную пристань в житейском море не потеряли, не удалились от нее далеко. Подобно здоровому человеку, не знающему подлинной цены здоровья, они, возможно, даже не вполне сознают меру счастья, отпущенного судьбой. Впрочем, нет. Все пятеро сыновей служили в армии. И за годы отлучки могли оценить, что значит для них этот вот чуть покосившийся рубленый дом, эти рябины возле окошка, эта веселая братская толкотня за столом, неспешное слово отца, заботливая суета матери. Продолжением дома был сад с замшелым колодцем, озеро за околицей, лес, поля лоскутками по холмистой псковской земле.
— У меня это все стояло в глазах, — говорит Анатолий. — Особо в первый год службы. Даже решение мелких солдатских проблем поначалу связывал с домом.
— Истоптал раньше срока солдатские сапоги. Обратиться бы к старшине. Нет, пишет домой. Ну посмеялись и послали ему сапоги, — вспоминает отец.
Пятеро сыновей не были избалованными. История с сапогами свидетельствует как раз об обратном. «Отец всегда нас учил: ничего не берите сверх того, что вам полагается по закону и справедливости». Все пятеро после службы не соблазнились куда-либо ехать. Все вернулись сюда, на Псковщину, в родной колхоз. Геннадий, правда, делал попытку жить в городе, и об этом особая часть разговора. Сейчас жена его Валентина сидит за столом вместе с нами. Двое рожденных в городе ребятишек, как сверчки, притихли на печке, озорными глазами наблюдают сверху за взрослыми. Вернувшись весною из «жизненных странствий», Геннадий живет пока что с отцом. Но готов, стоит уже собственный дом! Все лето по воскресеньям отец и пятеро братьев не выпускали из рук топоров — «еще четыре-пять выходных, и будем справлять новоселье».
Все братья, исключая лишь Александра, женаты. У всех ребятишки. Геннадий и Анатолий женаты на сестрах из соседней маленькой деревеньки Репищи. Из той же деревни взял жену себе младший Сергей.
— Я свою выловил аж во Пскове, — подмигивает жене Анатолий. — Подалась из Репищей к городской жизни. А я сказал: Маша, люблю, женюсь, но место наше — в деревне. Вняла. Теперь уже корни пустили — дом, баня, куры во дворе квохчут, корову, наверное, заведем. Я, как Мичурин, люблю в огороде копаться. Вот и шляпу скоро, как у отца, заведу.
— Ты, Толя, скажи еще, что служил в ракетных войсках и самый старший в семье по званию, — поддевает брат Иван.
— И скажу. По званию старший. Должность в колхозе — шофер. А вы сержанты, ну кто посмеет сказать, что плохой я шофер? — Вошедший в роль 84 Анатолий победно втыкает вилку в со-
Садовниковы - отец с сыновьями. «Таким было их детство. Прямо как воробьи. Одежонка — глядеть больно, но унынья, как видите, нет».
леный гриб и, тряхнув шевелюрой, обводит братьев глазами. — Ну вот, никто...
Анатолий — общий любимец не только в семье. Председатель колхоза Иван Степанович Сенченков, с похвалой отзываясь о всех Садовниковых, Анатолия выделил. «Этот шуткой мертвого из могилы подымет. Поручил ему развозить по работам людей. Летом возит на сенокосы и в поле еще и еду. Так вот всерьез говорят: присядет вместе обедать — еда вкуснее! А я замечаю: там, где этот шофер побывал, исправно движется дело».
— Характер у ребят разный, — замечает отец, когда веселье за столом поутихло. — Иван вот молчун, не скажет, что в молодые годы был первым трактористом в районе. Газеты портреты его помещали, в Москву на слет выезжал.
— И заблудился в Москве! Ну признайся...
Смущенный Иван гремит у входа ведром — вылез из-за стола под предлогом помочь в чем-то матери.
— Ну, конечно, мы разные! — опять заводится Анатолий. — Вот я и Сашка.
Близнецы! Но скажите, Михалыч, разве похожи? Я, как видите сами, брехун, а у Сашки клещами слово не вынешь. Я цыган, а он почти рыжий. Ну, правда же, поглядите. Я — человек положительный, семьянин, ребенок у меня на руках. А брат гири все подымает, вон в углу двухпудовые. Ну и прямо отметим: Серега вон младший, а уже двое советских граждан говорят ему: «Папа». А ты? Ну, молви словечко...
Александр запускает лапу в черную шевелюру брата, что означает: да уймись же, аспид, уймись...
Трое братьев — Анатолий, Александр и Сергей — шоферы. Иван, как сказал отец о нем с гордостью, «механизатор широкого профиля», зимой — на ремонте, летом сядет на что прикажут: на комбайн, трактор, сенокосилку, автомобиль...
Каждый из братьев имеет свой дом, свое хозяйство в усадьбе колхоза. Но любое сколько-нибудь серьезное дело — женитьба, большая покупка, стройка в хозяйстве, а также праздники, радость или беда — собирает братьев под эту крышу, за этот стол. При обсуждении — полная демократия. И когда все свое скажут, поворачиваются к отцу: а ты, батя? Его слово во всяких спорах, во всех сужденьях бывает последним.
Сергею Афанасьевичу пятьдесят восемь. Вырастал в этом доме. Зинаиду Федоровну знает с тех пор, как помнит себя. Она вырастала в домишке рядом. Детьми они вместе лепили из песка пирожки, запирали в спичечный коробок майских жуков. Юность пришлась на войну. Сергей Афанасьевич первый и последний свой бой принял тут, почти рядом — за Невелем. Был осколками поражен в грудь, в живот, в руки, плечи. Но выжил. «Один осколок и теперь
рядом с сердцем. Когда еду на лошади — чувствую».
Поженились Зинаида Федоровна и Сергей Афанасьевич в 46-м. «Трудное время было на Псковщине, бедное. А по бедности, знаете, дети ведь сыплются, как горох».
Работал Сергей Афанасьевич трактористом и комбайнером, пас скотину, работал на ферме. Но раны частенько заставляли ложиться в больницу. «А выйдешь — опять за работу, куда же деваться. Их ведь надо было кормить, одевать, обувать, на ноги ставить. Ученых не получилось. А колхозники вышли, считаю, исправные». И Сергей Афанасьевич перечислил все, что входит в понятье исправные.
Отцовское слово слушали молча и со вниманием. Но когда я спросил: «Сергей Афанасьевич, в чем секреты этой крепкой семейной дружбы, этого братства, этой верности дому? Другие из деревни вон уезжают и в лучшем случае только вздыхают о ней. А тут все пятеро рядом. Где собака зарыта?» Когда я это сказал, Анатолий заерзал от веселого возбуждения:
— Ну, батя, давай! Ушинского, Сухом- линского, Спока, Макаренко знаешь?.. Не знаешь. Значит, есть в нашем доме и свое кое-что. Интересно, как ты изложишь?
Сергей Афанасьевич улыбнулся, похлопал Анатолия по спине, поглядел на ходики у окна:
— Чего не успели сегодня, сделаем завтра. Пора по домам.
На этом застолье-знакомство кончилось. По домам братьев развозил спокойный и добродушный Сашка. Ему, бедолаге, по причинности — «за рулем» — рюмочка из старинной посуды не перепала. «У нас с этим строго», — пояснил сам отец. Но Сашка и не роптал, прогревая потертый колхозный рыдва- нчик.
В автобус сели не сразу. Анатолий поманил меня пальцем к освещенному ярко окошку в крайней избе. В не прикрытое занавеской окно было видно: четыре старушки играют за столом в дурака.
— Вот это почти и все население в Грибно зимой. Сыновья и дочери в городе, а они тут. Скучно. Вот и сходятся
Один из внуков Сергея Афанасьевича — третье поколение семьи Садовниковых.
вечерами. Я их зову «народный ансамбль Пенсяры».
— Сашка, — сказал Анатолий, когда уже тронулись. — Не забыл? Мы обещали бабке Насте дров напилить.
— Нет, не забыл. В воскресенье напилим.
— В воскресенье баню будем рубить...
— Ну после бани...
За околицей с горки хорошо было видно: в деревне Грибно светились два огонька. Один в доме Садовниковых, другой там, где четыре старушки коротали осенний вечер.
Каждое утро Сергей Афанасьевич выводит из стойла лошадь по кличке Нейтрон и запрягает в телегу на мягких резиновых шинах. Телегу для отца изготовили сыновья, чтобы меньше беспокоил сердце осколок. Служба в колхозе у Садовникова-старшего нехитрая: объезжает окрестные деревеньки, собирая в личных хозяйствах лишнее молоко. Молоко отвозит на завод в Невель и после обеда возвращается в Грибно.
Я застал его в доме уже отдохнувшим.
— Как воспитывал сыновей?.. Да, пожалуй, и не расскажешь. Все получилось как-то само собой...
Мы разложили старые фотографии. И Сергей Афанасьевич выбрал одну, где четверо ребятишек счастливо прильнули к отцу. «Прямо как воробьи. Одежонка — глядеть было больно, но уныния, как видите, нет. В этом возрасте все они уже нам с матерью помогали».
Размышляя о воспитании сыновей, Сергей Афанасьевич вспомнил некрасовский стих о мальчишке с лошадкой, везущей хворосту воз. «Сколько было тому крестьянскому сыну? Шестой миновал. Вот, семи еще нет, а уже в руках вожжи. И не игрушечные! Серьезное дело у человека — «отец, слышишь, рубит, а я отвожу». Вот так и мои вырастали».
В картинке из жизни русского деревенского человека Сергей Афанасьевич видит основу всего деревенского
85
воспитания — посильный осмысленный труд с возможно раннего возраста! Старший Иван в десять лет был уже у отца на прицепе. Отец — на тракторе, сын — на плуге. Отец заболел — сын сразу его заменил, а на прицепе уселся Генка. Пересел Иван на комбайн — Генке передал трактор. Так обучались механизации.
«Иногда жалко было будить — мальчишки еще. Подойду, поглажу ладонью по голове, морщатся — рано... А однажды, помню, сам занемог и проспал. Открываю глаза — у постели Иван: «Батя, нам пора в поле...» Век не забуду этой минуты. Все болячки мои как рукою сняло».
При таком воспитании, многие это знают, дети в деревенских домах очень рано и естественным образом постигают грамоту трудовой жизни. В десять лет ребятишки Садовниковых уже могли запрячь лошадь, водили ее в поводу бороздой, а в двенадцать каждый из них ходил уже за сохой. «Смешно было видеть: ручки сохи Генка держит на уровне головы, но шагает, ведет уверенно борозду. Свою картошку, бывало, опашет и за малую плату опашет соседям».
В тринадцать лет все пятеро сыновей умели косить, метать копны, держали уверенно грабли, вилы, топор, шило, рубанок. Умели постричь овец, починить обувь, корову могли подоить, варили обед.
Когда Ивану было пятнадцать, а Сергею два года, пятерым братьям выпал, пожалуй, самый трудный в жизни экзамен. Отца уложили в госпиталь, и в это же время тяжело заболела, надолго слегла в больницу и мать. Все нехитрое, однако и непростое хозяйство дома легло на плечи мальчишек. Иван подымался, как мать, с зарею. Доил корову, провожал ее в стадо, варил еду, кормил братьев и вместе с ними бежал потом в школу. Анатолий и Сашка мыли полы и нянчили младшего брата. Геннадий управлялся с курами и гусями, чистил корову и лошадь, кормил поросенка. И все по очереди навещали мать и отца. «Учеба, конечно, у всех в этот год маленько хромала, но по труду я мысленно всем им ставил пятерки. Их усердие, можно сказать, нас матерью и подняло».
В деревенском труде есть особенности. Работать в горячее время надо не по часам, а по солнцу — от восхода и до заката. «В посевную, в сенокос, в жатву не переводишь дыханье, полнормы спишь. Иначе нельзя. В такое время не то что день — час кормит год». Но есть в сельской жизни, у сельских работ радость, со всеми заботами сплетенная воедино. «Пашем, бывало, с Иваном. От пыли у малого носа не видно. Завернем к озеру — раздевайся! Полчаса полощем с ним телеса, на песке полежим, малины в укромном месте насобираем, раза два наблюдали, как лоси к воде подходили... Поговорите с ребятами, они это помнят лучше, чем я. Расска- 86 жут, как строили лодку, как логово волка нашли, как подобрали на пашне зайчат, как наблюдали за цаплей, ловившей у стога мышей. Мне, взрослому человеку, воспоминания эти сейчас вот, признаюсь, согрели душу. Для них же эти радости детства соединились с трудом на земле, с представленьем о нашем крае, со всем самым главным, чем живы».
Вот и вся педагогика, все секреты воспитания пятерых сыновей. Из книжных мудростей в дело пошел один лишь образ— «мужичок с ноготок». Ничего другого Сергей Афанасьевич попросту и не знал. Но опыт собственной жизни, мудрость сельского человека, личный пример сделали свое дело. «Все, что надо, умеют. Работать любят. Дружны. Мать с отцом почитают. Местом, где живут, дорожат. Внуков нам нарожали. Чего же еще?»
— Отчего у других отцов-матерей не получается так?
Сергей Афанасьевич мнет в руках ремешок для телеги, на которой молоко возит.
— Да как вам сказать, причин-то разных немало. Вон видели двор? Немудрящий — куры, корова, лошадь, свинья, четыре овцы. Но как без двора? Нет скотины — нет и еды на столе. Но скотина требует глаза, и. рук, и всяких забот. И навоз-то он пахнет навозом! Я считаю, человек деревенский этот запах должен любить. Сыновьям всегда говорил: «Что воняет в сарае — то пахнет на сковородке». И с детства они убедились: не пустые слова! А иные мать и отец рассуждают иначе. Мы в навозе копались — дети пусть людьми поживут.
Ну и, конечно, в доме таком дети спешат от навоза подальше.
— Счастливыми приезжают сюда?
— Кто поймет, какой оно масти, людское счастье? Иной приезжает летом на «Жигулях». Видимость вроде бы неплохая. А слово за слово — ничего, окромя «Жигулей», за душою не сыщешь. Соберут грибов-ягод, у матери сала прихватят — и до свидания, до нового лета!
— Но, слышно, и насовсем приезжают...
— Да, пять-шесть семей назову. Вернулись! И этих теперь уже с места не двинешь. Все повидали, о всем имеют суждение не по слухам. Наш Геннадий — наилучший пример...
Геннадий окончил в Пскове сельскохозяйственный техникум, но на семейном совете сказал: отец, я хочу поглядеть жизнь. Отец подумал и ответил в том смысле, что никому не заказано жизнь поглядеть. Езжай. Но, если почувствует сын, что лучшее для него место тут, у псковских озер, пусть приезжает без колебаний.
Геннадий уехал строить КамАЗ. Два года работал на самосвале. Потом пересел на автобус и работал еще восемь лет. Стал горожанином. И жизнь, можно считать, сложилась вполне хорошо: получил большую квартиру, родились два сына. Каждое лето Геннадий с семьей приезжал в Грибно. Были ягоды и грибы, было купанье в озерах, но заходил Геннадий и в правление колхоза, подолгу толковал о жизни с отцом. А в этом году весною приехал и, обнявшись с отцом и матерью, прямо на пороге сказал: «Все. Мое место тут».
— Ну и сразу же в шесть топоров стали ладить Геннадию дом...
В новом доме застал я важный момент: опробование только что сложенной печи. Из трубы, как из паровоза на крутом перегоне, валил дымище. А в звонком, ничем пока не заставленном доме пахло смоляными дровами, стружкой, подсыхающей глиной.
— Не дымит! — счастливо сказала хозяйка. — И теплая!
Двое мальчишек стояли у печи, прислонив к подсохшему ее боку ладони. Хозяин постукивал молотком — подравнивал пол, прилаживал плинтуса. Пока мы с ним говорили о разных жизненных поворотах, в новой печке поспело пахучее варево. Валентина вынула из огня щербатенький чугунок, вынула сковородку со шкварками, принесла из сенец кастрюлю с соленьем, и я, таким образом, оказался опять при застолье. Стола, правда, не было. Еду поставили на широкую доску, лежавшую на козлах. Ели стоя, обжигая руки картошкой и хватая шкварки сосновыми щепками.
— Не жалеете? — спросил я хозяйку, зная, что этот вопрос ей понятен.
— Что вы, что вы!..
— Решать такие дела непросто, — сказал Геннадий, — шутка ли — десять лет городского житья Если б не Валентина — верный союзник, мог бы и не решиться.
— О, пир горой у строителей! — вбежавший Анатолий кинул в угол рабочую телогрейку, мячиком побросал в ладонях картошку. — Я пришел вас в баню позвать. Сергей и Сашка смыли уже солярку, батя пошел бередить свои раны. Пару — навалом! Веники всякие — береза, дуб, елка. Михалыч, может, и вы?.. Да плюньте вы на билет! Уедете завтра. Сашке свистнем, он подвезет...
Гусарских выходок я не люблю. Но тут нащупал в кармане билет до Москвы, смял его в кулаке и кинул в жар печи.
И еще один вечер побыл в хорошей дружной семье.
1982 г.
□
ПАСТУХ
У рощи играл рожок... Мы открыли дверцу машины, заглушили мотор и боялись поверить ушам. Пастуший рожок! Эту музыку где услышишь теперь? В кино, по радио. А тут дорога уготовила нам подарок, удивительный в своей натуральности. Пастух сидел спиною к нам у березы и разливал по поляне мелодию, какую и родил-то, возможно, пастуший рожок: «Сама садик я садила...» Под тягучие звуки черный пес пастуха шевелил ухом, коровы лениво щипали траву, стрекотали кузнечики в бурьянах. А березы у края рощицы, казалось, вот-вот пробудятся от дремоты и пойдут хороводом.
— Вот такая арматура, — сказал пастух, вытирая тряпицей пищик рожка.
Он нисколько не удивился нашему появлению, не заставил себя уговаривать сыграть еще что-нибудь. Закончил и опять сказал весело:
— Такая вот арматура. Интересуетесь — заезжайте с заходом солнца домой, вместе повеселим душу.
Вечером гроза повредила электролинию. Старик поставил в бутылку свечу
Картина в наше время исключительно редкая — пастух, играющий на рожке.
и при ней разложил на столе богатство свое — пищики, сделанные им самим из веточек волчьего лыка. Он крепил их к рожку, пробовал, поясняя:
— Этот — играть с баяном, этот — под балалайку, этот — с роялей в паре, этот — для кардиона. А этим баб по утрам подымаю с постелей.
Далее шел рассказ о том, как, где и с каким успехом играл пастух на рожке.
— На эту музыку спрос большой. В Москве на концерте как дунул — все: ах! и рты поразинули. В Ленинграде играл, в Калинине, тут, у себя, на свадьбах, ну и коров в лесу этой музыкой собираю.
Веселое балагурство пастуха-музыканта слушала, прислонив голову к печке, его жена Лидия Матвеевна. На замечание: «Нет, наверное, в округе человека веселей ее мужа» — она, согласная, улыбнулась.
— Он у меня огонек...
Старику без года семьдесят. Пастушество начал с десяти лет.
— Мы зубцовские — все пастухи. Из других мест в отхожий промысел шли плотничать, портняжничать, шли пильщиками, официантами, сапожниками. А мы — пастухи. Сотнями уходили на лето к Москве и под Тверь. И все знали: зубцовский — значит пастух... Вот такая была арматура.
Девятилетним мальчишкой с новым кнутом и узелком пышек осилил Сергей Красильщиков путь с Верхней Волги почти до Москвы — полторы сотни верст пешим ходом. И вот пятьдесят лет — пастух. Были в этой работе и перерывы. Перед войною освоил трактор. Воевал в танке. После войны в колхозе «Сознательный» был бригадиром и председателем. Однако все это Сергей Осипович вспоминает как нечто второстепенное. Главная линия жизни — пастух.
— Я скажу, профессия самая хорошая, ежели кто понимает. Ну, конечно, дождички неприятны, и просыпаться надо следом за петухами — тоже не сладкое дело. Зато уж все твое на земле: видишь, как солнце всходит, как птица гнездышко вьет, как зверь в лесу обитает. Небо, травы, день без конца и вся духовитость земли как будто для тебя созданы. Ходи и радуйся. Пастуха- то всегда считали почти что нищим, а я 87
посмеивался — богаче меня и нет никого на земле! Вот такая арматура...
Сейчас пастуху и платят исправно. Четыре сотни целковых — да я не пастух, а полковник! Однако радость, как прежде, вижу не в деньгах. Семьдесят за плечами, а я весь день на ногах — молодым не угнаться. Весел. Здоров, хотя и клюнут железом дважды — в живот и в руку. В зеркало гляну — глаза, как у подпаска, с блеском. И вижу, что нужен в людском обороте. Ну и, конечно, вот — дом, жена, дети, внуки. Чего же еще желать человеку?
У печки в прежней позе тихого согласия стоит жена пастуха. В открытое окно к свечке летят мохнатые мотыльки. Старик, подбирая нужные пищики, вспоминает одну мелодию за другой: «На диком бреге», «Калинка», «Прощай, радость моя» и кое-что из «своего сочинительства».
— Эту утром обычно играл. Эту вот в полдень — себя подбодрить и чтобы коровы не разбредались. А это — вечер, солнце садится — пастух веселится. Такая вот арматура. Инструмент, глядите сюда, проще и некуда. Коровий рог, к нему, гляди-ка, трубочка из рябины вся в дырках — по ним пальцами прохожусь, ну и пищик. Однако дуньте-ка, что получится?.. Во! На рожке и раньше не каждый пастух играл. На рожке труднее, чем на гармошке. Оттого и плату пастух-рожечник получал иную, чем безголосый пастух. И при найме непременно тебе вопрос: играю ли на рожке? Особо этим бабы интересовались. И, конечно уж, им угождал — под рожок просыпаться приятное дело... А теперь я на много губерний остался, пожалуй, один. Меня уже можно за деньги показывать.
Нашу беседу со снисходительным любопытством слушает сын пастуха Сергей, такой же веселый и откровенный, как и отец.
— Ха, чепуха какая — рожок. Да появись с этой музыкой в ПТУ, засмеют...
— А ты появись, появись, — горячится старик. — Ты появись! Ревом, понятно, кого удивишь? Ты появись с музыкой. Вон, погляди, смеются там или нет?
Вблизи избы пастуха на бревнах и на скамейках в полутьме августовского вечера сидят люди, явно привлеченные звуком рожка.
— Дядя Сергей, «Меж крутых бережков» можно?
— Вон, слышишь, просят? Слышишь — «Меж крутых бережков». И так всегда. Заиграл — сейчас же люди. И всегда тебе благодарные.
Старик отыскал нужный пищик и сел поближе к окну.
Он сыграл «Меж крутых бережков», потом «Катюшу», потом по просьбе женского голоса «Хуторок». И под конец по-свойски весело крикнул в окно, в темноту:
— Концерт окончен, пора на насести!
Мы вместе с Сергеем-младшим стали собираться на сеновал.
— Выпейте молока на ночь, — сказал пастух, принимая из рук жены большую стеклянную банку.
Пока пили, старик опять незлобиво и, видно не первый раз, вразумлял сына:
— Смешон не рожок. Смешно, что ты от этих пространств, от этой вольности в таксисты хочешь податься. Видел я город. И не однажды. Чего хорошего? Людей, — как комаров в мае. Толкутся, спешат. Сердитые. Гарью дышат. Луна — и та в огнях не заметна. А тут, ну глянь в окошко-то, глянь... Такая вот арматура, — подытожил он разговор. — Валяйте на сеновал. Утром рожком разбужу. Но вы не слезайте. Это будет просто сигнал: а пошел на работу.
Утром мы и проснулись от звуков рожка. Через прореху в крыше был виден реденький сад с покосившейся загородкой. За садом к Волге спускался лес. Здесь он наполнен был подсвеченным солнцем туманом. Верхушки высоких сосен, берез и елок темнели в тумане, как острова. В соседнем сарае чутко переговаривались гуси. Слышно было: где-то в подойник бьет струйками молоко. Шуршала на сеновале мышь. И сладко посапывал младший Сергей.
А старший Красильщиков, судя по звукам рожка, был уже за околицей. Он извещал селенье над Волгой, что день начался и надо его встречать.
Деревня Столыпино.
Верхняя Волга 1978 г.
□
МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА
Утвердилось как-то само собой понятие горьковатое, неприятное — «неперспективная деревенька». Пять-семь домов. Живут одни старики. Удалена от дорог и центра хозяйства. Много таких деревенек встречаешь в лесной России. Подъезжаешь — ни дымка, ни собачьего лая, ни детского смеха, ни плача. Доживают три-четыре старухи. Рады любому объявившемуся тут человеку. Сразу же семенят в огород за луком, за огурцами, несут в подоле из одичавшего сада яблоки. У одной — кошка, у другой — коза, две-три курицы. Как живут? Чем живут? Да сейчас еще лето. А зимой?
У некоторых в городе дети и внуки. Бывает, зовут к себе на житье. А то и не зовут вовсе. Приедут летом на нарядных машинах. Поживут неделю- другую, и опять в город. Но тихие бабки и этому рады. На внучат поглядели. Убедились, что дети живы-здоровы.
Некоторых дети зовут усиленно. «Мама, ну как же так можно, поедем!» Не 88 соглашаются: «На этажах какая там жизнь. Тут вон укропцем пахнет, свой огурец, да и дом — как-никак жизнь протекла».
И правда, «на этажах» эти старухи, подобно яблоням, пересаженным в позднем возрасте, не приживаются. Маются, сидя у городских телевизоров, видят во сне свои огороды с укропцем, свои сиреневые при солнце и серые в непогоду домишки, заглохший колодец, заржавевший почтовый ящик.
А иным просто некуда и податься. Сыновей война покосила. А они вот живут. Все их богатство — эта вот «неперспективная деревушка». И деревушка тоже только старухами и жива. Умрут — все быстро поглотят бурьян и леса.
Деревне Сытьково исчезновение не суждено. Стоит над Волгой и возле дорожного тракта. И хотя прежде бурлившая жизнь переместилась в иные места, деревенька все же стоит на ногах. Но и тут большая часть населения — старики.
Подымаясь от Волги по косогору, мы
89
повстречали за деревенскими огородами старуху с косой.
— Для козы, бабушка?
— Для коровы, милые. — ответила бабка, поглядев на нас сквозь очки прищуренными, всевидящими глазами.
— Тяжело? Дело-то ведь мужицкое.
— Разве не тяжело! Что мужицкое — полбеды. Беда — годов-то семьдесят девять...
Поправив платок, старуха взялась косить.
А вечером мы снова с ней встретились. Попросившись на ночлег в домишко у края села, мы готовили «газик» съездить за Волгу, когда старуха вернулась с вязанкой травы.
— У нас на ночлег? Ну что же, рады гостям, — бросив вязанку и прислонив в уголке палисадника косу, она тяжело опустилась на порог дома и уголком платка стала тереть очки.
— Ну вот наработалась. А то корову- корову. Для коровы силы нужны, — пожалела ее хозяйка дома, принимавшая нас на ночлег.
Выяснилось: в старом доме живут три сестры. Анастасья Васильевна, Марья Васильевна и Арина Васильевна. У каждой была своя жизнь. А старость собрала сестер под одной крышей. И живут. Все опрятно, ухожено, прибрано. На окошках цветы, на бревенчатых стенах застекленные рамки со множеством фотографий. На кухне, на чистом столе самовар, горка оладий. В открытое кухонное окно видно Волгу и обкошенный склон у воды. Старухи садятся вокруг самовара и заводят, как видно, не новый разговор о хозяйстве. Объект неторопливой дискуссии — корова. Продавать или не продавать?
Силы в этом домашнем споре распределяются так. Старшая из сестер Марья Васильевна (та, что косила траву) твердо стоит за корову — «без коровы нельзя» — и делает все, что можно сделать в ее без года восемьдесят лет, чтобы корова осталась. Против — младшая Анастасья Васильевна. Она курит, голос у нее от этого хрипловатый:
— А кто же будет за ней ходить? Я вон на двенадцать рублей лекарств накупила...
Заботы о корове лежали на Анаста- сье. Но год назад ее, шестидесятилетнюю (тридцать лет из них проработала медсестрой в сельской больнице), настиг инфаркт, и с коровой трудно теперь управляться.
Средняя из сестер, Арина Васильевна (76 лет), тоже больна. У этой склероз — забывает все тут же. Сердцем она за корову — «как же без нее, матушки». Но она понимает — главный работник в доме Анастасья вышла из строя. Арина слушает каждую из сестер, говорит: «Господи...» — и подносит к глазам платок.
— Без коровы никак нельзя, — упрямо стоит на своем Марья Васильевна и берется отбивать косу, чтобы завтра с росою снова пойти косить.
Мы уезжаем за Волгу и возвращаемся в сумерках. Сестры сидят у остывшего самовара. Разговор прежний.
— Всю жизнь держали, и вот теперь — на, продавать, — вполголоса говорит Марья Васильевна.
— Господи, — шепчет Арина и смотрит с надеждой по очереди на сестер.
— Кто же против. Но я-то, видите, молоком запиваю таблетки, — хрипловато, но очень миролюбиво и даже ласково возражает младшая из сестер.
В открытые окна летят на свет бабочки. В палисаднике чутко ходит собака. А за углом во дворе пережевывает жвачку и шумно вздыхает корова.
Мы пьем поставленное в светелке для нас молоко.
— Настоящее. Не то что в пакетах, — говорит шофер, наливая вторую кружку.
— Без коровы нельзя, — подытоживает на кухне разговор Марья Васильевна и выключает свет по очереди в сенях, в соседних двух комнатках, в пристройке для кур...
Утром проснулись мы рано, но сестры были уже на ногах.
— Г реем кости чайком. Садитесь-ка с нами, — позвала Анастасья Васильевна.
Мы сели. Побеседовали о том, о сем. Но разговор опять подался в прежнее русло.
— Грех такую корову на мясо. Грех! — утверждала свою позицию Марья Васильевна.
Сестры молчали, соглашаясь, что «на мясо» — это действительно грех.
У проблемы, оказывается, была еще одна важная сторона. Продать кому-либо корову — это еще полбеды. «Будем видеть ее, да и молока, глядишь, купим». А вот на мясо — сестры единодушны — это никак не годится.
Оказывается, нет охотников покупать дойную и очень хорошей породы корову-
— Молодые не интересуются. Говорят: зачем? А старые — видите сами, — объясняет ситуацию Марья Васильевна.
На этой точке дискуссия о корове утром остановилась. Мы, попрощавшись, поехали. А три сестры принялись каждая за свое дело. Младшая села за письмо дочери в Ленинград, Арина взялась мыть посуду. А Марья Васильевна пошла за косою.
Мы вместе спускались в дол. На прощанье Марья Васильевна успела рассказать нам о житье в молодости, о том, как, помогая отцу, научилась косить и как косила, не уступая сноровистым мужикам.
На взгорке мы остановились — последний раз взглянуть на деревню. Разыскали глазами знакомую крышу за садом, дорожку от дома к Волге и на откосе увидели человеческую фигурку в коричневой кофте и пестром платочке.
— Марья Васильевна! Косит! — восхищенно сказал шофер. — Косит. Вот человек!..
В дороге мы много раз еще вспоминали ночлег у старушек Цветковых и слова Марьи Васильевны о житейских заботах: «Как не косить. Косить надо. Отец еще, помню, говаривал: умирать собирайся, а рожь сей».
Деревня Сытьково, Верхняя Волга 1978 г.
□
СЕСТРЫ
Неглубокую воду возле моста переходило стадо. День был на редкость жаркий, и коровы посреди речки остановились. Надо было спросить дорогу, и мы ожидали: вот сейчас из высоких кустов выйдет на берег пастух. Но, подгоняя хромавшую телку, у воды появились две эти девчушки. Появились вот так, сидя вдвоем на лошади. С любопытством поглядели на нас, стоявших возле автомобиля. Потом старшая похлопала резиновым сапожком по крутому ло- 90 шадиному боку.
— Ну давай, давай, Мальчик!
Мальчик неторопливо спустился к воде, наклонился напиться, пил долго, пофыркивая и отгоняя хвостом оводов. Старшая всадница все это время, умело отпустив повод, держала в седле себя и обхватившую ее сзади за талию компаньонку. Заметив, что все это мы наблюдаем с большим интересом, девчушки слегка засмущались, но тут же с подчеркнутым безразличием занялись делом. Поправила повод, из гривы лошади вытащила репей.
— Ну пошли, пошли... Пошли, кому я сказала!
Коровы нехотя, но послушно вылезли из воды и гуськом потянулись на горку. Следом за ними на берег вышел и Мальчик с наездницами.
— Галя, прыгай, — сказала старшая.
Сидевшая сзади ловко скользнула на землю, а следом за нею, держась за седло, соскочила и управлявшая Мальчиком Таня.
Девочки были сестрами. Старшей исполнилось десять, младшей — «шестой
миновал». Отец у девчушек пастух. Сестры носят ему обед. И старшая Таня с шести лет уже научилась ездить на лошади. И не просто ездит, а помогает отцу пасти стадо — две с половиной сотни коров. По ее рассказу было понятно: делает она это с удовольствием, даже с радостью.
— Мальчик — он умный. Он меня слушает даже лучше, чем папу. И его никто не боится. Один раз лисица вон там на пашне за речкой ловила мышей. Я подъехала к ней ну вот так. И она не бежит. Папа сказал, что лисы и зайцы лошадей и коров не боятся...
Младшая Галя с восхищением глядит на сестру и, когда улыбается, прикрывает ладошкой щербатый рот.
Сегодня день — особо ответственный. Отец заболел, и стадо пасет соседка Елизавета Григорьевна Чагина. Но она не садится на лошадь. Она только смотрит за стадом, а пасут его Таня и Галя Гавриловы.
Мы поговорили еще о школьных отметках, о передачах по телевидению, о деревеньке девчушек, которая называлась Кривая Часовня и которую называют теперь Заря.
— Когда будете посылать фотокарточки, пишите хоть Заря, хоть Часовня — дойдет все равно, — сказала Таня, мимоходом кивнув сестренке на двух коров, соблазнившихся выйти к овсам. — Сбегай-ка их огрей, да как следует...
Пока я возился с блокнотом, девчурка выдрала репьи из хвоста Мальчика, дала ему корочку хлеба, подтянула подпруги видавшего виды седла. Лошадь шевелила ушами, полная благодарности.
Перед тем как проститься, я спросил у Татьяны:
— В седло тебя-то подсаживают?
— Нет, я сама. — Она подвела Мальчика к луговой кочке, ловко подпрыгнула, подтянулась и вот уже помогает забраться в седло сестренке.
Мы постояли, наблюдая, как по лугу затрусила немолодая умная лошадь и как уверенно сидели на ней две наездницы. Вспомнился сразу некрасовский шестилетний мальчишка «в больших сапогах, в полушубке овчинном... а сам с ноготок».
Взрослых людей в деревенских детях всегда покоряет причастность их с раннего возраста ко всем делам и заботам, которыми заняты взрослые. Одно они делают играючи, с удовольствием, к другому их приучают. Но все это в жизни потом идет им на пользу. Ну посмотрите на этих девчонок. Взрослый позавидовать может сноровке и покоряющей жизнестойкости двух молодых ростков на земле.
Демянский район, Новгородская область 1978 г.
□
ШВЕЯ
D музее рядом с патронными лентами, пулеметом, снарядами и останками бомбы стоит эта сугубо мирная вещь — швейная машинка «Singer».
— Наверное, есть какие-нибудь заслуги у этой старушки?
— Есть, — сказали в музее. — Если полчаса подождете, то придет и хозяйка машины.
Она пришла приодетая, необычайно опрятная, подтянутая. Выжидательно села на краешке стула. Познакомились. И я записал: Зоя Александровна За- путряева. Уроженка Осташкова. Возраст — 73 года. Швея. Сейчас смотритель музея.
— Машина, наверное, ровесница вам?
— Да нет. Пожалуй, чуть помоложе. Мне купили ее на двадцатом году...
В семье Запутряевых детей было шестеро. Кормила всех кузница, где отец Александр Михайлович Запутряев с утра до ночи стучал молотком — ковал лошадей и выделывал для
окрестных мужиков косы. «Возможно, как раз отцовские косы и сохранились у нас в музее».
Для дочери-рукодельницы решил кузнец справить машину. Много, наверное, надо было выковать кос и подков, чтобы купить недешевый по тем временам заграничный швейный снаряд.
Покупка пришлась ко двору. И семья Запутряевых выбралась из нужды — в кузне стучал молоток, а в доме стучала теперь машина. «До этого я шила руками. Теперь же работа шла едва ли не в сто раз быстрее. И так получилось: к этой машине я приросла на всю жизнь».
Слово «война» Зоя Александровна услышала за шитьем. Осташков, казалось, был далеко от боев. Но война пришла и сюда, к Селигеру. Одна из дочерей кузнеца Запутряева — Валентина
Бабушкино одеяло... До сих пор еще шьют одеяла из цветных лоскутков. Для многих они остались ярким воспоминанием деревенского детства. была в Осташкове секретарем райкома комсомола. А в соседнем на Селигере районе, в Пено, тоже секретарем была Лиза Чайкина. «Лиза и Валя дружили. В последний раз из райкома Лиза звонила сестре: «Валя, до встречи. Я ухожу в леса».
Сейчас сестры Запутряевы Валентина и Зоя живут вместе. «Год, когда Лиза ушла, был и в нашей судьбе поворотным. Я решила, что наибольшую пользу могу принести, если буду что-нибудь делать для фронта на своей безотказной машине».
В Осташкове в 42-м году сформировалось небольшое подразделение для ремонта солдатской одежды. Швея Запутряева Зоя сразу в него попросилась.
Когда говорят о войне, в первую очередь справедливо вспоминают тех, кто лежал на переднем крае в окопах, кто поднимался в атаку, ходил в разведку, — вспоминают пехоту, танкистов, саперов, пилотов, связистов, вспоминают ударную силу войны. И мало кому известны шедшие следом за боевыми порядками нестроевые силы. Шофер, фельдшер, сапожник, пекарь, прачка, швея, оружейник. Все это люди, без чьей заботы «передовая» держаться бы не могла. В нестроевые подразделения пули не долетали, но снарядами их накрывало, и бомбы их находили. И непролазная грязь военных дорог им знакома. И весь кочевой быт войны люди, нередко не молодые уже, вынесли. Были в этих подразделениях и женщины.
Представьте себе отряд из пятнадцати конных повозок, идущий следом за фронтом. На повозках поклажа донельзя прозаическая: корыта, стиральные доски, утюги, мыло, иголки и нитки. На передней «штабной повозке» главная ценность — маленький сейф с печатью и документами части, два автомата и вот эта машинка «Singer».
Заботой отряда была одежда солдат. Ее стирали, чинили, гладили. «Располагались в какой-нибудь деревеньке у речки. Кипятили и промывали одежду в проточной воде (а зимой-то она ледяная!), сушили летом на солнце, зимою жарко топили крестьянские печи. Моя забота была чинить. Целыми днями не разгибалась. Так и жили. Часть продвигалась — и мы сейчас же свой скарб на подводу. Вот так на лошадке дошли из-под Курска до Дрездена».
Память У Зои Александровны сохранилась прекрасно. Помнит имена своих сослуживцев. «Как не помнить — почти все из Осташкова!» Помнит деревни и речки, где делали остановки — по Украине, Молдавии, Румынии, Чехословакии, Австрии.
В Дрездене война для банно-прачечного отряда не кончилась. «Погрузили нас в эшелон, и двинулись мы на восток. И опять шли за фронтом. В пустыне Гоби хлебнули горя от недостатка воды. Но, слава богу, там все окончилось скоро. И опять эшелон. Теперь уж домой. Развинтила машину, аккуратно все переложила ветошью. Сказала спасибо мысленно людям, сделавшим этот станок для шитья надежным и некапризным. Как подумаю, сколько я с этой машиной проехала, — голова кружится. А ведь ни разу не поломалась, меняла только иголки».
И еще тридцать лет после войны работали вместе швея и машина. «Я первая подносилась — глаза изменять стали. В последний раз сшила сотню этих вот тапочек для музея, чтобы полы обувкой не портили, и сказала: все, хватит. Попросили машину сюда — отдала. А теперь и сама вот смотрителем при музее».
Сделать снимок — машину мы вынесли в главную светлую залу музея. А потом поставили снова на место, к площадке, где лежат пулемет, каски, патронные ленты и бомба. Зоя Александровна заправила под каретку машины солдатскую гимнастерку, прошла одну строчку: «В полном порядке. Садись и работай. Нам бы, людям, такую надежность».
Осташков,
1978 г.
□
СВЕТ В ОКНЕ
После разговора в избе о почтовых ее делах, о хозяйстве, о деревеньках, которые она ежедневно обходит с тяжелой сумкой, я сказал:
— Марья Андреевна, хочу вас снять для газеты...
Замахала руками:
— Я же немолодая...
— Ну в пример молодым.
— Нет, сапоги облезлые, нос у меня большой. И один раз писали уже в районной газете...
Когда вышли на улицу, я возобновил приступ.
— Сделаем так, что сапог видно не будет...
В союзниках у меня оказались четыре соседки Марьи Андреевны и два соседа, приковылявших в валенках к палисаднику. Стали уговаривать всем миром.
— Марья, — сказала одна из старушек, — ты ведь для нас как свет в окне. Кого снимать, как не тебя? Уж ты не калянься...
И Марья Андреевна сдалась. Побежала в избу, надела куртку со знаком почты, покрылась цветным платочком. Выглянула в окно: так ли все?.. В окне я и снял ее, хотя собирались сниматься с велосипедом, на котором она тут ездит.
Вот она перед вами, жительница деревни Бучево, Мария Андреевна Иванова, человек не просто уважаемый всей округой, но горячо любимый,
желанный в каждом доме, а в некоторых просто необходимый.
Почтальоном в этой деревне до войны был отец Марьи Андреевны. Потом мать. В 41 -м четырнадцатилетней девочкой почтовую сумку на плечо надела Маша. И с тех пор вот уже сорок три года прокладывает она тропки от дома к дому. Каждый день.
Дела ее, определенные разноской писем, газет, бандеролей, пенсий и телеграмм, гораздо шире и гораздо значительней служебного предписания. В нынешних деревеньках ее обхода в полупустых или вовсе заброшенных, иногда с тремя-четырьмя жильцами, она являет собою единственное звено, связывающее одиноких людей с человеческим миром. Наделенная исключительной добротою, умением искренне пережить чужое горе и радость, она является в этой округе «мирской няней» — посочувствует, посоветует, похлопочет. Без всяких даже и просьб. Дело часто касается не почтовых забот: надо купить какой-то старушке чай, сахар, хлебца, лекарства. Все делает с радостью и охотой. И везде даже простое ее появление — радость.
В деревне Бибиково на зиму остается одна (!) Анна Филипповна Голубева. Совершенно неграмотная старуха уже который год выписывает газету исключительно только ради того, чтобы раз в день увидеть живого человека. «Я говорю ей: Анна Филипповна, не траться, я и так к тебе забегать буду. Трясет головой — так, мол, нельзя. При мне разглядывает картинки в газете...»
Случалось, Марья Андреевна бегала из деревенек на большак вызывать «Скорую помощь», хлопотала, чтобы привезли дрова, починили электрическую проводку. В своем заболотном Бучеве Марья Андреевна знает беды и радости каждого дома. Знает, где письма часты, знает, где на конверт глядят, как в войну, с опасением: «не казенное ли?» «Старые люди опасаются телеграмм — боятся горьких вестей. Так я уже сразу, как телеграмма, кричу с порога: «Вам поздравление!»
В деревне своей Марья Андреевна ходатай и консультант по всем делам: по колодезным, электрическим, пенсионным, торговым. Все успевает. «Подъем вместе с журавлями, в 5—6 часов. Ложусь в 12>>. За день она успевает объехать округу — двадцать два километра пути — на велосипеде. Зимою тот же маршрут на лыжах. Весною и осенью, когда местные хляби даже трактор не пустят, ходит пешком. Не пожаловалась. «Дело привычное. Батя еще говорил: хождение — жизнь. Да и в журнале «Здоровье» вон пишут: надо ходить. И верно, я крепкая, как капустная кочерыжка. Да и здоровья мне все желают от полной души. А такие желанья впустую не пропадают».
Успевает Марья Андреевна справляться и со своим деревенским
Во всей деревне два дома. В одном из них одиноко живет старушка. Она неграмотна. Газету выписывает для того только, чтобы два-три раза в неделю к ней заглядывал почтальон. хозяйством. Корова у нее, телка, два поросенка, десять ульев. Мужа своего Виктора Егоровича по привычке молодости она называет Витькой. Вырастили Ивановы детей — живут и работают все в Загорске.
— Она все умеет: роды может принять, блинов напечет, грибов соберет и насолит, за пчелами знает уход, умеет пахать и косить. А главное, она у нас о всех беспокойство имеет, — степенно объясняет мне одна из соседок и заключает: — В старину таких людей называли святыми. Моя воля, я бы ей орден дала...
Марья Андреевна опять замахала руками.
— Что говоришь, кума, можно ль такое ...
Однако, растроганная вниманием, сама она сказала по-детски искренне, простодушно: «Я всех люблю, и меня все любят».
Когда прощались, побежала в сени и явилась с баночкой меда.
— Возьмите гостинец. Не купленный...
Теперь я замахал руками. Но все общество на меня навалилось.
— Надо взять! Не купленный.
Вечером мы сидели с приятелем в талдомском доме у чайника, макали в мед зачерствевшие в рюкзаке булки и вспоминали Марью Андреевну.
— Она, конечно, особенная: отец — почтальон, мать — почтальон. И сама вот с первого года войны. Заметил, какая счастливая? Ощущение нужности людям — вот ее счастье.
А утром, поехав в пойму Дубны, встретили мы еще одну почтальоншу, столь же счастливую своим делом, но с другим оттенком судьбы.
Мы стояли у старой церкви Зятькова и поминали недобрым словом какого- то, скорее всего заезжего дурака, написавшего на барабане церковной верхушки громадными буквами свое драгоценное имя: «Храбров Слава-84». Там же масляной краской был намалеван ромб — эмблема «Спартака» и короткое непристойное слово.
— Ав Веретьеве поглядели бы... Триста лет церкви! Деревянная. Законом оберегается. И всю этим летом вот так же измазали, испоганили.
Мы обернулись. Сзади стояла женщина, немолодая, но еще не старушка. С почтовой сумкой. Выяснилось: жительница Зятькова, идет на службу и рада присоединиться к нашему возмущенью... Слово за слово, разговорились. Когда-то в деревне было девяносто восемь домов. Осталось «худых и добрых» семнадцать. Живут в них лишь летом. К осени все затихает. Уезжают с ними в город и старики.
— А я не сдаюсь! Мне и тут хорошо.
Мы деликатно спросили о детях. Она поняла.
— Нет, дети у меня хорошие. И все при деле. Сын в Москве — врач. По сердечным болезням. Вино не пьет, табак не курит. «Мама, — говорит, — давай ко мне». А я не хочу. Мне, говорю, сынок, тут хорошо.
— Но ведь одна совершенно зимой...
— А что? Я человек обчественный. Весь день на людях. И вечером не скучаю. Натоплю, подмету — хозяйка полная в доме и в жизни. Пока ноги носят, так и намерена жить. Старую яблоню пересаживать — безнадежное дело. Засохнет.
Мы стояли на мостке через ключ, текущий в Дубну. Тихая деревенька без дыма над крышами, без людских голосов, без собачьего лая и петушиного крика стояла на взгорке, к Дубне огородами. Ветлы, рябины, колодец с журав- цом, желтые пятна цветов в палисадниках. Зеленая непримятая мурава на единственной улице.
— Как же случилось — от такой красоты поразъехались?
— Поразъехались. Вечером мое окошко только и светится. Кабаны иногда ходят. Слышу, как хрюкают. Однажды лось в окно заглянул. Мой дом-то вон самый крайний. Хотите глянуть?...
Все почтальоны — люди общительные. Дело к тому приучает. Но тут был еще и характер. Да еще и передача «В мире животных» оказалась у почтальона в числе любимых. Беседуя, мы пошли к деревеньке по пологому взгорку.
— Вот тут зимой, чтобы тропку не потерять, ставлю вешки. Сто двадцать пять хворостинок воткну, и тогда не страшны мне ни сумерки, ни метели...
Деревянный домишко был тих. В по¬
лутемных сенях пахло садом. Молочно белели крупные яблоки на соломе.
В доме на одной стене висели фотографии внуков. Еще одну стенку украшали часы. Старые, с медными гирями, ленивым помятым маятником и плоским ликом, на котором цифры почти не просматривались.
— Держу как память от деда и, признаться, для звуков. Они идут — я сплю хорошо. Остановились — сразу же просыпаюсь.
На комоде под дедовскими часами поблескивало еще не меньше пяти будильников.
— Это мне либо премия за хорошую службу, либо подарок ко дню рождения. Все думают, что почтальону нужен будильник. А я сама как часы: решу, что надо в четыре вставать, — в четыре и встану.
Вот так живет в Зятькове Клавдия Сергеевна Окунева. Первого мужа ее, лейтенанта Окунева Николая Николаевича, война оставила под Калинином. Со вторым, после войны, жизни не получилось — «от вина умер». С тех пор одна. Воспитала детей. Привечает их в этом домишке вместе с внуками летом.
— О, что тут бывает! Крика, радости — через край: «Баба Клава, баба Клава!» Затихает все в августе. А в сентябре слышно: там молоток, там молоток — забивают дома на зиму.
Вся жизнь Клавдии Сергеевны на миру. Работа ей по душе, хотя легкой ее никак назвать невозможно. По деревенькам Высочки, Гусёнки, Утенино, Наговицыно проходит в день она двадцать километров. В дождь, мороз, в жару, в распутицу — двадцать километров!
Заботы и радости ее до удивления схожи с заботами и радостями Марьи Андреевны Ивановой. Желанный гость в каждом доме: там, где светло и шумно, и там, где тихо и сумрачно. Те же просьбы одиноких людей в обветшавших маленьких деревеньках: «Скоро праздник, принеси, Клава, бутылочку масла и сахарку». И та же радость в домах с приходом неутомимого почтальона.
Поразительно, но и Клавдия Сергеевна назвала нескольких подписчиков на газеты, людей, уже не могущих читать по слабости глаз.
— Писем никто им не шлет. Выписывают газеты, чтобы я приходила. В дома престарелых идти не хотят. У кого куры, у кого козы, ну еще сад, огород. Все-таки жизнь какая ни есть, а своя, не в подчинении ни у кого. И друг какой ни есть человеку обязательно нужен. Я таким другом и являюсь для многих. Нужна им, чувствую. Но, как бы вам объяснить, они все тоже нужны мне. Много об этом думала, разное вспоминала. И всякий раз — с благодарностью судьбе. Хорошо жить на людях, когда тебя ждут, когда и самой в радость увидеться с человеком...
Вот такие две встречи на земле талдомской, на границе Московской и Калининской областей. Живут Марья Андреевна и Клавдия Сергеевна километрах в двадцати друг от друга. Характеры разные. Но много и сходного. Закаленные жизнью, открытые, бескорыстные души. Такими людьми взращивается на земле радость и укоряется все недостойное в человеке. От встречи с такими людьми даже пасмурный день становится как-то светлее.
1984 г.
□
СУНДУК БОГАТСТВА
D Максютово из Уфы приехала гостья. Важно, неторопливо ходила она по улице, откровенно показывала наряды. А когда пошла купаться на Белую, полезла в воду, не снимая цепочек, колец, перстней и браслеток. Кто- то сказал, что в воде от камней и песка золото, мол, «худеет», стирается. Эта полунасмешка богатую щеголиху всерьез озаботила, однако лишь на минутку. Махнула рукой: «Поживем — наживем...»
Ухватки городской щеголихи привлекали внимание. Со сдерженным любопытством наблюдала за ней старуха, пригнавшая к речке гусей. Похихикивали ребята: «Любка, ты — драгоценность. Гляди не утопии!»
Землячка, откопавшая вдалеке от родной деревеньки секреты «позолоченной жизни», легко понять, в глухом Максютове занимала воображение старых и молодых. Одни смеялись, другие вздыхали. Эти насмешки и вздохи на весах деревенской молвы пришли в равновесие. И, наверное, поэтому молчаливый обычно Закий Мустафьин
Когда зашел разговор о богатстве, Закий Мустафьин вынес из сарая сундук с инструментом: «А мое богатство — вот!»
95
бросил на эти весы и свою житейскую гирьку.
— Неужели не понимаете, стыдное это золото! — сказал Заки, прислушиваясь возле дома к разговору парней и девушек. — Можно ль трудом все это нажить! И надо ль? Только в носу кольца не хватает...
Я застал конец затихавшего разговора, который свелся к главному из вопросов: в чем счастье, в чем в жизни богатство? Присев, неизбежно пришлось участвовать в разговоре. Вспомнили одного из самых богатых людей — иранского шаха, улетавшего из страны своей в самолете, загруженном драгоценностями, как пещера Али- Бабы; вспомнили умершего несколько лет назад в Ташкенте от сердечного приступа индийского премьер-министра Шастри. Он, оказалось, был бедняком. Кто был счастливее в этой короткой, быстро текущей жизни: жестокий, надменный шах или скромный, по заветам Ганди живущий индус? Я вспомнил людей, которых знал лично. Одного смерть застала в момент, когда он, сидя на полу, пересчитывал кипу сторублевых бумажек и нанизанные на бечевку кольца. Другой, это был известный московский писатель-натуралист Дмитрий Зуев, не имел ничего в доме, кроме бумаг, чайника, ружья и болотных сапог. Зная, что умирает, он сожалел об одном только, что не увидит больше 96 лесную поляну где-то под Луховицами.
«Ты обязательно съезди... И меня вспомнишь...»
Заки, точивший на камне стамеску, в этой беседе, я чувствовал, был моим главным союзником. В момент, когда все умолкли, он вдруг скрылся в амбаре и вернулся с зеленым обшарпанным сундуком. Поставил его на пенек, неторопливо открыл.
— А мое богатство — вот!..
И все увидели хорошо знакомые вещи: пилки, стамески, рубанки, фуганок, шершебки, отборник, рейсмус, отвес... Не могу всего по памяти перечислить. Интереса ради стали считать железки и деревяшки — сорок три добротно сделанных инструмента! Оказалось, сделал Заки все сам, исключая лишь пилки, да и то фабричные рукоятки на них ему не понравились — переделал по-своему.
— Ну и к этому надо иметь еще руки... — Заки растопырил над
столярным своим богатством узловатые, в сухих мозолях и царапинах пальцы. — Считаю, это и есть богатство. Ставь рядом сундук с золотом и скажи «выбирай!», выберу этот вот, с инструментами.
Заки помолчал, аккуратно закрыл зеленый сундук и на ременной ручке понес его в мастерскую. В затянувшемся споре об «умении жить» была поставлена умная, четкая, всем понятная точка.
Когда все уже разошлись, я попросил Заки снова открыть сундук и подержал в руках каждый из инструментов. Всё от долгого, постоянного применения «обмаслилось» — поблескивало, было покрыто следами смолы и воска, пахло амбаром, где сохли дощечки, висели пучки сухих трав, мотки пряжи, пчелиные рамки, конская упряжь, связка каких-то железок, овчинный тулуп, долбленая бочка для меда.
— Тут мы с Маратом работаем в зимние дни. А летом — вот там, под навесом.
Профессия Закия Мустафьина — лесник-бортник (добытчик дикого меда). Но, как и всякий башкир, жизнь которого протекает в лесах, Заки до страсти любит пилить, строгать и долбить древесину. Все до мелочи в домашнем своем хозяйстве сделал он сам. Высокий, нарядный, просторный дом с большими окнами и крыльцом сработан его руками. Ульи, кровати, скамейки, долбленки из липы для меда, изящная табуретка для дойки коровы, портретные рамки, посуда для сбивания масла, сундучки, банная утварь, верстак, корыто, обеденный стол и стол на кухне, санки для ребятишек, игрушки — все это сделал Заки, испытывая, как он сказал, «горячее удовольствие» от работы.
Его инструмент в сундуке в идеальном порядке — бери в любую минуту. Собрались мы утром побриться — Заки положил на стол обычного вида ножик в кленовых ножнах. Я решил, что заду¬
мана шутка над гостем. Но Заки, не заметив недоуменья, быстро очистил свой подбородок и подвинул ножичек вместе с зеркалом мне. Чудеса! — неподатливую мою щетину ножик резал без всяких помех. При столярных работах бывает нужда в таком инструменте. Этот же ножик служит за бритву. Особого сорта редкая сталь? Да нет, куплен ножик в местной бревенчатой лавке за 76 копеек, но умело, с величайшим терпеньем наточен и является частью богатства, хранимого в сундуке...
Во время поездки в лес по бортным делам я спросил у Заки: есть ли наследники сундука?
— Пожалуй, что есть, — отозвался Заки охотно. — Вот этот чиляк из липы долбил Марат. Зимою он сделал рамы для окон, помогал, работал со мной наравне, когда рубили и ставили дом. А этим летом, как я понимаю, устроил себе экзамен. Вернемся из леса — увидите результат...
У дома Мустафьиных весь день кипела работа, и мы застали ее окончанье. Рядом с не заселенным пока еще домом стоял новый сруб, какого вчера еще не было.
Оказалось, от основной постройки остались запасы сосновых бревен, и Марат попросил разрешенья срубить небольшое жилье. Сказал: «Отец, ни слова подсказки, не поправляй. Все сам». Целое лето парень тесал, строгал бревна, подгонял их друг к другу, выбрал самую сложную вязку углов. Отец подходил, смотрел, но молчал. Соблюдать уговор было ему легко. «Все у Марата получалось, пожалуй, лучше, чем у меня».
И вот наступил день — Марат позвал друзей своих помочь ставить сруб. Так всегда бывает в Максютове: сборка нового дома — праздник для всей деревни. На этот раз собрались одни молодые. Парни плотничали, девушки варили обед.
Нехитрое, кажется, дело поставить сруб. Бревна пронумерованы — клади одно за другим, топоры, мох, веревки — все под рукой. Однако нужна и сноровка, она дается лишь опытом. Экзамен, который устроил Марат для себя, был экзаменом и для всех.
Мы застали ребят вспотевшими, перепачканными смолой, возбужденными. Но было видно — экзамен идет успешно: все бревна легли как надо, все было подогнано, проконопачено, сверху на сруб подняли матицы, наметили точки, где ставить стропила.
Заки слез с лошади. Обошел сруб. Постучал в двух-трех местах обухом топора и остался доволен: «Ну, теперь к самовару!»
Стол был накрыт во дворе, прямо около сруба. Мать Марата, сестры и соседские девушки несли на стол тарелки и чашки с варевом, поставили мед, навалили на блюдо коржей с черемухой. Я с любопытством ждал: появятся ли бутылки? Нет, питьё было только из самовара.
Отсустствием аппетита молодость не страдала. С шутками, балагурством, с веселыми подковырками по поводу завершенного дела десять друзей Марата учинили разгром всему, что в этот день жарилось, парилось и пеклось. Расходились уже в сумерках, когда сгустился туман над Белой и пущенные кормиться лошади уже позвякивали коваными колокольцам. Вот так же встретиться за столом друзья договорились на проводах Марата в армию.
... В последнем письме из Максютова я узнал: Марат уже в армии... Первый год службы труден, и можно представить, с каким теплом вспоминает сейчас максютовский парень Марат Му- стафьин родную деревню, друзей, отцовский дом, двор со скотиной, амбар- мастерскую, где сохнут сосновые доски, где стоит отцовский зеленый сундук с инструментами. Вдалеке от дома это все обязательно вспоминается. Вспоминается с нежностью. Часто издали только начинаешь ценить все, что было простым, естественным и доступным, как воздух. Но Марату служба, я уверен, дается легко, потому что вовремя, с раннего детства прошел он рядом с отцом очень важную школу: уменье все делать своими руками, во всем себя испытать. Это очень ценится в армии. Это всю жизнь потом будет служить человеку.
1981 г.
□
НА ВЫШКЕ
Вышкарь — профессия. Ни в каком статистическом справочнике она, конечно, не значится — на всю лесную округу возле Криуши три всего вышкаря, но мой собеседник так значительно говорит о профессии: «Мы, вышкари...», что в пору подумать, нет ли в здешних лесах особого профсоюза?
Зовут вышкаря Арсением.
— Антонов Арсений Андрианович, — так он представился, спрыгнув из металлической люльки подъемника.
Место его работы напоминает скворечник. Гладкий, высотой в тридцать шесть метров столб на растяжках, а на нем будка — как раз поместиться одному человеку. Подъем туда в первый раз не лишен ощущения опасности. Я лез, ободряя себя молодецким фальшивым посвистыванием, и чувствовал: вышкарь внизу улыбается...
С высоты тридцати шести метров сплошь деревянный поселок Криуша, с узкоколейной дорогой, штабелями пиленого леса, домами, сараями, копнами сена, колодцами и канавой мелиорации выглядит как игрушка, оброненная сверху в леса.
Леса бескрайние. В любую сторону глянешь — лес, уходящий за горизонт, жиденький ольховый и березовый — на болотах, и плотный, густо-зеленый, смолистый бор-беломошник — на возвышениях. Несмотря на обилие вод, здешним лесам постоянно грозят пожары. В старое время Рязанская область держала в России первенство по пожарам — «из 100 деревень каждый год 40 примерно горело». И горели леса. В памяти ныне живущих наравне с годами бедствий остались лесные пожары.
Пожары в мещерских лесах — явление страшное. В августе 1936 года в соседней с Криушей Курше огонь начисто смел поселок, накрыл дорогу, по которой на открытых платформах пытались спастись куршаки. Все горело: дома, шпалы, мосты. «В братской могиле под Куршей схоронили две тысячи... Калинин приезжал разделить горе».
Пожар 72-го года больших человеческих жертв не принес. Но и его не скоро тут позабудут. «Пять недель горели леса, а торф на болотах горел всю осень и зиму до самой весны».
Служба на вышках — это способ увидеть загорание леса возможно раньше, «желательно, когда огонь еще шапкой можно замять». В особо опасную пору (это конец апреля — начало мая, когда хвоя и палые листья уже подсохли, а зелень еще не брызнула, и особенно август, когда сосняки, прокаленные солнцем, кажется, только и ждут огня), в опасную пору вышкарь с рассветом уже на месте, а спускается вниз с темнотой. На тридцать шесть километров вокруг видит глаз. Каждый «законный» дымок у вышкаря на учете — «это на дальнем кордоне печь затопили... это на лесопилке... а это что за «овчинка» там появилась?» Скорее к глазам бинокль. И вот уже с вышки по телефону — тревога! С большой точностью называется место пожара. «Обычно десяток людей с лопатами и топорами дают огню укорот. Но бывало — военную часть на ноги подымали...»
За службу на вышке Арсений Андрианович премирован биноклем, велосипедом. Я узнал об этом в лесной конторе, но сам вышкарь с простодушием человека, у которого нет от мира никаких тайн, рассказал: «Вот, заслужил. Нас, вышкарей, отличают..»
Небольшого роста, в стоптанных сапогах, в линялой зеленой куртке и картузе с кожаным козырьком — Андрианыч чем-то неуловимо походит на птицу, ко-
97
торой быть наверху удобней, чем на земле.
— Благодать! — подает он голос из будки. — Внизу комарье, а сюда, если какой залетает — ласточки тут как тут. Славно обороняют.
Арсений Андрианович рад человеку, который слушает его со вниманием. Он говорит с удовольствием, не дожидаясь вопросов, и поначалу дивишься: сколько в простом с виду деле скрывается тонкостей и подробностей, а потом понимать начинаешь: не в пожарах, не в вышке дело — интересен сам человек. Будь он шахтером или, скажем, шофером — вот так же расположил бы признать: его работа и есть наиглавнейшая на земле.
— Я как пришел в вышкари... — Арсений Андрианович бережно протирает окуляры бинокля и, дунув в футляр, прячет туда инструмент. — Я пришел в вышкари совершенно случайно. Был у тестя в гостях, в лесничестве. Там как раз такую вот вышку установили. Установили, а лезть боятся. Известное дело, в первый раз и на печь лезть страшновато. Стоят все, галдят. А я говорю: могу залезть. Ну интерес, конечно, у всех: а ну-ка сорвется. А я влез, спустился и еще раз влез. «Вышкарь! — кричат. — Ну вышкарь!» А тут как раз лесничий случился. «Иди, — говорит, — ко мне на вышку работать». Вот так и пошло...
Запись в блокноте, к сожалению, не сохранила всей необычности, нестандартности речи мещерского старожила. Ветхозаветные обороты соединяются в ней со словами из газетных передовиц и с заковыристым местным словцом.
— Удовольствие имел обучиться на кочегара, — говорит он о первой своей профессии. — Ну и надо было привести в уравнение всю зарплату, чтоб зимой, когда огонь бережешь, и летом, когда с ним воюешь, деньги чтоб равные шли. Добился, стабилизировали! Получаю теперь девяносто целковых.
Пока мы беседуем, сидя у вышки, со стороны Рязани над лесом плывет двукрылый «Антон».
Самолет снижается, делает разворот и низко пролетает над вышкой, явно салютуя ее хозяину. Потом еще раз пролетает, уже стороной.
— Патрульный. Тоже за дымом смотрит, — говорит Арсений Андрианович, подкручивая подвижную часть бинокля. — Авиация нас, вышкарей, здорово выручает. Мы с ней взаимность имеем. Всегда говорю: петляй, петляй, дружок, одно дело делаем. А недавно имел удовольствие с одним летчиком повидаться. Обнял, как брата.
— Ты, Арсений Андрианович, никогда, наверное, не имел огорчений? — говорю я после его рассказа о том, как он выдворял из соснового леса цыган. («У них ведь жизнь без костра невозможна...»)
— Огорченья... — Мой собеседник теребит пятерней суворовский хохолок начавших седеть волос, соображая, 98 рассказать или не рассказать какой-то
Лесная пожарная вышка и «вышкарь» — Антонов Арсений Андрианович.
немаловажный для него случай. — Огорченья, они, конечно, всякого могут коснуться... А, расскажу! — хлопает он картузом по колену: — В «опасное время» собрали тут раз какое-то совещанье. Заседают! И надо тому случиться, как раз в этот день сразу во многих местах загоранье. Туда звоню — не тушат, туда сигнализирую — горит. Ну я по «Пожару» (срочная линия связи) прямиком с вышки — в область! И попадаю аж в кабинет к областному лесничему Ледовскому Владимиру Викторовичу. Вгорячах-то и брякнул: «Мы что, — говорю, — по пожарам план выполняем?!» И слышу сердитый голос в ответ: «А это кто говорит?» «С вышки, — отвечаю, — говорит Арсений Антонов». А он трубку — хлоп. И через час с небольшим прикатил. Сразу, конечно. на вышку. Ну и увидел все сам. Извинился. «Правильно, — говорит, — товарищ Антонов, действовали...» Ну и хвоста всем в округе начал крутить. Нашему лесничему тоже попало, хотя и не вполне по заслугам.
Пожары все затушили. А у меня после этого, чувствую, греется земля под ногами. Как при горящем торфе: огня не видно, а жжет—недовольно начальство, что я прямо с вышки да в область. Ну терпел я, терпел утесненье и, откровенно скажу, не вытерпел. Прихожу. Открыл двери к лесничему. «Вот, — говорю, — бинокль! Вот, — говорю, — велосипед! Все! Глядите за огнем сами...»
Лесничему стало от этой моей экспедиции вроде неловко. «Ладно, — говорит, — Арсений, давай-ка все погасим. Чего не бывает...» Ну и я отошел. «Ладно, — говорю, — чего не бывает...»
Звездным часом Арсения Андриановича было сухое лето 72-го года. Тогда вся Мещера от Шатуры до Владимира дымом была подернута. Со спутников видно было пожары. В тот год пересохли болота, испарились озера, «лягушки из мхов к домам прыгали — в корытце ополоснуть тело, карасей руками в тине ловили». Подступили пожары и к борам у Криуши.
— Детишек отправили кто куда. Телевизоры, образа, сундуки, всякое барахлишко в землю зарыли. У вышки все время народ толпится. Очень волнуются, помнят, что было в Курше в 36-м. «Арсений, — кричат, — говори, что нам делать. Говори!» Степан Косой так прямо из себя вышел: «Говори, что делать, а то сейчас пилой «Дружба» твой столб порешу!» А мне полагалось хладнокровие соблюдать...
Огонь был страшный. По верху леса шел с ревом, как будто реактивный самолет от земли оторвался. А я на вышке! Сосновые ветки петухами летели. Глаза закрывал, боялся, не выдержат жара. Рубаха два раза на мне занималась. Замну огонь, плесну на себя из бидона и опять телефонную трубку хватаю... Военная часть на подмогу пришла. Криушу оборонили, соседний поселок. Ласково тоже оборонили и от Кельцев огонь отвели. И лесу много уберегли. Я тоже внизу с огнем воевал. Три пары кирзовых сапог спалил, на теле были ожоги. А друг, однокашник, вместе на кочегаров учились, тот задохнулся в дыму. Вон там, за березами, схоронили. О, огонь в лесу — дело очень серьезное!
Разговор у вышки прервался дождем. Мы переждали его под навесом, наблюдая, как кормят птенцов скворцы.
— Ну вот, освежилась земля. Это значит, можно домой сходить, пообедать. Дождик для нас, вышкарей, как гостинец. А для порядку все же надо подняться...
Уже сверху я услышал удовлетворенное посвистывание — «все спокойно в лесу». И хрипловатый голос:
— Отсюда, конечно, не один только дым замечаешь. Иногда видишь: лось подался к воде хорониться от комаров, видишь, ястреб голубя поволок, лиса бежит по опушке. Ну и, конечно, наша Криуша — как на ладони. Ну-ка, глянем, чем там хозяйка моя занята... морковку дергает в огороде! Борщик будет к обеду.
— Вы знаете, — продолжает он уже на земле, понизив голос до полушепота, — моя Прасковья Фаддеевна — женщина очень заслуженная. Орден «Знак Почета» имеет. Тридцать три года тут, в Клепиках, ткачихой была. Понимаете — знак почета... Государственный, можно сказать, человек. С ней бы вам надо поговорить — побеседовать.
Когда прощаемся, Арсений Андрианович теребит волосы.
— Что-то я хотел не забыть... Да, это как раз по пути — заверните и к Гусаровой. Моя ученица!.. Первого класса вышкарь. Страху не знает. И вышка у нее обихожена, пожалуй, даже получше моей. Так и скажите, мол, твой настав-
С вышки видно деревню с садами и огородами, лес, болота, озера. Обгорелые пни напоминают о прежних пожарах, заставляют в оба глядеть на вышке.
ник прислал. Будет скромничать — знайте: такая и есть. В отличие от меня, ее надо разговорить. Я-то с полуоборота, как видите, завожусь — не остановишь! С детства такой...
Часа четыре всего посидели мы рядом с Арсением Андриановичем. Но очень он мне запомнился. Веселый, общительный, доверчивый, как ребенок, преданный долгу и делу, никому не желающий зла и счастливый от этого. Вспоминаю его «скворечник» в лесах, вспоминаю прогретую солнцем смоляную Криушу и благодарю дорогу за эту встречу. Хорошего человека узнать — как чистой воды напиться.
1978 г.
□
99
ГЛАВА СЕМЕЙСТВА
Ему семьдесят пять. Прихрамывает — «нашли какие-то соли». На лошадь садиться ему уже трудно. Но каждое утро он выводит своего Воронка, седлает и отпускает пастись под седлом. Сам идет в дом, снимает с гвоздя карабин, нюхает пахнущий маслом и порохом ствол, с порога прицеливается в ворону, сидящую обыкновенно на сухом кедре возле сарая, и, крикнув, как будто выстрелил, протирает карабин тряпкой, водворяет на место. День проходит в неторопливых хлопотах в огороде, на пасеке, в бане, где сушатся на решетах горячо принялся за новое дело. В урочище Курдюм по горному лесу сложили изгородь из вековых лиственниц. «Громадная штука! Сто пятьдесят километров в окружности. Триста тысяч дерев на нее положили».
Сыновья Фотея Петровича показали мне эту «китайскую стену» из бревен. Побывали мы и в загоне, где обитает полудикое («больше трех тысяч») стадо оленей. В июне — июле созревают, наполняются кровью рога у маралов. Оленей ловят, спиливают рога, по отлаженной технологии варят, вялят — полудругие сыновья Поповых. Дочери и мать Татьяна Фоминична хлопочут возле стола. Живут дети уже своими домами, но часто вот так собираются вместе. Полон дом внуков. Кое-кто из них уже норовит взобраться на лошадь, съездить к оленям...
— Когда на пенсию уходил, что, вы думаете, мне подарили? — возвращается к нашей беседе Фотей Петрович после обеда.
— Ну телевизор, наверное, — говорю я, сколь можно выше подымая значимость подарка.
кедровые шишки. А вечером лошадь приходит домой. Старик не спеша снимает седло, поит коня и, вздохнув, садится на скамейку проводить взглядом уходящее за гору солнце.
Об этом почти ежедневном своем ритуале Фотей Петрович поведал мне сам, когда, сидя у его дома, с оленьими рогами над дверью, говорили о жизни. «Конечно, чудное дело — без толку вроде лошадь седлать. Ан следует понимать: вся жизнь в седле протекала. Привык! Тако вот повожусь с лошадью — будто бы на охоте повеселился».
Фотей Петрович Попов — коренной горноалтаец, изведавший промысел пчеловода, охотника, лесоруба. «Все дела споро шли. На охоте из шомполки козла укладывал на бегу. Полсотни медведей в тайге положил. Ну и маралы само собой. Убьешь, бывало, марала и рысью к дому — варить панты, пока не испортились...»
Когда от охоты за драгоценным оленьим рогом перешли к мараловодству, 100 Фотей Петрович с семейством своим чают сырье, высоко ценимое медициной.
Уход за оленями, заготовка пантов, поддержанье в порядке ограды, охрана животных от волков и медведей — дело трудоемкое и далеко не простое. «Одна промашка — и золото превратится в навоз», — говорит о необычном этом хозяйстве Фотей Петрович. Сам он промашек не допускал. И тринадцать детей своих («четыре дочери, девять сынов») с малых лет приспосабливал к тонкостям дела, ставшим делом семейным. «Старший, Петро, пожалуй, меня превзошел. И отличён! Звезду видали?» — с гордостью говорит старик, кивая на сына, собиравшего щепки для самовара.
— Батя, ну будет тебе! Хвалишься, как ребенок. Неловко даже, — подает Петро голос.
— Я-то... Я балагурю, а лишнего не скажу. А ты, хоть герой, помолчал бы. Яйца курицу не учат.
Петро Фотеевич, улыбнувшись, берется раздувать самовар. Подъезжают к обеду, привязывая к изгороди коней,
Конь— первый помощник в этих краях. Фотей Петрович Попов и его сыновья — мараловоды день начинают седланием лошадей.
— Не-е... — поглаживает бороду собеседник.
Я гадательно поднимаю глаза к потолку, называю еще одну ценную вещь житейского обихода, уверенный, что те- перь-то уж угадал.
— Не-е... — улыбается Фотей Петрович. — Не-е... Подарили мне, когда провожали на пенсию, коня, карабин и седло.
Старик делает паузу, наслаждаясь произведенным эффектом.
— Да вот недолго ездил на Воронке, соли проклятые укорот дали.
На мою просьбу вывести Воронка старик немедленно откликается. Он хо-
рошо понимает, сколько энтузиазма вызывает у любого фотографа живописная его борода, веселое, жизнерадостное лицо, законная гордость необычным подарком.
— Толкунову, поди, в Москве видишь?
— А что?
— Да привет бы ей передал. Мы с нею на «Огоньке» за одним столом чай распивали.
Провожая меня с сыновьями в загон к оленям, Фотей Петрович отвязал Воронка.
— Возьмите, пусть разомнется...
И мы поехали. Уже с околицы оглянулись: стоит в клетчатой своей рубахе у калитки старик, внука за руку держит. Махнули ему. И он помахал. И, прихрамывая, пошел к дому.
— Мысленно он сейчас с нами, — сказал младший из сыновей, Михаил. — С радостью поделился бы с нами годами...
Сзади раздался звучный олений рев.
— Это отец, в рожок...
Из загона на призывные звуки отозвались сразу четыре марала.
— Слышит ли их старик?
— Слышит.
Я представил себе седобородого великана с ладонью, приставленной к уху. Слушает. Радость — услышать из леса отзвук былого.
Горный Алтай,
1984 г.
В МИХАЙЛОВСКОМ
ДОМОВОЙ
«Я в Михайловском — Домовой», — любит сказать Семен Степанович в кругу друзей, а круг этот — и сидящие в его доме у самовара гости, и полная зала людей в Останкине, где пишется популярная передача для союзного телезрителя. «А что такое Домовой? — шепчет мне на ухо юная горожанка, склонная толковать непонятное слово применительно к нынешней жизни, — Домоуправ, что ли?»
Поместья мирного незримый покровитель, Тебя молю, мой добрый домовой, Храни селенье, лес и дикий садик мой, И скромную семьи моей обитель!
Пушкинский стих, звучащий со сцены, заставляет мою соседку подумать: Домовой — это поэтичное что-то, более интересное, нежели домоуправ.
Было время, Домовой «жил» в каждом деревенском доме. (У нас в воронежских селах называли его Домо- жил ) Это невидимое существо погромыхивало ночами в сенцах, ходило по чердаку — стерегло дом, одновременно внушая почтенье и даже страх его обитателям. Домовые были добрые и недобрые. Загляните к Далю, и вы получите полную справку о существе, которое не могло не попасть в поэтический мир обитателя дома в Михайловском. Уезжая из дорогого сельца, Пушкин очень хотел ему благополучия и долголетия. Молодой, не очень умелый хозяин вряд ли сумел и успел сделать деловые распоряженья по дому. Но Домового в стихах он просил:
Счастливый домик охрани!
Ходи вокруг его заботливым дозором.
Когда Семен Степанович говорит, улыбаясь: «Я — Домовой...», мы чувствуем руку, протянутую Пушкиным этому нынешнему хранителю всего, что было дорого поэту в родимом сельце, и стало бесконечно дорогим и для нас, потому что сельцо это — пушкинское.
Официальная должность Семена Степановича Гейченко: директор музея- заповедника. Назвать же шутливо себя Домовым позволяют лишь подлинные, всеми признанные заслуги на этой должности.
Пушкин знал, что не будет забыт народом, но он не мог предвидеть размеров горячей к нему любви. В музее Осташкова на Селигере экспонируется жилище рабочего-революционера начала этого века. Трогательная деталь: в красном углу над столом, в обрамлении полотенец, вместо привычной иконы висит портрет реального человека. Кого же? Пушкина! Мог ли думать поэт о столь высоком духовном признании! Пушкин понимал: тропа человеческой памяти травою забвенья не зарастет. Но мог ли он думать, что в дорогое сердцу его Михайловское будет приходить, приезжать, прилетать ежегодно почти миллион паломников. И среди них мы видим угаданные Пушкиным лица: и финна, и жителя с дальней реки Тунгуски, и степного калмыка. Минувшим летом я видел в Михайловском эфиопа-священнослужителя. В знак уваженья к поэту по дорожке, ведущей к дому, он прошел, сняв сандалии, босиком.
Однако могло ведь случиться и так, что нечему было бы тут поклониться. Ветер времени выдувает следы былого. И примеров тому немало. Каждый скажет: да, но Пушкин — ценность особая. Верно. Любой уголок, связанный с дорогим именем, для нас — святыня. Одна-
101
ко Болдино ведь не стало пока похожим на то, чем стало для нас Михайловское. И время сельцо на Сороти вовсе не берегло у себя под крылом. В войну, всем известно, именно тут, как раз по усадьбе, фашисты построили линию обороны. На вековых пушкинских деревах сидели снайперы, траншеями изрыт был михайловский холм, прямо в пушкинском доме изуверски поставили пушку, могила поэта была заминирована.
Пепелище представляло собой Михайловское после жестоких боев 44-го года. Святыню сразу взялись восстанавливать. Но дело было исключительно трудным, если учесть, что много всего лежало тогда в руинах. И во главе дела государством поставлен был тогда ленинградский музейный работник Семен Гейченко...
Сейчас, когда всем очевидны плоды большой вдохновенной работы, принято говорить: Пушкину повезло на Гейченко, а Гейченко — на Пушкина. Эта верная мысль стала уже расхожей. Но ведь действительно повезло! И Пушкину, и Гейченко. Но главное — нам всем повезло на сочетание друх талантов, повенчанных судьбою в Михайловском.
Как проходило возрожденье, восстановленье Михайловского, тут рассказать невозможно, да и не нужно. Сам Семен Степанович, превосходный рассказчик и превосходный писатель, очень ярко поведал о всем сделанном- пережитом. Можно лишь пожелать, чтобы книги его стали достоянием многих. Глянем лишь на итоги.
Музей-заповедник Михайловское с его постройками и ландшафтом — неповторимый памятник поэту. Люди знающие говорят, что нигде в мире нет ничего равного по впечатляющей силе. Кто в Михайловском побывал, об этой магии достоверности хорошо знает. Музея в этом музее мы не чувствуем. На день-другой мы как бы входим в мир Пушкина. Нам кажется, что кудрявый, веселый, порывистый человек где-то рядом, он только отошел на минуту и скоро вернется. Достичь такого эффекта, начав с пепелища, — искусство редкое и большое. Все: дом, обстановка и вещи в доме, деревья в парке, мостки, дорожки, холмы, река, мельница у реки, лошадь, бродящая по лугу, — все «оркестровано» так мудро, так естественно и умело, что создает в душе сюда приходящего ощущенье свидания с Пушкиным. И те, кто знает, чьими заботами все возродилось, проходя мимо дома Семена Степановича, оставляют у порога его цветы. Я не знаю другого музея, где бы хранителя чествовали так же трогательно.
В деревянном домишке усадьбы Семен Степанович поселился сначала по нужде послевоенного времени, но так и остался в нем, отвергнув предложенья и уговоры переселиться в дом современный, с удобствами. И дело не только в том, что он понимал, как важен тут ежечасный хозяйский глаз Домового.
Приметы Пушкиногорья — часовенка над рекой, мельница, дом, где жил Пушкин. Хранит все это Семен Степанович Гейченко.
Житье в Михайловском помогало его постижению мира поэта. Глядя на все глазами давнего жильца усадьбы, Семен Степанович сделал множество всяких открытий и наблюдений, одушевивших обитель Пушкина. Вспоминаю его кормящим с руки воробьев и синиц, вспоминаю, как умеет он толковать, различать шорохи всякой живой мелюзги в травах — «все это мог видеть и слышать Пушкин».
Все примечали: супруги, счастливо прожившие долгую жизнь под одной крышей, характером становятся схожими. Нечто подобное случилось и тут, в Михайловском. Привычка глядеть на жизнь пушкинским глазом наградила нынешнего старожила сельца дорогими для нас пушкинскими чертами. Любознательность, мудрость, почти детская радость от всего хорошего в жизни, доброта, щедрость, со всеми равное обращенье, открытое сердце, веселое озорство. Все, кто знают Семена Степановича, согласятся: да, он таков. И тут удивляться, пожалуй, нечему — «с кем поведешься...».
Хочется предположить еще: молодость пушкинских лет тоже привилась и живет в хранителе дома. Зная возраст Семена Степановича, невозможно не удивиться его способности с восходом солнца быть уже на ногах и всюду успеть в немалых заботах.
С одним из работников заповедника мы столбиком на бумажке пометили роли, в каких пришлось и приходится выступать Гейченко тут, в Михайловском: администратор, хозяйственник, экскурсовод, краевед, архивариус, историк, землемер, архитектор, садовник, орнитолог, ботаник, литературовед, писатель, бытописатель, лектор, хранитель и собиратель реликвий... «Добавьте еще: подметала...» — с обычной шуткой сказал Семен Степанович, когда мы решили прочесть ему список.
Шутка насчет «подметалы» имеет резон. Нелегкое дело на пепелище возродить Дом и Мир Пушкина. Столь же нелегкое дело при миллионе почти посетителей поддерживать тут порядок. Известны два людных места, безукоризненно чистые: Московское метро и заповедник в Михайловском. При всем уменье людей сорить и мусорить в этих местах не увидишь мятых бумажек, апельсиновых корок, окурков — обста¬
новка воспитывает! Хотя, конечно, в миллионе паломников встречаются и паршивые овцы. Но все. немедленно убирается, подметается, чистится. Сам директор не гнушается этой работы — «святое место ничем не должно оскорблять ни чувства, ни глаза».
Среди забот хранителя пушкинских мест есть одна не предусмотренная никаким расписанием, ни сметой, ни планом забота, обременительная, постоянная, неотвратимая, — гости! Дом директора стоит прямо у самой дорожки, по которой проходит тот самый миллион любознательных, очарованных
странников. И в этой массе паломников к Пушкину есть какой-то процент ходоков к самому Гейченко — по делу, по дружбе, по любопытству. И так получается, что это жилище в Михайловском без гостей почти не бывает. Постоянно шумит самовар на столе. Тихая, добрая Любовь Джалаловна Гейченко непрерывно печет пироги и оладьи. И странное дело— привычка или натура? — но, кажется, Гейченки не могут жить без этих дружеских непрерывных нашествий. Я, грешный, тоже сиживал не единожды у кипящего самовара с людьми самыми разными — один раз с Райкиным и с лесоводами из Ленинграда, другой — с делегацией учителей, певцом из Большого театра и старушкой историком. Для всех у хозяев дома — чай- 103
сахар, доброе слово и добрые шутки, и даже подарки на память.
— Семен Степанович, дорогой, как на всё и на всех вас хватает?! Может, и правда лучше бы жить в стороне?
Отшутился:
— Домовому полагается жить при Доме.
САМОВАРЫ
Через стекла веранды проходящие видят в огромном числе самовары. Ну и, конечно, стучатся в двери — взглянуть. Пришлось повесить дощечку: «Это не музей. Тут живут». Ну а тот, кто входит в дом гостем, сразу же оказывается в окружении самоваров. Сам хозяин точно не знает, сколько их набралось. Всякие — огромные, на несколько ведер, и маленькие, чуть больше литровой кружки, домашние и походные, пузатые вроде купцов и стройные, как девицы, самовары простецкие и знаменитые, из которых пивали люди известные.
История этой одной из самых крупных теперь коллекций в стране самоваров довольно простая. Собирая в музей предметы старинного быта, Семен Степанович имел естественный интерес к самоварам. Добра этого по чердакам, по закутам деревенским оказалось немало, и дарились они охотно. Семен Степанович с благодарностью принимал, освящая все подношенья старинным реченьем: «Всякий дар для доброго дела совершенство есть». И уже бы довольно — стоит самовар в Домике няни, запасник музея самоварами полон, а их все несут. Пришлось приютить самовары у себя в доме. А увидев их, гости считают долгом коллекцию пополнять — самовары привозят, приносят, почтою шлют. И вот уже полки от пола до потолка уставлены самоварами. И редкое чаепитие тут обходится без разговоров, без расспросов о самоварах. Владельцу богатства этого есть, конечно, что рассказать, и он это делает ничуть не хуже самого Андроникова.
«Этот бывал в руках у Пржевальского... Возле этого сиживал путешественник Семенов-Тян-Шанский... Из такого походного мог согреваться чайком Александр Сергеевич...» И много всего другого узнают сидящие за столом гости. Узнают, например, что в старое время, снаряжая детишек в поездку, в сани, чтобы не мерзли, ставили самовар. Во время войны на Псковщине, прячась в леса, люди в числе самых необходимых вещей уносили с собой самовары. «Редкий дом в России обходился без самовара. Теперь чайник... Но, согласитесь, други мои, разве способен чайник произвести уют, какой мы имеем хотя бы сейчас вот, сидя у самовара!»
Сколько же их всего? Беремся считать и кончаем на цифре 324.
Между тем открывается дверь — на 104 пороге человек с самоваром: даритель.
— Ну, до кучи, до кучи! — благодарно принимает Семен Степанович позеленевший, слегка помятый медный сосуд с трубою. Сажает нового гостя за стол, потом находит на полке место для самовара.
Чаепитие продолжается.
КОЛОКОЛА
Летними вечерами, когда поток посетителей схлынет, в селе Михайловском раздаются, бывает, звоны колоколов. Иногда озорные, иногда стройные, с неким музыкальным порядком. Это значит: Семен Степанович, либо озорничая, демонстрирует гостю старинные звуки, либо, если гость музыкален, на пару с ним извлекает из бронзы что-то вроде мелодии, заставляющей человека остановиться и слушать.
Звонницу, кто в Михайловском побывал, все видели. Она расположена у сарайчика, как раз против дома, где живет Гейченко, и представляет собой перекладину на столбах с висящими на ней не слишком большими колоколами. Еще меньше по размеру колокола, колокольцы и колокольчики размером с те, которые вешают рыболовы на концы удочек, стоят в доме на полках под самоварами. И тоже являются избыточной частью собиранья в Михайловском пушкинской старины.
Гостю Семен Степанович продемонстрирует множество разнообразных звуков, соединит их в мелодию и, довольный произведенным эффектом, расставит звуковые сокровища по местам.
«Собиранье колоколов было много трудней и серьезней собирания самоваров...» — говорит Семен Степанович, когда мы, всласть назвонившись, садимся передохнуть на скамейку.
Собиранье колоколов началось для звонницы Святогорского монастыря. В войну монастырь пострадал. Колокола либо были увезены, либо, треснув, пришли в негодность. Когда восстановили собор, почувствовали: без колоколов никак нельзя обойтись. Важнейшая вещь в этом древнейшем памятнике — колокола. В монастырь, построенный по указанью Ивана Грозного на пограничной псковской земле, колокола дарили: сам царь Иван, позже Борис Годунов, цари Михаил Федорович и Алексей Михайлович. Петр Великий, переливавший в иных местах колокола в пушки, сюда, в пограничную зону, послал свой подарок — колокол. Назначение колокольного звона — будить, подымать дух
Михайловское с высоты птичьего полета.
людей — хорошо понималось. Полуторастапудовый набатный колокол, даренный Иваном Грозным, в тихий погожий день был слышен в округе на двадцать пять верст.
Во времена Пушкина в колокола ударяли по праздничным и торжественным дням, во время похорон, свадеб, ярмарок. Оркестром из множества разноголосых снарядов искусно владели святогорские звонари. А на пасхальной неделе на колокольню подымались звонить — кто хотел. В числе таких доброхотов был и Пушкин, очень любивший колокольную музыку. «Можно ль было оставить восстановленную звонницу беззвучной?.. И мы начали собирать колокола».
Есть у Семена Степановича в его домашнем «научно-исследовательском институте» более сотни папок с надписями, смысл которых не нуждается в объяснении: «Няня Арина Родионовна», «Ветряные и водяные ' мельницы», «Травы и древеса», «Звери и птицы», «Часовни», «Наталья Николаевна Пушкина в Михайловском», «Строительство дома» и так далее. В каждой папке — кропотливо собранные за многие годы документы, наблюдения, письма, рисунки, извлечения из архивов — все, что имело отношение к Михайловскому и окрестностям. Есть на полке и папка «Колокола». Заглянув в нее, узнаешь, где и как добыты, найдены были восемнадцать нынешних колоколов для звонницы, и то, что осталось в избытке, в запасе. И что ни колокол, то история. «Три больших, треснувших, попытались лечить. И удачно! Свозили в Москву. Там, изучив состав сплавов, трещины заварили. Несколько колоколов нашли в деревнях. Один оказался древнейшим — четыреста лет назад отливался».
Узнав о заботах музея, стали слать, привозить колокола разные люди — моряки, пожарники, лесники, железнодорожники. Так оказался тут колокол с берегов Ладоги («висел на вышке»), из пожарного депо Пскова, с корабля в Мурманске. «И пришел однажды ко мне из соседней деревни дед Кирилл, кротонов. «Закопан, — говорит, — у меня в земле колокол. Продам за 60 рублёв». — «Почему же, — спрашиваю, — за шестьдесят, а не за тридцать или за двести?» — «Так решил!» — «Ну, — говорю, — веди показывай». Откопали — целехонек!»
Так постепенно собрали все, что требовалось для звонницы. «И ведь поднять их надобно было! А это не фунт с осьмушкой поднять — один из колоколов весил сорок пудов. Подняли!» И летом 1978 года в день рождения Пушкина под звуки глинковской «Славься!» грянули пушкиногорские колокола. «Великий был праздник. Я прослезился даже!»
А колокола и колокольцы путями разными продолжали идти в Михайловское. И находят приют у дома и в доме хранителя памяти Пушкина.
14 февраля каждого года звонят в Михайловском по особому поводу — в честь дня рожденья Семена Степановича. И ударять приходится уже более восьмидесяти раз.
Возраст почтенный. Лев Толстой говорил: хорошо прожитая жизнь — это долгая жизнь. Немногим из человеков так много удается пройти. И уж совсем немного людей способны в этом возрасте сохранить радость жизни, жажду деятельности, способность сказать: «Други, жизнь — прекрасная штука! Умейте ее ценить, спешите украсить ее делами достойными». Таков Михайловский старожил. Вот он у своих колоколов. Седой, без руки, потерянной на войне. Но кто же скажет, что это старик? Это наш ровесник по духу.
ЗИМОЙ
Зима была необычной, вызвала, как это всегда бывает при сбоях погоды, множество разговоров, предположений, прогнозов и шуток.
Погода шалила во все времена. А в эту зиму известные свои строки Пушкин мог бы написать и так: «Снег выпал только в феврале». До этого земля у Сороти была голой. Река не замерзла и разлилась половодьем, затопила мостки, ведущие от дома Пушкина в заре-
Колокола и самовары — собирательская страсть хранителя пушкинских мест.
106
чные Зимари. Всякая рыба из Сороти почему-то переместилась в озеро Мале- нец, где обычно зимовали лишь караси и лини. Стволы деревьев в михайловских рощах теплая сырость покрыла зеленым налетом. Экскурсантов в такую погоду было немного, и местные кабаны осмелели до крайности: заявились однажды прямо к воротам усадьбы...
Это все я услышал в Михайловском уже «настоящей зимой», когда одна февральская ночь все побелила, осветила, развеселила. Мир пушкинских мест мгновенно преобразился. От мороза утробно покрякивал лед на озерах. Дятел, как дровосек, пожелавший согреться, без устали барабанил по сухому отростку ветлы. Сойки, распушив перья, недвижными шарами сидели на старой липе близ дома Пушкина. Белка, от которой снег спрятал припасы, приставала на дорожках к прохожим и, получив кусочек печенья, хоронилась в хвое знаменитой Еловой аллеи. Синицы, воробьи, поползни таскали из кормушек овес. Заяц, давно одетый по- зимнему, при виде белого снега, наверное, облегченно вздохнул и за ночь отважно исходил всю усадьбу. Неторопливый его следок вьется от дома к аллее Керн, дальше — к сосне с колесом для аиста на верхушке, к баньке, к киоску, где днем туристы покупают открытки и книжки о заповеднике. В этом месте зайцу, как видно, пришла полезная мысль сбегать за реку в Зимари, где сложено в копнах сено, где у банек низко висят в погожую пору припасенные веники из березы. След через озеро по прямой линии убегает туда, где сверкают на солнце снежные крыши деревни.
И санный след... На дровнях — два конюха заповедника, а следом за ними в маленьких, почти игрушечных санках несется местный цыган Петька Степанов. Он пятый раз приехал сюда, в заповедник, пытается обменять свою мохноногую, преклонного возраста лошаденку на молодую кобылу. Давно получив отказ у завхоза, молодой настойчивый цыган надежды все ж не теряет. Теперь он хочет увидеться с «самим Гейченко» и выложить главный свой козырь: «Пушкин любил цыган». Шансов заполучить в свои руки молодую лошадку у Петьки немного, но ему по душе сам процесс разговора о лошадях и возможность побыть в заповеднике. Когда две подводы тронулись вниз с михайловского холма, цыганская лошадь, хватая сено с передних саней, тоже резво засеменила. А Петька вожжами одобрил ее желание пробежаться ...
Старые сосны. Прозябший, заиндевелый тальник у замерзшего края воды. Мельница. Три лошадки, легко бегущие по дороге. Слышен говор людей, сидящих в санях, скрип полозьев по снегу — на дровнях обновляют путь... А между тем это не начало зимы, а ее окончанье. Над михайловской рощей летают, резвятся в брачном полете два ворона. Какую весну в своей жизни готовятся встретить эти живущие дольше людей существа! Могли они видеть тут Пушкина? Соблазнительно думать: могли. С непокрытой головой стоял, возможно, он тут на холме, очарованный блеском снега, скрипом саней и предвесенней игрою воронов в небе. И, наверное, хотелось ему надолго, навсегда оставить в памяти все, что он видел и слышал в это мгновение жизни.
1984 г.
□
107
ОСТРОВА
Сложилось — жизнь у Василия Ивановича Вощикова прошла на островах. Сменил он их несколько. А последние пятнадцать лет живет на острове Анисимове. Сверху глянуть — клочок суши, покрытый лесом в горловине Белого моря. Если на лодке подплыть — увидишь дорожку в травах от пристани к дому. Дом стар, так же, как и хозяин. На кольях изгороди сушатся тресковые головы — зимой из них Василий Иванович варит суп. На кольях же сушится сено. Влаги тут много, и траву можно высушить только так. Корова пасется на островной луговине. Каждое лето на
двух сплоченных лодках с настилом в неветреный день по морю с материка перевозит корову лесник на остров. И тут она ходит все лето. А осенью корову и сено, опять же на лодках, переправляют на берег.
Зиму коротает Василий Иванович в Кандалакше — столярничает, чинит снасти, «балуется телевизором». А весной, как только в полыньях появятся утки гаги, Василий Иванович опять на острове. Забота лесника в заповеднике — беречь на острове гагу и все живое, а также беречь от пожара лес, беречь ягодники и все, что растет и может быть в лето растоптано пришлым лю- 108 ДОМ.
Жил когда-то Василий Иванович с большой семьей. Но жена умерла, сын утонул в Белом море — провалился под лед на «Буране», дочери вышли замуж и поразъехались. Один. И привык к такой жизни. Хозяйство несложное: баня, сарайчик, ветряк, дающий надежное электричество, радиостанция. Позывной у Василия Ивановича давний: «Клен-4». Свой доклад в заповедник начинает он с позывного: «Я — «Клен- 4», «Я — «Клен-4»... Доклад обычно короткий. Фенологические наблюдения Иван Васильевич отдает в письменном виде, а так сообщит обстановку, попросит идущих в море, к другим островам, захватить для него попутно что-нибудь в Кандалакше, хлебушка, например, сахару.
Двух бедствий страшится больше всего лесник — пожара и лис, приходящих сюда зимой. Пожар на острове оставит лишь камни. Лиса, если ее проморгать и не взять еще по снегу, порешит гнезда гаги. Такое случалось.
Гаги, сидящие на гнезде плотно, Василия Ивановича не боятся совсем — может подойти и положить птице ладонь на спину. Гнездо у гаги каждый год новое. В обязанности лесника входит сбор драгоценного пуха из старых гнезд. За этим занятием я и застал Василия Ивановича в июле. Посидели мы с ним на камушке, поговорили о жизни,
109
о здешних краях. «Воды тут залейся, камней — хоть убейся», — сказал лесник. Шумел пропеллер у ветряка. Кричал потревоженный чайками кулик-сорока. Запоздавшая гага проковыляла к воде с шестью гагачатами...
В Кандалакшском заповеднике — сто пятьдесят островов. А если считать и безлесные мелкие луды, а также острова в море Баренцевом, то их наберется более пятисот. Неопытный человек может в море между островов заблудиться. У значительных островов есть имена Овечий, Еловый, Горелый, Медвежий, Круглый, Ладейный... Беломорские острова — таежная зона. Острова лохматятся древесами. А остров на Севере, в море Баренцевом, — уже тундра. Остров тут часто — высокие голые скалы. Однако эти пятачки суши, обогреваемые Гольфстримом, представляют собой летом кипящие ульи жизни.
Тысячи птиц подняли несусветный гвалт, когда мы с директором заповедника Владимиром Шубиным пристали на лодке к побеленным пометом скалам. Поразительно точно названо это скопище летунов-крикунов птичьим базаром. Кайры, бакланы, тупики, чистики, чайки хороводом кружились над островом. Столько же птиц оставалось сидеть на скалах. Все связаны на этом острове единой судьбою, мирятся с теснотой и даже извлекают из нее пользу, каждый по-своему добывает еду. Одни хватают рыбешку с поверхности моря, другие ныряют за ней в глубину. Поморник отнимает рыбешку у пролетающей кайры, чайки, как истребители, атакуют молодых тупиков, залетевший поохотиться кречет камнем упал на белую (пеструю в это время) полярную куропатку.
Дождавшись, когда гвалт поуляжется, можно понаблюдать подробности островной жизни. Вот на карнизе сидящая кайра поклевывает птенца — не подпускает близко к обрыву. А вот картина совсем иная. Птенец уже вырос, пора ему вниз. Мать и отец, сидящие на воде, призывно кричат. Но каково это — вниз, в воду с сорока метров, с насиженного безопасного места! Птенец волнуется. Инстинкт и крики родителей зовут его сделать необходимый и неизбежный в жизни прыжок. Кай- ренок подвинулся к кромке обрыва. Голова у него, наверное, кругом идет от страха. Он возвращается. Но мать тут как тут — взлетела, толкает кайренка. Решился... Почти как камень летит птенец с громадной для него высоты... Но все благополучно. Поплыл. Мать с отцом успокоенно движутся рядом. А весь птичий мир не заметил этого подвига — кричит, суетится, закругляет свои дела: лето уже на исходе.
У островов тут тоже есть имена. Есть целый архипелаг с названием Семь островов. Есть островок с поэтичным, точно объясняющим его облик названием — Зеленец. Все хозяйство Кандалакшского заповедника — острова и птицы на них.
7985 г.
□
ВСТРЕЧА
110
Было чему удивиться: по лесу змеился след одной (!) лыжи.
Любопытства ради я пошел следом и на опушке, близ деревни Щеблыкино, догнал человека с ружьем и с собакой на поводке.
— Охотник?
— Зимой охотник. Летом грибник, — приветливо отозвался мужчина, вполне понимая причину расспросов.
— И как же стреляете?
— А вот так... — Один костыль с кружком от лыжной палки в мгновение ока выставлен был вперед для упора, и вслед подброшенной рукавице прогремел выстрел.
Собака радостно сбегала за «добычей». Охотник столь же радостно протянул мне прошитое дробью вещественное доказательство того, что зайцам надо со всей серьезностью относиться к неуклюжей с виду фигуре с ружьишком.
— И давно ли вот так?..
— Охочусь всю жизнь. А вот так — десять лет. В 72-м сделался я треногим...
За чаем в деревне Щеблыкино состоялось продолжение разговора, и я узнал: в этом старом домишке ровно шестьдесят лет назад мой знакомый родился. «Я родился охотником, — шумно отхлебывая из кружки чай, говорит Виктор Васильевич. — Десятым сыном был в доме. И с самого детства меня почему-то тянуло в лес. Мальчишкой ловил кротов, лукошками носил ягоды и грибы. С ружьем исходил всю округу. И все знал тут не хуже лешего. Завяжите глаза — ощупью проберусь».
В четырнадцать лет Виктор Василье-
Страстная любовь к природе помогла человеку одолеть почти невозможное... Вот так на одной лыже охотник проходит за день до пятнадцати километров.
вич Новиков стал пекарем в городе Красноармейске. «Бывало, после ночного дежурства горячую булку в мешок — и прямиком в лес. И там для меня праздник в погоду и в непогоду, зимою и летом... Вернувшись однажды из леса, узнал: война началась».
Было в том году Виктору Новикову восемнадцать. И попал он во взвод истребителей танков, обучен был метанью гранат и бутылок с горючей смесью. И все шло у него лучше, чем у других, — помогала лесная закалка. Однако первый же бой на Смоленщине стал для охотника за танками и последним. «Ночью началась заваруха, и попали под минометный обстрел. Смерти я не боялся. Не хотелось калекой остаться. И, надо же, так и случилось. Бегу в темноте, «ура!» кричу для ободрения, хотя кричать там было не нужно. И вдруг как палкой вдарили по ноге. Как тащили меня санитары, как приводили в чувство, не помню. В палатке подают мне пол кружки спирта: пей! А я не могу, ни разу не пил. Пей! — говорят, для наркоза... Очнулся уже в повозке на пути в госпиталь. А в госпитале, как поглядели, говорят, отымать надо. Да, думаю, отохотился и за танками, и за лисами...»
На плите булькает чайник. В углу избы стоят одна широкая лыжа и два костыля с кружками от лыжных палок. У ног рассказчика свернулась клубочком, преданно смотрит собака.
В 41-м году ноги Виктор Новиков не лишился. «Седой, сильно ученый профессор взял меня в руки. И какое-то чудо сделал с размозженной осколком ногой, не стали ее отымать. Ушел из госпиталя хоть на костылях, но с двумя ногами. Провожавший профессор сказал: «Нога послужит. Но будь готов — в старости она о себе заявит».
Так и случилось. Виктор Васильевич жил в своей деревеньке, как все здоровые люди: растил детей, имел огород, скотину, работать ездил на текстильную фабрику в Красноармейск. Ну и, конечно, во всякий свободный час либо с лукошком, либо с ружьишком — в лес. Нога хоть и побаливала, но служила. А
на 50-м году, как было предсказано стариком доктором, «нога о себе заявила». «От боли на стенку лез. По многу ночей глаз не смыкал. И началась гангрена. Сам сказал докторам: режьте...»
Когда вернулся Виктор Васильевич домой из госпиталя, собрались повидаться друзья-охотники. Один, захмелев, попросил уступить ему собаку — зачем хороший охотничий пес одноногому человеку? «И тут я стукнул об пол костылем: тебе, говорю, Степан, не уступлю на охоте!.. Дело было осенью, и, как выпал снежок, стал я оснастку для себя делать. Лыжу широкую выбрал, на костыли кружочки пристроил. И стал понемногу выползать к лесу: сперва на опушку, потом поглубже, потом километров двенадцать прошел — ничего, держусь и стрелять приловчился. А когда компания собралась по зайчику с гончими, я из всех единственный и добыл белячка. Все с таком вернулись, а я хоть и сзади плетусь, а с добычей. И всем от этого радость была».
И вот уже десять лет человек, судьба которому уготовила сиденье на лавочке около дома, не покорившись судьбе, живет дорогими для него радостями. «По секрету скажу, лисы и зайцы — только предлог. Просто в лес меня тянет. Сяду на пенечке передохнуть, сниму шапку, пот вытру, прислушаюсь, как снегири посвистывают, как синицы перекликаются, — хорошо на душе. А зайцы... Признаюсь, сидячего зайца не бью. Только если бежит от собаки. Специально такое правило завел для себя».
До глубокого вечера сидели мы с Виктором Васильевичем, прислонившись спиной к натопленной печке. На прощание он предложил мне подарок — мягкую белую заячью шкурку: «Заболит поясница — первейшее средство». Я отказался. Тогда охотник, погремев костылями возле комода, достал патрон от двустволки. «Ну это возьмите. Если я вижу зайца, но не стреляю — патрон вынимаю и прячу в карман, на память. Десятка два набралось. Считайте, живого зайца вам подарил».
Такая вот встреча. Напоминанье: судьба человека, бывает, скрутит в бараний рог, а человек не сдается, не поднимает покорно руки. И побеждает. И других побеждать учит.
1983 г.
□
ЛЕТАЮЩИЙ ДЕД
71 встретил его на волжском откосе, под Горьким, в кругу людей, которым дед и был дедом. У многих из молодых бритва еще не касалась лица, у деда же была сивая борода, и был он в возрасте, в котором обычно становятся домоседами. «Любознательный старичок, не поленился добраться сюда, на откос», — подумал бы каждый, глядя, как с волжской кручи взлетают, парят и спускаются в пойму летуны на диковинных «самолетах».
Э-э, да дед-то вовсе не зритель! Он застегнул брезентовые ремни-лямки, надел оранжевый шлем и тоже встал под матерчатый треугольник. Порыв ветра шевелит единственный «прибор» на летательном аппарате — красный шелковый лоскуток, привязанный к перекладине перед глазами. Есть, ветер пойман! Дед резво бежит по откосу и... полетел!
Не очень высоко и не очень далеко пронес старика оранжево-сине-красный «змей горыныч». Но дед к рекордам и не стремится. Опростал под лямками куртку, отряхнул пыль с сапог и вместе со всеми взбирается на откос. Парнишка в лимонного цвета майке помогает деду нести нетяжелую, но громоздкую ношу — уважение к возрасту, но еще и возможность прокатиться на дедовском змее, пока еще нет своего.
Дельтапланеризм — явление новое, но уже и привычное. Уже есть внушительные рекорды полетов на необычном летательном аппарате. Продолжительность — более суток, дальность — более сотни километров, высота — под семь тысяч метров... На волжских и окских откосах рекорды пока что скромные — сотни метров, минуты. Но четыре десятка энтузиастов клуба «Олимпик» с каждым месяцем набирают дальность и высоту. И дерзость. На их тренировки и состязания собирается много людей. Среди них был и дед. Леонид Степанович Елисеев.
Как и почему на седьмом десятке лет человека не покидает желание делить с молодыми хлопоты разных дел, риск 111
путешествий или это вот удовольствие не без риска? Ответить на это непросто. Все дело, видно, в натуре людей. Есть такие неугомонные старики, которых годы не сажают на скамеечку перед домом. Леонид Степанович именно этой закваски старик.
Уйдя на пенсию и получив много «праздного времени», он стал присматриваться к спортсменам, но не в качестве болельщика. Тщательно расспросив знающих о купании в проруби, дед решил, что именно этим надо ему заняться для укрепления здоровья. И он стал завзятым «моржом».
К полетам он подошел основательно. Он не стал просить на откосе: «Дайте попробовать...» Дед появился сразу со своим аппаратом. Аппарат этот не очень и сложен: четыре сочлененные дюралюминиевые трубки, тросы-растяжки, деревянные гибкие рейки, спрятанные в материю, ну и сама материя — двадцать квадратных метров ткани «болонья». Однако, чтобы эта штука летала, сделать надо ее в согласии с законами аэродинамики. По чертежам журнала «Техника — молодежи» Леонид Степанович сначала сделал метровую модель дельтаплана и опробовал ее на шнурке. Полетела! После этого старик купил разноцветной материи, добыл трубы, тросы, винты, гайки, застежки. С месяц сидел то за швейной машиной, то сверлил, точил. Все сде¬
лал сам — планер, лямки, на которых планерист повисает под летящим крылом, и стал ходить на занятия. По средам в «Олимпике» (это подвальное помещение жилого дома на окрание Горького) — теоретические занятия.
«Да, аэродинамику надо знать», — вздыхает дед, в жизненном багаже которого лишь семилетка. И он не пропустил ни одного занятия. Он также бегает, занимается вместе со всеми в гимнастическом зале, делает даже кувырок-сальто. «Со страховкой, конечно, с большой страховкой», — спешит расставить все точки над «і» сам старик.
Присутствие столь необычного летуна в «Олимпике» дисциплинирует нетерпеливых и успокаивает матерей и отцов летунов — «очень уж непривычное дело, такое летанье!»
Группа дельтапланеристов в «Олимпике» не убывает, однако и не растет. Летать хотели бы все. Но сколько хлопот с этим планером! Надо его везти на откос, собирать, после каждого приземления забираться снова на гору. «Ничего. Любишь кататься — люби и саночки возить», — говорит дед, не пропустивший ни одного воскресенья полетов.
— Это праздник! Не только тело летит. Летит душа!
Во время полетов, при неизбежной толкотне любопытных, болельщиков и зевак, положение у деда особое. Борода его — в центре внимания. Одни глядят с восхищением, другие с насмешкой: «Ну, дед, давай! Чего медлишь!»
Старик всегда остается спокоен. Он не может себе позволить азарта, хорошо понимая, что кости в его возрасте срастаются значительно хуже, чем у тех, кому нет еще двадцати. А если кто- нибудь пристанет особо настойчиво, он отвечает с покоряющим простодушием:
— Э-э, браток, жить-то ведь хочется...
Леонид Степанович родом из крестьян Пензенской области. В юности он ходил за сохой. Служил в армии на Дальнем Востоке. Более двадцати лет работал потом пожарником. Полинявшая куртка из белого грубого полотна — это наследство от его неспокойной профессии. В этой куртке, стянув ремнями суховатое тело, он и летает теперь.
Живет Леонид Степанович сейчас один. Есть у него три взрослые дочери и четыре сестры. Все они, конечно, не против развития дельтапланеризма в стране, но категорически против участия в нем деда. А дед и тут хладнокровен: «Живем один раз. И если мне радость от этого, так почему же не полетать».
На самолете Леонид Степанович летал всего один раз — «Для пробы слетал из Горького в Арзамас».
— Ну-у! Самолет — совсем другое дело. Там не летишь, а едешь. А тут летишь!
Технику безопасности Леонид Степанович соблюдает без понуждений со стороны тренера. Ниже колен обвязывает ноги поролоном, а потом уже надевает видавшие виды пожарные сапоги, тщательно пристегивает под бородой ремешок шлема и ждет надежного, но несильного ветра...
Снимки я сделал в момент приземления деда и в момент, когда, не слишком довольный полетом, он прочел мне занятную лекцию, почему эта матерчатая штука все же летает. «Тут все, как у птицы, каждое «перышко» должно быть в порядке...»
После полетов планеристы несли к автобусу чехлы с тканью, трубами и тросами. Старик тоже, слегка сутулясь, нес свое самодельное сокровище.
— Спросите: что еще есть в хозяйстве? Отвечу: швейная машина, топор, долото, рубанок, бурав, тиски, напильники, шило... И еще — гармонь. С этим богатством и доживаю свой век.
Такой дед... Люди бывают разные. Иной в двадцать — уже старик стариком, с места не сдвинешь. А бывают такие вот неугомонные старики.
7980 г.
□
ЛЕСНЫЕ ЯБЛОКИ
“" Даа.. — протяжно философствует Егор Иваныч, заводя в оглоблю чалого меренка. — Езжу теперь на телеге. А ведь было время — летав. Был я стрелком-радистом. Но с чего-то стал заикаться. Який же радист с заики — списаны! Сделался я шофером. Дюже много поездил. С геологами. Воны на месте не посидять. Ну и я с ними усю Азию сколесив. Геологи много всякой руды нашукали. А я — радикулит. Вот теперь на телегу преключился. Для мягкости со старой машины сиденье 112 приспособил. И ничего — жизнь иде...
Все это Егор Иваныч говорит неторопливо, подтягивая ремешки сбруи. Знакомство с лошадью началось у него с происшествия. Кобылка по имени Майка имела привычку лягаться. И достала сидевшего на телеге Егора Иваныча задним копытом.
— Ума не приложу, ну як це случилось, как раз по нижней губе. Ну прямо как боевое ранение.
Егор Иваныч поочередно прикладывает руку к биноклю, к полевой сумке, к карманам — не забыто ли что. И мы трогаемся.
В этот день лесники заповедника мерили уровень грунтовых вод. У большинства — мотоциклы. Мы же с Егором Иванычем неторопливо ехали от скважины к скважине вдоль опушки. В нужном месте делали остановку, лесник доставал из сумки гирьку, на шнурке опускал ее в скважину и тут же, чтобы не позабыть, ставил в блокноте Цифру-
— Понижается... — всякий раз говорил он со вздохом.
Лето в этом степном краю было на редкость жарким. Но искушенный в гео-
под густой приземистой яблонькой похожа на солнечный круг. Недавняя буря стряхнула созревшие белые яблочки, и пока что это лесное богатство не потревожено ни оленями, ни кабанами.
Яблочки нестерпимо кислые, твердые. Егор Иваныч морщится так, что конец его чумацкого уса попадает между губами. Он снимает фуражку, наполняет ее яблоками и несет Чалому.
— Я тебя научу... На-ка, попробуй...
Лошадь жадно ест яблоки. Я предлагаю ее распрячь и сводить прямо к яблоням.
— Ну что ж, давайте поексперименти- руем, — соглашается Егор Иваныч.
И вот мы сидим на припеке, слушаем, как прощально гремят кузнечики, как кричит сойка и как Чалый неторопливо хрумкает твердые дикие яблоки.
Коротаем дорожное время за разговором. Егор Иваныч обладает редкостным даром веселого, неунывающего человека. Даже несмешные вроде бы стороны бытия он преподносит так, что друзья его, лесники, собираясь время от времени с одиноких своих кордонов в усадьбе, просят: «Повеселил бы душу, Егор...»
— Як Теркин, вспоминаю что-нибудь вроде бы не смешное, а воны за животы держатся.
— А лягушачья история... Правда ль, до «самой области» дело дошло? Говорят, прямо на лестницу в исполкоме лягушек повыпускал?
логии Егор Иваныч видит иные причины понижения вод:
— Ученые разберутся. Наше дело — мерить. Но недоброе це явление, коли воды уходять...
— Но-но!.. Я тебя научу, я тебя воспитаю. — любимой присказкой погоняет Егор Иваныч неторопливо идущего Чалого.
Дорога тянется вдоль опушки. Слева — лес, справа — степь. Прокаленная, залитая светом равнина желтеет щетиной жнивья, цветами подсолнухов; по полю, где убран горох, ходят семь журавлей. Попозже в эти места соберутся, готовясь к отлету, более сотни старых и молодых птиц. Теперь же из леса на поле летают кормиться несколько здешних семей. На закате журавли неторопливо, невысоко перелетают в болотные крепи, чтобы утром вернуться снова на поле. Журавли нас заметили, но, не тревожась, продолжают кормиться.
— Подывитесь... — показал кнутовищем Егор Иваныч на просяное поле. По нему в сторону журавлей крался лисенок. В бинокль было видно, как он старается и какие страсти охотника бурлят в молодом неопытном тельце. Осторожно подняв мордочку с высунутым языком, лисенок разглядывал журавлей и потом опять крался по невысокому, подпаленному жаром просу. Опасность журавлям не грозила. На открытом пространстве они вовремя увидели незадачливого охотника и лишь чуть отлетели. Лисенок с азартом подростка метнулся в их сторону, но тут же почувствовал, что сам-то он виден со всех сторон. Обнаружив сзади повозку, он кинулся к лесу, и лес мгновенно сделал его невидимым...
Степная жизнь тоже льнет к древостою. На суках засохших дубов видим горлинок. Канюкам удобно с деревьев высматривать в поле мышей. Спугнули с одиноко стоящей сосны в засаде сидевшего ястреба. И долго, как будто играясь с нашим возком, взлетали и снова садились на столбы телефонной линии два молодых ворона.
Четкой границы у лета и осени нет. Зной летний, но в гриве опушки уже появились намеки на близкие перемены — по крутой зелени кое-где выступает багряный румянец вязов и диких груш. Желтая прядь у березы. И как-то особо тревожно шелестят погрубевшей листвою осины, изнанкой листьев серебрятся под ветром ивы.
Все созрело в лесу. Прямо возле дороги, остановившись, собираем сизую ежевику. И то и дело проезжаем места с острым запахом диких яблок. Даже Чалого этот запах волнует, он замедляет вдруг ход и тянет ноздрями воздух. Ругнув радикулит, Егор Иваныч слезает с возка, и мы идем на опушку. Земля
Егор Иваныч останавливает Чалого.
— Да не, Василий Михайлович, то все брехня. Не областное то дело, районное. Воно как было... До работы тут у заповеднике промышлял я в соседнем районе лягушек. На експорт. Вы про то знаете. Ну, наловив я как-то две фляги... Да, в яких молоко возють. Наловив, значить, а тут Франция чевой-то перестала их брать. Перебой який-то там вышел. Ну шо робить? Я туды-сюды — не беруть! Я до председателя потребсоюза: «Товару, — говорю, — рублей на сто...» А вин, председатель, гадюка хитрючий, прижмурився, внимательно на меня смотрить: «А можа, они, Егор Иваныч, у тебя дохлые?..» Ну я 113
сразу у кабинет флягу. «Ну якие же, — говорю, — воны дохлые, живые!» Открыл флягу, наклонил трохи, ну лягу- шки-то, волю почуяв, по кабинету прыг, прыг... А председатель, оказалось, лягушек не любить, боится... Матерь божия, якие кадры можно было бы снять для вашего «Мира животных»! Сам я смеюся редко. А уже там посмеялся. Плюнув на сто рублив, собрал живой свой товар и прямо к пруду...
Пока я «перевариваю», покатываясь на телеге, лягушачью историю, Егор Иваныч идет в заросли кукурузы и приносит для лошади пару спелых початков.
— Чалого я выменял на Маечку, чтоб ее волки съели. И Чалый меня уважает. Як сяду писать — подходить и блокнот нюхає...
— Вот здеся воны и живуть. Вы идите дывитесь. А я радикулит солнцем буду лечить...
Наш возок стоит у стенки ольхового леса. Нигде в ином месте не видал я ольшаников столь могучих. Богатырской заставой выходит к степи из поймы лес. Черный, мрачноватый и нелюдимый. Жаркий ветер равнины, проникая в ольшаник, создает банную духоту. Под ногами черная топь, к лету подсохшая, но все равно зыбкая, ненадежная. Растут тут крапива и папоротник. Никаких красок,- кроме зеленой и черной. Даже осенью, когда все желтеет или краснеет, ольшаники остаются черно-зелеными, роняют на землю жухлый, непожелтевший лист.
Километра четыре можно идти этим лесом к Хопру. Но лишь редкий знающий человек предпримет это небезопасное путешествие. Легко заблудиться. И кричи не кричи — никто не услышит. Царство оленей и кабанов.
Весною ольховый лес сплошь заливается талыми водами. Вот тогда, блюдя осторожность, в легкой лодочке можно пробраться ольховым лесом. Я плавал однажды и вспоминаю ольшаники, погруженные в воду, как Амазонию.
Пойма Хопра — не вся ольховая. Есть дубняки, осинники, веселый смешанный лес с травяными полянами, с живописными ивняками возле озер и стариц. Озер больше трех сотен. Егор Иваныч по памяти называет с десяток: Вьюня- чье, Юрмище, Тальниковое, Осинов- ское, Колпашное, Грушица, Голое, Серебрянка... «Сверху глянуть — кудряшки леса и блюдца воды, а в середине — Хопер». Этот исключительный по богатству природы степной оазис и есть заповедник. Не перечислить всех, кто нашел тут приют: олени, бобры, кабаны, выхухоль, журавли, утки, орлы... Ольшаники выбрали для поселения цапли. Я видел шумную их колонию летом — более сотни гнезд на верхушках деревьев. Между ними, как призраки, пролетали долгоклювые птицы. Внизу валялись скорлупки яиц, скелеты упавших сверху птенцов... Сейчас в ольшаниках тихо — цапли держатся где-то возле воды. И все их стойбище очень похоже на опустевший, внезапно покинутый городок.
— Вы здесь? Не заблудились? — услышал я голос.
Егор Иваныч стоял у входа в ольшаник с большим подсолнухом:
— Поедем-ка, друже, до Бережины. Чалый пить хочет, да и по нас арбузы скучають...
Бережина — один из кордонов Хоперского • заповедника. Небольшой домик окнами смотрит в степь, а двором упирается в лес. Тут и живет уже несколько лет Егор Иванович Кириченко.
— Детей нема. Бытуем с жинкою двое. Вона сегодня на вышке — пожары шукає...
— Не скучно тут жить-то?
— Сказать по правде, скучать-то некогда — служба, пусть и нехитрая, да и скотину держим. Зарплата у лесника, знаете сами, — на хлеб да соль...
Во дворе Егора Иваныча гоготаньем приветствовали два благородной осанки гуся, о ногу терлась истосковавшаяся по людям собака. В хлеву о себе заявили два поросенка. И важничал посредине двора индюк с восемью индюшатами.
— Есть еще кролики. Почти одичалые. Бегають як хотять. Вон поглядите — усе кругом в норках, боюсь, Чалый ногу сломает. Вечером подывитесь — скачуть вольно, як зайцы...
Егор Иваныч пускает Чалого на поляну, полого уходящую к лесу, и приносит под мышками с огорода два полосатых арбуза.
— Треба охладить трохи — горячие, як хлебы з печи...
Опускаем арбузы в ведра с водой. И в ожидании пира после дороги говорим в прохладной избе о здешнем житье- бытье.
— Зимой, бываить, так замететь, шо неделю без хлеба и сигарет. На те случаи хозяйка сухари запасає, а я — самосад. Кручу цигарки, як в военное время...
— Дичь и домашняя животина рядом живут. Бывают, наверное, конфликты?
— Бувають. Якая же жизнь без конфликтов. Лисы до кроликов дюже охочи. Но воны — видели норы — раз, и только хвостик мелькнул. Теперь, чую, лисы до индюков подбираются. У прошлую среду трех маленьких задавили. Но то, думаю, молодые лисята — учатся... Е волк. Живе где-то близко. Мимо кордону, по следам вижу, ходил не раз. Но ни боже мой — ни поросенка, ни лошади, ни даже куры не тронул. Умен зверина! Там, где живе, — не шкодить... Ну, еще кабан имеет привычку у голодное время во двор заходить. Почавкает чево-либо и снова в лес. Мирное сосуществование!..
Нет в жару еды приятней холодных арбузов! За пиром, знаменующим окончание лета, застает нас хозяйка, приехавшая на велосипеде с пожарной вышки.
— Садись, Маша, командуй! — подставляет жене табуретку Егор Иваныч. — А мы продолжим беседу о Бережине... Из всех зверей, Василий Михайлович, наибольшее поголовье — за комарами. На окнах видите марлю, на дверях занавески? Це оборона против сих динозавров. Двухмоторные, дьяволы!.. А ишо ужаков много. Место Бережиной называют не зря. Весною вода як раз до двора подымается. Ну ужаки, понятное дело, на теплое место, на берег лезуть. Ступить негде от етого войску... И все ж Бережина — гарное место, вольное и покойное. Как-то я встретил в Новохоперске доброго старичка Куликова Александра Иваныча. Вин тридцать лет безвылазно на кордоне прожил. Ну, понимаете сами, сердцем прирос. Мне так прямо голову на плечо положил:
— Ты с Бережины?! Ну як вона там?..
— Да стоить, — говорю, — в порядке. Колодец собираюсь почистить, баньку мерекаю сладить...
— Ну а як ужачки, а?
— А як же, — говорю, — е.
— И у кордоне бувають?
— Бувають, — говорю, — як же без етого.
— У меня, Егорушка, был один ужачок — любимый, у левом валенке жил. Звернется калачиком и слыть. Я валенок набок клал, щоб было ему удобней. Выйдет, попьё из блюдечка молока и опять спыть. Бывало, валенки надо обуть — обережно его выпускаю.
Деревенский двор полон поэзии. То лошадь в окно заглянула — хрустят на зубах незрелые яблоки, то индюк надулся — демонстрирует свой наряд. Ласточка залетела в сарай, лиса забежала во двор из леса...
А вернусь — вин опять у левый валенок и спыть...
Егор Иваныч задумывается, гладит клеенку стола.
— Я пригласил тогда Александра Иваныча у гости. Приезжай, — говорю, — посидим, поговорим, повспоминаем. Шутка ли, тридцать лет на одном месте. Не только ужак, любая травинка станет родною...
Сидя с лесником во дворе на скамейке, мы видим, как в пойму полетели на ночлег журавли, как устроились на насест куры и замелькали над огородом на красном закате летучие мыши.
Машина из заповедника появилась уже в темноте.
— Ну что ж, до побаченья. Не забывайте про Бережину...
В свете фар у калитки Егор Иваныч стоял рядом с женою — одна рука поднятая, другая — крутила чумацкий ус...
Дорогу опушкой машина пробегает минут за двадцать. Но я попросил шофера не торопиться. У просяного поля в полосу света попал лисенок. Машина не показалась ему опасной. Поворачивая голову и топориком навострив уши, лисенок с любопытством разглядывал красную «Ниву». Мотор шофер заглушил, а я, опустив стекло, тихо попищал мышью. Лисенок, вытянув мордочку, устремился на звук и, тараща глаза, уселся в двух метрах...
Потушив фары, мы постояли на опушке минут десять. В степи плясали красноватые языки света — перед пахотой жгли стерню. Далеко в стороне, пронося по звездному небу мигающий огонек, летел самолет. А справа, рядом с дорогой, темнела громада леса. Запах бензина возле машины перебивался запахом диких опавших яблок.
Хоперский заповедник, 1986 г.
□
САШКА ПРИЕХАЛ!
~ Сашка приехал! Сашка приехал !..
По этим радостным воплям мы догадались: в деревню приехал уважаемый человек. И не ошиблись. У крайнего дома стояла подвода. Мальчишка в синей линялой майке, поправляя хомут, приветливо кивал подбегавшим.
— Сразу все не садитесь... Всех прокачу, только не сразу.
Я подивился умению и спокойствию, с какими «кучер» навел порядок. Редкого взрослого человека возбужденная детвора послушалась бы с такой же готовностью, как этого светловолосого мальчугана лет одиннадцати.
— Сразу вернусь и всех прокачу, — сказал Сашка и дернул вожжи.
Повозка с чинно сидевшими пассажирами и стоявшим на передке возницей тронулась по деревне. Теперь уже взрослые люди окликали парнишку:
— Саша, есть что-нибудь?
Мальчишка либо деловито и весело говорил: «Пишут...», либо доставал из сумки газету или письмо...
Деревня Глазово небольшая. Минут через двадцать подвода вернулась. Первая партия пассажиров спорхнула с телеги, и Сашка повез вдоль села остальных.
Когда он вернулся, мы с приятелем попросили и нас прокатить. Сашка не удивился, только спросил:
— А скоко время сейчас?
Я показал часы.
— Садитесь...
Мать Сашки, Надежда Константиновна Гераськина, — почтальон. От главной почты в Липицах она объезжает или обходит еще четыре деревни: Лесничество, Зайцеве, Якушине, Глазово. Этим летом Сашка вызвался помогать матери. Если почта невелика, Сашка садится на велосипед, но часто он запрягает совхозного мерина, и тогда появление почтальона вызывает в каждой деревне особую радость:
— Сашка приехал! Сашка приехал!..
Осенью Саня Гераськин пойдет учиться в четвертый класс. Он признался: сам никому еще не писал и писем на свое имя в деревне Зайцеве тоже не получал. Но он хорошо уже знает: все любят получать письма.
Всем, кто пишет в деревни Якушино, Зайцеве, Глазово и Лесничество, приятно, наверное, будет представить: поездом, самолетом, автомобилем идет письмо, а потом тихими перелесками везет его на лошадке работящий мальчишка. Ему первому достается радость от ваших вестей: «Сашка приехал!»
□
Из таких вот мальчишек, приученных с малолетства к труду, вырастают люди крепкие, работящие.
116
КРАЕВЕДЫ
Ахмет Мартынович был молодым, когда ему показали письмо, отправленное «В Москву, Калинину...» из Сысула. Мужики жаловались. «Нет школы... Говорят, радио объявилось, а мы не слыхали ни разу... И даже налог не платим...» Это было в 1933 году. Учителя послали узнать, что и как. Стал спрашивать дорогу в лесную деревню, говорят: «Иди по углям». Думал — шутят, оказалось, правда, снег на дороге был черным. Вела дорога в селение углежогов.
С этого первого путешествия в глубь мещерских лесов начал Ахмет Мартынович «краеведничать». Он сам говорит, что был в этом деле любителем, ходившим просто как человек любознательный. Но в 20-х и 30-х годах сюда отправлялись и краеведы серьезные. Ввиду перестройки деревни важно было запечатлеть быт, уклад жизни, творчество людей, поверия и обычаи, сохраненные тут, в лесах, со времен почти что языческих.
Краеведы в те годы были хорошо организованны. Они собирались на регулярные «чтения», был у них свой журнал («Вестник рязанских краеведов»), их записки собирались в специальный архив. Пробежим сегодня глазом по их тетрадкам, отмечая хотя бы только детали на листах, исчисляемых многими сотнями.
«...Мещеряки делились на жителей разных мест и назывались по-разному. Боляки — это люди, жившие у озер и болот, тумаки — в окрестностях Тумы, куршаки — по рекам Курше и Нарме». А вот собственные имена людей, какими были они во времена правления Г розного (имена краеведами взяты из судебной бумаги): «Левон Филатов, Олежка Голыга, Ивашка Резвой, Злоба Козмин, Стромила Александров, Данила Клабу- ков, Болобан Кухтинов...»
Жили люди в здешних лесах обособленно, замкнуто. Однако существовала торговля, было движенье на юг и с юга по Волге и по Оке. И это движенье приносило в леса «моровую болезнь» (холеру). Люди понятия не имели о не видимых глазом возбудителях мора, но опыт жизни уже подсказывал: «чистота и огонь болезнь не пускают». На дорогах, ведущих в Мещеру, учреждались заставы с предписанием: «Стоять день и ночь, приезжих из моровых мест расспрашивать через огонь и письма огнем окуривать». Но в это же время крестьяне и таким вот образом пытались бороться с мором. «В Ерахтуре при холере впрягали в соху баб и опахивали деревню. Считалось, что так холера минует».
Однако наряду с суеверием и языческим взглядом на окружающий мир крестьянин копил и житейскую мудрость. Вот, к примеру, определение времени выпечки хлеба. «Когда ставили хлебы в печь, кусочек теста клали в миску с водой. Сначала тесто потонет, но через некоторое, довольно значи-
Краеведу все интересно — руины древних построек, названия мест, приметы уходящего быта и новизна, фольклор, следы событий, памятники природы. Все, все!
тельное время оно всплывает. И хозяйка тотчас хлеб из печи вынимает — он готов!»
Природа, окружавшая человека, была ему богом, убежищем, кормилицей, лекарем, источником радости. Дуплистое дерево сначала почиталось как божество, потом как вместилище меда при «бортной охоте». О птицах и звере в лесах было свое представление. «Убить журавля — большой грех и дома лишиться». «Лягушку убьешь — корова молока не будет давать»...
Любая деревня имела свой норов, держалась какого-нибудь своего ремесла (бондари, углежоги, плотники, смолокуры, тележники и так далее), и почти у каждой деревни было прозвище, связанное либо с промыслом, либо с каким-нибудь памятным случаем, либо с чем-то еще. Кадомцев тут называют «сомятниками». Причина: «Весной разливается Мокша и жители Кадома, подобно венецианцам, по улицам разъезжают на лодках. После спада воды некоторые находят в своих печах заплывших туда сомов». А вот в Спасском уезде село С. (не будем полным названием его сейчас обижать) знаменито было ворами — «у кого что пропадало — ехали в С.»...
А вот вопросы, какие задавали крестьяне губернской газете в 1925 году. «Вредно ли носить калоши?», «Есть ли у человека душа?», «Почему человек говорит, а обезьяна нет?», «Как избавиться от загара?», «Полезно ли для здоровья пение песен?»
Подчеркнем: это всего лишь штрихи из многочисленных записей, и сами записи — лишь часть большой работы краеведов Рязани, проведенной полвека назад.
Краеведение на Рязанщине, как и всюду, с 30-х годов заметно заглохло. И все же тут, по моим наблюдениям, лучше, чем где-либо еще, заботятся сейчас о всем, что не должно быть забыто в познании Родины. Во время хождения по Мещере мне в руки попала книжка нынешних краеведов «На земле рязанской». Несколько суховато, но обстоятельно в ней рассказано обо всем, что достойно вниманья на этой земле, в
117
соединении с географией, названы имена «знаменитых рязанцев».
Давно известно: нет села, городка, округи без имени чем-нибудь славного человека. Но Рязанщина все-таки поражает обилием тут рожденных или произраставших талантов. Циолковский, Есенин, Мичурин, Павлов — люди, слава которых обошла шар земной. И нет возможности перечислить всех, кем гордимся мы дома, в нашем Отечестве: писатель Новиков-Прибой, маршал Бирюзов, скульптор Голубкина, художник Архипов, несгибаемой воли человек декабрист Лунин, мореход Головнин, певец Пирогов, композитор Александров, прославленный в Италии партизан Полетаев, молодогвардеец Иван Земну- хов, трактористка Дарья Гармаш и тракторист Анатолий Мерзлов... Это все дети Рязанщины. И рязанцы берегут о них память.
У дороги в Рязань из Москвы, как раз в том месте, где поворот в село Константиново (родина Есенина), установлен примечательный памятник: старенький трактор на постаменте. Это тощее клепанное в 30-х годах изделие, со шпорами на колесах и высокой трубой, с железным круглым «седлом» и занятным рулем поворота — само по себе интересно и останавливает внимание. Но монумент — не памятник первому трактору, это память о грозных военных годах, когда женщины сели на трактор, сменив ушедших на фронт мужей и братьев. Это было большое и героическое явление в жизни. У истоков его стояла рязанская комсомолка Дарья Гармаш. «Работали и ночами. Ремонтировали тракторы в борозде у костров. При вспашке зяби осенью садились за руль в полушубках и валенках...» — это рассказ Дарьи Матвеевны, по-прежнему здесь живущей. А вот что сказал Александр Степанович Метелкин, которого я попросил задержаться, — он ехал в седле на колхозную ферму: «Дарья?.. Дарья — человек замечательный! Я-то помнил ее девчонкой. А когда мы в болотах под Ленинградом лежали, политрук приносит газеты. Есть, говорит, кто-нибудь из Рязани? Вот тогда и узнали о Дарье Гармаш. Ей и подругам ее с фронта мы много писали. И даже я сделался знаменитым в окопах — землячка!»
В километре по той же дороге есть и еще памятник. «Воины — летчики: лейтенанты Чукин и Прихно, сержанты Никулин и Харин. Погибли при выполнении боевого задания осенью 1941 года». Эта надпись на камне заставляет связать воедино события той поры. Легко представляешь осеннее поле, такой вот клепаный тракторишко на нем и самолет с полосой дыма, летящий к земле... При смене поколений это все не должно забываться. И рязанцы нашли хорошее средство пробуждать память.
Среди краеведов, много сделавших для утверждения славы здешнего края, мне особо запомнился Анатолий Иванович Коваль, живущий в Ижевском за Окой. Это село является родиной Циолковского. Мы так привыкли связывать имя гениального старца с Калугой, что многие полагают: в этом городе он и родился. Нет, родился он на Мещере. И хотя прожил в Ижевском всего лишь дней шестьдесят от рожденья, установление этого факта было для краеведов точкой опоры в поисках всего, что связано на Рязанщине с Циолковским.
Надо сознаться, порог музея в Ижевском переступаешь без особой надежды чему-нибудь удивиться. И ошибаешься! Этот сельский музей таков, что и столичный город может ему позавидовать.
Отдавая дань художникам из Рязани, с большим уменьем и вкусом строившим экспозицию (Владимир Шипов и Владимир Зимин), все же надо сказать: главную благодарность тут заслужил краевед, в прошлом учитель и сотрудник районной газеты Анатолий Иванович Коваль.
Воссоздавая обстановку жизни семьи Циолковских в селе, ему неизбежно пришлось копнуть историю Ижевского. (Она восходит к 1387 году. Селу шестьсот лет!) В музей собрано много всего любопытного, о чем нынешний житель села без краеведа знать бы не мог. Собраны вещественные свидетельства прежней жизни, обнаружилось много интересных людей, выходцев из села. И все это не просто найдено, но и пре-
красно организовано для показа всем, кто окажется в Ижевском.
Хорошо понимаешь: краеведу-энтузиасту помогало в работе имя великого человека. Но как велика и ценна работа его! И очень хочется видеть почаще таких людей. Пусть не слишком богатым будет музей в селе, в городке, но важно, чтобы он был!
С чего краеведение начинается? Этим началом можно считать первый шаг человека за порог дома. Улица, огород, палисадник — уже целый мир. И этот мир стремительно расширяется, рождая много вопросов и много ответов для растущего человека.
За мещерским селом Санское мы встретили двух ребятишек, одолевших на велосипедах немаленький путь. На древнее русло реки они приехали разыскать рога туров, которые будто бы тут попадались в рыбацкие сети. Оказалось, в Санском о рогах даже никто не слыхал. Но огорченья у двух запыленных, по пояс голых подростков мы не заметили. Запивая хлеб молоком из солдатской фляги в суконном чехле, они обсуждали свое путешествие. Перебивая друг друга, ребятишки рассказали о поисках старого русла, о расспросах здешних людей — старожилов, о дороге в пойме Оки, о переправе у Шилова на пароме, о ночлеге у косарей, о норе, у которой бегали два лисенка... Двое рассказчиков переживали радость открытий, цена которых не упадет по мере того, как эти подростки будут взрослеть.
От простого туриста («поглядел и ушел») краеведа отличает пытливость, он не просто ходит, он что-то узнает, ищет (ведает!). Бывает, что степень осведомленности краеведа, авторитет его так велики, что люди науки к нему обращаются за советом и помощью. Бывает, краевед вступает в интереснейший спор с учеными. Уже несколько лет я слежу за поиском человека, поставившего под сомненье всеми признанный путь князя Игоря с войском до роковой встречи с половцами. Краевед считает, что битва состоялась не там, где привыкли считать, и готовит этому доказательство.
Четких границ между наукой и «любительским краеведением» не существует. Я знаю человека, который всю жизнь посвятил разыскиванию камней с древними знаками (он называет их «следовики»). Краевед исходил едва ли не всю европейскую часть России, составил карту находок, имеет свое представление о природе камней с письменами... Есть краевед-ботаник, восстановивший карту растений на бывшем когда-то целинном, а ныне распаханном поле Куликовом... На родине Ленина живет краевед, проследивший географию жизни семьи Ульяновых.
Назовем, наконец, большого ученого- краеведа (тоже уроженец Рязанской губернии!) Петра Петровича Семенова- Тян-Шанского. К простой фамилии «Се¬
менов» слово «Тян-Шанский» прибавлено за большие заслуги в большом путешествии со множеством разных открытий. Но ученый известен был также как «главный краевед государства». Под его руководством был издан замечательный труд — десять томов — с любопытным названием: «Россия — полное географическое описание нашего отечества. Настольная и дорожная книга для русских людей». Это удивительное и по объему, и по богатству приведенных в нем фактов издание читаешь едва ли не с большим вниманием, чем самый интересный роман. История, география, этнография, статистика, памятники старины, примечательности природы, масса важнейших подробностей жизни и быта людей, справочный материал, названия даже маленьких поселений с указанием их родословной, их положения на местности, экономики — все находишь в этой удивительной книге!
Для интереса я заглянул: есть ли в книге местечки, упомянутые в этом очерке? Есть! А на букву «О» я отыскал свое родное село (кого не тянет узнать, чем было место, где ты родился!) и узнал: Орлов-городок на реке Усманке, основан был при царе Алексее Михайловиче в 1645 году для бережения государства от набегов кочевников. Указано, сколько саженей в окружности имел городок, где на реке стояли острожки с башнями, почему и когда городок стал селом, сколько жителей было в нем к моменту издания книги, сколько имелось лавок, церквей, ветряных мельниц, как часто бывали ярмарки, во скольких километрах по Усманке лежали другие села, как далеко была станция железной дороги и как тогда называлась. И это все о селе, каких в России было многие тысячи...
Пролетая на самолете, мало что можно увидеть. Поездом — уже больше. Автомобиль дает возможность остановиться где хочешь. Но больше всего дает человеку пешее путешествие. И особо удобен велосипед.
Богатство разнообразнейших сведений собрано в книгу трудом краеведов. Это венец их работы и памятник жизни — в книге есть описание сел, речек, озер, построек, дорог, которые время стерло с лица земли, но мы узнаем: они были! Узнаем, как выглядели, какую роль играли в человеческой жизни. Узнаем, сравнивая прошлое с настоящим, как развивалась наша страна, какие места Отечества претерпели наибольшие изменения. Вот что значит труд краеведа!
Сегодня краеведение, надо признать, во многих местах позабыто. Мы скоро и торопливо ездим, на самолете, можем за восемь часов перемахнуть страну в ее протяженности с запада на восток. Но много ль мы видим при таком замечательном путешествии? Как сказал один мой знакомый, «мы видим только изнанку проплывающих над землей облаков». Краеведение — это хождение по земле! Неторопливое, обстоятельное. И главная из наград при этих неспешных и чаще всего недальних передвижениях состоит не только в общественной полезности дела, глав-
119
ПАРОМ
Древнейшая из переправ. Пешеход осилит воду на лодке, по бревну, по мостку. Для повозки же нужен мост или это вот нехитрое скрипучее сооруженье — паром. Чтобы не уносило теченьем, над водой натянут канат. Вдоль него потихоньку паром и плывет. Туда и обратно, туда и обратно...
Паром — признак жизни неторопливой и не слишком густо замешенной. Иногда паром, правда, единственный выход из положения. Через Каспий, к примеру, мост не построишь. Паром ’ Да какой! Железнодорожный поезд скрывается в его чреве, а утром, переправившись из Баку в Красноводск, следует далее в Азию. В Норвегии я видел паромные переправы через фиорды, на западе США, у Сиэтла, и на востоке, на Великих озерах, паромы ходят между островами. На них сразу возят до сотни автомобилей, и тянут эти плавучие средства громадной силы моторы. А прародители этих паромов-гигантов такие вот тихие переправы.
На Волге, после истока, самая первая переправа деревянный мосток, а дальше, до Ржева, до первых больших мостов, я насчитал четыре парома. Для интереса на всех четырех переправился, посидел с паромщиками, поглядел, как каждый из них управляется на ответственном человеческом перекрестке.
А с паромщиком Виктором Андреевичем Смирновым и женой его Анной Дмитриевной мы подружились. Я залезал на крышу их дома сделать снимки парома, в минуту затишья на переправе пил с ними чай и послушал обоих — Анну Дмитриевну, говорящую скоро, как пулемет, и хозяина, немногословного и тишайшего.
—Тридцать три года переправляем. На сорок верст всех кругом знаем. Все тут сходятся на пароме — кто с горем, кто с радостью, кто с трудами-заботами. В три часа ночи стукнут в окно — встаешь. А как же, должность такая!
Паромщик, покуривая, согласно слушает заливистый говор жены и считает нужным только добавить:
— Да, с 45-го тут при воде. Сразу как вернулся с войны...
Переправа — особая точка в здешних краях. Тут перекресток всех новостей и справочный пункт, место неожиданных встреч, расставаний. В погожее время — тут клуб для старушек и место, где ребятишки приобщаются к жизни ершистой и непричесанной.
В определенный час к переправе является почтальон с велосипедом. В определенный час везут на подводах молоко с фермы, везут в фургоне теплый пахучий хлеб. Машина с красным крестом посигналит — паромщик бегом летит к переправе.
Бывают на этом пароме заторы. Случается это весной, когда везут удобрения, летом, когда везут сено и намолоченный хлеб. Лен, лес, дрова, скот — всему свое время на переправе.
— В последний год-два много техники разной идет — мелиорация. Иногда такой механизм вкатят — моя «дощечка» оседает до самого некуда.
Движет паром вдоль каната сама вода. Теченье у Волги в этих местах большое. Поставит паромщик рулевое весло под нужным углом — паром на роликах вдоль каната и движется; переменил положенье весла — пойдет обратно. Хочешь ускорить ход — помогай, надевай рукавицу и тяни за канат. Есть для этого и особая деревяшка с зазубриной. Раз, раз... глядишь, вот он и берег.
Переправа на этом месте такая же древняя, как сама Волга, как деревеньки по ее берегам. Кажется, покопайся в песке — найдешь старинную денежку и подкову и даже стрелы наконечник. И много, очень много железа осталось в Волге с минувшей войны — каски, снаряды, патроны. До сей поры ребятишки нет-нет да и вынут что-нибудь из воды...
Вечер. С Виктором Андреевичем мы сидим на бревне у причала. Видно, как в светлой воде у пригнутой теченьем травы играет рыбешка. На другой стороне, на отмели, ходит аист. Сзади, на взгорье, за домом, Анна Дмитриевна возле желтого «Москвича» скороговоркой дает проезжим советы, как солить огурцы: «Смородинный лист, непременно смородинный лист...»
— Да, переправа, переправа, берег левый, берег правый, — задумчиво говорит перевозчик. И я чувствую, говорит он это в тысячный раз.
— Андреич, а ты знаешь, что это стихи? Знаешь, кто написал?
— Нет, не знаю. В армии слышал это от повара, он всегда говорил: «берег левый, берег правый». С кухней вместе погиб — прямое попадание бомбы...
На другом берегу появляются трое мотоциклистов и мать с мальчонкой. За юбку матери держится белоголовый сынишка, захваченный зрелищем первой в жизни переправы через большую воду. Паромщик, ободряя его, подмигивает, прижимает к пуговке носа шершавный палец.
— К девчонкам ребята едут?
— Да, это наши местные женихи. Возвращаться будут с рассветом.
— Сказал бы ты им — ночью-то беспокойство...
—А что говорить, все равно не послушают, дело-то молодое. Я и сам, бывало, являлся домой, когда петухи уже поохрипнут.
На помост осторожно въезжает желтый «Москвич». Андреич переводит весло в нужное положение, и паром, поскрипывая, отходит.
Слышно, как беззаботно переговариваются ребята-мотоциклисты, как шлепается блесна об воду у рыболова и где-то блеет овца.
И вот уже на средине Волги паром. Перевозчик, не выпуская весла из рук, продолжает начатый с водителем «Москвича» разговор о делах деревенских и городских:
— Да, берег левый, берег правый...
Верхняя Волга, 1978 г.
□
НОВОСЕЛЬЕ
В деревню Сытьково весной прилетели три пары аистов. Полетали, посидели на высоких деревьях, походили по болотцам у Волги, и жители догадались: прилетели в разведку. Аисты в этих местах никогда не селились, никто никогда их не видел. И можно представить радость, волненье и ожиданье: а вдруг останутся?
Два просвещенных сытьковца Цветков Михаил и Геннадий Дроздов первыми вспомнили: в иных местах для привлечения птиц укрепляют на дереве колесо. Колесо сейчас же нашли, хотя найти тележное колесо в наше моторное время — дело совсем не простое. Ну и, конечно, не просто надеть колесо на верхушку высокого дерева. Вся деревня сошлась поглядеть, чем все окончится. Не будь такого схода людей, Геннадий и Михаил, возможно, отступили бы. Но на миру чего не сделаешь! В старое время на местных ярмарках смельчаки за сапогами на гладкий столб залезали. Благополучно кончилась операция. Словом, надели колесо.
Фундамент для птичьего дома получился хороший. И пара аистов поселилась в Сытькове. Гнездо, однако, птицы построили не на ели, увенчанной колесом, а на церкви.
На самом высоком месте деревни стоит эта церковь. В былые времена такое расположенье постройки (за многие версты видна!) внушало человеку верующему подобающее почтенье. А во время войны сытьковская церковь стала многострадальной мишенью. Подозревая на ней наблюдателей, били по деревне то наши, то немцы, и столько было изведено снарядов, что целый город бы рухнул. А церковь стоит. Старухи обстоятельство это приписывают покровительству сил неземных. А семилетний внук одной из старушек в моем присутствии высказал суждение очень здравое: «Что ты, бабушка, это со знаком качества строили!»
Неистребленный запас прочности аисты по достоинству оценили. На самой верхушке церкви соорудили гнездо,
вывели аистят. И стали они принадлежать как бы всем, всей деревне. И в этом усмотрена высшая справедливость. Даже Геннадий с Михаилом сказали: «Ну что ж, им виднее, где строить. Они понимают...»
Лето в Сытькове прошло под знаком птиц-новоселов. Непугливые аисты ходят по огородам, по лугу, садятся на крыши домов. Из любой калитки, с любой завалинки и скамейки видно гнездо. Видно, как прилетают с запасом еды для детей старики аисты. Видно: толпятся в гнезде, пробуют крылья три молодые птицы. Вся деревня слышит раннюю утреннюю побудку — треск клюва. «Это они переговариваются друг с другом. И так приятно душе от этого разговора».
Много толков о птицах. Куда летают, что носят в гнездо, у чьего дома любят садиться, что за странная песня... Глядя на трех аистят, подросших в гнезде, стали строить предположенье: вернутся сюда же или, как сельские молодые ребята, подадутся куда? Колесо, на котором ночуют пока что вороны, у аистов на виду — селись, пожалуйста! А у парома я встретил двух молодцов на мотоцикле — везли еще колесо от телеги.
— Не иначе как аистам?
— А что, разве плохо? Говорят, счастье от них.
Когда аисты появились, вся деревня пришла в возбуждение. На деревья водружали колеса, мостили площадки из досок. Но аисты выбрали верх разрушенной церкви.
Паромщик, переправлявший ребят в деревню, с покоряющим удовольствием тоже заговорил о птицах:
— Слышал, там и там поселились... А ведь ранее никогда не было.
В этом явлении (ареал гнездящихся аистов за последние годы заметно расширился на восток) паромщику явно хотелось видеть добрый житейский знак.
— Селится птица! Вот и люди, глядишь, тоже начнут кое-что понимать. Недавно с одним из наших беседовал. Говорит: «Уеду из города! Срублю дом и буду хозяйствовать». Как, считаете, только поговорил или в самом деле вернется?
Верхняя Волга,
1978 г. 123
БИЛО
Слова с корнем «бить»» в языке нашем трудно пересчитать. Битва, бойня, отбой, прибой, забой, боец, боеголовка... Били когда-то челом, били баклуши (и сейчас еще бьют, к сожаленью!), били монету, делали сбитень (напиток). Деревенский немолодой житель не скажет «строят дорогу», он скажет «дорогу бьют». Так же будет сказано о проходке лесной просеки, о рытье колодца. Бьют также масло и шерсть (маслобойка и шерстобитня). Пожилой человек не скажет «послал телеграмму», он скажет «отбил».
Корень «бил» особенно обнаженно звучит в предмете, называемом просто и кратко било.
Било непременно находишь в любой деревне. С помощью фотокамеры я составил даже коллекцио этих снарядов для сбора людей на пожар или по иному срочному делу. В прежние времена этим снарядом был колокол. Церковный сторож, заметив огонь, неприятеля или другую беду, птицей взбирался на колокольню и бил в набат. (У нас в степном селе в колокол били также во время зимней пурги.) Иногда колокол вешали посредине села просто на перекладину или на дерево. Они и сейчас висят кое-где, позеленевшие от непогоды, ревниво оберегаемые жителями старые колокола.
Чего сегодня не вешают для сигналов в деревне! Чаще всего видишь обломок рельса или вагонный буфер. Но видел я диски от культиватора, лемех от плуга, газовые баллоны, чугунные доски. В Калининской области около Волги в маленькой деревушке висит даже бомба. Взрывчатку из нее вынули, а остов, если ударить, подает голос очень даже тревожный.
Во времена, когда рельсов, шестеренок и баллонов от газа не знали, сигнальные доски специально ковались. В Рязанском музее хранится било из города Пронска. Железная трехметровая полоса, согнутая в полудугу, в XVII веке оповещала прончан о пожарах.
И все, кто бывал в Михайловском, могли заметить: в усадьбе поэта, почти рядом с домом, висит размером в половину примерно листа газеты поковка железа. Когда она была раскаленной, кузнец буквами старого времени обозначил ее назначение: біло. Прилежные собиратели всего, чему Пушкин мог быть свидетелем, реликвию прошлого разыскали, наверное, в какой-нибудь деревушке поблизости. И очень возможно, что Пушкин, блуждая пешком или верхом на лошади по проселкам, слышал удары железом в железо.
Давнишнее это средство: гулким тревожным звуком быстро созвать людей.
□
124
стожки
Ничего особенного — стожок сена и складушка приготовленных на зиму дров. Но как они сложены!..
Сено в стожках всегда волновало художников и поэтов. Почему? Потому, наверное, что стожок — это память о лете, это итог поэтичного по своей природе труда, это копилка запахов и тепла, гарантия благополучия на зиму. Но об этом не размышляешь. Когда видишь стожки, просто ими любуешься. Они украшают любой пейзаж, везде они к месту. И чем их больше, тем больше и радуешься.
На этот раз не столько живописность стожков остановила внимание, сколько особая их аккуратность, я бы сказал, изящество, с каким было уложено сено. Один стожок, другой, третий вдоль полотна дороги. По почерку видно: клал один человек. Остановились. Сунули в сено носы и, насладившись запахом, отошли полюбоваться со стороны добротной крестьянской работой. Кажется, клалась былинка к былинке — все причесано, утрамбовано. Чтобы даже малость не похилился стожок, подперт он кольями, обложен жердями и стоит на помосте из бревнышек.
— Не стожок, а игрушка! Кто же кладет такие? — спросили у проходившей женщины.
— Понравилось? Это клал Василий Петрович Петров из деревни Петрово. Если не очень спешите — три километра назад. В крайнем доме живет.
Мы не поленились вернуться к маленькой деревеньке. Хозяина дома не было, уехал в больницу. А жена его Антонина Алексеевна, посмеявшись нашему интересу, сказала:
— Да, он у меня такой. Семьдесят шесть, а по-прежнему уважает во всем порядок. Вон поглядите дровишки.
Действительно, тем же почерком во дворе были уложены и дрова — поленце к поленцу, изящным «амбарцем».
Василий Петрович всю жизнь проработал дорожным рабочим.
— Его участок всегда отмечали. Всегда к празднику — грамота. Премии получал, — вспоминает хозяйка дома.
Уверенно можно сказать: и во всех других делах человек этот аккуратен. Есть такие люди, чего ни коснутся, все выходит у них — поглядеть любо. И качество это важно заметить. Слишком уж часто видишь кирпич, брошенный как попало, бревна, рассыпанные, как спички, то же сено, накиданное небрежно, насквозь прошиваемое дождями, дорогие машины, брошенные в грязи без навеса...
Низко поклонимся аккуратности! Она не только приятна для глаза, она сберегает добро и воспитывает в человеке хозяина.
Новгородская область, 1978 г.
□
РУССКАЯ ПЕЧЬ
О деревню Локня на Псковщине я добирался зимой, в морозы, по заметенным снегом дорогам. «Газик» наш буксовал. Толкая его из сугробов, мы согревались. Но потом снова мерзли. «Ничего, ничего... — балагурил шофер, — вот приедем — и сразу к печке. Дочка горячими щами накормит»...
Большую печь третьеклассница Иришка Цыганова сама пока что не топит. Пока это утром перед уходом на работу делает мать. Но управляться у печи Иришка умеет. Я это видел. Пришла из школы, на гвоздик у печки — пальтишко, на печку — промокшие валенки. Прислонила к теплой беленой стенке ладони, постояла, касаясь печи спиной. Согрелась. И за обед.
Ухватом достала Иришка посуду со щами, с гречневой кашей, достала кринку топленого молока. Мы с директором совхоза Васильевым Сергеем Александровичем с готовностью приняли приглашение отобедать. Еда не хитрая. Но было все горячее, вкусное. А топленое, коричневато-белое с пенками молоко для меня было как подарок из детства.
Иришка после обеда, прихватив книжку, шмыгнула на печь. Там рядком стояли валенки, сушился шоферский отцовский кожух, висели на шесте в уголке связки лука.
Спешу сказать: дом Цыгановых — не реликвия прошлого. Это год назад по типовому проекту построенный дом. И всё в нем вполне современное: обои, хорошая мебель, телевизор, нарядные шторы на окнах. А вот печь в доме «бабушкина». Сложили ее, нарушив предписание архитекторов, по-своему расположив перегородки в доме. И очень довольны, что именно так поступили.
Пока Иришка, с любопытством поглядывая на нас с печи, рассеянно читает книжку о Карлсоне, который живет на крыше, мы с директором совхоза ведем разговор о печи, точнее сказать, о русской печи, которая тут, в деревеньке Рыкайлово, по словам Сергея Александровича, «переживает эпоху возрождения».
Все по порядку. Директор — человек молодой, ему двадцать девять. Вырастал он на этой лесистой псковской земле, с детства знает деревенский быт и хозяйство. И когда назначили его в далеко не передовой овцеводческий совхоз, он, приехав на место и все как следует оглядев, понял: первое, за что надо взяться, — строительство.
Все деревенские руководители хорошо знают великолепно изданную в Москве книжку с проектами сельских домов. Но листают эту книжку почти повсюду со вздохом. «Хорош храмина, но где ж я возьму камень, кирпич, где столько леса возьму, где квалифицированные рабочие руки, чтобы сделать все, как тут нарисовано? — говорил мне один председатель колхоза. — Вон, поглядите в окошко, очень старались, но на картинке одно, а в жизни вышло совсем другое».
Молодой директор совхоза «Ло- княнский» тоже держал роскошную книгу в руках, тоже вздыхал и вниманье остановил на самой скромной «храмине». И прежде чем строить, поехал разведать к соседям, как служат дома. Везде сказали: «Дома — ничего, отопление — слабое место».
Отапливались дома «котелком» (заводское название КМЧ-І). Директор показал мне этот стандартный, много лет
125
выпускаемый сотнями тысяч отопительный агрегат. Он прост: металлическая колонка с топкой и небольшим котелком — так в городских квартирах вода согревает жилище. Но простота — единственное достоинство «котелка». А что касается недостатков — их много, и все серьезные. Первое — «котелок» требует высококачественного топлива (нефти, угля, брикетов). Второе — требует около себя постоянного присутствия, иначе потухнет, и система окажется замороженной («не покидай меня» — деревенское прозвище «котелка»). Третье — «котелок» может дом лишь отапливать. Готовить пищу, сушить одежду, варить корм для Живой огонь всегда привлекал человека. Костер, камин, печь... Подкинешь поленьев и стоишь зачарованный красной пляской огня.
скота на нем нельзя. Требуется еще плита.
«Сплошная мука», — сделал вывод директор совхоза. И поскольку ничего иного для сельских домов промышленность не выпускает, стал присматриваться директор: как на псковской земле поступает хозяин, строящий дом по своему проекту, своими силами, на свои средства? Оказалось, кладут в доме печь; старинную русскую печь, решая при этом четыре проблемы одновременно: обогрев дома, приготовление пищи, приготовление корма скотине и сушка одежды. Испытанный дедовский агрегат топят дровами, а их на Псковщине, известное дело, вдоволь.
Решив прислушаться к жизни, покусился директор на ломку проекта серийных домов. Для пробы, выкинув «котелок», сложил он русскую печь в собственном доме. Одной зимы было вполне довольно, чтобы решенье окрепло. И, благо хороший печник оказался в своей деревне, стали строить дома в совхозе с печами. «И свет увидели!» — сказала Иришкина мама Елизавета Николаевна Цыганова.
То же самое я услышал во всех домах, где сложены печи. Новых домов совхоз за лето построил десяток. Строительство продолжается. И твердо решили в совхозе: «Без печи домов не ставить!» Решили и в ранее возведенных домах сложить печи. «Жилье становится малость теснее, но для житья оно приспособлено лучше».
Так считают не только в совхозе «Локнянском». Так считает секретарь райкома партии в Локне Анатолий Васильевич Нестеров. В Пушкиногорском районе Псковщины я говорил с секретарем райкома Анной Федоровной Васильевой — та же тенденция возвращения к русской печи. Веками проверенный на Руси тепловой агрегат, приспособленный к быту и климату, еще способен, как видим, поспорить за место в жизни.
Место у печи в деревенском житье- бытье всегда было прочное и почетное. Само понятие дома составляли стены, крыша и печь. И не было в деревнях ничего прочнее и долговечнее русской печи. Люди постарше знают: война сжигала дотла деревеньки — ни кола ни двора, ничего, а печи стоят! В обычной жизни нередко приходил в ветхость дом, а печь-старушка продолжала служить.
Кто жил в деревне, знает, как много значила печь для дома. Очень не требовательная к топливу (любые дрова, солома, кизяк), массивная печь очень быстро вбирала в себя тепло, а отдавала его постепенно. Тепло это было сухое, здоровое, ровное. Пришел с морозу и надо согреться — скорее спиною к печи; простуду надо прогнать, старые кости согреть — на печку, на горячие кирпичи! Одежда, обувка — все сушилось у печки, на печке. Для этого были на ней приступки, шестки, печурки.
И хорошо помню: когда печь топилась, всех в доме тянуло к огно. Было у красноватого пламени печи какое-то магическое организующее начало. Особым был день, когда печь накалялась для выпечки хлеба. Наслаждением было глядеть, как загребают кочергой угли, как подметают печь чисто вымытым помелом, как на большой покатой деревянной лопате с опорою на каток, играючи, отправляют в зев печи огромные хлебы и замечают на ходиках время, когда их следует вынуть.
Все, что связано с детством, мы склонны идеализировать. Это понятно. И все же вкус каши, сваренной в печке, отчетливо помню, был каким-то
особым. Испеченная целиком тыква, топленое молоко, еда под названьем «калина» (мука, груши, яблоки и калина), домашние пироги с пода — это все творения печи. Приготовленная утром еда, если ее поставить в подгребенные к устью угли, оставалась горячей до позднего вечера. В утробе печи упревало варево для домашней скотины. А наверху, на печи, сушился солод, стояла корзина с луком, осенью на печи «доходили», становились коричнево-мягкими груши.
Когда тепло для дома было ненужным, мать в устье печи под таганком зажигала маленький костерок, и еда варилась на нем. А где-то перед войной наша печь превратилась в целый комбайн — появилась у печи плита с духовкой, отдушники, чугунные дверцы для чистки дымных ходов и отверстие с крышкою на цепочке для подключения самоварной трубы.
Увлекся... Но знаю, кто подобное пережил, меня понимает. Русская печь у всех оставила добрую память, как «семейный очаг» в изначальном, подлинном смысле.
А печники!.. О людях этой профессии много написано и рассказано. Печник на селе почитался и уважался вровень с попом. И если над попом еще кто-то отважился посмеяться, над печником — нет, слишком серьезная штука — печь в
Печник Владимир Николаевич Прокофьев: «В наших нетеплых краях печь — главная, самая важная часть деревенского дома».
доме. Пошутит в отместку печник — горя с печью не оберешься.
«Нынче настоящий печник перевелся, — сказал мне как-то в районном автобусе на верхней Волге перепачканный глиной человек. — Перевелся. Вот я кладу, потому что просят: сложи. Но я ж не печник! Я был на комбайне. За это дело, — рассказчик щелкнул по шее пальцем, — меня тово. Ну я на печи и перешел. Но как кладу... Кладу, чтобы дым скорее из печи ушел. Дыму в избе не бывает. Но и тепла тоже от печек моих пригоршня...»
Грустная правда. Настоящий печник перевелся. Но, проезжая по деревням, я постоянно о печниках спрашивал, не теряя надежды встретить настоящего, «хрестоматийного» мастера. И вот в деревне Рыкайлово в Локнянском овцесовхозе такого именно встретил.
Еще не старый, полный достоинства, но очень приветливый человек. Одежда в стружках — кроме кладки печей, еще успешно в совхозе столярничает. Представился так: «Владимир Николаевич, печник». И в ожидании вопросов степенно сложил на коленях ладони.
Интересный получился у нас разговор. Через пару часов я уже знал: Владимир Николаевич Прокофьев — мастер с районной известностью, на двадцать километров вокруг только его ожи- 127
дают — очередь на два года. На вопрос — что же, нет других печников? — Владимир Николаевич ответил, что есть и другие, но «люди их не обожают». Почему же не обожают? «Да как вам сказать, у них дым под лавку, а у меня в небо. Их печка, притронься — холодная, а моя пышет».
Печник не хвалился, простецки он объяснял, в чем суть халтурной работы и в чем состоит мастерство, которое «обожают».
Владимир Николаевич сложил в округе почти полтораста печей. «И, поверите ль, ни одна не дымит! Сам удивляюсь, поскольку знаю: бывают и у мастера неудачи. А тут ни одна не дымит, все служат исправно. И от этого мне уваженье. По деревне иду, как какой-нибудь космонавт, — пальцем показывают: печник пошел... И еще за то добавляется уваженье, что не то что в дымину, вообще пьяным никто не видел меня. При расчетах, случается, прибавляют: «это за то, что не пьешь».
Берет за работу свою Владимир Николаевич «по четвертной в день». Четыре дня кладки — сотня рублей. Вполне божеская цена при работе нелегкой, ответственной, важной, отмеченной всеми знаками качества.
«Печи мои берегут. Случается, дом перестроят, а печь не тронут, вокруг печи новые стены кладут... Есть ли какие у меня чертежи и бумаги? Нету. Все — в голове. Все ходы и проходы для дыма записаны тут. И печь любую сложу — маленькую, большую, с фасонами, без фасонов».
Вот такой он, печник в деревне Ры- кайлово на Псковщине. Молодой директор совхоза печника мне показывал как редкий жизненный экспонат. «В совхозе у нас Владимир Николаевич на окладе. И все работы его, столярные и печные, в ажуре. И потому мы охотно его отпускаем на доброе дело, даже отвозим в иную деревню. А очередь к нашему печнику регулирую я, директор совхоза, соображаю: мы вам печку поставим, а вы нам тоже чем-нибудь помогите... Вот такие они, печки-лавочки, в нашем псковском краю. Шевеленье в деревнях началось. И спрос на русские печи — признак хороший», — закончил молодой задорный директор.
Рискую навлечь упрек: вот тебе раз, ориентируем деревню на городские удобства, а тут матушка-печь... Ну, возразим, не все городское приемлемо для деревни. Многоэтажный дом, например, как жизнь показала, не решает деревенских проблем, а, пожалуй, их усложняет.
Порадуемся появлению сельских поселков с централизованным отоплением, электричеством, газом. Но не будем забывать: семьдесят процентов сельских жителей в ближайшие обозримые годы будут жить в домах с автономным отоплением. В старых и новых домах. В принципе это вовсе не плохо. Сельскому жителю автономия по душе. Но надо срочно придумать замену пресловутому 128 «котелку». И вроде уже придумали что- то похожее на него, но более совершенное. «Человека возле себя держать он не будет. Положите в бункер уголь, дрова и десять часов можете дома отсутствовать. Котел не остынет», — сказали мне проектировщики в московском специализированном институте. И даже показали какие-то чертежи.
Благая новость. Но агрегат пока что в пеленках — его надо еще как следует испытать, найти заводы, готовые выпускать его многотысячными сериями. Много воды утечет, пока этот новый водяной агрегат попадет к деревенскому жителю. Но опять же это будет лишь отопленье. Варка пищи, приготовление корма скоту потребует печи: электрической, газовой, угольной, дровяной. Где-то нефть, уголь, газ, электричество — под боком. А куда-то (в Локнянский район, например) их надо доставить из мест, весьма удаленных. Да и разумно ли повсеместно тратить уголь и газ, если сушняк в лесах почти повсюду сейчас остается невыбранным. Значит, есть места, где предпочтительна печь дровяная. А коли так, то не стоит ли в одном агрегате совместить отопление со всем, что удовлетворит и остальные нужды деревенского дома? И агрегат этот не надо изобретать. Он опробован и веками доведен до поразительного совершенства и целесообразности. Русская печь!
Ею вовсе не пренебрегают. Строя собственный дом, за двадцать-тридцать километров находят редкого ныне мастера-печника, готовы заплатить ему, сколько запросит, лишь бы обзавестись настоящей, добротной печью. И если она удалась, весь быт сельского дома налажен. Так поступают те, кто строит дом на свой вкус и на свои деньги. В деревне такое строительство поощряют. Реальность, однако, состоит в том, что нынешний молодой житель деревни предпочитает получить дом даром, дом, построенный государством или колхозом. И с этим необходимо мириться: работник на земле — проблема проблем. Но строительство государственное ведется индустриально, по разработанным, утвержденным проектам. И если мы заглянем в эти проекты, то русской печи не обнаружим. Вообще печи есть. Я видел альбом с тридцатью чертежами. Разные печи: прямоугольные, круглые, «шведки», «голландки», нарисован даже камин. Назначенье печей — быть добавлением к отоплению водяному: «живым огнем» создавать в доме уют, служить для варки пищи. Нет русской печи в альбоме, печи, которая в комплексе все бы решала и которая не имеет равных в теплоотдаче — двенадцать-семнадцать тысяч калорий в час! Тогда как самая «сильная» печь из альбома дает лишь часть этой мощности — четыре тысячи.
Почему же обходят проектировщики русскую печь? Я говорил с ними. Объяснения сводятся к следующему: «Несовременно, в мире — газ, уголь, а мы с дровами». «Где найдешь печника?» «Секреты печи потеряны». «Громоздка, занимает большую площадь, трудно ее вписать в интерьер».
Возразим по порядку. Погоня за «современностью» без учета климатических условий страны уже заставила многих чесать затылок. В Москве, например, отапливать сплошь стеклянные дома- громады — означает отапливать атмосферу. И так ли уж современно пренебреженье дровами и упованье на привозные газ, уголь, нефть при растущем дефиците энергии?
Что касается печников, то они действительно вывелись. Вывелись потому, что многие годы деревня не строилась. Теперь, когда стройка идет, надо срочно подумать о печниках. Надо учиться этому делу. Надо приставить парня к тому же Владимиру Николаевичу — пусть вникает, перенимает. Да и в училищах надо профессию возрождать. Кладка печи — дело тонкое, безусловно, но все же печник не бог, можно профессии обучиться.
Утерян секрет русской печи... Смешно. В каком-нибудь брошенном старом доме разберите бережно печь, составьте чертежи ее кладки — и секрет окажется на бумаге. Да и сколько печей еще очень исправно служат деревне!
Громоздка печь... Верно, громоздка. Иной в морозной стране быть она не могла. Масса печи должна быть большой, чтобы долго и много хранить тепла. Трудно архитектору найти ей место при планировке дома... Легко согласиться, трудно. А каково мужикам в псковской Локне приспосабливать печь в уже готовый проект! Разумнее сразу от печи и танцевать. Найти ей место можно вполне, хотя бы в одном-двух проектах домов из множества существующих.
Потребность такая сейчас очевидна. И псковские архитекторы это движение жизни уже уловили. Готовясь модернизировать существующие проекты, они сложили две «опытных» русские печи: одну в деревне Демидово Великолукского района, другую — под Псковом. Мне рассказали: эти две печи топят ученые люди, «тщательно все измеряют — теплоотдачу, расходы дров». Занятный, конечно, процесс после многовековой службы печи русскому мужику. Однако не будем смеяться, наука — есть наука.
Будем надеяться, что сидение у «экспериментальных» печей пойдет на пользу не только во псковских краях, но и всюду, где русскую печь примут традиционно теплым к ней отношением.
Печь в доме — дело очень серьезное.
1983 г.
□
КОЛОДЕЦ
Первый раз я увидел такой колодец в музее деревянного быта под Горьким и поразился: неужто были такие?!
— Почему «были»! Если поехать в дальние села по-над Ветлугой, и сейчас колодцы увидишь.
Из-за колодцев в Карасиху мы и поехали.
На опрятной, ухоженной улице сооружение это заметишь сразу — четыре огромных столба, над ними обширный шатер из досок, а под шатром сам колодец. Глубокий. Настоящая шахта. Вода в глубине далекой неясной луной серебрится. Подъемник у этой водяной шахты поражает больше всего. Это привычный ворот, но не с ручкою для верченья, а с огромным, с сельский дом, колесом. Как сдвинешь такую махину?..
К колодцу из дома напротив семенит бабушка лет под семьдесят. Подошла, поставила ведра и немедленно — к колесу. Вернее, прямо в его исподнюю часть. И пошла внутри колеса по ступеням, как белка. Свободно, привычно пошла... Смотрим в колодец — бадья достигла воды, и старушка сейчас же, изменив положенье, пошла в обратную сторону.
И вот бадья уже наверху. Вода ломит зубы, вкусная, чистая. Ковшиком бабка отлила воду в вёдра и, отказавшись от помощи, закачалась под коромыслом к дому... Девочка лет двенадцати подошла. Тот же порядок — белочкой бег в колесе, а потом ковшиком разливание воды по ведрам. Никаких заметных усилий, как будто играючи подымалась из глуби вода.
В этот же день колодцы с колесными агрегатами мы увидели в соседних с Ка- расихой деревнях. Узнали: когда-то такие колодцы строили в каждом селенье. («Четыре недели — колодец готов».) Потом появились колонки с водой. Удобная с виду новинка, однако не всех осчастливила. «Зимой в трубах вода замерзает, и ржавчина в ней — для чая уже не то, и для стирки вода не годится». Стали спешно чинить заброшенные было колодцы.
А в Карасиху и в соседнее с ней Благовещенское снабженье водой по трубам прийти не успело. По этой причине «ступные» колодцы тут в полном и образцовом порядке. Ось у ворота смазана. Место возле колодца песочком посыпано. Две скамьи под навесом. Не только воды наберешь, но можно передохнуть у колодца, узнать деревенские новости. Кое-где тут же почтовый ящик, чугунное било на случай пожара...
Загадка же колеса над колодцем разрешается просто. Там, где близко вода, ее черпают прямо рукой (помню, в нашем селе был для этого крюк на шесте). Всем известны колодцы с журавликом. Колодец с воротом распространен повсеместно. Но там, где вода глубоко (в Благовещенском до нее сорок метров!), слишком долгое дело опускать-подымать обычных размеров ведро. На цепь укрепляют бадью ведер на пять. Но попытайтесь верчением рукоятки вынуть бадью из колодца — тяжелая штука! И какой-то смекалистый мастер придумал огромное колесо. Он, возможно, не знал учения Архимеда о рычагах. Но именно закон рычага лежит в конструкции редких теперь «ступных» колодцев. Дотронься рукой — колесо уже закрутилось. Но проще и легче идти внутри колеса...
Даже в музее «ступной» колодец производит сильное впечатленье. Но есть места, где «мужицкая техника» исправно, с большим запасом надежности продолжает служить человеку.
Горьковская область, 1981 г.
□
КУЗНЯ В КАРАСИХЕ
Издали, из-за леса, из-за глинистого бугра, мы услышали характерный стук молотка по металлу.
— Кузня?
— Кузня, — сказал мой спутник, краевед с Волги. И мы почти побежали на знакомые с детства звуки.
Кузня! Деревянный приземистый сруб у ручья. Массивный бревенчатый стан для ковки коней. Запах угля, свежей окалины. И, конечно, пропасть всяких железок, все, чему обязательно полагается быть подле кузни: колеса, старые бороны, сошники, шестеренки, кованый мельничный жернов, трубы, шпоры от старого трактора, неизвестно как попавшая в деревенскую глушь лепешка вагонного буфера. И тысяча всяких железок помельче. Ими увешан был весь деревянный сруб. Все заботливо собиралось, как видно, многие годы. Такова традиция сельских кузниц, уходящая к тем временам, когда каждый прутик железа был драгоценным.
Это все интересно увидеть было бы даже в музее. И такие музеи старого быта очень важны. Но перед нами была вовсе не мертвая старина. Мы стояли возле старушки преклонного возраста, однако здоровой, жизнеспособной и, как видно, весьма ценимой в Кара- сихе.
В широкую дверь виднелась бархатно-черная внутренность кузни. В углу малиновым светом тлел в горне уголь. У наковальни под электрической лампой двое людей плющили замысловатой формы поковку. Работа, судя по разговору и по тому, как кузнец нам кивнул: «Подождите...», была очень спешной. Оказалось, тракторист явился в кузню прямо из борозды. Когда он, бережно завернув в мешковину готовую к новой жизни деталь, умчался в поле на мотоцикле, кузнец неторопливо снял фартук, вытер красной тряпицей пот на лице и вышел из кузни на солнце.
— Извините: сев, горячее время...
Каким же чудом в наше станочномашинное время уцелела почти первобытная кузня? Сам кузнец, потомственный житель Карасихи Василий Иванович Коротышов, ответил на это просто: «Нужна, потому и стоит. И действует».
Что нужна — эта правда. Карасиха — деревня дальняя и глухая, лежащая по правую сторону от Ветлуги за лесами, логами, за полями ржи, картошки и льна. До мастерских со станками, электросваркой и современной кузницей далеко. Наверное, эта причина в первую очередь заставляла беречь старинную кузню. Случись что в поле с комбайном, сеялкой, трактором — вот она, первая помощь, прямо под боком. Стучитесь в окно кузнеца хоть в пол- 130 ночь — сейчас же возьмется за дело. И в каждом доме деревни есть дело для кузнеца. Кому кастрюлю-самовар-би- дон запаять, кому донышко для ведра, кому мотоцикл починить, кому замок, кому тяпку для огорода, обруч на кадку, петли для двери, колодезный ворот, железного петушка на конек крыши — все это быстро и с радостью сделает у своей наковальни Василий Иванович.
Но, пройдясь по деревне, мы поняли: не только эти малые, но насущные нужды сохранили Карасихе кузню. Сам кузнец своим обликом мастера и трудом, своей преданностью деревне хранил тут очень давно зажженный огонь.
Кузне — семьдесят, ему — шестьдесят. Десятилетним мальчишкой он стал приходить сюда «слушать, как стучат молотки, глядеть, как краснеет железо». И вот «присох» на всю жизнь.
В тринадцать лет Василий Иванович первый раз увидел велосипед. Только увидел и потрогал его руками, но этого было довольно, чтобы взяться делать велосипед. И он его сделал. Из дерева. «Шестеренки и цепь выковал из железа. Все остальное — береза, клен, можжевельник». И это не была игрушка на погляденье. Молодому кузнецу велосипед служил целых шесть лет — «даже в поле ездил на нем».
Неудивительно после этого было узнать: руками мастера по железу сделаны многие улья в деревне, сундуки, лодки, столы, диваны и табуретки, наличники на окна, чемоданы для ребят, отбывающих в армию. Удивительно было слышать: руками кузнеца в Кара- сихе и окрестностях сложено восемьдесят печей. А после войны, в 1947 году, он построил радиоузел, сам его обслуживал и был первым диктором. Ког-
«Нужна в Карасихе кузня, потому и стоит.
И действует», — сказал мне Василий Иванович Коротышов.
да же появились в Карасихе телевизоры, кузнец вполне разобрался в устройстве «ящиков для гляденья», стал их чинить.
Вот такие руки у человека. Надо ли говорить, что все в его доме — от
щеколды на двери и до трубы — сделано собственными руками.
Вырастил Василий Иванович двух сыновей. «После люльки у горна грелись». На вопрос: «А что теперь сыновья?» — кузнец улыбнулся: «Сыновья должны выше отцов подыматься. Не пожалуюсь — люди умелые. Когда их работу гляжу, чувствую себя самоучкой и подмастерьем. Оба в городе на большом производстве».
Пока мы сидели у кузни, привели ковать лошадь. Кажется, лошадь хорошо кузнеца знала: чуть подошел — подняла и согнула в колене ногу.
— Ковать, давно пора ковать тебя, милая...
«Вот гвоздь, вот подкова. Раз, два — и готово!» Так говорили о работе сельского кузнеца. И правда, присмотришься — у хорошего мастера в кузне получается все играючи.
Мы увидели, как это делается. Как подбирает кузнец подкову, примеряет ухналь (ковочный гвоздь), как расчетливо-точно вгоняет его в копыто.
Древнейшее дело у всех народов! И древнейшая из профессий — кузнец. Фамилии Кузнецов, Ковалев, Коваленко и Коваль — производные от профессии. То же самое у поляков — Ковальский, то же у англичан — Смит, Фабр (кузнец) — у французов. Говорю об этом Василию Ивановичу. Он в это время прилежно занимается лошадью.
— Кажется, дело простое. А вот книжка для сельского кузнеца наполовину состоит из инструкции, как подковать лошадь...
Подъезжает парень на мотоцикле. Василий Иванович встречает его насмешкой:
— Ну что, и твой расковался?..
Узнав, в чем дело, выносит сверло и маленький молоток.
— Такой пустяк, и не можешь своими руками. Ну а если я завтра умру?..
У парня свои заботы. Садится на подправленный мотоцикл — и только пыль столбом над дорогой.
Кузнец вздыхает:
— Не могу я этого понимать. Кузня, хорошо это знаю, деревне нужна. А ведь никто не придет, не скажет: так, мол, и так, дядя Вася, покажи, научи. Со мною вместе умрет и кузня. Даже, пожалуй, раньше...
Показав гостям, как работает горн, как закаляют и отпускают поковку, кузнец вернулся к прерванной мысли:
— Исчезнет... А ведь она последняя тут, над Ветлугой. Мне особенно жалко. Шутка сказать — полвека в ней отстучал.
Когда прощались, кузнец салютом три раза стукнул по наковальне.
— Спасибо за интерес. И счастливой дороги! А я в свое удовольствие часик- другой поиграю с железом...
С пригорка в черемухе за ручьем было слышно состязание двух соловьев. А между пением — стук по железу железом. И синий дымок над черемухой. Старушка кузня еще дышала и подавала свой голос.
1981 г.
□
ТЕЛЕГА
Путешествуя по Мещере, мы в самом начале пометили в планах: «тележное производство». Потом мы об этом забыли, хотя продвигались местами и на лодке и на лошадке. И уже на машине, двигаясь вдоль Оки из Касимова на Елатьму, возле дороги прочитали мы вывеску: «Обозный завод» — то самое тележное производство! И завернули взглянуть: что же это такое?
Директор завода Алексей Петрович Алехов, как видно, привыкший к насмешкам над своим производством, встретил нас тоже шуткой:
— Ну заходите, заходите на наш «КамАЗ»... Вот сырье. — Он указал на сосновые бревна. — А вот продукция.
В углу двора, задрав друг на друга оглобли, стояли четыре десятка телег, источавших запах желтой морилки.
— Прямо с иголочки. Мощность — одна лошадиная сила...
Дерево и железо — это и все, что надобно для телеги. На наших глазах сосновый комель превращался в пахучие заготовки колес, в рейки, бруски и доски. А рядом в цехе звенело железо. Кузнецы, раскаляя полосы и пруты до свеченья, гнули скобы, ковали оси и обода. И все потом поступало на двор, где двое сборщиков, соединяя дерево и железо, венчали все производство.
Двенадцать повозок в день уходит с завода. Есть у изделия свои ГОСТы (высота, расстояние между колесами в соответствии с шириной проселочной
131
колеи), свой фасон и отделка. Все бы неплохо — невелика у изделия прочность! Год всего держат телегу колеса. Их полагалось бы делать из дуба (из дуба всегда их и делали!). Теперь делают из сосны. (Даже ступицы из сосны!) И вот гарантия хода — год, тогда как в «тележные времена» повозка, сработанная здешним мещерским умельцем, служила десять-пятнадцать лет, переходила в наследство от отца к сыну.
— У нас на заводе количество подмяло качество, — вздыхает директор. — Выпускали тысячу двести повозок. Сейчас выпускаем три тысячи двести, да колес запасных пару тысяч. Спрос подгоняет. Однако наспех даже и коромысло как следует не сработаешь...
Телега, понятно всем, двигателем прогресса не является. Однако жизнь показала: списали со счета ее рановато. Асфальт к деревушкам проложат еще не скоро. А трактор по всякому случаю не погонишь. Так что телега нужна. По учету, какой ведется на этом обозном заводе, телега нужна сегодня на многих фермах, часто нужна сельской школе, больнице, нужна ветеринару, леснику, управляющему хозяйством. Обозный завод в Новой Деревне на скорую руку организовали, чтобы снабжать повозками Рязанскую область. Но завод, как сказал веселый директор, «работает и на экспорт» — за телегами «толкачей» присылают из Ставрополья, с Украины, из Волгоградской, Тамбовской, Воронежской областей.
— Из Казахстана недавно приехал посыльный с двумя мешками вяленой рыбы: «Возьмите в столовую для ра- 132 бочих, а мне, ради бога, десяток телег!»
Это не корабельный мостик, это телега и два запасных колеса для нее. И вот он мастер, сработавший этот нехитрый снаряд для проселков.
Вот такие дела с проселочной колесницей! Делают ее по Российской республике не в одном месте. Однако почти всюду делают кое-как. А от краткости службы очередь за телегой не убывает.
Продаются повозки по цене, ненамного превышающей цену велосипеда. (Сани — почти сплошь ручная работа! — стоят 24 рубля.) Легко понять, что и зарплата обозника такова, что «Жигулей» ему никогда не купить. Оттого лепят телеги и сани старики да бабенки. Не разумней ли брать за телегу с потребителя подороже и обновить, встряхнуть традиционное мещерское производство? Не будем требовать от телеги «уровня мировых стандартов» — не ломалась хотя бы на первом дорожном ухабе. Не будем преувеличивать значения телеги в нашем хозяйстве, но вряд ли разумно, производя высокого класса технику для шоссейных дорог, забывать об испытанном транспортном средстве, необходимом, пока существуют грунтовые дороги.
Этого парня (он нагоняет обода на колеса) зовут Николай Дунцов. После армии он собрался уехать из Новой Деревни. Директор уговорил: «Оставайся — Ока рядом, сад, огород...» Остался. И неплохо работает парень. Но для этого снимка мне пришлось его уговаривать. Махал руками: «А, телеги!..» С резиновым колесом он снимался бы с большей охотой. А может быть, дело опять же в качестве колеса? Ведь приятно показывать только то, что и выглядит хорошо, и служит исправно.
1978 г.
ПРО ЛОШАДЬ. ■■
D подмосковной деревне Зименки я видел недавно картину, с которой и надо начать этот очерк. На огородах поспела земля, и невеликое население деревеньки поднимало ее всяк на свой лад. В поисках тягловой силы наблюдались тут две занятные крайности. Гаврилов Владимир Георгиевич заманил совхозного тракториста на оранжевом, в 75 лошадиных сил, тракторе. Трактор пер до Зименок километра четыре и ворвался на маленький огород с синим дымком и полный нерастраченной молодой мощи. За десять минут участок земли с кустами сирени и смородины по краям и аккуратной изгородью уподобился месту, где врезался в землю Тунгусский метеорит, — ограда повалена, кусты растений подпаханы и подмяты, по углам огорода большие огрехи, а рыжий лоскут суглинка горбился огромными глыбами.
— Да... — почесал под рубахой живот Владимир Георгиевич, соображая, с чего начать исправление погрома, учиненного в огороде.
Его сосед, через дорогу живущий Сергей Васильевич Квасов, тоже сказал: «Да...» — и вернулся на свой огород к работе, прерванной появлением трактора. Свои двадцать соток старик пахал... на ослике.
Занятно и грустно было глядеть на два огорода, вспаханных одинаково экзотическим и каким-то противоестественным способом.
— А что делать? — сказал Сергей Васильевич, присаживаясь после очередной борозды отдохнуть и накрывая вспотевшего ослика полушубком. — Что делать?
— Но ведь есть же хорошая середина между трактором и ослом...
— Лошадь в виду имеете?.. Да, лошадь была бы тут впору.
— За чем же дело?
— Э, чего меня спрашивать? Вам не хуже известно, как обстоит дело...
Посидели, поговорили. Отдохнувший ишак с тупым любопытством разглядывал на меже лягушонка и вдруг тоскливо и зычно, как это умеют делать ослы, стал вспоминать свою родину, далекую теплую Среднюю Азию.
— Ну, искренний ты мой, продолжим наши труды, — Сергей Васильевич скинул с осла полушубок и, чертыхаясь, повел борозду.
А лошадь... У лошади сегодня своя судьба, драматическая, полная парадоксов.
Под Москвою, в местечке Алабино, разместился кавалерийский полк. Это все, что осталось от когда-то огромного кавалерийского войска (эскадроны, полки, дивизии). В 1956 году кавалерия в нашей стране упразднена. Оставили только один полк, для «Мосфильма». Нагрузка на лошадей и людей в этом последнем конном подразделении очень большая. Кино способно показать нам грядущее — звездолеты, ракетопланы, фантастические жилища, сверхскоростной транспорт, но чаще кино обращается к прошлому, и тут без лошади жизнь человека просто немыслима. Какую сторону бытия ни возьми, всюду лошадь! Туманно далекие времена — кочевья на лошадях. Пахарь на поле — лошадь главная сила. Сражения — рядом в дыму люди и лошади. В шахте — лошадь. В дальних походах к неведомым землям — верховые и вьючные лошади. Пастух — на коне, лесоруб —
Так уж сложилось, лошадь во многих местах беспризорна. Но, оказалось, напрасно пренебрегли безотказным, надежным помощником. Лошадь в хозяйстве нужна. за конем, ямщик — на облучке. Извозчики, кавалеристы, коногоны, табунщики, земледельцы, охотники, скотоводы, переселенцы, коннозаводчики, конокрады, гонцы, почтари, ковбои, жокеи, форейторы, цирковые наездники, кузнецы, коновалы, ремонтёры, объездчики — не перечислить всех дел и профессий, связанных с лошадью.
Вся история человека — это история лошади тоже. От мышастой масти тарпана, дикой лошади, еще в прошлом веке обитавшей в степных районах у Дона, человек вывел много прекрасных пород лошадей. И лошадь верно служила людям. Повсюду. Всегда. И преданно.
В канун революции (1916 год) в России было тридцать восемь миллионов лошадей. Сейчас их пять миллионов. И эта цифра пока продолжает снижаться. Причина такой перемены в пояснении не нуждается. Мотор повсюду потеснил лошадь. Процесс особенно быстрым был после минувшей войны. И, конечно, не только в нашей стране. В Соединенных Штатах число лошадей упало до 3,5 миллиона, но потом стало быстро расти, достигло сейчас 11,5 миллиона, и рост продолжается. Считают, он может достигнуть 13—15 миллионов.
Хочется верить, что этот процесс ин-
134
тернационален. Примеры растущего интереса к лошади и у нас это как будто бы подтверждают. Продолжают плодотворно работать более сотни конных заводов, растет интерес к конноспортивным секциям, появилась возможность брать лошадей напрокат для туристских походов (Алтай, Башкирия). От хороших хозяев можно услышать: «Лошадь как рабочая сила в хозяйстве нужна обязательно!» Ренессанс лошади, словом, возможен, но для этого нужны мудрость, способность трезво взглянуть на реальности бытия и общее наше желание найти давнему нашему другу достойное место в жизни и современном хозяйстве.
Осмыслим для начала явление тревожное и до крайности нехорошее. Подростки и молодые парни в селах и деревнях угоняют и мучают лошадей. За несколько лет у меня скопилась пухлая папка писем, газетных вырезок, телеграмм, милицейских протоколов и записей разговоров. Адреса разные: Московская, Рязанская, Гомельская, Харьковская области, Красноярский и Краснодарский края, Омская область, Тамбовская... География эта позволяет говорить не о случаях, а именно о явлении, природа которого касается сути нашего разговора.
«Угоняют лошадей покататься, — пишут ветеринар и двое художников из поселка Пески. — Потом их бросают на произвол судьбы, часто за многие километры от места кражи. И почти всегда истерзанными, с разорванными проволокой ртами, сбитыми спинами, запаленными, нередко загнанными насмерть». Лошадей нередко бросают в лесу привязанными, и тогда у обглоданных деревьев находят только скелеты животных. Лошадей юные «экспериментаторы» привязывали на железнодорожных переездах, вечером заводили в тамбуры проходящих электричек, завязывали глаза и стегали, получая удовольствие от того, что лошадь с разгону налетала на какое-нибудь препятствие.
Эти современные конокрады, «всадники без головы и без сердца», доставляют много хлопот милиции, приносят большие убытки хозяйствам, но главный убыток — нравственный. Издевательство над живым существом не проходит бесследно для человека. И закрывать глаза на это явление больше нельзя. В письмах, которые я получаю, мера пресечения бедствия выражается просто: «Надо судить...» Но положение дел таково, что мало кто хочет судебных дел из-за лошади. Да и кто предстанет перед судом? Подростки двенадцати-пятнадцати лет! И это обязывает нас смотреть не только на последствия, но главным образом на причинность явления.
Почему внуки и правнуки людей, для которых лошадь была существом почти что священным, обращаются с лошадью варварски? Ответ прост и ясен: лошадь сейчас беспризорна, и именно в этом
причина извращенного к ней отношения.
Я имею опыт собственных наблюдений и могу утверждать: во многих хозяйствах лошадей бросили на произвол судьбы. Конюшня почти развалилась. Присмотра за лошадьми никакого. Подковать, подлечить и почистить — давно забытое дело. Летом на лошадях работают — возят воду, пасут скотину, ездят за сеном. А зимой бросили и забыли. Лошадей не поят, не кормят, ни килограмма фуража, ни клочка сена на них не дается. Какой-нибудь сердобольный старик по своей доброй воле привезет им с поля соломы, а так — на подножном корму. Зимой! Копытят снег, добираясь до зеленей, подобно лосям, гложут в лесу деревья, едят молодые побеги. Ночуют в стогах. Дичают, конечно. Приходилось видеть таких «мустангов» — человека сторонятся как огня.
При таком положении надо ли удивляться извращенному отношению к лошади деревенских подростков. Угон лошадей начинается там, где угоном-то он не является, поймали и тешатся — никто не хватится, не пожурит даже. А когда «мустанги» переловлены, загнаны, угонщики забираются и в конюшни соседних хозяйств, туда, где лошади под присмотром.
С судов ли следует начинать войну с этим бедствием? При здравом размышлении видишь: нет, не с судов, а с конюшен следует начинать, с ответственного и традиционно заботливого отношения к лошади.
Нетрудно понять: действиями пятнадцатилетних угонщиков движет естественный интерес к лошади. При ином порядке вещей интерес этот мог бы стать мощным воспитательным фактором, и не безнравственная распущенность, а хозяйственная заботливость и сердечность могли бы формироваться в начинающем жить на селе человеке. Эта мудрость кое-где уже понята. В журнале «Коневодство и конный спорт» я прочел размышления секретаря Полтавского обкома партии Федора Трофимовича Моргуна. Он, ссылаясь на опыт многих колхозов Полтавщины, объясняет роль лошади в современном хозяйстве. Особо Федор Трофимович говорит о колхозе «Победа коммунизма», где лошадь нашла законное место рядом с тракторами и автомобилями, где уважение к лошади воспитывают у людей с малого возраста, где создана конноспортивная секция молодежи.
Как можно понять, к спортивным рекордам в колхозе особенно не стремятся. Но есть кое-что более важное, чем рекорды. Ни один праздник в колхозе не обходится без молодых конников и без конных упряжек. Свадьба — обязательно лошади в лентах. Захотел прогуляться верхом на лошади — пожалуйста, захотел научиться держаться в седле, научиться запрягать лошадь — пожалуйста. На лошадях тут работают, и содержание их полностью окупается. Но нечто большее увидели в лошади в этом хозяйстве. «Лошадь придает сельской жизни особый колорит, дает человеку радость, какую в городе испытать ему не дано», — говорит председатель колхоза. И нет у этого председателя головоломной задачи, как удержать на селе рабочие руки, — полон колхоз работящей, старательной молодежи.
Наверное, преувеличением будет сказать: это лошадь удержала ребят и девчат на селе. Несомненно, однако, что лошадь является частью культурных традиций сельского человека. И там, где остатки этих традиций бездумно, бесхозяйственно разрушают, результаты плачевны. Там же, где на них опираются, где их берегут, многое в деревенских проблемах разрешается просто и без болезней. Ну зачем, скажите, ребятам в полтавском селе угонять лошадей, когда можно без всякого воровства прийти на конюшню, попросить прокатиться или хоть подойти к стойлу, потрогать рукою уставшую лошадь, дать ей с ладони полизать соли или достать из кармана припрятанный с ужина кубик сахара. Очень много хорошего и очень полезного может пробудить в человеке ответное благодарное ржанье. Автомобиль, трактор и мотоцикл, при всем почтении к техни-
ке человека, благодарно заржать не могут. В этом суть нашей любви к собакам, кошкам и к лошади тоже.
Все понимают, конечно, журналист не зовет пересесть с трактора на лошадей. Но важно нам всем осознать: человек, подростком взнуздавший лошадь колючей проволокой, и с трактором тоже обращаться будет не так, как следует, и с землей тоже, и легко расстанется со своей деревенькой, и ничего святого не будет для него в этой жизни. Мало ли горьких плодов мы уже пожинаем?! На лошадь следует посмотреть не только с хозяйственной, но и с нравственной точки зрения.
Возможен вопрос: но если в хозяйстве лошадь себя изжила, не проще ли остатки конного поголовья отправить на бойни, благо лучшие сорта колбасы не обходятся без конины? И с угонами разом будет покончено, и с плеч долой заботы о лошадях. Правду надо сказать, во многих местах поступают именно так. Но правда состоит и в том, что место в сельском хозяйстве для лошади есть! Моторы коней потеснили, и, конечно, не на живую лошадиную силу теперь опора. Но, честное слово, больно глядеть, как в ином колхозе бидон молока везет трактор в сто лошадиных сил, охапка сена — тоже на тракторе. В одном колхозе Калининской области мне позарез надо было попасть в «неперспективную» деревеньку, лежащую за болотами. «Утром пришлю к вам Дружба с конем — залог добрых начал в душе растущего человека.
транспорт», — сказал председатель. Транспорт утром пришел. Это был новенький трактор К-700 (300 лошадиных сил!). Я, смущенный, пошел к председателю. «Но туда ни на чем другом не доедешь». — «А лошадь?..» Лошадью на санях было бы можно. Но десятка два лошадей были в колхозе на положении упомянутых выше «мустангов». Полная беспризорность. Никто не знал, где их даже искать.
Заблуждение думать, что лошадь исчезает в первую очередь там, где выше механизация. Свершенно наоборот! На проселках Нечерноземья именно по наличию лошадей сразу определяешь: в порядке хозяйство или разлажено. Пасутся лошади за селом — значит, и техника тут на ходу, «не развинчена», и остальное все «в абажуре», как сказал мне однажды старый веселый бухгалтер колхоза.
Конкретный пример. Я однажды уже рассказывал о хозяйстве «Заветы Ильича» на Рязанщине. Колхоз очень крепкий. Механизация работ приближается к девяноста процентам. Помимо разных специальных машин, автомобилей тут 69, тракторов 70, комбайнов 15, картофелекопалок 16, молоковозов 2. И 100 лошадей! «Все сто в работе?» — «А как же, — сказал председатель Петр Иванович Жидков. — В нынешнем сложном хозяйстве автомобилем и трактором до всего дойти невозможно. Есть «тысяча мелочей», которые требу-
ют всего лишь одну натуральную лошадиную силу. А сено без лошади на неудобьях, на дальних лесных полянах и в пойме просто не взять». В хорошо механизированном колхозе имени Шевченко Миргородского района Полтавщины считают небоходимым иметь в хозяйстве 300 лошадей. Выгодно! Но это все, к сожалению, хорошие исключения из сложившейся практики.
Ошибкой было бы упрощать дело, утверждать, что нынешнее положение с лошадью — только лишь результат нерадивости и отсутствия мудрости у конкретных хозяев и в конкретных хозяйствах. Положение требует изменения взгляда на лошадь в широком смысле. К этому обязывает и опыт хозяйствования, и нравственная сторона дела, и проблемы с нефтепродуктами, которые следует экономить, и растущие нужды приусадебного хозяйства. Словом, нужен какой-то поворот общественного сознания, подкрепленный и поощренный законодательством и институтами нашей социальной системы.
Отдельно, особо надо сказать еще об одном пункте проблемы. Передо мною письмо инвалида Отечественной войны Шалишида Башиева из села Кичмалка Зольского района Кабардино-Балкарии. Он сообщает, что обратился к местным властям с просьбой разрешить приобрести в личное пользование лошадь: «Необходима для передвижения и главным образом для заготовки сена. На горных склонах сделать это иначе, чем с помощью лошади, невозможно». Ответ был коротким: «Не положено...»
Такой же ответ в Российской республике получит сегодня, наверное, каждый, кто захотел бы приобрести лошадь. Почему? В поисках ответа на этот вопрос я побывал у юриста Верховного Совета СССР и получил разъяснение. Законом сельскому жителю Российской республики разрешено иметь корову, телку, овец, коз, свиней. Лошадь в этом перечне не упомянута. Значит, иметь ее, как ответили Шали- шиду Башиеву, «не положено».
Но почему не положено? Дело в том, что закон принимался в 30-х годах, когда лошадь — основная тягловая сила на селе — определяла социальный статус крестьянина. Но за полвека жизнь на селе ведь коренным образом изменилась. Владение лошадью сегодня никакого ущерба социальному укладу нанести не может. Анахронизм этой части закона всем очевиден. Автомобиль в 90 лошадиных сил купить можно, а одну лошадиную силу на четырех копытах — нет. Инвалидам Отечественной войны автомобили сейчас государство дает бесплатно, а тут человек просит разрешения купить лошадь для того, чтобы можно было передвигаться и корове припасти сено, — не положено! Жизнь требует исправления этой почти курьезной ситуации.
В случае, если закон откроет ворота для лошади в сельское подворье, озна- Сила и красота гармонично сочетаются в этом животном. Табун лошадей, бегущий по вольным травяным выпасам, оставляет в памяти ощущение радости жизни.
чает ли это, что все немедленно захотят ее приобрести? Нет, конечно. Лишь единицы людей, сообразуясь с возрастом и обстоятельствами жизни, захотят иметь лошадь. Но такие люди, несомненно, найдутся.
В Нечерноземье с малыми деревеньками, куда мощеных дорог не построено, лошадь помимо всего прочего (огород, сено, дрова) — единственный транспорт во всякое время года, на котором и хлеб подвезешь из пекарни, и почту, и керосин-соль-спички-мыло, и в больницу человека без проволочек доставишь. Человеку, который в этих «неперспективных» Зименках, Хотьминках, Березовках, Забугорьях и тысячах других селений решился бы держать лошадь, не препятствовать надо, а сказать спасибо.
Очень возможно, что «на один двор» лошадь держать окажется нерентабельным. Следует поощрять «складчину». Несколько дворов сообща заготовят для лошади корм, сообща будут и пользоваться лошадью. Для маленьких деревенек это выход из положения.
Да и в тех местах, где урчат постоянно автомобили и тракторы, лошадь в приусадебном хозяйстве — надежное средство облегчить труды себе и соседям. Когда-то еще будут обещанные конструкторами огородные тракторы, а лошадь уже давно «сконструирована». Важно не разучиться ее запрягать.
...Ну а пока суд да дело, мой знакомый старик в Зименках запрягает по утрам ишака. Трогательно и грустно глядеть на его хлопоты. На зимнее время Сергей Васильевич сшил для ослика овчинную телогрейку, сам смастерил тележку и сбрую. У осла, известно дело, характер строптивый, но старик к нему приспособился. В соседней с
Зименками деревеньке Валуево на положении тягловой силы живет еще один ослик. Ослика я видел во дворе Ивана Васильевича Верстукова (деревня Пакушево Рязанской области). Во всех случаях «азиатская животина» помогает сельским жителям заготовить для коровы сено, привезти дрова, вывезти навоз, управиться в огороде. Но не в упрек ли нам эта картина: русский крестьянин на ишаке? На ишаке в то самое время, когда лошадь находится на положении существа беспризорного и неприкаянного. Здравый смысл требует все поставить на свое место во благо и лошади, и человека, и хозяйства как такового.
1981 г.
п
138
НА ПРАЗДНИКЕ В БУРАНГУЛОВЕ
Расскажу о «празднике гусиного пера» в Башкирии. Начну не с начала, а со средины, когда отшумели страсти на улицах, во дворах и на речке и когда все собрались в деревенском клубе. Были тут главным образом женщины, девушки, дети. На многих звенели мониста из старинных серебряных денег, и у многих рядом с монистами блестели медали ветеранов труда.
В первом ряду сидела, улыбаясь беззубым ртом, бабушка Халима Каримова с деревенским прозвищем Колесо — «всюду вовремя поспевает». На улице бабушка мне сказала: «До восьмидесяти прожитому счет вела, а потом бросила... Помню гусиные праздники с детства». Сейчас бабушка счастливо сидела на видном месте, и мне было слышно, как притопывают ее валенки.
После раздачи грамот, подарков, чтения благодарностей всем, кто готовил праздник и отличился на нем, мне, гостю, тоже поднесен был подарок — живой белый гусь. Потом был концерт — башкирские пляски, танец индийский, испанский, песни под тростниковую дудочку курай и под гармошки разных размеров. В поэтическом строе песен гуси соседствовали с соловьями. Зал гремел аплодисментами и монистами. Бабушка Колесо готова была выйти на сцену, но кто-то ее удержал...
Расходились из клуба в сумерках. В домах горели огни. Поскрипывал снежок под ногами. Еще носились по улицам в наряженных санях ребятишки, но праздник растекся на множество маленьких ручейков по домам, где ждало людей угощенье.
С гусем в лукошке был отведен я к дому, где на воротах висело нарядное полотенце и была нарисована пара веселых праздничных птиц. Большой стол в чистом звонком рубленом доме был уставлен яствами, названия которых я не запомнил. В средине на блюде лежал огромный, с шапку, беляш, на тарелках рядом — беляши маленькие, дальше печенье, варенье, блины, халва из пшеничной муки, башкирский мед, уральские ягоды, масло с вишнями, масло с брусникой. Пел на столе самовар. Но центром был гусь.
По ритуалу застолья молодой хозяйке дома Анисе Мансуровой надо суметь разрезать гуся на сорок частей и подать: девушкам — по крылышку, бабушке — гузку, ножку — самому знатному, грудку — наиболее терпеливому, шею — мальчишке. Задача Анисы не была трудной — за столом сидело человек пятнадцать. По стольку же собралось в этот вечер и в других домах, на воротах которых висели расшитые полотенца — символы праздника.
Днем на улицах я не видел ни одного пьяного. И сейчас на столе стояли лишь чай и айран. И не только по духу времени. «Казэмасы» — «праздник гусиного пера» проходит всегда без спиртного и всегда весело. В этом я убедился и тут, за столом. Песни были стройными и сердечными, разговоры веселыми, оживленными, но не шумными. Шутки никого не коробили. Всем было радостно, хорошо от прожитого дня, от дружеской атмосферы, от тепла дома, улыбок его хозяев. О чем только не было разговоров — от событий в Женеве до хозяйственных дел в Бурангулове. И, конечно, говорили много о гусях.
В хозяйстве у человека двадцать восемь пород гусей. Все ведут начало от диких серых гусей, которые и сегодня летят весною с юга на север, а осенью возвращаются на зимовки. Гуси пролетают над разными странами, и у любого народа гусь — непременный персонаж сказок, песен, пословиц. В Башкирии едва ли не в каждой второй песне вспоминается дикий или домашний гусь.
Родиной домашних гусей считают Иран, Египет, Китай. Но, несомненно, их приручали повсюду, где с ними соприкасались. И с давних пор. Процесс приру-
чения можно проследить и сегодня. Птенцы-пуховички диких гусей, выращенные во дворе, становятся домашними птицами.
Породистые домашние гуси по сравнению с дикими, исключительно жизнеспособными птицами, одолевающими на крыльях тысячи километров, конечно, отяжелели, но родства не утратили. Язык домашних гусей понятен и диким. Нередко дикие гуси при перелетах смешиваются с домашними, вместе пасутся. Дикие, улетая, зовут с собой домоседов, но те лишь тревожно гогочут.
В хозяйстве гусь исключительно выгоден. Лишь в самом начале лета за гусями нужен присмотр (мальчишка с хворостиной вполне годится на роль гусиного пастуха), потом же гуси, уходя к речке, к озеру или на луг, почти полностью переходят на травяной корм. Осенью гусь дает четыре-пять килограммов превосходного мяса и превосходного жира. Деликатес — гусиная печень. Венгры принудительным калорийным кормлением добиваются роста гусиной печени в полкилограмма и больше.
В России водили гусей повсюду. Известны породы: арзамасская, хохломская, шадринская, тульская. Поэзия деревенской жизни связана с этой птицей. У кого в памяти о деревне не осталась речка с белеющим стадом гусей, с цепочкой птиц, возвращающихся вечером к дому.
Гусь дает не только превосходное мясо, но также отличный пух. Подушки и перины башкиры набивают только гусиным пухом — «куриные пахнут». И подушки эти повсюду таких необъятных размеров, что кажется, на них можно прыгать сверху без парашюта.
Гусиные перья когда-то тоже ценились. Из России только в Англию ежегодно отправлялось 20—30 миллионов этих орудий письменности, кои держали в руках и Байрон, и Пушкин. Курьез, но даже в век авторучек находились люди, предпочитавшие перу стальному гусиное. В. Бережков в книге «Страницы дипломатической истории» пишет: «Британский посол сэр Арчибальд Кларк Керр... писал от руки на голубой бумаге с водяными знаками гусиным пером, и Павлову (сотруднику МИДа. — В.П.) стоило немало труда расшифровывать подобные рукописи. Башкиры гусиным крылышком пользовались и теперь пользуются для того, чтобы смахнуть со стола крошки, подмести очаг.
Гусь — птица важная, независимая... В тех местах, где весной и осенью пролетают дикие гуси, домашние отвечают на их призывные крики, но им улететь не дано.
В некоторых районах нашей страны гуси пользовались особым почетом. Семен Степанович Гейченко, с которым в Михайловском я завел разговор о гусях, достал с полки книжку «Пушкиногорье», и я в ней прочел: «С древних времен на Псковщине была своя порода домашних гусей. Они назывались «псковские лысые» и отличались вкусным мясом, добротным чистым пером, мощными красными лапами и большой лысой головой на длинной шее.
У жителей столицы они пользовались большой славой. На Сенной площади Петербурга был даже особый торговый ряд, в котором продавали только псковских гусей.
Осенью гусей большими стадами пешим ходом отправляли на продажу во Псков и Питер. Гнали их мужики, хорошо знавшие это дело, вооруженные длинными хворостинами. А чтобы во время долгого пути птицы не сбивали себе ног, им заранее смазывали пятки густой смолой».
Гуся отличают смышленость, спокойствие, чувство достоинства. В его характере, унаследованном от диких предков, много занятных для человека повадок. Наблюдать гусиную стаю, гусиную семью всегда интересно. Те, кто водит гусей, расскажут, как привязан гусак к гусыне, как подает ей голос, пока она сидит взаперти на гнезде. Весною гуси-самцы становятся беспокойными: оберегая права на отцовство, гусак отважно дерется с соперником. Эта черта характера особенно выделяется у гусей тульской породы. «Нижегородцы двести лет собирались весной на веселые праздники гусиных боев. За гуся-победителя платили 100—200 рублей». Потеха имела немалый практический смысл поощряла заведение гусей в хозяйствах.
140
Башкиры издавна водят гусей — морозят их во время осенних забоев, вялят летом на солнце. Оплывший жиром, подсоленный вяленый гусь три года сохраняется без холодильника. Пришел гость — угощение готово. Поехал в гости — прихвати с собой гуся в гостинец. «Праздник гусиного пера» имеет тут глубокие корни. Повсюду, как только выпадал снег и уходила под лед вода, начинали убирать урожай птицы. Каждый дом забивал не менее двух десятков гусей. В день с такой работой хозяйке не справиться. Приглашала соседей. Все — щипка пера, паленье гусиных туш на костре, ополаскиванье гусей в проруби — делалось сообща, с ков, деревенских кулинарных творений. Характерны лозунги праздника: «Для джигита и семьдесят ремесел — мало», «Хорошая жена на снегу пищу сварит»...
В Бурангулово я собрался попасть в канун праздника — важно всегда оглядеться, но самолет задержался, и я в буквальном смысле оказался с корабля на балу. У деревенской околицы «газик» встретила группа наездниц в национальных башкирских костюмах. Тут же гостей пересадили в нарядные, увитые лентами сани. В сопровождении наездниц мы выехали на центральную улицу, под громадным рисунком белого гуся пригубили хлеб-соль, познакоми- девушки набивают гусиным пухом подушки. Посетившему дом полагается отведать яств, приготовленных к праздничному застолью.
Близко к вечеру коллективный праздничный труд был окончен, и наступил момент, когда вся деревня тронулась к речке. Впереди неспешным шагом под музыку двигались нарядные старухи и молодухи с коромыслами, обвитыми лентами. На коромыслах висели золотистые тушки гусей — по четыре на каждом. Я снимал процессию сверху, с забора, и насчитал сорок два коромысла. Вместе со взрослыми свою ношу — осмоленных на костре уток — несли к проруби девочки-школьницы. А следом
песнями, с принятым ритуалом. Хозяйственное событие оборачивалось веселым сельским празднеством. На этих трудовых посиделках парни знакомились с девушками, тут каждый мог показать трудолюбие, остроумие, способность спеть, сочинить песню. После этого праздника всегда было много свадеб.
Были годы, когда и тут, в Башкирии, стада гусей поредели. Сейчас наблюдается некий ренессанс этой птицы в личных хозяйствах. И не скажем, что сам собой, но без большого труда «праздник гусиного пера» удалось возродить повсеместно. В республике шли дискуссии, как это сделать лучше, совместить с современным укладом жизни. Разумно решили: возможно ближе к истокам! Это помогло избежать формализма, превращения праздника в «мероприятие». Но элементы современной жизни в него вошли. Собираясь к вечеру в клубе, участники праздника подводят итоги сельского года — кому грамота, кому подарок, кому доброе слово. Тут же выставка вышивки и ковров, пуховых платков и детских рисун- лись с председателем сельсовета, с бабушкой Колесо... И чуть приторможенный опозданьем гостей сельский праздник пошел по своей колее.
Все, что я видел на улицах, напоминало картины Кустодиева: снег, смех, пестрота красок, лошади, люди, самовары возле ворот, столы с печеньем-вареньем, пляски, музыка, ребятишки на деревьях и на заборах. Все неподдельноестественно, полнокровно. Костюмы не сшитые только что, а видавшие уже не одно торжество, музыка не из репродуктора, а рожденная гармониками, медным гонгом, тростниковыми дудочками, мандолиной. Мелькают в плясках цветные платки, звенят мониста. Мальчишки, завладев лошадьми, носятся в нарядных санях по деревне. И гогочут возбужденно во дворах гуси.
Обыкновенно процесс обработки забитых гусей идет синхронно во всех домах. Но для гостей специально кое-где работу попридержали, чтобы можно было увидеть, как под песни щиплют гусей, как на другом дворе на кострах гусиные тушки опаливают, как с песнями с музыкой, с танцами, шутками к речке двигалась вся деревня — доярки, колхозный бухгалтер и счетовод, трактористы, учителя, агроном, председатель сельсовета, старушки, с нетерпением ожидавшие праздника, подростки-девочки. На виду у всех, пританцовывая, плыла бабушка Колесо. Рядом с ней шли признанный песенный запевала — техник лесничества Асия Исканьярова, учитель Гали Хамматов, вторивший гармонистам на мандолине, неутомимый танцор-четвероклассник Разиль Валиев. Счастливые от встречи с родным селом, шли приехавшие на побывку солдаты Азамат Хамматов и Шагбал Куд- дусов. Не при исполнении служебных обязанностей, а пританцовывая вместе со всеми, шел сельский милиционер Хайдар Магафуров. Семьсот человек живут в Бурангулове. В домах в этот час остались лишь малые дети да старики-сидни.
Порошил легкий снежок. Вода в длинной проруби колыхалась от погруженных в нее гусей. Обрядовая песня сопровождала эту купель... Уже в су141
мерках праздничная процессия двинулась к деревенскому клубу.
А за вечерним столом мы сидели рядом с председателем сельсовета Мавзигой Габитовой. Она родилась и выросла тут, в Бурангулове. Работала долго библиотекарем, знает все тонкости деревенского быта, знает лицо и характер каждого из селян. Мавзига уважаема всеми, ее слово и мнение высоко ценятся.
Много сделала Мавзига для возрожденья народного праздника и хорошо понимает, как подобные торжества нужны для села. Мы были едины с ней в мыслях: «Упорядоченность деревенской жизни, ощущенье ее особенных радостей, достаток в домах делают жизнь в селе интересной, осмысленной. И трудовые успехи в конечном счете определяются не «погоней за планом», а всем укладом жизни. Труд, праздники, взаимопомощь, забота о тех, кто уже трудиться не может, и о тех, кто будет трудиться завтра, работают на здоровье села».
— Видели днем солдат,.приехавших на побывку?.. Ни минуты не сомневаюсь: они считают деревню самым дорогим на земле местом. Они непременно в нее вернутся. И те, кто уехал учиться, возвращаются непременно, — говорит Мавзига. — Из нашей деревни никто не уезжает. Каждый год прибавляется десять-двенадцать новых домов. Завтра я покажу вам две новые улицы. Учительскую и Салавата Юлаева.
Мавзига назвала мне кое-кого из участников праздника. Халима Каримова, бабушка Колесо, одинока, для нее побывать на миру — потребность. А тихая, скромная женщина в доме, где щипали гусей, — многодетная мать Кильдиярова Фатима Назметдиновна. Она вырастила десять детей. Все вышли в люди, и все остались работать в родной деревне. Семья Набиулиных — мать, сын, дочка и внучка выступали в клубе семейным ансамблем. Учительница Зилара Набиулина возглавляла шествие с коромыслами. А джигиты, встречавшие нас на конях у околицы, — библиотекарь Аниса Мансурова, медсестра Назира Гафарова и бухгалтер Рита Бурханова.
«Праздник гусиного пера» — не единственный из традиционных в здешних местах сельских праздников. После весенней страды всех собирает согретый жарким уральским солнцем красочный сабантуй. А после зимы женщины празднуют древний в башкирских местах «праздник грачиной каши». Женская половина деревни поднимается на гору и на костре в громадном котле варит
Вся деревня участвует в празднике — стар и мал. Наряжены люди, украшены лошади. Музыка, песни, пляска. Зритель тут часто сменяет «артиста». И все стремятся увидеть самых веселых, самых находчивых в этом кругу.
кашу. Так же, как осенью, поется много обрядовых песен (в последние годы поются и современные), в дружеском кругу говорят тут о сельских заботах, о планах на лето, выявляются лучшие песенницы, рукодельницы. В последние годы раздаются полушутливые грамоты: «лучшей теще», «лучшей свекрови», «самой уживчивой невестке». Тут нет попытки вмешаться в жизнь чьей-то семьи, но в деревне все на виду, и общественное мнение делает свое дело — свекровь, отличенная за мудрость и добродетели званием «лучшая», будет гордиться, уживчивая невестка зальется румянцем от радости. Девочки-подростки, тут присутствующие, набираются ума-разума, приобщаются к правилам жизни.
«Грачиную кашу» на этом весеннем празднике варят из дробленой пшеницы с расчетом, чтобы хватило и людям, и прилетевшим грачам. В обрядовых
песнях у грядущего лета просят хорошего урожая...
Влияют ли эти сохраненные и возрожденные праздники деревенского бытия на уклад жизни, на крепость семьи, на рождаемость, на все, что нас последние годы очень тревожит? Еще как! За пять лет на сто двадцать сыгранных в Бурангулове свадеб приходиться лишь два (!) развода. Детей в домах — от пяти до семи, половина всего Бурангулова — дети.
Хозяйство каждого дома добротно. Кроме гусей, водят тут кур, уток, индеек. Во дворе, как правило, две коровы, десять-пятнадцать овец, и, знаменательно, почти в половине дворов — личная лошадь. Есть тут легковые автомобили (двенадцать), но хороший хозяин предпочитает автомобилю лошадь.
— Не увлеклись ли в деревне хозяйством личным в ущерб общественному?
Мавзига улыбнулась:
— Нет. В деревне одинаково крепко стоят на ногах и подворья, и хозяйства общественные. Не буду вас утруждать цифрами, годовой план по производству и сдаче всех сельскохозяйственных продуктов колхоз наш выполнил в октябре, а пятилетний план — еще в сентябре.
— Есть ли в колхозе гусиная ферма?
— Нет. Гусей удобней держать по дворам. Всегда так было. А как возродили гусиный праздник, разводить этих птиц почитается делом чести. Сегодня в деревне нет двора без гусей. Даже бабушка Колесо завела...
Из гостеприимного дома Зарифы Мансуровой расходились мы близко к полуночи. Беспокойно ходил по сенцам гусь,
Все живое увлечено праздником.
которому предстояло путешествие до Москвы. Во дворе при свете луны с хрустом жевала сено лохматая лошаденка. Шел парок из коровьего закута. Овцы от шумного разговора людей сбились в кучу у стожка сена. И только три гуся невозмутимо остались сидеть посередине двора. Две гусыни и серый гусак — племя на новый год.
До позна светились окна в домах Бурангулова. Слышалась из домов музыка, смех молодого народа. Праздник, понемногу стихая, продолжался под светом звезд.
Над ночною деревней висел синий морозный дымок. И пока мы, разговаривая о том, о сем, прошлись по заснеженным улицам, в крайнем доме ход времени заливисто-громко обозначил петух.
Башкирия, Абзелиловский район,
1985 г.
□
ПАСЕКА В ПАЛЬЧИКАХ
Весна. В селе Пальчики из омшаника вынесли улья Молодой пасечник Владимир Кошка и трое учащихся пчеловодческой школы осматривают, как прошла зимовка у пчел. Осматривают каждую рамку, определяют, что можно сделать для ремонта пчелиной семьи, какую оказать помощь, прикидывают, что можно ждать от пчелы летом.
Позже, в момент медосбора, вот так же легко будет заглянуть в улей, откачать мед и поставить рамки на место, не нарушая жизни семьи.
На старинных колодных пасеках сделать это было нельзя. Там просто выламывалась часть сотов с медом. «Хирургический» сбор урожая травмировал пчел, примитивным был способ отделения воска от меда... Человеку, который нашел способ, забирая мед, не нарушать жизни пчелиной семьи, поставлен памятник.
На пасеку в Пальчиках я попал, увидев с дороги этот памятник пчеловоду. Среди поля плотно друг к другу стояли ивы — хорошо заметный зеленый шатер. Под ними на холмике — каменный монумент. На нем имя — Прокопович Петр Иванович, даты рождения, смерти, и легкой резьбой по камню: пчела и цветок.
Уже на пасеке в Пальчиках, беседуя с отслужившим недавно в армии Владимиром Кошкой, я узнал, что именно в этом селе жил Прокопович и что рядом, в Батурине, в местном музее есть уголок, где можно узнать подробности жизни знаменитого пчеловода.
Дуплянки из липовых комлей. Простые и с очень искусной резьбой. Солнечные часы. Инструменты пчеловода прошлого века. И сам пчеловод на старинной картинке: внимательные глаза, висящие по-чумацки усы. Его изречения на отдельных таблицах, его труды, статьи о нем. Его изобретение — первый улей, похожий на большой старинный комод...
Родился Петр Иванович Прокопович тут рядом, в селе Митченки, в 1775 году. Ни сам он, ни отец его, местный помещик, мысли не допускали о занятиях пчеловодством — это было крестьянское, стариковское дело. Жизнь молодого барина развивалась так: киевская духовная академия (с мечтой о Московском университете). Военная служба. Разочарование службой и отставка в чине поручика. Гнев отца, не хотевшего этой отставки. Отказ сыну в наследстве... Именно в это время 24- летний Петр Прокопович на какой-то из пасек познакомился с жизнью пчелиной семьи и, как многие из пытливых людей, был покорен удивительно слаженной жизнью «медоносящих мух». Он покупает клочок земли, роет на ней землянку-жилище и ставит несколько 144 первых дуплянок. Он становится пасечником, видит в этом жизненный интерес и средство к существованию.
Все он делает сам, во все стремится проникнуть умом, подобно трудолюбивой пчеле, собирает крупицы опыта у крестьян-пчеловодов, стремится улучшить все, что можно улучшить на пасеке. Зимними ночами, готовясь к лету, он делает ульи-колоды. Через восемь лет на его пасеке было уже шесть сотен таких ульев. А еще через восемь — его пасека была, возможно, самой большой на земле — пять тысяч, а потом и десять тысяч ульев!
Пчеловод-практик и пытливый мыслитель не мог, конечно, мириться с первобытным получением меда, приводившим к гибели части пчел. И то, что он предложил — рамчатый улей, — сделало революцию в пчеловодстве.
Прах Петра Ивановича Прокоповича покоится среди полей под ивами и дубами. И тут же недалеко — пасека. Жужжат над цветами шмели и пчелы...
Улей этот не сразу, не тотчас вытеснил с пасек дуплянки. Надо было преодолеть традиции, понадобилось изобретение вощины («канвы», по которой пчелы «ткут» свои соты), изобретение медогонки с центробежным извлечением меда из рамок. За полтораста лет в улей-« комод» Прокоповича внесено шесть сотен разных добавок и улучшений. И все же первый улей от современных отличается меньше, чем, скажем, нынешний самолет от первых летающих «этажерок».
Прокопович сделал изобретение великое. И сам он хорошо понимал это. Первым своим ульям он давал имена. Самый первый был назван «Петербургом». Был улей «Гоголь», «Шевченко». (Тарас Григорьевич Шевченко бывал в Пальчиках гостем у «славного пасечника», как он называл Прокоповича).
Авторитет и слава знаменитого пчеловода были очень большими. Ему посвящали статьи в петербургских, парижских, берлинских журналах, помещики всей России посылали на знаменитую пасеку к Прокоповичу учиться молодых пчеловодов. С открытием специальной школы (1828 год) сюда приезжали учиться венгры, поляки, чехи, итальянцы и немцы. Это было первое в Европе учебное заведение, где готовили пчеловодов. Петр Иванович Прокопович, создатель школы, был главным ее педагогом, директором и наставником. Позже его назовут основателем отечественной пчеловодческой науки. Но уже при жизни учение пасечника перешло к народу, разошлось по России сотнями учеников и последователей.
Жизнь Прокоповича относится к числу прекрасно прожитых человеческих жизней. «Я работал неусыпно день и ночь с истинным усердием», — писал о себе пчеловод. Четкая цель, большая страсть, трудолюбие и талант .. Есть еще один человек, проживший очень похожую жизнь и даже был сходен характером с Прокоповичем. Мичурин! С любопытством я заглянул в его книги — чтил ли он знаменитого пчеловода? — и с радостью обнаружил: «...Всегда с благоговением и наслаждением перечитываю поучительные статьи талантливого черниговца Прокоповича, который для развития прогрессивного пчеловодства отдал свой ум, талант и сердце».
Сегодня пасека в Пальчиках небольшая — сотня ульев. Прямо от чтимой могилы начинается поле сахарной свеклы. Сахар теперь повсюду вытеснил мед. Но может ли сахар сравниться с целебным сбором пчелы! Есть и еще одно обстоятельство, заставляющее сохранить пасеки и беречь кладовую опыта пчеловодов. Без пчел-опылителей невозможны сносные урожаи многих трав и растений на наших полях. «С этой целью, главным образом, держим пасеку», — признался мне председатель колхоза в Пальчиках. Там, где умеют хозяйствовать, подсчитали: мед важен, дорог, незаменим как лечебный продукт, но в десять примерно раз стоимость меда превышает ценность работы пчел-опылителей. И это было подмечено уже Прокоповичем. Не случайно на камне-памятнике рядом с пчелой выбит цветок растения, без пчелы не живущего.
Черниговская область, 1976 г.
□
ГРИБОВАРНЯ В КНЯЖАХ
К Новому году получил я подарок — банку грибов с запиской: «В Рязани грибы с глазами: их едят, а они глядят... Не исключаю, что варили эти грибы в Княжах». Так написал мне товарищ, с которым мы лазали по Мещере. Лето было в тот год грибным — жарким и влажным. Охотиться за грибами было нам некогда, но они о себе то и дело напоминали. И устоять было трудно. Встретив старушку с корзиной белых, мы начинали её расспрашивать, находя в этом немалое удовольствие.
Вспоминаю дорогу лесной пахучей низиной. Мой спутник сказал: «Носом чую — грибы!» Остановились. И точно, на бугорке под присмотром пожилого боровика беспечно паслась стайка молодых подосиновиков — как раз полный картуз. «Грибная бабушкина глушь! Уверяю, гриб тут родится, растет и умирает никем не замеченный», — философствовал друг, погружая лицо в содержимое картуза.
На карте дорога вела нас в Гиблицы. А где-то на пол пути должны быть Княжи, которых карта не удостоила даже маленького кружочка. А между тем мы уже знали: деревня знаменита колодезниками. («Летом скотину пасут, зимой ходят по деревням — роют колодцы».) Еще, говоря о Княжах, местный учитель сказал: «Девчонки в пятом классе — уже с часами. Покупают за сданные ягоды и грибы». И еще где-то здесь за деревней пряталось занимавшее нас производство под названием грибоварня...
В Княжах было тихо. На единственной улице, у дома, на травке под вербой сидел апостольского вида старик и, следуя мудрости «готовь сани летом», чинил валенок.
— Грибоварня?.. Это значит вам Иван Палыч нужен. Дымок за околицей видите? Туда и ступайте.
И вот она, грибоварня. За огородами у леска стоял дощатый навес, возле него — колодезный сруб, дымилась печурка с большим чугунным котлом. Тут же стояли бочки, мешок соли, склянки с приправами. С двумя огромными поварешками священнодействовал тут грибовар — единственный работник этой лесной промышленной точки Иван Павлович Замилов.
Нрав у сурового с виду мастера оказался веселым.
—Ко мне? На грибы?..—Слегка припадая на правую ногу, Иван Павлович вынес из-под навеса скамейку, и мы, вдыхая пахучий дымок, до вечера просидели на грибной кухне.
— Производство — проще и не придумать! Однако ответственное. Гриб бывает червивый, гриб, бывает, помнут, гриб может попасть ядовитый. Я должен в оба глядеть. Ну и варка тоже — не чай скипятить: промывка в нескольких водах, в меру положи уксус, в достатке 145
корицу, лавровый лист, а главное — с солью не промахнуться!
В грибной сезон мастер почти не спит. Сорванный гриб долго не полежит. Надо варить немедля. Бывает, что варит всю ночь. Только прилег — грибники уже с утренним сбором явились.
От леса на грибоварню белеет в травах дорожка. На ней сходятся с разных сторон все лесные тропинки. Несут грибы в ведрах, в хворостяных корзинах, везут в двухколесных тележках, мотоциклетных колясках. Когда пошел гриб, в Княжах часу не потеряют, валят в лес от мала до велика. И есть у Ивана Павловича «кадровые грибники», старухи-профессионалы.
Размышляя, кого причислить к самым передовым, Иван Павлович перебирает с десяток фамилий и называет, наконец, Грибкову Анну Матвеевну и Дарью Орлову. Желая особо их отличить и не найдя подходящего слова, он говорит:
— Стахановцы! Точно. Лесные стахановцы ...
Процедура приемки грибов простая и скорая. Из корзины («обязательно белый к белому, рыжик к рыжику») гриб идет на весы. А потом — грибы в бочку, а деньги на бочку. Расчет не запутанный: за килограмм белых — рублевка, маслята, подберезовики, подосиновики — полтинник за килограмм.
— Утром рублей на пятнадцать сдает старуха, вечером — на десятку. К зиме набегает каждой рублей восемьсот. У нас тут телевизоры, мотоциклы, часы — все грибные да ягодные.. .
Иван Павлович — не единственный в этих краях грибовар. Своих близко расположенных конкурентов-приемщиков он побивает большой аккуратностью, добросовестностью в расчетах. К нему гриб несут со всех деревень. Сам он осенью на мотоцикле объезжает все закоулки, скупая грибы сушеные — «двадцать рублей кило!».
Когда я сказал, что хотел бы снять мастера для газеты, Иван Павлович отнесся к этому с простодушной готовностью:
— А что же, сними!..
Я полез на скамейку и уже сделал несколько снимков, как вдруг грибовар спохватился:
— Постой-ка, сбегаю за тельняшкой!
Он явился в новой рубахе с расстегнутым воротом. Под рубашкой была морская тельняшка.
Уже после, в избе за столом, я спросил, что, наверное, Иван Павлович имеет с флотом какую-то связь.
— Имею, — сказал грибовар. — До войны был матросом на крейсере «Красный Кавказ». Оборонял Севастополь в 42-м. Потом воевал в Сталинграде морским пехотинцем — немцы нашего брата в тельняшках хорошо знали. От Волги до моря, до Кенигсберга, я по суше пешком дошел. От Сталинграда к Дону нас подвезли маленько автомобилями, а далее — все пешком и пешком...
После войны взялся было за здешнее ремесло. Однако с моими ранами рыть колодцы тяжеловато. И вот уже двадцать пять лет занимаюсь грибами. Ну а тельняшка — понимаете сами... — Иван Павлович изловил на тарелке ускользавший от вилки рыжик, задумчиво пожевал.
— Наталья, дай-ка баян...
Баян сейчас же был подан. На звуки «Раскинулось море широко» из соседнего дома пришла старушка, мать грибовара.
— Иван, там бабы с грибами...
Грибоварня стоит на самой опушке леса. По тропке мимо проходят те, кто собрал грибы для домашней засолки. А сборщик серьезный идет обычно согнувшись под тяжестью ноши.
Игравший кивнул: «сейчас...» — и наклонился к баяну, почти положил на него ухо.
— Шестьдесят лет мужику, а рюмку понюхал, и дитё дитём делается — надевает морскую рубаху и за баян... — улыбается мать-старушка.
На прощание Иван Павлович показал нам хозяйство, пасеку, сарай с сеном, коровье стойло, кур, уток и извинился:
— Теперь пойду, а то стахановки разобидятся ...
У края деревни мы задержались, наблюдая, как двое мальчишек пускали воздушного змея. А когда тронулись к Гиблицам, за огородом Ивана Павловича увидели знакомый синий дымок — моряк-грибовар вершил свое сухопутное дело.
Путь гриба с лесной грибоварни до магазина лежит через цех районного городка на Мещере. Тут из бочек грибы кладут в стеклянные банки. И вот он, подарок лета, у меня на столе. «Казенный гриб», конечно, не может идти в сравненье с грибом домашнего приготовления, пусть и варил его мастер. И все-таки в зимнюю пору даже и он — лакомство. Лучок, чесночок, с пылу с жару картошка к грибам... Спасибо, лето, за этот подарок!..
В Рязани я получил справку: на Мещере каждое лето действует более ста лесных грибоварен. Продукция за сезон — примерно четыреста тонн. Это не очень много — банки с грибами даже в столичном продмаге «Лесная быль» мы видим не часто.
Между тем подсчитано, сколько каких грибов произрастает в наших лесах, сколько их заготавливают и сколько можно их заготовить. Цифры впечатляющие. И речь идет о продукте ценном. Поговорка «дешевле грибов» сегодня вызывает улыбку.
Но лесной урожай во многих местах остается нетронутым. На Мещере есть уголки, где гриб в одном месте собирают два раза в день, утром и вечером. Бывают годы, когда, по словам Ивана Павловича, «от грибов некуда деться». (Таким был, например, 61-й год. Старухи в ту осень вздыхали: «Грибов-то, гри- бов-то, как бы войны не было...»)
За грибом на Мещеру едут с разных сторон. В доступных местах от этих набегов гриб, замечено, переводится. Но есть тайники на Мещере, где «гриб родится, вырастает и умирает, никем не замеченный».
□
ПРИШЕЛЕЦ ИЗ КОЛОРАДО
О нем многие слышали. Теперь, к сожалению, его можно и видеть. Выбирая с грядок картошку, вы находили, конечно, небольших ярко-оранжевых червячков. Это его личинка.
Сам он очень красив — желтый, с продольными яркими полосами. Я держал его на ладони и любовался проворством и броскими красками существа величиной с ноготь ребенка. Но это был враг. Отец с матерью на огородах вблизи от Воронежа все лето воевали с полосатым жуком, собирая его в стеклянные банки с керосином. То же самое делали все соседи. Банки, полные доверху, стояли на межах. Война была изнурительной, примитивной, но огороды все же спасти удалось. Оранжевые личинки в земле, однако, свидетельствовали: враг окопался и скоро опять перейдет в наступление.
Речь идет о колорадском жуке — страшном вредителе картофеля. А если учесть, что картошка — наш второй хлеб, тревожиться есть о чем.
Впервые заговорили о полосатом жучке сто четырнадцать лет назад. В Америке, в штате Небраска, жучок превратил картофельные поля в пустыни. И делал это очень успешно из года в год, распространяясь и по другим штатам. На пароходах с грузом картошки житель Нового Света мог бы легко перебраться в Европу. И Европа постаралась покрепче закрыть входные ворота. Ввоз картофеля из Америки был запрещен. Во всех портах учредили строгую карантинную службу. До войны 1914 года Европа жуку была недоступ-
Вот он, заморский пришелец — маленький симпатичный жучок, приносящий людям громадных размеров убытки.
на. А потом, как видно, ослаб карантин (да и не только с картошкой мог появиться жучок).
Одним словом, он появился. Очаги маленькие некоторое время успешно подавлялись. Но в 1922 году во Франции, близ Бордо, жук овладел плацдармом в 250 квадратных километров. Как ни старались, справиться с колорадским жуком на столь большой площади не смогли. С площади, захваченной во Франции, жук повел неторопливое, но победоносное завоевание Европы. Без боя ему не уступали (и не уступают сейчас!) ни одного гектара. Но уроженцу Нового Света сам человек создал условия для небывалого процветания.
Дело в том, что у себя дома, на плато Колорадо (восточные склоны Скалистых гор), полосатый жучок в природном сообществе знал свой шесток и был не лучше и не хуже других шестиногих. Питался тем, что «выделено» для него природой (пасленовые: дурман, белена, белладонна). В зарослях диких трав у него было много врагов. И то самое природное равновесие, о котором сейчас говорят очень часто, не давало жучку чрезмерно плодиться.
Но вот появились в Америке огромные площади, занятые исключительно картофелем (монокультура). Еды сколько угодно, а врагов никаких! Ну и пошел плодиться полосатый жучок. А плодится он хорошо — в лето несколько поколений. Вот и вся разгадка его победного шествия по Америке (незара- женными остались только штаты Невада и Калифорния — жук не сумел одолеть полосу гор и карантины на перевалах).
В Европе ему оказалось еще вольготней — те же поля картошки, а врагов даже в природе не существует. Постепенно жук оккупировал Францию, Германию, Бельгию, Испанию, Грецию, Данию, Нидерланды, Италию, Чехослова- 147
кию, Болгарию, Югославию... Война помогла жуку ускользать от контроля. В 1949 году очаги зараженных полей обнаружили в Венгрии и Польше. В 1958 году жук появился у нас в Закарпатье, на Львовщине и в Калининградской области. Потом — Прибалтика, Белоруссия... Несмотря на усилия карантинных служб, продвижение жука продолжается. В 1971 году он был замечен в 20 районах Воронежской области. Сейчас его знают во многих местах Украины и средней полосы России, до самой Волги. Очаги заражения есть на Кавказе. Таким образом, за сотню лет «абориген» Колорадо завоевал Америку и Европу, вторгся в Африку (Берег Слоновой Кости), в Азию (Турция) и продолжает движение.
Там, где с жуком не борются, картофель, томаты и баклажаны достаются только ему — на поле и огородах остаются лишь черные объеденные стебли (сожрав зелень, жуки берутся за клубни). На больших площадях неизбежна борьба с жуком с помощью химикатов. На огороде, около дома, применения химикатов можно и избежать, очищая от жуков грядки вручную. Кропотливое дело. Но, исполняя его, следует помнить: вы отстаиваете от врага не только свой огород, но и не даете жуку бесконтрольно плодиться и расселяться.
Любопытно, что Америка сейчас в меньшей степени, чем Европа, страдает от колорадского насекомого, хотя расселился он от арктических зон Канады до крайнего юга Техаса. Причин несколько. Во-первых, у жука в Америке есть естественные враги. И человек сознательно прибегает к их помощи. Во- вторых, вообще все способы борьбы с жуком хорошо опробованы и отработаны. В-третьих, наибольший урон вредитель наносит в моменты завоеваний еще не тронутых территорий. Но повсюду, на всех континентах, уроженец плато Колорадо требует постоянного подавления, надежной узды. Полосатый симпатичный жучок на картофельном поле — враг, и враг довольно серьезный.
1973 г.
□
ПЧЕЛИНЫЙ ВРАГ
Июньский полдень в пойме реки. Цветет липа. Медовый запах плывет над лугами. Шмели и пчелы летят, сгруженные соком цветов. Где-то должна быть пасека... Находим ее под пологом растущих островком лип и развесистых ветел. Ровный, спокойный, здоровый гул стоит под деревьями. Пахнет медом, дымком. Два пасечника попыхивают дымарем, третий в громадном котле над костром плавит воск. Кричит по соседству в лугах коростель, запоздало кукует кукушка. У опушки слышно: косцы точат косы. Умиротворяющие звуки и краски! В такие минуты кажется: нет на земле ничего плохого, все живет в радости и покое. Чувство обманчивое. Но все же есть в громадном явлении под названием жизнь такие вот островки. С этой мыслью и со словами «Принимайте гостей!» приветствуем пчеловодов. Пасечники здороваются, но как-то невесело. Поясняя эту свою невеселость, один говорит:
— Завелся, проклятый...
На указательном пальце у пчеловода — живая ничтожность размером с чешуйку просяного зерна. Невзрачное, малоподвижное существо. Но мы понимали, что означает его появление. Уже два десятка лет пчеловоды всего мира проклинают клещевое заражение пчел с названием варроатоз. Изведено много сил и средств на борьбу с этим бедствием. Оно отступает, но очень медленно.
Клещ появился нежданно-негаданно и буквально на глазах распространился по континентам. Сотни тысяч пасек им обескровлены, некоторые вовсе перестали существовать. Убытки исчисляются миллиардами. Явление это сравнимо с распространением колорадского жука. Разница в том лишь, что жук пришел к нам с запада, а клещ — с востока, да еще в том, что скорость распро- 148 странения клеща намного превысила
Многократно увеличенное изображение клеща под названием варроатоз.
Три-четыре таких паразита истощают, убивают пчелу.
скорость жука, чему способствовал человек с его самолетными перевозками, с бесконтрольным переселением пчел.
Клещ варроа издавна был паразитом дикой индийской пчелы. За длительную эволюцию пчела приспособилась выносить кровопийцу. Возможно, как раз терпимость этой пчелы к варроатозу сделала ее неподходящей для одомашнивания — «малопродуктивна и непоседлива». Для пасек в Индии завезли медоносную пчелу из Европы. Но клещ не дремал. Изменив кое-что в своем образе жизни, он привился в ульях и быстро стал расширять места обитанья.
Какими путями распространялась болезнь — сейчас изучают. В течение нескольких лет варроатоз поразил пчел в Китае, Корее, Индонезии, на Филиппинах, в Японии. У нас клещ впервые замечен был в 1964 году на пасеках у границы с Китаем. Грозной опасности для пчеловодства в те годы рассмотреть не
сумели. Не были созданы карантины, клещом зараженные пчелы из Хабаровского и Приморского краев рассылались во многие области. Варроатоз таким образом распространялся со скоростью самолета.
Сегодня в Европе, Азии, в части Африки и Южной Америке лишь отдельные пасеки убереглись от клеща. Жесткую оборону против него держит пока лишь Северная Америка. Действуют карантины. А естественному проникновению зараженных пчел с юга препятствует «санитарная полоса» территории, где химикатами убивается все живое. Время покажет, насколько действенны эти меры. Европе от жука, уроженца равнин Колорадо, уберечься не удалось.
Недавно ученые дали мне заглянуть в микроскоп, и я увидел клеща уже не безобидным маленьким зернышком на пальце у пчеловода, а чудовищем, приспособленным поражать пчел еще в колыбели (в запечатанной воском ячей¬
ка каждой пасеке свои приемы борьбы с клещом. Кропотливая, изнурительная работа...
ке), отчего рождаются пчелы-уродцы — без крыльев, конечностей, с деформацией корпуса. До шести клещей повисает на теле взрослой пчелы. Используя присоски, выросты и шипы, клещи хорошо держатся на пчеле, путешествуют с ней, что способствует их расселению. Интересует клеща не мед, а пчелиная кровь — гемолимфа. Обескровленная пчелиная семья теряет работоспособность и, если ей не помочь, погибает.
В первые годы появления клеща вар- роа всемирное пчеловодство находилось буквально в шоке, не зная средства тушить нежданный пожар. Сейчас клещ изучен. Выявлены уязвимые фазы его существования. Путем немалых усилий найдены средства борьбы с паразитом — химические, термические. Пчеловод сегодня не безоружен против клеща. Однако сами пчелы и мед, изготовленный ими, весьма чувствительны к химикатам. Борьба с клещом кропотлива, требует аккуратности, планомерности, постоянства. Этих качеств пчеловодам не занимать. Но вот что выяснилось совсем недавно. Простые эффективные средства борьбы с варроатозом подсказала сама природа. Вспомнили, что птицы, спасаясь от паразитов, купаются в муравейниках. Заметили также: там, где ульи соседствуют с муравейниками, в них клеща либо нет, либо он угнетен. Муравьиная кислота! Попробовали — оказалась прекрасным средством, не вредящим, кстати, качеству меда, ибо содержится во фруктах, крапиве, хвое деревьев и даже, естественным образом, в самом меде. Столь же безвредна и эффективна щавелевая кислота. Борясь с болезнями пчел, прилежные пасечники комбинируют разные методы. И паника, охватившая было все пчеловодство, проходит.
Ликвидировать варроатоз, как, например, ликвидировали на земле оспу, вряд ли возможно. Но управа на него есть. И усердный пчеловод уже сегодня в состоянии обеспечить здоровье пасеки.
□
РОТАН
Вы замечали, наверное: рыболов сидит иногда, казалось бы, в безнадежном месте. Какая-то ржавая лужа — торчат покрышки автомобильных колес, куски железа, пластмассовый мусор... Уважающая себя лягушка не станет селиться в таком водоеме, однако у рыболова — поклевка, и, глядите-ка, — вынул рыбешку!
— Ротан?
— Ротан, — отвечает рыбак, кидая в траву добычу, цветом похожую на ерша и чуть побольше его размером.
В названии рыбки можно почувствовать чужеземное слово. Однако стоит взглянуть на огромный рот этого существа, как все станет ясным.
Лет пятнадцать назад никто в нашей Средней России не знал этой рыбы. Ее не было. И вдруг как будто с неба свалилась. Появилась сначала, вызывая всеобщее удивленье, в прудах, канавах, речках и колдобинах Подмосковья. И потом пошла расселяться. Проезжая по И это тоже пришелец. С Амура. В водоемах серединной России распространился подобно пожару в сухое лето.
землям рязанским, мы специально интересовались: не появилась ли тут?
— Да появился, будь он неладен! — сказал рыбак, отпуская с крючка добычу не очень желанную...
Известно немало историй, когда животные и растения, случайно или намеренно завезенные из исконных мест обитания в другие районы земли, начинали распространяться с фантастической быстротой, подавляя аборигенные формы жизни. Пример классический — расселение кроликов по Австралии. Иногда переселение бывало с хозяйственной точки зрения удачным. (Ондатровыми шапками мы обязаны зверьку, завезенному в Европу и Азию из Америки.) Однако таких примеров немного. Чаще переселенец, не имея врагов, начинал процветать за счет беззащитных от него старожилов. Так случилось с уссурийской енотовидной собакой, переселенной в Европу. Так случилось с енотом американским, заве- 149
земным недавно в Германию каким-то любознательным лесником. На юге Соединенных Штатов не знают, что делать с заполнившим реки и водоемы водяным гиацинтом, привезенным из Индокитая любителем-цветоводом. Можно вспомнить еще воробьев и скворцов, привезенных из Европы в Америку, и колорадского жука, возможно, с грузом картошки пересекшего океан.
«Героем» нашего времени стал ротан. Говорят, что все началось с десяти рыбок, привезенных молодыми ихтиологами с Амура и выпущенных забавы ради в звенигородский пруд. И вот результат — в Подмосковье и прилежащих к нему областях редко сейчас найдешь водоем, где бы ротан не царствовал. Бедой является то, что он, пожирая все, что под руку попадает, истребляет икру всех остальных рыб. И там, где ротан поселился, карась и карп исчезают. К тому же ротан необычайно вынослив и жизнестоек. На лапках птиц, переносящих его икру, и с весенними водами он расселяется, расселяется ...
Многие рыбы необычайно выносливы. Карась способен выжить, зарывшись в грязь. Во Вьетнаме я наблюдал рыбку «банан», живущую в мелкой воде рисового поля. В Судане есть рыба, переносящая высыхание водоема. Она остается живой в толще потрескавшегося ила до сезона дождей. Эту рыбу с комком земли посылали по почте, и она приходила в себя, как только комок опускали в ванну с водой.
А недавно известен стал поразительный случай с угрем. Сорок пять лет назад австралиец О’Брайен поймал угря и подарил своей тетке. Тетка пустила рыбу в садовый колодец. И позабыла о ней. Колодец через год за ненадобностью забетонировали. В прошлом году он снова понадобился в хозяйстве. Каково же было удивление О’Брайена, решившего почистить колодец, когда он обнаружил там живого угря, пойманного сорок пять лет назад.
Это, конечно, случай особый. Но вот что мне рассказал ловец ротанов у маленькой подмосковной деревни Зимен- ки: «В феврале с речки в погреб я навозил льда. А осенью, прежде чем ссыпать картошку, остатки льда и воду, им образованную, из погреба взялся вычерпывать. И что же? В воде оказались... четыре живых ротана! Вмерзшие в лед, ротаны благополучно в погребе зимовали, благополучно жили весну и лето. Поймаешь ротана в речке — два дня живет в холодильнике. В ванну пустишь — он в ванне клюет».
У себя на родине, на Амуре, ротан живет в многочисленных, остающихся после разлива пойменных бочагах. Жизнь рыбешки спартанская — бочаги высыхают и промерзают. И потому, оказавшись на новоселье, он очень легко и быстро прижился, находя приемлемой воду, в которой любая другая рыба не выживает.
В чистой проточной воде ротан встречается редко. Но пруды и озера ему по душе, и он переводит в них даже лягушек. Рыбоводов это, конечно, сильно должно тревожить. Начать с ротаном войну?.. Но как? Нет способа обуздать мощную, не подконтрольную человеку вспышку природной силы. И трудно даже поверить, что все началось с десяти рыбок, с неосмотрительной шутки с природой.
По своим качествам ротан, с точки зрения человека, стоит едва ль не на самом последнем месте среди пресноводных рыб. Но отношение к нему, как можно заметить, двоякое. Серьезный рыбак плюется. А те, кто рад любому движению поплавка, не в претензии — хотя бы ротан! Тем более что удить можно едва ли не в каждой луже.
□
ЗМЕИНЫЙ ВЫГУЛ
150
Дожили... Пять тыщ змей, говорят, запускают...
Старик у дороги беседовал с женщиной. Последнюю фразу он сказал намеренно громко, чтобы слышали мы, проходившие. Он явно рассчитывал встретить опровержение. Чепуха, мол, кому придет в голову змей выпускать. Но мы сказали: «Верно, все так и есть. Только не пять тысяч...» И пригласили старика, если хочет, глянуть на этих змей...
Лесная полянка. Летают дрозды, сороки. Вьется дымок у вагончика на колесах. Пахнет чуть подгоревшей кашей... Знакомые лица. Аркадий Не- дялков, Роальд Ламброс, Альфред Гиндин. По-научному — герпетологи, попросту— змееловы и лаборанты. Но тут у них миссия необычная. В самом деле, хотят выпустить в лес шесть сотен змей.
— Ну покажите вашу армаду...
Недялков легко перелезает глухой заборчик вольеры, поднимает плетенный из веток щит, и мы видим картину, какая может присниться только в кошмарном сне. Шестьсот дремавших гадюк приходят в движение. Живой, сплетенный из упругих чешуйчатых тел ковер шевелится и на глазах расползается. Змеи не так уж похожи, как показалось с первого взгляда. Большие и маленькие. Аспидно-черные и рыжеватые. Блестящие (только что полинявшие) и тусклые. С пестрым узором вдоль тела и без него. И поведение разное. Одни уползают в тень и там, сплетаясь в клубок, затихают. Другие иссле-
Что-то вроде змеиной фермы. Но змеи живут на свободе. Их ловят, берут у них яд и сразу же выпускают.
дуют: нет ли дырки, чтобы покинуть вольеру. Два мускулистых темных самца-соперника, высоко подняв головы, качаются друг против друга в любовном танце. Две змеи выползли к ямке с водой и пьют, как куры, поднимая голову кверху.
— Подержим с недельку. Отсеем больных и слабых. А остальных пометим и выпустим. — Повернувшись, Не- дялков задел ненароком одну змею сапогом. На носке сверкнула капелька яда...
Прежде чем рассказать, каким образом и зачем собраны змеи, напомним: их, как и многих других животных, в природе становится меньше и меньше. Врагов у гадюки, оказывается, немало. С момента появления на свет маленькой змейке надо уже опасаться сороки, вороны, журавля, аиста, глухаря, тетерева, енота, куницы, хорька, кабана и, самое главное, человека, который, увидев змею, почти всегда берется за палку. Велика ли потеря, скажете вы, исчезли змеи — радоваться надо! Радоваться нечему. В сложном механизме природы у змей свое законное место. В Индии, например, даже очень ядовитую кобру оберегают в самом близком соседстве с жильем и тем самым не дают расплодиться полчищам крыс. Дело, однако, не только в сохранении звеньев живой природы. Змеиный яд, опасный в больших количествах, в малых дозах — ценнейшее лекарство, синтезировать которое химики-фармацевты не в состоянии. Его можно получить только от живых змей.
Между тем ловля змей для получения яда рубит сук, на котором сидят фармацевты. Кобра стала у нас редким животным. Интенсивный отлов гюрзы (ловцу за каждую платят 20 рублей) заставил ввести теперь лицензии на отлов. Гадюк для змеепитомника под Москвой ежегодно ловят более двадцати тысяч. Все они в конце концов погибают.
И вот появилась идея получать яд, не изымая змей из природы, — поймал, «подоил», пометил и отпустил. Если змею поймали вторично, метка покажет, пришло ли время взять новую порцию яда. Идею эту сейчас проверяют на практике.
В глухом углу Центрального лесного заповедника (Калининская область) тщательно выбрано место. (Условия: покой, обилие корма — мышей и лягушек, моховые убежища для зимовок.) Шесть сотен змей, отловленных в районах распашки и мелиорации нечерноземной зоны, справляют тут новоселье. Необычный эксперимент проводит Главное управление-охраны природы и заповедников Министерства сельского хозяйства СССР. Три года полевая лаборатория будет следить за колонией змей. Надо выяснить: как приживутся, способна ли территория их прокормить, не привлечет ли обилие змей их природных врагов? Ну и, конечно, важно тщательно отработать методику получения яда, не причиняя змеям вреда. Если дело пойдет на лад, «плоды можно будет получать, не срубая дерева».
Картинка выпуска змей из вольеры. Щипцами их собирают в мешок. Потом каждая попадает на стол к лаборантам. Обмер, капелька красного лака на кожу, метка чешуек ножницами и, наконец главное — «дойка», иначе говоря, сбор яда. Процедура довольно проста, но требует ловкости и уверенности. Порядком уже разозленной змее, готовой во что угодно вонзить ядовитые зубы, дают обтянутый марлей стаканчик. Туда и стекает «удой» — 10—15 миллиграммов яда. Это очень немного. Чтобы получить один (!) грамм сухого яда, надо «подоить» 250 гадюк, но грамм яда — это тысячи порций лекарства...
Обработанных змей в мешке несут к ручью выпускать. Свободу они принимают по-разному. Одна устало свернулась на камне погреться, другая шмыгнула в воду и поплыла, но большинство стремится скорее укрыться. За лето змей этих раза четыре поймают для «дойки».
Мы наблюдаем за выпуском вместе со стариком, которого встретили на дороге.
— Да, в это место чернику мы с бабкой уж не пойдем собирать, — размышляет он вслух, сворачивая самокрутку.
Он да бабка, да еще старик со старухой — вот и все жители близлежащей, давно опустевшей маленькой деревеньки. Глухое место. Его и выбрали для змеиного заповедника.
1977 г.
□
151
ОБЕЗЬЯНИЙ ОСТРОВ
Глухая сторона Псковщины. Леса и воды. Деревня Петраши над озером Язно. Когда узнавали дорогу в деревню, встречная женщина спросила нас в свою очередь: «Наверное, на острова к обезьянам?» От нее мы узнали кое-что новое к тому, что было известно, и вдоволь посмеялись, дивясь, как уживаются рядом были и небылицы. «Зимой- то, — говорят, — едят камыши и осину, играют в снежки». Веселая небылица. Быль, впрочем, тоже достаточно фантастична — обезьяны среди берез и осин! Но это быль.
...С доктором Фирсовым в высоких резиновых сапогах мы идем по отмели мимо озерного острова. Хорошо бы прямо на остров, ан нет, на остров нельзя. Будь Фирсов один, Тарас вел бы себя иначе. А сейчас большая африканская обезьяна-вожак возбуждена до крайности.
На вожаке Тарасе лежит обязанность обратить вспять пришельцев, и он настроен очень решительно. Он угрожающе ухает и колотит по земле передними лапами (подмывает сказать — руками). Схватив попавшую под руку палку, Тарас начинает ею крушить кусты, молотит прибрежный песок. Нас разделяет метров десять мелкой воды. Это защита надежная — обезьяны воды боятся, но у Тараса есть способ «удлинить руки». Размахнувшись, как городошник, он запускает в нас палкой. Видя, что промахнулся, хватает камень, и приходится глядеть в оба — бросок «из- под себя» не слишком силен (один камень я изловчился, поймал руками), но в ход идут булыжники с детскую голову, а это уже не шутка. Мы отступаем. А когда приближаемся к берегу снова, Тарас находит новое средство нас напугать. Забегая вперед, он мгновенно залезает на склоненные над водой ольхи. Он безошибочно выбирает деревья с сухими суками, а когда мы подходим, что есть мочи трясет ольшину. Смешно наклонив голову, он наблюдает, куда падают сучья.
— Ну вот вам ответ на вопрос из давнего спора: соображают они или не соображают? — говорит Фирсов.
Шутки с обезьянами плохи. Оператор, снимавший с лодки для «Мира животных» наш с Фирсовым проход у берега, увернулся от камня Тараса, но полетел вместе с камерой в воду. Съемка остановилась. Однако бывают потери и посерьезней — у доктора Фирсова на руке нет двух пальцев.
— За тридцать лет общения с обезьянами эта плата терпимая. Зато сколько всего интересного мы узнали...
В Ленинградском институте физиологии Леонид Александрович Фирсов изучает антропоидов, иначе говоря, человекообразных обезьян. Эта работа на островах — дело новаторское, открывшее много возможностей для познания наших ближайших родственни- 152 ков и, стало быть, нас самих.
Люди всегда глядели на обезьян как на свое отражение в слегка искривленном зеркале. Догадка Дарвина о совсем небожественном происхождении человека интерес к обезьянам сильно повысила. Их усиленно изучают. Изучают психологи, физиологи, антропологи, этологи, генетики — и всем обезьяна дает много пищи для размышлений.
Человекообразные обезьяны — лабораторные двойники человека. У них такое же, как и у нас, пищеварение, кровообращение, дыхание, строение сосудистой системы, витаминный обмен. Много важных открытий в физиологии человека сделано в опытах с обезьянами. Действие особо важных лекарств проверяют на обезьянах.
Однако не меньший интерес представляют для нас обезьяны как некая «модель детства человека». Изучая их поведение, можно понять, откуда, как, какими путями пошел на земле человеческий род, что хранит в себе человек уже от рождения и что дают ему воспитание, труд, навыки жизни. Скрупулезные опыты в стенах лабораторий дали много обширного материала для суждений на этот счет. Однако выводы часто бывали и спорными. Необходимая для науки «чистота опыта» требовала условий, в каких животные никак не могли проявить заложенных в них природой
способностей. Это слабое место всех экспериментов касалось не только обезьян, но и многих других животных — клетка или беленые стены лабораторий были скучной неволей, а в неволе, известно, все увядает.
Новые горизонты открылись, когда животных стали наблюдать в среде, в которой они обитают и к которой веками «притерты». И сразу же почти все они «поумнели». Обнаружились заблуждения и ложные выводы многих лабораторных опытов.
Экспериментам в живой природе, правда, грозит налет субъективных оценок, наукой не признаваемых, однако
Обезьяны — народ любознательный. Появление на острове нового человека, незнакомых предметов неизменно привлекает внимание. Все будет осмотрено, ощупано, попробовано на зуб.
новейшие средства фиксации наблюдений (фото- и кинопленка, магнитная звукозапись) помогли сделать выводы объективные и корректные.
Жизнь обезьян шимпанзе в дикой природе глазами ученого впервые пристально наблюдала самоотверженная англичанка Джейн Гудолл. Превосходная ее работа показала огромное преимущество наблюдения животных «в их собственном доме». Однако в этой работе существовали пределы доступного — Джейн Гудолл имела дело с дикими обезьянами. (А мы видели, как ведет себя на свободе даже выросший рядом с людьми Тарас.) Вот если бы хорошо изученных и обследованных животных выпустить на свободу да проследить, как будут они меняться в новой среде?
Однако Танзания, родина обезьян, далеко. Экспедиции туда дороги и громоздки. Поселить обезьян в средних широтах?.. Сейчас, после пятого лета жизни на островах, многое кажется уже простым и естественным. А тогда, в 1972 году, идея была почти фантастической. Дети Африки на озерном острове Псковщины? А дожди, ночной холод, незнакомая обезьянам растительность, среди которой есть растения ядовитые! Решиться на эксперимент было трудно, тем более что как раз в то время пришло известие: две обезьяны американцев, высаженные на островке теплого штата Джорджия, погибли. (Фирсов: «Теперь выяснено: погибли от случайного стечения обстоятельств»).
Опасности и тревоги при итоге благополучном всегда вспоминаются с удовольствием. С Леонидом Александровичем мы встречаемся не впервые. Тут, на озере Язно, сидя в лодке у бережка, освежаем в памяти хронику эксперимента.
Выживут или нет? Это был первый вопрос. Выжили! В лагере люди лечились от насморков, радикулитов, сердечных приступов, миазитов. Ничего подобного у обезьян не было. Больше того, к удивлению ученых, за четыре-пять дней пребывания на воле у них заросли все царапины, струпья и ссадины, шерсть на них залоснилась. (Фирсов: «Наглядный урок целительной силы движений, свежего воздуха, свежей растительной пищи».)
С едой обстояло так. В Ленинграде запаслись вдоволь всем, что обезьянам особо «показано», — фруктами, кашами, разнообразными витаминами. Однако скоро все это оказалось ненужным. Пять обезьян стали питаться тем, что сами находили на острове, и это особо важный момент эксперимента
На острове — сто восемьдесят видов растений. Половину из них обезьяны нашли съедобными. Первыми в дело шли ягоды: земляника, малина, рябина, черемуха, можжевельник, смородина, шиповник. Однако островитяне ели и листья ягодных кустиков, ели листья 153
практически всех деревьев. (Фирсов: «На ужин, мы замечали, предпочитают жевать листья ольховые».) Грибы и «мясная приправа» из улиток и муравьев (их обезьяны выуживали тонкой, смоченной слюною палочкой) были прибавкой к зеленой пище. Ядовитых растений обезьяны не ели. Волчье лыко, цикута, вороний глаз, грибы мухоморы (всего на острове пятнадцать ядовитых растений) оставались нетронутыми. Каким образом уроженцы Африки знают, что эти растения для еды — «табу», остается неясным.
После малого упрощенного мира лабораторий озерный остров показался пяти робинзонам миром бескрайним и поначалу их испугал. (Фирсов: «Они не отходили от клеток. И когда мы отплывали на лодках, то видели протянутые вслед нам лапы и слышали вопли: возьмите и нас!»)
Очень скоро, однако, новоселы поняли преимущества новой жизни. Началось быстрое приспособление к новой среде. Обезьяны сразу поняли, какие деревья ломаются, а на какие можно забраться до самой вершины и сделать пружинящий спуск, поняли: под черемухой лучше всего спасаться от комаров. Они помнили все: наблюдательный пункт, места, где можно остаться сухим при дожде, нагретые солнцем поляны, деревья для гнезд на ночлег, и все соединили на острове рационально пробитыми тропами. Остров стал территорией, границы которой они позволяли нарушить лишь старым своим знакомым.
Для выяснения, как шимпанзе относится к другим живым существам, на остров пускали ужей, черепаху, зайца, ежа. Результат — неизменное любопытство и выяснение самого главного: опасно — неопасно? Объект изучения нюхали, трогали палочкой, пальцами. Иногда это делалось всей компанией сразу. Иногда же вперед выступал смельчак-доброволец. За ним пристально наблюдали: что неопасно для одного — неопасно для всех. (Фирсов: «Лошадь, привезенная нами на остров, поначалу обезьян испугала. Но скоро они поняли: лошадь сама их боится. Бегать за ней по острову стало для коллектива желанной игрой»).
Именно коллектив со сложной структурой взаимодействий сложился на острове. Определился вожак (Бой) с большими правами, но и со столь же большими обязанностями. Более слабый, молодой его конкурент (Тарас) был оттеснен на край иерархических отношений. Маленькой Чите все дозволялось. Она могла посягнуть даже на святая святых — отщипнуть от куска лакомства, которое вожак держал в своих лапах. Фаворитка Боя — шимпанзе Гамма — была в натянутых отношениях с особой ее же пола и помыкала Тарасом. Возникали конфликты, которые Бой погашал иногда лаской, иногда железной рукой владыки. Но в целом это было сообщество дружное, и принцип — «каждому свой шесток» лишь помогал сохранять необходимый порядок в островном общежитии.
Такова хроника пяти летних сезонов жизни на островах в обстановке, максимально приближенной к естественной. От людей дичавшая группа несколько отдалилась, но не настолько, чтобы сторониться общения. Кроме тщательных наблюдений за образом жизни животных, на острове проводилось множество экспериментов.
Проверялось все, что было известно до этого о памяти, о рассудочной и орудийной деятельности обезьян, ставилось много опытов, подсказанных обстановкой и новыми взглядами на возможности этих животных. Эксперимент накопил много данных, позволяющих Фирсову и его коллегам утверждать: «Высшие животные не являются жестко запрограммированными автоматами. Не все в их поведении можно объяснять, основываясь только на понимании механизма условных рефлексов». Иначе говоря, животные способны мыслить.
В житейских условиях доказательство этому вроде бы очевидно. Но наука строга. Потребовалось время, новый уровень знаний и не повторение пройденного в исследованиях, а продвижение вперед, чтобы сделать смелые выводы. Никакого «подкопа» под классическое учение об условных рефлексах, однако, тут нет. Сам Павлов, наблюдая обезьян, уже высказывался, что не все в поведении их объясняется механизмом условных рефлексов. Таким образом, новые работы в институте, носящем имя Павлова, представляют собою творческое развитие учения великого физиолога.
Необычная жизнь на озерных островах Псковщины свежей новостью не является. Многие помнят великолепный фильм «Обезьяний остров». (Вариант кинонаблюдений для широкого зрителя. Есть еще фильм, предназначенный для ученых.) И недавно вышел труд Леонида Александровича Фирсова «Поведение антропоидов в природных условиях». Богатство наглядного материала, ненавязчивость выводов, приглашение к размышлению отличают эти работы. Содержится в них и ответ на вопрос, зачем вообще изучается поведение животных — будь то пчела, лягушка или близко стоящая к нам обезьяна. Одну из важных деталей ответа следует подчеркнуть.
Для постижения сущности сложного полезно рассматривать сложность на ясных простых моделях. Мир человека сложен необычайно. Тысячи лет его препарируют медицина, психология, литература. Однако многое остается еще запутанным и неясным. И, любопытно, кое-что в естественной природе человека вдруг становится очень понятным, когда наблюдаешь животных. Под пластами всего, что человека делает человеком, обнаруживаешь вдруг закономерности, общие для «нас» и для «них». Преувеличивать эту общность не следует, однако и оставлять ее без внимания неразумно. Один пример с островов.
Для ночлега и в плохую погоду обезьяны сооружали что-то напоминающее гнездо. Полчаса — и готово убежище. Теплое и уютное. Строили все, исключая Боя и его подружку шимпанзе Гамму. Пока сородичи со всеми удобствами, как у себя в Африке, спали на дереве, две эти сильные обезьяны прятались либо в ящиках, либо, согнувшись, сидели под деревом. Строить гнезд они не умели.
(Фирсов: «Это было загадкой до той поры, пока мы не вспомнили, в каком возрасте каждая из обезьян к нам попала. Умевшие строить гнезда были пойманы в Африке в двухлетнем возрасте. А неумехи Гамма и Бой — совсем малышами. Гнездостроительные способности в каждой из обезьян заложены от рождения. Но у первых в процессе подражания взрослым эти способности пробудились, получили развитие, а Бой и Гамма «это не проходили».) Возникает вопрос: но теперь? Разве поздно теперь Бою научиться простому, казалось бы, делу? Выходит, всему свое время. Сесть на ущедший поезд уже нельзя.
То же самое наблюдается и у людей при обучении, например, музыке, иностранному языку, плаванию, катанию на коньках, развитию трудовых навыков. Все, что легко и свободно прививается в возрасте раннем, очень трудно дается человеку, когда «поезд уже ушел».
На островах псковских озер Ущо и Язно жили два вида обезьян — африканские шимпанзе и макаки из Азии. Немаловажный смысл эксперимента состоял еще в том, чтобы создать условия для размножения редких животных в неволе. Это важно — за каждую обезьяну для научных лабораторий приходится платить тысячи золотом, а всевозрастающий спрос на этих животных грозит истреблением их в природе. Теперь доказано: «дачный сезон» — хорошее средство продолжить род обезьян вдалеке от африканских и азиатских джунглей.
1978 г.
□
Вожак. Сильный, властный, внимательный. У него много прав, но много и всяких обязанностей. Он первым должен заметить опасность и первым ринуться в бой, если опасность угрожающе велика.
154
155
НА КОСЕ
0 древности их называли вепрями. Сегодня зовут кабанами. Попросту это дикие свиньи — прародители нашей домашней свиньи. Они всеядны, выносливы, стойки к болезням, умны и потому процветают частенько даже и там, где другим животным места для жизни не остается.
Для человека вепри с древности были предметом охоты, и поэтому зверь всегда осторожен, всегда готов скрыться или, будучи раздраженным, перейти в наступленье. А эти что же — домашние? Нет, это свидетельство: если диких животных не трогать, они становятся доверчивыми и, как видим, готовы брать пищу из рук человека.
Случай не исключительный. Известно, что кабаны хорошо ощущают родство с домашними свиньями и, бывало не раз, забегали на двор покормиться, обретая нередко одновременно и стол, и дом, оставались на скотном дворе ночевать. В свою очередь цивилизованные хавроньи в лесных районах нередко якшаются с дикими кавалерами, давая потомство полосатеньких поросят.
Эти трое — стопроцентные дикари. Природой предписано им человека бояться. Даже след человека должен их настораживать. Тем не менее я снимал эту тройку с расстояния в пять шагов. Кабаны приспособились попрошайничать. Услышат: идет автобус или машина — немедленно на дорогу! У грибника и туриста в мешке всегда отыщутся корочка хлеба, конфета, несведенный бутерброд. И кабаны нашли, что еда, добытая без трудов, предпочтительней трав, желудей и кореньев, личинок, червей, улиток. Подбегают прямо к двери автобуса, тычут мордами — открывай!
Нечто похожее я наблюдал в Йеллоустонском национальном парке (США). Там попрошайничать на дорогу выходят медведи.
В природе каждый медведь имеет свою территорию для охоты. Любопытно, что и дорога тоже разграничена на участки. Я помню, километра четыре один попрошайка резво сновал у машин, но вдруг повернулся и кинулся вспять. Почему? На дороге маячил другой сборщик дани. Мы въезжали на его территорию.
Все, что слишком легко дается, впрок не идет. Попрошайничество для медведей выходит боком. Кончаются лето и осень. Выходя на дорогу с протянутой лапой, звери ничего в эту лапу не получают — туристский сезон окончен, дорога пуста. А медведи отвыкли разыскивать пищу в природе. Они стоят у дороги и ждут. И в результате ложатся в берлогу, не накопив жира. А это гибельно для медведя. Администрация парка пыталась внушить эту истину посетителям. Однако таблички с призывами «Не кормить!» мало кого вразумили. Пришлось попрошаек отлавливать и в сетях, подвешенных к вертолетам, отправлять в такие места, где пищу можно добыть лишь в поте лица.
Эта тройка тоже, конечно, теряет навыки дикой жизни. Кроме угрозы попасть под колеса автомобиля, существует угроза разучиться как подобает добывать пищу.
По какой причине, однако, осторожные звери стали такими доверчивыми? Причина простая. Кабаны живут на Косе, на длинной узкой полосе суши, идущей от Калининградской области почти до литовской Клайпеды. На этой хорошо контролируемой территории охота запрещена, браконьерство почти исключается. Людей же, особенно в летнее время, бывает тут много. Все звери — зайцы, лисы, лоси и кабаны — привыкли к соседству людей и практически перестали человека бояться. А наиболее смелые, как видим, даже ищут встречи с людьми.
□
БЛИЗНЕЦЫ
Случай редчайший. У трехлетней свиноматки родовой линии Тура породы ландрас родилось 28 поросят-близнецов. Сначала одиннадцать, через неделю — еще семнадцать. Многодетная мамаша немедленно стала знаменитостью племенного совхоза «Рышканский». На семейство приходят взглянуть любопытные, о нем пишут газеты, толкуют животноводы.
28! А сколько норма? Норма — шесть, восемь, десять, двенадцать. Шестнадцать — уже перебор. (У свиньи четырнадцать сосков.) Бывало, рождалось и восемнадцать. Но двадцать восемь — такого никто не помнит! И ведь все появились на свет жизнеспособными, весом по килограмму и больше.
Понятное дело, роженицу и потомство окружили особой заботой, для младшей группы новорожденных подыскали приемную мать-кормилицу. Рекордный приплод удалось сохранить почти полностью. (Отход был ниже обычной нормы — два поросенка.)
Двадцать шесть поросяток-подростков с молочным питанием уже покончили и живут в стандартной для всех загородке — отдельно кабанчики (10), отдельно свинки (16). По моей просьбе визжащих чистеньких близнецов пустили на травяную поляну и привели к ним мамашу. Особых родственных чувств на виду у людей проявлено не было. Малыши пытались, правда, чесаться о материнский бок, но мамаша посчитала эти телячьи нежности запоздалыми. Она энергично принялась рыть пахучий зеленый лужок. И все потомство тоже пустило в ход уже окрепший, унаследованный от диких предков инструмент для рытья. За этим занятием я и снимал знаменитостей. (Для любителей точности: из двадцати шести поросяток два особенно непоседливых оказались за кадром.)
На этом снимке близнецов можно как следует разглядеть. Недельная разница в возрасте еще заметна: одни покрупнее, другие помельче. Вес — от двадцати килограммов до тридцати. Сильно похудевшая мать здоровья, однако, не потеряла. Аппетит у нее отменный, вес набирает быстро. И все это, конечно, радует животноводов племенного хозяйства.
— Подобная плодовитость — случай или закономерность?
— Случай, — сказал зоотехник Александр Захаров. — Случай. Он объясняется особенностями физиологии свиньи. Но дело селекции, используя случай, добиваться закономерности. И, конечно, мы возьмем под особый контроль быстро растущих свинок. Вдруг какая-нибудь из шестнадцати выйдет в мамашу...
В природе процветающие ныне дикие предки свиньи — кабаны — тоже достаточно плодовиты: шесть-восемь полосатеньких поросят — норма. А бывает и до двенадцати. Колебания эти прямо зависят от корма и условий существования. Замечено, например: после урожайного года на желуди (полноценный, лакомый корм кабанов) приплод обязательно будет высоким. Та же закономерность, несомненно, действует и на ферме: добротный разнообразный корм и хороший уход — потомство будет здоровое и большое.
Так что случай случаем, но место его не случайно: молдавский совхоз «Рышканский» является образцовым хозяйством в нашей стране. А хорошему хозяину сама природа идет навстречу.
1979 г.
□
157
ПОЕДИНОК
В письме из мордовского села Шейн- Майдан сообщалось о драматическом поединке с волком. Письмо сомнений не вызывало — приводились фамилия женщины и подробности схватки со зверем. Но, зная о волке были и небылицы, я написал в Шейн-Майдан самой пострадавшей, работнице совхоза «Са- раст» Антонине Семеновне Грошевой. И вот ее фотография и письмо.
«Да, все было, как вам написали. 12 декабря вечером я покормила на ночь телят и шла домой с фермы. Было уже темно. Но я двадцать два года хожу по этой дороге, и боязни никакой не было. До крайнего дома оставалось с полкилометра, когда я вздрогнула от толчка сзади и сразу же кто-то вцепился мне в ногу. Собака? Есть у нас в селе огромная злая собака, хозяева на ночь выпускают ее побегать. Я повернулась и замахнулась сумкой. И тут поняла: волк! Он сбил меня с ног, и я подумала: ну вот и смерть. Если бы не платок, так бы оно и было, потому что зверь вцепился мне в горло. Я схватила руками его за челюсти и стала их разжимать. А они как железные. И у меня откуда-то силы взялись — левой рукой оттянула нижнюю челюсть, а когда хотела схватить и правой — рука скользнула в пасть. Я толкнула ее поглубже и пойАнтонина Семеновна Грошева из села Шейн- Майдан.
мала язык. Наверное, волку от этого сделалось больно, потому что он перестал рваться, и я смогла подняться на ноги. Кричала, звала на помощь, но никто не услышал, а может, и слышали, да испугались — мало ли что ночью бывает».
Далее Антонина Семеновна рассказывает, как, пятясь, она потащила волка по направлению к дому и так прошла почти километр. Не отпуская зверя, она сумела отворить двери и стала одной рукой шарить в потемках — чем бы его ударить. «Потащила его сначала к конюшне, там были вилы, но потом подумала: вырвется — бросится на корову, и обратно попятилась в сени». Попавшей под руку деревянной лопатой для чистки снега женщина начала колотить волка и била, пока лопата не поломалась. Исход поединка решил тяжелый дверной засов. Когда на крик прибежали соседи, волк лежал мертвым. Однако истекала кровью и пострадавшая.
Письмо в редакцию Антонина Семеновна написала, уже вернувшись домой из больницы. «Раны зажили. Но мне продолжают делать уколы — опасаются, что зверь был бешеный». На мой вопрос о волках она сообщает: «Их видят у нас постоянно, то тут, то там. Сосед рассказал, что подбегали к сараю, где лежал убитый волк. Обнюхали все. Пока бегали за ружьем, они уже скрылись».
Вот такая история с концом вполне благополучным. И все-таки она нас волнует. Волнует прежде всего потому, что это столкновение человека с силой, от которой мы успели отвыкнуть. Загляните в статистику происшествий на автодорогах — ежедневно десятки- аварий. Но скажем правду: внимание многих ли задевают столбики драматических цифр? Привыкли. И принимаем потери почти как неизбежную плату за скорость. Тут же нечто совсем иное. Но дело, конечно, не только в экзотике. Покоряет мужество человека. Оно покоряет нас одинаково, узнаем ли о летчике-испытателе, не потерявшем присутствия духа в критическую минуту, или об этой вот женщине, также не потерявшей самообладания. Поставим себя на место Антонины Семеновны. У многих ли хватило бы пороху выдержать схватку, не потеряться, не сплоховать?
По счастью, нападение волка — явление редкое. И все же сигналы из разных концов страны о шалостях волка время от времени поступают. Это прямое следствие того, что число волков пока что продолжает расти. Не чувствуя надлежащего преследования, волки наглеют, такова уж природа этого зверя.
1979 г.
158
□
ЖИЛ-БЫЛ У ДЕДУШКИ...
О этой истории волк не участвует. Речь пойдет лишь о дедушке и о козлике. Точнее, о козах.
Пострашнее волка бывают болезни. И одна из них, серьезная, посетила столяра Петрова Николая Павловича, живущего в городе Сходня. Врачи сказали: операция! Но один из них, старичок, возразил: «Не спешите, попробуйте регулярно пить козье молоко, знаю случаи — помогало». Так Николай Павлович с лечебной целью завел козу. И, как показало время, не прогадал. Поздоровел. И вся семья его — бабушка, дочка и внучка оценили достоинства молока. У козы появились козлятки. Их тоже оставили. И теперь у Петровых три взрослые козы, три молодые и среднего возраста беленький козлик Февраль.
Встретил я Николая Павловича на лужке, сидел он на раскладном стульчике в окружении своих любимцев. У столяра строгий порядок: два часа пастьбы утром, два — после обеда. Три раза в день — дойка. Девять литров молока ежедневно. «Три литра — себе. А шесть разбирают соседи для ребятишек. Очередь — список составили».
Всё показал мне Николай Павлович — как доят коз, как кормят, почему послушно они следуют за ним через мост ко двору, какие характеры у его Марты, Белки и Розы, сколько сена и сколько веников готовит на зиму и сколько семей получают желанное молоко. Я тоже в разговоре припомнил: многие в нашем селе во время войны при крайне скудном, почти бесхлебном питании выжили благодаря козам.
Уже после беседы с Николаем Павловичем заглянул я в пожелтевшие книги- справочники, где козьему молоку пропеты хвалебные гимны. «Целебный продукт... Только козье молоко может быть для ребенка полноценным заменителем молока материнского». Приводятся в книге: состав молока, богатство его витаминами и минеральными солями, его особая мелкая структура жира, хорошо усвояемого. Было, оказывается, в России в начале века общество козоводов, были лечебницы, где детей выхаживали козьим молоком. Приводятся данные также об устойчивости самих коз к различным заболеваниям. Так, например, козы почти не болеют туберкулезом. Во Франции во время эпидемии чумы у скота не пострадали только козы, то же самое отмечено было и на Кавказе.
Еще одно важное, по нынешним временам, у козы преимущество. Прокормить ее можно там, где корове не прокормиться. Даже на лужке, на приколе она будет сыта. И на зиму ей надо не бог весть сколько — немного веточных веников, пудов десять-пятнадцать сена, отходы с кухни и со стола.
В пище, которую мы потребляем, самый ценный продукт — молоко. И, понятно, не надо доказывать, что молоко,
Прокормить козу можно там, где корове не прокормиться.
полученное от собственной козы и коровы, ценнее «треугольного пакетного», как назвал его Николай Павлович. Корову в личном хозяйстве завести сегодня решится не всякий, хотя те, кто завел, не жалеют. А коза придется ко двору многим.
Маленький разговор о козе — напоминание: она существует не только в сказках.
□
159
ТРЕЗВЕННИК ТОП
И воробья можно сделать смешным и жалким, если приобщить его к выпивке.
Года четыре назад на пустыре за оградой стадиона «Динамо» в Москве я увидел странное оживление. Группа людей забавлялась чем-то, нагнувшись к самой земле. На камне рядом стояли пустые бутылки. Захмелевших было душ восемь, а около них копошились смертельно пьяные воробьи. Они поразительно были похожими на людей — волочили по песку крылья, качались на непослушных ножках, а один свалился на бок и особенно потешал захмелевших затейников.
Это прямо-таки шекспировское соединение грустного и смешного я увидел и на другой день, проходя тем же местом, — пьяные люди и такие же пьяные птицы. Люди макали в водку кусочки хлеба, а воробьи-алкоголики жадно на них набрасывались, потеряв всякую осторожность, свойственную этим птицам.
Нетрудно представить истоки «биологического эксперимента». Как раз напротив пустыря действовала торговая точка, именуемая «гадючником». С бутылкой — три шага до пустыря. Воробьи, подбиравшие крошки ежедневного жалкого пиршества, были приобщены «к застолью» и сделались алкоголиками.
Спиртное действует на животных так же, как на людей. Организм протестует сначала, но, привыкнув, начинает требовать алкоголь. Я знал пьяницу-лошадь, совращенную пьяницей-кучером. Видел свиней-алкоголиков, пристрастившихся к выжимкам барды во дворе самогонщицы. Известен случай, когда куры валялись пьяными, наклевавшись ягод винной настойки.
Замечено: активную нетерпимость к спиртному проявляют собаки. Видимо, запах нетрезвого человека и его непредсказуемые поступки собаки связывают воедино. Посмотрите, как раздражает их каждый пьяный. Даже горячо любимый хозяин собаки, вернув¬
шись домой нетрезвым, заставляет ее недружелюбно рычать. А недавно я встретил овчарку, у которой неприязнь к алкоголю развила довольно занятные навыки санитара.
На реке Усманке, на кордоне у лесника, я увидел за домом гору бутылок — не менее тысячи.
— Наверное, навезли гости? — деликатно спросил я хозяина.
— Какие гости, — ответил лесник, — собака носит! Хотите проверить — отнесите хотя бы вот эту пивную бутылку к речке в кусты.
Я так и сделал. Минут через пять бутылка вернулась к нашим ногам. А овчарка снова помчалась к воде и натаскала с десяток бутылок, оставленных рыболовами.
— Все лето таскала. Были курьезы. Приносит вдруг непочатую поллитровку «Столичной» и по обыкновению закапывает в песок за баней. Я беру «приношение» и иду вдоль реки. Спрашиваю у двоих сидящих возле костра бедолаг: ничего, мол, не пропадало? А они в один голос: «Как же не пропадало! Рыжий кот уволок вот такого подлещика, а чья-то собака почти что из рук схватила бутылку». — «Ну, — говорю, — подлещика вам не видать — кот мой рыбу домой не носит, а выпивка, поглядите-ка, ваша?» Закричали, как будто потерянный миллион отыскался: «Наша, наша!» Вот такие дела с бутылками учиняет наш Топ.
Обучить овчарку находить и носить в какое-то место бутылки — дело нетрудное. Однако тут никакого обучения не было. Топ очень любит хозяина и не терпит гостей. Они приезжают обычно с бутылкой, и лесник, посидев за столом с гостями, переставал Топу нравиться. Скоро собака сообразила, что все неприятные перемены в хозяине идут от стеклянной посуды. Теперь во время застолья она садится обычно рядом и глаз не сводит с бутылки, ожидая, когда она опустеет. Как только такой момент наступает, овчарка хватает бутылку, уносит и зарывает. Хозяйка дома, да и сам хозяин тоже эту инициативу не пресекают, и постепенно Топ расширил свою антиалкогольную деятельность далеко за пределы лесного двора и вот уже два года что есть мочи борется за чистоту берегов Усманки. Бутылку он стремится обязательно закопать. Но работы все прибавляется, а земля неподатлива, и Топ валит теперь бутылки в кучу за баней. Этот занятный склад стеклотары — хороший повод восхититься собакой и укорить высшее творение природы-матери — человека.
1978 г.
□
ПРО ДЕДА МИХАЙЛА, МАЛЬЧИКА МИШУ И ОСЛИКА МИШКУ
Деда зовут Михаил, мальчика — Миша, а ослика — Мишка. Все трое живут под Москвой, в деревеньке Валу- ево. Деду под девяносто. Он был кузнецом в Туле, во время войны чинил пушки в походной кузне, потом служил лесником. Теперь он хлопочет только по дому: пилит дрова, стежки от снега чистит и без ошибки предсказывает погоду.
Шестилетний Миша благодаря телевизору похож на маленького профессора: бездна познаний! Знает, какого цвета на Марсе пустыни, знает, почему идет снег, а недавно сказал, явно подшучивая над дедом, что «солнце на ночь скрывается в Африке и там два африканца начищают его до блеска большим кирпичом».
Мишка-ослик — возраста неопределенного. Родился он где-то в жаркой Каракалпакии. Рано осиротел. С малолетства звали его ишак, а потом, когда попал к мелиораторам, получил еще прозвище Мишка.
У мелиораторов прорва всякой техники на колесах. Но для чего-то, видно, годился и ослик. Три года назад мелиораторы перебрались рыть землю вблизи от Москвы — ослика тоже с собой прихватили. Но для работы в этих местах сподручнее лошадь. «Возьми, дед, осла! — сказал старший мелиоратор. — У нас без работы зачахнет».
Дед взял. И в тот же вечер явился в деревню верхом на осле. Роста старик отменного — ноги по земле волочились. Люди хватались за животы, стар и мал бежали к дому Михайла Максимыча, как в зверинец. А потом все привыкли. И стал Мишка в деревне Валуево жить- поживать и помогать деду Михайлу в работе: возит тележку с сеном, носит из лесу вязанки дров. Приспособил его старик ходить бороздою — посадка и
160
копка картошки теперь без ослика не обходятся. Иногда, возвращаясь из леса, Михайл Максимыч садится на Мишку верхом, но уже не потехи ради, а потому что ноги стали слабы.
Самая легкая ноша для ослика Мишки — любимец деда шестилетний Мишутка. Он ловко влезает на Мишкину спину, щекочет бока его голыми пятками и кричит что есть мочи: «В атаку!» Ослик щурится от удовольствия, перебирает на месте ногами или вдруг начинает резво носиться, так что Мишутке двумя руками надо держаться за Мишкину холку.
Дед Михайл следит за этой возней любимцев, облокотясь на прясло. Родни у деда великое множество: сыновья, дочери, внуки и правнуки. Но, схоронив бабку, он остался в своем домишке, ни к кому не пошел. Держит дед черную низкорослую коровенку, двух кошек, пять кур и этого ослика...
Тропинка летом, а в снежную пору лыжня проходят мимо деревни Валу- ево, и я обычно хотя бы на пять минут забегаю к деду либо напиться воды, либо погреться. Ослик всегда на виду.
— Живет, сено жует. А чего ж ему... — говорит дед и шарит в кармане, ищет для ослика подсоленную корочку хлеба. — Привык, и снег ему нипочем. Ешь, ешь, азият...
Наблюдая за стариком, я почему-то всегда вспоминаю своего городского соседа. Вот так же он ходит у нас во дворе возле сверкающих лаком малиновых «Жигулей». В руках непременно тряпица, масленка. Иногда кажется: от постоянной ласки машина преданно замычит, заблеет, завертит от радости колесом. Нет, стоит холодная, равнодушная... А ослик другое дело. Ослик трется холкой об руку, тычет мягкой губою в ладонь и совсем неглупо смотрит на деда Михайла... Не этими ли ответными чувствами объясняется наша привязанность к осликам, лошадям, собакам, хомячкам, кошкам, ко всему, что дышит, что способно подать свой голос, что может, живя рядом с нами, радоваться и страдать?
□
Вот так и служит уроженец
Каракалпакии в
Подмосковье. Сено, дрова, навоз возит он на тележке с резиновым ходом... 161
СЧАСТЬЕ С НЕИ ГОВОРИТЬ.
Для одних лес — это всего лишь деревья, дрова. Если нет грибов или ягод — в лесу им скучно. Для других — это мир, полный тайн, красоты, мир, где человека покидают болячки телесные и душевные, где понятие «радость жизни»» вдруг становится почти осязаемым. Один мой спутник, когда мы вышли однажды вечером на лесную опушку, вдруг прислонился щекою к дереву и застыл — на глазах слезы. «Ты что?» — «От радости, что вижу все это...»
Есть люди особо чувствительные ко всему, что мы называем природой. У одних выражение этого чувства бурное, буднично-грубоватое — «красотища- то!». Другие в эти минуты боятся обронить слово. И есть люди, душевный инструмент которых и особо чутко воспринимает нахлынувшие чувства, и исторгает их позже так, что дрогнут струны другой души. В русской литературе, живописи и музыке назвать можно много имен, обладавших этим великим даром. Чайковский, Левитан, Фет, Тютчев, Бунин, Есенин, Пришвин, Паустовский. В этот ряд можно поставить и современников наших — Владимира Солоухина, поэта Анатолия Жигулина. Остро и сильно чувствует природу Виктор Астафьев.
Лев Толстой был способен заплакать от радости ощущения жизни. Он говорил: «Счастье — это быть с природой, видеть ее, говорить с ней». Если это так, то как же сделать человека счастливым, сознавая при этом: в понимание счастья входит много другого?
Чувство природы врожденное. И есть оно у каждого человека. Но чувство спит. Кто разбудит его в раннем детстве? Сможет ли это сделать школьный учебник? Вряд ли. Но может это сделать умный, чуткий учитель. И этим учителем неожиданно может стать кто угодно — отец, мать (у Горького — бабушка), сельский пастух, охотник, всякий, кто сам был кем-то разбужен.
Сильным толчком может стать хорошая вовремя прочитанная книжка. Когда мне было лет десять, чья-то заботливая рука подложила мне томик Се- тон-Томпсона «Животные герои». Я считаю ее своим «будильником». Путешествуя несколько лет назад по Амери- 164 ке, мы с другом отыскали дом в полу¬
пустынном штате, где жил и умер писатель-натуралист. Для меня это был важный день всего немалого путешествия. Мы посмотрели рисунки и рукописи Сетон-Томпсона, место, где он любил сидеть с индейцами, прошли по тропинке к лесистым холмам, над которыми по желанию писателя развеяли его прах.
Благодарность за «пробуждение» я должен сказать и матери, с которой ходил за грибами, и отцу, с которым готовил дрова. С благодарностью вспоминаю речку, на которой мы ребятишками пропадали с утра до ночи, пастьбу теленка... Вспоминаю Самоху, сельского мужика-неудачника в житейских делах, но счастливого. Странно, но я чувствовал его счастье, когда с берданкой своей устало он плелся домой. Я искал случая поговорить с Самохой. И уже морщинистая его душа почувствовала в мальчишке единомышленника. Однажды, присев отдохнуть у нас на крылечке, он стал рассказывать о том, как лежал в поле возле воды — ждал пролета гусей. Не помню сейчас подробностей стариковского откровения, но чувство радости от него у меня сохранилось поныне.
От других людей знаю, для них «будильником» чувства природы были: месяц, проведенный летом в деревне (любопытно, что никто не называет
Краски лета и осени.
пионерский лагерь), хождение с бабушкой по грибы, прогулка в лес с человеком, который «на все открыл мне глаза», первое путешествие с рюкзаком, с ночевкой в лесу... Нет нужды перечислять все, что может озарить, разбудить в человеческом детстве чувство любви, интерес, благоговейное отношение к великому таинству жизни.
Конечно, нужны и учебники. Вырастая, человек умом постигать должен, как сложно все в живом мире переплетено, взаимосвязано, как этот мир прочен и вместе с тем уязвим, как все в нашей жизни зависит от богатства земли, от здоровья живой природы. Эта школа должна обязательно быть. Слишком много уже сделано ошибок, чтобы пренебрегать знаниями. И все-таки в начале всего стоит Любовь. Вовремя разбуженная, познание мира она делает интересным и увлекательным. С нею человек обретает и некую точку опоры, важную точку отсчета всех ценностей жизни. Любовь ко всему, что зеленеет, дышит, движется, издает звуки, сверкает красками, — есть любовь, по мысли яснополянского мудреца, приближающая человека к счастью.
□
ОНА ИДЕТ...
В Женеве уже много веков на особой дощечке, хранящейся в ратуше, отмечают приход весны. Делается это по- коряюще просто: служащий ратуши открывает окно и глядит на растущие рядом каштаны. Появились листочки — на доске помечают: пришла весна. Конечно, в ратуше есть современные календари, барометры и хронометры, но есть и поэтичная дань старине — дощечка.
На Аляске приход весны определяют иначе. В лед на Юконе забивают колышки и прочными нитями соединяют с часами на берегу. В этом краю весна так долгожданна и так желанна, что вся Аляска включается в азартное состязание — возможно точнее определить час прихода весны. Как на конных бегах, делают ставки. Крупные выигрыши ожидают тех, кто точнее других угадает момент, когда тронется лед на Юконе.
В Антарктиде весну приносят пингвины адели. Прогрелись торчащие изо льда камни, где можно (из камней же!) построить гнездо, и вот они появились с севера, нелетающие птицы. Бывает это в ноябре месяце. (В Южном полушарии все «кверху ногами».)
В широтах средних приход весны связан с прилетом птиц. Для одних весна — появленье грачей, для других — жаворонков. Потом — скворцы, журавли, аисты, соловьи, кукушки — это все ранние или поздние гонцы весны.
165
Однако и те, кто коротал с нами зиму, тоже оповещают: весна идет и уже близко. На припеке среди дня орут петухи. Сходят с ума воробьи. Синица уже не просителем тенькает у окошка. Поет. Да так пронзительно звонко, что хочется замереть и слушать, слушать. В прилесных поселках ямщиком свистит поползень. В лесу в затишье бормочет сойка. И со дня на день следует ждать песню безголосого дятла. Отыщет дятел сухой упругий сучок, и уже не «тук-тук» в поисках червячка, а звонкая барабанная дробь влюбленного сердца пронесется над лесом.
Или последим за вороной. Казалось бы, серая проза. Ан нет. Эта птица одной из первых чувствует приближение весны. Есть у меня в подмосковном лесу местечко — на вырубке, обойденные топором, растут, почти что обнявшись, две осинки и две сосны. Лыжня проходит как раз мимо них. И каждый год в марте вижу на одном и том же суку ворону. Она не каркает — она поет! Распуская хвост, кланяясь лисьим следам на ослепительно белом снегу, забыв о вороньих хитростях и делах, птица вещает о чем-то сильно ее волнующем. Лыжи у меня еще натерты мазью «минус 2 — минус 7», но если ворона заняла свое место между двух сосен и распускает под песню хвост — значит, скоро лыжам на отдых.
Приход весны в иные годы отмечается еще и редкой небесной иллюминацией. В погожий вечер на западе яркой лампочкой сияет Венера. Обернешься назад, на востоке — тоже две очень заметные звезды. Нижняя, красноватая, — Марс, выше белым светом сияет Юпитер. На востоке виден также Сатурн...
В один из таких вечеров позвонил я другу в Женеву: «А как там с листьями на каштанах?» Отвечает: «Трудно поверить — снег! Метель настоящая. А было уже двадцать тепла. И в ратуше уже не раз открывали, наверное, окошко. Это бывает в Женеве...»
Это везде бывает. Но неизбежно приходит день, когда после весны света, весны воды зеленеют каштаны, тополя и березы.
.. .Ах как звонко — в открытую форточку слышно — поет синица!
ДРЕВНЕЙШИЙ ИЗ МУЗЫ КАНТОВ
Из всей лесной музыки глухариная песня самая древняя. Ученые говорят, что глухарь жил на земле, когда еще не было ласточек, соловьев, ворон и всех знакомых нам птиц. Глухариная родословная измеряется миллионами лет. Многое, созданное природой так же давно, вымерло, а глухарь живет, хотя и нелегко ему теперь на земле. Глухаря мало кто видел. Неволи древняя птица не переносит, и редкий зоопарк в мире может показать посетителям глухаря. Из сотни охотников, может быть, один только может сказать, что стрелял в глухаря. И если окажется таковой у лесного костра, то уж непременно расскажет про эту охоту — древнюю, поэтичную, трудную...
Лесные просеки переходят одна в другую. Темнота справа и слева. Только над головою холодные дробинки звезд. Болота. Ломкий ледок между кочками, вода вперемешку с подмерзшей грязью, а то вдруг снег. Снег, как наждак, колючий, то держит ногу, а то вдруг ныряешь в него по пояс. Опираешься на ладони, но руки тоже ныряют по локоть. Переднего не видно. Слышно, как чертыхается. Значит, надо особенно осторожно идти в этом месте. Кому-то из нас наверняка придется купнуться в этих предательских ямах. Уберечь бы магнитофон в рюкзаке и сумку с фотографической аппаратурой. Фонарик не помогает. От белого света еще обманчивей становятся кочки в воде. Бултых!.. «Микрофон, микрофон держите!» Хватаю из рук Бориса коробку с каким-то дорогим, купленным в Австрии, микрофоном. Сам Борис выбирается из колдобины. Вода с Бориса бежит ручьями, вода попала даже за ворот куртки. Выливает из сапог воду. На портянки идут шарфы...
Десять километров лесной дороги.
У глухаря радость такая же, как миллион лет назад. Луна была, наверно, такой же красной, звезды такими же частыми и холодными, так же сверкала вода между соснами и белел снег, от ударов крыла звенел воздух. И начиналась песня.
Мы стоим молча. Ждем. Уже много лет на это чуть возвышенное среди болот место глухари собираются на тока. Лесник расставил руки, как дирижер. Нельзя громко дышать, шуршать одеждой, переминаться. Услышал! Показал рукою сзади себя. Еще услышал! Мы ничего не слышим. Но лесник уже делит нас на две группы. Задача такая: мне надо послушать и попытаться снять поющего глухаря. Борис с ружьем застрелит на чучело одного. Другой Борис, с магнитофоном, пойдет записывать глухариное пение для пластинки. Расходимся...
Теперь, если остановиться и дать
Песня глухаря — волнующая музыка середины весны.
успокоиться сердцу, можно услышать песню. С чем сравнить?.. На мраморный стол в темноте кто-то роняет костяные шары. Сначала редко: тк! тк!.. Потом часто один за другим: тк-тк-тк!.. А потом слышится бормотанье, как будто старый бухгалтер увидел ошибку в расчетах и осерчал: «Триста-четыреста! четыреста-триста!..» Вот и вся песня. Необычная, странная, возбуждающая желание непременно увидеть певца. И это возможно. Давно подмечена глухариная слабость: когда в песне начинается бормотанье — птица делается глухой... Охотники уверяют: можно стрелять под деревом — не услышит. Под песню к глухарю и подходят...
Два быстрых шага — и замираем. Тк!.. тк!.. — в это время глухарь чуток необычайно. Не дай бог ветка хрустнет или снег под ногою осядет — все, услышишь только хлопанье крыльев. Терпенье и точный расчет: два шага — и замереть. Высокие сосны с подлеском. Идем по снегу и по мягкой, покрытой хрупкими мхами земле. Два шага — и остановка, иногда в очень смешной позе: на одной ноге, боком к дереву привалившись. Иногда бормотанье почему-то запаздывает. Ноги немеют, сердце колотится, из-под шапки текут ручейки пота.
Чуть-чуть рассвет забрезжил. В лесу уже стон стоит от дятлов, тетеревов, каких-то еще птиц. В верхушках сосен и ниже с квоканьем, закрывая крыльями побледневшие звезды, летают глухарки. Самый разгар песен. Подходим вплотную к «нашему» глухарю. Вот он сидит на голом суку засохшей сосны. Большой черный ком. Если приглядеться, уже различаешь бородатую голову на вытянутой вперед шее. Видно: глухарь приспускает крылья, разбухают глухариные перья, когда начинается песня. Стрелять уже можно, снимать нельзя — мало света. Стоим минут десять под самым деревом. Песня вдруг обрывается. Глухарь планирует вниз, в темноту. Мы не заметили, как подлетел соперник. Зато теперь хорошо слышно: шагах в двадцати от нас за кустами идет потасовка — хлопанье крыльев, странные сердитые звуки. Низко, с квоканьем, летают глухарки. Одна из них, наверное, заметила нас — испуганный треск нескольких пар крыльев. И на время все затихает... Ловим слухом еще одну песню и опять начинаем смешные прыжки. Посветлело. Теперь можно снимать, но трудней подойти — глухарь может заметить. Все-таки подходим к певцу, но — какая досада! — глухарь сидит на верхушке молодой сосны и почти целиком закрыт ветками, видно только вытянутую вперед бородатую голову. Зато песню слышно отчетливо. Тк!.. тк!.. — «костяные шары» падают прямо к нашим ногам. Весь лес кругом поет, верещит, циркает, блеет барашком, крякает, свищет и барабанит. Никогда в один раз я не слышал такого числа голосов торжествующей жизни. Наклоняюсь к Борису:
— Стоило и в пять раз дальше идти...
Глухарь, однако, заметил неладное под сосной, вытянул голову в нашу сторону. Сейчас, сейчас полетит. Борис кидает к плечу ружье... Ломаются ветки, и на мох с глухим стуком падает тяжелая птица. Можно теперь хорошо ее разглядеть. Красные набухшие брови. Хвоей испачканный массивный клюв. Борода под клювом. Перья на шее отливают синевою, на спине сквозит легкая проседь. Мощные, покрытые перьями ноги. Древнейший из музыкантов...
Этим утром только ружье оказалось с добычей. Я утешился съемкой убитого глухаря. А Борису с магнитофоном вовсе не повезло. Подкрался, с замиранием сердца включил микрофон... Ужас! — в наушниках одновременно слышно и глухаря, и музыку московского «Маяка». Что-то случилось с магнитофоном, и он наполовину превратился в приемник. ..
Разложили костер. Обсушиваемся.
— Не жалеешь?
— Не жалею.
Главное слышать песню, а потом уже все остальное.
□
167
ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ТЕРЕНТИЯ
Квадратное поле с овсяной стерней. Кругом лес: осинник, березнячок, горелые сосны и редкие молодые сосенки. Если хорошо приглядеться — при лунном свете на стерне поблескивает вчерашний замерзший дождь.
Посреди поля шалаш из еловых веток. Лежу в шалаше лицом к звездам. На мне тулуп, валенки, шапка до самых глаз. С полночи жду таинства, которое вот-вот должно в темноте обозначиться. Пока что слышу: где-то от меня справа кричат журавли, а возле самого шалаша токует дупель. Если закрыть глаза, кажется, что лежишь в теплой избе и кто-то во тьме на горячую сковородку по капле роняет масло — негромкий сухой треск клювом. Если в темноту протянуть руку, можно схватить эту маленькую на длинных ногах птицу. По дороге из Африки в тундру на этой овсяной поляне дупель справляет весенний праздник. Кричат журавли. Они летят с криком низко по направлению к шалашу. Путаясь в тулупе, приподнимаюсь, выползаю из шалаша. Низко, над самой стерней, летят журавли — чувствую на лице волны холодного упругого воздуха.
Токует дупель. Другой ему отзывается. Кричит, пролетая в темноте, чибис. И вот началось... Кажется, в темноте к шалашу подкрался мальчишка лет четырех-пяти, надувает, играясь, щеки: «Чф-ы! Чф-ы!» И вот уже все пространство вокруг шалаша заполняет чуфыканье. Сколько ни гляжу в темноту, ничего нельзя рассмотреть. Кутаюсь в тулуп и ложусь поудобнее, надо дождаться рассвета. Чуфыканье сменяется бормотанием, гулким, немного похожим на воркование голубей. Слышно хлопанье крыльев, взлеты...
Понемногу светает. Осторожно раздвигая хвою, вижу картину, от которой дух захватывает. По белесой стерне вокруг шалаша сидят: раз, два, три... Поворачиваюсь кругом — двенадцать... семнадцать... двадцать четыре угольно-черные птицы! Одна сидит прямо около шалаша. Ну, красавец! — ярко- красные брови, черный пиджак. По бокам, как носовые платки, белые пятнышки. Хвост — черная лира, а середина хвоста — кипенно-белый веер. Сейчас он розовый от зари. Стерня тоже порозовела, и по этой розовой паутине расхаживают возбужденные женихи. Один возле самого шалаша уставился в точку, вытянул шею, крылья расставил и бормочет-бормочет. Еще три-четыре таких одиночки. Один из них то и дело возбужденно взлетает и садится на то же место. Остальные разбились на пары, устрашающе распустили хвосты, пригнули головы и медленно, с остановками наступают. Конечно, надо возможно громче чуфыкать и бормотать, возможно шире расставить крылья — гляди, какой я большой!
Тихо прилетели пять серых самочек. Одна опустилась в стерню, две сели на сосны, а одна — боже! — уселась на шалаше, как раз там, где торчит объектив аппарата. Это соседство связало меня по рукам и ногам. Не могу шевельнуться, а время снимать — солнце всходит, женихи уже не стращают друг друга, а кинулись драться. Точь-в-точь петухи во дворе — подскакивают, хлопают крыльями, даже перья летят.
Жертв не бывает в таких поединках. Просто один улетает с самкой, другой остается продолжать песни. Поет как ни в чем не бывало. И сейчас же ему находится новый соперник: бежит-бежит, распустив крылья.
Тетерка улетела, и я могу безбоязненно наводить объективы то на одну пару, то на другую. Солнце выбралось из тумана над лесом. Тетерева возбуждаются до предела. Один кружится возле самого шалаша. Легко могу дотя-
Все это происходит вблизи шалаша. Иногда драчунов можно достать рукою...
168
нуться и схватить птицу за белый хвост. Сплошной гул чуфыканья, бормотанья. Обледеневшая стерня, кажется, начинает звенеть от бесконечных рулад. И вдруг все кончилось. Сразу. Я как раз заряжал аппарат. Выглянул — как будто и не было никого. Только скворец ходит в стерне. Что же случилось! Глядел-глядел... и увидел рыжий облезлый хвост в бурьянах. Лисица! Кралась к току, но была обнаружена.
Тихо над полем. Только два чибиса кувыркаются и ныряют сверху до самой земли. Половина седьмого. Закутываюсь в тулуп и ложусь в шалаше...
— Ну, брат, за версту слышно храпишь... — У шалаша стоит мой приятель.
Солнце уже растопило ледяные бусы на бурьянах. Кувыркаются чибисы. Протираю глаза — тетерева... было это или только приснилось? Было! Иду по стерне и подбираю на память черные перья.
АПРЕЛЬСКИМ ВЕЧЕРОМ
Весенний день долог. Но вот солнце приблизилось к горизонту. Вот уже только заря отражается красным светом в апрельском разливе вод, в лужах, в набухшей лесной колее. Прощальный румянец играет на белых стволах берез, на остатках снега под елками. Синий апрельский туман заполняет низину возле опушки. На темнеющем небе обозначилась первая звездочка. Одна за другой стихают птицы. Дрозды последними завершают славу ушедшему дню и до утра смолкают в теплых еловых крепях. На этой грани света и влажной апрельской тьмы, над уходящим ко сну леском вдруг слышишь «цыканье»» и гортанное «хорканье». Вскинув голову, видишь, как вдоль опушки, чуть выше берез, пролетает странная птица с округлым широким крылом, с опущенным книзу клювом. Летит (охотники говорят «тянет»») вальдшнеп. Держась опушки, он подает голос и слушает: не прозвучит ли снизу из темноты ответный призыв подруги. Следом за первой птицей «потянула« другая. Если сблизились — начинается драка с кувырканием к земле... Но опять «цыканье»» — еще один вальдшнеп проплывает над кромкой леса. Его можно обмануть имитацией голоса самки. Брошенный кверху картуз он может принять за соперника и сделать резкий поворот в воздухе... С замиранием сердца ждешь нового летуна. И он по красному фону зари проплывает, как нарисованный тушью.
Воцаряется ночь. Заря лишь тоненькой полосой разделяет темень земли и неба. Но лёт продолжается. Птицы теперь не видно, и лишь звезды, на мгновение перекрытые ее телом, свидетельствуют: праздник весны не окончился.
Лесной кулик вальдшнеп — птица сумеречная, скрытная, любящая одиночество. Два больших выпуклых глаза, сидящих, кажется, чуть ли не на затылке лобастой выразительной головы, и длинный копьеобразный клюв не дают спутать вальдшнепа ни с какой другой птицей. Окраска *— черные кляксы по ржаво-серому фону — надежно маскирует птицу в лесу. И лишь блестящие камушки глаз ее выдают.
Расположение глаз позволяет лесному жильцу погружать в землю не только чувствительный клюв, но даже и часть головы. Охотятся вальдшнепы за дождевыми червями, личинками, за жив-
169
ностью, спрятанной в прелых листьях.
Четыре яйца в нехитром гнезде на земле самка насиживает спокойно, полагаясь на маскировочную окраску. Случалось, человек проходил, едва не ступив на гнездо, — сидит, дерево падало рядом — сидит! Забота о птенцах у вальдшнепа идет дальше обычного приема птиц — притворившись подбитой, увести врага от гнезда. Самка вальдшнепа, если гнездо обнаружено, переносит птенцов в безопасное место, зажав между лапками и прислоняя клювом к груди. Все орнитологи подтверждают способность вальдшнепов «эвакуировать» малышей. Однако никому еще это таинство леса не удалось оставить на пленке. Вальдшнепа даже весной, в апреле, когда он, токуя, летит на виду, снять — задача не из простых. Потому-то так интересно рассмотреть этот снимок. Апрель. Закат. Пахнет туманом, весенней прелью. Где-то в темноте леса ждет избранника самка. И вальдшнеп хочет показаться во всей красе - распушил перья, «цыкает», «хоркает». Земля еще как следует не оттаяла, но уже оттаяло для любви сердце. Птичий гомон возвещает об этом днем, а у вальдшнепа для любви — сумерки.
□
Пора эта очень недолгая — дней десять всего. Снег земля скинула, а в зелень еще не оделась. Половодье утихло, но в бочагах и канавах много воды. Вода сочится под сапогами. В посветлевшую воду глядятся ивы и ольхи. Преобладающий цвет у земли — рыже- вато-белесый. Полеглые, отбеленные снегом травы, листья и бурьяны подсыхают, хрустят под ступней. А там, где снег еще только сошел, рыжеватая корка земли хранит отпечаток великой мышиной жизни под снегом: туннели, "незда из мягких стеблей, шахты, кладовки, трассы отважных странствий. Зимой только лисы знают про эту жизнь. Теперь же мышиные царства доступны глазу. Они похожи на древние городища, лишенные жизни. Но ведь не смыли же вешние воды мышиный народец, где-то он тут, под ногами — затаился, укрылся от снежной воды.
Вороны, сидящие неподвижно в центре мышиного государства, отлично знают: терпенье вознаграждается. И вот одна из них шумно взлетела с добычей — видно, как возле клюва мотается гибкий мышиный хвост.
Неодетый лес прозрачен, светел и голосист. Горланят дрозды, свищет скворец, рюмит перед дождиком зяблик. На гулком сосновом суку творит любовную песню дятел, кричат чибисы на опушке, звенит невидимый жаворонок. Среди громких и сильных звуков вдруг слышишь шорох. Кто бы это?.. Да муравьи! Дубовые листья возле прогретого солнцем жилища подсохли, муравьиный топот по ним отчетливо слышен. Нагнувшись, видишь муравьиные караванные тропы. Чем жарче солнце, тем оживленней мелкий лесной народец.
Лимонного цвета бабочка замелькала между деревьями. Провожая ее глазами, вдруг видишь в буроватом сквозящем пространстве брызги лилово-розовой краски. Цветет волчье лыко. Цветут в это время еще орешник, осина, желтыми звездами на суглинистых бугорках показала цветы мать- и-мачеха. Но царствуют в неодетом лесу цветущие ивы. Семейство у этих кустов и деревьев большое — ива ломкая, ива шелюга, ива бредина... И цветенье многообразное: то видишь большие желтые фонари, то жемчужную мелкую россыпь. То большие серебряные барашки. Мягкая «шерстка» на этих цветах — утепленье на случай морозов.
Буровато-рыжее время... На припе- ках, однако, прошлогоднюю ветошь уже проткнули зеленые шильца травы, показалась молодая крапива, и уже до предела набухли древесные почки. Дело теперь за теплом. Два-три погожих солнечных дня — и землю накроет пахучий зеленый дым. Время неодетой весны истекает: зеленый дым и следом — зеленый шум. А потом и все остальное, что приносит на землю раньше и раньше встающее солнце.
НЕОДЕТАЯ ВЕСНА
ЖУЧОК-ЛЮБИМЕЦ
Осенью, присев на опушке передохнуть, я долго наблюдал за этим жуком. Приземлившись около ног, он пешим ходом измерил расстояние от подошвы ботинок до моего носа и отправился в обратный путь. Особому исследованию подверг путешественник мой рюкзак. Как теперь понимаю, жучок подыскивал место зазимовать. Поползав, он скрылся в недрах мешка.
Вновь мы увиделись в марте, на лыжной прогулке. Я полез в рюкзак за едой и на самом дне увидел красную в точках блестящую пуговку. Жучок показался мне мертвым. Немудрено — с рюкзаком за осень и зиму я не раз побывал на лыжне, летал на юг и на север... А вдруг он все-таки жив? Сто смертей мы готовы накликать на тараканов, на мух, но этот симпатичный, знакомый каждому с детства жучок под названием божья коровка всегда вызывает добрые чувства. А вдруг он всего лишь спит, оцепенел на зиму? В спичечном коробке я водворил жука снова в рюкзак. И вспомнил о нем уже в апреле в тех самых местах, где хаживал осенью. Вспомнил, увидев на жухлой прошлогодней листве двух загоравших божьих коровок. Сейчас же я достал коробок, вытряхнул жильца на припек. И вот она, маленькая радость воскресных странствий, — жук шевельнул ножкой, пополз и вдруг, подняв красные створки панциря, полетел!..
Захотелось узнать: а как же зимуют жуки? Оказалось: осенью божьи коровки заползают в палые листья, в щели деревьев, строений, под крышу, между рамами окон и на зиму цепенеют. С приходом тепла, подобно моему «квартиранту», они оживают. Правда, не все, многих губит мороз. Но те, что выжили, сейчас же спешат продолжить свой род. Восемь сотен аккуратных желтых яичек кладет на листья коровка за ле¬
то. Из каждого через пять-десять дней появляется бесцветная, но быстро темнеющая на солнце личинка— продолговатое существо с тремя парами ног. Вся жизнь личинки — беспрерывное поглощение тлей — насекомых, сосущих соки растений. Таким образом уже в первую фазу жизни божья коровка зеленому царству приносит громадную пользу.
Таинство превращенья личинки в жука скрыто от постороннего глаза. Личинка окукливается. И под кожистой оболочкой за две недели происходит перестройка одного организма в другой. Явившийся миру жук ничего общего, кроме хорошего аппетита, с личинкою не имеет. Цвет у жука вначале бывает желтым. Но при солнечном свете, обсыхая, он начинает темнеть. Подобно изображению на фотобумаге, опущенной в проявитель, на нем выступают черные точки, и через двадцать примерно минут жучок обретает ярко-оранжевый с черными пятнами цвет.
Вызывающе яркий наряд — предупреждение птицам: «Не троньте, я несъедобен!» Кровь жучка обжигающа, как крапива. Схватив однажды красавца, птица впредь на него уже не позарится.
Чаще всего на глаза попадается нам семиточечный жук. Но у него много родственников. Всего в мире — 4200, в Европе — 80, в нашей стране — три десятка. Это разные виды божьей коровки. Они различаются общей окраской, характером пятен, а также размером. (Увидите трехмиллиметрового жучка-малютку, не думайте, что это подросток, это взрослая божья коровка, но маленькая.)
Симпатичный жучок! Бывают, однако, годы, когда коровок становится вдруг устрашающе много. Они липнут к телу, хрустят под колесами на дорогах, будучи неважными летунами, они падают в воду, и ветер прибивает их к берегу плотной массой. Все это значит: год для коровок сложился излишне благоприятным — благополучно зазимовали, много было тепла и корма, результат: вспышка численности.
Вообще же коровки повсюду — желанные гости. Истребляя тлей, мелких гусениц, червецов и клещей, они приносят здоровье садам, лесам и посевам. Кое-где (в Эстонии, например) божьих коровок специально выводят и выпускают в теплицы. И это лучший способ бороться с тлями на огурцах и посадках цветов
Таков он, жучок, которого летом вы можете встретить повсюду.
□
172
ЖУРАВЛИНЫЕ ЯСЛИ
В пойме Пры у болотца два молодых человека пасли журавлей. Главная их задача состояла в том, чтобы с помощью хворостинки предупреждать журавлиные драки. Так уж устроены журавли — скинув с себя яичную скорлупу и чуть обсохнув, они сейчас же бросаются в схватку. У белых журавлей из двух птенцов один погибает. (Довольно жесткая форма естественного отбора.) Родители журавлей серых, как полагают, уводят драчунов в разные стороны. И они долго потом не встречаются: один ходит с матерью, другой — с отцом. На шестой неделе инстинкты биологического соперничества гаснут, и на болотах воцаряется мир.
Эти шесть журавлей родились в инкубаторе. Яйца, из которых они появились, взяты в гнездах журавлей серых (на мещерских болотах) и у белых журавлей-стерхов, живущих в пойме якутской реки Индигирки.
Малыши журавлей выглядят одинаково — комочек коричневато-желтого пуха на голенастых ногах. И, конечно, было им невдомек, кто они и откуда. Но это хорошо знали люди, наблюдавшие журавлей. Они отмечали сходство повадок у птиц и строили любопытные планы... Журавли между тем, порываясь подраться, если оказывались в критической близости, ловили в болотце мелких лягушек, жуков-водомерок, на полянах в лесу хватали кузнечиков и скорее, чем люди, замечали спелую землянику.
Журавлей на земле становится меньше и меньше. Когда-то осенью и весной косяки этих птиц проплывали по небу. Сегодня лишь редкий счастливец может сказать: «Видел пролетающих журавлей».
Всем нам знакомые серые журавли еще держатся, а вот белых осталось совсем немного. Американцы считали, что их уже нет. Но лет пятнадцать назад на болотах Техаса вдруг обнаружили четырнадцать зимующих птиц. Открытие самой Америки, кажется, не наделало столько шума, как эта неожиданная находка. Предприняты были энергичные меры для спасения остатков этих некогда многочисленных птиц. На месте зимовок в Техасе был учрежден заповедник. Орнитологи проследили пути перелетов и отыскали места гнездования журавлей.(Они оказались в Канаде.)
Первые годы птиц во время пролетов сопровождали специальные самолеты.
Каждый американец считал своим долгом сообщить, где и когда он видел пролетающих журавлей. Об этих, ставших легендарными, птицах написаны книги, много серьезных и популярных статей, сняты документальные фильмы. Газеты и телевидение в конце каждого декабря, перечисляя важнейшие события года, обязательно сообщают, как обстоят дела с журавлями — сколько их прибавилось, а если не прибавилось, то почему.
Число журавлей медленно, но растет. Ученые, тщательно изучив этих птиц, пришли к выводу: одно яйцо из гнезда, без ущерба для роста стаи, можно забрать. Эту операцию они успешно проводили несколько лет подряд, выводя журавлей в инкубаторе. Таким образом, вместе с ростом природной группы росла группа птиц, живущих в неволе. Однако специалисты пошли еще дальше. Они решили создать «запасную» популяцию журавлей, живущих на воле. (Важно было, чтобы они гнездились и зимовали в иных местах и летали иными путями.) Для этого яйца, полученные от белых журавлей, живущих теперь в неволе, стали подкладывать в гнезда серых журавлей, обитающих в западной части Америки. Расчет был на то, что, воспитывая малышей, серые журавли
173
не заметят, что имеют дело с подкидышами. И расчет этот, кажется, оправдался.
У нас в северной части Якутии гнездятся белые журавли-стерхи, очень похожие на американских. (Судьба их тоже похожа — предполагают, осталось несколько сотен птиц.) И вот возникла идея «зажечь от догорающей свечки новую» — сделать примерно то же, что сделали американцы. Схема операции такова: из гнезд стерхов некоторое время брать второе «страховочное» яйцо, доставлять яйца в специально созданный журавлиный питомник, выращивать там журавлей (в неволе их можно заставить класть не два яйца, а значительно больше) и потом подкладывать яйца в гнезда серых журавлей с надеждой, что уже не только в Якутии, айв другом месте нашей страны будут гнездиться белые журавли. Каждому ясно: идея хрупкая, однако шанс на успех все же есть. И если даже не будет достигнута цель конечная, создание «зоопарковой группы» стерхов тоже можно будет считать хорошим итогом.
Весной орнитолог Окского заповедника Владимир Панченко положил в инкубатор два яйца серого журавля. (Яйца стерхов — величайшая ценность, ими нельзя рисковать. Для накопления опыта выведения редких птиц решили начать с журавлей серых.) Инкубация прошла гладко. Яйца, как тому полагается быть, «худели», теряя полграмма в сутки, потом они стали слегка шевелиться. И вот скорлупа одного треснула, из нее появился на свет первый рыжий мещерец. Через четыре дня он уже стал на «ходули» и по пятам следовал за ботинками воспитателя, который записывал в книжку все, что касалось роста, питания, поведения журавленка...
Через семнадцать дней и второе яйцо разрешилось рыжим пуховичком. И почти сразу же стало ясно: старший младшего заклюет. Каждому из необычных жильцов в доме Панченко опоясали марлей стойлице. И птицы могли только слышать друг друга.
Питание в пансионе было строго рассчитано. Очень важное правило — вес не должен опережать рост — тщательно соблюдалось. И все-таки за одним из питомцев не уследили, и он сразу же потерял форму — длинные ноги не держали отяжелевшее тело. Пришлось его посадить на диету.
Так они и росли: рациональный стол (белок яиц, лягушата, рыбьи мальки, ягоды, яичная скорлупа) сочетался с интенсивной ходьбой. В журавлиной жизни ноги играют ничуть не меньшую роль, чем крылья. Это птица-ходок. В природе она на ногах уже с первых дней жизни. Тут тоже на ходьбу журавлей отвели ровно треть суток — восемь часов. А чтобы с ходоками ничего не случилось, приставили к ним пастухов — двух студентов, проходивших в заповеднике практику.
174 Пастушья работа однообразна, но ребята имели редкий случай понаблюдать, как птицы «учились жить». Как сразу же без боязни залезали в болото, как с наслаждением плавали, хватали слепней (и научились не трогать пчел!), как сломя голову убегали в кусты, заметив в воздухе силуэт коршуна или услышав шум самолета. И порывались все время подраться. Старшего звали Брыка, младшего — Крош.
26 июня журавлята беззаботно резвились возле болота, полного лягушат. А в это самое время за тысячи километров от мещерского Брыкина Бора, в тундровой пойме реки Индигирки, кружил вертолет — орнитолог Владимир Евгеньевич Флинт помечал на карте редкие гнезда стерхов. Через четыре- пять дней в них должны были появиться птенцы.
Стараясь не потревожить птиц, вертолет приземлялся в стороне от гнезда. И вскоре к нему возвращался «по- мытчик», держа в шерстяном носке драгоценную ношу. В четырех гнездах журавлям оставили по яйцу. А четыре яйца в специальном ящике-термостате сначала в вертолете, потом в самолете, потом от московского аэродрома в автомобиле спешно доставили в Брыкин Бор. Два птенца появились на свет по дороге. Два родились в инкубаторе.
Прибавилось забот у Панченко. Прибавились хлопоты пастухам-журавля- тникам. Профессору Флинту чаще стали звонить в Москву из Окского заповедника... Серые и белые журавли в детстве почти что неразличимы. И повадки у них одинаковы. Лишь спустя время у взрослых птиц появляется «законное» оперение: белые журавли становятся белыми, серые — серыми.
Таково начало операции «Журавль». Время покажет, плодотворна ль идея «зажечь от догорающей свечки новую». Но усилия по спасению удивительных, украшающих землю птиц благородны.
Журавли почти всех видов нуждаются сейчас в защите и покровительстве человека. Бег жизни, конечно, не замедлится от того, что какая-то птица, какой-то зверь останутся людям лишь на картинках. Но есть что-то необъяснимо важное в том, чтобы видеть на небе не только пролетающий самолет. Важно для человека, хотя бы нечасто, хотя бы раз в жизни, видеть и журавлей.
1980 г.
□
Путь журавленка от яйца до «выхода в свет» держится под наблюдением. И все в поведении птицы ученые берут на заметку.
В ЧАС ВЫСОКОЙ ВОДЫ
Половодье после снежной зимы ожидалось рекордно большим. Но морозы в апреле снег «подсушили», и мещерский разлив был лишь немногим выше обычного. И все же воды для лесных обитателей нахлынуло бедственно много.
С директором Окского заповедника Святославом Приклонским мы пробились на лодке в уголок леса, где обычно на маленьком острове пережидали паводок зайцы. Случалось, сушу делили с зайцами барсуки и еноты. На этот раз острова не было. Из воды торчали верхушки сухой травы. На кустах и в развилке одиноко стоявшего дуба белела шерстка — кто-то спасался от наседавшего половодья. Мы огляделись и на обломке березы обнаружили зверя в лохматой шубе. Он без особой боязни разглядывал лодку. Но нашу попытку—прийти на помощь—понять не мог: на коротких ножках тихо прошел по березе и, оглянувшись, поплыл. Енотовая шуба неплохо держала пловца на воде.
Пахнет псиной. Наверное, где-то лиса... И тут же мы оба сразу ее увидели. Лиса лежала, свернувшись, на верхушке высокого пня — светло-рыжий комочек, отраженный в воде. В бинокль было видно два сверкающих глаза и торчком стоящие уши. Лисицу поймать трудней, чем енота, и мы решили лишь сделать снимок.
Лизавета нас подпустила метров на двадцать. Когда алюминиевый наш барабан громыхнул, толкнувшись в корягу, она встрепенулась. Сейчас прыгнет сверху и побежит... Нет, лизавета скакнула на чуть наклоненно стоявший дуб и в три секунды оказалась у самой вершины, на тонких сучьях. Услышав рассказ о таком, не поверил бы: лиса на верхушке высокого дуба! Но вот она перед нами. Ее принял бы за громадную
белку. Высота примерно пять этажей над водой. Сидела надежно, свисавший хвост чуть подрагивал, выдавая волненье лисы. Мы снимали ее так и сяк, но чувствовали: снимок будет неубедительным — неясно, что там за зверь наверху. Вот если бы побудить верхолаза спуститься тем же путем по наклоненному дубу, тогда будет видно: это лиса. Померив веслом глубину, я опростал отвороты сапог и прыгнул в воду. Мой спутник на лодке, описав полукруг, стал приближаться к дубу, оставляя лисице единственный путь отступления. Лодка причалила прямо к дубу. Сиди спокойно лиса наверху — не видать бы нам редкого снимка. Но нервы сдали. Лизавета спустилась к наклоненному дубу. Глядя вниз, минуты три она размышляла. Наверное, взобраться вверх было для нее легче, чем акробатом по крутой горке пролететь вниз к воде. Я держал объектив наведенным на нужный участок наклоненного дерева. Человеческий голос внизу заставил лису решиться... Один раз всего успел нажать я на кнопку и, проявляя уже в городе пленку, волновался: что там, на снимке? Как видите, все получилось. Хорошо видна высота, видны характерные очертания зверя...
Сбежав вниз, лиса бултыхнулась в воду, чуть проплыла и вскочила, энергично отряхнув с себя влагу, на ольховый кобёл. Тут мы увидели: лиса половодье пережидала не в одиночестве.
На валежине, прильнув к ней всем телом, лежала еще одна лизавета. Ничем не выдав себя, четверть часа она следила за съемкой.
Обе лисы не выглядели заморенными. Это заставило вспомнить о зайцах, возможно, попавших в эту компанию. Но больше всего в тот день вспоминали мы акробатику лис. На низких сучьях во время разливов их видели тут не единожды. Можно даже предположить: ежегодные наводнения сделали врожденной способность здешних лис залезать на деревья. Но чтобы так высоко... Это все-таки исключительный случай.
□
КОШАЧИИ ОСТРОВ
« Выпадает первый снежок, и они тут как тут, собираются на кордоне. Штук восемь-десять. Забираются на чердак, лезут на сеновал, прячутся в сени. Однажды через трубу прямо в кастрюлю одна угодила» — так курский лесник жаловался мне на нашествие кошек в его сторожку.
От лишних кошек в селах избавляются просто: сажают в мешок, уносят в лес и там выпускают: сможешь — живи. Деревенские кошки не чета городским, живущим взаперти неженками. Деревенская кошка ловит мышей, воробьев (случается, и цыплят, за что, кстати, и попадает в мешок). Оказавшись в лесу, с голоду она не умрет и очень скоро даже оценит преимущества дикой жизни. Мышей в лесу много, а кроме того, птичьи гнезда и сами птицы. Но приходит зима, и кончается для кота масленица — холодно, голодно. Со всех сторон сбегаются кошки к лесной избе.
Но вот удивительный случай: кошка перетерпела зиму в лесу, причем не мягкую зиму и снежную. В Окском заповеднике при учете зверей по следам обратили внимание на странные отпечатки в снегу. Гадали: кто бы мог быть? Решили, что норка. Странный след встречался еще не раз, и никто не подумал даже, что это кошка.
Ее увидели в половодье. Весной леса у Оки заливаются на громадных пространствах. И лишь «горы» остаются сухими. Горами зовут тут маленькие неза- топляемые островки суши. На одних спасаются зайцы, еноты, лисы. На других токуют тетерева. Тимошкина грива — как раз такой островок. Орнитологи заповедника загодя поставили на «горе» шалаш и очень надеялись понаблюдать из него токовище. Но тетерева почему-то на остров не опускались. Что-то мешало тетеревиным свадьбам. Стали оглядывать островок и обнаружили кошку. Она пережидала тут половодье, промышляя мышей и, может быть, птиц. Большие тетерева были этому робинзо- ну, конечно, не по зубам. Но распугать их кошка сумела.
Утром мы сговорились посетить остров. В море воды увидели его, когда подплыли вплотную — полоска суши с желтой прошлогодней травой и соломенным шалашом. Кругом в воде — ветлы, дубы и липы. Взлетели с деревьев тетерева. А где же тот, кто мешает им токовать на земле? Оглядели остров, оглядели шалаш. Никого, Еще два раза прошлись по суше — чудеса в решете! — исчезла куда-то кошка. Пожимая плечами, уже направились к лодке, как вдруг у самой воды под наВоду кошки не любят, но плавают хорошо.
клоненным кустиком жесткой травы я увидел кончик хвоста. Он чуть подрагивал.
Поняв, что ее обнаружили, кошка пулей метнулась поперек суши, кинулась в воду, поплыла и уже с дерева глянула желтыми, злыми глазами. Это был пушистый, темно-серого цвета зверь, одичавший в лесу совершенно. Мне приходилось видеть на островах в половодье разных других животных. Присутствие человека их, конечно, пугало, но держались они обычно много спокойней. Тут же был маленький тигр. Достань в нем силы, свой остров он бы кинулся защищать.
Подыскивая точку для съемки, я забрел в воду. Но кошка решила, что ее окружают, прыгнула с дерева, проплыла до кустов, но, сообразив, что на них удержаться ей будет трудно, вплавь вернулась на остров и спряталась в шалаше.
Кошки воду не любят. Но, как видим, плавают хорошо. Одичание кошки редким не назовешь. Редкость — суметь в лесу пережить суровую зиму... Мы поискали на острове перья и не нашли. Видимо, пищей зимой и теперь, в половодье, служили домашнему дикарю мыши. Это обстоятельство смягчило приговор, который обычно выносят одичавшим собакам и кошкам. Да и жалко терпящего бедствие. Кошке, однако, подобные чувства неведомы. Обнаружив птенцов на гнезде, она-то жалости не проявит... Маленький мимолетный конфликт чувства и долга, которые часто борются в человеке.
□
ГУСИНАЯ СТАНЦИЯ
По Оке от Мурома до Коломны весна разливает великое море воды. Все Мещерское равнинное понижение заливается. Луга, болота, леса — всё в воде. В иные годы вода поднимается так высоко, что заливает скворечники, висящие на деревьях. У Оки обозначен лишь правый высокий берег. Но есть места, где русло теряется в море воды и лишь по бакенам можно угадывать потонувшую реку.
Величественное зрелище — мещерское половодье! В тихий погожий день на многие километры видишь зеркало с отражением синего неба, робкой зелени ивняков, темных деревьев, пролетающих птиц.
Все живое за тысячи лет приспособилось к этим разливам. Кто как приспособился. Мыши и землеройки сидят на корягах, на плывущем по воде мусоре. Ондатры сжались в комочки на плотиках из травы и ветвей. Бобры пускаются в странствия, становятся почему- то небоязливыми. Но даже их, обитателей вод, разлив утомляет — можно увидеть бобра отдыхающим, крепко спящим где-нибудь на коряге.
Зайцев, лосей, кабанов, лис, барсуков вода выжимает на возвышения. На «горах» одновременно можно увидеть лисицу и зайцев, лося и кабанов — терпят соседство в общей беде.
Раздолье в такое время для птиц. Пируют вороны, нападая сверху на мышиную мелкоту. Легко находят добычу коршуны и орланы. И великий праздник для всех, кто плавает и летает, кому половодье — и стол, и дом, и защита.
Самой заметной птицей на Мещере в эти недели являются гуси. После зимовки в Бельгии и Голландии эти круп-
178
Весна — напряженное время для орнитологов.
Наблюдение за птицами, кольцевание. Каждый день подниматься надо с зарей.
ные птицы летят гнездиться на север, в тундру. Караваны их видят в Германии, Польше, в Литве, Белоруссии. Подобно большим самолетам, гуси летят непрерывно десять-двенадцать часов и покрывают за это время около тысячи километров. Сесть покормиться, переждать непогоду стая может везде в облюбованном сверху месте. Но есть на великом пути из Голландии в нашу тундру три большие «станции», где птицы кормятся, отдыхают, набираются сил. Первая остановка в приморских районах Польши и ГДР. Вторая — разливы Оки на Мещере. Тут птицы живут почти месяц. С точки зрения человека, это, наверное, лучшее время в гусиной жизни. Забот никаких. Опустилась стая на пятачок полузатопленной суши, щиплет молодую траву, греется на припеке, ночует, не подвергаясь опасности. Что-либо спугнуло чутких гусей — перелетели с гоготанием на другой остров. Там, где птицы паслись, находишь помет, потерянное перо, на влажной земле — характерные отпечатки перепончатых лап...
Примерно семьдесят тысяч гусей ежегодно находят приют на Мещере. Они тут держатся до середины мая. И потом вдруг в один день сразу становятся на крыло и нескончаемым караваном улетают на север. Еще одна остановка будет у них на разливах Вятки. На Мещере же ни единого гуся не остается. Это лишь станция, привольное место в большом путешествии птиц.
□
СЕМЕЙНЫЙ ДУЭТ
Удача редкая по нынешним временам, но все же кто-то увидит в апреле пролетающих журавлей. Или услышит их крик, тревожащий сердце, заставляющий встрепенуться и глянуть в небо. Крик журавлей предназначен товарищам по полету — «не теряйся, не отставай!». Но в этих звуках человеку мнится голос судьбы. Кто слышал однажды пролетающих журавлей, долго их помнит.
Журавль — птица, любимая всеми народами. В Танзании проводник подвел нас с другом к болотцу и мы увидели танец необычайно нарядных птиц — журавлей венценосных. Они подпрыгивали, взмахивали крыльями, африканское солнце сверкало в золотых венчиках. А вечером мы видели танцы девушек-африканок. И не было никакого сомненья: многое в их движениях заимствовано у журавлей.
В заповеднике на острове Хоккайдо журавлиные танцы собирается посмотреть множество любопытных. Японские журавли отличаются особенной красотой — высокие, с черно-белым оперением, с красной шапочкой на макушке, стройные, грациозные. Не страшась людей совершенно, дают журавли балетные представления на снегу.
Весенние игры журавлей серых я видел в Костромской области. А в прошлом году на Мещере с орнитологом Юрием Маркиным мы слушали журавлиную перекличку, однообразную для человека неискушенного и полную смысла для человека, много раз наблюдавшего, когда и что хотят птицы сказать друг другу.
Родившись, журавленок сразу же издает тихие позывы: «Я здесь, где вы?» Это способ не потеряться. А потерялся, замерз, заметил опасность — издает крик, названный орнитологами стрессовым. Крик, означающий «тут еда!», издают журавли, приступая к кормежке. Есть у этих птиц крики сторожевые, означающие угрозу для слишком нахальных собратьев и для животных, которых желали бы отпугнуть — «кто идет? не приближайся!». Крик путевой держит журавлей в стае, не дает потеряться при непогоде. Голос тревоги призывает взлететь или шарахнуться в сторону при полете — так бывает, если внизу замечено что-то опасное. Есть еще крик гнездовый, крик партнера, потерявшего в зарослях друга. И есть у всех журавлей (их на земле пятнадцать видов) крик особый, названный наблюдателями унисонным. Это крик журавлиной пары, когда голос партнера в доли секунды подхвачен, и если журавли от нас скрыты, то кажется, переливчато-громко трубит одна птица. В сильных торжествующих звуках сливается воля избравших друг друга для жизни. Двухголосый сигнал означает, что территория занята, что образован семейный со- 180 юз, что это сила, которая за себя постоит, и это подтвержденье любви со взаимностью.
В мещерских краях мы слышали семейные голоса, но не видели журавлей. Как они выглядят в момент демонстрации единенья? Но случай это понаблюдать представился в усадьбе Окского заповедника. В журавлином питомнике тут живут птицы со всего света. Есть пара и черно-белых красавцев — японских журавлей. Отличить, где самец, а где самка, сразу нельзя. Но вот мы кинули подношенье — мертвую мышь, и рыцарь немедленно обнаружился: как пинцетом он подхватил клювом лакомство и отнес самке. А когда с фотокамерой я осторожно прошел в вольер, семейная пара единым голосом, как это было бы и в природе, объявила, что Весенний торжествующий крик слышен издалека.
полянка с остатком апрельского снега — ее территория, что союз обладателей этого, пусть огороженного, жизненного пространства крепок и что весна на дворе — пора броженья жизненных сил... Две совершенно одинаковые птицы. Только самец, трубя, поднимал кверху крылья. Все, кто слышал в эту минуту за пеленой леса звонкий, переливчатый крик, думали, что это крик одного журавля. А это был сильный, слаженный голос дружной семьи.
□
ЧЕРНАЯ МАСКА
Я стоял, прислонившись спиною к теплой шероховатой сосне. И вдруг прямо под ноги мне бросилась, распустив перья, птица размером менее воробья. Она искала защиты. От кого же? Я успел это только подумать, как птица взлетела, и следом за ней в орешник, а потом далее по траве понеслось что-то, мелькавшее серой, черной и белой окраской.
Я подбежал и увидел, как терявшая силы зарянка еще раза три метнулась в кустах и за ней неотступно гнался не слишком ловкий, но очень упорный охотник.
Появление человека разрешило драму в пользу зарянки. Она шмыгнула в сухие заросли малинника и крапивы, а тот, кто гнался за нею, взлетел на сухую ольшину и стал с любопытством меня разглядывать.
Это был серый сорокопут. Все краски на его оперении расположились теперь в нужном, спокойном порядке. Птица чем-то неуловимо напоминала маленькую сороку, хотя в оперении не было ни сорочьей ослепительной белизны, ни отливающей синевой черни.
Так вот каков ты, голубчик... Бинокль подавал птицу к самым моим глазам. Наиболее выразительной в ее облике была несоразмерно крупная голова с большим крючковатым клювом и темной полосой-маской, на которой блестели бусинки глаз. Да-а, на разбойника ты и похож...
Уставший после погони сорокопут отдыхал и, казалось, забыл обо всем, что его окружало, даже недремлющий глаз потускнел. Но стоило чуть сократить расстояние — птица нырнула с ветки к самой траве и полетела в волнистом полете...
Это место я помнил и год спустя, оказавшись в лесах у Оки, пошел прогуляться по вырубке. И снова встреча! Та ли самая птица или, может, полянка в окружении редких осинок с бочажком стоячей воды и зарослями репейника чем-то особенно привлекала сорокопутов? Но вот он, старый знакомый, сидит на ветке, да еще и с добычей — на острый сучок наколот маленький лягушонок. Убедившись, что мимо я не пройду, птица взлетает, и можно как следует разглядеть ее жертву...
В лесу изредка попадаются то лягушонок, то землеройка, то ящерица и даже птицы-малютки, наколотые на шипы колючих растений, на острый сучок или зажатые в развилку веток. Это запасы сорокопута. Считают, при слабых лапах ему легче именно так умерщвлять пойманных и поедать их прямо с сучка. Однако скорее всего объяснение это неполное. Так же, как и вороны, сороки и сойки, сорокопут делает аварийный запас на случай непогоды или бескормицы.
Особо важны такие запасы в холодное время. (Серый сорокопут в отличие
Пойманный, окольцованный сорокопут далеко не улетел и скоро уселся на ветку у припасенной добычи.
от меньшего по размеру сорокопута- жулана на зиму в Африку не летает.) Со снегом он начинает охотиться только на птиц, подстерегая их на кормежках или в местах перелетов.
В отличие от других хищников («промахнулся - другую поймаю») сорокопут преследует жертву очень настойчиво и, водворив ее на сучок, осматривается: нет ли еще добычи? В метели и в очень морозные дни птица находит свои запасы. А иногда и забывает о них. И если зимой на сучке вам придется увидеть пушистый комочек мертвой синицы или чечетки, значит, ваша лыжня проходит в местах, где действует «черная маска». Может случиться, что «маску» вы и увидите. Эта птица, размером с дрозда, обликом отдаленно напоминает сороку. Но ни родством, ни образом жизни с сорокой она не связана. Это сорокопут.
□
181
ЧУВСТВО ДОМА
Было время майских жуков. Перед самым закатом солнца мы шли по опушке и вдруг увидели парочку кабанов. Две любопытные морды были обращены в нашу сторону. Мы замерли, ожидая, что свиньи нырнут в орешник. Но звери подпустили к себе вплотную, не проявляя ни малейшего беспокойства. И тут мы увидели: кабаны гуляли в человеческом обществе — на пенечке, опираясь на палку, сидел лесник. Оказалось, два кабана целый день странствовали в лесах и теперь возвращались домой — лесник вышел их встретить...
Кордон Борщевня стоит близ Оки. Во время весенних разливов из окошка кордона видно море воды. Весной на маленьком — пять на пять шагов — островке лесник в бинокль увидел двух крошечных кабанят. Едва рожденные, они застигнуты были стихией. Лесник успел добраться на островок до того, как вода его скрыла, и принес домой двух полосатеньких поросяток. Молоком из соски, кашей и молодой крапивой сироты были вскормлены и стали расти здоровыми, крепкими кабанами, получившими имена Чуша и Хрюша.
Лесник мудро решил не делать из зверей пленников. Лес — рядом, ворота в загоне открыты — выбирай себе жизнь по душе. Свободу кабаны оценили — каждое утро трусцой выбегали из загородки и исчезали в лесу. Но к вечеру той же легкой трусцой они возвращались в загон, давали себя почесать, поласкать, принимали подсоленное угощенье. Постепенно радиус странствий Чуши и Хрюши стал расширяться. Их видели в двенадцати километрах от кордона. Несомненно, они встречали в лесу сородичей и могли бы пристать к какой-нибудь группе. Но нет, близко к сумеркам брат и сестра неизменно появлялись возле кордона и под громкий собачий лай пробегали в открытый загон.
Собак на кордоне у лесника Бруцкуса две. Овчарка, находящая нетерпимым присутствие кабанов во дворе, и маленькая дворняжка, у которой с кабанами возникла — не разлей вода — дружба. Собака покровительствовала поросятам, пока они были малютками. Потом кабаны стали больше своего покровителя, но привязанность не угасла. Три друга вместе шастали по лесам. Был случай — собака спасла кабанов. Они попали в загон к охотникам. Но выстрел не прогремел: «Это ж кабаны Бруцкуса!” — понял, увидев собаку, стрелок.
Можно только предполагать, в каком положении оказывалась собака, когда трое друзей попадали в суровое общество диких сородичей Чуши и Хрюши. Гостеприимства наверняка не было. Собака в лесу для всех животных — существо нежеланное. И лесник, к 182 великому огорченью дворняжки, посадил ее на цепочку. Вся радость жизни теперь для собаки сводилась к ожиданью друзей. И они возвращались. Если бы у дворняжки были часы, она могла бы их проверять— в восемь вечера раздавалось приветственное похрюкивание.
Из лесу кабаны приносили запах болот, запах общенья с родней. Что мешало двум кабанам однажды остаться на ночь в лесу в компании себе подобных? Почему стремились они на кордон, где лают собаки, трещит мотоцикл
и пахнет дымом из печки, сложенной во дворе?
Есть такое понятие «чувство дома». Оно свойственно человеку, оно свойственно и животным. Это чувство заставляет голубей возвращаться на голубятню с громаднейших расстояний. Известны поражающие воображение случаи, когда собаки, увезенные за сотни километров, находили дорогу домой. Еще больше прославились этим кошки. Сотни километров, лабиринты городских улиц, потоки транспорта на дорогах, множество разных препятствий — и все-таки кошка вдруг оказывалась на пороге родного дома, повергая в изумление и смущенье хозяев. Какой компас, какие силы ведут животных? Удовлетворительного ответа на этот вопрос пока что не существует.
Чувство дома... Немаленькое, сильное чувство. Оно знакомо многим из странников, не покинуло это чувство и двух кабанов, выраставших рядом с курами и собаками. Соблазны полной свободы, возможно, одержат над чувствами верх (и это было бы самым хорошим концом в истории с кабанами), пока же Чуша и Хрюша каждый вечер приходят из леса домой.
□
Лесной уголок. Сюда привыкшие к дому Чуша и Хрюша прибегают заночевать.
В СОРОКА ШАГАХ ОТ МЕДВЕДЯ
Это снимок натуралиста Мстислава Владимировича Березовского из города Череповца. Снимок великолепный. Медведица после выхода из берлоги обходит обжитый ею участок, а три ее медвежонка открывают для себя мир. Они любопытны, подвижны как ртуть, рвутся вперед, но боятся пока что от матери удалиться. Большая удача — увидеть такое. Но сцена еще и снята...
Врач Мстислав Владимирович Березовский был страстным ружейным охотником. На Урале в столовую для строи- добился такого к себе отношения, когда медведи не нападали и не бежали от человека. Появилась возможность наблюдать их жизнь с расстояния в тридцать-сорок шагов.
Вот эту медведицу Мстислав Владимирович встречал три года подряд. Каждую весну у нее появлялись три малыша.
Случалось, неделю натуралист наблюдал жизнь этой семьи, то теряя ее из виду, то вдруг встречая на расстоянии, не безопасном для наблюдателя. Жили удовольствием вся компания копалась в муравейниках. Раза два фотограф заставал ее возле остатков лося, зарезанного зимой волками. «Когда на осинах листья вырастали до размеров пяти копеек, медвежата с удовольствием их поедали — медведица сноровисто нагибала, ломала молодые осинки малышам на потраву».
«Бывали критические ситуации, когда я случайно оказывался слишком близко от медвежат. И думал: в этот раз нападет, а в руках у меня только фотокаме-
телей Магнитки в 30-х годах он каждое утро поставлял тридцать-сорок уток (были такие охоты!). Охотился он страстно на зверя и птицу. Пережил много лесных приключений — «тонул, по шесть-семь часов сидел на деревьях в укрытии, проходил за день по пятьдесят километров». Но пришло время (у охотников с возрастом это часто бывает), и «ружейная страсть» исчезла. Увлекшись фотографией, Мстислав Владимирович вовсе повесил ружье на стену и сделался страстным фотоохотником. У него немало трофеев. Охота на вологодских медведей — особая его страсть. Я получил от него целую папку снимков. И на каждом — медведь. Один копает коренья, не замечая присутствия человека, другой, напротив, встал на дыбы, изучает, разглядывает встречного. Сняты медведи на дереве, возле воды, сняты сквозь ветки, мешающие их как следует разглядеть. Несколько лет потратил фотограф, специально разыскивая медведей. И, как он пишет, «сошелся» со зверем, то есть выдержкой и терпеньем медведи на глухом побережье Рыбинского водохранилища. И медведица- мать частенько водила ребятишек на берег отыскивать мертвую рыбу. «Я удивлялся, видя, как она отнимает еду у детей, но понял: медвежата кормились еще молоком, рыба важнее была для матери».
Иногда медвежата оставались играть на поляне. И мать уходила за рыбой одна. Не было случая, чтобы медвежата ушли с того места, где их оставили. «Любопытно, что возвращение матери они встречали своеобразно: в мгновение ока оказывались на тонких деревьях. Это инстинкт самосохранения. Медведи-самцы иногда нападают на молодняк. И в минуту, когда не ясно еще, кто приближается, лучше вскочить на тонкое деревцо, куда тяжелый медведь забраться не может. Но убедившись, что мать вернулась, медвежата шарами катились с дерева вниз».
Весной звери искали главным образом растительную еду: ягоды, молодые побеги. Местами дерн медведица скатывала в рулон, обнажая коренья. С ра. Но медведица спокойно уводила малышей. И я понял: она привыкла ко мне, ведет себя осторожно, но не страшится».
В каждый подходящий момент Мстислав Владимирович старался снимать. Но очень трудное дело — съемка в природе: то свет не такой, то ветки мешают, то поза у зверя неинтересная. «Однажды медведица повела малышей на рыбалку. Я скрытно перебежал вперед и занял позицию, ожидая, что семейство пройдет по открытой поляне. Так и вышло. Задыхаясь от возбужденья, я сделал пять «фотовыстрелов». Такова история редкостной фотографии.
□
183
ЗЕЛЕНЫЙ ДЫМ
Всю ночь кричала, задыхаясь от страсти, дикая утка. Кричали жерлянки. Под самым окном плескалась вода. Раза три за ночь мы брали фонарик и, пугая уснувших кур, шли к берегу. За день под водой скрылся выгон с плетнями и остатками почерневшего сена. Берег отступал и уже приготовился отдать половодью лесную избенку с палисадником, старыми санями и белыми курами во дворе. В воде у ветлы стояла деревянная рейка. Последний раз она показала нам цифру 100 и скрылась. Лесник сел в лодку и перенес рейку на край воды.
Остаток ночи мы вспоминали снежную зиму, вспоминали, в каком году случался такой же разлив, говорили о самолетах, бомбивших лед у мостов, о вертолетах, снимавших у Дона людей с затопленных крыш.
А утром речная пойма запылала пожаром. Загорелась сначала полоса неба, потом вершины бронзовых сосен, потом красным, розовым светом загорелась вода. И пошел дым. Зеленый пахучий дым клубился над самой водой. И вставало солнце — из дыма.
Еще вчера все было иначе. Лес стоял темно-сиреневый, строгий. За одну теплую ночь на затопленных ветлах лопнули почки. Прозрачная зелень пошла над водою клубами.
Летают пчелы в дыму. Дрозд и зяблик повернули головы к солнцу и славят зеленое половодье. Два журавля летят низко над лесом, потом взмывают и кружатся, кружатся. Лес гудит пчелиными крыльями, птичьими голосами.
Три человека без шапок стоят у воды и молчат. Лодка привязана к сухому облезлому дереву. Если стукнуть по дереву палкой — гудит колоколом. Дятел выбрал на дереве самый певучий сук, ударил клювом — дррр-р-р-р... Упругий сук отзывается, как струна. Далеко слышно...
Беремся за весла. Зеленый дым плывет нам навстречу.
Две лодки. Одна — моторная, другая — маленький челночок — привязана сзади моторной. Цель экспедиции: поглядеть, как живется зверью. Зима стояла суровая. Зверь отощал, а тут сразу нагрянуло вселенское наводнение, вся пойма Хопра затоплена. Летом, если испетлять заповедник, насчитаешь больше трехсот озер. Сейчас все слилось в сплошное море. Плывем вровень с ветками вязов, осин, дубов, поддеваем веслами размокшие сорочьи гнезда. Водяная крыса испуганно прыгнула с ветки, поплыла и юркнула в птичий домик. На упавшем, похожем на черного крокодила, стволе ольхи еще одна крыса, а рядом колечком свернулся уж. И еще два ужа. Подняли головы, провожают нас взглядом, на всякий случай показывают раздвоенные быстрые языки.
Скоро мы убедились: на моторке увидишь только ужей. Оставляем большую лодку и плывем в маленьком челночке. Тихо скользит лодчонка между стволами ольхи. Летит пух от коричневых шишек рогоза. Тревожно кричит канюк. Черный потонувший ольховник кажется сказочным древним лесом. Кажется, повали в воду деревья — и сразу начнет зарождаться каменный уголь. По мутной воде перед лодкой то и дело разбегаются стрелки. Поднимаем вопросительно брови.
— Рыба, рыба... — шепчет егерь.
Из Хопра и заповедных озер рыба вышла на мелководье, гуляет по лужкам и опушкам, где летом пасутся олени, мечет в потеплевшую воду икру. Тут, в мутной воде, легче всего поймать загулявшую рыбу. Тут браконьеры чаще всего ставят сети. Тут легче всего и накрыть браконьера. Тихо плывет челночок, даже капли с весла не уронит...
Браконьеров не оказалось. Зато в
184
ольховнике встретили целую армию черепах. Издали черепаха похожа на перевернутую сковородку. Подъезжаешь поближе — у сковородки появляется голова и почти сразу за этим бух! — брызги, круги по воде.
— Смотрите...
На желтом песке — следы, будто валенком прочертили. Черепахи ходят в разведку. Прогреется песок — вся бронированная армия полезет на берег. Роет черепаха яму в песке. Аккуратно одно за другим кладет яйца. Польет кладку водой с панциря, примнет песок и опять на бревно — греться. Черепахам и невдомек: в это самое время на берегу лисица роет песок. Но, конечно, не все яйца находит лисица. В сентябре из песка в воду поползут странные существа ростом не более трех копеек. Так пополняется армия черепах.
Покидаем ольховник и просекой, похожей сейчас на строгий канал, плывем к Сосновому озеру. На лодку садятся передохнуть пауки и комарики. То и дело с шумом взлетают утки. На всплывшей куче валежника замечаем яйцо. Утиное. Гнезда нет. Обронила утка яйцо.
Сороки, нагнувшись с веток, усердно ищут что-то в плывущем мусоре. Еще ниже, на самом мусоре, дергает хвостиком трясогузка. А вверху над зеленым дымом летает странная птица. Плавно поднимается вверх, потом круто С неделю майская зелень бывает црозрачна, как тонкая легкая кисея...
падает. И когда падает — блеет барашком. Это бекас. У птицы нет голоса. Барашком блеют тугие перья хвоста.
Еще три взмаха веслом, и егерь подносит палец к губам. Сосновое озеро. Бобровое царство...
Осенью егерь сложил вдоль озерного берега плотики из крупного хвороста. Сейчас плотики всплыли. Для бобров они стали чем-то вроде спасательной станции. Первый плотик. Не дышим. Бобриха и два годовалых бобренка. Бобрята лежат, как дети. Раскинули лапы. Один подставил солнышку брюхо и, кажется, вот-вот начнет всхрапывать. Бобриха лежит с краю плота. Делаем поворот, выбираем место для съемки. Щелчок. Для бобров этот звук показался, наверное, пушечным выстрелом: бобрята сразу же плюхнулись в воду, бобриха задержалась на полсекунды. Зато теперь мы услышали настоящую канонаду — бобриха ударила по воде широким, как наше весло, хвостом. И сразу со всех сторон, с плотиков — бух! Это сигнал по бобровому царству: опасность!
Единственный бобр безразлично отнесся к сигналу. То ли уж очень старый бобр, то ли никак не проснется, то ли мы ему показались нестрашными. Подплываем. Как человек, трет глаза передними лапами, нюхает воздух. Один из нас наклоняется, проводит ру-
кой по бобровому меху. Это бобру не понравилось. Прыгнул, ударил хвостом. Звук — оглушительный. Залиты брызгами и объективы и наши глаза. Вытираемся и только потом замечаем: старый бобр вынырнул, уселся в развилке дуба, грызет осиновый прут. Бобрам половодье не страшно.
А каково барсукам, оленям, лосям, енотам, куницам, лисам, зайцам, ежам? Лес залило, а вокруг леса — поля. Гудят тракторы, ходят люди.
Есть в лесу высокое, заросшее дубами и осинами место. В любую воду тут остается сухой островок. Любой зверь в первый же год жизни находит это сухое место. И каждую весну, когда плывет над водою зеленый дым, звери живут на острове дружной колонией.
...Лодка около острова пополнилась пассажиром: с пенька сняли отрезанную от всего мира беременную ежиху. Ежиха сначала свернулась в колючий шар. Но голод не тетка. Плавленый сыр, положенный рядом, заставил ежиху высунуть нос. Поела, поискала, где спрятаться. По душе ежихе пришлось место рядом с канистрой бензина.
Наше появленье на острове сразу заметили. Самым первым, наверное, заметил лось. Он с настороженным любопытством наблюдал из осинника, как мы, хлюпая сапогами, тащили лодки по мелководью, как несли в берете ежиху и рюкзаки с черепахами. Опрометчиво закурили, и этот запах, как видно, больше всего напугал зверя. Тут мы его и увидели. Он бежал против солнца по мелкой воде. Огромный зверь. Длинные ноги вышибали брызги белого серебра. И сразу в лесу послышался свист. Свистела пятнистая олениха. Остров насторожился. На поляну выскочило большое стадо оленей — отдельно самки, отдельно рогатые женихи. Страх подгоняет — бегите! Любопытство держит на месте. Самки кинулись в чащу. Самцы застыли и не меняют позы. Один держит поднятой переднюю ногу, другой круто назад заломил голову. У трех из восьми по одному только ветвистому рогу. Начало мая — самое время терять рога. К осени вырастут новые. А теперь не потерять бы еще и голову. Свист — и на поляне остались только следы, жухлые листья и синие звезды подснежников.
Вздрагивая от хруста веток под сапогами, идем по обетованной суше...
Два отощавших за зиму енота бредут как пьяные, обнюхивают каждую кочку, каждый листок. Замираем. Черный нос зверя упирается в носок сапога. Безмерно удивленная морда поднимается вверх. Енот моментально соображает — опасность! И... прикидывается мертвым. Лежит, вытянув лапы, и, кажется, даже не дышит. Подруги и след простыл, а он лежит. Мы беззвучно хохочем и пятимся. Енот открывает глаз, вскакивает. По шуршанию листьев берем направление и скоро находим барсучий дом. Барсуки уже много лет живут на этом лесном холме. Не меньше десятка нор. Квартира большая, и барсуки ничего не имеют против, если ленивый енот завладеет на время какой-нибудь старой норой. Вот еноты и завладели. У одной из норок следы совсем свежие. Конечно, это наши знакомые сидят сейчас под землей и ждут, когда мы уйдем.
Ходим по острову... Заяц проковылял. Куница прошла по веткам. Еще одно стадо оленей. Гнездо орлана-белохвоста, огромное, на огромном дубу. Большой, в человеческий рост, муравейник. На каждой поляне — обя-
Зеленый дым молодых листьев замечаешь сначала на ивах, березах, на тополях. Чуть позже молодые побеги видишь на зеленой парче елового леса.
зательно журавли. Каждый год в заповедник возвращается более сотни крупных, заметных птиц. Сейчас они разбились на пары. Мы замерли: может, придется увидеть знаменитые журавлиные танцы? Нет, осторожные птицы заметили нас. Разбегаются, полетели...
К вечеру мы нашли оленьи рога, правда, вместе с белым оленьим черепом — в лесной драке погиб великан или свалили оленя снег и морозы? На самый нос ставим в лодку рога, беремся за весла. Объезжаем остров кругом, внимательно смотрим, нет ли следа браконьеров, и берем курс на лесную избушку. Кричат журавли. Журчит на быстринах вода. В одном месте поднимаем весла и замираем.
— Соловей?
— Соловей.
И опять было утро с зеленым дымом. Мы сломили прутики вербы. Вчера листочки были с ноготь мизинца, сегодня — с ноготь большого пальца. На сухом дереве на том же суку сидел дятел. Вода замерла на высокой отметке и, кажется, приготовилась отступать. Мальчишки картузами ловили майских жуков. Посреди двора на старых санях мы укладывали рюкзаки. Ежиху выпустили. Она проворно побежала в канаву, но встретила вдруг незнакомого черного зверя. Зверь замяукал, ежиха фыркнула. Оба смутились и кинулись в разные стороны.
Минут через пять ежиху мы вновь обнаружили. Никого не страшась, она лакала из блюдечка молоко. Озадаченный кот наблюдал за этим процессом с верхушки плетня. Молоко приготовлено было ему, но незнакомец был так необычен, так нахален и страшен, что кот не попробовал даже его прогонять...
Присели перед дорогой. Старались запомнить звуки. Шмель. Лошадь жует старое сено. Трактор за лесом. Синица. Дрозд. Зяблик. Самолет. Плеск рыбы. Чьи-то шаги по листьям. Пчела. Журавли. Голос: «Степа, тебе письмо...» Не перечесть звуков. Самый сильный — гудение трактора и соловей. У самой воды за сараем, в молодой зелени пел соловей.
Хутор Варварино
□
ИЮНЬСКАЯ НОЧЬ
Сидя у костерка, вспомнили давний обычай. Зимой, в Спиридонов день, «часобитчик», звонарный староста Архангельского собора в Кремле, докладывал царю, что «отселе зачинается возврат солнца с зимы на лето, день прибывает, а ночь умаляется». За хорошую весть царь жаловал старосту двадцатью четырьмя серебряными рублями — по числу часов в сутках. В июне, под Петров день, блюститель «часобитий» сообщал, что «отселе зачинается возврат солнца с лета на зиму — день почнет умаляться, а ночь прибывати». За эту весть старосту заключали на сутки в темную камеру Ивановской колокольни.
Наш костерок — тоже символически- пограничный: рекордно день долог, ночь коротка. Живая природа этот рубеж отмечает цветением липы, созреванием земляники, в пластиковом мешочке у нас с внуком десяток грибов. Ранние эти грибы называют колосовиками. И верно: стеной к опушке подступает усатая сизая рожь.
Июньский рубеж замечаешь и в пти-
187
чьей жизни. Дней десять назад лес полон был голосов. Сейчас в лесу тесно от зелени. А голоса поредели. Дрозды не поют, а лишь верещат, оберегая ставшую на крыло молодь. Орут, вылетая неожиданно из кустов, молодые вороны, поет зяблик. Стыдливо-запоздалый голос кукушки. В березняках можно подразнить еще иволгу. Свистнешь: «фиу-лиу», и она тебе флейтой: «фиу- лиу».
К заходу солнца дневные певцы умолкают. На вечерней заре бывают минуты: кажется, все живое затаило дыханье — провожает светило. Большое, красное, в летних розовых облаках солнце прощальным лучом достигает березы, растущей в темноте елок. С минуту горит на белой коре румянец. И гаснет. В ельники пришла ночь.
А на опушке светло. Заря долгая. Наблюдаем, как в ельники из разных мест собираются на ночевку сороки. Наш костерок их смущает: шумно стрекочут, взлетают и снова садятся. Наконец с характерным приглушенным стрекотанием — «все в порядке!» — они занятно ныряют сверху в еловую темноту.
Вечерние голоса приходят на смену дневным. В овражке, заросшем черемухой и крапивой, по-весеннему сходит с ума соловей. Кричит коростель. И непрерывно, как заведенная, трещит камышевка-сверчок.
Мир освещается только зарей. Но при этом свете находим вблизи от костра два больших подберезовика. Белая бабочка садится к огню обсушить намокшие от росы крылья. Туман, смешанный с дымом от костерка, заволакивает низины. Из пахучего теплого покрывала торчат лишь макушки кустов.
Границу ночи и вечера обозначили две совы. Они сидели где-то поблизости. Одна из них с любопытством скользнула вниз у костра и царицею ночи полетела над рожью.
Еще можно разглядеть на часах стрелки. Последний автобус на Калужском шоссе пойдет через час По пояс в росной траве идем к остановке. Умолкли соловей, коростель. И только какой- то крошке полагается петь и ночью: «ти-ти-тили-тю...».
Автобус шел без единого пассажира.
— Заблудились, что ли!.. — с любопытством спросил шофер.
Дорога местами ныряла в разливы тумана. Над лесами еще виднелись блеклые перья зари. И вот-вот должна была засветиться полоска неба и на востоке.
□
Ночь в июне коротка и светла. Заря вечерняя, блеск погожей луны. И вот уже утренний свет заставляет сову вернуться под полог леса.
СЛЕТКИ
D Тригорском парке около самой «скамьи Онегина» я увидел двух странных ворон: сидят в неестественных позах и как будто совсем не страшатся людей. Подошел ближе — молодые вороны, видимо, только что из гнезда. Подпустили к себе вплотную. Протянул руку — не шевелятся. Тронул одну за клюв, чуть повернул голову — застыла в навязанной позе, как будто ее слепили из пластилина. У второй осторожно раскрыл клюв, переставил на сучок одну лапку, намеренно сделав позу до крайности неудобной, — застыла, как под гипнозом. И ни единого звука протеста. С ума сходили родители: неистово долбили клювами ветки (это выглядело как стучание кулаком по столу у людей) и так орали, что всполошили всю воронью слободку в Тригорском. А молодые сидели спокойно в забавных неестественных позах. И так продолжалось до той минуты, пока я,
гревают, самоотверженно, притворясь ранеными, отводят от слётков врагов. А через неделю, глядишь, подросток уже ума накопил, уже понимает, что к чему в этом мире, да и крылья уже готовы: раз — и вспорхнул!
Случай особый — птенец серой цапли. Он не вылетел из гнезда, а упал. Такое бывает. Неосторожность, излишнее любопытство, сильный порывистый ветер — и вот птенец уже не в гнезде высоко в соснах, а на холодной мокрой земле. Голоден, перья только- только начали расти, да к тому же ушибся. Он был обречен. У цапель что с воза упало, то пропало — о птенцах, оказавшихся на земле, ни малейшего беспокойства, упавший считается «браком». Обыкновенно это добыча лисицы, ворон, муравьев. Но в этот раз птенца заметил доброй души человек. Обогрел, накормил мороженым хеком. Не очень вкусно, но голод не тетка. И вот
пятясь, удалился на почтенное расстоянье. Сердитые крики старых ворон прекратились, и сразу же два несмышленыша «разморозились»: потянулись, зевнули, разинув клювы, показали родителям, что не прочь закусить. В бинокль было видно: в ход пошли червяки и поделенный между едоками птенчик какой-то маленькой птицы.
После еды молодые вороны чуть задремали. Потом стали ёрзать и двигаться по сучку. Но стоило мне подойти, все повторилось: птенцы немедленно затаились, оцепенели. Крик родителей, угрожавших обидчику, для них был сигналом: «Замрите, не шевелитесь!»
Такая картина в июне наблюдается повсеместно. У многих птиц молодежь покинула гнезда. О мире, окружающем слётков, представленья еще никакого. И единственное средство себя защитить у всех одинаково: замереть, затаиться, не шевелиться. Пенечком, корявым сучком, подняв клювики кверху, сидят дрозды; неслышно, как неживые, в чаще прячутся сорочата. И все, все, кто покинули гнезда, ведут себя в эти дни тише воды, ниже травы.
Благое дело, увидев слётка, не думать, что он обижен судьбою, одинок и забыт, и не пытаться его «спасать». Странная неподвижность — проверенный способ остаться никем не замеченным, кроме родителей. А родители находят его по крику «Я тут, я голоден!» Непременно находят, кормят и со- оперяется цапля, растет, поставлена на довольствие местными рыболовами. Любит греться на солнце. Знает в лицо свою покровительницу. Для всех остальных наготове длинный, как острога, клюв.
Много хлопот с долговязым и неуклюжим приемышем. Но милосердие вознаграждается. Скоро серая цапля сможет уже и сама рыбачить на мелководьях у речки Сороть.
□
189
ЧЕРНЫЙ АИСТ
Первым по березе в скрадок лезет Володя. Минута, и на мшистую мягкую землю, звякнув, сверху падают «кошки». Ремнями привязываю их к сапогам и тоже лезу. Нехитрая техника: ударом ноги вгоняешь стальную шпору в березовый ствол и, опираясь на этот не очень надежный зацеп, то же самое делаешь правой ногой. В конце пути обливаюсь потом от напряжения и от страха полететь вниз. Кажется, влез на башню в Останкине, а всего-то до лежащего на траве рюкзака метров пятнадцать. На веревке тянем и рюкзак кверху. Теперь все с нами — еда, фотокамеры, пленка. Часа четыре будем сидеть в камышовом «скворечнике», сооруженном Володей (с восхищением думаю о его верхолазной работе), в двадцати метрах от гнезда черного аиста.
Редкий случай понаблюдать редкую боязливую птицу. Черный аист в отличие от близкого родича — белого аиста, покровительства человека не ищет. Наоборот, гнезда его всегда за семью печатями непролазного леса, болотистых топей и ненарушенной тишины. У птицы скрытая молчаливая жизнь. Увидеть снизу гнездо — уже большая удача. Тут же семейная тайна птицы как на ладони. Пять возмужавших птенцов разминаются после ночи. Им уже тесновато в гнезде: один поднялся на
ноги, расправил крылья — другому надо присесть...
Володя точно знает день их рождения. Он снимал вылупление аистят из яиц. Видел, как мать заботливо укрывала их крыльями от дождя и от солнца, а родитель носил еду. Сначала это был мягкий лакомый корм: пиявки, черви, мелкая рыба. Один из птенцов как будто не понимал, что надо делать с этой отрыгнутой из отцовского зоба добычей. Мать научила: раз-другой клювом пригнула головку к еде, и дело пошло на лад. Сейчас все пятеро жадно поглощают ужей, лягушек, довольно крупную рыбу и все живое, что можно добыть в окрестных болотах и в пойме Березины. Отец в одиночку уже не в силах кормить семейство. Родители улетают охотиться вместе.
А дети взрослеют. Мы видим их на сорок втором дне жизни. Грязноватобелый пух на теле уступает место быстро растущим перьям. Неделя- другая — птенцы превратятся в черных таинственных птиц и в первых числах июля рискнут попробовать крылья.
Черный аист — птица, живущая на обширных пространствах земли. (У нас — от Балтики до Сахалина.) Но всюду аист до крайности редок. Число его гнезд год от года сокращается по причине осушения болот и всякой другой хозяйственной деятельности. Даже человеческий голос в привычной для птицы глуши может заставить ее покинуть гнездо.
Брем полагал, что в жизни черного аиста все понятно и ясно. Считалось: от белого аиста черного отличает лишь нелюдимость. Однако теперь, когда аист «залетел» в знаменитую Красную книгу, мы узнаём, что многое в жизни его неясно и неизвестно. Предписано изучать птицу, брать под охрану каждое ее гнездо.
В Березинском заповеднике учтено девять гнезд. Одно из них взято под особый надзор. Через три-четыре дня возле этих берез появляется фотограф- кинооператор Владимир Безруков. Выбрав момент, когда родители-аисты улетели, он быстро поднимается в свой «скворечник» и часами наблюдает подробности жизни в гнезде.
...Чтобы спуститься вниз, мы опять выбираем момент, когда старики улетают за кормом, и по болотным кочкам, по зарослям папоротника и рогоза удаляемся от гнезда.
Над озером, в пойме Березины, видим большую, спокойно парящую птицу. Это черный аист, осторожный и нелюдимый.
□
190
УТИНЫЙ РАЙ
Озеро Энгури. На карте — это синяя капля. На земле — это большая вода в восьми десятках километров от Риги, вода, взятая в плен камышами, рогозом и соснами. Я увидел воду в погожий день. Звенели на жаре комары, сухими крыльями шелестели стрекозы. Дикая утка повела птенцов подальше от берега. За каждым утенком по гладкой воде в стороны бежали волны-усы. Облака и неподвижный коршун глядели в озеро. Пахло сыростью. Из леса шел запах грибов и нагретой сосны. Мы кинули рюкзаки в лодку. Вода в озере невысокая. Кое-где лодка ползла брюхом по зеленой подушке подводной травы. Шест наполовину уходил в озерную мякоть, пришлось взять другой, с расщепкою на конце. Догнали утку. Она порывалась лететь, но утята оставались почти на месте. Утка затрепыхалась, притворяясь подбитой. Мы улыбнулись утиной хитрости и подхватили на ладонь одного утенка. На лапке у маленькой птицы было колечко — уже успела побывать у людей. Отпустили. Утенок поплыл, живо работая лапками. До осени ему предстоит изучить этот мир длиною в двадцать и шириною в пять километров — озеро Энгури.
Поселяюсь на ’«Ковчеге», посреди озера. Большой дощатый дом на понтонах. Палуба. Кубрики. Рулевое колесо с рукоятками. Лаборатория. Инкубатор. Кают-компания и каюта «озерного капитана» Гаррия Михельсона. Получаю спальный мешок, ложку и право брать одну из полдюжины лодок, привязанных у «Ковчега».
Пятнадцать орнитологов в плавучем доме — ученые и студенты на практике. К вечеру варится ведро каши на всех. Лук, хлеб, огурцы и копченая рыба доставляются с берега из рыбацкой деревни Берзжема («Березовая деревня»). Около нас кормится несметное число маленьких рыбок. Иногда мы снимаемся с якоря, ветер уносит «Ковчег» бог знает куда по озеру. Но остановились — сейчас же вокруг в воде начинают сверкать зеркальца рыбьего косяка. По очереди берем удочку с гвоздиком вместо грузила и тягаем маленьких окуней на прокорм птицам, живущим с нами под одной крышей.
Каждый вечер, когда вода от зари делается малиновой и чайки садятся дремать на торчащие из воды камни, все лодки собираются у «Ковчега». Орнитологи на верхней палубе курят трубки, кто-нибудь бренчит на гитаре, остальные молчат, повернувшись лицом к озеру. Или, наоборот, спорят так, что на ближнем острове испуганно начинают летать кулики...
Большая загадка: как птицы находят дорогу домой из Африки, из Австралии или хотя бы с Каспийского моря? По
солнцу, как штурманы кораблей? Но птицы летят и ночью, и даже чаще именно ночью. По звездам? Но ведь птицы летят и в пасмурную погоду. Во всем мире орнитологи строят догадки. Недавно все объясняло привычное слово «инстинкт». Теперь уже все понимают: за этим словом удобно было прятать незнание. Слово не раскрывает секрета «штурманского механизма» птиц. Но он есть. Орнитологи ищут. «Ковчег» тоже занят этой работой.
Вылупившись из яиц и чуть обсохнув, утята устремляются за матерью из гнезда. А через неделю это уже уверенные путешественники по озерной воде.
Работа начинается, когда я еще сплю. Слышу шаги, негромкий разговор, стук весел. А потом все утихает. Возвращаются вечером, когда у дневального поспевает каша. Один кольцевал уток, другой ловил чаек, третий на мотоцикле из городка, лежащего за сотню верст, приехал за птицами. Из разных мест, при разной погоде, из особым образом сделанных клеток окольцованных птиц выпускают. Не берусь рассказывать методику эксперимента. Ищут отгадку: что помогает птицам сразу же взять верный курс к озеру? Каждый вечер заполняются карточки. Каждый вечер спор или тихий разговор, в котором все понимается с полуслова, или молчание. Гаррий ложится всегда последним, где-нибудь в час ночи. В четыре часа он просыпается. Он похудел, но всегда выбрит, подтянут, всегда 191
весел и энергичен. При нем никто не признается, что устал, что не худо бы на день-другой в город податься...
Ночью, когда все утихает, утки и лебеди подплывают близко к «Ковчегу». Если чуть приподняться на нарах, в окошко видно призрачно белых птиц. К ним тянется бледно-красная полоса света — горит огонь в верхней каюте.
Самый младший по возрасту и по чину в плавучем доме — школьник Ефим из Риги. Второй год добровольцем он делит труд с орнитологами. У нас с Ефимом на двоих одна лодка. Утром мы кладем в лодку хлеб, бинокли, фотографический аппарат, связку птичьих колец и машем рукой дневальному. Часа два гребем или, толкаясь, ползем по топкой зеленой подушке. Испуганно кидаются из-под лодки большие рыбы. Птичий гвалт стоит в вышине. Невозможно перечислить все, что видят глаза, — множество птиц!
За поворотом камышей то и дело попадаются лебеди. Это не те лебеди, что плавают в парках. Свободные, осторожные птицы! Гнезда у них большие. Лодка пристает к такому гнезду, как к острову. Беспорядочная куча камыша и травы. Прыгнешь из лодки — гнездо раскачивается, пружинит и вполне 192 человека держит. Неделю назад в гне¬
зде были птенцы. Сейчас родители спешат укрыться с потомством в непроходимых камышах. Отец-лебедь отводит нас от семейства, выплывая на чистую воду. Мы поддаемся обману и налегаем на весла. Мы обливаемся потом, а лебедь только чуть подставляет бок ветру. Расстояние все-таки сокращается понемногу. Лебедь наконец не выдерживает — частые взмахи крыльев, радуга брызг, вытянутая над водой длинная шея...
Бух-бух-бух! — гремят над водою белые крылья. Метров сорок полета и — бух! — посадка. Но мы уже заняты новым объектом. Прямо перед лодкой из камышей выплывает поганка. На спине у нее четыре птенца — устали плавать, сушатся и отдыхают. Со свистом в крыльях проносятся утки, стонут кулики-веретенники, кружатся два черных аиста в вышине, и несметное число чаек белым снегом падает сверху на лодку.
Молодых чаек кольцевать — никакого труда. Ловим в камышах коричневые в черных крапинках пушистые шарики. Шарики дрожат от холода и от страха, ищут места, где бы спастись, садятся рядком на упавшее с лодки весло. Взрослая часть населения приходит в неописуемый гнев. Чайки пикируют к самой воде, едва не задевая крыльями наши головы...
На отмели Ефим замечает следы:
— Енот!
Остров маленький. Приготовив ружье, мы долго ищем разбойника. Взлетают чайки, утки и кулики. Енота на острове нет, но был ночью — в двух гнездах находим скорлупки. Грабитель переплыл озеро, а утром тем же путем ушел на «большую землю». Кроме енота, на озере вне закона объявлены две пары воронов. Хитрая птица без счету ворует яйца и не пускает на выстрел.
У Ефима задача: искать утиные гнезда. Для неопытного это почти безнадежное дело, хотя озеро — сплошное утиное царство. В трусах и высоких резиновых сапогах пробираемся сквозь зеленые джунгли. Фрр-р-р!.. Почти из-под ног вылетает, но сколько я ни ищу — гнезда нет. Ефим находит. Десяток желтовато-серых яиц. Прежде чем улететь, утка прикрыла яйца слоем легкого пуха — яйца не сразу остынут и незаметны для глаза. Ефим ставит палочку с металлической планкой: «Гнездо № 253». Потом мы берем в руки теплые яйца и опускаем в воду. Яйца не тонут. Ефим надевает на палку красную гильзу. Это сигнал: скоро будут птенцы. Сигнал имеет практическое значение.
Чтобы узнать, сколько уток возвращается после зимовки, где утки зимуют и где проходят птичьи дороги, надо окольцевать птиц. А попробуй окольцевать, если утята вылупились и уже на воде. Придумана хитрость. Ночью мы с Ефимом берем фонарь и ищем на островах гнезда с красной гильзой. Осторожно выбираем в корзину яйца. В гнездо же кладем скорлупки, залитые парафином. Утка, ничего не заметив, сядет высиживать парафин, а мы в это время спешим на «Ковчег».
В нижней каюте стоит инкубатор. Глупейшая с виду штука (ящики для яиц, вода, керосинка), однако вполне заменяет утку. Кладем яйца. Не надо ждать, пока на свет появятся «наши птенцы». Берем тех, которые появились сегодня. На лапку каждому надеваем колечко — и снова в лодку. Снова непролазные упругие камыши. Взлетают
утки. Забираем фальшивые яйца и кладем в гнездо птенцов. Утка вернется: о, счастье! — детишки. Детишки чужие, но утка никогда этого не узнает. Через несколько часов счастливое семейство уплывет изучать мир, а осенью — в дальнее путешествие. Над землею птицы будут носить номерок, оставленный человеком. Человек хочет знать все тайны живого мира.
Ночь. Спит озеро. Спят лодки, уткнувшись носами в одну точку у привязи. Спят чайки на беленных пометом, торчащих из воды валунах. Спит вода. Ничего нет таинственней спящей воды. Идут рыбьи круги. Кажется, вода видит сон. Вода сейчас теплее парного молока. Кричит выпь в камышах. Керосиновая лампа на дощатом столе тихо шурчит. На свет в окошко летят бабочки. Опалив крылья, бабочки падают на бумагу... Лампу надо тушить. Уже плывут по воде с востока молочные волны света. Слышно, кто-то умывается возле лодок. Аппетитно, с фырканьем умывается озерной водой...
□
ТАЙНА
В телеграмме было три слова: «Приезжай, квартирант дома». Шутливый шифр означал: в чьем-то гнезде растет кукушонок. Так мы условились уже давно: если обнаружится кукушонок — немедленно сообщить. Не часто лесная тайна открывается человеку. И все же терпение наше вознаградилось.
Друг мой Сергей Кулигин работает в заповеднике. Весь путь от Москвы до гнезда в сосняках у Оки занял три часа с небольшим. И вот мы, намокшие, стоим у дуплянки, над которой мечутся две небольшие птицы. Подношу к летку палец и сейчас же его отдергиваю, получив неожиданный ощутимый удар- щипок.
Открываем верх у дуплянки и видим жильца этой крепости. Ему тут явно тесно. Гнездышко, свитое для пятишести малышей мухоловки-пеструшки, черный взъерошенный великан давно перерос. Ерзая в темноте, он это гнездышко перемолол и сидит сейчас просто на мягкой подушке.
Он готов за себя постоять: ерошит перья, демонстрирует устрашающий зев, но в конце концов утихает на теплой ладони. Его обмеряют, взвешивают (ежедневная процедура), фотографируют. Ему тринадцатый день, он занимает почти всю ладонь и с трудом умещается на тарелке аптечных весов.
Приемные мать и отец с зажатыми в клювах козявками верещат рядом, и беспокойство их достигает предела. Водворяем жильца в дуплянку и для лучшего наблюдения вешаем ее на сосну, возле которой Сергей приготовил фанерный скрадок. Но, схоронившись в него, сразу же видим: допустили оплошность. Мухоловки в великом недоумении: куда же делась дуплянка? Они порхают возле привычного места, садятся на сук, где висело гнездо, и не могут сообразить, что дом переехал на соседнее дерево. Сергей считает: найдут все равно. Но рисковать не хотим и применяем ис-
пытанный метод. От старого места к новому протянули веревку и по ней с промежутками в полчаса перемещаем дуплянку. К вечеру новое местожительство было птицами признано. Забравшись в скрадок, через отверстие мы видим теперь дуплянку на расстоянии метра. Все таинства жизни, возле нее текущей, теперь у нас на виду.
История кукушонка такая. 27 мая, обследуя поселение птиц на опушке вдоль поймы, Сергей обнаружил гнездо лесного конька. В нем лежали два разных яичка. Одно коричневатое в крапинку, другое, размером побольше, было голубоватым. Подежурив вблизи гнезда, Сергей убедился, что оно брошено. Восстановить историю
брошенной кладки было нетрудно. Кукушки кладут яйца в гнезда различных птиц. Однако у каждой кукушки есть «специализация». У одной яйца размером и цветом похожи на яйца дроздов, другие готовят яйца для гнезд камышевок, трясогузок, зарянок, славок. Ошибка в адресе ни к чему хорошему не ведет. Так, видно, вышло и в этот раз. Лесные коньки, обнаружив подкладень, сочли за благо построить другое гнездо.
Яйцо кукушонка лежало холодное. Но соблазнительно было исправить ошибку природы. И с помощью человека яйцо совершило любопытное путешествие. Сначала Сергей подложил его зябликам. Но в это дождливое лето дятлы, не находя корма, воровали из тнезд птенцов, а у зябликов кладка всегда на виду. Сергей отыскал искусно скрытую в ельниках уютную «черепушку» дроздов. Но яйцо сюда запоздало. Через девять суток появились дроздята, а яичко-подкидыш лежало без признаков жизни. Полагая, однако, что жизнь в яйце все-таки пробудилась, его подложили в дуплянку мухоловки-пеструшки.
У этой маленькой птицы в гнезде лежали четыре яичка. Прибавление пятого она не заметила. Проблема была в другом. В дупла кукушки яиц не кладут. И неясно было, как поведут себя мухоловки, появись в гнезде кукушонок. Между тем события развивались стремительно. Подняв через день крышку дуплянки, Сергей увидел такую картину. Два птенца и два яйца мухоловки были вытеснены из гнезда и лежали на самом краю, а в середине лежал голый слепой подкидыш. Появившись на свет, кукушонок сразу же сделал то, что предписано было ему природой: избавился от приемных сестер и братьев.
Два яичка и двух птенцов мухоловки Сергей немедленно подселил к двум другим мухоловкам, а за этой дуплянкой стал наблюдать.
Кукушонок рос быстро, прибавляя в весе сначала по три-четыре, а потом и по десять граммов каждые сутки. Из голыша он превратился в колючего ежика. Потом на колючках распустились пушистые кисточки. На появление приемных родителей у летка он отвечал сверчковой руладой и показывал ярко- оранжевый зев. Лицезрение вечно просящей пасти не давало двум крошечным птичкам ни минуты покоя. Лишь иногда ненасытный ребенок почему-то медлил проглатывать паука или муху. Кормильцы в этом случае быстро совали голову в распахнутый зев и, схватив непроглоченный корм, тут же его съедали, а через две-три минуты появлялись с новой добычей.
Раза три в час семья совершала санитарный обряд. Кукушонок делал в гнезде разворот, и какой-нибудь из родителей быстро хватал у сына из-под хвоста белую бомбу. Отходы жизни кукушонок отдавал упакованными в эластичную пленку. Бомбы, сначала маленькие, постепенно достигли размера небольшой сливы. Родителей эта ноша тянула к земле, но они роняли ее вдалеке от гнезда — у кукушонка в дуплянке всегда было чисто и сухо...
Второй раз из Москвы в заповедник я приехал, когда кукушонку шел уже восемнадцатый день. Из черного ежика он превратился в большую пушистую птицу-подростка, глядел осмысленно, весил сто четырнадцать граммов, и в дуплянке было ему тесно.
Сергей посадил кукушонка на сук. Мы затаились, стараясь не проглядеть встречу птичек-родителей с сыном, которого они долго кормили, но увидят которого первый раз.
Никаких проблем не возникло. На суку сидело огромных размеров чудовище, но мама и папа не сомневались, что это их сын. Мама с зажатой в клюве букашкой к дуплянке даже не подлетела — сразу на сук, к разинутой пасти. На секунду с отлетом она задержалась и сразу же получила удар клювом в грудь — «нечего медлить, лети за едою, я голоден», полетела. И опять принесла что-то в клюве. И опять она получила удар, но сразу не улетела, а принялась с безопасного расстояния изучать свое чадо.
Осторожный папа (мы сразу его отличали по темной окраске) явно боялся птенца. Он опускался на сук вдалеке, скачком приближался к алчущей пасти и, кинув в нее еду, пулей срывался. И прилетал он реже. И санитарную службу (на ветке обряд продолжался!) несла лишь мама.
Мы залезали в скрадок по очереди и проводили там три-четыре часа ежедневно. Дни стояли дождливые, но серьезной помехой для наблюдений были лишь комары. Они набивались в скрадок и ели нас беспощадно. Мы вылезали опухшие, одеревеневшие от неподвижности. Но какую награду мы получали за эти мелкие неудобства! Мы прикасались к тайне. Тайна, обычно скрытая за лесным пологом, тут была на ладони.
На ночь мы опускали кукушонка в дуплянку (ее пришлось поменять на просторную), а утром сажали его на сук, просовывали в отверстие скрадка объектив и старались не пропускать подробностей странной, удивительной жизни.
В этом укрытии мы провели несколько дней — наблюдали за кукушонком.
Происшествий особых в районе «К» (так назывался сучок, где сидел кукушонок) не наблюдалось. Один раз перед клювом птенца сел шмель. Кукушонок, наклоняя голову, долго его изучал, но склевать не решился, а шмель обсох на суку и слетел. В другой раз в мое дежурство случился переполох. Какая-то птица со стуком, скребнув по фанере когтями, села на крышу скрадка. Это был кто-то очень опасный для кукушонка. Он прямо прилип к сучку, жалкий, взъерошенный. Не знаю, что было бы, но появились с воинственным писком мама и папа. Кто-то сидевший на крыше скрадка, обо- начены. Балансируя на одной лапке, другой он ухитрялся прогонять комаров, почесывал тело под крыльями. В нем зарождался характер исследователя. Если прежде, получив добрую порцию пищи, кукушонок дремал, то теперь все кругом было ему интересно. По многу минут, повернув голову, он разглядывал объектив фотокамеры, нагнувшись, исследовал бездну, зиявшую под сучком.
Из звуков самым желанным для кукушонка был крик родителей, подлетающих с пищей. Но и другие звуки стали его привлекать. Поворотом головы он провожал пролетающих с криком дятлов, прислушивался, как рюмит зяблик. Все дни, пока мы сидели в скрадке, вблизи куковала кукушка. Никакой особой реакции ее голос у кукушонка не вызывал. Он становился, кажется, даже чуть флегматичнее, чем обычно. Но, может быть, в этом как раз и есть назначение кукования — вселять спокойствие в растущее где-то дитя.
А приемные мать и отец продолжали носить еду. Рядом с приемышем они теперь выглядели совсем крошечными. Мать была молодцом. А отец с трудом уже преодолевал панический страх, приближаясь к похожему на ястреба сыну...
роняясь от их наскоков, зашуршал крыльями и взлетел. Неистовый писк мухоловок сопровождал нежданного гостя до самой опушки леса. Сергей, наблюдавший эту сцену в бинокль, прибежал объяснить, что это наведалась сойка...
Каждый день в кукушонке наблюдались зримые перемены. Из взъерошенного птенца он превращался в птицу с подобающим ей нарядом. Грудка покрылась полосками, как у ястреба. Кончики темных перьев чуть-чуть белели, и от этого кукушонок выглядел рябеньким щеголем. На голове забелелись два пятнышка. Потягиваясь, кукушонок расставлял крылья и, кажется, уже почувствовал, для чего они предназ-
На двадцать четвертый день мы потеряли кукушонка из виду. Его путешествие началось с короткого перелета на ближний сучок. Но мухоловки звали его повторить смелый шаг. И он решился слететь на куст можжевельника. Два дня мы следили за ним. И вот кукушонок пролетел уже так далеко, что мы его не увидели. Сергей считает: мухоловки еще неделю будут птенца подкармливать. Но он и сам уже, мы видели, начал охотиться...
Вот и вся тайна (а может, только частица ее), к которой мы прикоснулись.
□
195
ЖИЛИЩЕ ОС
Многим, наверное, приходилось встречать в лесу это странное сооружение, похожее на огромную грушу. В детстве я был наказан за любопытство. «Груша», искусно свернутая, как мне тогда показалось, из старой почерневшей газеты, являлась жилищем ос, и я помню, с каким проворством бежал к воде от гнезда — отмачивать огнем горевшие руки и голову.
Недавно, спасаясь в лесу от дождя, я вдруг увидел хорошо знакомую «грушу». Она висела на тонкой березовой ветке. Я снял ботинки и полез на березу получше разглядеть висячий осиный дом.
Пепельного цвета, тонкая морщинистая «бумага», закрученная в несколько слоев, не была «полинявшей газетой». Осиная «бумажная фабрика» работала тут же, в лесу, и сырьем для нее была древесина, которую и человек использует для бумаги. Разница только в том, что человек стал делать бумагу недавно, а осы делают ее миллионы лет...
А что там внутри? Осторожно разворачиваю, жду появления разъяренных хозяев. Но все тихо. Никто не жужжит, не скребется в бумажном доме... Всего две осы забегали на свету. Обычного вида оса и оса огромная, длиннобрюхая. Они почему-то не кинулись на грабителя, а стали беспокойно ползать по странному сооружению, которое и было содержимым гнезда.
Держу в руках конструкцию все из той же бумаги — лепешка, на лепешке узорный гриб. И лепешка и верхушка
гриба унизаны сотами. Соты напоминают пчелиные. Но у строителей не было пчелиного мастерства — ячейки разных размеров, не все правильной формы. Почти в каждой ячейке шевелится белое существо, еще не видавшее света. Много ячеек покрыто белыми кожистыми колпачками. Под таким абажуром тоже сидит личинка. Большую осу, судя по всему, матку, стряхиваю, но она поднимается из травы и опять торопливо ползает от личинки к личинке. Убегаю с гнездом далеко в сторону — оса опять быстро находит потомство. Как могу аккуратно возвращаю осиную колыбель в бумажную оболочку и вешаю ветку с гнездом на березу...
Через день, проходя по той же поляне, я увидел взлетевшую, похожую на ястреба птицу, узнал осоеда и сразу побежал к знакомой березе. Гнездо было разодрано в клочья. Кажется, я помог осоеду обнаружить гнездо.
Осиных гнезд в лесу, как видно, немало, если есть птица, специальность которой их разорять.
□
Содержимое осиных гнезд — лакомая добыча для птиц осоедов.
СВЕРЧОК
І\/Іногие слушали его песню. Но мало кто его видел.
В детстве среди множества деревенских звуков крик коростеля и песня сверчка меня занимали особенно, потому, возможно, что, сколько я ни старался, увидеть сверчка и коростеля не удавалось. Коростели жили за огородом в мокрых лугах. Определив место крика, я тихо крался, бежал сломя голову, но птица, не взлетая, смолкала и, словно дразня, начинала свое «крекс- крекс!» шагах в двадцати в стороне. Позже я узнал: коростели бегают, раздвигая травинки, и очень редко взлетают.
Сверчок жил в доме, в проеме печи, где хранились ухваты и кочерга. Чуть начинало смеркаться, и раздавалась тихая, монотонная песня: «трю-трю...» Если в избе было шумно, сверчок молчал. Но стоило голосам стихнуть, начиналось монотонное грустноватое пение. Кто жил в деревне, хорошо знает эти звуки уюта в обжитом доме. Сколько я ни старался, выманить свер-
чка из темной подпечной ниши не удавалось. И только совсем недавно в зоопарке я увидел таинственного певца, и не одного, а сразу в количестве нескольких тысяч — сверчков тут разводят на корм обезьянам, лягушкам, лемурам, птицам.
Вот он на снимке, сумеречный музыкант, похожий одновременно на таракана и на кузнечика. Цвет — рыжевато- коричневый. Два блестящих выразительных глаза, приспособленных к темноте. Два длинных подвижных, похожих на удилища, уса. Ясно, что может прыгать, но больше бегает. Длинный жесткий отросток сзади — яйцеклад, которым, как шильцем, сверчок протыкает какой-либо податливый материал и кладет около сотни яиц, из которых вылупляются крошечные сверча- та. Они растут, линяя, подобно ракам. Сбросив двенадцать раз свои жесткие латы, сверчок становится взрослым. Его монотонное «трюканье» — брачный крик. Два самца, встречаясь где-нибудь в темном убежище, дерутся, теряя при
196
этом усы и крылья. Лишенный жестких передних крыльев, сверчок петь уже не способен, «трю-трю» — это трение друг о друга передних крыльев, одно из которых имеет насечки.
Питаются сверчки всякими крохами органической пищи. В деревенском доме под печкой им хватает вполне того, что прилипнет к ухвату. В зоопарке, я посмотрел, кормят их отрубями, морковкой, огурцами и яблоками.
Сверчки многочисленны в тропиках, там, где тепло и сыро. У нас сверчок довольствуется тропиками искусственными — живет под печкой, в бане, в котельной. Сожительствуя, несколько насекомых имеют свои территории — «знай сверчок свой шесток». Хор сверчков может быть надоедливым, но одиночное монотонное «трюканье» связано в нашем сознании с теплом и покоем. И потому сверчок — сожитель в деревенском доме желанный. Городская среда для него представляет меньше удобств. Но многие наверняка слышали, проходя по улице летней ночью, поэтичное «трюканье». Это он, сверчок!
Однажды знакомые звуки я услышал в громадном здании телецентра. И очень обрадовался — надо же, в царстве металла, пластиков, электроники приютился неунывающий музыкант! Вечерами мы даже специально ходили к знакомой двери послушать сверчка. А однажды не удержались — и постучали... сверчком оказался электронный прибор, издававший очень похожие звуки.
В Москве я знал двух людей, державших сверчков «для уюта» в маленьких клетках. И как-то прочел: «Предприимчивый англичанин наладил продажу сверчков новоселам многоэтажных домов».
Есть еще сверчки полевые. Внешность их несколько отличается от нашего доможила — окраска темная, почти черная, живут в земляных норках. Но тоже певцы, оттеняющие тишину летней ночи.
Песня сверчка — поэтический символ. Улыбаешься, вспомнив: прозвище Пушкина-лицеиста было Сверчок. Хорошее, необидное, свойское слово.
□
ХРАБРЕЦ
На съемке для «Мира животных» встретили зайца — молодого, не искушенного жизнью подростка. Попытался зверь убегать, однако не знал еще заяц, что наш оператор тоже умеет бегать. Остановился заяц и стал наблюдать: что будет? Камера пожужжала издалека, потом подвинулась ближе, потом нависла над самым ухом. И заяц решил за себя постоять. Сначала он шевельнул лапкой, потом сделал выпад в сторону камеры, потом, справедливо решив, что уязвимое место у жужжащего зверя — глаз, кинулся в объектив. Спасая нежные стекла, оператор вскочил, но разъяренный зайчишка жаждал победы полной. Он отбегал и с силой кидался на Яшкины ноги. Спасли оператора «бронированные» штаны под названием «джинсы» и полушутливые, полусерьезные вопли о помощи. Мы хохотали, наблюдая, как победитель спокойно почистил одну о другую лапы и тут же взялся закусывать стебельком щавеля.
Общее мнение: заяц труслив. Он и правда надеется больше всего на ноги. Ноги уносят зайца от тысячи опасностей, стерегущих его повсюду. Лисица, волк, филин, рысь, ястреб, орлы, бродячие собаки, енот — все любят зайчатину. В молодом возрасте зайцу надо еще опасаться ворон и сорок. Ну и, конечно, охотник с ружьем зайцу тоже не ДРУГ-
Сидит заяц тихо, полагаясь на цвет своей шкурки. Зимой она прячет его в снегу, легом — в траве. Уловил шорох — сразу уши торчком: определить, откуда опасность. Определил — немедленно уши прячет, чтобы не выдавали, и уже наблюдает глазами. И если опасность близка — вся надежда на задние ноги. Они у зайца длинные. Опережая передние, они, как пружины, толкают зайца вперед и вперед, прыжки бывают до пяти метров, скорость — под шестьдесят километров в час. Глядишь, и спасся. Однако от ястреба и от филина на открытом пространстве спастись не просто. В последний момент падает заяц на спину, и опять оружие его — ноги. Бьет сильно. Известны случаи: раненый заяц ударом ног распарывал полушубок, и беспечный охотник получал опасные раны.
Это храбрость самозащиты. Известно, однако: зайчиха-мать смело атакует ворону или сороку, выследивших зайчонка. Тут храбрость зайчихи не знает предела. Хитрые птицы, правда, охотятся парой — одна отвлекает зайчиху, другая хватает зайчонка. И потому природой зайцу предписано: сиди незаметно и тихо, обнаружат — беги. Защита силой — последнее средство. Наш заяц- подросток прибегнул к силе отчасти по недостатку житейского опыта, отчасти потому, что ноги еще слабы. Но, может быть, это храбрец? Почему не быть храбрецу даже и среди зайцев?
□
ТРИ МИНУТЫ из жизни
Три минуты из жизни котенка. Почти детективная повесть...
Жил котенок во дворе в загородке с мамой, опытной, в возрасте, кошкой. Я открыл калитку, и мама решила: пора! Пора чаду увидеть мир.
На пороге калитки котенок увидел жука. Ужас, великий ужас отразился в маленьком теле: спину выгнул, хвостик поджал, глаза расширены. Глянул на мать — она сидит холодно-невозмутимая, неподвижная: «Эка невидаль — жук!»
И котенок сразу же осмелел. При виде утят в нем пробудился охотник. Лег котенок на брюхо. Чуть пошевеливая хвостом и не спуская горящих глазенок с утят, пополз он к добыче. Утята, пища, потеснились. И охотник сразу же понял: его боятся. Он тигром рванулся вперед. Но утята уже имели жизненный опыт. Жалобно призывая несуществующую маму (утята инкубаторские), беженцы устремились к собачьей будке — тут, по всему судя, они находили уже убежище. И защита не заставила себя ждать. Лохматый пес Тобик, лежавший за будкой на солнышке и вполглаза наблюдавший за жизнью двора, вскочил. Гремя цепью, он кинулся на обидчика. Привязь не дала ему развернуться как следует, котенок пружиной взлетел на плетень и выше — на кол.
Утята между тем цепочкой направились к яме с водой. Пес улегся на любимое место за будкой. Невозмутимо на прежнем месте сидела кошка Она все видела, но даже не шевельнулась, чтобы как-нибудь повлиять на события. Строгая поза многоопытной матери говорила: «Ну вот — это жизнь. Будешь знать, кто есть кто».
□
ВОДЫ!
От жажды страдают не только люди... В пустыне приземлившийся самолет был потным, как бутылка, вынутая из холодильника. По нему на бетон стекали струйки воды. Аэродромные собаки это явление хорошо знали и сбегались лакать «небесную воду»... Однажды летом я видел, как аист, прилетая к гнезду, выливал на птенцов в зобу принесенную воду... Я видел, как, мучаясь жаждой, теряли всякую осторожность куланы — шли к водопою при явной опасности... В сухое лето 72-го года мы наблюдали ежа, приходившего пить из плошки, которую ставили во дворе курам. В тех же местах у Оки я снял куницу, искавшую, почти не страшась человека, влагу в воронке большого гриба...
И еще картинка того сурового лета — гуси, подолгу стоящие у колодца в ожиданье, что кто-то придет за водой...
Если бы звери и птицы в большую жару вдруг заговорили, первым бы словом было: «Воды!»
□
БАБЫНИНСКИЕ КАРАСИ
В январе из Бабынинского районе Калужской области получил я письмо: «У нас в пруду живут незрячие караси...» Я немедленно откликнулся, попросил подробностей и получил от Абрамова Сергея Дмитриевича второе письмо. «Совершенно безглазые! Жаберные крышки есть, а глаз нет. Но крепкие!.. Мы поступаем с ними обыкновенно — ловим и жарим. Приезжайте — увидите сами!»
В конце мая мы с внуком, прочитав все, что можно, о карасях, дали телеграмму в Калужскую область: «Едем!»
К вечеру добрались в деревеньку С. (не называю ее во избежание нашествия любопытных удильщиков) и встречены были Сергеем Дмитриевичем. Бросив рюкзаки, сразу пошли на пруд.
Это был не пруд, а прудишко, размером с половину футбольного поля. Соорудили его пятнадцать лет назад одним днем с помощью доброхота-бульдозериста. Вся работа свелась к насыпке вала поперек неглубокой балки. Пополняется пруд вешней водой. В первый год пустили в него лукошко мелких красных карасиков и столько же белых. Никакая другая рыба, кроме верхоплавок и карасей, в пруду жить не может — тесен и мелок промерзает почти до дна. Но караси, спящие зиму в иле, тут прижились. А лет пять-шесть назад стали среди них попадаться незрячие. Они не были, однако, хилыми. Наоборот, в садке скорее изнемогали обычные караси. Слепцы же были на редкость выносливыми. Правда, во время нереста, когда
обитатели пруда трутся у травки на мелководье, незрячих ловят местные кошки, предпочитающие рыбу всякой другой добыче.
Мы забросили снасти. Но поплавки слегка шевелились лишь от игры верхоплавок, клавших на снасти икру. Возлагая надежды на утро, мы раскидали приманку. Сергей Дмитриевич с соседом для верности бросили в угол пруда две верши. И все отправились спать.
Утром пруд дымился туманом. Скорее, скорее удочки в воду!.. Через час первый карась запрыгал на траве в одуванчиках. Но это был обычный белый карась, глядевший на мир круглыми не- помнят — красных карасей выпускали. Ловятся караси белые (научное название: карась серебряный). Эта братия в нашем улове не была одинаковой — различались размером, окраской, не все однозначно были с глазами. Обычный нормальный карась имел глаза плоские. У половины примерно глаза были выпуклые, как у лягушек. Незрячие были все одинаковы. Но попались два экземпляра карасей одноглазых (ловили таких и раньше) — один («лягушачий») глаз есть, другого нет. Все безглазые караси имели окраску более темную, чем обычные.
Поснимали мы карасей. Провели на месте анатомирование — под жаберной
моргающими глазами. За ним попался второй точь-в-точь такой же. Третий. ..
Уже наловлено было с полсотни одинаковых, как инкубаторские цыплята, карасей в половину ладони, когда Николай Иванович нас окликнул: «Вот он, попался!» На крючке висела рыба темно-серебристого цвета, вдвое крупнее пойманных карасей и безглазая. На положенном месте были заметны впадины, словно глаза удалили и неглубокие ямки заросли плотным, как крышки жабер, костным покровом.
Даже и единичный урод в живой при- 200 роде всегда у людей возбуждал любопытство, тут же была, как сказал бы ученый, популяция животных с уродством, передающимся по наследству. ..
Часов с девяти на хлебный мякиш стали дружно идти незрячие караси разных размеров — больше ладони и в половину ее. Вынули верши — их туда на приманку из хлебных корок тоже набилось изрядно. В полдень мы сели на бережку — как следует рассмотреть весь улов.
Первые наблюдения: не попалось ни единого красного карася ни в вершу, ни на крючки. И это было обычным. Никто не знает, есть ли они в пруду, хотя все
Присмотритесь... Первый из трех карасей глаз не имеет.
крышкой глаза не оказалось. И, не мешкая, стали собираться в Москву. Улов «для сковороды», чтобы в жаркий день не испортился, Сергей Дмитриевич переложил крапивой, побрызгал водой. А пяток карасей характерных поместили мы в формалин, важно было диковину показать рыбоводам-специалистам.
Мой подарок озадачил ученых несильно, хотя любопытство было всеобщим. «Ну-ка... Да, действительно совершенно безглазые... Ну что же — типичные фенодевианты», — сказал генетик.
Прежде чем объяснить мудреное слово фенодевианты, — немного общеизвестного о карасях. Все знают: карась хорош, жаренный в сметане! «Уху из карасей варить не следует — пахнет тиной», — писал знаток рыб России зоолог Леонид Павлович Сабанеев. Карась действительно «тинная рыба» — живет в заросших озерах, пойменных бочагах, торфяных ямах. Однажды я обнаружил карасиков даже в неглубоком колодце — икру, как видно, занесли утки. Чем хуже заглохший, «заросший» водоем для других рыб, тем лучше он для выносливых карасей, писал Сабанеев.
Караси бывают двух видов: золотые, почти круглые, похожие на тяжелые слитки меди, и серебряные, называемые иногда карасями речными. У этих тело более удлиненное, они меньше, чем золотые, любят копаться в иле, они подвижнее золотых и, что особенно важно отметить, необычно разнообразны по форме. В двух расположенных рядом озерах живут иногда заметно отличные друг от друга серебряные караси. Объяснений этому много — неодинаковые водоемы, неодинаковая пища в них. Однако гораздо важнее другое: серебряные караси легко скрещиваются с другими рыбами, с линями, сазанами и карпами, например, а также с красными карасями. Мало того, серебряный карась зачастую размножается однополым путем — в водоеме живут только самки. Икра оплодотворяется молоками рыбы иного вида, но слияния половых тел при этом не происходит. Отцовская линия в развитии плода отсутствует — из икры появляются только однополые самки.
Причуды наследственности, нестабильный генетический механизм серебряного карася дают не только вариации по окраске и форме, но также всякого рода резкие уклонения от формы, иначе говоря, уродства: изменение плавников, глаз, чешуи. В различной мере уклонения эти свойственны многим рыбам. У серебряного карася они встречаются чаще. Не случайно именно серебряный карась является родоначальником разнообразных золотых рыбок.
Тысячу лет назад китайцы, заметив частые уродства серебряного карася, стали намеренно их культивировать и вывели рыбок, передающих уродства свои наследству. Пучеглазые телескопы и фантастические вуалехвосты с громадными плавниками, рыбки ярко- красного, черного или пестро-мраморного цвета — не более чем уродцы серебряного карася, продукты прихоти человека. Эти жители аквариумов и небольших бассейнов в дикой природе, если их выпустить, неизбежно и быстро погибнут. Сама природа, порождая уродства, как правило, не дает им развиться в потомствах, безжалостно выбраковывает. В популяциях карасей, живущих нередко там, где «бракеры» — хищные рыбы — отсутствуют, уродства сохраняются относительно долго. Причем условия водоема провоцируют эти уродства. Недостаток пищи, теснота, ведущая к близкородственному скрещиванию, вызывают наследственные «уклонения». Подобная «игра генов», не поддающаяся исследованию на основе строгих законов, открытых Менделем, озадачивает генетиков. Животных из этого ряда они называют фенодевиантами. Бабынинские караси относятся к этому феномену.
Можно предположить, как появилось безглазие. У карасиков, пущенных в пруд, генетическая предрасположенность к уродству была. Скученность в маленьком водоеме привела к имбри- дингу (близкородственному скрещиванию), и, как следствие этого, пробудились «дремавшие» гены — появилось потомство с хорошо заметным поражающим нас уродством: безглазые, одноглазые, пучеглазые караси. Любопытно, в шести других больших по размеру прудах возле деревни С. незрячие караси не встречаются.
А как же жить-то без глаз? Человека, получающего восемьдесят процентов информации из окружающего мира с помощью зрения, феномен бабынинских карасей поражает. Но вспомним, как живут караси. Копание в иле хорошего зрения и не требует, важнее чувствительный нос, обоняние. Обоняние у рыбы незрячей, компенсируя зрение, развивается хорошо. И потому бабынинские безглазые караси заметно жизнеспособней обычных. Будь в воде хищники — окуни или щуки, незрячим пришлось бы плохо, но хищников в маленьком прудике нет. Создались условия для процветания, пусть временного, организмов уродливых.
Такие вот размышления вызывают бабынинские караси. Спасибо Сергею Дмитриевичу Абрамову, известившему нас о необычном явлении в жизни природы.
□
ДРУЗЬЯ ИЗ БЕРЛОГИ
Это было в средине лета. После ходьбы по лесу мы присели передохнуть, и вдруг на поляну к нашему костерку выкатились два медведя-подростка. От неожиданности медведи поднялись на задние лапы и, принюхиваясь, с полминуты нас изучали. Мы испугались: по всем законам на сцене вот- вот должна была появиться медведица. Но вышел из леса человек с палочкой, и обстановка сразу же разрядилась.
— Вы что же, им вроде матери?
— Точнее сказать — опекун...
Увидев рядом с собой покровителя, медведи сразу же успокоились: начали вприпрыжку скакать по поляне, мигом распотрошили под сосной муравейник, а потом, испугавшись чего-то, вернулись к ногам человека и стали тереться носами о сапоги.
Медведи легко приручаются. На старых ярмарках и в нынешних цирках звери в обнимку с покровителем-дрессировщиком делают много веселых трюков и, кажется, совсем неплохо чувствуют себя среди людей. Тут картина была другой. Два резвых зверя были явно свободными и держались в лесу, как подобает держаться диким медведям. Человек рядом с ними вызывал в памяти не циркового артиста, а легендарного Сергия Радонежского, к лесной избушке которого будто бы дружелюбно являлся медведь.
Пока мы знакомились с одетым в спортивную куртку и резиновые сапоги нынешним «Сергием», медведи обшаривали поляну. Они заламывали кусты, подымали камни, слизывая с них какое- то лакомство, потом исчезали в лесу, и мы не видели их минут двадцать.
— Не тревожитесь?
— Прибегут...
К лесному поселку возвращаемся вместе. Для медведей дорога — сплошная цепь приключений: поймали в луже лягушку, подрались из-за брошенной кем-то тряпицы, отстают, забегают вперед, повисают, как дети, на гибких кустах черемухи, привстав на задние лапы, за чем-то пристально наблюдают.
Весной позапрошлого года зоолог Валентин Пажетнов наблюдал за медвежьей берлогой. Укрытие он сделал в полусотне шагов и хорошо видел: в полдень медведица выходила из логова, грелась на солнце и снова скрывалась. По звукам зоолог определил: в логове два медвежонка. Особой тревоги, явно чувствуя наблюдателя, медведица не проявляла. Однако в последний день марта она вырвалась из берлоги взъерошенной, сделала в сторону шалаша два устрашающих броска. Струхнувшему наблюдателю пришлось закричать. Зверя это остановило и, как видно, здорово напугало. Сделав большой полукруг, медведица скрылась в
201
лесу и больше к берлоге не возвращалась. На руках человека остались два маленьких, с рукавицу, медведя.
Валентин решил попытаться заменить медвежатам мать — выходить их, не отрывая от обычной среды обитания. Задача была непростой. Медвежата ходят за матерью целых два года — перенимают опыт добывать пищу, усваивают, что надо и чего не надо бояться. Воспитание у медведей — наука тонкая, кропотливая. Человек все тайны звериной жизни на знает, и надежды зоолог возлагал на инстинкты. «Воспитание воспитанием, но очень многое в поведении животных определяет наследственная программа. Надо создать условия, чтобы эта программа начала проявляться», — так рассуждал ученый.
На третий день общения с медвежатами подтвердился известный закон поведения животных. В раннем возрасте у них проявляется «инстинкт следования». Малыши, еще не ориентируясь в сложном мире, следуют (идут) за движущимся объектом, доверяются ему. Происходит признание-запоминание этого объекта, запечатление в памяти, рождается привязанность к нему. В нормальных условиях таким объектом для многих животных является мать. А если это будет не мать? Закон все равно продолжает работать! Утята, вылупившись из яиц под курицей, за курицей и будут следовать, хотя во дворе они позже увидят и утку. Действие этого закона известно многим: чем раньше новорожденные зверь или птица попали в руки, тем больше шансов их приручить. Если при этом не упущен «момент запечатления», можно рассчитывать на привязанность и преданность животного.
Как проявилось все это в истории с медвежатами? «Два дня они жили со мной в палатке. Я их кормил молоком, но кажется, был для них безразличен. На третий день я вышел набрать в ведерко снега для чая, и тут медвежата, как по команде, бросились за мной, не
202
обращая внимания на лужи и глубокие лунки в рыхлом снегу. Казалось, никакая сила не способна их удержать».
Два года прошло уже с этой минуты, поведение медведей полностью подтвердило закон привязанности. «Мне помогала работать жена. Но «матерью» был для них я. Испугались — ко мне. Я проявил в лесу к чему-нибудь любопытство — и они тоже. Занялся чем- нибудь необычным — внимательно смотрят. Особого подражания не увидел, но что касается следования — куда я, туда и они. Смена одежды вводит их иногда в заблуждение. Но стоит мне надеть куртку, в которой они признали меня впервые, спокойствие, преданность и доверие сразу же возвращаются». Валентин считает: впечатляют медведей не только зрительные образы, но также звуки и запах. Он склонен думать: для медведей запах играет, возможно, первостепенную роль.
Весну, лето и осень растущие звери и человек провели вместе. Каждый день непременно лесная прогулка два-три часа. А время от времени — двухнедельная вылазка. Дальние переходы медвежата переносили легко и даже затевали возню, когда человека валила усталость. Во время пути они убегали далеко в сторону, непрерывно исследуя все вокруг. Спрятаться от них было нельзя. «Потеряв из виду меня, они начинали бегать кругами, все время их расширяя, попадали в конце концов на мой след и тут уж легко находили».
Месяца три (до июля) медвежата вели себя как два маленьких исследователя. Все было им интересно, и они открывали для себя мир, не очень его пугаясь. Летом поведение изменилось. Желание все увидеть и оценить по принципу «опасно — не опасно, съедобно — не съедобно» осталось. Но появилась и осторожность. Изучая новый объект, они теперь часто в панике убегали и спасались на дереве. Особый испуг вызывали встречи с большими животными. Столкнувшись неожиданно с лосем, они забрались на сосну и просидели там целый день.
Уже в мае (через месяц после выхода из берлоги) медвежата, получая молоко из бутылки, стали сами подкармливаться молодой травкой. Постепенно они вовсе были сняты с довольствия и кормились тем, что сами находили в лесу.
Обучать добыванию пищи медвежат не пришлось. Наследственная память помогала им безошибочно определять, что для медведя пригодно и что непригодно. Запах муравейника привел их в сильное возбуждение, и они усердно взялись ворошить явно съедобную кучу, не сразу, правда, поняв, как следует добывать из мусора лакомство. Гнезда полевок и ос они тоже с первого раза зачислили в свой рацион. Птенцы, птичьи яйца, коровий и лосиный помет, травы, слизняки под камнями, черника, малина, брусника, рябина — все находили в лесу без подсказки.
Однако важно не только пищу найти, но уметь ее взять Вот тут иногда возникала заминка. Простая штука — сунуть морду в гнездо и проглотить яйца, иное дело — пчелиный борт: лакомство — рядом, а попробуй-ка взять. Не тотчас медвежата поняли, как надо ловить лягушек, как правильно разрывать муравейники, собирать ягоды. Особенно много хлопот доставил медведям овес. «Попробовали — вкусно! Легли и стали по зернышку загонять языком в рот. Способ явно не подходящий: за вечер кормежки съели граммов по триста зерна... На четвертый день научились собирать в лапу метелки овса и скусывать. На пятый наловчились орудо-
Медвежата опасались всего необычного. Встречи с лосями, с проезжавшей по дороге повозкой поначалу повергали их в панику. Но встречные тоже застывали в настороженных позах или немедля скрывались.
вать обеими лапами. К восьмому дню сформировался четкий (одинаковый у обоих) прием, каким «убирают» овес все медведи. С восьми часов вечера до двух часов ночи они съедают пять-семь килограммов зерна...»
Восемь месяцев жизни рядом с медведем дали зоологу редкие, уникальные наблюдения. Дикая жизнь, обычно скрытая от людей пеленой леса, предстала перед глазами ученого не разрозненными моментами, а вся целиком.
Смысл эксперимента состоял теперь в том, чтобы выяснить, будет ли человек и дальше медведям необходим, или, соприкасаясь с ним и доверяя ему, они остались все же животными дикими, способными выжить в природе? Первый ответ на этот вопрос получен.
«Приближалась зима. Если медведи лягут в берлогу, значит, работа была ненапрасной, если станут жить под боком у меня иждивенцами, значит, надо поставить точку и отдать зверей в зоопарк...»
Большой надежды, однако, Валентин не питал. Лишь на Кавказе медвежата нередко в первый же год покидают медведицу-мать и уходят в спячку поодиночке. В средних широтах такого не наблюдалось. Но не ложиться же в спячку вместе с медведями! А может, все-таки лягут и сами, если как- нибудь пробудить в них инстинкты зимовки?
В ноябре Валентин увел медведей в укрытое место и принялся, как это делала бы и медведица, строить берлогу: выбрал под сваленным деревом место, стал носить туда мох, еловые ветки. Медвежата на это занятие не обратили внимания. Но вот пошел первый снег, и звери сразу переменились. Притихли. Перестали кормиться. И тоже принялись за строительство. Но место выбрали сами. Наносили коры, елового лапника, листьев. «Возились несколько дней. И все это время я находился в пяти шагах от зверей».
«28 ноября повалил сильный снег. Медведи укрылись в берлоге, и я уже их не тревожил. Утром услышал: медведи храпят. И тихо ушел».
...Зимовка прошла спокойно. В конце марта медведи выбрались из берлоги. Валентин ждал этого часа. Но звери спросонья его не признали, вскочили на дерево и сидели там целый день. «Я издавал привычные для них звуки, неторопливо пробуждая в медведях воспоминания. Наконец медленно, осторожно они подошли, понюхали куртку. И сразу же успокоились».
Прошла весна. Еще одно лето и осень. Все было как в первый год — ежедневные выходы в лес и долгие трехнедельные путешествия. «У меня была редкая возможность наблюдать, как медвежата превращались во взрослых медведей. Проделал множество экспериментов, выясняя, что значу я для медведей и как незаметно и навсегда оставить зверей в лесной глухомани».
Вырастить во дворе или в доме осиротевшего медвежонка — дело нетрудное. Но вернуть уже взрослого зверя в природу вряд ли кому удавалось. Зверь, не прошедший лесную школу, тянулся опять к человеку. Можно вспомнить много разных историй, как медведи грабили на дорогах прохожих, запускали лапы в кузова к грибникам. Участь таких животных всегда одинакова: цепь или клетка, а чаще выстрел. Вот почему так интересен был опыт зоолога Пажетнова.
С нетерпеньем я ждал окончания эксперимента. В декабре Валентин написал: «Медведи опять в берлоге. Выбрали место в таком заломе, что трудно было их наблюдать. Легли опять вместе, хотя перед этим очень скандалили. В конце марта жду пробуждения. 203
И сразу начну от них отдаляться. Я много узнал за два года. Очень привык к этим двум существам. Но я буду счастлив, если однажды они от меня убегут и уже не вернутся».
Конец истории ожиданий не оправдал. Весной стало ясно: один из медведей без человека не проживет, и Валентин пристроил его в зоопарк. Надежда была на другого — он с каждым днем становился все более независимым, диковатым, умело находил пищу и держался в лесу как хозяин. Наступил день, когда Валентин тихо и незаметно ушел с болота и медведь не прибежал, как было прежде, по его следу. «Я думал: ну вот и счастливый конец. Он будет жить там, где природой ему предназначено жить. Я старался не появляться в дальних лесных кварталах, опасаясь встречи, которая все бы испортила».
Валентин утвердился в мыслях, что его подопечный хорошо и надежно пристроен, и представлял, как медведь, нагуливая на зиму жир, орудует где-нибудь на овсах, на диких малинниках. Но вот из прилежащей к заповедному лесу деревни пришло известие: медведь задрал телку. Это насторожило — медведи редко тут нападали на скот. Неделю спустя еще одна новость из той же деревни: медведь во дворе порешил двух овец. «Теперь я уже не сомневался... И когда сообщили: на дороге к деревне медведь гнался за проезжавшим на лошади лесником, я понял: мой долг упредить большую беду. Что было делать? Взял ружье и, расспросив о повадках медведя, устроил возле деревни засаду...
Можете себе представить, что я пережил. Это был он, мой воспитанник — медведь не дикий и не ручной, не имевший страха перед людьми, не способный к дикой жизни в лесу...»
О своем эксперименте Валентин Па- жетнов написал хорошую книгу. В ней подробно и интересно рассказано о всем, чему был свидетель натуралист- «медвежатник». Многое в жизни медведей прослежено очень внимательно. И наблюдения зоолога интересны не только любознательным людям, но и ученым. Главный вывод экспериментатора подтверждает уже известную истину: прирученного зверя вернуть в природу трудно, почти невозможно.
1976 г.
□
логово
Логово волка обычно — тайна из тайн. Чтобы не выдать место пребывания детворы, волки вблизи не охотятся. И если волки почуяли: логово обнаружено — немедленно, спешно уносят волчат в безопасное место.
Понаблюдать жизнь логова — несбыточная мечта многих натуралистов. Снять на пленку интимную жизнь волков в природе практически невозможно. Выход один: снимать осторожного зверя в неволе, в условиях, максимально приближенных к жизни дикой природы. Мне посчастливилось наблюдать за волками в такой обстановке.
Уголок леса размером со стадион был окружен сеткой. Все тут есть для волков: овражек, поросший крапивой и лопухами, лесной валежник, родник, частый ельник, трава. Четыре зверя в загоне. Стою неподвижно у сетки с фотокамерой наготове в надежде: вот-вот блеснет где-нибудь пара глаз. Полчаса, час стою. Напрасно! Меня волки наверняка видят, но ни один ничем не обнаружил себя.
Занимаю место на одной из трех вышек, стоящих в лесу. С них кинооператоры, меняясь, ведут наблюдения — в нужный момент включают стоящую на треногах аппаратуру. К этим вышкам волки успели привыкнуть. Уже минут через пять замечаю шевеление трав. И вот прямо на меня, осторожно ступая, идет волчица. Прежде чем выйти на открытое место из-под деревьев, внимательно слушает — вижу, как шевелятся торчком стоящие уши. В последнюю очередь волчица смотрит на вышку. Мы встречаемся взглядами. Но волчица не отступает. Наоборот, привыкшая к неизбежному для нее присутствию здесь человека, она решительно, но по-прежнему неторопливо на- 204 правляется к логову.
Логово расположено метрах в пятнадцати от меня. Хорошо видно вытоптанную волчьими лапами площадку и у края ее, у коряги — пологий укатанный ход под землю.
Появленье волчицы давно ожидалось теми, кто пребывал в подземелье. На площадку, сбивая друг друга, выскочили три волчонка. И немедленно — к матери. Волчица увлекла нетерпеливо голодных щенят в сторону, в травы, и волчата повисли у нее на сосках. Пока под брюхом у матери шла возня, сама она стояла спокойно, наклонив голову. Язык от жары высунут, глаза, как в дремоте, полузакрыты. Шерсть на вол- нице линяла, и этот обычно аккуратный, подтянутый зверь выглядел неряшливо, неопрятно.
После кормежки волчата, путаясь у матери под ногами, стали вместе с ней обследовать окрестности логова. Зачем-то волчица перенесла с одного места на другое березовый сук, и волчата принялись его обнюхивать, как будто первый раз видели. Потом мать вынула из травы припасенное ранее мясо, стала рвать его на куски и разнесла их потом в несколько мест,
Все лето кинооператор Пятрас Абукявичус терпеливо наблюдал за волчатами.
давая волчатам поиграть с пищей в прятки.
Пока невидимый для меня молодняк возился в траве, волчица легла подремать, но скоро без причины как будто вдруг встрепенулась и кинулась в чащу. Волчата при этом горохом скатились в яму... Минут через пять я услышал голоса женщин, шедших лесом с покоса. Это их задолго до меня услыхала волчица и бросилась загодя обнаружить опасность. Убедившись, что опасности нет, мать неслышно, как тень, появилась у логова.
В одну из отлучек волчицы в колдобину, через которую тек ручеек, я кинул кусок конины, полагая, что волчица не сразу обнаружит добычу. К моему удивленью, появившись минут через десять, она направилась прямо к воде и нырнула в нее. Отряхиваясь, она вышла к площадке с мясом в зубах. Всеобщее любопытство! Дав волчатам как следует наглядеться на мясо, волчица отнесла его в сторону и стала прятать. Она нагнула лапой траву с одной стороны, потом с другой, примяла мордой. Волчата за всей процедурой наблюдали, не шевелясь. Не сделав попытки тронуть спрятанный клад, они побежали за матерью, на ходу облизывая ее морду.
Где-то на третьем часу наблюденья я обнаружил и папу-волка. Он лежал от логова в стороне и выдал себя только шевеленьем ушей. Он потом уходил. Но, вернувшись, занимал позицию наблюденья: лёжка — плотно на брюхе, морда на лапах, уши торчком, глаза внимательные. К логову ни разу он не приблизился.
Фотокамера моя была наготове, но бездействовала. Малыши на открытой площадке суетились немало, а момента, когда бы они оказались вместе с матерью, не было — она все время увлекала их в сторону. Но терпенье фотографа оправдалось.
В отсутствие матери, когда волчата обязательно прятались в яму или стихали в траве, один шалопай беспечно бродил по площадке. В этот момент мать его и застала. Я услышал приглушенное горловое рычание, означавшее: «Я кому говорила, не шляйся, разве не понимаешь — опасно!» Волчонок все понял, пятясь задом, он юркнул в яму, но я успел его снять вместе с матерью.
Солнце уже садилось за елки, когда я покинул вышку. Волчица в это время легла отдохнуть и уснула. Я пытался ее разбудить писком мыши, скрипом половицы на вышке — не проснулась или презрительно сделала вид, что спит.
Так ли ведут себя волки в дикой природе? Неволя, даже такая, с видимостью свободы, поведение животных, разумеется, искажает. И все же лес и логово в нем во многом дают проявиться волчьей натуре.
□
205
ВОЛОДЬКИНО ЛЕТО
Идет дождь. Трава полегла. Лес потемнел. Облака наползают на крыши. Солнце ушло от земли. Маленькое государство ромашек под окнами стало похоже на снежный сугроб. Мы просыпаемся, говорим: «Дождь...», едим пшенную кашу с молоком и опять спим. И это даром нам не проходит. Мы потеряли счет дням: не можем вспомнить — пятница или суббота. Начинаем делать зарубки на ножке стола. Конечно, можно включить радио или спросить у Володькиной матери, она бы сказала — пятница или суббота, но мы нарочно не спрашиваем. Три дня с перерывами дождь. Начинаем писать стихи. Лучше всего получается у Володьки:
У нас в интернате большие кровати, Большие кровати у нас в интернате...
Двенадцать лет Володька жил в лесу, в этом доме. А потом интернат — большая зима в большом селе. А теперь опять лес и речка на целое лето. На речке Володька свой человек. Он уверяет: лини в воде ходят тропами. «Проложат в траве тропу и ходят». Я говорю: «Врешь, Володька?» — «Вру?!» Мы оба встаем, поверх трусов надеваем холодные задубевшие плащи и бежим к лодке. Лодка утюжит пузыри на воде. «Гляди...» Правда — рыбьи дороги в траве. Володька знает, где на этих дорогах поставить вентерь. Вынимаем из воды снасть. В ней живые слитки золота с красными и желтыми перьями — караси и лини. Опытным глазом Володька находит икряную самку, зубами ловко делает на хвосте отметку и запускает рыбу обратно в вентерь. За ночь около самки еще с десяток линей соберется.
Жарим под навесом рыбу. А дождь идет.
Ночью мы не можем заснуть. Открываем окно. Пахнет земляникой и свежим намокшим сеном. Сверкает молния и гром падает в лес где-то возле самого дома. Володька с головой укрывается одеялом. «Боишься?» — «У нас в позапрошлом году телушку убило...» Мы зажигаем лампу, и сейчас же погреться из леса летят комары и бабочки с мохнатыми мягкими крыльями... Тучи кинули в лес пять или шесть громовых бомб и, судя по всему, подались бомбить ржаное поле у деревни Ивановки. Но дождь над лесом не перестал. В двенадцать часов мы сделали еще одну зарубку на ножке стола и, обсудив положение, решили, что терпим бедствие и надо об этом сообщить людям. Посветив спичками, нашли под лавкой в сенях бутылку из-под шампанского, вырвали лист из тетрадки и стали писать. Потом сбегали к старой лодке, наскребли смолы.
Письмо получилось веселое. Засмоленную бутылку Володька положил рядом с собой, у подушки. Потушили 206 лампу и стали прикидывать, куда мо¬
жет доплыть бутылка. «Сейм впадает в Десну, Десна — в Днепр, Днепр — в Черное море...»
Под утро в мокрых кустах запел соловей. Я вышел на крыльцо. «Июль, а он разливается...» Володькина мать сидела на скамейке возле коровы, но не начинала доить, слушала соловья. Обрывки облаков отражались в воде. Над речкой стояла розовая от зари пелена пара. Я подошел к кровати, сосчитал веснушки на лице у Володьки, пощекотал пятку: «Вставай. Пойдем копать червяков. Дождь кончился».
Если ночью с фонарем идти по лесным дорожкам, можно набрать це¬
лую банку выползков. Это огромные червяки, на которые и рыба должна ловиться большая. Мы набираем пригоршню выползков, но большую рыбу ждать не хватает терпения. Мнем в ладонях смоченный слюною хлеб и ловим плотву размером с ладонь. При такой ловле главное — поплавок. Вернее, даже круги от поплавка. Так насмотришься, что ляжешь спать — круги продолжают стоять в глазах. Признаемся: лодка наша от перегрузки рыбой ни разу не опрокинулась, но из всех рыболовов в лесу мы держим первое место. Мы знаем наперечет своих конкурентов. Вот как раз против лодки в обрыве берега — норка. Тут
живет рыболов из Египта. Все, конечно, его видели: изумрудно-зеленый, с коричневым верхом кафтан, нос долотом. Зимородок. Рыболов садится на ветку и ждет, долго глядит на воду. Мы много раз сменили наживку, а он сидит. И дождался: бултыхнулся в воду, с рыбой полетел к норке. Двух друїих рыболовов мы даже взяли на иждивение. Кинем дохлую рыбу и ждем. Озираясь, над самой водой проносится чайка. Раз — и нет рыбки. Чайка не знает, что мы ее из кустов в это время раз — и сняли. Коршун с большой высоты замечает рыбешку, но, конечно, замечает и нас, кружится, кружится, не спешит за добычей. Но вот мы немного отплыли. И коршун тут же спланировал вниз.
Рыбу мы чистим на берегу возле лодок. Тут тоже есть иждивенцы. Если рыбу оставить у лодки и ночью подойти с фонарем, можно увидеть иногда, как задом-задом, тихонько пятясь, рыбу уносят раки. Мы с Володькой не против такого раздела добычи — много ли рыбы надо на сковородку? Но вдруг на берегу обнаружилось чистой воды воровство, даже грабеж. Пошли помыть руки — исчезла огромная Володькина красноперка. Это коты... Володька рассказал: в лес из села приносят котов- ворюг. Сунут в мешок, чтобы дороги не видел, и бросят. В лесу коты птенцов и мышей промышляют, а со снегом, когда все живое попрячется, собираются на кордоне. Володькин отец подтвердил: «Осенью спасу нет. В сарай лезут, в трубу от холода забираются. В прошлом году хозяйка печь затопила, а он — бух из трубы и чуть не в чугун. В саже весь, заметался, как черт, по избе. Штук двенадцать в прошлом году собралось...»
Вот это да! Мы с Володькой нарочно стали оставлять рыбу и делать засидку в кустах, конечно, вооруженные фототехникой. И что же? Кот почуял засаду. Он появился, когда мы перестали его караулить. Я одевался после купания, Володька собирал весла и удочки, рыба была почищена и сложена в котелок. И вдруг крик: «Ножик, ножик унес!..» — Володька швырнул весла — ив кусты что есть духу... Вылезает, держит ножик в руках. Рассказать — не поверите: ворюга-кот подкрался и принял за рыбу подаренный мне в Антарктиде американцами ножик. Схватил — и наутек. И не сразу понял ошибку...
Пошли чередой погожие, жаркие дни. На лесных полянах появились пахучие копны сена. Володькин отец ходил в лес искать пропавшую телку, вернулся веселый (телка нашлась) и поставил в бутылку пять голубых васильков. Скошенный луг подсох и колет босые ноги. Стрекочут кузнечики. Ужи греются на старых пнях у воды. Два ужака, большой и маленький, перестали нас с Володькой бояться. Когда мы с веслами проходим к воде, они только чуть поднимают головы с желтыми опознавательными знаками. Плотва перестала
клевать, но мы и не очень жалеем. Мы снимаем в лодке рубашки и, чуть шевеля веслами, затихаем, говорим друг с другом только глазами. Тихая заводь в курском лесу, конечно, не Амазонка, анаконду тут не увидишь, но кое- что мы с Володькой все же увидели. Мы
Середина лета. Окошко открыто настежь. А дорожка от дома ведет в пахучее разнотравье.
видели: плыл бобер. Он вылез на берег возле коряги и стал смешно чистить лапами шубу. Глаза у бобра стариковские, и мы подплыли почти вплотную. Бобер испуганно бултыхнулся и так по воде хвостом маханул, что в нашу лодку залетели холодные брызги. За поворотом воды в зарослях тоже бултыхнуло. Володька повел рукою и растопырил пальцы. Я понял: их тут штук восемь.
На песчаной отмели в прогретой воде в полдень купались трясогузки и воробьи. На земле виднелись следы двух лосей. «Они тут переходят речку». Мы караулили, но лосей не увидели. Зато увидели у воды два любопытных глаза. Володька выпрыгнул, и через минуту в лодке у нас сидел подросток-енот. Он первый раз, наверное, увидел воду, в первый раз видел людей. Сжался в комок, но держался с достоинством. Володька сосал укушенный палец, а я греб к дому. С этого дня нас в комнате стало трое. Енота мы поселили в шкафу. Он пожирал яйца и рыбу и рос так быстро, что через семь дней мы боялись к нему притронуться. Расстаться с пленником было жалко, но в комнате стало попахивать зоопарком. Пришлось отвезти, выпустить в лес.
Вечерами мы сидим на поваленном дереве у воды и слушаем, как поют ко-
207
зодои. Р-р-р-р-р-р... Непохоже на песню, а слушать приятно. Весь вечер р-р- р-р-р-р. Летает козодой близко, почти цепляет Володькину голову, нырнет и снова кверху летит. Чем мы ему полюбились? Володька успешно решает эту задачу: «Мошек около нас ловит». Над водой с тонким писком порхают летучие мыши. Володькин отец принес из погреба молока, присел, фонарь на сучок повесил. Сейчас же у фонаря появился рой мошкары. «Гляди...» — шепчет Володька. Из темноты на армию мошек пикирует огромная стрекоза. Минута — опять пикирует, опять, опять... Слышно, как шелестят прозрачные крылья. Даже Володькин отец от любопытства привстал. Никак не можем разглядеть момент, когда охотник хватает добычу...
Ночь. Р-р-р-р-р-р... Под эту песню мы идем с фонарем к дому. «Дороги в лесу просохли. Вы бы завтра за хлебом в Ка- пустищи смотались...» — говорит Володькин отец.
Пьем молоко. В открытое окно слышно: чуть трепещут листья на верхушке осины и кричит перепел. Пахнет летом.
«Дядь Вась, а кто изобрел велосипед, ему премию дали?» Я понимаю Володькин вопрос, потому что и сам не нарадуюсь гонке на двух волшебных колесах. Рубашки у нас надуваются парусами. Березы расступаются, летит навстречу дорога и, как при всякой быстрой езде, хочется петь.
До Капустищей нам ехать километра четыре, но мы нарочно делаем крюк и раза в три удлиняем дорогу. Вернее, мы едем почти без дороги, лугами, еще неделю назад пестревшими разнотравьем. Хрустят под колесами валки подсохшего сена, хлещут по спицам прутики ивняка. Разомлевшие от жары, испуганные гусыни поднимают головы и провожают нас строгим шипением. Спутанные лошади смешно прыгают и ржанием на всякий случай зовут жеребят поближе. Взлетают длиннохвостые желтые трясогузки. Мы едем, едем. Когда ноги немеют, делаем остановку, валяемся на траве, жуем кислые, уже постаревшие прутики конского щавеля. Возле опушки на дубовых кустах Володька ловит огромного с рогами, как у оленя, жука. Потом минут двадцать мы суетимся, снимаем пестрого, разнаря- женного удода. Он, видно, только что выпрыгнул из гнезда, летать еще не умеет, но бегает быстро, а когда остановится — смешно кланяется, достает длинным клювом до самой земли.
Все это мы видели возле реки, в лесу, на лугах. И это лишь малая часть всего, что мы подсмотрели с Володькой.
209
Переправляемся на пароме. Делаем еще один крюк, чтобы поглядеть на старую церковь, в которой четыре дня прятался вор, обокравший сельпо в Капустищах. Сидим на горячем могильном камне с надписью: «Поклонитесь усопшему Герасиму Чернецову» и глядим, как по Сейму, то пропадая, то появляясь между деревьями, плывет большой катер с баржею на буксире. Нам осталось проехать в сельпо мимо белых, крытых красной черепицей домов, но Володька заметил аиста у воды. Мы проследили, куда полетел аист, и минут через десять уже стояли у старого вяза с гнездом на верхушке. Две птицы трещали клювами, нагибались и поправляли что-то в гнезде. Потом одна улетела. Володька сказал: «Один раз видел — аист нес ужака...» Это сообщение нас задержало. Стали лагерем в стороне от гнезда и приготовили аппараты — почему бы и сегодня аисту не принести птенцам ужака? «Представляешь, Володька, снимок?!» Володька оценил важность задачи.
Час ждем, другой ждем. Аисты трещат красными клювами, поочередно летают за речку, но ужей не приносят. Три часа ждем. Плюнуть бы и поехать, а вдруг как раз принесет?..
В этот день аисты ужака не поймали. Мы спрятали в рюкзак аппараты, купили в крайнем дворе огурцов и, закусив, снова воспрянули духом. А что если глянуть, что там в гнезде? Я снял сандалии и полез. На середине пути понял: надо вернуться — слишком высоко. Но легко ли так опозориться!.. И я продолжал лезть. Аист слетел с гнезда и сел по соседству на грушу. Он стоял на одной ноге и не сводил с меня глаз.
Гнездо было похоже на большую кучу мусора. На мусоре сидели четыре покрытых белым пухом птенца. Я сделал снимки и провел в гнезде небольшие раскопки. Вот что я обнаружил: гу¬
синое перо, кусок газеты «Советский спорт», детский носок, сухую лягушиную лапку, обертки конфет, солому, кусок облезлой пленки от кинофильма «Анна на шее», страницу из учебника алгебры и еще всякую всячину, а сбоку, в прутьях — два воробьиных гнезда с птенцами. Раскопки прервал голос на горке: «Ах, окаянные!» Я увидел бабку, бегущую с коромыслом наперевес, и стал быстро спускаться, чтобы самому принять бой. «Ах, окаянные! Они что, вам мешают?» Я спустился, когда находчивый Володька уже потушил пожар: «Это, бабушка, для науки...» Старуха поверила и даже сочувственно оглядела мою разодранную рубаху. «А я думала, ребятишки... Черногузы к нам девятый год прилетают».
Мы вспомнили про хлеб и стали с бабкой прощаться.
на дверях сельпо висел большой красивый замок. Но продавец жил близко, и мы кинулись продавцу в ноги. Продавец узнал Володьку и дал нам четыре буханки пахучего теплого хлеба...
«Да где же вы пропадали?!» — всплеснула руками Володькина мать.
Пришлось рассказывать все по порядку.
Потом были еще хорошие дни. А в конце отпуска опять пошел дождь. Мы сидели под крышей на сеновале и вспоминали. «А бутылка?» — сказал Володька. Он сбегал и принес засмоленную бутылку с письмом. «Пустим, а?» Под дождем мы пошли к лодке и поплыли к Сейму, мимо гнезда зимородка, мимо «енотной отмели», мимо плотвин- ного места... Бутылка поплыла, чуть качаясь. Стадо гусей посторонилось, и бутылку вынесло на течение.
Кто-нибудь подберет и откроет бутылку. Может, это случится в близком селе на Сейме, может, в старом городе Рыльске у переправы, может, у сахарного завода, а может, и еще дальше — Сейм впадает в Десну, Десна течет в Днепр, Днепр — в Черное море... Письмо в бутылке забавное и немного грустное, потому что писалось в дождливый, пасмурный день. В письме указаны наши с Володькой координаты и есть обещание поделиться маленькой тайной, которую знают пока что два человека — Володька и я.
7965 г.
□
ЯНТАРЬ
После ветреной ночи мы вышли на берег Куршской косы поискать «на счастье» янтарь. И повезло — вот у меня на ладони медового цвета прозрачный камешек величиною с орех. Янтарь относится к числу самоцветов, но камнем называют его условно. В обычной воде он тонет, в морской же — плавает. Именно море тысячи лет выносит янтарь на берег. И самый древний способ его добычи — сбор у кромки воды.
Сборщики янтаря знают: искать его надо после хорошей бури. Вода будоражит морское дно, вымывает куски янтаря, мелкие и большие. Подобно редким золотым самородкам, есть находки весом до десяти-двенадцати килограммов. Большие бури в Прибалтике называют «янтарными». Одна из них в 1862 году сразу выбросила на берег около двух тонн самоцветного камня.
Интерес к янтарю восходит к заре человечества — на древнейших стоянках людей постоянно находят украшения и амулеты из янтаря. В разное время к янтарю относились по-разному. Древние прибалтийские жители использовали его как топливо, потом наступило время, когда «морской камень» ценился по весу золота. Три с половиной тысячелетия назад украшения из янтаря носили египетские жрецы и фараоны. Позже янтарь из Прибалтики стал расходиться по всему свету. Торговые пути, по которым его везли, назывались «янтарными». Ценился янтарь как украшение и как лечебное средство. (По-литовски «гинтарис» значит «защищающий от болезней». Современные исследования подтвердили целебные свойства янтаря.)
Сбор янтаря на берегах Балтики всегда держался под строгим контролем. «До 1828 года в Кенигсберге был штатный палач, исполнявший смертные приговоры за самовольный сбор янтаря». Янтарь в цене и поныне — украшения из него, бытовые поделки и произведения искусства пользуются неизменным, устойчивым спросом. И море продолжает дарить этот камень. Подсчитано, в среднем за год балтийские воды вымывают со дна 36-38 тонн янтаря. Всего же за многие годы море отдало берегу примерно 125 тысяч тонн окаменевшей смолы.
Долгое время природа янтаря была неизвестной. Древние полагали, что это застывшая моча животных. Считали та-
210
кже, что это продукт жизнедеятельности лесных муравьев; окаменевший мед; вещество, «образованное солнцем из морской пены»; некое выделение китов, подобное амбре; нефтяное образование... Во времена Ломоносова шли еще споры на этот счет. Но сам ученый уже твердо знал и писал об этом: янтарь — окаменевшая смола древних деревьев. Стоит янтарь подогреть, как почувствуешь характерный запах сосновой смолы. (В церквах Руси янтарь применяли для благовоний и называли «морским ладаном».) Современный анализ показал: окаменевшая смола содержит сорок сложных органических соединений, в основе которых лежат углерод, кислород, водород.
Янтарь проницаем для газов и жидкостей. Кипяченьем в льняном и сурепном масле повышали прозрачность камня — жидкость вытесняла пузырьки воздуха. Электричество янтарь не проводит, но сам его возбуждает. В этом легко убедиться, если потереть кусочек смолы о суконный лоскут. Древние греки называли янтарь электроном. Из прозрачных кусков янтаря, было время, изготовляли очки, оптические призмы, увеличительные стекла.
Сегодня янтарь используют исключительно как украшение. В дело идут его природные формы, но термической обработкой форму, цвет и прозрачность древней смолы можно менять. Эталоном ценности всегда считался цвет янтаря. В Китае и Японии когда-то высоко ценился камень вишневого цвета. Сейчас лучшим цветом считают лимонно-желтый.
Есть еще одна ценность окаменевшей смолы. В прозрачных кусках янтаря довольно часто можно увидеть замурованных насекомых — жуков, комари-
Жаркое лето даже из старых сосновых построек выжимает смолу...
Смоляной саркофаг сохранил облик мухи, жившей миллионы лет назад.
211
ков, мух, стрекоз, муравьев, а также побеги и листья растений, цветочные лепестки и пыльцу, волос животных, паутину и перья птиц. Мода на такие включенья в смоле заставляла платить громадные деньги. Известна сделка: финикийский купец за «камень с мушкой» отдал 120 мечей и 40 кинжалов.
Но куда более ценными оказались включенья в смолах для познания жизни на нашей планете. Установлено: янтарь образовался сорок-пятьдесят миллионов лет назад. В то время в северной части Европы — на территории нынешних Швеции, Финляндии, Карелии и Кольского полуострова — произрастали пышные субтропические леса, состоявшие из сосен, туи, секвойи, платанов, кленов, пальм и диких бананов. Лес оплетали лианы, пестрели повсюду цветы, скакали по веткам белки. Как и нынче, стучали по древесным стволам дятлы, порхали синицы, мириады насекомых летали и ползали в жарком «янтарном лесу».
Огромные сосны — их было тут двадцать видов, — залечивая раны и трещины, обильно выделяли смолу. Она повисала на ветках большими янтарными каплями, образовывала наплывы в разломах и на коре. Насекомое, залетевшее на смолу, становилось ее пленником, бальзамировалось, замуровывалось. Было это сорок — сорок пять миллионов лет назад. Голова кружится от попытки мыслью постигнуть даль времени. Все обратилось в прах — истлели деревья «янтарного леса», стали землею плоть и кости животных. А нежные, хрупкие существа к нам «долетели»! Как будто вчера увязла мушка в смоле — видны ее тонкие ножки, перепонки на крыльях. В янтаре сохранились даже мелкие волоски насекомых, даже тончайшая паутина и на ней паучок.
Вечная мерзлота помогла сохранить до наших дней тела мамонтов, но эти животные жили «недавно» — каких-нибудь десять-пятнадцать тысяч лет назад. Тут же сорок миллионов лет — человека на земле еще не было. Янтарь донес к нам детали далекой, загадочной жизни, помог воссоздать облик леса, его породившего (двести разных растений!), а также мир мелких животных, в нем обитавших. Три тысячи видов членистоногих — жуков, пауков, муравьев, термитов, мух, комаров, бабочек — дошли до нас заточенными в янтаре. Тщательное исследование показало: большинство из животных имели те же формы, что и сегодня... Таков почтальон из далеких времен.
□
ДЕНЬ В СЕНТЯБРЕ
После первых осенних ненастий оно приходит как утешенье — теплые тихие сине-желтые дни, белая паутина на борозде, дневные росы в тени и летняя сухость на солнце, посветлевшие воды, просветленные дали... Бабье лето. Даже и в словарях встречаешь два этих слова о двух-трех погожих неделях в сентябре — октябре, которые дарит природа средним широтам земли. (В Северной Америке — «индейское лето».)
Все в это время уже готово к движению в зимнюю даль. Но все как будто присело перед дорогой — собраться с мыслями, тихо взгрустнуть или в час- другой, встрепенувшись, доделать то, что было упущено в слякотный день. В садах жгут листья, на огородах скрипят капустой, у дома — стук молотка, на дорогах торопливая гонка машин, груженных картошкой и свеклой. Пахнет нелетним дымком, дразнящей водной травою, дубовым листом, грибами...
«Бабье лето живет на опушке», — сказал однажды лесник, предоставив мне докопаться до смысла его наблюдений. А состоят они в том, как я теперь понимаю, что в пору погожего листопада нет места для глаз привлекательнее, чем граница леса и поля. Ты видишь даль, залитую солнцем, с зелеными полосами озимых посевов, с кораблями стогов, крышами деревеньки, и тут же у тебя над плечом золоченые стены царства деревьев. Прямых линий природа не любит. Граница леса и поля причудлива, как морской берег. Тут есть заливы и бухты, есть острова из берез, из огненно-красных осин, диких груш и боярышника. Кое-где в поле выступают дубы-одиночки, а в понижениях — ветлы и ольхи. Тут, на границе света и тени, деревья, как на витрине, — одно к одному. Весной и летом опу- 212 шка красками не богата — лишь зелень
разных оттенков. Теперь же — буйство теплых тонов, узоры сосен и елок шиты по солнечной, светлой канве, а недра леса при золоченых воротах опушки особо таинственны и манящи.
Все живое в эти погожие дни потянулось из чащи к опушкам. Пищат синицы у трухлявого пня. Божьи коровки снуют по желтым коврам. Облетая опушку, прокричал ворон. Скворец на дуплистой ветле поет так же самозабвенно, как в мартовский день. Сойка, не заметив людей, нырнула с верхушки ели, пытаясь в теплом стоячем воздухе изловить стрекозу. Почти до земли кувыркалась, но неуспешно: большая
стрекоза-коромысло, слюдой сверкая на солнце, продолжала неторопливый праздный полет.
Ветер еле заметный. Его выдает мерцающий трепет осиновых листьев да полет пауков на ослепительно белых нитях. Плавно кружится в синеве коршун. Солнце просвечивает его маховые перья, и кажется, птица принарядилась к погожему дню.
Встречный грибник говорит:
— Бабье лето...
— Да, лето...
Больше говорить и не нужно. Главной радостью мы поделились...
День короток уже по-осеннему. И все
Бабье лето. Пора желтеющих листьев, сверкающей паутины, посветлевшей воды и синих, прозрачных далей.
же много еще успеваешь увидеть. Видишь кротовые свежие кучи возле болотца. Шумливая стайка щеглов опустилась на бурьяны. Три молодых статных лося перебежали поляну возле опушки. И наконец, на пути уже к станции редкая встреча — кедровка! Размером с дрозда, длинноносая, в крапинках птица непугливо прыгает рядом с тропою. Я потратил катушку пленки, снимая залетную сибирячку. Подпуская человека на пять шагов, птица не проявляла ни малейшего беспокойства, деловито хватала в траве не знаю уж что — семена ли, козявок? Кедровка в наших местах — не частая гостья. За свою жизнь я видел ее раз пять. И всегда это было вот так же в погожую осень.
В электричке мы говорили об этой сибирской птице, о свинушках и сыроежках, о бабьем лете.
— А что это — бабье лето? — спросил вдруг мальчик, сидевший с охапкой кленовых листьев на коленях у бабки. — Это твое, «бабушкино лето», да?
Явно довольная толкованьем хорошей погоды, бабка вздохнула, обращаясь к соседке:
— Лето — было и нету. Все как во сне: весна — осень, весна — осень... Как электричка, жизнь проскочила...
В тамбуре под заклинанье магнитофона «Ах, лето...» обнималась парочка в джинсах. Два грибника у двери, запуская руки в корзины, выясняли первенство по числу рыжиков. Мальчишка на коленях у бабки лукаво протянул контролеру кленовый лист. Контролер с нарочито серьезным видом разглядел лист на свет и деловито лязгнул шипца- ми. Все засмеялись, стали советовать сохранить проверенный «билет» на память. И опять пошел разговор о грибах, об улетающих птицах, о хорошей погоде и о том, что теперь уже со дня на день следует ждать и дождей.
Бабье лето... На языке синоптиков — это «устойчивый антициклон, регулярный в Северном полушарии в сентябре — октябре».
□
213
Был пасмурный день в сентябре. В недвижном воздухе стояла водяная мелкая пыль. Яруса побуревших кустов, куртины деревьев и стена леса друг от друга отделялись белесой дымкой. То, что было поближе, густо чернело. Остальное только угадывалось и постепенно сливалось с хмарью. Было так тихо, что в промежутках между ударами редких капель по лопухам мы слышали, как по стволу елки с шорохом бегает поползень.
Безлюдье обостряет внимание, и я почувствовал: кто-то наблюдает за нами. Повернувшись, мы увидели лося. Нас разделяла полоса убранного поля. Лось не двигался. Мы тоже замерли. Так продолжалось минуты три. И тут я вспомнил, как егери осенью подзывают лосей. Я сделал ладони трубой, зажал пальцами ноздри и выдохнул стонущий горловой звук. Лось встрепенулся, поднял выше голову и, когда я позвал еще раз, выскочил из кустов на жнивье. Еще один звук — и лось кинулся к нам, но не прямо, а чуть в обход, чтобы скорее достигнуть крайних кустов. Много раз я видел лосей, но почему-то этот запомнился больше всего. Он был хорошо виден. Темное тело, казалось, плыло над белесой стерней. Длинные ноги легко несли огромного зверя.
Остановился лось сразу, как только пересек поле. Теперь его отделяли от нас шагов пятьдесят. Прежде чем позвать еще раз, мы отступили к деревьям. Я заставил спутника влезть на березу и почти сразу, уронив фотокамеру, кинулся вслед за приятелем: озадаченный лось стоял шагах в десяти от березы. Потоптавшись, он отступил на старое место и стал поддавать головою мокрые ветки. Потом, видимо, чувствуя себя победителем, тихо двинулся в лес. Но стоило прыгнуть с березы и издать стонущий звук, как зверь опять был уже рядом...
Около часа мы дурачили лося. Мы отпускали его глубоко в лес, но три- четыре призывных звука — и зверь опять появлялся. На чистом месте возле березы он, конечно, хорошо раз¬
ПОДОЗВАТЬ ЗВЕРЯ...
личал нас. Но жажда помериться силой с соперником все заглушала...
Существует много способов подзывать к себе птиц и зверей. Трубными звуками осенью подзывают оленей. Маленьким инструментом из полой гусиной кости скликают в поле под сетку перепелов. На манок хорошо идут рябчики. Искусным кряканьем побуждают сесть на воду селезней. Волков подзывают подвывкой. Есть способ охоты «на вабу» (вабить — значит звать голосом). Умнейший зверь волк, но тоже попадает в ловушку...
Легче всего подманить животных в пору любви. Призыв самки или голос соперника «лишает влюбленных рассудка». Но попробуйте подражать стуку дятла в лесу. Вы увидите, сейчас же появится пестрая птица. Она прилетела узнать: «Кто это смел посягнуть на мои охотничьи угодья?» Берестяным пищиком охотник, одетый в белый халат, подзывает на выстрел лису. Лиса пропустит мимо ушей множество звуков. Но писк мыши в голодное снежное время ее обязательно остановит. Я знал охотника, который подходил к сторожким тетеревам, кувыркаясь и делая разного рода нелепые движения — тетеревов держало на месте любопытство.
Способы подзывать к себе зверя известны людям давно. Среди охотников, натуралистов и пастухов я встречал подлинных чародеев. Василий Александрович Анохин в Хоперском заповеднике легко подзывает многих животных. Я видел, как он на спор поймал ночью сову, искусно подражая писку и шороху мыши. В Риге жил талантливый натура- лист, седой старик Карл Мартынович Григулис. Он созывал птиц дудочкой. Птицы садились человеку на плечи и даже на самую дудочку...
□
ЛИСТОПАД НА ХОПРЕ
Равнина. Поля пшеницы, кукурузы и сахарной свеклы. По равнине медленно течет речка Хопёр. По берегам — лес. Птицы, летящие высоко, этот лес считают, наверное, островом и непременно на этом острове делают остановку. Птицам хорошо видно реку и четыреста мелких и крупных озер по лесной пойме. Весною озера сливаются в одну большую воду с Хопром. Теперь же, осенью, каждое озеро — само по себе. И все озера вместе спрятаны в зарослях камыша, осинника, вязов, дубов, бересклета, крапивы, терновника, хмеля, лозинок и сосен. И все это с конца сентября охвачено красным пожаром, все глядится в тихую воду.
Степной остров служит приютом летящему в дальние страны, и невозможно перечислить всех, кто живет у озер постоянно. Зубры, олени, бобры, барсуки, странный зверь выхухоль, множество всякой птицы, редкая в этих местах лесов колония журавлей. И все это под боком у человека. Осенью услышишь сразу олений рев и гудение автомобилей; гомон вечерней улицы в Алферовке перебивается журавлиными криками.
Столица лесного острова — хутор Варварино — белеет избами и светится окнами у края леса и края полей. Тут же озеро, и река тут же, под боком. На реке переправа — большая лодка, землянка на берегу, костер возле землянки. Перевозчик по осени ловит
214
щук, и его надо звать долго и терпеливо. Минуты ожидания не огорчают. Глядишь, как медленно плывут по воде желтые листья, собираешь ежевику в ладонь, слушаешь неторопливую речь парня-попутчика.
— Где же ты пропадаешь? — говоришь перевозчику.
— А это видал? — вместо ответа говорит дед и нагибается в лодку. В темноте белеет брюхо огромной щуки...
По дороге к дому слышишь свист крыльев и тяжелые шлепки в воду. Перелетные птицы делают остановку на лесном острове.
Живу в большом опустевшем к осени доме. Ночью приходить в него страшновато. Он как старый брошенный замок. Скрипят и глухо повторяют шаги половицы. Скрипят двери, скрипит рама в комнате с окном, выходящим к лесу, скрипит некрашеный стол у меня в комнате. И не поймешь: дом обрадовался или недоволен твоим приходом?
Только одно существо шевельнулось в ответ на шаги. В доме живет черепаха. Если открыть двери, она ползает из комнаты в комнату, но я застаю ее всегда в одном месте — около ножки стола.
— Ну что, скучно одной?
Черепаха моргает и прячет голову в панцирь. Маленькую, не больше карманных часов черепаху я поймал вечером возле реки. Услышал шорох
Хопер течет по равнине, опушенной ольхой, лозняками, дубами.
ивовых листьев и накрыл картузом. Я ужинаю, сажусь за бумаги. Черепаха в это время сидит на столе. Странное существо, не знает края стола, и мне краешком глаза надо следить за ее черепашьим шагом.
В полночь у дома кричит сова, ее беспокоят освещенные окна. Скрипит неплотно прикрытая рама, и слышно: по опушке ветер гонит сухие листья. Холодно. Одно одеяло уже не греет. Кидаю сверху тулуп и тушу свет. Над кроватью висит чучело коршуна. Луна забирается в комнату, расстилает под окнами три синих половика, синей точкой отражается в стеклянном глазу коршуна. Я засыпаю. Черепаха всю ночь бродит по бесконечно длинному коридору, ищет выход из дома.
Утром дом уже не кажется мне таинственным. Иду в соседнюю комнату, выбираю из кучи арбуз, беру яиц из ведра, режу ломоть черствого хлеба... Закрываю окна. Наливаю для черепахи воды в щербатую сковородку...
У порога ночь собрала желтую кучу листьев. Листьями укрыты дорожки от дома. Дорожки ведут к озерам и неизвестно куда по лесу...
Странная была встреча. Олень глядел на меня и не спешил убегать. Обычно оленя редко увидишь. Тысячи лет научили животных: от встречи с человеком ничего хорошего не бывает. Олень, еще не родившись, знает: запахов дыма и человека надо бояться. Такие знания получает в наследство каждое из животных, но только самую малость. Остальное добывай сам. Больше знать будешь — легче выжить. Этим и объясняется давно замеченное любопытство зверей. Все новое, непривычное пугает, но и держит зверя на месте. Любопытство!
.. .Два сливовых глаза глядели на
215
меня не моргая. Ноздри тянули воздух и выпускали две струйки морозного пара. Олень стоял задом, круто повернув голову. Я почти не дышал, не шевелился. Оленю надоела неясность. Он шаркнул передней ногой и опять замер. Не знаю, чем бы кончилось единоборство двух пар любопытных глаз, но откуда-то появилась сорока и ошалело застрекотала. А это в лесу сигнал: опасность! Сигнал сорвал с места пружину из тугих мускулов. Олень прыгнул в сторону, задел ореховый куст. Сверкнуло между осинами оленье «зеркало», стихли удары копыт по сухим листьям. Сорока с минуту не могла успокоиться, прыгала по осине и стрекотала. Лес на два километра вокруг по этому крику знал: что- то случилось.
Журавли улетели. Вечером долго кружились над лесом, над хутором — то смешаются, как грачи, то перестроятся треугольником. Утром их уже на было. А сегодня мы опять услышали журавля. Он летал над полем неубранной кукурузы, повернул к Вьюнову болоту, опять явился над полем и все время кричал.
— Тот самый, — сказал местный егерь Василий Анохин. — Самку я на чучело подстрелил, а он все лето тоскует, зовет, от стаи теперь отбился...
Пошел разговор о привязанности в природе.
— .. .В особенности у волков замечал. Спарились — все: любовь на всю жизнь. Помню случай: убили на приваде волчицу. Глядим, что за притча: мясо нарвано, а не съедено. Я ночью вздумал подвыть. Волк отозвался и на меня вышел, посчитал, что волчица зовет. Ну и попал под ружье. Поглядели — а волк-то беззубый. Ни одного зуба. Волчица мясо ему рвала...
Над краем леса кружились опавшие листья, шуршала кукуруза, и кричал одинокий журавль.
Радость у человека может вызвать большое событие и незначительный случай, мимолетное слово, звук, тишина, цвет неба, форма резного наличника на окне мелькнувшей по дороге избы...
Сегодня я бросил рюкзак и присел на ворох нанесенных ветром в лощину листьев. Около самого уха дребезжала погремушка кузнечика. Запоздало серебрились шары одуванчиков. Клен, вязы, дикая груша освещали поляну красным и желтым светом. Разворошенные листья источали запах вина. Красные сережки семян неподвижно висели на облетевшем кусте бересклета. Все было опущено в тишину и перепутано паутиной погожего дня. Я услышал шаги. Думал, идет лесник, косивший у речки осоку. Оглянулся — по листьям прыгает дрозд. И так резво, небоязливо, что я подумал: сама Радость прыгает по поляне.
Мы ловили хохуль. Ловля такая: в воду перед норой ставят большой сачок и начинают «топтать», выгонять зверя. Мы так натоптались за день, что еле добрели на кордон Серебрянка. Лесник, хозяин кордона, доил корову. Двое мальчишек сгребали в кучу сухие листья.
Хозяин нарезал хлеба, принес меду и молока.
— По-прежнему один хлопочешь?
Лесник грустно кивнул.
Мы знали: человеку кроме лесного дела приходится и стирать, и хлопотать в огороде, корову доить, возиться с посудой. Все хозяйство на нем. И двое мальчишек растут.
— Ей тяжелее... — Лесник кивнул на дверь, прикрытую ситцевой шторой.
У жены лесника ревматизм... Уже три года не поднимается.
Лесник полотенцем попытался разогнать мух, устало сел возле окна, и я первый раз увидел его улыбку. Во дворе маленький шустрый котенок крался к голубю. Большая жирная птица клевала просо и совсем не боялась охотника. Котенок подполз, прыгнул. Голубь взлетел, но тут же сел и продолжал собирать зерна. Котенок опять пополз.
— Нюра, ты погляди, погляди в окошко, — громко сказал лесник.
За ситцевой занавеской послышался шорох, заскрипела кровать.
— Вот разбойник... — Голос у женщины был тихий и счастливый в эту
минуту. — Митроша, ты бы сказал ребятишкам, пусть загонят телка, а то опять забредет на капусту...
Котенок сел возле голубя и стал смешно умываться. Скрипнула кровать, и все утихло за ситцевой занавеской...
В лесном доме жило счастье и поселилась теперь беда.
Косо, пополам с дождем сыпались листья. Чай, огонь в печке и сухая рубашка были где-то километров за восемь. Лесные лужи хлюпали под ногами, и мокрые листья прилипали к щеке. Тепло сохранилось только под рюкзаком, на спине.
И вдруг дорожка, петлявшая в холодном молодом сосеннике, вывела на поляну под большую рябину. Ничего не изменилось. Летели листья, холодные капли падали с веток. Но я стоял у рябины и чувствовал: согреваюсь. Большие пятна красного цвета излучали тепло.
«Тебе признаюсь. Я стрелял в человека...»
Мы лежим с егерем в шалаше, в самой глухой части лесного озера. Тут живут барсуки, совы, еноты, в этих кварталах ревут олени. Мы решили заночевать, чтобы утром поснимать лосей и оленей. Ночь безлунная. В треугольнике шалаша видно звезды. Слышно, как падают листья, далеко в темноте кричат совы и хрустит сухая трава у лошади на зубах. На поляне — туман. Видно только спину и голову лошади.
«Тебе признаюсь, — говорит лежащий рядом со мной человек. — Был у нас бригадир. Вся деревня его не любила. Однажды вечером слышу, отец с матерью говорят: «За что же он так: издохни, говорит, и дети пусть твои передохнут». У отца, чувствую в темноте, — слезы. А я-то знал, чего и отец не знал, может быть. Я видел, как бригадир к матери приставал. Он ко всем приставал, пьяный, глаза красные... Мне было одиннадцать, но я уже все понимал. И было у меня ружье двадцать восьмого калибра...»
Рассказчик умолкает на полминуты. Мы слушаем, в какой стороне заревели олени, и кутаемся поплотнее в тулуп.
«Вот... Двадцать восьмой калибр. Я стрелял куликов, а тут пулю сковородой накатал и стал стеречь. Как раз вот тут, на озере, по соседству и подстерег. Гляжу из кустов: бригадир крадучись выбирает чужую сетку. Я прицелился. Руки дрожат. Щелк! — осечка. Еще раз — осечка. Еще раз... Бригадир услышал, наверное, щелчки, подозрительно глядит на кусты и потихоньку начинает грести в залив. А я почему-то сильно обрадовался, что осечка. Поднялся. Отошел в лес. Дай, думаю, еще раз щелкну. Взвел курок... До сей поры выстрел звенит в ушах. Тот же патрон. Я даже не открывал замок у ружья, просто четвертый раз взвел курок. Пуля срезала сук у сосны и застряла в
другой сосне. Нам повезло обоим. Он остался. Ия... Как бы я жил... Только потом понял, какой камень мог бы носить... По дороге домой встретился с бригадиром. «Ты, — говорит, — никого тут не видел?» Я сказал: «Нет, не видел». Шли по лесу вместе. Он мол¬
чал. И я молчал. Через неделю бригадир дешево продал хату и уехал из хутора...»
Тихо было в лесу. Мы слушали, как бегают мыши по листьям и ревут справа от шалаша олени. Уснули только под самое утро.
Подаренный стариком арбуз я расколол пополам. Одна половина пошла на стол, другую вынес во двор и приспособил на подоконнике. Первым арбуз «открыли» осы и муравьи. Потом появилась пчела. Улетела тяжело нагруженная. Вернулась и привела с собою не меньше десятка подруг. Появилась синица. Огляделась. Схватила семечко и тут же на подоконнике раздолбила. Хитрые воробьи следят за синицей. Видят: опасности никакой. Прыг-прыг, и пошел дележ красной мякоти. Синиц уже пять или шесть, тенькают и беспрерывно снуют с ветки на подоконник. На сухом тополе появилась сорока. Наблюдает: что мелюзга возится? Сорока глаз не спускает с арбуза, а ниже слететь боится, кричит, хвостом дергает. И уже на версту все известно: идет пир возле дома. Прилетел поползень, явился сердитый шершень, явилась мохнатая старушка-бабочка. Уже четыре сороки сидят на макушке, и ворона издали с крыши сарая пристально наблюдает... К вечеру от арбуза остался один черепок. 217
Где на земле для жизни самое хорошее место?
Володька вырастал на Хопре. Когда получил паспорт, сказал:
— Всё. Землю вдоль пройду и поперек пройду. Все места погляжу, а какое место больше понравится, там и жить буду.
Вдоль прошел до самого Владивостока. Работал лесорубом, потом рыбаком. Поперек прошел до Ташкента. Работал егерем и пастухом. Еще раз поперек прошел до Кавказа — работал художником в заповедном музее. И наконец нашел-таки самое лучшее место для жизни. Место это на речке Хопер, скрытой от мира широкой полосой лозинок, вязов, камышей и черемухи. То есть то самое место, где ловил в детстве Володька стрекоз картузом, где ежи шуршат на опушке прошлогодними листьями, где осенью речка пахнет дразнящей душу травой, где олени трубят и куда обязательно каждой весной возвращаются журавли.
Теперь Володьку надо уже называть по отчеству, потому что есть у него жена и дети. Я называю его Володей по старой дружбе. Характер у человека ершистый. С ним ужиться не просто ни жене, ни друзьям, ни начальству. Но за верный глаз, за чуткое сердце, за то, что, объехав землю, он без ошибки определил «самое хорошее место», я люблю его и, когда на Хопер приезжаю, сразу иду к нему.
Дома его застать невозможно. Он или в лугах сено копнит, или в лесу у речки, или с кистями в своей мастерской, пропахшей нафталином, скипидаром и красками. Володька работает в заповедном музее таксодермистом. Есть такая профессия: делать чучела из птицы и зверя. Володькины работы стоят в музее: лось, олени, филин, барсук и несчетно всякой лесной мелкоты. Володькины картины висят на стенах. Особенно удалась «Лоси в тумане». Из области художник был. Глядел на картину и так, и так, и через дырочку в кулаке. «Замечательно, — говорит, — Владимир Павлович, туман у вас получился...»
Стоит в музее очень древнее, запыленное чучело журавля. У Володьки давно есть желание обновить чучело. Все, кто приходит в музей, должны знать: живут на Хопре журавли. Известно, что журавлей на земле все меньше и меньше. И не каждый скажет теперь, что слышал, как кричат журавли.
Володька не может работать в дни, когда журавли улетают. Стоит, подняв голову, а журавли тихо кругами вьются и вьются. Выше и выше. Прощаются. Хотят запомнить родное болото и речку, скрытую от мира полосою прибрежного леса.
Володьке для чучела нужен один журавль. Каждую зиму он строит планы, как сделать чучело, где поставить. В половодье Володька ведет подготовку к охоте. Выследит место, где журавли ночуют, и начинает скрадывать. Сторожкая птица. Потихоньку, где на лодке, где в сапогах по грязи доберется охотник к болоту, и затаится. Садятся на верный выстрел. Но Володька не подымает ружье — когда еще- придется так близко наблюдать журавлиную жизнь? Мерзнут ноги в холодной весенней воде, а глаза ненасытны, глядят и глядят. И вот начинаются на поляне журавлиные танцы. Качаются журавли, приседают. Чем дольше глядит Володька на любовные журавлиные пляски, тем больше пропадает желанье стрелять. Наконец застывшей рукой он открывает стволы у ружья и кладет в карман патроны, набитые крупной дробью...
В заповеднике Володька говорит директору:
— Не выследил. Осторожная птица...
Зимой Володька опять начинает думать, как сделать чучело журавля. А весной все повторяется. Выслеживает. Глядит и... прячет патроны в карман.
Стоит в заповеднике старое, запыленное чучело. А никем не потревоженные журавли каждую осень кружатся, прощаясь с речкой, скрытой от мира широкой полосой степного леса.
Ночью из-за леса неожиданно явилась зима. Непривычно светло. По окну ползают окоченевшие осы. Рыжий щенок с удивлением разглядывает печатный гусиный след. Береза плывет по снежному полю под желтым прозрачным парусом. Зеленые, не облетевшие листья вишенника кажутся сейчас черными. Вода в реке потемнела. Всё растерялось, притихло, всё, кажется, соображает: как же быть дальше? Падают на снег желтые листья. Неубранная свекла отчаянно зеленеет из-под белого одеяла.
Я пошел попрощаться перед отъездом с опушкою леса и встретил знакомого лесника.
— Вроде бы рано зиме...
— Это не снег, это грязь...
Лесник был занят странной работой. С большого столба возле дороги снимал оранжевый щит с надписью «Лес — наше богатство. Будьте осторожны с огнем в лесу». На снегу лежали четыре таких же щита. Лесник прыгнул с лестницы, закурил.
— Зимой пожар не случится? Не случится. Вот и надо снять, чтобы глаз у людей не привык. Глаз у людей ко всему привыкает. А весной перед сушью я эти картинки — на прежнее место. Всякий человек непременно по свежести остановится, прочтет — глядишь, и потушит цигарку...
Это была хозяйская мудрость.
□
218
ПРОВОДЫ ЖУРАВЛЕЙ
Сентябрь в середине был мокрым. Дожди лили три дня. Все живое, кажется, вымокло, вызябло, сгинуло. Про журавлей один из местных жителей нам сказал: «Улетели. Полдня кружились, и видите — стихло».
Мы стояли возле болотца, как пассажиры на станции, прозевавшие поезд. И уже сказаны были утешительные слова: «Ну что же, до нового сентября», как вдруг над полем раздался тревожный желанный крик. Мы встрепенулись. Над мокрым жнивьем, над жидкой осиновой рощицей, над почерневшими стожками соломы неторопливо невысоко летело семь журавлей. Бинокль приблизил их к самым глазам. Большие тускло-серые птицы с черными крыльями, длинная шея и длинные ноги — на одной линии бусинки глаз.
Минут через десять тем же путем так же низко пролетело еще одиннадцать журавлей. Потом еще. И каждый раз тревожно кричавшим птицам туманная даль отвечала трубными приглушенными голосами.
Оставив друзей у машины возле дороги, я схоронился в кустах на линии перелета и стал терпеливо ждать...
Эти места под Талдомом давно облюбованы журавлями. Они тут селятся в непролазных болотных крепях, но малым числом. Зато осенью с больших пространств европейской России журавли собираются тут в громадную стаю. Они кормятся перед дальней дорогой, продолжают обучать молодняк лёту, приобщают его к коллективному бытию. Днем они на полях, на ночь слетаются в пойму, к Дубне, в камышовые и ольховые крепи с мелкой стоячей водой, с пятачками лужков.
Для местных жителей птицы эти — привычные. Журавлиными криками всегда начиналось тут осенью утро, трубные переклички предшествуют ночи. «Журавлиной родиной» назвал это место Михаил Пришвин. «В гостях у журавлей» называется книжка стихов Сергея Клычкова. Речка, в Дубну текущая, называется Журавлиха. А ведь нет ничего на земле древнее названия речек.
Орнитологи это место, однако, открыли недавно. Быть может, число журавлей, сюда прилетающих, увеличилось и стало заметным.
Место это под Талдомом, по всему судя, лежит на какой-то птичьей дороге. Из кустов я вижу пролетную стайку чибисов. Белобокие птицы сидят, вобрав голову, на лужке, отдыхают. Проносятся стаи скворцов. Суетливо кричат в нестройном полете дрозды. Низко перепархивают, курсом на Север, трясогузки. Свистя крыльями, проле-
219
тает стайка чирков. А вот и самый желанный из звуков — верно он назван трубным — летят журавли. Низко и прямо на ольховый мой островок. Трое. Скорее всего семья: мать, отец и не журавленок — уже готовая к путешествию взрослая птица. Но родители еще опекают узнавателя жизни. Заметив в кустах человека, птицы с криком чуть изменяют курс, и я вижу исподнюю черноту крыльев, серые формы идеально приспособленных к лёту тел, темные голенастые ноги...
И вот уже новые крики. Тем же курсом над ольховым кустом пролетает немалая стая — штук сорок. Летят «веревкой», потом образуют шевелящийся клин. Отозвавшись кому-то, снижаются и смолкают.
— Они не улетели. Просто дождь заставил их поменять место...
У кустов появляются двое моих друзей. Шлепая по воде, мы идем низиной к машине.
— Нет, они не улетели. Но надо их поискать. ..
Житель деревни Бучево Виктор Егорович Иванов охотно берется помочь нам в поисках журавлей. На взгорке он просит остановить машину и, сняв картуз, прислушивается, прикидывает, провожая глазами изредка пролетающих птиц, и уверенно говорит:
— На Апсарёвом болоте надо глядеть...
Минут через сорок мы вылезаем из «газика» на пригорке у околицы маленькой, потонувшей в садах деревеньки. В низине между лесом и деревенькой желтеет ячменное поле. И на нем... Я не поверил своим глазам. Показалось вначале: отары серых овец сбились в кучу и тихо пасутся. Это была журавлиная стая.
— Не менее тысячи... — сказал Виктор Егорович, передавая бинокль.
В двенадцать раз сокращает стекло расстояние. Видны подробности полевого птичьего стойбища. Большинство журавлей кормится, наклонив к земле головы. Но в каждой «отаре» один-два непременно на страже. И по опыту знаю: достаточно одному заметить опасность и протрубить — вся огромная стая поднимется на крыло.
В этот день ярко светило солнце. Было тепло и тихо. Желтые краски леса и поля сияли в полную силу. Дождями промытая даль синела у горизонта зубцами леса. А внизу по жнивью ходили серые волны. Журавли неспешно передвигались на поджарых ногах, взлетали и тут же садились. Покрикивали. Это могло значить: кто-то издалека их окликнул родственным звуком. Минут через пять действительно появлялась и плавно садилась новая журавлиная группа, возможно, только что прилетевшая издалека.
Виктор Егорович, наблюдая мое возбуждение, говорит:
— В охотку-то интересно. А мне они с 220 детства известны. Случалось, сидишь с
удочкой в камышах, спускаются — чуть картуз с головы не сшибают...
— А есть, Егорыч, люди — ни разу в жизни журавлей не видали. И не слышали, как кричат...
— Да, положительная птица, — соглашается мой собеседник, привалившись
К пасущимся журавлям подойти близко — безнадежное дело. Но из засидки осторожную птицу рассмотреть удается.
спиной к старой груше. — В молодости, глядя на них, я думал: как бесконечна, велика жизнь! А сейчас вот слушаю — тихая грусть. И такой вот солнечный день за подарок судьбы принимаешь...
По остову брошенной баньки у нас за спиной, на припеке тесно друг к другу сидят красноватого цвета козявки-солдатики. Маленький паучок приводит в порядок на солнце блестящую ловчую сеть. На пожухлых репейниках кормится стая щеглов. И по-весеннему где- то внизу бормочут лягушки. Наблюдая все это, не упускаем из виду поле, покрытое журавлями. Я пробую снять это чуткое сборище птиц. Но точка съемки неподходящая — сплошная серая масса.
— Сделаем так, — предлагает Егорыч, — я обойду поле и с другой стороны легонько их строну. А ты уж тогда не зевай.
Обойти поле, не спугнув журавлей, — это километров семь-восемь. Я приготовился ждать. Но не прошло и четверти часа, как почувствовал: журавли заметно заволновались. В бинокль увидел: в том месте, откуда должен был появиться Егорыч, идут мужчина и мальчик. Они шли дорогой, огибающей поле, и еще не видели журавлей. Но птицы уже их заметили. Громадное серое покрывало на поле заколыхалось. Началась тревожная перекличка. И вот момент: вслед за самыми нетерпеливыми на крыло стала вся журавлиная стая.
Никогда ничего подобного я не видел. Даже в Африке, где скопление крупных птиц — дело обычное. Более тысячи журавлей низко плыли прямо на баньку, возле которой я схоронился. Они, конечно, меня заметили и разделились на два потока. Вся стая возбужденно кричала, и этот хор из тысячи голосов заставлял трепетать на осинах листы.
Журавли, кажется, рады были размяться. Два потока снова соединились, и птицы стали кружиться над полем, плавно, неторопливо набирая безопасную высоту. Не меньше тысячи голосов! Казалось, что-то важное случилось в желто-синем осеннем мире, и журавли первыми это узнали.
Более часа кружились птицы. Успели подойти мужчина и мальчик. Егорыч вернулся, увидев, что журавли всполошились.
— Ну что же, вот так, возбудившись, могут сняться и улететь?
— Не-е. Это у них что-то вроде учебной тревоги — проверяют готовность к лёту. Покричат, полетают и сядут в по- ймб.
Взволнованны были лишь мы с мальчиком. Оба впервые видели этот всполох. Журавли между тем, затихая, спускались в пойму. И когда солнце приблизилось к горизонту, в пойменной дымке мелькнули последние их силуэты...
Две недели после этого дня я позванивал в Талдом друзьям.
— Как журавли?
— Летают. Третьего дня кружились прямо над городом — верный признак: скоро отчалят.
А вот известие от самого Егорыча: улетели. «6 октября не очень шумно снялись и, курлыкая, скрылись. Это значит: осень перевалила к зиме».
Журавлей становится меньше и меньше. И каждая встреча с ними — большая удача и очень большая радость. Мы видим их чаще всего весной, когда прилетают, или теперь вот, когда, покинув родные болота где-нибудь на Мещере, под Талдомом или в пойме Хопра, они караванами двинутся к югу.
На земле обитает пятнадцать видов журавлей. И у всех народов эта птица всеми любима. Брем называет ее «благороднейшей» и сожалеет, что «не может перечислить все достоинства журавля». Их у птицы действительно много — красива, умна, прекрасный летун, безошибочный навигатор, хороший пловец и ходок; птица гордая, осторожная, но не трусливая, с повадками, издавна вызывавшими интерес человека.
Покормившись с утра (болото и поле одинаково подходят для пастбища), журавли по весне предаются занятным играм — красуясь друг перед другом, подпрыгивают, распустив крылья (журавлиные танцы!), подбрасывают вверх и на лету ловят камешки, пучки травы. Все их движения плавны, лишены суеты и исполнены радости жизни.
Людей эти птицы сторонятся, поселяясь в глухих и малодоступных местах. Прилетая кормиться в поля, они держатся бдительно. На Хопре я потратил несколько дней, пытаясь снять журавлей на гороховом поле. Ни разу не удалось! Всегда они вовремя замечали опасность, и я их видел уже взлетевшими — крупные, вольные, недоступные птицы!
Однако прирученный с раннего возраста журавленок обнаруживает поразительную привязанность к человеку — ходит за ним по пятам, проявляя при этом удивительное понимание обстановки. На деревенском дворе эта птица, взрослея, становится «третейским судьей» в разного рода ссорах и потасовках, утихомиривая не только кур и гусей, но даже собак и кошек. При этом журавль ни на мгновенье не потеряет достоинства и уверенного спокойствия. Он верховодит, давая одним почувствовать силу и остроту клюва, других ободряя лаской.
В дикой жизни журавлик с появленья на свет готовится к странствию. Он сразу же много ходит, а научившись летать, летает, понуждаемый к этому старыми журавлями.
Недавно мой друг, отдыхавший на Вологодчине, видел один из уроков журавлиной школы полетов. «Их было трое — две взрослые птицы (явно папа и мама) и сеголеток. Один из старших парил кругами вверху, другой летал значительно ниже. А между ними робко набирал высоту журавленок. Я хорошо видел, как верхний журавль поворачивал голову вниз — за мной, мол, за мной! — а внизу молодого побуждал набирать высоту другой «воспитатель».
В сентябре журавли, молодые и старые, собираются в стаи — сообща кормятся и готовятся к дальнему перелету. Путь журавлей из наших широт лежит в Африку, к верхнему Нилу и на водные отмели Индии. Тысячи километров! Летят днем и ночью. На этих древних путях мы видим их снизу, летящих строевым клином, а ночью и в непогоду слышим их перекличку. Уносят лето...
□
БЕЛЫМ ДНЕМ
Это был маленький эксперимент. Близко к рассвету, когда вовсю уже пели станичные петухи, но по-ночному еще продолжал ухать филин, мы, освещая путь фонарем, нырнули в загон к филину и после минутной борьбы водворили птицу в большую корзину.
Километра два пути в темноте. И вот они — пень на опушке, сухая ветла, два заранее сделанных шалаша. Сажаем Фильку на пень, проверяем крепость привязного шнурка и прячемся в шалаш.
Лес проснулся, как только небо стало чуть серым и на нем проступили контуры нахохлившейся птицы. Первый голос подала сорока. И не просто так себе прокричала спросонья, а известила округу о том, что привычной для всех опушкой нахально, нагло, при свете дня завладел — кто бы вы думали? — филин! Летите и поглядите сами.
И представление началось. Со всех сторон немедленно отозвались: «Летите и посмотрите!» И сразу со всех сторон на опушку, как это бывает у людей
221
Появление филина, да еще где-нибудь на виду, сводит сорок с ума.
при пожаре, в мгновение ока собрались сороки, вороны, сойки, синицы.
В отверстие шалаша нам видно сухую ветлу и на ней ерзает больше десятка самых отчаянных забияк. Остальные, их вряд ли менее сотни, прыгали по кустам, по земле, по крыше нашего шалаша. И каждая птица подавала негодующий голос. Вольный филин, конечно бы, улетел — невозможно выдержать натиск обезумевшей толпы, — но нашему Фильке некуда было податься, и он лишь крутил головой, приседал и изредка щелкал клювом.
Благоразумнее всех в общем гвалте, нам показалось, вели себя сойки. Они не очень кричали, но рисковали садиться к Филиппу ближе других и, наклонив головы, с любопытством разглядывали: «Как же так — днем, а сидит на виду?»
И совсем удивила семейка фазанов, птиц, которым Филиппа как раз и надо было бояться. Но они смело гуськом вышли из плотных кустов и, поглядев с полминуты на странный спектакль, стали, как куры, клевать зерно на площадке у шалаша.
222 Лесной водевиль продолжался часа полтора. Заводилы-солисты в нем непрерывно менялись, но постепенно весь разноперый ансамбль стал выдыхаться. Мы вылезли из укрытий, когда все утихло и Филька стал осанисто озираться. Но, оказалось, с десяток сорок, сойки и стайка фазанов продолжали молчаливо наблюдать необычного гостя. Все они шумно взлетели, а Филька, нам показалось, с большим облегчением нырнул в корзину...
Я много раз слышал: в охотничьих хозяйствах, где надо снизить число сильно вредящих ворон и сорок, их привлекают на выстрел с помощью филина. Маленький наш эксперимент подтверждает: сделать это нетрудно. Ночной сановитый хищник, объявившись на видном месте средь бела дня, всегда привлекает и возбуждает хищников рангом поменьше. Шумным атакам подвергаются, впрочем, и вороны, коршуны, ястреба, одичавшие кошки. Причем не всегда птичий мир видит в объекте своей атаки непосредственного врага, но уже один только облик хищника возбуждает всеобщий протест. В нем нередко участвует множество маленьких птиц (и они обращают хищника в бегство!), но наибольшие страсти разгораются там, где шум поднимают сороки, вороны и сойки, сами готовые прищучить всех, кого только способны осилить.
□
ЗАЧЕМ СОРОКЕ ЧАСЫ?
D коллекции памятных безделушек есть у меня женские часики марки «Заря». Приобретение это не магазинное. Как-то осенью, проходя по опушке, в кусте боярышника я увидел сорочье гнездо. Любопытства ради запустил в него руку и обнаружил занятный скла- дец: расческа, огрызок синего карандаша, осколок бутылки и часы на изящном черном шнурочке. Таким образом «дело», заведенное мною несколько лет назад на сорок и ворон, пополнилось вещественными доказательствами.
Что сорока — воровка, известно давно. Ворует яйца из гнезд, ворует птенцов. Лет десять назад на лесном дворе под Серпуховом мы с другом подозревали в краже куриных яиц из сарая куницу или хорька. Оказалось — сорока!
Столь же воровата ворона. (Не оттого ль и название птицы: вор-она.) Приходилось видеть, как воруют вороны яйца в гнездах бакланов. Одна начинает дразнить, задирать сидящую на гнезде птицу, и, как только та приподнимется постоять за себя, другая ворона хватает яйцо.
Но все это, как говорится, в порядке вещей. Куда интереснее криминальные факты о похищениях птицами ценных и не очень ценных, но блестящих или цветных вещичек. Вот документы моего многолетнего следствия.
В бердянском доме отдыха «Приморье» неожиданно стали исчезать наручные часы. Местные шерлоки Холмсы сокрушенно пожимали плечами — загадка! Разрешила загадку Нина Белов- денко. Ранним утром, открыв глаза, увидела она ходившую по подоконнику сороку. «Гляжу: скок, схватила с тумбочки у соседки часы и сразу на тополь. ..» В гнезде на тополе обнаружили пятеро часов, колечко, полтинник, легкий поясок с пряжкой и полдюжины металлических бутылочных колпачков.
Мой знакомый Владимир Халепа пишет из Еревана: «В гнезде сороки на стрельбище обнаружил одиннадцать гильз, кольцо от гранаты и три металлические пуговицы».
А вот история с неожиданным поворотом сюжета. Н.Семченко (село Каменское на Камчатке) в морозную пору приголубил сороку: стал через форточку выкладывать ей на фанеру возле окошка еду. «Если не положил, стучала в окошко клювом». И вот (как объяснить
Ко входу в шалашик птица шалашник носит множество ярких предметов — цветы, стекляшки, ракушки.
Годились и бельевые прищепки.
это?) сорока стала оказывать покровителю знаки внимания. «Фольгу от конфет принесла, разноцветные стеклышки, бусины. А однажды увидел я на фанере золотое колечко с аквамарином. Повесил объявление: так, мол, и так... Нашлась хозяйка колечка! В доме напротив проветривали комнату, через форточку с подоконника сорока и унесла драгоценность».
Примерно так же ведут себя и вороны. И можно долго рассказывать об украденных чайных ложках, очках, часах, бритвенных лезвиях, бельевых прищепках, тюбиках с краской, рыболовных блеснах, монетах, ключах и прочих соблазнах для галок, ворон, сорок, соек. Но как объяснить эту странность — завладеть блестящим предметом? Никакой ведь практической пользы стекляшки-железки для птиц не имеют. В одной из недавно вышедших книжек о поведении животных я встре¬
тил термин «предэстетический импульс», который следует понимать как зачаток чувства прекрасного у животных. Эта мысль представляется верной. Хохолки, гребни, яркие перышки в крыльях, красные грудки, радужные хвосты в красочном мире птиц существуют не затем вовсе, чтобы радовать человека. Краски и блестки предназначены для птичьего глаза, для глаз пернатой подруги. Она должна оценить красоту эту. И, значит, она должна ее чувствовать! Не этот ли «предэстетический импульс» заставляет наших врановых птиц покушаться на все, что блестит и выделяется цветом?
Размышление это подтверждает своим поведением австралийская птица шалашник. Место для брачной встречи скромно одетый самец этой птицы тщательно украшает. Построив любовный шалаш, он носит к нему ракушки, блестящие крылья жуков, цветы, раскладывает серебристой изнанкой кверху листья растений. Если поблизости оказываются доступные птице предметы человеческого обихода, «дизайнер» жадно хватает их клювом и несет к шалашу. Чем лучше украшено место любовной встречи, те больше шансов у шалашника на взаимность.
Изучая эстетический вкус шалашни- ков, орнитологи в изобилии разбрасывали в зоне их обитания всякую всячину — выбирай! Вот что выбрал один из шалашников: зубная щетка, пуговица, точилка для карандашей, ружейный патрон, шариковая ручка, игрушечный самолетик, тесемка — все почему-то синего цвета, хотя были предметы разных цветов. Другой шалашник свою арену любви украсил только ракушками и прищепками для белья — семнадцать штук, и тоже все синие!
Остается еще сказать, что шалашник — близкий родственник наших ворон и галок. Внимательно проглядывая досье на наших вороватых эстетов, я обнаружил: кроме вещичек, имеющих блеск, они уносят и кое-что ярко окрашенное. Какой же цвет их больше всего привлекает? Оказывается... синий. Расчески, бусины, обрывки пластика, карандаши — преимущественно синего цвета. А вот и прямое сообщенье об эксперименте. «На птицефабрике четыремстам курам породы белый леггорн дали гранулированный корм, окрашенный в голубой, зеленый, желтый и красный цвета. К удивлению экспериментаторов, куры кинулись клевать гранулы голубые». Голубые! Почему? Пока что ответа, кажется, нет.
□
223
РЕВНОСТЬ
““ Бабушка — моя! — кричит девчурка, подбегая к скамейке, где сидит бабушка.
— Нет, бабушка — моя! — подает из песочницы голос трехлетняя Надя, сестра девчурки.
Перекличка на том бы и кончилась. Но бабушка гладит голову внучки, поправляет ей бант. Этого Надя уже не выдерживает.
— Бабушка — моя! — кричит она на весь двор и, бросив в песке игрушки, бежит к скамейке.
Ревность!
У бабушки две руки и много мудрости. Г ладит волосы двух своих внучек — поровну делит ласку. Потершись головами о шерстяную бабушкину кофту, двойняшки мирно уходят играть.
В человеческом мире ревность — чувство распространенное. У детей оно на виду. Взрослые ревность стараются спрятать и страдают глубже, чем дети.
Любопытно, что это же чувство наблюдаем и у животных. Особо заметной бывает она у животных, привязанных к человеку. Многие наблюдали картину. К хозяину на колени прыгнула кошка, и он погладил ее. Этого бывает довольно, чтобы привести спокойно дремавшую у порога собаку в ревнивое возбуждение.
Другой случай. В дом пришел гость. И хозяин, оказывая ему знаки дружелюбия, забыл о собаке. Собака не закричит «Бабушка моя!», но у нее есть свои средства проявить ревность. Если хозяин этого не замечает и, пуще того, оттолкнет пса — «Тобик, да не вертись ты тут под ногами!» — пес, если он очень привязан к хозяину, отойдет, испытывая обиду.
Сцену занятной ревности я наблюдал однажды между лошадью и собакой. Одиноко живший хозяин-возчик имел двух любимцев: пса Дыма и лошадь Дымку. Эта троица была неразлучна. Любимое место собаки было в конюшне, на примятой охапке соломы. Если Дым по собачьим своим делам вечером куда-нибудь отлучался, Дымку отсутствие пса беспокоило. Дым тоже не находил себе места, когда подругу его на неделю забирали в другую деревню пахать огороды.
Хозяин души не чаял в обоих. В кармане его засаленной куртки всегда находился гостинец тому и другому. Но больше гостинца ценили собака и лошадь ласку Степана-возчика. Поскребет он шершавыми пальцами между ушей Дыма, и тот от счастья седлом выгибает спину, свивает свой хвост кольцом, а лошадь, чуть тронет Степан ее холку, начинает тереться мордой о куртку. И очень ревниво следили оба любимца Степана за его лаской.
— Погляди-ка, что будет... — сказал мне возчик и тихо окликнул Дыма.
Благодарный пес распластался у ног хозяина и преданно заскулил. Сейчас же послышался скрип телеги — лошадь, жевавшая сено, развернулась и быстрым шагом пошла к хозяину.
— Ревнуешь. Понимаю, ревнуешь...
Дым вскочил, признавая равенство отношений.
— Вы оба мне дороги, оба...
Для меня специально Степан повторил этот опыт. Когда пес увлекся обследованием кротовых куч, он подошел к лошади и дал ей с ладони сахар. Дымка преданно стала тереться о руку хозяина. И в то же мгновение Дым позабыл о кротах — пулей примчался и тоже потребовал ласки...
Два существа соперничали в преданности человеку. И каждому небезразлично было, как ценит эту преданность человек.
□
ЗА ТРЮФЕЛЯМИ.
Поговорим о грибах... Съедобных грибов в наших лесах примерно 1500. Однако по традиции и незнанию берут в лучшем случае грибов 20, в первую очередь боровики, рыжики, подосиновики, подберезовики, грузди, волнушки, лисички, опята. И есть еще «грибная бабушкина глушь», где признаются лишь белые и рыжики.
Времена, когда говорили «дешевле грибов...», давно миновали. Грибы сейчас не дешевы. Какой же из них наиболее ценен? Белый, скажут у нас. Но это потому только, что мало кому известен гриб трюфель, особенно черный трюфель, растущий во Франции, Италии и Швейцарии.
В самом названии гриба есть что-то французское — трюфель. У нас кондитеры с этим названием выпускают дорогие конфеты, похожие на темные клубеньки. Черный трюфель — сама драгоценность. Во Франции сборщики этих грибов за сезон (с осени по март месяц) получают доход, «равный стоимости трех коров». Сами они (сапожник ходит без сапог) этот деликатес даже и не попробуют, так дорого стоят грибы.
Достоинства трюфелей — отменный вкус и особенный аромат: «пара грибов наполняет комнату волнующим, будоражащим запахом».
По рисункам и описаниям черные трюфели похожи на темные шероховатые картофелины, размером от грецкого ореха до апельсина. Растут грибы в сухой рыхлой нежирной известковой земле, под каштанами, буками, грабами, вязами, тополями, ореховыми кустами. Но более всего любят трюфели дуб. Во Франции эти грибы разводят, сажая на бедных бросовых землях плантации дуба. Трюфели — спутники этого дерева — появляются как награда за лесные посадки.
Грибы эти — подземные. Свое присутствие они выдают лишь малоприметным вздутием почвы. «Третья охота» — поиск грибов — требует острого глаза, знания леса, навыков и некоторой доли удачи. Находить трюфели особенно трудно. Опытные «трюфелисты» обнаруживают гриб по стае мушек, привлеченных соблазнительным запахом. Взлетели мушки — ищи вздутие почвы и осторожно раскапывай. Но этот способ мало добычлив. А нельзя ли к грибной охоте привлечь животных? Этот вопрос возник не случайно. Дикие обитатели леса — кабаны, лоси, белки и барсуки — охотно поедают грибы. Что касается кабанов, то, обладая исключительным обонянием, они чуют трюфель за пятьдесят метров. Кабаны раньше людей поспевают в дубравы и собирают в них двойной урожай — хрумкают желуди, заедая их трюфелями.
Домашние хрюшки кое-что из способностей своих предков порастеряли. Однако это далеко не тупые создания, ка¬
кими кажутся в тесном хлеву. Это животные умные, чуткие. Приспособить их для охоты за трюфелями оказалось делом несложным. И в юго-восточной Франции сборщик грибов с поросенком — фигура обычная.
Готовят себе помощника грибники так. К свиноводу, приучающему поросят от рождения к запаху трюфелей, приходит опытный покупатель. Около загородки он осторожно кладет источающий запахи гриб. Какой поросенок первым подойдет к лакомству, того и купят. Цена в три раза выше, чем стоит поросенок обычный. Но игра стоит свеч. Немного дрессировки, и вот уже сборщица трюфелей идет на охоту. На поводке — поросенок, за плечами или в руке торбочка, через плечо перекинута сумочка с кукурузой.
Свинья находит трюфели скоро и безошибочно. Ковырнула носом... но лакомый гриб на зуб ищейки не попадает — поводок дергают в сторону и дают поросенку щепоть кукурузы. Пока он съедает эту подачку, хозяйка ножом с глубины примерно десяти сантиметров осторожно вырывает находку. Кое-кто, чтобы не рисковать драгоценностью, надевает поросенку намордник.
В Италии трюфели ищут с собаками. Щенка с раннего возраста приучают к тонкому запаху. Но собаки грибов не едят, при дрессировке рядом с грибом закапывают кусочек сыра. Находя трюфели, собака получает свою долю добычи. Охота за грибами для нее — охота за сыром.
Любопытно, что черные трюфели были «открыты» в Европе в XV веке. Ранее были известны белые африканские трюфели, менее ароматные, но столь же вкусные, как и черные. Богатые чревоугодники Древнего Рима платили за них буквально по весу золота — на одну чашу весов клали монеты, на другую — грибы. Считалось, что гриб возвращает едоку молодость.
Существуют разновидности трюфелей. Одна из них (менее ароматные, чем черные) встречается в нашей стране — в Карпатах, на Украине и по Кавказу. Белый, совсем уж похожий на клубни картофеля, трюфель растет в Подмосковье и, как утверждают, даже в самой Москве, на садовых бульварах. Этот мало кому известный гриб имеет отменный вкус. В былые времена под названьем «обжорка» белый трюфель привозили в Москву из окрестностей Троице-Сергиевой лавры (нынешнего Загорска). При дешевизне грибов «обжорка» в Охотном ряду «кусалась». Как пишут, сбором этих грибов кормилось более двадцати деревень, расположенных к северу от Москвы.
А сегодня? Слышно что-либо о белом трюфеле? Не может быть, чтобы совсем перевелся. Скорее всего перевелись сборщики, искусные мастера поиска. А может, не перевелись? Может, кто-то умеет искать и знает заветное место. Ау-у!.. Откликнитесь, грибники! Пригласите с собой. Очень хочется гриб увидеть, на зуб попробовать — узнать, справедлива ли слава о трюфелях.
После газетной заметки «По грибы с поросенком» я получил с десяток благоухающих посылок и бандеролей с грибами, похожими на картофелины. Из писем понял: грибы растут во многих местах серединной лесной России, есть люди, которые знают эти грибы. Но все находки были почти что случайными — три-четыре гриба, обнаруженных зорким глазом.
А уже поздней осенью в редакцию зашел энергичный пенсионер с рюкзаком.
— Приглашаю вас на охоту за трюфелями.
— А не поздно ли?
— Что вы! Я каждый год собираю даже по снегу.
Последний день октября. Трава на опушке присыпана солью морозца. Осенние лужи покрыты льдом. В лесу безлюдно и тихо. Земля под ногами где чавкает, где хрустит. Заледеневшие на пне опята, прикоснешься — осыпаются, как стеклянные. Но сезон трюфелей не окончен.
Мой спутник отпускает собаку, и она, вполне понимая, зачем мы приехали в лес, начинает искать.
Лес обычный — березы, осины, елки, орешник, кусты бересклета. Листья опали, и мельканье собаки между стволами хорошо видно. Вот она закружилась на пятачке леса площадью в четверть небольшой комнаты — поймала желанный запах. «Ищи! Ищи!» — подбодряют собаку, но она уже ткнула морду в мокрые листья и, увидев, что мы подходим, лапами роет землю.
— Вот он, голубчик! — мой спутник широким длинным ножом поддевает плотный слой почвы и с глубины сантиметров в десять достает клубень, вне- 225
шне очень похожий на картофелину, но более плотный, тяжелый. Собака получает награду — кусочек хлеба и снова срывается с места... Вот запах гриба опять заставляет ее вертеться возле куста орешника. Две-три секунды — и морда безошибочно утыкается в нужную точку. В момент, когда хозяин ножом ковыряет землю, Пальму гриб уже совершенно не интересует. Она следит за рукой, которая вынет из сумки кусочек хлеба.
Так мы ходим по лесу часа четыре. Места эти Пальма обшарила еще в августе. Она делает остановку у ямки, еще хранящей запах росшего тут гриба. И хозяину приходится поощрить ее и за это. Сбоев у Пальмы нет. Временами она поднимает зубами сук и роет под ним.
Грибы чаще всего сидят по одному. Иногда рядом — два-три. Размеры от грецкого ореха до картофелины. Но бывали у Пальмы находки со шляпу хозяина, весом до двух килограммов. Такие громадины, по словам моего спутника, попадаются редко. И причина тому простая: пахучему лесному деликатесу
Вот они, трюфели. Очень напоминают картошку. Найти их сложно — как и картошка, полностью скрыты в земле. Но выдает присутствие гриба запах. Тренированная собака
226 находит трюфели без труда. не дают вырасти кабаны, барсуки, лоси. Очень любимы трюфели и кротами. К грибному жилищу часто подходят тоннели, копнешь — трюфель наполовину источен острыми зубками...
Для опыта меняем место. И убеждаемся: есть у трюфелей свои территории. В загустевшем лесу с преобладанием елей — ни единой находки. Возвращаемся в редкий лес — смесь берез, осин и елок, и Пальма тотчас же радостно нас извещает: нашла!
Десятков пять трюфелей собрали мы до наступления сумерек. К автобусу шли через село Михайловское.
— Никак с грибами? — окликнули две старушки, увидев в руках корзинку. Они с интересом разглядывали диковинную добычу, улыбались, пожимали плечами — таких грибов в деревне не знают.
Василий Николаевич Романов, возможно, последний в российских лесах искатель трюфелей старинным испытанным способом. Родился он под Загорском в семье лесника, и сбор трюфелей знаком ему с детства. Эти грибы всегда искали с собаками. Охота была сугубо мужским лесным делом. И многие жители деревень Алексеево, Колыванки, Новленское, Харламиха, Щелково, Медведки, Кресты кормились промыслом трюфелей. «Обыкновенно за один раз собирали пуд-полтора. Сборщиков ожидал скупщик. Сдавали ему добычу по четыре рубля за пуд. Это были хорошие деньги — корова в те годы стоила 25 рублей. Скупщик, надо понимать, с прибылью продавал грибы в московские рестораны.
Трюфели не бывают червивыми. В холодной воде они могут храниться, не портясь, несколько дней. Если скупщик почему-то запаздывал, грибы ели сами или везли на рынок в Загорск. Здешние монахи и духовенство хорошо знали ценность деликатеса — «не скоромные» трюфели были изысканным блюдом на монастырских столах во время постов. А нашей семье грибы заменяли и хлеб, и мясо. Я собирал их всю жизнь. После войны привозил в Москву, сдавал по хорошей цене в ресторан «Пекин». Но потом деликатесом почему-то перестали интересоваться».
По рассказу Василия Николаевича, уверенно искать грибы можно только с собакой. «В деревнях под Загорском держали раньше две-три собаки, натасканные по грибам, — сегодня шли на
охоту с одной, завтра с другой». Находить грибы можно приучить любую собаку — особо тонкого чутья сильно пахнущий гриб не требует. Но предпочтительнее дворняжки — неприхотливы. Обучать собаку надо в первый год жизни. Методика очень проста: сначала пес ищет закопанные кусочки хлеба, потом вместе с хлебом закапывают кусочек гриба, потом прячут лишь гриб, а хлеб дают в награду при каждой находке. Несколько выходов в лес — и собака начинает хорошо понимать свое дело. Перед охотой собаку не кормят — голод хороший стимул в грибной охоте.
Пальма у Василия Николаевича живет уже несколько лет. Это отлично дрессированная собака — она не отвлекается на заячий след, пробегает мимо пахучего рыжика. Только трюфели! Каждый выезд на охоту для Пальмы — праздник. В городе Красноармейске ее знают. Проехал мотоцикл с собакой в коляске — это значит Василий Николаевич отправился на грибную охоту. Уже снег лежит, уже декабрь на носу, а он поехал.
В этот раз мы возвращались из леса автобусом. Пальма в ременном наморднике дремала возле шоферской кабины. Корзина с грибами, источавшая поразительно сильный запах, ее нисколько не занимала. Зато в автобус входившие переглядывались: чем так сильно и заманчиво пахнет?
— Трюфели, трюфели... — охотно отвечал любопытным Василий Николаевич и давал разглядеть диковинный гриб.
В старых поваренных книгах существует много рецептов приготовления трюфелей. Читая эти рецепты, проникаешься уважением к грибу — везде он ценим как редкий деликатес.
Нашу с Василием Николаевичем добычу в Москве я как следует рассмотрел, обнюхал, в сыром виде попробовал зубом. Запах гриба не с чем сравнить — непривычная, сильная, съедобная духовитость.
Грибное блюдо, приготовленное по деревенскому способу Василия Николаевича, было плотным и сытным. Лесной продукт похрустывал на зубах. Не берусь сказать, что еда была ошеломляюще вкусной. Я предпочел бы трюфелям жареные маслята. Достоинство сыра «Рокфора» определяют словом пикантный. Это слово уместно и тут. Трюфели — на любителя. Но ведь немало любителей! В прошлом — монахи и посетители дорогих ресторанов, сегодня: у нас — Василий Николаевич Романов, проживающий в Красноармейске, и еще — Италия, Франция. Не сбросим со счетов и обитателей леса — барсуков, кротов, лосей, кабанов. Подземный гриб для всех — желанное лакомство.
□
ПОДЗЕМНЫЙ ХОДОК
ЛЧивотное это не редкое. В начале века во время моды на шапочки и манто из кротового меха «один охотник в Швейцарии за 18 дней поймал 4000 зверьков». Если бы мода оказалась устойчивой, кротам пришлось бы несладко — сколько их шубок надо для шубы на модницу! Но серые, бархатистые шкурки оказались непрочными, и в этом было спасение кротов.
Жизнь крота таинственна и малодоступна для наблюдений, но следы ее видели многие. В садах, на лугах, лесных прогалинах и в речных поймах часто встречаются кучи рыхлой земли. Это проходчик-крот вытолкнул ее из тоннелей.
Редко, но удается увидеть и самого землекопа. Зверь невелик — умещается на ладони. И сразу видно: приспособлен исключительно для жизни подземной. Две большие передние лапы-лопаты — главная примечательность землекопа. Приставьте мысленно по бокам легкового автомобиля два ковша экскаватора — представление о кроте будет полным. Впечатляет также и нос, весьма чувствительный к запахам, но предназначенный также для грубой работы, — носом крот землю буравит, лапами гребет и толкает назад. Скорость проходки — 30 сантиметров в минуту. (По готовому тоннелю крот пробегает в минуту 60 метров.)
Глаза и уши на первый взгляд у этого существа отсутствуют. Но они есть. Глаза величиною с маковое зерно спрятаны в шерстке, и это важно для землекопа. Но при необходимости глазное яблоко выдвигается, и кое-что крот может видеть, ну хотя бы что на дворе
день, а не ночь. Впрочем, глаза помогают кроту, выходящему изредка на поверхность, различить гнездо птицы и похитить из него птенцов, поймать полевку, ящерицу, лягушку. Правда, во время охоты этот малоразборчивый мясоед полагается больше на слух, обоняние, осязание. Уши у него закрываются складками кожи и тоже спрятаны в шерстке во избежание засоренья землей. Сама шерстка ложится в любую сторону одинаково, и крот под землею успешно использует «задний ход». Есть у крота хвостик. Во время движения он касается верха тоннеля, сигнализирует: над головою надежная кровля.
Появление на поверхности земли — эпизод в жизни крота. Его стихия — подземные продвижения. Однако это отнюдь не бродяга. Облюбовав подходящее место для жизни (предпочтительна рыхлая плодородная почва), крот хорошо его оборудует. Центром коммуникаций является резиденция — камера, где крот отдыхает и спит. (На поверхности это место выдает обычно особо большая куча земли.) Вокруг резиденции идет галерея ходов, куда крот при опасности может юркнуть из теплой постели. С охотничьими угодьями резиденция связана магистральным тоннелем длиною в сорок-пятьдесят метров. Земля из тоннеля наверх не выбрасывается, а вминается боками в стенки. И все-таки опытный глаз кротонова по засохшим травинкам примечает подземный проспект. Именно тут ожидает зверька ловушка. Крот непременно в нее попадает потому, что в сутки шесть раз — туда и обратно — пробегает тоннелем охотиться.
Охота крота — неустанное продвиженье подземною целиной. Это тяжкий физический труд — при нем питание должно быть добротным. Таковым оно и является. Крот не признает ничего, кроме мяса, и съедает его каждый день много — столько, сколько весит сам. Поглощает он все, что встречает во время проходки тоннелей, — личинок, жуков, медведок, но главным образом дождевых червяков. Ест он их с предварительной обработкой — хватает зубами и протягивает через когтистый гребень передней лапы. Таким образом, он выдавливает из червя землю, как мы из тюбика пасту, одновременно очищая и поверхность добычи.
Охота идет днем и ночью. Двадцать четыре часа суток делятся у крота лишь на время охоты и время отдыха. Есть он должен через каждые четыре часа. Двенадцать часов без пищи —
227
Перед самой зимой кроты особо активны. Иногда прямо на глазах земля вспучивается. Через несколько минут еще один бугорок, еще...
предел, означающий смерть. По этой причине в зимнюю спячку кроты не впадают. Однако возможности зимней охоты снижаются. И потому с наступлением холодов кроты усиленно запасаются провиантом. В чуланах вокруг резиденции у них повсюду склады по десять-двенадцать дождевых червяков. Чтобы добыча не расползалась, кроты ее уродуют, оставляя, однако, живой. Запасы корма внушительны. Известен случай, когда в чуланах крота обнаружено было 1280 червей — более двух килограммов!
Все замечали, наверное: на сухих, безводных местах кроты не селятся. Объясняется это тем, что крот не только много ест, но также много и жадно пьет. Один из тоннелей его лабиринта непременно ведет к реке, пруду, хотя бы к луже. Если таковых поблизости нет, крот роет глубокие вертикальные шахты-колодцы. Наводнения? Да, вода частенько заливает тоннели. Но крот — хороший пловец. В своем залитом водою «метро» он хорошо ориентируется и выплывает наверх, нередко держа в зубах маленького кротенка. Вода — помеха. Но гибнут кроты главным образом в годы засушливые.
Крот — существо «неуживчивое, сварливое, вздорное, кровожадное». Друзей у него нет.
Без ласк, свойственных многим животным, кроты образуют мрачноватый семейный союз и производят на свет четыре-пять совершенно беспомощных, голых, слепых кротят величиной с боб.
Врагов в природе у кротов много. Добычливые ловцы — ласки, горностаи, хорьки, — поймав крота, есть его брезгуют. А лисы, куницы, ежи, сарычи, совы, аисты и вороны едят с удовольствием.
Времена, когда всех животных люди делили на полезных и вредных, прошли. Крот, досаждающий луговодам и садоводам, в числе полезных не значился. Но сегодня известна и польза крота: уничтожает медведок, личинок майских хрущей, слизняков. Все же роль положительного героя в человеческом взгляде на мир животных кроту не отводится. Но жизнь интересна во всех проявлениях. И потому стоишь зачарованный, глядя, как на глазах у тебя из луговой тверди вдруг вырастает ворох рыхлой земли — это крот в предчувствии холодов гонит и гонит свое «метро».
□
ПЕСТРАЯ СТАЯ
Первый раз я увидел их года четыре назад. В осеннем лесу вечером пугающе громко листья шуршат даже под лапками мыши. На меня же из темноты сквозь белесые стебли сухой крапивы явно неслись кабаны. И только в последний момент я понял, что это собаки. И испугался. Откуда собаки на ночь глядя в лесу?
Собаки, как видно, тоже не ждали встречи, гавкая, они смешались и кинулись врассыпную. Но через долю минуты я их увидел бегущими строгой це- почкой. Поляна между дубами, и по ней друг за дружкой — быстрые тени. Я насчитал их более десяти. Пробежав мимо, они остановились и снова собрались в кучу. На всякий случай я стал присматривать дерево, куда бы можно было вскочить. Но стая беззвучно скрылась.
Через неделю в деревне Зименки я заглянул к пастуху Василию Ивановичу Боровикову, полагая, что озадачу его рассказом. Но он не раз уже видел эту компанию, знал многих собак в лицо, знаком был с повадками стаи.
— Дикие. Они тут хуже волков. Будешь идти опушкой — возле ручья увидишь мертвого кабана. Считаю, они загнали...
Так состоялось знакомство со стаей. С тех пор следы ее жизни я наблюдаю почти всякий раз, когда приезжаю в знакомый мне до последней тропинки лес к востоку от Внукова. Зимой в стогу обнаружилось логово, где собаки спасались от холодов. В другой раз по следам удалось обнаружить, как собаки гнались за лосем. Одолеть огромного
228
зверя они не сумели, и, возможно, охота была лишь спортивным азартом. Но кровь на снегу говорила, что дело дошло до зубов и лосю пришлось защищаться. Нетрудно было представить при встрече с собаками участь лосенка, зайца, лисы и всех, кто не в силах был постоять за себя. Зубастый гребешок своры буквально прочесывал лес. Повсюду, где раньше встречались узоры разных следов, теперь встречались только следы собачьи.
Однако дичь сравнительно небольшой территории не могла прокормить ораву прожорливых хищников и я не удивился, когда застал однажды собак на примыкающей к лесу пашне — артель охотилась за мышами.
В бинокль я в отдельности разглядел каждого «землекопа». Их было двенадцать. Лапы и морды у всех перепачканы черноземом. И только эта деталь окраски как-то объединяла разношерстную, разнокалиберную компанию. Рядом с маленькой белой собачкой добычу искал огромный рыжий лохматый пес. Столбиком сидел явно заметивший меня у опушки еще один беспородный лохмач черного цвета. Большая, похожая на овчарку особа, не принимая участия в ловле мышей, лениво лежала возле кучи старой соломы. Верховодил в этой артели кофейного цвета ловкий поджарый кобель. Я видел, как походя он куснул черного, и тот отскочил в сторону, даже не гавкнув.
Несомненно, этот странный и необычный коллектив был как-то организован. Распределение ролей на охоте, дележ добычи, взаимоотношения полов, степени подчинения, соблюдение дисциплины, манера передвижения — все это регулировалось какими-то незримыми для меня правилами. И удивительней всего — правила эти были «написаны» заново, как только возникла эта собачья вольница. Впрочем, так ли уж заново? Скорей всего в каждой из этих собак ожило наследство стайной, подчиненной стройным законам жизни. Однако и опыт общения с человеком тут не забыт. Живут почти на виду у людей. Но как удивительно ловко избегают они опасности! В который раз наблюдаю за ними. Но только бинокль помогает как следует их рассмотреть. Дистанция в восемьсот метров предельна.
И на этот раз стоило мне, продвигаясь опушкой, чуть-чуть приблизиться, как сидевший столбиком черный сторож вскочил, и мыши мгновенно были забыты — вся стая неторопливой цепочкой затрусила в ольховые крепи. Как всегда, впереди был Кофейный, за ним — белая гладкошерстная собачонка. Здоровый рыжий лохмач с воинственно задранным кверху хвостом замыкал шествие.
Историю их появления удалось проследить без труда. За деревней Летово одну из лесных полян отвели под огромную свалку. То, что мы с вами спускаем в мусоропровод и что потом с
наших дворов увозят мусоросборщики, попадает сюда, за город, на свалки. В хаосе всяких отбросов, обрывков, обломков и отслуживших вещей есть и остатки пищи. Для бездомных собак свалка — это просто обетованная земля. И очень много бродячих псов, избежав ловчей петли санслужбы, нашло дорогу за город и осело у свалок. Тут тоже не вполне безопасно — санитарная служба не дремлет. И все же, добывая в мусоре пропитание, легко увернуться от выстрелов — рядом лес.
По наблюдению знакомого мне пастуха, у свалки в Летове образовались, как сказал бы ученый, две популяции собак. Одна была прочно привязана к свалке (и, конечно, ее без большого труда истребили), другая почувствовала вкус дикой жизни и превратилась в стаю вольных охотников. (Возможно, и не в одну стаю.) Можно представить, каким суровым и жестким был в этой группе отбор. И надо полагать, только немногим удалось приспособиться к дикой жизни. Однако потомство от новоявленных дикарей было, конечно, жизнеспособным.
Однажды летом на дорожке в густом орешнике меня облаял прелестный щенок. Это был лоснящийся темно-бу- 229
рый футбольный мяч с хвостиком, с торчащими вверх ушами и двумя угольками глаз. Держался он с покоряющей смелостью. Я присел достать из мешка фотокамеру, а щенок лаял, загородив тропинку, уверенный: этот лес принадлежит ему, и только ему.
Снимок сделать не удалось. За спиной послышался шорох и рычание взрослой собаки... Все остальное длилось не более двух секунд. Маленький шалопай был схвачен за холку, и я не успел даже как следует разглядеть рассерженную мамашу — с мгновенно притихшей ношей она нырнула в орешник... Около часа я лазил в крепях, надеясь разыскать логово, но напрасно.
Жена зименовского пастуха Надежда Герасимовна, услышав рассказ о встрече в лесу, в свою очередь рассказала, что раза три видела в разных местах щенят... Собачья вольница жила полноценной жизнью, ПОПОЛНЯЯСЬ потомством, взращенным по правилам дикой природы.
Но лес и пашня с мышами никак не могли прокормить возраставшую шайку диких охотников. Рискуя попасть под выстрел, они, несомненно, ходили и к свалке. Однако недавно свалку закрыли. Возвышаясь в лесу огромным холмом, она уже не вмещала отбросов. Гору хлама слегка разровняли бульдозером и оставили зарастать бурьяном.
Что остается в лесу от пира волков и собак, достается пернатым и в первую очередь ворону.
— А что же собаки? — спросил я старых друзей, найдя их дома у печки.
— О, такие новости! — сказал пастух. — В Прокшине у Дмитрия Воробьева разорвали собаку. В Филимонках едва отбили у них телка. В Пенине на прошлой неделе двух коз порешили...
— Да врут, наверное, Василь Иванович, — подзадорил я собеседника. — И про волков, ты ведь знаешь, много всяких рассказов...
Пастух не обиделся:
— Врать могут. Но ведь легко и проверить — Пенино рядом.
Я вырезал палку потолще и вышел из леса к Пенину, когда в деревне уже светились окна.
— Не у вас ли собаки коз порешили? — с порога вместо приветствия спросил я хозяев.
— У нас, — нерешительно ответил мужчина, чинивший шапку.
Оценив интерес собеседника к подробностям происшествия, хозяин сказал, что сейчас приведет человека, который видел все сам.
Вернулся он с соседкой Сидоровой Марией Алексеевной. Она рассказала, что недавно шла с работы и шагах в пятистах от опушки, за деревенскими огородами, увидела: стая собак рвет козу. Бедняга была привязана и только отчаянно блеяла. «Я закричала, замахала руками. Они отбежали к лесу и стали глядеть на меня. Тут я заметила, что слегка опоздала. Коз было две. Одна стояла, тряслась. А другая чуть в стороне лежала уже без движений».
Расспросив Марию Алексеевну, как выглядели собаки, я узнал в разбойниках старых своих знакомых.
230
В Пенине и в Зименках, как и во всякой лесной деревне, есть, конечно, охотники. Но в последние годы в большом «зеленом кольце» Подмосковья охота запрещена. А тут вдобавок и не на кого было охотиться — собаки чистили лес под метелку. И надо ли удивляться — владельцы ружей при общем сочувствии объявили собакам что-то вроде священной войны.
Недели три я не был в этих местах. А появившись как раз перед зазимком, завернул за «собачьими новостями».
— Война... Война идет! — засмеялся пастух. — Одну застрелили. Этим и кончилось. Они хитрющие...
В тот день удивительный случай помог мне не просто снова столкнуться со стаей, но и стать свидетелем драмы, которую не так уж часто встречаешь в природе.
После долгой погожей осени наступила пора ненастья. Лес был тихим и кротким. Из Зименок после чая у пастуха я шел вдоль ручья, дивясь, как искусно, возле самой тропы, прятали гнезда сороки. Сейчас в облетевших ольшаниках гнезда висели подобно забытым шапкам. И вдруг где-то рядом раздался раздирающий душу крик. Я сразу даже не понял: человек или зверь? Но почувствовал: так может кричать существо, оказавшись в большой беде. Подбежав к повороту ручья, я никого не увидел. И хотел уже двигаться дальше, но оглянулся и на кладке через ручей заметил что-то пушистое, по виду похожее на ондатру.
Но это была собака. Минуты было довольно, чтобы понять беду, в какой она оказалась. Друзья по стае были тут, рядом, — я видел, как в редколесье мелькнули Кофейный и белая собачонка.
Мое появление было для них сигналом — спасаться. А эта, попавшая в западню на мостке, как видно, приготовилась к самому худшему. При моем приближении собака взвыла и затряслась мелкой дрожью. В ее глазах я увидел страшную ненависть и бессилие.
Кладка через ручей была сбита поперечными планками из трех липовых жердочек. Тут, опираясь на шест, проходили в Зименки люди. Собаки тоже, как видно, не раз пробегали по жердочкам. Но в этот день моросил дождь. Все было мокрым и скользким. Одна из собак оступилась. Лапа ее скользнула между двух пружинящих жердочек, собака свалилась в ручей, заклинив в нежданном капкане заднюю ногу. В таком положении я ее и застал: нога и хвост наверху, туловище в воде, а голова над водою с другой стороны мостка. Большего бессилия и безнадежности невозможно было представить...
Я лучше, чем кто-то другой, понимал, каким злом для всех обитателей леса были эти собаки. Но поднять сейчас руку на терпевшего бедствие или даже пройти равнодушно мимо не смог бы, как я подумал, даже старик, потерявший недавно козу. Сделав несколько снимков, я стал искать способ помочь собаке.
Дело оказалось не слишком простым. Ручей от дождя вздулся, и гибкий мостик, как только я на него ступал, уходил в воду, грозя утопить и собаку. К тому же собаке не объяснишь намерений, и надо было соблюсти осторожность, как только пленница станет свободной. Я отыскал шест подлинней и покрепче и стал концом его раздвигать жерди, державшие лапу.
Минут пять я возился, доставляя собаке мучения. Но, странное дело, она поняла, что бояться меня не надо. Она по-прежнему .мелко дрожала. Но глаза!
На меня глядели испуганные и преданные глаза. Я подумал: вот так же, наверно, собака глядела когда-то на своего хозяина.
Для успеха неожиданной операции нужна была помощь самого пострадавшего. Надо было заставить собаку нырнуть и выскочить по другую сторону мостика. И собака сообразила, что надо делать. Она нырнула, и сразу же лапа ее скользнула вниз из раздвинутой щели. И все кончилось. Собака поплыла к берегу, вылезла из воды, испуганно оглянулась и, приволакивая ногу, кинулась в лес...
Недавно, уже на лыжах, я сделал обход «своих» мест. Собачьи следы! А были когда-то и заячьи, и лисьи, и даже тетеревов лет пятнадцать назад я снимал в лесах между Киевской и Калужской дорогами...
Теперь осмысление этой истории... Есть такое понятие — «экологическая ниша». Оно означает, что в сложных хитросплетениях живой природы для каждого существа есть свое определенное место. Оно обусловлено многими причинами длительной эволюции. Упрощенно так: карась в воде существует при наличии в ней подходящих для этого вида рыбы условий: пищи, температуры и состояния воды. У щуки своя экологическая ниша: она в воде, «чтобы карась не дремал».
Такой «щукой» в наших широтах искони был волк. Он занимал нишу хищника — регулятора жизни. Но хозяйственная деятельность человека давно нарушила природные взаимосвязи. Волк стал пользоваться плодами человеческого труда (добыть овцу в стаде гораздо проще, чем, например, выслеживать лося) и этим поставил себя вне закона. Во многих местах волк почти совсем был истреблен. Таким образом, одна из природных ниш оказалась свободной.
Но, как говорится, свято место пусто не бывает. На наших глазах произошло удивительное явление: экологическую нишу волка стали заполнять дичающие собаки. То, что я наблюдаю в тридцати километрах к юго-западу от Москвы, характерно для многих мест Подмосковья. То же самое наблюдают во Владимирской, Ярославской, Калужской, Ивановской областях. Причем в одних случаях хозяевами леса становятся собаки, в других — уцелевшие волки, не находя себе пары, «обручались» с собаками и дали потомство очень жизнеспособное. Из разных мест сообщают о nd- явлении этих темной окраски волков- собак.
Собаки и волки-гибриды — дерзкие и хорошо приспособленные к новым условиям хищники. Они прекрасно охотятся, не брезгуют отбросами и, как видим, готовы задавить козу и теленка, напасть на собаку, стерегущую дом.
Вести борьбу, как уже убедились охотники, с новоявленным хищником очень непросто. Собаки и волки-собаки не страшатся людей и в то же время умело избегают опасности. На облавах, оказавшись в окладе, они прыгают через флажки. Их побаиваются охотничьи собаки. Потомство, как замечено, они приносят в разное время года, приспосабливая под «родильные дома» скирды соломы.
Таков неожиданный «заместитель волка» в наших лесах. Волки, впрочем, тоже воспрянули духом. Число их в европейских зонах страны за последние восемь лет возросло примерно в четыре раза.
1976 г.
□ 231
У ЗИМЫ НА ПОРОГЕ
Утро туманное, утро седое... И день такой же. Кораблями на якорях расплывчато темнеют стога на поле. Акварелью размыта зубчатая кромка леса. Краски не яркие, блеклые — ни зелени, ни цветка. Всё вымокло, увяло и облетело. И лишь в кореньях и клубнях будет дремать до весны сила грядущих зеленых побегов. Там и сям по опушке кабаньи покопы — в сумерках и ночами звери ищут личинок, коренья, мышиные гнезда. Если б не эти следы кормежек, лес показался бы всеми покинутым.
Лес черен и молчалив. Ветреное непогодье отряхнуло с деревьев все до единого листика. Раздетый лес стал проницаем для звуков — слышно, как где-то в деревне колют дрова и лает собака. В голых ветках обнаружились летние тайны птиц — темнеют гнезда большие и малые. Сорочий дом висит над самой тропкой, где ходят люди, и никто не заметил его в листве. Высоко на березе мокнет гнездо воронов. Я наблюдаю его лет восемь. Добротная постройка на высоте недоступной. Весной гнездо опять оживет — дружная пара птиц постоянно держится в этом районе. В предзимье осторожные вороны почему-то смелеют — летают так низко над лесом, что слышен скрип маховых перьев.
И лоси в это время ходят свободней — видишь следы на опушке, в болотистых ивняках, примыкающих прямо к шоссе. И нет в лесу поваленной ветром или подсеченной человеком осины, на которую лоси бы не наткнулись в своих хожденьях. Найдут непременно и обгложут до белизны. В компании с лосем кору осины грызет и зайчишка, очищает ветки потоньше. На мягких намокших листьях следы косого не остаются. Лосиный же след глубок, громаден и полон холодной лесной воды — напиться можно из следа.
Звуки... Их очень немного. С криком тревоги взлетела с куста калины стайка дроздов и стихла в березняках, ожидая, когда пройдет человек и можно будет опять кормиться. Белка, искавшая что-то в опавших листьях, с испуганным верещанием кинулась вверх по березе и уронила оттуда чуть тронутый зубом орешек. Изредка слышишь перекличку синиц. На фоне серого неба их не сразу и разглядишь. Пушистые шарики с длинными, как у сороки, хвостами оживленно снуют по веткам, окликают друг друга, чтобы не потеряться в пасмурном дне. А вот еще один звук, характерный для этой предзимней погоды, — меланхоличные тихие посвисты. Снегири... Красногрудые птицы сидят на покрытых каплями влаги ветках ольхи, необычным для леса цветом напоминают: не все краски природа порастеряла.
Следом за прилетевшими с севера снегирями придут и снега. Знакомый лесник на кордоне подшивает старые валенки. Жена его к празднику щиплет гуся — белая горка перьев лежит на крыльце. Мальчишка-внук лезвием бритвы очиняет перо и, обмакнув в чернила, пишет на белом листе: «Скоро зима». «Да, теперь уже скоро, — соглашается дед. — Придет, положит на дворе белый пачпорт — вот, мол, и я. Принимайте!»
День, не успев наполниться светом, тихо уходит за лес. Нет еще четырех, а уже надо прикидывать, чтобы не в самую темень идти опушкой к дороге. Собака лесника, обычно далеко провожавшая гостя, на этот раз ленится — виновато вильнула хвостом и юркнула в конуру. «Это к снегу или к дождю», — философствует хозяин, засовывая в рюкзак тебе на дорогу холодные, вынутые из листьев на чердаке, яблоки.
На придорожных репьях неслышный ветер шевелит клочок заячьей шерсти. Заяц в эту пору меняет летнюю шубу на зимнюю. Украдкой зайчишка ходит к леснику в огород грызть капусту.
Кочаны убрали — ходит хоть листьев погрызть. И собака ему нипочем. Возможно, от нее и бежал, оставляя на репейниках шерсть.
Выползает из ельников темная плотная ночь. Кажется, ты один в целом свете на этой опушке. Под ногами чавкает грязь. Сыро и неуютно. Но сладко идти вот так, с мыслью о теплом доме, о лампе, о чае, с воспоминаньем о прожитом дне... Посвистывая, сверкнули в сумерках белым надхвостьем и скрылись в ельнике птицы. Снег, снегири... Вспоминаешь с улыбкой присказку деда: «Придет, положит на дворе белый пачпорт...» И писанье мальчишки гусиным пером...
Шоссе впереди обозначилось сразу гулом и бегущими огоньками. Час пути — и Москва. Ожидая автобуса, видишь, как лес погружается в темень предзимней ночи.
□
Замерзла грязь на дорогах, стали заметными снегири, заяц меняет серую шубку на белую, лось теряет рога. И вот-вот льдом покроется речка...
233
РОЖДЕНИЕ ГНОМОВ
Всем, конечно, знакомы такие вот странные утолщения на деревьях. Почти на всех — на дубе, осине, березе, липе, ясене, клене, грецком орехе, груше. Особенно часто можно увидеть наросты на карельской березе. Бывают они небольшие, с кулак, бывают громадные (на дубах, например), до двух метров в диаметре и весом до тонны.
Сняв аккуратно с нароста кору, мы увидим бугристый, корявый, необычной плотности древесный наплыв, а распилив и отшлифовав спил, получим удивительной красоты рисунок, называемый мебельщиками текстурой.
Увы, наросты — не украшение дерева, а болезнь, природа которой до конца еще не изучена. Однако ясно, что это быстрый бесконтрольный рост клеток, вызываемый механическим повреждением, грибками, насекомыми, вирусами. Задавая вопрос — не рак ли это? — мы будем к истине очень близки. В природе этих наростов много общего с опухолями у животных и человека. Онкологи, пытаясь проникнуть в тайну болезни, не упускают из виду и этот древесный ее вариант.
Но гораздо ранее, чем ученые-медики, стали интересоваться капом (так называют наросты) краснодеревщики. В два раза более тяжелый, чем древесина, необычно прочный и красивый на срезе, кап издавна шел на поделку шкатулок, футляров, черенков для ножей, ручек для инструментов. Высоко ценится в мебельном производстве фанеровка из капа.
В последние годы капом заинтересовались художники. Один из них, москвич Валерий Павлович Лукашевич, — перед вами на снимке. В его мастерской я увидел причудливый мир гномов, лесовиков, занятных сказочных старцев, русалок, красавиц с распущенными волосами.
«Основную работу проделала тут природа. Мне надо было лишь бережно выявить все, что скрывала кора, и, угадав образ, лишь его уточнить. Вот мои инструменты. А вот сырье».
В мастерскую Валерий привозит капы, которые для него оставляют на лесных складах и лесопилках и которые сам он с немалым трудом (многопудовые!) привозит из леса.
Этот вот гном был громадным наростом на стволе клена. Как видим, вмешательство режущего инструмента тут минимальное. Но кто же не заинтересуется этим сказочным, излучающим доброту стариком! На выставках Валерия Лукашевича всегда многолюдно. И спрос на его старцев, на столы и кресла из полированного капа очень большой. Архитекторы и дизайнеры, оформляя санатории, пансионаты и дома отдыха, находят в них место для этих совместных фантазий природы и человека.
□
РЯБИНОВЫЙ ПИР
Последние дни предзимья. Намокший лес мрачен. Лишь кое-где увидишь не сбитый ветром желтый листок, да красная дробь калиновых и рябиновых ягод радует глаз.
Урожай рябины отменный. Тонкие ветки деревьев согнулись под тяжестью ягод. И если для человека это главным образом украшение леса, то для многих его обитателей рябина — обильный и лакомый корм.
Рябину клюют многие птицы: боровая крупная дичь — тетерева, рябчики, глухари, разные певчие птицы и в первую очередь дрозды, свиристели, скворцы, снегири. Едят рябину, прежде чем лечь в берлогу, медведи. Лоси, задрав головы, ловят губами сочные гроздья.
На пользу ль рябине ее красота и нежная мякоть ягод? На пользу! Семечко, скрытое в ягоде, защищено оболочкой и, пройдя пищеварительный аппарат многих птиц, не повреждается. Там, где дрозды отдыхали после обеда, а у них есть излюбленные на многие годы места, вы найдете целый питомник тонких рябинок — проросли семена, упавшие вместе с птичьим пометом.
Только снегирь не является другом рябины. Там, где кормятся снегири, вы найдете брызги брошенной мякоти, а калорийное семя пошло на питанье.
Дрозды в урожайные годы рябины иногда остаются в наших краях на зиму — при обилии корма холод не страшен. И есть прилетные гости в наши края, для которых рябина — насущный хлеб и которые красотой своей сочетаются с красотою деревьев, увешанных угощеньем.
Птицы называются свиристелями. Лето они проводят на севере — в глухих еловых лесах выводят потомство. А с холодами собираются в стаи и покидают летние обиталища. Наши места для них — юг. Как раз в это время предзимья свиристели и появляются.
Обнаружив рябину, свиристели кормятся почти непрерывно. Еда вкусная, но не слишком питательная — надо есть много, и свиристели снуют челноком с кустов на рябину, с рябины — на куст. Пищеваренье у многих птиц быстрое. У свиристелей оно особенно скорое. И рябина за час-другой с облегчением ветки свои распрямляет.
Свиристели не боязливы. В поисках корма они залетают глубоко в город. В жилых массивах, где растут боярышник или рябина, они иногда сотенными стаями облепляют крыши домов, антенны, деревья — кормятся и отдыхают.
В осенние серые дни видишь лишь контур хохлатой гостьи. Но выпадет снег, и в какой-нибудь солнечный день вы увидите на рябине птицу редкостной красоты. Дымчато-розовая, с черным, белым и желтым узором на перьях, спокойная, несуетливая, очень доверчивая. Перекликаясь, птицы негромко свирькают — «свирь-свирь!» — оттого и название — свиристель.
Кочуя по лесу и населенным пунктам, к концу весны птицы соберут рябиновый урожай и стаями тронутся в еловые свои царства на север. А осенью они только-только прибывают оттуда. И всюду, где много рябины, этих птиц вы увидите непременно.
В зимнюю пору, когда красок немного, сочетания ярких ягод, снега и нарядного оперения птиц — истинный праздник для глаза.
□
235
БЕЛОЕ ЧУДО
Жизнь меряют веснами. Однако и первый снег заставляет нас встрепенуться, подумать о течении времени.
Однажды утром меня разбудил возбужденный малыш.
- Поглядите-ка, снег нападал! Но немного, на один комок только хватит.
За окном лежали простынки первого зазимка.
И наступает утро, когда и взрослый, проснувшись в посветлевшем жилье, долго стоит у окна — снег... Завтра к снегу привыкнешь. Но сегодня изменившийся за ночь мир волнует, как день рожденья, как ледоход, как листопад, как бой часов в новогоднюю полночь.
Снег... «Снег летит по всей России, словно радостная весть», — написал Николай Рубцов.
Поэтов снег всегда волновал. А поскольку в душе каждого человека есть поэтический уголок, белое обновленье земли волнует и радует всех.
Давнее правило: в день прихода зимы оказаться в лесу. Убеждаешься: тут тоже царит удивленье сказочной переменой.
Удивленно топчутся гуси у крыльца лесника. Гусыня-мать на своем веку уже видела снег. А молодые озадаченно озираются, пробуют клювом холодное белое вещество. Умная ворона вышагивает вдоль изгороди, припоми-
Бывают годы, первый снег выпадает на желтые листья.
ная, где спрятан излишек еды — и так голову повернет, и так. Не найдя кладовую, ворона решает в снегу искупаться. Я много раз видел, как птицы чистят в снегу оперенье. Ворона это делает особенно вдохновенно. Она погружается в снег, чуть хохлится и очень забавно начинает ползти, оставляя сзади глубокую борозду. Оглянулась, встряхнулась и опять поползла. За долгую осень на свалках и мусорных кучах перья испачкались, заскорузли — чистка очень важна. Но не всякий снег для этого годен. Слежавшийся или мокрый не может сделать того, что делает вот такой рыхлый, сухой и легкий снежок. Любопытно, что это все одинаково понимают: ворона почистилась, собака около будки с наслаждением валяется, дочь лесника вынесла, расстелила по снегу половички, шумно их выколачивает.
А в лесу тишина. Перемена за ночь так велика, что все живое оцепенело, притихло на всякий случай, привыкает к побелевшему миру. Опушка и поляны в лесу чисты, как нетронутый лист бумаги, — ни единого следа. Только в низине видишь вдруг шевелящийся черный бутон рыхлого чернозема. Это крот, равнодушный к белому свету, гонит наружу черные метки подземных своих путей.
236
Разница температур на поверхности снега и в глубине, у земли, достигает 20 градусов. Но если снега немного или морозы очень сильны, вся эта спящая мелкота вымерзает.
Жизнь под снегом пребывает, однако, не в состоянии спячки. Проезжая полем на лыжах, мы даже не подозреваем, сколько скрытых коммуникаций лежит у нас под ногами. Неисчислимый мышиный народец ведет под снегом активную жизнь: навещает припасенные с осени кладовые, ходит в гости, плодится, совершает дальние путешествия. Бесчисленными мышиными тоннелями пронизана толща снега. Мыши под снегом дышат. Им нужен кислород, им важно удалять углекислый газ. И это предусмотрено устройством мышиной жизни под снегом — из тоннелей к поверхности идут вертикальные шахты. Подымется мышка, подышит и снова по лабиринтам в гнездо. Иногда она соблазняется сделать пробежку по поверхности снега, оставляя ровную, как на швейной машине прошитую, стежку следов.
Мышиная жизнь зимой не беззвучна. Забавы и страсти под снегом сопровождаются писком. Эти писки хорошо слышит лиса.
Слышат мышей под снегом также и совы, безошибочно запуская когти в нужное место.
В толще снега мыши тоже не в безопасности. Есть у них враг, способный еще быстрее, чем они сами, двигаться
Лесные тропинки исчезли. Их можно только угадывать по желтой щетинке окольной травы и сломанным веткам. Временами кажется, заблудился. Но вот поднялся на возвышенье, и все стало на свое место: справа — знакомый стог сена, слева — старая ель со сломанной в непогоду вершиной. А внизу речка — темная змейка по белому. За речкой в осинниках любят держаться олени. В другое время их не увидишь. Сейчас же сверху пойменный лес кажется реденькой кисеей. Немного терпенья, немного везенья, и вот он, подарок первого зимнего дня, — по лесу бесшумно, неторопливо, как тени, идут оленухи. Раз, два, три... семь... десять. Летом шли бы иначе. Теперь же по снегу легче вот так — друг за другом. Остановились, прислушались и опять тихо неспешно идут, как видно, с кормежки к ночлегу...
Костерок на снегу кажется красным горячим цветком. Чуть подогретый хлеб и холодное яблоко — весь нехитрый обед на привале. И надо идти...
За долгую зиму снег надоест. Но первая встреча с ним — радость. Небо к вечеру потемнело, а земля светлая. Хрустит под ногою капустой и пахнет арбузом белое чудо — снег.
Поймайте снежинку и дайте растаять ей на ладони... Холод почти незаметен. Но слепите из снега комок — в руке без
варежки держать его неприятно. Снег — это холод. Э-э, нет, скажет знающий человек, снег для всего живого — тепло, надежное одеяло, берегущее от мороза. Бесснежные зимы опасны для жизни многих растений, в том числе для озимых хлебов. Снег служит укрытием для наших куриных птиц — глухарей, рябчиков, тетеревов. В большие морозы из дупел под снег слетают ночевать дятлы, мелкие птицы ищут в снегу защиты от крепкого холода. Чем холоднее, тем глубже зарывается заяц в снег.
И есть животные, чья жизнь протекает всю зиму под снегом. Ежи, змеи, ящерицы, лягушки засыпают, полностью полагаясь на снежное одеяло.
Чуткое ухо лисицы метров за двадцать слышит писк мыши под снегом. Прыжок охотника... Прыжок жертвы... Минута, и только следы остались от маленькой драмы.
по тоннелям. Враг этот — ласка, изящный, красивый хищник, от которого редкая мышь ускользает. Смертельная гонка заставляет жертву, подобно вот этой, запечатленной на снимке, пулей выскакивать из тоннеля Гонка продолжается на поверхности, но шансов спастись у мыши тут еще меньше. 237
Следы и капелька крови — последняя точка в маленькой снежной драме.
Но неизбывен мышиный народец. Неся потери, он восполняет их плодовитостью и доживает благополучно до теплых дней.
Есть места, где снег не гость, а хозяин на долгое время. У некоторых народов Севера слдва «снег» в языке нет. Есть слова, обозначающие состояние снега. Их более сорока. Некоторые из этих понятий знакомы жителям средних широт: пороша, метель, поземка, крупа, наст...
Долгое время снег только описывали. Лет сто назад его начали изучать. Подсчитали: примерно четверть
площади всей планеты покрыта снегами. Есть места, где снег копится постоянно и лежит пластами, достигающими толщины четырех километров. В этой фантастической толще снежинки, сминаясь, превращаются в лед. Айсберги, плавающие в океане, — это снег, выпадавший в Гренландии, в Антарктиде.
Узорчатая, поражающая красотою снежинка легка. Родившись где-то на высоте двух километров, она летит к земле полчаса.
Образованию снежинок в природе помогают микрочастицы пыли — снежный кристалл вокруг них начинает расти очень быстро. Над городами, где воздух сегодня почти всегда загрязнен, снега и выпадает и образуется больше, чем в атмосфере незапыленной.
Подобно одеялу, снег сберегает тепло. Но он же, отражая лучистое тепло солнца, не задерживает его у земли. Антарктида особенно холодна потому, что девяносто восемь процентов тепла отражает в космос своими снегами. Вся Антарктида — сплошной громадных размеров снежно-ледяной щит...
Много всего любопытного таят в себе мириады снежинок, покрывающих землю. Например, ветреный их хоровод создает в телеграфных проводах заряд электричества такой силы, что в полную мощь загорается электролампа... Снег, мы знаем, превращается в воду, но очень нередко он обращается в пар, минуя привычную фазу. Оттого не сбывается иногда предсказание большой весенней воды при обилии снега... Из снега, как из глины, можно слепить комок, а кое-где снег для воды пилят ножовками. Эскимосы Канады из снежных брусьев строят жилища — йглу... Оттаявший и схваченный потом морозами снег закрывает доступ животным к кормам на земле. В такое время поэзия белизны уступает место жестокой прозе.
Этой лисице охотиться было бы трудно при твердой корочке наста. Но снег пока мягок. Чуткое ухо зверя издали слышит мышиные писки. Прицелившись, рыжий охотник занятно подпрыгивает, зарывается мордой в снег и, облизнувшись, ловит новые звуки...
□
СЛЕДЫ
О ходьбе по снегу можно держаться лыжни, и тогда получаешь редкое удовольствие от быстроты, с которой мелькают по сторонам деревья и ложатся под ноги лесные поляны. Но много ли можно увидеть в окошко вагона, бегущего по рельсам? Лыжня — те же рельсы.
Без лыжни идти трудно. Зато ты свободен. У тебя во много раз больше шансов увидеть лесные диковины, поднять с лежки зайца, лося или увидеть хотя бы, как оставляет швейную строчку следов малютка-мышь.
Чаще всего, правда, встреч не бывает. Зверь поднимается загодя, и тебе остаются только следы. Но это уже немало. След, как веревочка, если тянуть осторожно, укажет, где спрятан клубок, с которого она убегает. Но если «клубок» все-таки на глаза не попался, следы многое о нем расскажут.
Вот вижу: мышковала лиса. След все время идет по старой припорошенной лыжне и только время от времени ответвляется в сторону. В конце следа — узкий колодец в снег, и в нем растрепанный, похожий на рукавицу мышиный дом. О чем рассказал этот след? Во- первых, о том, что лиса очень сметлива: лыжня хорошо ее держит, по рыхлому снегу с такой же легкостью не пробежишь. Во-вторых, у лисы изумительный слух. Мыши возились под очень толстой снежной периной — лиса их услышала. В-третьих, зимний хлеб у лисы очень нелегкий. Глубина норки — больше полуметра, пожалуй, только хвост из снега торчал. Сколько силы надо затратить, 238 чтобы добраться к еде! Но рыжий ис-
требитель мышей, видно, не голодает. Вот след повернул под согнутый ствол ольхи. Шарю в снегу лыжной палкой: так и есть — про запас спрятана мышка. Тут же, недалеко, лиса отметила снег желтым пятном. Это знак: «территория занята, кто вздумает тут охотиться, будет иметь дело со мной».
Вот что можно прочесть на снежном листе про лису. Таким же образом, пройдя на лыжах заячьим следом, можно сказать, чем заяц кормился ночью, в каком месте беспечно колотил на морозе лапой о лапу, где ковылял тихо, а где мчался как ошалелый, как встретил другого зайца и где улегся спать на день...
След, повторенный множество раз, образует тропу. Такими тропами ходят кабаны и олени. Во время войны, когда охотников не было, глубокие тропы, помню, делали зайцы. Зайцев было так много, что мы, мальчишки, на тропах
ставили петли. И охота была очень добычлива.
Ночевал в снегу тетерев, тихо опушкой пробежал волк, белка прыгнула с елки и раскопала орех — все отмечено на снегу. Знают ли звери, что каждый их шаг записан, что за ними тянется ниточка, по которой можно их разыскать? Слово «знают» в человеческом смысле вряд ли подходит. Но все-таки знают! Заяц, прежде чем лечь, путает след, делает скидки. Волки искусно скрывают свое число — ходят след в след. Особенно осторожен медведь, которому предстоит зиму пролежать на одном месте. Приготовив берлогу, он долго кружит, идет своим следом, прыгает в сторону, наконец, возле самой берлоги пятится задом и старается лечь в метельное время.
Все живое обязательно оставляет следы. Часто следов не видно, но они пахнут. И чутьем звери-охотники идут по невидимой нитке очень уверенно. Не всегда след — указание для врага. Выдра в брачную пору делает по-над берегом большие пешеходные дуги, чтобы жених знал, где надо искать по- ДРУГУ-
След чаще всего недолговечен. Прошел снежок или дождик — следы потерялись. Но дошли до нас на плитках окаменевшей глины следы динозавров — свидетельство жизни, когда человека еще и не было на земле.
Человек, как все живое, тоже оставляет следы. Бывает, что след человека нас очень волнует. По границе всей нашей страны распахана и тщательно разглажена солдатскими граблями полоска земли. Несколько раз в сутки ее осматривают — нет ли следов? Прошла лисица, горный козел, олень — нет беспокойства. Но появился на полосе человеческий след — тревога, кто-то прошел границу!
Следы башмаков на Луне, белоснежная полоса за невидимым самолетом и отпечаток подшитого валенка — это все главный след на земле, след человека. Но было бы грустно по свежему снегу видеть только следы людей. Крестики птичьих набродов, след зайца, норка лисицы, глубокий брод лося... Все живое оставляет следы. Следы означают жизнь. Нет следов — значит, нет жизни.
□
Опытный следопыт без ошибок читает снежную книгу зимы. Ружье за плечами, лыжи в руках. Сейчас он выйдет за околицу деревеньки, и следы расскажут ему все, что было в лесу за минувшую ночь.
239
Это конечно, чудо! Зима. Морозы — за тридцать. Лес завален снегами. Все его обитатели голодают, перебиваются кое-как в ожидании тепла. И только эта вот птичка не только сыта, не только беззаботно поет, но в самое лютое время выводит птенцов. Вот она перед вами в гнезде. Сидит плотно. Иначе нельзя — сначала греет яички, потом от мороза теплом своим будет спасать птенцов. В марте они вылетят из гнезда.
Речь идет о клесте. Возможно, немногие видели некрупную (чуть больше воробья), похожую на попугая птичку. Самочка серовато-зеленая, самец яркий: кирпичного либо вишневого цвета. Искать эту птицу надо в еловом лесу. И чем выше урожай шишек, тем больше шансов увидеть клестов. По сброшенным с елок шишкам их скорее всего обнаружишь. Глянешь вверх и увидишь занятное зрелище: шишки облеплены «попугайчиками». Они висят на них в разнообразных позах — боком, вниз головой, вверх ногами. Акробатика выполняется не только с помощью цепких лапок, но также и клюва. Подносишь к глазам бинокль и видишь подробности пира на шишках. Клюв у клеста — не конус, как у иных пернатых, а приспособленные к добыванью семян из шишек щипцы с загнутыми в сторону половинками клюва. Две-три минуты — и шишка пуста. Иногда клест срывает ее и, как торпеду — вперед концом, несет в удобное для трапезы место.
Семена елок — не единственная пища «северных попугаев». Летом они питаются насекомыми, семенами других деревьев. И все же еловые семена (есть еще клест-сосновик) являются основой их жизни. Старый, много поживший клест, тело которого пропитано смолистыми веществами, не подвержен быстрому тленью. Однажды, обнаружив в еловнике мертвую птицу, для опыта я оставил ее на месте и год спустя увидел снова без следов разложенья. Брем пишет, что видел 20-летнюю мумию птицы — такова сила еловых бальзамов.
Обилием корма объясняется феномен зимнего гнездованья клестов. К моменту (в марте), когда еловые шишки, раскрывшись, пустят по ветру свои семена, клесты успевают вывести и выкормить потомство. В суровое время, когда все в лесу замирает и утихает, клесты празднуют свадьбы, вьют гнезда и в период самых лютых морозов выводят потомство.
Гнездо клеста — прочное и теплое сооружение из лыка, травинок, перьев и мха — обычно расположено на верху ели и так, что нависшие ветки защищают его от ветра и снега.
Положив в гнездо первое яичко, клест-мама уже привязана к гнезду накрепко. Корм ей в зобу приносит самец, 240 корм калорийный, и самочка неподви¬
жным своим сидением отапливает гнездо: мороз в еловнике — 35, а в гнезде — 38 тепла. Брем и вслед за ним все орнитологи пишут, что, положив одно яичко, самка гнездо уже не покидает ни на минуту. Но это оказалось только логичным предположеньем. Биолог Д.В.Терновский в прекрасной своей студенческих лет работе, посвященной клестам, установил: да, в гнезде мама- клест сидит плотно, но все же изредка ненадолго и в относительно теплые дни его покидает. Птенцы остаются одни. Их согревает добротная пуховая одежонка, близость друг к другу и очевидная стойкость к морозу — окоченевшие с виду птенцы оживали, как только мать накрывала их теплым телом.
В отличие от птенцов всех других птиц, кормом которым служат исключительно насекомые, птенцы клеста вырастают на каше из еловых семян. Корма им надо много. И клест-отец в семейных своих заботах придерживается разумной тактики: пока самка сидит на яйцах и пищи ей надо немного, клест ближайшие к гнезду шишки не тронет, он успевает слетать за пищей подальше. Но когда число едоков возрастает в пять раз, в ход идут заповеданные запасы. Они тут, близко, рядом с гнездом.
Через три недели после появленья на свет клесты покидают гнездо. Клюв у них пока приямой, форму изогнутых щипчиков он примет позже. Но как раз в это время чешуйки у шишек от весеннего солнца топорщатся — семена достать просто да и родители еще продолжают подкармливать.
Клесты — птицы веселые, доверчивые, не очень голосистые, но говорливо-песенные. Их метко назвали: «птицы-цыгане». Они появляются вдруг неизвестно откуда, живут, выводят потомство и потом исчезают неизвестно куда, чтобы в год хорошего урожая еловых шишек вновь появиться и образом своей жизни напомнить: чудеса существуют!
□
ВЕЗДЕХОД
На лесной гари чудом уцелела высокая деревянная вышка. Я на нее забрался в надежде увидеть что-либо живое. Но даже мышиных следов не было на снегу. «Не огорчайся, — сказал лесник, — устроим столовую — едоки объявятся непременно».
Под горкой возле болотца лесной пожар пощадил рощицу старых осин. Две из них лесник повалил. И дня через три мы обнаружили: кора осиновых веток тронута зайцами и мышами. «Появится и сохатый...» И верно. Однажды утром мы обнаружили лосиные броды в снегу, орешки помета, место, где зверь лежал. Осиновые ветки были обглоданы, а где потоньше — съедены вместе с корой. «Будет ходить теперь, пока осиновый пряник не кончится».
Сфотографировать место кормежки сверху было нельзя. И я решил караулить: не пройдет ли лось к осиннику мимо вышки...
Случай идет навстречу тому, кто ищет его. На второй день под вечер я забрался на вышку, на веревке вытя-
нул кверху тулуп, приготовился ждать...
Ждал недолго. Прокричала сорока, и, обернувшись, я увидел то, что хотел. По редколесью, направлением на осинник, шел лось. Шел по прямой линии, как ходят к известной, хорошо проведанной цели. Снегу было по самое брюхо, но зверь-вездеход шел без малейших усилий, оставляя глубокую борозду.
Щелчков фотокамеры лось не услышал. Но мне захотелось хоть на немного задержать зверя. Я пискнул мышью, постучал костяшками пальцев по дереву. Лось на мгновение замер, поводил ушами, определяя направление звука. Помочился, выдавая нервное напряжение. Но, успокоившись, он, не меняя курса, проследовал вниз к болоту
На другой день я попытался подстеречь зверя, сделав засидку возле осин. Не пришел! По следам мы увидели: приближался, но повернул, почуял, как видно, опасность...
— Как же нашел он эти осины?
— А шут его знает, — сказал лесник. — Но не бывает, чтоб не нашел. Срубил или ветром свалило, смотришь — объедено. Как и волка, этого зверя ноги кормят. Иная живность все тропами ходит, а этот — целиком, напрямик. Вездеход настоящий.
□
В ЛЕСАХ У ВЯТКИ
В этих краях на узких лыжах не ходят. Узкие лыжи — это лыжня: куда один, туда все. Тут ходят на лыжах коротких и в две ладони широких. Таким лыжам торная колея не нужна. Иди куда хочешь. Любое место на этих лыжах доступно.
Февральский снег капустой скрипит под лыжей. Лес, лес — буреломы, завалы. Но вот полянка, наискосок прошитая строчкой лисьего следа. Вот норки в снегу — у края поляны ночевали тетерева. Глубокий лосиный брод в ивняках у болотца. Заячьи петли рядом с лосиным бродом. И вдруг следы, у которых идущая рядом собака жмется к ноге. Прошли волки...
Вятские земли не густо заселены. Тут осталось много пространства и для животных. Тут человек, как и встарь, снимает в лесу урожай, дарованный дикой природой. И потому едва ли не в каждом из деревенских домов видишь широкие лыжи. К охоте тут приобщаются с детства и расстаются с ружьем у самого края жизни. И охота, кажется, продлевает тут человеку жизнь. Глядишь, совсем старикашка, а сделал за день на лыжах километров под тридцать. И не с пустыми руками движется к дому — добыл зайчишек, косача и тетерку.
242
Разговор об охоте, начатый в лесу, кончается в доме у старика за чаем. И чувствуешь: нет ничего дороже для человека, чем вспомнить удачи лесных хождений.
Вспоминает охотник, как «офлачи- вал» (складывал флажками) волков, как тропил зайцев, подманивал рябчиков, как добывал куницу и выдру, караулил на овсяных полях медведей. В речи, неторопливой и обстоятельной, множество местных вятских словечек и охотничьих тонкостей, с полуслова, впрочем, понимаемых за столом. На языке этом заяц не бежит, а летит, а утки весною над Вяткой не летят, а идут, тетерева из лунок в снегу не взлетают —взрываются, молодого лосенка зовут сеголетком, а волчат того же возраста — прибылыми. И так далее. Что же касается местных вятских словечек, то вот образец.
Когда зашел разговор о лосях, старик примолкнул, послушал охотников помоложе. А потом сказал такое суждение:
— Лось — она хламина нотная, она, мотри, паря, тово...
Только чутьем можно понять мудреную простоту слов. В приблизительном переводе с вятского это вот что: «Лось, скажу тебе, зверь не простой, от него, смотри, парень, можно ждать всякого. ..»
На лося старик не ходит уже давно, а вот зайчишек, уток, тетеревов он еще промышляет. Есть у него потайные, ему только ведомые местечки в лесу. Знает старик, где пасутся весной медведи, где собираются осенью поглотать гальки отяжелевшие глухари, где проходят заячьи свадьбы, где на берег выходит выдра
— Пока ходится, надо ходить, — сказал он, прощаясь.
В холодных просторных сенях старик веником смахнул с полинявшей широкой лыжи снежок.
— Пока ходится, надо ходить, — повторил он уже на пороге.
Уже в сумерках шли мы в лесную избу к ночлегу. Убегала вперед и ворочалась резвая остроухая лайка. А мы не спешили, неторопливо шли, смакуя на перекурах аппетитное вятское словот- канье: «Лось — она хламина нотная, она, мотри, паря, тово...»
□
К охоте в этих краях приобщаются с детства и расстаются с ружьем у самого края жизни. 243
ВАЛДАЙСКИЙ ИНЕЙ
Есть какой-то секрет у валдайской погоды. В ином месте иней бывает в зиму раз или два, а тут каждое утро, подняв занавеску, видишь в окно белый мир. Белые сосны, в белых тяжелых ризах березы. Вороны, неподвижно сидящие в палисаднике, припудрены белым, у кота, важно идущего по дорожке, заиндевели усы. Возможно, сырые ветры, плывущие с запада, тут, у Валдая, упираются в каменный выступ земли и оседают пушистой изморозью. Каменный выступ (Валдайская возвышенность, а на старинных картах — Алаунские горы) — не слишком высок. Но это все же барьер для ветров, и потому в здешнем лесном и озерном краю наблюдается «свой особый валдайский климат»...
Две недели я жил в комнатке — постоянном прибежище рыбаков. И потому каждое утро, надевая носки, свитер или унты, должен был опасаться крючков. Крючки попадались в матраце, в маленьком коврике, в щелях пола, в сапожной щетке. Однажды, устроив облаву на колючую снасть, я отыскал восемь великолепных крючков. Но утром, прыгая на зарядке, вскрикнул и вынул из пятки очередную занозу.
— Это же шведский! — радостно заорал мой приятель, завзятый рыбак.
Наши дороги с приятелем утром расходятся. Он с пешнею в руках спускается к озеру, а я спешу на яыжню. Для лыжни лучшего места, чем лесные холмы Валдая, не выдумать. Вверх — вниз, но не круто, а полого, между деревьями вьется лыжня. Иногда надо нагнуться, чтобы нырнуть под арку согнутых веток. Не успел — за ворот сыплются холодные белые иглы.
Лес насквозь белый. Мутная хмарь мешает иногда вовремя разглядеть спуск, и ты вдруг мчишься вниз так, что лицо немеет от встречного ветра. Потом, петляя, долго лезешь на гребень. А забравшись, не можешь глаз оторвать — между большими стволами сосен внизу виднеется деревенька. Горстка домов. Дымы из труб. По равнине к деревне ползет воз с сеном. У крайней избы бегают две собаки, сороки ныряют в воздухе над домами и огородами. Находишь по карте название деревушки. Шуя... Идешь по гребню, и между соснами справа долго маячит сонная Шуя.
Другую деревню видишь в солнечный день, когда на избах, на приземистых баньках, на березах вдоль улицы, на уютных стожках у околицы иней сверкает и, кажется, сам начинает светиться.
— Что за деревня?
— Терехово! — кричит мальчишка и мчится на лыжах к озеру мимо стогов и банек.
Посредине деревни, на высоком столбе с крышей, как над колодцем, висит небольшой колокол. Это на случай по- 244 жара. В других местах для извлечения
тревожных звуков обычно служит обломок рельса или остов автомобильного колеса. А тут — колокол. Это наследство Валдая. В былые годы валдай- цы лили многопудовые колокола для церквей Петербурга и делали звучные поддужные колокольцы (ныне во многих местах они созывают школьников на урок). А тут сохранился колокол для набата. Сосновый столб, сам колокол и веревка, идущая книзу, застыли, побелели, как все вокруг. И так хрупок, так нежен белый узор в деревне, что, кажется, дерни веревку — и от сильного звука вздрогнут березы, резные наличники на домах, вздрогнут стожки и посыплется книзу морозная белая пыль...
Километров двадцать бежит лыжня по валдайским холмам. Временами идешь по озерному льду. Ты мухе подобен на обширном пространстве, но даже малого веса хватает, чтобы лед вдруг осел, и ты слышишь утробный звук, идущий как будто из самого центра земли. Если в солнечный день лечь на лед и заглянуть в прорубь, сквозь чистую воду видно песчаное ровное дно и стайки маленьких окуньков...
На одном из островов озера — остатки монастыря, сооруженного во времена Никона. Читая охранные доски на башнях и стенах, вдруг в тупик становишься перед надписью: «странноприимный корпус». Странноприимный... Странников принимали... Гостиница, стало быть, монастырская! Легко представить, как некогда странники, а теперь летом туристы плывут на остров на лодках из городка Валдая. Городок маячит, искрится на берегу, лыжня в него не проложена. Но, увидев однажды в глухом месте леса обрывок провода военной полевой связи, я завернул в валдайский музей узнать, что тут было во время войны.
Среди оружия, пробитых пулями касок, партизанской одежды и фотографий войны я долго стоял у карты с надписью по-немецки «Европейская Россия». Это была удивительно точная и подробная карта, со всеми, даже мелкими, речками, озерами, городами, селами и дорогами. Я разыскал на ней город Валдай, Валдайское озеро, нашел малые деревеньки, которые объехал теперь на лыжах. Отпечатали карту в Германии. С картой ходил в поход на Россию в 1918 году некий пруссак К. Фишер. Он вернулся домой, ничего не сумев отнять у России, и, возможно, берег карту как память. Но карта снова оказалась в полевой сумке солдата. На этот раз в поход отправился сын Карла Фишера, Юзеф. И отец сына благословил. На карте надпись: «Сыну Юзефу Фишеру в последний поход на Россию. Инстербург, 1941 год». Аккуратный сын весь путь из Пруссии на Восток метил красным карандашом: Инстербург — Каунас — Шяуляй — Рига — Псков — Дно — Старая Русса... На маленькой станции Лычково красный след на карте кончается. Тут, на Валдае, в единоборстве с советским солдатом Федором Марченко Юзеф Фишер нашел свой конец. Это было в феврале 1943 года. Мы не знаем, каким был тот день на Валдае. Возможно, вот так же остывал на морозе влажный западный ветер и оседал инеем на деревьях, на сожженных и уцелевших домах, на лицах убитых... Никто бы не знал, что жили на свете отец и сын Фишеры, если б не эта карта, по которой они шли отнимать у России Валдай, Москву, большие и малые речки, озера — землю, по которой проходят сегодня наши большие дороги, тропинки, следы от лыж.. .
Хорош на Валдае иней! Мы с другом выходили полюбоваться белым убранством на сон грядущий. Проходя по единственной улице деревушки с названием Долгие Бороды, мы видели все цвета инея возле окон. От света через красные занавески иней был красным, там, где был включен телевизор, иней под окнами был голубой. А в конце деревеньки, где висит на столбе обычная лампочка, все кругом похоже было на негатив фотографии — деревья стояли белыми, а небо темнело, как черный бархат. И так каждый вечер.
□
Не часто, за зиму всего несколько раз, природа надевает одно из самых нарядных платьев. В иголках инея, особенно при ярком солнце, лес стоит заколдованным. Но недолго. Легкий ветерок — и белый наряд исчезает.
V. /і'
245
НОЧНОЙ ВИЗИТЕР
Утром хозяйка, кормившая кур, прибежала взволнованная:
— Филин попался!
Мы бросили чай и вышли во двор. В вольере, обтянутой сетью, сверху зияла дыра, а внизу на земле, тараща два желтых глаза, сидела большая серая птица.
— Ну вот, голубчик, увиделись мы и при солнце, — сказал Нечаев.
Филин разглядывал нас, явно волнуясь. Он сделал попытку взлететь, вцепился когтями в сетку, и мы увидели лапы, способные схватить столько же, сколько может схватить человеческая рука.
Невольником филин стал в результате ночной охоты на кур. Двор у Нечаева необычный. Тут в норах, под постройками и деревьями, живут сотни две диких кроликов. Тут вперемешку с индюшками ходят куры разных пород. Ночами индюшки и куры спят на деревьях, а кролики, как привидения, бегают возле дома. Для тех, кто охотится ночью, двор — чистое Эльдорадо. И такой охотник тут объявился.
В окрестных лесах у Донца, по прикидкам Нечаева, живут десять пар филинов. Повсюду исключительно редкая птица в таком количестве тут размножилась благодаря обилию пищи и покровительству человека. Оберегая зайцев, Нечаев стреляет сорок, ворон, лисиц, ястребов. И лишь филинам позволяется жить и охотиться беспрепятственно. Душераздирающий крик ночью, похожий на крик ребенка, означает, что ловкий охотник прищучил зайца. Зайцы — основная пища филинов в здешних местах. Но так же умело эти большие совы ловят фазанов, ворон, канюков, ястребов. Не брезгуют филины даже жуками. И там, где водится филин, ежи не должны быть беспечными — колючки филину не помеха.
Насытившись, с остатком добычи филин не расстается — носит ее с собой, сберегая от сорок и ворон, греет ее животом — еда теплая много вкусней замерзшей.
Филины осторожны. Известны, однако, случаи, когда они залетали в черту городов, привлеченные крысами и бездомными кошками. И ничего удивительного в том нет, что один из лесных соседей Нечаева стал ночами летать во двор, где спали на ветках куры и беспечно бегали кролики.
Строгого счета курам во дворе нет. Кролики тоже не считаны — убыток живности был замечен не сразу. Незамеченным долго не мог оставаться сам громадный охотник. Но, увидев его однажды, Нечаев пришел в восторг: «Кур- то мы разведем сколько угодно, а филины — редкость!»
Как будто чувствуя покровительство, ночной визитер стал регулярно и почти безбоязненно появляться в добычливом месте. У него тут два излюбленных 246 наблюдательных пункта. Один — на столбе электрической линии, другой — на ивовом пне, у самого края двора. Сверху, притихнув, филин наблюдал за жизнью двора, намечал жертву и, скользнув на мягких неслышных крыльях, уносил в темноту курицу или кролика.
Так, наверное, было и в эту ночь. Но то ли курица не спала и кинулась с ветки напропалую вниз, то ли филин неловко ее подцепил — бросился догонять и вместе с курицей оказался в ловушке. Курица через дыру в сетке сумела освободиться. А филин на своих
широченных крыльях выбраться из вольеры не смог.
Мы с Нечаевым стали думать, что с пленником делать: оставить жить во дворе или выпустить на свободу? Для начала решили его накормить и посмотреть заодно, какими будут его отношения с курами днем. Две хохлатки, пущенные в вольеру, в панике заметались, однако филин глядел на них, пожалуй, даже испуганно. Но мирная жизнь продолжалась только до темноты. Вечером, посветив в вольеру фонариком, мы увидели кучу перьев и сыто глядевшего на нас филина. Он был спокойно-невозмутим.
Утром мы филина выпустили. Тяжелая птица неспешно скрылась в заиндевелом февральском лесу. «После такой переделки теперь дорогу во двор забудет», — сказал Нечаев. Но через два дня вечером в дом постучался соседский мальчишка: «Дядя Боря, филин на пеньке, филин!»
Несомненно, это был наш визитер. Что его привело ко двору да еще в светлое время? Привычка к легкой добыче? Или, может быть, это была уже старая птица, которой трудно стало охотиться там, где охотятся молодые.
□
ЛИСА В ОКЛАДЕ
Павлов на широких лыжах торопливо обходит лесок. Странное дело у Павлова: глянет на след и кладет в карман палочку. Входной след — палочку в левый карман, выходной — в правый. Обежал Павлов лесок, вытряхнул палочки. Все собрались в кружок, ожидают «чет» или «нечет»? Павлов подышал на руки, аккуратно считает... Палочек девятнадцать — «нечет!». Без промедления кто-то хватает катушку с флажками и убегает по лыжному следу. Ясно: лисица в этом леске. Будь палочек, например, восемнадцать, никто с флажками не побежал бы — четное число означает: сколько раз лисица входила в лесок, столько же раз и вышла. А девятнадцать — другое дело.
Теперь скорее, скорее оцепить лесок заборчиком из флажков!
Странное ограждение — шнурок и на нем кумачовые тряпочки. Шнурок висит на ветках кустов, на старых пнях, на сунутой в сугроб палке. Флажки красными пятнами исчезают за поворотом. И вот уже с другой стороны появляется потный, возбужденный окладчик. Шнурка чуть-чуть не хватило. Охотник в «продолжение забора» кинул варежки, шарф, комок газеты, наколол на сучок коробку от сигарет.
Все. Магический круг образован. Полушепотом Павлов определяет, кому и где становиться. В оклад уходят двое загонщиков. Теперь все просто. Надо тихо и незаметно стоять. Почуяв загонщиков, лиса пожелает покинуть лесок. Ан нет, привычным лазом пошла — флажки! Устремится в другую сторону — и там этот жуткий красный, пахнущий человеком забор. В поисках выхода лиса неизбежно выйдет на кого-нибудь из стрелков. Надо ждать...
От напряженья и тишины у меня начинает звенеть в ушах. Мороз забирается в валенки, иголками впивается в уши и щеки. В глубине леса от стужи с пушечным гулом треснуло дерево. Надо под полушубком согревать аппараты — пленка на морозе ломается в них как солома. Неуютно и неудобно. Стою, однако, исправно. Дятел не замечает меня, долбит гнилую осину. Серебри- 247
стая кисея снега летит под ноги вперемешку с крошками дерева.
Ну что, загонщики умерли, что ли?.. Нет, не умерли. С морозным треском пролетела глухарка. Потом заяц выскочил на полянку. Ушастый зверь на секунду остановился, прислушался и равнодушно прыгнул через флажки.
«Ну давай, давай... Вылезай, рыжая...» — слышится приглушенный подушками снега голос загонщика. Сейчас, вот сейчас где-нибудь ухнет выстрел.
Но из чащи, ломая сучья, вылезает обсыпанный снегом загонщик. Увидав одного из стрелков, загонщик начинает насвистывать. «Летку-енку». И сразу со всех сторон голоса. Ясно, лису никто не увидел. Или от мороза в нору ушла, или, скорее всего, оклад был пустым.
— На какой елке будем Павлова вешать?!
Авторитет Павлова так велик, что он не считает нужным ответить на шутку. Важно выяснить: что же случилось? Павлов убегает поглядеть на следы. Мы же, приплясывая, считаем, во что обошлась нам осада. Потери немалые: один обмороженный нос, два уха, оператор с кировской телестудии минуту держал камеру голой рукой, теперь на руке огромный, как от ожога, волдырь...
Лиса провела восьмерых охотников просто: пока тянули флажки, она, аккуратно ступая в заячий след, ушла из 248 леска.
— Ну что, домой? — загалдела наша компания, как будто это и было главное на охоте.
И заскрипел снежок под широкими лыжами. Обнаружилось: от теплой лесной избы за день мы удалялись километров за десять.
На полпути к дому, на высоком пологом бугре, делаем перекур. Как раз в этот момент посиневшее от холода солнце встретилось с горизонтом. Я много раз замечал: человек всегда остановится проводить глазами заходящее солнце. Ничто так в природе не бередит душу, как это молчаливое окончание дня.
Сейчас на земле полная тишина. Чуть розовеет снег. Наши тени кажутся бесконечными. Они растворяются где-то на лежащих внизу холмах. Лес по холмам темнеет брошенными в беспорядке овчинками. Вдалеке овчины соединяются в одну туманную синеватую шубу. Кажется, не будь этой шубы, земля без солнца заледенеет, и к утру не будет на ней ничего, способного летать или бегать.
«Бр-р... Поди, под сорок мороз-то...» Лесок, где мы забавлялись флажками, кажется сверху маленьким пятачком. Как раз над ним пролетает сейчас стайка потревоженных кем-то тетеревов. «Глядите, глядите! Не наша ли?» По ложбине между кустами неторопливо бежит лиса. Один из охотников озорства ради стреляет вверх. Грохот звенящим клубком катится по холмам. Но лиса в нашу сторону даже и ухом не повела. Возможно, она уже нагляделась на нас из укрытия и теперь мы потеряли для нее интерес. А может быть, и лису волнует заходящее солнце. Вот она взбежала на бугорок, села и глядит, как остывает, дымится и вот-вот исчезнет уже не дающий света малиновый круг.
В рубленной из толстых сосен избе русская печь. Заслонка открыта, жар и свет из печи такой, что за столом надо все время вертеться, подставлять теплу то один бок, то другой.
Павлов режет принесенную с мороза лосиную печенку (в минувшее воскресенье охота была удачной). Кто-то достал копченную осенью медвежатину. Явились на стол брусника, кренделя на веревочке...
— Печенка по-вятски! Уверяю, нигде в мире такой не бывает, — говорит Павлов и водружает на стол сковородку...
Сладко заныли ноги, огнем горят ошпаренные морозом носы и уши. Кто- то уже захрапел на разостланном полушубке. Огонь погашен, только из печи на стену падает красноватый, уже не горячий свет. Разговор вполголоса, как водится, об охоте.
— А что же, лиса через флажки не посмеет?..
— Не посмеет, боится. И волк боится, и лось...
— Зайцы, наверно, по глупости не боятся.
— Медведь не боится. Рысь тоже, сам наблюдал, не боится.
— Волки очень боятся. Помню случай, неделю держали в окладе девять волков, ждали именитых охотников. Только один ушел. По следам потом видели — полз на брюхе, в снегу под флажками глубокую борозду сделал, простите за выражение, жидким ударил от страха, а все-таки пересилил себя. А восемь остальных не посмели. Ну всех, конечно, и положили. Вот ведь штука — флажки.
— Да что зверь, а человека возьмите. В иной жизни тоже получается круг. Простое, кажется, дело, перешагни — и все пойдет по-иному. Нет, смелости не хватает. Так и живет иной бедолага в окладе. Не верно я говорю?..
Молчание. То ли все уже задремали, то ли о чем-то думают.
Морозный узор на окошке. На полу синеет полоска лунного света. А на бревенчатой стенке пляшут теплые пятна света из печки. Я засыпаю с приятной мыслью, что сегодня только суббота, что завтра мы еще всласть померзнем на перелесках.
□
249
КАБАНИИ УЖИН
Почти каждый день в пуще мы видели кабанов. Но только одно мгновение. В самом неожиданном месте дорогу перебегало безмолвное существо в темной попоне. Все случалось так быстро, что я не успевал навести объектив, не успевали мы и как следует разглядеть зверя. Мелькнул — и все.
Один раз дорогу пересекала семья кабанов. Попоны тут были разные: черные, и посветлее, и рыжеватые в продольную полоску у совсем маленьких поросяток. Визг, хрюканье. И сразу же тишина. Опять мы стоим возле следа, уходящего в сумрак между стволами. Жизнь леса только маленьким краем мелькнула перед глазами. И опять все скрыто мокрыми лапами елок и теплым туманом.
— Поглядеть бы хоть одним глазом...
— Терпение есть — можно и поглядеть, — сказал лесник. — В надежном месте посажу вас на вышку. Рассыплем подкормку...
Сидим на вышке. Это сооружение в еловом лесу можно принять за крохотную избушку на длинных скрипучих ногах. Маленький деревянный помост прямо-таки стонал, пока мы поднимались по лестнице. И теперь, когда мы сидим наверху, укутанные в тулупы, помост скрипит от малейшего шороха, скрипит, кажется, даже от движения головы. Краешком глаза вижу часы на руке — сорок минут сидим. Мороз отыскал щели в тулупе. Нестерпимо хочется пошевелить руками, ударить валенками друг о друга. Но мороз должен быть и нашим союзником — аппетит у кабанов в такую погоду отменный. Вот-вот должны появиться.
Почти под вышкой, между стволами берез и елок, рассыпан корм — картошка и желуди. Кабаны знают об этой столовой. Скрип саней и разговор егеря с лошадью — для них привычный сигнал к обеду. Но что-то медлят... Сидеть, впрочем, совсем не скучно. Мы видим лесную жизнь в минуты, когда она ничем не потревожена.
Главных едоков нет, но пир уже начался. Лесные мыши шныряют по россыпи желудей. Почти одновременно появилось полдюжины соек. Они поочередно пикируют сверху. Схватила желудь и низом-низом в сторонку. Где- то у каждой своя кладовая — избыток еды, надо делать запас. Пикируют беспрерывно, и мы видим необычайно красивый наряд лесной модницы. Два дрозда уселись на ветку над головами у нас. Дрозды верещат, чистят перья — значит, сидим мы достаточно скрытно.
Холодная тишина. Вдруг один из нас вбирает голову в плечи — какой-то звук или показалось от напряжения?.. Проходят две-три минуты. Еще. Теперь уже явственный звук: глуховатое хрюканье. Старый кабан унимает нетерпеливых подростков.
Надо совсем замереть. Но именно теперь смертельно хочется почесать левое ухо, ну, кажется, совсем нельзя превозмочь это проклятое желание... Идут. Шорох, повизгивание. И опять тишина. Так и должно быть. Стадо идет толчками — торопливое шествие, а потом остановка: прислушаться, принюхаться.
Уже совсем хорошо слышно: визжат поросята и шуршит подмороженный снег. Только бы не чихнуть, не выронить от напряжения какую-нибудь фотографическую штуковину. Вот они! Из-под елок, напирая друг на друга, выкатываются семь или восемь темных годовиков. Мгновенная остановка, но при виде еды уже нельзя удержаться — галопом мчатся под вышку. Если сравнить с людьми, то эти семь молодцов похожи на смелых, почти безрассудных ребят лет восемнадцати. Наскочили, дерутся, торопливо-хватают промерзшую мелочь картошки. Случись беда — эти семеро пострадали бы первыми. Но семья за них, видно, меньше всего боится. Уже не дети, и сил много — не пропадут. А если что и случится, то семейных забот у молодцов пока нет, кому же, как не им, рисковать? Но они сейчас ничем не рискуют. С победным хрюканьем рыщут под вышкой.
Звуки довольства, видимо, убеждают и остальных, выжидающих в ельнике: опасности нет. Все стадо несется к столу. Впереди с визгом, натыкаясь друг на друга, катятся рыжевато-серые, полосатые поросята. А следом трусят мамаши, тетки, дядья. Достигли корма и сразу, бесцеремонно поддавая в бок, стали теснить разведчиков-молодцов — «дайте поесть малышам». Сами мамаши и тетки не забывают схватить там, где погуще насыпано. Молодцы же, видно, хорошо понимают за столом свое место — быстро отскочили на край. Один-два ослушника прорываются к середине, но получают затрещины рылом. Обед идет по всем правилам иерархии.
Мы с вышки не сразу замечаем главное лицо в этой суетливо-подвижной компании. Старый кабан. Он почему-то едва показался из темноты ельников. Чуть пригнувшись, я вижу, как он стоит на месте, порывисто обращая клыкастую морду то в одну сторону, то в другую. Может, ему, старому секачу, так и положено, а может, он, умудренный опытом, что-то почуял. В другое время кабан ходил бы совсем один. Но теперь, в начале зимы, пора свадеб и старый вожак вернулся к стаду. Не очень торопливо он решается наконец покормиться. Видно сразу: ему полагается первый кусок. Но, хватив раза три желудей, кабан вдруг начинает бегать кругами возле кормежки.
Я чувствую: наступило время снимать. Шорох, хрюканье, визг. Щелчки зеркала в моей камере вроде бы не должны быть услышаны. Но, видимо, что- то кабаны все-таки слышат — с каждым щелчком ближние к вышке
250
Они приближаются. Сначала осторожно, неторопливо. Но если опасности не почуяли, пируют с хрюканьем, с шумной возней.
вздрагивают. Аппетит, однако, заглушает чувство опасности.
Старый кабан все же насторожился. С резким хрюканьем он отбегает в сторону, слушает, перебегает на новое место, вгорячах поддает какую-то нерасторопную тетушку. Кабан встревожен. Но скорее всего не звуком, а запахом. Он бегает туда-сюда. Подними кабан морду, увидел бы наши возбужденные лица. Но кабану не дано поглядеть кверху. Он ловит запах. Ветерок в нашу сторону. Мы хорошо чувствуем весь «аромат» хлева. Шныряя, кабан наверняка забежит сзади нас, и ветерок принесет ему с вышки запахи человека. Так и есть. Кабан шуршит где-то у нас за спиной. Затихаем. Но бесполезно. «Ве!П» Чувствуем, как, издавая горловой отрывистый звук, старый кабан подпрыгнул. К стаду он проносится напрямик как раз под вышкой. Еще один такой же сердитый повелительный окрик, и уже нет никого на поляне. Как будто и не было. Кое-где на снегу темнеют остатки желудей и картошки. Две сойки удивленно нагнули головы с ветки сухой березы.
Разминая затекшие ноги, мы всласть попрыгали на скрипучей площадке, разглядели как следует вышку. В щелке между досками я увидел мятую картонную гильзу шестнадцатого калибра и живо представил, как тут проходит охота на кабанов. Промахнуться почти невозможно, если даже ты первый раз в жизни держишь ружье.
Впрочем, приезжая домой, охотник вряд ли кому-нибудь говорит, каким образом одолел зверя. Возможно, дома его назовут героем. Ведь кабан издавна считается зверем свирепым. Он и в самом деле свиреп, этот зверь с древним названием вепрь. Охота на него требует мужества и сноровки. А тут, на вышке: теплый тулуп, немного терпения и желанье стрельнуть по живому — вот и вся доблесть. И если не все кабаны попадают под пули, то в этом заслуга исключительно кабанов, зверей осторожных, чутких и сметливых.
□
ВЕДЬМИНА МЕТЛА
В одетом лесу ее можно и не заметить. Но зимою видишь издалека и принимаешь за сорочье гнездо — плотный шар туго переплетенных тонких веток. Вблизи видишь, что шар висит, подобно большому плоду, на ветке, и понимаешь: сороки тут ни при чем, происхождение «гнезда» растительное.
Как-то зимой на одной из берез я увидел шестнадцать шаров различной величины. Один громадный, другие — с футбольный мяч и с кулак. Строенье у всех одинаковое: из одной точки в стороны шли живые побеги. В середине шары были плотными, а поверхность — колючий еж.
В народе эти сгустки побегов (чаще всего их видишь на березах и соснах) называют «ведьмины метлы». Наука определяет их как болезнь, свойственную всему живому. Если очаг возникает в древесной массе — образуется плотный нарост, называемый капом. Если лавиной размножаются клетки поверх- 251
ностные — образуются такие вот мётлы. Увешанное «метлами» дерево, конечно, страдает. Но живет долго. В Литве мне показали сосну с огромной «метлой», за которой наблюдают уже лет сорок.
Но встречаются «метлы» происхожденья совсем иного. В ветках ивы, осины, тополя, груши, сосны вдруг видишь зеленый сгусток, всегда зеленый — зимой и летом. Это значит — на дереве поселилось растение-паразит под названием омела. Такого рода растительных приспособленцев немало в тропическом поясе. Но живет омела и в наших лесах. Встречаешь ее нечасто, но повсюду. Странный зеленый клубок летом покрывается липкими ягодами. И птицы, особенно дрозды, сейчас же спешат на пир — едят сами и носят ягоды в гнезда птенцам. Проходя пищеварительный тракт птицы, семечко растения-паразита не погибает, сохраняется на нем и клейкая оболочка. Оброненное на ветках дерева семечко прилипает к какой-нибудь ветке, и всё — место для жизни растению обеспечено. Сильным клейким ферментом семя разъедает кору и, прорастая, начинает тянуть из дерева соки.
Но было бы слишком хорошо для омелы приживаться на любом дереве. Природой возможности паразита несколько ограничены. Подобно тому, как кукушка не в любое гнездо может подбросить яйцо, а только туда, где подкидыша не отличат от яиц собственных, омела тоже имеет «свои» деревья. Омела сосновая не привьется на груше, омела, живущая на иве, не живет на сосне.
Поселение на ветвях паразита — несчастье для дерева. Омелы живут, разрастаясь, лет двадцать-тридцать. И все это время дерево кормит своего захре¬
бетника... Несимпатичный зеленый ком! Но сложно все в жизни устроено — птицы любят омелу. И людям она оказалась полезной — содержит ценные лекарственные вещества.
Таковы они, «мётлы» — черные и зеленые, — хорошо заметные на не покрытых листвою деревьях.
Омелу я часто видел в лесах Белоруссии и Литвы. Что касается «метел», то, видимо, есть у некоторых деревьев предрасположенность к этому заболеванию — в Подмосковье я видел березы, сплошь увешанные шарами тонко переплетенных веток.
□
ОЛЯПКА
Мороз под сорок. Снег сначала по пояс, а в зарослях, к берегу ближе, — по самые плечи. Движение — со скоростью черепахи. Зато какая награда! На звуки нехитрой песни («Фью-цы-цы, фью-цы-цы!»), дойдя до каньона речки Шульган, я вижу птицу, о которой много слышал и много читал.
Оляпка... Птица сидит на покрытом инеем камне у водопада. Брызги воды ледяным бисером оседают вокруг.
То ли по природной привычке, то ли от волненья, что видит рядом с собой человека, оляпка, как заводная игрушка, смешно приседает, сопровождая движения песней.
Оляпку зовут кое-где водяным воробьем. Почему? В облике и в повадках воробьиного нет ничего. Будь подлиннее хвост и будь оляпка крупнее телом, принял бы ее за дрозда. Но хвост у певуньи напоминает хвостик крошки-крапивника — задорно торчком вздернут кверху. Изящен наряд у оляпки — куртка бархатно-черная, манишка белизною поспорит со снегом. И странно плясунья меняет форму: то похожа на шарик с головкой, а то вдруг становится веретенцем — точь-в-точь барсучок-поползень.
В веретенце моя знакомая обращается сразу как только прыгнет с камня на мокрую гальку и начинает проворно ворошить ее клювом. Охотясь за козявками и жуками, она забредает в речку. И вдруг, не замедляя резвых движений, уходит под воду.
Вода в текущем из пещеры Шульгане кристально чистая. Все же мне видно лишь темную тень оляпки и перламутровый шлейф из пузырьков воздуха, отмечающий ее бег под водой. Движения те же, что были на отмели, и добыча, как видно, та же: козявки, личинки. Но вот попалась, кажется, рыбка величиною со спичку. С этой сверкнувшей на солнце добычей охотник выбежал из воды, вспорхнул на камень, и вот он уже превратился в черный с белой отметиной шарик. И успокоенно задремал.
У меня от мороза онемел нос, руки не слушаются, фотокамеру, чтобы не отказала, держу за пазухой. Приятель мой наверху, над Шульганом, слышу, пляшет на месте — замерз. А оляпка после хождения под водой сладко дремлет.
Две птицы поражают воображение человека на зимнем холоде. Клест, который именно в это суровое время выводит птенцов, и оляпка, «по морозу ходящая в воду за пищей».
Оляпка не принадлежит к привычным для нас водным и водоплавающим птицам (гуси, утки, поганки), у нее на лапках нет перепонок. Оляпка, подобно дроздам, трясогузкам, скворцам, добывала когда-то свой корм на суше, предпочитая, как видно, берега речек.
252
Эту жизнерадостную птицу можно увидеть там, где шумит, не замерзая, вода.
Забредая иногда в воду, она приспособилась постепенно полностью погружаться в нее. Оперенье оляпки приобрело необычайную плотность и обильно смазано жиром — тело птицы в воде остается сухим. Ноздри у птицы закрываются клапанами, уши — складками кожи. Водолаз в полной форме!
И вот живет оляпка теперь исключительно у воды и лето, и зиму, выбирая потоки, не скованные морозом. Такую воду встретишь зимою только в горах и предгорьях. Но старики говорят, что жили оляпки раньше и на равнинах — у водяных мельниц. Возможно, этим объясняются редкие, удивляющие орнитологов залеты птичек в равнинную полосу.
В горах и предгорьях почти любая незамерзшая речка, любой ручей обжиты оляпками. Корма в воде на зиму хватает едва-едва. Потому вопрос территории для оляпки — наиважнейший.
Зимует оляпка почти всегда в одиночестве, и лишь к весне ближе образуются на ручьях парочки.
Такое сообщество я и встретил в южноуральских предгорьях на речке Шульган. Птицы, кажется, отводили душу после долгого одиночества — покормившись, они носились вперегонки над самой водой, повторяя все изгибы прихотливой речонки.
Еще раз с оляпкой близко познакомился я в Саянах, в верховьях реки Абакан. Возле избушки староверов Лыковых протекает ручей. Он сплошь завален камнями и быстро течет, весь белый от пены. Тут, придя за водой, я увидел оляпку. Птичка совершенно меня не боялась. Перелетая с камня на камень, она ухитрялась что-то в воде разглядеть и то и дело ныряла. Я поманил пальцем Агафью. Для нее резвая, белогрудая птица была спутницей жизни. Оляпку Агафья видела на ручье с детства.
□
КРОТКАЯ ПТИЦА
В январе, проезжая литовскими перелесками, возле самой дороги мы несколько раз видели непривычные стайки птиц. Птицы клевали что-то на обнаженных ветром гривах сухой травы, разгребали лапами снег. Когда я с камерой выскакивал из машины на обочину, птицы не спешили взлетать, а долго бежали, делая в снегу борозды. Серые куропатки...
Последний раз я видел их лет двадцать назад у дороги в Челябинской области. С тех пор только в книжках попадалась мне эта скромно одетая птица наших равнин. Люди старшего поколения уверяют: она была, как голуби, многочисленна и столь же доверчива. Стайки куропаток ютились в соломе возле ометов, риг, токов и сараев — всюду, где можно было найти случайное зернышко. В суровые зимы, голодая, птицы совершенно переставали бояться людей и забегали в открытые сени. Для беззастенчивого охотника это была сверхдоступная дичь. Выражение «перестреляли как куропаток» — красноречиво. Но охотников было немного, а крестьянин любил эту кроткую птицу, спутницу его деятельности на земле. Летом поле наполнено было криком перепелов, а зимой там и сям бегали и взлетали стайки доверчивых куропаток. Весною пахарь мог наблюдать азартные драки куропачей. Позже на глаза иногда попадалась сидящая на гнезде куропатка. А летом отец приносил в картузе ребятишкам пятнистого малыша — куропатки хорошо переносят неволю и, не в пример курам, проявляют привязанность к человеку.
Житье в природе у этой птицы было всегда нелегким. Большое число пернатых врагов и суровые зимы могли бы извести куропатку. Но хорошая плодовитость (девять-семнадцать яичек в гнезде) была гарантией выживания.
И вот почти повсеместно серая куропатка исчезла. Причин тому несколько, и серьезных. Сплошные распашки под монокультуры лишили птицу убежищ и мест гнездований. Взрослые птицы отравляются протравленными семенами, малыши лишены обязательного для них корма — насекомых, погибающих тоже от химикатов. Еще не умеющий летать молодняк попадает под режущие детали уборочных машин. Все это вместе скоро и повсеместно извело куропаток. Лишь кое-где теплятся малые их очажки.
Помочь птице трудно. Делаются попытки, так же как фазанов, выводить куропаток в инкубаторе и выпускать в природу, оберегая хотя бы от режущих механизмов машин.
Одна такая ферма построена в Нижнем Поволжье. Куропатки в неволе хорошо размножаются. В инкубаторе из яичек появляются они сотнями. За 253
Когда-то очень распространенные, сегодня серые куропатки повсюду редки.
те же. И все-таки мозаичное чередование в здешних местах полей, рощиц и малых лесков сохранило для куропаток убежища и корма, не тронутые химикатами. Немалую роль играет обилие в здешних местах воды. (Куропатки нуждаются в водопоях. И, как ни странно, способны плавать.) Не последнее дело — и помощь людей. Охотники куропаток не трогают. Больше того, именно руками охотников повсюду сделаны убежища и кормушки. Проезжая, видишь в поле шалашик из елового лапника. В нем птицы находят пищу и могут укрыться от хищника. Иногда такие шалашики видишь прямо в саду у дома. Вытянув шеи, погружаясь в снег, подобно пловцам, куропатки спешат на обед, приготовленный человеком.
□
взросыми птицами приезжают сюда с разных концов страны. Воспроизводство это ведется уже несколько лет. Но эта помощь природе ощутимого результата пока не дает. Некогда очень распространенная птица почти повсеместно встречается исключительно редко. В Красную книгу она еще не попала, но может в нее залететь.
И потому-то очень приятно было увидеть на перелесках Литвы стайки милых доверчивых птиц. Мне сказали: численность их в последние годы и тут сократилась примерно вдвое. Причины
ОПУШКА
D природе серединной России есть зоны, особо приятные глазу: речные долины, лесные поляны, островки леса в поле и лесные опушки.
Есть какая-то сила, влекущая и человека, и зверя к лесным опушкам. Идешь полем — глаз дразнит неровная синяя линия леса. Подходишь ближе — тянет идти вдоль опушенной кустами стены деревьев. И в траве у опушки обязательно обнаружишь торную троНку — не ты первый заворожен границей леса и поля, многих опушка вела куда-то извилистым краем: по одну руку таинственный полог деревьев, по другую — пространство, залитое солнцем. И зимой — обратите внимание — вдоль опушки обязательно вьется лыжня. В поле ветрено, скучновато, в лесу местами — не продерешься. А опушкою — хорошо! И строчка лисьего следа тоже вьется 254 вблизи опушки. Вот видно: стояла лиса, прислушивалась, приглядывалась к заснеженному жнивью из-за кустика терна. Вот мышковала возле стогов, а испугавшись чего-то, быстро метнулась к опушке и сразу остановилась, обернулась мордою к полю: я тебя вижу, ты меня — нет.
Заяц тоже топтался у края леса. В поле беляку делать нечего, а опушка для него интересна — можно погреть на солнышке бок, и корма на этой освещенной солнцем границе древес гораздо вкуснее, чем в чаще. Об этом знает не только заяц. Знает и лось, и олень. Следы выдают места их кормежки.
А что касается зайцев, то в конце зимы на опушке, где-нибудь около тальников, у молодого осинника или поваленной ветром старой осины, они учиняют прилунные игры и свадьбы с бешеной скачкой, с прыжками друг через друга. Утром, если пороша не скрыла свидетельства заячьих радостей, видишь сильными лапами утрамбованный снег, орешки помета, на колючках — белые прядки пуха. Опушка леса для зайцев — все равно что околица у деревни для человека. Корма — кормами, но кто возьмется утверждать, что заячье сердце не бьется от радости в лунную ночь на этой волшебной границе света и тени — лесной опушке.
На опушках кормятся и любят просто так посидеть на березах тетерева. И не только тетерева. У птиц, я заметил, есть ритуал прощания с солнцем. Каждый знает, как волнует человека момент, когда солнце у вечернего горизонта краснеет, становится странно большим, дымится и вот-вот мигнет на прощание глазом. Момент ухода светила волновал, надо думать, и наших далеких предков. I юявляясь на свет, мы
имеем наследство тысячелетнее — щемящее чувство радости и тревоги при виде заходящего солнца. «Красно солнышко», «Заря моя вечерняя...» — во скольких песнях запечатлено это вечернее волнение, ощущение красоты и таинства мира. Любопытно, что днем шествие солнца по небу принимается нами без особых эмоций. А вот окрашенная пурпуром граница дня и ночи заставляет нас задумчиво стоять у окна, заставляет замедлить шаги, притихнуть, если мы даже очень спешим, в дороге.
Что-то похожее на закате солнца переживают, наверное, и птицы. Я много раз наблюдал: шум-гам в лесу, но вот зарумянились шишки на елках, заиграли красные отблески на верхушках берез, и лес затихает. Чуть позже, когда сумрак из-под полога леса поднимется кверху, звуки возобновятся. Переговариваясь, птицы будут устраиваться на ночлег. Но в момент, когда лучами заката освещены верхушки деревьев, птицы стихают и сидят в вышине неподвижно — прощаются с солнцем. Я это много раз наблюдал. А однажды, проходя по холму в стороне от знакомой опушки, был остановлен заходом солнца. Закат был огненный, а солнце большое и кроткое. Глядеть на него можно было даже через бинокль. Размышляя — с кем разделяю радость вечернего света? — я навел стекла на лесную опушку и поразился: на верхушках деревьев, головою на запад, недвижно, молчаливо, торжественно сидели вороны, два канюка, голуби, сойки, сороки, дрозды. Заснять всех собравшихся на опушку проводить солнце было нельзя. Но на листке блокнота я спешно зарисовал все, что видел в бинокль. И сейчас, разглядывая листок с торопливым карандашным наброском, я до малейших подробностей вспоминаю тот вечер, свое волненье и птиц, прилетевших к опушке молчаливо проститься с солнцем.
Я несколько раз проверял, спешил специально к опушке под вечер. И всякий раз ритуал прощания с солнцем был одинаков. Птицы сидели притихшие. И только после захода светила начиналась у них ночлежная суета.
Той опушкой, выходящей к шоссе с направлением на Калугу, я возвращался не менее сотни раз, в разное время года, в разное время дня, но чаще всего это был вечер. Я помню, кто и как готовится к ночи. Вороны после заката летят с окраины леса в город, сороки, напротив, после промысла в деревнях слетаются в лес и ночуют большой компанией. Я видел мерцающий стайный сорочий полет, слышал, как, покрякивая («все спокойно!»), сороки устраиваются в густом плотном ельнике. Проходя на опушке в более позднее время и желая проверить, на месте ль завсегдатаи ночлежки, я ударял по дереву посошком, и сейчас же в сумерках начинался невообразимый сорочий гвалт, настоящая паника перепуганных птиц. На той же опушке в плотном молодом ельнике спали обычно дрозды.
Зимой у окраин леса на репейниках
И лыжня, и летняя тропка, повторяя изгибы опушки, доставляют ходоку много радости.
255
Граница леса и поля всегда почему-то привлекает животных.
держатся стаи щеглов, на рябинах и на терновнике — свиристели. Вылетают из заснеженной чащи полущить семена конского щавеля снегири. И уже много лет на этой опушке я веду занятные игры с ушастыми совами. Днем эти птицы хоронятся в чаще, как будто их нет. Но смолкнет после заката щебет дневных обитателей леса — наступает час сов. Иногда я сажусь специально дождаться этого часа.
На земле уже сумрак. Густеет синева неба, но на нем хорошо еще виден силуэт бесшумно пролетающей птицы. Совы из лесной глубины собираются на опушке у края пшеничного поля и сидят, готовые к ночной охоте. В этот момент попищи мышью — и вот она, таинственная ночная птица с широкими мягкими крыльями. Она, разумеется, видит тебя и все же делает разворот, услышав желанные звуки, бесшумно скользит в трех метрах от твоей головы, улетает, но возвращается снова.
Иногда я эту игру усложняю. Ложусь 256 под низким пологом на опушке растущей ели и там притворяюсь мышью, сопровождая писк еще и легким шуршанием листьев. Однажды осенью эта игра привлекла целый выводок молодых сов — шесть штук! Писк и легкое шевеление пальцев в опавших листьях заставили сов каруселью носиться в воздухе друг за другом. Атакуя, они опускались к земле и взмывали кверху у самой моей руки. Минут десять продолжалась игра. Губы мои от подражания мыши одеревенели. Озадаченные совы сели передохнуть на голый ольховый куст в трех метрах от скрывавшей меня хвои. Это было похоже на сказку. Полдюжины крупных птиц, навострив уши, силуэтами темнели на угасающем небе — коллективно решали, возможно, первую в жизни загадку: что за странная мышь там под елкой? Я снова пискнул, но, видно, не очень искусно — три птицы слетели и скрылись, а три опять принялись летать и снижаться. Возможно, они понимали, что вовсе не мышь схоронилась под елкой, но очень уж сладки совиному сердцу вечерние писки и шорохи на опушке...
У опушки я видел однажды лосей, приходивших пастись на клевер. Дотянуться мордой до лакомой пищи долгоногим животным было непросто. Лоси поступали так же, как поступают, когда находят грибы — паслись на коленях. Занятное это зрелище попытался я снять, но в поисках выгодной точки вспугнул животных. Они метнулись к опушке и тотчас же скрылись под пологом леса.
Биологи знают: на границе двух сред (в данном случае леса и поля) жизнь всегда гуще, разнообразней, подвижней. И растения, и животные на подобных размытых границах взаимно проникающих территорий лучше используют свет и тепло, легче находят корм и убежище, а возможно, так же, как мы, звери и птицы находят и радость побыть на околице леса и поля.
На опушку ранее, чем в другие места, приходит осень. Но и весну замечаешь в первую очередь тут. В лесу еще сумрачно и морозно, а на опушке возле деревьев в снегу уже ямы. Уже видишь тут вдавленный солнцем в снег недавно слетевший дубовый листок. Тут раньше, чем в чаще, рассыпают березы свои семена. И это ль не чудо — в воздухе минус пять, но вереница лыжников скользит вдоль опушки, раздевшись по пояс! В чистом поле было бы зябко от ветра, в лесу прохладно без солнца, а тут хорошо — тихо и уже припекает. Да ведь и время: опушка простилась уже с февралем.
□
ЗА ПОРОГОМ ЗИМЫ
Зима сложилась необычайно суровой. В средней полосе ее было бы можно назвать «классической», если бы рождественские и крещенские морозы пришли на укрытую снегом землю. Но снега в Московской и рядом лежащих областях очень немного. А чуть южнее снега не было вовсе. Мороз же в Орловской, Тамбовской, Харьковской областях временами был выше тридцати градусов. «Земля голая и промерзла на метр, не знаю, что будет с садом», — писал мне отец из Воронежа.
С половины января до половины февраля стойкий холод захватил и многие южные области. Тридцатиградусные морозы достигли берегов Черного моря, захватили равнинные восточные побережья Каспия, достигли Ирана. Жизнь в этих местах к холодам непривычна, не- приспособлена. В бедственном положении оказались многие суда Каспия и Азова. Замерзла пассажирская теплоходная линия от устья Днепра до Херсона (рабочих в город перевозили на самолетах). Незамерзающий Одесский порт замерз, и это создало большие трудности судоходству. Из Одессы раздался призыв о помощи. Тут у моря кончается нитка газопровода. Обычно газа хватало на всех. Но в этом году расходы его по всей магистрали были так высоки, что трубы на подходе к Одессе были уже пустыми — нечем было греть воду в котельных...
Морозы на бесснежной земле нанесли урон виноградникам и садам, в обширных районах предстояло весной пересеивать хлеб. В бедственном положении оказалась дикая природа. Из бобрового заповедника под Воронежем сообщали: «Усманка промерзла до дна. Бобров, спасая от гибели, пришлось отлавливать». Нуждались в подкормке во многих районах олени, кабаны и косули. Но особенно драматично сложилась зимовка птиц.
Более десяти миллионов водоплавающей птицы (утки разных пород, гуси и лебеди), а также фламинго проводят зиму в заливах-лиманах, в дельтах рек Черноморья и Каспия. Тут, на богатой кормами мелкой воде, птицы благополучно переносят зиму, чтобы весной косяками уйти на север до самой тундры.
Жестокий мороз ударил 12 января. Прибрежная часть морей и в первую очередь мелководья замерзли. Нырковые утки, способные добывать корм из глубины, оттянулись от берега и какое- то время продолжали пастись. Но лебеди, гуси, благородные утки и особенно фламинго сразу остались без корма — на глубокой воде добыть они ничего не могли. Наблюдатели-орнитологи говорят, что «птица на Каспии в этот момент заметалась». Подобно тому, как самолеты, лишившись места посадки, идут на запасные аэродромы, так и птицы огромными косяками снялись с привычных зимовок в поисках «запасных пастбищ» на юге и юго-западе Каспия. Но тщетно. Богатый кормовыми угодьями Кызылагачский залив тоже покрылся льдом, и местные птицы, смешавшись с прилетными стаями, полетели к Ирану. Но холод и там достигал тридцати градусов. Растратив силы, страдая от холода и бескормицы, птицы стали скопляться в привычных для них местах, у кромки растущих льдов.
Фламинго страдали в первую очередь. Они погибали от бескормицы и мороза. Многие утки, гуси и лебеди холода не боятся — была бы пища. Но все кормовые поля покрылись льдом. Сбиваясь в плотные массы, птицы сколько могли боролись за полынью, не давая воде замерзнуть. Рассказывают: лебеди покидали воду в последний момент, и лед сохранял следы лебединого взлета — удары лап по воде. Птицы стаями вышли на лед, и участь их была подобна участи путника, уставшего бороться с метелью и задремавшего на морозе. Более всех пострадали лысухи. Они неподвижно сидели на льду. При солнце
Весна. Вне опасности все, кто пережил зиму. И с южных зимовок на север двинулись стаи птиц.
днем под ними слегка подтаивало, а ночью птицы примерзали ко льду и подняться уже не могли.
История говорит: подобные бедствия время от времени повторяются. 764 и 801 годы обозначены летописцами: 258 «Черное море замерзло». В 859 году «замерзло Адриатическое море, и в Венецию можно было ходить пешком». В 1621 и 1669 годах замерзал Босфор. Можно без ошибки сказать: такие морозы были огромным бедствием для людей и катастрофичными для животных. Но то было время, когда природа, даже при очень больших потерях, могла и быстро восполниться. Численность птиц в год или два восстанавливалась. В те времена человек мог позволить себе охоту на терпящих бедствие.
Сегодня птицам нелегко выжить даже в благополучные годы — много их гибнет при перелетах, все более беспокойны места гнездовий. Нужны все меры, дающие птицам лишний шанс выжить. И, конечно, в дни бедствий природа ждет от людей благородства.
Как вели себя люди на этот раз? Вести из разных мест позволяют сказать доброе слово о людях. В Красноводске, как только стало ясно: без помощи птицы не выживут, «на пожар» «сбежались всем миром». Работники заповедников, студенты, моряки и учащиеся — все, кто мог и чем мог, помогали терпящим бедствие. С вертолетов рассыпали по кромке льда зерно, в местах скопления птиц бросали сверху печеный хлеб. Буксиры Красноводского
порта ежедневно ломали лед замерзающей полыньи. Спасению птиц было посвящено экстренное заседание Крас- новодского горкома партии. Из Москвы на Каспий срочно вылетели бригады студентов-биологов. Люди сделали все, что могли.
Так же много усилий было приложено для спасения птиц у побережья Черного моря. В Ягорлыцком заливе возле островов Круглого и Долгого в беду попало шесть тысяч лебедей-кликунов.
Три недели работники Черноморского заповедника и местное население держали под контролем этих сбившихся в тесную группу птиц. На вертолетах на острова доставили корм и разложили его в удобном для лебедей месте. Постоянно велось наблюдение за состоянием птиц...
В район острова Долгого я прилетел, когда тяжелое время уже кончилось. Потепление вскрыло участки моря. Птицы держались на прежних местах, но, окрепнув, уже не пускали людей так близко, как это было месяц назад. Гибе- ли тут не замечено, не считая случаев, когда задремавших на льдине птиц настигали лисицы.
Несколько слабых птиц взял из стаи к себе во двор наблюдатель Черноморского заповедника Николай Аполлонович Бородин. Я застал этих птиц в камышовом сарае. Птицы вполне окрепли и при виде людей держались доверчиво и спокойно. Они не метались, когда Николай Аполлонович брал их в руки поочередно, только с любопытством озирались по сторонам. Я приложил ухо к боку одного лебедя — сердце стучало часто и сильно, почти так же сильно, как человеческое, — птицы все-таки волновались.
На лапы лебедям надели алюминиевые кольца, вынесли птиц на берег, и тут состоялась церемония выпуска птиц на совободу. Над заливом стояла теплая предвесенняя хмарь. Посиневший лед — в разводьях воды. У горизонта виднелась широкая полынья. Окольцованных птиц слегка подбрасывали в воздух, и они сразу же становились на крыло. Через две-три минуты лебеди опускались на воду
1972 г.
□
259
ПРОСЕЛКИ
■ оследняя страница. На ней, простившись с читателем, скажем ему «спасибо» за терпение и любознательность.
Всякое путешествие — радость. Двойная радость — рассказать об увиденном. И я ее испытал. Для меня хождение по деревенской России было, пожалуй, самым интересным из всех больших и маленьких путешествий. Уже сорок лет живу в городе. Но как и многие, чье детство прошло в деревне, в душе я — человек деревенский. Люблю уклад сельской жизни — дом, двор, сад, огород, поле, лес за околицей, речка... Люблю деревенских людей, череду деревенских забот, обычаи, праздники — все, что связывает человека с землей, с осмысленной жизнью на ней.
Многое в жизни деревни на наших глазах изменилось. Есть перемены печальные. Есть обнадеживающие. Я не ставил себе задачу разобраться в сложностях этих явлений — об этом написано уже много. Но я не мог совершенно их не касаться. Деревня остается нашей кормилицей, хранителем народных традиций, истоком мудрости, человеческой крепости и всего, что близко лежит к земле, к естеству жизни, радости бытия. Конечно, многие традиции и обычаи уходят в прошлое невозвратно. Важно их хотя бы заметить, оставить в памяти: «они были». Еще более важно сохранить все, что пойдет обновляемой ныне деревне на пользу. У сельской жизни есть свои особые ценности. Их важно беречь. С этими мыслями я путешествовал.
Сейчас, когда все собрано в книгу, я обнаружил некоторые свои пристрастия. В ней, например, много лошадей и нет тракторов и комбайнов, хотя, конечно, не лошадь, а трактор видишь в первую очередь в сельском пейзаже. Не корите за это. Машину мы найдем в любой иной фотографической книге. Тут же мне хотелось заступиться за лошадь — многовекового спутника и помощника человека, рассказать, не противопоставляя тракторам и комбайнам, о нынешней ее судьбе.
В селах и деревнях сейчас много, хотя и не везде хорошо, строят. Много об этом говорится и пишется. Мне же хотелось обратить внимание главным образом на то, что исчезает, уходит, оставляя щемящее чувство грусти, ибо является свидетельством жизни наших предшественников. Гостю в городе мы показываем не кварталы многоэтажных стандартных строений, какие он видит сейчас повсюду, а какую-нибудь церквушку, одноэтажный дом, освященный именами славных людей. В деревне я тоже старался увидеть нашу историю, наши корни. Я разыскал, возможно, последнюю в нашей стране водяную мельницу, старую деревенскую кузню, удивительный по конструкции «ступной» колодец, разыскал еще существующих собирателей лесного дикого меда, видел паромные переправы, побывал на башкирском «празднике гусиного пера», встретился с пастухом, играющим на рожке, видел, как рубится сельский дом, видел, чем жив старинный городок Плёс, как выглядит Куликово поле... Это все наши корни, наша история. Все это было интересно видеть и узнавать.
Добрая половина книги — встречи с людьми. Многие из них стали моими друзьями. И я этой дружбой горжусь. В этих людях мне видится характер русского человека. Сближаясь с такими людьми, и себя начинаешь понимать лучше.
И природа... Проселочные дороги от деревни к деревне змеятся по косогорам, по полю, по лесу, около речки, болотца. Природа — часть деревенского бытия. Я старался заметить все интересное, что попадалось в пути. Листая сейчас подготовленную к изданию книгу, заметил и улыбнулся: избыток на фотографиях сов. Это не потому, что сов у нас много. Нет, этих птиц встречаешь не часто. Просто сов я очень люблю. Питаю также слабость, как наверное заметил читатель, к стожкам, журавлям, деревянным строениям, к мальчишкам и пожилым людям. Думаю, слабости эти простительны.
Ну вот и все. Книга окончена. А путешествия, пока ноги носят, хочется продолжать.
Василий ПЕСКОВ
25 марта 1987 г.
СОДЕРЖАНИЕ
ПОКЛОН ЗЕМЛЕ
Ключи от Волги
8
Селигер
11
Озерные ночи
14
Дон в колыбели
18
Плёс 20
Глубынь-городок
23
Старая Рязань
26
Поле над Доном
30
Соловьевская переправа
34
Ельня 37
Камень у Могилева
40
Мещера 44
Кочемарские луки
49
Дикий мед 57
Талдомская осень
56
Тихоструйная Сороть 67
«Клочок земли, припавший к трем березаг 64
ДЕРЕВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ
Дом с петухом 72
Земля Антоновых
75
Беседа 79
Пять его сыновей
83
Пастух 87
Марья Васильевна
88
Сестры 90
Швея
97
Свет в окне
93
Сундук богатства
95
На вышке
97
Глава семейства
100
В Михайловском
101
Острова
708
Встреча
110
Летающий дед
111
Лесные яблоки
112
Сашка приехал!
116
Краеведы
117
Ночлег на мельнице
120
Паром
122
Новоселье
723
Било
124
Стожки
125
Русская печь
125
Колодец
129
Кузня в Карасихе
130
Телега
137
Про лошадь...
134
На празднике в Бурангулове
139
Пасека в Пальчиках
144
Грибоварня в Княжах 145
Пришелец из Колорадо 147
Пчелиный враг 148
Ротан 149
Змеиный выгул
150
Обезьяний остров 152
На косе 156
Близнецы 157
Поединок 158
Жил-был у дедушки...
159
Трезвенник Топ 160
Про деда Михайла, мальчика Мишу и ослика Мишку 160
ВРЕМЕНА ГОДА
Счастье с ней говорить 164
Она идет...
165
Древнейший из музыкантов 167
Двадцать четыре Терентия 168
Апрельским вечером 769
Неодетая весна 171
Жучок-любимец 172
Журавлиные ясли 173
В час высокой воды 176
Кошачий остров 178
Гусиная станция 178
Семейный дуэт 180
Черная маска
181
Чувство дома 182
В сорока шагах от медведя 183
Зеленый дым 184
Июньская ночь
187
Слётки 189
Черный аист 190
Утиный рай 197
Тайна 193
Жилище ос 196
Сверчок 196
Храбрец 197
Три минуты из жизни
198
Воды!
198
Бабынинские караси 199
Друзья из берлоги 201
Логово 204
Володькино лето
206
Янтарь 210
День в сентябре
212
Подозвать зверя...
214
Листопад на Хопре 214
Проводы журавлей
219
Белым днем
221
Зачем сороке часы?
223
Ревность
224
За трюфелями 225
Подземный ходок 227
Пестрая стая 228
У зимы на пороге 232
Рождение гномов 234
Рябиновый пир 235
Белое чудо 236
Следы 238
Снежная колыбель
240
Вездеход 241
В лесах у Вятки 242
Валдайский иней 244
Ночной визитер 246
Лиса в окладе 247
Кабаний ужин 250
Ведьмина метла 251
Оляпка 252
Кроткая птица
253
Опушка 254
За порогом зимы
257
Песков В.М.
П 28 Проселки. — М. : Мол. гвардия, 1988. — 263[1] с., ил. — (Отечество : Старое. Новое. Вечное).
ISBN 5-235-00113-3
Это пристальный взгляд на свой край известного советского писателя-публициста, рассказ о природе, истории и нови нашей земли, о ее удивительных людях. Книга богато иллюстрирована фотографиями автора.
4702010200-297 П 140-88
078(02)-88
ББК 26.89(2)
Пятнадцать снимков для книги заимствованы автором у М.Березовского, Н.Калинина, В.Панкова, Н.Рахманова, С.Ярных, а также из журналов «Tier» и «Нэшнл Джио- грэфик».
ИБ № 5047 Василий Михайлович Песков
ПРОСЕЛКИ
Редакторы [ Л. Антипина, И. Аксенова Художники Л.Курлыкова, В.Мирошниченко Художественный редактор С.Сахарова Технические редакторы Е.Михалева, В.Пилкова, Н.Носова
Сдано в набор 27.05.87. Подписано в печать 11.10.88. Формат 84 х 108 Vw. Бумага мелованная. Гарнитура «Гельветика». Печать офсетная. Усл.печ.л. 27,72 + 0,1 вкл. Усл.кр.-отт. 111,88. Учетно-изд.л. 38,3.
Тираж 50000 экз., из них в бумажном переплете с целлофаном (25000 экз.) цена 7 руб., в тканевом с тиснением (6250 экз.) и без тиснения (18750 экз.) цена 8 р. 20 к. Заказ 1340.
Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Москва, К-30, Сущевская, 21. Типография «Графише Верке Цвикау» - ГДР.
Отпечатано при посредстве В/О «Внешторгиздат».
ISBN 5-235-00113-3
8 p. 20 к.
МОЛОДАЯГВАРДИЯ