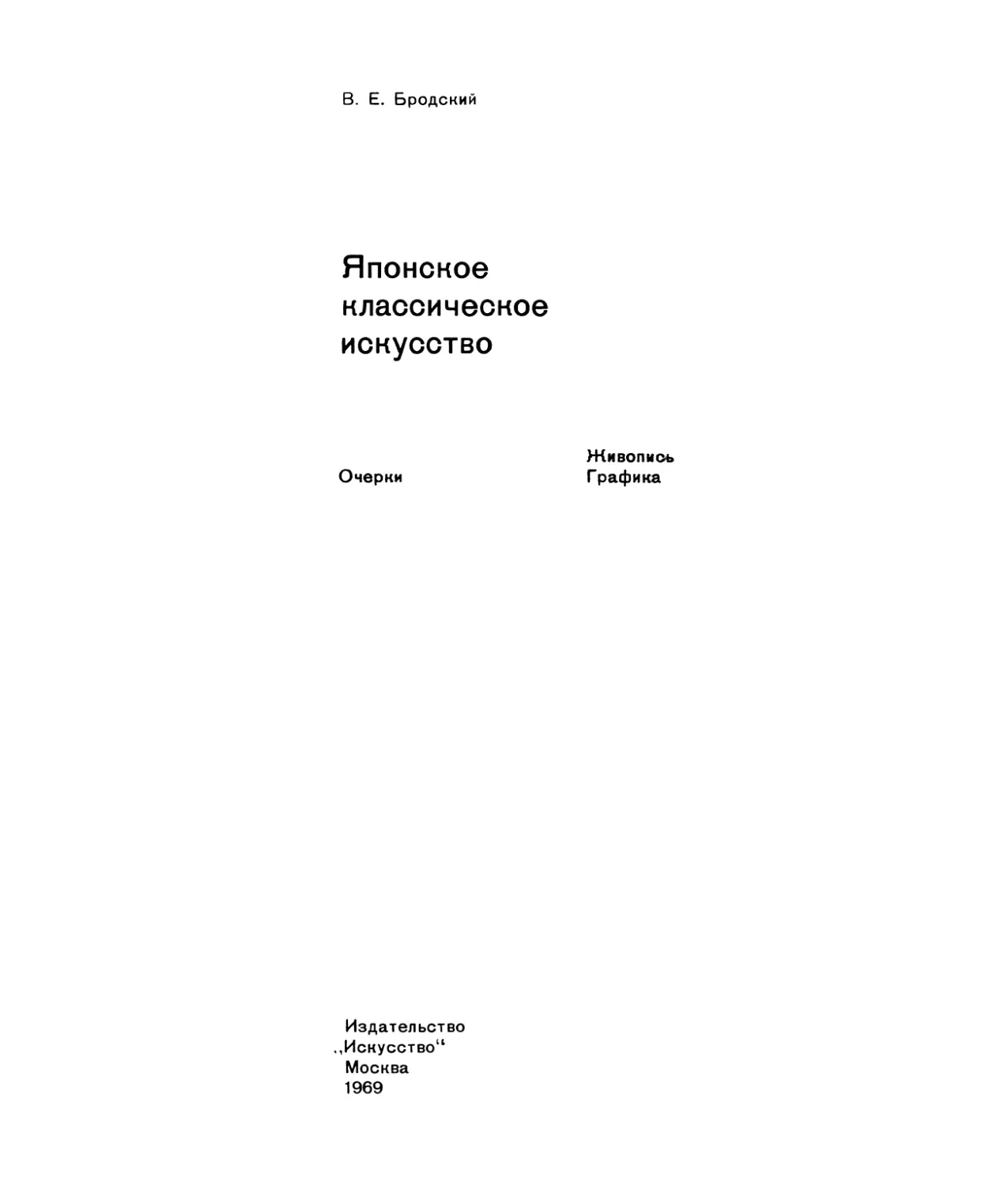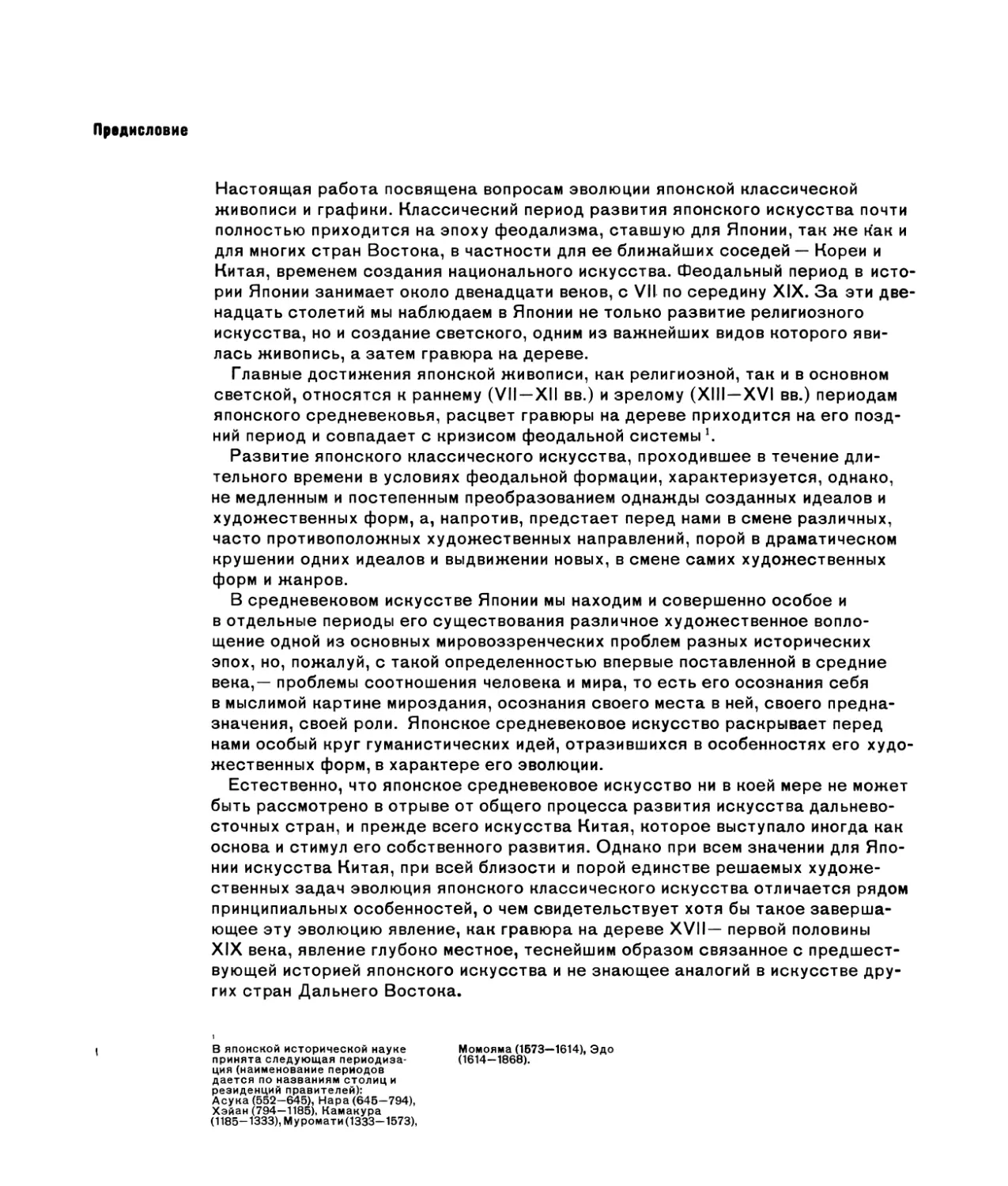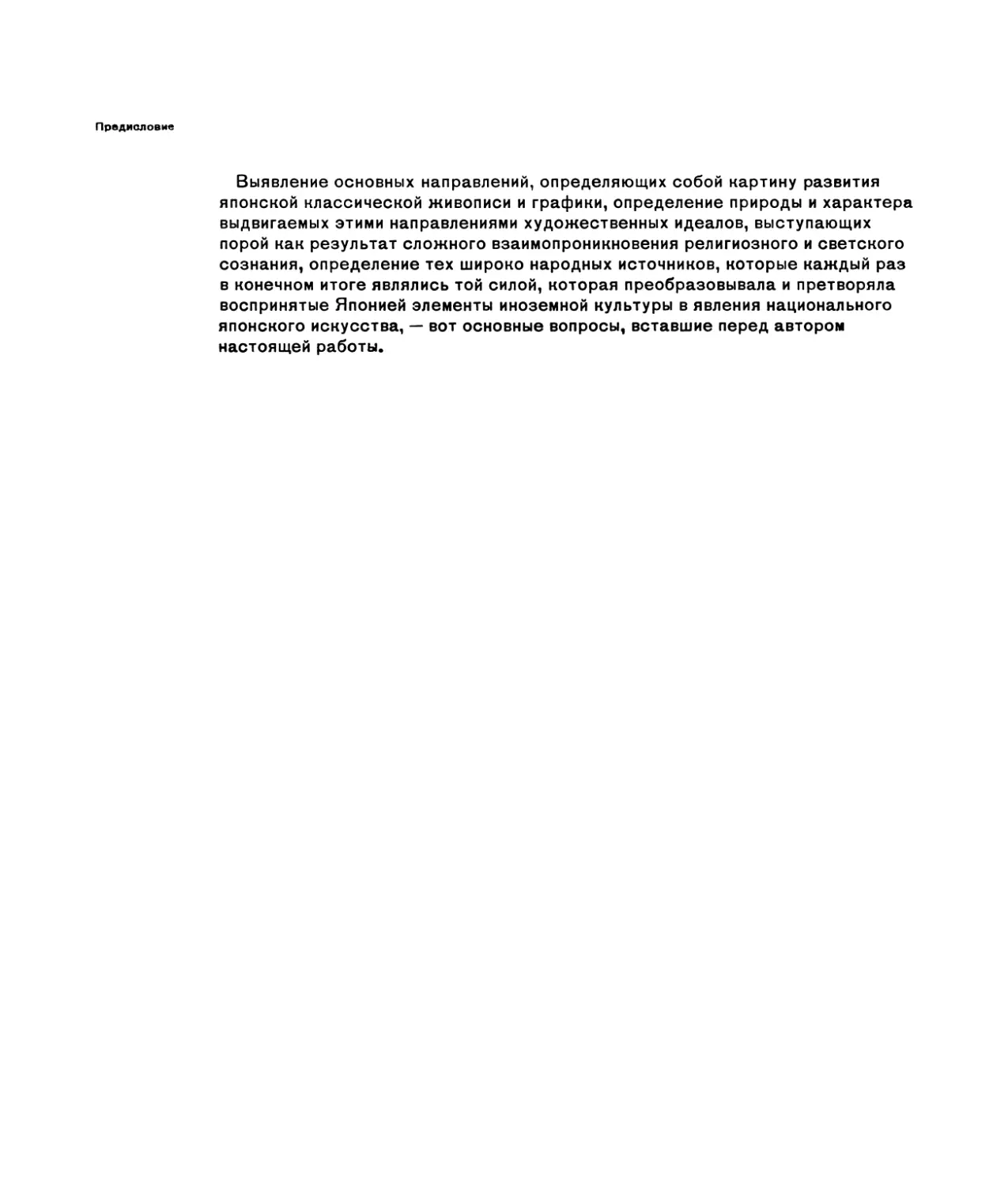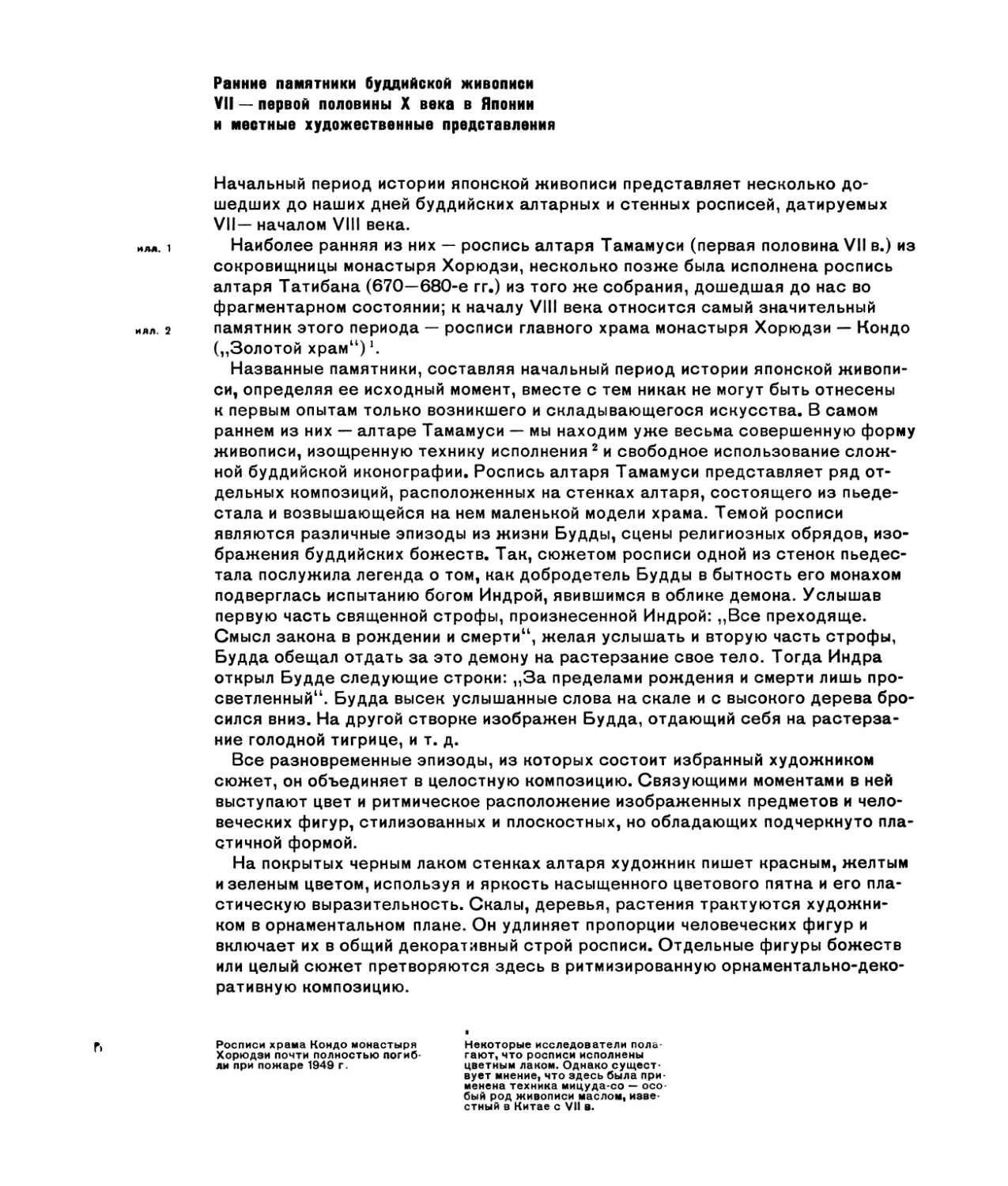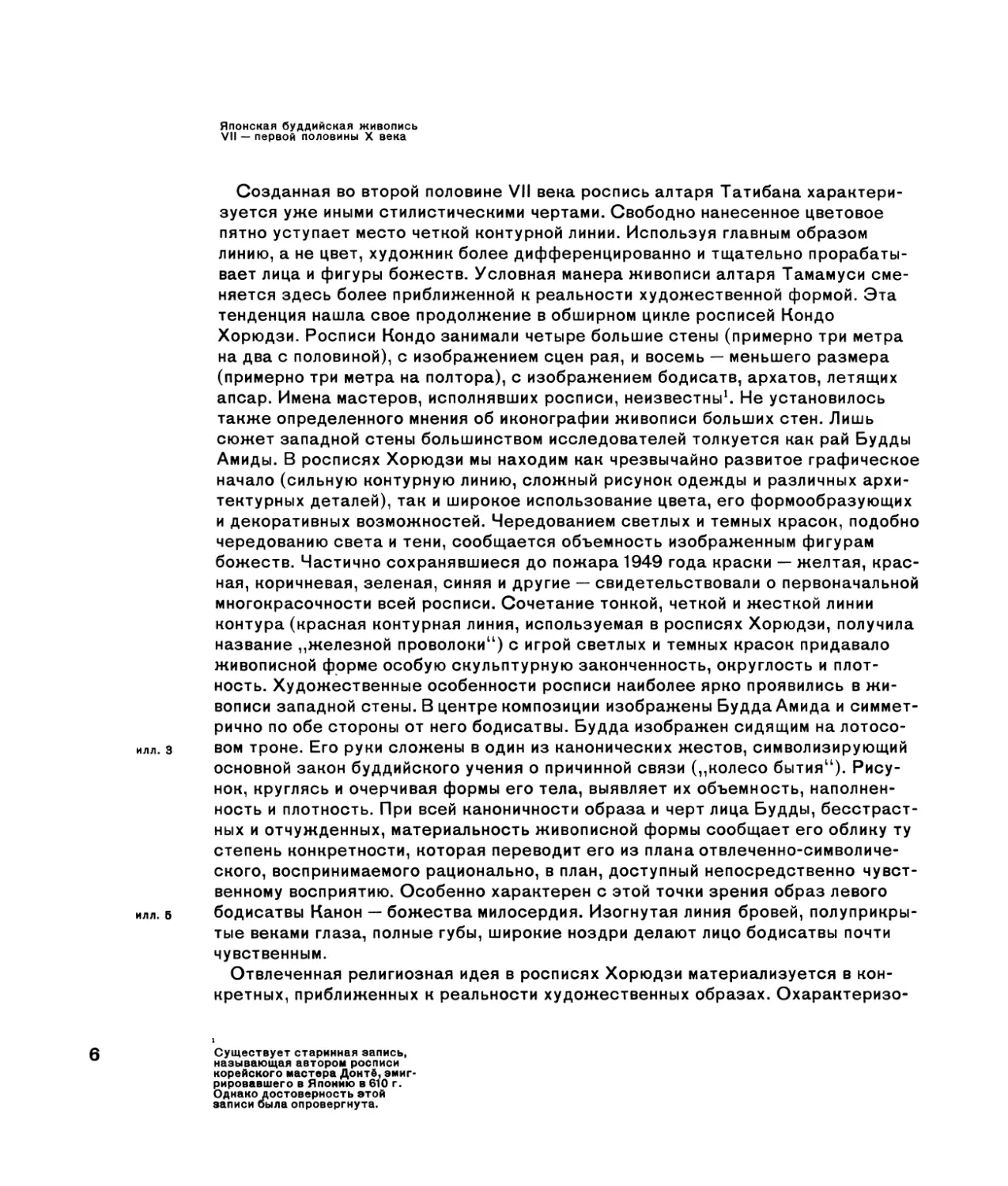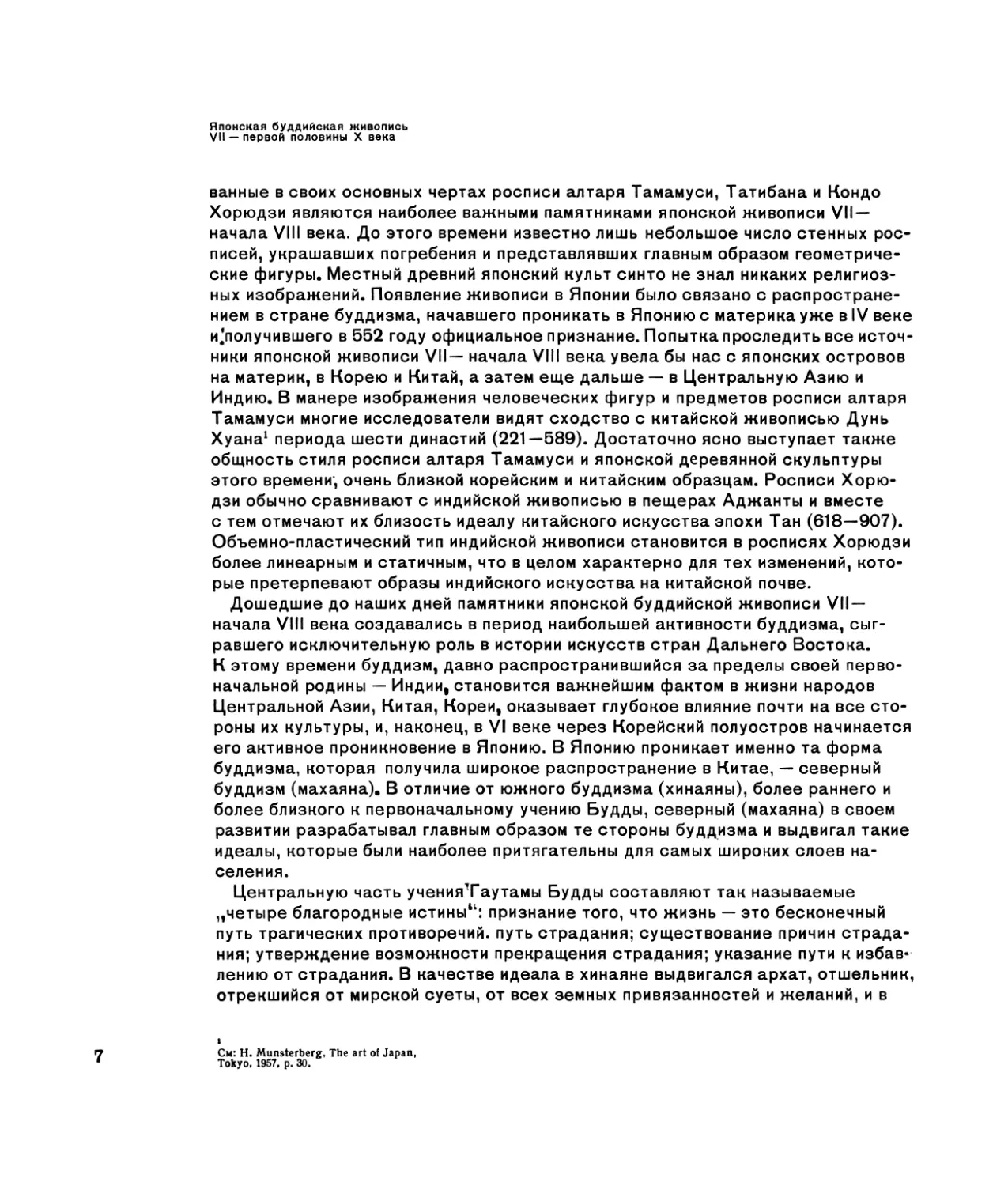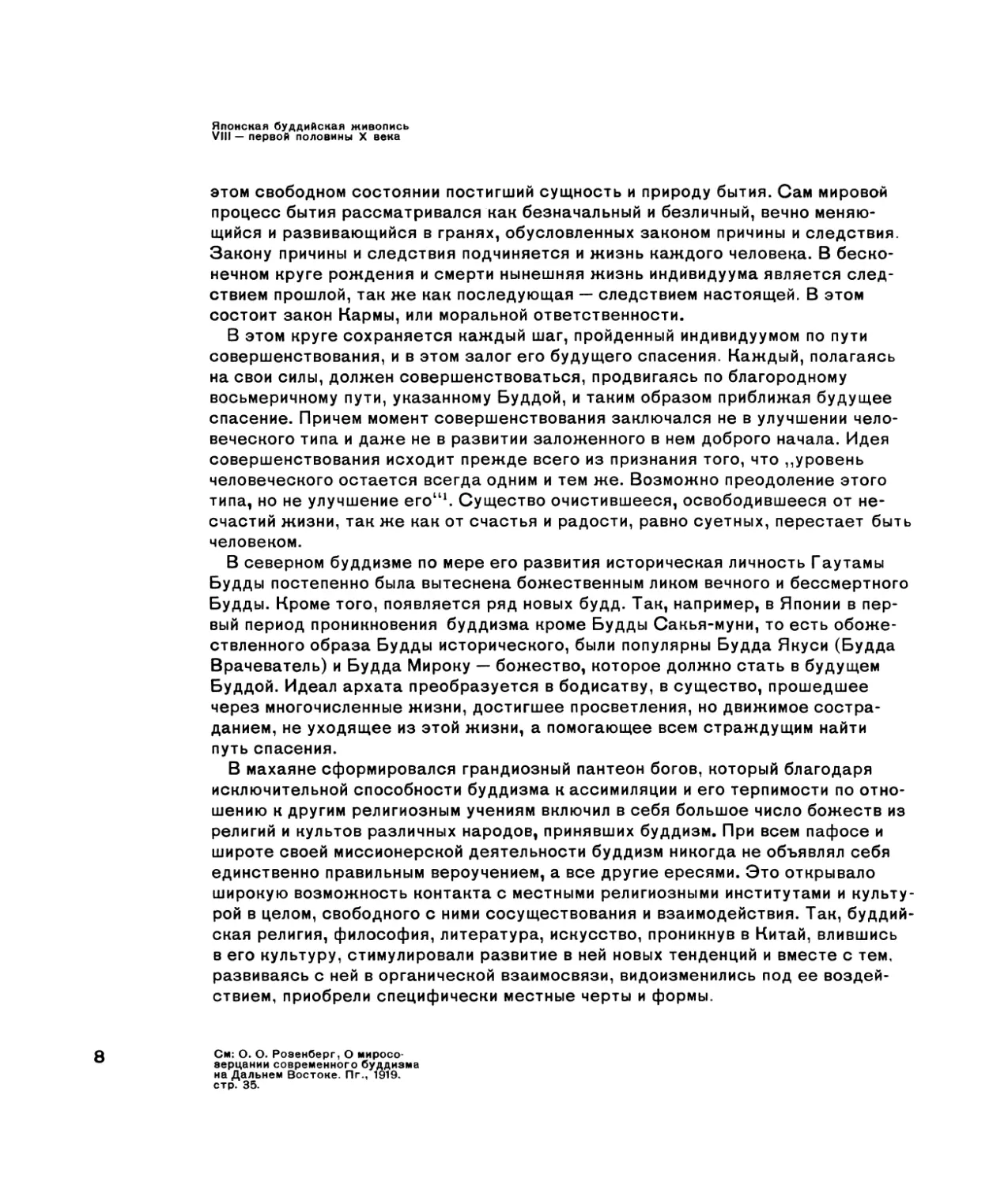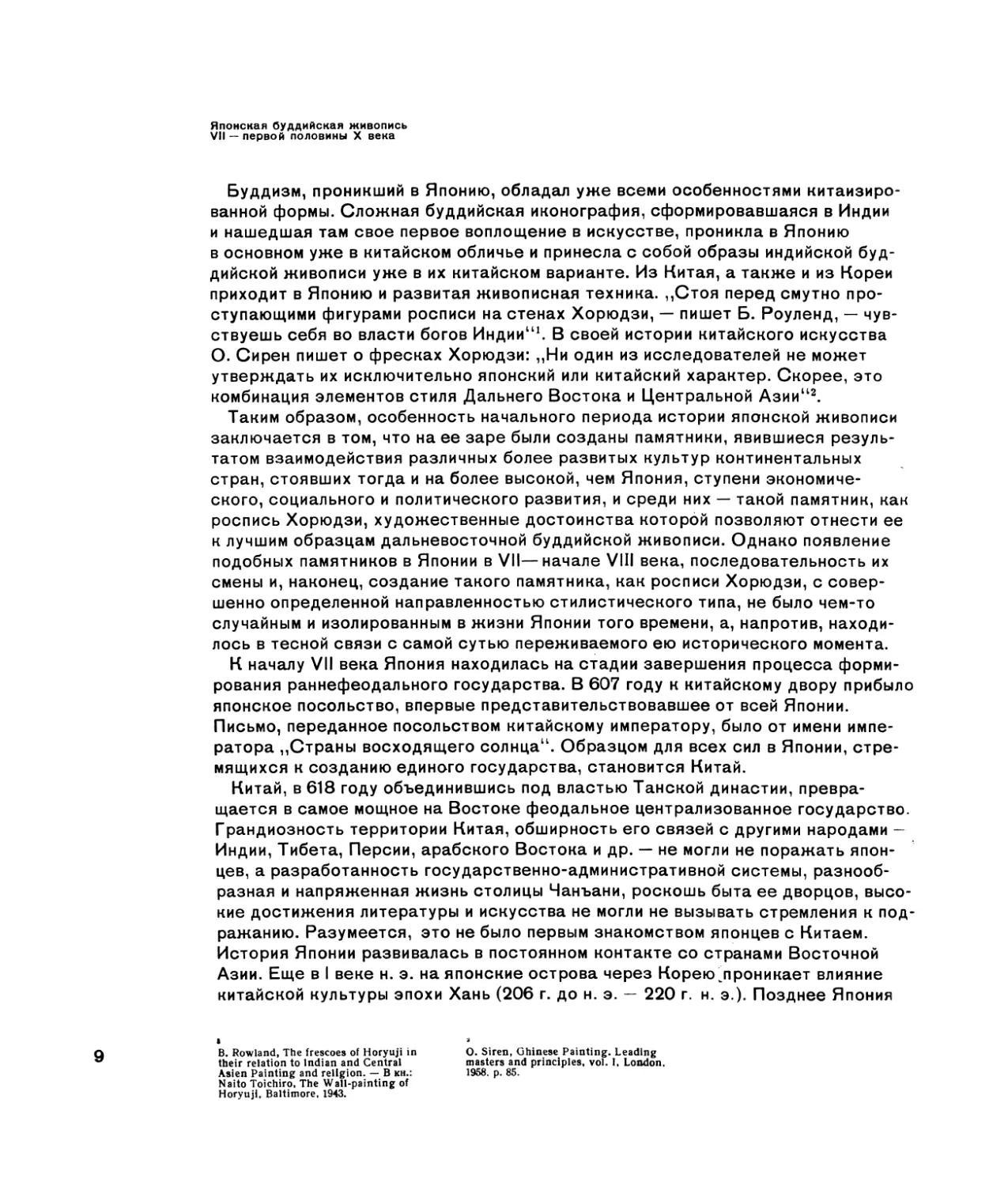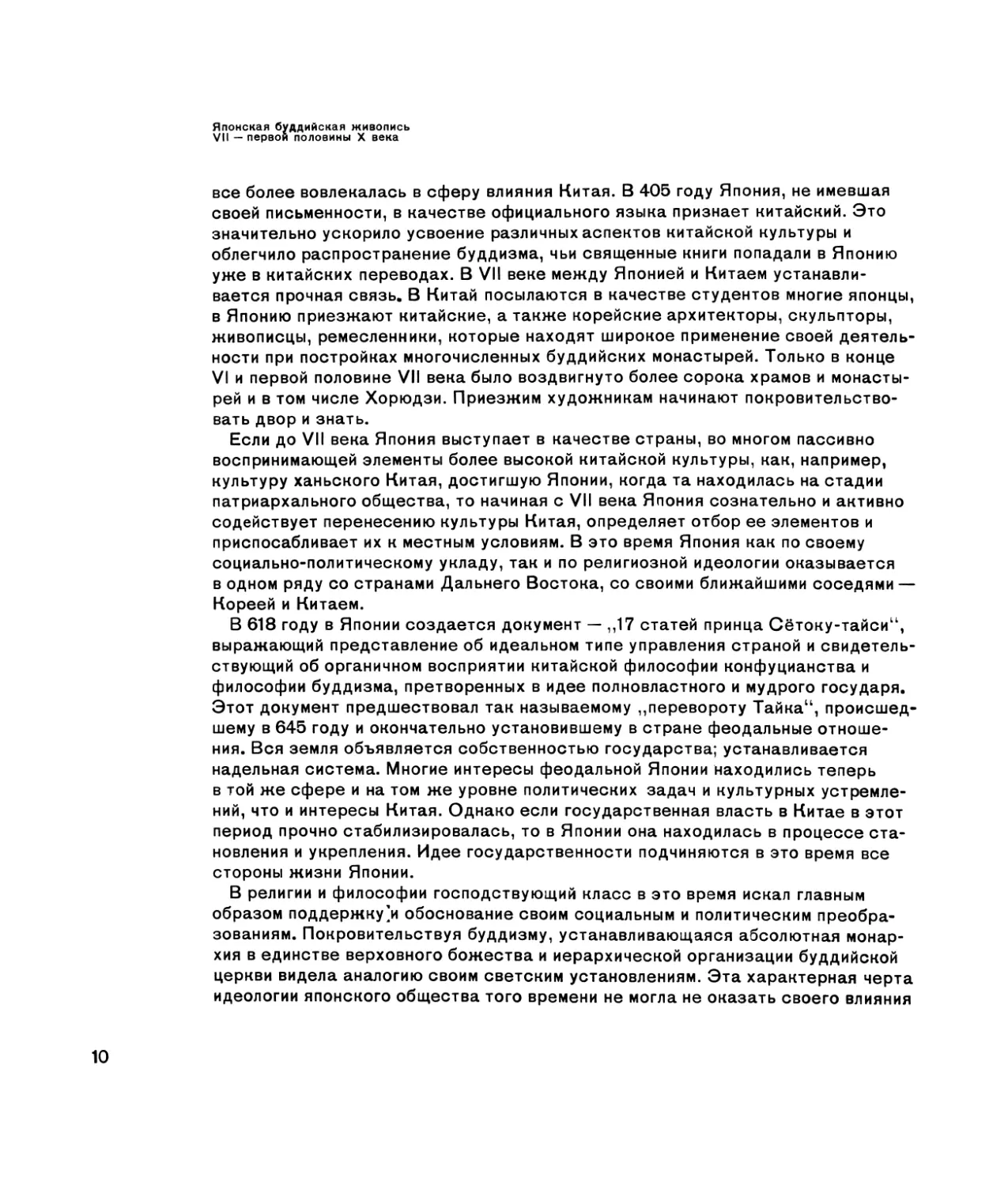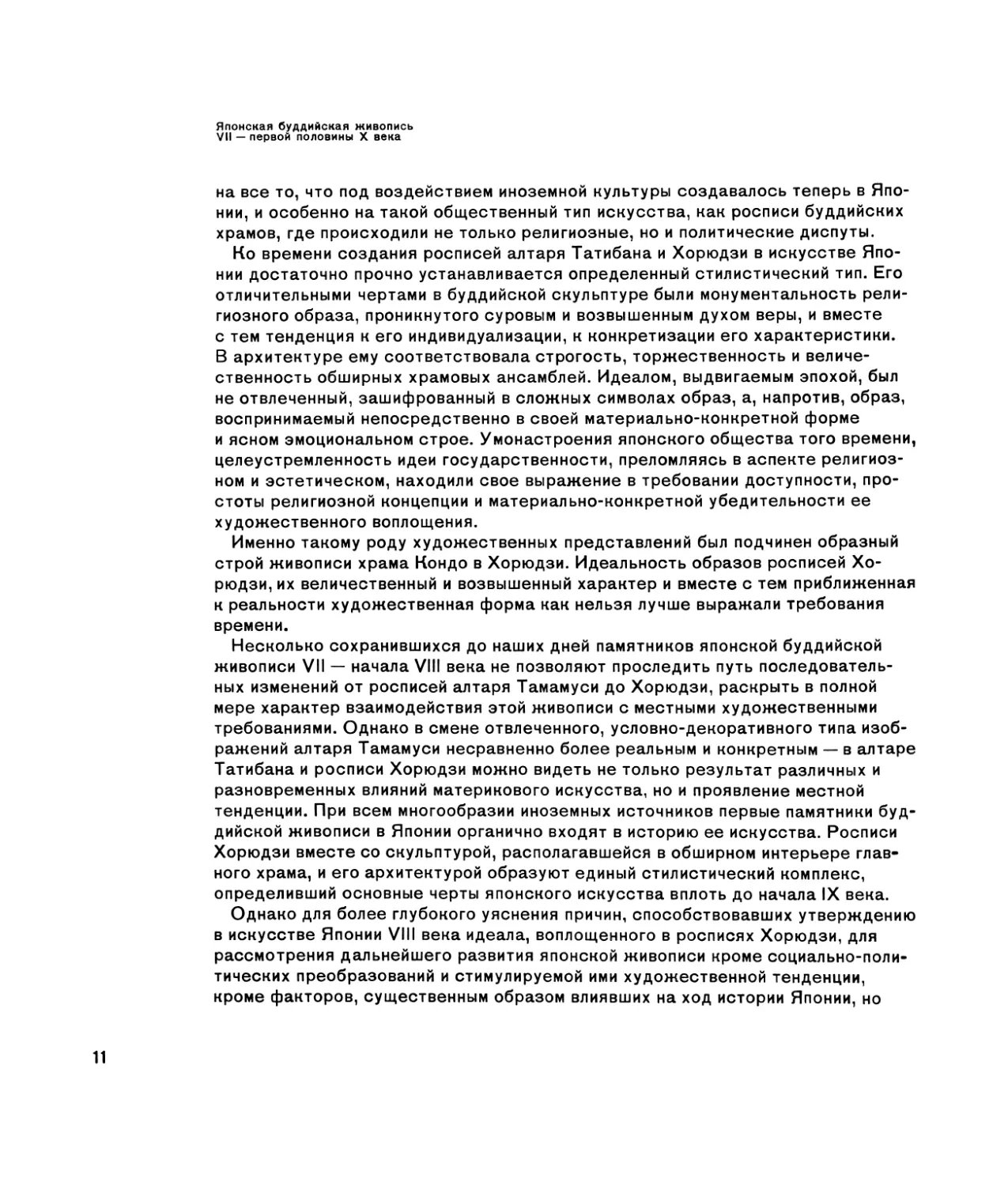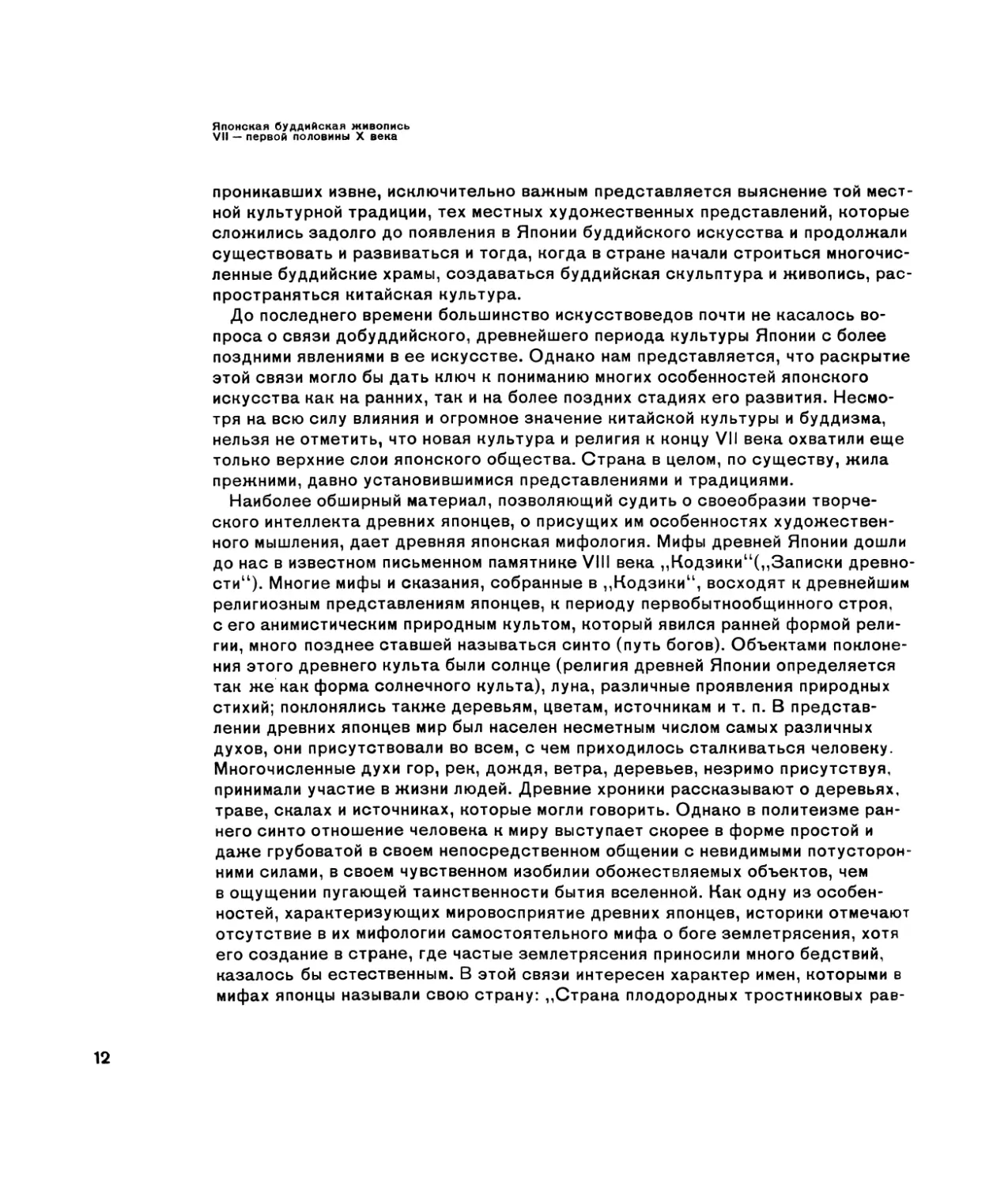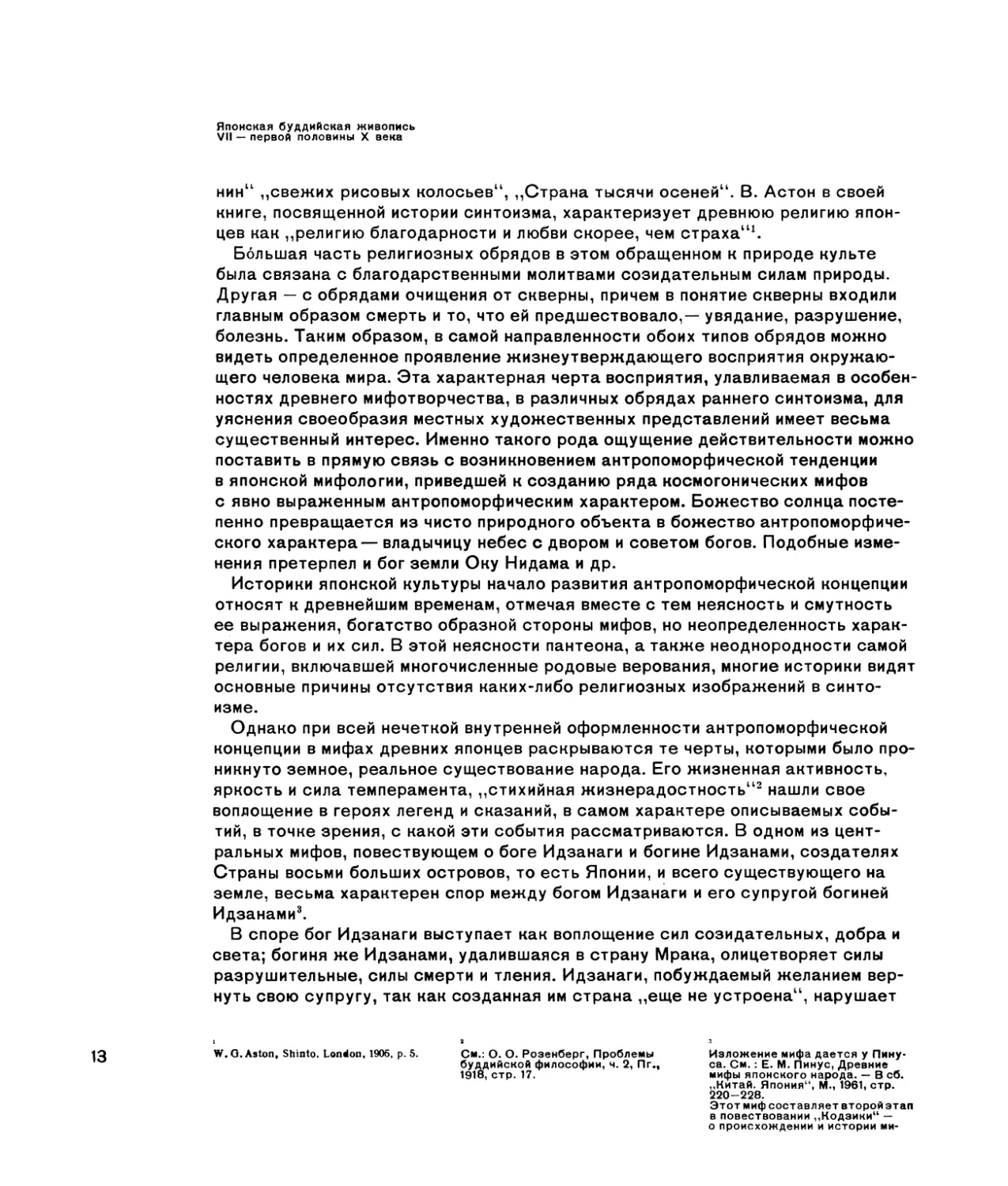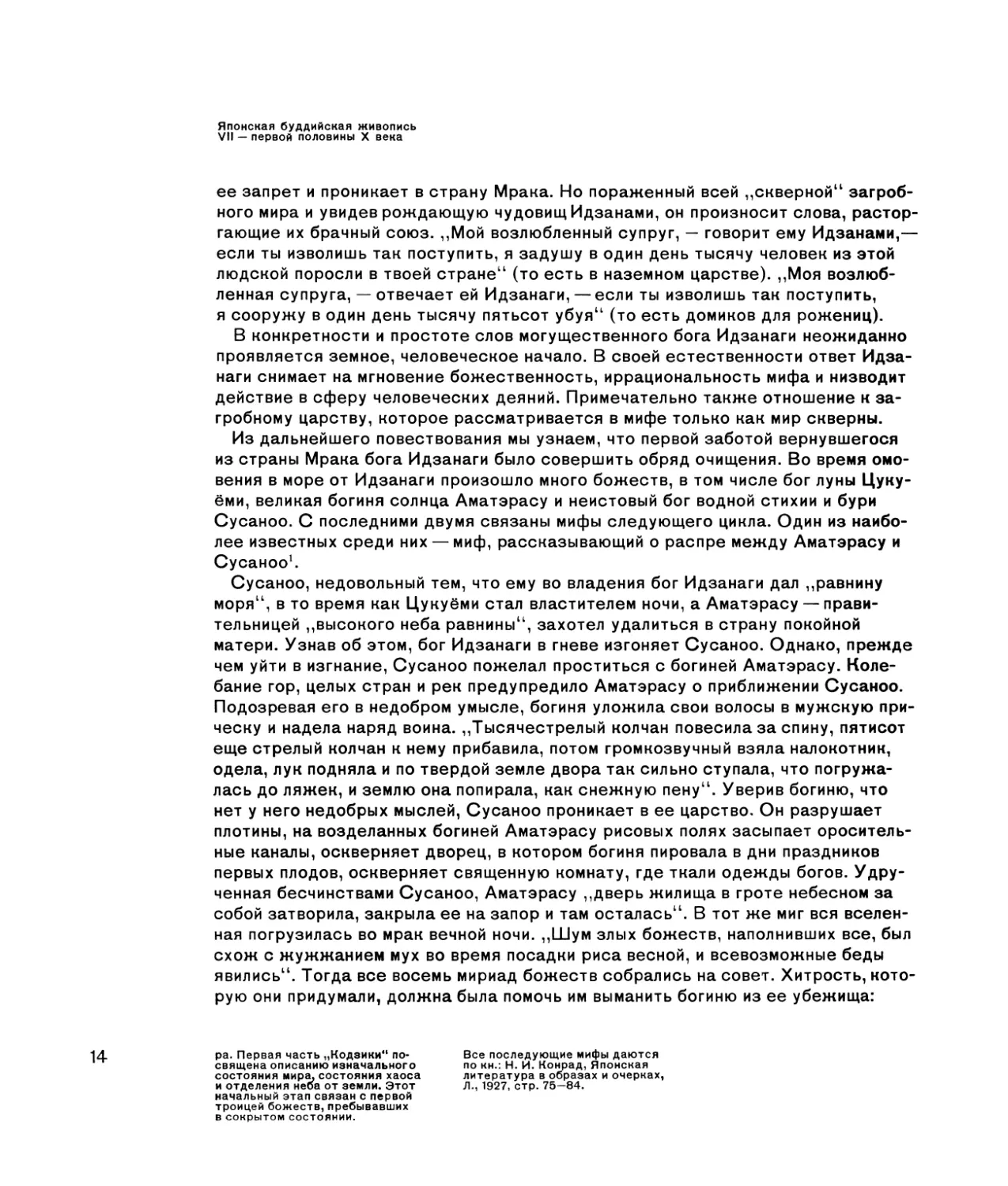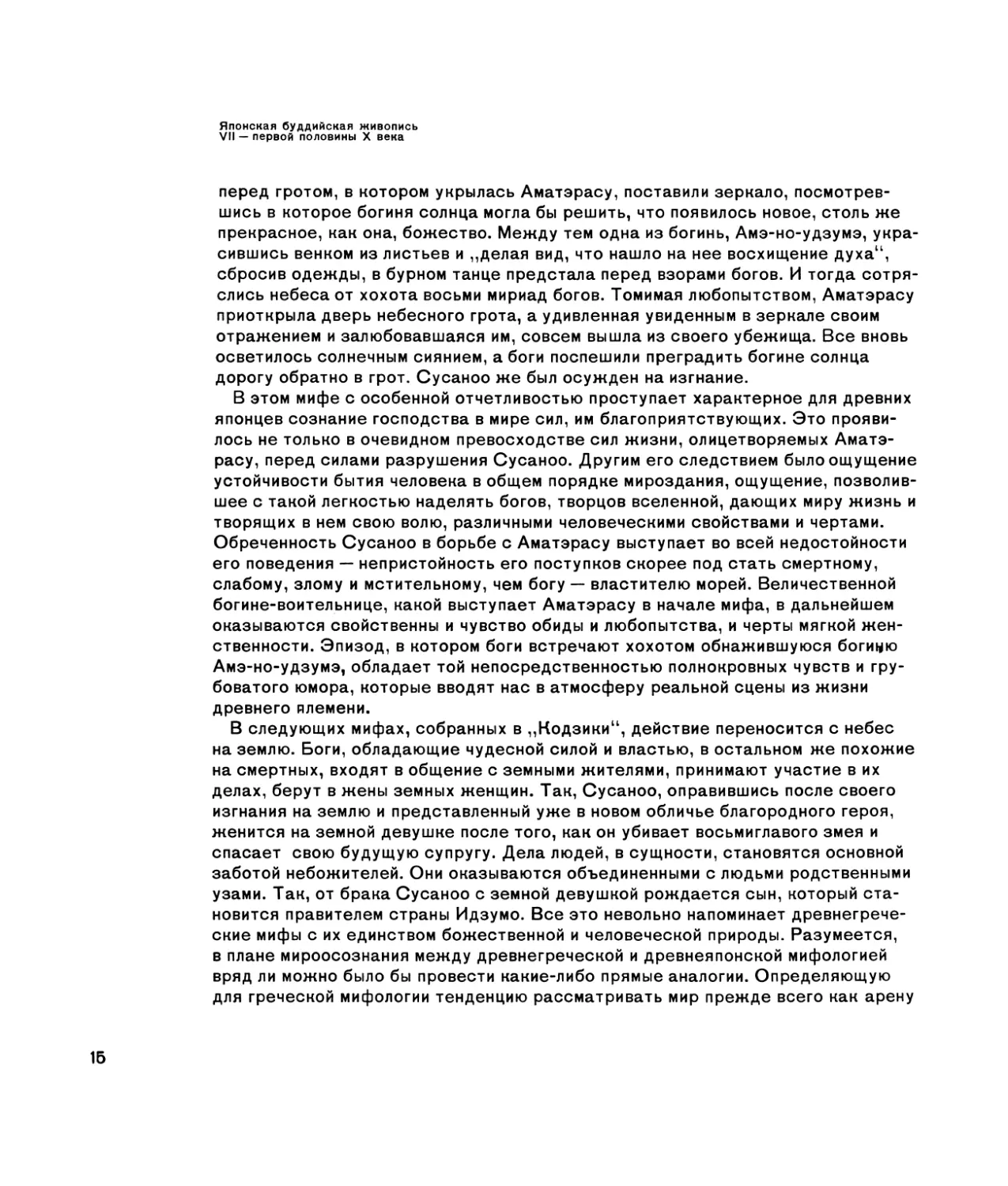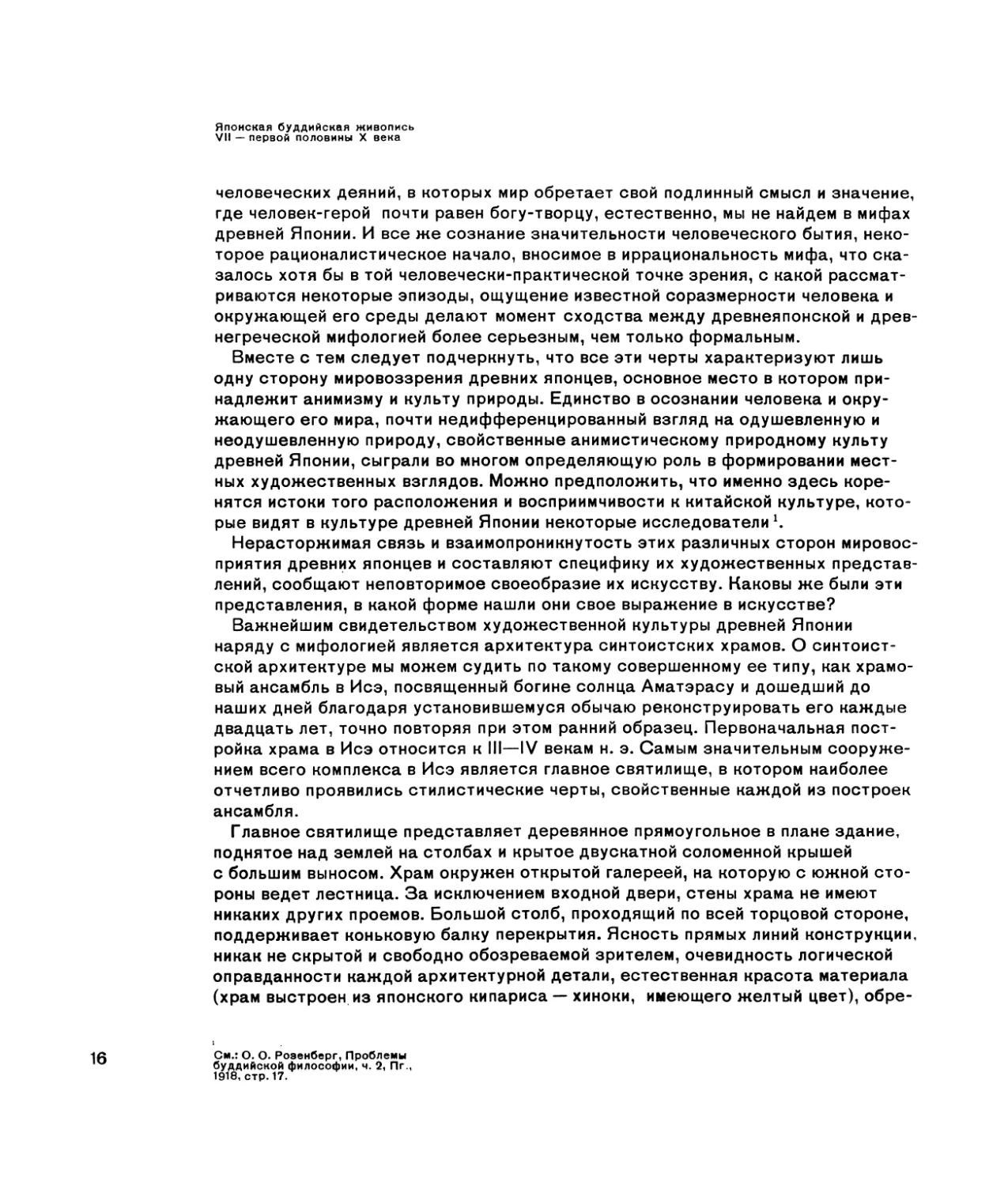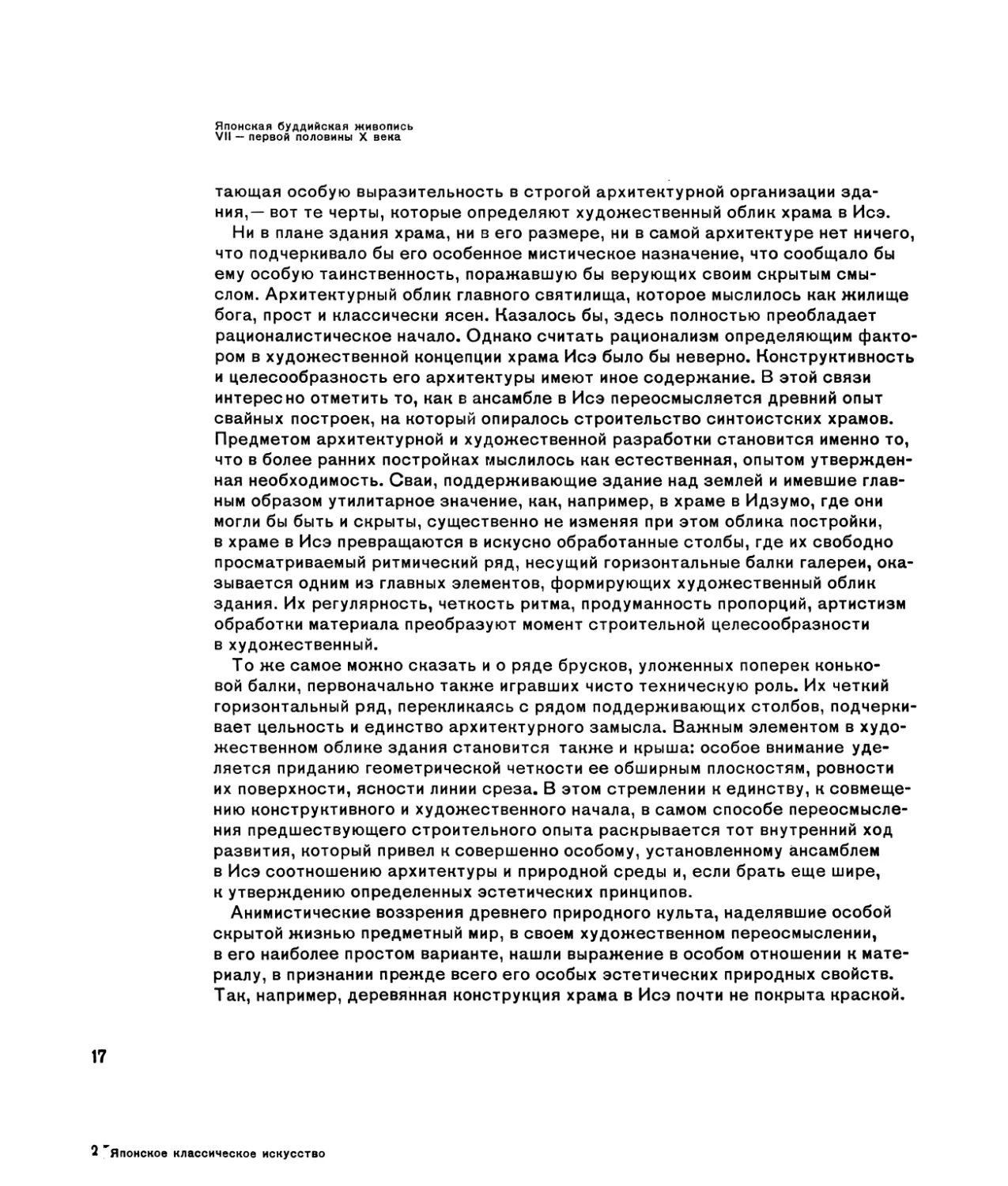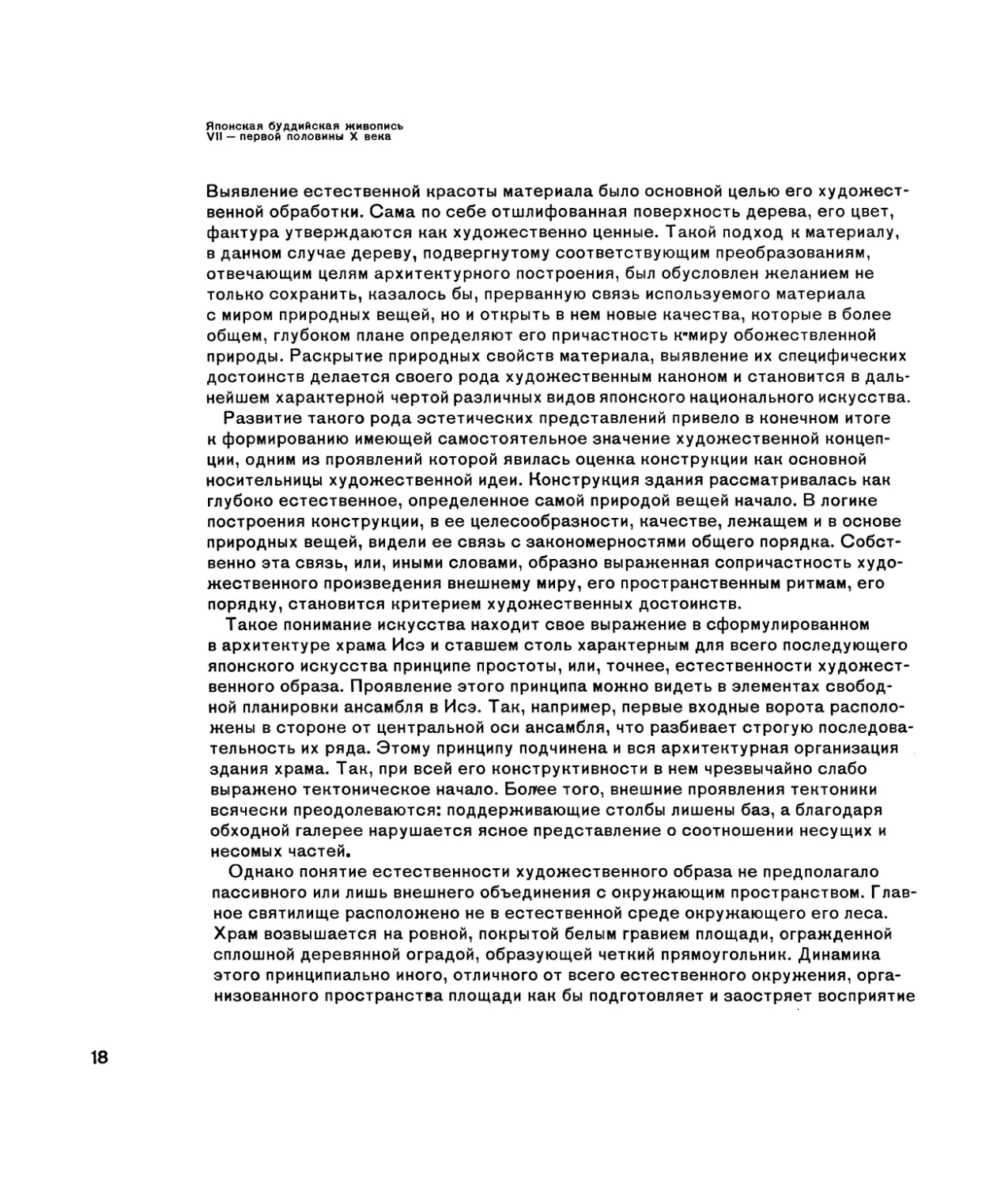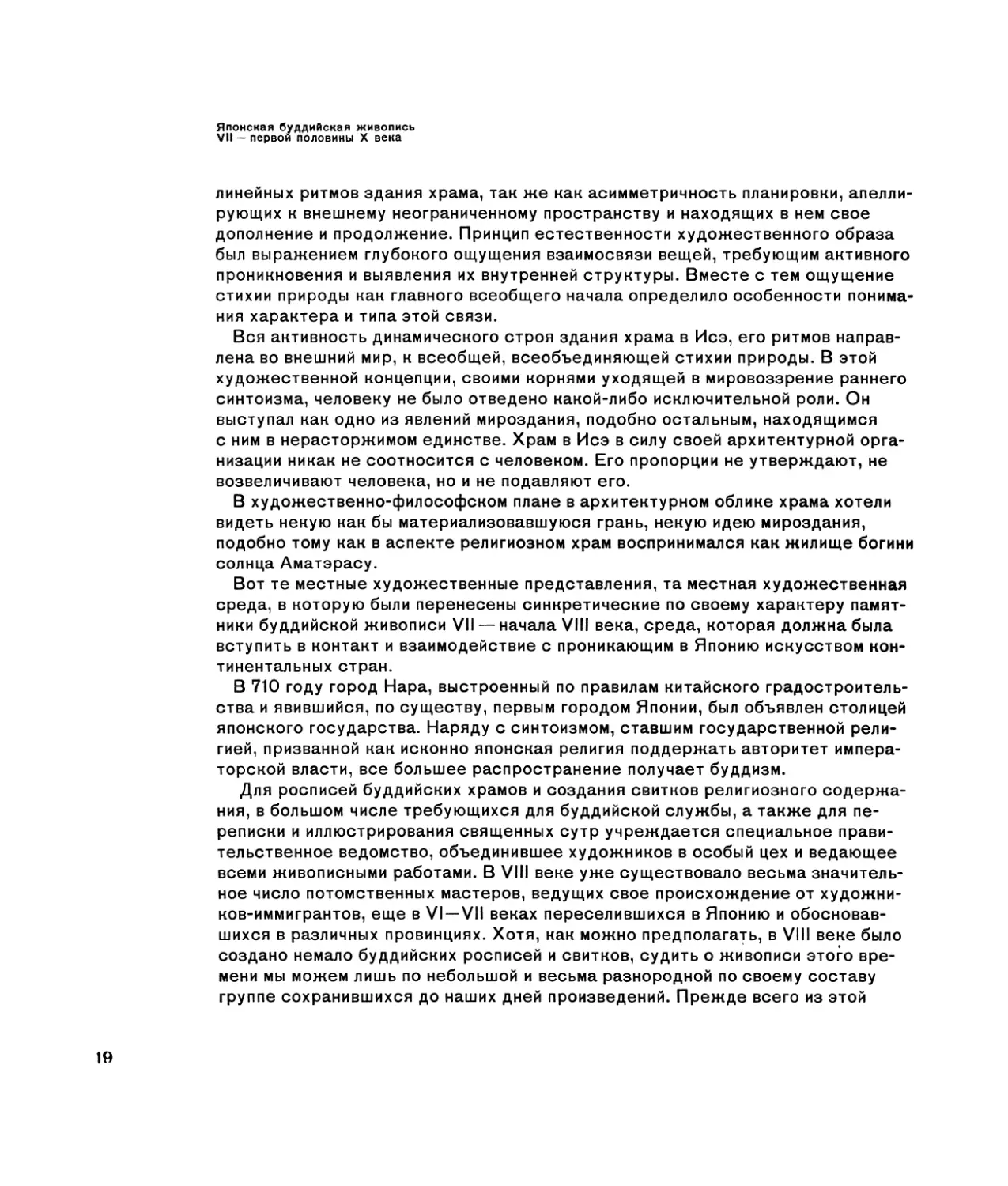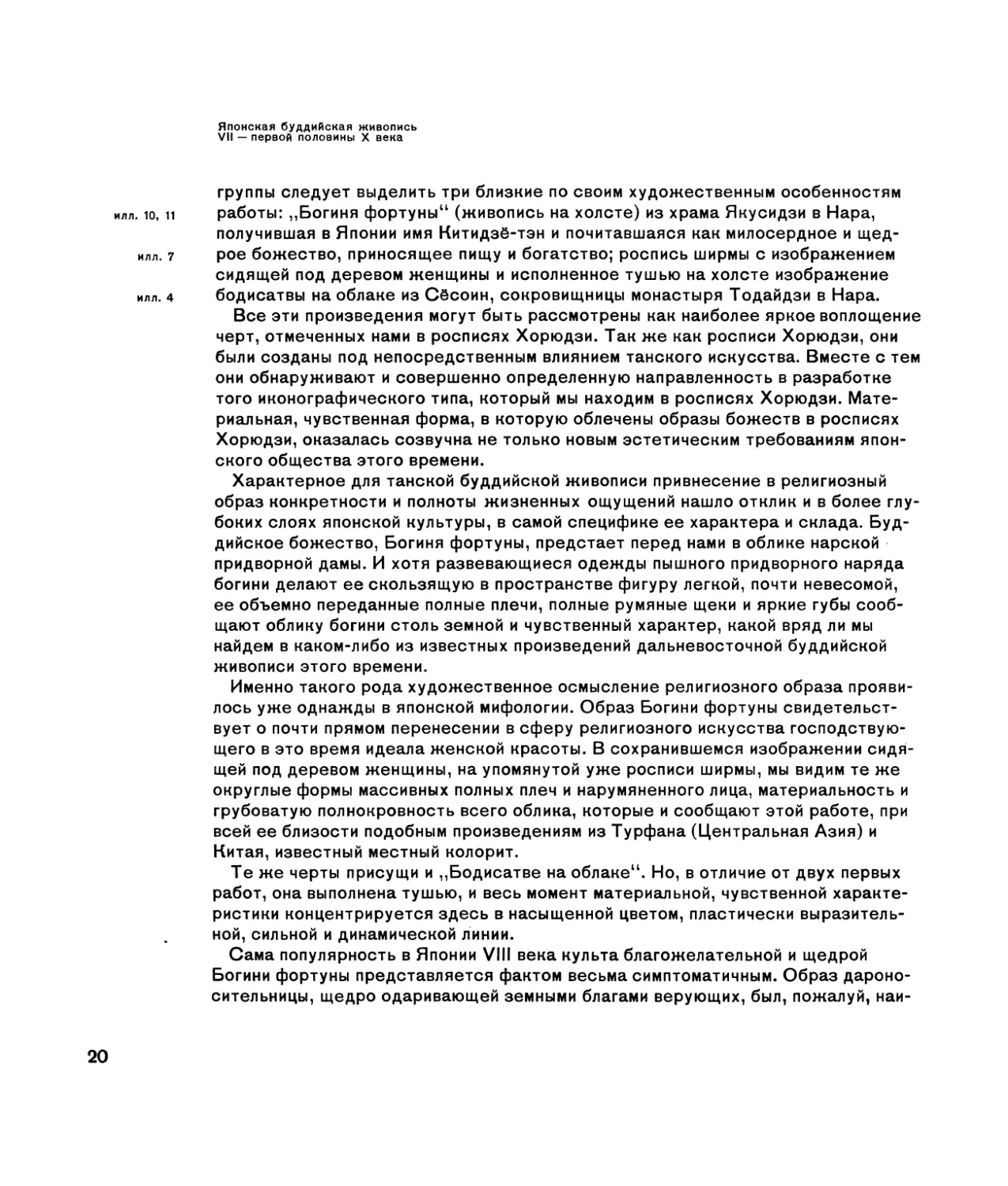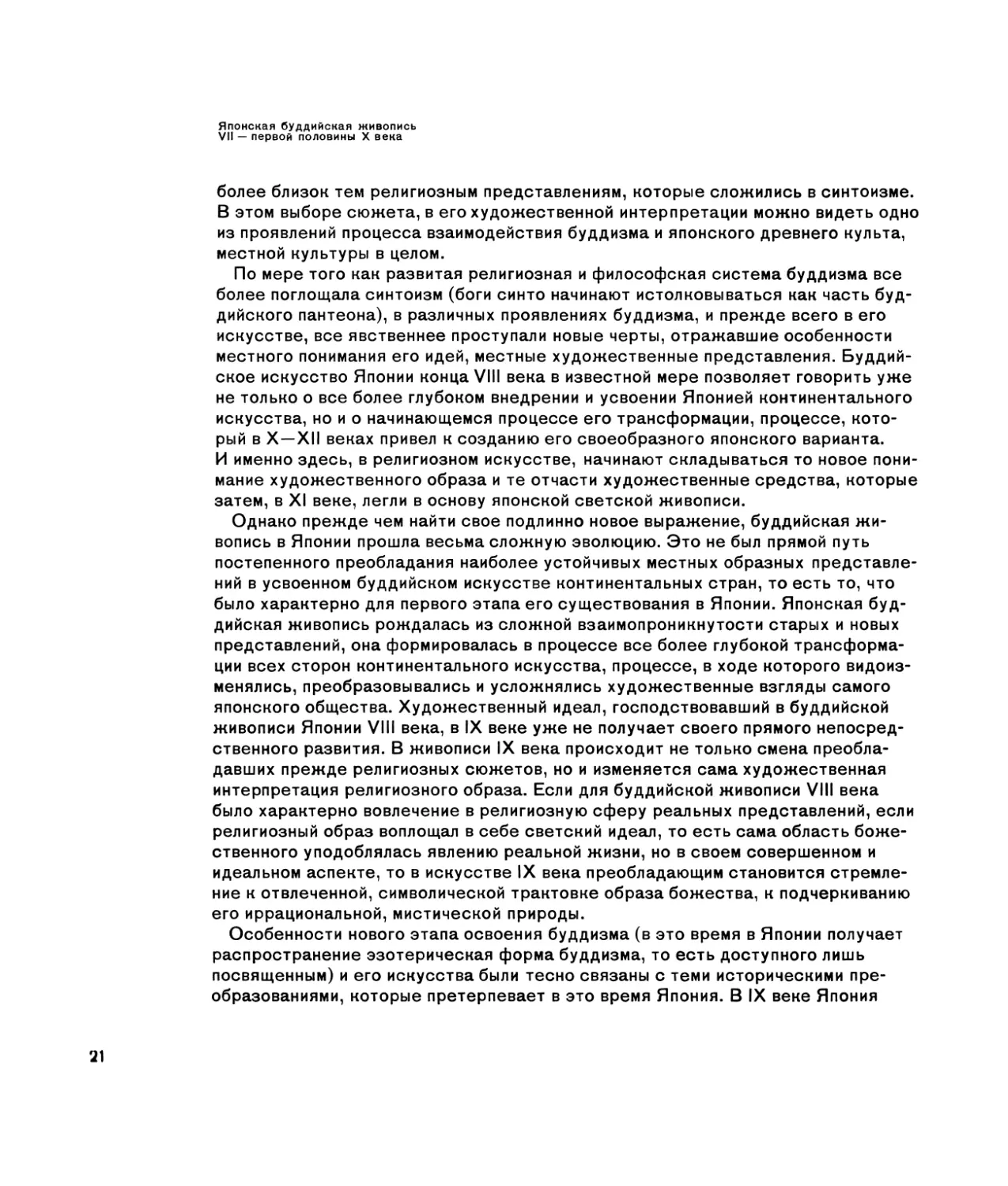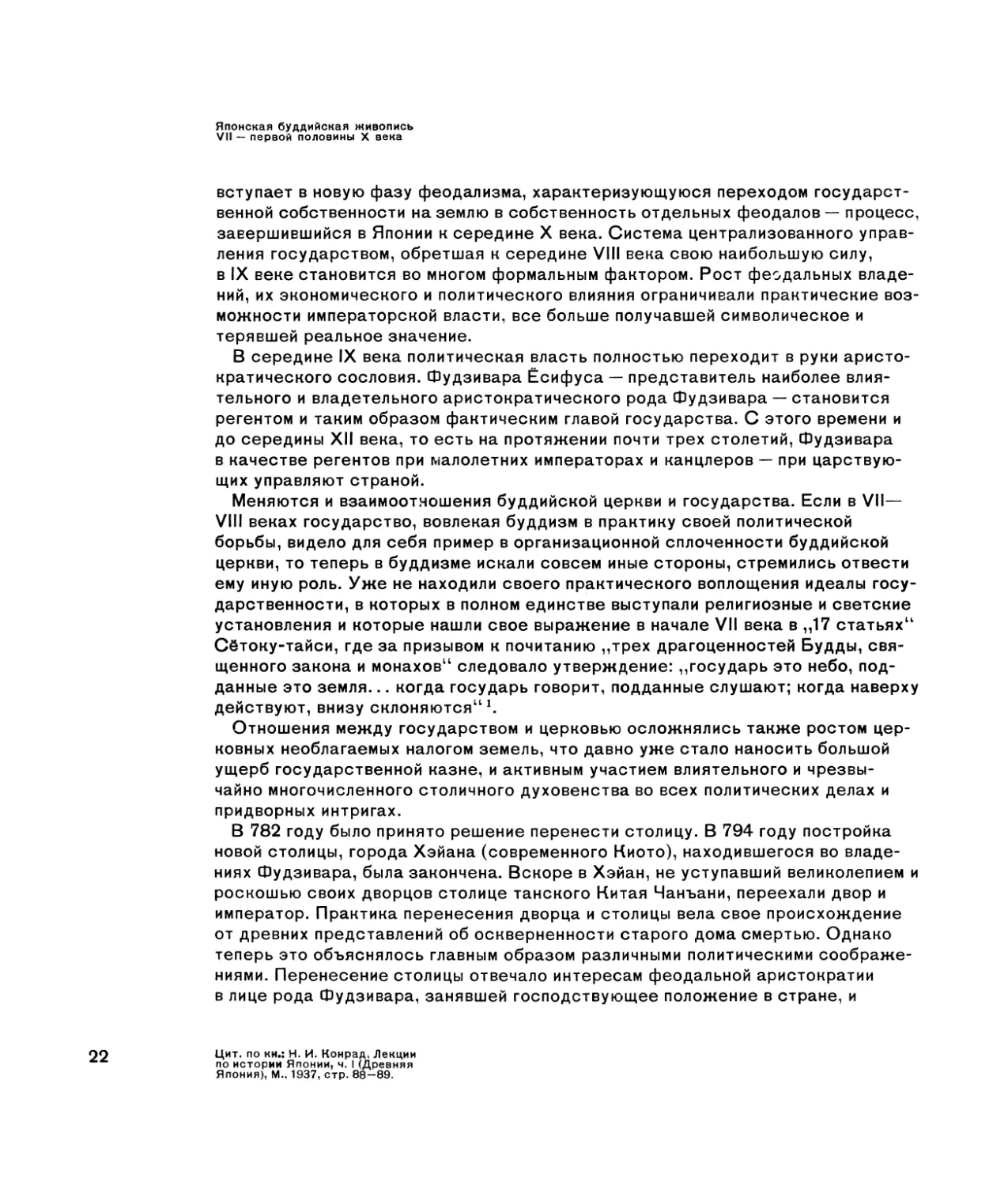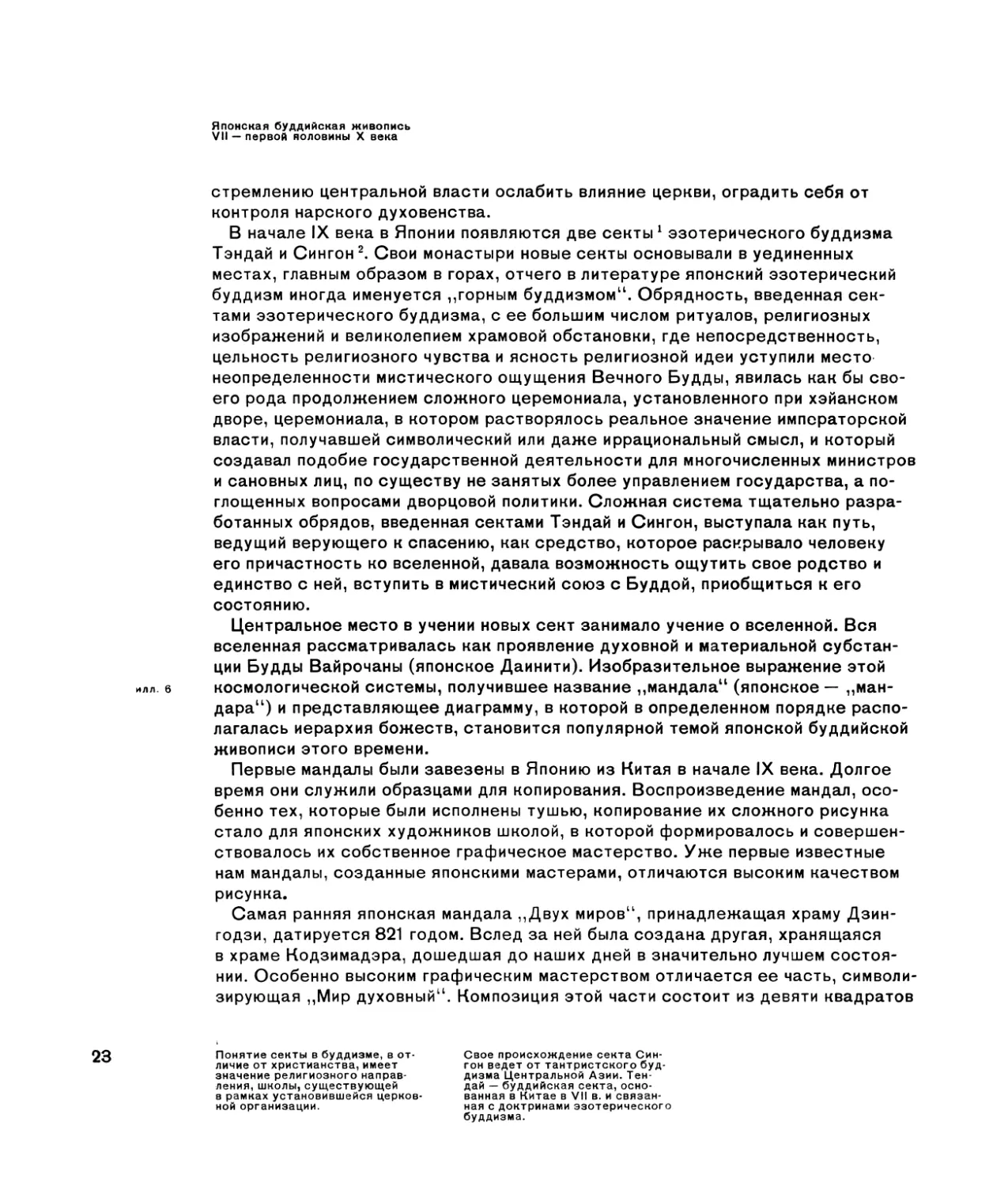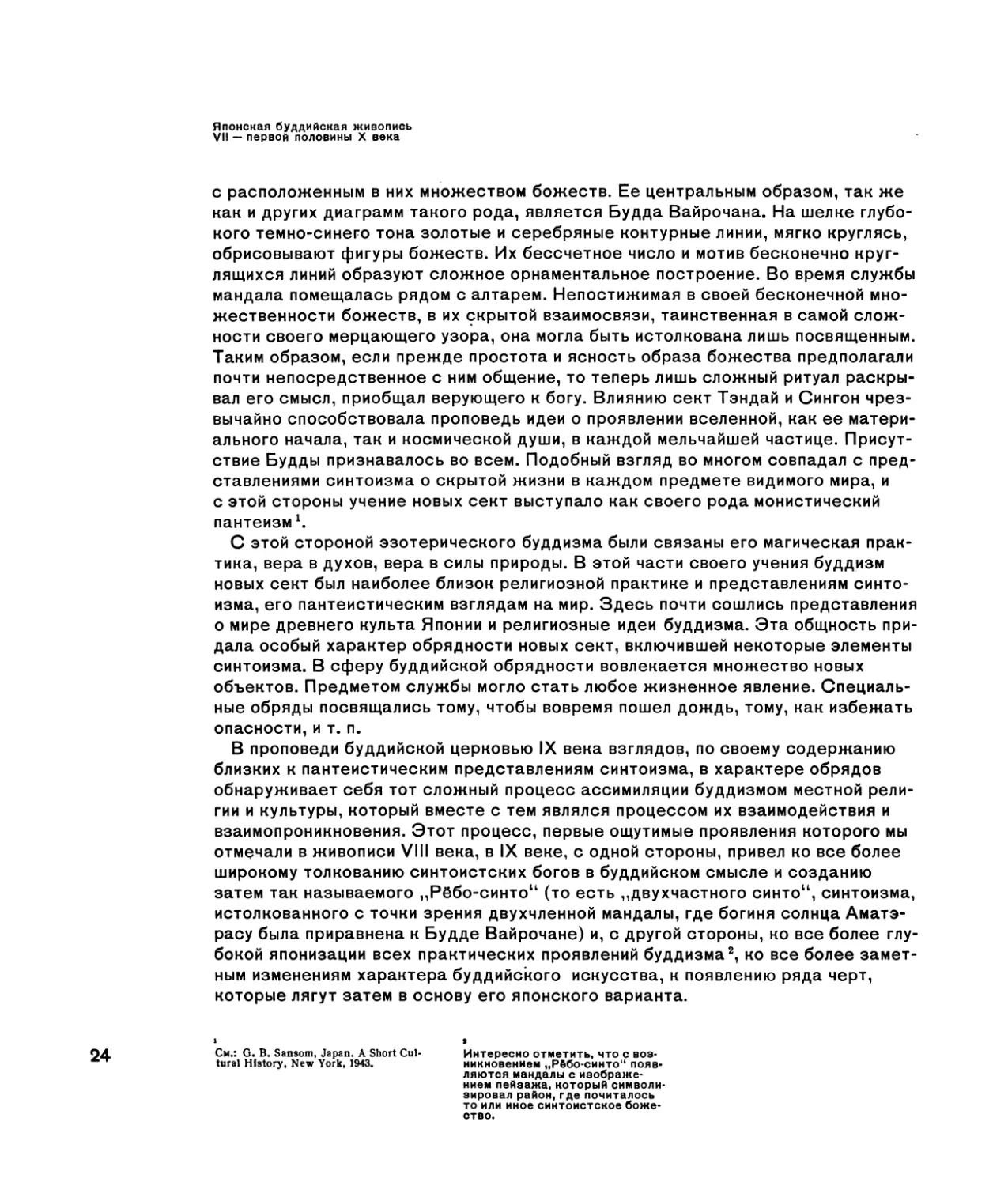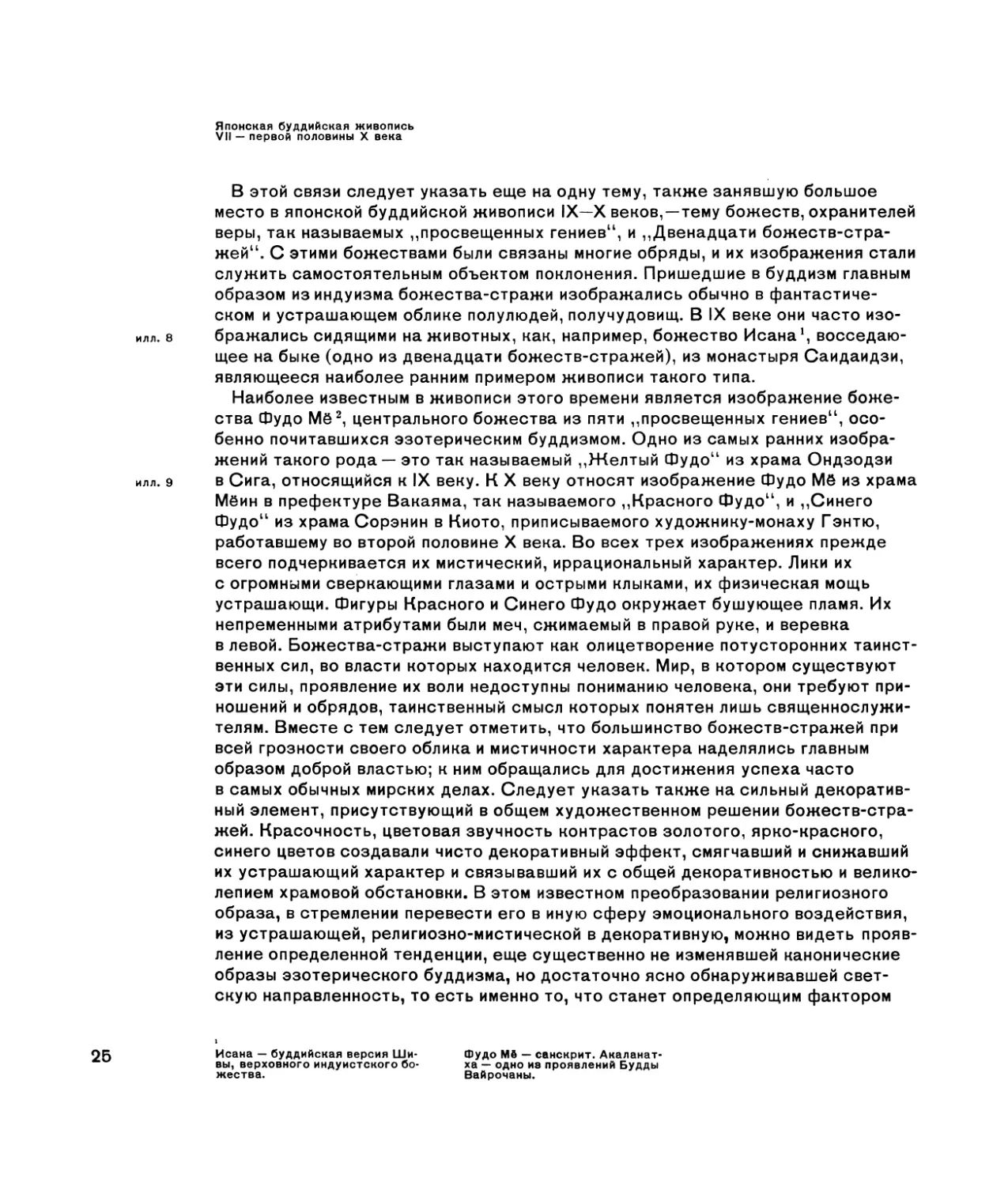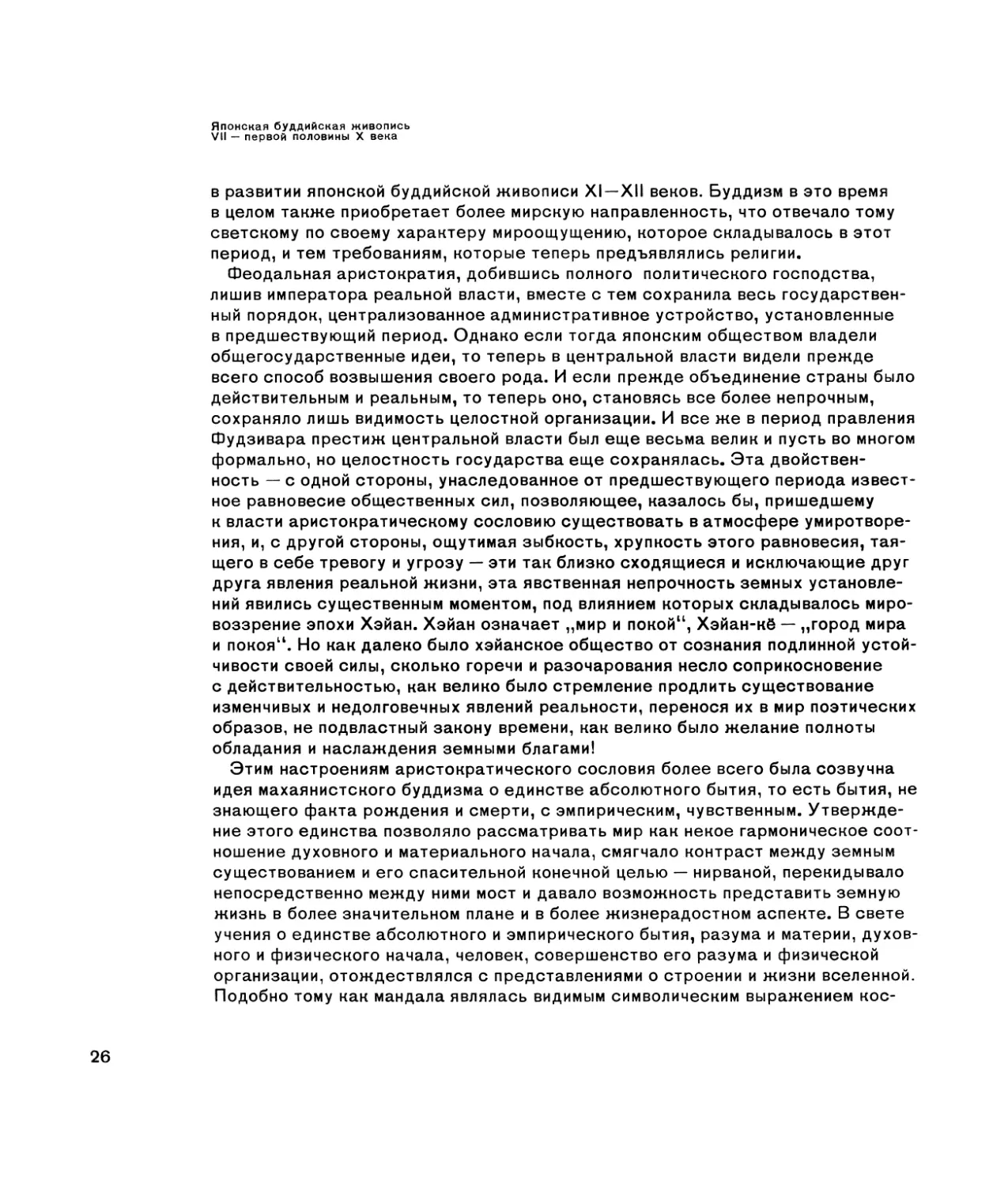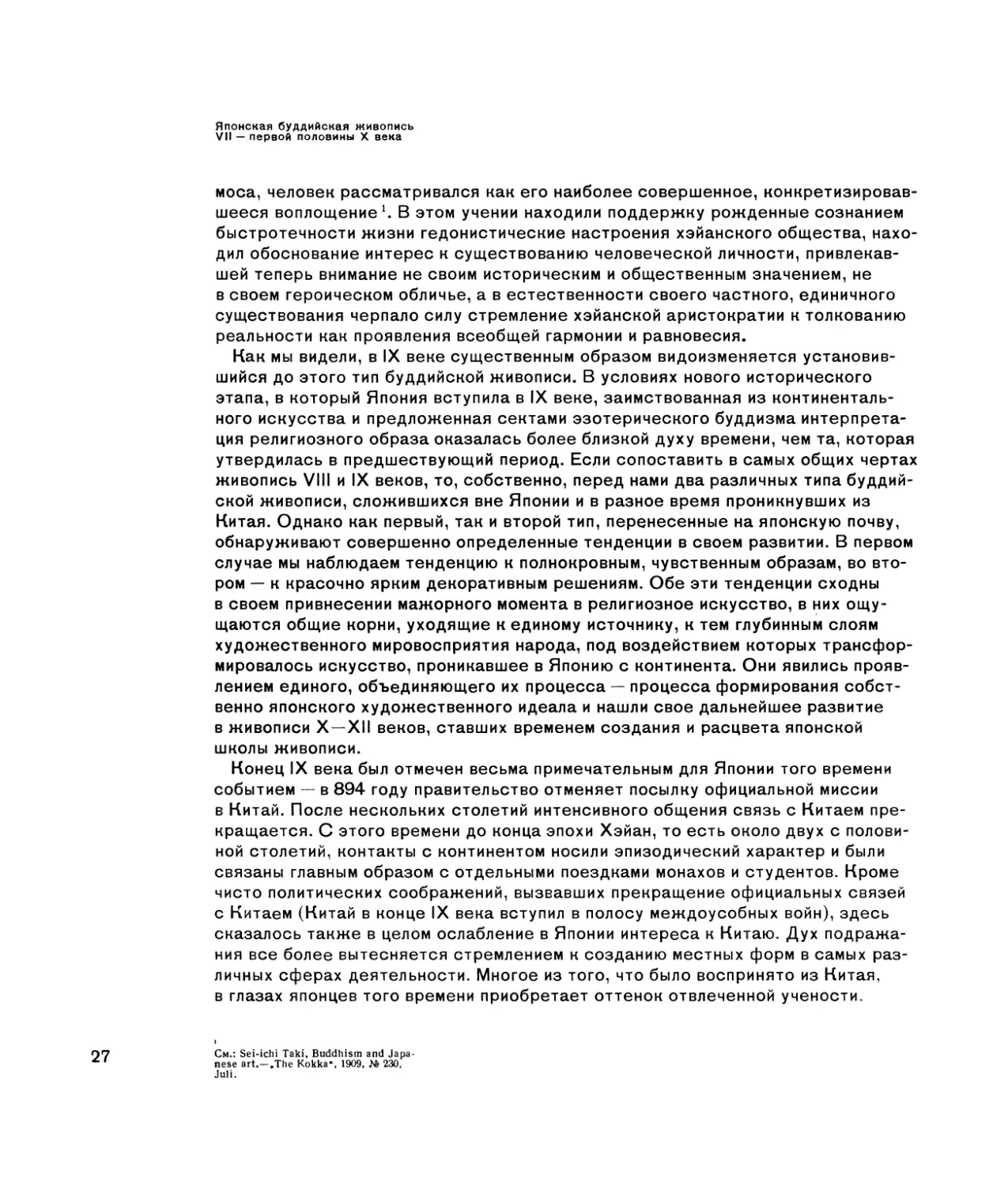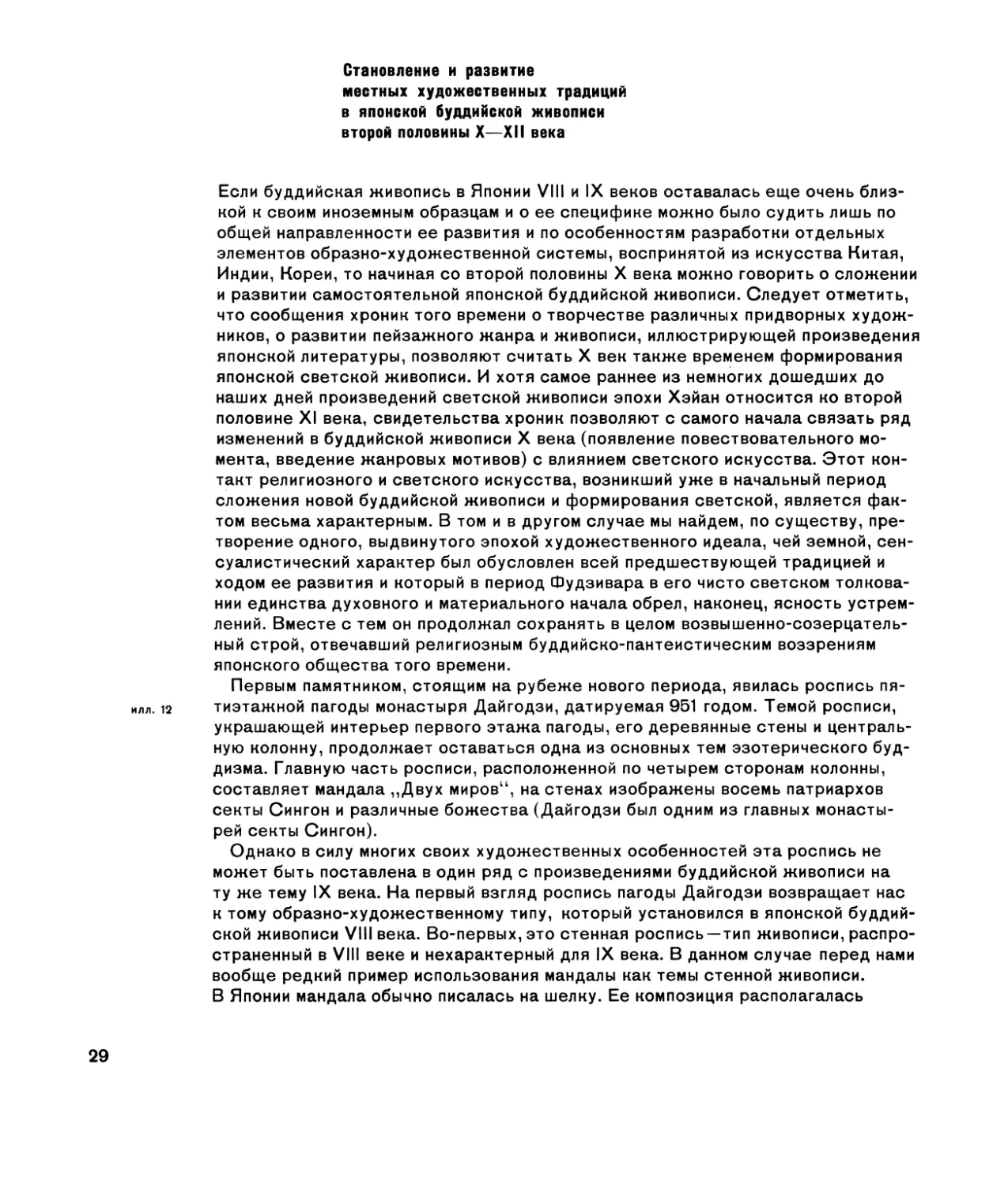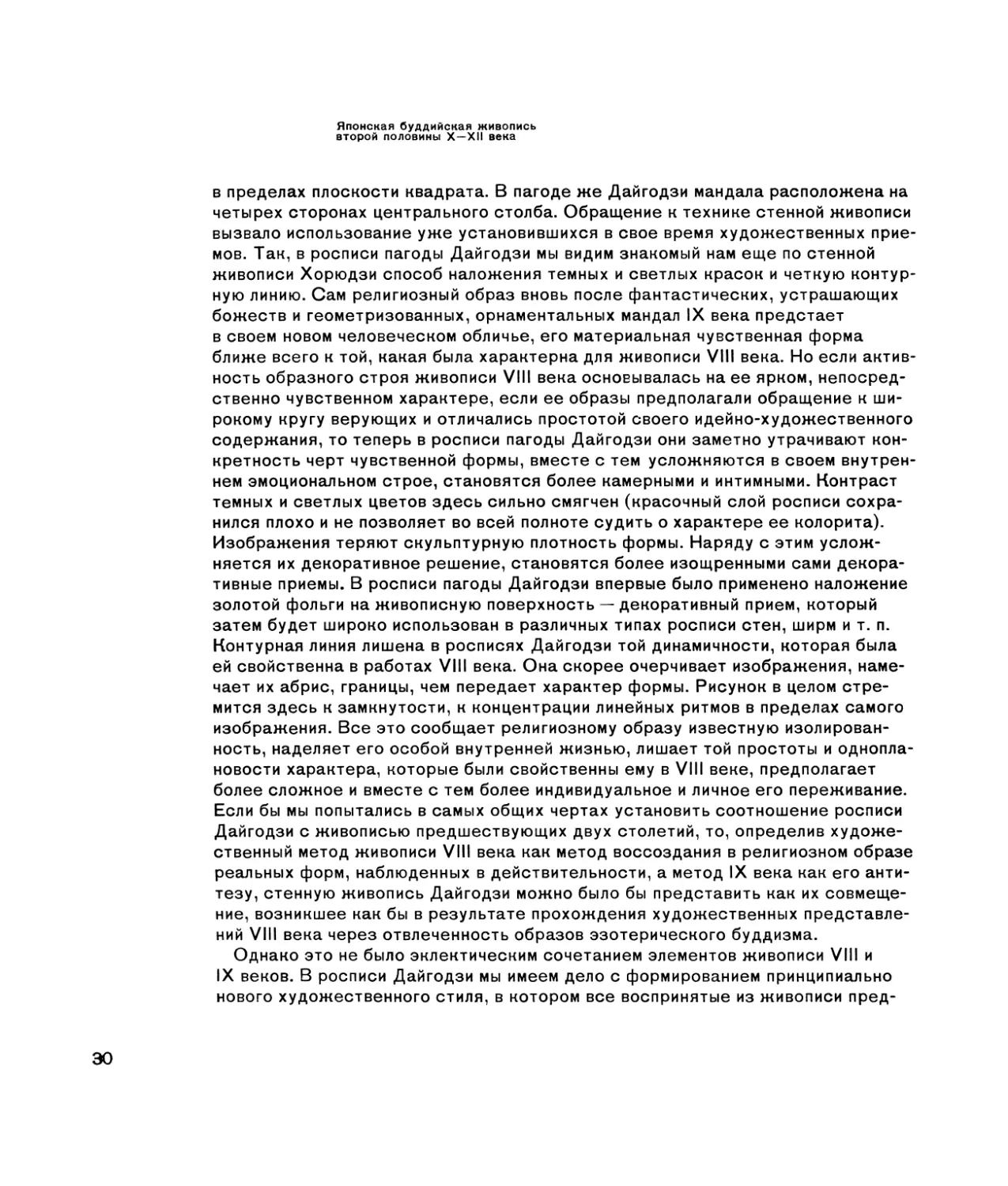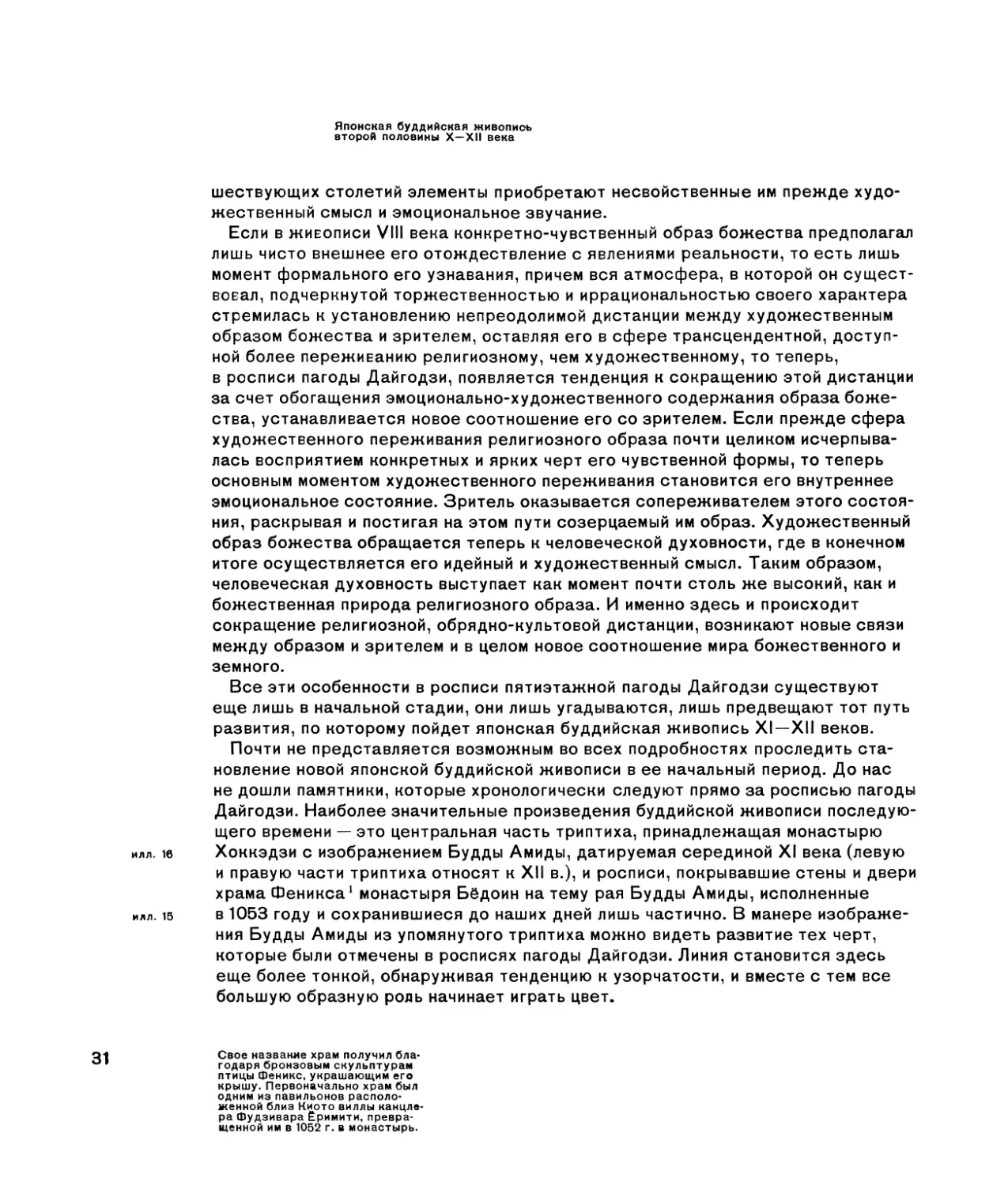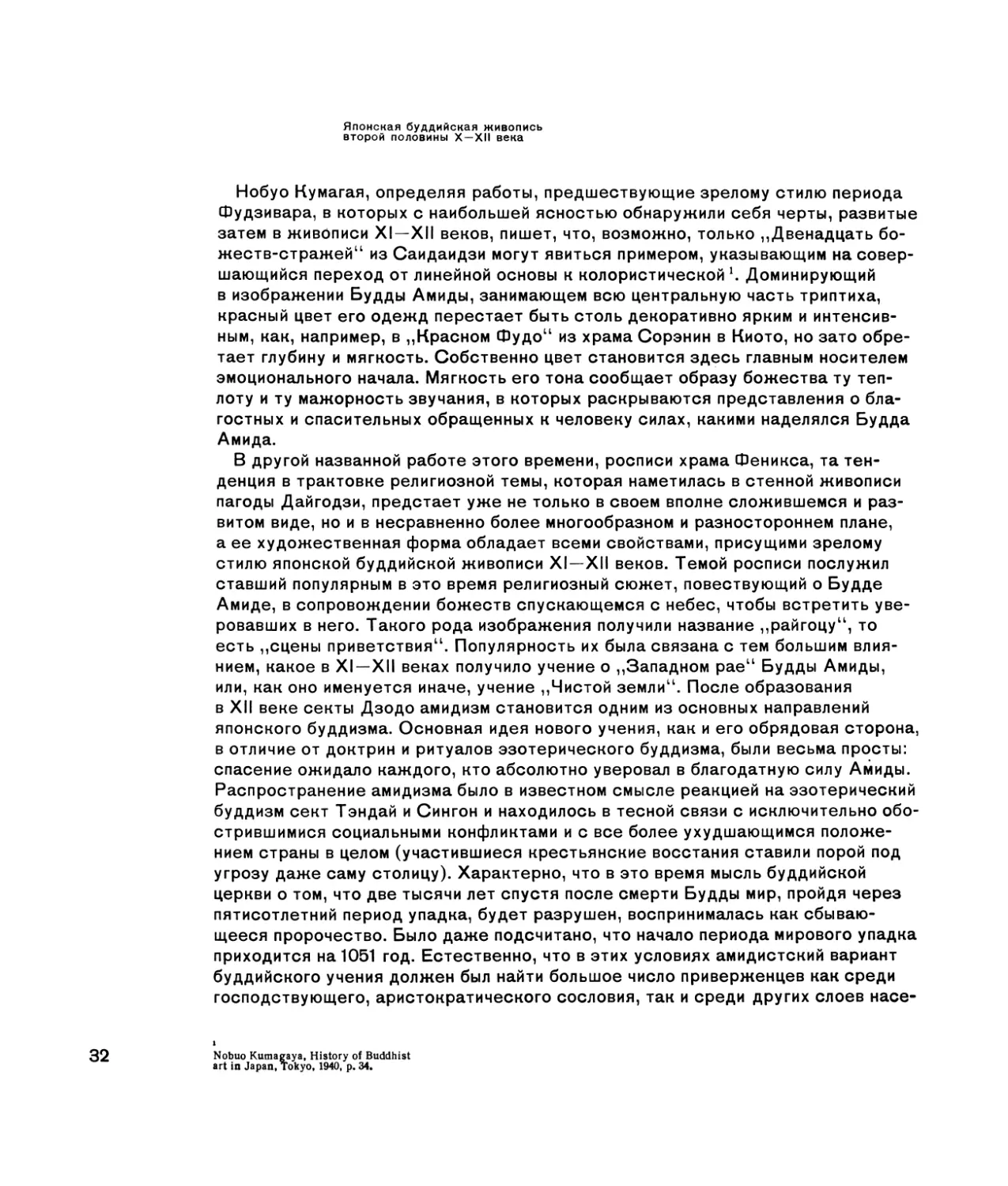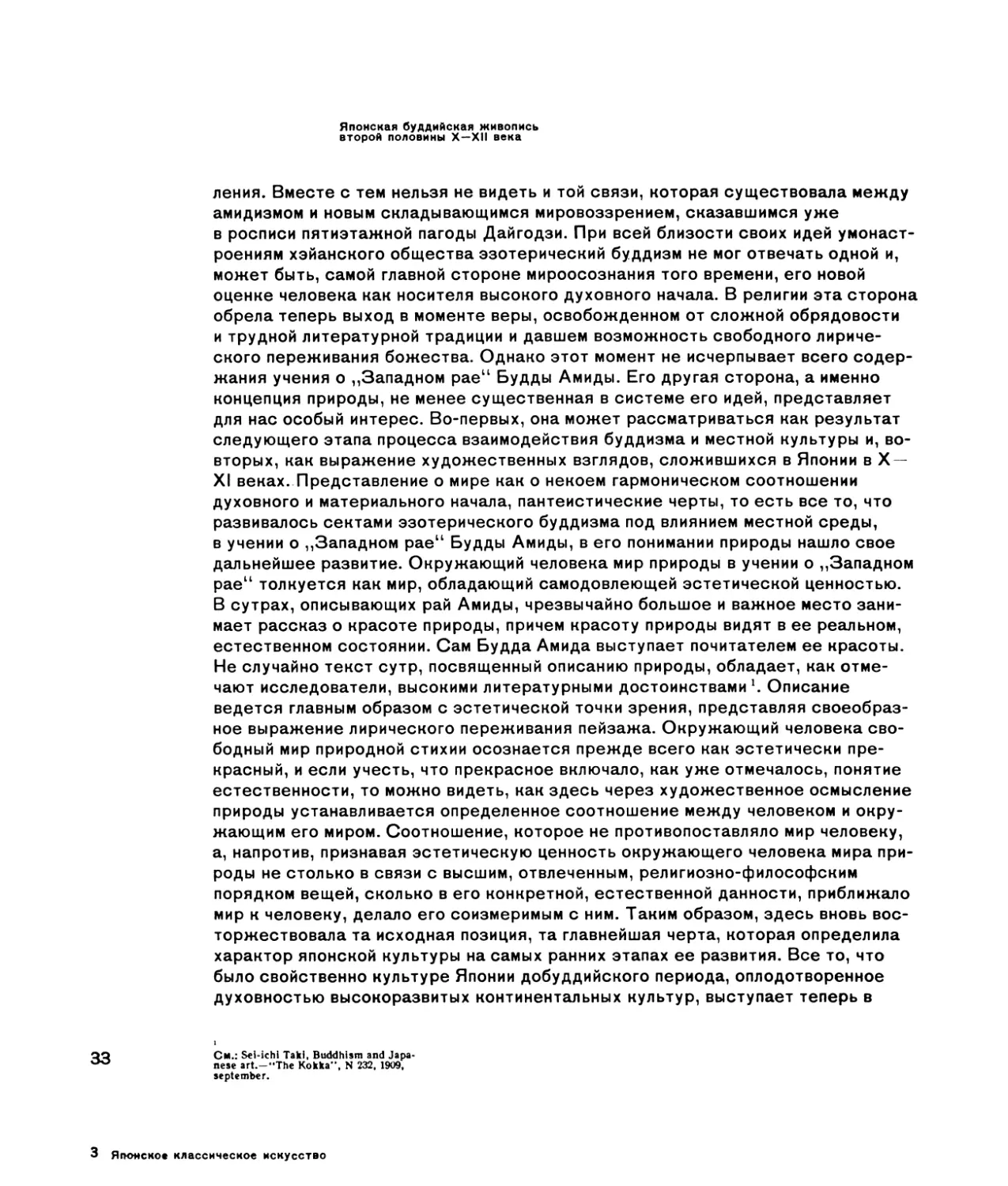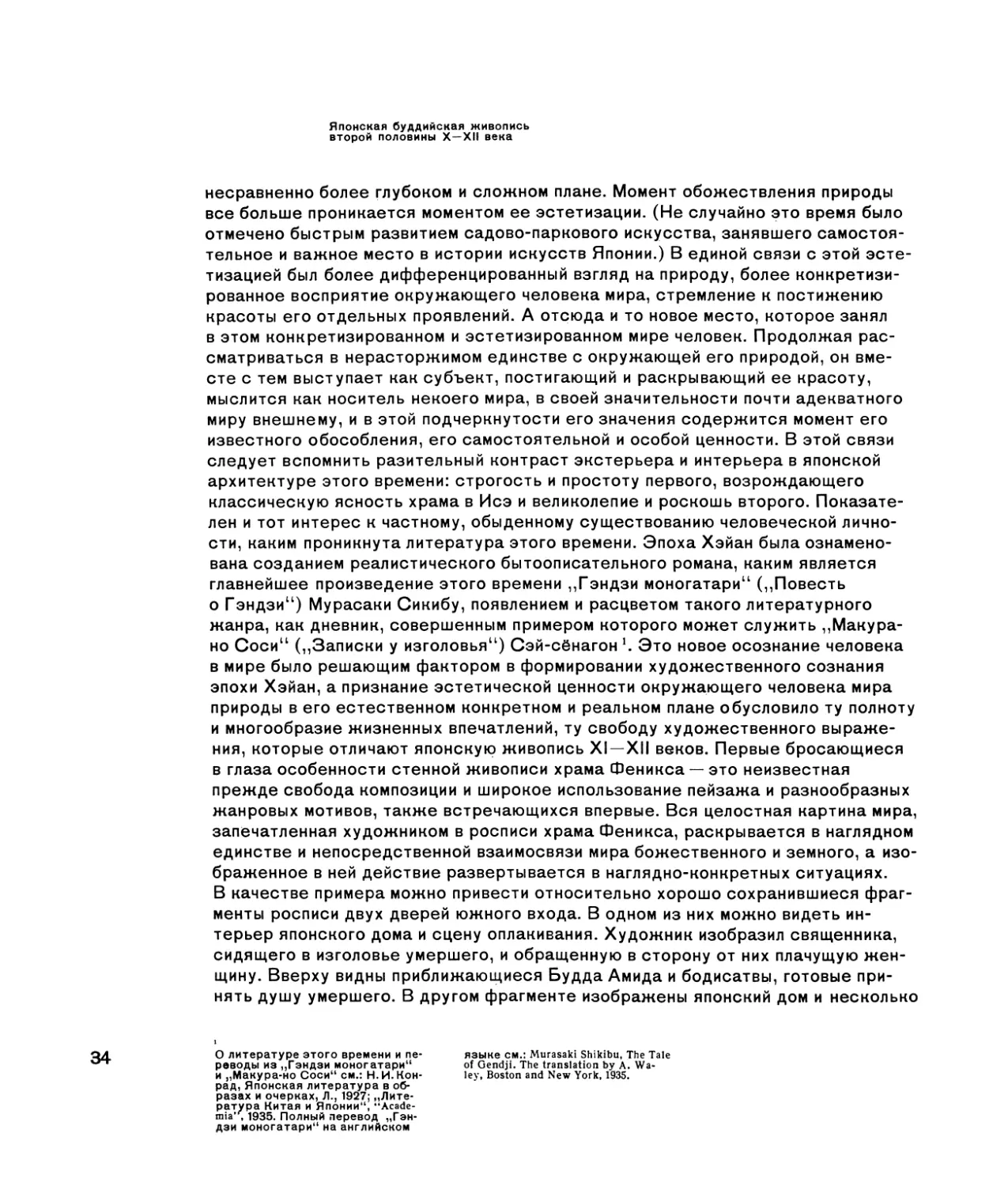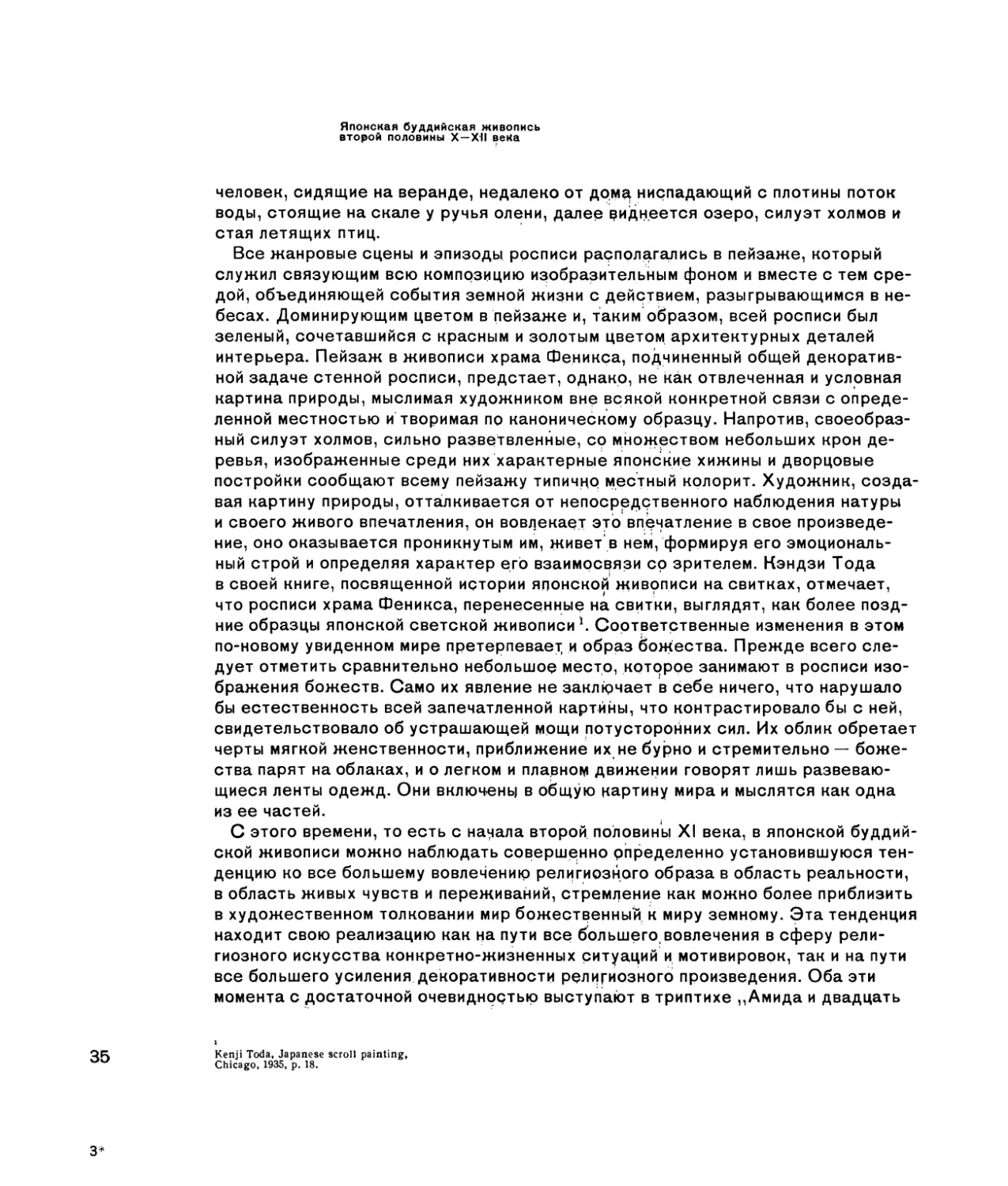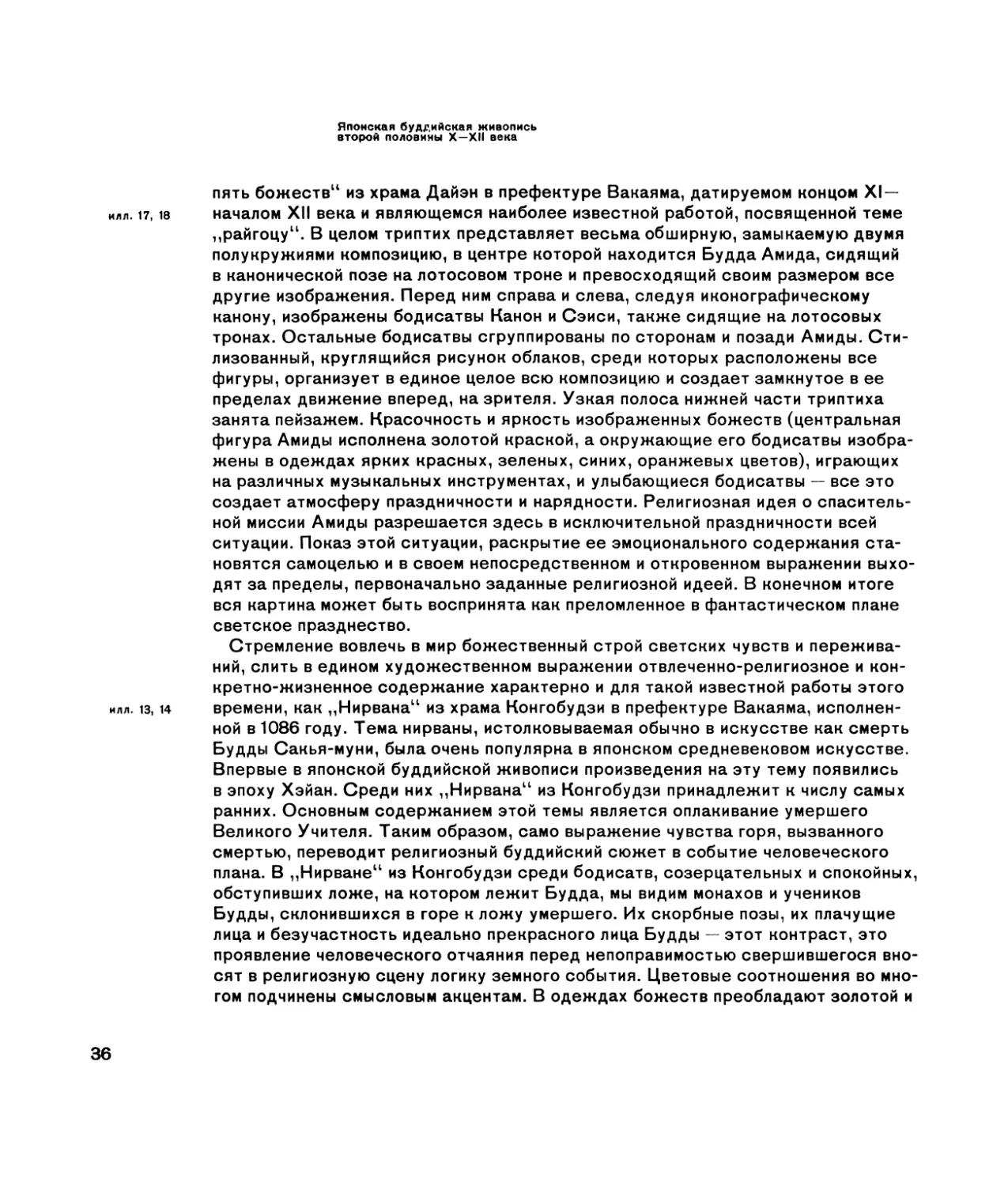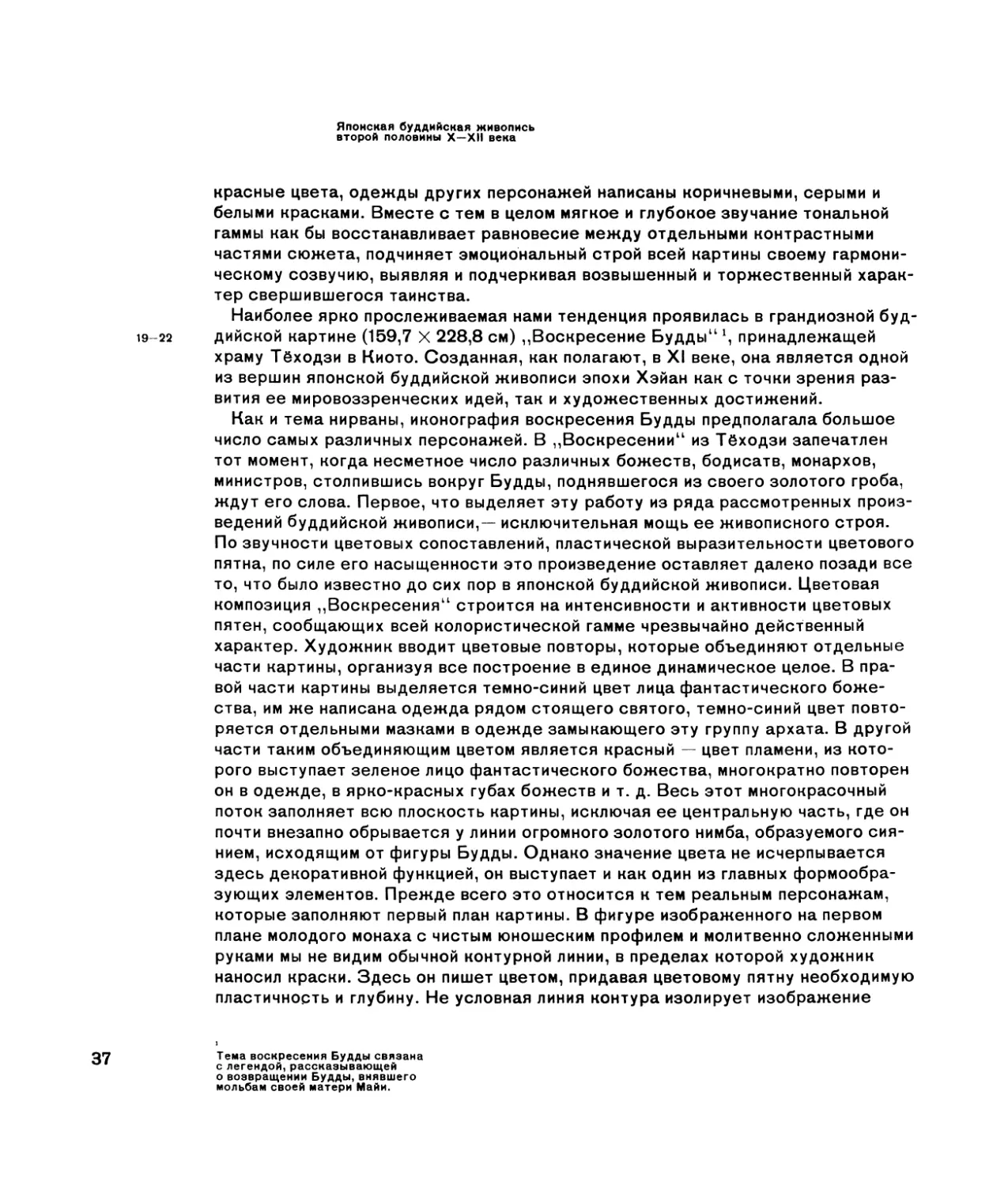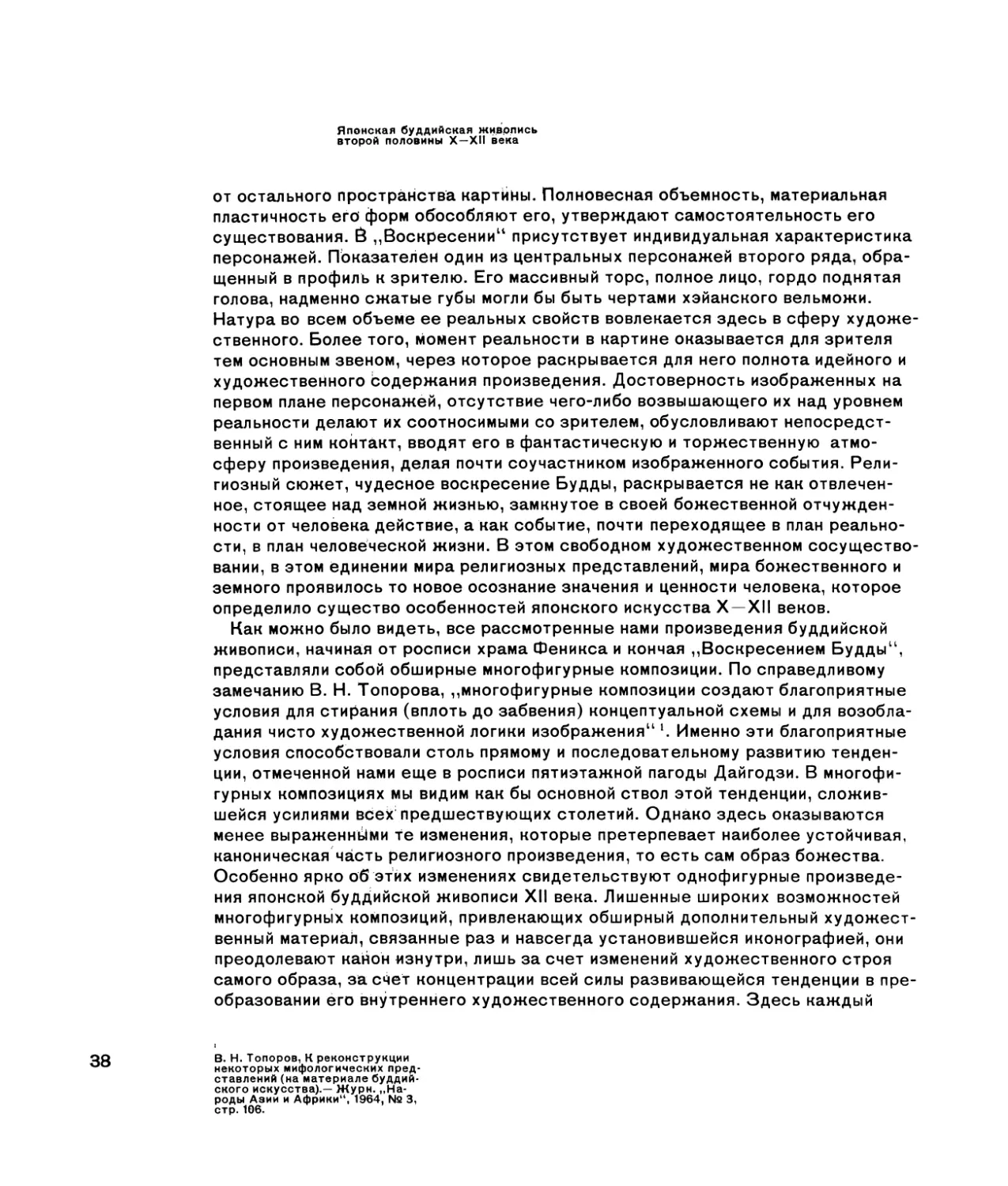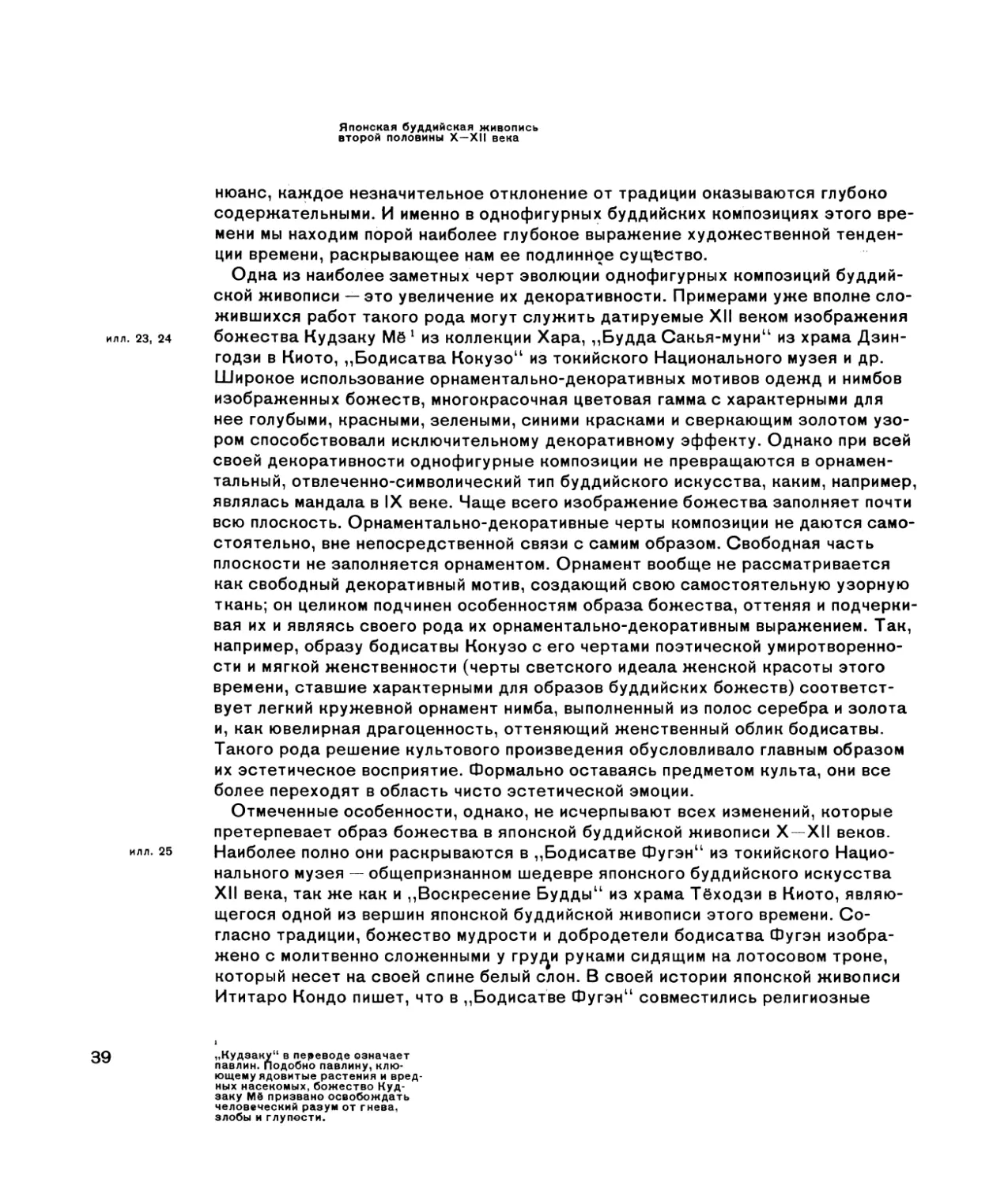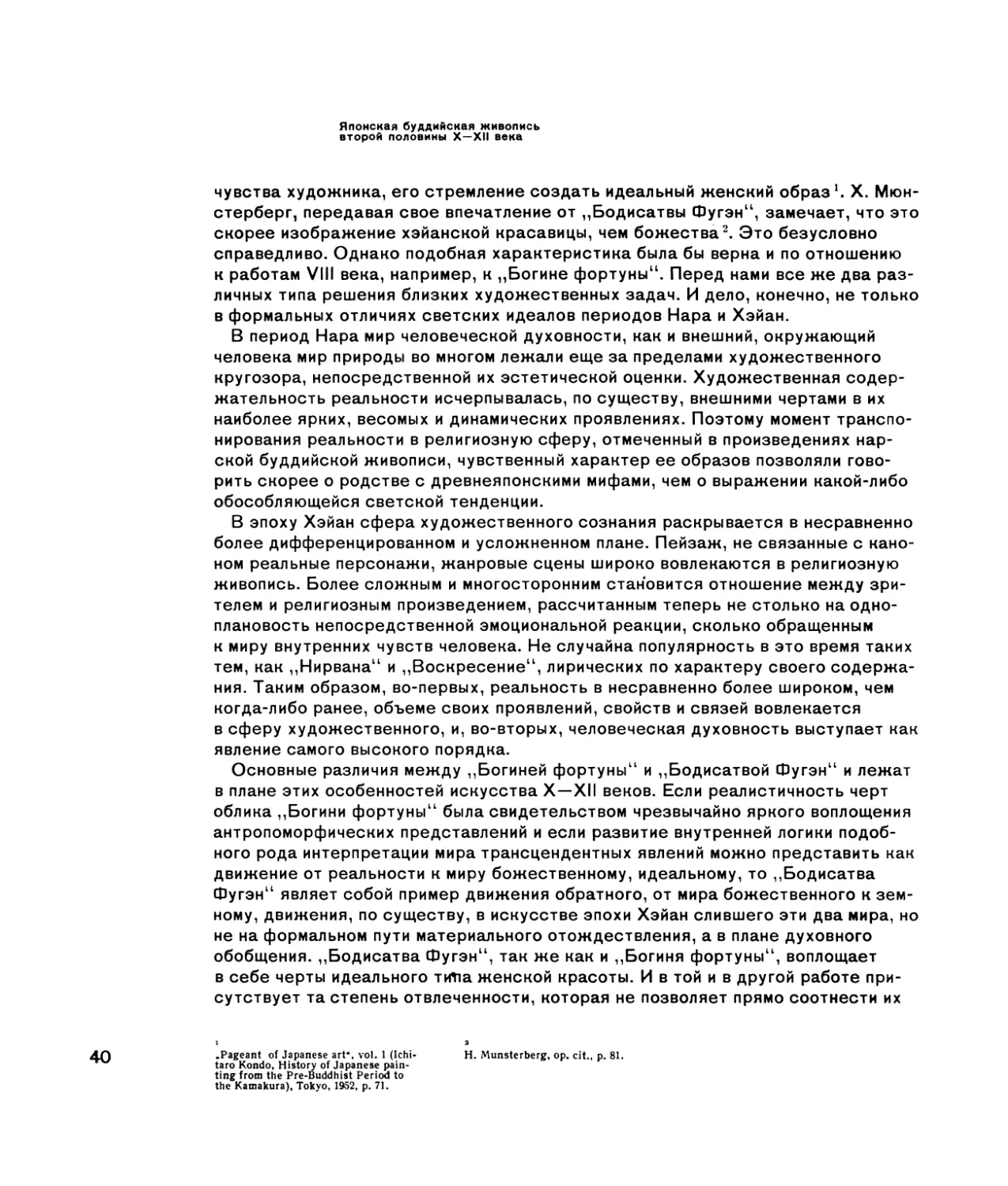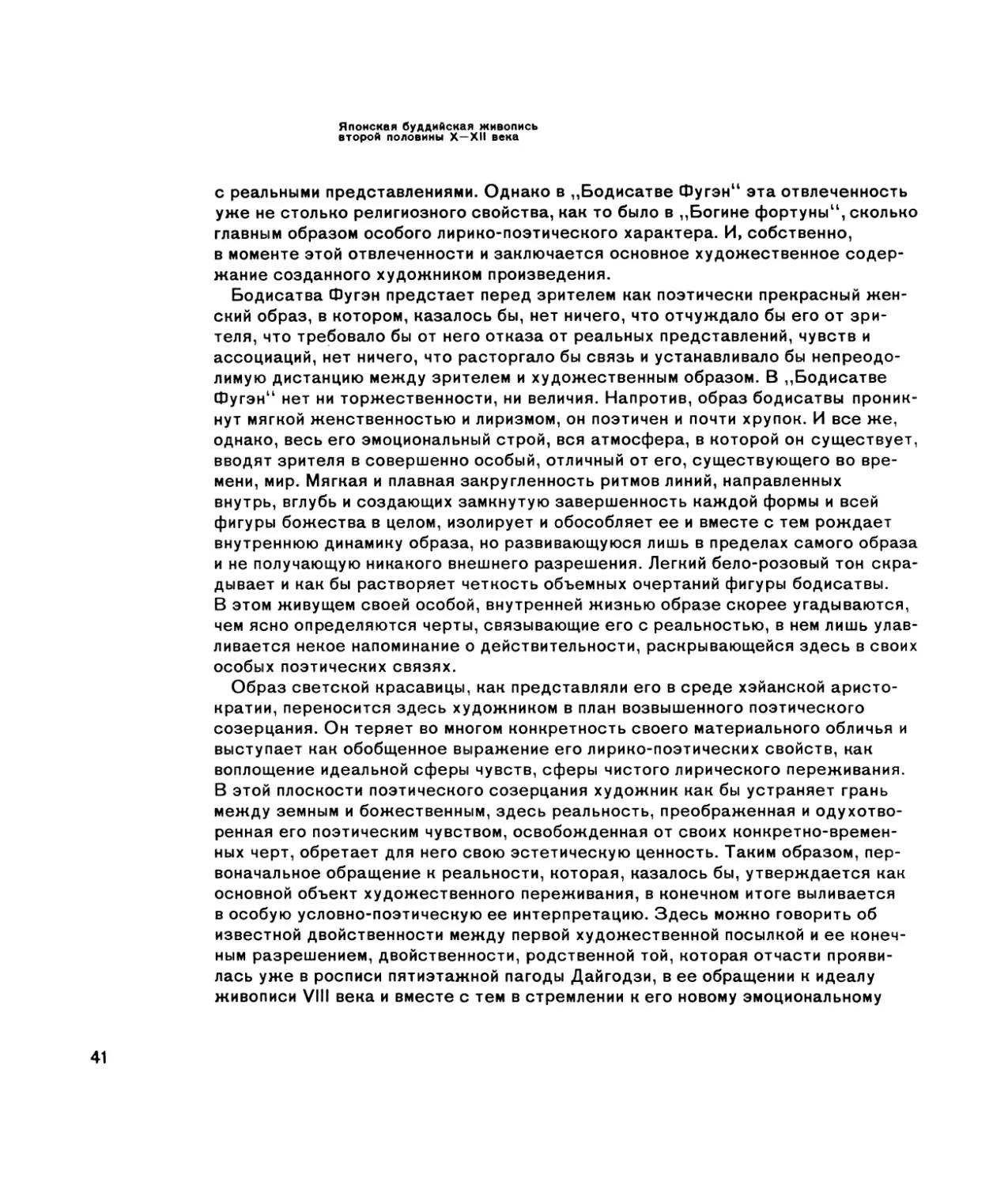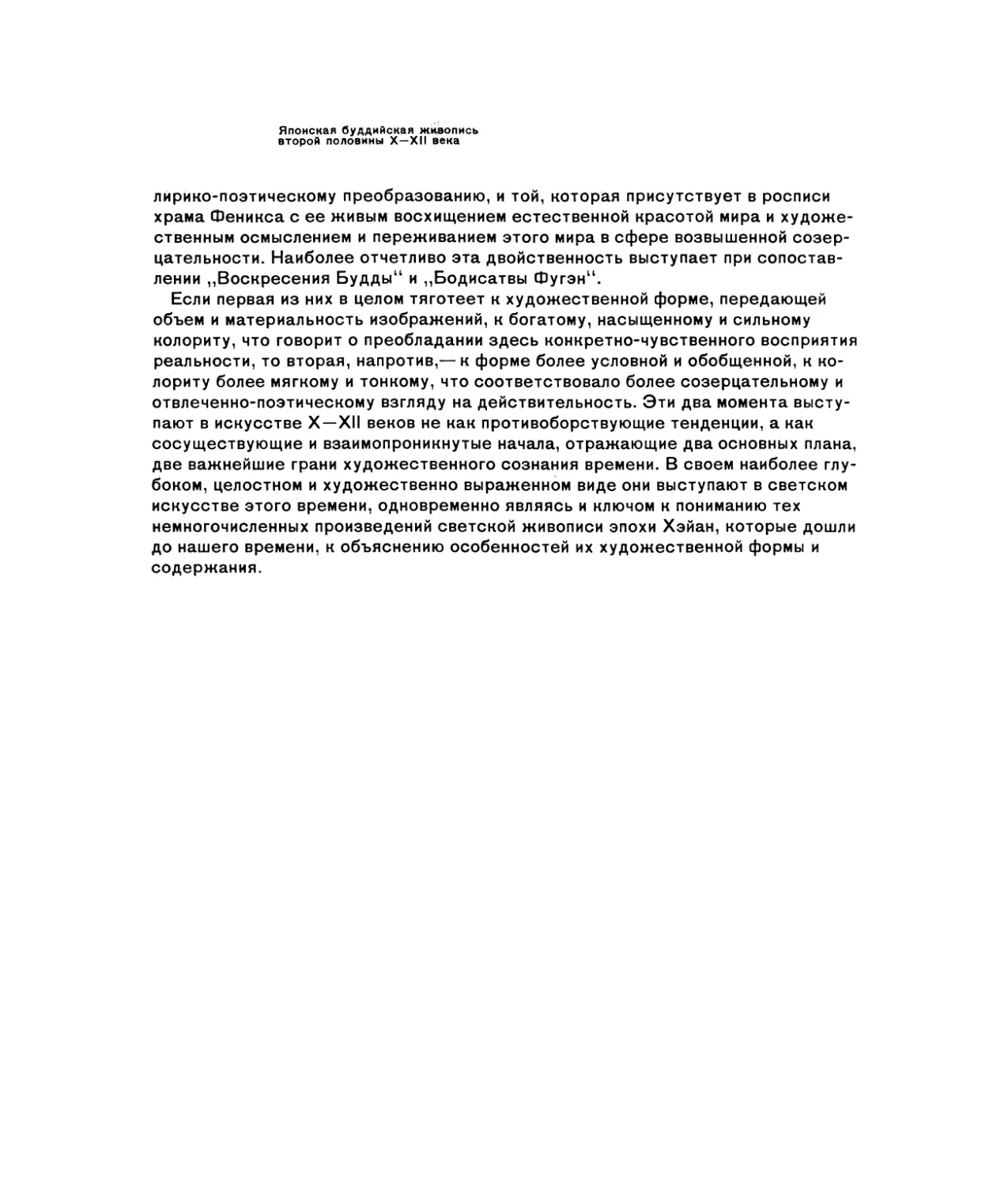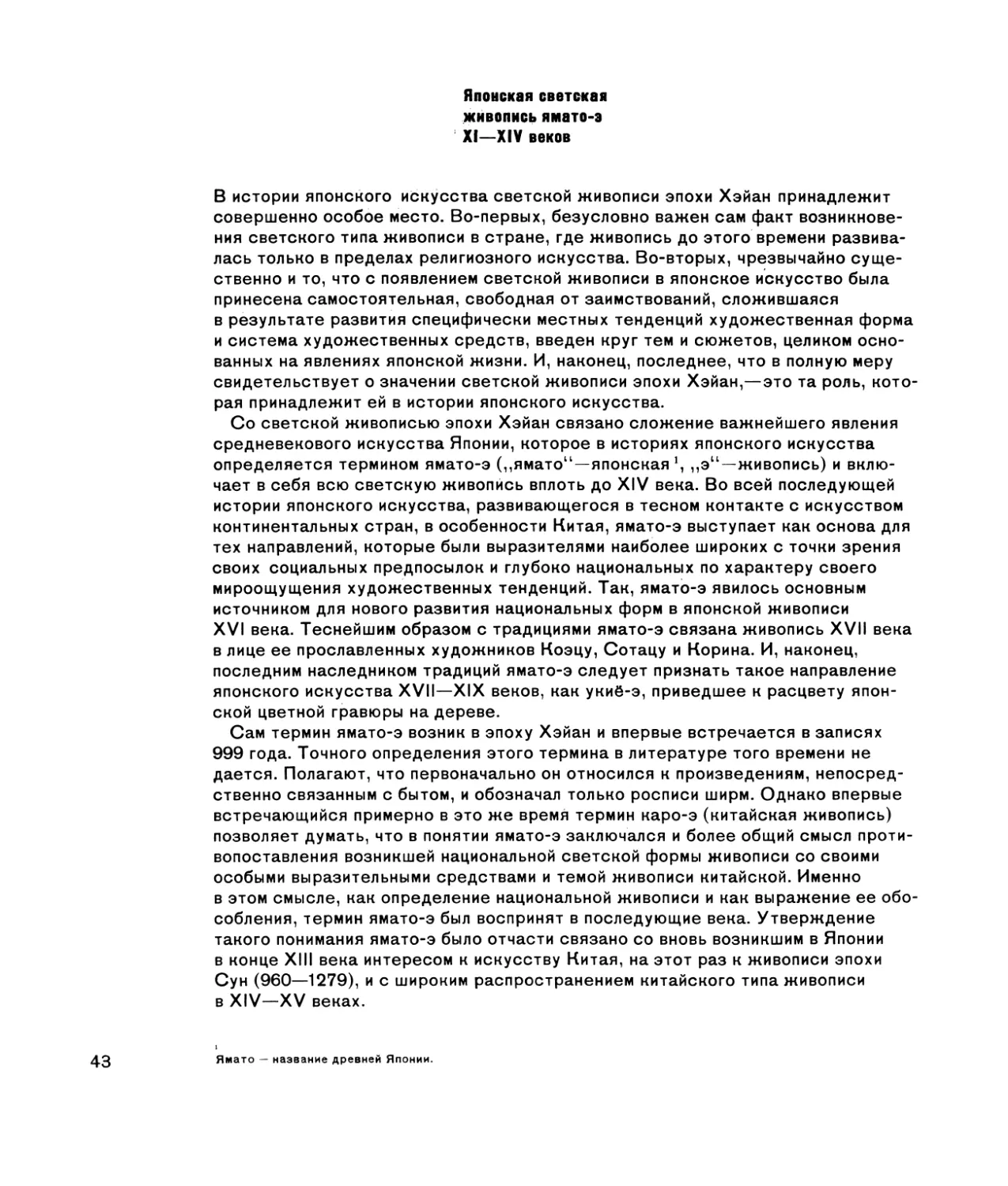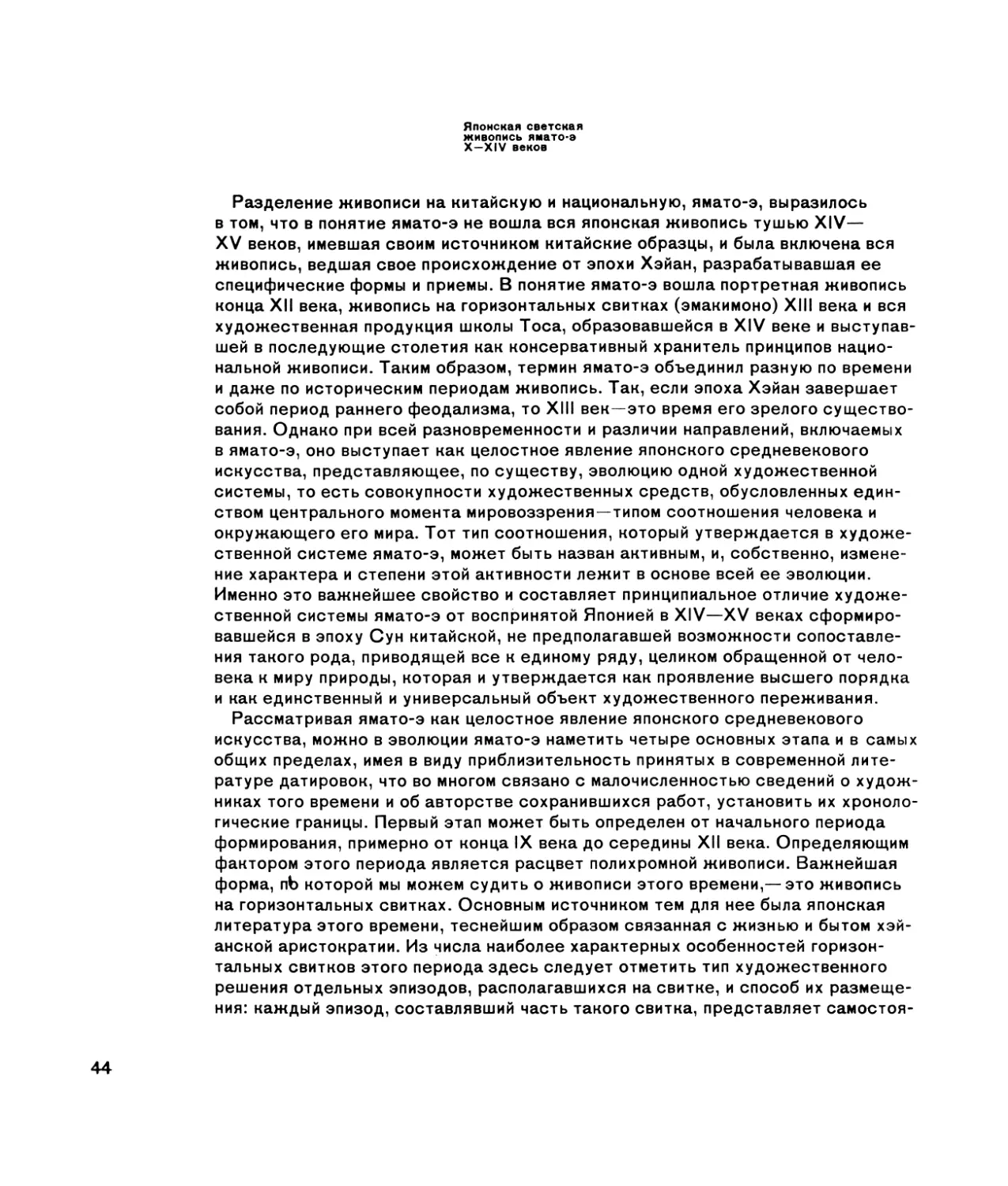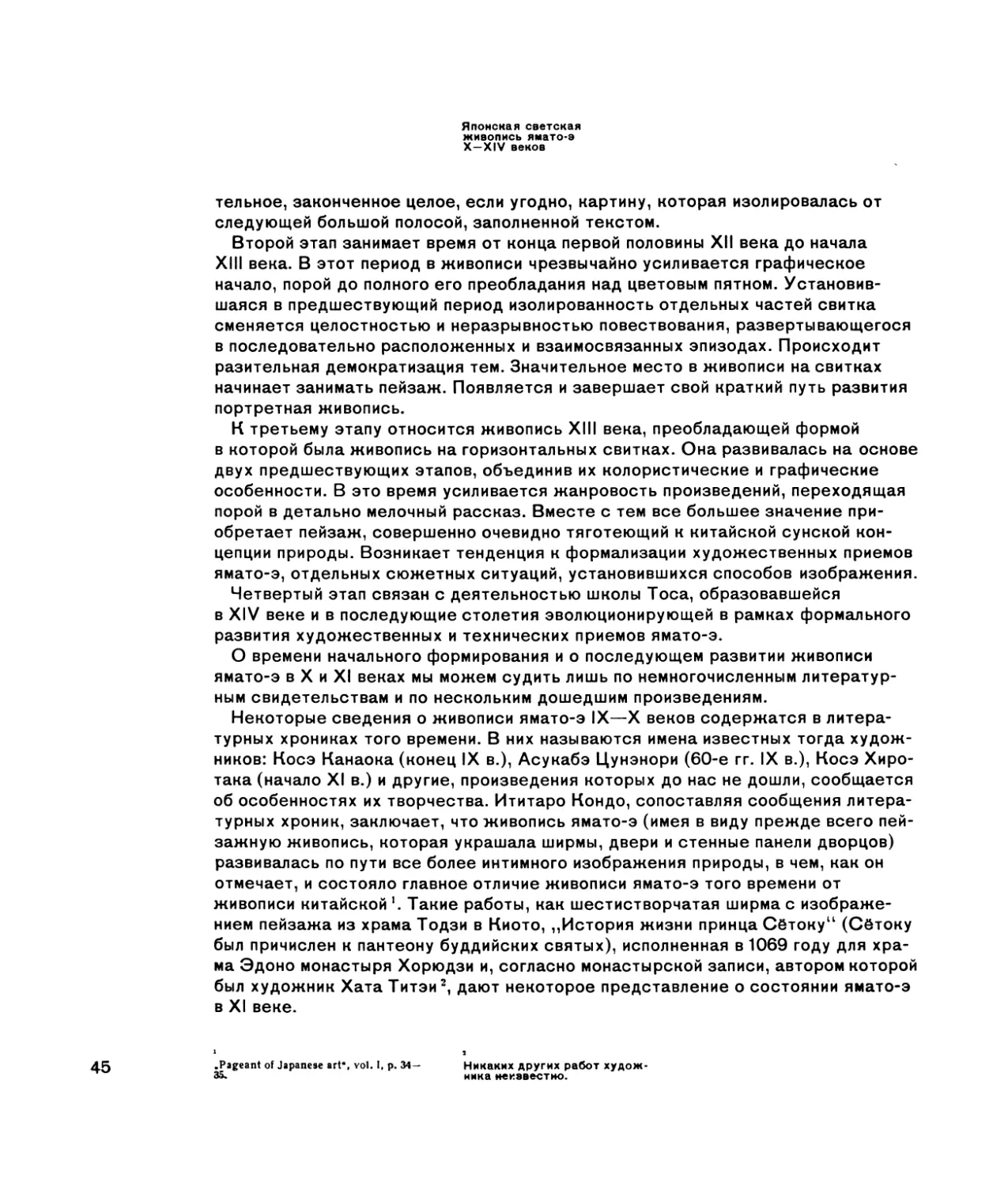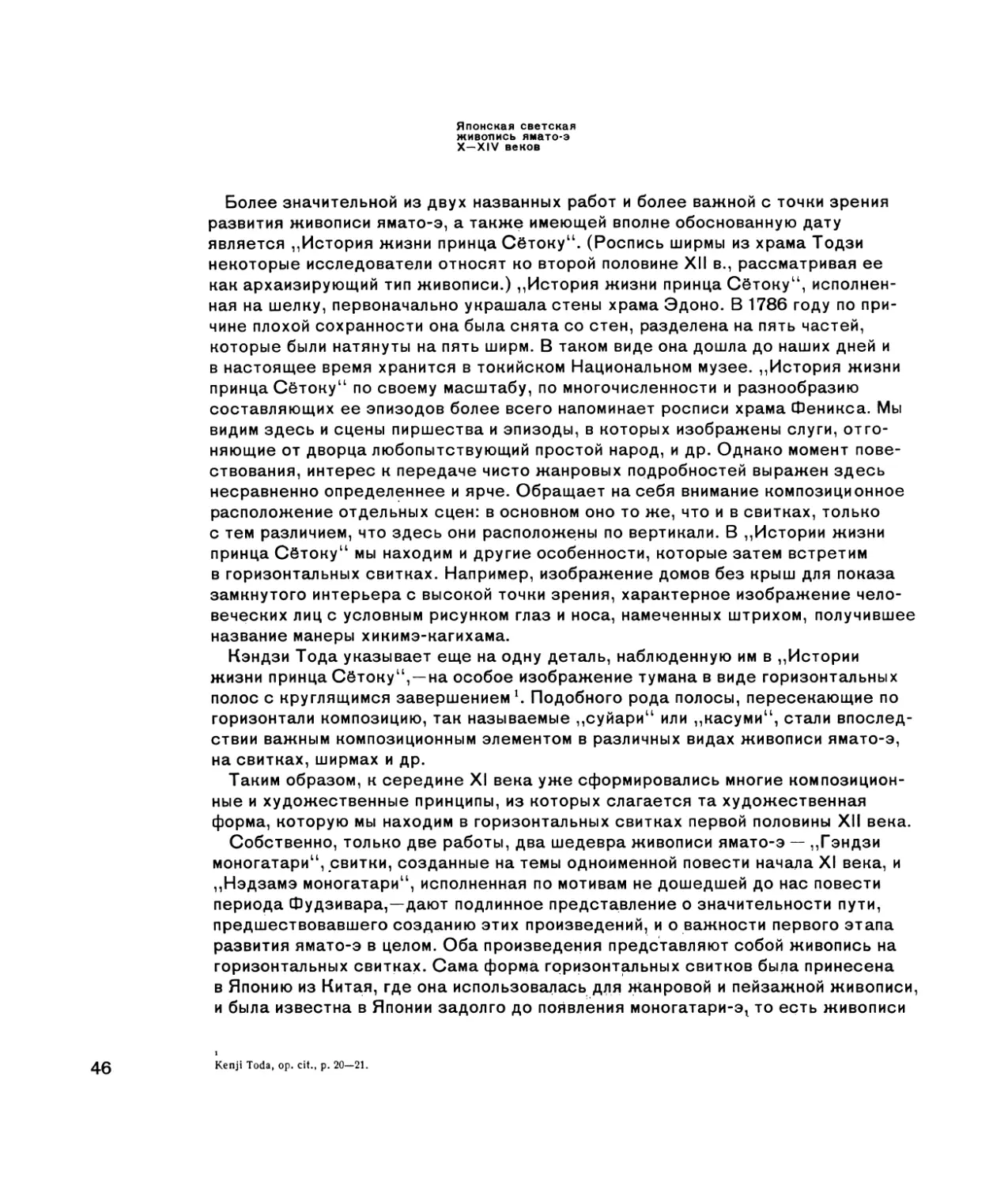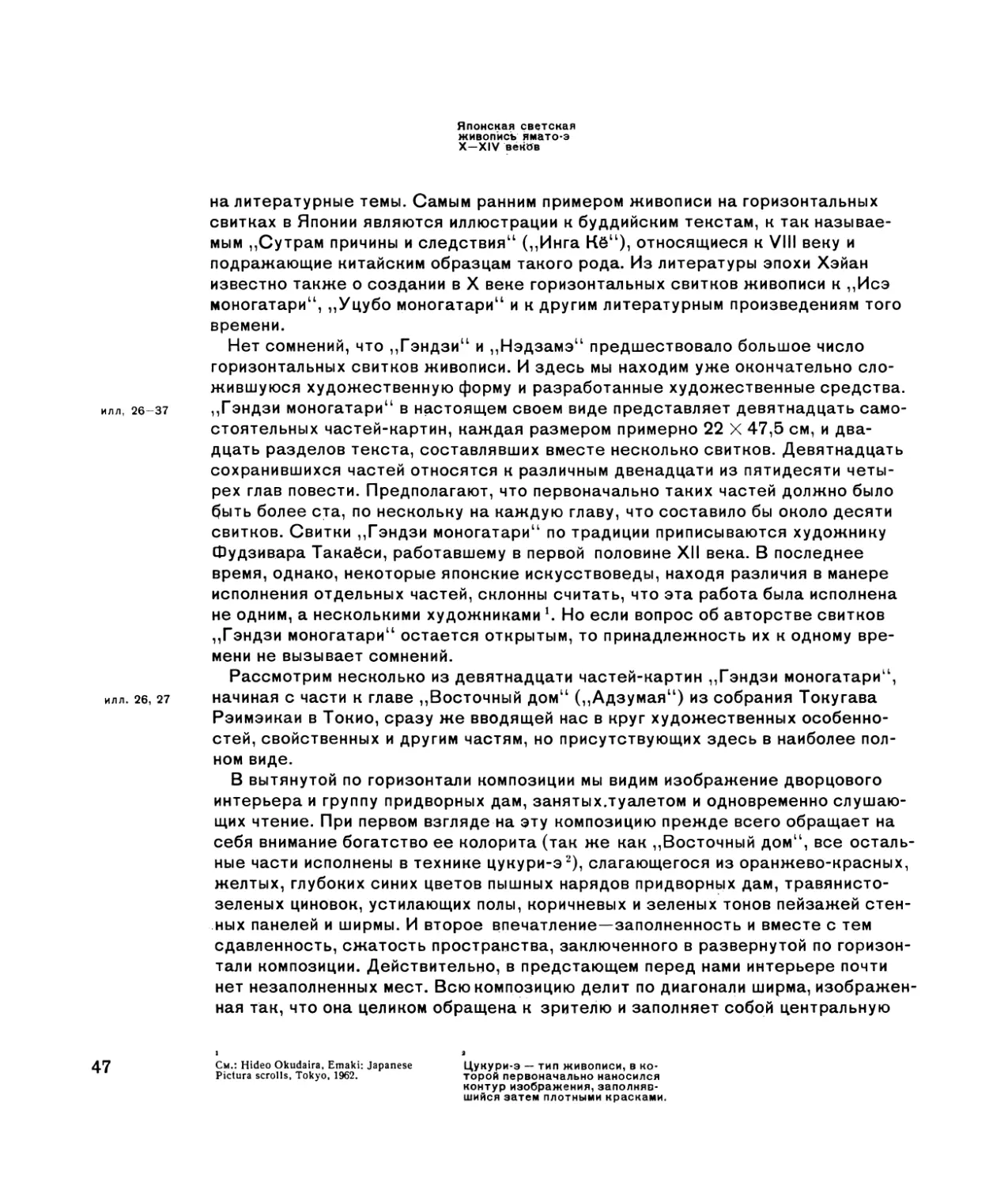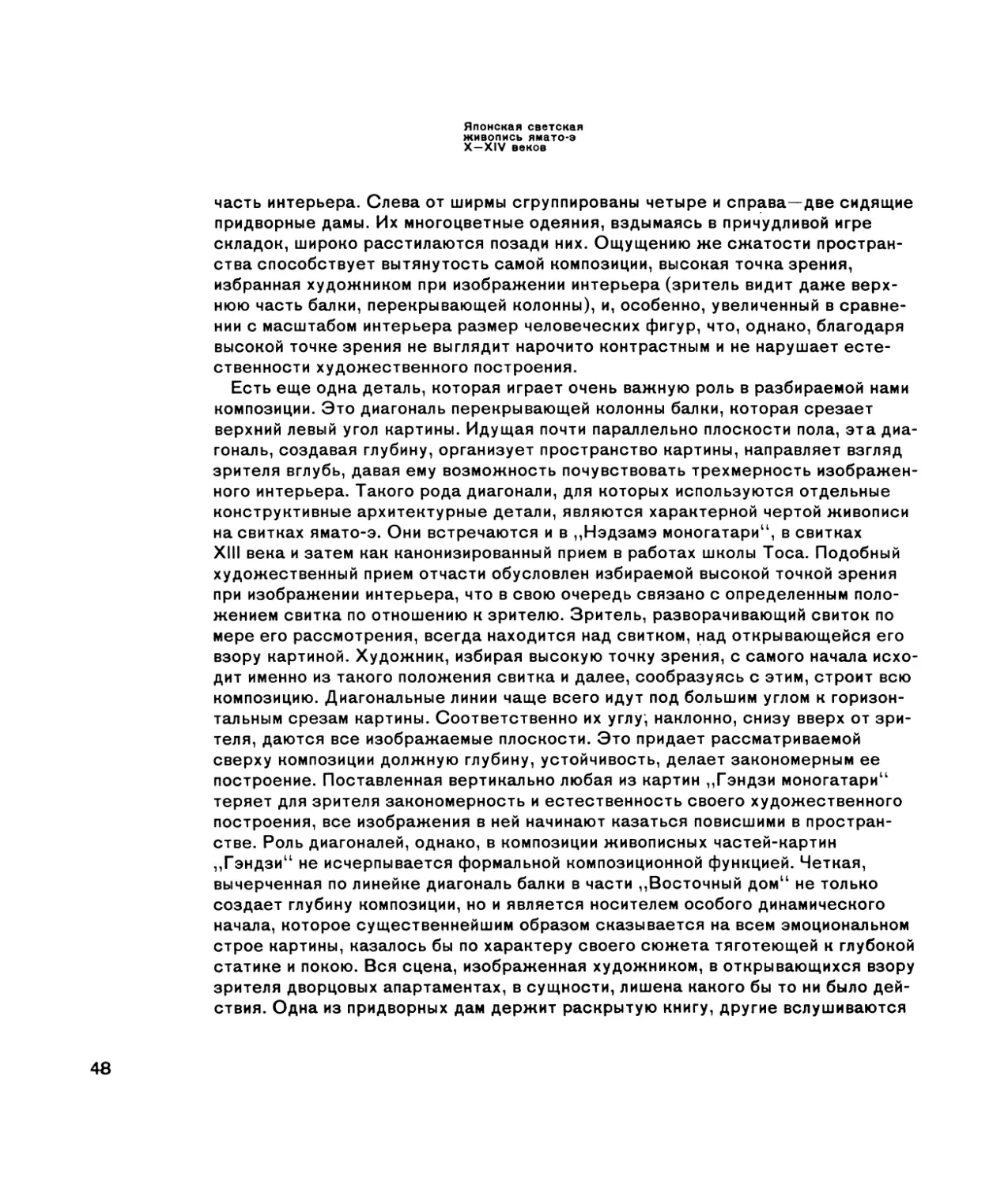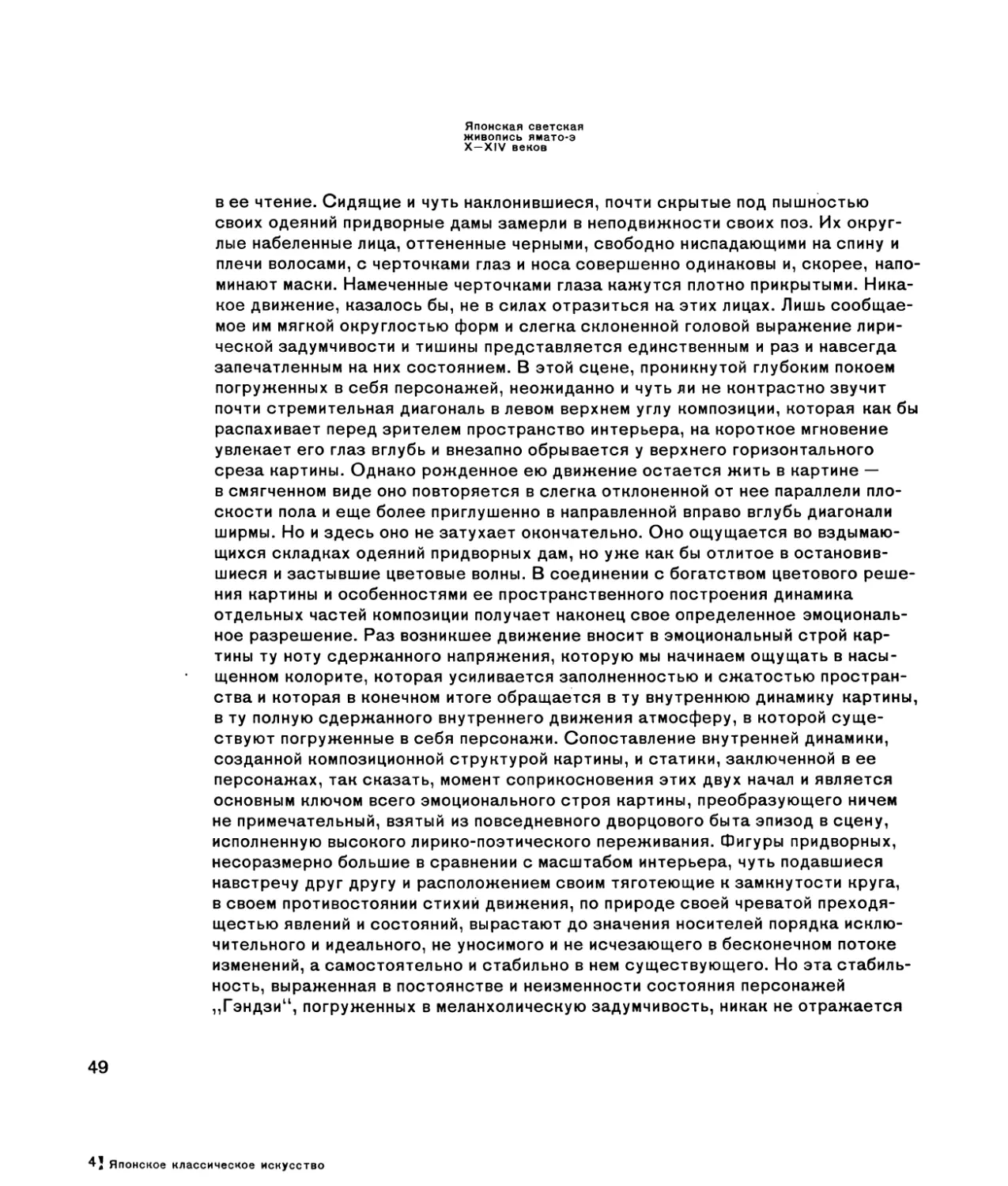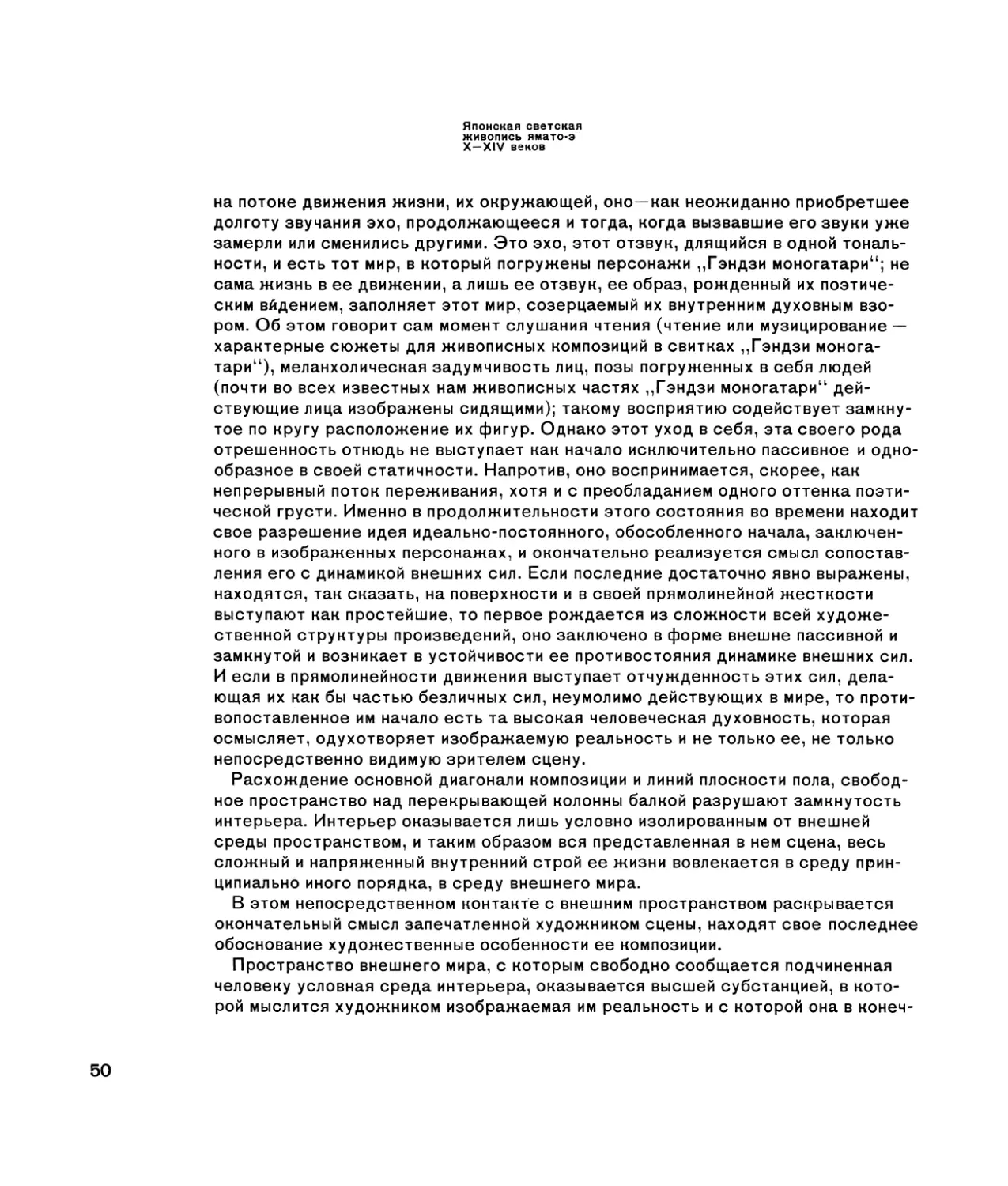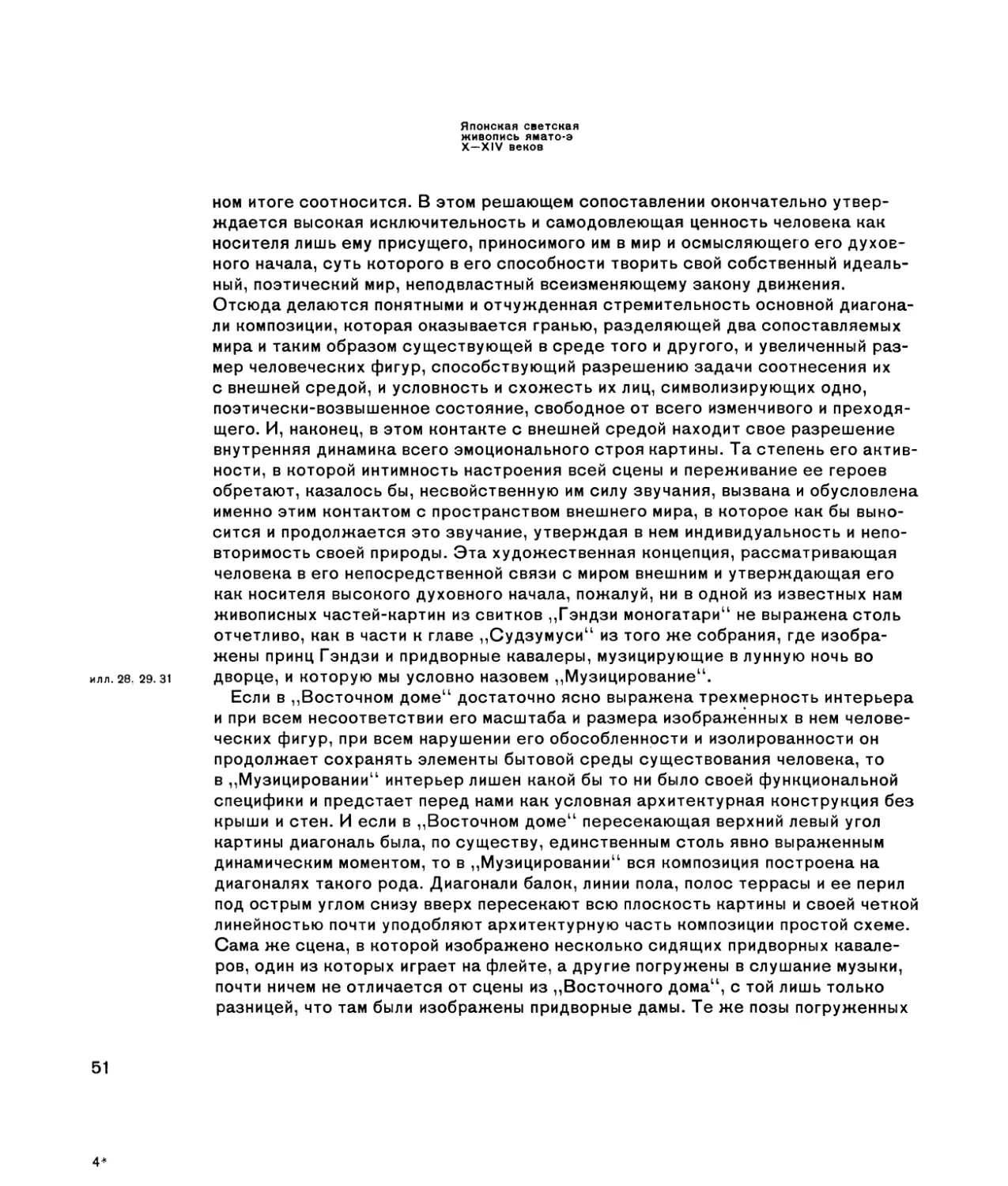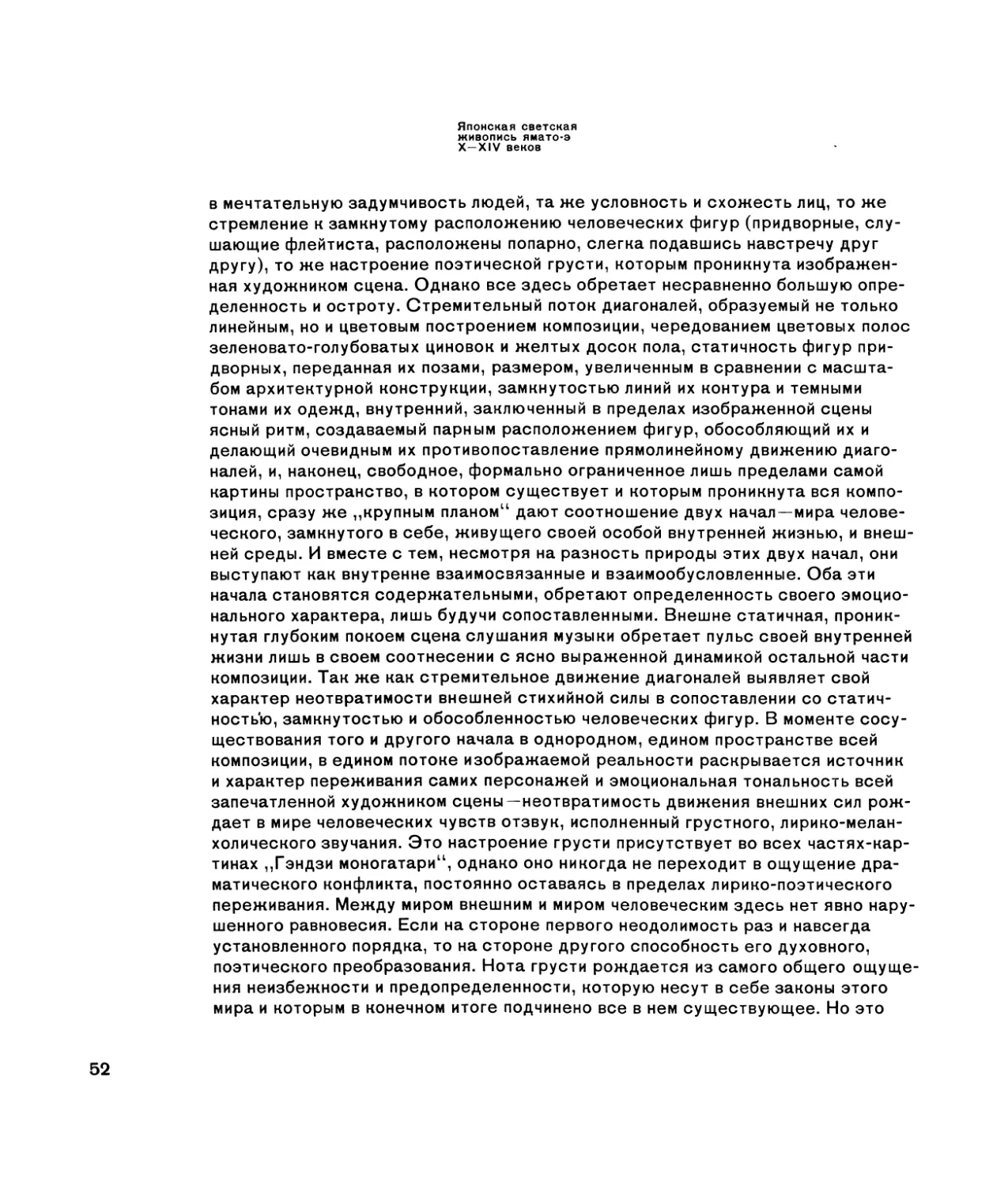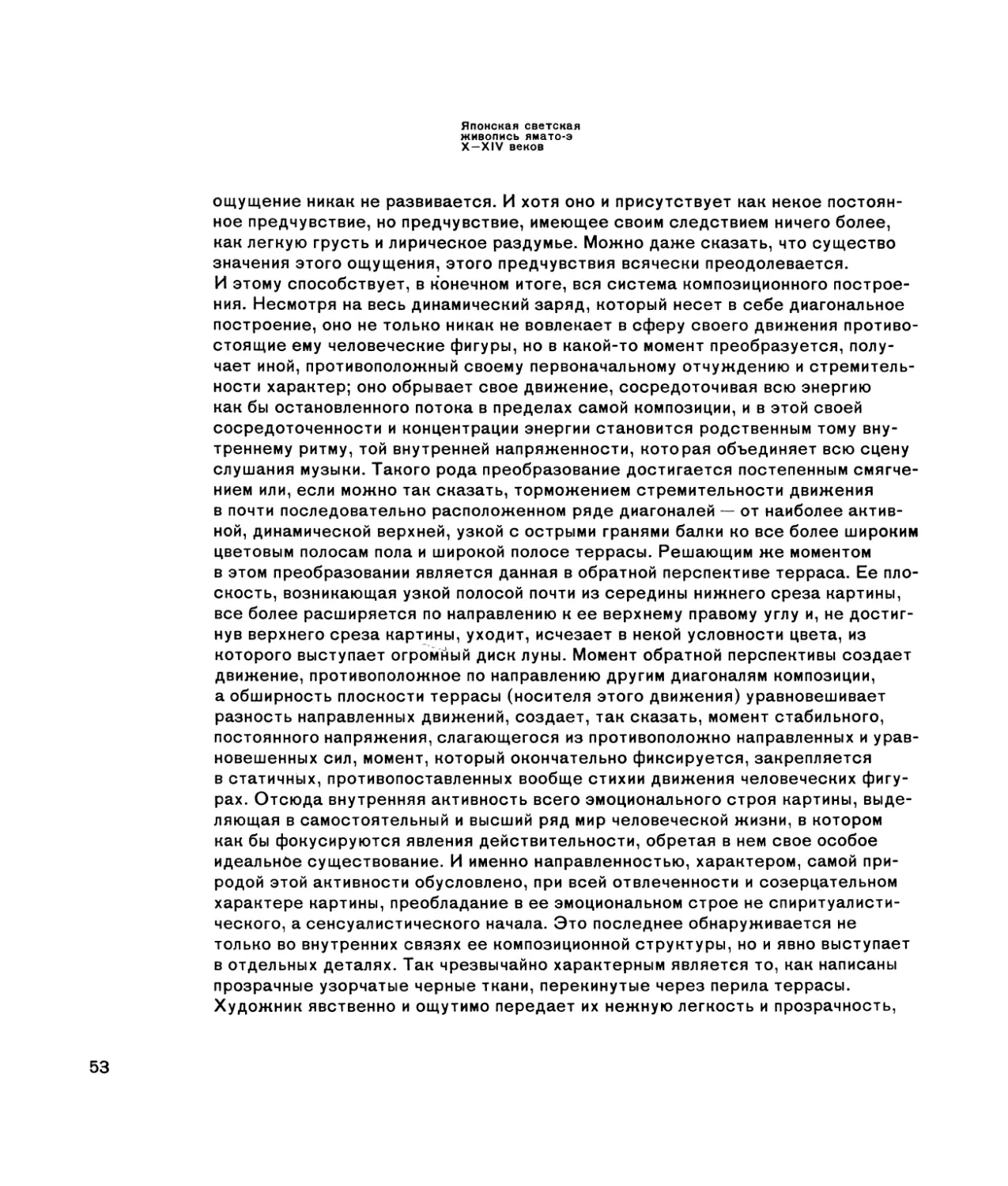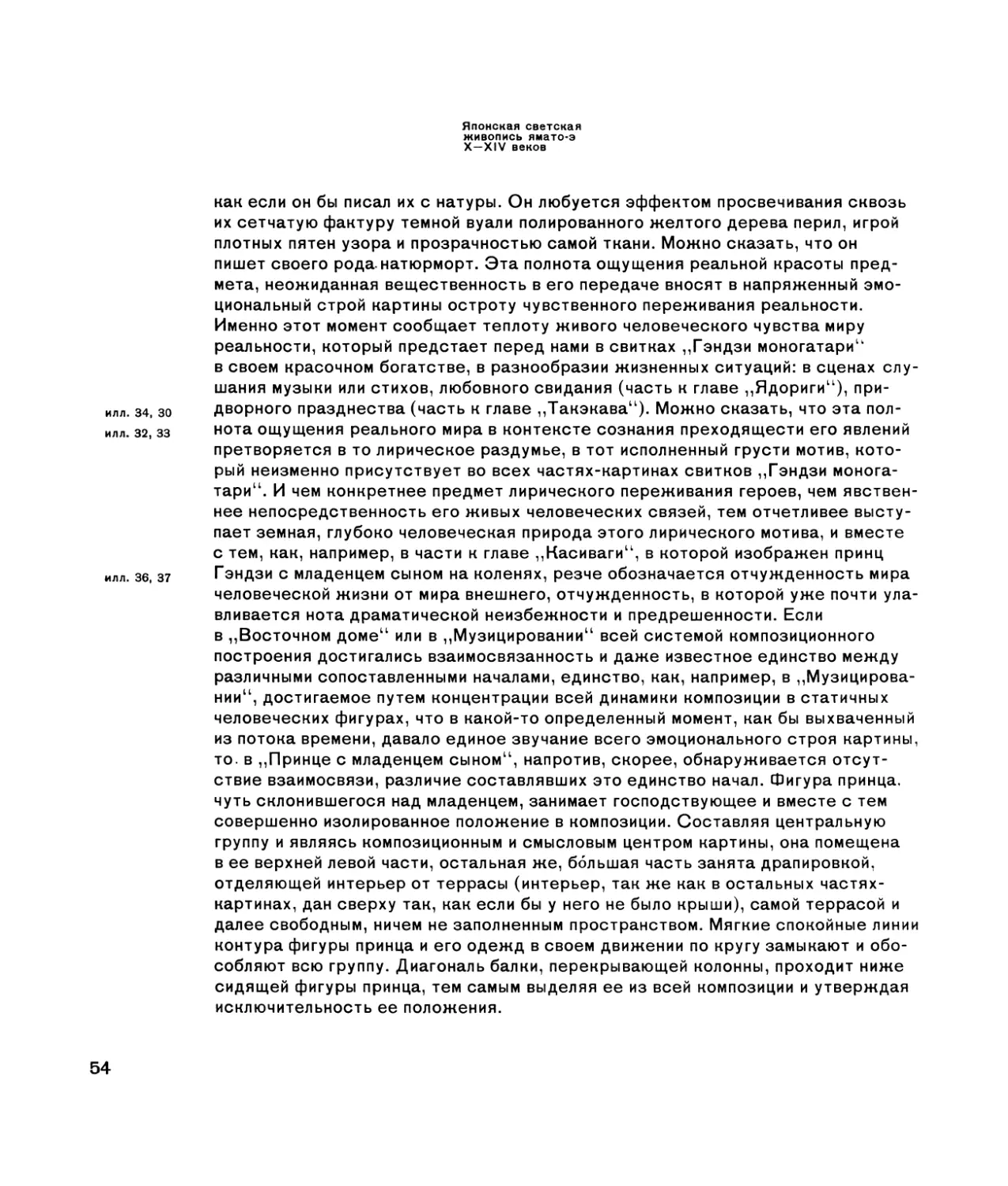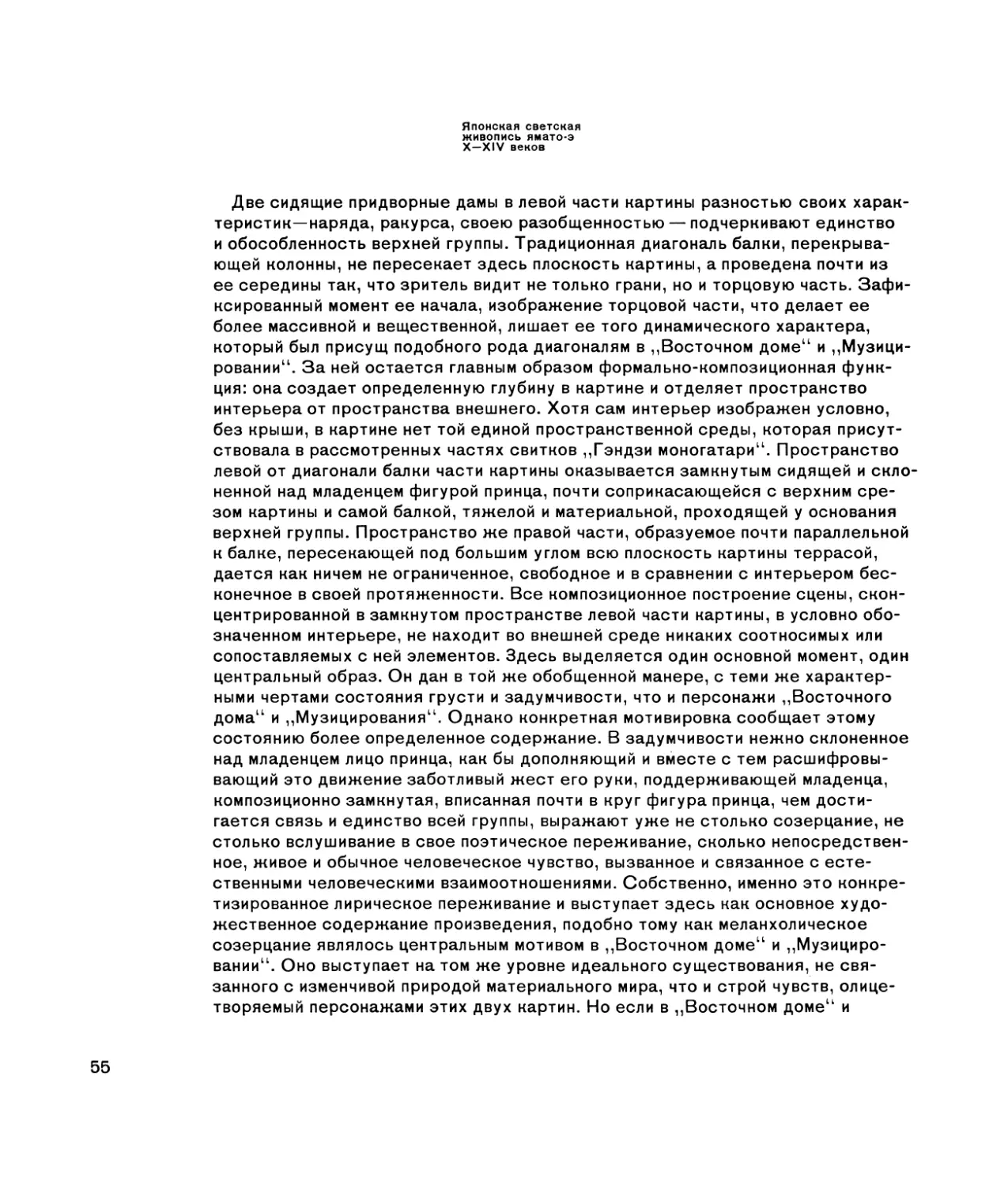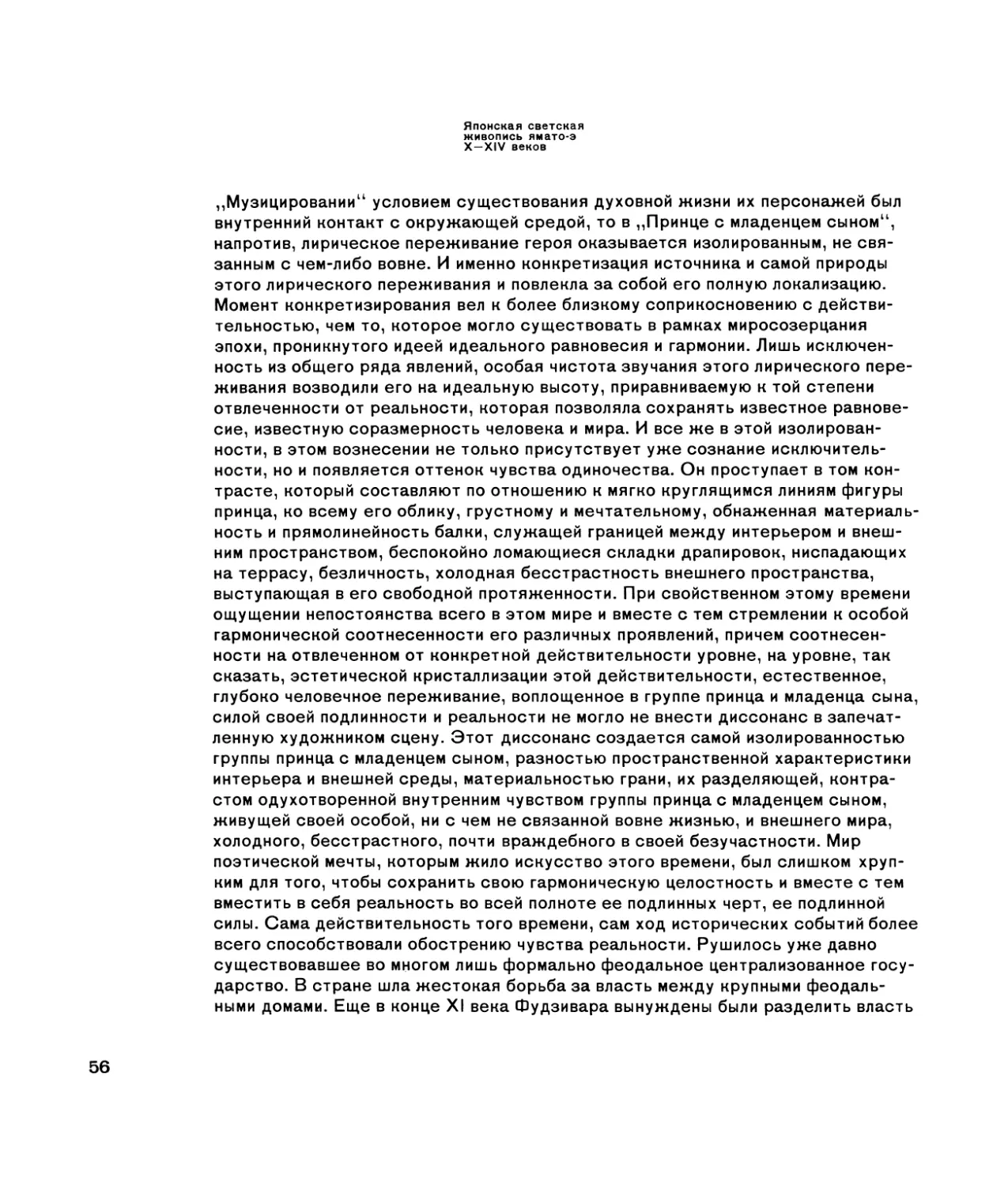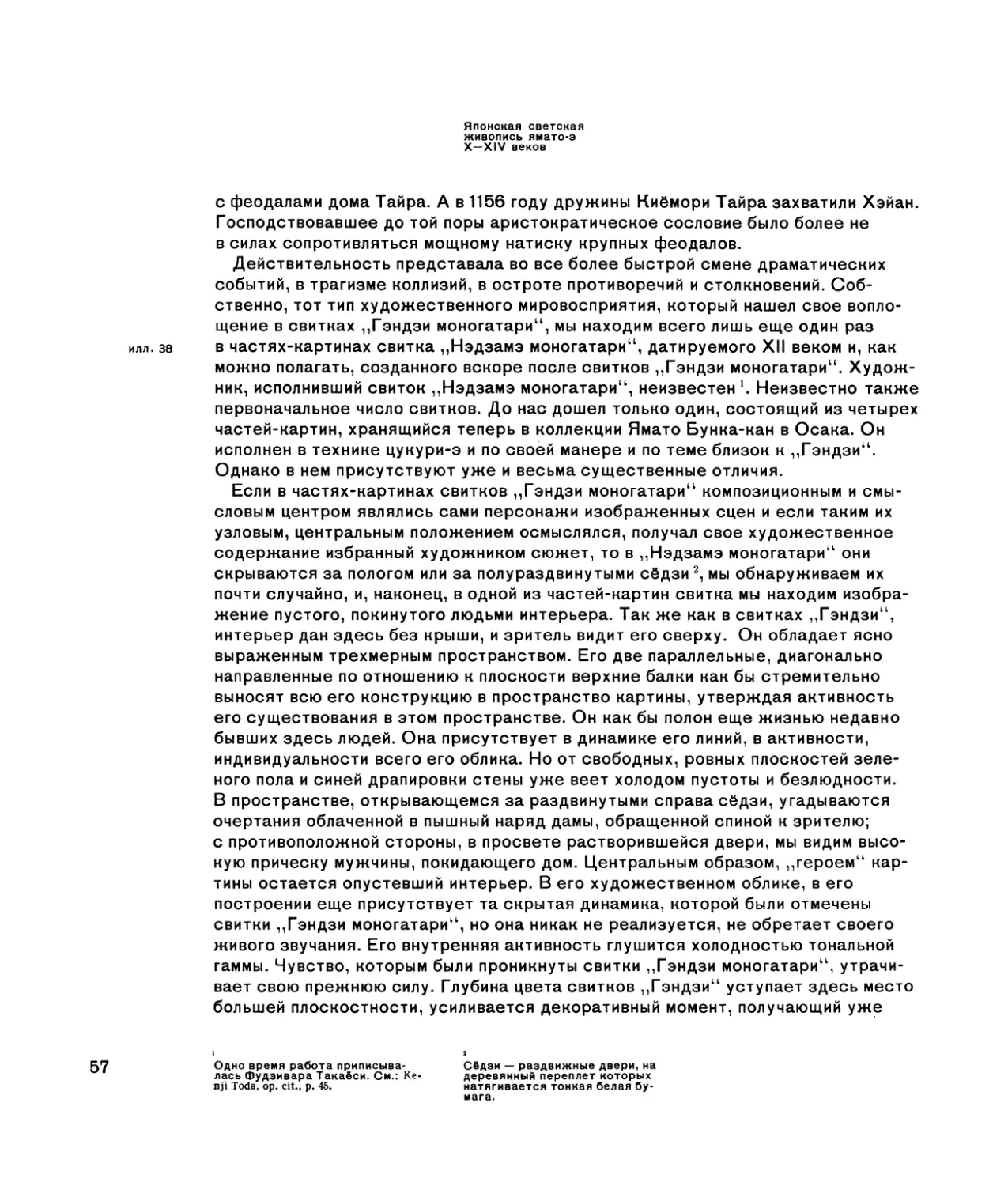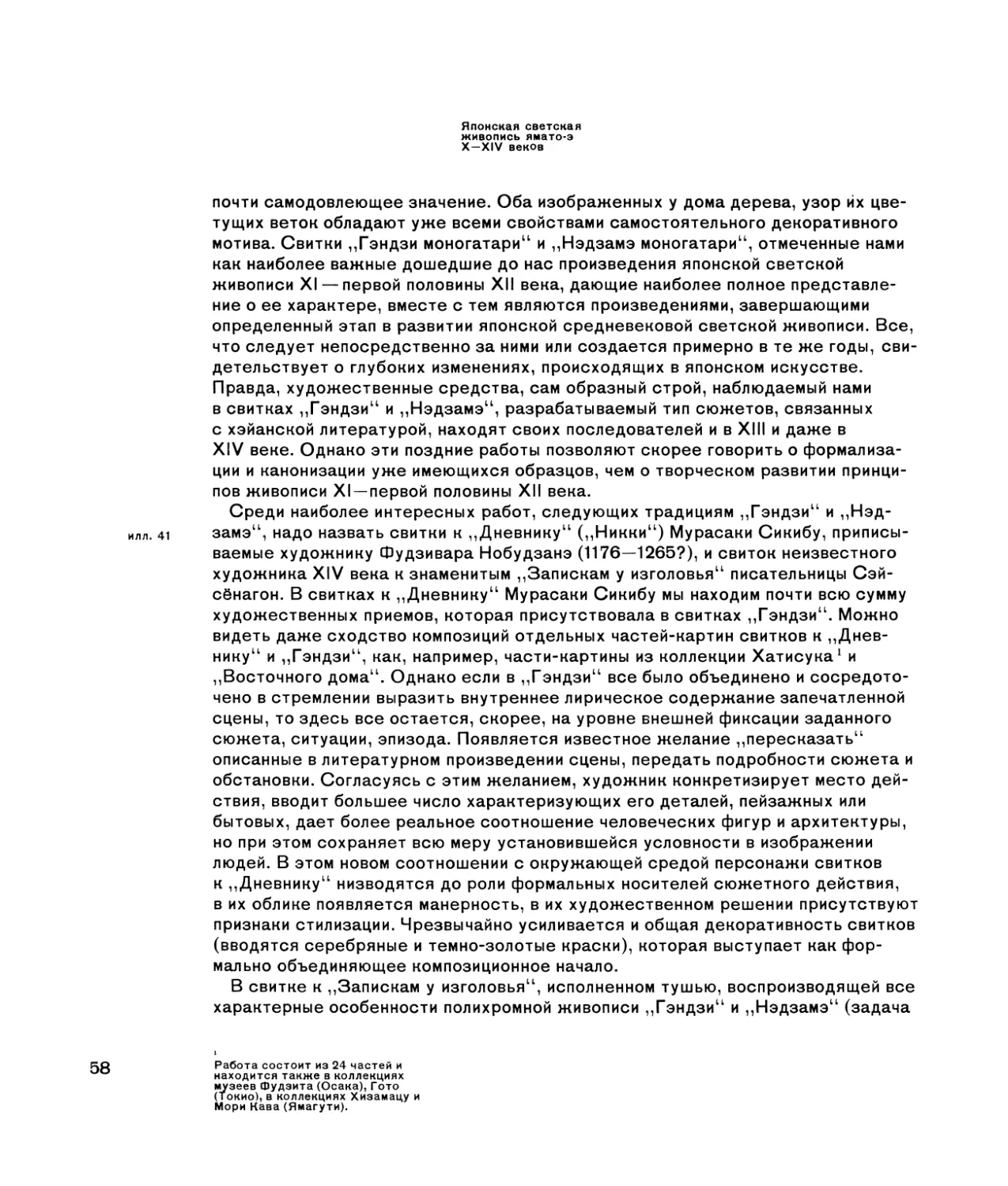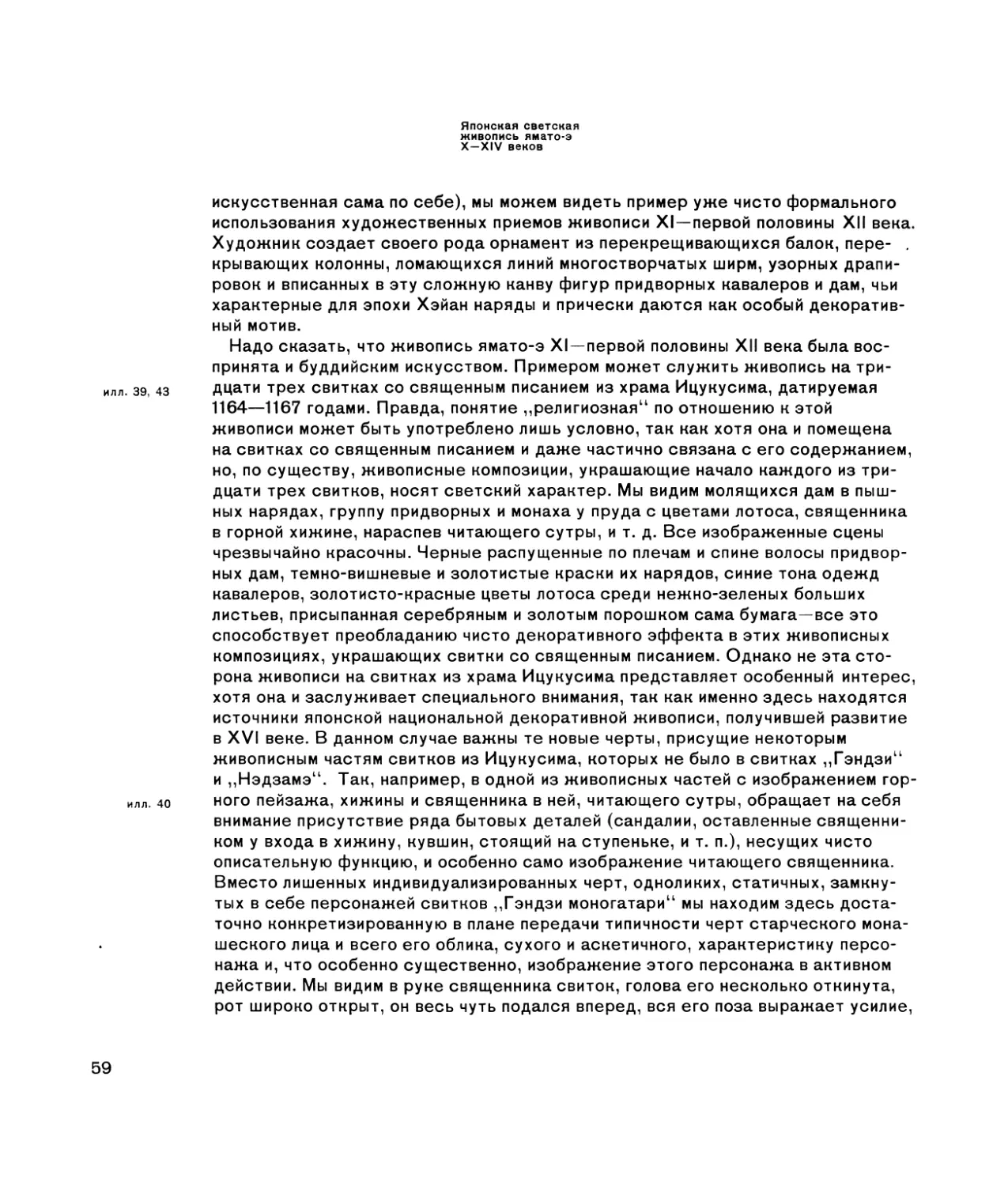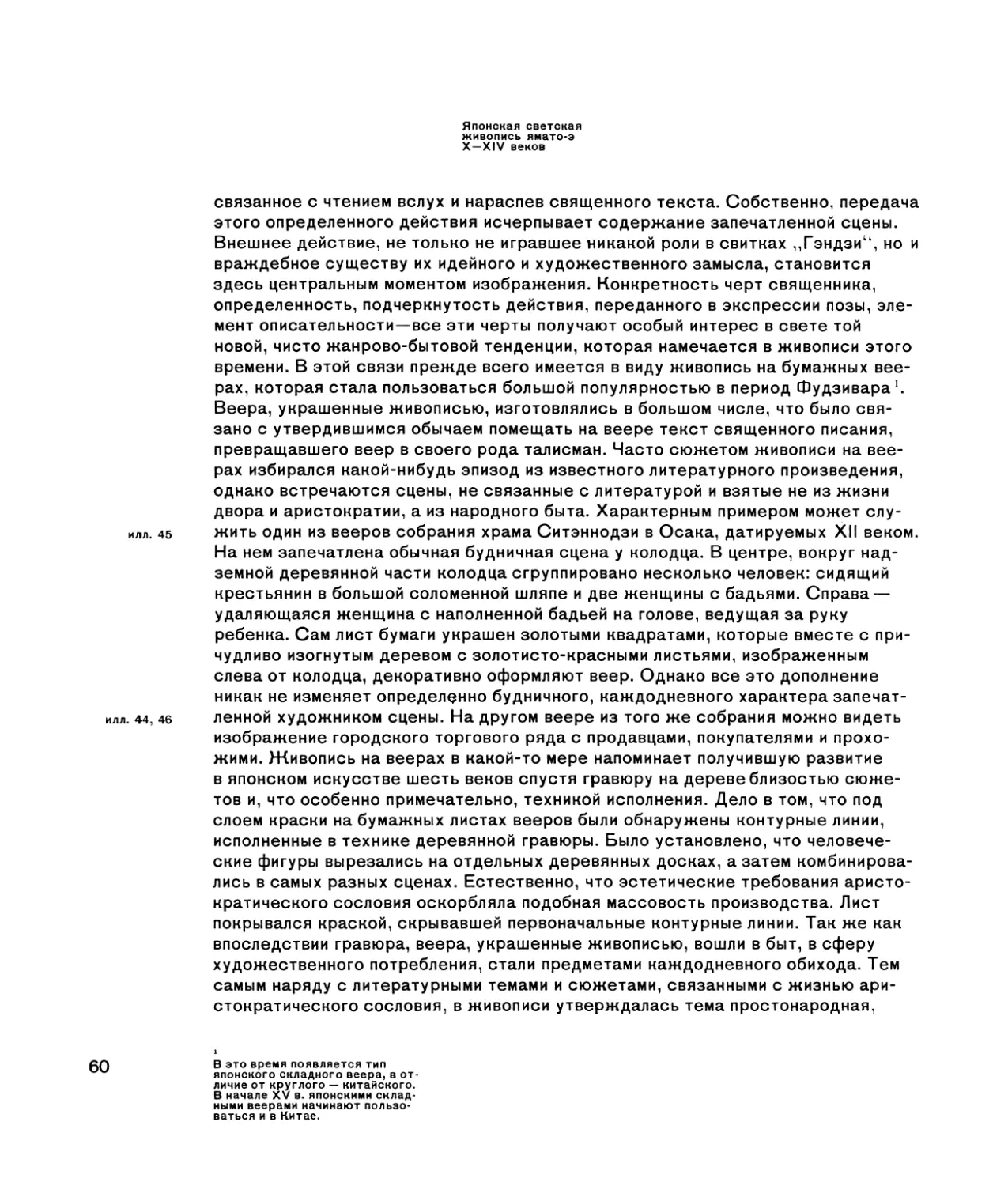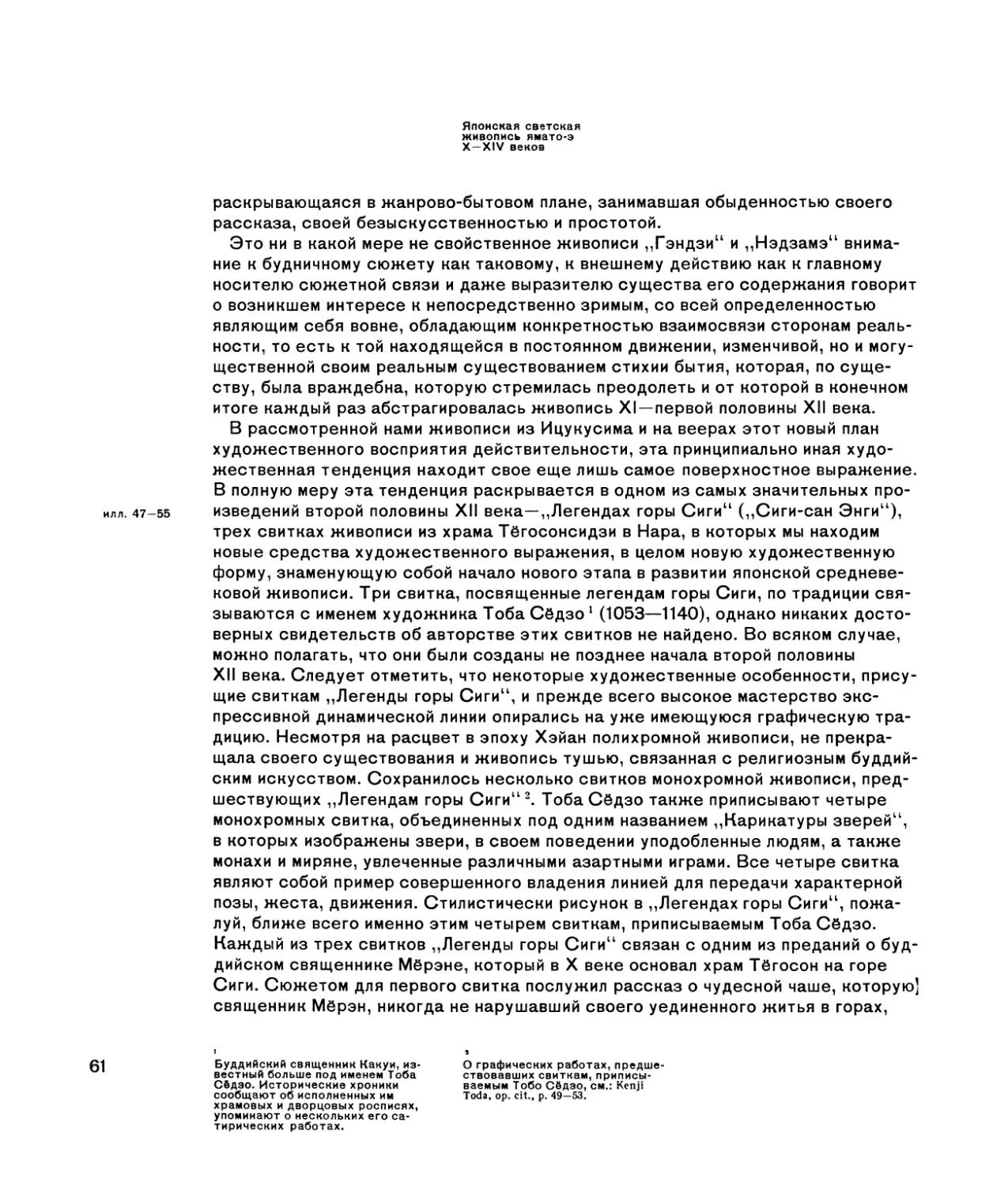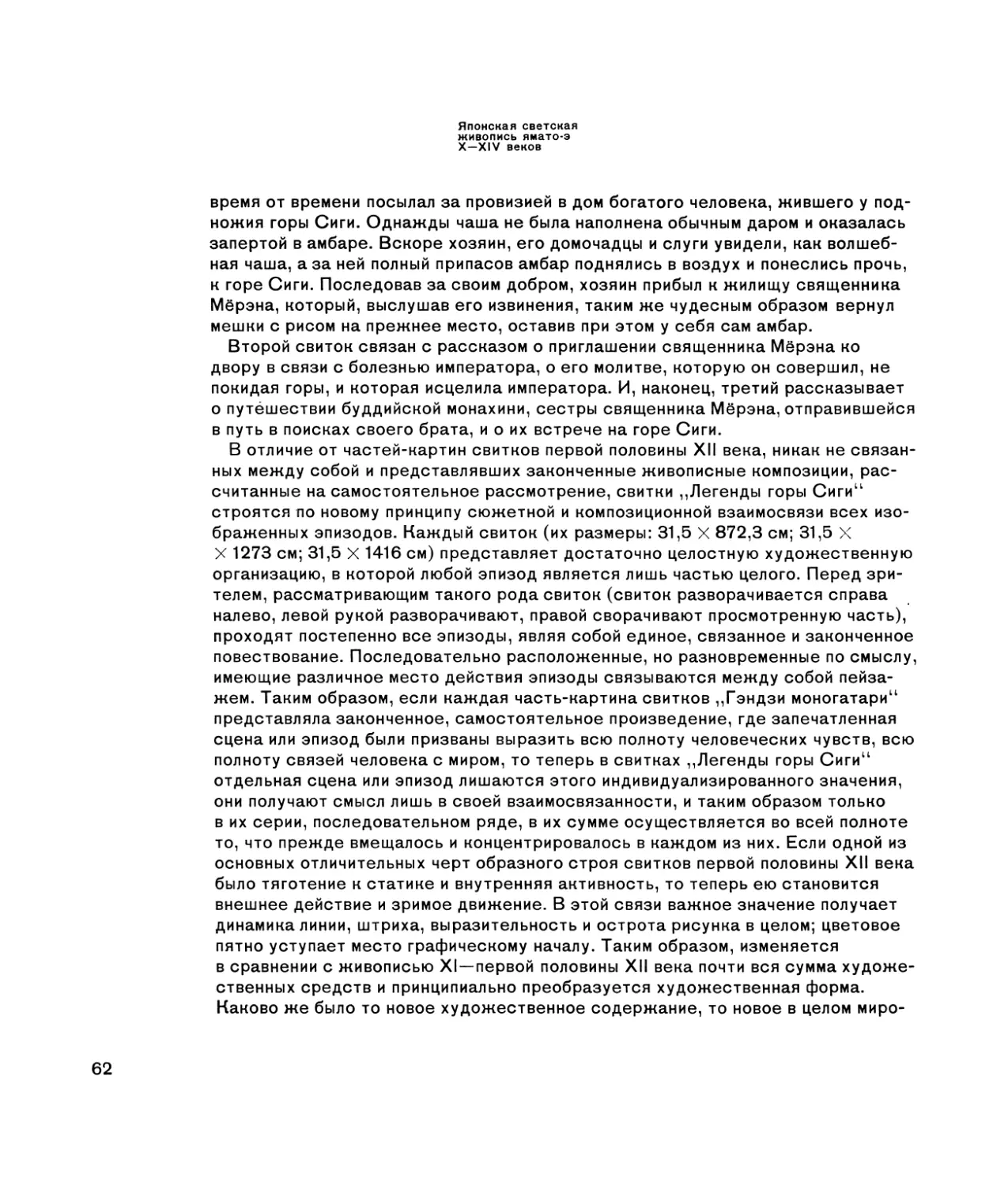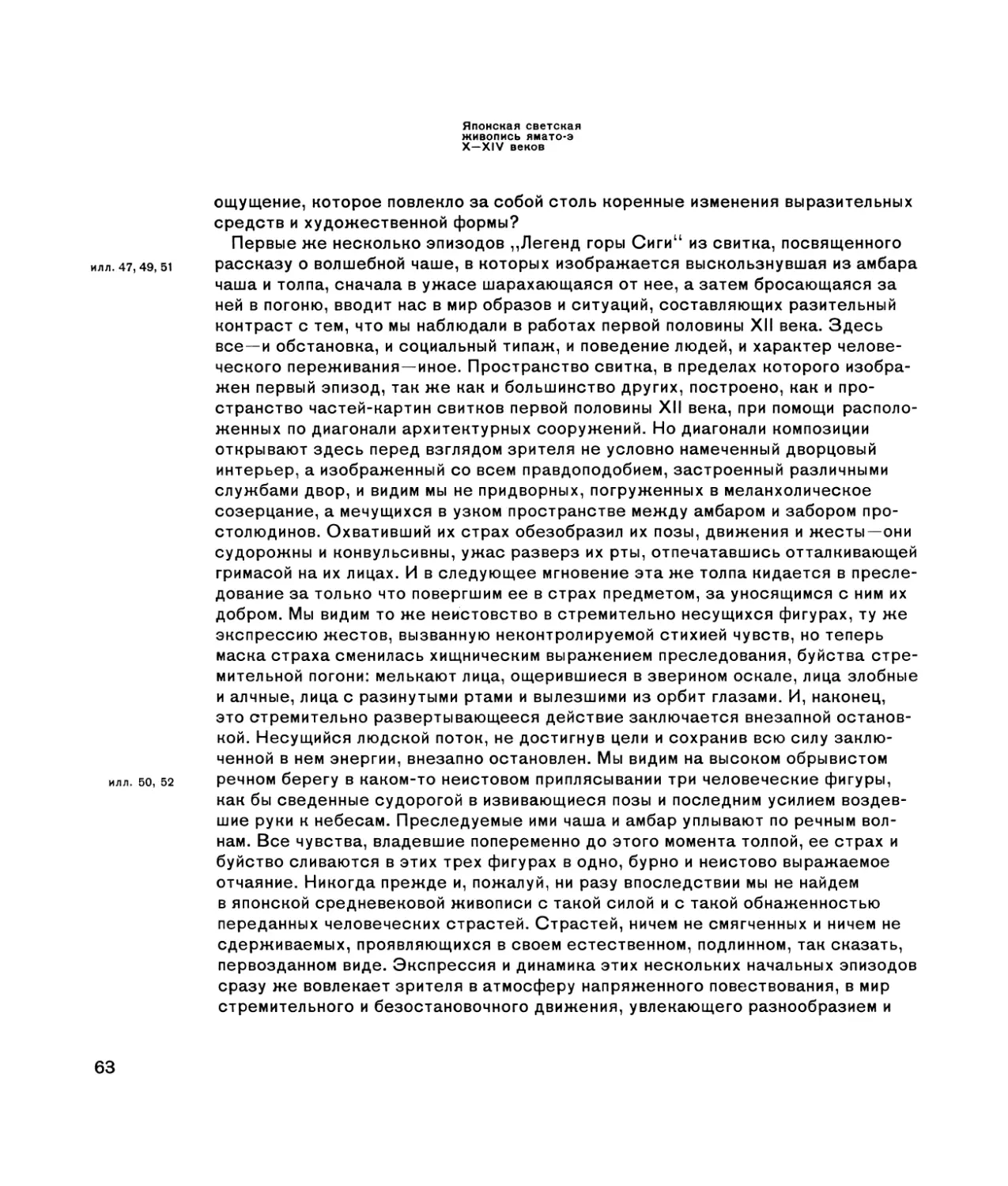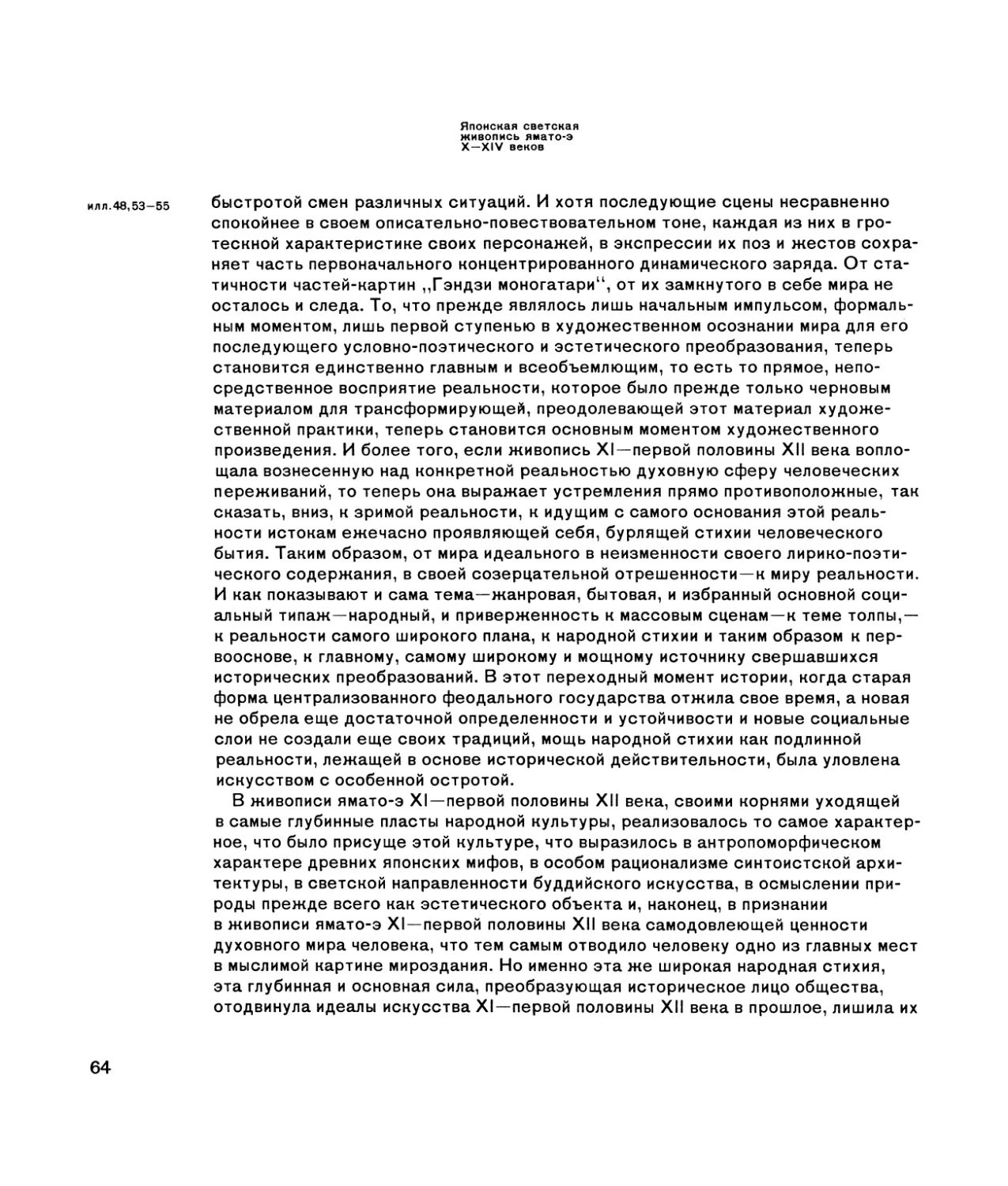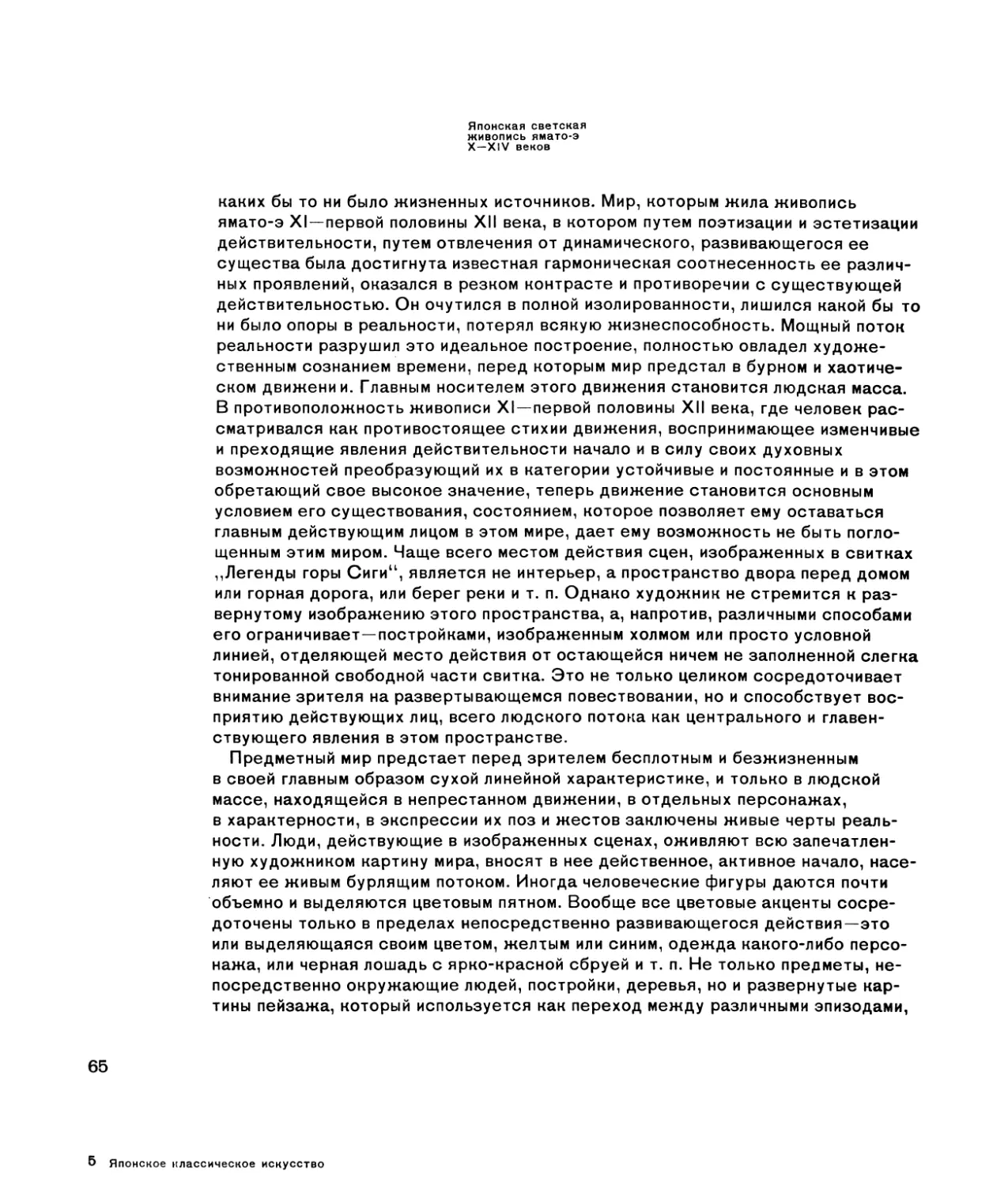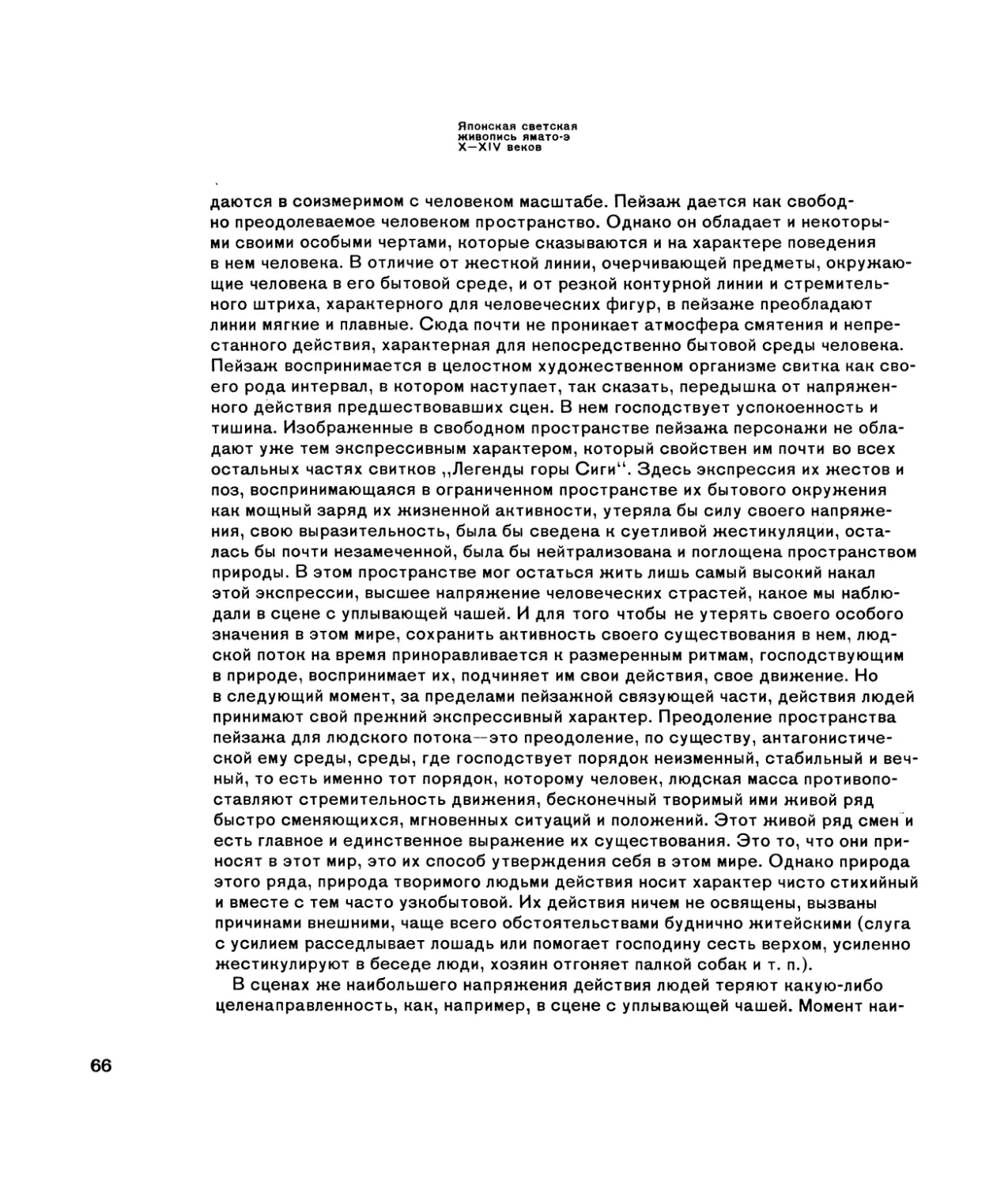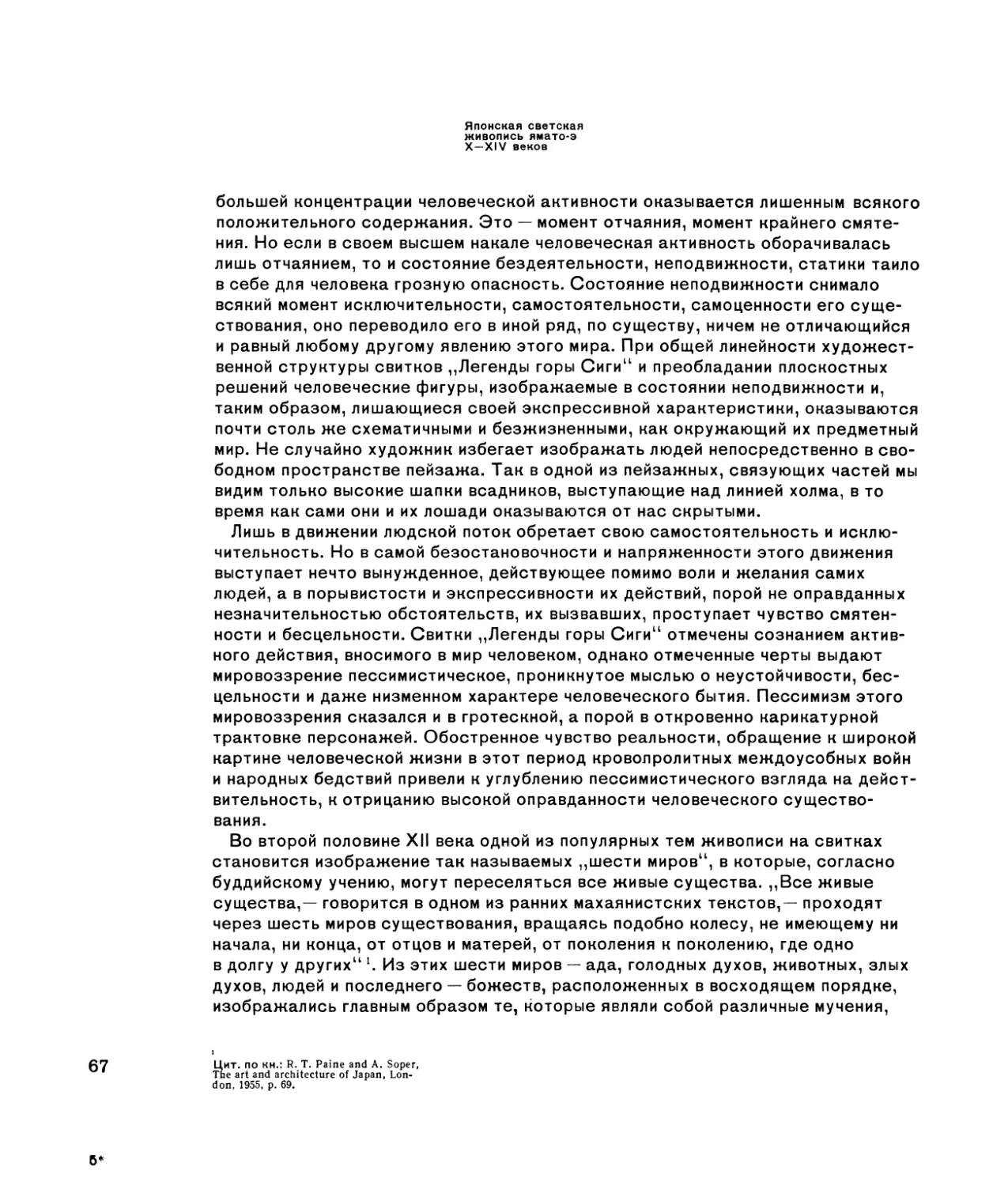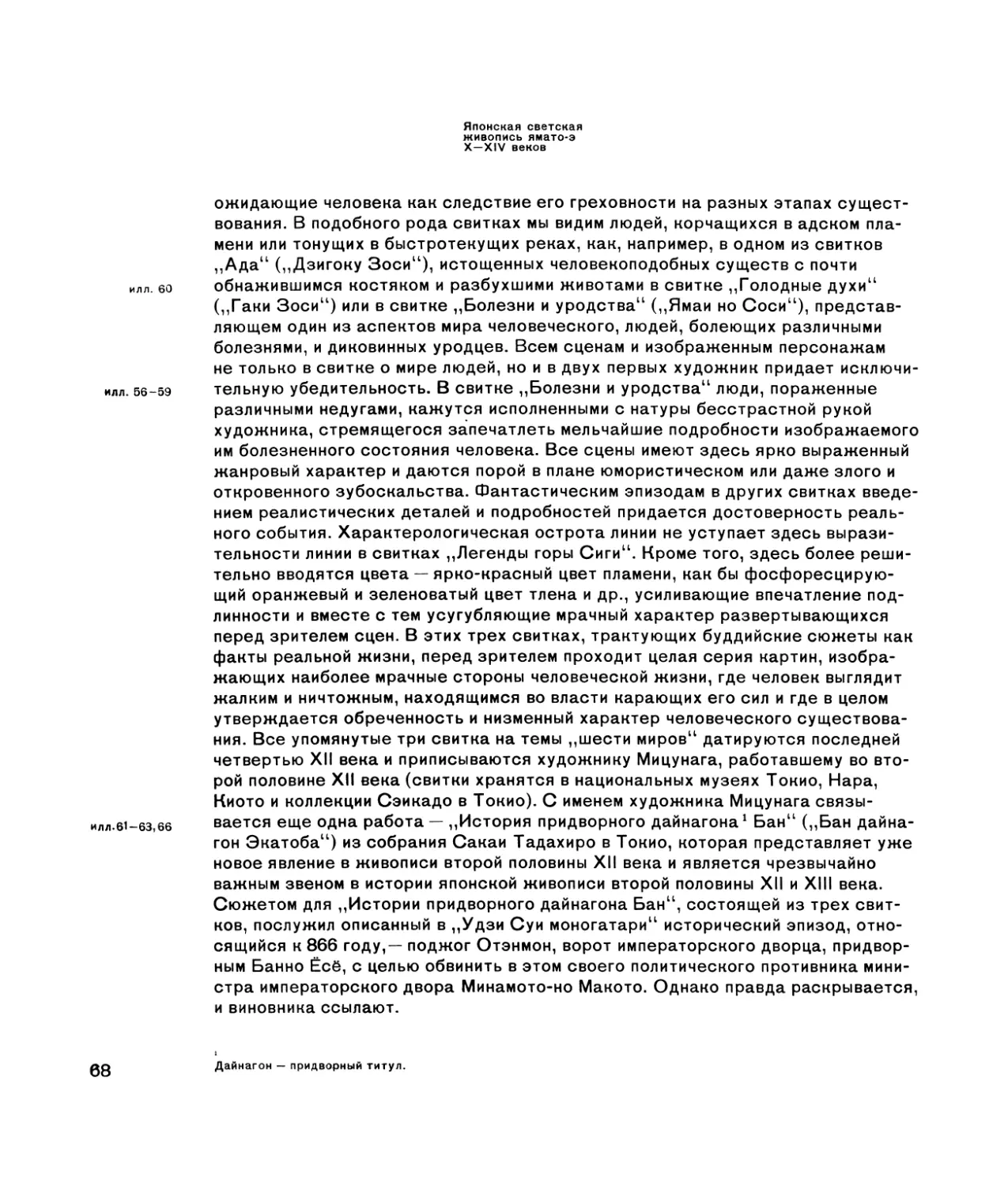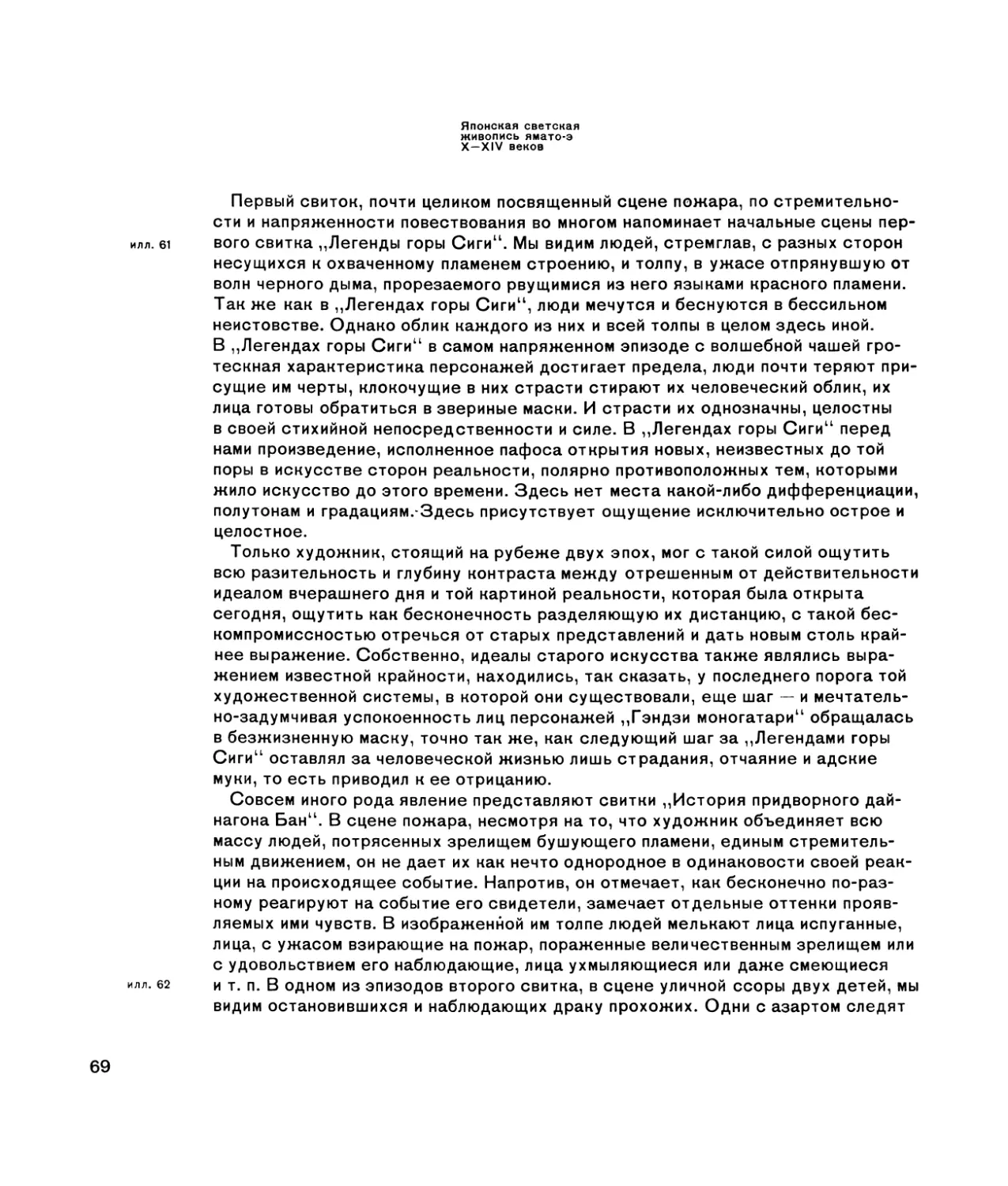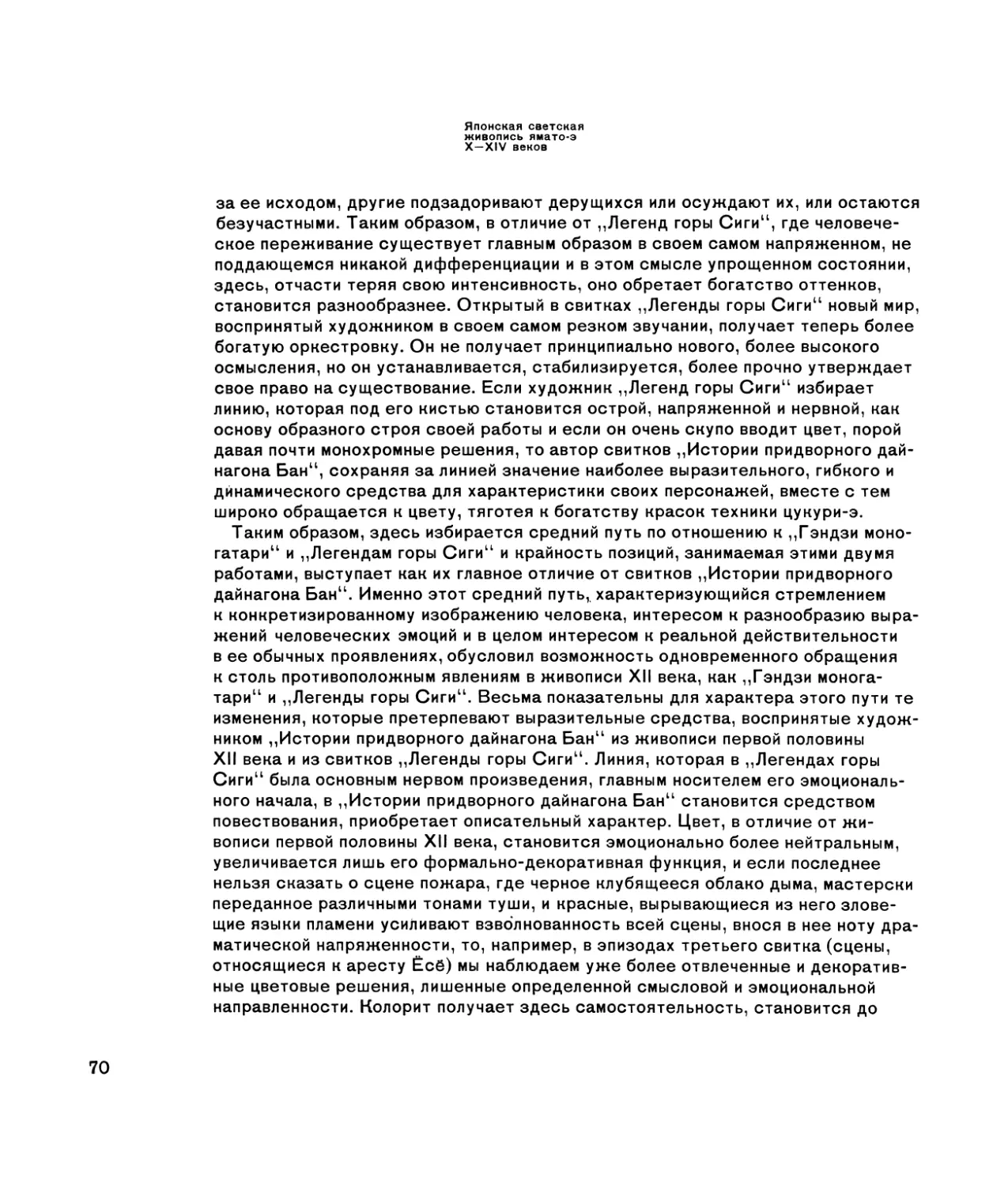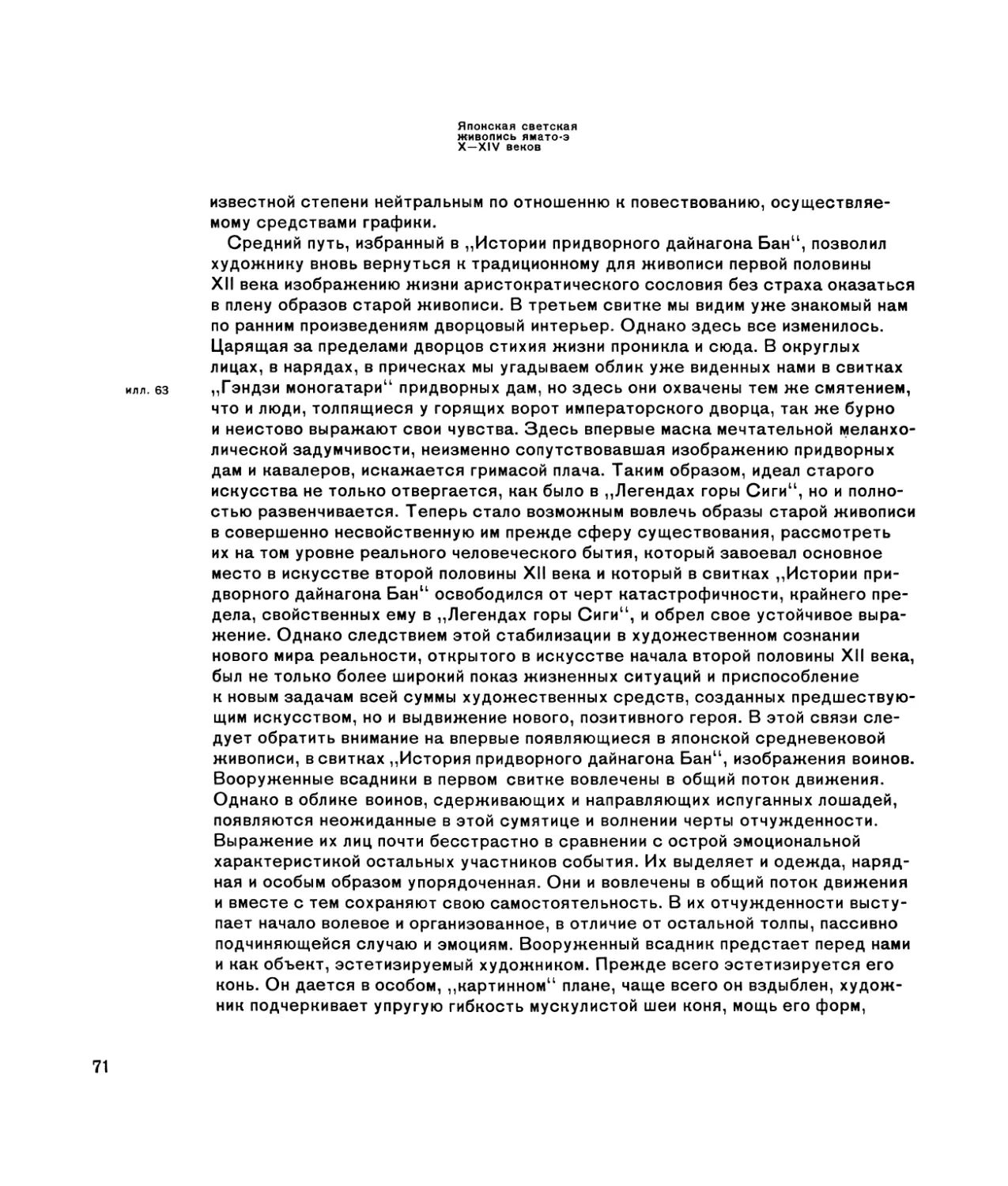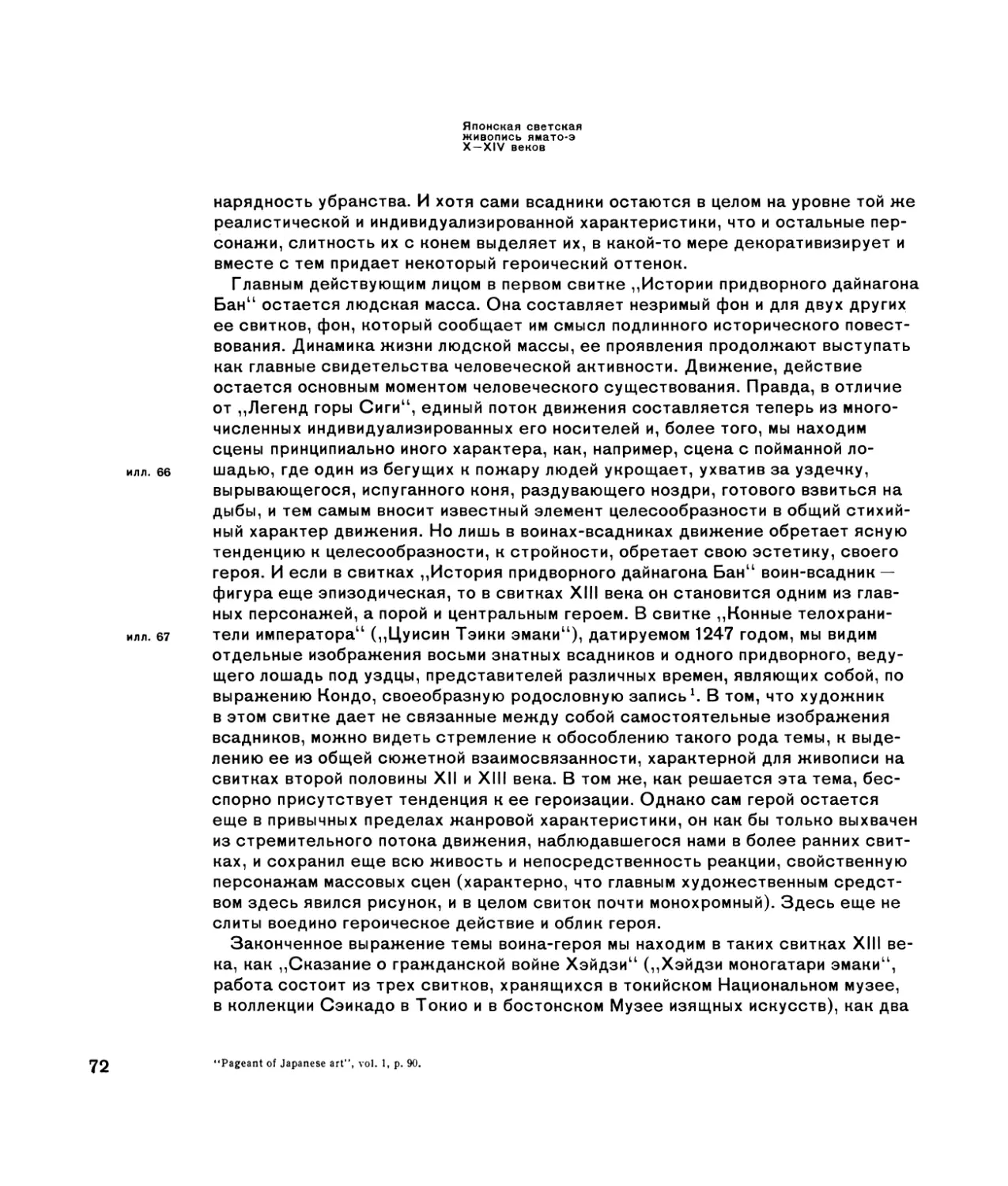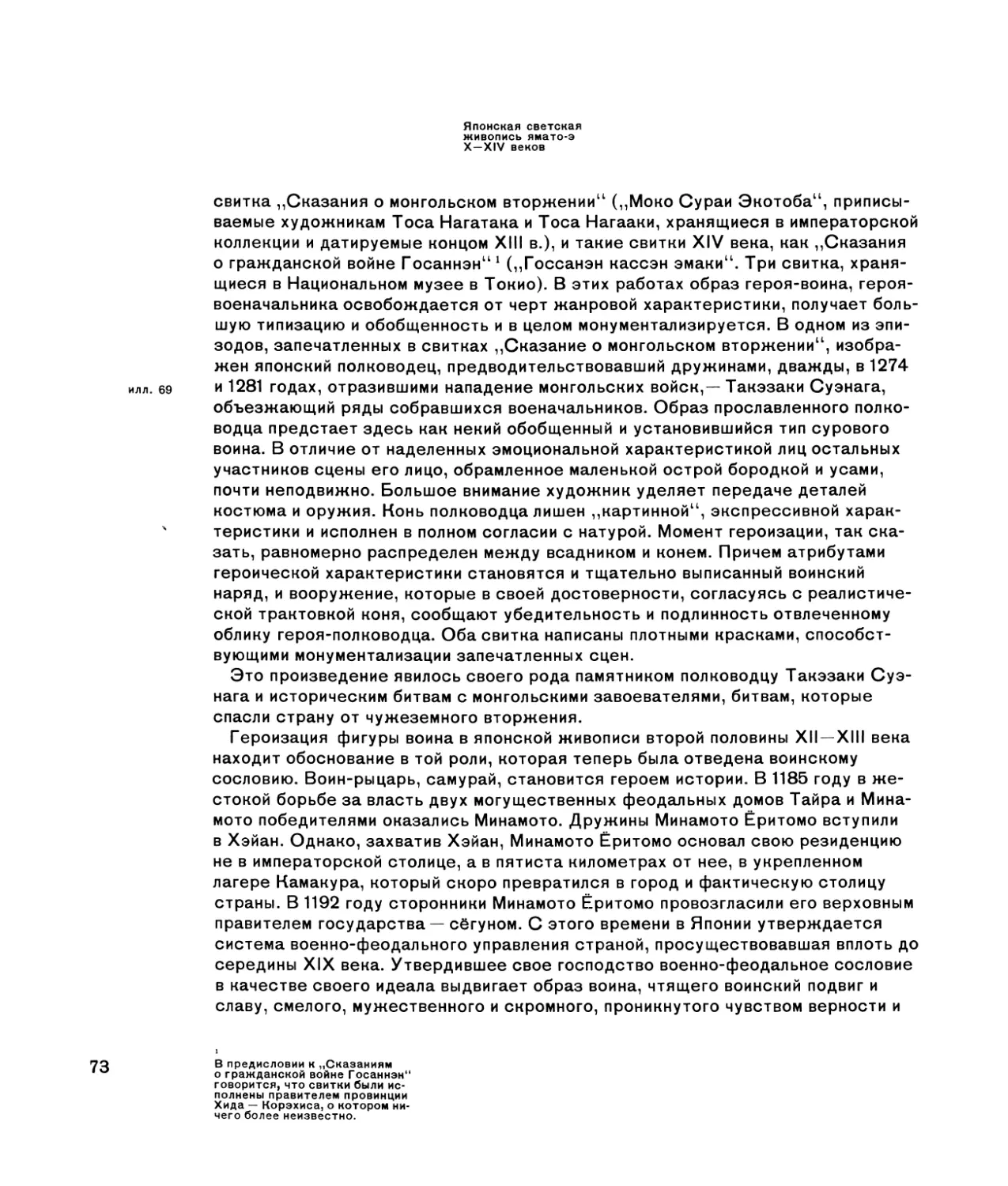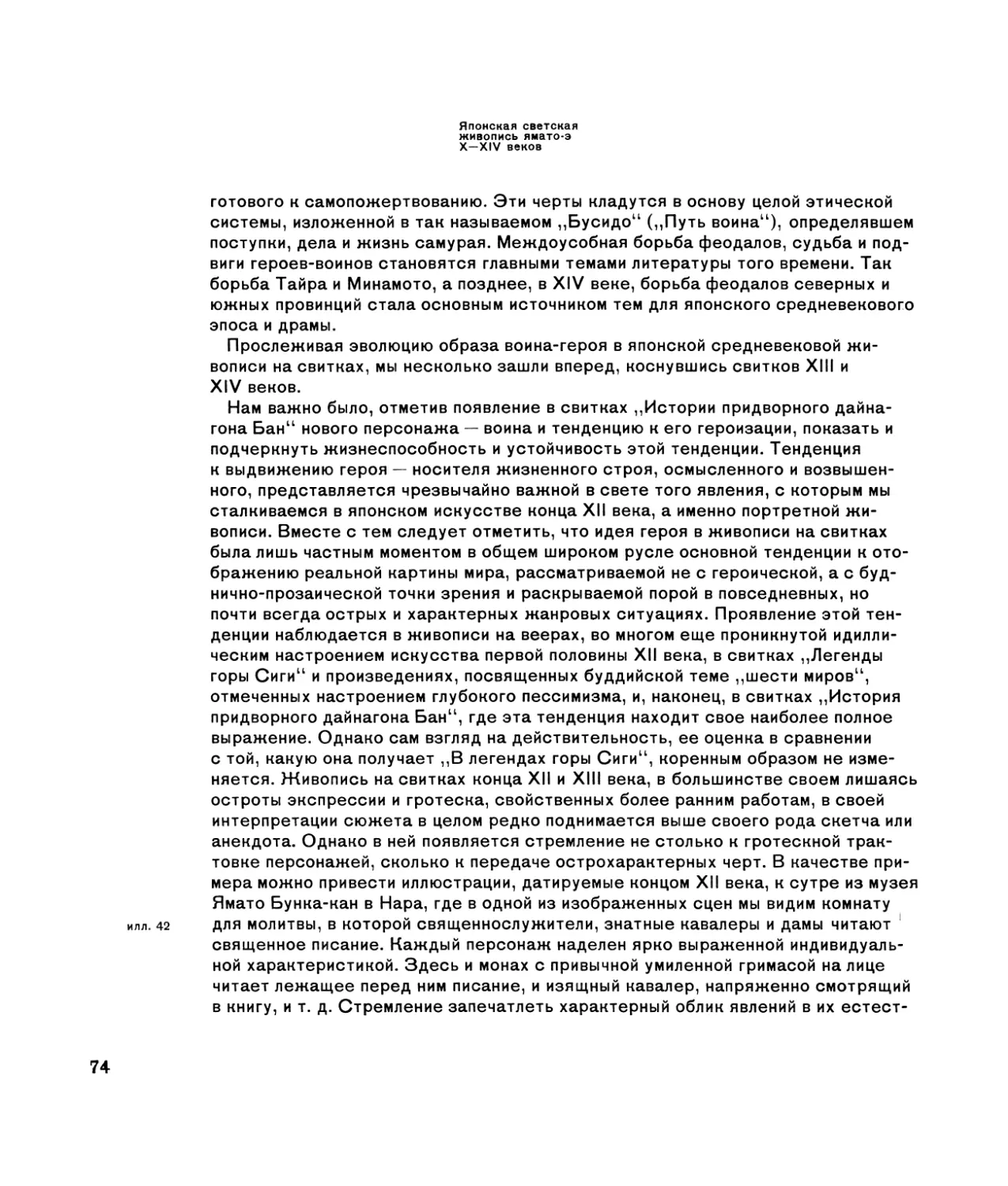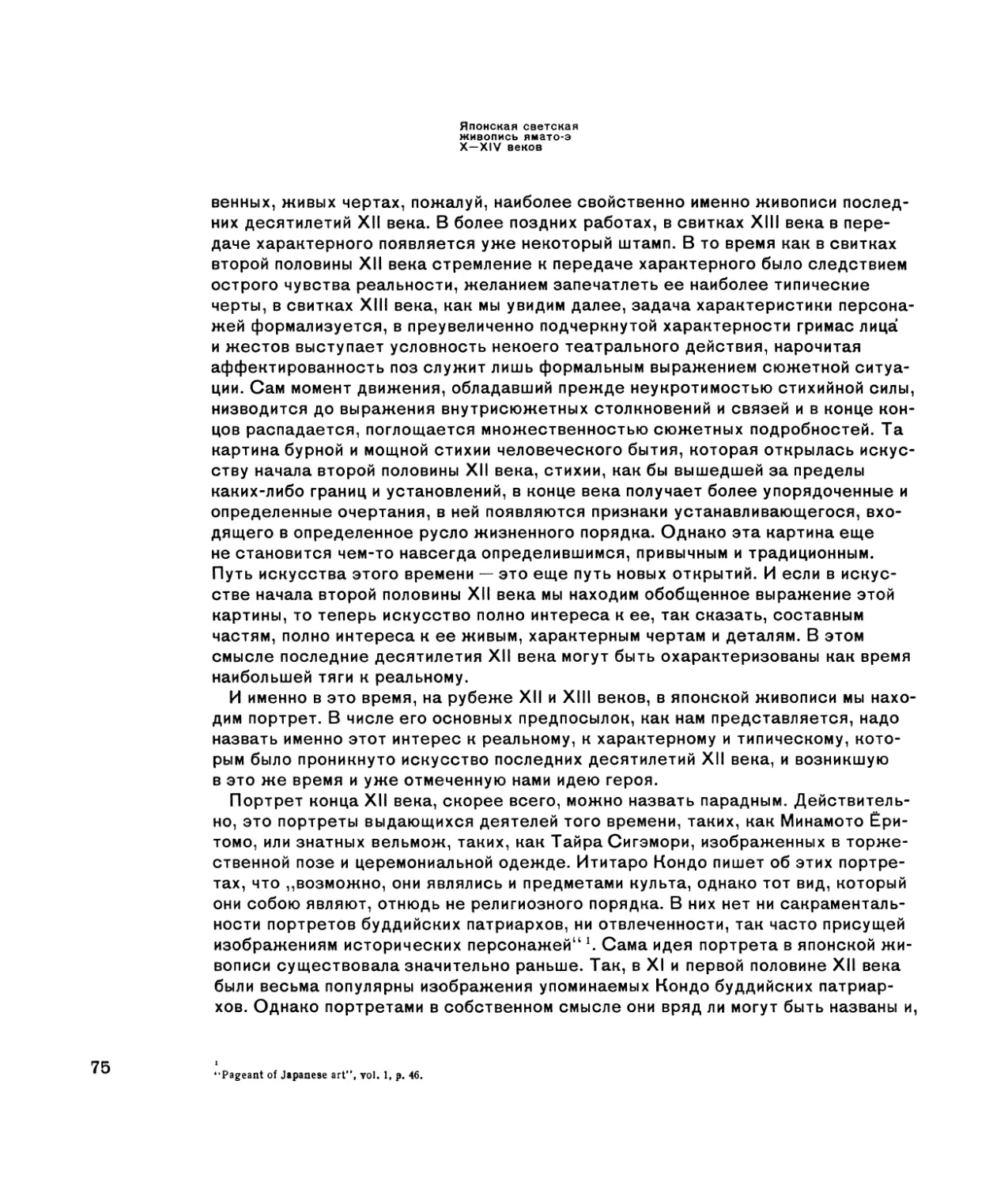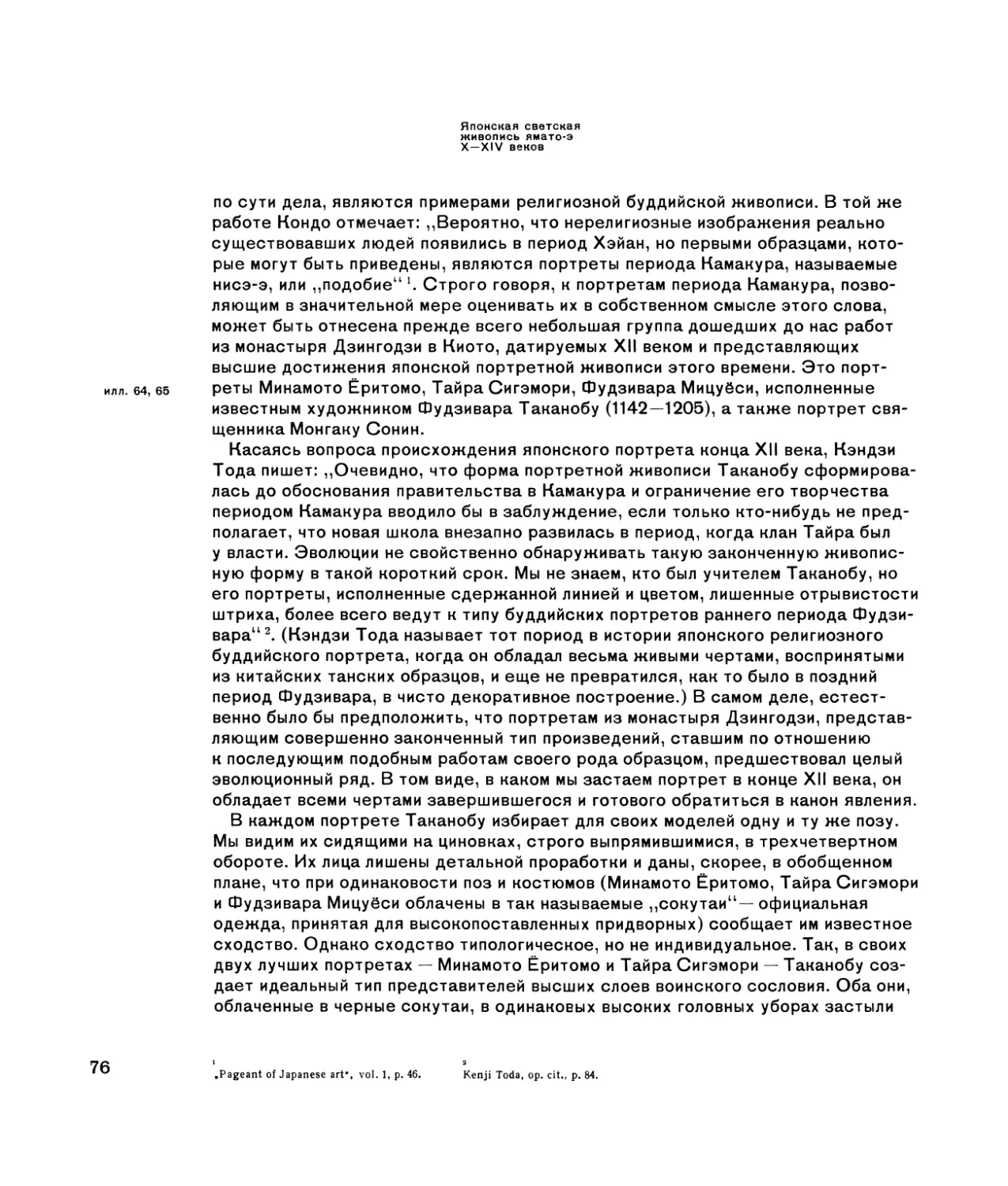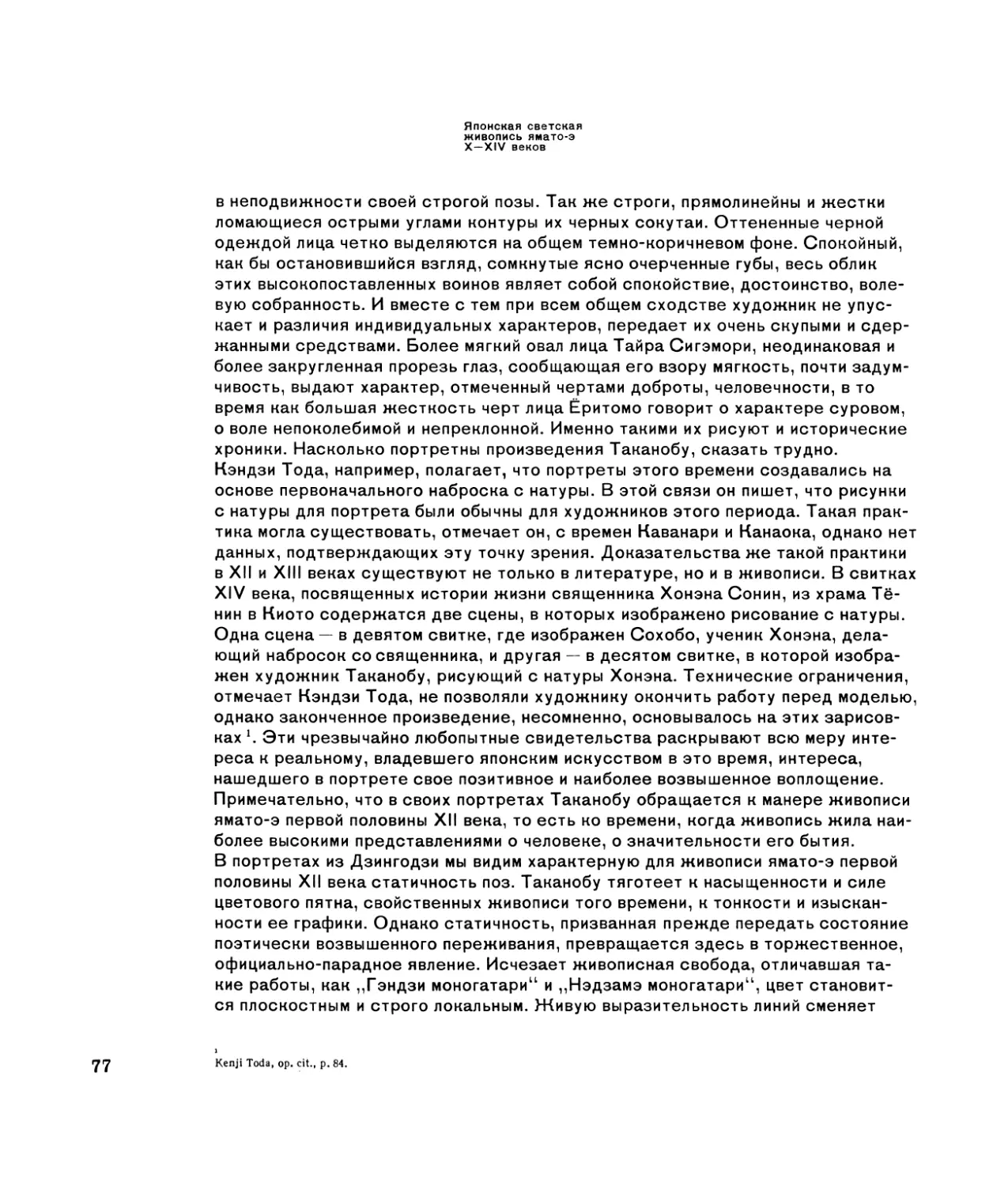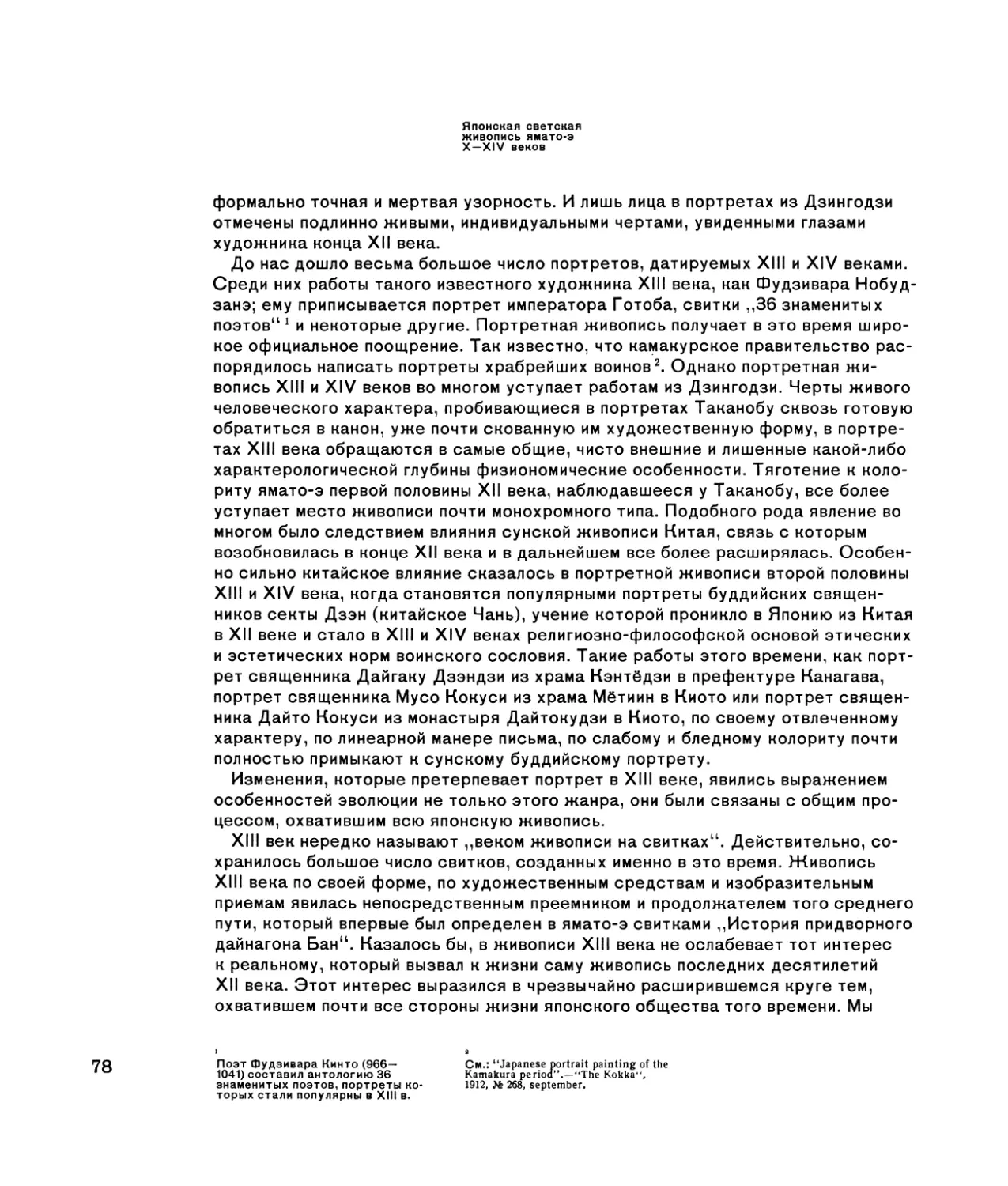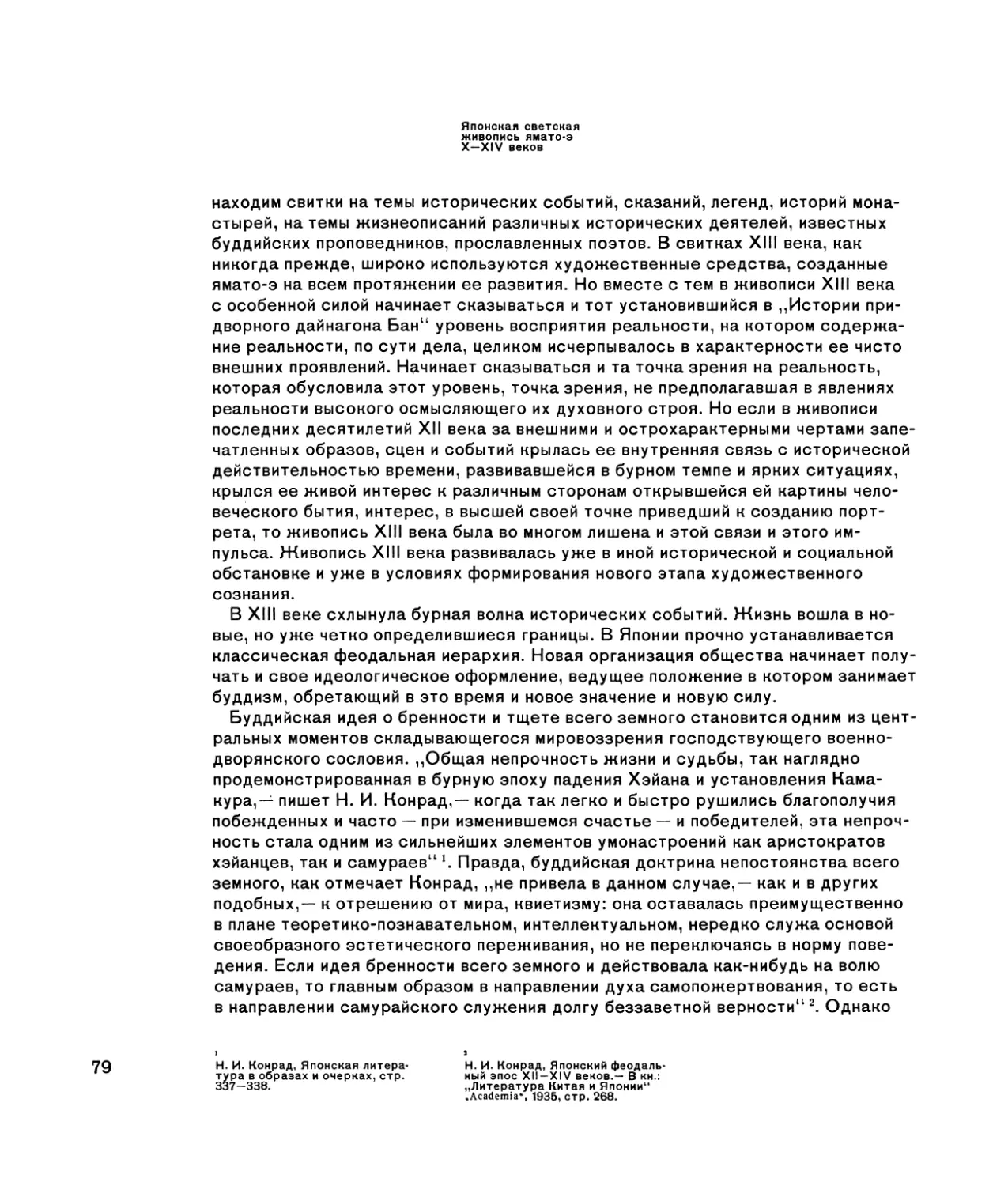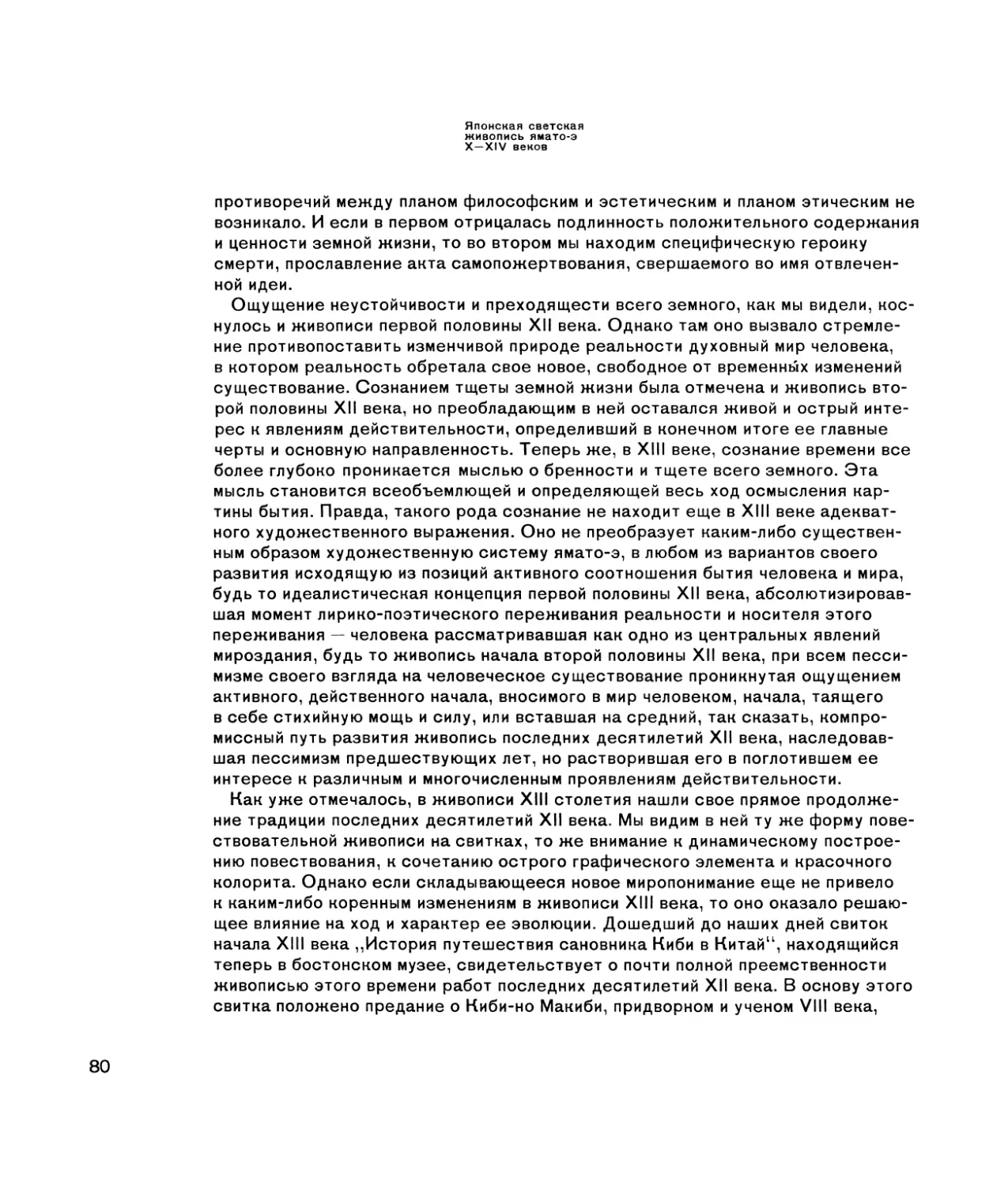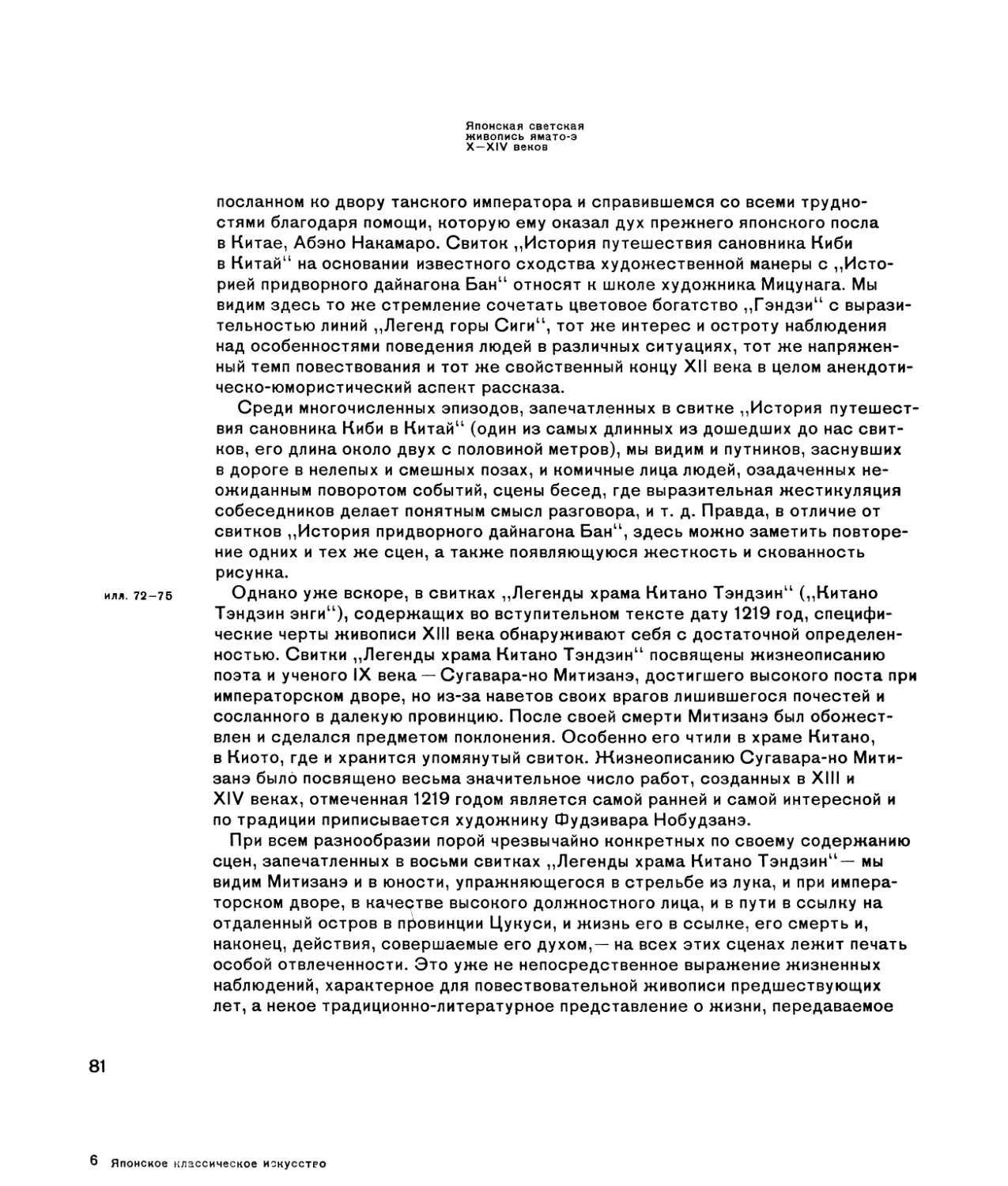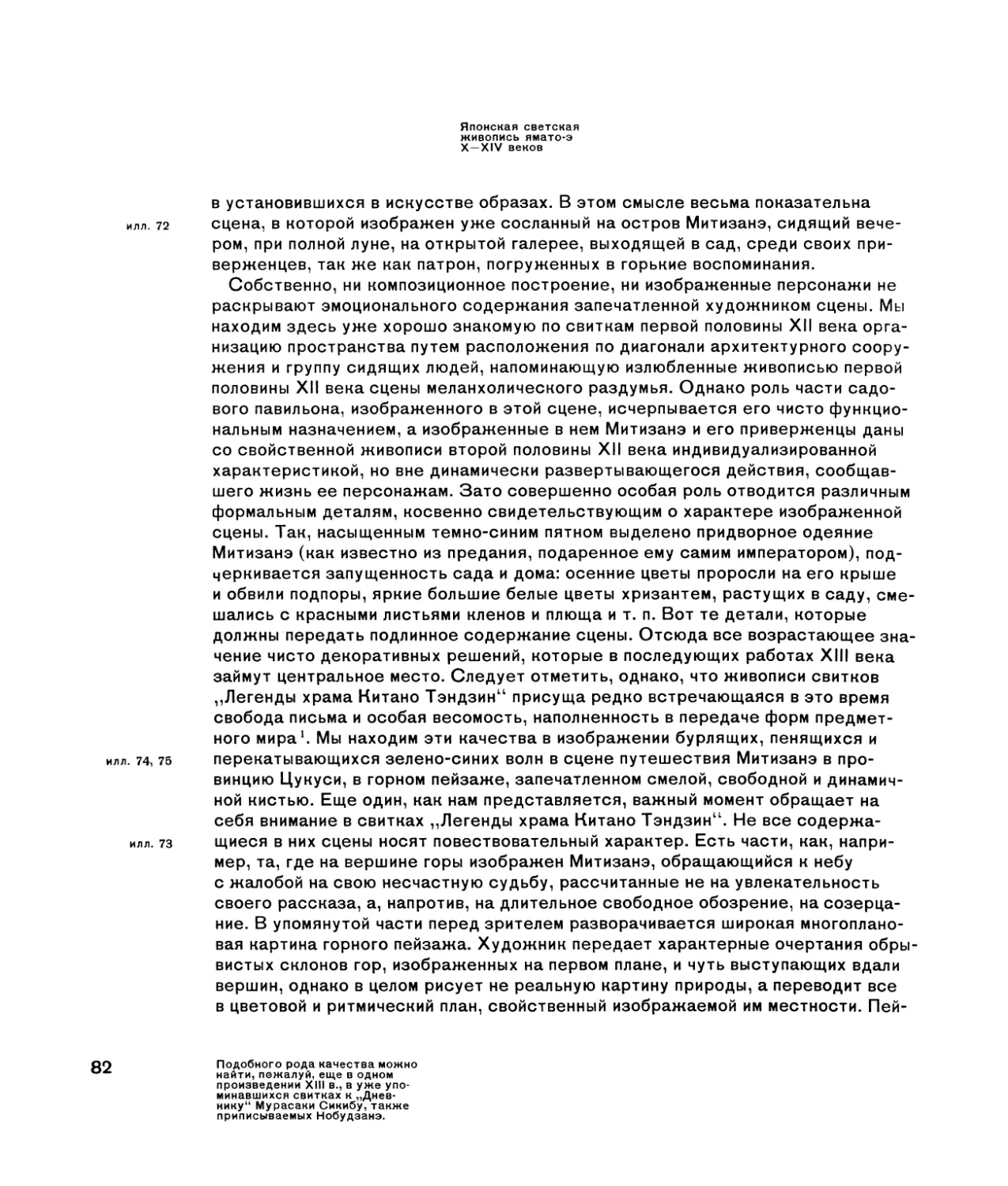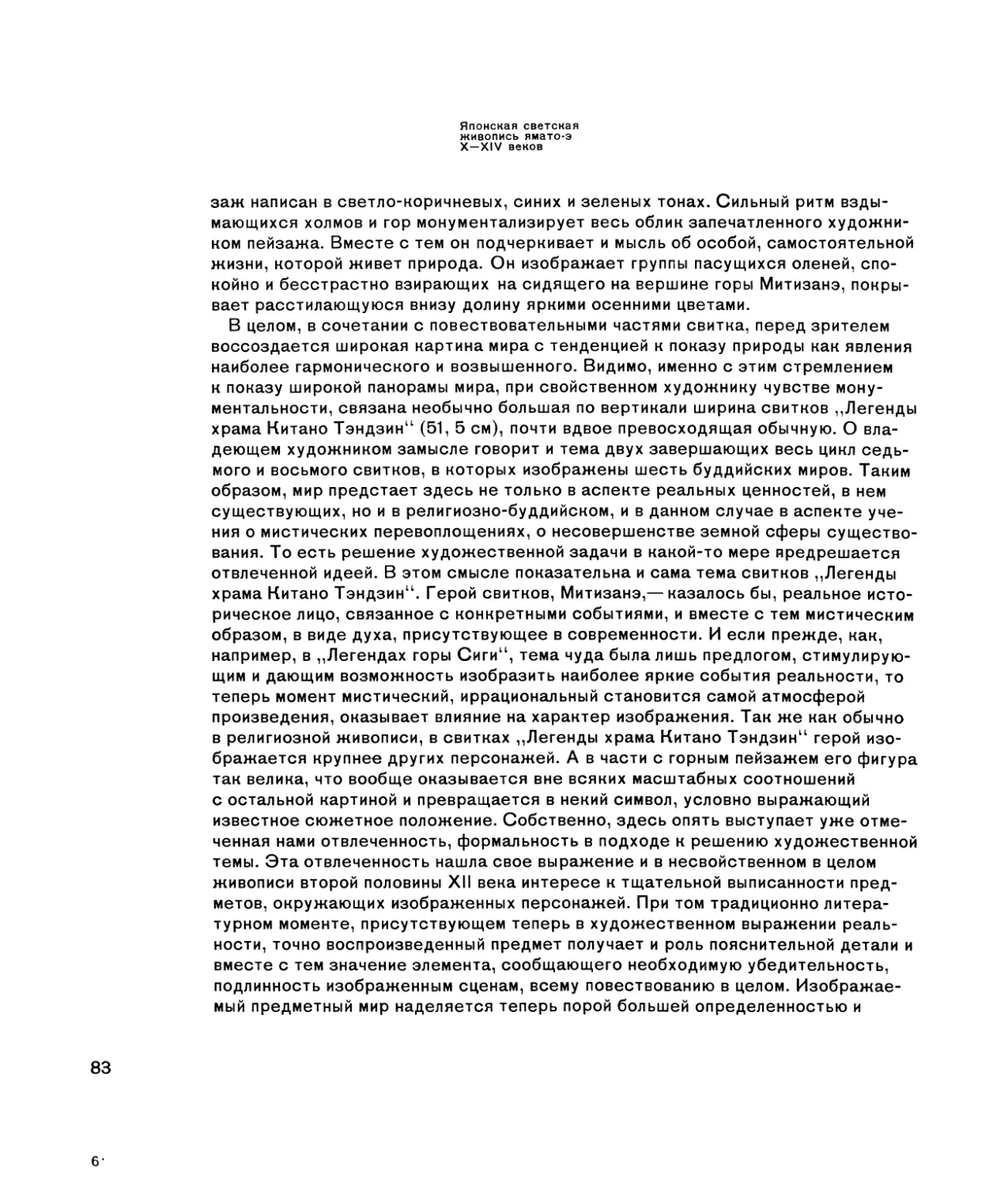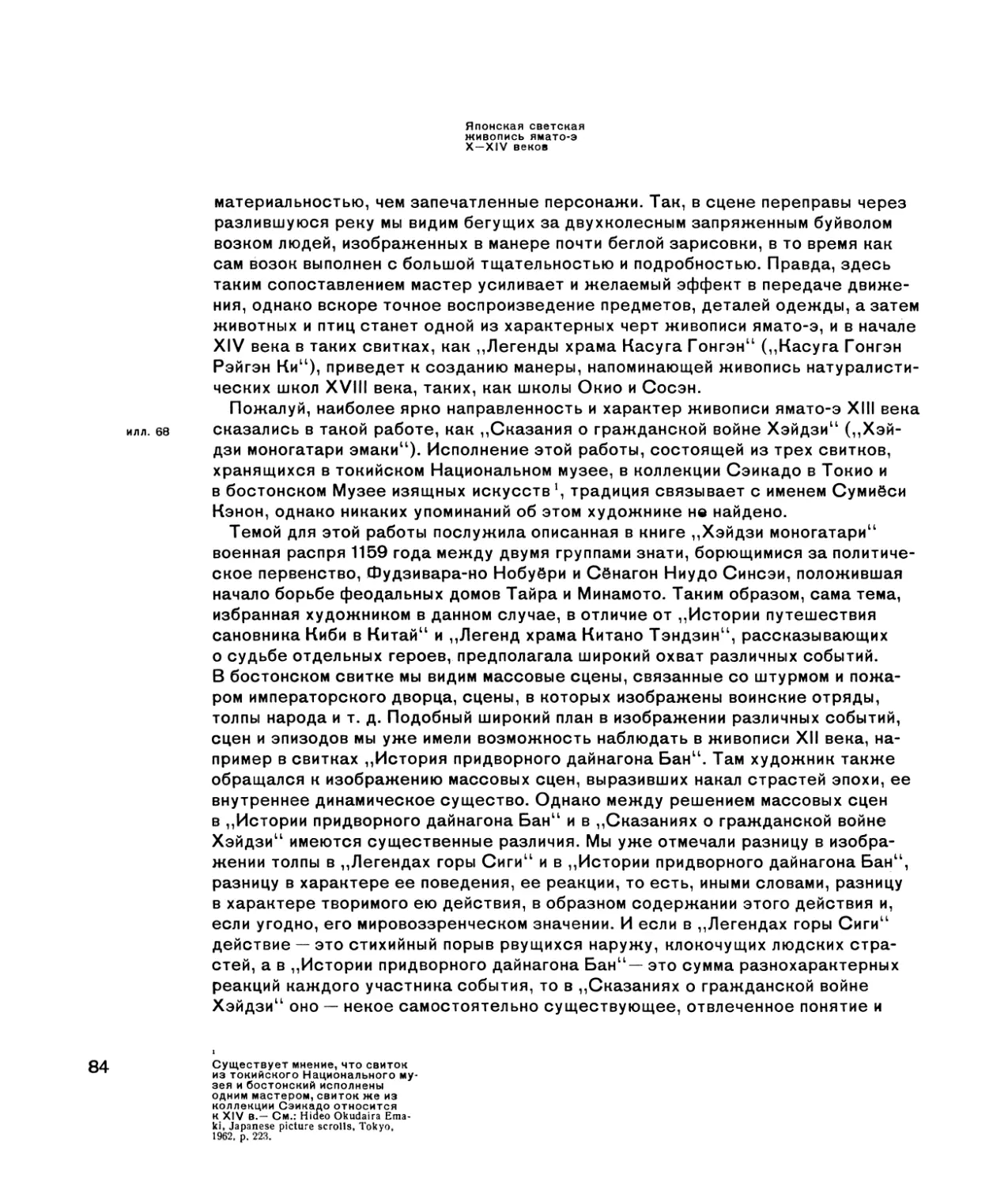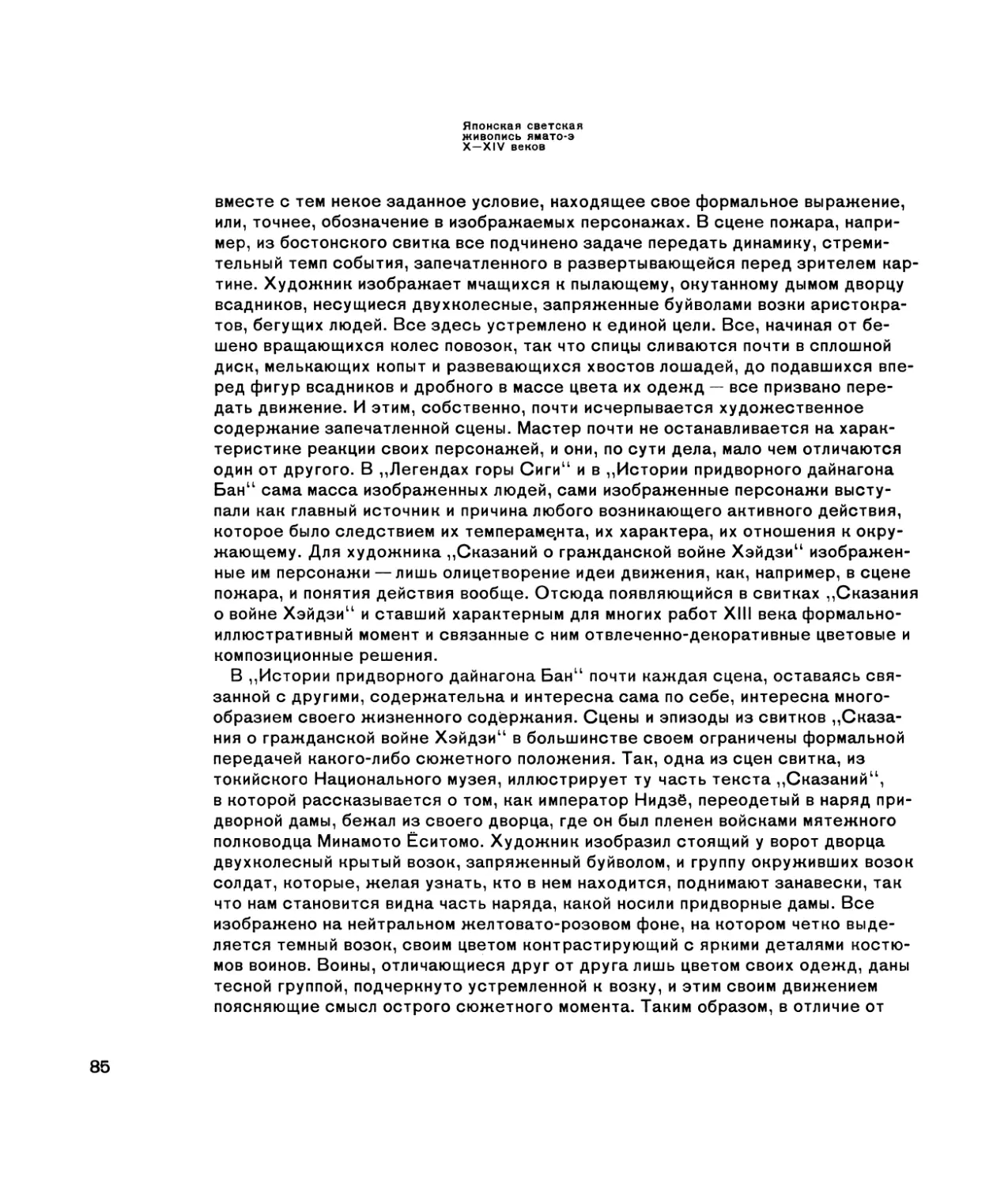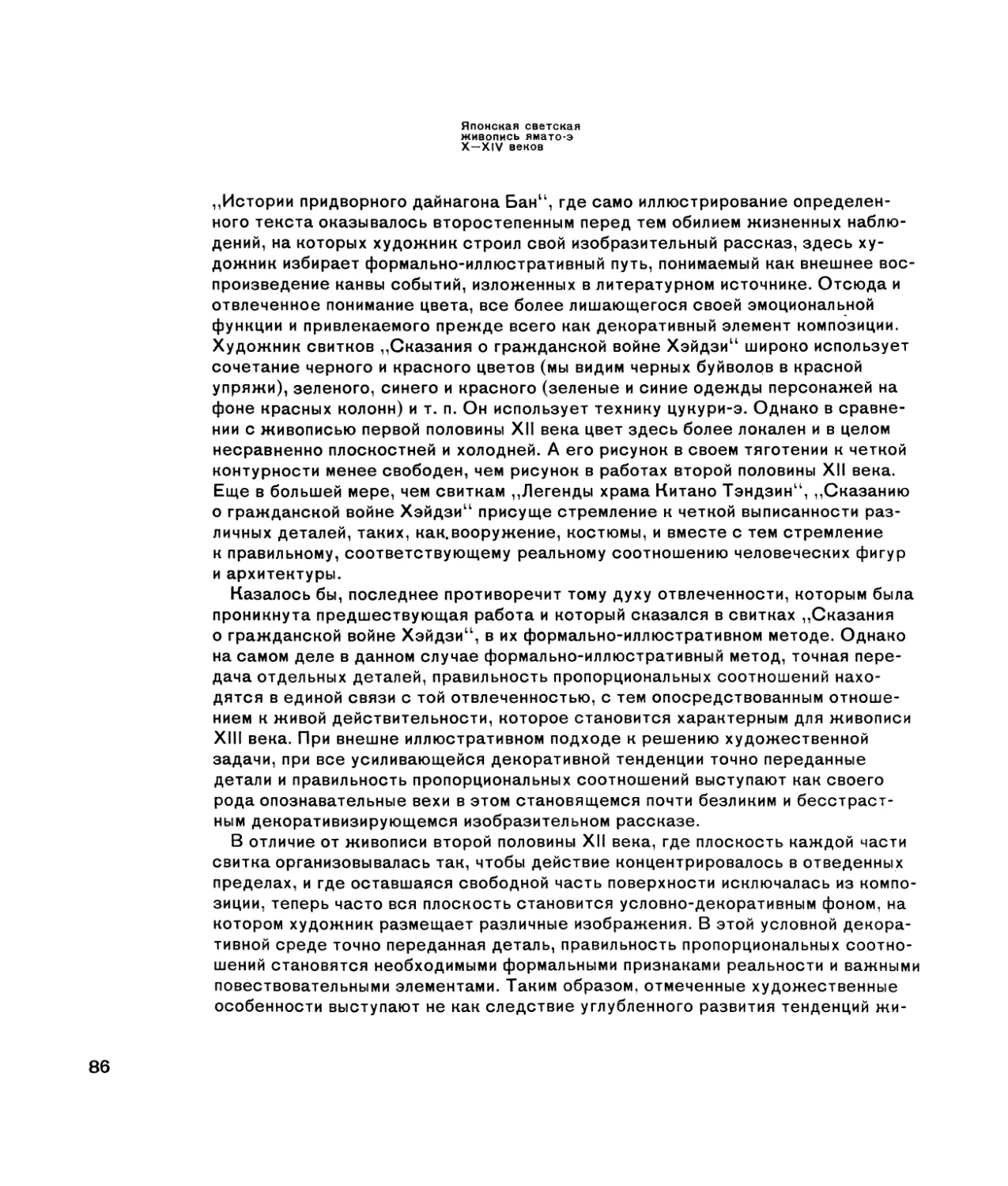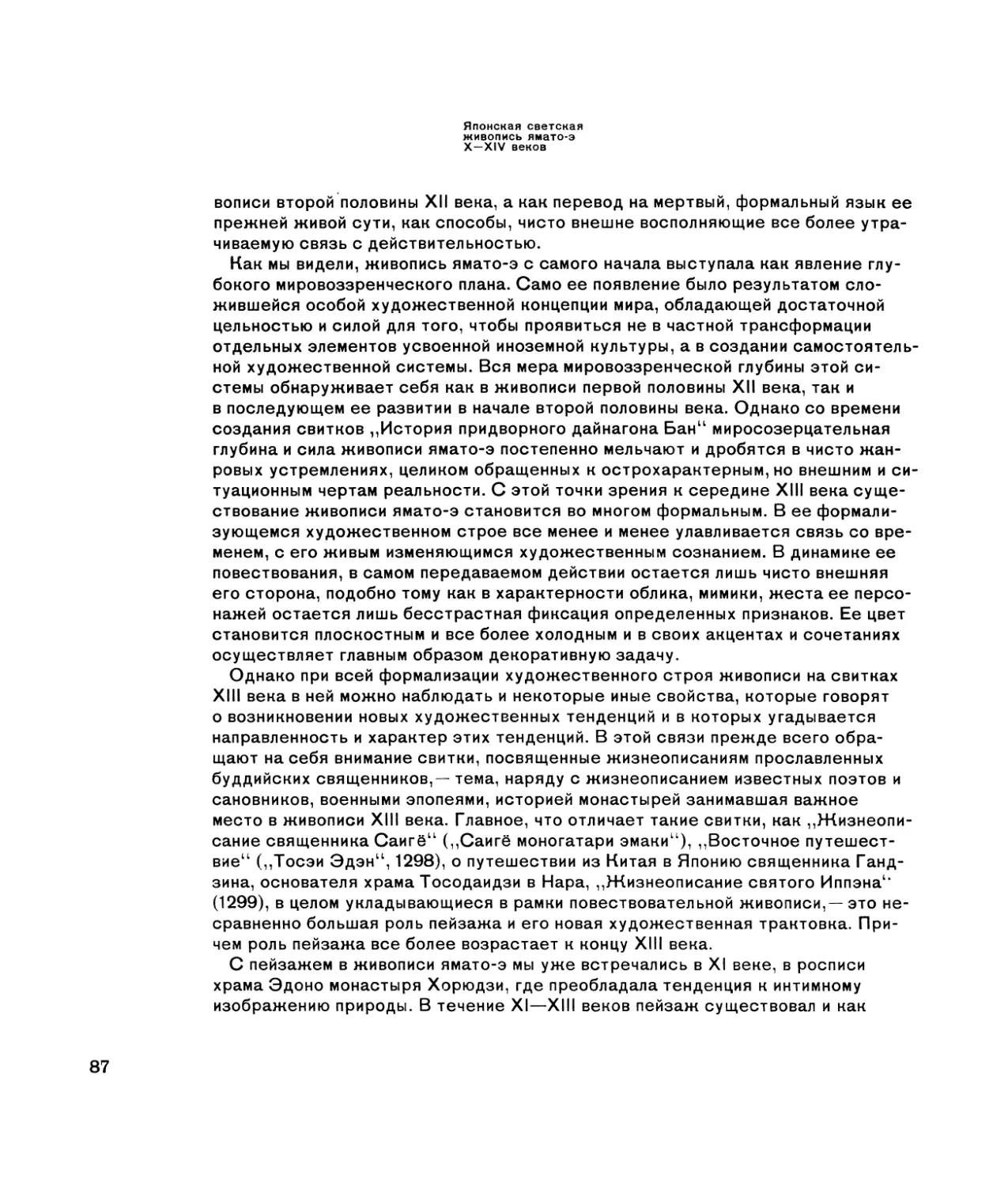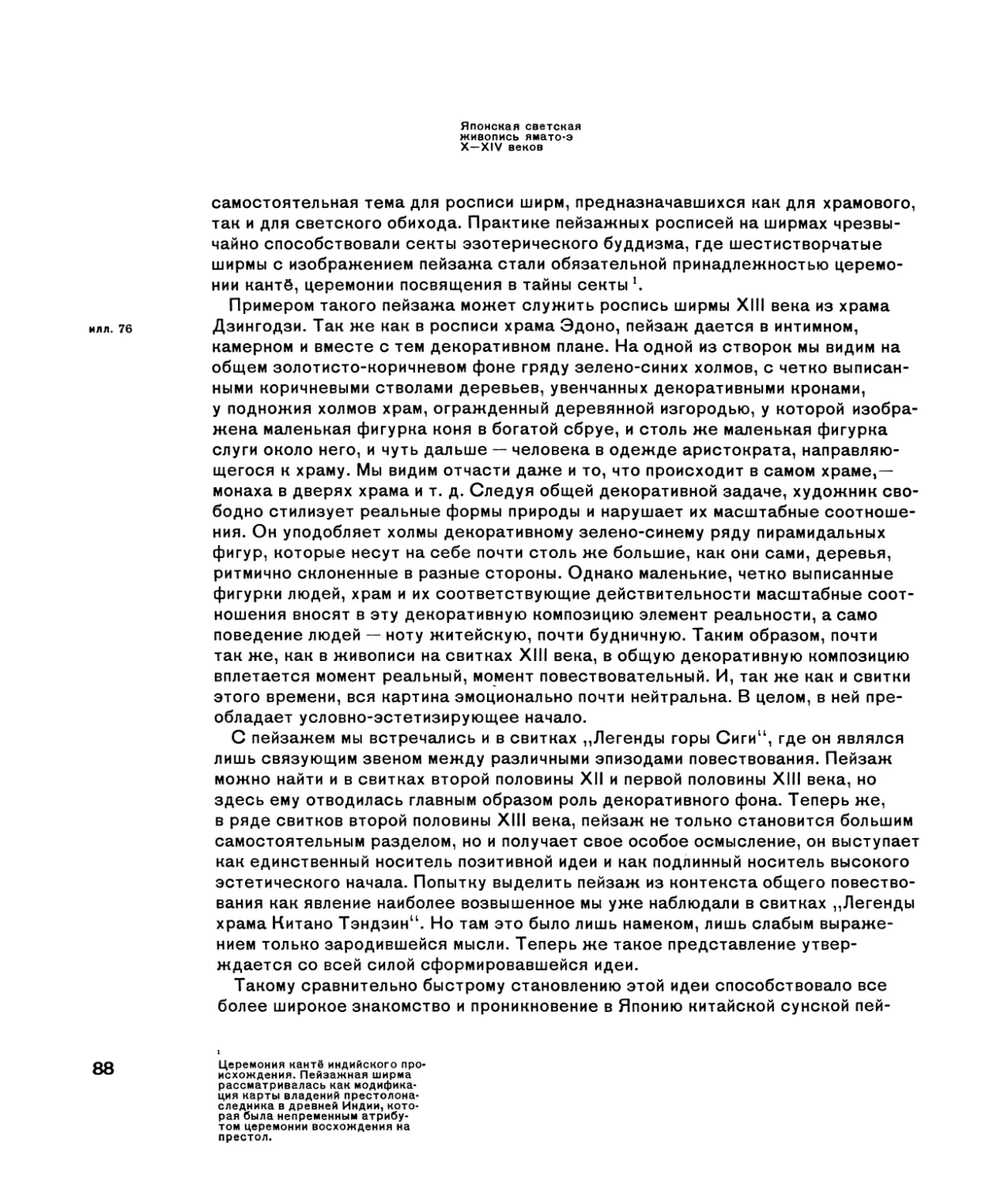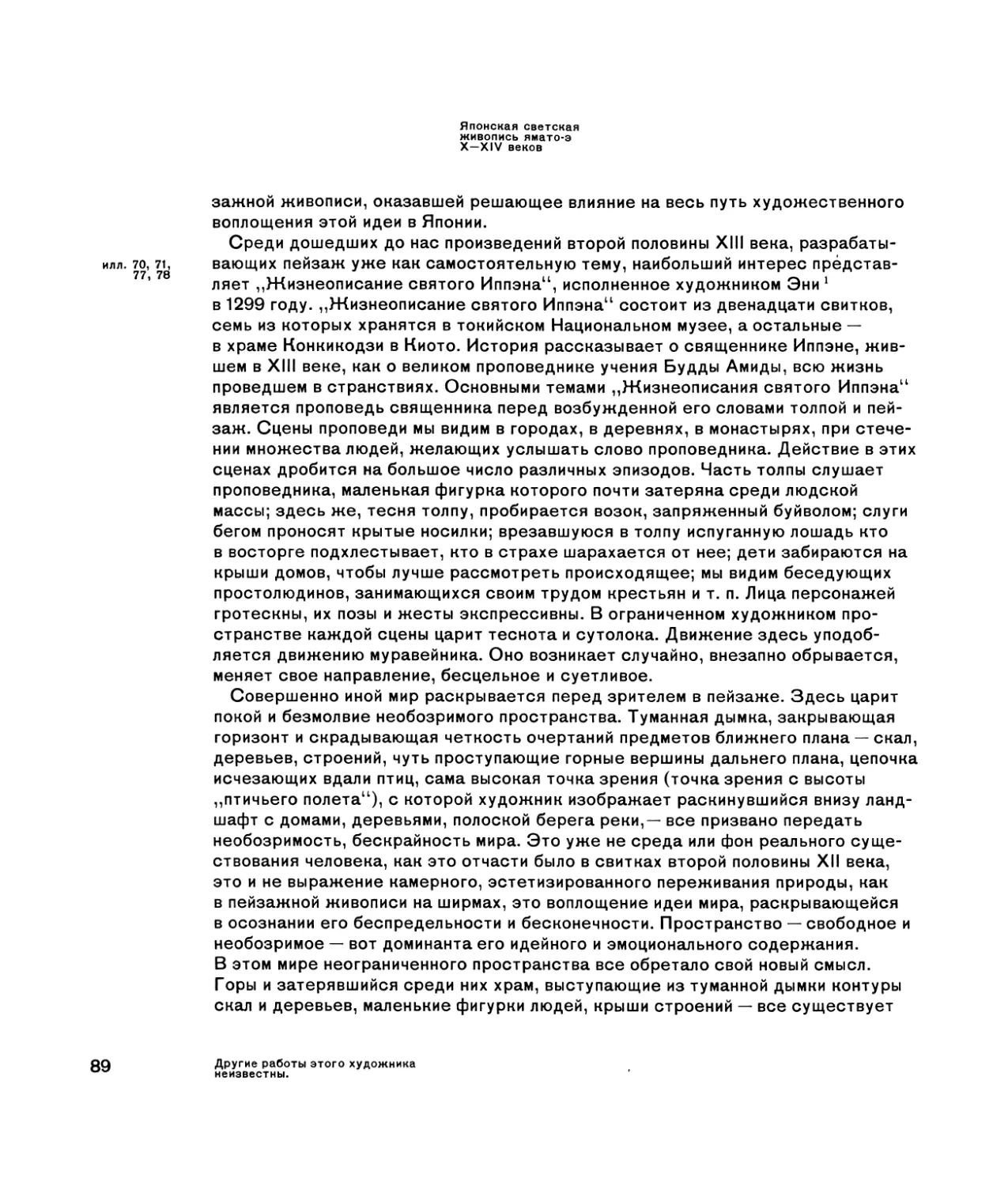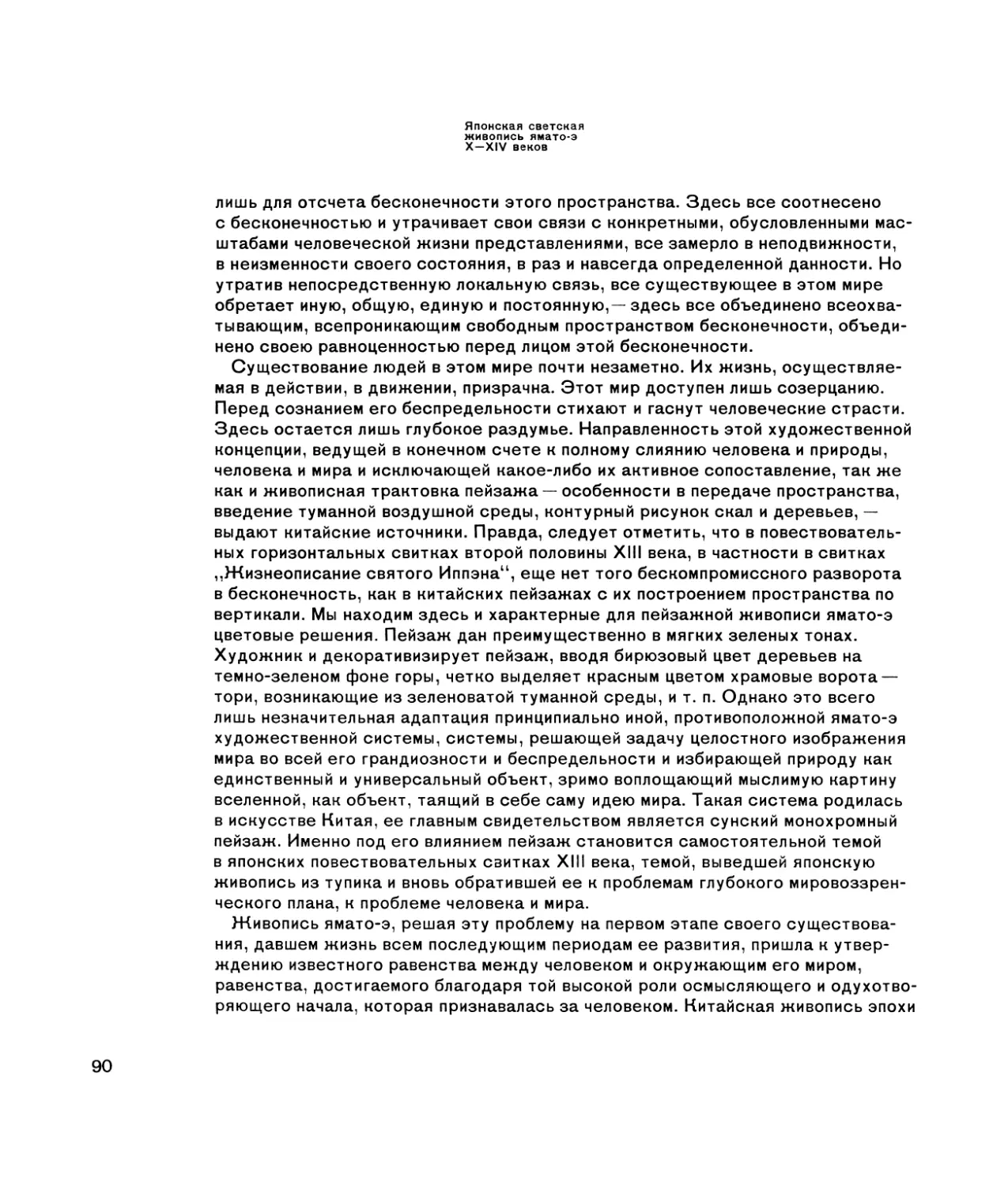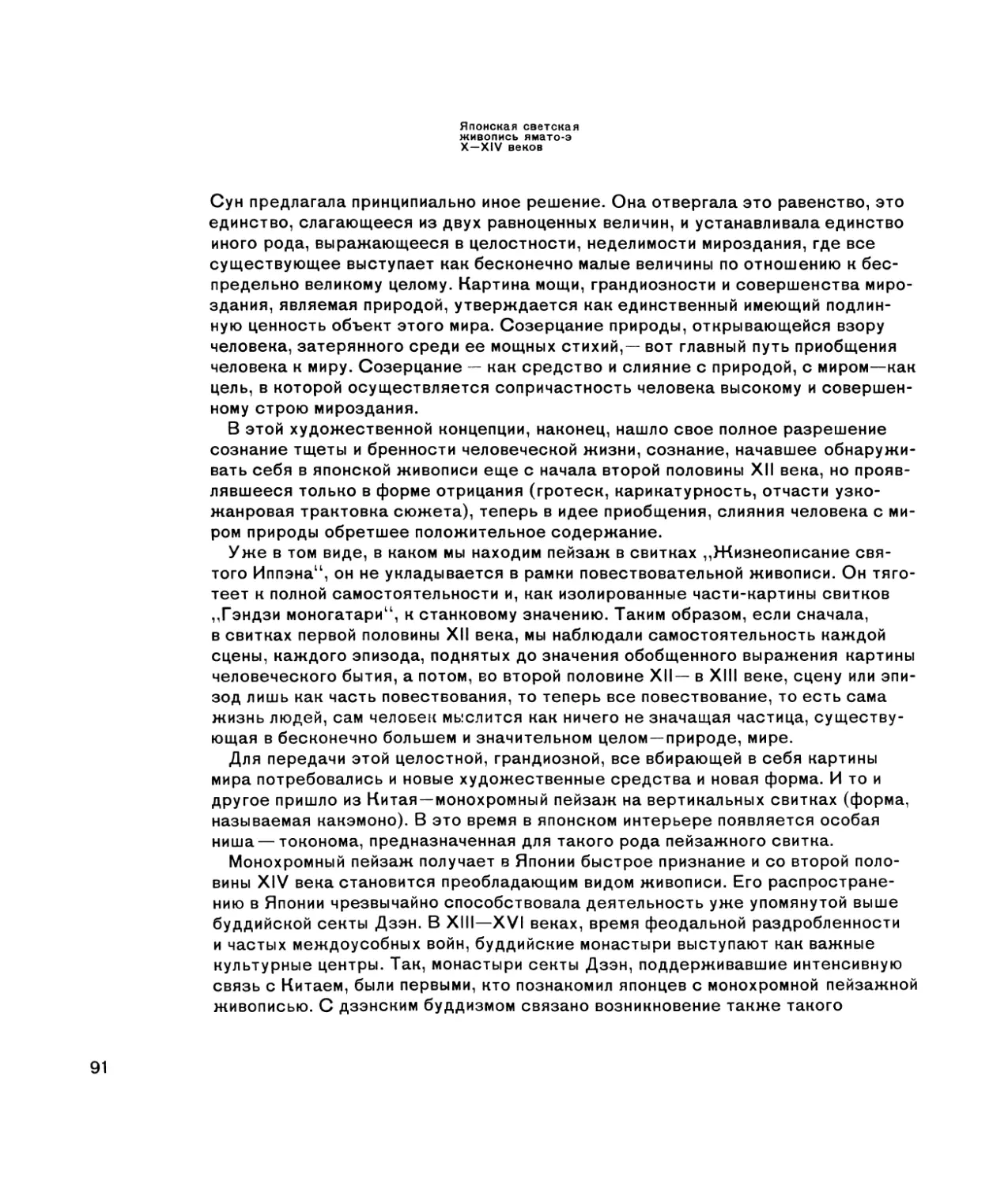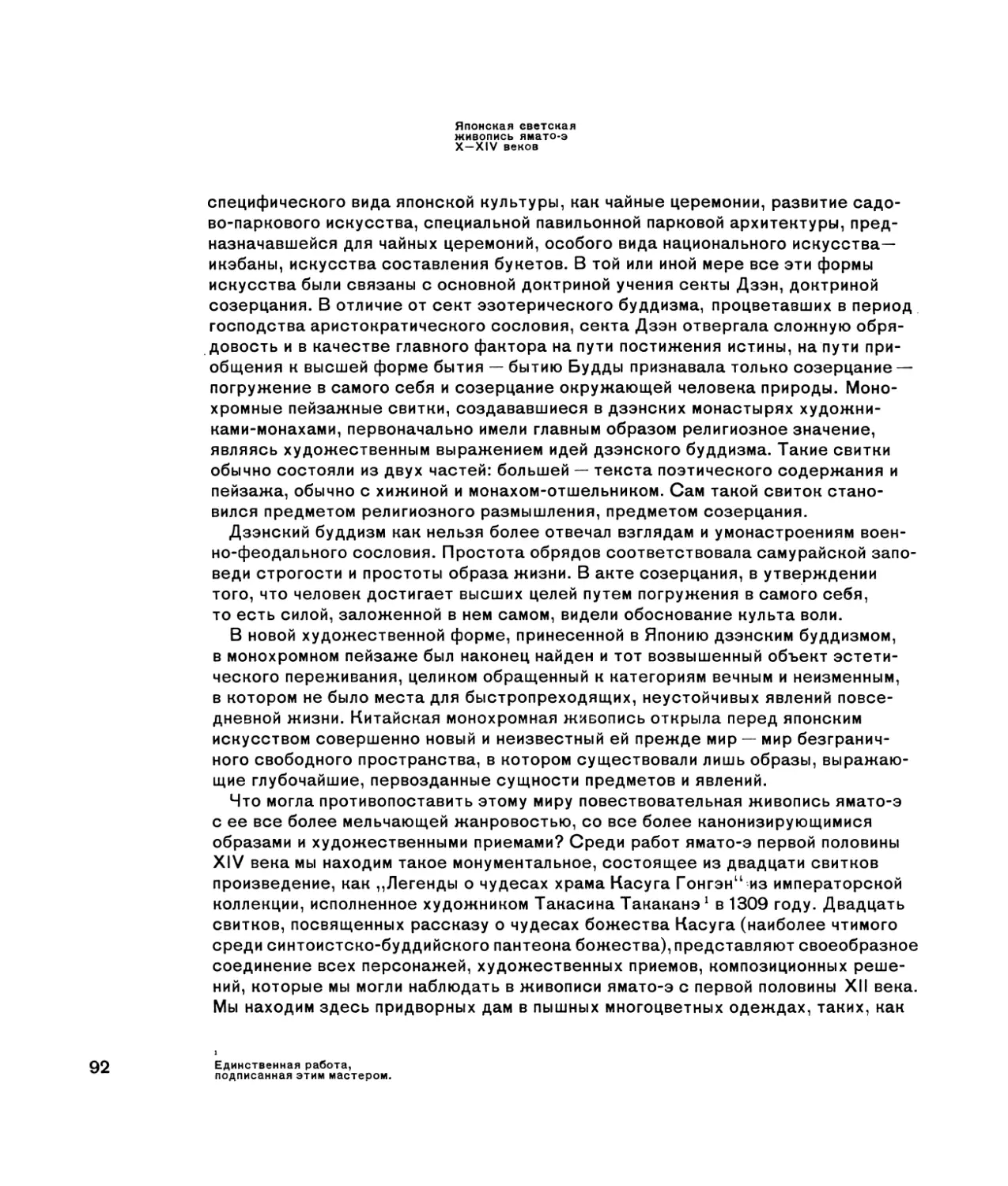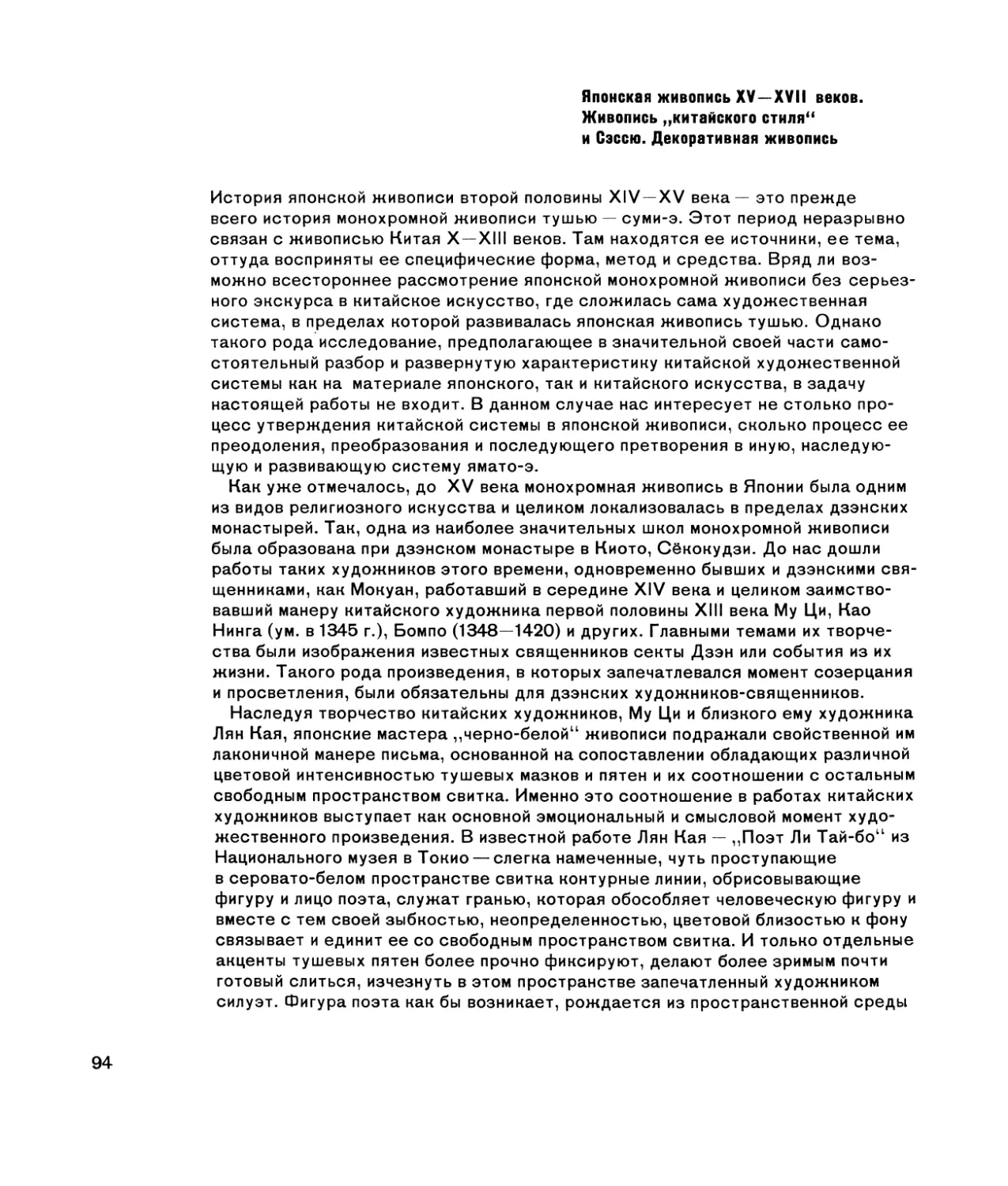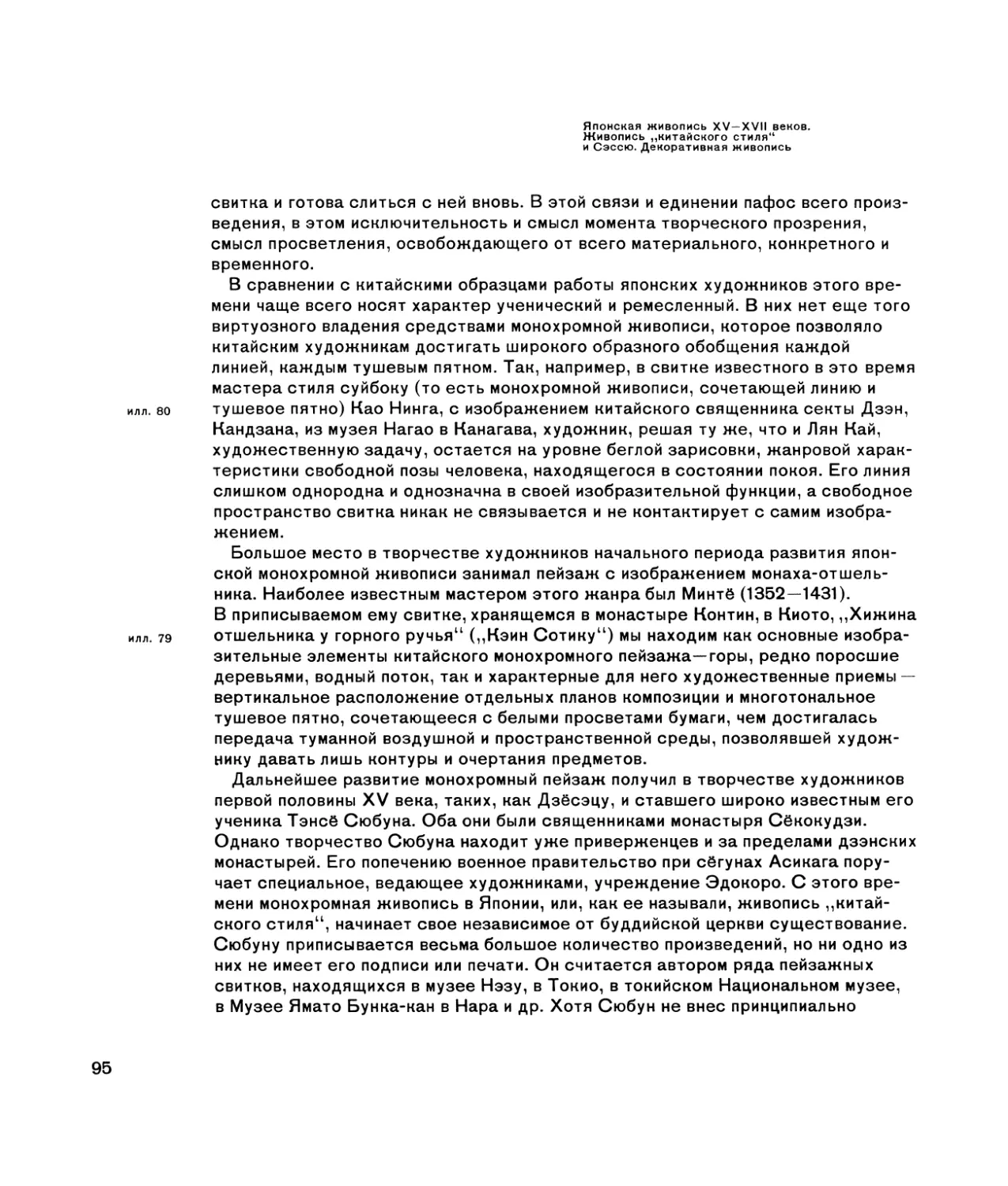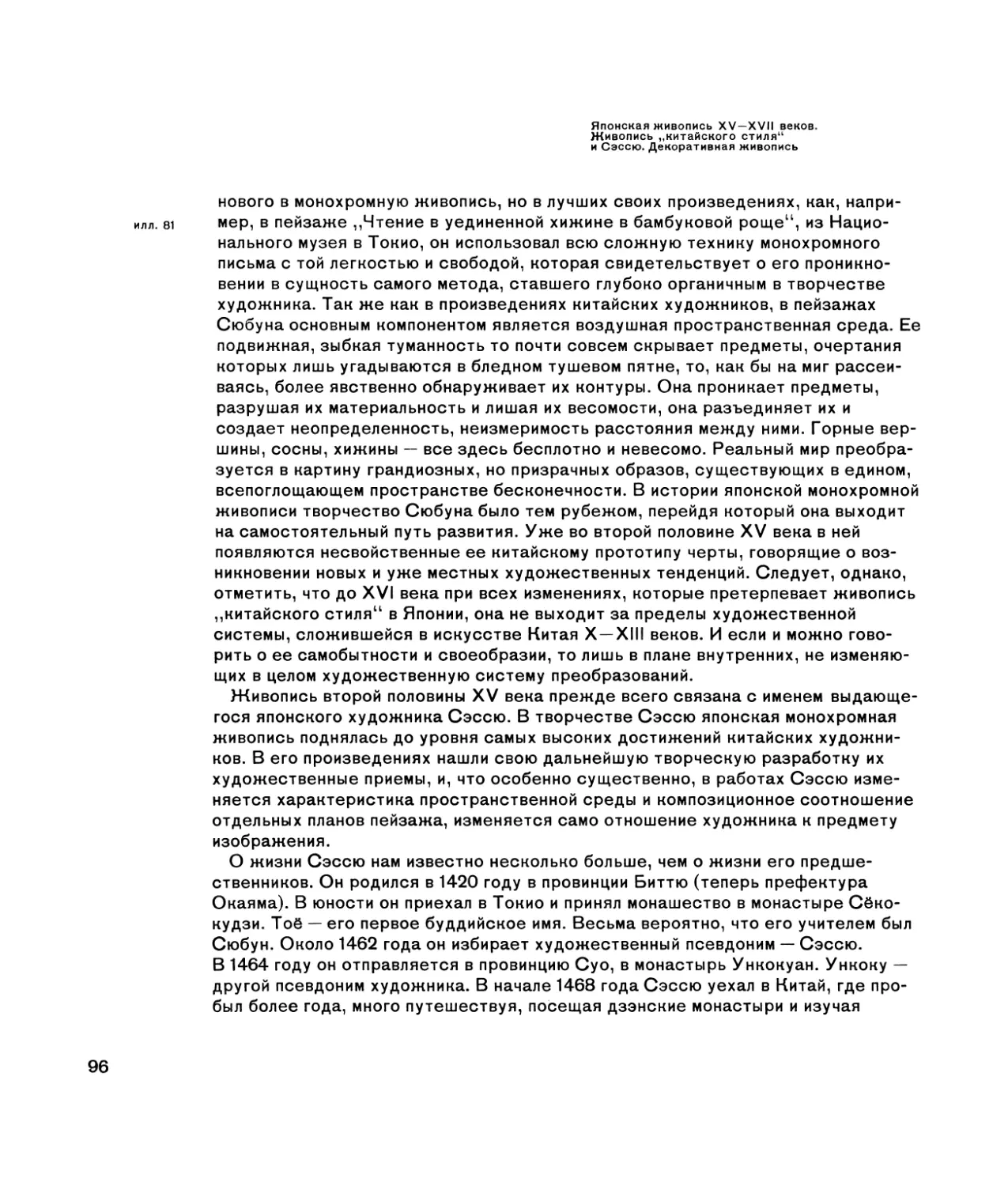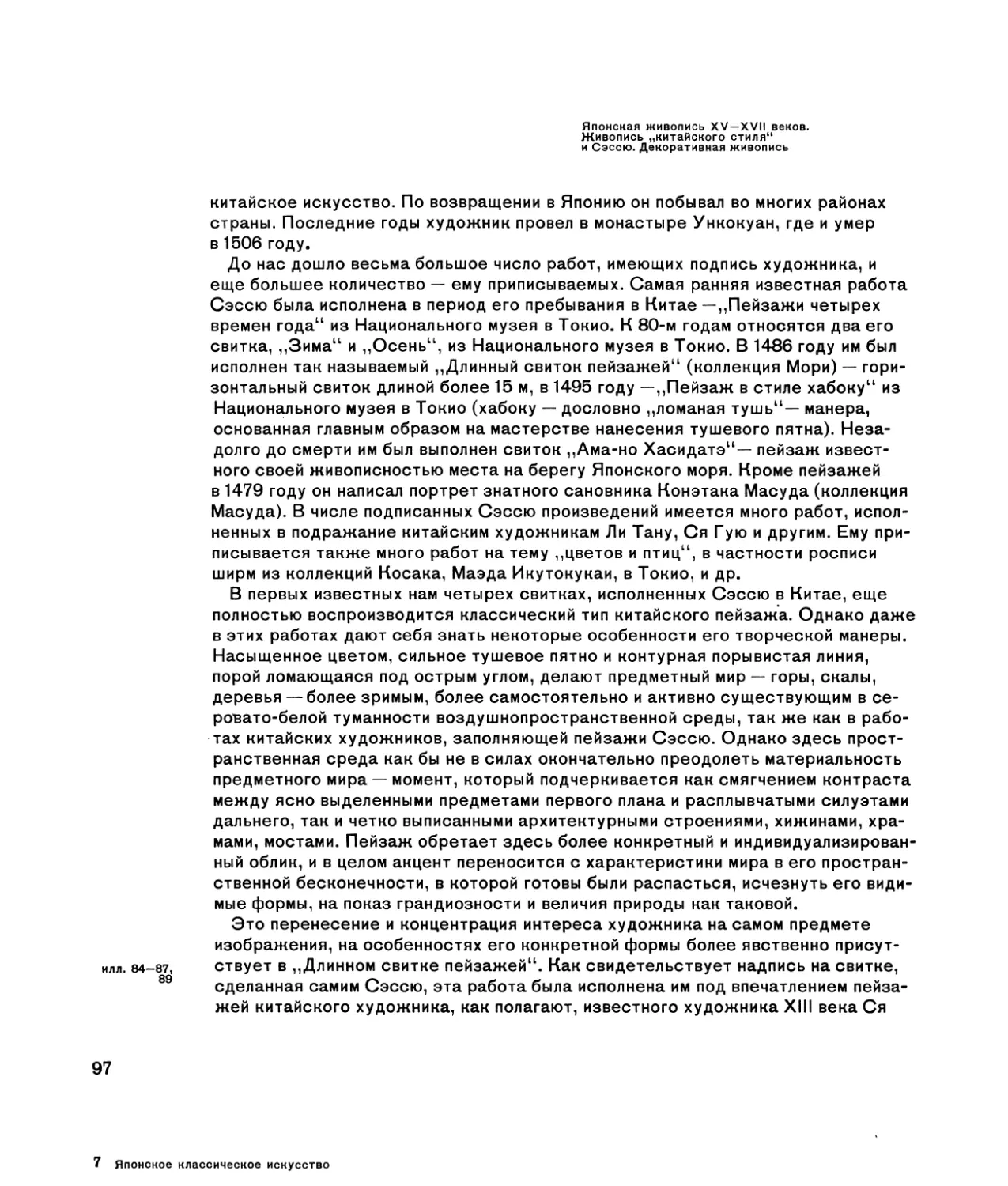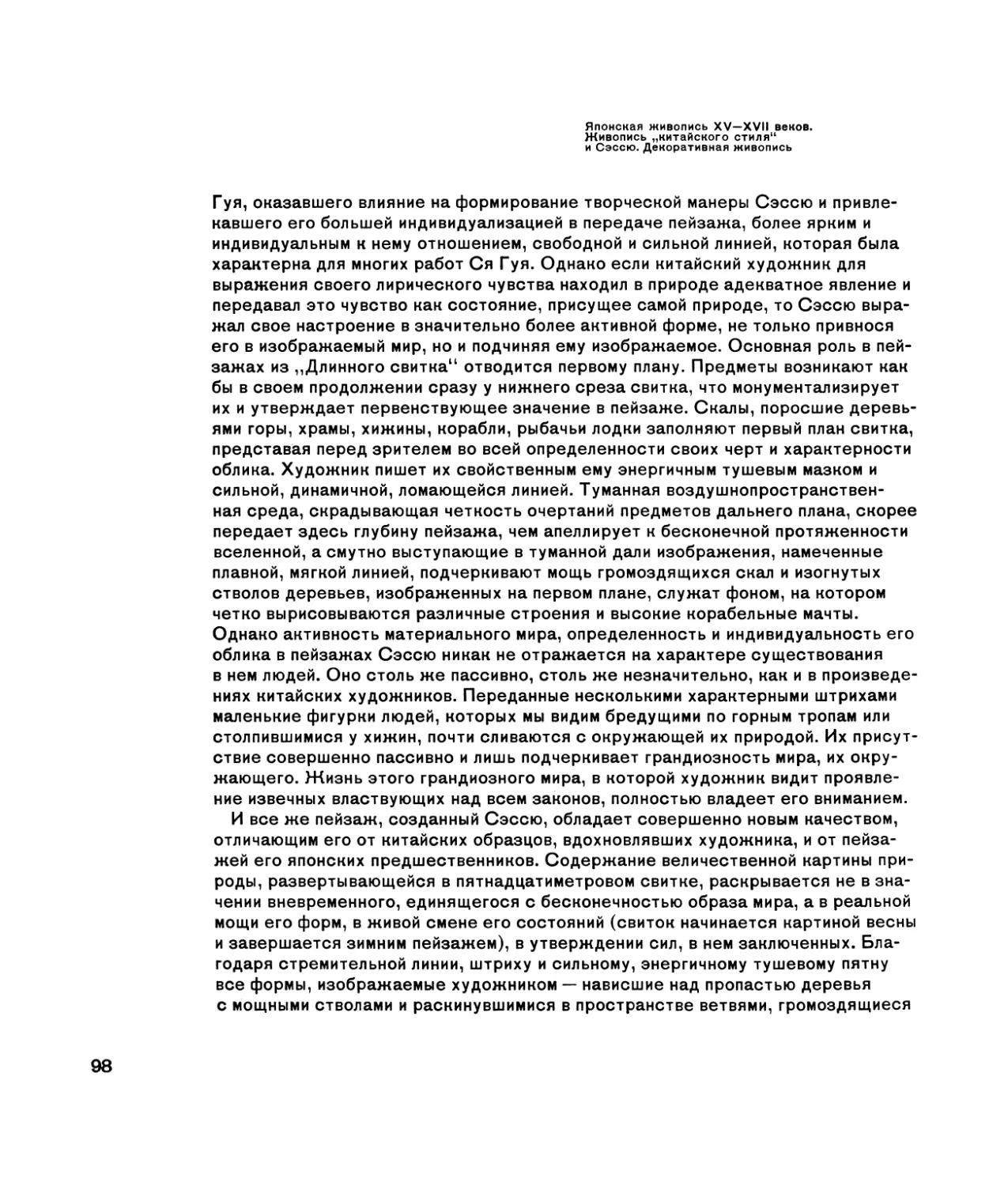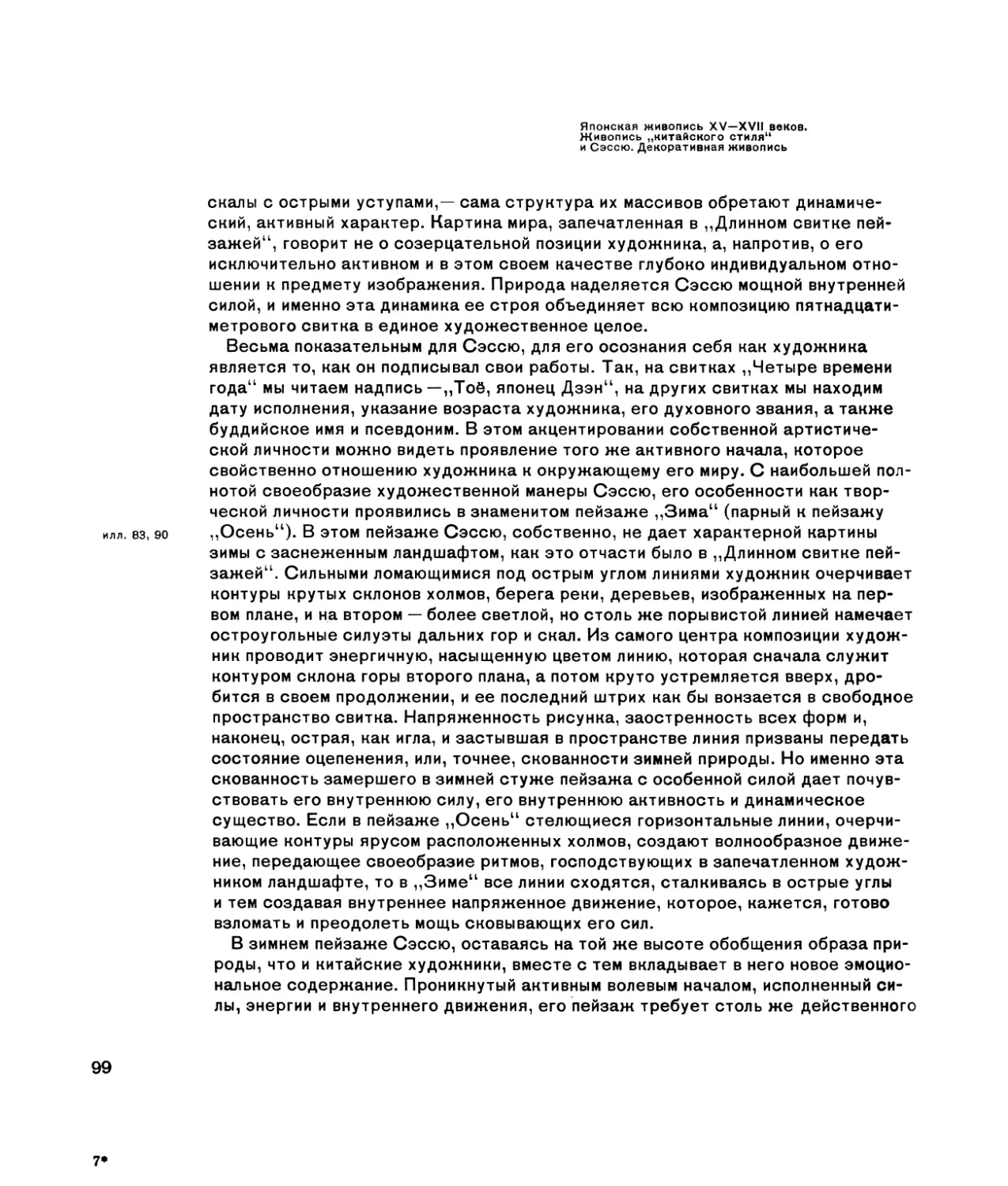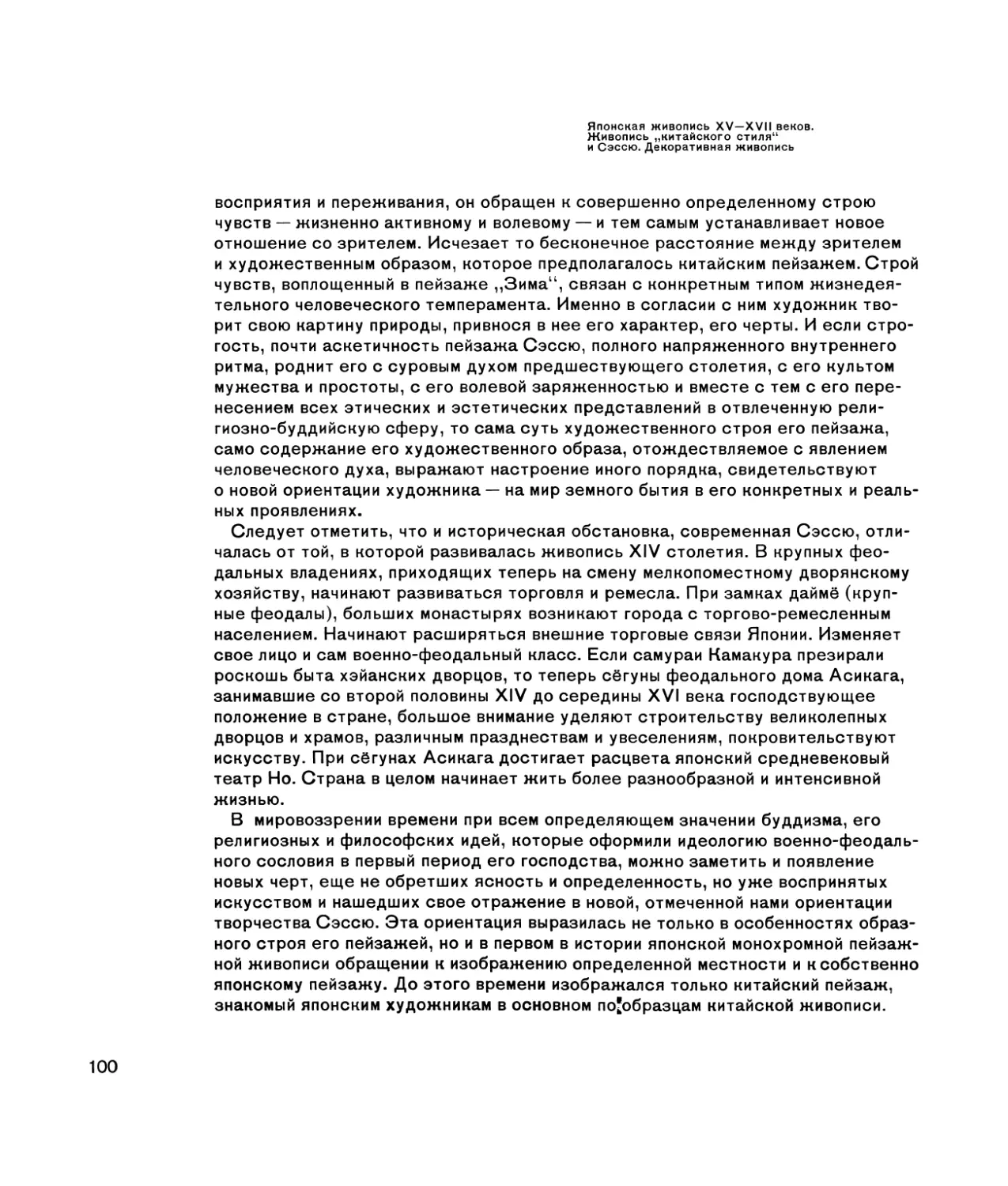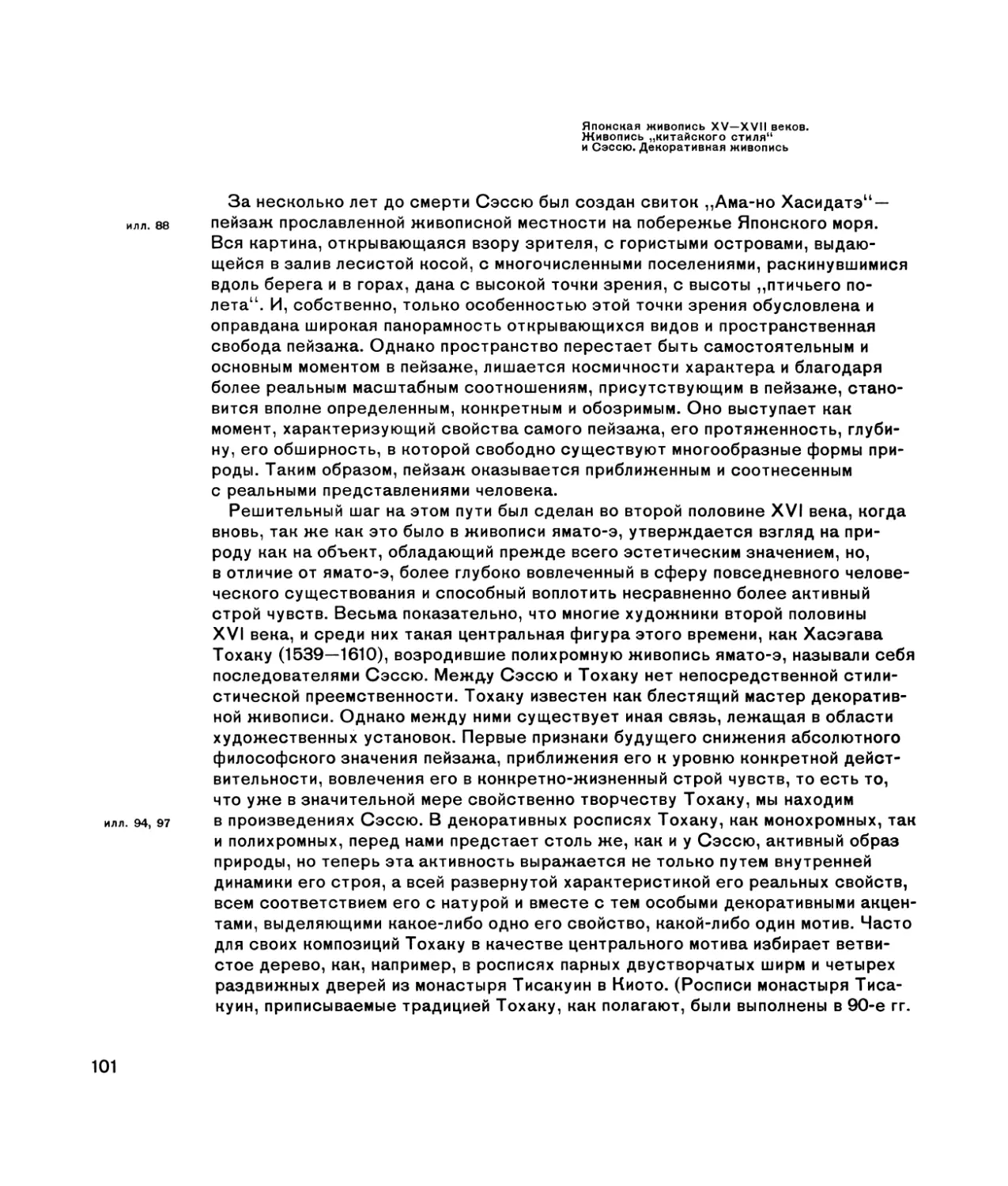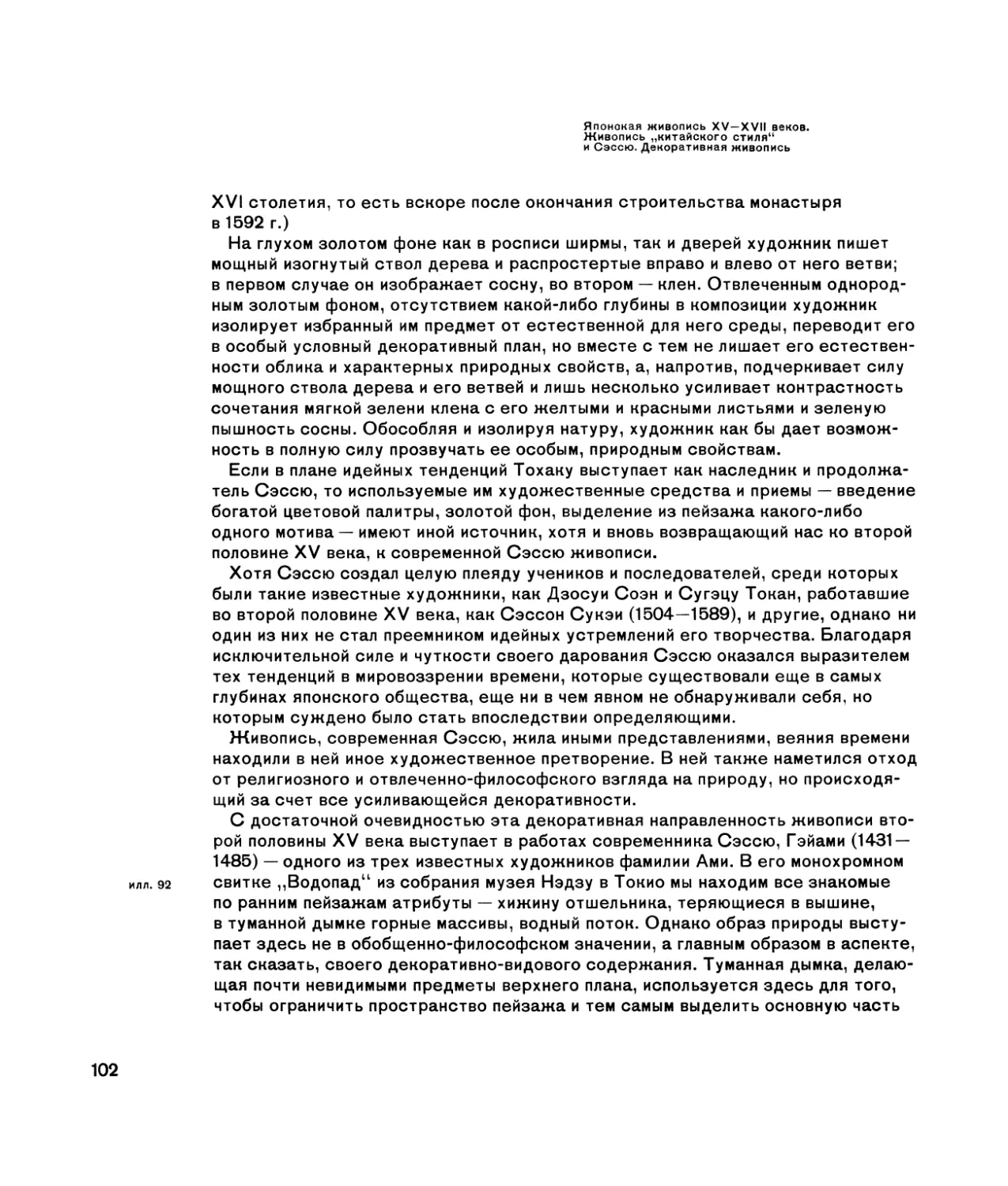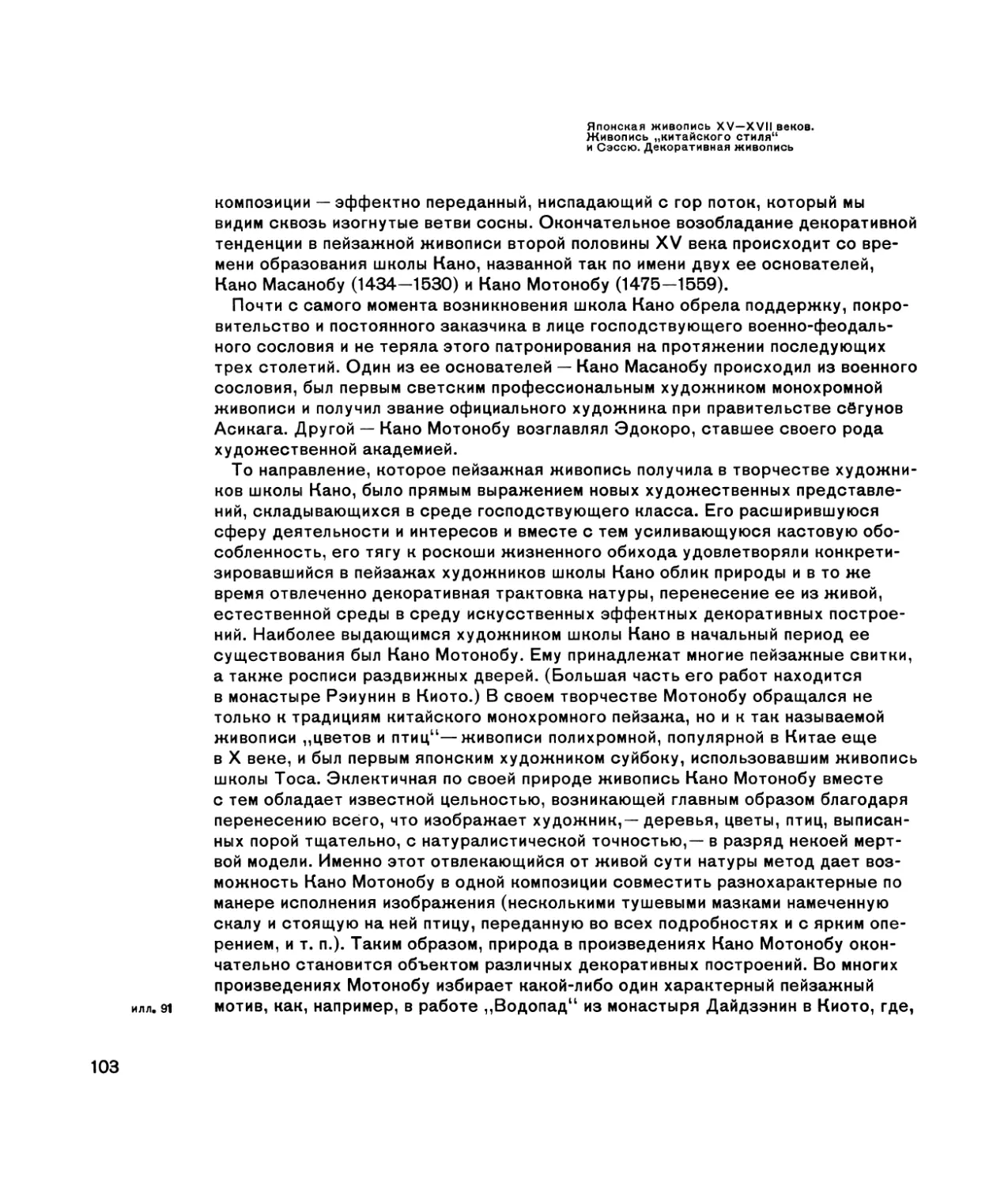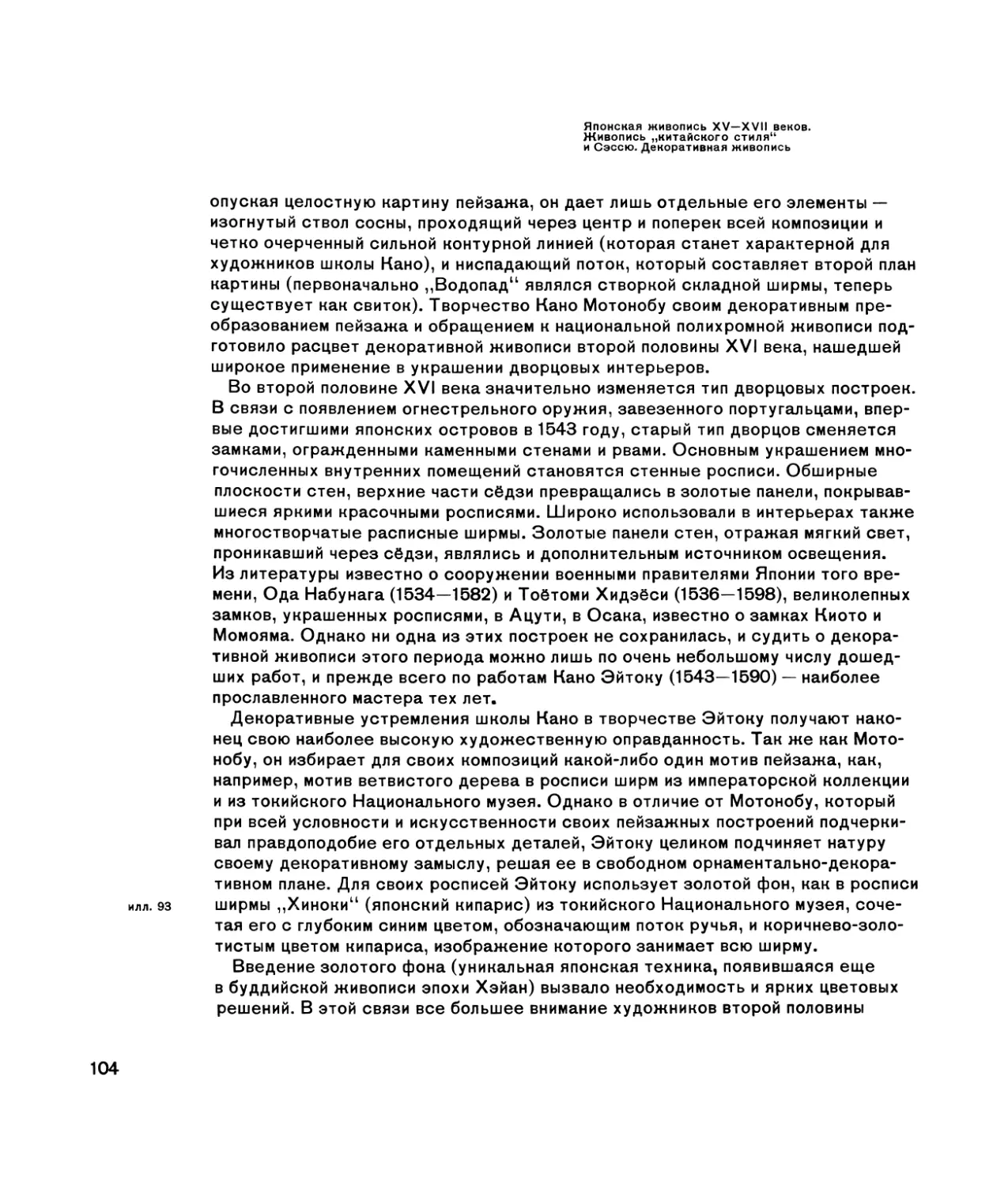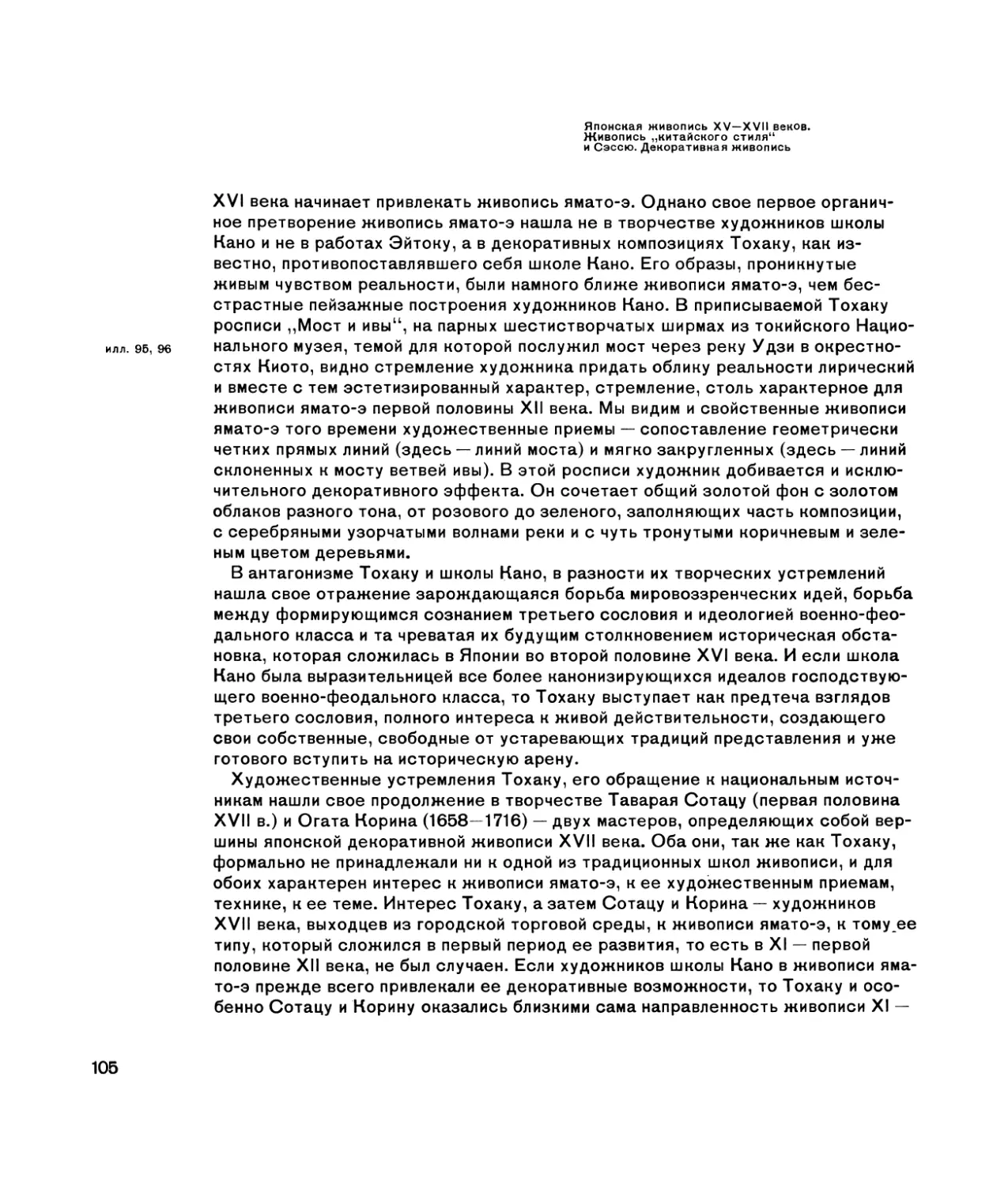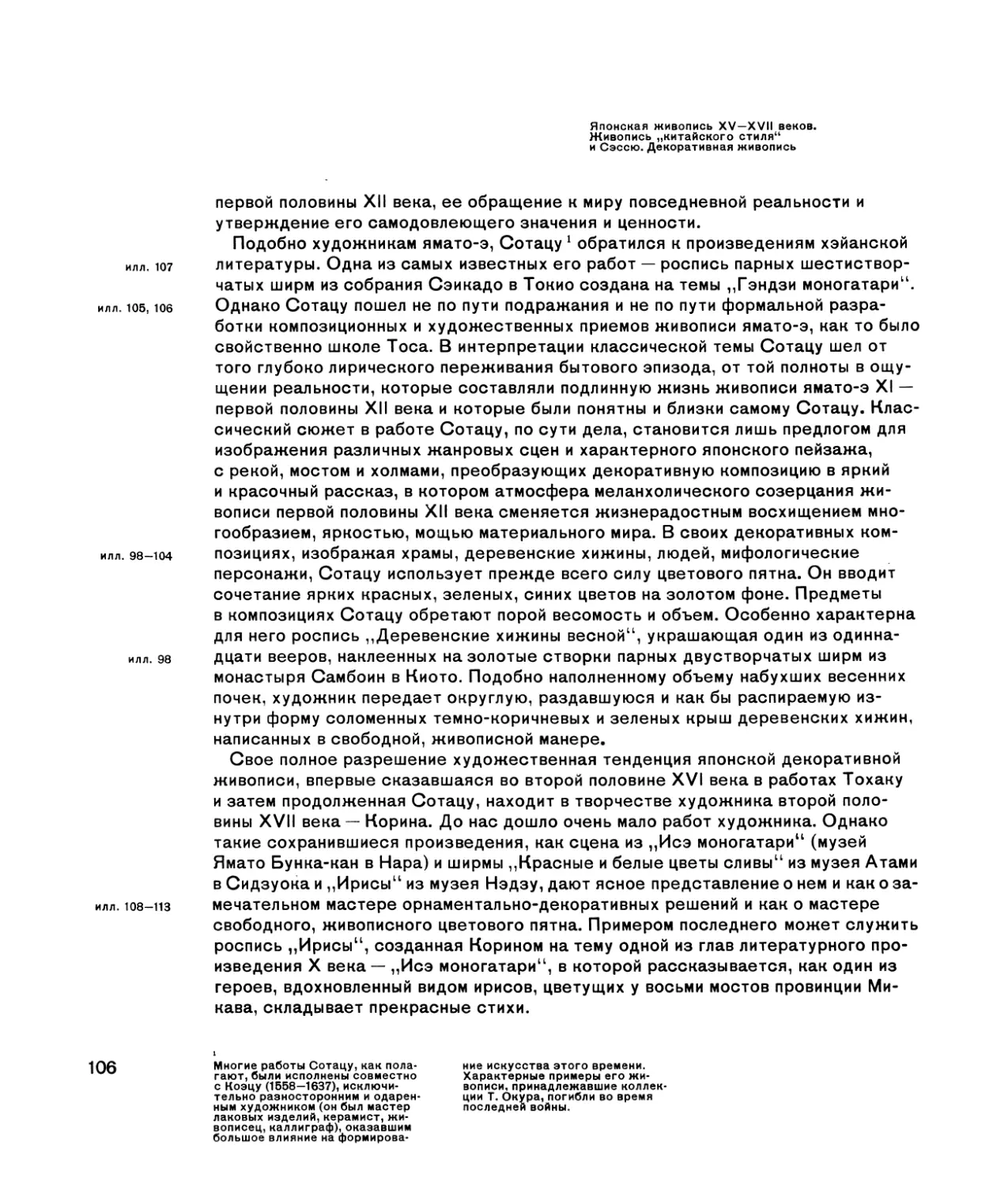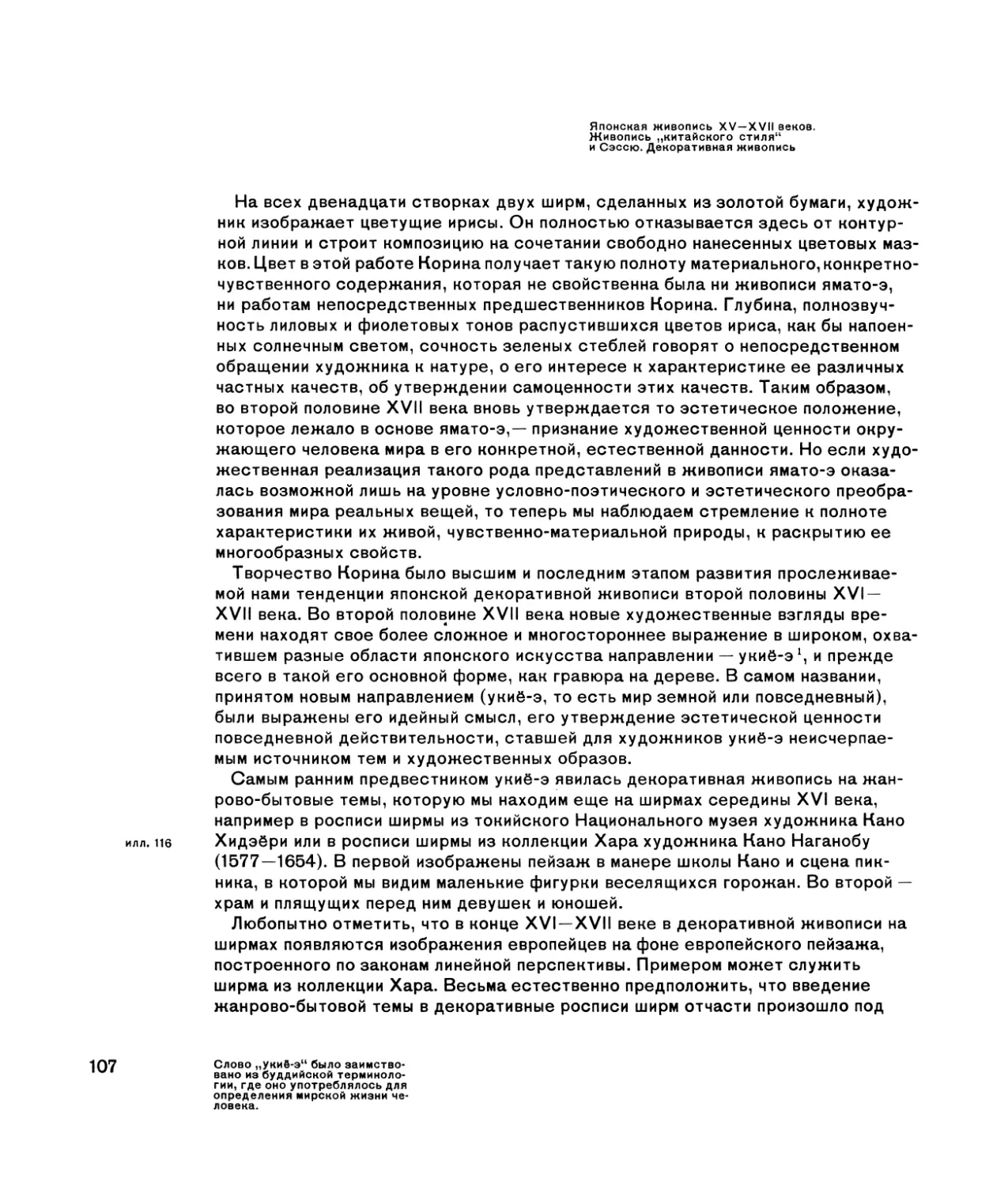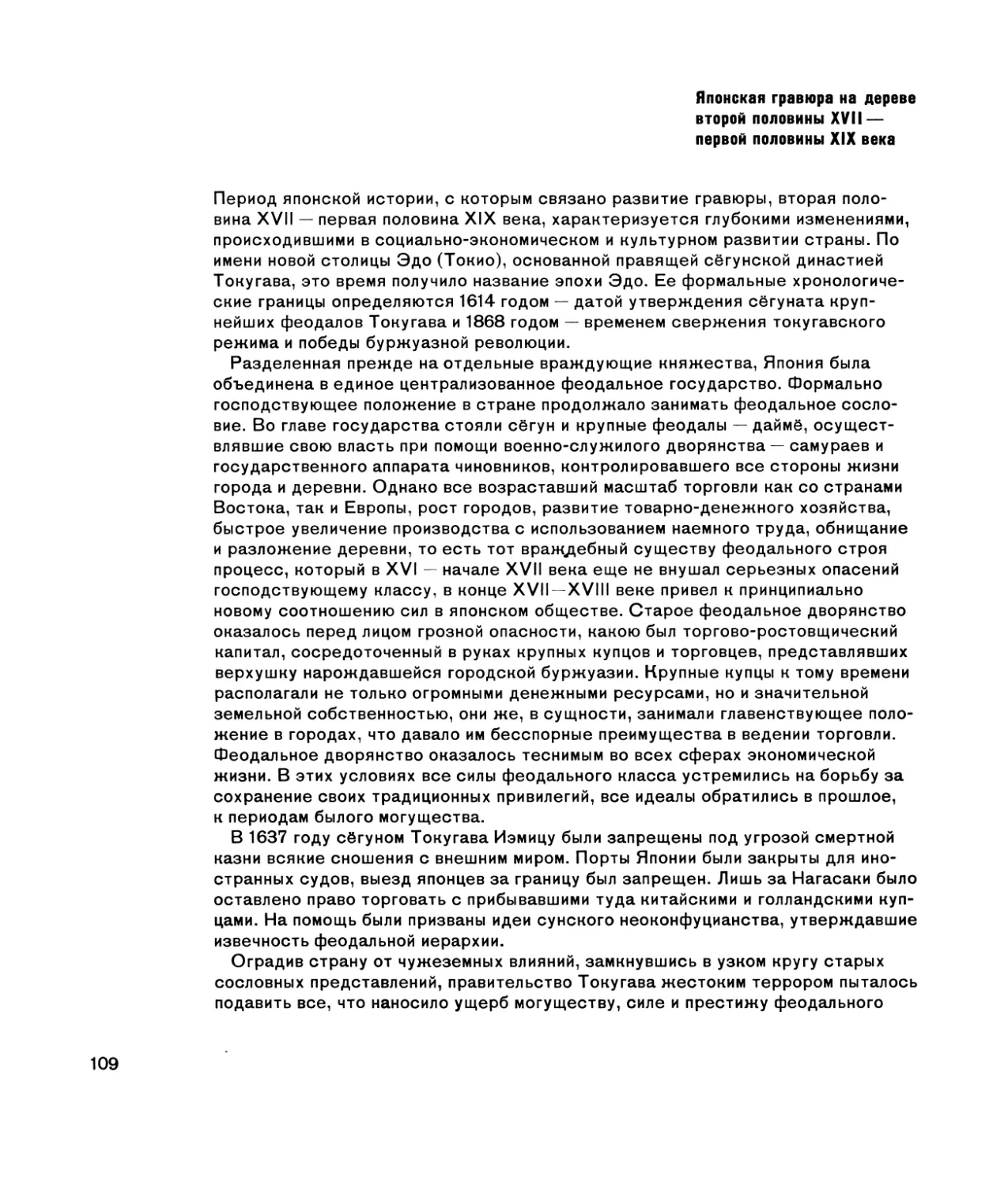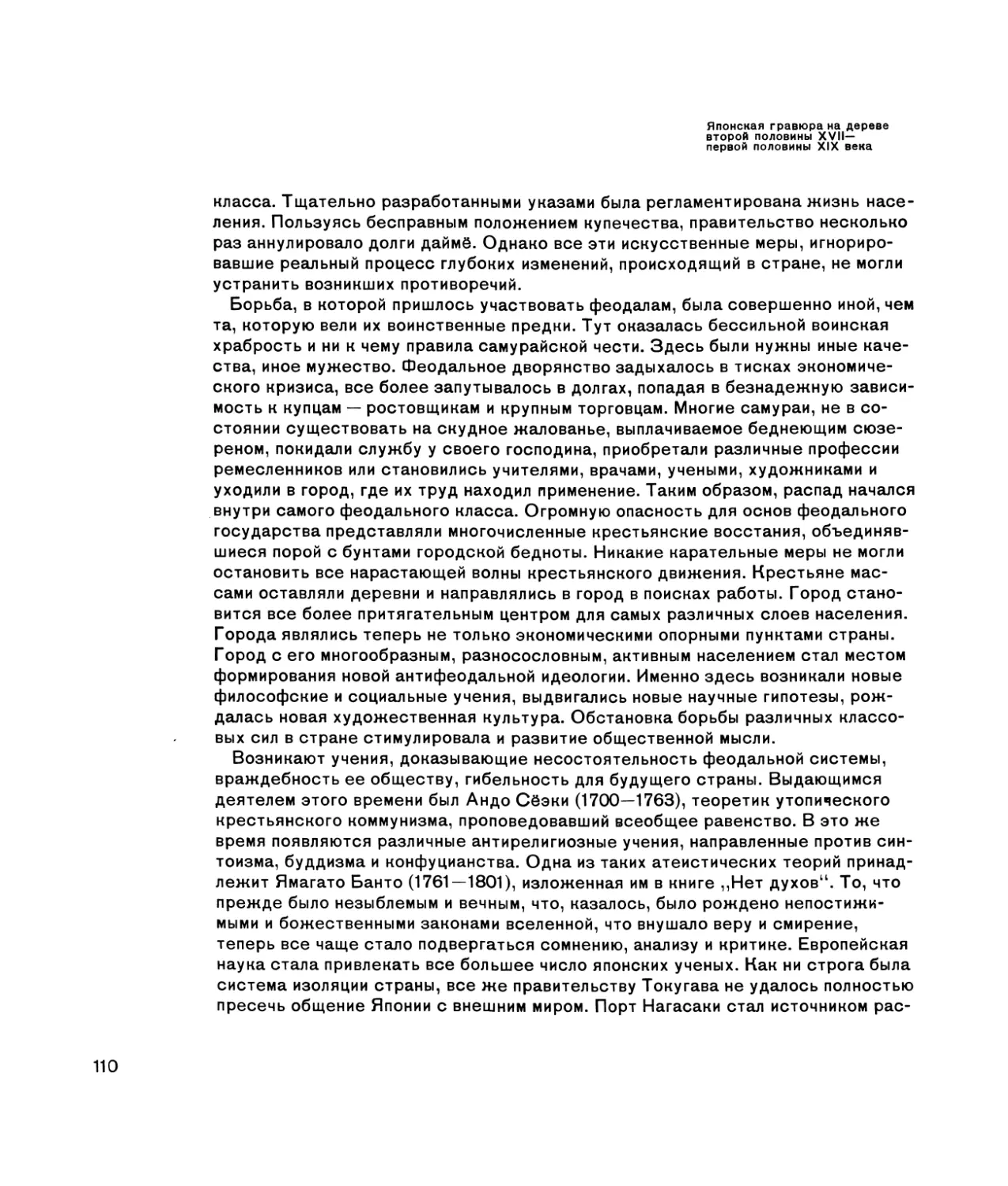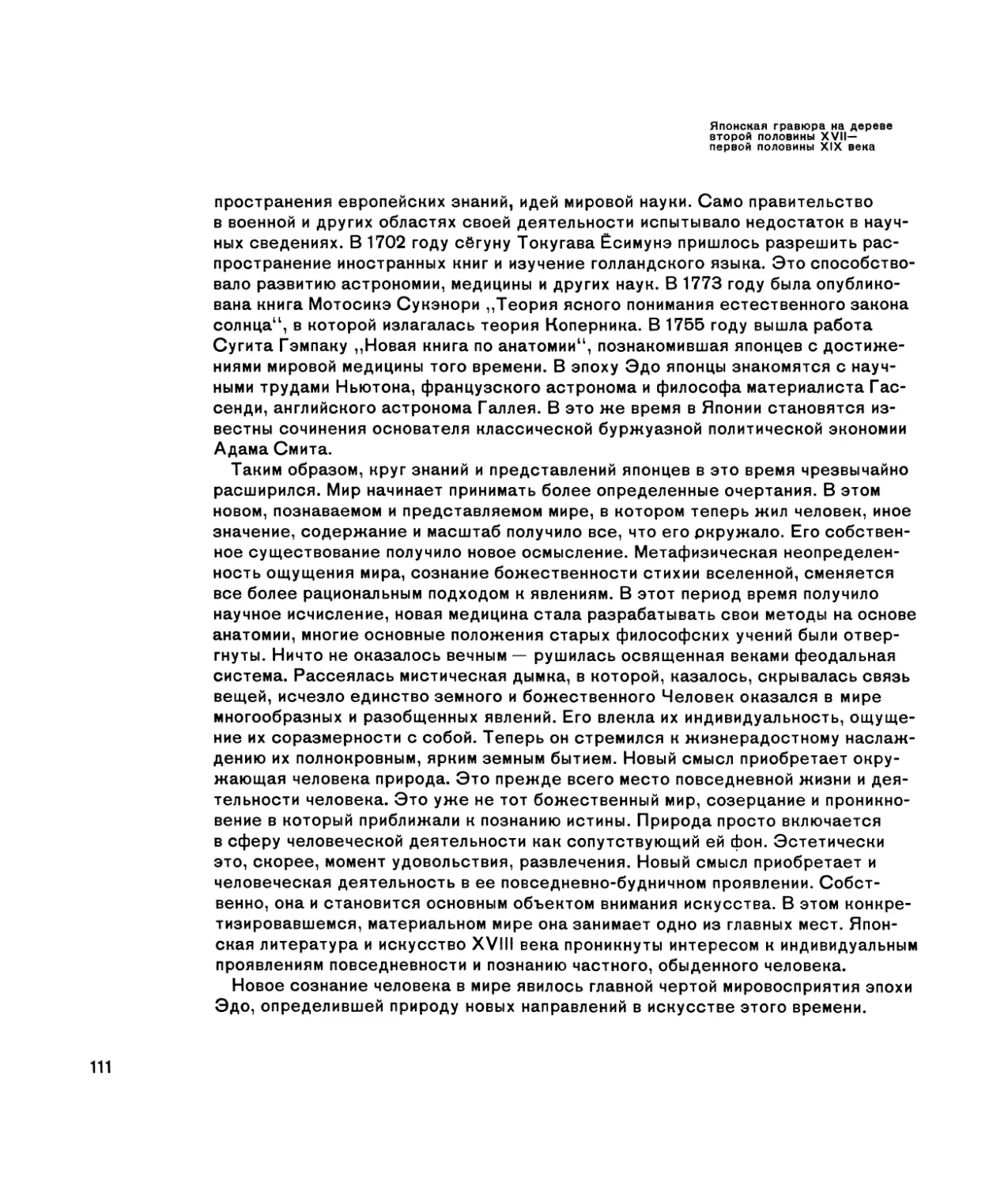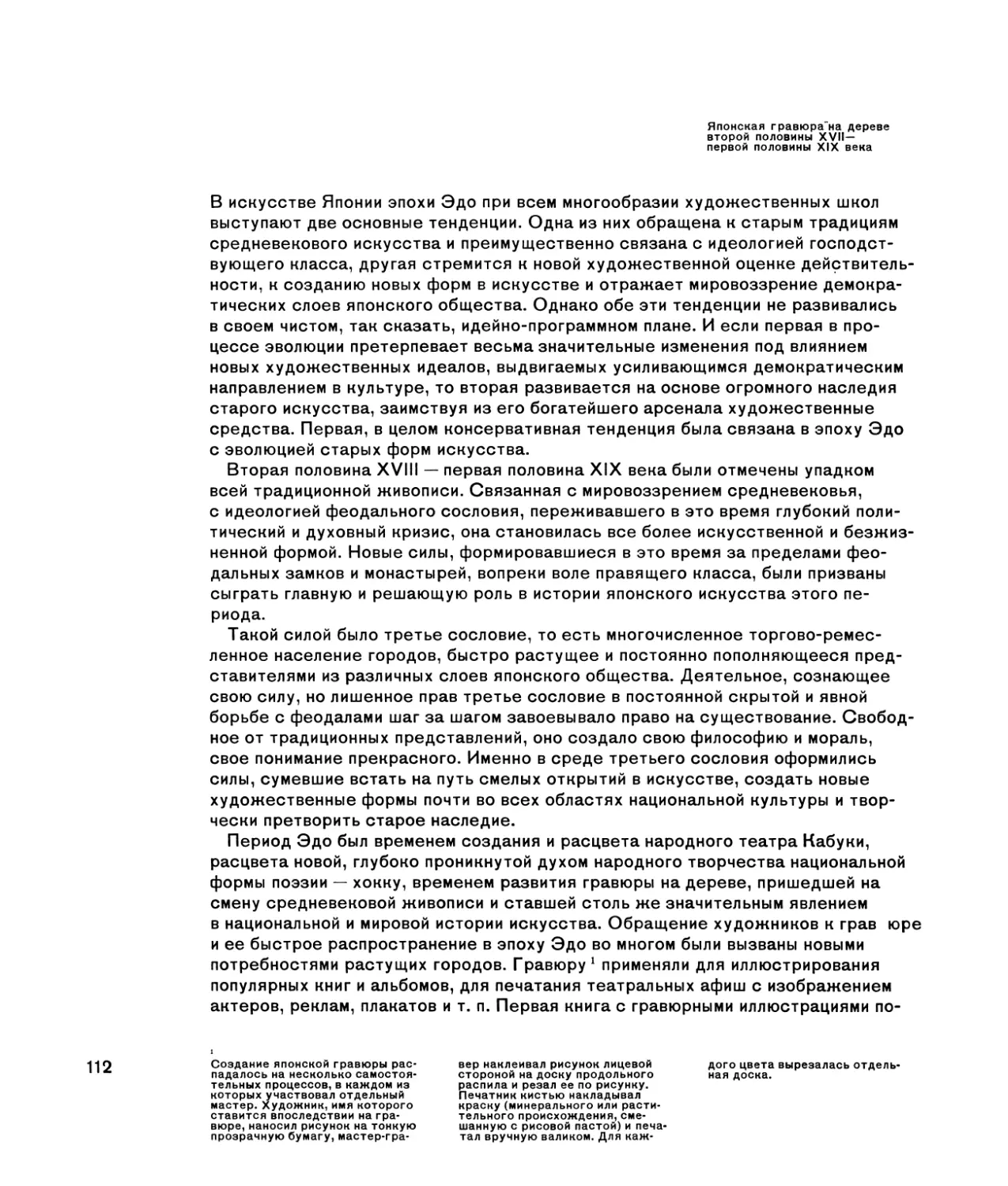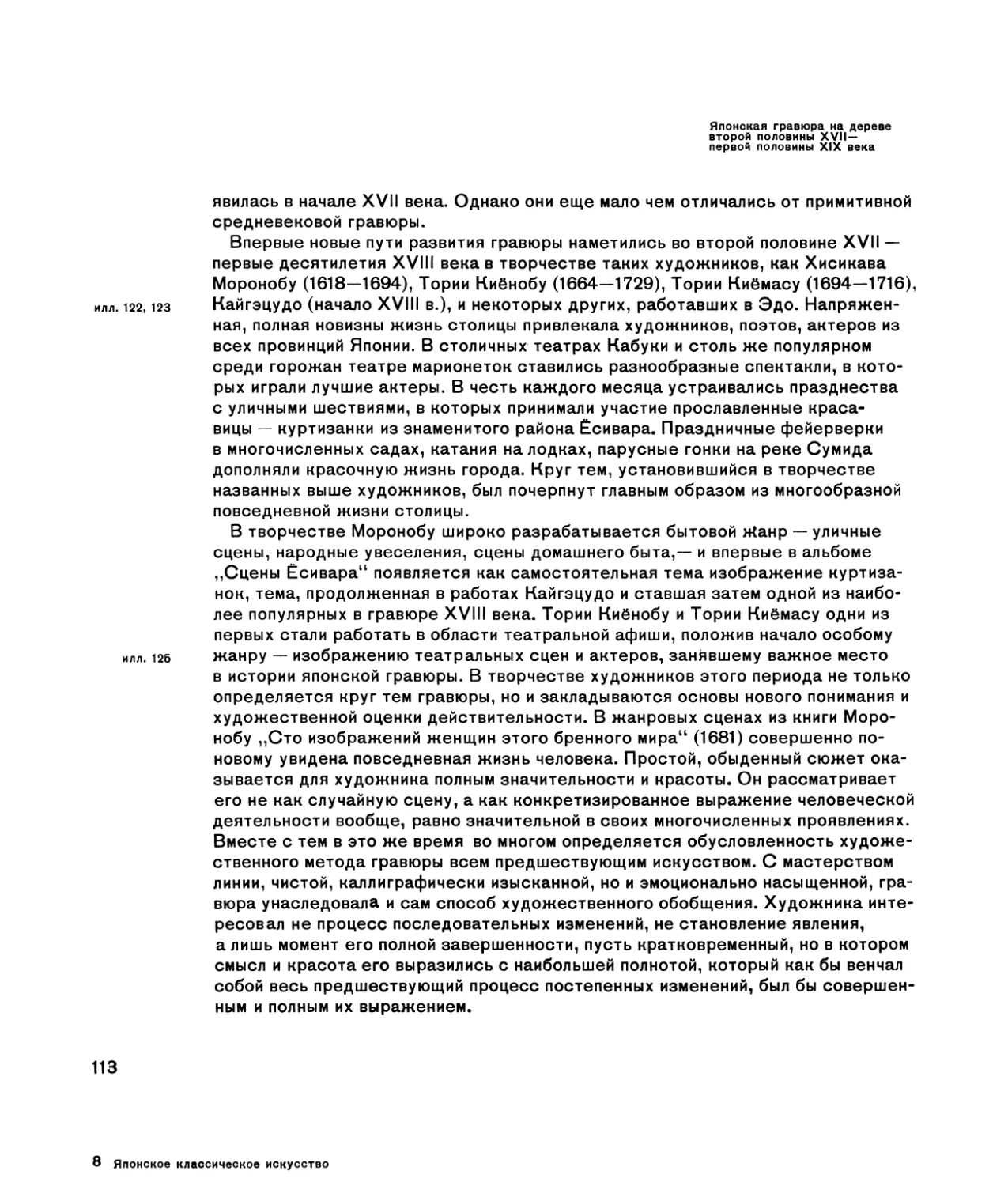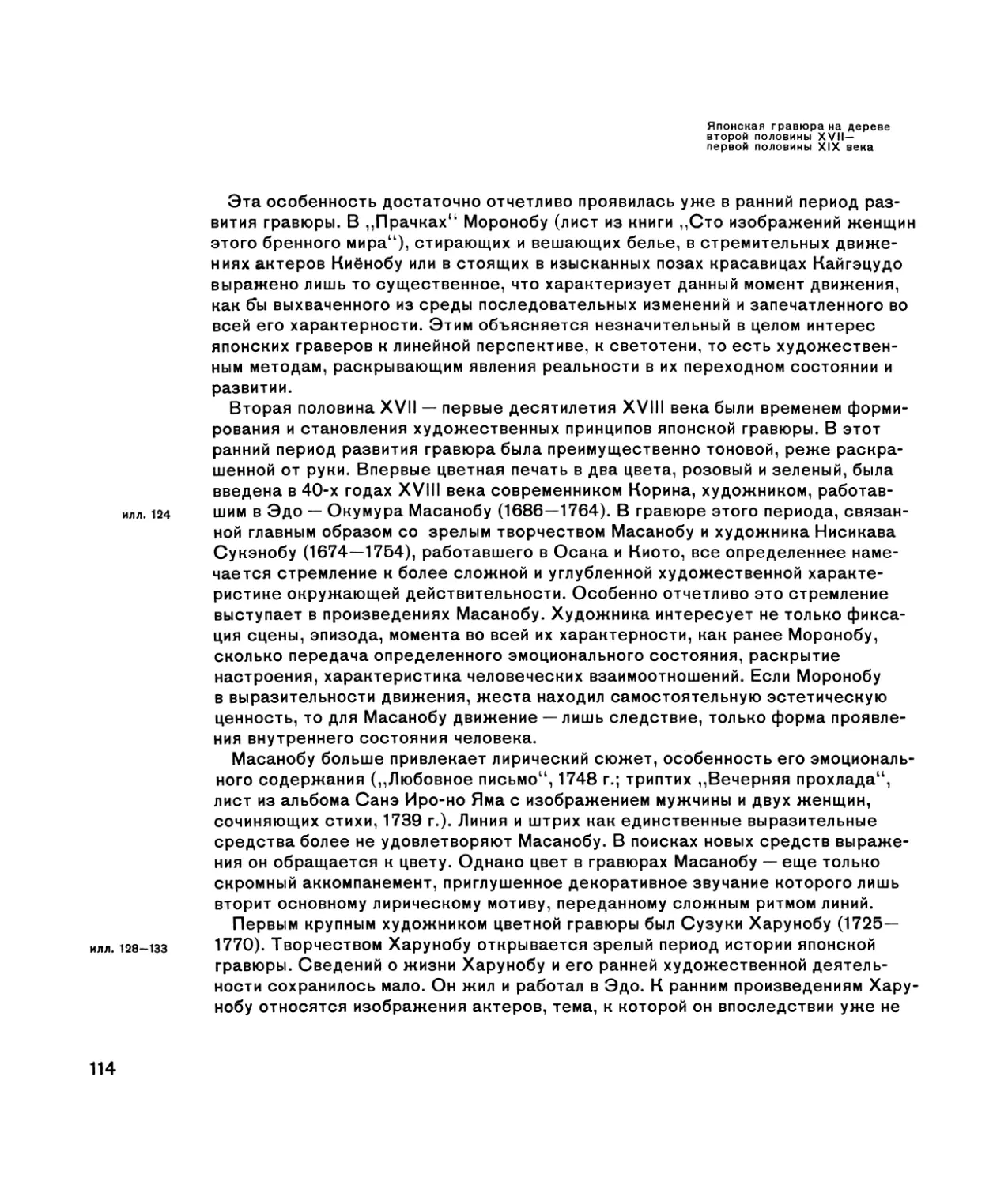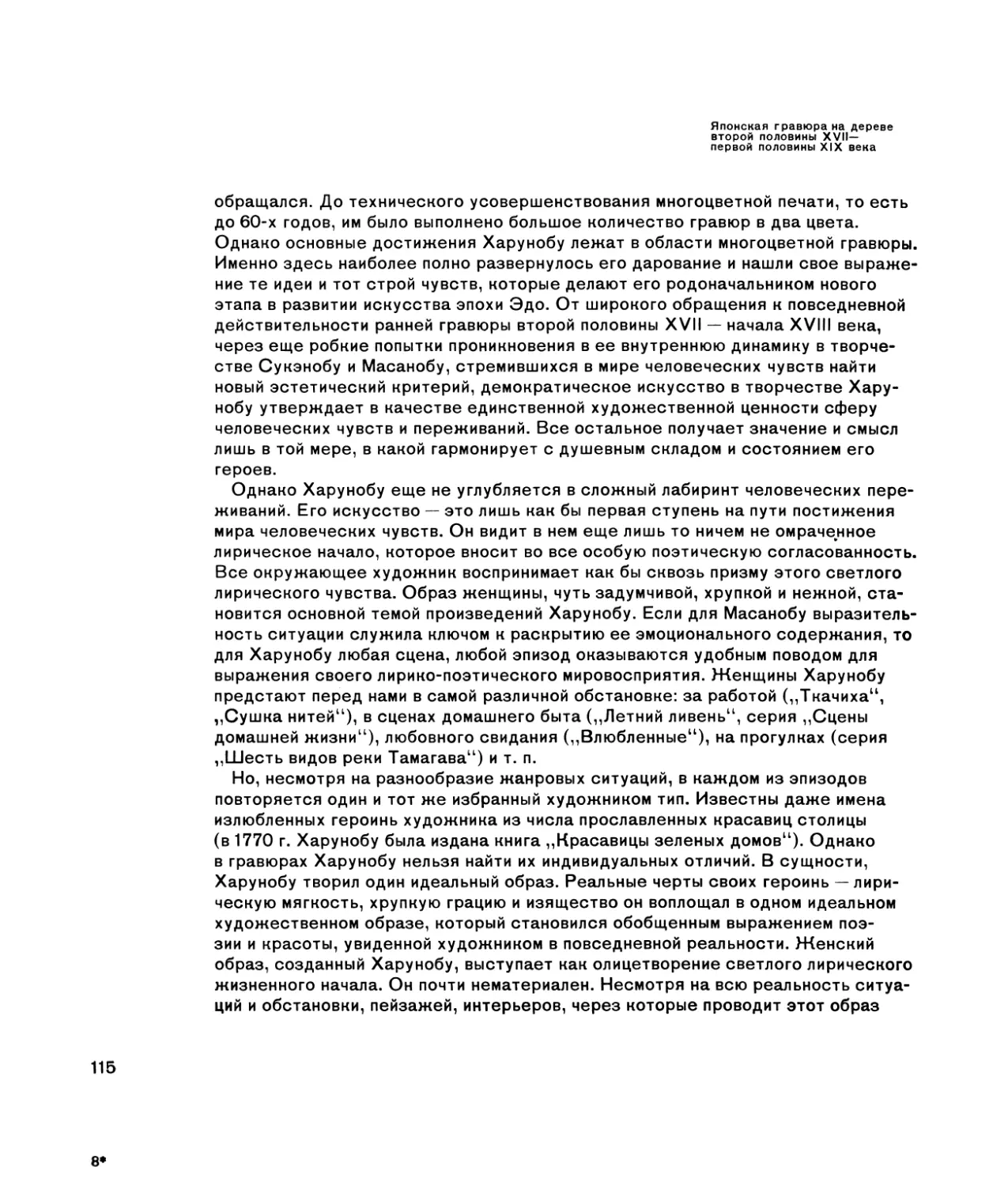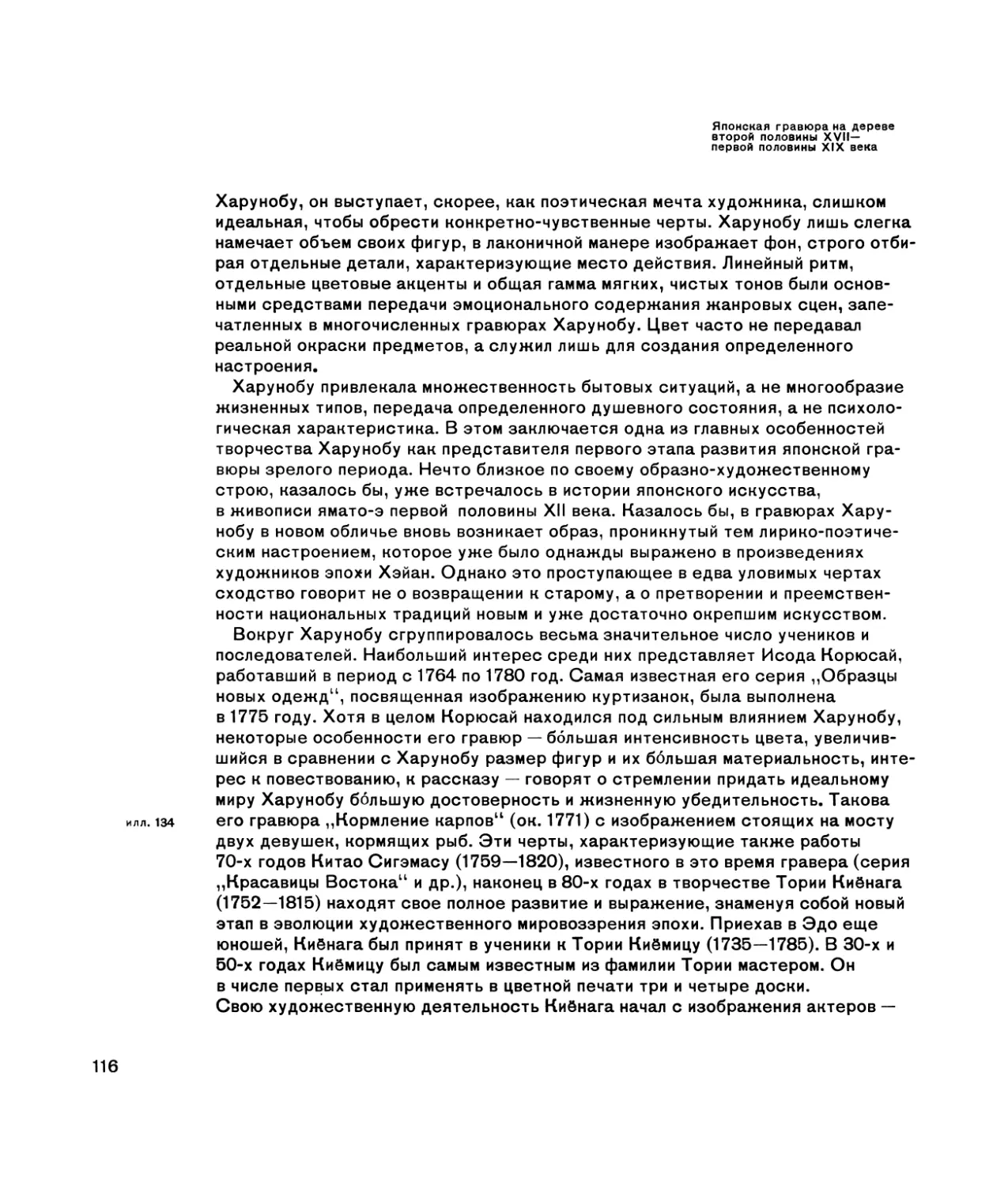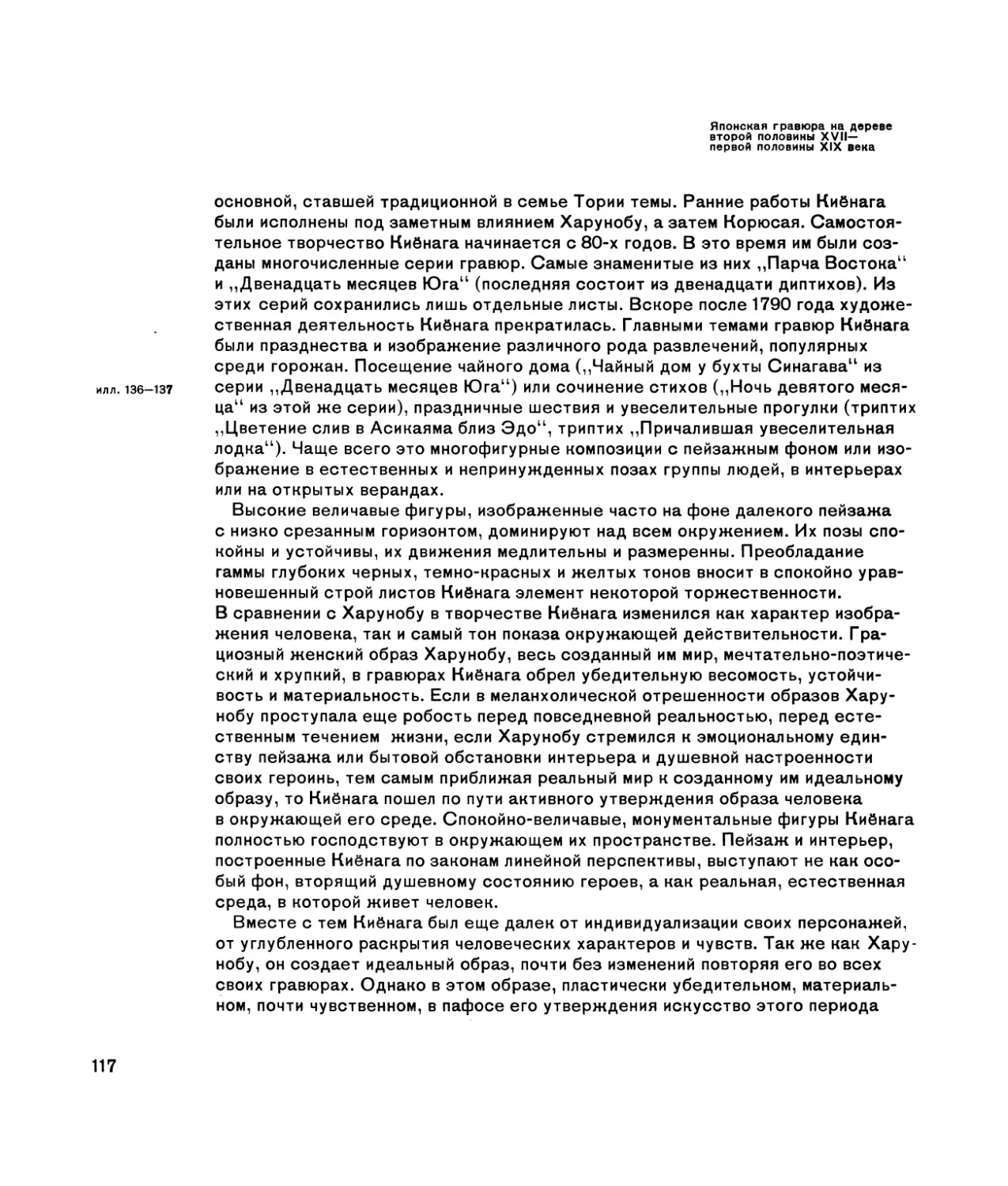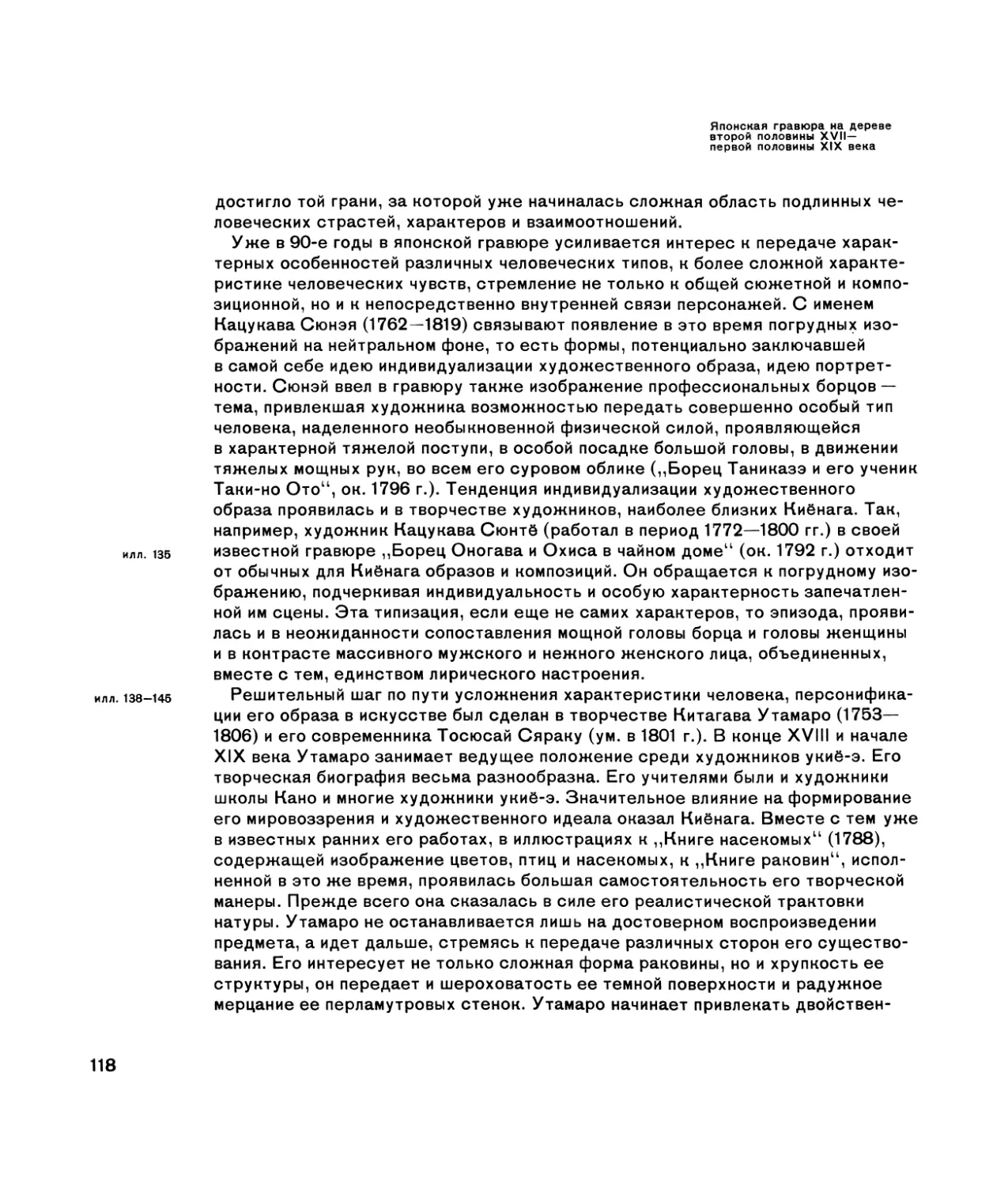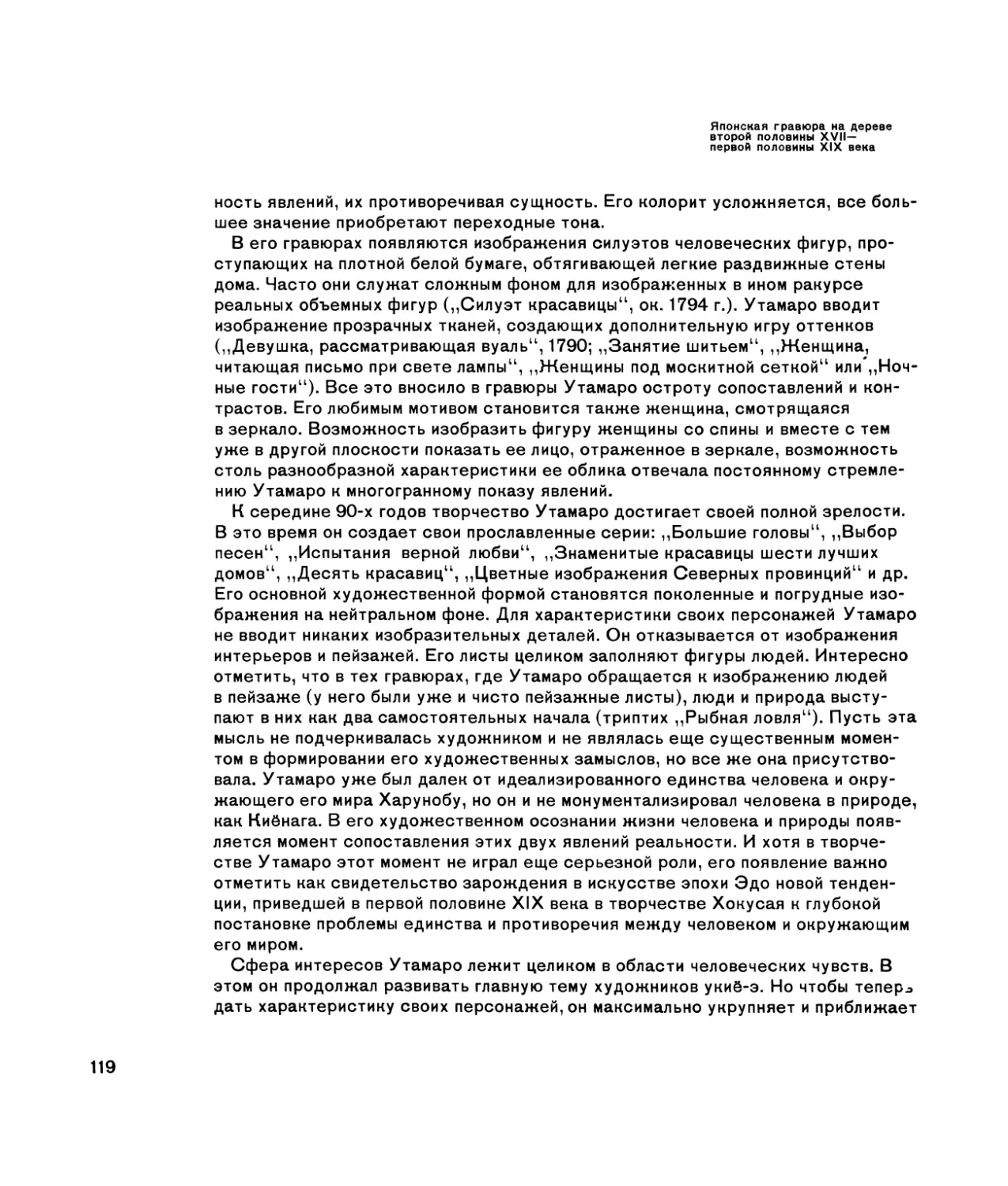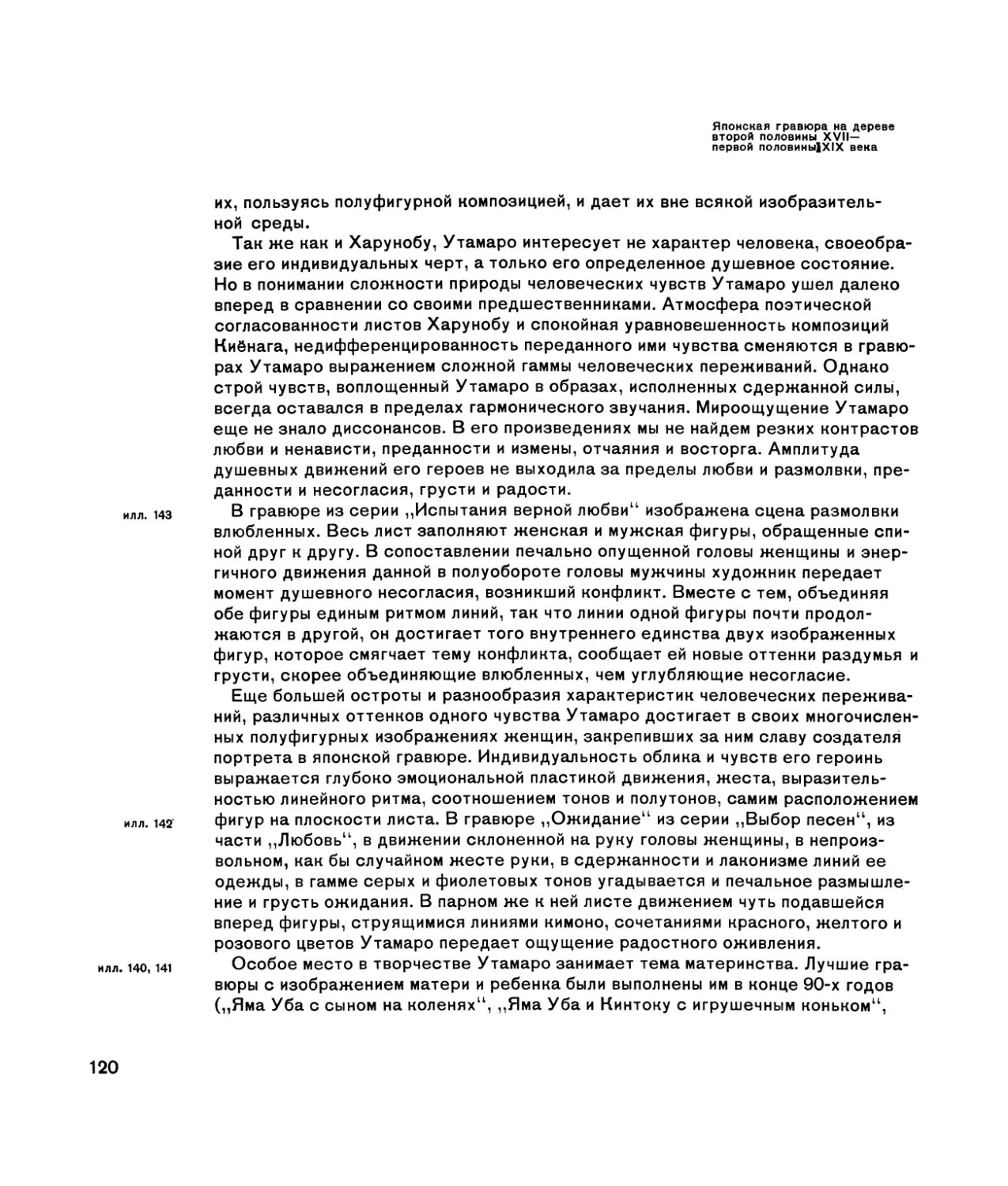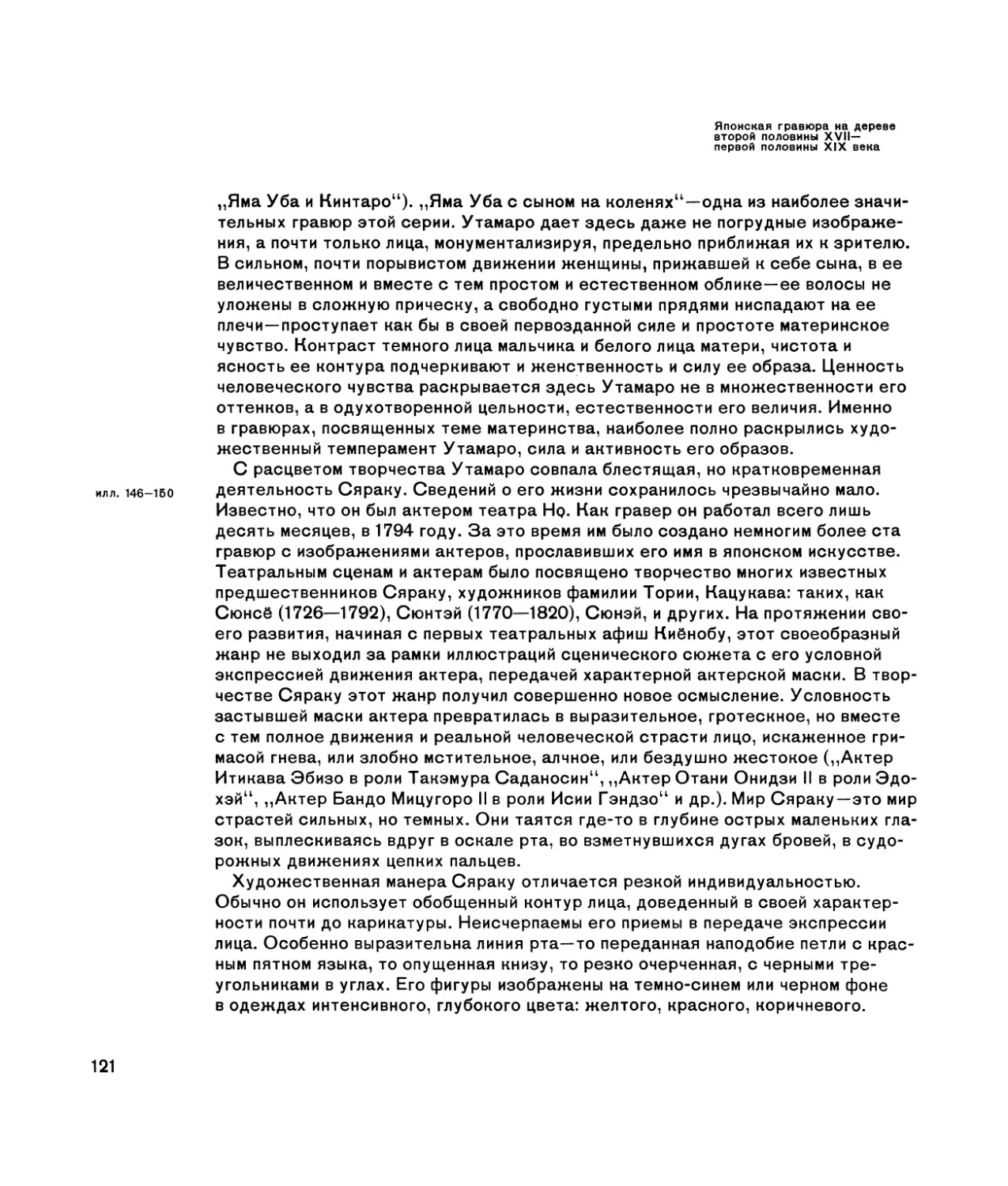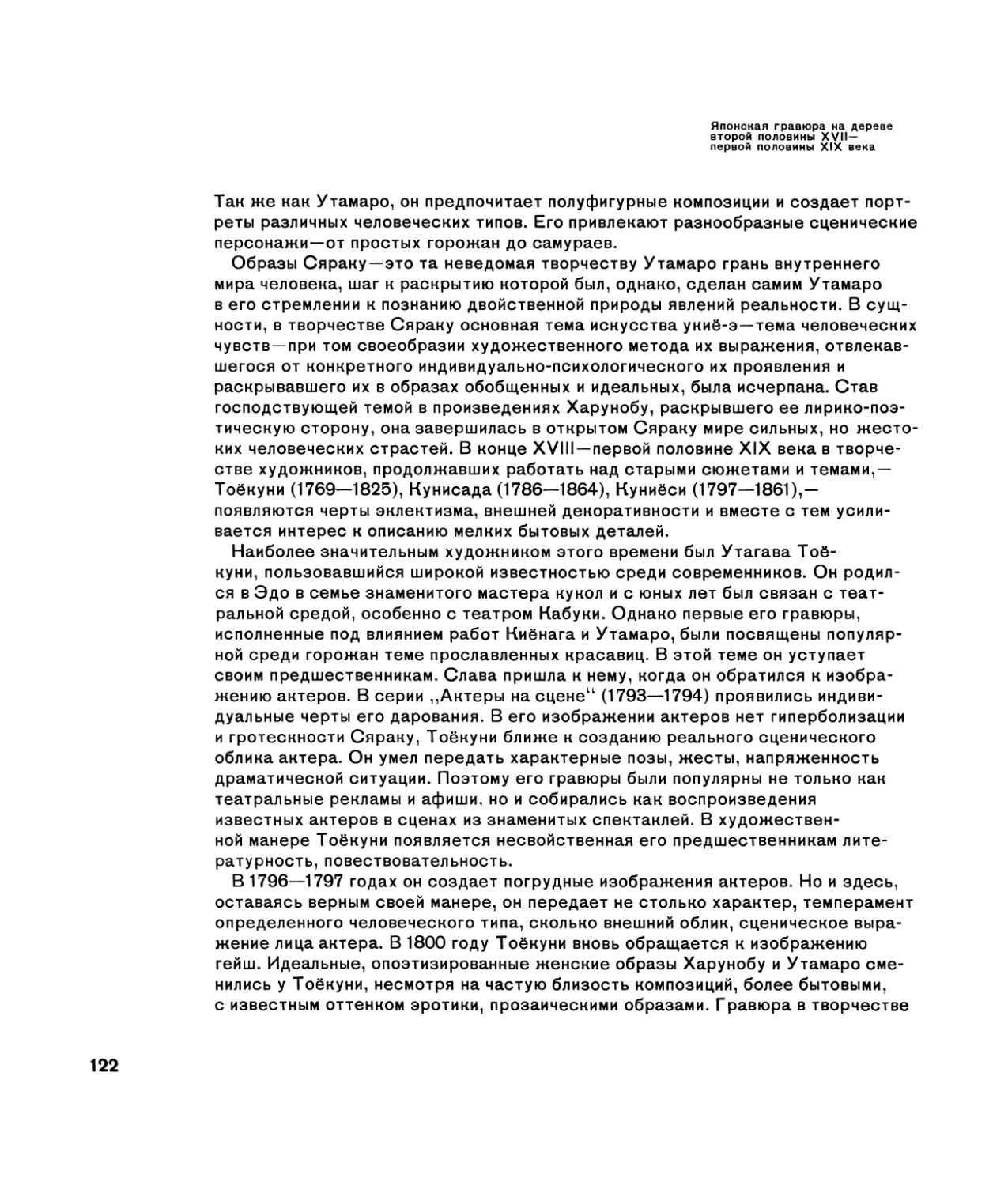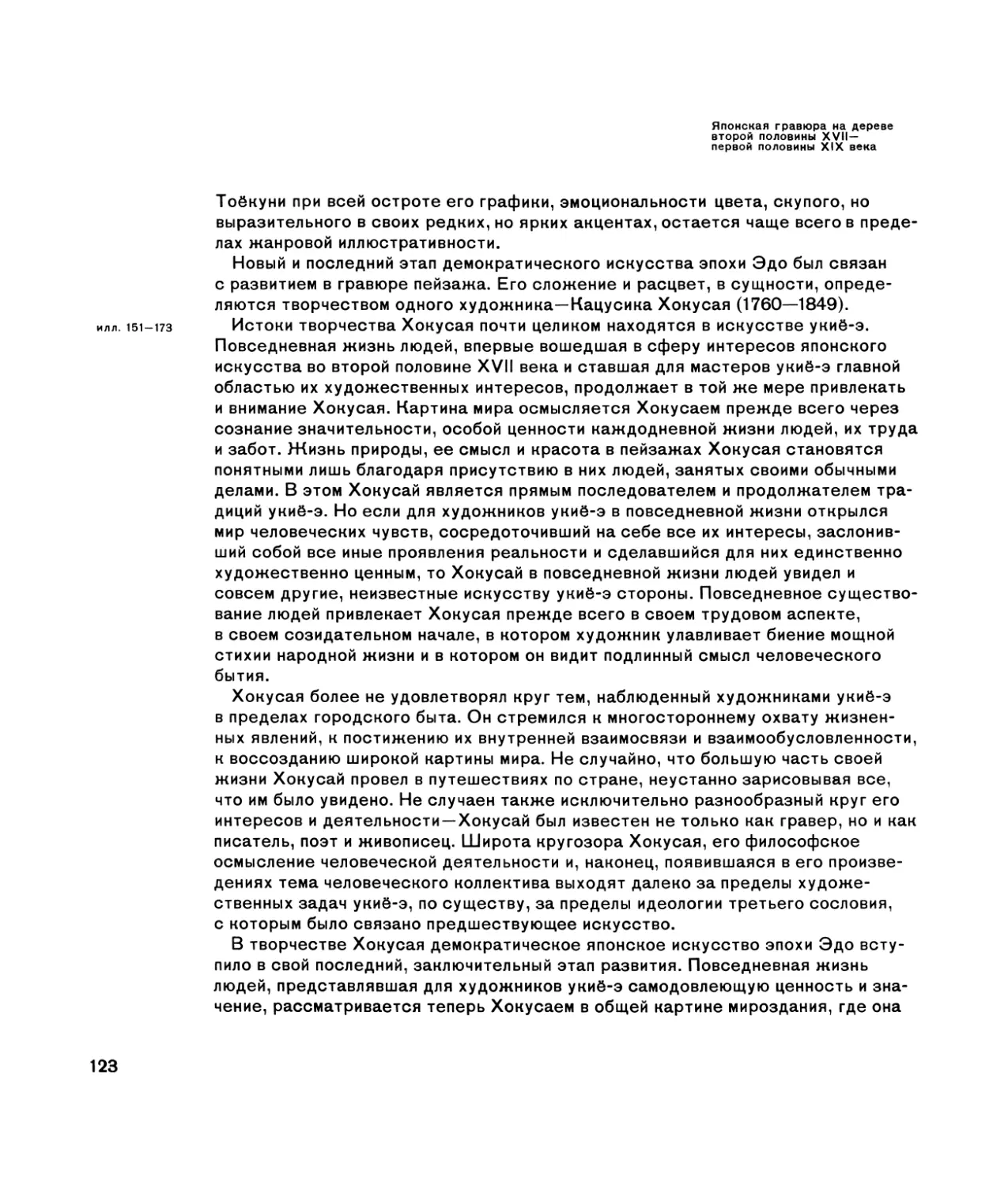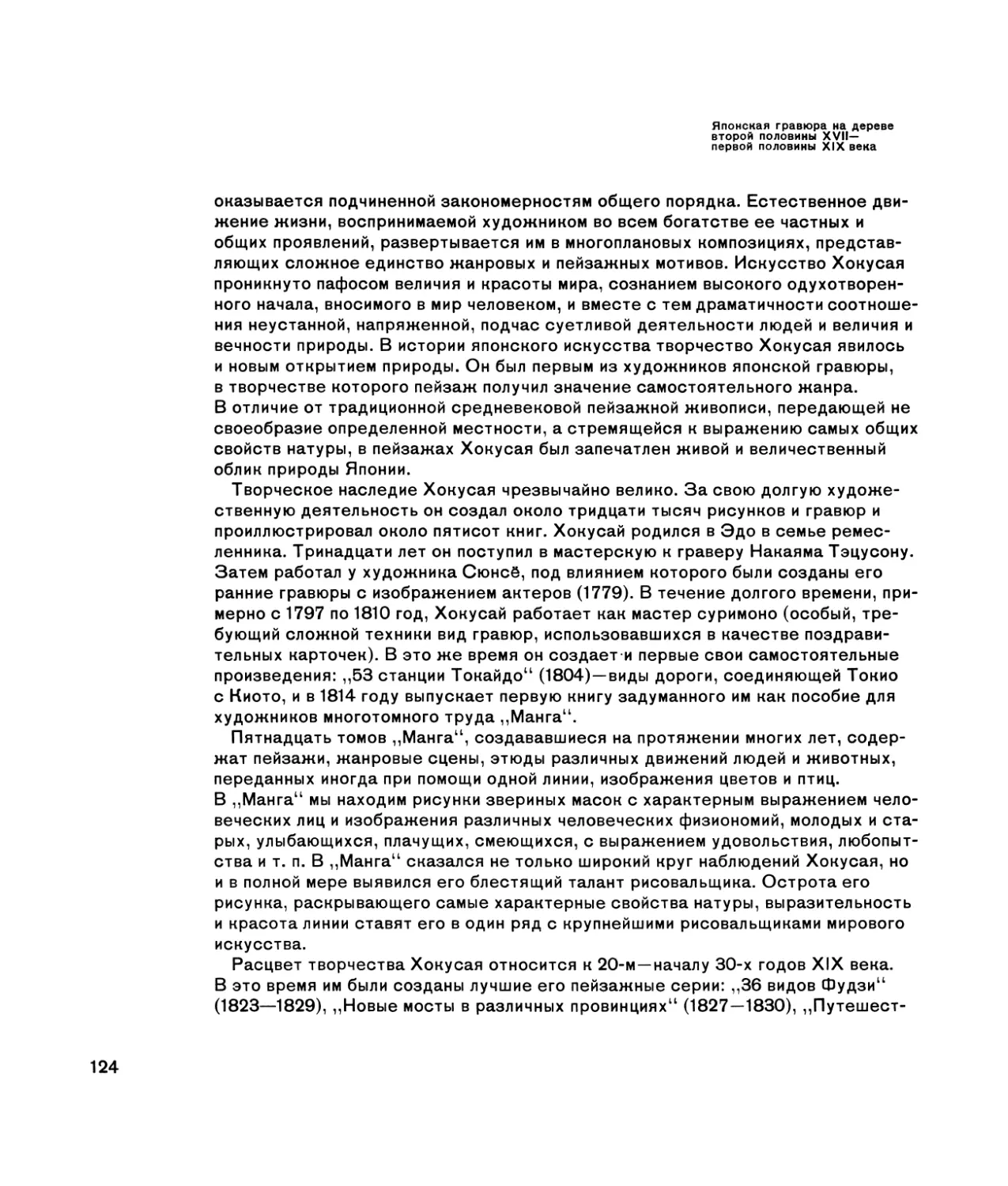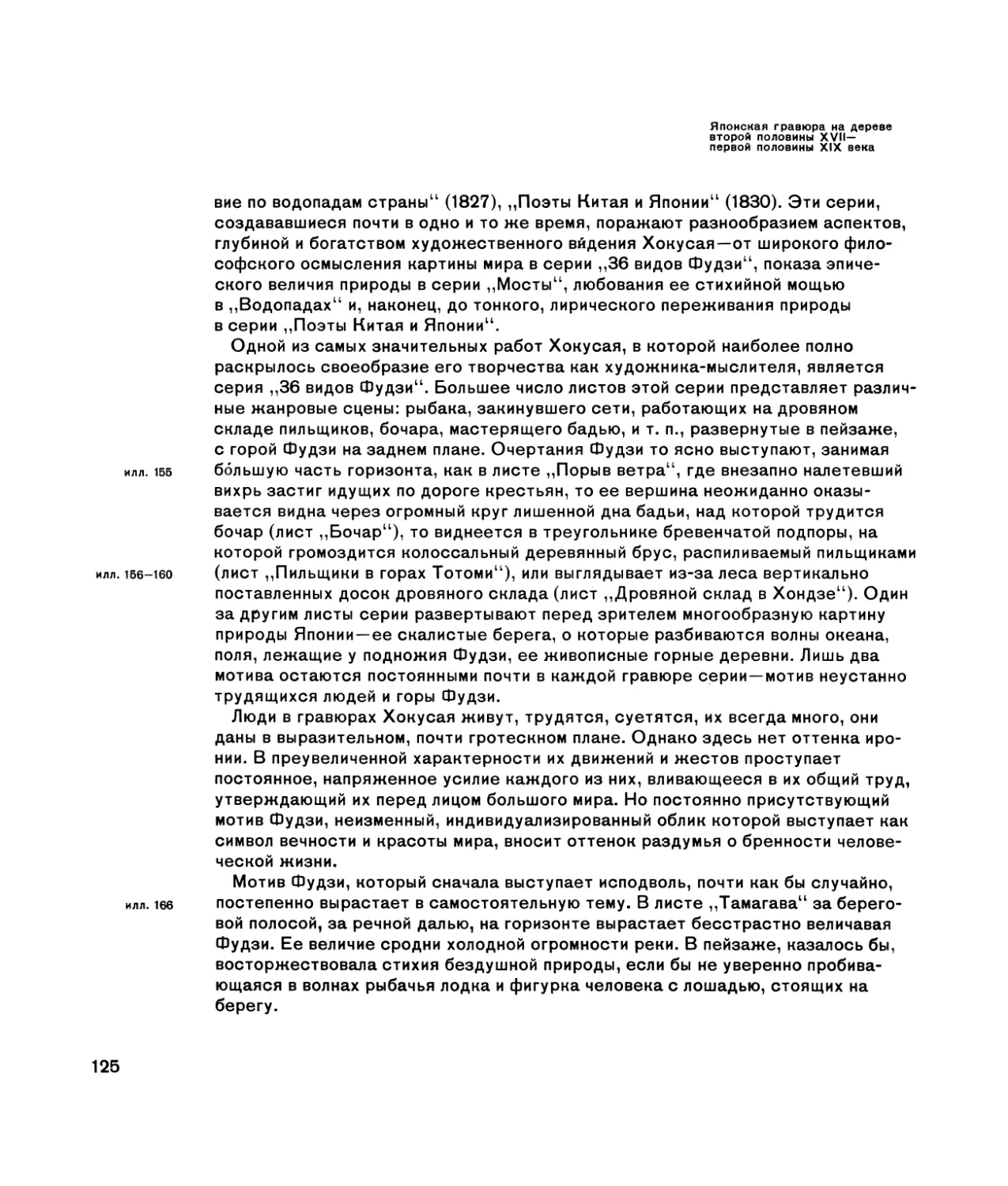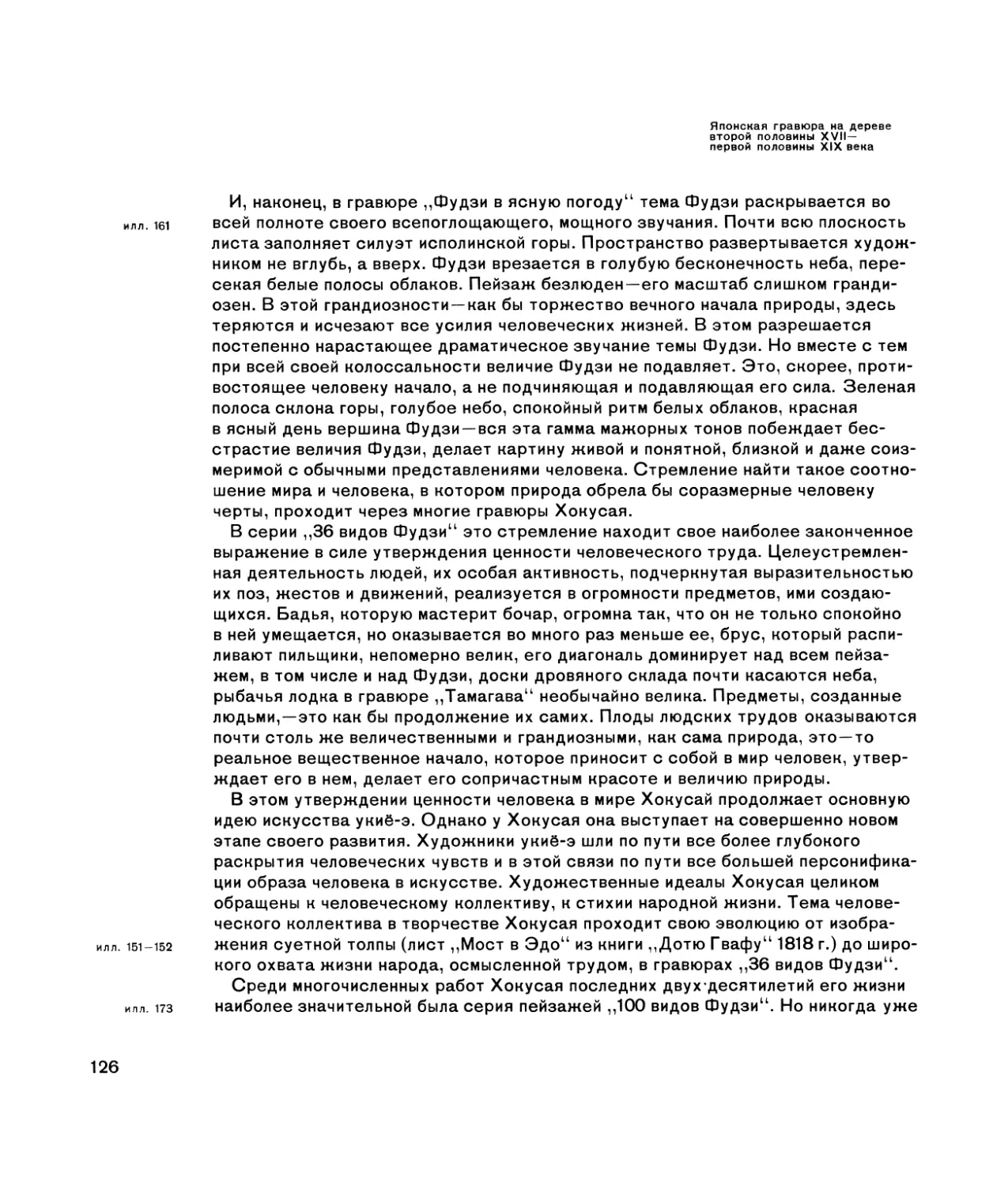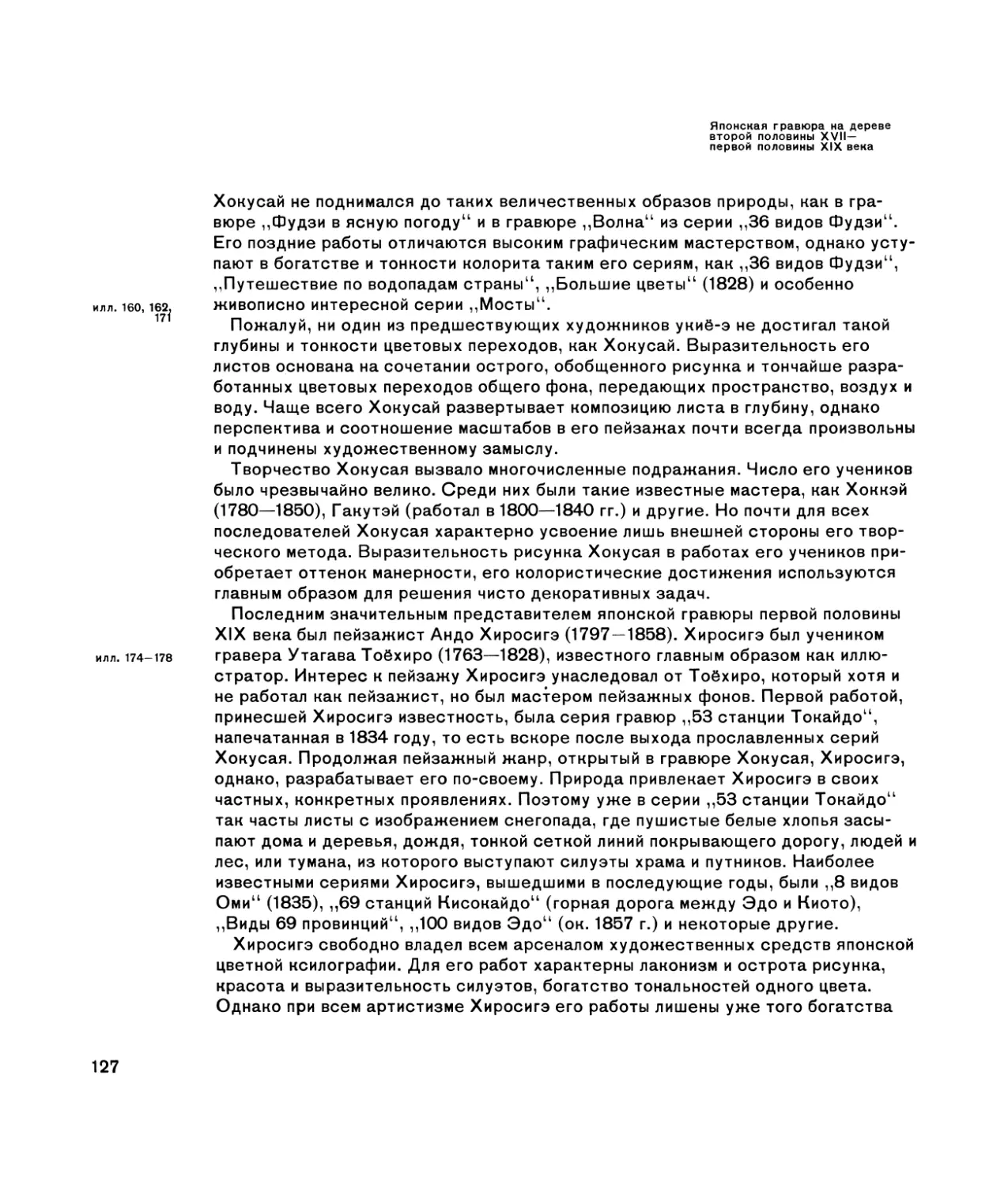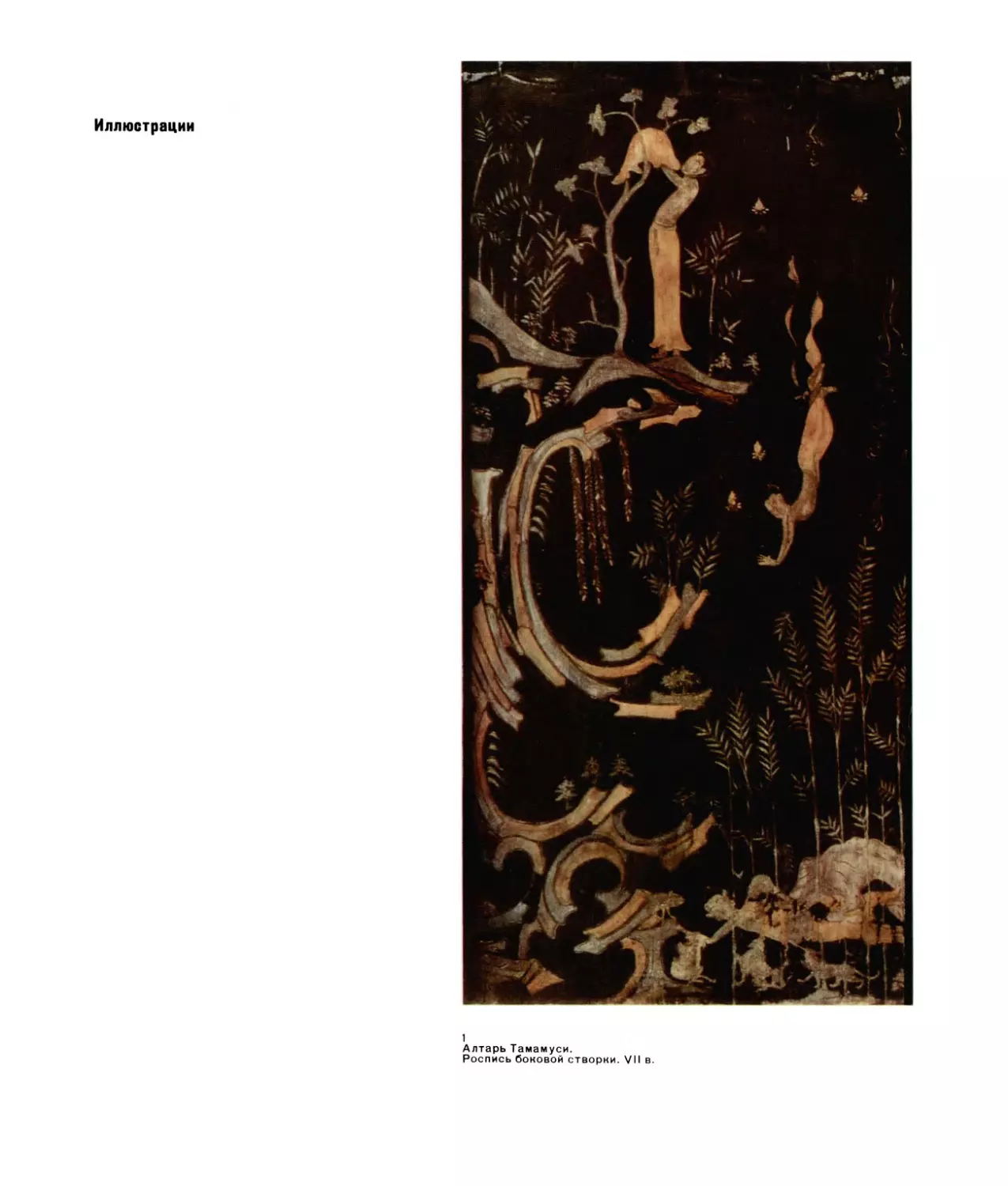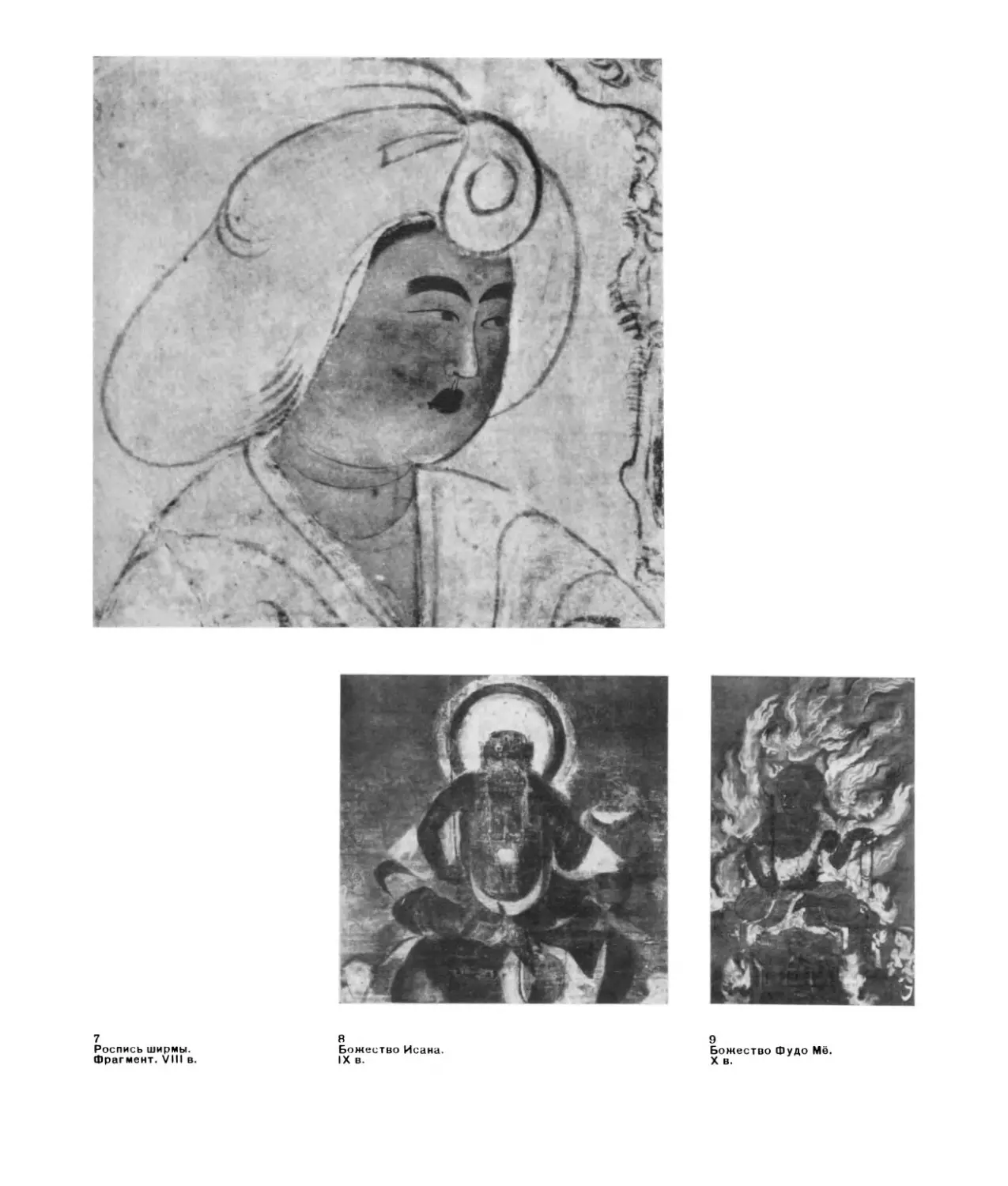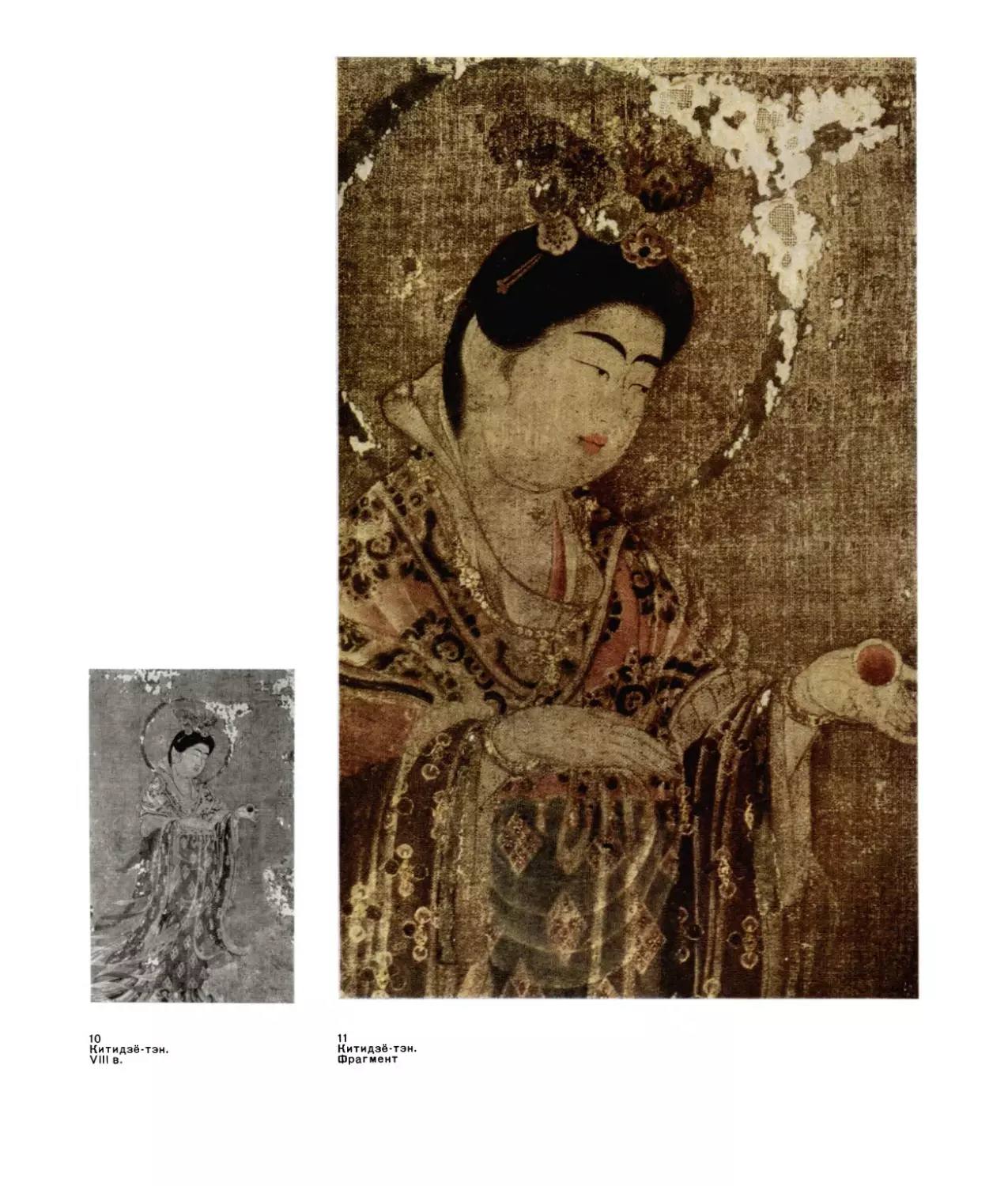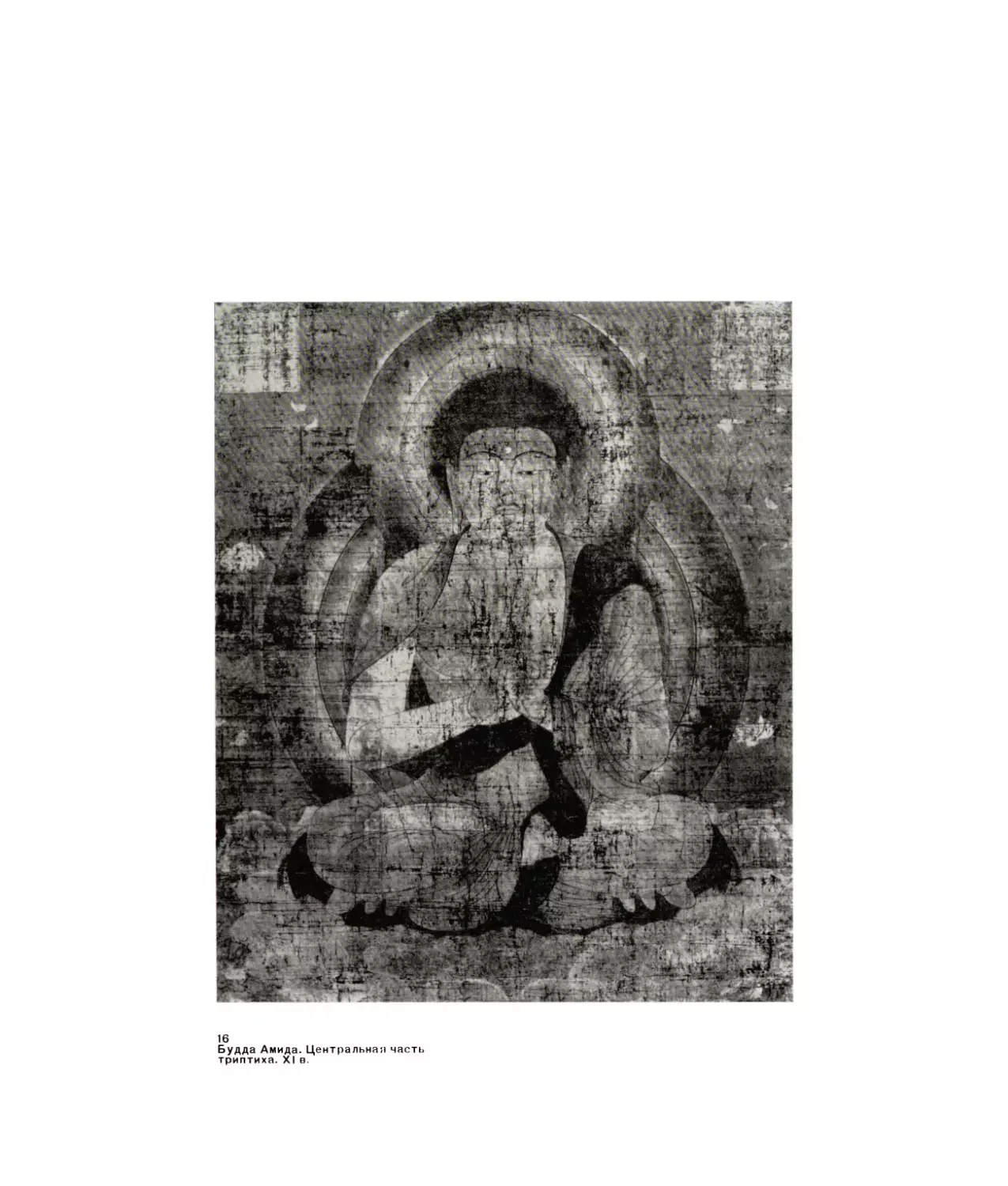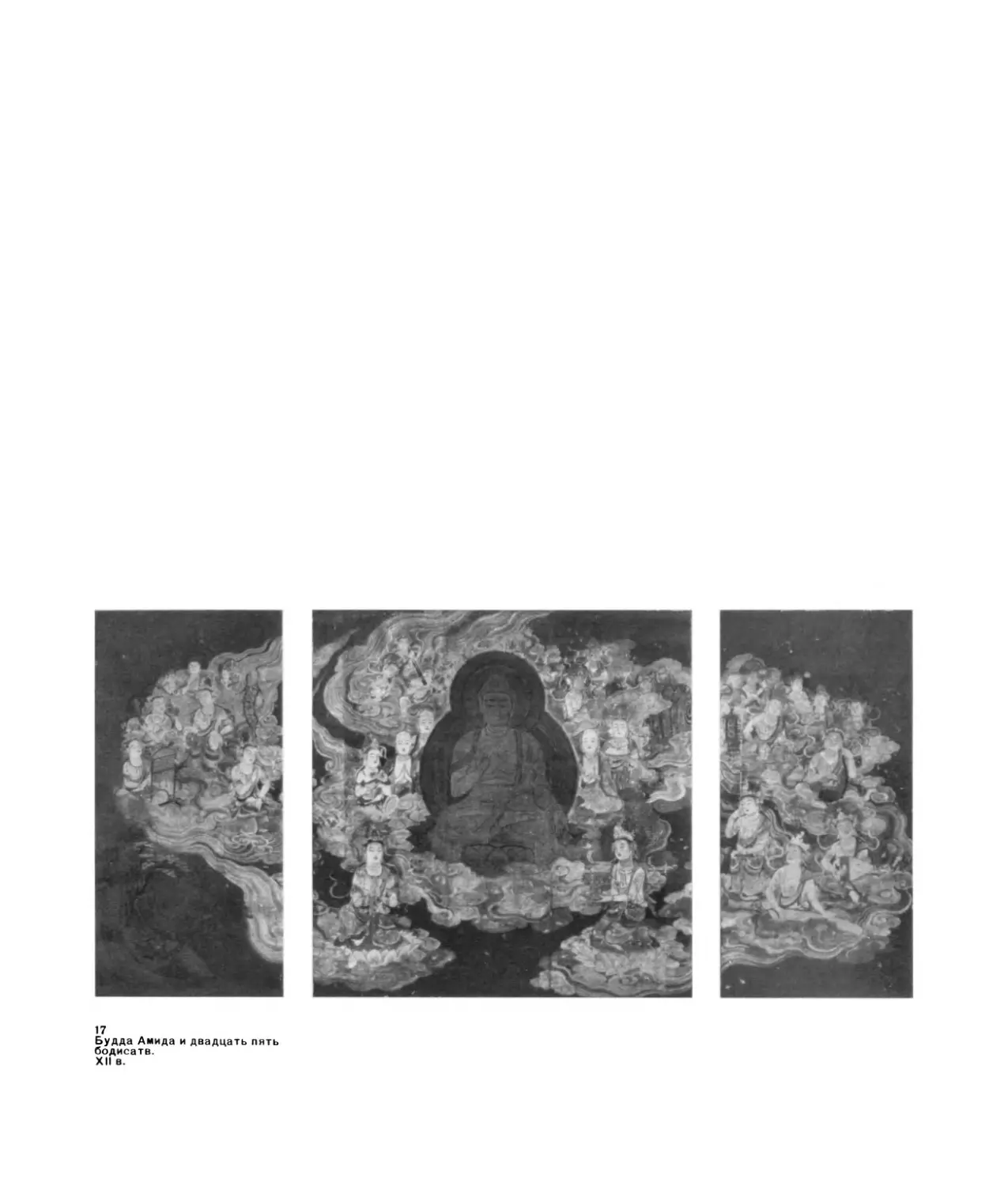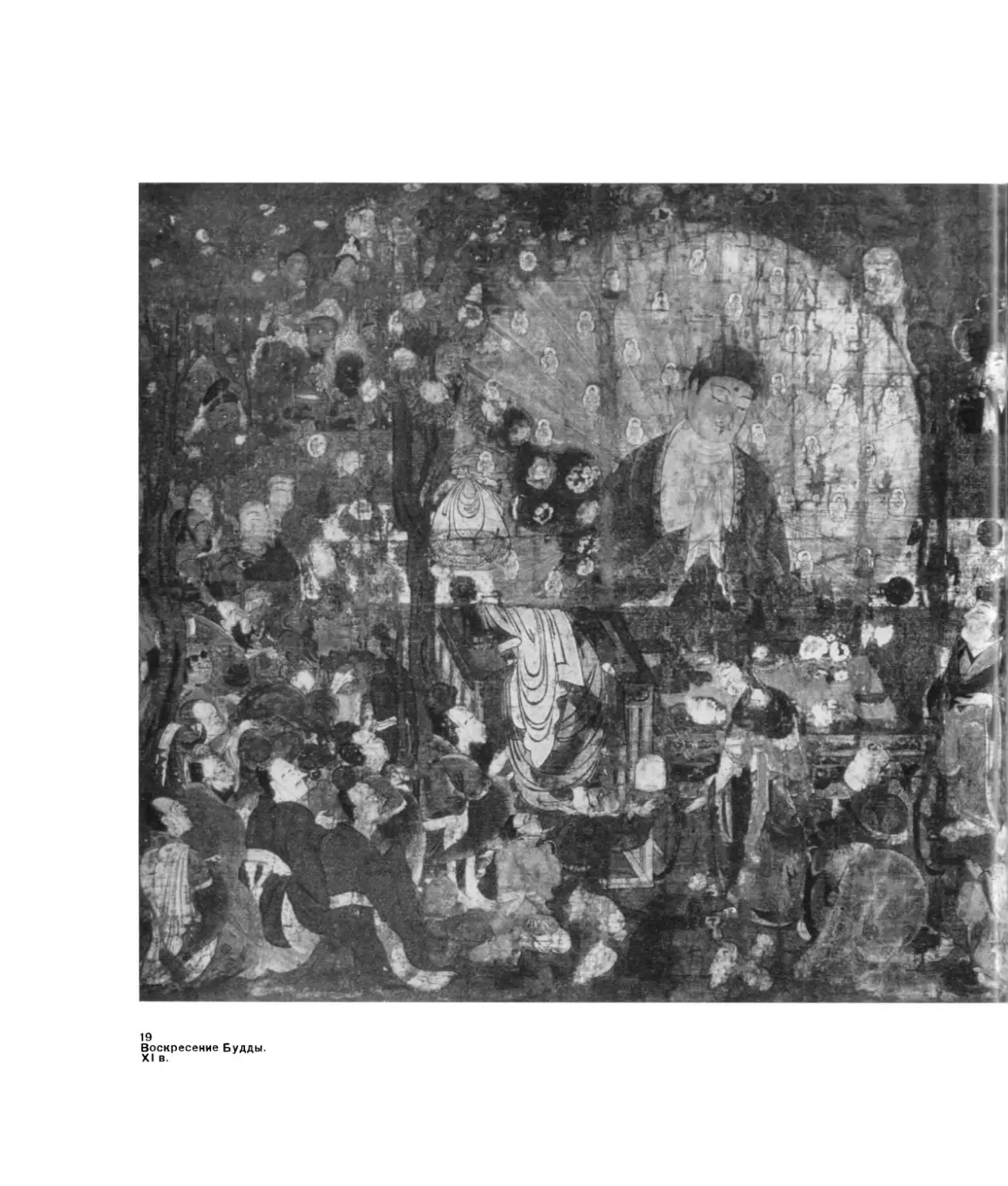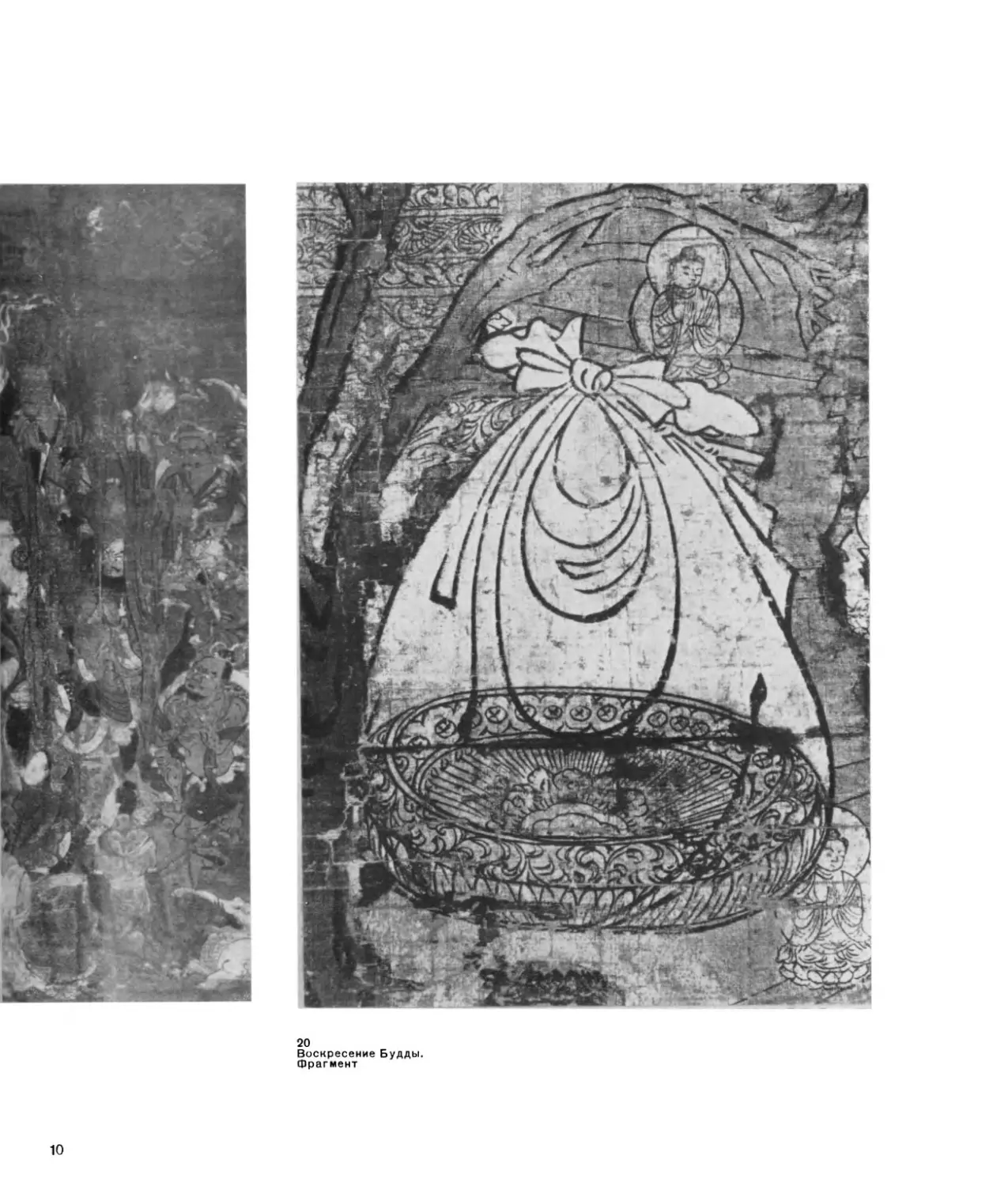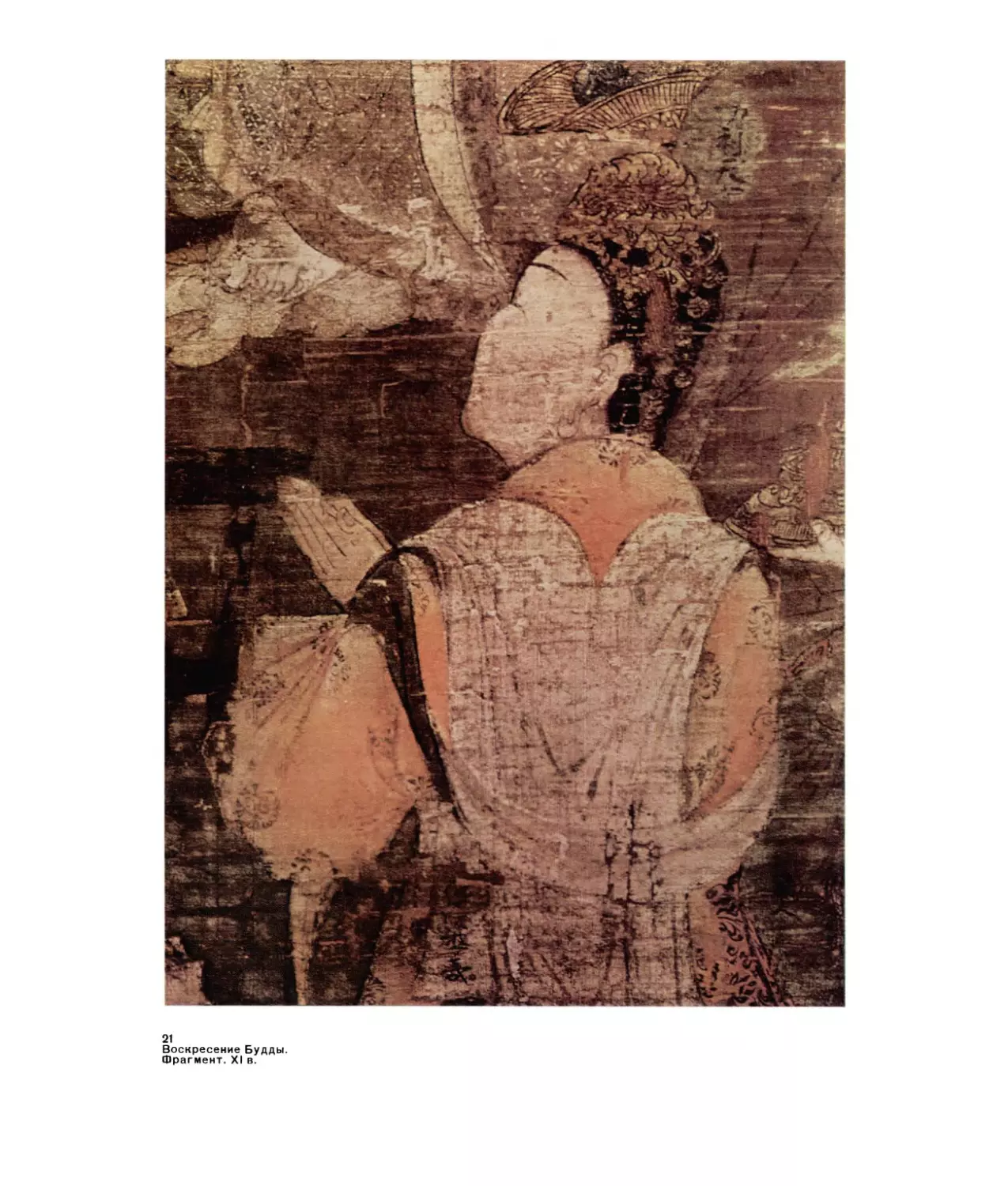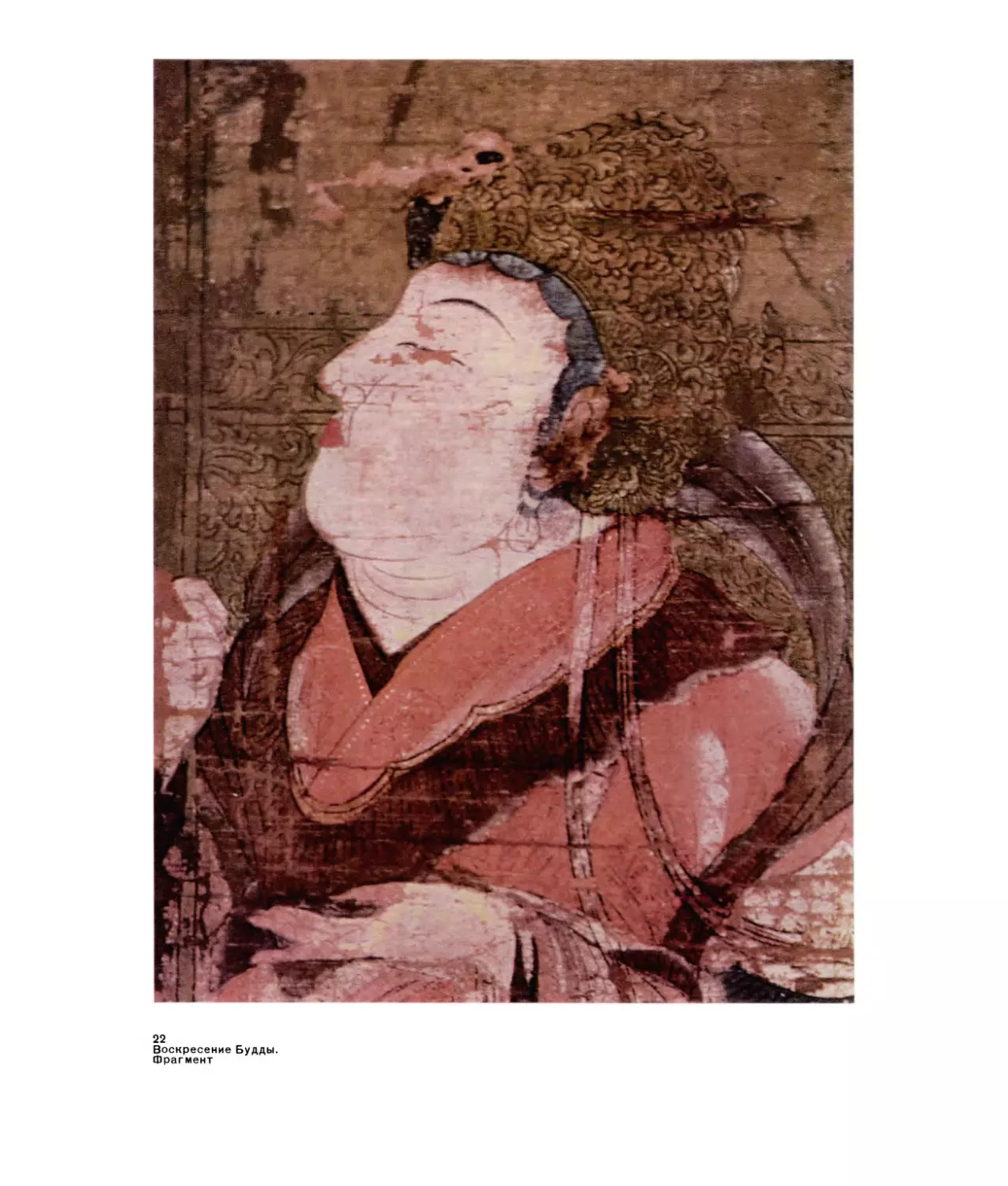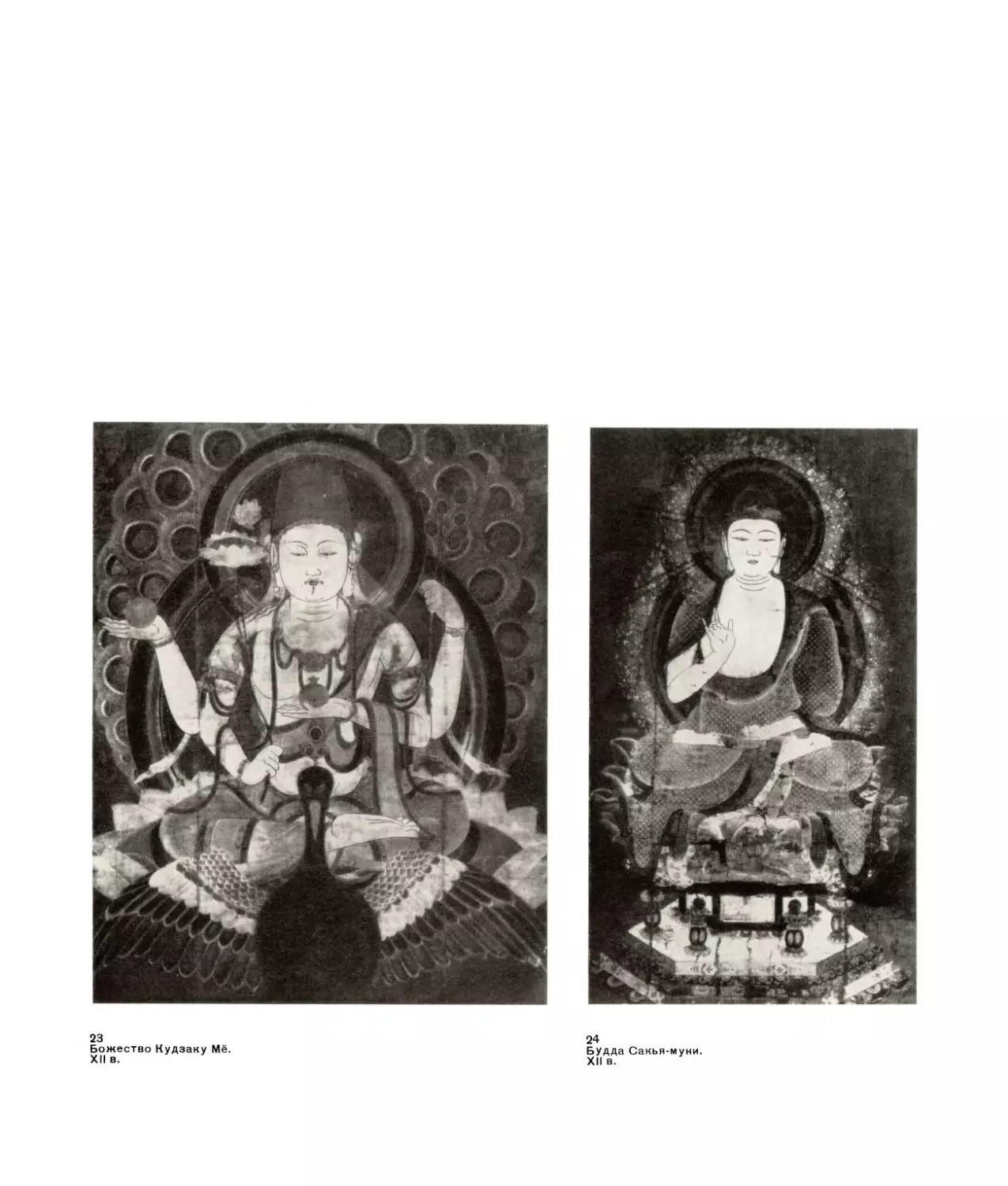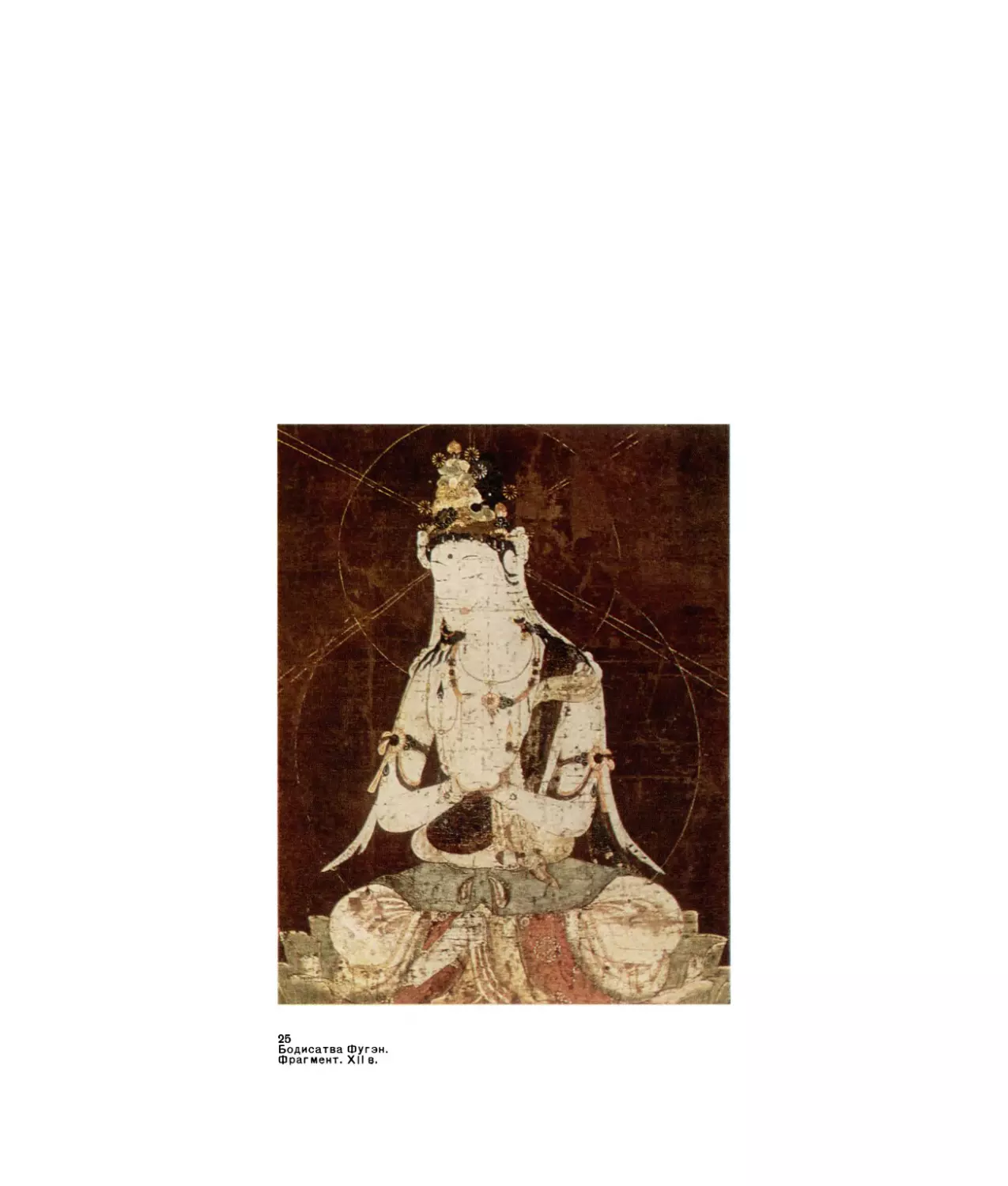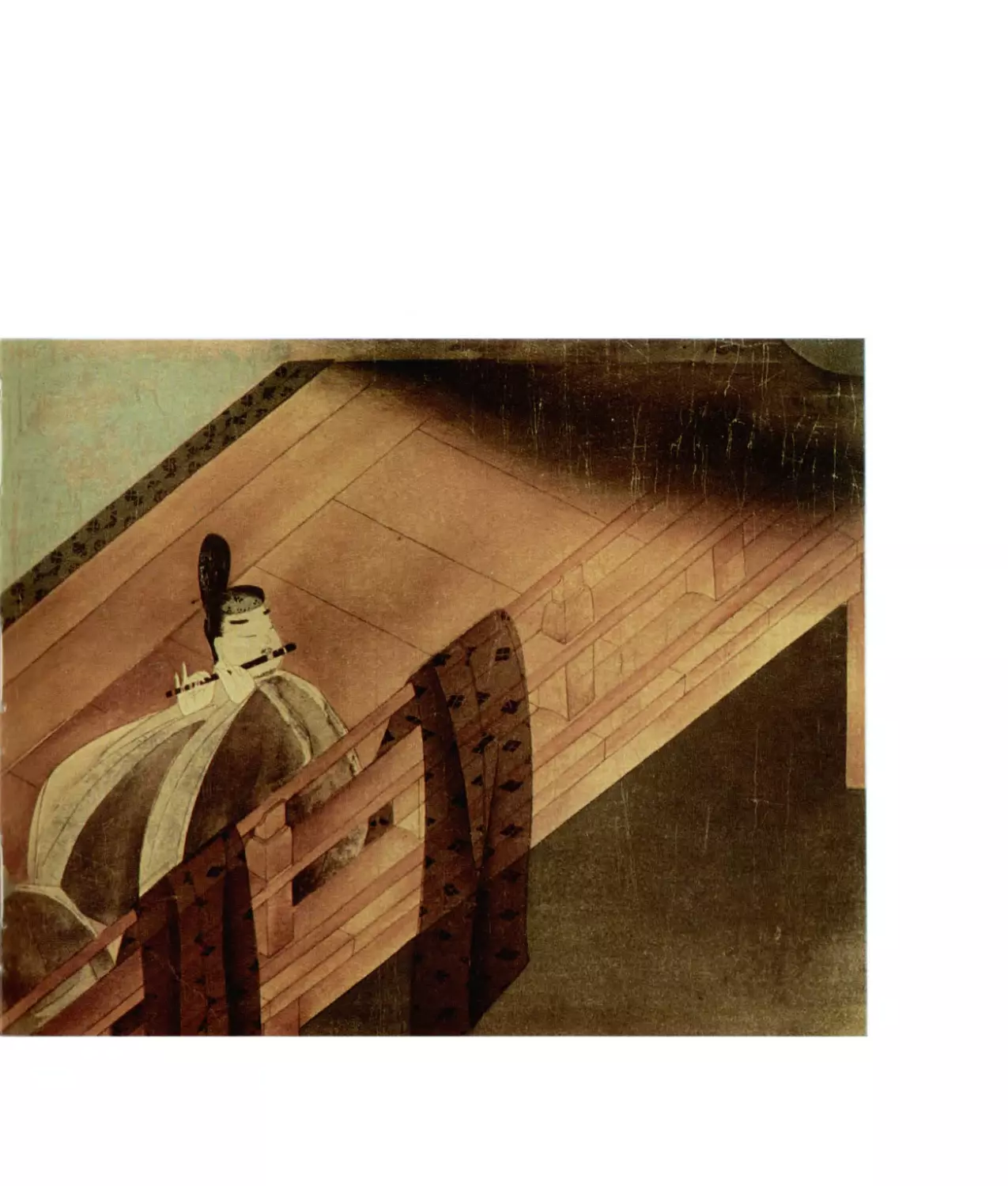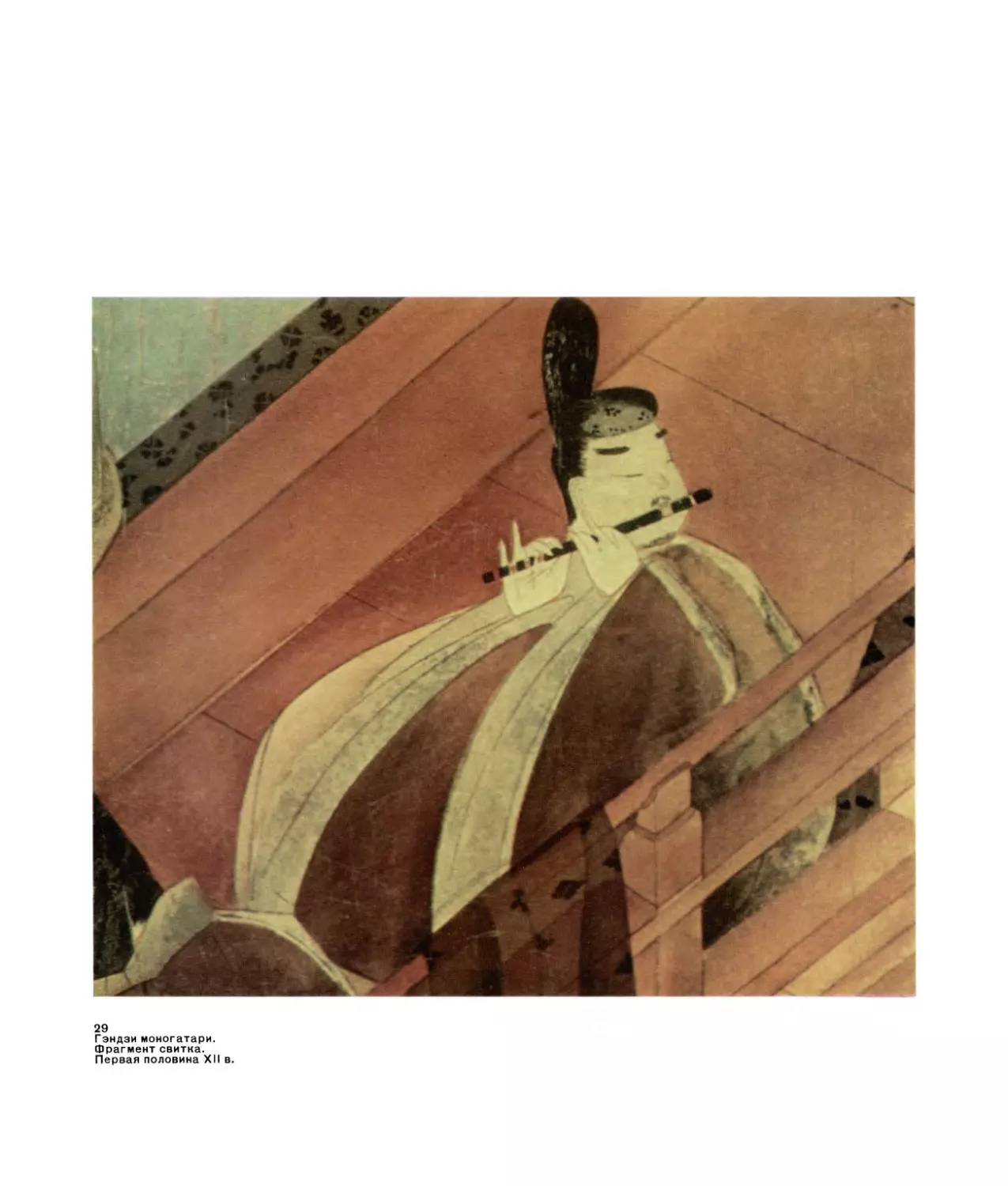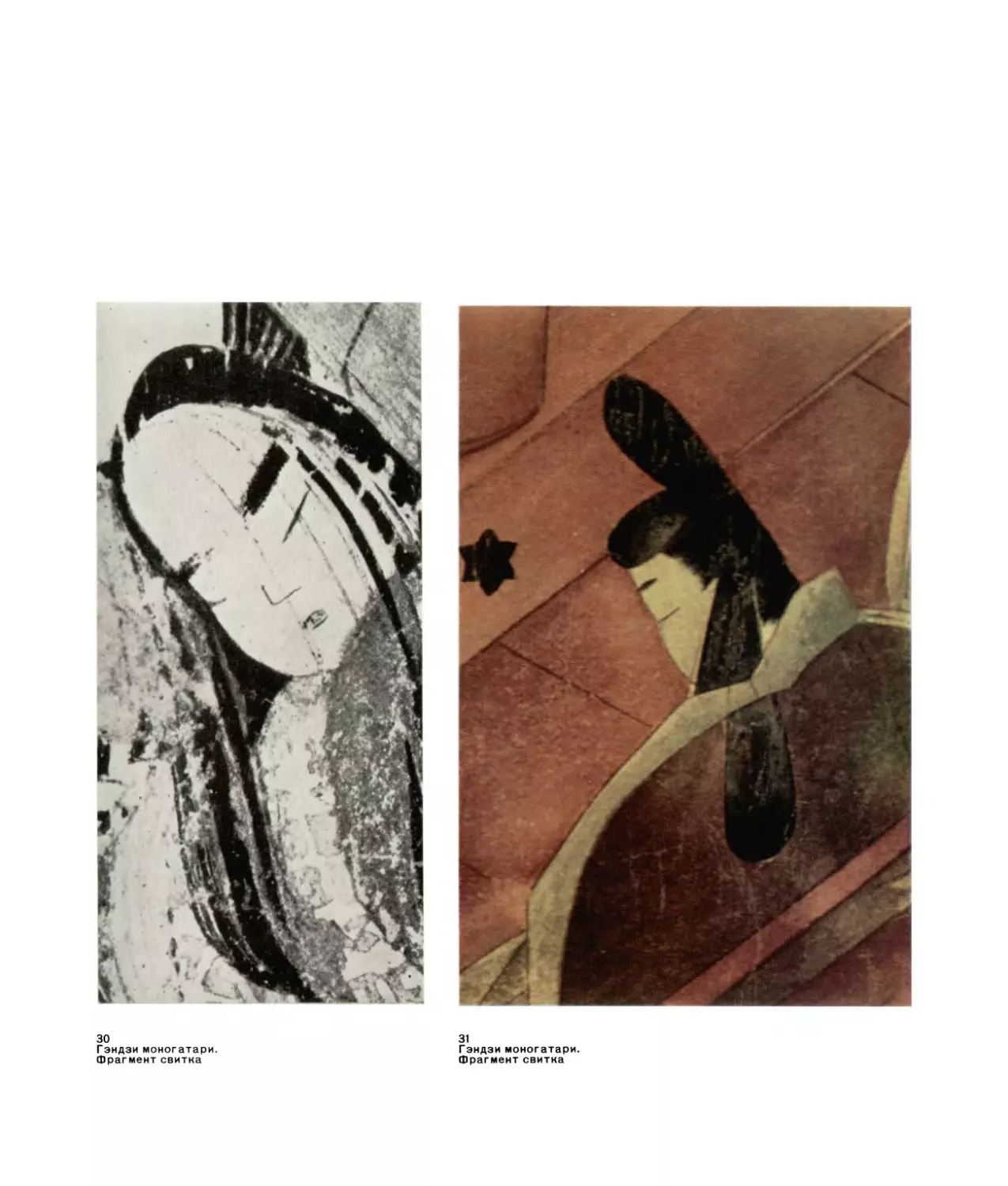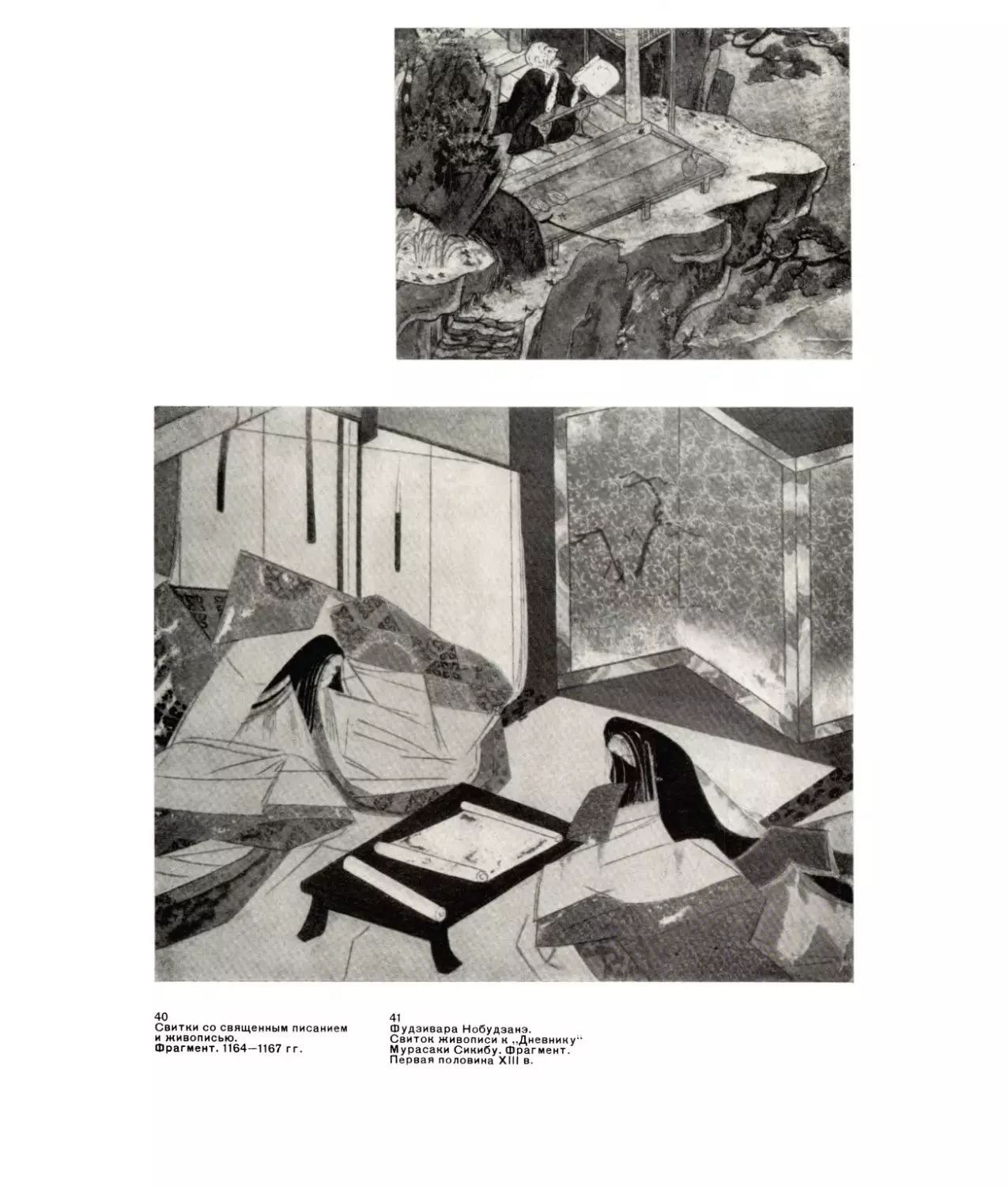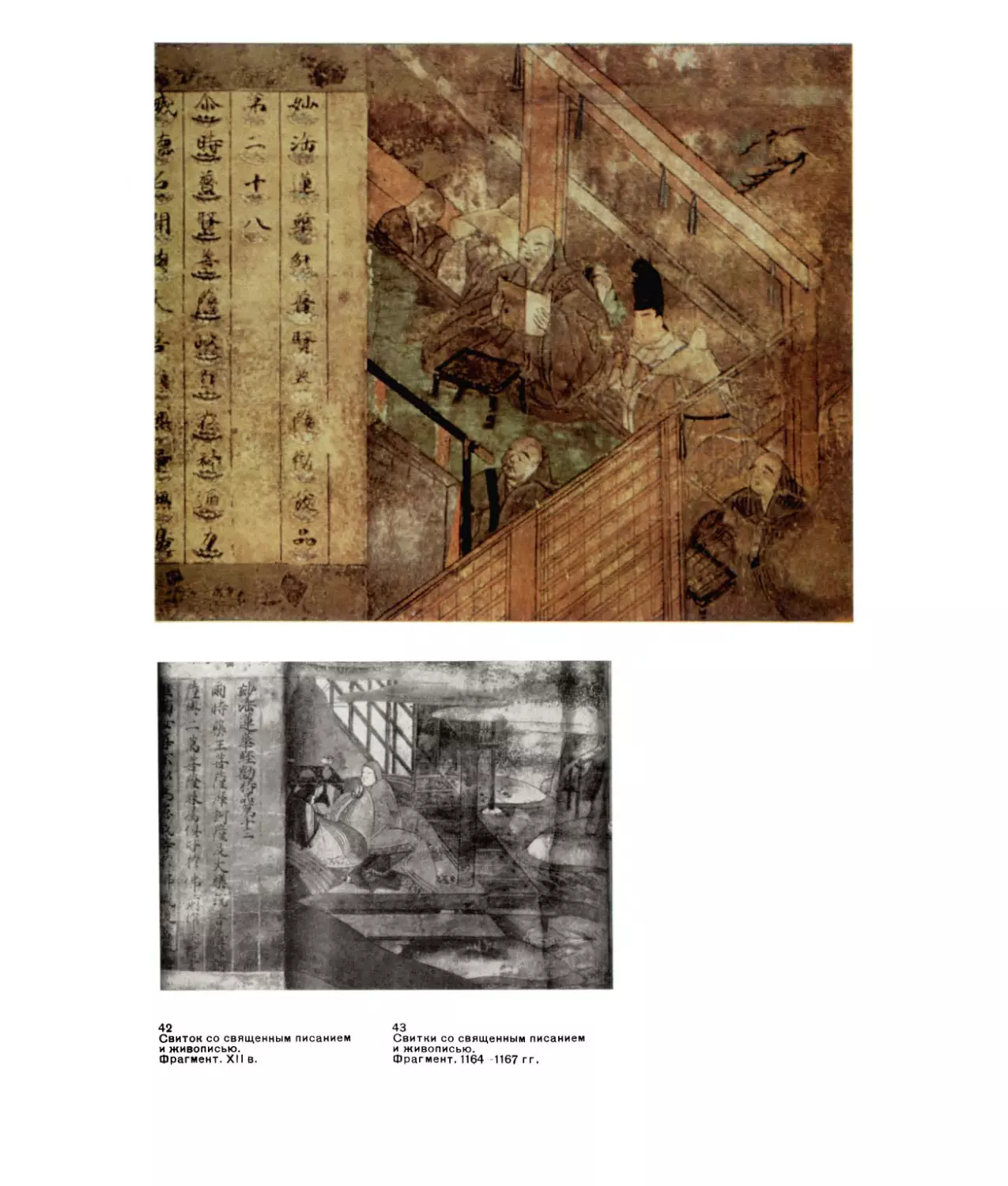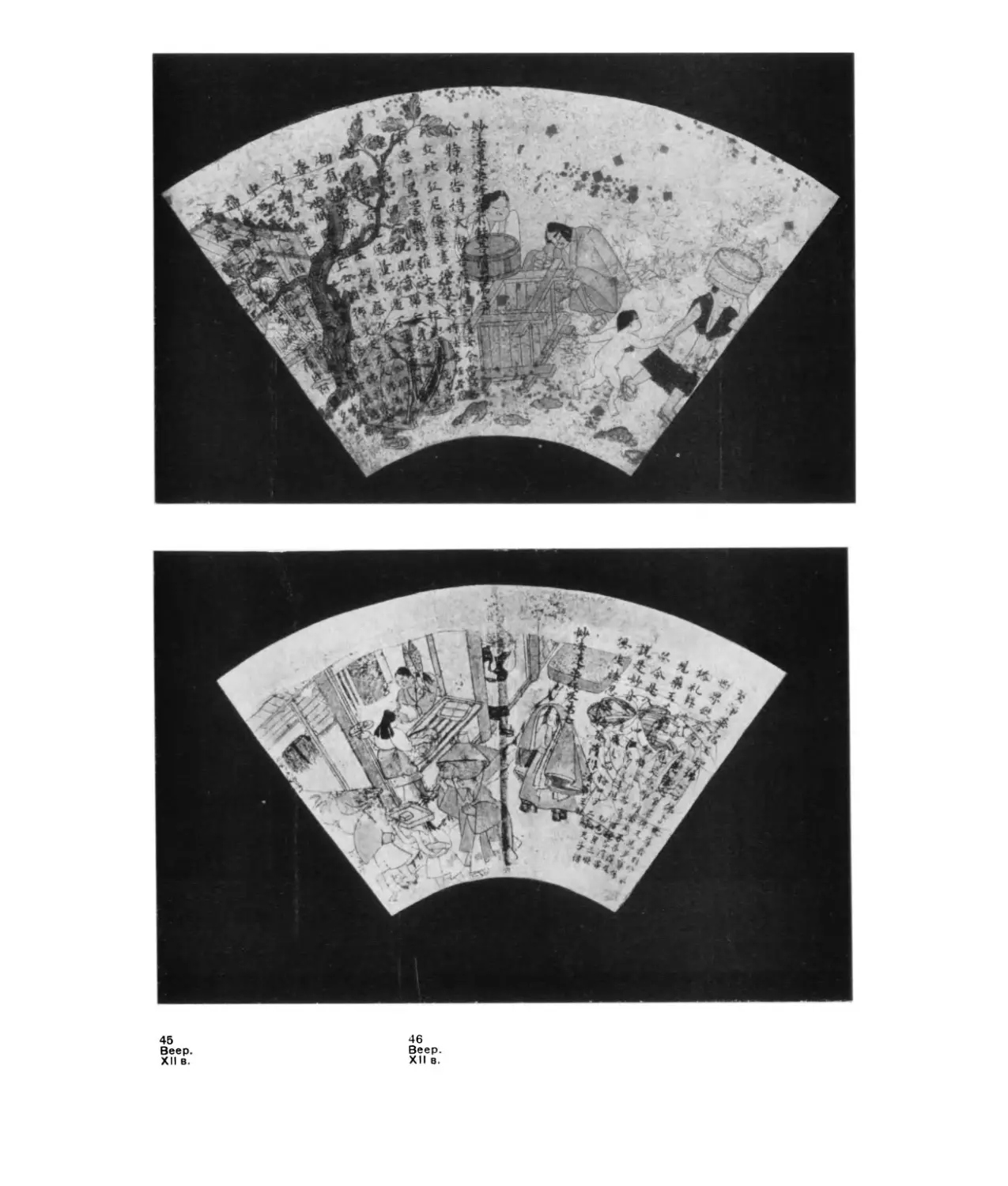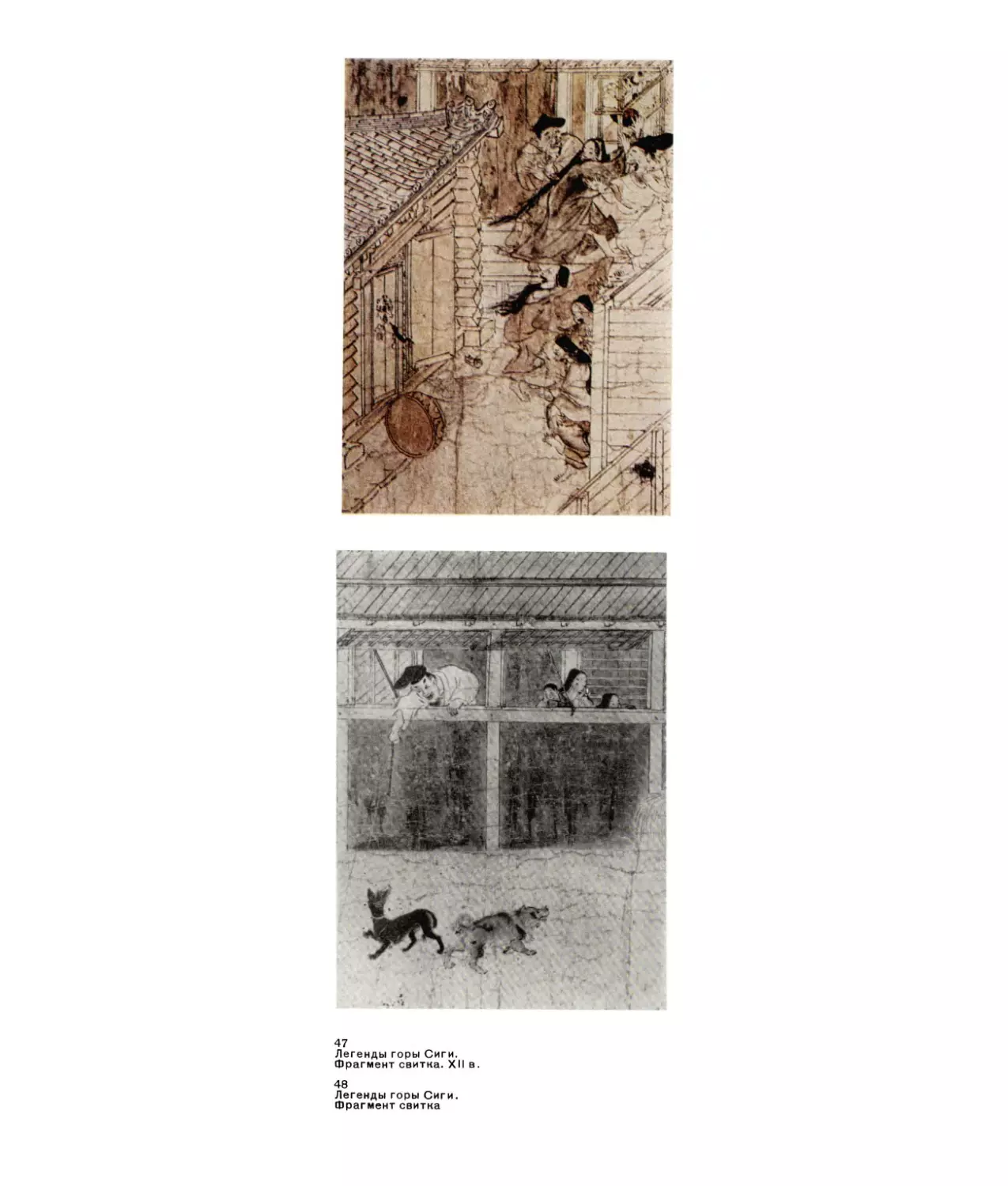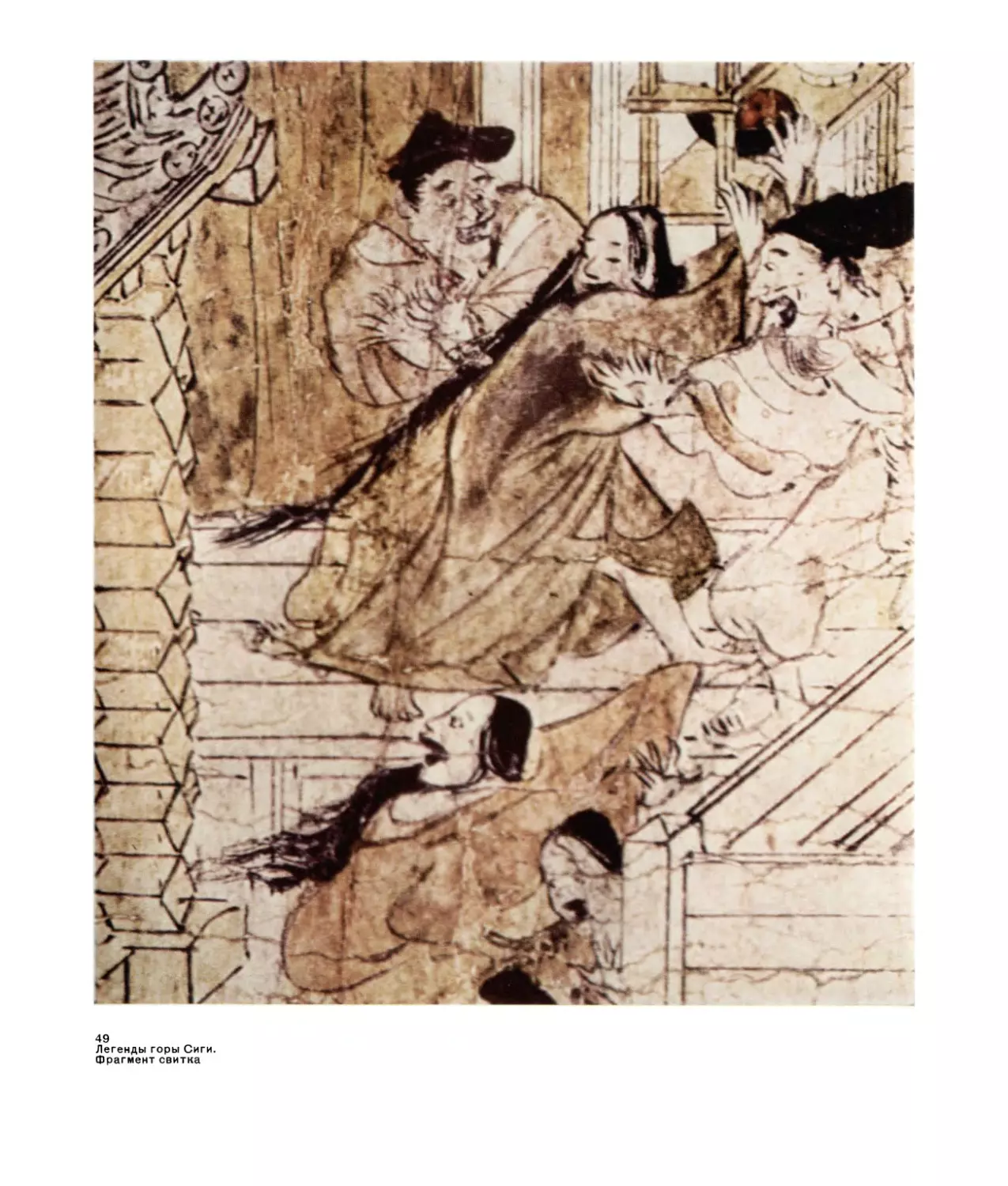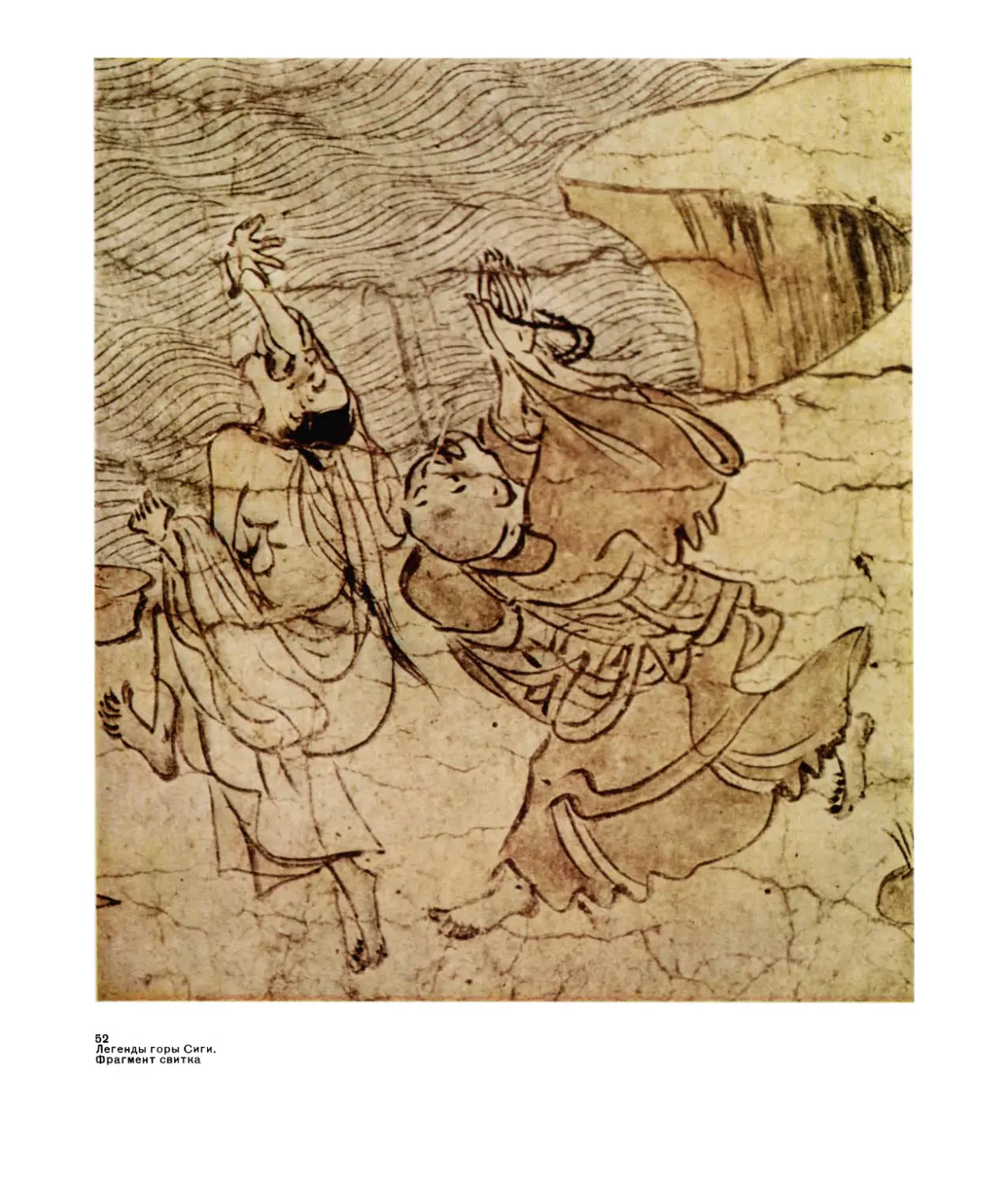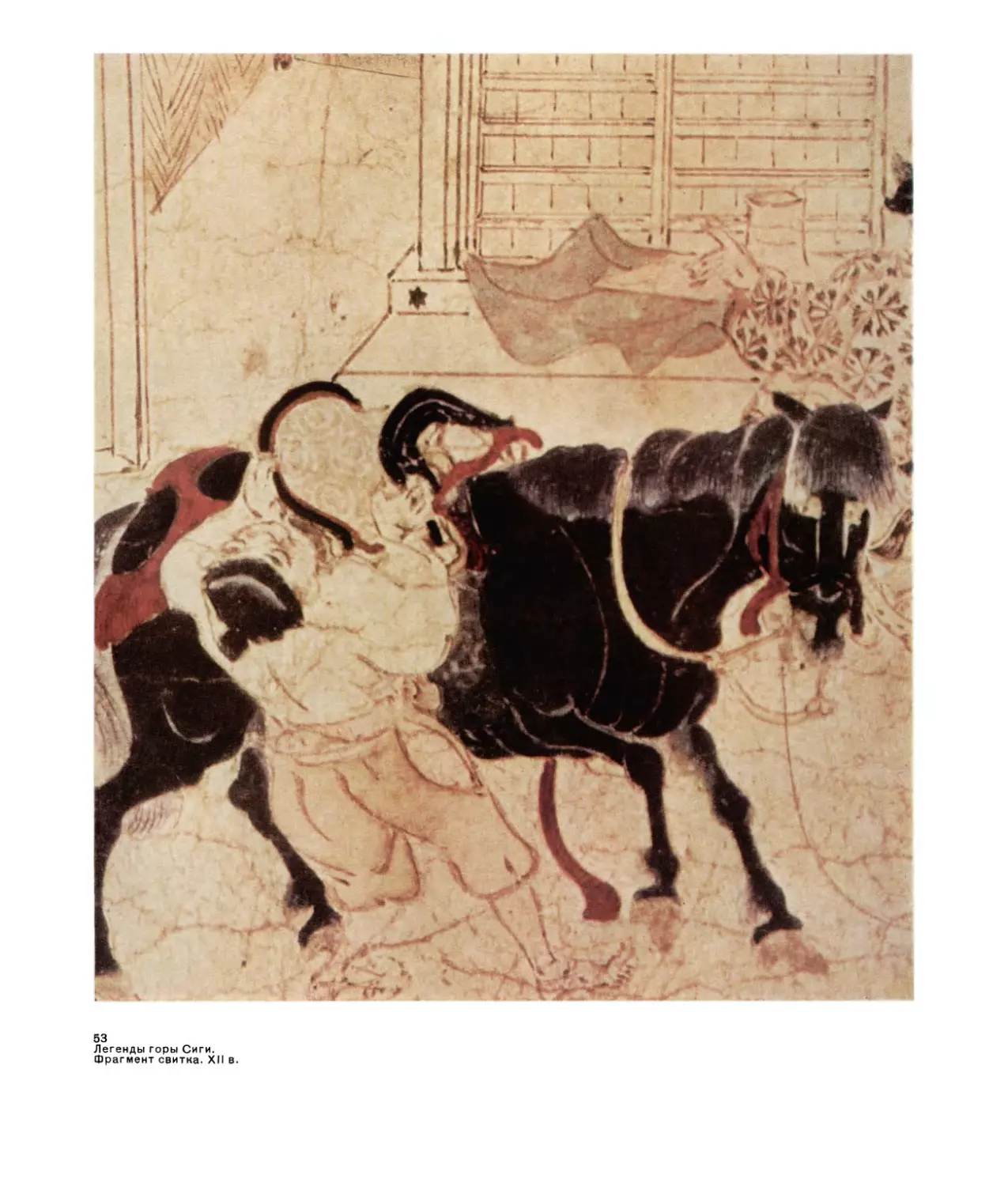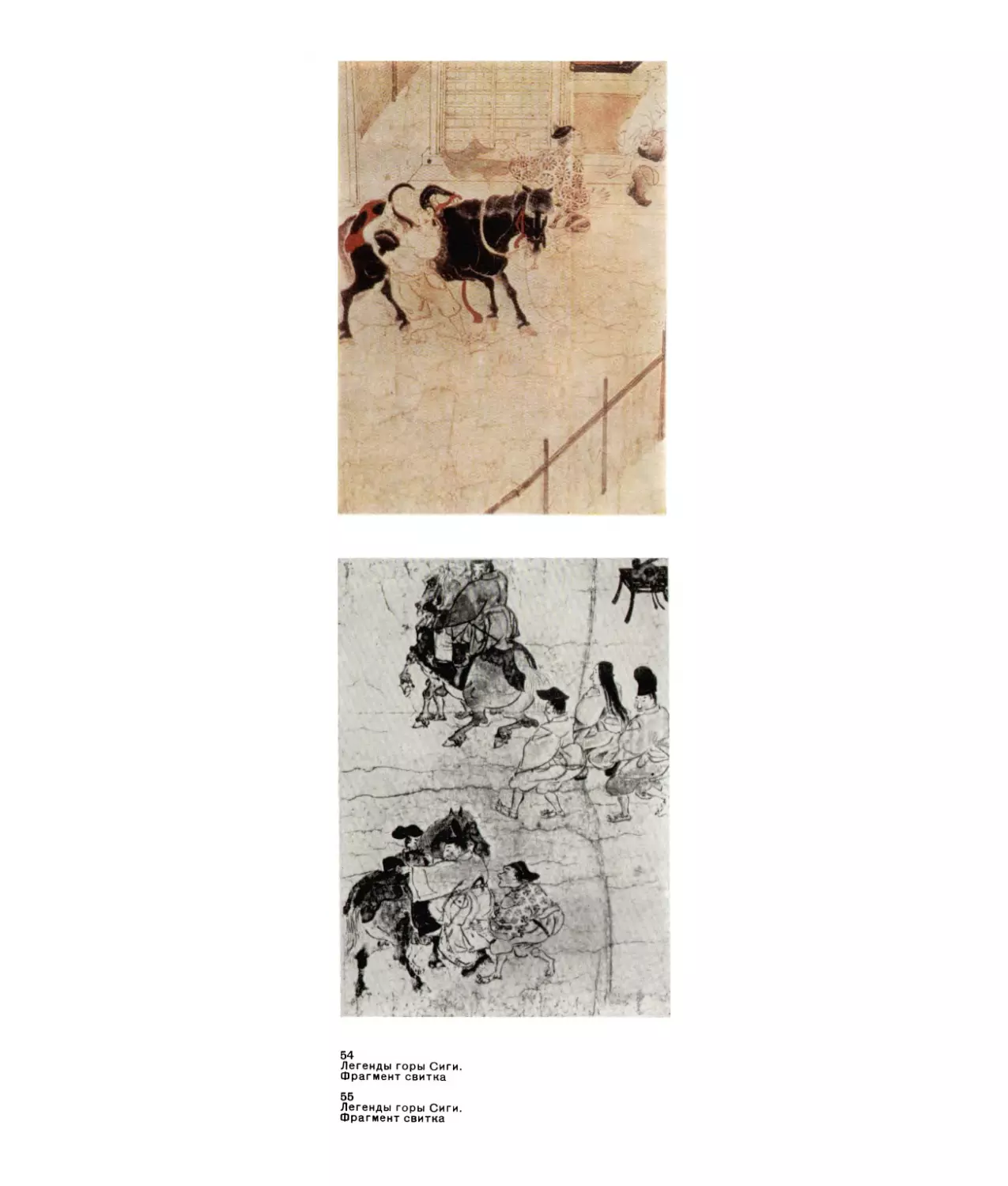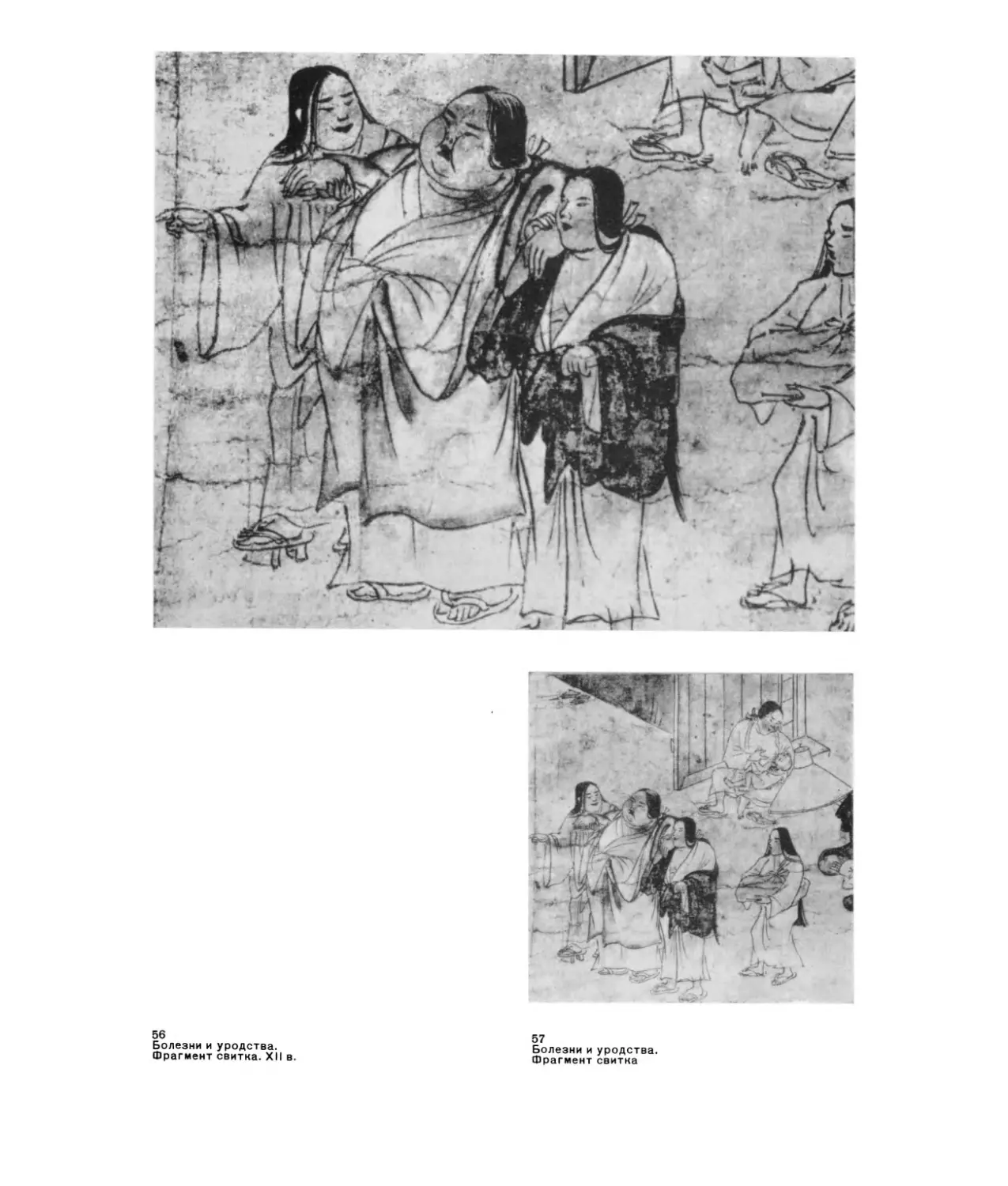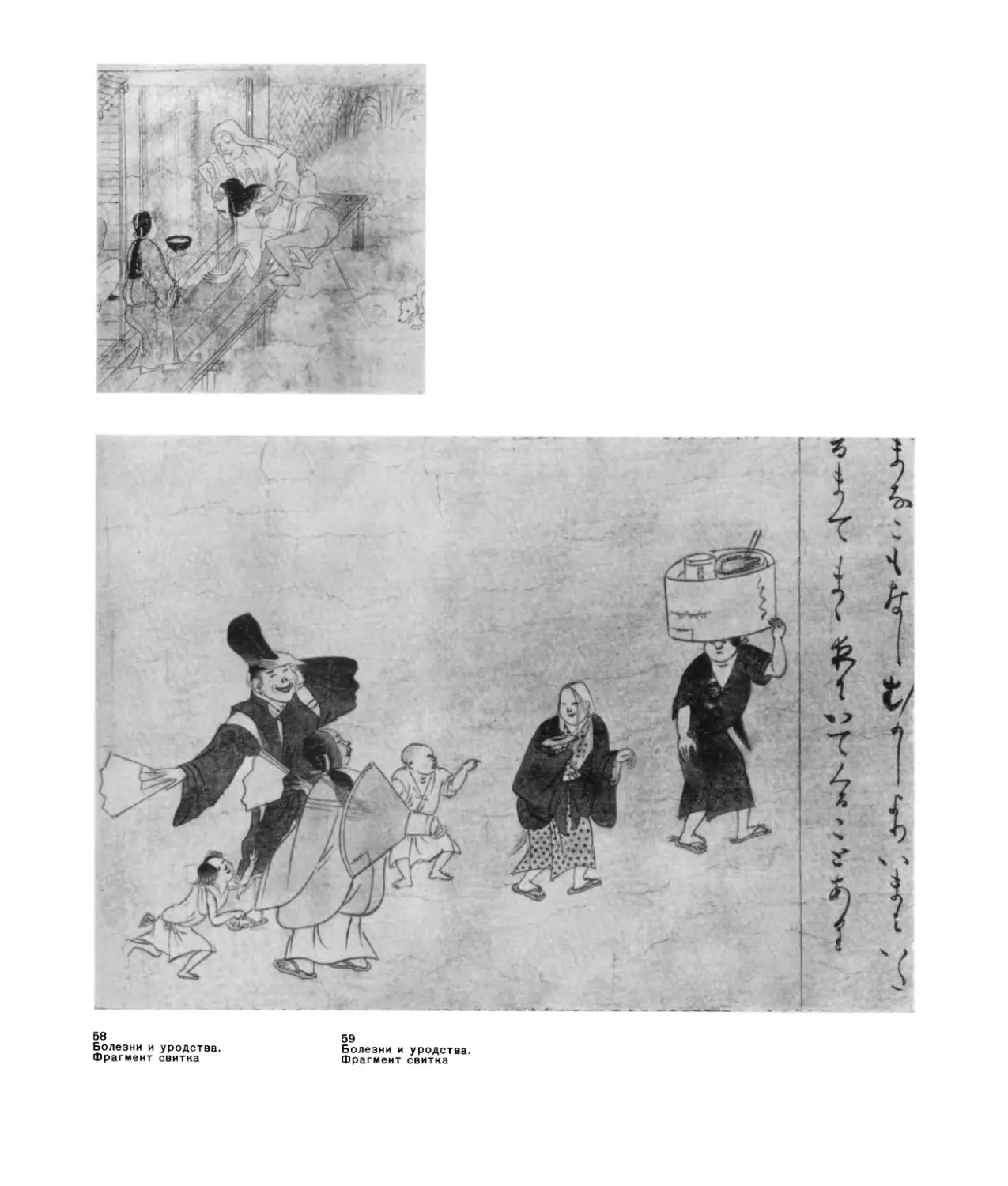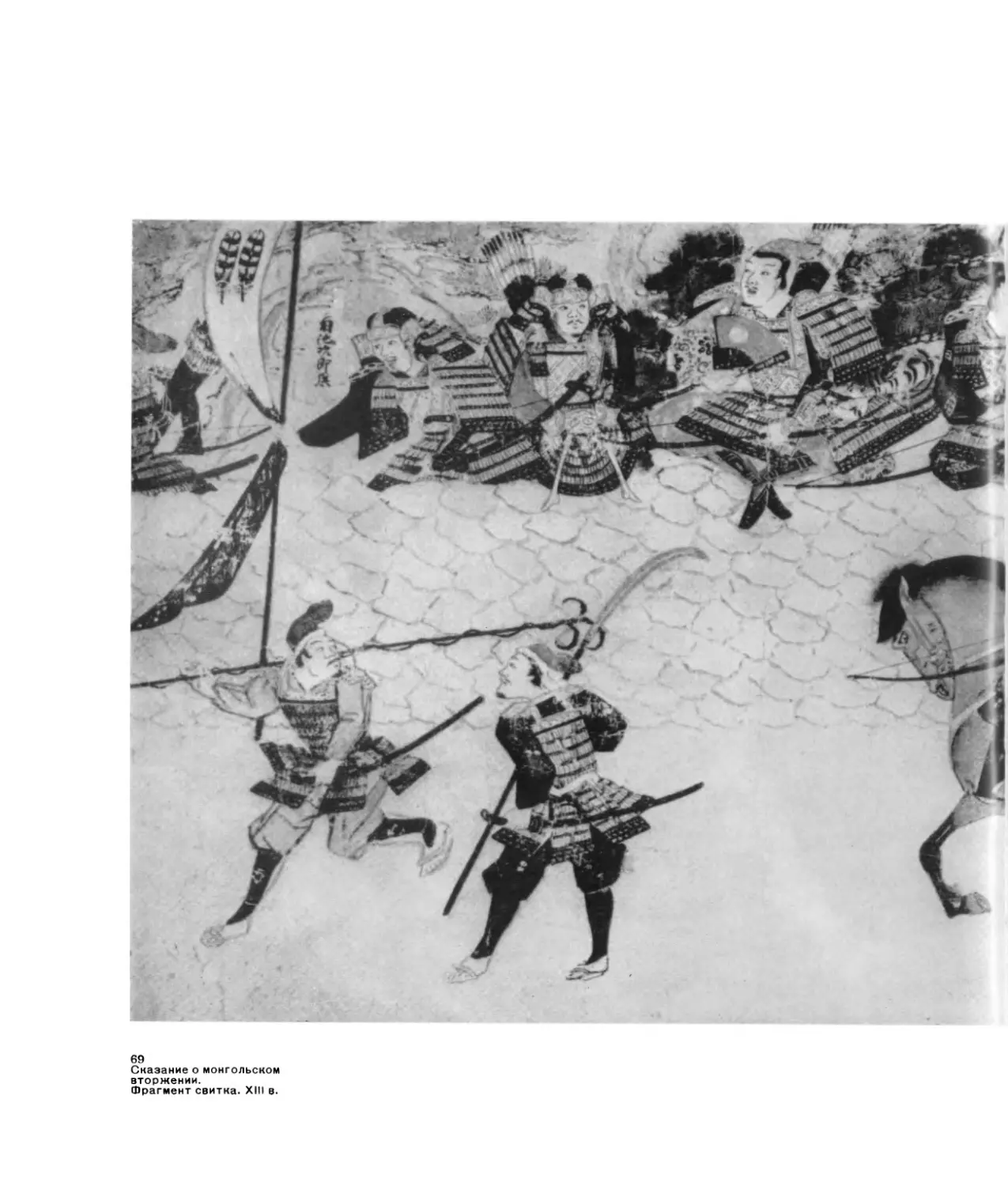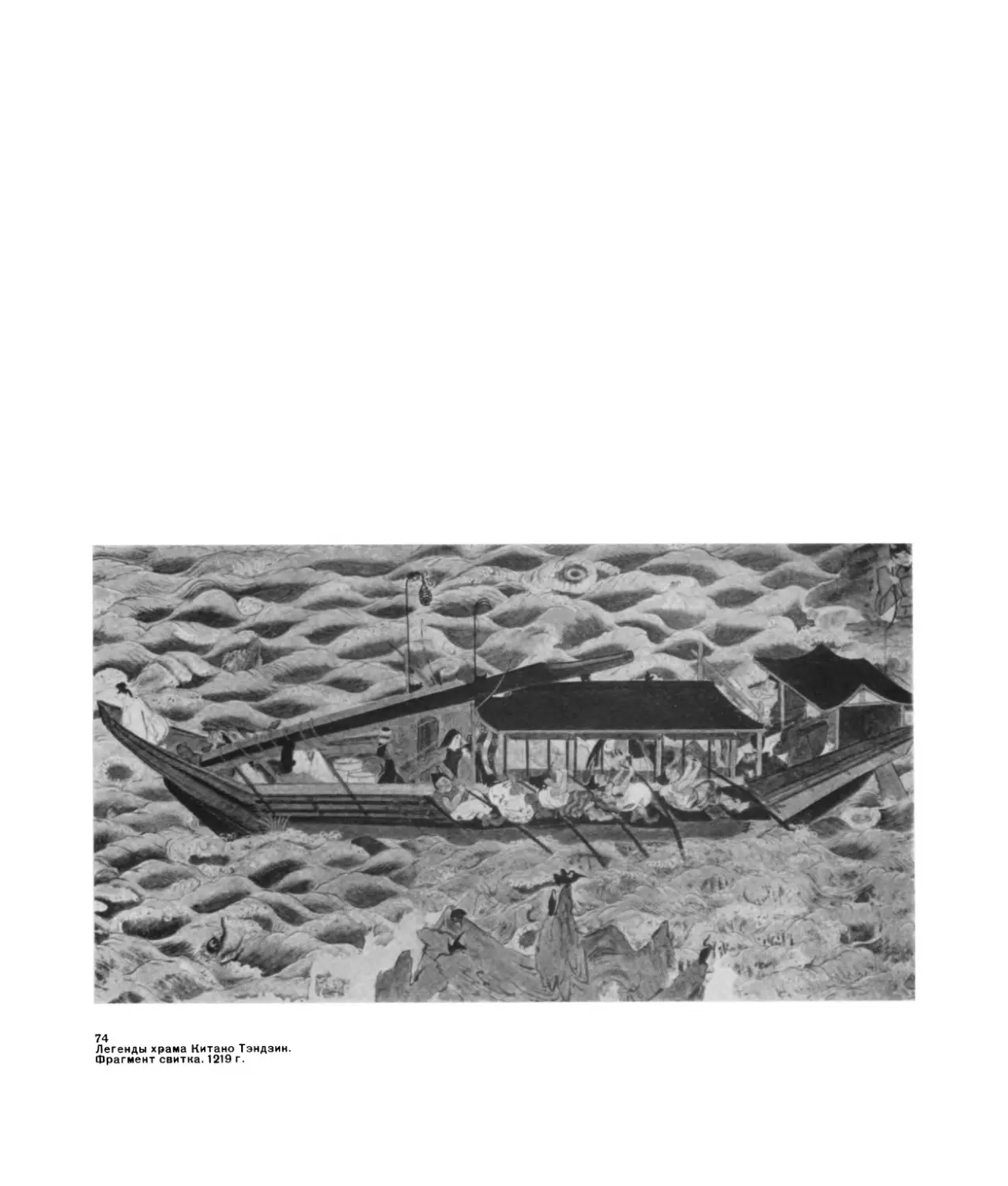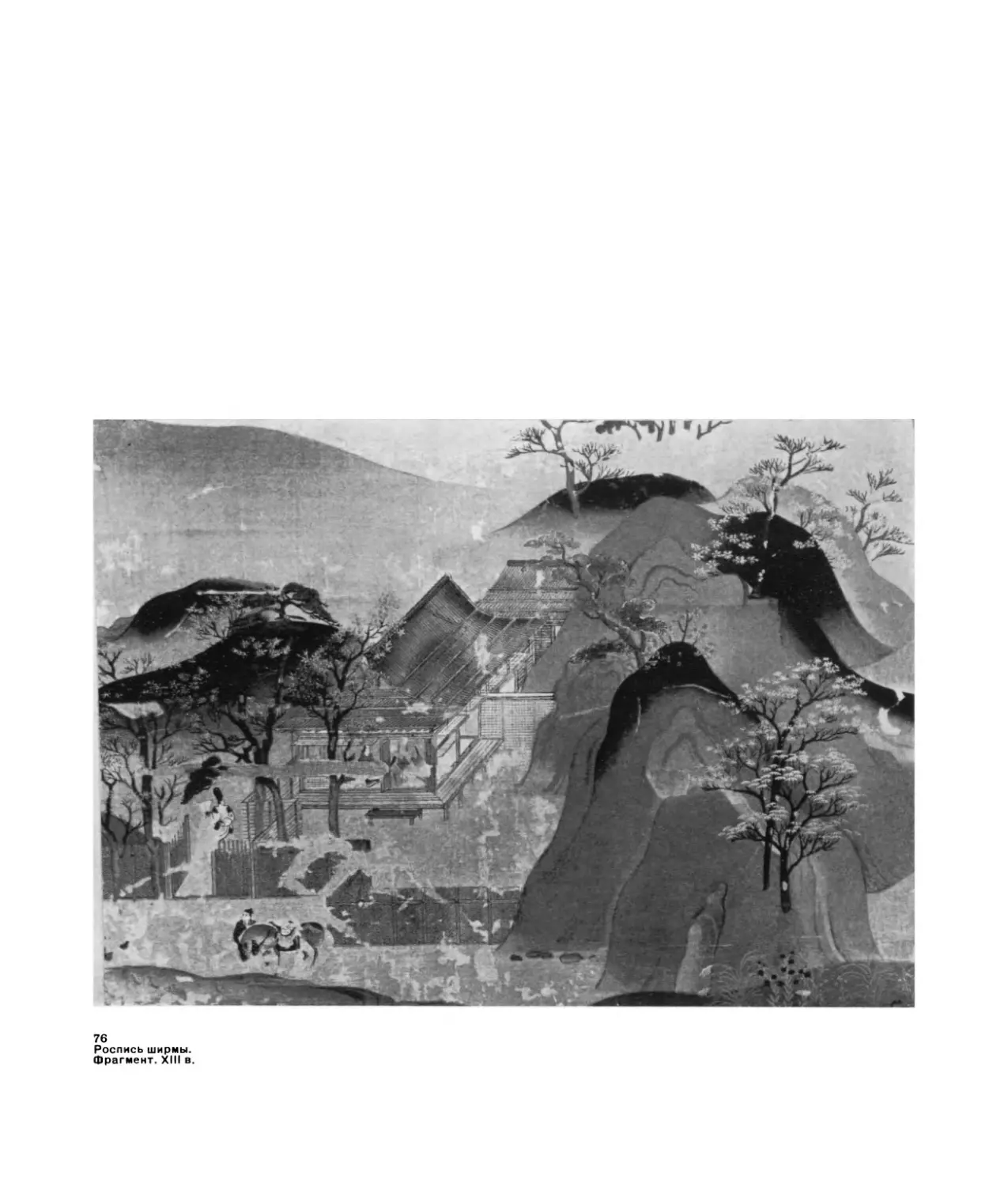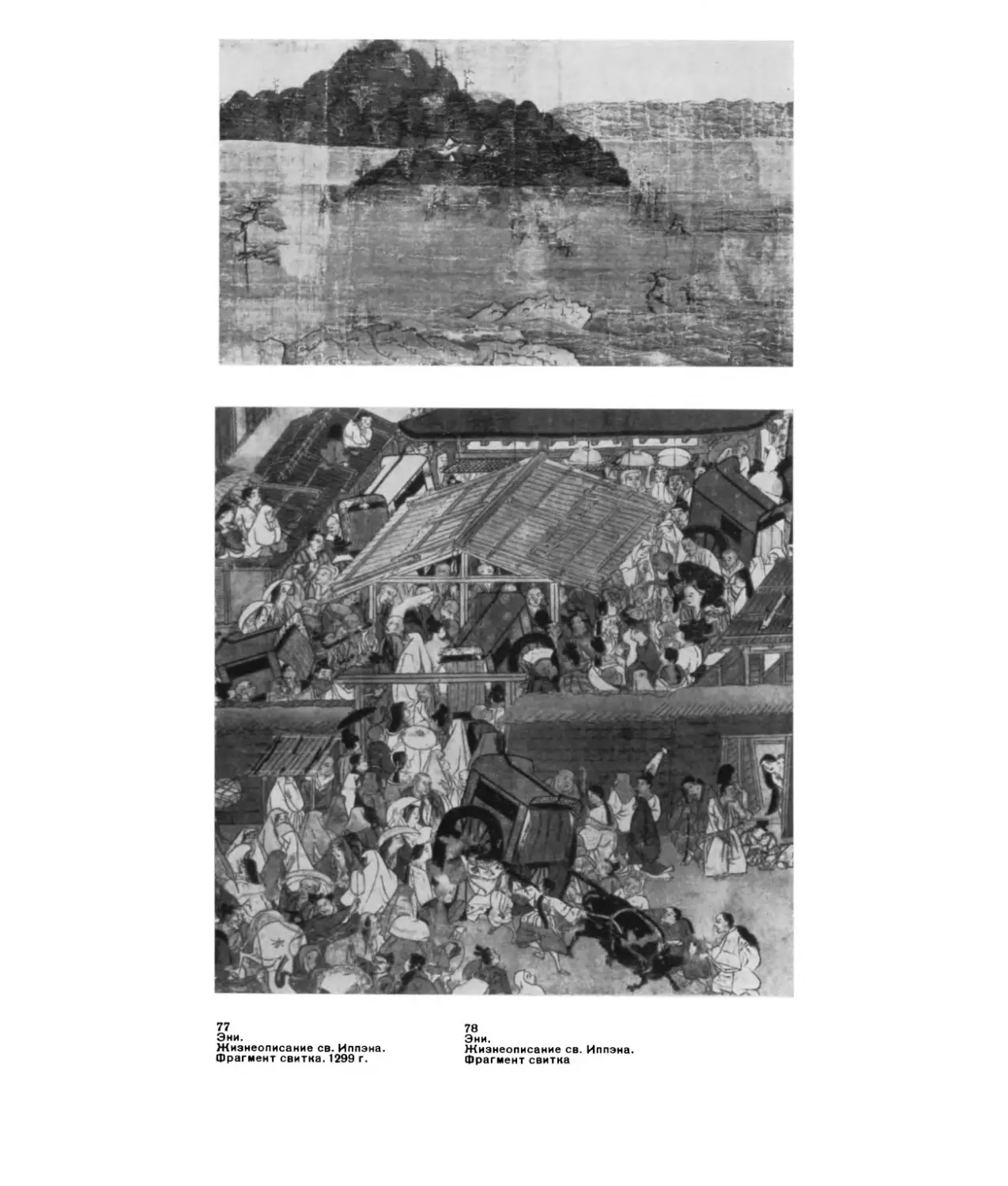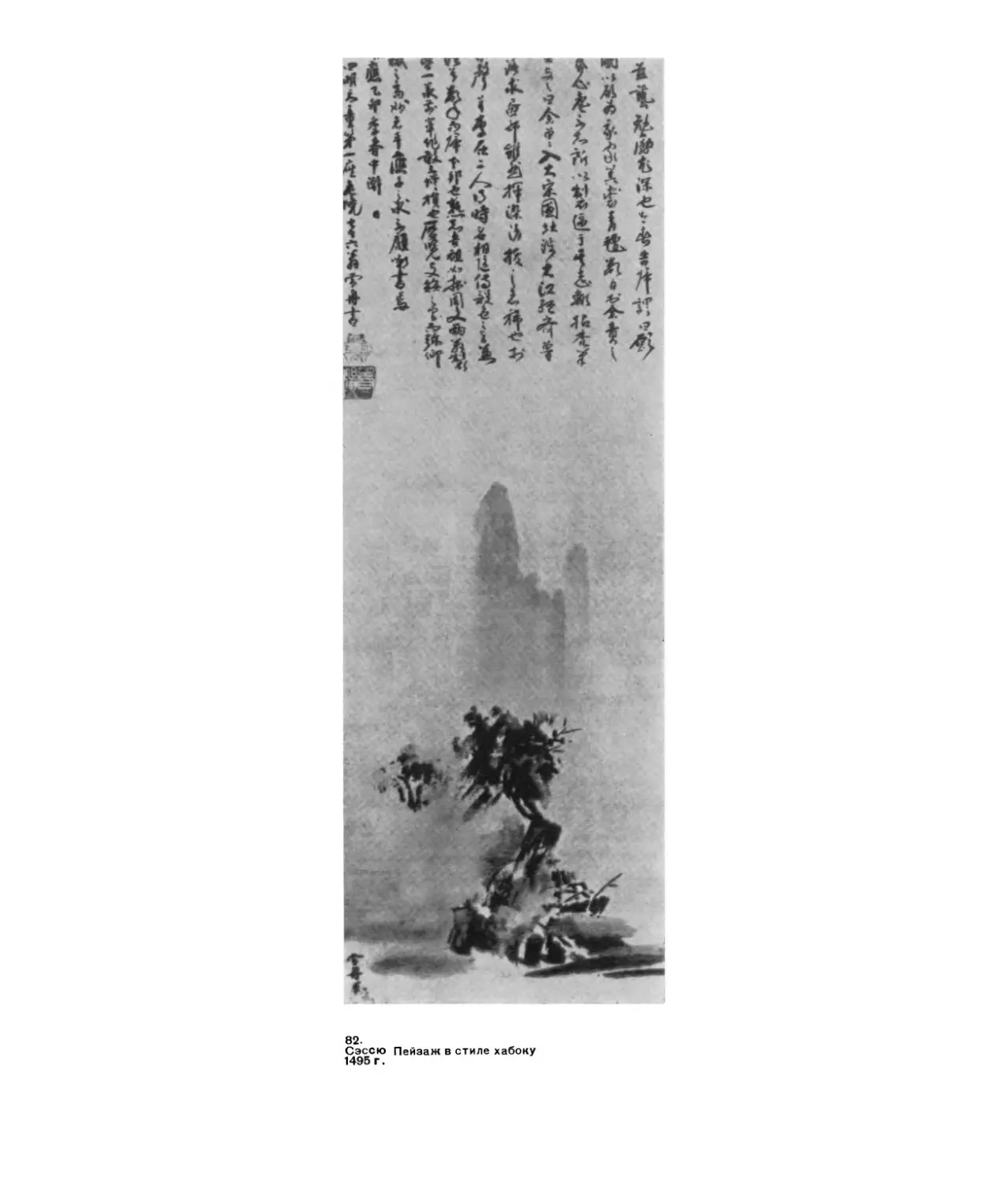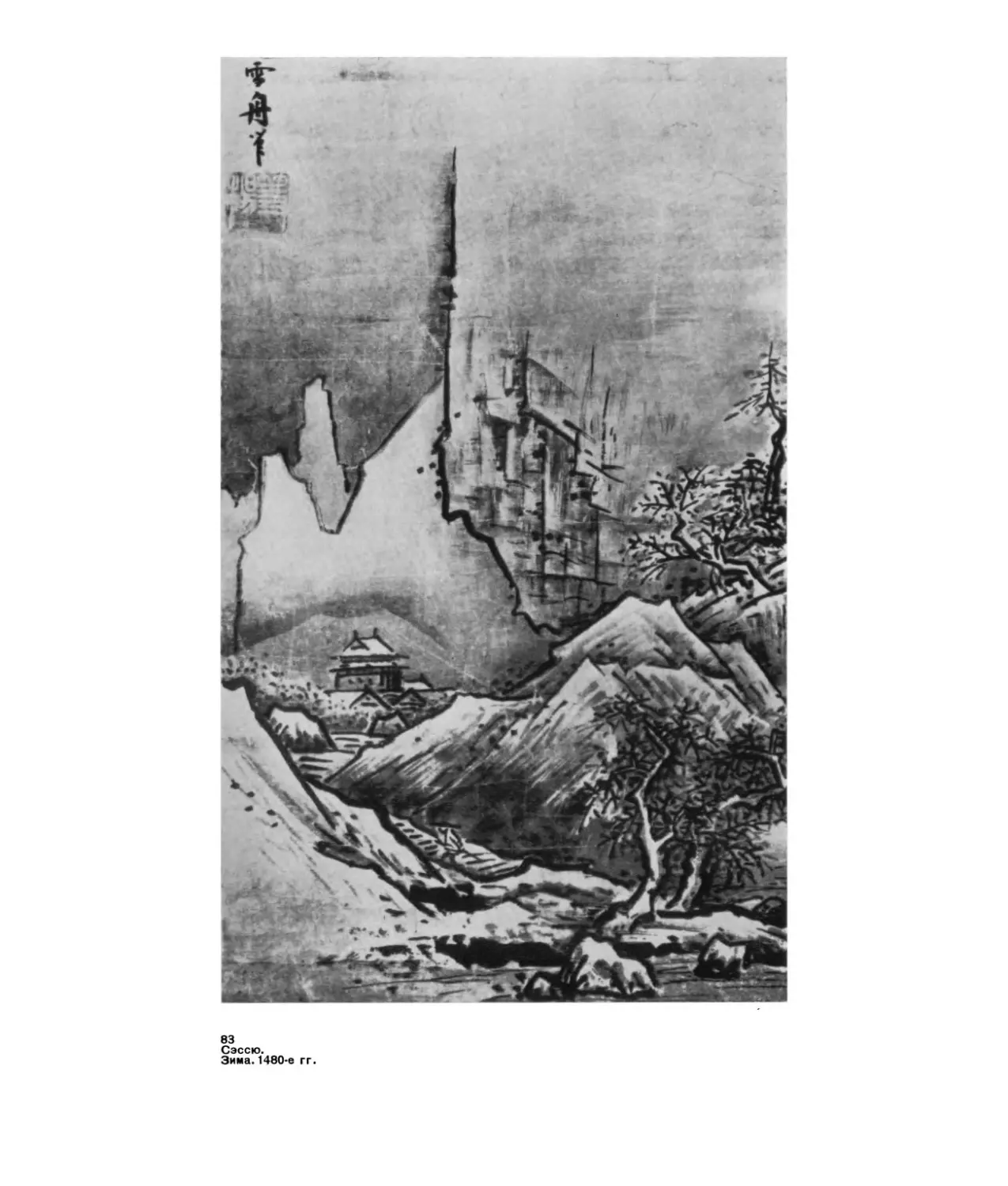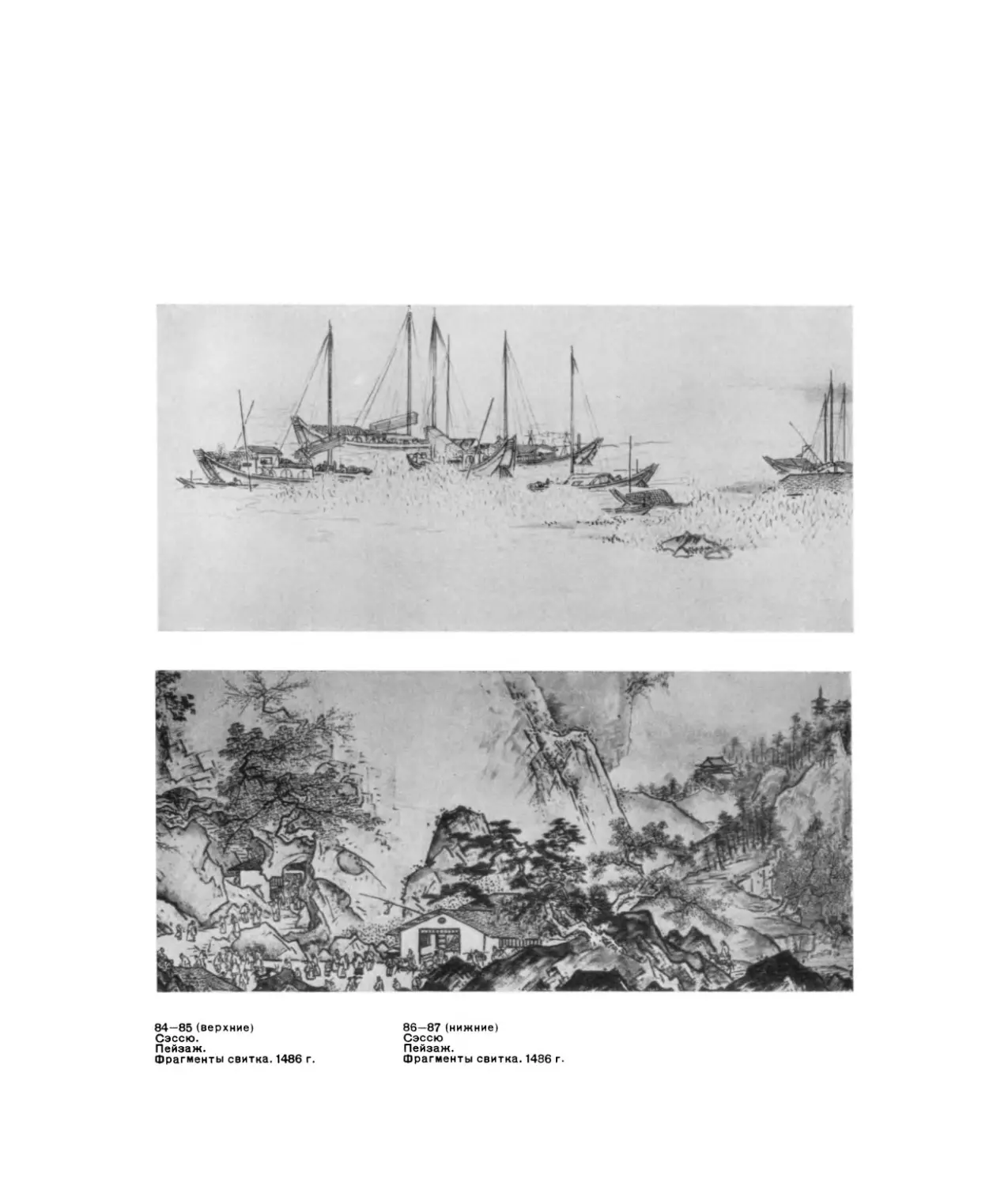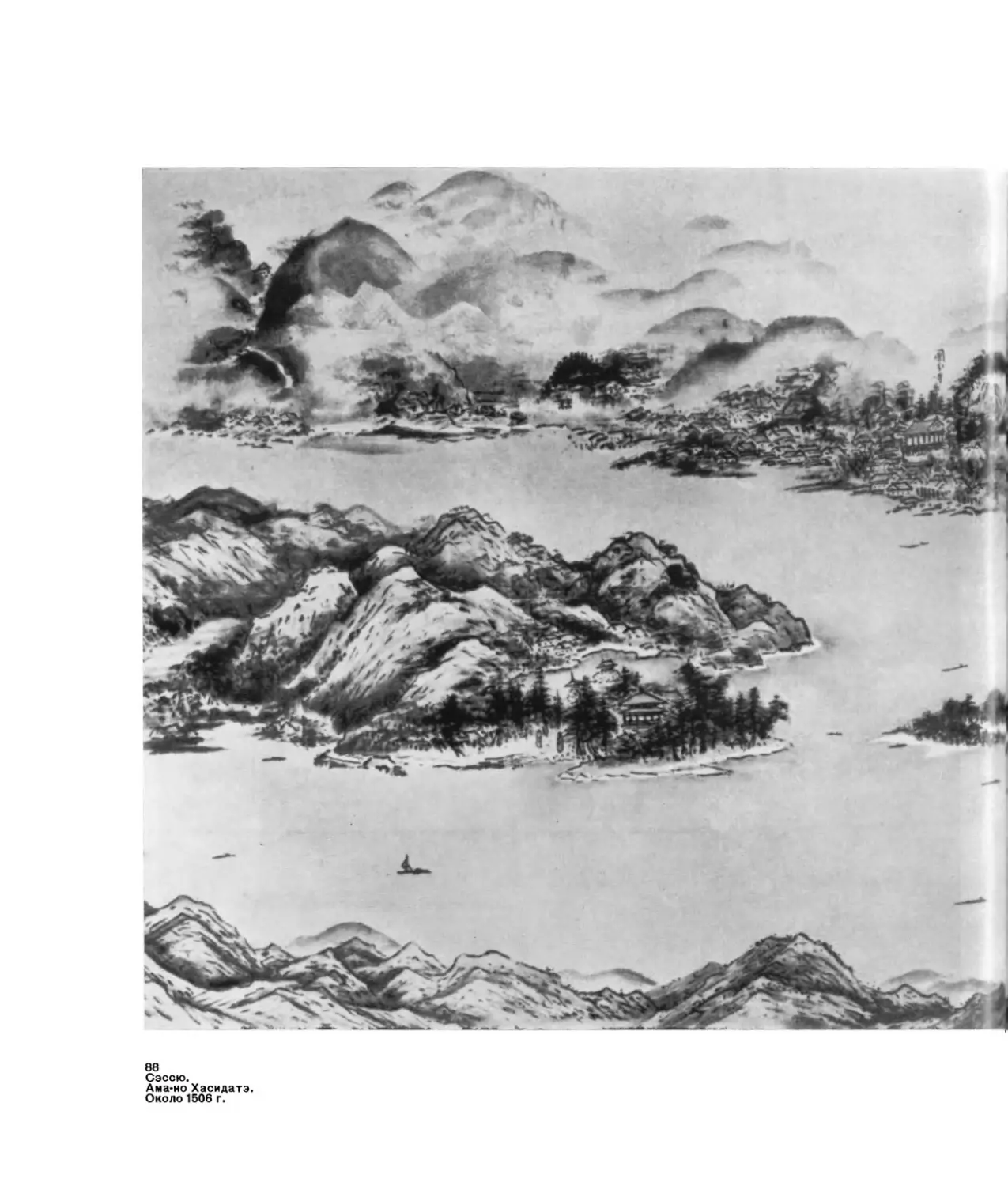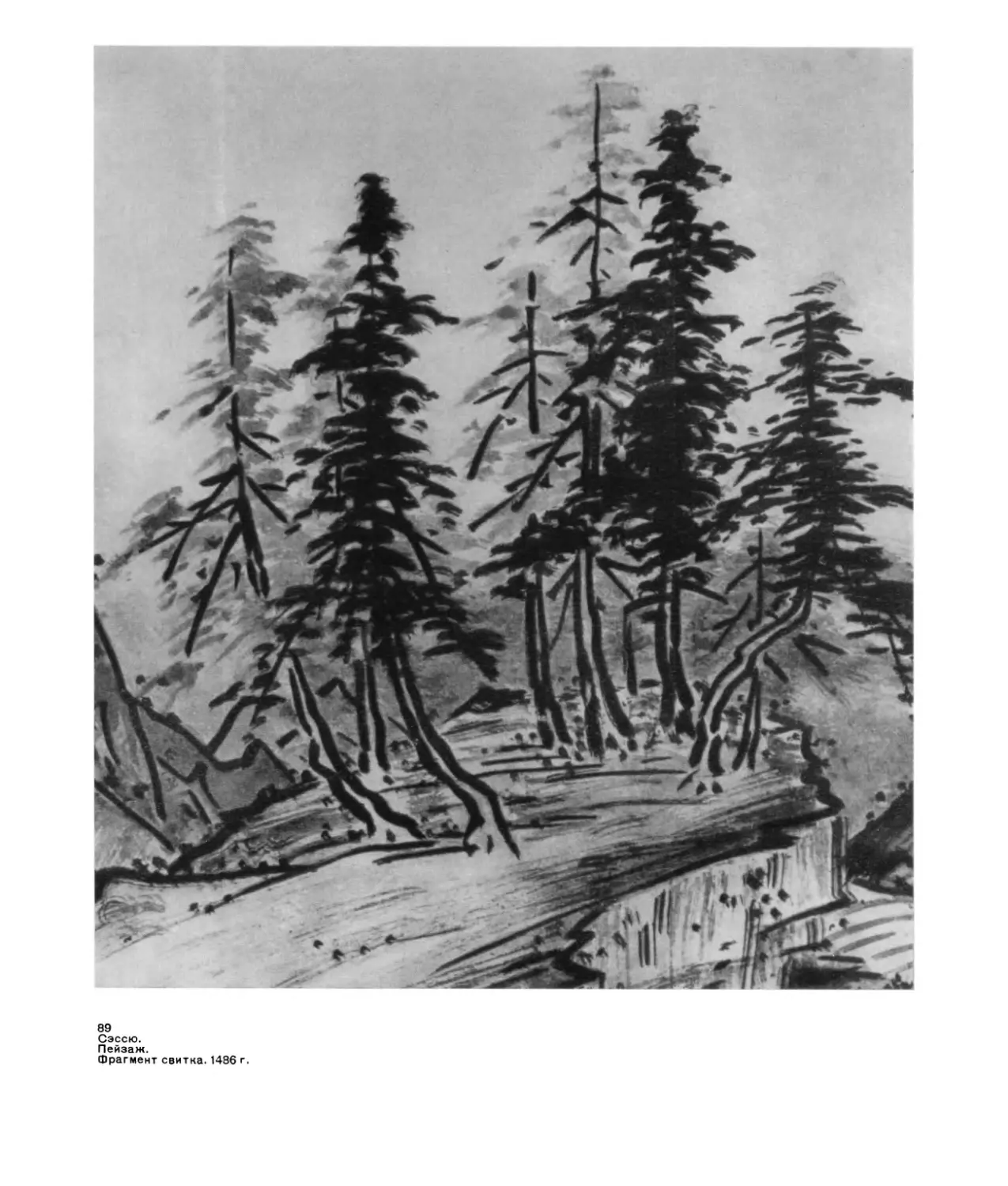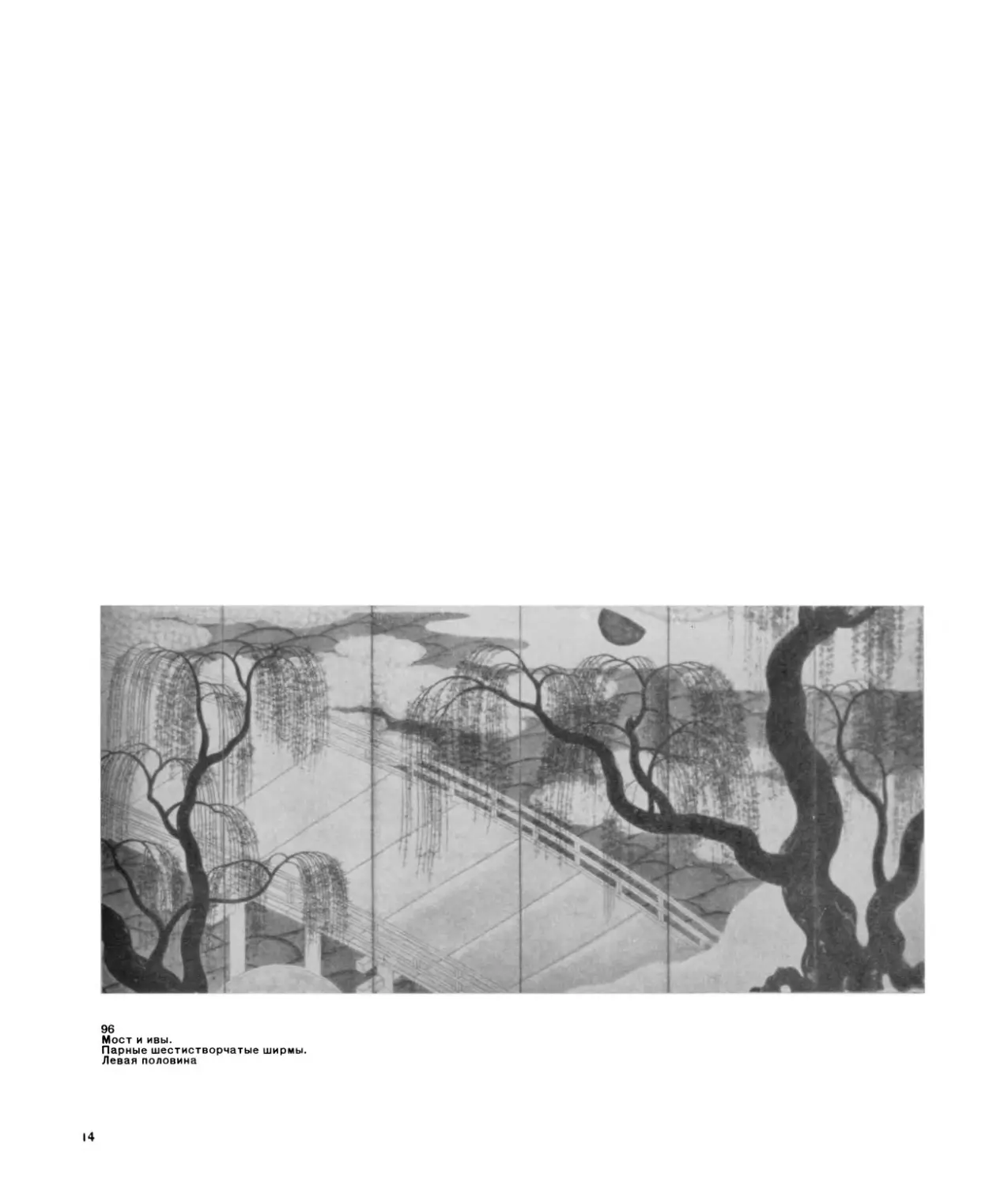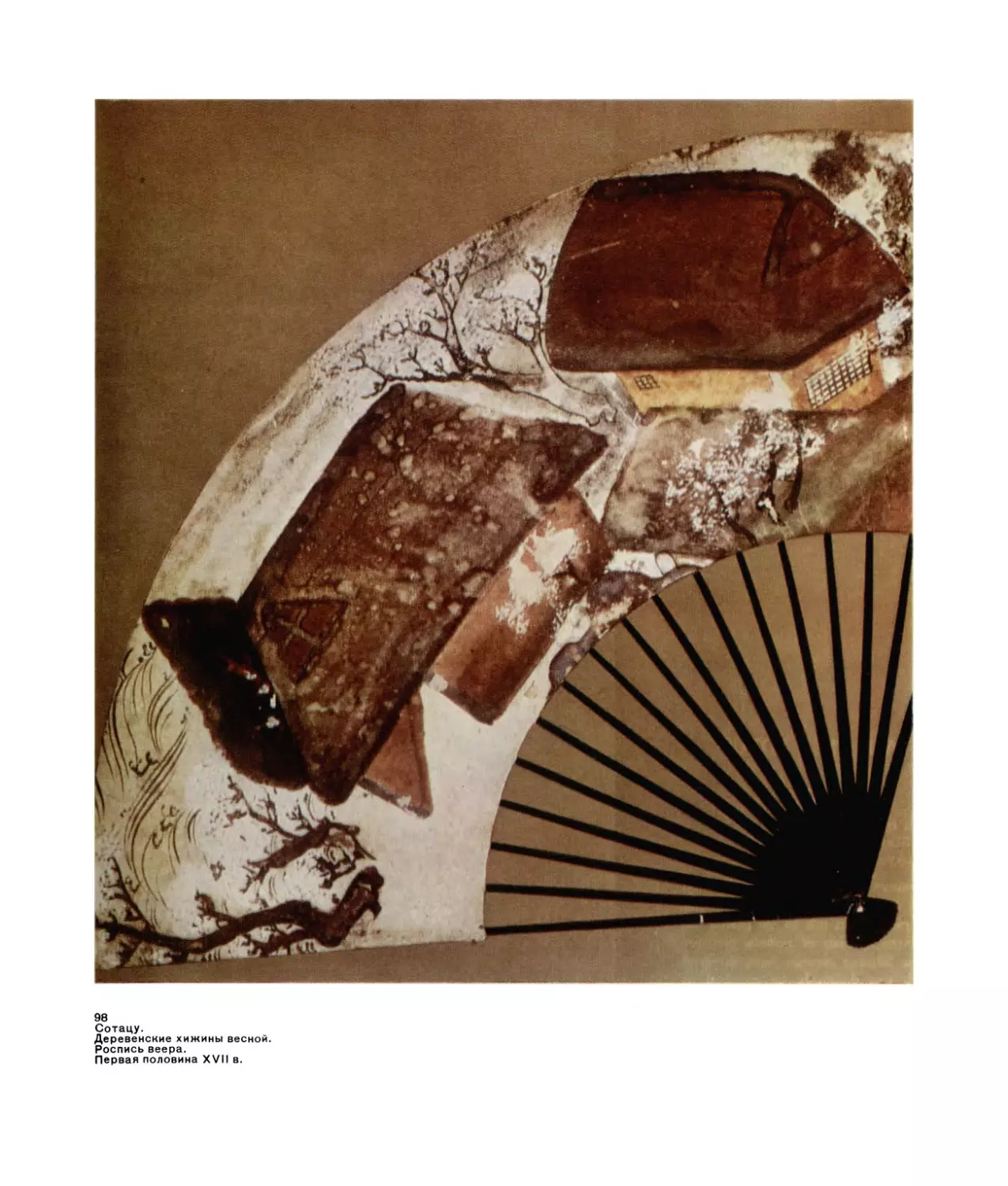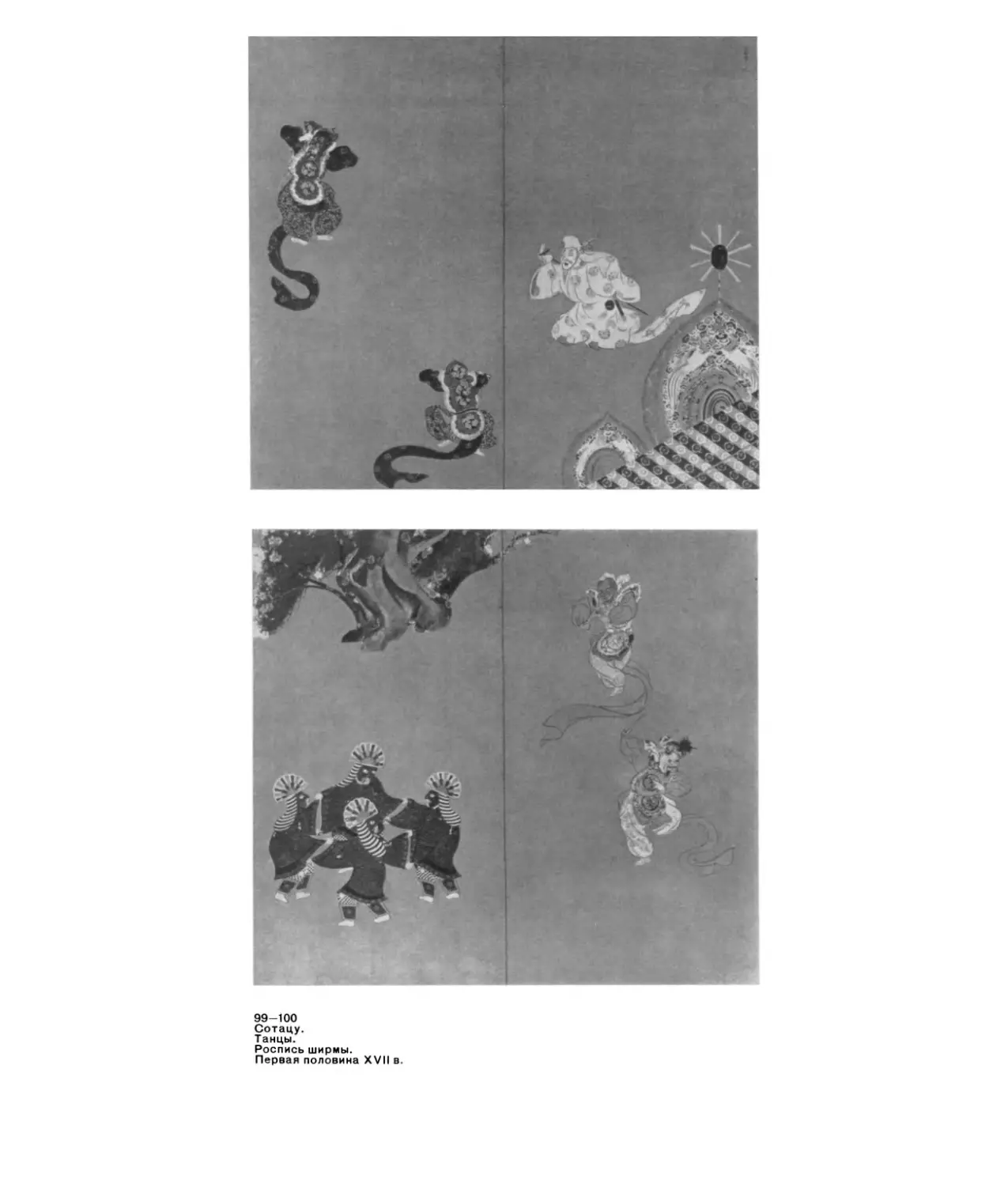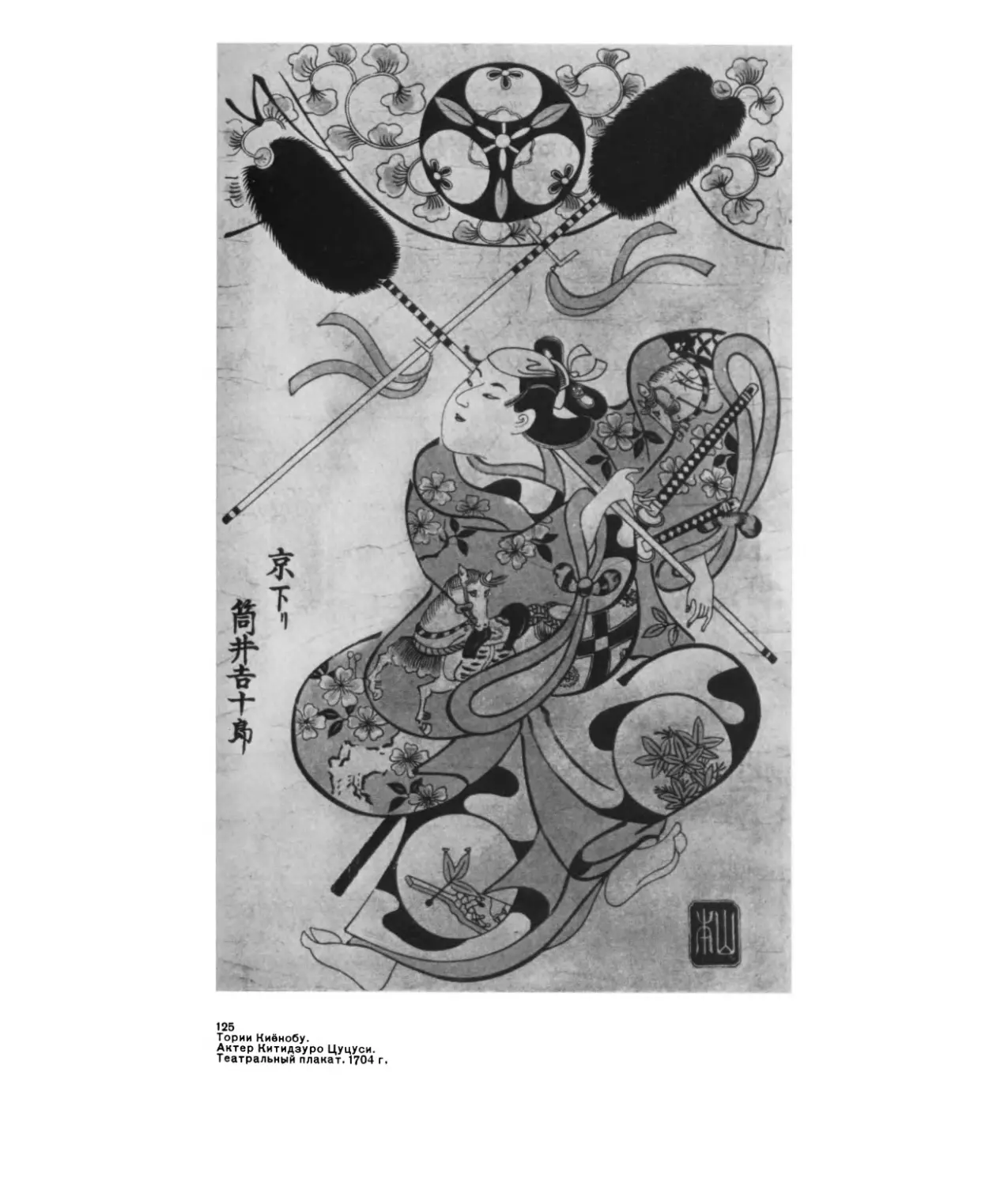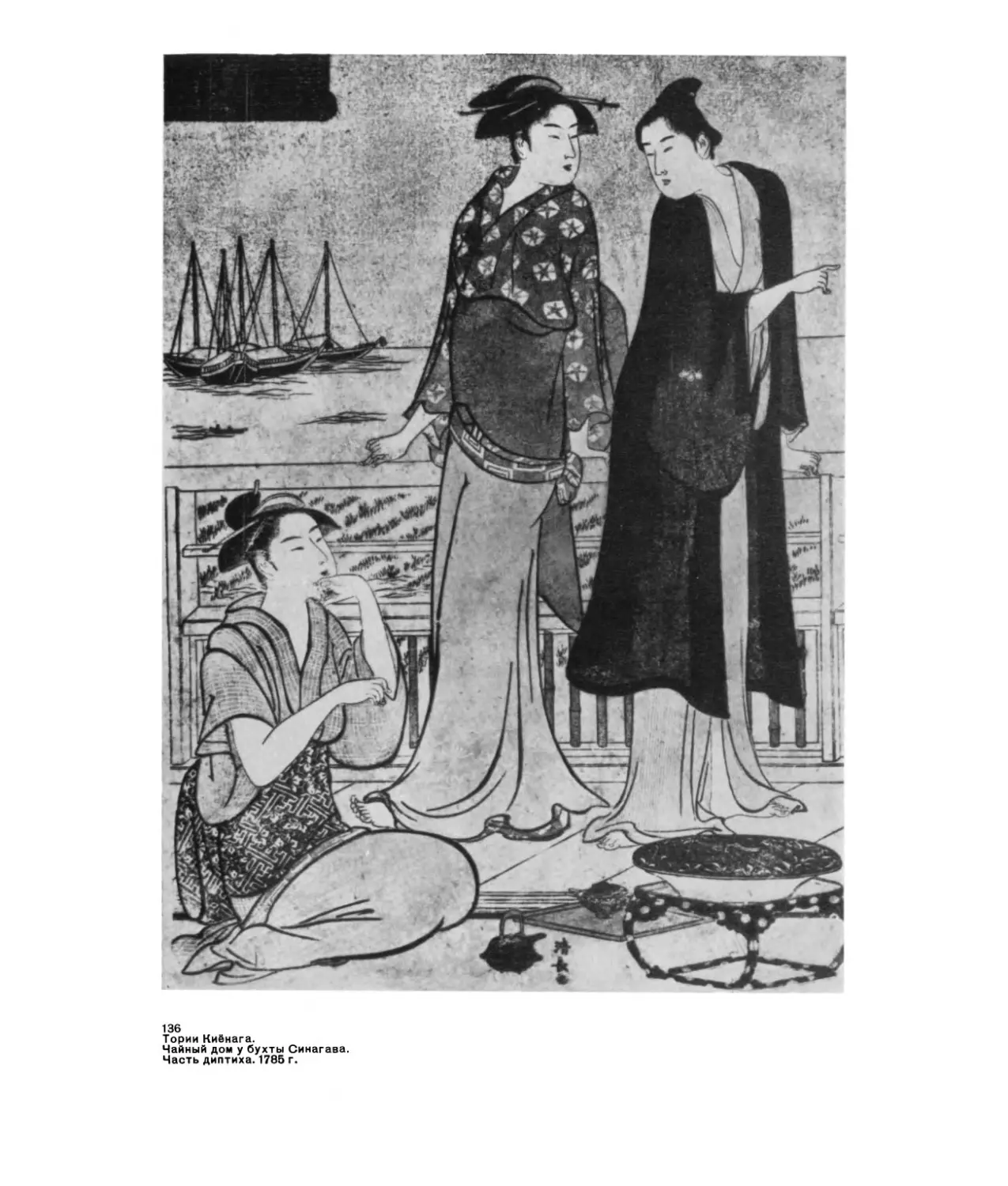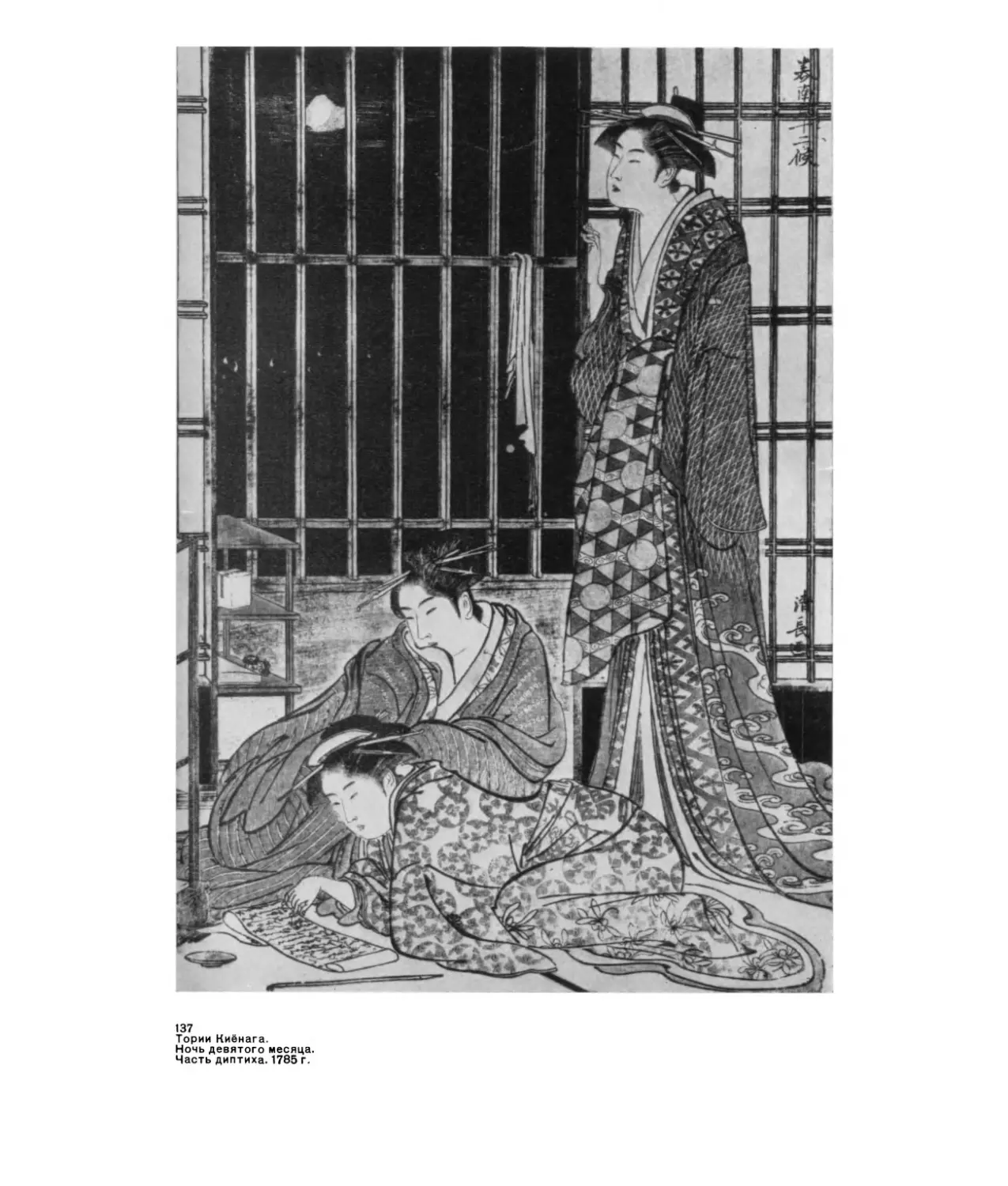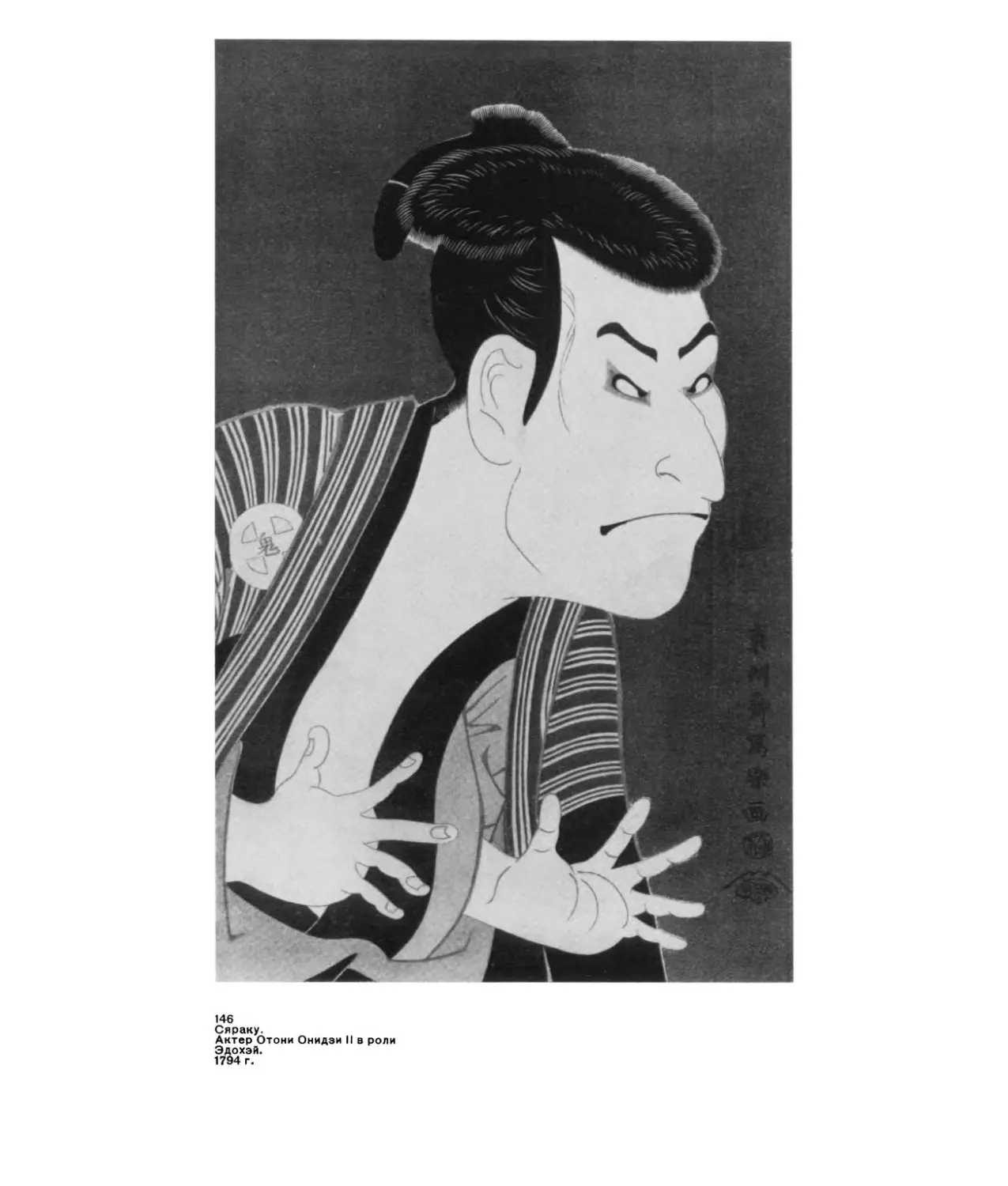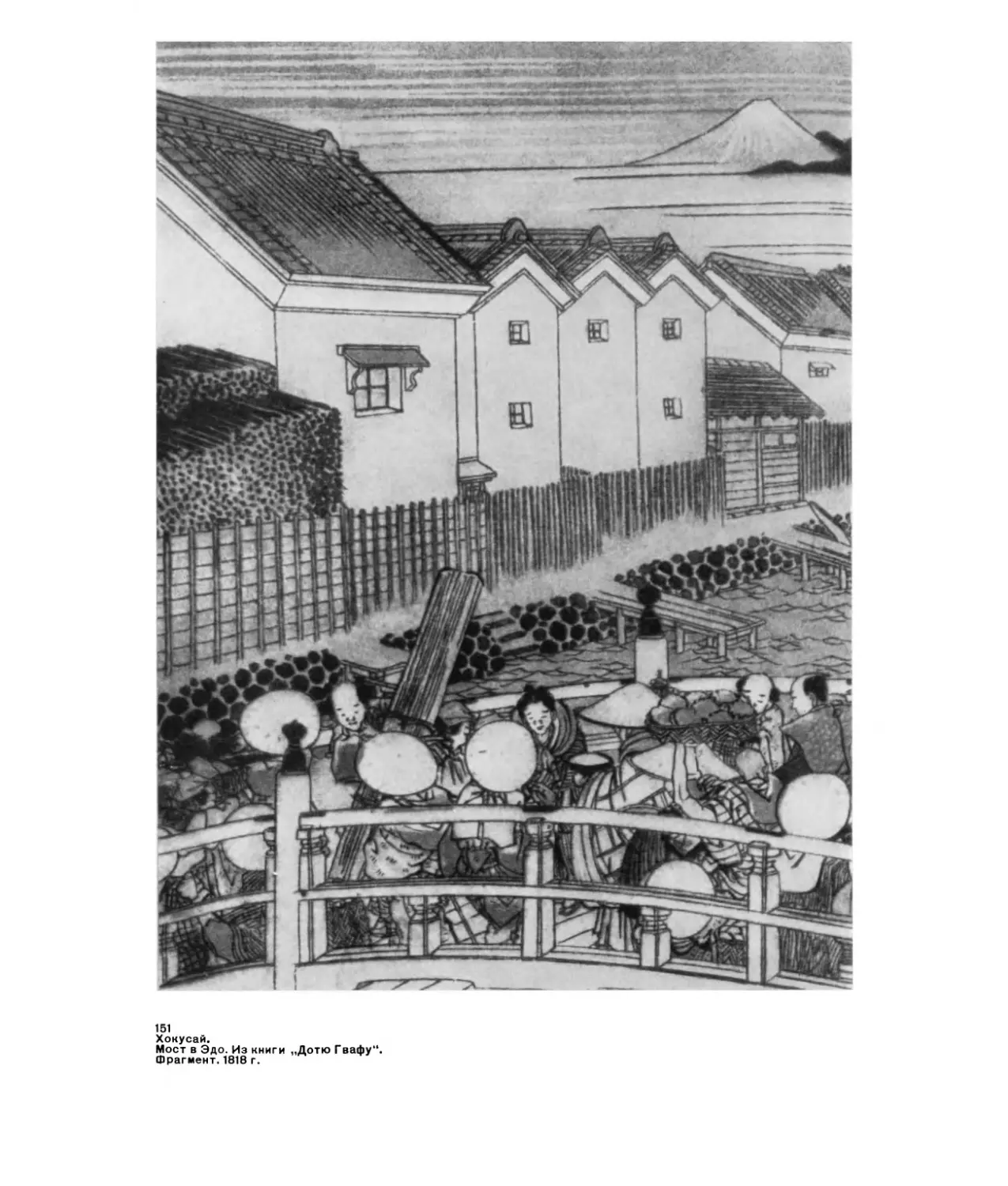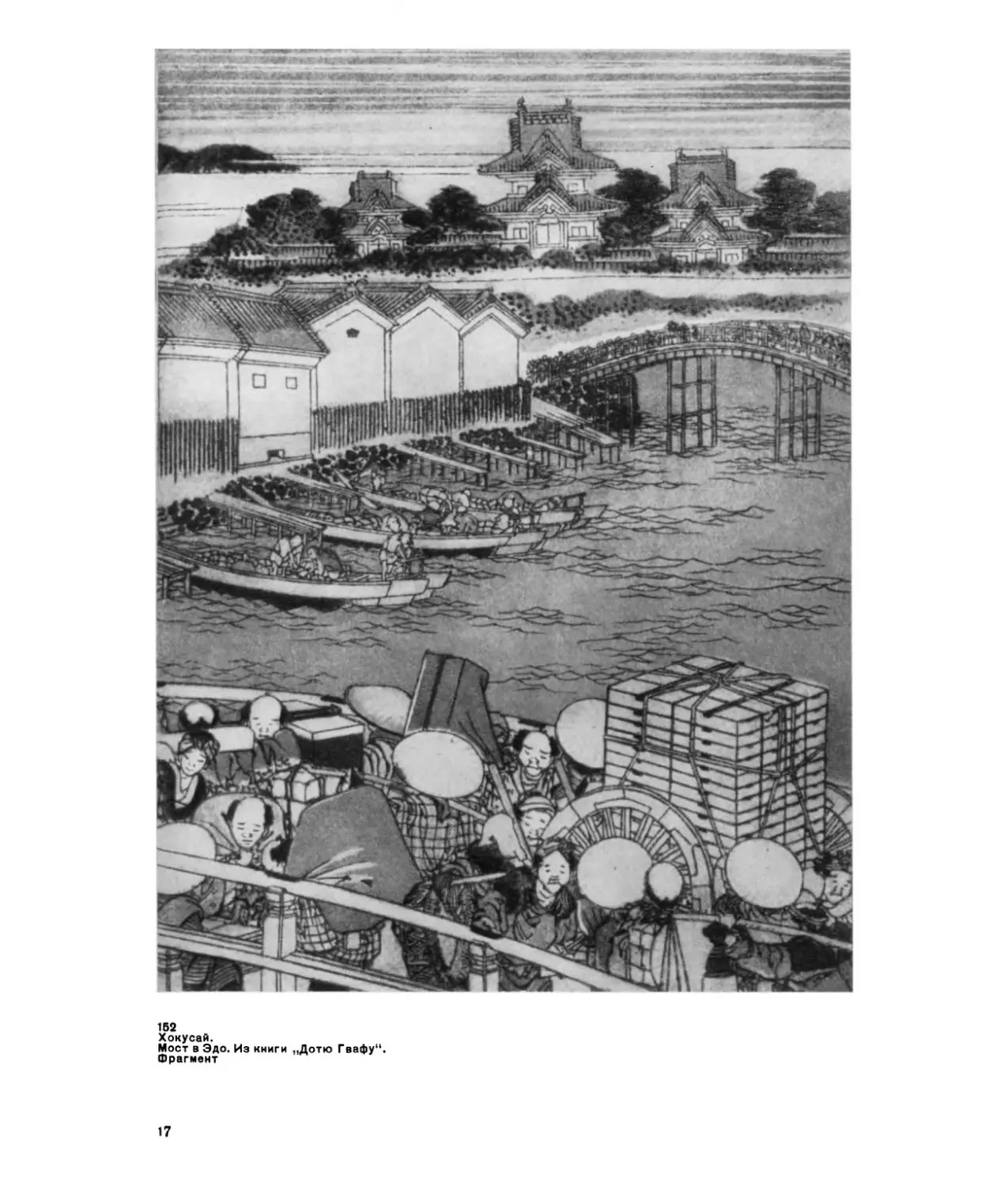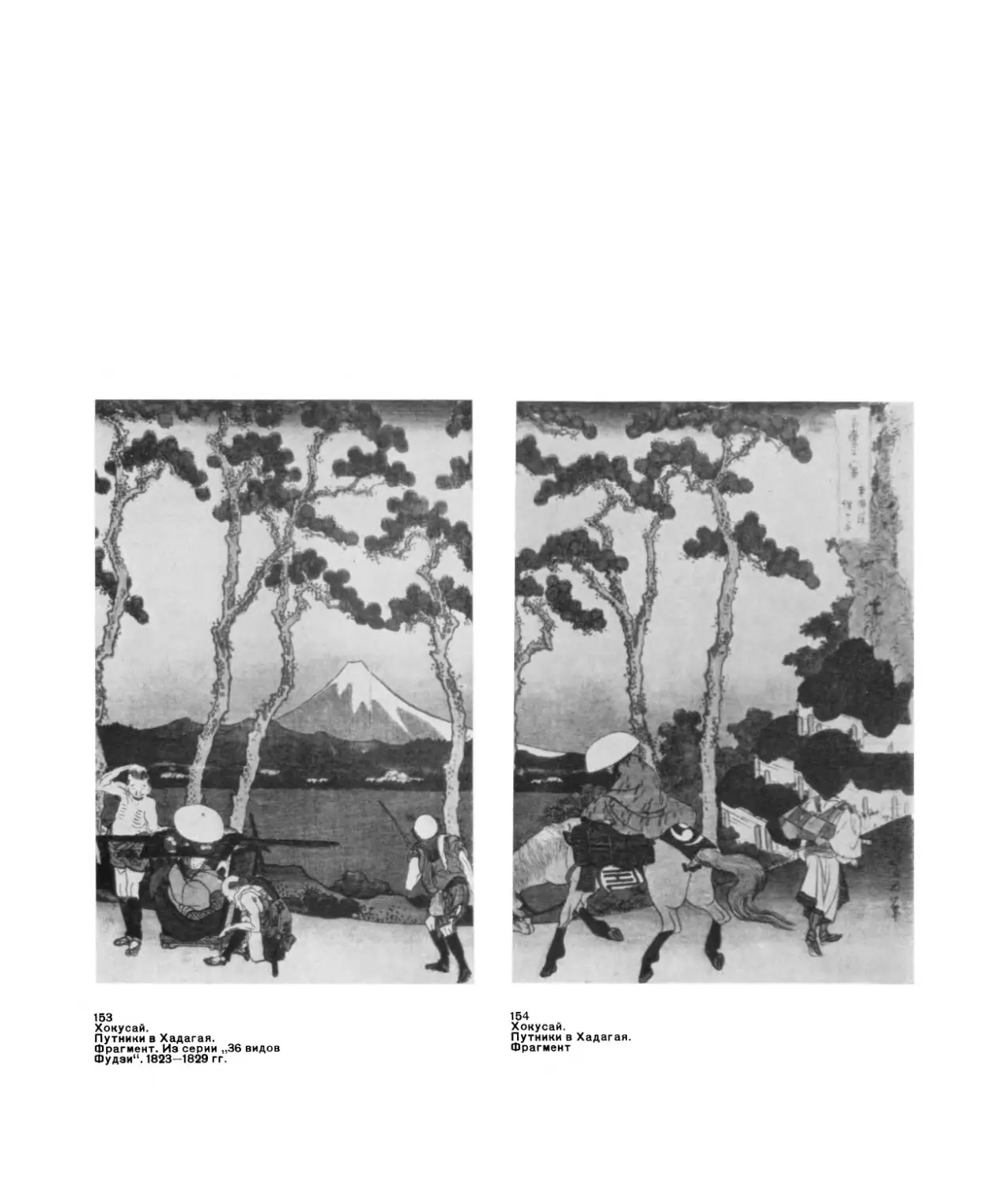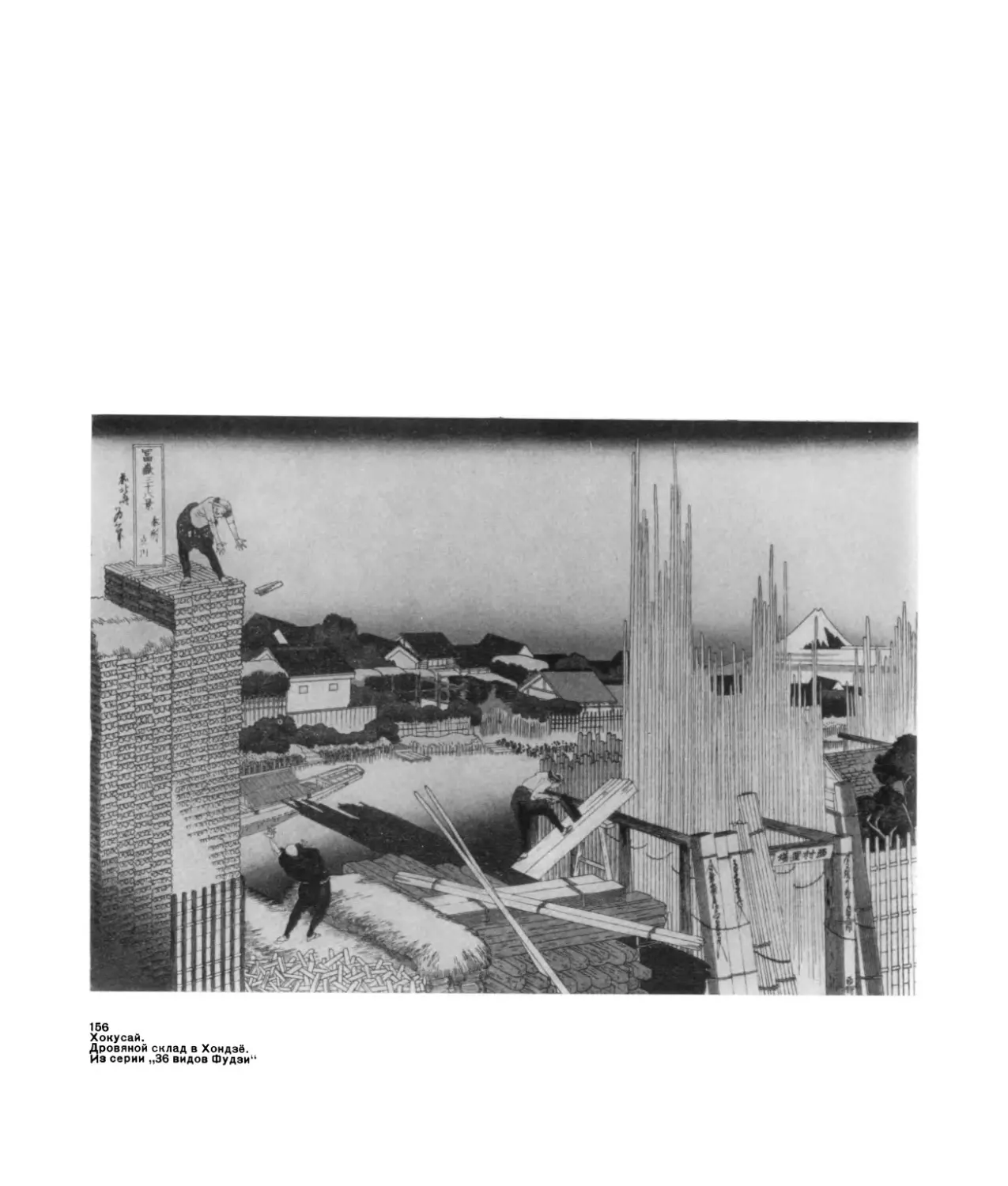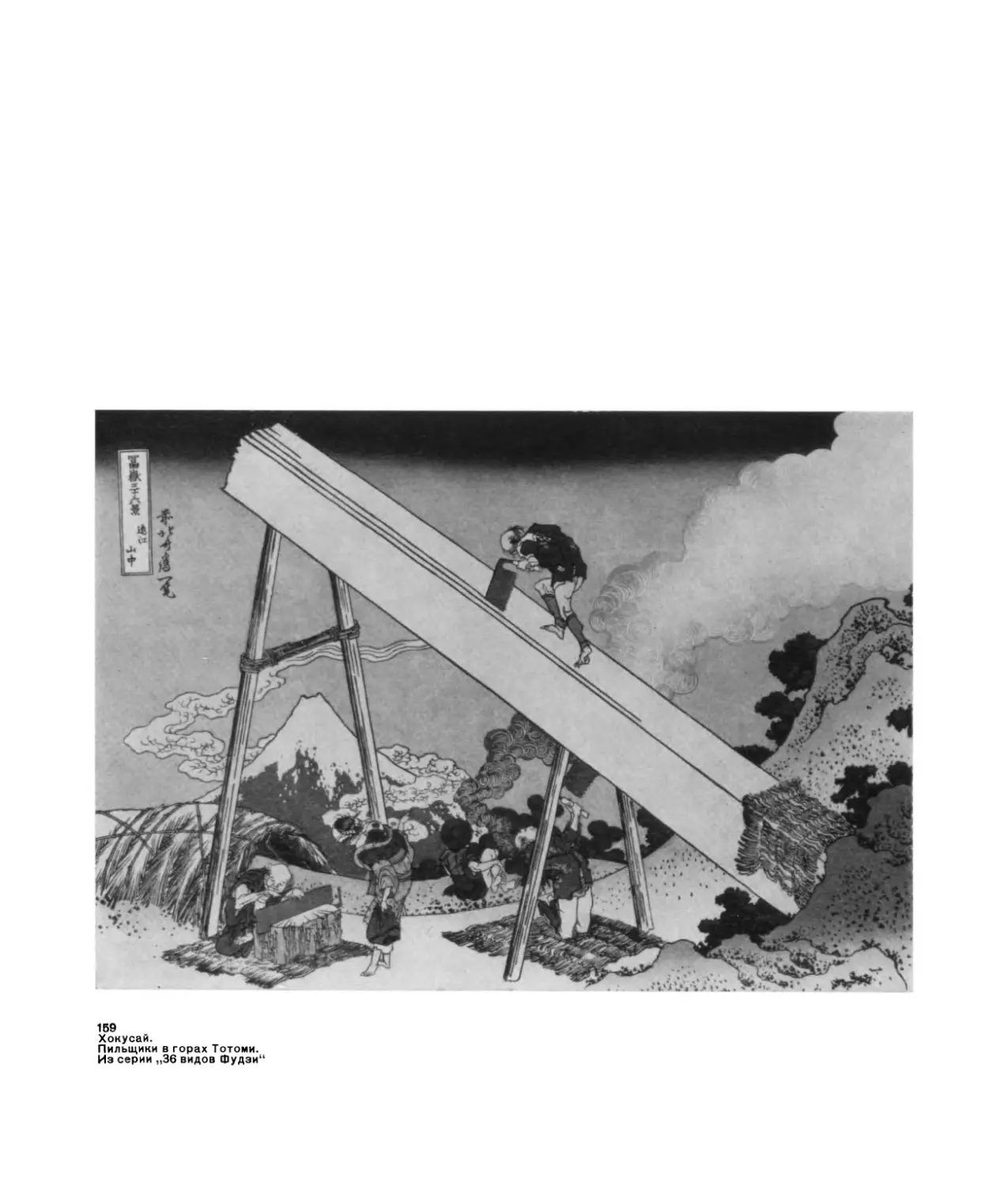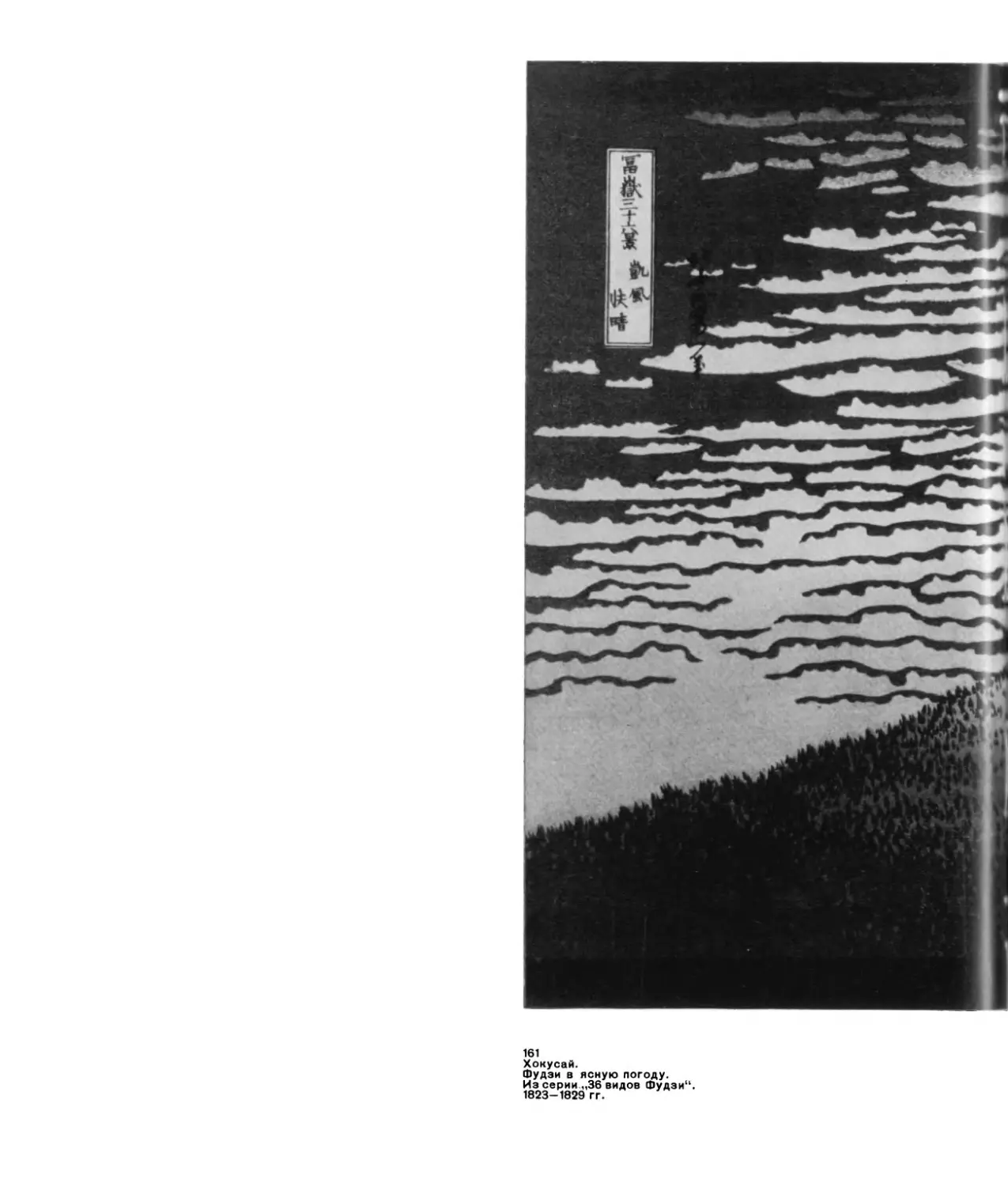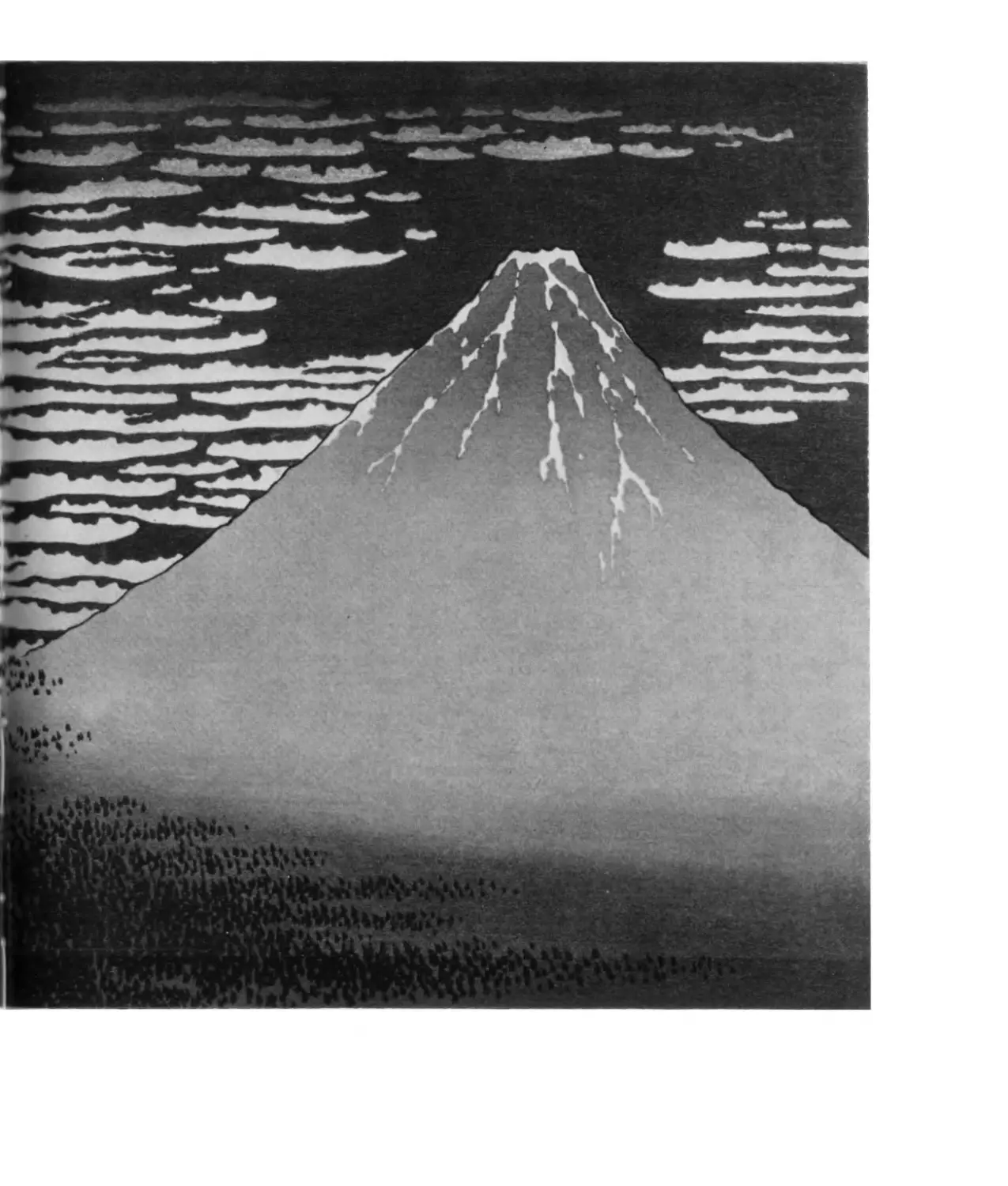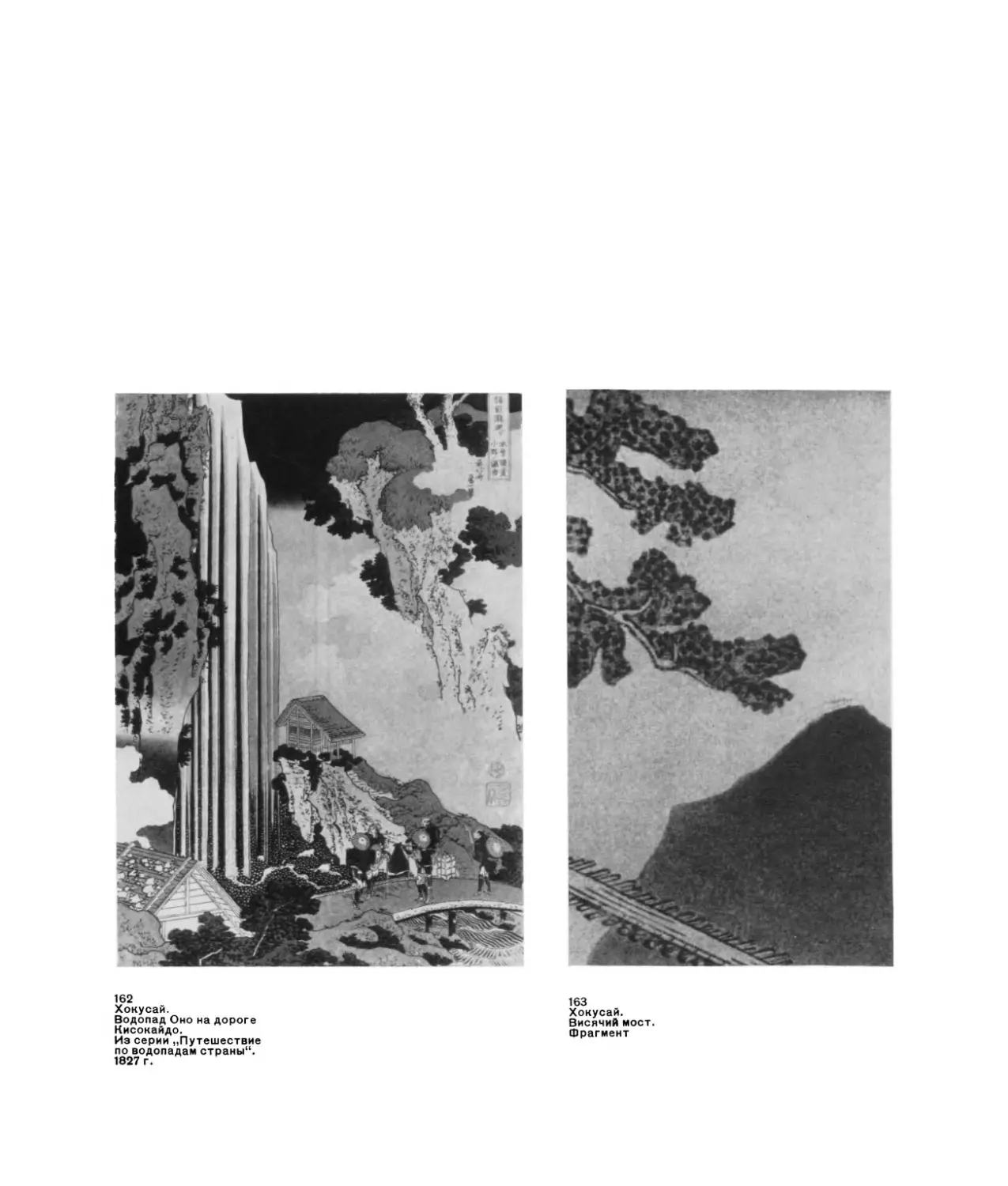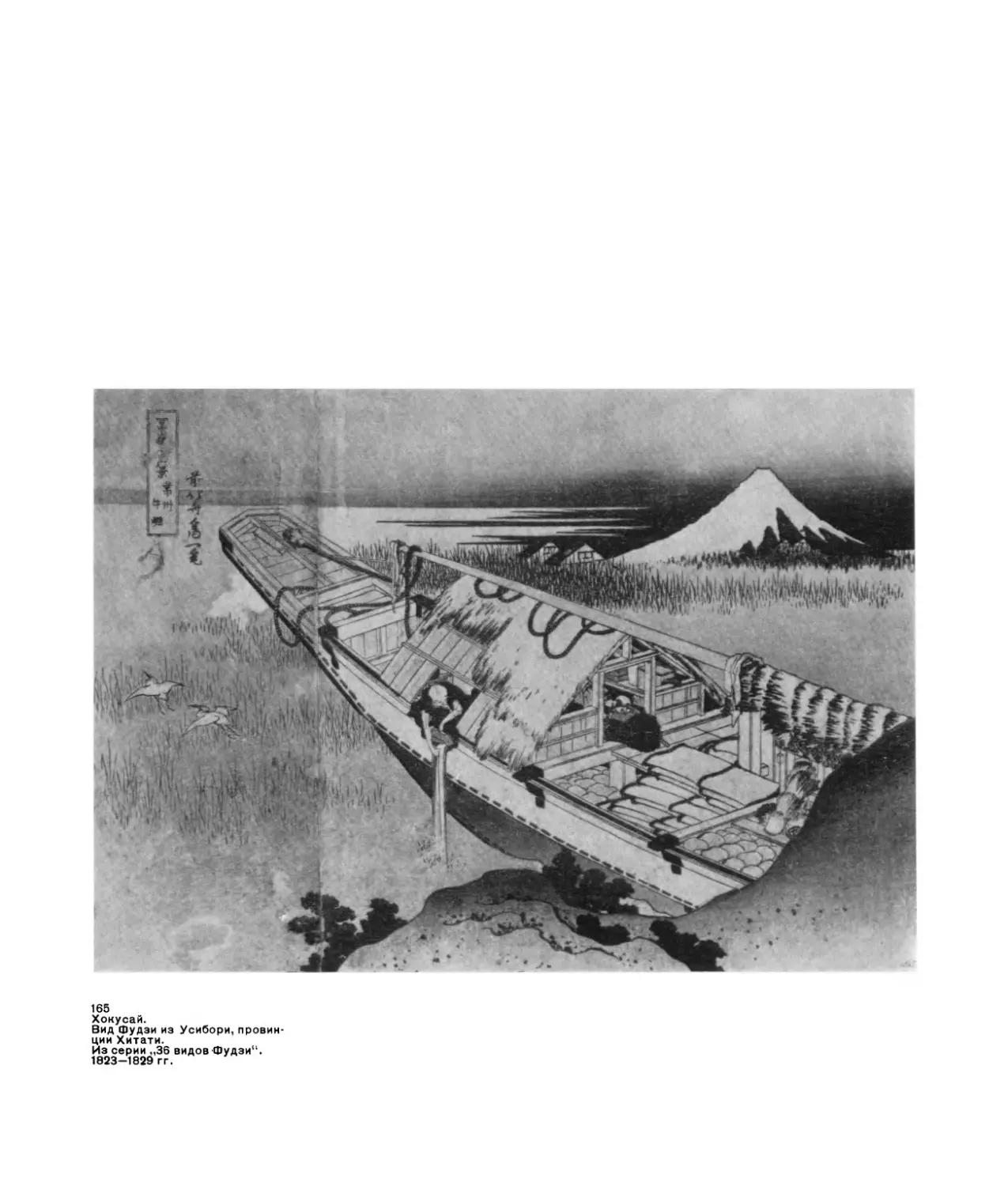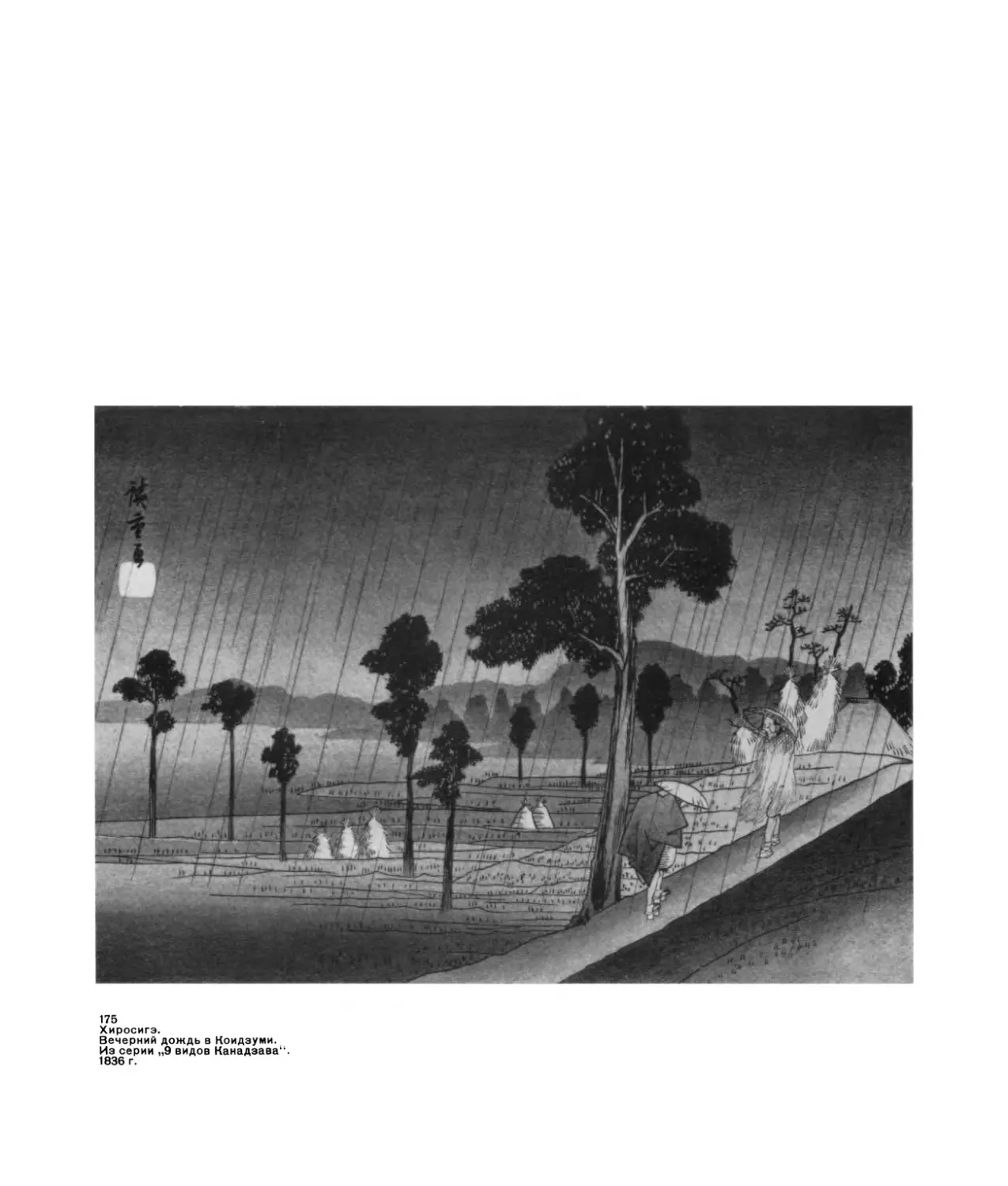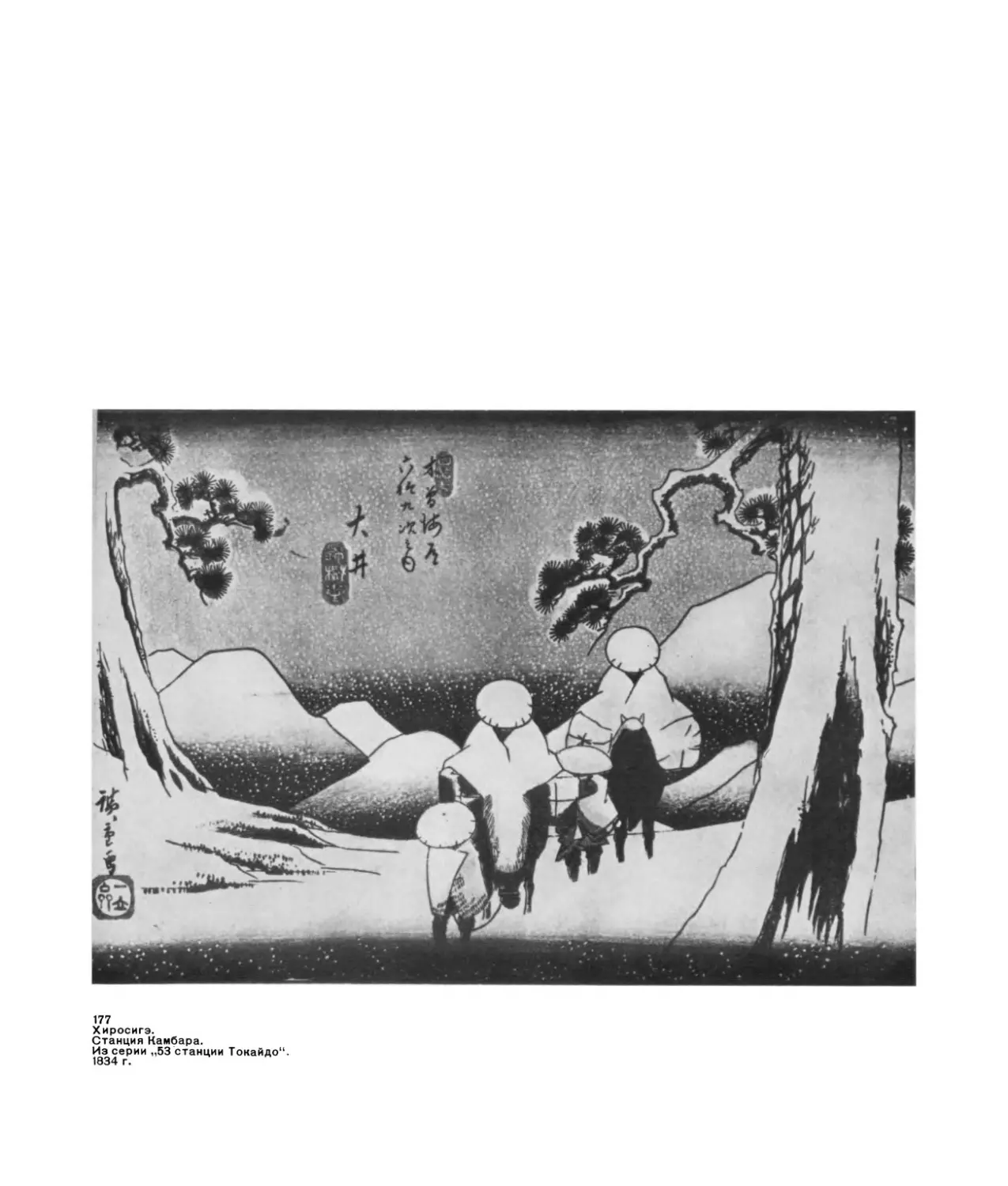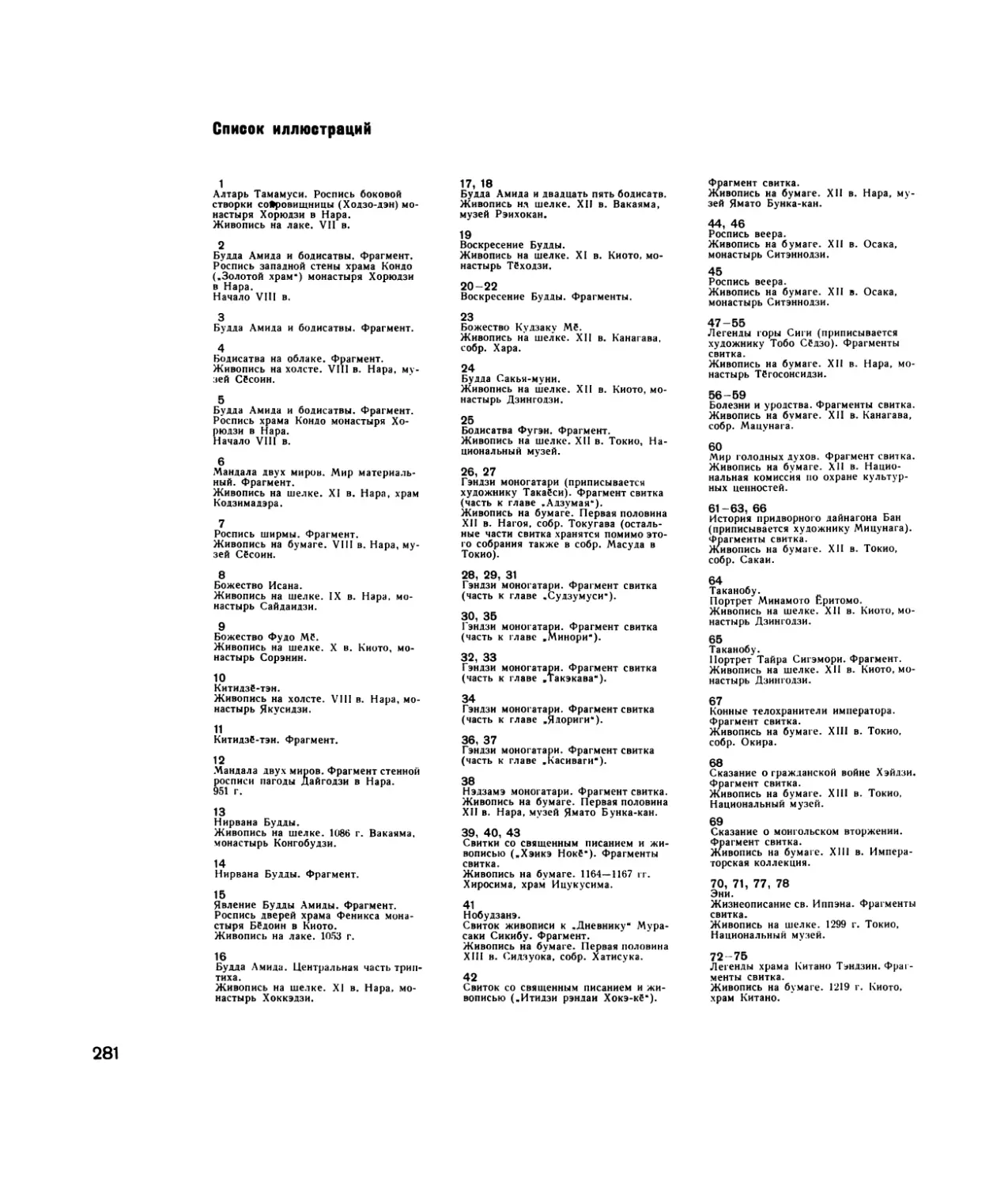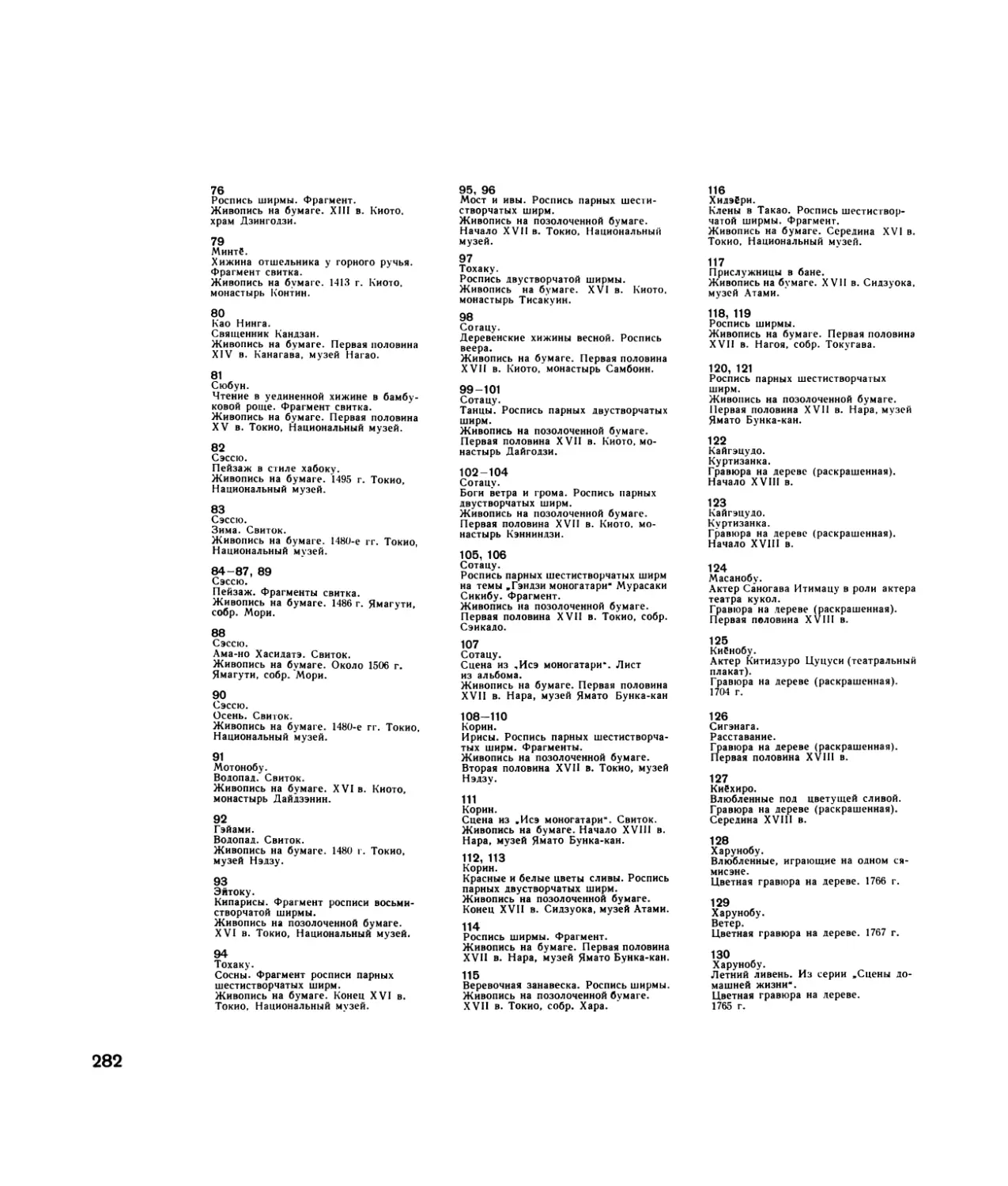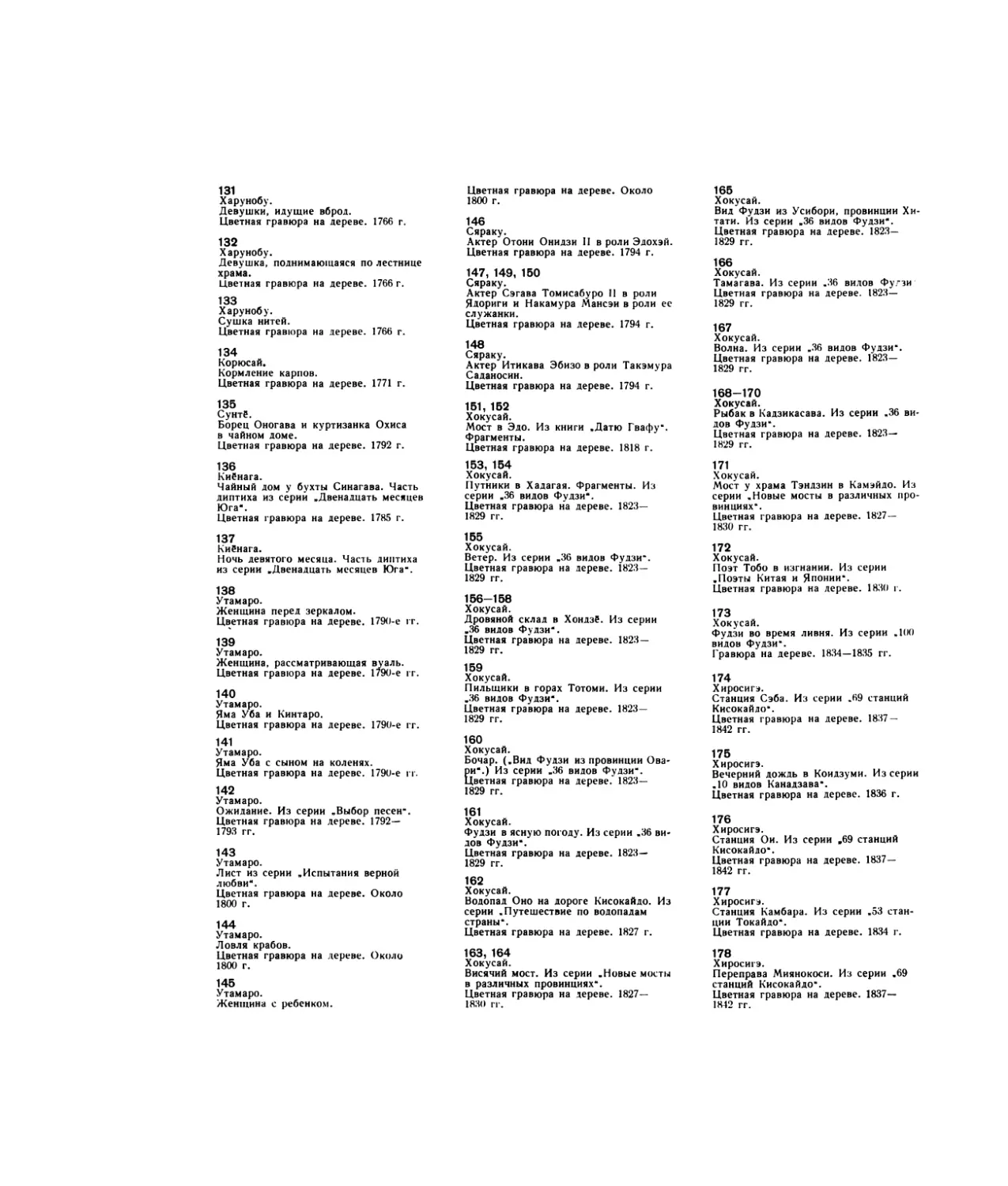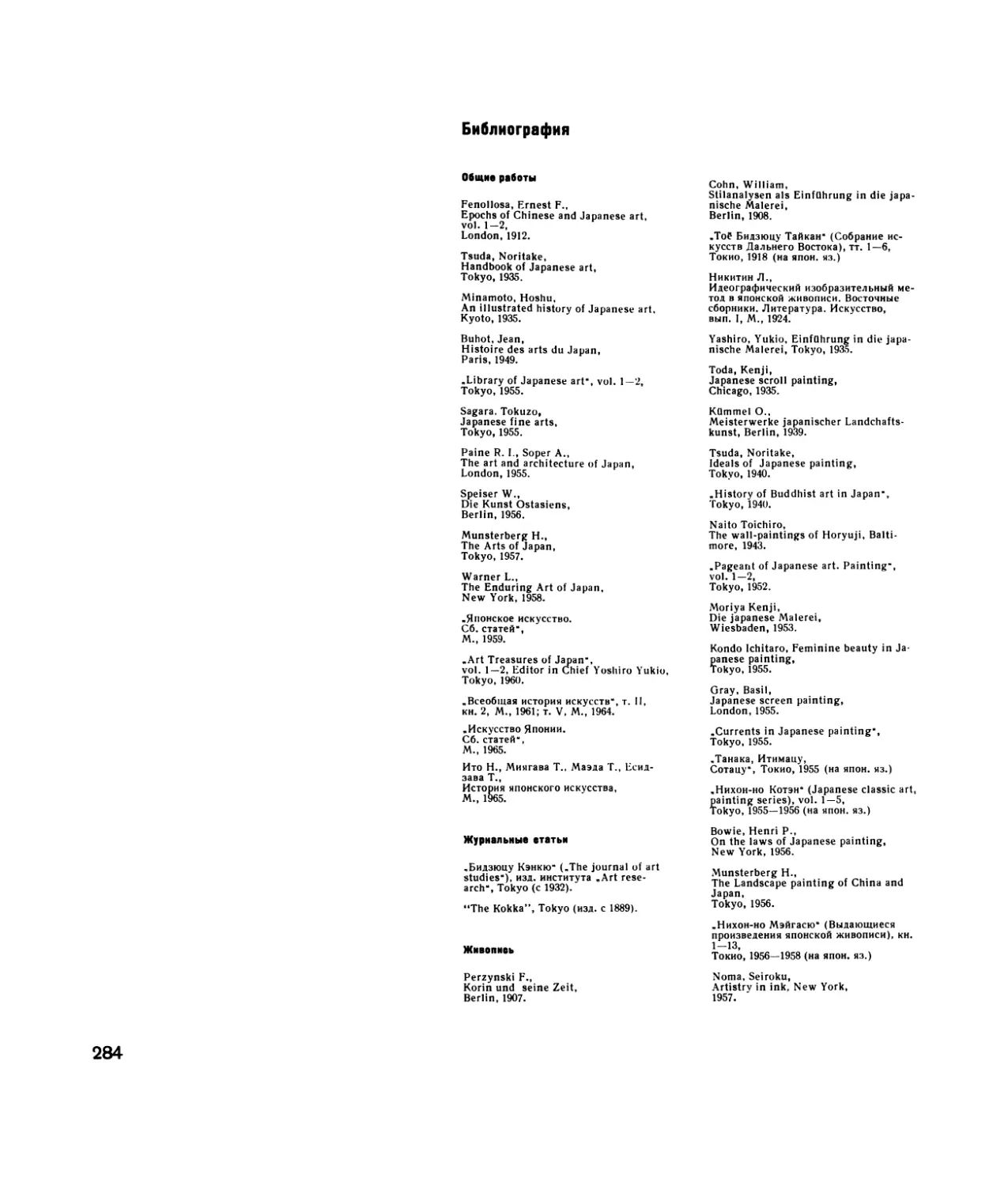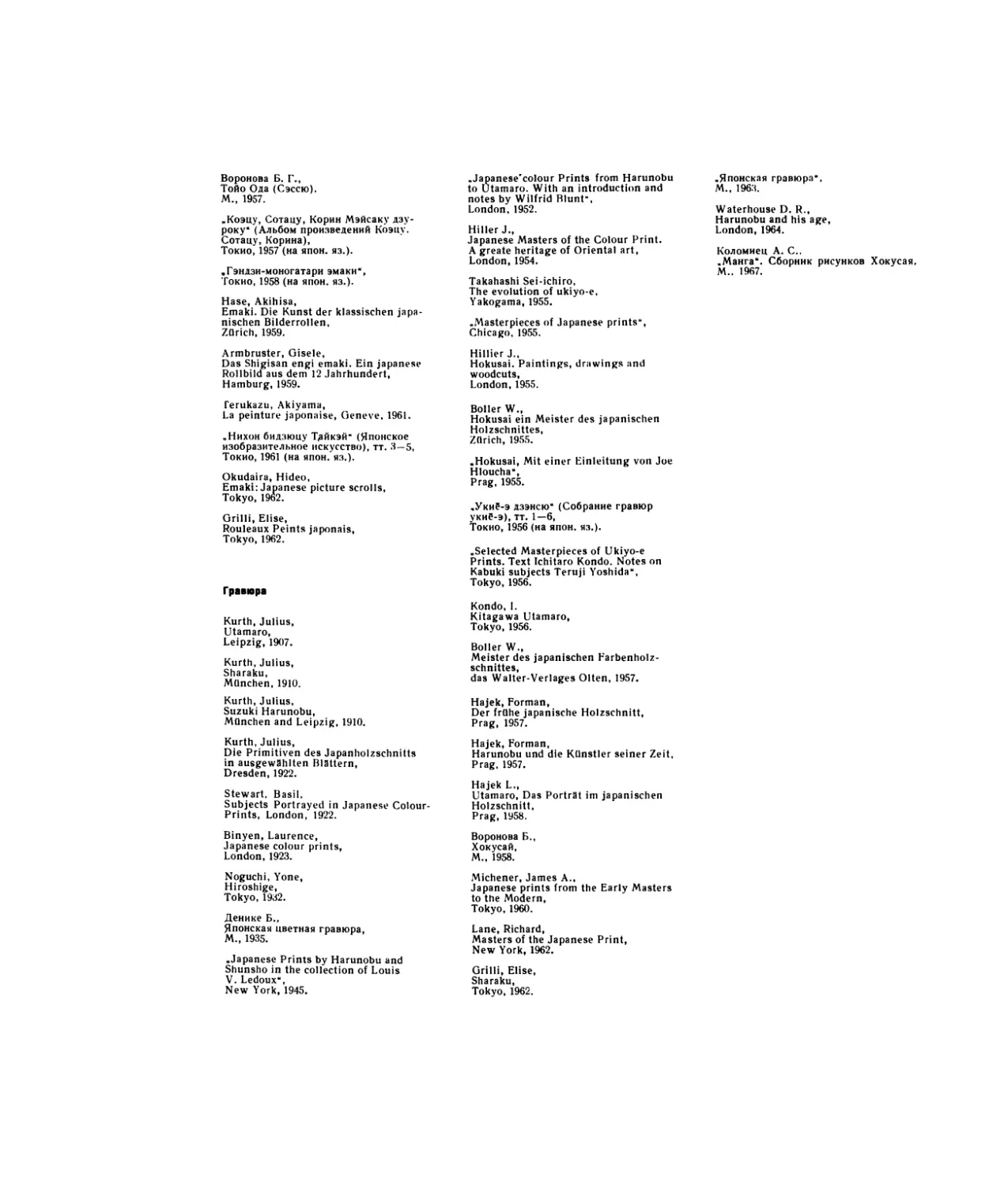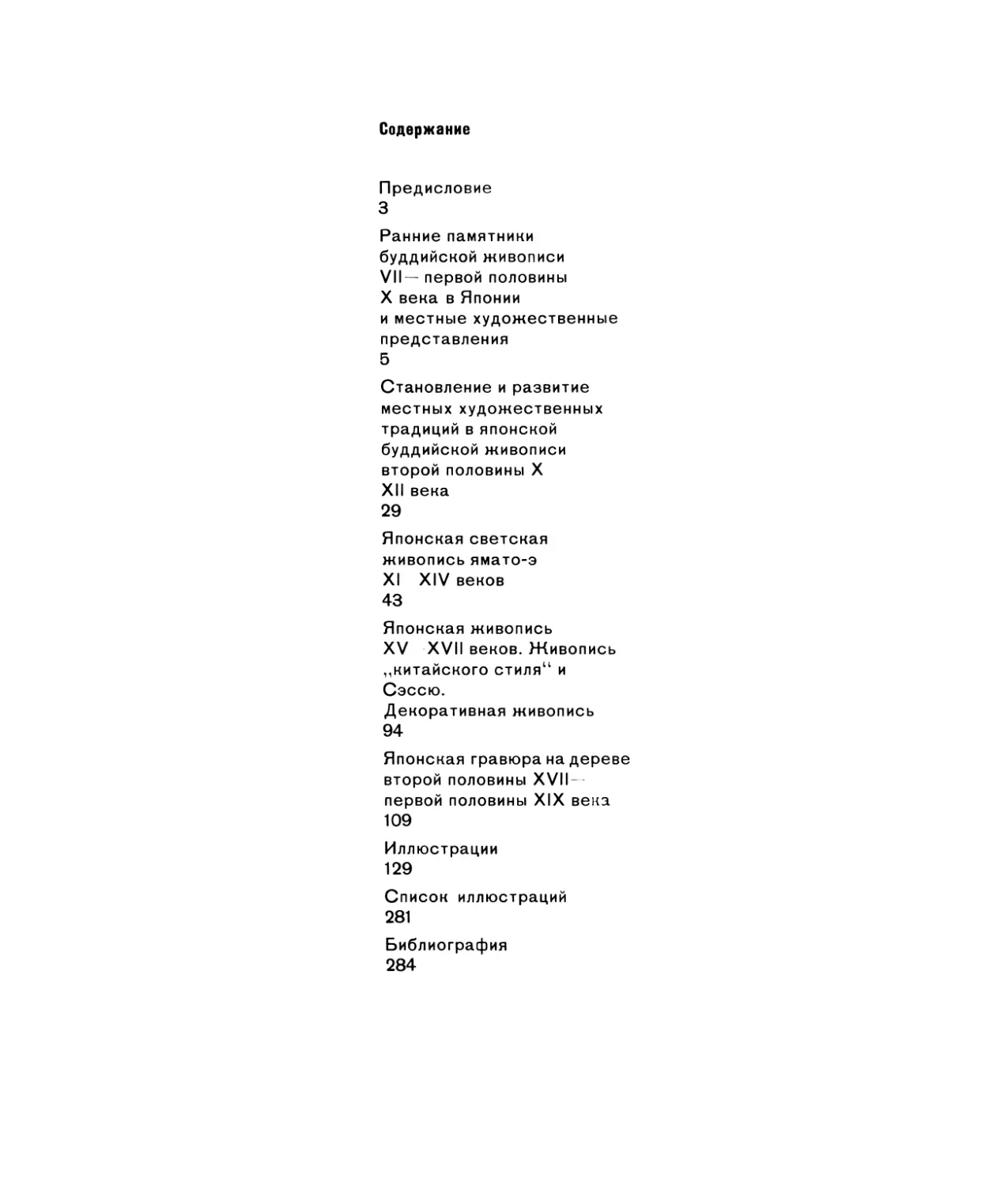Текст
ф
о
X
о
X
о
с
СК
Ф
о
X
О
ф
х
О
о
ей
с;
х
о
СО
О
о
>ч
X
о
X
В. Е. Бродский
Японское
классическое
искусство
Живопись
Г рафика
’X
х
X
о
<=С
О
CL
Ш
Ш
со
Издательство
Искусство
Японское
классическое
искусство
В. Е. Бродский
Японское
классическое
искусство
Очерки
Живопись
Графика
Издательство
Искусство11
Москва
1969
7И
Б 88
8-1-2
195-69
Предисловие
Настоящая работа посвящена вопросам эволюции японской классической
живописи и графики. Классический период развития японского искусства почти
полностью приходится на эпоху феодализма, ставшую для Японии, так же как и
для многих стран Востока, в частности для ее ближайших соседей — Кореи и
Китая, временем создания национального искусства. Феодальный период в исто-
рии Японии занимает около двенадцати веков, с VII по середину XIX. За эти две-
надцать столетий мы наблюдаем в Японии не только развитие религиозного
искусства, но и создание светского, одним из важнейших видов которого яви-
лась живопись, а затем гравюра на дереве.
Главные достижения японской живописи, как религиозной, так и в основном
светской, относятся к раннему (VII—XII вв.) и зрелому (XIII—XVI вв.) периодам
японского средневековья, расцвет гравюры на дереве приходится на его позд-
ний период и совпадает с кризисом феодальной системы1.
Развитие японского классического искусства, проходившее в течение дли-
тельного времени в условиях феодальной формации, характеризуется, однако,
не медленным и постепенным преобразованием однажды созданных идеалов и
художественных форм, а, напротив, предстает перед нами в смене различных,
часто противоположных художественных направлений, порой в драматическом
крушении одних идеалов и выдвижении новых, в смене самих художественных
форм и жанров.
В средневековом искусстве Японии мы находим и совершенно особое и
в отдельные периоды его существования различное художественное вопло-
щение одной из основных мировоззренческих проблем разных исторических
эпох, но, пожалуй, с такой определенностью впервые поставленной в средние
века,— проблемы соотношения человека и мира, то есть его осознания себя
в мыслимой картине мироздания, осознания своего места в ней, своего предна-
значения, своей роли. Японское средневековое искусство раскрывает перед
нами особый круг гуманистических идей, отразившихся в особенностях его худо-
жественных форм, в характере его эволюции.
Естественно, что японское средневековое искусство ни в коей мере не может
быть рассмотрено в отрыве от общего процесса развития искусства дальнево-
сточных стран, и прежде всего искусства Китая, которое выступало иногда как
основа и стимул его собственного развития. Однако при всем значении для Япо-
нии искусства Китая, при всей близости и порой единстве решаемых художе-
ственных задач эволюция японского классического искусства отличается рядом
принципиальных особенностей, о чем свидетельствует хотя бы такое заверша-
ющее эту эволюцию явление, как гравюра на дереве XVII— первой половины
XIX века, явление глубоко местное, теснейшим образом связанное с предшест-
вующей историей японского искусства и не знающее аналогий в искусстве дру-
гих стран Дальнего Востока.
। В японской исторической науке
принята следующая периодиза-
ция (наименование периодов
дается по названиям столиц и
резиденций правителей):
Асука (552—645), Нара (645—794),
Хэйан (794—1185), Камакура
(1185-1333), Муромати (1333-1573),
Момояма (1573—1614), Эдо
(1614-1868).
Предисловие
Выявление основных направлений, определяющих собой картину развития
японской классической живописи и графики, определение природы и характера
выдвигаемых этими направлениями художественных идеалов, выступающих
порой как результат сложного взаимопроникновения религиозного и светского
сознания, определение тех широко народных источников, которые каждый раз
в конечном итоге являлись той силой, которая преобразовывала и претворяла
воспринятые Японией элементы иноземной культуры в явления национального
японского искусства, — вот основные вопросы, вставшие перед автором
настоящей работы.
Ранние памятники буддийской живописи
VII — первой половины X века в Японии
и местные художественные представления
Начальный период истории японской живописи представляет несколько до-
шедших до наших дней буддийских алтарных и стенных росписей, датируемых
VII— началом VIII века.
нал. 1 Наиболее ранняя из них — роспись алтаря Тамамуси (первая половина VII в.) из
сокровищницы монастыря Хорюдзи, несколько позже была исполнена роспись
алтаря Татибана (670—680-е гг.) из того же собрания, дошедшая до нас во
фрагментарном состоянии; к началу VIII века относится самый значительный
иял. 2 памятник этого периода — росписи главного храма монастыря Хорюдзи — Кондо
(„Золотой храм11)J.
Названные памятники, составляя начальный период истории японской живопи-
си, определяя ее исходный момент, вместе с тем никак не могут быть отнесены
к первым опытам только возникшего и складывающегося искусства. В самом
раннем из них — алтаре Тамамуси — мы находим уже весьма совершенную форму
живописи, изощренную технику исполнения2 и свободное использование слож-
ной буддийской иконографии. Роспись алтаря Тамамуси представляет ряд от-
дельных композиций, расположенных на стенках алтаря, состоящего из пьеде-
стала и возвышающейся на нем маленькой модели храма. Темой росписи
являются различные эпизоды из жизни Будды, сцены религиозных обрядов, изо-
бражения буддийских божеств. Так, сюжетом росписи одной из стенок пьедес-
тала послужила легенда о том, как добродетель Будды в бытность его монахом
подверглась испытанию богом Индрой, явившимся в облике демона. Услышав
первую часть священной строфы, произнесенной Индрой: „Все преходяще.
Смысл закона в рождении и смерти11, желая услышать и вторую часть строфы,
Будда обещал отдать за это демону на растерзание свое тело. Тогда Индра
открыл Будде следующие строки: „За пределами рождения и смерти лишь про-
светленный11. Будда высек услышанные слова на скале и с высокого дерева бро-
сился вниз. На другой створке изображен Будда, отдающий себя на растерза-
ние голодной тигрице, и т. д.
Все разновременные эпизоды, из которых состоит избранный художником
сюжет, он объединяет в целостную композицию. Связующими моментами в ней
выступают цвет и ритмическое расположение изображенных предметов и чело-
веческих фигур, стилизованных и плоскостных, но обладающих подчеркнуто пла-
стичной формой.
На покрытых черным лаком стенках алтаря художник пишет красным, желтым
и зеленым цветом, используя и яркость насыщенного цветового пятна и его пла-
стическую выразительность. Скалы, деревья, растения трактуются художни-
ком в орнаментальном плане. Он удлиняет пропорции человеческих фигур и
включает их в общий декоративный строй росписи. Отдельные фигуры божеств
или целый сюжет претворяются здесь в ритмизированную орнаментально-деко-
ративную композицию.
Росписи храма Кондо монастыря
Хорюдзи почти полностью погиб-
ли при пожаре 1949 г.
а
Некоторые исследователи пола-
гают, что росписи исполнены
цветным лаком. Однако сущест-
вует мнение, что здесь была при-
менена техника мицуда-со — осо-
бый род живописи маслом, изве-
стный в Китае с VII в.
Японская буддийская живопись
VII — первой половины X века
Созданная во второй половине VII века роспись алтаря Татибана характери-
зуется уже иными стилистическими чертами. Свободно нанесенное цветовое
пятно уступает место четкой контурной линии. Используя главным образом
линию, а не цвет, художник более дифференцированно и тщательно прорабаты-
вает лица и фигуры божеств. Условная манера живописи алтаря Тамамуси сме-
няется здесь более приближенной к реальности художественной формой. Эта
тенденция нашла свое продолжение в обширном цикле росписей Кондо
Хорюдзи. Росписи Кондо занимали четыре большие стены (примерно три метра
на два с половиной), с изображением сцен рая, и восемь — меньшего размера
(примерно три метра на полтора), с изображением бодисатв, архатов, летящих
апсар. Имена мастеров, исполнявших росписи, неизвестны1. Не установилось
также определенного мнения об иконографии живописи больших стен. Лишь
сюжет западной стены большинством исследователей толкуется как рай Будды
Амиды. В росписях Хорюдзи мы находим как чрезвычайно развитое графическое
начало (сильную контурную линию, сложный рисунок одежды и различных архи-
тектурных деталей), так и широкое использование цвета, его формообразующих
и декоративных возможностей. Чередованием светлых и темных красок, подобно
чередованию света и тени, сообщается объемность изображенным фигурам
божеств. Частично сохранявшиеся до пожара 1949 года краски — желтая, крас-
ная, коричневая, зеленая, синяя и другие — свидетельствовали о первоначальной
многокрасочности всей росписи. Сочетание тонкой, четкой и жесткой линии
контура (красная контурная линия, используемая в росписях Хорюдзи, получила
название ,,железной проволоки11) с игрой светлых и темных красок придавало
живописной форме особую скульптурную законченность, округлость и плот-
ность. Художественные особенности росписи наиболее ярко проявились в жи-
вописи западной стены. В центре композиции изображены Будда Амида и симмет-
рично по обе стороны от него бодисатвы. Будда изображен сидящим на лотосо-
илл. з вом троне. Его руки сложены в один из канонических жестов, символизирующий
основной закон буддийского учения о причинной связи („колесо бытия11). Рису-
нок, круглясь и очерчивая формы его тела, выявляет их объемность, наполнен-
ность и плотность. При всей каноничности образа и черт лица Будды, бесстраст-
ных и отчужденных, материальность живописной формы сообщает его облику ту
степень конкретности, которая переводит его из плана отвлеченно-символиче-
ского, воспринимаемого рационально, в план, доступный непосредственно чувст-
венному восприятию. Особенно характерен с этой точки зрения образ левого
илл. в бодисатвы Канон — божества милосердия. Изогнутая линия бровей, полуприкры-
тые веками глаза, полные губы, широкие ноздри делают лицо бодисатвы почти
чувственным.
Отвлеченная религиозная идея в росписях Хорюдзи материализуется в кон-
кретных, приближенных к реальности художественных образах. Охарактеризо-
Существует старинная запись,
называющая автором росписи
корейского мастера Донтё, эмиг-
рировавшего в Японию в 610 г.
Однако достоверность этой
записи была опровергнута.
Японская буддийская живопись
VII — первой половины X века
ванные в своих основных чертах росписи алтаря Тамамуси, Татибана и Кондо
Хорюдзи являются наиболее важными памятниками японской живописи VII —
начала VIII века. До этого времени известно лишь небольшое число стенных рос-
писей, украшавших погребения и представлявших главным образом геометриче-
ские фигуры. Местный древний японский культ синто не знал никаких религиоз-
ных изображений. Появление живописи в Японии было связано с распростране-
нием в стране буддизма, начавшего проникать в Японию с материка уже в IV веке
^получившего в 552 году официальное признание. Попытка проследить все источ-
ники японской живописи VII— начала VIII века увела бы нас с японских островов
на материк, в Корею и Китай, а затем еще дальше — в Центральную Азию и
Индию. В манере изображения человеческих фигур и предметов росписи алтаря
Тамамуси многие исследователи видят сходство с китайской живописью Дунь
Хуана1 периода шести династий (221—589). Достаточно ясно выступает также
общность стиля росписи алтаря Тамамуси и японской деревянной скульптуры
этого времени, очень близкой корейским и китайским образцам. Росписи Хорю-
дзи обычно сравнивают с индийской живописью в пещерах Аджанты и вместе
с тем отмечают их близость идеалу китайского искусства эпохи Тан (618—907).
Объемно-пластический тип индийской живописи становится в росписях Хорюдзи
более линеарным и статичным, что в целом характерно для тех изменений, кото-
рые претерпевают образы индийского искусства на китайской почве.
Дошедшие до наших дней памятники японской буддийской живописи VII —
начала VIII века создавались в период наибольшей активности буддизма, сыг-
равшего исключительную роль в истории искусств стран Дальнего Востока.
К этому времени буддизм, давно распространившийся за пределы своей перво-
начальной родины — Индии, становится важнейшим фактом в жизни народов
Центральной Азии, Китая, Кореи, оказывает глубокое влияние почти на все сто-
роны их культуры, и, наконец, в VI веке через Корейский полуостров начинается
его активное проникновение в Японию. В Японию проникает именно та форма
буддизма, которая получила широкое распространение в Китае, — северный
буддизм (махаяна). В отличие от южного буддизма (хинаяны), более раннего и
более близкого к первоначальному учению Будды, северный (махаяна) в своем
развитии разрабатывал главным образом те стороны буддизма и выдвигал такие
идеалы, которые были наиболее притягательны для самых широких слоев на-
селения.
Центральную часть ученияТаутамы Будды составляют так называемые
„четыре благородные истины11: признание того, что жизнь — это бесконечный
путь трагических противоречий, путь страдания; существование причин страда-
ния; утверждение возможности прекращения страдания; указание пути к избав-
лению от страдания. В качестве идеала в хинаяне выдвигался архат, отшельник,
отрекшийся от мирской суеты, от всех земных привязанностей и желаний, и в
См: Н. Munsterberg, The art of Japan,
Tokyo, 1957, p. 30.
Японская буддийская живопись
VIII — первой половины X века
этом свободном состоянии постигший сущность и природу бытия. Сам мировой
процесс бытия рассматривался как безначальный и безличный, вечно меняю-
щийся и развивающийся в гранях, обусловленных законом причины и следствия.
Закону причины и следствия подчиняется и жизнь каждого человека. В беско-
нечном круге рождения и смерти нынешняя жизнь индивидуума является след-
ствием прошлой, так же как последующая — следствием настоящей. В этом
состоит закон Кармы, или моральной ответственности.
В этом круге сохраняется каждый шаг, пройденный индивидуумом по пути
совершенствования, и в этом залог его будущего спасения. Каждый, полагаясь
на свои силы, должен совершенствоваться, продвигаясь по благородному
восьмеричному пути, указанному Буддой, и таким образом приближая будущее
спасение. Причем момент совершенствования заключался не в улучшении чело-
веческого типа и даже не в развитии заложенного в нем доброго начала. Идея
совершенствования исходит прежде всего из признания того, что ,,уровень
человеческого остается всегда одним и тем же. Возможно преодоление этого
типа, но не улучшение его111. Существо очистившееся, освободившееся от не-
счастий жизни, так же как от счастья и радости, равно суетных, перестает быть
человеком.
В северном буддизме по мере его развития историческая личность Гаутамы
Будды постепенно была вытеснена божественным ликом вечного и бессмертного
Будды. Кроме того, появляется ряд новых будд. Так, например, в Японии в пер-
вый период проникновения буддизма кроме Будды Сакья-муни, то есть обоже-
ствленного образа Будды исторического, были популярны Будда Якуси (Будда
Врачеватель) и Будда Мироку — божество, которое должно стать в будущем
Буддой. Идеал архата преобразуется в бодисатву, в существо, прошедшее
через многочисленные жизни, достигшее просветления, но движимое состра-
данием, не уходящее из этой жизни, а помогающее всем страждущим найти
путь спасения.
В махаяне сформировался грандиозный пантеон богов, который благодаря
исключительной способности буддизма к ассимиляции и его терпимости по отно-
шению к другим религиозным учениям включил в себя большое число божеств из
религий и культов различных народов, принявших буддизм. При всем пафосе и
широте своей миссионерской деятельности буддизм никогда не объявлял себя
единственно правильным вероучением, а все другие ересями. Это открывало
широкую возможность контакта с местными религиозными институтами и культу-
рой в целом, свободного с ними сосуществования и взаимодействия. Так, буддий-
ская религия, философия, литература, искусство, проникнув в Китай, влившись
в его культуру, стимулировали развитие в ней новых тенденций и вместе с тем,
развиваясь с ней в органической взаимосвязи, видоизменились под ее воздей-
ствием, приобрели специфически местные черты и формы.
См: О. О. Розенберг, О миросо-
зерцании современного буддизма
на Дальнем Востоке. Пг., 1919.
стр. 35.
8
Японская буддийская живопись
VII — первой половины X века
Буддизм, проникший в Японию, обладал уже всеми особенностями китаизиро-
ванной формы. Сложная буддийская иконография, сформировавшаяся в Индии
и нашедшая там свое первое воплощение в искусстве, проникла в Японию
в основном уже в китайском обличье и принесла с собой образы индийской буд-
дийской живописи уже в их китайском варианте. Из Китая, а также и из Кореи
приходит в Японию и развитая живописная техника. „Стоя перед смутно про-
ступающими фигурами росписи на стенах Хорюдзи, — пишет Б. Роуленд, — чув-
ствуешь себя во власти богов Индии111. В своей истории китайского искусства
О. Сирен пишет о фресках Хорюдзи: „Ни один из исследователей не может
утверждать их исключительно японский или китайский характер. Скорее, это
комбинация элементов стиля Дальнего Востока и Центральной Азии112.
Таким образом, особенность начального периода истории японской живописи
заключается в том, что на ее заре были созданы памятники, явившиеся резуль-
татом взаимодействия различных более развитых культур континентальных
стран, стоявших тогда и на более высокой, чем Япония, ступени экономиче-
ского, социального и политического развития, и среди них — такой памятник, как
роспись Хорюдзи, художественные достоинства которой позволяют отнести ее
к лучшим образцам дальневосточной буддийской живописи. Однако появление
подобных памятников в Японии в VII—начале VIII века, последовательность их
смены и, наконец, создание такого памятника, как росписи Хорюдзи, с совер-
шенно определенной направленностью стилистического типа, не было чем-то
случайным и изолированным в жизни Японии того времени, а, напротив, находи-
лось в тесной связи с самой сутью переживаемого ею исторического момента.
К началу VII века Япония находилась на стадии завершения процесса форми-
рования раннефеодального государства. В 607 году к китайскому двору прибыло
японское посольство, впервые представительствовавшее от всей Японии.
Письмо, переданное посольством китайскому императору, было от имени импе-
ратора „Страны восходящего солнца11. Образцом для всех сил в Японии, стре-
мящихся к созданию единого государства, становится Китай.
Китай, в 618 году объединившись под властью Танской династии, превра-
щается в самое мощное на Востоке феодальное централизованное государство.
Грандиозность территории Китая, обширность его связей с другими народами —
Индии, Тибета, Персии, арабского Востока и др. — не могли не поражать япон-
цев, а разработанность государственно-административной системы, разнооб-
разная и напряженная жизнь столицы Чанъани, роскошь быта ее дворцов, высо-
кие достижения литературы и искусства не могли не вызывать стремления к под-
ражанию. Разумеется, это не было первым знакомством японцев с Китаем.
История Японии развивалась в постоянном контакте со странами Восточной
Азии. Еще в I веке н. э. на японские острова через Корею ^проникает влияние
китайской культуры эпохи Хань (206 г. до н. э. — 220 г. н. э.). Позднее Япония
*
В. Rowland, The frescoes of Horyuji in
their relation to Indian and Central
Asien Painting and religion. — В кн.:
Naito Toichiro, The Wall-painting of
Horyuji, Baltimore, 1943.
O. Siren, Chinese Painting. Leading
masters and principles, vol. I, London,
1958. p. 85.
Японская буддийская живопись
VII — первой половины X века
все более вовлекалась в сферу влияния Китая. В 405 году Япония, не имевшая
своей письменности, в качестве официального языка признает китайский. Это
значительно ускорило усвоение различных аспектов китайской культуры и
облегчило распространение буддизма, чьи священные книги попадали в Японию
уже в китайских переводах. В VII веке между Японией и Китаем устанавли-
вается прочная связь. В Китай посылаются в качестве студентов многие японцы,
в Японию приезжают китайские, а также корейские архитекторы, скульпторы,
живописцы, ремесленники, которые находят широкое применение своей деятель-
ности при постройках многочисленных буддийских монастырей. Только в конце
VI и первой половине VII века было воздвигнуто более сорока храмов и монасты-
рей и в том числе Хорюдзи. Приезжим художникам начинают покровительство-
вать двор и знать.
Если до VII века Япония выступает в качестве страны, во многом пассивно
воспринимающей элементы более высокой китайской культуры, как, например,
культуру ханьского Китая, достигшую Японии, когда та находилась на стадии
патриархального общества, то начиная с VII века Япония сознательно и активно
содействует перенесению культуры Китая, определяет отбор ее элементов и
приспосабливает их к местным условиям. В это время Япония как по своему
социально-политическому укладу, так и по религиозной идеологии оказывается
в одном ряду со странами Дальнего Востока, со своими ближайшими соседями —
Кореей и Китаем.
В 618 году в Японии создается документ — ,,17 статей принца Сётоку-тайси“,
выражающий представление об идеальном типе управления страной и свидетель-
ствующий об органичном восприятии китайской философии конфуцианства и
философии буддизма, претворенных в идее полновластного и мудрого государя.
Этот документ предшествовал так называемому „перевороту Тайка“, происшед-
шему в 645 году и окончательно установившему в стране феодальные отноше-
ния. Вся земля объявляется собственностью государства; устанавливается
надельная система. Многие интересы феодальной Японии находились теперь
в той же сфере и на том же уровне политических задач и культурных устремле-
ний, что и интересы Китая. Однако если государственная власть в Китае в этот
период прочно стабилизировалась, то в Японии она находилась в процессе ста-
новления и укрепления. Идее государственности подчиняются в это время все
стороны жизни Японии.
В религии и философии господствующий класс в это время искал главным
образом поддержку’и обоснование своим социальным и политическим преобра-
зованиям. Покровительствуя буддизму, устанавливающаяся абсолютная монар-
хия в единстве верховного божества и иерархической организации буддийской
церкви видела аналогию своим светским установлениям. Эта характерная черта
идеологии японского общества того времени не могла не оказать своего влияния
10
Японская буддийская живопись
VII — первой половины X века
на все то, что под воздействием иноземной культуры создавалось теперь в Япо-
нии, и особенно на такой общественный тип искусства, как росписи буддийских
храмов, где происходили не только религиозные, но и политические диспуты.
Ко времени создания росписей алтаря Татибана и Хорюдзи в искусстве Япо-
нии достаточно прочно устанавливается определенный стилистический тип. Его
отличительными чертами в буддийской скульптуре были монументальность рели-
гиозного образа, проникнутого суровым и возвышенным духом веры, и вместе
с тем тенденция к его индивидуализации, к конкретизации его характеристики.
В архитектуре ему соответствовала строгость, торжественность и величе-
ственность обширных храмовых ансамблей. Идеалом, выдвигаемым эпохой, был
не отвлеченный, зашифрованный в сложных символах образ, а, напротив, образ,
воспринимаемый непосредственно в своей материально-конкретной форме
и ясном эмоциональном строе. Умонастроения японского общества того времени,
целеустремленность идеи государственности, преломляясь в аспекте религиоз-
ном и эстетическом, находили свое выражение в требовании доступности, про-
стоты религиозной концепции и материально-конкретной убедительности ее
художественного воплощения.
Именно такому роду художественных представлений был подчинен образный
строй живописи храма Кондо в Хорюдзи. Идеальность образов росписей Хо-
рюдзи, их величественный и возвышенный характер и вместе с тем приближенная
к реальности художественная форма как нельзя лучше выражали требования
времени.
Несколько сохранившихся до наших дней памятников японской буддийской
живописи VII — начала VIII века не позволяют проследить путь последователь-
ных изменений от росписей алтаря Тамамуси до Хорюдзи, раскрыть в полной
мере характер взаимодействия этой живописи с местными художественными
требованиями. Однако в смене отвлеченного, условно-декоративного типа изоб-
ражений алтаря Тамамуси несравненно более реальным и конкретным — в алтаре
Татибана и росписи Хорюдзи можно видеть не только результат различных и
разновременных влияний материкового искусства, но и проявление местной
тенденции. При всем многообразии иноземных источников первые памятники буд-
дийской живописи в Японии органично входят в историю ее искусства. Росписи
Хорюдзи вместе со скульптурой, располагавшейся в обширном интерьере глав-
ного храма, и его архитектурой образуют единый стилистический комплекс,
определивший основные черты японского искусства вплоть до начала IX века.
Однако для более глубокого уяснения причин, способствовавших утверждению
в искусстве Японии VIII века идеала, воплощенного в росписях Хорюдзи, для
рассмотрения дальнейшего развития японской живописи кроме социально-поли-
тических преобразований и стимулируемой ими художественной тенденции,
кроме факторов, существенным образом влиявших на ход истории Японии, но
11
Японская буддийская живопись
VII — первой половины X века
проникавших извне, исключительно важным представляется выяснение той мест*
ной культурной традиции, тех местных художественных представлений, которые
сложились задолго до появления в Японии буддийского искусства и продолжали
существовать и развиваться и тогда, когда в стране начали строиться многочис-
ленные буддийские храмы, создаваться буддийская скульптура и живопись, рас-
пространяться китайская культура.
До последнего времени большинство искусствоведов почти не касалось во-
проса о связи добуддийского, древнейшего периода культуры Японии с более
поздними явлениями в ее искусстве. Однако нам представляется, что раскрытие
этой связи могло бы дать ключ к пониманию многих особенностей японского
искусства как на ранних, так и на более поздних стадиях его развития. Несмо-
тря на всю силу влияния и огромное значение китайской культуры и буддизма,
нельзя не отметить, что новая культура и религия к концу VII века охватили еще
только верхние слои японского общества. Страна в целом, по существу, жила
прежними, давно установившимися представлениями и традициями.
Наиболее обширный материал, позволяющий судить о своеобразии творче-
ского интеллекта древних японцев, о присущих им особенностях художествен-
ного мышления, дает древняя японская мифология. Мифы древней Японии дошли
до нас в известном письменном памятнике VIII века ,,Кодзики“(,,Записки древно-
сти“). Многие мифы и сказания, собранные в ,,Кодзики“, восходят к древнейшим
религиозным представлениям японцев, к периоду первобытнообщинного строя,
с его анимистическим природным культом, который явился ранней формой рели-
гии, много позднее ставшей называться синто (путь богов). Объектами поклоне-
ния этого древнего культа были солнце (религия древней Японии определяется
так же как форма солнечного культа), луна, различные проявления природных
стихий; поклонялись также деревьям, цветам, источникам и т. п. В представ-
лении древних японцев мир был населен несметным числом самых различных
духов, они присутствовали во всем, с чем приходилось сталкиваться человеку.
Многочисленные духи гор, рек, дождя, ветра, деревьев, незримо присутствуя,
принимали участие в жизни людей. Древние хроники рассказывают о деревьях,
траве, скалах и источниках, которые могли говорить. Однако в политеизме ран-
него синто отношение человека к миру выступает скорее в форме простой и
даже грубоватой в своем непосредственном общении с невидимыми потусторон-
ними силами, в своем чувственном изобилии обожествляемых объектов, чем
в ощущении пугающей таинственности бытия вселенной. Как одну из особен-
ностей, характеризующих мировосприятие древних японцев, историки отмечают
отсутствие в их мифологии самостоятельного мифа о боге землетрясения, хотя
его создание в стране, где частые землетрясения приносили много бедствий,
казалось бы естественным. В этой связи интересен характер имен, которыми в
мифах японцы называли свою страну: ,,Страна плодородных тростниковых рав-
12
Японская буддийская живопись
VII — первой половины X века
нин44 ,,свежих рисовых колосьев11, ,,Страна тысячи осеней14. В. Астон в своей
книге, посвященной истории синтоизма, характеризует древнюю религию япон-
цев как „религию благодарности и любви скорее, чем страха411.
Большая часть религиозных обрядов в этом обращенном к природе культе
была связана с благодарственными молитвами созидательным силам природы.
Другая — с обрядами очищения от скверны, причем в понятие скверны входили
главным образом смерть и то, что ей предшествовало,— увядание, разрушение,
болезнь. Таким образом, в самой направленности обоих типов обрядов можно
видеть определенное проявление жизнеутверждающего восприятия окружаю-
щего человека мира. Эта характерная черта восприятия, улавливаемая в особен-
ностях древнего мифотворчества, в различных обрядах раннего синтоизма, для
уяснения своеобразия местных художественных представлений имеет весьма
существенный интерес. Именно такого рода ощущение действительности можно
поставить в прямую связь с возникновением антропоморфической тенденции
в японской мифологии, приведшей к созданию ряда космогонических мифов
с явно выраженным антропоморфическим характером. Божество солнца посте-
пенно превращается из чисто природного объекта в божество антропоморфиче-
ского характера— владычицу небес с двором и советом богов. Подобные изме-
нения претерпел и бог земли Оку Нидама и др.
Историки японской культуры начало развития антропоморфической концепции
относят к древнейшим временам, отмечая вместе с тем неясность и смутность
ее выражения, богатство образной стороны мифов, но неопределенность харак-
тера богов и их сил. В этой неясности пантеона, а также неоднородности самой
религии, включавшей многочисленные родовые верования, многие историки видят
основные причины отсутствия каких-либо религиозных изображений в синто-
изме.
Однако при всей нечеткой внутренней оформленности антропоморфической
концепции в мифах древних японцев раскрываются те черты, которыми было про-
никнуто земное, реальное существование народа. Его жизненная активность,
яркость и сила темперамента, „стихийная жизнерадостность4 42 нашли свое
воплощение в героях легенд и сказаний, в самом характере описываемых собы-
тий, в точке зрения, с какой эти события рассматриваются. В одном из цент-
ральных мифов, повествующем о боге Идзанаги и богине Идзанами, создателях
Страны восьми больших островов, то есть Японии, и всего существующего на
земле, весьма характерен спор между богом Идзанаги и его супругой богиней
Идзанами3.
В споре бог Идзанаги выступает как воплощение сил созидательных, добра и
света; богиня же Идзанами, удалившаяся в страну Мрака, олицетворяет силы
разрушительные, силы смерти и тления. Идзанаги, побуждаемый желанием вер-
нуть свою супругу, так как созданная им страна „еще не устроена44, нарушает
1 » л
W.G. Aston, Shinto, London, 1905, р. 5. См.: О. О. Розенберг, Проблемы Изложение мифа дается у Пину-
буддийской философии, ч. 2, Пг., са. См.: Е. М. Пинус, Древние
191о, стр. 17. мифы японского народа. — В сб.
„Китай. Япония1*, М., 1961, стр.
220-228.
Этот миф составляет второй этап
в повествовании ,,Кодзики“ —
о происхождении и истории ми-
13
Японская буддийская живопись
VII — первой половины X века
ее запрет и проникает в страну Мрака. Но пораженный всей „скверной11 загроб-
ного мира и увидев рождающую чудовищ Идзанами, он произносит слова, растор-
гающие их брачный союз. „Мой возлюбленный супруг, — говорит ему Идзанами,—
если ты изволишь так поступить, я задушу в один день тысячу человек из этой
людской поросли в твоей стране11 (то есть в наземном царстве). „Моя возлюб-
ленная супруга, — отвечает ей Идзанаги, — если ты изволишь так поступить,
я сооружу в один день тысячу пятьсот убуя44 (то есть домиков для рожениц).
В конкретности и простоте слов могущественного бога Идзанаги неожиданно
проявляется земное, человеческое начало. В своей естественности ответ Идза-
наги снимает на мгновение божественность, иррациональность мифа и низводит
действие в сферу человеческих деяний. Примечательно также отношение к за-
гробному царству, которое рассматривается в мифе только как мир скверны.
Из дальнейшего повествования мы узнаем, что первой заботой вернувшегося
из страны Мрака бога Идзанаги было совершить обряд очищения. Во время омо-
вения в море от Идзанаги произошло много божеств, в том числе бог луны Цуку-
ёми, великая богиня солнца Аматэрасу и неистовый бог водной стихии и бури
Сусаноо. С последними двумя связаны мифы следующего цикла. Один из наибо-
лее известных среди них — миф, рассказывающий о распре между Аматэрасу и
Сусаноо1.
Сусаноо, недовольный тем, что ему во владения бог Идзанаги дал „равнину
моря11, в то время как Цукуёми стал властителем ночи, а Аматэрасу — прави-
тельницей „высокого неба равнины41, захотел удалиться в страну покойной
матери. Узнав об этом, бог Идзанаги в гневе изгоняет Сусаноо. Однако, прежде
чем уйти в изгнание, Сусаноо пожелал проститься с богиней Аматэрасу. Коле-
бание гор, целых стран и рек предупредило Аматэрасу о приближении Сусаноо.
Подозревая его в недобром умысле, богиня уложила свои волосы в мужскую при-
ческу и надела наряд воина. „Тысячестрелый колчан повесила за спину, пятисот
еще стрелый колчан к нему прибавила, потом громкозвучный взяла налокотник,
одела, лук подняла и по твердой земле двора так сильно ступала, что погружа-
лась до ляжек, и землю она попирала, как снежную пену44. Уверив богиню, что
нет у него недобрых мыслей, Сусаноо проникает в ее царство. Он разрушает
плотины, на возделанных богиней Аматэрасу рисовых полях засыпает ороситель-
ные каналы, оскверняет дворец, в котором богиня пировала в дни праздников
первых плодов, оскверняет священную комнату, где ткали одежды богов. Удру-
ченная бесчинствами Сусаноо, Аматэрасу „дверь жилища в гроте небесном за
собой затворила, закрыла ее на запор и там осталась44. В тот же миг вся вселен-
ная погрузилась во мрак вечной ночи. „Шум злых божеств, наполнивших все, был
схож с жужжанием мух во время посадки риса весной, и всевозможные беды
явились44. Тогда все восемь мириад божеств собрались на совет. Хитрость, кото-
рую они придумали, должна была помочь им выманить богиню из ее убежища:
1Л. ра. Первая часть „Кодзики“ по*
священа описанию изначального
состояния мира, состояния хаоса
и отделения неба от земли. Этот
начальный этап связан с первой
троицей божеств, пребывавших
в сокрытом состоянии.
Все последующие мифы даются
по кн.: Н. И. Конрад, Японская
литература в образах и очерках,
Л., 1927, стр. 75-84.
Японская буддийская живопись
VII — первой половины X века
перед гротом, в котором укрылась Аматэрасу, поставили зеркало, посмотрев-
шись в которое богиня солнца могла бы решить, что появилось новое, столь же
прекрасное, как она, божество. Между тем одна из богинь, Амэ-но-удзумэ, укра-
сившись венком из листьев и ,,делая вид, что нашло на нее восхищение духа11,
сбросив одежды, в бурном танце предстала перед взорами богов. И тогда сотря-
слись небеса от хохота восьми мириад богов. Томимая любопытством, Аматэрасу
приоткрыла дверь небесного грота, а удивленная увиденным в зеркале своим
отражением и залюбовавшаяся им, совсем вышла из своего убежища. Все вновь
осветилось солнечным сиянием, а боги поспешили преградить богине солнца
дорогу обратно в грот. Сусаноо же был осужден на изгнание.
В этом мифе с особенной отчетливостью проступает характерное для древних
японцев сознание господства в мире сил, им благоприятствующих. Это прояви-
лось не только в очевидном превосходстве сил жизни, олицетворяемых Аматэ-
расу, перед силами разрушения Сусаноо. Другим его следствием было ощущение
устойчивости бытия человека в общем порядке мироздания, ощущение, позволив-
шее с такой легкостью наделять богов, творцов вселенной, дающих миру жизнь и
творящих в нем свою волю, различными человеческими свойствами и чертами.
Обреченность Сусаноо в борьбе с Аматэрасу выступает во всей недостойности
его поведения — непристойность его поступков скорее под стать смертному,
слабому, злому и мстительному, чем богу — властителю морей. Величественной
богине-воительнице, какой выступает Аматэрасу в начале мифа, в дальнейшем
оказываются свойственны и чувство обиды и любопытства, и черты мягкой жен-
ственности. Эпизод, в котором боги встречают хохотом обнажившуюся богицю
Амэ-но-удзумэ, обладает той непосредственностью полнокровных чувств и гру-
боватого юмора, которые вводят нас в атмосферу реальной сцены из жизни
древнего племени.
В следующих мифах, собранных в ,,Кодзики“, действие переносится с небес
на землю. Боги, обладающие чудесной силой и властью, в остальном же похожие
на смертных, входят в общение с земными жителями, принимают участие в их
делах, берут в жены земных женщин. Так, Сусаноо, оправившись после своего
изгнания на землю и представленный уже в новом обличье благородного героя,
женится на земной девушке после того, как он убивает восьмиглавого змея и
спасает свою будущую супругу. Дела людей, в сущности, становятся основной
заботой небожителей. Они оказываются объединенными с людьми родственными
узами. Так, от брака Сусаноо с земной девушкой рождается сын, который ста-
новится правителем страны Идзумо. Все это невольно напоминает древнегрече-
ские мифы с их единством божественной и человеческой природы. Разумеется,
в плане мироосознания между древнегреческой и древнеяпонской мифологией
вряд ли можно было бы провести какие-либо прямые аналогии. Определяющую
для греческой мифологии тенденцию рассматривать мир прежде всего как арену
15
Японская буддийская живопись
VII — первой половины X века
человеческих деяний, в которых мир обретает свой подлинный смысл и значение,
где человек-герой почти равен богу-творцу, естественно, мы не найдем в мифах
древней Японии. И все же сознание значительности человеческого бытия, неко-
торое рационалистическое начало, вносимое в иррациональность мифа, что ска-
залось хотя бы в той человечески-практической точке зрения, с какой рассмат-
риваются некоторые эпизоды, ощущение известной соразмерности человека и
окружающей его среды делают момент сходства между древнеяпонской и древ-
негреческой мифологией более серьезным, чем только формальным.
Вместе с тем следует подчеркнуть, что все эти черты характеризуют лишь
одну сторону мировоззрения древних японцев, основное место в котором при-
надлежит анимизму и культу природы. Единство в осознании человека и окру-
жающего его мира, почти недифференцированный взгляд на одушевленную и
неодушевленную природу, свойственные анимистическому природному культу
древней Японии, сыграли во многом определяющую роль в формировании мест-
ных художественных взглядов. Можно предположить, что именно здесь коре-
нятся истоки того расположения и восприимчивости к китайской культуре, кото-
рые видят в культуре древней Японии некоторые исследователи1.
Нерасторжимая связь и взаимопроникнутость этих различных сторон мировос-
приятия древних японцев и составляют специфику их художественных представ-
лений, сообщают неповторимое своеобразие их искусству. Каковы же были эти
представления, в какой форме нашли они свое выражение в искусстве?
Важнейшим свидетельством художественной культуры древней Японии
наряду с мифологией является архитектура синтоистских храмов. О синтоист-
ской архитектуре мы можем судить по такому совершенному ее типу, как храмо-
вый ансамбль в Исэ, посвященный богине солнца Аматэрасу и дошедший до
наших дней благодаря установившемуся обычаю реконструировать его каждые
двадцать лет, точно повторяя при этом ранний образец. Первоначальная пост-
ройка храма в Исэ относится к III—IV векам н. э. Самым значительным сооруже-
нием всего комплекса в Исэ является главное святилище, в котором наиболее
отчетливо проявились стилистические черты, свойственные каждой из построек
ансамбля.
Главное святилище представляет деревянное прямоугольное в плане здание,
поднятое над землей на столбах и крытое двускатной соломенной крышей
с большим выносом. Храм окружен открытой галереей, на которую с южной сто-
роны ведет лестница. За исключением входной двери, стены храма не имеют
никаких других проемов. Большой столб, проходящий по всей торцовой стороне,
поддерживает коньковую балку перекрытия. Ясность прямых линий конструкции,
никак не скрытой и свободно обозреваемой зрителем, очевидность логической
оправданности каждой архитектурной детали, естественная красота материала
(храм выстроен из японского кипариса — хиноки, имеющего желтый цвет), обре-
ig См.: О. О. Розенберг, Проблемы
буддийской философии, ч. 2, Пг.,
1918, стр. 17.
Японская буддийская живопись
VII — первой половины X века
тающая особую выразительность в строгой архитектурной организации зда-
ния,— вот те черты, которые определяют художественный облик храма в Исэ.
Ни в плане здания храма, ни в его размере, ни в самой архитектуре нет ничего,
что подчеркивало бы его особенное мистическое назначение, что сообщало бы
ему особую таинственность, поражавшую бы верующих своим скрытым смы-
слом. Архитектурный облик главного святилища, которое мыслилось как жилище
бога, прост и классически ясен. Казалось бы, здесь полностью преобладает
рационалистическое начало. Однако считать рационализм определяющим факто-
ром в художественной концепции храма Исэ было бы неверно. Конструктивность
и целесообразность его архитектуры имеют иное содержание. В этой связи
интересно отметить то, как в ансамбле в Исэ переосмысляется древний опыт
свайных построек, на который опиралось строительство синтоистских храмов.
Предметом архитектурной и художественной разработки становится именно то,
что в более ранних постройках мыслилось как естественная, опытом утвержден-
ная необходимость. Сваи, поддерживающие здание над землей и имевшие глав-
ным образом утилитарное значение, как, например, в храме в Идзумо, где они
могли бы быть и скрыты, существенно не изменяя при этом облика постройки,
в храме в Исэ превращаются в искусно обработанные столбы, где их свободно
просматриваемый ритмический ряд, несущий горизонтальные балки галереи, ока-
зывается одним из главных элементов, формирующих художественный облик
здания. Их регулярность, четкость ритма, продуманность пропорций, артистизм
обработки материала преобразуют момент строительной целесообразности
в художественный.
То же самое можно сказать и о ряде брусков, уложенных поперек конько-
вой балки, первоначально также игравших чисто техническую роль. Их четкий
горизонтальный ряд, перекликаясь с рядом поддерживающих столбов, подчерки-
вает цельность и единство архитектурного замысла. Важным элементом в худо-
жественном облике здания становится также и крыша: особое внимание уде-
ляется приданию геометрической четкости ее обширным плоскостям, ровности
их поверхности, ясности линии среза. В этом стремлении к единству, к совмеще-
нию конструктивного и художественного начала, в самом способе переосмысле-
ния предшествующего строительного опыта раскрывается тот внутренний ход
развития, который привел к совершенно особому, установленному ансамблем
в Исэ соотношению архитектуры и природной среды и, если брать еще шире,
к утверждению определенных эстетических принципов.
Анимистические воззрения древнего природного культа, наделявшие особой
скрытой жизнью предметный мир, в своем художественном переосмыслении,
в его наиболее простом варианте, нашли выражение в особом отношении к мате-
риалу, в признании прежде всего его особых эстетических природных свойств.
Так, например, деревянная конструкция храма в Исэ почти не покрыта краской.
17
2 ~Я поисков классическое искусство
Японская буддийская живопись
VII — первой половины X века
Выявление естественной красоты материала было основной целью его художест-
венной обработки. Сама по себе отшлифованная поверхность дерева, его цвет,
фактура утверждаются как художественно ценные. Такой подход к материалу,
в данном случае дереву, подвергнутому соответствующим преобразованиям,
отвечающим целям архитектурного построения, был обусловлен желанием не
только сохранить, казалось бы, прерванную связь используемого материала
с миром природных вещей, но и открыть в нем новые качества, которые в более
общем, глубоком плане определяют его причастность к’миру обожествленной
природы. Раскрытие природных свойств материала, выявление их специфических
достоинств делается своего рода художественным каноном и становится в даль-
нейшем характерной чертой различных видов японского национального искусства.
Развитие такого рода эстетических представлений привело в конечном итоге
к формированию имеющей самостоятельное значение художественной концеп-
ции, одним из проявлений которой явилась оценка конструкции как основной
носительницы художественной идеи. Конструкция здания рассматривалась как
глубоко естественное, определенное самой природой вещей начало. В логике
построения конструкции, в ее целесообразности, качестве, лежащем и в основе
природных вещей, видели ее связь с закономерностями общего порядка. Собст-
венно эта связь, или, иными словами, образно выраженная сопричастность худо-
жественного произведения внешнему миру, его пространственным ритмам, его
порядку, становится критерием художественных достоинств.
Такое понимание искусства находит свое выражение в сформулированном
в архитектуре храма Исэ и ставшем столь характерным для всего последующего
японского искусства принципе простоты, или, точнее, естественности художест-
венного образа. Проявление этого принципа можно видеть в элементах свобод-
ной планировки ансамбля в Исэ. Так, например, первые входные ворота располо-
жены в стороне от центральной оси ансамбля, что разбивает строгую последова-
тельность их ряда. Этому принципу подчинена и вся архитектурная организация
здания храма. Так, при всей его конструктивности в нем чрезвычайно слабо
выражено тектоническое начало. Более того, внешние проявления тектоники
всячески преодолеваются: поддерживающие столбы лишены баз, а благодаря
обходной галерее нарушается ясное представление о соотношении несущих и
несомых частей.
Однако понятие естественности художественного образа не предполагало
пассивного или лишь внешнего объединения с окружающим пространством. Глав-
ное святилище расположено не в естественной среде окружающего его леса.
Храм возвышается на ровной, покрытой белым гравием площади, огражденной
сплошной деревянной оградой, образующей четкий прямоугольник. Динамика
этого принципиально иного, отличного от всего естественного окружения, орга-
низованного пространства площади как бы подготовляет и заостряет восприятие
18
Японская буддийская живопись
VII — первой половины X века
линейных ритмов здания храма, так же как асимметричность планировки, апелли-
рующих к внешнему неограниченному пространству и находящих в нем свое
дополнение и продолжение. Принцип естественности художественного образа
был выражением глубокого ощущения взаимосвязи вещей, требующим активного
проникновения и выявления их внутренней структуры. Вместе с тем ощущение
стихии природы как главного всеобщего начала определило особенности понима-
ния характера и типа этой связи.
Вся активность динамического строя здания храма в Исэ, его ритмов направ-
лена во внешний мир, к всеобщей, всеобъединяющей стихии природы. В этой
художественной концепции, своими корнями уходящей в мировоззрение раннего
синтоизма, человеку не было отведено какой-либо исключительной роли. Он
выступал как одно из явлений мироздания, подобно остальным, находящимся
с ним в нерасторжимом единстве. Храм в Исэ в силу своей архитектурной орга-
низации никак не соотносится с человеком. Его пропорции не утверждают, не
возвеличивают человека, но и не подавляют его.
В художественно-философском плане в архитектурном облике храма хотели
видеть некую как бы материализовавшуюся грань, некую идею мироздания,
подобно тому как в аспекте религиозном храм воспринимался как жилище богини
солнца Аматэрасу.
Вот те местные художественные представления, та местная художественная
среда, в которую были перенесены синкретические по своему характеру памят-
ники буддийской живописи VII — начала VIII века, среда, которая должна была
вступить в контакт и взаимодействие с проникающим в Японию искусством кон-
тинентальных стран.
В 710 году город Нара, выстроенный по правилам китайского градостроитель-
ства и явившийся, по существу, первым городом Японии, был объявлен столицей
японского государства. Наряду с синтоизмом, ставшим государственной рели-
гией, призванной как исконно японская религия поддержать авторитет импера-
торской власти, все большее распространение получает буддизм.
Для росписей буддийских храмов и создания свитков религиозного содержа-
ния, в большом числе требующихся для буддийской службы, а также для пе-
реписки и иллюстрирования священных сутр учреждается специальное прави-
тельственное ведомство, объединившее художников в особый цех и ведающее
всеми живописными работами. В VIII веке уже существовало весьма значитель-
ное число потомственных мастеров, ведущих свое происхождение от художни-
ков-иммигрантов, еще в VI—VII веках переселившихся в Японию и обосновав-
шихся в различных провинциях. Хотя, как можно предполагать, в VIII веке было
создано немало буддийских росписей и свитков, судить о живописи этого вре-
мени мы можем лишь по небольшой и весьма разнородной по своему составу
группе сохранившихся до наших дней произведений. Прежде всего из этой
19
Японская буддийская живопись
VII — первой половины X века
группы следует выделить три близкие по своим художественным особенностям
илл. ю, и работы: ,,Богиня фортуны11 (живопись на холсте) из храма Якусидзи в Нара,
получившая в Японии имя Китидзё-тэн и почитавшаяся как милосердное и щед-
илл. 7 рое божество, приносящее пищу и богатство; роспись ширмы с изображением
сидящей под деревом женщины и исполненное тушью на холсте изображение
илл. 4 бодисатвы на облаке из Сёсоин, сокровищницы монастыря Тодайдзи в Нара.
Все эти произведения могут быть рассмотрены как наиболее яркое воплощение
черт, отмеченных нами в росписях Хорюдзи. Так же как росписи Хорюдзи, они
были созданы под непосредственным влиянием танского искусства. Вместе с тем
они обнаруживают и совершенно определенную направленность в разработке
того иконографического типа, который мы находим в росписях Хорюдзи. Мате-
риальная, чувственная форма, в которую облечены образы божеств в росписях
Хорюдзи, оказалась созвучна не только новым эстетическим требованиям япон-
ского общества этого времени.
Характерное для танской буддийской живописи привнесение в религиозный
образ конкретности и полноты жизненных ощущений нашло отклик и в более глу-
боких слоях японской культуры, в самой специфике ее характера и склада. Буд-
дийское божество, Богиня фортуны, предстает перед нами в облике нарской
придворной дамы. И хотя развевающиеся одежды пышного придворного наряда
богини делают ее скользящую в пространстве фигуру легкой, почти невесомой,
ее объемно переданные полные плечи, полные румяные щеки и яркие губы сооб-
щают облику богини столь земной и чувственный характер, какой вряд ли мы
найдем в каком-либо из известных произведений дальневосточной буддийской
живописи этого времени.
Именно такого рода художественное осмысление религиозного образа прояви-
лось уже однажды в японской мифологии. Образ Богини фортуны свидетельст-
вует о почти прямом перенесении в сферу религиозного искусства господствую-
щего в это время идеала женской красоты. В сохранившемся изображении сидя-
щей под деревом женщины, на упомянутой уже росписи ширмы, мы видим те же
округлые формы массивных полных плеч и нарумяненного лица, материальность и
грубоватую полнокровность всего облика, которые и сообщают этой работе, при
всей ее близости подобным произведениям из Турфана (Центральная Азия) и
Китая, известный местный колорит.
Те же черты присущи и ,,Бодисатве на облаке11. Но, в отличие от двух первых
работ, она выполнена тушью, и весь момент материальной, чувственной характе-
ристики концентрируется здесь в насыщенной цветом, пластически выразитель-
ной, сильной и динамической линии.
Сама популярность в Японии VIII века культа благожелательной и щедрой
Богини фортуны представляется фактом весьма симптоматичным. Образ дароно-
сительницы, щедро одаривающей земными благами верующих, был, пожалуй, наи-
20
Японская буддийская живопись
VII — первой половины X века
более близок тем религиозным представлениям, которые сложились в синтоизме.
В этом выборе сюжета, в его художественной интерпретации можно видеть одно
из проявлений процесса взаимодействия буддизма и японского древнего культа,
местной культуры в целом.
По мере того как развитая религиозная и философская система буддизма все
более поглощала синтоизм (боги синто начинают истолковываться как часть буд-
дийского пантеона), в различных проявлениях буддизма, и прежде всего в его
искусстве, все явственнее проступали новые черты, отражавшие особенности
местного понимания его идей, местные художественные представления. Буддий-
ское искусство Японии конца VIII века в известной мере позволяет говорить уже
не только о все более глубоком внедрении и усвоении Японией континентального
искусства, но и о начинающемся процессе его трансформации, процессе, кото-
рый в X—XII веках привел к созданию его своеобразного японского варианта.
И именно здесь, в религиозном искусстве, начинают складываться то новое пони-
мание художественного образа и те отчасти художественные средства, которые
затем, в XI веке, легли в основу японской светской живописи.
Однако прежде чем найти свое подлинно новое выражение, буддийская жи-
вопись в Японии прошла весьма сложную эволюцию. Это не был прямой путь
постепенного преобладания наиболее устойчивых местных образных представле-
ний в усвоенном буддийском искусстве континентальных стран, то есть то, что
было характерно для первого этапа его существования в Японии. Японская буд-
дийская живопись рождалась из сложной взаимопроникнутости старых и новых
представлений, она формировалась в процессе все более глубокой трансформа-
ции всех сторон континентального искусства, процессе, в ходе которого видоиз-
менялись, преобразовывались и усложнялись художественные взгляды самого
японского общества. Художественный идеал, господствовавший в буддийской
живописи Японии VIII века, в IX веке уже не получает своего прямого непосред-
ственного развития. В живописи IX века происходит не только смена преобла-
давших прежде религиозных сюжетов, но и изменяется сама художественная
интерпретация религиозного образа. Если для буддийской живописи VIII века
было характерно вовлечение в религиозную сферу реальных представлений, если
религиозный образ воплощал в себе светский идеал, то есть сама область боже-
ственного уподоблялась явлению реальной жизни, но в своем совершенном и
идеальном аспекте, то в искусстве IX века преобладающим становится стремле-
ние к отвлеченной, символической трактовке образа божества, к подчеркиванию
его иррациональной, мистической природы.
Особенности нового этапа освоения буддизма (в это время в Японии получает
распространение эзотерическая форма буддизма, то есть доступного лишь
посвященным) и его искусства были тесно связаны с теми историческими пре-
образованиями, которые претерпевает в это время Япония. В IX веке Япония
21
Японская буддийская живопись
VII — первой половины X века
вступает в новую фазу феодализма, характеризующуюся переходом государст-
венной собственности на землю в собственность отдельных феодалов — процесс,
завершившийся в Японии к середине X века. Система централизованного управ-
ления государством, обретшая к середине VIII века свою наибольшую силу,
в IX веке становится во многом формальным фактором. Рост феодальных владе-
ний, их экономического и политического влияния ограничивали практические воз-
можности императорской власти, все больше получавшей символическое и
терявшей реальное значение.
В середине IX века политическая власть полностью переходит в руки аристо-
кратического сословия. Фудзивара Ёсифуса — представитель наиболее влия-
тельного и владетельного аристократического рода Фудзивара — становится
регентом и таким образом фактическим главой государства. С этого времени и
до середины XII века, то есть на протяжении почти трех столетий, Фудзивара
в качестве регентов при малолетних императорах и канцлеров — при царствую-
щих управляют страной.
Меняются и взаимоотношения буддийской церкви и государства. Если в VII—
VIII веках государство, вовлекая буддизм в практику своей политической
борьбы, видело для себя пример в организационной сплоченности буддийской
церкви, то теперь в буддизме искали совсем иные стороны, стремились отвести
ему иную роль. Уже не находили своего практического воплощения идеалы госу-
дарственности, в которых в полном единстве выступали религиозные и светские
установления и которые нашли свое выражение в начале VII века в ,,17 статьях11
Сётоку-тайси, где за призывом к почитанию „трех драгоценностей Будды, свя-
щенного закона и монахов11 следовало утверждение: „государь это небо, под-
данные это земля... когда государь говорит, подданные слушают; когда наверху
действуют, внизу склоняются111.
Отношения между государством и церковью осложнялись также ростом цер-
ковных необлагаемых налогом земель, что давно уже стало наносить большой
ущерб государственной казне, и активным участием влиятельного и чрезвы-
чайно многочисленного столичного духовенства во всех политических делах и
придворных интригах.
В 782 году было принято решение перенести столицу. В 794 году постройка
новой столицы, города Хэйана (современного Киото), находившегося во владе-
ниях Фудзивара, была закончена. Вскоре в Хэйан, не уступавший великолепием и
роскошью своих дворцов столице танского Китая Чанъани, переехали двор и
император. Практика перенесения дворца и столицы вела свое происхождение
от древних представлений об оскверненное™ старого дома смертью. Однако
теперь это объяснялось главным образом различными политическими соображе-
ниями. Перенесение столицы отвечало интересам феодальной аристократии
в лице рода Фудзивара, занявшей господствующее положение в стране, и
Цит. по кн.: Н. И. Конрад, Лекции
по истории Японии, ч. I (Древняя
Япония), М., 1937, стр. 88—89.
22
Японская буддийская живопись
VII — первой половины X века
стремлению центральной власти ослабить влияние церкви, оградить себя от
контроля нарского духовенства.
В начале IX века в Японии появляются две секты1 эзотерического буддизма
Тэндай и Сингон2. Свои монастыри новые секты основывали в уединенных
местах, главным образом в горах, отчего в литературе японский эзотерический
буддизм иногда именуется ,,горным буддизмом11. Обрядность, введенная сек-
тами эзотерического буддизма, с ее большим числом ритуалов, религиозных
изображений и великолепием храмовой обстановки, где непосредственность,
цельность религиозного чувства и ясность религиозной идеи уступили место
неопределенности мистического ощущения Вечного Будды, явилась как бы сво-
его рода продолжением сложного церемониала, установленного при хэйанском
дворе, церемониала, в котором растворялось реальное значение императорской
власти, получавшей символический или даже иррациональный смысл, и который
создавал подобие государственной деятельности для многочисленных министров
и сановных лиц, по существу не занятых более управлением государства, а по-
глощенных вопросами дворцовой политики. Сложная система тщательно разра-
ботанных обрядов, введенная сектами Тэндай и Сингон, выступала как путь,
ведущий верующего к спасению, как средство, которое раскрывало человеку
его причастность ко вселенной, давала возможность ощутить свое родство и
единство с ней, вступить в мистический союз с Буддой, приобщиться к его
состоянию.
Центральное место в учении новых сект занимало учение о вселенной. Вся
вселенная рассматривалась как проявление духовной и материальной субстан-
ции Будды Вайрочаны (японское Даинити). Изобразительное выражение этой
илл. в космологической системы, получившее название „мандала11 (японское — „Ман-
дара11) и представляющее диаграмму, в которой в определенном порядке распо-
лагалась иерархия божеств, становится популярной темой японской буддийской
живописи этого времени.
Первые мандалы были завезены в Японию из Китая в начале IX века. Долгое
время они служили образцами для копирования. Воспроизведение мандал, осо-
бенно тех, которые были исполнены тушью, копирование их сложного рисунка
стало для японских художников школой, в которой формировалось и совершен-
ствовалось их собственное графическое мастерство. Уже первые известные
нам мандалы, созданные японскими мастерами, отличаются высоким качеством
рисунка.
Самая ранняя японская мандала „Двух миров“, принадлежащая храму Дзин-
годзи, датируется 821 годом. Вслед за ней была создана другая, хранящаяся
в храме Кодзимадэра, дошедшая до наших дней в значительно лучшем состоя-
нии. Особенно высоким графическим мастерством отличается ее часть, символи-
зирующая „Мир духовный11. Композиция этой части состоит из девяти квадратов
Понятие секты в буддизме, в от-
личие от христианства,имеет
значение религиозного направ-
ления, школы, существующей
в рамках установившейся церков-
ной организации.
Свое происхождение секта Син-
гон ведет от тантристского буд-
дизма Центральной Азии. Тен-
дай — буддийская секта, осно-
ванная в Китае в VII в. и связан-
ная с доктринами эзотерического
буддизма.
23
Японская буддийская живопись
VII — первой половины X века
с расположенным в них множеством божеств. Ее центральным образом, так же
как и других диаграмм такого рода, является Будда Вайрочана. На шелке глубо-
кого темно-синего тона золотые и серебряные контурные линии, мягко круглясь,
обрисовывают фигуры божеств. Их бессчетное число и мотив бесконечно круг-
лящихся линий образуют сложное орнаментальное построение. Во время службы
мандала помещалась рядом с алтарем. Непостижимая в своей бесконечной мно-
жественности божеств, в их скрытой взаимосвязи, таинственная в самой слож-
ности своего мерцающего узора, она могла быть истолкована лишь посвященным.
Таким образом, если прежде простота и ясность образа божества предполагали
почти непосредственное с ним общение, то теперь лишь сложный ритуал раскры-
вал его смысл, приобщал верующего к богу. Влиянию сект Тэндай и Сингон чрез-
вычайно способствовала проповедь идеи о проявлении вселенной, как ее матери-
ального начала, так и космической души, в каждой мельчайшей частице. Присут-
ствие Будды признавалось во всем. Подобный взгляд во многом совпадал с пред-
ставлениями синтоизма о скрытой жизни в каждом предмете видимого мира, и
с этой стороны учение новых сект выступало как своего рода монистический
пантеизм Ч
С этой стороной эзотерического буддизма были связаны его магическая прак-
тика, вера в духов, вера в силы природы. В этой части своего учения буддизм
новых сект был наиболее близок религиозной практике и представлениям синто-
изма, его пантеистическим взглядам на мир. Здесь почти сошлись представления
о мире древнего культа Японии и религиозные идеи буддизма. Эта общность при-
дала особый характер обрядности новых сект, включившей некоторые элементы
синтоизма. В сферу буддийской обрядности вовлекается множество новых
объектов. Предметом службы могло стать любое жизненное явление. Специаль-
ные обряды посвящались тому, чтобы вовремя пошел дождь, тому, как избежать
опасности, и т. п.
В проповеди буддийской церковью IX века взглядов, по своему содержанию
близких к пантеистическим представлениям синтоизма, в характере обрядов
обнаруживает себя тот сложный процесс ассимиляции буддизмом местной рели-
гии и культуры, который вместе с тем являлся процессом их взаимодействия и
взаимопроникновения. Этот процесс, первые ощутимые проявления которого мы
отмечали в живописи VIII века, в IX веке, с одной стороны, привел ко все более
широкому толкованию синтоистских богов в буддийском смысле и созданию
затем так называемого ,,Рёбо-синто“ (то есть „двухчастного синто“, синтоизма,
истолкованного с точки зрения двухчленной мандалы, где богиня солнца Аматэ-
расу была приравнена к Будде Вайрочане) и, с другой стороны, ко все более глу-
бокой японизации всех практических проявлений буддизма2, ко все более замет-
ным изменениям характера буддийского искусства, к появлению ряда черт,
которые лягут затем в основу его японского варианта.
См.: 6. В. Sansom, Japan. A Short Cul-
tural History, New York, 1943.
Интересно отметить, что с воз-
никновением „Р6бо-синто“ появ-
ляются мандалы с изображе-
нием пейзажа, который символи-
зировал район, где почиталось
то или иное синтоистское боже-
ство.
24
Японская буддийская живопись
VII — первой половины X века
В этой связи следует указать еще на одну тему, также занявшую большое
место в японской буддийской живописи IX—X веков,—тему божеств, охранителей
веры, так называемых „просвещенных гениев11, и „Двенадцати божеств-стра-
жей11. С этими божествами были связаны многие обряды, и их изображения стали
служить самостоятельным объектом поклонения. Пришедшие в буддизм главным
образом из индуизма божества-стражи изображались обычно в фантастиче-
ском и устрашающем облике полулюдей, получудовищ. В IX веке они часто изо-
илл. 8 бражались сидящими на животных, как, например, божество Исана1, восседаю-
щее на быке (одно из двенадцати божеств-стражей), из монастыря Саидаидзи,
являющееся наиболее ранним примером живописи такого типа.
Наиболее известным в живописи этого времени является изображение боже-
ства Фудо Мё2, центрального божества из пяти „просвещенных гениев11, осо-
бенно почитавшихся эзотерическим буддизмом. Одно из самых ранних изобра-
жений такого рода — это так называемый „Желтый Фудо11 из храма Ондзодзи
илл. э в Сига, относящийся к IX веку. К X веку относят изображение Фудо Мё из храма
Мёин в префектуре Вакаяма, так называемого „Красного Фудо“, и „Синего
Фудо11 из храма Сорэнин в Киото, приписываемого художнику-монаху Гэнтю,
работавшему во второй половине X века. Во всех трех изображениях прежде
всего подчеркивается их мистический, иррациональный характер. Лики их
с огромными сверкающими глазами и острыми клыками, их физическая мощь
устрашающи. Фигуры Красного и Синего Фудо окружает бушующее пламя. Их
непременными атрибутами были меч, сжимаемый в правой руке, и веревка
в левой. Божества-стражи выступают как олицетворение потусторонних таинст-
венных сил, во власти которых находится человек. Мир, в котором существуют
эти силы, проявление их воли недоступны пониманию человека, они требуют при-
ношений и обрядов, таинственный смысл которых понятен лишь священнослужи-
телям. Вместе с тем следует отметить, что большинство божеств-стражей при
всей грозности своего облика и мистичности характера наделялись главным
образом доброй властью; к ним обращались для достижения успеха часто
в самых обычных мирских делах. Следует указать также на сильный декоратив-
ный элемент, присутствующий в общем художественном решении божеств-стра-
жей. Красочность, цветовая звучность контрастов золотого, ярко-красного,
синего цветов создавали чисто декоративный эффект, смягчавший и снижавший
их устрашающий характер и связывавший их с общей декоративностью и велико-
лепием храмовой обстановки. В этом известном преобразовании религиозного
образа, в стремлении перевести его в иную сферу эмоционального воздействия,
из устрашающей, религиозно-мистической в декоративную, можно видеть прояв-
ление определенной тенденции, еще существенно не изменявшей канонические
образы эзотерического буддизма, но достаточно ясно обнаруживавшей свет-
скую направленность, то есть именно то, что станет определяющим фактором
Исана — буддийская версия Ши-
вы, верховного индуистского бо-
жества.
Фудо Мё — санскрит. Акаланат-
ха — одно иа проявлений Будды
Вайрочаны.
25
Японская буддийская живопись
VII — первой половины X века
в развитии японской буддийской живописи XI—XII веков. Буддизм в это время
в целом также приобретает более мирскую направленность, что отвечало тому
светскому по своему характеру мироощущению, которое складывалось в этот
период, и тем требованиям, которые теперь предъявлялись религии.
Феодальная аристократия, добившись полного политического господства,
лишив императора реальной власти, вместе с тем сохранила весь государствен-
ный порядок, централизованное административное устройство, установленные
в предшествующий период. Однако если тогда японским обществом владели
общегосударственные идеи, то теперь в центральной власти видели прежде
всего способ возвышения своего рода. И если прежде объединение страны было
действительным и реальным, то теперь оно, становясь все более непрочным,
сохраняло лишь видимость целостной организации. И все же в период правления
Фудзивара престиж центральной власти был еще весьма велик и пусть во многом
формально, но целостность государства еще сохранялась. Эта двойствен-
ность — с одной стороны, унаследованное от предшествующего периода извест-
ное равновесие общественных сил, позволяющее, казалось бы, пришедшему
к власти аристократическому сословию существовать в атмосфере умиротворе-
ния, и, с другой стороны, ощутимая зыбкость, хрупкость этого равновесия, тая-
щего в себе тревогу и угрозу — эти так близко сходящиеся и исключающие друг
друга явления реальной жизни, эта явственная непрочность земных установле-
ний явились существенным моментом, под влиянием которых складывалось миро-
воззрение эпохи Хэйан. Хэйан означает „мир и покой11, Хэйан-кё — „город мира
и покоя11. Но как далеко было хэйанское общество от сознания подлинной устой-
чивости своей силы, сколько горечи и разочарования несло соприкосновение
с действительностью, как велико было стремление продлить существование
изменчивых и недолговечных явлений реальности, перенося их в мир поэтических
образов, не подвластный закону времени, как велико было желание полноты
обладания и наслаждения земными благами!
Этим настроениям аристократического сословия более всего была созвучна
идея махаянистского буддизма о единстве абсолютного бытия, то есть бытия, не
знающего факта рождения и смерти, с эмпирическим, чувственным. Утвержде-
ние этого единства позволяло рассматривать мир как некое гармоническое соот-
ношение духовного и материального начала, смягчало контраст между земным
существованием и его спасительной конечной целью — нирваной, перекидывало
непосредственно между ними мост и давало возможность представить земную
жизнь в более значительном плане и в более жизнерадостном аспекте. В свете
учения о единстве абсолютного и эмпирического бытия, разума и материи, духов-
ного и физического начала, человек, совершенство его разума и физической
организации, отождествлялся с представлениями о строении и жизни вселенной.
Подобно тому как мандала являлась видимым символическим выражением кос-
26
Японская буддийская живопись
VII — первой половины X века
моса, человек рассматривался как его наиболее совершенное, конкретизировав-
шееся воплощение1. В этом учении находили поддержку рожденные сознанием
быстротечности жизни гедонистические настроения хэйанского общества, нахо-
дил обоснование интерес к существованию человеческой личности, привлекав-
шей теперь внимание не своим историческим и общественным значением, не
в своем героическом обличье, а в естественности своего частного, единичного
существования черпало силу стремление хэйанской аристократии к толкованию
реальности как проявления всеобщей гармонии и равновесия.
Как мы видели, в IX веке существенным образом видоизменяется установив-
шийся до этого тип буддийской живописи. В условиях нового исторического
этапа, в который Япония вступила в IX веке, заимствованная из континенталь-
ного искусства и предложенная сектами эзотерического буддизма интерпрета-
ция религиозного образа оказалась более близкой духу времени, чем та, которая
утвердилась в предшествующий период. Если сопоставить в самых общих чертах
живопись VIII и IX веков, то, собственно, перед нами два различных типа буддий-
ской живописи, сложившихся вне Японии и в разное время проникнувших из
Китая. Однако как первый, так и второй тип, перенесенные на японскую почву,
обнаруживают совершенно определенные тенденции в своем развитии. В первом
случае мы наблюдаем тенденцию к полнокровным, чувственным образам, во вто-
ром — к красочно ярким декоративным решениям. Обе эти тенденции сходны
в своем привнесении мажорного момента в религиозное искусство, в них ощу-
щаются общие корни, уходящие к единому источнику, к тем глубинным слоям
художественного мировосприятия народа, под воздействием которых трансфор-
мировалось искусство, проникавшее в Японию с континента. Они явились прояв-
лением единого, объединяющего их процесса — процесса формирования собст-
венно японского художественного идеала и нашли свое дальнейшее развитие
в живописи X—XII веков, ставших временем создания и расцвета японской
школы живописи.
Конец IX века был отмечен весьма примечательным для Японии того времени
событием — в 894 году правительство отменяет посылку официальной миссии
в Китай. После нескольких столетий интенсивного общения связь с Китаем пре-
кращается. С этого времени до конца эпохи Хэйан, то есть около двух с полови-
ной столетий, контакты с континентом носили эпизодический характер и были
связаны главным образом с отдельными поездками монахов и студентов. Кроме
чисто политических соображений, вызвавших прекращение официальных связей
с Китаем (Китай в конце IX века вступил в полосу междоусобных войн), здесь
сказалось также в целом ослабление в Японии интереса к Китаю. Дух подража-
ния все более вытесняется стремлением к созданию местных форм в самых раз-
личных сферах деятельности. Многое из того, что было воспринято из Китая,
в глазах японцев того времени приобретает оттенок отвлеченной учености.
См.: Sei-ichi Taki, Buddhism and Japa-
nese art.—.The Kokka*. 1909, № 230,
Juli.
27
Японская буддийская живопись
VII — первой половины X века
Созданная еще в первой половине IX века японская письменность получает
теперь полное признание. И хотя китайский язык остается языком исторических,
юридических и теологических трудов, литературу начинают предпочитать на род-
ном языке.
Конец IX века завершает собой длительный период накопления и усвоения Япо-
нией элементов более развитых культур континентальных стран. Последующие
столетия эпохи Хэйан, или, как обычно именуется время с 894 по 1185 год,
период Фудзивара, стали для Японии временем исключительной творческой
активности. Произведения литературы и искусства, созданные в этот период,
стали классическими для всей японской культуры.
Становление и развитие
местных художественных традиций
в японской буддийской живописи
второй половины X—XII века
Если буддийская живопись в Японии VIII и IX веков оставалась еще очень близ*
кой к своим иноземным образцам и о ее специфике можно было судить лишь по
общей направленности ее развития и по особенностям разработки отдельных
элементов образно-художественной системы, воспринятой из искусства Китая,
Индии, Кореи, то начиная со второй половины X века можно говорить о сложении
и развитии самостоятельной японской буддийской живописи. Следует отметить,
что сообщения хроник того времени о творчестве различных придворных худож-
ников, о развитии пейзажного жанра и живописи, иллюстрирующей произведения
японской литературы, позволяют считать X век также временем формирования
японской светской живописи. И хотя самое раннее из немногих дошедших до
наших дней произведений светской живописи эпохи Хэйан относится ко второй
половине XI века, свидетельства хроник позволяют с самого начала связать ряд
изменений в буддийской живописи X века (появление повествовательного мо-
мента, введение жанровых мотивов) с влиянием светского искусства. Этот кон-
такт религиозного и светского искусства, возникший уже в начальный период
сложения новой буддийской живописи и формирования светской, является фак-
том весьма характерным. В том и в другом случае мы найдем, по существу, пре-
творение одного, выдвинутого эпохой художественного идеала, чей земной, сен-
суалистический характер был обусловлен всей предшествующей традицией и
ходом ее развития и который в период Фудзивара в его чисто светском толкова-
нии единства духовного и материального начала обрел, наконец, ясность устрем-
лений. Вместе с тем он продолжал сохранять в целом возвышенно-созерцатель-
ный строй, отвечавший религиозным буддийско-пантеистическим воззрениям
японского общества того времени.
Первым памятником, стоящим на рубеже нового периода, явилась роспись пя-
илл. 12 тиэтажной пагоды монастыря Дайгодзи, датируемая 951 годом. Темой росписи,
украшающей интерьер первого этажа пагоды, его деревянные стены и централь-
ную колонну, продолжает оставаться одна из основных тем эзотерического буд-
дизма. Главную часть росписи, расположенной по четырем сторонам колонны,
составляет мандала „Двух миров11, настенах изображены восемь патриархов
секты Сингон и различные божества (Дайгодзи был одним из главных монасты-
рей секты Сингон).
Однако в силу многих своих художественных особенностей эта роспись не
может быть поставлена в один ряд с произведениями буддийской живописи на
ту же тему IX века. На первый взгляд роспись пагоды Дайгодзи возвращает нас
к тому образно-художественному типу, который установился в японской буддий-
ской живописи VIII века. Во-первых, это стенная роспись—тип живописи, распро-
страненный в VIII веке и нехарактерный для IX века. В данном случае перед нами
вообще редкий пример использования мандалы как темы стенной живописи.
В Японии мандала обычно писалась на шелку. Ее композиция располагалась
29
Японская буддийская живопись
второй половины X—XII века
в пределах плоскости квадрата. В пагоде же Дайгодзи мандала расположена на
четырех сторонах центрального столба. Обращение к технике стенной живописи
вызвало использование уже установившихся в свое время художественных прие-
мов. Так, в росписи пагоды Дайгодзи мы видим знакомый нам еще по стенной
живописи Хорюдзи способ наложения темных и светлых красок и четкую контур-
ную линию. Сам религиозный образ вновь после фантастических, устрашающих
божеств и геометризованных, орнаментальных мандал IX века предстает
в своем новом человеческом обличье, его материальная чувственная форма
ближе всего к той, какая была характерна для живописи VIII века. Но если актив-
ность образного строя живописи VIII века основывалась на ее ярком, непосред-
ственно чувственном характере, если ее образы предполагали обращение к ши-
рокому кругу верующих и отличались простотой своего идейно-художественного
содержания, то теперь в росписи пагоды Дайгодзи они заметно утрачивают кон-
кретность черт чувственной формы, вместе с тем усложняются в своем внутрен-
нем эмоциональном строе, становятся более камерными и интимными. Контраст
темных и светлых цветов здесь сильно смягчен (красочный слой росписи сохра-
нился плохо и не позволяет во всей полноте судить о характере ее колорита).
Изображения теряют скульптурную плотность формы. Наряду с этим услож-
няется их декоративное решение, становятся более изощренными сами декора-
тивные приемы. В росписи пагоды Дайгодзи впервые было применено наложение
золотой фольги на живописную поверхность — декоративный прием, который
затем будет широко использован в различных типах росписи стен, ширм и т. п.
Контурная линия лишена в росписях Дайгодзи той динамичности, которая была
ей свойственна в работах VIII века. Она скорее очерчивает изображения, наме-
чает их абрис, границы, чем передает характер формы. Рисунок в целом стре-
мится здесь к замкнутости, к концентрации линейных ритмов в пределах самого
изображения. Все это сообщает религиозному образу известную изолирован-
ность, наделяет его особой внутренней жизнью, лишает той простоты и однопла-
новости характера, которые были свойственны ему в VIII веке, предполагает
более сложное и вместе с тем более индивидуальное и личное его переживание.
Если бы мы попытались в самых общих чертах установить соотношение росписи
Дайгодзи с живописью предшествующих двух столетий, то, определив художе-
ственный метод живописи VIII века как метод воссоздания в религиозном образе
реальных форм, наблюденных в действительности, а метод IX века как его анти-
тезу, стенную живопись Дайгодзи можно было бы представить как их совмеще-
ние, возникшее как бы в результате прохождения художественных представле-
ний VIII века через отвлеченность образов эзотерического буддизма.
Однако это не было эклектическим сочетанием элементов живописи VIII и
IX веков. В росписи Дайгодзи мы имеем дело с формированием принципиально
нового художественного стиля, в котором все воспринятые из живописи пред-
ЭО
Японская буддийская живопись
второй половины X—XII века
шествующих столетий элементы приобретают несвойственные им прежде худо-
жественный смысл и эмоциональное звучание.
Если в живописи VIII века конкретно-чувственный образ божества предполагал
лишь чисто внешнее его отождествление с явлениями реальности, то есть лишь
момент формального его узнавания, причем вся атмосфера, в которой он сущест-
вовал, подчеркнутой торжественностью и иррациональностью своего характера
стремилась к установлению непреодолимой дистанции между художественным
образом божества и зрителем, оставляя его в сфере трансцендентной, доступ-
ной более переживанию религиозному, чем художественному, то теперь,
в росписи пагоды Дайгодзи, появляется тенденция к сокращению этой дистанции
за счет обогащения эмоционально-художественного содержания образа боже-
ства, устанавливается новое соотношение его со зрителем. Если прежде сфера
художественного переживания религиозного образа почти целиком исчерпыва-
лась восприятием конкретных и ярких черт его чувственной формы, то теперь
основным моментом художественного переживания становится его внутреннее
эмоциональное состояние. Зритель оказывается сопереживателем этого состоя-
ния, раскрывая и постигая на этом пути созерцаемый им образ. Художественный
образ божества обращается теперь к человеческой духовности, где в конечном
итоге осуществляется его идейный и художественный смысл. Таким образом,
человеческая духовность выступает как момент почти столь же высокий, как и
божественная природа религиозного образа. И именно здесь и происходит
сокращение религиозной, обрядно-культовой дистанции, возникают новые связи
между образом и зрителем и в целом новое соотношение мира божественного и
земного.
Все эти особенности в росписи пятиэтажной пагоды Дайгодзи существуют
еще лишь в начальной стадии, они лишь угадываются, лишь предвещают тот путь
развития, по которому пойдет японская буддийская живопись XI—XII веков.
Почти не представляется возможным во всех подробностях проследить ста-
новление новой японской буддийской живописи в ее начальный период. До нас
не дошли памятники, которые хронологически следуют прямо за росписью пагоды
Дайгодзи. Наиболее значительные произведения буддийской живописи последую-
щего времени — это центральная часть триптиха, принадлежащая монастырю
илл. те Хоккэдзи с изображением Будды Амиды, датируемая серединой XI века (левую
и правую части триптиха относят к XII в.), и росписи, покрывавшие стены и двери
храма Феникса1 монастыря Бёдоин на тему рая Будды Амиды, исполненные
илл. is в 1053 году и сохранившиеся до наших дней лишь частично. В манере изображе-
ния Будды Амиды из упомянутого триптиха можно видеть развитие тех черт,
которые были отмечены в росписях пагоды Дайгодзи. Линия становится здесь
еще более тонкой, обнаруживая тенденцию к узорчатости, и вместе с тем все
большую образную роль начинает играть цвет.
Свое название храм получил бла*
годаря бронзовым скульптурам
птицы Феникс, украшающим его
крышу. Первоначально храм был
одним из павильонов располо-
женной близ Киото виллы канцле-
ра Фудзивара Еримити, превра-
щенной им в 1052 г. в монастырь.
31
Японская буддийская живопись
второй половины X—XII века
Нобуо Кумагая, определяя работы, предшествующие зрелому стилю периода
Фудзивара, в которых с наибольшей ясностью обнаружили себя черты, развитые
затем в живописи XI—XII веков, пишет, что, возможно, только „Двенадцать бо-
жеств-стражей“ из Саидаидзи могут явиться примером, указывающим на совер-
шающийся переход от линейной основы к колористической Ч Доминирующий
в изображении Будды Амиды, занимающем всю центральную часть триптиха,
красный цвет его одежд перестает быть столь декоративно ярким и интенсив-
ным, как, например, в „Красном Фудо“ из храма Сорэнин в Киото, но зато обре-
тает глубину и мягкость. Собственно цвет становится здесь главным носителем
эмоционального начала. Мягкость его тона сообщает образу божества ту теп-
лоту и ту мажорность звучания, в которых раскрываются представления о бла-
гостных и спасительных обращенных к человеку силах, какими наделялся Будда
Амида.
В другой названной работе этого времени, росписи храма Феникса, та тен-
денция в трактовке религиозной темы, которая наметилась в стенной живописи
пагоды Дайгодзи, предстает уже не только в своем вполне сложившемся и раз-
витом виде, но и в несравненно более многообразном и разностороннем плане,
а ее художественная форма обладает всеми свойствами, присущими зрелому
стилю японской буддийской живописи XI—XII веков. Темой росписи послужил
ставший популярным в это время религиозный сюжет, повествующий о Будде
Амиде, в сопровождении божеств спускающемся с небес, чтобы встретить уве-
ровавших в него. Такого рода изображения получили название ,,райгоцу“, то
есть „сцены приветствия11. Популярность их была связана с тем большим влия-
нием, какое в XI—XII веках получило учение о „Западном рае“ Будды Амиды,
или, как оно именуется иначе, учение „Чистой земли“. После образования
в XII веке секты Дзодо амидизм становится одним из основных направлений
японского буддизма. Основная идея нового учения, как и его обрядовая сторона,
в отличие от доктрин и ритуалов эзотерического буддизма, были весьма просты:
спасение ожидало каждого, кто абсолютно уверовал в благодатную силу Амиды.
Распространение амидизма было в известном смысле реакцией на эзотерический
буддизм сект Тэндай и Сингон и находилось в тесной связи с исключительно обо-
стрившимися социальными конфликтами и с все более ухудшающимся положе-
нием страны в целом (участившиеся крестьянские восстания ставили порой под
угрозу даже саму столицу). Характерно, что в это время мысль буддийской
церкви о том, что две тысячи лет спустя после смерти Будды мир, пройдя через
пятисотлетний период упадка, будет разрушен, воспринималась как сбываю-
щееся пророчество. Было даже подсчитано, что начало периода мирового упадка
приходится на 1051 год. Естественно, что в этих условиях амидистский вариант
буддийского учения должен был найти большое число приверженцев как среди
господствующего, аристократического сословия, так и среди других слоев насе-
Nobuo Kumagaya, History of Buddhist
art in Japan, Tokyo, 1940, p. 34.
32
Японская буддийская живопись
второй половины X—XII века
ления. Вместе с тем нельзя не видеть и той связи, которая существовала между
амидизмом и новым складывающимся мировоззрением, сказавшимся уже
в росписи пятиэтажной пагоды Дайгодзи. При всей близости своих идей умонаст-
роениям хэйанского общества эзотерический буддизм не мог отвечать одной и,
может быть, самой главной стороне мироосознания того времени, его новой
оценке человека как носителя высокого духовного начала. В религии эта сторона
обрела теперь выход в моменте веры, освобожденном от сложной обрядовости
и трудной литературной традиции и давшем возможность свободного лириче-
ского переживания божества. Однако этот момент не исчерпывает всего содер-
жания учения о ,,Западном рае11 Будды Амиды. Его другая сторона, а именно
концепция природы, не менее существенная в системе его идей, представляет
для нас особый интерес. Во-первых, она может рассматриваться как результат
следующего этапа процесса взаимодействия буддизма и местной культуры и, во-
вторых, как выражение художественных взглядов, сложившихся в Японии в X —
XI веках. Представление о мире как о некоем гармоническом соотношении
духовного и материального начала, пантеистические черты, то есть все то, что
развивалось сектами эзотерического буддизма под влиянием местной среды,
в учении о ,,Западном рае11 Будды Амиды, в его понимании природы нашло свое
дальнейшее развитие. Окружающий человека мир природы в учении о ,,Западном
рае11 толкуется как мир, обладающий самодовлеющей эстетической ценностью.
В сутрах, описывающих рай Амиды, чрезвычайно большое и важное место зани-
мает рассказ о красоте природы, причем красоту природы видят в ее реальном,
естественном состоянии. Сам Будда Амида выступает почитателем ее красоты.
Не случайно текст сутр, посвященный описанию природы, обладает, как отме-
чают исследователи, высокими литературными достоинствами Ч Описание
ведется главным образом с эстетической точки зрения, представляя своеобраз-
ное выражение лирического переживания пейзажа. Окружающий человека сво-
бодный мир природной стихии осознается прежде всего как эстетически пре-
красный, и если учесть, что прекрасное включало, как уже отмечалось, понятие
естественности, то можно видеть, как здесь через художественное осмысление
природы устанавливается определенное соотношение между человеком и окру-
жающим его миром. Соотношение, которое не противопоставляло мир человеку,
а, напротив, признавая эстетическую ценность окружающего человека мира при-
роды не столько в связи с высшим, отвлеченным, религиозно-философским
порядком вещей, сколько в его конкретной, естественной данности, приближало
мир к человеку, делало его соизмеримым с ним. Таким образом, здесь вновь вос-
торжествовала та исходная позиция, та главнейшая черта, которая определила
характор японской культуры на самых ранних этапах ее развития. Все то, что
было свойственно культуре Японии добуддийского периода, оплодотворенное
духовностью высокоразвитых континентальных культур, выступает теперь в
См.: Sei-ichi Taki, Buddhism and Japa-
nese art.—"The Kokka”, N 232. 1909,
September.
3 Японское классическое искусство
Японская буддийская живопись
второй половины X—XII века
несравненно более глубоком и сложном плане. Момент обожествления природы
все больше проникается моментом ее эстетизации. (Не случайно это время было
отмечено быстрым развитием садово-паркового искусства, занявшего самостоя-
тельное и важное место в истории искусств Японии.) В единой связи с этой эсте-
тизацией был более дифференцированный взгляд на природу, более конкретизи-
рованное восприятие окружающего человека мира, стремление к постижению
красоты его отдельных проявлений. А отсюда и то новое место, которое занял
в этом конкретизированном и эстетизированном мире человек. Продолжая рас-
сматриваться в нерасторжимом единстве с окружающей его природой, он вме-
сте с тем выступает как субъект, постигающий и раскрывающий ее красоту,
мыслится как носитель некоего мира, в своей значительности почти адекватного
миру внешнему, и в этой подчеркнутости его значения содержится момент его
известного обособления, его самостоятельной и особой ценности. В этой связи
следует вспомнить разительный контраст экстерьера и интерьера в японской
архитектуре этого времени: строгость и простоту первого, возрождающего
классическую ясность храма в Исэ и великолепие и роскошь второго. Показате-
лен и тот интерес к частному, обыденному существованию человеческой лично-
сти, каким проникнута литература этого времени. Эпоха Хэйан была ознамено-
вана созданием реалистического бытоописательного романа, каким является
главнейшее произведение этого времени „Гэндзи моногатари“ („Повесть
о Гэндзи“) Мурасаки Сикибу, появлением и расцветом такого литературного
жанра, как дневник, совершенным примером которого может служить „Макура-
но Соси11 („Записки у изголовья11) Сэй-сёнагон Это новое осознание человека
в мире было решающим фактором в формировании художественного сознания
эпохи Хэйан, а признание эстетической ценности окружающего человека мира
природы в его естественном конкретном и реальном плане обусловило ту полноту
и многообразие жизненных впечатлений, ту свободу художественного выраже-
ния, которые отличают японскую живопись XI—XII веков. Первые бросающиеся
в глаза особенности стенной живописи храма Феникса — это неизвестная
прежде свобода композиции и широкое использование пейзажа и разнообразных
жанровых мотивов, также встречающихся впервые. Вся целостная картина мира,
запечатленная художником в росписи храма Феникса, раскрывается в наглядном
единстве и непосредственной взаимосвязи мира божественного и земного, а изо-
браженное в ней действие развертывается в наглядно-конкретных ситуациях.
В качестве примера можно привести относительно хорошо сохранившиеся фраг-
менты росписи двух дверей южного входа. В одном из них можно видеть ин-
терьер японского дома и сцену оплакивания. Художник изобразил священника,
сидящего в изголовье умершего, и обращенную в сторону от них плачущую жен-
щину. Вверху видны приближающиеся Будда Амида и бодисатвы, готовые при-
нять душу умершего. В другом фрагменте изображены японский дом и несколько
О литературе этого времени и пе-
реводы из „Гэндзи моногатари“
и „Макура-но Соси“ см.: Н. И. Кон-
рад, Японская литература в об-
разах и очерках, Л., 1927; „Лите-
ратура Китая и Японии*1, “Acade-
mia , 1935. Полный перевод „Гэн-
дзи моногатари“ на английском
языке см.: Murasaki Shikibu, The Tale
of Gendji. The translation by A. Wa-
ley, Boston and New York, 1935.
Японская буддийская живопись
второй половины X—XII веКа
человек, сидящие на веранде, недалеко от дома ниспадающий с плотины поток
воды, стоящие на скале у ручья олени, далее виднеется озеро, силуэт холмов и
стая летящих птиц.
Все жанровые сцены и эпизоды росписи располагались в пейзаже, который
служил связующим всю композицию изобразительным фоном и вместе с тем сре-
дой, объединяющей события земной жизни с действием, разыгрывающимся в не-
бесах. Доминирующим цветом в пейзаже и, таким образом, всей росписи был
зеленый, сочетавшийся с красным и золотым цветом архитектурных деталей
интерьера. Пейзаж в живописи храма Феникса, подчиненный общей декоратив-
ной задаче стенной росписи, предстает, однако, не как отвлеченная и условная
картина природы, мыслимая художником вне всякой конкретной связи с опреде-
ленной местностью и творимая по каноническому образцу. Напротив, своеобраз-
ный силуэт холмов, сильно разветвленные, ср множеством небольших крон де-
ревья, изображенные среди них характерные японские хижины и дворцовые
постройки сообщают всему пейзажу типично местный колорит. Художник, созда-
вая картину природы, отталкивается от непосредственного наблюдения натуры
и своего живого впечатления, он вовлекает это впечатление в свое произведе-
ние, оно оказывается проникнутым им, живет в нем, формируя его эмоциональ-
ный строй и определяя характер его взаимосвязи ср зрителем. Кэндзи Тода
в своей книге, посвященной истории японской живописи на свитках, отмечает,
что росписи храма Феникса, перенесенные на свитки, выглядят, как более позд-
ние образцы японской светской живописи1. Соответственные изменения в этом
по-новому увиденном мире претерпевает, и образ божества. Прежде всего сле-
дует отметить сравнительно небольшое место, которое занимают в росписи изо-
бражения божеств. Само их явление не заключает в себе ничего, что нарушало
бы естественность всей запечатленной картййы, что контрастировало бы с ней,
свидетельствовало об устрашающей мощи потусторонних сил. Их облик обретает
черты мягкой женственности, приближение их не бурно и стремительно — боже-
ства парят на облаках, и о легком и плавном движении говорят лишь развеваю-
щиеся ленты одежд. Они включены в общую картину мира и мыслятся как одна
из ее частей.
С этого времени, то есть с начала второй половины XI века, в японской буддий-
ской живописи можно наблюдать совершенно рпределенно установившуюся тен-
денцию ко все большему вовлечению религиозного образа в область реальности,
в область живых чувств и переживайий, стремление как можно более приблизить
в художественном толковании мир божественный к миру земному. Эта тенденция
находит свою реализацию как на пути все большего,вовлечения в сферу рели-
гиозного искусства конкретно-жизненных ситуаций и мотивировок, так и на пути
все большего усиления декоративности религиозного произведения. Оба эти
момента с достаточной очевиднортыр выступают в триптихе ,,Амида и двадцать
35
Kenji Toda, Japanese scroll painting,
Chicago, 1935, p. 18.
3*
Японская буддийская живопись
второй половины X—XII века
пять божеств11 из храма Дайэн в префектуре Вакаяма, датируемом концом XI-
илл. 17, is началом XII века и являющемся наиболее известной работой, посвященной теме
,,райгоцу“. В целом триптих представляет весьма обширную, замыкаемую двумя
полукружиями композицию, в центре которой находится Будда Амида, сидящий
в канонической позе на лотосовом троне и превосходящий своим размером все
другие изображения. Перед ним справа и слева, следуя иконографическому
канону, изображены бодисатвы Канон и Сэиси, также сидящие на лотосовых
тронах. Остальные бодисатвы сгруппированы по сторонам и позади Амиды. Сти-
лизованный, круглящийся рисунок облаков, среди которых расположены все
фигуры, организует в единое целое всю композицию и создает замкнутое в ее
пределах движение вперед, на зрителя. Узкая полоса нижней части триптиха
занята пейзажем. Красочность и яркость изображенных божеств (центральная
фигура Амиды исполнена золотой краской, а окружающие его бодисатвы изобра-
жены в одеждах ярких красных, зеленых, синих, оранжевых цветов), играющих
на различных музыкальных инструментах, и улыбающиеся бодисатвы — все это
создает атмосферу праздничности и нарядности. Религиозная идея о спаситель-
ной миссии Амиды разрешается здесь в исключительной праздничности всей
ситуации. Показ этой ситуации, раскрытие ее эмоционального содержания ста-
новятся самоцелью и в своем непосредственном и откровенном выражении выхо-
дят за пределы, первоначально заданные религиозной идеей. В конечном итоге
вся картина может быть воспринята как преломленное в фантастическом плане
светское празднество.
Стремление вовлечь в мир божественный строй светских чувств и пережива-
ний, слить в едином художественном выражении отвлеченно-религиозное и кон-
кретно-жизненное содержание характерно и для такой известной работы этого
илл. 13,14 времени, как „Нирвана11 из храма Конгобудзи в префектуре Вакаяма, исполнен-
ной в 1086 году. Тема нирваны, истолковываемая обычно в искусстве как смерть
Будды Сакья-муни, была очень популярна в японском средневековом искусстве.
Впервые в японской буддийской живописи произведения на эту тему появились
в эпоху Хэйан. Среди них „Нирвана11 из Конгобудзи принадлежит к числу самых
ранних. Основным содержанием этой темы является оплакивание умершего
Великого Учителя. Таким образом, само выражение чувства горя, вызванного
смертью, переводит религиозный буддийский сюжет в событие человеческого
плана. В „Нирване11 из Конгобудзи среди бодисатв, созерцательных и спокойных,
обступивших ложе, на котором лежит Будда, мы видим монахов и учеников
Будды, склонившихся в горе к ложу умершего. Их скорбные позы, их плачущие
лица и безучастность идеально прекрасного лица Будды — этот контраст, это
проявление человеческого отчаяния перед непоправимостью свершившегося вно-
сят в религиозную сцену логику земного события. Цветовые соотношения во мно-
гом подчинены смысловым акцентам. В одеждах божеств преобладают золотой и
36
Японская буддийская живопись
второй половины X—XII века
красные цвета, одежды других персонажей написаны коричневыми, серыми и
белыми красками. Вместе с тем в целом мягкое и глубокое звучание тональной
гаммы как бы восстанавливает равновесие между отдельными контрастными
частями сюжета, подчиняет эмоциональный строй всей картины своему гармони-
ческому созвучию, выявляя и подчеркивая возвышенный и торжественный харак-
тер свершившегося таинства.
Наиболее ярко прослеживаемая нами тенденция проявилась в грандиозной буд-
19-22 дийской картине (159,7 X 228,8 см) „Воскресение Будды11 \ принадлежащей
храму Тёходзи в Киото. Созданная, как полагают, в XI веке, она является одной
из вершин японской буддийской живописи эпохи Хэйан как с точки зрения раз-
вития ее мировоззренческих идей, так и художественных достижений.
Как и тема нирваны, иконография воскресения Будды предполагала большое
число самых различных персонажей. В „Воскресении11 из Тёходзи запечатлен
тот момент, когда несметное число различных божеств, бодисатв, монархов,
министров, столпившись вокруг Будды, поднявшегося из своего золотого гроба,
ждут его слова. Первое, что выделяет эту работу из ряда рассмотренных произ-
ведений буддийской живописи,— исключительная мощь ее живописного строя.
По звучности цветовых сопоставлений, пластической выразительности цветового
пятна, по силе его насыщенности это произведение оставляет далеко позади все
то, что было известно до сих пор в японской буддийской живописи. Цветовая
композиция „Воскресения11 строится на интенсивности и активности цветовых
пятен, сообщающих всей колористической гамме чрезвычайно действенный
характер. Художник вводит цветовые повторы, которые объединяют отдельные
части картины, организуя все построение в единое динамическое целое. В пра-
вой части картины выделяется темно-синий цвет лица фантастического боже-
ства, им же написана одежда рядом стоящего святого, темно-синий цвет повто-
ряется отдельными мазками в одежде замыкающего эту группу архата. В другой
части таким объединяющим цветом является красный — цвет пламени, из кото-
рого выступает зеленое лицо фантастического божества, многократно повторен
он в одежде, в ярко-красных губах божеств и т. д. Весь этот многокрасочный
поток заполняет всю плоскость картины, исключая ее центральную часть, где он
почти внезапно обрывается у линии огромного золотого нимба, образуемого сия-
нием, исходящим от фигуры Будды. Однако значение цвета не исчерпывается
здесь декоративной функцией, он выступает и как один из главных формообра-
зующих элементов. Прежде всего это относится к тем реальным персонажам,
которые заполняют первый план картины. В фигуре изображенного на первом
плане молодого монаха с чистым юношеским профилем и молитвенно сложенными
руками мы не видим обычной контурной линии, в пределах которой художник
наносил краски. Здесь он пишет цветом, придавая цветовому пятну необходимую
пластичность и глубину. Не условная линия контура изолирует изображение
1
Тема воскресения Будды связана
с легендой, рассказывающей
о возвращении Будды, внявшего
мольбам своей матери Майи.
37
Японская буддийская живрлись
второй половины X—XII века
от остального пространства картины. Полновесная объемность, материальная
пластичность его форм обособляют его, утверждают самостоятельность его
существования, б „Воскресении14 присутствует индивидуальная характеристика
персонажей. Показателен один из центральных персонажей второго ряда, обра-
щенный в профиль к зрителю. Его массивный торс, полное лицо, гордо поднятая
голова, надменно сжатые губы могли бы быть чертами хэйанского вельможи.
Натура во всем объеме ее реальных свойств вовлекается здесь в сферу художе-
ственного. Более того, момент реальности в картине оказывается для зрителя
тем основным звеном, через которое раскрывается для него полнота идейного и
художественного содержания произведения. Достоверность изображенных на
первом плане персонажей, отсутствие чего-либо возвышающего их над уровнем
реальности делают их соотносимыми со зрителем, обусловливают непосредст-
венный с ним контакт, вводят его в фантастическую и торжественную атмо-
сферу произведения, делая почти соучастником изображенного события. Рели-
гиозный сюжет, чудесное воскресение Будды, раскрывается не как отвлечен-
ное, стоящее над земной жизнью, замкнутое в своей божественной отчужден-
ности от человека действие, а как событие, почти переходящее в план реально-
сти, в план человеческой жизни. В этом свободном художественном сосущество-
вании, в этом единении мира религиозных представлений, мира божественного и
земного проявилось то новое осознание значения и ценности человека, которое
определило существо особенностей японского искусства X—XII веков.
Как можно было видеть, все рассмотренные нами произведения буддийской
живописи, начиная от росписи храма Феникса и кончая „Воскресением БуддыВ. * * 11,
представляли собой обширные многофигурные композиции. По справедливому
замечанию В. Н. Топорова, „многофигурные композиции создают благоприятные
условия для стирания (вплоть до забвения) концептуальной схемы и для возобла-
дания чисто художественной логики изображения41!. Именно эти благоприятные
условия способствовали столь прямому и последовательному развитию тенден-
ции, отмеченной нами еще в росписи пятиэтажной пагоды Дайгодзи. В многофи-
гурных композициях мы видим как бы основной ствол этой тенденции, сложив-
шейся усилиями всех предшествующих столетий. Однако здесь оказываются
менее выраженными те изменения, которые претерпевает наиболее устойчивая,
каноническая часть религиозного произведения, то есть сам образ божества.
Особенно ярко об этих изменениях свидетельствуют однофигурные произведе-
ния японской буддийской живописи XII века. Лишенные широких возможностей
многофигурных композиций, привлекающих обширный дополнительный художест-
венный материал, связанные раз и навсегда установившейся иконографией, они
преодолевают канон изнутри, лишь за счет изменений художественного строя
самого образа, за счет концентрации всей силы развивающейся тенденции в пре-
образовании его внутреннего художественного содержания. Здесь каждый
В. Н. Топоров, К реконструкции
некоторых мифологических пред-
ставлений (на материале буддий-
ского искусства).— Журн. „На-
роды Азии и Африки", 1964, № 3,
стр. 106.
38
Японская буддийская живопись
второй половины X—XII века
нюанс, каждое незначительное отклонение от традиции оказываются глубоко
содержательными. И именно в однофигурных буддийских композициях этого вре-
мени мы находим порой наиболее глубокое выражение художественной тенден-
ции времени, раскрывающее нам ее подлинное существо.
Одна из наиболее заметных черт эволюции однофигурных композиций буддий-
ской живописи — это увеличение их декоративности. Примерами уже вполне сло-
жившихся работ такого рода могут служить датируемые XII веком изображения
илл. 2з, 24 божества Кудзаку Мё1 из коллекции Хара, ,,Будда Сакья-муни11 из храма Дзин-
годзи в Киото, „Бодисатва Кокузо“ из токийского Национального музея и др.
Широкое использование орнаментально-декоративных мотивов одежд и нимбов
изображенных божеств, многокрасочная цветовая гамма с характерными для
нее голубыми, красными, зелеными, синими красками и сверкающим золотом узо-
ром способствовали исключительному декоративному эффекту. Однако при всей
своей декоративности однофигурные композиции не превращаются в орнамен-
тальный, отвлеченно-символический тип буддийского искусства, каким, например,
являлась мандала в IX веке. Чаще всего изображение божества заполняет почти
всю плоскость. Орнаментально-декоративные черты композиции не даются само-
стоятельно, вне непосредственной связи с самим образом. Свободная часть
плоскости не заполняется орнаментом. Орнамент вообще не рассматривается
как свободный декоративный мотив, создающий свою самостоятельную узорную
ткань; он целиком подчинен особенностям образа божества, оттеняя и подчерки-
вая их и являясь своего рода их орнаментально-декоративным выражением. Так,
например, образу бодисатвы Кокузо с его чертами поэтической умиротворенно-
сти и мягкой женственности (черты светского идеала женской красоты этого
времени, ставшие характерными для образов буддийских божеств) соответст-
вует легкий кружевной орнамент нимба, выполненный из полос серебра и золота
и, как ювелирная драгоценность, оттеняющий женственный облик бодисатвы.
Такого рода решение культового произведения обусловливало главным образом
их эстетическое восприятие. Формально оставаясь предметом культа, они все
более переходят в область чисто эстетической эмоции.
Отмеченные особенности, однако, не исчерпывают всех изменений, которые
претерпевает образ божества в японской буддийской живописи X—XII веков.
илл. 25 Наиболее полно они раскрываются в „Бодисатве Фугэн11 из токийского Нацио-
нального музея — общепризнанном шедевре японского буддийского искусства
XII века, так же как и ,,Воскресение Будды“ из храма Тёходзи в Киото, являю-
щегося одной из вершин японской буддийской живописи этого времени. Со-
гласно традиции, божество мудрости и добродетели бодисатва Фугэн изобра-
жено с молитвенно сложенными у гру/^и руками сидящим на лотосовом троне,
который несет на своей спине белый слон. В своей истории японской живописи
Ититаро Кондо пишет, что в „Бодисатве Фугэн“ совместились религиозные
„Кудзаку11 в переводе означает
павлин, подобно павлину, клю-
ющему ядовитые растения и вред-
ных насекомых, божество Куд-
заку Мё призвано освобождать
человеческий разум от гнева,
злобы и глупости.
39
Японская буддийская живопись
второй половины X—XII века
чувства художника, его стремление создать идеальный женский образ1. X. Мюн-
стерберг, передавая свое впечатление от ,,Бодисатвы Фугэн“, замечает, что это
скорее изображение хэйанской красавицы, чем божества2. Это безусловно
справедливо. Однако подобная характеристика была бы верна и по отношению
к работам VIII века, например, к ,,Богине фортуны11. Перед нами все же два раз-
личных типа решения близких художественных задач. И дело, конечно, не только
в формальных отличиях светских идеалов периодов Нара и Хэйан.
В период Нара мир человеческой духовности, как и внешний, окружающий
человека мир природы во многом лежали еще за пределами художественного
кругозора, непосредственной их эстетической оценки. Художественная содер-
жательность реальности исчерпывалась, по существу, внешними чертами в их
наиболее ярких, весомых и динамических проявлениях. Поэтому момент транспо-
нирования реальности в религиозную сферу, отмеченный в произведениях нар-
ской буддийской живописи, чувственный характер ее образов позволяли гово-
рить скорее о родстве с древнеяпонскими мифами, чем о выражении какой-либо
обособляющейся светской тенденции.
В эпоху Хэйан сфера художественного сознания раскрывается в несравненно
более дифференцированном и усложненном плане. Пейзаж, не связанные с кано-
ном реальные персонажи, жанровые сцены широко вовлекаются в религиозную
живопись. Более сложным и многосторонним становится отношение между зри-
телем и религиозным произведением, рассчитанным теперь не столько на одно-
плановость непосредственной эмоциональной реакции, сколько обращенным
к миру внутренних чувств человека. Не случайна популярность в это время таких
тем, как ,,Нирвана11 и „Воскресение11, лирических по характеру своего содержа-
ния. Таким образом, во-первых, реальность в несравненно более широком, чем
когда-либо ранее, объеме своих проявлений, свойств и связей вовлекается
в сферу художественного, и, во-вторых, человеческая духовность выступает как
явление самого высокого порядка.
Основные различия между „Богиней фортуны11 и „Бодисатвой Фугэн11 и лежат
в плане этих особенностей искусства X—XII веков. Если реалистичность черт
облика „Богини фортуны11 была свидетельством чрезвычайно яркого воплощения
антропоморфических представлений и если развитие внутренней логики подоб-
ного рода интерпретации мира трансцендентных явлений можно представить как
движение от реальности к миру божественному, идеальному, то „Бодисатва
Фугэн11 являет собой пример движения обратного, от мира божественного к зем-
ному, движения, по существу, в искусстве эпохи Хэйан слившего эти два мира, но
не на формальном пути материального отождествления, а в плане духовного
обобщения. „Бодисатва Фугэн11, так же как и „Богиня фортуны11, воплощает
в себе черты идеального типа женской красоты. И в той и в другой работе при-
сутствует та степень отвлеченности, которая не позволяет прямо соотнести их
.Pageant of Japanese art", vol. 1 (Ichi-
taro Kondo, History of Japanese pain-
ting from the Pre-Buddhist Period to
the Kamakura), Tokyo, 1952, p. 71.
a
H. Munsterberg, op. cit., p. 81.
Японская буддийская живопись
второй половины X—XII века
с реальными представлениями. Однако в „Бодисатве Фугэн“ эта отвлеченность
уже не столько религиозного свойства, как то было в ,,Богине фортуны11, сколько
главным образом особого лирико-поэтического характера. И, собственно,
в моменте этой отвлеченности и заключается основное художественное содер-
жание созданного художником произведения.
Бодисатва Фугэн предстает перед зрителем как поэтически прекрасный жен-
ский образ, в котором, казалось бы, нет ничего, что отчуждало бы его от зри-
теля, что требовало бы от него отказа от реальных представлений, чувств и
ассоциаций, нет ничего, что расторгало бы связь и устанавливало бы непреодо-
лимую дистанцию между зрителем и художественным образом. В „Бодисатве
Фугэн11 нет ни торжественности, ни величия. Напротив, образ бодисатвы проник-
нут мягкой женственностью и лиризмом, он поэтичен и почти хрупок. И все же,
однако, весь его эмоциональный строй, вся атмосфера, в которой он существует,
вводят зрителя в совершенно особый, отличный от его, существующего во вре-
мени, мир. Мягкая и плавная закругленность ритмов линий, направленных
внутрь, вглубь и создающих замкнутую завершенность каждой формы и всей
фигуры божества в целом, изолирует и обособляет ее и вместе с тем рождает
внутреннюю динамику образа, но развивающуюся лишь в пределах самого образа
и не получающую никакого внешнего разрешения. Легкий бело-розовый тон скра-
дывает и как бы растворяет четкость объемных очертаний фигуры бодисатвы.
В этом живущем своей особой, внутренней жизнью образе скорее угадываются,
чем ясно определяются черты, связывающие его с реальностью, в нем лишь улав-
ливается некое напоминание о действительности, раскрывающейся здесь в своих
особых поэтических связях.
Образ светской красавицы, как представляли его в среде хэйанской аристо-
кратии, переносится здесь художником в план возвышенного поэтического
созерцания. Он теряет во многом конкретность своего материального обличья и
выступает как обобщенное выражение его лирико-поэтических свойств, как
воплощение идеальной сферы чувств, сферы чистого лирического переживания.
В этой плоскости поэтического созерцания художник как бы устраняет грань
между земным и божественным, здесь реальность, преображенная и одухотво-
ренная его поэтическим чувством, освобожденная от своих конкретно-времен-
ных черт, обретает для него свою эстетическую ценность. Таким образом, пер-
воначальное обращение к реальности, которая, казалось бы, утверждается как
основной объект художественного переживания, в конечном итоге выливается
в особую условно-поэтическую ее интерпретацию. Здесь можно говорить об
известной двойственности между первой художественной посылкой и ее конеч-
ным разрешением, двойственности, родственной той, которая отчасти прояви-
лась уже в росписи пятиэтажной пагоды Дайгодзи, в ее обращении к идеалу
живописи VIII века и вместе с тем в стремлении к его новому эмоциональному
41
Японская буддийская живопись
второй половины X—XII века
лирико-поэтическому преобразованию, и той, которая присутствует в росписи
храма Феникса с ее живым восхищением естественной красотой мира и художе-
ственным осмыслением и переживанием этого мира в сфере возвышенной созер-
цательности. Наиболее отчетливо эта двойственность выступает при сопостав-
лении „Воскресения Будды11 и „Бодисатвы Фугэн11.
Если первая из них в целом тяготеет к художественной форме, передающей
объем и материальность изображений, к богатому, насыщенному и сильному
колориту, что говорит о преобладании здесь конкретно-чувственного восприятия
реальности, то вторая, напротив,— к форме более условной и обобщенной, к ко-
лориту более мягкому и тонкому, что соответствовало более созерцательному и
отвлеченно-поэтическому взгляду на действительность. Эти два момента высту-
пают в искусстве X—XII веков не как противоборствующие тенденции, а как
сосуществующие и взаимопроникнутые начала, отражающие два основных плана,
две важнейшие грани художественного сознания времени. В своем наиболее глу-
боком, целостном и художественно выраженном виде они выступают в светском
искусстве этого времени, одновременно являясь и ключом к пониманию тех
немногочисленных произведений светской живописи эпохи Хэйан, которые дошли
до нашего времени, к объяснению особенностей их художественной формы и
содержания.
Японская светская
живопись ямато-э
XI—XIV веков
В истории японского искусства светской живописи эпохи Хэйан принадлежит
совершенно особое место. Во-первых, безусловно важен сам факт возникнове-
ния светского типа живописи в стране, где живопись до этого времени развива-
лась только в пределах религиозного искусства. Во-вторых, чрезвычайно суще-
ственно и то, что с появлением светской живописи в японское искусство была
принесена самостоятельная, свободная от заимствований, сложившаяся
в результате развития специфически местных тенденций художественная форма
и система художественных средств, введен круг тем и сюжетов, целиком осно-
ванных на явлениях японской жизни. И, наконец, последнее, что в полную меру
свидетельствует о значении светской живописи эпохи Хэйан,—это та роль, кото-
рая принадлежит ей в истории японского искусства.
Со светской живописью эпохи Хэйан связано сложение важнейшего явления
средневекового искусства Японии, которое в историях японского искусства
определяется термином ямато-э (,,ямато“—японская \ „э“—живопись) и вклю-
чает в себя всю светскую живопись вплоть до XIV века. Во всей последующей
истории японского искусства, развивающегося в тесном контакте с искусством
континентальных стран, в особенности Китая, ямато-э выступает как основа для
тех направлений, которые были выразителями наиболее широких с точки зрения
своих социальных предпосылок и глубоко национальных по характеру своего
мироощущения художественных тенденций. Так, ямато-э явилось основным
источником для нового развития национальных форм в японской живописи
XVI века. Теснейшим образом с традициями ямато-э связана живопись XVII века
в лице ее прославленных художников Коэцу, Сотацу и Корина. И, наконец,
последним наследником традиций ямато-э следует признать такое направление
японского искусства XVII—XIX веков, как укиё-э, приведшее к расцвету япон-
ской цветной гравюры на дереве.
Сам термин ямато-э возник в эпоху Хэйан и впервые встречается в записях
999 года. Точного определения этого термина в литературе того времени не
дается. Полагают, что первоначально он относился к произведениям, непосред-
ственно связанным с бытом, и обозначал только росписи ширм. Однако впервые
встречающийся примерно в это же время термин каро-э (китайская живопись)
позволяет думать, что в понятии ямато-э заключался и более общий смысл проти-
вопоставления возникшей национальной светской формы живописи со своими
особыми выразительными средствами и темой живописи китайской. Именно
в этом смысле, как определение национальной живописи и как выражение ее обо-
собления, термин ямато-э был воспринят в последующие века. Утверждение
такого понимания ямато-э было отчасти связано со вновь возникшим в Японии
в конце XIII века интересом к искусству Китая, на этот раз к живописи эпохи
Сун (960—1279), и с широким распространением китайского типа живописи
в XIV—XV веках.
43
1
Ямато — название древней Японии.
Японская светская
живопись ямато-э
X—XIV веков
Разделение живописи на китайскую и национальную, ямато-э, выразилось
в том, что в понятие ямато-э не вошла вся японская живопись тушью XIV—
XV веков, имевшая своим источником китайские образцы, и была включена вся
живопись, ведшая свое происхождение от эпохи Хэйан, разрабатывавшая ее
специфические формы и приемы. В понятие ямато-э вошла портретная живопись
конца XII века, живопись на горизонтальных свитках (эмакимоно) XIII века и вся
художественная продукция школы Тоса, образовавшейся в XIV веке и выступав-
шей в последующие столетия как консервативный хранитель принципов нацио-
нальной живописи. Таким образом, термин ямато-э объединил разную по времени
и даже по историческим периодам живопись. Так, если эпоха Хэйан завершает
собой период раннего феодализма, то XIII век—это время его зрелого существо-
вания. Однако при всей разновременности и различии направлений, включаемых
в ямато-э, оно выступает как целостное явление японского средневекового
искусства, представляющее, по существу, эволюцию одной художественной
системы, то есть совокупности художественных средств, обусловленных един-
ством центрального момента мировоззрения—типом соотношения человека и
окружающего его мира. Тот тип соотношения, который утверждается в художе-
ственной системе ямато-э, может быть назван активным, и, собственно, измене-
ние характера и степени этой активности лежит в основе всей ее эволюции.
Именно это важнейшее свойство и составляет принципиальное отличие художе-
ственной системы ямато-э от воспринятой Японией в XIV—XV веках сформиро-
вавшейся в эпоху Сун китайской, не предполагавшей возможности сопоставле-
ния такого рода, приводящей все к единому ряду, целиком обращенной от чело-
века к миру природы, которая и утверждается как проявление высшего порядка
и как единственный и универсальный объект художественного переживания.
Рассматривая ямато-э как целостное явление японского средневекового
искусства, можно в эволюции ямато-э наметить четыре основных этапа и в самых
общих пределах, имея в виду приблизительность принятых в современной лите-
ратуре датировок, что во многом связано с малочисленностью сведений о худож-
никах того времени и об авторстве сохранившихся работ, установить их хроноло-
гические границы. Первый этап может быть определен от начального периода
формирования, примерно от конца IX века до середины XII века. Определяющим
фактором этого периода является расцвет полихромной живописи. Важнейшая
форма, пЬ которой мы можем судить о живописи этого времени,— это живопись
на горизонтальных свитках. Основным источником тем для нее была японская
литература этого времени, теснейшим образом связанная с жизнью и бытом хэй-
анской аристократии. Из числа наиболее характерных особенностей горизон-
тальных свитков этого периода здесь следует отметить тип художественного
решения отдельных эпизодов, располагавшихся на свитке, и способ их размеще-
ния: каждый эпизод, составлявший часть такого свитка, представляет самостоя-
44
Японская светская
живопись ямато*э
X—XIV веков
тельное, законченное целое, если угодно, картину, которая изолировалась от
следующей большой полосой, заполненной текстом.
Второй этап занимает время от конца первой половины XII века до начала
XIII века. В этот период в живописи чрезвычайно усиливается графическое
начало, порой до полного его преобладания над цветовым пятном. Установив-
шаяся в предшествующий период изолированность отдельных частей свитка
сменяется целостностью и неразрывностью повествования, развертывающегося
в последовательно расположенных и взаимосвязанных эпизодах. Происходит
разительная демократизация тем. Значительное место в живописи на свитках
начинает занимать пейзаж. Появляется и завершает свой краткий путь развития
портретная живопись.
К третьему этапу относится живопись XIII века, преобладающей формой
в которой была живопись на горизонтальных свитках. Она развивалась на основе
двух предшествующих этапов, объединив их колористические и графические
особенности. В это время усиливается жанровость произведений, переходящая
порой в детально мелочный рассказ. Вместе с тем все большее значение при-
обретает пейзаж, совершенно очевидно тяготеющий к китайской сунской кон-
цепции природы. Возникает тенденция к формализации художественных приемов
ямато-э, отдельных сюжетных ситуаций, установившихся способов изображения.
Четвертый этап связан с деятельностью школы Тоса, образовавшейся
в XIV веке и в последующие столетия эволюционирующей в рамках формального
развития художественных и технических приемов ямато-э.
О времени начального формирования и о последующем развитии живописи
ямато-э в X и XI веках мы можем судить лишь по немногочисленным литератур-
ным свидетельствам и по нескольким дошедшим произведениям.
Некоторые сведения о живописи ямато-э IX—X веков содержатся в литера-
турных хрониках того времени. В них называются имена известных тогда худож-
ников: Косэ Канаока (конец IX в.), Асукабэ Цунэнори (60-е гг. IX в.), Косэ Хиро-
така (начало XI в.) и другие, произведения которых до нас не дошли, сообщается
об особенностях их творчества. Ититаро Кондо, сопоставляя сообщения литера-
турных хроник, заключает, что живопись ямато-э (имея в виду прежде всего пей-
зажную живопись, которая украшала ширмы, двери и стенные панели дворцов)
развивалась по пути все более интимного изображения природы, в чем, как он
отмечает, и состояло главное отличие живописи ямато-э того времени от
живописи китайской ’. Такие работы, как шестистворчатая ширма с изображе-
нием пейзажа из храма Тодзи в Киото,,,История жизни принца Сётоку“ (Сётоку
был причислен к пантеону буддийских святых), исполненная в 1069 году для хра-
ма Эдоно монастыря Хорюдзи и, согласно монастырской записи, автором которой
был художник Хата Титэи2, дают некоторое представление о состоянии ямато-э
в XI веке.
* а
.Pageant of Japanese art*, vol. I, p. 34— Никаких других работ худож-
35. ника неизвестно.
45
Японская светская
живопись ямато-э
X-XIV веков
Более значительной из двух названных работ и более важной с точки зрения
развития живописи ямато-э, а также имеющей вполне обоснованную дату
является „История жизни принца Сётоку11. (Роспись ширмы из храма Тодзи
некоторые исследователи относят ко второй половине XII в., рассматривая ее
как архаизирующий тип живописи.) „История жизни принца Сётоку11, исполнен-
ная на шелку, первоначально украшала стены храма Эдоно. В 1786 году по при-
чине плохой сохранности она была снята со стен, разделена на пять частей,
которые были натянуты на пять ширм. В таком виде она дошла до наших дней и
в настоящее время хранится в токийском Национальном музее. „История жизни
принца Сётоку11 по своему масштабу, по многочисленности и разнообразию
составляющих ее эпизодов более всего напоминает росписи храма Феникса. Мы
видим здесь и сцены пиршества и эпизоды, в которых изображены слуги, отго-
няющие от дворца любопытствующий простой народ, и др. Однако момент пове-
ствования, интерес к передаче чисто жанровых подробностей выражен здесь
несравненно определеннее и ярче. Обращает на себя внимание композиционное
расположение отдельных сцен: в основном оно то же, что и в свитках, только
с тем различием, что здесь они расположены по вертикали. В „Истории жизни
принца Сётоку11 мы находим и другие особенности, которые затем встретим
в горизонтальных свитках. Например, изображение домов без крыш для показа
замкнутого интерьера с высокой точки зрения, характерное изображение чело-
веческих лиц с условным рисунком глаз и носа, намеченных штрихом, получившее
название манеры хикимэ-кагихама.
Кэндзи Тода указывает еще на одну деталь, наблюденную им в „Истории
жизни принца Сётоку“, —на особое изображение тумана в виде горизонтальных
полос с круглящимся завершением1. Подобного рода полосы, пересекающие по
горизонтали композицию, так называемые „суйари11 или „касуми“, стали впослед-
ствии важным композиционным элементом в различных видах живописи ямато-э,
на свитках, ширмах и др.
Таким образом, к середине XI века уже сформировались многие композицион-
ные и художественные принципы, из которых слагается та художественная
форма, которую мы находим в горизонтальных свитках первой половины XII века.
Собственно, только две работы, два шедевра живописи ямато-э — „Гэндзи
моногатари“, свитки, созданные на темы одноименной повести начала XI века, и
„Нэдзамэ моногатари11, исполненная по мотивам не дошедшей до нас повести
периода Фудзивара,—дают подлинное представление о значительности пути,
предшествовавшего созданию этих произведений, и о важности первого этапа
развития ямато-э в целом. Оба произведения представляют собой живопись на
горизонтальных свитках. Сама форма горизонтальных свитков была принесена
в Японию из Китая, где она использовалась для жанровой и пейзажной живописи,
и была известна в Японии задолго до появления моногатари-эг то есть живописи
46
Kenji Toda, op. cit., p. 20—21.
Японская светская
живопись ямато-э
X—XIV веков
на литературные темы. Самым ранним примером живописи на горизонтальных
свитках в Японии являются иллюстрации к буддийским текстам, к так называе-
мым „Сутрам причины и следствия11 („Инга Кё“), относящиеся к VIII веку и
подражающие китайским образцам такого рода. Из литературы эпохи Хэйан
известно также о создании в X веке горизонтальных свитков живописи к „Исэ
моногатари“, „Уцубо моногатари11 и к другим литературным произведениям того
времени.
Нет сомнений, что „Гэндзи11 и „Нэдзамэ11 предшествовало большое число
горизонтальных свитков живописи. И здесь мы находим уже окончательно сло-
жившуюся художественную форму и разработанные художественные средства.
илл, 26-37 „Гэндзи моногатари11 в настоящем своем виде представляет девятнадцать само-
стоятельных частей-картин, каждая размером примерно 22 X 47,5 см, и два-
дцать разделов текста, составлявших вместе несколько свитков. Девятнадцать
сохранившихся частей относятся к различным двенадцати из пятидесяти четы-
рех глав повести. Предполагают, что первоначально таких частей должно было
быть более ста, по нескольку на каждую главу, что составило бы около десяти
свитков. Свитки „Гэндзи моногатари11 по традиции приписываются художнику
Фудзивара Такаёси, работавшему в первой половине XII века. В последнее
время, однако, некоторые японские искусствоведы, находя различия в манере
исполнения отдельных частей, склонны считать, что эта работа была исполнена
не одним, а несколькими художниками \ Но если вопрос об авторстве свитков
„Гэндзи моногатари11 остается открытым, то принадлежность их к одному вре-
мени не вызывает сомнений.
Рассмотрим несколько из девятнадцати частей-картин „Гэндзи моногатари11,
илл. 26, 27 начиная с части к главе „Восточный дом11 (,,Адзумая“) из собрания Токугава
Рэимэикаи в Токио, сразу же вводящей нас в круг художественных особенно-
стей, свойственных и другим частям, но присутствующих здесь в наиболее пол-
ном виде.
В вытянутой по горизонтали композиции мы видим изображение дворцового
интерьера и группу придворных дам, занятых.туалетом и одновременно слушаю-
щих чтение. При первом взгляде на эту композицию прежде всего обращает на
себя внимание богатство ее колорита (так же как „Восточный дом11, все осталь-
ные части исполнены в технике цукури-э2), слагающегося из оранжево-красных,
желтых, глубоких синих цветов пышных нарядов придворных дам, травянисто-
зеленых циновок, устилающих полы, коричневых и зеленых тонов пейзажей стен-
ных панелей и ширмы. И второе впечатление—заполненность и вместе с тем
сдавленность, сжатость пространства, заключенного в развернутой по горизон-
тали композиции. Действительно, в предстающем перед нами интерьере почти
нет незаполненных мест. Всю композицию делит по диагонали ширма, изображен-
ная так, что она целиком обращена к зрителю и заполняет собой центральную
См.: Hideo Okudaira, Emaki: Japanese
Pictura scrolls, Tokyo, 1962.
Цукури-э — тип живописи, в ко-
торой первоначально наносился
контур изображения, заполняв-
шийся затем плотными красками
47
Японская светская
живопись ямато*э
X—XIV веков
часть интерьера. Слева от ширмы сгруппированы четыре и справа—две сидящие
придворные дамы. Их многоцветные одеяния, вздымаясь в причудливой игре
складок, широко расстилаются позади них. Ощущению же сжатости простран-
ства способствует вытянутость самой композиции, высокая точка зрения,
избранная художником при изображении интерьера (зритель видит даже верх-
нюю часть балки, перекрывающей колонны), и, особенно, увеличенный в сравне-
нии с масштабом интерьера размер человеческих фигур, что, однако, благодаря
высокой точке зрения не выглядит нарочито контрастным и не нарушает есте-
ственности художественного построения.
Есть еще одна деталь, которая играет очень важную роль в разбираемой нами
композиции. Это диагональ перекрывающей колонны балки, которая срезает
верхний левый угол картины. Идущая почти параллельно плоскости пола, эта диа-
гональ, создавая глубину, организует пространство картины, направляет взгляд
зрителя вглубь, давая ему возможность почувствовать трехмерность изображен-
ного интерьера. Такого рода диагонали, для которых используются отдельные
конструктивные архитектурные детали, являются характерной чертой живописи
на свитках ямато-э. Они встречаются и в „Нэдзамэ моногатари“, в свитках
XIII века и затем как канонизированный прием в работах школы Тоса. Подобный
художественный прием отчасти обусловлен избираемой высокой точкой зрения
при изображении интерьера, что в свою очередь связано с определенным поло-
жением свитка по отношению к зрителю. Зритель, разворачивающий свиток по
мере его рассмотрения, всегда находится над свитком, над открывающейся его
взору картиной. Художник, избирая высокую точку зрения, с самого начала исхо-
дит именно из такого положения свитка и далее, сообразуясь с этим, строит всю
композицию. Диагональные линии чаще всего идут под большим углом к горизон-
тальным срезам картины. Соответственно их углу, наклонно, снизу вверх от зри-
теля, даются все изображаемые плоскости. Это придает рассматриваемой
сверху композиции должную глубину, устойчивость, делает закономерным ее
построение. Поставленная вертикально любая из картин ,,Гэндзи моногатари“
теряет для зрителя закономерность и естественность своего художественного
построения, все изображения в ней начинают казаться повисшими в простран-
стве. Роль диагоналей, однако, в композиции живописных частей-картин
,,Гэндзи“ не исчерпывается формальной композиционной функцией. Четкая,
вычерченная по линейке диагональ балки в части ,,Восточный дом11 не только
создает глубину композиции, но и является носителем особого динамического
начала, которое существеннейшим образом сказывается на всем эмоциональном
строе картины, казалось бы по характеру своего сюжета тяготеющей к глубокой
статике и покою. Вся сцена, изображенная художником, в открывающихся взору
зрителя дворцовых апартаментах, в сущности, лишена какого бы то ни было дей-
ствия. Одна из придворных дам держит раскрытую книгу, другие вслушиваются
48
Японская светская
живопись ямато-э
X—XIV веков
в ее чтение. Сидящие и чуть наклонившиеся, почти скрытые под пышностью
своих одеяний придворные дамы замерли в неподвижности своих поз. Их округ-
лые набеленные лица, оттененные черными, свободно ниспадающими на спину и
плечи волосами, с черточками глаз и носа совершенно одинаковы и, скорее, напо-
минают маски. Намеченные черточками глаза кажутся плотно прикрытыми. Ника-
кое движение, казалось бы, не в силах отразиться на этих лицах. Лишь сообщае-
мое им мягкой округлостью форм и слегка склоненной головой выражение лири-
ческой задумчивости и тишины представляется единственным и раз и навсегда
запечатленным на них состоянием. В этой сцене, проникнутой глубоким покоем
погруженных в себя персонажей, неожиданно и чуть ли не контрастно звучит
почти стремительная диагональ в левом верхнем углу композиции, которая как бы
распахивает перед зрителем пространство интерьера, на короткое мгновение
увлекает его глаз вглубь и внезапно обрывается у верхнего горизонтального
среза картины. Однако рожденное ею движение остается жить в картине —
в смягченном виде оно повторяется в слегка отклоненной от нее параллели пло-
скости пола и еще более приглушенно в направленной вправо вглубь диагонали
ширмы. Но и здесь оно не затухает окончательно. Оно ощущается во вздымаю-
щихся складках одеяний придворных дам, но уже как бы отлитое в остановив-
шиеся и застывшие цветовые волны. В соединении с богатством цветового реше-
ния картины и особенностями ее пространственного построения динамика
отдельных частей композиции получает наконец свое определенное эмоциональ-
ное разрешение. Раз возникшее движение вносит в эмоциональный строй кар-
тины ту ноту сдержанного напряжения, которую мы начинаем ощущать в насы-
щенном колорите, которая усиливается заполненностью и сжатостью простран-
ства и которая в конечном итоге обращается в ту внутреннюю динамику картины,
в ту полную сдержанного внутреннего движения атмосферу, в которой суще-
ствуют погруженные в себя персонажи. Сопоставление внутренней динамики,
созданной композиционной структурой картины, и статики, заключенной в ее
персонажах, так сказать, момент соприкосновения этих двух начал и является
основным ключом всего эмоционального строя картины, преобразующего ничем
не примечательный, взятый из повседневного дворцового быта эпизод в сцену,
исполненную высокого лирико-поэтического переживания. Фигуры придворных,
несоразмерно большие в сравнении с масштабом интерьера, чуть подавшиеся
навстречу друг другу и расположением своим тяготеющие к замкнутости круга,
в своем противостоянии стихий движения, по природе своей чреватой преходя-
щестью явлений и состояний, вырастают до значения носителей порядка исклю-
чительного и идеального, не уносимого и не исчезающего в бесконечном потоке
изменений, а самостоятельно и стабильно в нем существующего. Но эта стабиль-
ность, выраженная в постоянстве и неизменности состояния персонажей
,,Гэндзи“, погруженных в меланхолическую задумчивость, никак не отражается
49
4J Японское классическое искусство
Японская светская
живопись ямато-э
X—XIV веков
на потоке движения жизни, их окружающей, оно—как неожиданно приобретшее
долготу звучания эхо, продолжающееся и тогда, когда вызвавшие его звуки уже
замерли или сменились другими. Это эхо, этот отзвук, длящийся в одной тональ-
ности, и есть тот мир, в который погружены персонажи ,,Гэндзи моногатари“; не
сама жизнь в ее движении, а лишь ее отзвук, ее образ, рожденный их поэтиче-
ским вйдением, заполняет этот мир, созерцаемый их внутренним духовным взо-
ром. Об этом говорит сам момент слушания чтения (чтение или музицирование —
характерные сюжеты для живописных композиций в свитках ,,Гэндзи монога-
тари“), меланхолическая задумчивость лиц, позы погруженных в себя людей
(почти во всех известных нам живописных частях ,,Гэндзи моногатари11 дей-
ствующие лица изображены сидящими); такому восприятию содействует замкну-
тое по кругу расположение их фигур. Однако этот уход в себя, эта своего рода
отрешенность отнюдь не выступает как начало исключительно пассивное и одно-
образное в своей статичности. Напротив, оно воспринимается, скорее, как
непрерывный поток переживания, хотя и с преобладанием одного оттенка поэти-
ческой грусти. Именно в продолжительности этого состояния во времени находит
свое разрешение идея идеально-постоянного, обособленного начала, заключен-
ного в изображенных персонажах, и окончательно реализуется смысл сопостав-
ления его с динамикой внешних сил. Если последние достаточно явно выражены,
находятся, так сказать, на поверхности и в своей прямолинейной жесткости
выступают как простейшие, то первое рождается из сложности всей художе-
ственной структуры произведений, оно заключено в форме внешне пассивной и
замкнутой и возникает в устойчивости ее противостояния динамике внешних сил.
И если в прямолинейности движения выступает отчужденность этих сил, дела-
ющая их как бы частью безличных сил, неумолимо действующих в мире, то проти-
вопоставленное им начало есть та высокая человеческая духовность, которая
осмысляет, одухотворяет изображаемую реальность и не только ее, не только
непосредственно видимую зрителем сцену.
Расхождение основной диагонали композиции и линий плоскости пола, свобод-
ное пространство над перекрывающей колонны балкой разрушают замкнутость
интерьера. Интерьер оказывается лишь условно изолированным от внешней
среды пространством, и таким образом вся представленная в нем сцена, весь
сложный и напряженный внутренний строй ее жизни вовлекается в среду прин-
ципиально иного порядка, в среду внешнего мира.
В этом непосредственном контакте с внешним пространством раскрывается
окончательный смысл запечатленной художником сцены, находят свое последнее
обоснование художественные особенности ее композиции.
Пространство внешнего мира, с которым свободно сообщается подчиненная
человеку условная среда интерьера, оказывается высшей субстанцией, в кото-
рой мыслится художником изображаемая им реальность и с которой она в конеч-
50
Японская светская
живопись ямато-э
X—XIV веков
ном итоге соотносится. В этом решающем сопоставлении окончательно утвер- ждается высокая исключительность и самодовлеющая ценность человека как носителя лишь ему присущего, приносимого им в мир и осмысляющего его духов- ного начала, суть которого в его способности творить свой собственный идеаль- ный, поэтический мир, неподвластный всеизменяющему закону движения. Отсюда делаются понятными и отчужденная стремительность основной диагона- ли композиции, которая оказывается гранью, разделяющей два сопоставляемых мира и таким образом существующей в среде того и другого, и увеличенный раз- мер человеческих фигур, способствующий разрешению задачи соотнесения их с внешней средой, и условность и схожесть их лиц, символизирующих одно, поэтически-возвышенное состояние, свободное от всего изменчивого и преходя- щего. И, наконец, в этом контакте с внешней средой находит свое разрешение внутренняя динамика всего эмоционального строя картины. Та степень его актив- ности, в которой интимность настроения всей сцены и переживание ее героев обретают, казалось бы, несвойственную им силу звучания, вызвана и обусловлена именно этим контактом с пространством внешнего мира, в которое как бы выно- сится и продолжается это звучание, утверждая в нем индивидуальность и непо- вторимость своей природы. Эта художественная концепция, рассматривающая человека в его непосредственной связи с миром внешним и утверждающая его как носителя высокого духовного начала, пожалуй, ни в одной из известных нам живописных частей-картин из свитков „Гэндзи моногатари“ не выражена столь отчетливо, как в части к главе ,,Судзумуси“ из того же собрания, где изобра- жены принц Гэндзи и придворные кавалеры, музицирующие в лунную ночь во
илл. 28, 29. 31 дворце, и которую мы условно назовем „Музицирование11. Если в „Восточном доме11 достаточно ясно выражена трехмерность интерьера и при всем несоответствии его масштаба и размера изображенных в нем челове- ческих фигур, при всем нарушении его обособленности и изолированности он продолжает сохранять элементы бытовой среды существования человека, то в „Музицировании11 интерьер лишен какой бы то ни было своей функциональной специфики и предстает перед нами как условная архитектурная конструкция без крыши и стен. И если в „Восточном доме“ пересекающая верхний левый угол картины диагональ была, по существу, единственным столь явно выраженным динамическим моментом, то в „Музицировании11 вся композиция построена на диагоналях такого рода. Диагонали балок, линии пола, полос террасы и ее перил под острым углом снизу вверх пересекают всю плоскость картины и своей четкой линейностью почти уподобляют архитектурную часть композиции простой схеме. Сама же сцена, в которой изображено несколько сидящих придворных кавале- ров, один из которых играет на флейте, а другие погружены в слушание музыки, почти ничем не отличается от сцены из „Восточного дома11, с той лишь только разницей, что там были изображены придворные дамы. Те же позы погруженных
51
4*
Японская светская
живопись ямато-э
X—XIV веков
в мечтательную задумчивость людей, та же условность и схожесть лиц, то же
стремление к замкнутому расположению человеческих фигур (придворные, слу-
шающие флейтиста, расположены попарно, слегка подавшись навстречу друг
ДРУГУ), то же настроение поэтической грусти, которым проникнута изображен-
ная художником сцена. Однако все здесь обретает несравненно большую опре-
деленность и остроту. Стремительный поток диагоналей, образуемый не только
линейным, но и цветовым построением композиции, чередованием цветовых полос
зеленовато-голубоватых циновок и желтых досок пола, статичность фигур при-
дворных, переданная их позами, размером, увеличенным в сравнении с масшта-
бом архитектурной конструкции, замкнутостью линий их контура и темными
тонами их одежд, внутренний, заключенный в пределах изображенной сцены
ясный ритм, создаваемый парным расположением фигур, обособляющий их и
делающий очевидным их противопоставление прямолинейному движению диаго-
налей, и, наконец, свободное, формально ограниченное лишь пределами самой
картины пространство, в котором существует и которым проникнута вся компо-
зиция, сразу же „крупным планом" дают соотношение двух начал—мира челове-
ческого, замкнутого в себе, живущего своей особой внутренней жизнью, и внеш-
ней среды. И вместе с тем, несмотря на разность природы этих двух начал, они
выступают как внутренне взаимосвязанные и взаимообусловленные. Оба эти
начала становятся содержательными, обретают определенность своего эмоцио-
нального характера, лишь будучи сопоставленными. Внешне статичная, проник-
нутая глубоким покоем сцена слушания музыки обретает пульс своей внутренней
жизни лишь в своем соотнесении с ясно выраженной динамикой остальной части
композиции. Так же как стремительное движение диагоналей выявляет свой
характер неотвратимости внешней стихийной силы в сопоставлении со статич-
ностью, замкнутостью и обособленностью человеческих фигур. В моменте сосу-
ществования того и другого начала в однородном, едином пространстве всей
композиции, в едином потоке изображаемой реальности раскрывается источник
и характер переживания самих персонажей и эмоциональная тональность всей
запечатленной художником сцены—неотвратимость движения внешних сил рож-
дает в мире человеческих чувств отзвук, исполненный грустного, лирико-мелан-
холического звучания. Это настроение грусти присутствует во всех частях-кар-
тинах „Гэндзи моногатари", однако оно никогда не переходит в ощущение дра-
матического конфликта, постоянно оставаясь в пределах лирико-поэтического
переживания. Между миром внешним и миром человеческим здесь нет явно нару-
шенного равновесия. Если на стороне первого неодолимость раз и навсегда
установленного порядка, то на стороне другого способность его духовного,
поэтического преобразования. Нота грусти рождается из самого общего ощуще-
ния неизбежности и предопределенности, которую несут в себе законы этого
мира и которым в конечном итоге подчинено все в нем существующее. Но это
52
Японская светская
живопись ямато-э
X—XIV веков
ощущение никак не развивается. И хотя оно и присутствует как некое постоян-
ное предчувствие, но предчувствие, имеющее своим следствием ничего более,
как легкую грусть и лирическое раздумье. Можно даже сказать, что существо
значения этого ощущения, этого предчувствия всячески преодолевается.
И этому способствует, в конечном итоге, вся система композиционного построе-
ния. Несмотря на весь динамический заряд, который несет в себе диагональное
построение, оно не только никак не вовлекает в сферу своего движения противо-
стоящие ему человеческие фигуры, но в какой-то момент преобразуется, полу-
чает иной, противоположный своему первоначальному отчуждению и стремитель-
ности характер; оно обрывает свое движение, сосредоточивая всю энергию
как бы остановленного потока в пределах самой композиции, и в этой своей
сосредоточенности и концентрации энергии становится родственным тому вну-
треннему ритму, той внутренней напряженности, которая объединяет всю сцену
слушания музыки. Такого рода преобразование достигается постепенным смягче-
нием или, если можно так сказать, торможением стремительности движения
в почти последовательно расположенном ряде диагоналей — от наиболее актив-
ной, динамической верхней, узкой с острыми гранями балки ко все более широким
цветовым полосам пола и широкой полосе террасы. Решающим же моментом
в этом преобразовании является данная в обратной перспективе терраса. Ее пло-
скость, возникающая узкой полосой почти из середины нижнего среза картины,
все более расширяется по направлению к ее верхнему правому углу и, не достиг-
нув верхнего среза картины, уходит, исчезает в некой условности цвета, из
которого выступает огромный диск луны. Момент обратной перспективы создает
движение, противоположное по направлению другим диагоналям композиции,
а обширность плоскости террасы (носителя этого движения) уравновешивает
разность направленных движений, создает, так сказать, момент стабильного,
постоянного напряжения, слагающегося из противоположно направленных и урав-
новешенных сил, момент, который окончательно фиксируется, закрепляется
в статичных, противопоставленных вообще стихии движения человеческих фигу-
рах. Отсюда внутренняя активность всего эмоционального строя картины, выде-
ляющая в самостоятельный и высший ряд мир человеческой жизни, в котором
как бы фокусируются явления действительности, обретая в нем свое особое
идеальное существование. И именно направленностью, характером, самой при-
родой этой активности обусловлено, при всей отвлеченности и созерцательном
характере картины, преобладание в ее эмоциональном строе не спиритуалисти-
ческого, а сенсуалистического начала. Это последнее обнаруживается не
только во внутренних связях ее композиционной структуры, но и явно выступает
в отдельных деталях. Так чрезвычайно характерным является то, как написаны
прозрачные узорчатые черные ткани, перекинутые через перила террасы.
Художник явственно и ощутимо передает их нежную легкость и прозрачность,
53
Японская светская
живопись ямато-э
X—XIV веков
как если он бы писал их с натуры. Он любуется эффектом просвечивания сквозь
их сетчатую фактуру темной вуали полированного желтого дерева перил, игрой
плотных пятен узора и прозрачностью самой ткани. Можно сказать, что он
пишет своего рода.натюрморт. Эта полнота ощущения реальной красоты пред-
мета, неожиданная вещественность в его передаче вносят в напряженный эмо-
циональный строй картины остроту чувственного переживания реальности.
Именно этот момент сообщает теплоту живого человеческого чувства миру
реальности, который предстает перед нами в свитках ,,Гэндзи моногатари11
в своем красочном богатстве, в разнообразии жизненных ситуаций: в сценах слу-
шания музыки или стихов, любовного свидания (часть к главе ,,Ядориги“), при-
мял. 34, зо дворного празднества (часть к главе ,,Такэкава“). Можно сказать, что эта пол-
илл. 32, зз нота ощущения реального мира в контексте сознания преходящести его явлений
претворяется в то лирическое раздумье, в тот исполненный грусти мотив, кото-
рый неизменно присутствует во всех частях-картинах свитков „Гэндзи монога-
тари“. И чем конкретнее предмет лирического переживания героев, чем явствен-
нее непосредственность его живых человеческих связей, тем отчетливее высту-
пает земная, глубоко человеческая природа этого лирического мотива, и вместе
с тем, как, например, в части к главе ,,Касиваги“, в которой изображен принц
илл. 36, 37 Гэндзи с младенцем сыном на коленях, резче обозначается отчужденность мира
человеческой жизни от мира внешнего, отчужденность, в которой уже почти ула-
вливается нота драматической неизбежности и предрешенности. Если
в „Восточном доме11 или в „Музицировании11 всей системой композиционного
построения достигались взаимосвязанность и даже известное единство между
различными сопоставленными началами, единство, как, например, в „Музицирова-
нии“, достигаемое путем концентрации всей динамики композиции в статичных
человеческих фигурах, что в какой-то определенный момент, как бы выхваченный
из потока времени, давало единое звучание всего эмоционального строя картины,
то. в „Принце с младенцем сыном11, напротив, скорее, обнаруживается отсут-
ствие взаимосвязи, различие составлявших это единство начал. Фигура принца,
чуть склонившегося над младенцем, занимает господствующее и вместе с тем
совершенно изолированное положение в композиции. Составляя центральную
группу и являясь композиционным и смысловым центром картины, она помещена
в ее верхней левой части, остальная же, большая часть занята драпировкой,
отделяющей интерьер от террасы (интерьер, так же как в остальных частях-
картинах, дан сверху так, как если бы у него не было крыши), самой террасой и
далее свободным, ничем не заполненным пространством. Мягкие спокойные линии
контура фигуры принца и его одежд в своем движении по кругу замыкают и обо-
собляют всю группу. Диагональ балки, перекрывающей колонны, проходит ниже
сидящей фигуры принца, тем самым выделяя ее из всей композиции и утверждая
исключительность ее положения.
54
Японская светская
живопись ямато-э
X—XIV веков
Две сидящие придворные дамы в левой части картины разностью своих харак-
теристик—наряда, ракурса, своею разобщенностью — подчеркивают единство
и обособленность верхней группы. Традиционная диагональ балки, перекрыва-
ющей колонны, не пересекает здесь плоскость картины, а проведена почти из
ее середины так, что зритель видит не только грани, но и торцовую часть. Зафи-
ксированный момент ее начала, изображение торцовой части, что делает ее
более массивной и вещественной, лишает ее того динамического характера,
который был присущ подобного рода диагоналям в ,,Восточном доме11 и „Музици-
ровании11. За ней остается главным образом формально-композиционная функ-
ция: она создает определенную глубину в картине и отделяет пространство
интерьера от пространства внешнего. Хотя сам интерьер изображен условно,
без крыши, в картине нет той единой пространственной среды, которая присут-
ствовала в рассмотренных частях свитков ,,Гэндзи моногатари“. Пространство
левой от диагонали балки части картины оказывается замкнутым сидящей и скло-
ненной над младенцем фигурой принца, почти соприкасающейся с верхним сре-
зом картины и самой балкой, тяжелой и материальной, проходящей у основания
верхней группы. Пространство же правой части, образуемое почти параллельной
к балке, пересекающей под большим углом всю плоскость картины террасой,
дается как ничем не ограниченное, свободное и в сравнении с интерьером бес-
конечное в своей протяженности. Все композиционное построение сцены, скон-
центрированной в замкнутом пространстве левой части картины, в условно обо-
значенном интерьере, не находит во внешней среде никаких соотносимых или
сопоставляемых с ней элементов. Здесь выделяется один основной момент, один
центральный образ. Он дан в той же обобщенной манере, с теми же характер-
ными чертами состояния грусти и задумчивости, что и персонажи „Восточного
дома11 и „Музицирования11. Однако конкретная мотивировка сообщает этому
состоянию более определенное содержание. В задумчивости нежно склоненное
над младенцем лицо принца, как бы дополняющий и вместе с тем расшифровы-
вающий это движение заботливый жест его руки, поддерживающей младенца,
композиционно замкнутая, вписанная почти в круг фигура принца, чем дости-
гается связь и единство всей группы, выражают уже не столько созерцание, не
столько вслушивание в свое поэтическое переживание, сколько непосредствен-
ное, живое и обычное человеческое чувство, вызванное и связанное с есте-
ственными человеческими взаимоотношениями. Собственно, именно это конкре-
тизированное лирическое переживание и выступает здесь как основное худо-
жественное содержание произведения, подобно тому как меланхолическое
созерцание являлось центральным мотивом в „Восточном доме11 и „Музициро-
вании“. Оно выступает на том же уровне идеального существования, не свя-
занного с изменчивой природой материального мира, что и строй чувств, олице-
творяемый персонажами этих двух картин. Но если в „Восточном доме11 и
55
Японская светская
живопись ямато-э
X—XIV веков
„Музицировании11 условием существования духовной жизни их персонажей был
внутренний контакт с окружающей средой, то в „Принце с младенцем сыном11,
напротив, лирическое переживание героя оказывается изолированным, не свя-
занным с чем-либо вовне. И именно конкретизация источника и самой природы
этого лирического переживания и повлекла за собой его полную локализацию.
Момент конкретизирования вел к более близкому соприкосновению с действи-
тельностью, чем то, которое могло существовать в рамках миросозерцания
эпохи, проникнутого идеей идеального равновесия и гармонии. Лишь исключен-
ность из общего ряда явлений, особая чистота звучания этого лирического пере-
живания возводили его на идеальную высоту, приравниваемую к той степени
отвлеченности от реальности, которая позволяла сохранять известное равнове-
сие, известную соразмерность человека и мира. И все же в этой изолирован-
ности, в этом вознесении не только присутствует уже сознание исключитель-
ности, но и появляется оттенок чувства одиночества. Он проступает в том кон-
трасте, который составляют по отношению к мягко круглящимся линиям фигуры
принца, ко всему его облику, грустному и мечтательному, обнаженная материаль-
ность и прямолинейность балки, служащей границей между интерьером и внеш-
ним пространством, беспокойно ломающиеся складки драпировок, ниспадающих
на террасу, безличность, холодная бесстрастность внешнего пространства,
выступающая в его свободной протяженности. При свойственном этому времени
ощущении непостоянства всего в этом мире и вместе с тем стремлении к особой
гармонической соотнесенности его различных проявлений, причем соотнесен-
ности на отвлеченном от конкретной действительности уровне, на уровне, так
сказать, эстетической кристаллизации этой действительности, естественное,
глубоко человечное переживание, воплощенное в группе принца и младенца сына,
силой своей подлинности и реальности не могло не внести диссонанс в запечат-
ленную художником сцену. Этот диссонанс создается самой изолированностью
группы принца с младенцем сыном, разностью пространственной характеристики
интерьера и внешней среды, материальностью грани, их разделяющей, контра-
стом одухотворенной внутренним чувством группы принца с младенцем сыном,
живущей своей особой, ни с чем не связанной вовне жизнью, и внешнего мира,
холодного, бесстрастного, почти враждебного в своей безучастности. Мир
поэтической мечты, которым жило искусство этого времени, был слишком хруп-
ким для того, чтобы сохранить свою гармоническую целостность и вместе с тем
вместить в себя реальность во всей полноте ее подлинных черт, ее подлинной
силы. Сама действительность того времени, сам ход исторических событий более
всего способствовали обострению чувства реальности. Рушилось уже давно
существовавшее во многом лишь формально феодальное централизованное госу-
дарство. В стране шла жестокая борьба за власть между крупными феодаль-
ными домами. Еще в конце XI века Фудзивара вынуждены были разделить власть
56
Японская светская
живопись ямато-э
X—XIV веков
с феодалами дома Тайра. А в 1156 году дружины Киёмори Тайра захватили Хэйан.
Господствовавшее до той поры аристократическое сословие было более не
в силах сопротивляться мощному натиску крупных феодалов.
Действительность представала во все более быстрой смене драматических
событий, в трагизме коллизий, в остроте противоречий и столкновений. Соб-
ственно, тот тип художественного мировосприятия, который нашел свое вопло-
щение в свитках ,,Гэндзи моногатари44, мы находим всего лишь еще один раз
илл. за в частях-картинах свитка „Нэдзамэ моногатари44, датируемого XII веком и, как
можно полагать, созданного вскоре после свитков ,,Гэндзи моногатари44. Худож-
ник, исполнивший свиток ,,Нэдзамэ моногатари44, неизвестен1. Неизвестно также
первоначальное число свитков. До нас дошел только один, состоящий из четырех
частей-картин, хранящийся теперь в коллекции Ямато Бунка-кан в Осака. Он
исполнен в технике цукури-э и по своей манере и по теме близок к ,,Гэндзи11.
Однако в нем присутствуют уже и весьма существенные отличия.
Если в частях-картинах свитков ,,Гэндзи моногатари44 композиционным и смы-
словым центром являлись сами персонажи изображенных сцен и если таким их
узловым, центральным положением осмыслялся, получал свое художественное
содержание избранный художником сюжет, то в ,,Нэдзамэ моногатари'1 они
скрываются за пологом или за полураздвинутыми сёдзи2, мы обнаруживаем их
почти случайно, и, наконец, в одной из частей-картин свитка мы находим изобра-
жение пустого, покинутого людьми интерьера. Так же как в свитках „Гэндзи44,
интерьер дан здесь без крыши, и зритель видит его сверху. Он обладает ясно
выраженным трехмерным пространством. Его две параллельные, диагонально
направленные по отношению к плоскости верхние балки как бы стремительно
выносят всю его конструкцию в пространство картины, утверждая активность
его существования в этом пространстве. Он как бы полон еще жизнью недавно
бывших здесь людей. Она присутствует в динамике его линий, в активности,
индивидуальности всего его облика. Но от свободных, ровных плоскостей зеле-
ного пола и синей драпировки стены уже веет холодом пустоты и безлюдности.
В пространстве, открывающемся за раздвинутыми справа сёдзи, угадываются
очертания облаченной в пышный наряд дамы, обращенной спиной к зрителю;
с противоположной стороны, в просвете растворившейся двери, мы видим высо-
кую прическу мужчины, покидающего дом. Центральным образом, ,,героем14 кар-
тины остается опустевший интерьер. В его художественном облике, в его
построении еще присутствует та скрытая динамика, которой были отмечены
свитки „Гэндзи моногатари44, но она никак не реализуется, не обретает своего
живого звучания. Его внутренняя активность глушится холодностью тональной
гаммы. Чувство, которым были проникнуты свитки „Гэндзи моногатари44, утрачи-
вает свою прежнюю силу. Глубина цвета свитков „Гэндзи44 уступает здесь место
большей плоскостности, усиливается декоративный момент, получающий уже
Одно время работа приписыва-
лась Фудзивара Такаёси. См.: Ke-
nji Toda, op. cit., p. 45.
Сёдзи — раздвижные двери, на
деревянный переплет которых
натягивается тонкая белая бу-
мага.
57
Японская светская
живопись ямато-э
X—XIV веков
почти самодовлеющее значение. Оба изображенных у дома дерева, узор их цве-
тущих веток обладают уже всеми свойствами самостоятельного декоративного
мотива. Свитки „Гэндзи моногатари“ и „Нэдзамэ моногатари“, отмеченные нами
как наиболее важные дошедшие до нас произведения японской светской
живописи XI — первой половины XII века, дающие наиболее полное представле-
ние о ее характере, вместе с тем являются произведениями, завершающими
определенный этап в развитии японской средневековой светской живописи. Все,
что следует непосредственно за ними или создается примерно в те же годы, сви-
детельствует о глубоких изменениях, происходящих в японском искусстве.
Правда, художественные средства, сам образный строй, наблюдаемый нами
в свитках „Гэндзи11 и „Нэдзамэ11, разрабатываемый тип сюжетов, связанных
с хэйанской литературой, находят своих последователей и в XIII и даже в
XIV веке. Однако эти поздние работы позволяют скорее говорить о формализа-
ции и канонизации уже имеющихся образцов, чем о творческом развитии принци-
пов живописи XI —первой половины XII века.
Среди наиболее интересных работ, следующих традициям „Гэндзи11 и „Нэд-
илл. 41 замэ“, надо назвать свитки к „Дневнику11 (,,Никки“) Мурасаки Сикибу, приписы-
ваемые художнику Фудзивара Нобудзанэ (1176—1265?), и свиток неизвестного
художника XIV века к знаменитым „Запискам у изголовья11 писательницы Сэй-
сёнагон. В свитках к „Дневнику11 Мурасаки Сикибу мы находим почти всю сумму
художественных приемов, которая присутствовала в свитках „Гэндзи11. Можно
видеть даже сходство композиций отдельных частей-картин свитков к „Днев-
нику“ и „Гэндзи11, как, например, части-картины из коллекции Хатисука1 и
„Восточного дома11. Однако если в „Гэндзи“ все было объединено и сосредото-
чено в стремлении выразить внутреннее лирическое содержание запечатленной
сцены, то здесь все остается, скорее, на уровне внешней фиксации заданного
сюжета, ситуации, эпизода. Появляется известное желание „пересказать11
описанные в литературном произведении сцены, передать подробности сюжета и
обстановки. Согласуясь с этим желанием, художник конкретизирует место дей-
ствия, вводит большее число характеризующих его деталей, пейзажных или
бытовых, дает более реальное соотношение человеческих фигур и архитектуры,
но при этом сохраняет всю меру установившейся условности в изображении
людей. В этом новом соотношении с окружающей средой персонажи свитков
к „Дневнику11 низводятся до роли формальных носителей сюжетного действия,
в их облике появляется манерность, в их художественном решении присутствуют
признаки стилизации. Чрезвычайно усиливается и общая декоративность свитков
(вводятся серебряные и темно-золотые краски), которая выступает как фор-
мально объединяющее композиционное начало.
В свитке к „Запискам у изголовья11, исполненном тушью, воспроизводящей все
характерные особенности полихромной живописи „Гэндзи11 и „Нэдзамэ11 (задача
Работа состоит из 24 частей и
находится также в коллекциях
музеев Фудзита (Осака), Г ото
(Токио), в коллекциях Хизамацу и
Мори Кава (Ямагути).
58
Японская светская
живопись ямато-э
X—XIV веков
искусственная сама по себе), мы можем видеть пример уже чисто формального
использования художественных приемов живописи XI—первой половины XII века.
Художник создает своего рода орнамент из перекрещивающихся балок, пере- .
врывающих колонны, ломающихся линий многостворчатых ширм, узорных драпи-
ровок и вписанных в эту сложную канву фигур придворных кавалеров и дам, чьи
характерные для эпохи Хэйан наряды и прически даются как особый декоратив-
ный мотив.
Надо сказать, что живопись ямато-э XI—первой половины XII века была вос-
принята и буддийским искусством. Примером может служить живопись на три-
илл. 39, 43 дцати трех свитках со священным писанием из храма Ицукусима, датируемая
1164—1167 годами. Правда, понятие „религиозная11 по отношению к этой
живописи может быть употреблено лишь условно, так как хотя она и помещена
на свитках со священным писанием и даже частично связана с его содержанием,
но, по существу, живописные композиции, украшающие начало каждого из три-
дцати трех свитков, носят светский характер. Мы видим молящихся дам в пыш-
ных нарядах, группу придворных и монаха у пруда с цветами лотоса, священника
в горной хижине, нараспев читающего сутры, и т. д. Все изображенные сцены
чрезвычайно красочны. Черные распущенные по плечам и спине волосы придвор-
ных дам, темно-вишневые и золотистые краски их нарядов, синие тона одежд
кавалеров, золотисто-красные цветы лотоса среди нежно-зеленых больших
листьев, присыпанная серебряным и золотым порошком сама бумага—все это
способствует преобладанию чисто декоративного эффекта в этих живописных
композициях, украшающих свитки со священным писанием. Однако не эта сто-
рона живописи на свитках из храма Ицукусима представляет особенный интерес,
хотя она и заслуживает специального внимания, так как именно здесь находятся
источники японской национальной декоративной живописи, получившей развитие
в XVI веке. В данном случае важны те новые черты, присущие некоторым
живописным частям свитков из Ицукусима, которых не было в свитках „Гэндзи11
и „Нэдзамэ11. Так, например, в одной из живописных частей с изображением гор-
илл. 40 ного пейзажа, хижины и священника в ней, читающего сутры, обращает на себя
внимание присутствие ряда бытовых деталей (сандалии, оставленные священни-
ком у входа в хижину, кувшин, стоящий на ступеньке, и т. п.), несущих чисто
описательную функцию, и особенно само изображение читающего священника.
Вместо лишенных индивидуализированных черт, одноликих, статичных, замкну-
тых в себе персонажей свитков „Гэндзи моногатари“ мы находим здесь доста-
точно конкретизированную в плане передачи типичности черт старческого мона-
шеского лица и всего его облика, сухого и аскетичного, характеристику персо-
нажа и, что особенно существенно, изображение этого персонажа в активном
действии. Мы видим в руке священника свиток, голова его несколько откинута,
рот широко открыт, он весь чуть подался вперед, вся его поза выражает усилие,
59
Японская светская
живопись ямато-э
X—XIV веков
связанное с чтением вслух и нараспев священного текста. Собственно, передача
этого определенного действия исчерпывает содержание запечатленной сцены.
Внешнее действие, не только не игравшее никакой роли в свитках ,,Гэндзи11, но и
враждебное существу их идейного и художественного замысла, становится
здесь центральным моментом изображения. Конкретность черт священника,
определенность, подчеркнутость действия, переданного в экспрессии позы, эле-
мент описательности—все эти черты получают особый интерес в свете той
новой, чисто жанрово-бытовой тенденции, которая намечается в живописи этого
времени. В этой связи прежде всего имеется в виду живопись на бумажных вее-
рах, которая стала пользоваться большой популярностью в период Фудзивара1.
Веера, украшенные живописью, изготовлялись в большом числе, что было свя-
зано с утвердившимся обычаем помещать на веере текст священного писания,
превращавшего веер в своего рода талисман. Часто сюжетом живописи на вее-
рах избирался какой-нибудь эпизод из известного литературного произведения,
однако встречаются сцены, не связанные с литературой и взятые не из жизни
двора и аристократии, а из народного быта. Характерным примером может слу-
илл. 45 жить один из вееров собрания храма Ситэннодзи в Осака, датируемых XII веком.
На нем запечатлена обычная будничная сцена у колодца. В центре, вокруг над-
земной деревянной части колодца сгруппировано несколько человек: сидящий
крестьянин в большой соломенной шляпе и две женщины с бадьями. Справа —
удаляющаяся женщина с наполненной бадьей на голове, ведущая за руку
ребенка. Сам лист бумаги украшен золотыми квадратами, которые вместе с при-
чудливо изогнутым деревом с золотисто-красными листьями, изображенным
слева от колодца, декоративно оформляют веер. Однако все это дополнение
никак не изменяет определенно будничного, каждодневного характера запечат-
илл. 44, 46 ленной художником сцены. На другом веере из того же собрания можно видеть
изображение городского торгового ряда с продавцами, покупателями и прохо-
жими. Живопись на веерах в какой-то мере напоминает получившую развитие
в японском искусстве шесть веков спустя гравюру на дереве близостью сюже-
тов и, что особенно примечательно, техникой исполнения. Дело в том, что под
слоем краски на бумажных листах вееров были обнаружены контурные линии,
исполненные в технике деревянной гравюры. Было установлено, что человече-
ские фигуры вырезались на отдельных деревянных досках, а затем комбинирова-
лись в самых разных сценах. Естественно, что эстетические требования аристо-
кратического сословия оскорбляла подобная массовость производства. Лист
покрывался краской, скрывавшей первоначальные контурные линии. Так же как
впоследствии гравюра, веера, украшенные живописью, вошли в быт, в сферу
художественного потребления, стали предметами каждодневного обихода. Тем
самым наряду с литературными темами и сюжетами, связанными с жизнью ари-
стократического сословия, в живописи утверждалась тема простонародная,
В это время появляется тип
японского складного веера, в от-
личие от круглого — китайского.
В начале XV в. японскими склад-
ными веерами начинают пользо-
ваться и в Китае.
60
Японская светская
живопись ямато-э
X—XIV веков
раскрывающаяся в жанрово-бытовом плане, занимавшая обыденностью своего
рассказа, своей безыскусственностью и простотой.
Это ни в какой мере не свойственное живописи „Гэндзи11 и ,,Нэдзамэ“ внима-
ние к будничному сюжету как таковому, к внешнему действию как к главному
носителю сюжетной связи и даже выразителю существа его содержания говорит
о возникшем интересе к непосредственно зримым, со всей определенностью
являющим себя вовне, обладающим конкретностью взаимосвязи сторонам реаль-
ности, то есть к той находящейся в постоянном движении, изменчивой, но и могу-
щественной своим реальным существованием стихии бытия, которая, по суще-
ству, была враждебна, которую стремилась преодолеть и от которой в конечном
итоге каждый раз абстрагировалась живопись XI—первой половины XII века.
В рассмотренной нами живописи из Ицукусима и на веерах этот новый план
художественного восприятия действительности, эта принципиально иная худо-
жественная тенденция находит свое еще лишь самое поверхностное выражение.
В полную меру эта тенденция раскрывается в одном из самых значительных про-
нял. 47-55 изведений второй половины XII века—„Легендах горы Сиги11 (,,Сиги-сан Энги“),
трех свитках живописи из храма Тёгосонсидзи в Нара, в которых мы находим
новые средства художественного выражения, в целом новую художественную
форму, знаменующую собой начало нового этапа в развитии японской средневе-
ковой живописи. Три свитка, посвященные легендам горы Сиги, по традиции свя-
зываются с именем художника Тоба Сёдзо1 (1053—1140), однако никаких досто-
верных свидетельств об авторстве этих свитков не найдено. Во всяком случае,
можно полагать, что они были созданы не позднее начала второй половины
XII века. Следует отметить, что некоторые художественные особенности, прису-
щие свиткам „Легенды горы Сиги“, и прежде всего высокое мастерство экс-
прессивной динамической линии опирались на уже имеющуюся графическую тра-
дицию. Несмотря на расцвет в эпоху Хэйан полихромной живописи, не прекра-
щала своего существования и живопись тушью, связанная с религиозным буддий-
ским искусством. Сохранилось несколько свитков монохромной живописи, пред-
шествующих „Легендам горы Сиги112. Тоба Сёдзо также приписывают четыре
монохромных свитка, объединенных под одним названием „Карикатуры зверей11,
в которых изображены звери, в своем поведении уподобленные людям, а также
монахи и миряне, увлеченные различными азартными играми. Все четыре свитка
являют собой пример совершенного владения линией для передачи характерной
позы, жеста, движения. Стилистически рисунок в „Легендах горы Сиги“, пожа-
луй, ближе всего именно этим четырем свиткам, приписываемым Тоба Сёдзо.
Каждый из трех свитков „Легенды горы Сиги11 связан с одним из преданий о буд-
дийском священнике Мёрэне, который в X веке основал храм Тёгосон на горе
Сиги. Сюжетом для первого свитка послужил рассказ о чудесной чаше, которую]
священник Мёрэн, никогда не нарушавший своего уединенного житья в горах,
Буддийский священник Какуи, из-
вестный больше под именем Тоба
Сёдзо. Исторические хроники
сообщают об исполненных им
храмовых и дворцовых росписях,
упоминают о нескольких его са-
тирических работах.
О графических работах, предше-
ствовавших свиткам, приписы-
ваемым Тобо Сёдзо, см.: Kenji
Toda, op. cit., p. 49—53.
61
Японская светская
живопись ямато-э
X—XIV веков
время от времени посылал за провизией в дом богатого человека, жившего у под-
ножия горы Сиги. Однажды чаша не была наполнена обычным даром и оказалась
запертой в амбаре. Вскоре хозяин, его домочадцы и слуги увидели, как волшеб-
ная чаша, аза ней полный припасов амбар поднялись в воздух и понеслись прочь,
к горе Сиги. Последовав за своим добром, хозяин прибыл к жилищу священника
Мёрэна, который, выслушав его извинения, таким же чудесным образом вернул
мешки с рисом на прежнее место, оставив при этом у себя сам амбар.
Второй свиток связан с рассказом о приглашении священника Мёрэна ко
двору в связи с болезнью императора, о его молитве, которую он совершил, не
покидая горы, и которая исцелила императора. И, наконец, третий рассказывает
о путешествии буддийской монахини, сестры священника Мёрэна, отправившейся
в путь в поисках своего брата, и о их встрече на горе Сиги.
В отличие от частей-картин свитков первой половины XII века, никак не связан-
ных между собой и представлявших законченные живописные композиции, рас-
считанные на самостоятельное рассмотрение, свитки ,,Легенды горы Сиги“
строятся по новому принципу сюжетной и композиционной взаимосвязи всех изо-
браженных эпизодов. Каждый свиток (их размеры: 31,5 X 872,3 см; 31,5 X
X 1273 см; 31,5 X 1416 см) представляет достаточно целостную художественную
организацию, в которой любой эпизод является лишь частью целого. Перед зри-
телем, рассматривающим такого рода свиток (свиток разворачивается справа
налево, левой рукой разворачивают, правой сворачивают просмотренную часть),
проходят постепенно все эпизоды, являя собой единое, связанное и законченное
повествование. Последовательно расположенные, но разновременные по смыслу,
имеющие различное место действия эпизоды связываются между собой пейза-
жем. Таким образом, если каждая часть-картина свитков ,,Гэндзи моногатари11
представляла законченное, самостоятельное произведение, где запечатленная
сцена или эпизод были призваны выразить всю полноту человеческих чувств, всю
полноту связей человека с миром, то теперь в свитках ,,Легенды горы Сиги“
отдельная сцена или эпизод лишаются этого индивидуализированного значения,
они получают смысл лишь в своей взаимосвязанности, и таким образом только
в их серии, последовательном ряде, в их сумме осуществляется во всей полноте
то, что прежде вмещалось и концентрировалось в каждом из них. Если одной из
основных отличительных черт образного строя свитков первой половины XII века
было тяготение к статике и внутренняя активность, то теперь ею становится
внешнее действие и зримое движение. В этой связи важное значение получает
динамика линии, штриха, выразительность и острота рисунка в целом; цветовое
пятно уступает место графическому началу. Таким образом, изменяется
в сравнении с живописью XI—первой половины XII века почти вся сумма художе-
ственных средств и принципиально преобразуется художественная форма.
Каково же было то новое художественное содержание, то новое в целом миро-
62
Японская светская
живопись ямато-э
X—XIV веков
ощущение, которое повлекло за собой столь коренные изменения выразительных
средств и художественной формы?
Первые же несколько эпизодов ,,Легенд горы Сиги" из свитка, посвященного
илл. 47,49,51 рассказу о волшебной чаше, в которых изображается выскользнувшая из амбара
чаша и толпа, сначала в ужасе шарахающаяся от нее, а затем бросающаяся за
ней в погоню, вводит нас в мир образов и ситуаций, составляющих разительный
контраст с тем, что мы наблюдали в работах первой половины XII века. Здесь
все—и обстановка, и социальный типаж, и поведение людей, и характер челове-
ческого переживания—иное. Пространство свитка, в пределах которого изобра-
жен первый эпизод, так же как и большинство других, построено, как и про-
странство частей-картин свитков первой половины XII века, при помощи располо-
женных по диагонали архитектурных сооружений. Но диагонали композиции
открывают здесь перед взглядом зрителя не условно намеченный дворцовый
интерьер, а изображенный со всем правдоподобием, застроенный различными
службами двор, и видим мы не придворных, погруженных в меланхолическое
созерцание, а мечущихся в узком пространстве между амбаром и забором про-
столюдинов. Охвативший их страх обезобразил их позы, движения и жесты—они
судорожны и конвульсивны, ужас разверз их рты, отпечатавшись отталкивающей
гримасой на их лицах. И в следующее мгновение эта же толпа кидается в пресле-
дование за только что повергшим ее в страх предметом, за уносящимся с ним их
добром. Мы видим то же неистовство в стремительно несущихся фигурах, ту же
экспрессию жестов, вызванную неконтролируемой стихией чувств, но теперь
маска страха сменилась хищническим выражением преследования, буйства стре-
мительной погони: мелькают лица, ощерившиеся в зверином оскале, лица злобные
и алчные, лица с разинутыми ртами и вылезшими из орбит глазами. И, наконец,
это стремительно развертывающееся действие заключается внезапной останов-
кой. Несущийся людской поток, не достигнув цели и сохранив всю силу заклю-
ченной в нем энергии, внезапно остановлен. Мы видим на высоком обрывистом
илл. 50, 52 речном берегу в каком-то неистовом приплясывании три человеческие фигуры,
как бы сведенные судорогой в извивающиеся позы и последним усилием воздев-
шие руки к небесам. Преследуемые ими чаша и амбар уплывают по речным вол-
нам. Все чувства, владевшие попеременно до этого момента толпой, ее страх и
буйство сливаются в этих трех фигурах в одно, бурно и неистово выражаемое
отчаяние. Никогда прежде и, пожалуй, ни разу впоследствии мы не найдем
в японской средневековой живописи с такой силой и с такой обнаженностью
переданных человеческих страстей. Страстей, ничем не смягченных и ничем не
сдерживаемых, проявляющихся в своем естественном, подлинном, так сказать,
первозданном виде. Экспрессия и динамика этих нескольких начальных эпизодов
сразу же вовлекает зрителя в атмосферу напряженного повествования, в мир
стремительного и безостановочного движения, увлекающего разнообразием и
63
Японская светская
живопись ямато-э
X—XIV веков
илл.48,53-55 быстротой смен различных ситуаций. И хотя последующие сцены несравненно
спокойнее в своем описательно-повествовательном тоне, каждая из них в гро-
тескной характеристике своих персонажей, в экспрессии их поз и жестов сохра-
няет часть первоначального концентрированного динамического заряда. От ста-
тичности частей-картин ,,Гэндзи моногатари11, от их замкнутого в себе мира не
осталось и следа. То, что прежде являлось лишь начальным импульсом, формаль-
ным моментом, лишь первой ступенью в художественном осознании мира для его
последующего условно-поэтического и эстетического преобразования, теперь
становится единственно главным и всеобъемлющим, то есть то прямое, непо-
средственное восприятие реальности, которое было прежде только черновым
материалом для трансформирующей, преодолевающей этот материал художе-
ственной практики, теперь становится основным моментом художественного
произведения. И более того, если живопись XI—первой половины XII века вопло-
щала вознесенную над конкретной реальностью духовную сферу человеческих
переживаний, то теперь она выражает устремления прямо противоположные, так
сказать, вниз, к зримой реальности, к идущим с самого основания этой реаль-
ности истокам ежечасно проявляющей себя, бурлящей стихии человеческого
бытия. Таким образом, от мира идеального в неизменности своего лирико-поэти-
ческого содержания, в своей созерцательной отрешенности—к миру реальности.
И как показывают и сама тема—жанровая, бытовая, и избранный основной соци-
альный типаж—народный, и приверженность к массовым сценам—к теме толпы,—
к реальности самого широкого плана, к народной стихии и таким образом к пер-
вооснове, к главному, самому широкому и мощному источнику свершавшихся
исторических преобразований. В этот переходный момент истории, когда старая
форма централизованного феодального государства отжила свое время, а новая
не обрела еще достаточной определенности и устойчивости и новые социальные
слои не создали еще своих традиций, мощь народной стихии как подлинной
реальности, лежащей в основе исторической действительности, была уловлена
искусством с особенной остротой.
В живописи ямато-э XI—первой половины XII века, своими корнями уходящей
в самые глубинные пласты народной культуры, реализовалось то самое характер-
ное, что было присуще этой культуре, что выразилось в антропоморфическом
характере древних японских мифов, в особом рационализме синтоистской архи-
тектуры, в светской направленности буддийского искусства, в осмыслении при-
роды прежде всего как эстетического объекта и, наконец, в признании
в живописи ямато-э XI—первой половины XII века самодовлеющей ценности
духовного мира человека, что тем самым отводило человеку одно из главных мест
в мыслимой картине мироздания. Но именно эта же широкая народная стихия,
эта глубинная и основная сила, преобразующая историческое лицо общества,
отодвинула идеалы искусства XI—первой половины XII века в прошлое, лишила их
64
Японская светская
живопись ямато-э
X—XIV веков
каких бы то ни было жизненных источников. Мир, которым жила живопись
ямато-э XI—первой половины XII века, в котором путем поэтизации и эстетизации
действительности, путем отвлечения от динамического, развивающегося ее
существа была достигнута известная гармоническая соотнесенность ее различ-
ных проявлений, оказался в резком контрасте и противоречии с существующей
действительностью. Он очутился в полной изолированности, лишился какой бы то
ни было опоры в реальности, потерял всякую жизнеспособность. Мощный поток
реальности разрушил это идеальное построение, полностью овладел художе-
ственным сознанием времени, перед которым мир предстал в бурном и хаотиче-
ском движении. Главным носителем этого движения становится людская масса.
В противоположность живописи XI—первой половины XII века, где человек рас-
сматривался как противостоящее стихии движения, воспринимающее изменчивые
и преходящие явления действительности начало и в силу своих духовных
возможностей преобразующий их в категории устойчивые и постоянные и в этом
обретающий свое высокое значение, теперь движение становится основным
условием его существования, состоянием, которое позволяет ему оставаться
главным действующим лицом в этом мире, дает ему возможность не быть погло-
щенным этим миром. Чаще всего местом действия сцен, изображенных в свитках
,,Легенды горы Сиги“, является не интерьер, а пространство двора перед домом
или горная дорога, или берег реки и т. п. Однако художник не стремится к раз-
вернутому изображению этого пространства, а, напротив, различными способами
его ограничивает—постройками, изображенным холмом или просто условной
линией, отделяющей место действия от остающейся ничем не заполненной слегка
тонированной свободной части свитка. Это не только целиком сосредоточивает
внимание зрителя на развертывающемся повествовании, но и способствует вос-
приятию действующих лиц, всего людского потока как центрального и главен-
ствующего явления в этом пространстве.
Предметный мир предстает перед зрителем бесплотным и безжизненным
в своей главным образом сухой линейной характеристике, и только в людской
массе, находящейся в непрестанном движении, в отдельных персонажах,
в характерности, в экспрессии их поз и жестов заключены живые черты реаль-
ности. Люди, действующие в изображенных сценах, оживляют всю запечатлен-
ную художником картину мира, вносят в нее действенное, активное начало, насе-
ляют ее живым бурлящим потоком. Иногда человеческие фигуры даются почти
объемно и выделяются цветовым пятном. Вообще все цветовые акценты сосре-
доточены только в пределах непосредственно развивающегося действия—это
или выделяющаяся своим цветом, желтым или синим, одежда какого-либо персо-
нажа, или черная лошадь с ярко-красной сбруей и т. п. Не только предметы, не-
посредственно окружающие людей, постройки, деревья, но и развернутые кар-
тины пейзажа, который используется как переход между различными эпизодами,
65
5 Японское классическое искусство
Японская светская
живопись ямато-э
X—XIV веков
даются в соизмеримом с человеком масштабе. Пейзаж дается как свобод-
но преодолеваемое человеком пространство. Однако он обладает и некоторы-
ми своими особыми чертами, которые сказываются и на характере поведения
в нем человека. В отличие от жесткой линии, очерчивающей предметы, окружаю-
щие человека в его бытовой среде, и от резкой контурной линии и стремитель-
ного штриха, характерного для человеческих фигур, в пейзаже преобладают
линии мягкие и плавные. Сюда почти не проникает атмосфера смятения и непре-
станного действия, характерная для непосредственно бытовой среды человека.
Пейзаж воспринимается в целостном художественном организме свитка как сво-
его рода интервал, в котором наступает, так сказать, передышка от напряжен-
ного действия предшествовавших сцен. В нем господствует успокоенность и
тишина. Изображенные в свободном пространстве пейзажа персонажи не обла-
дают уже тем экспрессивным характером, который свойствен им почти во всех
остальных частях свитков ,,Легенды горы Сиги11. Здесь экспрессия их жестов и
поз, воспринимающаяся в ограниченном пространстве их бытового окружения
как мощный заряд их жизненной активности, утеряла бы силу своего напряже-
ния, свою выразительность, была бы сведена к суетливой жестикуляции, оста-
лась бы почти незамеченной, была бы нейтрализована и поглощена пространством
природы. В этом пространстве мог остаться жить лишь самый высокий накал
этой экспрессии, высшее напряжение человеческих страстей, какое мы наблю-
дали в сцене с уплывающей чашей. И для того чтобы не утерять своего особого
значения в этом мире, сохранить активность своего существования в нем, люд-
ской поток на время приноравливается к размеренным ритмам, господствующим
в природе, воспринимает их, подчиняет им свои действия, свое движение. Но
в следующий момент, за пределами пейзажной связующей части, действия людей
принимают свой прежний экспрессивный характер. Преодоление пространства
пейзажа для людского потока—это преодоление, по существу, антагонистиче-
ской ему среды, среды, где господствует порядок неизменный, стабильный и веч-
ный, то есть именно тот порядок, которому человек, людская масса противопо-
ставляют стремительность движения, бесконечный творимый ими живой ряд
быстро сменяющихся, мгновенных ситуаций и положений. Этот живой ряд смен и
есть главное и единственное выражение их существования. Это то, что они при-
носят в этот мир, это их способ утверждения себя в этом мире. Однако природа
этого ряда, природа творимого людьми действия носит характер чисто стихийный
и вместе с тем часто узкобытовой. Их действия ничем не освящены, вызваны
причинами внешними, чаще всего обстоятельствами буднично житейскими (слуга
с усилием расседлывает лошадь или помогает господину сесть верхом, усиленно
жестикулируют в беседе люди, хозяин отгоняет палкой собак и т. п.).
В сценах же наибольшего напряжения действия людей теряют какую-либо
целенаправленность, как, например, в сцене с уплывающей чашей. Момент наи-
66
Японская светская
живопись ямато-э
X—XIV веков
большей концентрации человеческой активности оказывается лишенным всякого
положительного содержания. Это — момент отчаяния, момент крайнего смяте-
ния. Но если в своем высшем накале человеческая активность оборачивалась
лишь отчаянием, то и состояние бездеятельности, неподвижности, статики таило
в себе для человека грозную опасность. Состояние неподвижности снимало
всякий момент исключительности, самостоятельности, самоценности его суще-
ствования, оно переводило его в иной ряд, по существу, ничем не отличающийся
и равный любому другому явлению этого мира. При общей линейности художест-
венной структуры свитков „Легенды горы Сиги11 и преобладании плоскостных
решений человеческие фигуры, изображаемые в состоянии неподвижности и,
таким образом, лишающиеся своей экспрессивной характеристики, оказываются
почти столь же схематичными и безжизненными, как окружающий их предметный
мир. Не случайно художник избегает изображать людей непосредственно в сво-
бодном пространстве пейзажа. Так в одной из пейзажных, связующих частей мы
видим только высокие шапки всадников, выступающие над линией холма, в то
время как сами они и их лошади оказываются от нас скрытыми.
Лишь в движении людской поток обретает свою самостоятельность и исклю-
чительность. Но в самой безостановочности и напряженности этого движения
выступает нечто вынужденное, действующее помимо воли и желания самих
людей, а в порывистости и экспрессивности их действий, порой не оправданных
незначительностью обстоятельств, их вызвавших, проступает чувство смятен-
ности и бесцельности. Свитки „Легенды горы Сиги“ отмечены сознанием актив-
ного действия, вносимого в мир человеком, однако отмеченные черты выдают
мировоззрение пессимистическое, проникнутое мыслью о неустойчивости, бес-
цельности и даже низменном характере человеческого бытия. Пессимизм этого
мировоззрения сказался и в гротескной, а порой в откровенно карикатурной
трактовке персонажей. Обостренное чувство реальности, обращение к широкой
картине человеческой жизни в этот период кровопролитных междоусобных войн
и народных бедствий привели к углублению пессимистического взгляда на дейст-
вительность, к отрицанию высокой оправданности человеческого существо-
вания.
Во второй половине XII века одной из популярных тем живописи на свитках
становится изображение так называемых „шести миров11, в которые, согласно
буддийскому учению, могут переселяться все живые существа. „Все живые
существа,— говорится в одном из ранних махаянистских текстов,— проходят
через шесть миров существования, вращаясь подобно колесу, не имеющему ни
начала, ни конца, от отцов и матерей, от поколения к поколению, где одно
в долгу у других11 Ч Из этих шести миров — ада, голодных духов, животных, злых
духов, людей и последнего — божеств, расположенных в восходящем порядке,
изображались главным образом те, которые являли собой различные мучения,
Цит. по кн.: R. Т. Paine and A. Soper,
The art and architecture of Japan, Lon-
don, 1955, p. 69.
67
6*
Японская светская
живопись ямато-э
X—XIV веков
ожидающие человека как следствие его греховности на разных этапах сущест-
вования. В подобного рода свитках мы видим людей, корчащихся в адском пла-
мени или тонущих в быстротекущих реках, как, например, в одном из свитков
,,Ада“ („Дзигоку Зоей11), истощенных человекоподобных существ с почти
илл. бо обнажившимся костяком и разбухшими животами в свитке „Голодные духи11
(„Гаки Зоси“) или в свитке „Болезни и уродства11 („Ямаи но Соси11), представ-
ляющем один из аспектов мира человеческого, людей, болеющих различными
болезнями, и диковинных уродцев. Всем сценам и изображенным персонажам
не только в свитке о мире людей, но и в двух первых художник придает исключи-
илл. 56-59 тельную убедительность. В свитке „Болезни и уродства11 люди, пораженные
различными недугами, кажутся исполненными с натуры бесстрастной рукой
художника, стремящегося запечатлеть мельчайшие подробности изображаемого
им болезненного состояния человека. Все сцены имеют здесь ярко выраженный
жанровый характер и даются порой в плане юмористическом или даже злого и
откровенного зубоскальства. Фантастическим эпизодам в других свитках введе-
нием реалистических деталей и подробностей придается достоверность реаль-
ного события. Характерологическая острота линии не уступает здесь вырази-
тельности линии в свитках „Легенды горы Сиги“. Кроме того, здесь более реши-
тельно вводятся цвета — ярко-красный цвет пламени, как бы фосфоресцирую-
щий оранжевый и зеленоватый цвет тлена и др., усиливающие впечатление под-
линности и вместе с тем усугубляющие мрачный характер развертывающихся
перед зрителем сцен. В этих трех свитках, трактующих буддийские сюжеты как
факты реальной жизни, перед зрителем проходит целая серия картин, изобра-
жающих наиболее мрачные стороны человеческой жизни, где человек выглядит
жалким и ничтожным, находящимся во власти карающих его сил и где в целом
утверждается обреченность и низменный характер человеческого существова-
ния. Все упомянутые три свитка на темы „шести миров11 датируются последней
четвертью XII века и приписываются художнику Мицунага, работавшему во вто-
рой половине XII века (свитки хранятся в национальных музеях Токио, Нара,
Киото и коллекции Сэикадо в Токио). С именем художника Мицунага связы-
илл.61-63,66 вается еще одна работа — „История придворного дайнагона1 Бан11 („Бан дайна-
гон Экатоба“) из собрания Сакаи Тадахиро в Токио, которая представляет уже
новое явление в живописи второй половины XII века и является чрезвычайно
важным звеном в истории японской живописи второй половины XII и XIII века.
Сюжетом для „Истории придворного дайнагона Бан11, состоящей из трех свит-
ков, послужил описанный в „Удзи Суи моногатари11 исторический эпизод, отно-
сящийся к 866 году,— поджог Отэнмон, ворот императорского дворца, придвор-
ным Банно Ёсё, с целью обвинить в этом своего политического противника мини-
стра императорского двора Минамото-но Макото. Однако правда раскрывается,
и виновника ссылают.
68
Дайнагон — придворный титул.
Японская светская
живопись ямато-э
X—XIV веков
Первый свиток, почти целиком посвященный сцене пожара, по стремительно-
сти и напряженности повествования во многом напоминает начальные сцены пер-
илл. 61 вого свитка „Легенды горы Сиги11. Мы видим людей, стремглав, с разных сторон
несущихся к охваченному пламенем строению, и толпу, в ужасе отпрянувшую от
волн черного дыма, прорезаемого рвущимися из него языками красного пламени.
Так же как в „Легендах горы Сиги11, люди мечутся и беснуются в бессильном
неистовстве. Однако облик каждого из них и всей толпы в целом здесь иной.
В „Легендах горы Сиги“ в самом напряженном эпизоде с волшебной чашей гро-
тескная характеристика персонажей достигает предела, люди почти теряют при-
сущие им черты, клокочущие в них страсти стирают их человеческий облик, их
лица готовы обратиться в звериные маски. И страсти их однозначны, целостны
в своей стихийной непосредственности и силе. В „Легендах горы Сиги“ перед
нами произведение, исполненное пафоса открытия новых, неизвестных до той
поры в искусстве сторон реальности, полярно противоположных тем, которыми
жило искусство до этого времени. Здесь нет места какой-либо дифференциации,
полутонам и градациям. Здесь присутствует ощущение исключительно острое и
целостное.
Только художник, стоящий на рубеже двух эпох, мог с такой силой ощутить
всю разительность и глубину контраста между отрешенным от действительности
идеалом вчерашнего дня и той картиной реальности, которая была открыта
сегодня, ощутить как бесконечность разделяющую их дистанцию, с такой бес-
компромиссностью отречься от старых представлений и дать новым столь край-
нее выражение. Собственно, идеалы старого искусства также являлись выра-
жением известной крайности, находились, так сказать, у последнего порога той
художественной системы, в которой они существовали, еще шаг — и мечтатель-
но-задумчивая успокоенность лиц персонажей „Гэндзи моногатари11 обращалась
в безжизненную маску, точно так же, как следующий шаг за „Легендами горы
Сиги“ оставлял за человеческой жизнью лишь страдания, отчаяние и адские
муки, то есть приводил к ее отрицанию.
Совсем иного рода явление представляют свитки „История придворного дай-
нагона Бан“. В сцене пожара, несмотря на то, что художник объединяет всю
массу людей, потрясенных зрелищем бушующего пламени, единым стремитель-
ным движением, он не дает их как нечто однородное в одинаковости своей реак-
ции на происходящее событие. Напротив, он отмечает, как бесконечно по-раз-
ному реагируют на событие его свидетели, замечает отдельные оттенки прояв-
ляемых ими чувств. В изображенной им толпе людей мелькают лица испуганные,
лица, с ужасом взирающие на пожар, пораженные величественным зрелищем или
с удовольствием его наблюдающие, лица ухмыляющиеся или даже смеющиеся
илл. 62 и т. п. В одном из эпизодов второго свитка, в сцене уличной ссоры двух детей, мы
видим остановившихся и наблюдающих драку прохожих. Одни с азартом следят
69
Японская светская
живопись ямато-э
X—XIV веков
за ее исходом, другие подзадоривают дерущихся или осуждают их, или остаются
безучастными. Таким образом, в отличие от ,,Легенд горы Сиги“, где человече-
ское переживание существует главным образом в своем самом напряженном, не
поддающемся никакой дифференциации и в этом смысле упрощенном состоянии,
здесь, отчасти теряя свою интенсивность, оно обретает богатство оттенков,
становится разнообразнее. Открытый в свитках ,,Легенды горы Сиги“ новый мир,
воспринятый художником в своем самом резком звучании, получает теперь более
богатую оркестровку. Он не получает принципиально нового, более высокого
осмысления, но он устанавливается, стабилизируется, более прочно утверждает
свое право на существование. Если художник ,,Легенд горы Сиги11 избирает
линию, которая под его кистью становится острой, напряженной и нервной, как
основу образного строя своей работы и если он очень скупо вводит цвет, порой
давая почти монохромные решения, то автор свитков ,,Истории придворного дай-
нагона Бан“, сохраняя за линией значение наиболее выразительного, гибкого и
динамического средства для характеристики своих персонажей, вместе с тем
широко обращается к цвету, тяготея к богатству красок техники цукури-э.
Таким образом, здесь избирается средний путь по отношению к ,,Гэндзи моно-
гатари“ и ,,Легендам горы Сиги“ и крайность позиций, занимаемая этими двумя
работами, выступает как их главное отличие от свитков „Истории придворного
дайнагона Бан“. Именно этот средний путь, характеризующийся стремлением
к конкретизированному изображению человека, интересом к разнообразию выра-
жений человеческих эмоций и в целом интересом к реальной действительности
в ее обычных проявлениях, обусловил возможность одновременного обращения
к столь противоположным явлениям в живописи XII века, как „Гэндзи монога-
тари“ и „Легенды горы Сиги“. Весьма показательны для характера этого пути те
изменения, которые претерпевают выразительные средства, воспринятые худож-
ником „Истории придворного дайнагона Бан11 из живописи первой половины
XII века и из свитков „Легенды горы Сиги11. Линия, которая в „Легендах горы
Сиги11 была основным нервом произведения, главным носителем его эмоциональ-
ного начала, в „Истории придворного дайнагона Бан“ становится средством
повествования, приобретает описательный характер. Цвет, в отличие от жи-
вописи первой половины XII века, становится эмоционально более нейтральным,
увеличивается лишь его формально-декоративная функция, и если последнее
нельзя сказать о сцене пожара, где черное клубящееся облако дыма, мастерски
переданное различными тонами туши, и красные, вырывающиеся из него злове-
щие языки пламени усиливают взволнованность всей сцены, внося в нее ноту дра-
матической напряженности, то, например, в эпизодах третьего свитка (сцены,
относящиеся к аресту Ёсё) мы наблюдаем уже более отвлеченные и декоратив-
ные цветовые решения, лишенные определенной смысловой и эмоциональной
направленности. Колорит получает здесь самостоятельность, становится до
70
илл. 63
Японская светская
живопись ямато-э
X—XIV веков
известной степени нейтральным по отношению к повествованию, осуществляе-
мому средствами графики.
Средний путь, избранный в „Истории придворного дайнагона Бан11, позволил
художнику вновь вернуться к традиционному для живописи первой половины
XII века изображению жизни аристократического сословия без страха оказаться
в плену образов старой живописи. В третьем свитке мы видим уже знакомый нам
по ранним произведениям дворцовый интерьер. Однако здесь все изменилось.
Царящая за пределами дворцов стихия жизни проникла и сюда. В округлых
лицах, в нарядах, в прическах мы угадываем облик уже виденных нами в свитках
„Гэндзи моногатари11 придворных дам, но здесь они охвачены тем же смятением,
что и люди, толпящиеся у горящих ворот императорского дворца, так же бурно
и неистово выражают свои чувства. Здесь впервые маска мечтательной меланхо-
лической задумчивости, неизменно сопутствовавшая изображению придворных
дам и кавалеров, искажается гримасой плача. Таким образом, идеал старого
искусства не только отвергается, как было в „Легендах горы Сиги“, но и полно-
стью развенчивается. Теперь стало возможным вовлечь образы старой живописи
в совершенно несвойственную им прежде сферу существования, рассмотреть
их на том уровне реального человеческого бытия, который завоевал основное
место в искусстве второй половины XII века и который в свитках „Истории при-
дворного дайнагона Бан11 освободился от черт катастрофичности, крайнего пре-
дела, свойственных ему в „Легендах горы Сиги11, и обрел свое устойчивое выра-
жение. Однако следствием этой стабилизации в художественном сознании
нового мира реальности, открытого в искусстве начала второй половины XII века,
был не только более широкий показ жизненных ситуаций и приспособление
к новым задачам всей суммы художественных средств, созданных предшествую-
щим искусством, но и выдвижение нового, позитивного героя. В этой связи сле-
дует обратить внимание на впервые появляющиеся в японской средневековой
живописи, в свитках „История придворного дайнагона Бан11, изображения воинов.
Вооруженные всадники в первом свитке вовлечены в общий поток движения.
Однако в облике воинов, сдерживающих и направляющих испуганных лошадей,
появляются неожиданные в этой сумятице и волнении черты отчужденности.
Выражение их лиц почти бесстрастно в сравнении с острой эмоциональной
характеристикой остальных участников события. Их выделяет и одежда, наряд-
ная и особым образом упорядоченная. Они и вовлечены в общий поток движения
и вместе с тем сохраняют свою самостоятельность. В их отчужденности высту-
пает начало волевое и организованное, в отличие от остальной толпы, пассивно
подчиняющейся случаю и эмоциям. Вооруженный всадник предстает перед нами
и как объект, эстетизируемый художником. Прежде всего эстетизируется его
конь. Он дается в особом, „картинном11 плане, чаще всего он вздыблен, худож-
ник подчеркивает упругую гибкость мускулистой шеи коня, мощь его форм,
71
Японская светская
живопись ямато-э
X—XIV веков
нарядность убранства. И хотя сами всадники остаются в целом на уровне той же
реалистической и индивидуализированной характеристики, что и остальные пер-
сонажи, слитность их с конем выделяет их, в какой-то мере декоративизирует и
вместе с тем придает некоторый героический оттенок.
Главным действующим лицом в первом свитке ,,Истории придворного дайнагона
Бан“ остается людская масса. Она составляет незримый фон и для двух других
ее свитков, фон, который сообщает им смысл подлинного исторического повест-
вования. Динамика жизни людской массы, ее проявления продолжают выступать
как главные свидетельства человеческой активности. Движение, действие
остается основным моментом человеческого существования. Правда, в отличие
от ,,Легенд горы Сиги11, единый поток движения составляется теперь из много-
численных индивидуализированных его носителей и, более того, мы находим
сцены принципиально иного характера, как, например, сцена с пойманной ло-
илл. 66 шадью, где один из бегущих к пожару людей укрощает, ухватив за уздечку,
вырывающегося, испуганного коня, раздувающего ноздри, готового взвиться на
дыбы, и тем самым вносит известный элемент целесообразности в общий стихий-
ный характер движения. Но лишь в воинах-всадниках движение обретает ясную
тенденцию к целесообразности, к стройности, обретает свою эстетику, своего
героя. И если в свитках „История придворного дайнагона Бан11 воин-всадник —
фигура еще эпизодическая, то в свитках XIII века он становится одним из глав-
ных персонажей, а порой и центральным героем. В свитке „Конные телохрани-
илл. 67 тели императора11 („Цуисин Тэики эмаки“), датируемом 1247 годом, мы видим
отдельные изображения восьми знатных всадников и одного придворного, веду-
щего лошадь под уздцы, представителей различных времен, являющих собой, по
выражению Кондо, своеобразную родословную запись1. В том, что художник
в этом свитке дает не связанные между собой самостоятельные изображения
всадников, можно видеть стремление к обособлению такого рода темы, к выде-
лению ее из общей сюжетной взаимосвязанности, характерной для живописи на
свитках второй половины XII и XIII века. В том же, как решается эта тема, бес-
спорно присутствует тенденция к ее героизации. Однако сам герой остается
еще в привычных пределах жанровой характеристики, он как бы только выхвачен
из стремительного потока движения, наблюдавшегося нами в более ранних свит-
ках, и сохранил еще всю живость и непосредственность реакции, свойственную
персонажам массовых сцен (характерно, что главным художественным средст-
вом здесь явился рисунок, и в целом свиток почти монохромный). Здесь еще не
слиты воедино героическое действие и облик героя.
Законченное выражение темы воина-героя мы находим в таких свитках XIII ве-
ка, как „Сказание о гражданской войне Хэйдзи“ („Хэйдзи моногатари эмаки“,
работа состоит из трех свитков, хранящихся в токийском Национальном музее,
в коллекции Сэикадо в Токио и в бостонском Музее изящных искусств), как два
72
“Pageant of Japanese art”, vol. 1, p. 90.
Японская светская
живопись ямато-э
X—XIV веков
свитка „Сказания о монгольском вторжении11 („Моко Сураи Экотоба“, приписы-
ваемые художникам Тоса Нагатака и Тоса Нагааки, хранящиеся в императорской
коллекции и датируемые концом XIII в.), и такие свитки XIV века, как „Сказания
о гражданской войне Госаннэн111 („Госсанэн кассэн эмаки“. Три свитка, храня-
щиеся в Национальном музее в Токио). В этих работах образ героя-воина, героя-
военачальника освобождается от черт жанровой характеристики, получает боль-
шую типизацию и обобщенность и в целом монументализируется. В одном из эпи-
зодов, запечатленных в свитках „Сказание о монгольском вторжении11, изобра-
жен японский полководец, предводительствовавший дружинами, дважды, в 1274
илл. 69 и 1281 годах, отразившими нападение монгольских войск,— Такэзаки Суэнага,
объезжающий ряды собравшихся военачальников. Образ прославленного полко-
водца предстает здесь как некий обобщенный и установившийся тип сурового
воина. В отличие от наделенных эмоциональной характеристикой лиц остальных
участников сцены его лицо, обрамленное маленькой острой бородкой и усами,
почти неподвижно. Большое внимание художник уделяет передаче деталей
костюма и оружия. Конь полководца лишен „картинной11, экспрессивной харак-
теристики и исполнен в полном согласии с натурой. Момент героизации, так ска-
зать, равномерно распределен между всадником и конем. Причем атрибутами
героической характеристики становятся и тщательно выписанный воинский
наряд, и вооружение, которые в своей достоверности, согласуясь с реалистиче-
ской трактовкой коня, сообщают убедительность и подлинность отвлеченному
облику героя-полководца. Оба свитка написаны плотными красками, способст-
вующими монументализации запечатленных сцен.
Это произведение явилось своего рода памятником полководцу Такэзаки Суэ-
нага и историческим битвам с монгольскими завоевателями, битвам, которые
спасли страну от чужеземного вторжения.
Героизация фигуры воина в японской живописи второй половины XII—XIII века
находит обоснование в той роли, которая теперь была отведена воинскому
сословию. Воин-рыцарь, самурай, становится героем истории. В 1185 году в же-
стокой борьбе за власть двух могущественных феодальных домов Тайра и Мина-
мото победителями оказались Минамото. Дружины Минамото Ёритомо вступили
в Хэйан. Однако, захватив Хэйан, Минамото Ёритомо основал свою резиденцию
не в императорской столице, а в пятиста километрах от нее, в укрепленном
лагере Камакура, который скоро превратился в город и фактическую столицу
страны. В 1192 году сторонники Минамото Ёритомо провозгласили его верховным
правителем государства — сёгуном. С этого времени в Японии утверждается
система военно-феодального управления страной, просуществовавшая вплоть до
середины XIX века. Утвердившее свое господство военно-феодальное сословие
в качестве своего идеала выдвигает образ воина, чтящего воинский подвиг и
славу, смелого, мужественного и скромного, проникнутого чувством верности и
В предисловии к„Сказаниям
о гражданской войне Госаннэн"
говорится, что свитки были ис-
полнены правителем провинции
Хида — Корэхиса, о котором ни-
чего более неизвестно.
73
илл. 42
Японская светская
живопись ямато-э
X—XIV веков
готового к самопожертвованию. Эти черты кладутся в основу целой этической
системы, изложенной в так называемом „Бусидо11 („Путь воина11), определявшем
поступки, дела и жизнь самурая. Междоусобная борьба феодалов, судьба и под-
виги героев-воинов становятся главными темами литературы того времени. Так
борьба Тайра и Минамото, а позднее, в XIV веке, борьба феодалов северных и
южных провинций стала основным источником тем для японского средневекового
эпоса и драмы.
Прослеживая эволюцию образа воина-героя в японской средневековой жи-
вописи на свитках, мы несколько зашли вперед, коснувшись свитков XIII и
XIV веков.
Нам важно было, отметив появление в свитках „Истории придворного дайна-
гона Бан“ нового персонажа — воина и тенденцию к его героизации, показать и
подчеркнуть жизнеспособность и устойчивость этой тенденции. Тенденция
к выдвижению героя — носителя жизненного строя, осмысленного и возвышен-
ного, представляется чрезвычайно важной в свете того явления, с которым мы
сталкиваемся в японском искусстве конца XII века, а именно портретной жи-
вописи. Вместе с тем следует отметить, что идея героя в живописи на свитках
была лишь частным моментом в общем широком русле основной тенденции к ото-
бражению реальной картины мира, рассматриваемой не с героической, а с буд-
нично-прозаической точки зрения и раскрываемой порой в повседневных, но
почти всегда острых и характерных жанровых ситуациях. Проявление этой тен-
денции наблюдается в живописи на веерах, во многом еще проникнутой идилли-
ческим настроением искусства первой половины XII века, в свитках „Легенды
горы Сиги“ и произведениях, посвященных буддийской теме „шести миров11,
отмеченных настроением глубокого пессимизма, и, наконец, в свитках „История
придворного дайнагона Бан“, где эта тенденция находит свое наиболее полное
выражение. Однако сам взгляд на действительность, ее оценка в сравнении
с той, какую она получает „В легендах горы Сиги“, коренным образом не изме-
няется. Живопись на свитках конца XII и XIII века, в большинстве своем лишаясь
остроты экспрессии и гротеска, свойственных более ранним работам, в своей
интерпретации сюжета в целом редко поднимается выше своего рода скетча или
анекдота. Однако в ней появляется стремление не столько к гротескной трак-
товке персонажей, сколько к передаче острохарактерных черт. В качестве при-
мера можно привести иллюстрации, датируемые концом XII века, к сутре из музея
Ямато Бунка-кан в Нара, где в одной из изображенных сцен мы видим комнату
для молитвы, в которой священнослужители, знатные кавалеры и дамы читают 1
священное писание. Каждый персонаж наделен ярко выраженной индивидуаль-
ной характеристикой. Здесь и монах с привычной умиленной гримасой на лице
читает лежащее перед ним писание, и изящный кавалер, напряженно смотрящий
в книгу, и т. д. Стремление запечатлеть характерный облик явлений в их естест-
74
Японская светская
живопись ямато-э
X—XIV веков
венных, живых чертах, пожалуй, наиболее свойственно именно живописи послед-
них десятилетий XII века. В более поздних работах, в свитках XIII века в пере-
даче характерного появляется уже некоторый штамп. В то время как в свитках
второй половины XII века стремление к передаче характерного было следствием
острого чувства реальности, желанием запечатлеть ее наиболее типические
черты, в свитках XIII века, как мы увидим далее, задача характеристики персона-
жей формализуется, в преувеличенно подчеркнутой характерности гримас лица
и жестов выступает условность некоего театрального действия, нарочитая
аффектированность поз служит лишь формальным выражением сюжетной ситуа-
ции. Сам момент движения, обладавший прежде неукротимостью стихийной силы,
низводится до выражения внутрисюжетных столкновений и связей и в конце кон-
цов распадается, поглощается множественностью сюжетных подробностей. Та
картина бурной и мощной стихии человеческого бытия, которая открылась искус-
ству начала второй половины XII века, стихии, как бы вышедшей за пределы
каких-либо границ и установлений, в конце века получает более упорядоченные и
определенные очертания, в ней появляются признаки устанавливающегося, вхо-
дящего в определенное русло жизненного порядка. Однако эта картина еще
не становится чем-то навсегда определившимся, привычным и традиционным.
Путь искусства этого времени — это еще путь новых открытий. И если в искус-
стве начала второй половины XII века мы находим обобщенное выражение этой
картины, то теперь искусство полно интереса к ее, так сказать, составным
частям, полно интереса к ее живым, характерным чертам и деталям. В этом
смысле последние десятилетия XII века могут быть охарактеризованы как время
наибольшей тяги к реальному.
И именно в это время, на рубеже XII и XIII веков, в японской живописи мы нахо-
дим портрет. В числе его основных предпосылок, как нам представляется, надо
назвать именно этот интерес к реальному, к характерному и типическому, кото-
рым было проникнуто искусство последних десятилетий XII века, и возникшую
в это же время и уже отмеченную нами идею героя.
Портрет конца XII века, скорее всего, можно назвать парадным. Действитель-
но, это портреты выдающихся деятелей того времени, таких, как Минамото Ёри-
томо, или знатных вельмож, таких, как Тайра Сигэмори, изображенных в торже-
ственной позе и церемониальной одежде. Ититаро Кондо пишет об этих портре-
тах, что „возможно, они являлись и предметами культа, однако тот вид, который
они собою являют, отнюдь не религиозного порядка. В них нет ни сакраменталь-
ности портретов буддийских патриархов, ни отвлеченности, так часто присущей
изображениям исторических персонажей11 Ч Сама идея портрета в японской жи-
вописи существовала значительно раньше. Так, в XI и первой половине XII века
были весьма популярны изображения упоминаемых Кондо буддийских патриар-
хов. Однако портретами в собственном смысле они вряд ли могут быть названы и, 1
75
1
“Pageant of Japanese art”, vol. 1, p. 46.
Японская светская
живопись ямато-э
X—XIV веков
по сути дела, являются примерами религиозной буддийской живописи. В той же
работе Кондо отмечает: ,,Вероятно, что нерелигиозные изображения реально
существовавших людей появились в период Хэйан, но первыми образцами, кото-
рые могут быть приведены, являются портреты периода Камакура, называемые
нисэ-э, или „подобие1 11 Ч Строго говоря, к портретам периода Камакура, позво-
ляющим в значительной мере оценивать их в собственном смысле этого слова,
может быть отнесена прежде всего небольшая группа дошедших до нас работ
из монастыря Дзингодзи в Киото, датируемых XII веком и представляющих
высшие достижения японской портретной живописи этого времени. Это порт-
. 64, 65 реты Минамото Ёритомо, Тайра Сигэмори, Фудзивара Мицуёси, исполненные
известным художником Фудзивара Таканобу (1142—1205), а также портрет свя-
щенника Монгаку Сонин.
Касаясь вопроса происхождения японского портрета конца XII века, Кэндзи
Тода пишет: „Очевидно, что форма портретной живописи Таканобу сформирова-
лась до обоснования правительства в Камакура и ограничение его творчества
периодом Камакура вводило бы в заблуждение, если только кто-нибудь не пред-
полагает, что новая школа внезапно развилась в период, когда клан Тайра был
у власти. Эволюции не свойственно обнаруживать такую законченную живопис-
ную форму в такой короткий срок. Мы не знаем, кто был учителем Таканобу, но
его портреты, исполненные сдержанной линией и цветом, лишенные отрывистости
штриха, более всего ведут к типу буддийских портретов раннего периода Фудзи-
вара“2. (Кэндзи Тода называет тот пориод в истории японского религиозного
буддийского портрета, когда он обладал весьма живыми чертами, воспринятыми
из китайских танских образцов, и еще не превратился, как то было в поздний
период Фудзивара, в чисто декоративное построение.) В самом деле, естест-
венно было бы предположить, что портретам из монастыря Дзингодзи, представ-
ляющим совершенно законченный тип произведений, ставшим по отношению
к последующим подобным работам своего рода образцом, предшествовал целый
эволюционный ряд. В том виде, в каком мы застаем портрет в конце XII века, он
обладает всеми чертами завершившегося и готового обратиться в канон явления.
В каждом портрете Таканобу избирает для своих моделей одну и ту же позу.
Мы видим их сидящими на циновках, строго выпрямившимися, в трехчетвертном
обороте. Их лица лишены детальной проработки и даны, скорее, в обобщенном
плане, что при одинаковости поз и костюмов (Минамото Ёритомо, Тайра Сигэмори
и Фудзивара Мицуёси облачены в так называемые „сокутаи11 — официальная
одежда, принятая для высокопоставленных придворных) сообщает им известное
сходство. Однако сходство типологическое, но не индивидуальное. Так, в своих
двух лучших портретах — Минамото Ёритомо и Тайра Сигэмори — Таканобу соз-
дает идеальный тип представителей высших слоев воинского сословия. Оба они,
облаченные в черные сокутаи, в одинаковых высоких головных уборах застыли
1 2
.Pageant of Japanese art-, vol. 1, p. 46. Kenji Toda, op. cit., p. 84.
76
Японская светская
живопись ямато-э
X—XIV веков
в неподвижности своей строгой позы. Так же строги, прямолинейны и жестки
ломающиеся острыми углами контуры их черных сокутаи. Оттененные черной
одеждой лица четко выделяются на общем темно-коричневом фоне. Спокойный,
как бы остановившийся взгляд, сомкнутые ясно очерченные губы, весь облик
этих высокопоставленных воинов являет собой спокойствие, достоинство, воле-
вую собранность. И вместе с тем при всем общем сходстве художник не упус-
кает и различия индивидуальных характеров, передает их очень скупыми и сдер-
жанными средствами. Более мягкий овал лица Тайра Сигэмори, неодинаковая и
более закругленная прорезь глаз, сообщающая его взору мягкость, почти задум-
чивость, выдают характер, отмеченный чертами доброты, человечности, в то
время как большая жесткость черт лица Ёритомо говорит о характере суровом,
о воле непоколебимой и непреклонной. Именно такими их рисуют и исторические
хроники. Насколько портретны произведения Таканобу, сказать трудно.
Кэндзи Тода, например, полагает, что портреты этого времени создавались на
основе первоначального наброска с натуры. В этой связи он пишет, что рисунки
с натуры для портрета были обычны для художников этого периода. Такая прак-
тика могла существовать, отмечает он, с времен Каванари и Канаока, однако нет
данных, подтверждающих эту точку зрения. Доказательства же такой практики
в XII и XIII веках существуют не только в литературе, но и в живописи. В свитках
XIV века, посвященных истории жизни священника Хонэна Сонин, из храма Тё-
нин в Киото содержатся две сцены, в которых изображено рисование с натуры.
Одна сцена — в девятом свитке, где изображен Сохобо, ученик Хонэна, дела-
ющий набросок со священника, и другая — в десятом свитке, в которой изобра-
жен художник Таканобу, рисующий с натуры Хонэна. Технические ограничения,
отмечает Кэндзи Тода, не позволяли художнику окончить работу перед моделью,
однако законченное произведение, несомненно, основывалось на этих зарисов-
ках Эти чрезвычайно любопытные свидетельства раскрывают всю меру инте-
реса к реальному, владевшего японским искусством в это время, интереса,
нашедшего в портрете свое позитивное и наиболее возвышенное воплощение.
Примечательно, что в своих портретах Таканобу обращается к манере живописи
ямато-э первой половины XII века, то есть ко времени, когда живопись жила наи-
более высокими представлениями о человеке, о значительности его бытия.
В портретах из Дзингодзи мы видим характерную для живописи ямато-э первой
половины XII века статичность поз. Таканобу тяготеет к насыщенности и силе
цветового пятна, свойственных живописи того времени, к тонкости и изыскан-
ности ее графики. Однако статичность, призванная прежде передать состояние
поэтически возвышенного переживания, превращается здесь в торжественное,
официально-парадное явление. Исчезает живописная свобода, отличавшая та-
кие работы, как ,,Гэндзи моногатари" и ,,Нэдзамэ моногатари", цвет становит-
ся плоскостным и строго локальным. Живую выразительность линий сменяет
1
Kenji Toda, op. cit., p. 84.
77
Японская светская
живопись ямато-э
X—XIV веков
формально точная и мертвая узорность. И лишь лица в портретах из Дзингодзи
отмечены подлинно живыми, индивидуальными чертами, увиденными глазами
художника конца XII века.
До нас дошло весьма большое число портретов, датируемых XIII и XIV веками.
Среди них работы такого известного художника XIII века, как Фудзивара Нобуд-
занэ; ему приписывается портрет императора Готоба, свитки ,,36 знаменитых
поэтов111 и некоторые другие. Портретная живопись получает в это время широ-
кое официальное поощрение. Так известно, что камакурское правительство рас-
порядилось написать портреты храбрейших воинов2. Однако портретная жи-
вопись XIII и XIV веков во многом уступает работам из Дзингодзи. Черты живого
человеческого характера, пробивающиеся в портретах Таканобу сквозь готовую
обратиться в канон, уже почти скованную им художественную форму, в портре-
тах XIII века обращаются в самые общие, чисто внешние и лишенные какой-либо
характерологической глубины физиономические особенности. Тяготение к коло-
риту ямато-э первой половины XII века, наблюдавшееся у Таканобу, все более
уступает место живописи почти монохромного типа. Подобного рода явление во
многом было следствием влияния сунской живописи Китая, связь с которым
возобновилась в конце XII века и в дальнейшем все более расширялась. Особен-
но сильно китайское влияние сказалось в портретной живописи второй половины
XIII и XIV века, когда становятся популярными портреты буддийских священ-
ников секты Дзэн (китайское Чань), учение которой проникло в Японию из Китая
в XII веке и стало в XIII и XIV веках религиозно-философской основой этических
и эстетических норм воинского сословия. Такие работы этого времени, как порт-
рет священника Дайгаку Дзэндзи из храма Кэнтёдзи в префектуре Канагава,
портрет священника Мусо Кокуси из храма Мётиин в Киото или портрет священ-
ника Дайто Кокуси из монастыря Дайтокудзи в Киото, по своему отвлеченному
характеру, по линеарной манере письма, по слабому и бледному колориту почти
полностью примыкают к сунскому буддийскому портрету.
Изменения, которые претерпевает портрет в XIII веке, явились выражением
особенностей эволюции не только этого жанра, они были связаны с общим про-
цессом, охватившим всю японскую живопись.
XIII век нередко называют ,,веком живописи на свитках11. Действительно, со-
хранилось большое число свитков, созданных именно в это время. Живопись
XIII века по своей форме, по художественным средствам и изобразительным
приемам явилась непосредственным преемником и продолжателем того среднего
пути, который впервые был определен в ямато-э свитками ,,История придворного
дайнагона Бан11. Казалось бы, в живописи XIII века не ослабевает тот интерес
к реальному, который вызвал к жизни саму живопись последних десятилетий
XII века. Этот интерес выразился в чрезвычайно расширившемся круге тем,
охватившем почти все стороны жизни японского общества того времени. Мы
Поэт Фудзивара Кинто (966—
1041) составил антологию 36
знаменитых поэтов, портреты ко-
торых стали популярны в XIII в.
См.: “Japanese portrait painting of the
Kamakura period”.—“The Kokka“,
1912, № 268, September.
78
Японская светская
живопись ямато-э
X—XIV веков
находим свитки на темы исторических событий, сказаний, легенд, историй мона-
стырей, на темы жизнеописаний различных исторических деятелей, известных
буддийских проповедников, прославленных поэтов. В свитках XIII века, как
никогда прежде, широко используются художественные средства, созданные
ямато-э на всем протяжении ее развития. Но вместе с тем в живописи XIII века
с особенной силой начинает сказываться и тот установившийся в „Истории при-
дворного дайнагона Бан“ уровень восприятия реальности, на котором содержа-
ние реальности, по сути дела, целиком исчерпывалось в характерности ее чисто
внешних проявлений. Начинает сказываться и та точка зрения на реальность,
которая обусловила этот уровень, точка зрения, не предполагавшая в явлениях
реальности высокого осмысляющего их духовного строя. Но если в живописи
последних десятилетий XII века за внешними и острохарактерными чертами запе-
чатленных образов, сцен и событий крылась ее внутренняя связь с исторической
действительностью времени, развивавшейся в бурном темпе и ярких ситуациях,
крылся ее живой интерес к различным сторонам открывшейся ей картины чело-
веческого бытия, интерес, в высшей своей точке приведший к созданию порт-
рета, то живопись XIII века была во многом лишена и этой связи и этого им-
пульса. Живопись XIII века развивалась уже в иной исторической и социальной
обстановке и уже в условиях формирования нового этапа художественного
сознания.
В XIII веке схлынула бурная волна исторических событий. Жизнь вошла в но-
вые, но уже четко определившиеся границы. В Японии прочно устанавливается
классическая феодальная иерархия. Новая организация общества начинает полу-
чать и свое идеологическое оформление, ведущее положение в котором занимает
буддизм, обретающий в это время и новое значение и новую силу.
Буддийская идея о бренности и тщете всего земного становится одним из цент-
ральных моментов складывающегося мировоззрения господствующего военно-
дворянского сословия. „Общая непрочность жизни и судьбы, так наглядно
продемонстрированная в бурную эпоху падения Хэйана и установления Кама-
кура,— пишет Н. И. Конрад,— когда так легко и быстро рушились благополучия
побежденных и часто — при изменившемся счастье — и победителей, эта непроч-
ность стала одним из сильнейших элементов умонастроений как аристократов
хэйанцев, так и самураев1 11 Ч Правда, буддийская доктрина непостоянства всего
земного, как отмечает Конрад, „не привела в данном случае,— как и в других
подобных,— к отрешению от мира, квиетизму: она оставалась преимущественно
в плане теоретико-познавательном, интеллектуальном, нередко служа основой
своеобразного эстетического переживания, но не переключаясь в норму пове-
дения. Если идея бренности всего земного и действовала как-нибудь на волю
самураев, то главным образом в направлении духа самопожертвования, то есть
в направлении самурайского служения долгу беззаветной верности112. Однако
1 »
Н. И. Конрад, Японская литера- Н. И. Конрад, Японский феодаль-
тура в образах и очерках, стр. ный эпос XII—XIV веков.— В кн.:
337—338. „Литература Китая и Японии4'
.Academia*, 1935, стр. 268.
79
Японская светская
живопись ямато-э
X—XIV веков
противоречий между планом философским и эстетическим и планом этическим не
возникало. И если в первом отрицалась подлинность положительного содержания
и ценности земной жизни, то во втором мы находим специфическую героику
смерти, прославление акта самопожертвования, свершаемого во имя отвлечен-
ной идеи.
Ощущение неустойчивости и преходящести всего земного, как мы видели, кос-
нулось и живописи первой половины XII века. Однако там оно вызвало стремле-
ние противопоставить изменчивой природе реальности духовный мир человека,
в котором реальность обретала свое новое, свободное от временных изменений
существование. Сознанием тщеты земной жизни была отмечена и живопись вто-
рой половины XII века, но преобладающим в ней оставался живой и острый инте-
рес к явлениям действительности, определивший в конечном итоге ее главные
черты и основную направленность. Теперь же, в XIII веке, сознание времени все
более глубоко проникается мыслью о бренности и тщете всего земного. Эта
мысль становится всеобъемлющей и определяющей весь ход осмысления кар-
тины бытия. Правда, такого рода сознание не находит еще в XIII веке адекват-
ного художественного выражения. Оно не преобразует каким-либо существен-
ным образом художественную систему ямато-э, в любом из вариантов своего
развития исходящую из позиций активного соотношения бытия человека и мира,
будь то идеалистическая концепция первой половины XII века, абсолютизировав-
шая момент лирико-поэтического переживания реальности и носителя этого
переживания — человека рассматривавшая как одно из центральных явлений
мироздания, будь то живопись начала второй половины XII века, при всем песси-
мизме своего взгляда на человеческое существование проникнутая ощущением
активного, действенного начала, вносимого в мир человеком, начала, таящего
в себе стихийную мощь и силу, или вставшая на средний, так сказать, компро-
миссный путь развития живопись последних десятилетий XII века, наследовав-
шая пессимизм предшествующих лет, но растворившая его в поглотившем ее
интересе к различным и многочисленным проявлениям действительности.
Как уже отмечалось, в живописи XIII столетия нашли свое прямое продолже-
ние традиции последних десятилетий XII века. Мы видим в ней ту же форму пове-
ствовательной живописи на свитках, то же внимание к динамическому построе-
нию повествования, к сочетанию острого графического элемента и красочного
колорита. Однако если складывающееся новое миропонимание еще не привело
к каким-либо коренным изменениям в живописи XIII века, то оно оказало решаю-
щее влияние на ход и характер ее эволюции. Дошедший до наших дней свиток
начала XIII века „История путешествия сановника Киби в Китай11, находящийся
теперь в бостонском музее, свидетельствует о почти полной преемственности
живописью этого времени работ последних десятилетий XII века. В основу этого
свитка положено предание о Киби-но Макиби, придворном и ученом VIII века,
80
Японская светская
живопись ямато-э
X—XIV веков
посланном ко двору танского императора и справившемся со всеми трудно-
стями благодаря помощи, которую ему оказал дух прежнего японского посла
в Китае, Абэно Накамаро. Свиток ,,История путешествия сановника Киби
в Китай11 на основании известного сходства художественной манеры с „Исто-
рией придворного дайнагона Бан“ относят к школе художника Мицунага. Мы
видим здесь то же стремление сочетать цветовое богатство ,,Гэндзи11 с вырази-
тельностью линий „Легенд горы Сиги11, тот же интерес и остроту наблюдения
над особенностями поведения людей в различных ситуациях, тот же напряжен-
ный темп повествования и тот же свойственный концу XII века в целом анекдоти-
ческо-юмористический аспект рассказа.
Среди многочисленных эпизодов, запечатленных в свитке „История путешест-
вия сановника Киби в Китай11 (один из самых длинных из дошедших до нас свит-
ков, его длина около двух с половиной метров), мы видим и путников, заснувших
в дороге в нелепых и смешных позах, и комичные лица людей, озадаченных не-
ожиданным поворотом событий, сцены бесед, где выразительная жестикуляция
собеседников делает понятным смысл разговора, и т. д. Правда, в отличие от
свитков „История придворного дайнагона Бан11, здесь можно заметить повторе-
ние одних и тех же сцен, а также появляющуюся жесткость и скованность
рисунка.
илл. 72-75 Однако уже вскоре, в свитках „Легенды храма Китано Тэндзин11 („Китано
Тэндзин энги“), содержащих во вступительном тексте дату 1219 год, специфи-
ческие черты живописи XIII века обнаруживают себя с достаточной определен-
ностью. Свитки „Легенды храма Китано Тэндзин11 посвящены жизнеописанию
поэта и ученого IX века — Сугавара-но Митизанэ, достигшего высокого поста при
императорском дворе, но из-за наветов своих врагов лишившегося почестей и
сосланного в далекую провинцию. После своей смерти Митизанэ был обожест-
влен и сделался предметом поклонения. Особенно его чтили в храме Китано,
в Киото, где и хранится упомянутый свиток. Жизнеописанию Сугавара-но Мити-
занэ былд посвящено весьма значительное число работ, созданных в XIII и
XIV веках, отмеченная 1219 годом является самой ранней и самой интересной и
по традиции приписывается художнику Фудзивара Нобудзанэ.
При всем разнообразии порой чрезвычайно конкретных по своему содержанию
сцен, запечатленных в восьми свитках „Легенды храма Китано Тэндзин11— мы
видим Митизанэ и в юности, упражняющегося в стрельбе из лука, и при импера-
торском дворе, в качестве высокого должностного лица, и в пути в ссылку на
отдаленный остров в провинции Цукуси, и жизнь его в ссылке, его смерть и,
наконец, действия, совершаемые его духом,— на всех этих сценах лежит печать
особой отвлеченности. Это уже не непосредственное выражение жизненных
наблюдений, характерное для повествовательной живописи предшествующих
лет, а некое традиционно-литературное представление о жизни, передаваемое
81
6 Японское классическое искусство
Японская светская
живопись ямато-э
X—XIV веков
в установившихся в искусстве образах. В этом смысле весьма показательна
илл. 72 сцена, в которой изображен уже сосланный на остров Митизанэ, сидящий вече-
ром, при полной луне, на открытой галерее, выходящей в сад, среди своих при-
верженцев, так же как патрон, погруженных в горькие воспоминания.
Собственно, ни композиционное построение, ни изображенные персонажи не
раскрывают эмоционального содержания запечатленной художником сцены. Мы
находим здесь уже хорошо знакомую по свиткам первой половины XII века орга-
низацию пространства путем расположения по диагонали архитектурного соору-
жения и группу сидящих людей, напоминающую излюбленные живописью первой
половины XII века сцены меланхолического раздумья. Однако роль части садо-
вого павильона, изображенного в этой сцене, исчерпывается его чисто функцио-
нальным назначением, а изображенные в нем Митизанэ и его приверженцы даны
со свойственной живописи второй половины XII века индивидуализированной
характеристикой, но вне динамически развертывающегося действия, сообщав-
шего жизнь ее персонажам. Зато совершенно особая роль отводится различным
формальным деталям, косвенно свидетельствующим о характере изображенной
сцены. Так, насыщенным темно-синим пятном выделено придворное одеяние
Митизанэ (как известно из предания, подаренное ему самим императором), под-
черкивается запущенность сада и дома: осенние цветы проросли на его крыше
и обвили подпоры, яркие большие белые цветы хризантем, растущих в саду, сме-
шались с красными листьями кленов и плюща и т. п. Вот те детали, которые
должны передать подлинное содержание сцены. Отсюда все возрастающее зна-
чение чисто декоративных решений, которые в последующих работах XIII века
займут центральное место. Следует отметить, однако, что живописи свитков
,,Легенды храма Китано Тэндзин“ присуща редко встречающаяся в это время
свобода письма и особая весомость, наполненность в передаче форм предмет-
ного мира1. Мы находим эти качества в изображении бурлящих, пенящихся и
илл. 74, 75 перекатывающихся зелено-синих волн в сцене путешествия Митизанэ в про-
винцию Цукуси, в горном пейзаже, запечатленном смелой, свободной и динамич-
ной кистью. Еще один, как нам представляется, важный момент обращает на
себя внимание в свитках ,,Легенды храма Китано Тэндзин“. Не все содержа-
илл. 73 щиеся в них сцены носят повествовательный характер. Есть части, как, напри-
мер, та, где на вершине горы изображен Митизанэ, обращающийся к небу
с жалобой на свою несчастную судьбу, рассчитанные не на увлекательность
своего рассказа, а, напротив, на длительное свободное обозрение, на созерца-
ние. В упомянутой части перед зрителем разворачивается широкая многоплано-
вая картина горного пейзажа. Художник передает характерные очертания обры-
вистых склонов гор, изображенных на первом плане, и чуть выступающих вдали
вершин, однако в целом рисует не реальную картину природы, а переводит все
в цветовой и ритмический план, свойственный изображаемой им местности. Пей-
Подобного рода качества можно
найти, пожалуй, еще в одном
произведении XIII в., в уже упо-
минавшихся свитках к „Днев-
нику14 Мурасаки Сикибу, также
приписываемых Нобудзанэ.
Японская светская
живопись ямато-э
X—XIV веков
заж написан в светло-коричневых, синих и зеленых тонах. Сильный ритм взды-
мающихся холмов и гор монументализирует весь облик запечатленного художни-
ком пейзажа. Вместе с тем он подчеркивает и мысль об особой, самостоятельной
жизни, которой живет природа. Он изображает группы пасущихся оленей, спо-
койно и бесстрастно взирающих на сидящего на вершине горы Митизанэ, покры-
вает расстилающуюся внизу долину яркими осенними цветами.
В целом, в сочетании с повествовательными частями свитка, перед зрителем
воссоздается широкая картина мира с тенденцией к показу природы как явления
наиболее гармонического и возвышенного. Видимо, именно с этим стремлением
к показу широкой панорамы мира, при свойственном художнику чувстве мону-
ментальности, связана необычно большая по вертикали ширина свитков „Легенды
храма Китано Тэндзин“ (51, 5 см), почти вдвое превосходящая обычную. О вла-
деющем художником замысле говорит и тема двух завершающих весь цикл седь-
мого и восьмого свитков, в которых изображены шесть буддийских миров. Таким
образом, мир предстает здесь не только в аспекте реальных ценностей, в нем
существующих, но и в религиозно-буддийском, и в данном случае в аспекте уче-
ния о мистических перевоплощениях, о несовершенстве земной сферы существо-
вания. То есть решение художественной задачи в какой-то мере предрешается
отвлеченной идеей. В этом смысле показательна и сама тема свитков „Легенды
храма Китано Тэндзин11. Герой свитков, Митизанэ,— казалось бы, реальное исто-
рическое лицо, связанное с конкретными событиями, и вместе с тем мистическим
образом, в виде духа, присутствующее в современности. И если прежде, как,
например, в „Легендах горы Сиги“, тема чуда была лишь предлогом, стимулирую-
щим и дающим возможность изобразить наиболее яркие события реальности, то
теперь момент мистический, иррациональный становится самой атмосферой
произведения, оказывает влияние на характер изображения. Так же как обычно
в религиозной живописи, в свитках „Легенды храма Китано Тэндзин“ герой изо-
бражается крупнее других персонажей. А в части с горным пейзажем его фигура
так велика, что вообще оказывается вне всяких масштабных соотношений
с остальной картиной и превращается в некий символ, условно выражающий
известное сюжетное положение. Собственно, здесь опять выступает уже отме-
ченная нами отвлеченность, формальность в подходе к решению художественной
темы. Эта отвлеченность нашла свое выражение и в несвойственном в целом
живописи второй половины XII века интересе к тщательной выписанности пред-
метов, окружающих изображенных персонажей. При том традиционно литера-
турном моменте, присутствующем теперь в художественном выражении реаль-
ности, точно воспроизведенный предмет получает и роль пояснительной детали и
вместе с тем значение элемента, сообщающего необходимую убедительность,
подлинность изображенным сценам, всему повествованию в целом. Изображае-
мый предметный мир наделяется теперь порой большей определенностью и
83
6-
Японская светская
живопись ямато-э
X—XIV веков
материальностью, чем запечатленные персонажи. Так, в сцене переправы через
разлившуюся реку мы видим бегущих за двухколесным запряженным буйволом
возком людей, изображенных в манере почти беглой зарисовки, в то время как
сам возок выполнен с большой тщательностью и подробностью. Правда, здесь
таким сопоставлением мастер усиливает и желаемый эффект в передаче движе-
ния, однако вскоре точное воспроизведение предметов, деталей одежды, азатем
животных и птиц станет одной из характерных черт живописи ямато-э, и в начале
XIV века в таких свитках, как „Легенды храма Касуга Гонгэн“ („Касуга Гонгэн
Рэйгэн Ки“), приведет к созданию манеры, напоминающей живопись натуралисти-
ческих школ XVIII века, таких, как школы Окно и Сосэн.
Пожалуй, наиболее ярко направленность и характер живописи ямато-э XIII века
илл. 68 сказались в такой работе, как „Сказания о гражданской войне Хэйдзи“ („Хэй-
дзи моногатари эмаки“). Исполнение этой работы, состоящей из трех свитков,
хранящихся в токийском Национальном музее, в коллекции Сэикадо в Токио и
в бостонском Музее изящных искусств1, традиция связывает с именем Сумиёси
Кэнон, однако никаких упоминаний об этом художнике не найдено.
Темой для этой работы послужила описанная в книге „Хэйдзи моногатари11
военная распря 1159 года между двумя группами знати, борющимися за политиче-
ское первенство, Фудзивара-но Нобуёри и Сёнагон Ниудо Синсэи, положившая
начало борьбе феодальных домов Тайра и Минамото. Таким образом, сама тема,
избранная художником в данном случае, в отличие от „Истории путешествия
сановника Киби в Китай11 и „Легенд храма Китано Тэндзин11, рассказывающих
о судьбе отдельных героев, предполагала широкий охват различных событий.
В бостонском свитке мы видим массовые сцены, связанные со штурмом и пожа-
ром императорского дворца, сцены, в которых изображены воинские отряды,
толпы народа и т. д. Подобный широкий план в изображении различных событий,
сцен и эпизодов мы уже имели возможность наблюдать в живописи XII века, на-
пример в свитках „История придворного дайнагона Бан“. Там художник также
обращался к изображению массовых сцен, выразивших накал страстей эпохи, ее
внутреннее динамическое существо. Однако между решением массовых сцен
в „Истории придворного дайнагона Бан11 и в „Сказаниях о гражданской войне
Хэйдзи11 имеются существенные различия. Мы уже отмечали разницу в изобра-
жении толпы в „Легендах горы Сиги11 и в „Истории придворного дайнагона Бан“,
разницу в характере ее поведения, ее реакции, то есть, иными словами, разницу
в характере творимого ею действия, в образном содержании этого действия и,
если угодно, его мировоззренческом значении. И если в „Легендах горы Сиги“
действие — это стихийный порыв рвущихся наружу, клокочущих людских стра-
стей, а в „Истории придворного дайнагона Бан“— это сумма разнохарактерных
реакций каждого участника события, то в „Сказаниях о гражданской войне
Хэйдзи11 оно — некое самостоятельно существующее, отвлеченное понятие и
Существует мнение, что свиток
из токийского Национального му
зея и бостонский исполнены
одним мастером, свиток же из
коллекции Сэикадо относится
к XIV в.— См.: Hiaeo Okudaira Ema-
ki, Japanese picture scrolls, Tokyo.
al, jdpdiicov
1962, p. 223.
84
Японская светская
живопись ямато-э
X—XIV веков
вместе с тем некое заданное условие, находящее свое формальное выражение,
или, точнее, обозначение в изображаемых персонажах. В сцене пожара, напри-
мер, из бостонского свитка все подчинено задаче передать динамику, стреми-
тельный темп события, запечатленного в развертывающейся перед зрителем кар-
тине. Художник изображает мчащихся к пылающему, окутанному дымом дворцу
всадников, несущиеся двухколесные, запряженные буйволами возки аристокра-
тов, бегущих людей. Все здесь устремлено к единой цели. Все, начиная от бе-
шено вращающихся колес повозок, так что спицы сливаются почти в сплошной
диск, мелькающих копыт и развевающихся хвостов лошадей, до подавшихся впе-
ред фигур всадников и дробного в массе цвета их одежд — все призвано пере-
дать движение. И этим, собственно, почти исчерпывается художественное
содержание запечатленной сцены. Мастер почти не останавливается на харак-
теристике реакции своих персонажей, и они, по сути дела, мало чем отличаются
один от другого. В ,,Легендах горы Сиги11 и в „Истории придворного дайнагона
Бан11 сама масса изображенных людей, сами изображенные персонажи высту-
пали как главный источник и причина любого возникающего активного действия,
которое было следствием их темперамента, их характера, их отношения к окру-
жающему. Для художника „Сказаний о гражданской войне Хэйдзи11 изображен-
ные им персонажи — лишь олицетворение идеи движения, как, например, в сцене
пожара, и понятия действия вообще. Отсюда появляющийся в свитках „Сказания
о войне Хэйдзи11 и ставший характерным для многих работ XIII века формально-
иллюстративный момент и связанные с ним отвлеченно-декоративные цветовые и
композиционные решения.
В „Истории придворного дайнагона Бан11 почти каждая сцена, оставаясь свя-
занной с другими, содержательна и интересна сама по себе, интересна много-
образием своего жизненного содержания. Сцены и эпизоды из свитков „Сказа-
ния о гражданской войне Хэйдзи11 в большинстве своем ограничены формальной
передачей какого-либо сюжетного положения. Так, одна из сцен свитка, из
токийского Национального музея, иллюстрирует ту часть текста „Сказаний11,
в которой рассказывается о том, как император Нидзё, переодетый в наряд при-
дворной дамы, бежал из своего дворца, где он был пленен войсками мятежного
полководца Минамото Ёситомо. Художник изобразил стоящий у ворот дворца
двухколесный крытый возок, запряженный буйволом, и группу окруживших возок
солдат, которые, желая узнать, кто в нем находится, поднимают занавески, так
что нам становится видна часть наряда, какой носили придворные дамы. Все
изображено на нейтральном желтовато-розовом фоне, на котором четко выде-
ляется темный возок, своим цветом контрастирующий с яркими деталями костю-
мов воинов. Воины, отличающиеся друг от друга лишь цветом своих одежд, даны
тесной группой, подчеркнуто устремленной к возку, и этим своим движением
поясняющие смысл острого сюжетного момента. Таким образом, в отличие от
85
Японская светская
живопись ямато-э
X—XIV веков
„Истории придворного дайнагона Бан“, где само иллюстрирование определен-
ного текста оказывалось второстепенным перед тем обилием жизненных наблю-
дений, на которых художник строил свой изобразительный рассказ, здесь ху-
дожник избирает формально-иллюстративный путь, понимаемый как внешнее вос-
произведение канвы событий, изложенных в литературном источнике. Отсюда и
отвлеченное понимание цвета, все более лишающегося своей эмоциональной
функции и привлекаемого прежде всего как декоративный элемент композиции.
Художник свитков „Сказания о гражданской войне Хэйдзи“ широко использует
сочетание черного и красного цветов (мы видим черных буйволов в красной
упряжи), зеленого, синего и красного (зеленые и синие одежды персонажей на
фоне красных колонн) и т. п. Он использует технику цукури-э. Однако в сравне-
нии с живописью первой половины XII века цвет здесь более локален и в целом
несравненно плоскостней и холодней. А его рисунок в своем тяготении к четкой
контурности менее свободен, чем рисунок в работах второй половины XII века.
Еще в большей мере, чем свиткам „Легенды храма Китано Тэндзин11, „Сказанию
о гражданской войне Хэйдзи“ присуще стремление к четкой выписанности раз-
личных деталей, таких, как.вооружение, костюмы, и вместе с тем стремление
к правильному, соответствующему реальному соотношению человеческих фигур
и архитектуры.
Казалось бы, последнее противоречит тому духу отвлеченности, которым была
проникнута предшествующая работа и который сказался в свитках „Сказания
о гражданской войне Хэйдзи“, в их формально-иллюстративном методе. Однако
на самом деле в данном случае формально-иллюстративный метод, точная пере-
дача отдельных деталей, правильность пропорциональных соотношений нахо-
дятся в единой связи с той отвлеченностью, с тем опосредствованным отноше-
нием к живой действительности, которое становится характерным для живописи
XIII века. При внешне иллюстративном подходе к решению художественной
задачи, при все усиливающейся декоративной тенденции точно переданные
детали и правильность пропорциональных соотношений выступают как своего
рода опознавательные вехи в этом становящемся почти безликим и бесстраст-
ным декоративизирующемся изобразительном рассказе.
В отличие от живописи второй половины XII века, где плоскость каждой части
свитка организовывалась так, чтобы действие концентрировалось в отведенных
пределах, и где оставшаяся свободной часть поверхности исключалась из компо-
зиции, теперь часто вся плоскость становится условно-декоративным фоном, на
котором художник размещает различные изображения. В этой условной декора-
тивной среде точно переданная деталь, правильность пропорциональных соотно-
шений становятся необходимыми формальными признаками реальности и важными
повествовательными элементами. Таким образом, отмеченные художественные
особенности выступают не как следствие углубленного развития тенденций жи-
86
Японская светская
живопись ямато-э
X—XIV веков
вописи второй половины XII века, а как перевод на мертвый, формальный язык ее
прежней живой сути, как способы, чисто внешне восполняющие все более утра-
чиваемую связь с действительностью.
Как мы видели, живопись ямато-э с самого начала выступала как явление глу-
бокого мировоззренческого плана. Само ее появление было результатом сло-
жившейся особой художественной концепции мира, обладающей достаточной
цельностью и силой для того, чтобы проявиться не в частной трансформации
отдельных элементов усвоенной иноземной культуры, а в создании самостоятель-
ной художественной системы. Вся мера мировоззренческой глубины этой си-
стемы обнаруживает себя как в живописи первой половины XII века, так и
в последующем ее развитии в начале второй половины века. Однако со времени
создания свитков ,,История придворного дайнагона Бан“ миросозерцательная
глубина и сила живописи ямато-э постепенно мельчают и дробятся в чисто жан-
ровых устремлениях, целиком обращенных к острохарактерным, но внешним и си-
туационным чертам реальности. С этой точки зрения к середине XIII века суще-
ствование живописи ямато-э становится во многом формальным. В ее формали-
зующемся художественном строе все менее и менее улавливается связь со вре-
менем, с его живым изменяющимся художественным сознанием. В динамике ее
повествования, в самом передаваемом действии остается лишь чисто внешняя
его сторона, подобно тому как в характерности облика, мимики, жеста ее персо-
нажей остается лишь бесстрастная фиксация определенных признаков. Ее цвет
становится плоскостным и все более холодным и в своих акцентах и сочетаниях
осуществляет главным образом декоративную задачу.
Однако при всей формализации художественного строя живописи на свитках
XIII века в ней можно наблюдать и некоторые иные свойства, которые говорят
о возникновении новых художественных тенденций и в которых угадывается
направленность и характер этих тенденций. В этой связи прежде всего обра-
щают на себя внимание свитки, посвященные жизнеописаниям прославленных
буддийских священников,— тема, наряду с жизнеописанием известных поэтов и
сановников, военными эпопеями, историей монастырей занимавшая важное
место в живописи XIII века. Главное, что отличает такие свитки, как „Жизнеопи-
сание священника Саигё“ (,,Саигё моногатари эмаки“), „Восточное путешест-
вие“ (,,Тосэи Эдэн“, 1298), о путешествии из Китая в Японию священника Ганд-
зина, основателя храма Тосодаидзи в Нара, „Жизнеописание святого Иппэна1,
(1299), в целом укладывающиеся в рамки повествовательной живописи,—это не-
сравненно большая роль пейзажа и его новая художественная трактовка. При-
чем роль пейзажа все более возрастает к концу XIII века.
С пейзажем в живописи ямато-э мы уже встречались в XI веке, в росписи
храма Эдоно монастыря Хорюдзи, где преобладала тенденция к интимному
изображению природы. В течение XI—XIII веков пейзаж существовал и как
87
Японская светская
живопись ямато-э
X—XIV веков
самостоятельная тема для росписи ширм, предназначавшихся как для храмового,
так и для светского обихода. Практике пейзажных росписей на ширмах чрезвы-
чайно способствовали секты эзотерического буддизма, где шестистворчатые
ширмы с изображением пейзажа стали обязательной принадлежностью церемо-
нии кантё, церемонии посвящения в тайны секты1.
Примером такого пейзажа может служить роспись ширмы XIII века из храма
илл. 76 Дзингодзи. Так же как в росписи храма Эдоно, пейзаж дается в интимном,
камерном и вместе с тем декоративном плане. На одной из створок мы видим на
общем золотисто-коричневом фоне гряду зелено-синих холмов, с четко выписан-
ными коричневыми стволами деревьев, увенчанных декоративными кронами,
у подножия холмов храм, огражденный деревянной изгородью, у которой изобра-
жена маленькая фигурка коня в богатой сбруе, и столь же маленькая фигурка
слуги около него, и чуть дальше — человека в одежде аристократа, направляю-
щегося к храму. Мы видим отчасти даже и то, что происходит в самом храме,—
монаха в дверях храма и т. д. Следуя общей декоративной задаче, художник сво-
бодно стилизует реальные формы природы и нарушает их масштабные соотноше-
ния. Он уподобляет холмы декоративному зелено-синему ряду пирамидальных
фигур, которые несут на себе почти столь же большие, как они сами, деревья,
ритмично склоненные в разные стороны. Однако маленькие, четко выписанные
фигурки людей, храм и их соответствующие действительности масштабные соот-
ношения вносят в эту декоративную композицию элемент реальности, а само
поведение людей — ноту житейскую, почти будничную. Таким образом, почти
так же, как в живописи на свитках XIII века, в общую декоративную композицию
вплетается момент реальный, момент повествовательный. И, так же как и свитки
этого времени, вся картина эмоционально почти нейтральна. В целом, в ней пре-
обладает условно-эстетизирующее начало.
С пейзажем мы встречались и в свитках „Легенды горы Сиги“, где он являлся
лишь связующим звеном между различными эпизодами повествования. Пейзаж
можно найти и в свитках второй половины XII и первой половины XIII века, но
здесь ему отводилась главным образом роль декоративного фона. Теперь же,
в ряде свитков второй половины XIII века, пейзаж не только становится большим
самостоятельным разделом, но и получает свое особое осмысление, он выступает
как единственный носитель позитивной идеи и как подлинный носитель высокого
эстетического начала. Попытку выделить пейзаж из контекста общего повество-
вания как явление наиболее возвышенное мы уже наблюдали в свитках „Легенды
храма Китано Тэндзин11. Но там это было лишь намеком, лишь слабым выраже-
нием только зародившейся мысли. Теперь же такое представление утвер-
ждается со всей силой сформировавшейся идеи.
Такому сравнительно быстрому становлению этой идеи способствовало все
более широкое знакомство и проникновение в Японию китайской сунской пей-
Церемония кантё индийского про*
нахождения. Пейзажная ширма
рассматривалась как модифика-
ция карты владений престолона-
следника в древней Индии, кото-
рая была непременным атрибу-
том церемонии восхождения на
престол.
Японская светская
живопись ямато-э
X—XIV веков
зажной живописи, оказавшей решающее влияние на весь путь художественного
воплощения этой идеи в Японии.
Среди дошедших до нас произведений второй половины XIII века, разрабаты-
илл. 70, 71, вающих пейзаж уже как самостоятельную тему, наибольший интерес представ-
ляет „Жизнеописание святого Иппэна“, исполненное художником Эни 1
в 1299 году. „Жизнеописание святого Иппэна“ состоит из двенадцати свитков,
семь из которых хранятся в токийском Национальном музее, а остальные —
в храме Конкикодзи в Киото. История рассказывает о священнике Иппэне, жив-
шем в XIII веке, как о великом проповеднике учения Будды Амиды, всю жизнь
проведшем в странствиях. Основными темами „Жизнеописания святого Иппэна11
является проповедь священника перед возбужденной его словами толпой и пей-
заж. Сцены проповеди мы видим в городах, в деревнях, в монастырях, при стече-
нии множества людей, желающих услышать слово проповедника. Действие в этих
сценах дробится на большое число различных эпизодов. Часть толпы слушает
проповедника, маленькая фигурка которого почти затеряна среди людской
массы; здесь же, тесня толпу, пробирается возок, запряженный буйволом; слуги
бегом проносят крытые носилки; врезавшуюся в толпу испуганную лошадь кто
в восторге подхлестывает, кто в страхе шарахается от нее; дети забираются на
крыши домов, чтобы лучше рассмотреть происходящее; мы видим беседующих
простолюдинов, занимающихся своим трудом крестьян и т. п. Лица персонажей
гротескны, их позы и жесты экспрессивны. В ограниченном художником про-
странстве каждой сцены царит теснота и сутолока. Движение здесь уподоб-
ляется движению муравейника. Оно возникает случайно, внезапно обрывается,
меняет свое направление, бесцельное и суетливое.
Совершенно иной мир раскрывается перед зрителем в пейзаже. Здесь царит
покой и безмолвие необозримого пространства. Туманная дымка, закрывающая
горизонт и скрадывающая четкость очертаний предметов ближнего плана —скал,
деревьев, строений, чуть проступающие горные вершины дальнего плана, цепочка
исчезающих вдали птиц, сама высокая точка зрения (точка зрения с высоты
„птичьего полета11), с которой художник изображает раскинувшийся внизу ланд-
шафт с домами, деревьями, полоской берега реки,— все призвано передать
необозримость, бескрайность мира. Это уже не среда или фон реального суще-
ствования человека, как это отчасти было в свитках второй половины XII века,
это и не выражение камерного, эстетизированного переживания природы, как
в пейзажной живописи на ширмах, это воплощение идеи мира, раскрывающейся
в осознании его беспредельности и бесконечности. Пространство — свободное и
необозримое — вот доминанта его идейного и эмоционального содержания.
В этом мире неограниченного пространства все обретало свой новый смысл.
Горы и затерявшийся среди них храм, выступающие из туманной дымки контуры
скал и деревьев, маленькие фигурки людей, крыши строений — все существует
Q Другие работы этого художника
неизвестны.
Японская светская
живопись ямато-э
X—XIV веков
лишь для отсчета бесконечности этого пространства. Здесь все соотнесено
с бесконечностью и утрачивает свои связи с конкретными, обусловленными мас-
штабами человеческой жизни представлениями, все замерло в неподвижности,
в неизменности своего состояния, в раз и навсегда определенной данности. Но
утратив непосредственную локальную связь, все существующее в этом мире
обретает иную, общую, единую и постоянную,— здесь все объединено всеохва-
тывающим, всепроникающим свободным пространством бесконечности, объеди-
нено своею равноценностью перед лицом этой бесконечности.
Существование людей в этом мире почти незаметно. Их жизнь, осуществляе-
мая в действии, в движении, призрачна. Этот мир доступен лишь созерцанию.
Перед сознанием его беспредельности стихают и гаснут человеческие страсти.
Здесь остается лишь глубокое раздумье. Направленность этой художественной
концепции, ведущей в конечном счете к полному слиянию человека и природы,
человека и мира и исключающей какое-либо их активное сопоставление, так же
как и живописная трактовка пейзажа — особенности в передаче пространства,
введение туманной воздушной среды, контурный рисунок скал и деревьев, —
выдают китайские источники. Правда, следует отметить, что в повествователь-
ных горизонтальных свитках второй половины XIII века, в частности в свитках
,,Жизнеописание святого Иппэна“, еще нет того бескомпромиссного разворота
в бесконечность, как в китайских пейзажах с их построением пространства по
вертикали. Мы находим здесь и характерные для пейзажной живописи ямато-э
цветовые решения. Пейзаж дан преимущественно в мягких зеленых тонах.
Художник и декоративизирует пейзаж, вводя бирюзовый цвет деревьев на
темно-зеленом фоне горы, четко выделяет красным цветом храмовые ворота —
тори, возникающие из зеленоватой туманной среды, и т. п. Однако это всего
лишь незначительная адаптация принципиально иной, противоположной ямато-э
художественной системы, системы, решающей задачу целостного изображения
мира во всей его грандиозности и беспредельности и избирающей природу как
единственный и универсальный объект, зримо воплощающий мыслимую картину
вселенной, как объект, таящий в себе саму идею мира. Такая система родилась
в искусстве Китая, ее главным свидетельством является сунский монохромный
пейзаж. Именно под его влиянием пейзаж становится самостоятельной темой
в японских повествовательных свитках XIII века, темой, выведшей японскую
живопись из тупика и вновь обратившей ее к проблемам глубокого мировоззрен-
ческого плана, к проблеме человека и мира.
Живопись ямато-э, решая эту проблему на первом этапе своего существова-
ния, давшем жизнь всем последующим периодам ее развития, пришла к утвер-
ждению известного равенства между человеком и окружающим его миром,
равенства, достигаемого благодаря той высокой роли осмысляющего и одухотво-
ряющего начала, которая признавалась за человеком. Китайская живопись эпохи
90
Японская светская
живопись ямато-э
X—XIV веков
Сун предлагала принципиально иное решение. Она отвергала это равенство, это
единство, слагающееся из двух равноценных величин, и устанавливала единство
иного рода, выражающееся в целостности, неделимости мироздания, где все
существующее выступает как бесконечно малые величины по отношению к бес-
предельно великому целому. Картина мощи, грандиозности и совершенства миро-
здания, являемая природой, утверждается как единственный имеющий подлин-
ную ценность объект этого мира. Созерцание природы, открывающейся взору
человека, затерянного среди ее мощных стихий,— вот главный путь приобщения
человека к миру. Созерцание — как средство и слияние с природой, с миром—как
цель, в которой осуществляется сопричастность человека высокому и совершен-
ному строю мироздания.
В этой художественной концепции, наконец, нашло свое полное разрешение
сознание тщеты и бренности человеческой жизни, сознание, начавшее обнаружи-
вать себя в японской живописи еще с начала второй половины XII века, но прояв-
лявшееся только в форме отрицания (гротеск, карикатурность, отчасти узко-
жанровая трактовка сюжета), теперь в идее приобщения, слияния человека с ми-
ром природы обретшее положительное содержание.
Уже в том виде, в каком мы находим пейзаж в свитках „Жизнеописание свя-
того Иппэна“, он не укладывается в рамки повествовательной живописи. Он тяго-
теет к полной самостоятельности и, как изолированные части-картины свитков
„Гэндзи моногатари“, к станковому значению. Таким образом, если сначала,
в свитках первой половины XII века, мы наблюдали самостоятельность каждой
сцены, каждого эпизода, поднятых до значения обобщенного выражения картины
человеческого бытия, а потом, во второй половине XII— в XIII веке, сцену или эпи-
зод лишь как часть повествования, то теперь все повествование, то есть сама
жизнь людей, сам человек мыслится как ничего не значащая частица, существу-
ющая в бесконечно большем и значительном целом—природе, мире.
Для передачи этой целостной, грандиозной, все вбирающей в себя картины
мира потребовались и новые художественные средства и новая форма. И то и
другое пришло из Китая —монохромный пейзаж на вертикальных свитках (форма,
называемая какэмоно). В это время в японском интерьере появляется особая
ниша — токонома, предназначенная для такого рода пейзажного свитка.
Монохромный пейзаж получает в Японии быстрое признание и со второй поло-
вины XIV века становится преобладающим видом живописи. Его распростране-
нию в Японии чрезвычайно способствовала деятельность уже упомянутой выше
буддийской секты Дзэн. В XIII—XVI веках, время феодальной раздробленности
и частых междоусобных войн, буддийские монастыри выступают как важные
культурные центры. Так, монастыри секты Дзэн, поддерживавшие интенсивную
связь с Китаем, были первыми, кто познакомил японцев с монохромной пейзажной
живописью. С дзэнским буддизмом связано возникновение также такого
91
Японская светская
живопись ямато-э
X—XIV веков
специфического вида японской культуры, как чайные церемонии, развитие садо-
во-паркового искусства, специальной павильонной парковой архитектуры, пред-
назначавшейся для чайных церемоний, особого вида национального искусства—
икэбаны, искусства составления букетов. В той или иной мере все эти формы
искусства были связаны с основной доктриной учения секты Дзэн, доктриной
созерцания. В отличие от сект эзотерического буддизма, процветавших в период
господства аристократического сословия, секта Дзэн отвергала сложную обря-
довость и в качестве главного фактора на пути постижения истины, на пути при-
общения к высшей форме бытия — бытию Будды признавала только созерцание —
погружение в самого себя и созерцание окружающей человека природы. Моно-
хромные пейзажные свитки, создававшиеся в дзэнских монастырях художни-
ками-монахами, первоначально имели главным образом религиозное значение,
являясь художественным выражением идей дзэнского буддизма. Такие свитки
обычно состояли из двух частей: большей — текста поэтического содержания и
пейзажа, обычно с хижиной и монахом-отшельником. Сам такой свиток стано-
вился предметом религиозного размышления, предметом созерцания.
Дзэнский буддизм как нельзя более отвечал взглядам и умонастроениям воен-
но-феодального сословия. Простота обрядов соответствовала самурайской запо-
веди строгости и простоты образа жизни. В акте созерцания, в утверждении
того, что человек достигает высших целей путем погружения в самого себя,
то есть силой, заложенной в нем самом, видели обоснование культа воли.
В новой художественной форме, принесенной в Японию дзэнским буддизмом,
в монохромном пейзаже был наконец найден и тот возвышенный объект эстети-
ческого переживания, целиком обращенный к категориям вечным и неизменным,
в котором не было места для быстропреходящих, неустойчивых явлений повсе-
дневной жизни. Китайская монохромная живопись открыла перед японским
искусством совершенно новый и неизвестный ей прежде мир — мир безгранич-
ного свободного пространства, в котором существовали лишь образы, выражаю-
щие глубочайшие, первозданные сущности предметов и явлений.
Что могла противопоставить этому миру повествовательная живопись ямато-э
с ее все более мельчающей жанровостью, со все более канонизирующимися
образами и художественными приемами? Среди работ ямато-э первой половины
XIV века мы находим такое монументальное, состоящее из двадцати свитков
произведение, как „Легенды о чудесах храма Касу га Гонгэн11 из императорской
коллекции, исполненное художником Такасина Такаканэ1 в 1309 году. Двадцать
свитков, посвященных рассказу о чудесах божества Касуга (наиболее чтимого
среди синтоистско-буддийского пантеона божества), представляют своеобразное
соединение всех персонажей, художественных приемов, композиционных реше-
ний, которые мы могли наблюдать в живописи ямато-э с первой половины XII века.
Мы находим здесь придворных дам в пышных многоцветных одеждах, таких, как
Единственная работа,
подписанная этим мастером
92
Японская светская
живопись ямато-э
X—XIV веков
в ,,Гэндзи моногатари11, но сидящих теперь среди декоративных бамбуковых рощ,
пейзажи, близкие к росписям ширм и пейзажам на свитках первой половины
XIII века, сцены со множеством различных персонажей, где мы можем наблюдать
характерность их поз, жестов, выражений лиц. Но все здесь, как человеческие
фигуры, так и изображение зверей и птиц, как бы переведено в разряд неживой
натуры. Подчеркнутая законченность рисунка, точность и тщательность
в выписывании деталей сочетаются с интенсивным, но глухим и безжизненным
цветом. Вместе с тем в свитках ,,Легенды о чудесах храма Касуга Гонгэн“ пол-
ную самостоятельность получает декоративное начало. Так, например, пейзаж
порой строится на сочетании различных стилизованных изображений, превра-
щаясь в плоскостное, условное построение, состоящее из ряда синих полос,
узорчатых зеленых крон и очерченных волнистой линией бледно-желтых плоско-
стей холмов.
Свитки „Легенды о чудесах храма Касуга Гонгэн“ положили начало чисто фор-
мальной разработке различных художественных приемов живописи ямато-э.
С этого времени живопись ямато-э перестала быть широким явлением япон-
ского искусства. Ее роль низводится до положения школы. В XIV веке она полу-
чает название школы Тоса и продолжает существование как консервативный
хранитель старых традиций.
Японская живопись XV—XVII веков.
Живопись „китайского стиля"
и Сэссю. Декоративная живопись
История японской живописи второй половины XIV—XV века — это прежде
всего история монохромной живописи тушью — суми-э. Этот период неразрывно
связан с живописью Китая X—XIII веков. Там находятся ее источники, ее тема,
оттуда восприняты ее специфические форма, метод и средства. Вряд ли воз-
можно всестороннее рассмотрение японской монохромной живописи без серьез-
ного экскурса в китайское искусство, где сложилась сама художественная
система, в пределах которой развивалась японская живопись тушью. Однако
такого рода исследование, предполагающее в значительной своей части само-
стоятельный разбор и развернутую характеристику китайской художественной
системы как на материале японского, так и китайского искусства, в задачу
настоящей работы не входит. В данном случае нас интересует не столько про-
цесс утверждения китайской системы в японской живописи, сколько процесс ее
преодоления, преобразования и последующего претворения в иную, наследую-
щую и развивающую систему ямато-э.
Как уже отмечалось, до XV века монохромная живопись в Японии была одним
из видов религиозного искусства и целиком локализовалась в пределах дзэнских
монастырей. Так, одна из наиболее значительных школ монохромной живописи
была образована при дзэнском монастыре в Киото, Сёкокудзи. До нас дошли
работы таких художников этого времени, одновременно бывших и дзэнскими свя-
щенниками, как Мокуан, работавший в середине XIV века и целиком заимство-
вавший манеру китайского художника первой половины XIII века Му Ци, Као
Нинга (ум. в 1345 г.), Бомпо (1348—1420) и других. Главными темами их творче-
ства были изображения известных священников секты Дзэн или события из их
жизни. Такого рода произведения, в которых запечатлевался момент созерцания
и просветления, были обязательны для дзэнских художников-священников.
Наследуя творчество китайских художников, Му Ци и близкого ему художника
Лян Кая, японские мастера „черно-белой" живописи подражали свойственной им
лаконичной манере письма, основанной на сопоставлении обладающих различной
цветовой интенсивностью тушевых мазков и пятен и их соотношении с остальным
свободным пространством свитка. Именно это соотношение в работах китайских
художников выступает как основной эмоциональный и смысловой момент худо-
жественного произведения. В известной работе Лян Кая — „Поэт Ли Тай-бо" из
Национального музея в Токио — слегка намеченные, чуть проступающие
в серовато-белом пространстве свитка контурные линии, обрисовывающие
фигуру и лицо поэта, служат гранью, которая обособляет человеческую фигуру и
вместе с тем своей зыбкостью, неопределенностью, цветовой близостью к фону
связывает и единит ее со свободным пространством свитка. И только отдельные
акценты тушевых пятен более прочно фиксируют, делают более зримым почти
готовый слиться, изчезнуть в этом пространстве запечатленный художником
силуэт. Фигура поэта как бы возникает, рождается из пространственной среды
94
Японская живопись XV—XVII веков.
Живопись „китайского стиля*4
и Сэссю. Декоративная живопись
свитка и готова слиться с ней вновь. В этой связи и единении пафос всего произ-
ведения, в этом исключительность и смысл момента творческого прозрения,
смысл просветления, освобождающего от всего материального, конкретного и
временного.
В сравнении с китайскими образцами работы японских художников этого вре-
мени чаще всего носят характер ученический и ремесленный. В них нет еще того
виртуозного владения средствами монохромной живописи, которое позволяло
китайским художникам достигать широкого образного обобщения каждой
линией, каждым тушевым пятном. Так, например, в свитке известного в это время
мастера стиля суйбоку (то есть монохромной живописи, сочетающей линию и
илл. во тушевое пятно) Као Нинга, с изображением китайского священника секты Дзэн,
Кандзана, из музея Нагао в Канагава, художник, решая ту же, что и Лян Кай,
художественную задачу, остается на уровне беглой зарисовки, жанровой харак-
теристики свободной позы человека, находящегося в состоянии покоя. Его линия
слишком однородна и однозначна в своей изобразительной функции, а свободное
пространство свитка никак не связывается и не контактирует с самим изобра-
жением.
Большое место в творчестве художников начального периода развития япон-
ской монохромной живописи занимал пейзаж с изображением монаха-отшель-
ника. Наиболее известным мастером этого жанра был Минтё (1352—1431).
В приписываемом ему свитке, хранящемся в монастыре Контин, в Киото,,,Хижина
илл. 79 отшельника у горного ручья11 (,,Кэин Сотику“) мы находим как основные изобра-
зительные элементы китайского монохромного пейзажа—горы, редко поросшие
деревьями, водный поток, так и характерные для него художественные приемы —
вертикальное расположение отдельных планов композиции и многотональное
тушевое пятно, сочетающееся с белыми просветами бумаги, чем достигалась
передача туманной воздушной и пространственной среды, позволявшей худож-
нику давать лишь контуры и очертания предметов.
Дальнейшее развитие монохромный пейзаж получил в творчестве художников
первой половины XV века, таких, как Дзёсэцу, и ставшего широко известным его
ученика Тэнсё Сюбуна. Оба они были священниками монастыря Сёкокудзи.
Однако творчество Сюбуна находит уже приверженцев и за пределами дзэнских
монастырей. Его попечению военное правительство при сёгунах Асикага пору-
чает специальное, ведающее художниками, учреждение Эдокоро. С этого вре-
мени монохромная живопись в Японии, или, как ее называли, живопись „китай-
ского стиля11, начинает свое независимое от буддийской церкви существование.
Сюбуну приписывается весьма большое количество произведений, но ни одно из
них не имеет его подписи или печати. Он считается автором ряда пейзажных
свитков, находящихся в музее Нэзу, в Токио, в токийском Национальном музее,
в Музее Ямато Бунка-кан в Нара и др. Хотя Сюбун не внес принципиально
95
Японская живопись XV—XVII веков.
Живопись „китайского стиля41
и Сэссю. Декоративная живопись
нового в монохромную живопись, но в лучших своих произведениях, как, напри-
илл. 81 мер, в пейзаже ,,Чтение в уединенной хижине в бамбуковой роще“, из Нацио-
нального музея в Токио, он использовал всю сложную технику монохромного
письма с той легкостью и свободой, которая свидетельствует о его проникно-
вении в сущность самого метода, ставшего глубоко органичным в творчестве
художника. Так же как в произведениях китайских художников, в пейзажах
Сюбуна основным компонентом является воздушная пространственная среда. Ее
подвижная, зыбкая туманность то почти совсем скрывает предметы, очертания
которых лишь угадываются в бледном тушевом пятне, то, как бы на миг рассеи-
ваясь, более явственно обнаруживает их контуры. Она проникает предметы,
разрушая их материальность и лишая их весомости, она разъединяет их и
создает неопределенность, неизмеримость расстояния между ними. Горные вер-
шины, сосны, хижины — все здесь бесплотно и невесомо. Реальный мир преобра-
зуется в картину грандиозных, но призрачных образов, существующих в едином,
всепоглощающем пространстве бесконечности. В истории японской монохромной
живописи творчество Сюбуна было тем рубежом, перейдя который она выходит
на самостоятельный путь развития. Уже во второй половине XV века в ней
появляются несвойственные ее китайскому прототипу черты, говорящие о воз-
никновении новых и уже местных художественных тенденций. Следует, однако,
отметить, что до XVI века при всех изменениях, которые претерпевает живопись
„китайского стиля11 в Японии, она не выходит за пределы художественной
системы, сложившейся в искусстве Китая X—XIII веков. И если и можно гово-
рить о ее самобытности и своеобразии, то лишь в плане внутренних, не изменяю-
щих в целом художественную систему преобразований.
Живопись второй половины XV века прежде всего связана с именем выдающе-
гося японского художника Сэссю. В творчестве Сэссю японская монохромная
живопись поднялась до уровня самых высоких достижений китайских художни-
ков. В его произведениях нашли свою дальнейшую творческую разработку их
художественные приемы, и, что особенно существенно, в работах Сэссю изме-
няется характеристика пространственной среды и композиционное соотношение
отдельных планов пейзажа, изменяется само отношение художника к предмету
изображения.
О жизни Сэссю нам известно несколько больше, чем о жизни его предше-
ственников. Он родился в 1420 году в провинции Биттю (теперь префектура
Окаяма). В юности он приехал в Токио и принял монашество в монастыре Сёко-
кудзи. Тоё — его первое буддийское имя. Весьма вероятно, что его учителем был
Сюбун. Около 1462 года он избирает художественный псевдоним — Сэссю.
В 1464 году он отправляется в провинцию Суо, в монастырь Ункокуан. Ункоку —
другой псевдоним художника. В начале 1468 года Сэссю уехал в Китай, где про-
был более года, много путешествуя, посещая дзэнские монастыри и изучая
96
Японская живопись XV—XVII веков.
Живопись „китайского стиля11
и Сэссю. Декоративная живопись
китайское искусство. По возвращении в Японию он побывал во многих районах
страны. Последние годы художник провел в монастыре Ункокуан, где и умер
в 1506 году.
До нас дошло весьма большое число работ, имеющих подпись художника, и
еще большее количество — ему приписываемых. Самая ранняя известная работа
Сэссю была исполнена в период его пребывания в Китае —,,Пейзажи четырех
времен года11 из Национального музея в Токио. К 80-м годам относятся два его
свитка, ,,3има“ и ,,Осень“, из Национального музея в Токио. В 1486 году им был
исполнен так называемый „Длинный свиток пейзажей11 (коллекция Мори) — гори-
зонтальный свиток длиной более 15 м, в 1495 году —„Пейзаж в стиле хабоку“ из
Национального музея в Токио (хабоку — дословно „ломаная тушь“— манера,
основанная главным образом на мастерстве нанесения тушевого пятна). Неза-
долго до смерти им был выполнен свиток „Ама-но Хасидатэ11— пейзаж извест-
ного своей живописностью места на берегу Японского моря. Кроме пейзажей
в 1479 году он написал портрет знатного сановника Конэтака Масуда (коллекция
Масуда). В числе подписанных Сэссю произведений имеется много работ, испол-
ненных в подражание китайским художникам Ли Тану, Ся Гую и другим. Ему при-
писывается также много работ на тему „цветов и птиц", в частности росписи
ширм из коллекций Косака, Маэда Икутокукаи, в Токио, и др.
В первых известных нам четырех свитках, исполненных Сэссю в Китае, еще
полностью воспроизводится классический тип китайского пейзажа. Однако даже
в этих работах дают себя знать некоторые особенности его творческой манеры.
Насыщенное цветом, сильное тушевое пятно и контурная порывистая линия,
порой ломающаяся под острым углом, делают предметный мир — горы, скалы,
деревья — более зримым, более самостоятельно и активно существующим в се-
ровато-белой туманности воздушнопространственной среды, так же как в рабо-
тах китайских художников, заполняющей пейзажи Сэссю. Однако здесь прост-
ранственная среда как бы не в силах окончательно преодолеть материальность
предметного мира — момент, который подчеркивается как смягчением контраста
между ясно выделенными предметами первого плана и расплывчатыми силуэтами
дальнего, так и четко выписанными архитектурными строениями, хижинами, хра-
мами, мостами. Пейзаж обретает здесь более конкретный и индивидуализирован-
ный облик, и в целом акцент переносится с характеристики мира в его простран-
ственной бесконечности, в которой готовы были распасться, исчезнуть его види-
мые формы, на показ грандиозности и величия природы как таковой.
Это перенесение и концентрация интереса художника на самом предмете
изображения, на особенностях его конкретной формы более явственно присут-
илл. 84-87, ствует в „Длинном свитке пейзажей11. Как свидетельствует надпись на свитке,
89 сделанная самим Сэссю, эта работа была исполнена им под впечатлением пейза-
жей китайского художника, как полагают, известного художника XIII века Ся
97
7 Японское классическое искусство
Японская живопись XV—XVII веков.
Живопись „китайского стиля11
и Сэссю. Декоративная живопись
Гуя, оказавшего влияние на формирование творческой манеры Сэссю и привле-
кавшего его большей индивидуализацией в передаче пейзажа, более ярким и
индивидуальным к нему отношением, свободной и сильной линией, которая была
характерна для многих работ Ся Гуя. Однако если китайский художник для
выражения своего лирического чувства находил в природе адекватное явление и
передавал это чувство как состояние, присущее самой природе, то Сэссю выра-
жал свое настроение в значительно более активной форме, не только привнося
его в изображаемый мир, но и подчиняя ему изображаемое. Основная роль в пей-
зажах из „Длинного свитка11 отводится первому плану. Предметы возникают как
бы в своем продолжении сразу у нижнего среза свитка, что монументализирует
их и утверждает первенствующее значение в пейзаже. Скалы, поросшие деревь-
ями горы, храмы, хижины, корабли, рыбачьи лодки заполняют первый план свитка,
представая перед зрителем во всей определенности своих черт и характерности
облика. Художник пишет их свойственным ему энергичным тушевым мазком и
сильной, динамичной, ломающейся линией. Туманная воздушнопространствен-
ная среда, скрадывающая четкость очертаний предметов дальнего плана, скорее
передает здесь глубину пейзажа, чем апеллирует к бесконечной протяженности
вселенной, а смутно выступающие в туманной дали изображения, намеченные
плавной, мягкой линией, подчеркивают мощь громоздящихся скал и изогнутых
стволов деревьев, изображенных на первом плане, служат фоном, на котором
четко вырисовываются различные строения и высокие корабельные мачты.
Однако активность материального мира, определенность и индивидуальность его
облика в пейзажах Сэссю никак не отражается на характере существования
в нем людей. Оно столь же пассивно, столь же незначительно, как и в произведе-
ниях китайских художников. Переданные несколькими характерными штрихами
маленькие фигурки людей, которых мы видим бредущими по горным тропам или
столпившимися у хижин, почти сливаются с окружающей их природой. Их присут-
ствие совершенно пассивно и лишь подчеркивает грандиозность мира, их окру-
жающего. Жизнь этого грандиозного мира, в которой художник видит проявле-
ние извечных властвующих над всем законов, полностью владеет его вниманием.
И все же пейзаж, созданный Сэссю, обладает совершенно новым качеством,
отличающим его от китайских образцов, вдохновлявших художника, и от пейза-
жей его японских предшественников. Содержание величественной картины при-
роды, развертывающейся в пятнадцатиметровом свитке, раскрывается не в зна-
чении вневременного, единящегося с бесконечностью образа мира, а в реальной
мощи его форм, в живой смене его состояний (свиток начинается картиной весны
и завершается зимним пейзажем), в утверждении сил, в нем заключенных. Бла-
годаря стремительной линии, штриху и сильному, энергичному тушевому пятну
все формы, изображаемые художником — нависшие над пропастью деревья
с мощными стволами и раскинувшимися в пространстве ветвями, громоздящиеся
98
Японская живопись XV—XVII веков.
Живопись „китайского стиля“
и Сэссю. Декоративная живопись
скалы с острыми уступами,— сама структура их массивов обретают динамиче-
ский, активный характер. Картина мира, запечатленная в ,,Длинном свитке пей-
зажей“, говорит не о созерцательной позиции художника, а, напротив, о его
исключительно активном и в этом своем качестве глубоко индивидуальном отно-
шении к предмету изображения. Природа наделяется Сэссю мощной внутренней
силой, и именно эта динамика ее строя объединяет всю композицию пятнадцати-
метрового свитка в единое художественное целое.
Весьма показательным для Сэссю, для его осознания себя как художника
является то, как он подписывал свои работы. Так, на свитках „Четыре времени
года11 мы читаем надпись —„Тоё, японец Дзэн11, на других свитках мы находим
дату исполнения, указание возраста художника, его духовного звания, а также
буддийское имя и псевдоним. В этом акцентировании собственной артистиче-
ской личности можно видеть проявление того же активного начала, которое
свойственно отношению художника к окружающему его миру. С наибольшей пол-
нотой своеобразие художественной манеры Сэссю, его особенности как твор-
ческой личности проявились в знаменитом пейзаже „Зима11 (парный к пейзажу
илл. 83, 90 „Осень11). В этом пейзаже Сэссю, собственно, не дает характерной картины
зимы с заснеженным ландшафтом, как это отчасти было в „Длинном свитке пей-
зажей11. Сильными ломающимися под острым углом линиями художник очерчивает
контуры крутых склонов холмов, берега реки, деревьев, изображенных на пер-
вом плане, и на втором — более светлой, но столь же порывистой линией намечает
остроугольные силуэты дальних гор и скал. Из самого центра композиции худож-
ник проводит энергичную, насыщенную цветом линию, которая сначала служит
контуром склона горы второго плана, а потом круто устремляется вверх, дро-
бится в своем продолжении, и ее последний штрих как бы вонзается в свободное
пространство свитка. Напряженность рисунка, заостренность всех форм и,
наконец, острая, как игла, и застывшая в пространстве линия призваны передать
состояние оцепенения, или, точнее, скованности зимней природы. Но именно эта
скованность замершего в зимней стуже пейзажа с особенной силой дает почув-
ствовать его внутреннюю силу, его внутреннюю активность и динамическое
существо. Если в пейзаже „Осень11 стелющиеся горизонтальные линии, очерчи-
вающие контуры ярусом расположенных холмов, создают волнообразное движе-
ние, передающее своеобразие ритмов, господствующих в запечатленном худож-
ником ландшафте, то в „Зиме11 все линии сходятся, сталкиваясь в острые углы
и тем создавая внутреннее напряженное движение, которое, кажется, готово
взломать и преодолеть мощь сковывающих его сил.
В зимнем пейзаже Сэссю, оставаясь на той же высоте обобщения образа при-
роды, что и китайские художники, вместе с тем вкладывает в него новое эмоцио-
нальное содержание. Проникнутый активным волевым началом, исполненный си-
лы, энергии и внутреннего движения, его пейзаж требует столь же действенного
99
Японская живопись XV—XVII веков.
Живопись „китайского стиля"
и Сэссю. Декоративная живопись
восприятия и переживания, он обращен к совершенно определенному строю
чувств — жизненно активному и волевому — и тем самым устанавливает новое
отношение со зрителем. Исчезает то бесконечное расстояние между зрителем
и художественным образом, которое предполагалось китайским пейзажем. Строй
чувств, воплощенный в пейзаже ,,3има“, связан с конкретным типом жизнедея-
тельного человеческого темперамента. Именно в согласии с ним художник тво-
рит свою картину природы, привнося в нее его характер, его черты. И если стро-
гость, почти аскетичность пейзажа Сэссю, полного напряженного внутреннего
ритма, роднит его с суровым духом предшествующего столетия, с его культом
мужества и простоты, с его волевой заряженностью и вместе с тем с его пере-
несением всех этических и эстетических представлений в отвлеченную рели-
гиозно-буддийскую сферу, то сама суть художественного строя его пейзажа,
само содержание его художественного образа, отождествляемое с явлением
человеческого духа, выражают настроение иного порядка, свидетельствуют
о новой ориентации художника — на мир земного бытия в его конкретных и реаль-
ных проявлениях.
Следует отметить, что и историческая обстановка, современная Сэссю, отли-
чалась от той, в которой развивалась живопись XIV столетия. В крупных фео-
дальных владениях, приходящих теперь на смену мелкопоместному дворянскому
хозяйству, начинают развиваться торговля и ремесла. При замках даймё (круп-
ные феодалы), больших монастырях возникают города с торгово-ремесленным
населением. Начинают расширяться внешние торговые связи Японии. Изменяет
свое лицо и сам военно-феодальный класс. Если самураи Камакура презирали
роскошь быта хэйанских дворцов, то теперь сёгуны феодального дома Асикага,
занимавшие со второй половины XIV до середины XVI века господствующее
положение в стране, большое внимание уделяют строительству великолепных
дворцов и храмов, различным празднествам и увеселениям, покровительствуют
искусству. При сёгунах Асикага достигает расцвета японский средневековый
театр Но. Страна в целом начинает жить более разнообразной и интенсивной
жизнью.
В мировоззрении времени при всем определяющем значении буддизма, его
религиозных и философских идей, которые оформили идеологию военно-феодаль-
ного сословия в первый период его господства, можно заметить и появление
новых черт, еще не обретших ясность и определенность, но уже воспринятых
искусством и нашедших свое отражение в новой, отмеченной нами ориентации
творчества Сэссю. Эта ориентация выразилась не только в особенностях образ-
ного строя его пейзажей, но и в первом в истории японской монохромной пейзаж-
ной живописи обращении к изображению определенной местности и к собственно
японскому пейзажу. До этого времени изображался только китайский пейзаж,
знакомый японским художникам в основном по'образцам китайской живописи.
100
Японская живопись XV—XVII веков.
Живопись „китайского стиля11
и Сэссю. Декоративная живопись
За несколько лет до смерти Сэссю был создан свиток ,,Ама-но Хасидатэ“ —
илл. ее пейзаж прославленной живописной местности на побережье Японского моря.
Вся картина, открывающаяся взору зрителя, с гористыми островами, выдаю-
щейся в залив лесистой косой, с многочисленными поселениями, раскинувшимися
вдоль берега и в горах, дана с высокой точки зрения, с высоты „птичьего по-
лета“. И, собственно, только особенностью этой точки зрения обусловлена и
оправдана широкая панорамность открывающихся видов и пространственная
свобода пейзажа. Однако пространство перестает быть самостоятельным и
основным моментом в пейзаже, лишается космичности характера и благодаря
более реальным масштабным соотношениям, присутствующим в пейзаже, стано-
вится вполне определенным, конкретным и обозримым. Оно выступает как
момент, характеризующий свойства самого пейзажа, его протяженность, глуби-
ну, его обширность, в которой свободно существуют многообразные формы при-
роды. Таким образом, пейзаж оказывается приближенным и соотнесенным
с реальными представлениями человека.
Решительный шаг на этом пути был сделан во второй половине XVI века, когда
вновь, так же как это было в живописи ямато-э, утверждается взгляд на при-
роду как на объект, обладающий прежде всего эстетическим значением, но,
в отличие от ямато-э, более глубоко вовлеченный в сферу повседневного челове-
ческого существования и способный воплотить несравненно более активный
строй чувств. Весьма показательно, что многие художники второй половины
XVI века, и среди них такая центральная фигура этого времени, как Хасэгава
Тохаку (1539—1610), возродившие полихромную живопись ямато-э, называли себя
последователями Сэссю. Между Сэссю и Тохаку нет непосредственной стили-
стической преемственности. Тохаку известен как блестящий мастер декоратив-
ной живописи. Однако между ними существует иная связь, лежащая в области
художественных установок. Первые признаки будущего снижения абсолютного
философского значения пейзажа, приближения его к уровню конкретной дейст-
вительности, вовлечения его в конкретно-жизненный строй чувств, то есть то,
что уже в значительной мере свойственно творчеству Тохаку, мы находим
илл. 94, 97 в произведениях Сэссю. В декоративных росписях Тохаку, как монохромных, так
и полихромных, перед нами предстает столь же, как и у Сэссю, активный образ
природы, но теперь эта активность выражается не только путем внутренней
динамики его строя, а всей развернутой характеристикой его реальных свойств,
всем соответствием его с натурой и вместе с тем особыми декоративными акцен-
тами, выделяющими какое-либо одно его свойство, какой-либо один мотив. Часто
для своих композиций Тохаку в качестве центрального мотива избирает ветви-
стое дерево, как, например, в росписях парных двустворчатых ширм и четырех
раздвижных дверей из монастыря Тисакуин в Киото. (Росписи монастыря Тиса-
куин, приписываемые традицией Тохаку, как полагают, были выполнены в 90-е гг.
101
Японская живопись XV—XVII веков.
Живопись „китайского стиля11
и Сэссю. Декоративная живопись
илл. 92
XVI столетия, то есть вскоре после окончания строительства монастыря
в 1592 г.)
На глухом золотом фоне как в росписи ширмы, так и дверей художник пишет
мощный изогнутый ствол дерева и распростертые вправо и влево от него ветви;
в первом случае он изображает сосну, во втором — клен. Отвлеченным однород-
ным золотым фоном, отсутствием какой-либо глубины в композиции художник
изолирует избранный им предмет от естественной для него среды, переводит его
в особый условный декоративный план, но вместе с тем не лишает его естествен-
ности облика и характерных природных свойств, а, напротив, подчеркивает силу
мощного ствола дерева и его ветвей и лишь несколько усиливает контрастность
сочетания мягкой зелени клена с его желтыми и красными листьями и зеленую
пышность сосны. Обособляя и изолируя натуру, художник как бы дает возмож-
ность в полную силу прозвучать ее особым, природным свойствам.
Если в плане идейных тенденций Тохаку выступает как наследник и продолжа-
тель Сэссю, то используемые им художественные средства и приемы — введение
богатой цветовой палитры, золотой фон, выделение из пейзажа какого-либо
одного мотива — имеют иной источник, хотя и вновь возвращающий нас ко второй
половине XV века, к современной Сэссю живописи.
Хотя Сэссю создал целую плеяду учеников и последователей, среди которых
были такие известные художники, как Дзосуи Соэн и Сугэцу Токан, работавшие
во второй половине XV века, как Сэссон Сукэи (1504—1589), и другие, однако ни
один из них не стал преемником идейных устремлений его творчества. Благодаря
исключительной силе и чуткости своего дарования Сэссю оказался выразителем
тех тенденций в мировоззрении времени, которые существовали еще в самых
глубинах японского общества, еще ни в чем явном не обнаруживали себя, но
которым суждено было стать впоследствии определяющими.
Живопись, современная Сэссю, жила иными представлениями, веяния времени
находили в ней иное художественное претворение. В ней также наметился отход
от религиозного и отвлеченно-философского взгляда на природу, но происходя-
щий за счет все усиливающейся декоративности.
С достаточной очевидностью эта декоративная направленность живописи вто-
рой половины XV века выступает в работах современника Сэссю, Гэйами (1431 —
1485) — одного из трех известных художников фамилии Ами. В его монохромном
свитке ,,Водопад11 из собрания музея Нэдзу в Токио мы находим все знакомые
по ранним пейзажам атрибуты — хижину отшельника, теряющиеся в вышине,
в туманной дымке горные массивы, водный поток. Однако образ природы высту-
пает здесь не в обобщенно-философском значении, а главным образом в аспекте,
так сказать, своего декоративно-видового содержания. Туманная дымка, делаю-
щая почти невидимыми предметы верхнего плана, используется здесь для того,
чтобы ограничить пространство пейзажа и тем самым выделить основную часть
102
Японская живопись XV—XVII веков.
Живопись „китайского стиля11
и Сэссю. Декоративная живопись
композиции — эффектно переданный, ниспадающий с гор поток, который мы
видим сквозь изогнутые ветви сосны. Окончательное возобладание декоративной
тенденции в пейзажной живописи второй половины XV века происходит со вре-
мени образования школы Кано, названной так по имени двух ее основателей,
Кано Масанобу (1434—1530) и Кано Мотонобу (1475—1559).
Почти с самого момента возникновения школа Кано обрела поддержку, покро-
вительство и постоянного заказчика в лице господствующего военно-феодаль-
ного сословия и не теряла этого патронирования на протяжении последующих
трех столетий. Один из ее основателей — Кано Масанобу происходил из военного
сословия, был первым светским профессиональным художником монохромной
живописи и получил звание официального художника при правительстве сёгунов
Асикага. Другой — Кано Мотонобу возглавлял Эдокоро, ставшее своего рода
художественной академией.
То направление, которое пейзажная живопись получила в творчестве художни-
ков школы Кано, было прямым выражением новых художественных представле-
ний, складывающихся в среде господствующего класса. Его расширившуюся
сферу деятельности и интересов и вместе с тем усиливающуюся кастовую обо-
собленность, его тягу к роскоши жизненного обихода удовлетворяли конкрети-
зировавшийся в пейзажах художников школы Кано облик природы и в то же
время отвлеченно декоративная трактовка натуры, перенесение ее из живой,
естественной среды в среду искусственных эффектных декоративных построе-
ний. Наиболее выдающимся художником школы Кано в начальный период ее
существования был Кано Мотонобу. Ему принадлежат многие пейзажные свитки,
а также росписи раздвижных дверей. (Большая часть его работ находится
в монастыре Рэиунин в Киото.) В своем творчестве Мотонобу обращался не
только к традициям китайского монохромного пейзажа, но и к так называемой
живописи „цветов и птиц11—живописи полихромной, популярной в Китае еще
в X веке, и был первым японским художником суйбоку, использовавшим живопись
школы Тоса. Эклектичная по своей природе живопись Кано Мотонобу вместе
с тем обладает известной цельностью, возникающей главным образом благодаря
перенесению всёго, что изображает художник,—деревья, цветы, птиц, выписан-
ных порой тщательно, с натуралистической точностью,— в разряд некоей мерт-
вой модели. Именно этот отвлекающийся от живой сути натуры метод дает воз-
можность Кано Мотонобу в одной композиции совместить разнохарактерные по
манере исполнения изображения (несколькими тушевыми мазками намеченную
скалу и стоящую на ней птицу, переданную во всех подробностях и с ярким опе-
рением, и т. п.). Таким образом, природа в произведениях Кано Мотонобу окон-
чательно становится объектом различных декоративных построений. Во многих
произведениях Мотонобу избирает какой-либо один характерный пейзажный
илл. 91 мотив, как, например, в работе „Водопад11 из монастыря Дайдзэнин в Киото, где,
103
илл. 93
Японская живопись XV—XVII веков.
Живопись „китайского стиля“
и Сэссю. Декоративная живопись
опуская целостную картину пейзажа, он дает лишь отдельные его элементы —
изогнутый ствол сосны, проходящий через центр и поперек всей композиции и
четко очерченный сильной контурной линией (которая станет характерной для
художников школы Кано), и ниспадающий поток, который составляет второй план
картины (первоначально „Водопад11 являлся створкой складной ширмы, теперь
существует как свиток). Творчество Кано Мотонобу своим декоративным пре-
образованием пейзажа и обращением к национальной полихромной живописи под-
готовило расцвет декоративной живописи второй половины XVI века, нашедшей
широкое применение в украшении дворцовых интерьеров.
Во второй половине XVI века значительно изменяется тип дворцовых построек.
В связи с появлением огнестрельного оружия, завезенного португальцами, впер-
вые достигшими японских островов в 1543 году, старый тип дворцов сменяется
замками, огражденными каменными стенами и рвами. Основным украшением мно-
гочисленных внутренних помещений становятся стенные росписи. Обширные
плоскости стен, верхние части сёдзи превращались в золотые панели, покрывав-
шиеся яркими красочными росписями. Широко использовали в интерьерах также
многостворчатые расписные ширмы. Золотые панели стен, отражая мягкий свет,
проникавший через сёдзи, являлись и дополнительным источником освещения.
Из литературы известно о сооружении военными правителями Японии того вре-
мени, Ода Набунага (1534—1582) и Тоётоми Хидэёси (1536—1598), великолепных
замков, украшенных росписями, в Ацути, в Осака, известно о замках Киото и
Момояма. Однако ни одна из этих построек не сохранилась, и судить о декора-
тивной живописи этого периода можно лишь по очень небольшому числу дошед-
ших работ, и прежде всего по работам Кано Эйтоку (1543—1590) — наиболее
прославленного мастера тех лет.
Декоративные устремления школы Кано в творчестве Эйтоку получают нако-
нец свою наиболее высокую художественную оправданность. Так же как Мото-
нобу, он избирает для своих композиций какой-либо один мотив пейзажа, как,
например, мотив ветвистого дерева в росписи ширм из императорской коллекции
и из токийского Национального музея. Однако в отличие от Мотонобу, который
при всей условности и искусственности своих пейзажных построений подчерки-
вал правдоподобие его отдельных деталей, Эйтоку целиком подчиняет натуру
своему декоративному замыслу, решая ее в свободном орнаментально-декора-
тивном плане. Для своих росписей Эйтоку использует золотой фон, как в росписи
ширмы ,,Хиноки“ (японский кипарис) из токийского Национального музея, соче-
тая его с глубоким синим цветом, обозначающим поток ручья, и коричнево-золо-
тистым цветом кипариса, изображение которого занимает всю ширму.
Введение золотого фона (уникальная японская техника, появившаяся еще
в буддийской живописи эпохи Хэйан) вызвало необходимость и ярких цветовых
решений. В этой связи все большее внимание художников второй половины
104
Японская живопись XV—XVII веков.
Живопись „китайского стиля11
и Сэссю. Декоративная живопись
XVI века начинает привлекать живопись ямато-э. Однако свое первое органич-
ное претворение живопись ямато-э нашла не в творчестве художников школы
Кано и не в работах Эйтоку, а в декоративных композициях Тохаку, как из-
вестно, противопоставлявшего себя школе Кано. Его образы, проникнутые
живым чувством реальности, были намного ближе живописи ямато-э, чем бес-
страстные пейзажные построения художников Кано. В приписываемой Тохаку
росписи „Мост и ивы“, на парных шестистворчатых ширмах из токийского Нацио-
илл. 95, 96 нального музея, темой для которой послужил мост через реку Удзи в окрестно-
стях Киото, видно стремление художника придать облику реальности лирический
и вместе с тем эстетизированный характер, стремление, столь характерное для
живописи ямато-э первой половины XII века. Мы видим и свойственные живописи
ямато-э того времени художественные приемы — сопоставление геометрически
четких прямых линий (здесь — линий моста) и мягко закругленных (здесь — линий
склоненных к мосту ветвей ивы). В этой росписи художник добивается и исклю-
чительного декоративного эффекта. Он сочетает общий золотой фон с золотом
облаков разного тона, от розового до зеленого, заполняющих часть композиции,
с серебряными узорчатыми волнами реки и с чуть тронутыми коричневым и зеле-
ным цветом деревьями.
В антагонизме Тохаку и школы Кано, в разности их творческих устремлений
нашла свое отражение зарождающаяся борьба мировоззренческих идей, борьба
между формирующимся сознанием третьего сословия и идеологией военно-фео-
дального класса и та чреватая их будущим столкновением историческая обста-
новка, которая сложилась в Японии во второй половине XVI века. И если школа
Кано была выразительницей все более канонизирующихся идеалов господствую-
щего военно-феодального класса, то Тохаку выступает как предтеча взглядов
третьего сословия, полного интереса к живой действительности, создающего
свои собственные, свободные от устаревающих традиций представления и уже
готового вступить на историческую арену.
Художественные устремления Тохаку, его обращение к национальным источ-
никам нашли свое продолжение в творчестве Таварая Сотацу (первая половина
XVII в.) и Огата Корина (1658—1716) — двух мастеров, определяющих собой вер-
шины японской декоративной живописи XVII века. Оба они, так же как Тохаку,
формально не принадлежали ни к одной из традиционных школ живописи, и для
обоих характерен интерес к живописи ямато-э, к ее художественным приемам,
технике, к ее теме. Интерес Тохаку, а затем Сотацу и Корина — художников
XVII века, выходцев из городской торговой среды, к живописи ямато-э, к тому.ее
типу, который сложился в первый период ее развития, то есть в XI — первой
половине XII века, не был случаен. Если художников школы Кано в живописи яма-
то-э прежде всего привлекали ее декоративные возможности, то Тохаку и осо-
бенно Сотацу и Корину оказались близкими сама направленность живописи XI —
105
Японская живопись XV—XVII веков.
Живопись „китайского стиля"
и Сэссю. Декоративная живопись
первой половины XII века, ее обращение к миру повседневной реальности и
утверждение его самодовлеющего значения и ценности.
Подобно художникам ямато-э, Сотацу 1 обратился к произведениям хэйанской
илл. Ю7 литературы. Одна из самых известных его работ — роспись парных шестиствор-
чатых ширм из собрания Сэикадо в Токио создана на темы ,,Гэндзи моногатари".
илл. Ю5, юб Однако Сотацу пошел не по пути подражания и не по пути формальной разра-
ботки композиционных и художественных приемов живописи ямато-э, как то было
свойственно школе Тоса. В интерпретации классической темы Сотацу шел от
того глубоко лирического переживания бытового эпизода, от той полноты в ощу-
щении реальности, которые составляли подлинную жизнь живописи ямато-э XI —
первой половины XII века и которые были понятны и близки самому Сотацу. Клас-
сический сюжет в работе Сотацу, по сути дела, становится лишь предлогом для
изображения различных жанровых сцен и характерного японского пейзажа,
с рекой, мостом и холмами, преобразующих декоративную композицию в яркий
и красочный рассказ, в котором атмосфера меланхолического созерцания жи-
вописи первой половины XII века сменяется жизнерадостным восхищением мно-
гообразием, яркостью, мощью материального мира. В своих декоративных ком-
илл. 98-104 позициях, изображая храмы, деревенские хижины, людей, мифологические
персонажи, Сотацу использует прежде всего силу цветового пятна. Он вводит
сочетание ярких красных, зеленых, синих цветов на золотом фоне. Предметы
в композициях Сотацу обретают порой весомость и объем. Особенно характерна
для него роспись ,,Деревенские хижины весной11, украшающая один из одинна-
илл. 98 ДЦати вееров, наклеенных на золотые створки парных двустворчатых ширм из
монастыря Самбоин в Киото. Подобно наполненному объему набухших весенних
почек, художник передает округлую, раздавшуюся и как бы распираемую из-
нутри форму соломенных темно-коричневых и зеленых крыш деревенских хижин,
написанных в свободной, живописной манере.
Свое полное разрешение художественная тенденция японской декоративной
живописи, впервые сказавшаяся во второй половине XVI века в работах Тохаку
и затем продолженная Сотацу, находит в творчестве художника второй поло-
вины XVII века — Корина. До нас дошло очень мало работ художника. Однако
такие сохранившиеся произведения, как сцена из „Исэ моногатари" (музей
Ямато Бунка-кан в Нара) и ширмы „Красные и белые цветы сливы" из музея Атами
в Сидзуока и „Ирисы11 из музея Нэдзу, дают ясное представление о нем и как о за-
нял. Ю8-113 мечательном мастере орнаментально-декоративных решений и как о мастере
свободного, живописного цветового пятна. Примером последнего может служить
роспись „Ирисы", созданная Корином на тему одной из глав литературного про-
изведения X века — „Исэ моногатари", в которой рассказывается, как один из
героев, вдохновленный видом ирисов, цветущих у восьми мостов провинции Ми-
кава, складывает прекрасные стихи.
106 Многие работы Сотацу, как пола-
гают, были исполнены совместно
с Коэцу (1558—1637), исключи-
тельно разносторонним и одарен-
ным художником (он был мастер
лаковых изделий, керамист, жи-
вописец, каллиграф), оказавшим
большое влияние на формирова-
ние искусства этого времени.
Характерные примеры его жи-
вописи, принадлежавшие коллек-
ции Т. Окура, погибли во время
последней войны.
Японская живопись XV—XVII веков.
Живопись „китайского стиля"
и Сэссю. Декоративная живопись
На всех двенадцати створках двух ширм, сделанных из золотой бумаги, худож-
ник изображает цветущие ирисы. Он полностью отказывается здесь от контур-
ной линии и строит композицию на сочетании свободно нанесенных цветовых маз-
ков. Цвет в этой работе Корина получает такую полноту материального, конкретно-
чувственного содержания, которая не свойственна была ни живописи ямато-э,
ни работам непосредственных предшественников Корина. Глубина, полнозвуч-
ность лиловых и фиолетовых тонов распустившихся цветов ириса, как бы напоен-
ных солнечным светом, сочность зеленых стеблей говорят о непосредственном
обращении художника к натуре, о его интересе к характеристике ее различных
частных качеств, об утверждении самоценности этих качеств. Таким образом,
во второй половине XVII века вновь утверждается то эстетическое положение,
которое лежало в основе ямато-э,— признание художественной ценности окру-
жающего человека мира в его конкретной, естественной данности. Но если худо-
жественная реализация такого рода представлений в живописи ямато-э оказа-
лась возможной лишь на уровне условно-поэтического и эстетического преобра-
зования мира реальных вещей, то теперь мы наблюдаем стремление к полноте
характеристики их живой, чувственно-материальной природы, к раскрытию ее
многообразных свойств.
Творчество Корина было высшим и последним этапом развития прослеживае-
мой нами тенденции японской декоративной живописи второй половины XVI —
XVII века. Во второй половине XVII века новые художественные взгляды вре-
мени находят свое более сложное и многостороннее выражение в широком, охва-
тившем разные области японского искусства направлении — укиё-э1, и прежде
всего в такой его основной форме, как гравюра на дереве. В самом названии,
принятом новым направлением (укиё-э, то есть мир земной или повседневный),
были выражены его идейный смысл, его утверждение эстетической ценности
повседневной действительности, ставшей для художников укиё-э неисчерпае-
мым источником тем и художественных образов.
Самым ранним предвестником укиё-э явилась декоративная живопись на жан-
рово-бытовые темы, которую мы находим еще на ширмах середины XVI века,
например в росписи ширмы из токийского Национального музея художника Кано
илл. не Хидэёри или в росписи ширмы из коллекции Хара художника Кано Наганобу
(1577—1654). В первой изображены пейзаж в манере школы Кано и сцена пик-
ника, в которой мы видим маленькие фигурки веселящихся горожан. Во второй —
храм и плящущих перед ним девушек и юношей.
Любопытно отметить, что в конце XVI —XVII веке в декоративной живописи на
ширмах появляются изображения европейцев на фоне европейского пейзажа,
построенного по законам линейной перспективы. Примером может служить
ширма из коллекции Хара. Весьма естественно предположить, что введение
жанрово-бытовой темы в декоративные росписи ширм отчасти произошло под
Слово „укиб-э“ было заимство*
вано из буддийской терминоло-
гии, где оно употреблялось для
определения мирской жизни че-
ловека.
107
Японская живопись XV—XVII веков.
Живопись „китайского стиля11
и Сэссю. Декоративная живопись
впечатлением европейского искусства, с которым японцев знакомили португаль-
ские и голландские купцы и испанские миссионеры.
В декоративной живописи на ширмах XVII века жанрово-бытовая тема полу-
чает большую самостоятельность — человеческие фигуры заполняют почти всю
плоскость створок, сам жанровый мотив оказывается в центре внимания худож-
ника. (Характерными примерами декоративной живописи такого рода могут слу-
жить так называемая ширма Мацура из музея Ямато Бунка-кан, „Прислужницы
в бане11 из музея Атами, „Веревочная занавеска11 из коллекции Хара, роспись ширм
из собрания Токугава в Нагоя.) Однако свое принципиально новое художествен-
ное осмысление бытовой жанр получает лишь в искусстве укиё-э, в гравюре на
дереве, заняв в ней основное и ведущее место. Бытовая сцена, обыденный сю-
жет, так же как это было в живописи ямато-э XI—XII веков, поднимается в гра-
вюре до значения высокой темы, однако раскрываемой теперь на несравненно
более обширном и разностороннем жизненном материале и с совершенно иных
художественных и идейных позиций. Обращенная к широкому кругу явлений
повседневности, связанная с наиболее демократическими воззрениями времени
гравюра знаменует собой новый этап в развитии японского классического ис-
кусства.
Японская гравюра на дереве
второй половины XVII —
первой половины XIX века
Период японской истории, с которым связано развитие гравюры, вторая поло-
вина XVII — первая половина XIX века, характеризуется глубокими изменениями,
происходившими в социально-экономическом и культурном развитии страны. По
имени новой столицы Эдо (Токио), основанной правящей сёгунской династией
Токугава, это время получило название эпохи Эдо. Ее формальные хронологиче-
ские границы определяются 1614 годом — датой утверждения сёгуната круп-
нейших феодалов Токугава и 1868 годом — временем свержения токугавского
режима и победы буржуазной революции.
Разделенная прежде на отдельные враждующие княжества, Япония была
объединена в единое централизованное феодальное государство. Формально
господствующее положение в стране продолжало занимать феодальное сосло-
вие. Во главе государства стояли сёгун и крупные феодалы — даймё, осущест-
влявшие свою власть при помощи военно-служилого дворянства — самураев и
государственного аппарата чиновников, контролировавшего все стороны жизни
города и деревни. Однако все возраставший масштаб торговли как со странами
Востока, так и Европы, рост городов, развитие товарно-денежного хозяйства,
быстрое увеличение производства с использованием наемного труда, обнищание
и разложение деревни, то есть тот враждебный существу феодального строя
процесс, который в XVI — начале XVII века еще не внушал серьезных опасений
господствующему классу, в конце XVII—XVIII веке привел к принципиально
новому соотношению сил в японском обществе. Старое феодальное дворянство
оказалось перед лицом грозной опасности, какою был торгово-ростовщический
капитал, сосредоточенный в руках крупных купцов и торговцев, представлявших
верхушку нарождавшейся городской буржуазии. Крупные купцы к тому времени
располагали не только огромными денежными ресурсами, но и значительной
земельной собственностью, они же, в сущности, занимали главенствующее поло-
жение в городах, что давало им бесспорные преимущества в ведении торговли.
Феодальное дворянство оказалось теснимым во всех сферах экономической
жизни. В этих условиях все силы феодального класса устремились на борьбу за
сохранение своих традиционных привилегий, все идеалы обратились в прошлое,
к периодам былого могущества.
В 1637 году сёгуном Токугава Иэмицу были запрещены под угрозой смертной
казни всякие сношения с внешним миром. Порты Японии были закрыты для ино-
странных судов, выезд японцев за границу был запрещен. Лишь за Нагасаки было
оставлено право торговать с прибывавшими туда китайскими и голландскими куп-
цами. На помощь были призваны идеи сунского неоконфуцианства, утверждавшие
извечность феодальной иерархии.
Оградив страну от чужеземных влияний, замкнувшись в узком кругу старых
сословных представлений, правительство Токугава жестоким террором пыталось
подавить все, что наносило ущерб могуществу, силе и престижу феодального
109
Японская гравюра на дереве
второй половины XVII—
первой половины XIX века
класса. Тщательно разработанными указами была регламентирована жизнь насе-
ления. Пользуясь бесправным положением купечества, правительство несколько
раз аннулировало долги даймё. Однако все эти искусственные меры, игнориро-
вавшие реальный процесс глубоких изменений, происходящий в стране, не могли
устранить возникших противоречий.
Борьба, в которой пришлось участвовать феодалам, была совершенно иной, чем
та, которую вели их воинственные предки. Тут оказалась бессильной воинская
храбрость и ни к чему правила самурайской чести. Здесь были нужны иные каче-
ства, иное мужество. Феодальное дворянство задыхалось в тисках экономиче-
ского кризиса, все более запутывалось в долгах, попадая в безнадежную зависи-
мость к купцам — ростовщикам и крупным торговцам. Многие самураи, не в со-
стоянии существовать на скудное жалованье, выплачиваемое беднеющим сюзе-
реном, покидали службу у своего господина, приобретали различные профессии
ремесленников или становились учителями, врачами, учеными, художниками и
уходили в город, где их труд находил применение. Таким образом, распад начался
внутри самого феодального класса. Огромную опасность для основ феодального
государства представляли многочисленные крестьянские восстания, объединяв-
шиеся порой с бунтами городской бедноты. Никакие карательные меры не могли
остановить все нарастающей волны крестьянского движения. Крестьяне мас-
сами оставляли деревни и направлялись в город в поисках работы. Город стано-
вится все более притягательным центром для самых различных слоев населения.
Города являлись теперь не только экономическими опорными пунктами страны.
Город с его многообразным, разносословным, активным населением стал местом
формирования новой антифеодальной идеологии. Именно здесь возникали новые
философские и социальные учения, выдвигались новые научные гипотезы, рож-
далась новая художественная культура. Обстановка борьбы различных классо-
вых сил в стране стимулировала и развитие общественной мысли.
Возникают учения, доказывающие несостоятельность феодальной системы,
враждебность ее обществу, гибельность для будущего страны. Выдающимся
деятелем этого времени был Андо Сёэки (1700—1763), теоретик утопического
крестьянского коммунизма, проповедовавший всеобщее равенство. В это же
время появляются различные антирелигиозные учения, направленные против син-
тоизма, буддизма и конфуцианства. Одна из таких атеистических теорий принад-
лежит Ямагато Банто (1761—1801), изложенная им в книге ,,Нет духов11. То, что
прежде было незыблемым и вечным, что, казалось, было рождено непостижи-
мыми и божественными законами вселенной, что внушало веру и смирение,
теперь все чаще стало подвергаться сомнению, анализу и критике. Европейская
наука стала привлекать все большее число японских ученых. Как ни строга была
система изоляции страны, все же правительству Токугава не удалось полностью
пресечь общение Японии с внешним миром. Порт Нагасаки стал источником рас-
110
Японская гравюра на дереве
второй половины XVII—
первой половины XIX века
пространения европейских знаний, идей мировой науки. Само правительство
в военной и других областях своей деятельности испытывало недостаток в науч-
ных сведениях. В 1702 году сёгуну Токугава Ёсимунэ пришлось разрешить рас-
пространение иностранных книг и изучение голландского языка. Это способство-
вало развитию астрономии, медицины и других наук. В 1773 году была опублико-
вана книга Мотосикэ Сукэнори „Теория ясного понимания естественного закона
солнца11, в которой излагалась теория Коперника. В 1755 году вышла работа
Сугита Гэмпаку „Новая книга по анатомии11, познакомившая японцев с достиже-
ниями мировой медицины того времени. В эпоху Эдо японцы знакомятся с науч-
ными трудами Ньютона, французского астронома и философа материалиста Гас-
сенди, английского астронома Галлея. В это же время в Японии становятся из-
вестны сочинения основателя классической буржуазной политической экономии
Адама Смита.
Таким образом, круг знаний и представлений японцев в это время чрезвычайно
расширился. Мир начинает принимать более определенные очертания. В этом
новом, познаваемом и представляемом мире, в котором теперь жил человек, иное
значение, содержание и масштаб получило все, что его окружало. Его собствен-
ное существование получило новое осмысление. Метафизическая неопределен-
ность ощущения мира, сознание божественности стихии вселенной, сменяется
все более рациональным подходом к явлениям. В этот период время получило
научное исчисление, новая медицина стала разрабатывать свои методы на основе
анатомии, многие основные положения старых философских учений были отвер-
гнуты. Ничто не оказалось вечным — рушилась освященная веками феодальная
система. Рассеялась мистическая дымка, в которой, казалось, скрывалась связь
вещей, исчезло единство земного и божественного Человек оказался в мире
многообразных и разобщенных явлений. Его влекла их индивидуальность, ощуще-
ние их соразмерности с собой. Теперь он стремился к жизнерадостному наслаж-
дению их полнокровным, ярким земным бытием. Новый смысл приобретает окру-
жающая человека природа. Это прежде всего место повседневной жизни и дея-
тельности человека. Это уже не тот божественный мир, созерцание и проникно-
вение в который приближали к познанию истины. Природа просто включается
в сферу человеческой деятельности как сопутствующий ей фон. Эстетически
это, скорее, момент удовольствия, развлечения. Новый смысл приобретает и
человеческая деятельность в ее повседневно-будничном проявлении. Собст-
венно, она и становится основным объектом внимания искусства. В этом конкре-
тизировавшемся, материальном мире она занимает одно из главных мест. Япон-
ская литература и искусство XVIII века проникнуты интересом к индивидуальным
проявлениям повседневности и познанию частного, обыденного человека.
Новое сознание человека в мире явилось главной чертой мировосприятия эпохи
Эдо, определившей природу новых направлений в искусстве этого времени.
111
Японская гравюра'на дереве
второй половины XVII—
первой половины XIX века
В искусстве Японии эпохи Эдо при всем многообразии художественных школ
выступают две основные тенденции. Одна из них обращена к старым традициям
средневекового искусства и преимущественно связана с идеологией господст-
вующего класса, другая стремится к новой художественной оценке действитель-
ности, к созданию новых форм в искусстве и отражает мировоззрение демокра-
тических слоев японского общества. Однако обе эти тенденции не развивались
в своем чистом, так сказать, идейно-программном плане. И если первая в про-
цессе эволюции претерпевает весьма значительные изменения под влиянием
новых художественных идеалов, выдвигаемых усиливающимся демократическим
направлением в культуре, то вторая развивается на основе огромного наследия
старого искусства, заимствуя из его богатейшего арсенала художественные
средства. Первая, в целом консервативная тенденция была связана в эпоху Эдо
с эволюцией старых форм искусства.
Вторая половина XVIII — первая половина XIX века были отмечены упадком
всей традиционной живописи. Связанная с мировоззрением средневековья,
с идеологией феодального сословия, переживавшего в это время глубокий поли-
тический и духовный кризис, она становилась все более искусственной и безжиз-
ненной формой. Новые силы, формировавшиеся в это время за пределами фео-
дальных замков и монастырей, вопреки воле правящего класса, были призваны
сыграть главную и решающую роль в истории японского искусства этого пе-
риода.
Такой силой было третье сословие, то есть многочисленное торгово-ремес-
ленное население городов, быстро растущее и постоянно пополняющееся пред-
ставителями из различных слоев японского общества. Деятельное, сознающее
свою силу, но лишенное прав третье сословие в постоянной скрытой и явной
борьбе с феодалами шаг за шагом завоевывало право на существование. Свобод-
ное от традиционных представлений, оно создало свою философию и мораль,
свое понимание прекрасного. Именно в среде третьего сословия оформились
силы, сумевшие встать на путь смелых открытий в искусстве, создать новые
художественные формы почти во всех областях национальной культуры и твор-
чески претворить старое наследие.
Период Эдо был временем создания и расцвета народного театра Кабуки,
расцвета новой, глубоко проникнутой духом народного творчества национальной
формы поэзии — хокку, временем развития гравюры на дереве, пришедшей на
смену средневековой живописи и ставшей столь же значительным явлением
в национальной и мировой истории искусства. Обращение художников к грав юре
и ее быстрое распространение в эпоху Эдо во многом были вызваны новыми
потребностями растущих городов. Гравюру1 применяли для иллюстрирования
популярных книг и альбомов, для печатания театральных афиш с изображением
актеров, реклам, плакатов и т. п. Первая книга с гравюрными иллюстрациями по-
Создание японской гравюры рас-
падалось на несколько самостоя-
тельных процессов, в каждом из
которых участвовал отдельный
мастер. Художник, имя которого
ставится впоследствии на гра-
вюре, наносил рисунок на тонкую
прозрачную бумагу, мастер-гра-
вер наклеивал рисунок лицевой
стороной на доску продольного
распила и резал ее по рисунку.
Печатник кистью накладывал
краску(минерального или расти-
тельного происхождения, сме-
шанную с рисовой пастой) и леча'
тал вручную валиком. Для каж-
дого цвета вырезалась отделы
ная доска.
112
Японская гравюра на дереве
второй половины XVII—
первой половины XIX века
явилась в начале XVII века. Однако они еще мало чем отличались от примитивной
средневековой гравюры.
Впервые новые пути развития гравюры наметились во второй половине XVII —
первые десятилетия XVIII века в творчестве таких художников, как Хисикава
Моронобу (1618—1694), Тории Киёнобу (1664—1729), Тории Киёмасу (1694—1716),
илл. 122,123 Кайгэцудо (начало XVIII в.), и некоторых других, работавших в Эдо. Напряжен-
ная, полная новизны жизнь столицы привлекала художников, поэтов, актеров из
всех провинций Японии. В столичных театрах Кабуки и столь же популярном
среди горожан театре марионеток ставились разнообразные спектакли, в кото-
рых играли лучшие актеры. В честь каждого месяца устраивались празднества
с уличными шествиями, в которых принимали участие прославленные краса-
вицы — куртизанки из знаменитого района Ёсивара. Праздничные фейерверки
в многочисленных садах, катания на лодках, парусные гонки на реке Сумида
дополняли красочную жизнь города. Круг тем, установившийся в творчестве
названных выше художников, был почерпнут главным образом из многообразной
повседневной жизни столицы.
В творчестве Моронобу широко разрабатывается бытовой я<анр — уличные
сцены, народные увеселения, сцены домашнего быта,— и впервые в альбоме
„Сцены Ёсивара11 появляется как самостоятельная тема изображение куртиза-
нок, тема, продолженная в работах Кайгэцудо и ставшая затем одной из наибо-
лее популярных в гравюре XVIII века. Тории Киёнобу и Тории Киёмасу одни из
первых стали работать в области театральной афиши, положив начало особому
илл. 12б жанру — изображению театральных сцен и актеров, занявшему важное место
в истории японской гравюры. В творчестве художников этого периода не только
определяется круг тем гравюры, но и закладываются основы нового понимания и
художественной оценки действительности. В жанровых сценах из книги Моро-
нобу „Сто изображений женщин этого бренного мира11 (1681) совершенно по-
новому увидена повседневная жизнь человека. Простой, обыденный сюжет ока-
зывается для художника полным значительности и красоты. Он рассматривает
его не как случайную сцену, а как конкретизированное выражение человеческой
деятельности вообще, равно значительной в своих многочисленных проявлениях.
Вместе с тем в это же время во многом определяется обусловленность художе-
ственного метода гравюры всем предшествующим искусством. С мастерством
линии, чистой, каллиграфически изысканной, но и эмоционально насыщенной, гра-
вюра унаследовала и сам способ художественного обобщения. Художника инте-
ресовал не процесс последовательных изменений, не становление явления,
а лишь момент его полной завершенности, пусть кратковременный, но в котором
смысл и красота его выразились с наибольшей полнотой, который как бы венчал
собой весь предшествующий процесс постепенных изменений, был бы совершен-
ным и полным их выражением.
113
8 Японское классическое искусство
Японская гравюра на дереве
второй половины XVII—
первой половины XIX века
Эта особенность достаточно отчетливо проявилась уже в ранний период раз-
вития гравюры. В „Прачках11 Моронобу (лист из книги „Сто изображений женщин
этого бренного мира“), стирающих и вешающих белье, в стремительных движе-
ниях актеров Киёнобу или в стоящих в изысканных позах красавицах Кайгэцудо
выражено лишь то существенное, что характеризует данный момент движения,
как бы выхваченного из среды последовательных изменений и запечатленного во
всей его характерности. Этим объясняется незначительный в целом интерес
японских граверов к линейной перспективе, к светотени, то есть художествен-
ным методам, раскрывающим явления реальности в их переходном состоянии и
развитии.
Вторая половина XVII — первые десятилетия XVIII века были временем форми-
рования и становления художественных принципов японской гравюры. В этот
ранний период развития гравюра была преимущественно тоновой, реже раскра-
шенной от руки. Впервые цветная печать в два цвета, розовый и зеленый, была
введена в 40-х годах XVIII века современником Корина, художником, работав-
илл. 124 шим в Эдо — Оку мура Масанобу (1686—1764). В гравюре этого периода, связан-
ной главным образом со зрелым творчеством Масанобу и художника Нисикава
Сукэнобу (1674—1754), работавшего в Осака и Киото, все определеннее наме-
чается стремление к более сложной и углубленной художественной характе-
ристике окружающей действительности. Особенно отчетливо это стремление
выступает в произведениях Масанобу. Художника интересует не только фикса-
ция сцены, эпизода, момента во всей их характерности, как ранее Моронобу,
сколько передача определенного эмоционального состояния, раскрытие
настроения, характеристика человеческих взаимоотношений. Если Моронобу
в выразительности движения, жеста находил самостоятельную эстетическую
ценность, то для Масанобу движение — лишь следствие, только форма проявле-
ния внутреннего состояния человека.
Масанобу больше привлекает лирический сюжет, особенность его эмоциональ-
ного содержания („Любовное письмо11,1748 г.; триптих „Вечерняя прохлада11,
лист из альбома Санэ Иро-но Яма с изображением мужчины и двух женщин,
сочиняющих стихи, 1739 г.). Линия и штрих как единственные выразительные
средства более не удовлетворяют Масанобу. В поисках новых средств выраже-
ния он обращается к цвету. Однако цвет в гравюрах Масанобу — еще только
скромный аккомпанемент, приглушенное декоративное звучание которого лишь
вторит основному лирическому мотиву, переданному сложным ритмом линий.
Первым крупным художником цветной гравюры был Сузуки Харунобу (1725—
илл. 128-1зз 1770). Творчеством Харунобу открывается зрелый период истории японской
гравюры. Сведений о жизни Харунобу и его ранней художественной деятель-
ности сохранилось мало. Он жил и работал в Эдо. К ранним произведениям Хару-
нобу относятся изображения актеров, тема, к которой он впоследствии уже не
114
Японская гравюра на дереве
второй половины XVII—
первой половины XIX века
обращался. До технического усовершенствования многоцветной печати, то есть
до 60-х годов, им было выполнено большое количество гравюр в два цвета.
Однако основные достижения Харунобу лежат в области многоцветной гравюры.
Именно здесь наиболее полно развернулось его дарование и нашли свое выраже-
ние те идеи и тот строй чувств, которые делают его родоначальником нового
этапа в развитии искусства эпохи Эдо. От широкого обращения к повседневной
действительности ранней гравюры второй половины XVII — начала XVIII века,
через еще робкие попытки проникновения в ее внутреннюю динамику в творче-
стве Сукэнобу и Масанобу, стремившихся в мире человеческих чувств найти
новый эстетический критерий, демократическое искусство в творчестве Хару-
нобу утверждает в качестве единственной художественной ценности сферу
человеческих чувств и переживаний. Все остальное получает значение и смысл
лишь в той мере, в какой гармонирует с душевным складом и состоянием его
героев.
Однако Харунобу еще не углубляется в сложный лабиринт человеческих пере-
живаний. Его искусство — это лишь как бы первая ступень на пути постижения
мира человеческих чувств. Он видит в нем еще лишь то ничем не омраченное
лирическое начало, которое вносит во все особую поэтическую согласованность.
Все окружающее художник воспринимает как бы сквозь призму этого светлого
лирического чувства. Образ женщины, чуть задумчивой, хрупкой и нежной, ста-
новится основной темой произведений Харунобу. Если для Масанобу выразитель-
ность ситуации служила ключом к раскрытию ее эмоционального содержания, то
для Харунобу любая сцена, любой эпизод оказываются удобным поводом для
выражения своего лирико-поэтического мировосприятия. Женщины Харунобу
предстают перед нами в самой различной обстановке: за работой („Ткачиха11,
„Сушка нитей11), в сценах домашнего быта („Летний ливень11, серия „Сцены
домашней жизни11), любовного свидания („Влюбленные11), на прогулках (серия
„Шесть видов реки Тамагава“) и т. п.
Но, несмотря на разнообразие жанровых ситуаций, в каждом из эпизодов
повторяется один и тот же избранный художником тип. Известны даже имена
излюбленных героинь художника из числа прославленных красавиц столицы
(в 1770 г. Харунобу была издана книга „Красавицы зеленых домов11). Однако
в гравюрах Харунобу нельзя найти их индивидуальных отличий. В сущности,
Харунобу творил один идеальный образ. Реальные черты своих героинь — лири-
ческую мягкость, хрупкую грацию и изящество он воплощал в одном идеальном
художественном образе, который становился обобщенным выражением поэ-
зии и красоты, увиденной художником в повседневной реальности. Женский
образ, созданный Харунобу, выступает как олицетворение светлого лирического
жизненного начала. Он почти нематериален. Несмотря на всю реальность ситуа-
ций и обстановки, пейзажей, интерьеров, через которые проводит этот образ
115
8*
Японская гравюра на дереве
второй половины XVII—
первой половины XIX века
Харунобу, он выступает, скорее, как поэтическая мечта художника, слишком
идеальная, чтобы обрести конкретно-чувственные черты. Харунобу лишь слегка
намечает объем своих фигур, в лаконичной манере изображает фон, строго отби-
рая отдельные детали, характеризующие место действия. Линейный ритм,
отдельные цветовые акценты и общая гамма мягких, чистых тонов были основ-
ными средствами передачи эмоционального содержания жанровых сцен, запе-
чатленных в многочисленных гравюрах Харунобу. Цвет часто не передавал
реальной окраски предметов, а служил лишь для создания определенного
настроения.
Харунобу привлекала множественность бытовых ситуаций, а не многообразие
жизненных типов, передача определенного душевного состояния, а не психоло-
гическая характеристика. В этом заключается одна из главных особенностей
творчества Харунобу как представителя первого этапа развития японской гра-
вюры зрелого периода. Нечто близкое по своему образно-художественному
строю, казалось бы, уже встречалось в истории японского искусства,
в живописи ямато-э первой половины XII века. Казалось бы, в гравюрах Хару-
нобу в новом обличье вновь возникает образ, проникнутый тем лирико-поэтиче-
ским настроением, которое уже было однажды выражено в произведениях
художников эпохи Хэйан. Однако это проступающее в едва уловимых чертах
сходство говорит не о возвращении к старому, а о претворении и преемствен-
ности национальных традиций новым и уже достаточно окрепшим искусством.
Вокруг Харунобу сгруппировалось весьма значительное число учеников и
последователей. Наибольший интерес среди них представляет Исода Корюсай,
работавший в период с 1764 по 1780 год. Самая известная его серия „Образцы
новых одежд11, посвященная изображению куртизанок, была выполнена
в 1775 году. Хотя в целом Корюсай находился под сильным влиянием Харунобу,
некоторые особенности его гравюр — большая интенсивность цвета, увеличив-
шийся в сравнении с Харунобу размер фигур и их ббльшая материальность, инте-
рес к повествованию, к рассказу — говорят о стремлении придать идеальному
миру Харунобу большую достоверность и жизненную убедительность. Такова
илл. 134 его гравюра „Кормление карпов11 (ок. 1771) с изображением стоящих на мосту
двух девушек, кормящих рыб. Эти черты, характеризующие также работы
70-х годов Китао Сигэмасу (1759—1820), известного в это время гравера (серия
„Красавицы Востока11 и др.), наконец в 80-х годах в творчестве Тории Киёнага
(1752—1815) находят свое полное развитие и выражение, знаменуя собой новый
этап в эволюции художественного мировоззрения эпохи. Приехав в Эдо еще
юношей, Киёнага был принят в ученики к Тории Киёмицу (1735—1785). В 30-х и
50-х годах Киёмицу был самым известным из фамилии Тории мастером. Он
в числе первых стал применять в цветной печати три и четыре доски.
Свою художественную деятельность Киёнага начал с изображения актеров —
116
Японская гравюра на дереве
второй половины XVII—
первой половины XIX века
основной, ставшей традиционной в семье Тории темы. Ранние работы Киёнага
были исполнены под заметным влиянием Харунобу, азатем Корюсая. Самостоя-
тельное творчество Киёнага начинается с 80-х годов. В это время им были соз-
даны многочисленные серии гравюр. Самые знаменитые из них ,,Парча Востока11
и „Двенадцать месяцев Юга“ (последняя состоит из двенадцати диптихов). Из
этих серий сохранились лишь отдельные листы. Вскоре после 1790 года художе-
ственная деятельность Киёнага прекратилась. Главными темами гравюр Киёнага
были празднества и изображение различного рода развлечений, популярных
среди горожан. Посещение чайного дома („Чайный дом у бухты Синагава11 из
илл. 136-137 серии „Двенадцать месяцев Юга11) или сочинение стихов („Ночь девятого меся-
ца“ из этой же серии), праздничные шествия и увеселительные прогулки (триптих
„Цветение слив в Асикаяма близ Эдо“, триптих „Причалившая увеселительная
лодка11). Чаще всего это многофигурные композиции с пейзажным фоном или изо-
бражение в естественных и непринужденных позах группы людей, в интерьерах
или на открытых верандах.
Высокие величавые фигуры, изображенные часто на фоне далекого пейзажа
с низко срезанным горизонтом, доминируют над всем окружением. Их позы спо-
койны и устойчивы, их движения медлительны и размеренны. Преобладание
гаммы глубоких черных, темно-красных и желтых тонов вносит в спокойно урав-
новешенный строй листов Киёнага элемент некоторой торжественности.
В сравнении с Харунобу в творчестве Киёнага изменился как характер изобра-
жения человека, так и самый тон показа окружающей действительности. Гра-
циозный женский образ Харунобу, весь созданный им мир, мечтательно-поэтиче-
ский и хрупкий, в гравюрах Киёнага обрел убедительную весомость, устойчи-
вость и материальность. Если в меланхолической отрешенности образов Хару-
нобу проступала еще робость перед повседневной реальностью, перед есте-
ственным течением жизни, если Харунобу стремился к эмоциональному един-
ству пейзажа или бытовой обстановки интерьера и душевной настроенности
своих героинь, тем самым приближая реальный мир к созданному им идеальному
образу, то Киёнага пошел по пути активного утверждения образа человека
в окружающей его среде. Спокойно-величавые, монументальные фигуры Киёнага
полностью господствуют в окружающем их пространстве. Пейзаж и интерьер,
построенные Киёнага по законам линейной перспективы, выступают не как осо-
бый фон, вторящий душевному состоянию героев, а как реальная, естественная
среда, в которой живет человек.
Вместе с тем Киёнага был еще далек от индивидуализации своих персонажей,
от углубленного раскрытия человеческих характеров и чувств. Так же как Хару-
нобу, он создает идеальный образ, почти без изменений повторяя его во всех
своих гравюрах. Однако в этом образе, пластически убедительном, материаль-
ном, почти чувственном, в пафосе его утверждения искусство этого периода
117
Японская гравюра на дереве
второй половины XVII—
первой половины XIX века
достигло той грани, за которой уже начиналась сложная область подлинных че-
ловеческих страстей, характеров и взаимоотношений.
Уже в 90-е годы в японской гравюре усиливается интерес к передаче харак-
терных особенностей различных человеческих типов, к более сложной характе-
ристике человеческих чувств, стремление не только к общей сюжетной и компо-
зиционной, но и к непосредственно внутренней связи персонажей. С именем
Кацукава Сюнэя (1762—1819) связывают появление в это время погрудных изо-
бражений на нейтральном фоне, то есть формы, потенциально заключавшей
в самой себе идею индивидуализации художественного образа, идею портрет-
ное™. Сюнэй ввел в гравюру также изображение профессиональных борцов —
тема, привлекшая художника возможностью передать совершенно особый тип
человека, наделенного необыкновенной физической силой, проявляющейся
в характерной тяжелой поступи, в особой посадке большой головы, в движении
тяжелых мощных рук, во всем его суровом облике („Борец Таниказэ и его ученик
Таки-но Ото“, ок. 1796 г.). Тенденция индивидуализации художественного
образа проявилась и в творчестве художников, наиболее близких Киёнага. Так,
например, художник Кацукава Сюнтё (работал в период 1772—1800 гг.) в своей
илл. 135 известной гравюре „Борец Оногава и Охиса в чайном доме11 (ок. 1792 г.) отходит
от обычных для Киёнага образов и композиций. Он обращается к погрудному изо-
бражению, подчеркивая индивидуальность и особую характерность запечатлен-
ной им сцены. Эта типизация, если еще не самих характеров, то эпизода, прояви-
лась и в неожиданности сопоставления мощной головы борца и головы женщины
и в контрасте массивного мужского и нежного женского лица, объединенных,
вместе с тем, единством лирического настроения.
илл. 138-145 Решительный шаг по пути усложнения характеристики человека, персонифика-
ции его образа в искусстве был сделан в творчестве Китагава Утамаро (1753—
1806) и его современника Тосюсай Сяраку (ум. в 1801 г.). В конце XVIII и начале
XIX века Утамаро занимает ведущее положение среди художников укиё-э. Его
творческая биография весьма разнообразна. Его учителями были и художники
школы Кано и многие художники укиё-э. Значительное влияние на формирование
его мировоззрения и художественного идеала оказал Киёнага. Вместе с тем уже
в известных ранних его работах, в иллюстрациях к „Книге насекомых11 (1788),
содержащей изображение цветов, птиц и насекомых, к „Книге раковин11, испол-
ненной в это же время, проявилась большая самостоятельность его творческой
манеры. Прежде всего она сказалась в силе его реалистической трактовки
натуры. Утамаро не останавливается лишь на достоверном воспроизведении
предмета, а идет дальше, стремясь к передаче различных сторон его существо-
вания. Его интересует не только сложная форма раковины, но и хрупкость ее
структуры, он передает и шероховатость ее темной поверхности и радужное
мерцание ее перламутровых стенок. Утамаро начинает привлекать двойствен-
118
Японская гравюра на дереве
второй половины XVII—
первой половины XIX века
ность явлений, их противоречивая сущность. Его колорит усложняется, все боль-
шее значение приобретают переходные тона.
В его гравюрах появляются изображения силуэтов человеческих фигур, про-
ступающих на плотной белой бумаге, обтягивающей легкие раздвижные стены
дома. Часто они служат сложным фоном для изображенных в ином ракурсе
реальных объемных фигур („Силуэт красавицы11, ок. 1794 г.). Утамаро вводит
изображение прозрачных тканей, создающих дополнительную игру оттенков
(„Девушка, рассматривающая вуаль11,1790; „Занятие шитьем11, „Женщина,
читающая письмо при свете лампы11, „Женщины под москитной сеткой11 или*„Ноч-
ные гости“). Все это вносило в гравюры Утамаро остроту сопоставлений и кон-
трастов. Его любимым мотивом становится также женщина, смотрящаяся
в зеркало. Возможность изобразить фигуру женщины со спины и вместе с тем
уже в другой плоскости показать ее лицо, отраженное в зеркале, возможность
столь разнообразной характеристики ее облика отвечала постоянному стремле-
нию Утамаро к многогранному показу явлений.
К середине 90-х годов творчество Утамаро достигает своей полной зрелости.
В это время он создает свои прославленные серии: „Большие головы11, „Выбор
песен11, „Испытания верной любви11, „Знаменитые красавицы шести лучших
домов“, „Десять красавиц11, „Цветные изображения Северных провинций11 и др.
Его основной художественной формой становятся поколенные и погрудные изо-
бражения на нейтральном фоне. Для характеристики своих персонажей Утамаро
не вводит никаких изобразительных деталей. Он отказывается от изображения
интерьеров и пейзажей. Его листы целиком заполняют фигуры людей. Интересно
отметить, что в тех гравюрах, где Утамаро обращается к изображению людей
в пейзаже (у него были уже и чисто пейзажные листы), люди и природа высту-
пают в них как два самостоятельных начала (триптих „Рыбная ловля11). Пусть эта
мысль не подчеркивалась художником и не являлась еще существенным момен-
том в формировании его художественных замыслов, но все же она присутство-
вала. Утамаро уже был далек от идеализированного единства человека и окру-
жающего его мира Харунобу, но он и не монументализировал человека в природе,
как Киёнага. В его художественном осознании жизни человека и природы появ-
ляется момент сопоставления этих двух явлений реальности. И хотя в творче-
стве Утамаро этот момент не играл еще серьезной роли, его появление важно
отметить как свидетельство зарождения в искусстве эпохи Эдо новой тенден-
ции, приведшей в первой половине XIX века в творчестве Хокусая к глубокой
постановке проблемы единства и противоречия между человеком и окружающим
его миром.
Сфера интересов Утамаро лежит целиком в области человеческих чувств. В
этом он продолжал развивать главную тему художников укиё-э. Но чтобы теперь
дать характеристику своих персонажей, он максимально укрупняет и приближает
119
Японская гравюра на дереве
второй половины XVII—
первой половины1Х1Х века
их, пользуясь полуфигурной композицией, и дает их вне всякой изобразитель-
ной среды.
Так же как и Харунобу, Утамаро интересует не характер человека, своеобра-
зие его индивидуальных черт, а только его определенное душевное состояние.
Но в понимании сложности природы человеческих чувств Утамаро ушел далеко
вперед в сравнении со своими предшественниками. Атмосфера поэтической
согласованности листов Харунобу и спокойная уравновешенность композиций
Киёнага, недифференцированность переданного ими чувства сменяются в гравю-
рах Утамаро выражением сложной гаммы человеческих переживаний. Однако
строй чувств, воплощенный Утамаро в образах, исполненных сдержанной силы,
всегда оставался в пределах гармонического звучания. Мироощущение Утамаро
еще не знало диссонансов. В его произведениях мы не найдем резких контрастов
любви и ненависти, преданности и измены, отчаяния и восторга. Амплитуда
душевных движений его героев не выходила за пределы любви и размолвки, пре-
данности и несогласия, грусти и радости.
илл. 143 В гравюре из серии „Испытания верной любви“ изображена сцена размолвки
влюбленных. Весь лист заполняют женская и мужская фигуры, обращенные спи-
ной друг к другу. В сопоставлении печально опущенной головы женщины и энер-
гичного движения данной в полуобороте головы мужчины художник передает
момент душевного несогласия, возникший конфликт. Вместе с тем, объединяя
обе фигуры единым ритмом линий, так что линии одной фигуры почти продол-
жаются в другой, он достигает того внутреннего единства двух изображенных
фигур, которое смягчает тему конфликта, сообщает ей новые оттенки раздумья и
грусти, скорее объединяющие влюбленных, чем углубляющие несогласие.
Еще большей остроты и разнообразия характеристик человеческих пережива-
ний, различных оттенков одного чувства Утамаро достигает в своих многочислен-
ных полуфигурных изображениях женщин, закрепивших за ним славу создателя
портрета в японской гравюре. Индивидуальность облика и чувств его героинь
выражается глубоко эмоциональной пластикой движения, жеста, выразитель-
ностью линейного ритма, соотношением тонов и полутонов, самим расположением
илл. 142 фигур на плоскости листа. В гравюре „Ожидание11 из серии „Выбор песен11, из
части „Любовь11, в движении склоненной на руку головы женщины, в непроиз-
вольном, как бы случайном жесте руки, в сдержанности и лаконизме линий ее
одежды, в гамме серых и фиолетовых тонов угадывается и печальное размышле-
ние и грусть ожидания. В парном же к ней листе движением чуть подавшейся
вперед фигуры, струящимися линиями кимоно, сочетаниями красного, желтого и
розового цветов Утамаро передает ощущение радостного оживления.
илл. 140,141 Особое место в творчестве Утамаро занимает тема материнства. Лучшие гра-
вюры с изображением матери и ребенка были выполнены им в конце 90-х годов
(„Яма Уба с сыном на коленях11, „Яма Уба и Кинтоку с игрушечным коньком11,
120
Японская гравюра на дереве
второй половины XVII—
первой половины XIX века
„Яма Уба и Кинтаро11). „Яма Уба с сыном на коленях11—одна из наиболее значи-
тельных гравюр этой серии. Утамаро дает здесь даже не погрудные изображе-
ния, а почти только лица, монументализируя, предельно приближая их к зрителю.
В сильном, почти порывистом движении женщины, прижавшей к себе сына, в ее
величественном и вместе с тем простом и естественном облике—ее волосы не
уложены в сложную прическу, а свободно густыми прядями ниспадают на ее
плечи—проступает как бы в своей первозданной силе и простоте материнское
чувство. Контраст темного лица мальчика и белого лица матери, чистота и
ясность ее контура подчеркивают и женственность и силу ее образа. Ценность
человеческого чувства раскрывается здесь Утамаро не в множественности его
оттенков, а в одухотворенной цельности, естественности его величия. Именно
в гравюрах, посвященных теме материнства, наиболее полно раскрылись худо-
жественный темперамент Утамаро, сила и активность его образов.
С расцветом творчества Утамаро совпала блестящая, но кратковременная
илл. 146-160 деятельность Сяраку. Сведений о его жизни сохранилось чрезвычайно мало.
Известно, что он был актером театра Нр. Как гравер он работал всего лишь
десять месяцев, в 1794 году. За это время им было создано немногим более ста
гравюр с изображениями актеров, прославивших его имя в японском искусстве.
Театральным сценам и актерам было посвящено творчество многих известных
предшественников Сяраку, художников фамилии Тории, Кацукава: таких, как
Сюнсё (1726—1792), Сюнтэй (1770—1820), Сюнэй, и других. На протяжении сво-
его развития, начиная с первых театральных афиш Киёнобу, этот своеобразный
жанр не выходил за рамки иллюстраций сценического сюжета с его условной
экспрессией движения актера, передачей характерной актерской маски. В твор-
честве Сяраку этот жанр получил совершенно новое осмысление. Условность
застывшей маски актера превратилась в выразительное, гротескное, но вместе
с тем полное движения и реальной человеческой страсти лицо, искаженное гри-
масой гнева, или злобно мстительное, алчное, или бездушно жестокое („Актер
Итикава Эбизо в роли Такэмура Саданосин“, „Актер Отани Онидзи II в роли Эдо-
хэй“, „Актер Бандо Мицугоро II в роли Исии Гэндзо“ и др.). Мир Сяраку—это мир
страстей сильных, но темных. Они таятся где-то в глубине острых маленьких гла-
зок, выплескиваясь вдруг в оскале рта, во взметнувшихся дугах бровей, в судо-
рожных движениях цепких пальцев.
Художественная манера Сяраку отличается резкой индивидуальностью.
Обычно он использует обобщенный контур лица, доведенный в своей характер-
ности почти до карикатуры. Неисчерпаемы его приемы в передаче экспрессии
лица. Особенно выразительна линия рта—то переданная наподобие петли с крас-
ным пятном языка, то опущенная книзу, то резко очерченная, с черными тре-
угольниками в углах. Его фигуры изображены на темно-синем или черном фоне
в одеждах интенсивного, глубокого цвета: желтого, красного, коричневого.
121
Японская гравюра на дереве
второй половины XVII—
первой половины XIX века
Так же как Утамаро, он предпочитает полуфигурные композиции и создает порт-
реты различных человеческих типов. Его привлекают разнообразные сценические
персонажи—от простых горожан до самураев.
Образы Сяраку—это та неведомая творчеству Утамаро грань внутреннего
мира человека, шаг к раскрытию которой был, однако, сделан самим Утамаро
в его стремлении к познанию двойственной природы явлений реальности. В сущ-
ности, в творчестве Сяраку основная тема искусства укиё-э—тема человеческих
чувств—при том своеобразии художественного метода их выражения, отвлекав-
шегося от конкретного индивидуально-психологического их проявления и
раскрывавшего их в образах обобщенных и идеальных, была исчерпана. Став
господствующей темой в произведениях Харунобу, раскрывшего ее лирико-поэ-
тическую сторону, она завершилась в открытом Сяраку мире сильных, но жесто-
ких человеческих страстей. В конце XVIII —первой половине XIX века в творче-
стве художников, продолжавших работать над старыми сюжетами и темами,—
Тоёкуни (1769—1825), Кунисада (1786—1864), Куниёси (1797—1861),—
появляются черты эклектизма, внешней декоративности и вместе с тем усили-
вается интерес к описанию мелких бытовых деталей.
Наиболее значительным художником этого времени был Утагава Тоё-
куни, пользовавшийся широкой известностью среди современников. Он родил-
ся в Эдо в семье знаменитого мастера кукол и с юных лет был связан с теат-
ральной средой, особенно с театром Кабуки. Однако первые его гравюры,
исполненные под влиянием работ Киёнага и Утамаро, были посвящены популяр-
ной среди горожан теме прославленных красавиц. В этой теме он уступает
своим предшественникам. Слава пришла к нему, когда он обратился к изобра-
жению актеров. В серии ,,Актеры на сцене11 (1793—1794) проявились индиви-
дуальные черты его дарования. В его изображении актеров нет гиперболизации
и гротескности Сяраку, Тоёкуни ближе к созданию реального сценического
облика актера. Он умел передать характерные позы, жесты, напряженность
драматической ситуации. Поэтому его гравюры были популярны не только как
театральные рекламы и афиши, но и собирались как воспроизведения
известных актеров в сценах из знаменитых спектаклей. В художествен-
ной манере Тоёкуни появляется несвойственная его предшественникам лите-
ратурность, повествовательность.
В 1796—1797 годах он создает погрудные изображения актеров. Но и здесь,
оставаясь верным своей манере, он передает не столько характер, темперамент
определенного человеческого типа, сколько внешний облик, сценическое выра-
жение лица актера. В 1800 году Тоёкуни вновь обращается к изображению
гейш. Идеальные, опоэтизированные женские образы Харунобу и Утамаро сме-
нились у Тоёкуни, несмотря на частую близость композиций, более бытовыми,
с известным оттенком эротики, прозаическими образами. Гравюра в творчестве
122
Японская гравюра на дереве
второй половины XVII—
первой половины XIX века
Тоёкуни при всей остроте его графики, эмоциональности цвета, скупого, но
выразительного в своих редких, но ярких акцентах, остается чаще всего в преде-
лах жанровой иллюстративности.
Новый и последний этап демократического искусства эпохи Эдо был связан
с развитием в гравюре пейзажа. Его сложение и расцвет, в сущности, опреде-
ляются творчеством одного художника—Кацусика Хокусая (1760—1849).
илл. 151-173 Истоки творчества Хокусая почти целиком находятся в искусстве укиё-э.
Повседневная жизнь людей, впервые вошедшая в сферу интересов японского
искусства во второй половине XVII века и ставшая для мастеров укиё-э главной
областью их художественных интересов, продолжает в той же мере привлекать
и внимание Хокусая. Картина мира осмысляется Хокусаем прежде всего через
сознание значительности, особой ценности каждодневной жизни людей, их труда
и забот. Жизнь природы, ее смысл и красота в пейзажах Хокусая становятся
понятными лишь благодаря присутствию в них людей, занятых своими обычными
делами. В этом Хокусай является прямым последователем и продолжателем тра-
диций укиё-э. Но если для художников укиё-э в повседневной жизни открылся
мир человеческих чувств, сосредоточивший на себе все их интересы, заслонив-
ший собой все иные проявления реальности и сделавшийся для них единственно
художественно ценным, то Хокусай в повседневной жизни людей увидел и
совсем другие, неизвестные искусству укиё-э стороны. Повседневное существо-
вание людей привлекает Хокусая прежде всего в своем трудовом аспекте,
в своем созидательном начале, в котором художник улавливает биение мощной
стихии народной жизни и в котором он видит подлинный смысл человеческого
бытия.
Хокусая более не удовлетворял круг тем, наблюденный художниками укиё-э
в пределах городского быта. Он стремился к многостороннему охвату жизнен-
ных явлений, к постижению их внутренней взаимосвязи и взаимообусловленности,
к воссозданию широкой картины мира. Не случайно, что большую часть своей
жизни Хокусай провел в путешествиях по стране, неустанно зарисовывая все,
что им было увидено. Не случаен также исключительно разнообразный круг его
интересов и деятельности —Хокусай был известен не только как гравер, но и как
писатель, поэт и живописец. Широта кругозора Хокусая, его философское
осмысление человеческой деятельности и, наконец, появившаяся в его произве-
дениях тема человеческого коллектива выходят далеко за пределы художе-
ственных задач укиё-э, по существу, за пределы идеологии третьего сословия,
с которым было связано предшествующее искусство.
В творчестве Хокусая демократическое японское искусство эпохи Эдо всту-
пило в свой последний, заключительный этап развития. Повседневная жизнь
людей, представлявшая для художников укиё-э самодовлеющую ценность и зна-
чение, рассматривается теперь Хокусаем в общей картине мироздания, где она
123
Японская гравюра на дереве
второй половины XVII—
первой половины XIX века
оказывается подчиненной закономерностям общего порядка. Естественное дви-
жение жизни, воспринимаемой художником во всем богатстве ее частных и
общих проявлений, развертывается им в многоплановых композициях, представ-
ляющих сложное единство жанровых и пейзажных мотивов. Искусство Хокусая
проникнуто пафосом величия и красоты мира, сознанием высокого одухотворен-
ного начала, вносимого в мир человеком, и вместе с тем драматичности соотноше-
ния неустанной, напряженной, подчас суетливой деятельности людей и величия и
вечности природы. В истории японского искусства творчество Хокусая явилось
и новым открытием природы. Он был первым из художников японской гравюры,
в творчестве которого пейзаж получил значение самостоятельного жанра.
В отличие от традиционной средневековой пейзажной живописи, передающей не
своеобразие определенной местности, а стремящейся к выражению самых общих
свойств натуры, в пейзажах Хокусая был запечатлен живой и величественный
облик природы Японии.
Творческое наследие Хокусая чрезвычайно велико. За свою долгую художе-
ственную деятельность он создал около тридцати тысяч рисунков и гравюр и
проиллюстрировал около пятисот книг. Хокусай родился в Эдо в семье ремес-
ленника. Тринадцати лет он поступил в мастерскую к граверу Накаяма Тэцусону.
Затем работал у художника Сюнсё, под влиянием которого были созданы его
ранние гравюры с изображением актеров (1779). В течение долгого времени, при-
мерно с 1797 по 1810 год, Хокусай работает как мастер суримоно (особый, тре-
бующий сложной техники вид гравюр, использовавшихся в качестве поздрави-
тельных карточек). В это же время он создает и первые свои самостоятельные
произведения: ,,53 станции Токайдо“ (1804)—виды дороги, соединяющей Токио
с Киото, и в 1814 году выпускает первую книгу задуманного им как пособие для
художников многотомного труда „Манга11.
Пятнадцать томов „Манга11, создававшиеся на протяжении многих лет, содер-
жат пейзажи, жанровые сцены, этюды различных движений людей и животных,
переданных иногда при помощи одной линии, изображения цветов и птиц.
В ,,Манга11 мы находим рисунки звериных масок с характерным выражением чело-
веческих лиц и изображения различных человеческих физиономий, молодых и ста-
рых, улыбающихся, плачущих, смеющихся, с выражением удовольствия, любопыт-
ства и т. п. В „Манга11 сказался не только широкий круг наблюдений Хокусая, но
и в полной мере выявился его блестящий талант рисовальщика. Острота его
рисунка, раскрывающего самые характерные свойства натуры, выразительность
и красота линии ставят его в один ряд с крупнейшими рисовальщиками мирового
искусства.
Расцвет творчества Хокусая относится к 20-м—началу 30-х годов XIX века.
В это время им были созданы лучшие его пейзажные серии: „36 видов Фудзи“
(1823—1829), „Новые мосты в различных провинциях11 (1827—1830), „Путешест-
124
Японская гравюра на дереве
второй половины XVII—
первой половины XIX века
вие по водопадам страны11 (1827), „Поэты Китая и Японии11 (1830). Эти серии,
создававшиеся почти в одно и то же время, поражают разнообразием аспектов,
глубиной и богатством художественного вйдения Хокусая—от широкого фило-
софского осмысления картины мира в серии ,,36 видов Фудзи“, показа эпиче-
ского величия природы в серии „Мосты11, любования ее стихийной мощью
в „Водопадах11 и, наконец, до тонкого, лирического переживания природы
в серии „Поэты Китая и Японии11.
Одной из самых значительных работ Хокусая, в которой наиболее полно
раскрылось своеобразие его творчества как художника-мыслителя, является
серия „36 видов Фудзи“. Большее число листов этой серии представляет различ-
ные жанровые сцены: рыбака, закинувшего сети, работающих на дровяном
складе пильщиков, бочара, мастерящего бадью, и т. п., развернутые в пейзаже,
с горой Фудзи на заднем плане. Очертания Фудзи то ясно выступают, занимая
илл. 155 большую часть горизонта, как в листе „Порыв ветра“, где внезапно налетевший
вихрь застиг идущих по дороге крестьян, то ее вершина неожиданно оказы-
вается видна через огромный круг лишенной дна бадьи, над которой трудится
бочар (лист ,,Бочар“), то виднеется в треугольнике бревенчатой подпоры, на
которой громоздится колоссальный деревянный брус, распиливаемый пильщиками
илл. 156-160 (лист „Пильщики в горах Тотоми11), или выглядывает из-за леса вертикально
поставленных досок дровяного склада (лист „Дровяной склад в Хондзе“). Один
за другим листы серии развертывают перед зрителем многообразную картину
природы Японии —ее скалистые берега, о которые разбиваются волны океана,
поля, лежащие у подножия Фудзи, ее живописные горные деревни. Лишь два
мотива остаются постоянными почти в каждой гравюре серии —мотив неустанно
трудящихся людей и горы Фудзи.
Люди в гравюрах Хокусая живут, трудятся, суетятся, их всегда много, они
даны в выразительном, почти гротескном плане. Однако здесь нет оттенка иро-
нии. В преувеличенной характерности их движений и жестов проступает
постоянное, напряженное усилие каждого из них, вливающееся в их общий труд,
утверждающий их перед лицом большого мира. Но постоянно присутствующий
мотив Фудзи, неизменный, индивидуализированный облик которой выступает как
символ вечности и красоты мира, вносит оттенок раздумья о бренности челове-
ческой жизни.
Мотив Фудзи, который сначала выступает исподволь, почти как бы случайно,
илл. 166 постепенно вырастает в самостоятельную тему. В листе „Тамагава“ за берего-
вой полосой, за речной далью, на горизонте вырастает бесстрастно величавая
Фудзи. Ее величие сродни холодной огромности реки. В пейзаже, казалось бы,
восторжествовала стихия бездушной природы, если бы не уверенно пробива-
ющаяся в волнах рыбачья лодка и фигурка человека с лошадью, стоящих на
берегу.
125
Японская гравюра на дереве
второй половины XVII—
первой половины XIX века
И, наконец, в гравюре ,,Фудзи в ясную погоду11 тема Фудзи раскрывается во
илл. 161 всей полноте своего всепоглощающего, мощного звучания. Почти всю плоскость
листа заполняет силуэт исполинской горы. Пространство развертывается худож-
ником не вглубь, а вверх. Фудзи врезается в голубую бесконечность неба, пере-
секая белые полосы облаков. Пейзаж безлюден—его масштаб слишком гранди-
озен. В этой грандиозности —как бы торжество вечного начала природы, здесь
теряются и исчезают все усилия человеческих жизней. В этом разрешается
постепенно нарастающее драматическое звучание темы Фудзи. Но вместе с тем
при всей своей колоссальности величие Фудзи не подавляет. Это, скорее, проти-
востоящее человеку начало, а не подчиняющая и подавляющая его сила. Зеленая
полоса склона горы, голубое небо, спокойный ритм белых облаков, красная
в ясный день вершина Фудзи —вся эта гамма мажорных тонов побеждает бес-
страстие величия Фудзи, делает картину живой и понятной, близкой и даже соиз-
меримой с обычными представлениями человека. Стремление найти такое соотно-
шение мира и человека, в котором природа обрела бы соразмерные человеку
черты, проходит через многие гравюры Хокусая.
В серии ,,36 видов Фудзи11 это стремление находит свое наиболее законченное
выражение в силе утверждения ценности человеческого труда. Целеустремлен-
ная деятельность людей, их особая активность, подчеркнутая выразительностью
их поз, жестов и движений, реализуется в огромности предметов, ими создаю-
щихся. Бадья, которую мастерит бочар, огромна так, что он не только спокойно
в ней умещается, но оказывается во много раз меньше ее, брус, который распи-
ливают пильщики, непомерно велик, его диагональ доминирует над всем пейза-
жем, в том числе и над Фудзи, доски дровяного склада почти касаются неба,
рыбачья лодка в гравюре ,,Тамагаваи необычайно велика. Предметы, созданные
людьми,—это как бы продолжение их самих. Плоды людских трудов оказываются
почти столь же величественными и грандиозными, как сама природа, это—то
реальное вещественное начало, которое приносит с собой в мир человек, утвер-
ждает его в нем, делает его сопричастным красоте и величию природы.
В этом утверждении ценности человека в мире Хокусай продолжает основную
идею искусства укиё-э. Однако у Хокусая она выступает на совершенно новом
этапе своего развития. Художники укиё-э шли по пути все более глубокого
раскрытия человеческих чувств и в этой связи по пути все большей персонифика-
ции образа человека в искусстве. Художественные идеалы Хокусая целиком
обращены к человеческому коллективу, к стихии народной жизни. Тема челове-
ческого коллектива в творчестве Хокусая проходит свою эволюцию от изобра-
илл. 151-152 жения суетной толпы (лист ,,Мост в Эдои из книги ,,Дотю Гвафу“ 1818 г.) до широ-
кого охвата жизни народа, осмысленной трудом, в гравюрах ,,36 видов Фудзи11.
Среди многочисленных работ Хокусая последних двух десятилетий его жизни
илл. из наиболее значительной была серия пейзажей ,,100 видов Фудзи“. Но никогда уже
126
Японская гравюра на дереве
второй половины XVII—
первой половины XIX века
илл. 160, 162
илл. 174-178
Хокусай не поднимался до таких величественных образов природы, как в гра-
вюре „Фудзи в ясную погоду11 и в гравюре „Волна11 из серии „36 видов Фудзи11.
Его поздние работы отличаются высоким графическим мастерством, однако усту-
пают в богатстве и тонкости колорита таким его сериям, как „36 видов Фудзи“,
„Путешествие по водопадам страны11, „Большие цветы11 (1828) и особенно
живописно интересной серии „Мосты“.
Пожалуй, ни один из предшествующих художников укиё-э не достигал такой
глубины и тонкости цветовых переходов, как Хокусай. Выразительность его
листов основана на сочетании острого, обобщенного рисунка и тончайше разра-
ботанных цветовых переходов общего фона, передающих пространство, воздух и
воду. Чаще всего Хокусай развертывает композицию листа в глубину, однако
перспектива и соотношение масштабов в его пейзажах почти всегда произвольны
и подчинены художественному замыслу.
Творчество Хокусая вызвало многочисленные подражания. Число его учеников
было чрезвычайно велико. Среди них были такие известные мастера, как Хоккэй
(1780—1850), Гакутэй (работал в 1800—1840 гг.) и другие. Но почти для всех
последователей Хокусая характерно усвоение лишь внешней стороны его твор-
ческого метода. Выразительность рисунка Хокусая в работах его учеников при-
обретает оттенок манерности, его колористические достижения используются
главным образом для решения чисто декоративных задач.
Последним значительным представителем японской гравюры первой половины
XIX века был пейзажист Андо Хиросигэ (1797—1858). Хиросигэ был учеником
гравера Утагава Тоёхиро (1763—1828), известного главным образом как иллю-
стратор. Интерес к пейзажу Хиросигэ унаследовал от Тоёхиро, который хотя и
не работал как пейзажист, но был мастером пейзажных фонов. Первой работой,
принесшей Хиросигэ известность, была серия гравюр „53 станции Токайдо11,
напечатанная в 1834 году, то есть вскоре после выхода прославленных серий
Хокусая. Продолжая пейзажный жанр, открытый в гравюре Хокусая, Хиросигэ,
однако, разрабатывает его по-своему. Природа привлекает Хиросигэ в своих
частных, конкретных проявлениях. Поэтому уже в серии „53 станции Токайдо11
так часты листы с изображением снегопада, где пушистые белые хлопья засы-
пают дома и деревья, дождя, тонкой сеткой линий покрывающего дорогу, людей и
лес, или тумана, из которого выступают силуэты храма и путников. Наиболее
известными сериями Хиросигэ, вышедшими в последующие годы, были „8 видов
Оми“ (1835), „69 станций Кисокайдо“ (горная дорога между Эдо и Киото),
„Виды 69 провинций11, „100 видов Эдо“ (ок. 1857 г.) и некоторые другие.
Хиросигэ свободно владел всем арсеналом художественных средств японской
цветной ксилографии. Для его работ характерны лаконизм и острота рисунка,
красота и выразительность силуэтов, богатство тональностей одного цвета.
Однако при всем артистизме Хиросигэ его работы лишены уже того богатства
127
Японская гравюра на дереве
второй половины XVII—
первой половины XIX века
чувств, которое было присуще всей предшествующей гравюре. При всей увле-
ченности Хиросигэ реальным, конкретным мотивом природы, его листы всегда
подчинены декоративному замыслу. В естественной красоте природы Хиросигэ
привлекает выразительность ее отдельных проявлений—контраст ясно различи-
мых и почти исчезающих в тумане предметов, мягкость снега и графическая
острота иголок сосны и ее изогнутых веток. Излюбленные мотивы Хиросигэ—пей-
заж, преображенный лунной ночью, или видимый сквозь сетку дождя, или высту-
пающий из пелены тумана. В своих гравюрах Хиросигэ подчеркивает контраст
четких изображений и чуть намеченных приглушенным цветным пятном силуэтов,
линия Хиросигэ приобретает особую остроту в сопоставлении с мягкостью
цвета, его цветовая гамма скупа, но изысканна.
Творчество Хиросигэ завершает период блестящего расцвета японской цвет-
ной ксилографии XVIII — первой половины XIX века. Гравюра 50—60-х годов не
выдвинула ни одного крупного художника, в ней все явственнее выступают
стилизаторство и эклектика. В этот период времени Япония вплотную подошла
к событиям, ставшим важнейшим рубежом в ее истории. В 1868 году в Японии
произошла буржуазная революция, положившая начало и новому этапу в истории
японского искусства.
Иллюстрации
i
Алтарь Тамамуси.
Роспись боковой створки. VII в.
2
Будда Амида и бодисатвы.
Фрагмент росписи западной
стены Кондо. Монастырь Хорюдзи
в Нара. Начало VIII в.
3
Будда Амида и бодисатвы.
Фрагмент росписи Кондо
4
Бодисатва на облаке.
Фрагмент. VIII в.
5
Будда Амида и бодисатвы.
Фрагмент росписи Кондо.
Хорюдзи. Начало VIII в.
6
Мандала двух миров.
Мир материальный.
Фрагмент. XI в.
7
Роспись ширмы.
Фрагмент. VIII в.
Я
Божество Исана.
IX в.
9
Божество Фудо Мё.
X в.
10
Китидзё-тэн.
VIII в.
11
Китидзё-тэн.
фрагмент
12
Мандала двух миров.
Фрагмент стенной росписи
пагоды Дайгодзи в Нара. 951 г.
13
Нирвана Будды.
1086 г.
14
Нирвана Будды.
Фрагмент
15
Явление Будды Амиды.
Фрагмент росписи дверей храма
Феникса монастыря Бёдоин в
Киото. 1053 г.
16
Будда Амида. Центральная часть
триптиха. XI в.
17
Будда Амида и двадцать пять
бодисатв.
XII в.
18
Будда Амида и двадцать пять
бодисатв. Фрагмент
19
Воскресение Будды.
XI в.
20
Воскресение Будды.
Фрагмент
10
21
Воскресение Будды.
Фрагмент. XI в.
22
Воскресение Будды,
фрагмент
23
Божество Кудзаку Мё.
XII в.
24
Будда Сакья-муни.
XII в.
25
Бодисатва Фугэн.
фрагмент. XII в.
26
Гэндзи моногатари.
Фрагмент свитка.
Первая половина XII в.
27
Гэндзи моногатари.
фрагмент свитка
28
Гэндзи моногатари.
Фрагмент свитка.
Первая половина XII в.
29
Гэндзи моногатари.
Фрагмент свитка.
Первая половина XII в.
30
Гэндзи моногатари.
Фрагмент свитна
31
Гэндзи моногатари.
фрагмент свитка
32
Гэндзи моногатари.
Фрагмент свитка.
Первая половина XII в.
33
Гэндзи моногатари.
Фрагмент свитка
34
Гэндзи моногатари.
Фрагмент свитка.
Первая половина XII в.
35
Гэндзи моногатари.
Фрагмент свитка
36
Гэндзи моногатари.
Фрагмент свитка.
Первая половина XII в.
11
37
Гэндзи моногатари.
Фрагмент свитка
38
Нэдзамэ моногатари.
Фрагмент свитка.
Первая половина XII в.
39
Свитки со священным писанием
и живописью.
Фрагмент. 1164 1167 гг.
40
Свитки со священным писанием
и живописью.
Фрагмент. 1164-1167 гг.
41
Фудзивара Нобудзанэ.
Свиток живописи к ..Дневнику1*
Мурасаки Сикибу. Фрагмент.
Первая половина XIII в.
42
Свиток со священным писанием
и живописью.
Фрагмент. XII в.
43
Свитки со священным писанием
и живописью.
Фрагмент. 1164 1167 гг.
44
Роспись вееоа.
Фрагмент. XII в.
45
Beep.
XII в.
46
Beep.
XII в.
47
Легенды горы Сиги.
Фрагмент свитка. XII в.
48
Легенды горы Сиги.
Фрагмент свитка
49
Легенды горы Сиги.
Фрагмент свитка
50
Легенды горы Сиги.
Фрагмент свитка. XII в.
51
Легенды горы Сиги.
Фрагмент свитка
52
Легенды горы Сиги.
Фрагмент свитка
53
Легенды горы Сиги.
Фрагмент свитка. XII в.
54
Легенды горы Сиги.
Фрагмент свитка
55
Легенды горы Сиги.
Фрагмент свитка
56
Болезни и уродства.
Фрагмент свитка. XII в.
57
Болезни и уродства.
Фрагмент свитка
58
Болезни и уродства.
Фрагмент свитка
59
Болезни и уродства.
Фрагмент свитка
60
Мир голодных духов,
фрагмент свитка. XII в.
61
История придворного
дайнагона Бан.
Фрагмент свитка. XII в.
12
62
История придворного
дайнагона Бан.
Фрагмент свитка
63
История придворного
4айнагона Бан.
)рагмент свитна
64
Фудзивара Таканобу.
Портрет Минамото Ёритомо.
XII в.
66
Фудзивара Таканобу.
Портрет Тайра Сигэмори.
Фрагмент. XII в.
66
История придворного
дайнагона Бан.
Фрагмент свитка. XII в.
67
Конные телохранители
императора.
Фрагмент свитка. XIII в.
68
Сказание о гражданской войне
Хэйдзи.
Фрагмент свитка. XIII в.
69
Сказание о монгольском
вторжении.
Фрагмент свитка. XIII в.
70
Эни.
Жизнеописание св. Иппэна.
Фрагмент свитка. 1299 г.
71
Эни.
Жизнеописание св. Иппэна.
Фрагмент свитка
72
Легенды храма Китано Тэндзин.
Фрагмент свитка. 1219 г.
73
Легенды храма Китано Тэндзин.
Фрагмент свитка
Г 1
74
Легенды храма Китано Тэндзин.
Фрагмент свитка. 1219 г.
75
Легенды храма Китано Тэндзин
Фрагмент свитка
13
76
Роспись ширмы,
фрагмент. XIII в.
77
Эни.
Жизнеописание св. Иппэна.
Фрагмент свитка. 1299 г.
78
Эни.
Жизнеописание св. Иппэна.
Фрагмент свитка
?й- fk ft — -*• '* 4 A < # •*' -it *
* M <.- 4 A t ft -‘ .•!.*♦* * * ni Л 4 4 ?
lf < < ft. * Й * 4 A * # -* *• ft ft «• i .1
t> * ff i 1'1 Я f-j *[ ft A -f® ,л" * -Я 4 It 4
i f * M *• -!
!Ч«|£ЯА««-***«**и4 -*> *
. A ft *. >* <. 4 ><• < a '* a * >• a ft :
ft Л s. ft <MS- *f 4t I*l й ~ -‘ Л it # Л- Я
A A A A •*• •* ** # • • ft ft it 4 M 4* i
••»• Л # A .4. t -s. ft 4« i<i «
4 Л л. л. n >ft *t Ч Л л »l <i У? Г1 ?». *- »
Г- . # <И ;ft ft. * rt- ;i a. If. 4t « -A i it
[_ ДИл-*.«1|Д,4в.в*-< *» J
79
Минтё.
Хижина отшельника
у горного ручья.
Фрагмент свитка. 1413 г.
80
Као Нинга.
Священник Кандзан.
Первая половина XIV в.
81
Сюбун.
Чтение в уединенной хижине
в бамбуковой роще.
Фрагмент свитка.
Первая половина XV в-
82.
Сэссю Пейзаж в стиле хабоку
1495 г.
83
Сэссю.
Зима. 1480-е гг.
84—85 (верхние)
Сэссю.
Пейзаж.
Фрагменты свитка. 1486 г.
86—87 (нижние)
Сэссю
Пейзаж,
фрагменты свитка. 1486 г.
%
88
Сэссю.
Ама-но Хасидатэ.
Около 1506 г.
89
Сэссю.
Пейзаж.
Фрагмент свитка. 1486 г.
90
Сэссю.
Осень. 80-е гг.
XV в.
91
Кано Мотонобу.
Водопад.
92
Г эйами.
Водопад.
1480 г.
93
Кано Эйтоку.
Кипарисы.
Фрагмент росписи ширмы. XVI в.
94
Тохаку.
Сосны.
Фрагмент росписи ширмы.
Конец XVI в.
95
Мост и ивы.
Парные шестистворчатые ширмы
Правая половина. Начало XVII в.
14
96
Мост и ивы.
Парные шестистворчатые ширмы.
Левая половина
97
Тохаку.
Роспись двустворчатой ширмы.
XVI в.
98
Сотацу.
Деревенские хижины весной.
Роспись веера.
Первая половина XVII в.
99-100
Сотацу.
Т анцы.
Роспись ширмы.
Первая половина XVII в.
102 103
Сотацу.
Боги ветра и грома.
Роспись парных двустворчатых
ширм. Первая половина XVII в.
104
Сотацу.
Боги ветра и грома.
фрагмент росписи ширмы
105
Сотацу.
Фрагмент росписи парных
шестистворчатых ширм на темы
„Гэндзи моногатари“
Мурасани Сикибу.
Первая половина XVII в.
106
Сотацу.
фрагмент росписи парных
шестистворчатых ширм
107
Сотацу.
Сцена из „Исэ моногатари‘\
Первая половина XVII в.
108
Корин.
Ирисы.
Фрагмент росписи парных
шестистворчатых ширм.
Вторая половина XVII в.
109-110
Корин.
Ирисы.
Роспись парных
шестистворчатых ширм.
Вторая половина XVII в.
Ill
Корин.
Сцена из „Исэ моногатари“.
Начало XVIII в.
112
Корин.
Красные и белые цветы сливы.
Роспись парных двустворчатых
ширм. Левая половина.
Конец XVII в.
113
Корин.
Красные и белые цветы сливы.
Роспись парных двустворчатых
ширм. Правая половина
114
Роспись ширмы.
Фрагмент.
Первая половина XVII в.
115
Веревочная занавеска.
Роспись ширмы. XVII в.
116
Кано Хидэёри.
Клены в Такао.
Фрагмент росписи ширмы.
Середина XVI в.
117
Прислужницы в бане.
XVII в.
16
118
Роспись ширмы.
Первая половина XVII в.
119
Роспись ширмы.
Фрагмент
120
Роспись парных
шестистворчатых ширм.
Первая половина XVII в.
121
Роспись парных
шестистворчатых ширм.
Первая половина XVII в.
122
Кайгэцудо.
Куртизанка.
Начало XVIII в.
123
Кайгэцудо.
Куртизанка.
Начало XVIII в.
124
Окумура Масанобу.
Актер Саногава Итимацу в роли
актера театра кукол.
Первая половина XVIII в.
125
Тории Киёнобу.
Актер Китидзуро Цуцуси.
Театральный плакат. 1704 г.
126
Нисимура Сигэнага.
Расставание.
Первая половина XVIII в.
127
Тории Киёхиро.
Влюбленные под цветущей
сливой.
Середина XVIII в.
128
Харунобу.
Влюбленные, играющие на одном
сямисэне.
1766 г.
f
129
Харунобу.
Ветер.
1767 г.
130
Харунобу.
Летний ливень.
Из серии „Сцены домашней
жизни". 1765 г.
131
Харунобу.
Девушки, идущие вброд.
1766 г.
о
&
ев
2 св
О v
13$ -
О-Ш со
CJ св в> Ог-
133
Харунобу.
Сушка нитей.
1766 г.
16
134
Корюсай.
Кормление карпов.
1771 г.
135
Сунтё.
Борец Оногава и куртизанка
Охиса в чайном доме. 1792 г.
136
Тории Киёнага.
Чайный дом у бухты Синагава.
Часть диптиха. 1785 г.
И II
II
137
Тории Киёнага.
Ночь девятого месяца.
Часть диптиха. 1785 г.
138
Утамаро.
Женщина перед зеркалом.
1790-е г г.
139
Утамаро.
Женщина, рассматривающая
вуаль.
1790 г.
140
Утамаро.
Яма Уба и Кинтаро.
1790-е гг.
141
Утамаро.
Яма Уба с сыном на коленях.
1790-е гг.
142
Утамаро.
Ожидание.
Из серии „Выбор песен“.
1792-1793 гг.
143
Утамаро.
Лист из серии „Испытания
верной любви“.
Около 1800 г.
144
Утамаро.
Ловля крабов.
Около 1800 г.
145
Утамаро.
Женщина с ребенком.
Около 1800 г.
146
Сяраку.
Актер Отони Онидзи II в роли
Эдохэй.
1794 г.
147
Сяраку.
Актер Сэгава Томисабуро II
в роли Ядориги и Накамура
Мансэи в роли ее служанки.
1794 г.
148
Сяраку.
Актер Итикава Эбизо в роли
Такэмура Саданосин.
1794 г.
149
Сяраку.
Актер Сэгава Томисабуро II
в роли Ядориги и Накамура
Мансэи в роли ее служанки.
Фрагмент. 1794 г.
150
Сяраку.
Актер Сэгава Томисабуро II
в роли Ядориги и Накамура
Мансэи в роли ее служанки.
Фрагмент
151
Хокусай.
Мост в Эдо. Из книги „Дотю Гвафу“.
Фрагмент. 1818 г.
152
Хокусай.
Мост в Эдо. Из книги „Дотю Гвафу“.
Фрагмент
17
153
Хокусай.
Путники в Хадагая.
фрагмент. Из серии „36 видов
Фудзи1'. 1823-1829 гг.
154
Хокусай.
Путники в Хадагая.
Фрагмент
156
Хокусай.
Порыв ветра.
Из серии ,.36 видов Фудзи"
156
Хокусай.
Дровяной склад в Хондзё.
Из серии „36 видов Фудзи"
157
Хокусай.
Дровяной склад в Хондэё.
фрагмент
158
Хокусай.
Дровяной склад в Хондзё.
фрагмент
169
Хокусай.
Пилыцики в горах Тотоми.
Из серии „36 видов Фудзи“
160
Хокусай.
Бочар. Вид Фудзи из провинции
Овари.
Из серии „36 видов Фудзи“
161
Хокусай.
Фудзи в ясную погоду.
Из серии „36 видов Фудзи“.
1823-1829 гг.
162
Хокусай.
Водопад Оно на дороге
Кисокайдо.
Из серии „Путешествие
по водопадам страны".
1827 г.
163
Хокусай.
Висячий мост.
Фрагмент
164
Хокусай.
Висячий мост.
Из серии „Новые мосты
в различных провинциях11.
1827-1830 гг.
165
Хокусай.
Вид Фудзи из Усибори, провин-
ции Хитати.
Из серии „36 видов Фудзи".
1823-1829 гг.
166
Хокусай.
Т амагава.
Из серии „36 видов Фудзи“
167
Хокусай.
Волна.
Из серии „36 видов Фудзи1*.
1823-1829 гг.
168
Хокусай.
Рыбак в Кадзикасава.
Из серии „36 видов Фудзи“.
1823-1829 гг.
169
Хокусай.
Рыбак в Кадзикасава.
Фрагмент
170
Хокусай.
Рыбак в Кадзикасава.
Фрагмент
171
Хокусай.
Мост у храма Тэндзин в Камэйдо.
Из серии „Новые мосты
в различных провинциях11.1827—1830 гг.
172
Хокусай.
Поэт Тобо в изгнании.
Из серии „Поэты Китая
и Японии14. 1830 г.
173
Хокусай.
Фудзи во время ливня.
Из серии „100 видов Фудзи*'.
1834-1835 г г.
174
Хиросигэ.
Станция Сэба.
Из серии „69 станций Кисо-
кайдо“. 1837-1842 гг.
175
Хиросигэ.
Вечерний дождь в Коидзуми.
Из серии „9 видов Канадзава'*.
1836 г.
176
Хиросигэ.
Станция Ои.
Из серии „69 станций Кисо-
кайдо“. 1837—1842 гг.
177
Хиросигэ.
Станция Камбара.
Из серии „53 станции Токайдо“.
1834 г.
178
Хиросигэ.
Переправа Миянокоси.
Из серии „69 станций'Кисо-
найдо“. 1837-1842 гг.
Список иллюстраций
1
Алтарь Тамамуси. Роспись боковой
створки соИровищницы (Ходзо-дэн) мо-
настыря Хорюдзи в Нара.
Живопись на лаке. VII в.
2
Будда Амида и бодисатвы. Фрагмент.
Роспись западной стены храма Кондо
(«Золотой храм*) монастыря Хорюдзи
в Нара.
Начало VIII в.
3
Будда Амида и бодисатвы. Фрагмент.
4
Бодисатва на облаке. Фрагмент.
Живопись на холсте. VIII в. Нара, му-
зей Сёсоин.
5
Будда Амида и бодисатвы. Фрагмент.
Роспись храма Кондо монастыря Хо-
рюдзи в Нара.
Начало VIII в.
6
Мандала двух миров. Мир материаль-
ный. Фрагмент.
Живопись на шелке. XI в. Нара, храм
Кодзимадэра.
7
Роспись ширмы. Фрагмент.
Живопись на бумаге. VIII в. Нара, му-
зей Сёсоин.
8
Божество Исана.
Живопись на шелке. IX в. Нара, мо-
настырь Сайдаидзи.
9
Божество Фудо Мё.
Живопись на шелке. X в. Киото, мо-
настырь Сорэнин.
10
Китидзё-тэн.
Живопись на холсте. VIII в. Нара, мо-
настырь Якусндзи.
11
Китидзё-тэн. Фрагмент.
12
Мандала двух миров. Фрагмент стенной
росписи пагоды Дайгодзи в Нара.
951 г.
13
Нирвана Будды.
Живопись на шелке. 1086 г. Вакаяма,
монастырь Конгобудзи.
14
Нирвана Будды. Фрагмент.
15
Явление Будды Амиды. Фрагмент.
Роспись дверей храма Феникса мона-
стыря Бёдоин в Киото.
Живопись на лаке. 1053 г.
16
Будда Амида. Центральная часть трип-
тиха.
Живопись на шелке. XI в. Нара, мо-
настырь Хоккэдзи.
17, 18
Будда Амида и двадцать пять бодисатв.
Живопись на шелке. XII в. Вакаяма,
музей Рэихокан.
19
Воскресение Будды.
Живопись на шелке. XI в. Киото, мо-
настырь Тёходзи.
20-22
Воскресение Будды. Фрагменты.
23
Божество Кудзаку Мё.
Живопись на шелке. XII в. Канагава,
собр. Хара.
24
Будда Сакья-муни.
Живопись на шелке. XII в. Киото, мо-
настырь Дзингодзи.
25
Бодисатва Фугэн. Фрагмент.
Живопись на шелке. XII в. Токио, На-
циональный музей.
26, 27
Гэндзи моногатари (приписывается
художнику Такаёси). Фрагмент свитка
(часть к главе ,Адзумая*).
Живопись на бумаге. Первая половина
XII в. Нагоя, собр. Токугава (осталь-
ные части свитка хранятся помимо это-
го собрания также в собр. Масуда в
Токио).
28, 29, 31
Гэндзи моногатари. Фрагмент свитка
(часть к главе „Судзумуси*).
30, 35
Гэндзи моногатари. Фрагмент свитка
(часть к главе »Минори“).
32, 33
Гэндзи моногатари. Фрагмент свитка
(часть к главе .Такэкава**).
34
Гэндзи моногатари. Фрагмент свитка
(часть к главе .Ядориги*).
36, 37
Гэндзи моногатари. Фрагмент свитка
(часть к главе .Касиваги*).
38
Нэдзамэ моногатари. Фрагмент свитка.
Живопись на бумаге. Первая половина
XII в. Нара, музей Ямато Бунка-кан.
39, 40, 43
Свитки со священным писанием и жи-
вописью („Хэикэ Нокё*). Фрагменты
свитка.
Живопись на бумаге. 1164—1167 гг.
Хиросима, храм Ицукусима.
41
Нобудзанэ.
Свиток живописи к .Дневнику* Мура-
саки Сикибу. Фрагмент.
Живопись на бумаге. Первая половина
XIII в. Сидзуока, собр. Хатисука.
42
Свиток со священным писанием и жи-
вописью («Итидзи рэндаи Хокэ-кё*).
Фрагмент свитка.
Живопись на бумаге. XII в. Нара, му-
зей Ямато Бунка-кан.
44, 46
Роспись веера.
Живопись на бумаге. XII в. Осака,
монастырь Ситэннодзи.
45
Роспись веера.
Живопись на бумаге. XII в. Осака,
монастырь Ситэннодзи.
47-55
Легенды горы Сиги (приписывается
художнику Тобо Сёдзо). Фрагменты
свитка.
Живопись на бумаге. XII в. Нара, мо-
настырь Тёгосонсидзи.
56-59
Болезни и уродства. Фрагменты свитка.
Живопись на бумаге. XII в. Канагава,
собр. Мацунага.
60
Мир голодных духов. Фрагмент свитка.
Живопись на бумаге. XII в. Нацио-
нальная комиссия по охране культур-
ных ценностей.
61 -63, 66
История придворного дайнагона Бан
(приписывается художнику Мицунага).
Фрагменты свитка.
Живопись на бумаге. XII в. Токио,
собр. Сакаи.
64
Таканобу. к
Портрет Минамото Ёритомо.
Живопись на шелке. XII в. Киото, мо-
настырь Дзингодзи.
65
Таканобу.
Портрет Тайра Сигэмори. Фрагмент.
Живопись на шелке. XII в. Киото, мо-
настырь Дзингодзи.
67
Конные телохранители императора.
Фрагмент свитка.
Живопись на бумаге. XIII в. Токио,
собр. Окира.
68
Сказание о гражданской войне Хэйдзи.
Фрагмент свитка.
Живопись на бумаге. XIII в. Токио,
Национальный музей.
69
Сказание о монгольском вторжении.
Фрагмент свитка.
Живопись на бумаге. XIII в. Импера-
торская коллекция.
70, 71, 77, 78
Эни.
Жизнеописание св. Иппэна. Фрагменты
свитка.
Живопись на шелке. 1299 г. Токио,
Национальный музей.
72-75
Легенды храма Китано Тэндзин. Фраг-
менты свитка.
Живопись на бумаге. 1219 г. Киото,
храм Китано.
281
76
Роспись ширмы. Фрагмент.
Живопись на бумаге. XIII в. Киото,
храм Дзингодзи.
79
Минтё.
Хижина отшельника у горного ручья.
Фрагмент свитка.
Живопись на бумаге. 1413 г. Киото,
монастырь Контин.
80
Као Нинга.
Священник Кандзан.
Живопись на бумаге. Первая половина
XIV в. Канагава, музей Нагао.
81
Сюбун.
Чтение в уединенной хижине в бамбу-
ковой роще. Фрагмент свитка.
Живопись на бумаге. Первая половина
XV в. Токио, Национальный музей.
82
Сэссю.
Пейзаж в стиле хабоку.
Живопись на бумаге. 1495 г. Токио,
Национальный музей.
83
Сэссю.
Зима. Свиток.
Живопись на бумаге. 1480-е гг. Токио,
Национальный музей.
84-87, 89
Сэссю.
Пейзаж. Фрагменты свитка.
Живопись на бумаге. 1486 г. Ямагути,
собр. Мори.
88
Сэссю.
Ама-но Хасидатэ. Свиток.
Живопись на бумаге. Около 1506 г.
Ямагути, собр. Мори.
90
Сэссю.
Осень. Свиток.
Живопись на бумаге. 1480-е гг. Токио,
Национальный музей.
91
Мотонобу.
Водопад. Свиток.
Живопись на бумаге. XVI в. Киото,
монастырь Дайдзэнин.
92
Гэйами.
Водопад. Свиток.
Живопись на бумаге. 1480 г. Токио,
музей Нэдзу.
93
Эйтоку.
Кипарисы. Фрагмент росписи восьми-
створчатой ширмы.
Живопись на позолоченной бумаге.
XVI в. Токио, Национальный музей.
94
Тохаку.
Сосны. Фрагмент росписи парных
шестистворчатых ширм.
Живопись на бумаге. Конец XVI в.
Токио, Национальный музей.
95, 96
Мост и ивы. Роспись парных шести-
створчатых ширм.
Живопись на позолоченной бумаге.
Начало XVII в. Токио, Национальный
музей.
97
Тохаку.
Роспись двустворчатой ширмы.
Живопись на бумаге. XVI в. Киото,
монастырь Тисакуин.
98
Согацу.
Деревенские хижины весной. Роспись
веера.
Живопись на бумаге. Первая половина
XVII в. Киото, монастырь Самбоин.
99-101
Сотацу.
Танцы. Роспись парных двустворчатых
ширм.
Живопись на позолоченной бумаге.
Первая половина XVII в. Киото, мо-
настырь Дайгодзи.
102-104
Согацу.
Боги ветра и грома. Роспись парных
двустворчатых ширм.
Живопись на позолоченной бумаге.
Первая половина XVII в. Киото, мо-
настырь Кэнннндзи.
105, 106
Сотацу.
Роспись парных шестистворчатых ширм
на темы .Гэндзи моногатари* Мурасаки
Сикибу. Фрагмент.
Живопись на позолоченной бумаге.
Первая половина XVII в. Токио, собр.
Сэикадо.
107
Сотацу.
Сцена из ,Исэ моногатари*. Лист
из альбома.
Живопись на бумаге. Первая половина
XVII в. Нара, музей Ямато Бунка-кан
108-110
Корин.
Ирисы. Роспись парных шестистворча-
тых ширм. Фрагменты.
Живопись на позолоченной бумаге.
Вторая половина XVII в. Токио, музей
Нэдзу.
111
Корин.
Сцена из .Исэ моногатари*. Свиток.
Живопись на бумаге. Начало XVIII в.
Нара, музей Ямато Бунка-кан.
112, 113
Корин.
Красные и белые цветы сливы. Роспись
парных двустворчатых ширм.
Живопись на позолоченной бумаге.
Конец XVII в. Сидзуока, музей Атами.
114
Роспись ширмы. Фрагмент.
Живопись на бумаге. Первая половина
XVII в. Нара, музей Ямато Бунка-кан.
115
Веревочная занавеска. Роспись ширмы.
Живопись на позолоченной бумаге.
XVII в. Токио, собр. Хара.
116
Хидэёри.
Клены в Такао. Роспись шестиствор-
чатой ширмы. Фрагмент.
Живопись на бумаге. Середина XVI в.
Токио, Национальный музей.
117
Прислужницы в бане.
Живопись на бумаге. XVII в. Сидзуока,
музей Атами.
118, 119
Роспись ширмы.
Живопись на бумаге. Первая половина
XVII в. Нагоя, собр. Токугава.
120, 121
Роспись парных шестистворчатых
ширм.
Живопись на позолоченной бумаге.
Первая половина XVII в. Нара, музей
Ямато Бунка-кан.
122
Кайгэцудо.
Куртизанка.
Гравюра на дереве (раскрашенная).
Начало XVIII в.
123
Кайгэцудо.
Куртизанка.
Гравюра на дереве (раскрашенная).
Начало XVIII в.
124
Масанобу.
Актер Саногава Итимацу в роли актера
театра кукол.
Гравюра на дереве (раскрашенная).
Первая половина XVIII в.
125
Киёнобу.
Актер Китидзуро Цуцуси (театральный
плакат).
Гравюра на дереве (раскрашенная).
1704 г.
126
Сигэнага.
Расставание.
Гравюра на дереве (раскрашенная).
Первая половина XVIII в.
127
Киёхиро.
Влюбленные под цветущей сливой.
Гравюра на дереве (раскрашенная).
Середина XVIII в.
128
Харунобу.
Влюбленные, играющие на одном ся-
мисэне.
Цветная гравюра на дереве. 1766 г.
129
Харунобу.
Ветер.
Цветная гравюра на дереве. 1767 г.
130
Харунобу.
Летний ливень. Из серии «Сцены до-
машней жизни*.
Цветная гравюра на дереве.
1765 г.
282
131
Харунобу.
Девушки, идущие вброд.
Цветная гравюра на дереве. 1766 г.
132
Харунобу.
Девушка, поднимающаяся по лестнице
храма.
Цветная гравюра на дереве. 1766 г.
133
Харунобу.
Сушка нитей.
Цветная гравюра на дереве. 1766 г.
134
Корюсай.
Кормление карпов.
Цветная гравюра на дереве. 1771 г.
135
Сунтё.
Борец Оногава и куртизанка Охиса
в чайном доме.
Цветная гравюра на дереве. 1792 г.
136
Киёнага.
Чайный дом у бухты Синагава. Часть
диптиха из серии „Двенадцать месяцев
Юга*.
Цветная гравюра на дереве. 1785 г.
137
Киёнага.
Ночь девятого месяца. Часть диптиха
из серии „Двенадцать месяцев Юга*.
138
Утамаро.
Женщина перед зеркалом.
Цветная гравюра на дереве. 1790-е гг.
139
Утамаро.
Женщина, рассматривающая вуаль.
Цветная гравюра на дереве. 1/90-е гг.
140
Утамаро.
Яма Уба и Кинтаро.
Цветная гравюра на дереве. 1790-е гг.
141
Утамаро.
Яма Уба с сыном на коленях.
Цветная гравюра на дереве. 1790-е гг.
142
Утамаро.
Ожидание. Из серии „Выбор песен*.
Цветная гравюра на дереве. 1792—
1793 гг.
143
Утамаро.
Лист из серии „Испытания верной
любви*.
Цветная гравюра на дереве. Около
1800 г.
144
Утамаро.
Ловля крабов.
Цветная гравюра на дереве. Около
1800 г.
145
Утамаро.
Женщина с ребенком.
Цветная гравюра на дереве. Около
1800 г.
146
Сяраку.
Актер Отони Онидзи II в роли Эдохэй.
Цветная гравюра на дереве. 1794 г.
147, 149, 150
Сяраку.
Актер Сэгава Томнсабуро II в роли
Ядориги и Накамура Мансэи в роли ее
служанки.
Цветная гравюра на дереве. 1794 г.
148
Сяраку.
Актер Итикава Эбизо в роли Такэмура
Саданосин.
Цветная гравюра на дереве. 1794 г.
151, 152
Хокусай.
Мост в Эдо. Из книги „Датю Гвафу*.
Фрагменты.
Цветная гравюра на дереве. 1818 г.
153, 154
Хокусай.
Путники в Хадагая. Фрагменты. Из
серии .36 видов Фудзи*.
Цветная гравюра на дереве. 1823—
1829 гг.
155
Хокусай.
Ветер. Из серии .36 видов Фудзи*.
Цветная гравюра на дереве. 1823—
1829 гг.
156-158
Хокусай.
Дровяной склад в Хондзё. Из серин
.36 видов Фудзи*.
Цветная гравюра на дереве. 1823—
1829 гг.
159
Хокусай.
Пильщики в горах Тотоми. Из серии
.36 видов Фудзи*.
Цветная гравюра на дереве. 1823—
1829 гг.
160
Хокусай.
Бочар. (.Вид Фудзи из провинции Ова-
Еи'.) Из серии „36 видов Фудзи*.
(ветная гравюра на дереве. 1823—
1829 гг.
161
Хокусай.
Фудзи в ясную погоду. Из серии .36 ви-
дов Фудзи*.
Цветная гравюра на дереве. 1823—
1829 гг.
162
Хокусай.
Водопад Оно на дороге Кисокайдо. Из
серии .Путешествие по водопадам
страны*.
Цветная гравюра на дереве. 1827 г.
163, 164
Хокусай.
Висячий мост. Из серии .Новые мосты
в различных провинциях*.
Цветная гравюра на дереве. 1827—
1830 гг.
165
Хокусай.
Вид Фудзи из Усибори, провинции Хи-
тати. Из серии .36 видов Фудзи*.
Цветная гравюра на дереве. 1823—
1829 гг.
166
Хокусай.
Тамагава. Из серии .36 видов Фугзи
Цветная гравюра на дереве. 1823—
1829 гг.
167
Хокусай.
Волна. Из серии „36 видов Фудзи*.
Цветная гравюра на дереве. 1823—
1829 гг.
168-170
Хокусай.
Рыбак в Кадзикасава. Из серии ,36 ви-
дов Фудзи*.
Цветная гравюра на дереве. 1823—
1829 гг.
171
Хокусай.
Мост у храма Тэндзин в Камэйдо. Из
серии .Новые мосты в различных про-
винциях*.
Цветная гравюра на дереве. 1827—
1830 гг.
172
Хокусай.
Поэт Тобо в изгнании. Из серии
.Поэты Китая и Японии*.
Цветная гравюра на дереве. 1830 г.
173
Хокусай.
Фудзи во время ливня. Из серии .100
видов Фудзи*.
Гравюра на дереве. 1834—1835 гг.
174
Хиросигэ.
Станция Сэба. Из серии .69 станций
Кисокайдо*.
Цветная гравюра на дереве. 1837 —
1842 гг.
175
Хиросигэ.
Вечерний дождь в Коидзуми. Из серии
.10 видов Канадзава*.
Цветная гравюра на дереве. 1836 г.
176
Хиросигэ.
Станция Он. Из серии ,69 станций
Кисокайдо*.
Цветная гравюра на дереве. 1837—
1842 гг.
177
Хиросигэ.
Станция Камбара. Из серии .53 стан-
ции Токайдо*.
Цветная гравюра на дереве. 1834 г.
178
Хиросигэ.
Переправа Миянокоси. Из серии .69
станций Кисокайдо*.
Цветная гравюра на дереве. 1837—
1842 гг.
Библиография
Общие работы
Fenollosa, Ernest F.,
Epochs of Chinese and Japanese art,
vol. 1—2,
London, 1912.
Tsuda, Noritake,
Handbook of Japanese art,
Tokyo, 1935.
Minamoto, Hoshu,
An illustrated history of Japanese art,
Kyoto, 1935.
Buhot, Jean,
Histoire des arts du Japan,
Paris, 1949.
„Library of Japanese art1*, vol. 1—2,
Tokyo, 1955.
Sagara. Tokuzo,
Japanese fine arts,
Tokyo, 1955.
Paine R. I., Soper A.,
The art and architecture of Japan,
London, 1955.
Speiser W.,
Die Kunst Ostasiens,
Berlin, 1956.
Munsterberg H.,
The Arts of Japan,
Tokyo, 1957.
Warner L.,
The Enduring Art of Japan,
New York, 1958.
.Японское искусство.
Сб. статей*,
М., 1959.
.Art Treasures of Japan’,
vol. 1—2, Editor in Chief Yoshiro Yukio,
Tokyo, 1960.
.Всеобщая история искусств*, т. II,
кн. 2, М., 1961; т. V, М., 1964.
«Искусство Японии.
Сб. статей*,
М., 1965.
Ито Н., Миягава Т., Мазда Т., Есид-
зава Т.,
История японского искусства,
М., 1965.
Журнальные статьи
.Бидзюцу Кэнкю* (.The journal of art
studies*), изд. института .Art rese-
arch*, Tokyo (c 1932).
“The Kokka”, Tokyo (изд. c 1889).
Живопиоь
Perzynski F.,
Korin und seine Zeit,
Berlin, 1907.
Cohn, William,
Stilanalysen als Einftlhrung in die japa-
nische Malerei,
Berlin, 1908.
«Тоё Бидзюцу Тайкан* (Собрание ис-
кусств Дальнего Востока), тт. 1—6,
Токио, 1918 (на япон. яз.)
Никитин Л.,
Идеографический изобразительный ме-
тод в японской живописи. Восточные
сборники. Литература. Искусство,
вып. I, М., 1924.
Yashiro, Yukio, Einftlhrung in die japa-
nische Malerei, Tokyo, 1935.
Toda, Kenji,
Japanese scroll painting,
Chicago, 1935.
KUmmel O.,
Meisterwerke japanischer Landchafts-
kunst, Berlin, 1939.
Tsuda, Noritake,
Ideals of Japanese painting,
Tokyo, 1940.
.History of Buddhist art in Japan*,
Tokyo, 1940.
Naito Toichiro,
The wall-paintings of Horyuji, Balti-
more, 1943.
.Pageant of Japanese art. Painting*,
vol. 1-2,
Tokyo, 1952.
Moriya Kenji,
Die japanese Malerei,
Wiesbaden, 1953.
Kondo Ichitaro, Feminine beauty in Ja-
panese painting,
Tokyo,1955.
Gray, Basil,
Japanese screen painting,
London, 1955.
.Currents in Japanese painting",
Tokyo,1955.
.Танака, Итимацу,
Сотацу*, Токио, 1955 (на япон. яз.)
,Нихон-но Котэн* (Japanese classic art,
fainting series), vol. 1—5,
okyo, 1955—1956 (на япон. яз.)
Bowie, Henri P.,
On the laws of Japanese painting,
New York, 1956.
Munsterberg H.,
The Landscape painting of China and
Japan,
Tokyo, 1956.
«Нихон-но Мэйгасю* (Выдающиеся
произведения японской живописи), кн.
1—13,
Токио, 1956—1958 (на япон. яз.)
Noma, Seiroku,
Artistry in ink, New York,
1957.
284
Воронова Б. Г.,
Тойо Ода (Сэссю),
М., 1957.
„Коэцу, Сотацу, Корин Мэйсаку дзу-
року* (Альбом произведений Коэцу.
Сотацу, Корина),
Токио, 1957 (на япон. яз.).
.Гэндзи-моногатари эмаки",
Токио, 1958 (на япон. яз.).
Hase, Akihisa,
Emaki. Die Kunst der klassischen japa-
nischen Bilderrollen,
Zflrich, 1959.
Armbruster, Gisele,
Das Shigisan engi emaki. Ein Japanese
RolIbild aus dem 12 Jahrhundert,
Hamburg, 1959.
Terukazu, Akiyama,
La peinture japonaise, Geneve, 1961.
«Нихон бидзюцу Тдйкэй" (Японское
изобразительное искусство), тт. 3—5,
Токио, 1961 (на япон. яз.).
Okudaira, Hideo,
Emaki: Japanese picture scrolls,
Tokyo, 1962.
Grilli, Elise,
Rouleaux Peints japonais,
Tokyo, 1962.
Гравюра
Kurth, Julius,
Utamaro,
Leipzig, 1907.
Kurth, Julius,
Sharaku,
Mtinchen, 1910.
Kurth, Julius,
Suzuki Harunobu,
MUnchen and Leipzig, 1910.
Kurth, Julius,
Die Primitiven des Japanholzschnitts
in ausgewShlten BlSttern,
Dresden, 1922.
Stewart. Basil,
Subjects Portrayed in Japanese Colour-
Prints, London, 1922.
Binyen, Laurence,
Japanese colour prints,
London, 1923.
Noguchi, Yone,
Hiroshige,
Tokyo, 1932.
Денике Б.,
Японская цветная гравюра,
М., 1935.
.Japanese Prints by Harunobu and
Shunsho in the collection of Louis
V. Ledoux",
New York, 1945.
.Japanese'colour Prints from Harunobu
to Utamaro. With an introduction and
notes by Wilfrid Blunt",
London, 1952.
Hiller J.,
Japanese Masters of the Colour Print.
A greate heritage of Oriental art,
London,1954.
Takahashi Sei-ichiro,
The evolution of ukiyo-e,
Yakogama, 1955.
.Masterpieces of Japanese prints",
Chicago, 1955.
Hillier J.,
Hokusai. Paintings, drawings and
woodcuts,
London,1955.
Boiler W.,
Hokusai ein Meister des japanischen
Holzschnittes,
Zflrich, 1955.
.Hokusai, Mit einer Einleitung von Joe
Hloucha",
Prag, 1955.
,Укиё-э дзэнсю" (Собрание гравюр
укиё-э), тт. 1—6,
Токио, 1956 (на япон. яз.).
.Selected Masterpieces of Ukiyo-e
Prints. Text Ichitaro Kondo. Notes on
Kabuki subjects Teruji Yoshida",
Tokyo,1956.
Kondo, 1.
Kitagawa Utamaro,
Tokyo,1956.
Boiler W.,
Meister des japanischen Farbenholz-
schnittes,
das Walter-Verlages Olten, 1957.
Hajek, Forman,
Der frUhe japanische Holzschnitt,
Prag, 1957.
Hajek, Forman,
Harunobu und die KUnstler seiner Zeit,
Prag, 1957.
Hajek L.,
Utamaro, Das Portrat im japanischen
Holzschnitt,
Prag, 1958.
Воронова Б.,
Хокусай,
M., 1958.
Michener, James A.,
Japanese prints from the Early Masters
to the Modern,
Tokyo,1960.
Lane, Richard,
Masters of the Japanese Print,
New York, 1962.
Grilli, Elise,
Sharaku,
Tokyo, 1962.
.Японская гравюра",
M., 1963.
Waterhouse D. R.,
Harunobu and his age,
London,1964.
Коломиец A. C..
.Манга*. Сборник рисунков Хокусая,
М., 1967.
Содержание
Предисловие
3
Ранние памятники
буддийской живописи
VII— первой половины
X века в Японии
и местные художественные
представления
5
Становление и развитие
местных художественных
традиций в японской
буддийской живописи
второй половины X
XII века
29
Японская светская
живопись ямато-э
XI XIV веков
43
Японская живопись
XV XVII веков. Живопись
„китайского стиля11 и
Сэссю.
Декоративная живопись
94
Японская гравюра на дереве
второй половины XVII-
первой половины XIX века
109
Иллюстрации
129
Список иллюстраций
281
Библиография
284
Бродский
Владимир
Евсеевич
Японское
классическое
искусство
Редактор
Ю. Маркин
Художники
М. Аникст,
С. Бархин
Художественный
редактор
М. Жуков
Технический
редактор
Т. Любина
Корректор
Л. Трофименко
А 06427.
Сдано в набор 24,VI 1968 г.
Подп. к печати 28 II 1969 г.
Бумага 84 X 108*/w. Бумага типо-
графская № 1 и мелованная.
Усл.-печ.л. 30,87. Уч.-изд. л. 24,55.
Тираж 20000 экз. Изд. № 20354.
Издательство „Искусство1*,
Москва, К-51, Цветной бульвар,25.
Заказ № 281.
Ордена Трудового Красного Зна-
мени Ленинградская типография
№ 3 имени Ивана Федорова Г лав-
полиграфпрома Комитета по
печати при Совете Министров
СССР, Звенигородская. 11.
Цена 4 р. 06 к.