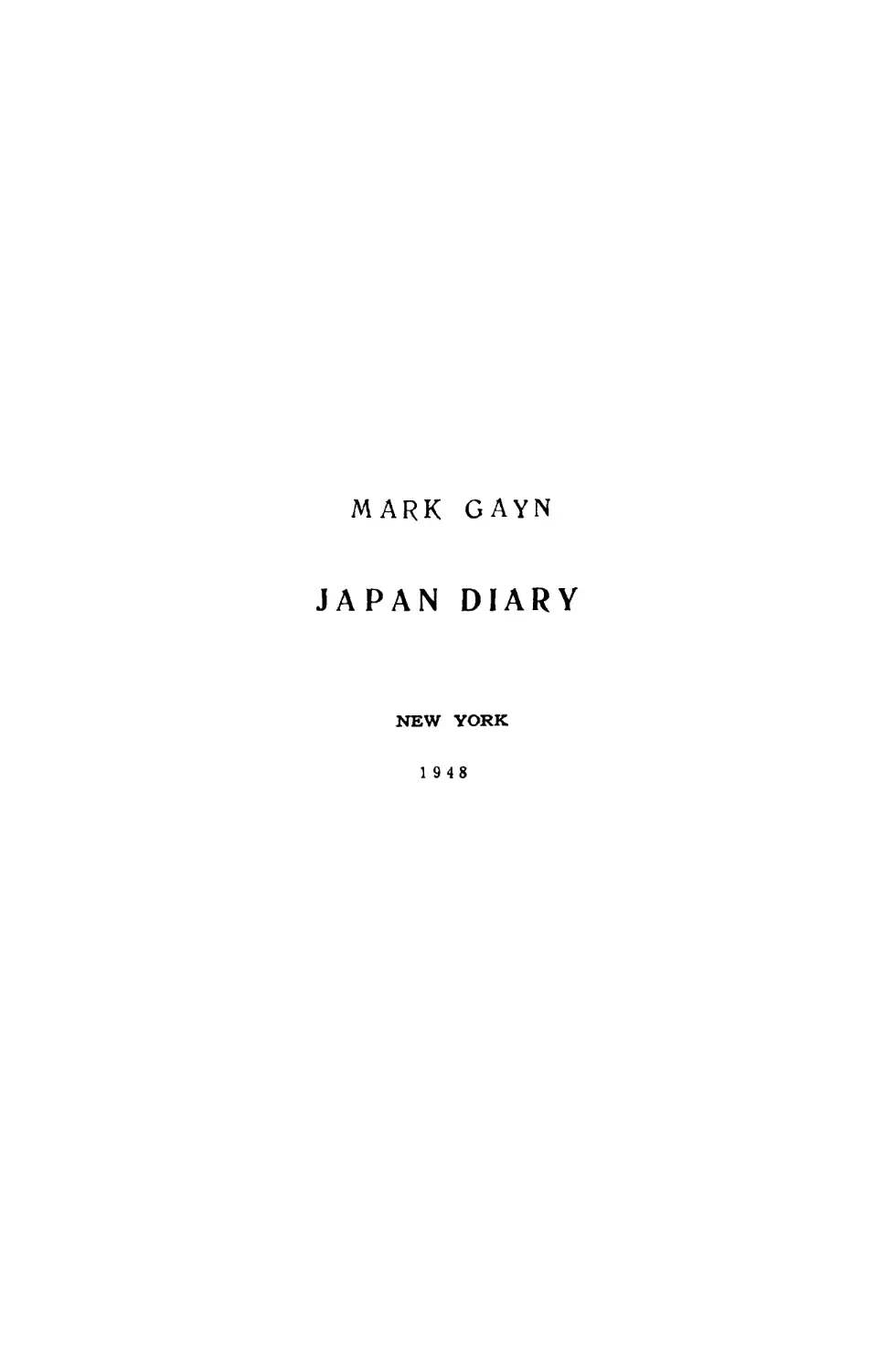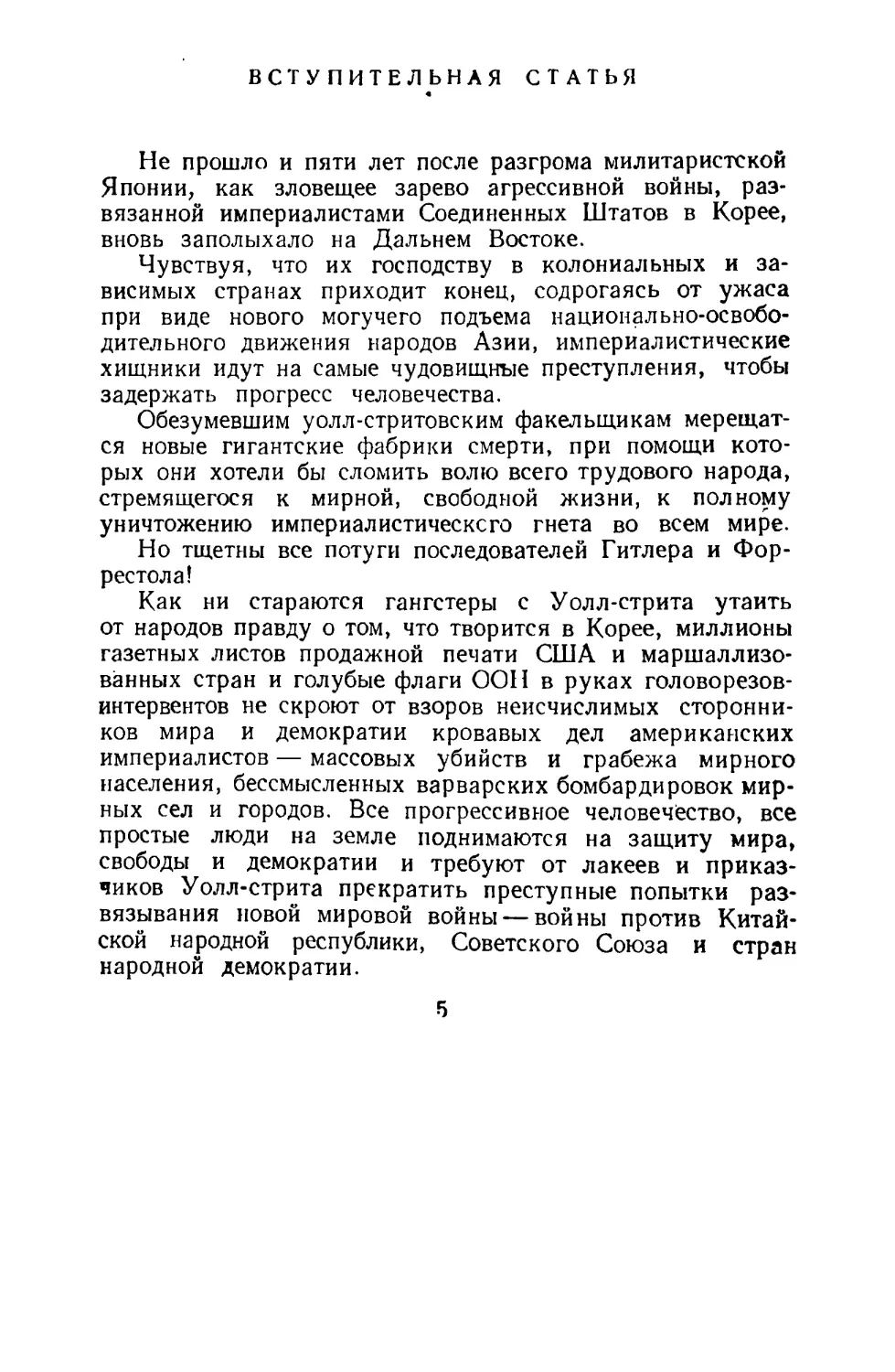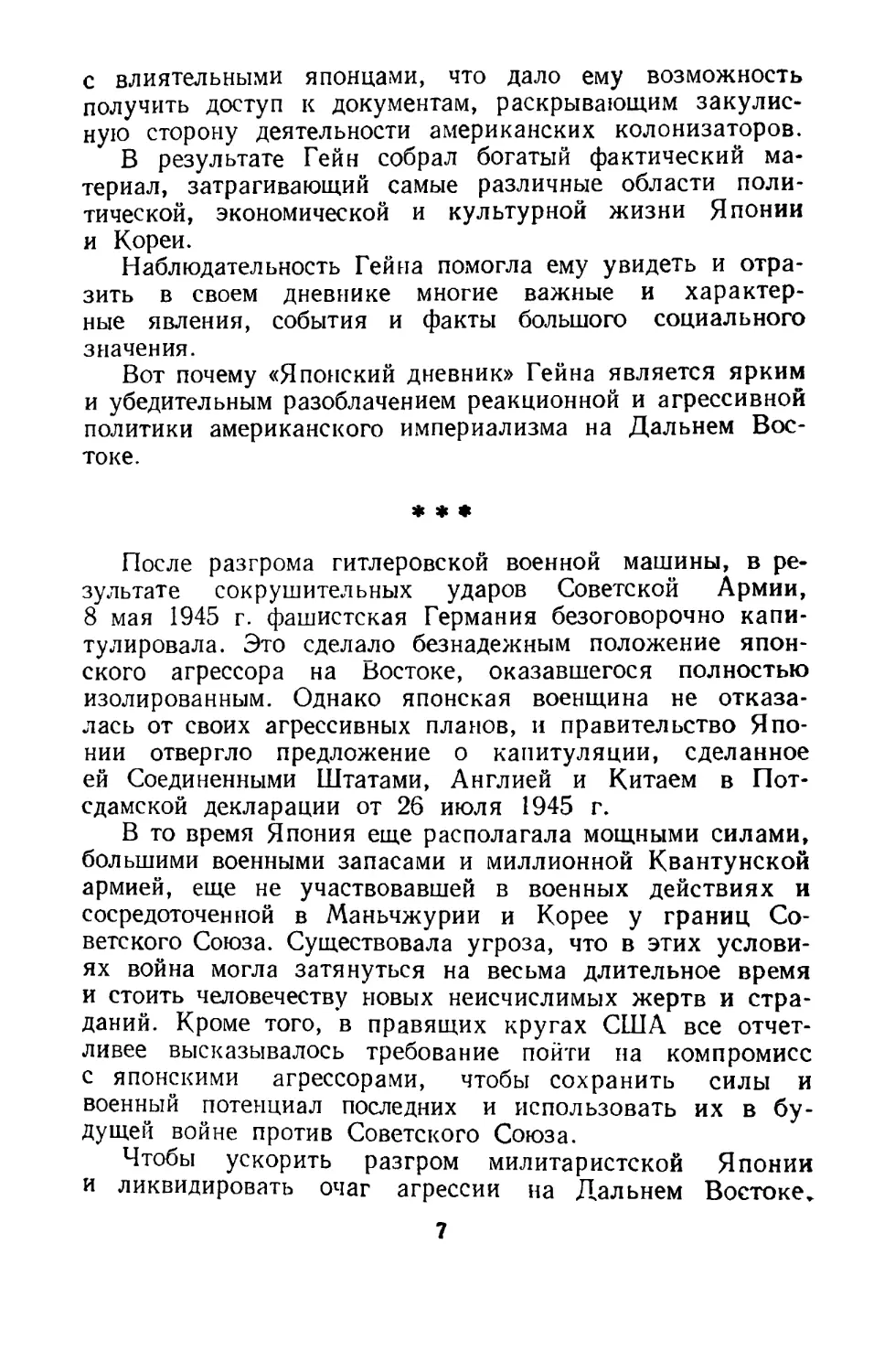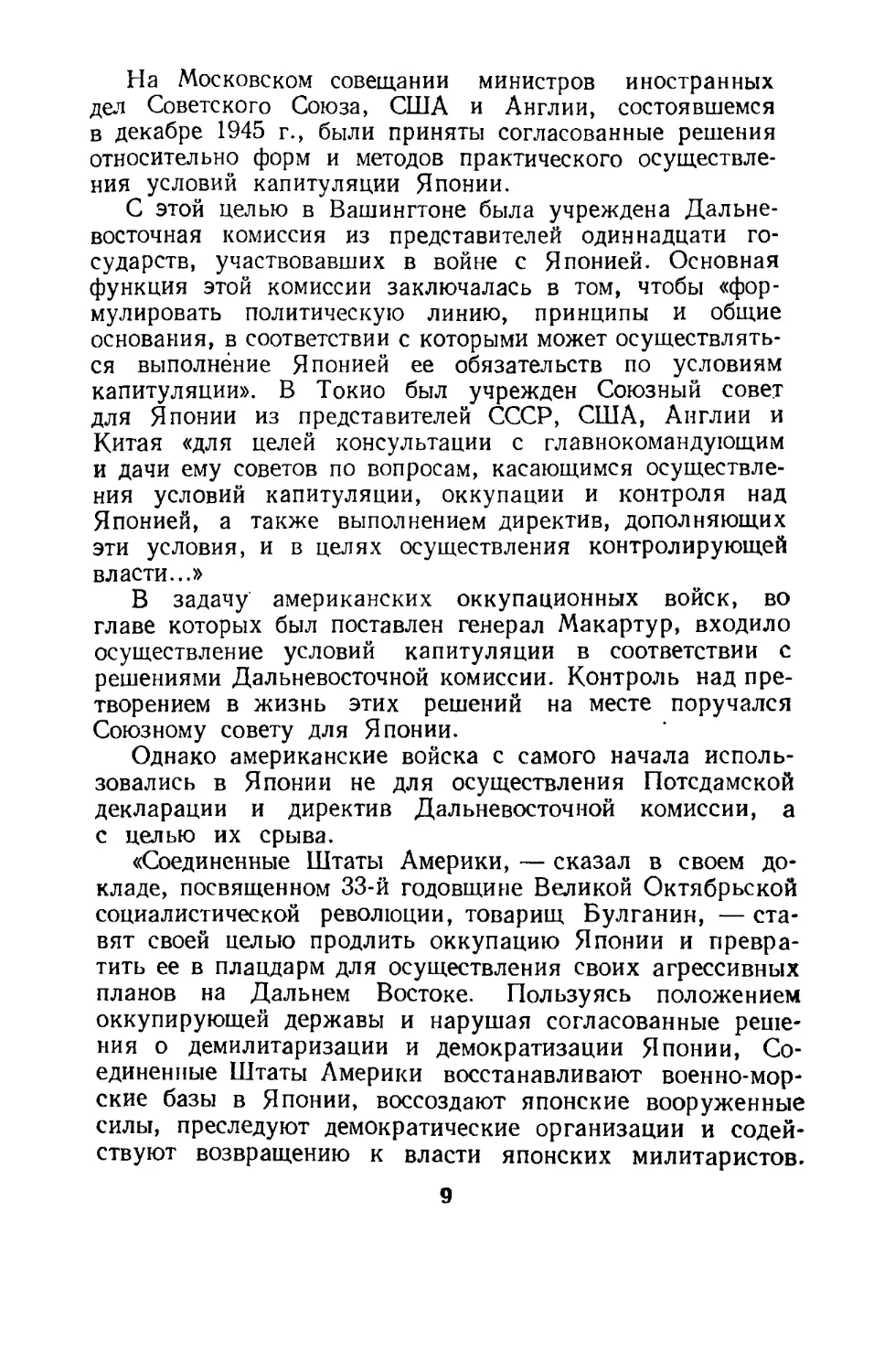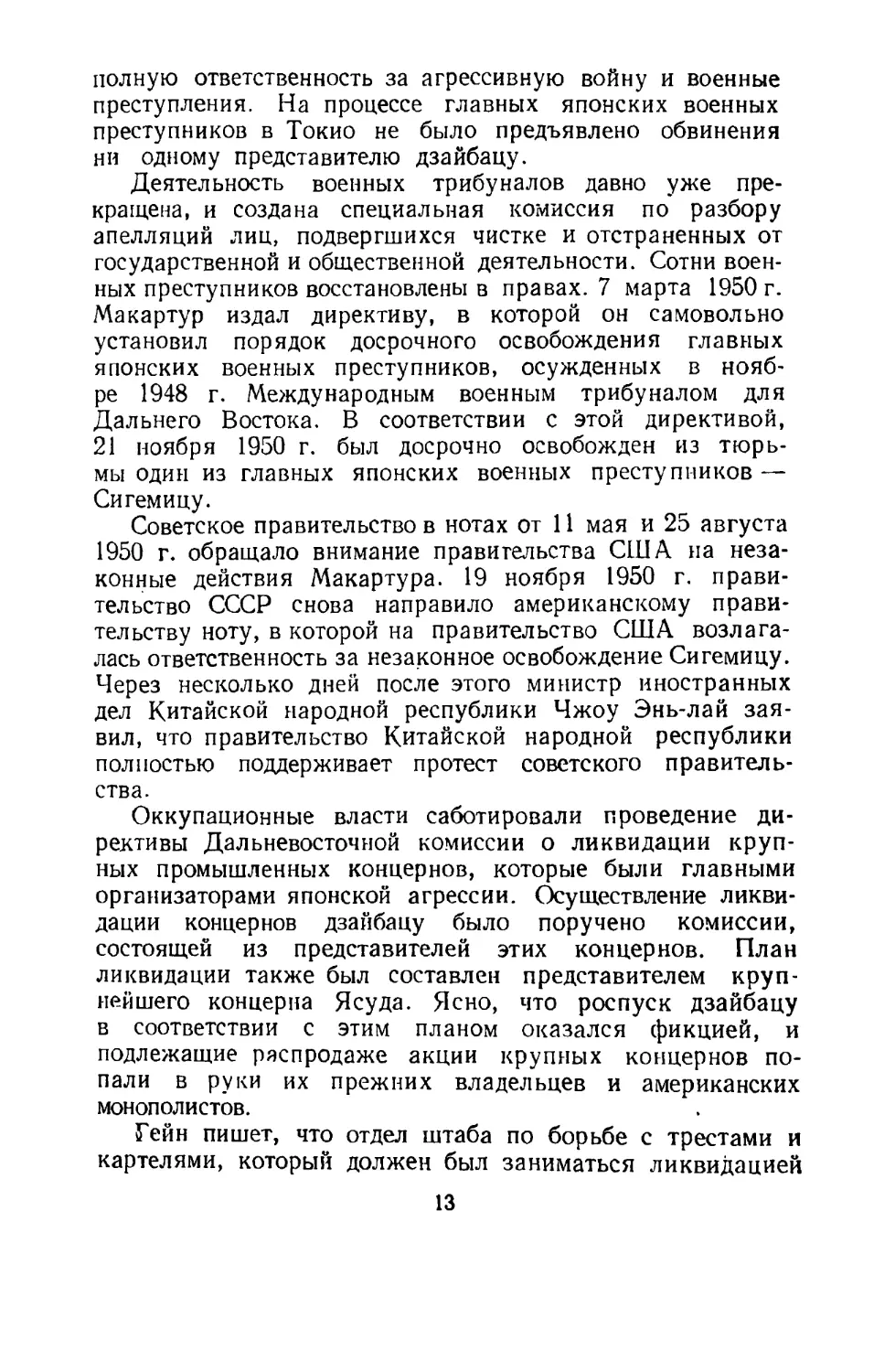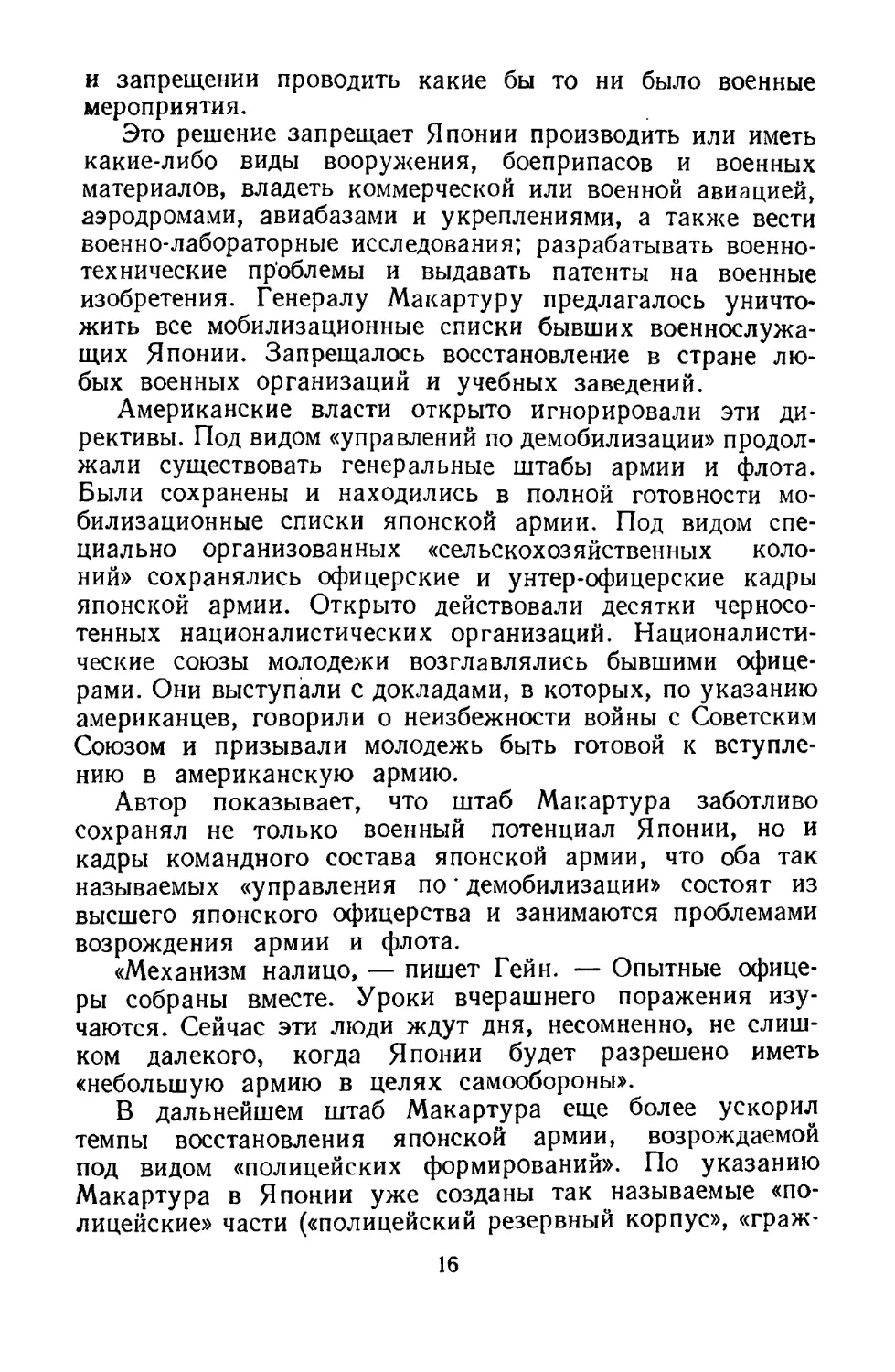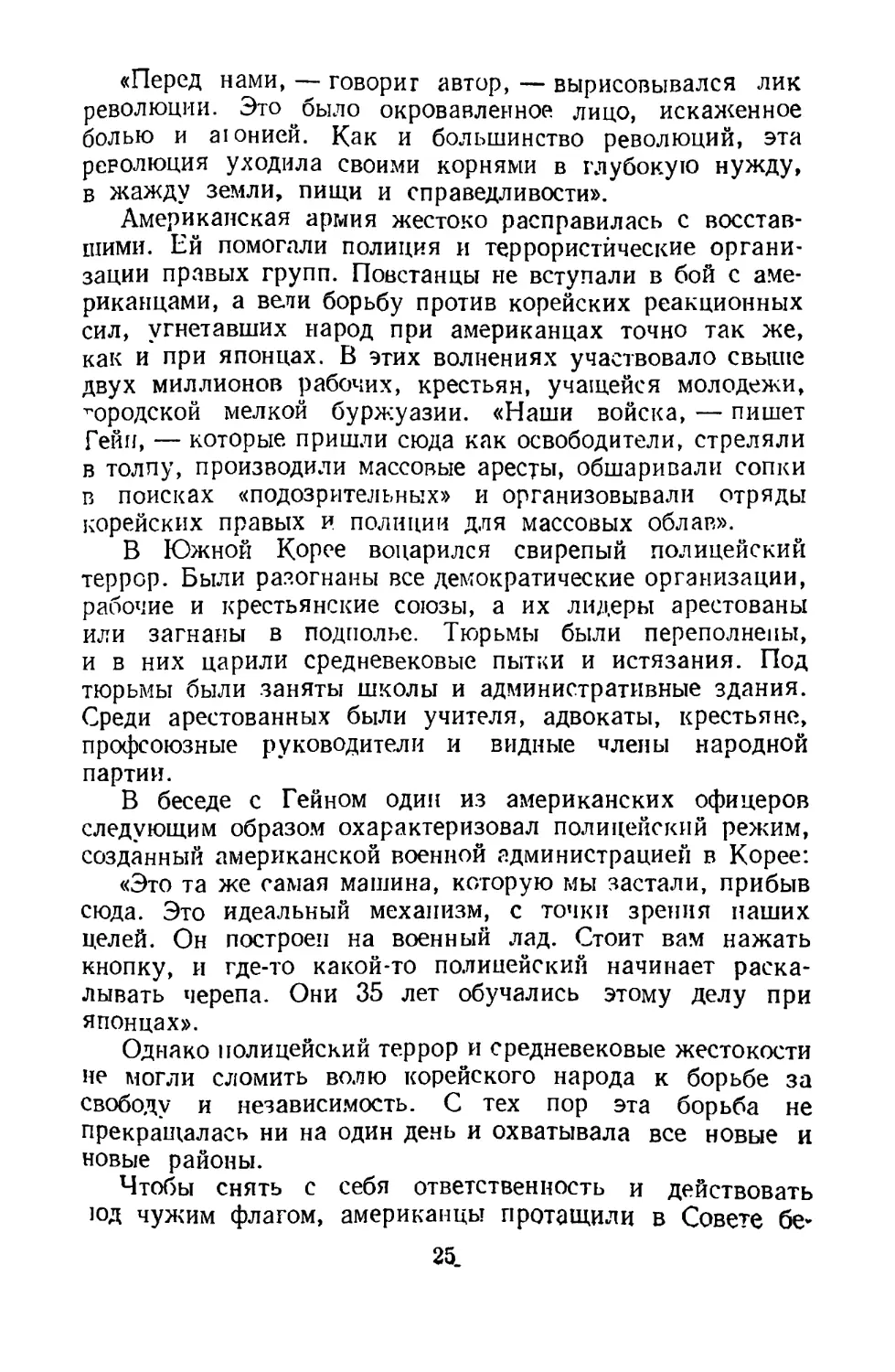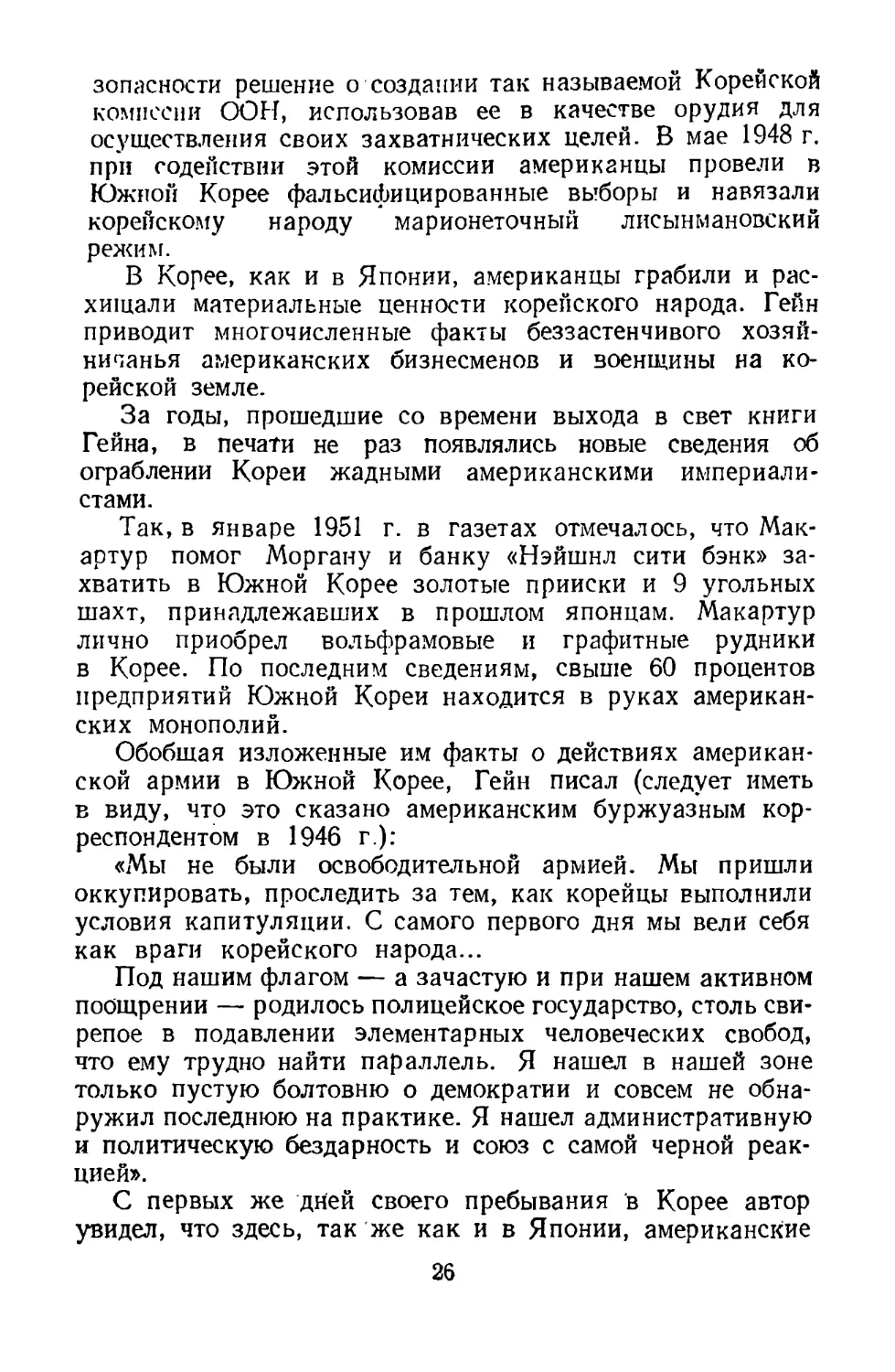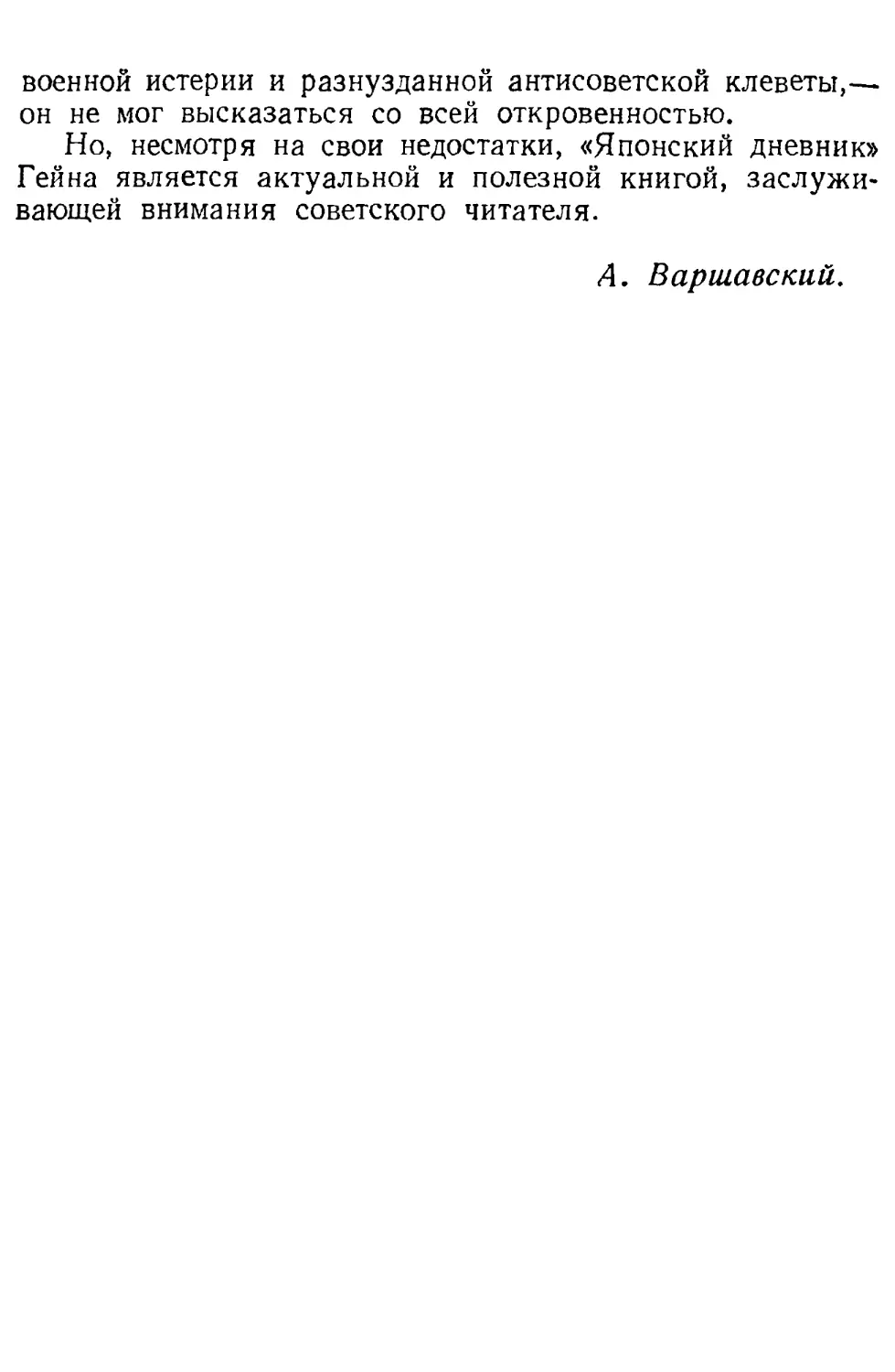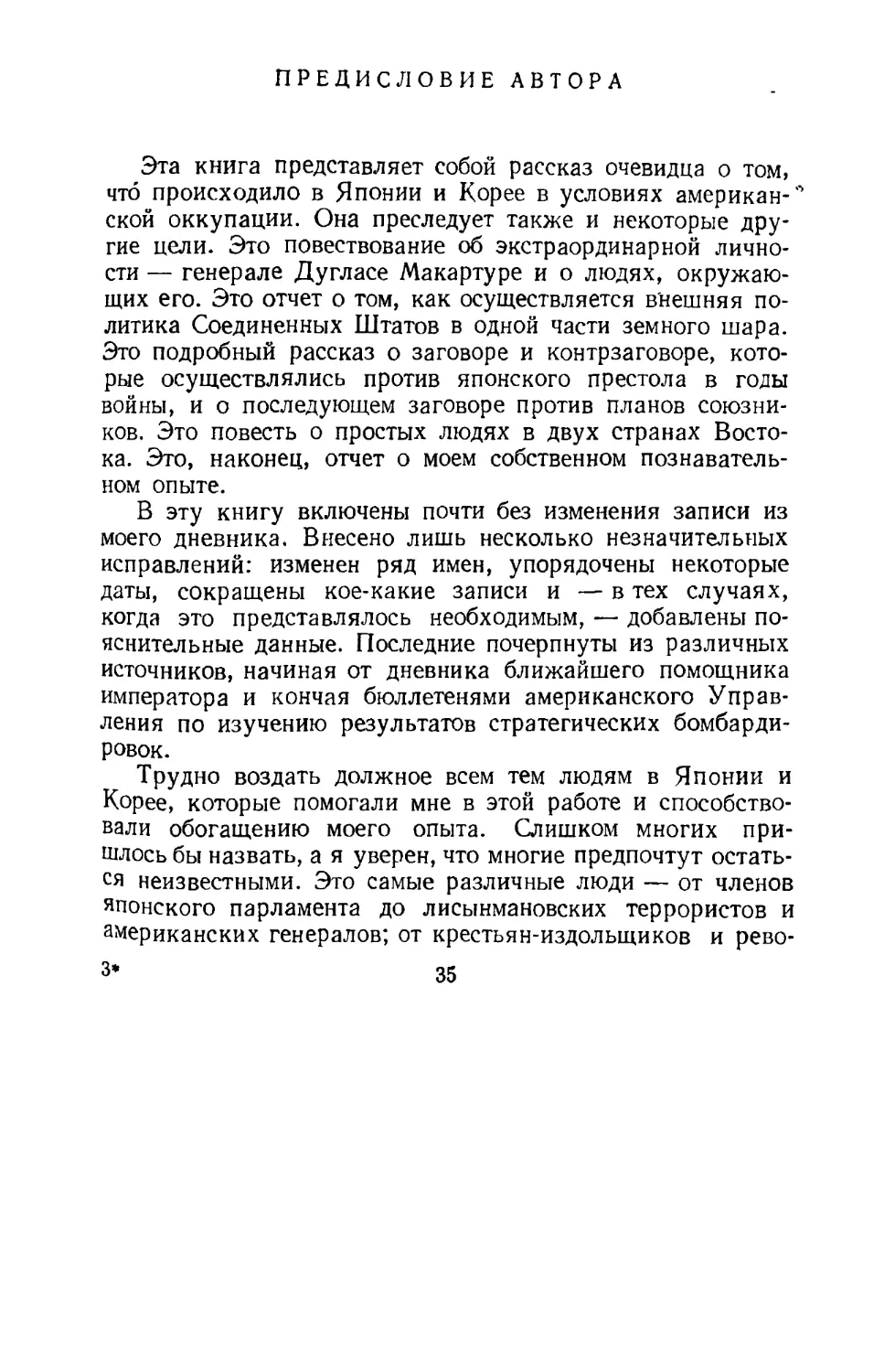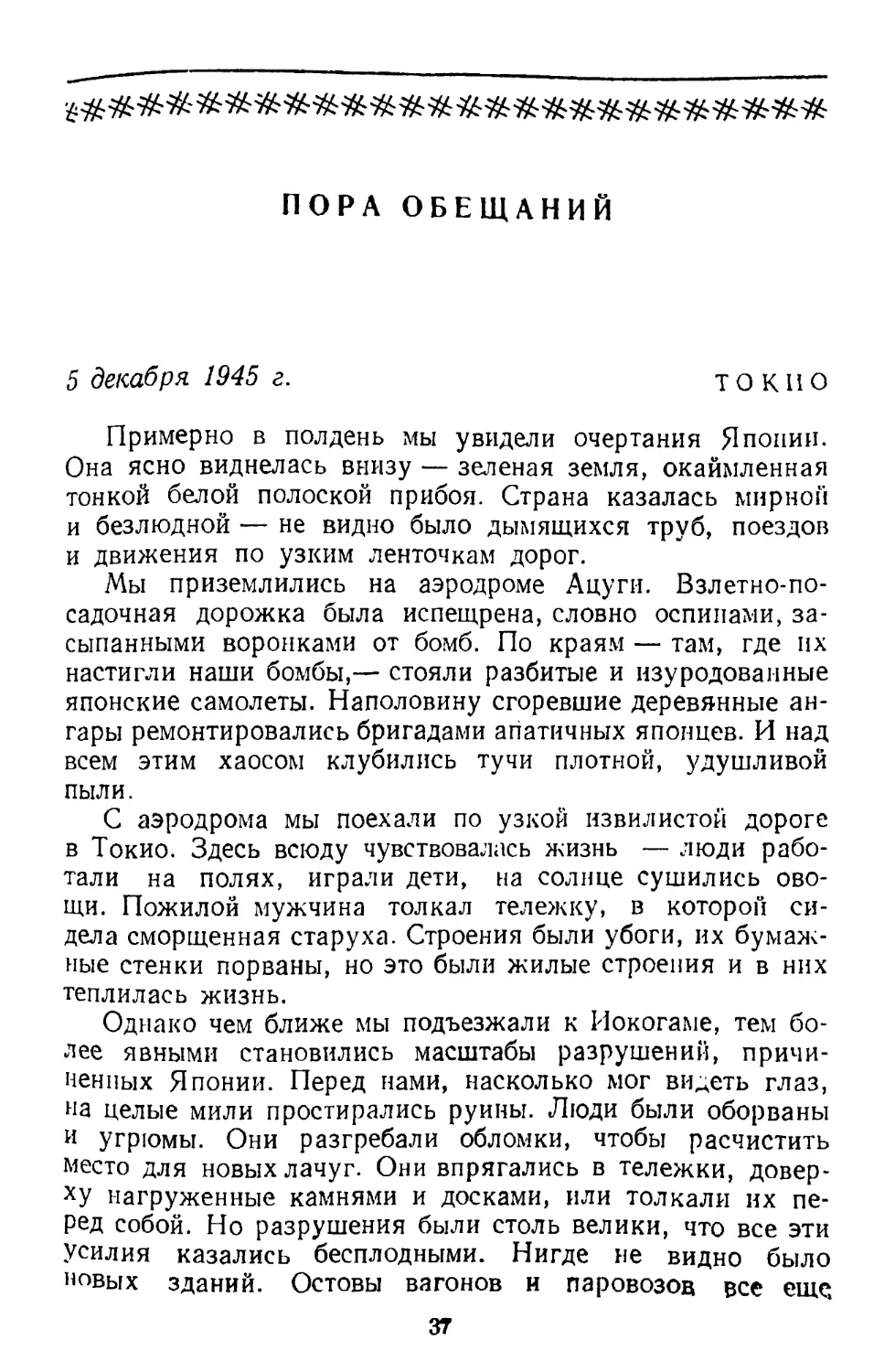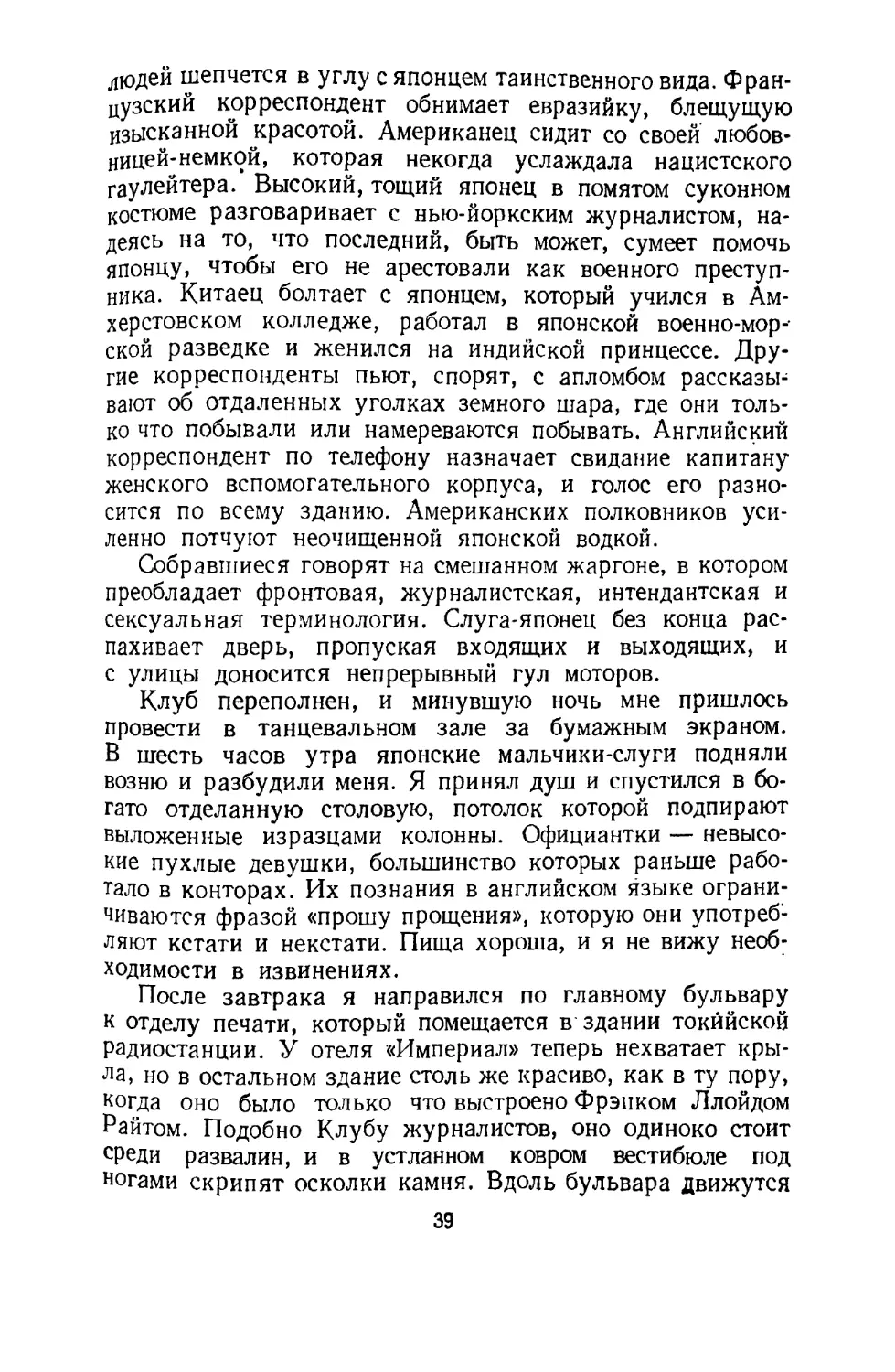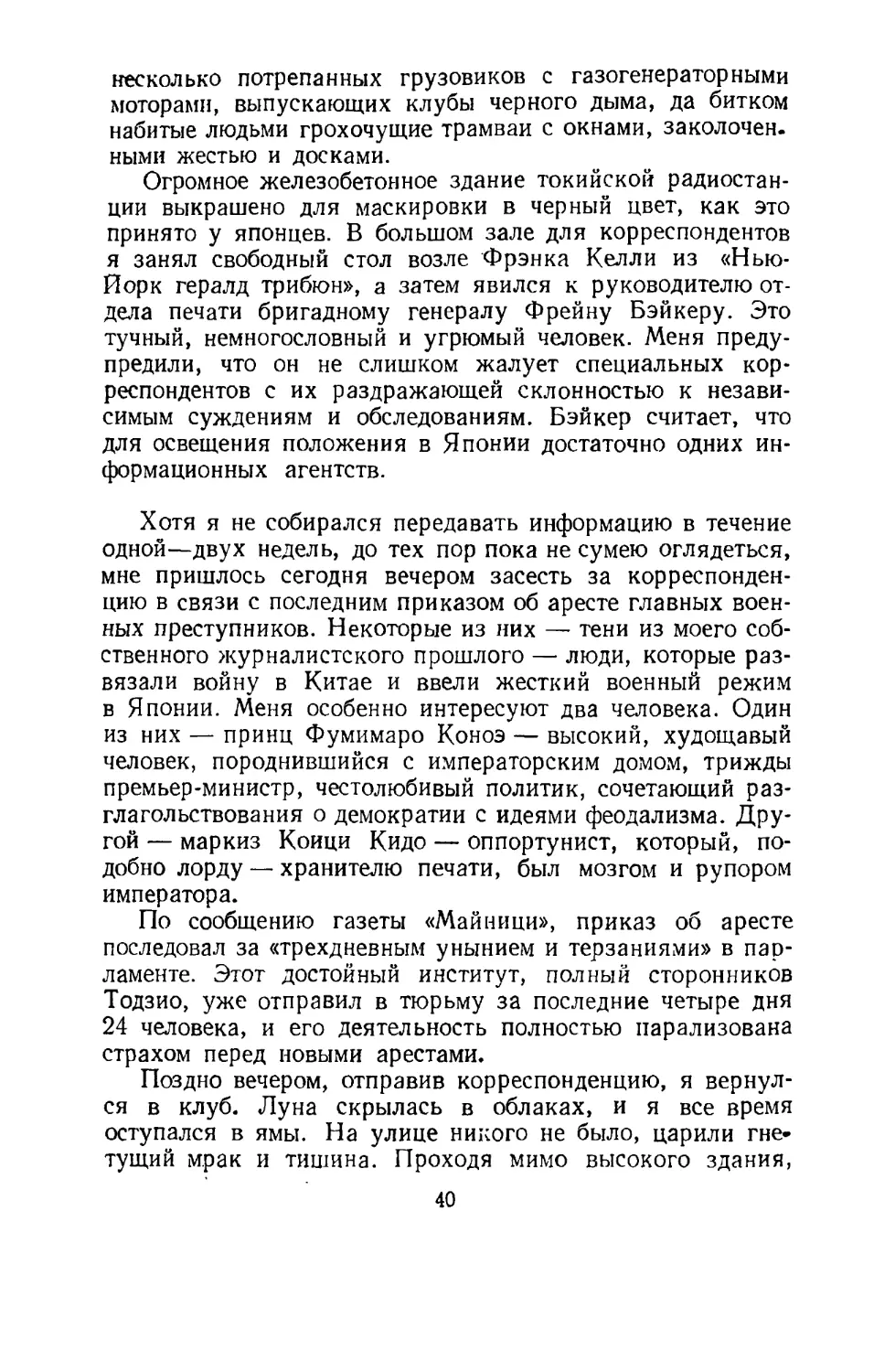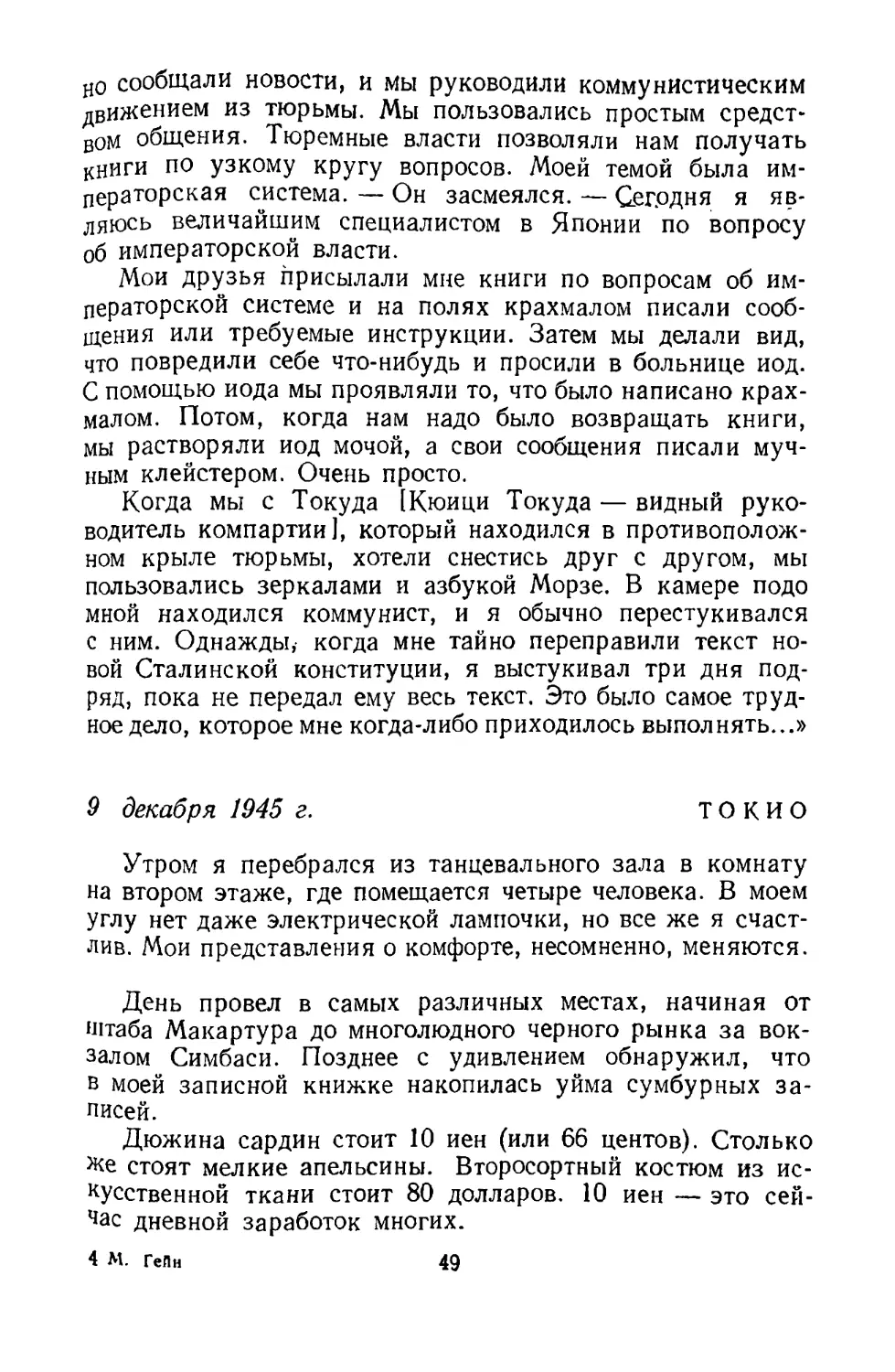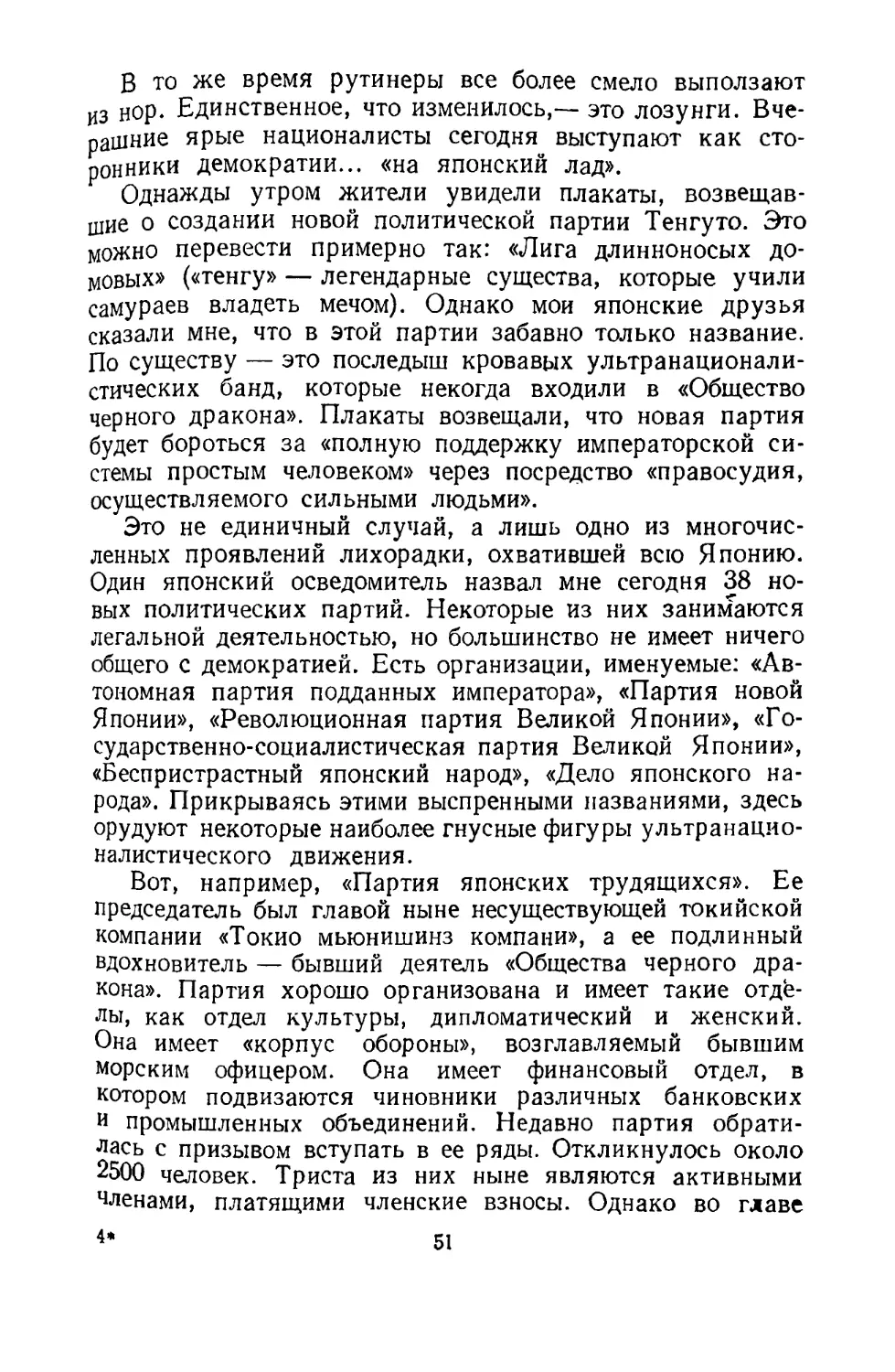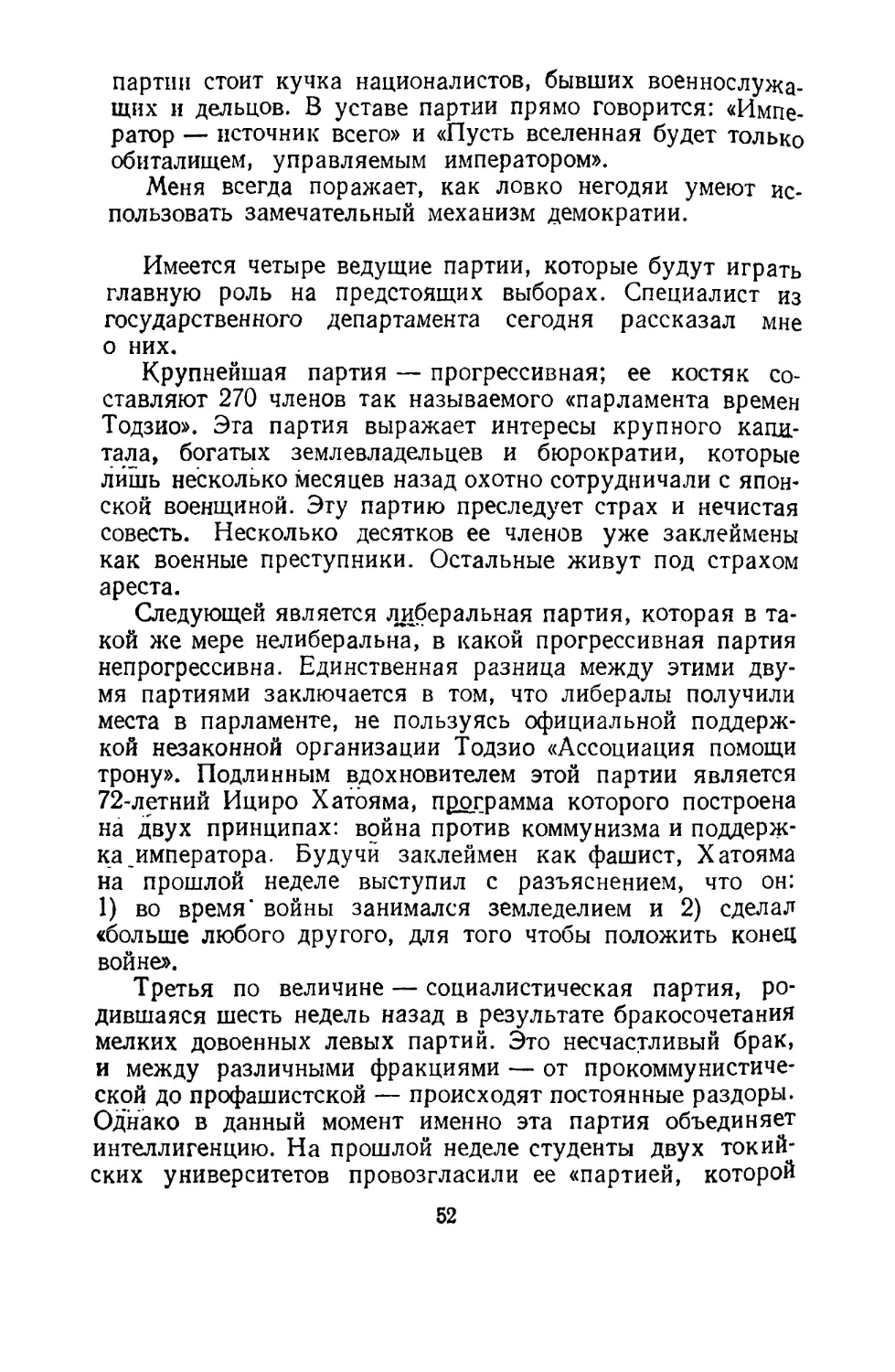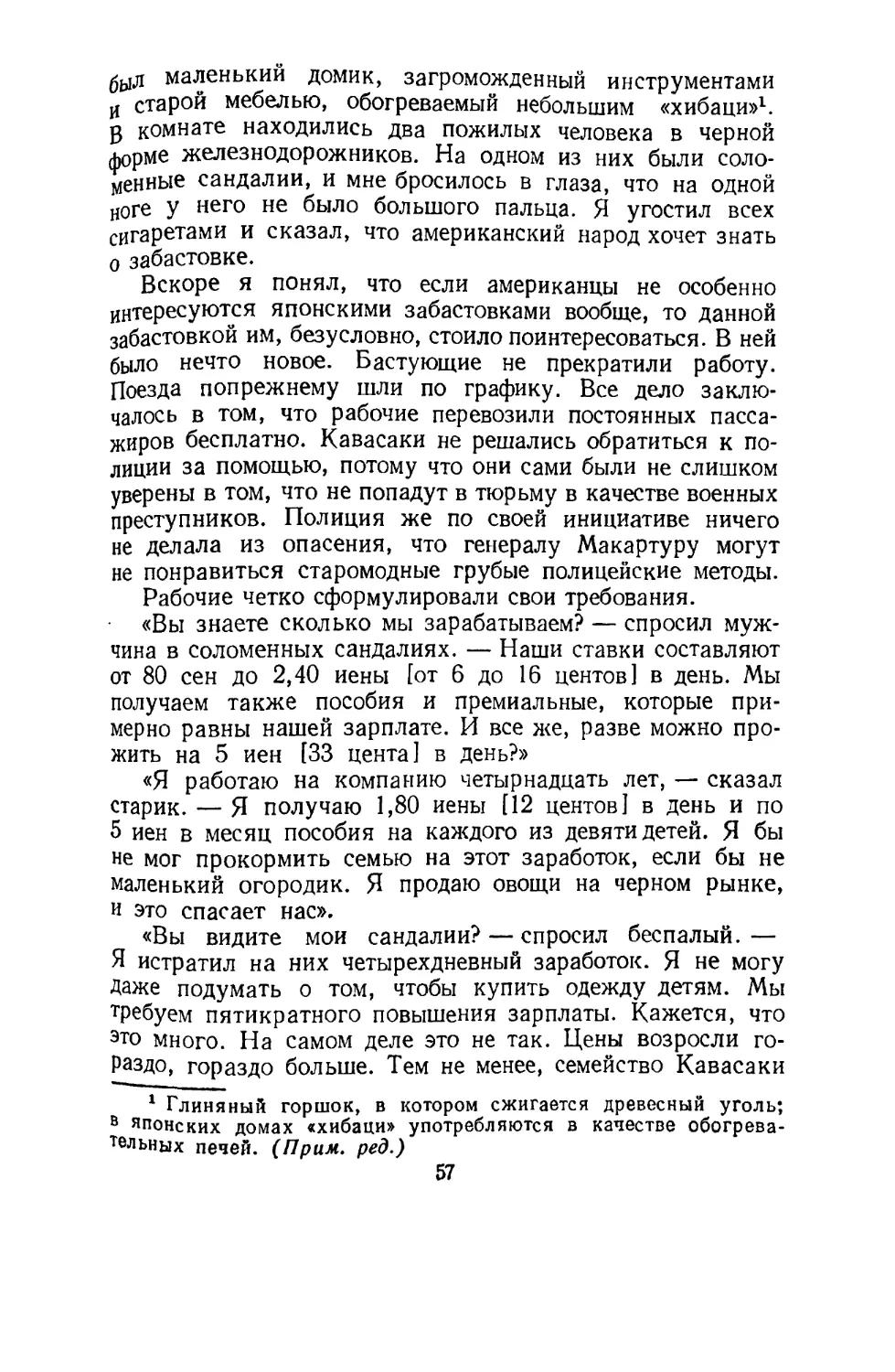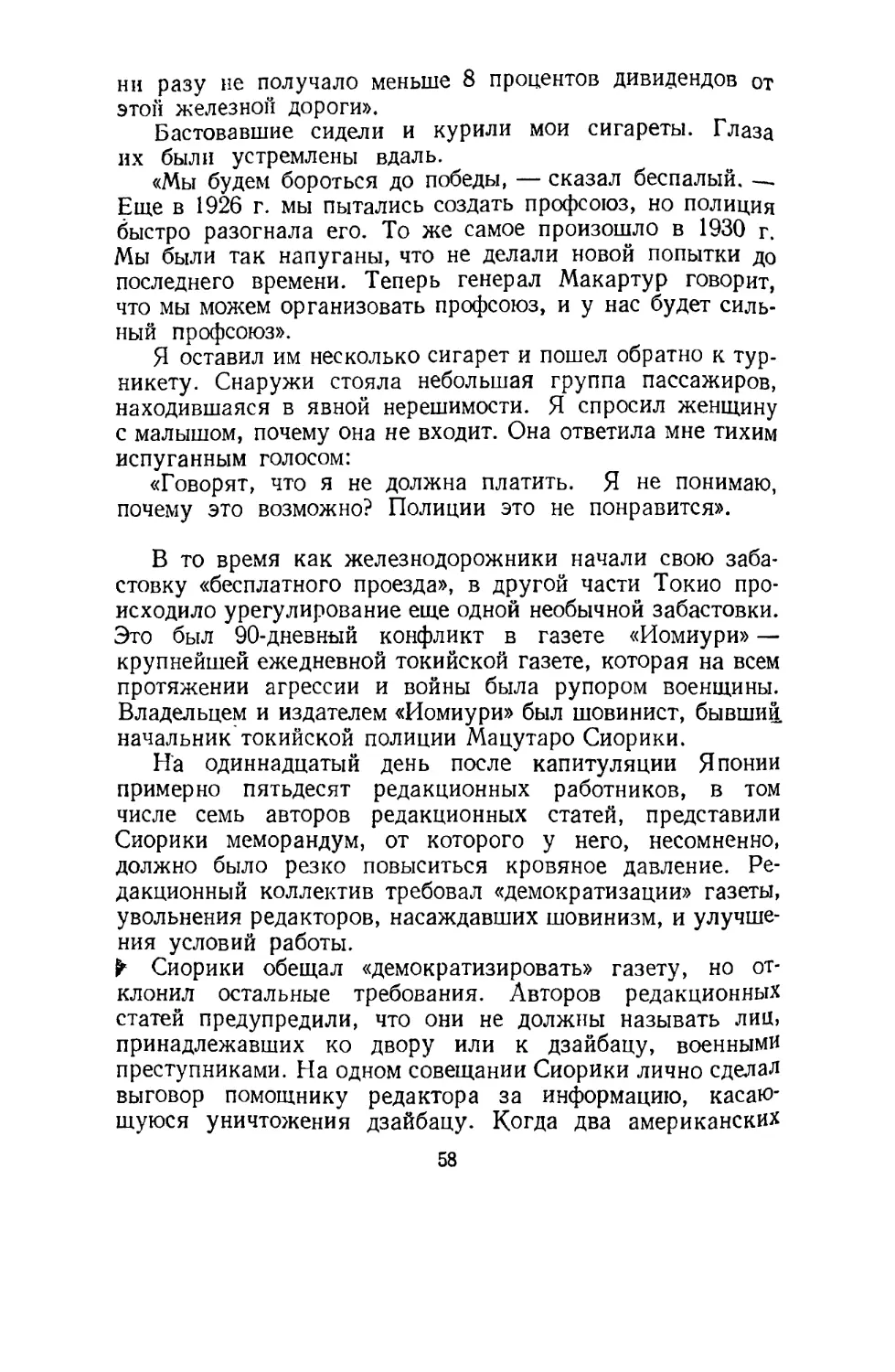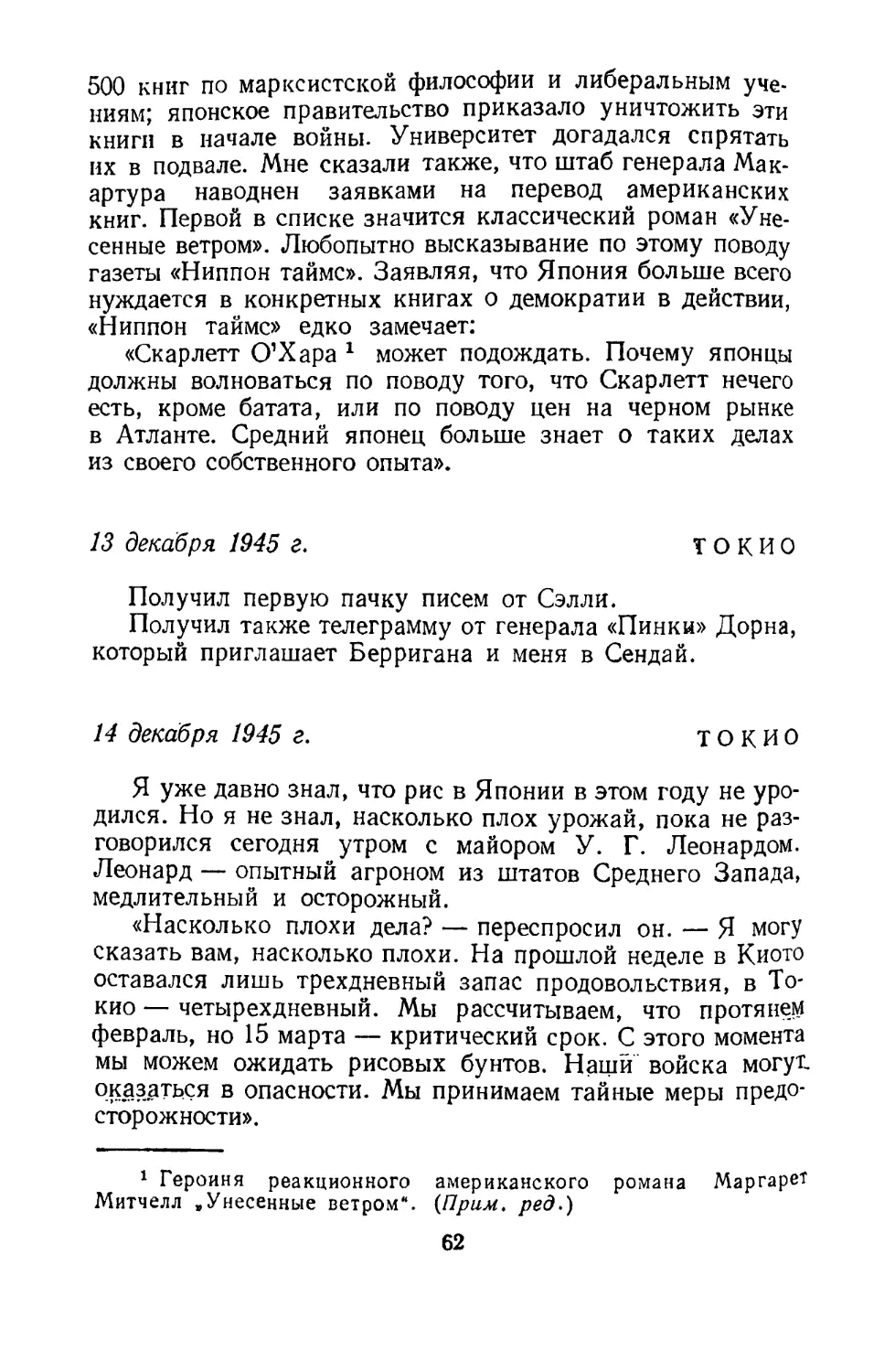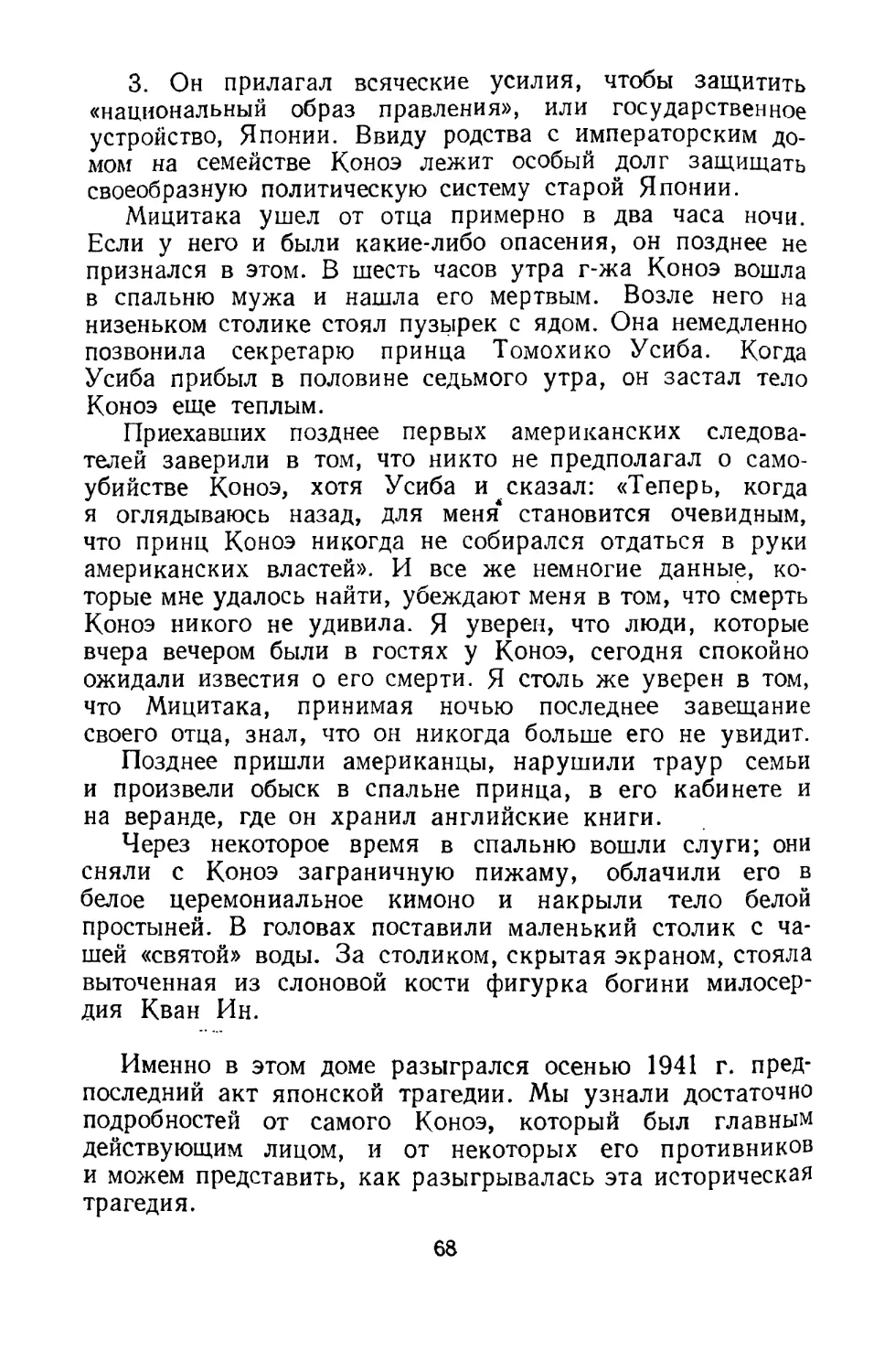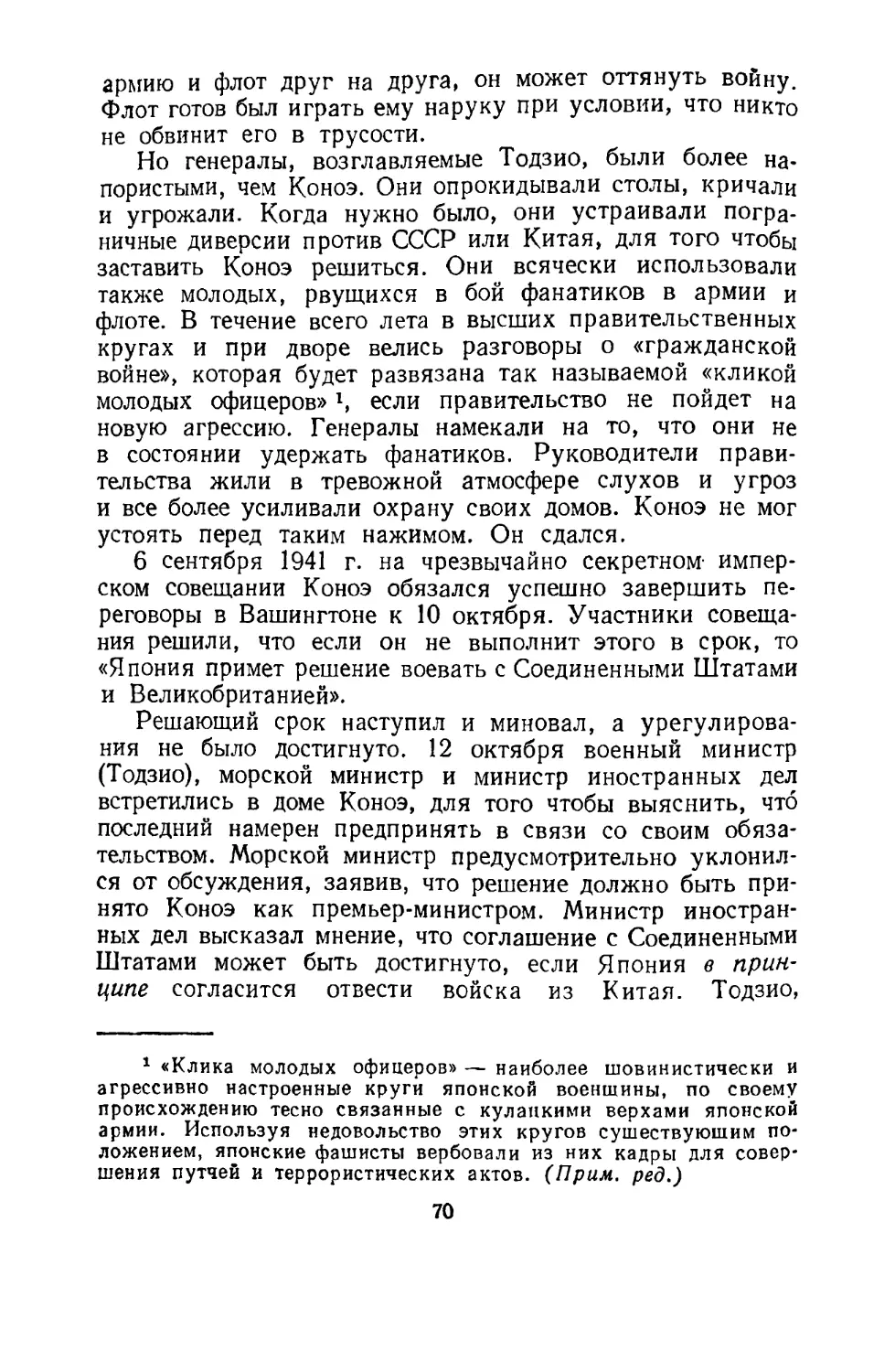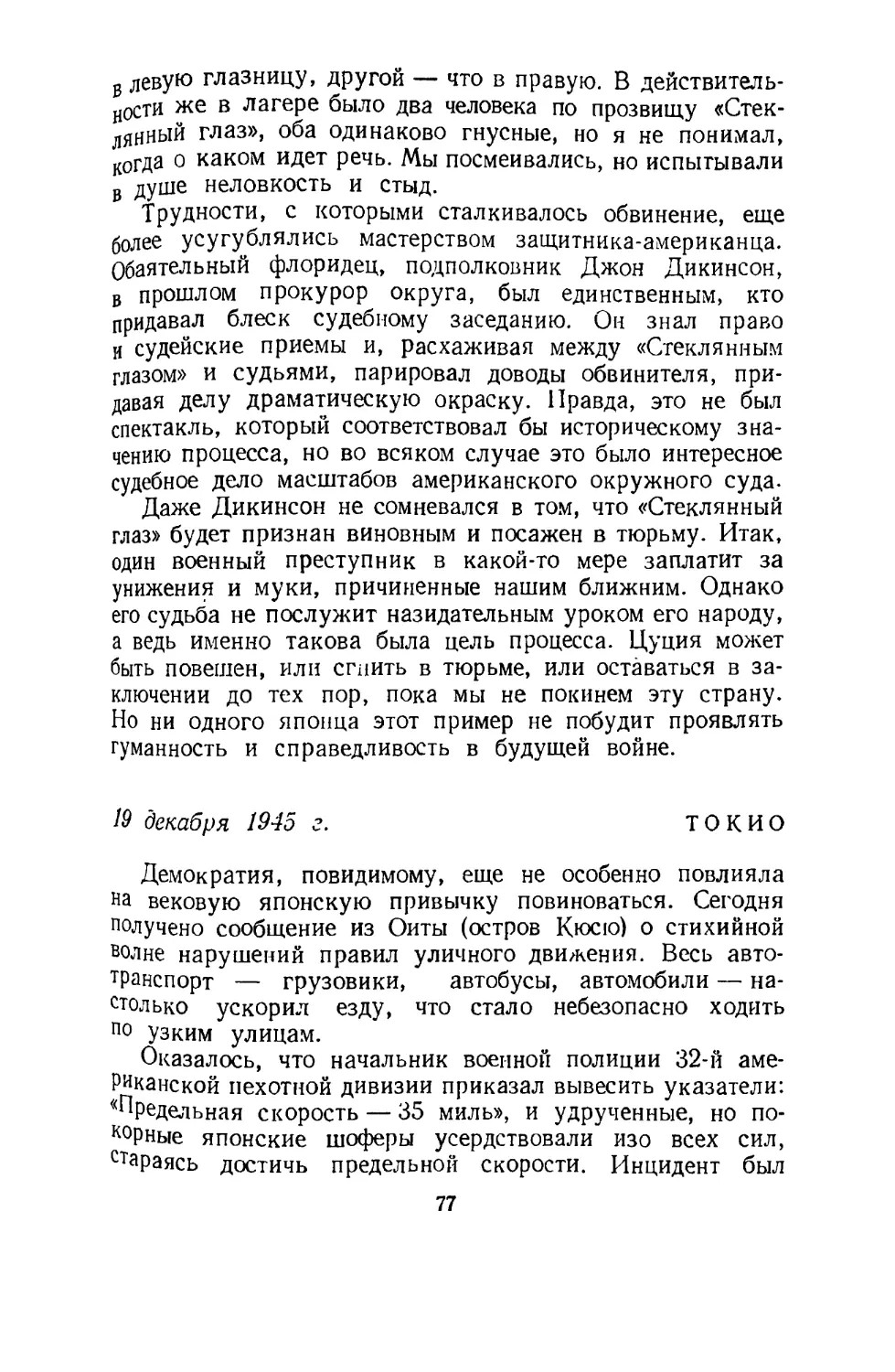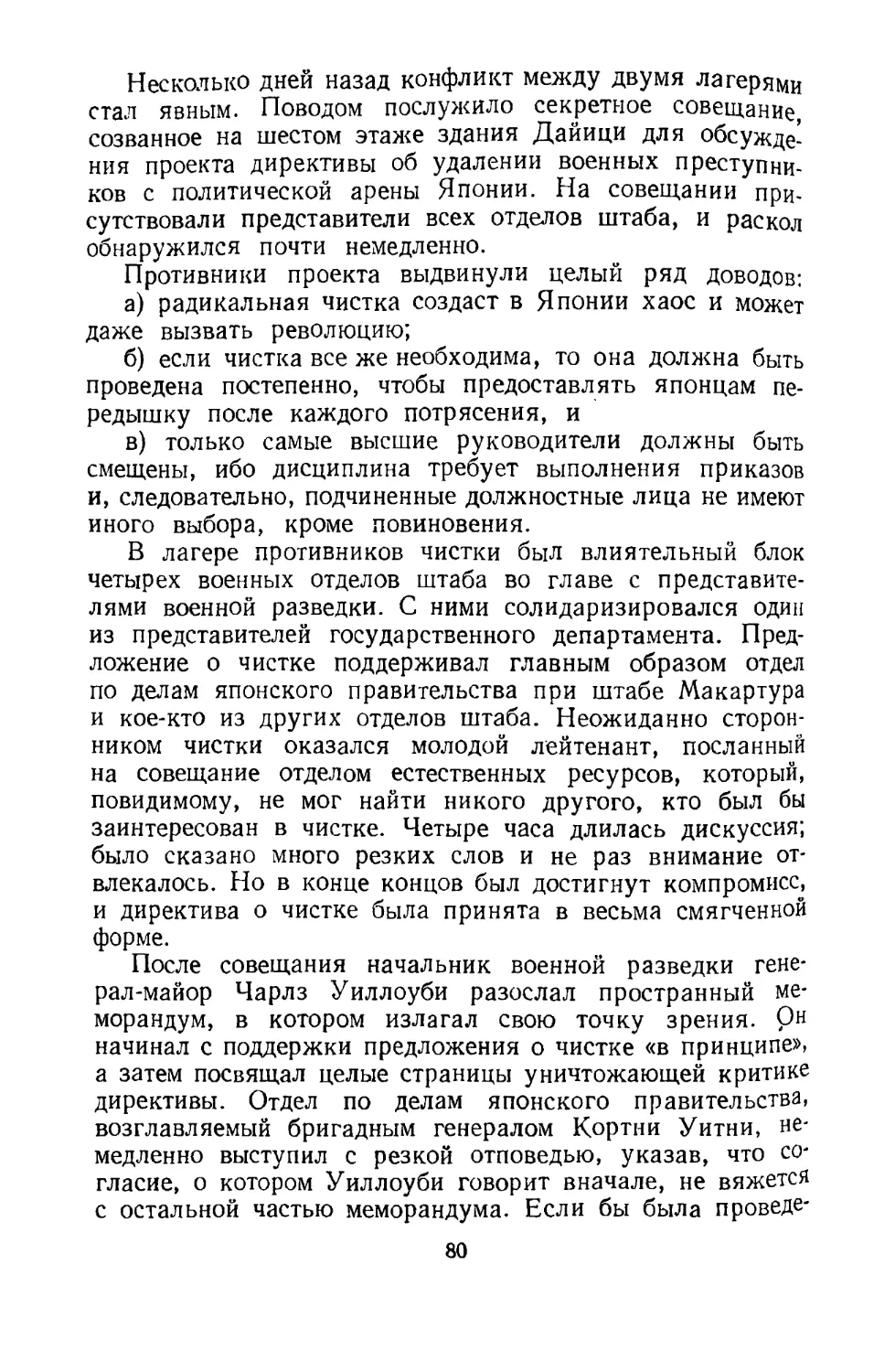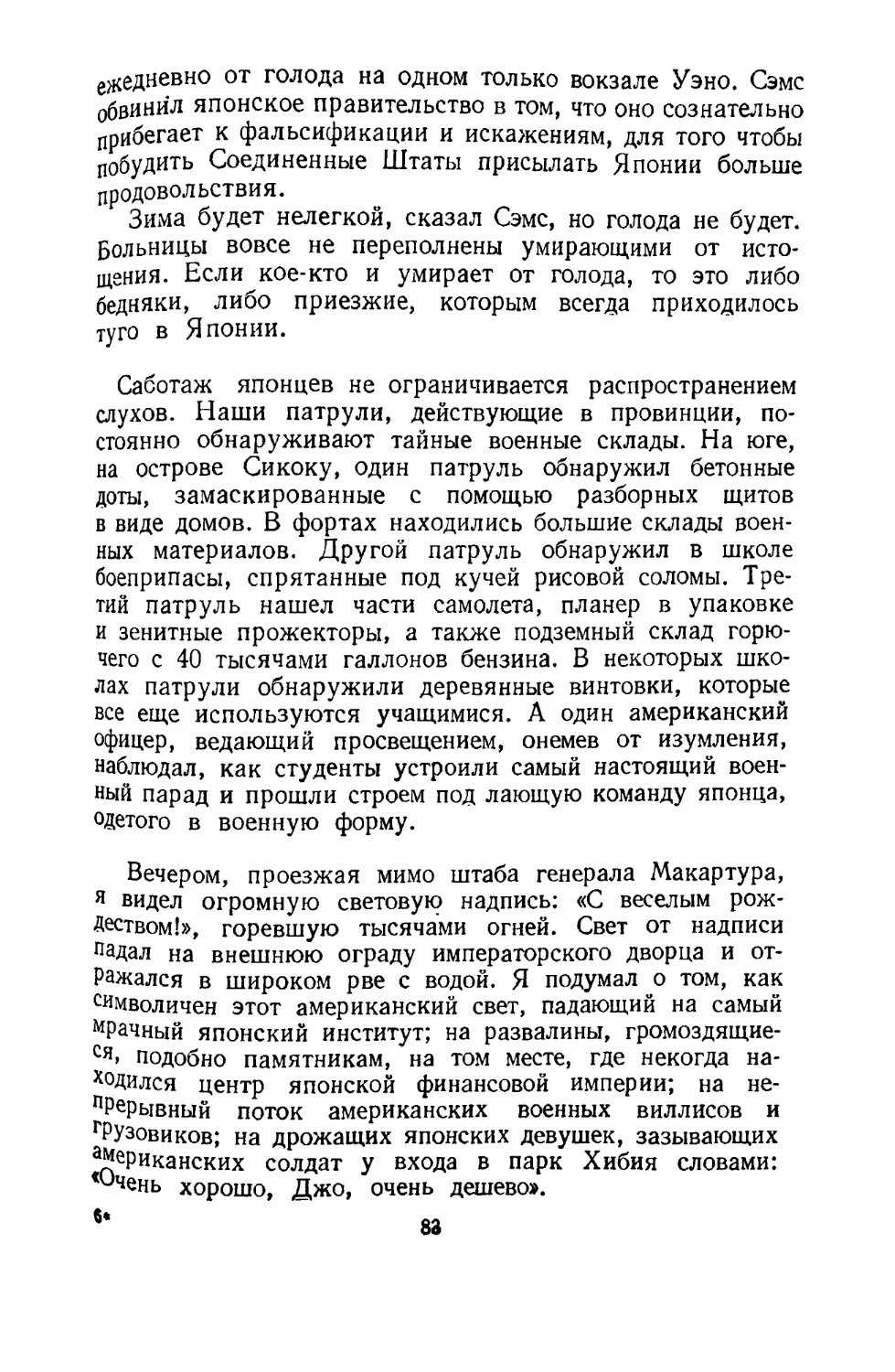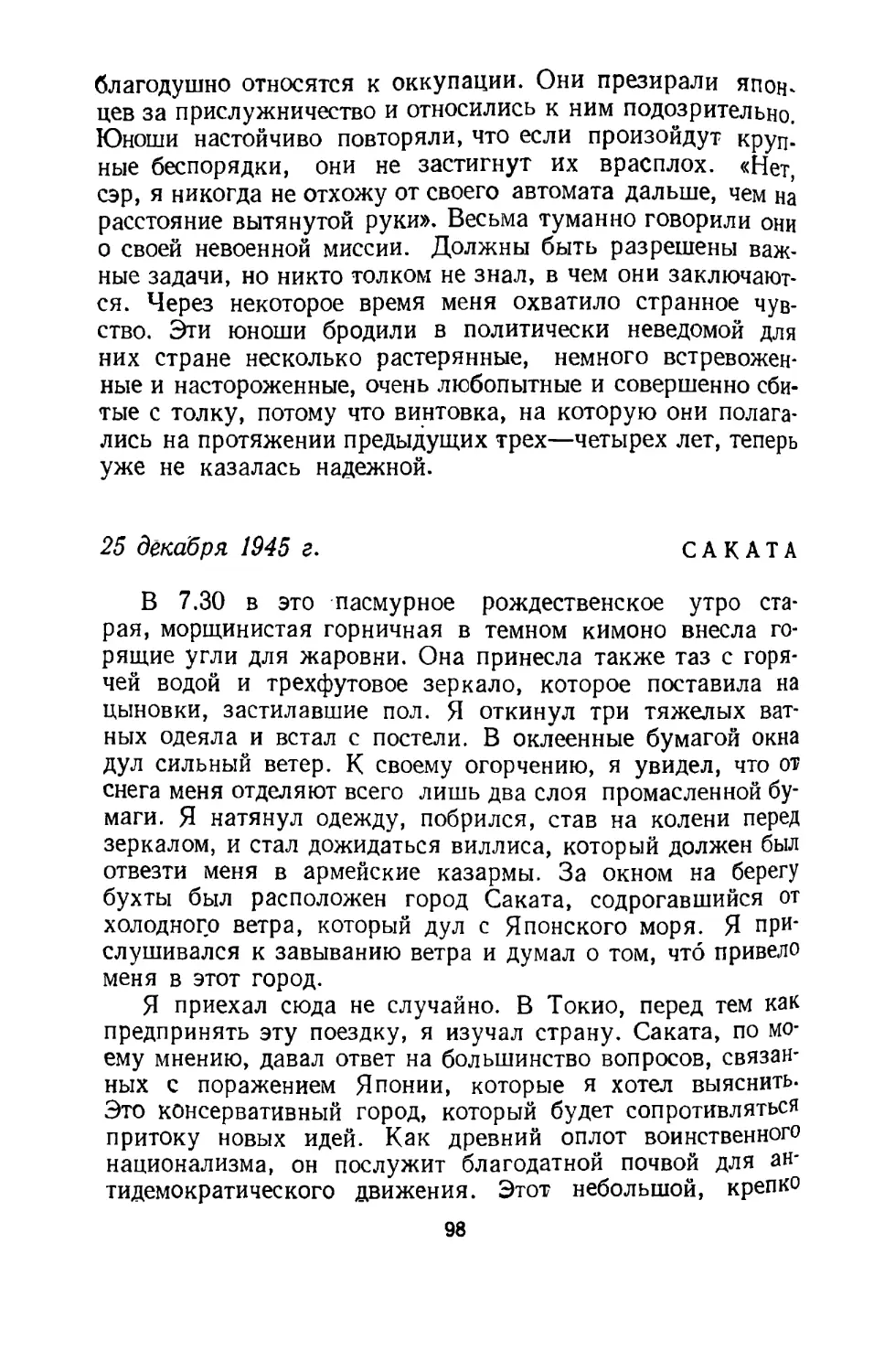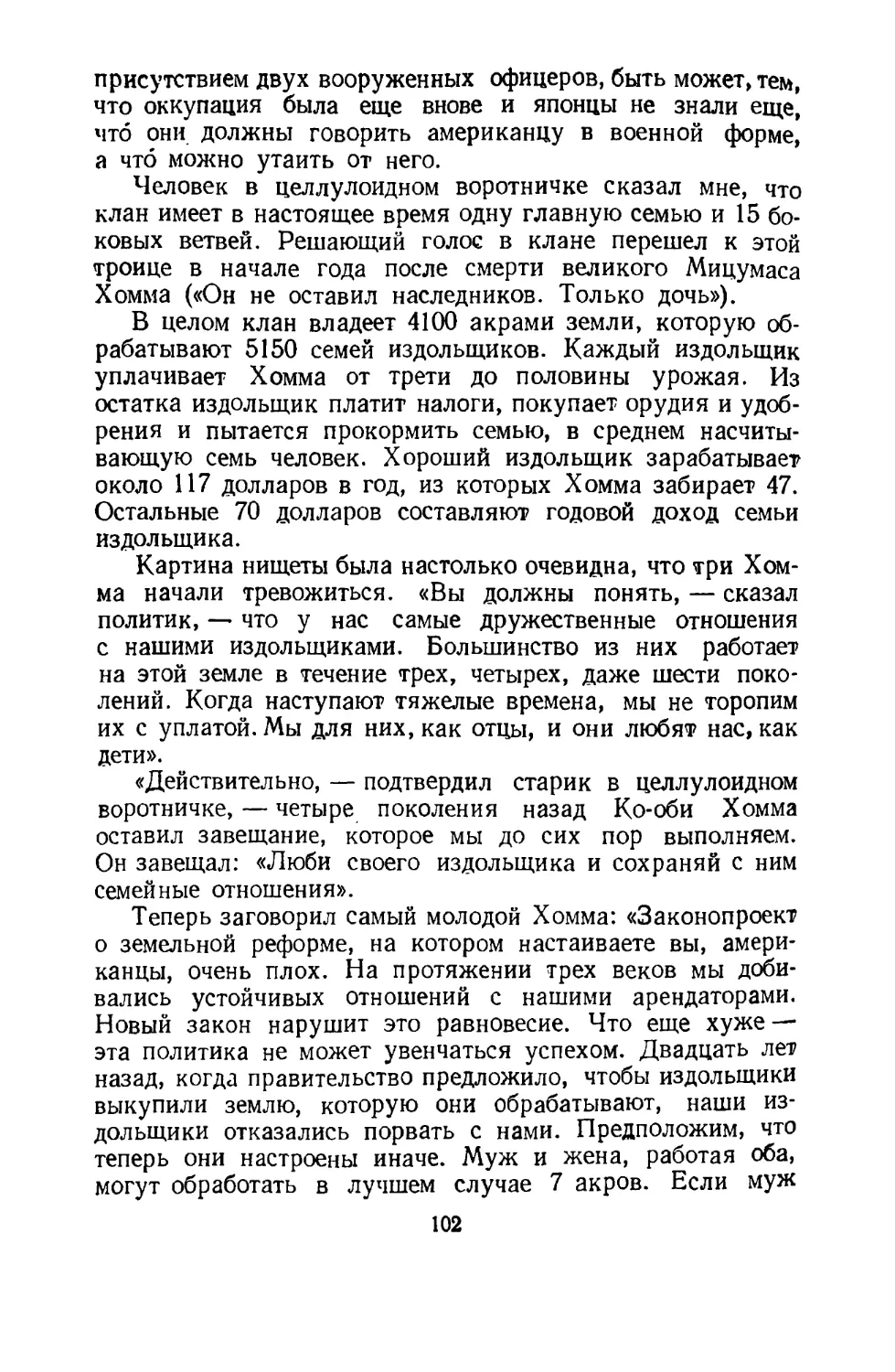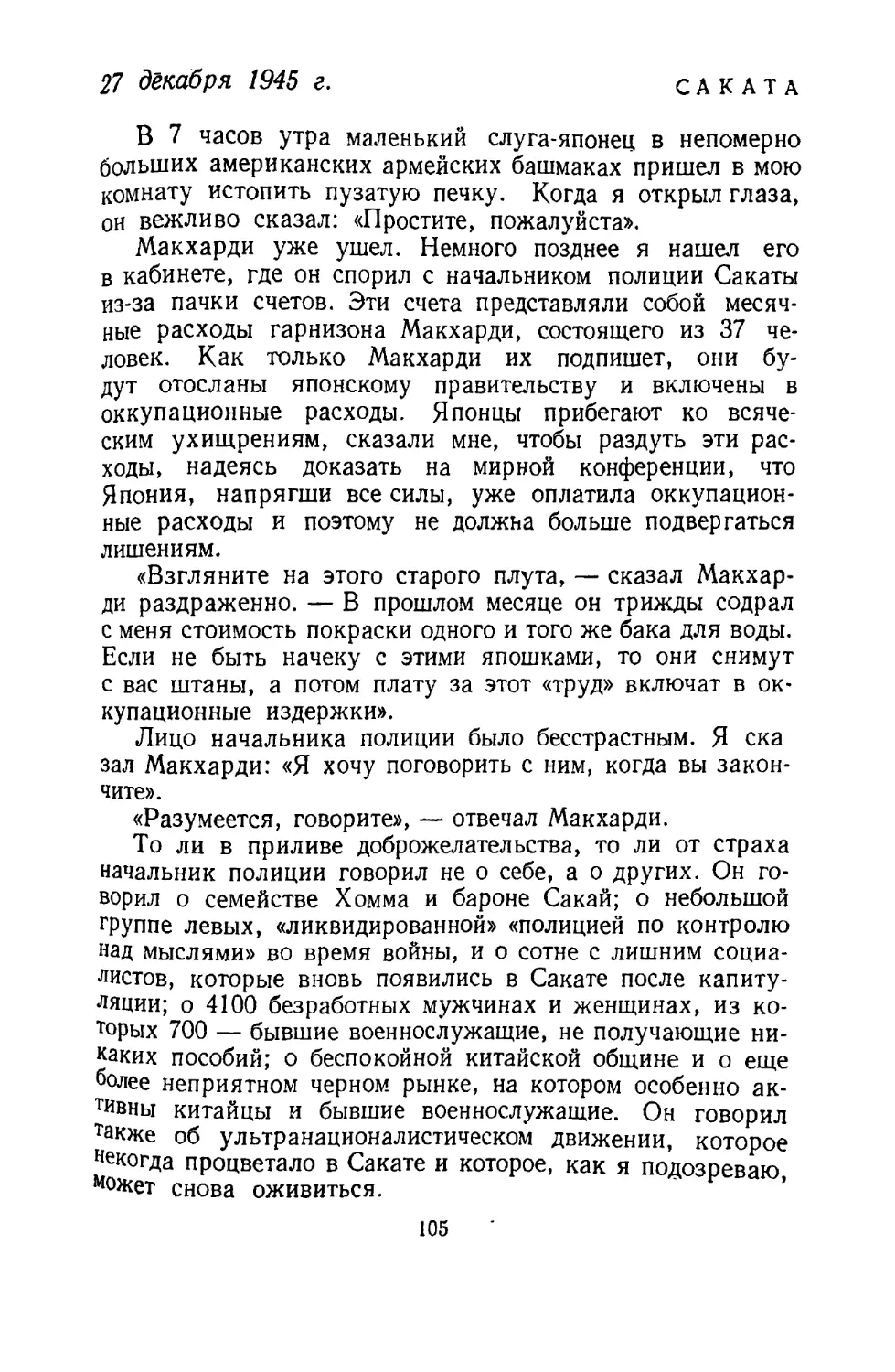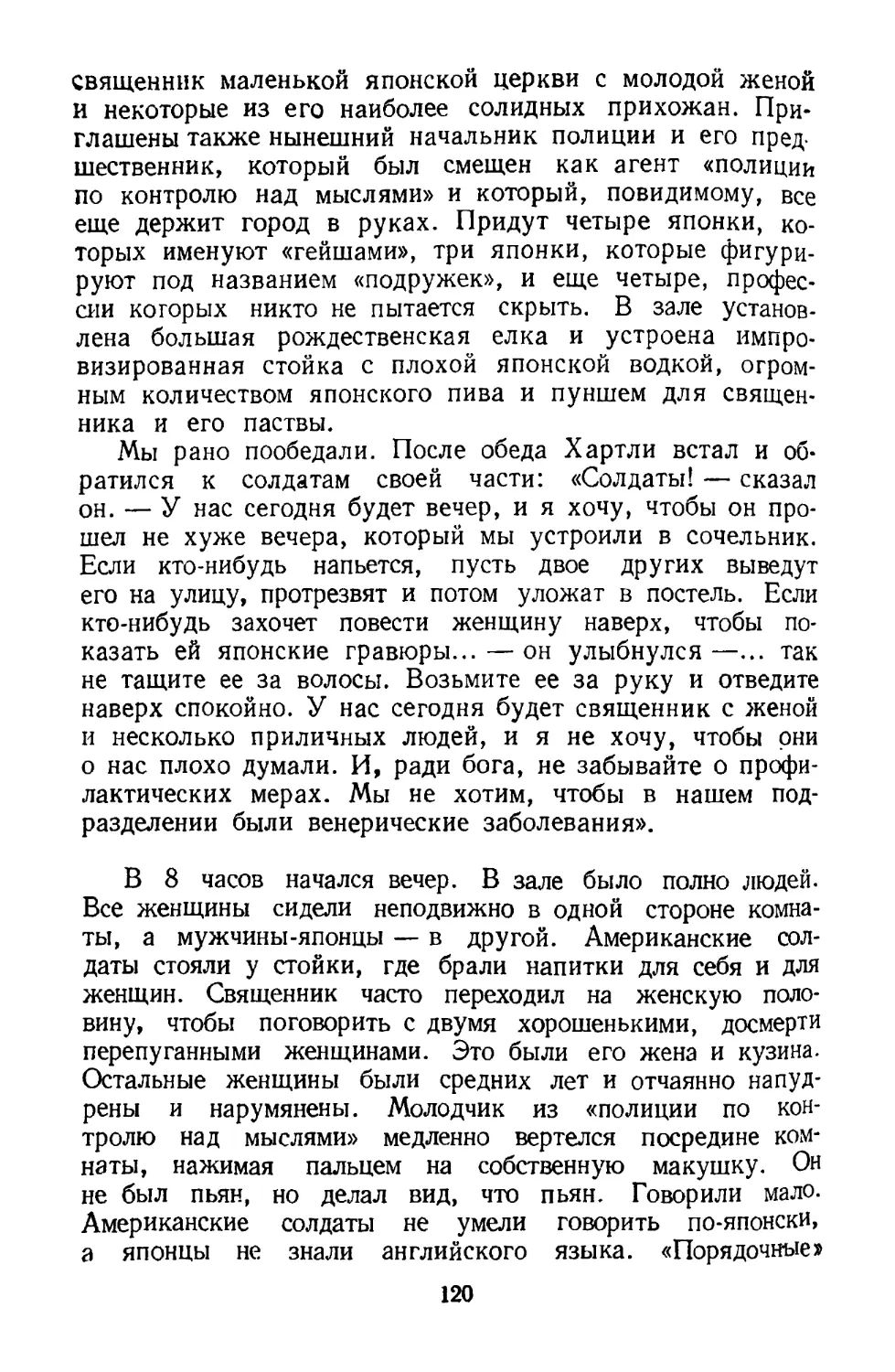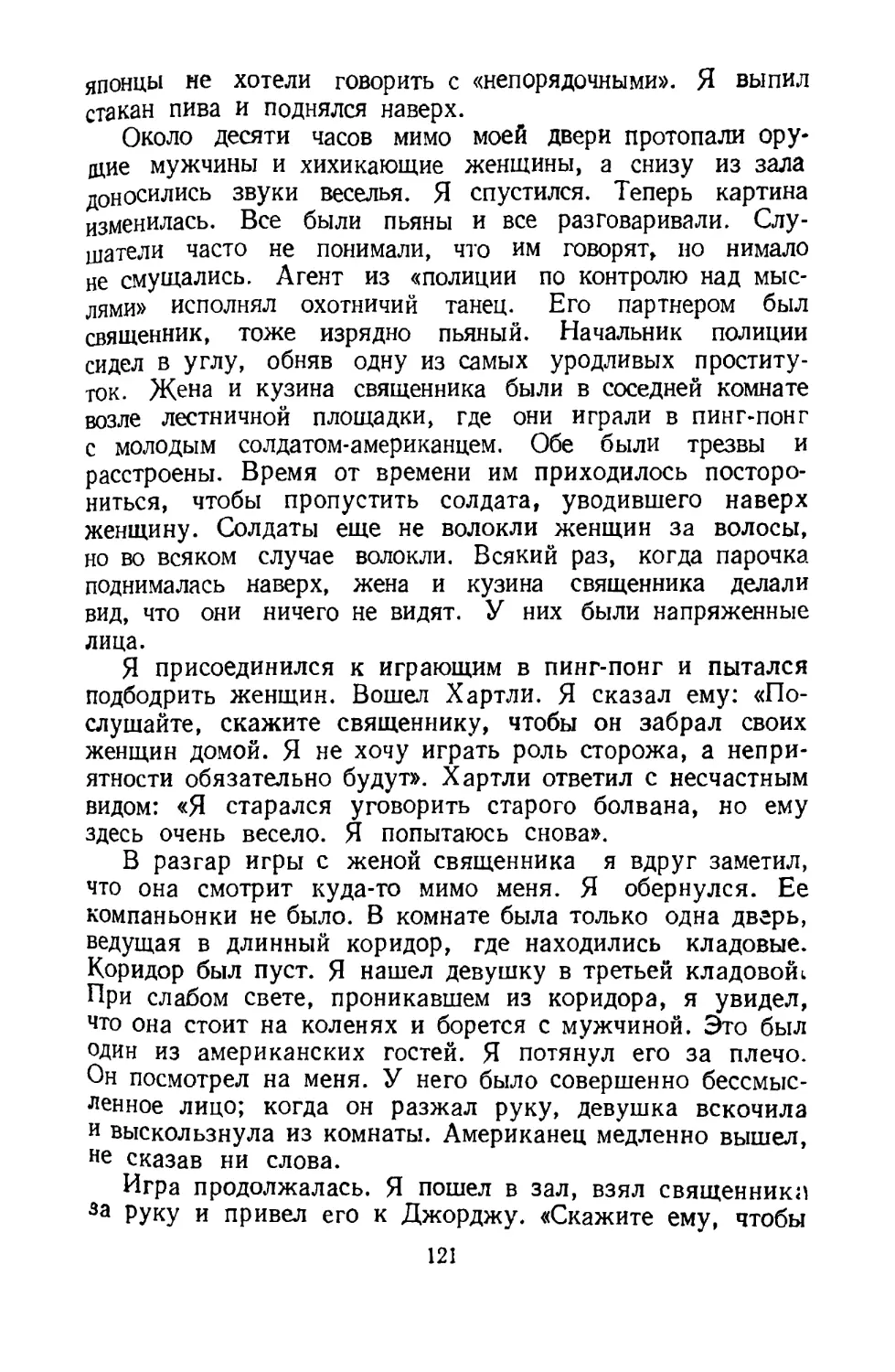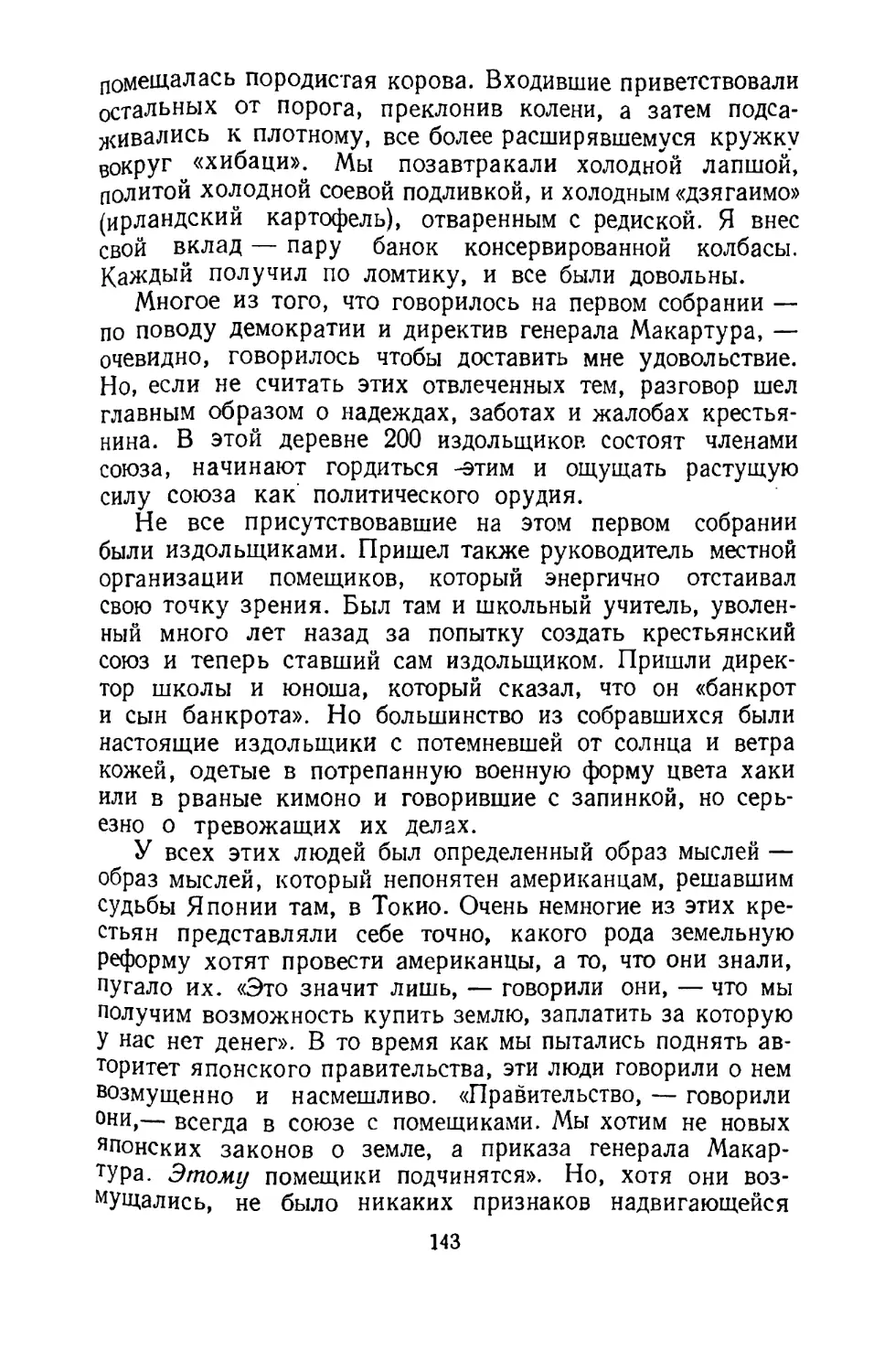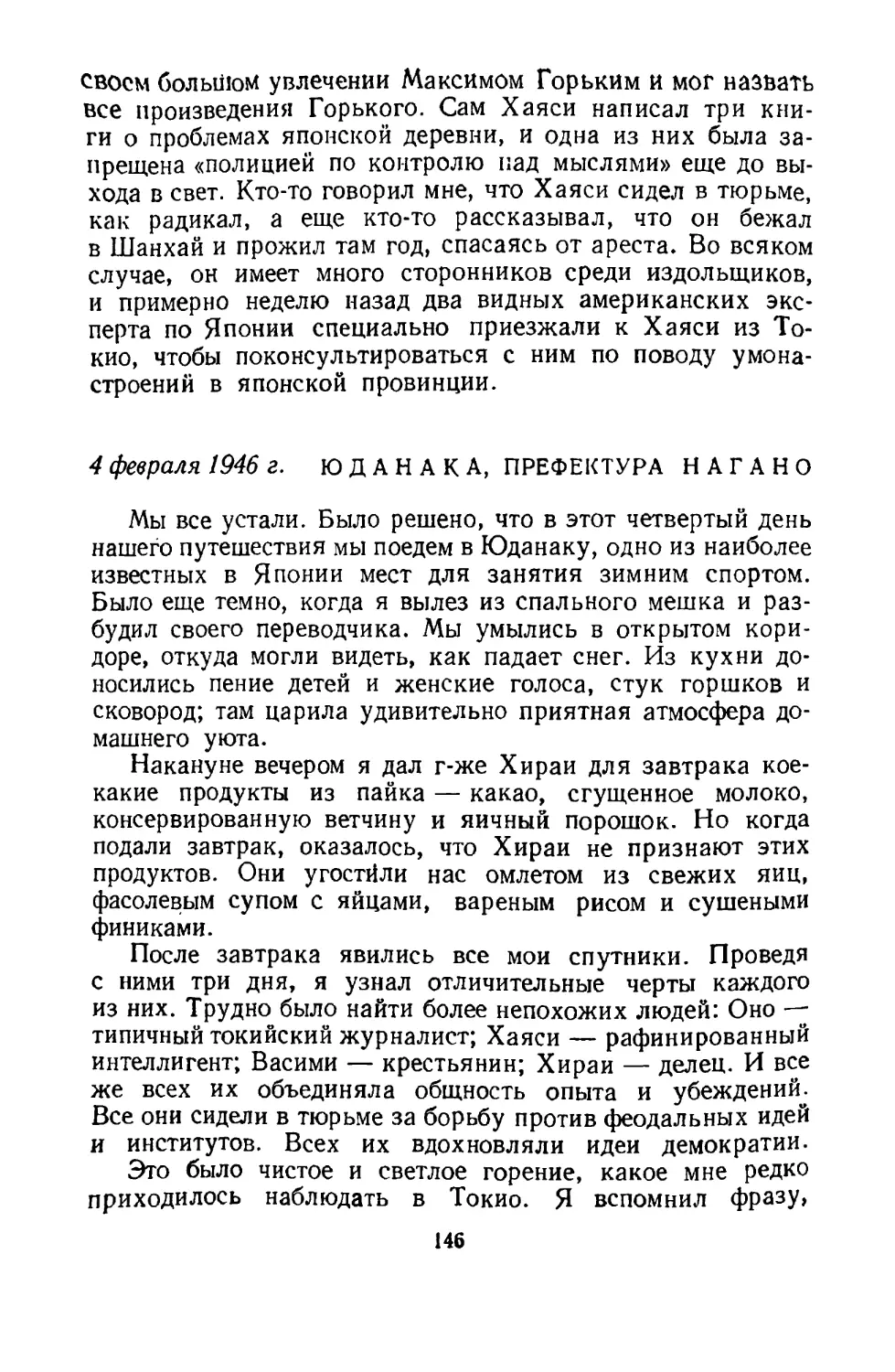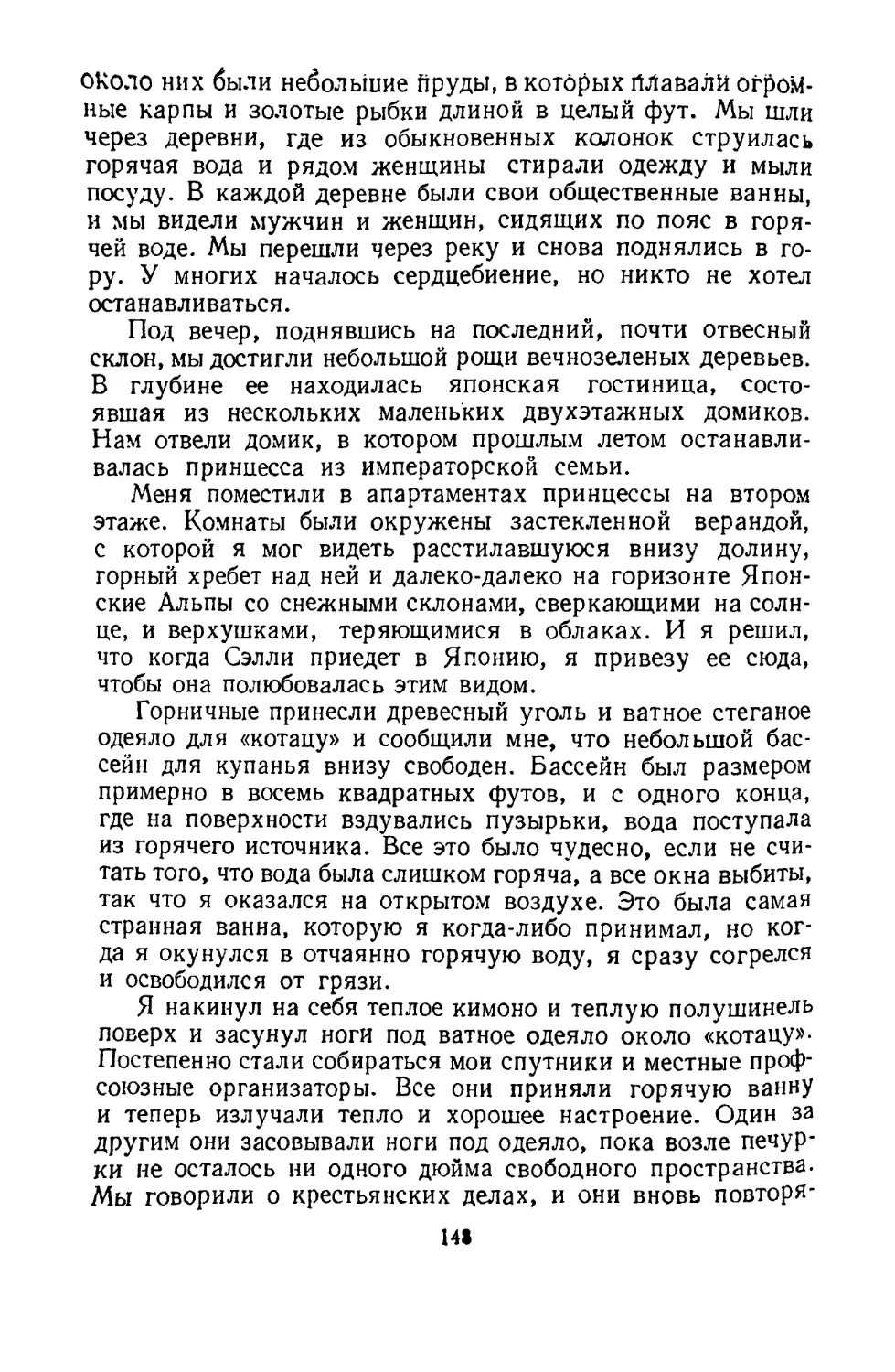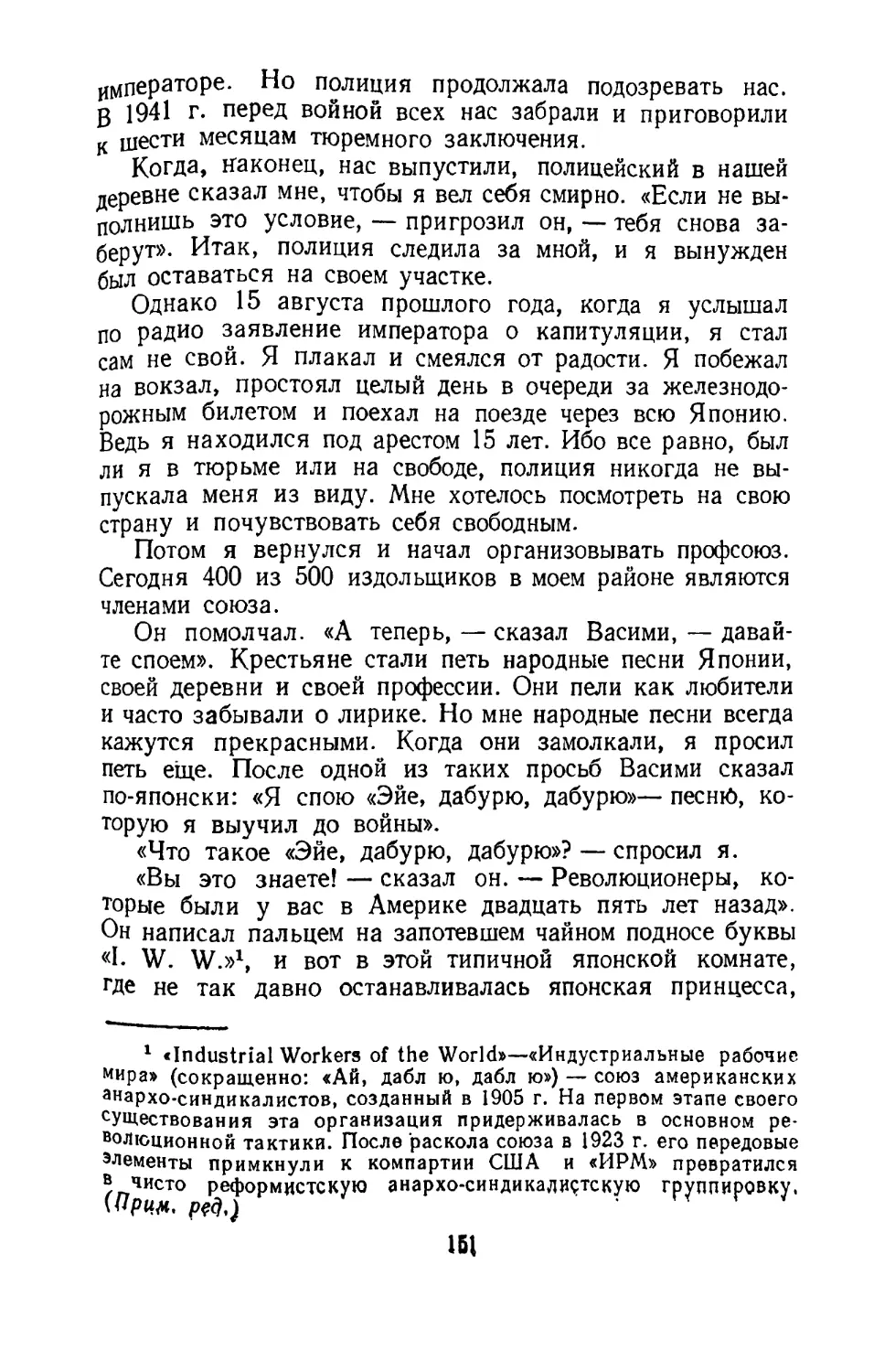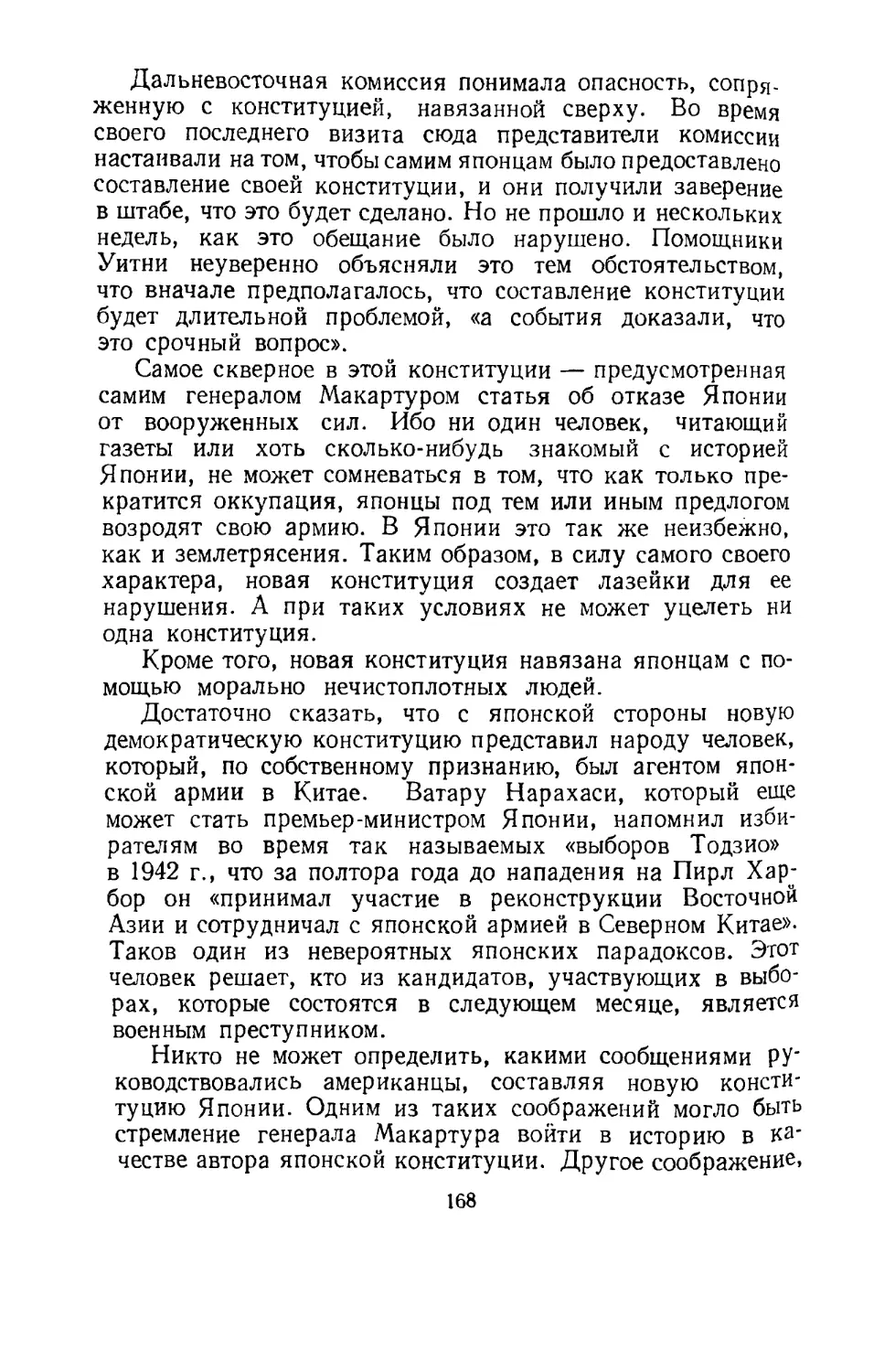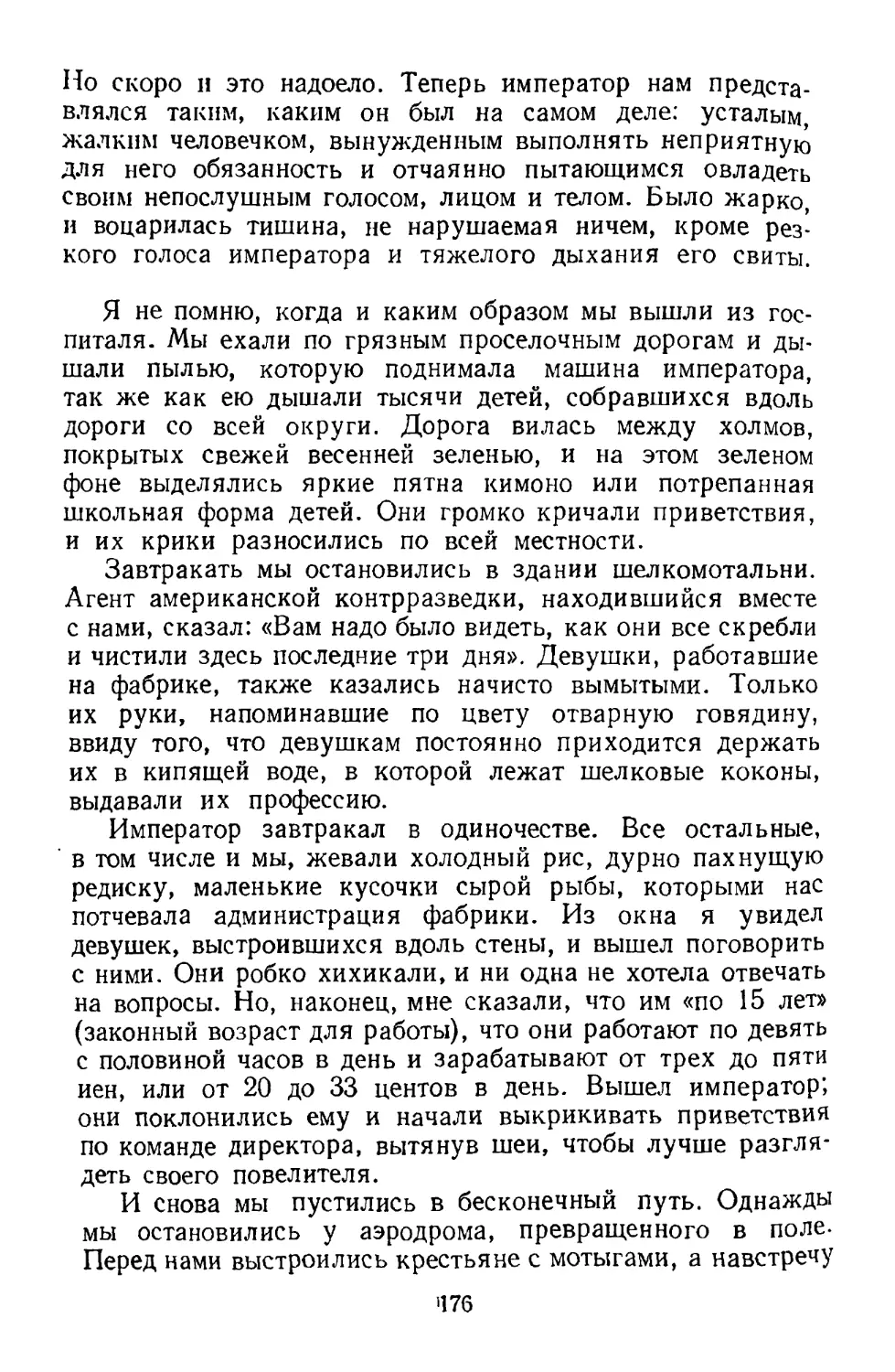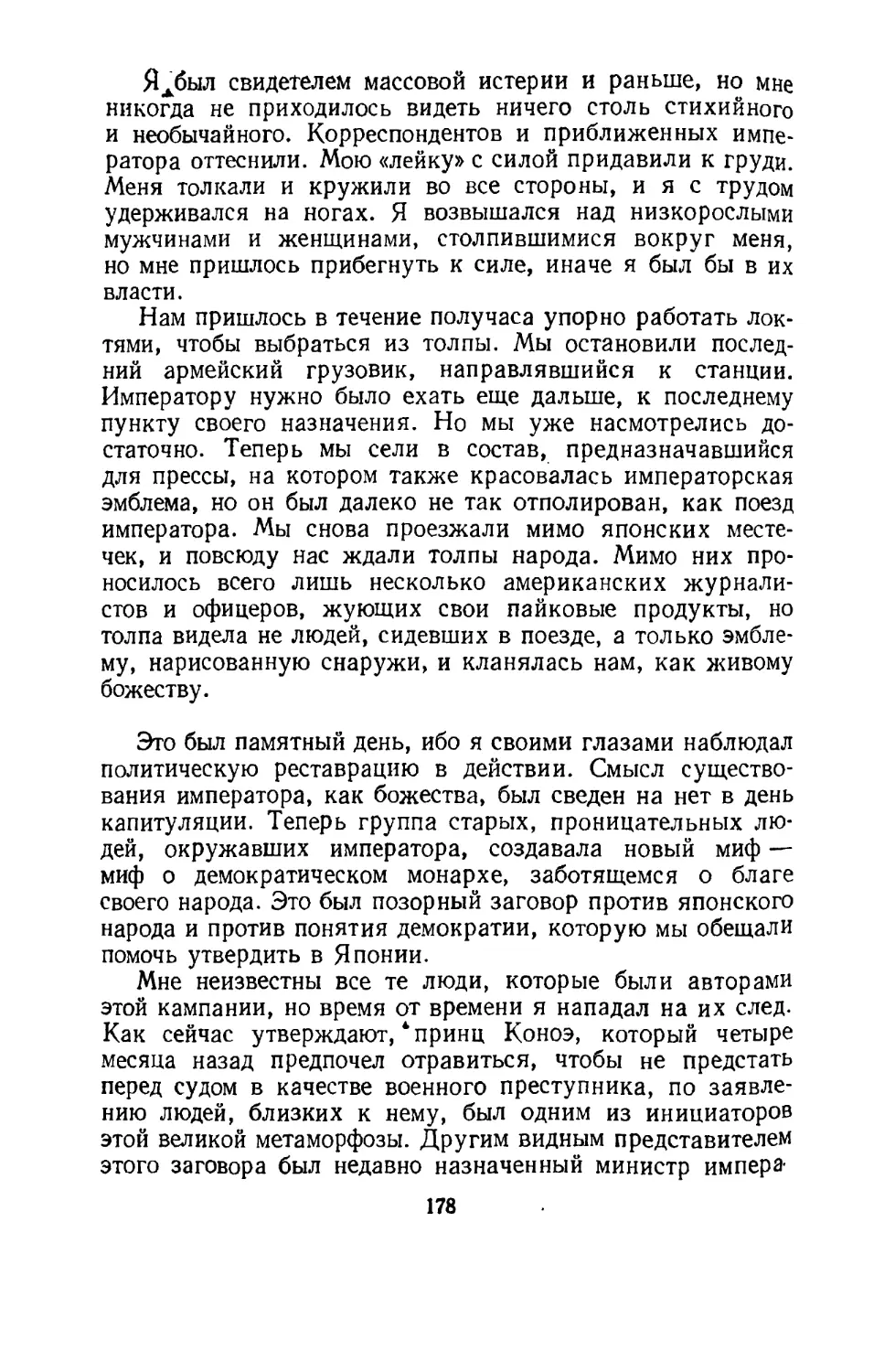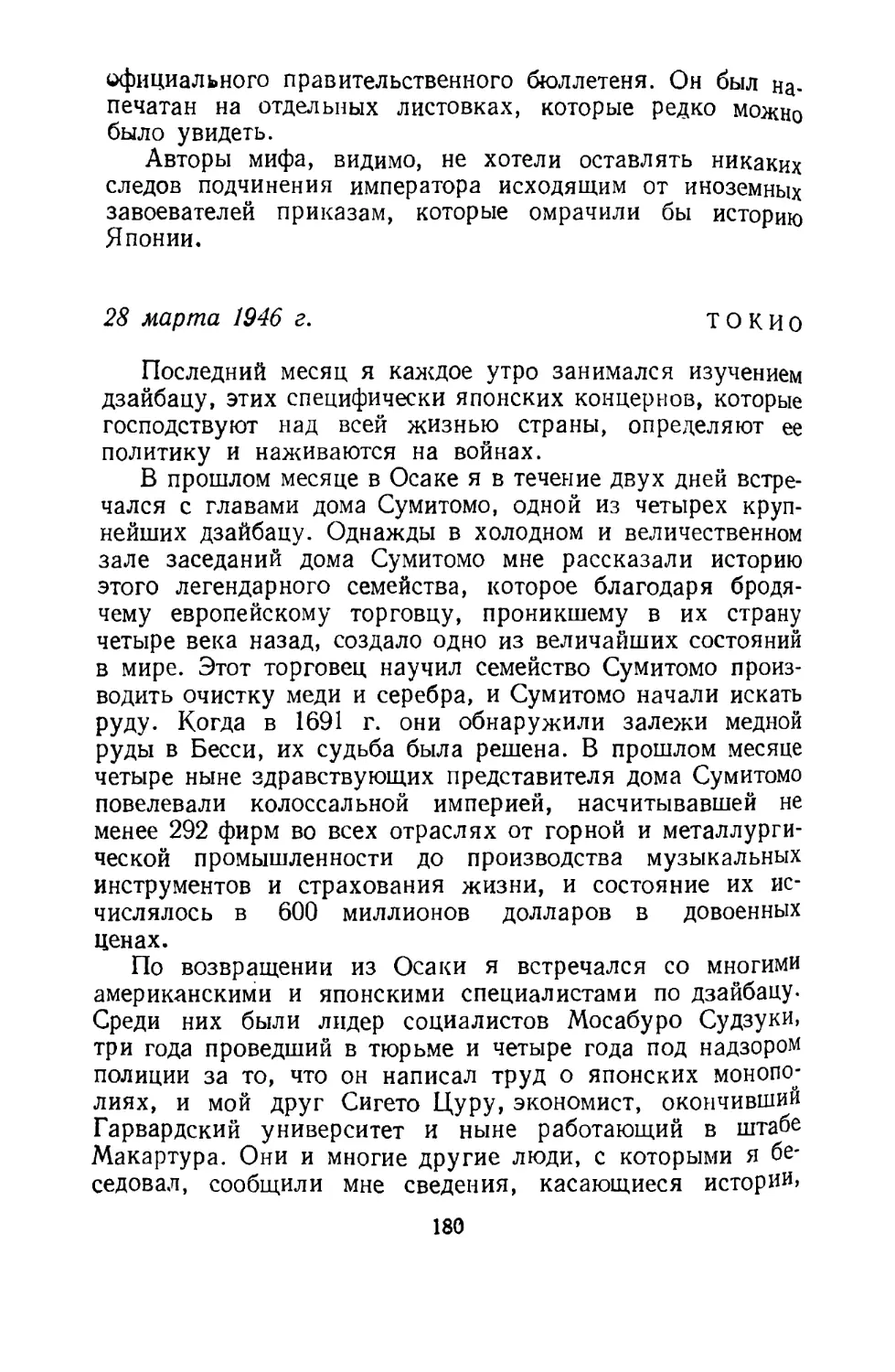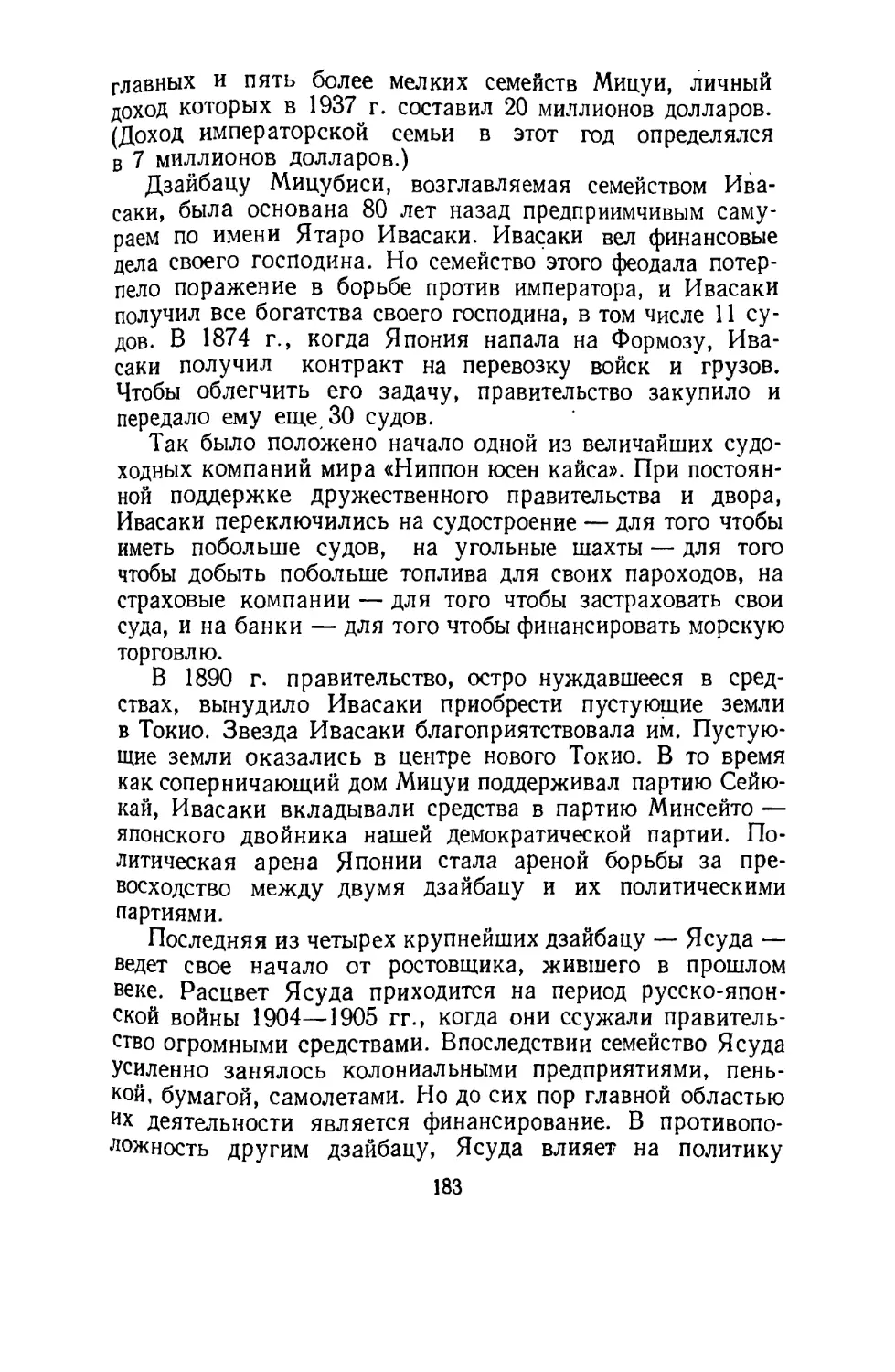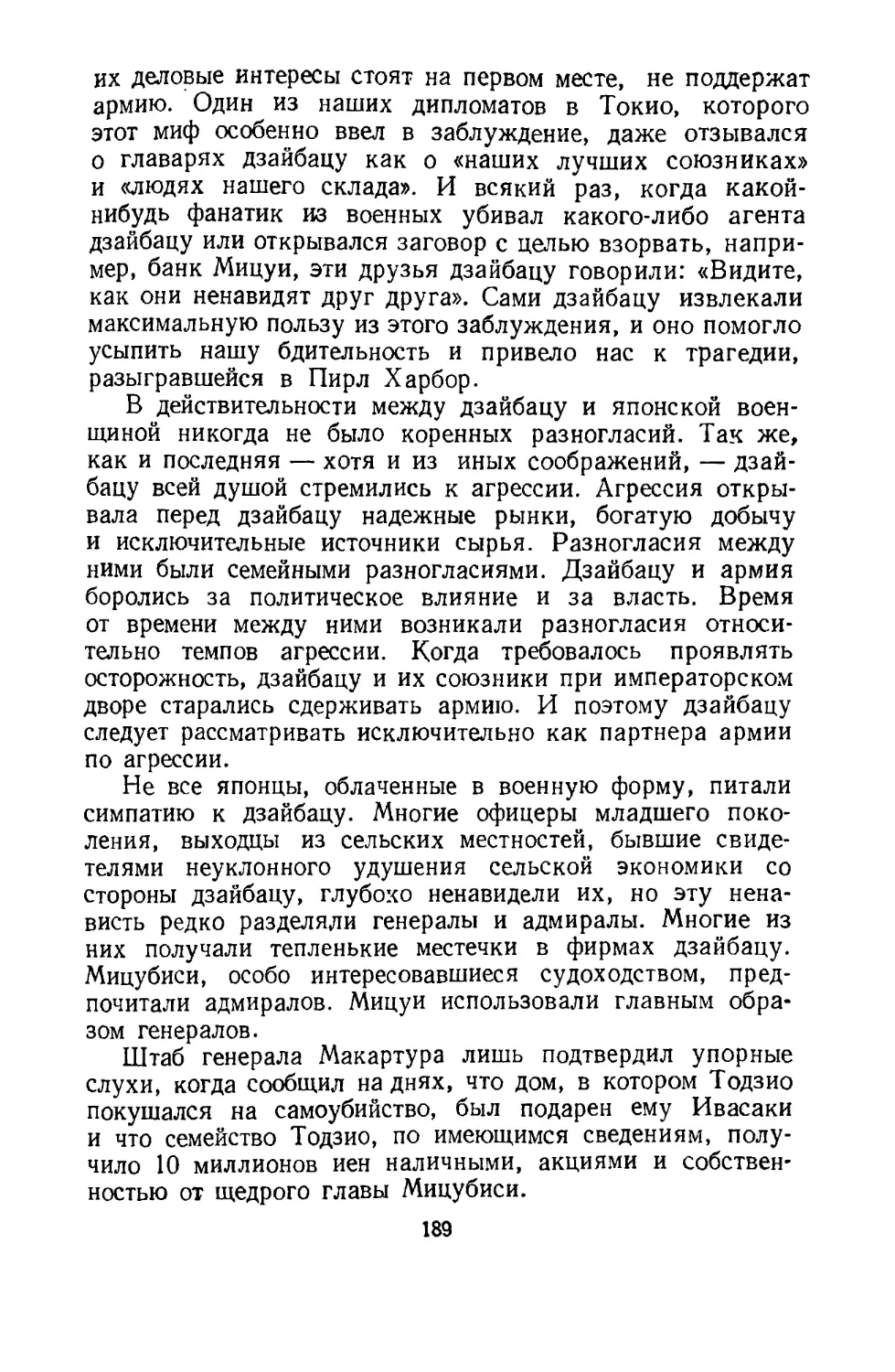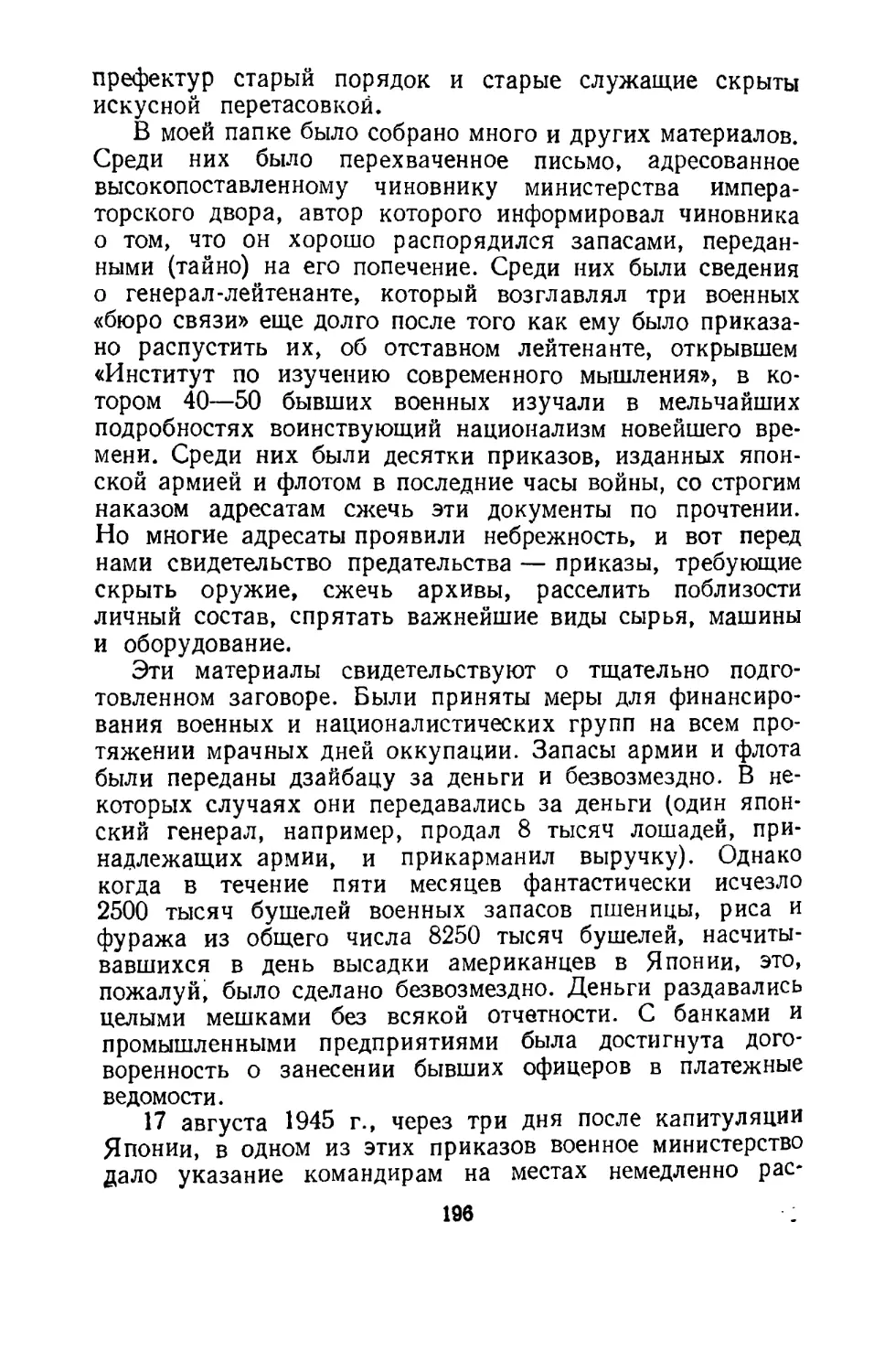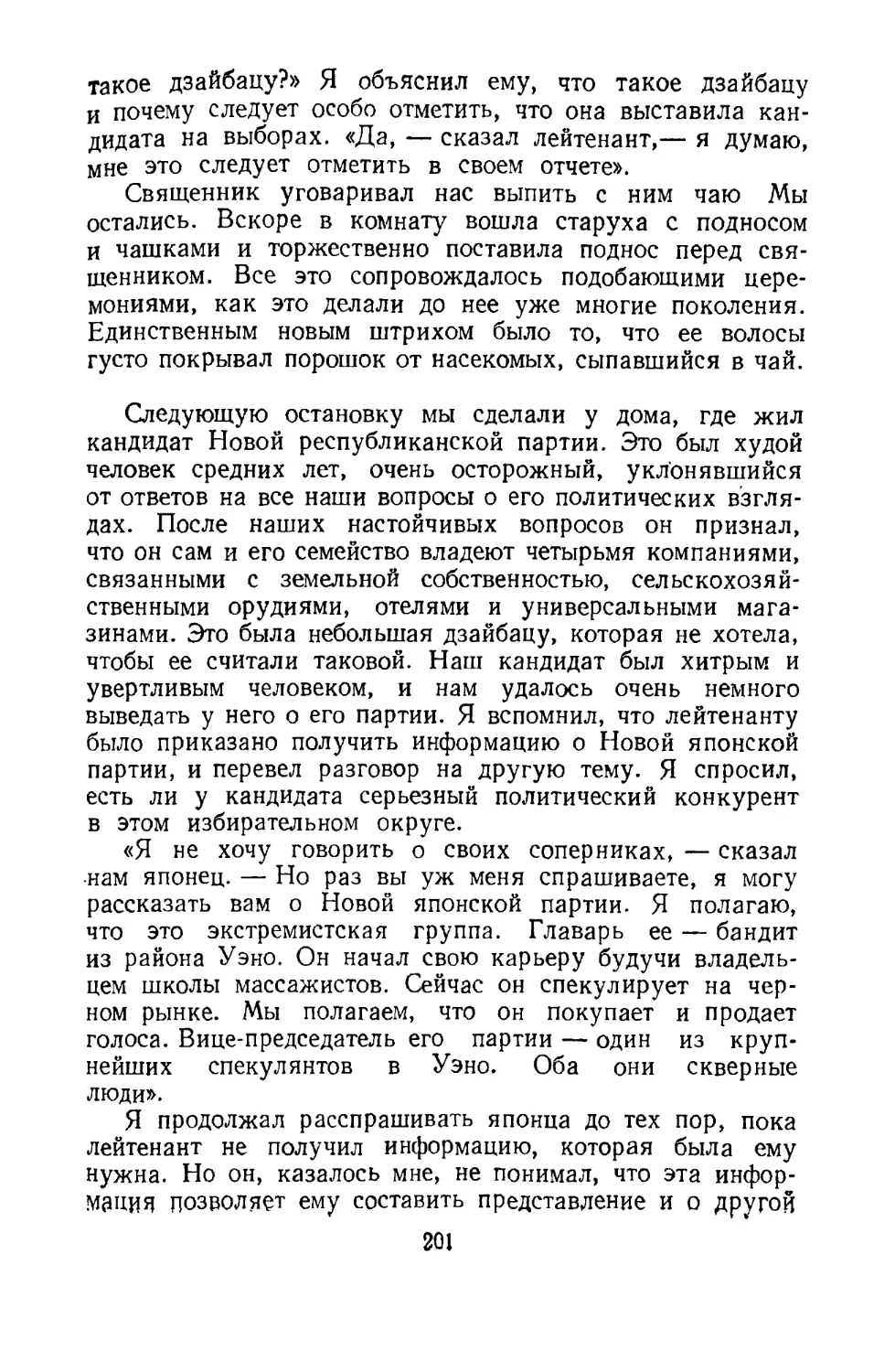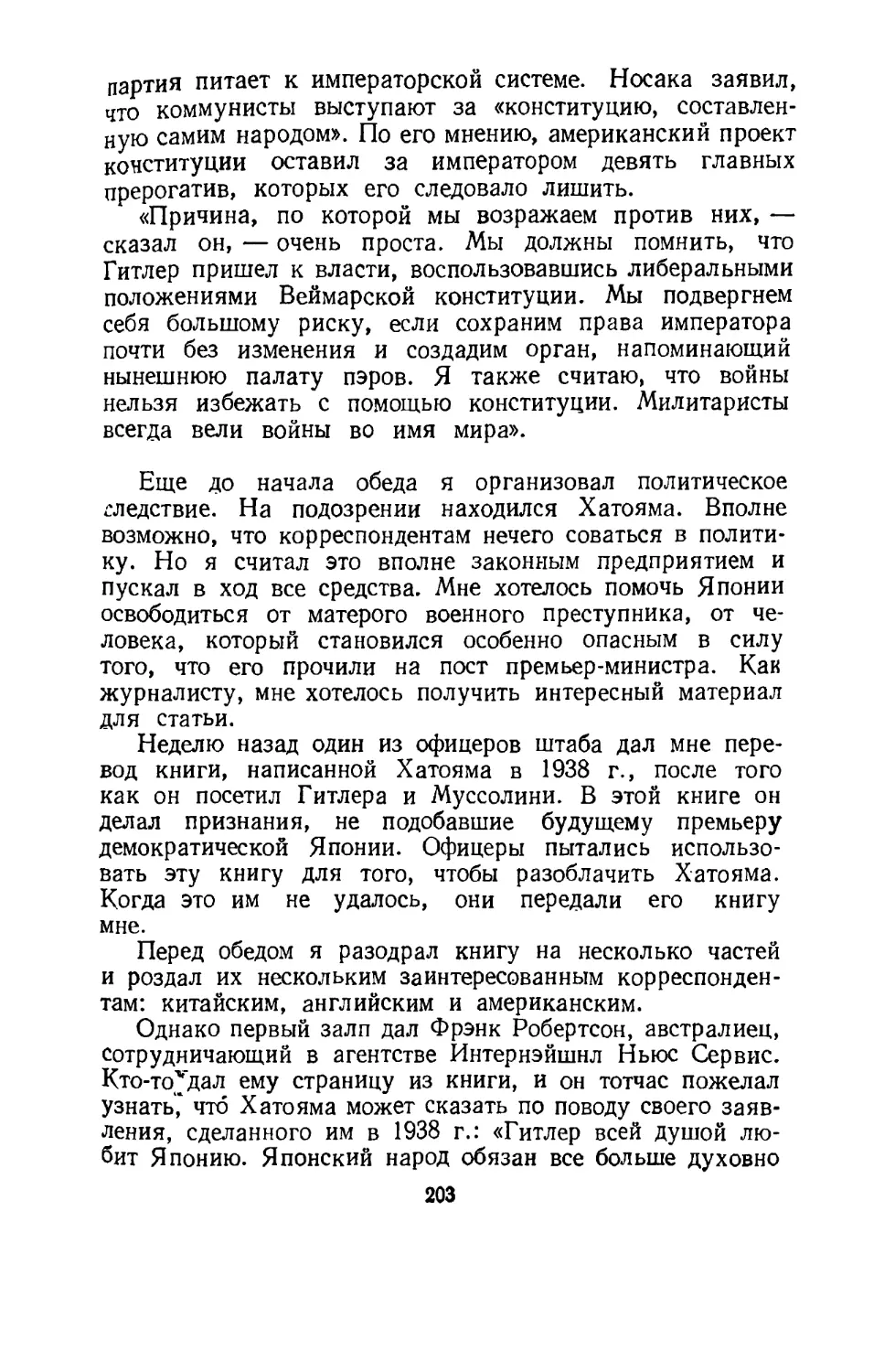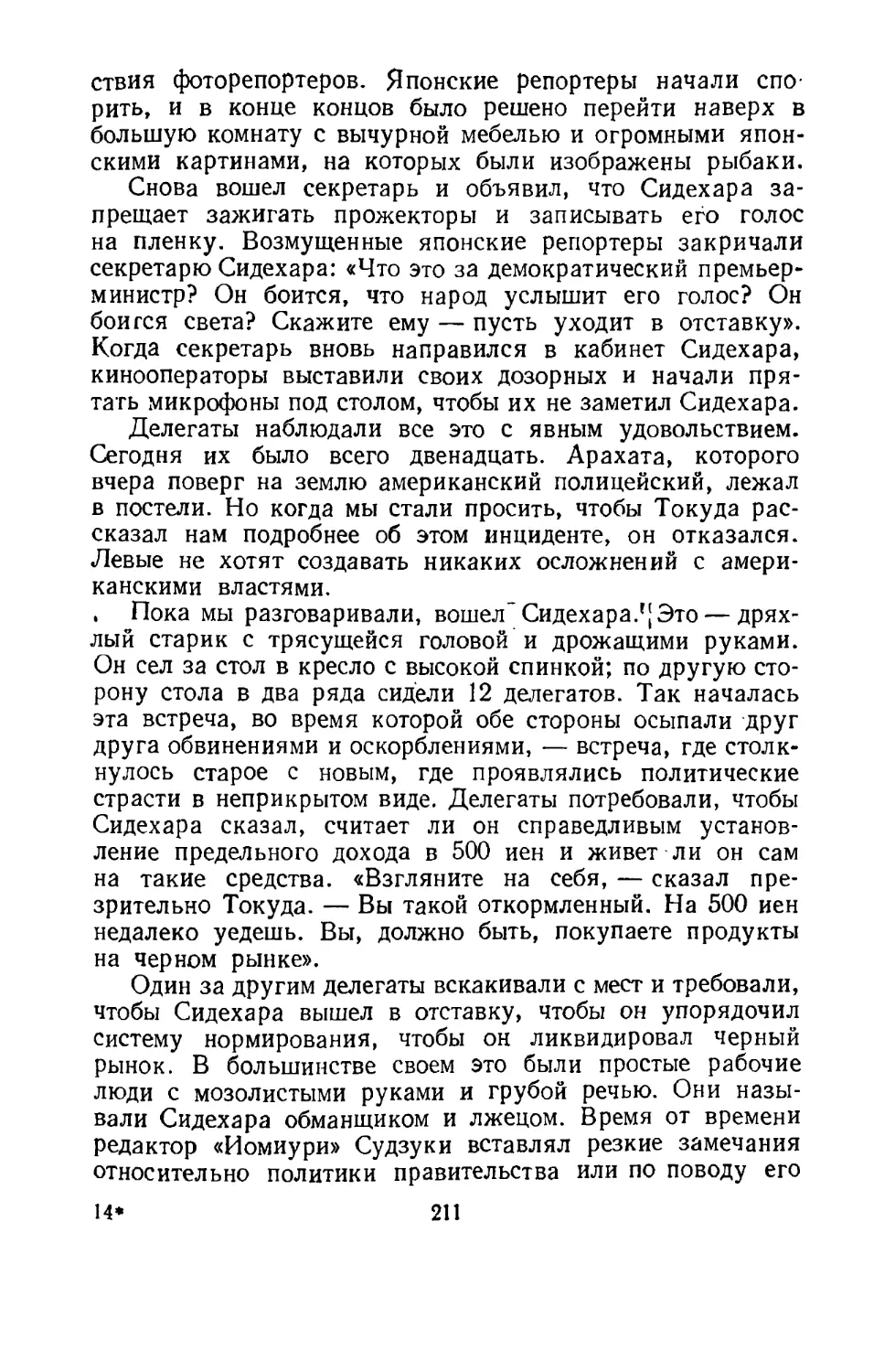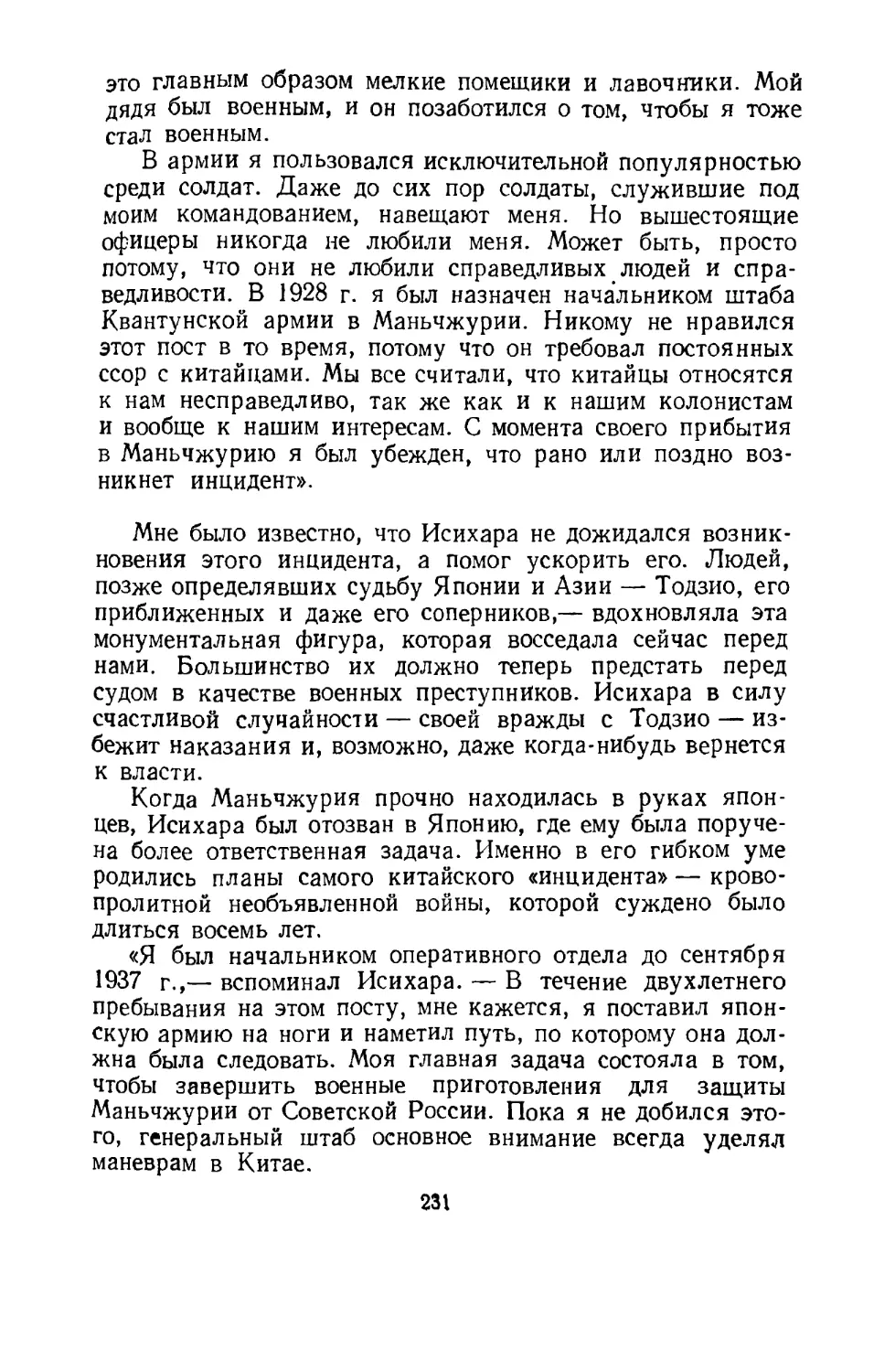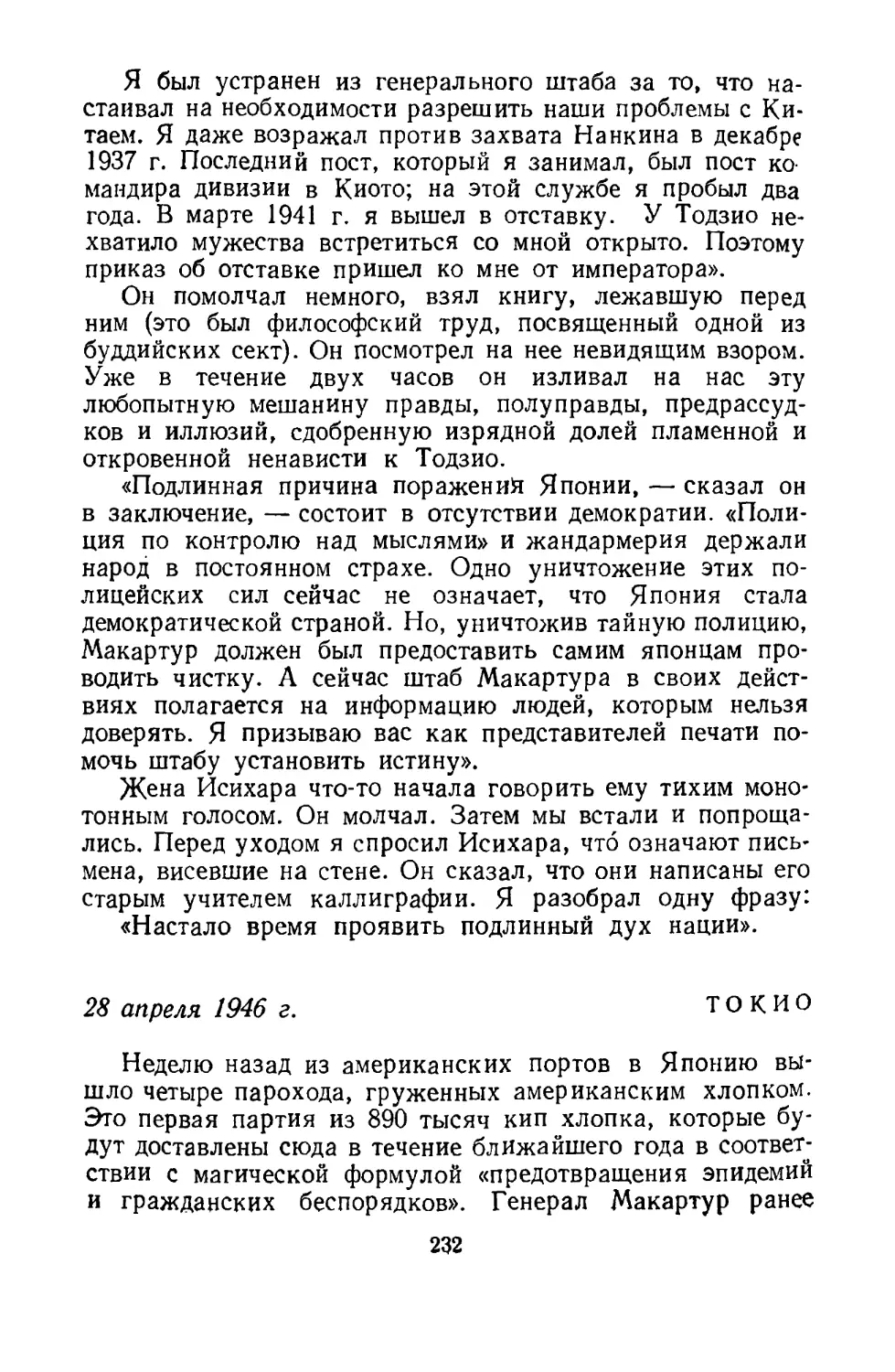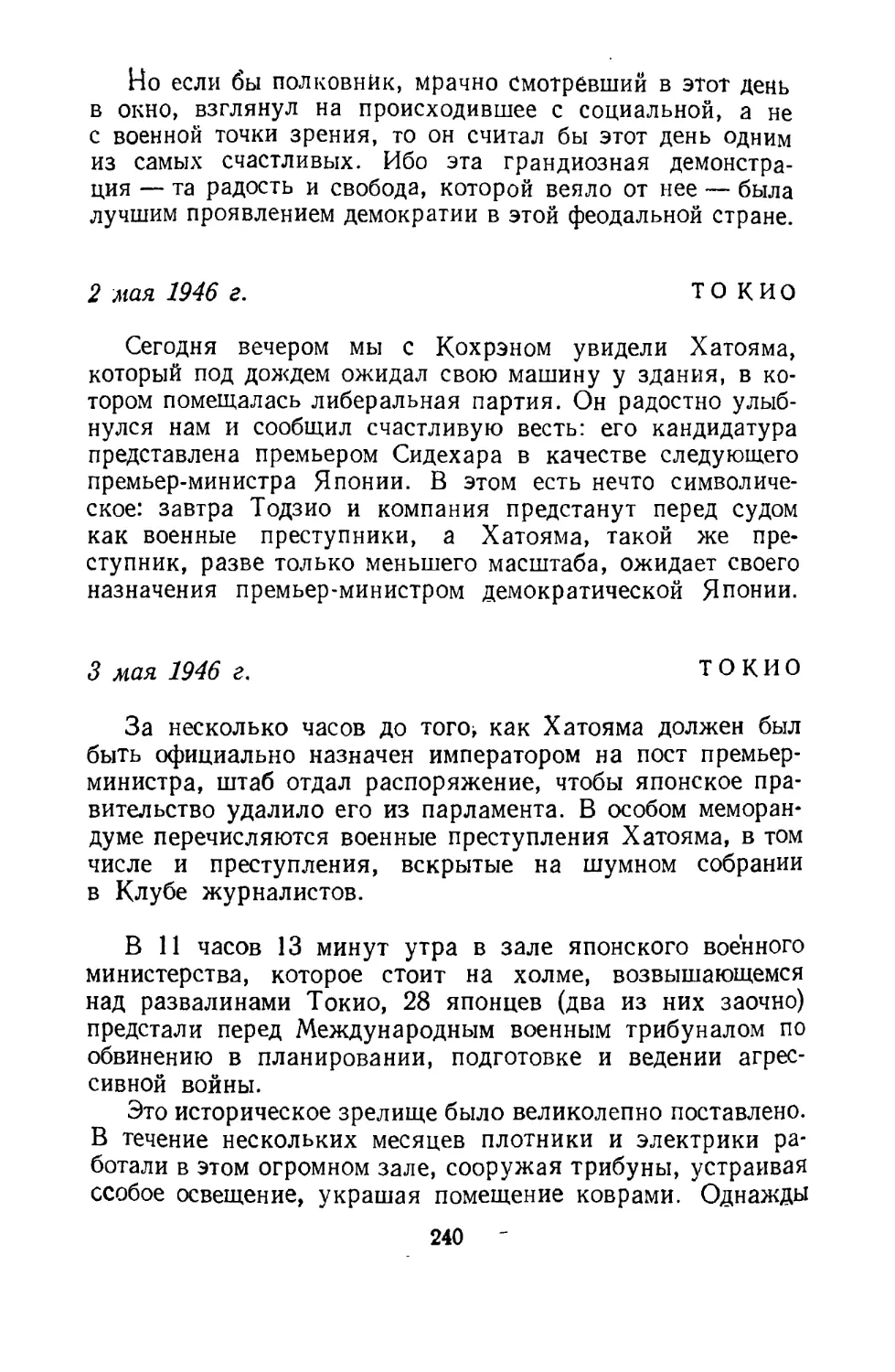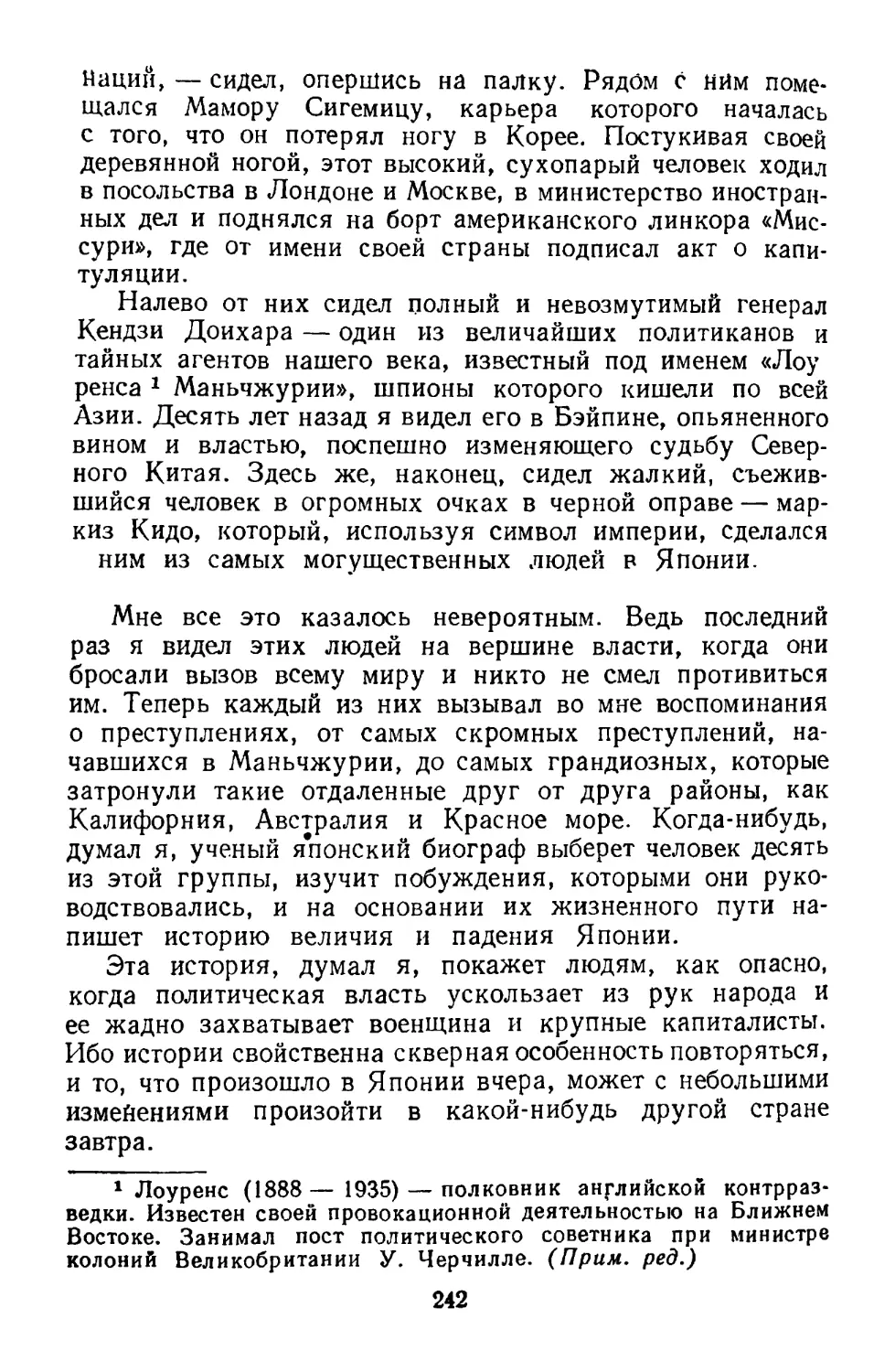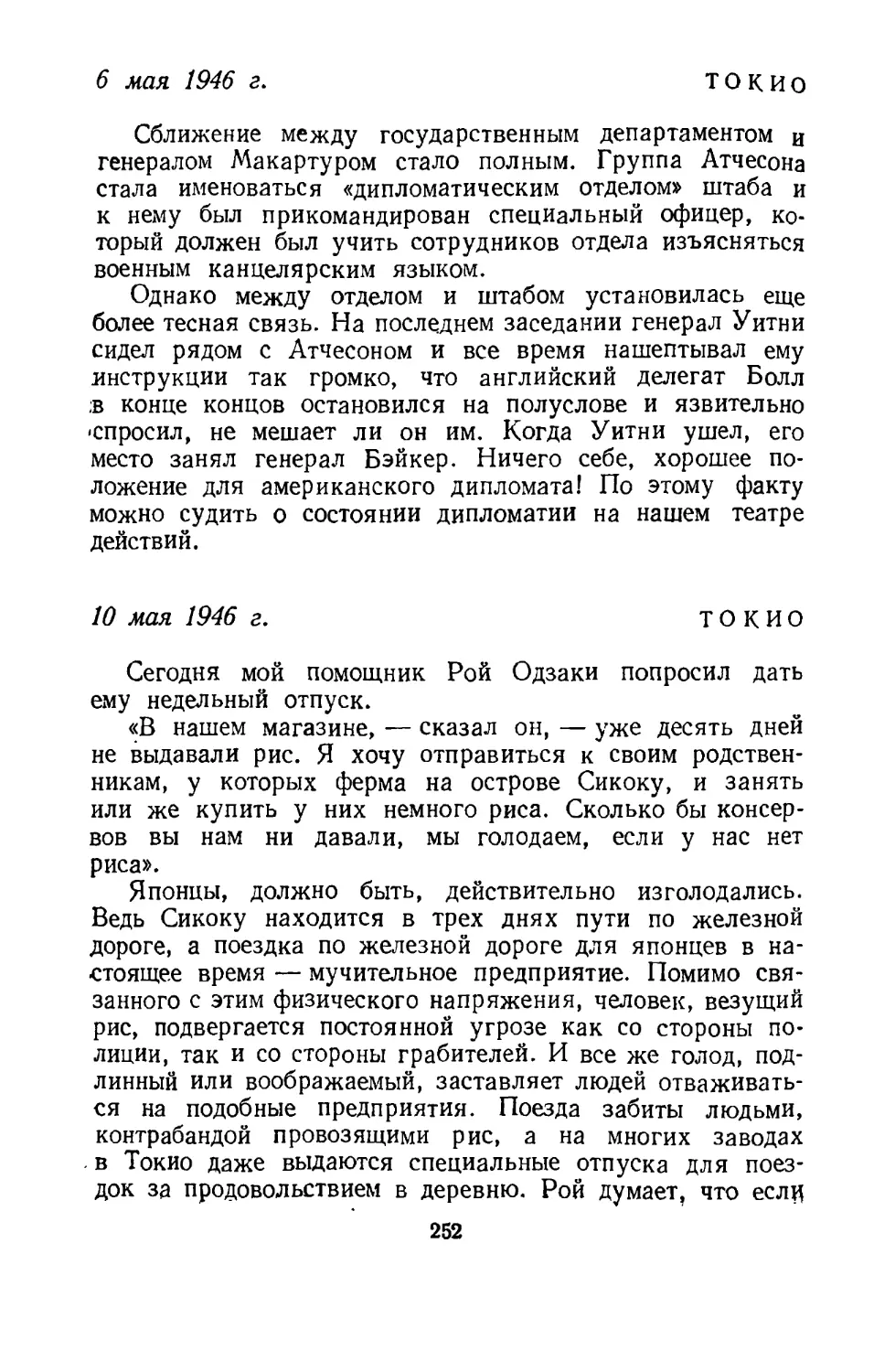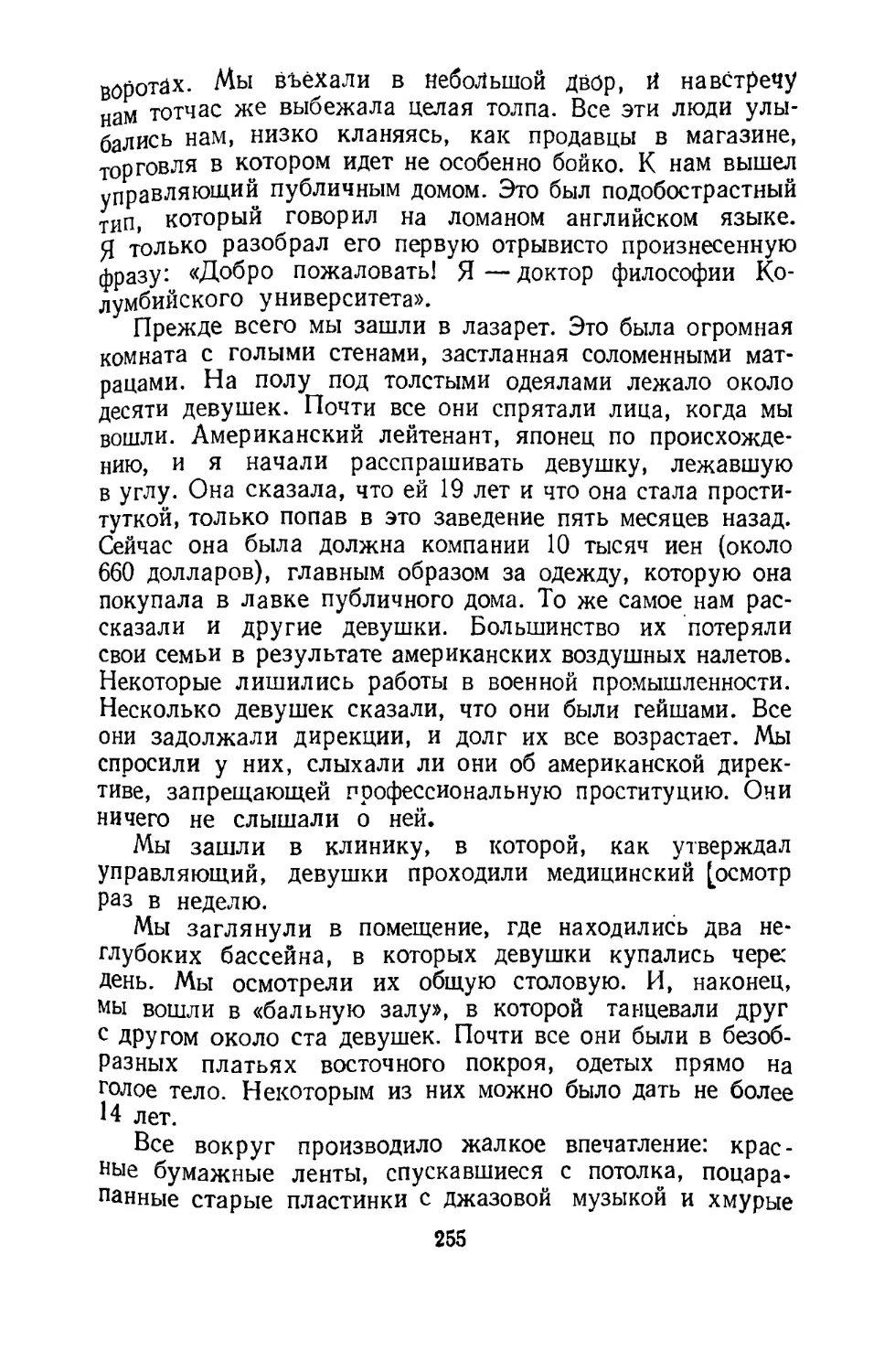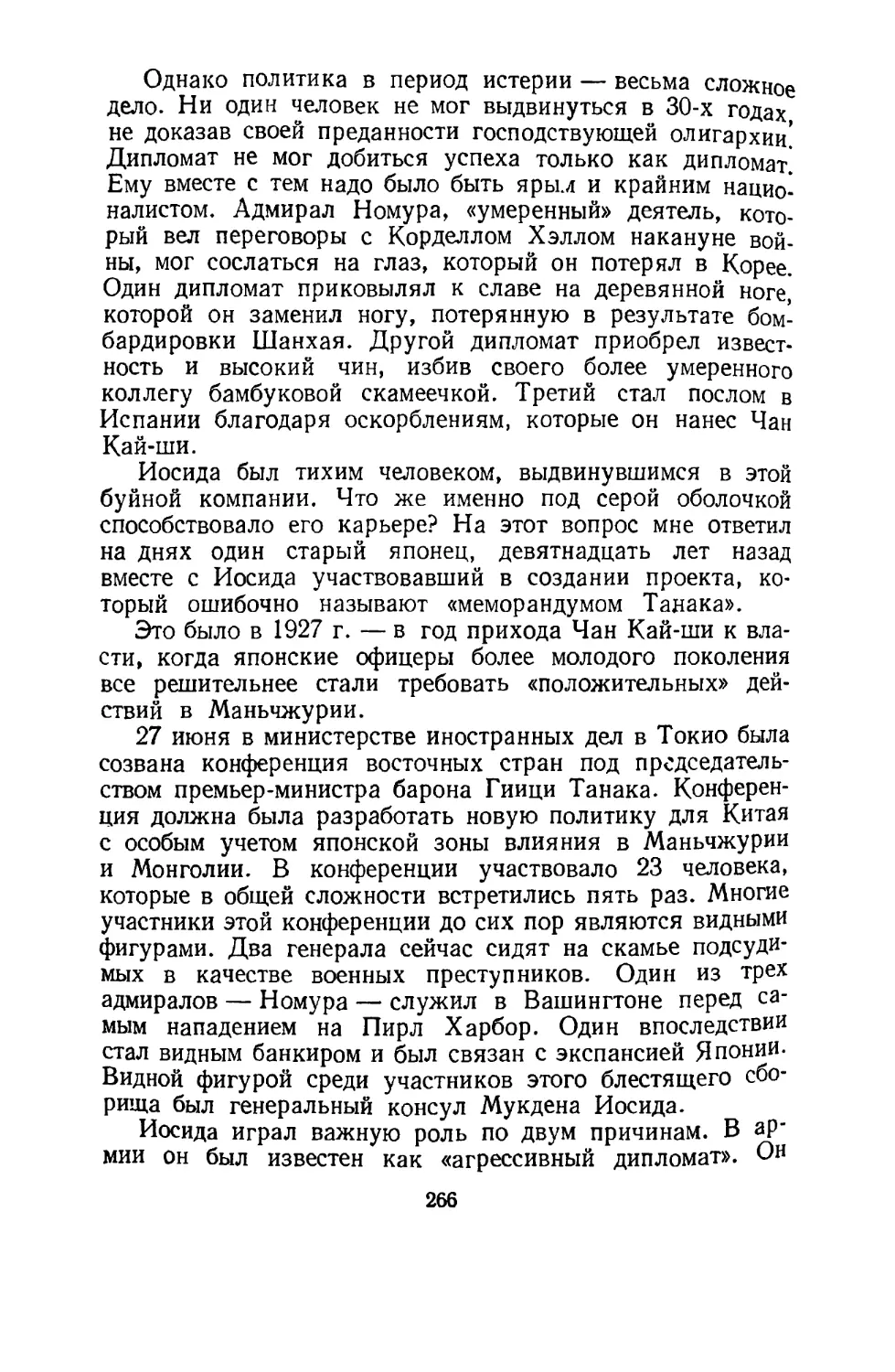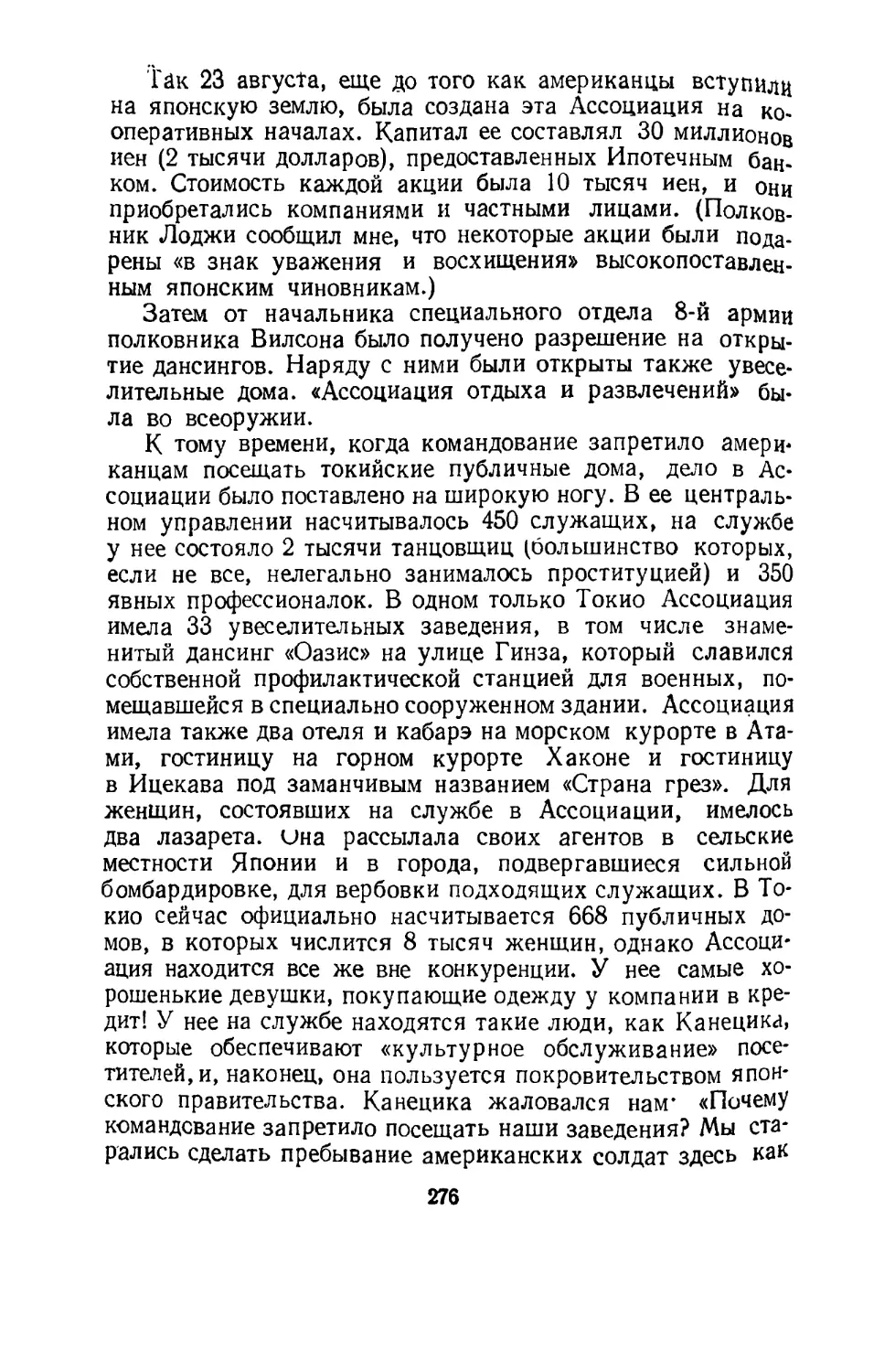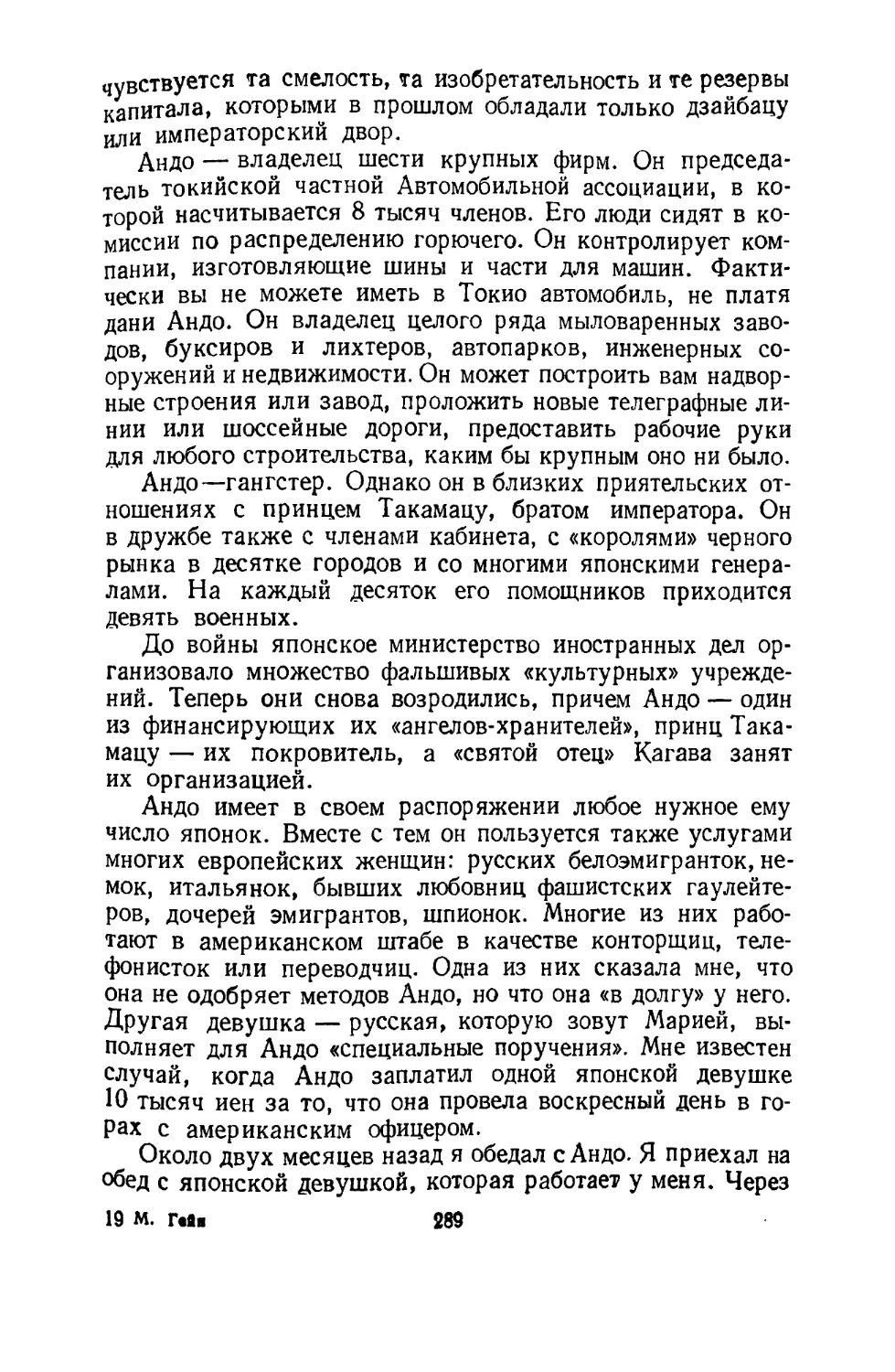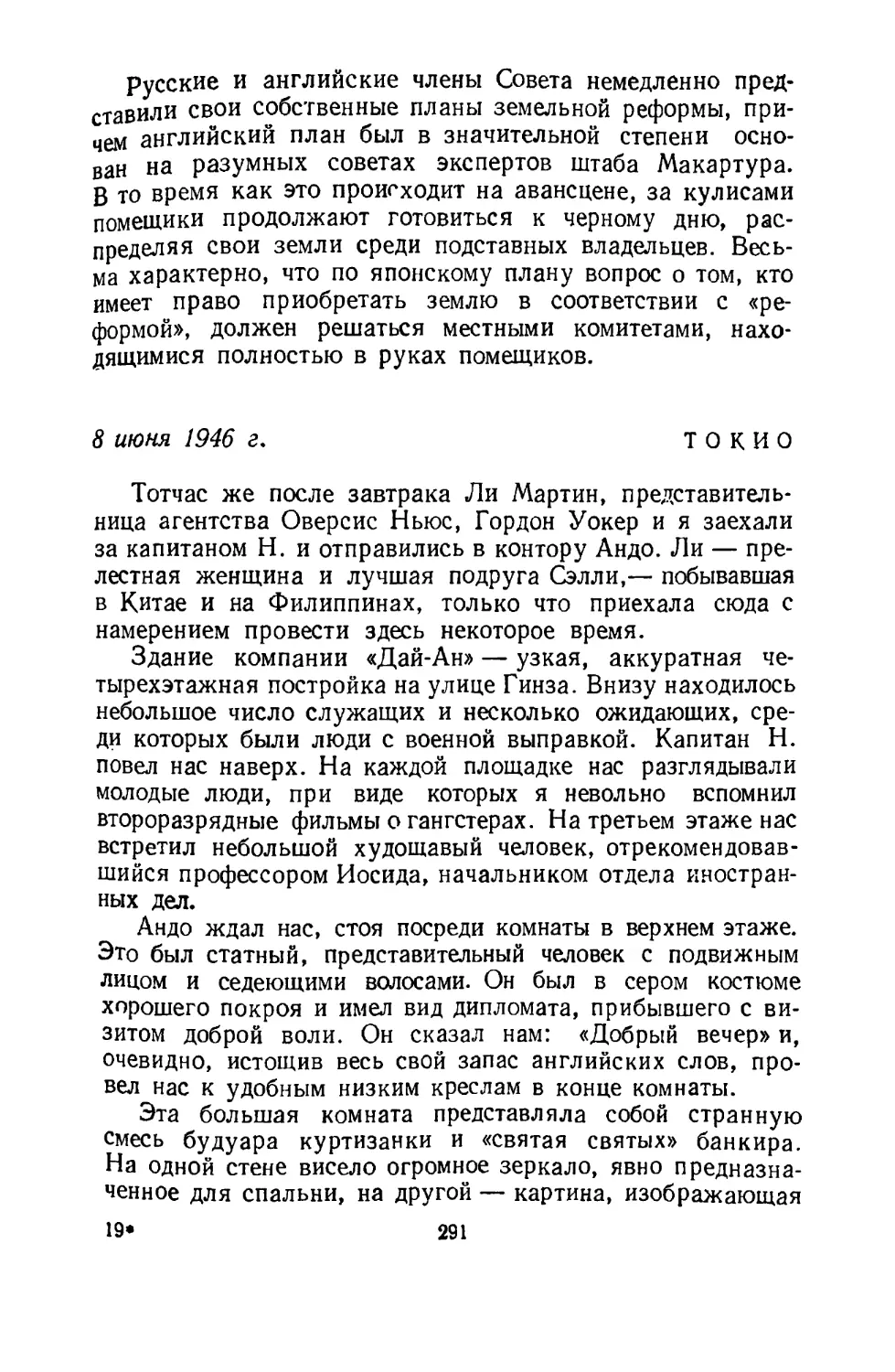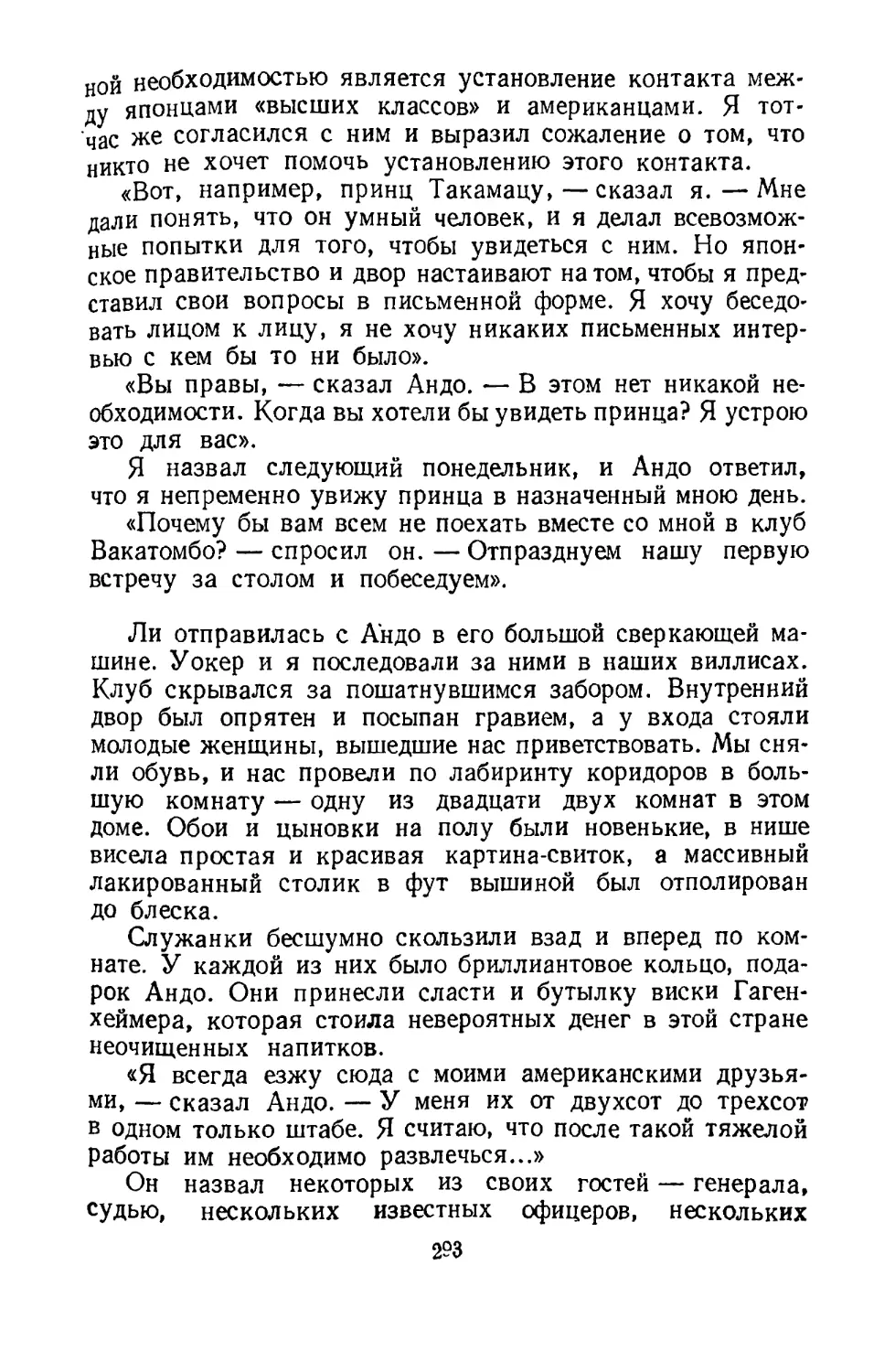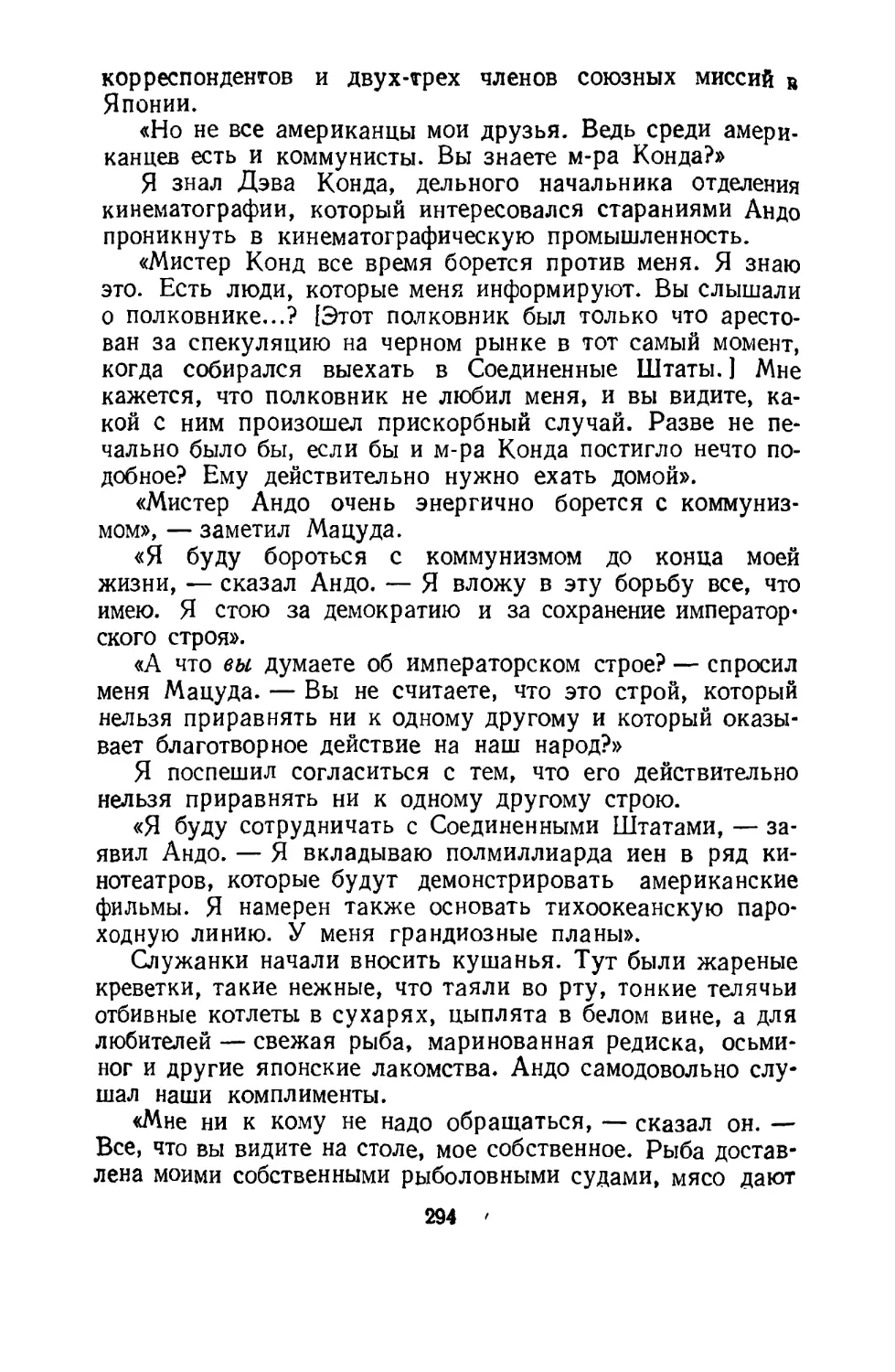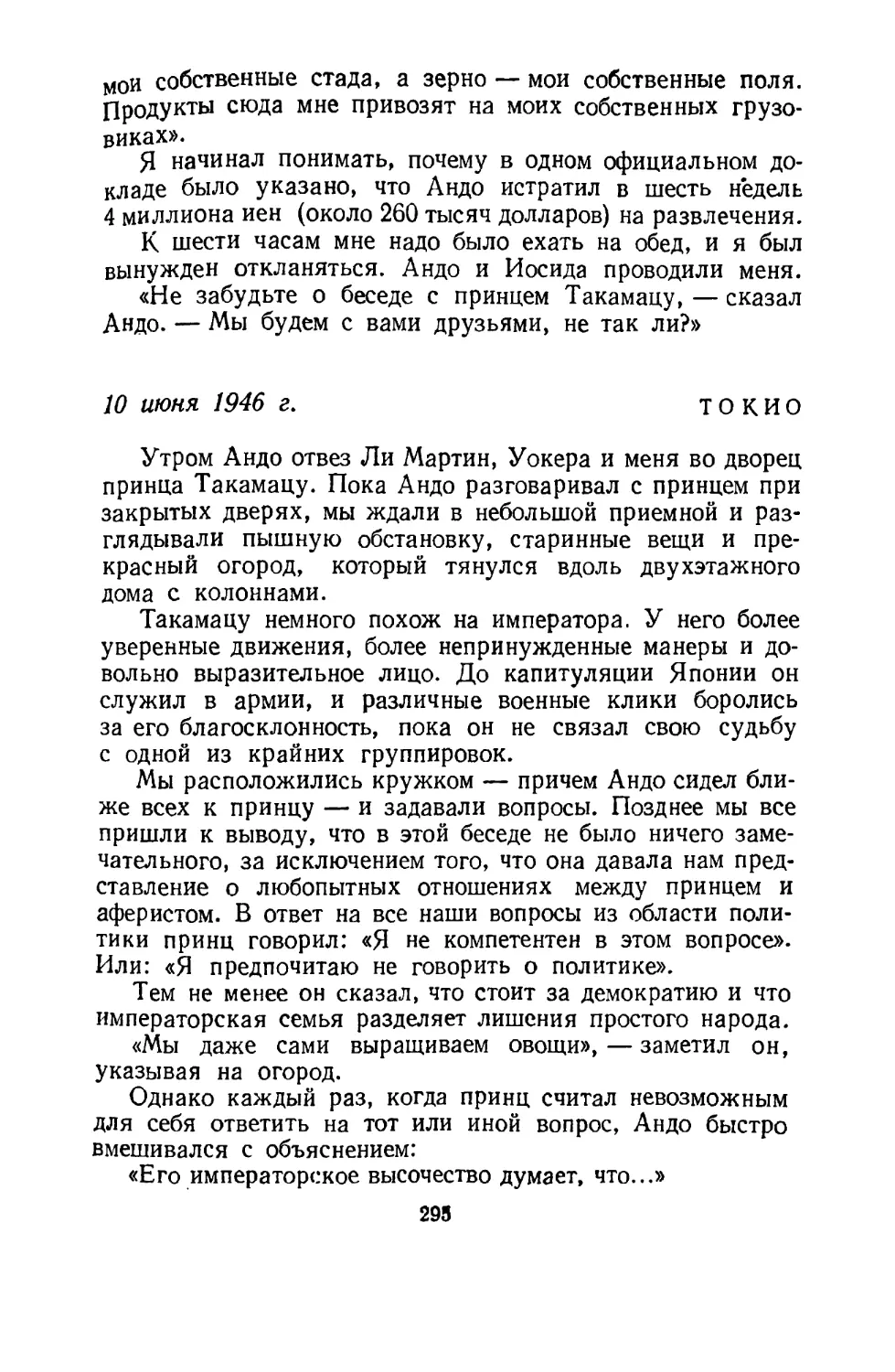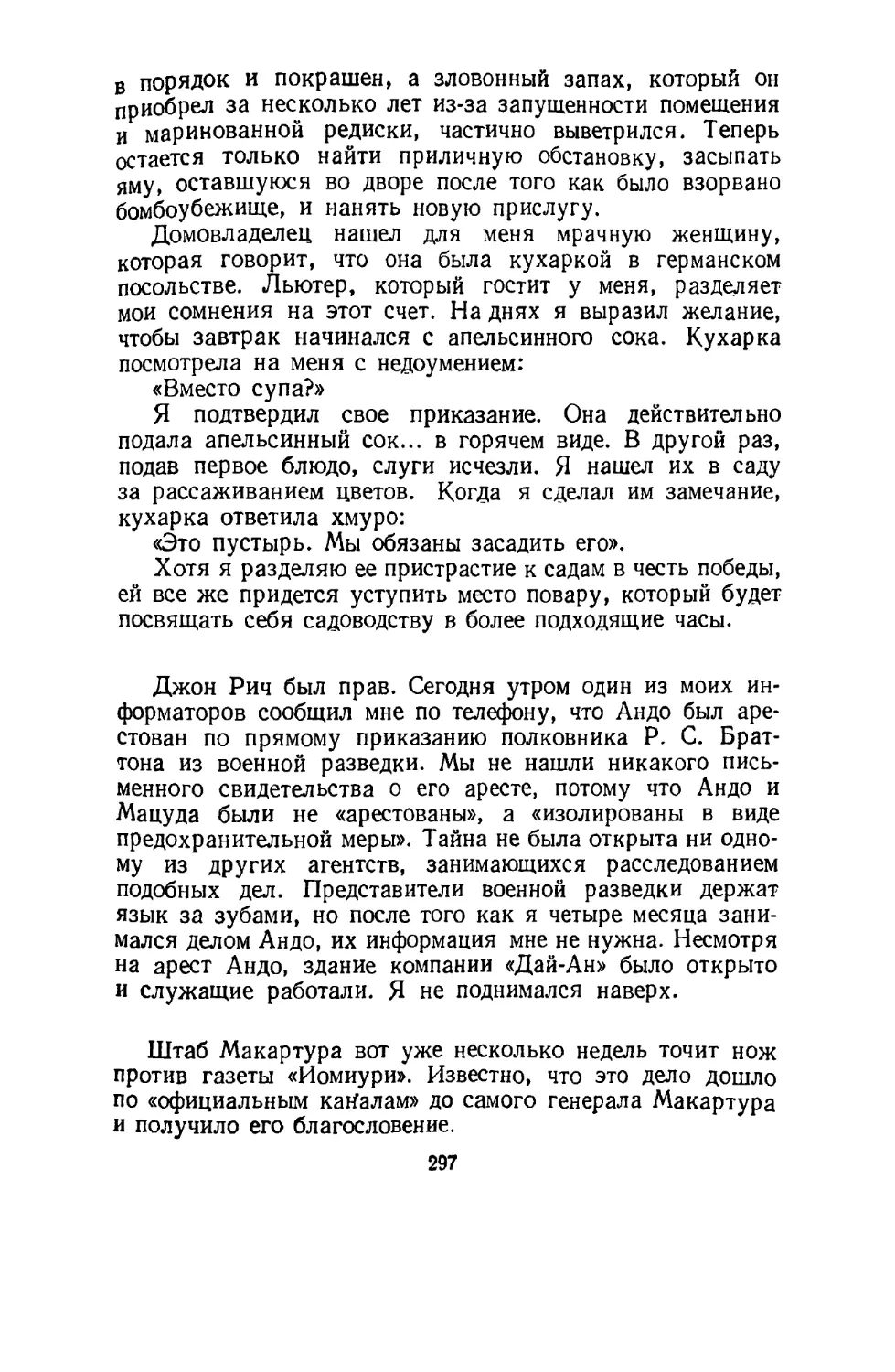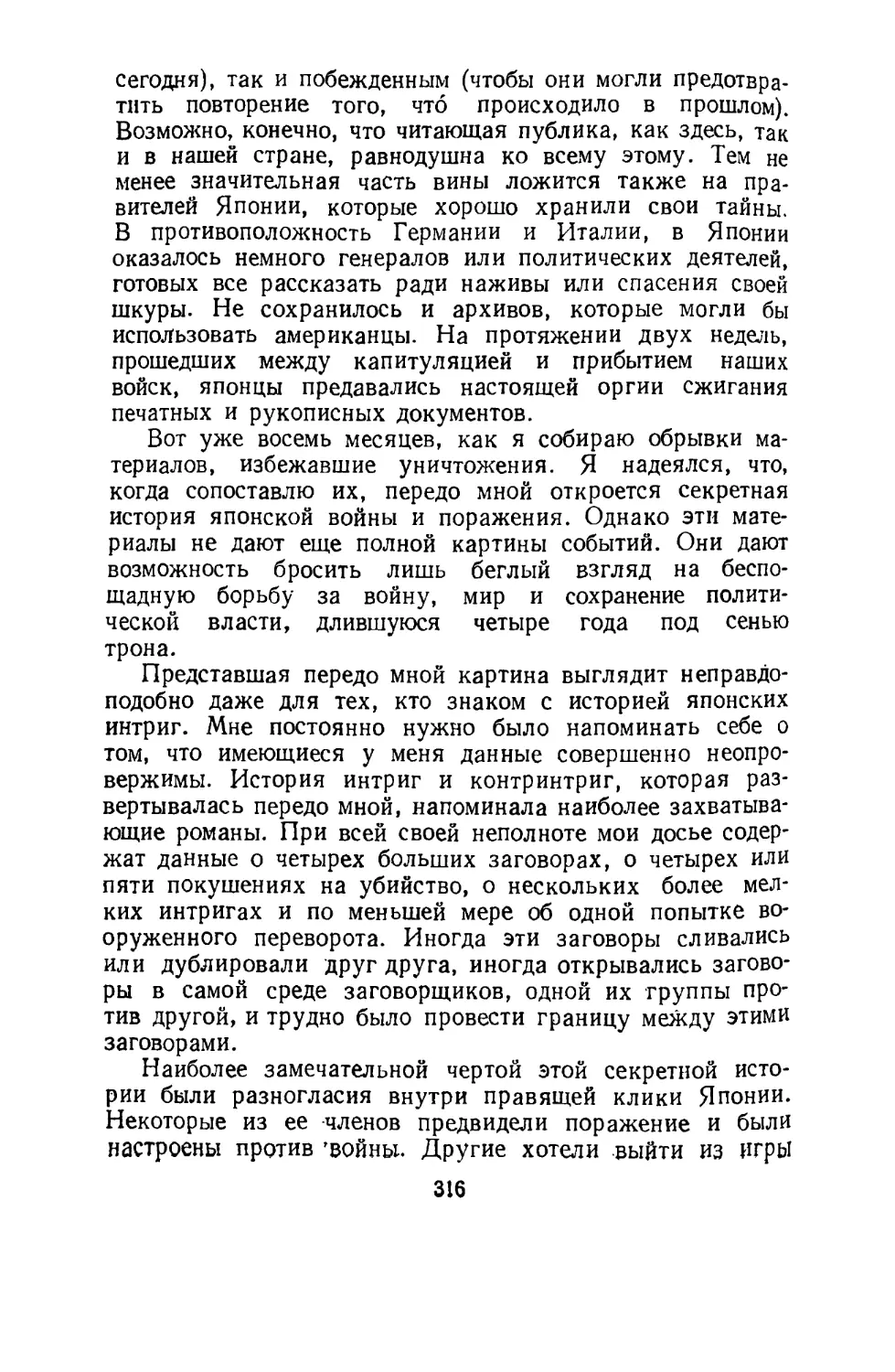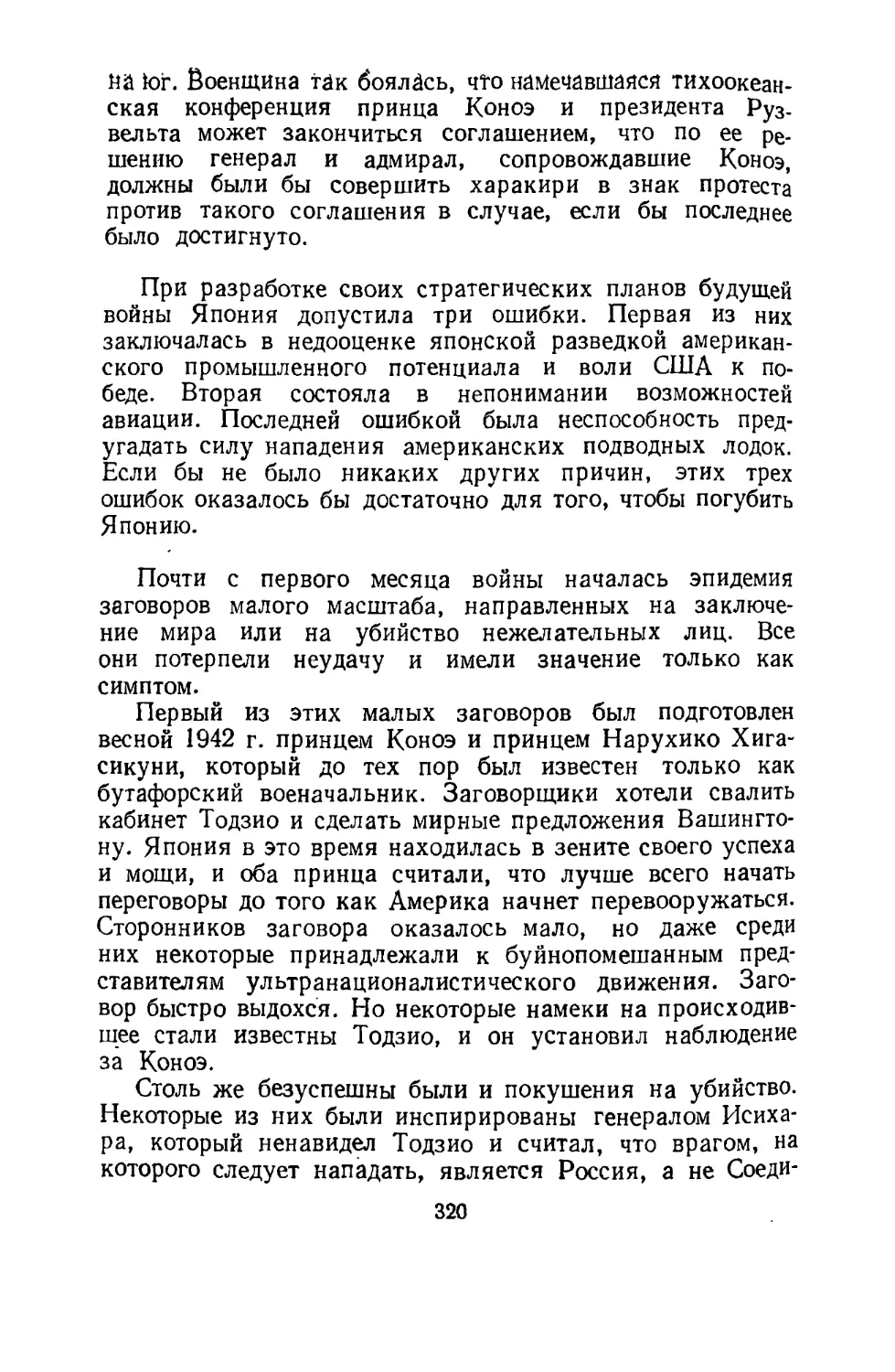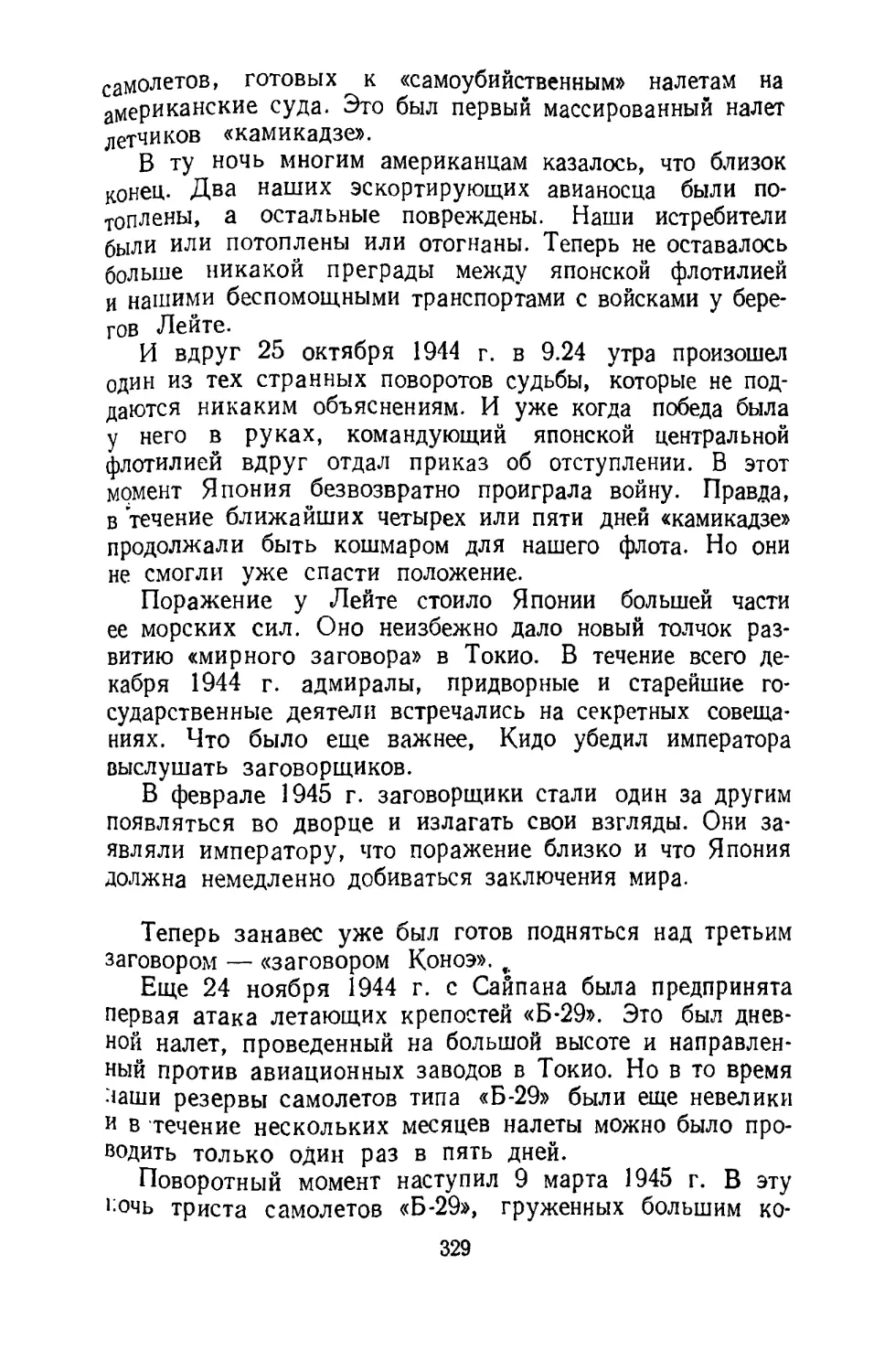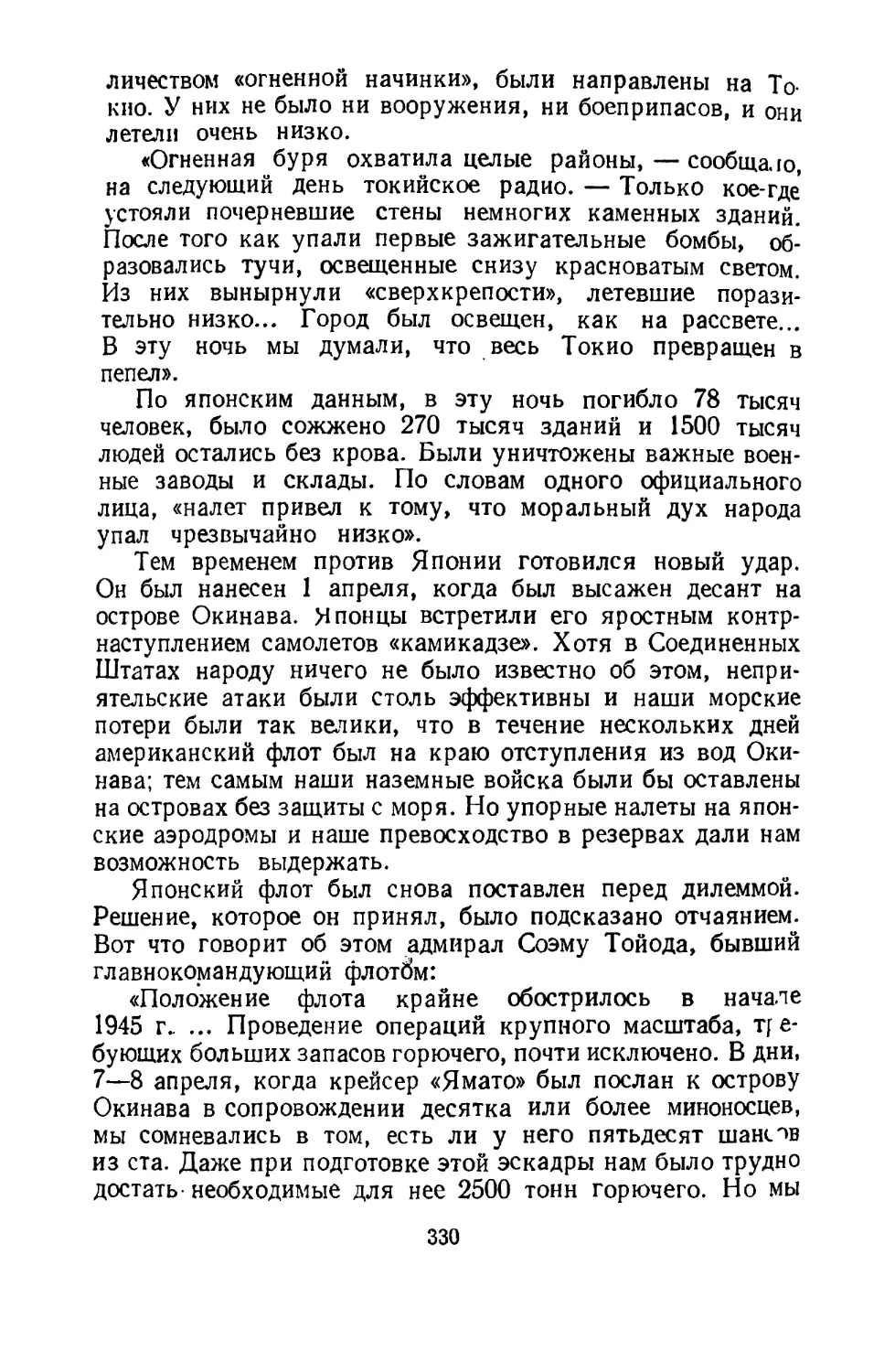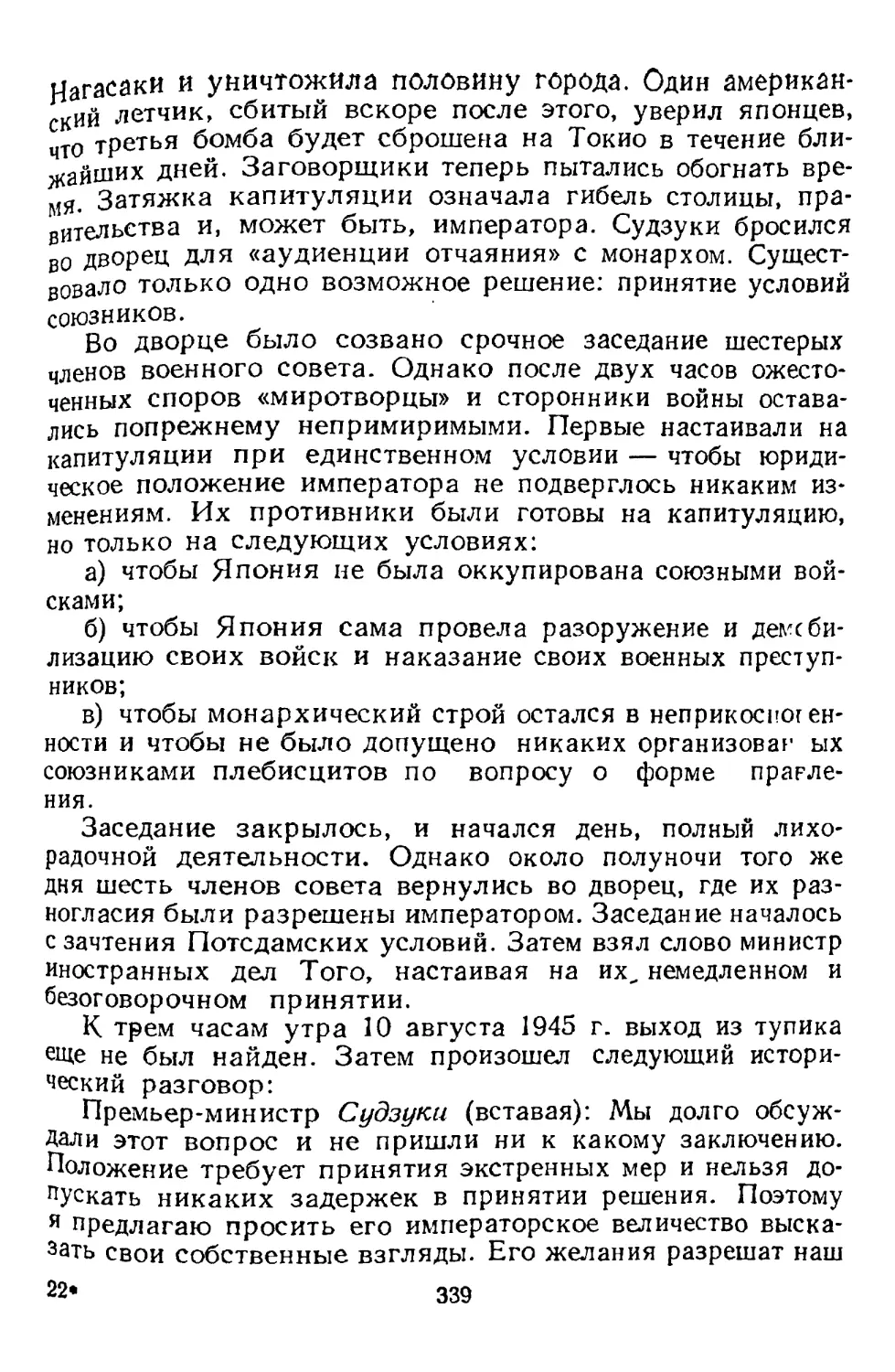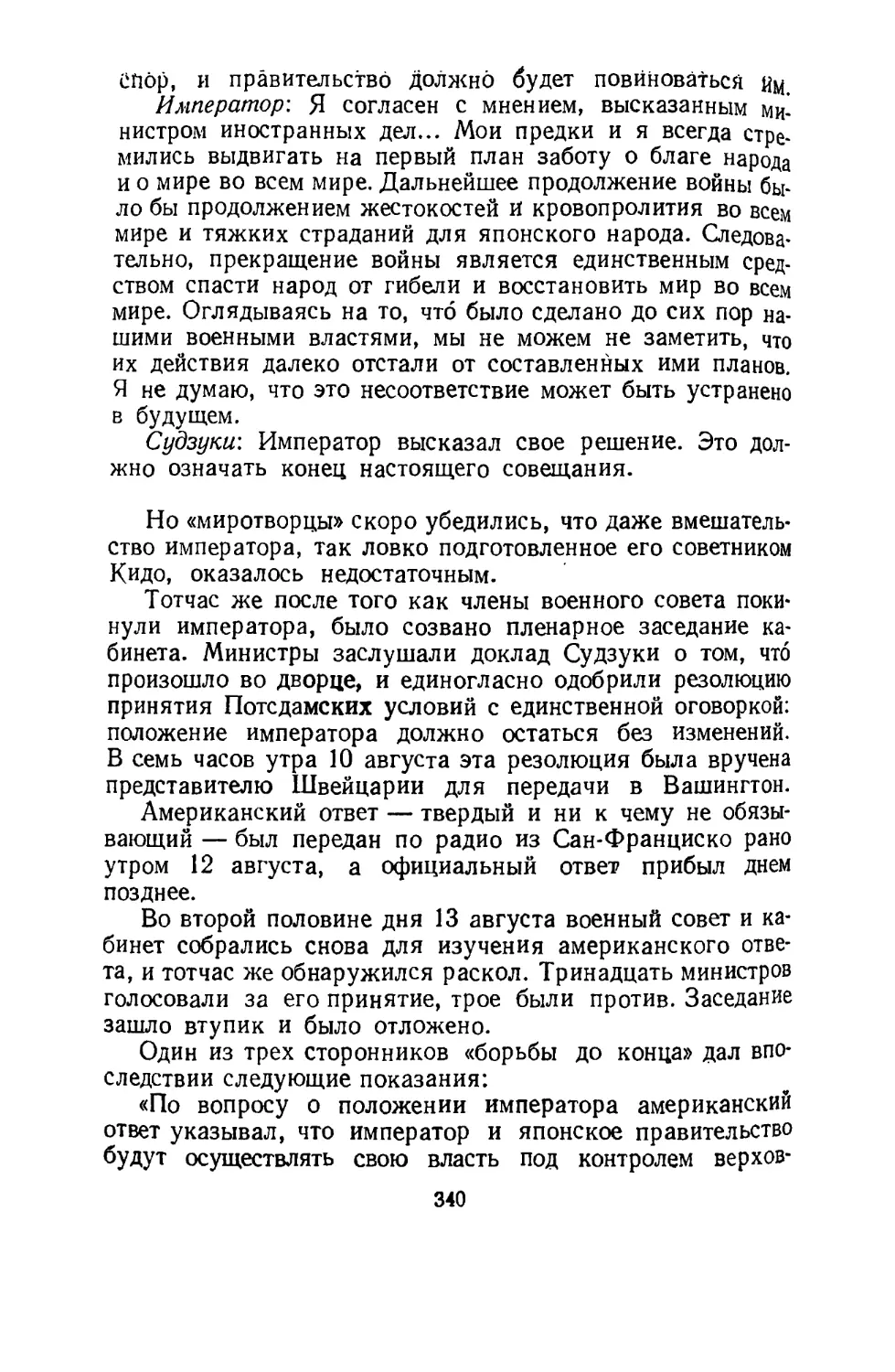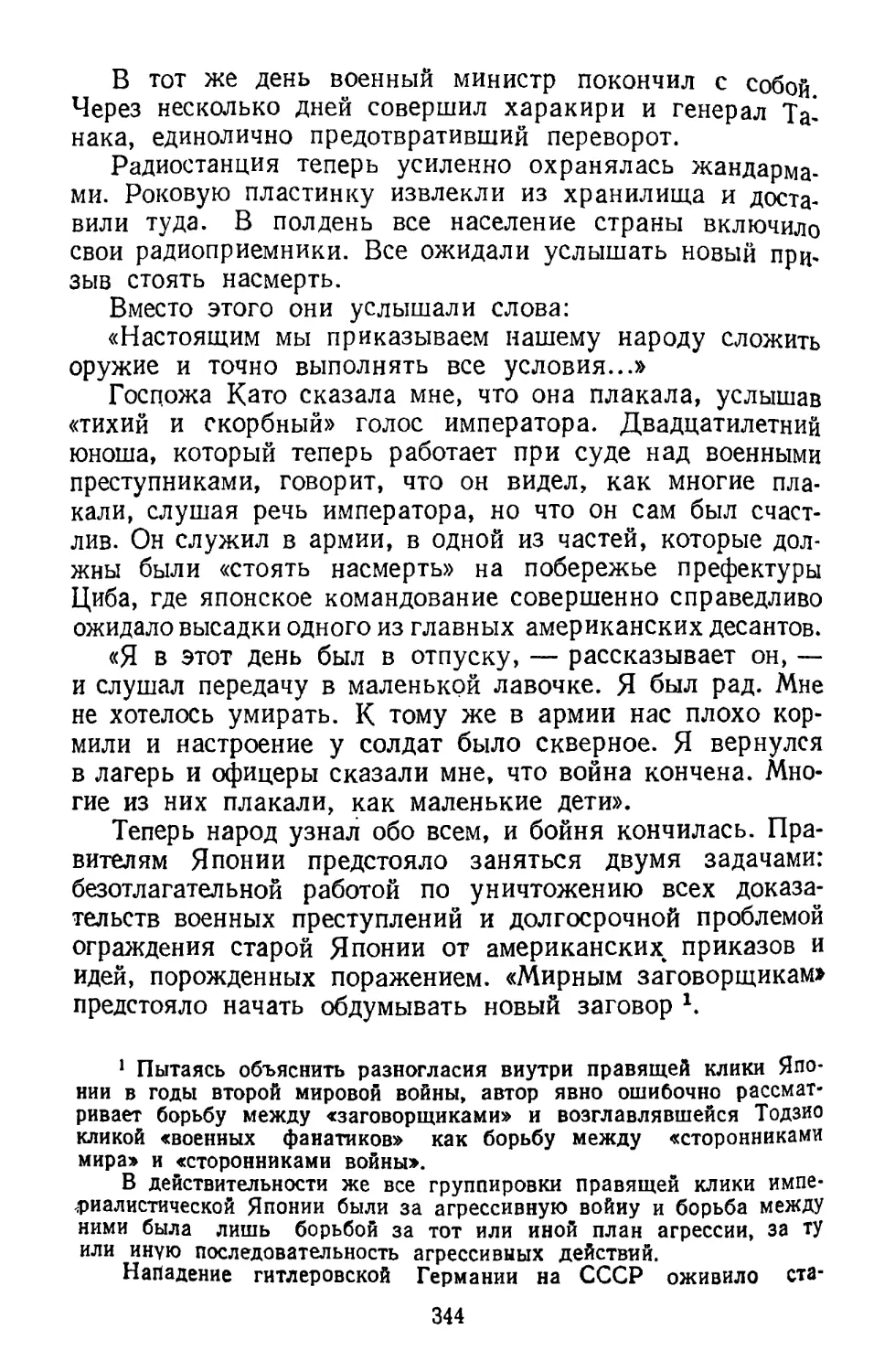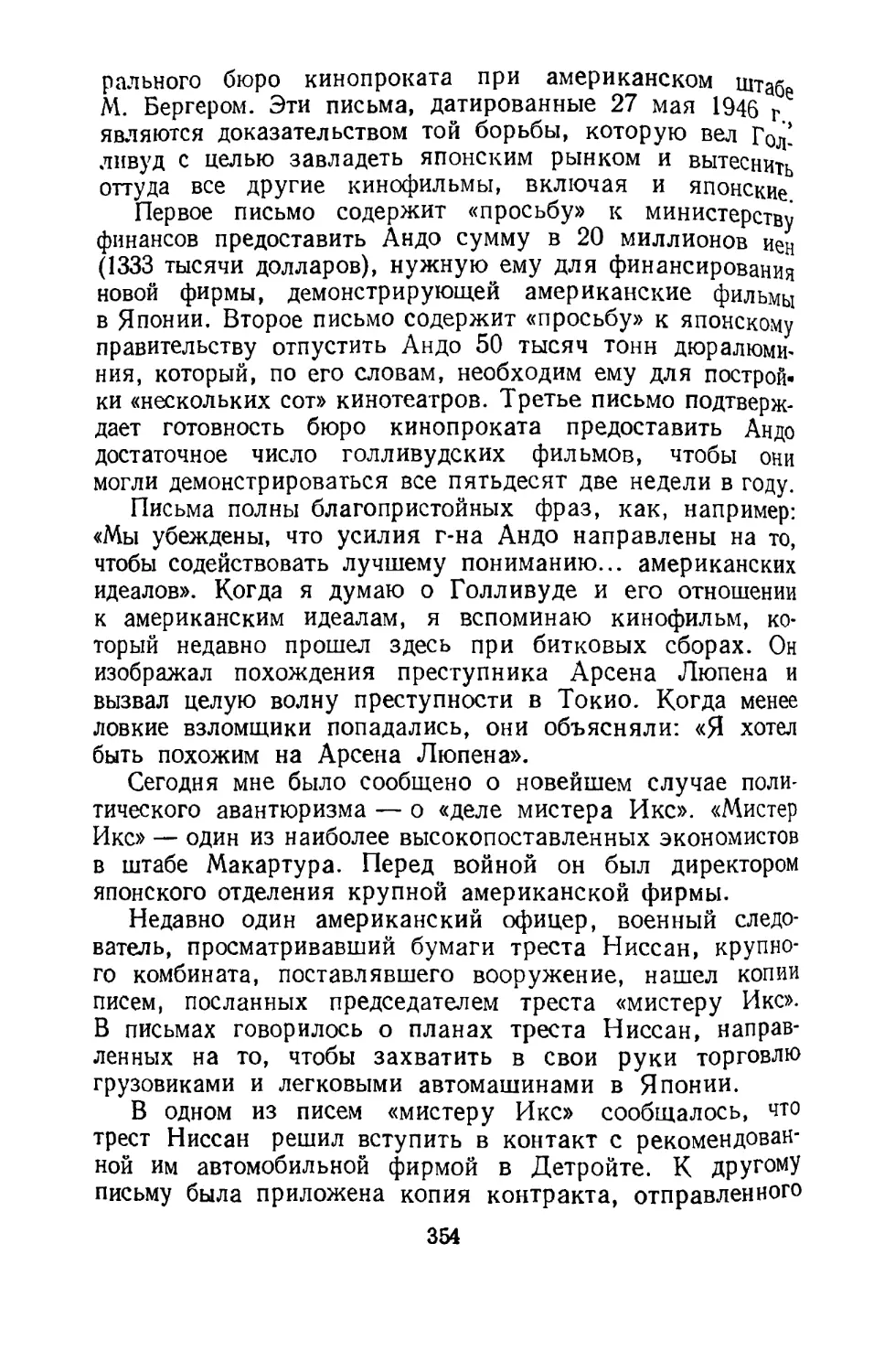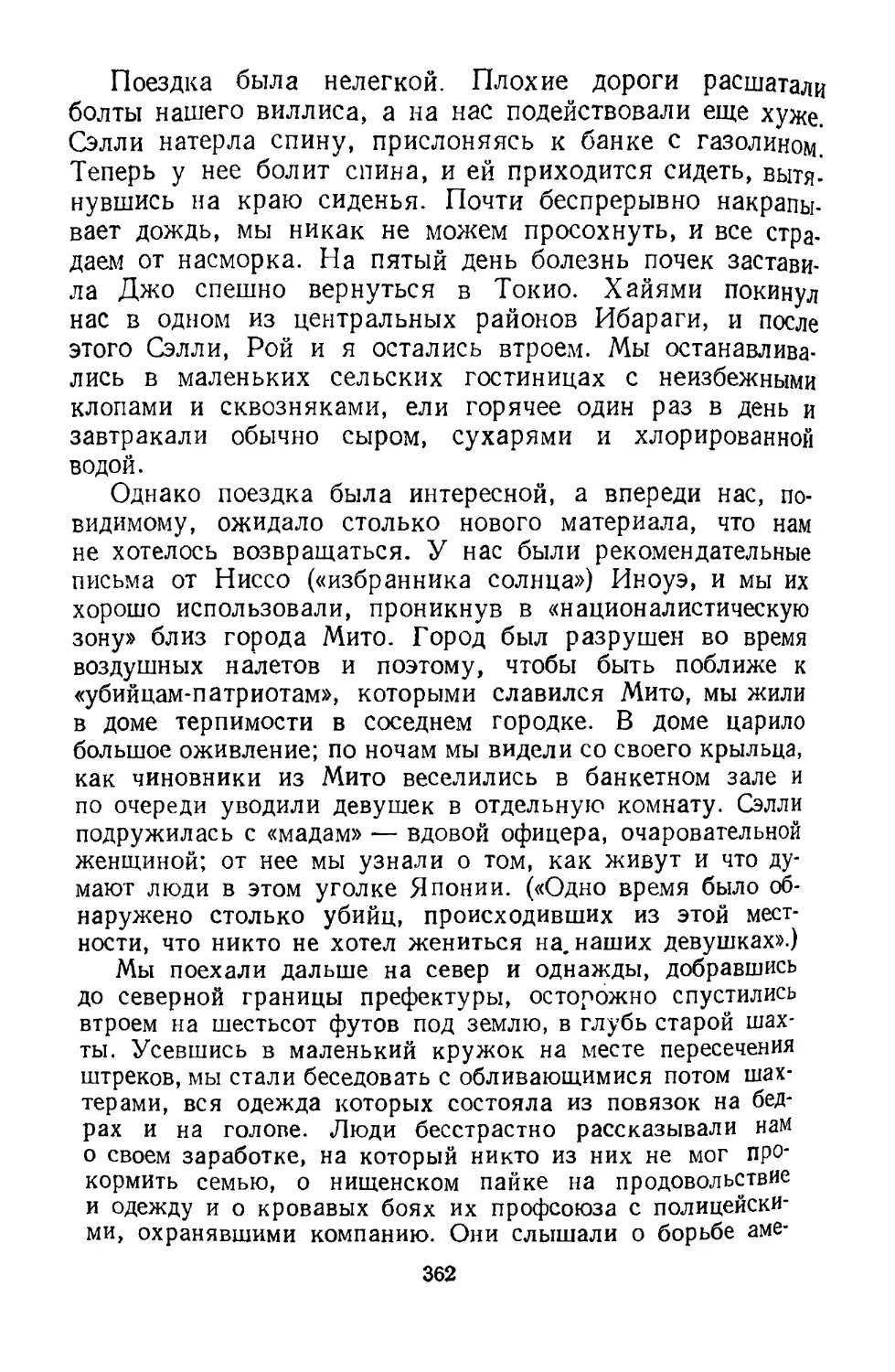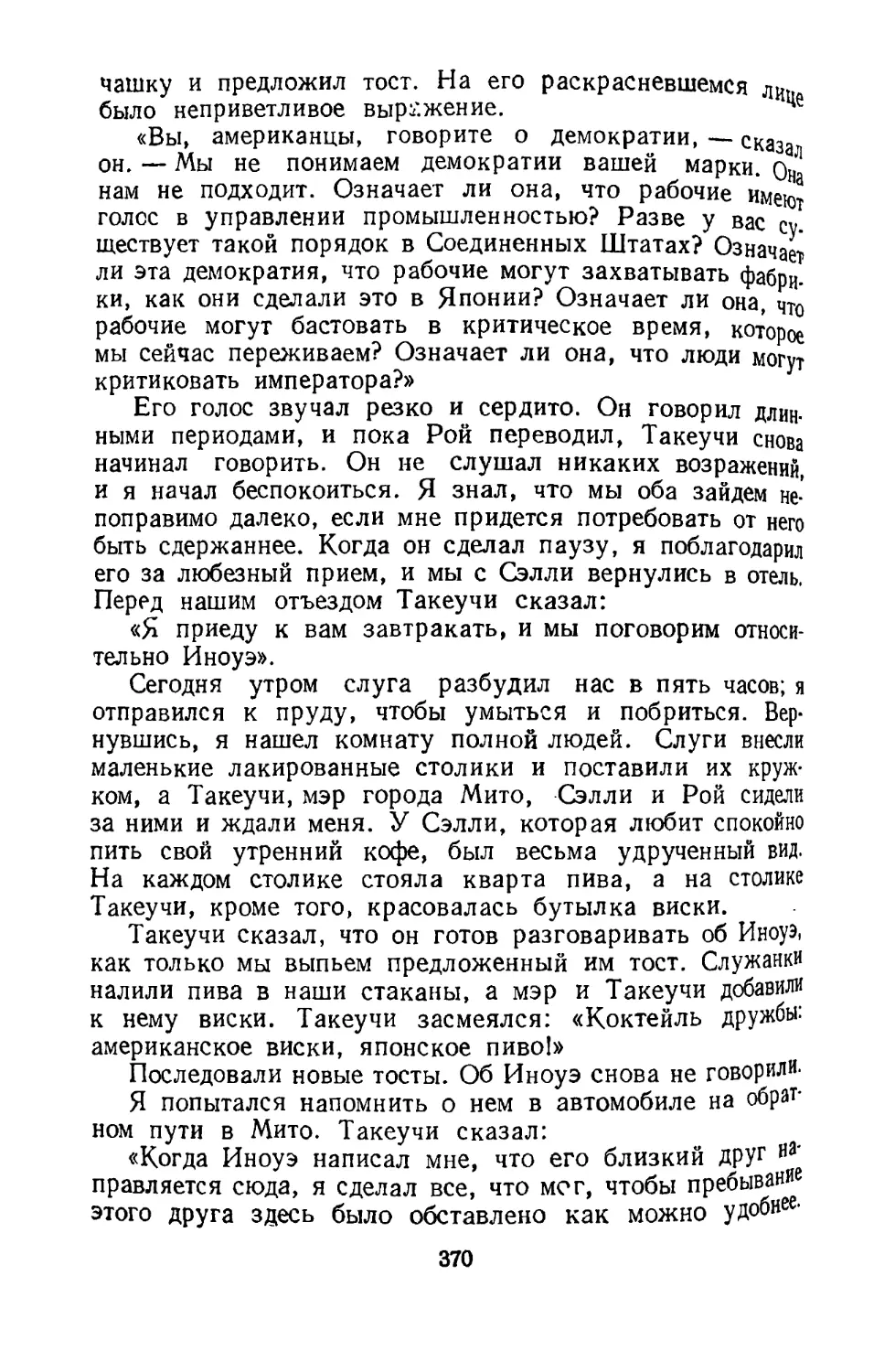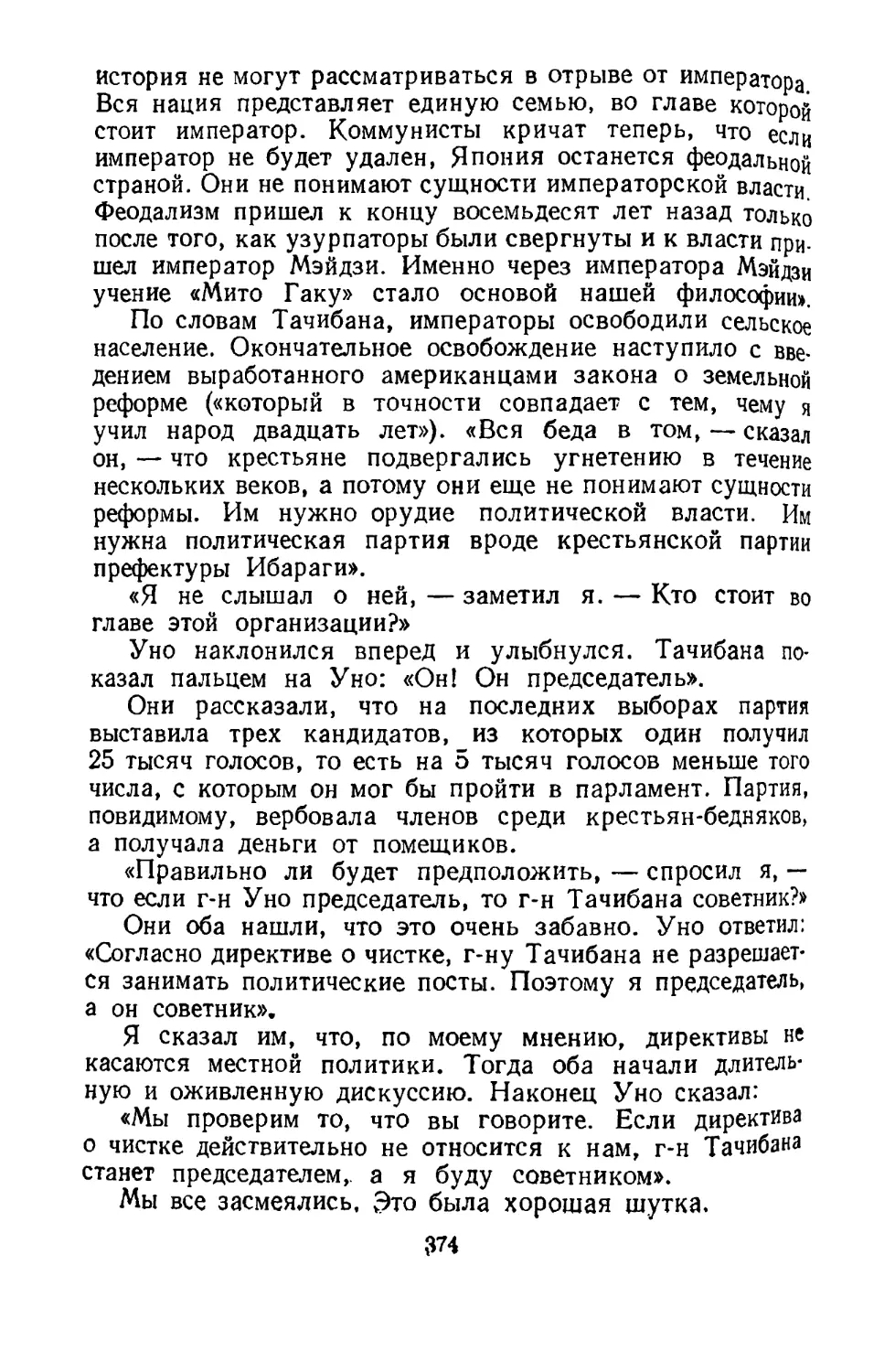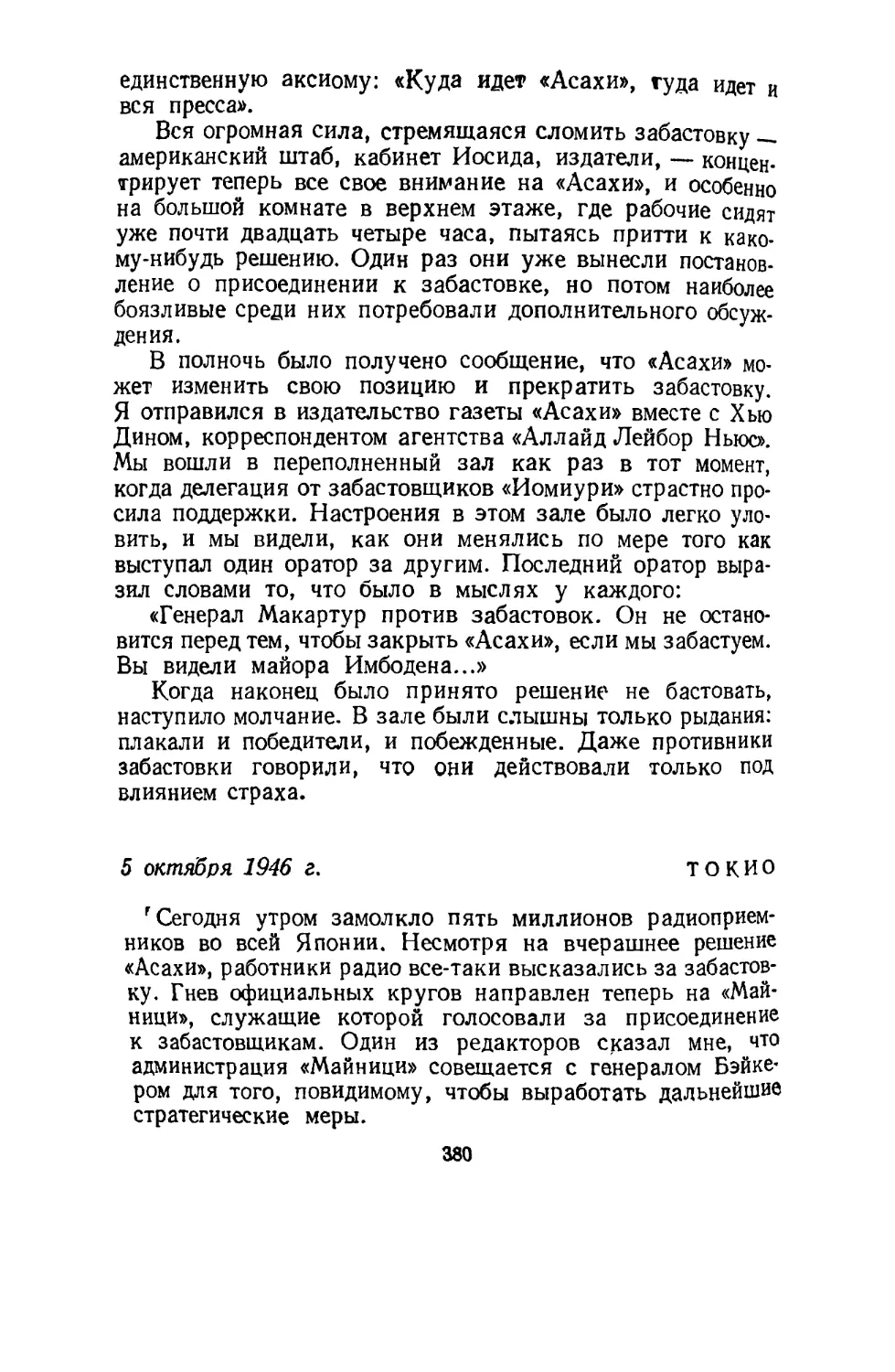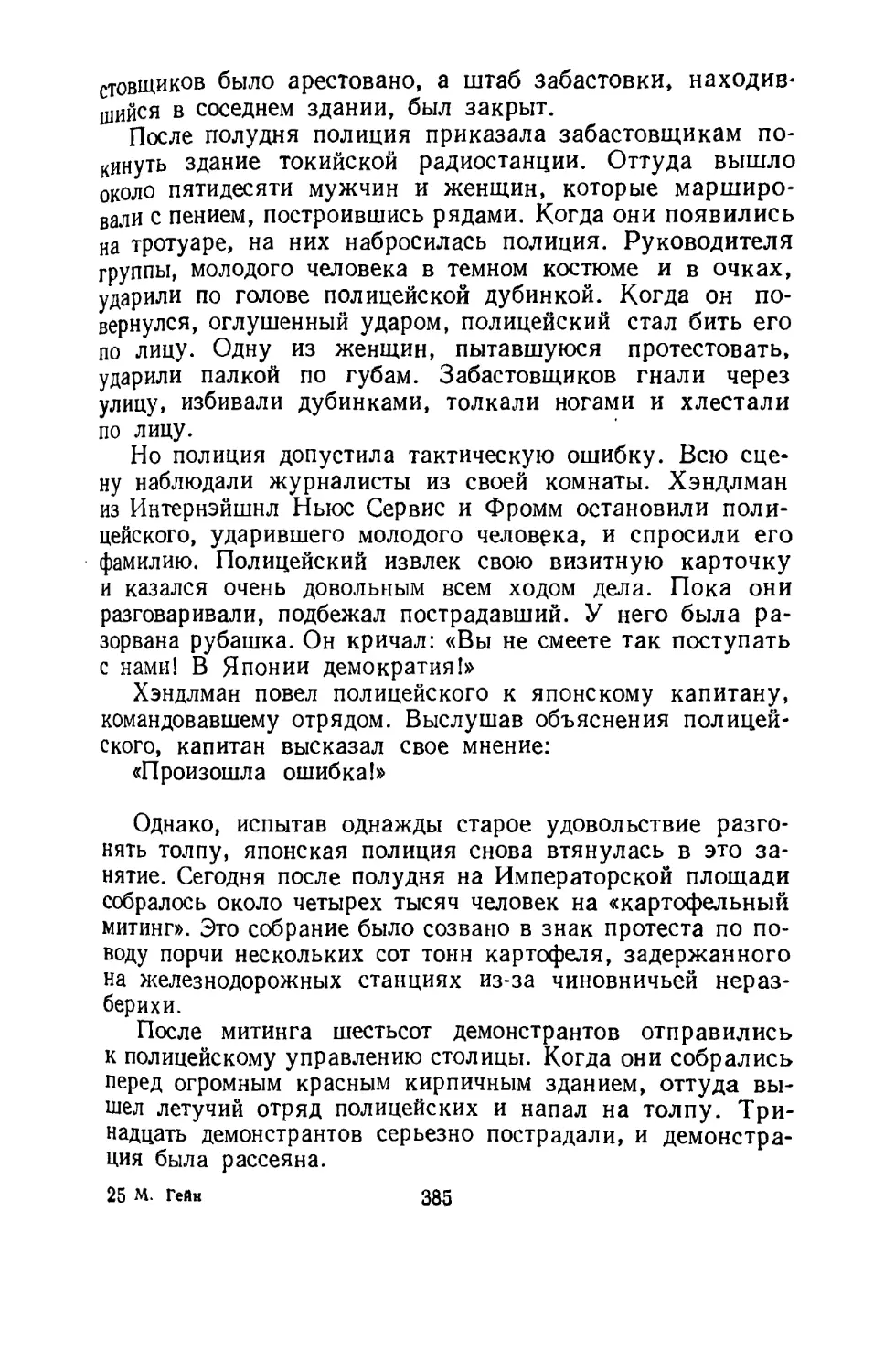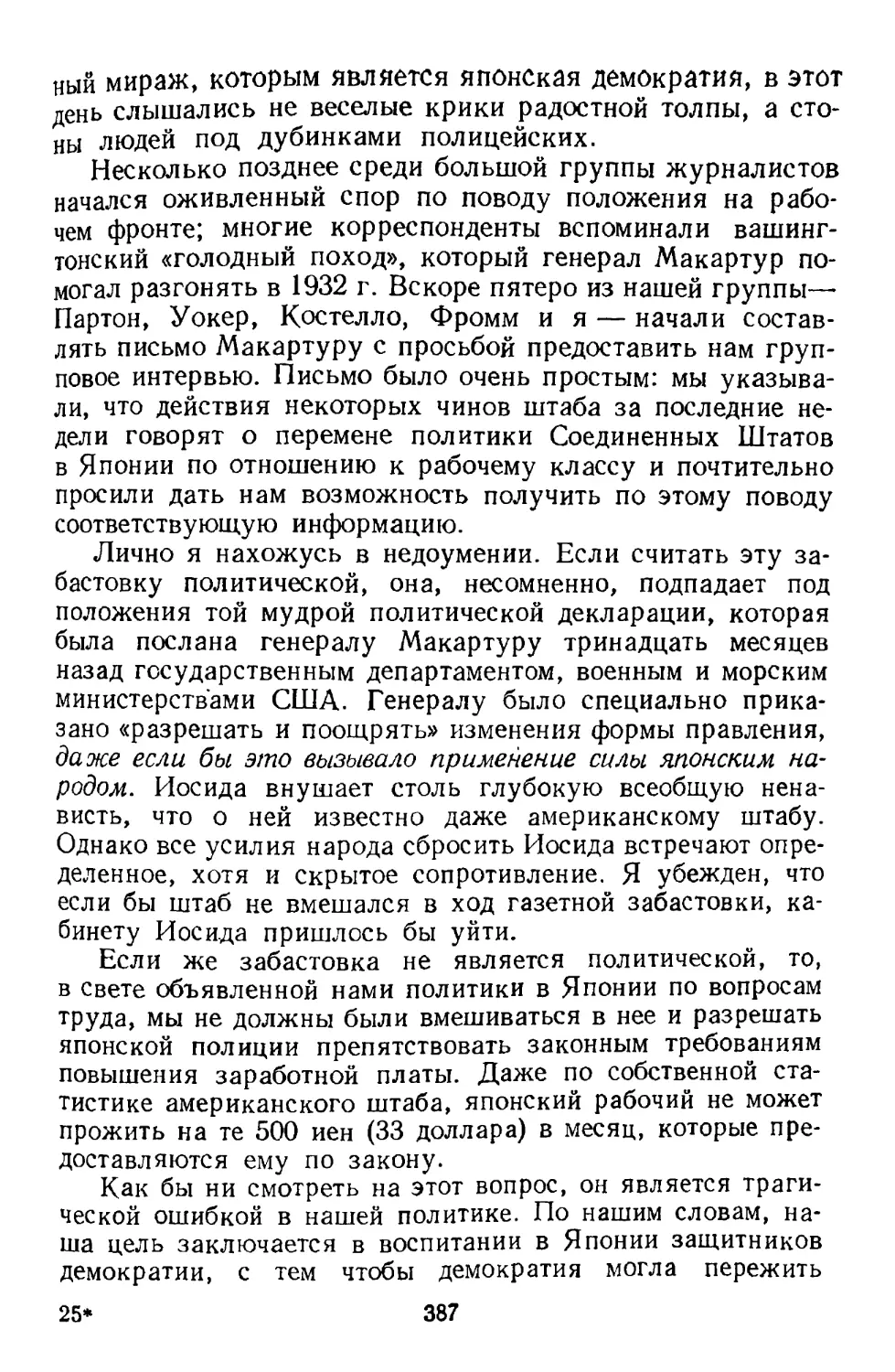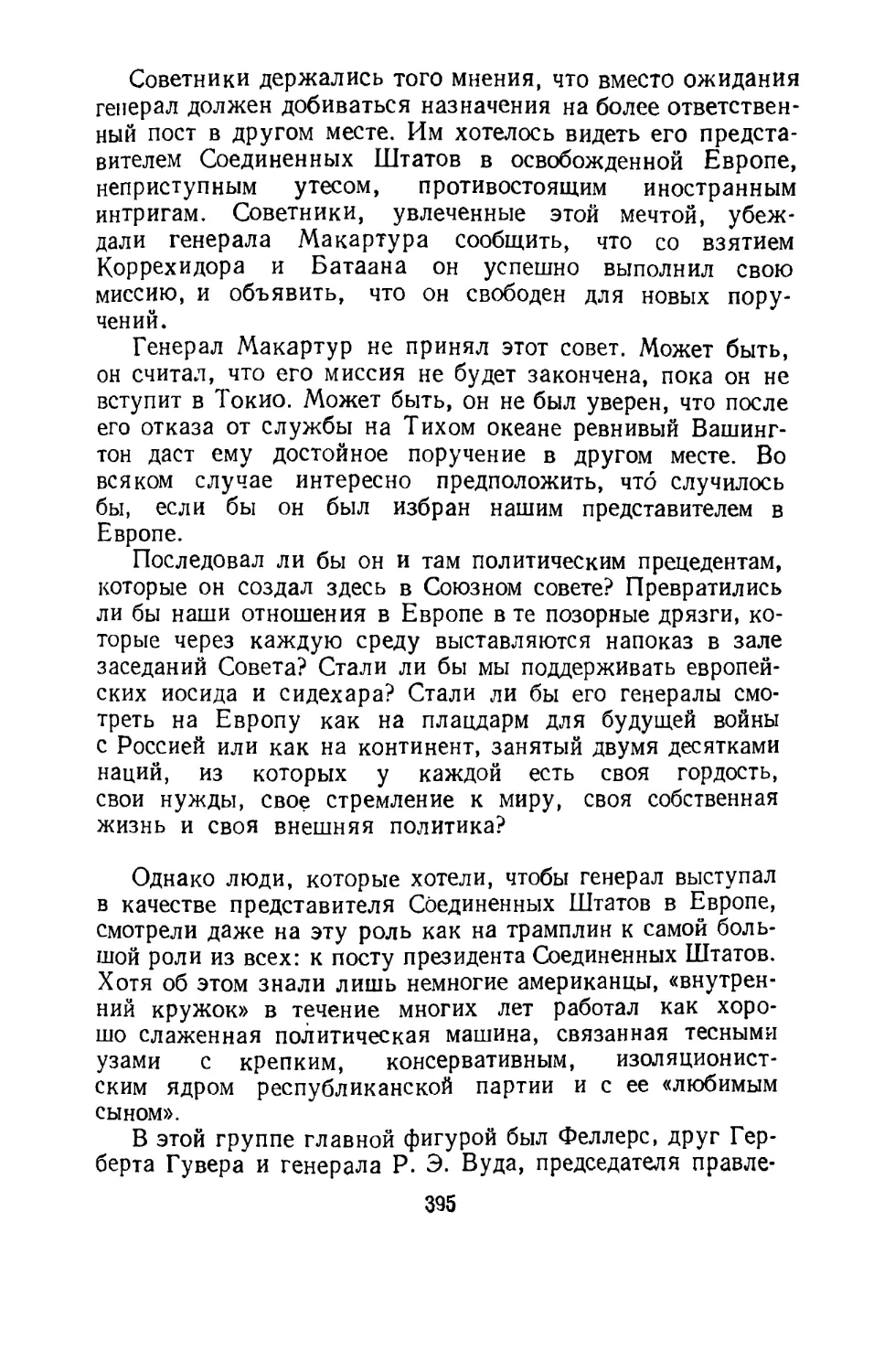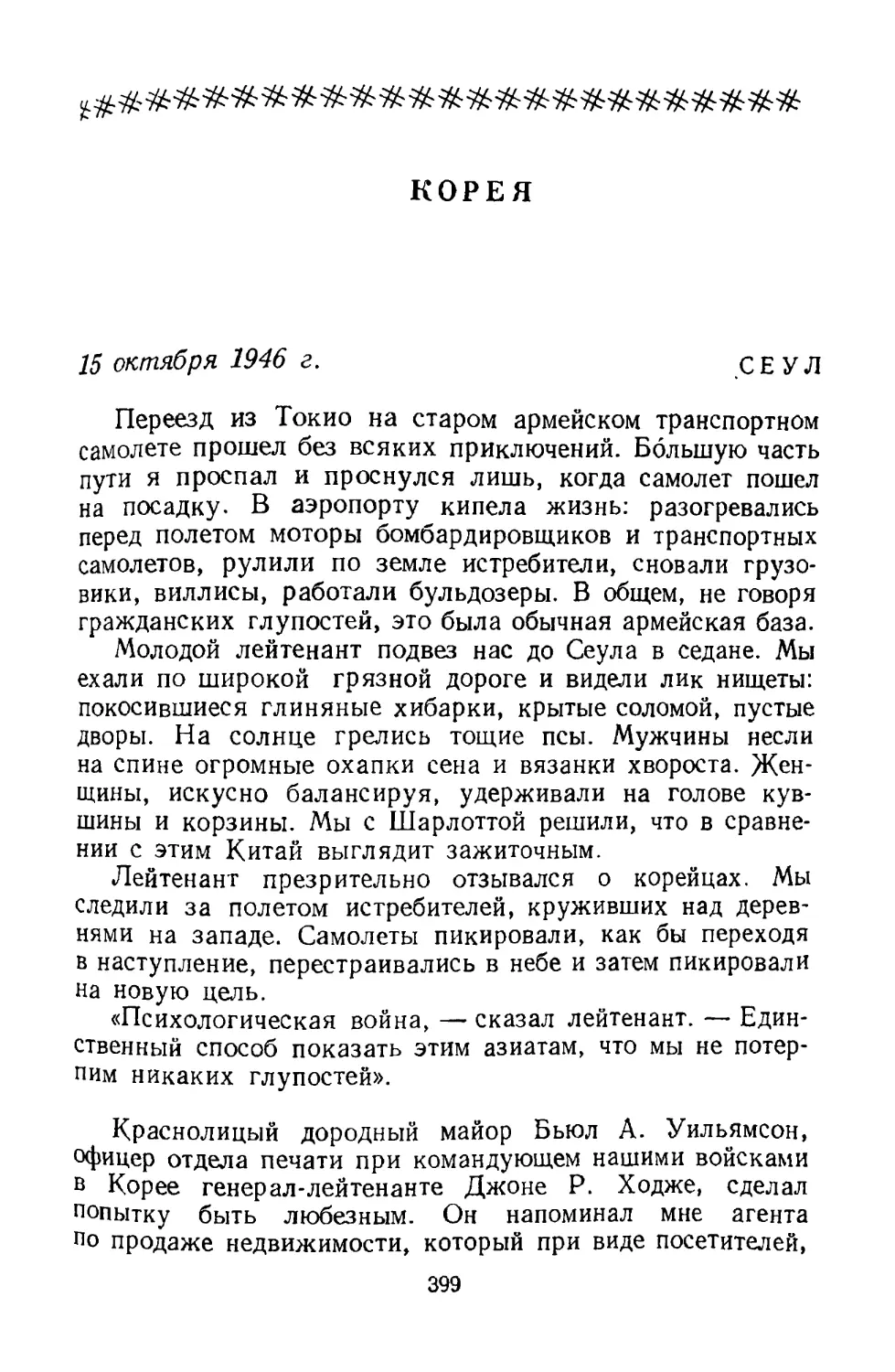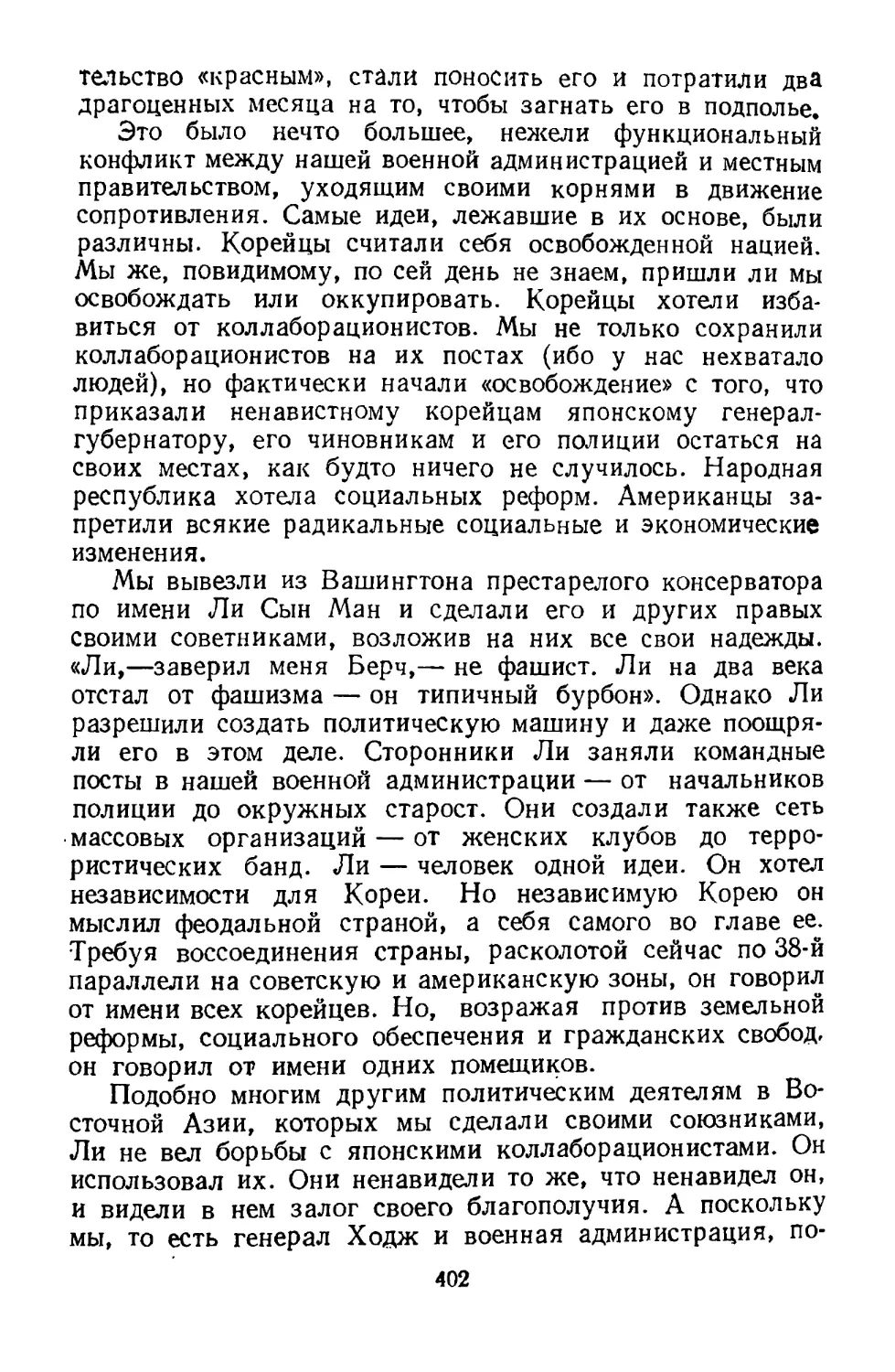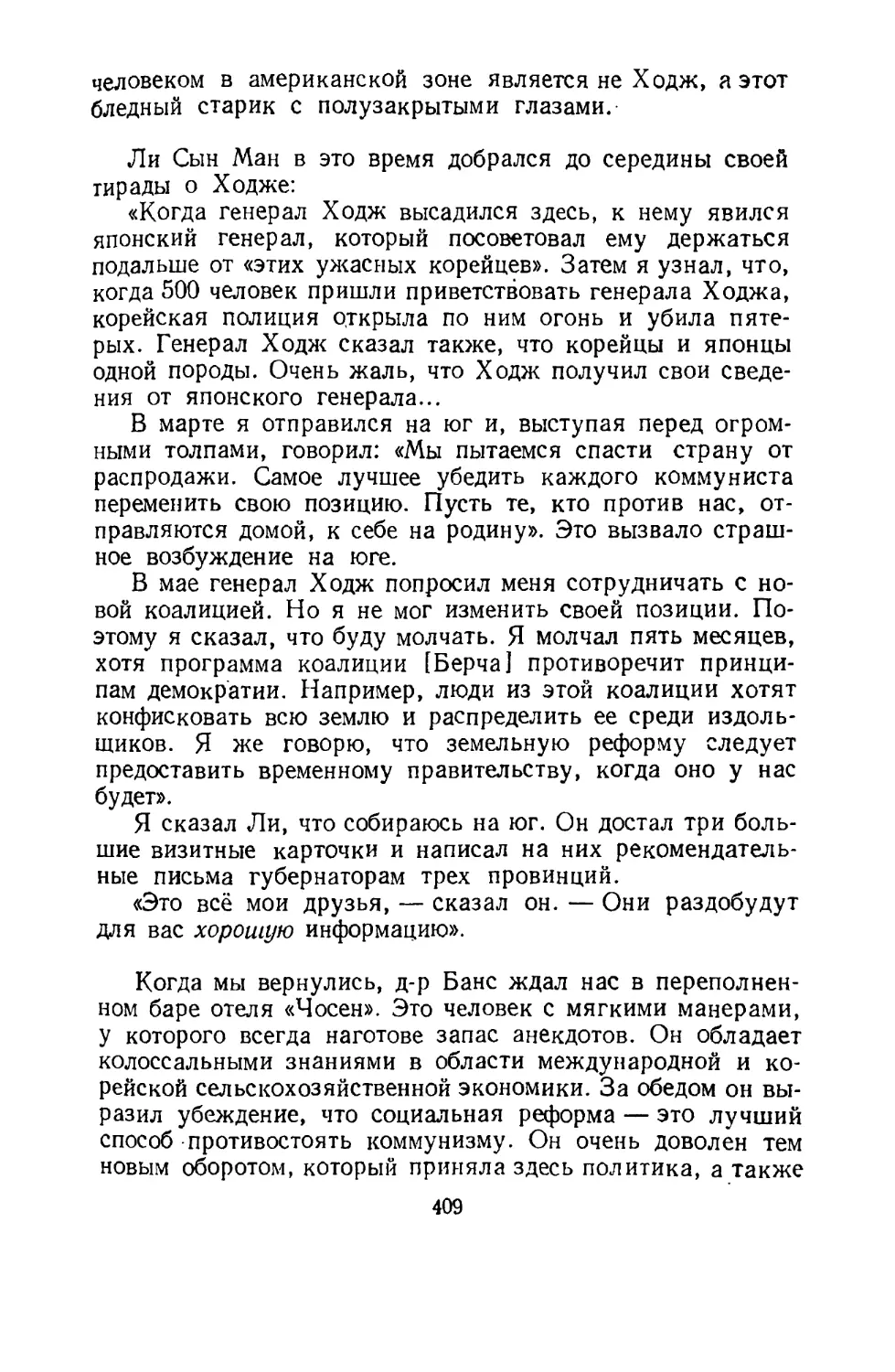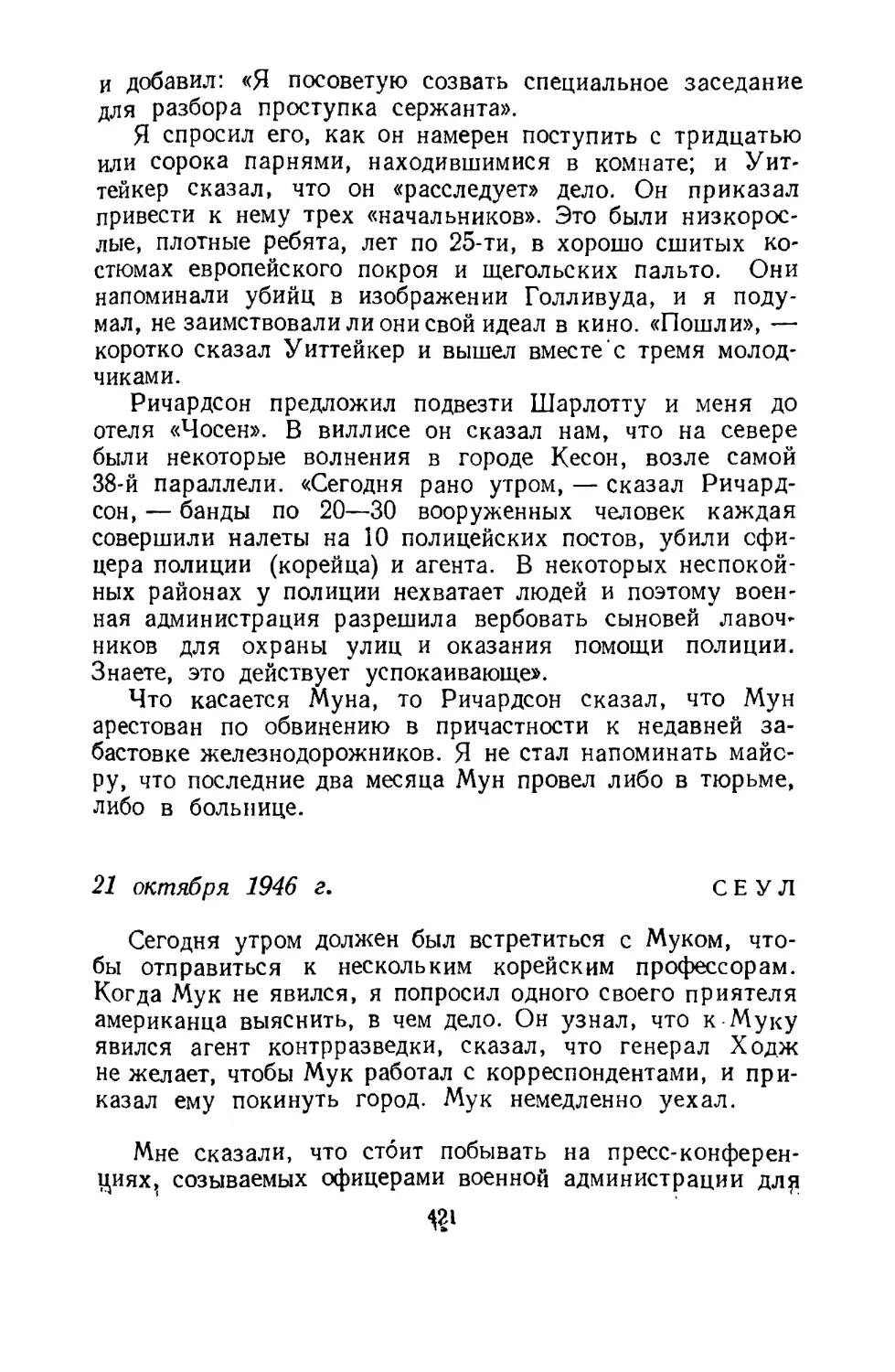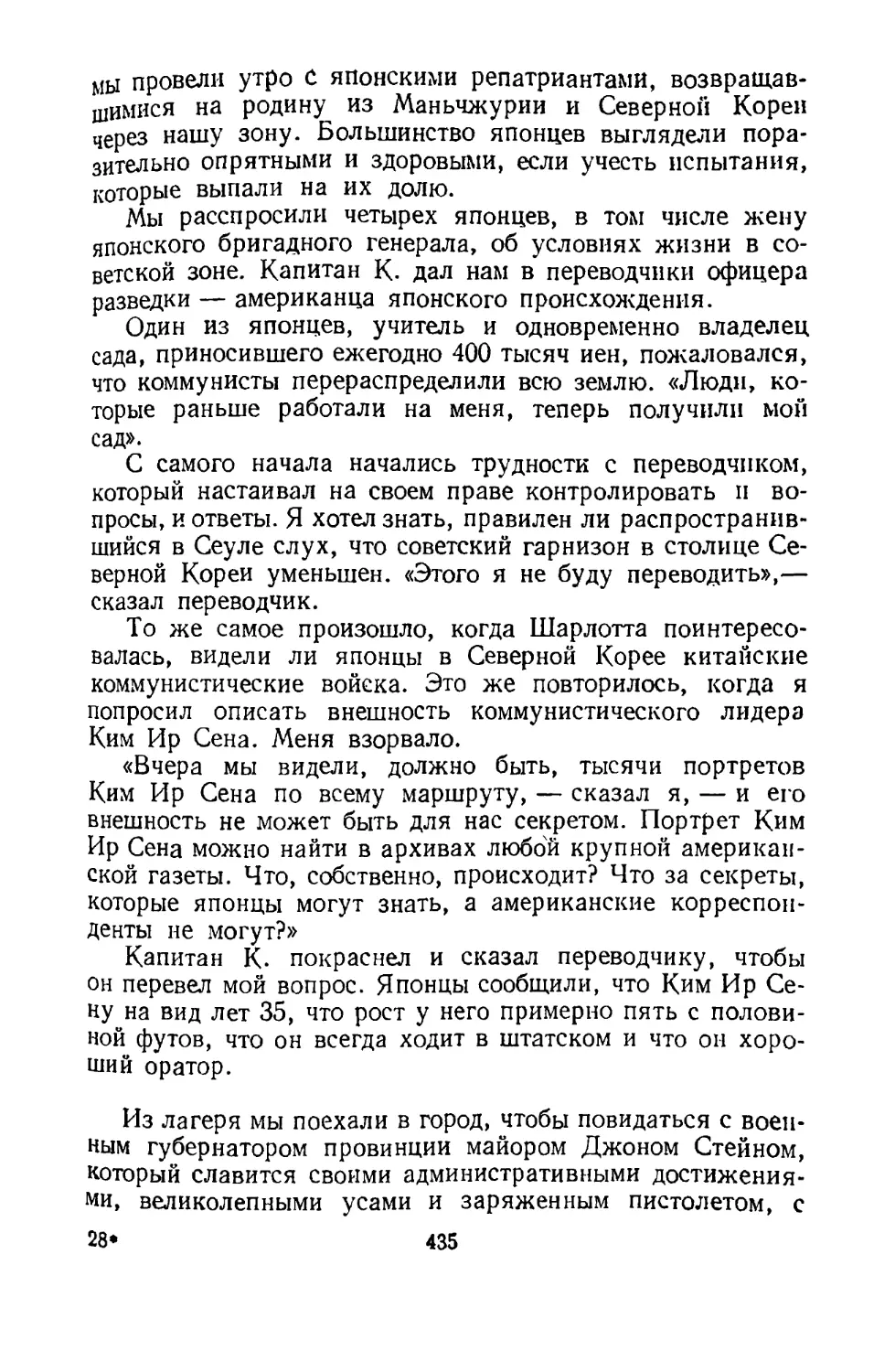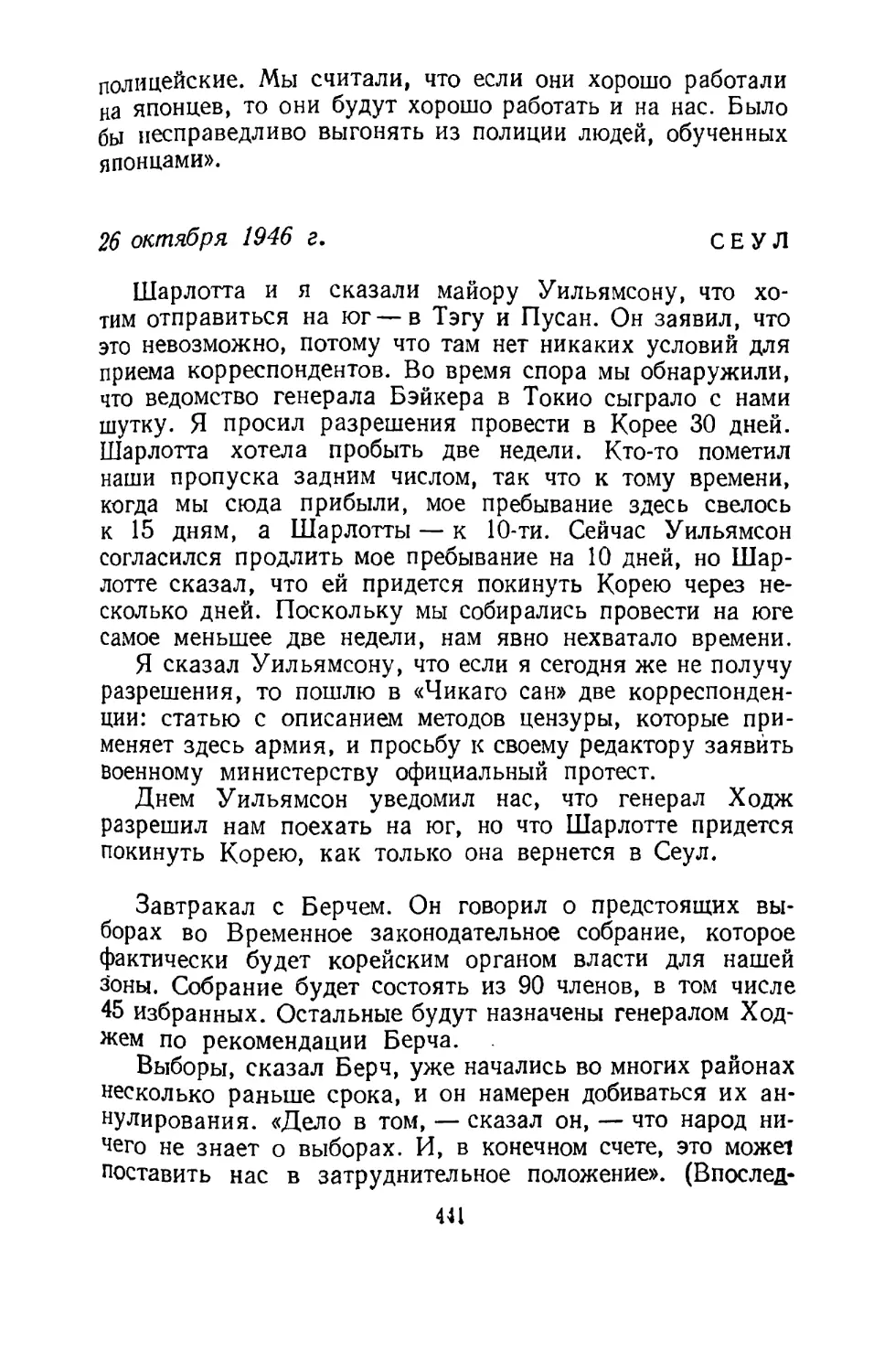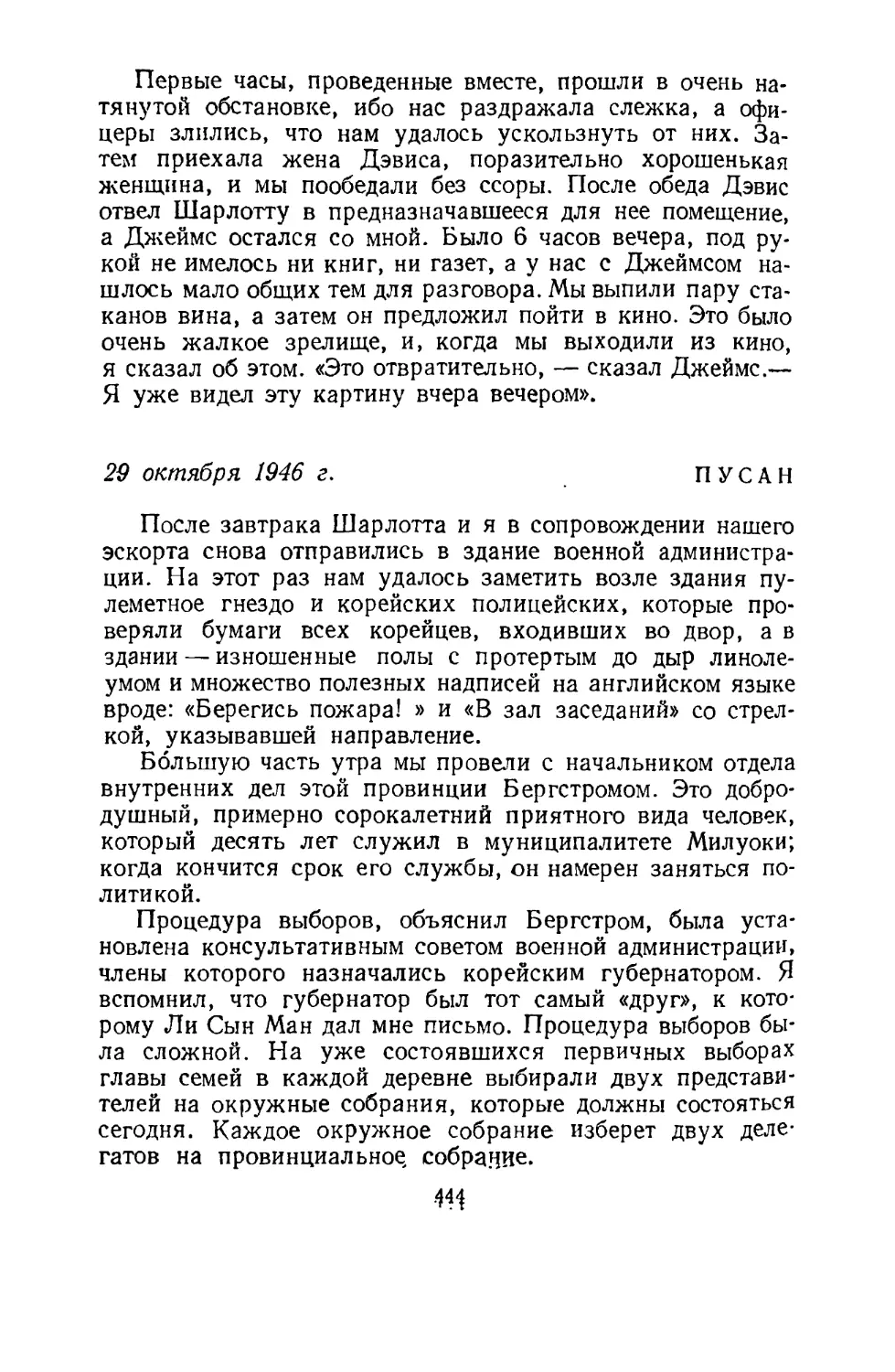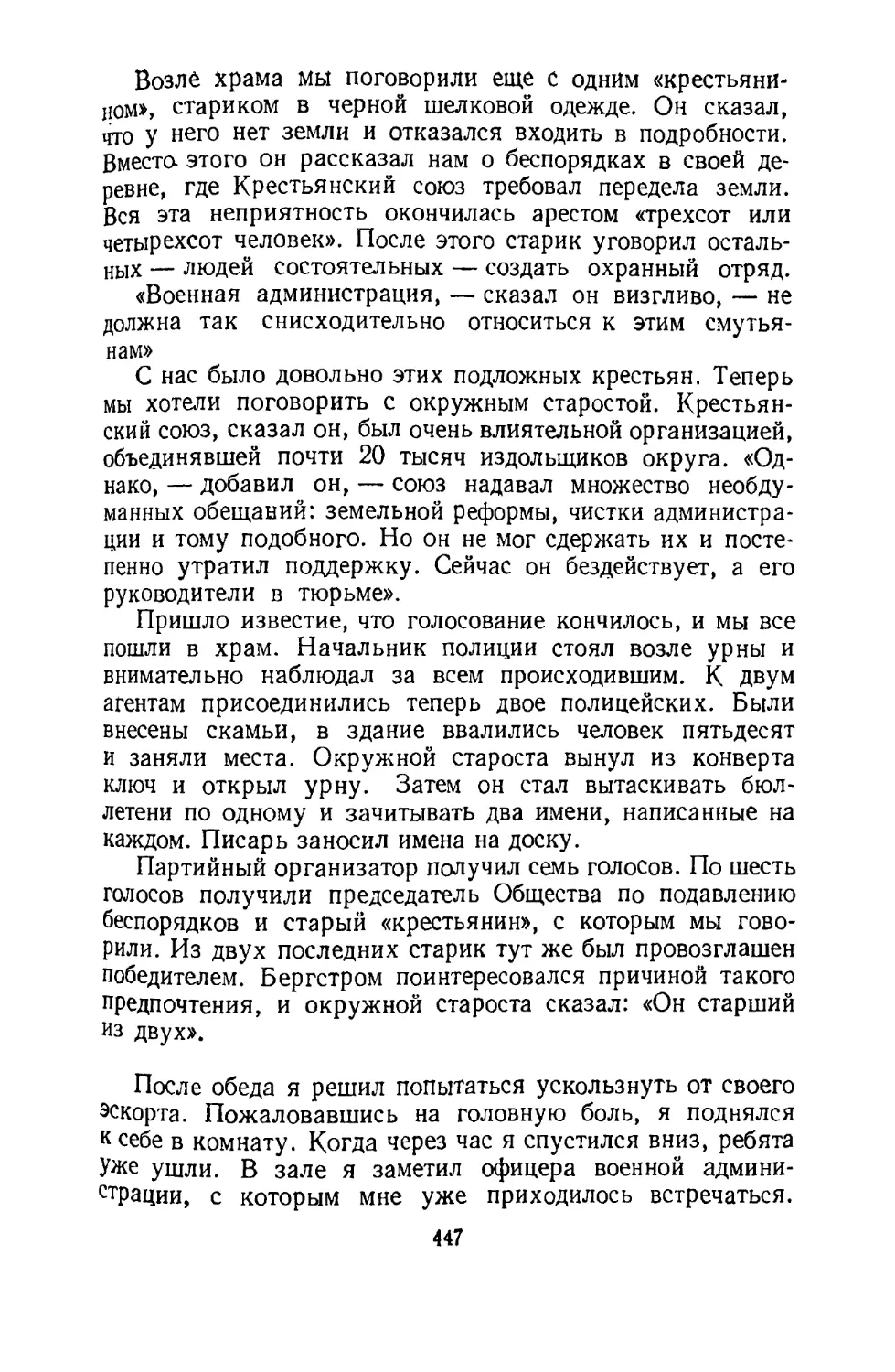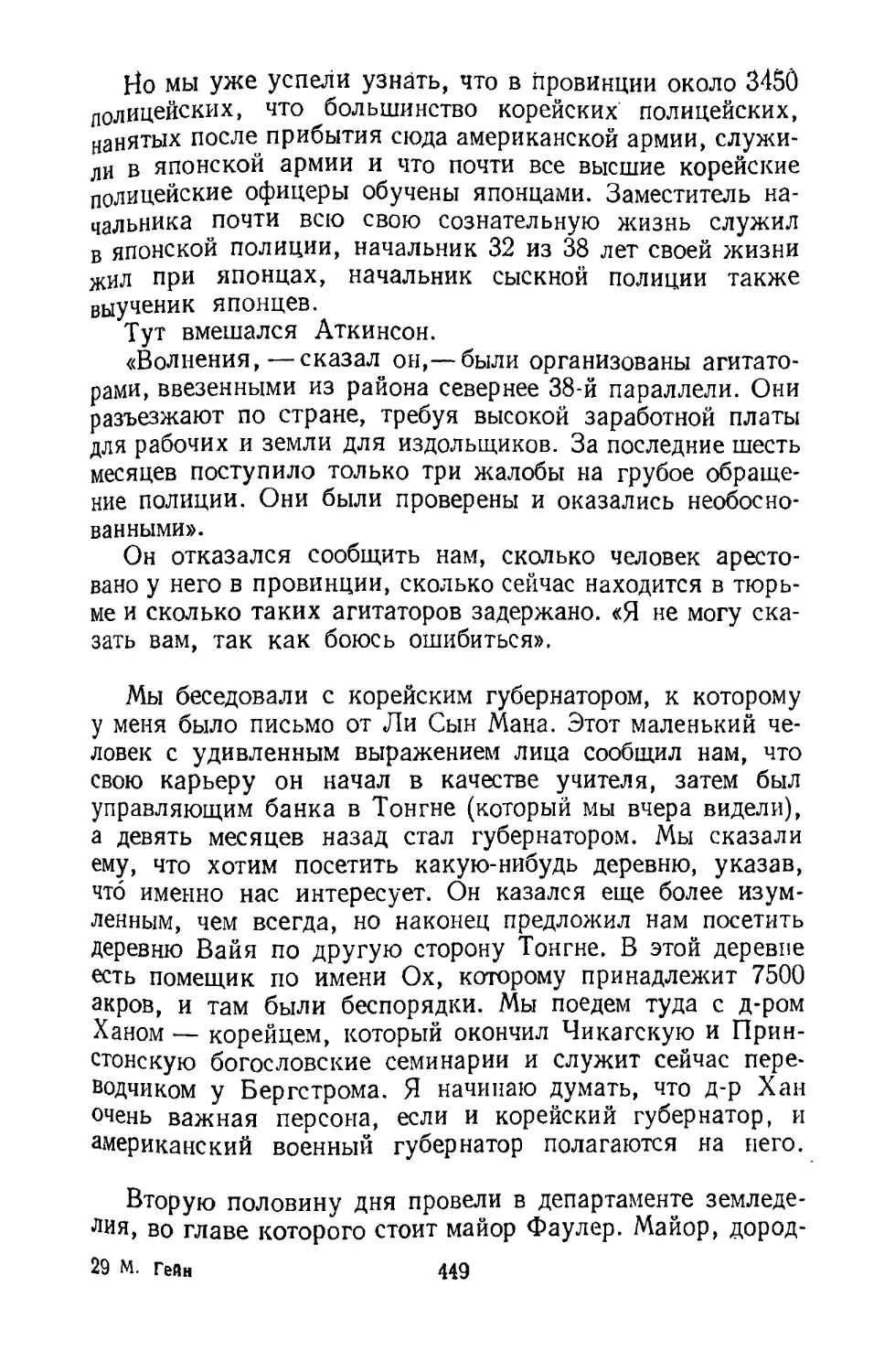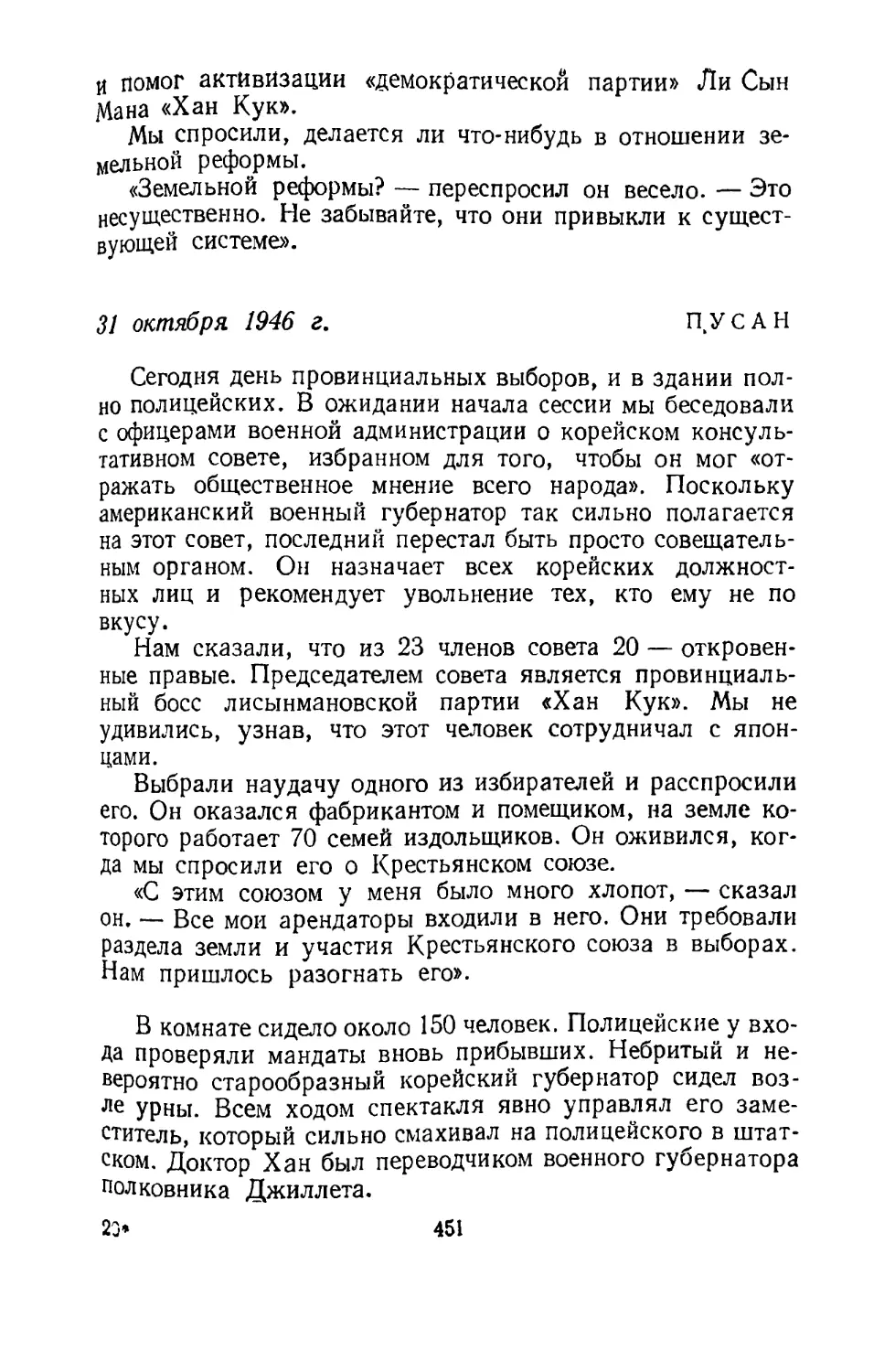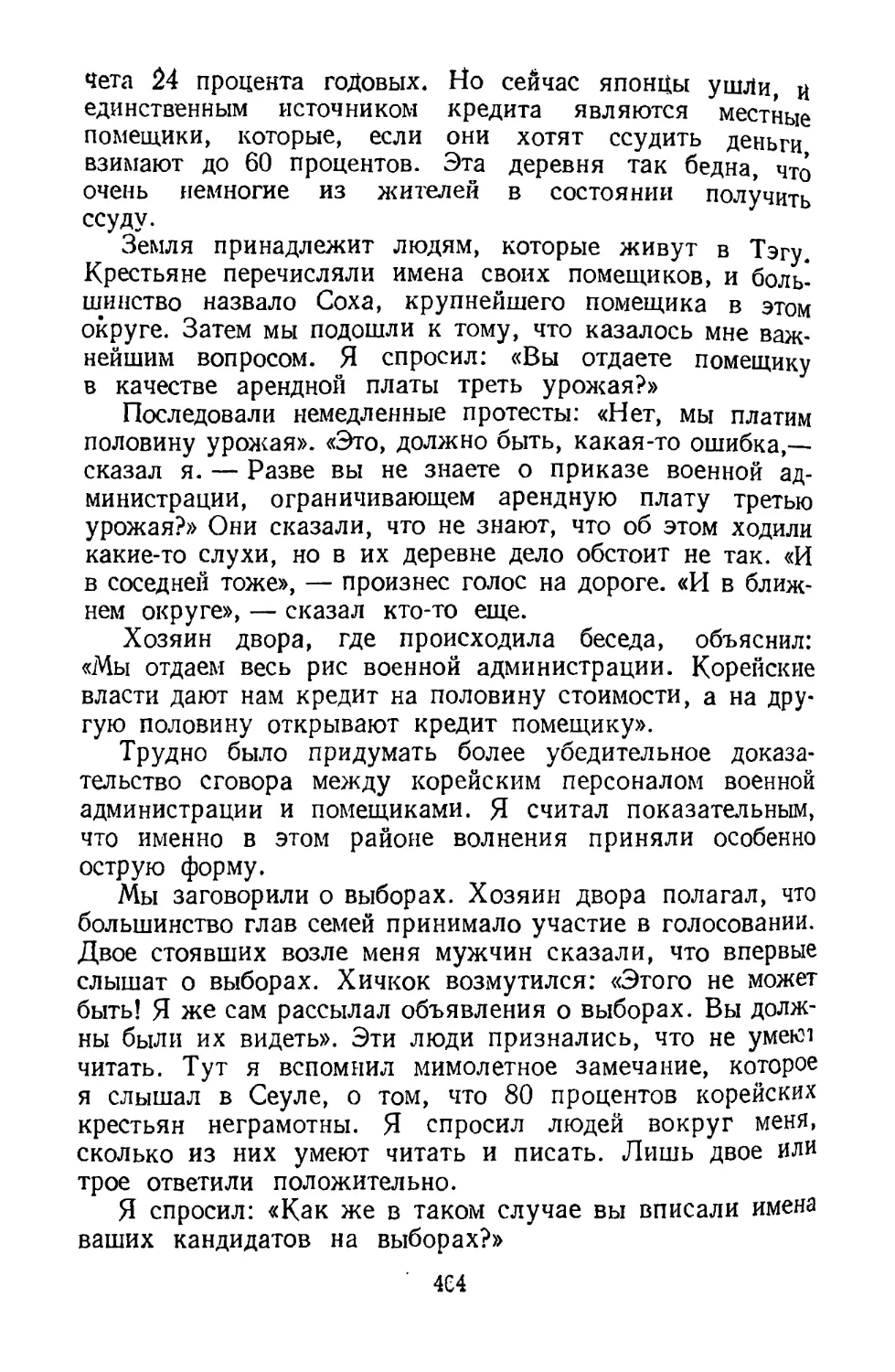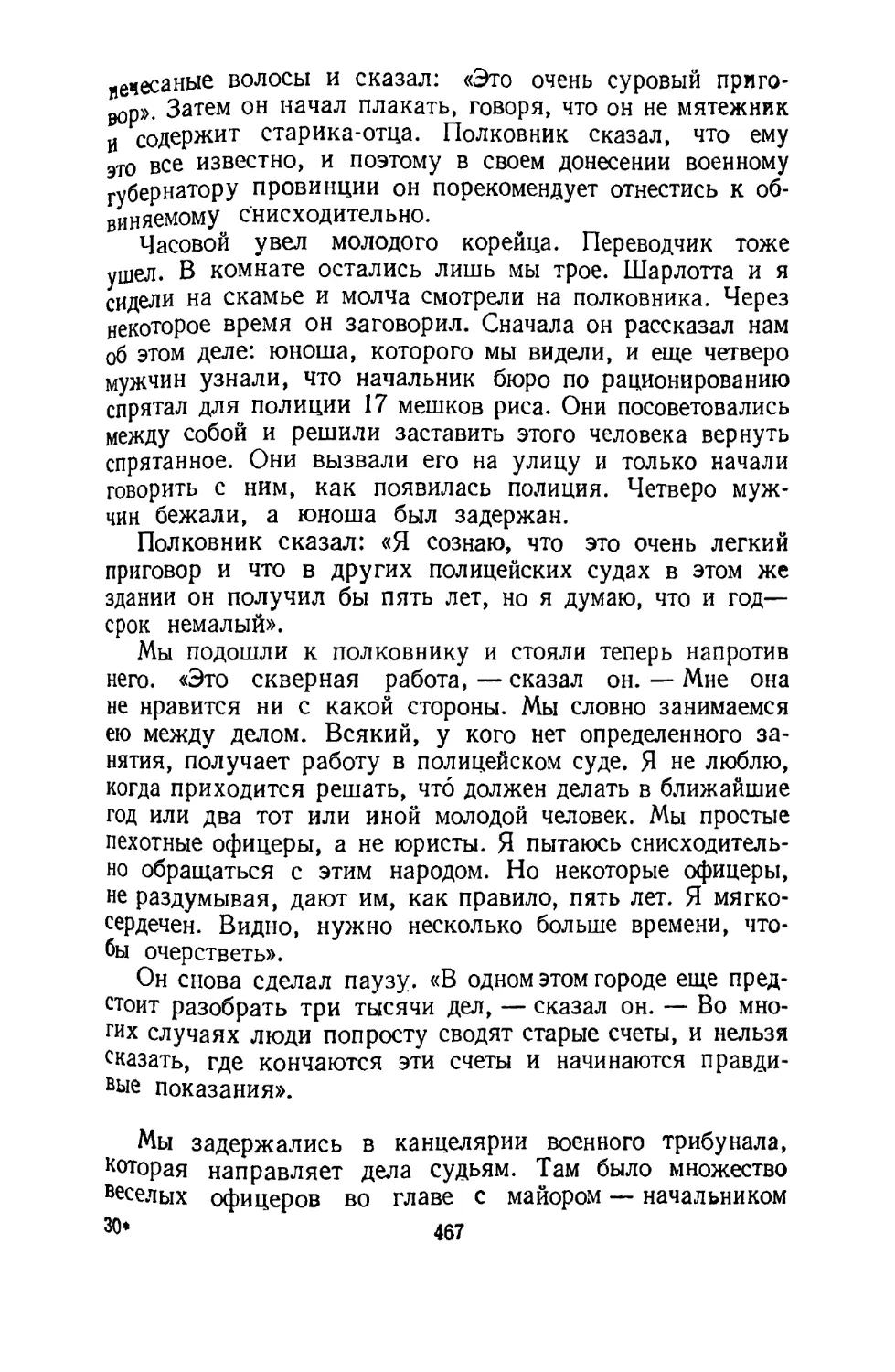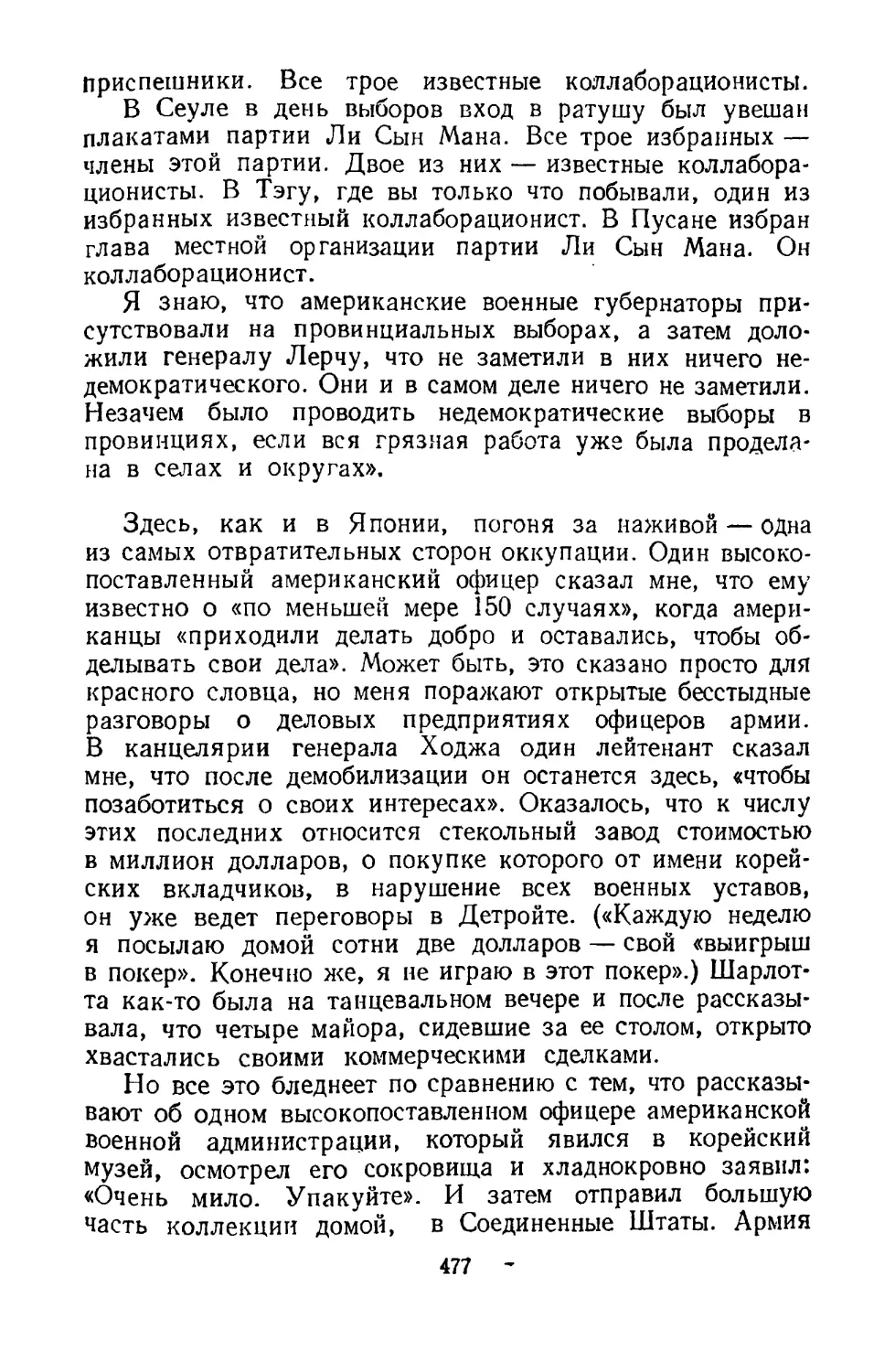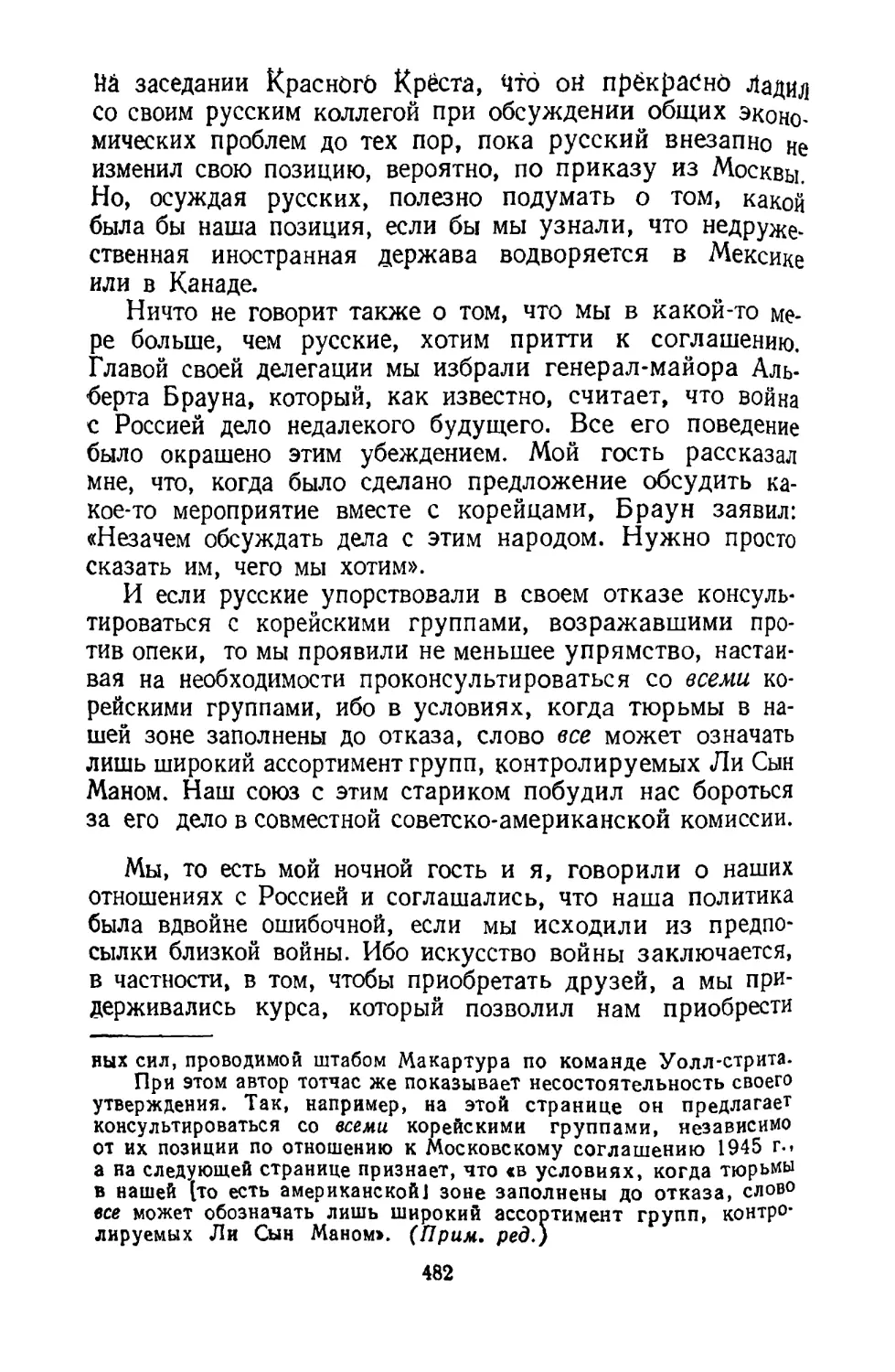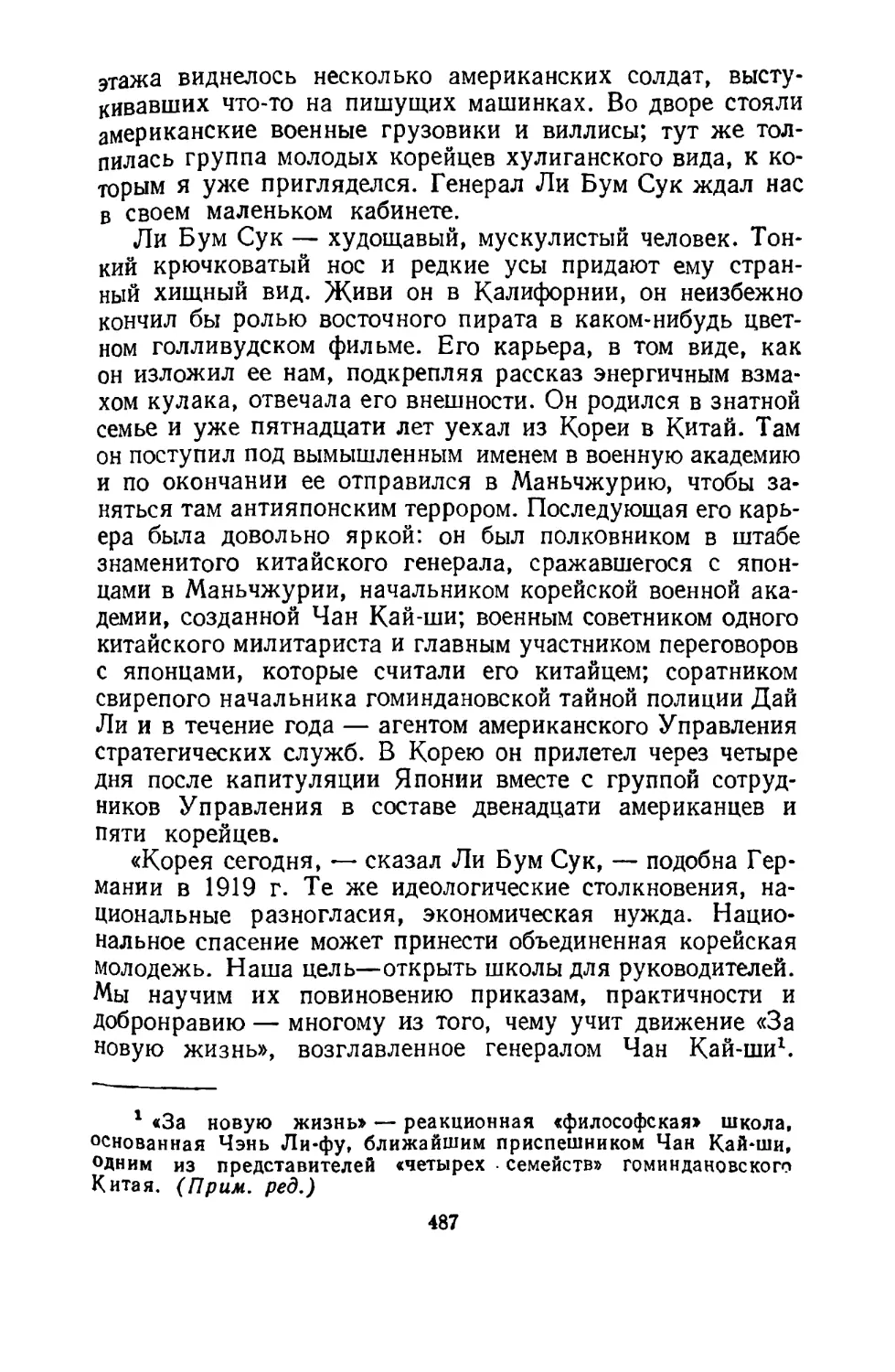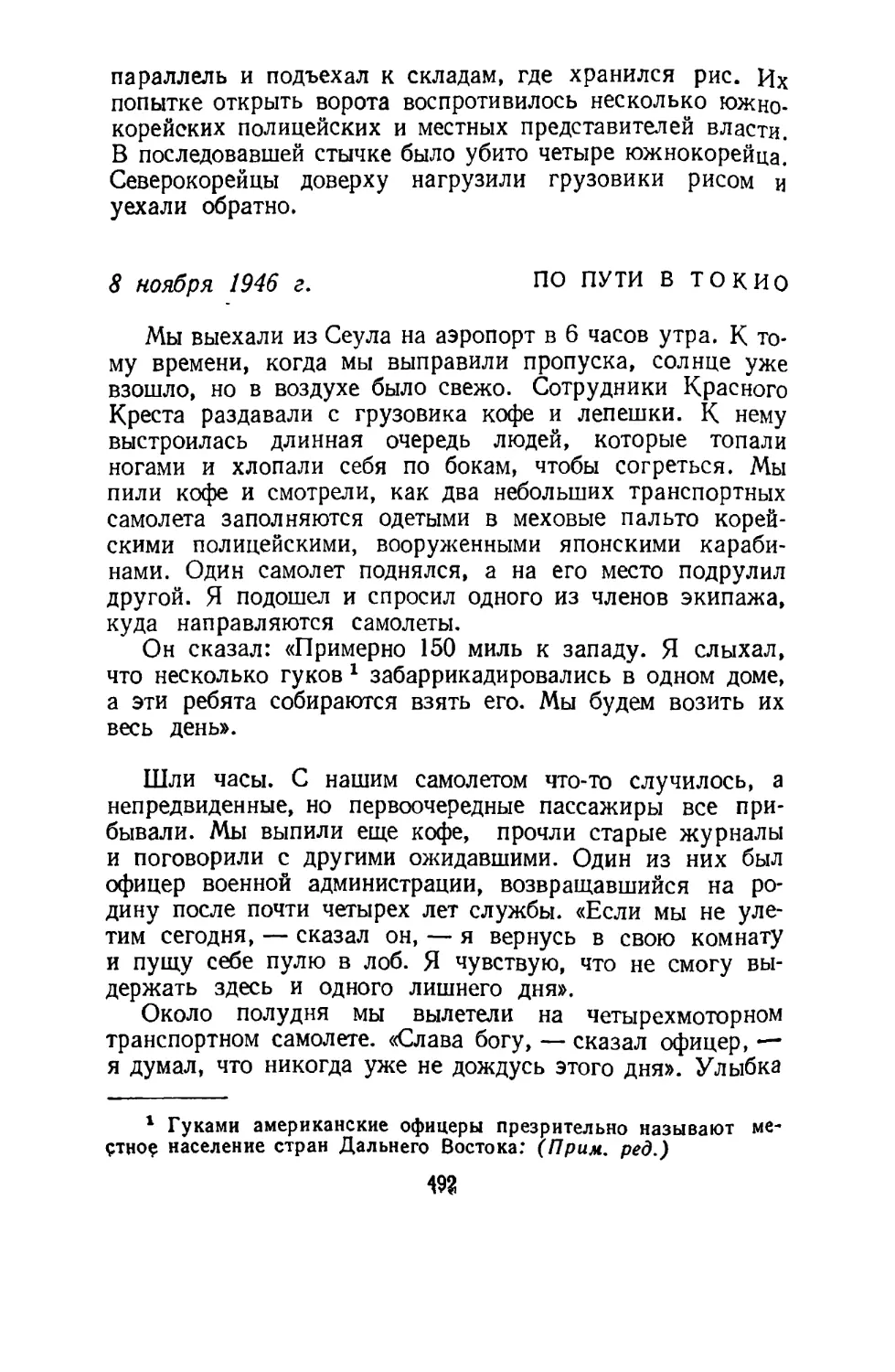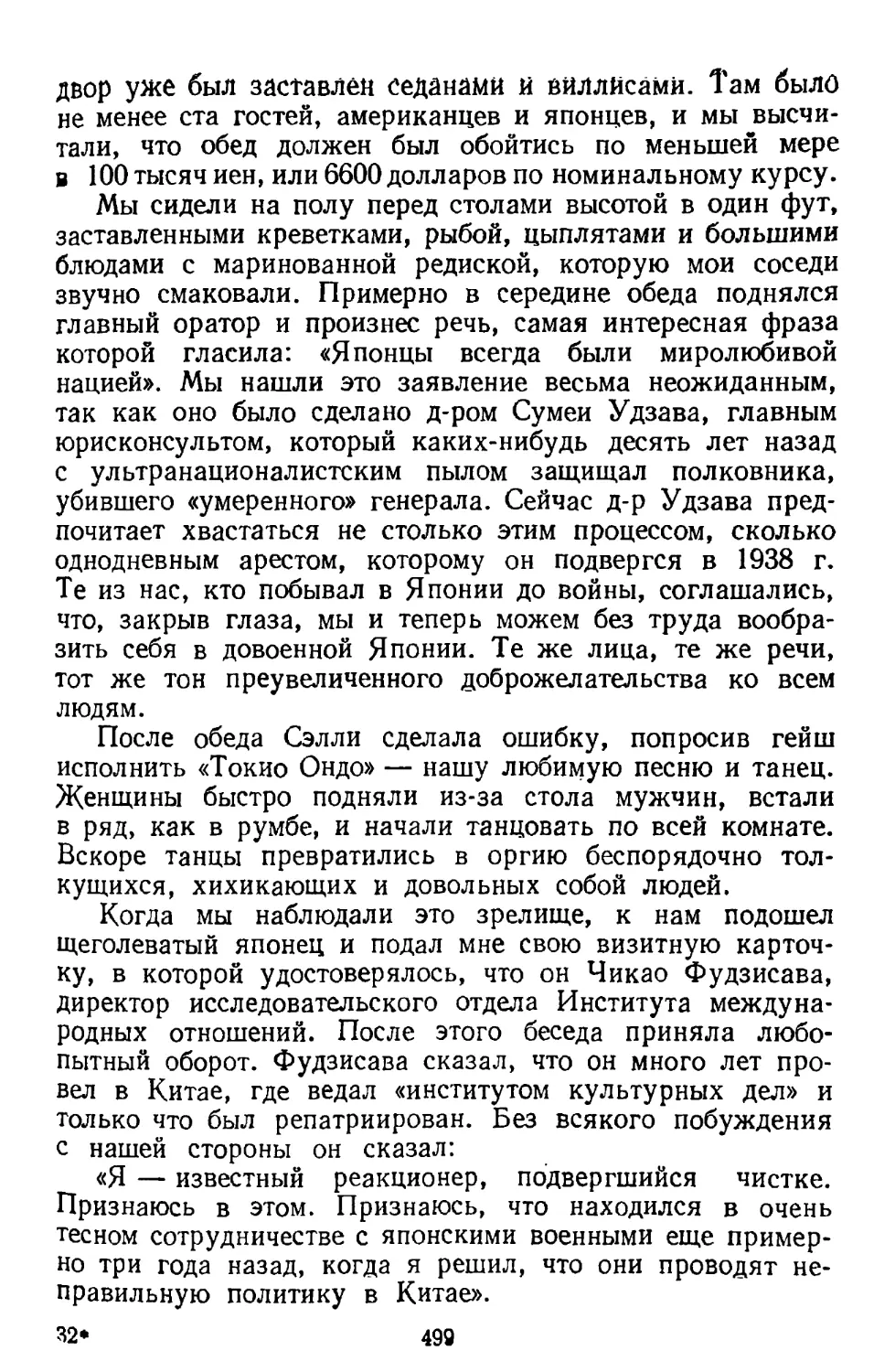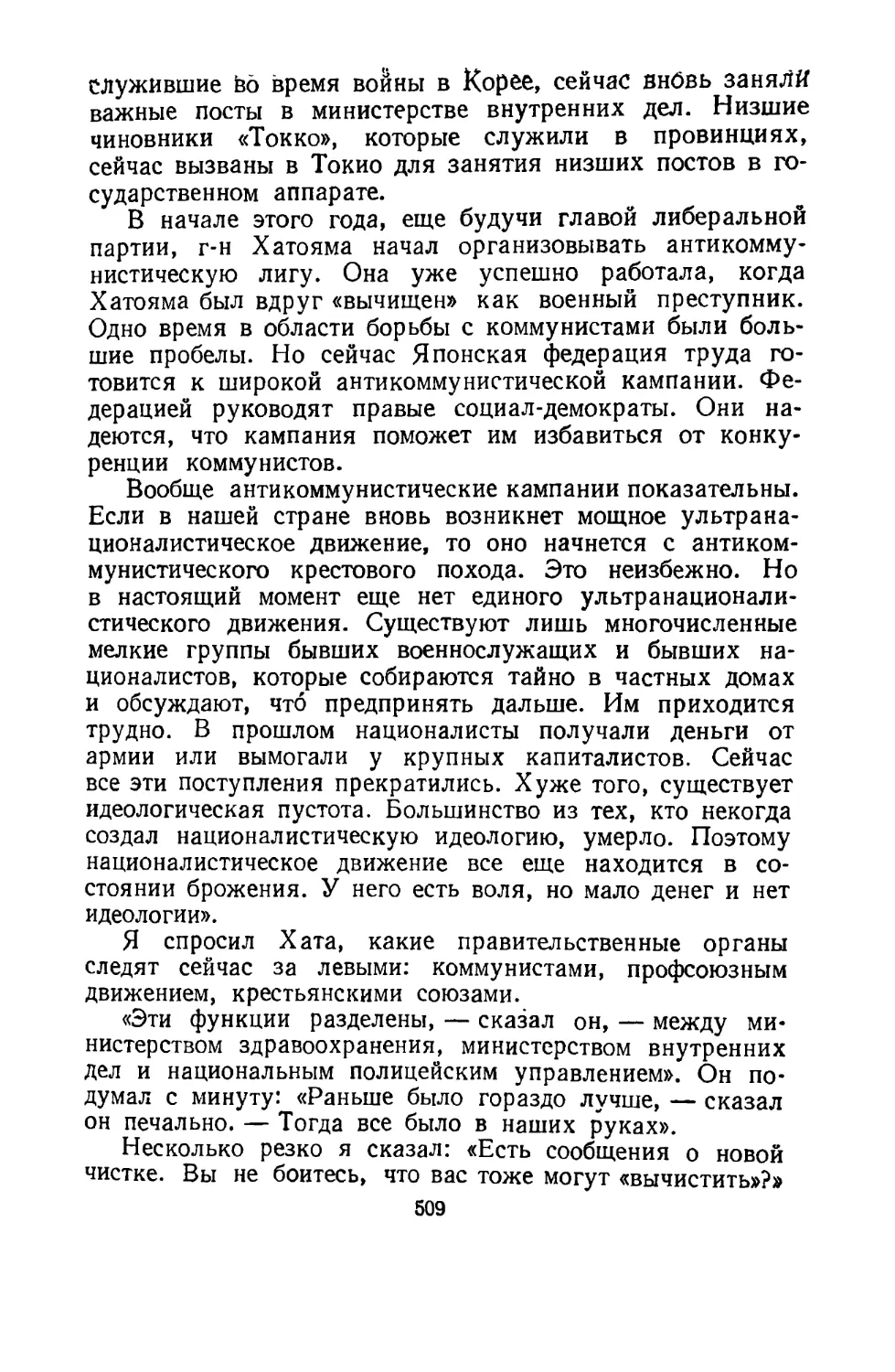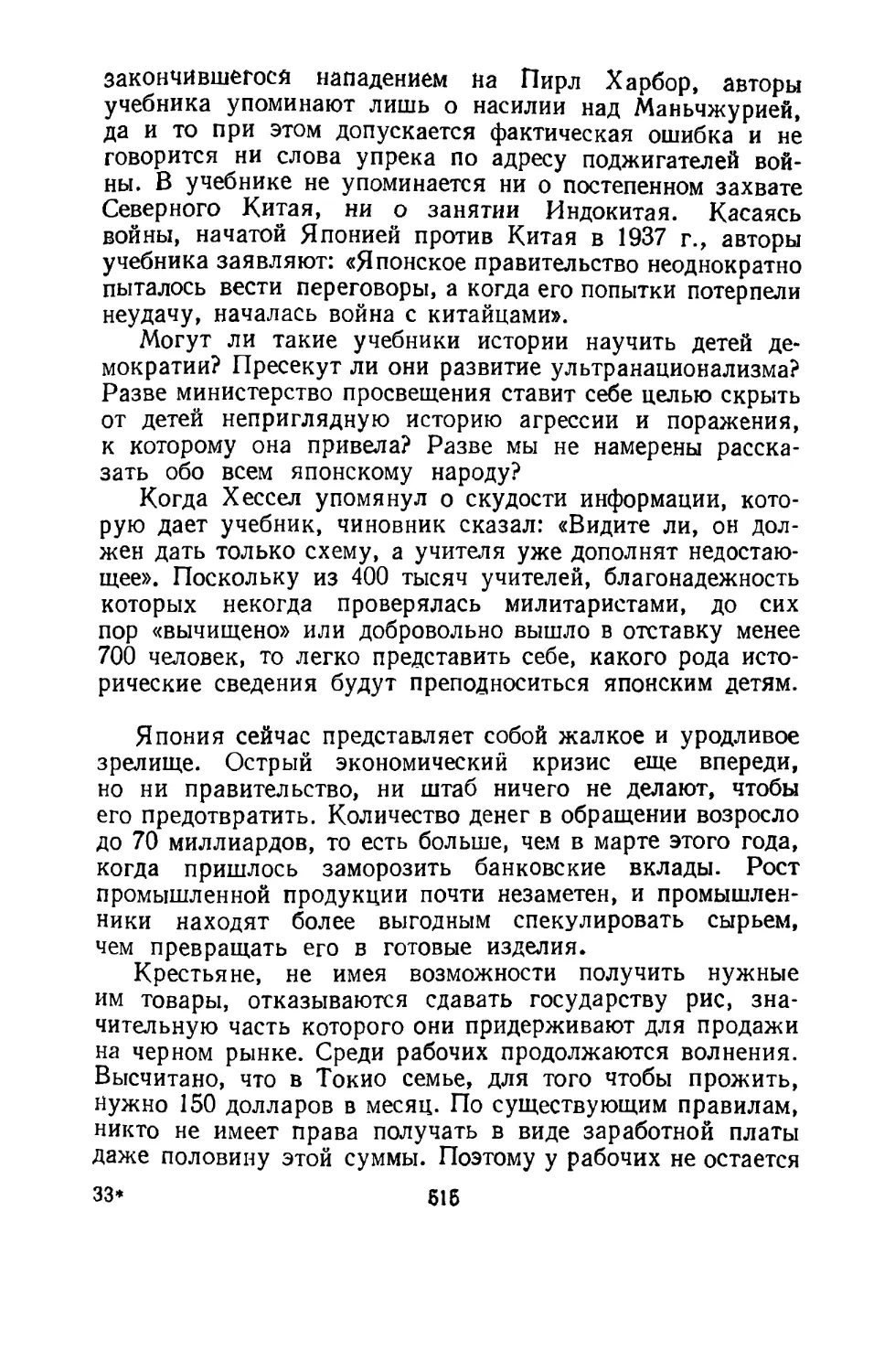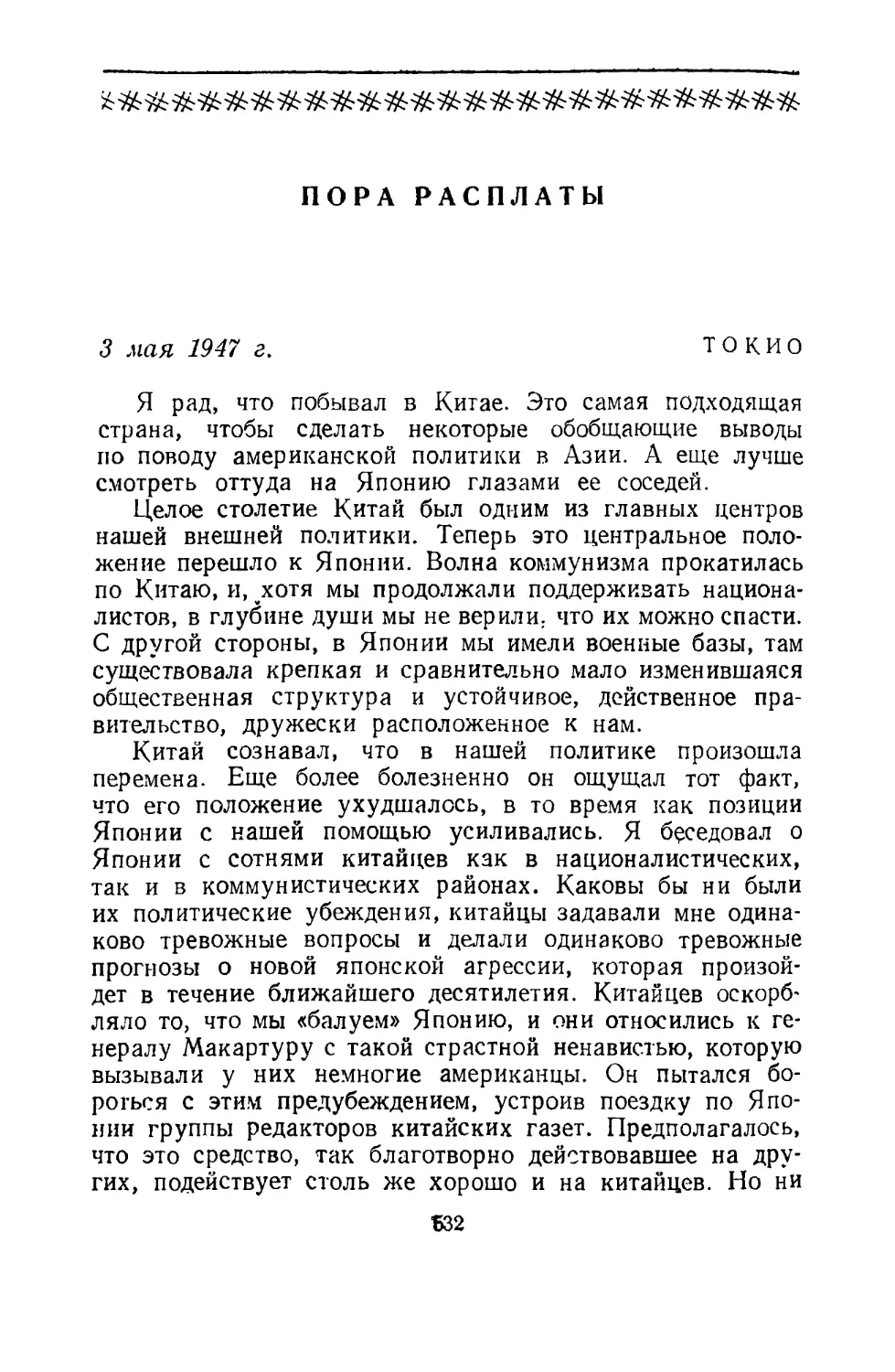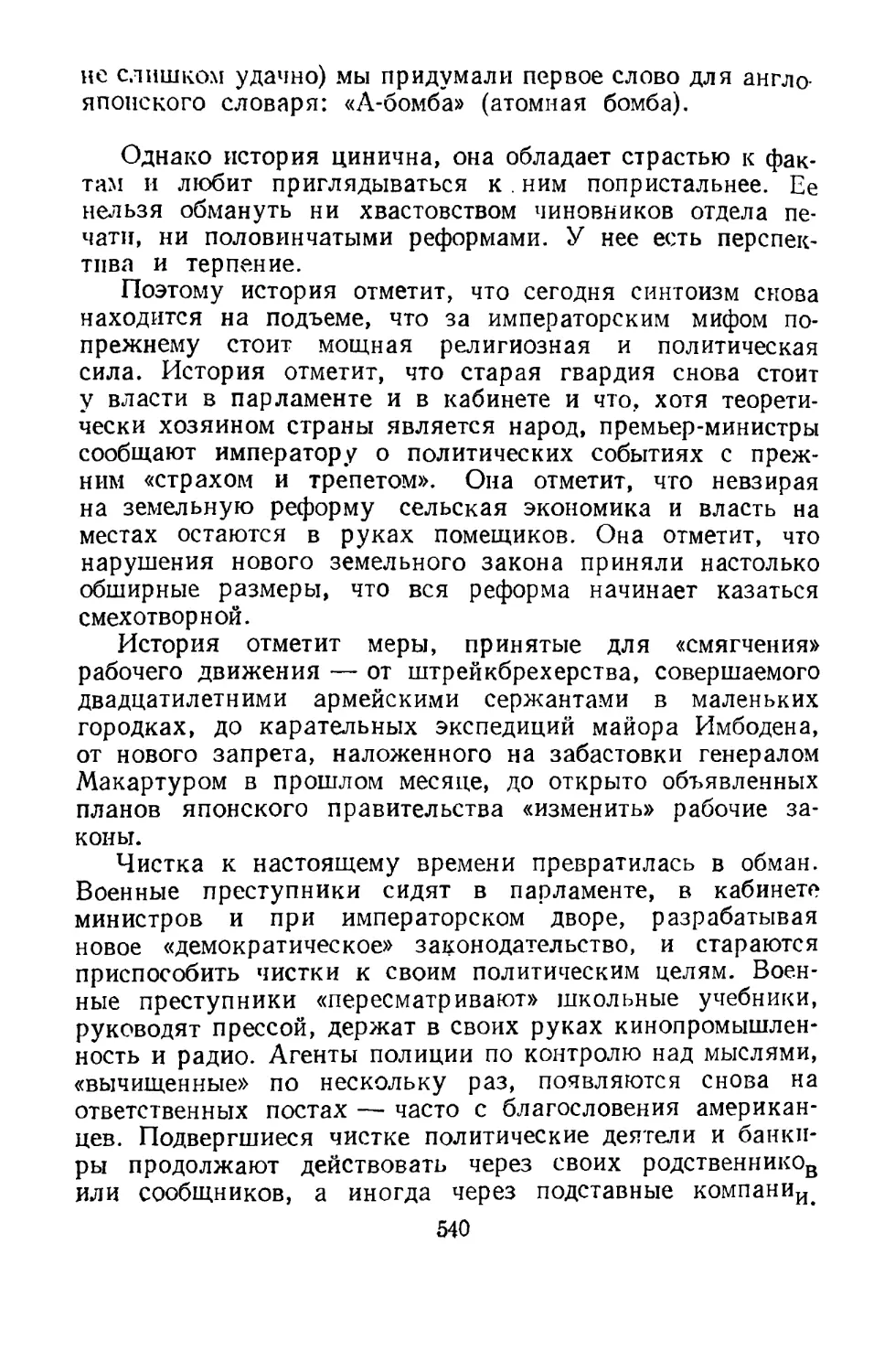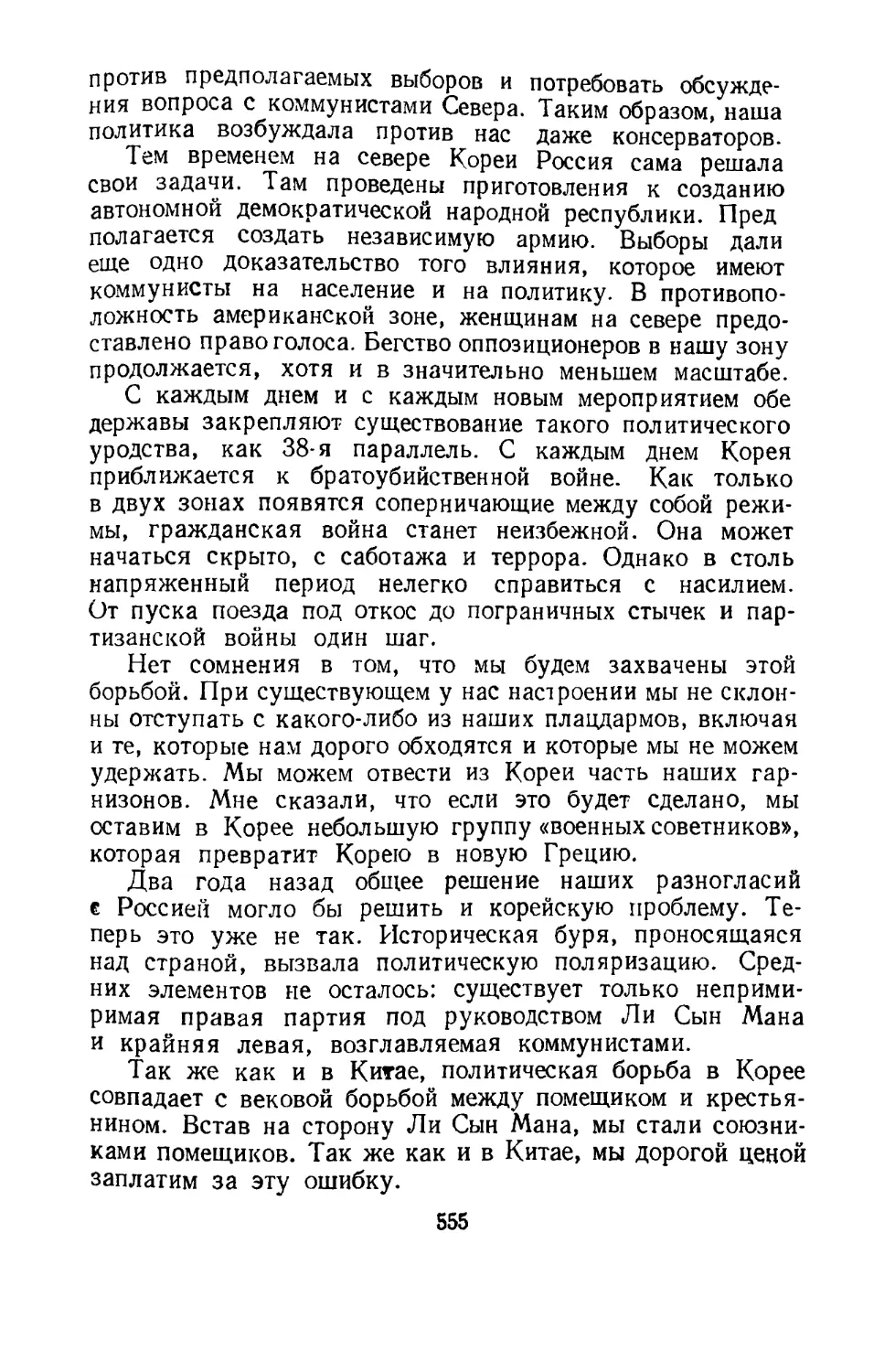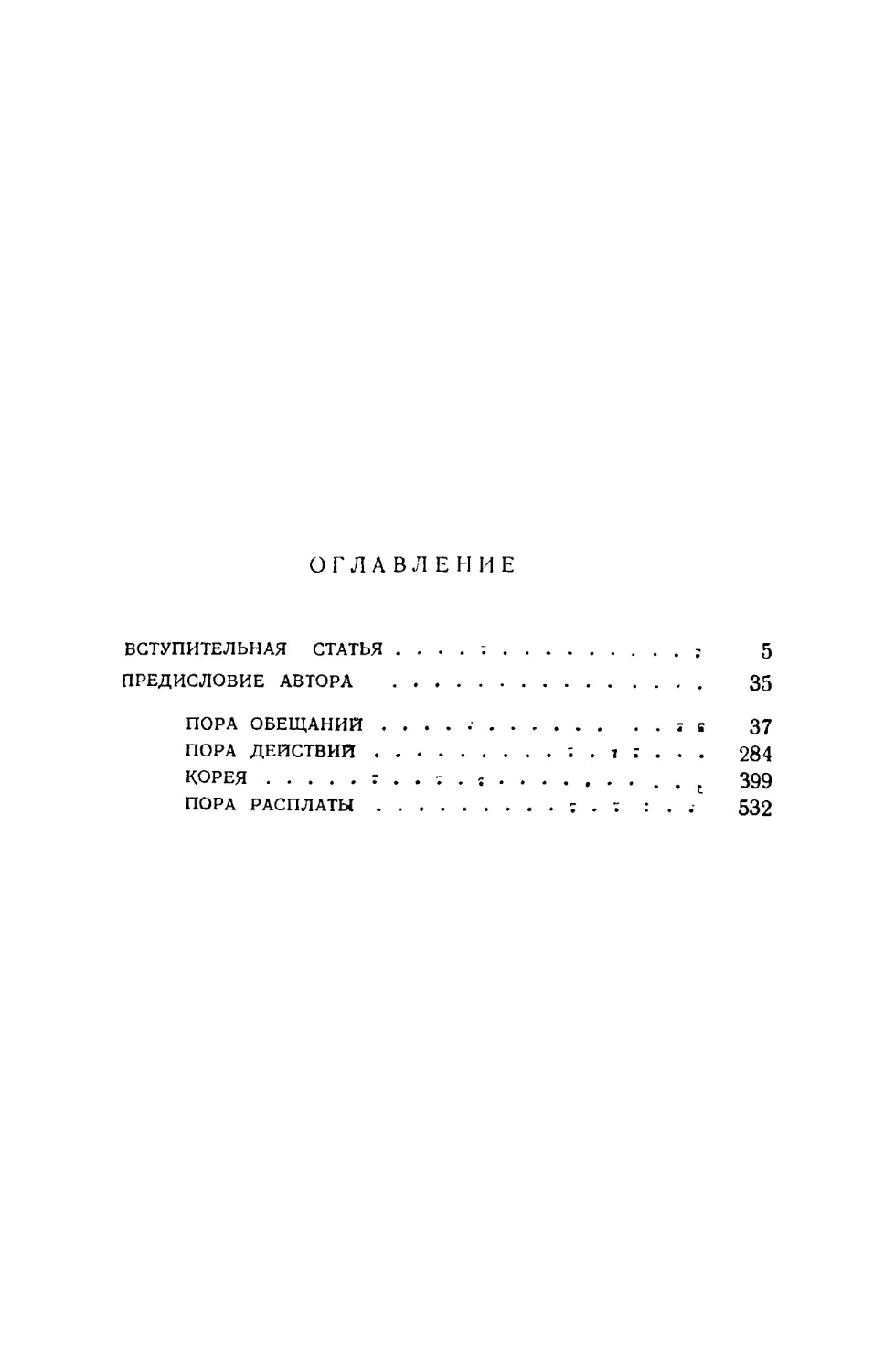Текст
МАРК ГЕЙН
ЯПОНСКИЙ
и
Сокращенный
перевод с английского
И. БОРОНОС, Д. КУНИНОЙ и Н. ЛОСЕВОЙ
Вступительная статья
А, ВАРШАВСКОГО
195 1
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва
MARK GAYN
JAPAN DIARY
NEW YORK
19 4 8
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ
Не прошло и пяти лет после разгрома милитаристской Японии, как зловещее зарево агрессивной войны, развязанной империалистами Соединенных Штатов в Корее, вновь заполыхало на Дальнем Востоке.
Чувствуя, что их господству в колониальных и зависимых странах приходит конец, содрогаясь от ужаса при виде нового могучего подъема национально-освободительного движения народов Азии, империалистические хищники идут на самые чудовищные преступления, чтобы задержать прогресс человечества.
Обезумевшим уолл-стритовским факельщикам мерещатся новые гигантские фабрики смерти, при помощи которых они хотели бы сломить волю всего трудового народа, стремящегося к мирной, свободной жизни, к полному уничтожению империалистическсго гнета во всем мире.
Но тщетны все потуги последователей Гитлера и Фор- рестола!
Как ни стараются гангстеры с Уолл-стрита утаить от народов правду о том, что творится в Корее, миллионы газетных листов продажной печати США и маршаллизо- ванных стран и голубые флаги ООН в руках головорезов- интервентов не скроют от взоров неисчислимых сторонников мира и демократии кровавых дел американских империалистов — массовых убийств и грабежа мирного населения, бессмысленных варварских бомбардировок мирных сел и городов. Все прогрессивное человечество, все простые люди на земле поднимаются на защиту мира, свободы и демократии и требуют от лакеев и приказчиков Уолл-стрита прекратить преступные попытки развязывания новой мировой войны — войны против Китайской народной республики, Советского Союза и стран народной демократии.
5
Как ни стараются поджигатели войны приукрасить свои грязные дела, многочисленные факты и документы неопровержимо доказывают, что интервенция США в Корее является одним из результатов всей послевоенной политики заправил Уолл-стрита на Дальнем Востоке, составной частью давно надуманных ими бредовых планов установления своего мирового господства.
К числу материалов, разоблачающих агрессивную по- лштику Соединенных Штатов на Дальнем Востоке и гнус- »ную роль сатрапа американского империализма — генерала Макартура, относится и предлагаемая вниманию советского читателя книга Марка Гейна «Японский дневник».
Гейн — профессиональный американский журналист. Он хорошо знаком с Дальним Востоком и до войны побывал в различных странах Восточной Азии. Вскоре после капитуляции Японии он приехал в эту страну в качестве специального корреспондента американской газеты «Чикаго сан».
Книга «Японский дневник» написана Гейном во время его пребывания в Японии и Корее и представляет собой обработанные и изложенные в хронологической последовательности корреспондентские записи, которые автор регулярно заносил в свой блокнот.
Книга была издана в Нью-Йорке в 1948 г. Хотя с момента ее выхода прошло уже более трех лет, она является весьма актуальной и в настоящее время.
Марк Гейн начинает свой дневник 5 декабря 1945 г. и заканчивает его 21 декабря 1946 г. Небольшая запись сделана автором в мае 1947 г., когда он вновь посетил Токио проездом из Китая в Америку, и заключительная часть книги была написана весной 1948 г. в Нью-Йорке.
. За год пребывания в Японии, год, насыщенный ожесточенной борьбой демократических сил против реакции, Гейн побывал во многих провинциях страны, а осенью 1946 г. на три недели выезжал в Корею. Он встречался с представителями самых различных слоев населения,’ ■партий и общественных групп.
Автор имел большие связи в штабе американских оккупационных войск и поддерживал тесные отношения 6
с влиятельными японцами, что дало ему возможность получить доступ к документам, раскрывающим закулисную сторону деятельности американских колонизаторов.
В результате Гейн собрал богатый фактический материал, затрагивающий самые различные области политической, экономической и культурной жизни Японии и Кореи.
Наблюдательность Гейна помогла ему увидеть и отразить в своем дневнике многие важные и характерные явления, события и факты большого социального значения.
Вот почему «Японский дневник» Гейна является ярким и убедительным разоблачением реакционной и агрессивной политики американского империализма на Дальнем Востоке.
* ♦ ♦
После разгрома гитлеровской военной машины, в результате сокрушительных ударов Советской Армии, 8 мая 1945 г. фашистская Германия безоговорочно капитулировала. Это сделало безнадежным положение японского агрессора на Востоке, оказавшегося полностью изолированным. Однако японская военщина не отказалась от своих агрессивных планов, и правительство Японии отвергло предложение о капитуляции, сделанное ей Соединенными Штатами, Англией и Китаем в Потсдамской декларации от 26 июля 1945 г.
В то время Япония еще располагала мощными силами, большими военными запасами и миллионной Квантунской армией, еще не участвовавшей в военных действиях и сосредоточенной в Маньчжурии и Корее у границ Советского Союза. Существовала угроза, что в этих условиях война могла затянуться на весьма длительное время и стоить человечеству новых неисчислимых жертв и страданий. Кроме того, в правящих кругах США все отчетливее высказывалось требование пойти па компромисс с японскими агрессорами, чтобы сохранить силы и военный потенциал последних и использовать их в будущей войне против Советского Союза.
Чтобы ускорить разгром милитаристской Японии и ликвидировать очаг агрессии на Дальнем Востоке. 7
советское правительство объявило, что с 9 августа 1945 г. Советский Союз считает себя в состоянии войны с Японией.
В ноте японскому послу в Москве министр иностранных дел СССР товарищ Молотов заявил:
«Верное своему союзническому долгу, Советское Правительство приняло предложение союзников и присоединилось к заявлению союзных держав от 26 июля сего года.
Советское Правительство считает, что такая erojno- литика является единственным средством, способнымкгпри- близить наступление мира, освободить народы от дальнейших жертв и страданий и дать возможность японскому народу избавиться от тех опасностей и разрушений, которые были пережиты Германией после ее отказа от безоговорочной капитуляции».
Советская Армия сокрушительным ударом разгромила главные боевые силы японской армии в Маньчжурии и Корее, в результате чего Япония запросила мира. 2 сентября 1945 г. в Токийском заливе состоялось подписание акта о безоговорочной капитуляции Японии.
Разгром японского агрессора знаменовал собой конец второй мировой войны. Для прочного и длительного мира на Дальнем Востоке необходимо было провести полную демократизацию и демилитаризацию Японии. Для этого необходимо было претворить в жизнь принципы Потсдамской декларации и другие согласованные решения, принятые союзниками.
Потсдамская декларация провозгласила основные принципы послевоенного переустройства Японии. Она предусматривает полную демилитаризацию Японии и уничтожение ее военно-экономического потенциала. Она обязывает японское правительство провести широкие демократические преобразования и установить свободу слова, религии и мышления, а также уважение к основным человеческим правам. Наконец, она призывает сурово наказать военных преступников. «Навсегда, — говорится в декларации, — должны быть устранены власть и влияние тех, кто обманул и ввел в заблуждение народ Японии, заставив его итти по пути завоевания мирового господства, ибо мы твердо считаем, что новый порядок мира, безопасности и справедливости будет невозможен до тех пор, пока безответственный милитаризм не будет изгнан из мира».
8
На Московском совещании министров иностранных дел Советского Союза, США и Англии, состоявшемся в декабре 1945 г., были приняты согласованные решения относительно форм и методов практического осуществления условий капитуляции Японии.
С этой целью в Вашингтоне была учреждена Дальневосточная комиссия из представителей одиннадцати государств, участвовавших в войне с Японией. Основная функция этой комиссии заключалась в том, чтобы «формулировать политическую линию, принципы и общие основания, в соответствии с которыми может осуществляться выполнёние Японией ее обязательств по условиям капитуляции». В Токио был учрежден Союзный совет для Японии из представителей СССР, США, Англии и Китая «для целей консультации с главнокомандующим и дачи ему советов по вопросам, касающимся осуществления условий капитуляции, оккупации и контроля над Японией, а также выполнением директив, дополняющих эти условия, и в целях осуществления контролирующей власти...»
В задачу американских оккупационных войск, во главе которых был поставлен генерал Макартур, входило осуществление условий капитуляции в соответствии с решениями Дальневосточной комиссии. Контроль над претворением в жизнь этих решений на месте поручался Союзному совету для Японии.
Однако американские войска с самого начала использовались в Японии не для осуществления Потсдамской декларации и директив Дальневосточной комиссии, а с целью их срыва.
«Соединенные Штаты Америки, — сказал в своем докладе, посвященном 33-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, товарищ Булганин, — ставят своей целью продлить оккупацию Японии и превратить ее в плацдарм для осуществления своих агрессивных планов на Дальнем Востоке. Пользуясь положением оккупирующей державы и нарушая согласованные решения о демилитаризации и демократизации Японии, Соединенные Штаты Америки восстанавливают военно-морские базы в Японии, воссоздают японские вооруженные силы, преследуют демократические организации и содействуют возвращению к власти японских милитаристов.
9
Таким образом, нарушая принятые на себя обязательства в вопросе о Германии и Японии, правительства Соединенных Штатов Америки и Англии срывают послевоенное мирное урегулирование, в котором заинтересованы народы всех стран».
Правящие круги США используют в своих агрессивных целях все реакционные силы Японии.
Еще в 1918 г., когда противоречия между империалистами США и Японии резко обострились, В. И. Ленин указывал, что, как ни грызутся между собой эти империалистические хищники, советскому народу надо учитывать, что «американская буржуазия может стакнуться с японской» с целью вооруженного нападения на нашу страну.
Вся послевоенная политика американских империалистов на Дальнем Востоке служит ярким доказательством гениального ленинского предвидения.
Американские оккупационные власти в Японии оказывают поддержку всем реакционным силам . страны: крупнейшим монополиям (дзайбацу), помещикам, милитаристам, императору и другим представителям монархической бюрократии. Опираясь на них, империалистические поджигатели войны вновь превращают Японию в базу агрессии, а японскому народу отводят, роль пушечного мяса для своих военных авантюр.
Верным пособником Уолл-стрита является и марионеточное правительство Иосида — правительство национальной измены. По указке и с помощью оккупационных властей США Иссида и его клика создают в Японии обстановку фашистского террора, громят демократические организации и разжигают реваншистские настроения, увеличивают ассигнования на перевооружение страны, в'озрождают агрессивную японскую армию.
Полной противоположностью реакционной империалистической политике США является политика советского правительства, требующего точного выполнения всех Потсдамских решений, в том числе и Потсдамской декларации для Японии. Представители советского правительства в Дальневосточной комиссии и Союзном совете для Японии ведут упорную борьбу за превращение Японии в демократическую, независимую и миролюбивую страну > 10
за предоставление широких демократических прав японским трудящимся, за свободное развитие профсоюзного движения, за ликвидацию дзайбацу, за проведение такой земельной реформы, которая обеспечила бы землей японских арендаторов и полуарендаторов, за коренное улучшение материального положения японских трудящихся. Советское правительство неоднократно выступало против незаконного увеличения полицейских сил, требовало наказания военных преступников и безусловного запрещения всех фашистских и милитаристских организаций и пропаганды фашизма и новой войны.
По предложению советского представителя, в декабре 1946 г. Дальневосточная комиссия утвердила «Принципы организации японских профессиональных союзов». Это решение обязывает оккупационные власти поощрять организацию свободных демократических профсоюзов в Японии и немедленно отклонить все законы, запрещающие свободную деятельность профсоюзов. Профсоюзное движение, говорится в решении, должно быть гарантировано и защищено законом.
19 июня 1947 г. Дальневосточная комиссия приняла еще одно решение под названием «Основная политика в отношении Японии после капитуляции». В нем была намечена широкая программа послевоенного демократического переустройства Японии. Советские представители в Дальневосточной комиссии и Союзном совете для Японии неоднократно выступали против нарушения вышеуказанных решений и требовали отмены незаконных действий и постановлений американских и японских властей.
На заседании Дальневосточной комиссии 23 сентября 1948 г. советский представитель предложил не ограничивать восстановление и развитие японской мирной промышленности, необходимой для удовлетворения потребностей японского населения. Вместе с тем он потребовал запретить восстановление и создание японской военной промышленности и установить контроль над выполнением этих условий со стороны государств, наиболее заинтересованных в недопущении новой японской агрессии. На последующих заседаниях советский представитель вновь настаивал на этих предложениях, но они были отвергнуты под давлением США.
11
Советское правительство неоднократно выступало за скорейшее заключение демократического мирного договора с Японией, который отвечал бы интересам японского народа и народов Восточной Азии и гарантировал бы прочный мир на Дальнем Востоке.
В Союзном совете для Японии представитель СССР постоянно выступал в защиту интересов японских трудящихся, требовал полного проведения в жизнь Потсдамской декларации и решений Дальневосточной комиссии. Действия советского представителя в Союзном совете для Японии встретили одобрение и поддержку со стороны широких слоев японского населения, что нашло отражение и на страницах демократической печати страны.
И если Союзный совет не выполнил возложенных ^а» него задач, то только потому, что Макартур и его штаб- всячески срывали работу совета.
«Японский дневник» Гейна дает немало ярких зарисовок, показывающих, как Макартур и его штаб осуществляли реакционную политику Уолл-стрита.
С первых же дней оккупации штаб стал нарушать- принципы Потсдамской декларации и решения Дальневосточной комиссии о наказании военных преступников.. Придя в Японию, американские войска оставили у власти- старые реакционные силы. Военно-фашистские организации, ушедшие вначале в подполье, стали постепенно легализовать свою деятельность, убедившись, что директивы Макартура о чистке носят только формальный характер и не проводятся в жизнь. Эти директивы могли бы, по словам автора, «стать разящим мечом». Но их осуществление было поручено японскому правительству, которое само состояло из военных преступников; во главе его, сменяя друг друга, стояли известные реакционеры: Сидехара, Иосида, Асида и с октября 1948 г. — снова Иосида.
Старая агрессивная клика и ее приспешники снова контролируют печать. Бывшие руководители тайной полиции снова занимают ответственные посты. Главный военный преступник император Хирохито попрежнему остается главой государства. Правительство Иосида тесно связано с крупнейшими фирмами дзайбацу и вместе с императором и другими военными преступниками несет 12
полную ответственность за агрессивную войну и военные преступления. На процессе главных японских военных преступников в Токио не было предъявлено обвинения ни одному представителю дзайбацу.
Деятельность военных трибуналов давно уже прекращена, и создана специальная комиссия по* разбору апелляций лиц, подвергшихся чистке и отстраненных от государственной и общественной деятельности. Сотни военных преступников восстановлены в правах. 7 марта 1950 г. Макартур издал директиву, в которой он самовольно установил порядок досрочного освобождения главных японских военных преступников, осужденных в ноябре 1948 г. Международным военным трибуналом для Дальнего Востока. В соответствии с этой директивой, 21 ноября 1950 г. был досрочно освобожден из тюрьмы один из главных японских военных преступников — Сигемицу.
Советское правительство в нотах от 11 мая и 25 августа 1950 г. обращало внимание правительства США на незаконные действия Макартура. 19 ноября 1950 г. правительство СССР снова направило американскому правительству ноту, в которой на правительство США возлагалась ответственность за незаконное освобождение Сигемицу. Через несколько дней после этого министр иностранных дел Китайской народной республики Чжоу Энь-лай заявил, что правительство Китайской народной республики полностью поддерживает протест советского правительства.
Оккупационные власти саботировали проведение директивы Дальневосточной комиссии о ликвидации крупных промышленных концернов, которые были главными организаторами японской агрессии. Осуществление ликвидации концернов дзайбацу было поручено комиссии, состоящей из представителей этих концернов. План ликвидации также был составлен представителем крупнейшего концерна Ясуда. Ясно, что роспуск дзайбацу в соответствии с этим планом оказался фикцией, и подлежащие распродаже акции крупных концернов попали в руки их прежних владельцев и американских монополистов.
Гейн пишет, что отдел штаба по борьбе с трестами и картелями, который должен был заниматься ликвидацией
13
дзайбацу, в Токио иронически называли «отделом по сохранению дзайбацу».
«Не можем же мы, — говорили в штабе, — уничтожать наших лучших союзников».
Начальник промышленно-финансового отдела штаба оккупационных войск Бен Локк заявил Гейну: «Я не защищаю дзайбацу. Они были вдохновителями японской агрессии. Сегодня они держат в руках японское правительство. Но что делать? Истребите дзайбацу, и на ближайшие десять лет воцарится хаос или возникнет социалистическая экономика. Уничтожьте банки дзайбацу, и вся банковская система рухнет. Разорите дзайбацу, и мы не будем иметь в Японии объектов для капиталовложений. Вы сами знаете, что дельцы в нашем штабе в Токио хотят, чтобы была восстановлена старая Япония. Военные тоже считают, что можно избежать многих хлопот, если сохранить дзайбацу».
Макартур систематически отдавал распоряжения о вычеркивании монополистических объединений дзайбацу из списка компаний, подлежащих ликвидации. По сведениям, опубликованным в октябре 1950 г., число компаний, оставленных в указанном списке, уменьшилось до 463, тогда как первоначально общее число внесенных в список компаний составляло 1203. Из этого списка в первую очередь были вычеркнуты компании четырех крупнейших концернов — Мицуи, Мицубиси, Сумитомо и Ясуда.
Экономика Японии попрежнему остается в руках дзайбацу, в силу чего сохраняются социальные и экономические основы японской агрессии. Американские капиталисты в свою очередь прибрали к рукам японские монополии и благодаря этому контролируют до 85 процентов японской экономики. Этот процесс подчинения экономики Японии американскому капиталу не мог пройти мимо наблюдательного американского журналиста, и Марк Гейн с возмущением пишет об «американских политических авантюристах наших дней», стремящихся взять в свои руки экономику Японии. Автор показывает, как американские бизнесмены прокладывают себе путь к дзайбацу и захватывают целые отрасли японской промышленности. Он называет ряд американских дельцов, пристроившихся при штабе Макартура, и среди них советника при штабе Питера Маганья, которому почти удалось захватить в свои пуки шелковую промышленность Японии. Гейн приводит 14
документы, раскрывающие закулисные махинации Голливуда, добивавшегося того, чтобы американские фильмы вытеснили из Японии кинопродукцию всех других стран, включая и японскую.
Следует иметь в виду, что Марк Гейн пишет о начальном периоде американской оккупации, когда он еще не мог составить полный список представителей крупнейших американских фирм, проводящих аналогичную деятельность в Японии. С тех пор список американских колонизаторов значительно пополнился. По сведениям японской печати, американская нефтяная компания «Калифорния Тексас компани» («Калтекс») заключила контракт с японской нефтяной компанией «Ниппон» и приобрела в свою собственность половину ее оборудования, включая нефтеочистительные заводы, верфи и т. д. Американская компания «Стандард вакуум ойл» заключила аналогичный контракт с японской нефтяной компанией «Тоа».
Японская нефтяная компания «Тэйкоку ойл», которая почти полностью монополизировала нефтяную промышленность Японии, продана американской компании «Амери- кэн стандард ойл». Американцам проданы также нефтеочистительные заводы в Иокогаме. Таким образом, вся японская нефтяная промышленность оказалась в руках американских капиталистов. Ими контролируется вся автомобильная промышленность Японии. Американский капитал захватывает также металлургическую, химическую и электротехническую промышленность страны. Под его контроль подпадают японские государственные железные дороги и табачная монополия. Полное закабаление японской экономики американскими капиталистами проводится в соответствии с так называемой американской программой «стабилизации японской экономики».
В решении Дальневосточной комиссии «Основная политика в отношении Японии после капитуляции», принятом 19 июня 1947 г., говорится, что разоружение и демилитаризация Японии являются первоочередной задачей военной оккупации и должны проводиться быстро и решительно. Японии запрещается иметь армию, военно- морские силы, авиацию, тайную полицию и жандармерию. Императорская ставка, генеральный штаб должны быть распущены. 12 февраля 1948 г. Дальневосточная комиссия приняла специальное решение о демилитаризации Японии
15
и запрещении проводить какие бы то ни было военные мероприятия.
Это решение запрещает Японии производить или иметь какие-либо виды вооружения, боеприпасов и военных материалов, владеть коммерческой или военной авиацией, аэродромами, авиабазами и укреплениями, а также вести военно-лабораторные исследования; разрабатывать военнотехнические проблемы и выдавать патенты на военные изобретения. Генералу Макартуру предлагалось уничтожить все мобилизационные списки бывших военнослужащих Японии. Запрещалось восстановление в стране любых военных организаций и учебных заведений.
Американские власти открыто игнорировали эти директивы. Под видом «управлений по демобилизации» продолжали существовать генеральные штабы армии и флота. Были сохранены и находились в полной готовности мобилизационные списки японской армии. Под видом специально организованных «сельскохозяйственных колоний» сохранялись офицерские и унтер-офицерские кадры японской армии. Открыто действовали десятки черносотенных националистических организаций. Националистические союзы молодежи возглавлялись бывшими офицерами. Они выступали с докладами, в которых, по указанию американцев, говорили о неизбежности войны с Советским Союзом и призывали молодежь быть готовой к вступлению в американскую армию.
Автор показывает, что штаб Макартура заботливо сохранял не только военный потенциал Японии, но и кадры командного состава японской армии, что оба так называемых «управления по' демобилизации» состоят из высшего японского офицерства и занимаются проблемами возрождения армии и флота.
«Механизм налицо, — пишет Гейн. — Опытные офицеры собраны вместе. Уроки вчерашнего поражения изучаются. Сейчас эти люди ждут дня, несомненно, не слишком далекого, когда Японии будет разрешено иметь «небольшую армию в целях самообороны».
В дальнейшем штаб Макартура еще более ускорил темпы восстановления японской армии, возрождаемой под видом «полицейских формирований». По указанию Макартура в Японии уже созданы так называемые «полицейские» части («полицейский резервный корпус», «граж16
данская полиция») общей численностью свыше 250 тысяч человек, обучаемых офицерами армии США. В конце 1950 г. Макартур отдал секретный приказ о воссоздании армии численностью в 1 миллион человек. Специально созданный «департамент по обеспечению порядка на море» приступил к восстановлению военно-морского флота. Гейн указывал, что по первоначальным наметкам флот должен состоять из 126 судов, включая подводные лодки. В дальнейшем количество этих судов было доведено до 300. В Японии была построена широкая сеть аэродромов для бомбардировщиков дальнего действия и восстановлены военно-морские базы, в том числе крупнейшая военно- морская база Йокосука.
В целях восстановления японской авиации в Японии создан так называемый «департамент безопасности в воздухе». Этот департамент подчинен американским военно- воздушным силам.
Ремилитаризация Японии особенно усилилась в связи с агрессивной войной в Корее. Американские империалисты использовали военный потенциал Японии для осуществления своих преступных интервенционистских целей в Корее.
Японские заводы изготовляют для отправки в Корею военные материалы на сотни миллионов долларов. Японские корабли перебрасывают из Японии в Корею крупные соединения американских войск. Флотилия японских минных тральщиков используется для очистки от мин корейских вод.
Американские работорговцы не ограничиваются только использованием японской промышленности, они формируют японские военные подразделения и посылают их в Корею для участия в военных действиях в составе американских войск.
Советский представитель в Дальневосточной комиссии в ноябре 1950 г. дважды выступал с заявлениями по этому вопросу, указывая, что использование японских военнослужащих в военных действиях в Корее является грубым нарушением согласованных решений о Японии.
После капитуляции трудящиеся массы Японии оказались под двойным гнетом американских колонизаторов и японских капиталистов. Положение трудящихся стало зна-
17
2 М. Гейн
читсльно хуже, чем оно было во время войны. Начался голод. Острый жилищный кризис еще больше ухудшил положение. Дельцы черного рынка наживали огромные состояния на несчастье народа.
Политика, проводимая американо-японской реакцией, встретила решительное сопротивление со стороны демократических сил Японии.
Вскоре после капитуляции начались забастовки японских рабочих.
Гейн указывает, что в тот момент, когда японские рабочие вели самую ожесточенную борьбу за свои права, штаб генерала Макартура был занят деятельностью, «известной под названием «разгром рабочего движения».
Рабочие потребовали повышения заработной платы и увеличения рисового пайка. Начались забастовки железнодорожников. За ними последовала забастовка работников крупнейшей ежедневной газеты «Иомиури». Владельцем этой газеты был матерый черносотенец Мацутаро Сиорики, бывший начальник токийской полиции. Редакционный коллектив потребовал демократизации газеты и увольнения черносотенных редакторов. Забастовка продолжалась несколько месяцев и была подавлена японской полицией по приказу американских властей.
С начала оккупации и до конца 1945 г. в Японии было зарегистрировано 240 забастовок. В 1946 г. забастовочное движение приняло особенно широкий размах. Оно носило ярко выраженный политический и антиправительственный характер. В стране начались массовые митинги и демонстрации.
Вслед за грандиозной первомайской демонстрацией на Императорской площади начались так называемые продовольственные демонстрации. 19 мая на этой площади состоялся массовый митинг под лозунгом: «Мы требуем риса!» После митинга демонстранты направились в резиденцию премьер-министра и потребовали отставки Иосида. Вечером Иосида заявил через своего секретаря, что он решил уйти с поста премьер-министра.
На следующий день Макартур издал приказ, в котором он фактически запрещал массовые демонстрации и угрожал трудящимся репрессиями. Этот приказ послужил сигналом к открытому походу реакции против рабочего движения и демократических прав народа. Иосида заявил, 18
2*
что он остается на своем посту, и сформировал кабинет с участием Сидехара, который был предшественником Иосида на посту премьер-министра и ушел в отставку по требованию народа. Штаб Макартура приступил к «обузданию» профсоюзов, а американская военная полиция вместе с японскими полицейскими начала разгонять демонстрации. Реакция подняла голову, увидев, что оккупационные власти целиком стали на ее сторону.
Несмотря на все это, рабочее движение росло и ширилось. Оно особенно усилилось в октябре 1946 г. 5 октября профсоюз работников печати и радио призвал своих членов к всеобщей забастовке солидарности с бастующими работниками редакции и типографии газеты «Иомиури». Забастовало 40 японских газет. Описание этих событий составляет одно из наиболее ярких мест книги Гейна.
Составляя корреспонденцию для редакции своей газеты, Гейн написал: «Через два часа после того, как парламент принял новую конституцию, которую официально называют демократической, полиция грубо разогнала демонстрацию бастующих работников радио».
При разгоне демонстраций американские войска стали применять танки и броневики. Всеобщая забастовка, назначенная на 1 февраля 1947 г., была запрещена Мак- артуром. Начались массовые увольнения, аресты и избиения рабочих-активистов и профсоюзных деятелей. Основываясь на директивном письме генерала Макартура от 22 июля 1948 г., премьер-министр Асида издал специальный указ, под угрозой суровых репрессий запрещающий рабочим и служащим государственных и муниципальных учреждений бастовать и заключать коллективные договоры.
Реакция, поощряемая японским правительством и американскими властями, начала организовывать террористические акты против руководителей японской компартии, возглавляющей борьбу за демократическую, миролюбивую и независимую Японию. В июле 1948 г. было совершено подлое покушение на генерального секретаря японской компартии Кюици Токуда. Через несколько месяцев фашистские террористы совершили нападение на члена политбюро японской компартии Рицу Ито.
Пришедший снова к власти в октябре 1948 г. премьер- министр Иосида по указанию оккупационных властей направил все свои усилия на подавление деятельности
19
коммунистической партии Японии. Он провел в парламенте ряд законов, лишающих рабочих и служащих права бастовать и участвовать в политической деятельности. За нарушение этих законов рабочие подвергаются жестоким репрессиям. В июне 1950 г. генерал Макартур с предельным цинизмом объявил об отстранении от государственной и общественной деятельности членов Центрального комитета компартии Японии, основываясь на директиве о чистке от 4 января 1946 г. Ведущим сотрудникам редакции органа компартии — газеты «Акахата» и нескольким коммунистическим депутатам парламента также было запрещено заниматься общественной деятельностью. Американские власти запретили свыше 1200 изданий демократической печати, в том числе всю коммунистическую печать. Вскоре начались массовые аресты коммунистов, и японское правительство по указке Макартура стало готовить законопроект о запрещении компартии.
Подавляя демократическое движение, Макартур грубо нарушил даже ту куцую конституцию, которая была навязана японскому народу в 1946 г. Эта конституция, составленная по образцу отмененной конституции Мэйдзи, сохраняет феодально-монархический строй в Японии и по существу оставляет императорскую систему в том виде, в каком она существовала до капитуляции. По конституции 1946 г. император сохраняет за собой в несколько измененном виде все основные прерогативы, которыми он пользовался раньше. Император попрежнему утверждает назначение нового премьер-министра, в его функции входит внесение изменений в конституцию, созыв парламента, роспуск палаты представителей, назначение выборов, утверждение всеобщей и специальных амнистий, прием послов и некоторые другие важные функции. Таким образом, император, хотя он формально и лишен прежнего ореола божественности, попрежнему используется как орудие правящей клики.
Происходивший в Хабаровске в декабре 1949 г. процесс над военными преступниками, обвинявшимися в подготовке и ведении бактериологической войны, убедительно показал, что император Хирохито является однйм из главных военных преступников и несет полную ответственность за преступления, совершенные японскими агрессорами.
20
Государственный строй в Японии попрежнему остается опорой милитаризма и > национализма * и представляет собой хорошо налаженную систему для подготовки и развязывания агрессивной войны. Девятая статья конституции, запрещающая Японии иметь вооруженные силы, звучит как издевательство, ибо она уже давно нарушена самими американцами.
Система выборов, разработанная в соответствии с новой конституцией и избирательным законом, приводится в действие насквозь продажным и реакционным аппаратом. Насилие, подкуп, покупка и продажа голосов обеспечивают «избрание» в парламент людей, угодных правящей клике. Первые выборы, поспешно проведенные в 1946 г., обеспечили, по данным японской печати, «избрание» в парламент 180 военных преступников. Эти выборы, по свидетельству Гейна, ничем не отличаются от тех выборов, которые он наблюдал в довоенной Японии. И если на выборах в январе 1949 г. в нижнюю палату все же было избрано 36 коммунистов, то это объясняется только огромной популярностью коммунистической партии среди японского народа, который отдал свои голоса коммунистическим кандидатам, несмотря на жестокий полицейский террор, направленный против компартии.
Земельная реформа, разработанная штабом оккупационных войск и принятая японским парламентом в 1946 г. по указанию генерала Макартура, отражает интересы помещиков и не ликвидирует феодальных пережитков в японской деревне. До войны около двух третей японских крестьян были арендаторами и полуарендаторами и несли на себе тяжелое бремя жестокой эксплоатации со стороны помещиков. Система земельных отношений была насквозь феодальной, и натуральная рента достигала 70 процентов урожая.
После капитуляции мало что изменилось в японской деревне. Земельная реформа предусматривает покупку государством части земли у помещиков на выгодных для них условиях и продажу этой земли крестьянам по весьма высоким ценам. В силу тяжелых условий выкупа подавляющее большинство крестьян не в состоянии приобретать землю и вынуждено арендовать ее у помещиков на кабальных условиях. По заявлению самих крестьян-арендаторов, только ничтожная часть зажиточных крестьян в состоянии выкупать у государства землю.
21
Помещик попрежнему душит японскую деревню. Гейн сравнивает его с «пауком, который плетет сеть, состоящую из ростовщиков, сельских чиновников, полицейских и всех людей, руководивших всесильной Сельскохозяйственной ассоциацией». Нищета и разорение попрежнему составляют удел японской деревни. Крестьяне не одобряют земельную реформу, так как прекрасно видят, что от нее выигрывают только помещики. Провозглашенная американцами демократизация аграрных отношений в Японии остается пустым звуком.
Верные сатрапы Уолл-стрита из штаба оккупационных войск США в Японии всю свою «деятельность» подчиняют главной цели, поставленной перед ними их хозяевами, — удушению демократического движения народов Азии и подготовке войны против СССР. Возрождая японский милитаризм, оккупационные войска развернули усиленную антисоветскую пропаганду в Японии. Офицеры американской военной администрации в Японии, пишет Гейн, разъезжали по стране и всюду вели среди американских солдат «разъяснительную» работу, рассказывая им о «предстоящей войне» с Россией и о значении Японии как базы. Автор приводит характерное высказывание одного из ближайших сподвижников Макартура, бригадного генерала Феллерса. Феллере нагло заявлял, что Соединенным Штатам Америки не следовало воевать против фашистской Германии, и повторял геббельсовскую болтовню о необходимости «спасения Европы от коммунизма», о «славянской угрозе» и т. п.
«Для того чтобы спасти колыбель белой расы [Европу],— говорил этот людоед, — почти стоит начать новую войну». Автор подчеркивает при этом, что Феллере, друг Герберта Гувера, тесно связанный с влиятельными реакционными кругами Вашингтона, оказывал большое влияние на Макартура. Что у Феллерса на уме, то у Макартура на языке, отмечает Гейн. Корреспондентов, пытавшихся писать правду, запугивали: «Мы воюем с русскими. А вы на чьей стороне?»
Годы, прошедшие с того времени, когда автор писал свой дневник, характеризуются более все усиливающимся фашистским террором в Японии.
Но ни репрессии американских империалистов и япон22
ских реакционеров, ни фашистская и милитаристская пропаганда не заставят японский народ, стремящийся к миру, воевать ради интересов Уолл-стрита. К январю 1951 г. в Японии было собрано свыше 6 миллионов подписей под Стокгольмским воззванием. «Кто сеет ветер, пожнет бурю», говорит пословица. Правильность ее уже доказали американским империалистам народы Китая и Кореи. Придет гремя, когда и японский народ даст свой ответ поджигателям новой войны.
* ♦ ♦
В своей оккупационной политике в Корее американские войска действовали теми же методами, что и в Японии. Известно, что еще в Каирской декларации 1943 г. говорилось о восстановлении корейского государства. На совещании министров иностранных дел СССР, США и Англии, состоявшемся в Москве в декабре 1945 г., по предложению Совегского Союза было принято решение о восстановлении независимого корейского государства и развитии страны по демократическому пути. Позднее к этому решению присоединился и Китай.
Корейский народ, освобожденный Советской Армией от гнета японских империалистов в августе 1945 г., тотчас же приступил к созданию демократического независимого государства. По всей стране были организованы народные комитеты. Народные комитеты немедленно приступили к введению новых демократических порядков, уничтожая колониальный аппарат японской администрации.
Собравшийся 6 сентября в Сеуле съезд народных представителей провозгласил Корейскую народную республику и выработал программу широких демократических преобразований. Однако народ получил возможность выполнить эту программу только в северной части страны, где находились, в соответствии с соглашением между союзниками, войска Советской Армии.
Идя навстречу демократическим преобразованиям корейского народа, советские власти оказали поддержку народным комитетам в их деятельности по демократизации Северной Кореи.
23
Совершенно иное положение создалось на юге страны. Вступившие в Южную Корею американские оккупационные’ войска разогнали народные комитеты, сохранили японские порядки и старую администрацию. Они объявили Корейскую республику незаконной и подвергли преследованиям ее деятелей.
«Народная республика хотела социальных реформ, — пишет Гейн. — Американцы запретили всякие радикальные социальные и экономические изменения. Мы вывезли из Вашингтона престарелого консерватора по имени Ли Сын Ман и сделали его и других правых своими советниками, возложив на них все свои надежды». Автор признает, что до прихода американских войск в Южной Корее было создано прогрессивное корейское правительство. Он видел, что американцы стали восстанавливать полицейский аппарат, созданный японцами в годы их хозяйничанья в Корее.
Политика и действия американцев, по существу, означали объявление войны корейскому народу. Они ставили перед собой цель помешать объединению демократических сил в Корее, расколоть ее на две части и заняться ускоренной подготовкой войск в Южной Корее, ядро которых состояло из помещиков, коллаборационистов и террористических правых групп, возглавляемых Ли Сын Маном и другими импортированными из США предателями корейского народа. Американские империалисты рассчитывали, что, бросив в подходящий момент весь этот сброд на захват Северной Кореи, они смогут превратить всю страну в свою колонию.
Оккупационные власти США не провели в Южной Корее демократической земельной реформы; не был введен там и восьмичасовой рабочий день. Они игнорировали решения Московского совещания и систематически срывали работу совместной советско-американской комиссии, созданной для осуществления этих решений. Вывоз в Японию сельскохозяйственных продуктов из Южной Кореи вызвал жестокий голод в стране.
Все это привело к массовым выступлениям корейского народа. Вслед за крупной забастовкой в октябре 1946 г., в которой участвовало 40 тысяч рабочих, начались вооруженные восстания. Гейн приехал в Южную Корею в середине октября 1946 г., вскоре после подавления этих вооруженных выступлений.
24.
«Перед нами, — говорит автор, — вырисовывался лик революции. Это было окровавленное лицо, искаженное болью и агонией. Как и большинство революций, эта революция уходила своими корнями в глубокую нужду, в жажду земли, пищи и справедливости».
Американская армия жестоко расправилась с восставшими. Ей помогали полиция и террористические организации правых групп. Повстанцы не вступали в бой с американцами, а вели борьбу против корейских реакционных сил, угнетавших народ при американцах точно так же, как и при японцах. В этих волнениях участвовало свыше двух миллионов рабочих, крестьян, учащейся молодежи, "Юродской мелкой буржуазии. «Наши войска, — пишет Гейн, — которые пришли сюда как освободители, стреляли в толпу, производили массовые аресты, обшаривали сопки в поисках «подозрительных» и организовывали отряды корейских правых и полиции для массовых облав».
В Южной Корее воцарился свирепый полицейский террор. Были разогнаны все демократические организации, рабочие и крестьянские союзы, а их лидеры арестованы или загнаны в подполье. Тюрьмы были переполнены, и в них царили средневековые пытки и истязания. Под тюрьмы были заняты школы и административные здания. Среди арестованных были учителя, адвокаты, крестьяне, профсоюзные руководители и видные члены народной партии.
В беседе с Гейном один из американских офицеров следующим образом охарактеризовал полицейский режим, созданный американской военной администрацией в Корее:
«Это та же самая машина, которую мы застали, прибыв сюда. Это идеальный механизм, с точки зрения наших целей. Он построен на военный лад. Стоит вам нажать кнопку, и где-то какой-то полицейский начинает раскалывать черепа. Они 35 лет обучались этому делу при японцах».
Однако полицейский террор и средневековые жестокости не могли сломить волю корейского народа к борьбе за свободу и независимость. С тех пор эта борьба не прекращалась ни на один день и охватывала все новые и новые районы.
Чтобы снять с себя ответственность и действовать юд чужим флагом, американцы протащили в Совете бе*
25.
зопасности решение о создании так называемой Корейской комиссии ООН, использовав ее в качестве орудия для осуществления своих захватнических целей. В мае 1948 г. при содействии этой комиссии американцы провели в Южной Корее фальсифицированные выборы и навязали корейскому народу марионеточный лисынмановский режим.
В Корее, как и в Японии, американцы грабили и расхищали материальные ценности корейского народа. Гейн приводит многочисленные факты беззастенчивого хозяйничанья американских бизнесменов и военщины на корейской земле.
За годы, прошедшие со времени выхода в свет книги Гейна, в печати не раз появлялись новые сведения об ограблении Кореи жадными американскими империалистами.
Так, в январе 1951 г. в газетах отмечалось, что Макартур помог Моргану и банку «Нэйшнл сити бэнк» захватить в Южной Корее золотые прииски и 9 угольных шахт, принадлежавших в прошлом японцам. Макартур лично приобрел вольфрамовые и графитные рудники в Корее. По последним сведениям, свыше 60 процентов предприятий Южной Кореи находится в руках американских монополий.
Обобщая изложенные им факты о действиях американской армии в Южной Корее, Гейн писал (следует иметь в виду, что это сказано американским буржуазным корреспондентом в 1946 г):
«Мы не были освободительной армией. Мы пришли оккупировать, проследить за тем, как корейцы выполнили условия капитуляции. С самого первого дня мы вели себя как враги корейского народа...
Под нашим флагом — а зачастую и при нашем активном поощрении — родилось полицейское государство, столь свирепое в подавлении элементарных человеческих свобод, что ему трудно найти параллель. Я нашел в нашей зоне только пустую болтовню о демократии и совсем не обнаружил последнюю на практике. Я нашел административную и политическую бездарность и союз с самой черной реакцией».
С первых же дней своего пребывания в Корее автор увидел, что здесь, так же как и в Японии, американские 26
генералы и офицеры вели разнузданную пропаганду войны против СССР. Каждому американскому солдату и офицеру вдалбливали в голову мысль о «красной угрозе», о «русской опасности», о «необходимости войны с Россией».
Автор говорит о лицемерии и реакционности этой пропаганды.
«Если мы приемлем идею наших генералов относительно большого идеологического конфликта с Россией, — пишет Гейн, — то тогда мы должны противопоставить динамическим идеям коммунизма свои собственные основные идеи. Но вся трагедия в том, что в нашем арсенале здесь нет никаких идей. Эти основные идеи нам заменяет наш союз с корейскими группами, чья философия и методы не имеют ничего общего с философией и методами, которые мы так широковещательно провозглашаем. А когда народные волнения в Корее вскрыли эту идейную бедность, мы попытались скрыть банкротство нашей политики демократическими штампами и болтовней о «красной угрозе».
Разоблачая стремление американского империализма задержать мощный послевоенный подъем национально-освободительного движения угнетенных народов Азии, Гейн с тревогой думает о тех последствиях, которые сулит американскому народу реакционная политика Уолл-стрита:
«Так же как и в Китае,—пишет Гейн,— политическая борьба в Корее совпадает с вековой борьбой между помещиком и крестьянином. Встав на сторону Ли Сын Мана, мы стали союзниками помещиков. Так же как и в Китае, мы дорогой ценой заплатим за эту ошибку».
Американские власти в Корее, как и в Японии, всячески старались скрыть свои преступные действия от американского народа. В Корею допускались только американские корреспонденты, но и им чинились всяческие препятствия, чтобы в прессу не просочились подлинные факты о политике американских империалистов в Корее. Кровавые палачи корейского народа, наемники Уолл-стрита, боятся своего собственного народа. Гейн приводит слова одного капитана военной администрации США в Корее, который заявил: «Американский народ слишком глуп, чтобы понять, что здесь происходит. Мы не можем ждать, пока он поймет наши проблемы. Армия скажет народу только то, что ему нужно знать. Не я один так думаю».
. Гейн побывал и в Северной Корее. Его поразила
27
царившая там радостная и мирная атмосфера. «На улицах Кайдзйо было полно покупателей, продавцов, детей; крестьян, приехавших на рынок со своей снедью; школьников, резвящихся перед дверями школ; телег, запряженных волами, велосипедов... Было и некоторое число полицейских, но проявления полицейской силы не чувствовалось».
Гейн своими глазами увидел огромную разницу между политикой Советского Союза и США в корейском вопросе и вынужден был признать: «Вы можете сказать о русских все, что вам заблагорассудится. Но дело в том, что русские с самого начала точно знали, в чем заключается их политика. Они предоставили дело управления Народным комитетам и разрешили самим корейцам проводить реформы и изгнать коллаборационистов».
В результате широких демократических преобразований, трудового энтузиазма корейского народа и бескорыстной помощи Советского Союза в Северной Корее было создано процветающее свободное демократическое государство — Корейская народно-демократическая республика.
Еще в ноябре 1920 г. В. И. Ленин, с гениальной прозорливостью предвидя неизбежность новой войны между Японией и США за новые колонии на Дальнем Востоке, указывал на хищническое стремление американского империализма к захвату Кореи.
«Япония, — говорил Ленин, — будет воевать за то, чтобы ей продолжать грабить Корею, которую она грабит с неслыханным зверством, соединяющим все новейшие изобретения техники и пыток чисто азиатских... Но этот корейский лакомый кусок хотят вырвать американцы».
Летом 1J950 г. магнаты Уолл-стрита решили осуществить свою давнишнюю мечту о захвате Кореи. 25 июня по указке американских империалистов лисынмановские войска внезапно вторглись на территорию Северной Кореи. Но Макартур, Даллес и Трумэн переоценили силы лисынмановских банд, которые они обильно снабдили американской военной техникой. Народная армия Корейской народно-демократической республики перешла в контрнаступление и разгромила лисынмановские полчища.
Видя, что попытка захватить Северную Корею с помощью помещичьих банд Ли СынгМана не удалась, импе риалисты США перешли к прямым актам агрессии. Против корейского народа были брошены крупные соединения 28.
американских войск. Соединенные Штаты потребовали от своих послушных вассалов в ООН посылки войск в Корею и одобрения их грязной авантюры. Макартуровская грабь- армия залила корейскую землю потоками крови мирного населения — женщин, стариков и детей, с бесчеловечной жестокостью превращала в пепел и руины корейские города и деревни.
Но и эти зверства не сломили волю корейского народа. Он продолжал борьбу за свое освобождение и с братской помощью китайских добровольцев неоднократно обращал в бегство вооруженных до зубов американских погромщиков и грабителей.
«Своей героической борьбой против американских интервентов, — сказал товарищ Булганин в своем докладе 6 ноября 1950 г., — корейский народ завоевал сочувствие миролюбивых народов всего мира. Корея стала знаменем освободительного движения для угнетенных и зависимых стран».
Взбешенные провалом своих агрессивных планов в Корее, американские захватчики пошли на самые чудовищные преступления — применение отравляющих веществ и бактериологического оружия в войне против корейского народа.
В апреле 1951 г., пытаясь скрыть от американского народа подлинные причины провала агрессивной, авантюристической дальневосточной политики Уолл-стрита, правители США приняли решение всю вину за этот провал возложить на Макартура и отстранить его от должности верховного главнокомандующего на Дальнем Востоке.
Провал планов американской интервенции и отстранение Макартура лишь подчеркивают глубокий кризис агрессивной внешней политики США. А что касается перспектив интервенции США в Корее, то товарищ Сталин дал ясный ответ на этот вопрос:
«Если Англия и Соединенные Штаты Америки,— сказал товарищ Сталин в беседе с корреспондентом «Правды» в феврале 1951 г.,—окончательно отклонят мирные предложения Народного Правительства Китая, то война в Корее может кончиться лишь поражением интервентов».
* * *
Подводя итоги своим наблюдениям в период пребывания на Дальнем Востоке, Гейн с тревогой задумывается
29
над тем, что принесет американскому народу империалистическая внешняя политика США, направляемая поджигателями новой войны, претендентами на мировое господство — заправилами Уолл-стрита.
«Я имел возможность наблюдать, — пишет он, — в трех основных странах Азии нашу внешнюю политику в действии. Ход этой политики был одним и тем же в Китае, в Японии и в Корее.
Так, например, во всех трех странах мы проводили негативную политику. Мы были заняты «сдерживанием» русского влияния, а не поощрением прогрессивных мероприятий, которые могли бы принести пользу китайцам, японцам или корейцам.
Во имя этого «сдерживания» мы стали во всех трех странах союзниками крайних правых группировок... В Японии мы являемся союзниками таких людей, как Иосида, в Корее мы связаны с Ли Сын Маном, а в Китае—с правым крылом гоминдана.
► Это политика банкротства, которое мы сами навлекаем на себя. Мы откровенно сознаемся, что политические деятели, которых мы поддерживаем, недемократичны и продажны. Мы признаем, что эти люди не могут и не хотят проводить прогрессивные реформы... Это бесцельная и дорогостоящая политика, так как она игнорирует благосостояние того народа, который мы якобы защищаем... В результате мы потерпели неудачу в Японии, так же как в Китае и Корее. Нам удалось породить лишь ненависть к себе, и только слепые могут отрицать сегодня возможность победы коммунизма в Китае и Корее... Политика «сдерживания» и «жесткая» политика доказали свое банкротство».
Книга Гейна не только ярко разоблачает империалистический характер политики США на Дальнем Востоке и ее полное банкротство. Она показывает читателю, что обречена на провал и вся внешняя политика США.
Поджигатели войны, заправилы Уолл-стрита превратили Соединенные Штаты в опору мировой реакции, в центр притяжения всех темных сил фашизма и мракобесия.
«Новый облик Америки, •— пишет Гейн, — это облик сильной, богатой и хищной страны, находящейся в союзе с реакцией и готовой подавить любое массовое движение, если оно левее центра, независимо от того, является ли 30
оно коммунистическим, социалистическим или просто движением протеста против несправедливости, коррупции и угнетения».
Но нет такой силы, которая могла бы подавить стремление всего трудового народа земли к миру и свободе. Об этом убедительно говорит могучий подъем демократического движения во всех странах мира, об этом говорят полмиллиарда подписей под Стокгольмским воззванием.
Вот почему ни атомная бомба, ни какие-либо военные союзы и блоки не помогут магнатам американских монополий осуществить свои людоедские планы, вот почему поджигателей новой войны ждет неизбежный и полный провал.
В заключение следует указать и на существенные недостатки, от которых отнюдь не свободна книга М. Гейна.
Так, автор, говоря о причинах поражения Японии во второй мировой войне, ни словом не обмолвился о той решающей роли, которую сыграла Советская Армия в разгроме японских агрессоров. Гейн не сказал американскому народу всей правды о той напряженной борьбе — за демократизацию и демилитаризацию Японии, за создание независимой и подлинно демократической Кореи, — которую неуклонно и последовательно вели представители СССР в Союзном совете и Дальневосточной комиссии.
Более того. Вопреки всему основному содержанию своей книги и в полном противоречии со всеми приводимыми им фактами, Гейн включил в нее ряд фраз, в которых ставится знак равенства между политикой США и СССР на Датьнем Востоке или утверждается, что в основе всей внешней политики США лежит не агрессивное стремление Уолл-стрита к, завоеванию мирового господства, а «страх перед Россией».
Причины этих недостатков кроются не только в том, что автор буржуазный журналист, хотя это обстоятельство, безусловно, следует иметь в виду при оценке данной книги. Гейн ясно понимал, что даже за то, что он имел смелость написать в своем «Японском дневнике», ему грозят суровые полицейские репрессии. «Можно ли было рассказать эту потрясающую историю, — писал он, — без того, чтобы тебя обозвали мечтателем или кем-нибудь похуже?»
Вполне понятно, что в тех условиях, в каких автор издавал в США свою книгу — в обстановке безудержной 31
военной истерии и разнузданной антисоветской клеветы,— он не мог высказаться со всей откровенностью.
Но, несмотря на свои недостатки, «Японский дневник» Гейна является актуальной и полезной книгой, заслуживающей внимания советского читателя.
А. Варшавский.
МАРК ГЕЙН
японский
ДНЕВНИК
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
Эта книга представляет собой рассказ очевидца о том, что происходило в Японии и Корее в условиях американ-'" ской оккупации. Она преследует также и некоторые другие цели. Это повествование об экстраординарной личности — генерале Дугласе Макартуре и о людях, окружающих его. Это отчет о том, как осуществляется внешняя политика Соединенных Штатов в одной части земного шара. Это подробный рассказ о заговоре и контрзаговоре, которые осуществлялись против японского престола в годы войны, и о последующем заговоре против планов союзников. Это повесть о простых людях в двух странах Востока. Это, наконец, отчет о моем собственном познавательном опыте.
В эту книгу включены почти без изменения записи из моего дневника. Внесено лишь несколько незначительных исправлений: изменен ряд имен, упорядочены некоторые даты, сокращены кое-какие записи и — в тех случаях, когда это представлялось необходимым, — добавлены пояснительные данные. Последние почерпнуты из различных источников, начиная от дневника ближайшего помощника императора и кончая бюллетенями американского Управления по изучению результатов стратегических бомбардировок.
Трудно воздать должное всем тем людям в Японии и Корее, которые помогали мне в этой работе и способствовали обогащению моего опыта. Слишком многих пришлось бы назвать, а я уверен, что многие предпочтут остаться неизвестными. Это самые различные люди — от членов японского парламента до лисынмановских террористов и американских генералов; от крестьян-издольщиков и рево-
35
3»
люциоперов до содержателей публичных домов; от американских офицеров, которые жаждали, чтобы «народ там, на родине, узнал правду», до японского летчика-смертника, который рассчитывает вступить в американские военно-воздушные силы в новой войне, и корейского генерала, который получал американские субсидии на содержание «школы лидеров» нацистского образца.
Я должен также поблагодарить группу талантливых журналистов, с которыми я работал, иногда по принципу поочередного освещения событий.
И, наконец, больше всего я обязан Сэлли, ежедневные письма к которой побудили меня написать эту книгу и которая позднее терпеливо и сочувственно разделяла со мной многие испытания. Она спускалась вместе со мной глубоко под землю, чтобы побеседовать с японскими шахтерами; она путешествовала, покрывая расстояния в тысячи миль на виллисе, на поезде и на самолете, и помогала мне получать информацию у простых людей и у «реформаторов», а иногда по собственной инициативе собирала полезные све-/ дения. Эта книга посвящается ей.
Марк Гейн.
Салоники, Греция,
1 июля 1948 г.
ПОРА ОБЕЩАНИЙ
5 декабря 1945 г. ТОК IIО
Примерно в полдень мы увидели очертания Японии. Она ясно виднелась внизу — зеленая земля, окаймленная тонкой белой полоской прибоя. Страна казалась мирной и безлюдной — не видно было дымящихся труб, поездов и движения по узким ленточкам дорог.
Мы приземлились на аэродроме Ацуги. Взлетно-посадочная дорожка была испещрена, словно оспинами, засыпанными воронками от бомб. По краям — там, где их настигли наши бомбы,— стояли разбитые и изуродованные японские самолеты. Наполовину сгоревшие деревянные ангары ремонтировались бригадами апатичных японцев. И над всем этим хаосом клубились тучи плотной, удушливой пыли.
С аэродрома мы поехали по узкой извилистой дороге в Токио. Здесь всюду чувствовалась жизнь — люди работали на полях, играли дети, на солнце сушились овощи. Пожилой мужчина толкал тележку, в которой сидела сморщенная старуха. Строения были убоги, их бумажные стенки порваны, но это были жилые строения и в них теплилась жизнь.
Однако чем ближе мы подъезжали к Иокогаме, тем более явными становились масштабы разрушений, причиненных Японии. Перед нами, насколько мог видеть глаз, на целые мили простирались руины. Люди были оборваны и угрюмы. Они разгребали обломки, чтобы расчистить место для новых лачуг. Они впрягались в тележки, доверху нагруженные камнями и досками, или толкали их перед собой. Но разрушения были столь велики, что все эти усилия казались бесплодными. Нигде не видно было новых зданий. Остовы вагонов и паровозов все еще.
зт
оставались неубранными с железнодорожных путей Трамч вап стояли там, где их настиг сокрушительный огонь, скрутивший металл, оборвавший провода и, словно восковые свечи, погнувший железные столбы, на которых эти провода подвешивались. Изуродованные автобусы и автомобили были брошены у обочины дороги. Все это запустение было делом рук человека. Эту безобразную, страшную пустыню с трудом можно было разглядеть в облаках пыли, поднимавшейся от раздробленного камня и известки.
На дорогах наблюдалось большое движение, но его создавали исключительно американские военные машины. Японцы устало плелись по дороге, скрываясь в клубах пыли, и, повидимому, были ко всему равнодушны. Даже Гинза в Токио — некогда одна из самых красивых улиц в мире — не избежала этой участи. Деревья и здания потемнели от пожарищ, а киоски, у которых по вечерам царило ярмарочное оживление, ныне исчезли.
Мы подъехали к внушительному шестиэтажному серому зданию, не пострадавшему от войны. Некогда здесь находилась главная контора страховой компании Дай- ици; теперь здесь помещался штаб генерала Макартура. Я вошел в здание, надеясь найти здесь отдел печати. Первым знакомым лицом, которое я увидел, был Ричард Лаутербах из журнала «Лайф».
«Мы ждали вас», — сказал он.
6 декабря 1945 г. ТОКИО
Первая ночь в Клубе журналистов — старом пятиэтажном здании, где некогда помещался ресторан. Оно стоит в узком переулке, который теперь известен под названием Симбун (Газетный). Вдоль него тянутся остовы служебных построек, лишенных кровли. С мостовой, заваленной то здесь, то там обломками, тоненькие журчащие ручейки бегут к развалинам зданий, ржавым грудам металлических сейфов, железных решеток и побуревшей земли. Но как только вы входите в клуб, хаос отступает, и вы оказывав-* тесь в теплом, суетливом, многоязыком мире, насыщенном той атмосферой интернационального общения и высоких интриг,; которую Голливуд любит привносить в фильмы О шпионах и иностранных корреспондентах. Груши
38
людей шепчется в углу с японцем таинственного вида. Французский корреспондент обнимает евразийку, блещущую изысканной красотой. Американец сидит со своей любовницей-немкой, которая некогда услаждала нацистского гаулейтера.* Высокий, тощий японец в помятом суконном костюме разговаривает с нью-йоркским журналистом, надеясь на то, что последний, быть может, сумеет помочь японцу, чтобы его не арестовали как военного преступника. Китаец болтает с японцем, который учился в Ам- херстовском колледже, работал в японской военно-морской разведке и женился на индийской принцессе. Другие корреспонденты пьют, спорят, с апломбом рассказывают об отдаленных уголках земного шара, где они только что побывали или намереваются побывать. Английский корреспондент по телефону назначает свидание капитану женского вспомогательного корпуса, и голос его разносится по всему зданию. Американских полковников усиленно потчуют неочищенной японской водкой.
Собравшиеся говорят на смешанном жаргоне, в котором преобладает фронтовая, журналистская, интендантская и сексуальная терминология. Слуга-японец без конца распахивает дверь, пропуская входящих и выходящих, и с улицы доносится непрерывный гул моторов.
Клуб переполнен, и минувшую ночь мне пришлось провести в танцевальном зале за бумажным экраном. В шесть часов утра японские мальчики-слуги подняли возню и разбудили меня. Я принял душ и спустился в богато отделанную столовую, потолок которой подпирают выложенные изразцами колонны. Официантки — невысокие пухлые девушки, большинство которых раньше работало в конторах. Их познания в английском языке ограничиваются фразой «прошу прощения», которую они употребляют кстати и некстати. Пища хороша, и я не вижу необ; ходимости в извинениях.
После завтрака я направился по главному бульвару к отделу печати, который помещается в здании токийской радиостанции. У отеля «Империал» теперь нехватает крыла, но в остальном здание столь же красиво, как в ту пору, когда оно было только что выстроено Фрэнком Ллойдом Райтом. Подобно Клубу журналистов, оно одиноко стоит среди развалин, и в устланном ковром вестибюле под ногами скрипят осколки камня. Вдоль бульвара движутся
39
несколько потрепанных грузовиков с газогенераторными моторами, выпускающих клубы черного дыма, да битком набитые людьми грохочущие трамваи с окнами, заколочен, ными жестью и досками.
Огромное железобетонное здание токийской радиостанции выкрашено для маскировки в черный цвет, как это принято у японцев. В большом зале для корреспондентов я занял свободный стол возле Фрэнка Келли из «Нью- Йорк гералд трибюн», а затем явился к руководителю отдела печати бригадному генералу Фрейну Бэйкеру. Это тучный, немногословный и угрюмый человек. Меня предупредили, что он не слишком жалует специальных корреспондентов с их раздражающей склонностью к независимым суждениям и обследованиям. Бэйкер считает, что для освещения положения в Японии достаточно одних информационных агентств.
Хотя я не собирался передавать информацию в течение одной—двух недель, до тех пор пока не сумею оглядеться, мне пришлось сегодня вечером засесть за корреспонденцию в связи с последним приказом об аресте главных военных преступников. Некоторые из них — тени из моего собственного журналистского прошлого — люди, которые развязали войну в Китае и ввели жесткий военный режим в Японии. Меня особенно интересуют два человека. Один из них — принц Фумимаро Коноэ — высокий, худощавый человек, породнившийся с императорским домом, трижды премьер-министр, честолюбивый политик, сочетающий разглагольствования о демократии с идеями феодализма. Другой — маркиз Коици Кидо — оппортунист, который, подобно лорду — хранителю печати, был мозгом и рупором императора.
По сообщению газеты «Майници», приказ об аресте последовал за «трехдневным унынием и терзаниями» в парламенте. Этот достойный институт, полный сторонников Тодзио, уже отправил в тюрьму за последние четыре дня 24 человека, и его деятельность полностью парализована страхом перед новыми арестами.
Поздно вечером, отправив корреспонденцию, я вернулся в клуб. Луна скрылась в облаках, и я все время оступался в ямы. На улице никого не было, царили гне» тущий мрак и тишина. Проходя мимо высокого здания, 40
от которого сохранился лишь фасад, я заглянул в окна и там, где должен был быть потолок и электрическое освещение, увидел небо и звезды.
7 декабря 1945 г. ТОКИО
Эта страна играет важную роль на важном этапе истории. Я побывал в различных отделах штаба, и почти все. с кем я беседовал, были заняты тем, что, быть может, станет одним из величайших экспериментов в истории — переустройством побежденной страны. Энтузиазм людей заразителен. Они вели кровавую войну до тех пор, пока ее гнусность не стала нестерпимой для них. Теперь им кажется, что они очищаются сами и очищают врага. Штаб полон «реформаторов». Далеко за полночь горит свет в зданиях, где эти молодые люди работают над планом создания новой японской демократии. Большая часть ограничений, ущемлявших гражданские свободы, уже отменена, а вместе с ними упразднены органы, внедрявшие их, в том числе «полиция по контролю над мыслями». Теперь американцы разрабатывают новые директивы, которые положат конец дикой феодальной системе издольщины, уничтожат гигантские финансовые империи, или дзайбацу, прекратят господство синтоистской церкви над государством, улучшат систему просвещения, предоставят женщинам избирательные права и сделают профсоюзы свободными. Многое разрушено, но Япония — феодальная страна, и демократия не может здесь утвердиться до тех пор, пока не будет уничтожено старое здание феодализма.
Калифорнийский нефтепромышленник Эд Поули, возглавляющий американскую репарационную миссию, сегодня опубликовал пространное заявление, из которого явствует, что физическое разоружение Японии будет происходить одновременно с возрождением ее национального духа и институтов. В заявлении имеется одно знаменательное место: «Многие считали, что Япония капитулировала, не сражаясь до последнего солдата, ибо она стала беспомощной в промышленном отношении. Внешний вид многих разрушенных бомбардировками городов говорит в пользу этой поверхностной оценки. Дело в том, что промышленное оборудование Японии было предназначено главным 41
образом для войны. Несмотря на все разрушения, Япония все еще поддерживает в пригодном для эксплоатации состоянии больше заводов и оборудования, чем ее правители когда-либо разрешали использовать для гражданских нужд и потребления даже в мирные годы. Этот излишек должен быть изъят».
Поули привел один пример: в сталеплавильной промышленности, станкостроении и в области производства иного машинного оборудования из стали Япония все еще имеет вдвое больше действующих мощностей, чем в тот день, когда она вторглась в Маньчжурию 14 лет назад.
Поули рекомендовал вывезти из Японии и распределить между ее победителями и жертвами следующий промышленный потенциал: половину мощностей станкостроительной промышленности; 350—400 тысяч станков; оборудование 20 судоверфей, а также все избыточное оборудование сталеплавильной промышленности сверх необходимого для производства 2500 тысяч тонн стали. (Япония все еще располагает производственными мощностями, позволяющими ей выплавлять 11 миллионов тонн стали, тогда как в 1930 г. было выплавлено 2300 тысяч тонн.)
Интересно будет наблюдать за той борьбой, которая развернется вокруг этого промышленного богатства. Любопытно будет также послушать, что скажет американская авиация в ответ на заявление Поули, что большая часть японского промышленного оборудования уцелела после воздушных бомбардировок. Наши летчики крайне самолюбивы.
В полдень, когда я шел из парламента, майор, ехавший в виллисе, подвез меня в своей машине. Он отрекомендовался Грэфом Бепплом, в прошлом специалистом по рекламе, а ныне сотрудником отдела гражданской информации и просвещения. Ему поручено подготовить серию радиопередач под общим названием «Теперь об этом можно рассказать», из которых первая должна быть передана в следующее воскресенье. Мы не проехали и мили, как он пригласил меня на генеральную репетицию этой радиопередачи.
Это было что-то фантастическое. Беспорядочная музыка представляла собой мешанину из мелодий голливудского 42
фильма «Унесенные ветром» и треньканья японского национального инструмента сямисэн. В числе актеров, состязавшихся с эксцентричной программой кинохроники «Марш времени», находились профессиональные гейши в пестрых кимоно с двухэтажными прическами, сооруженными из густо напомаженных волос. Хотя эта передача была посвящена истории Японии, ее постановку осуществляли американские офицеры, разговаривавшие начальническим тоном.
Радиопередачу открыл японский диктор. «Мы, народ Японии, — заявил он в самом драматическом стиле американских радиопередач, — знаем теперь, кто виновен в преступлениях, совершенных против нас».
«Кто? Кто они?» — спрашивали другие голоса.
«Дайте время, — отвечал диктор, — я расскажу вам, я назову вам некоторые имена. Я прежде всего сообщу вам факты, чтобы вы сами могли сделать выводы».
После этих слов диктор углубился в историю японской агрессии. Он рассказал о приемах, к которым прибегала армия, чтобы узурпировать власть, о подавлении свободы слова, о 59 тысячах людей, арестованных в период между 1933 и 1936 гг. за «опасные мысли». Обращаясь к прошлому, диктор напоминал японскому народу о полицейском теп pope. В десяти радиопередачах японскому народу в популярной форме должна была быть показана вся неприглядная история японской агрессии, начиная с завоевания Маньчжурии.
Единственное, что смущало меня в этих радиопередачах, так же как и в серии 20 газетных статей, которые начнут печататься с завтрашнего дня, это их политическая тенденция. Они изображают робкого премьер-министра Кид- зюро Сидехара как мужественного противника милитаризма; они сосредоточивают огонь главным образом на военщине, не задевая таких явных военных преступников; как император пли воротилы сверхтрестов; они наивно истолковывают или даже искажают некоторые эпизоды новейшей японской истории.
В наше время акцентирование и замалчивание тех или иных фактов имеет почти столь же важное значение, как и отчетливые приказы, ибо японцы жадно ловят намеки на то, что и кого мы осуждаем и что бы мы хотели видеть в новой Японии.
43
Позднее я слышал, как сержант пытался назначить свидание гейше.
«Алло, бэби! — обратился он к ней, широко улыбаясь.— Не пойти ли нам куда-нибудь вечерком?»
Гейша улыбнулась в ответ и прошла мимо. «Вот так и получается, — сказал сержант. — Каждый день одно и то же. На вид они красотки, но ничего не понимают».
Редактор одной японской газеты, оказывающий мне посреднические услуги, указал на’ два признака новой демократии: 70 тысяч полицейских в Японии получат вместо сабель дубинки; в школах отныне будет вывешиваться портрет императора в штатской, а не в военной форме.
Редактор принес мне экземпляр секретного доклада, представленного принцем Коноэ императору за семь недель до нападения на Пирл Харбор. Этот доклад объемом в 5 тысяч слов, предсказывавший войну с Соединенными Штатами, /до сих пор хранился в подвалах дворца. Он будет печататься два дня подряд в токийской ежедневной газете. Это хитрый ход со стороны Коноэ, который старается спасти свою шкуру, изображая себя непримиримым врагом японской военщины.
Военные осуждаются в докладе за саботирование попыток Коноэ достигнуть взаимопонимания с Соединенными Штатами. Во вступлении, которое будет предпослано докладу, будут заклеймены те, кто критиковал Коноэ как пацифиста во время войны и кто теперь требует его ареста как поджигателя войны.
Несомненно, Коноэ чувствует себя в своем загородном имении, как лисица в капкане. Считая себя исторической личностью, он не может допустить, чтобы его арестовали как военного преступника, и все же его изворотливый ум не может найти выхода. Время истекает. У Коноэ остается всего лишь девять дней свободы.
Читая вечером в клубе переводы японских газет, я вдруг вспомнил, что сегодня четвертая годовщина «позорной даты, которая не будет забыта». Я сказал об этом своим соседям и обнаружил, что почти никто из них об этом не помнит.
Газета «Иомиури» заявила в редакционной статье: «Переживаемые сейчас страной бедствия начались ровно четыре года назад. Да будет проклята эта дата!»
44
декабря 1945 г.
ТОКИО
Утром пошел в парламент—посмотреть, как отразилось поражение Японии на ее законодателях. Огромное серое здание, возвышающееся над городом, уцелело, но годы войны не пощадили его. Оно холодное и запущенное. Бархатная обивка выглядит полинялой; в помещении стоит затхлый запах. В большом мрачном комитетском зале несколько десятков престарелых людей, напоминающих служителей похоронных бюро в своих черных костюмах и крахмальных воротничках, обсуждали проект конституции. Ораторы что-то монотонно бубнили, и казалось, что большинство слушателей спит.
Я наблюдал за людьми, сидевшими внизу, и изумлялся. Вот люди, говорил я себе, которые являются правителями побежденной страны, обещавшей стать демократической; а ведь наступил четвертый месяц после поражения. Что говорит их устами — невежество или величайшая наглость?
Вот д-р Дзиодзи Мацумото — член кабинета, преуспевающий юрист дзайбацу, главный автор проекта новой демократической конституции. Он говорил: «Считают, что демократическое правительство — это правительство, опирающееся на волю народа. Но правительство, избранное народом и располагающее большинством, имеет тенденцию ущемлять свободы и права народа. Нам необходимо правительство для народа».
А вот и сам премьер-министр Сидехара — одутловатый и немощный 70-летпий старикан. «Демократия, — говорит он, — это правительство, опирающееся на общественное мнение и отражающее его. В Соединенных Штатах оно известно как правительство народа, для народа и избранное народом. В Японии правительство должно находиться под руководством его императорского величества и опираться на парламент, который отражает волю масс».
Я взглянул исподтишка па своего официального гида- японца. Он поймал мой взгляд. «Весьма поучительно, — сказал он убежденно. — Очень много демократии. Япония очень счастлива».
После завтрака мы поехали с Ричардом Лаутербахом и сотрудником «Нью-Йорк пост» Даррелом Берриганом на первый крупный послевоенный митинг коммунистической 45
Партин, который должен был стать историческим событием. Когда месяц назад американская армия открыла двери тюрем, на свободу вышло около 150 коммунистов. Сегодня компартия насчитывает 1200 членов, но ее газета «Ака- хата» («Красный флаг») имеет тираж 19 тысяч экземпляров, а число сочувствующих, в особенности в профсоюзах транспортников и горняков, определяется в 100 тысяч1. Коммунистическое движение бесспорно будет бурно расти в ближайшие месяцы.
Перед залом Кйорицу, где должен был происходить митинг, стояли белые виллисы военной полиции. В кулуарах несколько агентов контрразведки опрашивали юношей, продававших коммунистические газеты. Митинг еще не начался, но огромный мрачный зал был набит до отказа. Аудитория была однородной: мужчины средних лет, бедно одетые. В зале слышен был гул нетерпения.
В комнате за сценой мы застали Иосио Сига — одного из главных руководителей партии, редактора газеты «Ака- хата». Это статный представительный человек с высоким лбом и римским носом и не то сардонической, не то добродушной улыбкой. Под пиджаком на нем был свитер домашней вязки.
В Сига нас интересовали две вещи — его личность и программа. Все люди, принадлежащие к старой коммунистической гвардии, ведут примерно одинаковый образ жизни. Если бы мы узнали кое-что о Сига, мы лучше поняли бы других руководителей.
Сига рассказал, что он родился в Модзи в 1901 г. Он был одним из девяти детей морского капитана, буддиста. Пер- вым_ революционным шагом Сига было участие в знаме нитом рисовом бунте в Модзи в 1918 г.
В 1923 г., будучи студентом социологического факультета Токийского императорского университета, Сига вступил в коммунистическую партию. На протяжении последующих пяти лет он помогал организовывать коммунисти1 Учитывая большой интерес советских читателей ко всем фактам и данным, относящимся к деятельности коммунистических партий зарубежных стран, редакция считает необходимым отметить, что приводимые автором в настоящей книге сведения о японской и корейской компартиях и их руководителях не являются официальными, данными. (Прим, ред.)
46
ческие «ячейки», стал членом Центрального комитета партии и издавал журнал под названием «Марксизм». Он с трудом зарабатывал на жизнь, сотрудничая в прогрессивных изданиях.
Сига говорил ясно, звучно, радостно взволнованным голосом и когда замечал, что переводчик неточно передает его слова, поправлял его на хорошем английском языке. («Я научился английскому, — сказал он, — у миссионера д-ра Даниэла Бьюкенена, который сейчас находится в Вашингтоне».) Сига производил впечатление энергичного, проницательного человека, в совершенстве владеющего марксистской терминологией.
«Некогда я был женат, — сказал он. — Моя жена была арестована вместе со мной. Но у нее нехватило мужества. Однажды в 1933 г. под пытками она отреклась от коммунизма. Я не мог простить ее. В тот день я отказался от жены».
Полиция, по его словам, прибегала и к другим методам, чтобы сломить его дух. «Я глух на одно ухо, —Сига показал его. — Тюремщики били меня по уху, и я потерял слух. От недоедания у меня ослабело зрение. Но реакционеры ничего не добились. Я провел семнадцать лет в тюрьме. Я вышел живым».
Сига изложил нам основные пункты коммунистической программы: создание республиканского правительства и установление всех гражданских свобод, в том числе «права бастовать и проводить уличные демонстрации», уничтожение дзайбацу, поддержка средних и мелких предпринимателей, конфискация земли, принадлежащей землевладельцам, «ведущим паразитический образ жизни, в том числе императору».
Сига говорил на языке революции—всюду одинаковом. Но каждому из нас невольно пришла в голову мысль, что для человека, который провел семнадцать лет в одиночке, потерял жену и от побоев лишился слуха, он был поразительно сдержан.
Сига пришел в более боевое настроение, когда поднялся на трибуну. К этому времени аудитория слушала речи уже в течение трех часов. Однако кульминационный момент — осуждение военных преступников — еще не наступил. По этому вопросу должен был выступить Сига. Он
47
стоял на трибуне, опираясь па нее обеими руками, и смотрел вниз на тысячи аплодировавших людей.
«Настало время, — воскликнул он, — назвать виновных и составить список людей, приведших Японию к-гибели, превративших еёГ в царство террора и угнетения. Это длинный список. Он содержит 1300 имен. В список включены 357 членов нижней палаты, голосовавших по указке своих хозяев; 165 членов верхней палаты; 168 убийц и головорезов, которые прикрывали свои преступления маской патриотизма; 130 генералов и адмиралов; 86 воротил дзайбацу, наживавшихся на войне; 114 руководителей так называемых профсоюзов, созданных для того, чтобы выполнять приказы армии; 70 журналистов и 50 ученых, которые предали науку и журналистику; 23 судебных чиновника».
Он назвал несколько имен: одноглазого адмирала Ки- цисабуро Номура и дипломата Сабуро Курусу, которые старались усыпить бдительность США, в то время как японский флот готовился напасть на Пирл Харбор; нынешнего премьер-министра Сидехара; Цунео Мацудайра, который был послом в Англии и по возвращении стал ближайшим советником императора. Аудитория разразилась аплодисментами и одобрительными возгласами, когда Сига назвал этих людей военными преступниками.
«Мы должны добавить к этому списку и другие имена,— сказал Сига. — Мы хотим включить в него всех взрослых членов императорской семьи, включая императрицу На- гако. Она повела женщин Японии по пути реакции и феодализма. Она является символом полурабского положения наших женщин. Мы не включаем только принца Яма- сина, ибо он не в своем уме».
В зале раздался смех. Сига подождал, пока в зале не воцарилась напряженная тишина.
«Теперь мы переходим к последнему имени — имени- императора...»
Собравшиеся начали кричать и топать ногами. Во мраке зала бушевал яростный прибой...
Я поймал Сига при выходе из зала. Он был возбужден и взволнован. Мне хотелось узнать более подробно о его пребывании в тюрьме.
«Из внешнего мира, — сказал он,— нам в тюрьму тай
48
но сообщали новости, и мы руководили коммунистическим движением из тюрьмы. Мы пользовались простым средством общения. Тюремные власти позволяли нам получать книги по узкому кругу вопросов. Моей темой была императорская система. — Он засмеялся. — Сегодня я являюсь величайшим специалистом в Японии по вопросу об императорской власти.
Мои друзья присылали мне книги по вопросам об императорской системе и на полях крахмалом писали сообщения или требуемые инструкции. Затем мы делали вид, что повредили себе что-нибудь и просили в больнице иод. С помощью иода мы проявляли то, что было написано крахмалом. Потом, когда нам надо было возвращать книги, мы растворяли иод мочой, а свои сообщения писали мучным клейстером. Очень просто.
Когда мы с Токуда [Кюици Токуда — видный руководитель компартии], который находился в противоположном крыле тюрьмы, хотели снестись друг с другом, мы пользовались зеркалами и азбукой Морзе. В камере подо мной находился коммунист, и я обычно перестукивался с ним. Однажды, когда мне тайно переправили текст новой Сталинской конституции, я выстукивал три дня подряд, пока не передал ему весь текст. Это было самое трудное дело, которое мне когда-либо приходилось выполнять...»
9 декабря 1945 г. ТОКИО
Утром я перебрался из танцевального зала в комнату на втором этаже, где помещается четыре человека. В моем углу нет даже электрической лампочки, но все же я счастлив. Мои представления о комфорте, несомненно, меняются.
День провел в самых различных местах, начиная от штаба Макартура до многолюдного черного рынка за вокзалом Симбаси. Позднее с удивлением обнаружил, что в моей записной книжке накопилась уйма сумбурных записей.
Дюжина сардин стоит 10 иен (или 66 центов). Столько же стоят мелкие апельсины. Второсортный костюм из искусственной ткани стоит 80 долларов. 10 иен — это сейчас дневной заработок многих.
4 М. ГеПн
49
Кондукторы в трамваях никак не сладят с курильщиками, которые не обращают никакого внимания на надпись «Не курить». Люди спрашивают: «Разве у нас нет демократии?»
До конца сессии нынешнего куцого парламента осталось всего несколько дней, а он продолжает саботировать три главных законодательных мероприятия, внесенных~на его рассмотрение: обязательную продажу правительству всей земли сверх 12"акров на владельца,’ легализацию профсоюзов и пересмотренный избирательный закон. Последний изменен настолько ловко, что только известные старые политические деятели смогут баллотироваться на будущих выборах.
В то время как обсуждение этих трех законопроектов затягивается, парламент поглощен оживленной дискуссией на тему: «Является ли император божеством?» Премьер- министр отвечает: «Он не является божеством в понимании Запада, и все же он не является человеческим существом».
Люди из отдела по делам японского правительства при штабе Макартура сказали мне, что генерал намеревается сместить японское правительство, но пока драгоценное время тратится впустую.
Японское правительство выпустило пробный шар и теперь ждет, как будет реагировать Америка. Оно назначило первые послевоенные выборы в Японии на 20 января 1946 г. Выборы, конечно, представляют собой демократическую процедуру. Но сомнительно, чтобы данные выборы доказали что-нибудь, кроме того, что старые политические машины исключительно прочны. Политические деятели могут находиться в постояннОхМ страхе перед арестом. Однако большинство машин безлико. Если один кандидат будет арестован, то вместо него может быть найден другой. Потребуются годы, а не месяцы, для того чтобы силы демократии выросли яа иссохшей почве Японии. На этом раннем этапе наивно ожидать от японцев энергичного руководства или политической организации, которая необходима для проведения демократических выборов. Пяти месяцев будет недостаточно для искоренения старых страхов и обычаев. Именно на это рассчитывает японское правительство, настаивая на быстром проведении выборов .
50
В то же время рутинеры все более смело выползают из нор. Единственное, что изменилось,— это лозунги. Вчерашние ярые националисты сегодня выступают как сторонники демократии... «на японский лад».
Однажды утром жители увидели плакаты, возвещавшие о создании новой политической партии Тенгуто. Это можно перевести примерно так: «Лига длинноносых домовых» («тенгу» — легендарные существа, которые учили самураев владеть мечом). Однако мои японские друзья сказали мне, что в этой партии забавно только название. По существу — это последыш кровавых ультранационалистических банд, которые некогда входили в «Общество черного дракона». Плакаты возвещали, что новая партия будет бороться за «полную поддержку императорской системы простым человеком» через посредство «правосудия, осуществляемого сильными людьми».
Это не единичный случай, а лишь одно из многочисленных проявлений лихорадки, охватившей всю Японию. Один японский осведомитель назвал мне сегодня 38 новых политических партий. Некоторые из них занимаются легальной деятельностью, но большинство не имеет ничего общего с демократией. Есть организации, именуемые: «Автономная партия подданных императора», «Партия новой Японии», «Революционная партия Великой Японии», «Государственно-социалистическая партия Великой Японии», «Беспристрастный японский народ», «Дело японского народа». Прикрываясь этими выспренными названиями, здесь орудуют некоторые наиболее гнусные фигуры ультранационалистического движения.
Вот, например, «Партия японских трудящихся». Ее председатель был главой ныне несуществующей токийской компании «Токио мьюнишинз компани», а ее подлинный вдохновитель — бывший деятель «Общества черного дракона». Партия хорошо организована и имеет такие отделы, как отдел культуры, дипломатический и женский. Она имеет «корпус обороны», возглавляемый бывшим морским офицером. Она имеет финансовый отдел, в котором подвизаются чиновники различных банковских и промышленных объединений. Недавно партия обратилась с призывом вступать в ее ряды. Откликнулось около 2500 человек. Триста из них ныне являются активными членами, платящими членские взносы. Однако во главе
4*
51
партии стоит кучка националистов, бывших военнослужащих и дельцов. В уставе партии прямо говорится: «Император — источник всего» и «Пусть вселенная будет только обиталищем, управляемым императором».
Меня всегда поражает, как ловко негодяи умеют использовать замечательный механизм демократии.
Имеется четыре ведущие партии, которые будут играть главную роль на предстоящих выборах. Специалист из государственного департамента сегодня рассказал мне о них.
Крупнейшая партия — прогрессивная; ее костяк составляют 270 членов так называемого «парламента времен Тодзио». Эта партия выражает интересы крупного капитала, богатых землевладельцев и бюрократии, которые лйшь несколько месяцев назад охотно сотрудничали с японской военщиной. Эту партию преследует страх и нечистая совесть. Несколько десятков ее членов уже заклеймены как военные преступники. Остальные живут под страхом ареста.
Следующей является либеральная партия, которая в такой же мере нелиберальна, в какой прогрессивная партия непрогрессивна. Единственная разница между этими двумя партиями заключается в том, что либералы получили места в парламенте, не пользуясь официальной поддержкой незаконной организации Тодзио «Ассоциация помощи трону». Подлинным вдохновителем этой партии является 72-летний Ициро Хатояма, программа которого построена на двух принципах: война против коммунизма и поддержка „императора. Будучи заклеймен как фашист, Хатояма на прошлой неделе выступил с разъяснением, что он: 1) во время' войны занимался земледелием и 2) сделал «больше любого другого, для того чтобы положить конец войне».
Третья по величине — социалистическая партия, родившаяся шесть недель назад в результате бракосочетания мелких довоенных левых партий. Это несчастливый брак, и между различными фракциями — от прокоммунистической до профашистской — происходят постоянные раздоры. Однако в данный момент именно эта партия объединяет интеллигенцию. На прошлой неделе студенты двух токийских университетов провозгласили ее «партией, которой 52
я желаю успеха». Кроме того, это единственная из крупных партий, выступившая за разумную программу возрождения Японии, основанную на земельной реформе и национализации ведущих отраслей промышленности. В данный момент величайшим яблоком раздора является императорская система, причем большинство фракций высказывается за сохранение власти императора.
Коммунистическая партия является самой малочисленной, но наиболее боевой. Если семь недель назад она насчитывала всего 300 членов, то ко дню выборов она рассчитывает иметь в своих рядах 10 тысяч членов. Главной ее проблемой сегодня является подготовка новых организаторов, поскольку большинство старых было истреблено полицией. Единственной коммунистической «ячейкой», действовавшей на всем протяжении войны, была ячейка в Осаке, где на военных заводах работало несколько десятков коммунистов. Руководителем партии является Токуда, 51-летний уроженец Окинавы, который провел треть жизни в тюрьме. Он болен; одну руку полицейские искалечили ему побоями. Партия ожидает возвращения Санд- зо Носака, который эмигрировал из Японии около 15 лет назад и последние годы войны провел в подполье в Китае. Теперь он пробирается на родину, и его возвращения ждут с большим нетерпением. Любопытно, что волнение охватило даже враждебные коммунистам круги. Социалисты готовят ему радушную встречу.
10 декабря 1945 г. ТОКИО
Утром ходил в бюро связи правительства Японии со штабом Макартура, через которое наши приказы передаются японскому правительству. Я поднимался на лифте и обнаружил, что в целях экономии электрические лампочки в нем вывернуты. Было жутко подниматься в таком темном лифте — я не мог различить собственной руки. В служебных помещениях было не намного светлее. Кое-где горел свет, притягивавший к себе людей, как магнит. Все работали в пальто. После четырех лет войны и семи лет карточной системы мало у кого сохранилась теплая одежда, и люди ходят в декабре в летних пальто, надевая под них всю имеющуюся одежду.
53.
Когда меня представляли кому-либо, я тотчас же невольно вспоминал, что теплые руки, которые мне приходилось пожимать в Японии, до сих пор принадлежали только американцам. Японцам почти негде обогреться, и руки у них холодны и красны.
Узнал о первом случае разгона американской военной полицией японской демонстрации. Инцидент произошел два дня назад в Мацуяме, на крайнем юге Японии. Перед ратушей собралось до тысячи японцев, протестовавших против несправедливого распределения продовольствия и одежды. Поскольку некоторые службы американской 24-й дивизии помещались в здании ратуши, было решено, что демонстрация мешает их работе. Была вызвана военная полиция, которая быстро разогнала толпу. Повидимому, одумавшись, штаб дивизии заявил, что американская армия «не вмешивалась в спор». Мэр города Мацуямы признал, что при распределении были допущены несправедливости, и обещал, что в будущем неимущие будут пользоваться преимуществом.
Сегодня генерал Макартур дал указание японскому правительству подготовить закон о «подлинной земельной реформе» к 15 марта 1946 г. Для того чтобы положить конец сознательным проволочкам, к которым прибегали правительство и парламент, в директиве излагается суть дела, а затем намечаются кое-какие мероприятия.
История этой директивы весьма интересна. Первоначально составить ее было поручено штабному отделу природных ресурсов, но специалисты, работавшие в этом отделе, были профессиональными агрономами и геологами и отказались трудиться над социальной реформой. Этот важнейший приказ перебрасывался, как мяч, до тех пор, пока в конце прошлого месяца это дело не было поручено начальнику отдела гражданской информации и просвещения бригадному генералу Кену Дайку. Он, в свою очередь, поручил это своему планово-оперативному подотделу, возглавляемому способным человеком, бывшим журналистом, капитаном Артуром Берстоком. Ходят слухи, что Береток и его помощник, бывший сценарист радиопередач капитан Бернард Фишер, получили от Дайка, который в прошлом занимался рекламой, весьма незатейливые инструкции:
54
«Валяйте покороче!» и «Сделайте так, чтобы печати было ! цитировать». Ребята выполнили приказ. Подобно в' остальным директивам Макартура, эта директива также была полна удобных для цитирования штампов — таких, как «человеческое достоинство», «века феодального гнета», «экономическое рабство», «плоды своего труда». Однако офицеры, которые разрабатывали ее, знали, что эти штампы возымеют на японцев электризующее действие.
Директива была закончена за неделю. Затем она была представлена генералу Макартуру, который два дня спустя вызвал Дайка и сказал, что это самый толковый материал и лучшая директива, которую он когда-либо читал. И хотя в отделе Дайка не было ни одного человека, считая обоих авторов директивы, которые понимали бы что-нибудь в японском сельском хозяйстве, Дайку была предоставлена большая роль в осуществлении проекта земельной реформы. Ошибки, штампы и цветистый язык не имели значения. Важно было то, что за ними скрывался неясный облик революционных преобразований.
В начале директивы констатировалось положение: свыше трех четвертей японских крестьян являются частично или целиком издольщиками, которые выплачивают помещикам половину и более своего урожая;
около половины крестьянских хозяйств Японии обрабатывают менее чем по полтора акра каждое;
менее половины крестьян кое-как сводят концы с концами после выплаты долговых процентов.
Ввиду такой нищеты в сельском хозяйстве директива предписывала японскому правительству внести положение о земельной реформе в свод законов. Согласно этому закону правительство должно было скупить всю землю сверх сравнительно небольшого участка, приходящегося на каждое хозяйство, для продажи ее издольщикам по умеренным ценам.
Директива потрясла парламент, ибо рутинеры полагали, что им удастся отделаться беззубым законом, составленным японским министерством земледелия, затем выхолощенным кабинетом министров и урезанным парламентом.
Японский народ, повидимому, мало осведомлен о том, что происходит. На днях делегация крестьян явилась к подъезду дворца принца Хигасикуни, разложила подарки-удобрения, рис, козьи тушки —и просила принца
55
позаботиться о том, чтобы император прекратил саботирование парламентом земельной реформы. Принц принял подарки и сказал, что подумает, что можно сделать.
Странное время и странное место. Я отправил корреспонденцию по поводу директивы о земельной реформе и почувствовал радость от сознания, что в какой-то мере помогаю делать историю. Потом пошел в Клуб журналистов и испытал не меньшую радость от того, что нашел лампочку для своего закутка. Теперь по крайней мере я смогу читать по вечерам.
После обеда мы с Берриганом начали вырабатывать маршрут двухнедельной поездки на север, которую собираемся предпринять. Решили начать с Сендая, в 220 милях к северу отсюда, где бригадный генерал Фрэнк Дорн, прозванный «Пинки»1, временно командует 11-й авиадесантной дивизией. «Пинки» служил в Китае, где мы работали с Берриганом, и мы очень рассчитываем на его помощь.
11 декабря 1945 г. ТОКИО
Начинаются первые забастовки. Никто из нас не сомневается в том, что они разрастутся, ибо Япония приближается к неизбежному после поражения кризису, от которого больше всего пострадают рабочие.
Сегодня утром отправился на пригородную железнодорожную станцию, чтобы поговорить с рабочими, собирающимися объявить забастовку в конце дня. Железная дорога принадлежит семейству Кавасаки, одному из крупных представителей системы дзайбацу, которую мы обрекли на уничтожение. Я прошел с переводчиком по бесконечному подземному переходу. Наконец, мы достигли станции и обнаружили, что забастовка уже началась.
У турникета стоял старичок, размахивавший рукой и кричавший ожидавшим пассажирам: «Идите, сегодня бесплатно. Сегодня мы работаем на народ, а не на Кавасаки».
Мы сказали ему, что хотим поговорить с руководителями забастовки, и он тут же покинул свой пост и повел нас по мрачной, темной платформе к будке стрелочника. Это
’Pinky (англ.) — розоватый. (Прим, перев.) 56
был маленький домик, загроможденный инструментами и старой мебелью, обогреваемый небольшим «хибаци»1. В комнате находились два пожилых человека в черной форме железнодорожников. На одном из них были соломенные сандалии, и мне бросилось в глаза, что на одной ноге у него не было большого пальца. Я угостил всех сигаретами и сказал, что американский народ хочет знать о забастовке.
Вскоре я понял, что если американцы не особенно интересуются японскими забастовками вообще, то данной забастовкой им, безусловно, стоило поинтересоваться. В ней было нечто новое. Бастующие не прекратили работу. Поезда попрежнему шли по графику. Все дело заключалось в том, что рабочие перевозили постоянных пассажиров бесплатно. Кавасаки не решались обратиться к полиции за помощью, потому что они сами были не слишком уверены в том, что не попадут в тюрьму в качестве военных преступников. Полиция же по своей инициативе ничего не делала из опасения, что генералу Макартуру могут не понравиться старомодные грубые полицейские методы.
Рабочие четко сформулировали свои требования.
«Вы знаете сколько мы зарабатываем? — спросил мужчина в соломенных сандалиях. — Наши ставки составляют от 80 сен до 2,40 иены [от 6 до 16 центов] в день. Мы получаем также пособия и премиальные, которые примерно равны нашей зарплате. И все же, разве можно прожить на 5 иен [33 цента] в день?»
«Я работаю на компанию четырнадцать лет, — сказал старик. — Я получаю 1,80 иены [12 центов] в день и по 5 иен в месяц пособия на каждого из девяти детей. Я бы не мог прокормить семью на этот заработок, если бы не маленький огородик. Я продаю овощи на черном рынке, и это спасает нас».
«Вы видите мои сандалии? — спросил беспалый.— Я истратил на них четырехдневный заработок. Я не могу даже подумать о том, чтобы купить одежду детям. Мы требуем пятикратного повышения зарплаты. Кажется, что это много. На самом деле это не так. Цены возросли гораздо, гораздо больше. Тем не менее, семейство Кавасаки
1 Глиняный горшок, в котором сжигается древесный уголь; в японских домах «хибаци» употребляются в качестве обогревательных печей. (Прим, ред.)
57
ни разу не получало меньше 8 процентов дивидендов от этой железной дороги».
Бастовавшие сидели и курили мои сигареты. Глаза их были устремлены вдаль.
«Мы будем бороться до победы, — сказал беспалый. — Еще в 1926 г. мы пытались создать профсоюз, но полиция быстро разогнала его. То же самое произошло в 1930 г. Мы были так напуганы, что не делали новой попытки до последнего времени. Теперь генерал Макартур говорит, что мы можем организовать профсоюз, и у нас будет сильный профсоюз».
Я оставил им несколько сигарет и пошел обратно к турникету. Снаружи стояла небольшая группа пассажиров, находившаяся в явной нерешимости. Я спросил женщину с малышом, почему она не входит. Она ответила мне тихим испуганным голосом:
«Говорят, что я не должна платить. Я не понимаю, почему это возможно? Полиции это не понравится».
В то время как железнодорожники начали свою забастовку «бесплатного проезда», в другой части Токио происходило урегулирование еще одной необычной забастовки. Это был 90-дневный конфликт в газете «Иомиури» — крупнейшей ежедневной токийской газете, которая на всем протяжении агрессии и войны была рупором военщины. Владельцем и издателем «Иомиури» был шовинист, бывший начальник токийской полиции Мацутаро Сиорики.
На одиннадцатый день после капитуляции Японии примерно пятьдесят редакционных работников, в том числе семь авторов редакционных статей, представили Сиорики меморандум, от которого у него, несомненно, должно было резко повыситься кровяное давление. Редакционный коллектив требовал «демократизации» газеты, увольнения редакторов, насаждавших шовинизм, и улучшения условий работы.
Сиорики обещал «демократизировать» газету, но отклонил остальные требования. Авторов редакционных статей предупредили, что они не должны называть лиц, принадлежавших ко двору или к дзайбацу, военными преступниками. На одном совещании Сиорики лично сделал выговор помощнику редактора за информацию, касающуюся уничтожения дзайбацу. Когда два американских
58
корреспондента проинтервьюировали императора, редакторам информационного отдела «Иомуири» было приказано не давать ни одного слова об этих интервью, которые могли произвести впечатление, что божественность императора берется под сомнение.
Два месяца назад недовольные предприняли новый шаг. Они создали «Общество изучения демократических принципов» и сообщили об этом Сиорики. На следующий день Сиорики заявил, что все, кто придерживается этой «трусливой тактики», будут уволены. Он сказал также, что газета принадлежит ему и он волен закрыть ее или издавать, придавая ей любое направление.
18 дней назад газетные работники, собравшись на массовый митинг, решили создать свой профсоюз и послали Сиорики контртребование: «Ввиду неблаговидности роли, которую вы сыграли во время войны, мы требуем, чтобы вы немедленно ушли в отставку со всеми вашими помощниками». Проявив поразительную самоуверенность, группа этих служащих дала Сиорики 24 часа на размышления.
Сиорики принял решение. Он уволил пять зачинщиков. Тогда был созван новый митинг и официально основан профсоюз, объявивший, что он находится «в состоянии войны» с Сиорики.
Сиорики апеллировал к правительству, которое вызвало девять руководителей профсоюза на пятидневный допрос. Но к этому времени конфликт в «Иомиури» приобрел символическое значение. Это была борьба старого порядка с новым, борьба между оголтелым национализмом и демократией. Сотрудники других газет начали созывать массовые митинги. Члены профсоюза организовали демонстрацию перед пострадавшим от пожара зданием «Иомиури». Общественное мнение было против Сиорики.
Окончательное решение было продиктовано извне. Когда выяснилось прошлое Сиорики, был отдан приказ о его аресте как военного преступника. После этого Сиорики сдался. Вчера он согласился уйти в отставку с поста председателя компании и отдать 30 процентов своих акций. Издателем Сиорики назначил высокого и бледного, как мертвец, очеркиста Цунего Баба, которого считают либералом. Редактором газеты стал руководитель оппозиционеров Томин Судзуки. Для руководства газетой и
S9
улучшения условий работы был создан комитет, в который вошел представитель профсоюза.
Восхищенные офицеры в штабе сказали мне, что это первый зарегистрированный случай соглашения о коллективном договоре. Меня больше заинтересовал тот факт, что на протяжении ряда недель газетой руководил не владелец, а служащие. Тираж колоссально возрос и достиг 1700 тысяч экземпляров в день.
Между прочим, Сиорики все-таки кончил плохо. Завтра его сажают в тюрьму.
12 декабря 1945 г. ТОКИО
Днем мы с Лаутербахом и Альфредом Эйзенштедтом из журнала «Лайф» пошли в Императорский театр на современную французскую пьесу «Тулон». Два или три поколения назад театр был, наверное, великолепен. Теперь он запущен и не отапливается; зрители сидят, укутавшись в пальто и шарфы.
Интересен уже сам успех пьесы в Японии. Ее тема — потопление французского флота в 1942 г.; ее автор — француз Жан-Ришар Блок. Постановщик уснастил французскую патриотическую пьесу гневными репликами по адресу японских милитаристов. Революционные речи звучали вдвойне пикантно, если вспомнить, что и генерал Макартур и император находились так близко от театра, что могли слышать слова, произносившиеся со сцены.
Большинство актеров было в рыжих париках. Когда они что-нибудь произносили, у них изо рта шел густой пар, и все это очень рассеивало внимание. Герой пьесы — старый французский адмирал, в котором происходит внутренняя борьба между преданностью Петэну и Лавалю и ненавистью к врагу. Его дочь, пышная молодая женщина в рыжем парике, все время вбегала и убегала со сцены, произнося свои реплики громким пронзительным голосом. Французские моряки-вестовые входили, получали приказы и уходили, говоря: «Содесу» («Так точно»). Через каждые две — три минуты звонил телефон, адмирал хватал трубку и произносил: «Маси-маси, маси-маси» 6Q
(«Алло, алло»). Было много беготни по сцене, неистовой жестикуляции и патриотических речей, произносившихся под аккомпанемент взрывов за сценой.
Пьеса заканчивалась потоплением флота и уходом адмирала, его дочери и других граждан в горы для организации партизанского отряда. Но для меня кульминационный момент наступил несколько раньше, когда адмирал, наконец, принял решение потопить корабли. Он произнес речь с классическим пафосом и жестами трагического актера и убежал со сцены с криком «Банзай! Банзай!», что должно было представлять традиционный возглас французских адмиралов, идущих на смерть.
Какова бы ни была моя индивидуальная реакция, «Тулон» произвел впечатление на зрителей. Для них это, несомненно, было вестью об уже осуществленных революционных преобразованиях и символом тех, которые еще должны совершиться. Я наблюдал за молодым,студентом, сидевшим передо мной. Он смотрел на сцену, затаив дыхание, и был настолько наэлектризован виденным, что, казалось, вот-вот вскочит на ноги. Возможно, для него это была первая открытая критика старого порядка, и он буквально впитывал каждое слово.
И все же порочность этого спектакля на японской сцене была очевидна. Внезапно я сообразил, что мне напоминают актеры и их пронзительные голоса. Они разыгрывали драму с глубоким социальным конфликтом так, как будто это была традиционная японская пьеса о богах, демонах и самураях. Несмотря на рыжие парики и французскую военную форму, это были все те же актеры театра «Кабуки» (классической драмы), имевшие за плечами многовековые традиции слова и жеста. Японский театр должен выработать новые традиции для того, чтобы решать темы социальной значимости.
После спектакля я направился во второразрядный книжный магазин в районе Канда. На его полках попреж- нему красуются шовинистические литературные и философские опусы — учебники по националистической этике, сочинения о «миссии» Японии, трактаты о божественном происхождении императора. Один делец рассказал мне, что в одном из университетов было якобы «найдено» около
61
500 книг по марксистской философии и либеральным учениям; японское правительство приказало уничтожить эти книги в начале войны. Университет догадался спрятать их в подвале. Мне сказали также, что штаб генерала Мак- артура наводнен заявками на перевод американских книг. Первой в списке значится классический роман «Унесенные ветром». Любопытно высказывание по этому поводу газеты «Ниппон тайме». Заявляя, что Япония больше всего нуждается в конкретных книгах о демократии в действии, «Ниппон тайме» едко замечает:
«Скарлетт О’Хара 1 может подождать. Почему японцы должны волноваться по поводу того, что Скарлетт нечего есть, кроме батата, или по поводу цен на черном рынке в Атланте. Средний японец больше знает о таких делах из своего собственного опыта».
13 декабря 1945 г. ТОКИО
Получил первую пачку писем от Сэлли.
Получил также телеграмму от генерала «Пинки» Дорна, который приглашает Берригана и меня в Сендай.
14 декабря 1945 г. ТОКИО
Я уже давно знал, что рис в Японии в этом году не уродился. Но я не знал, насколько плох урожай, пока не разговорился сегодня утром с майором У. Г. Леонардом. Леонард — опытный агроном из штатов Среднего Запада, медлительный и осторожный.
«Насколько плохи дела? — переспросил он. — Я могу сказать вам, насколько плохи. На прошлой неделе в Киото оставался лишь трехдневный запас продовольствия, в Токио — четырехдневный. Мы рассчитываем, что протянем февраль, но 15 марта — критический срок. С этого момента мы можем ожидать рисовых бунтов. Наши войска могут, оказаться в опасности. Мы принимаем тайные меры предосторожности».
1 Героиня реакционного американского романа Маргарет Митчелл „Унесенные ветром". (Прим, ред.)
62
Леонард пользуется официальными японскими статистическими данными, которые определяют урожай в 215 миллионов бушелей вместо средней цифры 300 миллионов. Район излишков в Японии находится к северу от Токио, как раз в той области, куда мы с Берриганом намереваемся поехать в конце месяца. Это житница, которая кормит города. Но в этом году рисовый пояс пережил всевозможные бедствия — от наводнения до заморозков. Положение еще ухудшается тем, что излишки риса припрятываются. Хитрый крестьянин отказывается сдавать рис государству по 30 иен (2 доллара) за бушель, ибо он может продать его на черном рынке в пять и десять раз дороже. Поэтому крестьяне вступают в сговор с местными чиновниками, которые представляют ложные сведения о предполагаемом урожае, и, по мере того как множатся лживые прогнозы, общий просчет для всей страны становится вопиющим.
Хотелось бы знать, отразится ли на общем положении земельная реформа, о проведении которой генерал Макар- тур только-что отдал приказ.
Майор Леонард презрительно фыркает: «Подумаешь, земельная реформа! Она только осложняет ту трудную работу, которую мы, специалисты, пытаемся здесь проводить. Самое лучшее, что вы, как журналист, можете сде- ласть — это заявить народу там, на родине, чтобы он положил конец этим незадачливым реформам. Невозможно и излишне менять систему, которая выдержала тысячелетнее испытание».
15 декабря 1945 г. ТОКИО
Сегодня пройдена еще одна веха в послевоенном преобразовании Японии. Я имею в виду директиву ~об отделении синто.истскрд.лерквиотгосударстваГоУэтом нам сообщил генерал^Дайк всего лишь два часа спустя после того, как директива была вручена японскому правительству.
Мы сидели в конференц-зале, и, мне кажется, у каждого на уме была одна и та же мысль: если японцы решат восстать против радикальных преобразований, намечаемых для них, то эта мера послужит пробным камнем. Если они не восстанут, когда подрываются основы их религии, то, значит, они не восстанут вообще. Синтоистская
63
религия —это самое причудливое изобретение верующего человека: это вера в божественность императора и в то, что «миссия» японского народа — править миром, вера, основанная на мифологии, охватывающей минимум 8 миллионов божеств во главе с богиней солнца Аматерасу, от которой произошел император; религия поклонения предкам, сыновней почтительности, патриотизма и кое-каких конфуцианских добродетелей, которые должны обеспечивать верность и покорность государству.
Неизменная на протяжении веков, эта религия была пересмотрена, когда в 1867 г. к власти пришел император Мэйдзи. Это было сделано сознательно и хитроумно. Правителям современной Японии нужно было иметь удобное политическое орудие, и таким орудием явилась синтоистская религия. Синтоистские священники были подчинены правительственному контролю, правительство разработало новый обряд, школьников обязали посещать храмы; были ассигнованы средства на поддержку и рекламу новой государственной религии.
По мере усиления японского национализма, синтоистская религия становилась его служанкой. Было удобно одурманивать мозг маленького человека верой в то, что он сам является пол у божеством, что он предназначен богами управлять миром и что путь к величию лежит через преданность и повиновение. Все больше и больше японцев, погибавших на войне, причислялось к растущему сонму богов, и с неизменной изобретательностью средневековый обряд был приспособлен к целям современной агрессии.
К началу войны синтоистская церковь превратилась в могучую силу: она имела 300 национальных храмов (в том числе храм Исе, владевший 13 тысячами акров земли, в который император совершал паломничества для общения с духом своей прародительницы богини Аматерасу), 129 специальных храмов для^юлдат. 50 тысяч провинциальных и местных храмов и 60 тысяч частных храмов. Страшно подумать, какие средства и усилия поглощает синтоистская религия!..
И вот генерал Дайк, представительный, серьезный человек, уселся со спокойным видом и начал говорить об освобождении народа от религии, которая «способствовала военным преступлениям японцев, их поражению, страданиям, лишениям и привела к нынешнему прискорбному 64
состоянию», и о том, как «умело выдвигались» люди, поставившие синтоистскую религию на службу национализму. А возле него сидел такой же серьезный человек, капитан- лейтенант американского военно-морского флота Уильям К. Бане, который разработал директиву (в свое время он был ректором Оттербейнекого колледжа в Уэсгервилле, штат Огайо). Я наблюдал за ними и думал над тем, мог ли пять лет назад любой из них помышлять о том, что он ознаменует рождество 1946 г. уничтожением древней религии.
Директива начиналась с разъяснения, что ее цель — избавить японский народ от необходимости исповедовать религию, которую государство использует как свое орудие. Директива предписывала:
1. Уничтожение учения о том, что император или народ Японии или Японские острова — превыше всего.
2. Закрытие государственных школ, в которых преподается синтоизм.
3. Удаление фигурок божков и всех других синтоистских символов из всех учреждений, школ и общественных зданий.
4. Прекращение, официального паломничества в синтоистские храмы должностных лиц для «отчета» о различных важных событиях.
Все это хорошо. Но, когда Дайк и Бане кончили, сомнения начали закрадываться в наши души. Основой синтоистской религии является вера в божественность императора. Превратится ли император в человека после уничтожения синтоизма? Дайк сказал, что он не может ответить «в данный момент». «Император, — сказал он, — попрежнему является духовным главой Японии». Затем между Дайком и мной произошел следующий диалог:
«Будет ли разрешено императору совершать такие паломничества в храм Исе, как недавнее его паломничество, когда он сообщил богине Аматерасу об окончании войны?»
- Да.
«Но поскольку официальные посещения храмов запрещены, кто будет судить о том, носит ли паломничество императора официальный или частный характер?»
— Это его собственное дело.
«Будет ли разрешено государственным чиновникам сопровождать его?»
5 М. Гейн
65
— Да, если они будут следовать за ним как частные лица.
«Кто будет судить о том, являются ли они должностными или частными лицами? Они сами?»
-Да.
«Будет ли печати разрешено освещать эти паломничества и делать фотоснимки?»
- Да.
Синтоистской религии был нанесен весьма тяжелый удар. Но я продолжал задумываться над тем, не подготовили ли мы благодатную почву для кампании притворства, в результате чего положение останется более или менее неизменным и император со свитой придворных, правительственных чиновников, мэров, деревенских старшин, репортеров и фотографов будет совершать паломничества в различные храмы, а потом будет невнятно заверять нас в том, что это были лишь частные лица, использовавшие право свободного отправления религиозного культа. Мне также приходила в голову мысль, поймет ли крестьянин, привыкший видеть, как император «общается с богами», что теперь последний отправляет религиозный культ не как император, а как частное лицо?
Не знаю, что ответить на это. Конечно, мы не можем запретить религию. Но, отчуждая религию от государства и в то же время оставляя лазейки для нарушений, мы вполне можем потерпеть неудачу.
16 декабря 1945 г, ТОКИО
Вчера вечером, за несколько часов до истечения срока явки в тюрьму Сугамо, принц Коноэ, обвиняемый в военных преступлениях, устроил прием в своем роскошном доме в предместье Токио. В числе гостей были некоторые высшие придворные и кое-кто из родственников. Много говорили о политике, о будущем Японии. Позднее гости отмечали, что принц Коноэ не производил впечатления человека, особенно удрученного перспективой заточения в тюрьму.
Вскоре после часа ночи Коноэ удалился в свою спальню — простую комнату в японском стиле. Его постель уже была постлана на полу. Через несколько минут он
66
позвал своего второго сына, 23-летнего Мицитака, и вручил ему пространную памятную записку.
«В этой записке, — сказал он, — объясняется позиция, которую я занимал по различным вопросам в последние годы».
В записке говорилось:
«Меня глубоко беспокоит то, что я совершил некоторые ошибки в государственных делах после возникновения китайского инцидента [1937 г.] Ч Я, однако, не могу перенести унижений, связанных с арестом и разбирательством моего дела американским судом. Я не мог не ощущать особой ответственности за исход китайского инцидента. Поэтому я прилагал все силы, чтобы достигнуть взаимопонимания между Соединенными Штатами и Японией, полагая, что только такое взаимопонимание могло бы привести к решению китайской проблемы.
Весьма прискорбно, что я был объявлен военным преступником Соединенными Штатами, с которыми я хотел и пытался совместно добиваться мирного урегулирования дел в районе Тихого океана. Я полагаю, что мои искренние намерения даже и сейчас правильно понимаются и расцениваются моими друзьями, среди которых немало американцев».
После того как Мицитака прочитал этот меморандум, принц Коноэ подробно рассказал ему о своей политической карьере. Мицитака позднее заявил, что его отец четко сформулировал три следующих пункта:
1. Хотя он, Коноэ, усиленно добивался этого, ему не удалось урегулировать китайский инцидент или привести Японию и Соединенные Штаты на «мирную конференцию круглого стола» до войны. Он сказал, что хочет испросить прощения у императора и народа за свою неудачу.
2. Вскоре после нападения японцев на Пирл Харбор он написал два доклада: один о довоенных американояпонских переговорах и другой — о тройственном пакте держав «оси». Он выразил надежду, что мир будет судить о нем на основании этих двух докладов.
1 Спровоцированный японцами вооруженный конфликт у Лю- коуцзяо близ Пекина, послуживший началом японо-китайской войны 1937—1945 гг. (Прим, ред.)
5*
67
3. Он прилагал всяческие усилия, чтобы защитить «национальный образ правления», или государственное устройство, Японии. Ввиду родства с императорским домом на семействе Коноэ лежит особый долг защищать своеобразную политическую систему старой Японии.
Мицитака ушел от отца примерно в два часа ночи. Если у него и были какие-либо опасения, он позднее не признался в этом. В шесть часов утра г-жа Коноэ вошла в спальню мужа и нашла его мертвым. Возле него на низеньком столике стоял пузырек с ядом. Она немедленно позвонила секретарю принца Томохико Усиба. Когда Усиба прибыл в половине седьмого утра, он застал тело Коноэ еще теплым.
Приехавших позднее первых американских следователей заверили в том, что никто не предполагал о самоубийстве Коноэ, хотя Усиба и сказал: «Теперь, когда я оглядываюсь назад, для меня* становится очевидным, что принц Коноэ никогда не собирался отдаться в руки американских властей». И все же немногие данные, которые мне удалось найти, убеждают меня в том, что смерть Коноэ никого не удивила. Я уверен, что люди, которые вчера вечером были в гостях у Коноэ, сегодня спокойно ожидали известия о его смерти. Я столь же уверен в том, что Мицитака, принимая ночью последнее завещание своего отца, знал, что он никогда больше его не увидит.
Позднее пришли американцы, нарушили траур семьи и произвели обыск в спальне принца, в его кабинете и на веранде, где он хранил английские книги.
Через некоторое время в спальню вошли слуги; они сняли с Коноэ заграничную пижаму, облачили его в белое церемониальное кимоно и накрыли тело белой простыней. В головах поставили маленький столик с чашей «святой» воды. За столиком, скрытая экраном, стояла выточенная из слоновой кости фигурка богини милосердия Кван Ин.
Именно в этом доме разыгрался осенью 1941 г. предпоследний акт японской трагедии. Мы узнали достаточно подробностей от самого Коноэ, который был главным действующим лицом, и от некоторых его противников и можем представить, как разыгрывалась эта историческая трагедия.
68
Ее темой была жестокая борьба, которая потрясала правящую клику на протяжении лета 1941 г. Спорным вопросом была война. Даже сегодня понимание этого конфликта помогает нам оценить соотношение сил в Японии в прошлом, настоящем и будущем.
2 июля 1941 г. гражданские и военные руководители Японии в присутствии императора приняли решение наступать на юг, даже если это будет означать войну с Соединенными Штатами и Великобританией. Принимая это решение, совещание отклонило точку зрения министра иностранных дел, который хотел воспользоваться нападением Германии на СССР, чтобы вторгнуться в Сибирь.
Однако принятие этого решения не означало единства взглядов. Армия жаждала наступать на юг. Ее шпионы хорошо работали, и ей было известно, что она не встретит серьезного сопротивления. Часть командования флота солидаризировалась с армией. Его взгляды были изложены императору начальником генерального штаба флота следующим образом: «Если дела будут итти так, как сейчас, то мы неизбежно проиграем игру. Но если будет предпринята решительная операция, то можно будет надеяться исправить дело. Под этой операцией я подразумеваю войну».
Однако во флоте существовала и другая клика, возражавшая против войны. Ее беспокоила нехватка у Японии нефти и других стратегических ресурсов. Ее беспокоила мощь американского флота, в особенности подводного. Эту клику возглавлял главнокомандующий японским флотом адмирал Исороку Ямамото, который позднее так храбро разглагольствовал о том, как Белому дому будет продиктован мир. Ямамото заявил Коноэ:
«Если мне велят воевать, не думая о последствиях, я могу отчаянно драться первые шесть — двенадцать месяцев. Но я совершенно утрачу веру в победу, если война продлится два или три года... Я надеюсь, вы будете стараться избежать войны с Соединенными Штатами».
В то время Коноэ еще не хотел войны с Соединенными Штатами. Он жаждал экспансии Японии не меньше любого из своих соратников-ультранационалистов, но он считал, что было бы ошибкой начинать новую войну до окончания конфликта в Китае, и не соглашался игнорировать могущество Америки. Он считал, что, натравливая
69
армию и флот друг на друга, он может оттянуть войну. Флот готов был играть ему наруку при условии, что никто не обвинит его в трусости.
Но генералы, возглавляемые Тодзио, были более напористыми, чем Коноэ. Они опрокидывали столы, кричали и угрожали. Когда нужно было, они устраивали пограничные диверсии против СССР или Китая, для того чтобы заставить Коноэ решиться. Они всячески использовали также молодых, рвущихся в бой фанатиков в армии и флоте. В течение всего лета в высших правительственных кругах и при дворе велись разговоры о «гражданской войне», которая будет развязана так называемой «кликой молодых офицеров»S если правительство не пойдет на новую агрессию. Генералы намекали на то, что они не в состоянии удержать фанатиков. Руководители правительства жили в тревожной атмосфере слухов и угроз и все более усиливали охрану своих домов. Коноэ не мог устоять перед таким нажимом. Он сдался.
6 сентября 1941 г. на чрезвычайно секретном- имперском совещании Коноэ обязался успешно завершить переговоры в Вашингтоне к 10 октября. Участники совещания решили, что если он не выполнит этого в срок, то «Япония примет решение воевать с Соединенными Штатами и Великобританией».
Решающий срок наступил и миновал, а урегулирования не было достигнуто. 12 октября военный министр (Тодзио), морской министр и министр иностранных дел встретились в доме Коноэ, для того чтобы выяснить, что последний намерен предпринять в связи со своим обязательством. Морской министр предусмотрительно уклонился от обсуждения, заявив, что решение должно быть принято Коноэ как премьер-министром. Министр иностранных дел высказал мнение, что соглашение с Соединенными Штатами может быть достигнуто, если Япония в принципе согласится отвести войска из Китая. Тодзио,
1 «Клика молодых офицеров» — наиболее шовинистически и агрессивно настроенные круги японской военщины, по своему происхождению тесно связанные с кулацкими верхами японской армии. Используя недовольство этих кругов существующим положением, японские фашисты вербовали из них кадры для совершения путчей и террористических актов. (Прим, ред.) 70
настроенный воинственно, продолжал категорически отклонять все предложения о мирном урегулировании.
«Мы не можем соглашаться ни на какое отклонение от своих принципов, — заявил он. — После всех жертв, понесенных нами в Китае, армия не согласится ни на какое отступление. Дух армии не допустит этого».
Коноэ пытался доказать необходимость продолжать переговоры в Вашингтоне. Тодзио возражал. Поиски выхода из создавшегося положения продолжались и на следующий вечер, когда четверка возобновила совещание.
На следующий день правительство и двор были охвачены настоящей истерией. Маркиз Кидо записал в дневнике, что он опасается немедленного военного переворота. Слова «гражданская война» непрестанно повторялись в разговорах.
Государственные чиновники опасались, что молодые фанатики по меньшей мере спровоцируют международный инцидент, который быстро перерастет в настоящую войну с Соединенными Штатами. Волны страха захлестывали императорский трон, и вечером того же дня император вызвал Кидо и обсудил с ним формулировку императорского указа об объявлении войны союзным державам. В том случае, если фанатики действительно спровоцируют инцидент, император был готов дать свое благословение.
14 октября 1941 г. Коноэ, обезумев от волнения и не будучи в состоянии справиться с армией, пригласил к себе Тодзио. Они сидели в кабинете и спорили — Коноэ страстно, Тодзио с возрастающим гневом. Хотя эта беседа почти не изменила хода событий, она заслуживает быть отмеченной в истории.
Коноэ начал с упоминания о прошлом Японии. Когда в 1904 г., сказал он, война с Россией представлялась неизбежной, японское правительство отправило посланников к президенту Теодору Рузвельту, чтобы просить его выступить в качестве посредника.
«Что дает вам надежду, генерал Тодзио, на доведение до конца войны с Соединенными Штатами и Англией, если вы начнете такую войну? — спросил Коноэ. — Я полагаю, что это единственная точка зрения, с которой можно рассматривать наши переговоры с Америкой».
71
Тодзио отверг этот довод. «Даже если бы моя карьера зависела от этого, — сказал он резко, — я не мог бы отдать приказ об эвакуации наших войск из Китая. Америка добивается гегемонии на Дальнем Востоке. Если мы один раз пойдем ей на уступки, трудно предвидеть, чего она потребует дальше».
Коноэ указал на обширные людские и материальные ресурсы Соединенных Штатов и заявил, что именно поэтому победа Японии отнюдь не гарантирована.
«Не было никакой уверенности в победе и во время войны с Россией в 1904 г. или в Китае, — ответил Тодзио с раздражением. — В Америке есть много людей немецкого происхождения, которые не станут воевать против своей родины. Не следует также игнорировать возможность массовых забастовок на американских военных заводах в случае войны. Японский премьер должен быть достаточно храбрым, чтобы спрыгнуть с веранды храма Кий- омицу»х.
«Если бы это касалось только меня одного, — сказал Коноэ, — я, не колеблясь, спрыгнул бы с веранды Кий- омицу, но мы обсуждаем судьбу не одного человека, а страны, история которой измеряется тремя тысячелетиями. Мы не можем пускаться на безрассудные авантюры в национальном масштабе, словно речь идет о подвигах частного лица».
Это была последняя политическая дискуссия между Коноэ и Тодзио. После этого Тодзио отказался снова встретиться с Коноэ. «Если я увижу его, — заявил Тодзио — я, наверное, не смогу владеть собой».
Однако в этой игре, где на карту было поставлено будущее Японии, Тодзио был более смелым и хитрым игроком. Отныне он не считал Коноэ серьезным препятствием для осуществления своих военных планов и готов был схватиться с более сильным противником.
Вечером того же дня посланец явился к секретарю кабинета. «Ходят слухи, — сказал он, — что флот не хочет войны. Если он открыто выступит за мирное урегу-
1 Храм Кийомицу в Киото стоит на краю обрыва. В переносном смысле это выражение означает способность принимать быстрые решения. (Прим, автора.) 72
дирование, армия подчинится его желанию. В конце концов, ведь не армии, а флоту пришлось бы воевать с Соединенными Штатами».
Коноэ немедленно послал секретаря к одному из адмиралов флота с просьбой выступить с. открытым заявлением против войны. Адмирал отклонил просьбу. Флот вел сложную политическую игру: он не мог признаться в трусости. Единственное, что адмирал мог предложить, это выступить с заявлением, что флот будет придерживаться решения премьер-министра.
В тот же вечер, 14 октября, в резиденцию Коноэ прибыл генерал, который заявил, что он явился от имени Тодзио, и потребовал отставки Коноэ. На следующий день Коноэ поспешил во дворец, чтобы встретиться со своим другом и протеже маркизом Кидо. Кидо отказался вмешаться. Он также вел определенную игру. Но Коноэ явился к императору, долго и взволнованно рассказывал ему об ожесточенных спорах по поводу войны и мира и сообщил, что Тодзио требует сформирования нового кабинета. Император, который склонялся к мнению, что победа над Соединенными Штатами возможна, не оказал Коноэ никакой поддержки.
На следующий день — 16 октября 1941 г. — Коноэ ушел в отставку. Выбрать нового премьер-министра было поручено изворотливому и вероломному политикану, орудовавшему за спиной императора, — маркизу Кидо. Пренебрегая мнением государственных деятелей старшего поколения, он остановил свой выбор на Тодзио.
Коноэ удалился на покой, чтобы предаваться печали, замышлять месть вкупе с заговорщиками высокого и низкого рангов и преодолевать угрызения совести.
Многое из вышеизложенного упоминалось в заметках Коноэ и опубликовано в его мемуарах. Кое-что он рассказал своим друзьям, которые всячески старались оправдать его.
Однако Коноэ не может быть оправдан. Я был в Шанхае роковым летом 1937 г., когда японская армия напапа на Китай и премьер-министр Коноэ старался ханжески оправдать насилие благочестивыми заявлениями о справедливости, искренности и «особой миссии» Японии. Я еще оставался там осенью 1938 г., когда он заявил, что Япония 73
присоединится к двум державам «оси», чтобы создать «новый порядок в Азии и во всем мире». Это было время, когда премьер-министр, легко поддававшийся переменам настроения, находился под влиянием военных фанатиков и разделял их мнение, что клонящийся к упадку западный мир не может остановить развития Японии. Однако настроение изменилось. В 1941 г. Коноэ уже не считал, что мир можно покорить безнаказанно.
Однако этот честолюбивый и экспансивный человек, на которого находили поочередно приступы меланхолии и экзальтации, не мог сопротивляться влиянию энергичных людей в армии. Вместе с Японией Коноэ был втянут в войну. Даже в последние часы своей жизни Коноэ не был хозяином своих решений, как не был им и в расцвете своей карьеры. Он не мог предстать перед судом как преступник, потому что был близок к императору и принадлежал к видному феодальному клану. Если бы его приговорили к повешению, это был бы приговор феодальной Японии, представителем которой он являлся столь продолжительное время.
Не мог также Коноэ рассказать Международному трибуналу историю подготовки Японии к войне, не бросив тень на императора и не подорвав того «национального образа правления», поддерживать который он завещал своему сыну. Поистине, думал я, не сам Коноэ решил принять яд, а его заставили сделать это исторические обстоятельства.
17 декабря 1945 г. ТОКИО
Сегодня в кабинете Коноэ его сын Мицитака и его старый друг писали хвалебную речь, которая будет произнесена на похоронах принца.
Пока еще гонцы из императорского дворца не приносили послания с выражением соболезнования семье Коноэ. Император, не будучи уверен в том, что ему самому не придется предстать перед судом в качестве военного преступника, не хотел пятнать себя проявлением сочувствия к человеку, советами которого он так долго руководствовался.
74
Не только император проявляет подобную бессердечность. Японская печать и руководители Японии сегодня наперебой порочат покойника. Характерна позиция ведущей ежедневной газеты «Асахи», которая, заявив, что она не решается «надругаться над прахом Коноэ», именно этим и занялась. «Принц, — заявила «Асахи», — не любил войны. Однако его слабый характер облегчил возникновение войны. Для государственного руководителя слабость характера — государственное преступление. Поэтому совершенно ясно, что принц был военным преступником». Политические деятели также всячески стараются опорочить Коноэ, очевидно считая, что чем больше они его очернят, тем менее виновными будут казаться сами.
Только сенаторы проявили милосердие к памяти Коноэ в этот пасмурный, дождливый день. На специальном заседании верхняя палата решила выразить сочувствие семье Коноэ.
Кейт Уилер из чикагской «Таймс» сегодня уехал, и я унаследовал его кровать, стол, книжный шкаф и... окно.
18 декабря 1945 г. ИОКОГАМА
Приехал в Иокогаму на первый процесс японских военных преступников на их собственной территории. Это не главные преступники, которые подготавливали войны и плели интриги вокруг императорского трона. Это мелкая сошка, участвовавшая в агрессии — солдаты и сержанты, которые претворяли высокую политику агрессии в отдельные варварские акты. Целая армия из 200 американских юристов занята рассмотрением массы улик в Токио и по меньшей мере 300 обвиняемых предстанут перед судом здесь, в Иокогаме. Я узнал, что цель процесса — не столько наказать виновных, сколько доказать японскому народу бесплодность агрессии.
Мне показалось иронией судьбы, что ареной для этой исторической трагедии был избран убогий маленький зал суда в Иокогаме, а главным актером — человек, который войдет в историю под прозвищем «Стеклянный глаз».
Когда я разыскал свое место в журналистской ложе, в зале уже царил бедлам. «Стеклянный глаз» — невысокий, худощавый человечек лет 28-ми, в очках, вытянувшись сидел на стуле, а вокруг него суетились американские фоторепортеры, светившие ему в лицо и поворачивавшие его то в одну, то в другую сторону. Горели мощные огни прожекторов, бросавшие причудливый белый свет на загрязненные стены и рахитичную мебель. В дверь в глубине зала время от времени входили группы японцев, которые занимали немногочисленные места, отведенные для представителей японской печати и для публики.
Когда суд начался, лицо Тацуо Цуция (он же «Стеклянный глаз») стало еще более растерянным. Его заставляли вставать, садиться и вставать снова. Пока переводчик шептал ему вопрос на ухо, Цуция тупо смотрел на восседавших перед ним девятерых военных судей.
По мере того как заслушивались свидетельские показания, исчезали всякие сомнения в том, что этот бывший крестьянин, казавшийся таким кротким, был садистом, находившим удовольствие в изобретении жестокостей, которым он подвергал заключенных в лагере, где был охранником. Не раз он выстраивал американских и английских пленных и приказывал им бить друг друга до тех пор, пока ему не надоедало это зрелище. Вместе с другими охранниками по прозвищу «Слюнтяй», «Гнилушка», «Микки Маус» и «Заклепка» дубинками и веревками, завязанными узлами, он избивал заключенных, а затем заставлял их стоять голыми на снегу. Именно так на глазах товарищей был убит юноша из Иллинойса по имени Роберт Гордон Тис.
Однако все мы чувствовали себя неловко, наблюдая, как обвинители ведут дело. Они были неудачно выбраны для исполнения исторической роли. Их ошибкой было то, что они не догадались привезти свидетелей из Соединенных Штатов. Все обвинение было построено на показаниях, подписанных под присягой, часть которых не удовлетворила бы даже простого полицейского репортера, не говоря уже о суде. Показания противоречили одно другому; в одном Цуция изображался как человек пяти футов роста, в другомт—на полфута выше; один свидетель говорил, что он весит 100 фунтов, другой считал, что он весит 165; один заявлял, что Цуция вставляет монокль 7$
в левую глазницу, другой — что в правую. В действительности же в лагере было два человека по прозвищу «Стеклянный глаз», оба одинаково гнусные, но я не понимал, когда о каком идет речь. Мы посмеивались, но испытывали в душе неловкость и стыд.
Трудности, с которыми сталкивалось обвинение, еще более усугублялись мастерством защитника-американца. Обаятельный флоридец, подполковник Джон Дикинсон, в прошлом прокурор округа, был единственным, кто придавал блеск судебному заседанию. Он знал право и судейские приемы и, расхаживая между «Стеклянным глазом» и судьями, парировал доводы обвинителя, придавая делу драматическую окраску. Правда, это не был спектакль, который соответствовал бы историческому значению процесса, но во всяком случае это было интересное судебное дело масштабов американского окружного суда.
Даже Дикинсон не сомневался в том, что «Стеклянный глаз» будет признан виновным и посажен в тюрьму. Итак, один военный преступник в какой-то мере заплатит за унижения и муки, причиненные нашим ближним. Однако его судьба не послужит назидательным уроком его народу, а ведь именно такова была цель процесса. Цуция может быть повешен, или сгнить в тюрьме, или оставаться в заключении до тех пор, пока мы не покинем эту страну. Но ни одного японца этот пример не побудит проявлять гуманность и справедливость в будущей войне.
19 декабря 1945 г. ТОКИО
Демократия, повидимому, еще не особенно повлияла на вековую японскую привычку повиноваться. Сегодня получено сообщение из Оиты (остров Кюсю) о стихийной волне нарушений правил уличного движения. Весь автотранспорт — грузовики, автобусы, автомобили — настолько ускорил езду, что стало небезопасно ходить по узким улицам.
Оказалось, что начальник военной полиции 32-й американской пехотной дивизии приказал вывесить указатели: «Предельная скорость — 35 миль», и удрученные, но покорные японские шоферы усердствовали изо всех сил, стараясь достичь предельной скорости. Инцидент был 77
исчерпан лишь после того, как местная японская газета поместила редакционную статью, в которой признавала, что демократия прекрасна, но спрашивала: разве необходимо ездить с такой скоростью?
20 декабря 1915 г. ТОКИО
Вчера вечером обедал в Клубе журналистов с несколькими людьми из государственного департамента и из штаба Макартура. Пообедав, мы перешли в гостиную, где пили, наблюдали за проходящими корреспондентами, офицерами и их любовницами, и не преминули позлословить о генерале Макартуре. Хотя Макартур старается держаться в стороне от всех и сверху наблюдает за происходящим, его присутствие всегда ощущается, и редко в клубе выдается вечер, когда он и его политика не являются предметом горячих споров. В клубе попрежнему господствует скорее война, нежели иностранные корреспонденты, и споры ведутся скорее о Макартуре как о военном генерале, нежели о его политической деятельности в Японии. Многие из корреспондентов служили во флоте и разделяют распространенную там острую неприязнь к Макартуру. Мне пришлось слышать по меньшей мере раз десять о приказе, отданном отделом печати штаба Макартура на острове Лейте в День победы. Приказ запрещал флоту выступать со своими передачами по радио, объясняя запрещение тем, что «это день главнокомандующего». Другие корреспонденты высмеивают любовь генерала Макартура позировать, его скучную манеру говорить, людей, окружающих его. Кое-кто, отражая недовольство рядового солдата, называет его «заштатный Дуг» х.
Вчера вечером, однако, мы не говорили о войне. Все высказывали мнение, что оккупация не столь безоговорочно успешна, как ее изображают макартуровские офицеры для связи с печатью. Но мы пришли также к выводу, что не всегда в этом виноват генерал Макартур. Многие из нас
1 «Dug-out Doug» — игра слов: «dug-out» — офицер, призванный из отставки; «Doug» — сокращенное от Дуглас (имя Макартура). (Прим, перев.)
78
считают, что ошибка была допущена, когда решили действовать через посредство японского правительства, не реорганизовав его. Многие говорят о- том, что оно всячески старается саботировать намеченную нами программу и «оградить» японский народ от новых демократических идей. Некоторые из нас полагают также, что сохранение императора Хирохито было грубейшей ошибкой, ибо миф об императоре будет сплачивать ту старую феодальную Японию, которую мы стараемся разрушить. Но если ошибки заключаются именно в этом, то это вина не генерала Макартура. Они были допущены в другом месте.
Однако в Токио невозможно спокойно говорить о генерале Макартуре. Некоторые из его наиболее ярых критиков служили под его командованием во время войны. Теперь они заговорили и вступили в спор. Все вы, говорили они, не знаете или не понимаете, что происходит в штабе генерала Макартура.
В то время как у посторонних, по их словам, создается впечатление, что там предпринимаются согласованные, разумные усилия, в действительности генерал Макартур и его помощники обескуражены огромными масштабами стоящих перед ними проблем. Точка зрения генерала Макартура зависит от того, с кем он разговаривал за завтраком и высказалась ли американская печать в это утро за или против его действий. Различные отделы его штаба действуют по собственному почину, не получая указаний свыше. Часто единственным критерием предпринимаемого им важного шага является популярность, которую он может обеспечить. Многие из мероприятий, которые генерал Макартур приписывает себе, фактически исходят из другого источника.
Помимо всего этого, заявляют критики Макартура, в штабе возникли серьезные разногласия, которые разделили всех политических стратегов на два враждующих лагеря. Один из них придерживается мнения, что Япония должна быть радикально реорганизована. Другой лагерь выступает против коренных преобразований на том основании, что консервативная Япония является нашим лучшим союзником в будущей борьбе с Россией и что Япония нуждается лишь в некотором поднятии своего престижа.
79
Несколько дней назад конфликт между двумя лагерями стал явным. Поводом послужило секретное совещание, созванное на шестом этаже здания Дайици для обсуждения проекта директивы об удалении военных преступников с политической арены Японии. На совещании присутствовали представители всех отделов штаба, и раскол обнаружился почти немедленно.
Противники проекта выдвинули целый ряд доводов:
а) радикальная чистка создаст в Японии хаос и может даже вызвать революцию;
б) если чистка все же необходима, то она должна быть проведена постепенно, чтобы предоставлять японцам передышку после каждого потрясения, и
в) только самые высшие руководители должны быть смещены, ибо дисциплина требует выполнения приказов и, следовательно, подчиненные должностные лица не имеют иного выбора, кроме повиновения.
В лагере противников чистки был влиятельный блок четырех военных отделов штаба во главе с представителями военной разведки. С ними солидаризировался один из представителей государственного департамента. Предложение о чистке поддерживал главным образом отдел по делам японского правительства при штабе Макартура и кое-кто из других отделов штаба. Неожиданно сторонником чистки оказался молодой лейтенант, посланный на совещание отделом естественных ресурсов, который, повидимому, не мог найти никого другого, кто был бы заинтересован в чистке. Четыре часа длилась дискуссия; было сказано много резких слов и не раз внимание отвлекалось. Но в конце концов был достигнут компромисс, и директива о чистке была принята в весьма смягченной форме.
После совещания начальник военной разведки генерал-майор Чарлз Уиллоуби разослал пространный меморандум, в котором излагал свою точку зрения. Он начинал с поддержки предложения о чистке «в принципе», а затем посвящал целые страницы уничтожающей критике директивы. Отдел по делам японского правительства, возглавляемый бригадным генералом Кортни Уитни, немедленно выступил с резкой отповедью, указав, что согласие, о котором Уиллоуби говорит вначале, не вяжется с остальной частью меморандума. Если бы была проведе80
на такая чистка, за которую ратует Уиллоуби, говорится в ответе, то Япония получила бы правительство, состоящее из «переводчиков и содержанок».
Несколько дней назад вся эта переписка была положена на стол генералу Макартуру, и он взял сторону Уитни и отдела по делам японского правительства против Уиллоуби.
Мы все следили за спорами, которые разгорелись вокруг директивы о чистке, и сказали «о-кэй». Конфликт достаточно знаменателен, и, возможно, он обострится, но пока мы должны исходить не из того, что говорится на закрытых совещаниях, а из практических результатов.
Многие из нас считали, что с момента капитуляции Японии было издано достаточно директив. В августе были изданы основные директивы о разоружении Японии. В октябре были опубликованы указы об основных свободах человека: о чистке «полиции по контролю над мыслями»; об отмене последних ограничений, ущемлявших политические и гражданские права; резкое напоминание японцам о том, что мы ожидаем развития широкого рабочего движения. В этом же месяце были освобождены политические заключенные. В ноябре и декабре были отданы приказы о проведении таких важнейших реформ, как перераспределение земли, широкая программа помощи безработным, отделение синтоистской церкви от государства и упразднение крупных фамильных трестов дзайбацу. Существовала свобода слова и собраний: в парке Хибия, находившемся напротив резиденции самого генерала Макартура, тысячи людей собирались, чтобы послушать страстные речи коммунистических ораторов, а токийские газеты высказывали самые различные мнения— от крайних левых до махрово-националистических. Профсоюзные организаторы работали с утра до ночи, и рабочее движение росло настолько быстро, что офицеры штаба, занимавшиеся вопросами труда, отставали со своей статистикой на целые недели. Даже земледельческая Япония, находящаяся во власти традиций и консервативных представлений, пробуждалась, и организаторы разъезжали по всей провинции, разнося вести о предстоящей земельной реформе и агитируя людей вступать в Крестьянский союз.
5 м. Гейи
81
Мы понимали, что эти проявления свободы были еще частными явлениями и что широкие массы Японии были попрежнему охвачены спячкой. Мы признавали, что огромная масса реформ представляла собой еще только слова, в значительной мере не воплощенные в жизнь.
Сегодня узнал, что генерал Макартур решил издать директиву, откладывающую проведение выборов и определяющую основные критерии, которым должно удовлетворять правительство, чтобы выборы не оказались чудовищным мошенничеством.
На протяжении трех дней слухи о предстоящем опубликовании этой директивы порождали волнения в политических кругах. Японские политики настолько встревожились, что руководители прогрессивной партии, обладающей большинством и изобилующей военными пре ступниками, решили собраться завтра же, чтобы обсудить вопрос о роспуске партии.
Этот приказ, безусловно, является прямым вмешательством в японскую политику — мера, на которую Макартур ранее не решался. Однако необходимость такого шага стала очевидной еще много недель назад. Все говорит о том, что если подобного вмешательства не будет произведено, в новом «демократическом» парламенте снова восторжествуют заядлые националисты. Такой парламен вполне может сорвать всю программу возрождения Японии, намеченную генералом Макартуром.
21 декабря 1945 г. ТОКИО
Сегодня у меня суматошный день: укладывал вещи, доставал иены для поездки, получил военный пропуск и отправил несколько корреспонденций.
Утром был на пресс-конференции, устроенной для японских журналистов начальником отдела здравоохранения и культурного обслуживания полковником Кроуфордом Сэмсом. Сэмс кипел от негодования. В последние недели проводилась организованная кампания «нашептывания». Распускались слухи о том, что Япония якобы находится на грани голода, больницы полны людьми, умирающими от истощения, и* что десятки людей умирают 82
ежедневно от голода на одном только вокзале Уэно. Сэмс обвинил японское правительство в том, что оно сознательно прибегает к фальсификации и искажениям, для того чтобы побудить Соединенные Штаты присылать Японии больше продовольствия.
Зима будет нелегкой, сказал Сэмс, но голода не будет. Больницы вовсе не переполнены умирающими от истощения. Если кое-кто и умирает от голода, то это либо бедняки, либо приезжие, которым всегда приходилось туго в Японии.
Саботаж японцев не ограничивается распространением слухов. Наши патрули, действующие в провинции, постоянно обнаруживают тайные военные склады. На юге, на острове Сикоку, один патруль обнаружил бетонные доты, замаскированные с помощью разборных щитов в виде домов. В фортах находились большие склады военных материалов. Другой патруль обнаружил в школе боеприпасы, спрятанные под кучей рисовой соломы. Третий патруль нашел части самолета, планер в упаковке и зенитные прожекторы, а также подземный склад горючего с 40 тысячами галлонов бензина. В некоторых школах патрули обнаружили деревянные винтовки, которые все еще используются учащимися. А один американский офицер, ведающий просвещением, онемев от изумления, наблюдал, как студенты устроили самый настоящий военный парад и прошли строем под лающую команду японца, одетого в военную форму.
Вечером, проезжая мимо штаба генерала Макартура, я видел огромную световую надпись: «С веселым рождеством!», горевшую тысячами огней. Свет от надписи падал на внешнюю ограду императорского дворца и отражался в широком рве с водой. Я подумал о том, как символичен этот американский свет, падающий на самый мрачный японский институт; на развалины, громоздящиеся, подобно памятникам, на том месте, где некогда находился центр японской финансовой империи; на непрерывный поток американских военных виллисов и грузовиков; на дрожащих японских девушек, зазывающих американских солдат у входа в парк Хибия словами: «Очень хорошо, Джо, очень дешево».
6*
83
Я думал об этом огромном городе, в котором сегодня не осталось почти ничего, кроме развалин и упорной воли к жизни, о городе, в котором я мог проехать десять, двадцать и тридцать кварталов подряд и не увидеть ничего, кроме разбитого кирпича, нескольких труб и двух—трех десятков брошенных сейфов, провалившихся сквозь полы сгоревших зданий. Жители, которые некогда сделали Токио третьим по величине городом в мире, теперь бежали в провинцию или перебрались в немногие уцелевшие здания и ютятся по три—четыре семьи в одной комнате. А несчетные тысячи людей построили лачуги из ржавых листов железа или перебрались в железнодорожные вокзалы и станции метро. По утрам можно видеть, как вьется дымок над грудой хлама и железа; на самом деле это жилище. Люди продолжают ходить на работу в учреждения, где царит невероятная скученность, и поближе придвигаются к угольным жаровням, дающим немного тепла.
Ныне город представляет собой скудный мир, в котором каждый гвоздь, каждая тряпка и даже корка мандарина имеет рыночную цену. Чашка риса, три сигареты или четыре спички — это весь дневной рацион. Люди выбирают каждое зернышко риса из своих жестяных баночек для завтрака; этих зернышек слишком мало, чтобы их можно было расточать. А в солнечный день мужчины высовываются из окон и стараются прикурить сигарету с помощью увеличительного стекла. К этому приходится прибегать, когда нет другого выхода.
Подобно всей остальной Японии, Токио — это мир незаконной торговли. Возле всех железнодорожных вокзалов на участках, опустошенных бомбами, теперь возникли черные рынки, где тысячи людей торгуются, из-за несвежей рыбы, яблок, риса или битой посуды.
На Гинзе — улице, некогда славившейся своими витринами, теперь соблазнительнее всего витрины американских гарнизонных лавок. Толпы зачарованных людей глазеют на солдатские свитеры, полотенца, военные гимнастерки и крепкие башмаки из настоящей кожи, а голодные ребятишки и молодые женщины выпрашивают у солдат, стоящих в очереди, жевательную резину, шоколад и земляные орехи.
Вдоль этой изрытой пыльной улицы тянутся разрушенные здания и груды хлама. Некоторые универсальные 84
магазины смело возобновили торговлю в нижних двух— трех этажах, но полы покрыты битым камнем, а на витринах выставлена дешевая посуда и грошовое утильсырье. От верхних этажей остался лишь бетонный остов, все еще черный от языков пламени.
Больше всего покупателей на углу улицы, где разносчики раскладывают свой товар на соломенных цынов- ках. Здесь на старых шелковых платках красуются плохо отпечатанные почтовые открытки, грубые деревянные статуэтки и недолговечные авторучки. Цены высоки, а качество катастрофически низко, но американские солдаты охотно покупают эти вещи.
«Чорт побери, — говорят они. — Ведь это не деньги, а только иены».
Недалеко от Гинзы находится большой участок, на котором свалены огромные груды металла. Это металл, пожертвованный японским народом армии для ведения войны. Вот гора радиаторов, собранных всеми учреждениями в Токио, гора медных угольных жаровен, гора подсвечников, целый холмик колоколов и урн из храмов. Этот участок обнесен забором, чтобы японцы не могли туда проникнуть, но американские полковники в седанах и рядовые на грузовиках приезжают сюда в поисках сокровищ. Понадобится много месяцев раскопок, чтобы разобрать эти груды металла — свидетельство бесполезных лишений и жертв японского народа.
Небольшие группы людей располагаются близ входа в станцию метро. Им не удалось забраться внутрь, чтобы устроиться на ночь, и теперь они стараются согреться, раскладывая маленькие костры. Возле Клуба журналистов трое беспризорных выпрашивают сигареты. Один из корреспондентов говорит мальчишкам, чтобы они умылись. Они отказываются: они говорят, что зарабатывают 300 иен в день (20 долларов), выпрашивая жевательную резину и сигареты, и не хотят, умыв лицо, лишиться того жалкого вида, который заставляет людей разжалобиться.
Так встречают «веселое рождество» в Токио. Надпись над танцевальным залом, находящимся недалеко от Гинзы, гласит: «С веселым рождеством, солдаты! Скоро откроется зал с красивыми хозяюшками». И даже девушки в парке Хибия знают это. Некоторые из них говорят: «С веселым рождеством, Джо. Очень хорошо, Джо, очень дешево».
85
В 11 часов вечера мы с Берриганом и нашим новым переводчиком Джорджем Кимура едем на вокзал Уэно, осторожно пробираемся среди тысяч пассажиров, спящих или ожидающих очереди на поезд, который может не притти еще много дней, и садимся на ночной поезд на Сендай. Наш вагон полон американских солдат, возвращающихся в часть из отпуска, проведенного в Токио. Мы рано ложимся на короткие узкие полки и пытаемся согреться под тонким одеялом. Холодный ветер дует сквозь щели в оконных рамах, и скоро выступ под окном покрывается тонкой коркой льда. Поезд идет спокойнее, чем у нас, в Америке. Сквозь дремоту я слышу японскую речь, топот ног на остановках и резкий короткий свисток паровоза.
22 декабря 1945 г. СЕНДАЙ
В 6 часов утра меня разбудил молодой проводник- японец. Он сказал мне, что в купе нельзя курить. Когда я ответил, что не имею привычки курить во сне, он сказал просто: «Пожалуйста, угостите меня сигаретами». Пораженный такой непосредственностью, я дал ему сигарет и забыл рассердиться. Было слишком холодно, и я не мог больше заснуть.
На первой станции я вышел, чтобы взглянуть на поезд. На земле лежал глубокий снег, и ветер обжигал лицо. Если не считать двух вагонов для союзников, поезд состоит из одного жесткого вагона 2-го класса для привилегированных японцев и целого ряда потрепанных вагонов 3-го класса для непривилегированных. Эти вагоны были набиты до отказа. Стекла были выбиты, и люди, стоящие на платформе, старались всунуть через окна детей и тюки. Молча, с отчаянным видом люди боролись за местечко, для того чтобы поставить ногу на ступеньках и сцепах, а те, кто не мог отвоевать даже этого, стояли вдоль перрона плотной цепью, которая прорывалась, когда вновь подошедшие пытались пробиться. Вокзальное здание, поврежденное бомбами, было погружено в темноту, и в нем гулял ветер. Оно было забито людьми, ожидающими других поездов. Некоторые спали прямо на грязном полу, и толпа двигалась, переступая через скорченные тела.
86
Мы приехали в Сендай с опозданием на два часа. Очевидно, генерал Дорн не получил нашей телеграммы, и нас никто не встречал. Мы остановили американский армейский грузовик и доехали до штаба Дорна, помещавшегося в бывшем японском морском арсенале. Дорн уехал инспектировать войска, и мы ожидали его в кабинете и разговаривали с его начальником штаба.
Наконец, Дорн прибыл. Он оказался весьма видным офицером. Он служит в армии 26 лет, но ему нельзя дать больше 35 лет. Он атлетического сложения, у него живое лицо и располагающие манеры. Я видел его впервые, хотя слышал о нем еще с бирманской кампании, когда он был одним из седовласых «мальчиков» генерала Джозефа Стилуэлла. Многие считают его одним из самых умных американских офицеров, служивших в Китае.
Мы позавтракали с ним и с начальником военной администрации этого района бригадным генералом Робертом Соулом — профессиональным служакой с грубоватыми манерами и поразительным талантом рассказчика. Завтрак был устроен в старом японском Клубе морских офицеров — веселой казарме с невероятным множеством японских официанток, которые низко кланялись при каждом удобном случае. Не обязательно находиться здесь очень долго, чтобы обнаружить, что и американцы и японцы знают, кто выиграл войну. Мы не проявляем такой заносчивости, которая была свойственна японской армии в побежденном Китае, но чувствуется холодная и беспристрастная твердость и изрядное неуважение к японским порядкам.
После обеда генерал Соул повез нас к себе в штаб военной администрации побеседовать с самыми видными офицерами о продовольствии, о публичных домах и подполье, о королях и капусте.
Теоретически префектура Мияги должна быть лучше обеспечена, чем большая часть Японии. Она выращивает рис и занимает третье место по улову рыбы. В действительности же она будет голодать весной, и военная администрация готовится к возможным бунтам. В деревнях народ питается лучше, чем в городах, но в этой префектуре только один из каждых пяти крестьян владеет той землей, которую он обрабатывает. Остальные четыре целиком 87
или частично арендуют землю. В эти дни, когда процветает черный рынок, издольщики благоденствуют, выменивая рис и редиску на поношенную одежду и домашнюю утварь у голодных служащих. Но даже это «благоденствие» весьма жалко, если исходить из наших критериев. Издольщик по существу остается нищим.
Больше всего, однако, бедствуют городские жители. Соул дал мне перевод нескольких вырезок из местных газет.
«Я служу чиновником уже двадцать лет, — пишет автор типичного письма на имя редактора, — а зарабатываю всего лишь 140 иен в месяц [9 долларов]. Я должен кормить на эти средства семью из семи человек. Я не. могу думать о работе, потому что мой ум полон забот о пропитании на завтрашний день. Знает ли правительство, что мы платим 70 сен [5 центов] за маленькую сардинку и 3,50 иены [25 центов] за сепию?»
В пессимистическом докладе военная администрация подводит итог: «Средний класс ликвидируется. В ближай-. шие месяцы он возглавит восстание городского пролетариата и обнищавших государственных служащих».
Но пока еще объединенного подполья не существует. Единственное, что может обнаружить американская армия, это множество мелких националистических партий и большое недовольство, которое может послужить почвой для возникновения подполья. По ночам на заборах появляются плакаты, предостерегающие японских • девушек от общения с американскими солдатами: «Сохраняйте достоинство японских женщин».
Поздно 'вечером Соул повел нас в дом, который он занимает с Дорном. Два генерала живут не в разрушенном Сендае, а в реквизированной гостинице на летнем курорте Мацусима, одном из самых живописных мест в Японии. Двадцатимильная дорога изобиловала вынужденными остановками. Узкая, покрытая снегом дорога вилась по склону горы; как в калейдоскопе, мелькали искривленные сосенки, одинокие лыжники, ры- .боловные суденышки, утки, взлетающие из-за пригорка, и свежие следы оленей. Гостиница была отремонтирована и обставлена для генералов; для нее характерно обилие тепла, приятных запахов и слуг; среди них был и японский 88
шеф-повар в белоснежном колпаке. Мне отвели отдельную спальню со старинным гардеробом, вделанным в стену, мраморным умывальником и изумительным видом на горы, открывавшимся из окна. Можно было даже принять горячий душ, и я отогрелся, побрился и надел чистую рубашку к обеду.
Пища была вкусно приготовленной, беседа приятной. То, о чем в Токио говорят потихоньку, здесь обсуждалось во всеуслышание. Десяток американцев, собравшихся за столом, говорили без горечи, подобно врачам, обсуждающим безнадежный случай заболевания раком. Японцы, говорили они, саботируют при первой возможности каждую директиву, и американские командиры на местах, действуя согласно строгому приказу свыше, ничего не могут поделать и лишь посылают донесения, которые не оказывают никакого действия.
Японцам были даны специальные указания сместить всех офицеров «полиции по контролю над мыслями» и тех полицейских чиновников, которые являются явными военными преступниками. В соседней префектуре Ямагата пять видных офицеров «полиции по контролю над мыслями» ушли в отставку. Но когда их снова обнаружили, все пять были уже высшими полицейскими чиновниками. И все же даже генерал Дорн не имел полномочий сместить их. В префектуре Аомори, на крайнем севере этого острова, американское командование выдвинуло возражения против шести высших полицейских чинов. Они были немедленно смещены. Но вскоре американская военная администрация обнаружила, что трое из них снова служат в других городах.
Власть американских командиров на местах ограничена фактически во всех областях. Я узнал, что командир не может, например, по своей инициативе закрыть публичный дом, где его солдаты заражаются венерическими болезнями. Единственное, что он может сделать, это либо запретить своим солдатам посещать этот дом, либо потребовать, чтобы японская полиция закрыла его. Адъютант Соула рассказал нам о танцевальном зале, который был недавно открыт напротив полковых казарм в Сендае.
«Японцы пришли к нам и попросили разрешения построить большой танцевальный зал для американских солдат. Мы заявили: «Только без проституток!» Они 89
сказали: «Конечно, без проституток. Все будет очень благопристойно». Они приступили к делу: закупили лес и кирпич, которые нужны для восстановления Сендая, а также мебель и топливо. И вот перед самым официальным открытием танцевального зала мы обнаруживаем в нашей воинской части несколько новых случаев венерических заболеваний. Ребята заявляют, что они ходили к девушкам в танцевальный зал. Тогда генерал Соул немедленно издает приказ, запрещающий солдатам посещать это заведение. В ответ на это к нам является целая депутация японцев: владелец танцевального зала, мэр города Сендай, начальник полиции. Они все просят за владельца — он вложил в это заведение целое состояние, привез сто двадцать семь — можете проверить! — официанток и танцовщиц, и было бы несправедливо по отношению к этим славным девушкам оставить их теперь без работы. Но генерал Соул непреклонен. Заведение закрыли, 900 бездомных людей из Сендая поселились там, и все остались довольны.
Несколько дней назад к нам пришел японец и сказал, что он хочет открыть клуб для наших офицеров в Сиогаме, примерно на полпути отсюда к Сендаю. Мы сказали «о-кэй!», если только это будет зал для танцев и никаких номеров наверху. На днях мы проезжали через Сиогаму и видели японца-управляющего клубом. Мы спросили его, сколько у него там девушек, и он с гордостью ответил: «Сто двадцать семь!»
Виноваты, конечно, не генералы на местах и не генерал-лейтенант Роберт Л. Эйхельбергер, который командует 8-й армией. Виновна в этом — если считать это виной — наша политика, заключающаяся в том, что мы действуем через существующее японское правительство. Здесь, как и в Токио, мы ограничиваемся тем, что намечаем примерный курс, которого японцы должны придерживаться, а затем предоставляем японцам самим вести корабль. Американские наблюдатели могут лишь докладывать о том, что корабль ведет старая банда и что, повидимому, он сильно отклоняется от курса. Но наблюдатели сами ничего не могут предпринять.
Подозреваю, что споры о том, правильно ли мы поступали, действуя через японское правительство, или 90
же должны были уничтожить всю прогнившую японскую машину и действовать с помощью нашей военной администрации, будут вестись на протяжении десятилетий. Я не уверен в том, что сотрудники военной администрации, с которыми я встречался, способны руководить Японией в столь сложной обстановке, какая существует в стране. Но я сомневаюсь также в разумности попыток провести революционные преобразования через посредство людей, которым эти преобразования ненавистны и которые изо всех сил с ними борются. Раз ты платишь деньги — в особенности если ты американский налогоплательщик — тебе и выбирать.
Однако отсутствие власти над людьми, привыкшими подчиняться власти, привело к любопытным последствиям.
По всей Японии, насколько мне известно, американские офицеры оказываются вынужденными прибегать к самым радикальным средствам, чтобы достигнуть результатов. Когда высший японский муниципальный чиновник в большом южном городе непрестанно игнорирует требования американцев содержать улицы в чистоте, то его силой приводят к штабу военной администрации, дают ему в руки метлу и заставляют его подметать. Когда губернатор префектуры отказывается привести в порядок разрушенное здание, чтобы вселить туда американских генералов, то его заставляют притти в это здание и приказывают оставаться там до тех пор, пока дом не будет отремонтирован. Желаемые результаты достигнуты. Улицы содержатся в чистоте. Здание отремонтировано.
Японцы еще не обнаружили, что их победители не имеют власти, или, точнее говоря, по своей привычке повиноваться военным, они стараются не спорить с американской армией. И они продолжают саботировать наши приказы и реформы с помощью всевозможных хитростей, проволочек и уверток.
Но необходимость действовать в обход закона неблагоприятно отражается на умонастроении как американцев, так и японцев. Американцы становятся циниками, и необходимость превышать свои полномочия не улучшает дисциплину или моральное состояние. Японцы, которым мы на своем примере должны демонстрировать блага и
91
прелести демократии, вместо этого приходят к выводу, что по существу между их военными и нашими нет большой разницы.
23 декабря 1945 г. СЕНДАЙ
Утром японский губернатор префектуры получил строгий приказ дожидаться нас в своем кабинете. Он и несколько его подчиненных ждали нас в большой комнате. Здесь было холодно и темно, царила атмосфера вежливой враждебности. Хотя губернатор сказал, что он учился в Принстонском университете, но, насколько мы могли убедиться, он не помнил ни слова по-английски.
С помощью своих подчиненных он поведал нам о своих трудностях. Урожай риса на треть ниже урожая 1943 г. С другой стороны, население увеличилось, так как из Токио прибыло 200 тысяч беженцев. Поэтому префектура с тревогой ожидает возвращения стольких же бывших военнослужащих. Те солдаты, которые уже вернулись, занимаются спекуляцией на черном рынке и бандитизмом.
Губернатор уставился на тусклый огонек «хибаци». «Это трудная пора для Японии, — сказал он. — Поражение нанесло удар в сердце моего народа. Мы пали духом. Мы утратили инициативу. Мы стараемся ускорить восстановление, но бюрократические условности военных лет связывают нам руки. Надо ждать четыре месяца, чтобы получить из Токио разрешение на пуск новой фабрики. Мы беспомощны. Многие месяцы впереди будут полны горечи».
Губернатор — серьезный человек, подавленный разочарованием и горечью поражения. И в то же время он совершенно непригоден для своей должности. Девять человек из десяти в его префектуре работают на полях. Однако ни он, ни один из его помощников не могут сказать мне, какие налоги приходится платить крестьянину и в каком размере. Губернатор живет в Сендае и поглощен бедствиями и проблемами города, а то, что творится за пределами этого города, ему кажется происходящим в какой-то далекой стране
Губернатор получил строгий приказ позаботиться о том, чтобы граф Окимуне Дате ждал нас у себя дома. Семейство 92
Дате — один из крупных феодальных кланов Японии. На протяжении веков оно владело широкой — от Тихого океана до Японского моря — полосой земли в Северной Японии и его вассалы платили ему богатую дань. Семнадцать поколений назад, пренебрегая приказом своего сюзерена, прославленный граф Масамуне Дате послал даже юриста в Рим, чтобы приобщиться к сокровенным таинствам католической церкви. Подобно другим феодалам, семейство Дате захирело примерно восемьдесят лет назад. Но старики и чиновники все еще с благоговением вспоминают, что вся эта префектура некогда принадлежала семейству Дате.
Взяв в качестве гида секретаря губернатора, мы поехали в комфортабельную резиденцию Дате, сняли свои армейские сапоги и ввалились в гостиную. Граф ожидал нас. Это был человек сорока с лишним лет, имевший вид переусердствовавшего весельчака. За его стулом стоял худой, прямой старик с туго обтянутыми скулами и безжизненным взглядом египетской мумии.
Мы задали Дате несколько вопросов о его земельных владениях. Он указал на человека, стоявшего за его спиной. «Это мой карей [юрист]. Он ведет все мои дела. Он ответит на все ваши вопросы о моих финансовых делах».
Мы с Берриганом на время забыли о графе. Старик, как мы узнали, принадлежал к семье вассала, которая на протяжении четырех веков служила семейству Дате и сражалась под его началом. Он рассказывал нам о себе с неподвижным лицом, на котором лишь один раз мелькнуло подобие каких-то чувств. Это было, когда он, улыбнувшись, сказал: «Меч моего отца был преподнесен вашему президенту Теодору Рузвельту».
Но улыбка быстро сбежала с его лица, и сморщившаяся пергаментная кожа снова разгладилась.
Мы беседовали с графом в течение двух часов, и многие из заданных нами вопросов были возможны лишь в побежденной стране. Дате любезно выслушивал эти вопросы, а старик подробно отвечал на них. Мы выяснили, что двести семейств издольщиков попрежнему работают на Дате. Он рассчитывал, что в этом году земля даст ему 11 тысяч долларов дохода. Во время войны у него был также завод, выпускавший шасси для самолетов. 1еперь завод выпускает сельскохозяйственные орудия.
93
Дате сомневался в том, что весной наступит голод. Но по предложению губернатора он строит хлебный завод, который будет выпекать хлеб из рыбы, древесной коры, сухих листьев и глины. «Он недурен на вкус, — сказал граф. — Вроде черного хлеба». Мы поняли, что они с губернатором приятели.
Граф сказал, что в данный момент он пытается получить для себя тракторы от генерала Макартура. «Механизация сельского хозяйства осуществима в Японии», — заявил он. Несколько резко мы спросили его, откуда он может знать об этом, и выяснили, что он закончил Токийский сельскохозяйственный институт. Дате добавил, что он — за земельную реформу и за предоставление дешевых кредитов издольщикам. «Я сам ссужаю им деньги, — сказал граф, — под... под...»,—он взглянул на старика.
«10—30 процентов годовых», — подсказал вассал.
Официальная часть беседы закончилась, и мы принялись осматривать комнату, восхищаясь драгоценными безделушками из бронзы и слоновой кости. Принесли подогретую рисовую водку, и вскоре граф громко и словоохотливо начал рассказывать нам о сокровищах, собранных 32 поколениями Дате и хранившихся теперь частично в этом доме. Граф уговаривал нас остаться завтракать, но мы сказали, что нам пора итти. Мы уже собрались уходить, когда граф на минуту исчез и вернулся с маленькими коробочками для Берригана и меня. Я вспомнил о бесценных антикварных вещицах, окружавших нас, и о своем решении не брать никаких подарков от японцев и стал настойчиво совать коробочку обратно в руки Дате, а он столь же настойчиво твердил, что хочет, чтобы я помнил об этом визите. Наконец, сцена начала принимать несколько смешной вид; я взял коробочку и подчеркнуто вежливо поблагодарил графа.
Мы покинули резиденцию графа, и на улице любопытство одолело меня. Я осторожно раскрыл коробочку и вынул оттуда маленькую куколку. Секретарь губернатора взглянул на нее с восхищением. «Очень красиво, — сказал он. — Это, наверное, очень редкая безделушка. Куклы графа Дате знамениты. Все они являются антикварными редкостями».
Это была красивая куколка в красном кимоно. Я перевернул ее и обнаружил, что граф забыл снять наклейку
94
с ценой. Бесстыдно крупными буквами было написано: «Одна иена» (6 центов).
Пообедали превосходным бифштексом и пирогом, снова поболтали, и затем Дорн помог мне выработать маршрут. Берриган решил отправиться завтра утром охотиться на оленей, а потом вернуться в Токио с Дорном и Соулом, чтобы посмотреть рождественский футбольный матч. Я поеду без него с Джорджем. Генерал Дорн посылает инструкции по всему пути моего следования, чтобы мне предоставляли жилье и транспорт. Завтра я сяду в местный поезд, пересекающий Японию с востока на запад, и доеду до города Сакаты, а оттуда поеду на север в большой город Акиту и в маленькие городишки и деревни к северу от него.
24 декабря 1945 г. НАПУТИВСАКАТУ
Я поспал четыре часа и проснулся в 6.30 утра. Было еще темно. Побрился, уложил вещи и спустился, чтобы без особого удовольствия разыскать виллис, который должен был везти меня и Джорджа на сендайский вокзал. Генерал Дорн ожидал меня в своем седане. Таким образом я ехал с комфортом и слушал рассуждения Дорна о Японии. По его мнению, пока еще произведено мало преобразований; японское чиновничество только делает вид, что сотрудничает с нами, ибо знает, что мы скоро уйдем из Японии и что прежние люди и институты будут продолжать свое дело с того места, где их застигло поражение.
Мы подъехали к улице, ведущей к штабу Дорна, примерно за три минуты до отхода поезда. Дорн остановил машину, сказал, что пойдет к себе пешком, и велел шоферу гнать. Мы помчались, гудя сиреной, скрипя тормозами, и сотни рядовых приветствовали генеральскую машину. Когда я вышел из машины, шофер протянул мне большой сверток с бутербродами и сказал: «От генерала и шефа». Через минуту к вокзалу подъехал виллис Джорджа. Мы едва успели сесть на поезд.
Мы ехали в половине вагона, отведенной для союзников. Оконные стекла были- выбиты, и снег проникал внутрь. Вагон не отапливался. Кроме нас ехало несколько рядовых, возвращавшихся из отпуска, проведенного в Сендае. Разговор касался исключительно житейских тем.
96
Мы во-время прибыли в Ямагату, где должны были пересесть на промежуточный поезд. Но когда мы вышли из вагона, ко мне подошел щеголеватый молодой лейтенант, который спросил, не я ли мистер Гейн, и сказал, что получена депеша от генерала Дорна и их полковник ждет меня к завтраку.
«Очень мило со стороны полковника, — сказал я, — но мне надо пересаживаться на промежуточный поезд».
«Не беспокойтесь об этом, — ответил офицер. — Поезд немного опоздает».
Итак, мы с Джорджем сели в машину и отправились в расположение гарнизона Дорна в Ямагате. Это был самый очаровательный японский дом, который я когда-либо видел, с огромной теплой гостиной, пушистыми тянь- цзинскими коврами, пианино и книжными новинками.
В течение всего завтрака я с беспокойством посматривал на часы, ибо в Сакату идет только один поезд в день, и мне не хотелось пропустить его. Прошел час, я начал беспокоиться. Наконец, я заговорил об этом.
«О, пусть это вас не беспокоит, — сказал полковник спокойно. — Мы велели сержанту на вокзале задержать поезд до тех пор, пока вы не вернетесь».
Мой хозяин сдержал слово. После завтрака капитан отвез нас обратно на вокзал. Поезд, в котором ехало 500 японских пассажиров, стоял в ожидании. Капитан проводил нас в вагон, дежурный сержант выкрикнул команду, начальник станции—японец—с удовлетворением дал сигнал, раздался долгожданный свисток, и мы тронулись. Теперь мы опаздывали на час, но сержант сказал мне, что в Синцзо заблаговременно послано предписание задержать еще один поезд, на который мы должны были пересесть.
Я ехал буквально в личном вагоне. Впереди и позади вагоны были битком набиты, люди стояли на площадках и висели на подножках. Время от времени кто-нибудь из них пытался войти в мой вагон. Их останавливал проводник. «Для американцев», — говорил он. Каждый раз я ожидал возражений. Но это были магические слова, которые заставляли людей отступать и подчиняться. Они уходили. Это была побежденная страна, а я в своей военной форме был одним из победителей, на которого распространялись законы победы и поражения. Вдоль 96
дороги брели миллионы японцев в поисках новой работы и более дешевого риса, брели к семьям, с которыми давно не виделись. Япония задыхалась от недостатка транспортных средств. Но в эти дни в стране, наверное, были десятки пустых вагонов, подобных моему, или даже личных поездов, подобных тому, который вез «Пинки» (Дорна), Бер- ригана и несколько сот американских солдат на футбольный матч в Токио.
Однако, хотя у меня был отдельный вагон, мне было неуютно. Большинство стекол в вагоне было выбито, окна заколочены старыми досками, треснувшей фанерой и кусками жести. Поднялась сильная метель, и снег пробивался в широкие щели, вырастая ровными нетающими бугорками на сиденьях. Снег проникал и через плевательницы, ввинченные в пол.
Мы прибыли в Сакату поздно, и нам пришлось ожидать на вокзале возле горячей пузатой печки, пока за нами не приехал виллис. Сильно буксуя, наша машина подъехала к японской гостинице, где для нас были забронированы номера. Со своими яркими фонарями, просвечивающими бумажными стенами и отметенными от порога синеватыми сугробами гостиница казалась нам приветливой и теплой. Нас ожидал начальник гарнизона лейтенант Роберт Мак- харди. Это был невысокого роста плотный, красивый юноша лет 22-х с могучей грудью и энергичным подбородком.
«Добро пожаловать в Сакату! — сказал он. — Я пригласил нескольких друзей побеседовать с вами. Умывайтесь и присоединяйтесь к нам в гостиной. Мы немножко поболтаем».
Я застал в комнате еще четырех молодых офицеров. Один из них был лейтенант Маркус, помощник Макхарди. Остальные три прибыли из соседних городов. Они сидели вокруг «котацу» — сооружения, состоящего из большой угольной жаровни, накрытой толстым стеганым ватным одеялом. Они упирались ногами в жаровню, до пояса были укрыты одеялом, а верхнюю часть туловища облегали теплые кимоно. Сидящие подвинулись, и я занял место рядом с ними.
Было тепло и приятно. Мы пили пиво, жевали оставшиеся бутерброды Дорна и болтали. Я убедился, что юноши были толковыми, но совсем зелеными. Они испытали, что такое война, и теперь не могли понять, почему японцы так
7 М. Гейн
97
благодушно относятся к оккупации. Они презирали японцев за прислужничество и относились к ним подозрительно. Юноши настойчиво повторяли, что если произойдут крупные беспорядки, они не застигнут их врасплох. «Нет, сэр, я никогда не отхожу от своего автомата дальше, чем на расстояние вытянутой руки». Весьма туманно говорили они о своей невоенной миссии. Должны быть разрешены важные задачи, но никто толком не знал, в чем они заключаются. Через некоторое время меня охватило странное чувство. Эти юноши бродили в политически неведомой для них стране несколько растерянные, немного встревоженные и настороженные, очень любопытные и совершенно сбитые с толку, потому что винтовка, на которую они полагались на протяжении предыдущих трех—четырех лет, теперь уже не казалась надежной.
25 декабря 1945 г. САКАТА
В 7.30 в это пасмурное рождественское утро старая, морщинистая горничная в темном кимоно внесла горящие угли для жаровни. Она принесла также таз с горячей водой и трехфутовое зеркало, которое поставила на цыновки, застилавшие пол. Я откинул три тяжелых ватных одеяла и встал с постели. В оклеенные бумагой окна дул сильный ветер. К своему огорчению, я увидел, что от снега меня отделяют всего лишь два слоя промасленной бумаги. Я натянул одежду, побрился, став на колени перед зеркалом, и стал дожидаться виллиса, который должен был отвезти меня в армейские казармы. За окном на берегу бухты был расположен город Саката, содрогавшийся от холодного ветра, который дул с Японского моря. Я прислушивался к завыванию ветра и думал о том, что привело меня в этот город.
Я приехал сюда не случайно. В Токио, перед тем как предпринять эту поездку, я изучал страну. Саката, по моему мнению, давал ответ на большинство вопросов, связанных с поражением Японии, которые я хотел выяснить. Это консервативный город, который будет сопротивляться притоку новых идей. Как древний оплот воинственного национализма, он послужит благодатной почвой для антидемократического движения. Этот небольшой, крепко
98
сколоченный провинциальный городок должен послужить хорошей проверкой нашей политики и готовности Японии провести демократизацию.
И, наконец, самой последней, но не самой маловажной причиной моего приезда было посещение семейства Хомма.
Саката — оживленный городок, насчитывающий 45 тысяч жителей, застроенный одноэтажными и двухэтажными домами и имеющий несколько промышленных предприятий (изготовлявших орудийные стволы, военное обмундирование, строивших корабли, добывавших магний), закрывшихся после военного поражения страны. Это морской порт (два небольших грузовых судна, затопленных нашими бомбардировщиками, все еще торчат из воды возле берега), и деловая жизнь города связана с морем. Однако в значительно большей степени население города занято мыслями о рисе и земле. Ибо именно в Сакате фермеры из префектуры Западная Ямагата покупают гвозди, удобрения и плетеные сандалии. Ямагата занимает четвертое место в Японии по сбору риса, и поэтому в Сакате все мысли и разговоры также вертятся вокруг риса. Даже социальный строй обусловлен рисовыми плантациями, ибо значимость человека определяется не его происхождением или способностями, а количеством акров земли, которой он владеет.
Ямагата — обычная префектура, не богаче и не беднее сорока пяти остальных. Лишь треть земли пригодна для земледелия, две трети составляют горы. Из каждых десяти человек, работающих на земле» восемь—целиком или частично — издольщики. Как и повсюду в Японии, для того чтобы стать помещиком, требуется не так много. Человек, владеющий акром земли, может заставить работать на себя двух издольщиков. Во всей префектуре насчитывается всего лишь 44 человека, которые владеют более чем 250 акрами земли каждый.
Крупнейшим землевладельцем в Сакате, в префектуре Ямагата и во всей Японии является клан Хомма. Еще много веков назад семейство Хомма принадлежало к придворной знати и проживало несколько севернее Сакаты. Их сюзереном был барон Сакай, в дружину которого они входили и которого позднее ссужали деньгами.
7<
99
Семейство Хомма древнее Соединенных Штатов. Оно Пришло в Сакату и пустило корни в его земле на много лет раньше, чем «Мэйфлауэр» вышел из Плимута1. Постепенно члены этого семейства превращались в землевладельцев. За три четверти века до провозглашения американской Декларации независимости семейство Хомма владело 75 акрами земли. Однако после каждой засухи и экономического кризиса в стране ловкие Хомма скупали земли соседей, позволяя им оставаться на земле в качестве издольщиков. К 1925 г. они стали крупнейшими земле* владельцами в Японии.
Бароны Сакай также пережили испытание временем и феодальную резню. Они также обосновались в Сакате и занялись банковским делом, судостроением и промышленным производством. Сакай — некогда почтенное имя в Сакате. Но теперь значение человека измеряется количеством принадлежащей ему земли, и на новой социальной лестнице Хомма стоят выше баронов Сакай, ибо всей Японии известно, что Саката —.город Хомма.
Маленький гарнизон Макхарди, насчитывающий 30 с лишним человек, помещался в здании уже не существую* щей судостроительной компании, принадлежавшей барону Сакай. Макхарди поставил печи в высоком деревянном здании, отделил перегородками спальни и построил душевые. Гарнизон расположен в просторном и довольно приличном помещении. Я застал Макхарди в бывшем кабинете председателя компании. Он сидел, положив ноги на большой письменный стол.
Макхарди показал мне письмо, которое только что получил от человека по имени Масаносуке Икеда — члена парламента префектуры Ямагата. Икеда сообщал, что семейство Хомма, нарушая директиву союзников, припрятало огромное количество золота и ценностей в своих складах. Икеда вызвался предоставить все сведения, необходимые для того, чтобы произвести налет.
Я подумал, что социальная система Сакаты трещит по швам, если член парламента готов донести на могучую 1 Корабль «Мэйфлауэр», везший одну »еселенцев из Англии в Америку, вышел 1лимута в 1620 г. (Прим, ред.)
из первых партий пе- из английского порта
100
•политическую клику Хомма — Сакаи. Я сказал: «Икеда не придет сюда раньше послезавтра, а вы совершите налет на склады Хомма не раньше чем через два дня. Не присоединитесь ли вы ко мне сегодня, когда я пойду интервьюировать Хомма?»
Никогда я не брал интервью таким воинственным образом. Семейству Хомма был послан приказ ожидать меня в три часа дня. Затем Макхарди и Маркус навесили себе на груДь пистолеты, и мы отправились в виллисе, которым правил вооруженный военный шофер.
Контора Хомма помещалась в длинном одноэтажном здании, пострадавшей от непогод. На другой стороне улицы за высокой кирпичной стеной с великолепными воротами скрывался дом Хомма, в котором жили три нынешние главы клана. Контора была убогой и мрачной. Вдоль всей комнаты тянулся грязный стол, за которым с десяток конторщиков деловито вписывали цифры в гроссбухи из рисовой бумаги.
Три члена семьи Хомма ожидали нас на улице. Они были вежливы, но их лица выражали враждебность. Единственное, что было общего у всех трех,— это чувство враждебности к нам и их фамилия. Старший — женоподобный старик лет 50-ти — своим темным костюмом и стоячим целлулоидным воротничком напоминал провинциального банкира. Он — глава кредитной и земельной компаний, составляющих основу «империи Хомма». Рядом с ним стоял лысоватый человек в очках, в зеленоватом костюме из искусственной ткани, слишком тесном для него. Он играет в клане роль политика и является председателем влиятельной Сельскохозяйственной ассоциации Сакаты и муниципального совета Сакаты, подбирает кандидатов для политической машины Хомма и ведет дела с издольщиками. Последним в этом трио был человек лет под сорок, вероятно самый младший из них. Он ведает внутренними делами клана. Однако я слышал, что в действительности этот круглолицый красивый мужчина определяет всю политику семейства Хомма. Эта троица проводила нас в небольшой кабинет, где мы все сгрудились вокруг угольной жаровни. Макхарди и Маркус поставили на нее ноги и свирепо уставились на Хомма.
Я никогда не пойму, почему члены семьи Хомма рассказали мне так много. Быть может, это объясняется
101
присутствием двух вооруженных офицеров, быть может, тем, что оккупация была еще внове и японцы не знали еще, что они должны говорить американцу в военной форме, а что можно утаить от него.
Человек в целлулоидном воротничке сказал мне, что клан имеет в настоящее время одну главную семью и 15 боковых ветвей. Решающий голос в клане перешел к этой троице в начале года после смерти великого Мицумаса Хомма («Он не оставил наследников. Только дочь»).
В целом клан владеет 4100 акрами земли, которую обрабатывают 5150 семей издольщиков. Каждый издольщик уплачивает Хомма от трети до половины урожая. Из остатка издольщик платит налоги, покупает орудия и удобрения и пытается прокормить семью, в среднем насчитывающую семь человек. Хороший издольщик зарабатывает около 117 долларов в год, из которых Хомма забирает 47. Остальные 70 долларов составляют годовой доход семьи издольщика.
Картина нищеты была настолько очевидна, что три Хомма начали тревожиться. «Вы должны понять, — сказал политик, — что у нас самые дружественные отношения с нашими издольщиками. Большинство из них работает на этой земле в течение трех, четырех, даже шести поколений. Когда наступают тяжелые времена, мы не торопим их с уплатой. Мы для них, как отцы, и они любят нас, как дети».
«Действительно, — подтвердил старик в целлулоидном воротничке, — четыре поколения назад Ко-оби Хомма оставил завещание, которое мы до сих пор выполняем. Он завещал: «Люби своего издольщика и сохраняй с ним семейные отношения».
Теперь заговорил самый молодой Хомма: «Законопроект о земельной реформе, на котором настаиваете вы, американцы, очень плох. На протяжении трех веков мы добивались устойчивых отношений с нашими арендаторами. Новый закон нарушит это равновесие. Что еще хуже — эта политика не может увенчаться успехом. Двадцать лет назад, когда правительство предложило, чтобы издольщики выкупили землю, которую они обрабатывают, наши издольщики отказались порвать с нами. Предположим, что теперь они настроены иначе. Муж и жена, работая оба, могут обработать в лучшем случае 7 акров. Если муж 102
умрет, жена не может одна вести хозяйство. Она не может позволить себе нанять помощника. Тогда ей останется только возвратить землю помещику. Нет, это не может увенчаться успехом».
«Это заблуждение, — сказал политик. — Мы хорошо знаем сельское хозяйство. Теперь нам разрешается сохранить только 772 акров на человека. Наш опыт пропадает зря. Если бы мы могли сохранить хотя бы 10 процентов нашей земли...»
Я подсчитал, что продажа земли даст Хомма около 90 миллионов иен, или 6 миллионов американских долларов. Землевладельцы заявили, что они еще не решили, что делать с деньгами. «Возможно, мы займемся изготовлением пищевых продуктов», — сказал Хомма в целлулоидном воротничке.
Но хотя Хомма не хотели признаваться в этом, они были больше чем помещики. Истинное положение дел выяснялось с каждым новым вопросом. Хомма сказали, что они никогда не выезжали за пределы Японии.
«Никогда?» — спросил я.
— Никогда, — ответил старший Хомма, — за исключением одного раза, когда я ездил в Маньчжурию.
«Что вы делали в Маньчжурии?»
— Просто ездил туда.
«Просто ездили?»
— Видите ли, — сказал он неохотно, — я инспектировал при этом главную контору Маньчжурского земледельческого банка, который нам принадлежит.
Мы помолчали. Я спросил: «Помимо Маньчжурии, вы не были ни в одной стране за пределами Японии?»
— Нет, — сказал он,—если не считать поездки в Корею.
«Что вы там делали?»
— Я ездил в главную контору Корейского земледельческого банка, который также принадлежит нам.
Постепенно картина начала выясняться. Хомма владеют тремя сельскохозяйственными банками. Они имеют крупные капиталовложения в предприятия тяжелой промышленности, принадлежащие Кавасаки. Они вложили средства в сакатскую электростанцию и линии электропередачи. Немалые барыши дает им их собственная кредитная компания, должниками которой являются 500 издольщиков Хомма.
103
В комнате стало холодно и темно. Лица всех трех Хом- ма побледнели от усталости. Они глубоко вздохнули, когда я поблагодарил их за «добровольное» предоставление мне информации. Они проводили нас до порога и стояли в дверях между длинными вертикальными надписями, висевшими по обе стороны от входа. Я попросил переводчика прочитать мне эти надписи. Одна гласила: «Агенты компании страхования жизни Мэйдзи». На другой было написано: «Агенты Фукоку Дзохей — страхование военнослужащих и их семей».
Макхарди сказал: «Эти птички ничего не упустят». Хомма низко поклонились, когда мы садились в виллис. Когда мы поворачивали за угол, я обернулся. Три человека стояли на том же месте, слегка склонившись в почтительной позе.
26 декабря 1945 г. САКАТА
Целый день приводил в порядок записки и ждал Икеда— члена парламента, превратившегося ныне в осведомителя. Он еще не вернулся в Сакату.
Во второй половине дня беседовал с директором одной из средних школ. Это жалкий человечек — оборванный, напуганный, посиневший от холода. Он говорил о Хомма: «Они делали подарки нашим школам и помогали нам открыть городскую библиотеку. Это самые почтенные граждане Сакаты».
Если этот человек — типичный деятель просвещения, то мне ясно, почему Япония вступила в войну и затем проиграла ее. По его мнению, Япония проиграла войну потому, что она не была как следует подготовлена к ней. С армией, он полагал, все было в порядке, и в поражении повинны только Тодзио и его приспешники.
Он признал, что все 25 учителей в его школе были назначены с ведома армии. Но, когда мы спросили его, намерен ли он уволить кого-нибудь из них, он удивленно спросил: «Почему? Они ничего не сделали». Тогда я спросил, считает ли он, что люди, отобранные военными, пригодны для преподавания японской молодежи идей демократии?
Он ответил убежденно: «Конечно, они будут преподавать эти идеи, как только получат приказ из Токио!»
104
21 декабря 1945 г.
САКАТА
В 7 часов утра маленький слуга-японец в непомерно больших американских армейских башмаках пришел в мою комнату истопить пузатую печку. Когда я открыл глаза, он вежливо сказал: «Простите, пожалуйста».
Макхарди уже ушел. Немного позднее я нашел его в кабинете, где он спорил с начальником полиции Сакаты из-за пачки счетов. Эти счета представляли собой месячные расходы гарнизона Макхарди, состоящего из 37 человек. Как только Макхарди их подпишет, они будут отосланы японскому правительству и включены в оккупационные расходы. Японцы прибегают ко всяческим ухищрениям, сказали мне, чтобы раздуть эти расходы, надеясь доказать на мирной конференции, что Япония, напрягши все силы, уже оплатила оккупационные расходы и поэтому не должиа больше подвергаться лишениям.
«Взгляните на этого старого плута, — сказал Макхарди раздраженно. — В прошлом месяце он трижды содрал с меня стоимость покраски одного и того же бака для воды. Если не быть начеку с этими япошками, то они снимут с вас штаны, а потом плату за этот «труд» включат в оккупационные издержки».
Лицо начальника полиции было бесстрастным. Я ска зал Макхарди: «Я хочу поговорить с ним, когда вы закончите».
«Разумеется, говорите», — отвечал Макхарди.
То ли в приливе доброжелательства, то ли от страха начальник полиции говорил не о себе, а о других. Он говорил о семействе Хомма и бароне Сакай; о небольшой группе левых, «ликвидированной» «полицией по контролю над мыслями» во время войны, и о сотне с лишним социалистов, которые вновь появились в Сакате после капитуляции; о 4100 безработных мужчинах и женщинах, из которых 700 — бывшие военнослужащие, не получающие никаких пособий; о беспокойной китайской общине и о еще более неприятном черном рынке, на котором особенно активны китайцы и бывшие военнослужащие. Он говорил также об ультранационалистическом движении, которое некогда процветало в Сакате и которое, как я подозреваю, может снова оживиться.
105
«Последний большой националистический митинг, — сказал он, — состоялся здесь после войны, примерно два месяца назад, когда 20 тысяч человек собралось в соседнем городе, чтобы послушать генерал-лейтенанта Кэндзи Исихара».
Это имя показалось мне знакомым. Я слышал об Исихара впервые в Китае десять или двенадцать лет назад, когда он был известен как «вундеркинд» японского генерального штаба. Он служил в Маньчжурии, составлял планы завоевания Азии, связал себя с «кликой молодых офицеров»-фанатиков, возглавлял Лигу Восточной Азии, оголтелый шовинизм которой привлек в ее ряды двух братьев императора, и, наконец, совершил по меньшей мере два неудачных покушения на убийство своего соперника — Тодзио.
Митинг, по словам начальника полиции, состоялся 19 сентября 1945 г., через 36 дней после того, как, Япония заявила о капитуляции. Это не был случайный митинг, созванный для того, чтобы послушать независимого ультранационалиста. Это был смелый маневр, задуманный для поднятия духа и поддержанный японским правительством. В период полнейшего хаоса министерство путей сообщения каким-то образом сумело составить специальные поезда, чтобы привезти со всех концов Японии сторонников Исихара. Тысячи людей в этот спокойный сентябрьский день слушали, как Исихара обвиняет Тодзио в том, что он привел Японию к поражению.
«Мы проиграли войну не потому, что вам недоставало мужества, — заявил он огромной толпе. — Мы проиграли потому, что наши горе-руководители вовлекли нас в войну, к которой мы не были готовы. Они предали императора так же, как они предали страну. Теперь мы должны начать все сначала, создав заново «азиатскую сферу сопро- цветания». На этот раз мы должны сделать это насильственным путем вместе с другими азиатами. Но скоро, быть может, лет через десять, мы вернемся к прежнему».
Япония видела в Исихара не только нового Мессию. Она прислушивалась к удачному объяснению причин поражения: злодеями были несколько человек во главе с Тодзио, которые находились теперь в тюрьме Сугамо, ожидая суда, как военные преступники. Никого иного — ни императора, ни крупные промышленные компании, ни полити106
ческих интриганов, ни генералов, подобных самому Иси- хара,— не следовало обвинять. Это было удачное объяснение, которое щадило самолюбие, облегчало совесть и — подобно сходной теории в Германии после первой мировой войны — должно было облегчить реваншистскую войну в следующем поколении.
От Исихара разговор перешел к «полиции по контролю над мыслями», которая заточала людей в тюрьму не только за то, что они «говорили неположенное», но даже по подозрению в «подрывных мыслях». Начальнику полиции было явно не по себе. «Я полицейский, — повторял он.— Я ничего об этих вещах не знаю. У нас здесь была «полиция по контролю над мыслями», но во главе ее стоял офицер, присланный из главного города префектуры».
— Что с ним случилось?
«Его сместили еще 28 сентября. Все агенты «полиции по контролю над мыслями» были смещены».
— Где он теперь?
С невозмутимым видом он показал пальцем в направлении окна. «Там. Видите человека, который сидит у ворот, возле американского часового? Это он».
Я посмотрел в ту сторону. На скамье сидел здоровенный молодчик.
«Что же он делает в расположении американской части?»
— Это офицер по осуществлению связи между нашим народом и американской армией. Он был назначен 24 сентября.
«Не знаете ли, что случилось с остальными агентами «полиции по контролю над мыслями» в вашем городе?»
— Знаю. Здесь было шесть агентов. Три из них теперь работают в бюро связи, помогая американскому гарнизону.
Макхарди, который молчал во время этого разговора, пробурчал:
«Значит ли это, что каждый японец, который хочет попасть ко мне, должен сперва пройти через руки этих типов?»
— Конечно, — вкрадчиво ответил начальник полиции. — Если сюда приходят люди с жалобами, которые не заслуживают вашего внимания, офицеры связи тут же отправляют их обратно. Мы не хотим зря беспокоить вас. Мы хотим, чтобы ваше пребывание здесь было приятным.
107
Днем Макхарди, три сержанта, переводчик и я уселись в два виллиса. Мы собирались совершить внезапный налет на школы. В годы японской агрессии школы были рассадником оголтелого национализма. Теперь во всех районах Японии небольшие группы американцев производили обыски в школах в поисках тайных складов оружия, частей самолетов, плакатов, превозносящих достоинства войны, книг о варварстве союзников и о их духовной неполноценности.
День был словно из рождественской сказки. Солнце ярко сияло, воздух был прозрачен, а снег столь ослепительно бел, что глазам было больно смотреть на него. Огромные сосульки, свисавшие с карнизов красных и зеленых крыш причудливых как на картинке домиков, роняли счастливые слезы. Ребятишки играли в снежки или катали на санках малышей. Шустрые мальчики проносились мимо нас на лыжах. На земле царил мир, и наши виллисы, автоматы и тяжелый пистолет на груди Макхарди казались ненужными и нелепыми.
Мы все почувствовали себя неловко, выйдя из виллисов у первого нашего объекта — детского сада для девочек. Очутившись в толпе девчушек в ярких кимоно, мы почувствовали себя еще более неловко. Они весело щебетали, приседали перед нами и хихикали за нашей спиной, когда мы отворачивались. Их смех звонко раздавался в холодном воздухе. «Господи! — воскликнул один из сержантов. — Разве это не прелесть? Это настоящее рождество».
Мы вошли в здание, где помещался детский сад, смущенные и пристыженные. С преувеличенной вежливостью мы поздоровались с директором, и у Макхарди иехватило мужества сказать ему, что это налет. В конце концов, ведь было рождество, и мы находились в детском саду.
«Мы приехали с корреспондентом, — сказал Макхарди. — Не может ли он осмотреть ваш детский сад^» Затем сержанты, гремя автоматами, разошлись по зданию, а мы с Макхарди заглянули в холодные, чистые классы и стали рассматривать детские рисунки домов, деревьев и лодок в гавани, иероглифы, написанные нетвердой детской рукой на классной доске. Тут и там были разбросаны игрушки, мячи, небольшие гимнастические гири.
В углу стоял большой деревянный ящик. Я приподнял Крышку. Внутри уложенные двумя плотными рядами ле108
Жали ручные гранаты. Взяв одну в руки, я увидел, что они ненастоящие. Они были сделаны из глины или какого-то другого тяжелого вещества, но по форме, размеру, весу и цвету были, как настоящие.
«Для чего это?»
Директор детского сада ответил с самым непринужденным видом: «Для упражнений. Девочки делают вот так...— он согнул и разогнул руки. — Мы хотим, чтобы наши девочки были здоровыми и сильными».
Мы забрали с собой гранаты. Ни один из нас не сказал ни слова, когда мы выходили из детского сада. В конце концов, это была рождественская пора, это был детский сад, и девочки, игравшие на свежем воздухе, казались такими прелестными. И разве не было на каждой гранате маленького ярлычка: «Одобрено министерством просвещения»?
Когда мы вернулись в расположение части, я позвал бывшего шефа «полиции по контролю над мыслями», сидевшего у ворот, и стал расспрашивать его о генерале Исихара и его Лиге Восточной Азии.
«Генерал — великий человек, — сказал он. — Лига насчитывает 600 членов в этом городе и около 1500 во всей префектуре. Лига усиленно действует. Да вот, к примеру, вчера вечером ее активисты собрались в милях сорока отсюда, чтобы обсудить свои планы. Там было около ста человек, главным образом крестьян».
Я отпустил его, но он не торопился уходить. «Вы хотите что-нибудь сказать?» — спросил я.
«Начальник полиции,— ответил он, — наверное, сказал вам, что я возглавлял «полицию по контролю над мыслями» в этом городе. Формально это так. Но я подчинялся ему самому. По существу, именно он руководил всеми отделами полиции, в том числе «полицией по контролю над мыслями».
28 декабря 1945 г. САКАТА
Когда мы уже утратили всякую надежду, явился член парламента Икеда, ставший теперь осведомителем. Это был небольшого роста, подвижной, лохматый человечек с 109
живыми черными глазами. Икеда сказал громко, чтобы слышал человек из «полиции по контролю над мыслями», сопровождавший его от ворот, что он пришел заев и де* тельствовать свое почтение. Но, как только Макхарди отправил полицейского агента, Икеда нетерпеливо спросил:
«Когда вы собираетесь обыскать склады Хомма?»
«Не горячитесь, — сказал Макхарди. — Где улики?» В ответ Макхарди услышал совсем не то, что ожидал. Несмотря на все наши старания прекратить словоизвержение, Икеда два часа читал нам лекцию по истории феодализма, националистического движения в этом районе и о семействе Хомма. Наконец, он подошел к большой карте, висевшей на стене, и показал исторический путь переселения клана Хомма.
«Семейство Хомма, — сказал он, — извлекало выгоды из феодальных порядков. Сперва оно нажило капитал на своей преданности баронам Сакай. Затем оно начало скупать землю и сдавать ее в аренду по чудовищным ценам. Наконец, оно занялось ростовщичеством, торговлей, промышленным производством, банковским делом и колониальными аферами. Из поколения в поколение состояние Хомма возрастало, и к настоящему времени оно должно достичь сотен миллионов. При этом Хомма были всегда хитры. Если они не вкладывали деньги в землю или в промышленность, они обращали их в золото. Вот почему они сохранили богатство, в то время как другие его утратили».
Я спросил: «Откуда вы знаете, что золото спрятано на складах?»
«А где еще оно может быть? Это самое надежное место».
Я сказал Макхарди: «Лейтенант, этот тип болтает наобум. Если бы я был на вашем месте, я бы отложил налет до получения более точных сведений».
«Слишком поздно, — сказал Макхарди огорченно. — Штаб уже приказал мне провести обыск. Мы сделаем это сегодня днем».
Было по-весеннему тепло, и к трем часам дня, когда мы на трех виллисах отправились делать обыск, широ* кие немощеные улицы были покрыты слякотью. Наши машины, лязгая цепями, одетыми поверх шин, неслись, обдавая грязью прохожих, которые останавливались и недоуменно смотрели нам вслед. Нас было двенадцать 110
человек, и автоматы, повидимому, придавали нам весьма деловой вид.
Хомма не ожидали нас. Макхарди вошел в дом с переводчиком и потребовал ключи от складов. Когда он присоединился к нам, за ним по пятам следовали три брата Хомма. У них были унылые лица. Наконец, один из Хомма, тот, который был в целлулоидном воротничке, спросил о причине обыска.
«Нам сообщили, что вы прячете золото на складах»,— сказал Макхарди.
Все трое переглянулись. «Мы рады были бы иметь золото», — сказал Хомма в целлулоидном воротничке.
Снаружи склады имели вид двухэтажных ветхих деревянных амбаров. Но, когда дверь первого склада была, наконец, отперта, мы обнаружили, что за деревянной обшивкой скрывается стена из асбестового кирпича толщиной в целый фут. На складах царил такой же порядок, как в кладовой у какой-нибудь голландской хозяйки. Полы были устланы опрятными соломенными цыновками. Вдоль стен стояли сотни ящиков из кедрового дерева. Мы открыли некоторые из них. Там не было ничего, кроме бумаг: земельные купчие, гроссбухи, долговые обязательства, подписанные издольщиками Хомма. Перед нами были целые горы человеческого горя — растущих долгов, изнуряющего труда, чудовищной ренты, — горя тысяч семей на протяжении десятков поколений. Мы вышли из склада, оставив на чистых желтых цыновках грязные следы.
Старший Хомма начал возиться с огромным ключом у двери второго склада. (По традиции в семействе Хомма, сказал нам переводчик, только глава семьи может входить в эти двери.) На сей раз обыск дал некоторые результаты. В одном углу мы обнаружили сотню ножен от мечей, инкрустированных золотом и серебром. В другом углу мы нашли два старинных самурайских меча. Однако это были фамильные вещи, и Хомма имели разрешение хранить их.
Вдруг из темноты второго этажа, где сержант производил обыск, светя себе электрическим фонарем, раздался возглас: «Я что-то нашел!» Он спустился, держа в руках небольшую жестяную коробочку. Макхарди взглянул на коробочку и сердито сказал старшему Хомма: «Какого чорта вы здесь держите пистоны!» Тот растерянно смотрел на нас. Я взглянул на коробку.
111
«Подождите, лейтенант, — сказал я поспешно. — Прочтите надпись». У самого края коробки мелкими буквами было написано: «Сделано в Лондоне по заказу Оттоманской империи».
«Что за дьявол эта Оттоманская империя?» — спросил сержант.
«Вероятно, эта коробка — одна из вещей, которые наш двоюродный прапрадед купил в Европе в прошлом веке»,— сказал Хомма в целлулоидном воротничке.
В конце концов мы все-таки нашли золото — маленький холщевый мешочек с несколькими унциями желтого песку. К этому времени Макхарди уже пал духом. «Что это такое?» — спросил он. Один из Хомма объяснил, что их семейство некогда искало золото в принадлежавшей им реке, и это был образчик намытого золота. Прииски были заброшены пятьдесят лет назад. Подобно почти всем остальным вещам в этом огромном темном складе, золото, в сущности, должно было храниться в музее. Чуть ли ни единственным исключением была толстая пачка облигаций японских военных займов. Их было на 900 тысяч иен (или 60 тысяч долларов), и, за неимением лучшей добычи, Макхарди забрал облигации.
Оставалось обыскать еще один склад. Когда он был, наконец, отперт, мы увидели большую чистую комнату, в которой не было ничего, кроме шести тюков, лежавших рядом. Каждый тюк, примерно шести футов в длину, был завернут в толстый шелк. Один из солдат начал развертывать первый тюк. Под шелком оказалась другая материя. Солдат надавил на тюк рукой, и вдруг поверхность тюка поддалась нажиму.
«Что за чорт!?»— воскликнул он. На лицах Хомма появилось грустное выражение. Наконец, заговорил старший из них. «Время от времени, — сказал он, — члены императорской семьи приезжают в Сакату и останавливаются у нас. Тогда мы берем эти... — он показал на шесть тюков, — ... эти штуки в большой дом. Это импортные пружинные матрацы...»
Мы возвращались подавленные. Мы видели, что налет не удался. Никто не знал этого лучше Макхарди, который конфисковал облигации военных займов и ключи от скла-
112
дов, и раздумывал над тем, одобрит ли штаб его действия,
Пока Макхарди говорил по телефону с полковником, который находился в главном городе префектуры, я разговорился с бывшим начальником «полиции по контролю над мыслями», сидевшим у ворот.
«Знаете ли вы этого Икеда, члена парламента, который был здесь сегодня утром? Он друг Хомма?»
— О, нет, — усмехнулся полицейский на мой вопрос. — Они не друзья. Они двадцать пять лет воюют друг с другом.
«Почему?»
— Эта история началась примерно в 1920 г. В то время Хомма решили построить гробницу для духа одного из своих предков. Но они не хотели тратить свои деньги. Поэтому они пригласили всех старшин города на большой пир и, когда он подходил к концу, предложили ввести «добровольный налог» на строительство гробницы. Гости согласились, что это превосходная мысль. И вот налог был введен, ив 1921 г. в городском парке была установлена прекрасная гробница. Икеда боролся против нового налога, но потерпел неудачу, и Хомма стали мешать его деятельности. Тогда Икеда подружился с генералом Исихара и другими националистами; на выборах в 1942 г. он победил кандидата Хомма и стал членом парламента. Он попреж- нему ненавидит семейство Хомма.
Когда я вернулся в кабинет, Макхарди давал инструкции сержанту: «Отнесите эти облигации и ключи обратно Хомма и скажите им, что мы ошиблись. Будьте с ними вежливы».
29 декабря 1945 г. АКИТА
Город Акита — не затронутый войной, полный суеты, укутанный снегом, словно рождественский подарок ватой— представлял отрадное зрелище. За стеклами витрин, разрисованных по углам узорами мороза, выставлены более разнообразные товары, чем в Токио; магазины казались переполненными. Дети выглядели более здоровыми и веселыми.
Мы ехали по лабиринту улочек, вдоль которых тянулись комфортабельные дома. Завернув за угол, мы увидели вдали три фигуры в яркокрасной одежде. Когда мы подъехали
8 М. Гейм
ИЗ
ближе, я разглядел, что это были слуги в красных ливреях. За ними маячила атлетическая фигура полковника Лукаса Э. Хаска, который оказывал мне гостеприимство в отсутствие генерала Дорна.
За завтраком Хаска рассказал мне историю этих ливрей. Оказывается, Дорн, которого угнетала поношенная одежда слуг, решил достать им ливреи. Его адъютант, молодой человек с большим воображением, отправился в местный католический монастырь и заказал яркокрасное ковбойское облачение. Опасаясь, что этот наряд придаст его резиденции опереточный вид, Дорн забраковал его. Тогда адъютант заказал красные егерские костюмы, и Дорн, наконец, сдался.
Почти весь день я провел в беседе с японцами — главным образом с политическими деятелями и журналистами. Японцы рассказывают, что Акита на протяжении 1200 лет был гарнизонным городом — с тех самых пор, когда сюда была послана воинская часть, чтобы выбить племена айну Ч Теперь айну оттеснены к северной оконечности острова и не интересуют никого, кроме фотокорреспондентов американских иллюстрированных журналов. В Аките уже нет японского гарнизона, и город, погребенный под снегом, опасается нехватки продовольствия нынешней весной. Здесь хранят даже мандариновые корки, хотя я сомневаюсь, чтобы кто-нибудь стал их есть. Это рисовый район, в котором проживает примерно миллион с четвертью человек. Из каждых пяти человек в префектуре Акита трое работают на земле, и 86 процентов крестьян составляют издольщики. Остальные — мелкие землевладельцы, которые едва сводят концы с концами. Имеется всего лишь около 50 помещиков.
Прежде всего я разговорился с редактором местной газеты. Это юркий, как мышь, человечек в заплатанных ботинках и в чистой белой рубашке, каких я немного видел в Японии. Он нарисовал мне общую политическую картину, которая сводилась к следующему:
а) Лига Восточной Азии, возглавляемая генералом Иси- хара, с которой я столкнулся в Сакате, 'имеет примерно
1 Коренные жители Японских островов. В настоящее время айну насчитывают всего 16 тысяч человек; живут на Хоккайдо и в южной части Сахалина. (Прим, ред.)
114
4000 членов в этой префектуре и сейчас продолжает усиленную вербовку членов. Это делается под видом «обучения крестьян применению дрожжей». Меня заверили, что Иси- хара «помешан на дрожжах».
Пять недель спустя после капитуляции Японии Исихара выступил с желчной речью. Послушать его собралось две тысячи человек. Он возлагал вину за поражение на Тодзио, тогдашнего премьер-министра адмирала Кантаро Судзуки и на японскую печать. Он сообщил, что это одна из его последних речей.
«Мне придется на время уйти в подполье, — сказал он.— Быть может, лет на пять».
б) Местная организация социалистической партии стала включать в себя людей самых разнообразных политических направлений. Ее возглавляет человек, который в военное время был организатором тоталитарной «Ассоциации помощи трону».
в) Хотя еще ничего не предпринято для проведения в жизнь закона о земельной реформе, который должен привести к разделу крупных имений и дать возможность издольщикам покупать землю, было уже по меньшей мере сто нарушений этого закона. Крупные помещики делят свои владения на мелкие участки, которые они распределяют между «марионеточными» владельцами — своими родственниками, слугами и даже новорожденными младенцами.
По окончании беседы редактор пригласил меня посмотреть его газету «Акита сакигаке симпо». Он обещал познакомить меня с политическим хозяином города, а также с одним из помощников Исихара в Аките. «Между прочим, — сказал он, — по случайному совпадению этот человек сегодня днем придет по делу к нам в редакцию».
Мы сидели в большой комнате под плакатом «Мир Восточной Азии, 1940». Девушки внесли деревянные тарелки с яблоками и мандаринами и две «хибаци» с тлеющим древесным углем. Затем один за другим начали приходить какие-то люди. Они осматривали меня исподтишка и усаживались кружком вдоль стен комнаты. Я старался сохранять невозмутимый вид. Наконец, вошел редактор и сказал, что это его помощники, которые хотят проинтервьюировать меня и послушать, как я буду интервьюировать политического босса. Я быстро начал задавать им вопросы.
8* 115
Меня особенно интересовало, когда именно они начали осознавать, что война проиграна. Редактор сказал, что он понял неизбежность поражения, когда японцы потеряли Гвадалканар. Три его помощника в один голос заявили, что они предсказали поражение Японии в день, когда произошло нападение на Пирл Харбор. Мы обсуждали этот вопрос, когда вошел политический босс.
Его звали Судзуки. Он являлся оплотом консерватизма и образцом респектабельности в Аките. Это был плешивый чудаковатый старик в черной безрукавке, полосатых брюках, потертом жилете из бурого медвежьего меха и резиновых сапогах до колен. Мы разговаривали целый час, и из его слов я узнал, что одно время он был мэром Акиты, всегда являлся смелым бойцом за демократию, хотел пройти в парламент, чтобы служить своему народу и стране, и считал, что проблему продовольствия можно легко разрешить, если импортировать 75 миллионов бушелей риса. Он находился в оппозиции к социалистической партии, потому что она состояла из людей, не имевших собственности, и поэтому непригодных, по его мнению, к руководящей роли.
Я продолжал засыпать его вопросами, а он продолжал увиливать от ответов, пользуясь избитыми штампами. Наконец, я понял, что напрасно теряю время. Я поблагодарил старика, и он тут же схватил яблоко и начал его жевать. Покончив с яблоком, он поглубже уселся в кресло и закрыл глаза.
Затем я пожелал увидеть помощника генерала Иси- хара, однако редактор тщетно разыскивал его, разослав курьеров во все части здания. Тем временем газетчики расспрашивали меня. Единственным вопросом, который их, повидимому, интересовал, было избирательное право женщин. Интервью достигло кульминационного пункта, когда я сказал, что на прошлых выборах мы с Сэлли, повидимому, голосовали за разные списки кандидатов.
«Вы хотите сказать, что ваша жена голосовала за другого кандидата?»
Я кивнул.
Они обменялись изумленными возгласами, но в это время вошел курьер, который шепнул что-то редактору, и последний сказал, что человек, которого мы разыскиваем, ушел. Редактор не знал, к кому приходил в газету 116
помощник генерала Исихара, не знал его адреса и не считал целесообразным искать его в Аките. Я понял, что меня дурачат, и мне это вовсе не нравилось. Газетчики жевали яблоки и с любопытством смотрели на меня. Резкая реплика, которая готова была сорваться с моих уст, была прервана высоким пронзительным звуком. Я не мог понять, откуда он исходит, и посмотрел вокруг. Политический властитель и поборник демократии заснул с открытым ртом и теперь храпел.
30 декабря 1945 г, АКИТА
Полковник Хаска, питомец военного училища в Уэст- Пойнте, лицо которого носит следы четырех лет занятий боксом, чрезвычайно пунктуален. Ровно в 7.30 утра он уже был в столовой, аккуратный, подтянутый и изысканно любезный. На завтрак нам подали омлет с красным перцем, которым я сразу же обжег рот. Однако обжигал не только перец. Полковник усмехнулся и сказал лейтенанту, сидевшему на другом конце стола: «Надеюсь, лейтенант, что вы доставите нам удовольствие и побреетесь, скажем, до полудня». Щеки молодого лейтенанта, поросшие белокурым пушком, зарделись, и он ответил: «Есть, сэр».
Полковник уезжает сегодня в Токио в личном поезде со всеми, кого можно освободить от службы, на новогодний футбольный матч.
После завтрака я поехал в штаб военной администрации, который помещается на главной улице Акиты. Местным гарнизоном командует подполковник Борден, судья из Алабамы, который вскоре возвращается на родину, чтобы заняться политикой. По уровню своего развития он намного выше средних офицеров военной администрации, с которыми мне приходилось до сих пор сталкиваться, и, несомненно, будет преуспевать.
До пяти часов я успел побеседовать с большинством сотрудников военной администрации и кое-что узнал о стоящих перед ними проблемах. Люди разочарованы и расстроены: они считают, что мы не справляемся со своими задачами в Японии и почти все жаждут убраться отсюда при первой возможности.
117
Согласно директиве генерала Макартура, американские военные не имеют права отдавать приказы японским должностным лицам, если не считать дел, связанных с демобилизацией японцев. «Как можно заставить этих людей делать то, что вы хотите, если вы не пользуетесь властью? — спросил один из сотрудников. — Я не замечаю никаких улучшений. Всем попрежнему заправляет старая банда, а военной администрации, вместо того чтобы отвечать своему названию и проводить в жизнь директивы генерала Макартура, остается лишь грызть ногти».
Были и другие жалобы. Японцы получают текст американских директив через свои официальные каналы гораздо раньше, чем мы. Иногда предписания американским офицерам проверить, как выполняются директивы, поступают до того, как сами директивы попадают на места.
«Видите вот эту книжку? — спросил меня другой офицер. Он показал на маленькую зеленую брошюрку. Это был знакомый сборник директив, перепечатанный газетой «Ниппон тайме», рупором японского министерства иностранных дел. — Все мы имеем по такому экземпляру. Вот откуда мы получаем директивы. Мы подписываемся на «Ниппон тайме», чтобы знать, в чем состоит наша политика в Японии».
«Что касается наших целей в Японии, то, насколько мы можем судить, с этим делом все в порядке, — сказал третий офицер. — Беда лишь в том, что нет никакого контроля, никакой проверки, никакой власти. Нам велят проверять, как японцы выполняют директивы. Единственное, что мы можем сделать, это пойти к японцам и спросить вежливо: «Преподаете ли вы военное дело в ваших школах? Как обстоит дело с синтоистской религией?» Сегодня мы подчиняемся нашему местному армейскому командиру. Если мы обнаруживаем вопиющее нарушение какой-нибудь директивы, мы можем поговорить с ним и в обход закона найти какой-нибудь способ заставить японцев изменить свои методы. Но с 1 января все гарнизоны военной администрации на местах будут непосредственно подчиняться командиру корпуса, который находится за сотни миль от нас. Понадобятся месяцы и стопы бумаги, чтобы принять решение по какому-нибудь вопросу местного значения».
Н8
«Мне все равно, будет военная администрация обладать властью или нет. Но я говорю: предоставьте эту власть кому-нибудь — любой американской организации, — пока еще японцы не превратили все наши начинания в фарс», — сказал один из старших офицеров части.
Когда я надевал шубу, он сказал мне: «Целый год я мечтал о том, что смогу вернуться на родину и с гордостью сказать, что я работал в военной администрации в Японии. Но теперь, чорт возьми, я не рискну заикнуться об этом кому-нибудь».
31 декабря 1945 г. К О М О Р О
Через шесть часов наступит Новый год, мне скучно без Сэлли и одолевает тоска по родине. Я пишу в убогой комнате на втором этаже казармы в городе, который я назову Коморо. В комнате стоят четыре армейские койки, железная печурка посредине,- пара пулеметов, а возле меня лежит самурайский меч и коллекция фотографий проституток, которые в то или иное время побывали тут.
Здесь размещен гарнизон, состоящий из десяти человек, во главе с офицером, которого я назову лейтенантом Хартли. Это славный беззаботный парень лет 26-ти, который знал, что делать со своей частью во время войны, и хорошо сражался, но теперь озадачен сложными политическими директивами, холодным враждебным японским городом, одиночеством в мирное время и своим подразделением, укомплектованным не дисциплинированными солдатами военного времени, а 18-летними юношами, которые в начале войны были еще детьми. До Коморо ... миль в энском направлении, и Хартли, который сидит здесь без руководства и газет, видит, что он предоставлен сам себе, и не понимает ни характера опасности, ни того, какие меры предосторожности он должен принять. Он ищет помощи там, где может ее найти, а в Коморо он может найти ее только среди японских прохвостов, и его беспокойство растет, потому что он опасается их козней. Хартли старается делать вид, что он независим и весел, но ему плохо удается скрыть свою тревогу.
Сегодня Хартли устраивает большой новогодний вечер. Он пригласил множество гостей. Будут присутствовать 119
священник маленькой японской церкви с молодой женой и некоторые из его наиболее солидных прихожан. Приглашены также нынешний начальник полиции и его предшественник, который был смещен как агент «полиции по контролю над мыслями» и который, повидимому, все еще держит город в руках. Придут четыре японки, которых именуют «гейшами», три японки, которые фигурируют под названием «подружек», и еще четыре, профессии которых никто не пытается скрыть. В зале установлена большая рождественская елка и устроена импровизированная стойка с плохой японской водкой, огромным количеством японского пива и пуншем для священника и его паствы.
Мы рано пообедали. После обеда Хартли встал и обратился к солдатам своей части: «Солдаты! — сказал он. — У нас сегодня будет вечер, и я хочу, чтобы он прошел не хуже вечера, который мы устроили в сочельник. Если кто-нибудь напьется, пусть двое других выведут его на улицу, протрезвят и потом уложат в постель. Если кто-нибудь захочет повести женщину наверх, чтобы показать ей японские гравюры... — он улыбнулся—... так не тащите ее за волосы. Возьмите ее за руку и отведите наверх спокойно. У нас сегодня будет священник с женой и несколько приличных людей, и я не хочу, чтобы они о нас плохо думали. И, ради бога, не забывайте о профилактических мерах. Мы не хотим, чтобы в нашем подразделении были венерические заболевания».
В 8 часов начался вечер. В зале было полно людей. Все женщины сидели неподвижно в одной стороне комнаты, а мужчины-японцы — в другой. Американские солдаты стояли у стойки, где брали напитки для себя и для женщин. Священник часто переходил на женскую половину, чтобы поговорить с двумя хорошенькими, досмерти перепуганными женщинами. Это были его жена и кузина. Остальные женщины были средних лет и отчаянно напудрены и нарумянены. Молодчик из «полиции по контролю над мыслями» медленно вертелся посредине комнаты, нажимая пальцем на собственную макушку. Он не был пьян, но делал вид, что пьян. Говорили мало. Американские солдаты не умели говорить по-японски, а японцы не знали английского языка. «Порядочные» 120
японцы не хотели говорить с «непорядочными». Я выпил стакан пива и поднялся наверх.
Около десяти часов мимо моей двери протопали орущие мужчины и хихикающие женщины, а снизу из зала доносились звуки веселья. Я спустился. Теперь картина изменилась. Все были пьяны и все разговаривали. Слушатели часто не понимали, что им говорят, но нимало не смущались. Агент из «полиции по контролю над мыслями» исполнял охотничий танец. Его партнером был священник, тоже изрядно пьяный. Начальник полиции сидел в углу, обняв одну из самых уродливых проституток. Жена и кузина священника были в соседней комнате возле лестничной площадки, где они играли в пинг-понг с молодым солдатом-американцем. Обе были трезвы и расстроены. Время от времени им приходилось посторониться, чтобы пропустить солдата, уводившего наверх женщину. Солдаты еще не волокли женщин за волосы, но во всяком случае волокли. Всякий раз, когда парочка поднималась наверх, жена и кузина священника делали вид, что они ничего не видят. У них были напряженные лица.
Я присоединился к играющим в пинг-понг и пытался подбодрить женщин. Вошел Хартли. Я сказал ему: «Послушайте, скажите священнику, чтобы он забрал своих женщин домой. Я не хочу играть роль сторожа, а неприятности обязательно будут». Хартли ответил с несчастным видом: «Я старался уговорить старого болвана, но ему здесь очень весело. Я попытаюсь снова».
В разгар игры с женой священника я вдруг заметил, что она смотрит куда-то мимо меня. Я обернулся. Ее компаньонки не было. В комнате была только одна дверь, ведущая в длинный коридор, где находились кладовые. Коридор был пуст. Я нашел девушку в третьей кладовой<. При слабом свете, проникавшем из коридора, я увидел, что она стоит на коленях и борется с мужчиной. Это был один из американских гостей. Я потянул его за плечо. Он посмотрел на меня. У него было совершенно бессмысленное лицо; когда он разжал руку, девушка вскочила и выскользнула из комнаты. Американец медленно вышел, не сказав ни слова.
Игра продолжалась. Я пошел в зал, взял священника за руку и привел его к Джорджу. «Скажите ему, чтобы
121
он надел пальто и увел своих женщин домой. Сейчас же». Священник посмотрел на меня, улыбнулся и сказал по- английски: «О-кэй!». Я подождал, пока он не вышел из дома, спотыкаясь в снегу и идя впереди двух женщин, как подобает благовоспитанному мужчине в Японии.
Вечер закончился около одиннадцати. Я уже лежал в постели, когда пришел Хартли. Он сел на свою койку и закрыл лицо руками. «Ох, спина болит!» — сказал он, наконец, не обращаясь ни к кому, снял ботинки и одетый, вытянулся на койке.
В полночь я сказал ему: «С Новым годом!» Хартли не ответил.
1 января 1946 г. Ко МОРО
В 8 часов утра меня разбудил Хартли, кричавший в трубку полевого телефона. Он разговаривал с соседним городом. Насколько я понял, рано утром рядовой доложил Хартли, что на японской ратуше через дорогу от нас поднят «шар» (японский флаг) в нарушение всех известных приказов. Хартли немедленно послал сержанта сорвать флаг. Начальник японской полиции разъяснил, что он поднял флаг с разрешения генерала Макартура. Хартли и прежде имел неприятности с директивами, которые попадали к японцам намного раньше, чем к нему, и подозревал, что и на этот раз произошло то же самое. Он знал, что уронил свой престиж, у него трещала голова с похмелья, и он был взбешен всем этим до крайности.
Теперь он кричал в трубку, стараясь выяснить в соседнем гарнизоне, лгут японцы или нет. Там тоже ничего не слышали о таком приказе, но флаг поднят и в их городе. Потом лейтенант соседнего города спросил, не слышал ли Хартли о новой директиве, предписывающей японцам сдать 47 книг о синтоистской религии, указанных в специальном списке. Он поймал радиопередачу из Токио, но слышал только обрывки фраз и не особенно разобрался в сути дела. Хартли ответил, что он ничего не слышал.
Положив трубку, он сказал: «Ведь именно мне положено работать здесь, а я ничего не знаю».
122
Внизу сержант, которого мы назовем Финли, показал мне богатую коллекцию трофеев, собранных им во время налетов на местные школы: два пулемета, модели планеров, военные плакаты, военные учебники. Финли — внушительного вида юноша лет 24-х, который хочет остаться в армии и который фактически командует местным гарнизоном.
«Дня два назад, — сказал он, — я совершил один из таких налетов. Я был один, со мной лошадь. Так вот, пришел я в школу; как видно, меня не ждали. В сарае на школьном дворе я нашел настоящий планер, готовый к полету. Тогда я взял кувалду в школьной мастерской и разбил эту проклятую штуку. Я внимательно обыскал всю школу, но больше ничего не нашел.
Вернувшись, я начал думать об этой школе. Мне как- то не понравился вид этих ублюдков. И вот вчера я взял еще одного парня и снова поехал туда. Мы вошли во двор и видим, что все учителя копают большую яму, а возле нее стоят три новехоньких авиамотора, приборы для самолета, инструменты и всякое другое добро.
Я спрашиваю директора, что все это значит. Он отвечает, что они только-что нашли все это. Я заявляю, что накануне осмотрел все здание и ничего не видел, и спрашиваю, для чего они закапывают эти вещи. Им известно, отвечает директор, что их надо было расплавить, но у них нет соответствующего приспособления, и поэтому они решили закопать это, пока не достанут все, что нужно. Тогда я дал им несколько топоров и велел приняться за дело».
За завтраком Хартли спросил меня, что бы мне хотелось предпринять. Я сказал ему, что хочу принять участие в налете на какую-нибудь школу. Мы с Финли наметили план. Мы пришли к выводу, что все школы вокруг Коморо предупреждены. Но поблизости, в двух часах езды на местном поезде, находится городок Отуки, где не было еще ни одного американца. Мы решили, что главное — это приехать неожиданно. Мы задумались над тем, как нам забронировать комнаты в гостинице Отуки. Наконец Хартли вызвал начальника японской полиции и сказал, что я хочу поехать в Отуки за материалом для газетной статьи, что он, Хартли, возможно, поедет со мной, и
123
попросил у начальника разрешения воспользоваться телефоном полиции — единственным телефоном, связывающим город с Отуки, — чтобы забронировать за мной комнату.
Поезд уходил в четыре часа дня, и у нас оставалось несколько свободных часов. Но Хартли не давали покоя. Посетители-японцы начали приходить с новогодними поздравлениями. В их числе был тощий старик с козлиной бородкой и непомерно большими очками в черной оправе, которого Хартли представил мне как г-на Му ко. Му ко пояснил с помощью Джорджа, что он известный филолог и лингвист, имеет свои труды и учился в Китае, что он владеет немецким, английским и китайским языками. Единственное внятное английское выражение, которое я от него услышал, было «sank you» х, которое он употреблял кстати и некстати.
Вскоре Муко загнал Хартли и меня в угол. Он слышал от начальника полиции, что мы собираемся ехать в Отуки, и спрашивал, не возьмет ли Хартли его, Муко, с собой. Выяснилось, что Муко посадил в Отуки картофель, и если бы он мог поехать туда, то обеспечил бы семью на целый месяц картофелем. «О, моя несчастная спина! — простонал Хартли. — Не знаю, для чего я говорю с этим типом». Обращаясь к Муко, он сказал: «О-кэй, можете ехать». Муко ответил: «Sank you».
Когда мы с Хартли прибыли на вокзал, поезд ожидал нас. Начальник вокзала, важно шествуя впереди, подвел нас к нашему личному вагону. Несколько минут спустя вошел Муко. С довольным видом он сказал нам, что воспользовался телефоном полиции, чтобы предупредить мэра Отуки, что он, Муко, везет с собой своих американских друзей, и уверен, что им отведут самые лучшие комнаты. Иначе, сказал Муко, он лично сгорел бы от стыда. Хартли был подавлен. «Скажите г-ну Муко, — заявил он переводчику, —■ что мы ценим его помощь, но не хотим, чтобы этот сукин сын совался в наши дела».
Переводчик перевел его слова Муко. Муко улыбнулся, потряс своей козлиной бородкой и сказал по-японски: «Никакого беспокойства. Лейтенант Хартли—мой друг».
1 Исковерканное «благодарю вас». (Прим, перво.)
124
Мы ехали молча. Когда приехали в Отуки, шел снег, и за крупными, пушистыми хлопьями ничего не было видно. Мы вышли из вагона на платформу. Перед нами, выстроившись, стояли шесть человек. Двое из них были в накидках, один — в форме полицейского офицера.
Муко сказал: «Позвольте представить: мэр, помощник мэра, председатель муниципального совета, начальник полиции, председатель школьного совета и начальник вокзала». Мэр поклонился и сказал: «Добро пожаловать в Отуки!» Хартли заявил возмущенно: «Скажите этому типу, что мы благодарим его, но Муко не имеет к нам никакого отношения. Он просто проехал за наш счет».
Муко благожелательно улыбнулся и сказал: «Sank you».
Мэр вывел нас из вокзала. Перед нами стояли сани, в которые была впряжена лошадь, а на них громоздилось какое-то сооружение, похожее на ящик. Тогда лишь мы узнали, что станция Отуки находится в трех милях от города. Мы вчетвером с трудом забрались в ящик и потеснились, чтобы посадить мэра. Не оставалось ни одного свободного дюйма. Мэр крикнул, и сани тронулись.
Через некоторое время я стал различать странные звуки; я выглянул в боковое окошечко, но не увидел ничего, кроме голых полей и снега. Тогда я отдернул занавеску на заднем окошечке. За нами, тяжело дыша, бежала вся администрация города Отуки.
К тому времени когда мы приехали в Отуки, начался настоящий буран, который потрясал шаткие деревянные строения и вихрем вздымал снег. Гостиница в Отуки оказалась поразительно большим двухэтажным зданием. Мы сняли ботинки и поднялись в комнаты, забронированные для нас. Мы очутились в большой убогой комнате, где не было ничего, кроме двух угольных жаровен посредине, вокруг которых было разложено одиннадцать подушек для сиденья.
«Что это значит?» — спросил Хартли.
Мэр ответил: «Маленький банкет. Город Отуки хочет приветствовать американских гостей. Господин Муко...»
Муко! Это японское имя было знакомо лейтенанту. «Чорт бы побрал этого проклятого господина Муко! — закричал он. — Мы не хотим больше слышать это имя!
125
Мы не хотим никакого банкета! Мы ничего не хотим! Оставьте нас в покое!»
У мэра был растерянный вид. «Скажите ему, — воскликнул Хартли, — что мы устали. Единственное, чего мы хотим сегодня, это поесть и лечь спать. Поблагодарите его и скажите, что мы устроим банкет когда-нибудь в другой раз».
Мэр удалился, и вошел хозяин гостиницы, сообщив, что ванна готова. Мы с Хартли выкупались. Когда мы возвращались к себе, мне послышался знакомый голос. Я заглянул внутрь комнаты и увидел, что вокруг жаровен сидят люди, потягивающие рисовую водку сакэ. Хозяйское место занимал мэр. На почетном месте сидел и говорил высоким фальцетом не кто иной, как г-н Му ко.
2 января 1946 г. . о Т У К И
Мы рано встали, побрились и ждали завтрака. Вместе с завтраком появился Муко, сияя от удовольствия. Мы улыбнулись в ответ. Нас охватила тайная радость охотника, готового захлопнуть капкан. Японец обвел нас вокруг пальца, но теперь мы должны были восторжествовать. Мы быстро покончили с завтраком и отклонили попытку Муко заплатить по счету. Потом гуськом пошли по тропинке, проложенной в глубоком снегу. Был солнечный, теплый день, и город казался веселым в своем белом одеянии и ожерелье из искрящихся сосулек.
Не прошли мы и двухсот ярдов, как увидели фигуру, приближающуюся к нам. Это был японский полицейский с короткой саблей. Он обратился к Джорджу, и тот перевел, что полицейский послан вперед, чтобы проводить нас в полицейский участок. Я сказал недоверчиво: «Вы нас дурачите». «Нет,— возразил Джордж. — Он говорит, что из гостиницы им позвонили, как только мы вышли, и начальник послал его, чтобы проводить нас в участок».
Мы с Хартли переглянулись. В душе мы знали, что проиграли, но все еще не хотели терять надежду. Быть может, это случайное совпадение — такой конвой во время визита, который должен был оказаться неожиданным.
М$>1 поднялись в гору к полицейскому участку, в небольшом и теплом помещении которого нас ожидала 126
группа людей. Мы узнали начальника полиции и помощника мэра. Начальник полиции представил остальных. Это были директора двух городских школ.
Он сказал: «Мы подумали, что вам, может быть, захочется посетить наши школы, и поэтому я просил директоров притти сюда и предложить вам свои услуги в качестве провожатых».
С поникшей головой мы поплелись по узкой горной тропинке за двумя Директорами школ. Оба были в накидках и высоких резиновых сапогах, которые, кажется, являются частью парадной формы в этой части света. Мы прошли через овраг, забрались еще на одну гору и очутились возле школы. Все было подготовлено к нашей встрече. Учителя в парадных костюмах собрались в учительской, а учительницы приготовили чай и рисовое печенье. Мы были раздосадованы и разочарованы и при первой возможности вырвались, чтобы осмотреть школу. Я сделал первое открытие. В младшем классе я обнаружил длинный шкаф с запрещенными книгами по «этике». Они были снабжены иллюстрациями японских подводных лодок, военных кораблей и самолетов «камикадзе» х, взрывающих американские корабли. Я спросил директора школы, что он намеревается делать с этими книгами; он ответил, что собирался поручить детям замазать чернилами предосудительные места, но что ему очень некогда и он еще не успел этого сделать.
Медленно мы все двинулись в большую прихожую, уставленную книжными шкафами, и остановились в нерешительности. Хартли начал осматривать книжные шкафы, спрашивая у переводчика заглавия книг, и постучал по нижнему ящику шкафа.
«Что там?» — спросил он.
— Школьные дела, — ответил директор.
«Я хочу посмотреть их», — сказал Хартли.
Наконец, ящик отперли. Мы увидели там целую коллекцию авиаприборов, причем каждый из них был снабжен ярлычком. Первый, который я вытащил, оказался
1 Воины-смертники, сражавшиеся в японской авиации и флоте в годы войны на Тихом океане. «Камикадзе» — буквально «священный ветер». (Прим, ред.) 127
измерительным прибором с английского самолета, сбитого в Малайе. На другом измерительном приборе была марка «Пайонир компани, Бруклин, Нью-Йорк», и он мог быть привезен с любого поля боя в районе Юго-Восточной Азии.
Лицо директора школы пылало, но он упорно твердил, что не знает, как эти приборы попали в школу. Мы торжествовали и не желали слушать его заверений. Мы вытащили ящик и приказали японскому полицейскому отнести его в гостиницу. Потом мы сами отправились в гостиницу в приподнятом настроении, тщательно обдумывая происшедшее.
«Знаете что, — сказал я. — Если мы могли найти это в городе, где, очевидно, готовились к нашему приезду, то подумайте только, что мы могли найти, если бы нас не ждали. Куда бы нам поехать отсюда, так чтобы наш приезд был действительно неожиданным?»
«Великолепная идея! — воскликнул Хартли. — Поезд отсюда идет до городка Митумине. Давайте сядем в поезд, не скажем никому, куда едем, и сойдем в этом городе. И давайте возьмем с собой начальника полиции, чтобы он не мог никого предупредить».
Начальник полиции не хотел ехать с нами. Он сказал, что сильно простужен. Мы настаивали, и в конце концов он поехал. И вот мы снова в поезде, и, хотя знали, что наша поездка в Отуки не была ни для кого сюрпризом, кроме нас самих, мы были уверены в том, что наш следующий налет будет исключительно успешным. Неожиданность, говорили мы друг другу, вот залог успеха.
Мы ехали в местном поезде, состоявшем из трех вагонов — в первом поезде из виденных мною, который не был набит битком. Мы еще не сказали начальнику полиции, куда едем, и он угрюмо сидел в углу. На каждой остановке он приподнимал чрезмерно большую фуражку, закрывавшую ему глаза, и посматривал на нас. Мы делали вид, что не замечаем его.
Было почти два часа дня, когда мы, наконец, прибыли в Митумине. Мы быстро сошли на перрон и там, остолбенев, увидели выстроившихся перед нами и кланявшихся людей: высокого, тощего мужчину в накидке, двух или трех низеньких человечков в черных пиджаках и накрах-
128
Я М. Гейн
маленных воротничках, приземистого коренастого полицейского офицера с очень длинной саблей. Высокий сделал шаг вперед и сказал: «Я мэр города Митумине. Добро пожаловать в наш город». В оцепенении слушали мы, как он представлял остальных и сообщал, что нам хотят показать школу в Митумине, и в таком же оцепенении мы присоединились к длинной веренице людей, шествовавших с вокзала.
Наконец мы пришли в школу. Мне стало жарко от подъема на гору и не хотелось входить в помещение. Я уселся на ступеньки и смотрел на долину, расстилавшуюся внизу, на струящийся поток, на суету в маленькой деревушке, прилепившейся к реке, на детей, катавшихся на санях с горы. Был солнечный тихий день, и до меня доносились восторженные возгласы детей. Через некоторое время подошел мэр и пригласил меня войти. Я послушно прошел через тщательно убранные классы, пустой гимнастический зал и вошел в учительскую, где учительницы сервировали чай. В книжном шкафу я заметил книгу «О военной доблести», но ничего не сказал. Мы потерпели поражение — полное и унизительное. Единственное, чего я теперь хотел,—это выбраться отсюда и выяснить, как все это было подстроено.
Было три часа дня, а поезд уходил только через два часа. «Может быть, — предложил мэр, — мы зайдем в гостиницу в Митумине и выпьем чаю?» Нам больше ничего не оставалось делать, и мы согласились. И нас уже не удивило, когда, войдя в гостиницу, мы увидели, что там приготовлен банкет с огромным количеством блюд и целыми галлонами сакэ.
«Остается только одно, — сказал Хартли, — напиться». Он обменивался бокалами с городскими чиновниками в знак учтивости и сам предлагал тосты. Царила атмосфера глубочайшего доброжелательства и взаимопонимания. Затем молодые учительницы начали подавать кушанья, становясь на колени перед нами. Я сослался на несварение желудка и ничего не ел. В разгар банкета мэр объявил, что он хочет произнести речь.
«Я всю жизнь был поборником демократии, — сказал он. — Это маленький городок, но важен его дух, а не число жителей. Очень печально, что американская армия не посылает чаще в Митумине своих офицеров, подобных
129
капитану Хартли, чтобы помочь нам приобщиться к демократии. Мы надеемся, что в следующий раз, когда вы приедете к нам, вы заранее нас предупредите».
Хартли спросил у меня: «Что же мне сказать им, чорт побери?» Я предложил, чтобы он ответил, что наш приезд, очевидно, был не совсем неожиданным, если мэр успел натянуть полосатые брюки и устроить настоящий банкет.
«Л\ы не можем говорить с ними саркастически, — сказал Хартли с упреком. — Эти типы — наши хозяева».
Он выразил удовольствие по поводу своего визита, во время которого он убедился в больших успехах, достигнутых мэром в области демократизации. Но я не был должностным лицом и при желании мог говорить неприятные вещи. Я настойчиво расспрашивал мэра до тех пор, пока не выяснил, что по профессии он был «знатоком искусств» и что его отец был одним из самых крупных помещиков в районе.
Мы вышли из гостиницы в пять часов вечера и направились к вокзалу. Мы пожали руки всем провожающим, и мэр сказал: «Приезжайте, пожалуйста, весной. Здесь чудесная рыбная ловля. Но, пожалуйста, без неожиданностей». Он смущенно улыбнулся: «Без неожиданностей». Вместе с начальником полиции Отуки, который был совершенно пьян, мы сели в вагон. Света не было, но отцы города Митумине поставили небольшую угольную жаровню в проходе.
Я уселся рядом с начальником полиции, угостил его сигаретой и спросил, как его простуда. Он засмеялся и сказал, что сакэ излечила его. Я поинтересовался, сколько времени он занимает пост начальника полиции в Отуки. Он сказал, что был назначен в конце августа — через две недели после капитуляции Японии — и что до этого он был начальником «полиции по контролю над мыслями» в соседнем городе.
«Всех нас, — сказал он, — переместили в августе и сентябре». Я пожалел о том, что «полиция по контролю над мыслями» была распущена, потому что «теперь нет никого, кто следил бы за подрывными элементами».
«Дело обстоит не так уж плохо, — разъяснил он. — Вся работа, которой занималась «полиция по контролю над мыслями», поручена теперь чиновнику по поддержанию мира и судье каждой префектуры».
130
«Я лично, — продолжал он, — только что вернулся с совещания в главном городе префектуры, состоявшегося 28—29 декабря. Бывший начальник «полиции по контролю над мыслями», который теперь является чиновником по поддержанию мира, дал нам новые указания относительно нашей работы, в особенности на предстоящих выборах».
У меня оставался лишь один вопрос: «Откуда вы узнали, что мы захотим осмотреть школы в Отуки и откуда в Митумине узнали, что мы приедем?»
Он засмеялся. «Очень просто. В Отуки американцам нечего осматривать, кроме школ. Разве что мельницу. Но мы подумали, что вы не станете ехать из Коморо, чтобы посмотреть мельницу. Потом, когда вы решили поехать в какой-то другой город и взяли меня с собой, я просто велел своему помощнику позвонить во все города на этой железнодорожной ветке и сказать, чтобы там подготовились к вашему приезду. Здесь всего четыре города, и мы хотели, чтобы вы получили удовольствие от поездки».
Я спросил с изумлением: «Неужели вы хотите сказать, что в каждом городе на этой железнодорожной ветке нас ожидали должностные лица на вокзале и чай, и банкеты? А мы проехали мимо и даже не взглянули на них из окна?»
Начальник кивнул. Сидевший позади меня Хартли тяжело вздохнул: «Ох, моя бедная спина!».
4 января 1946 г. НА ПУТИ В ТОКИО
Я уже второй день трясусь в поезде и буду счастлив, когда мы, наконец, прибудем сегодня в Токио. Вся поездка — это смутные обрывки воспоминаний о холоде, снеге, бесконечных задержках, бутербродах с консервированным мясом, вокзалах, набитых ожидающими людьми, кратковременном сне и работе на пишущей машинке, стоящей у меня на коленях. Однажды, когда поезд проезжал в горах, деревянный вагон загорелся от искр, летевших от паровоза. Мы дернули тормоз, остановили поезд и потушили огонь снегом и хлорированной водой из фляг. Вчера вечером к нам подсел полковник. Несколько часов спустя на остановке вошел проводник и сказал, что уголь настолько плох, что мы вряд ли сможем одолеть предстоящий нам крутой подъем. Он полагал, что если мы подождем 9*
131
до рассвета, то сможем получить второй паровоз. Полковник взглянул на пассажирский поезд, подходивший к станции с другой стороны.
«Куда идет этот поезд?»
Проводник ответил, что он следует в Акиту.
«Отцепите паровоз от этого поезда и прицепите к нашему, — сказал полковник. — Я еду в Токио по важному делу и не могу опаздывать».
Паровоз был отцеплен. Мы благополучно преодолели подъем, но, когда выяснилось, что мы все-таки опоздаем к промежуточному поезду, полковник послал вперед распоряжение, чтобы этот поезд задержали. Мы опоздали на три часа, и поезд дожидался нас.
В Ниигате Джордж вышел, чтобы купить японские газеты. В них был опубликован текст указа, изданного императором в первый день Нового года, и заявление генерала Макартура по этому поводу. С изумлением слушал я перевод этих двух документов.
Словно ничего не произошло в Японии, император Хирохито начинал свое послание с длинной цитаты из «Клятвы» императора Мэйдзи, которую он характеризовал как «основу национальной политики». Пять пунктов «Клятвы», обнародованной 80 лет назад, на словах предусматривают подлинно демократический режим, опирающийся на общественное мнение и активное участие «всех классов — высоких и низких... в делах государства». Как это знает каждый в штабе генерала Макартура, император Мэйдзи стал оплотом и символом воинственного национализма в Японии, и каковы бы ни были формулировки некоторых его торжественных заявлений, за все время его 45-летнего царствования никогда не существовало народного правительства и не было намерения его создать. При императоре Мэйдзи Япония воевала с Китаем и Россией, захватила Формозу, нарушила границы Кореи, аннексировала ее и установила «особые права» в Маньчжурии. Именно указы императора Мэйдзи устанавливали для современной Японии жесткие рамки феодальной системы. И вот Хирохито, император страны, которую мы собирались демократизировать, ищет в XIX веке руководящих указаний для демократической Японии.
«Чрезмерно радикальные тенденции, — говорилось в указе Хирохито, — постепенно распространяются, и 132
моральные устои народа ослабевают, в результате чего появляются признаки смятения мыслей. Мы всегда с народом и всегда желаем делить с ним радости и горе. Узы между Нами и Нашим народом... не обусловливаются ложной концепцией, что император божественен и что японский народ превыше других рас и призван править миром».
Генерал Макартур опубликовал следующее заявление по поводу этого указа: «Новогоднее послание императора весьма радует меня. Он берет на себя руководящую роль в демократизации своего народа. Он твердо избирает на будущее позицию либерализма...»
Я вернулся в Клуб журналистов и застал всех за пишущими машинками. Только что опубликована директива о чистке, которая вызвала внутреннюю борьбу в штабе. Хотя в ней имеются крупные пробелы, она произвела на меня большое впечатление. Она устраняет верхний слой японских националистов — военных, бюрократов, принадлежащих к «Ассоциации помощи трону», людей, которые создавали, возглавляли или финансировали террористические или тайные общества, должностных лиц фирм, которые грабили и эксплоатировали оккупированную Азию, агентов разведки и подлинных хозяев, дергающих за веревочку японских марионеток в Азии. Директива предписывает, чтобы в дальнейшем все должностные лица заполняли анкеты, в которых писали бы о своей деятельности и связях, начиная с 1931 г.
В числе организаций, подлежащих роспуску, находится Лига Восточной Азии моего друга генерала Исихара.
Но теперь, после того как я отдохнул от Токио с его атмосферой интриг, возбуждения и власти и побывал в провинции, где наши мероприятия подвергаются подлинному испытанию, я стал умнее. Директива предусматривает, что проведение перечисленных в ней мер будет делом японской правительственной машины. Согласятся ли люди, которых я видел -1- губернаторы, начальники полиции, политические боссы, — уйти с политической арены и уничтожить всю эту порочную феодальную систему в стране только потому, что в Токио существует на бумаге подобная директива? Агенты «полиции по контролю над мыслями» были смещены ровно
133
три месяца назад согласно директиве, ничем не отличавшейся от сегодняшней. И все же они уцелели после бури, сменив только вывеску. Захочет ли вчерашний начальник «полиции по контролю над мыслями», который сегодня является «офицером по поддержанию мира», оставить свой пост завтра или он просто переменит должность? Японские газеты предсказывают, что большинство членов кабинета останется на своем посту после чистки. И действительно, решать вопрос о том, кого принести в жертву, будут премьер Сидехара и одиозный политический деятель Ватару Нарахаси. Пожертвуют ли они министром иностранных дел Сигеру Иосида, который помогал разрабатывать пресловутый план завоевания Китая, известный как «меморандум Танака», или же министром здравоохранения Хитоси Асида, чья газета «Джапан тайме» призывала к агрессии? Мы все сомневались в этом.
Эта директива может стать разящим мечом. Но мы ослабляем силу наносимого удара, позволяя самим японцам решать, на кого он должен обрушиться и кого должен пощадить. Никто не виноват в этом персонально; в этом виновата проводимая нами политика, согласно которой осуществление демократизации было поручено недемократическому правительству.
6 января 1946 г. ТОКИО
Сегодня узнал, что первый проект указа императора, в котором он отрицал свою божественность, был в действительности состряпан в отделе генерала Дайка. У меня нет никаких возражений против того, чтобы вкладывать наши слова в уста императора. Но меня забавляет и удивляет то, что, как только он произнес эти слова, мы немедленно опубликовали заявление, восхваляющее его «либерализм» и «демократический дух».
22 января 1946 г. ТОКИО
Завтракал с четырьмя сотрудниками редакции армейской газеты «Старс энд страйпс». Узнал много поучительного из их рассказов о военной цензуре. Купюры, произ134
водимые цензурой, дают представление о том, что, мнению военного командования, американские воен служащие не должны знать о Японии.
Цензоры не пропускают сообщений о том, какую роль в развязывании войны сыграли император, члены кабинета, государственные чиновники и газета «Ниппон тайме» — официальный и изворотливый орган министер-- ства иностранных дет. Вот характерные факты, не пропущенные цензурой: премьер Сидехара входил в националистский совет; член его кабинета в свое время был членом тоталитаристской партии; выходящая на английском языке «Ниппон тайме» рекламирует себя как «необходимую для понимания идеи Великой империи».
Информация, показывающая, что «демократизация» системы просвещения в Японии находится сейчас в руках пропагандистов военного времени, запрещается. Особенно старательно цензоры вычеркивают упоминания об авторе книги «Основы воспитания подданных императора»; о друге Тодзио, который написал «Инструкцию о поведении на поле боя»; о профессоре, который был награжден Муссолини и который позднее принимав в Японии делегацию фашистских деятелей просвещения.
И, наконец, цензура не пропускает никакой критики по адресу некоего Тойохико Кагава, который известен как христианский общественный деятель.
В настоящее время Кагава является крупной звездой в токийском политическом созвездии. Известно, что в прошлом месяце многие видные офицеры в штабе считали его наиболее подходящим кандидатом на пост премьер- министра. Однако продвижение Кагава сразу же прекратилось после опубликования газетой «Старс энд страйпс» описания его деятельности во время войны.
Для меня — так же как, наверное, для миллионов других американцев — Кагава до недавнего времени был образцом альтруизма. Он родился 58 лет назад в состоятельной семье, получил образование в Принстонском университете и мог избрать какую-нибудь выгодную карьеру. Вместо этого он пошел в трущобы и стал известным общественным деятелем. Когда он приезжал в Соединенные Штаты читать лекции, огромные толпы собирались чествовать его.
135
Впервые я видел Кагава сегодня утром во время двухчасового интервью. Он поразил меня прежде всего своей хитростью. Внешне он мало импозантен — невысокий, похожий на птицу старик в неопрятной одежде. Но у него острый ум, и он хитро и ловко уклонялся от моих вопросов о его недавних делах.
Кагава сказал, что выступает за контроль над богатством, за перераспределение земли и уничтожение феодализма. Но хотя Кагава против феодализма, он за императора. «Император нам нужен, — сказал он веско. —- В последние годы было убито пять премьеров. Партии продолжают ссориться друг с другом. Нам нужен арбитр. Хирохито — это человек с трагической судьбой. Я сочувствую ему. За войну несет ответственность народ и парламент, но не он».
Слово «мир» Кагава использовал как щит. Он сказал, что в 1940 г. три недели сидел в тюрьме «за участие в движении в защиту мира». Он рассказал, что посетил Соединенные Штаты в 1941 г. и по возвращении заявил в парламенте, что президент Рузвельт—миролюбивый человек.
Кагава признал, что он выступал против Соединенных Штатов в 1945 г. «Я делал это сознательно,—сказал он,— потому что американские радиостанции заявляли, что после поражения Японии я займу пост премьер-министра, и этим они подрывали мое влияние как христианина».
Он тепло отзывался о генерале Макартуре. «Генерал Макартур проделал замечательную работу. Даже консерваторы теперь хвалят его намерения».
Я спросил Кагава об источниках его дохода. «Я встаю в 3 часа ночи и сажусь писать беллетристику, — сказал он. — В настоящее время я печатаю выпусками три произведения в газетах и журналах. Все они написаны на тему о христианстве. Я работаю также консультантом по хри- стографин в электрической компании, которая принадлежит одному из священников моей церкви». Он показал мне, как пишется слово «христография». «Это наука о кристаллах. Математическая христография — это мой конек».
Однако портрет этого человека все еще неполон. Кое-что из сказанного им не согласовывалось с другими данными. О многом он умолчал. Был ли он, подобно 136
многим другим либералам, одержим националистической истерией? Стал ли нажим столь сильным, что он не мог устоять? Настолько ли он стремился сохранить свой престиж христианского вождя, что был готов принести в жертву некоторые христианские принципы?
Если мотивы его действий остались невыясненными, то все остальные факты были ясны.
По возвращении из Соединенных Штатов Кагава выступил в комиссии парламента по иностранным делам 4 октября 1941 г. Эта речь была изъята из протоколов парламента. Однако было отмечено, что он говорил о «разногласиях среди общественного мнения в Соединенных Штатах». Речь была перепечатана в одном журнале. В ней не упоминалось о президенте Рузвельте как о миролюбивом человеке, как ранее утверждал Кагава. Ее вдохновляющей темой была сила американского изоляционизма, начиная с неких организаций «Авангард» и «Клуб медных шлемов» (которые, по словам Кагава, объединяют 90 процентов из 2900 пилотов торговой авиации Америки) и кончая Чарлзом Линдбергом, Бартоном Уилером и Гербертом Гувером.
Это было начало карьеры пропагандиста. В 1942 г., выступая по радио в передаче, перехваченной нашими станциями радиопрослушивания,’ Кагава заявил: «Сегодня Америка представляется мне мрачной могилой. Я не могу поверить, что всемогущий бог допустит, чтобы .ее непомерная жажда мирового господства была удовлетворена... Да будет проклята Америка за то, что она позорит имя Христа этой бойней».
В 1944 г. токийское радио передало следующий отрывок из проповеди Кагава: «Вавилон пал... Рим пал, и Америка также должна обратиться в руины из-за своего своекорыстия... Американские деятели играют костями убитых японских офицеров и солдат. Президент Рузвельт хвастается разрезальным ножом, сделанным из костей погибшего японского солдата...»
Кагава поддерживал войну и другими способами. Согласно письменным показаниям других японцев-христи-. ан, он ездил в Китай, чтобы постараться прекратить сопротивление китайцев. Он написал военный гимн. Вместе с одним известным аферистом и агентом армии (который сейчас находится в тюрьме Сугамо) он был советником 137
премьер-министра Хигасикуни й вместе с этим аферистом организовал «митинг в защиту мира».
Но наиболее интересным из всех материалов, собранных мною о Кагава, было заявление, подписанное под присягой неким Кан Мадзима:
«Я был связан с д-ром Кагава на протяжении 25 лет, — заявил Л^адзима. — Я разочаровался в нем только перед самой войной. Я сказал ему, что милитаристы подготавливают войну с Америкой. К моему великому удивлению, Кагава ответил: «Если война начнется, я поддержу ее». Тогда я начал спорить с ним по этому поводу, и он назвал меня трусом. Примерно через год после начала войны Кагава заявил мне, что Япония очень сильна и стоит на пути к победе и что мы должны сделать все возможное, чтобы помочь ей выиграть войну. После этого мы разошлись, и я не видел его до апреля 1945 г. Моя больница была сожжена дотла, и я сказал Кагаве: «Япония проиг- рала войну, и мы, как общественные деятели, должны объяснить народу,, что войне надо положить конец. Я сказал ему, что он — известный вождь — должен и может выступить против войны. Завязался ожесточенный спор, и Кагава заявил, что, если понадобится, мы должны будем продолжать воевать, даже если нам придется воевать бамбуковыми палками».
Это показание было подписано под присягой в присутствии американских свидетелей, и Мадзима был сфотографирован в момент подписания. Были сфотографированы и другие люди, подписавшие столь же компрометирующие показания.
Повидимому, сведения о Кагаве имелись в распоряжении полковников, которые хотели сделать его премьер- министром. Что же заставляло их игнорировать эти факты? И какая причина побуждала военных цензоров запрещать знакомить американских солдат с историей деятельности Кагавы?
24 января 1946 г. ТОКИО
Сегодня закончил составление плана пятидневной поездки в префектуру Нагано на будущей неделе. Я присоединюсь там к группе организаторов Крестьянского 138
союза и вместе с ними буду ходить по деревням. Поездка организуется журналистом Оно, широкоплечим молодым человеком с выразительным лицом и непокорной шевелюрой. Одно время Оно был редактором видного литературного журнала, вся редакция которого была арестована во время войны за опубликование «подрывной» статьи. Он просидел два года в тюрьме. Мы собираемся поехать в город Нагано, который находится в 130 милях к северо-западу отсюда, захватить там известного публициста Хирокици Хаяси и затем пойти пешком с профсоюзными организаторами. Префектура Нагано славится шелком и яблоками, ее крестьяне известны как прогрессивные, и поездка должна быть увлекательной.
27 января 1946 г. ТОКИО
Мы целой группой пошли в парк Хибия посмотреть на массовый митинг в честь Сандзо Носака — коммуниста, который только что вернулся из Красного Китая.
Парк представляет собой голую площадку, окруженную деревьями. По случаю митинга здесь была воздвигнута трибуна, украшенная красными и белыми флагами, и на нее торжественно поднялись члены комитета, созданного для чествования Носака.
Пока что я не могу найти исчерпывающего объяснения популярности Носака среди не-коммунистов. Возможно, что его слава подпольного борца докатилась до Японии в военное время... Каково бы ни было объяснение, этот митинг не был партийным, и правые сидели рядом с коммунистами.
Первое, что мы увидели, это колонну примерно пятисот транспортных рабочих с плакатами, которая строем входила в парк, выкрикивая: «Вассо, вассо, вассо» \ Старики и молодые шли в ногу, и все это — сочетание красок, ритма и мелодий — напоминало хорошо поставленный фильм. Потом начали приходить более мелкие группы;
1 Ритмичные восклицания, которыми японцы сопровождают коллективные действия. Произносятся в такт работе, ходьбе, бегу и т. п. (Прим, ред.)
139
некоторые пз них шли с песнями, некоторые поспешно подходили молча.
Мы поместились за трибуной и останавливали всех, кто казался нам интересным. Вот, например, женский организатор — пышущая здоровьем девушка с блестящими глазами и веселым смехом. Она окончила сверхпривилегированную школу для детей пэров, была арестована в январе 1945 г. за организацию женского кружка по изучению текущей политики и была освобождена в день капитуляции Японии. «Мой отец, — сказала она весело, — политический деятель. Это означает, что у него нет никаких политических идеалов. Но я думаю, что я его еще переделаю».
Несколько поодаль от толпы я увидел пожилую пару, сидевшую на скамье. Мужчина был невысок ростом и небрит. Лицо женщины, крупное и простое, казалось почти красивым, таким внутренним довольством оно светилось. Они охотно разговорились, или вернее говорила женщина, а мужчина поддакивал. Женщина сказала, что ее муж портной, что оба они не-коммунисты и пришли на митинг, потому что «любят демократию». Она потянула меня за рукав, сказав: «Пойдемте со мной», привела меня к краю трибуны, где было прикреплено несколько флагов, и указала на шелковый флаг с желтой бахромой. «Пощупайте его, — сказала она, — это настоящий шелк. Мы сделали этот флаг вместе с мужем. Во имя демократии».
Носака был худощавый спокойный человек с профессорскими манерами. Он говорил просто, без всяких ораторских ухищрений. «Шестнадцать лет, — сказал он, — прошло с тех пор, как я покинул Японию, но ни на минуту я не забывал свою страну и не переставал бороться за счастье человечества. Еще до отъезда из Китая я узнал, что Япония разрушена и. что никто не думает о ее восстановлении. Теперь я вижу, что самое существование народа в опасности. У людей нет жилищ и нет работы. Большая часть народа голодает, в то время как кое-кто припрятывает огромные богатства. Возвращающимся солдатам приходится туго. Дзайбацу и военные преступники попрежнему находятся у власти. До демократии еще далеко, хотя народ тянется к ней».
140
Он заявил, что правительство должно быть заменено коалиционным кабинетом, который обеспечит народу про* довольствие, работу и жилища, выявит военных преступников, даст землю издольщикам, возродит промышленность и поможет вернувшимся солдатам.
«Во время войны, — сказал Носака, — нас называли предателями и пораженцами. Но теперь мы спрашиваем: кто же в действительности предатели Японии? Посмотрите на опустошения вокруг нас. Посмотрите на унылые лица. Не коммунисты вызвали все это, а император, милитаристы, политиканы. И никто не может сказать, что мы, коммунисты, не умирали за свою страну. После одного только «маньчжурского инцидента» сотни коммунистов были убиты японской полицией. Те из нас, кто остался в живых, помогут теперь возродить страну».
По окончании митинга народ устремился из парка по главному бульвару, который отделен одним кварталом от штаба генерала Макартура. Собравшихся на митинг было 3 тысячи, и они выходили рядами по 30 человек, мужчины и женщины, главным образом молодежь. Они шли и пели, взявшись за руки. Время от времени колонна убыстряла шаг в такт боевого клича «Вассо, вассо, вассо». Когда демонстранты достигли перекрестка центральных улиц, они свернули к парламенту и снова двинулись плотной массой, распевая, выкрикивая лозунги, размахивая плакатами и вбирая в свои ряды тех прохожих, которые решали присоединиться.
Я перешел улицу и направился к зданию, где помещается начальник американской военной полиции района Токио. Полковник наблюдал за шествием с крыльца. Лицо его носило следы напряженной мысли. «Чорт их побери, — сказал он, — это самое внушительное зрелище, которое я видел в этой стране».
3 февраля 1946 г. И Я М А, ПРЕФЕКТУРА НАГАНО
Я уже третий день в пути. Мне начинает казаться, что знакомый мне мир — мир тепла и комфорта, коктейлей, асфальтированных улиц и автомашин, американских директив и японских интриг— исчез. Представший передо мной мир совершенно необычен—это мир простого человека, Ш
наполненный надеждами и ненавистью, накопившимися за много поколений; крестьянский мир, в котором земля и урожай — это начало и конец всего; примитивный мир деревень, погребенных под снегом, бушующих стихий, едва пробудившихся социальных сил. Уже три дня я хожу пешком из деревушки в деревушку, названий которых я не могу запомнить, встречаюсь с людьми, лица которых стираются из памяти, и слушаю шестнадцать часов в день трагическую и в то же время исполненную надежд историю крестьянской Японии.
Три дня назад мы с редактором Оно сошли на железнодорожной станции Нагано, где нас встретил писатель Хаяси, хорошо знающий японскую деревню. Немного времени спустя мы сидели в пригородном поезде, полном дружелюбных людей. Я разговаривал с Хаяси, и к нам присоединялись другие люди, пока не образовалось нечто вроде передвижной деревенской сходки. Некоторые из людей спрашивали меня о моих делах, а потом рассказывали о своих. Мы говорили об урожае, о большом снегопаде, о деньгах, утративших свою ценность, о нехватке удобрений, об инвентаре, башмаках и кухонной утвари.
Вот возле меня стоит маленький жилистый человечек — бывший военнослужащий. У него с собой несколько самурайских мечей, завернутых в шелк. Когда я напоминаю ему о том, что все мечи должны быть сданы японской полиции, он восклицает: «Какое мне дело до этих приказов? Только дураки отдают свое оружие. Эти мечи слишком хороши, чтобы их отдавать».
Мы остановились у местного дельца по фамилии Хираи. Это редкий для Японии человек — промышленник, которого издольщики считают своим другом. Хираи владеет землей и заводом, вырабатывающим пихтовое масло. В то же время он организовал в Ияме союзы потребителей и издольщиков. В начале тридцатых годов он просидел два года в тюрьме именно за эту деятельность.
Теперь Хираи и энергичный профсоюзный организатор, небольшого роста человек по фамилии Васими, который прошел сотню миль, чтобы присоединиться к нам, стали нашими гидами. Первое собрание, на котором' я присутствовал, происходило в лачуге издольщика, которая представляла собой не то дом, не то хлев и в которой 142
помещалась породистая корова. Входившие приветствовали остальных от порога, преклонив колени, а затем подсаживались к плотному, все более расширявшемуся кружку вокруг «хибаци». Мы позавтракали холодной лапшой, политой холодной соевой подливкой, и холодным «дзягаимо» (ирландский картофель), отваренным с редиской. Я внес свой вклад — пару банок консервированной колбасы. Каждый получил по ломтику, и все были довольны.
Многое из того, что говорилось на первом собрании — по поводу демократии и директив генерала Макартура, — очевидно, говорилось чтобы доставить мне удовольствие. Но, если не считать этих отвлеченных тем, разговор шел главным образом о надеждах, заботах и жалобах крестьянина. В этой деревне 200 издольщиков состоят членами союза, начинают гордиться -этим и ощущать растущую силу союза как политического орудия.
Не все присутствовавшие на этом первом собрании были издольщиками. Пришел также руководитель местной организации помещиков, который энергично отстаивал свою точку зрения. Был там и школьный учитель, уволенный много лет назад за попытку создать крестьянский союз и теперь ставший сам издольщиком. Пришли директор школы и юноша, который сказал, что он «банкрот и сын банкрота». Но большинство из собравшихся были настоящие издольщики с потемневшей от солнца и ветра кожей, одетые в потрепанную военную форму цвета хаки или в рваные кимоно и говорившие с запинкой, но серьезно о тревожащих их делах.
У всех этих людей был определенный образ мыслей — образ мыслей, который непонятен американцам, решавшим судьбы Японии там, в Токио. Очень немногие из этих крестьян представляли себе точно, какого рода земельную реформу хотят провести американцы, а то, что они знали, пугало их. «Это значит лишь, — говорили они, — что мы получим возможность купить землю, заплатить за которую у нас нет денег». В то время как мы пытались поднять авторитет японского правительства, эти люди говорили о нем возмущенно и насмешливо. «Правительство, — говорили они,— всегда в союзе с помещиками. Мы хотим не новых японских законов о земле, а приказа генерала Макар- тура. Этому помещики подчинятся». Но, хотя они возмущались, не было никаких признаков надвигающейся
143
революции. Время от времени крестьяне говорили мне, что, по их мнению, даже перераспределение земли слишком радикальная мера. Издольщик знал, что его угнетают и считал, что его союз может помочь ему. Дальше этого он еще не шел.
Единственное, чего жаждали все издольщики, это гарантии от выселения. Они вновь и вновь возвращались к этой теме, рассказывая о несправедливостях помещиков, а иногда и об ответных мерах. Один помещик выбросил своего арендатора, после того как тот восемнадцать лет проработал на него исполу. Другой помещик пытался выселить своего арендатора, но отказался от этого намерения, после того как все в деревне, кроме его собственной семьи, перестали с ним разговаривать. В одной деревне из 700 крестьян только у четырех было больше 13 акров земли на каждого. Когда один из помещиков попытался выселить арендатора, вся деревня заявила, что ему придется применить силу, если он посмеет. Он отказался от своего намерения. Но помещик всегда действовал в союзе с полицией и сборщиком риса. Когда издольщики проявляли непокорность, размеры поставок риса, которые они должны были сдавать государству, увеличивались. «В моей деревне, — сказал один крестьянин, — выселенная семья чуть не покончила самоубийством. Этому помешало только известие о том, что из Маньчжурии возвращается сын». Другой сказал: «В моей деревне арендатор бросился с моста, потому что его преследовали сборщики риса».
Эти крестьяне обрабатывают в среднем по два акра земли каждый, и в один, голос они говорили, что семья не может существовать на меньшем клочке. Однако они признавали, что земли в Японии нехватает, считая это таким же естественным, как наводнение и засуха, с которыми ничего нельзя поделать. Они жаловались на непомерную ренту, которая достигает половины урожая и более. «Сократите ренту до четверти урожая, — предлагали они. — Защитите нас от выселения, тогда мы будем предпочитать издольщину любым хитроумным правительственным реформам».
Это была картина нищеты и тяжкого труда, истощенной земли и порочной системы землевладения. Единственным выходом была земельная реформа, над которой сейчас работают американцы. Но ее придется ограждать от 144
махинаций японского правительства как до, так и после внесения ее в свод законов. И кто-нибудь помимо правительства должен популяризировать новый закон, пока он не дойдет до каждого издольщика.
Вечером после первого собрания мы шли проселочной дорогой, и мне захотелось поговорить со свежим человеком. Когда мы вошли в одну деревушку, я свернул с дороги и вошел в первую ке избу. Внутри было темно, холодно и грязно. Крестьянин с женой плели веревку с помощью примитивных орудий. За спиной женщины был привязан ребенок. Она ни разу не повернулась в нашу сторону.
Крестьянин, беседуя, продолжал стоять на коленях.
Да, сказал он, он состоит в Крестьянском союзе. Нет, сказал он, он никогда не слышал о перераспределении земли. Да, он хотел бы купить два акра земли, которые он сейчас арендует но при нынешних ценах ему пришлось бы работать всю жизнь и он никогда бы не заработал достаточно денег, чтобы заплатить за землю. Когда мы спросили его, как он принимает решения по различным общественным вопросам, он просто ответил:
«Мой сосед очень умный человек. Он дает мне советы».
Вечером мы беседовали между собой в уютной гостиной Хираи. Мы сидели на подушках вокруг низкого столика, пили чай и толковали о многом — от кулинарных рецептов до ростовщичества.
Наш хозяин Хираи говорил низким спокойным голосом. Он подтвердил некоторые из моих выводов. «Люди, — сказал он, — утратили доверие к властям предержащим. Они считают, что почти ничего не изменилось в образе правления и еще меньше в самих людях. До настоящего времени большинство народа не знает, что происходит. Возьмите крестьянина, с которым вы говорили сегодня. Я бы сказал, что 80 процентов издольщиков все еще не знают о директивах генерала Макартура, в том числе о земельной реформе и о роспуске «полиции по контролю над мыслями».
Хаяси поддержал его: «Народ еще слишком запуган». Хаяси интересовал меня не меньше, чем издольщики. У него было одухотворенное лицо мыслителя и манеры придворного. Я слышал, как он говорил с крестьянами об удобрениях, но однажды вечером он рассказал мне о
Щ М. Гейн ' 145
своем большом увлечении Максимом Горьким и мог назвать все произведения Горького. Сам Хаяси написал три книги о проблемах японской деревни, и одна из них была запрещена «полицией по контролю над мыслями» еще до выхода в свет. Кто-то говорил мне, что Хаяси сидел в тюрьме, как радикал, а еще кто-то рассказывал, что он бежал в Шанхай и прожил там год, спасаясь от ареста» Во всяком случае, он имеет много сторонников среди издольщиков, и примерно неделю назад два видных американских эксперта по Японии специально приезжали к Хаяси из Токио, чтобы поконсультироваться с ним по поводу умонастроений в японской провинции.
4 февраля 1946 г. Ю ДАН А К А, ПРЕФЕКТУРА НАГАНО
Мы все устали. Было решено, что в этот четвертый день нашего путешествия мы поедем в Юданаку, одно из наиболее известных в Японии мест для занятия зимним спортом. Было еще темно, когда я вылез из спального мешка и разбудил своего переводчика. Мы умылись в открытом коридоре, откуда могли видеть, как падает снег. Из кухни доносились пение детей и женские голоса, стук горшков и сковород; там царила удивительно приятная атмосфера домашнего уюта.
Накануне вечером я дал г-же Хираи для завтрака кое- какие продукты из пайка — какао, сгущенное молоко, консервированную ветчину и яичный порошок. Но когда подали завтрак, оказалось, что Хираи не признают этих продуктов. Они угостйли нас омлетом из свежих яиц, фасолевым супом с яйцами, вареным рисом и сушеными финиками.
После завтрака явились все мои спутники. Проведя с ними три дня, я узнал отличительные черты каждого из них. Трудно было найти более непохожих людей: Оно — типичный токийский журналист; Хаяси — рафинированный интеллигент; Васими — крестьянин; Хираи — делец. И все же всех их объединяла общность опыта и убеждений. Все они сидели в тюрьме за борьбу против феодальных идей и институтов. Всех их вдохновляли идеи демократии.
Это было чистое и светлое горение, какое мне редко приходилось наблюдать в Токио. Я вспомнил фразу,
146
сказанную одним сотрудником государственного департамента: «Самые лучшие люди в Японии — это бывшие заключенные». Ибо всех, кто был хоть сколько-нибудь склонен к прогрессивным идеям, «полиция по контролю над мыслями» неизменно вылавливала и запрятывала в тюрьму.
Это в такой же мере относилось к Оно, как и к молодому учителю, который только-что просил у меня автограф. Он сидел в тюрьме во время войны за то, что считал, что Японии лучше было не начинать войну. Теперь он организовал группу молодежи, которая помогает Крестьянскому союзу и устраивает дискуссии на такие темы, как значение реформ.
Он стоял, наклонившись надо мной, и ждал, пока я напишу что-нибудь значительное в его маленькой записной книжечке, а я не мог подобрать ярких и веских слов, чтобы выразить мое глубокое убеждение, что такие как он — соль земли. Наконец, я написал: «Демократия не лупне людей, которые ее создают. Демократия будет действительно чудодейственна, если будет больше таких людей, как вы».
Когда мы направились на вокзал, валил густой снег, и на этот раз мне пришлось нести кое-что из вещей моего переводчика, который пожаловался на приступ астмы. В общей сложности пишущая машинка, рюкзак и ящик с продовольствием весили, наверно, килограммов тридцать, что затрудняло передвижение. Мы шли час до иям- ского вокзала, а потом еще час ехали в переполненном пригородном поезде до Юданаки.
Юданака — это один из курортов с горячими источниками, которых немало у подножья Японских Альп. Он славится также прекрасными местами для прогулок на лыжах. Маленький городок, в котором чуть ли не в каждом доме помещаются лечебные ванны или гостиница, был полон японских лыжников и туристов. Земля была покрыта трехфутовым слоем снега, но по открытым желобам текла горячая вода, от которой поднимался пар. Город имел карнавальный вид. Машины, которая должна была приехать за нами, не было, и мы снова отправились в путь пешком.
Над нами по склону горы тянулись виллы богачей. Внизу с крутого обрыва мчался широкий поток. Мы проходили мимо маленьких крестьянских домиков. Часто
ю*
147
около них были небольшие Пруды, в которых йЛавалй огромные карпы и золотые рыбки длиной в целый фут. Мы шли через деревни, где из обыкновенных колонок струилась горячая вода и рядом женщины стирали одежду и мыли посуду. В каждой деревне были свои общественные ванны, и мы видели мужчин и женщин, сидящих по пояс в горячей воде. Мы перешли через реку и снова поднялись в гору. У многих началось сердцебиение, но никто не хотел останавливаться.
Под вечер, поднявшись на последний, почти отвесный склон, мы достигли небольшой рощи вечнозеленых деревьев. В глубине ее находилась японская гостиница, состоявшая из нескольких маленьких двухэтажных домиков. Нам отвели домик, в котором прошлым летом останавливалась принцесса из императорской семьи.
Меня поместили в апартаментах принцессы на втором этаже. Комнаты были окружены застекленной верандой, с которой я мог видеть расстилавшуюся внизу долину, горный хребет над ней и далеко-далеко на горизонте Японские Альпы со снежными склонами, сверкающими на солнце, и верхушками, теряющимися в облаках. И я решил, что когда Сэлли приедет в Японию, я привезу ее сюда, чтобы она полюбовалась этим видом.
Горничные принесли древесный уголь и ватное стеганое одеяло для «котацу» и сообщили мне, что небольшой бассейн для купанья внизу свободен. Бассейн был размером примерно в восемь квадратных футов, и с одного конца, где на поверхности вздувались пузырьки, вода поступала из горячего источника. Все это было чудесно, если не считать того, что вода была слишком горяча, а все окна выбиты, так что я оказался на открытом воздухе. Это была самая странная ванна, которую я когда-либо принимал, но когда я окунулся в отчаянно горячую воду, я сразу согрелся и освободился от грязи.
Я накинул на себя теплое кимоно и теплую полушинель поверх и засунул ноги под ватное одеяло около «котацу». Постепенно стали собираться мои спутники и местные профсоюзные организаторы. Все они приняли горячую ванну и теперь излучали тепло и хорошее настроение. Один за другим они засовывали ноги под одеяло, пока возле печурки не осталось ни одного дюйма свободного пространства. Мы говорили о крестьянских делах, и они вновь повторя14»
ли все тот же припев, который теперь уже был мне знаком — гарантия от выселения, снижение ренты.
В разгар беседы горничные начали вносить еду. Оказалось, что один из местных издольщиков дал рису на всех пятнадцать человек. Я внес свой пай: свиную тушонку, фасоль и какао. Мы были голодны, пища на сей раз была горячая, и мы кушали шумно и много. Мы хвалили крестьянина за качество риса, а он самодовольно улыбался и объяснял, что это был рис, который он не сдал государству.
«Мы оставляем хороший рис себе, — сказал он, — а тот, что похуже, сдаем сборщикам риса».
Все засмеялись над этим, как над удачной шуткой, и начали наперебой рассказывать, как им удается обойти правительство. Это были характерные рассказы азиатских издольщиков, которые ведут извечную войну с помещиками и правительством. В некоторых историях говорилось о хитрости, в некоторых — о насилии. Но я думал не о содеянном этими людьми, а о том, что это реакция на многие десятилетия ростовщичества и угнетения.
«Об этом доме, — сказал хозяин, — тоже рассказывают интересную историю. Как вы знаете, принцесса из императорской семьи останавливалась здесь прошлым летом со своей свитой. Крестьяне лезли из кожи вон, чтобы сделать пребывание у них приятным для нее. Мы забивали скот и резали кур. Хотя нам самим нехватало продовольствия, мы отдавали приехавшим лучший рис, овощи и фрукты. Принцесса пробыла здесь две недели и отправилась дальше. Перед отъездом она пожаловала деревне императорский кошелек в знак признательности за все, что мы сделали для нее. Мы назначили день для специальной церемонии открытия кошелька. Пока же мы все строили догадки о том, сколько она нам оставила. Одни предполагали, что 500 иен, другие, что тысячу. Третьи говорили, что императорская семья владеет тысячами и тысячами акров земли в одной только нашей префектуре и что в кошельке должно быть по меньшей мере 5 тысяч иен. И вот наступил день церемонии. Деревенский старшина поклонился кошельку, открыл его и вынул деньги. Там было 25 иен».
После еды мы все заснули. У меня страшно болела голова от угольного чада. Но когда горничная принесла свежих углей и разбудила меня, я почувствовал себя
149
отдохнувшим. Снова начали приходить люди, и завязалась беседа. Мы просидели так целый день и весь вечер. Время от времени мы вставали и прогуливались по веранде, любуясь долиной, залитой лунным светом. Но после короткой передышки мы снова собирались и начинали обсуждать какой-нибудь новый вопрос.
Завязалась горячая дискуссия по поводу того, как каждый из них хотел бы поступить с императором. «Пусть уйдет! — сказал Васими. — Вот что я хочу, чтобы он сделал». «Пусть уйдет! — сказал другой профсоюзный организатор-социалист. — В Японии две власти — император и народ. Когда мы уменьшаем власть императора, мы увеличиваем свою власть». Но не все они придерживались одинакового мнения. Мой гид Оно выразил мнение нескольких присутствовавших, сказав, что каждый шаг императора, в том числе обе его декларации — о войне и о капитуляции,— был сделан под нажимом.
Как только он сказал это, два или три издольщика набросились на него. «Зачем нам нужна пешка? — говорили они. — Когда император считался богом, мы могли верить в него, а теперь мы знаем, что он человек и притом не слишком хороший. Действовал он по принуждению или нет, он должен нести ответственность за войну. Пусть уходит!»
После обеда Васими рассказал нам историю своей жизни. Он родился в этой префектуре сорок лет назад в семье издольщика. В возрасте 19 лет он стал активным организатором крестьянских союзов, а в 23 года был арестован. Шесть лет он просидел в тюрьме. Когда он находился в тюрьме, его жену арестовали за организацию работниц шелкомотальни и продержали в тюрьме год. После освобождения Васими снова занялся сельским хозяйством, но тайком продолжал вести профсоюзную работу. Потом полиция запретила ему выходить за пределы своего участка, подвергнув его своего рода домашнему аресту.
«В 1937 г., — сказал Васими, — все общественные организации в Японии были загнаны полицией в подполье. И я, и все мои друзья заявили, что мы стали националистами. Мы собирались у мана в доме и продолжали прежнюю работу. Когда на нащих ербрациях присутствовал полицейский агент, мы говрр^ли q «миссии Яаоиит и об
1ЭД
императоре. Но полиция продолжала подозревать нас. В 1941 г. перед войной всех нас забрали и приговорили к шести месяцам тюремного заключения.
Когда, наконец, нас выпустили, полицейский в нашей деревне сказал мне, чтобы я вел себя смирно. «Если не выполнишь это условие, — пригрозил он, — тебя снова заберут». Итак, полиция следила за мной, и я вынужден был оставаться на своем участке.
Однако 15 августа прошлого года, когда я услышал по радио заявление императора о капитуляции, я стал сам не свой. Я плакал и смеялся от радости. Я побежал на вокзал, простоял целый день в очереди за железнодорожным билетом и поехал на поезде через всю Японию. Ведь я находился под арестом 15 лет. Ибо все равно, был ли я в тюрьме или на свободе, полиция никогда не выпускала меня из виду. Мне хотелось посмотреть на свою страну и почувствовать себя свободным.
Потом я вернулся и начал организовывать профсоюз. Сегодня 400 из 500 издольщиков в моем районе являются членами союза.
Он помолчал. «А теперь, — сказал Васими, — давайте споем». Крестьяне стали петь народные песни Японии, своей деревни и своей профессии. Они пели как любители и часто забывали о лирике. Но мне народные песни всегда кажутся прекрасными. Когда они замолкали, я просил петь еще. После одной из таких просьб Васими сказал по-японски: «Я спою «Эйе, дабу рю, дабурю»— песню, которую я выучил до войны».
«Что такое «Эйе, дабурю, дабурю»? — спросил я.
«Вы это знаете! — сказал он. — Революционеры, которые были у вас в Америке двадцать пять лет назад». Он написал пальцем на запотевшем чайном подносе буквы «I. W. W.»1, и вот в этой типичной японской комнате, где не так давно останавливалась японская принцесса,
1 «Industrial Workers of the World»—«Индустриальные рабочие мира» (сокращенно: «Ай, дабл ю, дабл ю») — союз американских анархо-синдикалистов, созданный в 1905 г. На первом этапе своего существования эта организация придерживалась в основном революционной тактики. После раскола союза в 1923 г. его передовые элементы примкнули к компартии США и «ИРМ» превратился в чисто реформистскую анархо-синдикалистскую группировку. (При*. Р&.)
1Б1
на чужом языке, который я лишь смутно понимал, зазвучала знакомая песня:
Будешь сыт, погоди — у тебя все впереди;
В этой славной стране сущий рай: Ты усердно трудись, голодай и молись, А помрешь — будешь сыт, так и знай!
17 февраля 1946 г. ТОКИО
Сегодня оформил пропуск на поездку в Южную Японию; Меня особенно интересует район Киото — Осака, являющийся промышленным центром Японии. Я рассчитываю провести там около двух недель и главным образом понаблюдать за осуществлением нашей политики ликвидации дзайбацу.
21 февраля 1946 г. КИОТО —ОСАКА
Холодным ясным утром мы выехали из Киото в Осаку по одной из лучших дорог, какие мне доводилось видеть в Азии. Она была широкая, ровная и почти пустынная, если не считать случайного военного виллиса или какого- нибудь японского грузовика с газогенераторным мотором, оставляющего за собой клубы дыма. Мы спустились в красивую долину, зеленевшую всходами риса и простиравшуюся до гор, покрытых снеговыми шапками. В долине были разбросаны белые оштукатуренные здания, а вдали грохотал поезд, казавшийся миниатюрным. Молодой американский солдат, правивший нашей машиной, воскликнул: «Ей-богу, как у нас в Калифорнии!»
Мы сделали резкий поворот, въехали на плотину, и внезапно глазам нашим предстала истерзанная, покрытая шрамами войны Осака. Длинный мост был здесь и там продырявлен небольшими бомбами. За мостом, насколько мог видеть глаз, тянулись целые акры щебня, ржавого железа, кое-где торчали фабричные трубы. Мы проехали по улицам, которые некогда были окраиной промышленного центра, мимо разрушенного, но функционирующего железнодорожного вокзала, мимо черного рынка, разместившегося в наспех воздвигнутых шатких постройках. Затем
152
неожиданно мы въехали в широкую, усаженную деревьями аллею, которая вела к группе сводчатых зданий с колоннами. Это было сердце Осаки — нервный центр огромной промышленной империи, средоточие крупнейших банков, которые финансировали торговую и военную экспансию Японии.
Я остановился у майора Дж. К. Миллигена, бывшего начальника пожарной команды в Пенсильвании, который теперь ведает отделами общественного порядка и рационирования 107-го гарнизона военной администрации. Миллиген выглядит, действует и думает, как нью-йоркский полисмен. Наблюдая, как он разговаривает то с одним, то с другим должностным лицом, я начал подозревать, что он не всегда понимает, что он делает, но во всяком случае ему чертовски нравится делать все это.
В перерыве между служебными разговорами Миллиген рассказал мне, что корейцы и китайцы, которых во время войны привозили на принудительные работы, создают кромешный ад.
«В сущности я только тем и занимаюсь, — сказал он,— что без конца говорю японской полиции, чтобы она построже была с этими молодчиками. Но полицейские раздумывают. Никто толком не знает, кто такие эти корейцы — наши союзники, нейтралы, японские подданные или еще кто-нибудь. Я по собственной инициативе начал вооружать всех японских полицейских. Как только они получат оружие, они почувствуют себя увереннее».
«Самое неприятное с этой полицией, — жаловался Миллиген, — что вся ее верхушка смещена за ультранационализм. Из-за этого в полиции, конечно, поднялся адский шум. Если бы мы вернули смещенных обратно на работу, то у йас не было бы всех этих неприятностей».
Сегодня же утром я услышал от Миллигена обычный припев всех офицеров военной администрации: «Я не реформатор. Мое дело поддерживать общественный порядок. Меня не интересует, каких политических убеждений придерживается человек, если он хорошо работает».
В своем номере в отеле «Нью-Осака» Миллиген вытащил бутылку санторийского виски. Несколько офицеров зашли поздороваться. Один из них был майор Шоу, помощник начальника военной администрации этого района.
153
«Не судите нас слишком строго, — сказал он. — Мы достаточно много делаем, но здесь царит форменная неразбериха. Штаб выдумывает директивы. Они попадают в военную администрацию в Иокогаму. Через несколько недель они начинают поступать к нам. Пока же японское правительство рассылает распоряжения через свои собственные каналы.
И вот результат: японцы на местах предпринимают какие-то действия. Мы начинаем возмущаться. Мы заявляем: «Вы не имеете права этого делать». Они мягко возражают: «Извините, пожалуйста, но мы имеем право. Мы получили соответствующие директивы». Мы начинаем лихорадочно выяснять дело в Иокогаме и в результате совершенно запутываемся. Японцы делают нас посмешищем.
Мы именуемся военной администрацией, но это не соответствует действительности. Мы вовсе не администрируем. Мы не могли бы администрировать даже если бы хотели. Мы ведь решили, что предоставим японцам самим управлять, а сами будем вроде наблюдателей. Поэтому штаты военной администрации были сокращены до предела. Наш гарнизон должен непосредственно ведать двумя префектурами и осуществлять наблюдение еще над девятью. Вы знаете, что это за район? Это промышленный центр Японии. А знаете вы, сколько у нас людей, чтобы наблюдать за этим районом? Двенадцать офицеров и 26 рядовых. У нас всего четыре пишущие машинки, а на американском военном складе в Кобэ, в 40 милях отсюда, их валяется восемьсот. Единственное, что нам нужно — это разрешение на их получение, но мы, повидимому, так и не добьемся его».
Я завтракал с майором Беном Локком — начальником промышленно-финансового отдела. Он принадлежит к известной семье американских промышленников, интересы которой он представлял в Японии до войны. Он знаком со страной и знает, чего он хочет. Если это расходится с официальными целями Соединенных Штатов, то тем хуже для этих целей. Нельзя сказать, что Локк не выполняет приказов. Дело в том, что американские плановики в.Токио — а возможно даже и в Вашингтоне — отдают противоречивые приказы. Локк выполняет те приказы, которые, по его мнению, правильны.
154
Шесть месяцев назад президент Трумэн заявил, что одной из целей американского народа является уничтожение дзайбацу. Но перед плановиками из штаба генерала Макартура стоит также неотложная проблема быстрого восстановления японской экономики, для того чтобы японский народ не устраивал уличные демонстрации и не присоединялся к крайним правым или левым организациям. Если вы хотите быстро восстановить экономику, то вы не станете разваливать ее, пусть даже на короткое время, коренной перестройкой. Это самая настоящая дилемма: произвести чистку и создать более демократическую экономику лет через десять ценой развала в ближайшие несколько лет или не проводить чистки вовсе и восстановить экономику примерно в таком виде, как в 1939 г., допустив, чтобы у власти остались плохие люди (да действительно ли они так плохи?). Локк сделал выбор. Это знаменательный выбор, ибо, повторенный в сотне японских городов, он становится образцом нашей политики в Японии.
«Может показаться, что я настроен прояпонски, но это не так, — сказал Локк. — Я три года воевал. Нам представляется прекрасная возможность склонить Японию на свою сторону, позволив ей сохранить свою промышленную машину и разрешив ей производить и экспортировать. Сейчас мы портим все дело, потому что не знаем, в чем состоит наша политика. Хотим ли мы превратить Японию в нашего экономического вассала? Должна ли она быть земледельческой страной? Разрешим ли мы ей самой обеспечивать себя? Разогнать дзайбацу нетрудно, но, чорт возьми, вы уничтожите старые дзайбацу, и возникнет какая-нибудь новая форма дзайбацу, потому что ведь кто-то должен управлять японской промышленной машиной.
Я не защищаю дзайбацу. Они были вдохновителями японской агрессии. Сегодня они держат в руках японское правительство. Но что делать? Истребите дзайбацу, и на ближайшие десять лет воцарится хаос или возникнет социалистическая экономика. Уничтожьте банки дзайбацу, и вся банковская система рухнет. Разорите дзайбацу, и мы не будем иметь в Японии объектов для капиталовложений. Вы сами знаете, что дельцы в нашем штабе в Токио хотят, чтобы была восстановлена старая Япония. Военные тоже считают, что можно избежать многих хлопот, если сохранить дзайбацу.
155
И ведь было бы глупо заявить японцам: «За каждого американского солдата, которого вы убили, отдайте нам станок». Пусть они лучше сохранят свои проклятые машины, иначе наши фирмы будут продавать им через несколько лет машины, которые будут более современными, чем наши собственные. Бессмысленно также отдавать японское оборудование китайцам или филиппинцам, потому что они не смогут эффективно его использовать и, кроме того, они будут конкурировать с нами.
И потом еще одно. Не будем заблуждаться. Нам нужна сильная Япония. Ибо настанет день, когда нам придется столкнуться с Россией и для этого понадобится союзник. Таким союзником будет Япония».
Под вечер Миллиген и его сотрудник майор Кернан повезли меня в одну из самых больших тюрем Осаки — тюрьму Вакамацу. Наряду с полицией, японские тюрьмы являются одним из главных объектов наших реформ, и я подумал, что представляется прекрасная возможность проверить наши достижения.
Мы поехали вдоль канала, пересекли нынешний центр Осаки, свернули в лабиринт улочек жилого квартала и, наконец, остановились в тупике. Перед нами была высокая кирпичная стена, на воротах которой виднелась надпись: «Дом заключения Вакамацу».
В небольшом первом дворе сотня людей — главным образом женщин — толпилась перед окошечком, где выдавались пропуска посетителям. Мы вошли в служебную дверь, отказались от чая, предложенного нам начальником тюрьмы, и подождали, пока он достанет ключи.
Начальник тюрьмы был пяти футов роста, носил синюю форменную одежду с короткой саблей и имел вид совершенно измученного человека. Возле него вертелся его помощник — низенький толстяк с ртом, полным золотых зубов.
Надзиратель толкнул обитую железом дверь, она распахнулась, и мы очутились в семнадцатом веке.
Нас поразили две вещи: во-первых, зловонный, тошнотворный запах, во-вторых, грязь. Все было грязно, начиная 6т сырого цементного пола до галерей, опоясывавших три яруса камер, и смутно видневшегося потолка. Лица людей были такого же грязного цвета.
156
В коридорах царило непрестанное движение. Один поток людей направлялся в маленькую парадную дверь, повидимому, на свидание или на допрос. Другой поток вливался внутрь. Заключенные были все одинаковы — с болезненно желтыми лицами, истощенные, одетые в старые хламиды синего или землистого цвета. Лица многих были прикрыты коническими соломенными колпаками по обычаю феодальной Японии, разрешавшей человеку «прикрыть лицо» от стыда.
«У каждого должен быть колпак, — сказал надзиратель извиняющимся тоном. — Но во время войны они износили их так много, что у нас их до сих пор нехватает».
В каждой двери была щелка, похожая на щели для писем у нас в Америке. Я заглянул внутрь. Камера была примерно восемь футов на десять; большое окно закрыто тяжелой решеткой. Не было никакой мебели, только груда одеял в углу — по одному на каждого заключенного. Они служили им и матрацами, и одеялами. В другом’ углу стояла параша. В камере сидело девять человек, по три в ряд — все лицом к двери. Они были абсолютно неподвижны, как это предписывал тюремный режим.
Начальник тюрьмы отпер дверь, и я просунул голову внутрь. Зловоние было настолько ужасным, что я инстинктивно отпрянул назад. После этого мы разговаривали с заключенными на расстоянии.
Большинство попало в тюрьму за азартную игру, которая в случае рецидива считается тяжким преступлением. Некоторые из заключенных находятся здесь уже по несколько месяцев, ожидая предварительного допроса судьи. (По японскому закону, который никто еще не позаботился изменить, обвиняемый сперва допрашивается полицией, потом государственным поверенным, представляющим собой нечто вроде нашего окружного прокурора, и, наконец, судьей. Закон разрешает судье держать обвиняемого в тюрьме в течение двух месяцев для ведения следствия. Но потом, если судья захочет сгноить человека в тюрьме, ему достаточно лишь ежемесячно отдавать приказ о продлении заключения.) Двое заключенных, несомненно, 7?гнили заживо. В камере было холодно, тем не менее эти*5 два умирающих были покрыты горячечным потом.
Вслед за этой камерой начинался целый ряд одиночек, каждая примерно пяти футов в ширину, где содержались
157
заключенные, приговоренные к повешению. Некоторые из них спали, прикрывшись одеялами. В одной камере оборванный старик, приговоренный к смертной казни за кражу со взломом и поножовщину, отчаянно чесался. Когда он увидел, что я заглядываю в щелку, он быстро вытащил руку из-под рубахи, с мольбой протянул ко мне обе руки и начал причитать. Мы пошли дальше по коридору, и вслед нам неслись громкие монотонные завывания.
Мы вышли из главного корпуса тюрьмы и очутились в ее внутреннем дворе. Там находились четыре узких круглых кирпичных строения, напоминавших блокгаузы. В каждом была обитая железом дверь. Начальник тюрьмы открыл одну из дверей. За ней была решетка. Из тьмы появилось лицо и раздался отчаянный пронзительный визг. Перед нами был человек лет тридцати. Он пересыпал японские слова английскими:
«Макассар [Макартур] — очень хорошо. Макассар. Благодарю вас. Помогите, помогите! Очень хорошо. Очень хорошо».
У начальника тюрьмы был страдальческий вид. Его помощник улыбнулся и многозначительно покрутил пальцем, показав на голову. Скрипучим голосом начальник тюрьмы сообщил нам, что это убийца, который сошел с ума. Поскольку в Японии нет больниц для сумасшедших преступников, начальник тюрьмы в лечебных целях посадил заключенного в блокгауз на десять дней. Мы пошли дальше, и начальник тюрьмы захлопнул железную дверь. Заключенный распахнул ее. Он отчаянно тряс решетку и кричал: «Макассар, очень хорошо».
Я подергал двери двух серых блокгаузов. Они были заперты. Начальник тюрьмы сказал, что это камеры для заключенных, больных заразными болезнями. Сейчас в одной из них находятся двое больных оспой. Им передают пищу в этот цементный саркофаг через маленькие щелки.
В грязной маленькой больничке, все оборудование которой состояло из кровати и ведра холодной воды, мы ознакомились с записями врача. Из них явствовало, что из 850 заключенных у 90 был жесточайший грипп, у 20 — накожные болезни и у 5 — венерические. За шесть недель умерло 18 заключенных.
158
Вечером в столовой отеля Миако в Киото был устроен концерт для генерал-майора американской морской пехоты Лероя Ханта. Эго был жалкий концерт, в котором участвовало несколько гейш и третьеразрядный фокусник. Концерт был устроен, как оповещала печатная программа, «в знак благодарности первому корпусу, оккупирующему Осаку, по инициативе японской Демократической ассоциации. Председатель г-н Кенцуке Аоки».
Офицеры отпускали грубые шутки и шумно смеялись.
22 февраля 1946 г. КИОТО
Япония капитулировала не вслепую. Как только ее правители решили прекратить борьбу, они тотчас же пустили в ход отлично налаженный правительственный аппарат Японии, уже заранее стараясь найти лазейки, для того чтобы обойти обязательства, которые они давали победителям. Они воспользовались двухнедельным интервалом между провозглашением капитуляции и прибытием первых американских частей. Сжигались документы. Правительственные средства направлялись туда, где они могли принести наибольшую пользу. Создавались тайные склады ценных материалов. Подготовлялись подробнейшие планы сохранения в неприкосновенности правительственного аппарата независимо от приказов победителей.
Сегодня утром подполковник Мунске, возглавляющий оккупационные власти обширного Кансайского промышленного района, сообщил мне некоторые новые подробности. Этот крупный представительный мужчина улыбался, рассказывая об уловках японцев. Я тоже улыбался. Мы смеялись над собой же, но в этой стране мы все стали циниками.
«В одной из моих префектур, — сказал Мунске, — семь из четырнадцати начальников полиции состояли в «полиции по контролю над мыслями» во время войны. Пять месяцев назад мы издали приказ о чистке молодчиков, работавших в «полиции по контролю над • мыслями». Но они как-то проведали об этом, и все подали в отставку еще до того, как был издан приказ. Японцы утверждают, что формально они этим обелили себя. Вскоре после этого японское правительство назначило их начальниками полиции.
159
В сложной обстановке, возникшей здесь, я могу лишь посылать отчеты. Эти отчеты погребены в Иокогаме вместе с другими сообщениями об аналогичных событиях, происходящих по всей Японии. Частным образом нам говорят, что «соображения высшего порядка» требуют «до поры до времени» игнорировать нарушение наших директив японским правительством».
Он говорил с подчеркнутой иронией, делавшей совершенно очевидным тот факт, что слова «соображения высшего порядка» были им взяты в кавычки.
Другую деталь той же самой картины нарисовал мне за завтраком майор Дж. Льюис Шмидт, ведающий здесь экономическими вопросами.
«Много говорят о реформах и реорганизации, — сказал он. — В этом районе мы особо занимаемся концерном Сумитомо, одним из трех крупнейших семейных концернов Японии. Предполагается, что он расформирован в соответствии с нашей директивой. В первую очередь речь шла о роспуске «Акционерной компании Сумитомо», капитал которой превышает 4 миллиарда иен. Мы потребовали у руководителей концерна представить нам архивы. Они заявили, что все архивы пропали или сгорели во время налетов. Нечего было делать. Мы потребовали, чтобы они реорганизовались. Они реорганизовали лишь 4 из 102 своих компаний. Мы подозреваем, что эта реорганизация произведена лишь на бумаге. Но опять-таки ничего не можем поделать.
Японское правительство в Токио предоставляет нам информацию о здешних промышленных фирмах. Мы находим в ней множество ошибок и пропусков, вплоть до того, что пропущены названия компаний и их продукция. В одном списке, в котором значилось 100 заводов, мы насчитали до двадцати серьезных ошибок. Крупный завод Мицубиси, выпускавший самолеты, вообще не значился в списке.
Представители крупнейших компаний, когда-то производивших вооружение, приходят к нам и просят разрешения перейти на выпуск продукции мирного времени. Они заявляют нам: «Поскольку мы будем помогать переводу экономики на мирные рельсы, нам придется просить вас отказаться от нашего оборудования, предназначавшегося вам в качестве репараций». Затем они представляют нам
160
список, в котором множество пробелов. Иногда они просто ворсе не сообщают нам о том, что у них имеется. В других случаях мы обнаруживаем, что они вывезли и скрыли оборудование и сырье. Они прекратили практиковать это только после того, как мы начали направлять вооруженные отряды по всей стране на розыски тайных складов.
Нам точно известно, что японское военное и морское министерства издали приказы командирам на местах прятать имеющиеся у них материалы. В период между капитуляцией и нашим прибытием было скрыто колоссальное количество материалов. Так, например, через несколько дней после капитуляции командование японской армией на острове Кюсю передало свои запасы горючего крупным фирмам, подрядчикам, офицерам и просто друзьям. Мы обнаружили это, когда кто-то из нас совершенно случайно наткнулся на тайный склад горючего. В другой раз корейский торговец обнаружил в овраге склад, где было спрятано 100 тонн каучука. По словам крестьян, этот каучук был спрятан по приказу командира ближайшей японской военно-морской базы».
26 февраля 1946 г. ТОКИО
Сегодня мне рассказали о клубе «Дай-Ан», в котором американским гостям предоставляют вкусную еду, вина и женщин. Хозяином и, повидимому, единственным членом этого клуба является Акира Андо, и клуб назван весьма скромно в его честь: «Дай» — великий, «Ан» — первый слог его имени. Офицер, побывавший в этом клубе, рассказывал мне, что в тот вечер Андо принимал у себя одновременно шесть компаний гостей. По мнению офицера, на угощение той компании, в какой находился он сам, хозяин потратил около 30 тысяч иен, или 2 тысячи долларов. Андо заявил своим гостям, что он пламенный сторонник американо-японской дружбы.
Гостеприимство Андо распространяется не только на офицеров. Он содержит также кабачок, где развлекаются главным образом рядовые. Одному из моих друзей Андо сказал, что на этом кабачке он теряет каждый месяц 300 тысяч иен (20 тысяч долларов), но «это не слишком высокая цена за японо-американскую дружбу». Говорят, что
161
И М Гсйп
Андо крупный строительный подрядчик, профсоюзный босс и авантюрист.
Андо принадлежит к той же категории людей, что и глава крупного промышленного концерна Рикен, который на днях пригласил меня вместе с двумя видными офицерами на «порнографическую вечеринку». После того как он продемонстрировал нам свою бесценную коллекцию средневековой порнографии и угостил нас роскошным ужином, он начал исподтишка выведывать у нас об американских планах разукрупнения промышленных концернов и розыска военных преступников.
Оба эти примера я занес в свое досье с пометкой «Подрывная деятельность». В нем уже содержатся такие случаи, как, например: офицерам части, недавно прибывшей в городок к северо-западу отсюда, предложили «девственниц»; в другом городе специально были куплены молодые проститутки, чтобы развлекать расквартированных там офицеров; небезызвестный принц Хигасикуни давал банкеты некоторым генералам и полковникам, которых даже советники императора считали «слишком реакционными»; на приеме в честь открытия японского клуба «международного сотрудничества» видный член штаба Макартура просил корреспондента не сообщать о его присутствии.
Все это говорит о самой неприглядной и вместе с тем важной стороне оккупации, об очень тонкой, прекрасно организованной и финансируемой кампании, проводимой японцами для разложения американской армии. Средства этой кампании — вино, женщины и гостеприимство, а цель — толкнуть оккупационные власти на беспринципные действия и извратить цели оккупации.
6 марта 1946 г. ТОКИО
Все мы сегодня направились в резиденцию* премьер- министра к генеральному секретарю кабинета Ватару На- рахаси, где нам сообщили о новой конституции. Нара- хаси — плотный, самоуверенный мужчина в полосатых брюках, черном пиджаке в тугом крахмальном воротничке.
«Новая конституция, — сказал он, — исторический документ... В ней сам император провозглашает суверенитет народа, как это предусмотрено Потсдамской декларацией.
462
В ней мы заявляем, что милитаризм умер... Приняв эту конституцию, император станет символом, возвышающимся над народом, и народ также поймет, что это его правительство...»
к- Он ответил на некоторые наши вопросы на французском языке, на котором он говорит свободно.
«Мы находимся в очень опасном положении, — сказал он,— и, для того чтобы избежать кровопролитной революции, мы должны принять такие революционные меры, как эта конституция...»
Позже генерал Макартур опубликовал пространное заявление. Он «с глубоким чувством удовлетворения» принимал к сведению решение «императора и правительства Японии» даровать японскому народу «новую и просвещенную конституцию, получившую мое полное одобрение». В этом высокопарном заявлении говорилось, что новая конституция «навеки разрывает оковы феодализма и утверждает достоинство человека под защитой суверенитета народа». В заявлении также отмечалось, что главный принцип новой конституции состоит в том, что она «навеки осуждает применение силы как средства урегулирования споров... и запрещает в будущем всякую армию, военно-морской флот, авиацию и любой другой военный потенциал...»
Сообщение о новой японской конституции разнеслось во все уголки земного шара как новое доказательство склонности Японии к сотрудничеству и ее быстрого движения по пут»и демократии.
Но это сообщение имеет оборотную сторону, которую вместе с корреспондентом «Балтимор сан» Бобом Кохрэ- ном я сейчас пытаюсь уяснить себе. Эта сторона, так же как и сама новая конституция, имеет отношение к истории оккупации.
Однажды вечером месяц назад ведущим офицерам отдела по делам японского правительства под строгим секретом сообщили, что им придется составить новую конституцию Японии. На закрытом заседании в отеле «Дайици» были намечены общие принципы этого документа. На следующее утро генерал Уитни созвал к себе на совещание весь свой штат.
«Леди и джентльмены, — начал он торжественно, — мы присутствуем при историческом событии. Я провозглашаю вас учредительным собранием».
и*
163
Бывший манильский юрист, Уитни по натуре немного актер. Произнесенная им речь была сочетанием торжественности, пафоса и политических разглагольствований. Самая неотложная проблема Японии в настоящий момент, сказал он, это проблема новой конституции. Все проекты, подготовленные японцами, были совершенно неудовлетворительными, и верховный главнокомандующий (это слово Уитни произнес с особенным пафосом) счел необходимым вмешаться. Отделу по делам японского правительства было поручено составить проект новой конституции. Необходимо действовать с чрезвычайной поспешностью и хранить строгую тайну, чтобы для японцев это было полной ножиданностью и они не смогли организовать действенную оппозицию.
«Я очень польщен, — сказал Уитни, — что верховный главнокомандующий счел отдел по делам японского правительства способным составить проект конституции в столь короткий срок. Я спросил верховного главнокомандующего, не даст ли он каких-нибудь указаний, которым мы следовали бы при составлении новой конституции, и генерал ответил, что он предоставляет все это на усмотрение нашего отдела за тремя нижеследующими исключениями...»
Уитни указал те три условия, которые генерал Макартур хотел включить в новую японскую конституцию:
1. Япония должна навсегда отказаться от еойны, уни¬
чтожить свои вооруженные силы и обязаться никогда не возрождать их. ,
2. Суверенитет должен быть предоставлен народу, но император должен являться символом государства.
3. Власть пэров должна быть упразднена, а собственность императорского дома передана государству.
Для людей, принимавших участие в закрытом совещании накануне, первый пункт оказался совершенно неожиданным. Однако и все три пункта вызвали многочисленные вопросы.
Кто-то сказал: «Из второго пункта я могу заключить, что император не будет предан суду как военный преступник».
Заместитель начальника отдела по делам японского правительства полковник Кадес ответил, что он именно так понимает этот пункт. По его мнению, генерал Макартур считает, что император расплатился за все свои прошлые
164
ошибки искренней поддержкой оккупационного режима.
«Я считал бы, что мы поступили крайне несправедливо, —• сказал Уитни, — если бы император был предан суду как военный преступник после всех тех услуг, которые он оказал союзникам».
Вначале предполагалось составить проект новой конституции за десять дней. Генерал Уитни выразил надежду, что японцы смогут ее провозгласить 22 февраля, в день рождения Джорджа Вашингтона.
На этом же «учредительном собрании», провозглашенном генералом Уитни, все участники были разбиты на группы, каждой из которых было поручено написать одну или несколько статей конституции. Начальники групп составляли руководящий комитет, который должен был координировать всю работу. Началось лихорадочное изучение американской и европейских конституций, но в целом новая конституция следовала образцу старой конституции Мэйдзи, которая должна была быть отменена. Кадес и Альфред Р. Хасси младший, представитель военно-морского флота, взяли на себя составление преамбулы. Есть веские основания считать, что проект статьи, предусматривающей отказ от войны и вооруженных сил, был составлен самим генералом Макартуром.
Работа была закончена в две недели. 19 февраля генерал Уитни ошеломил японцев новой конституцией.
Нам с Кохрэном не удалось установить, происходила ли эта историческая встреча в резиденции премьер-министра Сидехара или у д-ра Мацумото, крайне консервативного юриста, «пересматривавшего» старую конституцию. Генерал Уитни взял с собой полковника Кадеса и Хасси. Когда три американца вошли в комнату, их встретили Мацумото, министр иностранных дел Сигеру Иосида и какой-то неопределенный тип по имени Сирасу, который сейчас занимает пост вице-председателя Центрального бюро по осуществлению связи японского правительства со штабом Макартура. По нашему мнению, там присутствовали также премьер-министр Сидехара и секретарь его кабинета Нарахаси.
Японцы, видимо, изучали проект Мацумото перед тем, как вошли американцы. Во всяком случае, он лежал на столе. Американцы позже рассказывали, что японцы,
165
видимо, приготовились к усиленному торгу. Генерал Уитни подошел к столу, взглянул на разложенные на нем бумаги и сказал:
«Джентльмены, верховный главнокомандующий изучил подготовленный вами проект. Он считает его совершенно неприемлемым. Я принес документ, одобренный верховным главнокомандующим. Я оставлю его вам на пятнадцать минут, чтобы вы могли ознакомиться с ним до того, как мы начнем его обсуждение».
Затем три американца вышли на веранду. В окна они видели, как японцы склонились над документом. В этот момент над домом раздался рокот моторов американского бомбардировщика. Это было как нельзя более кстати, хотя генерал Уитни утверждал, что такое «вмешательство» не было предусмотрено заранее.
Через пятнадцать минут Сирасу вышел и пригласил американцев. Генерал Уитни вошел в комнату и торжественно заявил:
«А мы грелись под атомными лучами солнца».
Американцы заметили, что на столе уже не было проекта Мацумото, а лежал только проект генерала Уитни. Японцы сидели, как громом пораженные. Сирасу, который выступал в качестве переводчика, несколько раз открывал рот, но не мог произнести ни звука.
Следующие несколько минут японцы старались выудить какую-нибудь информацию, чтобы нащупать почву для компромисса. Они заявили, что американский проект идет гораздо дальше всего, что они когда-либо себе представляли, что он совершенно противоречит японским традициям. Уитни резко возразил, что генерал Макартур не станет рассматривать никакого документа, который не пойдет столь же далеко, хотя он и готов рассмотреть незначительные изменения, не нарушающие духа американского проекта.
«Если вы не готовы принять документ такого рода, — сказал он, — то генерал Макартур через вашу голову обратится к японскому народу. Но, если вы поддержите такую конституцию, генерал Макартур поддержит вас».
Американцы ушли, обменявшись с японцами несколькими вежливыми замечаниями. Позже Хасси написал подробный отчет для опубликования, который был оглашен 166
на общем собрании всего персонала. В меморандуме подчеркивалось, что японцы были захвачены врасплох, и поэтому американцы оказались в выгодном положении.
Японцы — превосходные политиканы. Их замешательство длилось недолго. Как только они оправились от неожиданности, они постарались выиграть время. Прежде всего японцы заявили, что, поскольку они видели новую конституцию только на английском языке, они не могут по достоинству оценить ее. Поэтому они настаивали на переводе новой японской конституции на японский язык. Переводчики отдела по делам японского правительства трудились все воскресенье, но, когда перевод был готов, японцы начали утверждать, что он не японский ни по духу, ни по формулировкам. Началась торговля из-за формулировок.
Время шло, и генерал Уитни, наконец, сообщил японцам, что штаб сам опубликует проект, тем самым лишив правительство возможности представить народу новую конституцию от своего имени. Тогда японцы капитулировали. Результатом явилось сегодняшнее заявление японского правительства.
Американская конституция для Японии — неплохая конституция. Вопреки заявлениям японских представителей, она передает суверенную власть народу, гарантирует ему гражданские свободы. Она ограничивает и регулирует действия правительства1.
Самое скверное и даже катастрофичное то, что эта конституция не уходит корнями в японскую почву. Это чуждая конституция, навязанная японскому правительству, а затем представленная как нечто японское, в то время как любому ученику средней школы в Японии достаточно прочитать ее, чтобы сразу же убедиться в ее иностранном происхождении.
1 Эти слова автора звучат явно иронически. Автор сам пишет, что «новая конституция навязана японцам с помощью морально нечистоплотных людей», замечая при этом, что «никакая конституция, силой навязанная стране, не может быть демократической». Одних только фактов, изложенных в «Японском дневнике» Гейна, совершенно достаточно, чтобы понять, что «американская конституция для Японии» была лишь очередным проявлением лицемерия империалистов США, стремящихся к возрождению японского фашизма и милитаризма. (Прим, ред.)
167
Дальневосточная комиссия понимала опасность, сопряженную с конституцией, навязанной сверху. Во время своего последнего визита сюда представители комиссии настаивали на том, чтобы самим японцам было предоставлено составление своей конституции, и они получили заверение в штабе, что это будет сделано. Но не прошло и нескольких недель, как это обещание было нарушено. Помощники Уитни неуверенно объясняли это тем обстоятельством, что вначале предполагалось, что составление конституции будет длительной проблемой, «а события доказали, что это срочный вопрос».
Самое скверное в этой конституции — предусмотренная самим генералом Макартуром статья об отказе Японии от вооруженных сил. Ибо ни один человек, читающий газеты или хоть сколько-нибудь знакомый с историей Японии, не может сомневаться в том, что как только прекратится оккупация, японцы под тем или иным предлогом возродят свою армию. В Японии это так же неизбежно, как и землетрясения. Таким образом, в силу самого своего характера, новая конституция создает лазейки для ее нарушения. А при таких условиях не может уцелеть ни одна конституция.
Кроме того, новая конституция навязана японцам с помощью морально нечистоплотных людей.
Достаточно сказать, что с японской стороны новую демократическую конституцию представил народу человек, который, по собственному признанию, был агентом японской армии в Китае. Ватару Нарахаси, который еще может стать премьер-министром Японии, напомнил избирателям во время так называемых «выборов Тодзио» в 1942 г., что за полтора года до нападения на Пирл Харбор он «принимал участие в реконструкции Восточной Азии и сотрудничал с японской армией в Северном Китае». Таков один из невероятных японских парадоксов. Этот человек решает, кто из кандидатов, участвующих в выборах, которые состоятся в следующем месяце, является военным преступником.
Никто не может определить, какими сообщениями руководствовались американцы, составляя новую конституцию Японии. Одним из таких соображений могло быть стремление генерала Макартура войти в историю в качестве автора японской конституции. Другое соображение, 168
возможно, вытекало из уверенности генерала, что все может быть создано по приказу, даже демократическая конституция. Но никто, видимо, не подумал о том противоречии, которое содержится в самой этой мысли, ибо никакая конституция, силой навязанная стране, не может быть демократической.
Правда, кабинет барона Сидехара саботировал приказ Макартура о составлении новой конституции. Однако и в этом случае американцам надо было не самим браться за составление японской конституции, а выгнать японцев, саботировавших ее составление, и создать кабинет, более приверженный демократическим принципам.
Этот величайший памятник, созданный себе Макартуром в Японии, не переживет, пожалуй, его самого.
18 марта 1946 г. ТОКИО
Поскольку Сэлли должна приехать сюда в мае, я сегодня подыскал для нас дом. Это современное здание из стекла и цемента, построенное на лесистом склоне, возвышающемся над токийской гаванью. Он принадлежит графу Ватанабе, который прилично говорит по-английски, работает в газете, а во время войны служил в японской военно-морской разведке. В доме, где теперь живут его друзья, я увидел ужасную картину — плачущие дети, чадящие жаровни с углем, бездействующие уборные, грязные стены и еще более грязные цыновки на полу. Но стены целы, и дом можно привести в порядок. Как только старые его обитатели уедут, мне придется нанять целую команду, чтобы продезинфицировать его, вымыть и выкрасить.
В доме большая гостиная, уютный рабочий кабинет для меня, две спальни, красивая комната в японском стиле, открытая веранда и японская ванная комната с кафельной ванной в пять футов глубины. Весьма характерно, что в ванне нет крана для холодной воды, а в душе — для горячей.
Однако возникло два затруднения. Во-первых, то, что в саду было бомбоубежище. Вход в него на склоне горы покосился под тяжестью давящей на него земли. Когда я предложил взорвать бомбоубежище, Ватанабе сказал:
169
«Друзья говорят мне, что будет новая война. Надо быть готовым к ней».
Я заверил его, что в ближайшие несколько лет войны не будет.
Второе затруднение было менее серьезным. Моим соседом будет принц, принадлежащий к императорскому дому. Когда Ватанабе построил свой дом, было обнаружено, что окна одной из спален выходят во владения принца. К Ватанабе пришел полицейский офицер и заставил его построить щиты перед окнами. Я сказал Ватанабе, что уберу щиты.
«Когда вы уберете их, — сказал он, — здесь будет больше света». Подумав, он добавил: «И воздуха».
21 марта 1946 г. АТАМИ
На протяжении прошедших десяти лет я неоднократно вступал в споры относительно судьбы Японии. Как и большинство людей, работавших на Дальнем Востоке, я ни минуты не сомневался, что Япония рано или поздно будет воевать против Соединенных Штатов и Англии. Но что произойдет после неизбежного разгрома Японии? Можно ли сделать Японию более демократической страной? Останутся ли там прогрессивные люди, которые могли бы взять на себя руководство и провести реформы?
Когда разговор заходил на эту тему, в качестве одного из самых видных демократов Японии называли Юкио Одзаки. Одзаки был одним из великих парламентариев мира. Он заседал в парламенте с 1890 г. и в годы агрессии неоднократно выступал в нем, смело обрушиваясь на военщину за узурпацию политической власти.
Сегодня утром я приехал на этот морской курорт, чтобы повидаться с Одзаки. Теперь ему 87 лет. Он живет в уединении на вилле, предоставленной в его распоряжение богатым издателем. Одзаки ожидал нас в гостиной у огромного окна с видом на океан. Это был очень старый человек с худым лицом и белоснежной бородой; на нем было красивое темное кимоно, в котором он напоминал старинную японскую гравюру.
Я сел напротив Одзаки за низеньким столиком. Он протянул мне длинную резиновую трубку, с одной стороны 170
которой был прикреплен маленький рупор, похожий на чашку, а с другой было нечто похожее на мундштук. Чашку я поднес ко рту, а мундштук он засунул себе в ухо. Видимо, таким образом до него иногда доходили колеба-. ния воздуха, производимые словами, которые я произносил. Это был весьма нелепый разговор.
«К какой партии вы принадлежите, г-н Одзаки?»
— Ито.
«Ито? Кто такой Ито?»
— Принц Ито.
Я онемел от удивления. Ито был одним из основателей современной Японии. Он был премьером лет шестьдесят назад. Придя в себя, я сказал: «Нет, г-н Одзаки, я имею в виду более позднее время». Он ответил: «Ну, тогда маркиза Окума». Окума был премьером на рубеже прошлого столетия. «Я был связан с каждой из них, — сказал Одзаки. — Когда они составили партии большинства, я возглавил их».
‘ Я спросил Одзаки о его социальной и экономической программе для новой Японии. Он сказал жалобно: «Я не разбираюсь в экономике». В конце концов, он признал, что у него есть программа из двух пунктов, предусматривающая устранение китайских иероглифов из японской письменности и национализацию земли. Но он считал, что решение последней проблемы может быть отложено, до тех пор пока она не будет более тщательно изучена. «Когда я был мэром Токио, — сказал он, — я убедился, что реформы выгодны всегда не тем, кому нужно».
По его мнению, в следующем парламенте будут господствовать «боссы и гангстеры», а будущий кабинет окажется хуже нынешнего. Он резко отозвался о лидере либералов Хатояма, а также сообщил мне, что император «довольно хороший человек». (Между тем, русские корреспонденты рассказывали мне, что, когда они встретились с Одзаки, он назвал императора военным преступником и никчемным человеком, которого нужно «ликвидировать», и настаивал на проведении плебисцита по вопросу о существовании императорской системы вообще.)
Через час мне начало казаться, что я бьюсь головой о мягкую подушку. Многие мои вопросы так и не доходили до него. А на те, которые доходили, он отвечал общими словами. Его прошлая деятельность свидетельствовала
171
о его либеральных взглядах. Но он был либералом, взгляды которого обусловлены феодальным окружением, человеком, разум и память которого отстали на половину столетия.
Я вновь обнаружил, что, так же как и многие мои друзья, я пользуюсь неправильным мерилом. Лет десять назад мерилом прогрессивности японца была его оппозиция к военщине. Но ныне армия исчезла, и от прогрессивного руководителя требуется поддержка планов социальных преобразований. Люди, которые еще вчера считались прогрессивными в Японии, не выдерживают нового испытания. Как и Одзаки, они сделали свое дело. Теперь нужны были новые руководители, и они должны были притти из низов.
Я возвращался в Токио с 30-летней дочерью Одзаки, которая сотрудничает в «Ридерс дайджест». Она мне кое- что рассказала о своем отце, и эти рассказы свидетель; ствуют о том, что Одзаки по-своему оказал неплохую услугу своей стране. В конце 1940 г., рассказала она, ее отец предвидел приближение войны и решил кое-что предпринять. Он уже находился под надзором тайной полиции, и вся его почта проходила цензуру. Поэтому он просил свою дочь поехать к маркизу Кидо и лично передать ему письмо. В письме он предсказывал неизбежность войны, если предоставить событиям итти своим чередом, и убеждал императора предложить великодушные мирные условия Чан Кай-ши.
Дочь Одзаки передала это письмо Кидо. Через четыре или пять дней письмо возвратилось обычной почтой без всяких комментариев. Одзаки понял, что Кидо намеренно дал военной цензуре возможность прочитать его письмо.
В 1942 г. представители армии'предупредили Одзаки, что если он попытается выступить перед своими избирателями в Исе, то его могут убить. Одзаки пренебрег угрозой и в своей речи сравнивал режим Тодзио с некоторыми самыми мрачными периодами в истории Японии. Каждый раз, когда он проводил такую параллель, представитель «полиции по контролю над мыслями» прерывал его, и в таких случаях Одзаки говорил собравшимся: «Если вы побеседуете со своими детьми, они расскажут вам то, что мне не разрешают здесь говорить. Это им известно из учебников истории».
172
В том же году, превратно истолковав строку из песни, которую процитировал Одзаки, тайная полиция арестовала его по обвинению в «оскорблении императора». Его продержали весь день в той же самой тюрьме Сугамо, в которой сейчас заключен Тодзио. Впоследствии верховный суд оправдал его.
Дочь Одзаки очень язвительно отозвалась об американской армии и о ее «недемократичных действиях», таких, как реквизиция домов у японцев для американцев. Мы простились с явной холодностью.
26 марта 1946 г. САЙТАМА
В 7 часов утра большая группа корреспондентов подъехала на двух виллисах к Императорской площади. Огромная площадь, покрытая желтоватым гравием, была пуста, если не считать американских часовых и нескольких виллисов с американскими военными полицейскими.
В 7.50 распахнулись ворота, и на мост выехал императорский мерсёдес-бенц, а затем четыре машины с японскими полицейскими и придворными и четыре полицейских мотоцикла. Белые виллисы американской военной полиции сейчас же рванулись вперед и возглавили процессию, а два виллиса с корреспондентами замыкали ее. Мы ехали по почти пустынным улицам, и на каждом углу виднелись один или два человека в штатском. Они не обращали на нас никакого внимания, а следили за немногими прохожими. На перекрестках стояли полицейские, регулировавшие движение, также спиной к процессии. Прохожие почтительно кланялись. Они кланялись дважды: один раз императору, второй раз военным полицейским, сидевшим в белых виллисах, тем самым показывая, что им не чуждо понимание реальной ценности вещей.
Наконец, мы приехали на крохотный пригородный вокзал, где у входа нас остановили военные полицейские. Они заявили нам, что поезд, предназначенный для представителей печати, ушел пятнадцать минут назад. Мы постарались придать своим лицам самое независимое выражение и быстро прошли мимо них со словами: «Нас пригласил император». Платформа была запружена японскими полицейскими и придворными. Мы посмотрели, как 173
император вошел в свой вагон, а затем направились^ следующему вагону. Он был забит японскими полицейскими, вооруженными саблями; на них были туго накрахмаленные белые воротнички. Не успели мы согнать их с нескольких мест, как к нам подошел придворный чиновник с объяснениями: «Для вас был специальный поезд. Вам разрешено ехать в этом поезде, но это разрешение не следует рассматривать как прецедент».
Мне приходилось видеть такие поезда на всемирных выставках, но я никогда не видел их в движении, на железной дороге. Это был великолепный железнодорожный состав образца 1890 г., причем нигде — ни на окнах, ни на металлической отделке, ни на сиденьях — не было ни пылинки. Пружинные сиденья были отличными. Через некоторое время к нам подошел «бой», мальчик-слуга, с сигаретами и чашками зеленого чая.
Встречать императора, казалось, согнали все население. Позже я узнал, что население было собрано по приказу полиции «соседскими ассоциациями», контролирующими распределение продовольствия и топлива в стране. На каждой станции торжественно выстраивались все официальные лица. На каждом перекрестке стояли большие толпы крестьян с флагами, школьники, группы женщин. На полях крестьяне поднимали головы от своей работы, чтобы взглянуть на проезжавший поезд, а затем низко кланялись. Видимо, не так трудно было узнать императорский поезд: он так и сверкал, и на каждом вагоне красовалась императорская хризантема. Его невозможно было спутать с обшарпанными, забитыми народом поездами без окон, в которых ездил простой люд.
Первая остановка была в Такасаки. Мы вышли на привокзальную площадь вслед за императором. Как только он показался, раздался рев: «Банзай»! Император поклонился и сел в ожидавший его мерседес-бенц — второй по счету. Мы сели на грузовики, поданные американской армией, которая, видимо, организовала все это дело. Когда я садился в грузовик, какая-то женщина средних лет с красным от волнения лицом придвинулась вплотную ко мне и завопила: «Банзай!». Она вся дрожала от возбуждения и как две капли воды походила на женщин, которых мы могли наблюдать на какой-нибудь торжественной встрече в Нью-Йорке во время войны. Мы проехали через весь
174
город, и вдоль нашего пути с обеих сторон стояли приветствовавшие процессию дети. Мы незаметно выехали из города и оказались в сельской местности, где с обеих сторон дороги тоже собрались небольшие группы кричащих людей. Мы остановились у японского военного госпиталя.
На обширном, чисто выметенном участке, обнесенном ветхой изгородью, находилось несколько рядов одноэтажных деревянных бараков. Мы проникли туда раньше императора и наблюдали, как он входил в палаты. Больные в белых халатах стояли на коленях на своих кроватях или же на полу. Это были мрачные юноши с невыразительными лицами. За исключением одного человека, у которого была ампутирована нога, все они казались здоровыми.
Когда император вошел в первую палату, кто-то громко скомандовал, и все больные поклонились. Император медленно прошел вперед, а за ним толпились врачи, полицейские, придворные, американские офицеры и кинооператоры. Затем тот же голос рявкнул другую команду, и больные подняли головы и уставились перед собой.
К этому времени я хорошо рассмотрел императора, или «Чарли», как мы его называли. Это человечек всего 5 футов 2 дюймов роста в мешковатом сером полосатом костюме, брюки которого короче положенной длины дюйма на два. У него ярко выраженный нервный тик, и его правое плечо постоянно подергивается. Когда он идет, он немного отбрасывает правую ногу в сторону, как бы не владея ею. Он был явно взволнован, ему было не по себе, и он не знал, куда деть руки.
Сначала он проходил мимо больных, время от времени останавливаясь перед диаграммами. Затем он, видимо, решил, что нужно что-то сказать. Он задал несколько вопросов, но все они казались неуместными. Наконец, он остановился на самом простом: «Вы откуда?». Теперь он переходил от одного больного к другому, задавая ему этот вопрос, а когда больной отвечал, император говорил: «Ах, так!» Казалось, он удивлялся, когда узнавал, что тот или иной человек родом из Акиты, Вакаямы или с Хоккайдо. Он говорил высоким голосом, и постепенно его голос становился все тоньше и выше.
Непочтительные американцы теперь каждый раз ожидали этого «Ах, так!» и, когда слышали его, толкали друг друга локтем, смеялись и передразнивали императора.
175
Но скоро и это надоело. Теперь император нам представлялся таким, каким он был на самом деле: усталым, жалким человечком, вынужденным выполнять неприятную для него обязанность и отчаянно пытающимся овладеть своим непослушным голосом, лицом и телом. Было жарко, и воцарилась тишина, не нарушаемая ничем, кроме резкого голоса императора и тяжелого дыхания его свиты.
Я не помню, когда и каким образом мы вышли из госпиталя. Мы ехали по грязным проселочным дорогам и дышали пылью, которую поднимала машина императора, так же как ею дышали тысячи детей, собравшихся вдоль дороги со всей округи. Дорога вилась между холмов, покрытых свежей весенней зеленью, и на этом зеленом фоне выделялись яркие пятна кимоно или потрепанная школьная форма детей. Они громко кричали приветствия, и их крики разносились по всей местности.
Завтракать мы остановились в здании шелкомотальни. Агент американской контрразведки, находившийся вместе с нами, сказал: «Вам надо было видеть, как они все скребли и чистили здесь последние три дня». Девушки, работавшие на фабрике, также казались начисто вымытыми. Только их руки, напоминавшие по цвету отварную говядину, ввиду того, что девушкам постоянно приходится держать их в кипящей воде, в которой лежат шелковые коконы, выдавали их профессию.
Император завтракал в одиночестве. Все остальные, ’ в том числе и мы, жевали холодный рис, дурно пахнущую редиску, маленькие кусочки сырой рыбы, которыми нас потчевала администрация фабрики. Из окна я увидел девушек, выстроившихся вдоль стены, и вышел поговорить с ними. Они робко хихикали, и ни одна не хотела отвечать на вопросы. Но, наконец, мне сказали, что им «по 15 лет» (законный возраст для работы), что они работают по девять с половиной часов в день и зарабатывают от трех до пяти иен, или от 20 до 33 центов в день. Вышел император; они поклонились ему и начали выкрикивать приветствия по команде директора, вытянув шеи, чтобы лучше разглядеть своего повелителя.
И снова мы пустились в бесконечный путь. Однажды мы остановились у аэродрома, превращенного в поле. Перед нами выстроились крестьяне с мотыгами, а навстречу 476
выступил управляющий фермой,^чтобы приветствовать императора, когда тот выходил из машины. Мы подъехали как раз в тот момент, когда шофер распахнул дверцу машины перед императором. Послышался стон, и управляющий отпрянул назад. У него был растерянный вид, и из раны на голове сочилась кровь. Пока бинтовали рану управляющего, губы его дрожали от боли и неожиданности, кровь на его зеленой куртке быстро чернела под жаркими лучами солнца.
Император стоял один, окруженный народом, не спускавшим с него глаз. Все приближенные покинули императора, и ему не к кому было обратиться. Его лицо снова начало нервно подергиваться, и он неловко переминался с ноги на ногу. Рану управляющего бинтовали добрых десять минут, и после этого он, наконец, мог доложить императору о состоянии своего хозяйства. Он говорил поразительно чистым и громким голосом. Император не задал никаких вопросов.
Нам предстояло проделать последний отрезок намеченного пути. Мы приехали в город Сайтама, если только его можно назвать городом. Его взрывали тротилом и жгли до тех пор, пока в нем не осталось ничего, кроме развалин. Люди сначала расчистили проходы между развалинами, а затем построили деревянные хижины. Город являл собой мрачную и плачевную картину. Мы остановились, и император вышел из машины. Перед нами была узкая улица, с двух сторон загроможденная развалинами, среди которых высилось несколько тонких остовов домов. Сейчас эти развалины были густо облеплены молчаливыми людьми. Император стоял у начала этой улицы и смотрел на толпу. Толпа смотрела на него.
Потом, как раненый боксер, услышавший звук гонга, оповещающего о последнем раунде, император медленно пошел вперед, мрачно кланяясь народу по сторонам. Огромная толпа не трогалась с места, и он прошел довольно далеко. Затем внезапно началось нечто невообразимое. Люди, сгрудившиеся среди развалин, бросились к императору и сомкнулись вокруг него. Детей и женщин сбивали с ног. Те, кто не мог пробраться поближе, стояли в стороне и плакали. Некоторые женщины стонали, не уронив ни слезинки.
12 м. Гейн
177
Яжбыл свидетелем массовой истерии и раньше, но мне никогда не приходилось видеть ничего столь стихийного и необычайного. Корреспондентов и приближенных императора оттеснили. Мою «лейку» с силой придавили к груди. Меня толкали и кружили во все стороны, и я с трудом удерживался на ногах. Я возвышался над низкорослыми мужчинами и женщинами, столпившимися вокруг меня, но мне пришлось прибегнуть к силе, иначе я был бы в их власти.
Нам пришлось в течение получаса упорно работать локтями, чтобы выбраться из толпы. Мы остановили последний армейский грузовик, направлявшийся к станции. Императору нужно было ехать еще дальше, к последнему пункту своего назначения. Но мы уже насмотрелись достаточно. Теперь мы сели в состав, предназначавшийся для прессы, на котором также красовалась императорская эмблема, но он был далеко не так отполирован, как поезд императора. Мы снова проезжали мимо японских местечек, и повсюду нас ждали толпы народа. Мимо них проносилось всего лишь несколько американских журналистов и офицеров, жующих свои пайковые продукты, но толпа видела не людей, сидевших в поезде, а только эмблему, нарисованную снаружи, и кланялась нам, как живому божеству.
Это был памятный день, ибо я своими глазами наблюдал политическую реставрацию в действии. Смысл существования императора, как божества, был сведен на нет в день капитуляции. Теперь группа старых, проницательных людей, окружавших императора, создавала новый миф — миф о демократическом монархе, заботящемся о благе своего народа. Это был позорный заговор против японского народа и против понятия демократии, которую мы обещали помочь утвердить в Японии.
Мне неизвестны все те люди, которые были авторами этой кампании, но время от времени я нападал на их след. Как сейчас утверждают,‘принц Коноэ, который четыре месяца назад предпочел отравиться, чтобы не предстать перед судом в качестве военного преступника, по заявлению людей, близких к нему, был одним из инициаторов этой великой метаморфозы. Другим видным представителем этого заговора был недавно назначенный министр импера-
178
горского двора маркиз Мацудайра. В этой связи называли также министра иностранных дел Сигеру Иосида. Среди христиан в Японии новый миф особенно усиленно распространяет Тойохико Кагава, известный под именем «ликвидатора трущоб». К этому заговору причастны также обе консервативные партии, поставившие лозунг «спасения трона» в основу своих программ. Их предвыборная кампания, до окончания которой осталось менее трех недель, не повредит поездке императора.
Сорок лет назад Бэзил Холл Чемберлен с восхищением говорил о смелости и политической проницательности людей, обожествивших императора. Приспособление этого мифа к новым условиям требует еще большей смелости. Подлинные правители Японии стараются найти нечто среднее между старым мифом и новыми демократическими принципами, о которых они читают в Потсдамской декларации и в последующих заявлениях союзников. Эту среднюю линию очень трудно различить, но люди, стоящие за спиной императора, весьма умело приспособляются к ней.
Было бы интересно установить, насколько искренна привязанность этих людей к Хирохито. Мне кажется, эта привязанность очень невелика. Однако у этих людей есть свои причины заботиться об императоре. Они посылают этого испуганного человечка на одну из улиц Сайтамы, где на него обрушивается толпа. Но они также шлют вслед за ним целый отряд сильных, самоуверенных и бдительных людей, каждый из которых, как это ни странно, носит на пиджаке бумажный значок. Агенты американской контрразведки рассказали нам в поезде, что император находится под постоянной охраной этих людей в штатском, отличить которых можно только по бумажному значку.
Авторы мифа проявляют еще большую осторожность в отношении Потсдамской декларации. Я недавно узнал о существовании так называемого «Потсдамского указа», изданного японским правительством по приказу американцев. Император, подписавший указ, повелевает своим подданным беспрекословно повиноваться распоряжениям генерала Макартура.
Несколько дней назад один офицер в штабе Макартура рассказал мне, что этот указ не появлялся на страницах
12* 179
официального правительственного бюллетеня. Он был напечатан на отдельных листовках, которые редко можно было увидеть.
Авторы мифа, видимо, не хотели оставлять никаких следов подчинения императора исходящим от иноземных завоевателей приказам, которые омрачили бы историю Японии.
28 марта 1946 г. ТОКИО
Последний месяц я каждое утро занимался изучением дзайбацу, этих специфически японских концернов, которые господствуют над всей жизнью страны, определяют ее политику и наживаются на войнах.
В прошлом месяце в Осаке я в течение двух дней встречался с главами дома Сумитомо, одной из четырех крупнейших дзайбацу. Однажды в холодном и величественном зале заседаний дома Сумитомо мне рассказали историю этого легендарного семейства, которое благодаря бродячему европейскому торговцу, проникшему в их страну четыре века назад, создало одно из величайших состояний в мире. Этот торговец научил семейство Сумитомо производить очистку меди и серебра, и Сумитомо начали искать руду. Когда в 1691 г. они обнаружили залежи медной руды в Бесси, их судьба была решена. В прошлом месяце четыре ныне здравствующих представителя дома Сумитомо повелевали колоссальной империей, насчитывавшей не менее 292 фирм во всех отраслях от горной и металлургической промышленности до производства музыкальных инструментов и страхования жизни, и состояние их исчислялось в 600 миллионов долларов в довоенных ценах.
По возвращении из Осаки я встречался со многими американскими и японскими специалистами по дзайбацу. Среди них были лидер социалистов Мосабуро Судзуки, три года проведший в тюрьме и четыре года под надзором полиции за то, что он написал труд о японских монополиях, и мой друг Сигето Цуру, экономист, окончивший Гарвардский университет и ныне работающий в штабе Макартура. Они и многие другие люди, с которыми я беседовал, сообщили мне сведения, касающиеся истории,
180
практики и перспектив этих легендарных японских концернов.
«Дзай» по-японски значит богатство, «бацу» — клика, а вместе они означают два десятка семейств или групп, которые в течение многих поколений душат в своих тисках экономику Японии. По существу этот термин должен относиться ко всем японским концернам, но сейчас его значение совершенно несправедливо ограничивается четырьмя богатейшими семействами — Мицуи, Мицубиси, Сумитомо и Ясуда.
Эти четыре семейства контролируют почти три четверти капиталов всех японских фирм.
В 1941 г. Мицуи и Мицубиси вместе добывали 40 процентов всего угля в Японии. В 1937 г. банки, находившиеся в руках четырех дзайбацу, сосредоточивали одну треть всех вкладов частных японских банков, их тресты владели тремя четвертями вкладов всех трестов, а их страховые компании — одной пятой всех полисов страхования жизни. Мицуи, Мицубиси и Сумитомо контролировали более половины выплавки меди, а до того как американские подводные лодки стали господствовать нН Тихом океане, в руках этих трех концернов находилась половина торгового флота Японии. Мицубиси обладали фактической монополией на производство стекла, а Мицуи — бумаги.
В 1944 г. каждое четвертое судно в Японии было построено на верфях Мицубиси. Мицуи и Мицубиси владели тремя четвертями всех мельниц в стране и почти устранили конкуренцию в области сахароварения. До войны три крупнейших дзайбацу владели половиной всех складских помещений Японии и в их руках находилась третья часть всей японской внешней торговли.
В 1939 г. оборот внешней торговли одного только концерна Мицубиси составил 200 миллионов долларов. В довоенные годы в руках Мицуи находилась третья часть японской торговли шелком-сырцом, хлопком и хлопчатобумажными тканями. Мицубиси, в свою очередь, контролировали один из трех крупнейших пивоваренных заводов страны и одну из двух кондитерских фабрик, построенных по иностранному образцу. Однако, как только началась война, Мицубиси отказались от производства пива и конфет и целиком посвятили себя производству 181
10 тысяч самолетов, выпуская один из каждых семи самолетов, производившихся в Японии.
Этот перечень богатств дзайбацу, которые открылись передо мной, когда я изучал сложные схемы и диаграммы, подготовленные экспертами штаба, можно продолжать до бесконечности. По данным штаба, к началу этого года Мицуи непосредственно контролировали 185 фирм, а Мицубиси — 285, и не было ни одной области экономической деятельности, в которой тот или иной концерн не извлекал бы прибыли. Это самые разнообразные области, от сельского ростовщичества до производства игрушек, от маньчжурской сои до отелей, от гавайских шахт до строительства линкоров, вплоть до контролируемой Сумитомо фирмы под необычным наименованием «Акционерное общество дружеской беседы».
Благодаря европейскому бродяге, Сумитомо стали первой дзайбацу. Они поселились в Осаке и составили свое основное состояние на производстве цветных металлов и торговле рисом. Глава ныне здравствующих Сумитомо, барон Кицидзаемон Сумитомо, одна из самых колоритных фигур в Японии. Это барышник, мечтающий об империи и обладающий талантом поэта. Его приближенные в Осаке уверяли меня, что это «джентльмен исключительно миролюбивого нрава и с большими литературными склонностями». Этот «миролюбивый поэт» председательствовал в «Акционерной компании Сумитомо» и железной рукой управлял необъятной империей Сумитомо — империей пушек, авианосцев, бомбардировщиков, азота и т. п.
Мицуи, крупнейшая из всех дзайбацу, несколько моложе. Основатель этого дома начал свою карьеру, ссужая деньгами своего господина-феодала, а затем занялся торговлей. Когда три четверти века назад разгорелась борьба между военным 'узурпатором и кликой сторонников императора, Мицуи поддержали последнюю. Император победил, и фирме перепал не один лакомый кусочек. Она получила право производить правительственные закупки за границей и за бесценок приобрела богатейшие угольные шахты Японии. С ростом богатства Мицуи рос и их интерес к политике. Мицуи стали оказывать поддержку могущественной партии Сейюкай и провели своих людей в состав правительства. Сейчас во главе фирмы стоят шесть 182
главных и пять более мелких семейств Мицуи, личный доход которых в 1937 г. составил 20 миллионов долларов. (Доход императорской семьи в этот год определялся в 7 миллионов долларов.)
Дзайбацу Мицубиси, возглавляемая семейством Ива- саки, была основана 80 лет назад предприимчивым самураем по имени Ятаро Ивасаки. Ивасаки вел финансовые дела своего господина. Но семейство этого феодала потерпело поражение в борьбе против императора, и Ивасаки получил все богатства своего господина, в том числе И судов. В 1874 г., когда Япония напала на Формозу, Ивасаки получил контракт на перевозку войск и грузов. Чтобы облегчить его задачу, правительство закупило и передало ему еще, 30 судов.
Так было положено начало одной из величайших судоходных компаний мира «Ниппон юсен кайса». При постоянной поддержке дружественного правительства и двора, Ивасаки переключились на судостроение — для того чтобы иметь побольше судов, на угольные шахты — для того чтобы добыть побольше топлива для своих пароходов, на страховые компании — для того чтобы застраховать свои суда, и на банки — для того чтобы финансировать морскую торговлю.
В 1890 г. правительство, остро нуждавшееся в средствах, вынудило Ивасаки приобрести пустующие земли в Токио. Звезда Ивасаки благоприятствовала им. Пустующие земли оказались в центре нового Токио. В то время как соперничающий дом Мицуи поддерживал партию Сейю- кай, Ивасаки вкладывали средства в партию Минсейто — японского двойника нашей демократической партии. Политическая арена Японии стала ареной борьбы за превосходство между двумя дзайбацу и их политическими партиями.
Последняя из четырех крупнейших дзайбацу — Ясуда — ведет свое начало от ростовщика, жившего в прошлом веке. Расцвет Ясуда приходится на период русско-японской войны 1904—1905 гг., когда они ссужали правительство огромными средствами. Впоследствии семейство Ясуда усиленно занялось колониальными предприятиями, пенькой, бумагой, самолетами. Но до сих пор главной областью их деятельности является финансирование. В противоположность другим дзайбацу, Ясуда влияет на политику
183
Японии не через политические партии, а через военные и тайные общества. Таким образом, на службу дзайбацу были поставлены даже непримиримые ультранационалисты Японии, часто распространявшиеся о своей ненависти к этой финансовой клике.
У дзайбацу много общего с крупными западноевропейскими концернами, и с многими из них — такими, как «Виккерс-Армстронг» или «Вестингауз»,— они поддерживают дружеские связи. И все же их разделяют целые века, ибо дзайбацу, несмотря на свои высокие профессиональные качества, все еще глубоко уходят корнями в феодальное прошлое Японии. Японцы, рассказывавшие мне об этом, неоднократно убеждали меня глубже вникнуть в это различие, говоря: «До тех пор пока вы, американцы, не поймете этого, вам не удастся уничтожить дзайбацу».
Хотя семейства дзайбацу владеют большей частью крупных трестов, последние управляются так называемыми «банто», или управляющими. Банто — это специфическое японское явление, в основе которого лежит понятие верности самурая своему господину. Дзайбацу отбирают среди своих служащих и выпускников лучших учебных заведений Японии талантливую молодежь. Эта молодежь затем тщательно подготавливается для руководящих постов. После того как они постепенно поднялись по иерархической лестнице в своей дзайбацу, их ставят во главе дочерних фирм.
Рано или поздно лучшие из них становятся банто и, в свою очередь, начинают готовить себе преемников. Когда служащий становится банто, ему предоставляют большую свободу. Дзайбацу требуют от него только успеха и бес- предельной верности. Некоторые банто вошли в историю. Многие стали министрами, директорами Японского банка и приняли активное участие в составлении военных и агрессивных планов. Однако дзайбацу остаются феодальными организациями. И многие банто, поднявшиеся высоко, летят с этой высоты, если они навлекли недовольство своих хозяев. Один банто, занимавший высокое положение, увлекался игрой на флейте и однажды выступил по радио. Его услышал Ивасаки, который счел этот поступок недостойным доброго имени Мицубиси, и банто был немедленно смещен.
184
Банто играют большую роль прежде всего в том, что когда один из них управляет дочерней фирмой, то не имеет никакого значения, составляет ли вклад дзайбацу в этой фирме пять или сто процентов. Банто заботится о том, чтобы возглавляемая им компания следовала общей политике дзайбацу. Дзайбацу Мицубиси в своем отчете штабу перечисляла 285 фирм, в которых она владеет контрольным пакетом акций. В отчете упоминалась также 451 компания, в которых вклад дзайбацу составлял «менее 10 процентов». Это игра слов. Через своего доверенного банто она контролирует многие, если не большинство, этих компаний.
Таким образом, банто — это не оплачиваемые наймиты, а феодальные слуги, служащие своим господам.
Другая характерная чепта дзайбацу — их банки. Кредитные возможности в Японии ограничены, и промышленник, не имеющий свободного доступа в дружественный банк, терпит банкротство. Крупные концерны имеют свои банки, субсидирующие их; более мелкие дзайбацу, не имеющие банков, вынуждены обращаться к более крупным, заключать союзы и добиваться кредитов. По мере того как банки дзайбацу богатеют, растет их клиентура среди мелких промышленников и коммерсантов. Новые средства используются для расширения поля деятельности дзайбацу, которые часто поглощают предприятия промышленников, вкладывающих средства в их банки. Банки дзайбацу немилосердны. Конкуренты не получают кредита, а от тех, кто его получает, требуют покупать сырье у дзайбацу или пользоваться ее складскими помещениями, судами и посредническими услугами. В' годы депрессии банки захватывали обанкротившиеся предприятия и передавали их в руки своей дзайбацу.
Третья характерная черта — тесная связь между дзайбацу и императорским двором. Самого императора называют «воплощенным дзайбацу». Император, несомненно, самый богатый человек в Японии. Три месяца назад в докладе генералу Макартуру японское правительство оценило собственность императора почти в 1700 миллионов иен. В силу особой системы подсчета, примененной в данном случае, эту цифру трудно перевести в американские доллары, но один из экспертов штаба сказал по этому поводу: «Император стоит от полумиллиарда до миллиарда
185
долларов. Это объясняется тем, что мы не знаем, — и, пожалуй, никогда не узнаем, — какая доля его богатств была скрыта перед нашим прибытием сюда».
Императорская фамилия держала большие средства в банках дзайбацу, в том числе в банках Мицуи и Сумитомо. В течение многих лет она была крупнейшим акционером судоходной компании «Ниппон юсен кайса» («НЮК»), владея большим пакетом акций, чем дзайбацу Мицубиси, которая контролирует фирму. С поразительной непредубежденностью она также была крупным акционером главного конкурента «НЮК» — судоходной компании «ОСК лайн». Император был также акционером страховых компаний Мицубиси, угольных и бумажных фирм Мицуи, формозских сахарных и судоходных компаний, колониального и ипотечного банков Хоккайдо и даже отеля «Империал», в котором сейчас живут высокопоставленные американские офицеры.
Владея 60 процентами акций Японского банка, императорская фамилия была его крупнейшим акционером. Остальные акции этого банка находились в руках дзайбацу. Подобно дзайбацу, императорская фамилия также наживалась на завоеваниях Японии. Так, накануне войны в ее руках находилось 22 процента акций банка «Иокогама спеши бэнк», который занимался главным образом эксплоатацией оккупированных районов или районов, которых домогалась Япония. Политика банка диктовалась советом директоров, представлявших дзайбацу. Вместе с дзайбацу императорская фамилия была крупнейшим акционером Южно-Маньчжурской железнодорожной компании. Миллионы иен император вкладывал в такие банки, как Формозский и Корейский, являвшиеся орудиями колониальной эксплоатации.
Императорская фамилия придерживалась той же хищнической философии, что и дзайбацу. Поскольку премьер-министры избирались советниками императора, вся феодальная система Японии гарантировала, что национальная политика страны будет отвечать этой философии.
Дзайбацу, в свою очередь, были самыми рьяными сторонниками мифа об императоре. Этот миф они считали самым надежным средством защиты против народного недовольства их политикой. Мало кто изъявил бы готовность
186
отправиться на континент Азии и воевать ради обогащения дзайбацу. Но миллионы людей были готовы на это, если им говорили, что таким путем они служат своему императору. Поэтому дзайбацу жертвовали миллионы иен на синтоистские храмы, на пропаганду, на проведение кампаний, популяризирующих пагубную «миссию» Японии.
Однако связь между дзайбацу и императорским домом была еще более тесной. Сумитомо утверждали, что их дом ведет свое начало от императорской фамилии, Мицуи — от феодального рода, из которого императоры брали себе жен. Дзайбацу связали себя дружескими и семейными узами с советниками императора и со всей феодальной системой. «Сумитомо были связаны с принцем Сайондзи, который в течение 60 лет «составлял кабинеты». Мицуи находились в тесных отношениях с целым рядом видных придворных государственных деятелей, в том числе с двумя последними министрами императорского двора. Мицубиси, удачно начавшие свою карьеру при содействии императорского советника, с тех пор всегда имели своих людей при дворе.
Почти все дзайбацу, не говоря уже о четырех крупнейших, обязаны значительной долей своего богатства войнам. Основы богатства Мицубиси были заложены захватом Формозы императорской Японией. Ясуда обогатились на прибылях, извлекавшихся из войны с Россией.
Агенты дзайбацу всегда шли бок о бок с японскими солдатами, а иногда и впереди них. Многочисленные данные свидетельствуют о том, что отделения дзайбацу за границей часто служили центрами экономического и военного шпионажа. Шпионская сеть Южно-Маньчжурской железнодорожной компании, контролировавшаяся совместно представителями армии и дзайбацу, покрывала всю Азию. В Шанхае я знал японского журналиста, который выполнял шпионские задания этой компании. Когда в 1937 г. японская армия напала на Китай, этот «журналист» облачился в форму майора.
'Однако шпионаж был побочной задачей по сравнению с извлечением прибылей. Дзайбацу наживаются на агрессии различными способами. В течение последних пятнадцати лет они нажили миллиарды на производстве воору-
187
жения. («Компания тяжелой промышленности Мицубиси» с капиталом приблизительно в 180 миллионов долларов по довоенному обменному курсу получила в 1944 г. 75 миллионов долларов прибыли.) Банки дзайбацу предоставляли займы правительству. С каждым новым захватом в Азии правительство тотчас же создавало компанию «по развитию», которая финансировалась главным образом дзайбацу. Эти компании «по развитию» систематически грабили оккупированные районы.
Наряду с экспансией за пределами Японии, росла власть дзайбацу и над внутренней жизнью страны. Это достигалось с помощью множества различных ухищрений. Одним из таких способов было создание «контрольных ассоциаций», которые распределяли сырье, кредиты и производственные квоты между заводами. Эти ассоциации находились во власти дзайбацу, которые пользовались своей властью и вытесняли более мелких предпринимателей. Друзья дзайбацу в правительстве заботились о том, чтобы разрешения на открытие новых заводов выдавались только «дееспособным» фирмам, то есть дзайбацу.
Когда было создано министерство вооружений и некоторые фирмы были выделены в качестве «компаний по производству вооружений», дзайбацу были дарованы гарантированные прибыли, льготы по некоторым законам и право набирать рабочую силу и устанавливать заработную плату. Нет ничего удивительного в том, что из четырех министров вооружений два были выходцами из дзайбацу Мицуи. Еще менее удивительно то обстоятельство, что при первой же возможности были распущены профсоюзы, вместо них созданы «патриотические ассоциации» рабочих и предпринимателей, и правительство объявило, что «труд будет долгом народа перед государством... Следует поощрять дух порядка, повиновения старшим и сотрудничества между рабочими».
Один из мифов, распространявшихся дзайбацу и особенно полезный для них сейчас, состоит в том, что между дзайбацу и военщиной существует непроходимая пропасть. Сторонники этого мифа из числа американцев в 30-х годах утверждали, что Япония никогда не будет воевать против Соединенных Штатов, потому что дзайбацу, для которых 188
их деловые интересы стоят на первом месте, не поддержат армию. Один из наших дипломатов в Токио, которого этот миф особенно ввел в заблуждение, даже отзывался о главарях дзайбацу как о «наших лучших союзниках» и «людях нашего склада». И всякий раз, когда какой- нибудь фанатик из военных убивал какого-либо агента дзайбацу или открывался заговор с целью взорвать, например, банк Мицуи, эти друзья дзайбацу говорили: «Видите, как они ненавидят друг друга». Сами дзайбацу извлекали максимальную пользу из этого заблуждения, и оно помогло усыпить нашу бдительность и привело нас к трагедии, разыгравшейся в Пирл Харбор.
В действительности между дзайбацу и японской военщиной никогда не было коренных разногласий. Так же, как и последняя — хотя и из иных соображений, — дзайбацу всей душой стремились к агрессии. Агрессия открывала перед дзайбацу надежные рынки, богатую добычу и исключительные источники сырья. Разногласия между ними были семейными разногласиями. Дзайбацу и армия боролись за политическое влияние и за власть. Время от времени между ними возникали разногласия относительно темпов агрессии. Когда требовалось проявлять осторожность, дзайбацу и их союзники при императорском дворе старались сдерживать армию. И поэтому дзайбацу следует рассматривать исключительно как партнера армии по агрессии.
Не все японцы, облаченные в военную форму, питали симпатию к дзайбацу. Многие офицеры младшего поколения, выходцы из сельских местностей, бывшие свидетелями неуклонного удушения сельской экономики со стороны дзайбацу, глубоко ненавидели их, но эту ненависть редко разделяли генералы и адмиралы. Многие из них получали тепленькие местечки в фирмах дзайбацу. Мицубиси, особо интересовавшиеся судоходством, предпочитали адмиралов. Мицуи использовали главным образом генералов.
Штаб генерала Макартура лишь подтвердил упорные слухи, когда сообщил на днях, что дом, в котором Тодзио покушался на самоубийство, был подарен ему Ивасаки и что семейство Тодзио, по имеющимся сведениям, получило 10 миллионов иен наличными, акциями и собственностью от щедрого главы Мицубиси.
189
Все это нам было Известно в день нападения Японии, и на протяжении войны наша решимость разрушить эту порочную экономическую систему возрастала все более. 29 августа 1945 г., через две недели после капитуляции Японии, эта решимость была энергично сформулирована в совместном заявлении, переданном генералу Макартуру по радио государственным департаментом, военным и морским министерствами. Генерал получил указание разработать программу роспуска дзайбацу и создания демократических профсоюзных, промышленных и сельскохозяйственных организаций.
Когда мы высадились в Японии, там не работало ни одно промышленное предприятие. 22 сентября знаменитая «директива № 3» предписывала японцам начать производство. (Один полковник сказал мне по этому поводу: «Мы опасались бунтов, если заводы не начнут работать».) И почти одновременно дзайбацу был направлен приказ о том, что они должны подготовиться к самороспуску.
Представители четырех крупнейших дзайбацу почть не покидали штаба Макартура до тех пор, пока не был разработан план самороспуска. Этот план, с одной стороны, требовал добровольной чистки среди верхушки дзайбацу, остальная часть плана была претворена в императорский указ, требовавший создания Комиссии по ликвидации акционерных компаний в будущем месяце. Согласно этому плану, комиссия должна была принять ценные бумаги от акционерных компаний дзайбацу и распродать их. Владельцы дзайбацу должны были получить расписки, которые, в конечном счете, предстояло обменять на долгосрочные, не подлежащие передаче правительственные ценные бумаги.
Я убежден, что дзайбацу не были напуганы этим планом. Во-первых, как известно, они предвидели поражение Японии и подготовились к нему. Когда поражение наступило, они скрыли огромные запасы сырья, промышленных товаров и оборудования, которыми они могут вновь воспользоваться, как только прекратится оккупация. Кроме того, дзайбацу обезопасили себя так называемыми «возмещениями» — правительственной гарантией против всякого рода потерь, связанных с войной. Правительство «задолжало» дзайбацу фантастическую сумму в 50 миллиардов иен, из которых 20 миллиардов были
190
поспешно_выплачены в два срока—незадолго до капитуляции и тотчас же после капитуляции.
ь Однако это не единственное соображение, в силу которого почти все японские эксперты, знакомые мне, считают бессмысленными все нынешние планы ликвидации дзайбацу. Это мнение объясняется многими причинами. Так, например, японцы критикуют нас за то, что мы считаем дзайбацу слепками с наших трестов и не учитываем феодального характера японских концернов. Они утверждают, что мы не уделяем достаточного внимания связям между промышленностью и банками дзайбацу. Они утверждают, что мы_ сами точно не знаем, чего мы хотим: немедленного "возрождения промышленности или создания демократической экономики. Они, наконец, говорят, что наивно ожидать самоусовершенствования преступников.
Самым убедительным доводом в этом отношении служит то обстоятельство, что правительство, с помощью которого мы сейчас пытаемся произвести эту реформу, теснее всех других правительств в истории Японии связано с дзайбацу. Премьер-министр этого правительства — барон Сидехара — женат на представительнице семейства Ивасаки, и в течение 20 лет выступал в качестве политического рупора Мицубиси. Министром иностранных дел в этом правительстве назначен Сигеру Иосида, который находится в родственных отношениях с одним из советников императора, ярым сторонником дзайбацу, и который всего четыре месяца назад выступил с энергичным протестом против роспуска дзайбацу. Министр, которому поручено составить демократическую конституцию — д-р Мацумото — один из виднейших японских юристов, служивший в дзайбацу Мицубиси и Ясуда в качестве юрисконсульта и директора. Министром торговли и промышленности числится президент Токийской биржи.
И, наконец, министр финансов, которому поручено наблюдение за ликвидацией дзайбацу — виконт Кейдзо Сибусава,—является главой одной из дзайбацу, подлежащих уничтожению. Это совсем смехотворно. Всякий законопроект, который он составит, должен быть одобрен императором, а два ближайших советника последнего — ставленники Мицуи. Теперь я начинаю понимать, почему -реди дзайбацу нет никакой паники.
1191
4 апреля 1946 г.
ЦИБД
Узнав, что на одном из заброшенных аэродромов создана японская военная колония, я выехал в префектуру Циба в сопровождении Кохрэна и лейтенанта из американцев японского происхождения.
Мы сначала направились в управление префектуры, где разыскали начальника отдела по поддержанию безопасности и порядка. Мы расспрашивали его целый час, пока, наконец, не убедились, что попали не туда, куда нам нужно. Когда японское правительство решило капитулировать в августе прошлого года, оно произвело перетасовку среди руководящего персонала и изменило названия отделов управления префектур. Это был очень хитрый ход, ибо, когда американцы требуют предоставления им какой-нибудь важной информации или пытаются найти виновника невыполнения того или иного приказа, японские чиновники могут преспокойно отвечать: «Я бы с радостью помог вам, но я сам здесь новый человек». Мы установили, что отделом по поддержанию безопасности и порядка теперь называется бывший экономический отдел, в то время как бывший отдел по поддержанию безопасности и порядка теперь известен как отдел безопасности. Отдел, занимающийся делами бывших военнослужащих, теперь называется отделом общественного благосостояния.
В этом отделе мы потратили еще два часа. Он помещался в огромной, набитой народом комнате, и наш разговор с начальником отдела слушали все служащие. Недалеко от нас сидели два японца. Они были в полной военной форме, вплоть до коричневых кавалерийских сапог. Они откидывались на стульях и смеялись во все горло каждый раз, когда начальник отдела ловко увертывался от наших расспросов.
Затем мы направились в местное бюро по демобилизации армии. Мы побеседовали с генерал-майором, который как две капли воды был похож на Тодзио. Он рассказал нам, что совмещает обязанности советника, матери, няньки и царя Соломона. Ни Боб, ни я не могли понять, чем занимается это бюро: объединением демобилизованных солдат или просто оказанием этим солдатам помощи, которую они не могут получить в другом месте.
192
Чтобы дать нам представление о проблемах, которые ему приходится решать, генерал упомянул о солдатах, возвращающихся из союзных лагерей для военнопленных. До сих пор японские солдаты, попавшие в плен, официально объявлялись погибшими, и их жены считались вдовами. Даже разведчики, захваченные в плен при выполнении задания, подлежали 10-летнему тюремному заключению, если им удавалось бежать из плена. Но сейчас, по признанию генерала, в префектуре насчитывается 23 человека, открыто признавших, что они были в плену у союзников, и предстоит прибытие еще многих тысяч пленных. Генерал был явно обеспокоен этим обстоятельством.
Но, между прочим, генерал сообщил нам, что в префектуре насчитывается с десяток «военных ферм». Он рассказал нам, как проехать к ферме Симосидзу, которую мы и разыскивали.
Мы снова выехали на мокрую ленту шоссе, обрамленную цветущими вишневыми деревьями. Моросил дождь. Мы поднимались в гору, и вся местность нам казалась покрытой розовой пеной цветущих деревьев, воздух был напоен их ароматом.
Внезапно перед нами открылся аэродром, столь обширный, что противоположная сторона его скрывалась в тумане. Невзирая на американскую надпись «Проезд воспрещен», мы въехали на аэродром. Часть аэродрома была отведена под склад японского вооружения — под дождем ржавели тяжелые орудия, танки, грузовики и огромная груда металлических шлемов.
Мы проехали большое пространство и, наконец, остановились у здания, в котором, видимо, помещалось начальство. Нам навстречу вышел встревоженный японец средних лет. Он сказал, что он инженер из Токио и прикомандирован к ферме в качестве советника. Мы вошли в пустую запыленную комнату со стульями, из которых торчали пружины, и завели разговор о ферме и ее обитателях.
Японец рассказал нам, что ферма была «демократизирована пять дней назад», после того как ею заинтересовался американский Корпус контрразведки («Си-Ай-Си»). Он показал нам копию отчета, подготовленного для «Си- Ай-Си». В отчете говорилось, что на ферме насчитывается
13 М. Гейв 193
тысяча семейств, владеющих 6200 акрами земли — в три раза больше общенациональной нормы. Среди фермеров три генерал-майора, 29 полковников, 39 майоров и т. д., вплоть до двух сержантов жандармерии. Четыреста человек являлись бывшими гражданскими служащими военного министерства. До дня «демократизации» эта колония была подразделена на восемь групп, каждая из которых возглавлялась полковником. Эти восемь полковников составляли генеральный штаб, в свою очередь возглавлявшийся генерал-майором. Теперь, объяснил нам японец, совет состоит из полковника, двух майоров и шести бывших гражданских служащих военного министерства.
Отворилась дверь, и вошел другой японец. У него было широкое красное лицо фермера и голос командира. Всем своим обликом он резко отличался от робкого советника. Он сказал нам, что в прошлом был полковником.
В день капитуляции Японии, разъяснил нам полковник, японское правительство передало всю военную собственность министерству финансов, а все военные земли — министерству земледелия. Одновременно военное министерство основало «Общество помощи и руководства». Это общество обратилось ко всем военным с предложением поселиться на земле.
«Военное министерство, — рассказывал нам полковник своим громким голосом, — выявило желающих и направило их сюда. Министерство финансов выделило нам 20 зданий, предоставило оборудование и заем в 6630 тысяч иен [400 тысяч долларов]. Министерство земледелия дало землю и направило советника...—Он кивнул на инженера из Токио. — В прошлом году мы выращивали бататы. Нам нехватило того, что мы собрали, но в этом году у нас дело будет обстоять лучше».
Мы полюбопытствовали, какой процент ферма платит по займу.
«Процент? — рассмеялся полковник. — Мы не платим никаких процентов».
— А когда вы должны выплатить свой заем?
«Нам его не нужно выплачивать».
— Какова арендная плата, которую вы платите за землю?
«Мы не платим арендной платы».
Из его рассказа мы узнали, что в ноябре прошлого
194
года американцы, наконец, добрались до «Общества помощи и руководства» и прикрыли его. Но общество уже сделало свое дело. Теперь наблюдение над этими военными фермами осуществляется управлениями префектур, которые отнюдь не склонны портить отношения с бывшими военными. Крестьяне округи отнеслись к колонии менее дружелюбно. Арендаторы не могли понять, почему военным выделили эти богатые земли, и они возражали против этого. После длительных споров военные отдали 400 акров худшей земли соседним крестьянам, но для того чтобы 200 крестьянам, организованным в «Лигу по поддержанию жизненных условий», получить свою долю оборудования и семян, пришлось совершить налет на склады фермы.
«Коммунисты, — кричал полковник, — все они коммунисты, и полиция заодно с ними!»
После беседы полковник пригласил нас взглянуть на ферму с военной сторожевой башни. Мы проехали через обширную территорию фермы, через учебные плацы и мимо укрытий для зенитной артиллерии, которые были целы и невредимы. Когда мы проезжали мимо большого гаража, я увидел семь тяжелых танков.
«Это тракторы, — сказал нам полковник. — Мы сняли с них орудия и теперь используем их вместо тракторов».
Под дождем при сильном ветре мы с трудом вскарабкались по открытой лестнице на вершину башни. Но мы не пожалели об этом. Все пространство, открывшееся перед нами в тумане «от леса до холмов», было территорией военной фермы. И лишь крохотный клочок земли был возделан. Мы спустились и предложили японцам подвезти их домой. Они сказали, что хотят прогуляться и отправились пешком под дождем.
Мы вернулись в Токио поздно, к обеду, так как предпочли не ночевать в какой-нибудь японской гостинице. После обеда я вытащил свою папку с пометкой «Военное подполье». К множеству заметок, уже лежавших в этой папке, я теперь прибавил свои заметки о воинской части, существующей под именем сельскохозяйственной фермы, которая разбита на подразделения, насчитывающие от 50 до 300 человек под командованием полковника, поддерживает военную дисциплину, использует танки вместо тракторов и воюет с местным населением. А в управлениях
W 195
префектур старый порядок и старые служащие скрыты искусной перетасовкой.
В моей папке было собрано много и других материалов. Среди них было перехваченное письмо, адресованное высокопоставленному чиновнику министерства императорского двора, автор которого информировал чиновника о том, что он хорошо распорядился запасами, переданными (тайно) на его попечение. Среди них были сведения о генерал-лейтенанте, который возглавлял три военных «бюро связи» еще долго после того как ему было приказано распустить их, об отставном лейтенанте, открывшем «Институт по изучению современного мышления», в котором 40—50 бывших военных изучали в мельчайших подробностях воинствующий национализм новейшего времени. Среди них были десятки приказов, изданных японской армией и флотом в последние часы войны, со строгим наказом адресатам сжечь эти документы по прочтении. Но многие адресаты проявили небрежность, и вот перед нами свидетельство предательства — приказы, требующие скрыть оружие, сжечь архивы, расселить поблизости личный состав, спрятать важнейшие виды сырья, машины и оборудование.
Эти материалы свидетельствуют о тщательно подготовленном заговоре. Были приняты меры для финансирования военных и националистических групп на всем протяжении мрачных дней оккупации. Запасы армии и флота были переданы дзайбацу за деньги и безвозмездно. В некоторых случаях они передавались за деньги (один японский генерал, например, продал 8 тысяч лошадей, принадлежащих армии, и прикарманил выручку). Однако когда в течение пяти месяцев фантастически исчезло 2500 тысяч бушелей военных запасов пшеницы, риса и фуража из общего числа 8250 тысяч бушелей, насчитывавшихся в день высадки американцев в Японии, это, пожалуй, было сделано безвозмездно. Деньги раздавались целыми мешками без всякой отчетности. С банками и промышленными предприятиями была достигнута договоренность о занесении бывших офицеров в платежные ведомости.
17 августа 1945 г., через три дня после капитуляции Японии, в одном из этих приказов военное министерство дало указание командирам на местах немедленно рас-
196
пределить между гражданским населением все армейские запасы, горючее, машины, строительные материалы, суда, одежду и даже землю. Военное министерство сознательно шло на этот обман. На документе была пометка: «Этот приказ должен быть сожжен и бесследно уничтожен до высадки противника и должны быть приняты соответствующие меры, чтобы он не попал в руки противника». В приказе также указывалось: «Документы, связанные с [тайной] передачей запасов, должны быть в полном порядке. Необходимо особенно позаботиться о том, чтобы ке оставлять никаких следов, которые могли бы вызвать подозрение или причинить неприятности в будущем».
Штабу Макартура было известно о заговоре. Но эта осведомленность не вызвала принятия соответствующих мер. «Си-Ай-Си» нехватало людей. Еще больше в этом отношении нам повредила наша зависимость от японского правительственного аппарата, который до сих пор управляется людьми, еще совсем недавно служившими японскому ультранационализму. Американские офицеры на местах, изо дня в день сталкивающиеся с явными доказательствами преднамеренной обструкции, бьют тревогу. Американец, прибывший из одного из отдаленных городов Японии, сказал мне на днях:
«Обструкция носит столь массовый характер, что мы даже не пытаемся установить ее размах. Данные, которыми мы руководствуемся, накапливаются с каждым днем и заводят нас в такие области, которые мы и не собирались обследовать. Не знаю, есть ли у нас уже основания беспокоиться, но мы не можем забывать того, что произошло в Германии 25 лет назад».
5 апреля 1946 г. ТОКИО
Сегодня утром было положено неудачное начало существованию Союзного совета для Японии, центральную роль в котором играет генерал Макартур. С раннего утра зал заседаний был заполнен народом. По обе стороны огромного полированного стола сидели четыре главных делегата, а позади них — их советники. Соединенные Штаты представлял генерал Маркат, который’будет председательствовать в Совете; Британское содружество
Л97
наций — У. Макмагон Болл, когда-то возглавлявший факультет политических наук Мельбурнского университета; Россию — генерал-лейтенант Деревянко, участник наступления Советской Армии от Курска через Украину, и Китай — генерал-лейтенант Чжу Ши-мин, в прошлом служивший в Вашингтоне.
Это был один из редких случаев публичного выступления Макартура, и фоторепортеры навели свои аппараты на небольшую трибуну для оратора.
Генерал Макартур вошел в зал в точно установленное время. Это высокий, сутулый человек с темными гладкими волосами, тщательно зачесанными, чтобы прикрыть лысину. Он пожал руки трем иностранным делегатам, улыбнувшись каждому из них, и затем не мешкая приступил к чтению своей речи.
Хотя речь генерала Макартура была написана обычным для него цветистым языком, было нетрудно понять, к чему он клонит. Уже во второй фразе он пояснил, что Совет имеет лишь консультативные функции и что он не будет «разделять высокой административной ответственности верховного главнокомандующего, как единственного обладателя исполнительной власти». Затем он обрушился на людей, критиковавших его деятельность, и начал превозносить свои достижения. Он особенно восхвалял новую конституцию, которая, по его словам, была составлена самими японцами и «широко и свободно обсуждалась ими». Статью, предусматривающую отказ от войны (которую, говорят, составил он сам), Макартур назвал примером для всего мира.
Повелительный тон генерала Макартура и беспокойство, которое в нем слышится, легко понять. Ни при каких обстоятельствах генерал не поступится своей властью. Дальневосточная комиссия, в которую входит одиннадцать держав, висит у него камнем на шее; у него есть основания ожидать, что ее отпрыск — Союзный совет для Японии — попытается отобрать у него часть его прав. Безусловно, разделение власти в Германии не являет собой благоприятного примера для Японии, в которой могут возникнуть^ такое же соперничество*^ и такая же неразбериха. Но здесь для полноты картины необходимо осветить еще одно обстоятельство. Генерал Макартур исключительно болезненно реагирует на всякую критику.
198
Вполне возможно, что совершенно справедливые запросы и рекомендации Совета будут восприняты генералом Ма- картуром как умаление его достоинства и авторитета, и он будет очень резко реагировать на это. Работа в Совете будет требовать большого такта и терпения.. Нам кажется, что английский делегат обладает и тем, и другим. Посмотрим, можно ли будет то же самое сказать о генерале Деревянко и генералах Макартуре и Маркате. Некоторые из наших, кто служил на Филиппинах, вспоминают, что за восемь месяцев до капитуляции Японии американские офицеры, работавшие в области психологической войны, получили указание не упоминать о союзниках в связи с филиппинской кампанией. То, что генерал Макартур не хотел признать в Маниле, вполне возможно, эн не захочет признавать и в Токио.
6 апреля 1946 г. ТОКИО
До выборов, которые рекламируются как первое проявление демократических стремлений в Японии, осталось всего четыре дня. Сегодня я объездил окраинные районы Токио вместе с «командой наблюдателей», состоящей из молодого лейтенанта и переводчика — американца японского происхождения.
При ближайшем рассмотрении эти «команды» менее внушительны, чем они кажутся на бумаге. Лейтенант, с которым я ездил, получил самые неопределенные инструкции. Он не должен вмешиваться в политическую деятельность, должен сообщать о всяких нарушениях; он должен следить, не обнаружатся ли какие-нибудь признаки существования подозрительной Новой японской партии. Ни он, ни его переводчик не были знакомы ни с политикой, ни с историей Японии. Переводчик, только что прибывший в Японию, говорил на ломаном японском языке, который он учил в Калифорнии. При всем своем рвении лейтенант не мог понять того, что происходило у него на глазах. Это был всего лишь двадцати летний юноша, находившийся в полной растерянности, единственным глубокомысленным замечанием которого было: «Я просто не могу себе представить, чтобы американцы смогли жить так, как живут японцы».
199
В сопровождении японского полицейского мы направились в небольшое пригородное местечко, чтобы побеседовать с кандидатами в парламент. Был ясный весенний день, цвели вишневые деревья, только что прошел освежающий дождь, и вся местность вокруг с нарядными бамбуковыми заборами, садами и домиками казалась веселой и сказочной. Это впечатление сказочности еще больше усилилось, когда мы обнаружили, что впереди только что проехала американская санитарная команда, распылявшая порошок ДДТ против насекомых. Ребятишки, бежавшие за нашей машиной, стали белокурыми от порошка, а одеяла, вывешенные проветриваться, казались выбеленными.
Первый кандидат, к которому мы явились, сидел на полу. Наружная стена его комнаты была снята, и комната превратилась в веранду, выходящую в садик с большим вишневым деревом и только что вскопанными грядками. Это был толстый старик с бритой головой, облаченный в одежду священника. Нам не захотелось снимать обуви, и мы присели на полу этой веранды со стороны сада. Лицо старика расплылось в улыбке. Он рассказал нам, что баллотируется от буддистской партии, которая насчитывает 30—40 кандидатов по всей стране.
«Политика — легкое дело, — сказал он со смехом. — За меня все делают храмы и буддистские школы».
Я спросил, какова его программа.
«Я стою за демократию».
— Какие экономические проблемы, по вашему мнению, следует решить в первую очередь?
«Экономические? — переспросил он. — Я ничего не понимаю в экономике, моя область — религия». А затем с некоторой гордостью он добавил: «Я долгие годы был учеником главы нашей секты».
— Кто финансирует вашу кампанию?
«Я веду ее за свой счет, но мне помогает один мой друг — предприниматель. Он, так сказать, заведует моей кампанией».
► Священник объяснил нам, что его друг служит управляющим в дзайбацу Ясуда.
«Понимаете в чем дело, лейтенант?» — спросил я. Лейтенант посмотрел на меня в замешательстве, «А Что
200
такое дзайбацу?» Я объяснил ему, что такое дзайбацу и почему следует особо отметить, что она выставила кандидата на выборах. «Да, — сказал лейтенант,— я думаю, мне это следует отметить в своем отчете».
Священник уговаривал нас выпить с ним чаю Мы остались. Вскоре в комнату вошла старуха с подносом и чашками и торжественно поставила поднос перед священником. Все это сопровождалось подобающими церемониями, как это делали до нее уже многие поколения. Единственным новым штрихом было то, что ее волосы густо покрывал порошок от насекомых, сыпавшийся в чай.
Следующую остановку мы сделали у дома, где жил кандидат Новой республиканской партии. Это был худой человек средних лет, очень осторожный, уклонявшийся от ответов на все наши вопросы о его политических взглядах. После наших настойчивых вопросов он признал, что он сам и его семейство владеют четырьмя компаниями, связанными с земельной собственностью, сельскохозяйственными орудиями, отелями и универсальными магазинами. Это была небольшая дзайбацу, которая не хотела, чтобы ее считали таковой. Наш кандидат был хитрым и увертливым человеком, и нам удалось очень немного выведать у него о его партии. Я вспомнил, что лейтенанту было приказано получить информацию о Новой японской партии, и перевел разговор на другую тему. Я спросил, есть ли у кандидата серьезный политический конкурент в этом избирательном округе.
«Я не хочу говорить о своих соперниках, — сказал •нам японец. — Но раз вы уж меня спрашиваете, я могу рассказать вам о Новой японской партии. Я полагаю, что это экстремистская группа. Главарь ее — бандит из района Уэно. Он начал свою карьеру будучи владельцем школы массажистов. Сейчас он спекулирует на черном рынке. Мы полагаем, что он покупает и продает голоса. Вице-председатель его партии — один из крупнейших спекулянтов в Уэно. Оба они скверные люди».
Я продолжал расспрашивать японца до тех пор, пока лейтенант не получил информацию, которая была ему нужна. Но он, казалось мне, не понимал, что эта информация позволяет ему составить представление и о другой 201
столь же неблаговидной организации, известной под названием «Новая республиканская партия».
Вечером у нас в Клубе журналистов было торжество — обед с участием руководителей четырех главных политических партий. Либеральная партия, которая, как ожидают, победит на выборах, была представлена своим председателем Хатояма. Другую консервативную партию, известную под названием прогрессивной, представлял один из ее руководителей — государственный деятель старой формации по имени Ген Нагаи. От социалистов на обеде присутствовал столп партии Комакици Мацуока, председатель влиятельной Японской федерации труда. Коммунисты были представлены одним из трех крупнейших своих лидеров — Носака. Председательствовал корреспондент «Нью-Йорк тайме» Бартон Крейн. Были приняты все меры, чтобы придать этому событию особенную торжественность. Столовая сверкала хрусталем, серебром и белоснежными скатертями.
Мы попросили этих людей изложить нам программы своих партий. Первым откликнулся Нагаи — высокий, угрюмый человек. «Прогрессивная партия, — сказал он,— выступает против всяких трудовых конфликтов. Мы осуждаем забастовки, потому что они представляют собой проявление борьбы. Мы осуждаем также такие явления, как Народный фронт».
Худой и энергичный Мацуока и Носака высказались за национализацию банков, земельную реформу и предоставление более широких прав профсоюзам. Последним говорил Хатояма. Он с улыбкой оглядел всех присутствующих и на скверном английском языке сказал, что он гордится тем, что находится в Клубе журналистов. Что же касается программы его партии, то он не доверяет Народному фронту и высказывается за общественные работы как средство ликвидации безработицы.
Следующий вопрос касался новой конституции и императора. Нагаи прямо признал, что конституция не является делом рук японцев. «Мы работали над составлением конституции, — сказал он, — но 6 марта была опубликована конституция верховного главнокомандующего, и мы поняли, что она гораздо лучше нашей. Поэтому мы решили поддержать ее». Пламенный социалист Мацуока говорил о «любви и уважении», которые его 202
партия питает к императорской системе. Носака заявил, что коммунисты выступают за «конституцию, составленную самим народом». По его мнению, американский проект конституции оставил за императором девять главных прерогатив, которых его следовало лишить.
«Причина, по которой мы возражаем против них, — сказал он, — очень проста. Мы должны помнить, что Гитлер пришел к власти, воспользовавшись либеральными положениями Веймарской конституции. Мы подвергнем себя большому риску, если сохраним права императора почти без изменения и создадим орган, напоминающий нынешнюю палату пэров. Я также считаю, что войны нельзя избежать с помощью конституции. Милитаристы всегда вели войны во имя мира».
Еще до начала обеда я организовал политическое следствие. На подозрении находился Хатояма. Вполне возможно, что корреспондентам нечего соваться в политику. Но я считал это вполне законным предприятием и пускал в ход все средства. Мне хотелось помочь Японии освободиться от матерого военного преступника, от человека, который становился особенно опасным в силу того, что его прочили на пост премьер-министра. Как журналисту, мне хотелось получить интересный материал для статьи.
Неделю назад один из офицеров штаба дал мне перевод книги, написанной Хатояма в 1938 г., после того как он посетил Гитлера и Муссолини. В этой книге он делал признания, не подобавшие будущему премьеру демократической Японии. Офицеры пытались использовать эту книгу для того, чтобы разоблачить Хатояма. Когда это им не удалось, они передали его книгу мне.
Перед обедом я разодрал книгу на несколько частей и роздал их нескольким заинтересованным корреспондентам: китайским, английским и американским.
Однако первый залп дал Фрэнк Робертсон, австралиец, сотрудничающий в агентстве Интернэйшнл Ньюс Сервис. Кто-то^дал ему страницу из книги, и он тотчас пожелал узнать* что Хатояма может сказать по поводу своего заявления, сделанного им в 1938 г.: «Гитлер всей душой любит Японию. Японский народ обязан все больше духовно 203
дисциплинироваться и не должен обмануть веру Гитлера в него».
После этого следствие пошло полным ходом. Это было довольно жестокое зрелище, однако Хатояма должен винить только самого себя. Его спросили, верит ли он до сих пор, что «нацистский дух» и японский «дух бусидо» 1 родственны» или что Япония должна «упорно при- держиваться» нацистских методов в решении проблем труда. («Тоталитарные принципы фюрера воплощены в законы о контроле над трудом. Они не допускают классовой борьбы».)
Мы забросали Хатояма цитатами, в которых он восхвалял Гитлера и Муссолини («То обстоятельство, что Муссолини проводил решительную политику, свидетельствует — вопреки всем утверждениям британской пропаганды — о том, что он был одним из величайших героев своего времени. Да продлятся его годы на благо Италии, на благо итальянского народа!»)
Английские корреспонденты хотели знать подробности беседы Хатояма с Яльмаром Шахтом, в которой он предложил, чтобы Германия и Япония совместно эксплоатиро- вали Китай и «вытеснили из Китая английское влияние». Эдди Сун, корреспондент китайского агентства Сентрал Ньюс, потребовал, чтобы Хатояма высказался по поводу своего заявления, сделанного им во время обеда с Невиллем Чемберленом и другими лидерами консерваторов, что «Китай не сможет уцелеть, не находясь под властью Японии...»
По мере того как корреспонденты наседали на Хатояма, он все больше и больше приходил в замешательство. Сначала он утверждал, что ничего не помнит. Затем, когда мы показали ему выдержки из его книги, он сказал, что он лгал в своей книге. Правду он говорил только во время своей частной встречи со своими товарищами по университету, которым он признался, что «Гитлер—лжец, Муссолини — деревенщина, а Чемберлен — джентльмен». Мы спросили его, уверен ли он, что он лгал именно тогда, а не сейчас, и сможет ли он выступить перед японским 1 «Бусидо» («Путь самурая») — моральный кодекс японских самураев, проповедующий культ смерти ради своего^господина. Японская военщина, пропагандирующая агрессивную войну, при- Завала народ следовать этому «кодексу». (Прцм, ред-)
204
народом и признаться, что он лгал ему восемь лет назад, помогая вовлечь его в дальнейшую агрессию.
Эта книга была не единственным оружием, которое мы имели против, него. По мере того как против него выдвигались все новые и новые обвинения, Хатояма на наших глазах превращался в беспомощного старика, не способного найти ответы на вопросы, которыми его забрасывали. Он заявил Суну: «Когда началась война в Китае, я думал, что если она окончится предоставлением особых прав Японии, то последняя будет очень довольна. Китай сможет спасти свой престиж, и все будет в порядке». Мне он признался, что четыре месяца назад он «всей душой поддерживал войну, вплоть до захвата Сингапура». Он признал также, что до сих пор высказывается за «дисциплину» для рабочих.
Последний удар Хатояма был нанесен через пять часов после того как он сел за стол в предвкушении приятного обеда. Лет восемь назад он сказал Гитлеру, что «наступит время, когда я организую кабинет... для проведения своей политики». Теперь я полюбопытствовал, можно ли рассматривать взгляды, которые он выразил сегодня, как свидетельство политики, которую он намерен проводить, если станет премьером. На это он ничего не мог ответить.
Интересно, какова будет реакция штаба Макартура и японского правительства (которое произвело проверку прошлой деятельности Хатояма и оправдало его) на сенсационные заголовки, которые завтра появятся в газетах.
7 апреля 1946 г, ТОКИО
Сегодня произошла новая демонстрация, исход которой оказался неожиданным. В парке Хибия был назначен массовый митинг. Митинги сейчас стали таким обычным явлением, что они больше не привлекают особого внимания, и я отправился в парк Хибия, не ожидая увидеть гам ничего интересного. В парке собралось до 15 тысяч человек, большинство которых расположилось на пыльной траве. Ораторы-коммунисты, социалисты и некоторые независимые профсоюзные руководители требовали отставки премьера Сидехара и отмены ограничения ежемесячного дохода 500 иенами (33 долларами).
205
Митинг закончился вскоре после моего прихода. Люди стали подниматься, стряхивать с себя пыль и строиться в ряды. Колонной по десять человек в ряд они вышли из парка с флагами и плакатами, с песнями и удивительным припевом: «Вассо, вассо!»
Я сел в виллис фотокорреспондента журнала «Лайф» Эйзенштедта, который фотографировал демонстрацию из своей машины.
Процессия направилась к резиденции премьер-министра, и мы старались не отставать от нее, время от времени останавливаясь, для того чтобы заснять демонстрацию или отдельных ее участников. Когда мы поднялись на холм, на котором находится здание парламента, и оглянулись назад, то увидели, что процессия невероятно разрослась. Теперь она тянулась широкой черной лентой, в которую были вкраплены красные флаги, и конец ее терялся далеко за поворотом.
Резиденция премьер-министра находится в красном кирпичном здании. Оно окружено толстой стеной с двумя широкими деревянными воротами.' Из-за стены выглядывали полицейские, следившие за приближением процессии. Мы вошли за ограду и увидели, что ворота подперты толстыми бревнами.
Толпа медленно поднялась на холм и остановилась перед зданием. Организаторы поддерживали порядок в рядах. Подходившие сзади новые толпы народа начали напирать на ворота. По команде взволнованного офицера полицейские бросились к воротам и навалились на них изнутри. Участники демонстрации не могли открыть ворот и начали взбираться на стену. Несколько человек спрыгнуло во двор. Их тотчас же схватили и повели в караульное помещение. Остальные остались стоять на стене и на крыше караульного помещения, размахивая флагами и плакатами, и что-то кричали толпе, собравшейся у ворот. Полицейские, казалось, были в нерешительности, не зная, что предпринять. Крики продолжались минут десять, а народ все подходил и подходил. Теперь толпа уже напирала и на другие ворота. Страсти разгорались. Из толпы начали бросать камни и палки. Полицейские кидали их обратно. Эти импровизированные снаряды сыпались теперь непрерывным потоком, и нам с Эйзи пришлось спрятаться от них на веранде.
206
Затем внезапно толпа прорвалась в ворота. По всему двору завязались стычки. Большинство полицейских бросилось наутек; Остальные, пытаясь сдержать толпу, продолжали сражаться. Один полицейский укрылся в небольшом недостроенном доме. Толпа настигла его и сбила с ног. Один человек в очках ударил полицейского, затем отвернулся, спокойно снял очки, положил их в карман и начал бить полицейского по лицу. Их разняли организаторы демонстрации.
Тем временем толпа ринулась к главному входу в резиденцию премьер-министра. Двери заскрипели, и послышался звон разбитых стекол. Люди начали кидать камни в окна, сражение продолжалось.
Здание стоит на вершине холма, и позади него начинается мощеный спуск с узкой бетонированной лестницей посередине. Полицейских теперь загнали в овраг, в который вела эта лестница, и мы видели, что они стоят там в нерешительности. Некоторые демонстранты пытались преследовать их, но остановились, когда полицейские вынули револьверы и начали угрожающе размахивать ими. Вскоре на помощь полицейским прибыло подкрепление в 150 человек, они перестроились и начали наступать. Один из полицейских открыл огонь, за ними начали стрелять и другие. Раздались крики. Толпа на мгновение застыла на месте, а затем бросилась обратно во двор.
Мы с Эйзи начали фотографировать, стоя на краю спуска, когда началась стрельба. Мы сделали несколько снимков, а затем, увидев, что очутились между полицейскими и толпой, поспешно отступили, укрылись за толстыми колоннами помещения для слуг и наблюдали, как полицейские поднимаются по лестнице. Демонстранты взобрались на строящийся дом и оттуда начали бросать кирпичи.
Когда полицейские выбрались из оврага, они перестали стрелять, и навстречу им вышли организаторы демонстрации. Остальные демонстранты медленно подошли к ним. Обе стороны остановились и начали кричать друг на друга. Один демонстрант с лицом, искаженным яростью, выкрикивал по-японски фразу, которая значила приблизительно: «Пустите меня, я с ними расправлюсь!» Другие пытались увещевать полицейских. «Мы не против вас, — кричали они, — вы тоже народ. Мы против премьера Сидехара».
207
Казалось, страсти вновь готовы разгореться, и организаторы просили полицейских снова спуститься в овраг. Полицейские повиновались, но видно было, что они делают это, явно чувствуя, что роняют свое достоинство.
Мы все еще стояли у спуска с холма, когда услышали шум виллиса, въехавшего во двор. Шесть американских военных полицейских соскочили с машины и начали выгонять народ со двора. Они были вооружены дубинками, которыми начали избивать демонстрантов. Медленно и неохотно, но не проявляя никаких признаков гнева, толда стала выходить за ворота. Люди остановились на улице, начали петь и слушать речи демонстрантов, стоявших на стене, где их не могли достать американцы.
Я подошел к входу в здание. Делегация из тринадцати представителей демонстрантов все еще ждала у входа, чтобы ее впустили в здание. Среди них были лидер коммунистов Токуда, лидер социалистов Кансон Арахата, а также редактор газеты «Иомиури» и известная писательница. Арахата — худой и спокойный человек — выглядел больным. Мне рассказали, что когда он начал возражать против того, чтобы ’ толпу выгоняли со двора, дюжий американец схватил его за шиворот и бросил на землю.
Высокий молодой лейтенант американской военной полиции убеждал Токуда, чтобы он заставил участников демонстрации разойтись по домам.
Токуда терпеливо слушал его. Он слишком проницательный политический деятель, чтобы не понимать силы такого скопления народа. Он все время повторял, что не может требовать, чтобы демонстранты разошлись, так как они ожидают результата встречи делегации с Сидехара.
Когда двор был очищен, японские полицейские возвратились, закрыли ворота и снова подперли их бревнами. Тогда охрана внутри здания открыла двери и впустила делегацию. Мы с Эйзи тоже вошли в дом. Мы были единственными корреспондентами, но с нами было два или три представителя «Си-Ай-Си» и десятка два японских репортеров и фотографов. Делегатов провели в небольшую приемную и усадили за длинный стол, покрытый пылью. Фотографы извлекли свои аппараты и начали готовиться к съемке. Наконец, появился помощник секретаря каби-
208
нета. Он сел за стол напротив Токуда, и они враждебно взглянули друг на друга.
Арахата, который напоминает мелкого помещика, потребовал отставки Сидехара. Секретарь заявил, что он сомневается, чтобы Сидехара вышел в отставку. Токуда покраснел, вынул изо рта тонкую крестьянскую трубку с медной головкой и начал стучать кулаком по столу.
«Мы требуем, чтобы Сидехара вышел к нам, — кричал он. — Мы хотим, чтобы нам дали официальный ответ».
«Сидехара занят», — сказал секретарь.
«Чем он занят? — закричал Токуда. — Мы не можем сказать народу, который ждет нас за воротами, что Сидехара не может нас принять. Идите и скажите ему об этом сами. Мы не дети. Разве Сидехара в отпуску? Ему было известно, что мы собираемся прийти. Попробуйте сдержать эту толпу снаружи».
Токуда и Арахата огласили свои заявления, а в это время снаружи раздавался рев многих тысяч голосов. Теперь Токуда уже понял, что дело проиграно. Но он все же пытался получить хоть какое-то преимущество, которое он мог бы использовать против Сидехара в будущем. Люди, сидевшие за столом, напоминали игроков в покер, причем Токуда ставил на толпу, а секретарь — на американскую полицию. В то время я еще не знал, что шесть американских броневиков и шесть виллисов, вооруженных пулеметами, уже начали патрулировать улицы, постепенно разгоняя демонстрацию.
В конце концов секретарь сказал, что Сидехара примет делегатов завтра вечером. Токуда воскликнул: «Не можем же мы заставить собравшихся ждать до завтра!»
Мы все вышли. В широком темном коридоре японские репортеры обступили офицера японской полиции. Когда он сказал, что полицейские выстрелили всего два раза, репортеры подняли его насмех. Позже в тот же день в полиции уже заявляли, что было произведено 20 выстрелов, что 8 полицейских ранены и три из них избиты до бесчувствия. Всего в схватке участвовало 300 полицейских.
Когда мы вышли, подъехала военная машина, и лейтенант военной полиции бросился рапортовать сидевшему в машине бригадному генералу Хью Гофману из 1-й мото-
14 М. Гейн 209
механизированной дивизии. Лейтенант отрапортовал ему, что порядок восстановлен; генерал удовлетворенно кивнул головой, и машина отъехала.
Самым поразительным во всем этом деле было участие в нем американцев, поскольку в одном разумном документе, озаглавленном «Политика в Японии на первой стадии оккупации», направленном для руководства генералу Макартуру, говорится:
«Политика состоит в том, чтобы использовать существующую форму правления в Японии,, но не поддерживать ее. Изменения в форме правления по инициативе японского народа или правительства, направленные против феодальных и авторитарных тенденций, следует допускать и способствовать им. В случае, если осуществление таких изменений требует применения силы со стороны японского народа или правительства против лиц, противящихся им, то верховный главнокомандующий должен вмешиваться только в том случае, если необходимо гарантировать безопасность его войск и достижение всех других целей оккупации».
В один день мы явно нарушили эту директиву в двух отношениях: мы непосредственно вмешались, оказав поддержку кабинету Сидехара, и мы воспрепятствовали попыткам народа силой свергнуть режим, который во всех отношениях является феодальным.
После того как генерал Гофман уехал, я остановил лейтенанта и спросил его, почему он разогнал демонстрацию. Он отрезал: «Они могут демонстрировать, но не имеют права наносить ущерб частной собственности».
8 апреля 1946 г. ТОКИО
Снова мы собрались в небольшой приемной в резиденции премьер-министра, чтобы посмотреть, как Сидехара примет левых делегатов.
На этот раз комната была до предела забита людьми; нам пришлось долго ждать, после чего Сидехара прислал сказать, что он не хочет спускаться вниз, а его кабинет слишком мал и в нем не найдется места для корреспондентов. Кроме того, он возражал против присут-
' 210
ствия фоторепортеров. Японские репортеры начали спорить, и в конце концов было решено перейти наверх в большую комнату с вычурной мебелью и огромными японскими картинами, на которых были изображены рыбаки.
Снова вошел секретарь и объявил, что Сидехара запрещает зажигать прожекторы и записывать его голос на пленку. Возмущенные японские репортеры закричали секретарю Сидехара: «Что это за демократический премьер- министр? Он боится, что народ услышит его голос? Он боится света? Скажите ему — пусть уходит в отставку». Когда секретарь вновь направился в кабинет Сидехара, кинооператоры выставили своих дозорных и начали прятать микрофоны под столом, чтобы их не заметил Сидехара.
Делегаты наблюдали все это с явным удовольствием. Сегодня их было всего двенадцать. Арахата, которого вчера поверг на землю американский полицейский, лежал в постели. Но когда мы стали просить, чтобы Токуда рассказал нам подробнее об этом инциденте, он отказался. Левые не хотят создавать никаких осложнений с американскими властями.
. Пока мы разговаривали, вошел" Сидехара.^ Это — дряхлый старик с трясущейся головой и дрожащими руками. Он сел за стол в кресло с высокой спинкой; по другую сторону стола в два ряда сидели 12 делегатов. Так началась эта встреча, во время которой обе стороны осыпали друг друга обвинениями и оскорблениями, — встреча, где столкнулось старое с новым, где проявлялись политические страсти в неприкрытом виде. Делегаты потребовали, чтобы Сидехара сказал, считает ли он справедливым установление предельного дохода в 500 иен и живет ли он сам на такие средства. «Взгляните на себя, — сказал презрительно Токуда. — Вы такой откормленный. На 500 иен недалеко уедешь. Вы, должно быть, покупаете продукты на черном рынке».
Один за другим делегаты вскакивали с мест и требовали, чтобы Сидехара вышел в отставку, чтобы он упорядочил систему нормирования, чтобы он ликвидировал черный рынок. В большинстве своем это были простые рабочие люди с мозолистыми руками и грубой речью. Они называли Сидехара обманщиком и лжецом. Время от времени редактор «Иомиури» Судзуки вставлял резкие замечания относительно политики правительства или по поводу его
14*
211
бездеятельности. Как только он кончал говорить, представители профсоюзов обрушивали на Сидехара свои гневные обличительные речи.
Сидехара, этот жалкий, грузный старик, смотрел то на потолок, то на репортеров, то себе на руки и время от времени бормотал: «Я не хочу спорить». Его секретарь то и дело вскакивал со словами, что Сидехара занятый человек и ему нужно уезжать, но делегаты начинали кричать на него, и он умолкал.
Во время чьей-то речи Токуда увидел позади Сидехара сухопарого мрачного детину, под пальто которого явно было спрятано оружие. На нем был бумажный значок агента тайной полиции.
«У этого человека оружие! — закричал Токуда. — Расстегните его пальто. Хороша демократия, когда премьер- министр разговаривает с народом под защитой оружия!»
Делегаты повернулись к нам с криками: «Сфотографируйте этого демократического премьера с его оруженосцем!»
Один делегат-коммунист вскочил на ноги, подбежал к агенту тайной полиции и попытался расстегнуть егц пальто. Агент начал обороняться. Токуда тотчас же позвал своего делегата обратно. Все возбужденно кричали. В суматохе Сидехара поднялся и почти побежал к двери. Один из делегатов бросился ему наперерез. Агенты тайной полиции бросились к Сидехара на выручку, и началась схватка. Кто-то толкнул Сидехара, и он отскочил к стене. Я видел, как он пошатнулся, но быстро пришел в себя, и его помощники вывели его из комнаты.
Вот и все. Перед нашим взором прошла еще одна страница бурной истории Японии.
В течение последних двух дней левые проявили большую силу. Трамваи украшены плакатами, разоблачающими Сидехара. Благодаря профсоюзу железнодорожников участникам вчерашней демонстрации был предоставлен бесплатный проезд из предместий в Токио. Профсоюз водителей грузовиков выделил 50 машин — очень большое число в современной Японии — для демонстрантов. Для участия в демонстрации вчера в город прибыли тысячи крестьян. По мере роста народного возмущения и в связи с бездеятельностью правительства влияние коммунистов в профсоюзах и среди крестьян-издольщиков возрастает.
212
9 апреля 1946 г.
ТОКИО
Почти весь день провел на последних предвыборных митингах. Корреспондент журнала «Лук» Фред Спаркс, мой новый помощник Рой Одзаки и я отправились на пустырь близ черного рынка Синдзюку, где одновременно должны были состояться три митинга. Это было далеко не идеальное место для проведения политических мероприятий. Здание, которое когда-то находилось на этом пустыре, было разрушено бомбой, и теперь весь этот пустырь был загроможден обломками кирпичей и щебнем. Ветер поднимал густую коричневую пыль и гремел железом на кровлях соседних зданий, заглушая речь оратора.
С одной стороны пустыря, у забора, проводил митинг бывший коммунист, сейчас выступавший в качестве независимого кандидата с антикоммунистической программой. Это был прирожденный актер. Взобравшись на импровизированную трибуну, он рыдал, вспоминая о заблуждениях своей молодости; он гневно обличал сторонников ограничения рождаемости, как людей, посягающих на величие Японии. Он показывал мозоли на своих руках и клялся в преданности простому рабочему люду, то и дело обрушиваясь на коммунистов.
Рядом с ним выступал молодой человек от имени коммунистов. Вокруг него развевалось много красных флагов; девушки-школьницы раздавали листовки. В толпе я наблюдал такой эпизод: две девушки лет по восемнадцати предложили одному из слушателей листовку. Тот отказался. Они спросили о причине. Он объяснил им, они ему что-то ответили, и скоро вокруг них собралось человек пятьдесят, которые слушали длинную и мирную дискуссию.
Недалеко от коммунистов социалисты также установили импровизированную трибуну и водрузили на ней флаг. Здесь должны были выступить супруги Като. Кандзю Като — видный профсоюзный деятель. Он выступает от избирательного округа в Нагое, но в Токио он прибыл на несколько дней, чтобы помочь своей жене. Г-жа Като выступает на политической арене впервые. До сих пор женщины не пользовались избирательным правом.
Как я обнаружил за последние недели, Сидзуэ Като разным людям представляется в различном свете. Одни
213
считают ее радикалом, другие — просто сварливой бабой или же — в зависимости от того, с кем вам приходится говорить о ней,— «хорошей женщиной», «неисправимой аристократкой», «чрезвычайно честолюбивой женщиной», «беспринципным человеком, который настаивает на сокращении рождаемости и стремится уничтожить прекрасную японскую семью, в которой мужчина это все, а женщина — вполне заслуженно — прах».
Внешне это спокойная, обаятельная женщина, которая выглядит гораздо моложе своих 49 лет. Она свободно владеет английским и японским, проявляя свой живой ум в обоих языках. До своего брака с Като Сидзуэ была замужем за бароном и совершила лекционное турнэ в США в качестве баронессы Исимото. Впоследствии барон покинул ее ради националистических подвигов в Маньчжурии. Супруги Като — мои друзья, и я надеюсь, оба они победят, ибо до сих пор они проявляли себя как прогрессивные люди, которые смогут бороться с реакцией, когда мы уйдем из их страны.
Трибуну установили у стены, на которой до сих пор красуются изображение огромного бомбардировщика и лозунг: «Увеличим производство самолетов для всеобщего наступления!» Като взобрался на ящик, служащий трибуной. Это низенький, . плотный, энергичный человек. Он был шестым ребенком в семье крестьянина. Свою карьеру Като начал мальчиком в провинциальном галантерейном магазине. Затем он бежал в Токио, поступил учиться, стал профсоюзным организатором и, наконец, членом парламента.
Като начал перечислять претензии простых людей к правительству Сидехара. Он спрашивал у слушателей, получили ли они рис по карточкам или им задерживают паек уже две недели, так же как и ему, и обещал исправить положение, если социалисты придут к власти. Он говорил десять минут. Затем он подошел к толпе, где его обступили молодые почитатели.
Г-жа Като говорила взволнованным звучным голосом. Она говорила о необходимости плановой реконструкции, о помощи вдовам и сиротам, о помощи миллионам репатриантов, ^которые должны вернуться домой. К толпе, собравшейся вокруг нее, подходили все новые и новые слушатели со стороны черного рынка. Они слушали сначала удивленно, 9$тем недоверчиво и, в конце концов, 214
внимательно. Они даже восклицали: «Иоси, иоси!» («Да, да!»), когда им что-нибудь особенно нравилось в ее речи.
Когда она закончила свою речь, народ не расходился. Люди столпились вокруг ящика и засыпали ее вопросами о правительстве, о судьбе Японии, об ограничении рождаемости. Она отвечала вежливо, невозмутимо и неторопливо. Когда толпа поредела, г-жа Като направилась на станцию, откуда должна была ехать на другой митинг. Она сказала мне: «Я очень устала и очень взволнована, но сейчас я должна держать себя в руках».
Мы отправились на следующий митинг в доки, где должен был выступить лидер коммунистов Носака перед судостроительными рабочими. Носака говорит спокойно; он хорошо одет, и, глядя на него, трудно поверить, что он провел долгие годы в тюрьме и подполье.
Носака выступал на митинге, на который собралось около 400 человек, заполнивших до отказа тесное помещение. Люди стояли вдоль стен, сидели на полу и толпились у входа. Манерой говорить Носака напоминал школьного учителя. Он говорил сухо, выбирал самые простые слова и чуждался всяких ораторских приемов. Он сказал, что его партия не собирается вешать императора, но что она стремится ликвидировать «паразитическую надстройку, которая гнетет вас». Коммунисты, сказал он, не намерены конфисковать частную собственность вообще. «Все это пропаганда наших врагов. Мы хотим национализировать монополии». Он перечислил эти монополии и обрисовал, в какой мере они захватили экономику Японии в свои тиски. «Эти выборы, — сказал он, — имеют большое значение. Реакционеры сейчас так же сильны, как и раньше. В ваших силах лишить их власти».
В зале стояла тишина, слышно было лишь напряженное дыхание собравшихся.
После обеда мы отправились на последний митинг — митинг либералов, на котором выступал Хатояма. Мы вошли в зал, когда Хатояма заканчивал свою речь. Он говорил спокойно и с достоинством. Пятьсот человек, собравшиеся на митинг — в большинстве своем люди среднего возраста и среднего класса,— горячо аплодировали ему. До выборов теперь остается всего несколько часов, а он все еще не подвергся чистке.
215
10 апреля 1946 г.
ТОКИО
Утром Кохрэн, Джон Льютер из журнала «Тайм», Джон Ла Серда из газеты «Филаделфиа бюллетин» и я вместе с генералом Уитни объезжали избирательные участки. Когда мы прибыли на первый из намеченных участков, он оказался закрытым. Мы посмеялись над «новыми демократическими выборами» и уехали, так и не узнав, что же здесь произошло и почему избирательный участок закрыт. Вполне возможно, что в последний момент адрес этого избирательного участка изменился. Теперь мы решили не придерживаться заранее намеченного маршрута и посетили три первых попавшихся участка. Нас убеждали, что выборы происходят в полном порядке и активность избирателей высокая.
Американские офицеры, видимо, были поражены и обрадованы этим обстоятельством, но, по моему мнению, нельзя было забывать, что это не первые выборы в Японии. Я наблюдал подобные выборы в довоенной Японии, когда там господствовала военщина, и все же выборы происходили так же спокойно и организованно. Все дело было в том — и, пожалуй, оно так обстоит и до сих пор, — что политический аппарат, который отбирает кандидатов, насквозь продажен и реакционен. Единственной особенностью нынешних выборов является участие тысяч женщин, старых и молодых, которые зачастую приходят голосовать с детьми, привязанными за спиной. Пока женщины заполняют бюллетени, у них из-за плеча часто выглядывает головка ребенка. Четвертый избирательный участок, на который мы попали, был «предусмотрен планом». Около него выстроилась очередь почти на четверть мили. Мы проследовали через весь участок, а затем поехали в соседнюю деревню. Через полчаса, когда мы снова проезжали мимо этого здания, уже не было никакой очереди. У нас возникло подозрение, что избирателей задержали нарочно, чтобы продемонстрировать нам их активность. Но мы ничем не могли доказать свое предположение.
После завтрака мы вчетвером выехали из Токио в сельские местности. Один избирательный пункт находился в историческом местечке, где когда-то ночевал император Мей- дзи. Две молодые женщины устроили небольшие ясли на
216
участке, чтобы дать другим женщинам возможность спокойно проголосовать.
На другом участке избирателям нужно было снимать обувь, чтобы попасть в помещение для голосования, и потом они с трудом разыскивали ее. Чиновники, проводившие выборы, были почти все людьми средних лет. Большинство их было облачено в старомодные сюртуки. Всюду мы спрашивали их, участвовали ли они в проведении предыдущих выборов — так называемых «выборов Тодзио» в 1942 г., — и все они отвечали утвердительно. Когда мы спрашивали их, есть ли какая-нибудь разница между теми выборами и этими, они говорили, что нет никакой разницы, если не считать участия женщин. Мне кажется, что предоставление права голоса женщинам — наш наибольший вклад в дело разрешения проблем, стоящих перед Японией.
Вечером целый час провел в правительственной секции, где беседовал с генералом Уитни, его заместителем полковником Кадесом и Гаем Суопом, который когда-то был губернатором Пуэрто-Рико. Уитни был в восторге от хода выборов. До сих пор не сообщалось ни о каких нарушениях. Мы с Кохрэном полюбопытствовали, объявит ли генерал Макартур выборы недействительными, если завтра он обнаружит, что большинство избранных кандидатов — военные преступники.
Уитни ответил: «Конечно, нет. Вы знаете, как работает шеф. Он не любит поступать опрометчиво».
12 апреля 1946 г. ТОКИО
О клубе «Дай-Ан», который содержит аферист Андо, стало известно столько предосудительного, что начальник военной полиции, наконец, запретил личному составу союзных войск посещать его. Андо поспешил переименовать свой клуб, и теперь он называется по имени домика гейш, который помещался здесь до того, как его приобрел Андо: клуб Вакатомбо. Мы с Кохрэном сегодня узнали, что еще один отдел штаба следит за деятельностью Андо.
Нам разрешили ознакомиться с объемистыми папками этого отдела, и мы узнали много интересного,
217
Андо родился 15 февраля 1901 г. В 13 лет он работал посыльным в токийской ратуше; в 20 лет он работал в странствующем театре; в 23 года он уже был владельцем транспортного предприятия. Несколько позже он перенес свою деятельность в Корею и Маньчжурию. Особенно быстро Андо пошел в гору, когда военщина начала захватывать власть над внутренней жизнью Японии. В 1936 г. он основал «Компанию Дай-Ан», которая и по сей день является основой его коммерческой деятельности. В 1941 г. полицейское управление назначило его главой упаковочной и деревообрабатывающей фирмы, председателем токийского транспортного союза и «попечителем корейских трудящихся и защитником корейского юношества». Когда началась война, Андо расширил поле своей деятельности. Его фирма рыла туннели и строила подземные заводы, сооружала аэродромы, проводила телефонные и телеграфные линии, перевозила военные материалы и переправляла целые военные заводы в районы, менее уязвимые для военных налетов. Он был назначен советником министерства вооружений и министерства по делам Великой Восточной Азии. Когда Япония капитулировала, ему было поручено подготовить разрушенный аэродром Ацуги к приезду генерала Макар- тура, и он выполнил эту задачу в четыре дня. В 1945 г. его прибыли составили 500 миллионов иен (33 миллиона долларов).
Главным помощником Андо является Ициецу Мацида, бывший работник полиции, который открыто хвастается тем, что преследовал либералов.. Он служил в Китае в качестве военного агента. Андо—один из крупнейших профсоюзных боссов Токио. В его руках находится 10 тысяч рабочих. Среди предприятий Андо насчитывается 18 публичных домов.
13 апреля 1946 г. ТОКИО
Сегодня утр/м встретился с г-жей Тамаэ Фукагава, домашней хозяйкой средних лет, которая выступала кандидатом на выборах с антиамериканской платформой, но провалилась. Она говорила без остановки. Когда я, наконец, умудрился вставить в этот поток слов замечание о ее антиамериканских выступлениях, она сказала, что все это 218
ложь. Тогда я показал ей записи ее речей, в которых она обвиняла американских солдат в том, что они насилуют японских девушек.
«Я никогда не говорила ничего подобного, — сказала она. — Я только сказала, что поздно вечером можно встретить многих американских солдат в обнимку с девушками. Нашим людям это не нравится. Мы не хотим, чтобы у нас в Японии были голубоглазые младенцы».
Опубликованы результаты выборов. Как мы и ожидали, либеральная партия Хатояма вышла на первое место, получив 140 мест в парламенте. Столь же реакционная прогрессивная партия получила 93 места. За ней идут социалисты. Коммунисты получили 5 мест. Социалисты набрали почти 18 процентов голосов, а коммунисты — немногим более четырех. Хатояма был избран подавляющим большинством в своем округе, а г-жа Като — в своем. Избраны по крайней мере 33 женщины кроме нее.
Токийская печать не проявляет радости по этому поводу. Умеренная «Асахи» пишет: «Старые партии [либеральная и прогрессивная] встретили восторженную поддержку среди промышленников, как крупных, так и мелких, нажившихся на военном буме в годы войны, и среди помещиков, набивших карманы деньгами, вырученными от продажи продуктов по баснословным ценам. Эти феодальные влияния составляют главное препятствие на пути к свободе и прогрессу».
18 апреля 1946 г. ТОКИО
Уже в течение двух дней в Союзном совете длятся споры. Из штаба Макартура получен приказ «заговорить Совет до смерти». В меморандуме штаба указывалось, что нужно поставить в Совете «незначительные вопросы», которые «не повредят нам».
Споры начались вчера утром, когда штаб отвечал на просьбу генерала Деревянко предоставить информацию относительно того, что японцы не подчиняются директивам о чистке. Отвечал генерал Уитни. Он говорил безапелляционным тоном, который, по словам одного очевидца, граничил с явным оскорблением. Уитни утверждал, что
219
вопрос Деревянко ставит под угрозу успех оккупации. Он так рьяно отстаивал справедливость мероприятий генерала Макартура, и в особенности недавние выборы, что вызвал смех у присутствующих.
Вот некоторые из его наиболее «достойных внимания» замечаний:
«Япония продемонстрировала всему миру свободные, честные и спокойные выборы, какими едва ли может похвастаться какая-либо западная демократическая страна».
«Тот факт, что лица, подлежащие... чистке, все еще находятся на своих постах, не имеет большого значения. Важно то, что японское правительство следует директивам».
Всем нам, наблюдавшим кампанию умелого и рассчитанного саботажа реформ генерала Макартура, и тем из нас, кто мог назвать десятки военных преступников, занимающих правительственные посты, эти опровержения были совершенно непонятны. Безусловно, было бы гораздо честнее признать, что японское правительство саботирует, и объявить о репрессивных мерах.
Но дальше пошло еще хуже. Уитни начал самую настоящую обструкцию. Он стал перечислять организации, прошедшие чистку. Он целиком зачитал пространную директиву трехмесячной давности, уже знакомую всем присутствовавшим. Время от времени он запинался при упоминании японских имен и перечитывал весь абзац или с преувеличенной любезностью спрашивал членов Совета, желают ли они, чтобы он читал им названия подрывных организаций и по-японски, и по-английски, а также желают ли они получить какую-либо другую информацию. Это напоминало обструкции, которые нередко проводятся в американском конгрессе. Но здесь, на этом международном заседании, на котором мы хотели бы гордиться ролью Соединенных Штатов, это представлялось ребячеством и дешевым паясничанием. Нам было стыдно за американского генерала. Некоторые обструкции в прошлом служили благородным целям. Но о данной обструкции этого нельзя было сказать. Если она и служила вообще какой-нибудь цели, то только той, чтобы показать самым наглым образом, что мы не намерены сотрудничать с другими членами Совета.
После завтрака Болл и Деревянко попытались прекратить обструкцию. Болл предложил, что Совет сам
220
должен решить, сколько времени предоставить тому или иному оратору и должен ли отчет быть устным или письменным. Деревянко, который, видимо, не был знаком с практикой американских обструкций, предложил, чтобы отчет был закончен в «15 или 20 минут». Но оба эти предложения ни к чему не привели.
Генерал Марка? декларировал, что было бы несправедливо останавливать генерала Уитни, который потратил столько времени на подготовку доклада. Уитни, сказал он, действует из добрых побуждений. Кроме того, заявил Маркат, поскольку здесь затронута честь генерала Макартура, «Совет не имеет права прерывать представителя верховного главнокомандующего». Болл поблагодарил Уитни за его «откровенный и дружественный способ докладывать». Все присутствующие рассмеялись, а генерал Уитни продолжал свою обструкцию.
Корреспонденты так бурно реагировали на всю эту историю, что, я думаю, все в штабе завтра облачатся в траур, когда военное министерство пришлет сюда краткое изложение посланных нами сообщений. Но мне кажется также, что Совет уже можно считать умершим. Он ничего не сможет достигнуть. Многих из нас это очень печалит, потому что если бы наш штаб проявлял меньшую чувствительность, то Совет мог бы выполнять очень полезную консультативную роль. Будучи уверен в постоянной поддержке английского и китайского членов Совета, генерал Мак- артур мог бы извлечь пользу из разумных рекомендаций и опыта членов Совета. Кроме того, он мог бы продемонстрировать японцам единый фронт между союзниками. Теперь мы оттолкнули английского и китайского членов, показали японцам свои расхождения, которыми они, безусловно, воспользуются. Кроме того, был создан новый источник международных трений. А у нас их, слава богу, немало и без того.
22 апреля 1946 г. ТОКИО
Сегодня ушел в отставку кабинет премьера Сидехара. Позже было объявлено, что он согласился стать председателем прогрессивной партии.
221
Встретился с политическим советником генерала Макартура Джорджем Атчесоном-младшим, только что назначенным председателем Союзного совета вместо генерала Марката. Атчесон возвратился сюда на прошлой неделе по требованию генерала Макартура, которое, мне кажется, крайне удивило Джорджа. До сих пор штаб относился к нему далеко не дружелюбно.
Назначение Атчесона, по сообщению Юнайтед Пресс, было вызвано неблагоприятными комментариями печати по поводу тактики штаба в Совете. По некоторым признакам, сейчас, видимо, будут пытаться проводить иную линию. Две секции штаба, которым до этого было приказано организовать обструкцию, в последние несколько дней пересматривают свои доклады. Один доклад, который должен был длиться три часа, теперь сокращен до получаса. Мне также сообщили, что один весьма высокопоставленный английский представитель посетил генерала Макартура и просил его «о более тесном контакте».
23 апреля 1946 г. ТОКИО
Генерал Макартур сегодня полностью одобрил выборы. Он заявил:
«...Получив возможность свободно выразить свою волю, [японский народ] всей душой откликнулся и отверг руководство, определяемое политическими философиями двух крайних направлений, как правого, так и левого... Он пошел по широкому среднему пути, который позволит претворить в жизнь установленную программу правительства...»
Это заявление генерала Макартура не соответствует сообщениям, которыми пестрят страницы японских газет. Эти сообщения подтверждают создавшееся у нас впечатление, что избирателям не дали возможности действовать самостоятельно. На них оказывали всяческое давление, на них влияли всевозможные организации, в свое время созданные военщиной и существующие в неприкосновенности до сих пор. Важнейшими из этих организаций являются «тонаригуми», или «соседские ассоциации», которые во время войны контролировали нормирование продуктов, вели пропаганду, шпионили за частной жизнью населения 222
и до сих пор еще могут без особого труда заставить человека умереть с голода. Весьма типичным было решение токийского «тонаригуми» в начале избирательной кампании организовать «защиту императора».
В основных районах страны продолжал беспрепятственно действовать старый политический аппарат, несмотря на то, что его руководители ожидали суда в качестве военных преступников. Ни война, ни поражение не разрушили этот аппарат. Его руководители просто выжидали, когда пройдут тяжелые времена, и принялись за дело, как только был дан сигнал начать подготовку к «демократическим выборам».
В течение многих недель, не веря в успех своего дела, я составлял список военных преступников, выдвинутых кандидатами на выборах^ Несколько дней назад я отнес этот список полковнику разведывательного отдела, положил его перед ним и сказал: «Что вы собираетесь делать с этим?» Полковник был либералом и умным человеком. «Нам известно почти все, что у вас здесь имеется, — сказал он. — Дело в том, что мы бессильны. Мы получили приказ предоставить японскому правительству самому производить проверку. Мы сами связали себя этим, и теперь нам ничего не остается делать».
Это довольно справедливый довод. Но, с какой стороны ни подходить к этому, видно, что мы играем с огнем. Мы уже упустили восемь драгоценных месяцев, ожидая, чтобы правительство Сидехара и старый парламент провели в жизнь реформы, намеченные в наших директивах. Время пропало даром, ибо только самые наивные люди могут ожидать, чтобы враги реформ проводили их в жизнь. Теперь мы одобрили выборы, которые теоретически должны создать новое правительство и новый парламент, воодушевляемые демократическими побуждениями.
Однако облик новых реформаторов остался старым. Мы не дали народу — простым людям, на которых мы во всеуслышание возлагали свою надежду на демократизацию Японии,—достаточно времени, чтобы организоваться, выдвинуть новое руководство, пробудиться от летаргии военных лет и стряхнуть с себя путы националистической пропаганды. Мы дали Японии лишь целый набор демократических штампов, быстро подхваченных и
223
использованных в своих целях старой кликой. И мы благословили все это, несмотря на явный и наглый обман.
Кто эти люди, призванные выражать «волю народа» в условиях новой демократии?
Редакторы японских газет сообщили мне, что в новом парламенте насчитывается 180 военных преступников. В моем списке их гораздо меньше, но среди них лидеры трех главных партий.
На первом месте стоит Хатояма, лидер крупнейшей партии. Вчера вечером мы с Кохрэном встретили его на улице. Увидев нас, он расплылся в улыбке, как будто мы были его самыми лучшими друзьями, и сказал, что сейчас он готовит состав нового кабинета. Ему, пожалуй, придется еще испытать разочарование, так как, по имеющимся у меня данным, еще не забыты разоблачения прошлой деятельности Хатояма, появившиеся в печати.
Но даже если не считать Хатояма, то галерея злодеев достаточно внушительна. Неофициальным лидером прогрессивной партии сейчас является подозрительный тип — юрист Нарахаси, который однажды открыто хвастал, что служил агентом в армии. Другой лидер этой партии входил в состав парламентского «Комитета по ускорению создания союзов Великой Восточной Азии». Еще один ее лидер помогал создать марионеточный режим в Нанкине и служил там экономическим советником.
Одним из видных представителей либеральной партии, возглавляемой Хатояма, является ярый националист, в течение семнадцати лет занимавшийся интригами., В 1931 г. он совершил агитационную поездку по стране, настаивая на оккупации Маньчжурии. В 1937 г. он образовал «Общество континентальной администрации» и в 1941 г. опубликовал сборник антидемократических статей под названием «История уничтожения». Два других видных политических деятеля, один либерал, а другой — член прогрессивной партии, были издателями в Токио и содействовали разжиганию военной истерии в Японии.
Небезупречна также и социалистическая партия. Один из ее лидеров еще в 1933 г. вместе с десятью офицерами армии создал «Лигу императорского пути», которая требовала «распространения императорской власти» и расширения производства мощного вооружения. Другой ее лидер задолго до войны привел свою «пролетарскую партию» 224
в объятия военщины и выступал с поддержкой Тодзио. Третий лидер, закончивший миссурийскую школу журналистики, служил в районе Южных морей, присвоив себе чин контрадмирала, и набирал рабочую силу для флота.
Этих людей нельзя сбрасывать со счетов шовинизма. Эти люди будут возглавлять новый парламент и выступать от имени японского народа, их взгляды наложат отпечаток на демократические законы, они станут министрами кабинета и даже премьер-министрами, когда наступит очередь их партии притти к власти.
Злоупотреблениям, совершенным более мелкими сошками, нет числа. В двух префектурах политические деятели, подвергшиеся чистке, выдвинули кандидатами в парламент своих жен и добились их избрания. Во многих других префектурах подвергшиеся чистке политиканы выстаг вили своих приспешников. В Киото среди вновь избранных членов парламента есть один толстяк, который, как я подозреваю, пытался отравить меня два месяца назад, будучи уверен, что я пришел арестовать его как военного преступника. В 1942 г. этот человек писал в официальном правительственном бюллетене: «Прежде всего я поддерживаю имперскую политику премьера Тодзио. Я также стою на стороне военных, составляющих золотой фонд нации... Японская нация должна быть построена в соответствии с японским тоталитаризмом, горячим сторонником которого я выступаю...» Он был избран в парламент в качестве независимого кандидата.
Все мы в Клубе журналистов составили списки этих негодяев, и каждый из нас говорит: «Подождите только, я их разоблачу, и всех их вычистят». Но нам надоедает бесконечно писать о них, а нашим газетам надоело получать от нас такие материалы. Наши редакторы требуют действий и информации, представляющей «человеческий интерес». Скрытое политическое злодейство оказывает снотворное влияние.
24 апреля 1946 г. ТОКИО
Прокорпев дня два над материалами о военных преступниках в парламенте, мы с Кохрэном решили наведаться к начальнику «Си-Ай-Си» полковнику Кресуэллу. Это 15 М. Гейн . 225
по Существу автономная организация, которая — как большинство организаций секретного порядка — обладает колоссальными полномочиями. Во всяком случае, Кресуэлл мог растолковать нам, почему не подверглись чистке военные преступники, проникшие в новый парламент, особенно Хатояма.
Кресуэлл — худощавый человек сурового вида со сморщенной коричневой кожей на лице и голосом, который создан для того, чтобы отдавать команду солдатам. Мы просили его разрешения ознакомиться с анкетами, которые заполнил каждый из кандидатов перед выборами.
— Нельзя! — рявкнул Кресуэлл.
Мы были удивлены. «Почему же нельзя, полковник?»
— Это касается самих кандидатов, японского правительства и штаба. Это не ваше дело.
«Но, полковник, — сказал я осторожно, — американский народ тоже интересует, какое правительство создают здесь японцы. В конце концов, формально мы все еще находимся с ними в состоянии войны».
— То, что происходит здесь, не касается американского народа, — отрезал Кресуэлл. — Не в интересах общественности публиковать такую информацию.
Он остановился, а затем, повернувшись к нам, сказал:
— Вы, ребята, лезете на рожон. Каждый из вас приходит сюда и говорит: Хатояма такой, Хатояма сякой. Каждый из вас кого-нибудь ненавидит. И больше всего вы ненавидите Хатояма. Я покажу вам на_ примере, какой вред вы причиняете. Возьмите, например, «Розу Токио». Мы много месяцев держали ее в тюрьме Сугамо, а теперь оказалось, что у нас нет веских улик против нее. Она просто выполняла приказ. Но мы не решаемся освободить ее, потому что знаем, что ваши ребята сейчас же на нас набросятся.
«Вы неправы, полковник, — заговорили мы с Бобом в один голос. — Если у вас нет улик, выпустите ее, и мы. ни слова вам не скажем».
— Это вы сейчас так говорите, — сказал он. — Но если мы ее выпустим...
Мы спорили с ним долго и вежливо, но с внутренним раздражением. Кресуэлл настаивал, что прошлое людей,
226
избранных в Парламент, не касается американской печати и американского народа. Мы же убеждали его, что американцы, в течение четырех лет проливавшие кровь для того, чтобы изменить природу японского правительства, имеют полное право знать, к чему привели их усилия. Наконец, мне пришел в голову, как мне казалось, блестящий довод.
«Полковник, —сказал я, — вы говорите, что вы родом из Калифорнии. Если бы Роберт У, Кенни выставил свою кандидатуру в губернаторы, разве вы не захотели бы знать все подробности о нем, о его деятельности и его высказывания?»
На лице полковника было написано удивление.
— Ну, конечно, нет,— сказал он.—Я профессиональный военный и ни разу в жизни не голосовал.
27 апреля 1946 г, ТОКИО
Что произошло с японской армией? Многие из нас уверены, что хотя она была разоружена и демобилизована, ее можно будет восстановить в течение шести месяцев. Кое-кому из нас кажется, что Япония полностью учла опыт германской армии после 1919 г. Ибо многое из того, что происходит здесь сейчас, видимо, совершается по тщательно задуманному и заранее разработанному плану. Правда, я должен признать, что имеющиеся у меня доказательства еще не вполне убедительны. У меня есть сотни мелких фактов, но из них можно сделать несколько выводов. Так, например, если японская армия действует по образцу германской армии, то где же японские Людендорфы и фон секты?
Мы с Бобом Кохрэном много размышляли над этим обстоятельством и перерыли кучу материалов. Мы установили, что, как правило, японские генералы покинули города и скрылись в деревнях.
Мой друг Цуру говорит мне, что это вполне естественно. Ведь сельские местности более консервативны, и если вновь возродится ультранационалистическое движение, оно возникнет именно в деревнях. Цуру утверждает, что генералы вернулись на свою родную почву, где они могут взращивать и формировать новый национализм.
15*
227
Это можно проследйть на примере одного Йз генёраЛой— Рюкици Танака, игравшего видную роль в японской экспансии на протяжении последнего десятилетия. На днях он исключительно откровенно беседовал с одним корреспондентом. Заявление этого хитрого японского генерала, стремящегося натравить Соединенные Штаты на Россию, не лишено интереса.
«Все мы, — сказал он,— сделались фермерами. Мы купили немного земли и возделываем ее. В городах у нас нет никаких перспектив на существование. А земля кормит нас. Я приобрел ферму близ Атами и почти все время работаю на ней. Взгляните на мои руки! Вы видите эти мозоли? Но я также много размышляю о причинах поражения, о том, что происходит здесь теперь и что сулит нам будущее. Через пять лет, и уж во всяком случае через десять, режим оккупации прекратится. Тогда я возвращусь в Токио и снова займу ответственное и руководящее положение».
Танака написал книгу, в которой он возлагает вину за все несчастья Японии на Тодзио и компанию. Но Танака не скрывает и своего участия в экспансии Японии. Он оправдывается только тем, что сам он не проиграл ни одной войны.
Еще больше меня заинтересовал генерал Исихара — исключительный фанатик, с деятельностью которого я столкнулся в Сакате на рождестве прошлого года. Большинство моих японских друзей уверено, что Исихара суждено стать фюрером Японии после окончания оккупации.
Один японский корреспондент информировал меня, что Исихара находится в Токио и выздоравливает после операции. Мы с Кохрэном, наконец, разыскали его в одной из больниц.
Исихара принял нас в своей небольшой больничной палате, оконные рамы которой покосились от взрыва бомбы. Исихара, высокий и худой, с очень смуглым лицом, гладко выбритой головой, уставился на нас тяжелым взглядом своих немигающих черных глаз. Он сидел на своей койке по-японски, сложив руки на коленях. Даже в бесформенном халате из желтого китайского шелка он держался необычайно прямо. Над ним на стене висели какие-то японские письмена.
228
Мы задали Исихара всего два вопроса: что он думает о поражении Японии и каковы его личные планы. Он ответил нам охотно и подробно своим резким голосом. Говорил он с видом человека, твердо убежденного в каждом своем слове.
«Если бы я был на действительной службе, — сказал он, — я бы заставил вас, американцев, поплатиться еще больше. Мы могли бы добиться значительно большего успеха, сократив свои линии обороны и удлинив ваши линии снабжения, а также урегулировав китайские дела.
Если бы наши руководители поняли смысл битвы за Мидуэй и укрепили наши позиции на Соломоновых островах, то обширные просторы Тихого океана сослужили бы нам службу. Даже адмирал Исороку Ямамото [главнокомандующий флотом, убитый американскими летчиками] ошибался, ибо он не мог выбрать позицию, на которой ему следует закрепиться. Я убедился, что мы проиграли войну, когда услышал о падении Сайпана.
Я знаю, что мы могли бы заключить мир с Китаем. Мы возлагали большие надежды на «Тоа Реммей» [созданная Исихара «Лига Восточной Азии»]. Если бы дух «Тоа Реммей» можно было воплотить в китайском народе, мы могли бы закончить войну в Китае. «Тоа Реммей» всегда чуждалась агрессии. Она утверждала, что если бы Китай признал Маньчжоу-го, то японская армия могла бы уйти из Китая. Чан Кай-ши признал бы Маньчжоу-го, если бы дело дошло до переговоров. Я всегда высказьвался за отвод наших войск из Китая и превращение Маньчжоу-го в буфер против русской опасности, хотя, конечно, мы не собирались воевать с Россией.
У нас с Тодзио не было разногласий относительно политики в Китае. Иначе и быть не могло. Ведь Тодзио не такой человек, у которого может быть какой-нибудь определенный план. Он был большим мастером в мелких административных делах, но в нем не было никакого проку, когда речь шла о таких важных проблемах, как политика в Китае. К тому же он был трусом. У него нехватило мужества арестовать меня. Одной из причин падения Японии было именно то обстоятельство, что такие люди, как Тодзио и его приспешники, могли притти к власти.
Тодзио поддерживала лишь кучка правых. Партия, которая привела Тодзио к власти, не имела никакой идеологу
гии. Ее просто вынесло на гребне политической волны.
К сожалению, «Тоа Реммей» была распущена вами, американцами. Тодзио тоже пытался ликвидировать «Тоа Реммей», но она сохранила свое влияние в Корее, Маньчжурии и даже Китае. Когда Макартур распустил «Тоа Реммей», мы убедились, что нет никакой разницы между милитаристами в Японии и в Соединенных Штатах. Это была единственная организация, которая могла бы бороться против коммунистических идей.
Сейчас нам запрещают проводить митинги, и мои товарищи находятся под постоянным надзором. Даже когда моя жена хочет навестить меня, она должна получать разрешение от американских военных властей. Моя корреспонденция подвергается цензуре, и письма из Токио идут ко мне не менее трех месяцев. При Тодзио моя корреспонденция проходила тоже строгую цензу.ру, но письма ко мне не шли дольше недели.
Когда я служил в генеральном штабе, принц Цицибу [брат императора] был моим подчиненным. Не заболей он, войны в Великой Восточной Азии не было бы. До 1940 г. принц служил в генеральном штабе, и он был единственным человеком, который мог связать императора с народом и тем самым предотвратить войну. Принц возражал против китайского инцидента и позже хотел урегулировать его в таком духе, как того требовала «Тоа Реммей». К несчастью, когда возник китайский инцидент, принц находился в Европе и не мог ничего сделать, чтобы ликвидировать его.
Если вы читали мемуары принца Коноэ, то вспомните совещания, проходившие с сентября по декабрь 1941 г. На этих совещаниях военная клика, вызвавшая китайский инцидент, утверждала, что он не может быть урегулирован без большой войны. Эта группа состояла из жалких трусов. Я не хвастаю своей храбростью. Но будь у меня поддержка принца Цицибу, я предотвратил бы войну».
Дверь тихо отворилась, и вошла пожилая женщина в коричневом кимоно. Она казалась очень встревоженной. «Это моя жена», — сказал генерал. Переводчик сообщил ей, что мы журналисты, и она немного успокоилась.
«Мне 57 лет, — сказал Исихара, — я родился в семье бедного самурая в Цуруоке. Там богатых людей мало,
230
это главным образом мелкие помещики и лавочники. Мой дядя был военным, и он позаботился о том, чтобы я тоже стал военным.
В армии я пользовался исключительной популярностью среди солдат. Даже до сих пор солдаты, служившие под моим командованием, навещают меня. Но вышестоящие офицеры никогда не любили меня. Может быть, просто потому, что они не любили справедливых людей и справедливости. В 1928 г. я был назначен начальником штаба Квантунской армии в Маньчжурии. Никому не нравился этот пост в то время, потому что он требовал постоянных ссор с китайцами. Мы все считали, что китайцы относятся к нам несправедливо, так же как и к нашим колонистам и вообще к нашим интересам. С момента своего прибытия в Маньчжурию я был убежден, что рано или поздно возникнет инцидент».
Мне было известно, что Исихара не дожидался возникновения этого инцидента, а помог ускорить его. Людей, позже определявших судьбу Японии и Азии — Тодзио, его приближенных и даже его соперников,— вдохновляла эта монументальная фигура, которая восседала сейчас перед нами. Большинство их должно теперь предстать перед судом в качестве военных преступников. Исихара в силу счастливой случайности — своей вражды с Тодзио — избежит наказания и, возможно, даже когда-нибудь вернется к власти.
Когда Маньчжурия прочно находилась в руках японцев, Исихара был отозван в Японию, где ему была поручена более ответственная задача. Именно в его гибком уме родились планы самого китайского «инцидента» — кровопролитной необъявленной войны, которой суждено было длиться восемь лет.
«Я был начальником оперативного отдела до сентября 1937 г.,— вспоминал Исихара. — В течение двухлетнего пребывания на этом посту, мне кажется, я поставил японскую армию на ноги и наметил путь, по которому она должна была следовать. Моя главная задача состояла в том, чтобы завершить военные приготовления для защиты Маньчжурии от Советской России. Пока я не добился этого, генеральный штаб основное внимание всегда уделял маневрам в Китае.
231
Я был устранен из генерального штаба за то, что настаивал на необходимости разрешить наши проблемы с Китаем. Я даже возражал против захвата Нанкина в декабре 1937 г. Последний пост, который я занимал, был пост командира дивизии в Киото; на этой службе я пробыл два года. В марте 1941 г. я вышел в отставку. У Тодзио не- хватило мужества встретиться со мной открыто. Поэтому приказ об отставке пришел ко мне от императора».
Он помолчал немного, взял книгу, лежавшую перед ним (это был философский труд, посвященный одной из буддийских сект). Он посмотрел на нее невидящим взором. Уже в течение двух часов он изливал на нас эту любопытную мешанину правды, полуправды, предрассудков и иллюзий, сдобренную изрядной долей пламенной и откровенной ненависти к Тодзио.
«Подлинная причина поражений Японии, — сказал он в заключение, — состоит в отсутствии демократии. «Полиция по контролю над мыслями» и жандармерия держали народ в постоянном страхе. Одно уничтожение этих полицейских сил сейчас не означает, что Япония стала демократической страной. Но, уничтожив тайную полицию, Макартур должен был предоставить самим японцам проводить чистку. А сейчас штаб Макартура в своих действиях полагается на информацию людей, которым нельзя доверять. Я призываю вас как представителей печати помочь штабу установить истину».
Жена Исихара что-то начала говорить ему тихим монотонным голосом. Он молчал. Затем мы встали и попрощались. Перед уходом я спросил Исихара, что означают письмена, висевшие на стене. Он сказал, что они написаны его старым учителем каллиграфии. Я разобрал одну фразу:
«Настало время проявить подлинный дух нации».
28 апреля 1946 г. ТОКИО
Неделю назад из американских портов в Японию вышло четыре парохода, груженных американским хлопком. Это первая партия из 890 тысяч кип хлопка, которые будут доставлены сюда в течение ближайшего года в соответствии с магической формулой «предотвращения эпидемий и гражданских беспорядков». Генерал Макартур ранее 232
информировал Вашингтон, что Японии угрожает «серьезный кризис», и попросил доставить миллион с четвертью кип хлопка. Поскольку буквально почти весь мир раздет, Вашингтон сократил эту цифру. Но даже 890 тысяч кип обеспечат каждого японца 8,5 ярдами тканей, удовлетворят промышленные потребности страны и даже дадут возможность экспортировать текстильные товары, что оплатит сырье.
Такова версия штаба. Однако два члена Международной текстильной миссии, занимающейся сейчас изучением ресурсов Японии, рассказали мне совершенно иную историю.
Миссия обнаружила, что хитрые японцы скрыли миллиард ярдов тканей или сырья, из которого можно выработать такое количество ткани. Кроме того, японцы имеют достаточно пряжи и хлопка, чтобы дать работу своим фабрикам на 12—14 месяцев. Японское правительство умолчало об этих запасах и засыпало штаб требованиями о присылке американского хлопка для «спасения Японии от катастрофы».
Как мне рассказали члены миссии, штаб начал обнаруживать скрытые запасы уже после того, как он направил свою просьбу в Вашингтон. На складах в префектуре Ниигата было обнаружено 100 миллионов фунтов хлопчатобумажной пряжи. Не желая признать, что японцы провели его, штаб пытался замять это дело. Он командировал майора Ф. Э. Пиккела из Экспортно-импортного отдела в Юго-Восточную Азию на поиски рынков для японских текстильных товаров.
«Штаб, — рассказал мне один из членов Международной текстильной миссии, — пожалуй, не потребовал бы присылки такого количества хлопка, если бы знал, сколько хлопка скрыто в самой Японии. Однако теперь он пытается оправдать свое требование, направленное в Вашингтон. В Японии сейчас на душу населения приходится больше метров ткани, чем в какой-бы то ни было другой стране Азии или Европы. Японцы сейчас стремятся ринуться на мировые рынки, и штаб помогает им в этом».
29 апреля 1946 г. ТОКИО
Сегодня я получил краткое изложение секретного доклада о роспуске дзайбацу, подготовленного знаменитой 233
«комиссией Эдвардса» — группой, направленной сюда военным министерством и государственным департаментом и возглавляемой профессором Северо-Западного университета Корвином Д. Эдвардсом. Комиссия пробыла здесь несколько месяцев в прошлом и настоящем году и сейчас возвратилась в США.
Доклад содержит два тома сложных специальных материалов. Важные рекомендации этой комиссии, мне кажется, можно вкратце изложить следующим образом:
1. Роспуск всех дзайбацу, упразднение всех переплетающихся друг с другом директоратов, ликвидация всех семейных интересов дзайбацу и семейного контроля над промышленностью, осуществляемого через посредство акционерных компаний, или «хонса».
2. Продажу акций, находящихся в руках «хонса», акционерам, не связанным с дзайбацу: кооперативам, служащим дзайбацу, профсоюзам и посторонним лицам. Необходимо разработать систему, которая гарантировала бы от приобретения акций подставными лицами дзайбацу.
3. Компенсация дзайбацу за счет выручки от продажи акции в форме облигаций, рассчитанных на 10 лет при выплате «блокированных» процентов, которые могут быть использованы только на уплату налогов и приобретение государственных ценных бумаг. В случае отсутствия покупателей государство должно конфисковать активы дзайбацу. Коммунальные предприятия, принадлежащие дзайбацу, должны перейти в собственность государства.
4. Устранение основного руководящего персонала «бан- то», тесно связанного с дзайбацу.
5. Ликвидация связи между банками дзайбацу и промышленностью дзайбацу.
Оба эксперта, передавшие мне пространное изложение доклада, восторженно отозвались о насыщенности доклада множеством интересных фактов. Но они отметили его «бесформенность и отсутствие целеустремленности». Один из них сказал:
«В нем содержится все — от кооперативов до кухонной утвари. Я только хотел бы, чтобы в нем был намечен курс, по которому нам необходимо следовать, или определено значение каждой из содержащихся в нем рекомендаций. В его нынешней форме Макартур может использовать до234
клад в качестве основы для удачного закона, направленного против дзайбацу. Но вместе с тем он также может послужить основой для закона, который не будет иметь вовсе никакого смысла».
30 апреля 1946 г, ТОКИО
Сегодня вечером в Клубе журналистов состоялось собрание, на котором обсуждалась широкая кампания, предпринятая штабом против представителей печати. Уже в течение недели мы все время сталкивались с ее проявлениями. Сейчас нас лишили доступа к армейскому отделу по прокату автомобилей, где мы получали машины. Те, у кого были собственные машины, сейчас не могут получить бензина. Одному корреспонденту отказали в зубоврачебной помощи. Клубу запретили пользоваться грузовиком, на котором мы доставляли продовольствие. Одному «недружественному» корреспонденту, который жаловался на то, что прибытие сюда жен корреспондентов без конца откладывается, дважды было заявлено: «Отправляйтесь домой, если вам здесь не нравится». Другому корреспонденту, который обслуживал несколько газет, сказали, что «специальные корреспонденты здесь не нужны». Корреспонденты, которые выписали сюда своих жен, были информированы, что после 1 июля они не смогут покупать продукты в военных магазинах. Эта угроза особенно серьезна, так как на японском рынке ничего невозможно купить, а если даже там и можно что-нибудь купить, то это преследуется законом.
Многие корреспонденты считают, что эта кампания представляет собой выражение недовольства нашим освещением заседаний Союзного совета. Ответственность за это несет отчасти генерал Бэйкер, который, видимо, считает, что демократическая печать — это такая печать, которая не должна публиковать ничего, кроме материалов, получаемых от него самого.
Австралийский корреспондент Джек Персивал, который критиковал некоторые стороны оккупационного режима, рассказал нам, что Бэйкер написал его редактору, обвиняя Персивала в различных нарушениях журналистской этики. Я не могу понять подобного поведения руководи235
теля отдела печати, задача которого — помогать представителям печати.
Корреспондент «Чикаго дейли ньюс» Билл Макгаффин, только что прибывший из Китая, сообщил нам еще более интересную историю. Он рассказывает, что ему и корреспонденту «Крисчен сайенс монитор» Гордону Уокеру не разрешили возвратиться в Японию на том основании, что места на самолетах якобы были необходимы для более важных людей. К счастью, Макгаффин имел разрешение на обратный проезд. Поэтому он просто сел на самолет и прилетел в Японию. Поскольку у Уокера не было такого разрешения, он написал в свою редакцию, которая начала наводить справки по этому поводу в Вашингтоне. В конце концов, как нам рассказал Макгаффин, Бэйкер информировал редакцию «Крисчен сайенс монитор», что командование армии в Корее возражало против «безответственных сообщений Уокера» и что Уокер может возвратиться в Японию при условии, если будет освещать события более точно. Редакция газеты ответила с подобающей ей твердостью. Она выразила удовлетворение по поводу того, что Уокер может возвратиться в Японию, откуда он снова сможет начать освещать события «со свойственной ему точностью».
Участники собрания приняли резолюцию протеста и выбрали комиссию во главе с Кохрэном, которая вручит эту резолюцию генералу Макартуру.
1 мая 1946 г. ТОКИО
Сегодня состоялся первомайский митинг, и после завтрака в клубе не осталось ни души. Когда я прибыл на Императорскую площадь, она вся была запружена народом, и со всех сторон к ней подходили новые и новые колонны людей. Они шли с пением, несли флаги и плакаты. Некоторые подъезжали на грузовиках, и их встречали приветственными криками.
Несмотря на пасмурную погоду, митинг проходил в обстановке ликования. Я никогда еще не видел такого энтузиазма и такой уверенности среди японцев. Поскольку трибуна для оратора находилась слишком далеко и микро фоны тоже не могли передать речи на большое расстояние, 236
огромная толпа разбилась на более мелкие группы й каждая из них пела, выкрикивала лозунги или слушала своего оратора. Когда мы с переводчиком пробирались через толпу, люди то и дело кричали нам, чтобы цц сфотографировали их вместе с флагами и плакатами, tt которых были изображены лозунги в честь Первого мая или карикатуры на правительство.
Поэтому мы очень долго пробивались к трибуне для ораторов, задрапированной красной материей и украшенной плакатами. На трибуне было несколько знакомых нам лиц: Токуда, Носака, Като и некоторые видные правые профсоюзные деятели. Они торжественно восседали на своих местах, а вокруг них суетились иностранные корреспонденты, японские фоторепортеры и организаторы митинга. С платформы мне представилось сплошное черное море голов, волнующееся и нетерпеливое. Оно покрывало всю площадь и выливалось на соседние улицы. Насколько хватал взор, оно было испещрено красными мазками.
Один за другим на трибуну поднимались ораторы и кричали свои речи в микрофон. Громкоговорители усиливали их голоса или же заглушали их посторонним шумом и свистом. В таких случаях на лицах у всех выражалось огорчение, но оратор не прекращал речи. Выступления были однообразными, ибо все ораторы, и правые и левые, говорили о нехватке продовольствия и о необходимости создания демократического правительства.
Токуда говорил последним. Он немного постоял на трибуне, суровым взором всматриваясь в приветствовавшую его толпу. Он тоже говорил о скудных пайках, о запасах риса, которые прячут богачи и спекулянты, о том, как рабочим трудно сводить концы с концами. Толпа ревела в знак согласия. Но самые громкие и продолжительные крики послышались, когда Токуда, вытянув обе руки вперед, прокричал: «Долой императора!»
За спиной Токуда его слушатели видели здание дворца, возвышавшееся за толстой серой стеной, у которой стояли американские часовые.
Когда речи закончились, толпа начала разделяться на четыре колонны. Я пошел с процессией, которая направилась к резиденции премьер-министра. Начал накрапывать дождь. Краска на плакатах намокла и стала расплы237
ВаТься. И скоро тонкая бумага на плакатах начала рваться. Но это не охладило энтузиазма. Размахивая остовами плакатов, люди бодро шагали вперед с пением «Марсельезы», «Первомайской песни»:
Слушайте, рабочие всех стран,
Как звучит наш праздник первомайский...
и «Акахата», или «Красного флага», с его причудливо звучащей мелодией:
Знамя народное, красное знамя, Павших героев ты осени: Прежде чем трупы их похолодеют. Кровью окрасят знамя они.
Я остановил наудачу несколько человек и спросил их, почему они участвуют в демонстрации. Один из них, рабочий-железнодорожник, ответил: «Потому что я считаю, что в демократической стране власть должна принадлежать народу»; второй — почтальон — сказал: «Это мой день, и для меня большая честь участвовать в нем». А третий — крестьянин — заявил: «Это мой первый первомайский день за десять лет. Я очень взволнован».
Перед резиденцией премьер-министра стояли два американских броневика, виллис с пулеметом и несколько военных полицейских. Ворота были раскрыты, и за ними виднелось не более двух десятков японских полицейских. Видимо, Сидехара был уверен в защите американцев. Я подошел к Кохрэну, который стоял у ворот и наблюдал, как процессия лилась нескончаемым потоком. Она проходила мимо нас 95 минут по 300 человек в минуту, то есть всего было 28 тысяч человек. Никто из участников процессии не пытался проникнуть за ворота. Только молодежь, проходя мимо ворот, начинала кружиться в бешеном танце, которому она научилась на религиозных празднествах.
Пока мы наблюдали процессии, нам сообщили, что Сидехара, который останется премьером до тех пор, пока не будет назначен его преемник, принимает первомайскую делегацию. Мы поспешили в приемную и увидели теперь уже знакомую нам картину и знакомых лиц: Сидехара, бормотавшего свои ответы, решительного и напористого Токуда, спокойного и энергичного Нарахаси в аккуратном 238
синем полосатом костюме с тщательно подстриженной седой бородкой.
Токуда (Нарахаси): Мы хотим поговорить о пайках, но вы не знаете, что это такое. Судя по вашему виду, для вас рис не нормируется.
Нарахаси (смеясь): Я, конечно, знаю, что такое нормирование риса. (Похлопав себя по круглому животу.) Я просто живу старыми запасами.
К этому времени пошел сильный дождь, но народ все шел и пел. Мы поехали к токийскому радиоцентру и здесь встретили вторую колонну, еще более многочисленную и даже более оживленную, чем первая. Третья колонна двигалась по главной улице Токио—Гинза. Заместитель начальника военной полиции полковник Лоджи рассказал нам, что вторая колонна, которая проходила мимо штаба Макартура, шла два с половиной часа. Официально он определил число участвующих в демонстрации в 300 тысяч, а неофициально — полмиллиона. По моим приблизительным подсчетам, оно превышало 100 тысяч.
К вечеру демонстрация разбилась на отдельные группы, и каждая из них возвращалась в свои районы с пением. Мне казалось, что я почти беспрерывно слышал пение весь день. Весь этот день был проникнут необычайной радостью, той необыкновенной радостью, какая переполняет узника, получившего свободу.
Однако до ночи я встретился с многими американцами, которые неодобрительно отзывались о демонстрации. Мне рассказали о полковнике, который весь день провел у окна и с мрачным вниманием следил за людьми, проходившими мимо него по улице. Один офицер рассказал мне в клубе, что, по его мнению, «нам не следовало разрешать этот коммунистический митинг». Многим из тех ультраконсервативных японских профсоюзных лидеров, которые сидели на трибуне сегодня утром, очень не понравилось бы это замечание. Я еще раз убедился, что военные не доверяют народу, когда он собирается большими массами, если только он не одет в военную форму. Военные любят дисциплину и порядок как во время войны, так и в мирное время, а о каком порядке может итти речь, если мужчины призывного возраста дерзко кружатся в бешеном танце перед домом премьер-министра?
239
Но если бы полковник, мрачно Смотревший в этот день в окно, взглянул на происходившее с социальной, а не с военной точки зрения, то он считал бы этот день одним из самых счастливых. Ибо эта грандиозная демонстрация — та радость и свобода, которой веяло от нее — была лучшим проявлением демократии в этой феодальной стране.
2 мая 1946 г. ТОКИО
Сегодня вечером мы с Кохрэном увидели Хатояма, который под дождем ожидал свою машину у здания, в котором помещалась либеральная партия. Он радостно улыбнулся нам и сообщил счастливую весть: его кандидатура представлена премьером Сидехара в качестве следующего премьер-министра Японии. В этом есть нечто символическое: завтра Тодзио и компания предстанут перед судом как военные преступники, а Хатояма, такой же преступник, разве только меньшего масштаба, ожидает своего назначения премьер-министром демократической Японии.
3 мая 1946 г. ТОКИО
За несколько часов до топь как Хатояма должен был быть официально назначен императором на пост премьер- министра, штаб отдал распоряжение, чтобы японское правительство удалило его из парламента. В особом меморандуме перечисляются военные преступления Хатояма, в том числе и преступления, вскрытые на шумном собрании в Клубе журналистов.
В 11 часов 13 минут утра в зале японского военного министерства, которое стоит на холме, возвышающемся над развалинами Токио, 28 японцев (два из них заочно) предстали перед Международным военным трибуналом по обвинению в планировании, подготовке и ведении агрессивной войны.
Это историческое зрелище было великолепно поставлено. В течение нескольких месяцев плотники и электрики работали в этом огромном зале, сооружая трибуны, устраивая особое освещение, украшая помещение коврами. Однажды 240
даже решили переделать все заново, потому что считали, что оформление зала не соответствует величию события, которое должно в нем происходить. Сейчас, кажется, ничего не забыли.
Судьи восседают на возвышении на фоне своих национальных флагов. Несколько ниже стоят столы для клерков, представителей обвинения и защиты. По другую сторону огромного зала на небольшом возвышении на двух длинных скамьях сидят обвиняемые под охраной четырех дюжих военных полицейских в белых шлемах. Направо места для 200 корреспондентов — иностранных и японских. Над ними галерея для 300 представителей союзников и 200 японцев.
Процесс начался с опозданием на 43 минуты. Первыми в зал вошли представители обвинения во главе с Джозефом Б. Кинэном, краснолицым, плотным человеком, когда- то занимавшим пост помощника министра юстиции Соединенных Штатов. Затем через небольшую дверь ввели обвиняемых. Они вошли нерешительно, подталкивая друг друга, и тотчас же устремили взоры на галерею в поисках знакомых лиц. Через семь минут медленно и торжественно вошли девять судей в черных мантиях. Были зажжены мощные прожекторы, послышался треск киноаппаратов. Председатель суда сэр Уильям Уэбб, высокий австралиец с красным лицом и ястребиным носом, окинул присутствующих снисходительным взглядом и начал читать свое заявление.
Обвиняемые слушали внимательно. Генерал Тодзио, одетый в военную форму, сидел прямо, не спуская глаз с лица Уэбба Позади него находился высокий и худой Сюмеи Окава. Это был шпион и философ-националист, на след которого я напал на рождестве прошлого года в Сакате. Он пришел в «гета» (деревянных башмаках), и когда ему приказали снять их, он снял также и свой черный пиджак и сидел теперь в мятой белой рубашке.
Мацуока — получивший образование в США шовинист, подражавший Уильяму Дженнингсу Брайану1 в своей пламенной речи о Японии, «распятой на золотом кресте», когда он во главе японской делегации уходил из Лиги
1 Американский консервативный политический деятель (1860— 1925); известен в США своими ораторскими выступлениями. (Прим, ред.)
16 м. Гейн
241
наций, — сидел, опершись на палку. Рядом с ним помещался Мамору Сигемицу, карьера которого началась с того, что он потерял ногу в Корее. Постукивая своей деревянной ногой, этот высокий, сухопарый человек ходил в посольства в Лондоне и Москве, в министерство иностранных дел и поднялся на борт американского линкора «Миссури», где от имени своей страны подписал акт о капитуляции.
Налево от них сидел полный и невозмутимый генерал Кендзи Доихара — один из величайших политиканов и тайных агентов нашего века, известный под именем «Лоу рейса 1 Маньчжурии», шпионы которого кишели по всей Азии. Десять лет назад я видел его в Бэйпине, опьяненного вином и властью, поспешно изменяющего судьбу Северного Китая. Здесь же, наконец, сидел жалкий, съежившийся человек в огромных очках в черной оправе — маркиз Кидо, который, используя символ империи, сделался ним из самых могущественных людей в Японии.
Мне все это казалось невероятным. Ведь последний раз я видел этих людей на вершине власти, когда они бросали вызов всему миру и никто не смел противиться им. Теперь каждый из них вызывал во мне воспоминания о преступлениях, от самых скромных преступлений, начавшихся в Маньчжурии, до самых грандиозных, которые затронули такие отдаленные друг от друга районы, как Калифорния, Австралия и Красное море. Когда-нибудь, думал я, ученый японский биограф выберет человек десять из этой группы, изучит побуждения, которыми они руководствовались, и на основании их жизненного пути напишет историю величия и падения Японии.
Эта история, думал я, покажет людям, как опасно, когда политическая власть ускользает из рук народа и ее жадно захватывает военщина и крупные капиталисты. Ибо истории свойственна скверная особенность повторяться, и то, что произошло в Японии вчера, может с небольшими измейениями произойти в какой-нибудь другой стране завтра.
1 Лоуренс (1888— 1935) — полковник английской контрразведки. Известен своей провокационной деятельностью на Ближнем Востоке. Занимал пост политического советника при министре колоний Великобритании У. Черчилле. (Прим, ред.)
242
История этих Двадцати шести человек, сйДящих на скамье подсудимых, и сотни других людей, которые еще находятся в тюрьме Сугамо, началась пятнадцать лет назад, когда в Японии еще были две большие политические партии, был парламент, в котором изредка на трибуну поднимались люди, говорившие правду; была еще довольно свободная печать, школы, в которых еще можно было учить либеральному мышлению, и библиотеки, на полках которых еще можно было найти либеральные книги. Это было время, когда рабочие и крестьяне еще могли объединяться в союзы, а людей, которые критиковали свое правительство и армию, не обвиняли «в предательстве».
Но военно-финансовая олигархия не довольствовалась тем, что она имела. Дзайбацу стремились к экспансии за границей, жаждали новых рынков, новых источников дешевого сырья. Они субсидировали обе главные политические партии, а те разглагольствовали о гражданских свободах и своей либеральной традиции. На деле же они противились развитию таких институтов, как профсоюзы. Военщина также стремилась к экспансии. Она мечтала о новых чинах, об императорской славе, об увеличении ассигнований на «оборону». Но никто из членов этой олигархии не высказывал того, что действительно было у него на уме. Все они говорили только о «священной миссии» Японии, ее знамени, о «жизненной необходимости» остановить распространение коммунизма.
И вот в одну теплую осеннюю ночь в 1931 г., после долгих месяцев тщательной подготовки, они взорвали участок Маньчжурской железной дороги, назвав это «неспровоцированным нападением на Японию», и отрезали огромный кусок китайской территории. Предлог не имел никакого значения. Таким предлогом могло послужить убийство военного «наблюдателя» в Маньчжурии. Таким предлогом могли быть трения между китайскими и корейскими поселенцами, для которых японская армия внезапно нашла теплый уголок в своем холодном сердце. Когда понадобился предлог, достаточно было поврежденного рельса, чтобы толкнуть Японию на путь агрессии и... поражения.
Япония одерживала одни лишь победы, но эти победы доставались ей дорого, ибо каждая из них требовала новых усилий, чтобы защитить награбленное. Иными 16*
243
словами, как говорят? китайцы, аппетит приходит во время еды. Для того чтобы ответить на «оскорбление нации», которое символизировал поврежденный рельс, армия сочла необходимым оккупировать маньчжурские города. Для того чтобы защитить эти города, армия двигалась на север, до тех пор пока она не подошла к русской границе на Амуре, и на юг, до тех пор пока она не очутилась перед Великой Китайской стеной. И, естественно, армия кричала, что ей нужно больше оружия и более мощное оружие, для того, чтобы «защитить страну» от России. И столь же естественно, что армия пришла к заключению, что только новый акт агрессии может сломить враждебный дух в Северном Китае. Поэтому армия пошла еще дальше от Бэйпина к Французскому Индо-Китаю, а затем далее, в Малайю, на Филиппины и на подступы к Австралии.
С каждым новым агрессивным актом олигархия все более усиливала свою власть над японским народом. Все чаще раздавались разговоры о необходимости «сдержать коммунистическую экспансию». И чем дальше армия отходила от русской границы, тем больше военщина разглагольствовала о «русской опасности». Она была готова подписать мир с Чан Кай-ши, если он согласится на «совместную оборону Китая от русских». Она подписала вместе с Германией и Италией «антикоминтерновский пакт», который, по существу, был военным союзом, направленным и против Соединеных Штатов.
Требования «остановить коммунизм» сопровождались разглагольствованиями о наследии Японии, о «предопределении» Японии, о высоких идеалах, которые нужно внушить другим народам, о необходимости «восстановить мир и порядок». Япония была объята националистической истерией, искусно раздуваемой военщиной и дзайбацу. С ростом панических настроений возрастали ассигнования на увеличение численности армии, на производство орудий, военных кораблей и самолетов. И с каждым годом, по мере того как финансовая клика расширяла производство вооружения и следовала за армией во все новые и новые завоеванные области, ее прибыли возрастали.
«Дружественные» режимы были созданы на всем протяжении от Маньчжурии до Сиама, и им предоставлялись займы, выделялись военные корабли, направлялись миссии советников для «охраны их образа жизни» от посяга244
тельств англичан, американцев или французов. Но каждая такая мера вызывала цепную реакцию. Обеспокоенные русские, французы или англичане доставляли подкрепления. Это, в свою очередь, вызывало новые кредиты и отправку нового вооружения из Японии. Этот порочный круг приводил к тому, что вокруг шеи японского налогоплательщика все туже затягивалась петля. Внутри страны нарастала искусственно разжигаемая истерия. Умеренные настроения считались чуть ли не изменой, а выразители этих настроений в правительстве изгонялись или даже истреблялись. • За «опасные мысли» ультранационалисты бойкотировали людей или заключали их в тюрьмы и истязали. Одна банда хулиганов изувечила умеренного социал- демократа. Другая банда, в которую входили ученые, генералы и законодатели, изгнала из общественной жизни видного профессора, который дошел до такого «предательства», что осмелился назвать императора придатком государства, а не наоборот. Группы националистов оказывали давление на университеты, заставляя их изгонять «нелойяльных» профессоров. Из библиотек изымали «подрывную» литературу. Начали с Карла Маркса и неизбежно добрались до Драйзера и Толстого.
Ряды либералов все редели и редели. Те, кто еще был на свободе, старались молчать или же усваивали терминологию ультранационализма. Умеренные газеты Японии заговорили в резком тоне. Начальник токийской полиции Мацутаро Сиорики, который стал издателем крупной ежедневной газеты «Иомиури», превратил ее в открытый рупор агрессии. Крупнейшие ежемесячные журналы Японии терроризировались и в конце концов были закрыты, а их сотрудники посажены в тюрьмы.
Постепенно была подавлена оппозиция и в парламенте. Некоторые члены парламента были вообще изгнаны под нажимом военщины, а остальных оппозиционеров не переизбрали испуганные избиратели. Реакционные члены парламента и комитеты начали жестокое преследование «нелойяльных», и, поскольку эти люди были законодателями, никто не мог провести грань между истерией и законной юридической процедурой.
В первую очередь пострадали рабочие и крестьянские союзы. Началось с чистки союзов от коммунистов, подлинных и воображаемых, и от «нелойяльных» элементов.
245
Следующим шагом было слияние профсоюзов в официальную организацию по указке военщины. Затем начали создаваться «патриотические ассоциации», объединявшие представителей «рабочих» и предпринимателей, запрещались забастовки, а руководство этих ассоциаций набиралось из числа представителей дзайбацу и тоталитарной партии.
«Кризис» и «чрезвычайное положение» стали обиходными словами. Ими объясняли повышение цен и необходимость отправки миссий в Сиам для «защиты его от соседей». Кабинет министров сузился и превратился во «внутренний кабинет» из пяти человек, из которых два или три были обычно представителями военщины, а один или два — представителями дзайбацу. Время от времени эти две группировки ссорились друг с другом, но все же их союз нельзя было назвать несчастливым. Генералы и адмиралы получали тепленькие местечки в дзайбацу, а представители дзайбацу получали ведущие посты в области «национальной обороны», занимая которые они могли обеспечить себя военными заказами и подавлять конкурентов.
Страх служил средством, с помощью которого военщина и дзайбацу утвердились у власти. Но страх* пагубно отражался на моральном состоянии, и поэтому пропагандистский аппарат всеми силами старался убедить японский народ, что он сильнее, чем любой его противник, ибо его воодушевляют высокие идеалы, его цивилизация совершеннее, его промышленность более развита, а его секретное оружие более разрушительно и более хитроумно, чем оружие любого врага. Японцы действительно имели секретное сружие, и некоторые его виды были поистине ужасны, как, например, отравляющие вещества, которые они испробовали в Ичане в Центральном Китае. Однако японская военщина слишком поздно поняла, что разрушения не кладут конец войне. Если имеешь дело с упорным противником, то эти разрушения порождают столько проблем, сколько и уничтожают. И, несмотря на все свое оружие — и тайное и явное, — японцам не удалось поставить Китай на колени.
Двадцать шесть человек, которые сейчас предстали перед моим взором, не работали бок о бок, замышляя 246
в течение четырнадцати лет заговор, который привел к агрессии, разжиганию истерии, захвату абсолютной власти в государстве. Шпион Окава никогда не сидел за одним столом с Тодзио. Они ненавидели друг друга неизбывной лютой ненавистью. Маркиз Кидо, женоподобный человечек, не имел ничего общего с жизнерадостным пьяницей генералом Доихара. Многие из этих людей никогда даже не встречались друг с другом до своего ареста. Некоторые из них никогда не играли руководящей роли в политике, а были лишь исполнителями. По любопытному стечению обстоятельств, на скамье подсудимых не было ни одного представителя дзайбацу. Тюрьма Сугамо могла бы без труда представить список политиканов, игравших более важную роль, чем эта группа.
И несмотря на все это, выбор был совершенно справедливым. Хотя эти люди и не поддерживали физического контакта друг с другом, они были участниками дерзкого и зловещего заговора огромного масштаба — столь же безумного и подготовленного с такой же холодной расчетливостью, как заговор Гитлера. Их главной целью была экспансия Японии в самые отдаленные уголки земного шара, и люди, индивидуально или коллективно участвовавшие в заговоре, по всем внешним признакам были патриотами.
Однако патриотизм этих людей вызывался самыми различными соображениями. Патриотом являлся Тодзио. Это был низкорослый, круглоголовый человек, снедаемый честолюбием и одержимый стремлением превзойти своего отца, известного генерала. Это был человек, способный на мелкую зависть и увлекающийся бюрократической конторской работой. Когда его назначили начальником жандармерии в Маньчжурии, он попал в свою стихию. Его жена была сварливой женщиной,родившей ему целый выводок детей и вовлекавшей его во все новые и новые интриги. После того как Тодзио стал военным министром, его супруга стала созывать фоторепортеров, и корреспондентов каждый раз, когда он предпринимал какую-нибудь новую акцию. Японцы называли ее «восточной мадам Чан Кайши» и за глаза издевались над ней. Супруги Тодзио лезли вон из кожи, чтобы подняться вверх, и не пренебрегали щедрыми подношениями своих новых друзей из дзайбацу.
247
Маркиз Кидо был профессиональным придворным, рожденным и воспитанным в атмосфере придворных интриг. Он постепенно поднимался по ступенькам бюрократической иерархической лестницы, пока не попал ко двору. Здесь он и остался, став влиятельной закулисной фигурой, «составителем кабинетов», человеком, рожденным для интриг. Он ненавидел Тодзио и его головорезов, но отлично понимал, каковы истоки власти в Японии, и именно он избрал Тодзио премьер-министром. Кидо знал, что Тодзио всерьез стремится к войне, однако пренебрегать Тодзио — значило поставить под угрозу свою власть и даже, может быть, навлечь опасность «государственного переворота», который может совершить возбужденная военщина.
Окава был фанатиком, авантюристом, классическим злодеем, которого обуревали мечты о величии империи. Он служил в Маньчжурии и Китае агентом армии и представителем крупной коммерческой организации; ему была поручена исследовательская работа. И он сочетал эту исследовательскую работу с дерзкими и кровавыми заговорами, рассчитанными на изменение политической структуры Японии. К числу его первых заговоров относится план проникновения в императорский дворец с группой своих единомышленников с целью убить умеренных представителей двора, а затем потребовать у императора назначения Окава премьер-министром. Возможно, что до сих пор ему неизвестно, что один из двух его приспешников собирался как раз в этот самый момент нанести удары ножом в спину Окава и его второго партнера и потребовать, чтобы его самого избрали премьер-министром. Все это мне стало известно от того самого человека, который замышлял измену Окава. Окава был одновременно аскетом и сибаритом, талантливым безумцем и сильной личностью; он, не колеблясь, мог послать своих сторонников на верную гибель.
Эти три человека — Тодзио, Кидо и Окава — были настолько различны между собой, насколько это может быть между людьми. Однако все трое верили в судьбу, предначертанную Японии, и каждый из них, независимо друг от друга, содействовал заговору, который вовлек Японию на путь агрессии. И по мере того как этот заговор разрастался и их влияние распространялось, они замыш248
ляли все новые и новые интриги внутри страны и за ее пределами. Все трое были опьянены успехом, честолюбивыми замыслами и лестью, которые их окружали как созидателей «Великой Японии».
Патриотизм этих людей был неразрывно связан с соображениями личной выгоды. Невозможно определить, где кончались эти личные соображения и начинали действовать социальные силы — дзайбацу, жаждущие новых рынков и новых источников сырья, воздействие обнищавших масс населения, среди которых могло вспыхнуть восстание, если их не отвлечь заморскими авантюрами, соблазнительная слабость соседей, нехватка продовольствия, угля и сырья, от которой страдала Япония, и феодальная система, привыкшая искать ответы на возникавшие перед ней проблемы в войнах, а не в социальных преобразованиях.
Днем военный трибунал огласил обвинительное заключение. К этому времени прибыли еще двое обвиняемых, находившихся за границей, и присоединились к остальным двадцати шести. Всех этих людей обвиняли в том, что они — в качестве «лидеров, организаторов или соучастников» — участвовали в заговоре с Германией и Италией, направленном на установление господства над миром. Их обвиняли в том, что они являлись членами «преступной милитаристской клики», определявшей внутреннюю и внешнюю политику Японии, рассчитанную на проведение агрессии, эксплоатацию завоеванных территорий и подчинение самого японского народа абсолютному военному контролю.
Обвиняемые слушали, некоторые из них что-то записывали. Только Окава все время беспокойно вертелся. Он то и дело расстегивал рубаху и почесывал впалую грудь. Расстегнутая рубаха постепенно, сползла с плеча, и Уэбб приказал конвойным застегнуть ее. Но, как только американский полковник, стоявший позади Окава, застегнул рубаху, последний снова ее расстегнул. Постепенно эта комедия привлекла взоры всех присутствовавших, и все забыли об обвинительном заключении. Когда Окава проделал это в третий раз, полковник положил руки ему на плечи, и каждый раз, когда тот пытался пошевелиться, полковник прижимал его к скамье. Наконец, Окава 249
обернулся и успокаивающе улыбнулся полковнику. Снова воцарилось спокойствие, и чтение обвинительного заключения продолжалось.
Вдруг Окава наклонился вперед и изо всех сил ударил Тодзио по голове свернутым в трубку экземпляром обвинительного заключения. Громкий удар разнесся по всему залу. Операторы, стоявшие на специально отведенной для них галерее над скамьей подсудимых, лихорадочно начали крутить свои киноаппараты. Тодзио медленно обернулся и улыбнулся Окава. Полковник и несколько военных полицейских поспешно вывели Окава, и был объявлен перерыв.
Мы с Кохрэном отправились в комнату для подсудимых. Окава стоял у стола. Своей сухопарой фигурой, изможденным лицом и необыкновенно длинными руками он напоминал восточного Дон-Кихота. Он сказал нам по-английски медленно и отчетливо:
«Тодзио дурак... Я должен убить его. Я за демократию... Америка—не демократия... Я не хочу в Америку, потому что она помешалась на демократии Ч Вы понимаете, что я хочу сказать. Помешалась... Я ничего не ел 72 дня... Мне ничего не нужно есть. Я питаюсь воздухом...» Он протянул руку, чтобы показать, как он питается воздухом.
„Он ничего не ест,— подтвердил нам американский солдат. — Он морит себя голодом. Ему 60 лет, а он все твердит, что ему нужно повидаться с матерью, которая только что приехала в город. Парень спятил».
После перерыва заседание возобновилось. Однако теперь торжественность момента исчезла, и можно было подумать, что чудачества обезумевшего человека или человека, притворявшегося безумным, сорвали с суда покров торжественности. Я уверен, что многие, присутствовавшие на этом первом историческом заседании, запомнили только этот удар по гладко выбритой голове Тодзио. И будет ли этот трибунал, который возглавляют никому неведомые судьи, отвечать требованиям, предъявляемым к процессу, который мыслился как исторический?
1 В оригинале игра слов: «democracy» — демократия, «de mocrazy»— помешанный на демократии. (Прим, перев.)
250
Как в Нюрнберге, так и здесь, в Токио, формулируются новые принципы международного права. Доводы, которые будут представляться здесь, и решения, которые здесь будут вынесены, войдут в свод законов и будут отныне цитироваться на других международных процессах. Здесь бы следовало заседать людям, не только достигшим высокого положения в судебной системе своих стран, но и обладающим историческим чутьем. Однако на этом первом заседании самым внушительным, пожалуй, был только обширный и пышный зал.
4 мая 1946 г, ТОКИО
Два корреспондента, незнакомые друг с другом, рассказали мне сегодня, что их вызвал генерал Бэйкер и передал им благодарность от генерала Макартура за их «справедливое и беспристрастное» освещение заседаний Союзного совета для Японии. Оба корреспондента сказали мне, что они были в полном замешательстве, так как они отправляли в свои газеты сообщения, резко критиковавшие генерала Марката, генерала Уитни и генерала Макартура. До того как эти сообщения появились в печати и порадовали сердце Бэйкера, они были до неузнаваемости переделаны в редакции.
Мне также рассказали о корреспонденте радиовещательной компании, который в начале этой недели связался со своим отделением в Сан-Франциско, сообщил ему о предстоящем суде над Тодзио и спросил, хотят ли они организовать специальную передачу на эту тему. В Сан- Франциско ответили, что они не могут решить этот вопрос, им нужно связаться с Нью-Йорком. Скоро пришел ответ от мудрого редактора из Нью-Йорка: «Завтра не нужно никакой передачи, если только Тодзио не будет осужден».
Генерал Макартур заверил нас, что не предполагалось производить никакого нажима на корреспондентов и отныне к нам будут относиться так же, как к его «собственным офицерам». Всевозможные притеснения, мешавшие нашей работе, прекратились как по волшебству.
251
6 мая 1946 г.
ТОКИО
Сближение между государственным департаментом и генералом Макартуром стало полным. Группа Атчесона стала именоваться «дипломатическим отделом» штаба и к нему был прикомандирован специальный офицер, который должен был учить сотрудников отдела изъясняться военным канцелярским языком.
Однако между отделом и штабом установилась еще более тесная связь. На последнем заседании генерал Уитни сидел рядом с Атчесоном и все время нашептывал ему инструкции так громко, что английский делегат Болл ;в конце концов остановился на полуслове и язвительно •спросил, не мешает ли он им. Когда Уитни ушел, его место занял генерал Бэйкер. Ничего себе, хорошее положение для американского дипломата! По этому факту можно судить о состоянии дипломатии на нашем театре действий.
10 мая 1946 г. ТОКИО
Сегодня мой помощник Рой Одзаки попросил дать ему недельный отпуск.
«В нашем магазине, — сказал он, — уже десять дней не выдавали рис. Я хочу отправиться к своим родственникам, у которых ферма на острове Сикоку, и занять или же купить у них немного риса. Сколько бы консервов вы нам ни давали, мы голодаем, если у нас нет риса».
Японцы, должно быть, действительно изголодались. Ведь Сикоку находится в трех днях пути по железной дороге, а поездка по железной дороге для японцев в настоящее время — мучительное предприятие. Помимо связанного с этим физического напряжения, человек, везущий рис, подвергается постоянной угрозе как со стороны полиции, так и со стороны грабителей. И все же голод, подлинный или воображаемый, заставляет людей отваживаться на подобные предприятия. Поезда забиты людьми, контрабандой провозящими рис, а на многих заводах в Токио даже выдаются специальные отпуска для поездок за продовольствием в деревню. Рой думает, что есл$ 252
ему посчастливится, он сможет привести два чемодана риса, которым его семья будет кормиться два месяца.
Позже я проверил то, что мне рассказал Рой. Один из двух помощников корреспондента журнала «Тайм> Джона Льютера только что вернулся из больницы. Несколько недель назад он заболел авитаминозом, у помощника Спаркса от недоедания появились отвратительные язвы. У него «бери-бери».
Нам угрожает недоедание. Но я не решаюсь отправить сообщение об этом, не проверив его досконально. Японское правительство, которое делает все, что в его силах (с целью представить общее положение в более мрачном свете, чем оно есть на самом деле, чтобы добиться более снисходительных условий мира и получить большую помощь от американцев), будет очень довольно, если в печати появятся подобные сообщения. Этому будут рады также и некоторые офицеры в штабе генерала Макартура, открыто высказывающиеся за превращение Японии в нашу передовую базу на Тихом океане.
Очень легко стать сентиментальным, когда речь идет о голоде. Но, так же как и после первой мировой войны, продовольствие является орудием высокой политики х. Вот почему к этому вопросу нужно относиться осторожно. Несомненно, японцы плохо питаются. Однако запасы продовольствия ограничены и во всем мире. Если мы отправим в Японию свою пшеницу, то не сделаем ли мы это за счет китайцев, французов, югославов или греков? Кто более голоден — китайцы, французы или же японцы? И разве не правда, что у японцев, которые питались сравнительно хорошо во время войны за счет продовольствия, награбленного в Азии, больший запас физической выносливости, чем у китайцев или греков?
1 Наиболее ярким выражением того, как Уолл-стрит использует продовольственные подачки в качестве «орудия высокой политики» является пресловутый план Маршалла. «Маршаллизован- ным» странам Европы, закабаленным с помощью таких подачек, империалисты США навязали агрессивный Северо-атлантический пакт, а теперь, в качестве оплаты за свою «помощь», требуют от этих стран поставок пушечного мяса для своих военных авантюр. Но американская политика ведения войны чужими руками обречена на провал. Народы хотят мира, и Уолл-стриту ни чашкой , риса, ни пшеничным калачом не заманить их в свой реакционный лагерь. (Прим, ред.)
253
Тем не менее, я предоставил Рою отпуск на неделю, выплатил ему жалованье вперед, дал немного продовольствия на дорогу и несколько безделушек, которые он может обменять на рис.
Сегодня днем заместитель начальника военной полиции в Токио полковник Лоджи предложил Кохрэну и мне вместе с бывшим комиссаром нью-йоркской полиции Льюисом Дж. Валентайном посетить «Интернэйшнл пэлес». Мы тотчас же согласились.
Это заведение поражает меня. Это не просто величайший публичный дом в мире. Это одно из свидетельств упорных попыток японцев отвлечь оккупационную армию от своей цели. Здание, в котором сейчас находится публичный дом, когда-то было частью огромного военного завода. Когда император провозгласил капитуляцию Японии, дирекция завода созвала совещание. Теперь было очевидно, что вооружение больше не потребуется, а у них простаивал завод и зря пропадали деньги и административные таланты; всему этому нужно было найти применение. Какой же товар будет иметь наибольший спрос, когда прибудут американцы?
На этот вопрос ответила токийская полиция. И тогда пять общежитий для рабочих были превращены в публичные дома. Некоторые управляющие остались на новом «предприятии», чтобы поделиться своим опытом. Наиболее хорошенькие девушки остались в качестве проституток. Сюда допускались только представители союзных войск. Когда это заведение стало пользоваться большим успехом, непочтительные американцы начали называть его «конвейером», потому что (до тех пор пока в прошлом месяце солдатам союзных войск не запретили бывать там) посещение этого дома носило, поистине, массовый характер.
Мы собрались перед кабинетом начальника военной полиции. Нас было несколько человек: большой и добродушный Валентайн, члены его миссии, несколько офицеров и переводчик. Мы ехали на юго-восток до тех пор, пока не очутились перед двухэтажными зданиями, на которых крупными буквами по-английски было написано: «Запрещено — венерические болезни». Когда мы подъехали ближе, то увидели такие же надписи, но меньшего размера, намалеванные красной краской на заборе и 254
воротах. Мы въехали в небольшой Двор, й навстречу нам тотчас же выбежала целая толпа. Все эти люди улыбались нам, низко кланяясь, как продавцы в магазине, торговля в котором идет не особенно бойко. К нам вышел управляющий публичным домом. Это был подобострастный тип, который говорил на ломаном английском языке. Я только разобрал его первую отрывисто произнесенную фразу: «Добро пожаловать! Я — доктор философии Колумбийского университета».
Прежде всего мы зашли в лазарет. Это была огромная комната с голыми стенами, застланная соломенными матрацами. На полу под толстыми одеялами лежало около десяти девушек. Почти все они спрятали лица, когда мы вошли. Американский лейтенант, японец по происхождению, и я начали расспрашивать девушку, лежавшую в углу. Она сказала, что ей 19 лет и что она стала проституткой, только попав в это заведение пять месяцев назад. Сейчас она была должна компании 10 тысяч иен (около 660 долларов), главным образом за одежду, которую она покупала в лавке публичного дома. То же самое нам рассказали и другие девушки. Большинство их потеряли свои семьи в результате американских воздушных налетов. Некоторые лишились работы в военной промышленности. Несколько девушек сказали, что они были гейшами. Все они задолжали дирекции, и долг их все возрастает. Мы спросили у них, слыхали ли они об американской директиве, запрещающей профессиональную проституцию. Они ничего не слышали о ней.
Мы зашли в клинику, в которой, как утверждал управляющий, девушки проходили медицинский [осмотр раз в неделю.
Мы заглянули в помещение, где находились два неглубоких бассейна, в которых девушки купались чере- день. Мы осмотрели их общую столовую. И, наконец, мы вошли в «бальную залу», в которой танцевали друг с другом около ста девушек. Почти все они были в безобразных платьях восточного покроя, одетых прямо на голое тело. Некоторым из них можно было дать не более 14 лет.
Все вокруг производило жалкое впечатление: красные бумажные ленты, спускавшиеся с потолка, поцарапанные старые пластинки с джазовой музыкой и хмурые 255
женщины, неуклюже двигавшиеся с таким видом, как будто они делали какое-то неприятное им дело.
«Они веселы, не правда ли? — сказал управляющий. — Но в глубине души им очень тоскливо. Очень одиноко. Уже две и даже три недели к ним не приходят их друзья, американские солдаты».
Из бальной залы мы направились в комнаты девушек. Всего их было по пятьдесят в каждом здании. Каждая из крохотных каморок отделялась низкой перегородкой, и вместо двери висела тонкая занавеска. У входа в каждую из них цветным карандашом было написано: «Добро пожаловать — Кими» или «Добро пожаловать — Харуко» (таковы были имена девушек, занимавших комнаты). Каморки были довольно чистыми. В углу лежала стопа одеял, на полу стояло небольшое зеркало, а на стенах висело несколько пожелтевших фотографий. Во всем здании стоял тяжелый запах дезинфицирующих веществ.
Запах был таким отвратительным, что я сбежал. Я прошел через крытый проход между домами и сел на скамейку около лавки, в которой продавалась дешевая косметика и одежда. Ко мне тотчас же подошел управляющий.
«Вы должны встретиться с руководителями нашего профсоюза, — сказал он. — У нас настоящий профсоюз, демократический».
За ним стояли три молодые женщины — одна в ярком кимоно, а две в костюмах европейского покроя. «Это руководители Лиги защиты женщин, — сказал управляющий. — Вот ее председатель, — указал он на приятно улыбавшуюся девушку, — мисс Акико Като, бывшая гейша. Мисс Сумико Хасегава, вице-председатель — бывшая машинистка. Мисс Кими Иидзима — бывшая танцовщица».
Я уже представлял себе, какой красочный очерк можно написать об этих женщинах, эксплоатируемых в публичном доме, которые восстают против администрации, требуя повышения зарплаты и улучшения условий труда. Я попросил управляющего выйти.
Женщины рассказали мне, что им от 26 до 29 лет. Все они попали в это заведение в декабре 1945 г., и теперь у них накопился долг от 4000 до 6000 иен (266—400 долларов) у каждой. «Нет, — ответила на мой вопрос Като,— у нас нет никаких сбережений. Весь наш заработок уходит на одежду и косметику, которые мы покупаем у компании».
256
В течение суток каждая женщина «обслуживает» в Среднем 15 солдат, каждый из которых платит 50 иен, или 3 доллара 30 центов. Половина этой суммы идет администрации, а половина остается у женщин. Из этой половины- женщины платят за питание, медицинское обслуживание, косметику и одежду.
Я быстро подсчитал: в сутки 250 женщин «обслуживают» 3750 человек. Это означает ежедневный доход в 6200 долларов для предприятия. Недурно даже для владельцев военных заводов!
Я спросил с надеждой: «Ваш профсоюз, ваша Лига защиты, наверное, встречает препятствия в своей деятельности со стороны администрации?»
Они удивились:—Нет, никаких препятствий. Администрация к нам относится очень дружелюбно, и вообще профсоюз был создан по предложению управляющего.
«Тогда какой же это профсоюз?»
— Дело было так,— рассказала Като.— В течение четырех месяцев дела у нас шли хорошо, мы дружили с солдатами и помогали устанавливать прочные культурные отношения между Японией и Соединенными Штатами. Но в прошлом месяце солдатам запретили посещать нас. С тех пор к нам в день тайком пробирается лишь 8—10 человек. Мы однажды обсудили это и решили, что нам слишком скучно жить так и что это очень нехорошо для традиционной американо-японской дружбы. Тогда управляющий сказал нам: «Почему бы вам не организовать профсоюз?» Вот мы и организовали его. Затем профсоюз обратился с петицией к генералу Макартуру.
«Ваше превосходительство! — писали мы. — После того как закрыли «Интернэйшнл пэлес», американские солдаты очень одиноки и тоскуют по дому. До сих пор мы считали своим долгом скрасить их пребывание здесь. Мы просим Вас, Ваше превосходительство, снова открыть наше заведение и позволить нам приободрить скучающих по дому американцев».
11 мая 1946 г. ТОКИО
Начальник штаба американской армии генерал Дуайт А. Эйзенхауэр, прибывший в город на несколько дней, сегодня встретился с корреспондентами. Он не
17 м. Гейн 257
сообщил нам ничего особенно интересного. По его мнению, главная проблема в оккупированных странах состоит в перевоспитании населения в духе демократии. Он считает, что оккупация Германии — более сложная задача и продлится дольше, чем оккупация Японии. Он выразил веру в Организацию Объединенных наций. Но самый значительный момент нашей встречи с нцм состоял не в том, что он сказал, а в том, как он это сказал, а также и в том, как отнеслись «парни Батаана»1 к своему гостю.
В битком набитом зале здания токийского радиоцентра почти нельзя было найти человека, на которого Эйзенхауэр не произвел бы впечатления.
Однако к вечеру «парни Батаана» начали усиленно выпытывать у нас, какое именно впечатление на нас произвел Эйзенхауэр, и время от времени вставляли критические замечания. В штабе недолюбливают Эйзенхауэра. Официальная точка зрения здесь такова, что генерал Макартур все равно не пожелал бы командовать на европейском театре, потому что там участвовало множество союзников, а эю сильно осложняло задачу.
«Но, — по словам ближайших помощников генерала Макартура, — «старик» никогда бы так не уступал англичанам, как уступал Эйзенхауэр. Эйзенхауэр, в конце концов, стал пешкой в руках англичан и поэтому-то он им так нравился».
Опытный военный глаз видит в Эйзенхауэре не только соперника генерала Макартура в том, чтобы занять подобающее место в истории второй мировой войны, но и конкурента на приближающихся президентских выборах. «Вы думаете, что Айк2 проскочит?» «Вы думаете, что из него выйдет хороший президент?» «Не будет ли он продолжать итти на уступки всякий раз, когда на него окажут давление, как это было во время войны?»
х Батаан — полуостров на Филиппинах, где в 1942 г. японцы нанесли тяжелое поражение американским войскам, которыми командовал Макартур. «Батаанские парни» — американские военные, ближайшие помощники Макартура, сотрудничавшие с ним в период боев на Батаане. (Прим, ред.)
2 Фамильярное сокращение второго имени Эйзенхауэра — Айзекс. (Прим, перев.)
258
15 мая 1946 г*
ТОКИО
Джордж Атчесон впервые выступил сегодня в качестве председателя на заседании Союзного совета для Японии. Я симпатизирую ему, а потому был огорчен за него. Не найдется другого американского дипломата, который испытал бы больше нападок, чем это выпало на долю Атчесо- на — сначала в Китае, от генерала Патрика Хэрли, когда Атчесон увидел, в какую трясину завела нас политика генерала Хэрли; позже в Вашингтоне в связи с тем же делом, касающимся Хэрли; и, наконец, здесь, когда штаб Макартура допустил умышленное издевательство над ним и всей миссией государственного департамента. Когда я прибыл в Японию шесть месяцев назад, Хэрли в Вашингтоне выступил с рядом обвинений против Атчесона, и тот находился в полном отчаянии. Он хотел отразить удары, однако осторожность, свойственная ему как дипломату, удерживала его. Со временем Хэрли надоело это занятие, а Вашингтону надоел Хэрли, и Джордж вздохнул с облегчением. Его председательство в Союзном совете явилось для него первой реальной возможностью реабилитировать себя.
Однако заседание с самого начала пошло по неправильному пути. Дебаты сосредоточились на петиции японского народа, представленной генералу Макартуру и Союзному совету после первомайского митинга. Петиция содержала целый ряд жалоб и обращалась с просьбой об их удовлетворении. Теперь .генерал Деревянко обратился с вопросом, что предпринято штабом в связи с петицией.
«Переводчики этого документа, — сказал Атчесон, — полагают, что оригинал его написан на иностранном языке, а затем переведен на японский... Соединенные Штаты не одобряют коммунизм ни у себя дома, ни в Японии, однако в обеих странах коммунистическим партиям предоставлена возможность свободно развиваться и организоваться. Я лично считаю, что документ содержит несомненные признаки коммунистической пропаганды».
Деревянко был явно ошеломлен. Он прошептал что-то своему политическому советнику. «Я внимательно слушал г-на председателя, — сказал он наконец, — однако я не мог понять, какая связь существует между всем тем, что он говорил, и рассматриваемым нами вопросом». 17* 259
Петиция, утверждал Деревянко, представлена народом, который участвовал в первомайском митинге, и «было бы недемократично игнорировать ее под предлогом, что это коммунистическая пропаганда».
Имея в виду обвинение, выдвинутое Атчесоном, что оригинальный текст петиции был написан на иностранном языке, Болл заявил, сделав гримасу: «Г-н председатель, я лично не отвечаю за этот документ».
Не могло быть сомнения, какой иностранный язык Атчесон имел в виду, когда говорил об оригинале петиции. Для всех нас это была большая сенсация. Это было первое официальное обвинение, что русские явились причиной волнений в Японии и что текст протеста, который якобы исходил от японского народа, на самом деле был составлен русскими агентами, а затем переведен на японский язык.
Существовало лишь одно авторитетное агентство в Токио, на экспертизу которого Атчесон мог послать этот перевод — известная «Объединенная секция устного и письменного перевода». Мы с Кохрэном тотчас же направились в шумное здание агентства и обратились к одному из его главных руководителей. После того как мы обещали сохранить его имя в тайне, он сказал:
«Дело было так. Они [американцы] пришли к нам и заявили: «Это японский документ. Подумайте, нет ли каких-либо признаков того, что он переведен с русского?» Мы очень тщательно изучили его и затем сказали им, что нет, абсолютно никаких признаков. Новая японская конституция была самым явным переводом. Любой учащийся японского колледжа мог сказать, что это был перевод с английского. Но этот документ [петиция] написан на японском — хорошем, идиоматически богатой японском языке».
Мы с Кохрэном направились затем в штаб коммунистов, который помещался в захудалом двухэтажном школьном .здании, пожертвованном партии его владельцем. «Большая тройка» — Токуда, Носака и Сига — совещалась в крохотной комнатке. Они впервые услышали о выпаде Атчесона и были потрясены им. Мы попросили их высказать свое мнение на этот счет.
260
Приблизительно 27 или 28 апреля, рассказывали они, встретились около 70 представителей профсоюзов, для того чтобы обсудить проведение первомайской демонстрации. На этом совещании было решено направить петицию генералу Макартуру и Союзному совету для Японии и был избран комитет для составления петиции. В списке, который нам показали, значились главным образом имена социалистов и независимых профсоюзных лидеров из Осаки. В день 1 Мая петиция была оглашена на массовом митинге, а затем была избрана делегация для вручения ее Макартуру.
Носака вызвал коммуниста, который был членом делегации, состоявшей из четырех человек. Этот человек рассказал:
«Нас было четверо — два социалиста, один корейский коммунист и я. Мы направились в штаб генерала Макартура, но часовые не пустили нас. Затем мы пошли в американское пссольство (где живет генерал Макартур) и передали петицию сержанту военной полиции. Он сказал нам, что ему ничего об этом неизвестно, а мы просили его просто передать петицию верховному главнокомандующему.
Мы также рассказали сержанту об одной из своих претензий, содержавшихся в петиции, — нашу претензию относительно лейтенанта Ангуса. Эта претензия была связана со стальной компанией в Кобэ. Компания платила 60 иен (4 доллара) в месяц ученикам и 200 иен в месяц людям с 8-летним стажем. На 200 иен семья не может прожить и четырех дней. И поэтому профсоюз потребовал пятикратного увеличения зарплаты. Но шли недели, а администрация отказывалась встретиться с представителями профсоюза или принять их петиции. Люди отчаялись,. Наконец, они направились к резиденции президента компании, и тот был вынужден принять их. Но вскоре к дому подъехали японские полицейские и заявили, что у них есть приказ от американского лейтенанта Ангуса из префектуры о том, чтобы рабочие покинули помещение.
На следующий день рабочие вернулись к дому президента компании и начали требовать у него повышения зарплаты. Пока они спорили, кто-то обнаружил в доме большой запас спрятанного продовольствия. В пылу возмущения был нанесен некоторый ущерб частной собствен нести. Позже американские военные полицейские 261
арестовали руководителя профсоюза. Они же охраняли представителей администрации компании, пока те срывали объявления профсоюза, заявляя рабочим, что лейтенант Ангус требует прекращения всяких беспорядков.
Мы рассказали все это сержанту и просили его передать это верховному главнокомандующему, и он пообещал нам. Тогда мы ушли. Эта петиция была нашей, японской петицией, и в ней говорилось о наших японских проблемах». .
Мы с Кохрэном отправились в клуб и узнали, что несколько корреспондентов произвели проверку у японских филологов, которые пришли к тому же самому заключению, что и эксперты «Объединенной секции перевода». Мы оправдали Атчесона лишь за недостаточностью улик: он был новым человеком и не допустил бы подобного выпада по своему почину. Но мы никак не могли успокоиться, и все пытались представить себе, в чьей хитроумной голове в штабе могло зародиться подобное обвинение, для какой цели и кто в штабе окончательно одобрил этот шаг.
16 мая 1946 г. ТОКИО
Утром Кохрэн, Льютер, Джо Фромм из «Уорлд рипорт» и я прикололи свои официальные зеленые значки и поехали в парламент, где должно было состояться заседание «первого демократического парламента» Японии. Заседание еще не началось, и в коридорах толпилось множество полицейских в форме и штатском, репортеров, курьеров и членов парламента, среди которых можно было безошибочно узнать старых политиканов; мелькали и новые лица, среди последних были женщины.
В ожидании начала заседания я разговорился с некоторыми новыми членами парламента, прежде всего с социалисткой Сидзуэ Ямагуци. Ямагуци 28 лет, но она выглядит как школьница в своих носочках, одетых поверх чулок. У нее свежее, приятное лицо и движения спортсменки. Когда я впервые увидел ее, она бежала за кем- то по коридору. Ямагуци — дочь богатого владельца велосипедного завода, на котором она раньше работала в
262
качестве врача-диэтетика. Когда началась избирательная кампания, сам Ямагуци выставил свою дочь кандидатом в парламент. Мне рассказывали, что женщины голосовали за нее потому, что она женщина, а мужчины — потому, что она хорошенькая.
После нее я беседовал с ультранационалистом, которого встретил в Киото. Он, казалось, был в восторге, встретив меня здесь, хотя я подозреваю, что он пытался отравить меня при нашей первой встрече, так как я был одет в военную форму, и он подумал, что я пришел арестовать его как военного преступника. Я сказал ему, что серьезно заболел после нашей встречи в Токио, и описал ему симптомы своей болезни. Он сказал мне с сочувственной улыбкой: «Это похоже на отравление». Это небольшого роста круглолицый человек с чувством юмора и явным пристрастием к еде, вину и женщинам. Он сказал, что его программа состоит всего из одного пункта: борьба с коммунистами. Мы договорились, что он будет давать мне консультации относительно политических тенденций, а я буду его приглашать к себе обедать.
Когда мы попрощались, он крикнул мне вдогонку: «Не забудьте сакэ и, пожалуйста, не отравите меня!»
Возвращаясь на галерею для прессы, я встретил Одзаки, «отца парламентаризма», который величественно плыл по коридору в сопровождении своей свиты. К нему обычно относятся с большей почтительностью, чем даже к самому императору. Я остановил его, чтобы сообщить, что учебники по английскому языку, которые он просил меня достать для него, должны прибыть на этих днях. Он не понял и вынул инструмент, очень напоминав иий длинную курительную трубку. Он засунул тонкий конец трубки себе в ухо и показал мне жестом, чтобы я прокричал свой вопрос в другой конец трубки. Я проделал это несколько раз, но безуспешно. Наконец, один из его помощников взял трубку из моих рук, и мое сообщение таким образом достигло его слуха. Одзаки кивнул мне в знак благодарности и поплыл дальше. Он выразил желание выступить сегодня в парламенте, и все депутаты почтительно согласились.
В своей речи Одзаки настаивал на новой системе выборов спикера. Он говорил очень долго, пока, наконец, менее почтительные члены палаты не начали кричать
263
«Довольно, прекратите!», а почитатели Одзаки стали шикать на них. Одзаки продолжал говорить в этом бедламе и, видимо, до него не доносилось ни звука.
Сегодня в течение дня было множество выступлений масс, как и на протяжении всего прошлого месяца. Когда мы вышли из парламента, мы увидели демонстрацию, в которой участвовали тысячи железнодорожных рабочих. Они силой проникли во двор резиденции премьер-министра, но их выгнали оттуда японские полицейские при помощи американской военной полиции. Теперь они терпеливо ожидали возвращения делегации, направившейся в парламент с требованием повысить зарплату, увеличить пайки и создать новое правительство.
Эти волнения отчасти объясняются голодом, отчасти пробудившейся надеждой и ростом политической сознательности. Выдача пайков в городах задерживается на две недели и больше. Цены катастрофически растут, а зарплата остается на прежнем, невероятно низком уровне. И, наконец, японские рабочие начинают пробсвать свою силу. 1 мая в Японии насчитывалось почти 2700 тысяч рабочих, объединенных в профсоюзы, или в шесть раз больше, чем в какой бы то ни было другой период. Хотя тысячи рабочих не отдавали себе отчета, почему именно они вступили в профсоюз, многие тысячи всерьез восприняли приказ, изданный генералом Макартуром шесть месяцев назад и требующий, чтобы Сидехара поощрял развитие профсоюзного движения, «исполненного такого достоинства, которое дало бы ему возможность оказывать влияние и обезопасить рабочего человека от эксплоатации и злоупотреблений...».
Правительство Сидехара было обычным правительством дзайбацу, которое всегда оставалось глухим к требованиям профсоюзов. И поэтому при умелом руководстве коммунистов и социалистов рабочие вышли на улицу. Демонстрации стали школой для рабочих и для политических деятелей, ибо Япония не привыкла к зрелищу, когда толпы рабочего люда идут мимо окон премьер-министра и требуют создать им более обеспеченную жизнь. Она также не привыкла слышать, чтобы императора поносили тысячи людей, собравшихся на площади перед императорским дворцом. И кабинет Сидехара был первым кабинетом, 264
вынужденным выйти в отставку в результате уличных демонстраций.
Следующей ступенью в этой школе является всеобщая забастовка. До сих пор коммунисты оказывали сдерживающее влияние. Говорят, что коммунисты не уверены в том, какую позицию займут американцы, если рабочие на шахтах, на коммунальных предприятиях и железных дорогах начнут забастовку. Эти сомнения вполне обоснованы. В штабе растет уверенность в том, что рабочие вообще, и в частности коммунисты, требуют слишком многого. Это обстоятельство уже привело на протяжении текущего месяца к двум предупреждениям со стороны начальника штаба.
Остряки в штабе говорят, что мы хотим в Японии иметь свободное и сильное рабочее движение «при условии, если оно будет ручным».
Пока рабочие устраивают демонстрации, вызывая беспокойство штаба Макартура, японские консервативные пс- литические деятели продолжают строить свои планы. Несравненная и неразлучная пара — Сидехара и Иосида — захватила в свои руки две главные консервативные партии, даже не участвуя в выборах; Сидехара стал председателем прогрессивной партии, а Иосида — либеральной. Сегодня днем по рекомендации Сидехара император вызвал Иосида во дворец и приказал ему сформировать новый кабинет.
Так же как и его друг Хатояма, Иосида представляет собой любопытный объект для изучения психолога. Это безличный человек, который на протяжении всех своих 68 лет пользовался серым цветом как защитной окраской. Японские чиновники, хорошо знающие его, говорят, что им в равной мере руководят страх, честолюбие и крайний консерватизм. Внешне деятельность Иосида была вполне респектабельна или во всяком случае достаточно респектабельна, чтобы исключить необходимость чистки. Почти всю жизнь он был профессиональным дипломатом. Он усвоил все демократические штампы, и его считают членом «проамериканской клики». К тому же перед самой войной жандармы арестовали его по обвинению в заговоре с целью заключить мир с союзниками и 45 дней продержали в тюрьме.
265
Однако политика в период истерии — весьма сложное дело. Ни один человек не мог выдвинуться в 30-х годах, не доказав своей преданности господствующей олигархии. Дипломат не мог добиться успеха только как дипломат. Ему вместе с тем надо было быть ярым и крайним националистом. Адмирал Номура, «умеренный» деятель, который вел переговоры с Корделлом Хэллом накануне войны, мог сослаться на глаз, который он потерял в Корее. Один дипломат приковылял к славе на деревянной ноге, которой он заменил ногу, потерянную в результате бомбардировки Шанхая. Другой дипломат приобрел известность и высокий чин, избив своего более умеренного коллегу бамбуковой скамеечкой. Третий стал послом в Испании благодаря оскорблениям, которые он нанес Чан Кай-ши.
Иосида был тихим человеком, выдвинувшимся в этой буйной компании. Что же именно под серой оболочкой способствовало его карьере? На этот вопрос мне ответил на днях один старый японец, девятнадцать лет назад вместе с Иосида участвовавший в создании проекта, который ошибочно называют «меморандумом Танака».
Это было в 1927 г. — в год прихода Чан Кай-ши к власти, когда японские офицеры более молодого поколения все решительнее стали требовать «положительных» действий в Маньчжурии.
27 июня в министерстве иностранных дел в Токио была созвана конференция восточных стран под председательством премьер-министра барона Гиици Танака. Конференция должна была разработать новую политику для Китая с особым учетом японской зоны влияния в Маньчжурии и Монголии. В конференции участвовало 23 человека, которые в общей сложности встретились пять раз. Многие участники этой конференции до сих пор являются видными фигурами. Два генерала сейчас сидят на скамье подсудимых в качестве военных преступников. Один из трех адмиралов — Номура — служил в Вашингтоне перед самым нападением на Пир л Харбор. Один впоследствии стал видным банкиром и был связан с экспансией Японии. Видной фигурой среди участников этого блестящего сборища был генеральный консул Мукдена Иосида.
Иосида играл важную роль по двум причинам. В армии он был известен как «агрессивный дипломат». Он
266
также был зятем ближайшего советника императора.
5 июля 1927 г. конференция одобрила меморандум, озаглавленный: «Основы японской политики в Китае». Тему этого меморандума можно изложить в двух фразах: «Маньчжурия и Монголия должны считаться районами, не имеющими отношения к Китаю, поскольку в них особо заинтересована Япония», и «Задача Японии заботиться о сохранении мира, экономическом развитии и социальной стабильности этих двух районов».
Этот документ не показали императору, поскольку он не требовал его подписи. Но в следующем месяце Иосида и другой участник конференции направились в Дайрен, для того чтобы познакомить с новой политикой японских чиновников, прибывших из Маньчжурии, Монголии и Северного Китая. Таким образом, Иосида был одним из первых сторонников этой грабительской политики, которая истощала и сотрясала Азию в последующие восемнадцать лет.
Следует отметить, что не существовало никакого «меморандума Танака». «Меморандум», о котором на весь мир провозгласили китайцы, а затем американцы, видимо, был планом агрессии, представленным неким японским офицером в Маньчжурии одному из участников конференции в Токио и, возможно, даже самому Иосида. Меморандум попал в руки какого-нибудь китайского или корейского агента и был опубликован. Документ, известный под названием «меморандум Танака», оказался пророческим. Такой же оказалась и политика, намеченная с помощью Иосида.
Таков был один из первых шагов в карьере «умеренного» Иосида. Он стал заместителем министра иностранных дел при бароне Танака и помогал разрабатывать авантюры, предпринимавшиеся японцами в Китае. В последующие годы он прилагал все усилия, чтобы убедить Италию признать марионетку Маньчжоу-го свободным и независимым государством. Будучи послом в Англии, он обсуждал с Риббентропом первые наметки пакта держав «оси». Подобно другим пожилым дипломатам, он провел годы войны в уединении. Подобно им, он предвидел роковой конец и вместе с принцом Коноэ замыслил обратиться к союзным державам.
267
Однако через 50 лет, а может быть и меньше, националистическая Япония будет с благодарностью вспоминать Иосида как человека, который, вместе с другим «умеренным» деятелем — Сидехара, провел чужеземных завоевателей, саботировал их приказы относительно резких изменений в структуре старой Японии и умело и успешно боролся за сохранение феодальной системы.
Американские историки приблизительно в это же время, возможно, будут удивляться, каким образом этот поборник феодальной Японии был избран американским командованием как человек, который может создать новую демократию. Ибо ни для кого не секрет, что Иосида служит связующим звеном между японским правитель- вом и генералом Макартуром и что у него есть пламенные поклонники в американском штабе.
Сегодня этот человек начал формировать первый «демократический» кабинет.
«Балтимор сан» сегодня отозвала Кохрэна и поручила ему заведовать новой радиостанцией. Я почувствовал себя очень одиноким, ибо Кохрэн был для меня не только хорошим другом и превосходным репортером; он был также моим товарищем по работе, интересы которого совпадали с моими. Я вел работу с японцами, а он со штабом, и нам удалось узнать очень многое. Я не сказал ему этого, опасаясь, чтобы это не звучало слишком напыщенно, но я считал, что его отъезд будет серьезной потерей для новой японской демократии, ибо активнее всех за проведение реформ сейчас берутся корреспонденты, а среди них мало людей, которые обладали бы таким умом, такой верой в доброе начало и таким демократическим образом мышления старого образца, каким обладал Кохрэн.
19 мая 1946 г. ТОКИО
Политическая обстановка крайне напряженная. Иосида все еще пытается сформировать новый кабинет. Но как только ему удается подобрать себе министров, обнаруживается, что они военные преступники, подлежащие чистке. Тем временем работа аппарата, занимающегося нормированием продовольствия, совсем застопорилась. На даль268
нем севере Японии выдача пайков задерживается на целый месяц, в Токио — на 12 дней. На каждом перекрестке происходят многолюдные митинги и демонстрации протеста. Во вторник 800 человек устроили демонстрацию перед дворцом и потребовали, чтобы им показали, чем питается император. В пятницу состоялись восемь «продовольственных демонстраций» перед карточными бюро, вчера — двадцать. Перед парламентом и резиденцией премьер-министра непрерывным потоком движутся демонстранты.
Сегодня кульминационным пунктом был массовый митинг под лозунгом: «Мы требуем риса!» К 10 часам утра на площади перед императорским дворцом собралось не менее 60 тысяч человек. Они поставили рядом три грузовика и, взгромоздив на них столы, устроили трибуну для ораторов. Председательствовал на митинге руководитель профсоюза транспортных рабочих. Но по существу митинг вел- сурового вида человек в спортивном костюме. Это — Кацуми Кикунами, редактор «Асахи», глава профсоюза газетных работников и основатель огромного Национального конгресса производственных профсоюзов. Он мрачно представлял собравшимся одного оратора за другим -- руководителей профсоюзов, активных рабочих и просто рядовых людей.
Одной из этих последних была 35-летняя домашняя хозяйка, худенькая женщина, явно живущая впроголодь. Она пришла из магазина, в котором уже две недели не выдавали риса. У нее за спиной был привязан ребенок, и когда она в своей речи поносила полицию и чиновников, занимающихся распределением пайков, за спиной у нее раздавался плач ребенка.
Однако большинство ораторов говорило о политике. Они требовали отставки Иосида, создания Народного фронта и нового правительства, в которое входили бы рабочие и крестьяне.
«Мы должны использовать привилегии, полученные нами после войны, — кричал Судзуки, редактор «Иомиу- ри». — Одна из них — это право производить революционные изменения, которые создадут демократическое правительство. Достаточно однодневной всеобщей забастовки, чтобы заставить Иосида убраться!»
Токуда говорил последним. Он резко повернулся, стоя на трибуне, и, указав на императорский дворец, 269
закричал: «Мы Голодаем, а он?» Он обрушился на Иосида и на военных преступников, заседающих в парламенте, но решительнее всего он осуждал императора. «На прошлой неделе, — заявил он, — мы отправились во дворец и потребовали, чтобы нас принял император. Нас прогнали. Не потому ли, что император не может говорить ничего, кроме «Ах, так!»? Он передразнил императора, и толпа завопила от восторга.
Когда митинг закончился, Фромм, Кохрэн и я подошли к проволоке, дальше которой нельзя было заходить. Здесь стояли на страже американские и австралийские часовые. Мы разговаривали с ними, когда к проволоке подошли шесть буддийских монахов в свободных ярких одеяниях. Они выстроились в ряд, лицом ко дворцу и начали по очереди бить в цимбалы и петь. После этого они распростерлись на земле и начали молиться.-
Когда монахи кончили молиться, подошли трое худощавых юношей, стали лицом ко дворцу/ почтительно поклонились, а' затем молитвенно протянули руки. Один из них сказал мне, что они студенты университета и пришли выразить свою преданность императору в эти тяжелые времена. Но он тут же поспешил заверить меня: «Мы не реакционеры, мы вместе с народом»..
Когда студенты ушли, их место заняла худенькая пожилая женщина с квадратной коробочкой, в которой обычно хранится прах погибших на войне. Она опустилась на колени и начала молиться. Вскоре вокруг нее собралась большая толпа, и многие перешли на запрещенную территорию. Часовые винтовками оттеснили их назад. Мы разговорились с женщиной и узнали, что в коробочке находится не прах, а рис для императора, которого, по ее словам, она очень любит. Чем больше она говорила, тем больше волновалась и, наконец, горько заплакала. Из дворца вышли полицейские и начали убеждать женщину уйти. У императора, говорили они ей, достаточно еды.
Наконец она побрела во-свояси со счастливой улыбкой. Полицейские сказали, что она ненормальная. У нее на груди красовался огромный значок, который ей дал кто- то из демонстрантов. На нем было написано: «Долой реакционное правительство!»
270
Тем бременем демонстранты Построились в колонну И направились к резиденции премьер-министра. Кохрэн успел насчитать 70 тысяч человек. Процессия шла мимо здания, распевая обычные песни. Но среди них мы услышали и одну новую:
«Тот, кто работает, тот ест» — На пищу право нам верните.
Они также выкрикивали лозунги: «Больше продовольствия, чтобы мы могли работать!», «Мы требуем народного правительства!», «Сначала продовольствие, а потом конституция!» Резиденцию премьер-министра охраняли 4 виллиса с американскими военными полицейскими, и демонстранты не пытались проникнуть внутрь.
Через некоторое время мы отправились обратно на площадь перед императорским дворцом, чтобы посмотреть, что делается у ворот дворца. Толпа сильно поредела, но в отдельных местах на площади еще стояли небольшие группы. По сигналу одна из групп направилась к воротам с возгласами: «Вассо, вассо!» Приблизившись к дворцу, каждая из групп начинала танцовать, а за ней выходила вторая группа. Нас остановил американский часовой. Мы с ним спорили до тех пор, пока к нам не подошел офицер и не пропустил нас с условием: «Когда эти броневики откроют огонь, вы должны убраться отсюда к чорту». «Само собой разумеется», —ответили мы и двинулись вперед.
Ширина рва в этом месте составляет футов тридцать, и через него к массивным воротам перекинут мост. На мосту сейчас никого не было. Толпа стояла и сидела с одной стороны моста, а с другой его стороны, перед воротами, стояла охрана дворца, вооруженная дубинками. Еще раньше, когда толпа подошла к воротам, в результате стычки один из полицейских был сброшен в ров и несколько демонстрантов избиты. За три часа до этого во дворец прошла делегация из двенадцати человек, и толпа ожидала их возвращения. В ожидании демонстранты пели и слушали ораторов, взобравшихся на небольшую полицейскую будку.
К 4 часам из дворца вышел один из делегатов и взобрался на будку. Он сообщил, что и император и министр императорского двора отказались принять делегацию. Ей, наконец, разрешили поговорить с секретарем, который 271
пообещал доложить министру, а последний должен был до-( л ожить императору.
«Я первый раз попал во дворец, — заявил делегат, — и эго просто чудо. Уборная там лучше, чем дом, в котором я живу».
Через полчаса вышли остальные делегаты. Их возглавлял Кикунами, который выглядел еще более мрачно, чем утром. Один за другим делегаты взбирались на будку, чтобы сообщить о своей неудаче, заявляли, что они возвратятся сюда через 48 часов, и рассказывали о виденном во дворце. Оказывается, они проникли в императорскую кухню, заглянули в кастрюли, холодильники и познакомились с императорским меню.
«Что у вас будет на обед? — кричали они толпе. — Много ли запасов в ваших кладовых? А теперь послушайте, что будут сегодня кушать император и его семья...»
И они перечисляли блюда и продукты, которые поступают в императорские кладовые — ежедневно свежее молоко, цыплята, свинина, яйца, сливочное масло.
«Вот что кушает император и его приближенные. Как вы думаете, понимают они, что значит слово «голод»?
Но самое интересное событие сегодняшнего дня происходило в другом месте. После митинга, состоявшегося утром, делегация направилась в резиденцию премьер-министра, чтобы потребовать ухода Иосида и распределения запасов продовольствия между населением. Иосида отказался выйти к делегатам. В пылу спора с секретарем кто-то (я уверен, что это был именно Токуда) воскликнул: «Ну, хорошо! Если он не хочет видеть нас, мы будем сидеть здесь, пока он не уйдет в отставку». Тогда делегация удобно расположилась, приготовившись к долгому ожиданию. Фотографы защелкали аппаратами, а репортеры начали писать в своих блокнотах.
Эта необычайная «сидячая забастовка» была последней каплей. К концу дня в Токио насчитывалось 250 тысяч демонстрантов, и нервы политических деятелей были напряжены до крайности. Советники Иосида провели почти весь день у Хатояма, обсуждая, между прочим, тактику действий в связи с таким общественным нажимом.
К 7 часам вечера секретарь вышел и сказал делегатам:
272
«Можете отправляться домой. Г-н Иосида рещил отказаться от своего поста».
Вполне возможно, что в этот момент Иосида действительно был готов уйти в отставку, отчасти потому, что он не мог найти подходящих министров, отчасти из страха перед создавшимся положением, которое начинало напоминать настоящую революцию. Но скептик Токуда не верил .никаким обещаниям.
«Нет, мы будем сидеть здесь, — сказал он, — до тех гор пока сам Иосида не скажет нам, что он уходит в отставку».
Мы с Кохрэном в 8 часов отправились ужинать с Лео Черном, нью-йоркским экономистом, который сейчас находится здесь и занимается экономическими проблемами Японии. Часов в одиннадцать нам позвонили и сообщили, что в резиденции премьер-министра происходит нечто необычайное. Мы бросились туда. Некоторые делегаты спали, а другие, видимо, были очень утомлены. Токуда ушел домой, потому что у него начались боли в желудке. Делегатов сейчас возглавлял Судзуки — высокий, начинающий седеть редактор «Иомиури». Он сказал, что не верит обещанию Иосида и намерен сидеть здесь до утра.
Мы ушли оттуда в 2 часа ночи.
20 мая 1946 г. ТОКИО
Сегодня утром генерал Макартур опубликовал предупреждение японскому народу.
«Я считаю необходимым, — заявлял он, — предостеречь японский народ, что растущая тенденция к массовому насилию и процесс физического воздействия с целью запугивания под организованным руководством представляет собой серьезную угрозу будущему развитию Японии.
Хотя допускается и будет допускаться всевозможная разумная свобода демократического волеизъявления, физическое насилие, которое сейчас начинают практиковать недисциплинированные элементы, не будет допускаться впредь. Оно представляет собой угрозу не только порядку, но и основным целям и существованию самой оккупации.
Если менее многочисленные элементы японского общества не в состоянии оказать сдерживающего влияния |8 М. Гейн 273
и продемонстрировать уважение к себе, как того требует положение и создавшиеся условия, я буду вынужден принять необходимые меры, для того чтобы исправить столь плачевное положение...»
Это заявление произвело потрясающее впечатление. Я не могу припомнить ни одного шага американцев, который имел бы подобный отклик. В профсоюзных кругах и в помещениях левых партий царило полное замешательство. Консерваторы не скрывали своего ликования.
Как только о заявлении стало известно в резиденции премьер-министра, «сидячие забастовщики» покинули здание. Все демонстрации, назначенные на сегодня и на другие дни недели, отменены. Японская печать, которая до сих пор заявляла народу, что у него нет других средств изменить состав кабинета, как только выходить на улицу и устраивать демонстрации, поспешно била отбой.
Правые социалисты, которых к Народному фронту толкало зрелище огромных толп народа, марширующих по улицам, теперь облегченно вздохнули и заявили, что им нужно время, чтобы пересмотреть этот вопрос «в свете новых обстоятельств». Два левых лидера признались мне в частной беседе, что борьба проиграна.
А Иосида, под которым еще вчера вечером колебалась почва, сегодня прочно стоит на ногах. Он объявил, что завтра будет готов список членов кабинета и что в него войдет неразлучный с ним Сидехара. В заявлении Макартура Иосида усмотрел поддержку для себя, как это и было на самом деле.
21 мая 1946 г. ТОКИО
В конце прошлого года один полковник рассказал мне любопытную историю. Речь шла об «Ассоциации отдыха и развлечений» — величайшей в мире компании по торговле живым товаром.
9 сентября, за два дня до вступления в Токио, 1-я мотомеханизированная дивизия блокировала дорогу близ Цио- фу на пути к Токио. Все были в волнении: хотя до сих пор все шло гладко, никто не мог сказать, чего следует ожидать от фанатичной японской военщины, когда оккупанты вой-
274
Дут в столицу. Американцы следили за каждой тенью и вскакивали при каждом шорохе.
Глубокой ночью американцы услышали звук приближающегося грузовика... Когда он был уже близко, один из часовых закричал: «Стой!» Грузовик остановился, и оттуда вышел японец и группа молодых женщин. Осторожно они направились к ожидавшим их солдатам.
Когда они подошли совсем близко, японец остановился, почтительно поклонился и сказал:
«Привет от «Ассоциации отдыха и развлечений»!
Этот рассказ, а также отдельные слухи от этой организации, которые доходили до нас время от времени, заставили нас с Кохрэном отправиться сегодня днем в правление этой организации. Мы остановили свою машину на Гинзе. главной улице Токио, и поднялись по лестнице в главную контору, помещавшуюся в большом шумном зале, где сидело множество клерков, машинисток, счетоводов. В связи с отсутствием президента Ассоциации нас встретил его «главный советник» Масанао Канецика. Канецика был изысканно одет, отлично владел английским языком, которому он выучился за время своей многолетней работы ресторатором в Соединенных Штатах. Расторопный и деловитый, Канецика рассказал нам историю Ассоциации.
«15 августа 1945 г., — сообщил нам Канецика, — в день, когда император объявил об окончании войны, японское полицейское управление вызвало к себе президентов семи главных увеселительных компаний в Токио. Среди них были компании, ведавшие ресторанами, кабарэ, чайными домиками гейш и публичными домами. Начальник управления обратился к президентам со следующими словами:
«Господа, — сказал он, — в Японию прибывает американская армия. Мы боимся, что американцы причинят вред нашим женщинам — нашим женам, дочерям и сестрам. Нам нужен амортизатор. Кроме того, мы хотим, чтобы американцам понравилось здесь и чтобы они стали нашими друзьями. Поэтому правительство приказывает вам создать центральную ассоциацию, которая будет заботиться о развлечении американцев».
«А как же быть со средствами?»—спросил кто-то из них.
— Правительство позаботится о том, чтобы вы не нуждались в средствах.
18*
275
Гйк 23 августа, еще до того как американцы вступили на японскую землю, была создана эта Ассоциация на кооперативных началах. Капитал ее составлял 30 миллионов иен (2 тысячи долларов), предоставленных Ипотечным банком. Стоимость каждой акции была 10 тысяч иен, и они приобретались компаниями и частными лицами. (Полковник Лоджи сообщил мне, что некоторые акции были подарены «в знак уважения и восхищения» высокопоставленным японским чиновникам.)
Затем от начальника специального отдела 8-й армии полковника Вилсона было получено разрешение на открытие дансингов. Наряду с ними были открыты также увеселительные дома. «Ассоциация отдыха и развлечений» была во всеоружии.
К тому времени, когда командование запретило американцам посещать токийские публичные дома, дело в Ассоциации было поставлено на широкую ногу. В ее центральном управлении насчитывалось 450 служащих, на службе у нее состояло 2 тысячи танцовщиц (большинство которых, если не все, нелегально занималось проституцией) и 350 явных профессионалок. В одном только Токио Ассоциация имела 33 увеселительных заведения, в том числе знаменитый дансинг «Оазис» на улице Гинза, который славился собственной профилактической станцией для военных, помещавшейся в специально сооруженном здании. Ассоциация имела также два отеля и кабарэ на морском курорте в Атами, гостиницу на горном курорте Хаконе и гостиницу в Ицекава под заманчивым названием «Страна грез». Для женщин, состоявших на службе в Ассоциации, имелось два лазарета, она рассылала своих агентов в сельские местности Японии и в города, подвергавшиеся сильной бомбардировке, для вербовки подходящих служащих. В Токио сейчас официально насчитывается 668 публичных домов, в которых числится 8 тысяч женщин, однако Ассоциация находится все же вне конкуренции. У нее самые хорошенькие девушки, покупающие одежду у компании в кредит! У нее на службе находятся такие люди, как Канецика, которые обеспечивают «культурное обслуживание» посетителей, и, наконец, она пользуется покровительством японского правительства. Канецика жаловался нам* «Почему командование запретило посещать наши заведения? Мы старались сделать пребывание американских солдат здесь как 276
можно более приятным. Мы хотели, чтобы они встречались с хорошенькими японскими девушками...»
Однако Канецика решительно не желал пессимистически смотреть на будущее. «В Японию будет' приезжать все больше и больше американцев; в распоряжение женатых мы предоставим первоклассные отели и рестораны, а для многих холостых...»
27 мая 1946 г. ТОКИО
Хотя я лег вчера почти в 5 часов утра, я заставил себя подняться в восемь, чтобы не пропустить прощальной беседы бригадного генерала Дайка с представителями японской печати. Мне любопытно услышать его по двум соображениям. Во-первых, Дайк — один из самых умных соратников генерала Макартура — славится красноречием. Во-вторых, его заявления считают вехами в политической истории нашей оккупации.
Возглавляемый Дайком отдел штаба Макартура известен под названием Отдела гражданской информации и просвещения. Это один из трех важнейших отделов, ибо он в первую очередь занимается духовной жизнью побежденной Японии — школами, прессой, кинофильмами, театром, книгами, журналами и даже марионеточными представлениями.
Этот отдел ведет упорную борьбу с японским профсоюзом газетных работников. Единственная причина этой борьбы — политика. Некоторые видные члены профсоюза, являясь редакторами или сотрудниками крупнейших токийских ежедневных газет, решительно нападали на прочно укоренившийся консерватизм. Очи обрушивались на кабинет Сидехара — Иосида за крах системы нормирования, за саботирование реформ, за политические махинации в условиях, когда Япония голодна и раздета. Они преследуют некоторых наиболее отъявленных военных преступников, которые продолжают оставаться у власти. Они требуют подлинных реформ не на словах, а на деле. Все это раздражало штаб, который прилагал все усилия к тому, чтобы сохранить нынешний кабинет у власти. Сегодняшнее выступление Дайка представляет собой контрмеру, 277
рассчитанную на то, чтобы обуздать профсоюз газетных работников.
18 мая Дайк встретился с генералом Мака рту ром и заручился его согласием относительно обуздания профсоюза, В течение последующей недели отдел гражданской информации и просвещения дважды неофициально заявил издателям японских газет, что они «не должны терпеть никакого вмешательства со стороны профсоюза».
Речь Дайка была шедевром тех туманных разглагольствований, с помощью которых штаб сейчас осуществляет свою власть над японцами. Позже я перечитал свои заметки и мог найти в них очень мало такого, что представляло бы подлинный интерес. И все же я припоминаю, что японцы на пресс-конференции все время чему-то удивлялись. Это объяснялось намеками и недомолвками, которые сейчас являются основным средством определения и изменения политики и поведения японцев.
Дайк сделал два конкретных предложения, оба сравнительно безобидные: о создании ассоциации издателей и об основании школы журнализма. Однако толпа корреспондентов, заполнившая комнату, больше интересовалась на первый взгляд несущественными деталями.
«Свобода печати, — сказал Дайк, — требует, чтобы политику газеты определяли люди, назначаемые издателями. Японское правительство или верховное командование, так же как и всякие другие группы, не должны диктовать редакционную политику, если речь не идет об общей политической линии. Политику газеты должен определять человек, назначаемый издателем, которого последний считает наиболее пригодным к этому... Важно создать крупные союзы... Но если какой-нибудь сотрудник газеты не согласен с ее редакционной политикой, он имеет полное право выйти в отставку и поступить работать куда-нибудь в другое место».
Все разошлись в глубоком молчании. На улице я встретил сотрудника одной из больших японских газет, который обычно пишет передовые статьи. «Вы спрашиваете, какоЕо мое мнение? — сказал он. — Я думаю, что это еше больше ограничит нашу возможность высказывать сеси взгляды. Кроме того, это еще больше расширит права старей клики. Эти люди больше не будут отступать. С ей теперь будут возвращаться в газеты толпами».
278
Выступление Дайка сильно взволновало многих из нас. Я думаю, что американские читатели не найдут ничего пагубного в утверждении, что свооода слова предоставляет издателю право определять редакционную политику своей газеты или что человек, которому не нравится политика его газеты, может уйти из нее, куда ему угодно. Но все дело в том, что мы неверно понимаем то, что творится в Японии сейчас. В Японии совершаются невероятные вещи под тем простым предлогом, что именно так они делаются в Соединенных Штатах.
Япония сейчас не похожа на Соединенные Штаты. Она все еще представляет собой не подвергшуюся реформе агрессивную страну, в которой шовинистические органы по существу сохранились в неприкосновенности. Мы здесь должны еще многое разрушить, прежде чем мы сможем начать осуществлять свои созидательные планы. Многие американцы здесь слишком скоро забыли, что мы вступили в войну не только для того, чтобы отомстить за потопление нескольких наших линкоров в Пирл Харбор, но в первую очередь для того, чтобы преобразовать Японию, чтобы она больше не смогла навязать нам войну.
И, безусловно, одной из наших целей должно быть создание подлинно демократической печати. Не такой печати, которая лишь мастерски копирует лексикон американской буржуазии. Это должна быть народная печать, выражающая нужды, стремления и чаяния народа — его презрение к правительству старой клики, требование увеличить пайки или повысить заработную плату, чтобы семья могла хорошо питаться хотя бы два раза в день, стремление к преобразованиям.
И все же старая клика и ее приспешники снова контролируют печать. На днях я спросил редактора одной из крупнейших газет Японии — «Асахи», что стало с сотрудниками газеты, подвергшимися чистке в качестве военных преступников.
«О, они наверху», — сказал он.
— Что значит «наверху»? Вы их расстреляли?
«/7х нельзя расстрелять. Это их газета. Они получают жалованье, и у них есть отдельный кабинет для совещаний наверху».
Забастовавшие работники «Асахи», организованные в профсоюз, изгнали военных преступников с их старых 279
должностей. Но слова, сказанные Дайком, сейчас озна- чают, что эти люди в силу таких понятий как «свободная предпринимательская инициатива», «свобода слова» и «так делается в США» снова могут диктовать редакционную политику «Асахи» и заявлять своим сотрудникам, требующим реформ, чтобы они убирались вон со своими дикими радикальными идеями.
Мы пытаемся навести порядок и создать нормальные условия в Японии, но порядок и нормальные условия могут оказаться страшными вещами, если они будут служить укреплению старого порядка.
Наибольший интерес прощальной речи Дайка придавало то, что отъезд его самого на родину является следствием важных событий, происходивших здесь этой весной.
Официально Дайк возвращается для того, чтобы стать вице-президентом радиовещательной компании «Нэйшнл». Но большинство из нас убеждено, что Дайка выжили из армии некоторые его коллеги, завистливо относящиеся к его острому уму и опасающиеся его внешней готовности заигрывать с прогрессивными идеями. Дайк не радикал. Он даже не либерал. Он просто проявляет большую готовность, чем большинство других генералов здесь, примириться с такими вещами, как профсоюзы и социальная безопасность в качестве неотъемлемой части национального образа жизни. Поэтому Дайка окрестили «коммунистом», а один генерал даже не называл его иначе, как «этот проклятый красный».
Отъезд Дайка совпадает с окончанием политического медового месяца Японии. Когда я прибыл в Токио, я с восхищением беседовал с некоторыми молодыми офицерами его отдела или отделов, занимающихся японской экономикой, вопросами труда или японского правительства. Эти люди планировали демократизацию Японии. Они составляли благородные директивы, предоставлявшие землю крестьянам, изгонявшие военных преступников из правительства и гарантировавшие японскому народу основные гражданские свободы.
Один за другим эти мечтатели исчезали. Одни возвращались домой, потому что скучали без своих семей или стосковались по родным местам. Другие уезжали в полном замешательстве, а третьих выживали. На их место 280
назначались «надежные» офицеры. Было много разговоров о передаче управления Японией гражданским экспертам. Но гражданские лица, нанятые в Соединенных Штатах, к их великому ужасу, были поставлены под абсолютный контроль полковников и генералов. Поскольку военщина прочно держалась в седле, дух обновления постепенно заглох. Остались только одни красивые слова.
Сами японцы очень быстро уловили эту перемену. На днях один японский издатель сообщил сотрудникам своей газеты, что на первой стадии оккупации он считал, что американская армия была готова изменить всю социальную и политическую структуру Японии. «Теперь, — сказал он, — я убедился, что генерала Макартура интересует исключительно борьба против коммунизма».
В прошлом году, который можно было назвать «порой обещаний», военщина очень неохотно принимала директивы из Вашингтона (остававшиеся, впрочем, только на бумаге). Она отвечала на них туманными обещаниями в духе полученных приказов, помогавшими поддерживать дух побежденного народа, по крайней мере, на том этапе. Однако теперь наступила «пора действий», и военщина не хотела никаких радикальных изменений.
Великолепная директива о земельной реформе, состав’ ленная в прошлом году двумя способными молодыми людь- ми из отдела Дайка, до сих пор гуляет где-то на шестом этаже здания Дайици. Создавшуюся в то время обстановку охарактеризовал один офицер генерального штаба, который, ознакомившись с официальным американским проектом, воскликнул: «Это же коммунизм, чистейший коммунизм!»
Другая важная реформа — роспуск дзайбацу — застряла в недрах отдела по борьбе с трестами и картелями, который должен был проводить ее в жизнь. В этом отделе, который иронически переименовали в «отдел по сохранению дзайбацу», говорят обычно: «Не можем же мы уничтожать наших лучших союзников».
Мы издали целый ряд директив, которые поощряют объединение рабочих, призывают население принимать непосредственное и активное участие в политической жизни и даже специально предусматривают, что мы сами будем держаться в стороне, если японский народ пожелает силой свергнуть старый порядок. Однако когда рабочие,
281
возглавляемые профсоюзами, вышли на улицы с плакатами, требующими отставки правительства старой клики, отдел по вопросам труда выступил с заявлением, что профсоюзам не разрешено принимать участия в политике. «Занимайтесь только вопросами заработной платы и условий труда, как это делают профсоюзы в Америке!» Но это — «не Америка», это страна, переживающая революцию, которую мы сами сознательно поощрили, чтобы искоренить в Японии феодальные идеи и институты. Людям, которые составляли первые директивы президента Трумэна относительно Японии, была известна эта аксиома, но многие американцы здесь не знали ее: простой человек, когда он проявляет активный интерес к политике, лучше всех в мире может отстаивать демократию.
Однако военщина не только поэтому возражает против решительных реформ. Здесь все одержимы мыслью о «предстоящей войне с Россией». Повсюду — в Вашингтоне, в Москве, в Париже — бесспорно, происходят трения с Советами. Послы обмениваются язвительными замечаниями, из одной столицы в другую посылаются ноты и угрожающие демарши. Но все это еще область дипломатии. Здесь же мы живем сейчас в атмосфере передовой линии фронта, критические сообщения корреспондентов по поводу той или другой стороны деятельности штаба все чаще вызывают, здесь гневные замечания:
«Мы воюем с русскими. А вы на чьей стороне?»
Поскольку война с Россией кажется неизбежной, торопятся отказаться от реформ. Мы больше не хотим осуждать виновных—монополистов, реакционеров. Это сейчас может вызЕать социальные осложнения, а ни один генерал не захочет никаких осложнений в сфере своей деятельности. Кроме того, он не хочет устранять людей и группировки, которые охотно примут участие в войне с Советами.
Старая мечта о Сибири еще не забыта в Японии. На днях один консервативный член парламента сказал мне, что Сибирь «удовлетворила бы все нужды новой японской демократии». Старая клика снова хотела бы попытать счастья.
Многие из нас приходят в отчаяние, видя все это. Мы считаем, что картина неприглядна, с какой стороны ни взглянуть на нее. Если генералы правы и нам действительно придется воевать с Россией, то мы избрали себе не 282
тех союзников, какие нам нужны. Социальные силы, про» бужденные крахом Японии, слишком сильны для того, чтобы они могли спокойно наблюдать возрождение феодальной милитаристской и ультранационалистской Японии, даже маскируемое всеми видами тщательно подобранных демократических штампов. Мы лишь вовлечем себя в беду, если станем на сторону старой клики. Но если даже такой войны не произойдет, то мы совершаем еще большую ошибку, ибо помогаем поддерживать не реорганизованную и в основном даже не ослабленную Японию, которая через пятнадцать лет снова станет бичом Азии.
ПОРА ДЕЙСТВИЙ
28 мая 1946 г. ТОКИО
Четыре дня назад в комнате № 506 в Форестри-бил- динг, по соседству с личным кабинетом генерала Макар- тура, было созвано совещание почти всех отделов штаба для разработки директив по удалению военных преступников из экономического аппарата Японии. Подобно вчерашней речи Дайка, это совещание явилось одной из важных вех в истории оккупации.
Страсти разгорелись уже на самом совещании, а ожесточенные споры, продолжавшиеся и после его окончания, еще сильнее накалили атмосферу. У меня побывало не меньше шести человек, с возмущением рассказывавших мне о том, что происходило на совещании. Это возмущение нетрудно понять. Уже то, что участники совещания не решались изгнать людей, субсидировавших агрессию, было достаточно плохо само по себе. Но еще хуже было то, что это совещание явилось кульминационным пунктом в возрождении политической школы, базирующейся на принципах: «Япония — наш оплот» и «Не будем уничтожать наших лучших союзников». Одной из многих жертв конференции было содержащееся в Потсдамской декларации обязательство «навсегда» устранить «власть и влияние тех, кто обманул и ввел в заблуждение народ Японии, заставив его итти по пути завоевания мирового господства».
Как и на прошлогоднем совещании по поводу политической чистки, присутствующие немедленно разделились на два непримиримых лагеря. В один из них входила крепко спаянная фаланга четырех отделов штаба: G—1 (личный состав), G—2 (разведка), G—3 (планы и операции) и G—4 (снабжение). Эта группа нашла союзников в таких отнюдь не военных учреждениях, как дипломатический 284
отдел и отдел гражданских средств сообщения. В другом лагере в неравных условиях оказались разрозненные представители трех отделов, составляющих подлинную администрацию Японии: отдела гражданской информации и просвещения, руководимого генералом Дайком, возглавляемого генералом Уитни отдела по делам японского правительства и научно-экономического отдела генерала Мар- ката.
Совещание началось в атмосфере общего согласия. Все признавали, что Потсдамская декларация действительно требует проведения чистки. Но на этом согласие кончилось. Один из представителей военного лагеря отметил, что в декларации не указано, когда именно должна быть проведена чистка. Другой подверг сомнению силу декларации «при существующих обстоятельствах». Макс Бишоп, представитель государственного департамента и правая рука Джорджа Атчесона, подчеркнул это положение словами:
«Потсдамская декларация не является неприкосновенным документом».
Мой друг полковник Кресуэлл был одним из наиболее активных представителей военного лагеря.
«Если бы теперь понадобилось, — сказал он, — снова написать Потсдамскую декларацию без нажима со стороны общественного мнения, страстей и волнений, она оказалась бы совершенно иной». Затем он перешел от созерцательного подхода к проблеме к действенному:
«К чорту Потсдамскую декларацию!»
Как только обозначился водораздел между двумя лагерями, военная группа начала утверждать, что мы не можем рисковать, удаляя компетентных людей из экономического аппарата Японии.
«Мы не можем в настоящее время передать управление промышленностью десятникам», — сказал один из офицеров.
«Попробуйте издать эти директивы, и вы повергнете всю промышленность средств связи в хаос», — сказал Дж. Д. Уиттмор, начальник отдела гражданских средств сообщения и заместитель председателя «Чейз нэйшнл бэнк».
Кресуэлл настаивал на том, что подготовленный меморандум о чистке «носит преждевременный характер», что генералу Макартуру следует «внимательно подумать о тех новых осложнениях, которые может вызвать издание 285
этих директив», и что чистка «устранит всех опытных людей» из промышленности и финансов.
Другой полковник, представитель отдела G—3, свел эту проблему к вопросам тактики.
«У нас в оккупационной армии в настоящий момент слишком мало людей, чтобы мы могли пойти на риск хаоса, устраивая чистку».
В конечном счете, слова о «хаосе» сменились аргументами типа: «А вы уверены в том, что они преступники?»
По словам Кресуэлла, один из главных дефектов Потсдамской декларации и подобных ей документов заключается в том, что они основываются на предположении, будто каждый фабрикант оружия является милитаристом.
«Посмотрите на политическую чистку, которую мы провели в январе, — сказал он. — Теперь выясняется, что мы вынуждены дисквалифицировать и удалить из общественной жизни людей, которые вступили в «Ассоциацию помощи трону» [тоталитарная партия военного времени] и другие подобные организации с единственной целью — оказывать на них сдерживающее влияние».
Тут вмешался полковник из отдела G—3 и заявил, что директива «настроит против нас лучшие умы страны». Бишоп согласился с ним, выдвинув аргумент о том, что эта директива «не в интересах Соединенных Штатов» («Она к тому же может задеть многих людей, которые были противниками милитаризма»).
«Риозо Асано будет затронут этой директивой, — сказал Кресуэлл, — а мне случайно стало известно, что этого не следует допускать».
Асано, «цементный король» Японии был также одним из крупнейших фабрикантов оружия и сторонником заокеанской экспансии. После капитуляции никто в Японии не устраивал более пышных банкетов в честь представителей союзных армий, чем он.
Другие офицеры назвали еще нескольких деятелей дзайбацу, которых пришлось бы «несправедливо» подвергнуть чистке.
Однако оольше всех других меня поразили три замечания, которые как бы определяли новую политическую погоду в Японии.
Кресуэлл: Может наступить время, когда нам будет нужна сильная Япония.
286
Второй полковник: Мы не должны экспериментировать с японской экономикой.
Третий полковник: Оглянитесь назад на чистку в японской армии. Она привела к ослаблению наших собственных тактических позиций.
Мало того, что мы отказываемся от всех наших высоких идей преобразования японской экономики или откровенно говорим о ремилитаризации Японии. Некоторые из наших дошли уже до того, что даже уничтожение нами японской армии считают ошибкой. Подобно британским консервативным делегатам, выступавшим на конференции Института тихоокеанских отношений за семь месяцев до капитуляции Японии, полковники, очевидно, сожалеют об исчезновении японской армии «как стабилизирующего элемента в период хаоса».
3 июня 1946 г, ТОКИО
Провел несколько часов с журналистом, который исключительно благодаря силе воли сумел стать самым значительным человеком в японском рабочем движении. Это Кацуми Кикунами, автор передовиц «Асахи», который теперь пытается организовать рабочую федерацию, построенную по образцу Конгресса производственных профсоюзов США. Кикунами сорок два года; это плотный человек с пышной шевелюрой. Говорит он по-английски спокойно, медленно, но безукоризненно правильно. Несмотря на свое спокойствие, он производит впечатление человека огромной энергии, напоминая пружину, заведенную до отказа.
Кикунами, сын бедного деревенского торговца, учился в американской миссионерской школе в Кобэ. Он уже девятнадцать лет работает в «Асахи». В 1935—1938 гг. он был лондонским корреспондентом этой газеты, писал в ней об итало-абиссинской войне и о последней злосчастной конференции по разоружению. Когда кончилась война, он организовал союз, который изгнал из «Асахи» редакторов-шовинистов. Через некоторое время он объединил профсоюзы токийских газет в один центральный профсоюз работников печати и радио. И все же кажется, что он несколько озадачен своим положением.
287
«У меня никогда не было никакого опыта работы в профсоюзах, — говорит он, — и я делаю ошибки в самых элементарных вопросах».
Его спасают его убежденность, внутренняя сила и мужество. Спокойно, избегая резких выражений, он говорил об ударах, которые американцы наносят рабочему движению, о декларации Дайка, о заявлении Макартура по поводу демонстрации, о поддержке, которую Соединенные Шгагы оказывают консервативным политическим деятелям.
«Могут справедливо заметить, что формально ни одна из этих деклараций не направлена против рабочих. Но американцы должны знать, что японские предприниматели пользуются любой из них как оружием. Вам следовало бы посмотреть, что делают японские издатели с речью генерала Дайка».
Он также рассказал мне некоторые новейшие подробности о профсоюзе, организованном служащими госпиталей Красного Креста. Принц Симадзу, заместитель председателя Красного Креста, очевидно, жаловался американскому штабу. В результате кто-то из представителей штаба составил меморандум, призывая администрацию госпиталей не поддаваться влиянию профсоюза и указывая врачам и сестрам, вошедшим в него, что «подобная деятельность наносит ущерб их престижу». Администрация тотчас же воспользовалась этим и уволила врача, который был избран председателем союза.
5 июня 1946 г. ТОКИО
Дело Андо все больше и больше начинает напоминать детективный роман. Те факты, которые стали известны в связи с этим делом, порождают самые фантастические предположения, переносящие нас в мир крупных интриг. Сегодня я обнаружил, что это относится не только к рядовым любителям, вроде меня, но и к таким профессионалам, как капитан Н., который уже три месяца занимается этим делом.
«Видите ли, в чем тут дело,— сказал он мне. — Компания «Дай-Ан» имеет объявленный капитал в 100 тысяч иен. Однако в прошлом году ее прибыль составила 500 миллионов иен. Я познакомился с ее операциями. В них
288
чувствуется та смелость, та изобретательность и те резервы капитала, которыми в прошлом обладали только дзайбацу или императорский двор.
Андо — владелец шести крупных фирм. Он председатель токийской частной Автомобильной ассоциации, в которой насчитывается 8 тысяч членов. Его люди сидят в комиссии по распределению горючего. Он контролирует компании, изготовляющие шины и части для машин. Фактически вы не можете иметь в Токио автомобиль, не платя дани Андо. Он владелец целого ряда мыловаренных заводов, буксиров и лихтеров, автопарков, инженерных сооружений и недвижимости. Он может построить вам надворные строения или завод, проложить новые телеграфные линии или шоссейные дороги, предоставить рабочие руки для любого строительства, каким бы крупным оно ни было.
Андо—гангстер. Однако он в близких приятельских отношениях с принцем Такамацу, братом императора. Он в дружбе также с членами кабинета, с «королями» черного рынка в десятке городов и со многими японскими генералами. На каждый десяток его помощников приходится девять военных.
До войны японское министерство иностранных дел организовало множество фальшивых «культурных» учреждений. Теперь они снова возродились, причем Андо — один из финансирующих их «ангелов-хранителей», принц Такамацу — их покровитель, а «святой отец» Кагава занят их организацией.
Андо имеет в своем распоряжении любое нужное ему число японок. Вместе с тем он пользуется также услугами многих европейских женщин: русских белоэмигранток, немок, итальянок, бывших любовниц фашистских гаулейтеров, дочерей эмигрантов, шпионок. Многие из них работают в американском штабе в качестве конторщиц, телефонисток или переводчиц. Одна из них сказала мне, что она не одобряет методов Андо, но что она «в долгу» у него. Другая девушка — русская, которую зовут Марией, выполняет для Андо «специальные поручения». Мне известен случай, когда Андо заплатил одной японской девушке 10 тысяч иен за то, что она провела воскресный день в горах с американским офицером.
Около двух месяцев назад я обедал с Андо. Я приехал на обед с японской девушкой, которая работает у меня. Через
19 м. г«ав 289
полчаса Андо предложил мне 20 тысяч иен на то, чтобы финансировать предвыборную кампанию и провести эту девушку в парламент. В другой раз Андо сказал мне: «Я знаю, что за мной следят, но я слишком большой человек, чтобы обращать на это внимание. Я привык добивать- ся того, чего хочу — если возможно — законными путями».
Теперь сопоставьте все эти факты, как это сделал я, и постарайтесь догадаться, в чем тут дело. Может быть, Андо — «вывеска», прикрывающая капиталовложения императорской семьи и некоторых дзайбацу, которые пытаются скрыть свое богатство. Может быть, он — укрыватель колоссальных количеств военного снаряжения, которое японские генералы утаили после капитуляции. А возможно, он — казначей организации, которую можно назвать «генеральным штабом японского подполья».
Капитан Н. предложил мне сопровождать его, когда он в следующий раз поедет к Андо со светским визитом.
7 июня. 1946 г. ТОКИО
Я узнал о любопытном эпизоде, относящемся к широко разрекламированной и надолго отложенной земельной реформе. После ожесточенных споров с японским правительством, продолжавшихся несколько месяцев, американские эксперты по земельному вопросу разработали проект аграрной реформы и отправили его на утверждение по «официальным каналам». Этот проект уже пять недель лежит под сукном, так как начальник штаба считает, что в нем есть «привкус коммунизма». Тем временем Атчесон представил Союзному совету для ознакомления японский план реформы. Этот план, отвергнутый и разоблаченный американскими экспертами как фальшивка, был снабжен еле- дующей рекомендацией Атчесона:
«Хотя этот законопроект аграрной реформы нельзя считать совершенным, он означает крупный шаг вперед...» Эксперты, которые шесть месяцев трудились в поте лица над разработкой проекта, даже не были извещены заранее о том, что японский план будет представлен на рассмотрение Совета. Они не понимают также и того, какая цель преследуется этим ходом.
S90
Русские и английские члены Совета немедленно представили свои собственные планы земельной реформы, причем английский план был в значительной степени основан на разумных советах экспертов штаба Макартура» В то время как это происходит на авансцене, за кулисами помещики продолжают готовиться к черному дню, распределяя свои земли среди подставных владельцев. Весьма характерно, что по японскому плану вопрос о том, кто имеет право приобретать землю в соответствии с «реформой», должен решаться местными комитетами, находящимися полностью в руках помещиков.
8 июня 1946 г. ТОКИО
Тотчас же после завтрака Ли Мартин, представительница агентства Оверсис Ньюс, Гордон Уокер и я заехали за капитаном Н. и отправились в контору Андо. Ли — прелестная женщина и лучшая подруга Сэлли,— побывавшая в Китае и на Филиппинах, только что приехала сюда с намерением провести здесь некоторое время.
Здание компании «Дай-Ан» — узкая, аккуратная четырехэтажная постройка на улице Гинза. Внизу находилось небольшое число служащих и несколько ожидающих, среди которых были люди с военной выправкой. Капитан Н. повел нас наверх. На каждой площадке нас разглядывали молодые люди, при виде которых я невольно вспомнил второразрядные фильмы о гангстерах. На третьем этаже нас встретил небольшой худощавый человек, отрекомендовавшийся профессором Иосида, начальником отдела иностранных дел.
Андо ждал нас, стоя посреди комнаты в верхнем этаже. Это был статный, представительный человек с подвижным лицом и седеющими волосами. Он был в сером костюме хорошего покроя и имел вид дипломата, прибывшего с визитом доброй воли. Он сказал нам: «Добрый вечер» и, очевидно, истощив весь свой запас английских слов, провел нас к удобным низким креслам в конце комнаты.
Эта большая комната представляла собой странную смесь будуара куртизанки и «святая святых» банкира. На одной стене висело огромное зеркало, явно предназначенное для спальни, на другой — картина, изображающая 19*
291
обнаженную женщину в натуральную величину. Под картиной был размещен полный комплект старинных самурайских доспехов. В комнате преобладал белый цвет: на стульях — белые чехлы, а диван покрыт шкурой белого медведя. В углу стоял небольшой письменный стол с целой батареей телефонов. Прямо надо мной висел небольшой портрет генерала Макартура с его автографом.
Андо, слова которого переводил Иосида, заверил нас в своей любви к Соединенным Штатам и к американским корреспондентам. Он назвал нам некоторых из них, которым он, по его словам, «оказал некоторые небольшие услуги». Он заявил, что наш визит делает его особенно счастливым, так как он в первый раз встретился с женщиной-журналисткой.
«Мы должны как-нибудь ознаменовать это событие»,— заметил Андо. Он сказал что-то по телефону. Вошла молодая женщина и подала Андо небольшой черный футляр. Андо открыл его и вынул жемчужное ожерелье.
«Это для вас, миссис Мартин, — сказал он, — в знак того, как высоко я ценю ваше посещение».
Ли начала говорить, что она никак не может... Она все еще протестовала, когда Андо надел ей на шею ожерелье прямо поверх ее военной гимнастерки с галстуком.
«Боже мой, — сказал капитан. — Держу пари, что даже он должен был заплатить пару сотен долларов за эту вещицу».
Жемчужины в ожерелье действительно были крупные и блестящие.
Ли все еще продолжала протестовать, когда вошел крупный, дородный человек с низким лбом, коротко остриженными волосами и плечами профессионального борца.
«Это господин Мацуда,—.сказал Андо. — Он начальник моего общего отдела».
Любопытно было наблюдать за отношениями между этими людьми. Андо и Мацуда разговаривали друг с другом с дружеской фамильярностью. Оба они обращались к Иосида в тоне презрительного приказания, а Иосида казался возбужденным и несчастным. Я вспомнил слышанное мною где-то замечание, что профессор Иосида хотел бы оставить службу у Андо, но не решается сделать это.
Сам Андо предоставил мне случай ближе познакомиться с ним. Он заметил, что в данный момент наиболее неотлож292
ной необходимостью является установление контакта между японцами «высших классов» и американцами. Я тотчас же согласился с ним и выразил сожаление о том, что никто не хочет помочь установлению этого контакта.
«Вот, например, принц Такамацу,—сказал я.—Мне дали понять, что он умный человек, и я делал всевозможные попытки для того, чтобы увидеться с ним. Но японское правительство и двор настаивают на том, чтобы я представил свои вопросы в письменной форме. Я хочу беседовать лицом к лицу, я не хочу никаких письменных интервью с кем бы то ни было».
«Вы правы, — сказал Андо. — В этом нет никакой необходимости. Когда вы хотели бы увидеть принца? Я устрою это для вас».
Я назвал следующий понедельник, и Андо ответил, что я непременно увижу принца в назначенный мною день.
«Почему бы вам всем не поехать вместе со мной в клуб Вакатомбо? — спросил он. — Отпразднуем нашу первую встречу за столом и побеседуем».
Ли отправилась с Андо в его большой сверкающей машине. Уокер и я последовали за ними в наших виллисах. Клуб скрывался за пошатнувшимся забором. Внутренний двор был опрятен и посыпан гравием, а у входа стояли молодые женщины, вышедшие нас приветствовать. Мы сняли обувь, и нас провели по лабиринту коридоров в большую комнату — одну из двадцати двух комнат в этом доме. Обои и цыновки на полу были новенькие, в нише висела простая и красивая картина-свиток, а массивный лакированный столик в фут вышиной был отполирован до блеска.
Служанки бесшумно скользили взад и вперед по комнате. У каждой из них было бриллиантовое кольцо, подарок Андо. Они принесли сласти и бутылку виски Гаген- хеймера, которая стоила невероятных денег в этой стране неочищенных напитков.
«Я всегда езжу сюда с моими американскими друзьями, — сказал Андо. — У меня их от двухсот до трехсот в одном только штабе. Я считаю, что после такой тяжелой работы им необходимо развлечься...»
Он назвал некоторых из своих гостей — генерала, судью, нескольких известных офицеров, нескольких
293
корреспондентов и двух-трех членов союзных миссий в Японии.
«Но не все американцы мои друзья. Ведь среди американцев есть и коммунисты. Вы знаете м-ра Конда?»
Я знал Дэва Конда, дельного начальника отделения кинематографии, который интересовался стараниями Андо проникнуть в кинематографическую промышленность.
«Мистер Конд все время борется против меня. Я знаю это. Есть люди, которые меня информируют. Вы слышали о полковнике...? [Этот полковник был только что арестован за спекуляцию на черном рынке в тот самый момент, когда собирался выехать в Соединенные Штаты. ] Мне кажется, что полковник не любил меня, и вы видите, какой с ним произошел прискорбный случай. Разве не печально было бы, если бы и м-ра Конда постигло нечто подобное? Ему действительно нужно ехать домой».
«Мистер Андо очень энергично борется с коммунизмом», — заметил Мацуда.
«Я буду бороться с коммунизмом до конца моей жизни, — сказал Андо. — Я вложу в эту борьбу все, что имею. Я стою за демократию и за сохранение император* ского строя».
«А что еы думаете об императорском строе? — спросил меня Мацуда. — Вы не считаете, что это строй, который нельзя приравнять ни к одному другому и который оказывает благотворное действие на наш народ?»
Я поспешил согласиться с тем, что его действительно нельзя приравнять ни к одному другому строю.
«Я буду сотрудничать с Соединенными Штатами, — заявил Андо. — Я вкладываю полмиллиарда иен в ряд кинотеатров, которые будут демонстрировать американские фильмы. Я намерен также основать тихоокеанскую пароходную линию. У меня грандиозные планы».
Служанки начали вносить кушанья. Тут были жареные креветки, такие нежные, что таяли во рту, тонкие телячьи отбивные котлеты в сухарях, цыплята в белом вине, а для любителей — свежая рыба, маринованная редиска, осьминог и другие японские лакомства. Андо самодовольно слушал наши комплименты.
«Мне ни к кому не надо обращаться, — сказал он. — Все, что вы видите на столе, мое собственное. Рыба доставлена моими собственными рыболовными судами, мясо дают 294
мои собственные стада, а зерно — мои собственные поля. Продукты сюда мне привозят на моих собственных грузовиках».
Я начинал понимать, почему в одном официальном докладе было указано, что Андо истратил в шесть недель 4 миллиона иен (около 260 тысяч долларов) на развлечения.
К шести часам мне надо было ехать на обед, и я был вынужден откланяться. Андо и Иосида проводили меня.
«Не забудьте о беседе с принцем Такамацу, — сказал Андо. — Мы будем с вами друзьями, не так ли?»
10 июня 1946 г, ТОКИО
Утром Андо отвез Ли Мартин, Уокера и меня во дворец принца Такамацу. Пока Андо разговаривал с принцем при закрытых дверях, мы ждали в небольшой приемной и разглядывали пышную обстановку, старинные вещи и прекрасный огород, который тянулся вдоль двухэтажного дома с колоннами.
Такамацу немного похож на императора. У него более уверенные движения, более непринужденные манеры и довольно выразительное лицо. До капитуляции Японии он служил в армии, и различные военные клики боролись за его благосклонность, пока он не связал свою судьбу с одной из крайних группировок.
Мы расположились кружком — причем Андо сидел ближе всех к принцу — и задавали вопросы. Позднее мы все пришли к выводу, что в этой беседе не было ничего замечательного, за исключением того, что она давала нам представление о любопытных отношениях между принцем и аферистом. В ответ на все наши вопросы из области политики принц говорил: «Я не компетентен в этом вопросе». Или: «Я предпочитаю не говорить о политике».
Тем не менее он сказал, что стоит за демократию и что императорская семья разделяет лишения простого народа.
«Мы даже сами выращиваем овощи», — заметил он, указывая на огород.
Однако каждый раз, когда принц считал невозможным для себя ответить на тот или иной вопрос, Андо быстро вмешивался с объяснением:
«Его императорское высочество думает, что...»
295
Иногда он прерывал принца, иногда отвечал на наш вопрос раньше, чем принц успевал открыть рот. Это не был смиренный верноподанный, находящийся в присутствии полубожественного члена императорской семьи. Эти люди держались, как равные, пожалуй, даже как друзья.
Когда мы вышли, Андо задержался. Мы воспользовались этим для того, чтобы заглянуть в книгу посетителей в обширном вестибюле. В этой книге мы нашли имена наиболее высокопоставленных представителей оккупационной армии.
12 июня 1946 г, ТОКИО
Я увлекся игрой в покер и был весьма доволен собой, выиграв почти 400 долларов, как вдруг вошел Джон Рич из Интернэйшнл Ньюс Сервис и заявил, что два часа назад он послал в Америку сообщение об аресте Андо.
Уокер и я бросились к телефону. Хотя было около часу ночи, мы разбудили всех агентов, которые, по нашим сведениям, работали по этому делу, и потребовали от них объяснений, почему нам ничего не было сказано. Все они отказывались верить этому сообщению и обещали нам проверить его.
Ничего не разузнав, мы отправились затем в полицейское управление столицы, чтобы проверить список арестов, произведенных в течение дня японской полицией. Андо не был упомянут в нем, но дежурный агент американской военной полиции предложил нам подождать сержанта. Сержант так и не явился, и в три часа ночи, когда нам уже надоело ждать, мы уехали. Я хотел бы думать, что Джон ошибся, но он слишком осторожный корреспондент, чтобы допустить такую оплошность.
13 июня 1946 г. ТОКИО
Сэлли сегодня выехала из Сан-Франциско на пароходе «Генерал Мейгс». У меня самое праздничное настроение. Япония — это целый мир разрушений и обманутых надежд, и Сэлли будет очень трудно приспособиться здесь, но это все же лучше, чем жить порознь. Дом приведен
296
в порядок и покрашен, а зловонный запах, который он приобрел за несколько лет из-за запущенности помещения и маринованной редиски, частично выветрился. Теперь остается только найти приличную обстановку, засыпать яму, оставшуюся во дворе после того как было взорвано бомбоубежище, и нанять новую прислугу.
Домовладелец нашел для меня мрачную женщину, которая говорит, что она была кухаркой в германском посольстве. Льютер, который гостит у меня, разделяет мои сомнения на этот счет. На днях я выразил желание, чтобы завтрак начинался с апельсинного сока. Кухарка посмотрела на меня с недоумением:
«Вместо супа?»
Я подтвердил свое приказание. Она действительно подала апельсинный сок... в горячем виде. В другой раз, подав первое блюдо, слуги исчезли. Я нашел их в саду за рассаживанием цветов. Когда я сделал им замечание, кухарка ответила хмуро:
«Это пустырь. Мы обязаны засадить его».
Хотя я разделяю ее пристрастие к садам в честь победы, ей все же придется уступить место повару, который будет посвящать себя садоводству в более подходящие часы.
Джон Рич был прав. Сегодня утром один из моих информаторов сообщил мне по телефону, что Андо был арестован по прямому приказанию полковника Р. С. Браттона из военной разведки. Мы не нашли никакого письменного свидетельства о его аресте, потому что Андо и Мацуда были не «арестованы», а «изолированы в виде предохранительной меры». Тайна не была открыта ни одному из других агентств, занимающихся расследованием подобных дел. Представители военной разведки держат язык за зубами, но после того как я четыре месяца занимался делом Андо, их информация мне не нужна. Несмотря на арест Андо, здание компании «Дай-Ан» было открыто и служащие работали. Я не поднимался наверх.
Штаб Макартура вот уже несколько недель точит нож против газеты «Иомиури». Известно, что это дело дошло по «официальным каналам» до самого генерала Макартура и получило его благословение.
297
Всем известно, что «Иомиури» являлась бельмом на глазу для штаба. В то время как большинство других газет привыкло ходить по струнке, «Иомиури» оставалась на воинствующих позициях. Она содействовала удалению Сидехара. Она насмехалась над Иосида. Она упорно разоблачала неприглядное прошлое военных преступников, стоящих теперь у власти. Она поддерживала демонстрации как демократическое выражение несогласия. Иногда она выражалась резко. Иногда она ошибалась. Но мы живем в такое время, когда люди говорят пронзительными голосами, когда происходят разрушение и восстановление. «Иомиури» более чем выполнила свой долг в отношении создания новой Японии. То, что она говорила, влияло на миллионы людей. Больше того, она оказывала влияние на другие газеты, побуждая их своим собственным примером защищать реформы и демократию.
Действуя таким образом, «Иомиури» столкнулась с нашей политикой — не с той политикой, с которой мы вступили в Японию десять месяцев назад, а с новой политикой, очертания которой обозначились за последние десять недель. Теперь мы заключили прочный союз с людьми и группировками, против которых «Иомиури» ведет борьбу. Однако расправа будет вершиться не во имя новой американской политики, а под благородным предлогом защиты «свободы слова». Хотя в декабре 1945 г. союз действительно подписал соглашение, по которому он получил право участвовать в определении политического направления газеты, теперь мы утверждаем, что это соглашение не было демократичным. Оно, мол, ущемляло право издателя Баба определять политический курс «Иомиури».
Несколько времени назад Баба предъявил правлению своего издательства ультиматум с требованием уволить шесть «бунтарей» во главе с главным редактором Судзуки. Правление отказалось принять какие-либо меры. Вчера Баба отправился к генералу Бэйкеру, начальнику отдела печати. Бэйкер вполне справедливо повторил ему несколько раз, что направление японской прессы его совершенно не касается. Однако когда Баба сбился при перечислении шести фамилий, Бэйкер взял листок бумаги, лежавший на его письменном столе, прочел остальные фамилии и спросил:
«Это те самые люди?»
298
Баба с торжествующим видом вернулся в редакцию «Иомиури» и, по словам человека, который провел с ним почти весь день, сообщил своим служащим, что Бэйкер приказал ему уволить шесть человек, о которых шла речь.
14 июня 1946 г. КАРУИЗАВА
Сегодня утром Уокер, его помощник Хару Мацуката и я выехали из Токио на курорт Каруизава в поисках обстановки для моего дома. Мы взяли с собой прицеп на случай, если мне повезет.
Это была приятная поездка на расстояние около сотни миль. Дорога долго извивалась среди полей, пыльная и неровная, словно изрытая оспой. На крошечных затопленных водой рисовых участках женщины в широких шароварах и конусообразных соломенных шляпах' возились с зелеными побегами риса. На пшеничных полях крестьяне растирали пальцами стебли: испытанный способ проверки, к которому прибегают крестьяне во всем мире перед началом жатвы.
Мы колесили и кружили по дороге, объезжая горы, пока не выехали, наконец, к полосе сосновых лесов, стоящих над слоем сырых, пушистых облаков. Это и есть Каруизава, где до войны отдыхали дипломаты, миллионеры и богатые куртизанки, не выносившие убийственной летней жары в Токио. Во время войны здесь нашли себе убежище богатые или. осторожные японцы и маленькая армия немецких и итальянских дипломатов, советников и шпионов.
Поднялись по узкой дороге, обсаженной деревьями, и остановились у японской гостиницы, где я когда-то жил раньше. Хозяйка приветствовала меня, как сына, давным- давно потерянного из вида. Это была маленькая, сморщенная и очень веселая женщина. Мы заказали две угольные жаровни для приготовления пищи и направились наверх в наш двухкомнатный номер. Хару, у которого здесь есть дом и множество знакомых, ушел. Уокер и я растянулись на соломенных цыновках. Бумажные стены были раздвинуты, и я видел старинный буддийский храм по ту сторону дороги и ощущал тяжелый, аромат курений, .
299
носившийся в теплом воздухе. Маленькие полуголые ребятишки играли в бейзбол во дворе. Я погрузился в небытие... Моим следующим ощущением было прикосновение твердой руки. Кто-то энергично расталкивал меня. Голос, несомненно принадлежавший американцу, сказал:
«Проснитесь!»
Перед нами было двое военных полицейских, которые требовали, чтобы мы покинули гостиницу, так как военным не разрешалось в ней находиться. Мы утверждали, что мы штатские. Полицейские обещали выяснить этот вопрос у своего командира. В обеденное время, когда мы ели палочками рагу из консервированной тушонки с бобами, вошел молодой лейтенант. Он только что получил от своего полковника распоряжение, запрещавшее пребывание штатских в японских гостиницах.
«Послушайте, — сказал я ему. — Здесь есть солдатская гостиница, но нам, как штатским, там жить нельзя. Однако нам, как находящимся на военной службе, не позволяют останавливаться и в японских гостиницах. Где же мы должны жить?» В голосе лейтенанта звучало смущение. «Полковник предлагает, чтобы вы переселились в пансион Гердера, — сказал он. — Там довольно хорошо».
«Гердер — бывший местный гаулейтер, — вмешался Уокер. — Ведь он как будто находился некоторое время в тюрьме Сугамо по подозрению в военных преступлениях?» Лейтенант сказал, что, пожалуй, это было именно с Гердером. Уокер и я заявили, что не хотим иметь никакого дела с этим человеком.
Мы провели ночь в доме Хару, который все еще оставался заколоченным со времени войны. В тишине только что наступившей ночи мы услышали тоненький мальчишеский голосок, говоривший по-немецки:
«Мама, в том пустом доме какие-то люди. Что они там делают?»
15 июня 1946 г. КАРУИЗАВА
Купил полный гарнитур прекрасной плетеной мебели для гостиной и веранды. С теми вещами, которые уже имеются в доме, и двумя взятыми напрокат армейскими койками у Сэлли для начала будет достаточно мебели.
300
Прежде чем выехать обратно в Токио, мы посетили Сабуро Курусу — «посла мира», который был командирован в Вашингтон накануне войны. Мне хотелось знать, заинтересован ли Курусу в том, чтобы продать свои мемуары чикагскому синдикату «Сан». Курусу — элегантный, красивый, самоуверенный человек — заявил нам, что пока еще не считает возможным «сказать все». Вошли его две хорошенькие дочери, и мы целый час болтали о пустяках и притворялись, что никто из нас не интересуется политикой. Курусу рассказал нам про Хатояма, который жил здесь во время войны. По его словам, Хатояма очень серьезно относился к своим занятиям земледелием и время от времени посылал свои овощи в подарок семье Курусу.
«Здешние светские дамы, — сказал Курусу, — часто жаловались на Хатояма. Они говорили: «Как мы можем достать удобрение для наших садов, когда Хатояма встает на рассвете, выходит на тропинку, по которой прошло стадо, и собирает весь навоз, который он может найти. К тому времени, когда мы попадаем туда, тропинка оказывается совершенно чистой, словно выметенной».
23 июня 1946 г. ТОКИО
Шесть месяцев назад, перед тем как отравиться, принц Коноэ написал тоненькую книжечку мемуаров, в которых он подробно, шаг за шагом, рассказал о вступлении Японии в войну. Одна из наиболее очевидных задач его мемуаров заключалась в том, чтобы изобразить Тодзио архизлодеем и поджигателем войны. В противоположность ему, Коноэ изображает самого себя доблестным борцом за мир.
На основании данных, полученных мной сегодня, я склонен назвать принца ловким лжецом.
В сентябре 1940 г., когда премьером был Коноэ, японское Печатное управление получило от правительства распоряжение начать печатание «оккупационной валюты». Это были японские военные банкноты, предназначенные главным образом для обращения в районе Южных морей: на Филиппинах, в Бирме, Малайе и Индонезии.
801
В мае 1941 г., когда премьер Коноэ «боролся за мир», Печатное управление начало отправлять банкноты на хранение в Японский банк.
В ноябре 1941 г., тотчас же после того как Тодзио сменил Коноэ на посту премьера, Японскому банку был отдан совершенно секретный приказ о сдаче банкнот военным казначействам.
Из этих фактов, только что обнаруженных американской разведкой, явствует, что политика была преемственной, независимо от того, был ли премьером «миротворец» Коноэ или злодей Тодзио. Это является лишь новым подтверждением того, что Япония отнюдь не внезапно решила начать агрессию. Она долго и тщательно готовилась к ней, причем армия, правительство и крупная буржуазия действовали сообща.
Это очень важный факт. Он имеет особое отношение к новейшим попыткам доказать, что только Тодзио и некоторые из его друзей-заговорщиков должны считаться военными преступниками. Самому богу известно, какая тяжкая вина и без того лежит на Тодзио. Но отвратительно смотреть на всех этих людей, начиная с императора и премьера Иосида, которые вскакивают в благородном негодовании и кричат: «Он все это сделал один!»
Еще более многозначителен тот факт, что многие американцы сочли выгодным распространять этот новый миф. Некоторые из них — в особенности высшие власти в штабе оккупационных войск — отдают себе отчет, что опровергнуть это положение — значило бы признаться в том, что большинство людей, которых мы держим у власти, включая императора, в действительности должно быть предано суду и приговорено к смертной казни через повешение.
Другие группы — главным образом бывшие изоляционисты — вынуждены высказываться в защиту этого нового мифа, для того чтобы сохранить за собой возможность обвинять президента Рузвельта в том, что он «спровоцировал» Японию такими мерами, как эмбарго на нефть, объявленное в июле 1941 г. Нетрудно представить, какова будет судьба этой версии, когда будет обнаружено, что японцы печатали военную валюту для Филиппин за пятнадцать месяцев до своего нападения на Пир л Харбор.
302
24 июня 1946 г.
ТОКИО
Два опечаленных штабных офицера сообщили мне сегодня, что генерал Макартур действительно отклонил проект профессора Эдвардса об уничтожении дзайбацу. Сообщение об отказе от этого проекта, отправленное в Вашингтон в начале месяца, выражало «в принципе» согласие с основами проекта Эдвардса, но утверждало, что можно найти способ, который менее болезненно отзовется на японской экономике.
Люди, которые передали мне эту информацию, говорят что ответ генерала Макартура отражает мнение руководящей верхушки штаба, которое можно сформулировать следующим образом:
Всякие радикальные шаги, предпринятые в настоящий момент против дзайбацу, серьезно повредили бы возрождению японской экономики, что приведет к затягиванию напряженного положения в стране.
Все меры, принимаемые против дзайбацу, затруднят положение кабинета Иосида.
Эти меры должны быть справедливыми по отношению к дзайбацу и должны быть направлены на сохранение японских деловых традиций.
27 июня 1946 г. ИОКОГАМА
Говард Хэндлман, корреспондент Интернэйшнл Ньюс Сервис, Том Ламберт из Ассошиэйтед Пресс и я провели здесь втроем большую часть дня в ожидании парохода «Генерал Мейгс», на котором должны прибыть наши жены. Нам удалось достать военные легковые машины, так что по крайней мере в первый день своего пребывания здесь наши женщины будут пользоваться благами цивилизации. После этого придется вернуться к виллисам. Поздно вечером какой-то полковник сжалился над нами, пригласил нас к себе и предложил выпить. Мы ждали целую вечность, то выпивая, то грызя ногти от нетерпения, пока наблюдатель, находившийся на крыше, не сообщил нам наконец, что пароход уже показался'на горизонте.
Мы с головокружительной скоростью помчались на пристань, где наступил новый период томительного ожидания, пока пароход входил в маленькую внутреннюю
303
гавань. Потом мы кричали и махали руками, так как узнали (или нам показалось, что узнали) знакомые лица на борту, и пытались задавать вопросы, которые можно было задать с гораздо большим удобством через какие- нибудь полчаса.
К тому времени, когда мы выгрузили весь ручной багаж, начиная с шляпных картонок и кончая лыжами, к счастью, стемнело, и Сэлли была избавлена от созерцания развалин, которые тянутся на много миль между Иокогамой и Токио. Мы с ней не виделись с тех пор, как она уехала из Сан-Франциско, и теперь заполняли пробелы в наших сведениях и говорили друг другу то, что обычно говорят люди после долгой разлуки. Поднялись на холм к дому, повернули на освещенную, усыпанную гравием дорожку и увидели шеф-повара Моги в безупречно белой куртке и двух женщин в ярких кимоно, склонившихся перед нами в знак приветствия. Как полагается в Японии, Сэлли сняла туфли и вошла в свой новый дом.
2 июля 1946 г. ТОКИО
Вот уже несколько недель служащие отдела гражданской информации и просвещения заняты разработкой мероприятий, которые могли бы дать простым смертным возможность критиковать императора, не подвергаясь опасности попасть за это в тюрьму. Проект прошел все соответствующие инстанции, пока не достиг начальника отдела. Тот отверг его, объяснив, что «момент неблагоприятен». Таким образом, по крайней мере на ближайшее время, император останется в законодательстве страны на правах самодержавного пол у божественного монарха.
Это согласуется с секретным приказом Вашингтона, который вызвал здесь много оживленных толков. Этот приказ был дан генералу Макартуру Комитетом координации иностранных, военных и морских дел в середине апреля и настолько резко отличается от взглядов, высказывавшихся нами до сих пор, что в нем нельзя не увидеть резкой перемены нашей политики в Японии.
В приказе из Вашингтона говорится приблизительно следующее:
«Хотя Соединенные Штаты являются решительным сторонником установления в Японии республиканской формы
804
правления, сам японский народ, очевидно, сочувствует императорскому строю. Поэтому генералу Макартуру даются инструкции помочь японскому народу в развитии конституционной монархии и сохранении императорского строя.
Прямой нажим на императорский строй ослабил бы демократические элементы и, наоборот, усилил бы крайние партии — как коммунистов, так и милитаристов. Верховному главнокомандующему поэтому приказано тайно содействовать популяризации личности императора не как существа божественного происхождения, а как человека.
Настоящий приказ не должен быть известен японскому народу».
Мне давно известно о попытках одного американского генерала, находящегося здесь, убедить министерство императорского двора, чтобы оно изменило свою политику в вопросах информации общественности.
«Пользуйтесь рекламой, — говорит он министерству. — Смотрите на императора, как на товар, который надо продать народу».
И все же я нахожу вашингтонский приказ удивительным. Почти до последнего дня войны офицеры из отдела психологической войны при штабе генерала Макартура действовали на основании приказов, в которых император рассматривался как военный преступник. И даже если отвлечься от этой прежней деятельности Макартура, трудно представить себе армию Соединенных Штатов в роли советника Хирохито по вопросам информации общественности, занятую попытками навязать этого трусливого маленького человечка его собственному народу. В первые дни после победы можно было считать целесообразным использование Хирохито, чтобы обеспечить исполнение наших приказаний. Новый приказ выходит далеко за пределы целесообразности и относится к области высокой политики дальнего прицела, которая представляется мне глубоко антидемократичной и, выражаясь современными штампами, глубоко антиамериканской.
5 июля 1946' г. ТОКИО
Сегодня я был «приглашен» к полковнику У. С. Вуду, представителю гражданской разведки, в связи с делом
20 М. Гейи 305
Андо. Вчера Вуд вызывал Уокера и грозил ему- военным судом, если он не откроет ему источников своей информации. Уокер отстоял свои позиции. Сегодня после обеда он присоединился ко мне во время визита к полковнику.
Полковник, несомненно, прощупывал почву. Ему хотелось знать, что мне известно о связи офицеров американской армии с делом Андо и откуда я получил сведения. Я был готов сообщить полковнику все, кроме имен людей, от которых получил информацию. Некоторые из них сами были гостями Андо в его «клубе». Другие были подчиненными удачливых клиентов Андо. Я не хотел подводить их под наказание только за то, что они разговаривали со мной, в особенности ввиду того, что армия ничего не предпринимала против некоторых высокопоставленных лиц, имена которых были названы самим Андо.
Наконец, разговор дошел до угроз предать военному суду тех корреспондентов, которые отказываются сообщить об источниках получаемой ими информации. Я сказал Вуду, что, по-моему, любой корреспондент, не исключая и меня, приветствовал бы расследование дела. Я не сомневался в праве Вуда требовать от нас показаний, если бы это дело касалось государственной безопасности. Но дело Андо — грязная помойная яма, которая должна быть вычищена, независимо от того, заденут ли эти разоблачения армию или нет. Вуд не арестовал меня.
6 июля 1946 г. ТОКИО
Дело Андо официально закончено. Его судил американский военный трибунал и нашел виновным в невыполнении приказа о сдаче оружия, в незаконном приобретении товаров из американских гарнизонных складов и в неподчинении приказанию о закрытии его «клуба». Его приговорили к шести месяцам тюремного заключения и штрафу в 3300 долларов.
Мы почерпнули первые сведения о суде из коммюнике генерала Бэйкера, в котором выражалось неудовольствие по поводу «сенсационных газетных сообщений, превращающих этот случай неподчинения приказам в преступ* ное дело, в котором якобы замешаны офицеры оккупационной армии». Коммюнике признавало, что «некоторые 306
представители союзных армий посещали третьеразрядный ночной клуб Андо» и что он «иногда делал своим гостям традиционные подарки, вроде японских кукол и других подобных безделушек». Однако, как указывалось дальше, «тщательное расследование информации из всех источников, включая прессу... не обнаружило имен каких-либо военных чинов, которые имели бы с Андо незаконные связи».
Таким образом, дело Андо, являвшееся в лучшем случае симптомом глубокого морального разложения оккупационной армии, а в худшем — говорившее о существовании обширного и мощного националистического подполья, было представлено как незначительное мошенничество, как забавная история о мелком аферисте, который тратил неисчислимые миллионы иен на кутежи в «третьеразрядном ночном клубе» и на «традиционные подарки, вроде японских кукол», причем следует заметить, что многие из этих кукол были живыми. Невероятная многогранность интересов Андо, от кинопромышленности и путей сообщения до императорского двора, благодушно игнорировалась. В сущности, Андо был приговорен к тюремному заключению за хранение нескольких револьверов и двадцати коробок сигарет.
11 июля 1946 г. ТОКИО
Крупнейшая японская газета «Иомиури» снова стала опытным полем для нашей политики по отношению к рабочему движению. 750 служащих газеты, после того как их водили за нос в течение нескольких недель, сегодня в полдень забастовали.
Мрачной тенью на этой забастовке лежит деятельность майора Даниэла Имбодена, начальника отделения прессы. Несколько дней назад представители Баба, издателя «Иомиури», посетили Имбодена и обсудили с ним предполагавшуюся забастовку. Неизвестно, что сказал им Имбоден, но Баба немедленно вызвал поодиночке своих приближенных, сказал им, что Имбоден поддерживает его, и затем предложил им подписать заявление, выражающее согласие с позицией, занятой им по отношению к профсоюзу. Япон- ский\омитет трудовых отношений, который является одним
307
20*
йз наших лучших достижений в области трудового ЗакОнб- дательства, заявил, что вся эта процедура ему не нравится. Тогда Баба сообщил комитету, что «по мнению американских властей» обычное рабочее законодательство заменяется в данном случае «кодексом печати», разработанным майором Имбоденом.
На всякий случай Баба нанял нескольких «гороцуки» (профессиональных бандитов) и стал ожидать осложнений. Сегодня после обеда мы с Уокером посетили здание «Ио- миури» и увидели «гороцуки», охраняющих двери. Стены с обеих сторон были заклеены плакатами. Мы пытались увидеться с Баба, но его не было. Тогда мы отправились на четвертый этаж, где в крошечной комнатке заседал забастовочный комитет. У самой двери лежал большой соломенный мешок, в котором было 120 фунтов риса — дар забастовщикам. День выдался жаркий, и большинство членов комитета были обнажены до пояса и обливались потом. На председательском месте, угрюмый как всегда, сидел Кикунами, автор передовиц «Асахи», который в настоящее время занят организацией Национального конгресса производственных профсоюзов.
Настроение в маленькой комнате менялось каждую минуту, по мере того как приходили связные с последними известиями. Только что было получено сообщение из типографии, где еще семь человек решили присоединиться к забастовке. На лицах у всех появились улыбки, слышались возгласы: «Хорошо! Хорошо!», и все почувствовали себя увереннее. Но в комнате наступило мрачное молчание, когда было сообщено, что Баба вызвал главных служащих «Иомиури», чтобы обсудить с ними организацию своего собственного профсоюза.
Майор Имбоден крайне занят. Либеральная газета «Минпо» поместила редакционную статью о том, что Баба стремится к захвату власти в профсоюзе газетных работников. Имбоден сделал газете предупреждение, указывая, что ее замечания «односторонни». Эта газета, которая давно уже испытывает нажим со стороны Имбодена, постепенно меняет, свое прогрессивное направление или пользуется уловками, которые дают ей возможность выразить то, что, по ее мнению, должно быть выражено, и все-таки избежать гнева Имбодена.
308
«Джинмин симбун» — социалистическая газета с 250- тысячным тиражом. Один из ее редакторов сказал мне, что Имбоден поставил ей в вину ее «прокоммунистическое направление» и дал ей срок до 13 июля, чтобы изменить свой курс, грозя в противном случае закрыть ее. Было много разговоров о свободе слова и о том, чтобы не подчиняться майору. Но храбрость постепенно стала улетучиваться. Во вчерашнем номере были помещены главным образом безобидные «литературные новости». Отныне газета будет делать вид, что она выходит в аполитичной «стране чудес».
«Хоккайдо симбун», издающаяся на крайнем севере Японии, только что подверглась одной из знаменитых чисток Имбодена. В общей сложности из состава ее редакции было уволено 59 членов профсоюза по обвинению в том, что они являются «коммунистическими аферистами». Союз, разумеется, распался. Мрачный взгляд Имбодена на эту газету противоречит официальному мнению штаба, который меньше месяца назад заявил, что газета «сравнительно консервативна», и отметил содержащиеся в ее передовых статьях резкие нападки на коммунизм. Мои японские друзья говорят мне, что эта газета была одним из лучших провинциальных органов печати в Японии. Они считают, что Имбоден просто добивается уничтожения профсоюзов.
17 июля 1946 г. ТОКИО
Забастовка в «Иомиури» кончилась, и профсоюз потерпел поражение.-
В сущности говоря, борьбы так и не было. Пока служащие «Иомиури» бастовали, другие организации профсоюза газетных работников просто наблюдали за этим зрелищем. Так же поступили и другие профсоюзы. В самой «Иомиури» более половины служащих не приняли участия в забастовке. Все сочувствие к забастовщикам, которое могло быть у них, постепенно таяло с каждым напоминанием со стороны издателя Баба о том, что американский штаб на его стороне.
Баба организовал профсоюз своей компании и вчера отдал его членам приказание изгнать забастовщиков» 309
Маленькая армия, возглавляемая профессиональными бандитами, ворвалась в наборный цех и изгнала оттуда забастовщиков. Другой отряд направился в штаб заговорщиков на четвертом этаже, избил членов профсоюза и изгнал их из здания. Десятки японских полицейских наблюдали за этой сценой, но не вмешивались.
Когда я выходил из здания, несколько печатников догнали меня. Они просили меня передать американскому народу, что только страх заставил их войти в профсоюз Баба, но что сердцем они попрежнему с забастовщиками. Один старый печатник добавил:
«Генерал Макартур не знает, что делает Баба. Пожалуйста, скажите ему. Скажите ему все».
18 июля 1946 г. ИВАКУНИ
Сегодня утром вылетел из Токио на самолете в Хиросиму и Нагасаки, чтобы написать несколько очерков по случаю первой годовщины взрыва атомной бомбы. Первая остановка была на британской базе близ Хиросимы.
19 июля 1946 г. ХИРОСИМА
Рано утром мы поехали в Хиросиму. Это была трудная поездка по ухабистой дороге, неровной, как стиральная доска. Картина разрушений медленно приближалась к нам. В одной деревушке мы заметили первые потрескавшиеся стены, в другой — несколько разрушенных домов. После этого признаки разрушений стали нарастать, пока мы не добрались до местности, где все было сдвинуто с места, где кирпичи обратились в пыль, а опаленная почва имела ржаво-коричневый цвет. Наконец, мы достигли реки и здания на берегу, где 6 августа 1945 г. упала первая атомная бомба. Здание напоминало обсерваторию и частично сохранило свою форму, но его стены были разрушены, крыша и потолки обвалились, а металлические части с приставшими к ним кусками цемента бессильно обвисли. Мост, находящийся поблизости, имел такой вид, как будто мощная рука оттолкнула его в сторону, раскрошив цемент и согнув металл.
310
Мы проехали по мосту к самому большому из уцелевших зданий. Это был восьмиэтажный универмаг, в котором теперь, очевидно, было размещено много различных учреждений. Большая часть фасада скрывалась под двумя огромными плакатами, рекламирующими возвращение к нормальной жизни: это была реклама кинофильмов «Касабланка» и «Бэби на Бродвее». На упитанных «бэби» было минимальное количество одежды, и на этом фоне поврежденных зданий, наряду с бедно одетыми людьми, проходившими под ними, они были похожи на жестокие карикатуры.
Муниципалитет представлял собой большое низкое железобетонное здание, одиноко стоящее среди обширного безлюдного, незастроенного пустыря. Стекла в окнах почти всюду были выбиты. Внутри здания обвалилась вся штукатурка, и даже теперь, через год после взрыва, она все еще хрустела под ногами. Мы искали мэра, но не нашли и наконец решили побеседовать с его заместителем. Он сказал нам, что население города, составлявшее 320 тысяч до того как была сброшена бомба и понизившееся через неделю после этого до пяти или шести тысяч, теперь достигло 170 тысяч. Большинство этих людей жило за городом, и в Хиросиму их влекла сила привычки, воспоминания или надежда.
Японец говорил тихим бесстрастным голосом:
«Мы считаем, что погибло 66 тысяч человек, а пострадало вдвое больше. У нас в городе было 75 тысяч домов. Две трети из них сгорело, большинство остальных зданий обвалилось. Там, на горе Хиджи... — он показал на гору, возвышавшуюся над городом, — ...там, на этой горе
сломались деревья в фут толщиной. Рисовые поля на расстоянии восьми миль отсюда были опалены и погибли. Взрыв выбелил камни и запечатлел на стенах тени предметов. Вон там, на лестнице, стоял человек. Атомные лучи оставили на стене отпечаток его тела, но его самого мы так и не нашли».
Городские власти составили пятилетний план восстановления. Но прошел год, а восстановление сводится главным образом к очистке улиц от обломков. Заместитель мэра жаловался на то, что правительство не сделало почти ничего. Власти префектуры оказались немногим ЗП
лучше. Только после напоминания со стороны английского командования они заглянули на японские военные склады строительных материалов и обнаружили 15 тысяч «домов-полуфабрикатов» (несколько 'досок, несколько рам и чертеж) по 3600 иен (233 доллара) за каждый. Они также выдали каждой семье пособие в размере 1000 иен, то есть сумму, которой при существующих ценах может хватить на сотню яиц. Не все жители Хиросимы могли позволить себе роскошь покупки такого дома. Те, кто не имеет на это средств, разыскивают ржавые листы железа и кирпичи и сами строят себе жилище.
Население Хиросимы плохо питается. Вслед за атомной бомбой на него обрушились другие бедствия — тайфуны и наводнения, которые уничтожили урожай. Продовольствие подвозится в город нерегулярно. Люди чувствуют себя здесь заброшенными и мечтают о щедрости американцев, которая возместит потери, ими же причиненные.
«В прошлом месяце, — сказал заместитель мэра, — мы закончили кампанию по очистке одного из районов города, продолжавшуюся месяц. Мы нашли тысячу трупов. Иногда люди начинают расчищать почву для постройки новых домов и находят убитых или отдельные части человеческих тел».
Мы покинули муниципалитет и снова вышли на улицу, где нас охватил зной и странный неопределенный запах. Мимо нас прошел сильно пострадавший, еще сохранивший черные следы пожара трамвай, на подножках которого висели пассажиры. Электрическая проводка была восстановлена, но поддерживающие ее металлические столбы были искривлены и изогнуты, приняв странные очертания. Некоторые из них напоминали швабры, так как с их верхушек свисали старые оборванные провода. Деревья стояли черные и безжизненные, а трава, пробивавшаяся небольшими участками, имела хилый вид.
Мы направились к госпиталю Красного Креста — сильно поврежденному белому зданию. Дежурный врач сказал нам, что масса «атомных пациентов» уже выписалась и осталось только десять человек. Однако специалисты по пластической хирургии все еще работают сверхурочно, пересаживая здоровую кожу на обожженные до 312
неузнаваемости лица, и десятки людей все еще приходят в госпиталь с жалобами на странную слабость.
«Кто знает, в чем дело? — сказал доктор задумчиво. — Может быть, это воображение. Может быть, недостаток питания. А может быть, результат атомного излучения. Мы так мало знаем».
Он вспомнил утро взрыва. Он сам был ушиблен и оглушен, но когда обожженные и окровавленные люди целым потоком устремились в госпиталь, он пошел в операционную и начал работать среди крови, пыли и извести. Он работал весь день и всю ночь и мечтал о том, чтобы когда-нибудь кончился поток пострадавших, но они все прибывали. Наконец он потерял сознание от усталости, а когда пришел в себя, его уже ждали новые пациенты.
Он сказал нам, что большинство людей пострадало от волны горячего воздуха. Следующей причиной ранений были разбитые стекла, а также обвалы домов и обрывы проводов. Само здание госпиталя наглядно говорило о том, что произошло в тот день. При взрыве бомбы образовались волны раскаленного воздуха, распространявшиеся по всем направлениям. Эти волны были достаточно сильными, чтобы разрушить деревянные постройки и согнуть металлические оконные рамы, как это случилось в госпитале. Все, что могло согнуться, было выгнуто наружу от центра взрыва. Многие из людей, не попавших в тепловую волну, отделались незначительными ранениями. У тех, которые пострадали от нее, были «тени» на коже в тех местах, где между их телом и раскаленной волной оказались пуговицы, оконные рамы или ветки деревьев. В колодцы попал радиоактивный песок, и тысячи людей страдали «атомным поносом», от которого многие умирали.
Мы разговаривали с молодой женщиной, которая в момент взрыва ожидала ребенка. Ее лицо и руки были опалены и имели темнокрасный цвет, а кожа зарубцевалась и сморщилась, образовав розоватые, неровные складки. Но ее ребенок благополучно родился и теперь лежал рядом с ней и смеялся. Защищенный от жара телом своей матери, он имел вполне нормальный вид. Мы сказали женщине, что у нее прелестный ребенок, и она радостно и гордо улыбнулась, как все счастливые матери,
зн
Мы снова вышли на улицу, чтобы поискать там людей, с которыми можно было поговорить, и нашли несколько человек. Кое-где семьи терпеливо расчищали место для фундамента, работая голыми руками или примитивными орудиями. Женщины кормили грудных детей, мыли рис или возились с угольными жаровнями. Какой-то маленький мальчик плакал. Старик поливал крошечный огород на краю большого, засыпанного мусором пустыря.
Мы вернулись к своим виллисам, которые оставили перед зданием муниципалитета, и на этот раз застали около них нескольких ребят. Мы спросили одного из них, пострадал ли он от взрыва. Он ответил, что его не было в городе, но что многие мальчики и девочки из его класса были здесь в момент взрыва и что у них теперь шрамы.
«На них страшно смотреть, — сказал он серьезно.— Мы очень жалеем их».
Мы задали ему неизбежный вопрос:
«А что ты думаешь об американцах?»
Он посмотрел на других мальчишек, на мусор, на нас. Для двенадцатилетнего ребенка он слишком тщательно взвешивал свой ответ.
«Американцы хорошие люди, — сказал он. — Они очень добрые».
15 августа 1946 г, ТОКИО
Сегодня исполнился год с тех пор, как голос императора, записанный на восковую пластинку, сообщил его народу об окончании войны.
В этот исторический для Японии день я напрасно искал признаков самоанализа, раскаяния, проявлений того, что уроки поражения дошли до сознания. Премьер-министр опубликовал декларацию, полную общих фраз. Пресса ограничилась благонамеренными словоизлияниями. Император находился в дворцовом храме, беседуя с духами своих предков.
Но если нет раскаяния, то есть раболепие, которое кажется еще отвратительнее на фоне того самодовольства, с которым принимают его победители.
314
«Ниппон тайме», орган министерства иностранных дел и императорского двора, вышел с сахариново-сладкой передовой статьей, в которой говорилось:
«Даже те, кто наиболее пламенно приветствовал капитуляцию, не могли в то время представить себе, как велики будут благодеяния, которые последуют за ней... Они превосходят самые смелые надежды, которые год назад осмеливались питать только наиболее оптимистически настроенные люди...»
На первой странице была помещена декларация генерала Макартура, восторженно поддерживающая законопроект о земельной реформе, которую американский штаб силой навязал японскому правительству. («Отрадно сознавать, что правительство проявило мужество и решимость...») Верхняя часть страницы была занята большой фотографией генерала, входящего в свой черный кадиллак. Подпись под снимком начиналась словами:
«Генерал Макартур, могучий полководец...»
Сегодня подходящий день для того, чтобы японская пресса начала рассказывать народу подлинную и полную историю войны и поражения. Со времени капитуляции прошел год, но до сих пор рассказана лишь ее небольшая часть.
В начале оккупации отдел генерала Дайка сделал попытку изложить ее в ряде радиопередач и газетных статей. Но американские офицеры, писавшие эти статьи, не знали всех фактов, а что еще хуже, они пытались обелить некоторых из военных преступников, вошедших в правительство. Правда, в «Иомиури» и нескольких других газетах и журналах появились кое-какие интересные материалы о развитии и росте милитаризма в Японии. Вышло три или четыре хорошие книги. Обследователи, собиравшие материал для составления обзора результатов стратегических бомбардировок, извлекли интересные сведения из опроса семи сотен японских чиновников. Кроме того, к нам начинают просачиваться некоторые данные с заседаний суда над военными преступниками.
Однако никому пока не пришло в голову привести в систему эти сведения в назидание как победителям (чтобы они поняли большую часть того, что происходит здесь 315
сегодня), так и побежденным (чтобы они могли предотвратить повторение того, что происходило в прошлом). Возможно, конечно, что читающая публика, как здесь, так и в нашей стране, равнодушна ко всему этому. Тем не менее значительная часть вины ложится также на правителей Японии, которые хорошо хранили свои тайны. В противоположность Германии и Италии, в Японии оказалось немного генералов или политических деятелей, готовых все рассказать ради наживы или спасения своей шкуры. Не сохранилось и архивов, которые могли бы использовать американцы. На протяжении двух недель, прошедших между капитуляцией и прибытием наших войск, японцы предавались настоящей оргии сжигания печатных и рукописных документов.
Вот уже восемь месяцев, как я собираю обрывки материалов, избежавшие уничтожения. Я надеялся, что, когда сопоставлю их, передо мной откроется секретная история японской войны и поражения. Однако эти материалы не дают еще полной картины событий. Они дают возможность бросить лишь беглый взгляд на беспощадную борьбу за войну, мир и сохранение политической власти, длившуюся четыре года под сенью трона.
Представшая передо мной картина выглядит неправдоподобно даже для тех, кто знаком с историей японских интриг. Мне постоянно нужно было напоминать себе о том, что имеющиеся у меня данные совершенно неопровержимы. История интриг и контринтриг, которая развертывалась передо мной, напоминала наиболее захватывающие романы. При всей своей неполноте мои досье содержат данные о четырех больших заговорах, о четырех или пяти покушениях на убийство, о нескольких более мелких интригах и по меньшей мере об одной попытке вооруженного переворота. Иногда эти заговоры сливались или дублировали друг друга, иногда открывались заговоры в самой среде заговорщиков, одной их Труппы против другой, и трудно было провести границу между этими заговорами.
Наиболее замечательной чертой этой секретной истории были разногласия внутри правящей клики Японии. Некоторые из ее членов предвидели поражение и были настроены против ’войны. Другие хотели выйти из игры 316
После первых побед, когда такой выход представлялся безопасным. Третьи колебались и все больше падали духом по мере того как возрастало число поражений. Все заговоры были направлены на заключение мира, и их масштабы увеличивались по мере того, как таяли силы Японии. Только представители армии, за немногим исключением, были полны решимости. Их главным оружием против «мирных заговорщиков» был страх. Каждый из последних знал, что армии ничего не стоит организовать убийство или даже вооруженный переворот; это сознание внушало им робость, и они проглатывали свой язык в такие минуты, когда необходимо было мужественно отстаивать свою позицию.
В этих заговорах стоит отметить и еще кое-что. Все их участники принадлежали к немногочисленному высшему слою японского общества. За исключением тех случаев, когда привлекались подручные, представители японского народа не принимали участия в заговорах и даже не знали о них. Заговорщикам никогда не приходила в голову ни одна либеральная идея. Они были заинтересованы исключительно. в сохранении «статус кво» довоенного времени, который после поражения оказался бы в опасности. Каждая группа заговорщиков по-своему видела спасение Японии в одном и том же: в сохранении абсолютной и феодальной монархии. Они считали, что все остальное может погибнуть, но если император уцелеет после поражения, это будет означать, что со временем структуру старой Японии можно будет восстановить.
Японская правящая клика, в среде которой зародились военные заговоры, состояла из многих элементов.
В тот момент у руля стоял Тодзио со- своей гнусной бандой военных фанатиков, честолюбивых попутчиков и политических авантюристов. Казалось, что Тодзио, в большей степени, чем кто-либо другой в новейшей истории Японии, приблизился к тому, чтобы стать диктатором. Он был одновременно премьером, военным министром, министром внутренних дел и министром военного снабжения, главой тоталитарной «Ассоциации помощи трону», а в течение нескольких месяцев также и начальником генерального штаба. В его власти были армия и полиция, изготовление оружия и воспитание умов..
317
Однако эта картина была только частично верной. Тодзио находился у власти только по милости других правящих групп: крупного капитала, флота, окопавшихся бюрократов и «старейших государственных деятелей». Кроме того, он был связан политическими правилами и условностями, которые вели свое происхождение еще со времен феодализма. Так, например, считалось вполне допустимым организовать убийство своего врага, но дать формальное обещание императору и не сдержать его считалось совершенно непозволительным.
В число «старейших государственных деятелей» входили главным образом отставные премьер-министры или придворные чиновники. В большинстве своем это были старики, и только немногие из них занимали официальные посты. Сила их заключалась в том, что император — символический властитель — полностью находился под их влиянием. Они участвовали в решениях об отставке одного премьера и о назначении другого. Прекрасно владея искусством управления политическими марионетками, они вкладывали нужные им слова в уста императора, пользуясь его именем, инспирировали те или иные мероприятия и таким путем добивались сохранения в Японии угодных им порядков. «Старейшие государственные деятели» не были против войны. Они были против ослабления монархии, а следовательно, и своего собственного положения. Они были в союзе с крупным капиталом, с бюрократией и с «умеренными» элементами из военного флота не из ненависти к милитаризму, а потому что экстремисты из армии имели обыкновение предпринимать авантюры, в которых элемент риска был слишком велик. Это важно запомнить, так как характер событий, о которых дальше пойдет речь, во многом зависел от взаимоотношений между различными кликами правящей группы.
Я убежден, что Япония вступила в войну, предварительно подробно разработав большую часть тактических планов агрессии. Паутина японского шпионажа простиралась от Пирл Харбор до Куйбышева. Марионетки японцев ждали их почти в каждой из стран, которой они мечтали завладеть. Были заготовлены запасы стратегических материалов, которых в среднем должно было хватить на два года войны.
318
Однако наряду с этим вниманием к мелким деталям поражало странное отсутствие основных стратегических целей. Японское военное командование не знало, чего оно хочет и на чем оно намерено остановиться. Война была для него авантюрой, а в уже охваченном войной мире все авантюры представлялись заманчивыми. Армия завязла в Китае и считала, что сможет выйти из этого положения, сделав еще одну крупную ставку в азартной игре истории.
Военщина делала ставку сразу на два номера. Одним из них был Индокитай, связанный крайне непрочными узами с разбитой Францией. Согласно японским показаниям, японские войска, расположенные здесь, были предназначены для удара по Малайе, Бирме и Индонезии. В случае капитуляции Англии все эти страны вместе с Индией попали бы в цепкие руки Японии.
Но в июне 1941 г. Гитлер напал на Россию, и офицеры из токийского генерального штаба армии начали говорить о том, чтобы «не пропустить советский автобус». Огромные подкрепления были направлены в Маньчжурию. Почти все работники японского военного министерства и генерального штаба (любопытная параллель с аналогичным предсказанием генерала Джорджа Маршалла) считали, что Россия продержится не больше трех месяцев. Падение Москвы должно было стать сигналом для наступления на Сибирь. Однако японский военный атташе в Москве начал предостерегать против недооценки способности России к сопротивлению (новая аналогия с нашим собственным опытом, основанным на данных полковника Филипа Файмонвилла). К сентябрю 1941 г., когда немецкое наступление в глубь России отстало от имевшегося у Японии расписания, в Токио начали читать московские сводки с большим вниманием, чем раньше.
«Лозунг «не пропустить советский автобус», пользовавшийся популярностью в генеральном штабе два месяца назад, бесследно исчез, — писал впоследствии один японский генерал. — Вместо него вошел в моду другой: «Кто завоюет Зондские острова, может завоевать весь мир».
Мысль о войне с Россией была временно оставлена, и генеральный штаб посвятил себя подготовке к экспансии 319
йй tor. Военщина так боялась, что намечавшаяся тихоокеанская конференция принца Коноэ и президента Рузвельта может закончиться соглашением, что по ее решению генерал и адмирал, сопровождавшие Коноэ, должны были бы совершить харакири в знак протеста против такого соглашения в случае, если бы последнее было достигнуто.
При разработке своих стратегических планов будущей войны Япония допустила три ошибки. Первая из них заключалась в недооценке японской разведкой американского промышленного потенциала и воли США к победе. Вторая состояла в непонимании возможностей авиации. Последней ошибкой была неспособность предугадать силу нападения американских подводных лодок. Если бы не было никаких других причин, этих трех ошибок оказалось бы достаточно для того, чтобы погубить Японию.
Почти с первого месяца войны началась эпидемия заговоров малого масштаба, направленных на заключение мира или на убийство нежелательных лиц. Все они потерпели неудачу и имели значение только как симптом.
Первый из этих малых заговоров был подготовлен весной 1942 г. принцем Коноэ и принцем Нарухико Хига- сикуни, который до тех пор был известен только как бутафорский военачальник. Заговорщики хотели свалить кабинет Тодзио и сделать мирные предложения Вашингтону. Япония в это время находилась в зените своего успеха и мощи, и оба принца считали, что лучше всего начать переговоры до того как Америка начнет перевооружаться. Сторонников заговора оказалось мало, но даже среди них некоторые принадлежали к буйнопомешанным представителям ультранационалистического движения. Заговор быстро выдохся. Но некоторые намеки на происходившее стали известны Тодзио, и он установил наблюдение за Коноэ.
Столь же безуспешны были и покушения на убийство. Некоторые из них были инспирированы генералом Исиха- ра, который ненавидел Тодзио и считал, что врагом, на которого следует нападать, является Россия, а не Соеди-
320
ненные Штаты. Во главе другого заговора етоял Сейго Накано, пожалуй, наиболее известный из японских фашистов. Накано, который был основателем реакционной политической партии и умел подчинять людей своему влиянию, посетил в свое время Гитлера и Муссолини и надеялся стать фюрером Японии. Когда надежды Накано рухнули, он организовал заговор, ставивший целью убийство Тодзио. Накано был замечен во время посещения резиденции Коноэ и вскоре после этого арестован. Однажды жандармы вывели его из камеры и отвезли домой. Там они ждали, пока он не покончил с собой. Я не знаю, какие они применили средства, для того чтобы убедить его совершить харакири.
Только летом 1943 г. начал принимать определенную форму первый большой заговор военного времени. Это был «морской заговор», который красной нитью проходит через всю секретную историю войны. В смысле решающих действий этот заговор был бесплодным. Однако он имел глубокое влияние на другие заговоры и на весь ход тихоокеанского конфликта.
До вступления Японии в войну флот считал, что он может выдержать два года военных действий. В основу этой оценки были положены различные факторы, но главным из них было горючее. Последним сроком, который морские власти наметили для победы, было 7 декабря 1943 г., и все адмиралы были согласны между собой в том, что если победа не будет достигнута к этому времени, придется побеспокоиться. Однако адмиралы начали беспокоиться за несколько месяцев до наступления этого срока.
Душой «морского заговора» был адмирал Мицумава Ионаи — грузный мужчина, склонный к виски, вожак так называемых «умеренных», которые противились армейским темпам агрессии, находя их слишком стремительными. В сентябре 1943 г. Ионаи вызвал к себе контрадмирала Сокици Такаги из морского штаба и приказал ему подготовить секретный доклад, содержащий анализ всего хода военных действий. Такаги, который был способным исследователем, выполнил свою задачу с исчерпывающей полнотой. За пять месяцев, которые ему понадобились, чтобы закончить обследование, Такаги взвесил все факторы, начиная с морских потерь и морального духа армии
21 м. Гейн 321
и кончая возможностью крупных американских воздушных налетов на Японию.
В феврале 1944 г. Такаги сделал Ионаи устный доклад, в котором заявил, что возможностей для победы нет и что следует стремиться к заключению мира> хотя бы ценой ухода из Китая, Кореи и Формозы.
«Координатором» заговоров был маркиз Кидо, бесприн* ципный придворный с макиавеллиевскими стремлениями, находящийся теперь под судом. Кидо был «хранителем особы императора», и ни один заговор не мог оказаться успешным без его поддержки. Поэтому почти всем заговорщикам пришлось посвящать его в свои планы, хотя лишь немногие из них доверяли ему. Он переходил из одной группы заговорщиков в другую, прислушиваясь, наблюдая, говоря мало, оставаясь неопределенной и зловещей фигурой.
Подобно своему старому покровителю Коноэ, Кидо был националистом, симпатизировавшим военным фанатикам. Ему тоже хотелось бы видеть Японию, простирающуюся от Скалистых гор до Урала. Но этот лысеющий маленький человечек, похожий на сову, был также союзником дзайбацу, другом «старейших государственных деятелей» и подлинным инициатором практической деятельности императора. Для Кидо спасение монарха и всего политического «статус кво» было гораздо важнее, чем военная победа на другом материке. В конце 1943 г. он получил от одного из осведомленных «старейших государственных деятелей» адмирала Кейсуке Окада тайные сведения о том, что победа ускользает из рук Японии. Кидо не стал противником армии. Он не стал им до последнего момента, если верить дневнику, который он не уничтожил. Но он присоединился к «старейшим государственным деятелям» и адмиралам в их поисках выхода.
Как те, кто хотел мира, так и те, кто чувствовал, что война может окончиться поражением из-за бездарности Тодзио, были согласны в том, что Тодзио надо убрать. Но им нужен был повод.
Этот повод дали Соединенные Штаты. В середине июня 1944 г. американские вооруженные силы высадились на острове Сайпан и американские летающие крепости «Б-29» начали бомбардировку южной Японии с китайских 322
баз. Разгром Сайпана явился личным поражением Тодзио. Он только что перебросил на этот остров некоторые ударные части из Маньчжурии, после чего ходил важный и спесивый, как павлин, и говорил:
«Пусть теперь попробуют взять Сайпан!»
Высадка американцев породила новый урожай мелких заговоров. Большинство заговорщиков стремилось к тому, чтобы вернуть с театра военных действий в Японию какого-нибудь «сильного» генерала, который мог бы бросить вызов Тодзио. Типичной для этих интриг была попытка Нобусуке Киси, члена «кухонного кабинета» Тодзио, вывезти из Сингапура дряхлого фельдмаршала, имевшего перед Тодзио преимущество старшинства в строгой военной иерархии.
Но все эти мелкие интриги заслонил собой второй большой заговор, так называемый «заговор Окада».
Этот замысел зародился в предприимчивом уме 77-лет- него адмирала Окада, который всего восемь лет назад был вынужден переодеться в женское кимоно, чтобы спастись от .военных мятежников. Цель Окада заключалась в том, чтобы свалить Тодзио и сформировать новый кабинет, в котором он сам мог бы стать премьером. Происки Окада начались во время секретного бурного совещания правящей клики, созванного для того, чтобы заслушать сообщения с Сайпана. На этом совещании Окада упрекнул Тодзио в том, что последний занимает слишком много важных постов в ущерб интересам страны. Общий смысл ответа Тодзио сводился к тому, чтобы Окада убирался к чорту.
Однако 23 июня 1944 г. в Токио были получены новые неблагоприятные известия. На этот раз речь шла о поражении японского объединенного флота. Чувствуя себя гораздо менее уверенным, чем раньше, Тодзио решился на блеф. Он явился к Кидо и заявил, что готов подать в отставку, «если имеется в виду подающий надежды заместитель». Кидо дал ему уклончивый ответ. Тогда Тодзио начал играть на струнке страха, который, как он знал, был важнейшим стимулом в жизни этих людей. Он распустил слух о том, что готов организовать военный переворот, если его заставят уйти силой.
21*
323
В то же время Тодзио установил надзор за адмиралом Окада. Старый адмирал почувствовал, что он должен действовать, пока не поздно. Ему удалось послать секрет» ные письма адмиралам Ионаи и Нобумаса Суэцугу. В этих письмах он предлагал Ионаи портфель морского министра, в то время как старый подстрекатель Суэцугу должен был стать начальником морского штаба. Оба приняли предложение. Таким образом, в случае успеха заговора, кабинет состоял бы из одних адмиралов.
Затем Окада посвятил в свои планы барона Киициро Хиранума, бывшего премьера и одного из наиболее влиятельных «старейших государственных деятелей». Это была, вероятно, драматическая встреча, так как в свое время обоих преследовали убийцы из рядов армии, и они хорошо знали, с каким риском связана их беседа. Они решили, что целесообразнее всего побудить всех «старейших государственных деятелей» подписать меморандум на имя императора, требующий отставки Тодзио. Несколько позднее принц Коноэ присоединился к их беседам. Он дал свое согласие на их план.
Кидо отказался присоединиться к заговору.
«Являясь лордом-хранителем государственной печати, я обязан оставаться в стороне от всего этого, — сказал он. — Во всяком случае, я опасаюсь, что если все это осуществится, Тодзио устроит переворот».
Интрига продолжалась уже три недели, а дела заговорщиков не двигались. Им помогла ошибка, которую сделал Тодзио. Он посетил Кидо и сообщил ему, что решил реорганизовать свой кабинет, включив в него двух адмиралов, в том числе Ионаи.
По настоянию Тодзио, Кидо доложил императору о готовящихся переменах. Тодзио считал, что после завершения всех этих перемен флот будет удовлетворен его благосклонностью, и он сумеет сломить «заговор Окада».
Но Тодзио не учел хитрости людей, стоявших за троном. Заговорщики тайно встречались с Кидо и обнаружили роковую ошибку в планах Тодзио. Последний уверил императора, что Ионаи войдет в обновленный кабинет. А что, если Ионаи откажется сделать это? Разве это не было бы явным нарушением обещания, данного Тодзио императору?
324
Было созвано еще одно тайное совещание. Адмирал Ионаи, вдохновитель первого «морского заговора», присутствовал на нем. Авторы второго заговора, или «заговора Окада», изложили ему обстоятельства дела. Он заверил их в том, что пойдет за ними.
Когда известие о решении адмирала Ионаи дошло до Тодзио, он счел положение безвыходным и стал своего рода жертвой феодальной условности. Дав обещание императору, он не мог его сдержать. Теперь ему оставалось только спустить с цепи своих молодых убийц или подать в отставку.
16 июля 1944 г. Тодзио вызвал своих министров и просил, чтобы они подали в отставку. Но шпионы Тодзио уже сообщили ему об интриге его доброго приятеля Киси, который решил привезти из Сингапура его соперника, фельдмаршала, и сознание этого предательства тяжело поразило его. Когда заседание кончилось, Тодзио повернулся к Киси и сказал с горечью:
«Предатели! Ты и Кидо!»
В эту ночь Тодзио собрал свои бумаги и переехал из резиденции премьера в особняк, отведенный для военного министра. На следующее утро японскому народу было официально сообщено, что человек, который три года властвовал над его жизнью, сошел со сцены.
Теперь адмирал Окада был в полной уверенности, что он станет новым премьером и сумеет довести второй смирный заговор» до счастливого конца. Однако ему пришлось горько разочароваться. Когда «старейшие государственные деятели» встретились с Кидо для назначения преемника Тодзио, Кидо отверг кандидатуру как Окада, так и любого другого адмирала.
«Если мы выберем адмирала, — сказал он, — армия воспримет это как оскорбление. Она подымет вооруженное восстание, а тогда все погибло. Единственное, что мы можем сделать — это выбрать другого генерала».
Адмиралы и «старейшие государственные деятели» тщетно спорили с ним. Кидо был тверд, как гранит — так же тверд, как три года назад, когда он силой провел Тодзио в премьеры. Выбор пал теперь на соперника Тодзио, генерала Куниаки Койсо, известного под прозвищами «тигра Кореи» и «японского чемпиона лысых», «Мирные
- 325
заговорщики» не были довольны, но они были слишком неуверены в себе, чтобы рисковать, зная, что военные фанатики могут организивать массовые убийства.
Император, соответствующим образом подготовленный Кидо, дал новому премьеру инструкции «пересмотреть положение» с целью прекращения войны. Несообразительный Койсо, долгое время специализировавшийся на сухопутной агрессии, не понял его. Он немедленно выпустил воззвание, призывая народ отдать все свои силы для достижения победы.
Одним из первых действий Койсо было назначение адмирала Ионаи, одного из «мирных заговорщиков», на пост морского министра и заместителя премьера. Следующий шаг состоял в учреждении Верховного совета ведения войны. Этот совет, состоявший из шести постоянных членов — премьер-министра, министра иностранных дел, военного и морского министров и начальников военного и морского штабов — действительно стал «внутренним военным кабинетом», имевшим непосредственный доступ к императору. «Миротворцы» во главе с Ионаи и «сторонники войны до конца» — во главе с Тодзио — в первый раз встретились лицом к лицу за столом совещания.
Однако интрига продолжалась. Адмирал Ионаи снова взял в свои руки нити «морского заговора». Он вызвал контрадмирала Такаги и приказал ему возобновить свое тайное обследование. Такаги впоследствии сообщил допрашивавшим его американцам, что в круг его обследования входили следующие вопросы: 1) обеспечение согла*- сия армии на окончание войны; 2) возможные мирные условия союзников; 3) общественное мнение и дух народа в случае, если бы правительство стало просить мира; 4) возможности воздействия на императора для достижения мира через него.
Адмиралы-заговорщики начали проводить «разъяснительную кампанию». Они стали устраивать совещания о военном положении Японии для таких людей, как маркиз Кидо, принц Коноэ, адмирал Окада, Мацудайра, бывший посол в Лондоне, который теперь был министром императорского двора, и барон Хиранума. Начальнику и заместителю начальника морского генерального штаба было осторожно доложено о заговоре. Ни тот, ни другой .ничего не предприняли, чтобы пресечь деятельность 326
заговорщиков. Была даже сделана попытка привлечь на свою сторону армию. Некоторых представителей военщины удалось убедить, что война проиграна и что необходимо добиваться мира. Однако когда эти офицеры пытались убедить нового военного министра, он возмутился. Страх и дисциплина положили конец разногласиям в армии.
Таким образом «мирные заговорщики» прямо противостояли теперь армии, и никто из них не решался предпринять что-либо, опасаясь ареста, убийства или даже вооруженного восстания. Единственная надежда заключалась, повидимому, в том, чтобы использовать авторитет императорской власти. В том случае, если бы все остальные меры оказались бессильными, императорский приказ о прекращении войны мог бы остановить военных фанатиков.
В поисках выхода адмирал Окада начал вести беседы с Кидо. Кидо, в свою очередь, совещался с императором. Заговор был на пороге новой фазы.
Тем временем вооруженные силы Соединенных Штатов продолжали наносить удары по внешней линии обороны Японии. Гуам был взят ими в июле 1944 г. Японские пути к сырью, находящемуся на юге, оказались под ударами американских самолетов и подводных лодок. Японским войскам нехватало продовольствия и боеприпасов. Японская авиация превратилась в тень того, чем она была когда-то, и в ней не осталось хороших пилотов. Горючего как для судов, так и для самолетов было катастрофически мало. Согласно позднейшим показаниям японских офицеров, положение было настолько тяжелым, что на всем протяжении широкого южного фронта сотни самолетов не могли подняться в воздух из-за недостатка горючего.
Вашингтон решил, что настало время сделать еще один крупный прыжок, чтобы приблизиться к Японии. Начальники объединенных штабов отдали приказ о высадке на острове Лейте 20 октября 1944 г.
Готовящаяся американская операция едва ли была секретом для японского генерального штаба. В течение шести дней в начале сентября американская флотилия особого назначения № 38 блуждала в филиппинских водах, явно подготовляя высадку. Потеря Филиппин была бы катастрофой для японской военной машины, которая 327
весьма зависела от нефти, каучука и металлических руд Юго-Восточной Азии. Японским адмиралам пришлось принять роковое решение. Один из адмиралов генерального штаба впоследствии объяснял американским властям, в чем оно состояло:
«К тому времени когда вы начали высаживаться на Лейте, мы полностью отдавали себе отчет, что не сможем сохранить боевой флот в японских водах, если будут продолжаться бомбардировки. Поэтому мы решили бросить весь наш флот в бои у Лейте... сознавая, что мы потеряем там большую часть судов. Однако если бы мы смогли предотвратить завоевание Филиппин, эта жертва была бы оправдана».
Хотя этот японский маневр был подсказан отчаянием, он был хитро задуман и оказался столь близким к успеху, что при воспоминании о нем у многих американских адмиралов, вероятно, до сих пор пробегают по спине мурашки. Битва у Лейте подробно описана в американских документах. Вот ее ход в общих чертах.
Японцы разделили свой флот на три группы. Одна из них подходила с юга, другая находилась в центре, а третья, действовавшая в качестве «приманки», шла из открытого моря на север. «Приманка» действовала хорошо, и флотилия № 38 устремилась на север, оставив без защиты побережье и небо Лейте. Тем временем центральная японская флотилия, проскользнувшая через пролив Сан-Бернардино незамеченной, подошла к нашей 7-й эскадре на расстояние семнадцати миль и начала атаку. 7-я эскадра только что поймала в ловушку южную японскую флотилию в узком проливе Суригао и почти полностью уничтожила ее. Однако в результате этого боя у эскадры истощились запасы топлива и боеприпасов, и она была не в состоянии принять новый вызов. Наши эскортирующие авианосцы, защищенные только немногочисленными истребителями, гибли под огнем японских орудий. Ввиду недостатка бомб и торпед американские самолеты пытались предпринять демонстративные налеты на японскую флотилию в надежде «запугать одним своим видом» и отогнать ее. Три американских истребителя погибли при близкой к самоубийству попытке затопить крупнейшие японские корабли. Наши затруднения еще больше осложнились, когда появилось множество японских
328
самолетов, готовых к «самоубийственным» налетам на американские суда. Это был первый массированный налет летчиков «камикадзе».
В ту ночь многим американцам казалось, что близок конец. Два наших эскортирующих авианосца были потоплены, а остальные повреждены. Наши истребители были или потоплены или отогнаны. Теперь не оставалось больше никакой преграды между японской флотилией и нашими беспомощными транспортами с войсками у берегов Лейте.
И вдруг 25 октября 1944 г. в 9.24 утра произошел один из тех странных поворотов судьбы, которые не поддаются никаким объяснениям. И уже когда победа была у него в руках, командующий японской центральной флотилией вдруг отдал приказ об отступлении. В этот момент Япония безвозвратно проиграла войну. Правда, в течение ближайших четырех или пяти дней «камикадзе» продолжали быть кошмаром для нашего флота. Но они не смогли уже спасти положение.
Поражение у Лейте стоило Японии большей части ее морских сил. Оно неизбежно дало новый толчок развитию «мирного заговора» в Токио. В течение всего декабря 1944 г. адмиралы, придворные и старейшие государственные деятели встречались на секретных совещаниях. Что было еще важнее, Кидо убедил императора выслушать заговорщиков.
В феврале 1945 г. заговорщики стали один за другим появляться во дворце и излагать свои взгляды. Они заявляли императору, что поражение близко и что Япония должна немедленно добиваться заключения мира.
Теперь занавес уже был готов подняться над третьим заговором — «заговором Коноэ».
Еще 24 ноября 1944 г. с Сайпана была предпринята первая атака летающих крепостей «Б-29». Это был дневной налет, проведенный на большой высоте и направленный против авиационных заводов в Токио. Но в то время наши резервы самолетов типа «Б-29» были еще невелики и в течение нескольких месяцев налеты можно было проводить только один раз в пять дней.
Поворотный момент наступил 9 марта 1945 г. В эту ночь триста самолетов «Б-29», груженных большим ко329
личеством «огненной начинки», были направлены на Токио. У них не было ни вооружения, ни боеприпасов, и они летели очень низко.
«Огненная буря охватила целые районы,—сообщало, на следующий день токийское радио. — Только кое-где устояли почерневшие стены немногих каменных зданий. После того как упали первые зажигательные бомбы, образовались тучи, освещенные снизу красноватым светом. Из них вынырнули «сверхкрепости», летевшие поразительно низко... Город был освещен, как на рассвете... В эту ночь мы думали, что весь Токио превращен в пепел».
По японским данным, в эту ночь погибло 78 тысяч человек, было сожжено 270 тысяч зданий и 1500 тысяч людей остались без крова. Были уничтожены важные военные заводы и склады. По словам одного официального лица, «налет привел к тому, что моральный дух народа упал чрезвычайно низко».
Тем временем против Японии готовился новый удар. Он был нанесен 1 апреля, когда был высажен десант на острове Окинава. Японцы встретили его яростным контрнаступлением самолетов «камикадзе». Хотя в Соединенных Штатах народу ничего не было известно об этом, неприятельские атаки были столь эффективны и наши морские потери были так велики, что в течение нескольких дней американский флот был на краю отступления из вод Окинава; тем самым наши наземные войска были бы оставлены на островах без защиты с моря. Но упорные налеты на японские аэродромы и наше превосходство в резервах дали нам возможность выдержать.
Японский флот был снова поставлен перед дилеммой. Решение, которое он принял, было подсказано отчаянием. Вот что говорит об этом адмирал Соэму Тойода, бывший главнокомандующий флотбм:
«Положение флота крайне обострилось в начале 1945 г.. ... Проведение операций крупного масштаба, т[е- бующих больших запасов горючего, почти исключено. В дни, 7—8 апреля, когда крейсер «Ямато» был послан к острову Окинава в сопровождении десятка или более миноносцев, мы сомневались в том, есть ли у него пятьдесят шансов из ста. Даже при подготовке этой эскадры нам было трудно достать-необходимые для нее 2500 тонн горючего. Но мы 330
сознавали, что даже если у этой эскадры нет больших шансов, мы ничего не выиграем от того, что эти суда будут праздно стоять в наших отечественных водах...»
Корабли гибли, города превращались в дымящийся пепел; народ впервые начал понимать, что война проиграна; Германия погибла, — такова была обстановка, когда возник новый заговор.
На этот раз главным заговорщиком был принц Коноэ, а большинство его сообщников были сравнительно незначительными фигурами. Голова Коноэ, никогда не отличавшаяся большой ясностью при решении важных вопросов, теперь явно пошла кругом. Он всегда был близок к армейским кругам, в том числе и к самым буйнопомешанным их представителям. Его собственная политическая философия была в значительной степени обусловлена тесным общением с этими фанатиками. Но теперь он также был убежден в приближении катастрофы и опасался ее последствий для всей общественно-политической структуры Японии.
В течение некоторого времени Коноэ, повидимому, вынашивал мысль о том, чтобы побудить дружественных ему ультранационалистов организовать убийство военных руководителей, противящихся заключению мира. Затем он отказался от этого проекта в пользу более хитроумного замысла. Он решил натравить друг на друга две крайние военные группировки. Его выбор пал на генерала Джинд- забуро Мадзаки, одну из крупных фигур среди слабоумных руководителей националистического движения в Японии в тридцатых годах. Мадзаки был одним из вожаков военного восстания 1936 г. и был тогда арестован. Теперь он был в отставке и затаил жгучую ненависть к своим сопер никам, стоявшим у власти в армии.
Замысел Коноэ был прост. Он решил добиться, чтобы император назначил его премьером, после чего он, в свою очередь, намеревался сделать Мадзаки военным министром. Иосида, сторонник Коноэ, должен был стать министром иностранных дел.
Коноэ начал работать над петицией императору. Он долго трудился над ней при помощи двух друзей. Я кое- что узнал о заговоре от одного из них, жалкого старика, мечтавшего сыграть роль в истории и с отчаянием старавшегося понять, почему он остался за бортом.
331
Ночь на 13 февраля 1945 г. Коноэ провел вместе с Иосида, обдумывая последние подробности заговора и заканчивая петицию на имя императора. На следующий день Коноэ был принят императором в первый раз за три года. Император отнесся к нему сочувственно. Коноэ начал с заявления, что поражение неминуемо, и просил прощения за то, что ему не удалось предотвратить войну.
Затем он перешел к своему заявлению, которое можно назвать смесью дикой фантазии с политической проницательностью. Намерение Коноэ заключалось в том, чтобы напугать императора, но вполне возможно, что он сам верил во многое из того, что говорил.
«Поражение будет темным пятном на нашей истории,— говорил он. — Однако мы можем примириться с поражением, если нам удастся сохранить императорский строй. Общественное мнение в Америке и Великобритании пока еще не требует радикальных перемен в этом строе. Поэтому нам следует опасаться не столько поражения, сколько коммунистической революции, которая могла бы явиться его последствием. Как внешние, так и внутренние условия указывают на опасность такой революции. Прежде всего, значительно усиливается влияние Советского Союза, его активность в Европе заставляет нас предположить, что он не отказался от надежды большевизировать весь мир...
Внутри страны потенциально опасными являются следующие факторы: быстрое ухудшение условий жизни, рост рабочего движения, усиление просоветских настроений по мере роста враждебных чувств по отношению к Америке; попытки крайних группировок в армии добиться радикальных перемен в курсе внутренней политики и замаскированная активность коммунистов за спиной как государственных чиновников, так и военных.
Большинство молодых офицеров, повидимому, думает, что настоящая форма правления совместима с коммунизмом...
Я начинаю серьезно задумываться над вопросом, не была ли вся цепь событий — от маньчжурского инцидента [1931 г.] до настоящей войны — частью заранее обдуманного коммунистами плана. Всем известны их открытые заявления о том, что цель войны в Маньчжурии заключается в осуществлении коренных реформ во внутренних делах... Конечно, «реформы», к которым стремятся военные,
332
не являются непременно коммунистической революцией, но государственные и общественные деятели (как левые, так и правые), поддерживающие военных, определенно намереваются добиться такой революции.
За последние несколько месяцев лозунг «Сто миллионов умрут вместе» стал раздаваться значительно громче. Им как будто пользуются люди правых убеждений, но порожден он, несомненно, деятельностью коммунистов.
При таких условиях опасность революции будет тем больше, чем дольше мы будем продолжать войну. Поэтому мы должны прекратить войну при первой возможности».
Услышав о том, что его трон находится в опасности, император в первый раз проявил живой интерес к делу. Он потребовал объяснить ему, каким же путем можно разбить заговор генералов, якобы оказавшихся коммунистами.
Коноэ ответил:
«В армии должна быть проведена чистка. Ваше величество должны сами выбрать человека, который ее проведет. Но очевидно, что для выполнения этой задачи нужен человек с сильной волей. Такой, как генерал Мадзаки. Его обвиняли в причастности к военному мятежу’ 1936 г. Проведенное мною расследование показывает, что Мадзаки был жертвой военного заговора».
Коноэ не излагал дальнейших деталей своего замысла. Он надеялся на последующие беседы с императором, который, повидимому, относился к нему благосклонно. Кроме того, при разговоре присутствовало третье лицо. За троном императора стоял маркиз Кидо. Коноэ уже не верил своему старому другу. Он надеялся найти возможность побеседовать с императором без Кидо.
Недоверие Коноэ к Кидо не было лишено оснований. 8 апреля 1945 г., когда войска США уже овладели укрепленными позициями на берегах островов Окинава, премьер-министра Койсо заставили подать в отставку.
Коноэ ожидал теперь, что его вызовут во дворец. Но вызова не последовало. Кидо, адмирал Окада и барон Хи- ранума обратились к другому человеку, 78-летнему барону Кантаро Судзуки, отставному адмиралу, старому придворному и составителю кабинетов, являвшемуся ловким политиканом. Судзуки колебался. Трое посетителей рассказали ему, понизив для приличия голос, о замысле Коноэ провести чистку в армии.
333
«Если вы откажетесь от этого поста, его получит Коноэ, убеждали они его. — Он проведет в кабинет Мад- заки, который осуществит чистку. Это неизбежно вызовет кровавый инцидент, результаты которого никто не может предугадать».
Судзуки согласился и выслушал категорические приказания императора «приложить все усилия к тому, чтобы как можно скорее прекратить войну». Но вместе с тем Судзуки никогда не забывал о патриотически настроенных убийцах. Втайне стремясь к капитуляции, он на словах призывал к удвоению военных усилий. Или он, или Кидо, или оба вместе на деле зашли даже дальше своих слов: они сообщили армии о «третьем заговоре».
Через неделю военщина нанесла первый удар. Она еще не осмелилась захватить Коноэ. Однако она арестовала Иосида и тех двух людей, которые помогали Коноэ в составлении его доклада. Вопросы, которые были заданы Иосида и остальным, указывают на то, что военщина знала решительно все, что говорилось во время беседы, на которой присутствовали только император, Коноэ и Кидо.
Троим арестованным было разрешено покинуть штаб жандармерии 30 мая 1945 г. Представитель военного суда сказал им при освобождении:
«Военное министерство настроено, против того, чтобы вам возвращали свободу. Я освобождаю вас своей собственной властью. Если вы будете преданы суду, вас сочтут виновными».
Меньше чем через шесть месяцев после этого Иосида стал министром иностранных дел, и меньше чем через год — премьером Японии. Коноэ умер.
Пока Коноэ занимался «третьим заговором», вокруг него бурно разгорались другие интриги меньшего масштаба. Принц Хигасикуни, который когда-то требовал казни всех американских летчиков, сбитых над японской территорией, теперь хотел, чтобы Япония вышла из войны, и как можно скорее. Его план заключался в том, чтобы обратиться за мирным посредничеством к Китаю. Если бы союзные державы согласились забыть прошлые счеты, принц был готов пойти на то, чтобы Япония вернулась в свои старые границы, существовавшие до агрессии, тс есть до 1931 г. Кабинет обсудил его план в марте 1945 г.,
334
но, повидимому, ничего не предпринял по этому поводу. Другой план, обсуждавшийся со шведским посланником в Токио, заключался в том, чтобы просить посредничества Швеции в вопросе об окончании войны.
Однако четвертый заговор — «заговор капитуляции»— затмил все эти интриги. Он был задуман новым премьер- министром бароном Судзуки, который приказал своему главному секретарю провести секретное обследование, в какой мере Япония способна к дальнейшему сопротивлению. Обследование было закончено в мае 1945 г., и его данные явно говорили об отчаянном положении страны.
Данные обследования показали, что две основные отрасли промышленности Японии — судостроение и сталеплавильная промышленность — давали лишь четверть той продукции, которую они давали в 1941 г. Запасы угля и минерального сырья были так незначительны, что многим заводам, в том числе и военным, грозило закрытие. Ввиду прекращения импорта ухудшилось положение с продовольствием. Производство самолетов упало с 2200 до 1600, причем запасных частей, моторов, горючего и пилотов было так мало, что их бессмысленно было учитывать.
Доклад был представлен императору и членам Верховного совета ведения войны. Германия только что капитулировала, и к этому времени даже армия знала, что Япония долго не продержится. Военный министр, который был непримиримым противником капитуляции, просил созвать императорскую конференцию для обсуждения «основного принципа войны».
В то же время, в обстановке большой тайны, началась международная фаза «заговора капитуляции». Одному из «старейших государственных деятелей» было поручено начать переговоры с советским послом в Токио Яковом Маликом относительно посредничества Москвы в вопросе об отношениях Японии и Соединенных Штатов. Пока происходили эти переговоры, японский посол в Москве получил приказание подготовить почву к приезду специального японского представителя, который должен был «улучшить отношения с Россией» и просить о советском посредничестве в вопросе о прекращении войны. Только четверо из высших чинов армии и флота знали о переговорах с русскими, так как существовало опасение, что фанатичная военщина устроит переворот, если факты станут ей известны.
335
Страх перед убийствами был так велик, что даже на заседаниях Верховного совета ведения войны, где было два военных представителя, никто не осмеливался говорить о капитуляции.
«Никто не говорил о том, что мы должны просить мира, — рассказывает один из участников. — В присутствии многих каждому трудно было решиться высказать такую мысль».
Императорская конференция, на созыве которой настаивал военный министр, состоялась 8 июня 1945 г., но и на ней никто — не исключая даже императора — не высказал своих сокровенных мыслей. Двенадцать дней спустя император созвал тех же шесть человек на вторую конференцию и на этот раз робко просил их обдумать два альтернативных плана — план капитуляции и план обороны Японии. Однако даже эта неопределенная формулировка имела важное значение. Вернувшись с этой конференции, премьер-министр Судзуки сказал своему секретарю: «Сегодня император высказал то, что каждый из нас хотел, но боялся сказать».
Во время заседания император спросил Судзуки, когда предполагает выехать в Москву специальный представитель. Судзуки не знал этого. Он ответил, что постарается отправить представителя раньше, чем Сталин и Молотов выедут на Потсдамскую конференцию.
Однако советское посредничество задерживалось. Советский посол в Токио Малик был болен. Японскому послу в Москве снова было отдано распоряжение начать переговоры с Кремлем.
Проходили дни и недели, а страшная статистика налетов росла. В середине июня американская авиация считала, что все большие города Японии разрушены, и перешла к налетам на города второстепенного значения. Размеры воздушных отрядов также росли — от 300 до 500 и 800 «сверхкрепостей», которые сбрасывали за один раз 4—5 тысяч бомб. Увеличение веса взрывчатых веществ находило свое отражение в усилении политического нажима на императорский двор и на тех, от кого зависело заключение мира.
Для командировки в Москву уже был намечен принц Коноэ. Нисколько не смущенный неудачей своего собственного третьего заговора, он стал теперь участником чет336
вертого. 12 июля 1945 г. император пригласил Коноэ во дворец и дал ему секретный приказ принять любые условия, предложенные русскими, и немедленно сообщить их ему. Хирохито, очевидно, находился под впечатлением сообщения японского посла в Москве о том, что русские не будут передавать союзникам никаких других условий, кроме безоговорочной капитуляции.
Однако все старания оказались напрасными. На следующий день советское правительство сообщило японскому послу, что, ввиду предстоящего отъезда Сталина и Молотова на Потсдамскую конференцию, ответ на японские предложения может быть дан только после их возвращения. «Мирные заговорщики», возлагавшие большие надежды на советское посредничество, почувствовали, что все безвозвратно погибло.
Потсдамская декларация была опубликована 26 июля 1945 г. В ней были перечислены следующие окончательные требования союзников:
а) Безоговорочная капитуляция и устранение «навсегда» от власти и влияния «тех, кто обманул и ввел в заблуждение народ Японии, заставив его итти по пути завоевания мирового господства».
б) Военная оккупация Японии и разоружение всех японских вооруженных сил.
в) Лишение Японии всей ее территориальной добычи, включая Маньчжурию, Корею и Формозу [Тайван].
г) Суровое наказание всех военных преступников и провозглашение всех человеческих свобод, включая свободу мысли, религии и слова.
д) Уничтожение военной промышленности с обещанием, что в будущем Японии будет предоставлен доступ к мировым запасам сырья и к участию в мировой торговле.
е) Отвод всех союзных войск тотчас же после создания «мирно настроенного и ответственного правительства» в соответствии со свободно выраженной волей японского народа.
Верховный совет ведения войны тотчас же собрался и немедленно раскололся на два непримиримых лагеря. Три «миротворца»—премьер-министр Судзуки, морской министр Ионаи и министр иностранных дел Того — настаивали на немедленном принятии условий союзников. 22 м. Гейн
337
Военный министр и оба начальника штабов, готовые согла ситься на прекращение войны, тем не менее противились некоторым условиям Потсдамской декларации. Япония была сражена, но трагический торг все еще продолжался.'
Представители армии мрачно говорили о своей решимости стоять насмерть на японском побережье, и некоторые из них даже предсказывали, что высадка может обойтись американцам так дорого, что они предпочтут смягчить некоторые из мирных условий. У Японии еще имелось 2800 исправных самолетов, которые предполагалось бросить против наступающего американского «флота вторжения», разделив их на группы «камикадзе» для налетов, повторяющихся каждый час. В бухтах близ Токио были спрятаны флотилии маленьких двухместных подводных лодок того типа, которые в 1941 г. проникли в Пирл Харбор. Для «самоубийственных» одиночных нападений на транспортные суда проводилась подготовка специальных пловцов.
Но время истекало даже для «самоубийственных» способов обороны. Утром 6 августа американский бомбардировщик пролетел над городом Хиросимой и сбросил одну- единственную бомбу.
Сообщение было прервано, и в Токио не могли понять, что случилось в Хиросиме. Многие думали, что произошел новый налет крупного масштаба. Однако состояние неизвестности было недолгим. Президент Трумэн объявил, что город Хиросима уничтожен атомной бомбой, и специальная комиссия японских ученых, спешно отправленная в город, подтвердила это заявление. На следующее утро премьер- министр Судзуки и министр иностранных дел Того отправились во дворец и сказали императору, что с принятием Потсдамских условий больше медлить нельзя.
Однако готовились новые тяжкие удары.
8 августа 1945 г. Россия объявила Японии войну и советские войска вступили в Маньчжурию. Как ни странно, японское правительство оказалось неподготовленным к этому сообщению. Впоследствии Судзуки заявил американским следователям, что он в то время не знал, как действовать. У него было три альтернативы: сложить с себя полномочия премьер-министра, объявить войну России или принять Потсдамские условия.
Но полная мера испытаний Японии еще не была исчерпана. 9 августа вторая атомная бомба была сброшена на
338
Нагасаки и уничтожила половину города. Один американский летчик, сбитый вскоре после этого, уверил японцев, что третья бомба будет сброшена на Токио в течение ближайших дней. Заговорщики теперь пытались обогнать время. Затяжка капитуляции означала гибель столицы, правительства и, может быть, императора. Судзуки бросился во дворец для «аудиенции отчаяния» с монархом. Существовало только одно возможное решение: принятие условий союзников.
Во дворце было созвано срочное заседание шестерых членов военного совета. Однако после двух часов ожесточенных споров «миротворцы» и сторонники войны оставались попрежнему непримиримыми. Первые настаивали на капитуляции при единственном условии — чтобы юридическое положение императора не подверглось никаким изменениям. Их противники были готовы на капитуляцию, но только на следующих условиях:
а) чтобы Япония не была оккупирована союзными войсками;
б) чтобы Япония сама провела разоружение и демсби- лизацию своих войск и наказание своих военных преступников;
в) чтобы монархический строй остался в неприкоспоген- ности и чтобы не было допущено никаких организован ых союзниками плебисцитов по вопросу о форме прагле- ния.
Заседание закрылось, и начался день, полный лихорадочной деятельности. Однако около полуночи того же дня шесть членов совета вернулись во дворец, где их разногласия были разрешены императором. Заседание началось с зачтения Потсдамских условий. Затем взял слово министр иностранных дел Того, настаивая на их^ немедленном и безоговорочном принятии.
К трем часам утра 10 августа 1945 г. выход из тупика еще не был найден. Затем произошел следующий исторический разговор:
Премьер-министр Судзуки (вставая): Мы долго обсуждали этот вопрос и не пришли ни к какому заключению. Положение требует принятия экстренных мер и нельзя допускать никаких задержек в принятии решения. Поэтому я предлагаю просить его императорское величество высказать свои собственные взгляды. Его желания разрешат наш
22*
339
спор, й правительство должно будет повиноваться йм.
Император: Я согласен с мнением, высказанным министром иностранных дел... Мои предки и я всегда стремились выдвигать на первый план заботу о благе народа и о мире во всем мире. Дальнейшее продолжение войны было бы продолжением жестокостей и кровопролития во всем мире и тяжких страданий для японского народа. Следовательно, прекращение войны является единственным средством спасти народ от гибели и восстановить мир во всем мире. Оглядываясь на то, что было сделано до сих пор нашими военными властями, мы не можем не заметить, что их действия далеко отстали от составленных ими планов. Я не думаю, что это несоответствие может быть устранено в будущем.
Судзуки: Император высказал свое решение. Это должно означать конец настоящего совещания.
Но «миротворцы» скоро убедились, что даже вмешательство императора, так ловко подготовленное его советником Кидо, оказалось недостаточным.
Тотчас же после того как члены военного совета покинули императора, было созвано пленарное заседание кабинета. Министры заслушали доклад Судзуки о том, что произошло во дворце, и единогласно одобрили резолюцию принятия Потсдамских условий с единственной оговоркой: положение императора должно остаться без изменений. В семь часов утра 10 августа эта резолюция была вручена представителю Швейцарии для передачи в Вашингтон.
Американский ответ — твердый и ни к чему не обязывающий — был передан по радио из Сан-Франциско рано утром 12 августа, а официальный ответ прибыл днем позднее.
Во второй половине дня 13 августа военный совет и кабинет собрались снова для изучения американского ответа, и тотчас же обнаружился раскол. Тринадцать министров голосовали за его принятие, трое были против. Заседание зашло втупик и было отложено.
Один из трех сторонников «борьбы до конца» дал впоследствии следующие показания:
«По вопросу о положении императора американский ответ указывал, что император и японское правительство будут осуществлять свою власть под контролем верхов340
ного командования союзников. Положение императора было главным пунктом переговоров, так как японский народ был убежден, что император — земное божество, выше которого не может стоять ни одно человеческое существо. Выражалось опасение, что японский народ не захочет при-, нять формулировку ответа, в которой император ставился в зависимое положение. Поэтому было предложено запросить союзные правительства, не найдут ли они возможным, чтобы приказания верховного командования направлялись непосредственно японскому правительству и чтобы кабинет передавал эти приказания императору... который осуществлял бы мероприятия, связанные с окончанием войны».
В эту ночь начальники морского и военного штабов снова подтвердили свое несогласие на безоговорочную капитуляцию. Они провели всю ночь с министром иностранных дел Того, требуя, чтобы он просил союзников дать «более точный» ответ по вопросу о положении императора. Того отказался это сделать.
Старому премьеру казалось, что весь мир рушится. Рано утром 14 августа Судзуки приехал во дворец и умолял императора созвать новое экстренное заседание. Император и сам стал сильно тревожиться. Заседание открылось в 10 часов утра, и военный министр и оба начальника штабов снова высказали свою неудовлетворенность американским ответом. Они предлагали затребовать от Вашингтона более ясного ответа.
Глядя на сторонников «борьбы до конца» с таким выражением, которое исключало всякую возможность кривотолков, император сказал: «Мне кажется, что ваше мнение никем не поддерживается. Я выскажу вам свое собственное мнение. Надеюсь, что вы все согласитесь с ним. Американский ответ кажется мне приемлемым».
Военный министр заплакал.
Император приказал премьер-министру Судзуки подготовить рескрипт о прекращении войны, и было решено, что в полдень 15 августа император передаст народу свое решение по радио.
Япония проиграла войну, но до последнего момента люди, стоявшие за троном — как «миротворцы», так и их военные противники,— пытались сохранить без изменений
341
положение императора. В течение почти семидесяти лет он был столпом и опорой японской феодальной общественно-политической структуры. Если бы им удалось сохранить этот символ нетронутым, это помогло бы им ^провести Японию через поражение, сохранив ее прежний облик и устойчивость своего собственного положения.
А простые люди — те, которые потеряли во время налетов свои семьи и жилища; люди, которые недоедали и работали непосильно много; люди, которые не могли произнести ни слова без страха перед тайной полицией; люди, которые несли на своих плечах страшную тяжесть феодализма, — эти простые люди в течение всего этого времени не знали ничего о том, что происходит в императорском дворце.
«Заговор капитуляции» оказался успешным, и теперь пришло время для контрзаговора.
Вечером 14 августа техники Японской радиовещательной корпорации прибыли во дворец, чтобы записать на пластинку послание императора к народу. Император был очень нервно настроен, и для того чтобы сделать короткую запись, потребовалось два часа. Затем пластинка была передана Кидо, который положил ее на хранение в подвал министерства императорского двора.
Но «миротворцы» не приняли в расчет настроений военщины. По казармам распространился слух о том, что «продажные советники» императора совершили «подлое предательство» армии. Группа майоров и подполковников в Токио быстро организовала контрзаговор с целью захватить власть и потребовать у императора продолжения войны. К ночи в кромешной тьме города, затемненного на случай налетов, из казарм вышли тысячи возбужденных и мстительно настроенных младших офицеров и солдат в поисках «предателей» и с целью помешать назначенной на следующий день радиопередаче. Крупные отряды вооруженных людей сожгли дотла особняки двух главных заговорщиков: премьер-министра Судзуки и барона Хиранума. Кидо, вернувшись домой, увидел, что его дом уже занят солдатами. Они не узнали и не впустили его Воспользовавшись этим, он бежал обратно во дворец. Несколько младших офицеров застрелили начальника императорской охраны, когда он отказался примкнуть к заговору,
342
Императорская охрана, присоединившаяся к мятежникам, начала разыскивать Кидо и министра императорского двора. Обоим удалось ускользнуть незамеченными, несмотря на то что солдаты были совсем близко от них, и скрыться в тайном бомбоубежище под дворцом. Поздно ночью на дворцовый участок прибыли подкрепления мятежной пехоты и отряд артиллеристов. Они помогали рубить двери и ломать стены в поисках «людей, стоящих за троном». Они задержали адъютанта императора и других придворных, но не нашли никого из главных заговорщиков. Сам император, наконец решившийся на капитуляцию, повидимому, крепко проспал всю эту хаотическую ночь.
В половине четвертого утра 15 августа мятежники захватили токийскую радиостанцию — огромное, выкрашенное в черный цвет здание, расположенное на расстоянии четверти мили от дворца. Они пытались организовать радиопередачу, но в это время была объявлена воздушная тревога, и военное командование, автоматически повинуясь установленным порядкам, не разрешило им воспользоваться микрофоном. Мятежники нерешительно толпились в вестибюле до рассвета, когда прибыли жандармы и заняли здание. Радиостанция начала передачу и объявила, что император выступит в полдень.
На рассвете во дворец прибыл генерал Сейдзи Танака, главнокомандующий восточной армией. Он потребовал, чтобы восставшие войска немедленно ушли, и настаивал на том, чтобы их вожаки «искупили оскорбление, нанесенное императору», совершив харакири. Переворот не удался из-за отсутствия централизованного и умелого руководства. Главари были нерешительны, и среди них то и дело вспыхивали ссоры.
Через два часа дворцовые помещения были очищены от мятежников. После этого пять зачинщиков встали на колени на желтом гравии дворцовой площади, вспороли себе животы, повернувшись лицом к дворцу, и умерли в лужах крови.
Убедившись, что солдаты ушли, Кидо и министр императорского двора вышли из своего тайного убежища, бросились к императору (которого они должны были охранять, не щадя своей жизни) и поздравили его с благополучным избавлением»
343
В тот же день военный министр покончил с собой. Через несколько дней совершил харакири и генерал Та» нака, единолично предотвративший переворот.
Радиостанция теперь усиленно охранялась жандармами. Роковую пластинку извлекли из хранилища и доставили туда. В полдень все население страны включило свои радиоприемники. Все ожидали услышать новый призыв стоять насмерть.
Вместо этого они услышали слова:
«Настоящим мы приказываем нашему народу сложить оружие и точно выполнять все условия...»
Госпожа Като сказала мне, что она плакала, услышав «тихий и скорбный» голос императора. Двадцатилетний юноша, который теперь работает при суде над военными преступниками, говорит, что он видел, как многие плакали, слушая речь императора, но что он сам был счастлив. Он служил в армии, в одной из частей, которые должны были «стоять насмерть» на побережье префектуры Циба, где японское командование совершенно справедливо ожидало высадки одного из главных американских десантов.
«Я в этот день был в отпуску, — рассказывает он, — и слушал передачу в маленькой лавочке. Я был рад. Мне не хотелось умирать. К тому же в армии нас плохо кормили и настроение у солдат было скверное. Я вернулся в лагерь и офицеры сказали мне, что война кончена. Многие из них плакали, как маленькие дети».
Теперь народ узнал обо всем, и бойня кончилась. Правителям Японии предстояло заняться двумя задачами: безотлагательной работой по уничтожению всех доказательств военных преступлений и долгосрочной проблемой ограждения старой Японии от американских^ приказов и идей, порожденных поражением. «Мирным заговорщикам» предстояло начать обдумывать новый заговор \
1 Пытаясь объяснить разногласия внутри правящей клики Японии в годы второй мировой войны, автор явно ошибочно рассматривает борьбу между «заговорщиками» и возглавлявшейся Тодзио кликой «военных фанатиков» как борьбу между «сторонниками мира» и «сторонниками войны».
В действительности же все группировки правящей клики империалистической Японии были за агрессивную войну и борьба между ними была лишь борьбой за тот или иной план агрессии, за ту или иную последовательность агрессивных действий.
Нападение гитлеровской Германии на СССР оживило ста-
344
ТОКИО
16 августа 1946 г.
Невыносимо знойный, тихий, томительный день. Новый тайфун, по прозвищу «Лилли», приближается к Японии, и даже листва как-будто томится в ожидании и страхе. Уличные продавцы на Гинзе натянули над своими лотками брезент и соломенные цыновки. Они сидят на корточках в тени и обмахиваются веерами. Но покупателей мало, их можно встретить только у лотков, где продают окрашенные сиропом ледяные стружки.
Я отправился в Кйорицу-холл — невзрачный зал, где выступают послевоенные левые партии Японии, с намерением присутствовать на первом собрании Национального конгресса производственных профсоюзов. НКПП, созданный по образцу американского Конгресса производственных профсоюзов, возник полгода назад. Утверждают, что в нем насчитывается до 1600 тысяч членов, что делает его самой крупной рабочей организацией Японии. Это, кроме того, организация, настроенная наиболее воинственно.
рые агрессивные надежды правящих кругов Японии, но героическая борьба советского народа очень скоро убедила японских империалистов, что, пойдя по пути войны против Советского Союза, они наверняка сломают себе шею. Вот почему японская военщина вынуждена была отложить свои антисоветские замыслы «до лучших времен» и избрала более безопасный путь для своей агрессии — вторжение во владения США и Англии в Юго-Восточной Азии и на Тихом океане.
Тем не менее среди правящих кругов Японии еще находились «заговорщики», которые, как пишет автор, уже почти с первого месяца войны между Японией и США призывали к сговору с Вашингтоном; однако это были отнюдь не «сторонники мира», а представители тех группировок японских империалистов, которые по- прежнему считали, что Японии следовало бы начать агрессивную войну с нападения на СССР.
Но деятельность «заговорщиков» в Токио и их друзей с Уоллстрита не смогла изменить направление агрессивной политики японского империализма. «Лучшие времена» не приходили, и правители Японии, всю войну державшие у советской границы наготове для агрессии миллионную Квантунскую армию, так и не дождались «благоприятного момента» для нападения на Советский Союз.
Более того, всемирно-исторические успехи Советской Армии в разгроме германского фашизма охладили воинственный пыл японских захватчиков и заставили их искать путей к миру с США и Англией, а вступление СССР в войну в августе 1945 г. вынудило японских империалистов согласиться на (&зогбвЪрочную капитуйц, цик). (Прим, рвд!)
345
В самом начале существования Национального кои гресса на него пала тень неодобрения начальства. Американский штаб ясно высказал свой взгляд, что НКПП находится под влиянием коммунистов. Генерал Макартур столь же ясно обнаружил свою благосклонность к консер. вативному сопернику Национального конгресса произвол ственных профсоюзов — Японской федерации труда. Главный грех НКПП, повидимому, заключается в том, что он упорно хочет заниматься политикой. Тэд Коэн, миниатюрный начальник отдела труда, который никогда не был профсоюзным работником, хочет, чтобы НКПП придерживался простой формулы «выработки условий оплаты труда и продолжительности рабочего дня».
«Каким образом рабочие могут оставаться вне политики? — спросил меня Кикунами, инициатор образования НКПП, выдвинутый кандидатом на пост впервые избираемого председателя конгресса. — Правительство Иосида— это правительство дзайбацу, враждебное трудящимся. Если бы мы не были бдительны, оно отбросило бы нас на пять лет назад, к тому времени, когда мы были под властью японской армии. Занимаясь политикой, мы боремся за свою жизнь».
Профсоюзы, входящие в НКПП, чуть не помешали Иосида прийти к власти в апреле; его спас лишь запрет, наложенный на демонстрации генералом Макартуром.
Вестибюль Кйорицу-холла был наполнен агентами контрразведки и военной полиции. Поодаль от них, в темном душном зале, битком набились люди; с их лиц лился пот. В этом зале меня поразило прежде всего отсутствие табачного дыма. Когда дневной паек сведен к трем сигаретам, люди дорожат каждой затяжкой.
Большая, неуютная сцена была украшена лозунгами, призывающими рабочих бороться за сорокачасовую рабочую неделю, протестовать против массовых увольнений и искоренять «остатки милитаризма и национализма». За длинным столом сидело больше десятка профсоюзных деятелей, принимавших участие в организации Националь, ного конгресса. Они были до странности похожи друг на друга — высокие, худощавые люди с интеллигентными лицами. Прежде чем сесть на свое место, каждый из них представлялся слушателям и кланялся в традиционной 346
японской манере. Ораторы также низко кланялись перед речью и после нее. Это придавало собранию своеобразный восточный колорит.
Я интересовался главным образом программной речью, которую произнес председатель профсоюза работников химической промышленности. Это был стройный энергичный человек, у которого была вполне определенная цель: отделить НКПП от коммунистов, не теряя в то же время права на политическую борьбу.
«Некоторые думают, — сказал он, — что в условиях оккупации рабочее движение не должно носить воинственного характера. Но нам было предоставлено демократическое право создавать свои организации, и нет никаких оснований для того, чтобы мы им не воспользовались. Наша задача состоит не в том, чтобы содействовать насилию, а в том, чтобы организовать трудящихся и научить каждого из них отличать друзей от врагов. Правительство и капиталисты говорят, что Япония теперь страдает от последствий поражения, а потому все внутренние разногласия должны быть забыты и требования трудящихся должны быть отложены. Но когда же это бывало, чтобы капиталист^ приветствовали такие требования?
Нам нечего ждать, что кто-то создаст для нас мощное рабочее движение. За него должны бороться сами трудящиеся. Рабочие лидеры, которые в борьбе за права трудящихся боятся прибегнуть к насилию, просто трусы».
Дальше следовал важнейший вопрос об отношении к коммунизму.
«Методы борьбы, которая ведется в настоящее время против коммунистов, ничем не отличаются от тех методов, которыми пользовались во время войны японские фашисты и милитаристы. Они едва ли согласуются со свободой убеждений, обеспечиваемой демократией...
Но если вы, коммунисты, считаете, что НКПП принадлежит вам, вы ошибаетесь. Национальный конгресс не принадлежит никому, кроме самих трудящихся. Мы, работники НКПП, ничего не имеем против того, чтобы каждый из наших членов в отдельности принадлежал к коммунистам или к какой-нибудь другой партии. Но НКПП как организация не принадлежит ни к одной партии»*
347
Несмотря на это официальное отречение, в действительности коммунисты — и Россия — попрежнему имеют большое влияние. Некоторые из основных профсоюзов, входящих в НКПП, работают под руководством известных коммунистов, и среди рабочих, присутствующих в зале, находились тысячи членов партии или сочувствующих. В вестибюле какие-то молодые люди успешно продавали официальный орган компартии «Акахата». На прилавке имелись в большом выборе коммунистические журналы, книги и брошюры.
Еще более многозначительным было русское влияние. Я намеренно употребляю слово «русское». Хотя значительная часть материала была большевистской, еще большая часть была русско-славянской. Над прилавком были размещены портреты Сталина, Ленина и Карла Маркса. Среди книг можно было найти целыми десятками переводы работ Сталина. На одном из японских журналов, обложка которого изображала цветущую русскую крестьянку, красовалось даже его русское название: «Русская культура». Это был, без сомнения, журнал, предназначенный для целей пропаганды.
Переводы произведений Льва Толстого и Горького насчитывались буквально десятками, к ним следует добавить Чехова, Гоголя и Тургенева. Возможно, что мысль об издании этих книг принадлежала русским пропагандистам. Но если это так, то они строили свою работу не на идее мировой революции, а на традиционном интересе японцев к русской литературе.
Я помню, как десять или двенадцать лет назад я осматривал полки большого книжного магазина на Гинзе и был поражен количеством и разнообразием представленных в нем произведений русских авторов. Я помню, как в разговорах с японскими интеллигентами я обнаружил, что им известны все школы и направления русской художественной литературы. Затем японская военщина изгнала русскую литературу с книжных полок. Однако интерес к ней не был убит. После поражения Японии он возродился и вырос. Для японского поклонника Горького журнал «Русская культура», несомненно, представляет интерес. А читатель этого журнала — особенно если он чувствует себя несчастным из-за рисового пайка, или действий правительства, или даже «братания» с американской армией — 346
найдёт верное утешение в восторженных статьях о Советском строе.
В Японии, как и в некоторых других странах, средние элементы сошли на нет, а крайние партии усилились. Если японцу не нравится правительство Иосида, которое мы поддерживаем, ему некуда итти, кроме лагеря коммунистов. Если мы ему не нравимся, он оборачивается лицом к западу, к России. Советские представители, с которыми я разговаривал, не скрывают своего большого интереса к Японии. Однако они отрицают вмешательство в японскую политику. Повидимому, они считают, что, поддерживая консерваторов, мы отталкиваем от себя трудящихся и интеллигенцию. Если смотреть на вещи под этим углом зрения, мы сами являемся лучшими агентами, вербующими сторонников для японской коммунистической партии и Советского Союза. Русским нет надобности особенно работать над этим. Они чувствуют, что время на их стороне.
17 августа 1946 г, ТОКИО
Мы с Джо Фроммом были у У. Макмагона Болла, британского представителя в Союзном совете, которого многие из нас считают одним из самых блестящих дипломатов в официальном мире Токио. Боллу приходится трудно в Совете, так как британская политика параллельна нашей, но он никогда не может забыть, что он также является представителем Австралии, которая в настоящий момент смотрит на Японию иначе, чем мы. Кроме того, он придерживается того непопулярного мнения, что нападки на русских — опасная игра, независимо от того, вызваны они чем-нибудь или нет.
Мы сидели в просторном кабинете Болла и спорили на тему об экспертах.
«Наше затруднение заключается не в недостатке экспертов,— говорил Болл.—Оно заключается в том, что совершенно бесполезно представлять Совету какую-либо фактическую информацию, так как ее немедленно начинают рассматривать как оскорбление, нанесенное верховному главнокомандующему. Я перестал говорить о каких-либо фактах, так как это всегда заставляет Джорджа [Атчесо- на] нападать на меня.
349
Я приведу вам пример того, как мало считаются с Советом. Еще в июне Джордж представил нам старый японский законопроект о земельной реформе с просьбой высказать свое мнение по этому поводу. Он сказал нам, что это крайне срочное дело. Мы очень усиленно работали над этим вопросом и составили примерную программу. Мы представили ее Совету, причем русские и китайские делегаты согласились с нами.
Пять дней назад мы совершенно случайно услышали, что японское правительство разработало собственный новый земельный законопроект. Мы тотчас же просили американский секретариат прислать нам копию этого проекта, чтобы посмотреть, включены ли туда наши рекомендации. Мы повторяли нашу просьбу каждый час, но безуспешно. Вчера утром я прочел в газете «Ниппон тайме» послание генерала Макартура, в котором он делает японскому правительству комплименты по поводу его «мужества и решимости».
Новый японский проект был, наконец, вручен нам вчера в одиннадцать часов утра».
Как Джо, так и я знали о том, что это не единственный случай намеренного проявления пренебрежения к Совету вообще и к Боллу в особенности. Болл раздражает генерала Макартура и Атчесона. Они считают, что он должен быть в Совете их лойяльным союзником, не задающим лишних вопросов. Их сердит его независимый вид и высказываемые им время от времени едкие комментарии к некоторым из наиболее неумеренных претензий американского штаба. Атчесона раздражают также светские манеры и остроумие Болла.
Когда Совет собрался впервые, Болл пригласил Атчесона на чашку чая и уверял его, что он, Болл, питает к Соединенным Штатам «чувство величайшей преданности». Он чрезвычайно подробно перечислял, чем вызвано подобное чувство, начиная с родственников жены в Америке и кончая заявлением о том, что он сам получил образование, пользуясь американскими стипендиями имени Рокфеллера и Карнеги. Он добавил, что в настоящий момент внешняя политика Британской империи и Соединенных Штатов совпадает.
«У нас нет никаких оснований не работать в тесном контакте между собой, — сказал Болл. — Если я когда- 350
нибудь скажу на Совете то, чего не следует говорить, толкните меня хорошенько ногой под столом, а потом объясните мне, в чем я ошибся».
На последующих заседаниях Совета Атчесон относился к Боллу с заметной враждебностью. Наконец Болл позвонил Атчесону и спросил его: «В чем, собственно, дело? Разве мы не можем найти способ работать в большем согласии друг с другом?» Насколько мне известно, Атчесон ответил на это недружелюбно.
Я подозреваю, что, подобно большинству из нас, Болл считает Совет бесполезным или даже не только бесполезным, так как он является только лишним поводом для международных трений. Я слышал, что не меньше трех месяцев назад Болл рекомендовал своему правительству роспуск Совета. То, что происходит в Совете, часто находится совершенно вне его контроля. Совет был создан для того, чтобы обеспечить генералу Макартуру услуги международных советников в такой момент, когда наши взаимоотношения с Россией столь натянуты, что ни одно русское предложение, вероятно, не будет принято, и когда генерал Макартур рассматривает любой намек на критику медленного развития Японии как личное оскорбление.
Вновь прибывший русский корреспондент дал мне вчера вырезку из «Правды», где Атчесона называют «анахронизмом двадцатого века».
Я показал вырезку Боллу и в шутку высказал предположение о том, что она является одной из причин его трений с Атчесоном. Болл засмеялся:
«Может быть. Джордж сам прислал мне на днях перевод этой статьи».
19 августа 1946 г. ТОКИО
Япония — мечта политических авантюристов. Туда нелегко попасть, но, если преодолеть эту трудность, для дельца в американской военной форме, одаренного фантазией и смелостью, нет никаких границ. Здесь его ждет богатейшая нажива, и поэтому здесь роем вьются представители многих американских промышленных и финансовых «тузов», интригуя, потворствуя интригам, используя все свои связи. Теоретически делец, одетый в форму американской армии, служит своей стране и ему запрещен контакт со
351
Своей фирмой. На практике ййктб не обращает на это внн* мания.
Общий план ясен. Политический авантюрист наших дней стремится овладеть экономикой Японии. Он подкупами пролагает себе путь в магнаты дзайбацу. Он пользуется своим официальным положением для того, чтобы попытаться снова передать в частные руки некоторые общественно-бытовые предприятия, которые теперь национализированы. Авантюристы ориентируются на вестибюль гостиницы «Дайици», где они говорят на международном языке картелей: «исключительная агентура... соглашения о ценах... займы... монополии...» Люди льстят и раболепствуют. Они торгуют обещаниями кредитов и дивидендов. Но магнаты дзайбацу, которые в течение ряда поколений господствовали над экономикой Японии, еще не пришли к определенному решению. Некоторым из них нужны кредиты. Другие противятся американскому вторжению. Авантюристы действуют.
Вот один из примеров. Как-то вечером Сэлли и я ужинали с двумя специалистами по нефти, которые в настоящее время служат в американской армии. Эти люди не отрицали, что они находятся в контакте со своими фирмами. Глядя на нас невинными глазами, оба сказали нам, что их компании, «естественно», оплачивают разницу между их окладами на военной и гражданской службе.
«Мы должны готовиться к тому,—сказали они,—чтобы представлять здесь свои компании, когда будет подписан мир».
Ужин был особенно пикантным, потому что один из дельцов уже заключил сделку с японскими нефтяными фирмами, а другой упорно, но безуспешно пытался узнать, какой характер носит эта сделка.
Другой пример. Работая в сотрудничестве с вашингтонским отделением «Чикаго сан», я только что помог разоблачить деятельность Питера Маганьи, эксперта по шелку, советника при американском штабе. Маганья, маленький, циничный, несдержанный человек, прилетел в Токио в феврале. Прежде чем Маганья счел нужным уехать, он (по мнению многих знатоков) вплотную приблизился к тому, чтобы захватить в свои руки шелковую промышленность Японии. Оружие Маганьи составляли изрядный запас смелости, а также письмо и телеграмма. Письмо 352
было от государственного департамента, и Маганью называли в нем советником генерала Макартура. Телеграмма была от члена конгресса Даниэла Флада (от штата Пенсильвания), и в ней было сказано приблизительно следующее: «Продолжайте бороться. Я поддерживаю вас до конца». Флад был не только влиятельным. членом конгресса, но вместе с тем и личным юрисконсультом Маганьи в Вашингтоне. Маганья пользовался письмом, чтобы влиять на японцев, а телеграммой — для воздействия на штаб.
В противоположность другим дельцам, Маганья предпочитал напористый подход к делу. Он умел использовать прессу и знал, что именно публикуется под крупным заголовком. Он выступал с обвинениями в неумелом ведении дел и в еще более худших проступках. Он кричал о вещах, о которых до того говорили только топотом. Он нападал на ближайших помощников генерала Макартура, на военное министерство, на военного министра Роберта П. Паттерсона — на всех, кто стоял между ним и шелковой промышленностью.
Надо отдать Маганье справедливость, что он нагнал на американский штаб больше страха, чем какое-либо другое лицо или проблема, возникавшая со времени капитуляции Японии. Опасаясь того, что может сделать враждебно настроенный член конгресса с просьбами генерала Макартура об ассигнованиях, представители штаба льстили Маганье, исполняли его прихоти и принимали его оскорбления с улыбкой. Они ничего не предприняли даже после того, как Маганья выгнал двух членов австралийской торговой миссии из лаборатории по испытанию образцов шелка, которую они хотели посетить.
Пресса, которая разузнала кое-что о делах Маганьи, повидимому, добилась успеха там, где генералы боялись действовать. Маганья выехал в Пенсильванию, не закончив своей работы. Член конгресса Флад готовился к выборам, в которых неблагоприятная газетная шумиха могла обусловить его поражение. (Позже стало известно, что Флад провалился на выборах.)
В архивах японского министерства финансов есть три письма, ожидающих, чтобы их прочел какой-нибудь предприимчивый журналист. Они были написаны от имени афериста Андо директором отделения фильмов цент- 23 м. Гейн 353
рального бюро кинопроката при американском штабе М. Бергером. Эти письма, датированные 27 мая 1946 г., являются доказательством той борьбы, которую вел Голливуд с целью завладеть японским рынком и вытеснить оттуда все другие кинофильмы, включая и японские.
Первое письмо содержит «просьбу» к министерству финансов предоставить Андо сумму в 20 миллионов иен (1333 тысячи долларов), нужную ему для финансирования новой фирмы, демонстрирующей американские фильмы в Японии. Второе письмо содержит «просьбу» к японскому правительству отпустить Андо 50 тысяч тонн дюралюминия, который, по его словам, необходим ему для построй^ ки «нескольких сот» кинотеатров. Третье письмо подтверждает готовность бюро кинопроката предоставить Андо достаточное число голливудских фильмов, чтобы они могли демонстрироваться все пятьдесят две недели в году.
Письма полны благопристойных фраз, как, например: «Мы убеждены, что усилия г-на Андо направлены на то, чтобы содействовать лучшему пониманию... американских идеалов». Когда я думаю о Голливуде и его отношении к американским идеалам, я вспоминаю кинофильм, который недавно прошел здесь при битковых сборах. Он изображал похождения преступника Арсена Люпена и вызвал целую волну преступности в Токио. Когда менее ловкие взломщики попадались, они объясняли: «Я хотел быть похожим на Арсена Люпена».
Сегодня мне было сообщено о новейшем случае политического авантюризма — о «деле мистера Икс». «Мистер Икс» — один из наиболее высокопоставленных экономистов в штабе Макартура. Перед войной он был директором японского отделения крупной американской фирмы.
Недавно один американский офицер, военный следователь, просматривавший бумаги треста Ниссан, крупного комбината, поставлявшего вооружение, нашел копии писем, посланных председателем треста «мистеру Икс». В письмах говорилось о планах треста Ниссан, направленных на то, чтобы захватить в свои руки торговлю грузовиками и легковыми автомашинами в Японии.
В одном из писем «мистеру Икс» сообщалось, что трест Ниссан решил вступить в контакт с рекомендованной им автомобильной фирмой в Детройте. К другому письму была приложена копия контракта, отправленного
354
детройтской фирме. Ввиду того, что японским компаниям не разрешается вести переписку с американскими предприятиями, остается предположить, что «мистер Икс» переслал контракт в Детройт. Цель всей этой сделки, очевидно, заключалась в том, чтобы вытеснить с японского рынка компании Форда, Шевроле и Крайслера.
Следователь сначала не понял значения того, что прочел. Затем он решил, что эти документы стоят того, чтобы снять с них копию, и просил дать ему на время папку, в которой они содержались. Придя домой из конторы треста Ниссан, офицер обнаружил, что вся переписка с «мистером Икс» была заменена статистикой по болтам и гайкам.
В тот же день следователь вернулся в контору и потребовал, чтобы ему показали письма. Японские служащие ответили ему, что это «секретная переписка», которая «его не касается». Начался спор; появился председатель компании Ниссан. Он объяснил, что он долголетний друг «мистера Икс» и что корреспонденция носит сугубо личный характер.
Председателя поддерживал американец, который назвал себя Уильямом Горхэмом, одним из директоров треста Ниссан, и потребовал, чтобы офицер сказал ему свою фамилию, чин, армейский номер и фамилию своего командира. Он спросил также, знает ли генерал Маркат о том, что военный следователь затребовал переписку.
Горхэм — уроженец Сан-Франциско, приехавший в Японию двадцать лет назад и работавший в компании Ниссан в течение войны. «Эти письма относятся к сделкам, которые «мистер Икс» заключил с одним из представителей треста Ниссан от имени детройтской фирмы, — сказал он. — Они являются сугубо личными и совершенно не касаются вас. Теперь они находятся под замком в сейфе председателя компании. Если они вам нужны, получите сначала ордер от генерала Марката».
Следователю пришлось ретироваться. Он представил рапорт о происшедшем, но никаких действий по поводу этого не было предпринято. Здесь следует отметить, что мы формально все еще находимся в состоянии войны с Японией и что «мистер Икс» в качестве служащего военного министерства не может иметь других интересов, кроме интересов служения своему государству.
23* 355
10 сентября 1946 г.
ТОКИО
Вечером Сэлли, я и Дэв Конде, бывший начальник кинематографического отделения штаба, а теперь корреспондент агентства Рейтер, поехали в предместье повидать Акира Ивасаки.
Акира, не имеющий никакого отношения к представителю дзайбацу Ятаро Ивасаки, до прошлого месяца выпускал документальные фильмы для киностудии Нициеи. Он выпустил два фильма: «Трагедия Японии» и «Год ок* купации». Первый фильм, смонтированный из старых материалов кинохроники, показывал, как император, банкиры и политические деятели вовлекли Японию в войну. Он подвергся бойкоту со стороны трех крупных прокатчиков. Второй фильм был запрещен американскими военными цензорами, так как в нем можно было увидеть демонстрации рабочих, тайные переговоры премьера Иосида с прежними политическими дельцами и дзайбацу, попреж- нему занятыми своими «обычными делами».
Вследствие того что фильмы не делали сборов, компания Нициеи обанкротилась и аферист Андо пытался выкупить ее. Ивасаки помешал этой сделке, но получил предупреждение «быть осторожнее». Затем Ивасаки организовал продажу студии крупной кинематографической фирме и отказался от занимаемой им должности.
Последние огни Токио остались позади, и нас окружал мрак. Было тепло и сыро, в воздухе чувствовалось приближение дождя. Мы ехали все дальше, пока не добрались до маленькой полицейской будки, над дверью которой горел тусклый красный фонарик. Полицейский разговаривал с двумя мальчиками-подростками. Мы попросили его показать нам дорогу, и мальчики предложили быть нашими проводниками. Свернули с большой дороги в лабиринт переулков, который казался бесконечным. Наконец въехали в узенькую улочку, где едва мог поместиться один виллис. Далеко впереди виднелся двухэтажный дом, одно из его окон на втором этаже было освещено.
«Здесь», — сказал один из мальчиков.
Мы подъехали к дому. Шум нашего виллиса усиливался отражением звука от стен, которые превращали переулок 356
в нечто вроде туннеля. Свет в Окне мигнул и тотчас же исчез, словно погашенный шумом нашего виллиса.
Остановившись у дома, я выключил фары. Было темно. Тишина в доме казалась боязливой и настороженной. Конде начал стучать в дверь. Ответа не было. Мальчики стали кричать. В доме попрежнему царило молчание Однако мы видели, как погас свет, и знали, что внутри есть люди.
«Дэв, — сказал я. — Поговорите с ними. Они знают ваш голос».
«Ивасаки-сан! Ивасаки-сан! («Господин Ивасаки!») — крикнул Дэв. — Это Конде. Откройте! Это ваши друзья!»
Наверху открылось окно и выглянуло смуглое лицо. Я навел на лицо Конде свет своего электрического фонарика.
«К вам приехали гости», — сказал Дэв.
Окно закрылось, и снова наступила тишина. Потом раздался лязг металла, и входная дверь открылась. На пороге стояла высокая тонкая фигура в кимоно, освещенная нашими фонариками.
«Войдите, пожалуйста», — сказал Ивасаки по-английски.
Мы сняли обувь и уселись на соломенной цыновке в гостиной. Электрическая лампочка, висевшая над низким круглым столом, отбрасывала темные тени. Жена Ивасаки, красивая женщина с лицом страдающей мадонны, стояла у дверей. Ивасаки присел у стола. Его темные глаза пристально следили за нами. Через его лицо проходил широкий безобразный рубец; он начинался ото лба под самыми волосами, пересекал левую бровь и веко и кончался под скулой.
«Плохо?» — спросили мы.
— Глаз цел, — ответил Ивасаки.
«Больно?»
— Не особенно, если не считать головных болей. Я все время страдаю ими.
Мы сидели за столом, пили чай и разговаривали о жизни Ивасаки, прогрессивного японца, живущего в новой демократической Японии.
«Мне сорок четыре года, — сказал Ивасаки. — У меня двое маленьких детей. Я учился в Токийском императорском университете и специализировался по немецкой 357
литературе. До войны я писал очерки и литературно-критические статьи. Мне нравилось спорить о литературных направлениях, и я даже был членом небольшого философского кружка, который объединял всего лишь несколько профессоров, писателей и студентов.
В 1939 г., через два года после начала «китайского инцидента», все члены кружка были арестованы» Нас обвиняли в нарушении «закона о поддержании мира». Согласно этому закону, вас могли посадить в тюрьму за крамольные мысли, которые никогда не были вами высказаны. Меня продержали восемь месяцев в камерах при различных полицейских участках. Затем отправили в тюрьму Сугамо, где теперь находятся военные преступники.
Мне повезло. Моей жене разрешили приносить мне в Сугамо немецкие и английские книги. Книги вроде этих. (Он показал на книжные шкафы, стоявшие позади него.) Я был в тюрьме, но мой ум и дух были свободны.
Через восемь месяцев меня судили. Суд приговорил меня условно к трем годам тюремного заключения. Мне запретили писать что бы то ни было. Мы жили продажей своих вещей. Когда кончилась война, большей части моей библиотеки уже не было. Затем я стал сотрудником киностудии Нициеи и начал работать над документальными фильмами.
Я думал: вот моя страна, которая вступила в войну, не зная зачем, и которая проиграла войну, не зная почему. Вот Потсдамская декларация, о которой знают лзшь немногие. Я подумал, почему бы не выпускать фильмы, которые покажут моему народу, какие люди и какие счлы вовлекли нас в войну: военщина, император, дзлйбацу| продажная пресса.
Когда фильм был готов, я снова подумал: почему бы не смонтировать несколько кинохроник, показывающих, что случилось с нами и что происходит после капитуляции с военными преступниками. Показать Тодзио и нескольких других генералов в тюрьме; императора, который все еще на свободе; магнатов дзайбацу, которые попрежнему держат все нити в своих руках.
Американские цензоры запретили фильм. Я спросил их, почему. Они ответили, что это приказ генерала Уиллоуби. Потом мои друзья рассказывали мне, что в резиде щии премьера Иосида состоялся секретный f просмотр этого 358
фильма, на котором присутствовали американские гости из военной разведки, и что Иосида просил их запретить картину.
Тем временем Андо пытался откупить Нициеи. Он явился в студию и обещал всем служащим подарки в случае, если сделка состоится. Он также говорил, что установит обряд утреннего поклонения императору, как только купит Нициеи. Я пытался помешать продаже.
Однажды ночью около двух недель назад кто-то постучал в мою дверь. Я думал, что пришел кто-нибудь из студии и открыл дверь. Там стоял молодой человек. Он спросил меня: «Вы Ивасаки-сан из студии Нициеи?» Я ответил утвердительно. Он отступил в сторону, появился другой молодой человек и ударил меня. Потом они скрылись.
Я был оглушен и думал, что только ушиблен. Лоб у меня болел. Я прикоснулся к нему и увидел, что моя рука в крови. Тогда я понял, что меня ранили бритвой. Доктор наложил швы. Он думает, что меня придется оперировать. Полиция произвела формальное следствие, но виновных не обнаружила.
Нет сомнения в том, что эти молодые люди — профессиональные убийцы. Они не хотели меня убивать. Их цель состояла в том, чтобы ранить меня достаточно сильно в виде чувствительного предостережения».
— Что вы думаете делать дальше, Ивасаки-сан?
«Не знаю, — сказал он спокойно. — Я получаю анонимные письма. В них говорится: «Это было только предостережение», или «Вы коммунист, потому что вы выступаете против императора». Моя жена боится за меня и детей. Она не выпускает их играть с другими детьми. Журналы не хотят брать мои статьи. Они говорят, что не могут восстанавливать против себя Андо. А сам Андо скоро выйдет из тюрьмы. Ночью мы сидим, прислушиваемся к каждому звуку и ждем. Мы думаем, как бы уехать из Токио и скрыться где-нибудь в деревне».
Мы уже слышали о том, что семья Ивасаки боится выходить из дому даже за покупками, и привезли детям немного молочного порошка. Жена Ивасаки благодарила нас взглядом своих испуганных влажных глаз. Они оба проводили нас немного по темной улице.
359
«Мы рады, что вы приехали, — сказал он. — Мы видим так мало людей».
Я завел мотор, и они оба вошли в дом — быстро, неслышно, как тени. Снова лязгнул замок, и свет погас. В доме опять стало темно.
ДЕРЕВНЯ ИСОХАРА 26 сентября 1946 г. ПРЕФЕКТУРА И Б АРАГИ
Выехали из Токио для поездки по этой префектуре десять дней назад, но нам они кажутся вечностью. Мы отправились на двух виллисах с провизией, горючим и одеялами. Нас было пятеро: Сэлли, Джо Фромм, Рой, я и наш проводник Чикосабуро Хайями — поэт, танцор, борец, бывший агент в Китае и советник кабинета. Мы интересовались главным образом земельной проблемой и националистическим подпольем и в течение первых пяти дней подчинялись во всем умелому руководству Хайями. Он выработал наш маршрут и наметил ряд бесед с помещиками, членами парламента, мэрами городов и сельскими чиновниками.
В течение большей части этого времени нашей штаб- квартирой был дом помещика на вершине холма. Мы жили в роскошных комнатах, окна которых выходили прямо в сад с карликовыми деревьями, цветами и бронзовым журавлем, из клюва которого бил фонтан воды. Принц Хигасикуни, который был когда-то премьер-министром, жил в этих комнатах, которые окрестные жители называли «покоями принца».
В этот дом приходили люди, чтобы поговорить с нами, и отсюда мы направлялись в соседние деревни и города для бесед с другими людьми. Однажды мы провели утро с молодым помещиком, в гостиной которого стояла кушетка, накрытая леопардовыми шкурами. Он сидел перед нами бледный, изнеженный и говорил о былой роскоши Токио. Имением управлял его дядя/ На следующий день нас доставили на лодке на остров посреди большого озера, где мы разговаривали с чиновниками. Идеи и известия, повидимому, с трудом преодолевали водное пространство, и этот остров казался далеким от жизни остальной Японии и от наших дней. Маленькая, крепко спаянная шайка, которая правила этим островом до войны и во время
360
ее, оставалась у власти, не встречая никакого сопротивления. Мы сидели в неприглядной, переполненной людьми канцелярии Сельскохозяйственной ассоциации, и эти люди благодушно разговаривали об отрицательных чертах оккупации: о земельной реформе, о росте коммунизма и об отсутствии уважения к чиновникам. Они слышали, что император отказался от своей божественности; дошел до них и какой-то неясный слух о новой конституции, но, повидимому, все это не имело для них никакого значения.
«Наше отношение к императору не изменится», — заявили они.
Это был помещичий край, уголок дореформенной’фео- дальной Японии. Хайями ничего не сказал нам, но его цель была ясна: он показывал нам помещика в его естественном окружении. Помещик властвовал над экономикой и над правительством. Это был паук, который плел сеть, состоявшую из ростовщиков, сельских чиновников, полицейских и всех людей, руководивших всесильной Сельскохозяйственной ассоциацией. Ни один издольщик не мог прорваться без посторонней помощи через эту паутину, и она душила все попытки создать сильный Крестьянский союз.
Люди, с которыми мы встречались, были врагами земельной реформы. Они с хитрым видом рассказывали нам о многочисленных сложных способах, которыми можно обойти закон, и предсказывали его неудачу. Уничтожить эту систему одним только изданием закона о земельной реформе было невозможно. Помещики всеми правдами и неправдами собирались удержать в своих руках большую часть земли. Ловко пользуясь своим богатством, они намеревались сохранить свою власть над сельской экономикой. Посредством интриг, подкупов, использования своего превосходства в образовании, богатстве или социальном престиже они продолжали руководить правительственной машиной.
Земельная реформа могла бы иметь успех только в том случае, если бы она составляла часть более широкой и глубокой программы преобразований, которая признала бы тесную связь сельской экономики с национальной политикой, промышленностью, народным образованием и мировоззрением. Эта связь пока не была признана, и помещики, повидимому, не беспокоились.
361
Поездка была нелегкой. Плохие дороги расшатали болты нашего виллиса, а на нас подействовали еще хуже. Сэлли натерла спину, прислоняясь к банке с газолином. Теперь у нее болит спина, и ей приходится сидеть, вытянувшись на краю сиденья. Почти беспрерывно накрапывает дождь, мы никак не можем просохнуть, и все страдаем от насморка. На пятый день болезнь почек заставила Джо спешно вернуться в Токио. Хайями покинул нас в одном из центральных районов Ибараги, и после этого Сэлли, Рой и я остались втроем. Мы останавливались в маленьких сельских гостиницах с неизбежными клопами и сквозняками, ели горячее один раз в день и завтракали обычно сыром, сухарями и хлорированной водой.
Однако поездка была интересной, а впереди нас, по- видимому, ожидало столько нового материала, что нам не хотелось возвращаться. У нас были рекомендательные письма от Ниссо («избранника солнца») Иноуэ, и мы их хорошо использовали, проникнув в «националистическую зону» близ города Мито. Город был разрушен во время воздушных налетов и поэтому, чтобы быть поближе к «убийцам-патриотам», которыми славился Мито, мы жили в доме терпимости в соседнем городке. В доме царило большое оживление; по ночам мы видели со своего крыльца, как чиновники из Мито веселились в банкетном зале и по очереди уводили девушек в отдельную комнату. Сэлли подружилась с «мадам» — вдовой офицера, очаровательной женщиной; от нее мы узнали о том, как живут и что думают люди в этом уголке Японии. («Одно время было обнаружено столько убийц, происходивших из этой местности, что никто не хотел жениться на. наших девушках».)
Мы поехали дальше на север и однажды, добравшись до северной границы префектуры, осторожно спустились втроем на шестьсот футов под землю, в глубь старой шахты. Усевшись в маленький кружок на месте пересечения штреков, мы стали беседовать с обливающимися потом шахтерами, вся одежда которых состояла из повязок на бедрах и на голове. Люди бесстрастно рассказывали нам о своем заработке, на который никто из них не мог прокормить семью, о нищенском пайке на продовольствие и одежду и о кровавых боях их профсоюза с полицейскими, охранявшими компанию. Они слышали о борьбе аме-
362
риканских шахтеров с владельцами и хотели, чтобы мы подробнее рассказали им об этом. Время от времени мимо проходили вагонетки, груженные углем, и тогда мы прижимались к отсыревшим стенам и тревожно смотрели на гнилые балки.
В деревне Хокота сельский администратор и начальник полиции явились к нам в гостиницу, чтобы «засвидетельствовать свое почтение». Здесь издольщики организовали боевой союз, и на полицейский участок было произведено уже два массовых налета. Полиция обратилась в бегство, и издольщики на некоторое время захватили участок, не допуская, однако, ни насилия, ни грабежа. В первый раз издольщики требовали, чтобы помещикам было запрещено их выселять, а во второй раз они добивались ареста сельских чиновников, которых обвиняли в злоупотреблениях.
Начальник полиции — невысокий, толстый, моложавый человек. У него острый и ясный ум, и он совершенно затмевал своего спутника. Я просил его перечислить успехи, достигнутые за время оккупации, и он назвал вспашку военного аэродрома Хокоты, сбор оружия и восстановление Крестьянского союза. Но один раз он вызвал мое любопытство, спросив меня, прибегают ли когда-нибудь американцы к насилию против существующих властей. Я рассказал ему о небольшом скандале, который несколько недель назад произошел в Теннесси, где бывшие солдаты устроили перестрелку, а затем изгнали непопулярных представителей городских властей и установили более прогрессивную администрацию. Оба собеседника задумчиво сказали «гм...» и замолчали.
В этот момент Сэлли включила наше дорожное радио и мы услышали зловещий анализ Антони Иденом напряженных отношений с Россией. Рой переводил наиболее интересные места речи; я спросил начальника полиции, что он думает о возможности войны между Соединенными Штатами и Россией. Он ответил просто:
«Японский народ устал от войн».
Однажды под вечер мы сидели у организатора Крестьянского союза — в бедной и чистенькой комнате с задней стеной, заставленной доверху книгами, и с раздви-
363
нутой передней стеной — и разговаривали с группой арендаторов. В противоположность другим крестьянам, с которыми мы встречались, они не одобряли земельной реформы. Они считали, что только один человек из пяти сможет купить землю. Они говорили, что реформы пыта- лись проводить и раньше, но что в годы кризиса земля неминуемо возвращалась в руки помещиков, так как издольщики убеждались, что источники кредйта для них закрыты.
«Вдумайтесь в это дело, — сказал один из молодых издольщиков. — По новому закону я могу арендовать акр земли за 80 иен. То, что я на нем выращу, может дать мне по существующим ценам 1000 иен на черном рынке. Я получаю довольно хорошую прибыль. Но если я куплю эту землю, я должен платить ежегодный взнос плюс налоги; кроме того, не исключено, что помещики выгонят меня тем или иным путем. У них всегда были друзья в правительстве. Может быть, когда вы, американцы, уйдете отсюда, они появятся у них снова».
Людей беспокоило растущее националистическое движение. Они рассказывали, что бывшие военные захватили руководство во влиятельных союзах молодежи. Что еще хуже, небольшие группы военных организовывали «коллективные фермы» на земле, приобретенной для них известными фашистами. Крестьяне говорили, что неподалеку имеется такая ферма, на которой тридцать молодых, крепких ветеранов войны получают военную подготовку и образование по программе, которая почти не отличается от учебных планов пресловутых школ «Крестьяне для Маньчжурии»1.
На следующее утро, когда мы были в гостинице, находившейся в соседней деревушке, мускулистый восемнадцатилетний юноша подошел к нашей комнате и стал наблюдать, как я печатаю на машинке. Я дал ему сигарету и спросил, принадлежит ли он к Союзу молодежи. Он ответил утвердительно. До последнего времени организацией руководили бывшие офицеры, но американская 1 После захвата Маньчжурии японские власти направляли туда японских крестьян-колонистов, которые проходили специальную подготовку в такого рода «школах» и создавали в Маньчжурии военные поселения. (Прим, ред.)
364
контрразведка заставила их уйти со своих постов, и теперь они действовали в качестве «советников» или «лекторов».
Он рассказал мне кое-что о себе. Пятнадцати лет он вступил в авиацию и затем стал пилотом-«камикадзе». В день капитуляции он находился в воздухе и летел на север по направлению к нашей эскадре. Рой спросил его, есть ли разговоры о советско-американской войне, и юноша ответил утвердительно.
«Я хочу служить в американской авиации и сражаться с русскими,— сказал он.—В нашем Союзе много говорят о том, что скоро будет война и что нас возьмут в американскую армию».
Мы спросили его, готовится ли он к своей будущей военной карьере; он ответил:
«Нет, у нас нет военной подготовки, но мы занимаемся гимнастикой в Союзе молодежи, а кроме того, мы ходим на почту и изучаем азбуку Морзе».
Мы ждали, что он скажет дальше.
«Когда я вижу самолет в воздухе, — заметил он наконец, — мне очень хочется снова летать».
Мы прибыли сюда, в Исохару, после наступления темноты. Гостиница, которая носит название «Горноокеанского отеля», была рекомендована нам как отличная. Мы нашли это определение несколько преувеличенным. Правда, мы не могли пожаловаться на отсутствие красивого вида: наш номер находился прямо над прибрежными скалами, и морские волны, разбивавшиеся о них, древращались в дымную пену, летевшую прямо в наши окна. Но цыновки были старые и кишели клопами, а бумажные двери изорваны. Несколько женщин внесли для нас угольные жаровни, уселись на пол и начали разглядывать Сэлли. Они объяснили нам, что за последние десять лет они не видели ни одной белой женщины.
Они ушли от нас только тогда, когда явилась делегация от Крестьянского союза. Делегаты, которых было четверо, оказались пожилыми и застенчивыми людьми. Это было правление союза, причем председатель был землевладельцем, а остальные трое были издольщиками. Один из них, седой человек в огромных очках, являлся, кроме того, местным организатором социалистической партии. Мы обменивались вежливыми замечаниями, в то время как
365
Сэлли готовила, а мужчины, подчиняясь правилам приличия, старались не смотреть на еду. Затем мы^обедали и угощали их компотом из консервированных фруктов, а они восторгались его сладким вкусом. За последние четыре года они совершенно не получали сахара.
После обеда мы разговаривали, и нам было приятно обнаружить, что, по крайней мере здесь, крестьяне энергично борются с феодально-помещичьей системой. Они сказали, что в Исохаре всегда царила бедность, а потому у людей имелись причины для мятежных настроений. Им нехватало только случая, который был, наконец, предоставлен им поражением Японии.
Пять месяцев назад собралось двадцать пять человек, которые решили найти способ, чтобы чиновники, собирающие рис для государства, перестали обманывать издольщиков. Чиновники назначали произвольные нормы сбора и оставляли часть риса себе. Союз одержал победу в этой борьбе и начал расширять свою деятельность. В настоящий момент он боролся с выселением неплательщиков.
Плодородная земля здесь встречается редко и между издольщиками существует жестокая конкуренция из-за нее. Помещики пользуются этим и повышают арендную плату до 50, 60 и более процентов годичного урожая. Председатель союза, который имеет семь акров земли, с гордостью сказал, что он берет только треть урожая с двух с половиной акров, которые он сдает в аренду.
«Наша страна переживает кризис, — сказал он, — и несправедливо, чтобы один человек имел больше земли, чем ему нужно, чтобы жить прилично. Я готов продать большую часть своей земли».
Он был очень серьезен и, как мне показалось, чувствовал себя несколько не по себе среди издольщиков, которым он усиленно старался показать, что он хороший человек.
Каждый из трех издольщиков арендовал меньше одного акра и, чтобы сводить концы с концами, они работали на лесопилке и на шахте. Они считали, что закон о земельной реформе не вызовет больших перемен, но что «даже такой закон много лучше того, на что можно было надеяться раньше». Двое из троих говорили, что они купят землю. Третий не хотел этого делать: он считал, что земля неминуемо вернется к помещикам, с которыми невозможно бороться.
366
Два месяца назад Крестьянский союз выставил своего кандидата в сельские старосты. Противники союза поддерживали одного из членов Ассоциации бывших военнослужащих, в прошлом — офицера японской армии. Эти противники состояли из различных элементов: там были помещики и торговцы, члены ликвидированного, но все еще сильного «Общества мужества», принадлежавшего к фашистской «Ассоциации помощи трону», «Общественная группа», заменившая эту Ассоциацию, и Союз молодежи, во главе которого стоял бывший офицер, сын владельца лесопилки. На выборах прошел кандидат противников союза.
Мы проговорили уже несколько часов, и я неделикатно сказал крестьянам, что уже полночь, а мы встали в шесть часов утра и с тех пор или путешествуем, или разговариваем. «Вы, наверное, устали, — сказали они сочувственно и добавили: — Можно задать вам один вопрос?»
Мы сидели вокруг низкого стола, освещенные электрической лампочкой, и в ее слабом свете я видел четыре пары глаз, пристально смотревших на меня. У них было больше одного вопроса. Целое десятилетие они были отрезаны от мира и теперь хотели знать, есть ли в мире такие люди, как они, и как эти люди разрешают свои проблемы.
Они спрашивали: Есть ли у вас, в Америке, издольщики? Сколько они платят аренды? К какой партии они принадлежат? Существует ли в Америке страхование урожая для фермеров? Получают ли фермеры государственную помощь, дешевый кредит и квалифицированное техническое руководство? Как обстоит дело с эрозией почвы, с удобрениями и оборудованием ферм? Правда ли, что президент Рузвельт был другом безземельных крестьян?
Это были вопросы, порожденные их собственным опытом, и для них было очень важно получить ответ. Мне было очень стыдно за недостаточность моих знаний...
29 сентября 1946 г. МИТО, ПРЕФЕКТУРА ИБАРАГИ
Мы провели последние два дня с человеком по имени Такеучи, который имеет для Ибараги такое же значение, какое Дюпоны имеют для штата Делавэр. Ему принадлежат железные дороги и автобусные линии, сталеплавильные
367
заводы й рисовые поля. Я думаю, что ему принадлежит также большая часть законодательной власти префектуры Ибараги. У нас было рекомендательное письмо к Такеучи от Ниссо Иноуэ — шпиона, священника и главаря террористов. Двадцать лет назад, если не больше, Такеучи построил в этой местности храм и предоставил его Иноуэ, чтобы дать ему возможность проповедовать свое весьма странное учение воинствующего буддизма и ультранационализма. Молодые жители деревни и военные поднимались к храму на вершину холма и слушали проповеди Иноуэ о необходимости «кровью смыть грязь политики». Потом они встречались с ним в заброшенном железнодорожном вагоне и сговаривались там об убийствах. Еще через некоторое время Иноуэ уехал в Токио и занялся там разработкой заговоров, за которые ему и его сообщникам пришлось в конце концов заплатить долгим тюремным заключением.
Политический террор вспыхнул здесь неслучайно, так как город Мито всегда был колыбелью крайнего национализма, и «Мито Гаку» (националистская школа, основанная в Мито) оставила неизгладимый след в истории Японии. По мере того, как убийцы из банды Иноуэ освобождались из тюрем, они возвращались в этот дружественный им уголок Японии, где могли найти себе работу, обдумывать снова доктрину политического террора и, может быть, замышлять новые заговоры. А Такеучи, который до войны финансировал Иноуэ, остался попреж- нему его другом и покровителем и продолжал оставаться в контакте с его бандой.
Вчера утром мы встретились с Такеучи, маленьким, худощавым старичком, похожим на лавочника. Он сказал нам, что только что получил письмо от Иноуэ, где говорилось о нас, и заявил, что он повезет нас к принадлежащим ему горячим источникам, находящимся на расстоянии ста с лишним миль к северу. Наше любопытство благоприятствовало его планам, и мы, наконец, уступили его просьбам и поехали на север в его лимузине. Вместе с нами поехал приятель Такеучи, мэр города Мито.
Мы въехали в узкую долину, где находилось два больших отеля. «Они оба принадлежат мне, во избежание конкуренции», — сказал нам Такеучи. На пороге нас ожидал десяток слуг и под их эскортом мы отправились 368
в угловую комнату, выходящую окнами на реку, от которой шел пар. Нам был предоставлен специальный пруд, образуемый горячим источником, и после купанья мы отправились в лимузине на склон горы в «крестьянский домик» Такеучи. Это был старый-престарый дом, который он в буквальном смысле слова перенес из другой префектуры. Вокруг домика он создал уголок такой изысканной красоты, что ни Сэлли, ни я никогда не видели ничего подобного. В доме было мало мебели, но она отличалась изысканной простотой. Каждая вещь имела свое назначение и каждая вызывала восторг. Пол был из досок какого- то твердого дерева; окна занимали всю ширину стены и из них открывалась прекрасная панорама на вереницу мерцающих огней. Посредине комнаты в полу было сделано углубление, в котором горел огонь, а над ним висел старинный бронзовый котелок.. Табуретки старинной японской работы, стоявшие вокруг нее, были до блеска отполированы в результате долголетней службы и тщательного ухода. Мы выпили чаю, сидя у огня, а затем перешли в небольшой банкетный зал, где была устроена чайная церемония, сопровождавшаяся концертом старинных японских инструментов. За ней последовало два отдельно поданных обеда из рыбных и мясных блюд, которые порознь готовились поварами в белых колпаках, хлопотавшими над угольными жаровнями, поставленными у самого стола.
В течение всего обеда мы пытались разузнать что- нибудь относительно Иноуэ, и каждый раз Такеучи парировал наши вопросы тостами. После обеда, во время которого Такеучи много пил, он встал и начал плясать. Его движения не были медленными и плавными движениями типичного японского танцора. Это была военная пляска, порывистая и бурная. Мы представлялись ему неприятелем, и он делал выпады по направлению к нам и рассекал воздух невидимым мечом. Длинное кимоно мешало ему; он подобрал его подол, открыв свои худые ноги в белых шерстяных кальсонах. У него был нелепый вид, но он ни на минуту не становился смешным. Его гневный танец, исполняемый с заранее обдуманным намерением, был полон значения.
С такой же внезапностью, с которой он начал танец, Такеучи вернулся на свое место на полу, наполнил свою 24 М. Гейн 369
чашку и предложил тост. На его раскрасневшемся лице было неприветливое выражение.
«Вы, американцы, говорите о демократии, — сказал он. — Мы не понимаем демократии вашей марки. Она нам не подходит. Означает ли она, что рабочие имеют голос в управлении промышленностью? Разве у вас существует такой порядок в Соединенных Штатах? Означает ли эта демократия, что рабочие могут захватывать фабрики, как они сделали это в Японии? Означает ли она, что рабочие могут бастовать в критическое время, которое мы сейчас переживаем? Означает ли она, что люди могут критиковать императора?»
Его голос звучал резко и сердито. Он говорил длинными периодами, и пока Рой переводил, Такеучи снова начинал говорить. Он не слушал никаких возражений, и я начал беспокоиться. Я знал, что мы оба зайдем непоправимо далеко, если мне придется потребовать от него быть сдержаннее. Когда он сделал паузу, я поблагодарил его за любезный прием, и мы с Сэлли вернулись в отель, Перед нашим отъездом Такеучи сказал:
«Я приеду к вам завтракать, и мы поговорим относительно Иноуэ».
Сегодня утром слуга разбудил нас в пять часов; я отправился к пруду, чтобы умыться и побриться. Вернувшись, я нашел комнату полной людей. Слуги внесли маленькие лакированные столики и поставили их кружком, а Такеучи, мэр города Мито, Сэлли и Рой сидели за ними и ждали меня. У Сэлли, которая любит спокойно пить свой утренний кофе, был весьма удрученный вид. На каждом столике стояла кварта пива, а на столике Такеучи, кроме того, красовалась бутылка виски.
Такеучи сказал, что он готов разговаривать об Иноуэ, как только мы выпьем предложенный им тост. Служанки налили пива в наши стаканы, а мэр и Такеучи добавили к нему виски. Такеучи засмеялся: «Коктейль дружбы: американское виски, японское пиво!»
Последовали новые тосты. Об Иноуэ снова не говорили.
Я попытался напомнить о нем в автомобиле на обратном пути в Мито. Такеучи сказал:
«Когда Иноуэ написал мне, что его близкий друг направляется сюда, я сделал все, что мог, чтобы пребывание этого друга здесь было обставлено как можно удобнее.
370
Но если вам нужна информация, вам придется пойти за ней к самому Иноуэ».
Мы молчали добрых полчаса. Затем Такеучи внезапно начал настаивать, чтобы мы поехали в исторический музей, существовавший на его пожертвования. Музей находился недалеко от старого храма, принадлежавшего Иноуэ, и, как я понял, прославлял прошлое Японии.
«Вы не поймете Иноуэ, вы не поймете «Мито Гаку», вы не поймете, что мы думаем и чувствуем, пока не пойдете со мной и не позволите мне объяснить вам то, что находится в этом музее».
Мы не могли сопровождать его. У нас была назначена встреча с другим главарем террористов — Косабуро Та- чибана.
«Тачибана! — фыркнул он. — Что такое Тачибана по сравнению с Иноуэ? Выслушайте слова Тачибана, но не верьте им. Он неискренен».
Между нами снова наступило гневное молчание, и наше расставанье не было особенно сердечным. Мы ничего не узнали, кроме того, что Иноуэ и его шайка недавно устроили «встречу отдыха» в отеле Такеучи.
В наши дни остались в живых три известных вдохновителя японских политических убийств: Иноуэ, Тачибана и Сюмеи Окава, который на процессе военных преступников ударил Тодзио по голове. В прошлом каждый из троих был не просто убийцей. Они были «философами» ультранационализма, людьми, которые сами не совершали убийств, но доводили своими идеями молодых фанатиков до патриотического исступления. Все трое было согласны между собой в том, что политическая система Японии «создана божественной волей» и что с ней не может сравниться ни одна другая система в мире. Все трое признавали существование коррупции и считали, что с ней надо бороться при помощи коалиции крестьян и военных фанатиков. Все трое верили в право сильного, и во имя желательного для них решения составляли заговоры против умеренных политических деятелей, генералов и финансистов. Но, несмотря на то, что все трое были согласны по этим пунктам, они питали друг к другу ненависть и недоверие.
Контакт между шайками поддерживался специальными связными, и мы теперь направлялись на берег моря,
24* 371
ЬДе нйс ожидал свяЗной по имени Bata6nKH, бывший лейтенант флота и сторонник Иноуэ. Мы уже имели две весьма продолжительные беседы с Ватабики и знали, что он отбыл длительное тюремное заключение за покушение на убийство одного из политических деятелей. Мы знали также> что Ватабики суровый и гордый человек, который воспримет наше двухчасовое опоздание как оскорбление.
«Скажем ему, что у нас лопнула камера шины», — сказала Сэлли.
Я согласился, что это неплохая мысль. Через пять минут у нас действительно лопнула камера. Мы оставили ее для ремонта в сельском гараже и поехали дальше. На расстоянии нескольких сот ярдов от дома Ватабики лопнула камера еще у одного колеса, и мы еле добрались до дома. Ватабики с достоинством выслушал наши извинения.
«Мой брат химик, — сказал он. — Он поможет вам починить камеру».
Брат Ватабики был крупный, суровый и весьма сведущий человек. Тем не менее мы провозились вчетвером целый час, чтобы извлечь камеру и починить ее. В течение этого часа мы узнали, что Ватабики и его брат добывают соль из морской воды и что брат отсидел в тюрьме пять лет. Он совершенно спокойно объяснил, что изготовлял динамит для заговорщиков и что его поймали на этом.
Камера была поставлена на место, но у нас не было насоса. Ватабики сказал нам: «Я знаю, где достать насос».
Он сел на велосипед и уехал. Через пятнадцать минут он вернулся с насосом, а еще через полчаса шина была в достаточно приличном состоянии, чтобы мы могли добраться до ближайшего города. Я предложил возвратить насос его владельцу и спросил: «Как его фамилия?»
«Его фамилия Осава, — ответил Ватабики. — Он был раньше известен под именем Хисинума. Он убил премьера Инукаи».
Мы поехали дальше к Тачибана, и я подумал, что нигде в мире нельзя представить себе иностранца, лопнувшую камеру машины которого чинит человек, приготовляющий динамит, после чего шину надувают насосом, принадлежащим убийце, и наконец еще один зло372
умышленник провожает его к главному заговорщику и вдохновителю политических убийств. Это действительно фантастическая страна.
Тачибана живет на своей ферме за пределами Мито. Там имеются большой и оживленный двор и два дома, из которых один представляет собой огромное строение с соломенной крышей, а в другом маленьком домике живет сам Тачибана.
Тачибана не проявил никакого неудовольствия, хотя мы опоздали на шесть часов. Он похож на похудевшего Распутина, портрет которого я как-то видел на русской открытке: у него редкие черные волосы, которые он, по- видимому, никогда не стриг, длинные усы, жидкая бородка и кривые зубы. Он был одет в неряшливое черное кимоно, наброшенное поверх пестрого нижнего кимоно и белого шерстяного белья. У него был твердый и острый взгляд, а его улыбка не всегда означала, что ему весело.
Мы сидели в его кабинете — большой запущенной комнате, одна стена которой была отведена под книжные полки. На полу были постланы поношенные цыновки, бумага раздвижных дверей была порвана; в течение всего нашего разговора прямо над нашими головами слышался скребущий звук. Когда Тачибана заметил, что Сэлли встревожена, он успокоил ее: «Это крыса!»
Сначала нас было шестеро: Сэлли, Рой и я, Ватабики, Тачибана и сестра последнего, простоватая женщина средних лет с приветливым выражением лица. Впоследствии мы узнали, что она была раньше известной концертной пианисткой. Вскоре после начала разговора вошел очень смуглый высокий человек и Тачибана лаконически представил его: «Мой друг Уно». Уно был одет в черный фрак, что придавало ему вид профессора.
Тачибана оказался очень разговорчивым. Он постоянно вставлял в свою японскую речь такие западные выражения, как «абсолютизм», «нигилизм», «Вильгельм-Завоеватель», «народники». Он также непринужденно цитировал Фрэзера, Льва Толстого, Гегеля, Уолта Уитмэна и других. Весь его разговор был странной смесью японской феодальной философии и западного либерализма.
«Мито Гаку» — японский тип демократии, — сказал Тачибана. — Согласно этому учению, японский народ и
373
история не могут рассматриваться в отрыве от императора. Вся нация представляет единую семью, во главе которой стоит император. Коммунисты кричат теперь, что если император не будет удален, Япония останется феодальной страной. Они не понимают сущности императорской власти. Феодализм пришел к концу восемьдесят лет назад только после того, как узурпаторы были свергнуты и к власти пришел император Мэйдзи. Именно через императора Мэйдзи учение «Мито Гаку» стало основой нашей философии».
По словам Тачибана, императоры освободили сельское население. Окончательное освобождение наступило с введением выработанного американцами закона о земельной реформе («который в точности совпадает с тем, чему я учил народ двадцать лет»). «Вся беда в том, — сказал он, — что крестьяне подвергались угнетению в течение нескольких веков, а потому они еще не понимают сущности реформы. Им нужно орудие политической власти. Им нужна политическая партия вроде крестьянской партии префектуры Ибараги».
«Я не слышал о ней, — заметил я. — Кто стоит во главе этой организации?»
Уно наклонился вперед и улыбнулся. Тачибана показал пальцем на Уно: «Он! Он председатель».
Они рассказали, что на последних выборах партия выставила трех кандидатов, из которых один получил 25 тысяч голосов, то есть на 5 тысяч голосов меньше того числа, с которым он мог бы пройти в парламент. Партия, повидимому, вербовала членов среди крестьян-бедняков, а получала деньги от помещиков.
«Правильно ли будет предположить, — спросил я, — что если г-н Уно председатель, то г-н Тачибана советник?»
Они оба нашли, что это очень забавно. Уно ответил: «Согласно директиве о чистке, г-ну Тачибана не разрешается занимать политические посты. Поэтому я председатель, а он советник».
Я сказал им, что, по моему мнению, директивы не касаются местной политики. Тогда оба начали длительную и оживленную дискуссию. Наконец Уно сказал:
«Мы проверим то, что вы говорите. Если директива о чистке действительно не относится к нам, г-н Тачибана станет председателем, а я буду советником».
Мы все засмеялись. Это была хорошая шутка.
374
«Я социалист, — сказал Тачибана, — но вместо того чтобы примкнуть к социалистам, я примкнул к молодым офицерам. Возможно, - что это удивляет вас. Причина очень проста. Социалисты и коммунисты — городской элемент, а большинство молодых офицеров родом из деревни, поэтому они глубоко озабочены бедствиями крестьян.
Вам также следует знать правду об императорах. Японские императоры являются потомками богини солнца, то есть земледельческого божества. Поэтому император связан с крестьянами крайне тесными узами.
Мне сейчас пятьдесят три года. В двадцатилетием возрасте я впервые понял * что крестьяне должны принять участие в политической жизни страны. Хотя я сам был крестьянином, я начал учиться. Сначала я заинтересовался немцами: Кантом и Гегелем. Затем прочел большую часть произведений Уильяма Джеймса и Бергсона. Я изучал также Толстого, который оказал большое влияние на мое мировоззрение.
После многих лет размышлений я открыл школу в том доме... — Он показал на большое здание во дворе. — Она называлась «Школой любви к родине»; сначала в ней было двадцать пять учащихся. Двенадцать из них впоследствии принимали участие в «инциденте 15 мая».
Он спокойно рассказал нам об «инциденте 15 мая» — попытке переворота, предпринятой «большой тройкой патриотов-террористов»: Иноуэ, Окава и Тачибана. Окава предоставил заговорщикам деньги, а Иноуэ — убийц. Молодые последователи Тачибана должны были взорвать токийские электростанции и некоторые из банков, принадлежащих дзайбацу. 15 мая 1932 г. они действительно бросили ручные гранаты, но так неудачно, что причинили ими лишь незначительный ущерб. Тачибана был предан суду, во время которого в своих выступлениях выдвигал уничтожающие обвинения против «продажного» общества. После этого он провел восемь лет в тюрьме.
Мы простились с Тачибана, и я прошел в темноте к большому зданию, чтобы убедиться, действительно ли оно занято теперь родственниками Тачибана, как он уверял нас в беседе. Дом был очень велик, и там при тусклом свете я увидел множество молодых мужчин. Как знать, может быть они действительно были двоюродными братьями Тачибана.
375
Мы поехали назад через разрушенный город Мито, и убийца Ватабики только дважды нарушил молчанье. В первый раз он спросил меня, видел ли я старинный пергамент в комнате Тачибана. Он был написан последним из военных узурпаторов и восхвалял счастливую жизнь людей в безмятежном мире:
Черепаха наслаждается покоем У мирного пруда.
Мы снова помолчали, и затем он сказал:
«Знаете, насчет этой Крестьянской партии, о которой говорил Тачибана... На самом деле ею руководит не Тачибана и не Уно. Ее настоящим главарем является зять Тачибана, Ханава. Он также подвергся чистке, но работает неофициально».
Мы довезли Ватабики до его маленького мрачного домика на берегу моря и попрощались с ним. Он7 повернулся и зашагал по узкой тропинке, проходившей по скалистому берегу — человечек невысокого роста, прямой, подтянутый, одетый в костюм, который был ему велик на три номера, но не лишал его достоинства и силы.
Потом мы вернулись в дом терпимости, и я наблюдал, как Сэлли, усталая и разбитая простудой, готовит на угольной жаровне.
«Пошлем все это к чорту, — сказал я. — Поедем сегодня же вечером в Токио». Сэлли согласилась. Она была измучена, но не хотела ничего говорить, опасаясь, что это может испортить мне интересную поездку. Мы собрались в полчаса, попрощались с «мадам» и уехали. Через шесть часов мы были в Токио.
30 сентября 1946 г. ТОКИО
В наше отсутствие китайская миссия устроила пресс- конференцию, на которой ее представители нападали на «крупных капиталистов», отказывающих Китаю в получении от Японии шелковых коконов. Это был первый случай, что китайцы взбунтовались, и сделали они это довольно энергично, говоря: «Это те же самые капиталисты, которые до войны вывозили в Японию железный лом...»
376
Мне сообщили, что когда генерал Маркат бросился к генералу Макартуру с известием о китайском заявлении, Макартур сказал с раздражением:
«А им что нужно? Они забыли, что они у нас в долгу». Мне сказали также, что генерал Макартур лично от* верг китайское ходатайство.
Причины этого поступка генерала Макартура были объяснены мне одним из его советников по вопросам шелковой промышленности: «Нет никакого смысла поддерживать китайскую шелковую промышленность, когда мы пытаемся помочь Японии».
Никто, кроме китайцев, не хочет вспоминать о том, что Китай имел в 1937 г. процветающую шелковую промышленность, которую японская армия уничтожила с корнем. В то время японские шелковые фабриканты так же мало любили конкурентов, как и теперь.
4 октября 1946 г. ТО К И О
«Иомиури» снова заставляет говорить о себе.
После отчаянных маневров, продолжавшихся четыре месяца, профсоюз работников печати и радио, организованный Кику нами, сегодня забастовал. Забастовка объявлена с целью заставить издателя Баба выполнить постановление Бюро трудового арбитража и снова взять на службу 31 рабочего, которых он уволил в июле. Но фактически этим не исчерпывается значение забастовки в «Иомиури». Профсоюз добивается большего, чем исполнение справедливого решения по отношению к 31 трудящемуся. Он борется за собственное существование.
Японские издатели постепенно уничтожают профсоюз при помощи генерала Бэйкера и майора Имбодена. Баба создал в своей газете свой собственный профсоюз; Имбоден помог уничтожить профсоюз, существовавший в одной из газет на севере. Теперь он наступает на два больших газетных предприятия — «Асахи» и «Майиици». Профсоюз знает, что он будет обессилен, если Имбоден добьется успеха.
Но даже это объяснение слишком просто. Ни Бэйкера, ни Имбодена нельзя назвать влиятельными людьми. Оба* они являются орудиями политики, которая неминуемо
377
уничтожит прогрессивную прессу Японии. Дело идет уже не о борьбе с коммунизмом. Бэйкер и Имбоден теперь преследуют и умеренные элементы, которые критикуют «послевоенную демократию» и ее японских сторонников.
На этот раз профсоюз работников печати и радио лучше подготовлен, чем в июле. Он борется не один. Газетная забастовка будет частью движения, которое рабочие называют «октябрьским наступлением». Вместо того чтобы объявить общую забастовку, которую может запретить американский штаб, профсоюзы будут бастовать один за другим, и каждый из них будет предъявлять требования о повышении заработной платы. Вторую очередь забастовщиков составляют шахтеры. Третью — работники электростанций.
Принимаются специальные меры для того, чтобы американский штаб не смог запретить забастовки. Печатники будут продолжать набирать и печатать армейскую газету. Бастующие работники радиостанций будут продолжать работу на военных станциях. Японские газеты перестанут выходить, но будут выпускаться специальные листовки со всеми новыми американскими директивами и сообщениями о процессах военных преступников.
Корреспондентам сообщили о забастовке во время пресс- конференции, созванной профсоюзом. Двое из них, известные своими антирабочими взглядами, очень ловко пытались поймать представителей профсоюза, вызвав их на антиамериканское заявление. В виде приманки они использовали посещение «Асахи» майором Имбоденом. Насколько известно, почтенный майор ничего не сказал, но у него просто был суровый вид. Однако как только он уехал, администрация распустила слух, что американский штаб собирается занять редакцию, если союз решится на забастовку.
Представитель профсоюза выбирал слова для ответа с большой осторожностью:
«Я слышал, что майор Имбоден посетил «Асахи», но мне не хотелось бы говорить об этом. Все, что мы делали, делается с целью защиты интересов трудящихся. Кроме того, мы сохраняем при этом полное уважение к оккупационным войскам... Со времени посещения майора ь «Асахи» царит атмосфера неуверенности. Нас беспокоят не 378
страдания, которые нам грозят, а солидарность трудящихся. Наш союз —молодая организация, и на нас воздействуют сильные внешние влияния».
Посетив позднее пострадавшую от пожара электростанцию, которая служит штабом забастовщиков, мы узнали о том, каковы некоторые из этих «внешних влияний». Двухэтажное здание электростанции похоже на почерневший скелет. Забастовщики повесили там несколько тусклых лампочек, построили примитивную лестницу и привезли несколько старых столов и скамеек. В одном углу работал «финансовый комитет». В другом углу второй комитет рассматривал проблему получения риса для пикетчиков. Художники писали плакаты, на ротаторе печатались листовки, связные бегали взад и вперед. Посреди комнаты заседал «комитет руководства забастовкой».
Фромм, Костелло и я пришли как раз в тот момент, когда было получено сообщение от одной из газет, выходящих в южной части Японии. Там говорилось, что, после того как рабочие вынесли постановление о забастовке, в редакцию явился американский сержант и заявил, что забастовка не будет разрешена.
Мы все еще были там, когда явились два возбужденных делегата, которые беседовали в штабе с американским офицером отделения радио. По их словам, он прямо сказал им, что если забастуют работники радио, он отправит их в тюрьму.
«Таков приказ штаба. Если вы не будете повиноваться, вам придется отвечать за последствия».
В подобных случаях нелегко принять решение. Возле нас тесным кольцом стояли мрачные и молчаливые люди, ожидавшие решения комитета. Работа везде прекратилась, и к нам подходило все больше народа. Члены комитета шептались между собой. Наконец заговорил председатель:
«Мы не будем мешать радиопередачам американской армии. Мы только хотим использовать наше законное право на забастовку, предоставленное нам генералом Макарту- ром. Забастовка на радиостанциях начнется в намеченный срок».
Посещение издательства «Асахи» майором Имбоденом было ловким ходом, так как забастовщики признают
379
единственную аксиому: «Куда идет «Асахи», гуда идет и вся пресса».
Вся огромная сила, стремящаяся сломить забастовку — американский штаб, кабинет Иосида, издатели, — концентрирует теперь все свое внимание на «Асахи», и особенно на большой комнате в верхнем этаже, где рабочие сидят уже почти двадцать четыре часа, пытаясь притти к какому-нибудь решению. Один раз они уже вынесли постановление о присоединении к забастовке, но потом наиболее боязливые среди них потребовали дополнительного обсуждения.
В полночь было получено сообщение, что «Асахи» может изменить свою позицию и прекратить забастовку. Я отправился в издательство газеты «Асахи» вместе с Хью Дином, корреспондентом агентства «Аллайд Лейбор Ньюс». Мы вошли в переполненный зал как раз в тот момент, когда делегация от забастовщиков «Иомиури» страстно просила поддержки. Настроения в этом зале было легко уловить, и мы видели, как они менялись по мере того как выступал один оратор за другим. Последний оратор выразил словами то, что было в мыслях у каждого:
«Генерал Макартур против забастовок. Он не остановится перед тем, чтобы закрыть «Асахи», если мы забастуем. Вы видели майора Имбодена...»
Когда наконец было принято решение не бастовать, наступило молчание. В зале были слышны только рыдания: плакали и победители, и побежденные. Даже противники забастовки говорили, что они действовали только под влиянием страха.
5 октября 1946 г. ТОКИО
г Сегодня утром замолкло пять миллионов радиоприемников во всей Японии. Несмотря на вчерашнее решение «Асахи», работники радио все-таки высказались за забастовку. Гнев официальных кругов направлен теперь на «Май- ници», служащие которой голосовали за присоединение к забастовщикам. Один из редакторов сказал мне, что администрация «Майници» совещается с генералом Бэйкером для того, повидимому, чтобы выработать дальнейшие стратегические меры.
380
Я отправился в штаб, в отдел труда, чтобы выяснить его позицию по отношению к забастовке. Я нашел там только группу обескураженных, разочарованных людей. Наша политика в Японии была основана на предпосылке, что сильное рабочее движение является лучшей защитой демократии. Отделу труда была поставлена задача вырастить сильные профессиональные союзы. Но еще прошлой весной отдел труда обнаружил, что сильное рабочее движение ненавистно многим влиятельным людям из штаба. В то время как отдел труда благосклонно разговаривал с руководителями японских профсоюзов, агенты контрразведки разгоняли демонстрации, Имбоден начал свою кампанию против профсоюзов, и на арене появился генерал Бэйкер. Американскую политику в Японии в вопросах труда начали переделывать большие и малые люди, начиная с сержантов в дальних отрядах и кончая самим генералом Уиллоуби. Время от времени отдел труда пытался подчеркнуть свой интерес к этому вопросу. Но его тотчас же одергивали. Начальник отдела Коэн, молодой человек, одержимый патологическим страхом перед тем, что его назовут «красным» (хотя сам бог свидетель, что это не так), не может выдержать борьбы с сильной военной оппозицией. В настоящий момент даже японские рабочие не обращают особого внимания на отдел труда. Они дорого заплатили за то, чтобы узнать, кому принадлежит настоящая власть в американском штабе.
«Мы получили приказ не вмешиваться в эти беспорядки, — сказал нам офицер. — Кроме того, нам приказано не разговаривать с корреспондентами. Уходите».
Таким образом, в момент, когда японские рабочие ведут самую жестокую борьбу за всю историю своего существования, а Бэйкер и Имбоден заняты деятельностью, известной под названием «разгром рабочего движения», отдел труда стремится остаться в стороне.
В полдень рабочие «Асахи» решили в четвертый раз пересмотреть свое решение. Они вернулись в зал, и снова начались споры. В этот момент расстановка сил была следующей: сорок газет по всей Японии высказались за забастовку, три были против, а тринадцать заняли выжидательную позицию. Но «Асахи» попрежнему остается сердцем всего движения. Пока эта газета работает, настоящей
381.
забастовки нет. Если «Асахи» прекратит работу, то и другие газеты закроют свои типографии. Работники радио борются сами по себе. Правительство сегодня грозило открыть временную радиостанцию, но обнаружило, что там некому будет работать. Издатель «Иомиури» Баба объявил тем временем, что он намерен начать кампанию за создание ряда профсоюзных организаций в издательствах японских газет.
После полудня полиция оцепила издательства всех газет в Токио. Служащим разрешалось выходить из зданий, но обратно их не пропускали. Таким образом, массовые митинги, устроенные в полдюжине газет, оказались изолированными друг от друга. Центральный стачечный комитет пытался выйти из положения, установив громкоговорители на грузовиках. Проезжая мимо здания «Асахи», представители стачечного комитета обращались к работникам газеты с призывом присоединиться к забастовке. Вскоре после полудня американская военная полиция разогнала собрание работников радио, а японская полиция сделала то же самое с другим митингом.
Несколько позднее процессия сочувствующих забастовке прошла мимо здания «Иомиури». Демонстранты громко пели и размахивали транспарантами с обличениями, направленными против Баба, кабинета Иосида и так называемых «увольнений, вызванных кризисом». Двери «Иомиури» были заперты. Охранники стояли у окон верхнего этажа и выкрикивали вызывающие и оскорбительные фразы.
Вся команда корреспондентов «принимала парад». Независимо от того, кому мы сочувствовали — издателю Баба или забастовщикам, — это невзрачное здание стало для каждого из нас испытательным участком нашей политики в Японии. Все мы знали о секретных мерах, предпринятых против забастовки американской армией. Но все мы задавали себе вопрос, не превратятся ли эти меры в решительные действия.
Мы получили ответ. Сэлли и я сидели в своем виллисе на углу около здания «Иомиури». К нам подошел военный полицейский и спросил меня, что я тут делаю. Я показал ему на надпись «Чикаго сан», выведенную на виллисе буквами в целый фут величиной. Он записал мою фамилию
3*2
и номер машины, потом сказал: «Проезжайте». Я ответил ему, что останусь здесь и буду наблюдать за процессией. На этом наш разговор закончился.
Тем временем перед зданием «Иомиури» начали действовать околс сотни японских полицейских и отряд американской военной полиции. Процессия забастовщиков проходила в полном порядке. Внезапно на них напали вооруженные люди, толкая демонстрантов, отбирая плакаты, ломая ряды. Демонстранты не сопротивлялись, но, по мере того как полиция разгоняла одну группу, в другом месте уже возникала другая. Руководители восстанавливали поря- док. Как мужчины, так и женщины строились в новые ряды, пели и размахивали флагами.
Пока все это происходило, капитан Уильям Райли, командовавший отрядом военной полиции, приказал американским журналистам сойти с тротуара. Когда Костелло, у которого болит нога, отстал от других, Райли стал грозить ему арестом. Костелло, чрезвычайно спокойный и сдержанный человек, сказал капитану, что он может арестовать его, если хочет. Тут в дело вмешалась Маргарет Партон:
«Да, да, действуйте! Арестуйте и меня тоже!»
! Райли передумал.
В 8 часов вечера рабочие «Асахи» в третий раз подтвердили свое решение не присоединяться к забастовке. Однако на этот раз горечь сломила стену сдержанности. Лишь немногие рабочие скрывали теперь свое недовольство американской политикой. Они вставали один за другим, выкрикивая слова сочувствия забастовщикам и протестуя против политики запугивания.
«Если бы мне позволили говорить о политике союзников по отношению к рабочему движению и прессе, я мог бы говорить три часа, — сказал молодой сотрудник «Асахи».— Теперь очень много говорят о свободе печати. А как же насчет цензуры, которая запрещает нам критиковать наше собственное правительство?
Американский штаб разрешает нам печатать все, что мы хотим, но ожидает, что мы будем печатать только пропаганду. Теперь он пытается сломить «Асахи» и «Майници». Три месяца назад штаб сделал «Иомиури» предостережение по поводу «неточности информации». Это уничтожило
383
«Иомиури». Теперь предостережение сделано «Асахи», и майор Имбоден нападает на нас за то, что мы поместили статью, уже прошедшую американскую цензуру».
После собрания люди выходили из здания со слезами. Толпе, ожидавшей на улице, не было необходимости сообщать о том, что произошло. Об этом свидетельствовали рыдания. Я отправился в стачечный комитет, расположившийся на старой электростанции. Там было несколько десятков мужчин и женщин, но воинственны* дух исчез. Забастовщики получили горький урок. Один из их руководителей оказался правительственным провокатором, который имел постоянное общение с секретарем Иосида. Я отвел Кикунами в уголок, чтобы поговорить с ним. Он был совершенно измучен.
«Печатники были с нами, — сказал он, — но служащие испугались. Их нужно долго воспитывать, чтобы они научились отстаивать свои права».
Я был с Кикунами, когда было получено сообщение о том, что «Майници» снова изменила свое решение в пользу забастовки. Впрочем, это развеселило лишь немногих в этой мрачной темной комнате. Они знали, что служащие «Майници» опять передумают, когда услышат о решении «Асахи».
5 октября 1946 г. ТОКИО
Газетная забастовка заглохла. Выявилась рознь между профсоюзом работников печати и Национальным конгрессом производственных профсоюзов, хотя во главе обеих организаций стоит Кикунами. Профсоюз газеты «Асахи» распадается, и Кикунами должен будет уйти. Осмелевшее правительство Иосида отдало полиции приказ «действовать энергично». Некоторые японские чиновники уже собирались на заседания, чтобы наметить план кампании против профессиональных союзов. Один из членов профсоюза сказал мне сегодня, что последние два дня были «самыми мрачными после капитуляции».
Неудачи начались вчера утром. Несколько забастовщиков пытались помешать развозке отпечатанных номеров «Майници» и «Иомиури». Они оцепили кипы газет и взялись за руки. Дирекция вызвала полицию. Восемь заба-
384
стовщиков было арестовано, а штаб забастовки, находившийся в соседнем здании, был закрыт.
После полудня полиция приказала забастовщикам покинуть здание токийской радиостанции. Оттуда вышло около пятидесяти мужчин и женщин, которые маршировали с пением, построившись рядами. Когда они появились на тротуаре, на них набросилась полиция. Руководителя группы, молодого человека в темном костюме и в очках, ударили по голове полицейской дубинкой. Когда он повернулся, оглушенный ударом, полицейский стал бить его по лицу. Одну из женщин, пытавшуюся протестовать, ударили палкой по губам. Забастовщиков гнали через улицу, избивали дубинками, толкали ногами и хлестали по лицу.
Но полиция допустила тактическую ошибку. Всю сцену наблюдали журналисты из своей комнаты. Хэндлман из Интернэйшнл Ньюс Сервис и Фромм остановили полицейского, ударившего молодого человека, и спросили его фамилию. Полицейский извлек свою визитную карточку и казался очень довольным всем ходом дела. Пока они разговаривали, подбежал пострадавший. У него была разорвана рубашка. Он кричал: «Вы не смеете так поступать с нами! В Японии демократия!»
Хэндлман повел полицейского к японскому капитану, командовавшему отрядом. Выслушав объяснения полицейского, капитан высказал свое мнение:
«Произошла ошибка!»
Однако, испытав однажды старое удовольствие разгонять толпу, японская полиция снова втянулась в это занятие. Сегодня после полудня на Императорской площади собралось около четырех тысяч человек на «картофельный митинг». Это собрание было созвано в знак протеста по поводу порчи нескольких сот тонн картофеля, задержанного на железнодорожных станциях из-за чиновничьей неразберихи.
После митинга шестьсот демонстрантов отправились к полицейскому управлению столицы. Когда они собрались перед огромным красным кирпичным зданием, оттуда вышел летучий отряд полицейских и напал на толпу. Тринадцать демонстрантов серьезно пострадали, и демонстрация была рассеяна.
25 М. Гейн
385
После разгона демонстрации группа из двадцати мужчин и женщин посетила штаб бастующих работников радио. Они сказали им: «Мы хотим, чтобы вы боролись до победы».
Одна из женщин, которая рассказывала, что ее ударили по голове, показывала на свою смятую прическу с таким видом/ как будто это был почетный знак. В обычное время это могло бы показаться смешным. Но теперь никто из нас не нашел в этой сцене никакого комизма. Это был драматический эпизод, в котором действовали маленькие люди, принимавшие всерьез свои демократические права. Разве их не уверили в том, что по новым законам страны они имеют право на забастовки, на коллективные договоры, на то, чтобы открыто высказывать свое недовольство?
Сегодня в Клубе журналистов в качестве гостя одного австралийского корреспондента был молодой японец, который называет себя родственником премьера Иосида. Журналист говорит о своем госте, как о «молодом человеке с оксфордским акцентом и гомосексуалистским хихиканием». Мы разговаривали о произволе полиции, и хихикающий молодой человек сказал своим визгливым голосом:
«Знаете, старина, нельзя осуждать этих молодцов за то, что они разгоняют демонстрации. Они не веселились так с момента капитуляции Японии».
После обеда Маргарет Партон и я работали над своими сообщениями для печати. Мы случайно обнаружили, что начали их совершенно одинаково:
«Сегодня, через два часа после того, как парламент принял новую конституцию, которую официально называют демократической, полиция грубо разогнала демонстрацию бастующих работников радио...»
Дело в том, что сегодняшний день должен быть большим днем для Японии: это день формального объявления о создании «демократического государства», основанного на уважении к человеческим правам, — государства, в котором никто не будет разбивать людям головы за протесты против порчи продуктов питания в голодный год, государства, в котором законы издаются для того, чтобы правительство их выполняло, а не саботировало. И, как бы символизируя тот огромный, широко разрекламирован-
ный мираж, которым является японская демократия, в этот день слышались не веселые крики радостной толпы, а стоны людей под дубинками полицейских.
Несколько позднее среди большой группы журналистов начался оживленный спор по поводу положения на рабочем фронте; многие корреспонденты вспоминали вашингтонский «голодный поход», который генерал Макартур помогал разгонять в 1932 г. Вскоре пятеро из нашей группы— Партон, Уокер, Костелло, Фромм и я — начали составлять письмо Макартуру с просьбой предоставить нам групповое интервью. Письмо было очень простым: мы указывали, что действия некоторых чинов штаба за последние недели говорят о перемене политики Соединенных Штатов в Японии по отношению к рабочему классу и почтительно просили дать нам возможность получить по этому поводу соответствующую информацию.
Лично я нахожусь в недоумении. Если считать эту забастовку политической, она, несомненно, подпадает под положения той мудрой политической декларации, которая была послана генералу Макартуру тринадцать месяцев назад государственным департаментом, военным и морским министерствами США. Генералу было специально приказано «разрешать и поощрять» изменения формы правления, даже если бы это вызывало применение силы японским народом. Иосида внушает столь глубокую всеобщую ненависть, что о ней известно даже американскому штабу. Однако все усилия народа сбросить Иосида встречают определенное, хотя и скрытое сопротивление. Я убежден, что если бы штаб не вмешался в ход газетной забастовки, кабинету Иосида пришлось бы уйти.
Если же забастовка не является политической, то, в свете объявленной нами политики в Японии по вопросам труда, мы не должны были вмешиваться в нее и разрешать японской полиции препятствовать законным требованиям повышения заработной платы. Даже по собственной статистике американского штаба, японский рабочий не может прожить на те 500 иен (33 доллара) в месяц, которые предоставляются ему по закону.
Как бы ни смотреть на этот вопрос, он является трагической ошибкой в нашей политике. По нашим словам, наша цель заключается в воспитании в Японии защитников демократии, с тем чтобы демократия могла пережить
387
25*
наступление «старой гвардйй^, коГдй мы СлоЖйм Свои ЧёМб- даны и поедем домой. К основным защитникам демократии мы отнесли рабочих. Однако как только рабочее движение начинает оживляться, мы пытаемся подавить его и спешим наклеить на него «красный» ярлык. Американцы, которые делают это, мелкие люди в своих взглядах на демократию и на наши цели в Японии. Единственный результат, которого они достигли,— это раскол рабочего движения Японии на два лагеря, из которых, повидимому, ни один не является желательным для нас. Один лагерь состоит из робких «некрасных», которые хотят остаться в стороне сегодня, так же как они захотят остаться в стороне в тот момент, когда японские националисты открыто захватят власть. Второй лагерь — это лагерь «красных», куда наша политика толкает озлобленных людей, которых мы призывали надеяться, обещали сделать сильными, а вместо этого отдали во власть полицейской дубинки и правительства, составленного из прежних правителей Японии.
9 октября 1946 г. ТОКИО
Непристойный торг продолжается спустя два месяца после того, как японцам было приказано ввести закон о земельной реформе. Японское сопротивление было почти столь же искусным и упорным как и в вопросе о дзайбацу. «Старая гвардия» проявила гениальную способность к саботажу, которая заставляет наших офицеров ахать от удивления.
Японцы пользуются тактикой, которая называется здесь «погоней за собственным хвостом». Так, например, они посылают какой-нибудь проект на утверждение в отдел природных ресурсов, которым заведует полковник Шенк. Американцы находят в нем множество лазеек и отправляют его обратно для переработки. Японцы вносят желаемые изменения, но устраивают хитрые лазейки в других местах. Таким образом, только к середине августа генерал Макартур смог одобрить проект реформы.
Недавно эксперты из отдела по делам японского правительства генерала Уитни детально рассмотрели этот одобренный проект и нашли в нем целый ряд дефектов. Главный из них заключается в том, что успех проведения 388
реформы зависит от местных комитетов, в которых преобладают помещики. Американцы сказали об этом японцам. Японцы пожали плечами и ответили, что ничего не могут сделать, так как «генерал Макартур уже утвердил проект».
Пять дней назад полковник Кейде, помощник генерала Уитни, встретился с полковником Шенком, чтобы выяснить, нельзя ли принять какие-нибудь меры предосторожности. Шенк, который не слишком доволен тем, что Уитни вторгается в его область, также сказал, что он не может ничего сделать:
«Генерал Макартур поручил мне свято хранить этот законопроект».
10 октября 1946 г, ТОКИО
Одна из главных трагедий оккупации заключается в том, что мы избрали мелких людей для выполнения одной из самых трудных задач в нашей истории. Встречаются, конечно, отрадные исключения. Но слишком много людей в слишком большом числе отделов проявляют жалкое бессилие в подходе к задачам, которые они призваны разрешать. Некоторые ошибки только смешны. Но есть и такие неправильные суждения, которые приводят к тяжким страданиям людей, экономической разрухе и душевной опустошенности. Еще хуже неумелого руководства тот факт, что многие американцы не понимают сами духа демократии, которую они должны прививать.
Очень типичны два замечания, сделанные американцами по поводу приказа, на основании которого «принцам императорской крови» было запрещено «кормиться у общественного корыта». Приказ был подготовлен несколькими энергичными офицерами из финансового отдела генерала Марката. Не успел еще кончиться день, как в отдел дважды с возмущением звонили по телефону.
Первым позвонил генерал, стоявший во главе одного из отделов.
«Что вы хотите сказать этим возмутительным приказом? — спросил он. — Разве вы не понимаете, что это заставит принцев искать работы?»
Вторым был полковник, стоящий близко ц генералу Макартуру;
389
«Этот приказ ставит принцев на одну доску с другими людьми. Вы не имеете права делать это! Они же коронованные особы! Выходит, что теперь их можно привлекать к ответственности, как обыкновенных людей!»
Отдел ответил быстро и гораздо смелее, чем можно было ожидать:
«Мы думали, что в этом и заключается демократия!»
Я начал думать на эту тему сегодня, после того как прочел отрывки из личного меморандума, написанного майором Имбоденом и распространяемого теперь в Клубе журналистов. Особенно многозначительными показались мне не нападки Имбодена на понятие о военных преступлениях или на профсоюзы (которые мы все-таки дали слово поддерживать), или на отдел труда при штабе. Меморандум заинтересовал меня прежде всего как политическое кредо человека, которому мы поручили дать Японии подлинно демократическую прессу.
«Представление о реорганизации [японской прессы],— писал Имбоден, — было основано на убеждении, что японцы сами выполнят это дело и избавятся от редакторов и от хозяев военного времени... Личная свобода всегда была главным элементом в моей психике, и, по моему представлению, социальная и экономическая система прессы, основанная на понятии «военной вины», грозит уничтожить в Японии свободу слова...
Развитие японского промышленного общества сопровождалось уравнивающими мерами, проводившимися через профсоюзы и незаметно производившими порабощающее действие...
Что касается Баба, то это, повидимому, один из японцев, умеющих ценить личную свободу. Я настоятельно рекомендую, чтобы мы добились разрешения помочь Баба в его затруднениях... Баба не к кому обратиться. Он совершенно одинок, так как отдел труда, повидимому, заинтересован только рабочими, объединенными в профсоюзы, и их правом бастовать, независимо от того, справедливы или несправедливы их требования...»
Но Имбоден только орудие, незначительная фигура в сложном военном сверхправительстве, которое управляет Японией. Политика и высокая стратегия определяются
390
десятком людей, окружающих генерала Макартура и известных под названием «внутреннего кружка», или «батаанских ребят». Некомпетентность встречается здесь сравнительно редко. Большинство этих людей хитры, энергичны и беспощадны. Грехи, которые мы находим у них, являются типичными грехами военных умов, воспитанных на идеях порядка и дисциплины, привыкших прибегать к силе для решения трудных проблем и (за немногими исключениями) лишенных тех талантов, которые нужны для государственного деятеля. Во «внутреннем кружке» имеются люди, которые до войны были штатскими. Однако и они путем ассимиляции приобрели «военный ум».
В настоящее время во главе «внутреннего кружка» стоят начальник штаба генерал П. Дж. Мюллер и генералы Маркат, Уиллоуби и Уитни. Есть также несколько полковников, приближенных генерала Макартура, которые пользуются большим влиянием, но Макартур советуется именно с этим кружком.
Генерал Маркат когда-то редактировал автомобильный отдел в газете, издающейся в одном из западных штатов, и все еще любит напоминать своим слушателям о том, что он журналист. Во время войны он стал начальником зенитной артиллерии генерала Макартура. Вот почему люди, знающие его прежнюю квалификацию, не могли понять, по какой причине он был назначен начальником научно-экономического отдела и, таким образом, получил полномочия, в которых (если провести аналогию с правительством США) соединяется власть министра финансов, министра труда и торговли, директора Бюджетного бюро и председателя правления системы федеральных банков. Именно тогда в среде чиновников Токио появилась жестокая и совершенно неоправданная шутка о том, что Маркат «худшая ошибка Макартура». Генерал Макартур не сделал ошибки, назначив Марката на этот пост. Ему нужно было, чтобы во главе множества подозрительных штатских экспертов, занимающих ответственное положение, стоял лойяльный военный, и он выбрал Марката. Последний откровенно признался в своей некомпетентности и охотно согласился принимать советы своих экспертов. Он брал с собой на самые важные финансовые совещания кожаный кавалерийский хлыст, взмахами которого он подчеркивал главное в своих выступлениях. В море технических дета391
лей он чувствовал <себя гибнущим кораблем. Короткий период его председательства в Союзном совете был провалом из-за того, что он вел себя как сержант на учении. Тем не менее он выполнил миссию, порученную ему генералом Макартуром, и остался наиболее симпатичным из членов «внутреннего кружка». Он никогда не старался казаться таким человеком, каким он явно не мог быть, и у него было слабо развито чувство юмора.
Уиллоуби и Уитни весьма различны. У обоих быстрый и многогранный ум. Оба они очень ясно представляют себе, какой они хотели бы видеть Японию, и оба энергично борются за то, чтобы привлечь на свою сторону генерала Макартура. Если в крайнем консерватизме могут быть градации, Уитни более либерален, чем Уиллоуби. Оба увлечены мыслью о нанесении поражения России и коммунизму, но различно представляют себе методы борьбы. Уиллоуби верит в подавление, в радикальные хирургические меры. Уитни считает, что небольшая доля реформ может привлечь больше союзников на нашу сторону, чем работа дубинками. Оба ненавидят друг друга.
Четыре недели назад в местном Стенфорд-клубе Уиллоуби произнес речь, в которой полностью отразилась его политическая философия. Как передавал мне один американский слушатель, Уиллоуби сказал:
«Японская армия была первоклассной армией. Она хорошо сражалась. Ее обвиняют в жестокости. Но это вполне понятно, когда армия сражается при тяжелых обстоятельствах...
Я знаю, что многие из вас обеспокоены возможностью новых конфликтов на японской земле. Я хочу, чтобы вы знали, что мы будем стоять плечом к плечу с вами, если такие конфликты разразятся. Я хочу также сказать вам, что у вас много друзей в американском штабе».
Обстоятельства, в которых это было сказано, еще более многозначительны, чем сама речь. Генерал произнес ее на собрании, где присутствовало около двадцати пяти японцев и четыре или пять американцев. Японцы, среди которых было много представителей дзайбацу, были чрезвычайно довольны. Один из них впоследствии просил меня узнать, говорил ли Уиллоуби от имени генерала Макартура и будет ли Япония нашей союзницей в будущей войне
393
с Россией. («Вы вынуждаете меня к тому, чтобы я не выступал частным образом ни перед одной группой людей,— сказал мне Уиллоуби раздраженно, когда я задал ему эти вопросы. — Честное слово, я не помню, что я говорил. Там была небольшая группа японцев. Это были совершенно незначительные люди. Понимаете, это была группа нищего дворянства».)
Общим знаменателем для всех членов «внутреннего кружка» является их преданность генералу Макартуру. Те из них, кому нехватало полной меры лойяльности, давно оказались брошенными по дороге. Именно эта преданность заставляет многих из них враждовать друг с другом из-за права стать ближе к шефу. Некоторые прониклись враждой к генералу Дайку, когда им показалось, что ему слишком везет. Генерал Бэйкер, который постоянно бывает с генералом Макартуром в качестве начальника отдела печати и, тем не менее, не состоит в числе его главных политических советников, открыто критикует кое-кого из своих конкурентов. Бэйкер, может быть, не знает этого, но некоторые из его едких острот по адресу других генералов широко известны в Клубе журналистов.
Состав «внутреннего кружка» является текучим, может быть, в результате этого соперничества. В течение первых шести недель оккупации двумя наиболее влиятельными людьми в американском штабе были полковник Сидней Ф. Мэшбир и бригадный генерал Боннер Феллере. Мэш- бир, являвшийся одним из главных офицеров разведки Макартура во время войны, постоянно был рядом со своим начальником. Но он сделал несколько неловких заявлений, журналисты ими воспользовались, и Мэшбир быстро исчез со сцены, так как в этой «труппе» неблагоприятная реклама является одним из самых непростительных грехов. Феллере продержался несколько дольше, но и он не смог пережить нескончаемой грызни в штабе.
Если вообще можно считать кого-нибудь из «батаанских ребят» склонным к политическому анализу и философии, с наибольшим основанием это можно было сказать о Фел- лерсе. Я не знаю точно, какое влияние имел Феллере на ход мыслей генерала Макартура, но меня постоянно поражает тот факт, что я нахожу отражение мыслей Фел- лерса 6 высказываниях генерала. До недавнего времени!
393
когда (по его словам) генерал Макартур приказал ему «держать язык за зубами», Феллере охотно говорил почти на любую политическую тему. Таким образом, собралось довольно большое число записей, содержащих его политические и общественно-философские взгляды.
Так, например, Феллере убежден, что президент Рузвельт заставил Соединенные Штаты вступить в войну и что войны с Германией вообще не должно было быть.
«Император Хирохито не больший военный преступник, чем Рузвельт, — сказал он одному корреспонденту. — В сущности говоря, если внимательно познакомиться с делом...»
По мнению Феллерса, советское влияние усиливается и может даже достигнуть Ла-Манша. Другими словами, русские «наступают на белые народы, которые ищут руководства у Англии. Славяне несут с собой коммунизм, и именно англо-саксам суждено спасти Запад...»
Он задает вопросы:
«Погибнут ли те страны, откуда произошли белые народы, если Соединенные Штаты уйдут из Европы?» Его собственный ответ на этот вопрос нельзя считать неожиданным.
«Для того чтобы спасти колыбель белой расы, поч4ц стоит начать новую войну».
Феллере считает, что флот отжил свой век.
«Это сделала атомная бомба, — говорит он. — В будущей войне флот будет занят исключительно перевозкой грузов».
Неудивительно, что «батаанские ребята», судьба которых неразрывно связана с судьбой генерала Макартура, убеждают его выступить на более обширной сцене. Одним из самых заветных секретов «внутреннего кружка», о котором говорят шопотом, но никогда еще не писали в печати, является рассказ о том, как генерал Макартур чуть не пропустил кульминационный пункт своей карьеры—оккупацию'Японии.
Во время последней стадии боев за Европу в 1944 г. советники' генерала почувствовали, что наступило время выступить на более обширной сцене. Они считали, что переброска людей и боеприпасов на тихоокеанский театр войны займет много месяцев. Для генерала это были бы месяцы вынужденного и нежелательного пребывания в тени»
394
Советники держались того мнения, что вместо ожидания генерал должен добиваться назначения на более ответственный пост в другом месте. Им хотелось видеть его представителем Соединенных Штатов в освобожденной Европе, неприступным утесом, противостоящим иностранным интригам. Советники, увлеченные этой мечтой, убеждали генерала Макартура сообщить, что со взятием Коррехидора и Батаана он успешно выполнил свою миссию, и объявить, что он свободен для новых поручений.
Генерал Макартур не принял этот совет. Может быть, он считал, что его миссия не будет закончена, пока он не вступит в Токио. Может быть, он не был уверен, что после его отказа от службы на Тихом океане ревнивый Вашингтон даст ему достойное поручение в другом месте. Во всяком случае интересно предположить, что случилось бы, если бы он был избран нашим представителем в Европе.
Последовал ли бы он и там политическим прецедентам, которые он создал здесь в Союзном совете? Превратились ли бы наши отношения в Европе в те позорные дрязги, которые через каждую среду выставляются напоказ в зале заседаний Совета? Стали ли бы мы поддерживать европейских иосида и сидехара? Стали ли бы его генералы смотреть на Европу как на плацдарм для будущей войны с Россией или как на континент, занятый двумя десятками наций, из которых у каждой есть своя гордость, свои нужды, свое стремление к миру, своя собственная жизнь и своя внешняя политика?
Однако люди, которые хотели, чтобы генерал выступал в качестве представителя Соединенных Штатов в Европе, смотрели даже на эту роль как на трамплин к самой большой роли из всех: к посту президента Соединенных Штатов. Хотя об этом знали лишь немногие американцы, «внутренний кружок» в течение многих лет работал как хорошо слаженная политическая машина, связанная тесными узами с крепким, консервативным, изоляционистским ядром республиканской партии и с ее «любимым сыном».
В этой группе главной фигурой был Феллере, друг Герберта Гувера и генерала Р. Э. Вуда, председателя правле-
395
ния фирмы Сирс—Робак и бывшего руководителя организации «Америка прежде всего»1. Другим важным лицом в штабе был Дж. Вудолл Грин, который теперь работает в отделе гражданской информации и просвещения. Грин— миллионер, бывший член национального комитета республиканской партии и друг полковника Роберта Маккормика, владельца «Чикаго трибюн». Во время войны Грин выразил желание работать с генералом Макартуром в Австралии. Из штабных сплетен видно, что одна из главных задач Грина заключалась в том, чтобы постараться выяснить отношение генерала Макартура к выставлению его кандидатуры на пост президента.
В 1944 г. некоторые из помощников генерала Макартура собрались на секретную конференцию в Брисбэйне, чтобы обсудить шансы генерала на выборах. Среди присутствующих были Филип Лафоллет, служивший в то время в штабе генерала Макартура, и генерал Уиллоуби, страстный республиканец. Решение было, конечно, против того, чтобы выставлять кандидатуру генерала. Все понимали, что победить президента Рузвельта трудно. Кроме того, генерал Макартур хотел закончить свою миссию на Тихом океане.
Но люди, окружающие генерала Макартура, теперь ждут новых выборов. «Мак уже немолодой человек, — сказал на прошлой неделе один полковник группе наших корреспондентов. — У него и поныне быстрый и острый ум. Но жить ему осталось не так долго. Он работает чрезвычайно напряженно. В шестьдесят шесть лет нельзя слишком долго вести такой образ жизни. Когда он устает, мы замечаем, как он постарел. Он знает, что это последние выборы, где он может выступить или проявить свое влияние. Мы все считаем, что он попытается сделать то или другое».
1 Профашистская организация, возникшая в сентябре 1940 г. В ее рядах подвизались германские и японские агенты и американские изоляционисты. Комитет «Америка прежде всего» вел активную профашистскую пропаганду вплоть до нападения Японии на Пирл Харбор. Возглавляли и субсидировали эту организацию такие американские промышленники и реакционные деятели, как Генри Форд, Роберт Маккормик, Герберт Гувер, ДЖСН Даллес. (Прим, ред.)
396
ТОКИО
12 октября 1046 г.
Сегодня я поехал под сильным холодным дождем в парк Хибия, чтобы посмотреть на собрание забастовщиков. Ожидалось пятьдесят тысяч человек, но собралось только около двух тысяч, и все они прятались под зонтами или тщетно искали защиты под деревьями, оголенными осенним ветром. Сначала предполагалось, что митинг будет устроен на Императорской площади. В последнюю минуту полиция заявила, что император собирается пройти через площадь, а потому присутствие толпы нежелательно, и грозила .разогнать митинг, если он будет созван здесь.
Ораторы, промокшие до нитки и угрюмые, стояли на грузовике. Среди них был Кикунами, человек твердой воли, не признающий своего поражения в газетной забастовке («Проиграна только первая стычка»,— сказал он мне вчера вечером.) Трудно поверить, что этот человек— в сущности ученый и не имеет опыта профсоюзной работы. За последние несколько недель он сделал несколько серьезных ошибок. Он слишком давал волю своим чувствам и не умел передавать свои полномочия другим, когда это целесообразно. Но он делает успехи, так же как и все японское рабочее движение в целом, и если постоянные разочарования не приведут его к крайностям, он может еще стать крупным рабочим лидером. Как бы то ни было, он уже вошел в историю этого смутного периода.
Ораторы говорили о шахтерах, пятьдесят тысяч которых забастовали на крайнем севере страны, и о работниках электростанций, которые предполагают забастовать через три дня. Это будет необычная забастовка, так как ток будет отпускаться попрежнему, но никто не будет приходить к потребителям за деньгами.
Речи звучали смело, резолюции носили такой же характер. В них были включены требования о прекращении полицейских репрессий, о соответствии заработной платы растущим ценам, а также неизменно выдвигаемое требование о разрешении спора с «Иомиури». Затем делегация под руководством Кикунами пыталась увидеть премьера Иосида. Он завтракал и никого не захотел принять.
397
14 октября 1946 г.
ТОКИО
Уезжаю завтра в Корею вместе с Шарлоттой Эбенер из «Ньюс уик» и Фостером Хэйли из «Нью-Йорк тайме». Три дня назад произошла неожиданная задержка. Бригадный генерал А. П. Фокс вызвал меня в канцелярию помощника начальника штаба, сообщил, что является членом военного суда и потребовал, чтобы я назвал ему имена людей, от которых я получал информацию для одной из моих последних статей. Эта статья была запоздалым сообщением о весьма необычном совещании в мае, когда группа полковников возражала против отстранения военных преступников от руководства экономикой Японии. Штаб был, очевидно, взволнован не столько высказываниями полковников, сколько тем фактом, что один из них разговаривал с журналистом.
Мне заявили, что я не имею права сообщать кому-либо (даже своему редактору) об этом вызове и что мне не разрешено обращаться к адвокату. Генерал Фокс также сказал, что мне запрещено выезжать из Токио. Я отказался отвечать на какие-либо вопросы без указаний от редакции «Чикаго сан» и тотчас же отправил длинное сообщение в Чикаго. На следующее утро редакция сообщила мне, что возбудила ходатайство перед военным министерством. Вчера утром тринадцать корреспондентов во главе с Расселом Брайнсом, представителем Ассошиэйтед Пресс, и Крэйном от «Нью-Йорк тайме» явились к генералу Бэйкеру и потребовали объяснений. Право охраны своих источников информации является одним из основных элементов свободной прессы, и ни один журналист не согласится пойти на уступки в этом отношении. Через десять минут после того как группа ушла от Бэйкера, генерал Фокс позвонил мне по телефону и сообщил, что я «больше не потребуюсь для расследования».
КОРЕЯ
15 октября 1946 г. СЕУЛ
Переезд из Токио на старом армейском транспортном самолете прошел без всяких приключений. Большую часть пути я проспал и проснулся лишь, когда самолет пошел на посадку. В аэропорту кипела жизнь: разогревались перед полетом моторы бомбардировщиков и транспортных самолетов, рулили по земле истребители, сновали грузовики, виллисы, работали бульдозеры. В общем, не говоря гражданских глупостей, это была обычная армейская база.
Молодой лейтенант подвез нас до Сеула в седане. Мы ехали по широкой грязной дороге и видели лик нищеты: покосившиеся глиняные хибарки, крытые соломой, пустые дворы. На солнце грелись тощие псы. Мужчины несли на спине огромные охапки сена и вязанки хвороста. Женщины, искусно балансируя, удерживали на голове кувшины и корзины. Мы с Шарлоттой решили, что в сравнении с этим Китай выглядит зажиточным.
Лейтенант презрительно отзывался о корейцах. Мы следили за полетом истребителей, круживших над деревнями на западе. Самолеты пикировали, как бы переходя в наступление, перестраивались в небе и затем пикировали на новую цель.
«Психологическая война, — сказал лейтенант. — Единственный способ показать этим азиатам, что мы не потерпим никаких глупостей».
Краснолицый дородный майор Бьюл А. Уильямсон, офицер отдела печати при командующем нашими войсками в Корее генерал-лейтенанте Джоне Р. Ходже, сделал попытку быть любезным. Он напоминал мне агента по продаже недвижимости, который при виде посетителей, 399
явившихся к нему в контору, прикидывает в уме, можно ли рассчитывать на комиссионные. У него вытянулось лицо, когда я сказал, что не хочу видеть генерала Ходжа, пока не осмотрюсь и не разберусь несколько лучше в положении. Внезапно Уильямсон предложил нам заполнить длинную анкету, а затем отвел нам квартиры.
Фостера Хэйли и меня поместили в один из номеров в Чосен-отеле, отведенном для полковников и известном здесь как «Мороженый Чосен». Шарлотту направили в помещение, отведенное для женщин. «Чосен» — своеобразная помесь гостиницы в городишке Среднего Запада, казармы и корейского постоялого двора. Это большое, запущенное здание, благоухающее запахом чеснока и обслуживаемое корейскими коридорными, которые не понимают ни слова из того, что вы им говорите, но обнадеживающе улыбаются. Мы с Фостером отправились спать.
Проснулись мы как раз к обеду. Шарлотта уже ждала внизу вместе с двумя местными корреспондентами: Стэнли Ричем — от Юнайтед Пресс и Роем Робертсом — от Ассо- шиэйтед Пресс. Оба славные, неглупые ребята, и пока мы поглощали свой обед, они ввели нас в курс дела.
С их точки зрения, крупнейшим событием являются кровопролитные мятежи, охватившие провинции нашей зоны. Генерал Ходж назвал их «позорными мятежами». Есть, однако, некоторое основание считать, что одной из главных причин восстания явились невероятная нужда населения и проявляющаяся повсеместно ненависть последнего к корейской полиции, унаследованной нами от японцев. Еще никто из американцев не подвергся нападению, зато убито по меньшей мере 60 корейских полицейских.
16 октября 1946 г. СЕУЛ
День провел в разъездах между 24-м корпусом, военной администрацией и совместной американо-советской комиссией. Не без удивления обнаружил, что по всем инстанциям разослан приказ не давать мне никакой информации.
Двое из встреченных мною людей особенно заинтересовали меня. Один из них, полный человек в очках — политический советник генерала Ходжа лейтенант Леонард Берч. Он окончил колледж Холи-кросс со степенью док-
400
тора философии и юридический факультет Гарвардского университета. Я подозреваю, что он мнит себя неким Макиавелли «американского века». Главный предмет его забот — корейские политические деятели, и он старательно штудировал их учения. В настоящее время Берч интригует в двух направлениях: пытается расколоть корейскую коммунистическую партию и сколачивает коалицию умеренных элементов, правых и левых. Берч восхитительный собеседник, в частности потому, что он помнит и цитирует наизусть каждую остроту, какую он когда-либо произносил.
Другой — д-р Артур Бане, чиновник министерства финансов, «уступленный» государственному департаменту; последний, присвоив ему ранг посланника, в свою очередь «одолжил» его генералу Ходжу. Бане провел шесть лет в Северной Корее, где занимался организацией сельского Христианского союза молодежи, и бегло говорит по-корейски. Разница между Берчем и Бансом колоссальная. Берч с головой ушел в политические интриги и ни о чем другом слышать не хочет. Бане подходит к корейским проблемам с точки зрения социальных и экономических факторов. Он первый из всех, с кем я здесь встречался, говорит о корейцах с искренней симпатией. Он также первый делает упор на социальные реформы, а не на «советскую угрозу».
В городе царит атмосфера насилия, интриг и неуверенности. Сеул говорит и действует, словно вооруженный лагерь накануне восстания, хотя внешне он, может быть, таким и не выглядит. Трудно проанализировать это впечатление, ибо оно складывается как из видимых, так и из невидимых факторов, таких, как автомат на сиденье возле водителя моего виллиса или известие о новом мятеже.
Я нахожу, что в основе нашей политики в отношении Кореи лежит не столько желание проводить реформы или восстанавливать, сколько страх перед коммунизмом. Мне говорили, что, прибыв сюда 7 сентября прошлого года, мы обнаружили созданное за 13 часов до нашего прихода прогрессивное корейское правительство. Берч и многие другие считают, что при всех недостатках этого правительства — известного под названием правительства народной республики — его можно было превратить в верного и полезного союзника. Вместо этого мы назвали это прави-
26 м. Гейн 40Г
тельство «красным», стали поносить его и потратили два драгоценных месяца на то, чтобы загнать его в подполье.
Это было нечто большее, нежели функциональный конфликт между нашей военной администрацией и местным правительством, уходящим своими корнями в движение сопротивления. Самые идеи, лежавшие в их основе, были различны. Корейцы считали себя освобожденной нацией. Мы же, повидимому, по сей день не знаем, пришли ли мы освобождать или оккупировать. Корейцы хотели избавиться от коллаборационистов. Мы не только сохранили коллаборационистов на их постах (ибо у нас нехватало людей), но фактически начали «освобождение» с того, что приказали ненавистному корейцам японскому генерал- губернатору, его чиновникам и его полиции остаться на своих местах, как будто ничего не случилось. Народная республика хотела социальных реформ. Американцы запретили всякие радикальные социальные и экономические изменения.
Мы вывезли из Вашингтона престарелого консерватора по имени Ли Сын Ман и сделали его и других правых своими советниками, возложив на них все свои надежды. «Ли,—заверил меня Берч,— не фашист. Ли на два века отстал от фашизма — он типичный бурбон». Однако Ли разрешили создать политическую машину и даже поощряли его в этом деле. Сторонники Ли заняли командные посты в нашей военной администрации — от начальников полиции до окружных старост. Они создали также сеть массовых организаций — от женских клубов до террористических банд. Ли — человек одной идеи. Он хотел независимости для Кореи. Но независимую Корею он мыслил феодальной страной, а себя самого во главе ее. Требуя воссоединения страны, расколотой сейчас по 38-й параллели на советскую и американскую зоны, он говорил от имени всех корейцев. Но, возражая против земельной реформы, социального обеспечения и гражданских свобод, он говорил от имени одних помещиков.
Подобно многим другим политическим деятелям в Восточной Азии, которых мы сделали своими союзниками, Ли не вел борьбы с японскими коллаборационистами. Он использовал их. Они ненавидели то же, что ненавидел он, и видели в нем залог своего благополучия. А поскольку мы, то есть генерал Ходж и военная администрация, по-
402
лагались на Ли и доверяли ему и так как мы испытывали острую нужду в людях, мы «отпустили грехи» правительству, состоящему из коллаборационистов. •
«Корейцы в военной администрации, — сказал мне сегодня один чиновник, — это гнездо нестерпимой коррупции. Люди, с помощью которых мы сейчас управляем Кореей, это правые, прекрасно выполнявшие грязную работу, порученную им японцами. Сейчас в корейской полиции есть люди, награжденные японцами за свирепость и успешное подавление корейского национализма».
Мы, сказали мне, издали суровый приказ о чистке коллаборационистов. Но он был так искусно искажен нашими корейскими переводчиками в военной администрации, что когда настало время чистки, оказалось, что во всей нашей зоне приказ можно распространить только на одного чиновника.
Рассказали мне и следующее. В один прекрасный день, ранней весной этого года, творцов нашей политики на Потомаке1 осенило, что благодаря нашим корейским союзникам и своим собственным ошибкам мы с катастрофической быстротой теряем популярность, которой мы пользовались у корейцев. Если 7 сентября 1945 г. наши солдаты, высадившиеся в Корее, были встречены ликующими криками, то сейчас анкетный опрос, проведенный военной администрацией с целью выяснения общественного мнения, показал, что корейцы в нашей зоне предпочитают нам японцев.
Нашему командованию в Корее было приказано порвать с крайними правыми. Вместо этого надлежало приложить все усилия, чтобы создать коалицию умеренных — как левых, так и правых, — которые хотели бы и могли дать корейцам некоторые реформы.
Это дело было поручено Берчу, и он бросился на поиски консерватора, который мог бы возглавить коалицию. Выбор Берча пал на Ким Гю Сика, умеренного консерватора, получившего образование в США. Ким Гю Сик знал, как составляются проекты реформ, и умел даже облекать их в прекрасные формы английского языка елизаветинской 1 То есть в Вашингтоне. Город Вашингтон расположен на реке Потомак. (Прим, ред.)
26*
403
эпохи. Чтобы привлечь левых, Берч уговорил влиятельного лидера уничтоженной Народной республики, седовласого краснобая Лю Вун Хона вступить в коалицию в качестве одного из председателей. Первая встреча Лю и Кима состоялась в доме самого Берча 14 июня 1946 г.
Хотя Берч был,, казалось, полон уверенности, в его бочке меда оказались, повидимому, две ложки дегтя. Одна из них—вражда между генералом Ходжем и военным губернатором генерал-майором Арчером Лерчем. Люди Лерча сказали мне, что Берч «выскочка», с которым «невозможно работать». Другая ложка дегтя — неспособ ность военных приноровиться к новой политике. Независимо ни от какой директивы они считают, что только «сильный человек» вроде Ли Сын Мана может остановить коммунизм. План Берча может остаться на бумаге, если военные внутри и вне военной администрации не согласятся провести его в жизнь.
Поздно вечером я уговорил Роя Робертса пройтись. Улицы были еще полны народа, и город освещен гораздо лучше, чем Токио. Мы прошли по Бун Чон — главной торговой улице. Магазины были закрыты; женщины-раз носчицы в ярких коротких кофтах и длинных белых юбках спешили домой с корзинами на головах. Меня поразило количество пьяных американских солдат и корейцев. Я заметил американца, ссорившегося с корейцем. Солдат держал корейца за отвороты пальто и кричал: «Я покажу тебе, проклятое отребье!» Кореец, видимо, не был напуган. Рой подошел и сказал солдату: «Полегче, приятель». Тогда спутники этого солдата, стоявшие в стороне, подошли и оттащили его. Рой сказал, что такие инциденты не редкость и что они порождают сильное озлобление против американцев.
Ночью за стеной время от времени раздавались выстрелы, и мы видели корейских полицейских, которые бежали по улице, держа наготове пистолеты.
17 октября 1946 г. СЕУЛ
После завтрака мы с Шарлоттой отправились повидать Берча в его кабинете во дворце Дук Су, где проводит свои заседания совместная советско-американская комис-
404
сия. Явившись с некоторым опозданием, Берч тут же начал искать потерянную пуговицу, какие-то пропавшие бумаги и засунутые куда-то знаки различия. Одновременно он вел с пятью различными посетителями не слишком серьезную, но весьма остроумную беседу. Наконец, несмотря на протесты его секретаря, которую он называет цветочком («всякая женщина моложе 70 лет для меня цветочек»), мы повели Берча на крышу.
Сегодня гвоздем программы Берча была коммунистическая партия. Он сказал, что она стала несколько слабее вследствие полицейских репрессий и из-за того, что партия одобрила опеку союзников над Кореей, но что, по его мнению, она все еще насчитывает в нашей зоне около 18 тысяч членов и по меньшей мере 100 тысяч активно сочувствующих.
В этом году Берч раздобыл список членов когда-то существовавших фракций партии и начал свои попытки расколоть ее. Он казался весьма довольным делом своих рук, но из другого источника я узнал, что был всего один случай дезертирства из коммунистической партии. Небольшая группа коммунистов явилась к Ли Сын Ману и попросила у него благословения и денег. Если эти «обращенные» солидаризируются с Ли, то коалиции Берча будет от них мало пользы.
18 октября 1946 г. СЕУЛ
Утром Берч повез Шарлотту и меня к Ким Гю Сику— человеку, которого он избрал главой новой умеренной коалиции. По дороге Берч рассказал нам, что Ким происходит от «бедных, но почтенных родителей», что он учился в Роаноке в штате Виргиния и преподавал китайцам английскую литературу. Берч взял на себя труд разъяснить нам, что, по мнению американских военных врачей, Ким «может рассчитывать на довольно долгую жизнь». Я понял, в чем тут дело, лишь значительно позже, когда Берч с горечью рассказал нам об одном сотруднике государственного департамента, который, выступая на банкете, назвал Кима «г-ном Ким Гю Сикли» х. Поскольку Кима
1 В оригинале игра слов: sickly («сикли») — по-английски «болезненный». (Прим, персе.) 405
действительно не назовешь атлетом, каламбур приобрел некоторую неприятную известность.
Далеко за городом мы въехали на крутой холм и остановились перед красивым домом, выстроенным в японском стиле. Дом охраняли корейский полицейский и сотрудник американской военной полиции. Мы сняли обувь по японскому обычаю и были введены в просторную солнечную комнату. Там уже было трое: начальник отдела труда военной администрации полковник Шоу, опрятный молодой кореец по имени Мун и сам Ким.
Меня поразила гротескная внешность Кима. Он очень мал ростом и невероятно широк в груди. На нем был красивый серый халат, который придавал ему женственный вид, и американские фетровые комнатные туфли. Колени у него были прикрыты ковром. Когда мы вошли, он набивал табаком из солдатского кисета тростниковую трубку длиной в два фута. Как только он заговорил, я был очарован его культурной плавной речью.
Пока Ким беседовал с Муном, Берч разъяснял мне смысл совещания. Это, повидимому, был один из его макиавеллиевских трюков. После забастовок, происходивших в прошлом месяце, Корейская федерация труда была загнана глубоко в подполье, но осталась тем не менее влиятельной силой. Муна — единственного функционера Федерации, находившегося на свободе, уговаривали поддержать коалицию Берча. Мне казалось, что Муну было не по себе.
В беседе с нами Ким с самого начала определил свою позицию. Он умеренный правый. Он стоит за государственный контроль над основными отраслями промышленности, земельную реформу и социальное страхование. С такой выгодной позиции он обрушился на правых и левых, и особенно ожесточенно на Ли Сын Мана. С его точки зрения, правые из-за своей грызни теряют поддержку народа. Он считал также, что левые, «увлекшись бойкотом», упускают замечательный шанс получить большинство голосов на выборах, намеченных на конец этого месяца.
Позднее Ким рассказал нам кое-что о своем отце, который служил при дворе корейских императоров. Сам Ким родился в 1881 г., значительную часть своего детства провел у американских миссионеров и 16-ти лет был увезен богатым дядей в Соединенные Штаты. После семи лет 406
учебы он вернулся в Корею, но уже в 1913 г. был выслан из страны. Он попытался организовать в Монголии се* кретный учебный лагерь для офицеров, но отказался от своей затеи, так как не получил средств, обещанных корейским подпольным движением. После того Ким занялся коммерцией, торговал кожами в Монголии, библиями в Северном Китае и динамомашинами в Шанхае.
Интерес Кима к корейской революции кажется спорадическим. Время от времени он отправлялся за границу, чтобы ратовать за дело Кореи. Но большей частью он был либо торговцем, либо учителем, а одно время работал даже в ультраконсервативном центральном политическом институте Гоминдана. В 1942 г. он был назначен министром информации так называемого «корейского временного правительства» в Чунцине, которое едва влачило существование на гоминдановские субсидии. К ноябрю 1945 г., когда американский военный самолет доставил его в Корею в качестве «частного гражданина», он был заместителем премьер-министра эмигрантского правительства.
За завтраком Берч возбужденно говорил о величии, которое судьба уготовила Киму. У меня создалось впечатление, что, может быть подсознательно, Берч пытался возместить недостаток энергии и напористости, которых так явно нехватало Киму. Между этими людьми установились странные отношения. Берч говорит так, словно он ученик пророка Кима. И все же время от времени в Берче просыпается интриган, и тогда он становится человеком, который держит в руках нити политических марионеток. Мне кажется, все дело в том, что оба они используют друг друга в собственных целях. Ким умен и честолюбив, и он надеется, что Берч поможет ему стать президентом корейской республики. Берч, не говоря уже о том, что ему нравится разыгрывать роль божества, возможно, также учитывает перспективу занять пост советника при корейском правительстве, возглавляемом его другом Кимом.
Днем Шарлотта, Фостер Хэйли и я отправились с визитом к Ли Сын Ману.
Подобно Киму и большинству других уважающих себя политиков, Ли живет в здании, предоставленном в его распоряжение корейским миллионером. Вооруженный полицейский открыл нам ворота, и мы дожидались на широком
407
дворе, переполненном другими вооруженными людьми, пока сверху не было получено распоряжение пропустить нас. Затем мы поднялись по крутой тропинке; на полпути Ли Сын Ман встретил нас. Он думал, что с нами был Берч, и казался разочарованным, когда мы сказали, что Берч не приехал.
В маленькой гостиной, главным украшением которой была огромная разноцветная пагода, мы имели возможность рассмотреть Ли. Это худой человек с редкими седыми волосами, бледными губами и почти без бровей. Глаза скрыты за тонкими узкими веками, так что большей частью кажется, будто он спит. Шарлотта даже прошептала непочтительно: «Ну разве старик не похож на мумию?»
Но Ли не спал. Сидя в кресле, он забрасывал удочки, чтобы посмотреть, на что мы клюнем. Он нападал на генерала Ходжа, коммунистов и московское решение 1945 г., провозгласившее американо-советскую опеку над Кореей. Узнав, что мы видели Кима, он принялся расхваливать его. Он поочередно хвалил и ругал военную администрацию и весьма едко говорил о коррупции в американской армии.
Я пытался разобраться, что, собственно, движет Ли. Он не был на родине 35 из 73 лет своей жизни, а когда вернулся, то говорил, как мне сказали, на «гавайском диалекте корейского жаргона».
Наподобие японцев и немцев, Ли распространяется о «великой Корее» и «корейском народе». Его главным политическим орудием является созданная им партия «Хан Кук» («Корейский* народ») — организация помещиков и богатых коллаборационистов.
Ли окончил Гарвардский университет со званием магистра и получил докторскую степень в Принстонском университете. Однако по-английски он говорит медленно и с трудом подбирает фразы. Я пытался понять, с помощью какой внутренней силы он внушил свои идеи генералу Ходжу и сотрудникам военной администрации. Слушая Ли, я думал, что это зловещая, опасная личность, анахронизм, сохранившийся до нашего века и использующий штампы и механизм демократии для достижения беззастенчивых антидемократических целей. Я пробыл в Корее всего 72 часа и вполне может быть, что мои впечатления ошибочны. Но я начинаю думать, что самым важным
юе
человеком в американской зоне является не Ходж, а этот бледный старик с полузакрытыми глазами.
Ли Сын Ман в это время добрался до середины своей тирады о Ходже:
«Когда генерал Ходж высадился здесь, к нему явился японский генерал, который посоветовал ему держаться подальше от «этих ужасных корейцев». Затем я узнал, что, когда 500 человек пришли приветствовать генерала Ходжа, корейская полиция открыла по ним огонь и убила пятерых. Генерал Ходж сказал также, что корейцы и японцы одной породы. Очень жаль, что Ходж получил свои сведения от японского генерала...
В марте я отправился на юг и, выступая перед огромными толпами, говорил: «Мы пытаемся спасти страну от распродажи. Самое лучшее убедить каждого коммуниста переменить свою позицию. Пусть те, кто против нас, отправляются домой, к себе на родину». Это вызвало страшное возбуждение на юге.
В мае генерал Ходж попросил меня сотрудничать с новой коалицией. Но я не мог изменить своей позиции. Поэтому я сказал, что буду молчать. Я молчал пять месяцев, хотя программа коалиции [Берча] противоречит принципам демократии. Например, люди из этой коалиции хотят конфисковать всю землю и распределить ее среди издольщиков. Я же говорю, что земельную реформу следует предоставить временному правительству, когда оно у нас будет».
Я сказал Ли, что собираюсь на юг. Он достал три большие визитные карточки и написал на них рекомендательные письма губернаторам трех провинций.
«Это всё мои друзья, — сказал он. — Они раздобудут для вас хорошую информацию».
Когда мы вернулись, д-р Бане ждал нас в переполненном баре отеля «Чосен». Это человек с мягкими манерами, у которого всегда наготове запас анекдотов. Он обладает колоссальными знаниями в области международной и корейской сельскохозяйственной экономики. За обедом он выразил убеждение, что социальная реформа — это лучший способ противостоять коммунизму. Он очень доволен тем новым оборотом, который приняла здесь политика, а также
409
коалицией. Если в Сеуле удастся установить прогрессивный режим, сказал он, коммунистической администрации в советской зоне поневоле придется договориться с нами.
19 октября 1946 г. СЕУЛ
Снова майор Уильямсон сказал, что не может достать для нас виллис, и снова мы с унылым видом сидели в зале отеля «Чосен», когда к Фостеру Хэйли явилась корейская делегация, твердо уверенная, что он издатель «Нью-Йорк тайме». Они поинтересовались, принадлежим ли мы к свите Фостера, и, когда я ответил отрицательно, у них вытянулись лица. Однако выражение их лиц прояснилось, как только они узнали, что мы вчера виделись с Ли Сын Маном. Делегация, состоявшая из двух мужчин и одной женщины, явилась от имени одного из многочисленных политических сателлитов Ли — Представительного демократического совета, который, как сказали мне местные остряки, называется так потому, что не является ни представительным, ни демок р ати чес к им.
Делегацию возглавлял жирный болтливый человек со сверкающим ключом — значком общества «Фи Бета Каппа»1 на груди. Он сказал: «Я Пак, Браун-колледж, выпуск 1905 г. Вы, должно быть, слышали обо мне». Чтобы доставить ему удовольствие, я сказал, что слышал, да я и в самом деле слышал о нем. Его сопровождал человек потрепанного вида, который некогда учился в университете Айовы, и г-жа Ким Сан, заявившая, что она представляет патриотическую ассоциацию женщин и женскую националистическую партию (обе организации принадлежат к лагерю Ли).
Трио говорило о «коммунистах, занимающихся подрывной деятельностью», и о «вероломных националистах», которые некогда работали вместе с Ли, а сейчас создают свои собственные группки. Вскоре выяснилось, что внутри самой машины Ли идет игра противоречивых интересов. Все трое охотно согласились, что богатство банкира, который уступил свой дом Ким Гю Сику, «по общему мнению, 1 Одно из студенческих обществ США. (Прим, ред.)
410
нажито нечестным путем». Но когда дело дошло до миллиардера, который отдал свой дом Ли, возникли разногласия.
Пак сказал: «Он нувориш, экономический выскочка. Он составил себе состояние за последние шесть-семь лет на японских контрактах».
Его спутник согласился. «Этот человек утопает в богатстве», — заявил он.
Г-жа Ким Сан не была согласна. «Нет, — сказала она резко. — Он — патриот. И, кроме того, у него очень тонкий ум».
Мужчины поспешно забили отбой, а г-жа Ким Сан принялась рассказывать нам историю своего дедушки, земля которого в Северной Корее давала некогда 20 тысяч бушелей. Но коммунисты забрали эту землю и отдали ее арендаторам. Ему разрешили оставить у себя землю, дающую только 200 бушелей в год.
В этот момент появился Фостер, и мы с Шарлоттой спаслись бегством. За собой мы слышали густой баритон: «Я Пак, Браун-колледж, выпуск 1905 г. Вы, должно быть, слышали обо мне...»
После завтрака Шарлотта, Фостер и я побрели в редакцию корейской газеты на поиски человека по имени Мук. Это был редактор, владеющий английским; нам рекомендовали его как человека беспристрастного и хорошо осведомленного. Нам уже приходилось встречаться с рядом корейских правых, и у Берча было в запасе для нас еще несколько. Теперь мы хотели, чтобы Мук дал нам возможность побеседовать с представителями профессиональных и крестьянских союзов и с некоторыми левыми политическими деятелями.
— Это будет нелегко, — сказал Мук. — Они ушли в подполье.
Мы возразили: «Вы нас не поняли. Мы не ищем коммунистов. Мы просто хотим побеседовать с людьми, стоящими левее центра».
— Они находятся в подполье или в тюрьме.
Мук разъяснил, что со времени забастовки железнодорожников, происходившей три недели назад, корейская полиция арестовала несколько десятков левых лидеров, закрыла левые газеты, разгромила помещения профсою411
зов и передала штаб Корейской федерации труда группе правых (которую, как мы узнали впоследствии, контролировал сам Ли).
Мы продолжали настаивать, и Мук, посоветовавшись с несколькими репортерами, сказал наконец, что попытается разыскать Хо Хуна, одного из пяти лидеров бывшей Народной республики. Берч уже говорил нам, что пытается заручиться поддержкой Хо Хуна для своей коалиции. Так как военные власти до сих пор не смогли найти для нас виллиса, то мы побрели по городу, по пыльным дорогам и грязным переулкам, пока не подошли к двухэтажному зданию. Мук вошел туда и вернулся через пять минут, чтобы сказать нам, что Хо Хун находится наверху, на совещании левых групп, созванном для организации единого левого фронта в противовес правой коалиции Берча.
Мы поднялись наверх в большую, голую, безобразную комнату с грязными стенами. Там стояло два длинных стола. За одним совещалось около десятка людей. За другим нас ожидало двое мужчин. Хо Хун — красивый седой человек лет 60-ти с улыбающимся лицом и дрожащими руками. У другого человека было суровое лицо и могучий затылок и плечи. Он сказал, что он — Ким Як Сан, военный министр эмигрантскою правительства в Чунцине, а ныне глава корейской национально-революционной партии. Думаю, что со времен Чунцина он полевел. Оба охотно отвечали па вопросы, во время от времени один из них поднимался и подходил к другому столу, чтобы принять участие в дискуссии.
За те три часа, что мы провели с ним, Хо Хун сказал две особенно интересные вещи. Одной из них была энергичная защита опеки.
«Корея, — сказал он, — так долго была под японским господством, что ей нужно подготовиться к независимости. По в течение этого периода опа должна также пользоваться безопасностью. Поэтому желательна опека, но не одной державы. В прошлом у нас было слишком много неприятностей, когда мы имели дело с отдельными странами— Китаем, Россией и Японией... Беда американской военной администрации в том, что опа не понимает положения и делает ошибки. Одна из этих ошибок — неспо собность понять, что большинство корейских левых - 412
националисты, а не коммунисты, и все же всех их одинаково притесняют».
Второй вопрос касался прокатившейся сейчас волны арестов.
«Утром 30 сентября, — сказал Хо Хун, — я услышал за домом 500 или 600 выстрелов. Это было начало облав, проводившихся совместно полицией и террористами Ли. Они сосредоточили свои усилия на профсоюзе железнодорожников, но совершали облавы также и на другие профсоюзы, избивали людей, ломали мебель и захватывали помещения.
Всего в Сеуле было арестовано три тысячи человек, из них 1700 посажено в тюрьму. Сейчас в тюрьме находится 1400 человек. Когда начались облавы, я отправился к генералу Лерчу. Я спросил: «Приказ арестовывать и расстреливать людей исходит от вас или же полиция действует по собственной инициативе?» Лерч не ответил».
Он вытащил из кармана клочок бумаги. «Шесть месяцев я пытаюсь получить дом, где бы мог поселиться. Военная администрация распределила между корейцами 60 тысяч японских домов, но я ничего не могу получить. У меня есть ордер, но я все-таки не могу занять дом. Корейские правые в военной администрации заявляют: «Вы— коммунист. У вас куча фальшивых денег, вы можете купить все, что хотите».
Сейчас мне говорят, что если я поддержу коалицию, то сумею получить дом. Вот такая тактика и отталкивает корейский народ».
К нам подошел Ким Як Сан, и Хо Хун покинул нас. Ким говорил мягко, и эта мягкость казалось странной, когда мы смотрели на его могучие руки и слушали о чинимых насилиях. «Хо Хун адвокат, — сказал он, — я же профессиональный революционер». Юношей он бежал в Китай, учился в военной академии Вампу, а затем служил офицером во время великого китайского Северного похода 1926—1927 гг. С тех пор он находился в корейском подполье в Шанхае, Маньчжурии и Северной Корее. Он сказал, что к концу войны под его началом было три тысячи партизан.
Ким сообщил нам и об одном партизанском отряде, которым руководили коммунисты. Этот отряд базировался в
413
Маньчжурии. Он совершил два крупных похода в Северную Корею в 1935—1936 гг., а затем в 1940 г. организовал нападение на японские сооружения. В отряде насчитывалось 3 тысячи человек. У коммунистов было также небольшое сплоченное и активное подполье в самой Корее. Его возглавлял Пак Хен Ен, сейчас виднейший руководитель коммунистической партии в нашей зоне. В настоящее время он скрывается в подполье. К 25 годам Пак успел отбыть три срока в тюрьме за антияпонскую деятельность. В 1926 г., находясь в тюрьме, он симулировал сумасшествие и ухитрился бежать. В 1929 г. он был снова арестованПо выходе из тюрьмы в 1936 г. он стал рабочим на кирпичном заводе и руководителем подпольного движения.
Хо Хун вернулся к нам, и оба начали засыпать нас вопросами. Можем ли мы провести демократические выборы, спрашивали они, если тысячи левых находятся в тюрьме? Можем ли мы провести выборы, если профсоюзам запрещено заниматься политикой, а полицейский террор в полном разгаре? Можно ли принимать всерьез коалицию Ким Гю Сика и Лю Вун Хона, если все члены народной партии Лю Вун Хона находятся в тюрьме или скрываются? Может ли военная администрация ожидать от корейцев сотрудничества, если даже такое совещание, как это — он указал на заседавших за соседним столом, — может быть разогнано в любой момент?
Мы не отвечали. Мы хотели знать только одно: могут ли они устроить нам встречу с каким-нибудь лецым лидером профсоюзного или крестьянского движения. Оба очень твердо сказали нет, так как любой из этих лидеров, вышедший из укрытия, будет немедленно арестован. Мы продолжали настаивать, и они, наконец, согласились, чтобы специальный проводник провел нас завтра в какое- нибудь тайное убежище.
20 октября 1946 г. СЕУЛ
Наши трудности продолжаются. Вчера мы пили с офицером из военной администрации и пригласили его позавтракать с нами сегодня. Сегодня утром он известил нас, что не придет, так как вчера его видели с нами и он получил нагоняй.
414
Хотя ведомство Уильямсона имеет несколько виллисов, их, видимо, можно получить лишь в тех случаях, когда мы отправляемся брать «одобренные» интервью. Сегодня, наконец, я потребовал немедленно провести меня к Ходжу, чтобы я мог заявить официальный протест. Тогда Уильямсон пошел на попятный и сказал, что сегодня днем он раздобудет для нас виллис.
После завтрака Шарлотта, Фостер Хэйли и я забрали с собой нашего переводчика Мука и отправились на свидание с левым. С самого начала все шло плохо, и через час мы все еще ждали своего специального проводника. Фостер, у которого была назначена другая встреча, покинул нас. Мы остались ждать, а Мук с заговорщическим видом, который казался нам напускным, отправился на разведку.
Наконец он вынырнул из четырехэтажного административного здания и подозвал нас. Мы поднялись на верхний этаж, вошли в небольшую дверь, охраняемую человеком средних лет, прошли через другой зал и очутились в маленькой комнате, где за письменным столом сидел какой- то человек. Мы тут же узнали его. Это был Мун — профсоюзный лидер, которого Берч представил нам в доме Ким Гю Сика.
Мун попрежнему казался резким в движениях и недоверчивым, и мне он не особенно понравился. Он рассказал нам историю Корейской федерации труда, которая в течение тринадцати лет вела в подполье борьбу с японцами, а месяц назад насчитывала 270 тысяч членов в американской зоне. Сейчас она опять загнана в подполье. Мун рассказал также о «Рабочей ассоциации», созданной Ли Сын Маном, и о том, как владельцы заводов и сотрудники военной администрации приказали рабочим вступить в нее. Это, сказал Мун, в сочетании с низкой заработной платой и скудными нормами выдачи риса и вызвало в прошлом месяце крупные забастовки.
До сих пор беседа была не особенно увлекательной и Шарлотта явно скучала. Мун говорил низким монотонным голосом, и многое из того, что он сказал — особенно относительно террора правых,— требовало подтверждения.
«Худшая террористическая банда, — говорил Мун, —
415
это «Общество молодежи Великой Кореи». Оно создано Ли Сын Маном и работает заодно с полицией. Вместе они...»
Мы сидели за маленьким круглым столом. Справа от меня находилась дверь, которая, как я думал, вела в коридор. В середине фразы Муна раздался страшный треск, и дверь, едва не сорванная с петель, распахнулась. Я взглянул на дверь, но ничего не увидел. Затем в дверь медленно просунулась винтовка с примкнутым штыком и начала поворачиваться в нашу сторону.
Через несколько секунд в комнату осторожно вошел коренастый молодой кореец в штатском и направил на нас пистолет. Следом за ним явилась группа молодых людей того типа, каких можно встретить в трущобах Чикаго или окрестностях Нью-Йорка.
Человек с пистолетом подошел к Муну и арестовал его.
Мне вся эта сцена казалась нереальной. Правда, Хо Хун предупреждал меня вчера, что так случится. Но ведь Мун не был подрывным элементом. Сам Берч сказал нам, что Мун умеренный, а когда мы впервые встретились с Муном, его сопровождал американский полковник. Такие вещи просто не могут происходить в американской зоне. Должно быть, рассуждал я, это одна из тех неразрешенных облав, о которых мы столько наслышались.
Я попросил человека с пистолетом предъявить документы. Он вытащил карточку, на которой значилось, что он сержант Ким Хо Ик— агент корейской национальной полиции. Я спросил, есть ли у него ордер на арест. Он сказал, что ордер имеется. Мун арестован пр приказу генерала Ходжа за руководство забастовкой железнодорожников. К несчастью, ордер остался в полиции. Я сказал, чт<? подожду, пока не принесут ордер.
Сержант Ким послал за ним одного из молодых людей; мы все уселись и стали ждать. Время от времени сержант хлопал Муна по спине и смеялся. Мун оставался невозмутимым. Шарлотта сказала, что она выйдет, свяжется с генералом Ходжем и выяснит, действительно ли он отдал приказ об аресте Муна. Мы договорились, что, если по возвращении она не застанет меня здесь, она отправится в главное полицейское управление.
41$
После пятнадцати минут ожидания сержант потерял терпение. Он начал кричать, что я вмешиваюсь не в свое дело, и задал мне вопрос, кто я такой и что здесь делаю. Через Мука я объяснил ему, что я репортер, что его отряд ворвался, повидимому, не имея ордера на арест, и что я не намерен мешать никаким действиям сержанта. Я просто пройду вместе с ним, а потом сообщу обо всем, что видел. Я также велел ему не повышать голоса.
Тогда сержант Ким приказал Муну встать, и мы все вышли из комнаты. На площадке я увидел тринадцать перепуганных людей, стоявших на коленях. Их охраняли четверо юношей в штатском. Сержант арестовал одного из тринадцати и велел остальным расходиться. Мы сошли вниз, и я остался ждать в проходе вместе с Муном и сержантом.
Ждать пришлось долго, и мое внимание привлекло поведение молодых людей. Все они отправились на улицу и разгоняли прохожих. Один толкнул старика с большой ношей на спине прямо на дерево. Старик упал. Мальчику, толкнувшему старика, было лет 16, и он был жесток, как это свойственно юношам в его возрасте. Я вышел вместе с Муком и спросил этого паренька, не агент ли он.
«Нет, — сказал он. — Я член «Общества молодежи/ Великой Кореи».
— А что вы здесь делаете?
«Помогаем полиции ловить левых».
— Сколько вас здесь?
«Восемь».
К нему подошел юноша постарше и приказал не отвечать мне. В этот момент подъехала машина, сержант вошел в нее и заговорил с дородным человеком средних лет в полицейском мундире. Позднее я узнал, что то был начальник сеульской полиции Чан. Через несколько минут Муна посадили на заднее сиденье рядом с Чаном. Я попросил у Чана разрешения поехать с ними, и он кивнул на сиденье рядом. Переводчик Мук уселся впереди.
Мы подъехали к зданию главного полицейского участка и прошли в него мимо вооруженных часовых и группки юнцов, развлекавшихся грубыми шутками. Муна повели наверх. Мук и я последовали за ним.
27 М. Гейн
417
Сержант Ким угрюмо сйДеЛ в углу. Через некоторое время Мун сказал мне, что в августе он поехал в город Тэгу, был арестован за бродяжничество и освобожден 24 сентября по приказу полковника Шоу. Он вернулся в Сеул, где на него напала банда молодых террористов, которые так избили его, что он только пять дней назад вышел из больницы.
Мун сказал мне, что ему 36 лет, что впервые он был посажен в тюрьму японцами, когда ему было 18 лет, и провел восемь лет в тюрьмах и десять — на подпольной профсоюзной работе.
«Два часа назад, — сказал он, совершенно обыденным голосом, — я был единственным сотрудником Корейской федерации труда, еще находившимся на свободе. Председатель нашей Федерации и его заместитель скрываются».
Мук сказал мне, что Мун видный представитель умеренных в профсоюзном движении и что американские военные власти часто прибегали к его посредничеству для урегулирования трудовых конфликтов. Он сказал также, что Мун решил не присоединяться к коалиции Берча. «Ким Гю Сик — хороший человек, — объяснил Мун, — но он не знает, чего хочет простой народ, а простой народ не знает, за что стоит Ким Гю Сик».
Полицейский попросил Мука и меня цройти в кабинет начальника полиции Чана. Когда мы вошли, Чан сидел в углу, безмятежно сложив руки на животе. Ко мне подошел американский офицер, который сказал, что он майор Ф. Э. Ричардсон, начальник полицейского отдела военной администрации в Сеуле. Он сказал, что генерал Ходж поручил ему расследовать инцидент. Ричардсон был очень любезен и рассказал мне даже, что раньше был владельцем коммерческого банка в Чикаго. Пока я излагал ему случившееся, вошел другой американец в военном мундире и представился: «Уиттейкер, контрразведка».
Когда я кончил, Ричардсон мягко спросил: «Вы когда- нибудь жили прежде на Востоке?» Я утвердительно кивнул головой, и он продолжал: «В таком случае вы знаете, что восточная полиция действует не по-нашему, она жестока и недемократична». Разговор в таком духе продолжался в течение некоторого времени, причем я сказал, что, по моему мнению, можно ожидать того, чтобы поли-
418
ция в нашей зоне и под руководством таких людей как сам майор повиновалась некоторым указаниям военной администрации; на это Ричардсон ответил, что нельзя в короткий срок достигнуть больших успехов.
«Во всяком случае, — сказал я, — меня несколько удивляет, что полиция использует при арестах членов террористической банды».
Ричардсон заявил, что он никогда не слышал об «Обществе молодежи Великой Кореи». «А вы?» — спросил он Чана. Чан сказал, что он также не слышал. «Вы уверены, что не ошибаетесь? — спросил меня Ричардсон. — Ведь вы же не говорите по-корейски».
По моей настойчивой просьбе в комнату позвали сержанта Кима и Муна. Ричардсон сказал сержанту: «Мистер Гейн обвиняет вас в том, что при производстве этого ареста вы прибегли к помощи каких-то хулиганов. Вы знаете, что, если это правда, вы будете сурово наказаны. Это действительно так?»
Сержант Ким сказал, что это неправда и что я, несомненно, ошибаюсь. Он сказал, что не видел в комнате никаких молодых людей. Затем он припомнил, что видел нескольких. Он настаивал, что это, должно быть, были прохожие. Когда я возразил, что вряд ли прохожие могут оказаться за закрытой дверью на четвертом этаже административного здания, Ким высказал произвольную догадку, что это могли быть коммунисты.
Ричардсон сказал мне: «Вы, должно быть, ошиблись». Тогда сержант Ким решил перейти в наступление. Указав на меня, он сказал, что я вмешивался в его дела при аресте и велел ему, Киму, выйти из комнаты. Я еще обдумывал, что мне отвечать на это, как вдруг заговорил мой чудесный, спокойный, мужественный Мук. «Майор, — сказал он. — Я был переводчиком у мистера Гейна. Нй разу он не сказал сержанту ничего подобного».
Тут очнулся Уиттейкер, «Как ваше имя? — спросил он Мука. — Где вы работаете?» Затем он начал расспрашивать Мука о его положении, отношении ко мне и его работе для других корреспондентов. Пока они разговаривали, полицейский принес мне записку. Записка была от Шарлотты, которая писала: «Держитесь. Говорила с Ходжем, который сказал, что расследует это дело. Не уходите, пока начальство не расследует». Еще через пять
27* 419
Xlihiyt пблицейсМЙ скйзйл, 4fo кб мйе пришли. Я вь!Шел и увидел Шарлотту и Фостера.
Шарлотта поспешно рассказала мне, что Фостер звонил Ходжу, и тот заявил* что ничего не знает об аресте; д-ру Бансу, который сказал: «Боже, еще одна их глупость!» и полковнику Шоу, который в отчаянии воскликнул: «Ведь я только что вытащил Муна из тюрьмы! Видно, мне придется вытаскивать его опять».
Теперь Уиттейкер пожелал узнать, действительно ли я мешал аресту, на что получил ответ от Шарлотты и Мука. Я, в свою очередь, хотел знать об «Обществе молодежи Великой Кореи», и абсолютно все — Ричардсон, Уиттейкер, Чан и сержант Ким — отрицали, что им что- либо об этом известно.
Тут мне мгновенно пришла в голову мысль, которую я решил тотчас же осуществить. «Ладно, майор, — сказал я. — Это тянется достаточно долго. Сколько вы мне- дадите, если я найду вам в этом самом здании комнату, где полно этих ребят из «Великой Кореи»?». Затем, опасаясь, что кто-нибудь предупредит их, я ринулся вниз к комнате, в которой я видел молодых людей за игрой. За мной последовала вся группа.
Первым, кого я увидел внизу, был тот самый юнец, с которым я разговаривал после того, как он толкнул старика. Я кинулся к нему, а он пустился бежать по лестнице в подвал. Я поймал его и привел к Ричардсону.
«Вот один из них. Спросите его, полицейский ли он? Спросите его, что он делает в помещении полицейского участка?».
Ричардсон спросил. Парень сказал, что он член «Общества молодежи Великой Кореи» и что он дежурит на этом участке. На мой вопрос, кто дал ему такое распоряжение, он ответил, что получил его от «начальства», которое находилось в другой комнате. Я вошел туда, увидел еще нескольких ребят, которые присутствовали при аресте, и вытащил их. Положение становилось весьма щекотливым.
«Вы знали об этом?» — спросил Ричардсон Чана. Чан энергично покачал головой. Ричардсон сказал мне: «Был произведен честный арест. Но по ошибке использовали и этих ребят. Я не знал об этом. Но я скажу Чану, чтобы впредь он не прибегал к подобной помощи». Он подумал
420
и добавил: «Я посоветую созвать специальное заседание для разбора проступка сержанта».
Я спросил его, как он намерен поступить с тридцатью или сорока парнями, находившимися в комнате; и Уит- тейкер сказал, что он «расследует» дело. Он приказал привести к нему трех «начальников». Это были низкорослые, плотные ребята, лет по 25-ти, в хорошо сшитых костюмах европейского покроя и щегольских пальто. Они напоминали убийц в изображении Голливуда, и я подумал, не заимствовали ли они свой идеал в кино. «Пошли», — коротко сказал Уиттейкер и вышел вместе с тремя молодчиками.
Ричардсон предложил подвезти Шарлотту и меня до отеля «Чосен». В виллисе он сказал нам, что на севере были некоторые волнения в городе Кесон, возле самой 38-й параллели. «Сегодня рано утром, — сказал Ричардсон, — банды по 20—30 вооруженных человек каждая совершили налеты на 10 полицейских постов, убили офицера полиции (корейца) и агента. В некоторых неспокойных районах у полиции нехватает людей и поэтому военная администрация разрешила вербовать сыновей лавочников для охраны улиц и оказания помощи полиции. Знаете, это действует успокаивающе».
Что касается Муна, то Ричардсон сказал, что Мун арестован по обвинению в причастности к недавней забастовке железнодорожников. Я не стал напоминать майору, что последние два месяца Мун провел либо в тюрьме, либо в больнице.
21 октября 1946 г, СЕУЛ
Сегодня утром должен был встретиться с Муком, чтобы отправиться к нескольким корейским профессорам. Когда Мук не явился, я попросил одного своего приятеля американца выяснить, в чем дело. Он узнал, что к Муку явился агент контрразведки, сказал, что генерал Ходж не желает, чтобы Мук работал с корреспондентами, и приказал ему покинуть город. Мук немедленно уехал.
Мне сказали, что стоит побывать на пресс-конференциях, созываемых офицерами военной администрации дл^
корейских журналистов, так как корейцы задают щекотливые вопросы о текущих проблемах. Я попросил одного из офицеров военной администрации дать мне возможность присутствовать на завтрашней конференции.
Он обнял меня за плечи, выразил надежду, что я не обижусь на его откровенность, и сказал, что мне нельзя присутствовать. Когда я спросил, почему, он объяснил:
«Завтра будет отвечать на вопросы генерал Браун».
— Мне это все равно.
«Нет, вы меня не поняли. Вы еще не представлены генералу Брауну и было бы невежливо с вашей стороны являться на его пресс-конференцию, пока вы ему не представлены».
Я сказал: «И это все? Я приду за пятнадцать минут до пресс-конференции, и вы представите меня».
— Вы опять-таки не понимаете, — сказал он. — Я не могу представить вас генералу Брауну, пока вы не повидаетесь с генералом Лерчем.
«Прекрасно, — сказал я. — Я приду за час и вы представите меня и Лерчу, и Брауну».
— Нет, нет, — сказал он терпеливо. — Я не могу представить вас Лерчу, потому что вы еще не видели генерала Ходжа. Знаете, здесь все говорят об этом. Это нехорошо. Надо, видите ли, придерживаться правил.
Я быстро направился в ведомство майора Уильямсона и попросил устроить мне свидание с генералом Ходжем.
Днем нас троих повезли на бывшую японскую текстильную фабрику, которая сейчас находится в ведении американской военной администрации. Мы пытались попасть в порт Инчон, где, как нам сказали, мы увидим более типичную потогонную систему в действии. Но майор Уильямсон не мог найти для нас виллиса. Фабрика, которую мы осматривали, явно предназначалась специально для показа посетителям. Но даже и в качестве таковой она представляла собой весьма поучительное зрелище. Из 1300 рабочих почти 900 девочки. Все они говорили, что им по 14 лет, однако они или лгали, чтобы сохранить работу, или же из-за недоедания выглядели такими тщедушными, но им нельзя было дать больше 9 лет. Мы шли мимо бесконечных рядов ткацких станков и маленьких, бледных детей, а наш проводник, американский офицер,
422
рассказывал нам о больших успехах в области промышленного восстановления под руководством военной администрации.
Когда мы уходили, я отвел в сторону одного из рабочих и спросил его, есть ли на фабрике профсоюз. Кореец- управляющий, назначенный военной администрацией, поспешил к нам. «Я могу ответить на все ваши вопросы, — сказал он. — Профсоюз? Да, у нас есть профсоюз». Как я и ожидал, это была лисынмановская «Рабочая ассоциация Великой Кореи». «У нас существовала и Федерация труда, но это была банда смутьянов. Мы вышвырнули их, а их место заняла «Рабочая ассоциация Великой Кореи».
Видел генерала Ходжа. Беседа была «не для печати», и я ничего не могу о ней сообщить. Единственное, что я могу сказать, это то, что Ходж говорил о трудностях политического и экономического порядка, с которыми Соединенные Штаты сталкивались в Южной Корее. Ходж— представительный военный с живым лицом и массивной челюстью. Время от времени беседа затухала, и в такие моменты я подымался с кресла и говорил: «Генерал, мне было...». Но всякий раз он вновь начинал говорить. Когда я, наконец, ушел от него, я понял, что произошло. Прошел ровно час с той минуты, когда я вошел к нему. Очевидно, для меня был выделен час по расписанию, а генерал привык быть пунктуальным.
Позже Шарлотта и я нанесли официальный визит военному губернатору генералу Лерчу. Он начал интервью, заявив: «Вы знаете, я зол на вас». Я думал, что он шутит, но он вовсе не шутил. Он был совершенно серьезен. «Я очень зол на вас. Вы здесь уже неделю и не сочли нужным явиться ко мне. Существует такая вещь, как военный этикет. Когда вы прибываете в город, вы должны посетить представителей командования».
Лерч говорил о нуждах Кореи и о поставках, заказанных в Соединенных Штатах, но еще не полученных. На Шарлотту и меня он произвел более приятное впечатление, чем Ходж. В это утро мы узнали больше подробностей о вражде между Ходжем и Лерчем. Теоретически Лерч как военный губернатор должен быть первым лицом в
423
Южной Корее, а Ходжу надлежит заниматься исключительно командованием американскими войсками. Но Ходж генерал-лейтенант, а Лерч только генерал-майор, и поэтому Ходж вмешивается в политические и экономические проблемы, которые относятся к компетенции Лерча.
Мне сказали, однако, что Лерч такой же противник реформ, как и Ходж, и точно так же дружески расположен к корейским правым. Один из офицеров, с которым мы беседовали, сказал нам, чтобы мы вошли в кабинет Лерча в тот момент, когда оттуда выходил другой американский посетитель.
«Вы видели этого человека? — спросил Лерч. — Он явился сюда из Токио и заявил мне, что на фабриках работает слишком много малолетних и что нам следует кое-что изменить. Я ответил ему: «Пока я военный губернатор, мы ничего не будем менять».
Мун освобожден сегодня днем после поверхностного допроса.
Вечером Шарлотта и я укладывали вещи, готовясь к поездке на север, к 38-й параллели. Мы намерены приложить все усилия, чтобы попасть в русскую зону.
22 октября 1946 г. ПАКЧОН
Рано утром Шарлотта, капитан Г. из военной разведки, военный шофер и я двинулись на север. Впереди нас шел другой виллис, в котором находился лейтенант — американец японского происхождения. В провинции неспокойно, и военные предпочитают ездить группами. У обоих водителей были под рукой пистолеты, а у офицеров висели за спиной автоматы. Вскоре мы подъехали к расщелине в горе, и сеульская суета осталась позади. Дорога сразу же испортилась, и нас начало страшно кидать из стороны в сторону. Мы сидели, стиснув зубы, а головы у нас мотались как у болванчиков. Виллис, шедший впереди, оставлял за собой тучу желтой удушливой пыли.
С точки зрения любых стандартов, дорога из Сеула на север худшая в мире. Веками по ней ездили повозки, 424
запряженные волами, а сейчас она превратилась в грязную, изрытую по всем направлениям полоску, извивавшуюся среди рисовых полей. Большинство мостов было смыто во время прошлогоднего наводнения, и никаких усилий восстановить их не прилагалось.
Мы делали примерно 30 миль в’ час, несколько замедляя скорость только в деревнях. Когда наши машины с грохотом проносились по дороге, женщины в яркокрасных, желтых и зеленых шелковых платьях и старики в неизменных белых одеяниях и крошечных черных соломенных шляпах на макушке бросались в кусты. На первой же реке моста не было, и машина сделала большой крюк по неровному, покрытому гравием дну. Мы подымали тучи брызг, ныряли в ямы и зачерпывали воду. В нескольких футах от нас человек средних лет нес на спине седобородого старика в нелепой шляпе. Младший аккуратно закатал брюки, но это было совершенно бесцельно, так как вода доходила ему до бедер. Ни один из них не смотрел на нас.
Уборка кончилась, и дорога была загромождена соломенными цыновками, на которых сохли на солнце кучи риса, чеснока и красного перца. Вся местность вдоль дороги казалась усеянной красными и белыми пятнами, и порой, когда колеса нашей машины проезжали по какой-нибудь чересчур выдвинувшейся цыновке, раздавался хруст. Соус «кимчи», которым каждый кореец приправляет свой рис, приготовляется, видимо, главным образом из чеснока и красного перца. Этот аромат носился над каждой деревней.
Капитан Г. — молчаливый угрюмый человек лет 29-ти. Он мрачно уклонялся от наших вопросов о крестьянских беспорядках. Однако признаки волнений было трудно скрыть. Почти в каждой деревне мы натыкались на патрули корейских полицейских в японских меховых пальто и с карабинами. Иногда за поворотом оказывалось дорожное заграждение, возле которого полдюжины полицейских допрашивали и обыскивали редкого путника, а однажды, примерно в 20 милях от Сеула, мы терпеливо ожидали, пока американский танк, охранявший мост, медленно отползал в сторону, чтобы пропустить нас,
425
За Мунгсоном на гребне горы, возвышавшейся над широкой рекой, мы свернули с дороги в американский военный лагерь. Он состоял примерно из 20 сборных бараков, раскинутых на голом склоне горы. Даже человеку неискушенному было понятно, что несколько полевых орудий, установленных здесь, господствовали бы над рекой и ее подступами на много миль. Люди в лагере выглядели мрачными и озабоченными. Отсюда до советских постов на 38-й параллели не более 40 миль.
Гораздо ниже лагеря, на небольшой узкой отмели, корейский полицейский ждал парома, переправлявшегося с другого берега. Течение было сильным, и команда изо всех сил налегала на единственное весло. Наконец, паром — огромная, протекающая посудина — уткнулся в берег. С него скатился тяжело нагруженный грузовик. Полицейский остановил машину и приказал седокам выйти. Он проверил их пропуска, похлопал по бокам, чтобы узнать, нет ли спрятанного оружия, и порылся в котомках.
Капитан Г. объяснил: «Он ищет коммунистических шпионов». Затем мы въехали на паром, и капитан начал беседовать с лейтенантом-японцем о своих профессиональных делах. Оба соглашались, что корейские полицейские это нечто ужасное. «Я видел, как грузовик сбил парнишку на велосипеде, — сказал лейтенант. — Подошел полицейский и, вместо того чтобы задать как следует водителю, принялся стегать мальчишку по голове». «О, это пустяки,— сказал капитан. — На днях полицейские задержали какого-то парня с 40 тысячами иен и стали допытываться, где он их взял. Он сказал, что продал свое имущество и идет в Сеул. Они поставили его на колени и начали задавать вопросы. Как только он открывал рот, чтобы ответить, они били его в пах. Они, конечно, избили его до полусмерти, добиваясь, чтобы он сказал им, что он коммунист».
В Кесоне, который пять веков назад был столицей Кореи, мы подождали другой виллис, который несколько опередили. Как только наш виллис остановился, вся улица, насколько видел глаз, ожила. К нам ринулись сотни ребятишек. Они щупали нашу одежду, толпились вокруг виллиса и с надеждой тянули и дергали на нем все, что могли сдвинуть с места. Время от времени капи-
426
тан покрикивал, ребятишки пятились, но ненадолго. Неподалеку от нас, словно огромный остров, высилась на перекрестке поросшая мхом древняя башня. Сейчас она обнесена колючей проволокой, и мы заметили, что многие из столбов совсем свежие. Мы уже знали, что два дня назад в Кесоне было восстание, что городские тюрьмы переполнены и что около 300 виднейших «левых» отправлены в Сеул. Полицейские участки охраняли усиленные наряды полицейских и юнцов хулиганского вида в штатском, очень похожих на тех парней, которых я два дня назад видел в Сеуле.
Второй виллис не показывался, и мы решили двигаться. Теперь мы ехали вдоль 38-й параллели. Где-то между Кесоном и Пакчоном мы встретили другой виллис. Он остановился, чтобы высадить хрупкого, перетянутого портупеей белокурого капитана с пистолетом на поясе. Оба капитана отошли на такое расстояние, что их нельзя было слышать, и посовещались. Затем вновь прибывший капитан К., сказав «До вечера», прыгнул в свой виллис и умчался, оставив за собой тучу пыли.
В Пакчон мы прибыли значительно позже^обеденного часа, усталые и грязные. Мы ввалились в здание, бывшее некогда японской гостиницей, в которой расположилась сейчас стрелковая рота. Командир роты, подтянутый плотный капитан, принял нас с безупречной вежливостью. Мы побрызгали немного воды на лицо, выпили у хозяина остатки ликера и принялись за бифштекс. В здании царила странная атмосфера: казалось, что все наблюдают за нами. Все вопросы о том, что происходит в Пакчоне или вдоль границы, оставались без ответа. Мы пытались что-то бормотать, пока не набрели на две безопасные темы: Висконсинский университет, который окончила Шарлотта, и горячие источники, питающие ванны гостиницы.
В тот же вечер я с шестью или восемью офицерами отправился в типичный японский бассейн, наполненный горячей серной водой. Хваленая расторопность армии совершенно не дает себя знать в Корее, и в гостинице — в числе многого другого — не было электрических лампочек. Мы разделись и вымылись при тусклом свете двух фонарей. Кто-то произнес: «Хотелось бы мне быть сейчас дома, в Калифорнии». Другой молодой, задумчивый голос добавил: «А мне в Айове». Один за другим раздавались
427
голоса, называвшие штаты, представленные в этом японском бассейне на корейской ничейной земле, в нескольких милях от ближайшего советского поста. После купанья мы вскарабкались по темной лестнице. Капитан Г., который, как меня вдруг осенило, не оставлял меня одного с того самого момента, как мы выехали из Сеула, спал в одной комнате со мной на соседней койке. Через окно, в котором нехватало нескольких стекол, врывался холодный ветер. Около полуночи меня разбудил звук близких выстрелов. Капитан также проснулся, и я спросил его, что это могут быть за выстрелы. Он сказал, что ничего не слышал.
23 октября 1946 г. Русская ЗОНА В СЕВЕРНОЙ КОРЕЕ
После того как в Ялте было решено разделить Корею на две части по 38-й параллели, кто-то, совсем некстати, вспомнил про Онджин. Этот полуостров на западной оконечности Кореи, или во всяком случае большая его часть, лежит по нашу сторону 38-й параллели. К несчастью, единственный путь на Онджин по суше ведет через советскую зону. Таким образом, по соглашению американским транспортным колоннам разрешено пересекать параллель, углубляться на 23 мили в советскую зону, а затем возвращаться в американскую зону на Онджин. После короткой стоянки колонна должна вернуться в тот же день и тем же путем.
Наша колонна начала формироваться рано утром, когда солнце еще не взошло. Дрожа от пронизывающего холода, мы бросились к бассейну, чтобы побриться и вымыться в горячей воде. Наша группа увеличилась, а сейчас к нам присоединился еще маленький капитан К., которого мы встретили по пути. Мы узнали, что он офицер полковой разведки, и догадались, что он следит за нами. Получили по огромному куску горячего пирога и колоссальную суповую миску, наполненную кофе. Затем натянули на себя все, что у нас было теплого, и уселись в машины.
Колонна состояла из четырех виллисов и грузовика с горючим. Мы выехали рано, так как нам предстоял долгий, тяжелый путь вдоль 38-й параллели, прежде чем мы доберемся до советских пограничных ворот. Снова
4^8
Ийс ШвЫрйЛо йз СтОройЫ в Сторону^ мы задыхались В густой пыли и дрожали от холода. Мы проехали через город Ионань, где на прошлой неделе было кровопролитное восстание. Проезжали мы через множество деревень; на пути к ним стояли охраняемые заграждения, а каждый полицейский участок походил на форт.
Затем мы достигли зоны, где не было ни деревень, ни путников. Мы обогнули холм и резко затормозили, наткнувшись на американского солдата с направленным на нас автоматом. Этот человек казался подтянутым, несговорчивым и знающим свои обязанности. Через дорогу от него находилась пара сборных бараков и несколько равнодушных солдат. Даже Шарлотта, несмотря на свою молодость и миловидность, не вызвала у них видимого интереса. Это был американский аванпост № 7.
В бараках было голо, чисто и очень холодно. Столовой служила палатка; полы ее были откинуты, и ветер гулял по нестроганному столу и скамьям. Мы присели, греясь на солнце, и завязали беседу с солдатом. «Нет, — сказал он, — это не слишком веселое место. Я бы не хотел застрять здесь надолго. Предполагалось, что мы пробудем здесь только две недели, а я пробыл уже три. Здесь чертовски пустынно и совершенно нечего делать. А русские сидят вон там». — Он указал на сопку у себя за спиной.
Без четверти десять мы снова сели в машины и проехали несколько сот ярдов до пограничных ворот. Воротами служил деревянный брус, подвешенный над дорогой. За ним находилась небольшая караульная будка и русский солдат с винтовкой. Трудно было сказать, сколько ему лет, так как у него было одно из тех крестьянских лиц, по которому трудно определить возраст.
В 10 часов к воротам подъехал красноармейский грузовик. Это был студебеккер, в котором сидело много офицеров и солдат. Трое или четверо офицеров подошли к нам. Они были подтянуты, и у каждого на груди висела планка с позванивавшими медалями. Один из офицеров, поразительно красивый юноша с туго набитой полевой сумкой, приветствовал нас и вступил в разговор. Он говорил сначала по-русски, затем по-немецки. Наши офицеры отвечали по-английски и по-французски. Наконец, был найден общий язык: корейский и латышский. Американский
429
офицер, который немного говорил по-латышски, объяснил, что его семья родом из Латвии. «Америка, — сказал сентенциозно русским, — интересная страна. Там живут народы многих рас и национальностей». Мы охотно согласились. Через некоторое время разговор иссяк. Мы стояли и улыбались друг другу, а русский сказал своему соседу: «Сегодня много новых лиц». Затем он решительно кивнул и сказал: «Ну, пошли». Часовой поднял шлагбаум, и мы вступили в советскую зону.
Американские транспортные колонны получают самые точные инструкции. Машины должны следовать определенным маршрутом, не имеют права останавливаться и обязаны делать в среднем 25 миль в час. Мы слышали, что в прошлую среду один из виллисов свернул не там, где нужно, и русские, следовавшие на грузовике сзади, быстро дали выстрел в воздух. Заблудившийся водитель тут же вернулся назад и повернул в другую сторону. За несколько недель до этого у другого виллиса сломалась по дороге ось. Русские быстро пересадили седоков на другую машину и, когда через четыре часа колонна вернулась, ей возвратили отремонтированный виллис вместе с наилучшими пожеланиями от Красной Армии.
В нескольких милях от границы мы проехали мимо аэродрома, где стояла стая русских истребителей — «яков». У ворот аэродрома на нас с улыбкой смотрела большая группа офицеров и солдат Красной Армии. За спиной у них на караульном помещении висел большой плакат с надписью на русском языке: «Солдат, храни тайну, Враг не дремлет!». Возле аэродрома теснилась группа старых зданий, в которых, должно быть, некогда помещался японский гарнизон. Сейчас там расположились русские. В окнах виднелись цветы: свежевыстиранное белье хлопало на ветру, и ребятишки играли на пустом дворе под присмотром молодых полногрудых русских женщин. Еще через полмили мы подъехали к большой деревянной арке, украшенной флагами и портретами Сталина и Ким Ир Сена, видного лидера Северной Кореи.
Мы находились теперь в Кайдзйо, одном из немногих крупных городов Кореи. По всему городу были расклеены сотни красочных плакатов, призывавших население голосовать на предстоящих местных выборах и убеждав-
430
ших женщин выполнять свой гражданские обязанности. Плакаты придавали городу веселый; праздничный вид.
Мы проехали по дороге и круто свернули на главную улицу. Корейский полицейский пропустил нас, но остановил виллис, следовавший за нами. Через несколько секунд на месте происшествия появился русский грузовик, русский офицер выскочил и нетерпеливо махнул рукой, предлагая колонне следовать дальше.
На улицах Кайдзйо было полно покупателей, продавцов, детей; крестьян, приехавших на рынок со своей снедью; школьников, резвившихся перед дверьми школ; телег, запряженных волами, велосипедов. Иногда появлялась конная красноармейская упряжка. Время от времени можно было видеть русского солдата, шедшего рядом с русской женщиной. Было и некоторое число полицейских, но проявления полицейской силы не чувствовалось. Когда наш виллис проезжал мимо, дети хлопали в ладоши и кричали по-русски «Американский!». Некоторые показывали на пальцах знак «V» (Victory — победа).
В магазинах, повидимому, было много товаров и покупателей. В одном магазине мы заметили портреты Сталина, Рузвельта и Черчилля и над ними три союзных флага, в том числе американский. Было и несколько военных магазинов Красной Армии. В окне одного из них была выставлена детская одежда, на двух других висели вывески: «Продовольственный и овощной магазин Красной Армии». Они выглядели маленькими и скромными, но нет никакого сомнения, что будь это американские магазины, в конгрессе по этому поводу было бы произнесено немало страстных речей.
Переезд через город отнял немногим более получаса. Затем наши виллисы проехали последнюю украшенную флагами арку, и мы снова очутились в мире пыли, полей, расположенных уступами на склонах сопок, и крошечных деревень с их красным перцем, чесноком, крестьянскими телегами на высоких деревянных колесах и свертками яркого шелка, выставленного напоказ на главной улице.
За час мы проехали через советскую зону и приблизились к воротам, которые вели на полуостров Онджин. С нами поровнялся красноармейский грузовик, который
431
большую часть пути был скрыт в туче пыли. Мы остано- вились у ворот и наблюдали за двумя русскими часовыми. Одному из них на вид было около 40 лет, другому казалось не более 16-ти. Оба помещались, повидимому, в расположенной поблизости корейской школе, украшенной огромным транспарантом: «Не позволим поджигателям новой войны нарушить завоеванный нами мир! Сохраним наш новый мир!»
Хотя дорога не стала лучше, мы набрали скорость и за 10 минут добрались до группки аккуратных домиков и сборных бараков. Это был американский аванпост № 4. Начальник поста, молодой лейтенант, повел нас через дорогу к себе домой. Там находилось несколько корейских рабочих, деятельно стучавших молотками и пиливших. «Эти проклятые азиаты, — сказал кто-то. — Они только притворяются, что работают». Корейцы приводили в порядок гостиную — светлую комнату с маленьким камином, стойкой и двумя высокими табуретами. Мы помылись и пошли завтракать в столовую. Там уже находились два инженера средних лет, которые завтракали вместе с нами. Они говорили о погоде и о пыли, но ничего не сказали о самих себе. Позднее мы видели, как они проверяли полевые телефоны.
После завтрака мы взобрались по склону сопки к баракам и легли погреться на солнце. Возле меня лежал молодой краснощекий лейтенант, оказавшийся, как мы вскоре выяснили, военным комендантом округа. Мы завязали разговор, и лейтенант охотно рассказывал о джонках контрабандистов, перехватываемых по пути из Северной Кореи в Южную; о «патриотической молодежной ассоциации», организованной американским военным переводчиком; о рисе, удобрениях и ценах; о том, как несколько дней назад американские войска доставили на материк полицейский отряд для подавления мятежа. «Мы пришли, — сказал он, — и нашли город совершенно пустым. На полицейских участках творилось что-то невообразимое. Полицейские бежали. Жители скрывались. Мы заняли участки и затем начали...»
Он не успел кончить фразы, когда один из сопровождавших нас сотрудников военной разведки — очень молодой капрал — подошел к лейтенанту, тронул его за плечо и сказал: «Сэр, могу я поговорить с вами?» Они отошли 432
за барак, и когда лейтенант вернулся, лицо его пылало, и он больше не говорил. Мы сжалились над ним и не задавали вопросов.
Вместо этого мы смотрели в ослепительно голубое небо, выискивая самолет, который мы только слышали, но не видели. «Должно быть, русский», — сказал сержант и завертел ручку полевого телефона.
Мы пытались поговорить с другими, но два сотрудника военной разведки прерывали любой разговор. Они были не агрессивны, но весьма настойчивы. Мы обрадовались, когда настало время возвращаться. Снова подождали у пограничных ворот, пока не прибыл русский грузовик. Затем покатили обратно через деревни, через Кайдзйо и мимо русского аэропорта. Еще через час мы снова были у первых пограничных ворот, и тот же русский офицер сказал, широко улыбаясь: «Ну, думаю, что через неделю увидимся». Все обменялись официальными приветствиями; шлагбаум подняли, и через минуту мы снова были у аванпоста № 7.
Когда мы вернулись в гостиницу, наступил уже вечер и воздух был холодный. Мы стучали зубами от холода, а когда вылезали из виллиса, то почувствовали, что совершенно закоченели. Оттаяли в бассейне, пообедали, а затем собрались в комнате командира, которую он галантно уступил Шарлотте.
Накануне вечером я договорился с ним, что напишу статью о нем и его части, и мы условились, что он попытается припомнить поворотные события в их жизни, забавные случаи и отдельные штрихи. Теперь же он изви? няюще улыбнулся и сказал, что ничего не смог припомнить. Было ясно, что, хотя ему хотелось видеть свое имя в печати, говорить он не станет.
Так прошло еще полчаса, пока наконец Шарлотта не выдержала. «Послушайте, ребята, — сказала она, — это уже становится смешным. Ведь мы же американские корреспонденты. Я была в Маньчжурии и беседовала с русскими, в Северном Китае — с китайскими коммунистами и в Чунцине — с гоминдановцами, но нигде со мной так не обращались. Вы все время следите за нами и делаете секрет из вещей, в которых нет ровно ничего секретного. Например, сбор риса...»
28 м Гейя
433
Я сидел в углу и делал заметки в блокноте. Я занес туда ответы. «В этой стране, — сказал один капитан, — все секретно». Затем капитан К. разразился более длинной и страстной речью. Он собирался вернуться в Миннесоту, стать зубным врачом и, возможно, обзавестись женой и детьми.
«Мы любим, когда корреспонденты приезжают к нам, — сказал он, — но не за информацией. Армия делает нужное дело, и она не хочет никакого вмешательства. Американский народ слишком глуп, чтобы понять, что здесь происходит. Мы не можем ждать, пока он поймет наши проблемы. Армия скажет народу только то, что ему нужно знать. Не я один так думаю. Я знаю, что такой же точки зрения придерживаются командиры полка и дивизии».
Он продолжал все в том же духе пронзительным сердитым голосом. Он поносил печать за дезинформацию и хотел знать, почему мы думаем, что наша информация будет лучше. Он назвал американский конгресс «фарсом» и настаивал на том, что армия должна проводить в Корее свою политику, ибо нет времени ожидать решений из Вашингтона. Он презрительно фыркал, когда говорил о «вмешивающемся не в свое дело невежественном, опрометчивом» американском народе. Нам всем было весьма не по себе, и постепенно группа распалась.
Мы рано отправились спать. Я забрался в спальный мешок. Как и прежде, холодный ветер дул сквозь выбитые стекла, а вместе с ним доносились звуки монотонной корейской мелодии. Поблизости журчал горячий источник. Лаяли собаки. Затем все стихло.
24 октября 1946 г, ПАКЧОН — КЕСОН
Покинули Пакчон после плотного завтрака, венцом которого было яблоко „макинтош", пробудившее во мне тоску по родине. Мы отправились колонной в составе трех виллисов во главе с капитаном К. Думаю, что он будет следить за нами, пока мы не покинем его территорию.
23 мили до Кесона мы покрыли за 36 минут, что следует считать своего рода рекордом для такой дороги. В Кесоне 434
мы провели утро с японскими репатриантами, возвращавшимися на родину из Маньчжурии и Северной Кореи через нашу зону. Большинство японцев выглядели поразительно опрятными и здоровыми, если учесть испытания, которые выпали на их долю.
Мы расспросили четырех японцев, в том числе жену японского бригадного генерала, об условиях жизни в советской зоне. Капитан К. дал нам в переводчики офицера разведки — американца японского происхождения.
Один из японцев, учитель и одновременно владелец сада, приносившего ежегодно 400 тысяч иен, пожаловался, что коммунисты перераспределили всю землю. «Люди, которые раньше работали на меня, теперь получили мой сад».
С самого начала начались трудности с переводчиком, который настаивал на своем праве контролировать и вопросы, и ответы. Я хотел знать, правилен ли распространившийся в Сеуле слух, что советский гарнизон в столице Северной Кореи уменьшен. «Этого я не буду переводить»,— сказал переводчик.
То же самое произошло, когда Шарлотта поинтересовалась, видели ли японцы в Северной Корее китайские коммунистические войска. Это же повторилось, когда я попросил описать внешность коммунистического лидера Ким Ир Сена. Меня взорвало.
«Вчера мы видели, должно быть, тысячи портретов Ким Ир Сена по всему маршруту, — сказал я, — и его внешность не может быть для нас секретом. Портрет Ким Ир Сена можно найти в архивах любой крупной американской газеты. Что, собственно, происходит? Что за секреты, которые японцы могут знать, а американские корреспонденты не могут?»
Капитан К. покраснел и сказал переводчику, чтобы он перевел мой вопрос. Японцы сообщили, что Ким Ир Сену на вид лет 35, что рост у него примерно пять с половиной футов, что он всегда ходит в штатском и что он хороший оратор.
Из лагеря мы поехали в город, чтобы повидаться с военным губернатором провинции майором Джоном Стейном, который славится своими административными достижениями, великолепными усами и заряженным пистолетом, с 435
28*
которым он редко расстается. В городской ратуше капитан К. попросил нас подождать в приемной и прошел в кабинет Стейна. Минут через десять он вернулся и сказал, что майор ждет нас.
У Стейна, в самом деле, были великолепные усы и пистолет в кобуре, повидимому заряженный. Этот огромный человек с курчавыми волосами высился над письменным столом, предназначавшимся для какого-нибудь японского чиновника.
«Входите, входите, — прогремел он. — Придвигайте кресла и кладите ноги на стол».
Мы сели и спросили его, не может ли он рассказать нам о сборе риса в его провинции.
«Насчет этого вам нужно обратиться в Сеул».
— А не можете ли вы в таком случае рассказать нам о технике сбора риса?
«И об этом вы тоже можете узнать в Сеуле».
Шарлотта спросила его, ведутся ли какие-нибудь приготовления к выборам, до которых оставалась неделя.
«Я никогда не говорю с представителями корейской печати, — сказал Стейн. — Не хочу я говорить и с представителями американской печати».
— Ладно, майор, — сказал я, — назовем это светским визитом. Мы просто зашли засвидетельствовать вам свое почтение. Весьма благодарны вам за прием.
Он поднялся, попрощался с нами, и мы вышли в приемную, чтобы подождать капитана Г., нашего проводника из Сеула, у которого был ключ от нашего виллиса. Вышел капитан К. и сказал, что майор не хочет, чтобы мы находились в здании. Мы сели в машину капитана К. и подъехали к его резиденции, расположенной на вершине холма. Капитан повел нас в свою пустую комнату, вытащил из стола две вырезки — одну из «Тайм», другую из «Чикаго трибюн» — и начал разносить печать.
«Наглая ложь, — сказал он. — Ложь с начала до конца. Не могу передать вам, сколько вреда причинили здесь эти писаки. Это вы писали?» Он размахивал у меня перед носом вырезкой из «Трибюн».
Шарлотта мягко сказала: «Капитан, он работает для «Сан», а не для «Трибюн».
436
«Разве? — сказал капитан. — Впрочем, это неважно. Все газеты одинаковы. Здесь идет война, а эти проклятые репортеры суют свой нос в нашу работу...»
Капитан Г., наконец, прибыл, и последние сто миль до Сеула мы проехали молча.
25 октября 1946 г. СЕУЛ
Утром Шарлотта и я отправились в национальный полицейский отдел военной администрации, чтобы попытаться разузнать о волнениях, охвативших нашу зону. Нас провели в закрытое помещение, где хранились экземпляры американских полицейских донесений. На стене висела большая карта с маленькими флажками, обозначавшими районы, охваченные волнениями. Флажки были расположены тремя группами: одна—близ 38-й параллели, в тех районах, где мы только-что побывали; другая—в городе Тэгу, в центре нашей зоны, и третья — на крайнем юге, вокруг города Пусан.
В течение двух часов мы лихорадочно записывали. Из лаконичных донесений в две-три строки перед нами вырисовывался лик революции. Это было окровавленное лицо, искаженное болью и агонией. Как и большинство революций, эта революция уходила своими корнями в глубокую нужду, в жажду земли, пищи и справедливости.
Это была настоящая революция, в которой, должно быть, участвовали сотни тысяч, если не миллионы, людей. В одном только Тэгу в восстании приняла участие треть 150-тысячного населения. Здесь в прошлом месяце вспыхнула первая искра революции. Железнодорожники объявили забастовку, их примеру последовали телефонисты и металлурги, текстильщики и электрики. Как только полиция подавляла одну забастовку, начиналась другая. Студенты вышли на улицу, а затем пламя восстания охватило весь город.
^Из города революция перекинулась в деревню и была подхвачена издольщиками. Крестьяне отказывались сдавать рис полиции. Они нападали на дома помещиков и полицейские участки. Они взламывали двери тюрем, чтобы освободить арестованных издольщиков, они жгли казенные бумаги и захватывали оружие.
437
На подавление революции были брошены полиция, организации правых и американская армия. В одном городе за другим консервативные лидеры предлагали свою помощь нашему местному командованию или активно участвовали в массовых облавах на «подозрительных». Что касается нас, то мы не только перевозили корейскую полицию в места, охваченные волнениями, поставляли оружие или держали предохранительные патрули. Наши войска, которые пришли сюда как освободители, стреляли в толпу, производили массовые аресты, обшаривали сопки в поисках «подозрительных» и организовывали отряды корейских правых и полиции для массовых облав.
Поразительно, что, несмотря на наше активное вмешательство, ни один американец не пострадал. Мне это казалось либо удивительным везением, либо признаком суровой дисциплины в рядах мятежников. Революционеры не хотели связываться с нами. Они просто сводили счеты с людьми и силами, которые угнетали их при нашем правлении так же, как и при японцах. До настоящего времени убито около 75 полицейских и от 200 до 300 пропали без вести.
Вот как выглядела революция:
26 сентября. В ... во время забастовки убиты два рабочих.
2S сентября. В ... похищены два ящика динамита. Забастовки железнодорожников, телефонистов и металлургов в ...
/ октября. В ... бастуют работники связи. В Пусане конторские служащие заменяют вагоновожатых трамвая. В Сеуле бастуют служащие магазинов и школ. Арестовано 30 вожаков забастовки трамвайщиков. Демонстрации в Сеуле. Голодные демонстрации в Тэгу. Среди населения убит один человек, шесть полицейских ранено. 400 полицейских рассеивают демонстрацию.
2 октября. 50 тысяч мятежников в Тэгу захватили все полицейские участки. Взломаны двери тюрьмы. Разгромлены дома полицейских. Американские войска «поддерживают порядок» с помощью танков. Убито 38 полицейских. В ... сожжено здание почты. В ... разрушены здание окружных властей и бывшие японские дома. В ... 5 тысяч человек требуют продовольствия перед зданием окружного управле438
ния. Восстания охватили провинцию... Американские патрули пытаются арестовать всех зачинщиков и агитаторов. В Тэгу прибывают корейские полицейские подкрепления.
4 октября. В ... рано утром американские войска отбили у восставших полицейские участки. В ... полковник американской армии Ганди с отрядом в 150 человек произвел 15 арестов, отобрал 40 винтовок, спас почти всех полицейских, кроме 37 человек.
7 октября. В ... вечером 500 человек атаковали полицейский участок. Полиция, открыв огонь из полуразрушенных зданий, обратила мятежников в бегство. В Теджоне консервативные лидеры обещают оказать поддержку американскому командованию. В Пусане к каждому полицейскому участку приписано по половине отделения американских войск. Число арестованных 254. В ... несколько тысяч человек атакуют городскую ратушу. Мятежники рассеяны полицией и американскими войсками: 7 мятежников убито, 8 ранено. Раскрыт студенческий заговор, арестовано 13 зачинщиков. В ... американские войска и корейская полиция разгоняют толпу пулеметным огнем. Число арестованных «агитаторов»: 18... 25... 17... 7... 8...
8 октября. В ... толпа в 200 человек, главным образом женщин, требует увеличения пайков риса. К северу от ... 300 человек окружены в сопках. Посланы американские войска.
10 октября. Из Тэгу сообщают: «Чтобы разгрузить полицейские тюрьмы, арестованных помещают в камеры и служебные помещения городской тюрьмы в Тэгу. В настоящее время там содержится 1200 человек, находящихся под следствием».
11 октября. Левые жгут дома консерваторов близ Пусана. Из Тэгу сообщают: «Здесь считают небезопасным отзывать подкрепления, пока не пройдут выборы».
12 октября. В ... лейтенант корейской полиции и пять полицейских, расследуя причины незаконного сборища, случайным выстрелом убили рабочего лидера.
14 октября. В ... посланы отряды по 50 человек каждый для «прочесывания» сопок с целью вылавливания подозрительных элементов. 100 человек задержано для допроса, 100 бежало в сопки.
20 октября. В Кесоне (где мы видели вчера майора Стейна) убит демократический лидер. Арестовано 54 левых.
439
Тюрьма переполнена и, так как аресты продолжаются, приспособили для этих целей школу. В Ионани мятежники захватили окружной полицейский участок; похищено 64 винтовки. Мятежники захватили полицейский участок в Пакчоне (где мы провели две ночи), но участок отбит американскими войсками. Арестовано: 11 в Пакчоне, 100 в ..., 117 в ..., 150 в ..., 43 в..., 23 в ..., 13 в ..., 20 в ..., 315 заключенных переведены из Кесона в Сеул. «Чой Чан Ки напал на полицейский участок и затем покончил самоубийством...»
Мы продолжали делать заметки, а встревоженный полковник вертелся вокруг нас. Время от времени он исчезал в кабинете начальника полицейского отдела американского полковника Уильяма Маглина. Мы уже слышали о Маглине. Он сын капитана нью-йоркской полиции, окончил военное училище в Уэст-Пойнте и был начальником военного полицейского училища в Форт-Кастер. Профессиональный полицейский, Маглин служил во французской, итальянской и мексиканской полиции. Встревоженный полковник подошел к нам и сказал, что Маглин хочет нас видеть. В кабинете Маглина мы застали полдюжины американских офицеров. Они сидели двумя ровными рядами и пялили на нас глаза. Мы сели напротив Маглина. Это высокий, широкоплечий, представительный человек, лет сорока с лишним.
Маглин рассказал нам, какие меры принимаются для демократизации корейской полиции. Сабли, сказал он, заменены дубинками. Над полицейской бляхой помещена планка с надписью «полиция». Полицейским велено воздерживаться от политической деятельности. Полиции запрещено держать арестованных в тюрьме более 48 часов без предъявления обвинений, хотя этот срок может быть увеличен до 10 дней при обвинении в «бродяжничестве».
«Вам следует иметь в виду,— сказал Маглин, — что, когда в прошлом году мы взяли дела в свои руки, среди 20 тысяч полицейских было 12 тысяч японцев. Отослав японцев домой, мы поставили на их место корейцев, а затем создали полицию, включив в нее всех молодых людей, которые помогали ей. Таким образом, мы увеличили численность полиции с 20 до 25 тысяч человек.
Меня спрашивают, целесообразно ли держать людей, обученных японцами. Но многие из них прирожденные
440.
полицейские. Мы считали, что если они хорошо работали на японцев, то они будут хорошо работать и на нас. Было бы несправедливо выгонять из полиции людей, обученных японцами».
26 октября 1946 г. СЕУЛ
Шарлотта и я сказали майору Уильямсону, что хотим отправиться на юг—в Тэгу и Пусан. Он заявил, что это невозможно, потому что там нет никаких условий для приема корреспондентов. Во время спора мы обнаружили, что ведомство генерала Бэйкера в Токио сыграло с нами шутку. Я просил разрешения провести в Корее 30 дней. Шарлотта хотела пробыть две недели. Кто-то пометил наши пропуска задним числом, так что к тому времени, когда мы сюда прибыли, мое пребывание здесь свелось к 15 дням, а Шарлотты — к 10-ти. Сейчас Уильямсон согласился продлить мое пребывание на 10 дней, но Шарлотте сказал, что ей придется покинуть Корею через несколько дней. Поскольку мы собирались провести на юге самое меньшее две недели, нам явно нехватало времени.
Я сказал Уильямсону, что если я сегодня же не получу разрешения, то пошлю в «Чикаго сан» две корреспонденции: статью с описанием методов цензуры, которые применяет здесь армия, и просьбу к своему редактору заявить военному министерству официальный протест.
Днем Уильямсон уведомил нас, что генерал Ходж разрешил нам поехать на юг, но что Шарлотте придется покинуть Корею, как только она вернется в Сеул.
Завтракал с Берчем. Он говорил о предстоящих выборах во Временное законодательное собрание, которое фактически будет корейским органом власти для нашей зоны. Собрание будет состоять из 90 членов, в том числе 45 избранных. Остальные будут назначены генералом Ходжем по рекомендации Берча.
Выборы, сказал Берч, уже начались во многих районах несколько раньше срока, и он намерен добиваться их аннулирования. «Дело в том, — сказал он, — что народ ничего не знает о выборах. И, в конечном счете, это может поставить нас в затруднительное положение». (Впослед- 441
ciвии мы проверили этот факт в военной администрации и обнаружили, что там не знали, что выборы уже начались, и все еще ждали распоряжений, чтобы объявить корейскому народу о начале выборов.)
Берч сказал также, что он сомневается, чтобы левые победили. «В силу самого характера выборов, — сказал он, — 45 избранных депутатов будут старые реакционеры. Спасти положение должны 45 назначенных». Берч сказал тогда, что, как ему известно, Ли Сын Ман добьется избрания многих своих приспешников, по что система назначений даст Ким Гю Сику равновесие сил.
Когда мы выходили из отеля Чосен, к Берчу подошел какой-то сияющий полковник. «Послушайте, — сказал он. — Вы как будто бы рекомендуете людей во Временное законодательное собрание?»
— Да.
«В таком случае я знаю замечательного парня. Его зовут Рах, он председатель общества по организации конных бегов. Он очень хочет служить в законодательном собрании. Вы крайне обяжете меня, если повидаетесь с ним».
— Ладно, — сказал Берч. — Пришлите его ко мне с вашей визитной карточкой, я с ним побеседую.
«Я верю в неизбежность и необходимость конфликта с Россией, — сказал Берч, когда мы шли по улице, — подобно тому как был неизбежен и необходим конфликт с Германией. Мы должны готовиться к нему двумя этапами: атомная подготовка и демократические реформы в оккупированных странах».
Послезавтра мы вылетаем в Пусан.
28 октября 1946 г. ПУСАН
Добравшись до аэродрома, мы обнаружили, что все места в транспортном самолете, на котором мы должны были лететь, заняты непредусмотренными внеочередными пассажирами —корейскими политиками. Полковник, с которым я играл в покер в отеле «Чосен», посадил Шарлотту и меня на маленький самолет, на котором перевозили в Пусан ансамбль американского Объединения военно-зрелищных предприятий. Было зверски холодно, и бедная
442
Шарлотта, у которой поверх военной формы было наброшено только тонкое невоенного образца красное пальто, хныкала всю дорогу.
Почему одинокая песчаная полоса в Пусане именуется аэродромом, остается тайной. Там стоял лишь один барак, по всей видимости необитаемый, и не было даже телефона. Доставивший нас самолет тут же вылетел обратно. До Пусана мы ехали вместе с полковником, которого ждал виллис. Мы нашли, что Пусан — это тот же Сеул, но только более запущенный. Это город с 350-тысячным населением, с улицами, изрезанными колеями, с пустыми магазинами и с омнибусами (сделанными из старых автомобилей), которые уныло тянули лошади. Это очень печальное и пыльное место.
Я отметился в железнодорожной гостинице американской армии. Затем мы отправились в отдел печати на поиски капитана Хупера, который, как предполагалось, должен был о нас позаботиться. Не застав капитана, мы пошли в здание военной администрации, чтобы поговорить с заместителем военного губернатора подполковником Бентоном. Мы узнали, что в провинции имеется 1300 политзаключенных, что нехватка риса была одной из основных причин волнений и что военная администрация прилагает все усилия, чтобы управлять через самих корейцев. («Знаете, ведь это их страна».)
Выходя, мы спросили майора, важно восседавшего за письменным столом, как зовут корейского губернатора провинции. Майор не мог этого припомнить.
Мы снова направились в отдел печати, чтобы узнать, не вернулся ли капитан Хупер. Мы встретили его у входа, и он приветствовал нас очень кислой улыбкой. Он сказал нам, что только что вернулся с аэродрома, куда ездил встречать нас вместе с двумя другими офицерами. Когда прибыл транспортный самолет, нас, естественно, там не оказалось. С тех пор эти три офицера ищут нас по всему городу. Хупер очень встревожился, узнав, где мы были и с кем. Он настоял на том, чтобы проводить нас до железнодорожной гостиницы, где мы, конечно, нашли двух других офицеров, ждавших нас. Одним из них был лейтенант Джеймс из военной разведки, другим — капитан Дэвис, командир роты, которому поручено «охранять нас».
443
Первые часы, проведенные вместе, прошли в очень натянутой обстановке, ибо нас раздражала слежка, а офицеры злились, что нам удалось ускользнуть от них. Затем приехала жена Дэвиса, поразительно хорошенькая женщина, и мы пообедали без ссоры. После обеда Дэвис отвел Шарлотту в предназначавшееся для нее помещение, а Джеймс остался со мной. Было 6 часов вечера, под рукой не имелось ни книг, ни газет, а у нас с Джеймсом нашлось мало общих тем для разговора. Мы выпили пару стаканов вина, а затем он предложил пойти в кино. Это было очень жалкое зрелище, и, когда мы выходили из кино, я сказал об этом. «Это отвратительно, — сказал Джеймс.— Я уже видел эту картину вчера вечером».
29 октября 1946 г. ПУСАН
После завтрака Шарлотта и я в сопровождении нашего эскорта снова отправились в здание военной администрации. На этот раз нам удалось заметить возле здания пулеметное гнездо и корейских полицейских, которые проверяли бумаги всех корейцев, входивших во двор, а в здании — изношенные полы с протертым до дыр линолеумом и множество полезных надписей на английском языке вроде: «Берегись пожара! » и «В зал заседаний» со стрелкой, указывавшей направление.
Большую часть утра мы провели с начальником отдела внутренних дел этой провинции Бергстромом. Это добродушный, примерно сорокалетний приятного вида человек, который десять лет служил в муниципалитете Милуоки; когда кончится срок его службы, он намерен заняться политикой.
Процедура выборов, объяснил Бергстром, была установлена консультативным советом военной администрации, члены которого назначались корейским губернатором. Я вспомнил, что губернатор был тот самый «друг», к которому Ли Сын Ман дал мне письмо. Процедура выборов была сложной. На уже состоявшихся первичных выборах главы семей в каждой деревне выбирали двух представителей на окружные собрания, которые должны состояться сегодня. Каждое окружное собрание изберет двух делегатов на провинциальное собрание.
«Видите ли,—сказал Бергстром,—по тактическим Соображениям правым удобно провести выборы именно сейчас. Все левые либо в тюрьме, либо в сопках».
Мы договорились поехать днем на окружное собрание в соседнем округе Тонгне, чтобы наблюдать за выборами.
Наш эскорт, присутствовавший при всех наших интервью, даже при интервью с самим военным губернатором, завтракал вместе с нами. Дэвис рассказал нам о первом дне своего пребывания в Корее. Он высадился в Инчоне, и ему было приказано отправиться вместе со своей частью в город на юго-западном побережье. Поезда, конечно, были переполнены, и многие корейцы ехали на крышах. Они отказывались слезать и все время сбрасывали оттуда всякий мусор, который частично попадал через открытые окна внутрь вагонов. Рассердившиеся солдаты начали, наконец, стрелять в потолок из автоматов.
«Надо было вам видеть, как эти парни посыпались вниз».
Тонгне — довольно большой, ничем не примечательный город одноэтажных зданий с частным банком, оживленным рынком и неизбежной пылью. Мы подъехали к окружному управлению, где застали окружного старосту— стройного, красивого и весьма представительного корейца. На нем было пальто хорошего покроя, в котором он походил скорее на дипломата, нежели на сельского администратора.
Мы подошли к напоминавшему храм зданию, где уже начались выборы. На большой доске были написаны имена семнадцати присутствующих избирателей, которые должны выбрать из своего числа двоих для участия в провинциальных выборах в Пусане. На доске указаны были также профессии этих людей: шесть крестьян, пять сельских старост, два помещика, пивовар, брандмайор, монах и партийный организатор из «демократической партии» Ли Сын Мана «Хан Кук». («Раньше он был нехороший, — объяснил нам окружной староста, — но теперь исправился».)
Нас особенно интересовали крестьяне, и мы попросили окружного старосту познакомить нас с одним из них.
Это был маленький, круглолицый человек лет сорока шести в европейском платье. Мы сразу же выяснили, что, хотя он числился крестьянином, он также был старостой
445
Своей деревни. Свою землю он сдавал в аренду издольщикам. «Я беспартийный, — сказал он, — но более близок к правым».
Мы спросили его, были ли у них волнения крестьян. «В моей деревни их не было, — сказал он гордо. — Как только я узнал о беспорядках в других деревнях, я организовал охранный отряд, вооружил его дубинками и приказал патрулировать деревню. Я управляю деревней, и у меня никаких беспорядков не было».
Нас этот человек не удовлетворил. Мы хотели настоящего крестьянина, который знал бы землю на ощупь и поднимался до рассвета, чтобы обработать свое поле. Мы вошли в храм и стали искать другого крестьянина. Там было три стола. За одним сидели четыре официальных свидетеля, за вторым — два официальных наблюдателя и за третьим — два агента. Нам показалось, что один из официальных наблюдателей был именно таким крестьянином- кандидатом, какого мы разыскивали, и мы вытащили его.
Этот также оказался любопытным экземпляром. Ему принадлежит только 2,5 акра земли, но две трети из них он сдает в аренду трем издольщикам. Этот человек выглядел зажиточным, и было ясно, что не занятие земледелием придает ему этот вид богача.
«Отец, — сказал он лаконично. — Мой отец помещик. 36 акров».
Мы подождали, что будет дальше.
«Я также занимаю несколько постов. Я председатель Общества сельскохозяйственного кредита, председатель Общества морского рыболовства и председатель Общества по подавлению беспорядков».
В его деревне беспорядков не было, так как полиция арестовала 8 человек, которые признались, что замышляли восстание. Тогда он и организовал свое Общество по подавлению беспорядков, объединявшее примерно 150 человек — «главным образом пожилых». До последнего времени крупнейшими организациями в его районе были Крестьянский союз и Союз молодежи, но сейчас они бездействуют, а их руководители либо в тюрьме, либо скрываются.
Мы спросили его, кто, по его мнению, самый выдающийся человек в Корее. «Ли Сын Ман», — ответил он без колебаний.
446
Возле храма мы поговорили еще с одним «крестьянином», стариком в черной шелковой одежде. Он сказал, что у него нет земли и отказался входить в подробности. Вместо, этого он рассказал нам о беспорядках в своей деревне, где Крестьянский союз требовал передела земли. Вся эта неприятность окончилась арестом «трехсот или четырехсот человек». После этого старик уговорил остальных — людей состоятельных — создать охранный отряд.
«Военная администрация, — сказал он визгливо, — не должна так снисходительно относиться к этим смутьянам»
С нас было довольно этих подложных крестьян. Теперь мы хотели поговорить с окружным старостой. Крестьянский союз, сказал он, был очень влиятельной организацией, объединявшей почти 20 тысяч издольщиков округа. «Однако, — добавил он, — союз надавал множество необдуманных обещаний: земельной реформы, чистки администрации и тому подобного. Но он не мог сдержать их и постепенно утратил поддержку. Сейчас он бездействует, а его руководители в тюрьме».
Пришло известие, что голосование кончилось, и мы все пошли в храм. Начальник полиции стоял возле урны и внимательно наблюдал за всем происходившим. К двум агентам присоединились теперь двое полицейских. Были внесены скамьи, в здание ввалились человек пятьдесят и заняли места. Окружной староста вынул из конверта ключ и открыл урну. Затем он стал вытаскивать бюллетени по одному и зачитывать два имени, написанные на каждом. Писарь заносил имена на доску.
Партийный организатор получил семь голосов. По шесть голосов получили председатель Общества по подавлению беспорядков и старый «крестьянин», с которым мы говорили. Из двух последних старик тут же был провозглашен победителем. Бергстром поинтересовался причиной такого предпочтения, и окружной староста сказал: «Он старший из двух».
После обеда я решил попытаться ускользнуть от своего эскорта. Пожаловавшись на головную боль, я поднялся к себе в комнату. Когда через час я спустился вниз, ребята уже ушли. В зале я заметил офицера военной администрации, с которым мне уже приходилось встречаться.
447
Я рассказал ему о выборах, на которых мы присутствовали, и он покачал головой.
«Это типичный пример выборов, — сказал он. — Сначала они предоставляют лисынмановцам разрабатывать процедуру выборов. Далее, во избежание каких-нибудь упущений, проводят выборы четырьмя ступенями, чтобы можно было устранить нежелательных. И, наконец, разрешают голосовать только главам семей или даже главам каждых десяти семей.
Всех возможных оппозиционеров они бросают в тюрьмы или загоняют в сопки. А затем предоставляют нам 9 дней, чтобы разъяснить выборы неграмотным крестьянам. С этой машиной бороться невозможно. Она охватывает всех представителей власти — от сельского полицейского и помещика до 1убернатора провинции.
Это та же самая машина, которую мы застали, прибыв сюда. Это идеальный механизм, с точки зрения наших целей. Он построен на военный лад. Стоит вам нажать кнопку, и где-то какой-то полицейский начинает раскалывать черепа. Они 35 лет обучались этому делу при японцах. Было бы наивно думать, что сейчас они забудут все, что знали.
Большинству наших младших офицеров надоело якшаться с этой бандой. Все, чего они хотят, это сообщить о том, что здесь творится, людям, оставшимся на родине. Может быть, они смогут что-либо сделать, чтобы положить конец этому мошенничеству».
30 октября 1946 г, ПУСАН
Отправились навестить начальника полицейского отдела майора Аткинсона. Он сказал, что у него деловое свидание в другом месте и он не может говорить с нами. Мы ответили, что согласны удовлетвориться разговором с корейскими полицейскими офицерами. Аткинсон заколебался, но подконец согласился. Мы начали с заместителя начальника, небольшого, коренастого человека. Аткинсон, повидимому, забыл о своем свидании. Он остался и делал исподтишка знаки своему заместителю и его переводчику. Наконец он вызвал из комнаты клерка, который вернулся через несколько минут и что-то шепнул заместителю начальника.
448
Но мы уже успели узнать, что в провинции около 3450 полицейских, что большинство корейских полицейских, нанятых после прибытия сюда американской армии, служили в японской армии и что почти все высшие корейские полицейские офицеры обучены японцами. Заместитель начальника почти всю свою сознательную жизнь служил в японской полиции, начальник 32 из 38 лет своей жизни жил при японцах, начальник сыскной полиции также выученик японцев.
Тут вмешался Аткинсон.
«Волнения,—сказал он,— были организованы агитаторами, ввезенными из района севернее 38-й параллели. Они разъезжают по стране, требуя высокой заработной платы для рабочих и земли для издольщиков. За последние шесть месяцев поступило только три жалобы на грубое обращение полиции. Они были проверены и оказались необоснованными».
Он отказался сообщить нам, сколько человек арестовано у него в провинции, сколько сейчас находится в тюрьме и сколько таких агитаторов задержано. «Я не могу сказать вам, так как боюсь ошибиться».
Мы беседовали с корейским губернатором, к которому у меня было письмо от Ли Сын Мана. Этот маленький человек с удивленным выражением лица сообщил нам, что свою карьеру он начал в качестве учителя, затем был управляющим банка в Тонгне (который мы вчера видели), а девять месяцев назад стал губернатором. Мы сказали ему, что хотим посетить какую-нибудь деревню, указав, что именно нас интересует. Он казался еще более изумленным, чем всегда, но наконец предложил нам посетить деревню Вайя по другую сторону Тонгне. В этой деревне есть помещик по имени Ох, которому принадлежит 7500 акров, и там были беспорядки. Мы поедем туда с д-ром Ханом — корейцем, который окончил Чикагскую и Принстонскую богословские семинарии и служит сейчас переводчиком у Бергстрома. Я начинаю думать, что д-р Хан очень важная персона, если и корейский губернатор, и американский военный губернатор полагаются на него.
Вторую половину дня провели в департаменте земледелия, во главе которого стоит майор Фаулер. Майор, дород-
29 М. Гейн
449
ный профессиональный солдат с зычным голосом, провел в Корее месяц. В годы войны он был начальником военного лагеря в Техасе. Не знаю, что именно из его карьеры давало ему качества, необходимые для выполнения важной задачи сбора риса в голодной и беспокойной корейской пре beнции.
Майор знал очень мало и мы, в конце концов, уговорили его позвать его корейских помощников. Они сказали нам, что в провинции нехватает риса и других товаров первой необходимости, нужных крестьянину. Голодные, сказали они, не считают, что американская пшеница, которую они сейчас получают, может заменить рис. Черный рынок процветает, и цены на рис в десять раз выше официальных.
В этот момент вошел капитан Прайс, который под начальством Фаулера руководит сбором риса. Этому приятному и живому молодому человеку на вид около тридцати лет. Он уже год находится в этой провинции.
«В прошлом году, — сказал он, — кому-то в Сеуле взбрело в голову пустить рис в открытую продажу. К тому времени, когда они спохватились и ввели нормирование, было уже слишком поздно. Рис исчез, и в стране начался голод. Мы собрали только пятую часть того, что следовало.
Наши отношения с крестьянами не слишком хороши. Японцы забирали рис из этой страны, но они все же ввозили зерно из Маньчжурии. Сейчас крестьяне отдают рис чтобы кормить городское население, и ничего не получают взамен. Крестьяне обеспокоены и перенесли свою ненависть с японцев на нас.
Когда мы явились сюда, мы обнаружили, что власть находилась в руках представителей Корейской народной республики. Это было нарушением нашего приказа об оставлении японских должностных лиц на их постах. Поэтому мы ликвидировали эту власть. Я считаю, что народная республика, Крестьянский союз и тому подобное больше уже не стоят на повестке дня. Сейчас старики организуют своих людей для поддержания порядка и вооружают их дубинками. Это очень устраивает нас.
Три недели назад меня послали в округ, где были волнения. Я уволил окружного старосту и начальника полиции, организовал отряд и совершил с ним налеты на некоторые дома, произвел налет на помещение Крестьянского союза
450
и помог активизации «демократической партии» Ли Сын Мана «Хан Кук».
Мы спросили, делается ли что-нибудь в отношении земельной реформы.
«Земельной реформы? — переспросил он весело. — Это несущественно. Не забывайте, что они привыкли к существующей системе».
31 октября 1946 г. Г1У С А Н
Сегодня день провинциальных выборов, и в здании полно полицейских. В ожидании начала сессии мы беседовали с офицерами военной администрации о корейском консультативном совете, избранном для того, чтобы он мог «отражать общественное мнение всего народа». Поскольку американский военный губернатор так сильно полагается на этот совет, последний перестал быть просто совещательным органом. Он назначает всех корейских должностных лиц и рекомендует увольнение тех, кто ему не по вкусу.
Нам сказали, что из 23 членов совета 20 — откровенные правые. Председателем совета является провинциальный босс лисынмановской партии «Хан Кук». Мы не удивились, узнав, что этот человек сотрудничал с японцами.
Выбрали наудачу одного из избирателей и расспросили его. Он оказался фабрикантом и помещиком, на земле которого работает 70 семей издольщиков. Он оживился, когда мы спросили его о Крестьянском союзе.
«С этим союзом у меня было много хлопот, — сказал он. — Все мои арендаторы входили в него. Они требовали раздела земли и участия Крестьянского союза в выборах. Нам пришлось разогнать его».
В комнате сидело около 150 человек. Полицейские у входа проверяли мандаты вновь прибывших. Небритый и невероятно старообразный корейский губернатор сидел возле урны. Всем ходом спектакля явно управлял его заместитель, который сильно смахивал на полицейского в штатском. Доктор Хан был переводчиком военного губернатора полковника Джиллета.
2з»
451
«Эго историческое событие, — сказал Джиллет, — Выборы бывали и раньше. 1 Jo это первые выборы, направленные на разни/ис демократии. Само ваше присутствие здесь говорит о том, что вы представители парода. У нас было очень мало сообщений о нечестных методах или запугивании. Зато имеются сообщения, что выборы вызвали большой интерес общественности. Вы умны и способны...»
В этот момент один из корейцев поднялся и сказал, что хочет сделать замечание. За столом возникло некоторое смятение. «Мы не можем заниматься здесь предвыборной агитацией, - сказал Джиллет, — Вы можете задать вопрос». Заместитель корейского губернатора, нетерпеливо постукивая по крышке часов, что-то резко сказал. Человек сел. (дольше никто не выразил желания говорить.
«Я думаю, он анархист», — пояснил мой сосед. Он сказал мне, что присутствующие—главным образом должностные лица округа и персонал военной администрации.
Предстояло избрать 7 человек, которые должны были oiнравиться в Сеул: одного представителя от всей провинции и шесть других — от отдельных округов. Когда было названо имя представителя провинции, раздались а плоднсменты.
«Как его зовут?»
- Ким Чул Су.
Это был председатель консультативного совета, глава партии Ли Сын Мана и бывший коллаборационист.
Я сидел в одном учреждении и невольно прислушивался к разговору за моим столом. К высокопоставленному американскому офицеру обратились капитан американской армии н секретарь корейского губернатора. Речь шла о назначении на должности.
«Мне пришлось отстранить окружного старосту у себя в округе», • сказал капитан. «Он был левый,—добавил секретарь.—Он не был достаточно стойким».
Мы не можем решить, кого назначить на его место. — заявил капитан.
Наступила долгая пауза.
«Л как насчет того кандидата, который не. прошел сегодня на окружных выборах? — спросил высокопоставленный офицер. — Ведь он правый, не так ли?»
452
/ ноября 1946 г,
ДЕРЕВНЯ ВАЙЯ ОКРУГ Ч У Л М А
По пути в деревню мы остановились в Тонгне, чтобы захватить проводника. Д-р Хан говорил мне, что хорошо знает город, так как десять лет проработал в городском банке.
Несколько миль мы ехали по шоссе, затем свернули на неровную проселочную дорогу и, наконец, на тропинку. Навстречу нам попадались лишь люди с тяжелыми ношами на спине и запряженные волами телеги на огромных окованных железом колесах. Дважды мы переезжали реки, подпрыгивая на камнях. Затем взобрались на высокое плато. Это было чудесное зрелище: внизу — широкая сверкающая река, впереди — суровые горы Чулма и по обе стороны от нас аккуратные рисовые поля, расположившиеся уступами по крутым склонам гор.
Вайя — узкая деревенька, зажатая между горой и рекой. Над ней возвышаются великолепный дом и фамильный склеп помещика Оха, который сам предпочел перебраться в более безопасное место — в Тонгне. Мы проехали через всю деревню и подъехали к одноэтажному белому зданию окружного управления.
Окружной староста — высокий, худой человек лет около 50, в белом шелковом костюме и в наброшенной на плечи белой накидке. У него коротко подстриженные седые волосы и редкая бородка. Мы беседовали с ним в маленькой комнатке, а снаружи доносились радостные крики сотен ребятишек, собравшихся вокруг наших машин, заглушавшие иногда наш разговор.
В Вайе 570 жителей, четыре пятых которых — издольщики. Во всем округе 3900 издольщиков и членов их семей живут на 1350 акрах арендуемой земли. Крупнейший помещик — Ох, у которого в одном этом округе арендуют землю 75 издольщиков. Цена на землю достигает сейчас около 1300 долларов за акр, и случаи продажи земли очень редки.
Сам окружной староста — крестьянин. Он возделывает 4 акра земли, часть которой арендует. На пост старосты его избрали 70 глав семейных групп округа. На выборах во Временное законодательное собрание ему удалось даже добиться своего избрания представителем округа.
453.
До сих пор мы получали желаемую информацию. Джеймс пробормотал, что он голоден, и вышел. Мы явно не касались никаких опасных тем. Атмосфера переменилась, как только мы спросили старосту о Крестьянском союзе и Союзе молодежи. Его ответы стали неопределенными и уклончивыми. Лидеры союза, сказал он, иногда приходили к нему, но «они никогда не говорили как коммунисты». Он ничего не знал ни о каких «ввезенных агитаторах». Он думает, что Крестьянский союз занимался главным образом защитой издольщиков от помещиков, которые могли попытаться оттягать у них землю или повысить арендную плату.
Как-то утром недели три назад, сказал он, местный по- лицейский участок окружили 40 или 50 молодых людей, в большинстве своем из этой деревни. Они были нево- оружены, и никаких актов насилия не было. Трое полицейских не оказали сопротивления. Молодые люди занимали участок в течение часа, а затем ушли. Позднее майор Аткинсон арестовал около 20 человек. Все они издольщики. С тех пор все должностные лица Крестьянского союза и Союза молодежи либо арестованы, либо бежали. Остались лишь их жены и маленькие дети.
Мы попросили его назвать кого-нибудь из членов Крестьянского союза или просто издольщика, с которым мы могли бы поговорить. Единственные два имени, которые он пожелал назвать нам, были имена бывших старост. «Вы не станете разговаривать с издольщиками, — повторял он. — Люди здесь так невежественны, что вы ничего не узнаете».
Когда мы вышли из его кабинета, он последовал за нами. Во дворе он отвел д-ра Хана в сторону и с серьезным видом что-то прошептал ему. Я спросил Хана, чего хочет окружной староста.
«Он просил меня переговорить с представителями военной администрации и вытащить из тюрьмы членов Союза молодежи. Он сказал, что они не коммунисты. Это просто молодые парни, которые последовали примеру других».
Хан сделал паузу. «Я думаю, — сказал он, — что ста* роста не захотел назвать вам членов Крестьянского союза потому, что он сам левый. Он не доверяет американцам».
Когда мы подходили к машинам, Джеймс и водитель только что кончили есть. Они собирали бумагу и пустые
454
консервные банки и сбрасывали их в канаву. Ребятишки с криком и визгом, отталкивая друг друга, набросились на остатки. Когда они разбежались, на месте остался горько плакавший малыш, ука у него была окровавлена. Я заметил только царапину и, чтобы утешить, дал ему конфетку. Кровь продолжала :ечь по руке малыша, и тогда, раздвинув его пальцы, я увидел глубокий порез с внутренней стороны большого пальца. Вероятно, он порезался об открытую консервную банку. Дэвис осторожно перевязал его палец своим платком и вызвался проводить мальчика до школы, где был пункт первой помощи. Окружной староста, недружелюбно сказав: «Я позабочусь о нем», увсл мальчика.
Полицейский участок помещался в высокой комнате с окнами на три стороны и тюремной камерой с четвертом стороны. Размеры камеры были три на шесть футов, в ней не было окна. В комнате находилось три молодых полицейских; в углу стояла винтовка и на стенах были развешаны указатели с вдохновляющими надписями «Полиция» и «Порядок».
Начальником полицейского участка оказался человек лет около двадцати шести, с быстрыми глазами, узким лбом и гораздо более широкой челюстью. Он, казалось, нервничал и непрерывно теребил пуговицу на своем мундире. Он рассказал нам, что пять лет был полицейским при японцах.
Его рассказ о волнениях несколько отличался от рассказа окружного старосты. Он сказал, что 500 мятежников окружили полицейский участок и трое полицейских быстро сдались. Затем толпа выслушала речи против системы сбора риса. Насилий не было. Толпа оставила нескольких юнцов охранять участок и двинулась по направлению к Тон- гне, захватив с собой полицейских, которых бросили потом в пустом доме. Обнаружив, что их никто не охраняет, полицейские вышли и послали предостережение в Тонгне.
Вызвали майора Аткинсона, и в деревню был послан отряд. В ту же ночь полиция встретила демонстрантов и открыла огонь. Четверо демонстрантов были убиты, остальные бежали. К полудню следующего дня майор Аткинсон арестовал 45 человек, из них 20 в деревне Вайя. Все^арестованные были из этого округа,
455
«Сейчас мы проверяем каждого человека в этой деревне, чтобы выяснить, не принимал ли он активного участия в деятельности Крестьянского союза».
Я вспомнил заверения полковника Маглина, что черные списки строго запрещены. «Должно быть, трудно, — сказал я, следить за подрывными элементами. Вы имеете какое-либо представление, кто они такие?»
«Конечно, — ответил начальник. Он протянул мне клочок бумаги. На нем значилось шесть имен. «Один из них уже в тюрьме, — сказал он. — Другие скрываются. Этих люден мы считаем ненадежными».
Вернувшись в Тонгне, мы направились прямо в полицейский участок и попросили разрешения осмотреть тюрьму. Начальник, маленький вялый человек средних лет, охотно согласился. Он провел нас в тесное и темное помещение, где стояло страшное зловоние. Когда наши глаза несколько привыкли к тусклому свету, мы увидели перед собой — отделенную только решеткой — камеру размером 10 на 16 футов, на полу которой рядами сидели люди. В этой камере помещался 31 человек. В следующей камере было 33 человека, причем двоим приходилось стоять, так как сесть им было негде. Всего в тюрьме было четыре камеры. В двух из них помещалось по 33 заключенных и в двух — по 31. Начальник сказал, что эти люди содержатся здесь уже двадцать один день.
Мы стояли перед камерой и слушали жалобы начальника. «Я семнадцать дней назад отправил майору Аткинсону донесение о следствии, но он не ответил. Я попытался занять камеру в пусанской тюрьме. Из Пусана также не отвечают. Эти четыре камеры предназначены для 30 человек, а у меня их 128. Ежедневно я обращаюсь к военной администрации с просьбами перевести этих людей. Ничто не помогает».
Люди в камерах слушали с бесстрастными лицами. Некоторые криво улыбались. Мы все были американцами и на нас был тот же мундир, что на майоре Аткинсоне в ту ночь, когда он прибыл в деревню Вайя.
Мы, вернулись в комнату начальника, и он сказал, что с 'продовольствием туго. Основная масса заключенных—издольщики. Я спросил начальника, сколько здесь 456
засланных извне агитаторов. Он энергично покачал головой: «Ни одного».
— А что произойдет, — сказал я, — если вы поймаете уголовного преступника? Ну, знаете, не издольщика.
«Если он не совершил серьезного преступления, то мы не сможем возиться с ним, — сказал начальник. Он подумал минуту и добавил: Даже если бы он совершил серьезное преступление, то я не знаю, куда бы я его дел. Места нет».
Начальник рассказал нам, что он 19 лет прослужил в японской полиции. Никогда еще он не был так занят.
Из тюрьмы мы отправились с визитом к помещику Оху. Ох жил в лабиринте огороженных участков, выходивших фасадом на узкую тропинку. У самых ворот валялась дохлая крыса. Мы разглядывали ее, пока д-р Хан ходил за Охом. Ох — маленький старик с длинными редкими усами. На нем был костюм из белого шелка.
Ох провел нас во внутренний двор, где стоял флигель для гостей. Через открытые раздвижные панели можно было видеть чисто прибранные комнаты с росписью на дверях и промасленным пергаментом на полу. В доме было еще двое людей помоложе, которые помогали отвечать на наши вопросы.
Разговор не клеился; Хак сообщил нам, что с Охом он дружит уже двадцать лет, еще с тех пор когда сам Хан служил в банке, а Ох был одним из его вкладчиков. Я вспомнил, что корейский губернатор провинции раньше работал в том же банке.
Ох подтвердил, что у него около 7500 акров земли, но горько и пространно жаловался, что получает с нее так мало риса, что этого «нехватит даже для нищих, которые просят у моих дверей». Он сказал, что продает землю частями, «если цена хорошая», и добавил: « У меня большая семья — шестнадцать душ».
В Пусане за обедом мы рассказали нескольким офицерам о своем посещении тюрьмы. Они, в свою очередь, поделились с нами своими впечатлениями.
«Некоторое время назад, — сказал один офицер, — корейской полиции нехватило людей, и нашим войскам было поручено охранять полицейские участки. Я провел
457
два дня на одном таком участке и насмотрелся досыта. Я видел, как полицейские заостренными деревянными кольями дробили людям голени. Я видел, как они загоняли под ногти горящие щепки. Сколько раз — всех случаев и не припомнишь — я видел, как людей подвергали пытке водой. Они попросту накачивали воду в рот через трубу, пока несчастный почти не захлебывался. Я видел, как полицейские били человека по плечам металлическими прутьями, а потом подвешивали его за лопатки на железном крюке.
Наконец, я не вынес этого. Я отправился к своему командиру и сказал ему: «Сэр, мы должны положить этому конец. Наши солдаты охраняют сейчас полицейский участок, и это набрасывает тень на нас. Командир сказал, что он согласен со мной, но ничего не может поделать. У него есть приказ не вмешиваться в корейские «адми нистративные детали».
Тогда я вернулся к себе на участок и приказал этим сукиным сынам немедленно прекратить пытки. Если б вы знали, как я был счастлив, когда на следующий же день нас убрали оттуда!»]
2 ноября 1946 г. ПУСАН
Утром беседовал с военным губернатором полковником Джиллетом. Это умный человек, на голову выше военных администраторов обычного типа. Но и у него есть свои слабые места, свойственные всем военным. Он ни разу не упомянул слов «земельная реформа» и, хотя прекрасно видел некоторые из злоупотреблений, вызвавших волнения, все же винил в этом «агитаторов извне».
Он подробно говорил о большой воспитательной работе, которую проводит военная администрация. Он указал также на ряд препятствий, в частности на демонстрирующиеся здесь голливудские фильмы. «Это преимущественно картины о гангстерах , и корейцы начинают думать о нас как об*отъявлепвых бандитах». Каким-то образом в Корее оказался небольшой запас французских картин, и народ явно предпочитает их голливудской продукции. __
~кНе судите о пас слишком строго, — сказал он нам на прощанье. — Я был начальником концентрационного 458
лагеря в Луизиане в ту пору, когда Хью Лонг 1 находился у власти. И в сравнении с некоторыми из виденных там Еещей корейцы показались бы жалкими любителями».
Я ничего не сказал на это, но такие доводы крайне меня раздражают. Всякий раз, когда какой-нибудь недостаток становится настолько вопиющим, что требует объяснения, начинают указывать, что и на родине положение дел не так уж идеально: об этом говорят забастовки, коррупция, а также расовые преследования и погромы. С равным основанием этот довод можно привести в оправдание всего, что творилось в гитлеровской Германии.
Выходя из кабинета Джиллета, мы встретились в дверях с майором, ведающим в этой провинции воспитательной работой, человеком средних лет, имевшим весьма озабоченный вид. Мы сказали ему, что уезжаем из Пусана сегодня вечером. Он выразил сожаление, что у нас нет возможности ознакомиться с большой работой, которую ведет его департамент.
«Вот что я вам скажу, — заявил он. — У вас есть несколько часов. Почему бы вам не посетить какую-либо чз школ? Я тридцать лет был инструктором физического воспитания и скажу вам, что никогда не видел лучших гимнастов, чем здешние ребята».
Я сказал своим спутникам, что мне нужно уложиться, и поднялся к себе в комнату. Довольно скоро в дверь постучали, и вошел незнакомый мне человек. Это был американец, штатский, приписанный к армии. «Я узнал, что здесь появился корреспондент, — сказал он, — и ждал, пока вы вернетесь к себе. Я хочу переговорить с вами наедине».
Гhi сообщил мне, что находится здесь уже год, и затем вяло, тихим голосом, без всякого выражения говорил о вещах, волновавших его: о низком моральном уровне войск и плохой организации снабжения.
«Кое-кто из членов конгресса приезжал сюда, — сказал он. — Они узнали, что в военных магазинах пусто, и подняли страшный шум. Затем товары появились в
1 Хыо Лонг — бывший губернатор штата Луизиана, известный реакционер. (Прим, ред.)
459
некоторых крупных городах, но в небольших местечках, через 14 месяцев после того как мы высадились здесь, все еще нет сигарет, пива, зубной пасты и электрических лампочек. Большинство военных, с которыми я здесь встречался, отвратительные администраторы. У них находится множество отговорок: нет судов и тому подобная чепуха. Сюда приходит много кораблей для перевозки солдат. Непонятно, почему нельзя посылать товары с этими судами?
Плохое снабжение сказывается и на моральном состоянии солдат. Это не дисциплинированная армия военного времени. Это армия мирного времени, состоящая из ребят 18—20 лет, которые, перед тем как прибыть сюда, прошли только 8-недельное обучение. Кроме как в больших городах, нигде ничего не делается, чтобы поддержать их моральный уровень. Радио нет, кинокартин и спортивного оборудования мало.
Даже прогулки по городу не поощряются. В Чинхае солдатам закрыт доступ в целый ряд районов. Вы можете проехать на виллисе, но в тот момент, когда вы будете выходить, к вам прицепится военная полиция. На дружбу с корейцами смотрят косо. Вы можете иметь друга-корейца, но вы не можете прокатить его в своей машине или даже пригласить его к себе. У ребят нет никакой возможности встречаться с корейцами и узнать о них что-нибудь. Очень скоро корейцы становятся «проклятыми азиатами», и вы начинаете развлекаться тем, что, подъехав на своей машине вплотную к какому-либо корейцу, пугаете его до смерти, не задев его. Вам следовало бы написать об этом. Очень многие были бы вам благодарны. Корреспонденты никогда не заглядывают сюда, и мы чувствуем себя затерянными».
За час до отхода поезда Шарлотта и я отправились с прощальным визитом к Бергстрому. Только мы выпили по рюмке, как вошел высокий лысеющий американец в штатском костюме и кричащем галстуке. Это был юрист военной администрации м-р Флагерти. Мы узнали, что Флагерти бостонский адвокат, служил в Корее в чине майора и после демобилизации решил остаться здесь. Он сказал, что у него земля в Массачусетсе, ноЛэн любит Корею и готов тотчас же отправиться в Тонгне и поселиться там.
46Q
После этого беседа продолжалась в беззаботном тоне.
Мы сказали: «Мы посетили тюрьму в Тонгне, она битком набита».
— Они повсюду битком набиты.
Мы сказали что-то о беспорядках в Тонгне.
— В Тонгне не было беспорядков.
«То есть, как не было беспорядков, м-р Флагерти? А почему же эти люди находятся в тюрьме?»
Он ухмыльнулся: «О, мы просто посадили их по обвинению в заговоре. На основании такого обвинения мы можем посадить любого. Чорт возьми! Я только что возвратился из района, где действительно были беспорядки. Полицейские приводят ко мне человека и говорят, что он мятежник. Я говорю: «Откуда вы знаете?» Они отвечают: «Он только что признался в задней комнате». Ну теми методами, которыми работают корейские полицейские, легко добиться признания».
Мы рассказали Флагерти о своем визите к помещику Оху. «Я хорошо знаю этого типа, — сказал он. — Я много раз гостил у него. Вы были у него в деревне Вайя? Это настоящий дворец. Там вам подадут вкусно приготовленные блюда на золоте или массивном серебре. А если вы полюбитесь Оху, он прикажет подать какой-нибудь тонкий ликер из тех, что он привез с собой из Франции 15 лет назад».
С Оха разговор, естественно, перешел на земельную реформу. Шарлотта сказала, что как только будет принят законопроект о реформе, Оху, возможно, придется продать свою землю государству, которое распределит ее между его издольщиками.
Впервые Флагерти проявил некоторые признаки волнения. «Это невозможно. У человека нельзя забрать его собственность. Я-то знаю, что бы я стал делать, если бы вы попытались забрать у меня мою землю в Массачусетсе!»
2 ноября 1946 г. (ночь). тэгу
В Тэгу мы ехали в экспрессе Пусан —Сеул, ободранном, тряском и невероятно переполненном. Нас встретил лейтенант Льюис, адъютант командира полка полковника Поттса. Льюис — представительный молодой человек в
461
стальной каске й с пистолетом на поясе. Его воинственная внешность производила на нас известное впечатление, пока мы не узнали, что в Тэгу спокойно и что сам Льюис находится здесь всего восемь недель. Он говорил с нами вежливостью, граничившей порой с оскорблением.
Шарлотту поместили в здании Красного Креста, а меня поселили в комнате майора Арне Стенсли из Северной Дакоты. К этому времени я так привык к постоянному надзору, что без обиняков спросил майора, сколько времени он работает в полковой разведке. Он тут же ответил: «Два месяца».
3 ноября 1946 г. ТЭГУ
После завтрака зашел за Шарлоттой. Она рассказала мне, что вчера вечером за ужином спросила у девушек, своих соседок, были ли они в городе во время беспорядков в прошлом месяце. Ответом ей было гробовое молчание. Шарлотта попыталась задать еще несколько вопросов, но не получила ответа. В полночь, когда она уже легла, одна из девушек подошла к ней и сказала: «Дорогая, пожалуйста не думайте, что мы невоспитаны или что вы нам не нравитесь. Просто нам приказали не говорить с вами о беспорядках».
Позже встретились с лейтенантом Хичкоком, офицером местной военной администрации, ведающим вопросами информации. Это молодой, приятный человек, увлеченный своей работой. Он сообщил нам первые сведения о выборах в этой провинции: из семи победивших кандидатов шестеро — сторонники Ли Сын Мана, а седьмой — «своего рода нейтральный».
«Знаете, — сказал Хичкок, — такие результаты удивляют меня. Я думал, что раз большинство здесь издольщики, то на выборах победят левые. А вместо этого победили правые, а левые не получили ничего».
Суды, сказал он, не справляются с разбором дел мятежников. Военная комиссия, которая разбирает крупные преступления, до сих пор не кончила первого дела. Но большую часть работы делают американские военные трибуналы, в которых судья в одно и то же время и за- 462
щитнйк, и обвинитель. Мои понятия о правосудии довольно ортодоксальны, и такое сочетание несколько пугает меня.
Всех обвиняемых поставили в известность, что они могут взять американского адвоката. Но издольщики реагировали на это так, как и ожидалось. «Очень немногие просили пригласить адвоката, да и нельзя дать адвоката каждому обвиняемому. Их для этого слишком много».
Днем Шарлотта, Хичкок и я отъехали 15 миль от Тэгу, остановились в одной деревушке и вошли в первый двор. Во дворе перед дверьми своей хижины сидел человек. Наш переводчик сказал ему, что мы журналисты и хотели бы поговорить с ним.
Хижина — без окон, как большинство домов в корейской деревне, — была сделана из желтой глины. Она помещалась в маленьком дворе не более 30 футов длиной. Шоссейная дорога, проходившая через плотину, возвышалась над двором и хижиной. На человеке была рваная белая куртка, из-под которой виднелся жилет из грубого сукна. Он чистил яблоко и смотрел через бамбуковую изгородь на дорогу.
Мы начали говорить с ним, и очень скоро к нам стали подходить и другие крестьяне. Не успели мы оглянуться, как на земле вокруг нас уже сидело на корточках 11 мужчин и 20 или 30 ребятишек. Еще большее число мужчин и женщин расположилось на дороге, за изгородью. Сельская сходка началась.
Деревушка Иеньхо в округе Косан нищая. 60 из 70 семей — издольщики. У мужчин, сидевших во дворе, было в среднем немногим более акра на семью. Они считали, что для того чтобы прокормить одного, нужно пол< акра. У человека, чистившего яблоко, было пятеро де* тей и только один акр земли, а этого было явно недостаточно. Чтобы как-то просуществовать, он работает на других крестьян. Я спросил собравшихся, стали бы онг покупать землю, если бы администрация предоставилг им кредит и снизила цены, которые в этом районе достигают 1600 долларов за акр. Все рассмеялись. «Какой бы низкой ни была цена, — сказал один из них, — я не смог бы купить землю».
Они сказали, что при японцах они могли занять деньги в Ассоциации сельскохозяйственного кредита из рас-
463
Чета 24 процента годовых. Но сейчас японцы ушли, и единственным источником кредита являются местные помещики, которые, если они хотят ссудить деньги, взимают до 60 процентов. Эта деревня так бедна, что очень немногие из жителей в состоянии получить ссуду.
Земля принадлежит людям, которые живут в Тэгу. Крестьяне перечисляли имена своих помещиков, и большинство назвало Соха, крупнейшего помещика в этом округе. Затем мы подошли к тому, что казалось мне важнейшим вопросом. Я спросил: «Вы отдаете помещику в качестве арендной платы треть урожая?»
Последовали немедленные протесты: «Нет, мы платим половину урожая». «Это, должно быть, какая-то ошибка,— сказал я. — Разве вы не знаете о приказе военной администрации, ограничивающем арендную плату третью урожая?» Они сказали, что не знают, что об этом ходили какие-то слухи, но в их деревне дело обстоит не так. «И в соседней тоже», — произнес голос на дороге. «И в ближнем округе», — сказал кто-то еще.
Хозяин двора, где происходила беседа, объяснил: «Мы отдаем весь рис военной администрации. Корейские власти дают нам кредит на половину стоимости, а на другую половину открывают кредит помещику».
Трудно было придумать более убедительное доказательство сговора между корейским персоналом военной администрации и помещиками. Я считал показательным, что именно в этом районе волнения приняли особенно острую форму.
Мы заговорили о выборах. Хозяин двора полагал, что большинство глав семей принимало участие в голосовании. Двое стоявших возле меня мужчин сказали, что впервые слышат о выборах. Хичкок возмутился: «Этого не может быть! Я же сам рассылал объявления о выборах. Вы должны были их видеть». Эти люди признались, что не умеют читать. Тут я вспомнил мимолетное замечание, которое я слышал в Сеуле, о том, что 80 процентов корейских крестьян неграмотны. Я спросил людей вокруг меня, сколько из них умеют читать и писать. Лишь двое или трое ответили положительно.
Я спросил: «Как же в таком случае вы вписали имена ваших кандидатов на выборах?»
4С4
— За нас писали другие.
«Староста был в числе тех, кто помогал вам?»
— Да, он помогал всем.
«А сам он был избран?»
Они сообразили, в чем дело, и засмеялись, сказав «да».
Хичкок все еще интересовался объявлениями о выборах. Он должен был оповестить население о предстоящих выборах, и теперь он хотел знать, в чем ошибка. Мы снова подъехали к зданию управления, где староста помещался бок о бок с парикмахерской. На стене парикмахерской висели два больших объявления. «Глядите, — сказал Хичкок, — что я вам говорил?»
Парикмахер стоял у дверей. Мы спросили его, когда были расклеены объявления. «Я сам помогал их клеить,— сказал он. — Это было вечером накануне выборов».
4 ноября 1946 г. ТЭГУ
Военная комиссия заседала в просторной и довольно чистой комнате, обогреваемой железной печью. Пятеро судей — полковник, два майора и два капитана — восседали на высоких диванах под американским флагом. В центре комнаты помещалась скамья для свидетелей. Двое обвиняемых и их адвокат сидели справа от судей. В зале стояло также девять скамей для публики, но они были заняты только нами и женами обвиняемых. Мне потом сказали, что «всякий может притти сюда и присутствовать на суде при условии, что он надежный, почтенный человек. Мы не хотим здесь никаких сборищ».
Один из обвиняемых был статный и очень живой человек лет сорока по имени Хван. До 1942 г. он жил в Маньчжурии, затем вернулся в Тэгу, где был владельцем сначала винной лавки, а потом фруктового ларька. Обвинитель сказал, что этот человек один из мелких зачинщиков мятежа.
Другой обвиняемый — по имени Чан — был владельцем публичного дома. Чан — высокий, худощавый человек лет пятидесяти пяти. В корейских брюках, завязанных у лодыжек, и в пиджаке европейского покроя, надетом прямо на нижнюю рубашку, Чан выглядел неряшливым.
Оба обвинялись в убийстве отставного полицейского капитана.
30 М. Гейн
465
По мере того как свидетели сменяли друг друга, становилось ясно, что у владельца публичного дома были старые счеты с капитаном полиции. После капитуляции японцев брат обвиняемого переехал в один из японских домов. Несколько позже полиция приказала ему убраться и передала дом упомянутому полицейскому капитану. Когда начались беспорядки, владелец публичного дома отправился к капитану и велел ему освободить дом до наступления ночи.
Вскоре на улице появилась толпа в 60 или 70 человек, якобы во главе с Хваном, и владелец публичного дома привел ее во двор капитана полиции. Сам капитан спрятался, и толпа удовольствовалась тем, что изломала мебель. Владелец публичного дома торжествующе кричал: «Мы получили дом обратно!», и уговаривал толпу: «Пожалуйста, не портите дом».
Какая-то женщина нашла капитана в его укрытии, и толпа принялась избивать его. Жена капитана — маленькая старая женщина — бросилась к нему, пытаясь спасти его, но ее оттащили, а капитана выволокли на улицу и избили до смерти. Затем, когда на улице появился американский танк, мятежники, бросив тело в буддийском храме, разбежались.
У обвиняемых был адвокат-кореец, который каждым своим словом помогал их повесить. Его вопросы были глупы, а приглашенные им свидетели держались уклончиво. Один из свидетелей, которому предстояло подтвердить невиновность Хвана, был, казалось, очень напуган всей этой сценой. Он все время твердил: «Знай я, что буду свидетелем, я бы глядел в оба. Но я просто плотник». Мне кажется, что как раз его нежелание давать показания и погубило Хвана. В довершение зла переводы были крайне скверными.
После перерыва мы отправились в полицейский суд — мрачную, пыльную комнату, где за столом судей одиноко сидел американский полковник, судивший оборванного молодого корейца. В комнате было только четверо: судья, обвиняемый, переводчик и корейский полицейский с винтовкой.
В тот самый момент, когда мы усаживались на грязную скамью, судья произнес приговор: год принудительных работ. Обвиняемый запустил руку в свои длинные
466
нечесаные волосы и сказал: «Это очень суровый приговор». Затем он начал плакать, говоря, что он не мятежник и содержит старика-отца. Полковник сказал, что ему это все известно, и поэтому в своем донесении военному губернатору провинции он порекомендует отнестись к обвиняемому снисходительно.
Часовой увел молодого корейца. Переводчик тоже ушел. В комнате остались лишь мы трое. Шарлотта и я сидели на скамье и молча смотрели на полковника. Через некоторое время он заговорил. Сначала он рассказал нам об этом деле: юноша, которого мы видели, и еще четверо мужчин узнали, что начальник бюро по рационированию спрятал для полиции 17 мешков риса. Они посоветовались между собой и решили заставить этого человека вернуть спрятанное. Они вызвали его на улицу и только начали говорить с ним, как появилась полиция. Четверо мужчин бежали, а юноша был задержан.
Полковник сказал: «Я сознаю, что это очень легкий приговор и что в других полицейских судах в этом же здании он получил бы пять лет, но я думаю, что и год— срок немалый».
Мы подошли к полковнику и стояли теперь напротив него. «Это скверная работа, — сказал он. — Мне она не нравится ни с какой стороны. Мы словно занимаемся ею между делом. Всякий, у кого нет определенного занятия, получает работу в полицейском суде. Я не люблю, когда приходится решать, что должен делать в ближайшие год или два тот или иной молодой человек. Мы простые пехотные офицеры, а не юристы. Я пытаюсь снисходительно обращаться с этим народом. Но некоторые офицеры, не раздумывая, дают им, как правило, пять лет. Я мягкосердечен. Видно, нужно несколько больше времени, чтобы очерстветь».
Он снова сделал паузу. «В одном этом городе еще предстоит разобрать три тысячи дел, — сказал он. — Во многих случаях люди попросту сводят старые счеты, и нельзя сказать, где кончаются эти счеты и начинаются правдивые показания».
Мы задержались в канцелярии военного трибунала, которая направляет дела судьям. Там было множество веселых офицеров во главе с майором — начальником 30* 467
канцелярии. Они рассказали нам, что до сегодняшнего утра городские полицейские суды разобрали ПО дел. Кроме того, некоторое число дел разобрано шестью судами, работающими в провинции. Майор считал, что со всеми делами будет покончено за 30 дней. Другие, возражая ему, кричали: «Хотите пари?»
«Следственный отдел армии, — сказал майор, — не был в состоянии расследовать все дела с достаточной быстротой, так что пришлось полагаться на показания корейской полиции. Корейская полиция все еще придерживается японских методов дачи показаний. Для нее не важно, каким способом добиться признания у своих жертв. Этих парней приводят к нам настолько избитыми и истерзанными, что вполне ясно, почему каждый из них «признался». В конце концов нам пришлось попытаться провести среди корейских полицейских разъяснительную работу, и сейчас многие заключенные отпущены на свободу».
«А у нас они еще продолжают валять дурака, — сказал капитан. — Как-то на днях к нам привели парня, который «признался», что убил полицейского. Чисто случайно мы обнаружили, что убитый полицейский продолжает являться на дежурства».
Я выяснил, что в Тэгу было арестовано около 6500 человек, среди которых не было ни одного «агитатора извне». Я узнал также, что начальника полиции во время беспорядков пришлось сместить за «мягкость» и что новый начальник более строгого нрава. Он десять лет прослужил в японской полиции, а сейчас работает на пару с капитаном американской армии Тайри, который, как нам дали понять, и сам не из сентиментальных.
Майор пригласил нас присутствовать в тот же день еще на одном суде. Хотя на этот день не предусматривалось никаких дел, он сказал, что устроит для нас заседание суда.
«Приходите попозже, — сказал он, — и увидите наше правосудие в действии. Думаю, что вы можете назвать его квази-правосудием».
Вечером два офицера, которые принимали активное участие в подавлении восстания в Тэгу, рассказали нам его трагическую историю.
468
Как-то недель около пяти назад между двумя школами состоялся футбольный матч, который закончился потасовкой.. Полиция явилась восстановить порядок, и, когда все было кончено, оказалось, что убит один из учащихся. Это вызвало возмущение, и группы учащихся стали собираться тайно и договариваться о протесте.
В это время в железнодорожном депо Тэгу шла забастовка. Вечером 1 октября с разрешения военной администрации около четырех тысяч рабочих собрались перед вокзалом, чтобы поддержать требование о прекращении работы. Один из наших собеседников, который нес дежурство в этом районе, сказал, что митинг проходил спокойно.
Митинг должен был кончиться в 10 часов вечера. Задолго до этого срока в район начали прибывать полицейские части. «В ту ночь, — сказал другой офицер, — корейские полицейские спускали курок не задумываясь. Когда, не переставая стрелять, они рассеяли толпу и пробрались к вокзалу, на месте остался один убитый».
Всю ночь раздавались выстрелы, а в школах и на заводах шли митинги протеста. С наступлением дня весь город высыпал на улицу.
«Это было самое невероятное зрелище, — сказал первый офицер. — На улицу вышли все: рабочие, студенты, крестьяне из провинции; длинными колоннами шли школьники. Все они направлялись к полицейскому участку, а затем большинство из них просто уселось на корточках на улице и стало ждать. Я прошел через город, и никто даже не удостоил меня взглядом».
Студенты принесли труп, сказав, что это тело студента, убитого полицией, и положили его перед полицейским участком. Затем они предъявили перепуганному начальнику полиции два требования: разоружить полицию и освободить политзаключенных. Начальник принял первое требование, но в отношении второго сказал, что ничего не может сделать без разрешения американской армии. В это время полицейские перебрались через стену на примыкающий американский участок, но их отослали обратно, так как «мы не хотели становиться на чью-либо сторону».
Днем толпа ворвалась в полицейский участок, уничтожила хранящиеся в нем дела и освободила 100 заключенных. Помимо этого, почти никакого ущерба причинено
469
не было. Мятежники занимали здание в течение часа. В это время по всему городу шли митинги, на которых рабочие и крестьяне рассказывали о зверствах полиции.
Около полудня майор американской армии приказал толпе, окружавшей полицейский участок, разойтись к трем часам дня. До наступления этого срока на улицах стали патрулировать танки и броневики. Огромная толпа медленно расходилась. Но, отходя, мятежники группами врывались в другие полицейские участки и в дома, где жили полицейские. Многие полицейские были избиты до смерти, а их родственники ранены.
В ту же ночь американские патрули начали натыкаться на темных улицах и в пустых домах на трупы полицейских. Пять убитых и двое еще живых были найдены в парке. Раненые полицейские, отправленные в городскую больницу, не получили никакой помощи. «Вскоре мы обнаружили, — сказал один из двух офицеров, — что виднейшие корейские врачи были в сговоре с мятежниками. Мы посадили в кутузку и их».
Порядок в Тэгу был восстановлен на третий день. В этот день в город прибыли новые отряды полиции — 1100 человек, а попрятавшиеся полицейские вернулись к исполнению своих обязанностей. «Сейчас они вымещают зло на всех, против кого они только имеют зуб». Одна за другой к тюрьме покатили машины с заключенными... Когда тюрьма была заполнена, были заняты школы и административные здания. Среди арестованных были учителя и адвокаты, крестьянские и рабочие лидеры и все видные члены народной партии. Лидера этой партии Лю Вун Хона даже тогда называли как одного из председателей проектируемого Берчем правительства «умеренной коалиции».
Из Тэгу волнения распространились на провинцию. У себя дома крестьяне были более жестоки, чем в Тэгу. Жестокость принимала более резкие формы; иногда совершались нападения не только на полицейские участки, но и на окружные управления. Кое-где американские патрули сделали попытку вмешаться, но поспешно отступили. В этих местах власть в течение многих дней находилась в руках комитетов издольщиков. Из этой провинции пламя революции перекинулось на другие. Одно время казалось, что восстание в Южной Корее не 470
уступит некоторым из крупнейших крестьянских революций в истории. Сейчас оно, повидимому, подавлено.
После обеда был прием в честь прибывшего генерала, и все офицеры отправились наверх. Я извинился, сказав, что мне нужно привести в порядок свои записи и уложиться. Я сидел за машинкой, когда в дверь тихо постучали и вошел молодой капитан. Он спросил, нельзя ли ему почитать в моей комнате. Я разрешил. Он сел и вытащил из кармана журнал «Нэйшн». При этом у него был такой заговорщический вид, что я сказал: «Вы носите с собой опасную вещь». Он тут же отозвался: «Мне приходится прятать его. Если кто-нибудь увидит, я не оберусь неприятностей. Один мой приятель пожаловался в письме в «Старс энд страйпс» на плохое обращение. Сейчас они расследуют его дело».
Он читал, а я писал на машинке. Через некоторое время он спросил: «Вам трудно бывает доставать информацию?» Я ответил, что дело обстоит не так уж скверно.
«Знаете, — сказал он, — за день до вашего прибытия некоторые офицеры получили приказ не говорить с вами, потому что ваши газеты («Чикаго сан» и «Ньюс уик») не доказали на деле своего патриотизма. Но это всегда так. Тотчас после беспорядков сюда приехал корреспондент «Нью-Йорк гералд трибюн». Они говорили ему, что у них нет для него свободных машин, и, наконец, дали ему небольшой самолет. Но нельзя же освещать беспорядки лишь на основе наблюдений с самолета. Тогда всем сотрудникам управления было приказано не давать ему ничего, кроме официальных сообщений. Один мой приятель не знал об этом приказе и сообщил этому парню кое-какие факты. Ему крепко всыпали за это».
Мы выехали из Тэгу 11-часовым вечерним поездом.
5 ноября 1946 г. СЕУЛ
В полдень мы с Шарлоттой отправились в отдел печати за почтой. Майор Уильямсон был воплощенная любезность. «Возвращаетесь завтра в Токио, Шарлотта?» — спросил он. Шарлотта ответила, что пробудет здесь еще дня два, чтобы взять несколько интервью, о которых мы
471
договорились заранее. Уильямсон покраснел: «Вам нельзя здесь оставаться. Я сказал генералу Ходжу, что вы уезжаете. Вы должны уехать».
Был такой момент, когда мне показалось, что Шарлотта расплачется. «Послушайте, майор, — сказала она. — Я ровно ничего не понимаю во всем этом. Я американская журналистка, а это американская зона. Почему же меня выгоняют?»
Уильямсон ответил: «Прежде всего, у нас здесь нет помещения. Прибывают семьи офицеров, и нам их некуда поместить».
«Это чепуха, майор, — возразила Шарлотта. — Здание, в котором я живу сейчас, фактически пустует, а семьи ожидаются не ранее, чем через несколько недель. Уверяю вас, что я уеду раньше, чем они прибудут. Все, что я хочу, это проинтервьюировать нескольких корейцев».
«Вам придется уехать, — безапелляционно заявил Уильямсон. — Завтра же, и спорить тут не о чем».
Следующей нашей беседой был разговор с корейским руководителем бюро связи при американской военной администрации. Ему было приказано организовать для нас встречи с корейскими лидерами, с которыми мы еще не виделись. Больше всего мы хотели видеть «убийцу- патриота», главу бывшего эмигрантского правительства в Чунцине Ким Ку, а также Лю Вун Хона, руководителя народной партии и одного из председателей коалиции Берча.
«Я организую вам встречу с Ким Ку»,—сказал он нам.
— Мы хотим также встретиться с Лю.
«Кроме Ким Ку, я устрою вам также встречу с г-ном Ли Сын Маном».
— Мы уже видели Ли. Мы хотим встретиться с Лю.
«Послушайте,—сказал он. — Вы хотите говорить с джентльменами. Ли—джентльмен и Ким Ку тоже джентльмен. Ким Гю Сик—вполне достойный человек. Но Лю — коммунист, гангстер. Вы не захотите видеться с ним».
— Не беспокойтесь насчет этого, — сказал я терпеливо. — Мы уже встречались с джентльменами. Сейчас мы хотим встретиться с «гангстерами». Вы только устройте нам .свиданье с г-ном Лю.
Он пожал плечами. «Я даже не знаю, где его найти, Но я устрою вам интервью с г-ном Ким Ку».
472
Я хотел поговорить еще раз с Хо Хуном, левым лидером, которого я видел на четвертый день своего пребывания в Корее. Я упомянул об этом одному из американцев, работающему в военной администрации. Он сказал: «Сомневаюсь, чтобы Хо Хун захотел увидеться с вами сегодня. Несколько дней назад он, наконец, открыто выступил против коалиции. На него напали полицейские, избили и затем освободили, объяснив, что его «приняли за другого». Он не расположен говорить с американцами».
В нашей зоне мало проблем более жгучих, нежели полицейские эксцессы. Критика стала настолько острой, что военная администрация сочла необходимым создать специальную американо-корейскую комиссию для изучения мер по исправлению положения. Я просмотрел список членов и экспертов комиссии и выбрал наудачу одно имя. Я пошел к этому человеку и попросил у него информацию. Он согласился дать ее мне при условии, что я не назову его имени.
«Разрешите мне привести типичный пример того, что происходит, — сказал он. — В одной деревне неподалеку отсюда было арестовано 62 человека по обвинению в том, что они замышляют нападение на полицейский участок. Среди них был врач. На днях родственники этого врача добрались до влиятельного американского офицера и убедили его поехать в тюрьму и проверить сообщения о зверском обращении. Он так и сделал. В тюрьме он узнал, что врач умер от пыток. Другой человек с изуродованным до неузнаваемости лицом умер позже. У третьего был сломан позвоночник. Генералу Ходжу был представлен доклад. Он сказал: «Это традиционные методы работы полиции на Востоке. Что мы можем тут поделать?»
Одна из причин всех этих зверств заключается в том, что основная масса полицейских обучена японским методам. Комиссия располагает статистическими данными, которые помогают объяснить, в чем корень зла. Из ста сорока полицейских офицеров в чине капитана более ста десяти служили в японской полиции. В Сеуле все десять начальников полицейских округов выученики японцев, так же как и восемь из десяти начальников провинциальных полицейских управлений в нашей зоне.
473
Наша армия интересуется только поддержанием порядка. Она унаследовала японскую полицейскую машину, не уразумев важного психологического факта: при японцах всю грязную полицейскую работу выполняли корейские подчиненные, и поэтому корейский народ ненавидит корейских полицейских больше, чем он ненавидел японских хозяев, на которых работали эти полицейские».
Сегодня в нашей зоне собираются десять американских военных губернаторов, чтобы обсудить с генералом Лерчем результаты выборов. Мне сказали, что Лерч очень доволен результатами выборов. На одном совещании он заявил примерно следующее:
«Директивы из Вашингтона предписывают нам заигрывать с умеренными группами. Выборы, которые принесли решительную победу правым, показывают, что Вашингтон заблуждался».
Вечером мы с Шарлоттой отправились на обед к Ли Сын Ману. Снова мы миновали полицейский наряд у ворот и, взобравшись на холм, подошли к ярко освещенному дому на вершине.
Ли казался более веселым, чем при первой встрече. Я сказал ему, что видел, как его люди победили на выборах в двух провинциях. Он ответил просто, словно феодальный сеньор, говорящий о своей вотчине: «Мои люди верны мне».
В комнате было три других гостя: один из адъютантов генерала Ходжа, его подруга и невысокий молчаливый кореец средних лет. О том, кто он такой, я догадался лишь позже. Американский офицер говорил с Ли фамильярно и дружески, а я размышлял о том, подобает ли адъютанту генерала Ходжа посещать человека, которого генералу Ходжу — по крайней мере на бумаге — приказано избегать. Когда мы поглощали «кимчи» — горячее блюдо из капусты с перцем, которое корейцы употребляют в качестве приправы, — я вдруг понял, кто был молчаливый корейский гость. Это был Ким Сун Су — финансовый ангел-хранитель Ли, четвертый из богачей Кореи, крупный помещик, педагог и один из самых влиятельных боссов партии «Хан Кук». Мне охарактеризовали Кима 474
как д-ра Джеккиля и м-ра Хайда1 в политике. Как ректор университета, он помог многим юношам получить образование и считает себя образцовым гражданином. С другой стороны, многие офицеры военной администрации обвиняют его в том, что до капитуляции Японии он был коллаборационистом и требовал, чтобы молодые корейцы вступали в японскую армию «умирать за отечество». Ким не видит никакой необходимости в радикальных реформах, решительно возражает против них и в силу своего огромного влияния может многое сделать, чтобы воспрепятствовать им. Ким — одна из самых могущественных фигур за спиной Ли Сын Мана, и многие из идей, за которые борется Лиг зародились в мозгу Кима.
6 ноября 1946 г» СЕУЛ
В полдень Шарлотта пошла в управление военнотранспортной авиации, где узнала, что не получит пропуска, пока не сделает целого ряда прививок, в том числе прививку от холеры. К тому времени, когда с прививками было покончено, оказалось, что все места на завтрашний самолет в Токио заняты. Узнав, что она не уезжает, Уильямсон побагровел и начал заикаться: «Что я скажу теперь генералу Ходжу?» Кончилось тем, что он сам отправился в управление военно-транспортной авиации, чтобы проверить правильность того, что ему рассказала Шарлотта. Я сказал Уильямсону, что уезжаю в Токио послезавтра.
Днем мы снова навестили Ким Гю Сика. На нем был тот же халат, комнатные туфли и накидка, но теперь это был другой человек. В его голосе, когда он говорил о выборах, слышались сила и гнев. Он сказал, что только что послал генералу Ходжу письмо, в котором предлагает аннулировать полностью или частично результаты выборов или разрешить коалиции назначить всех
1 Герой фантастического рассказа Стивенсона «История д-ра Джеккиля и м-ра Хайда», обладавший способностью перевоплощаться из скромного застенчивого ученого д-ра Джеккиля в грубого и необузданного м-ра Хайда. (Примк ред.)
л 475
девяносто членов Законодательного собрания вместо сорока пяти. Он назвал выборы мошенническими и сказал, что согласен со своим коллегой — одним из председателей Лю,—который считает, что честные выборы нельзя будет провести до тех пор, пока -все левые лидеры в тюрьме. Ким Гю Сик сказал, что два месяца назад он уговаривал генерала Лерча дать специальные гарантии для проведе- ния честных выборов. На его просьбу не обратили никакого внимания.
Лисынмановцы получили сорок из сорока пяти мест. Другой крайний правый Ким Ку с которым мы должны встретиться завтра, получил три места. Лю Вун Хон — один из председателей коалиции, ухитрился получить два места на одном уединенном островке. («Там губернатор честный человек».) Ким Гю Сик не получил ни одного.
Сейчас последний рассказывал нам историю этих первых «демократических» выборов в Корее. Во многих провинциях решение вопроса о том, кто имеет право голосовать, было предоставлено местным старостам. В сотнях деревень выборы выражались в дружеской беседе между старостой и специально подобранными главами семей (Староста: «У нас проводятся выборы. Хотите голосовать за меня?»). В сотнях случаев сельские и окружные старосты посылали своих слуг к избирателям с просьбой одолжить их именные печати, которые затем ставились на бюллетенях, заполненных этими должностными лицами. О выборах заблаговременно не предупредили, и во многих случаях дата проведения выборов устанавливалась по усмотрению местных властей. В десятках случаев людей, которые оспаривали законность выборов, бросали в тюрьмы по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Хотя военная администрация недвусмысленно предусматривала тайное голосование, тысячи неграмотных избирателей давали заполнять свои бюллетени услужливым старостам, которые, по странному совпадению, оказались в числе избранных. Несмотря на указания военной администрации, что голосовать имеют право все, достигшие 18-летнего возраста, на практике было разрешено голосовать только главам семей.
«В провинции Канван, —сказал Ким Гю Сик, — выборы вообще проводились не властями, а партией Ли Сын Мана. Естественно, что все трое избранных — его
476
Приспешники. Все трое известные коллаборационисты.
В Сеуле в день выборов вход в ратушу был увешан плакатами партии Ли Сын Мана. Все трое избранных — члены этой партии. Двое из них — известные коллаборационисты. В Тэгу, где вы только что побывали, один из избранных известный коллаборационист. В Пусане избран глава местной организации партии Ли Сын Мана. Он коллаборационист.
Я знаю, что американские военные губернаторы присутствовали на провинциальных выборах, а затем доложили генералу Лерчу, что не заметили в них ничего недемократического. Они и в самом деле ничего не заметили. Незачем было проводить недемократические выборы в провинциях, если вся грязная работа уже была проделана в селах и округах».
Здесь, как и в Японии, погоня за наживой — одна из самых отвратительных сторон оккупации. Один высокопоставленный американский офицер сказал мне, что ему известно о «по меньшей мере 150 случаях», когда американцы «приходили делать добро и оставались, чтобы обделывать свои дела». Может быть, это сказано просто для красного словца, но меня поражают открытые бесстыдные разговоры о деловых предприятиях офицеров армии. В канцелярии генерала Ходжа один лейтенант сказал мне, что после демобилизации он останется здесь, «чтобы позаботиться о своих интересах». Оказалось, что к числу этих последних относится стекольный завод стоимостью в миллион долларов, о покупке которого от имени корейских вкладчиков, в нарушение всех военных уставов, он уже ведет переговоры в Детройте. («Каждую неделю я посылаю домой сотни две долларов — свой «выигрыш в покер». Конечно же, я не играю в этот покер».) Шарлотта как-то была на танцевальном вечере и после рассказывала, что четыре майора, сидевшие за ее столом, открыто хвастались своими коммерческими сделками.
Но все это бледнеет по сравнению с тем, что рассказывают об одном высокопоставленном офицере американской военной администрации, который явился в корейский музей, осмотрел его сокровища и хладнокровно заявил: «Очень мило. Упакуйте». И затем отправил большую часть коллекции домой, в Соединенные Штаты. Армия 477
разрешила ему вернуться на родину, но задержала последние восемнадцать ящиков перед отправкой из Кореи. Мои осведомители сказали, что им неизвестно, почему этот офицер не был отдан под суд, разве только генералы Макартур и Ходж хотели избежать скандала, подобного столь же позорным скандалам в Европе.
Сегодня вечером у себя в комнате я долго беседовал с одним американцем, занимающим высокое положение в сеульской иерархии. Я встретил его случайно, но у нас были общие близкие друзья, и мы доверяли друг другу. Я подозреваю, что нам обоим этот разговор дал возможность излить душу. Его интересовало, что я узнал за время своего пребывания в Корее, а мне хотелось сопоставить его впечатления со своими.
«Я здесь с октября прошлого года, — сказал мой гость. — Я знаю, что до весны мы вообще не придерживались никакого курса политики по отношению к Корее. Трудно поверить, но тем не менее это так. Лучшим доказательством тому служит заявление о политике, посланное генералом Ходжем заместителю военного губернатора бригадному генералу Чарлзу Гаррису за неделю до нашей высадки здесь. Вам бы следовало достать экземпляр этого заявления. Ходж заявил, что Корея как часть японское империи является нашим врагом и что поэтому на нее распространяются условия капитуляции. Он утверждал, что наши войска высадятся в Корее, чтобы проследить за выполнением этих условий. Ходж сказал, что, по крайней мере вначале, придется действовать через японскую администрацию. В течение этого периода, сообщил он. мы будем признавать японцев в качестве законных корей* ских властей. Он признал, что, видимо, корейцы питают надежды на свободу и независимость. Но, заявил он, насколько ему известно, политика союзников на этот счет не сформулирована. Поэтому Ходж приказал Гаррису не давать корейцам никаких обещаний, но подчеркивать необходимость их быстрого и добровольного согласия с условиями капитуляции.
Я не вижу никаких оправданий этому заявлению. Оно свидетельствовало об отсутствии инструкций из Вашингтона. Оно показало — во всяком случае мне, — что генерал Ходж не читал Каирской декларации, в кото-
478
рой Англия, Китай и мы заявляли, что Корея будет «свободной и независимой». Это заявление Ходжа задавало тон всему, что затем последовало. Мы не были освободительной армией. Мы пришли оккупировать, проследить за тем, чтобы корейцы выполнили условия капитуляции. С самого первого дня мы вели себя как враги корейского народа.
Прошлой весной Вашингтон разработал, наконец, свою политику умеренности. Но вы, должно быть, уже узнали, что мы всячески нарушаем эту политику. По сей день нашими союзниками являются люди вроде Ли Сын Мана, для которых умеренность — это анафема.
Вы можете сказать о русских все, что вам заблагорассудится. Но дело в том, что русские с самого начала точно знали, в чем заключается их политика. Они предоставили дело управления Народным комитетам и разрешили самим корейцам проводить реформы и изгнать коллаборационистов...»
Мы заговорили о наших отношениях с Россией — мировой проблеме, принимавшей в Корее особенно острые формы. В Германии острота этой проблемы несколько смазывалась присутствием других союзных держав и другими проблемами. Здесь же она была четкой и ясной. Мы стояли лицом к лицу с Россией, от которой нас отделяла лишь воображаемая линия на карте, и каждый из нас контролировал часть страны, на территории которой мы могли претворять в жизнь то, во что мы, по нашим словам, верили.
Я был согласен со своим гостем, что при таком положении дел печать должна была бы сыграть важную роль. И тем не менее, в этом мире, управляемом военными, печать была незваным гостем. Я был американским корреспондентом, верившим в то, что обычно именуется американскими идеалами: экономическая демократия, демократическая политика, свобода слова и собраний, правительство закона. Может быть, как уверяют крайние левые, очень немногие из этих понятий еще сохраняются в нашей американской системе, и человек, который верит в них,—глупец и мечтатель. С другой стороны, может быть, как утверждают консерваторы, человек, который находит погрешности в американской политике или поведении американцев, является опасным радикалом.
479
Я не считал себя ни радикалом, ни мечтателем. Я корреспондент, который, к своему стыду и горю, обнаружил, что под нашим флагом — а зачастую и при нашем актив- ном поощрении — родилось полицейское государство, столь свирепое в подавлении элементарных человеческих свобод, что ему трудно найти параллель. Я нашел в пашей зоне только пустую болтовню о демократии и совсем не обнаружил последнюю на практике. Я нашел административную и политическую бездарность и союз с самой черной реакцией. Я вспомнил капитана К. и его заявление, что армия не хочет вмешательства американского народа. Я думал о полковнике Маглине и его уверенности, что «если полицейский хорошо работал на японцев, он будет хорошо работать и на нас». Я думал о своем переводчике Муке, которого выгнали из Сеула за то, что он помогал мне докопаться до фактов; о майоре Аткинсоне, который медлил, в то время как людей гноили в сырых полицейских тюрьмах; об офицерах, считавших, что Корее не нужны никакие реформы, и о других офицерах, которые занимались слежкой за американскими корреспондентами.
Следовало ли американскому корреспонденту замять эту мрачную историю, потому что она набросила бы тень на его страну? Или же он окажет своему народу лучшую услугу, если сообщит об ошибках и промахах? Можно ли было рассказать эту потрясающую историю без того, чтобы тебя обозвали мечтателем или кем-нибудь похуже?
Работа корреспондента становилась вдвойне трудной, потому что время было необычное и обычные мерки, видимо, не годились.
В нормальных условиях вся эта отвратительная неразбериха, которая творилась в американской зоне, была бы ликвидирована, как только люди на родине узнали бы истину. Но сейчас в основе политики США в Корее — как и везде — лежал страх перед Россией, и многое из того, что не должно было бы случиться, было совершено под влиянием этого страха.
Здесь был Ходж, американский генерал, которому поручили подготовить Корею к превращению ее в государство. Ему следовало бы говорить языком реформ. У него был деятельный отдел печати, способный доводить его решения и мудрые меры до Кореи и всего мира. И тем не менее, день за днем, мы уныло ходили в этот отдел, чтобы 480
йолу^ить Лишь Сообщение о еще одном «перехваЧенййМ коммунистическом документе», целью которого было показать, что коммунисты не любят нас, а Россия готова сорвать реформы, за которые мы стоим. Но ни корейские, ни русские коммунисты не могли бы сорвать никакие смелые и подлинные реформы, если бы мы их проводили. В Корее дело было вовсе не в нелюбви коммунистов к нам, а в том, что мы имели возможность дать народу свободу и демократию и не воспользовались этой возможностью отчасти потому, что в основе нашей политики лежал страх, а также и потому, что мы были представлены здесь не теми людьми, которые могли бы справиться с этой задачей.
Корея — это проблема, которую надлежит решать дипломату и реформатору. Мы же передали ее решение солдату, не обученному ухищрениям дипломатии и не доверяющему социальным реформам. В Корее Ходж видит прежде всего военную проблему. И для этой проблемы он может предложить лишь решение военного. А основным элементом этого решения является дисциплина. Для Ходжа и его людей крестьянские волнения — это не внешнее выражение глубоко гнездящейся болезни, от которой нужно искать лекарства. Для них волнения — акт крайней недисциплинированности, и исправить положение могут только суровые наказания.
И Россия и мы сделали жесты в попытке урегулировать корейскую проблему сообща. Трудно установить истину в лихорадочной атмосфере Сеула, но, повидимому, ни одна из сторон не приложила больших стараний. Для русских проблема заключается в безопасности. Их приморье примыкает к Корее, и они полны решимости иметь дружественного соседа.
Так, русские упорно настаивали, чтобы совместная комиссия консультировалась только со сторонниками опеки союзников над Кореей, хотя кореец может быть настоящим либералом и все же возражать против постоянного иностранного надзора1. Я слышал, как д-р Бане рассказывал
1 Как видно, из боязни прослыть «опасным радикалом» в глазах правителей США, Гейн, вопреки всему сказанному им в этой книге по корейскому вопросу, в полном противоречии с основным содержанием своего «Японского дневника», ставит здесь знак равенства между мирной и демократической политикой Советского Союза и политикой подготовки войны и поддержки реакцион-
31 м. Гейн 481
Ра заседании Красного Крёста, Что ой прёкрасно Ладил со своим русским коллегой при обсуждении общих эконо- мических проблем до тех пор, пока русский внезапно не изменил свою позицию, вероятно, по приказу из Москвы. Но, осуждая русских, полезно подумать о том, какой была бы наша позиция, если бы мы узнали, что недружественная иностранная держава водворяется в Мексике или в Канаде.
Ничто не говорит также о том, что мы в какой-то мере больше, чем русские, хотим притти к соглашению. Главой своей делегации мы избрали генерал-майора Альберта Брауна, который, как известно, считает, что война с Россией дело недалекого будущего. Все его поведение было окрашено этим убеждением. Мой гость рассказал мне, что, когда было сделано предложение обсудить какое-то мероприятие вместе с корейцами, Браун заявил: «Незачем обсуждать дела с этим народом. Нужно просто сказать им, чего мы хотим».
И если русские упорствовали в своем отказе консультироваться с корейскими группами, возражавшими против опеки, то мы проявили не меньшее упрямство, настаивая на необходимости проконсультироваться со всеми корейскими группами, ибо в условиях, когда тюрьмы в нашей зоне заполнены до отказа, слово все может означать лишь широкий ассортимент групп, контролируемых Ли Сын Маном. Наш союз с этим стариком побудил нас бороться за его дело в совместной советско-американской комиссии.
Мы, то есть мой ночной гость и я, говорили о наших отношениях с Россией и соглашались, что наша политика была вдвойне ошибочной, если мы исходили из предпосылки близкой войны. Ибо искусство войны заключается, в частности, в том, чтобы приобретать друзей, а мы придерживались курса, который позволил нам приобрести
ных сил, проводимой штабом Макартура по команде Уолл-стрита.
При этом автор тотчас же показывает несостоятельность своего утверждения. Так, например, на этой странице он предлагает консультироваться со всеми корейскими группами, независимо от их позиции по отношению к Московскому соглашению 1945 г., а на следующей странице признает, что «в условиях, когда тюрьмы в нашей [то есть американской! зоне заполнены до отказа, слово все может обозначать лишь широкий ассортимент групп, контролируемых Ли Сын Маномэ. (Прим, ред.)
482
лишь небольшую Группу союзников и оттолкнул широкие массы корейского народа. Опросы общественного мнения, проводимые военной администрацией, — неточный инструмент. Но они, по крайней мере, отличаются последовательностью, ибо показывают, как неуклонно растет неприязнь корейцев к нам. Если начнется война, наши генералы окажутся в совершенно невыносимом положении, так как, кроме врага, надвигающегося с севера, им придется считаться и с враждебным отношением местного населения в тылу. Одна только программа реформ могла бы помочь нам приобрести друзей, но по сей день такой программы нет даже на бумаге.
Если мы приемлем идею наших генералов относительно большого идеологического конфликта с Россией, то тогда мы должны противопоставить динамическим идеям коммунизма свои собственные основные идеи. Но вся трагедия в том, что в нашем арсенале здесь нет никаких идей. Эти основные идеи нам заменяет наш союз с корейскими группами, чья философия и методы не имеют ничего общего с философией и методами, которые мы так широковещательно провозглашаем. А когда народные волнения в Корее вскрыли эту идейную бедность, мы попытались скрыть банкротство нашей политики демократическими штампами и болтовней о «красной угрозе».
Люди, стоящие здесь у власти, не имеют и не хотят иметь положительной программы действий. Мне говорили, что когда в январе этого года в Корею прибыли члены миссии государственного департамента во главе с д-ром Бан- сом, их прямо с аэропорта доставили в кабинет генерала Лерча, где состоялся примерно следующий диалог:
«Лерч. Вы здесь не нужны. Мы не нуждаемся ни в каких советах.
Бане. Генерал, мы не принимаем вашего ультиматума.
Лерч (уступая). Я хочу сказать, что вы будете частью нашей организации, и мы будем обращаться к вам, когда вы нам понадобитесь.
Бане. Генерал, я повторяю, мы не принимаем вашего ультиматума. Мои сотрудники и я рассмотрим его и сообщим вам завтра о своем решении».
Бане и его миссия остались и сделали мужественную попытку скрыть свое разочарование. Обсуждая вопрос о земельной реформе с Шарлоттой, Хэйли и мной, Бане
31*
483
сказал, что он составил проект реформы, предусматривающий раздел земли, принадлежавшей раньше японцам. Бане считал, что хотя его план был ограниченным по своему масштабу (так как распространялся только на японские земли), во многих отношениях он был лучше, чем закон о земельной реформе, осуществленный в русской зоне.
Но Бане не сказал нам, что' вся военная администрация — от генерала Лерча до корейских переводчиков — была против всякой‘земельной реформы. Для того чтобы провалить то, что именовалось «безумной затеей Банса», было использовано остроумное ухищрение. Военная ад министрация провела опрос общественного мнения, который показал якобы, что издольщики не хотят земли сейчас, а хотят дожидаться, пока ее даст им будущее корейское правительство. На основе этого опроса и был отвергнут план Банса. Таков был, вероятно, конец единственной крупной реформы, разработанной американцем за последние четырнадцать месяцев.
7 ноября 1946 г. СЕУЛ
Шарлотта и я получили пропуска и заказали места на самолет в Токио на завтра. Уильямсон злится.
Утром в сопровождении руководителя бюро связи мы отправились с визитом к Ким Ку, одному из виднейших в мире политических убийц и крупной фигуре в лагере корейских правых. У ворот нас остановил наряд вооруженных полицейских и молодых людей с пистолетами. Затем, бросая на нас подозрительные взгляды, они провели нас в выстроенное в псевдогреческом стиле здание в глубине разбитого на скале сада. Что-то случилось, так как Ким Ку находился на митинге, и за ним послали курьера.
Мы сидели в просторной, богато украшенной холодной приемной и беседовали с множеством сменявших друг друга ловких юношей и девушек, многие из которых бегло говорили по-английски. Некоторые из них были известны мне как самые искусные политические интриганы в Корее. Это была часть небольшой и политически честолюбивой группы, которая думает за Ким Ку и заставляет его говорить под свою диктовку.
484
Я вспомнил рассказ о пресс-конференции, на которой Ким Ку, непримиримого врага Японии и корейских коллаборационистов, спросили, что бы он сделал с этими пос- ледними. С характерной прямотой Ким Ку заявил:
«Фактически в Корее все — коллаборационисты. Им всем бы следовало быть в тюрьме». .
Молодой советник, подвизавшийся одновременно в роли переводчика, не моргнув глазом, перевел это так: «Господин Ким Ку говорит, что эта проблема нуждается в тща» тельном изучении».
Мне говорили, что сейчас Ким Ку пошел на уступки, и этот дом, предоставленный в его распоряжение «горным королем» Кореи, вероятно, и является одной из этих уступок. Но Ким Ку и Ли Сын Ман отличаются друг от друга в одном важном отношении. В то время как Ли говорит от имени коллаборационистов и помещиков, Ким Ку выступает от имени той части правых, которые отказывались иметь дело с японцами, провели десятки лет в эмиграции и вернулись лишь для того, чтобы обнаружить, что коллаборационисты попрежнему находятся у власти. Эти два лагеря не питают особой любви друг к другу, хотя время от времени действуют сообща. Лисынмановиы намекают, что Ким Ку — китайский ставленчи<. Люди Ким Ку находят удовольствие в том, что перечисляют дела коллаборационистов, работающих с Ли Сын Маном.
К зданию подкатила машина, из которой выпрыгнули ловкие молодые люди. Они приведи к нам высокого, темноволосого человека в шелковой накидке. Ким Ку поразительно вяло пожал нам руку и сел на диван. Он выглядел гораздо моложе своих семидесяти двух лет, но руки у него дрожали. Ладони у него были розовые, как у младенца.
Ким Ку отказывался отвечать на политические вопросы, говоря, что ответит на них, если мы дадим ему время подумать. Он готов был говорить о своей жизни начиная с детства, проведенного «в бедной крестьянской семье, такой бедной, что до одиннадцати лет я не учился». Ким Ку начал свою революционную деятельность с восемнадцати лет во время крестьянского восстания против знати, а в 1896 г. переключился на борьбу с японцами. К 1919 г. он отбыл три срока в тюрьме за три нашумевших убийства («К последнему из них я не был даже причастен».)
485
В 1919 г. он бежал в Шанхай и был назначен «начальником контрразведки» временного корейского правительства. Террор стал его профессией. Кульминационный пункт был достигнут в 1932 г., когда он организовал в Шанхае покушение на группу японских сановников. Адмирал Номура (который накануне нападения на Пирл Харбор был японским послом в Вашингтоне) потерял тогда глаз. Сигемицу (подписавший акт о капитуляции Японии на борту американского линкора «Миссури») потерял ногу. Это покушение, как выразился Берч, «выдвинуло Ким Ку в ряды виднейших политиков». К 1941 г. он уже был главой эмигрантского правительства.
В этот момент мы услышали характерный звук шагов маршировавшей военной части. Я выглянул. Два десятка молодых людей в штатском с белыми повязками на рукавах проходили мимо дома военным шагом. Я спросил Ким Ку, кто эти молодые люди, и он ответил: «Молодежная организация». Когда же я стал настойчиво спрашивать, что это за организация, он заявил, что ничего о ней не знает.
Позднее Ким Ку пошел проводить нас, и мы увидели молодых людей, расставленных за деревьями и камнями. Одни из них смотрели на нас, другие пристально разглядывали забор. Мы попрощались с Ким Ку и подошли к ближайшему из молодых людей. Я попросил переводчика перевести надпись на нарукавной повязке. Эта надпись просто гласила: «Молодежная организация». Это, очевидно, была частная армия Ким Ку наподобие лисынмановского «Общества молодежи Великой Кореи».
Когда мы отъехали и ворота захлопнулись за нами, руководитель бюро связи сказал: «Не правда ли, г-н Ким Ку настоящий джентльмен?»
Днем нас повезли к другому «джентльмену» — генералу Ли Бум Суку, главе организации «Корейской национальной молодежи» и восходящей звезде в созвездии правых. Мы слышали его имя повсюду в американской зоне, и некоторые американцы настаивали, чтобы перед отъездом из Кореи мы непременно повидались с генералом.
Мы застали его в большом двухэтажном здании, которое было передано «Корейской национальной молодежи» американской военной администрацией. В окнах верхнего
486
этажа виднелось несколько американских солдат, выстукивавших что-то на пишущих машинках. Во дворе стояли американские военные грузовики и виллисы; тут же толпилась группа молодых корейцев хулиганского вида, к которым я уже пригляделся. Генерал Ли Бум Сук ждал нас в своем маленьком кабинете.
Ли Бум Сук — худощавый, мускулистый человек. Тонкий крючковатый нос и редкие усы придают ему странный хищный вид. Живи он в Калифорнии, он неизбежно кончил бы ролью восточного пирата в каком-нибудь цветном голливудском фильме. Его карьера, в том виде, как он изложил ее нам, подкрепляя рассказ энергичным взмахом кулака, отвечала его внешности. Он родился в знатной семье и уже пятнадцати лет уехал из Кореи в Китай. Там он поступил под вымышленным именем в военную академию и по окончании ее отправился в Маньчжурию, чтобы заняться там антияпонским террором. Последующая его карьера была довольно яркой: он был полковником в штабе знаменитого китайского генерала, сражавшегося с японцами в Маньчжурии, начальником корейской военной академии, созданной Чан Кай-ши; военным советником одного китайского милитариста и главным участником переговоров с японцами, которые считали его китайцем; соратником свирепого начальника гоминдановской тайной полиции Дай Ли и в течение года — агентом американского Управления стратегических служб. В Корею он прилетел через четыре дня после капитуляции Японии вместе с группой сотрудников Управления в составе двенадцати американцев и пяти корейцев.
«Корея сегодня, — сказал Ли Бум Сук, — подобна Германии в 1919 г. Те же идеологические столкновения, национальные разногласия, экономическая нужда. Национальное спасение может принести объединенная корейская молодежь. Наша цель—открыть школы для руководителей. Мы научим их повиновению приказам, практичности и добронравию — многому из того, чему учит движение «За новую жизнь», возглавленное генералом Чан Кай-шиг.
1 «За новую жизнь» — реакционная «философская» школа, основанная Чэнь Ли-фу, ближайшим приспешником Чан Кай-ши, одним из представителей «четырех семейств» гоминдановского Китая. (Прим, ред.)
487
К счастью, генерал Ходж и генерал Лерч понимают значение нашей программы, и они дали нам в помощь полковника Эрнста Фосса из департамента внутренней безопасности. Генерал Лерч ассигновал нам на первые пол года нашей работы 5 миллионов иен.
Мы собираемся открыть в этом месяце школу воспитания лидеров молодежи и выпускать каждые тридцать дней по 200 человек. Выпускники отправятся затем в провинции и создадут там отделения организации «Корейской национальной молодежи». Желающие поступить в школу должны представить рекомендации известных, проверенных патриотов. Чтобы иметь возможность выполнять свой долг, они также должны быть абсолютно здоровыми. Наша цель— сплотить и очистить молодых людей, чтобы они могли стать вожаками».
Он продолжал в том же духе, и мало-помалу мне начало казаться, что я слушал описание не корейской демократической организации, а одной из гитлеровских бесславных «школ для воспитания лидеров». Слова были те же самые: «нация», «судьба», «дисциплина», «стойкость»,странный подбор учителей и учебных дисциплин; признанное родство с другими правыми полувоенными организациями. Внезапно для меня стал ясен источник вдохновения генерала.
Ли Бум Сук изложил нам предполагаемый учебный план: история, этика (преподаваемая им самим), политика. «А также, — заявил он, — способы борьбы с забастовками и история организации «Гитлеровской молодежи». Выяснилось, что один из помощников Ли в течение трех лет был ревностным членом организации «Гитлеровской молодежи» в Германии.
Наше внимание привлек американский офицер, разговаривавший по телефону в соседней комнате. Он говорил, что ему нужны грузовики, что у него есть еще один печатный приказ, что, по его мнению, пора закончить здание для...
«Это полковник Фосс, — сказал генерал Ли, — очень хороший человек». Вскоре полковник Фосс появился в дверях, и мы поздоровались.
«Вам незачем говорить со мной, — сказал Фосс.— Я разделяю идеалы и мысли генерала Ли. Он — великий человек».
488
Ли Бум Сук сунул нам в руки две брошюры. «Вы должны это прочесть, — заявил он. — Они расскажут вам о моей работе и чаяниях».
Я выхватил наугад фразу из одной брошюры. Она гласила: «Сильный вождь, который станет самоотверженно трудиться на благо Кореи, — вот что нужно в данный момент».
В другой брошюре разбирался вопрос о том, как найти такого вождя: «В течение последних тридцати лет Ли Бум Сук отдавал родине все свое время и энергию. Несмотря на телесные наказания, которым он подвергался, он никогда не выходил из себя, никогда не утрачивал своей железной воли и не отказывался от своих идей. Сейчас он ждет приказа 30 миллионов своих соотечественников. Если он нужен нации как солдат...»
Это интервью явилось достойным завершением нашего фантастического визита. Оно венчало собой корейскую «школу воспитания лидеров», где преподается история «Гитлеровской молодежи», школу, которая работает на субсидии американской военной администрации и при содействии полковника американской армии.
Вечером мы осторожно навели кое-какие справки. «О, вы в конце концов нашли «корейскую баллилу» \ — сказал один офицер. — А мы здесь гадали, сколько вам для этого понадобится времени. Вы видели Фосса? Он называет своих юных хулиганов бойскаутами».
Другой офицер рассказал нам о том, какую помощь генерал Ли получает от американской армии. Американские военные инженеры строят казармы для организации «Корейская национальная молодежь» в Пусане и Сеуле. Они предоставляют генералу Ли Бум Суку американские бульдозеры для неизвестных целей. За счет американских налогоплательщиков они печатают для генерала массу литературы, главным образом политической.
«Организация «Корейская национальная молодежь», — сказал офицер, — по всей вероятности, самое выгодное предприятие в Корее. Она получает разнообразные приношения от людей, которые боятся, что если они не
1 «Баллила» — итальянская фашистская Детская ррганизация, (При#, ред.) 489
откупятся, на них донесут как на японских коллаборационистов. Никто не знает в точности, кто стоит за спиной Ли Бум Сука. Возможно, что он политический авантюрист, действующий на собственный страх и риск. Но ходит много разговоров и о тесных связях между ним и Ли Сын Маном. Известно, что Ли Бум Сук намерен забрать в свои руки «Молодежную ассоциацию борьбы за Национальное собрание и независимость», в которую входят 18 молодежных отрядов Ли Сын Мана. В настоящее время Ли Бум Сук старается не поднимать шума. Но попомните мои слова: через год он станет важной персоной и притом с нашей помощью. Нетрудно найти оправдание существованию отрядов Ли Бум Сука или Ли Сын Мана, назвав их местными бандами. Но все это дело приняло слишком большие размеры, чтобы можно было легко отмахнуться от него. Эти ребята превратились в корейских штурмовиков. Военная администрация разрешила возникновение широкого сплоченного движения, во многом напоминающего гитлеровское. И, вероятно, с той же целью».
Сегодня вечером мы узнали также историю рядового Пиви и его безводных рисовых плантаций.
Видимо, когда 38-я параллель была принята в качестве линии раздела между американской и советской зонами, она отрезала японскую ферму площадью в 70 тысяч акров от ее водных резервуаров. Мы получили рисовые поля, а русские получили воду. Рядовой Пиви, которому был поручен надзор за фермой, ‘вскоре обнаружил, что для посевов риса нужна вода, а вода была в советской зоне. Поэтому соответствующий отдел военной администрации стал все чаще слышать о рядовом Пиви и его проблеме. Не проходило и нескольких дней, чтобы от Пиви не поступала просьба, о помощи. Он хотел своего рода договоренности с русскими, чтобы он мог получить воду для своих полей. По мере того, как шли дни и всходы риса погибали, тон посланий становился все более настойчивым.
Но какая-то ферма — какой бы большой она ни была — может быть лишь частицей широкой проблемы американосоветских отношений, а пока эта широкая проблема оставалась неразрешенной, Пиви не мог получить воды.
490
Поэтому время от времени Сеул посылал Пиви успокоительные телеграммы, говоря, что в данное время никакие местные соглашения невозможны, настаивая, чтобы он обходился, как может, и советуя ему, ради всего святого, сохранять спокойствие.
В один прекрасный день поток посланий от Пиви прекратился. Занятые собственными делами сотрудники военной администрации с неделю поудивлялись этому, а затем забыли и о Пиви, и о его плантациях.
Не так давно Пиви, по истечении срока службы, было приказано вернуться на родину. По пути в порт он остановился в Сеуле и зашел в помещение военной администрации. «Пиви? — сказали там, — Пиви? Погодите-ка, не вы ли тот парень, который находился на полуострове Онджин близ 38-й параллели?»
— Да, сэр, — ответил Пиви, — это я.
«Так, так! — сказали ему. — Не было ли у вас там каких-то историй с водой или чего-то в этом роде? Чем все это кончилось?»
— Да, сэр, — сказал рядовой Пиви, — у меня не было воды, а она мне была нужна. У меня пропадало страшно много риса, а у русских была вода. Поэтому я заключил с ними договор. Я...»
«Что? — воскликнул полковник. — Договор с русскими? Вы смеетесь?»
— Нет, сэр, я не смеюсь. Я сказал русским, что если они дадут мне воды, я дам им после уборки урожая 10 тысяч мешков риса. Тогда они дали воду, которая была нужна мне...
«Боже мой!— простонал полковник.—Это невозможно. Вы знаете, что вы наделали? Вы пойдете за это под суд. Я пойду за это под суд! Вы не имели права вступать ни в какие переговоры с русскими. Вы превысили свои полномочия. Чорт побери! У вас вообще не было никаких полномочий, рядовой Пиви!»
— Не беспокойтесь, сэр, — сказал Пиви. — Я, правда, подписал договор с русскими и получил воду. Но я вовсе не собирался давать им рис.
Через неделю после того, как рядовой Пиви уехал с полуострова Онджин, не отдав обещанного, отряд северо- корейских полицейских на грузовиках пересек 38-ю 491
параллель и подъехал к складам, где хранился рис. Их попытке открыть ворота воспротивилось несколько южнокорейских полицейских и местных представителей власти. В последовавшей стычке было убито четыре южнокорейца. Северокорейцы доверху нагрузили грузовики рисом и уехали обратно.
8 ноября 1946 г, ПО ПУТИ В ТОКИО
Мы выехали из Сеула на аэропорт в 6 часов утра. К тому времени, когда мы выправили пропуска, солнце уже взошло, но в воздухе было свежо. Сотрудники Красного Креста раздавали с грузовика кофе и лепешки. К нему выстроилась длинная очередь людей, которые топали ногами и хлопали себя по бокам, чтобы согреться. Мы пили кофе и смотрели, как два небольших транспортных самолета заполняются одетыми в меховые пальто корейскими полицейскими, вооруженными японскими карабинами. Один самолет поднялся, а на его место подрулил другой. Я подошел и спросил одного из членов экипажа, куда направляются самолеты.
Он сказал: «Примерно 150 миль к западу. Я слыхал, что несколько гуков 1 забаррикадировались в одном доме, а эти ребята собираются взять его. Мы будем возить их весь день».
Шли часы. С нашим самолетом что-то случилось, а непредвиденные, но первоочередные пассажиры все прибывали. Мы выпили еще кофе, прочли старые журналы и поговорили с другими ожидавшими. Один из них был офицер военной администрации, возвращавшийся на родину после почти четырех лет службы. «Если мы не улетим сегодня, — сказал он, — я вернусь в свою комнату и пущу себе пулю в лоб. Я чувствую, что не смогу выдержать здесь и одного лишнего дня».
Около полудня мы вылетели на четырехмоторном транспортном самолете. «Слава богу, — сказал офицер, — я думал, что никогда уже не дождусь этого дня». Улыбка
1 Гуками американские офицеры презрительно называют местное население стран Дальнего Востока: (Прим, ред.)
49?
не Сходила с его лица, хотя он понймал, Цто выглядй? глупо, и старался принять серьезный вид. Несколько позже он успокоился, и мы стали говорить о Корее. Он пробыл в ней год и много путешествовал по стране.
«Разрешение наших разногласий с Россией — одна из основных наших задач в Корее, — сказал офицер. — Если решение не будет найдено, мы и русские будем по- прежнему держать здесь наши войска и укреплять враждебные друг другу режимы. Я серьезно задумываюсь над тем, не упущено ли время. В течение последних недель я беседовал со многими корейскими лидерами, которые на протяжении года бурно выражали свой протест и требовали вывода американских войск. Теперь они притихли. В их словаре появилось два новых слова: «гражданская война». Теперь они хотят, чтобы и мы и русские продолжали бы некоторое время оставаться в Корее, так как, по их мнению, если мы покинем Корею, ее ждет хаос и кровопролитие.
Но мы ничего не добьемся, оставаясь здесь, так как и на севере, и на юге средние группировки уничтожены и остались только крайние. Нет оснований надеяться, что они не вцепятся друг другу в горло через год или через пять лет. Ни этих людей, ни их идеи примирить нельзя».
Теперь, спустя четырнадцать месяцев после освобождения, 38-я параллель стала настоящей границей между двумя мирами.
Сейчас мы летели высоко, а внизу сквозь просвет в облаках можно было видеть береговую линию Кореи, коричневую полосу земли, выдававшуюся в серое море. «Прощай, Корея! — воскликнул мой сосед. — Я счастлив, что уезжаю!» Я тоже был рад. Мои записи о Корее — самый мрачный, самый угнетающий рассказ о событиях, какой я когда-либо писал. Как американец, я стыдился тех фактов, которые продолжал раскапывать, стыдился бездарности людей, выступавших от имени моей страны, их упорных усилий помешать американскому народу узнать, что творится в Корее.
Но я гордился тем, что, несмотря на все ограничения и предосторожности, в каждом городе и деревне, где я побывал, всегда находились американцы, которые верили
493
в силу Печати и се роль й демократическом государстве и снабжали нас информацией, рискуя навлечь на себя наказание. В частности, в Корее я узнал, что цензура — особенно, когда она ставит своей целью скрыть промахи должностных лиц — не может долго иметь успеха у американцев. И я был так же рад этому открытию, как и тому факту, что я могу кое-что сообщить о Корее.
14 ноября 1946 г. ТОКИО
Просматривая протоколы Союзного совета за месяц своего отсутствия, наткнулся на следующий поразительный диалог:
«Атчесон. Меня поражают постоянные голословные утверждения и обвинения в адрес японских властей... Видимо, наш Совет никогда не похвалит их за хорошую работу, которую они делают... Когда работа сделана хорошо, то, мне думается, она заслуживает какой-то похвалы. Я считаю, например, что японское правительство, выполняя директиву о чистке, в целом прекрасно справилось со своей задачей... Я бы сказал, что японцы охотно сотрудничали... с оккупационными властями. По сути дела, настало время, когда цели японцев стали фактически тождественными целям союзников^..
Болл. Господин председатель, я бы хотел, чтобы в протокол было внесено мое заявление о том, что я не могу... присоединиться к вашим выражениям сердечности и доверия по отношению к нынешнему японскому правительству.
Атчесон. Я не думаю, г-н Болл, чтобы в протоколе было записано, что я выразил сердечность и доверие по отношению к нынешнему правительству. Я просто стою за признание заслуг там, где такие заслуги имеются.
Болл. Я был бы только рад присоединиться к вам в признании заслуг там, где заслуги имеются.
Атчесон. Вы хотите сказать, что в проведении выборов или другой деятельности японского правительства нет никаких заслуг?
Болл. За последние несколько месяцев я заметил, что когда кто-либо из членов нашего Совета поднимает вопрос, который можно истолковать как критику японского правительства, американский член Совета тут же
494
ВЫСтуйает в заЩиту деятельности японского правительства. Я хочу лишь сказать, что не хотел бы стоять на той позиции, которую заняли вы, пока (или если) я не получу более полных сведений о действительном положении дел в Японии.
Атчесон. Я буду попрежнему настаивать на признании заслуг там, где заслуги имеются... В качестве примера можно привести Управление по демобилизации, работу которого мы обсуждали на прошлом заседании. Люди компетентные, наблюдавшие за работой Управления с профессиональной точки зрения, говорили мне, что Управление по демобилизации проделало замечательную работу. Я не понимаю, почему бы нам не признать его заслуги...»
Как и Боллу, мне трудно примириться с отождествлением наших целей с целями правительства Иосида. Одной из причин этого является собранная мною обильная информация о том же самом Управлении по демобилизации, работа которого так нравится Атчесону.
Правда, японские вооруженные силы были демобилизованы быстро и эффективно. Фактически японскому министерству финансов было выгодно вернуть военных к мирным занятиям. Но ликвидация военной машины была иллюзорной. В то время как солдаты возвращались домой, составители планов войны оставались на своих местах.
Я убежден, что оба Управления по демобилизации1 представляют собой генеральные штабы в миниатюре, которые со дня капитуляции Японии планируют ее военное возрождение.
Лучшее тому доказательство — люди, работающие в этих управлениях. Вот, например, состав департамента военных данных Управления по демобилизации армии: генерал-лейтенант Миадзаки — бывший начальник оперативного отдела генерального штаба армии;
генерал-майор Иосиро Санада — также бывший начальник оперативного отдела генерального штаба армии;
полковник Такусиро Xаттори — бывший секретарь
1 Управление по демобилизации армии и Управление по демобилизации флота. (Прим, ред.)
495
Тодзио, а с начала войны начальник первой (оперативной) секции оперативного отдела генерального штаба;
полковник Кадзуо Хориба — в течение трех лет начальник второй (военное руководство) секции оперативного отдела генерального штаба; позже служил в исследовательском совете по вопросам тотальной войны;
полковник Нисиура — бывший начальник управления военных дел военного министерства и офицер генерального штаба;
полковник Садао Акамацу — бывший секретарь Тодзио.
Остальной персонал департамента военных данных состоит главным образом из офицеров оперативного и разведывательного отделов генерального штаба. Работа департамента мало связана с демобилизацией. В основном его деятельность заключается, видимо, в изучении уроков войны, в критике японской стратегии и тактики в различных кампаниях, в расследовании военного ущерба и изучении средств уменьшения этого ущерба в будущих войнах, а также в анализе международного положения.
Но эти Управления по демобилизации — не единственные ныне существующие военные органы. Имеется, например, мало известная, но пользующаяся дурной славой «организация Арису», созданная видным членом «кухонного кабинета» Тодзио генерал-лейтенантом Сейдзо Арису, который до последних дней войны был начальником военной разведки генерального штаба.
Арису создал свою организацию после капитуляции Японии, предвидя потребность США в военной информации. Но, по сведениям, полученным от моих японских осведомителей, в действительности Арису использовал в качестве приманки для американской военной разведки данные о советских военных приготовлениях и обороне, собранные его агентами в ходе подготовки возможной русско-японской войны.
«Организация Арису» состояла главным образом из офицеров военной разведки генерального штаба. Правой рукой Арису был, например, генерал-майор Яцуи Нагаи, бывший начальник планового отдела военной разведки. Организация считает свою работу законченной, но тем не менее остается в целости и неприкосновенности. По сообщениям, которые я не мог проверить, весь бывший русский отдел японской военной разведки переведен на
496
Хоккайдо, ближайший к России пункт, где этот отдел и существует под видом регионального демобилизационного управления.
Только люди, принимающие желаемое за действительность, могут игнорировать угрожающее сходство между этими функционирующими организациями специалистов в области военных операций и разведки и германским генеральным штабом, который так хорошо использовал уроки первой мировой войны для возрождения рейхсвера.
Механизм налицо. Опытные офицеры собраны вместе. Уроки вчерашнего поражения изучаются. Сейчас эти люди ждут дня, несомненно не слишком далекого, когда Японии будет разрешено иметь «небольшую армию в целях самообороны».
Генерал Макартур еще не ответил на нашу просьбу пятинедельной давности об интервью для обсуждения вопроса о новой политике по рабочему вопросу в Японии.
18 ноября 1946 г, ТОКИО
Получил от «Чикаго сан» письмо, отзывающее меня на родину и фактически объявляющее о ликвидации заграничных отделений.
Письмо не было для меня такой уж неожиданностью, ибо в течение многих месяцев я видел, как другие газеты отзывают своих корреспондентов из Японии. По возвращении из Кореи я также решил просить назначить меня в будущем году в другую страну. И все же это известие оставило во мне какое-то чувство огорчения.
Сегодня вечером узнал о случившемся с печатником газеты «Иомиури» и о роли, которую некоторые американские корреспонденты сыграли в его жизни.
Печатника Кенкици Яхаги послали в Осаку с наказом заручиться поддержкой бастующих сотрудников «Иомиури» со стороны рабочих. После одного из митингов трое неизвестных донесли в контрразведку, будто Яхаги сказал, что Соединенные Штаты превращают Японию в свою колонию. Яхаги был арестован, судим военным трибуналом и приговорен несколько дней назад к четырем годам
32 м. Гейн 497
тюремного заключения и штрафу в 60 тысяч иен (4 тысячи долларов). Яхаги зарабатывает 60 долларов в месяц, и у него большая семья. Поскольку он явно не мог внести штраф, американский судья добавил к приговору еще пять лет.
Некоторые из нас узнали об этом случае и обратились в отдел по делам японского правительства. Запрос был послан полковнику Кадесу, генералу Уитни и, наконец, генералу Макартуру. Немедленно из канцелярии Макартура в Осаку было отправлено письмо, в котором, в частности, говорилось: «Создается впечатление, что замечания Яхаги были больше направлены против японского правительства, чем против правительства США. Поэтому вас просят смягчить приговор до года и одного дня».
Год тюремного заключения — также суровый приговор, если вспомнить обо всех провокационных заявлениях и нарушениях приказов со стороны высокопоставленных японских чиновников во главе с самим Иосида. Но для Яхаги это разница между годом его жизни и девятью. Заношу еще одно доброе дело в актив печати1.
21 ноября 1946 г. ТОКИО
Вечером мы с Сэлли отправились на обед к адвокату японских военных преступников, находящихся сейчас под судом. Обед был сервирован в знаменитом ресторане Гадзоен, и к тому времени, когда мы добрались туда, 1 Сравните дело Яхаги с делом журналиста по имени Суми. Несколько месяцев назад майор Имбоден нанес один из своих знаменитых визитов в целях чистки в редакцию японской ежедневной газеты, выходящей на севере. Вскоре после его отъезда представитель издателя по имени Суми выступал на общем собрании сотрудников редакции. Суми нападал на предшественника Имбодена в отделе печати как на «коммуниста». Он сказал также (вероятно, на основании информации, полученной из американского источника), что генерал Макартур выставляет из своего штаба всех «штатских коммунистов» и заменяет их «надежными офицерами армии», такими, как Имбоден. Когда я обратил внимание Имбодена на эту речь, он отправил на север послание, составленное примерно в следующих выражениях: «Суми следует напомнить, что он не имеет права критиковать американских офицеров». (Прим, автора.)
498
двор уже был заставлен седанами и виллисами. Там было не менее ста гостей, американцев и японцев, и мы высчитали, что обед должен был обойтись по меньшей мере в 100 тысяч иен, или 6600 долларов по номинальному курсу.
Мы сидели на полу перед столами высотой в один фут, заставленными креветками, рыбой, цыплятами и большими блюдами с маринованной редиской, которую мои соседи звучно смаковали. Примерно в середине обеда поднялся главный оратор и произнес речь, самая интересная фраза которой гласила: «Японцы всегда были миролюбивой нацией». Мы нашли это заявление весьма неожиданным, так как оно было сделано д-ром Сумей Удзава, главным юрисконсультом, который каких-нибудь десять лет назад с ультранационалистским пылом защищал полковника, убившего «умеренного» генерала. Сейчас д-р Удзава предпочитает хвастаться не столько этим процессом, сколько однодневным арестом, которому он подвергся в 1938 г. Те из нас, кто побывал в Японии до войны, соглашались, что, закрыв глаза, мы и теперь можем без труда вообразить себя в довоенной Японии. Те же лица, те же речи, тот же тон преувеличенного доброжелательства ко всем людям.
После обеда Сэлли сделала ошибку, попросив гейш исполнить «Токио Ондо» — нашу любимую песню и танец. Женщины быстро подняли из-за стола мужчин, встали в ряд, как в румбе, и начали танцовать по всей комнате. Вскоре танцы превратились в оргию беспорядочно толкущихся, хихикающих и довольных собой людей.
Когда мы наблюдали это зрелище, к нам подошел щеголеватый японец и подал мне свою визитную карточку, в которой удостоверялось, что он Чикао Фудзисава, директор исследовательского отдела Института международных отношений. После этого беседа приняла любопытный оборот. Фудзисава сказал, что он много лет провел в Китае, где ведал «институтом культурных дел» и только что был репатриирован. Без всякого побуждения с нашей стороны он сказал:
«Я — известный реакционер, подвергшийся чистке. Признаюсь в этом. Признаюсь, что находился в очень тесном сотрудничестве с японскими военными еще примерно три года назад, когда я решил, что они проводят неправильную политику в Китае».
32*
499
Сейчас он адвокат одного из самых отъявленных военных преступников. «Я считаю, — сказал он, — что японские военные совершили много ошибок. Но ядро у них здоровое. Это я всегда стараюсь подчеркнуть. Возьмите, например, нашу монархию. Это здоровый институт. Вы этого не думаете?»
Я спросил его, занимается ли он еще чем-либо, кроме работы в суде, и он деловито ответил, что читает курс восточной философии. «В каждом из моих двухнедельных классов, — сказал он, — около 30 американцев. Некоторых офицеров я приглашаю к себе домой, где мы можем на досуге обсуждать много различных вопросов. Я бы очень хотел, чтобы вы со своей супругой навестили меня. Мы можем обсудить множество вещей. Особенно вопрос об императоре».
Я сказал, что постараюсь. Тот факт, что профессоры, вычищенные японцами за связь с военными преступниками, приглашаются американской армией для обучения американцев, поистине восхищает меня.
22 ноября 1946 г. ТОКИО
Дикси Тай из «Нью-Йорк пост» вернулась из Сеула. Она пробыла там меньше 48 часов. По прибытии в Сеул она попросила разрешения поехать на остров, где левые получили на выборах оба места, предоставленные населению этого острова. Дикси интересовалась не столько политикой, сколько тем фактом, что островом, по слухам, управляют амазонки. Женщины работают ловцами жемчуга и задают тон всему. По словам Дикси, майор Уильямсон охотно дал ей разрешение. На следующее утро он в некотором волнении взял свое разрешение обратно. Слово за словом, и Дикси объявила, что с нее хватит Кореи, генерала Ходжа и майора Уильямсона. Она отправилась на аэродром и села в первый направлявшийся в Токио самолет. Это оказался личный самолет генерала Лерча. Дикси горько пожаловалась ему, а он заверил ее, что все это ошибка, и пригласил вернуться через неделю. Дикси сказала, что пока она решала, ехать ей или не ехать, генерал Ходж запретил корреспонденткам появляться в Корее.
500
Наслушавшись всех этих историй, Гордон Уокер хочет вновь побывать в Корее, но ему намекнули, что если он это сделает, его могут отдать под суд по полностью вымышленному обвинению, будто он и корреспондент Ас- сошиэйтед Пресс при посещении Кореи год назад под- стрекали корейцев не повиноваться приказам американской военной администрации,
24 ноября 1946 г. ТОКИО
Вчера вечером обедал с членом «внутреннего кружка» генерала Макартура. Снова меня поразило то, что о генерале трудно говорить бесстрастно. Любопытно, что как своим критикам, так и своим поклонникам он внушает только крайние чувства. Но даже его сторонники соглашаются, что он эгоцентрист и позер, человек, который не терпит никакой критики и не способен признаться в ошибке; человек, который хочет, чтобы его признали великим героем и великим администратором в учебниках истории трех стран — его собственной, Японии и Филиппин.
Человеку постороннему не легко определить мировоззрение генерала, ибо он обладает обескураживающей привычкой приспосабливать свою речь к случаю. Один раз он может нападать на Россию с пылом крестоносца, а другой раз требовать мира с Советами. Он может настаивать на создании прогрессивной Японии и выступать за государственный социализм. А через час он может едко отзываться о «салонных шаркунах», которых посылают ему из Вашингтона в качестве советников, и осуждать их попытки «социализировать» Японию.
Но это загадка только для посторонних. «Внутренний кружок» всегда прекрасно знает, что у генерала на уме. Отчасти именно этот кружок и помогал формированию его идей. В целом он их разделяет. Сейчас мой гость с большим пылом и сочувствием развивал передо мной мировоззрение генерала.
«Генерал Макартур, — заявил он, — считает, что война с Японией не должна была возникнуть именно тогда, когда она возникла. Конфликт был ускорен «ультиматумом президента Рузвельта» Японии от 26 ноября 1941 г.
501
Этот «ультиматум» явился ошибкой, ибо у нас не было силы, чтобы поддержать его. Кроме того, он не оставил японским милитаристам иного выхода, как нанести удар в тот момент, когда они, казалось, имели преимущество в вооруженных силах.
Генерал утверждает, что Филиппины не были бы потеряны, если бы Вашингтон внял его мольбам о помощи. Кроме того, преимуществом в области снабжения живой силой и техникой должен был бы пользоваться тихоокеанский театр военных действий, а не Европа. До разгрома Японии битву за Европу следовало вести в воздухе. Американский флот нужно было не распылять между двумя океанами, а держать в Тихом океане для охраны коммуникаций генерала Макартура. По мнению генерала, президент Рузвельт, согласившись выделить часть американского флота для несения службы в Атлантическом океане, уступил нажиму англичан».
Из сказанного моим гостем я сделал вывод, что генерал не доверяет нашим союзникам военного времени — Англии, России и Китаю. Генерал считает, что мы разгромили Японию без посторонней помощи. Генерала возмущает то, что он рассматривает как стремление этих трех держав нажиться на американских жертвах, и чему он всячески противится.
Англия, в глазах Макартура, извечный соперник Соединенных Штатов. Он полагает, что англичане пытаются восстановить свое положение на Востоке, и не склонен помогать им в этом. Поэтому-то, сказал мой гость, генерал не разрешил англичанам расквартировать в Токио более батальона, тогда как они собирались послать дивизию.
Но, при всей своей нелюбви к англичанам, главным врагом генерал считает русских. Для него Япония это прежде всего воздушная база, откуда наши бомбардировщики могут достигать любого пункта Сибири. Он утверждает, что было бы бессмысленно вести борьбу с Советами на суше, так как американская армия увязла бы в просторах России столь же безнадежно, как и гитлеровская.
Как геополитик, генерал считает, что мы потеряли Евразию, уступив ее коммунизму, фащизму или английскому щцжедту деоиццериализда, Bq дсей Евразии нет 502
ни одного пункта, которого мы могли достичь раньше Красной Армии. Поэтому всякая помощь бесполезна. Но, как и члены его «внутреннего кружка», он разделяет убеждение генерала Феллерса, что конфликт между «монголо-славянскими ордами Востока и цивилизованными народами Запада» будет разрешен на поле боя.
Генерал Макартур твердо убежден, что Япония заняла место Китая в качестве главной опоры нашей политики в Азии. Он считает, что китайское националистическое правительство бездарно и до основания разъедено коррупцией. Он опасается, что, поддержав его, мы можем «потерять лицо» во всей Азии. Он стоит на той точке зрения, что, для того чтобы остановить китайский коммунизм, можно и должно употребить военную силу.
Генерал считает, что последняя война в Европе была бесполезной тратой сил, так как она лишь заменила старые конфликты новыми. Поэтому завоевание Японии было единственным положительным достижением второй мировой войны. Эта победа дала нам возможность укрепить свое стратегическое положение и превратить Японию в новый плацдарм, а Филиппины — в тыловую базу.
Следующая мировая война, по мнению генерала, будет вестись в воздухе. Он часто ссылается на свой собственный опыт, говоря, что он разгромил Японию, даже не приходя в соприкосновение с основными силами японской армии. Он отрицает, что американский флот сыграл сколько-нибудь значительную роль в этой победе. («Последовательно придерживаясь своих взглядов, — сказал мой гость, — генерал высказался против всеобщего военного обучения, так как он убежден, что время крупных сухопутных армий миновало».)
Генерал Макартур хочет, чтобы все крупные тихоокеанские базы оставались под нашим контролем. Он поручил бы армии управление крупными островами, такими, как Окинава, а флоту — базами поменьше, такими, как базы на Гуаме и Иводзима.
Наконец, если говорить о духовной стороне, то генерал хотел бы, чтобы Япония стала христианским государством. Он считает, что такое обращение связало бы Японию с Западом и сделало бы японцев миролюбивым народом,
5Q3
25 ноября 1946 г.
ТОКИО
Последнее время всех нас интриговало нежелание штаба Макартура издавать какие-либо важные директивы для японцев. Сейчас «ларчик открылся». Дело в том, что генерал Макартур решил отделаться от Союзного совета. Согласно установленному порядку, директивы должны направляться в совет для обсуждения, но штаб изобрел свой новый порядок. Заместитель начальника штаба генерал-майор Л. Дж. Уитлок вызывает к себе японских чиновников, зачитывает им директиву и затем приказывает выполнять ее. Поскольку японцы не получают приказа в письменной форме, то нечего направлять для обсуждения и Союзному совету.
Японцы — хитрые политики, и они умело используют распри внутри и вне штаба. Человеку постороннему, вроде меня, остается только удивляться глубине их знаний и ловкости, с которой они обводят штаб вокруг пальца.
На днях в руки американского командования попало письмо, отправленное правлением Иокогамского банка своему филиалу в Осаке. Письмо касалось самого жгучего вопроса — последней чистки военных преступников. В письме говорилось, что сторонниками чистки являются «три американских еврея» в отделе по делам японского правительства генерала Уитни, тогда как другие группы в штабе — отдел генерала Марката, отделение печати майора Имбодена и отделение местного управления, непосредственно подчиненное генералу Уитни, — выступают против проведения чистки на том основании, что она привела бы к устранению людей, с которыми они сотрудничают.
На основании этой информации, говорится в письме, премьер-министр Иосида решил противиться американским требованиям о чистке. Вместо этого он потребует издать официальную директиву, приказывающую провести чистку. Для того чтобы издать такую директиву, разъясняется в письме, штабу пришлось бы созвать штабное совещание, на котором у американцев — врагов чистки — был бы неплохой шанс провалить это предложение.
Далее в письме разъясняется, что премьер Иосида считает необходимым предотвратить чистку, так как она
504
затронула бы членов его правительства и политические машины консервативных партий.
Для меня, как и для других американцев, которые узнали о письме, оно является потрясающим документом, показывающим, как тщательно японцы шпионят за штабом. Можно подумать, что у японцев имеется центральная разведывательная организация, собирающая все обрывки информации, поступающие от шпионов, друзей и деловых кругов. Оно свидетельствует также о том, с какой ловкостью премьер-министр Иосида срывает осуществление всякого законодательства, которое изменило бы лицо Японии.
Самой любопытной чертой этого письма является замечание насчет «трех американских евреев». В действительности, три виднейших сторонника чистки не евреи, но один из помощников генерала Уитни назвал их евреями. Как дошло это замечание до Иокогамского банка?
Для официальных выступлений японских должностных лиц на этой неделе характерен следующий лейтмотив: «Если провести чистку чиновников местных управлений, это дезорганизует сбор риса. Если подвергнуть чистке финансистов, задержится восстановление».
Многие американцы, видимо, соглашаются с этой точкой зрения. Вчера вечером генерал Бэйкер пригласил нескольких корреспондентов на ужин и изложил им свою точку зрения. Генерал заявил, что новая чистка является ошибкой, ибо она лишает Японию ее лучших умов и, кроме того, подрывает наш престиж, так как мы отстраняем этих людей после того, как «использовали» их в течение года.
Мне думается, что огорчения генерала преждевременны. Все будет в полном порядке. Японские газеты пестрят сообщениями о том, как местные боссы и должностные лица уклоняются от выполнения приказа о чистке, заполняя все вакантные места своими приспешниками, которые не подлежат увольнению. Я помню, что директива о политической чистке, изданная почти год назад, была встречена теми же воплями и криками о революции. И тем не менее в нынешнем парламенте имеется добрая сотня мужчин и женщин, которые — если бы порыться в их прошлом — никогда не могли бы удержаться на своих постах.
505
ТОКИО
26 ноября 1946 г.
Праздные разговоры о войне, особенно те, что ведутся в нашем штабе, не могут принести ничего, кроме вреда. Один из подчиненных генерала Уитни объехал значительную часть Японии и всюду вел среди американских солдат «разъяснительную» работу, рассказывая им о «предстоящей войне» с Россией и о значении Японии как базы. Я не мог не согласиться и с тем, что на этом театре законные торговые интересы Англии невероятно попирались. Но я знал также, что Болл получил распоряжение поддерживать политику США и что стычки мёжду Боллом и Атчесоном носили преимущественно личный характер.
Основным конфликтом здесь, как и повсюду в мире, был конфликт между Россией и нами. Этот конфликт углублялся по мере того, как наши военные начинали все больше думать и говорить о Японии как о плацдарме в будущей пробе сил. Русские, с другой стороны, обрушивали огонь своей словесной артиллерии главным образом на несостоятельность наших попыток демократизировать Японию. Таким образом, Союзный совет стал ареной, на которой мы и русские боролись за душу Японии. Мы домогались любви японской «старой гвардии», энергично выступая в защиту ее деятельности. Русские неизменно упирали на невыполнение нами письменных директив, на непрекращающееся саботирование японцами планов реформ и на возрождение воинствующего японского национализма.
Многим из нас часто казалось, что генерал Макартур больше всего стремится к тому, чтобы иметь дружественное Соединенным Штатам японское правительство, а русские ищут себе друзей в народе. И столь же часто, наблюдая резкие препирательства между Атчесоном и Деревянко, мы с огорчением убеждались в нездоровом характере американской позиции. Ибо вместо того чтобы выступать с пустыми претензиями или поддерживать правительство, которое не заслуживало никакой поддержки, нам следовало бы иметь возможность с гордостью указать на подлинные реформы. Даже самые горячие приверженцы Макартура готовы признать сейчас, что мы какиМ’Та образом упустцлц свои возможности в Японии.
606
27 ноября 1946 г.
ТОКИО
Несколько дней назад я спросил своего друга, советника кабинета Чикосабуро Хайями, что стало с людьми, которые некогда занимали высокие посты в «Токко» («полиции по контролю над мыслями»). Он улыбнулся своей неопределенной улыбкой и сказал, что выяснит. Сегодня утром он зашел, чтобы спросить, не может ли он притти на завтрак «с одним приятелем, который много знает о «Токко».
Хайями явился с маленьким аккуратным человеком лет около пятидесяти, которого он представил как «Сиге- нори Хата, начальника четвертого отдела бюро расследований министерства внутренних дел».
Для пущего эффекта он сделал паузу: «...Господин Хата — бывший сотрудник «Токко».
Вначале Хата был осторожен. Он пил ананасный сок вместо виски и ограничивался односложными ответами. Но Хайями умеет заставить своих друзей разговориться. К тому времени когда мы сели за стол, Хата начал говорить.
Во время войны — между 1941 и 1944 гг. — Хата служил начальником отдела «по контролю над мыслями» в полицейском управлении Токио. Под его началом было около 60 человек, а его главным занятием было выслеживание коммунистов. Когда кабинет Тодзио пал, Хата был назначен начальником полиции префектуры вначале в Кагаве и затем в Сиге.
Я задал ему вопрос, который во время войны был на уме у многих: «Было ли в Японии антимилитаристское подполье после Пирл Харбор?»
Хата сказал, что активность проявляли только коммунисты. В бытность свою в Токио он арестовывал ежегодно от 200 до 300 коммунистов. К тому времени когда он уехал в Кагаву, число 'коммунистов, еще находившихся на свободе, свелось к «двум или трем десяткам и примерно тысяче сочувствующих». Эти люди были организованы в крошечные «ячейки» по 4—5 человек в каждой, и, так как агитация за повышение ’заработной платы была запрещена, коммунисты занимались либо агитацией за «лучшие условия труда», дцбо МСЛКИМ са* ботажем.
6Q?
«Было несколько небольших поджогов, — сказал он, — или что-нибудь не ладилось с машинами, или обнаружива* лись негодные боеприпасы. Но все это проводилось в очень небольшом масштабе, и трудно было найти виновных».
За кофе Хата рассказал нам историю «Токко» и ее успешных усилий остаться у власти после капитуляции Японии.
«До войны, — сказал он, — «Токко» была органом для избранных. Министерство внутренних дел специально подбирало в нее самых способных людей. Их распределяли между другими правительственными ведомствами. Принадлежность к «Токко» сопровождалась специальными почестями и привилегиями. Например, губернатор мог по своему усмотрению смещать своих начальников отделов. Но он ничего не мог поделать с сотрудником «Токко», служившим под его началом, так как такие люди назначались из Токио.
Возьмите, например, тот год, когда я вступил в «Токко». В том году нас было 58 человек, все юристы. Все мы пришли в министерство внутренних дел в одно время и получили специальную подготовку. Затем министерство разослало нас в разные учреждения. Мы служили в годы китайского инцидента, великой дальневосточной войны и первых лет оккупации. Мы знали, что в октябре 1945 г. будет издана директива о чистке, и заблаговременно вышли в отставку.
Сегодня большинство из нас снова вернулось на важные посты. Некоторые служат в министерстве просвещения, другие—в министерстве здравоохранения, в том числе начальник отдела труда, третьи — в министерстве торговли. Иные, в том числе начальник топливного отдела, работают в министерстве лесоводства и земледелия».
Список рос. Не было ничего удивительного в том, что нормированием древесного угля ведал человек из «Токко». Древесный уголь — единственное топливо, на котором японская домашняя хозяйка готовит пищу и с помощью которого она обогревает свое жилище, а потому уголь — орудие политического нажима. Еще менее странным было то, что за ростом демократических профсоюзов следит человек, который некогда помогал уничтожать эти профсоюзы.
«Два губернатора префектур, — сказал Хата,—выу ченики «Токко». Двое или трое сотрудников «Токко», 508
служившие bo время войны в Корее, сейчас вновь заняли важные посты в министерстве внутренних дел. Низшие чиновники «Токко», которые служили в провинциях, сейчас вызваны в Токио для занятия низших постов в государственном аппарате.
В начале этого года, егце будучи главой либеральной партии, г-н Хатояма начал организовывать антикоммунистическую лигу. Она уже успешно работала, когда Хатояма был вдруг «вычищен» как военный преступник. Одно время в области борьбы с коммунистами были большие пробелы. Но сейчас Японская федерация труда готовится к широкой антикоммунистической кампании. Федерацией руководят правые социал-демократы. Они надеются, что кампания поможет им избавиться от конкуренции коммунистов.
Вообще антикоммунистические кампании показательны. Если в нашей стране вновь возникнет мощное ультранационалистическое движение, то оно начнется с антикоммунистического крестового похода. Это неизбежно. Но в настоящий момент еще нет единого ультранационалистического движения. Существуют лишь многочисленные мелкие группы бывших военнослужащих и бывших националистов, которые собираются тайно в частных домах и обсуждают, что предпринять дальше. Им приходится трудно. В прошлом националисты получали деньги от армии или вымогали у крупных капиталистов. Сейчас все эти поступления прекратились. Хуже того, существует идеологическая пустота. Большинство из тех, кто некогда создал националистическую идеологию, умерло. Поэтому националистическое движение все еще находится в состоянии брожения. У него есть воля, но мало денег и нет идеологии».
Я спросил Хата, какие правительственные органы следят сейчас за левыми: коммунистами, профсоюзным движением, крестьянскими союзами.
«Эти функции разделены, — сказал он, — между министерством здравоохранения, министерством внутренних дел и национальным полицейским управлением». Он подумал с минуту: «Раньше было гораздо лучше, — сказал он печально. — Тогда все было в наших руках».
Несколько резко я сказал: «Есть сообщения о новой чистке. Вы не боитесь, что вас тоже могут «вычистить»?»
509
«Я этого не думаю, — ответил Хата. — Ведь, в конечном счете, мой отдел создан по требованию вашей армии».
29 ноября 1946 а. ТОКИО
Сказал слугам, что мы уезжаем из Японии и нашли для них место. Кимико — младшая горничная, к которой мы особенно привязались, — первая не выдержала и расплакалась. Затем шеф-повар Моги пошел к себе на кухню и там основательно всплакнул со своей женой. Позже ко мне в кабинет явилась Сэлли, которая рассказала об огорчении прислуги и при этом продемонстрировала свои собственные заплаканные глаза.
Перед самым обедом я вошел в гостиную, где Сэлли наигрывала на пианино японские мелодии, а Кимико пела. Японские народные песни вообще красивы, а сегодня вечером они звучали особенно хорошо в полумраке этой большой комнаты, где свечи отбрасывали мерцающий свет, а канарейка чирикала в унисон пению. Таков американский уют в Японии. Он столь же необычен, как и приятен. Нам очень хочется уехать, но жалко расставаться со всем этим.
Видел сегодня Носака. Он сказал, что только что вернулся из поездки по британской зоне на юге острова. Перед одним из митингов появился английский майор, увидел на трибуне красный флаг и приказал заменить его флагом с изображением восходящего солнца. Коммунисты возражали, разъясняя, что флаг, который хочет видеть майор, это военный флаг, под которым проводилась агрессия Японии, однако майор был неумолим. «Когда я вошел и увидел этот флаг,— сказал Носака своим обычным спокойным тоном, — я очень удивился».
Речь Носака касалась новой конституции, но через несколько минут снова появился тот же майор и заявил: «Об этом говорить нельзя». После митинга, когда коммунисты заявили протест, разъяснив, что японская демократическая конституция подлежит широкому обсуждению, англичане милостиво признали, что «майор ошибался».
610
Сегодня ко мне на завтрак пришел мой друг Хайями, кондотьер и советник кабинета. Он принес с собой драгоценный прощальный дар: две фарфоровых чашки поразительной красоты. Он сказал мне, что мой отъезд является для него ударом.
«В течение многих лет,— сказал он, — я был близок к политике, но всегда уделял больше внимания ее механике, чем существу. Затем наступило поражение, и я начал задумываться. Когда все стало возвращаться в старую колею, которая привела нас к катастрофе, я начал терять надежду. Но я встретил Цуру, и он разъяснил мне положение дел. Затем я познакомился с вами, и вы подали мне надежду, что, может быть, американцы поймут, что здесь происходит. Поэтому-то я и пытался показать вам ту Японию, которую в противном случае вы, возможно, и не увидели бы. Сейчас вы уезжаете, и мне очень грустно».
Я разделяю его грусть. Он и Сигето Цуру, каждый в своей области, принадлежали к числу моих лучших наставников в Японии. Цуру — блестящий экономист, окончивший Гарвардский университет, кладезь фактов и мастер глубокого анализа. Хайями — продукт своей страны, человек, досконально изучивший внутреннюю механику японской политики и японского ума. Своей поездкой на две недели в Ибараги мы обязаны, например, разговору, который состоялся одним сентябрьским вечером между мной и Сэлли, с одной стороны, и Хайями и Цуру — с другой. Я хотел знать, имеется ли в японской деревне прочная база для возрождения ультранационализма. Хайями отказался отвечать. Он сказал: «Почему бы вам не поехать со мной в мою префектуру и не убедиться самому? Я помогу вам».
Мы поехали, и он заботливо устраивал нам встречи с членами парламента, помещиками, мэрами, руководителями сельскохозяйственных ассоциаций, где безраздельно господствовали помещики, издольщиками и активистами Крестьянского союза, где основной голос принадлежал арендаторам. Хайями не делал никаких комментариев, хотя иногда решительно наседал на людей, которые уклонялись от моих вопросов. Когда мы закончили нашу поездку, я сам уже мог ответить на свой вопрос. Хотя в японской деревне возникли новые прогрессивные силы, 511
йо они не шли ни в какое сравнение с силами старой Японии и с вздымающейся новой волной национализма. Когда- нибудь в не очень далеком будущем Япония вновь вернется к воинствующей экспансионистской политике, и последняя будет иметь свои корни в неспокойной, охваченной националистическими настроениями деревне.
2 декабря 1946 г. ТОКИО
День дождливый и холодный. Сэлли сильно простужена. Поездка в виллисе не доставляет никакого удовольствия. И все же есть какое-то очарование в Токио во время декабрьского дождя. Темные фигуры, появляющиеся из голубоватых сумерек, огни, отражающиеся на влажной мостовой, мелодичное постукивание деревянных подошв об асфальт, сияние неоновых ламп, пробивающееся сквозь дождевые струи, тени, отбрасываемые развалинами, толпы молчаливых промокших людей, возвращающихся с работы домой.
Токио неизменно поражает меня. Всего год назад Гинза представляла собой лишь вереницу кирпичных остовов, разделенных пустырями, заваленными щебнем. Ныне универсальные магазины отремонтированы, а на месте пустырей выросли различные торговые заведения. Они выстроены на скорую руку, но у них аккуратные веселые фасады, а витрины поражают обилием товаров. Крупные предприятия, возможно, бездействуют, но ремесленники работают не покладая рук, а некогда зажиточные семьи, которым разрешено изымать из их вкладов в банках не более 33 долларов в месяц, начинают расставаться со своими сокровищами.
Вчера мы с Сэлли провели большую часть дня в универсальном магазине. На одном из прилавков красовался чайный сервиз: чайники, фарфоровые чашки, свитки1, лакированные ковши. Нас сильно подмывало купить что-нибудь, но останавливали цены — от 100 долларов за свиток и до 1000 долларов за экран. Но, увидев выстав1 Свернутые в свитки картины на национальные японские темы, нарисованные на длинных полосах шелка или бумаги. (Прим, ред.)
512
ку Современного искусства, мы не устояли й купили йёр* вое, что попалось нам на глаза: три узких свитка с изображением старого монаха.
Затем в темном углу мы увидели горку фарфоровых блюд — серых с выжженными в центре красными иероглифами. Мы купили их все. Подошел директор и поинтересовался, почему мы их купили. Затем он рассказал нам, что блюда сделаны одним из трех крупнейших мастеров Японии. Японцы не хотят покупать современный фарфор, а американцы его еще не заметили, и вот за отсутствием покупателей посуду задвинули в темный угол.
Все это наводит меня на мысль о том, как трудно уничтожить город, народ или искусство. Год назад Токио представлял собой нечто невообразимое. Я вспоминаю, какое гнетущее впечатление производил на меня в течение ряда месяцев вид людей, пытавшихся оправиться от потрясения. Затем сразу началось строительство. Я следил за кучей щебня по одну сторону Гинзы. По мере того как расчищались все новые участки и воздвигались новые здания, куча росла. Но она в то же время отодвигалась, чтобы дать место новому строительству. Сейчас ее отодвинули вплоть до канала, где она высится, примерно в три или четыре раза превосходя высотой мой виллис. К будущему году ее погрузят на баржи и вывезут, так как больше ее некуда отодвигать.
Но печально то, что, в то время как торговцы могут заплатить 15 тысяч долларов за строительство магазина, трудящийся не в состоянии обзавестись жилищем. Как-то на днях в Токио было объявлено о продаже новых домов, принадлежащих государству. Тысячи людей стояли в очереди всю ночь напролет, и когда настало утро, была объявлена цена: 3 тысячи долларов за дом. А так как заработная плата ограничена 33 долларами в месяц, ясно, что очень немногие могли приобрести дом по такой цене. Все газеты подняли шум вокруг этого инцидента, и надо сказать, что это не принесло ничего хорошего и без того ненавистному правительству Иосида.
Одной из любопытных черт создавшегося положения является упорство, с каким штаб Макартура продолжает w поддерживать правительство. Я еще не встречал такого японского рабочего, крестьянина или лавочника, который 513
33 м. Гейн
бы хорошо отзывался об Иосида. Когда Я спрашиваю японцев, какого они о нем мнения, они, в свою очередь, интересуются, почему американский штаб поддерживает Иосида. А на это очень трудно найти какой-либо ответ; остается только предполагать, что командование решило сохранить «надежное» правительство. Генералы и полковники, ненавидящие реформы, которые им приказано проводить, охотно прощают отсутствие последних. А Иосида, уверенный в американской поддержке, открыто щеголяет тем, что он лишь выполняет желания и директивы Макартура.
Весь процесс, именуемый «демократизацией Японии», поразителен: претензии штаба на прогрессивность его политики столь нелепы, что и сам Иосида не решился бы выступить с ними; в то же время демократические процедуры открыто нарушаются и происходит медленный, но неуклонный и непрерывный рост национализма и реакции.
Хессел Тилтмэн, осторожный и опытный корреспондент лондонской «Дейли гералд», сегодня все утро занимался тем, что делал заметки о новом учебнике истории. Учебник выпущен специальным комитетом «японских либералов» в министерстве просвещения и одобрен подполковником Д. Р. Наджентом, который сменил генерала Дайка на посту руководителя отдела гражданской информации и просвещения.
Учебник охватывает историю Японии, начиная примерно с 1300 г. после рождения богини солнца1 и кончая современными усилиями «народа и правительства возродить нацию». Отдел гражданской информации и просвещения прилежно вставил перед словом «нацию» слово «демократическую».
Авторы учебника не становятся на защиту той или иной стороны; они ни за, ни против войны и агрессии. По стилю учебник напоминает какую-нибудь книгу полицейских донесений: «Японские летчики совершили налет на Пирл Харбор, расположенный на Гавайских островах, а затем Соединенным Штатам и Англии была объявлена война». Это очень далеко от «позора, который никогда не забудет история». Касаясь десятилетия агрессии,
1 Согласно японскому религиозному преданию, Японская им* Перия была основана «правнуком богини солнца>, принцем Дзимму Тен но в 660 г. до н. э. (Прим, ред.)
614
закончившегося нападением на Пирл Харбор, авторы учебника упоминают лишь о насилии над Маньчжурией, да и то при этом допускается фактическая ошибка и не говорится ни слова упрека по адресу поджигателей войны. В учебнике не упоминается ни о постепенном захвате Северного Китая, ни о занятии Индокитая. Касаясь войны, начатой Японией против Китая в 1937 г., авторы учебника заявляют: «Японское правительство неоднократно пыталось вести переговоры, а когда его попытки потерпели неудачу, началась война с китайцами».
Могут ли такие учебники истории научить детей демократии? Пресекут ли они развитие ультранационализма? Разве министерство просвещения ставит себе целью скрыть от детей неприглядную историю агрессии и поражения, к которому она привела? Разве мы не намерены рассказать обо всем японскому народу?
Когда Хессел упомянул о скудости информации, которую дает учебник, чиновник сказал: «Видите ли, он должен дать только схему, а учителя уже дополнят недостающее». Поскольку из 400 тысяч учителей, благонадежность которых некогда проверялась милитаристами, до сих пор «вычищено» или добровольно вышло в отставку менее 700 человек, то легко представить себе, какого рода исторические сведения будут преподноситься японским детям.
Япония сейчас представляет собой жалкое и уродливое зрелище. Острый экономический кризис еще впереди, но ни правительство, ни штаб ничего не делают, чтобы его предотвратить. Количество денег в обращении возросло до 70 миллиардов, то есть больше, чехМ в марте этого года, когда пришлось заморозить банковские вклады. Рост промышленной продукции почти незаметен, и промышленники находят более выгодным спекулировать сырьем, чем превращать его в готовые изделия.
Крестьяне, не имея возможности получить нужные им товары, отказываются сдавать государству рис, значительную часть которого они придерживают для продажи на черном рынке. Среди рабочих продолжаются волнения. Высчитано, что в Токио семье, для того чтобы прожить, нужно 150 долларов в месяц. По существующим правилам, никто не имеет права получать в виде заработной платы даже половину этой суммы. Поэтому у рабочих не остается 616
зз*
другого выхода, как бастовать. )КелезйодороЖнйки тоЛькб что объявили, что они находятся «в состоянии борьбы» с правительством. Учителя представили целый ряд требований. Народ пытается бороться с растущим индексом цен, но оказывается в проигрыше.
В то же время правительство Иосида лезет из кожи вон, чтобы сделать картину еще более мрачной, чем она есть на самом деле, в надежде получить больше помощи от щедрого дяди Сэма и добиться больших уступок на мирной конференции. Желание генерала Макартура войти в историю — не секрет для японцев, и они играют на этом без зазрения совести.
«Если мы не получим достаточно продовольствия, говорят они, начнутся беспорядки. Что скажет об этом американская печать?» Или же: «Если мы не получим достаточно хлопка, мы не сумеем восстановить нашу мирную . промышленность и останемся банкротами. Что из этого получится?»
Поэтому они продолжают получать свою пшеницу и хлопок, а рано или поздно они станут получать также и свои кредиты. Против экономического возрождения Японии возражать не приходится. Если этого возрождения не будет, Япония неизбежно останется страной, раздираемой внутренней борьбой, и будет препятствием для восстановления Азии. Но можно с полным основанием решительно возражать против использования денег американских налогоплательщиков для восстановления Японии в интересах ее старых хозяев.
Мы с Сэлли уедем из Японии после колоссальной демонстрации, назначенной на 18 декабря под лозунгом «Долой Иосида!» Этим способом социалисты заявят о своих притязаниях на политическую власть. Но социалистам приходится сейчас нелегко. Они знают, что, для того чтобы свергнуть Иосида, они должны заручиться поддержкой масс. В то же время они испытывают смертельный страх перед коммунистами и Национальным конгрессом производственных профсоюзов и фактически только что начали антикоммунистическую кампанию.
В общем и целом, положение социалистов любопытно. Я знаю, что ряд представителей нашего штаба начинает склоняться к той точке зрения, что гораздо лучше сделать
516
ставку на социалистов, нежели на самого Иосида. Штаб знает, что верхушка социалистической партии — за немногими исключениями — состоит из военных преступников; не из консервативных националистов, вроде Иосида и Хатояма, а из умных и активных национал-социалистов, которые до и во время войны поддерживали самые тесные отношения с молодыми фанатиками из армии. Тем не менее наш штаб готов забыть это. Все сильнее становится убеждение, что Япония в ее нынешнем отчаянном положении не может удовольствоваться консервативными решениями и должна пойти чуть-чуть влево. Для этой цели идеально подходят социалисты правого крыла. Они говорят языком социальных реформ, и их сила кроется в профсоюзах, но в то же время они не хотят уничтожить структуру старой Японии и не станут заигрывать с Россией или с местными коммунистами.
Лучшим барометром настроений американского командования служит его нежелание настаивать на тщательной чистке социалистов. Впрочем, и сам Иосида, который управляет аппаратом чистки, не слишком рьяно стремится к этому. Сейчас он добивается компромисса с правыми социалистами, предлагая предоставить им несколько мест в своем кабинете.
Большинство японцев, с которыми мне приходилось говорить, не питают особой любви к военным преступникам из социалистической партии. Но они хотят, чтобы эта партия пришла к власти. Они считают, что лучше любое другое руководство, нежели компания Иосида-— Сидехара.
История Сидехара, «великого демократа и реформатора», показывает, чем объясняются такие настроения в народе. Сегодня Сидехара, который порядком одряхлел, но не желает признавать этого, созвал пресс-конференцию^ чтобы пожаловаться, что его неправильно цитируют. Как говорят, после инспекционной поездки по угольным шахтам юга, он заявил, что незачем повышать заработную плату горнякам. Это заявление было процитировано в парламенте и вызвало там критические замечания.
Сидехара объяснил, что это все было сказано «в шутку». Он рассказал, что, заглянув в одну из шахт, он позднее за завтраком пошутил со своими друзьями: «Шахта, 5 ^которой я был, удивительно просторна и хорошо
SL7
вентилируется. Если это и называется угольной шахтой, то я не возражал бы сам в ней работать, будь я помоложе. И в этом случае я был бы непрочь работать за заработную плату, которую получают горняки».
Извращение его слов, сказал Сидехара, поставило его в «весьма затруднительное положение». «Ведь на самом деле, — признался Сидехара, — я ничего не знаю относительно проблемы заработной платы». И это говорит заместитель премьер-министра Японии и руководитель одной из крупнейших японских партий!
9 декабря 1946 г. ТОКИО
Хатояма — ловкий политик. Как бы он ни был зол на меня, он ухитрился скрыть свои чувства, когда явился к нам на завтрак. Можно было подумать, что он — просто упитанный, веселый, безупречно одетый старик, заглянувший, чтобы поболтать по-дружески. Он привел с собой советника, который некогда служил в Маньчжурии, и своего переводчика. Вместе с Леоном Пру, французским корреспондентом, мы уселись в гостиной и велели подать напитки. Мы с Хатояма пили апельсинный сок.
К моему удивлению, Хатояма готов был говорить о политике. Он сказал, что приехал в Токио специально на завтрак из своей «ссылки» на морском курорте Атами. «Мне приходится соблюдать осторожность, — сказал он,— так как штаб велел мне держаться подальше от Токио и от политики. Если я этого не сделаю, то боюсь, что они снова меня вычистят». Он усмехнулся: «Сотрудники штаба следят за мной. Они даже включили в телефонную сеть прибор для подслушивания и слушают всякий раз, когда я говорю с премьером Иосида».
Мы заговорили о новой чистке местных властей. «Новая директива, — заявил Хатояма, — вызовет только хаос. Власть местных управлений подорвана. Старые чиновники* преграждавшие путь коммунизму, устранены. Сейчас на их место явятся левые».
Имя Иосида все время вертелось на языке у Хатояма: «Кабинет Иосида попал в затруднительное положение. Он не знает, что делать дальше, но знает, что, если он сделает что-либо конкретное, с ним будет покончено.
518
Секретарь кабинета много раз обращался ко мне за советом. Я сказал ему, что людям нужна надежда. «Обещайте им больше риса в будущем году, — посоветовал я. — Приступите к электрификации железных дорог, так как это позволит сэкономить уголь. Я даже сказал им в шутку, что Японии следовало бы ввозить коров, чтобы каждый мужчина, женщина и ребенок могли получать молоко».
По собственному признанию этого внешне добродушного человека, устраненного из общественной жизни в результате чистки, он стал тайным правителем Японии. Без всякого стеснения Хатояма перечислял членов кабинета, которые обращались к нему за указаниями. «Беда их всех, — заявил Хатояма, — в том, что они слишком легко уступают штабу». Я пожалел, что не могу записать его слова на пластинку, чтобы воспроизводить их всякий раз, когда американский штаб выступает с заявлением о «демократических идеалах» Иосида.
Мы спросили Хатояма, какова его точка зрения на политику Соединенных Штатов в Японии. «Вначале, — заявил он, — я считал, что американская армия хочет выкрасить Японию в красный цвет. В штабе были американские коммунисты, и они помогли японским коммунистам захватить в свои руки радио и печать. Я приписывал это политике Макартура. Но в мае и июне генерал Макартур и м-р Атчесон сделали заявления, осуждающие коммунистов. Тогда я понял, что политика оккупационных войск заключается в поддержке консерваторов».
Однако у Хатояма нашлось несколько резких замечаний об оккупационных расходах. Все смеялись, словно это была старая скабрезная шутка, и все приводили примеры расточительных расходов. Кто-то упомянул о школе игры в гольф для офицеров американской армии близ Киото, которая обошлась в 8 миллионов долларов; затем было построено здание клуба, и расходы более чем удвоились. Говорили также о выстроенном для американского генерала в Иокогаме доме стоимостью в 800 тысяч долларов.
«На стенах висели затканные золотом драпри, а для скатертей был привезен специальный материал из Киото, — сказал Хатояма. — Министр торговли, осмотрев этот дом, сказал: «Сомневаюсь, чтобы генерал смог долго выносить эту безвкусицу».
519
За столом политика была забыта. Мы говорили об отце Хатояма, который учился в Йэл иском и Колумбийском университетах, о четырех дочерях и сыне Хатояма и о его религии. («Я был универсалистом. Сейчас я не исповедую никакой религии».)
Он с восторгом рассказывал нам о книге, которую дал ему Бартон Крейн. «Я нашел эту книгу такой великолепной, что тут же послал ее премьеру Иосида и потребовал, чтобы он немедленно ее прочел. Она показывает, что коммунизм и Россия — общий враг всех демократических стран. Это «One Big Grobe» Буррита».
Нам пришлось немножко поломать себе голову, но, наконец, мы выяснили, что это такое. Книга, которая так восхитила Хатояма и Иосида, была «One Big Globe» Уильяма Буллита х.
Вечером повстречал полковника Кадеса и рассказал ему о визите Хатояма. Кадес хотел знать все подробности. Оказывается, отдел по делам японского правительства проведал, что Иосида принимает Хатояма и заинтересовался причиной их встреч. Иосида просто объяснил: «Мистер Хатояма — мой старый друг».
Меня поражает удивленное выражение, которое появляется на лицах американских офицеров всякий раз, когда они обнаруживают, что еще один «вычищенный» активно занимается политической деятельностью. «Вычищенные» военные преступники так прочно окопались в политике, что это стало одной из постоянных причин японских скандалов. Сам Хатояма, например, принимал у себя группу боссов либеральной партии вечером после партийного съезда. Один из главных помощников Хатояма, также «вычищенный», открыл контору по продаже угля в том же здании, где помещается руководящий центр либеральной партии. Когда кто-то спросил его, не является ли это нарушением директивы о чистке, этот человек ответил: «Не можете же вы порицать моих друзей, если они заходят ко мне по дороге в руководящий центр партии».
1 «The Great Globe Itself» («Весь земной шар») — откровенно экспансионистская и антисоветская книга «чрезвычайного посла американской реакции» У. Буллита, опубликованная в 1946 г. (Прим, ред.)
520
Две недели назад я рассказал в отделе по делам японского правительства об одном чиновнике из «полиции по контролю над мыслями», который стал начальником отдела труда в министерстве здравоохранения. Штаб быстро принял меры, и этот человек был уволен. На днях я справился о его судьбе. Оказалось, что его назначили на важный пост в Бюро экономической стабилизации.
Чистка превратилась в постыдную комедию. Время от времени штаб публикует ликующие заявления, где приводятся потрясающие цифры людей, подлежащих чистке. Но штаб никогда не упоминает о том факте, что тысячи людей, подлежащих чистке, остаются у власти, а тысячи других подвизаются в роли членов тайного правительства, насмехаясь над мощью и авторитетом Соединенных Штатов.
11 декабря 1946 г. ТОКИО
Японии предоставлена свобода слова — с некоторыми оговорками. Масштабы этих оговорок непрерывно растут. Если первоначально имели в виду запретить только милитаристскую пропаганду, то сейчас мы не разрешаем ни слова критики по адресу императора, премьер-министра Иосида, ряда закоренелых военных преступников и даже дзайбацу.
Сегодня видные японские журналисты собрались, чтобы обсудить эту проблему. Естественно, что они беспомощны, и их единственная надежда — это гласность за границей. Мне кажется, что примеры деятельности цензуры, которые они приводили сегодня, отражают не только изменения в нашей политике в Японии, но и вообще умонастроения армии.
Классическим примером действий цензуры, несомненно, является инцидент, возникший в связи с опубликованием в одной из газет статьи под названием «Культ героя и генерал Уиллоуби»; статья была разрешена цензурой. На следующий день эта же статья — опять-таки с согласия цензуры — была перепечатана в рупоре японского правительства, газете «Ниппон тайме», выходящей на. английском языке.
521
В статье, в частности, говорилось:
«Фактически все японцы считают большим счастьем, что генерал Макартур является верховным главнокомандующим союзных оккупационных сил... Не приходится удивляться, что биография генерала Макартура разошлась огромным тиражом... Однако реакция народа на эту брошюру, почти граничащая с фанатическим культом героя, наводит на серьезные размышления...
Японский народ издавна страдал от ошибочной идеи, будто дело управления это нечто такое, чем надлежит заниматься божеству, герою, великому человеку... но не самому народу. Эта феодальная концепция и помешала демократизации Японии на основе конституции Мэйдзи. Если не изменить это представление, не может быть никакой уверенности и в дальнейшем развитии демократического управления в нашей стране. Напротив, вполне возможно, что как только генерал Макартур уедет, японцы найдут на его место другое «земное божество»...
В Японии всегда было множество пламенных почитателей Гитлера... Когда началась японо-американская война, они стали поклоняться генералу Тодзио, а после капитуляции — генералу Макартуру. Японские учителя привыкли внушать детям слепое преклонение перед повелителем... Эта тенденция является злейшим врагом демократии...
Следует подчеркнуть, что до тех пор пока японцы не избавятся от этой рабской привычки, демократия в Японии не будет иметь успеха... Лучший способ, которым японцы могут вознаградить искренние усилия генерала Макартура демократизировать Японию, заключается не в преклонении перед ним, а в том, чтобы избавиться от низкопоклонства и с глубоким чувством самоуважения стремиться взять в свои руки фактическое управление. Только тогда верховный главнокомандующий будет уверен, что цель оккупации достигнута».
Когда газета с этой статьей попала в штаб, Уиллоуби пришел в ярость. Печатание «Ниппон тайме» было приостановлено, а оскорбительная статья снята. Газеты, уже напечатавшие ее, были изъяты. Была даже сделана попытка изъять газеты, посланные в Клуб журналистов.
Уиллоуби сердито объяснил: «Эта статья имеет скверный привкус».
522
Но это был лишь самый яркий пример рвения нашей цензуры. Цензура запретила публиковать сообщение о падении популярности президента Трумэна, которое выявилось во время опроса, проведенного институтом Гэллопа. Цензура наложила запрет и на сообщения о росте цен в СЦ1А после отмены контроля над ценами. В течение двух дней задерживалась даже директива Дальневосточной комиссии о роли профсоюзов в японской политике.
Наша строгая цензура запрещает японской печати обсуждать даже собственные проблемы Японии. Ей не дозволяется говорить о военных преступлениях людей, ныне стоящих у власти. В частности, цензура не пропустила статью, в которой цитировались выдержки из речей, произнесенных перед войной нынешним министром здравоохранения. Запрещена всякая критика новой японской конституции. Например, цензура вычеркнула все критические замечания из сборника парламентских речей о конституции, хотя эти речи уже были полностью напечатаны в официальном бюллетене.
Ни слова критики не разрешается по адресу законопроекта о земельной реформе, и никто не смеет высказать предположение, что система дзайбацу еще не уничтожена. Не дозволяется упоминать и о довоенных связях между дзайбацу и такими крупными иностранными фирмами, как «Дженерал моторе», «Форд», «Дженерал электрик», «Вестингауз», «Стандард ойл», «Уэстерн электрик», «Сим- мене», «Виккерс — Армстронг» или даже зингеровская фирма швейных машин и фирма пластинок «Виктор». Была запрещена статья, в которой указывалось, что Японии нужны иностранные кредиты и поставки, но что их следует использовать для того, чтобы поддержать демократическую экономику, а не в интересах японских частных монополий.
Цензура вычеркивает все неблагоприятные замечания об императоре. Не разрешается публиковать никаких сведений о новом националистическом подполье. В качестве объяснения ссылаются на то, что «Япония является демократической страной, и статьи, высказывающие предположения о существовании подполья, не отвечают фактам». Цензура все чаще запрещает публикацию сообщений о волнениях на промышленных предприятиях,
523
забастовках или требованиях повышения заработной платы. Но ничто так не интригует меня, как следующие три примера:
Цензура выбросила вступительные части романа Льва Толстого «Война и мир». (В довоенном издании, прошедшем цензуру японской армии, роман был опубликован полностью.)
Большие куски выброшены из второй части книги лорда Брюса «Современная демократия». Опущенные страницы содержали критические замечания об американской политике. Официальное объяснение: «Критика, может быть, и обоснована, но сейчас слишком рано преподносить ее японцам». (Этот труд был издан в Японии в 1931 г. без купюр.)
Была запрещена также книга сказок Ганса-Христиана Андерсена под тем предлогом, что «описание морского боя, содержащееся в ней, вредно для японских детей»,
12 декабря 1946 г. Токио
Один из наших японских друзей зашел в Центральное управление связи. На столе он увидел список имен, озаглавленный «Опасные корреспонденты». В списке значились Джо Фромм, Билл Костелло, Гордон Уокер, Маргарет Партон и Хью Дин. Под моим именем стояло примечание: «Скоро уезжает».
Это лишь новое подтверждение факта, уже известного большинству из нас. Министерство иностранных дел снова принялось за дело, и в сферу его деятельности входит все — от формулирования будущей внешней политики Японии до составления черных списков корреспондентов. Мы наверняка знаем, что министерство иностранных дел проводит тайные «инструктивные совещания» с японскими корреспондентами, дает им толкование международных событий, рассказывает о содержании сообщений, передаваемых аккредитованными в Японии корреспондентами, и пытается использовать их для слежки за нами. Прилагаются все усилия, чтобы запугать японцев, с которыми мы поддерживаем связь, и даже наших помощников.
Полагаю, что мне следовало бы возмущаться. Но Я не испытываю возмущения. Все это относительно м^лсу
524
feafttid fe сравнений c Тем, что тайно творятся в япбнСксШ правительстве. Известно, например, что министерство иностранных дел деятельно занимается разработкой политики натравливания нас на Россию и наоборот» Центральное1 управление ‘Связи также совершенно открыто подвизается в ролй разведывательной организации, шпионит за штабом и корреспондентами. Это уже не просто дерзость. Это смелый, хорошо продуманный и умело осуществляемый заговор, цель которого — выиграть войну, несмотря на поражение.
13 декабря 1946 г. ТОКИО
Попрощался с генералами Уиллоуби, Мар катом и Уитни. Уиллоуби сказал, что у меня множество врагов в штабе. Я ответил, что у него тоже. Маркат был настроен добродушно. Он сообщил мне, что видел Сирасу — этого вертлявого заместителя начальника Центрального управления связи — й сказал ему, что протесты японцев против репарационного плана Поули только «связывают по рукам тех людей в штабе, которые пытаются помочь Японии».
«На нас нападают за то, что мы слишком мягко относимся к Японии, — сказал он. — Мы же считаем, что единственным способом снять бремя с американского налогоплательщика является создание японской экономики. Мы хотим позволить японцам восстановить их экономику, а затем попросту контролировать некоторые важнейшие отрасли промышленности, например, произ- водство шарикоподшипников. Без шарикоподшипников у них никогда не будет военной промышленности. Наша задача в Японии заключается не в том, чтобы ликвидировать дзайбацу, ибо дзайбацу производили товары дешево и умело. Задача в том, чтобы перераспределить богатства». Маркат добавил, что он был против чистки специалистов, гак как она «устранила ряд необходимых промышленности людей, обладающих техническим опытом».
Он сказал также, что японское правительство явно помогает раздувать оккупационные расходы, исходя из ложной предпосылки, что, в конечном счете, их можно будет обратить в американские кредиты по курсу 15 иен за один доллар и отнести затем за счет возмещения
525
убытков. «Я сказал Сотрудникам министерства финансов, что они просто чудаки, если полагают что этот номер пройдет. Они просто сами себя режут».
14 декабря 1946 г, ТОКИО
Утром присутствовал на приеме, на котором генерал армии Дуглас Макартур стал третьим американцем, награжденным Большим крестом Почетного легиона. На церемонии, состоявшейся в резиденции французского посла однорукого генерал-лейтенанта Зиновия Пешкофа, присутствовало по меньшей мере 36 американских, английских и русских генералов, два американских адмирала, делегат Ватикана и довольно большое число полковников, дипломатов, епископов и офицеров. Присутствовали также г-жа Макартур с сыном.
Резиденция Пешкофа — дом Ода, уютно расположена на вершине холма с видом на район, выжженный в результате налетов нашей авиации. Это большое кирпичное здание с круглым фасадом и большим японским садом позади, где имеется неизбежный пруд, скалы и карлико- вые деревья.
Сегодня утром военная полиция 1-й мотомеханизированной дивизии поднялась чуть свет; все полицейские были в яркожелтых касках и безукоризненно белых перчатках. Передовые группы их находились на главной дороге, где они перехватывали машины и посылали их в лабиринт узких тропинок, ведущих к дому Ода. Позже, когда прибывшие выходили из машин, полицейские следили за тем, чтобы машины устанавливались более или менее соответственно рангу их владельцев.
Минуя часовых, гости проходили между двумя рядами молодых японок в ярких кимоно и затем направлялись в темный вестибюль, где стоял со своим адъютантом генерал Пешкоф. Пешкоф — обильно увешанный орденами французской армии — невысокий плотный человек с пустым правым рукавом. По слухам, у него лучший шеф- повар и один из лучших винных погребов в городе. Генерал говорит по-английски и по-русски, хотя и с заметным акцентом. Энергично пожимая прибывшим руки своей левой рукой, он произносил без улыбки: «Здравствуйте!»
526
Затем гостам, если ФоЛькб онй не являлись слишком важными персонами, предоставляли разбиваться на группы, в зависимости от ранга, в комнатах, окна которых выходят во внутренний сад. Г-жа Макартур с одной или двумя женами высокопоставленных лиц и главами иностранных миссий находилась в застекленной комнате слева от сада. Генералы проходили в такую же комнату направо. Жены других важных лиц собрались на застекленной веранде примыкающего японского дома. Остальные искали удобных мест у окон второго и третьего этажей и на крыше. Корреспонденты и фотографы расположились в саду спиной к яркому солнцу; здесь они могли делать снимки к явному удовольствию офицеров отдела печати.
Между двумя застекленными комнатами на маленькой веранде, где должна была состояться церемония, несколько возбужденных французских моряков карабкались вверх и вниз по шатким лестницам, чтобы подправить в последний раз веселые разноцветные флажки и флаги. В саду перед верандой выстроились в два ряда 24 французских моряка. Некоторые из них смотрели на крышу, где, все время рискуя свалиться, стояла молодая женщина. По одну сторону от моряков помещался оркестр 1-й мотомеханизированной дивизии, который играл все утро с большим воодушевлением. Рядом с оркестром была воздвигнута платформа, куда взобрались кинооператоры со своей аппаратурой. Все они казались преисполненными сознания своей ответственности. Военный фотограф снимал их и вопил: «Вы будете, черти, делать вид, что работаете?» Оркестр, не переставая, играл, моряки переступали с ноги на ногу, а фотографы часто наведывались в комнату налево, чтобы сфотографировать г-жу Макартур и ее сына. По указанию фотографов, эти двое то и дело поворачивали свои головы так и сяк или делали вид, что говорят друг с другом. Время от времени в доме подымалась ложная тревога, и моряки замирали в положении «смирно». Но никто не появлялся, и тогда они снова могли продолжать свои наблюдения за молодой женщиной на крыше.
Оркестр исполнял «Я ничего не могу дать тебе, кроме любви, малютка», когда на веранде внезапно появились генерал Макартур и генерал Пешкоф. Моряки взяли
627
«нй караул», а оркестр грянул «Марсельезу», за которой последовало «Знамя> усеянное звездами» *.
Генералы отсалютовали знаменам. Макартур стоял ЛИЦом к солнцу и киноаппаратам. Затем Пешкоф торжественно прочел адрес на французском и английском языках:
«...чудотворный руководитель, который во время грозной Тихоокеанской войны стяжал блестящую славу на посту главнокомандующего этого театра. Благодаря своей великолепной победе над Японией он стал одним из главных творцов...»
Адъютант передал генералу Пешкофу большой футляр. Тот открыл его и показал содержимое генералу Макарту- ру. Бросив медленный, строгий взгляд, Макартур передал футляр своему адъютанту, и оркестр снова заиграл. Затем громко и раздельно генерал Макартур ответил по- французски. Зажужжали киноаппараты. Молодая женщина на крыше очень рискованно перегнулась через перила, и кое-кто из моряков, не поворачивая головы, закатил глаза вверх. Созерцание кончилось, когда генерал Пешкоф отдал приказ: «К ноге».
Снова заиграл оркестр, и оба генерала стали в положение «смирно». Генерал Макартур, приложив правую руку к козырьку, держал ее прямо и твердо, так же как и француз свою левую. Но по мере того как оркестр продолжал играть, рука генерала Макартура начала дрожать. Сначала она дрожала слегка, а затем все сильнее и сильнее и, наконец, все присутствовавшие в саду, словно завороженные, были не в силах отвести глаза от этой дрожавшей руки. Люди начали подталкивать друг друга, а кое-где слышался подавленный шопот.
Внезапно музыка оборвалась, и церемония окончилась. Напряжение исчезло, и все облегченно вздохнули. Генерал Макартур обнял генерала Пешкофа за плечи и сказал очень громко: «Пусть всегда так будет, старый товарищ». Затем оба прошли в гостиную, где японские слуги стояли наготове с шампанским и закусками. Генерал Макартур остановился в проходе, чтобы принимать поздравления людей, проходивших с веранды. Г-жа Макартур вынула платок и вытерла глаза.
1 Национальный гимн США. (Прим, ред.)
628
Присутствующие разбились на небольшие группы. «Вы обратили внимание на слово «чудотворный» в адресе? — возбужденно сказал один французский корреспондент. — Во французском тексте было сказано «prestigi- еих», что можно перевести как «выдающийся». Но два полковника в штабе, предварительно просматривая адрес, решили, что «выдающийся» это недостаточно сильно, и им понадобилось несколько дней, чтобы остановиться на слове «чудотворный», а бедняге Пешкофу пришлось неправильно перевести свой собственный адрес, чтобы согласовать его с официально апробированным американцами текстом».
«Это пустяки, — сказал один американский радиокорреспондент. — По обычаю Пешкоф должен был бы поцеловать Макартура, а он этого не сделал. Дело в том, что несколько дней назад один из адъютантов Макартура написал Пешкофу, что, поскольку не принято целовать глав государств при награждении, то не лучше ли обойтись без поцелуя и в этом случае Пешкофу, естественно, пришлось согласиться».
Женщина, спустившаяся с крыши, твердила: «А вы видели сальное пятно у него на фуражке? Наверное, помада. Почему г-жа Макартур не следит за тем, чтобы его фуражку чистили?»
Сейчас генерал Макартур — без фуражки — стоял у дверей и пожимал сотни рук. Склонив голову набок, он говорил всем: «Здравствуйте!» За ним в переполненной гостиной подавали шампанское. В фойэ японские девушки пытались разыскать фуражки и шинели гостей. Маленькая француженка с застывшей улыбкой говорила уезжавшим: «Не хотите ли еще шампанского?»
Два полковника и их жены громко обменивались впечатлениями. «Ну, разве это не восхитительно? Разве он не великолепен?» — говорили женщины. «Послушай, — сказал один из полковников другому, — я и сам бы непрочь получить эту штучку». «Да, сэр, — ответил другой,— это было бы очень невредно».
Стоявшие у подъезда шоферы неохотно возвращались к своим машинам. Какой-то полковник пытался разыскать свой автомобиль. «Чорт побери, — говорил он, обращаясь поочередно к каждому военному полицейскому, — вы не видели мой седан? Я должен во что бы то ни стало добраться к себе». Я предложил подвезти его.
34 М. Гейн
529
«Нет, — сказал он. — спасибо, я где-нибудь найду этого сукина сына. Я должен вернуться на работу. Это генералам хорошо распивать шампанское по утрам. Кто-нибудь должен же делать дело».
75 декабря 1946 г. ТОКИО
Скандал вокруг оккупационных расходов назревает. Премьер Иосида посетил генерала Макартура, чтобы обсудить этот вопрос, и, кроме того, направил Макартуру пространный меморандум. Вчера министр финансов Танд- зан Исибаси рассказал на заседании парламента, на которое не были допущены ни представители печати, ни публика, мрачные подробности этого дела.
Скандал, по словам Исибаси, заключается в том, что огромная стоимость содержания оккупационной армии губительно отражается на японской экономике. К 31 марта 1947 г. эта стоимость достигнет 50 миллиардов иен, или более 3300 миллионов долларов по официальному курсу. Исибаси заявил, что лишь четверть этой суммы представляют собой запланированные расходы, остальное — «непредвиденные» расходы на строительство или благоустройство жилищ американских офицеров в провинции. Поскольку во всех этих случаях требовалось немедленное выполнение распоряжений, сказал Исибаси, японскому правительству не оставалось ничего иного, как покупать материалы на черном рынке по вздутым ценам.
Исибаси на нескольких примерах показал, чего требуют от японцев: школа игры в гольф близ Киото стоимостью в 200 миллионов иен (13 миллионов долларов); казармы средней стоимостью в 40—60 миллионов иен; 8 тысяч домов для военнослужащих и их семей средней стоимостью по миллиону иен за дом (66 тысяч долларов); перестройка дома для французской миссии, обошедшаяся в три миллиона иен, из коих миллион был заплачен за ковры; около миллиарда иен на украшение садов в резиденции армии; золотые рыбки, поставляемые по требованию в каждый дом, причем правительство платит поставщикам 300 иен (20 долларов) за рыбку; свежие цветы, доставляемые в дома по номинальной цене. (В Токио ходят слухи, 530
что счет одного из генералов за цветы составил 50 тысяч иен.)
Исибаси сказал, что американской армии направлена просьба ставить в известность о своих планах строительства за шесть месяцев до начала их осуществления, разрешить японскому правительству назначать своих подрядчиков и, наконец, свести расходы к минимуму.
Это поразительная история, и, вероятно, все сказанное Исибаси — правда. Но в равной степени показательно и то, о чем он умолчал. Члены парламента, которые передавали мне подробности речи Исибаси, выразили также свое убеждение, что правительство намеренно помогает раздувать оккупационные расходы^ Оно хочет сорвать экономическое восстановление, чтобы получить дополнительную помощь от Соединенных Штатов, а затем использовать экономический кризис как довод для получения более мягких условий на мирной конференции. Ходят также настойчивые слухи, что подрядчики дают большие взятки правительственным чиновникам, ведающим распределением подрядов.
21 декабря 1946 г. ШАНХАЙ
В 5 часов 22 минуты утра Япония послала нам внушительный прощальный привет в форме землетрясения, в результате которого, как я узнал по прибытии в Шанхай, в одном из городов южной Японии было разрушено 7 тысяч домов. Привязанные ремнями к сиденьям самолета, мы не могли даже бросить прощальный взгляд на Токио.
34*
ПОРА РАСПЛАТЫ
3 мая 1947 г. ТОКИО
Я рад, что побывал в Китае. Это самая подходящая страна, чтобы сделать некоторые обобщающие выводы по поводу американской политики в Азии. А еще лучше смотреть оттуда на Японию глазами ее соседей.
Целое столетие Китай был одним из главных центров нашей внешней политики. Теперь это центральное положение перешло к Японии. Волна коммунизма прокатилась по Китаю, и, хотя мы продолжали поддерживать националистов, в глубине души мы не верили, что их можно спасти. С другой стороны, в Японии мы имели военные базы, там существовала крепкая и сравнительно мало изменившаяся общественная структура и устойчивое, действенное правительство, дружески расположенное к нам.
Китай сознавал, что в нашей политике произошла перемена. Еще более болезненно он ощущал тот факт, что его положение ухудшалось, в то время как позиции Японии с нашей помощью усиливались. Я беседовал о Японии с сотнями китайцев как в националистических, так и в коммунистических районах. Каковы бы ни были их политические убеждения, китайцы задавали мне одинаково тревожные вопросы и делали одинаково тревожные прогнозы о новой японской агрессии, которая произойдет в течение ближайшего десятилетия. Китайцев оскорбляло то, что мы «балуем» Японию, и они относились к генералу Макартуру с такой страстной ненавистью, которую вызывали у них немногие американцы. Он пытался бороться с этим предубеждением, устроив поездку по Японии группы редакторов китайских газет. Предполагалось, что это средство, так благотворно действовавшее на других, подействует столь же хорошо и на китайцев. Но ни Б32
генерал Макартур, ни его советники из отдела печати не поняли того, что опасения народа, земля которого пятнадцать лет подвергалась опустошению, нельзя успокоить бесплатной праздничной поездкой и несколькими любезными интервью.
Облик Японии мало изменился за несколько месяцев моего отсутствия. Раны войны заживают медленно, и народ попрежнему сохраняет вид «приличной бедности». На железнодорожных станциях тысячи людей все так же ожидают возможности попасть на поезд. На трамвайных подножках все еще висят пассажиры, которые не могут попасть в вагон. Перед зданием нашего штаба по- прежнему стоит любопытная толпа американских солдат и японцев, ожидающих выхода генерала Макартура, идущего завтракать.
Последние два дня были праздничными. Первого Мая 400 тысяч человек заполнили Императорскую площадь, где они пели, смотрели на танцующих и требовали улучшения питания и повышения заработной платы. Вчера на площадь снова пришло 30 тысяч человек для празднования официального вступления в силу новой конституции. Шел дождь, и циники говорили, что толпу привлекал не только интерес к новой хартии, но и обещание внеочередной выдачи сакэ. Император на три минуты появился на трибуне, но не произнес ни слова. Когда он садился в автомобиль, его окружила толпа, в это время японский духовой оркестр исполнял с неосознанной им иронией «традиционный японский мотив» — американский гимн «Звезды и полосы». (Генерал Макартур отметил, что «новая конституция отражает одно из великих духовных преобразований человечества».)
Сегодня от недавних празднеств не осталось ничего, кроме высоких триумфальных арок, с которых под дождем стекают потоки краски.
Только что закончился ряд местных и общегосударственных выборов. Социалистам удалось получить несколько больше голосов, чем другим партиям, однако в газетах пишут о том, что «консервативные элементы получили подавляющее большинство». Правые партии в целом получили в три раза больше голосов, чем остальные. Тэцу Катаяма, бездарный лидер социалистов,
533
набожный христианин, знаток рабочих законов и рьяный феминист, пытается теперь создать коалицию с кликой консерваторов. У власти могут оказаться выхолощенные социалисты. Как бы то ни было, при данных обстоятельствах они едва ли смогут остановить упорный послевоенный сдвиг Японии вправо.
(Г-жа Като радостно сообщила мне, что она и ее муж снова избраны в парламент. Я слышал, что они оба поправели. Избрана также г-жа Тамаэ Фукагава — домашняя хозяйка, говорившая о том, что она не хочет видеть в Японии голубоглазых детей.)
Экономический кризис дошел до крайних пределов. Японцы приписывают его «чудовищным ошибкам» штаба генерала Макартура. Американцы, в свою очередь, обвиняют в нем японцев. Те и другие, по всей вероятности, правы. Тем временем инфляция растет, заработная плата сильно отстает от роста цен, а промышленное производство остается на низком уровне. Мне сказали, что индекс промышленного производства составляет в данный момент треть индекса 1930—1934 гг.
Дальневосточная комиссия предписала установить для Японии жизненный уровень, равный средним цифрам 1931—1934 гг. Русские хотели взять средние цифры за более ранние годы, но затем согласились на американское предложение. Американское продовольствие продолжает прибывать в Японию, составляя в среднем 150 тысяч тонн в месяц.
Второй раз со времени капитуляции генерал Макартур наложил на рабочее движение свою тяжелую руку. 31 января, он запретил всеобщую забастовку, заявив, что он не может разрешить пользование «таким смертоносным социальным оружием при существующих в Японии условиях общего обнищания и истощения». Руководители профсоюзов плакали, передавая рабочим по радио приказ об отмене забастовки.
Надо отметить один кровавый инцидент. Два молодых человека явились к Кикунами, председателю Национального конгресса производственных профсоюзов, и потребовали, чтобы он отменил забастовку. Кикунами сказал им, что это зависит не от него, и молодые люди нанесли ему ножевую рану. На следующий день (в традиционном стиле националистического террора) они были переданы поли534
ции одним из политических бандитов, который заявил, что они принадлежат к «патриотической» Новой народной партии. Кикунами поправляется.
Это не единичный случай. Крайние правые элементы начали действовать с возрастающей дерзостью. Ярые шовинисты нападают на профсоюзы, разгоняют забастовщиков и устраивают массовые митинги, на которых они задают вопрос: «Вы за кого — за коммунизм или за императорскую власть?»
Средства, которые когда-то поступали.. из японской армии, теперь поступают от дзайбацу и от новых миллионеров, составивших себе состояние спекуляциями на черном рынке. В доме Билла Костелло я встретился с Боллом и Деревянко. Чувствуется, что оба разочарованы сильнее, чем когда-либо раньше. Посредством постоянных ограничений полномочий Союзного совета, посредством оскорблений и отказов штаб Макартура привел Совет к унизительному бессилию. Мне показалось, что Деревянко держится более спокойно, чем Болл, который, повидимому, не уверен даже в том, что его собственное правительство стоит всецело на его стороне.
Я слышал от многих рассказы о продолжающейся вражде между приближенными генерала Макартура и о чистке, которая в настоящее время проводится в штабе под руководством генерала Уиллоуби. Журналисты говорят, что ее цель, повидимому, заключается в том, чтобы удалить из штаба всех, кто противится военному плану создания лойяльной и консервативной Японии.
Я весь день слушал эти рассказы, и поздно вечером мне показалось, что я никогда не уезжал отсюда. Не изменился ни характер государственной политической деятельности — как американской, так и японской, — ни облик людей, в руках которых находится машина оккупации. Рассказы о них также остались прежними.
В Корее, повидимому, также ничего не изменилось. Американцы, возвратившиеся из Сеула, рассказывают мне, что генерал Ходж готовится к будущей войне с Россией и становится все более озлобленным, так как корейцы не интересуются его проблемами. Корейцам делаются предостережения о том, чтобы они опасались «беспорядков 535
и лживой пропаганды». Среди американских войск периодически объявляются «сигналы тревоги». В мрачном двухэтажном здании суда в Тэгу за один только месяц, прошедший со времени моего посещения, наши военные судьи признали 537 человек виновными в подрывной работе, приговорили 16 из них к смертной казни и оправдали 88 человек. Однако предостережения, сигналы тревоги и суровость суда мало кого пугают. Два месяца назад также наблюдалась волна восстаний, нападений на полицейские участки, убийств военных полицейских и переполнение тюрем.
Ли Сын Ман еще никогда не был сильнее, и никто больше не делает вид, что он им не нравится («Я люблю его за то, что у него так много врагов», — говорит генерал Ходж). Ким Гю Сик, которого мы как будто бы намечаем на пост вождя Кореи, укрылся за надежными стенами американского госпиталя в предместьях Сеула. Временное законодательное собрание, которое мы рекламировали как инструмент демократии, оказалось мертворожденным. Даже корейская пресса не интересуется его бесстрастной риторикой.
С согласия генерала Макартура Корею посетила делегация Всемирной федерации профсоюзов. Неудивительно, что встреча с руководством корейских профсоюзов оказалась для нее затруднительной.- Однако скрыть то, что происходит в американской зоне, не так-то легко. Делегация заявила в своем докладе, что трудящиеся находятся в условиях, которые «представляются невероятными в наш цивилизованный двадцатый век». Представитель американской администрации, также производивший обследование, пришел в основном к тем же самым выводам, и заключительная глава его обзора была поспешно запрещена.
В Сеуле происходит подготовка к назначенному на этот месяц заседанию американо-советской объединенной комиссии. Никто не ожидает, что оно будет успешным. Ли Сын Ман даже утверждает, будто бы государственный департамент обещал ему создание сепаратного режима в американской зоне, причем ему же будет поручено возглавить этот режим.
Тем временем на севере страны коммунисты продолжают укреплять свою власть. Закончено проведение зе-
536
мельной реформы, благодаря которой получили наделы 750 тысяч издольщиков и крестьян-бедняков. Политическая оппозиция находится в тени. Сотни беженцев продолжают переходить 38-ю параллель, направляясь на юг и платя по тысяче иен с человека корейским проводникам. Бежать нетрудно. Беженцами являются политические противники и все оппозиционно настроенные — коллаборационисты, помещики, бывшие полицейские, — и русские пограничные патрули не особенно стараются задержать их.
Корея попрежнему разделена на два враждебных лагеря. И в этом конфликте мы попрежнему на стороне врагов преобразований и свободы.
«Что мы можем сделать? — говорят власти Сеула в свое оправдание. — Ведь красная опасность находится непосредственно за 38-й параллелью». Как будто можно создать или защитить демократию, отнимая у людей гражданские свободы.
3 'мая 1948 г. Б ь Ю-Й ОРК
Наступила третья мирная весна, но в воздухе чувствуется страх и тревога. Произвол и страсти лежат в основе политики, и каждый новый день приносит с собой новый кризис.
Япония также переживает напряженное время. Может быть, мы долго еще будем держать свои войска на японской земле. Может быть, мы сохраним еще надолго контрольные органы в Токио.
Эта тревожная весна — подходящий момент для того, чтобы подвести баланс сделанному нами в Японии и сравнить наши достижения с нашими неудачами.
Японский эксперимент не имеет прецедентов в нашей истории, так как мы сделали попытку превратить сильное и агрессивное государство в демократическое, построенное по нашему собственному образцу. Мы сделали подобную же попытку в Германии, но там эта программа преобразований быстро сошла на нет в результате международных разногласий. В Японии никто не делит с нами ни славы, ни упреков за неудачи.
537
Мы начали довольно хорошо — со смелого и детально разработанного плана. Он был составлен учеными и дипломатами — людьми, ясно представляющими себе, что такое демократическое государство и что именно препятствовало установлению демократии в довоенной Японии. Эти люди ясно понимали необходимость огромных изменений в существовавшей ранее системе. Они даже допускали, что японский народ применит силу, чтобы смести со своего пути группы и учреждения, препятствующие общественному прогрессу.
Составители политического плана предписывали отделение синтоистской церкви от государства. Они предписывали ограничение императорской власти. Они обследовали всю феодальную общественно-экономическую систему и высказались за необходимость предоставления наделов безземельным крестьянам, за создание профсоюзов для рабочих и за уничтожение огромных концернов с их первобытными представлениями об общественной ответственности, с их огромной политической силой и грандиозными аппетитами.
План предусматривал уничтожение полицейского государства, предоставление прав женщинам, чистку школы от ультранационалистических идей и удаление из общественной жизни всех тех, кто толкал Японию на путь войны: банкиров и политических деятелей, редакторов газет, профессоров, генералов и полицейских.
Этот план был вручен нашим военным, и им сказали, что они могут действовать, так как теперь дело за ними. Военные претворили этот план в ряд директив, направленных к тому, чтобы уничтожить старый порядок и создать новый.
К настоящему моменту мы достигли ряда успехов. У Японии есть теперь новая конституция, передающая всю власть в руки народа и сводящая роль императора к тому, чтобы служить символом национального единства. Синтоистская церковь отделена от государства. Значительная часть из пяти миллионов акров земли, подлежащей передаче, уже передана издольщикам и крестьянам-беднякам. Численность членов профсоюзов возросла до шести миллионов человек. По законам, направленным против дзайбацу, акции этих компаний продаются открыто, что раздробило некоторые из этих огромных и хищных предприя-
538
тий на более мелкие компании. Женщины получили право голоса, введена относительная свобода слова, и изголодавшимся умам японцев принесены в дар либеральные идеи Запада.
Мы создали возможность для возникновения крупных и сильных левых партий, в особенности социалистов. Наряду с профсоюзами они сыграли огромную роль в политическом воспитании народа. Постоянно наклоняя чашу весов в пользу консерваторов, мы лишили прогрессивные партии равных шансов в будущей политической борьбе, но в городах и селах ныне существуют тысячи людей, которые будут добиваться проведения реформ. Мы также оставим в наследство Японии скептическое отношение к обветшалым доктринам синтоизма и некоторое неуважение к «всеведущей и всемогущей» полиции.
В приходную книгу записаны и некоторые другие пункты. Мы посыпали города Японии порошком «ДДТ», чтобы истребить насекомых. Мы научили японцев новейшим способам сбора статистических данных. Мы заменили полицейские сабли резиновыми дубинками и научили полицейских новейшим методам криминалистики. Мы дали наследному принцу американскую гувернантку. Пользуясь новейшей и лучшей техникой американских общественных отношений, мы помогли «сплавить» нового демократического императора его демократическим подданным. Мы познакомили японских любителей кинофильмов с Арсеном Люпеном и сделали роман «Унесенные ветром» не только американским, но и японским классическим произведением. Мы вдохновили японскую радиопромышленность на подражание головокружительным темпам, бессодержательности и бесчисленным развлекательным фокусам американского радио. Мы познакомили молодежь с такими танцами как джиттербэг и поставили кинопромышленность перед проблемой столь первостепенной важности, как «целоваться или не целоваться» героям фильмов. Мы, повидимому, имели какое-то отношение к тому, что рыбная ловля в рвах вокруг императорского дворца стала доступной для простых рыбаков. После восьмилетнего перерыва мы снова дали японцам доступ к книгам Хэмингуэя, Льва Толстого и Карла Маркса (с купюрами). Мы научили японских детей волшебным словам «джипу» (виллис) и «гам-му» (жевательная резина), и (может быть, 539
не слишком удачно) мы придумали первое слово для англояпонского словаря: «А-бомба» (атомная бомба).
Однако история цинична, она обладает страстью к фактам и любит приглядываться к. ним попристальнее. Ее нельзя обмануть ни хвастовством чиновников отдела печати, ни половинчатыми реформами. У нее есть перспектива и терпение.
Поэтому история отметит, что сегодня синтоизм снова находится на подъеме, что за императорским мифом по- прежнему стоит мощная религиозная и политическая сила. История отметит, что старая гвардия снова стоит у власти в парламенте и в кабинете и что, хотя теоретически хозяином страны является народ, премьер-министры сообщают императору о политических событиях с прежним «страхом и трепетом». Она отметит, что невзирая на земельную реформу сельская экономика и власть на местах остаются в руках помещиков. Она отметит, что нарушения нового земельного закона приняли настолько обширные размеры, что вся реформа начинает казаться смехотворной.
История отметит меры, принятые для «смягчения» рабочего движения — от штрейкбрехерства, совершаемого двадцатилетними армейскими сержантами в маленьких городках, до карательных экспедиций майора Имбодена, от нового запрета, наложенного на забастовки генералом Макартуром в прошлом месяце, до открыто объявленных планов японского правительства «изменить» рабочие законы.
Чистка к настоящему времени превратилась в обман. Военные преступники сидят в парламенте, в кабинете министров и при императорском дворе, разрабатывая новое «демократическое» законодательство, и стараются приспособить чистки к своим политическим целям. Военные преступники «пересматривают» школьные учебники, руководят прессой, держат в своих руках кинопромышленность и радио. Агенты полиции по контролю над мыслями, «вычищенные» по нескольку раз, появляются снова на ответственных постах — часто с благословения американцев. Подвергшиеся чистке политические деятели и банкиры продолжают действовать через своих родственников или сообщников, а иногда через подставные компании.
540
История отметит состав нового Верховного суда, назначенный в прошлом году японскими консерваторами. Во главе его стоит адвокат, который пятнадцать лет был юрисконсультом треста Мицуи, а среди членов суда есть люди, которые длительное время верноподданно служили старой олигархии. Японцы ловко пользуются нашими собственными ошибками. Чтобы поддержать чудесную легенду о том, что новую демократию строят сами японцы, генерал Макартур заставил их записать все американские реформы в свой кодекс законов. Теперь эти реформы в качестве японских законов могут быть пересмотрены и изменены Верховным судом.
Некоторые помещики уже подали в суд жалобы на то, что земельная реформа антиконституционна, так как она лишила их справедливой компенсации. Суд пока ничего не предпринял, поскольку мы еще не ушли. Но сами японцы догадываются, что по окончании оккупации жертвы демократических реформ — владельцы дзайбацу, помещики, «вычищенные» офицеры и жандармы — явятся в Верховный суд за компенсацией и получат ее.
История отметит, что некоторые штабные офицеры пытались помешать выборам новых ультраконсервативных судей. Генерал Макартур не позволил им сделать это по той причине, что вмешательство в дела Верховного суда может повредить его авторитету.
Немногие официальные претензии были столь нелепы и обманчивы, как претензии по поводу уничтожения дзайбацу. Правда, крупным предприятиям нанесены серьезные удары. Значительная часть их деятельности проводится подпольно. Но следует также отметить, что все главные партии (за исключением социалистов), кабинет министров, пресса и императорский двор остаются в союзе с дзайбацу и отстаивают их интересы. Еще более важен тот факт, что дзайбацу держат в своих руках большую часть японской экономики.
Мы сами настолько резко отступили от своей первоначальной политики, что освободили дзайбацу от ответственности за военную агрессию Японии и выпустили большую часть их руководителей из тюрьмы Сугамо «за недостатком улик».
541
Все это делалось, несмотря на неопровержимые доказательства двуличия дзайбацу. Особенно ярко говорили об этом факты, раскрытые «скандалом с исчезнувшими запасами», последствия которого пртрясли японское правительство прошлой осенью. Это были те запасы, которые разбитая японская армия и флот должны были передать нам.
Специальная парламентская комиссия во главе с Като определила, что исчезло запасов на 50 миллиардов иен (10 миллиардов долларов по официальному курсу). Комиссия установила, что исчезновение этих товаров явилось результатом заговора военных властей, правительства и дзайбацу в тот самый месяц, когда Япония капитулировала. Было обнаружено, что большая часть запасов была передана дзайбацу, причем частично эта передача была проведена летом 1946 г. В спрятанные запасы входили железный лом, чугунные болванки, золото, медь, серебряная проволока, слитки серебра, каучук и даже обувь. На одном острове Кюсю, по словам токийской прессы, понадобилось 5800 железнодорожных вагонов для перевозки запасов в места, где они были затем спрятаны.
Ни одного грамма из этих запасов не было отдано тому делу промышленного возрождения, которому на словах так горячо преданы дзайбацу. Большая часть запасов была спрятана для использования по окончании оккупации. Интересно отметить, что часть запасов была продана на черном рынке, а на полученные деньги через подставные компании были скуплены акции дзайбацу, которые правительство продавало якобы «всем гражданам».
Но не одни только дзайбацу нарушали наши планы. Консервативные кабинеты, которым мы поручили задачу демократизации Японии, работали над сохранением старого порядка. Императорский двор успешно добивался того, чтобы вернуть свое влияние на Японию и ее народ. «Управления по демобилизации» действовали как замаскированные генеральные штабы, а министерство иностранных дел втайне разрабатывало внешнюю политику, которая вернула бы Японии ее былую славу.
Составлялись сложные планы натравливания одной страны на другую. Была организована кампания пропаганды с целью убедить победителей, что Японии необходимо «жизненное пространство» и «возможность дальнейшего существования». Хитоси Асида, газета которого 542
«Джапэн тайме» в тридцатые годы была глашатаем агрессии и который теперь является премьер-министром, просил у союзников разрешения сохранить за Японией «незначительные» острова, включая Окинава. Один из его помощников утверждал в парламенте, что Япония не разбита, а потому может предъявлять нам требования. А Иосида даже просил о создании армии для... самообороны.
В прошлом году Джо Фромм из «Уорлд рипорт» получил данные о секретной стратегии министерства иностранных дел, разработанной для мирной конференции, и создал этим одну из крупнейших газетных сенсаций периода оккупации. В этих данных указывалось, что путем натравливания США против СССР японцы будут стремиться к прекращению оккупации, к тому, что союзный контроль в Японии будет ограничиваться присутствием послов четырех держав, не имеющих права прямого вмешательства, что они добьются отмены союзного руководства в промышленности и внешней торговле, вернут себе право создавать воздушный флот и устранят ограничения, касающиеся численности вооруженной полиции.
«Однажды в разговоре, — писал Фромм, — японский дипломат спросил представителя союзников, как будет реагировать его правительство на предложение о том, чтобы Японии было разрешено создать вооруженную полицию в 100 тысяч человек для «целей безопасности». «Я не могу сказать, каково будет отношение моего правительства, — ответил ему представитель, — но на вашем месте я предложил бы 90 тысяч или ПО тысяч. Только не 100 тысяч. Это та самая цифра, о которой после первой мировой войны просили немцы, — тоже для целей безопасности».
Степень неудачи или успеха зависит от того, с каким мерилом подходить к фактам. В качестве критерия, который можно применить к оккупации, следует рассматривать первоначальную послевоенную политику Соединенных Штатов, план которой был опубликован в августе 1945 г. Эта декларация о политике, являвшаяся одним из крупных документов американской истории, детально намечала пути, по которым следует вести Японию к демократии.
Если применять этот критерий, то мы потерпели в Японии неудачу. Таким критерием нельзя руководство543
ваться при частичном успехе. Успех должен быть полным, или же его не существует совсем. Демократия — нечто цельное и единое. Она не может быть частичной. Демократия перестает быть демократией, когда ее конституция не произрастает из народной почвы, а насаждается канцелярией победителя. Демократия перестает быть демократией, когда ее демократическая конституция выполняется недемократическим правительством, истолковывается недемократическим Верховным судом и проводится в жизнь недемократической полицией. Демократия перестает быть демократией, когда мы — ее менторы — на словах твердим о нашей преданности принципу свободы слова, а затем позволяем нашим цензорам наложить запрет на свободную дискуссию, в которой японский народ мог бы высказаться о своем собственном правительстве, конституции и жизненных задачах. Наконец, демократия превращается в обман, когда общественно-политическая система, считающаяся демократической, строится на основе феодализма во главе с императором.
Мы вели дорогостоящую войну, утверждая, что наша цель состоит в том, чтобы превратить Японию в государство, поддерживающее демократию и мир. Генерал Макартур истолковал этот принцип как отказ от войны и вооруженных сил. Однако сегодня найдется немного людей в Японии или вне ее, которые сомневались бы в том, что через десятилетие она будет готова для новых военных авантюр. Ее консервативные вожди, ее дипломаты, капиталисты и рядовые националисты нисколько не скрывают своей уверенности в том, что Япония получит новую возможность для империалистической экспансии.
Японцы проиграли войну, но они выигрывают мир, и притом выигрывают его с нашего согласия. То, что происходит в Японии, является только частично плодом японских заговоров. В гораздо большей степени это отражает нашу собственную политику, которая за неполных три года прошла долгий путь от демократических реформ до превращения Японии в наш военный и экономический оплот на Тихом океане.
|:-д То, что происходит в Японии, не самодовлеющее явление. Это неотъемлемая часть нашей внешней политики, новых целей, страхов и страстей, общей перестройки всех наших сил. То, что происходит в Японии, происходит
544
и в Германии. То, что происходит под нашей эгидой в Китае, уже произошло в Греции. Япония превратилась в одно из наших внешних укреплений, причем погибла та самая демократия, которую мы должны были создать.
Однако превратности политики Вашингтона не снимают вины с генерала Макартура и его советников. За немногими исключениями, никому из этих людей не нравилась их роль разрушителей старого общественного строя. Личные странности генерала Макартура также не способствовали улучшению положения. Преобразования в Японии проводились стихийно, потому что генералу не хотелось оказывать давление на Иосида или Сидехара, или потому, что он мечтал об утверждении конституции и не хотел, чтобы этому утверждению что-нибудь помешало, или потому, что та или иная форма могла бы оказаться слишком невыгодной для консерваторов, которых он поддерживал.
Американцы имеют право знать, что происходит в Японии. До них доходило очень немногое, потому что генерал Макартур боролся с прессой и затуманивал смысл сообщений миллионами прилагательных. Реформы, разработанные в штабе и затем навязанные японцам, восхвалялись как проявление стремления японцев к демократии. Победы консерваторов и даже ограничения свободы официально приветствовались как торжество демократической практики.
Постепенное изменение политики США в Японии иллюстрируется историей трех встреч между генералом Макартуром и императором Хирохито. При первой встрече генерал держал себя сурово и официально. Он был представителем победителей, а Хирохито был символом не только побежденной нации, но и тех феодальных сил, которые мы обязались искоренять.
Прошло некоторое время, и при второй встрече император ска; эл генералу Макартуру: «Наша конституция не позволяет нам иметь армию. Я озабочен нашим будущим». Генерал Макартур успокоил его: «Соединенные Штаты возьмут на себя защиту Японии». (Переводчик императора был уволен за то, что предал этот разговор гласности, но существует предположение, что эта нескромность была совершена по приказу министерства иностранных дел.) При третьей встрече генерал Макартур впервые назвал императора «ваше величество».
35 М. Гейн
545
Переход от суровости к придворным титулам сам по себе не так важен. Но это одна из тех бесчисленных мелочей, которые подчеркивают перемену в характере наших отношений с Японией. Это барометр крупных перемен в нашей политической позиции, барометр, на который с тревогой смотрят как американцы, так и японцы.
Есть и другое мерило, которое можно применить к Японии — мерило готовности к войне. Люди, руководящие судьбами нашей нации, предвидели новую войну, в которой, по выражению Токио, Япония должна стать не только «оплотом», ио и «трамплином». Над нашей национальной политикой все больше тяготеет ожидание войны.
Проводя эту политику, мы взяли в Японии два курса. Мы создали и поддерживали у власти ряд консервативных режимов, которые, без сомнения, стали бы на нашу сторону в будущей войне. В то же время мы перекачивали в Японию средства в форме продовольствия, хлопка и автомашин, в форме порошка «ДДТ», которым мы осыпали города, в форме прививок, сделанных миллионам людей, и ремонта улиц.
Второй курс создал нам друзей. Однако у нас мало оснований предполагать, что эта благодарность выразится в поддержке нас во время войны. В Японии — как, вероятно, и в Германии — преобладающим чувством является страх перед войной. Не существует таких соблазнов, которые заставили бы японский народ забыть этот страх.
Американские наблюдатели считают, что, если разразится война, японское правительство будет на нашей стороне. То же самое относится к молодым летчикам- «камикадзе», к бывшим военным, к фанатически настроенным офицерам — ко всем тем, кто любит войну за ее сильные ощущения или за добычу, которую она дает. Но простые люди — шахтеры, безземельные крестьяне, железнодорожники, обедневшие служащие — останутся в стороне. А если мы затронем их, их нейтралитет может превратиться в ненависть.
Если бы мы провели первоначально намеченные нами реформы, отстранив от власти старую японскую гвардию и оказав поддержку новому либеральному руководству; если бы мы проявили твердость, когда наши директивы саботировались; если бы мы поручили работу в Японии
546
штатским, а не военным экспертам; если бы мы не меняли своей политической линии; если бы мы помнили о том, что даже в период кризиса интересы коренного населения должны иметь преимущество перед нашими стратегическими планами; если бы ым сделали все это,— то в Японии не только существовала бы подлинная демократия, но Вашингтону не пришлось бы тревожиться из-за роста японского коммунизма.
Нашей самой грубой ошибкой в Японии было первоначальное предположение, что демократические реформы могут быть проведены и будут проведены людьми, ненавидящими их.
Нетрудно понять, почему была сделана эта ошибка. Победа захватила нас врасплох. В начале 1945 г. один из наиболее осведомленных представителей американского флота утверждал в беседе со мной, что Япония будет продолжать бороться по крайней мере до 1948 г. Наша разведка, повидимому, была смущена разнообразием и противоречивостью получаемых ею сведений о Японии.
Поэтому, когда произошла капитуляция, мы не были к ней подготовлены. У нас не было бесспорных данных о духе японского народа. Мы радовались тому, что в Японии имеется функционирующее правительство и с удовлетворением передали ему свою работу. Это явилось первым и наиболее важным шагом в целом ряде событий, которые были результатом того, что старая Япония пережила поражение.
Перед празднованием нами первого рождества в Японии мы уже знали, что японская правительственная машина направлена на саботаж. Мы уже знали, что токийское правительство является буфером, служащим для того, чтобы смягчать нажим союзников. Однако власть на местах функционировала без всяких изменений и преград. Мы уже знали о ряде совещаний в императорском дворце, на которых был выработан план, рассчитанный на то, чтобы парализовать нашу деятельность. Мы знали, что уничтожено множество важных документов; что запасы сырья, необходимого для реконструкции Японии, ликвидированы или спрятаны; что японские чиновники перемещены на другие должности таким образом, чтобы избежать чисток; что военным и националистическим 35’ 547
группировкам переданы огромные средства, на которые они смогут просуществовать несколько лет.
Именно эти ранние дни оккупации были самым подходящим моментом для того чтобы убрать политических главарей, чтобы реорганизовать весь аппарат власти в Японии. Мы медлили, а японцы с каждым днем получали все больше сведений о наших слабостях и о том, как их можно использовать в борьбе против наших планов. Кроме того, с каждым днем силы «реформаторов» в нашем штабе таяли, а силы группы «готовности» возрастали. «Реформаторы» составили первоначальные директивы, в которых дух и задачи послевоенной политической декларации были претворены в конкретные планы преобразований. Но пора обещаний прошла, и настало время их выполнения, а «реформаторов» заставляли уходить одного за другим.
Через полгода после капитуляции один из главных помощников генерала Макартура сказал мне: «Наш каратель- ный_ период закончился».
Еще через два года наша снисходительность достигла фантастических размеров. Так, например, издатель «Иомиу- ри» Баба обратился в письме к одному американскому генералу с просьбой помочь японскому военному преступнику, «вычищенному» другим американским генералом, утверждая, что на последнего повлияли «окружающие его коммунисты». Можно привести еще более поразительный случай, как только что подвергавшийся чистке издатель другой крупной газеты сообщил доверенному лицу генерала Макартура о способах, с помощью которых он намерен обойти чистку. Он писал, что его план заключается в передаче своих акций подставной компании «с целью предотвращения их захвата левыми элементами». Ни в том, ни в другом случае американцы, которым были адресованы эти письма, не предприняли ничего против японцев.
Теперь дух преобразований исчез, и об этом знают все японцы, начиная с руководителей дзайбацу, обращающихся к американцам за займами, и кончая рабочими, которые две недели назад наблюдали, как представители правительства увольняли, штрафовали и арестовывали руководителей профсоюзов за призывы к забастовке. Те немногие реформы, которые все-таки проводятся, не 548
сохранили от намечавшихся раньше преобразований ничего, кроме их формы.
К настоящему моменту через пропасть между либеральными взглядами государственного департамента и консервативными убеждениями штаба построен мост. Любопытно отметить, что это совпало с переходом власти в Вашингтоне от штатской группы к представителям армии. «Жесткая» внешняя политика Вашингтона находит соответствующий отклик в Японии.
На нашу политику в Японии повлияло много факторов. Среди них, несомненно, следует назвать японский саботаж. Среди них находится также нежелание нашего собственного военного руководства менять что-либо в политической структуре Японии. Сюда же относится перенос центра тяжести нашей тихоокеанской политики из Китая в Японию. Не меньшее значение, чем любой из этих факторов, имело также выступление нашего крупного капитала на японской арене.
Япония была самой лакомой добычей, когда-либо прельщавшей американский крупный капитал. После войны было поставлено на карту нечто гораздо большее, чем возобновление прежних деловых связей с дзайбацу. Поражение Японии дало американским капиталистам возможность захватить значительную долю участия в одной из крупнейших индустриальных систем в мире.
Главным препятствием к этому были не японцы. Соглашение с американскими концернами означало кредиты, патенты и оборудование, а потому большинство дзайбацу были настроены в пользу более тесных отношений. Более серьезным препятствием оказались меры контроля и ограничения, которые мы сами ввели в Японии с целью проведения реформ. Американский крупный капитал относился враждебно ко всей программе, направленной против дзайбацу и характеризовавшейся децентрализацией, контролем продукции и прибылей и заботой о благосостоянии рабочих.
Дзайбацу не были удивлены появлением нового союзника. С первого же дня поражения они искали благосклонности у американского официального мира, в котором так обильно были представлены капиталисты. 549
Их «жесты доброжелательства» чаще всего встречали сочувственный отклик. Один из первых рассказов, который я услышал на эту тему в Токио, относился к банкету, устроенному в честь американских офицеров Риозо Асано, главой дзайбацу, державшим в своих руках торговлю сталью, оружием и цементом в Китае, на Формозе и в Маньчжурии. Во время этого банкета капитан американского флота предложил тост в честь хозяина: «За светлую надежду японской демократии!»
Капитан был одним из тех самых официальных лиц, которым было поручено уничтожение дзайбацу, и в его канцелярии, несомненно, имелись документы, говорившие о преступных операциях Асано.
Другой рассказ, не менее достоверный, относится к дзайбацу, работавшей в течение долгих лет в тесной связи с одним из крупнейших американских электрических концернов. В течение всех военных лет японская фирма содержала резиденцию американских представителей компании в полном порядке, чтобы принять их в случае возвращения. Здание постоянно ремонтировалось, и любимый повар американцев оставался на службе дзайбацу. Деловые связи должны были сохраниться, независимо от того, на чьей стороне окажется победа.
Около того времени, когда я вернулся в Токио в прошлом году, Дальневосточная комиссия получила от государственного департамента проект директивы, инструктирующей генерала Макартура о том, чтобы он «воспрепятствовал чрезмерной концентрации экономической власти в частных руках». Эта директива оказалась лебединой песней «реформаторов» в Вашингтоне. Тщательно подготовленная «кампания протеста», проведенная в прессе и в сенате, вызвала отмену этой директивы.
Позднее военное министерство дало генералу Макар- туру указание — изменить тактику уничтожения трестов. К официальным инструкциям было приложено личное ходатайство военного министра Кеннета Ройялла. Однако к этому времени программа борьбы с дзайбацу зашла слишком далеко (по крайней мере, на бумаге), чтобы от нее можно отказаться, не потеряв престижа. Поэтому генерал Макартур резко отклонил полученные указания, приведя длинные цитаты из более ранних директив о роспуске дзайбацу.
550
Законопроект о децентрализации японских крупных промышленных предприятий был проведен через враждебно настроенный японский парламент без каких-либо попыток скрыть бронированный кулак, продвигавший это мероприятие. Позднее генерал Макартур ответил в американском сенате на протесты по этому поводу, предсказывая «кровавую баню революционного произвола», если концентрации капитала в Японии не будет положен конец.
В этот момент на сцене появилась фигура, давно уже действовавшая за кулисами. Это был Уильям Дрэйпер, помощник военного министра и бывший директор крупной фирмы «Диллон, Рид». Дрэйпер сыграл большую роль в изменении программы декартелизации Германии. Теперь он обратил внимание на Японию. Кульминационным пунктом нажима на Токио явилась отправка в Японию миссии, состоявшей из банкиров, капиталистов и фабрикантов. Во главе миссии стоял Дрэйпер. Среди ее членов находился Пол Гофман, председатель корпорации «Студебеккер» и администратор по экономическому сотрудничеству.
Без особой огласки эта миссия действительно изменила нашу политику в Японии. Согласно новым планам Япония должна быть восстановлена к 1953 г., причем это обойдется американским налогоплательщикам приблизительно в 1600 миллионов долларов. Японская печать радостно приветствовала новую политику, называя ее «планом, который превратит Японию в мастерскую Азии».
Как и следовало ожидать, в новой политической декларации ничего не говорилось о реформах. Она подчеркивала главным образом снятие ограничений с производства и прибылей корпораций. Законам, направленным против дзайбацу, предстояло погибнуть естественной смертью. От трудящихся ожидалось, что они «пересмотрят свои требования». Японии разрешалось восстановить свой торговый флот, и для ее промышленной экспансии не ставилось никаких пределов. Казначейство США обязалось предоставить Японии около полумиллиарда долла: ров в качестве первого взноса на ее восстановление.
Японские высшие чиновники радостно реагировали на все это. Они потребовали немедленного изменения рабочих законов и ограничения профсоюзов. Они указали
551
на необходимость резкого понижения репарационных платежей. Они высказались за прекращение экономических чисток и за возвращение уже подвергшихся чистке лиц.
«Перспектива получить до заключения мирного договора большую свободу от ограничений, повидимому, обрадовала японских капиталистов и их представителей в парламенте, — писал Аллен Реймонд, корреспондент «Нью-Йорк гералд триб юн». — Руководители старых дзайбацу, сначала подвергшиеся чистке, а затем возвращенные по распоряжению комитета, решающего вопрос о военных преступлениях, съезжаются в Токио для совещания о том, как ускорить восстановление страны».
Однако японцы не ограничились использованием своих успехов в одной лишь деловой сфере. Они потребовали пересмотра «поспешно составленной» конституции, начиная с мелких вопросов и кончая, без сомнения, вопросом об аннулировании статьи, в которой Япония навсегда отказывается от ведения войны. Не дожидаясь этого пересмотра, правительство предложило парламенту законопроект о создании «флота сохранения мира» для «борьбы с пиратством и контрабандой». Этот «карманный флот» должен состоять из 126 небольших судов, включая подводные лодки, и иметь в своем распоряжении 10 тысяч вооруженных моряков. Можно было задать себе вопрос, через сколько времени в Японии появится армия для «защиты от коммунистической агрессии».
Генерал Макартур подчинился этому нажиму без всякой борьбы. Его внимание было сосредоточено на президентских выборах в Америке. К тому же ни он, ни кто-либо из его советников никогда не боролись особенно энергично за преобразование старой Японии. Они не испытывали ни страстной ненависти к дзайбацу, ни особой привязанности к беспокойным рабочим союзам. Их действия вдохновлялись исключительно прежними директивами Вашингтона и слабой надеждой, что некоторое небольшое количество реформ может успокоить политические и общественные беспорядки.
Корея представляет еще более печальную картину. В Японии были все же проведены некоторые демократические меры и имелась видимость заботы о благосостоянии народа. Левые группировки еще имеют печатные органы, 552
где они могут высказывать свое мнение, рабочие профсоюзы беспрепятственно вербуют членов, а люди, собравшиеся на Императорской площади, еще могут выкрикивать обвинения против правительстваЮжная Корея не претендует ни на какую свободу. Это плацдарм, где права, потребности и желания народа принесены в жертву нашему конфликту с Россией.
В Южной Корее с прошлого года произошло многое, но в то же время там совершилось трагически мало перемен. Лю Вун Хон, единственный либеральный деятель в нашей зоне, убит. Генерал Лерч умер, и его сменил другой генерал. С целью ответить, хотя бы и с запозданием, на земельную реформу, проведенную на севере, мы были вынуждены провести в жизнь наш собственный план, получивший название «безумие Ванса». Но никто не ожидал, что этот план вызовет что-либо, кроме раздражения, так как он относился только к прежним японским землям (меньше одной пятой всей земли) и не касался прилегающих поместий крупных корейских землевладельцев. Безземельные крестьяне, работающие на помещика, продолжали оставаться той же голодной и мятежной толпой.
В стране произошли новые восстания, одна волна которых была отмечена прошлым летом, а другая—в начале текущего года. Во время второй вспышки было арестовано 8 тысяч человек, которых втиснули в уже переполненные тюрьмы. Когда группа представителей ООН предложила амнистировать политических заключенных, генерал Ходж твердо заявил, что в американской зоне таковых нет. Без сомнения, дело заключается в определении слова «политические».
Объединенные нации стали нашим союзником в Корее, как и в других местностях, где существует кризис. Невзирая на протесты со стороны русских, ООН отправила в Сеул комиссию для проведения выборов в американской зоне. Русские настаивали, что единственным решением корейского вопроса является отвод и советских и американских войск.
1 Прошел небольшой срок, и исчезли и те остатки демократических свобод, о которых пишет здесь автор. В настоящее время левая печать в Японии запрещена, правительство Иосида возрождает в стране фашистский террор, раздувает милитаристскую реваншистскую пропаганду. (Прин, ред.)
553
Л\ы, в свою очередь, говорили о нашей преданности демократии, но настаивали на выборах, которые должны были передать всю власть в американской зоне одной из самых реакционных государственных машин нашего времени. («У нас нет иного выбора, кроме поддержки Ли Сын Мана в Корее так же, как мы поддерживаем Чан Кай-ши в Китае», — заявил генерал Макартур одному французскому журналисту.) Кроме того, мы использовали крайние меры для того, чтобы заставить другие страны, как, например, Сирию и Индию, поддерживать нашу точку зрения.
Однако никто из иностранных обозревателей, даже настроенных самым дружественным образом к нам, не мог не видеть трех основных зол в американской зоне. В своих рекомендациях генералу Ходжу комиссия ООН говорит обо всех этих вопросах. Она заявила, что «серьезно озабочена той ролью, которую может сыграть полиция во время выборов». Она настаивала на том, что молодежные организации «должны быть извещены о наблюдении, которое ведет за их деятельностью комиссия ООН». Наконец, она настаивала на амнистии политическим заключенным, существование которых так благодушно отрицал генерал Ходж. Действительно, в Корее ничего не изменилось с тех пор как я был там.
Решение провести выборы в американской зоне было личной победой Ли Сын Мана. Он отпраздновал ее огромным массовым митингом в честь комиссии. На этом митинге, на виду у полиции и комиссии, правая молодежь избила нескольких левых, похитила несколько автомашин и изувечила несколько лиц. Когда комиссия ООН неофициально предложила генералу Ходжу отстранить начальников южнокорейской и сеульской полиции (верных помощников Ли Сын Мана), генерал Ходж твердо отклонил это предложение.
Ли Сын Ман был хорошо подготовлен к выборам. За него действовали все «органы убеждения» в американской зоне: полиция, молодые террористы, помещики, личный состав военного правительства Кореи. Его успех был настолько несомненным, что двое из его главных консервативных противников — террорист Ким Ку и умеренный Ким Гю Сик, которого Берч когда-то надеялся видеть во главе Кореи, — были вынуждены выступить
554
против предполагаемых выборов и потребовать обсуждения вопроса с коммунистами Севера. Таким образом, наша политика возбуждала против нас даже консерваторов.
Тем временем на севере Кореи Россия сама решала свои задачи. Там проведены приготовления к созданию автономной демократической народной республики. Пред полагается создать независимую армию. Выборы дали еще одно доказательство того влияния, которое имеют коммунисты на население и на политику. В противоположность американской зоне, женщинам на севере предоставлено право голоса. Бегство оппозиционеров в нашу зону продолжается, хотя и в значительно меньшем масштабе.
С каждым днем и с каждым новым мероприятием обе державы закрепляют существование такого политического уродства, как 38-я параллель. С каждым днем Корея приближается к братоубийственной войне. Как только в двух зонах появятся соперничающие между собой режимы, гражданская война станет неизбежной. Она может начаться скрыто, с саботажа и террора. Однако в столь напряженный период нелегко справиться с насилием. От пуска поезда под откос до пограничных стычек и партизанской войны один шаг.
Нет сомнения в том, что мы будем захвачены этой борьбой. При существующем у нас настроении мы не склонны отступать с какого-либо из наших плацдармов, включая и те, которые нам дорого обходятся и которые мы не можем удержать. Мы можем отвести из Кореи часть наших гарнизонов. Мне сказали, что если это будет сделано, мы оставим в Корее небольшую группу «военных советников», которая превратит Корею в новую Грецию.
Два года назад общее решение наших разногласий е Россией могло бы решить и корейскую проблему. Теперь это уже не так. Историческая буря, проносящаяся над страной, вызвала политическую поляризацию. Средних элементов не осталось: существует только непримиримая правая партия под руководством Ли Сын Мана и крайняя левая, возглавляемая коммунистами.
Так же как и в Китае, политическая борьба в Корее совпадает с вековой борьбой между помещиком и крестьянином. Встав на сторону Ли Сын Мана, мы стали союзниками помещиков. Так же как и в Китае, мы дорогой ценой заплатим за эту ошибку.
555
С того осеннего дня в 1945 г., когда я вылетел из Сан- Франциско, направляясь на запад, я имел возможность наблюдать в трех основных странах Азии нашу внешнюю политику в действии. Ход этой политики был одним и тем же в Китае, в Японии и в Корее.
Так, например, во всех трех странах мы проводили негативную политику. Мы были заняты «сдерживанием» русского влияния, а не поощрением прогрессивных мероприятий, которые могли бы принести пользу китайцам, японцам или корейцам.
Во имя этого «сдерживания» мы стали во всех трех странах союзниками крайних правых группировок. Степень нашей связи с правыми партиями различна. В Японии мы завоевали наилучшую репутацию, так как мы начали с прогрессивной политики и в течение некоторого времени, в 1947—1948 гг., поддерживали сравнительно прогрессивный кабинет. Однако вариации не меняют общего направления нашей политики. В Японии мы являемся союзниками таких людей, как Иосида, в Корее мы связаны с Ли Сын Маном, а в Китае — с правым крылом гоминдана.
Это политика банкротства, которое мы сами навлекаем на себя. Мы откровенно сознаемся, что политические деятели, которых мы поддерживаем, недемократичны и про дажны. Мы признаем, что эти люди не могут и не хотят проводить прогрессивные реформы, и мы даже согласны с тем, что без этих реформ беспорядки будут продолжаться. Наиболее классическое признание исходит от подкомиссии по иностранным делам в конгрессе, которая заявила:
«Весьма предпочтительно, чтобы Соединенные Штаты имели в Китае свободное, хотя и аморальное правительство, а не враждебное правительство, находящееся под влиянием коммунистов, даже если бы оно было в высокой степени чистым и морально безупречным».
Это бесцельная и дорогостоящая политика, так как она игнорирует благосостояние того народа, который мы якобы защищаем. Она вдвойне бесцельна, так как мы пытаемся бороться с коммунистами, пользуясь феодальными идеями и учреждениями. Общественное недовольство в Китае и Корее порождается феодальной системой землевладения. В Народную армию Китая и в ряды
556
бесчисленных мятежников в Южной Корее вступают безземельные издольщики, которые не в силах больше выносить существующее положение. В Японии мы сделали попытку освободить крестьян, но мы оставили почти нетронутой феодальную надстройку, во главе которой стоит император.
Во всех трех странах коммунисты возглавляют движение протеста. Однако было бы наивно думать, что без коммунистов в Китае и в Корее не было бы крупных крестьянских восстаний.
Полтора века Америка была символом свободы и прогрессивной мысли. В Азии этот символ никогда не был более ярким, чем во время последней войны. Однако мы растратили это сокровище меньше чем за три года. Новый облик Америки — это облик сильной, богатой и хищной страны, находящейся в союзе с реакцией и готовой подавить любое массовое движение, если оно левее центра, независимо от того, является ли оно коммунистическим, социалистическим или просто движением протеста против несправедливости, коррупции и угнетения.
Насилие и репрессии не являются ответом на беспорядки. Ответ заключается в просвещенной социальной реформе. Если бы мы пошли этим путем, нам не надо было бы бояться коммунизма или России. Люди, которые разработали первоначальную декларацию о нашей политике в Японии, знали об этом. Люди, которые сменили их у власти в Вашингтоне и которые проводят нашу политику в жизнь, не понимают этой истины.
В результате мы потерпели неудачу в Японии, так же как в Китае и Корее. Нам удалось породить лишь ненависть к себе, и только слепые могут отрицать сегодня возможность победы коммунизма в Китае и Корее.
«Нашей величайшей ошибкой было бы формулировать нашу внешнюю политику в одних только терминах антикоммунизма, — сказал судья Уильям Дуглас, член Верховного суда США. - Если мы это сделаем, нас постигнет горькая неудача. Ибо мы кончим тем, что будем кричать и шуметь при виде призрака коммунизма, но не сделаем ничего для устранения тех условий, которые ведут к коммунизму. Если мы пойдем этим путем, война скоро станет для нас единственной альтернативой».
557
Политика «сдерживания» и «жесткая» политика доказали свое банкротство. Они привели нас к союзу с антидемократическими и феодальными группами и вождями по отношению к которым их собственный народ настроен враждебно и которые держатся только с нашей помощью. Военная и политическая система, основанная на таких союзах, стоит на гнилом фундаменте. Она не сможет противостоять динамике коммунистической политики и ее лозунгам.
В прошлом мы переживали серьезные кризисы, пока американский народ не направлял национальную политику в правильное русло. Лишь немногие из этих кризисов были серьезнее, чем тот, который переживает в настоящее время вся система наших международных отношений. Наступило время действовать и показать наше величие, ибо, изменив нашу политику, мы еще можем избежать войны.
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ . ... . 5
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА 35
ПОРА ОБЕЩАНИЙ 37
ПОРА ДЕЙСТВИЙ 284
КОРЕЯ .... 399
ПОРА РАСПЛАТЫ 532
Редакторы В. И. Маркина и В. Е. Репин
Технический редактор А. Я. Никифорова
Корректор Г. А, Скуратова
Сдано в набор 23/11 1951 г. Подписано к печати 19/V 1951 г.
А04257. Бумага 84Х1081/3з=8,8 бум. л, 28,9 печ. л. Уч.-изд. л. 30,1. Изд. № 7/1045 Цена 13 р. 55 к. Зак. 135.
20-я типография „Союзполиграфпрома* Г лавполиграфиздата при Совете Министров СССР. Москва, Ново-Алексеевская, 52