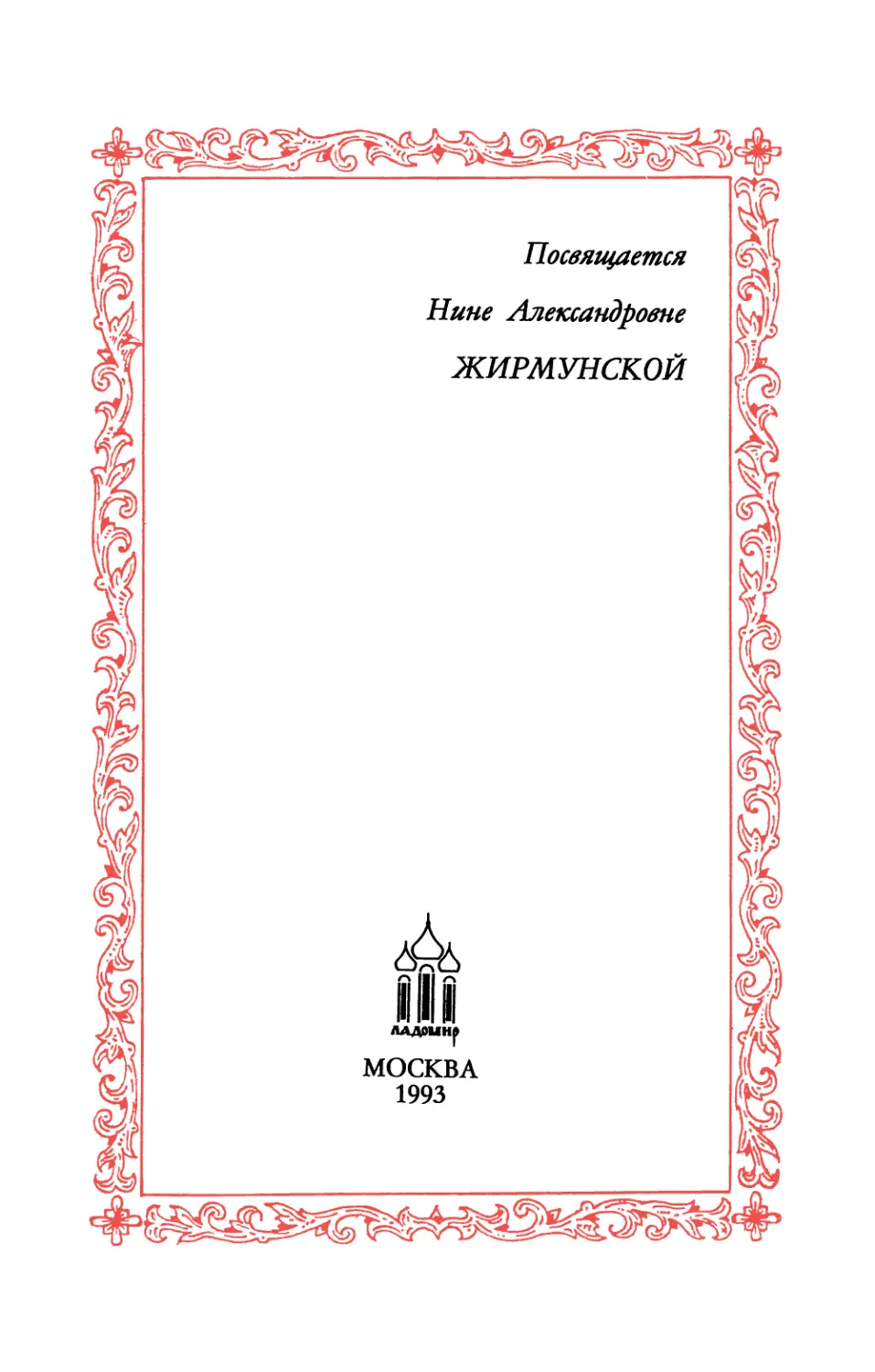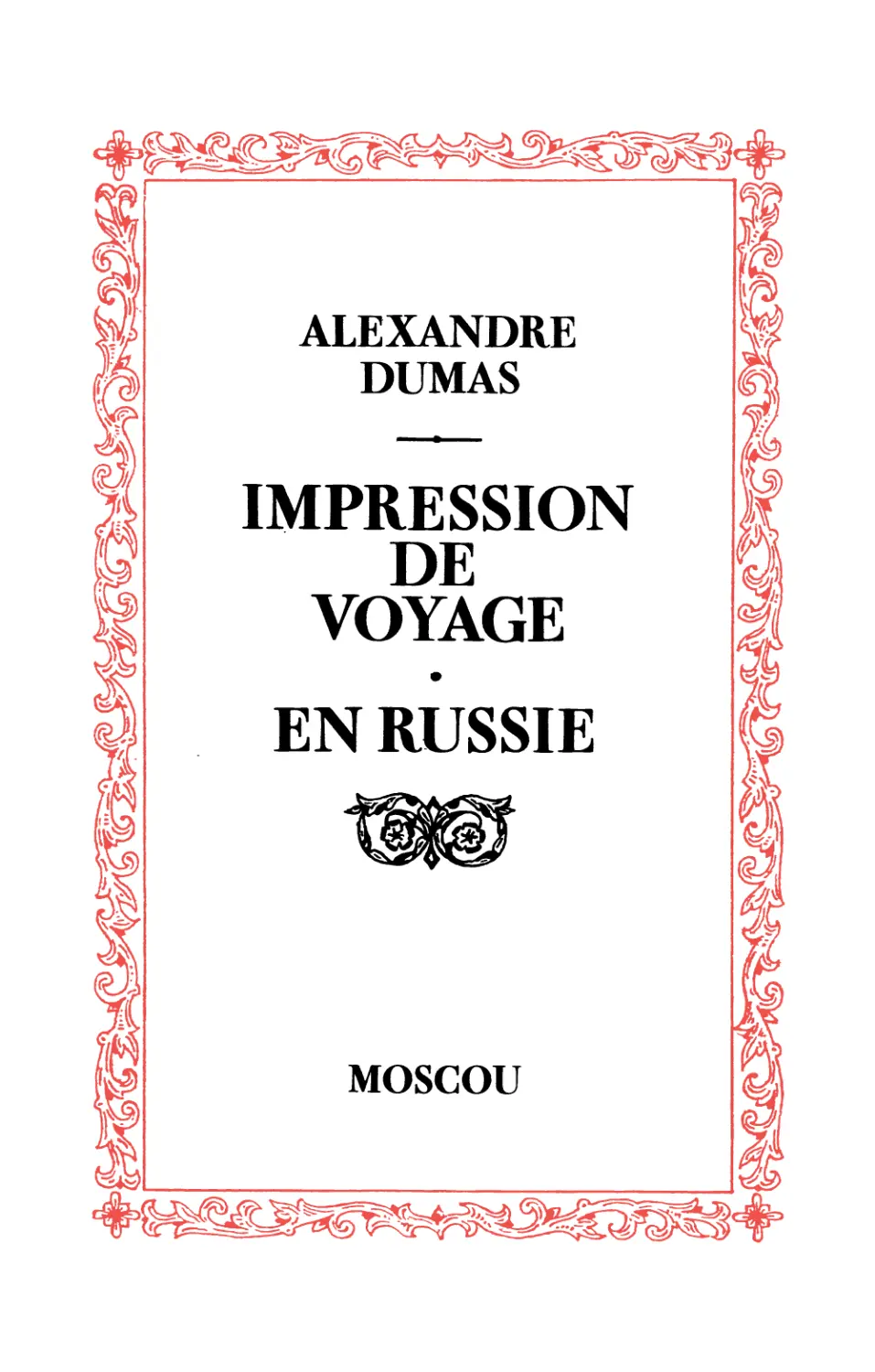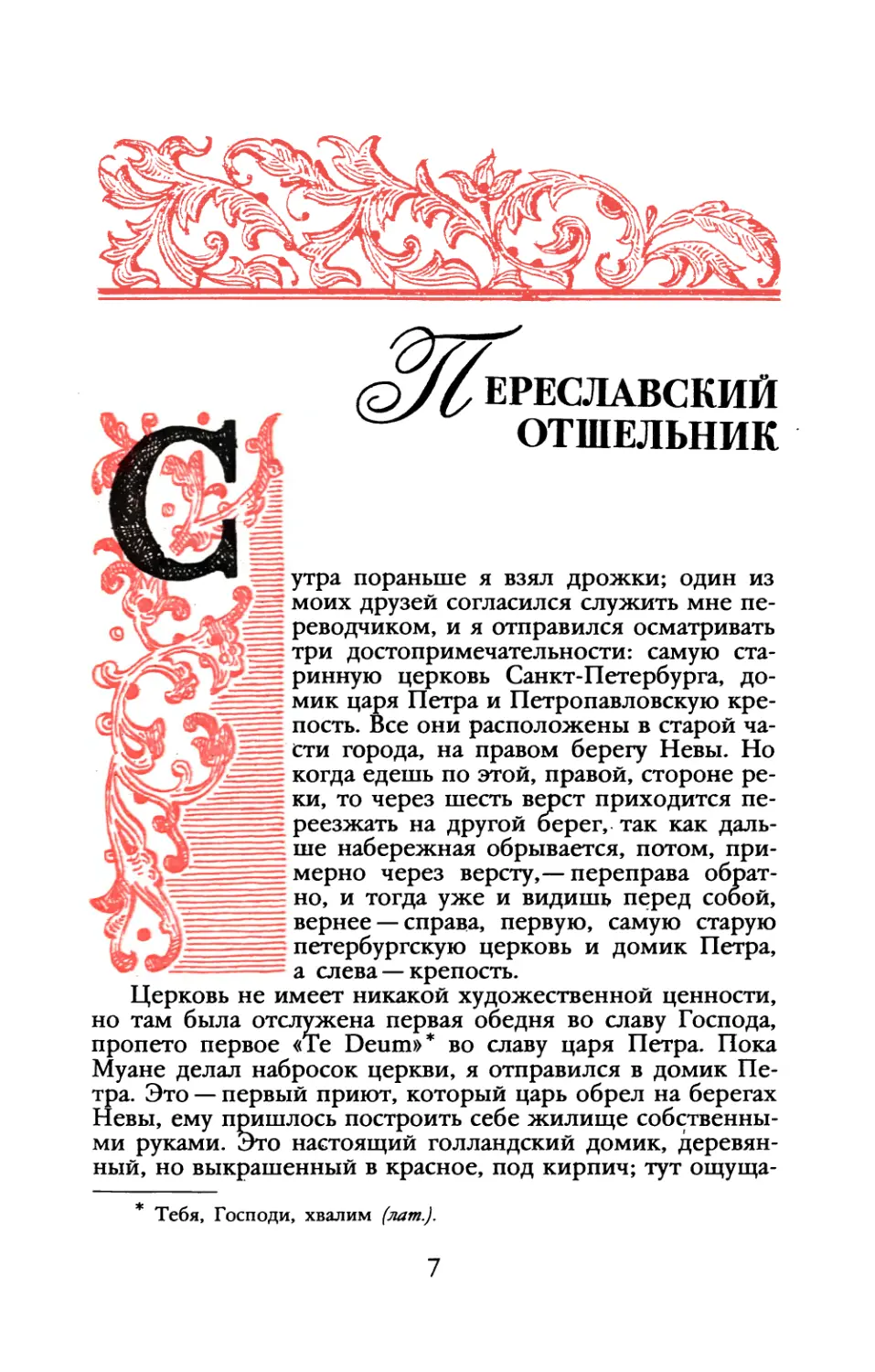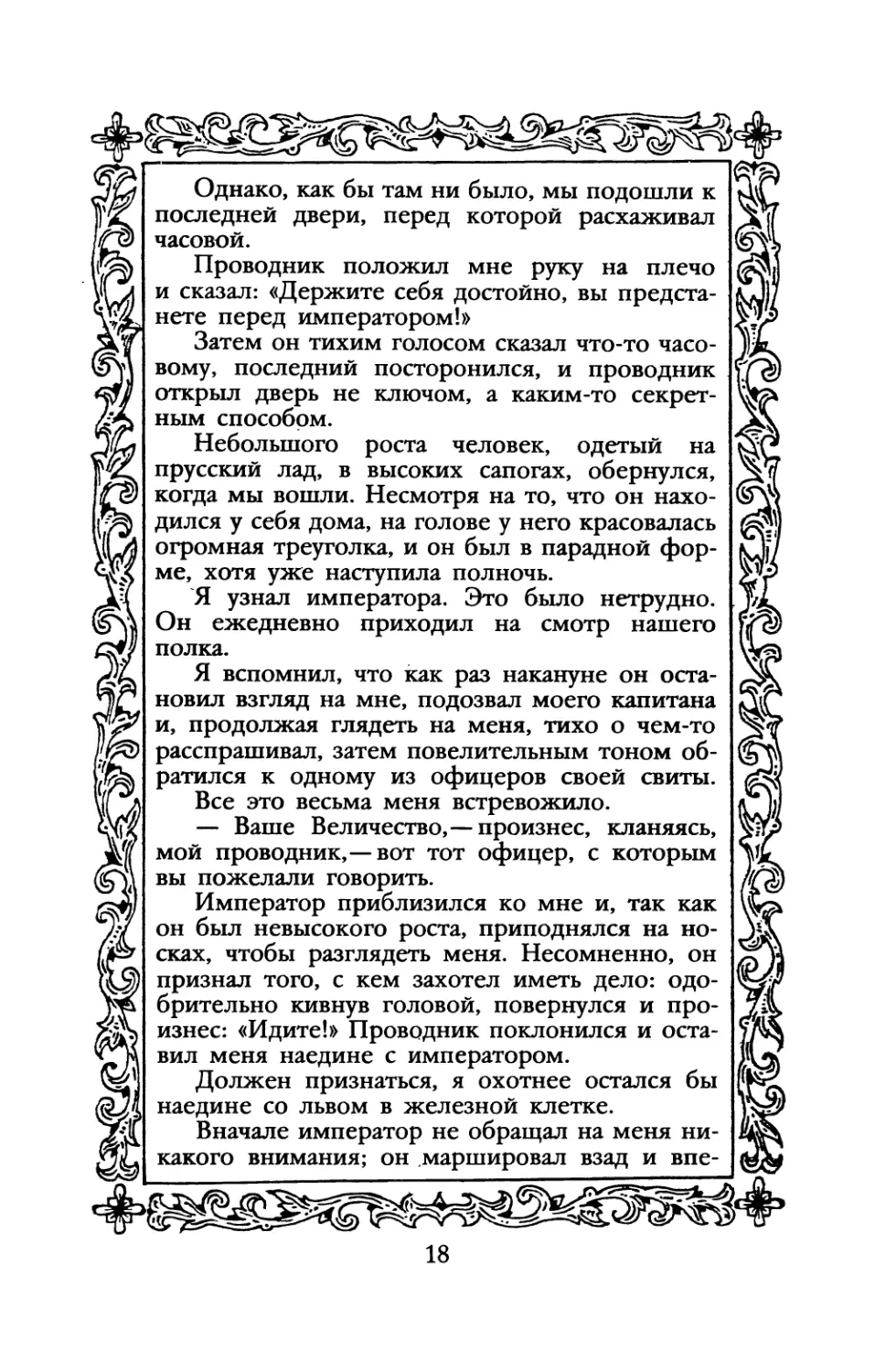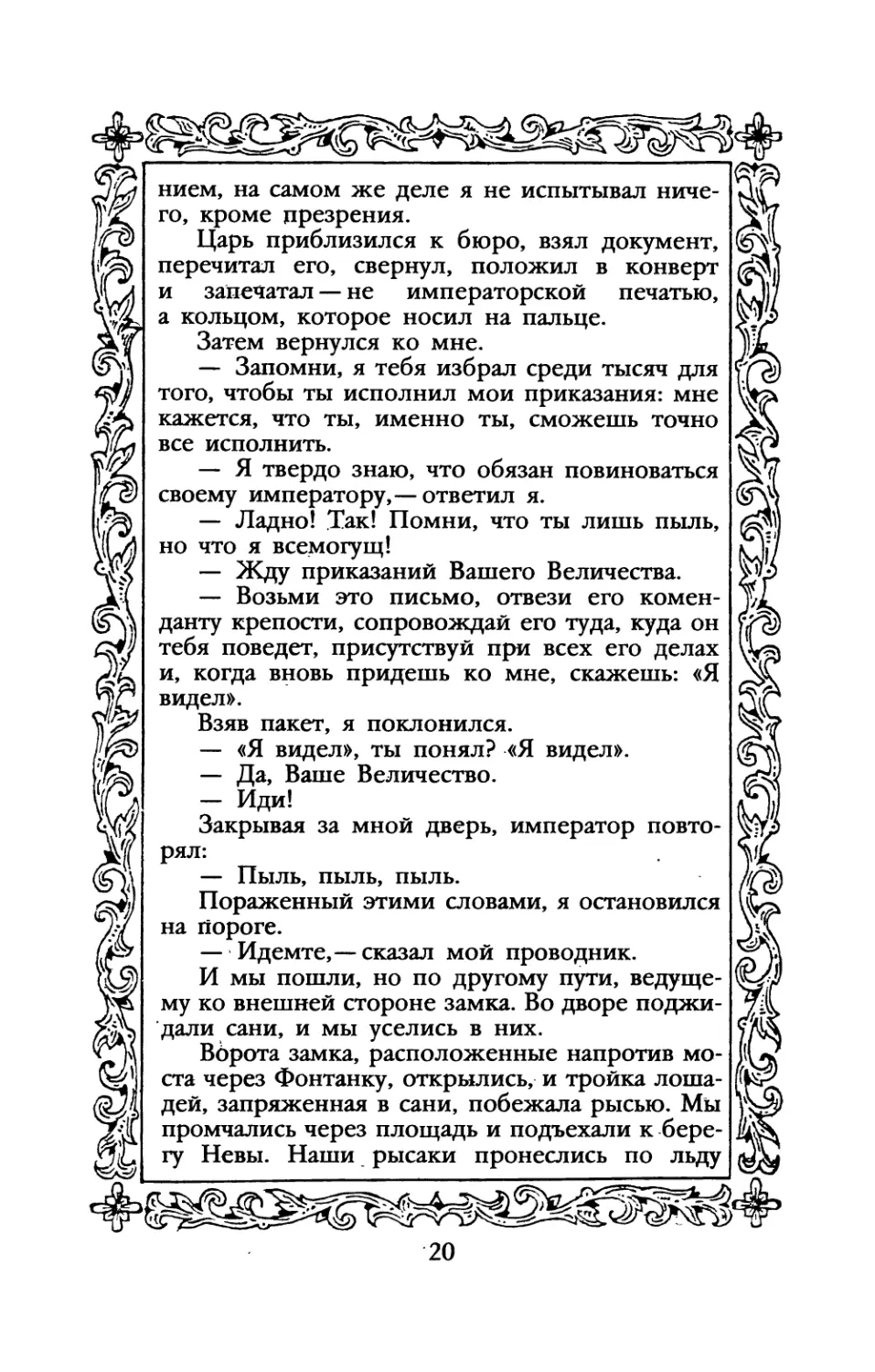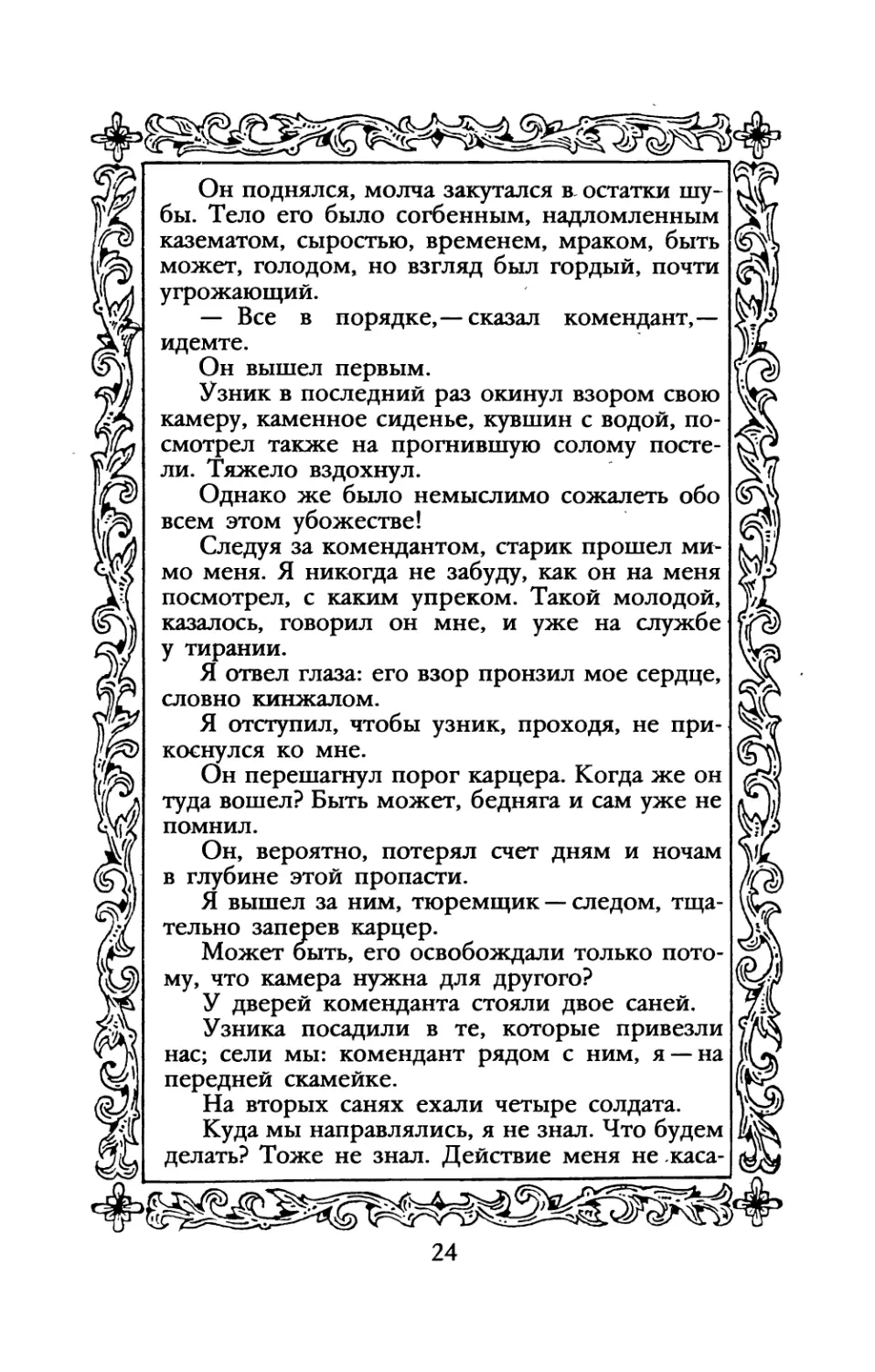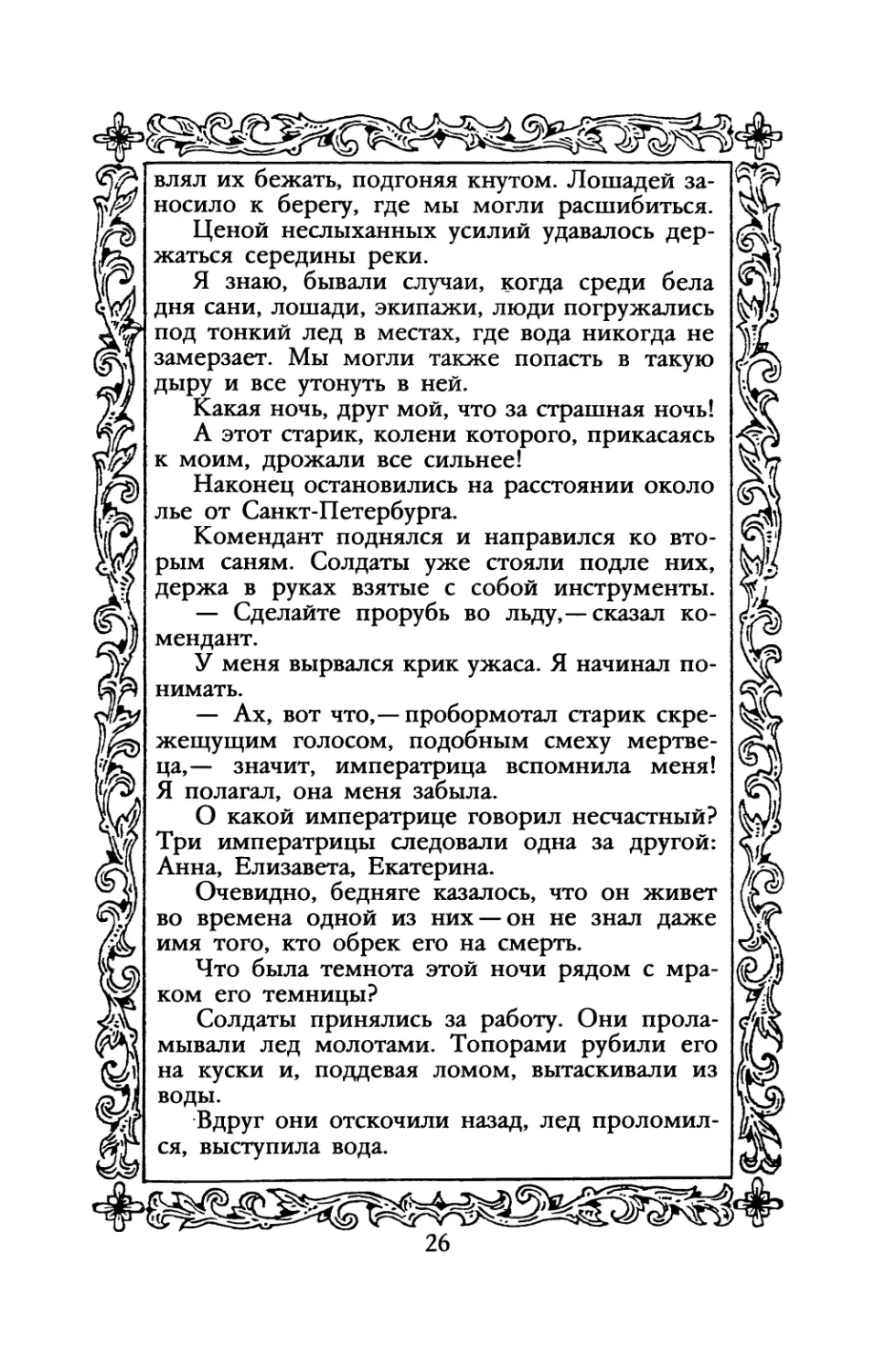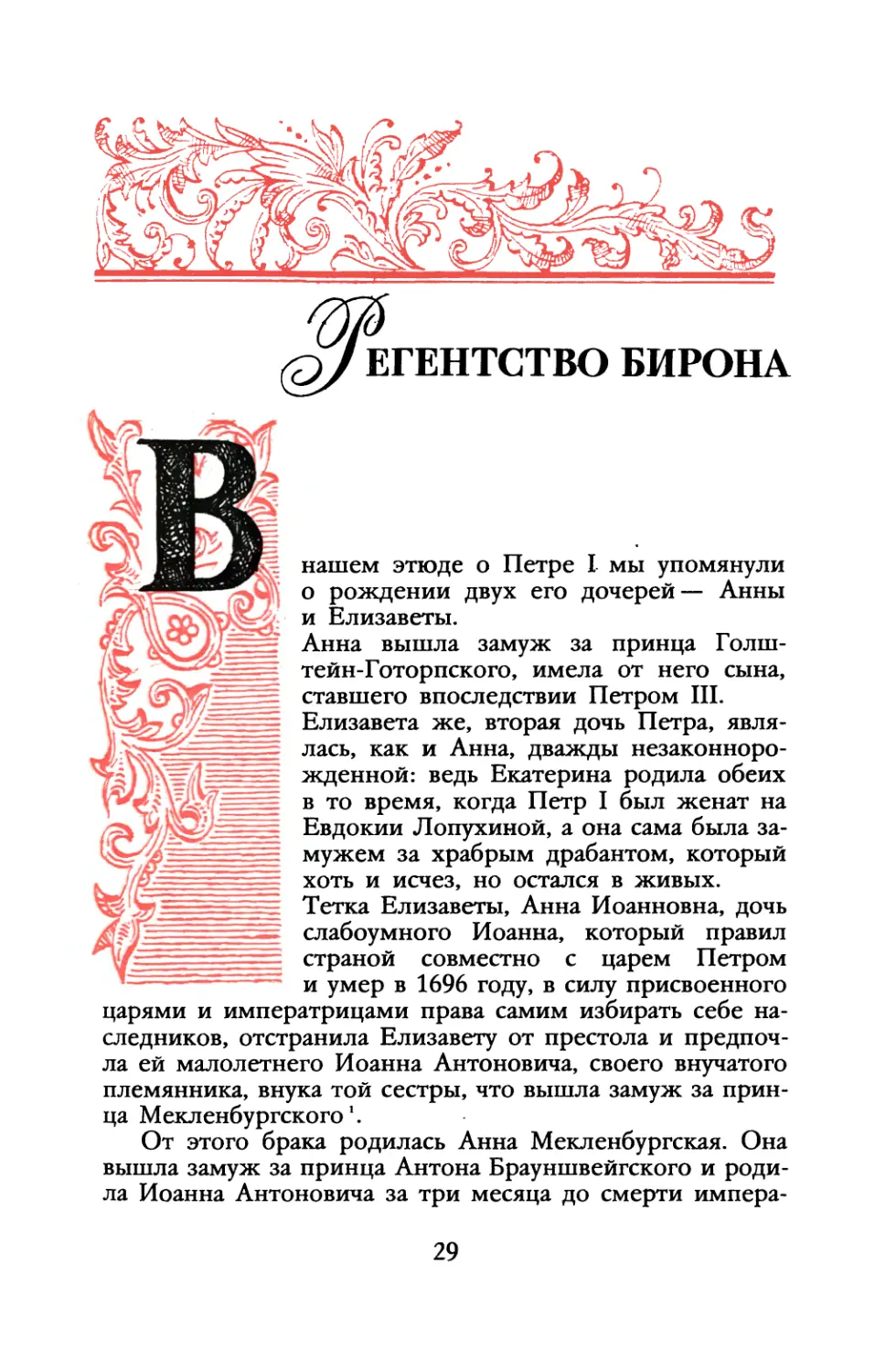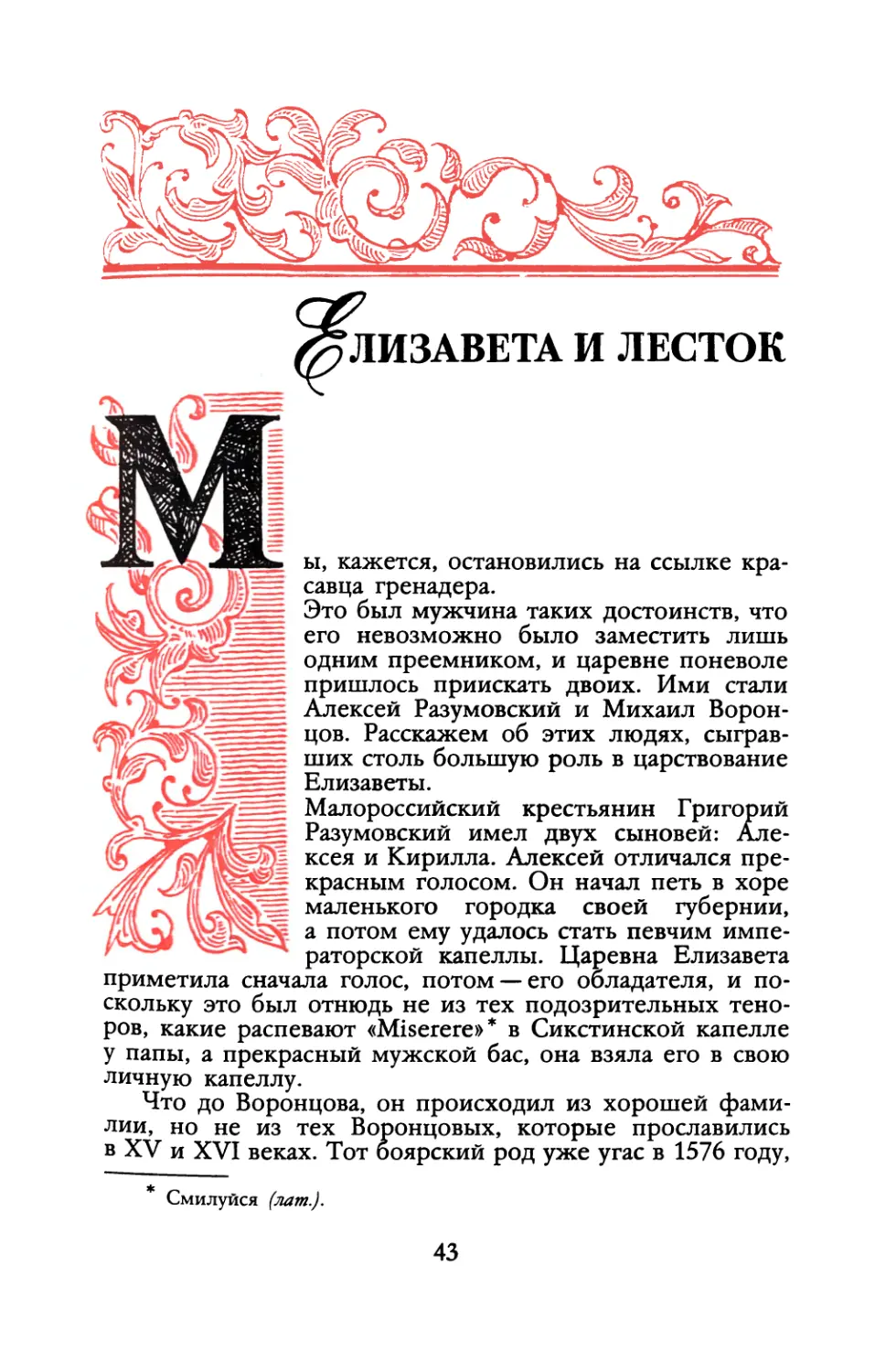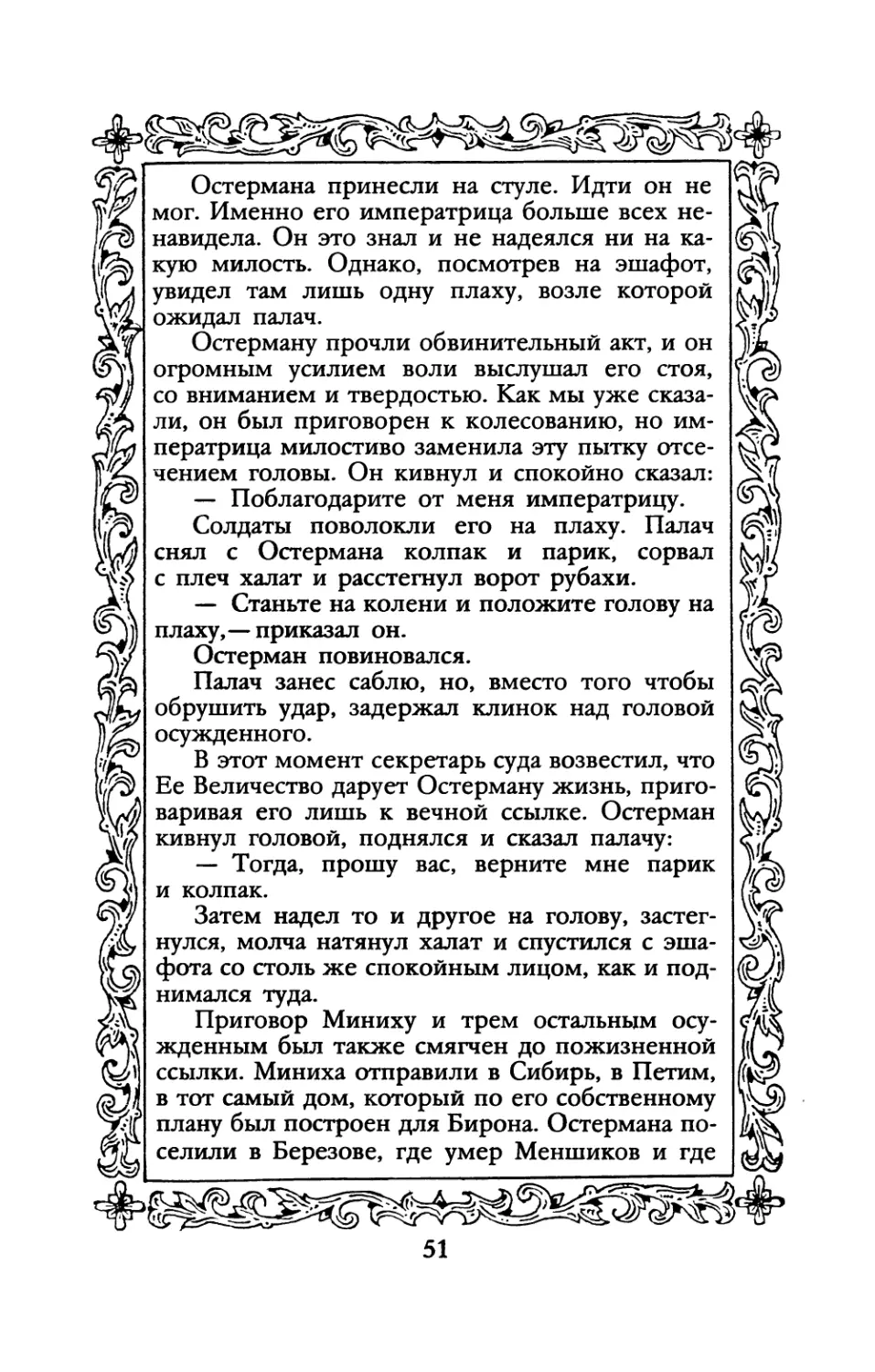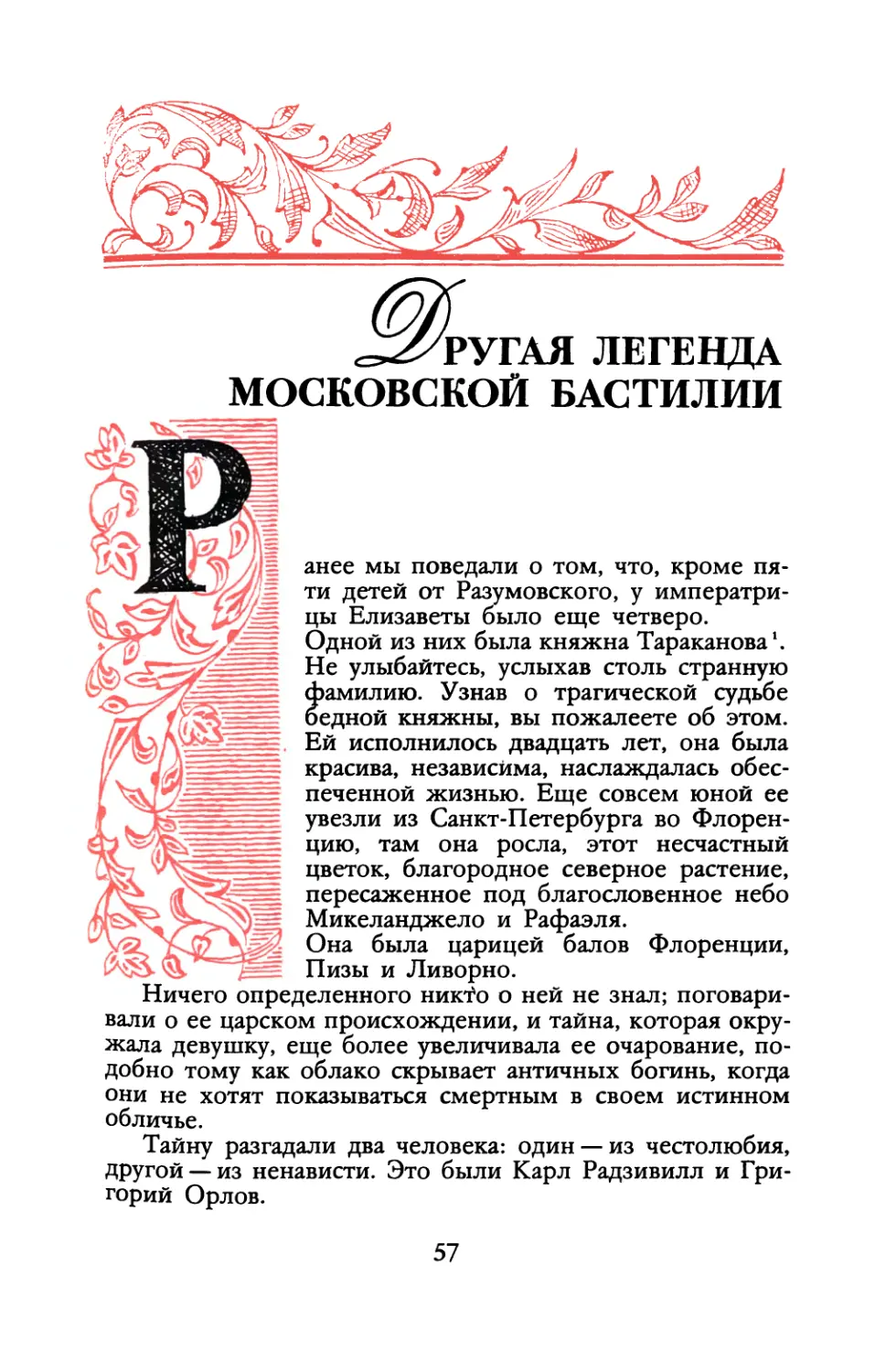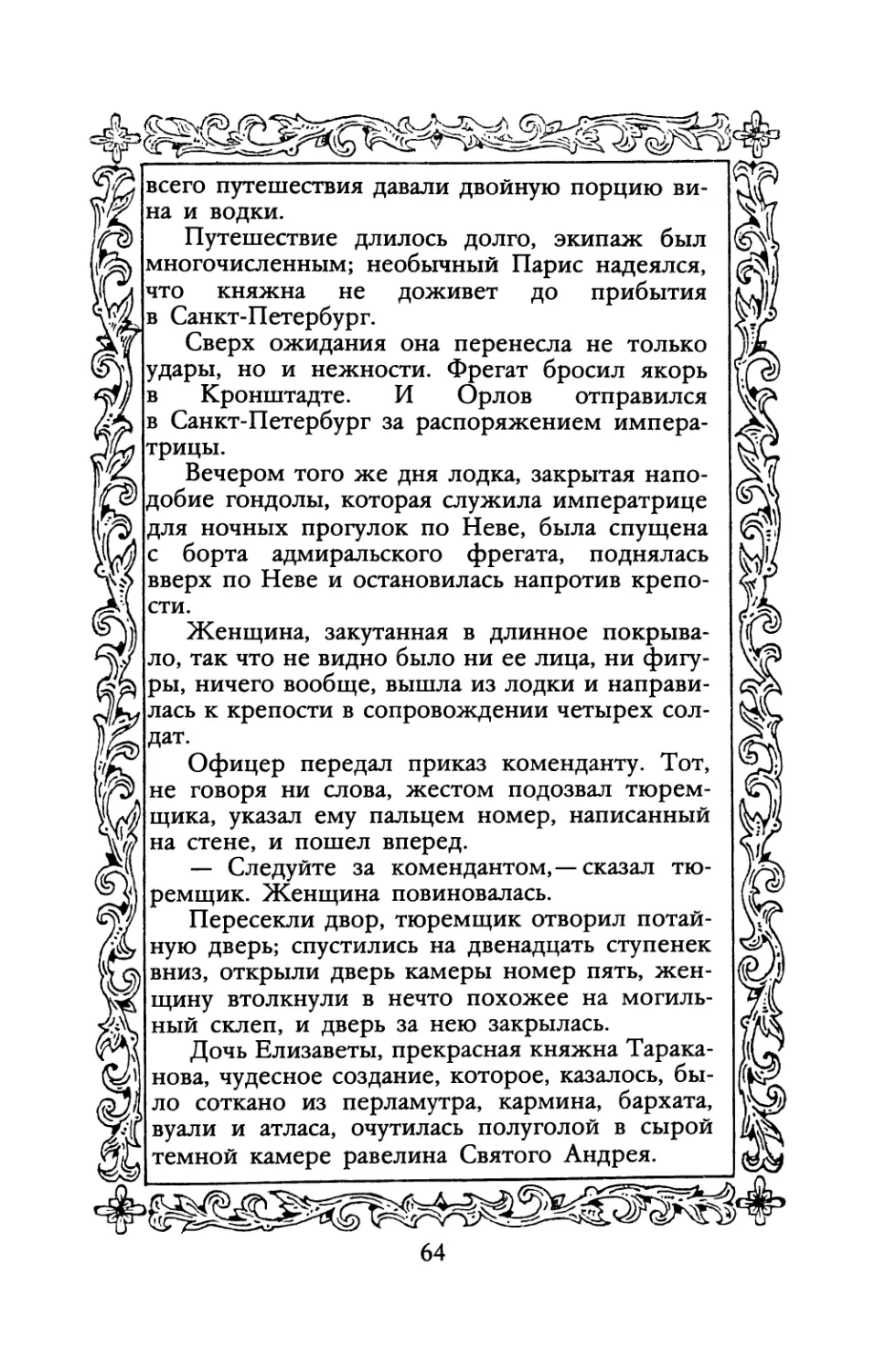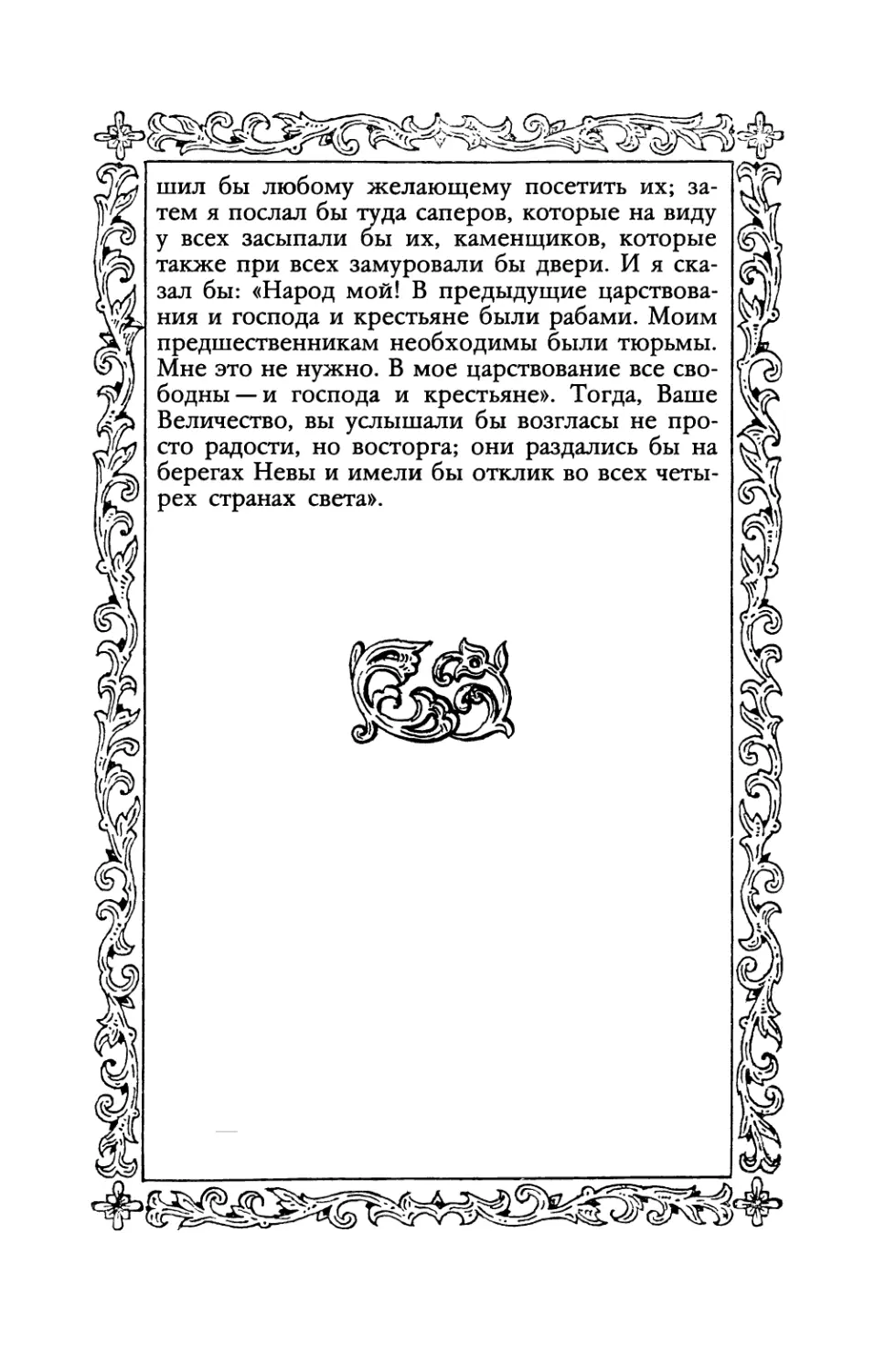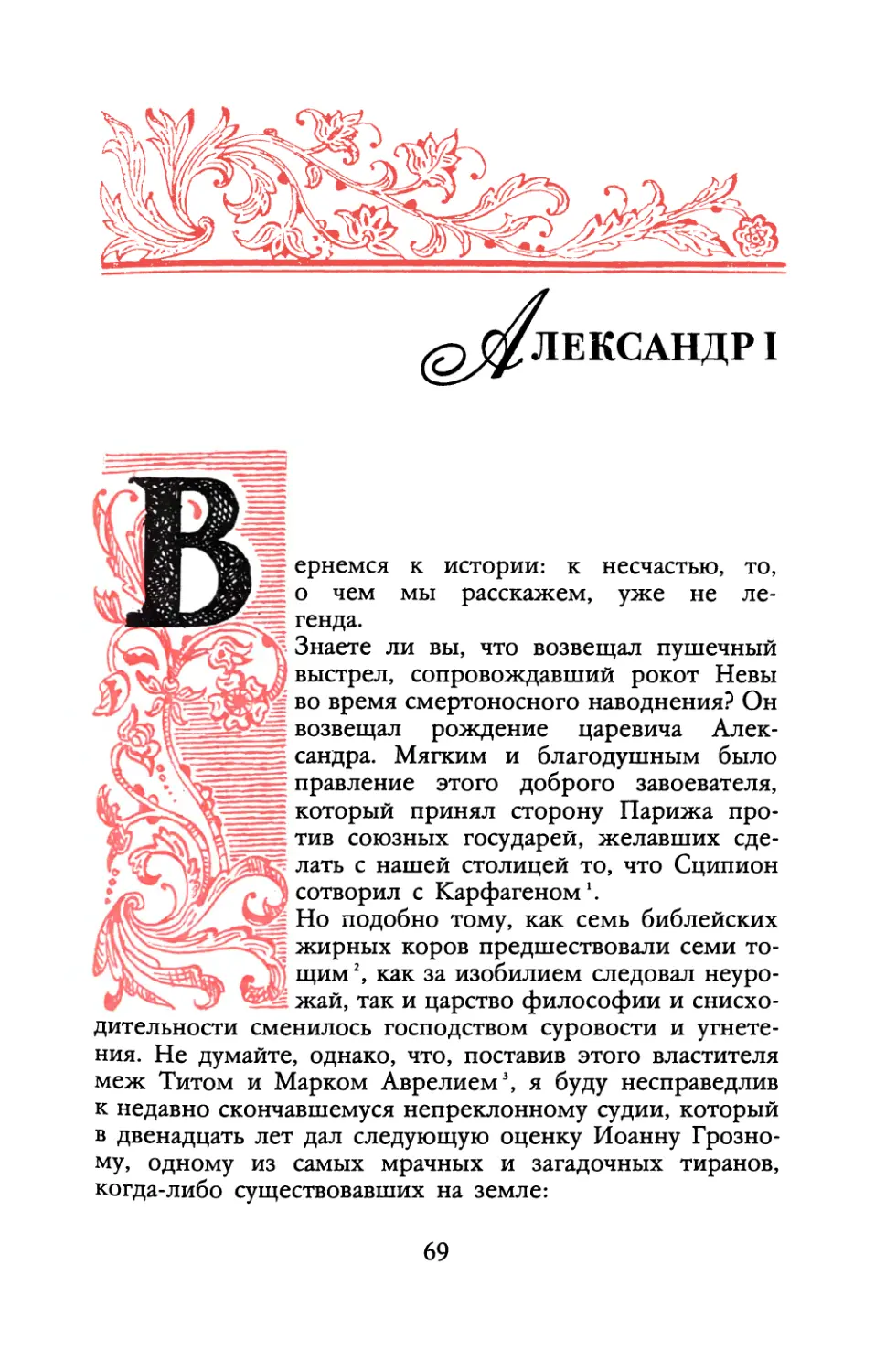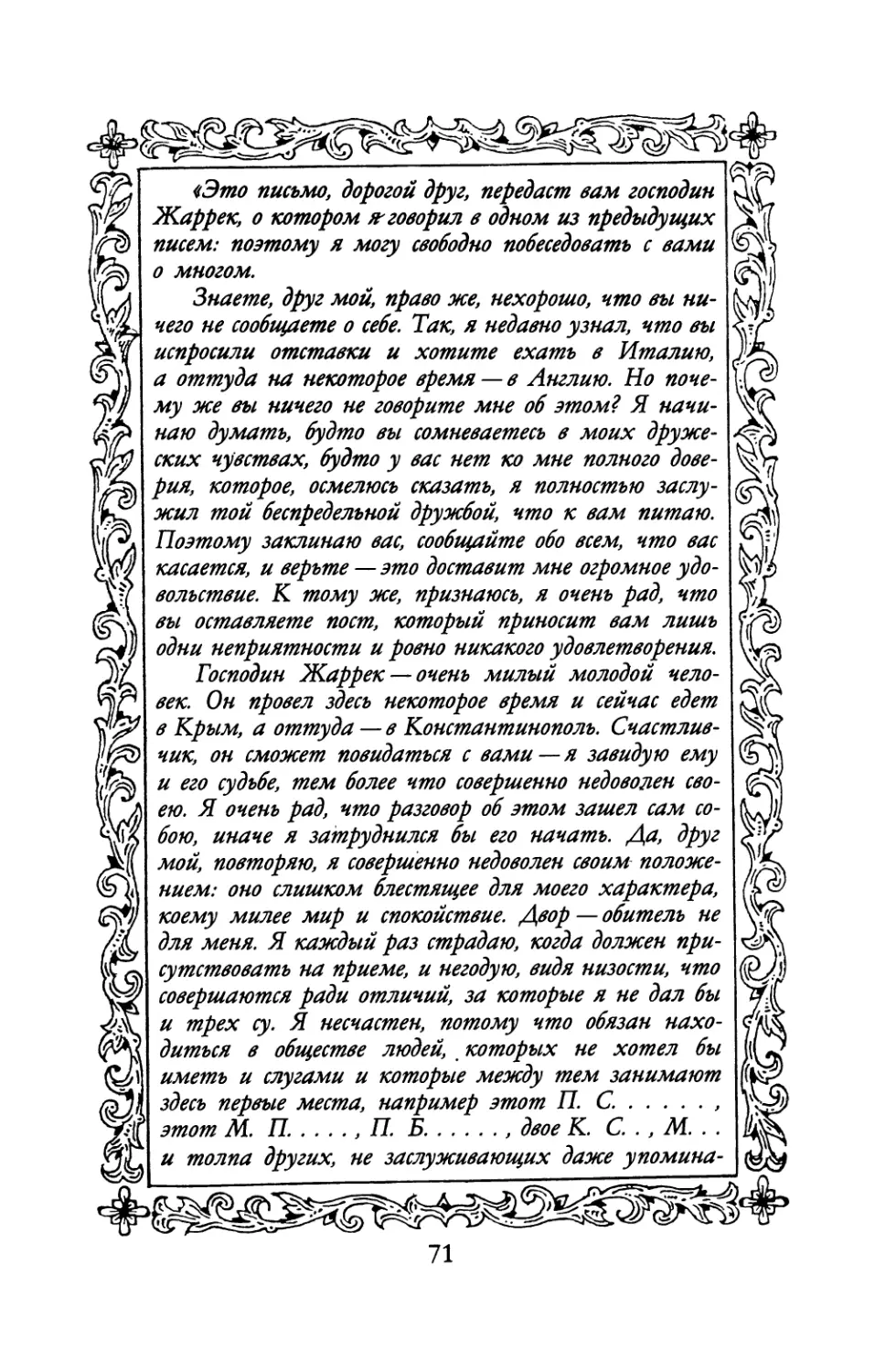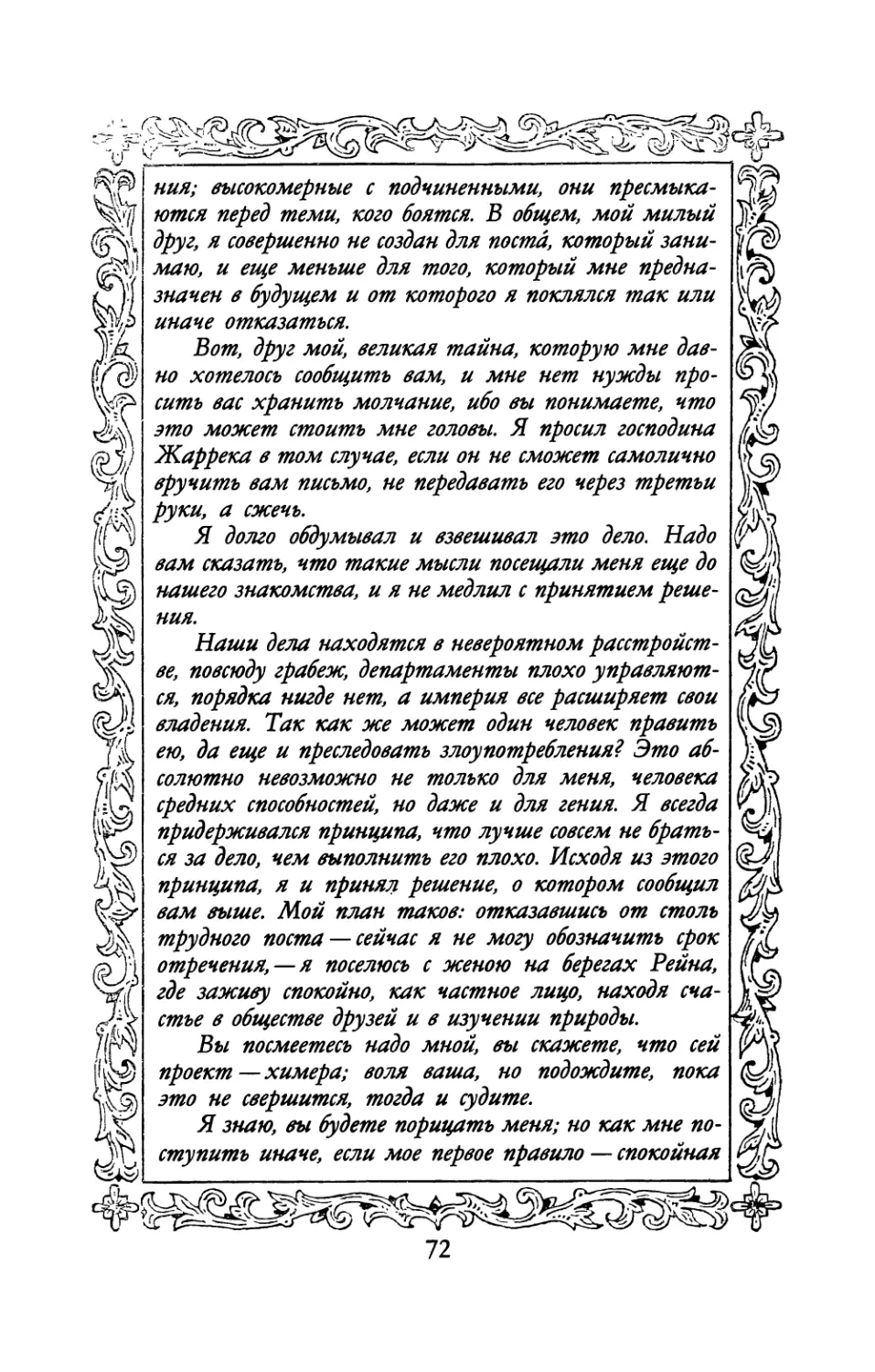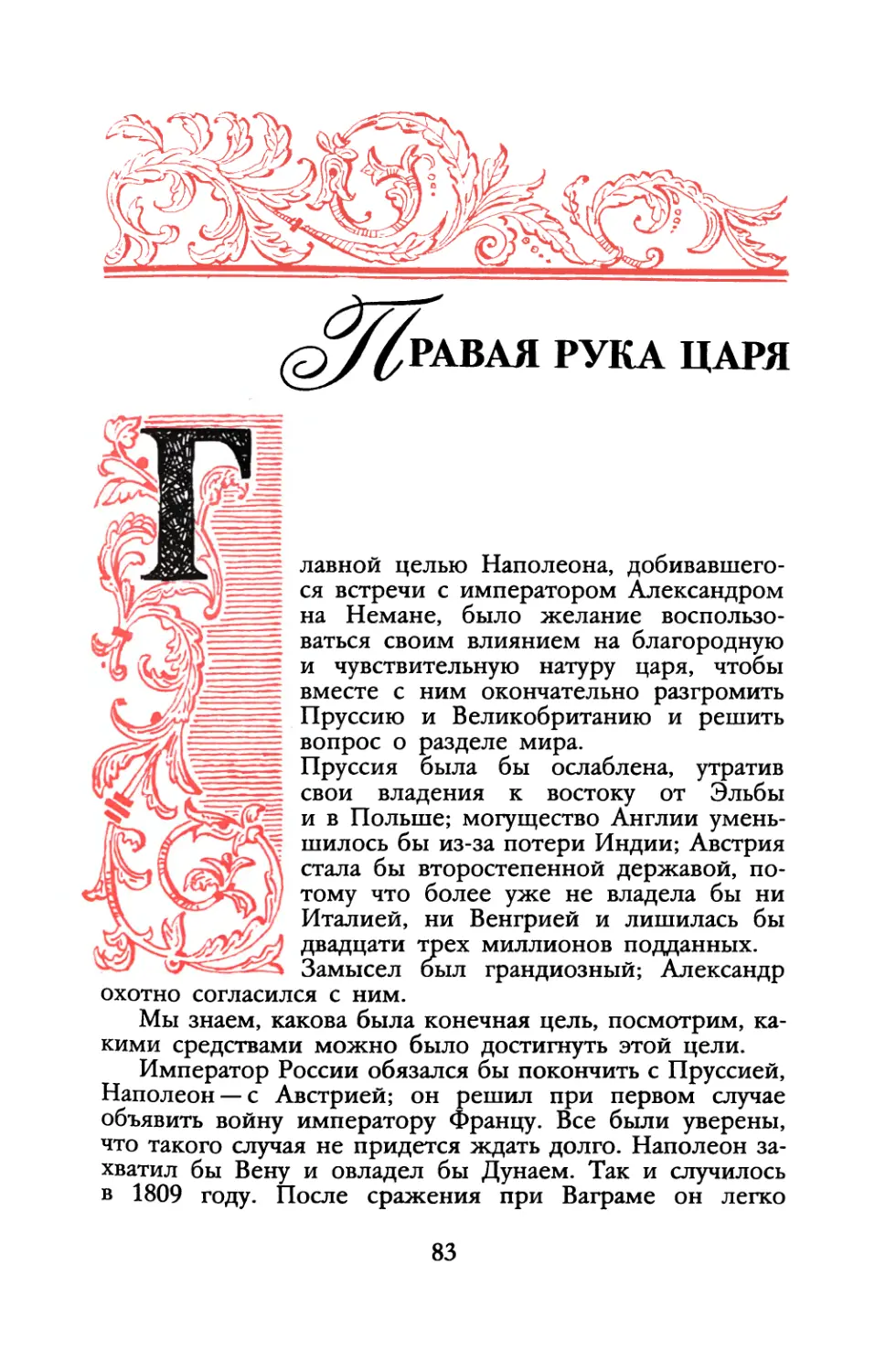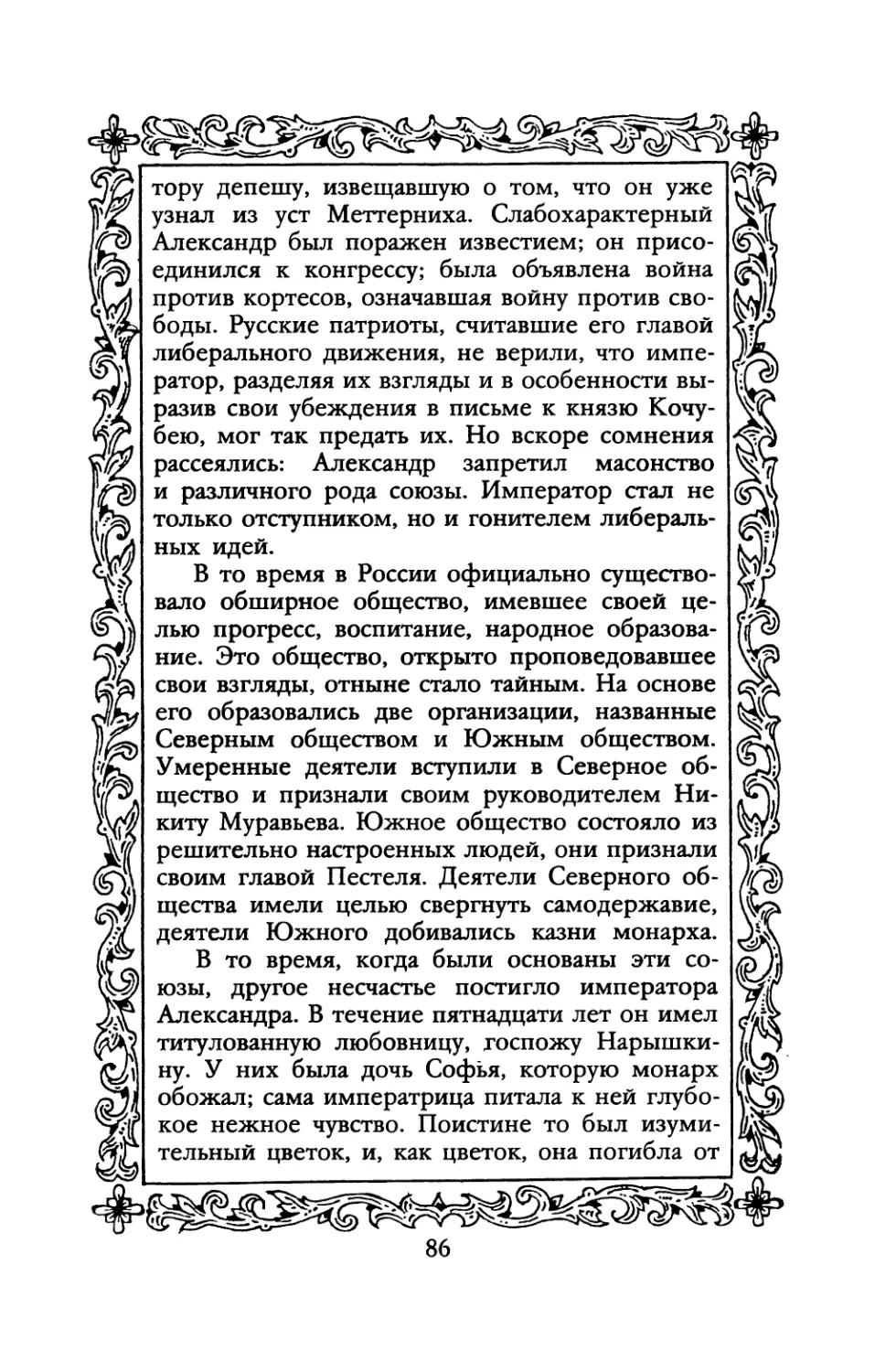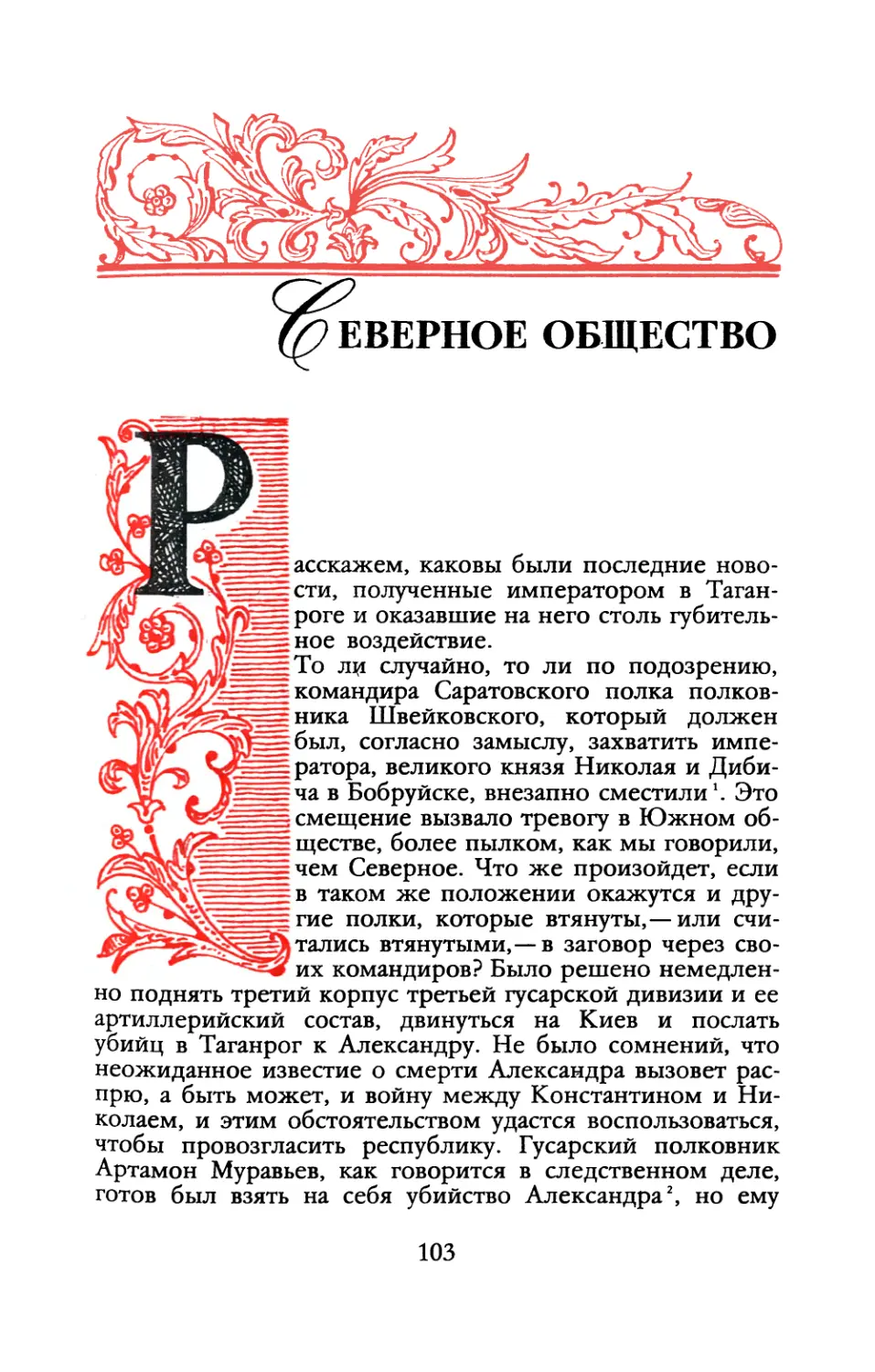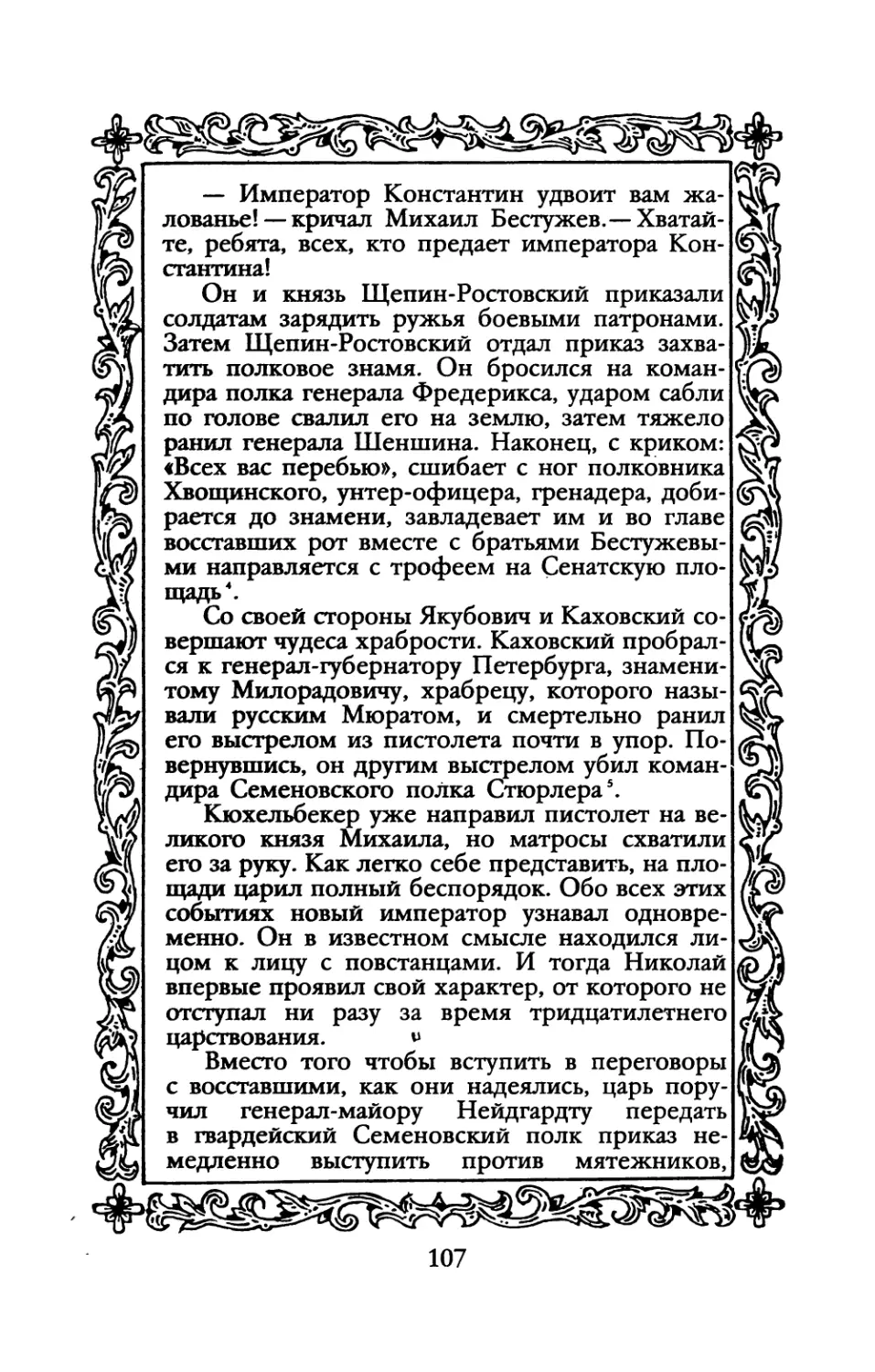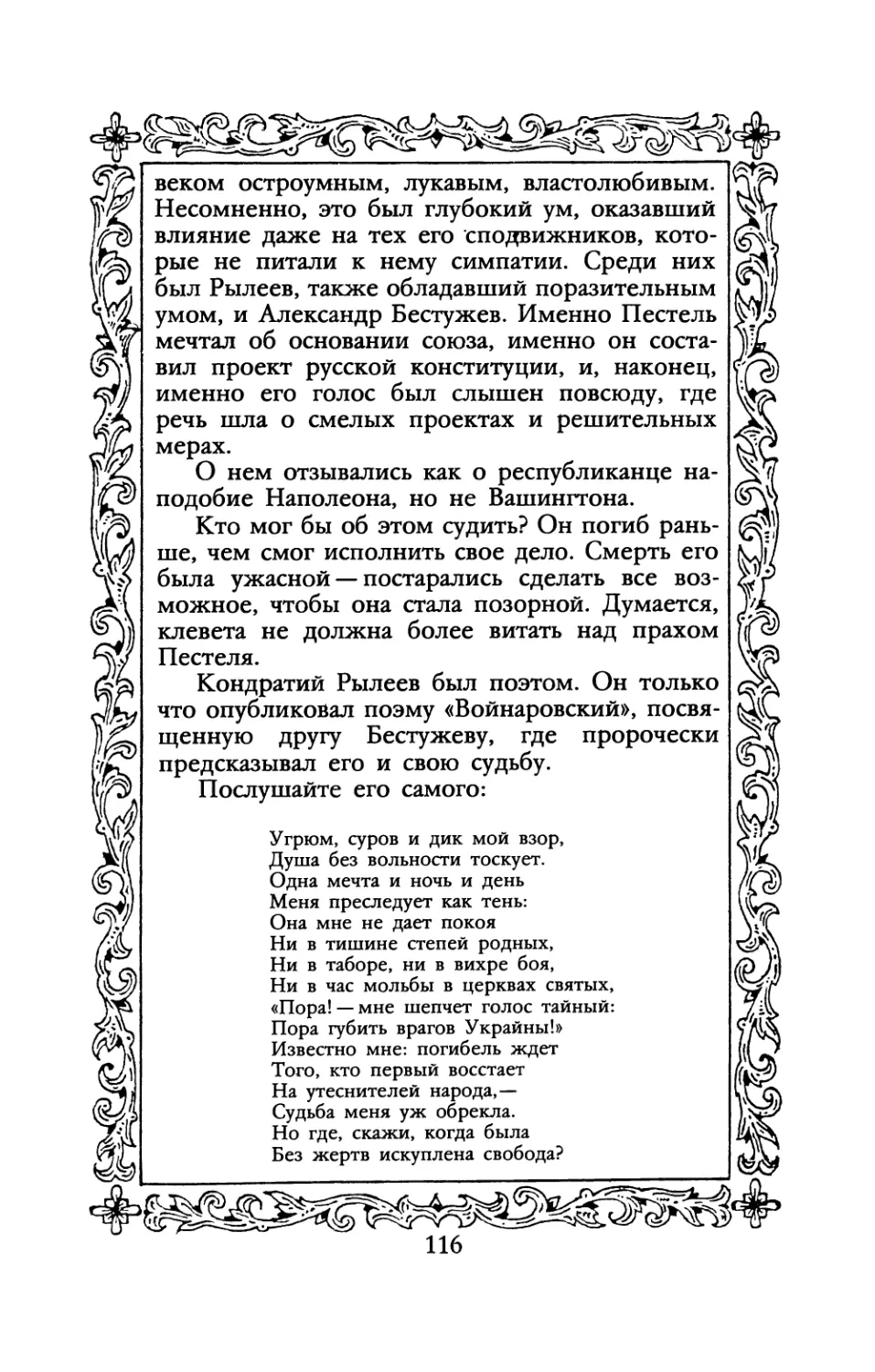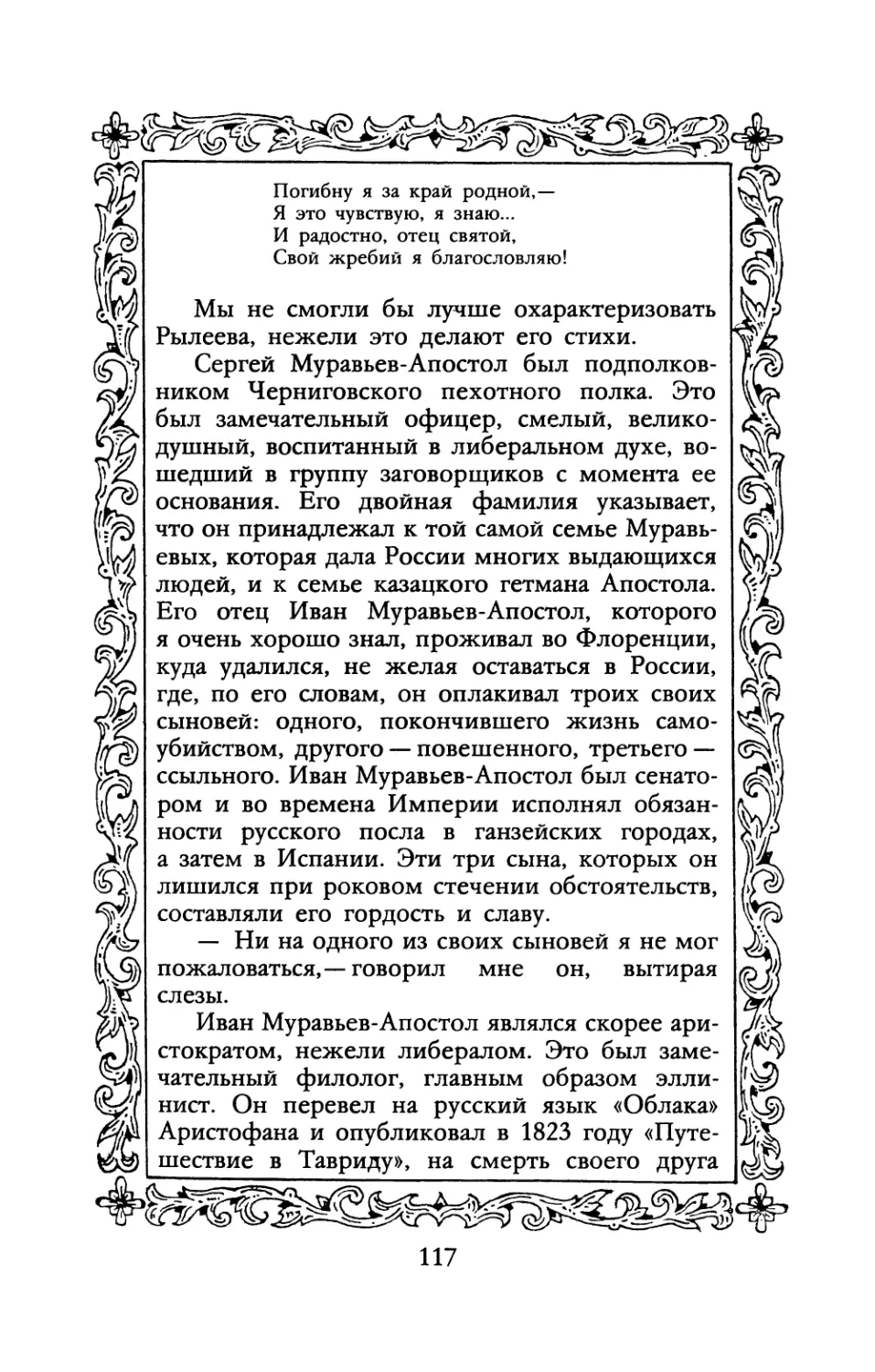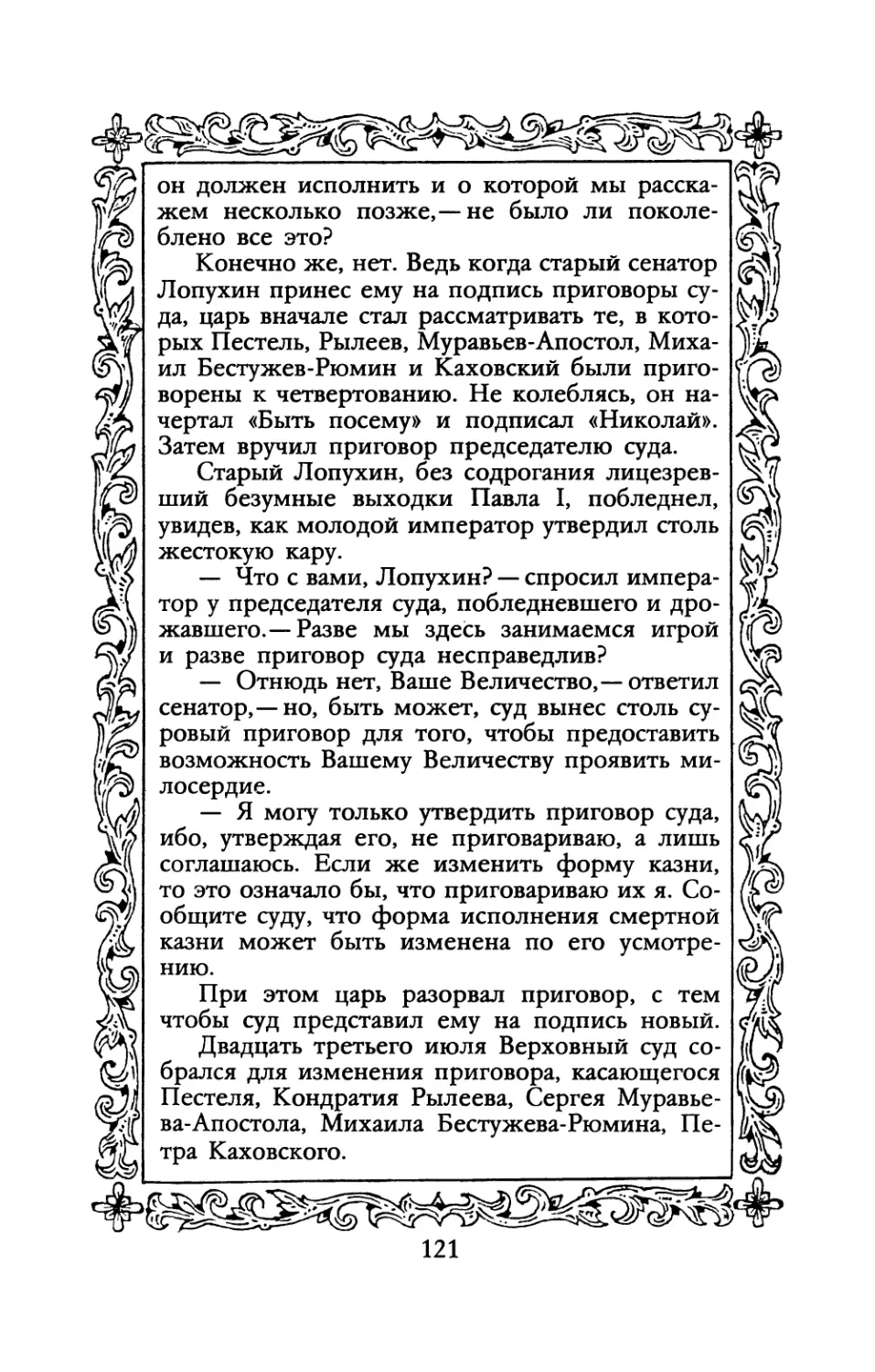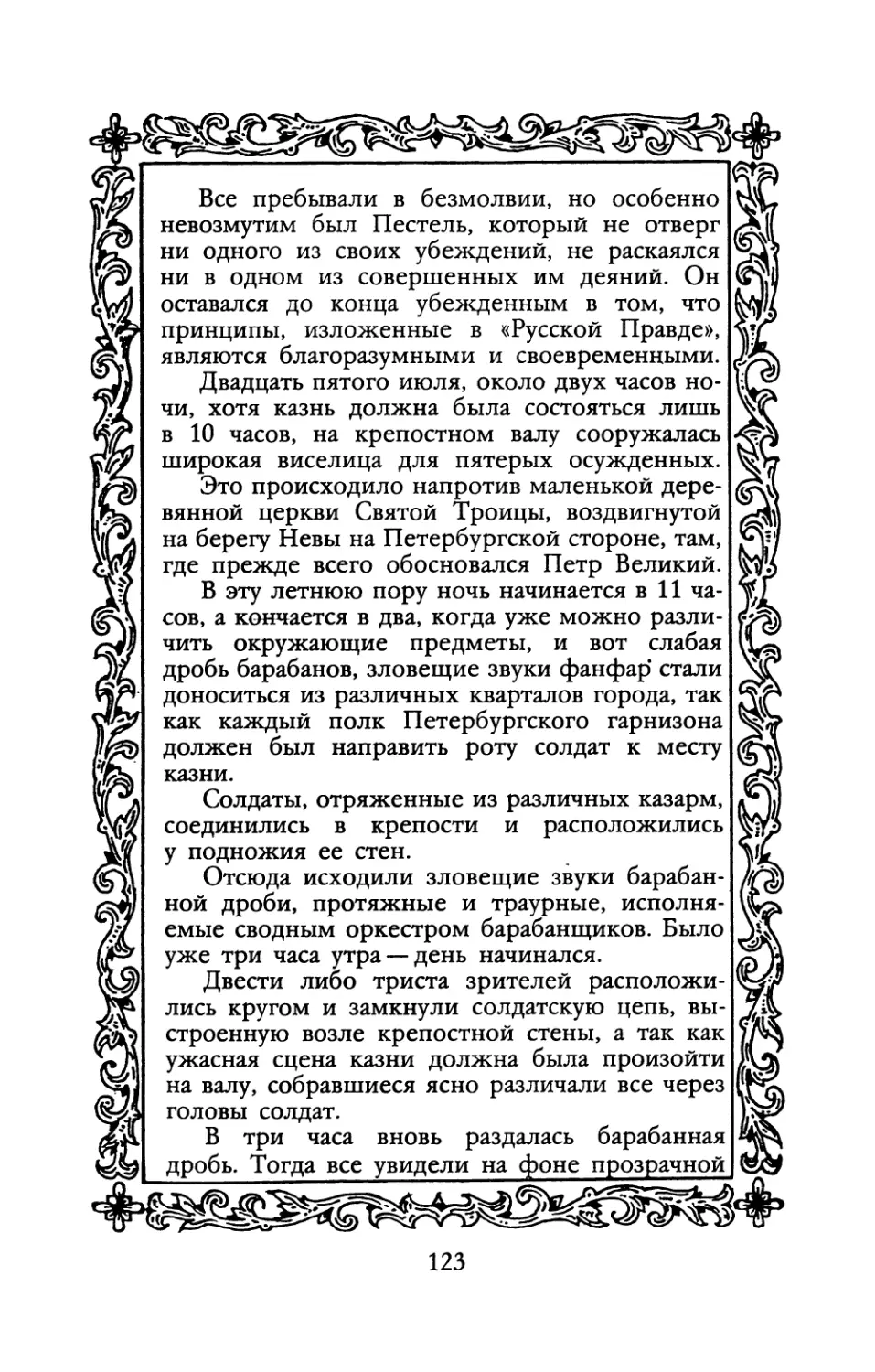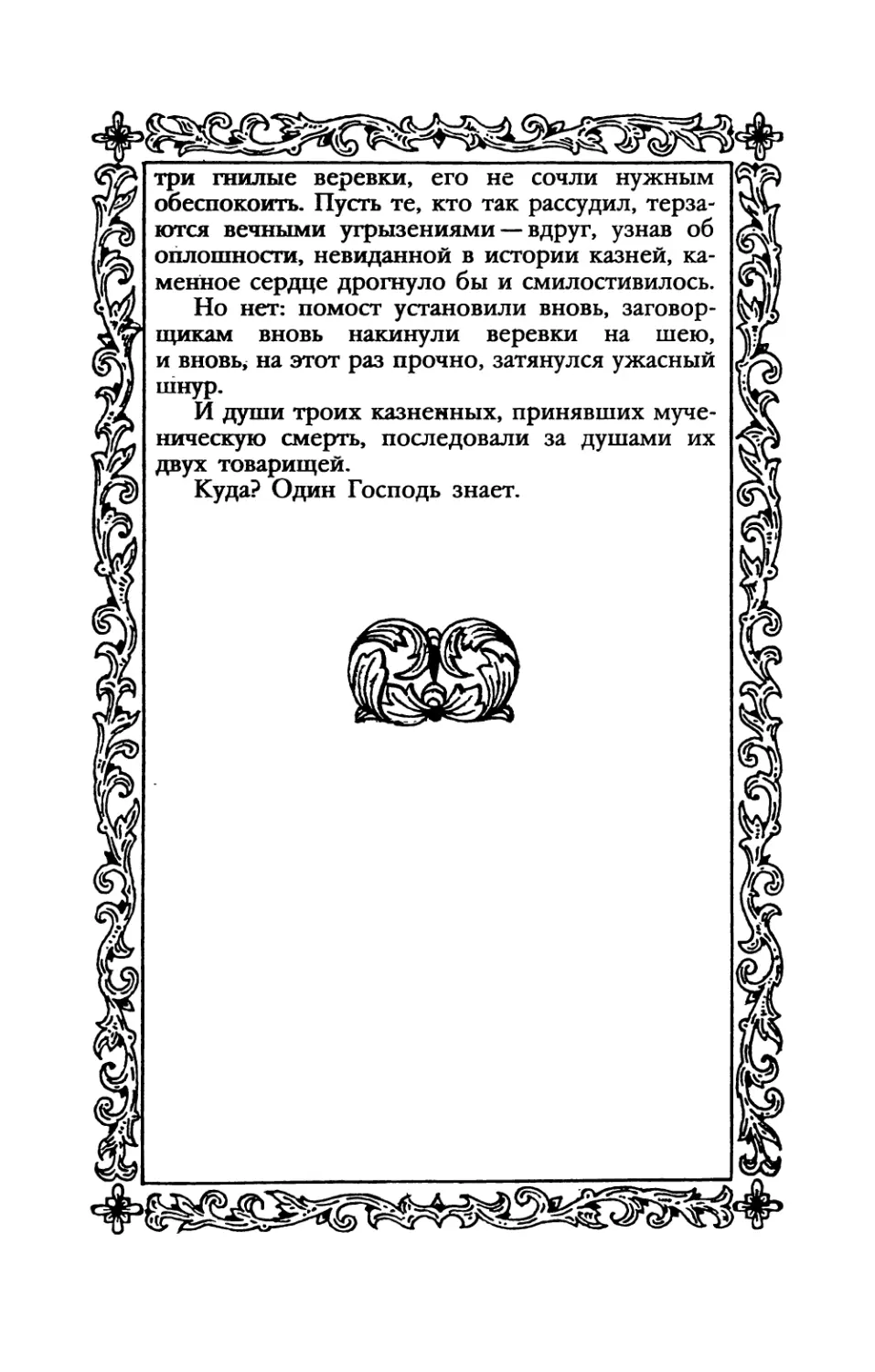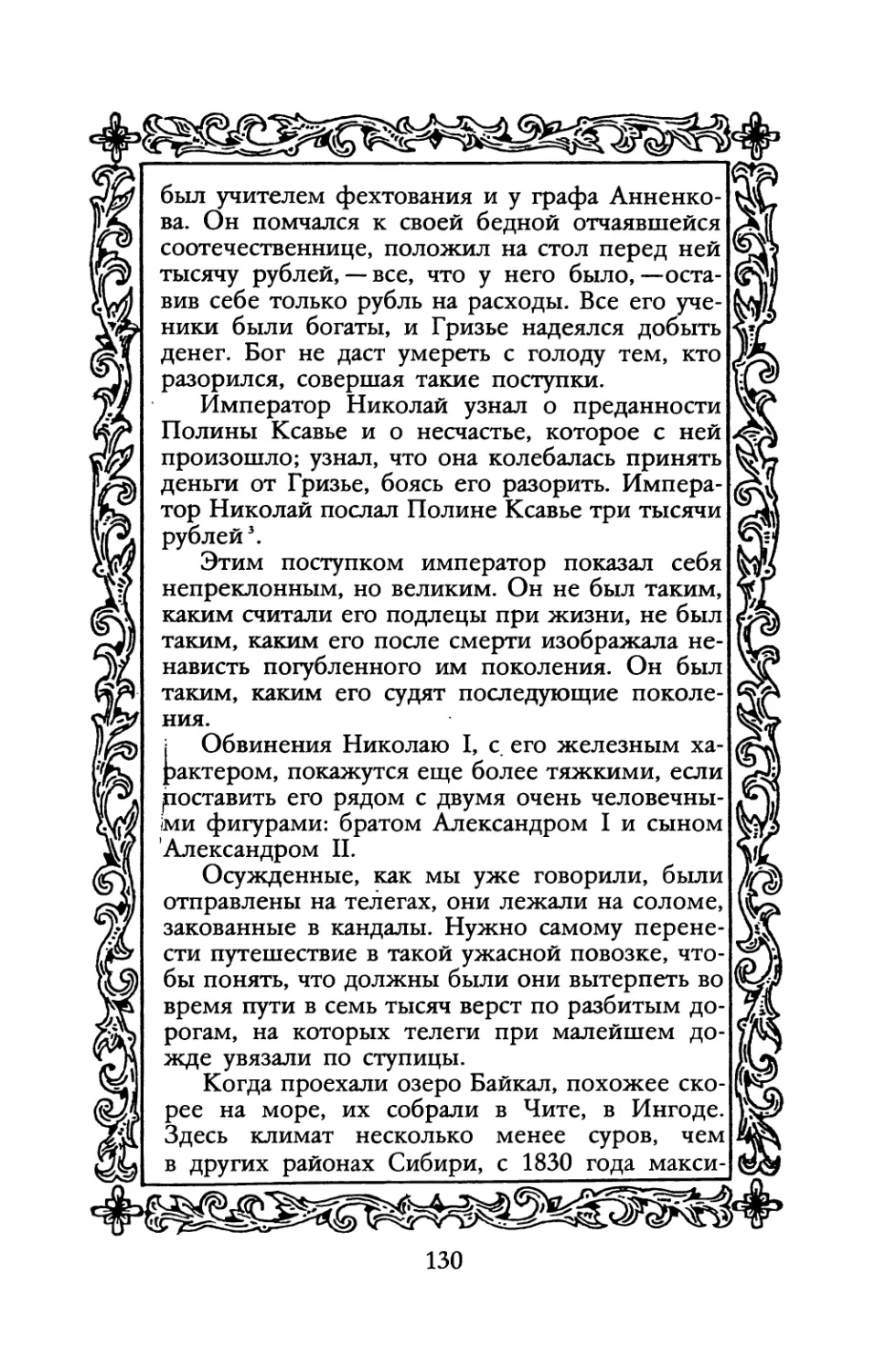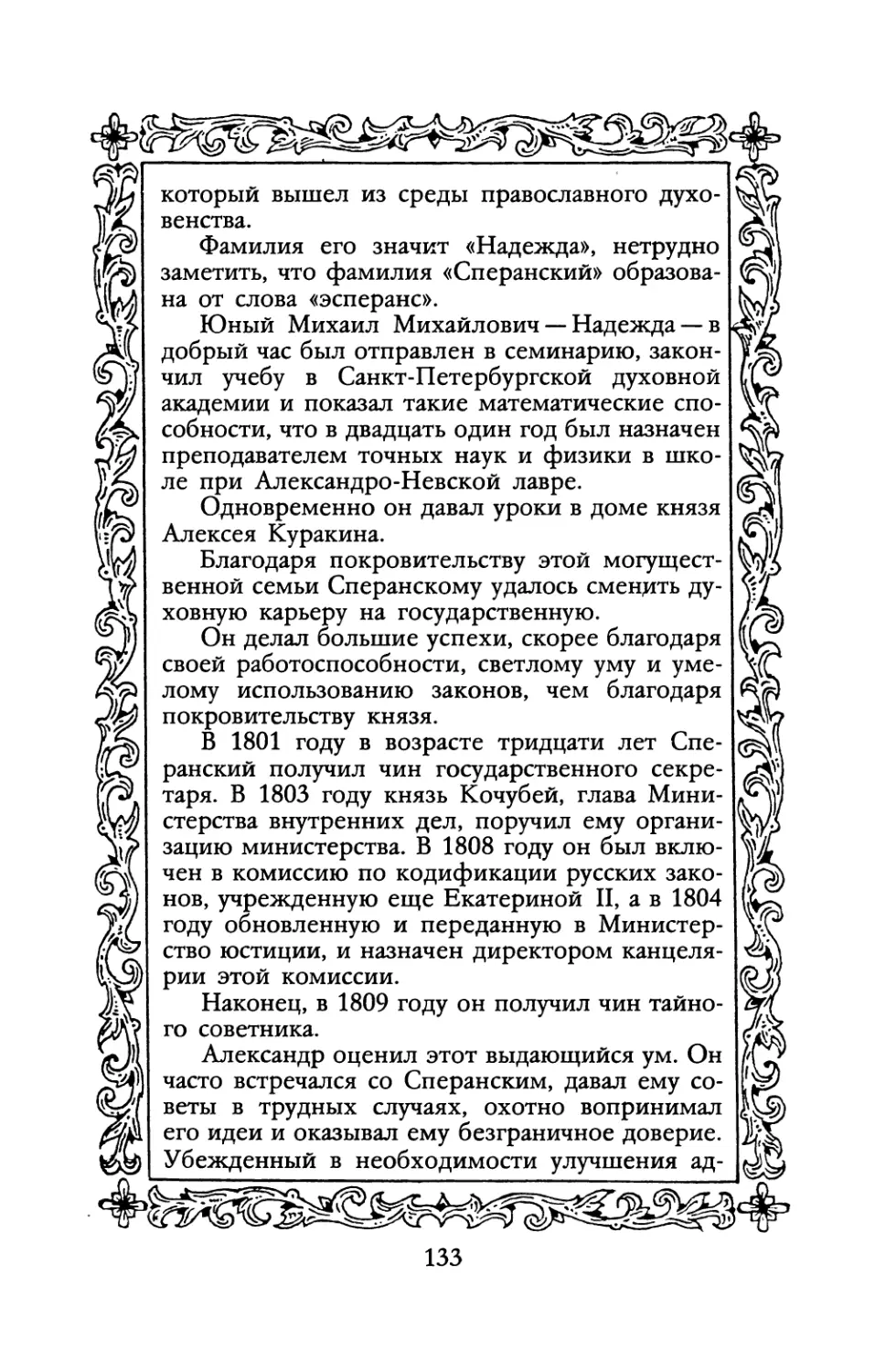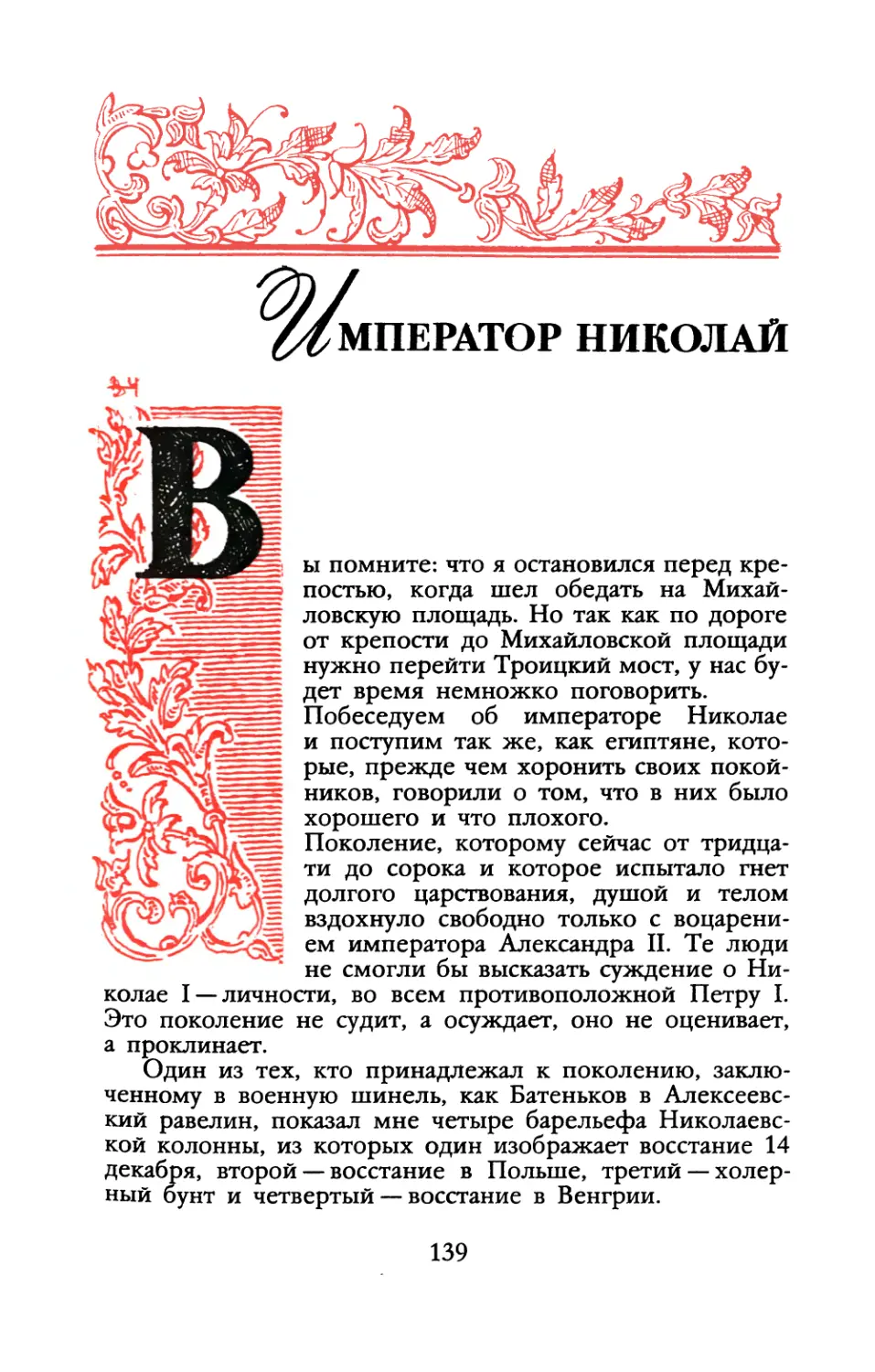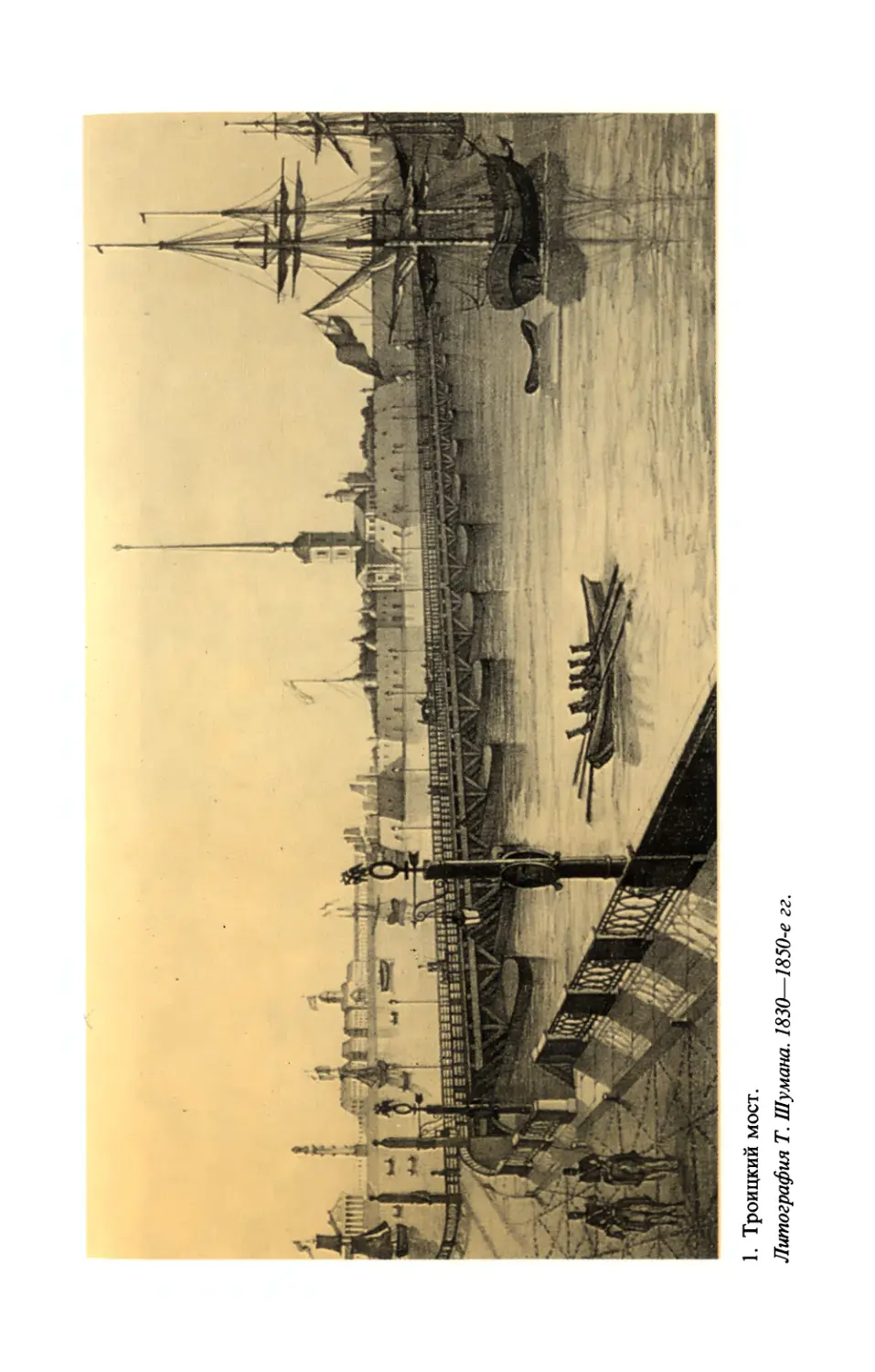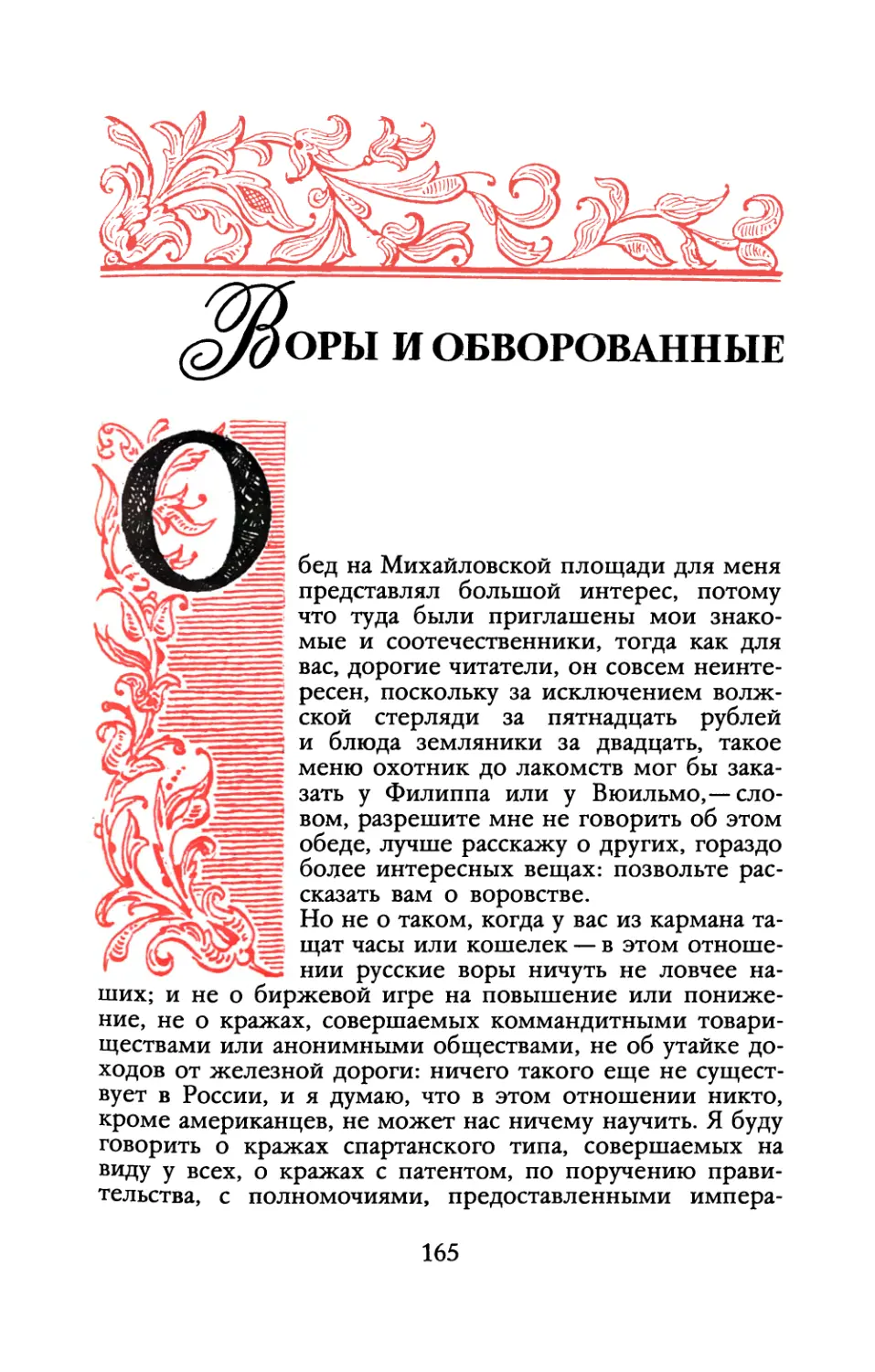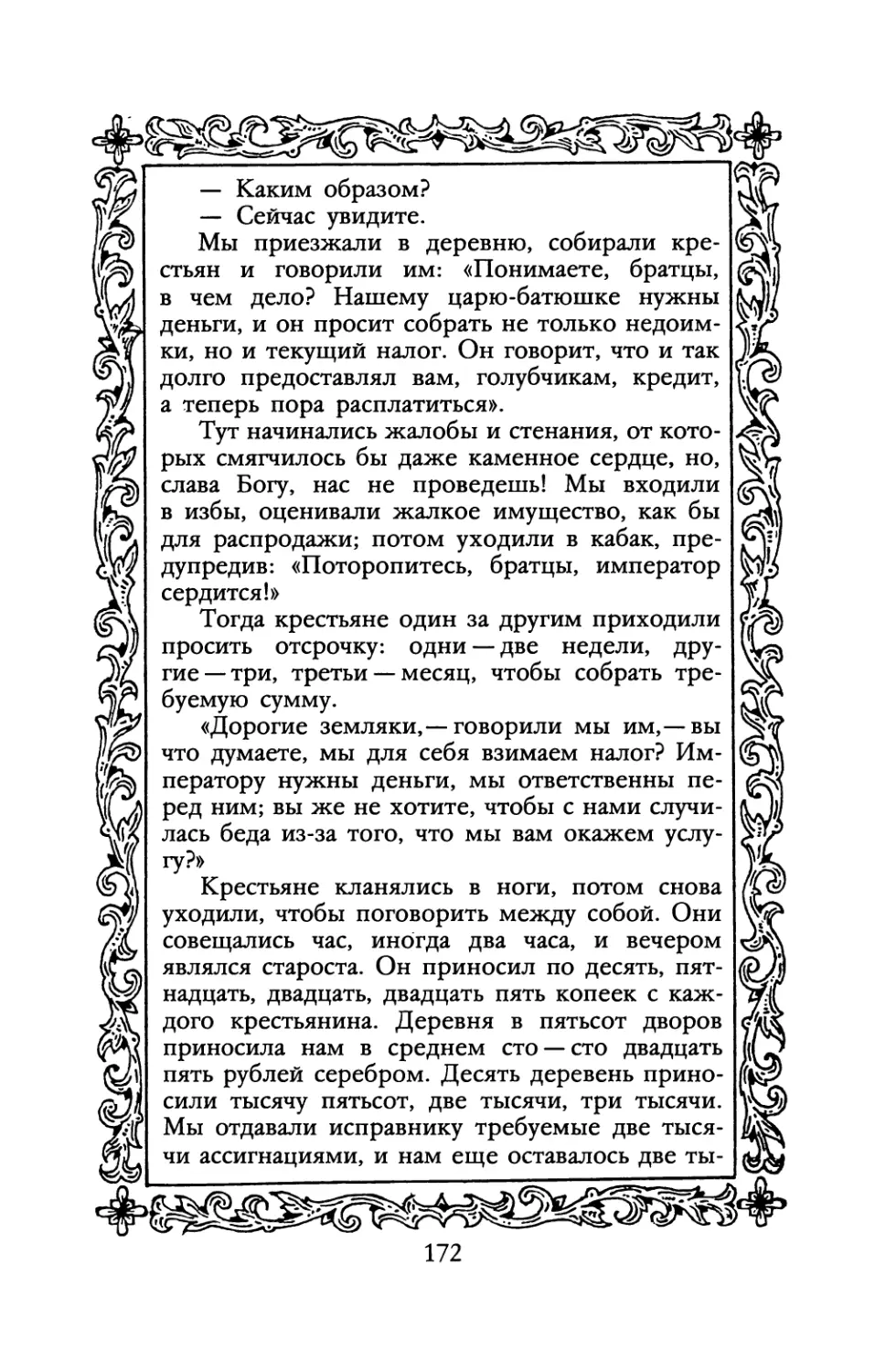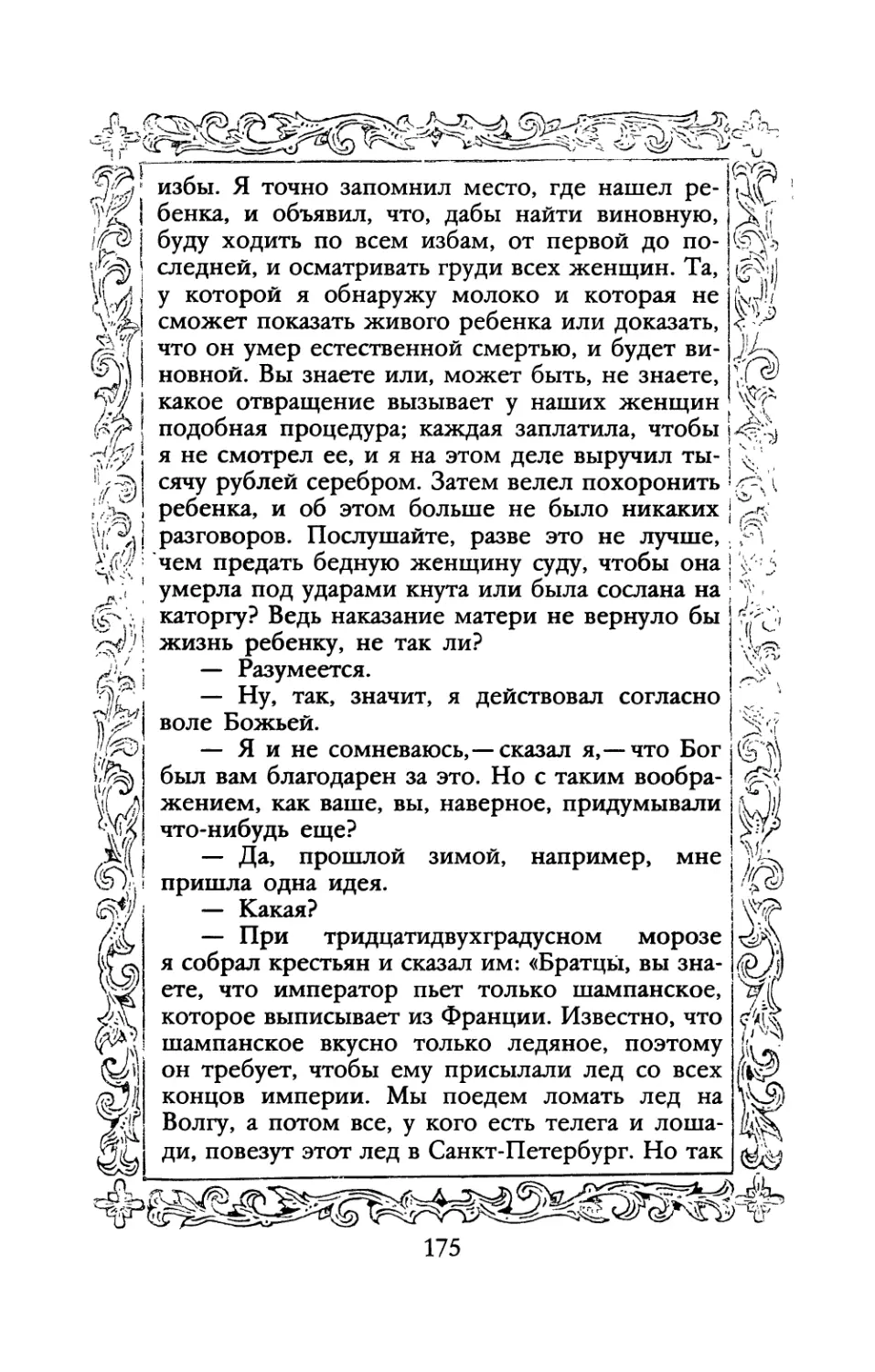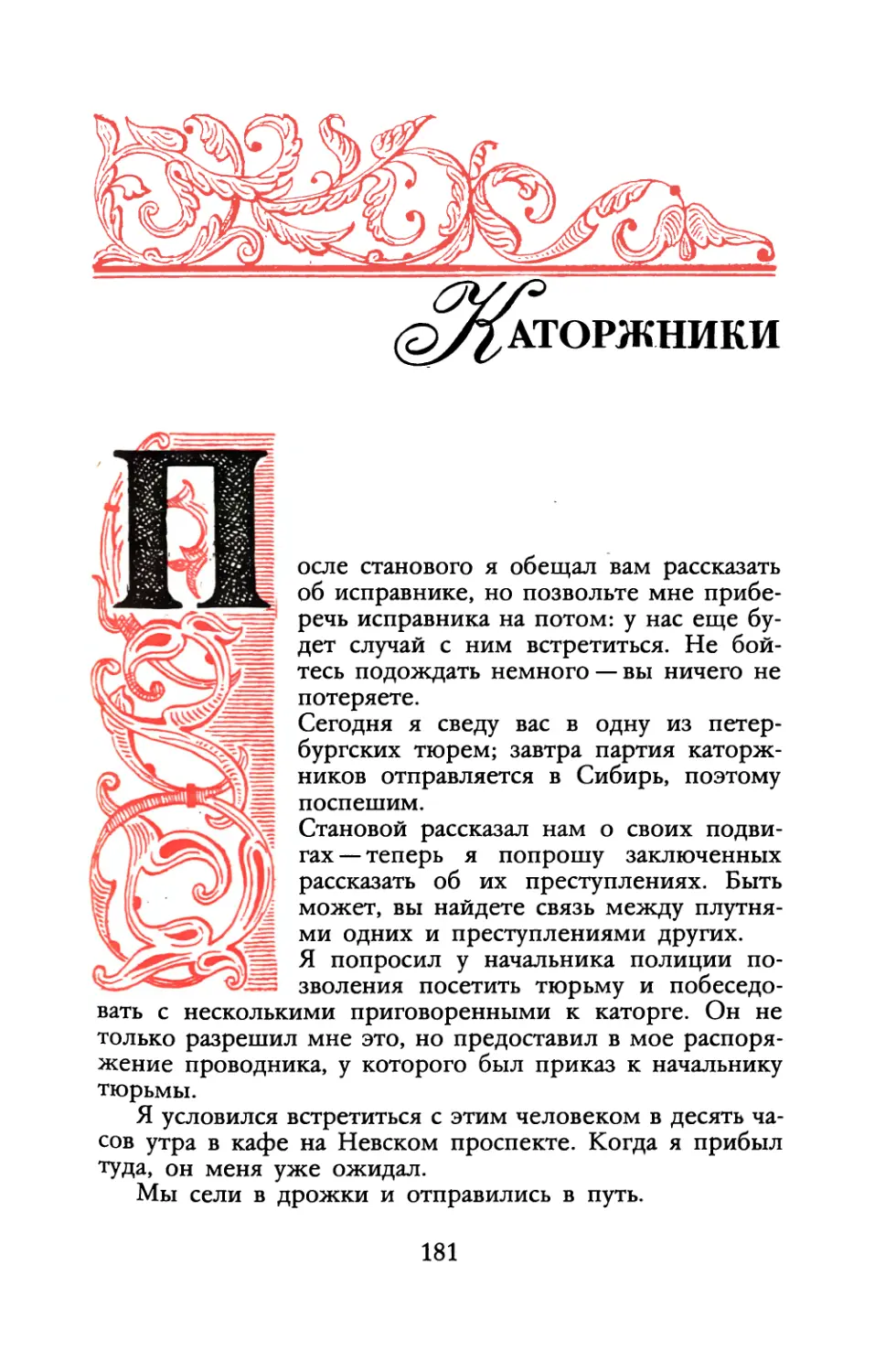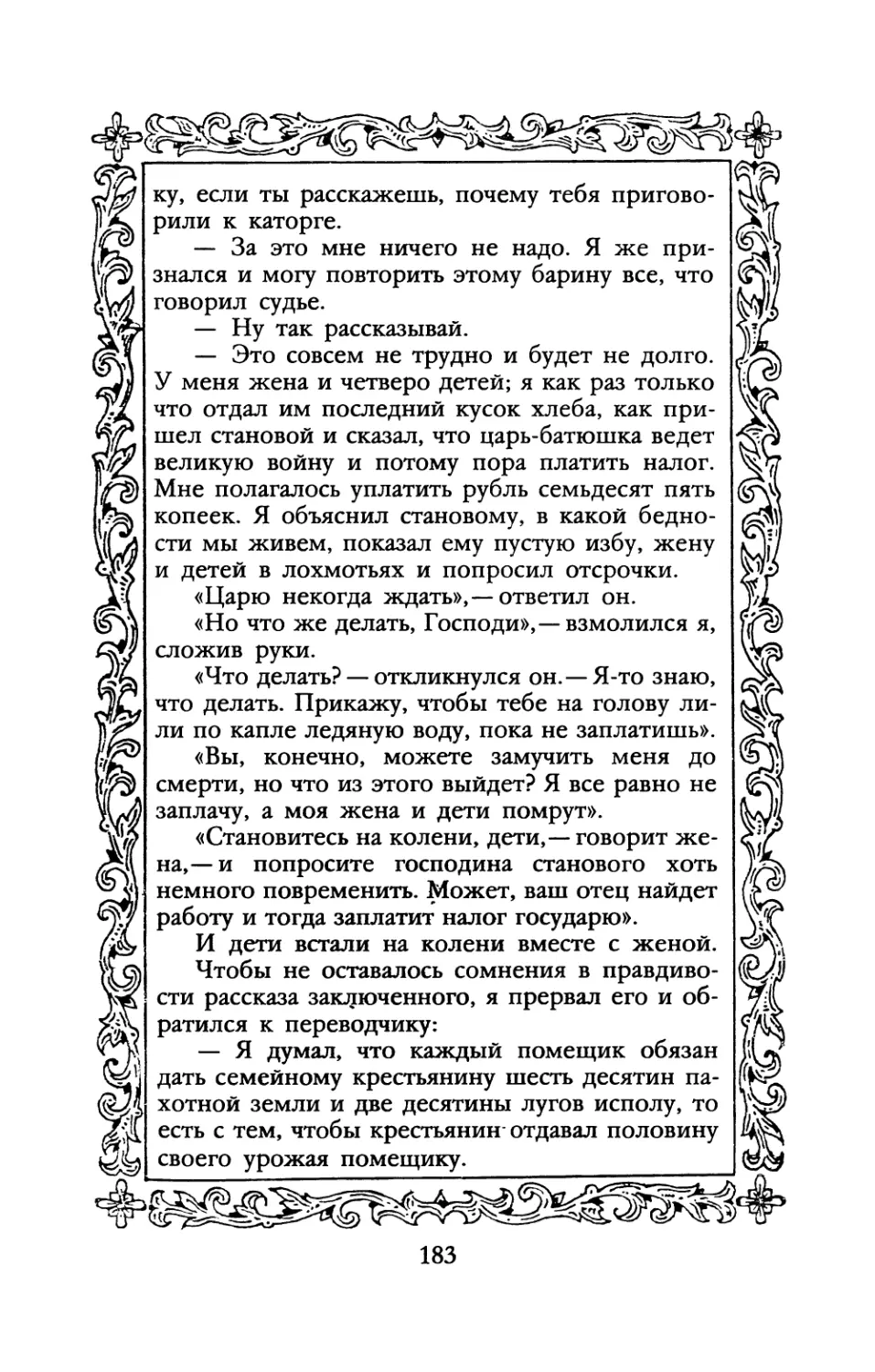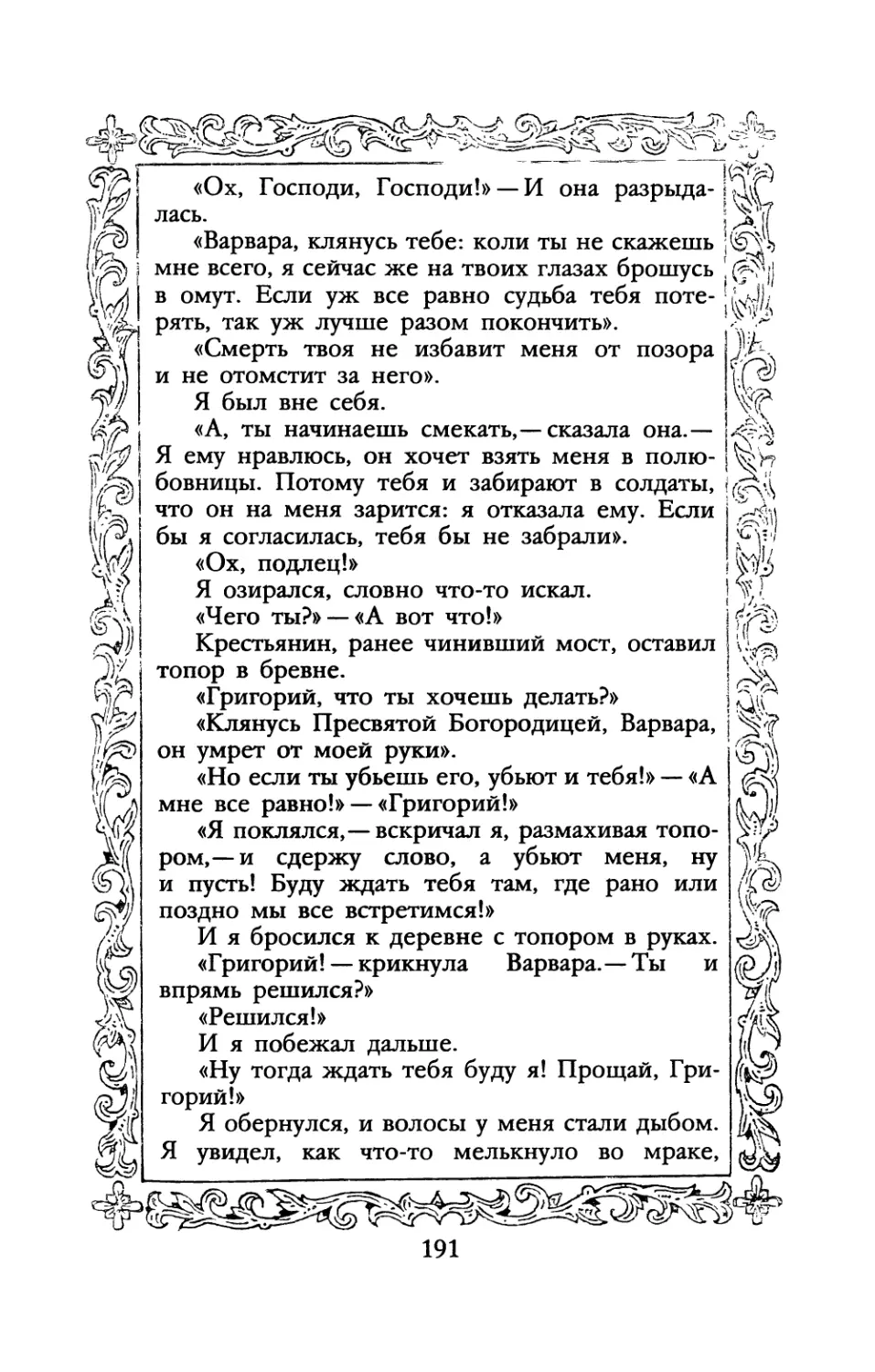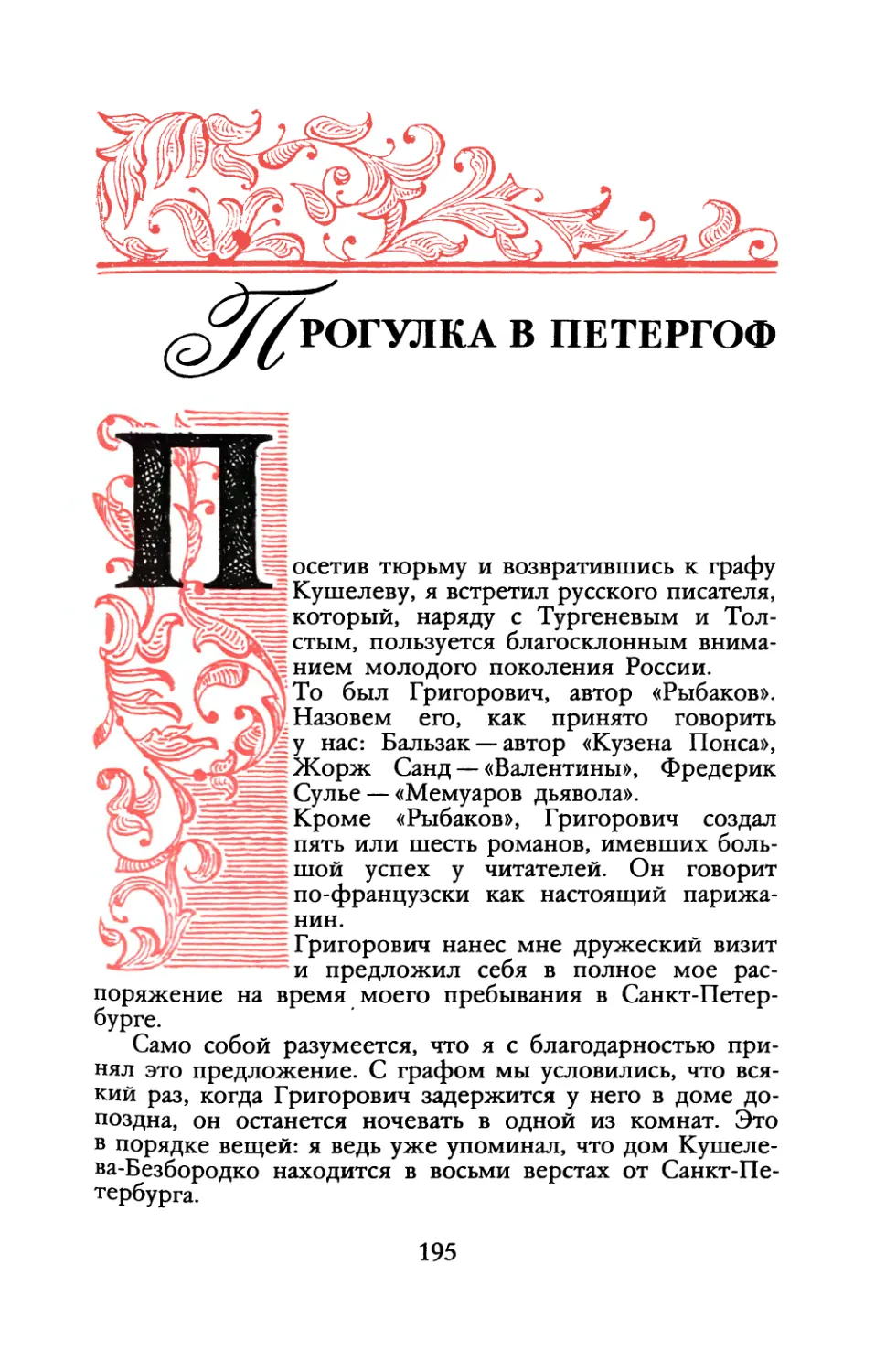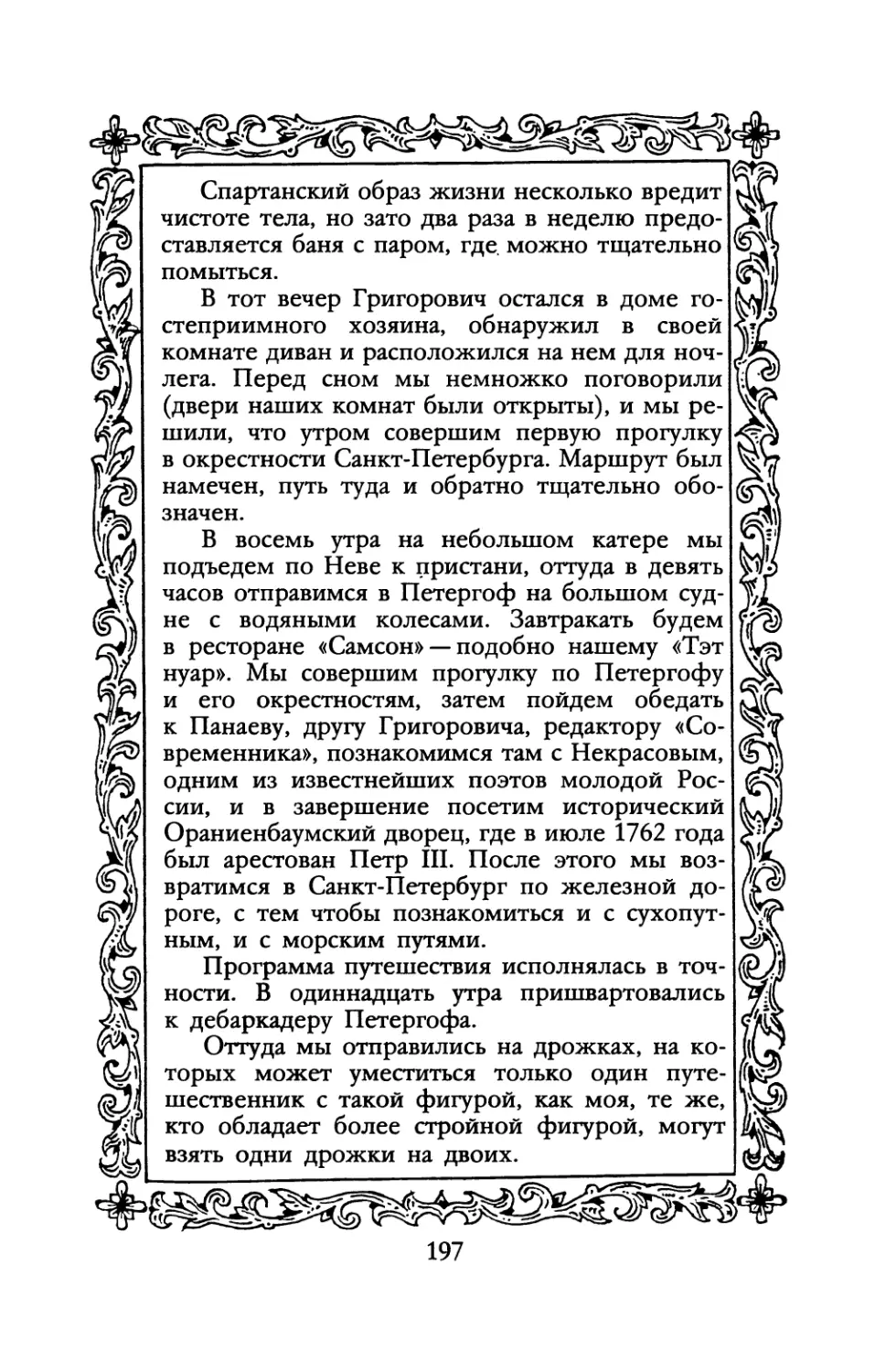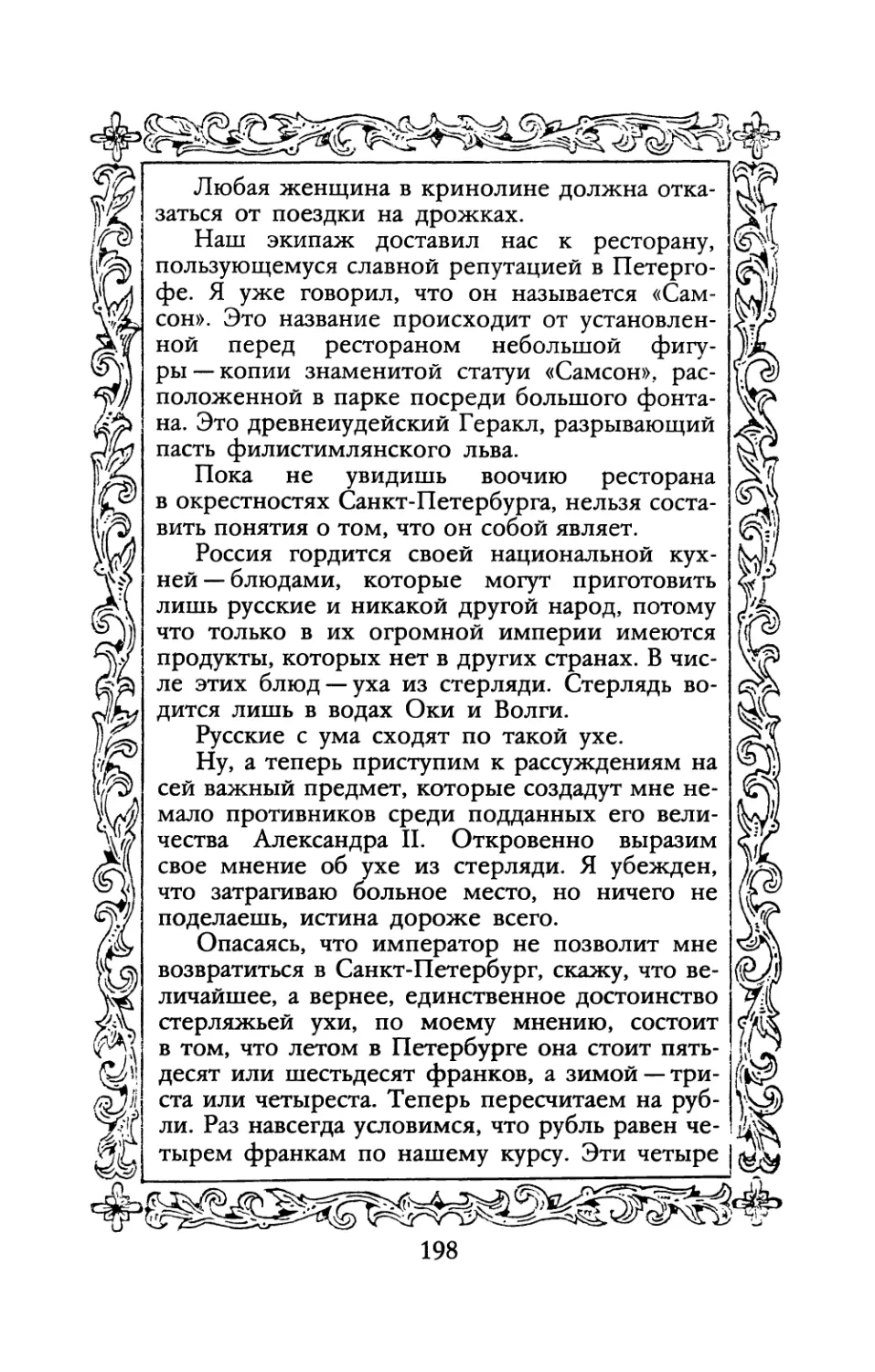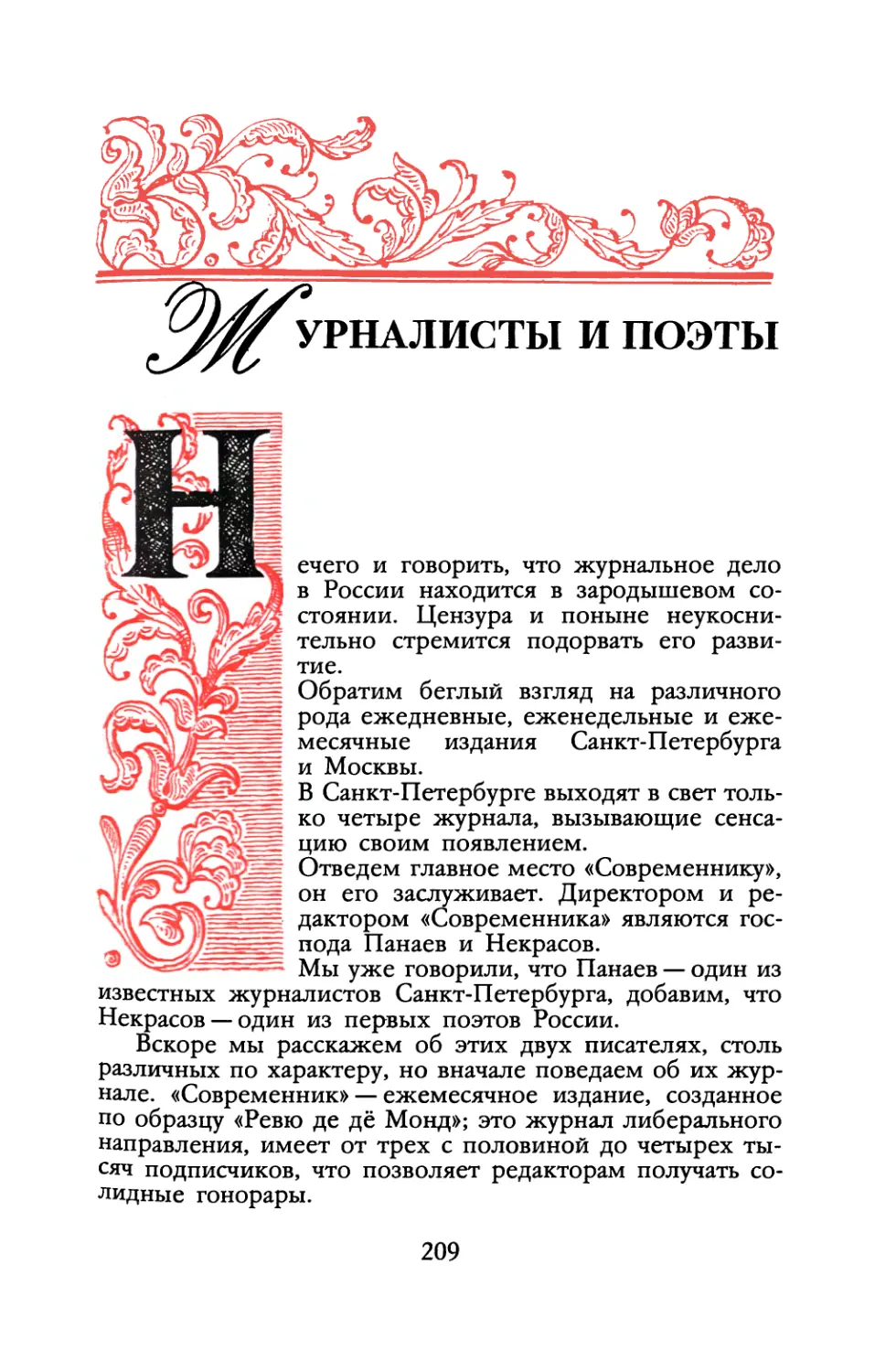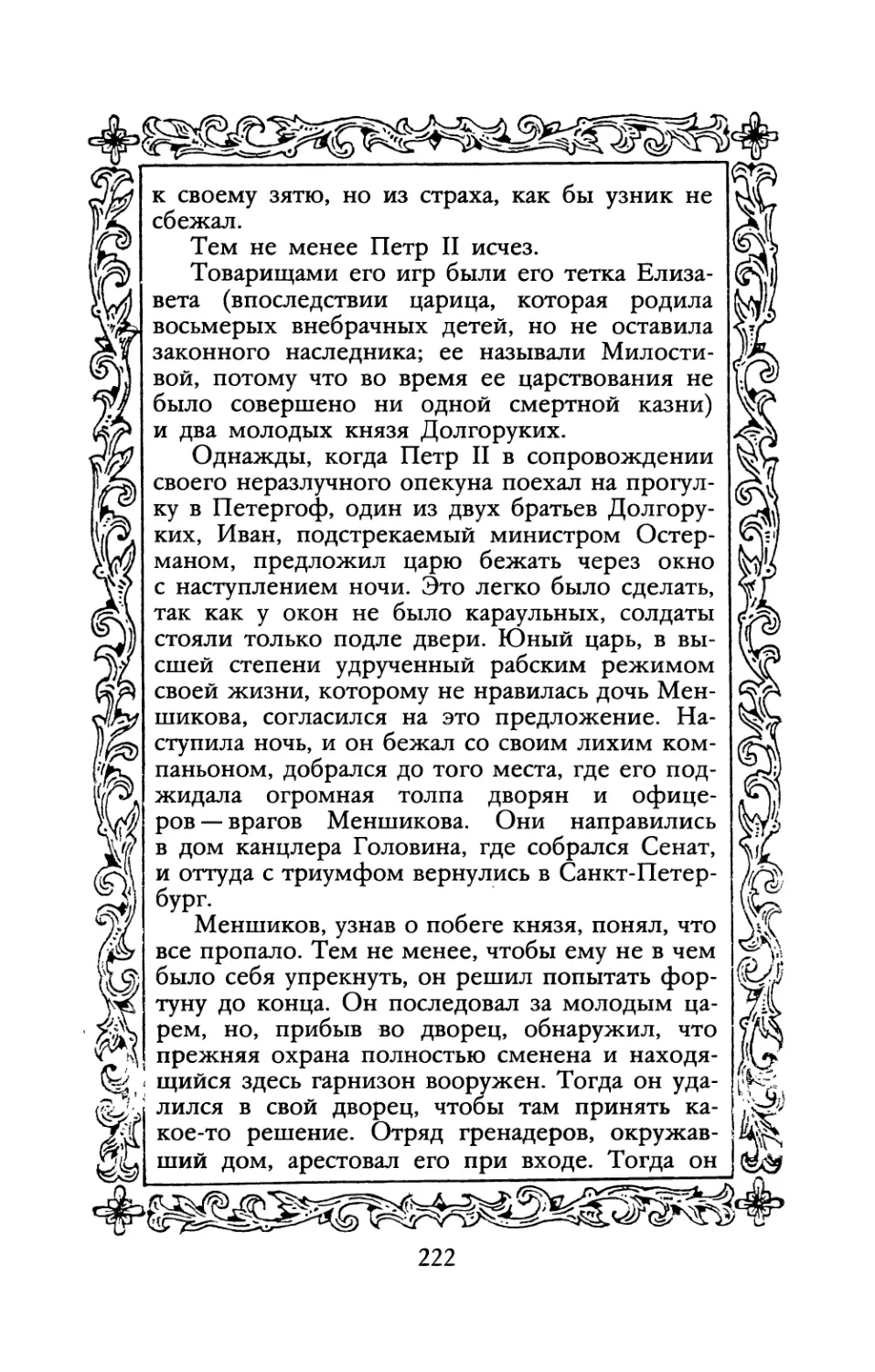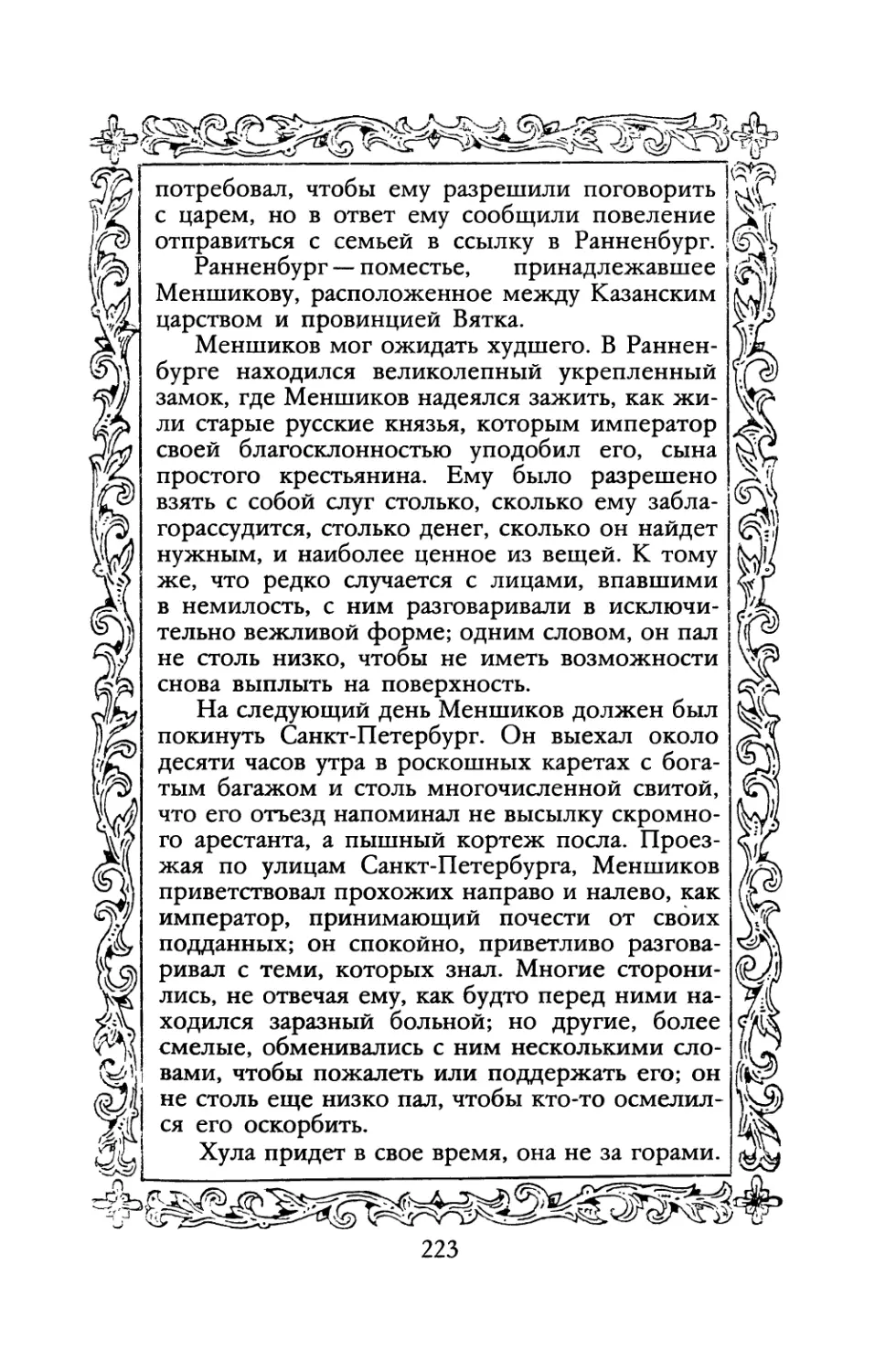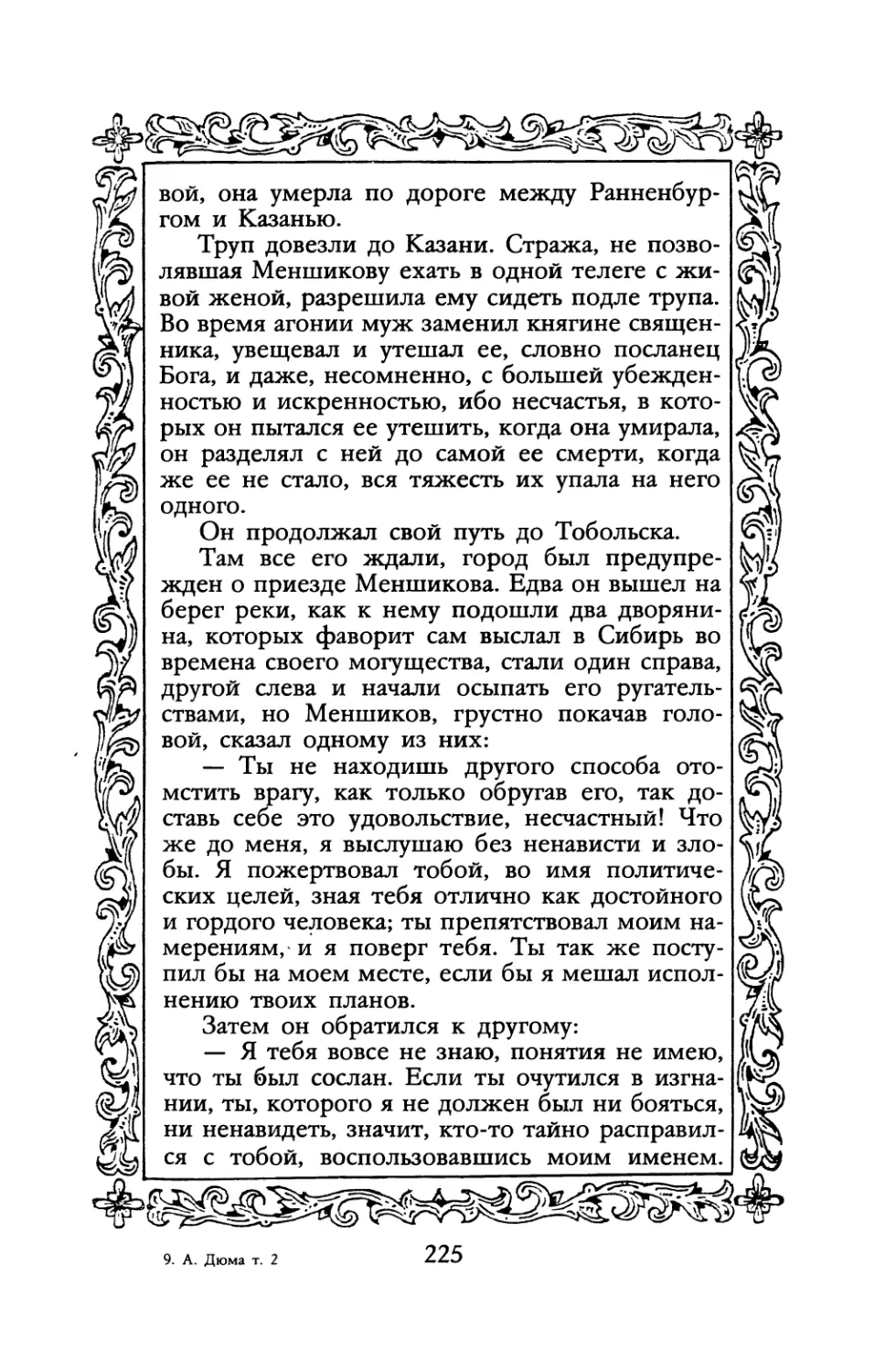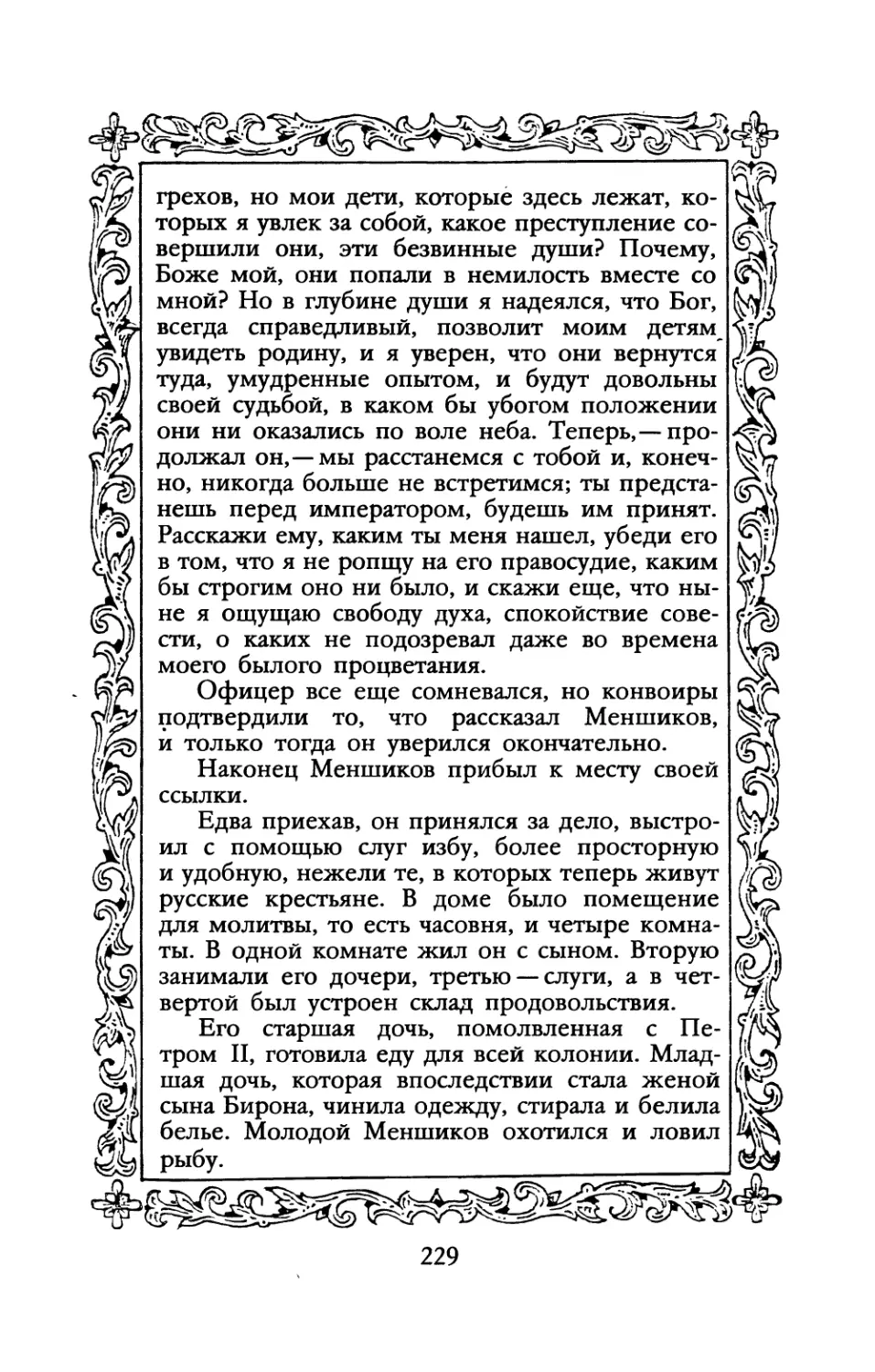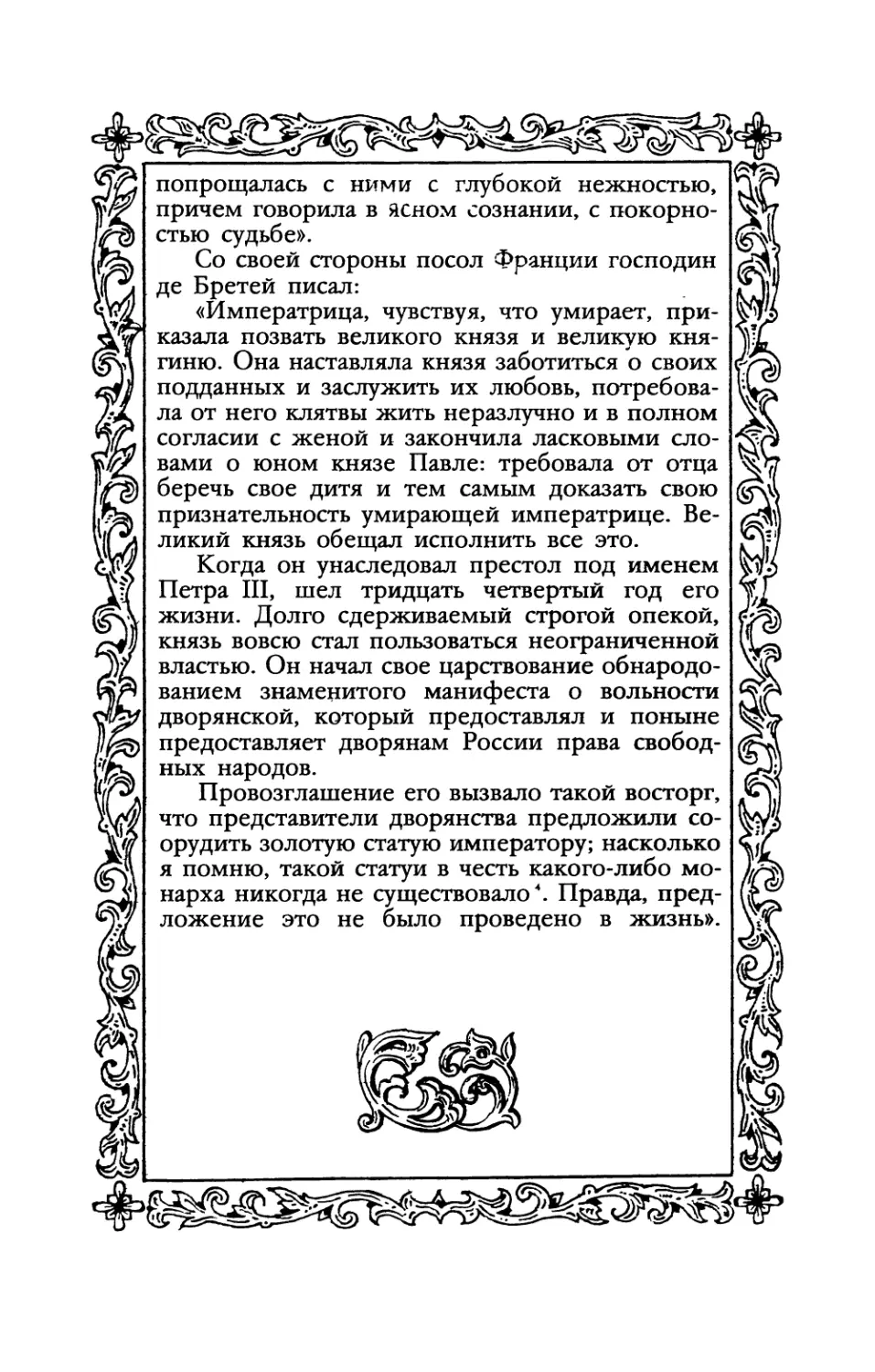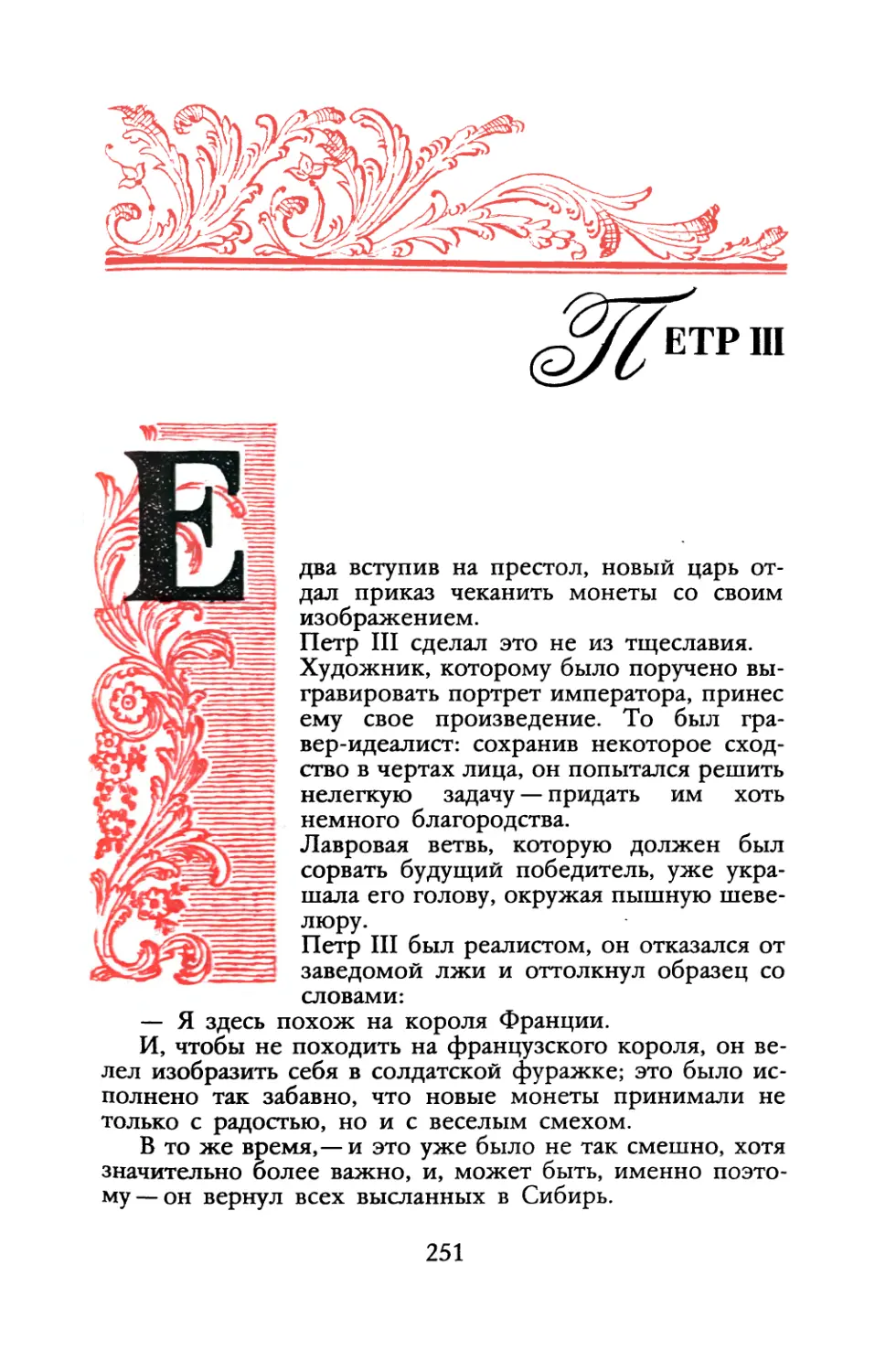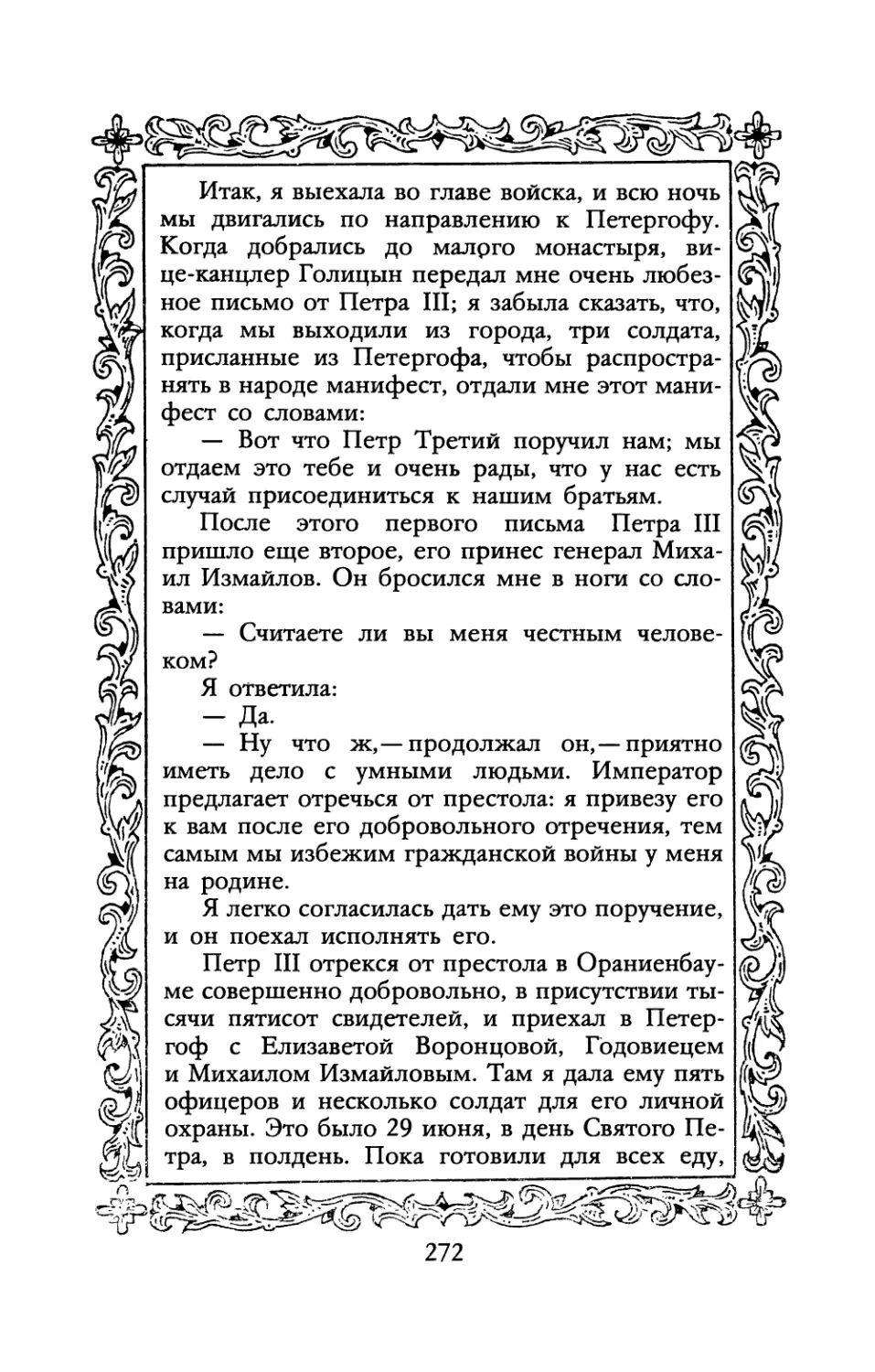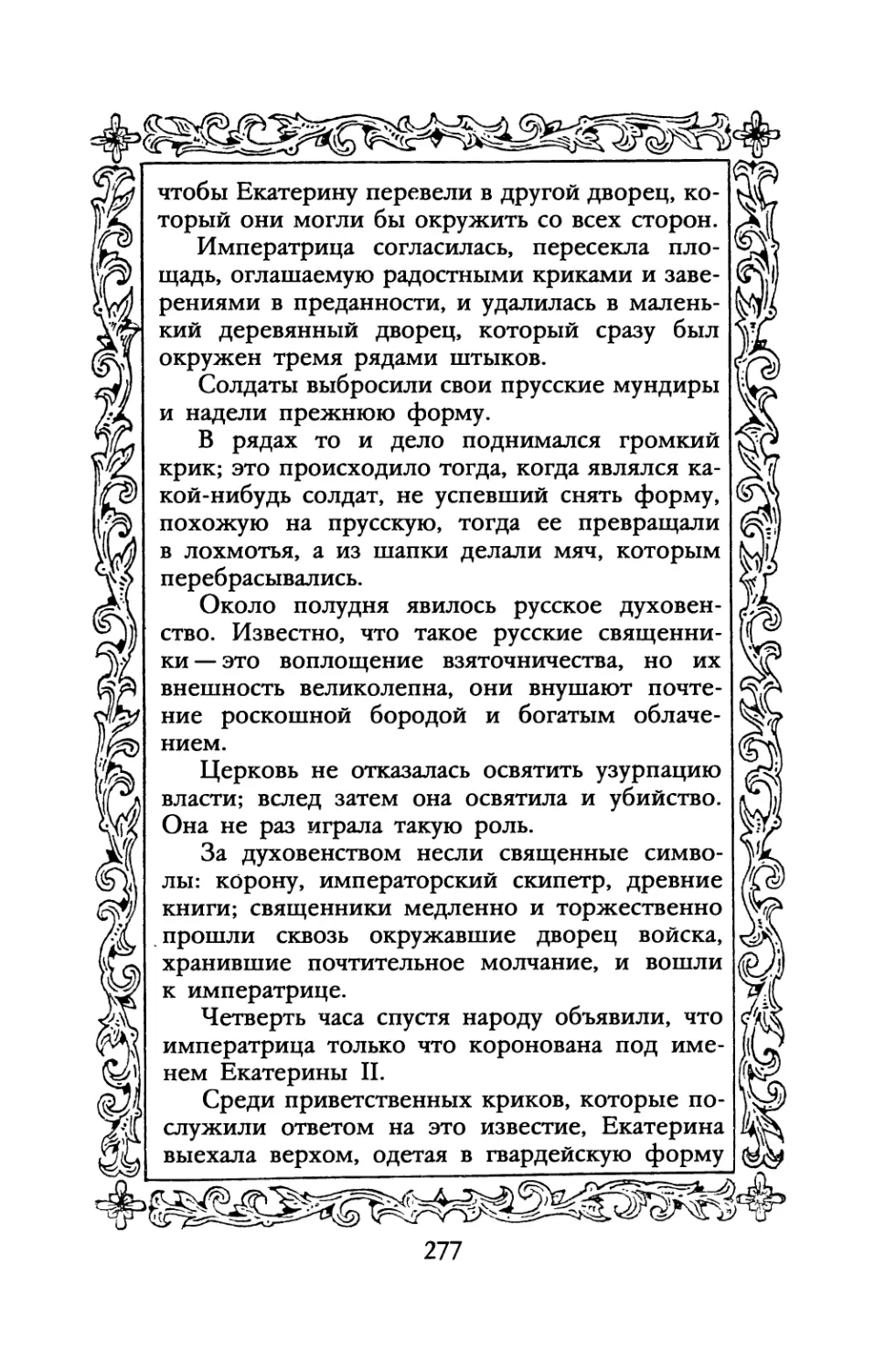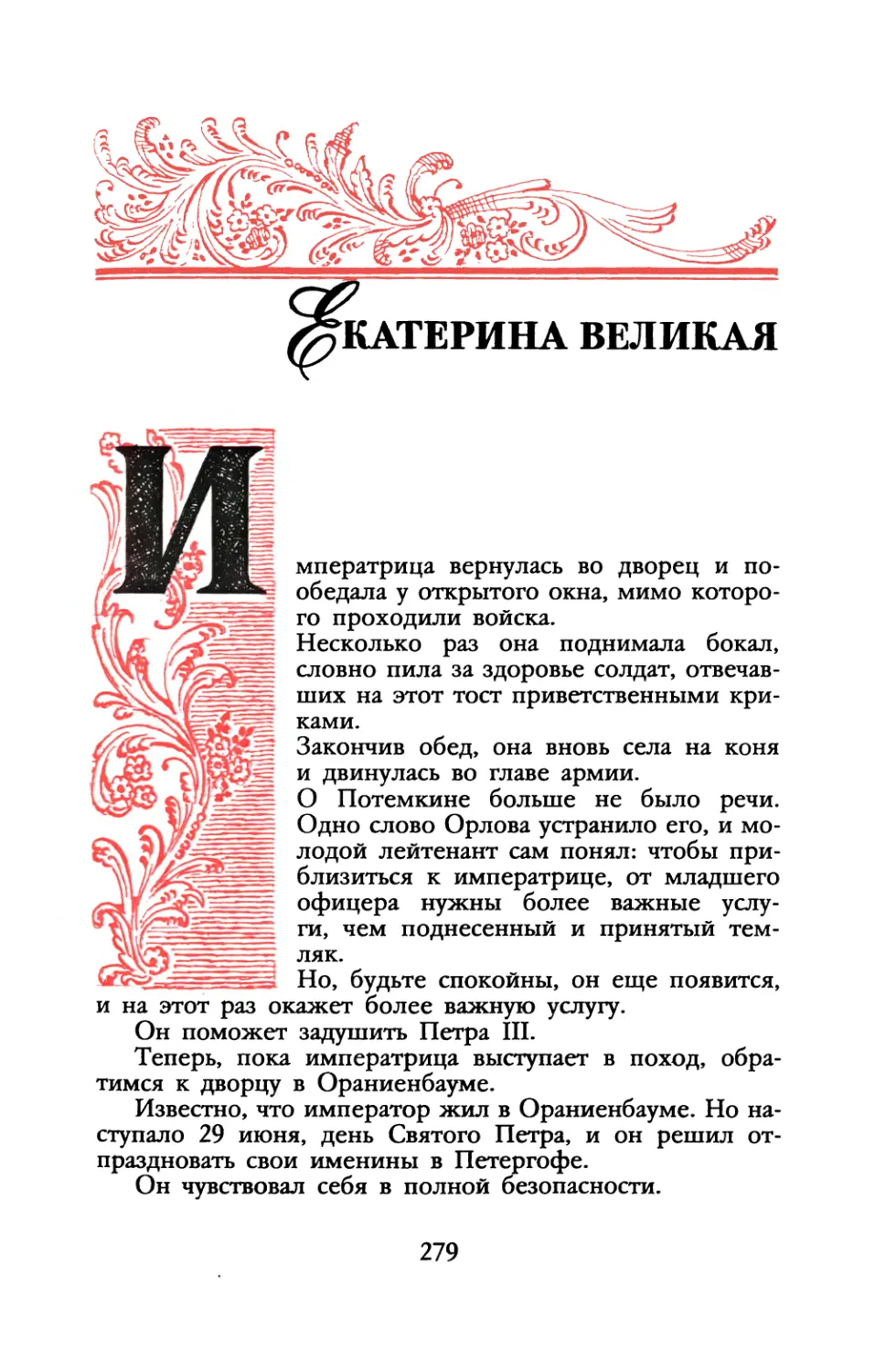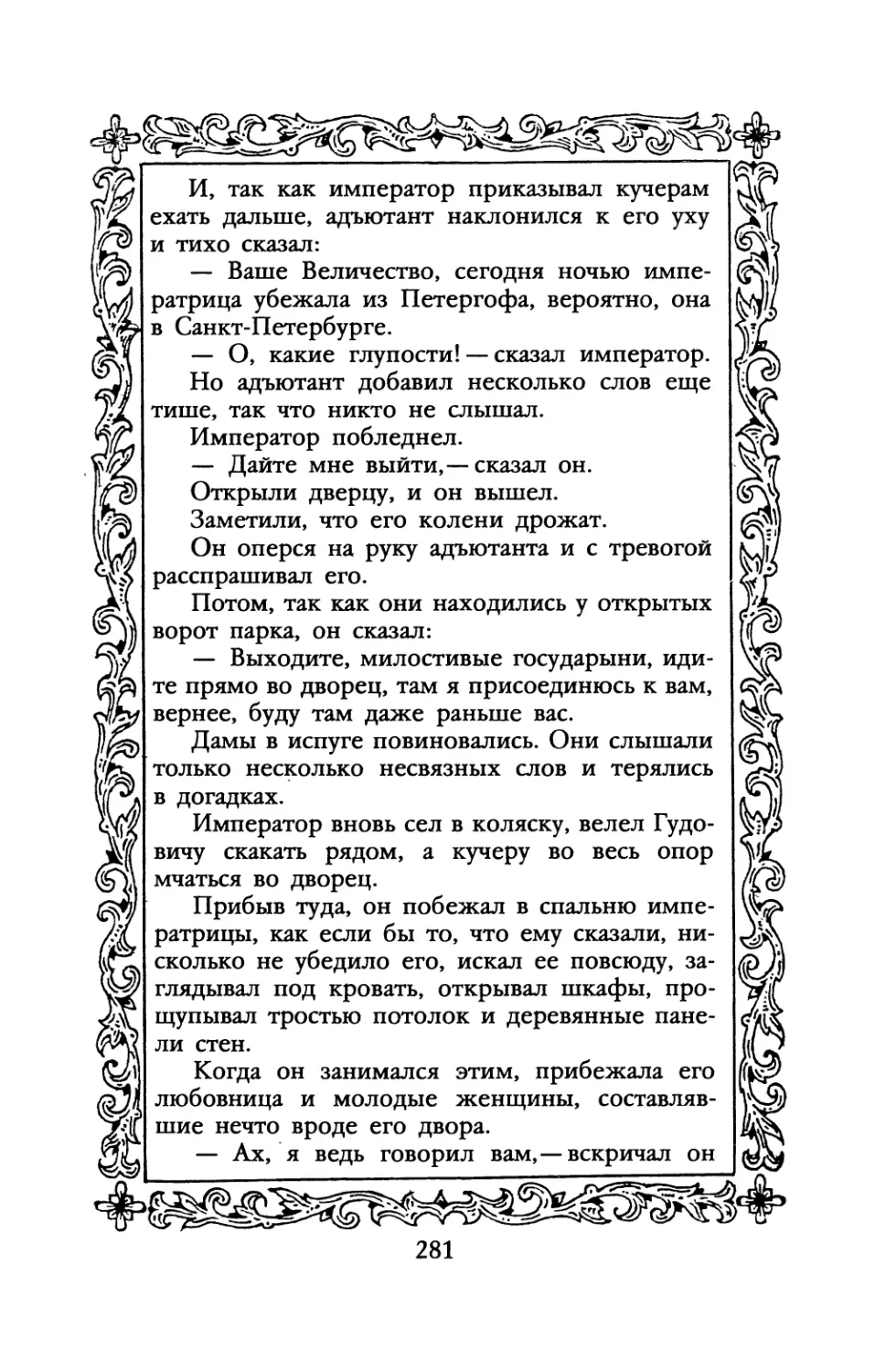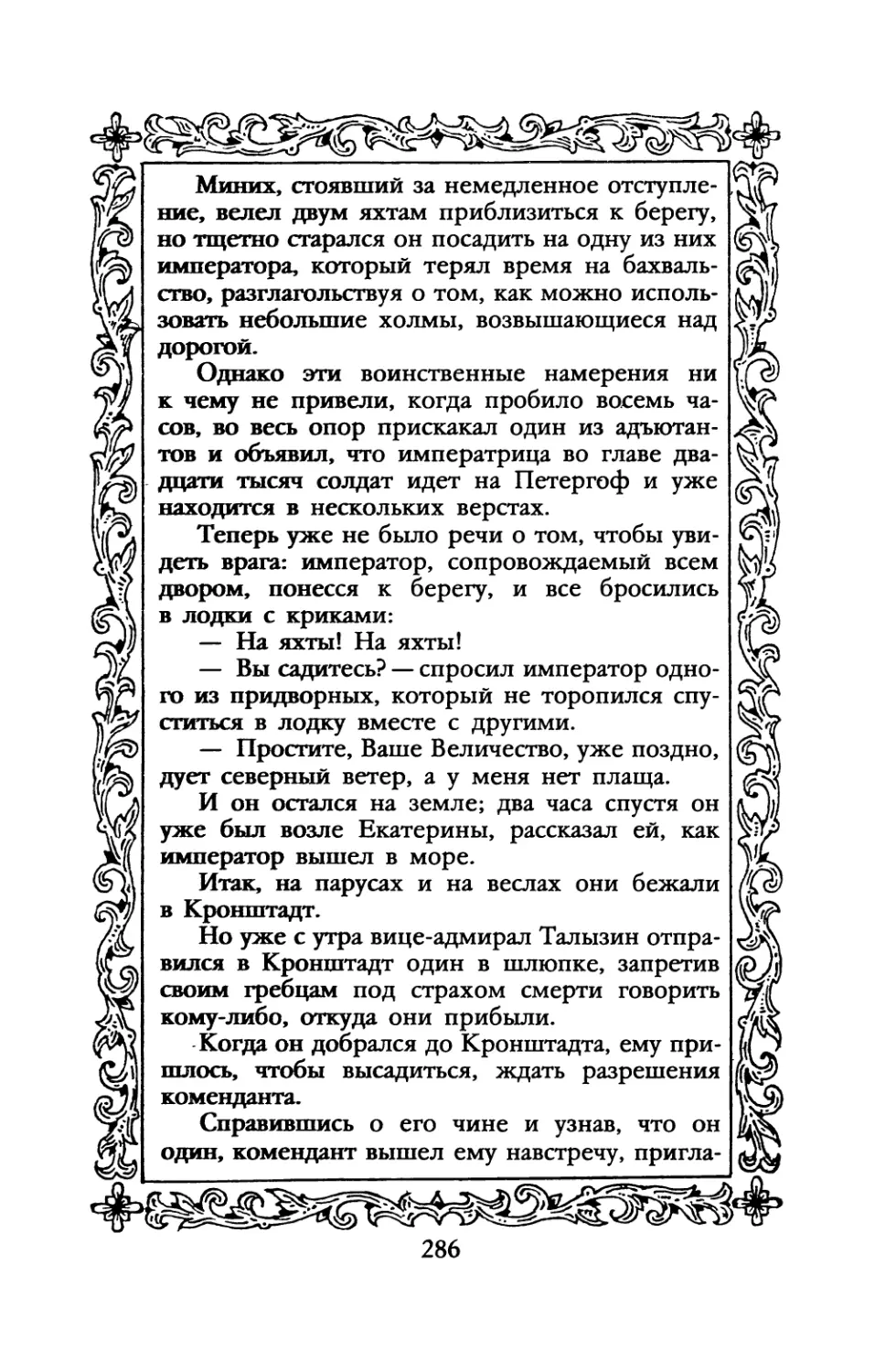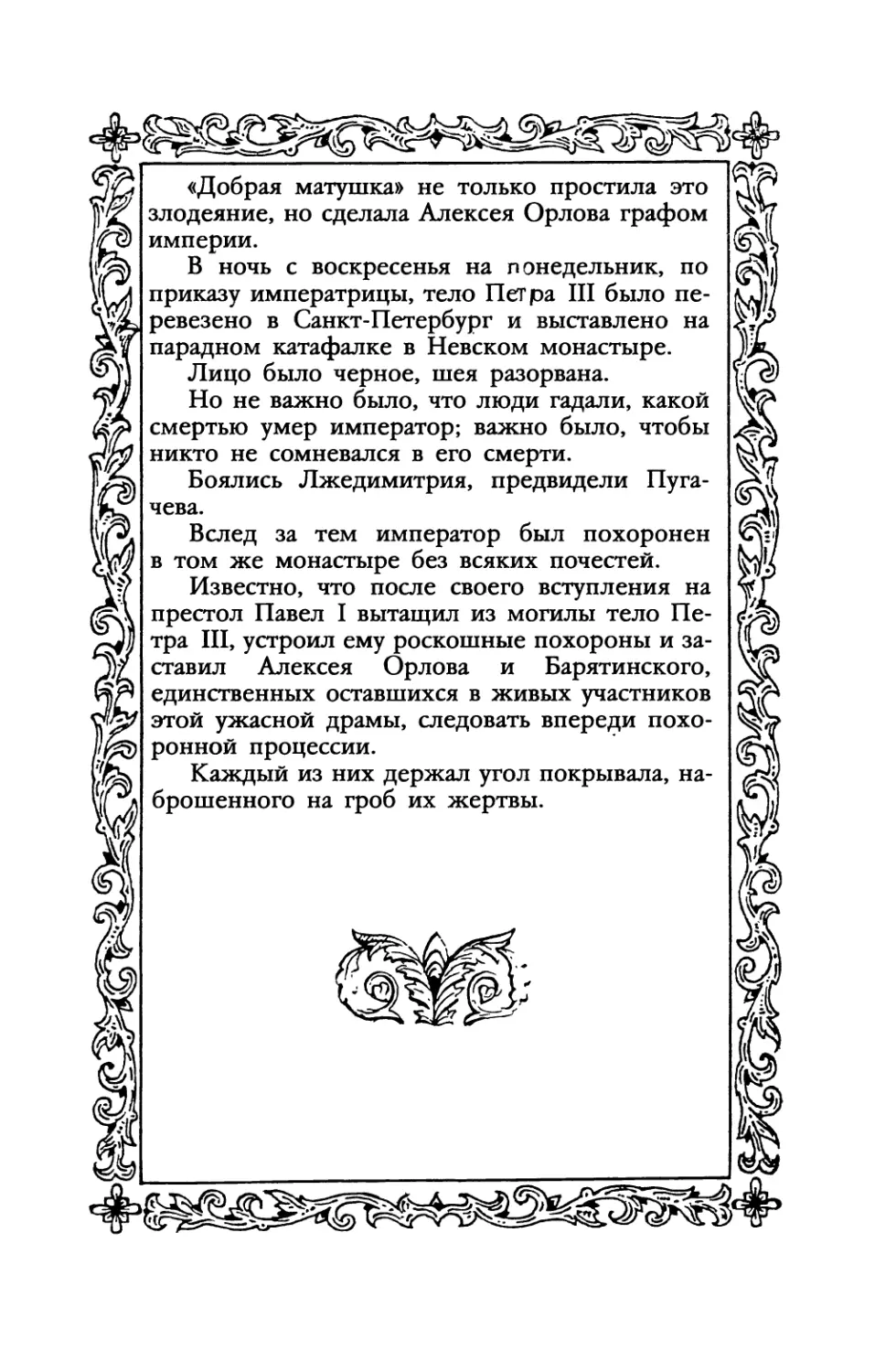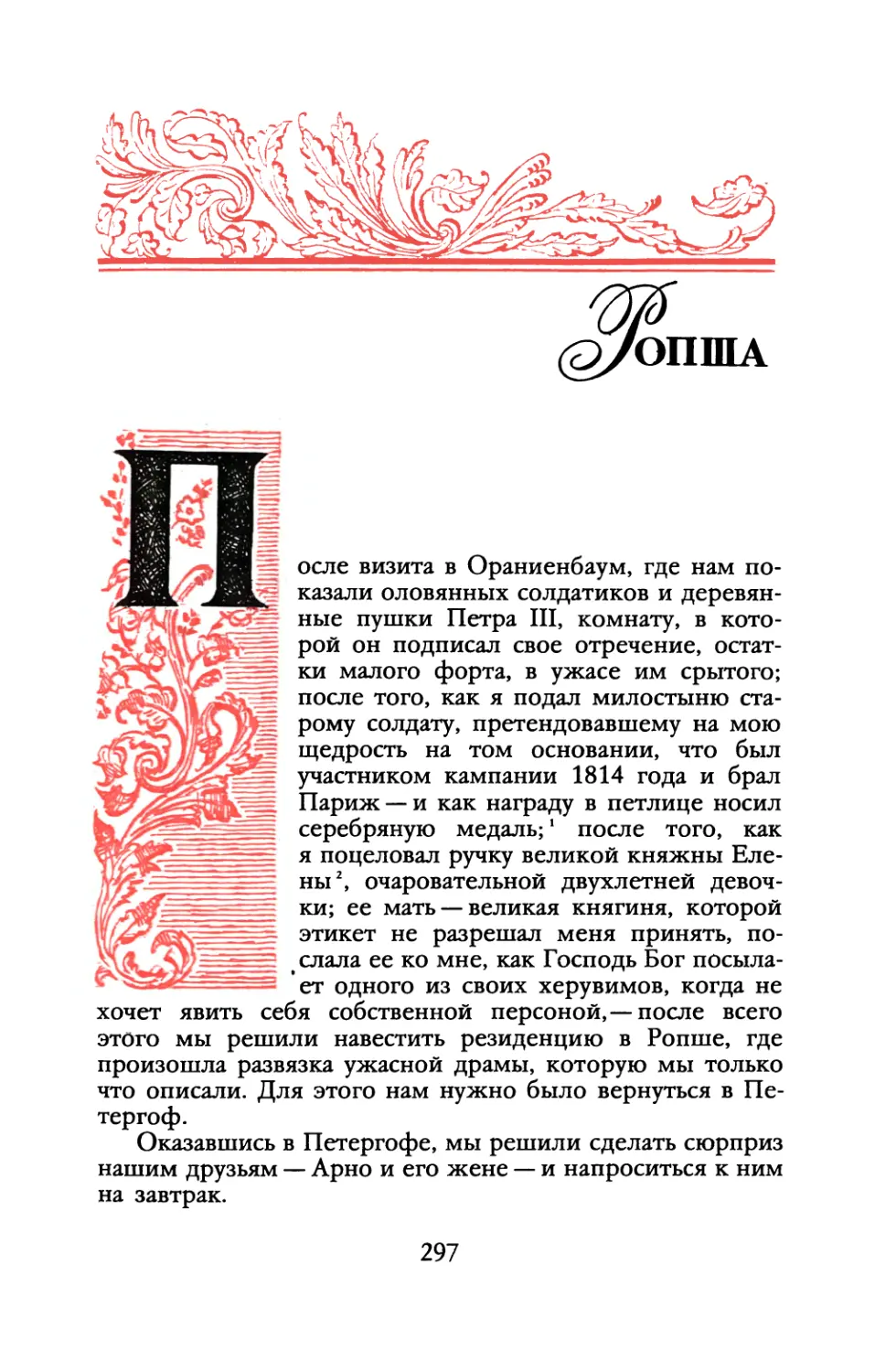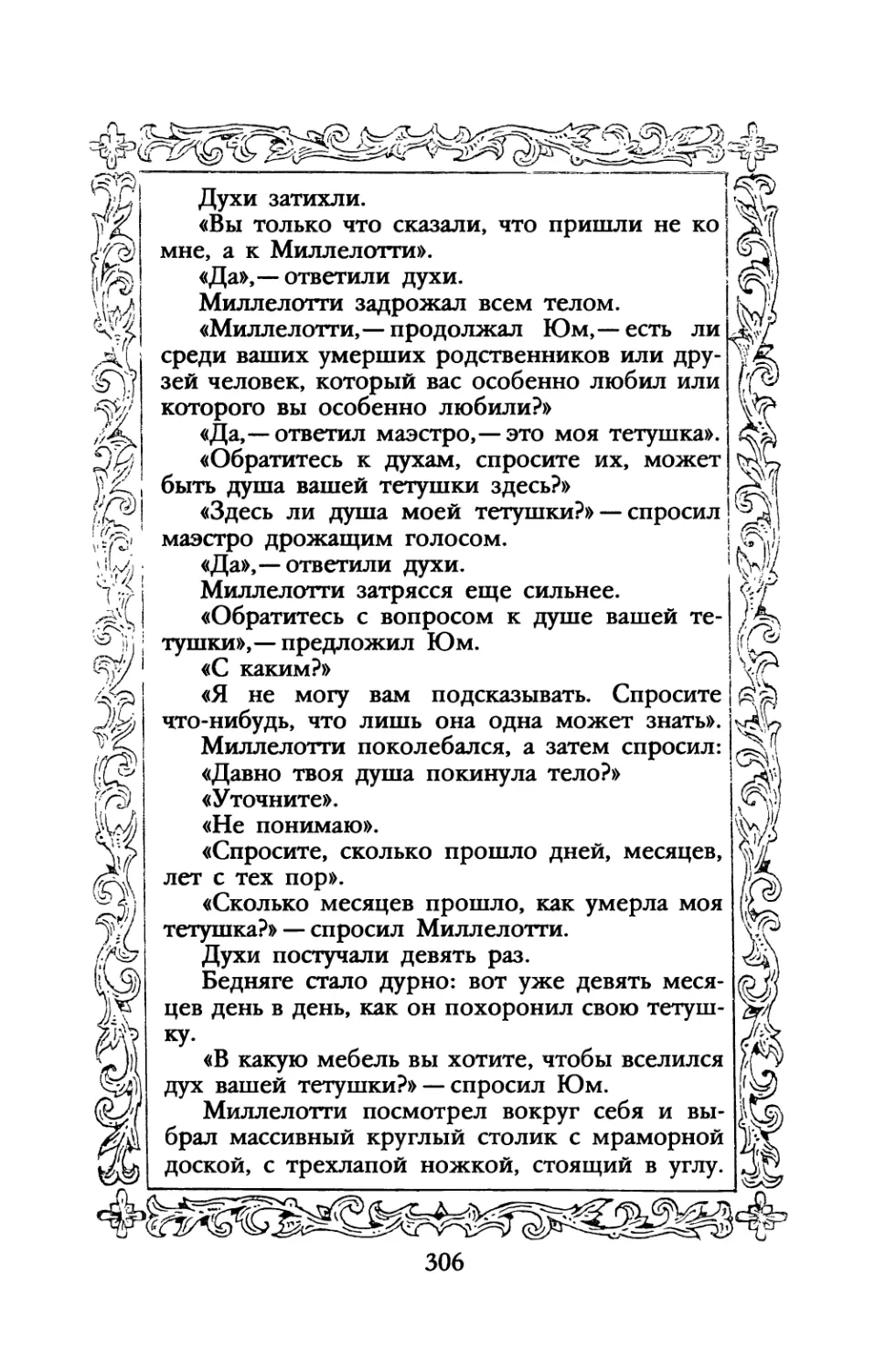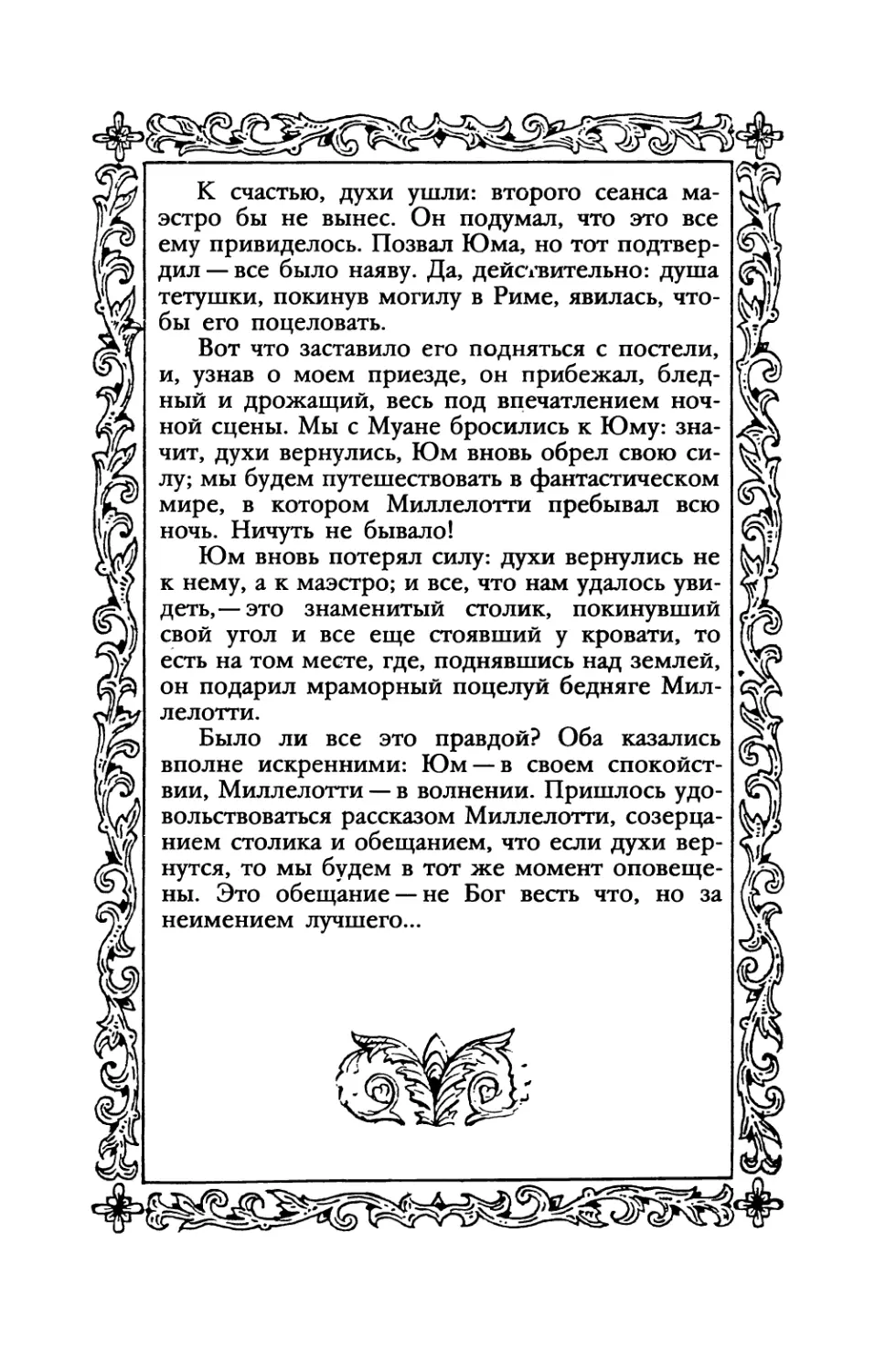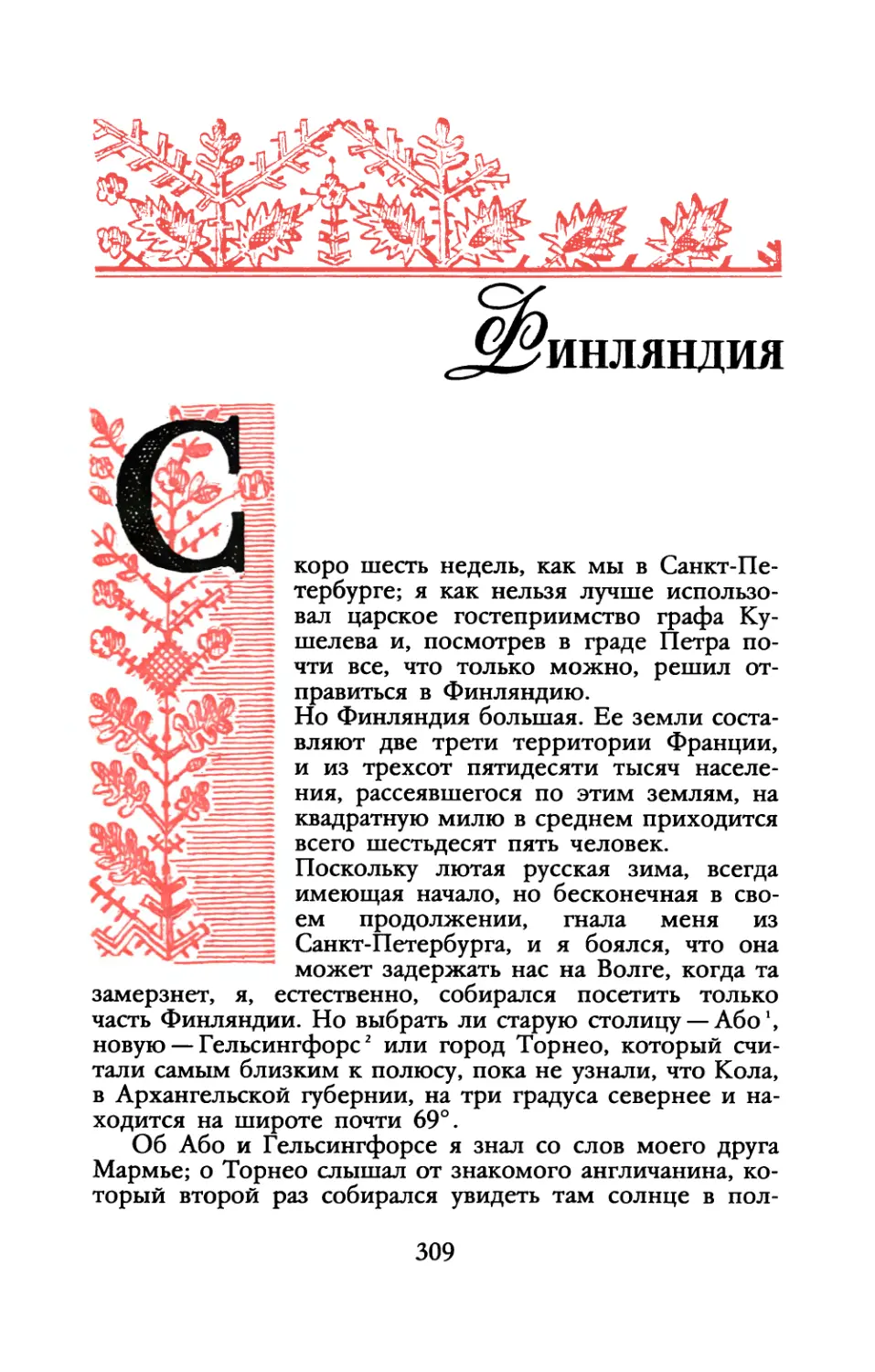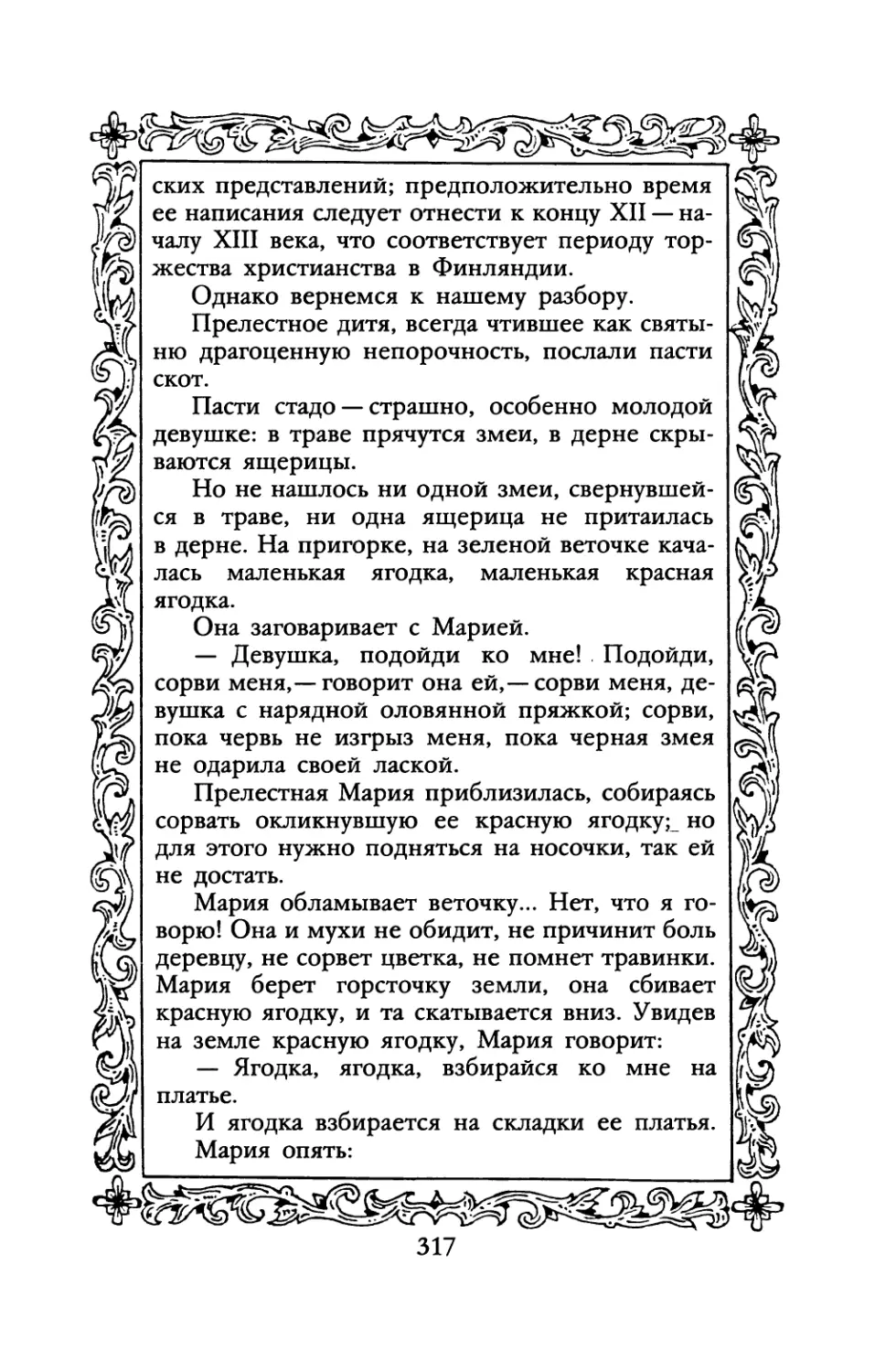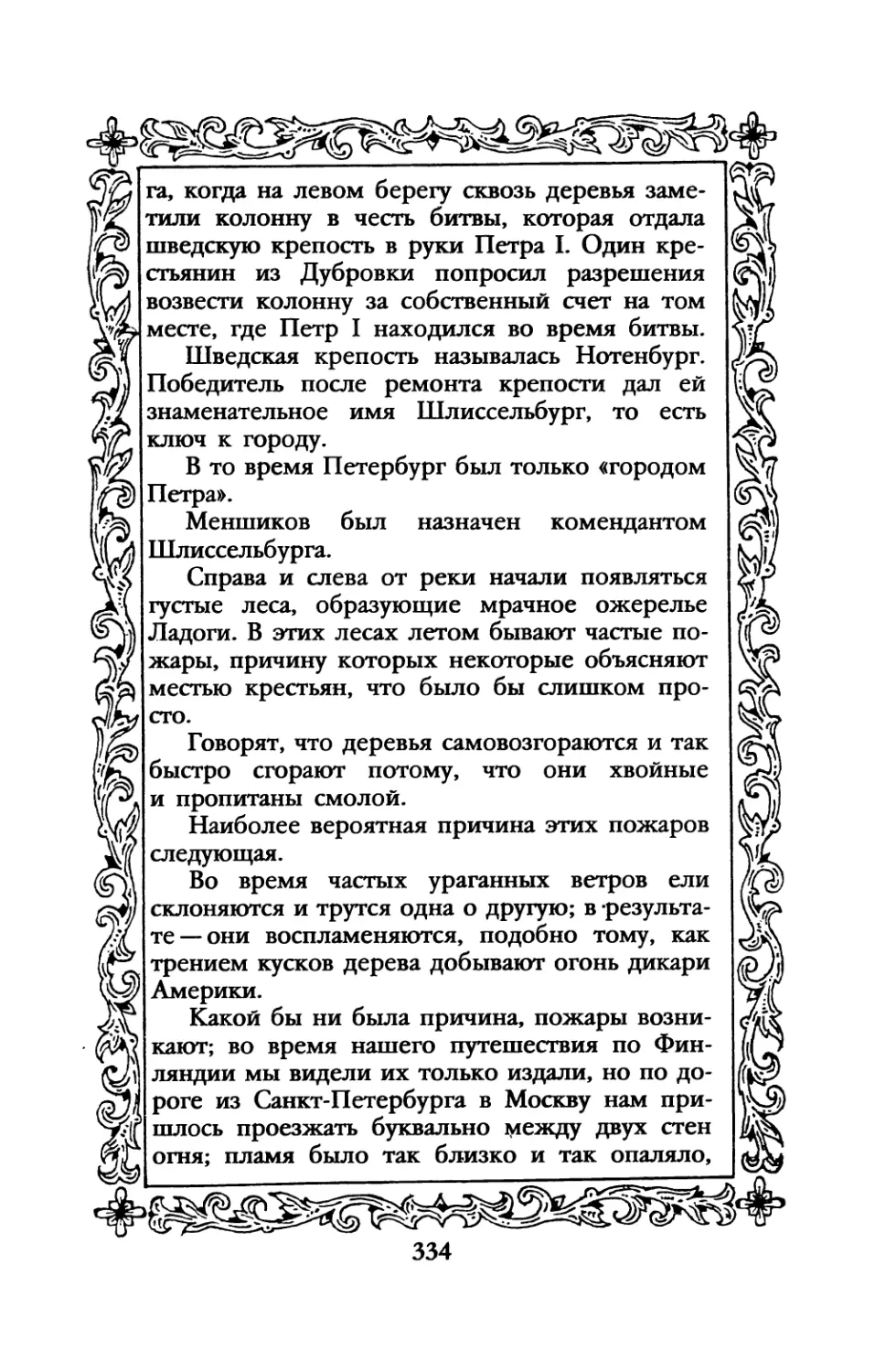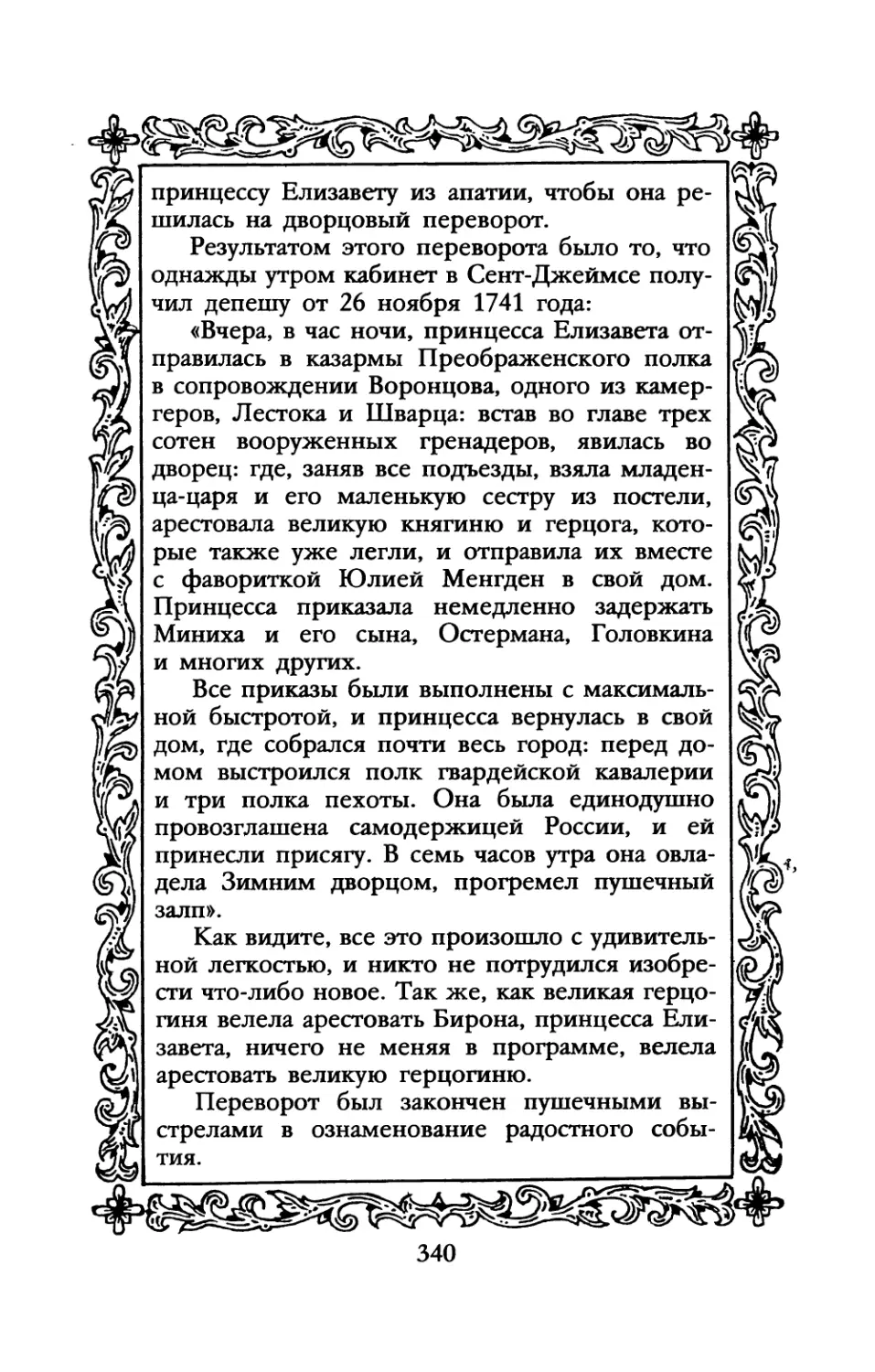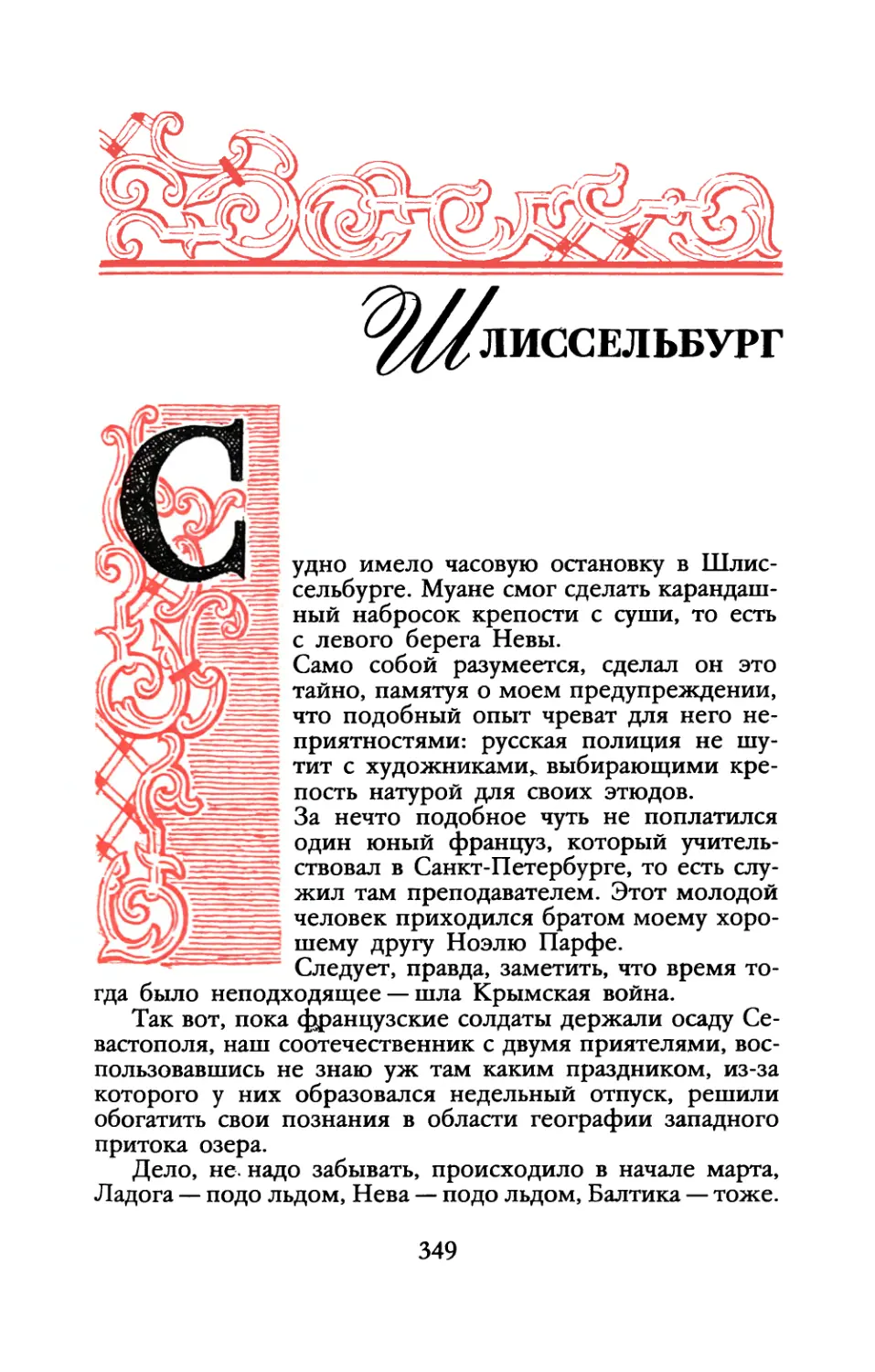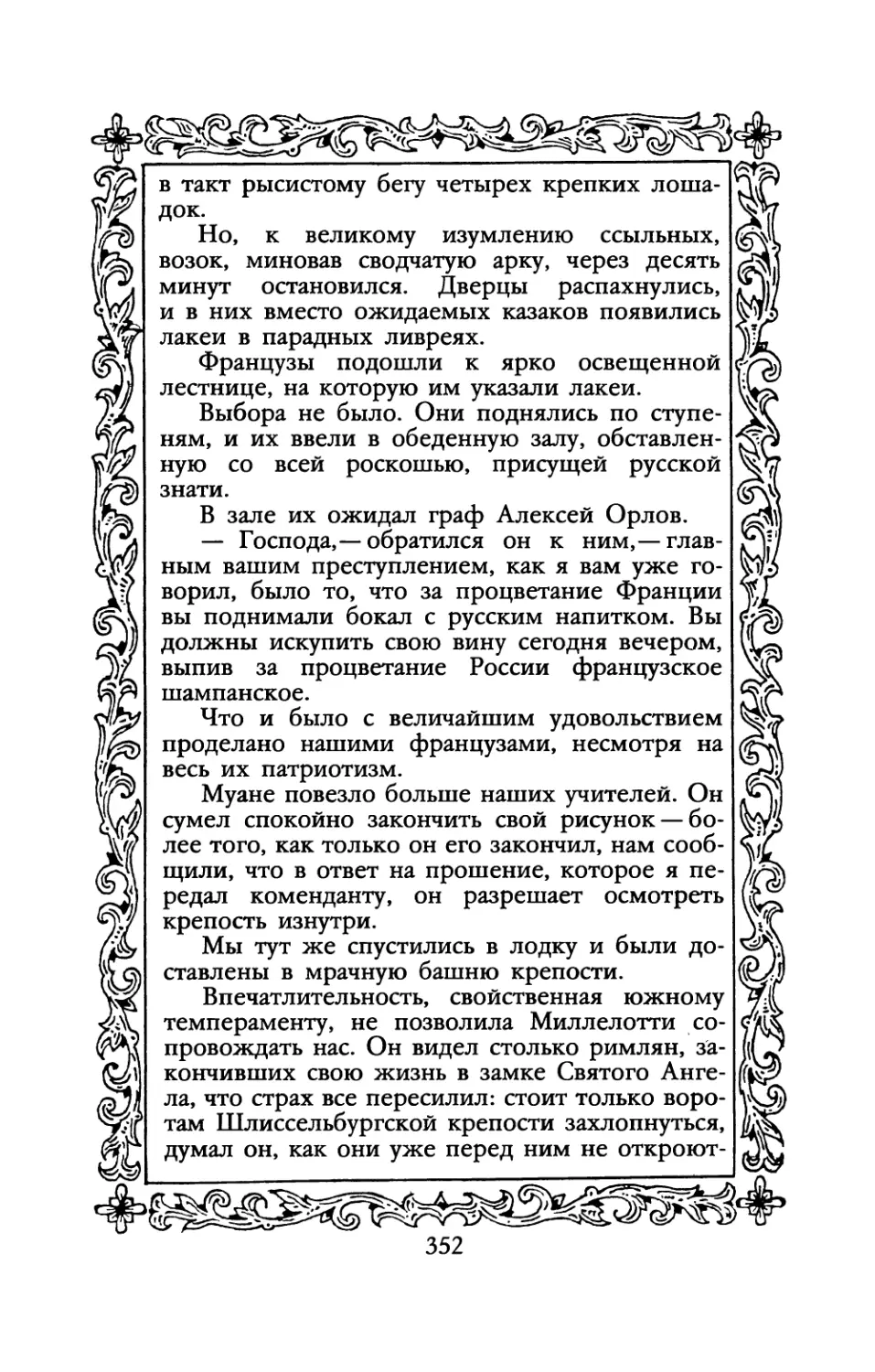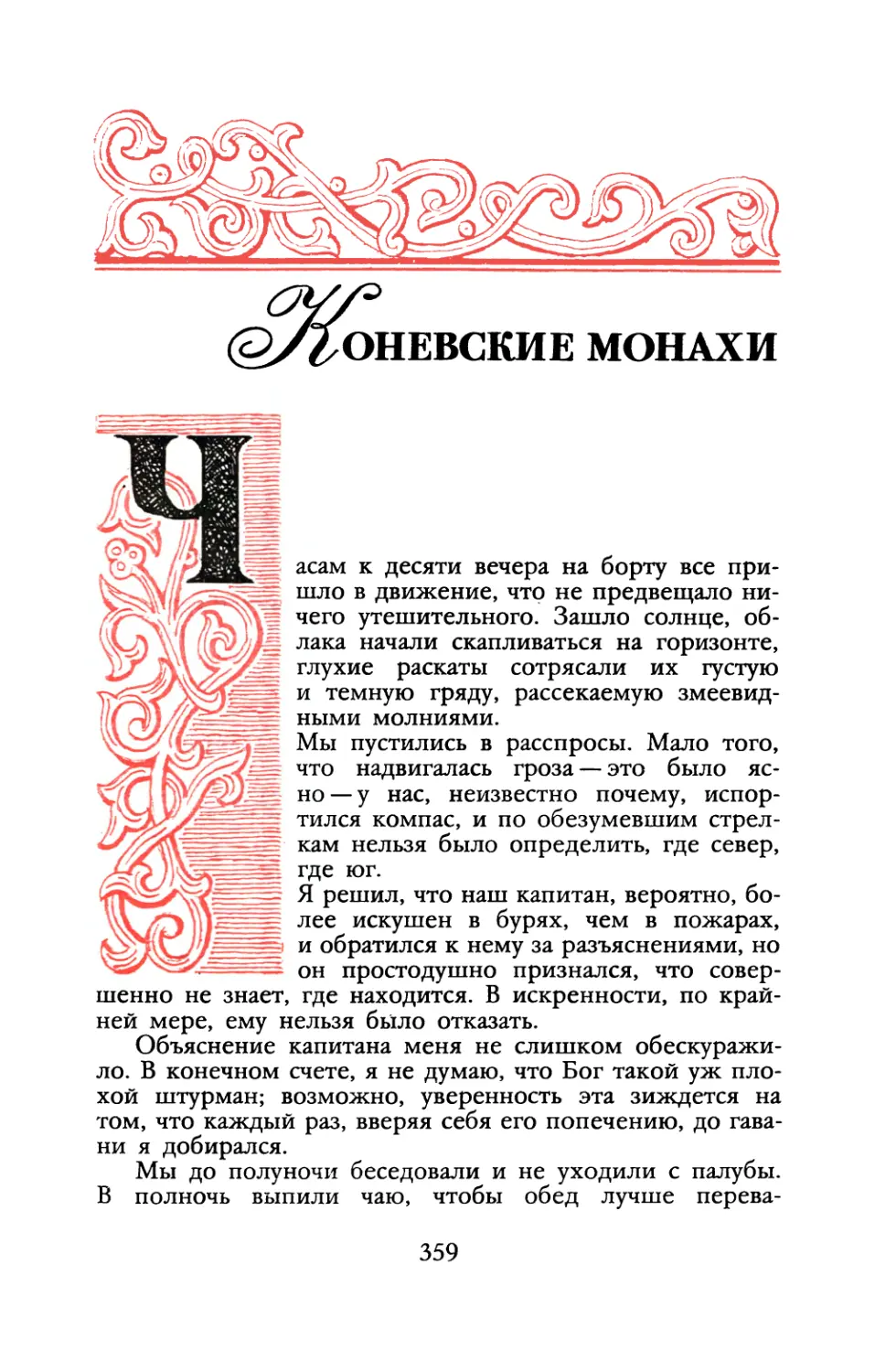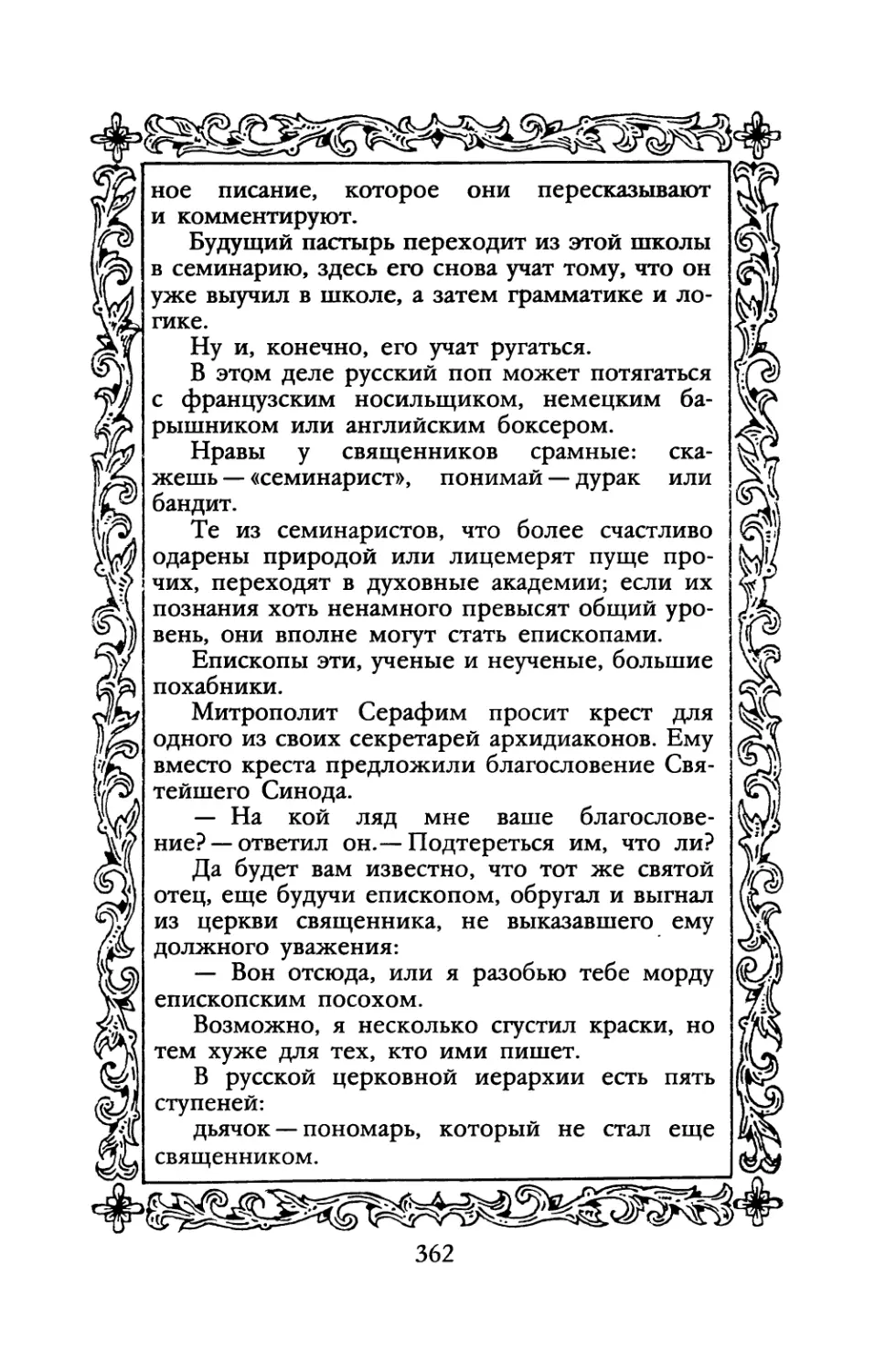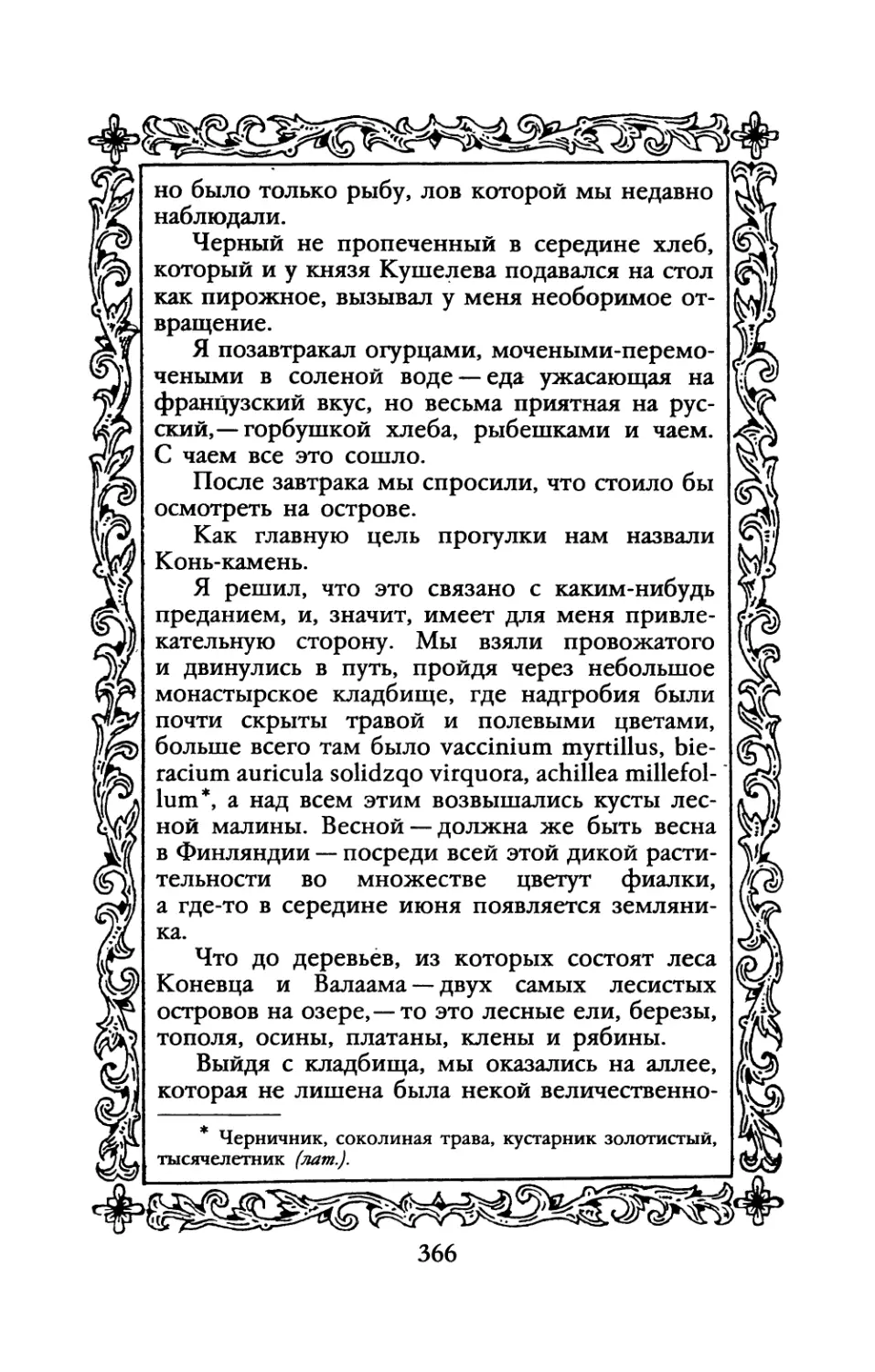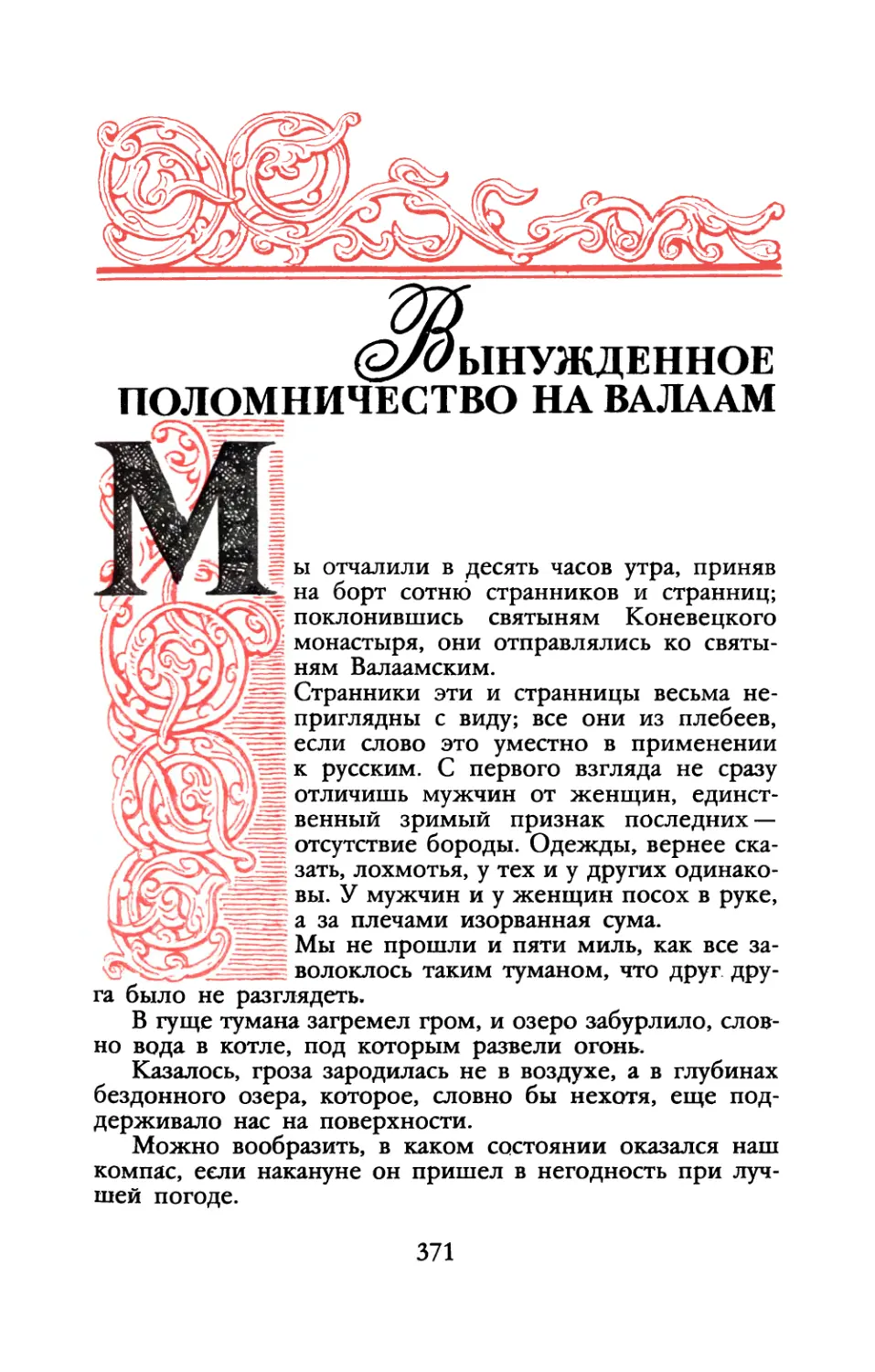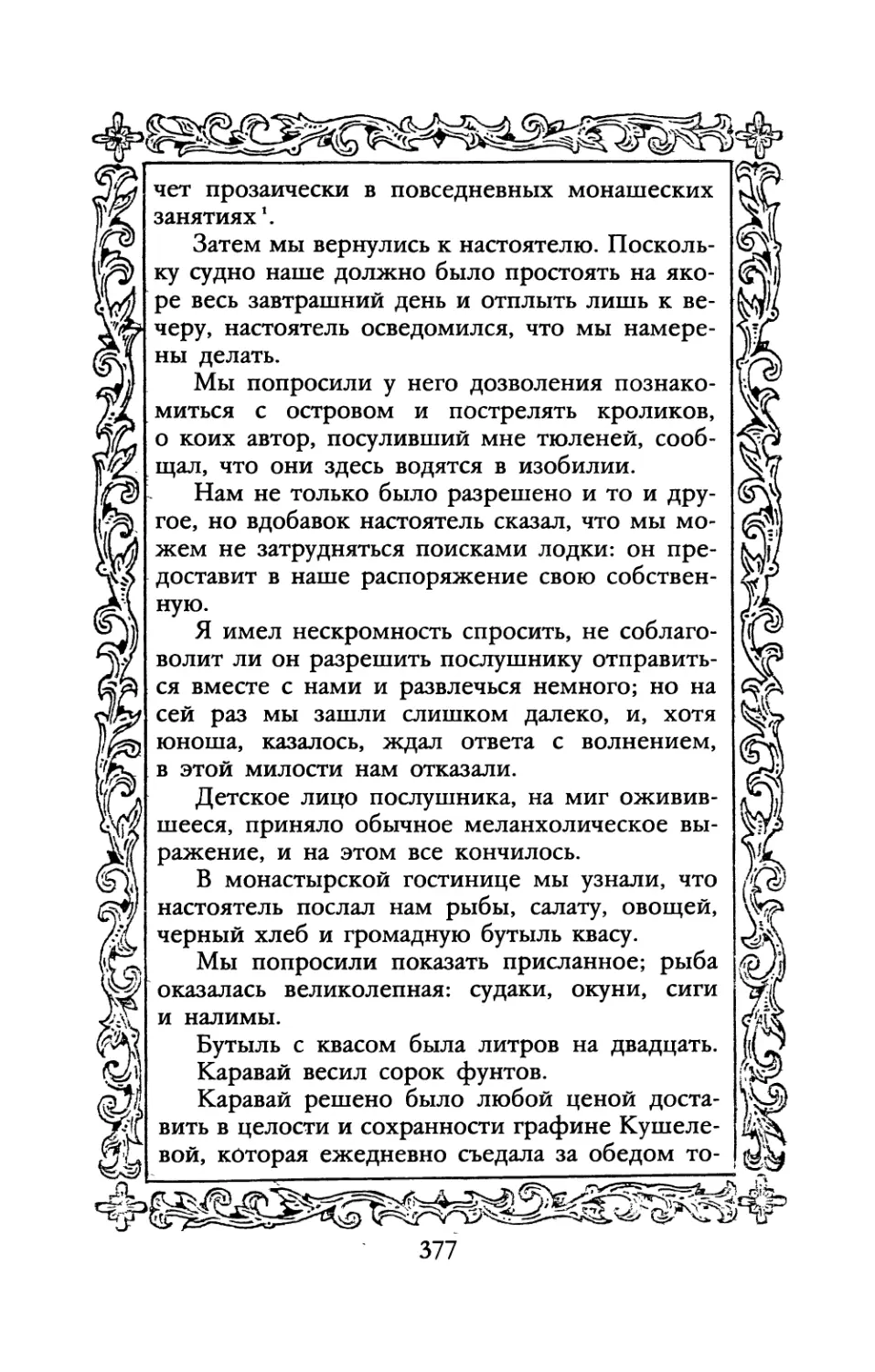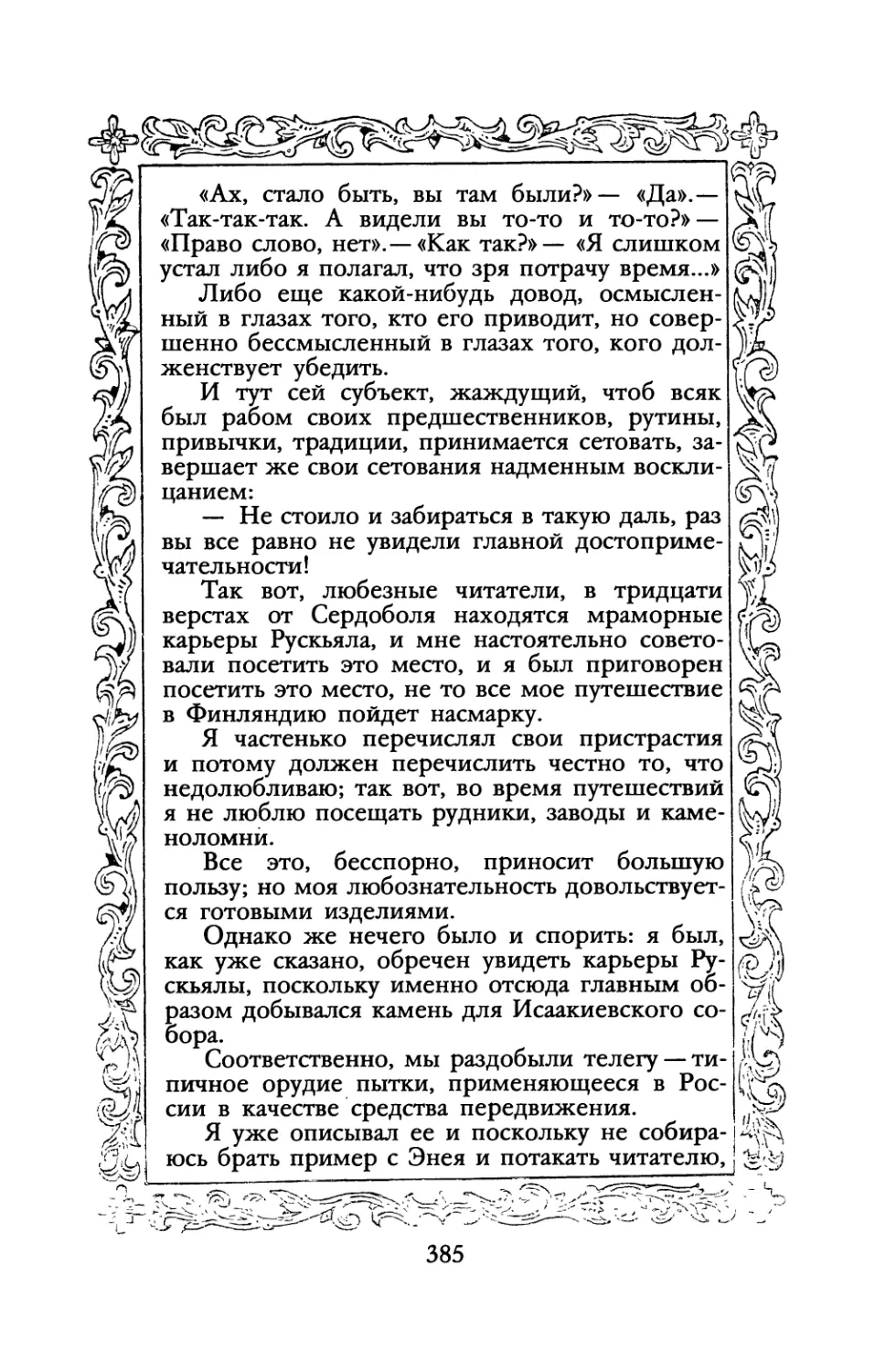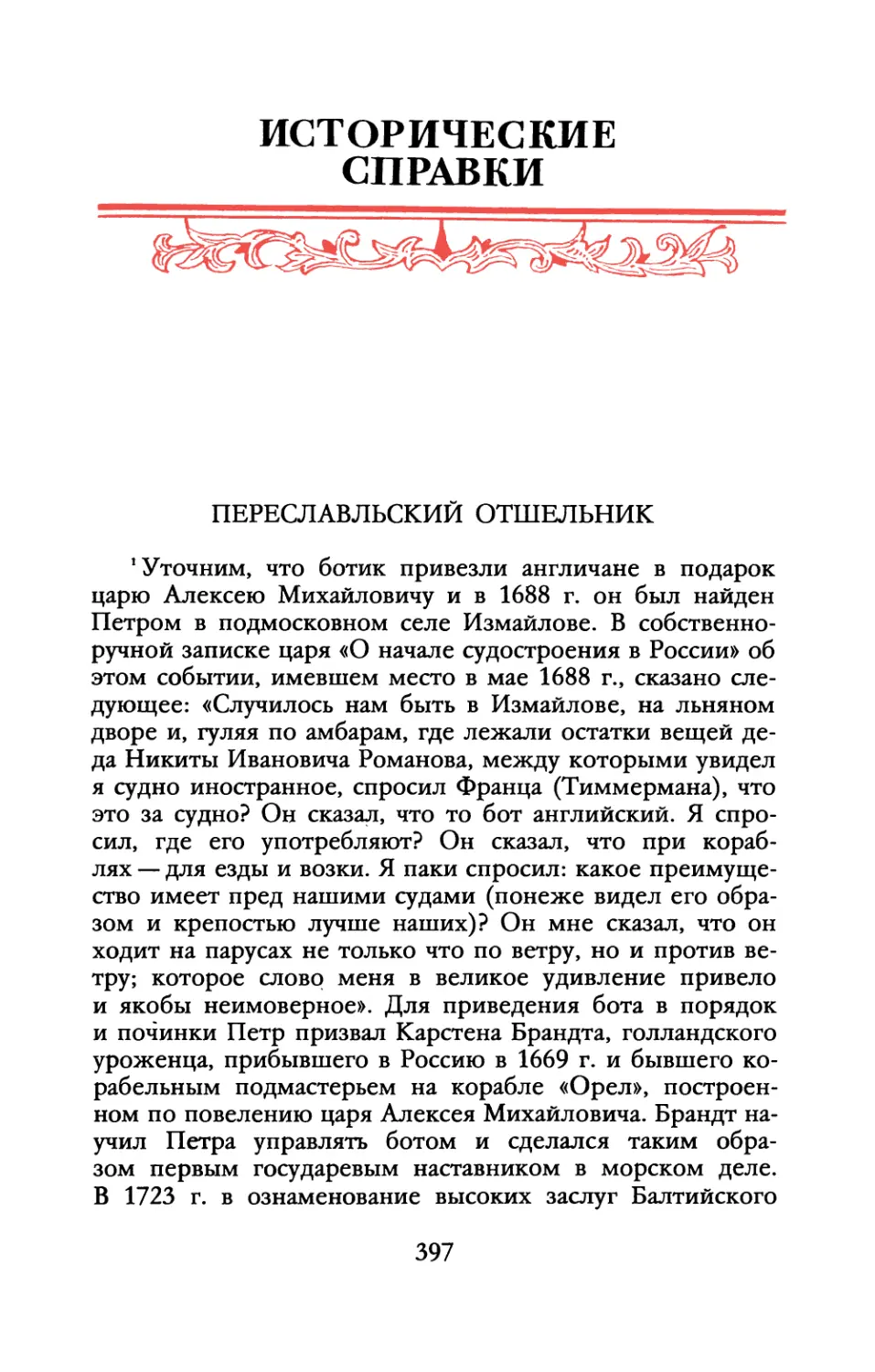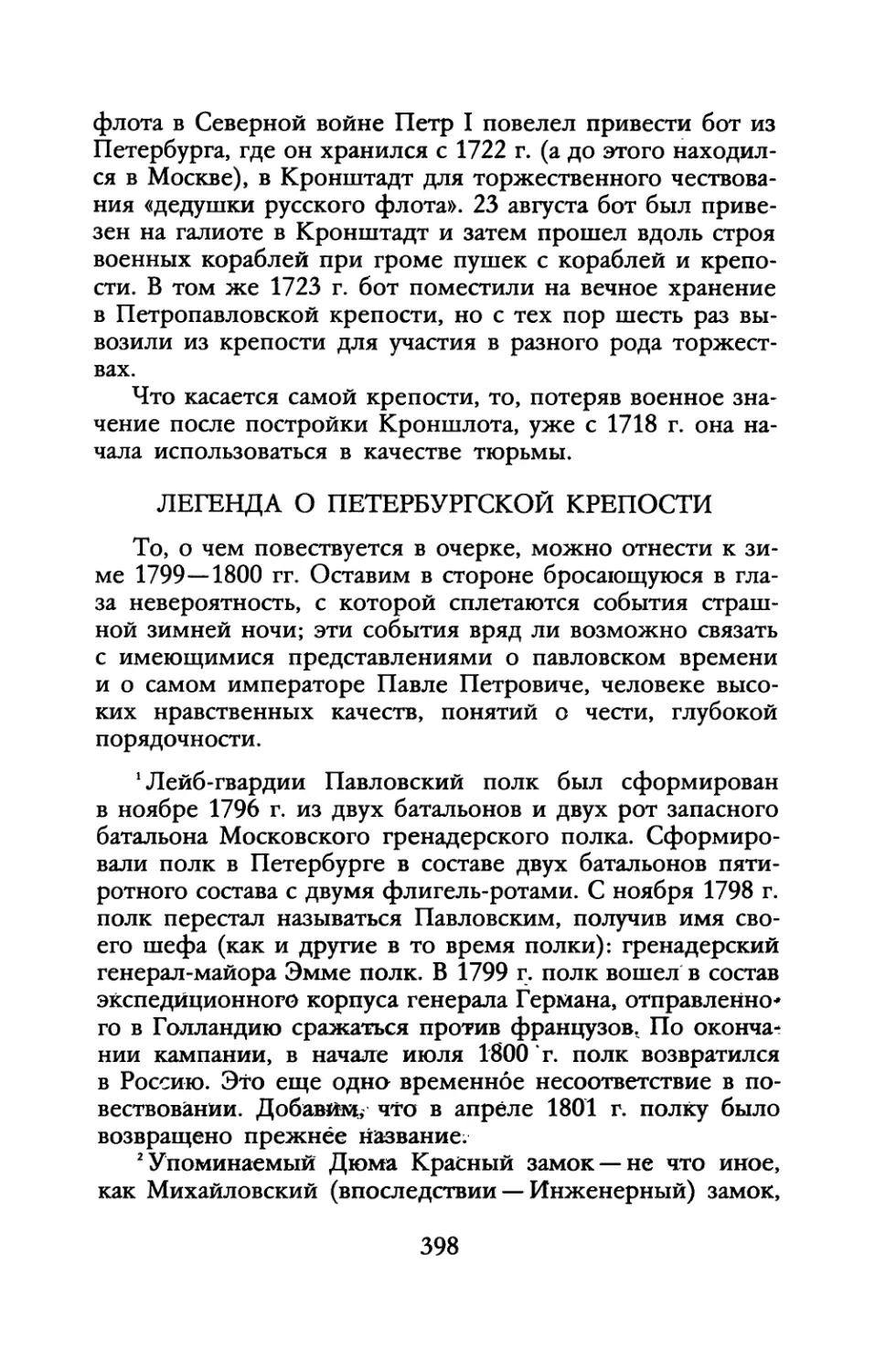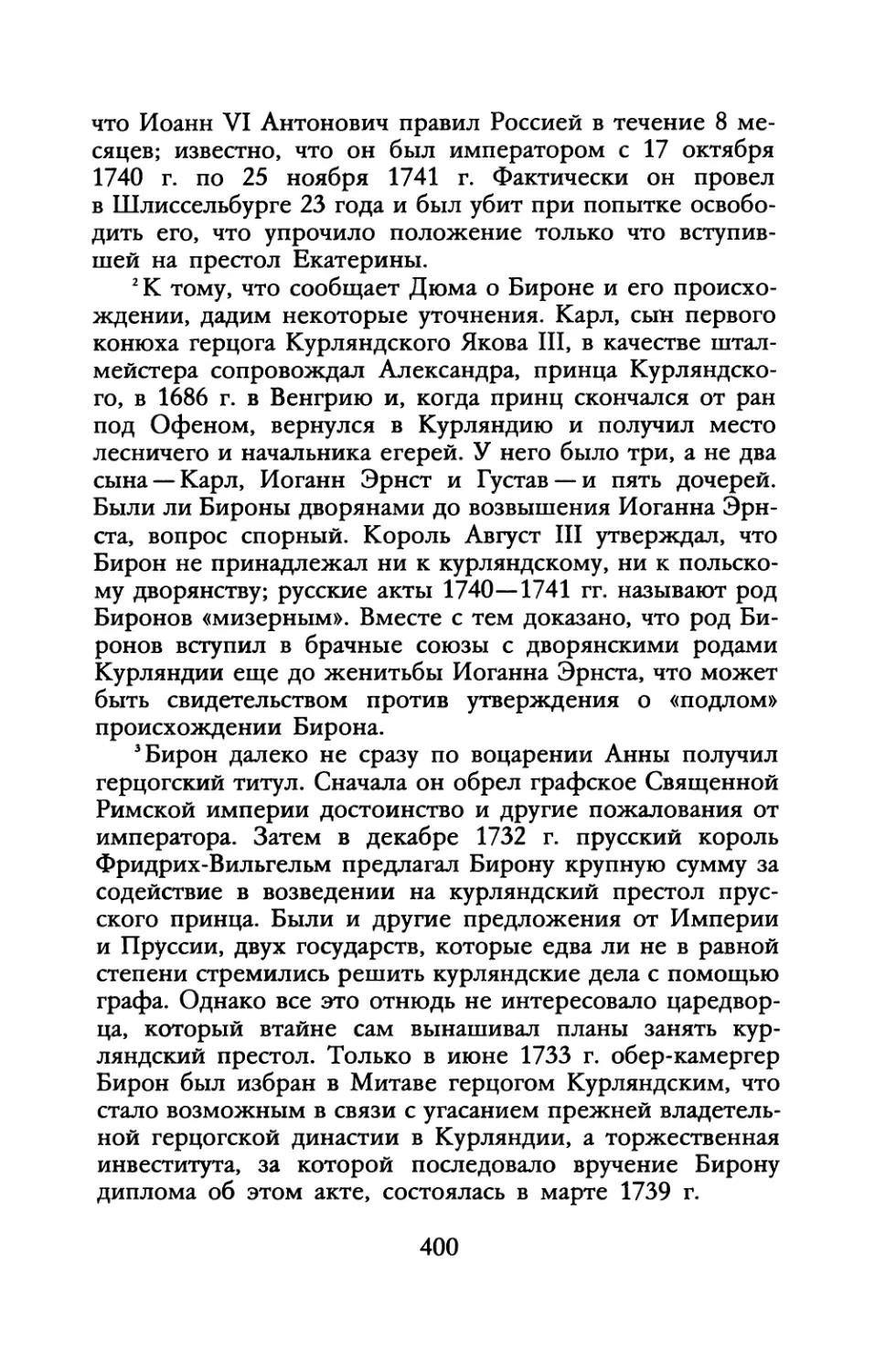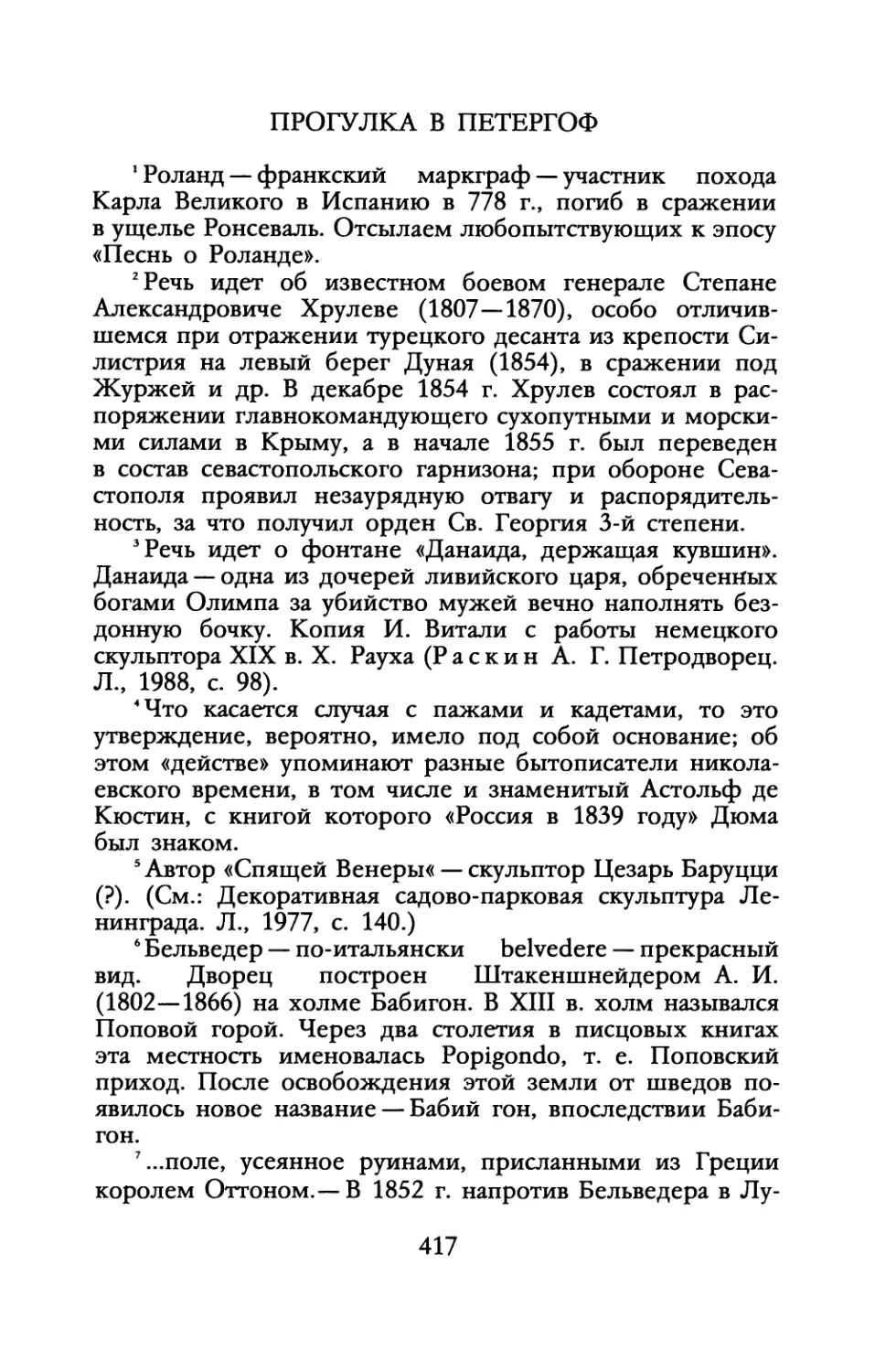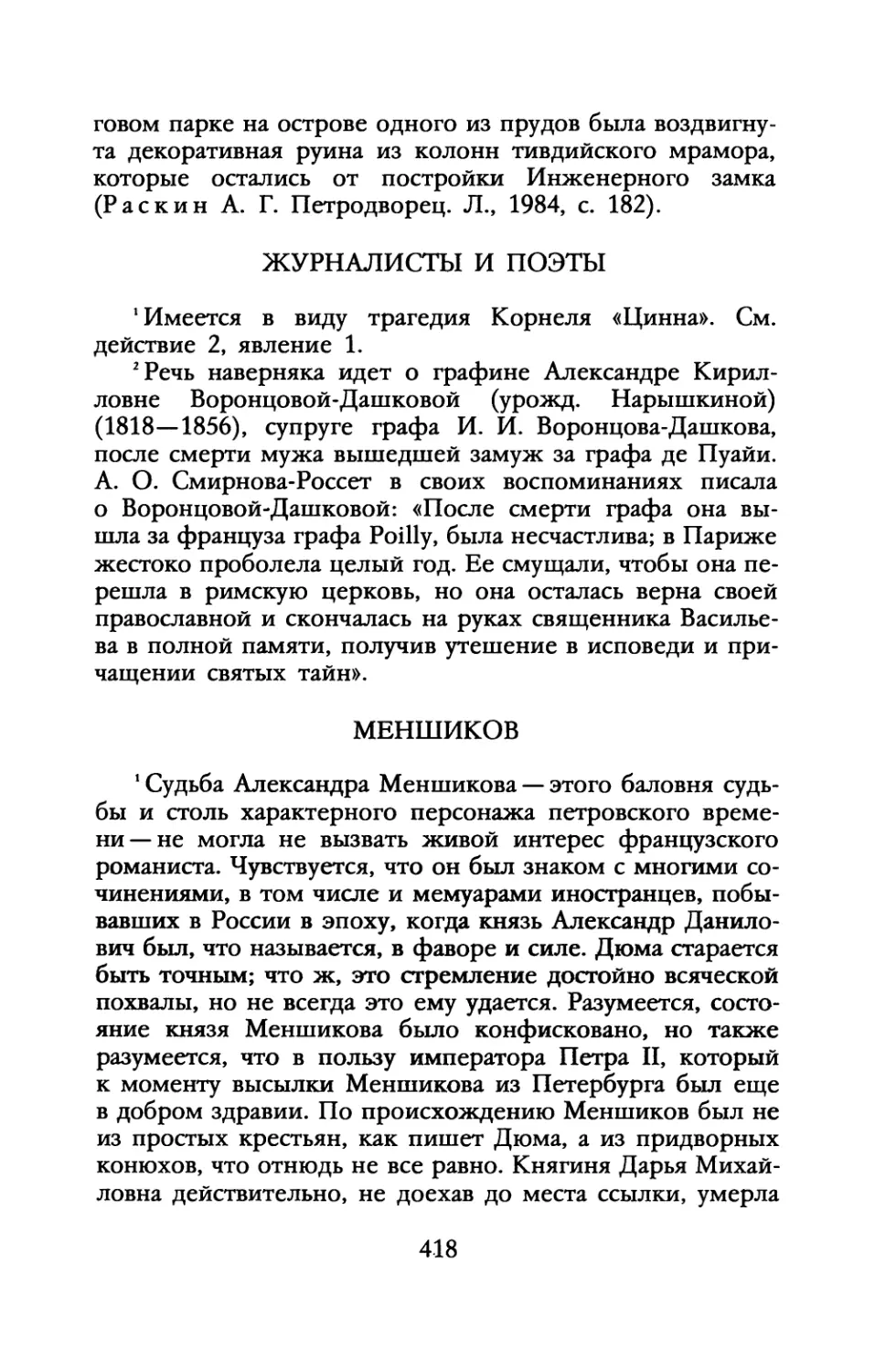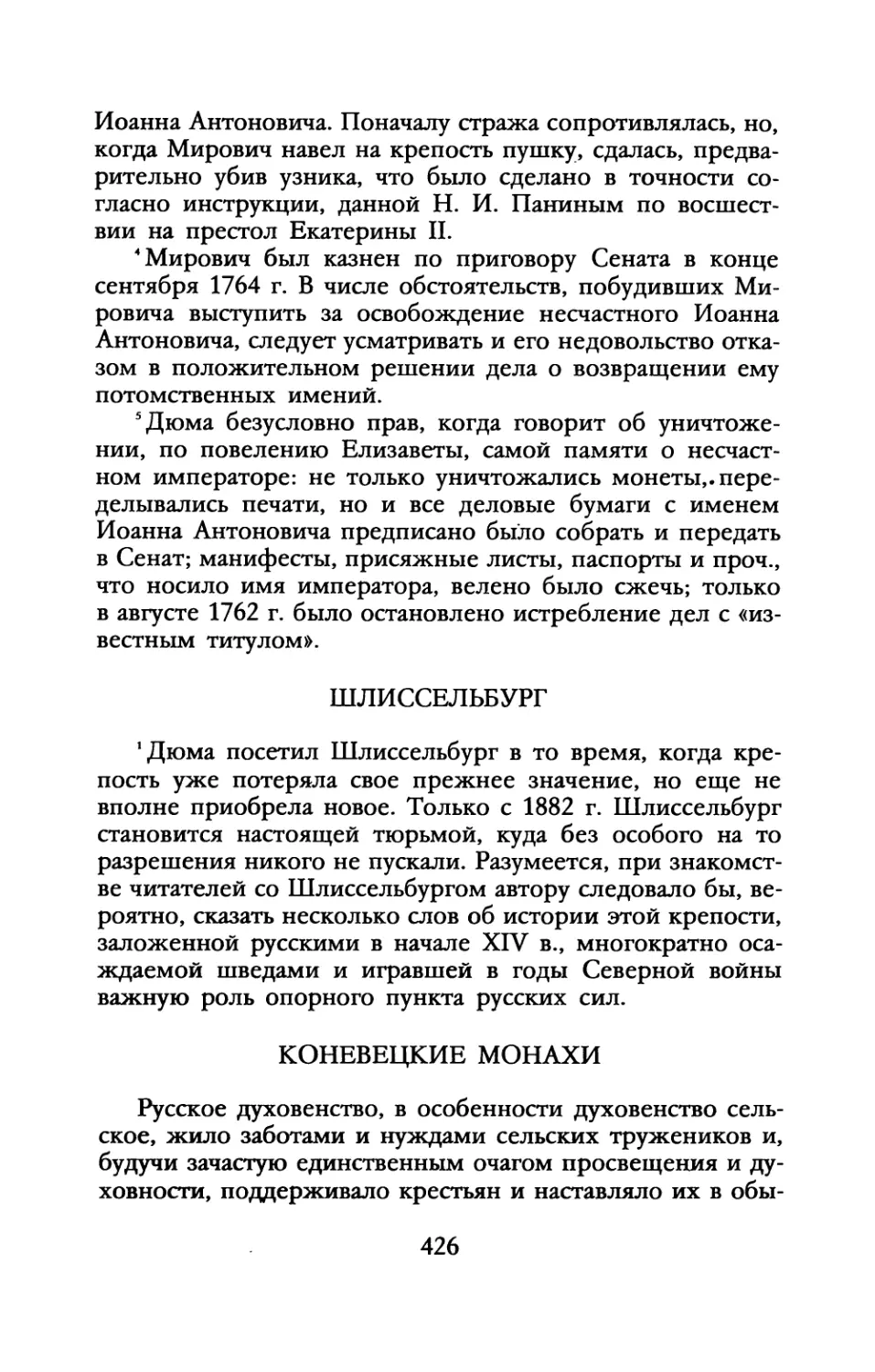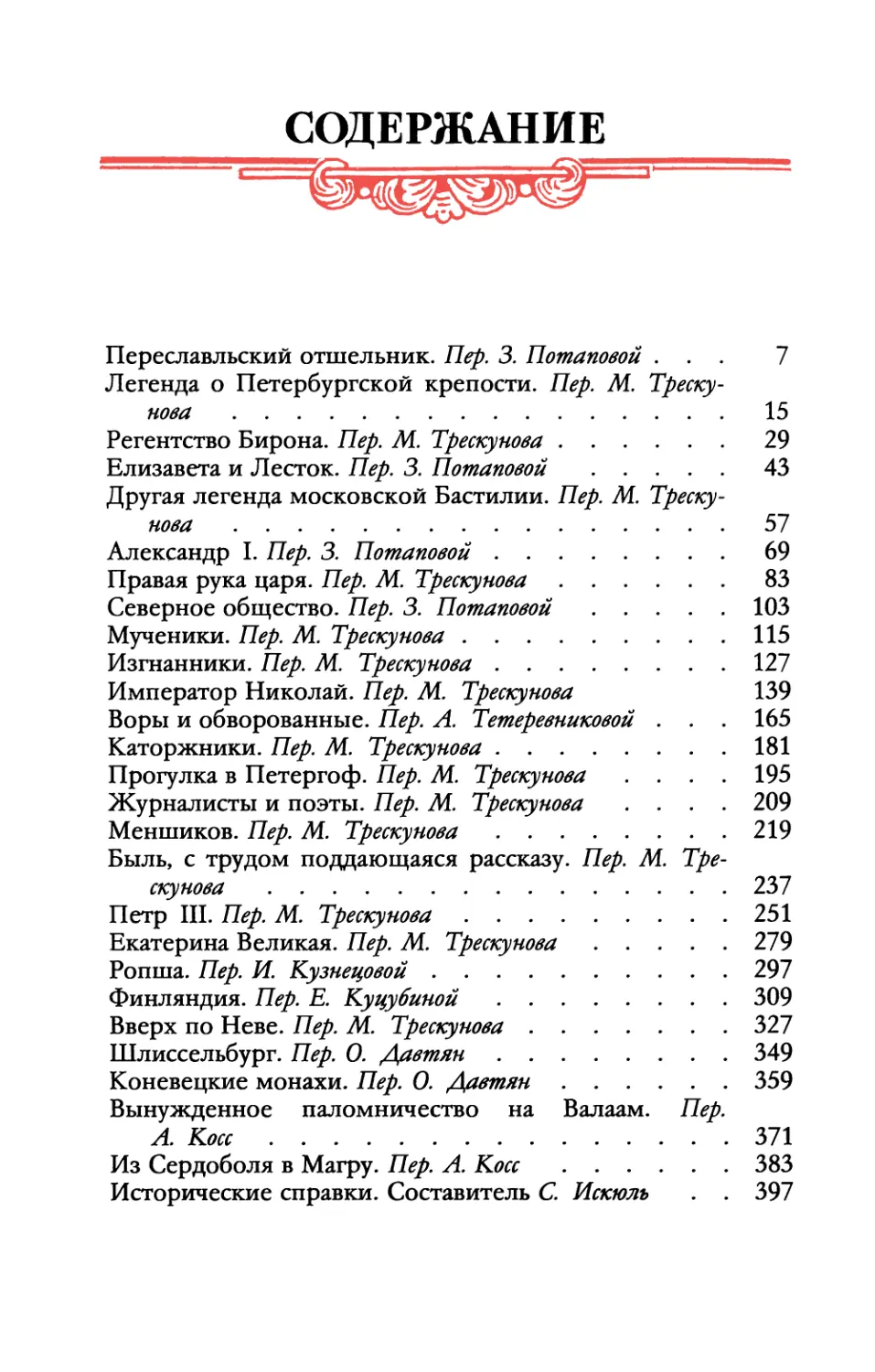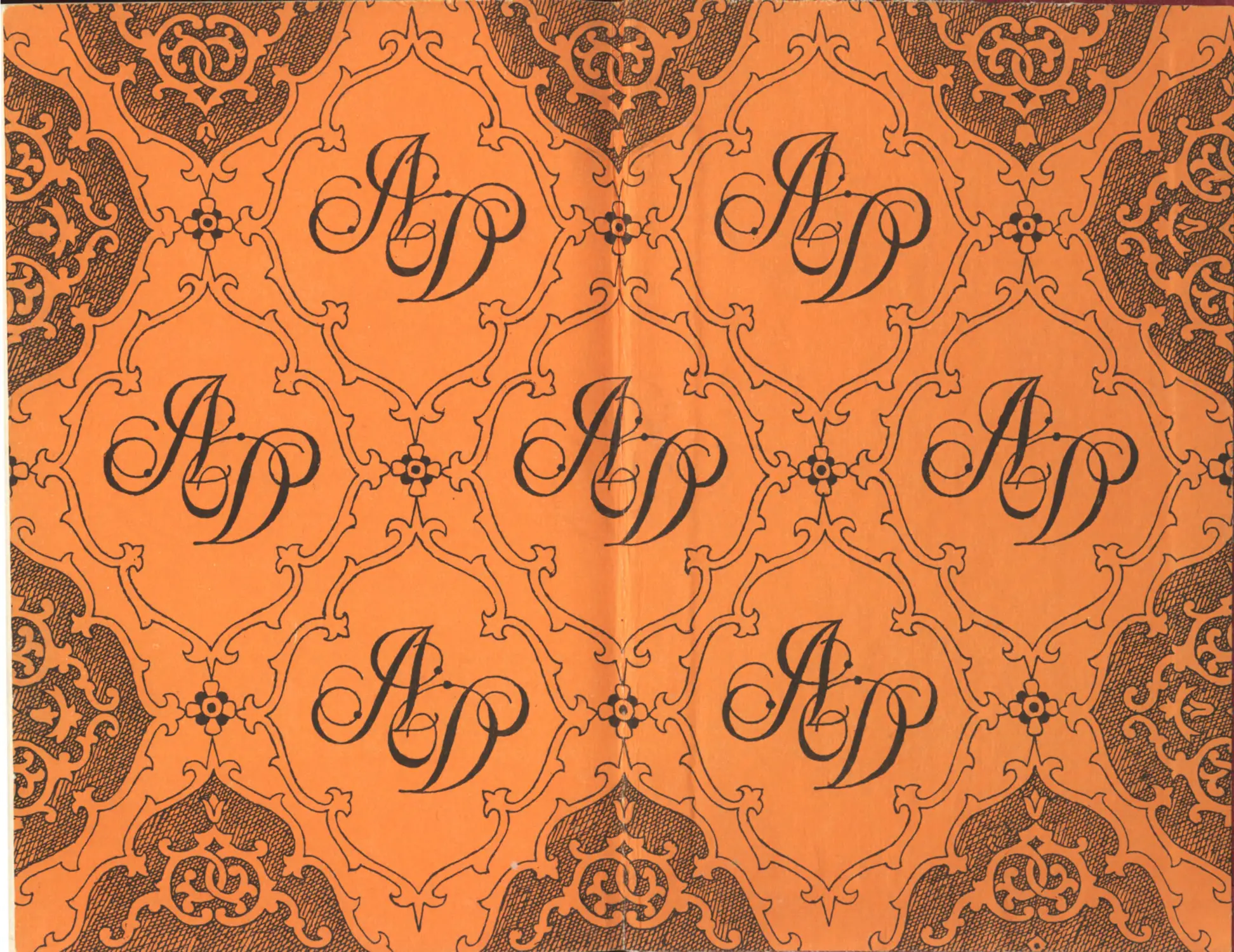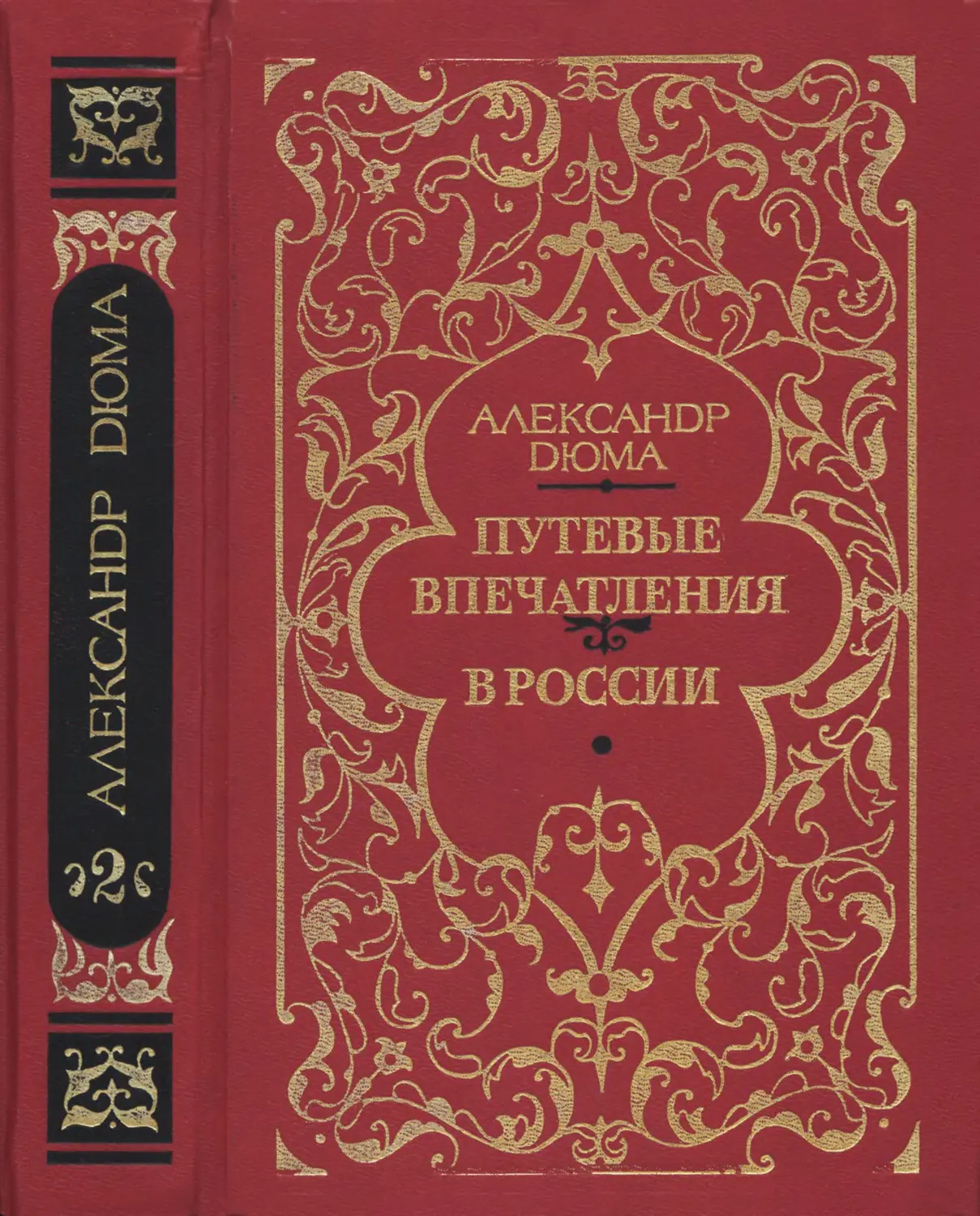Текст
Посвящается Нине Александровне ЖИРМУНСКОЙ
МОСКВА
1993
ALEXANDRE
DUMAS
IMPRESSION
DE
VOYAGE
•
EN RUSSIE
MOSCOU
AAEKCAHDP
DK3MA
Ф
СОЧИНЕНИЕ В ТРЕХ ТОМАХ
МОСКВА
19 9 3
АЛЕ KCAH DP
DïOMA
Ф
СОЧИНЕНИЕ В ТРЕХ ТОМАХ
ТОМ ВТОРОЙ
ёШптвьп:
ВПЕЧАТЛЕНИЯ
в России
ллдомн^
МОСКВА
ББК 84.4 Фр Д 96
Переводы с французского
Исторические справки С. Искюля
Редакторы
Н. Жирмунская, А. Миролюбова
Состав иллюстраций А. Таманцевой
Оформление Д. Шимилиса
4703000000-013 Д 593(03)-93
Без объявл.
© Коллектив авторов (см. содержание), 1993. © Д Б. Шимилис. Оформление, 1993.
ISBN 5-86218-040-0 (т. 2) © Научно-издательский центр «Ладомир»,
ISBN 5-86218-038-9 1993.
Репродуцирование (воспроизведение) данного издания любым способом без договора с издательством запрещается
утра пораньше я взял дрожки; один из моих друзей согласился служить мне переводчиком, и я отправился осматривать три достопримечательности: самую старинную церковь Санкт-Петербурга, домик царя Петра и Петропавловскую крепость. Все они расположены в старой части города, на правом берегу Невы. Но когда едешь по этой, правой, стороне реки, то через шесть верст приходится переезжать на другой берег, так как дальше набережная обрывается, потом, примерно через версту,—переправа обратно, и тогда уже и видишь перед собой, вернее — справа, первую, самую старую петербургскую церковь и домик Петра, а слева — крепость.
Церковь не имеет никакой художественной ценности, но там была отслужена первая обедня во славу Господа, пропето первое «Те Deum»* во славу царя Петра. Пока Муане делал набросок церкви, я отправился в домик Петра. Это — первый приют, который царь обрел на берегах Невы, ему пришлось построить себе жилище собственными руками. Это настоящий голландский домик, деревянный, но выкрашенный в красное, под кирпич; тут ощуща-
* Тебя, Господи, хвалим (лат.).
7
ется царственный плотник, прошедший выучку в Саардаме.
Чтобы возможно дольше сохранить домик, его поместили в своего рода ларец из дерева и стекла; на этот футляр льется дождь, сыплет град, налетает ветер, а маленький дом, аккуратный, заботливо покрашенный и ухоженный, защищен от летнего солнца и снежной зимы.
Есть нечто глубоко трогательное в том, как русские оберегают каждый предмет, который может засвидетельствовать потомкам гениальность основателя их империи. В этом благоговении к прошлому — великое будущее.
Внутри домик Петра состоит из четырех комнат: передней, гостиной, столовой и спальни. В гостиной, ставшей теперь мемориальной выставкой, находится рабочее кресло Петра, его скамья и парус его корабля. Столовую превратили в часовню, где на почетном месте стоит икона, которую Петр считал чудотворной и повсюду возил с собою. Спальня служит ризницей. Сюда приходят помолиться толпы людей, главным образом матросы; быть может, они смешивают Петра Великого со святым Петром. Мы, не путая одного с другим, признаемся, что ставим героя по меньшей мере в тот же ряд, что и святого.
К стене дома прислонился ботик, который Петр нашел в Измайлове: тот самый, построенный Брандтом, на котором царевич плавал по Яузе. Хотя, быть может, эта генеалогия не точна и здесь стоит шлюпка, на которой Петр ходил, навещая своего друга Василия, на остров, получивший потом его имя — Васильевский, остров, который этот Василий обустроил и возделал.
Во всяком случае, перед нами судно, которое народ с добродушной признательностью называет «дедушкой русского флота»1.
Гуу
i
l|&-
8
Вокруг домика в футляре — огороженный участок, где высятся чудесные липы в цвету. Всюду вьются мириады пчел, которые торопятся наполнить свой улей; пчелы знают, что время их отмерено, что липы цветут поздно, а зима приходит рано. В тени деревьев два-три мужика спят спокойным, беззаботным сном людей; у которых нет ничего, кроме веры в Бога.
Мы присели на скамейке в этом садике. О многом невольно размышляешь здесь, на этой скамейке, в тени дерева, посаженного, быть может, самим Петром, в то самое время, когда он насаждал Петербург на другом берегу реки. Город и липы с тех пор изрядно разрослись. Пчелы слетаются собирать мед с липового цвета; суда, столь же многочисленные, как пчелы, приходят в порт за товарами. И надо всем этим парит душа Петра.
Страшно подумать, какой стала бы Россия, если бы наследники Петра разделяли прогрессивные идеи этого гениального человека, который строил, воздвигал, создавал одновременно города, порты, крепости, флот, законы, армии, пушечные мастерские, дороги, церкви и религию. Не говоря уже о том, что ему приходилось разрушать — а это подчас было тяжелее, чем основывать заново. Я просидел там более часа. Муане срисовывал домик, а я пытался мысленно представить себе великого человека. Когда рисунок был окончен, мы простились с колыбелью и пошли поздороваться с тюрьмой.
Петропавловская крепость построена, как все прочие крепости, чтобы быть зримым сим волом антагонизма между народом и сувере ном. Она, несомненно, защищает город, но еще более угрожает ему; она, конечно, была построена, чтобы отражать шведов, но послу-
II
Ч
(Ь)
&
€
№
9
жила тому, чтобы заточать русских. Это Бастилия Санкт-Петербурга; как и Бастилия Сент-Антуанского предместья, она прежде всего держала в заточении мысль. Ужасной историей была бы летопись этой крепости. Все она слышала, всякое повидала, только еще ничего не раскрыла.
Настанет день — и она разверзнет свое чрево, как Бастилия, и устрашит глубиной, сыростью и мглою своих темниц; настанет день — и она заговорит, как замок Иф. В этот день Россия обретет историю; пока у нее есть только легенды. Одну из таких легенд я вам сейчас расскажу.
В сентябре 1855 года мой друг охотился в ста верстах от Москвы в окрестностях Перес- лавля. Охота завела его слишком далеко, чтобы он смог в тот же день вернуться к себе. Он оказался близ небольшого дома, где жил старый дворянин, владевший усадьбою уже 57 лет. Этот дворянин поселился здесь двадцати лет от роду, причем никто не знал, как он приобрел имение, откуда взялся и кто он такой. С того дня он ни разу не покидал своих владений, даже не ездил в Москву. В первые десять лет он ни с кем не встречался, ни с кем не познакомился по соседству и разговаривал только в случае крайней необходимости. Он так и не женился, хотя его имение между Троицей и Переславлем в две тысячи десятин и пятьсот душ крестьян приносило четыре-пять тысяч рублей серебром годового дохода.
Хотя этот дворянин не пользовался репутацией гостеприимца, однако охотник не поколебался попросить у него приюта на ночь, место на скамье и долю ужина. Русский крестьянин никогда не откажет путнику в тепле своего очага, тем более дворянин — согражданину, то
1
есть соотечественнику. В России существуют/ пока только соотечественники. При Алек-| сандре II появятся сограждане. 1
Было семь часов вечера, смеркалось, и поднялся холодный ветер, возвещающий за три недели о приходе русской зимы, когда охотник постучался в двери «палат». Так в России называют жилище этого типа: нечто меньшее, чем замок, но большее, чем обычный дом.
На стук вышел старый слуга и, выслушав просьбу, отправился передать ее помещику, предложив охотнику немного подождать в прихожей. Через пять минут слуга вернулся; помещик приглашал моего друга войти. Тот вошел и увидел хозяина за столом вместе с гостем, в котором узнал деревенского соседа своего отца. Таким образом охотник обрел заступника на тот случай, если предполагаемый мизантроп вздумает изменить свое решение. Но заступничества не потребовалось. Помещик встал и пошел навстречу, приглашая нового гостя к столу. Это был красивый старик лет семидесяти пяти, с живым, чуть беспокойным взглядом, крепкого здоровья; его пышные седые волосы и красивая седая борода отнюдь не уменьшали впечатления мощи, которое исходило от его внешности. Он был одет строго по-русски: сапоги по самое колено, сборчатые бархатные панталоны, сюртук серого сукна, шапка, отороченная каракулем.
Сотрапезники уже отужинали и сидели, покуривая, за чашкой чаю. Старик, извинившись за слишком скромный, по его мнению, прием, приказал принести на стол блюда с остатками ужина. Впрочем, эти остатки были настолько обильны, что утолили бы аппетит самого npQ- голодавшегося охотника. Мой друг быстро расправился с едой и присоединился к старым
друзьям, распивавшим уже пятую или шестую чашку чаю и курившим вторую или третью сигару.
Разумеется, гость старика и мой друг обменялись вежливыми приветствиями, так что помещик увидел, что они знакомы. Завязалась беседа о текущих событиях; говорили с вольностью, особенно приятной после тридцати лет немоты. В минувшем феврале скончался император Николай I, а Александр II начал со слов и действий, открывавших для России будущее, на которое она давно перестала надеяться.
Старик, не в пример людям его возраста, вечно сожалеющим о прошлом, казалось, был счастлив переменой режима и вздохнул полной грудью. Он походил на человека, долго томившегося под сводами темницы, а теперь выпущенного на свободу, которой жадно наслаждался. Разговор чрезвычайно заинтересовал моего друга. Старик, сохранивший прекрасную память, говорил о самых отдаленных временах, словно о вчерашних событиях. Он вспоминал Екатерину Вторую, Потемкина, Орловых, Зубовых, этих героев прошлого века, которые кажутся нашему поколению призраками отжившей эпохи.
Значит, до того, как попасть в свое имение, он жил в Петербурге; значит, бывал при дворе и встречался с вельможами, прежде чем отправиться в глушь к своим крестьянам. Разговорчивость хозяина дома особенно удивляла нашего охотника еще и потому, что, как мы говорили, старый дворянин отнюдь не имел репутации болтуна.
Несомненно, охота поговорить обуяла его именно в силу долгого молчания. И он с удовольствием отвечал на расспросы молодого человека. Но тот, удерживаемый некоторой
Sr*
4M
w
Vi
5s
осмотрительностью, не осмеливался задать вопрос, более всего интересовавший его:
«Почему столь достойный человек, как вы, покинул Санкт-Петербург в восемнадцать лет, чтобы на пятьдесят семь зарыться в провинциальной глуши?»
Однако, когда старец ненадолго вышел из комнаты, мой приятель приступил к другу своего отца.
— Я знаю об этом не более вашего,— ответил тот,— хотя уже тридцать с лишним лет знаком с моим таинственным соседом. Но мне кажется, что именно сегодня он открылся бы мне, если бы не появился посторонний. Он уже собирался рассказывать, и я впервые видел его в таком расположении духа.
Старик вернулся.
После сказанного со стороны нашего охотника было бы неделикатностью оставаться долее вместе со старыми друзьями. Он поднялся и попросил хозяина указать отведенную ему комнату. Старик сам проводил его в соседнюю горницу. От столовой ее отделяла простая перегородка; мало того,— как будто чтобы еще больше подстрекнуть любопытство гостя, хозяин, уходя, оставил дверь открытой.
Наш охотник с испугом убедился, что ему будет слышно каждое слово, произнесенное в столовой. Поистине, искушение Господне! Однако надо отдать должное моему другу: он приложил все усилия, чтобы заснуть и ничего не услышать. Но напрасно охотник ворочался на своем диване, жмурил глаза и натягивал на голову одеяло. Сон не шел к нему с тем же упорством, с каким он его призывал. В тот решающий момент, когда гость было уже задремывал, когда мысли его мешались и сквозь смежившиеся веки мерещилцсь крылатые виде-
13
ния, то мышь начинала грызть половицу, то собака стучала хвостом по полу; и он просыпался, широко открыв глаза, и, невольно напрягая слух, поворачивался к той полуотворенной двери, откуда доходили до его комнаты свет и голоса.
Тогда мой друг счел долгом напомнить хозяину о своем присутствии, вернее, о своем соседстве. Он кашлял, плевал, чихал. При каждом звуке разговор действительно прекращался, но снова возобновлялся, как только наступала тишина.
Мой друг имел неосторожность притихнуть минут на пять и попытался отвлечься такими мыслями, которые обычно вытесняли все другие. Но на этот раз они не возымели перевеса, и, услышав в наступившей тишине первые слова той истории, которую ему так хотелось узнать, он уже не мог удержаться и выслушал все до конца.
О ПЕТЕРБУРГСКОЙ КРЕПОСТИ
не исполнилось восемнадцать лет; уже два года я служил прапорщиком в Павловском полку1.
Полк был расквартирован на Марсовом поле, в огромном здании, напротив Летнего сада.
Император Павел царствовал уже три года и проживал в только что отстроенном Красном замке2.
Однажды ночью, когда из-за какой-то провинности мне отказали в увольнительной, я, вместо того чтобы провести время с друзьями, оставался в казарме почти единственным из офицеров моего чина. Вдруг кто-то, чье дыхание я почувствовал на лице, разбудил меня и сказал на ухо:
— Дмитрий Александрович, проснитесь и следуйте за мной.
Я открыл глаза: стоящий передо мной человек повторил приглашение.
— Следовать за вами? — спросил я.— А куда же?
— Не могу вам сказать, но имейте в виду — это повеление императора.
Я был потрясен.
15
Повеление императора! Что ему нужно от меня, бедного прапорщика, из семьи хоть и благородной, но слишком отдаленной от царского трона, чтобы мое имя стало известно ему.
Вспомнилась мрачная русская пословица, возникшая во времена Иоанна Грозного: «Подле царя — рядом со смертью».
Но колебаться не приходилось; я вскочил с постели и быстро оделся.
Затем внимательно посмотрел на человека, разбудившего меня: он был весь закутан в меховую шубу, но мне показалось, что я узнаю в нем турецкого невольника, сначала исполнявшего должность цирюльника, а затем ставшего фаворитом императора3.
Но рассматривал я его недолго, медлить, возможно, было бы опасно. Через пять минут, крепко сжав эфес шпаги, я объявил:
— Готов идти за вами.
Волнение мое усилилось, когда сопровождающий меня человек пошел не к выходу из казармы, а начал спускаться по винтовой лесенке в подвальный этаж этого огромного здания; он сам освещал наш путь потайным фонарем.
После нескольких поворотов я очутился перед дверью, которую увидал впервые в жизни.
В течение всего пути мы не встретили ни одной души; казалось, в казарме вообще никого не было.
Мне, правда, почудилось, что мимо прошмыгнули какие-то неуловимые тени, но они исчезли или, вернее, растаяли во мраке.
Дверь, к которой мы подошли, была закрыта; мой спутник особым способом постучался в нее; она открылась: несомненно, кто-то ожидал нас.
И действительно, когда мы проследовали вперед, я, несмотря на потемки, ясно увидел человека, закрывавшего эту дверь, он же по-
шел за нами по довольно узкому подземному коридору, выложенные кирпичом стены которого сочились сыростью.
Пройдя приблизительно пятьсот шагов, мы увидели, что подземный переход перекрыт решеткой.
Мой спутник вынул ключ из кармана, открыл дверь решетки и, едва мы прошли, закрыл эту дверь с другой стороны.
Мы молча продолжали путь.
И вдруг я вспомнил ходячую молву, что существует подземный ход от Красного замка к Павловским казармам гренадеров.
Теперь я понял — мы идем по этому проходу, и раз вышли из казармы, то должны прийти в замок.
Наконец мы достигли двери, такой же, как та, через которую нам удалось проникнуть в подземный ход. Проводник постучал таким же способом, как ранее; дверь открыл человек, стоявший с другой стороны.
Перед нами возникла лестница, по которой мы поднялись в нижние апартаменты, здесь ощущалась атмосфера тщательно натопленного жилого помещения. По мере того, как мы шли, комнаты все больше становились похожими на дворцовые залы.
Тогда все сомнения рассеялись: меня привели к императору, самому царю, пославшему слугу разыскать меня, ничтожного человека, затерявшегося в рядах гвардейцев самого низшего звания.
Я знал одного молодого прапорщика, которого император встретил на улице, подозвал к своей карете и в течение нескольких минут последовательно произвел в поручики, капитаны, майоры, полковники и генералы.
Но я не мог надеяться, что император вызывает меня для этой же цели.
Однако, как бы там ни было, мы подошли к последней двери, перед которой расхаживал часовой.
Проводник положил мне руку на плечо и сказал: «Держите себя достойно, вы предстанете перед императором!»
Затем он тихим голосом сказал что-то часовому, последний посторонился, и проводник открыл дверь не ключом, а каким-то секретным способом.
Небольшого роста человек, одетый на прусский лад, в высоких сапогах, обернулся, когда мы вошли. Несмотря на то, что он находился у себя дома, на голове у него красовалась огромная треуголка, и он был в парадной форме, хотя уже наступила полночь.
Я узнал императора. Это было нетрудно. Он ежедневно приходил на смотр нашего полка.
Я вспомнил, что как раз накануне он остановил взгляд на мне, подозвал моего капитана и, продолжая глядеть на меня, тихо о чем-то расспрашивал, затем повелительным тоном обратился к одному из офицеров своей свиты.
Все это весьма меня встревожило.
— Ваше Величество,— произнес, кланяясь, мой проводник,—вот тот офицер, с которым вы пожелали говорить.
Император приблизился ко мне и, так как он был невысокого роста, приподнялся на носках, чтобы разглядеть меня. Несомненно, он признал того, с кем захотел иметь дело: одобрительно кивнув головой, повернулся и произнес: «Идите!» Проводник поклонился и оставил меня наедине с императором.
Должен признаться, я охотнее остался бы наедине со львом в железной клетке.
Вначале император не обращал на меня никакого внимания; он маршировал взад и впе-
я
ред, останавливался перед зеркальным окном, открывал форточку, чтобы подышать воздухом, возвращался к столу, на котором лежала табакерка, и брал из нее понюшку табака.
Это было окно его спальни, именно то, подле которого он был убит и которое, говорят, ни разу не открывалось после его смерти.
У меня было достаточно времени рассмотреть все, что находилось в этой спальне: расположение мебели, места кресел и стульев.
Подле одного из окон стояло бюро, на котором лежал раскрытый документ.
Наконец император, заметив мое присутствие, подошел ко мне. Его лицо казалось грозным, хотя скорее всего оно нервно подергивалось:
Он остановился напротив меня.
— Пыль,— сказал он мне,— пыль, ты знаешь, что ты всего лишь пыль, а вот я всемогущ.
Не знаю, откуда у меня взялись силы ему ответить.
— Вы избранник Божий, судия человеческих судеб.
— Вот как,— проговорил он.
И, повернувшись ко мне спиной, вновь стал маршировать, открывать окно, нюхать табак и лишь затем опять подошел ко мне:
— Так, значит, тебе известно, что, когда я приказываю, нужно повиноваться беспрекословно, ни о чем не спрашивая, не требуя никаких объяснений?
— Так же, как повинуются Богу, да, Ваше Величество, я это знаю.
Он пронзительно посмотрел на меня.
И взгляд этот был столь странным, что я не смог выдержать, отвел глаза и отвернулся.
Император, казалось, был удовлетворен, что произвел такой эффект: он счел это благогове-
нием, на самом же деле я не испытывал ничего, кроме презрения.
Царь приблизился к бюро, взял документ, перечитал его, свернул, положил в конверт и запечатал — не императорской печатью, а кольцом, которое носил на пальце.
Затем вернулся ко мне.
— Запомни, я тебя избрал среди тысяч для того, чтобы ты исполнил мои приказания: мне кажется, что ты, именно ты, сможешь точно все исполнить.
— Я твердо знаю, что обязан повиноваться своему императору,—ответил я.
— Ладно! Так! Помни, что ты лишь пыль, но что я всемогущ!
— Жду приказаний Вашего Величества.
— Возьми это письмо, отвези его коменданту крепости, сопровождай его туда, куда он тебя поведет, присутствуй при всех его делах и, когда вновь придешь ко мне, скажешь: «Я видел».
Взяв пакет, я поклонился.
— «Я видел», ты понял? «Я видел».
— Да, Ваше Величество.
— Иди!
Закрывая за мной дверь, император повторял*.
— Пыль, пыль, пыль.
Пораженный этими словами, я остановился на пороге.
— Идемте,— сказал мой проводник.
И мы пошли, но по другому пути, ведущему ко внешней стороне замка. Во дворе поджидали сани, и мы уселись в них.
Вброта замка, расположенные напротив моста через Фонтанку, открылись, и тройка лошадей, запряженная в сани, побежала рысью. Мы промчались через площадь и подъехали к берегу Невы. Наши рысаки пронеслись по льду
и пересекли реку напротив колокольни Петропавловской церкви. Стояла темная ночь, мрачно и страшно завывал ветер.
Я едва заметил, как мы поднялись на берег и достигли ворот крепости.
Солдат выслушал пароль и пропустил нас. Мы въехали в крепость, и сани остановились у дома коменданта.
Повторив пароль, мы вошли к коменданту. Он спал, его заставили встать, объявив: «По повелениюимператора!» Комендант был взволнован, хотя и улыбался.
При таком властелине, как Павел, существовала одинаковая опасность и для тюремщиков и для заключенных, для палачей и для их жертв.
Комендант взглянул на нас, мой проводник дал понять, что следует иметь дела со мной.
Тогда комендант внимательнее присмотрелся ко мне, не решаясь, однако, заговорить. Его, конечно, удивила моя молодость.
Чтоб успокоить его, я молча передал приказ императора.
Он подошел к свече, внимательно рассмотрел пакет, узнал личную печать императора, его секретный шифр, почти незаметно перекрестился и вскрыл письмо.
Прочитав приказ, посмотрел на меня, вновь прочитал и тогда обратился ко мне:
— Вы должны видеть?
— Да, я должен видеть.
— Что вы должны видеть?
— Вам это известно.
— Но сами-то вы знаете?
— Нет.
На мгновение он задумался.
— Вы прибыли на санях?
— Да.
— Сколько человек могут на них поместиться?
— Трое.
— А господин поедет? — спросил начальник, указывая на проводника.
Я колебался, не зная, что ответить.
— Нет,—ответил проводник.— Я буду ждать.
— Где?
— Здесь.
— Ждать чего?
— Окончания дела.
— Хорошо. Приготовьте вторые сани, выберите четырех солдат, пусть один из них возьмет лом, другой —- молот, а еще двое пусть захватят топоры.
Человек, к которому обратился комендант, тотчас удалился.
Затем он повернулся ко мне:
— Идемте, и вы увидите.
Он вышел первым, указывая мне дорогу, я двигался за ним, следом шел сторож с ключами.
Так мы дошли до самой тюрьмы.
Комендант указал тюремщику на дверь, которую следовало открыть.
Сторож открыл ее и, первым войдя в каземат, зажег фонарь и посветил нам.
Мы спустились на десять ступенек и очутились у первого ряда камер, но, не задерживаясь, спустились еще на десять ступенек и затем, пройдя вниз еще пять, остановились.
Дверь каждой камеры имела свой номер. Комендант остановился у карцера под номером 11. Молча подал знак. Можно было подумать, что среди этих могил, где обитали мертвецы, живые теряли способность говорить.
Снаружи стоял двадцатиградусный мороз, а в глубинах каземата, где мы находились, хо-
лод сочетался с сыростью, пронизывал до костей, я дрожал от стужи и в то же время вытирал пот со лба.
Открылась дверь, мы спустились еще на шесть крутых и липких ступеней и очутились в карцере площадью восемь квадратных футов.
При свете фонаря мне показалось, что я увидел в глубине шевелящуюся человеческую фигуру.
Слышался странный глухой шум. Я огляделся и увидел узкую амбразуру длиной в фут и шириной в четыре дюйма. Ветер проникал в эту щель и вызывал сильный сквозняк в камере.
Теперь я понял, откуда возникал этот глухой шум: Нева набрасывалась на стены крепости, камера находилась ниже уровня реки.
— Встаньте и оденьтесь,— сказал комендант.
Я полюбопытствовал, к кому же обращен этот приказ.
— Посвети,— сказал я тюремщику.
Тюремщик направил фонарь в глубину карцера.
Тогда я увидел поднявшегося старика, худого и бледного, с седыми космами и белой бородой. Несомненно, он попал в этот каземат в одежде, в которой был арестован, но со временем эта одежда распалась на куски, и ныне он предстал облаченным в лохмотья.
Сквозь эти лохмоться можно было увидеть голое, дрожащее от холода костлявое тело.
Быть может, это тело когда-то было покрыто роскошной одеждой, быть может, самые почетные ордена украшали эту изможденную грудь. Н*ыне то был живой скелет, лишенный достоинства, звания, лишенный даже имени, имевший лишь номер 11.
Он поднялся, молча закутался в. остатки шубы. Тело его было согбенным, надломленным казематом, сыростью, временем, мраком, быть может, голодом, но взгляд был гордый, почти угрожающий.
— Все в порядке,— сказал комендант,— идемте.
Он вышел первым.
Узник в последний раз окинул взором свою камеру, каменное сиденье, кувшин с водой, посмотрел также на прогнившую солому постели. Тяжело вздохнул.
Однако же было немыслимо сожалеть обо всем этом убожестве!
Следуя за комендантом, старик прошел мимо меня. Я никогда не забуду, как он на меня посмотрел, с каким упреком. Такой молодой, казалось, говорил он мне, и уже на службе у тирании.
Я отвел глаза: его взор пронзил мое сердце, словно кинжалом.
Я отступил, чтобы узник, проходя, не прикоснулся ко мне.
Он перешагнул порог карцера. Когда же он туда вошел? Быть может, бедняга и сам уже не помнил.
Он, вероятно, потерял счет дням и ночам в глубине этой пропасти.
Я вышел за ним, тюремщик — следом, тщательно заперев карцер.
Может быть, его освобождали только потому, что камера нужна для другого?
У дверей коменданта стояли двое саней.
Узника посадили в те, которые привезли нас; сели мы: комендант рядом с ним, я— на передней скамейке.
На вторых санях ехали четыре солдата.
Куда мы направлялись, я не знал. Что будем делать? Тоже не знал. Действие меня не .каса-
лось. Вы помните: я должен был видеть, вот и все.
Я ошибся, мне оставалось сделать еще что-то— надо было сказать: «Я видел».
Мы отправились.
Я сидел таким образом, что ноги старика касались моих колен, и я чувствовал, как они дрожат.
На коменданте была шуба, на мне — военная шинель, но холод пробирал нас до костей. Старик был наг или почти наг, а комендант ничего ему не предложил надеть на себя.
У меня возникла мысль уступить старику свою шинель, комендант угадал мое намерение.
— Не стоит,—сказал он.
И я остался в шинели.
Мы продолжили свой путь и вновь достигли Невы.
Выехав на середину, направились в сторону Кронштадта.
Ветер с неистовой силой дул со стороны Балтики, град бил по лицу, готовилась та страшная метель, какая бывает лишь в Финском заливе.
Хотя глаза и привыкли к темноте, мы могли различать предметы лишь на расстоянии десяти шагов.
Едва мы проехали косу, началась метель.
Вы не имеете представления, друг мой, что такое порыв ледяного ветра в низкой болотистой местности, где нет ни одного дерева, которое оказало бы сопротивление его стремительности.
Воздух вокруг пришел в движение, но хлопья снега валились так плотно, что готовы были задушить нас сплошной стеной. Лошади ржали, фыркали, останавливались. Кучер заста-
влял их бежать, подгоняя кнутом. Лошадей заносило к берегу, где мы могли расшибиться.
Ценой неслыханных усилий удавалось держаться середины реки.
Я знаю, бывали случаи, когда среди бела дня сани, лошади, экипажи, люди погружались под тонкий лед в местах, где вода никогда не замерзает. Мы могли также попасть в такую дыру и все утонуть в ней.
Какая ночь, друг мой, что за страшная ночь!
А этот старик, колени которого, прикасаясь к моим, дрожали все сильнее!
Наконец остановились на расстоянии около лье от Санкт-Петербурга.
Комендант поднялся и направился ко вторым саням. Солдаты уже стояли подле них, держа в руках взятые с собой инструменты.
— Сделайте прорубь во льду,— сказал комендант.
У меня вырвался крик ужаса. Я начинал понимать.
— Ах, вот что,— пробормотал старик скрежещущим голосом, подобным смеху мертвеца,— значит, императрица вспомнила меня! Я полагал, она меня забыла.
О какой императрице говорил несчастный? Три императрицы следовали одна за другой: Анна, Елизавета, Екатерина.
Очевидно, бедняге казалось, что он живет во времена одной из них — он не знал даже имя того, кто обрек его на смерть.
Что была темнота этой ночи рядом с мраком его темницы?
Солдаты принялись за работу. Они проламывали лед молотами. Топорами рубили его на куски и, поддевая ломом, вытаскивали из воды.
Вдруг они отскочили назад, лед проломился, выступила вода.
— Выходите,— обратился комендант к старику.
Приказ был излишним. Старик и сам уже вылез из саней.
Став на льду на колени, он молился.
Комендант шепотом отдал приказ солдатам, затем возвратился и сел рядом со мной. Я не выходил из саней.
Через минуту старик поднялся.
— Я готов,—сказал он.
Солдаты ринулись к нему.
Я отвел глаза в сторону, но если и не видел, то все слышал. Слышал, как тело старика упало в бездну.
И тут я невольно повернулся.
Старик исчез.
Совсем забыв, что не мне здесь распоряжаться, я невольно обратился к кучеру:
— Пошел! Пошел!
— Стой! — крикнул комендант.
Сани остановились.
— Еще не все кончено,— по-французски сказал мне комендант.
— Что мы должны еще сделать? — спросил я.
— Ждать,— ответил он.
Мы простояли полчаса.
— Ваше превосходительство, прорубь затянуло льдом,— сообщил солдат.
— Ты уверен?
Комендант постучал по покрытой льдом пропасти. Лед казался прочным.
— Едемте,— распорядился он.
Лошади поскакали галопом, словно их преследовал демон бури.
Через десять минут мы возвратились в крепость.
Я присоединился к моему проводнику.
— В Красный замок,—сказал он кучеру.
у Л-
4Ь
w
1
(I
Ж.
VA
Пять минут спустя дверь императорских апартаментов открылась передо мной.
Император был на ногах и в полной форме, как и при первом приеме. Он приблизился ко мне.
• Ну что? — спросил он.
• Я видел.
- Ты видел, видел, видел?
- Ваше Величество, взгляните на меня и вы убедитесь.
Находясь перед зеркалом, я видел свое отражение. Бледный, с искаженными чертами лица, я едва узнавал себя.
Император посмотрел на меня и, не говоря ни слова, направился к бюро, где ранее был секретный пакет, а теперь лежал новый документ.
— Я дарю тебе,— сказал он,—поместье между Троицким и Переславлем и пятьсот крестьян. Уезжай сегодня же ночью и никогда не появляйся в Санкт-Петербурге. Будешь болтать— знаешь, как я умею наказывать! Иди!
Я уехал и никогда больше не видел Москвы; вы — единственный человек, которому я все рассказал.
Вот одна из тысяч легенд о крепости.
Вскоре я поведаю другую, более короткую, но не менее страшную.
ЕГЕНТСТВО БИРОНА
нашем этюде о Петре I мы упомянули о рождении двух его дочерей— Анны и Елизаветы.
Анна вышла замуж за принца Голш- тейн-Готорпского, имела от него сына, ставшего впоследствии Петром III. Елизавета же, вторая дочь Петра, являлась, как и Анна, дважды незаконнорожденной: ведь Екатерина родила обеих в то время, когда Петр I был женат на Евдокии Лопухиной, а она сама была замужем за храбрым драбантом, который хоть и исчез, но остался в живых.
Тетка Елизаветы, Анна Иоанновна, дочь слабоумного Иоанна, который правил страной совместно с царем Петром и умер в 1696 году, в силу присвоенного царями и императрицами права самим избирать себе наследников, отстранила Елизавету от престола и предпочла ей малолетнего Иоанна Антоновича, своего внучатого племянника, внука той сестры, что вышла замуж за принца Мекленбургского1.
От этого брака родилась Анна Мекленбургская. Она вышла замуж за принца Антона Брауншвейгского и родила Иоанна Антоновича за три месяца до смерти импера-
29
трицы, словно для того, чтобы облегчить ей трудную задачу — выбрать наследника престола.
Причиной того, что внука дочери Иоанна предпочли дочери Петра, явилось одно обстоятельство: принцесса Елизавета в тридцать один год могла царствовать самостоятельно, а при младенце Иоанне, в возрасте трех месяцев, все права переходили регенту.
Иоанн царствовал восемь месяцев и за это недолгое царствование поплатился двадцатидвухлетним заточением и мученической смертью.
Его регентом был назначен Бирон, внук конюха герцога Курляндского Якова III.
Глава этой семьи имел двух сыновей, один находился на службе в Польше, другой оставался в Курляндии.
Этот последний был оруженосцем у сына правителя, который был убит при осаде Буды. По возвращении, в благодарность за преданность, ему присвоили звание командира роты. Его старший сын Иоганн-Эрнест добился расположения Бестужева, великого канцлера при дворе герцогини Курляндской, стал любовником герцогини и с тех пор начал утверждать, что происходит из рода Биронов, известного во Франции2.
Когда герцогиня Курляндская стала русской императрицей, Бирон получил титул герцога Курляндского3.
В России его глубоко ненавидели, прежде всего как курляндца — русские питают неискоренимую ненависть к инородцам,— а затем как фаворита императрицы. Но и Бирон тоже питал ненависть к русским, он не хотел изучать их язык, чтобы не читать прошений и хода-
I"
ß
iS
4
jVi
ffêj)
4\
Jij 0
&
Mi
тайств о помиловании, адресованных императрице подданными. Фаворит был мрачным и свирепым деспотом, в его безмолвной жестокости таилось даже какое-то величие. При нем не существовало ни судебных процессов, ни каких-либо следов юстиции. Не понравился ему человек, он переодевал четырех полицейских в простую одежду; они набрасывались на указанное им лицо, вталкивали в закрытый фургон; фургон направлялся в Сибирь и оттуда возвращался пустым. Что стало с жертвой произвола? Родственники даже не осмеливались спросить. Его никогда больше не увидят и никогда не будут говорить о нем.
За десять лет пребывания у власти этого грозного фаворита были убиты, казнены либо сосланы двадцать пять тысяч человек. После Фалариса, Нерона, Людовика IX трудно было найти новый способ пытки. А Бирон во время страшных морозов, доходящих в России до 25—30 градусов, приказывал обливать жертву водой до тех пор, пока человек не превращался в ледяную статую.
Некий господин Вонитцын принял иудейскую веру, так регент приказал сжечь отступника живым вместе с тем, кто убедил его пере менить религию.
При жизни императрицы Анны ничто не угрожало Бирону, его защищала царская любовь. Но императрица умерла и унесла любовь в могилу, осталась только ненависть русских, которая поползла за фаворитом, словно змея по траве.
Бирон был ослеплен, он не знал об озлоблении русских. Этот безумец мнил себя популярным. Он относился с презрением к матери
'))
ш
императора, внучке Иоанна, и однажды дошел до того, что объявил ей:
— Представьте себе, мадам, что я могу отправить вас и вашего Ъ1ужа в Германию — ведь на свете есть герцог Голштинский, которого можно вызвать в Россию. Если меня принудят, я так и сделаю.
Этот герцог Голштинский — Петр Голштинский, сын Анны, старшей дочери Петра Великого, о котором мы упомянули в начале этой главы и который впоследствии стал императором Петром III. В свое время он действительно появится тут, вызванный, правда, не Бироном, а Елизаветой, чтобы осуществить другую месть. Он царствовал столь же непродолжительно, как Иоанн, прожил столь же мало и умер так же трагически.
История императоров России XVIII и даже XIX столетий выглядит весьма мрачной.
После произнесенной регентом угрозы отношения между Бироном и родственниками царя наладились.
В то время в России при дворе служил старый немецкий генерал, беспощадный к себе и к окружающим. Он участвовал в войне за испанское наследство вместе с принцем Евгением, который называл его любимым учеником; затем перешел на службу к Петру Великому, поручившему ему строительство Ладожского канала. После смерти Петра II Анна Иоанновна разделила свою благосклонность между ним и вице-канцлером Остерманом, другим талантливым человеком из низов: он был приговорен к казни, но затем помилован и отправлен в ссылку.
Анна Иоанновна присвоила старому немецкому генералу звание фельдмаршала и тайного
советника. Его звали Кристофер Бурхард, граф Миних. Будучи в этом звании, он одержал победу над поляками и турками, взял Перекоп, Очаков, Шекзим. Бирон, страшась влияния Ми- ниха, отправлял его воевать в далекие страны, а сам продолжал спокойно управлять государством. Каждому свое: Миниху — слава, фавориту — ненависть.
Одна из таких войн, возникшая вследствие подозрений Бирона, обошлась стране в сто тысяч убитых, оказалась губительной, однако же Миних, несмотря на поражение, был еще более возвеличен, насколько это представлялось возможным. Во время самых тяжких походов он постоянно шел во главе войск и суровыми мерами поддерживал дисциплину.
Смертельно усталые офицеры и генералы не могли сделать привал без приказа неутомимого Миниха. В течение длительных переходов они тащили за собой орудия, а когда выбивались из сил, падали и волочились по земле. Страшась песчаной пустыни, разделявшей две империи, солдаты притворялись больными, чтобы не идти дальше. Миних опубликовал приказ, в котором предупреждал солдат, что если среди них окажутся больные, они будут погребены заживо. И действительно, три солдата, уличенные в членовредительстве, были погребены живыми перед всей армией, что прошла по могилам несчастных, которые, быть может, еще дышали. После этого все чувствовали себя хорошо.
При осаде Очакова от попавшей в город бомбы возник пожар, и горожане никак не могли погасить его. Миних воспользовался этим и приказал штурмовать город. Пожар распространился до крепостных стен, которые
2 А. Дюма, т 2
33
надо было форсировать, поэтому солдатам приходилось сражаться не только с противником, но и с огнем. Русские отступали. Миних приказал установить перед отступающими отрядами пушки, так что солдаты могли спастись только за крепостным валом. Взорвались три пороховые склада, накрыв обломками и осаждающих, и обороняющихся; смерть угрожала с обеих сторон, русским пришлось избрать наименее опасную для жизни сторону. Город был взят. Любой другой потерпел бы здесь поражение, но не Миних. Благодаря победам он стал первым министром.
Однажды, когда Миних принес матери императора одно из малоприятных посланий Бирона, на которые тот не скупился, принцесса сказала:
— Господин Миних, выполните мое поручение, обратитесь к его светлости с просьбой разрешить мне возвратиться в Германию с мужем и сыном.
—■ Это почему? — спросил Миних.
— Потому что это единственный способ,— ответила она,— избежать ожидающей нас печальной участи.
— И у вас нет никакой другой надежды?—спросил Миних, пристально взглянув на нее.
— Нет. Одно время, правда, я надеялась, что найдется мужественный человек, который поймет мое положение и поможет мне.
— Вы уже выбрали для себя этого мужественного человека?
— Я жду, что он сам предложит свои услуги.
— Вы ни с кем не говорили о том, что сообщили мне сейчас?
— Ни с одной душой.
— Отлично, — сказал Миних, — мужественный человек есть. Я все возьму при условии, что сделаю это сам, лично, так, как считаю нужным.
— Я всецело доверяюсь вашей чести, генерал.
— Доверьтесь мне.
— И когда вы приступите к делу?
— Сегодня ночью.
Анна Мекленбургская испугалась и хотела что-то возразить.
— Сегодня или никогда, мадам,— сказал Миних.
Анна, поразмыслив, решительно заявила:
— Действуйте!
Миних удалился.
Это было 23 октября 1740 года.
Миних обедал и ужинал вместе с регентом. Во время обеда Бирон был мрачен и задумчив. Миних спросил, что его беспокоит.
— Странно,— ответил тот,—сегодня я выезжал и заметил, что на улицах очень мало людей, да и те, как мне показалось, какие-то печальные, подавленные, встревоженные.
— Это потому,— сказал Миних,—что люди не одобряют поведения герцога Брауншвейгского. Ведь он не выразил вашей светлости должной благодарности.
— Да, возможно,— ответил Бирон, всегда склонный заблуждаться.
Тем не менее в течение всего обеда он оставался задумчивым и молчаливым.
После обеда Миних зашел к принцессе Анне.
— Ваше Высочество, не соизволите ли вы
дать какие-либо новые приказания? — спросил он.
— Стало быть, этой ночью?
— Все как решили.
— Скажите мне хотя бы, как вы намерены взяться за это?
— Не спрашивайте: если я вам расскажу, вы станете соучастницей. Лишь не пугайтесь, если я разбужу Ваше Высочество и попрошу встать с постели в три часа ночи.
Принцесса кивнула.
— Решено,—сказала она,— вручаю вам судьбу сына и мужа, да и мою собственную судьбу.
Выйдя от принцессы, Миних встретил графа Левенвольда и вместе с ним направился к герцогу Курляндскому, от которого оба получили приглашение на ужин. Герцог по-прежнему был встревожен, жаловался на удрученное состояние, на какую-то тяжесть, которой ранее никогда не испытывал. Он лежал одетый на постели. Оба заверили его, что недомогание временное и пройдет после крепкого сна. Миних, чтобы поддержать не клеившуюся беседу, заговорил о походах и различных военных операциях, какие ему довелось осуществлять за время сорокалетней службы. Вдруг Левенвольд спросил:
— Господин маршал, в ваших военных походах не случалось ли совершать что-либо по ночам?
Вопрос был задан настолько в точку, что Миних даже вздрогнул, но, не подавая виду, спокойно ответил:
— Не припомню каких-либо исключительных акций, предпринятых мною ночью; однако мой основной принцип — неукоснительно ис-
Гу>
«Si
Щ
%
J
XI
*
ш
0
%*
€
\\\
т
36
пользовать все благоприятные обстоятельства,— и, отвечая таким образом, бросил взгляд в сторону герцога Курляндского.
Герцог немного приподнялся на локте, когда Левенвольд задал вопрос, оперся головой на руку и оставался в такой позе, пока Миних отвечал, затем, вздохнув, вновь упал на постель.
В десять часов вечера все разошлись. Миних пошел к себе и, как обычно, лег в кровать, но сам потом признавался, что не мог сомкнуть глаз. В два часа ночи он поднялся и приказал позвать своего адъютанта Манштейна; тот получил приказания, и оба отправились во дворец принцессы Анны. Миних собрал в приемной офицеров из своей личной охраны, затем прошел к принцессе и вскоре возвратился вместе с ней.
— Господа,—сказал генерал,—Ее Высочество не может больше переносить оскорблений, наносимых регентом, она обращается к вашему патриотическому чувству и призывает выступить против чужеземца под моим началом. Готовы ли вы арестовать герцога Курляндского?
— Это не приказ Миниха, господа, это я вас прошу,—сказала принцесса, протягивая офицерам руки для поцелуя.
Офицеры ринулись к принцессе, упали на колени. Раздался возглас негодования, герцога ненавидела вся гвардия. Охрана состояла из ста сорока гвардейцев, сорок человек остались во дворце. Миних, его адъютант и офицеры отправились в Летний дворец, где проживал Бирон. Отряд остановился в двухстах шагах от дворца, затем маршал отправил Манштейна к офицерам гвардии, составлявшим охрану регента, дабы объяснить им, что происходит. Эти
CST>
последние так же, как их товарищи, ненавидели Бирона, они не только присоединились к гвардейцам, но и предложили свою помощь, чтобы арестовать герцога.
Манштейн доложил Миниху об этих благоприятных обстоятельствах.
— О, тогда,— сказал маршал,— это будет еще легче, чем я предполагал.
— Вы вместе с офицером и двадцатью солдатами войдете во дворец, арестуете герцога, а если он будет сопротивляться, убьете его как собаку.
Манштейн повиновался. Он прошел в спальную герцога. Бирон и его супруга так крепко спали, что не проснулись даже, когда затрещала дверь, которую пришлось взломать. Они не шевельнулись, и Манштейн направился прямо к кровати. Раздвинув занавески, он произнес:
— Господин герцог, проснитесь!
Супруги пробудились, увидели, что их ложе
окружено вооруженными людьми, и сначала стали звать на помощь.
Потом герцог соскользнул на пол и попытался спрятаться под кроватью, но Манштейн вытащил его оттуда; солдаты рванулись к Бирону, заткнули ему рот кляпом, связали руки шарфом, завернули мужа и жену в сдернутые с кровати одеяла и потащили обоих в кордегардию.
Когда герцогиня узнала, что Миних лично руководил этой операцией, она сказала:
— Я скорее бы поверила, что всемогущий Бог может умереть, нежели в то, что маршал может повести себя так со мною.
Бирона и его жену выслали в Сибирь. Принц Ульрих Брауншвейгский, отец импера-
§
i
«у}
J
*
Si })\
О
№
IV
Щл % lïtô
тора, был объявлен генералиссимусом, а Ми- них — премьер-министром; эта должность почти полностью .сводила на нет былое значение Остермана.
В результате Остерману три месяца спустя удалось доказать регентше и ее мужу, ставшему теперь сорегентом, что раз уж они не способны достойным образом отблагодарить человека, которому обязаны всем, самое лучшее— это ответить ему неблагодарностью.
Такие советы столь привлекательны для монархов, что большей частью регенты им следуют.
Через три месяца Миних подал прошение об отставке и оно было принято. Однако старый маршал не покинул столицу, самим своим присутствием досаждая недругам.
Неизвестно почему, монархи, принимая на себя обязанности регента, придают большое значение приносимой им присяге на верность. Герцогиня Анна не пренебрегла этой довольно незначительной формальностью.
Среди приносивших присягу была принцесса Елизавета, хотя она, дочь Петра I, имела такое же право на престол, как и дочь Иоанна и правнук Петра.
Однако же царевна очень легко принесла присягу; впрочем, ей сказали, и она запомнила это, что большинство солдат, которые под командованием Миниха арестовывали герцога Курляндского, были уверены, что действуют по ее приказу и ради ее интересов.
К тому же за судьбу Елизаветы не очень тревожились: то была красивая чувственная особа, которая, чтобы быть свободной, не связанной с кем-либо сердцем и чувством, не пожелала выйти замуж; она не раз говорила, что
'4*
if .
f
3\
I
79
$
счастлива, только когда влюблена. Она обожа- * ла пышный стол, роскошь и наслаждения, и ре- ' гентша была убеждена, что, если предоставить (5 Елизавете достаточно денег, ее не придется с опасаться. к
И действительно, Елизавета вела веселую > жизнь и совершенно не интересовалась поли- J такой. У
Впрочем, еще со времен царствования Ан- \ ны для Елизаветы были созданы исключитель- ж но благоприятные условия. ^
Перед нами депеша французского посла , в России господина де Рондо от 28 мая 1730 го- ^ да. Депеша написана за десять лет до событий, ( о которых идет речь. Елизавете был тогда два- ft дцать один год. В этом послании читаем: s
«Некоторое время принцесса Елизавета больна или притворяется больной, одни объяс- г няют недомогание тем, что ей предпочли царицу Анну, другие полагают, что болезнь — повод с не присутствовать при коронации, так как есть ч подозрение, что принцесса беременна от грена- (с дера, в которого влюблена; она не может пред- , стать в парадном одеянии, ибо это обнаружит л ее беременность». \
Верно это или нет, я не могу утверждать, > но Елизавета, несомненно, ведет беспорядоч- / ный образ жизни; царица, кажется, довольна \ тем, что принцесса теряет авторитет в общест- ^ ве, ибо вместо того, чтобы изгнать любимого л гренадера (он, правда, дворянин), Ее Величе- ^ ство освободила его от всех обязанностей, что- ^ бы он был всецело в распоряжении принцессы. I Вы согласитесь, дорогие читатели, что им- L ператрица поступила исключительно благород- у но. В самом деле, имея в своем распоряжении ji огромную армию, могла же она поступиться .
40
одним гренадером, как бы он ни был красив, и послать его в услужение своей кузине. К несчастью, такое положение длилось недолго. Герцога Курляндского беспокоил этот гренадер, и он возымел намерение заменить его своим братом — майором Бироном. В результате бедный гренадер в одно прекрасное утро был пробужден от счастливого сна, лишен всего, что ему подарила принцесса, и отправлен в Сибирь с такими почестями, будто был знатным вельможей.
«Это вызвало сильное неудовольствие старшей сестры, Елизаветы, герцогини Мекленбургской,— сообщает нам наш посол Рондо,— она встревожена потому, что, если Елизавета станет любовницей майора Бирона, она, Анна, лишится расположения царицы. Впрочем,— замечает неутомимый наблюдатель,— герцогиня Мекленбургская все еще сильно больна, и полагают, что ей нелегко будет оправиться от этой болезни, происходящей от непомерного количества водки, выпитой за последние годы».
Да, водки, дорогие читательницы, именно так! Можно кое-что и простить старшей дочери Петра Великого и Екатерины I.
Славная герцогиня Мекленбургская в минуты просветления тревожилась совершенно напрасно. Принцесса Елизавета, женщина капризная, решительно отказывалась приблизить к себе майора Бирона, а потому после смерти императрицы Анны юный Иоанн, внук предусмотрительной герцогини Мекленбургской, выпившей столько вина, что это стало причиной ее смерти, был предпочтен дочери Петра. Но принцесса Елизавета отказала майору Бирону не потому, разумеется, что посвятила себя культу богини Весты.
Mvf
Понаблюдаем за тем, что происходило днем и ночью в апартаментах доброй принцессы, которую русские называют Елизаветой Милостивой, потому что она не позволила в течение всего своего правления совершить ни одной казни4.
Это был поразительный контраст царствованию Анны, в течение которого одиннадцать тысяч человек погибли от разного рода пыток, и, как мы уже поведали, изощренных пыток. Никогда не следует упрекать принцесс за то, что они любят мужчин: любовь к мужчинам учит их любви к человечеству.
ы, кажется, остановились на ссылке красавца гренадера.
Это был мужчина таких достоинств, что его невозможно было заместить лишь одним преемником, и царевне поневоле пришлось приискать двоих. Ими стали Алексей Разумовский и Михаил Воронцов. Расскажем об этих людях, сыгравших столь большую роль в царствование Елизаветы.
Малороссийский крестьянин Григорий Разумовский имел двух сыновей: Алексея и Кирилла. Алексей отличался прекрасным голосом. Он начал петь в хоре маленького городка своей губернии, а потом ему удалось стать певчим императорской капеллы. Царевна Елизавета приметила сначала голос, потом — его обладателя, и поскольку это был отнюдь не из тех подозрительных теноров, какие распевают «Miserere»* в Сикстинской капелле у папы, а прекрасный мужской бас, она взяла его в свою личную капеллу.
Что до Воронцова, он происходил из хорошей фамилии, но не из тех Воронцовых, которые прославились в XV и XVI веках. Тот боярский род уже угас в 1576 году,
Смилуйся (лат.).
43
что и отмечено в Бархатной книге. Первый доподлинный предок вторых Воронцовых, ставших теперь знаменитее прежних, погиб в 1678 году при осаде Чигирина в Малороссии. У его сына Иллариона Воронцова было трое отпрысков: Роман, Михаил и Иван. Михаила-то и присоединила Елизавета к Разумовскому — не как певчего своей капеллы, а как дитя сердечных струн.
И в самом деле: Разумовский родился в 1709 году, то есть был ровесником царевны, а Михаилу Воронцову было двадцать три или двадцать четыре года1.
К двум фаворитам присоединился третий, но этот в счет не идет, так как он был лейб-медиком доброй царевны. Звали его Герман Ле- сток. Да вы же его знаете! Мой собрат господин Скриб сочинил о нем, со всей присущей ему точностью в освещении исторических фактов, комическую оперу, имевшую большой успех. Однако, быть может, не стоит судить о Лестоке только по опере господина Скриба2. Лучше положиться на донесения иностранных послов, находившихся при русском дворе, когда произошел переворот 1741 года.
Отец Лестока был цирюльником. В те времена сыновья цирюльников рождались с ланцетом в руке. Если умеешь пускать кровь, ты уже скорее хирург, нежели брадобрей. Лесток сделался хирургом, уехал в Санкт-Петербург и стал вхож в дом царевны Елизаветы. Право, это был хороший дом, куда хотелось попасть каждому. Едва Лесток утвердился там, как задумал сделать царевну императрицей.
Совершить это не составляло труда. Царевна олицетворяла старую русскую партию; а регентша и ее муж находились между собой
в полнейшем разладе. Фаворитка Менгден была всемогуща, и столь чрезмерная привязанность регентши Анны к женщине либо казалась необъяснимой, либо объяснялась весьма и весьма странной причиной.
Миних, единственная опора колеблющегося трона, был отстранен. Остерман, который бы должен был служить его бдительным оком, страдал подагрой и чаще всего руководил политикой со своего одра.
К тому же регентша, столь ревниво оберегавшая свой авторитет, что не уступала даже мужу ни малейшей доли его, была бы не прочь, отдалив Миниха, прогнать и Остермана. Разве мадемуазель Менгден, столь успешно замещавшая мужа, не могла заменить также первого министра и канцлера?
Отрывок из донесения английского посланника господина Финча дает представление о чувствах русской партии — чувствах, оставшихся неизменными и ныне, сто двадцать лет спустя:
«Дворянство, которому есть что терять, в большинстве своем довольно существующим положением и плывет по течению. Многие из них —исконно русские люди, и только сила и принуждение мешают им вернуться к стародавним нравам и обычаям. Буквально каждый из них желает Санкт-Петербургу провалиться на дно морское и готов послать к черту все завоеванные провинции, лишь бы вернуться в Москву, где поблизости от своих вотчин они жили бы в роскоши и с меньшими расходами. Они не желают иметь ничего общего с Европой, ненавидят иностранцев; самое большее, они хотели бы использовать их на войне, а потом от них избавиться. Они испытывают такое же отвращение к морским вояжам и предпоч-
ли бы отправиться в самые отдаленные и мрачные места Сибири, нежели оказаться на борту корабля. Духовенство обладает большим влиянием и, судя по некоторым признакам, может причинить нынешнему правительству беспокойство и неприятности».
Такова политическая оценка английского посланника Финча. Хотите знать его моральную оценку? Она лаконична и недвусмысленна. «Я не знаю здесь никого, кто в любой другой стране мог бы считаться человеком хотя бы средней порядочности».
И достойный пуританин подписался под этим. Вот это самое общество и собирался оперировать хирург Лесток.
Вообще-то царевны с таким характером, как у Елизаветы, народу нравятся; царевнам извиняют женские слабости. У Елизаветы были друзья среди офицерства и даже среди солдат, которых она всегда встречала с улыбкой на лице и одаривала щедрой рукой. Лесток весьма поощрял эту популярность среди военных. Кроме того, он имел частые встречи с нашим посланником господином де ла Шетарди3. Об этих встречах доносил своему правительству достойный господин Финч, который поистине играл в Санкт-Петербурге роль Диогена и, несмотря на свой дипломатический фонарь, не мог там сыскать ни одного честного человека. 21 июня 1741 года, то есть почти накануне катастрофы, низвергнувшей регентшу, ее мужа и маленького императора, он писал:
«Я неоднократно представлял графу Остер- ману сообщения касательно посланцев Франции и Швеции. Он сделал вид, что ничего не знает. Его манера поведения — выжидать в трудных обстоятельствах; так, например, у него была подагра в правой руке, когда после
смерти Петра II он должен был подписать документ, ограничивающий власть его преемника. Это лоцман для хорошей погоды, который во время бури прячется в трюм. Он всегда отходит в сторонку, едва правительство начинает шататься».
Господин Финч поделился своим беспокойством с принцем Брауншвейгским. Тот и сам знал, что французский посол часто посещает Елизавету по ночам, переодетый. Регент твердо вознамерился заключить царевну в монастырь, если ее поведение станет еще более подозрительным.
«Это,—писал все тот же рассудительный господин Финч,— может оказаться опасным средством, ибо царевна не имеет никакой склонности к монашеству и пользуется большой любовью и популярностью».
Лесток, разузнав о намерениях принца, решил, что настало время действовать. Лесток был наделен многими талантами: не только занимался медициной и политикой, но еще и рисовал на досуге. Он принес Елизавете большой, прекрасно выполненный рисунок. Он был парный: на одной стороне Лесток представил царевну на троне русских императоров со скипетром в руке и царской короной на голове, а себя— на ступенях трона с лентой ордена Андрея Первозванного через плечо. На другой принцесса была изображена с обритой головой, а сам он — на пыточном колесе. Внизу он сделал надпись: «Сегодня — одно, завтра — другое».
Как видите, в те времена политические деятели выражались лаконично.
Елизавета решилась: исполнение великого замысла было назначено на следующую ночь, то есть в ночь с 24 на 25 ноября 1741 года.
В полночь царевна, став на колени, помолилась перед образом Пресвятой 'Девы. Потом она надела на шею орден Святой Екатерины4, учрежденный Петром Первым по случаю чудесного вызволения его армии, окруженной турками. Лесток и Михаил Воронцов встали на запятки саней, и все помчались в казарму гвардейского Преображенского полка. Вы помните: это был первый регулярный полк, основанный царем Петром.
Там друзья Елизаветы быстро привлекли на ее сторону три сотни гренадеров.
— Друзья,—сказала им Елизавета,—вы знаете, чья я дочь. Следуйте за мной.
— Мы готовы,—ответили те.—Мы их всех перебьем.
Об этом-то Елизавета и не просила. Она посоветовала, наоборот, никого не убивать и поехала к Зимнему дворцу. Триста гренадеров маршировали за царевной с заряженными ружьями и примкнутыми штыками. У первого караула барабанщик забил тревогу, но кожу его барабана тут же проткнули ударом ножа.
Кто нанес сей удачный удар? Елизавета? Или Лесток? Оба приписывали заслугу себе.
Мы склонны думать, что это сделал Лесток, умевший пользоваться скальпелем и ланцетом. Да к тому же откуда у Елизаветы тогда взялся нож?
Барабан смолк, кордегардия была захвачена, солдаты присоединились к сотоварищам, и все они вошли во дворец, не встретив никакого сопротивления. Лишь у комнаты маленького императора часовой выставил штык против заговорщиков.
— Несчастный,— крикнул ему Лесток,— что ты делаешь? Проси прощения у императрицы!
Часовой упал на колени.
Герцога и герцогиню Брауншвейгских схватили в постели, точно так же, как герцога и герцогиню Курляндских, которых они сами некогда приказали арестовать.
Маленький Иоанн, внезапно разбуженный в своей императорской колыбели, увидев вокруг себя солдат, расплакался.
Бедный мученик, его страданиям предстояло длиться двадцать один год!
Кормилица схватила младенца на руки, но ее материнские ласки не могли успокоить малыша. Отца, мать и ребенка отправили во дворец Елизаветы. В ту же ночь арестовали Мини- ха, Остермана и кое-кого из тех, кто способствовал свержению Бирона и возвышению маленького Иоанна.
Три дня спустя Елизавета объявила, что ни принцесса Анна, ни ее муж, ни их сын не имеют никакого права на русский трон и будут отправлены в Германию. На первых порах всех троих заключили в рижскую крепость, потом перевезли в форт Дюнамюнде, потом — в Хол- могоры и в Шлиссельбург, куда ребенок приехал осиротевшим. В переездах Анна скончалась, а герцога Брауншвейгского, которого по его неспособности нечего было опасаться, освободили— или почти освободили.
Лесток получил годовой пенсион в семь тысяч рублей (двадцать восемь тысяч франков!), удостоился титула графа, был назначен личным советником Елизаветы, остался ее постоянным врачом и был награжден драгоценным портретом той, кого он сделал императрицей. Рамочка, усыпанная бриллиантами, стоила восемьдесят тысяч франков5. Воронцов получил титул графа и вошел в кабинет министров. Разумовского возвели в графское достоинство, он
49
получил орден Андрея Первозванного, стал обер-егермейстером, а позднее фельдмаршалом6. Его брат Григорий в двадцать два года был назначен казачьим гетманом7. Г-н де ла Шетарди стал направлять политику и направлял ее в пользу Франции. Немецкого музыканта Шварца, сопровождавшего императрицу в ее ночной экспедиции, наградили деньгами. Триста гренадеров составили роту личной охраны императрицы; простые солдаты получили чин поручика, а капралы и сержанты стали капитанами и майорами. Шесть офицеров, которые завербовали всех остальных, были произведены в подполковники. Сама императрица пожелала стать капитаном этой роты и в некоторых случаях надевала надлежащий мундир.
Как мы говорили, Елизавета представляла старую русскую партию, первым требованием которой явилось изгнание иноземцев. Этими иноземцами были: образование, науки, искусство, война.
Состоялся суд над Минихом — одним из самых выдающихся генералов того времени; судили также Остермана, одного из крупнейших политических деятелей. Их обоих приговорили к четвертованию.
Восемнадцатого февраля 1742 года осужденных повели на эшафот8. Это были Остер- ман, Миних, Головкин, Менгден и Левенвольд. Последних троих предстояло просто обезглавить. В десять часов утра их привезли на место казни. Всем остригли бороды; а Миниха напудрили и завили как обычно. С самого начала процесса он не выказывал ни малейшего страха и по дороге из крепости к эшафоту все время шутил со стражей.
Остермана принесли на стуле. Идти он не мог. Именно его императрица больше всех ненавидела. Он это знал и не надеялся ни на какую милость. Однако, посмотрев на эшафот, увидел там лишь одну плаху, возле которой ожидал палач.
Остерману прочли обвинительный акт, и он огромным усилием воли выслушал его стоя, со вниманием и твердостью. Как мы уже сказали, он был приговорен к колесованию, но императрица милостиво заменила эту пытку отсечением головы. Он кивнул и спокойно сказал:
— Поблагодарите от меня императрицу.
Солдаты поволокли его на плаху. Палач
снял с Остермана колпак и парик, сорвал с плеч халат и расстегнул ворот рубахи.
— Станьте на колени и положите голову на плаху,— приказал он.
Остерман повиновался.
Палач занес саблю, но, вместо того чтобы обрушить удар, задержал клинок над головой осужденного.
В этот момент секретарь суда возвестил, что Ее Величество дарует Остерману жизнь, приговаривая его лишь к вечной ссылке. Остерман кивнул головой, поднялся и сказал палачу:
— Тогда, прошу вас, верните мне парик и колпак.
Затем надел то и другое на голову, застегнулся, молча натянул халат и спустился с эшафота со столь же спокойным лицом, как и поднимался туда.
Приговор Миниху и трем остальным осужденным был также смягчен до пожизненной ссылки. Миниха отправили в Сибирь, в Петим, в тот самый дом, который по его собственному плану был построен для Бирона. Остермана поселили в Березове, где умер Меншиков и где
он сам скончался через 7 лет после суда, в 1747 году.
Красавца гренадера Шубина9 разыскивали повсюду. Не так-то легко было найти человека, затерявшегося где-то за 700 лье от столицы. Но все-таки, после двухлетних стараний, люди, отправленные на поиски, случайно натолкнулись на него. Своей любви Елизавета ему не вернула, но зачислила в гвардию и дала звание генерал-майора. При всем желании у императрицы, как мы это сейчас увидим, не нашлось бы для Шубина места подле себя. А может быть, красавец гренадер, избавившись от амбиций после трех- или четырехлетнего пребывания в Сибири, особенно и не настаивал — ведь если бы настаивал, то добрая императрица, по велению сердца или, скорее, тела, не имела бы силы устоять.
Она не устояла перед Разумовским, который, как бывший церковный певчий, имел некоторые нравственные устои и потребовал, чтоб их связь была узаконена браком. Императрица, которая, будучи еще царевной, отказывалась от замужества, желая оставаться свободной, какое-то время сопротивлялась нажиму. Но в конце концов, чтоб не слишком огорчать Разумовского, которого нежно любила и продолжала любить всю жизнь,— согласилась. Но, как императрица, поставила свои условия.
Мы не располагаем текстом тайного договора, где запечатлены эти условия, но дальнейшее царствование Елизаветы и вольности, которые она себе разрешала, позволяют догадываться, какие привилегии она для себя оговорила. А в остальном все было сделано открыто, на виду у публики. Свадьба состоялась в церкви в Перово, близ Москвы10. У Елизаветы было
f4
à
Ê
ly
vfl
il
*
jl
/p)
%1
€
№
\\\
¥
52
только от этого брака пятеро детей, из которых ни один не выжил.
Мы сказали: только от этого брака, ибо вне брака у нее родилось еще четверо детей, которых добрая императрица не скрывала, равно и тех, которые могли считаться законными.
Что же касается Разумовского, то, вместо того чтобы злоупотреблять своим положением, как это делал Бирон, он из скромности или беззаботности всегда держался подальше от власти, предоставляя Ивану Шувалову и Бестужеву заниматься политикой как им заблагорассудится11. Более того. Много времени спустя после смерти Елизаветы Григорий Орлов, чьи угрызения совести — если он их испытывал — должны были быть не столь невинными, как у Разумовского, изводил Екатерину просьбами последовать примеру Елизаветы. Екатерина, уставшая сопротивляться, согласилась, и некоего законника послали просить у Разумовского документы, закрепляющие брачный союз с Елизаветой, дабы на тех же условиях и в той же форме сочетать Екатерину с Григорием Орловым.
Законник пошел к старику Разумовскому и изложил цель своего посещения. Разумовский призадумался; потом, не говоря ни слова, поднялся, подошел к секретеру, открыл его, достал шкатулку, полную бумаг, вынул их, все так же молча бросил в камин и не сводил с них глаз, пока они не превратились в пепел. Только когда от бумаг остался лишь черный пласт, по которому причудливо пробегали затухающие искорки да расплывалась струйка прозрачного дыма, он обернулся к посланцу Екатерины или, вернее, Орлова и произнес:
— Я не знаю, что вы хотите сказать, требуя бумаги относительно моего брака с императри-
цей Елизаветой. Я никогда не имел чести быть супругом Ее Императорского Величества.
Екатерина поняла совет и осталась вдовой.
Теперь, чтобы больше не возвращаться к этому, расскажем, что сталось с человеком, совершившим переворот.
Сначала Лесток разделял с нашим послом, г-ном де ла Шетарди, всю политическую власть и давал императрице прекрасные советы. Именно он изменил кабинет министров и поставил Бестужева на место Остермана. Это и послужило причиной его гибели.
Бестужев принадлежал к числу людей, которые применяют на практике каждый раз, когда представляется случай, великий принцип одного из наших философов нового времени: «Неблагодарность есть независимость сердца».
Скажем несколько слов об этом человеке, который в течение трех царствований играл заметную политическую роль при дворе русских государей.
Бестужев родился в Москве в 1693 году; в 1712 году он поступил на службу к курфюрсту Ганноверскому, который, став королем Англии, назначил его послом в Санкт-Петербург. В 1716 году он вернулся на русскую службу, и Петр поручил ему сопровождать в Митаву свою племянницу — ту самую, которая потом стала императрицей и вышла замуж за герцога Курляндского. Бестужева назначили посланником в Копенгаген, но Бирон призвал его к себе, чтобы заменить Волынского. Бестужев сильно помог герцогу Курляндскому стать регентом, но после падения Бирона сделал крутой поворот и стал главным свидетелем обвинения против свергнутого фаворита. Бирон, который в этих страшных обстоятельствах оказался на голову выше тех, кто решал его судь-
бу, держался по отношению к Бестужеву с большим достоинством и благородством. На очной ставке с ним герцог заявил, что готов сознаться во всем, в чем его обвиняет старый друг, если Бестужев осмелится повторить ему в лицо свои показания. Он произнес эти слова столь торжественно и устремил на Бестужева столь уверенный взгляд, что тот, съежившись под этим взглядом, упал на колени перед герцогом и сказал, что молит у Бога прощения, ибо в его признаниях все было ложью.
Именно этого человека Лесток по ошибке призвал к власти. Едва получив ее, Бестужев приложил все силы, чтобы погубить своего покровителя. Первым ударом для Лестока был отъезд господина де ла Шетарди из Санкт-Петербурга. Он вернулся во Францию с миллионом, который ему подарила Елизавета.
Спустя полтора года после того, как Лесток сделал Елизавету императрицей, его обвинили в измене, передали в руки Тайной канцелярии, трижды подвергали пытке и, совершенно сломленного, сослали сначала в маленький городок Углич на Волге, а потом, поскольку это было слишком близко от Петербурга, отправили в Великий Устюг близ Архангельска12.
Что касается бедняжки императрицы, слабохарактерной и чувственной, ее жизнь проходила в самозабвенных наслаждениях. Каждый вечер в ее покоях происходила оргия; императрице трудно было решить, чему отдать предпочтение: усладам желудка или любовным утехам. Чтобы одно не мешало другому, ужинали обычно в спальне Елизаветы, которая для дополнительного удобства без корсета, в платьях, сметанных на живую нитку, усаживалась возле очередного фаворита, поскольку у превосход-
ного Разумовского хватало сообразительности никогда не затевать ссоры*.
Установился обычай, вернее, был приказ, до наступления дня никогда не оставлять императрицу в одиночестве. Как только Елизавета оказывалась ночью одна, она начинала дрожать и кричать от ужаса. Она по опыту знала, что именно ночами затеваются заговоры и свергают с трона русских государей.
Она повелела разыскивать по всей России человека, который бы вообще не спал или дремал бы так чутко, что просыпался бы от полета мошки. К счастью, такой человек сыскался, да к тому же был так уродлив, что мог, не вызывая злоязычия, оставаться днем и ночью в комнате императрицы.
А теперь, после двух исторических глав, которые, признаюсь вам, у меня не хватило мужества вычеркнуть, перейдем ко второй легенде о крепости.
* Дабы вы, дорогие читатели, не подумали, что я отклоняюсь от истины в своем рассказе об императрице, позвольте мне привести здесь отрывок из донесения господина де Сваарта, посланника Соединенных провинций в 1757 году. Нет необходимости говорить, что честный голландец был возмущен:
«Русское общество представляет собой ужасающую картину распущенности, хаоса и распада всех связей цивилизованного общества. Императрица видит и слышит одного Шувалова, ни о чем не заботится и продолжает свой привычный образ жизни; она в буквальном смысле слова отдала империю на разграбление. Никогда еще положение вещей в России не было столь беспорядочным, опасным и плачевным. Не осталось ни малейшего следа добросовестности, чести, стыда и справедливости». (Примеч. А. Дюма.)
МОСКОВСКОЙ БАСТИЛИИ
анее мы поведали о том, что, кроме пяти детей от Разумовского, у императрицы Елизаветы было еще четверо.
Одной из них была княжна Тараканова1. Не улыбайтесь, услыхав столь странную фамилию. Узнав о трагической судьбе оедной княжны, вы пожалеете об этом. Ей исполнилось двадцать лет, она была красива, независима, наслаждалась обеспеченной жизнью. Еще совсем юной ее увезли из Санкт-Петербурга во Флоренцию, там она росла, этот несчастный цветок, благородное северное растение, пересаженное под благословенное небо Микеланджело и Рафаэля.
Она была царицей балов Флоренции, Пизы и Ливорно.
Ничего определенного никт*о о ней не знал; поговаривали о ее царском происхождении, и тайна, которая окружала девушку, еще более увеличивала ее очарование, подобно тому как облако скрывает античных богинь, когда они не хотят показываться смертным в своем истинном обличье.
Тайну разгадали два человека: один — из честолюбия, Другой — из ненависти. Это были Карл Радзивилл и Григорий Орлов.
57
м
w
Карл Радзивилл, палатин Вильны, злейший враг русских, соперник Чарторыского, назначенный в 1762 году Августом III Саксонским править Литвой, был соперником Понятовско- го на польский трон. Впрочем, его претензии простирались гораздо дальше.
Радзивилл помнил о прежнем величии Польши, когда она поставляла королей для Богемии и Венгрии и, получив половину западной Пруссии, а также права сюзерена восточной Пруссии, присоединила к ним Курляндию, затем Ливонию и, наконец, овладела Москвой. Это было в 1611 году. Можно попытаться овладеть Москвой также в 1764 или 1768 году: тогда Радзивилл возложил бы на свою голову корону Мономахов и Ягеллонов.
То был, как видите, великий план: но поскольку Карл Радзивилл был не только великим полководцем, но и великим политиком, он мечтал о другом: завоевать сердце княжны Таракановой, стать ее мужем, взяв Москву, раскрыть тайну ее рождения и, опираясь на союз с дочерью Елизаветы, установить свою власть над Россией.
Бедная княжна не подозревала об этих честолюбивых проектах. Она видела в Радзивил- ле лишь знаменитого палатина, еще молодого, красивого, элегантного и принимала его поклонение; но, в отличие от своей матери, была поведения очень строгого. Вскоре распространился слух, что Карл Радзивилл, палатин Вильны, собирается жениться на княжне Таракановой, побочной дочери Елизаветы. Этот слух дошел и до русского двора.
Екатерина испугалась — она разгадала план князя Карла Радзивилла. Стоило ей устранить одно препятствие, как возникало другое.
Не так давно она велела задушить Петра III, убить юного Иоанна, а вот теперь судьба посылает ей в Италии еще одну претендентку на трон, о которой Екатерина никогда и не помышляла.
Пусть бы то было в России, в Ропше или Шлиссельбурге, куда она могла дотянуться рукой, но в Италии, во Флоренции, в государстве великого герцога! И Екатерина доверилась своим добрым друзьям Орловым, которые никогда ничего не страшились.
Екатерина начала осуществлять свой план. Она намекнула о намерении провозгласить королем Польши Станислава Понятовского; эта версия заставила Карла Радзивилла выехать в Варшаву, и прекрасная княжна осталась без его защиты. Орлов же снарядил три корабля и отправился в Италию якобы затем, чтобы закупить картины, статуи, драгоценности и пригласить художников.
Истинная причина путешествия раскроется сама собою в нужное время.
Орлов отплыл; его корабль был нагружен золотом.
Плавание было счастливым, корабль обошел беспрепятственно мыс Финистер, пересек Гасконский залив, Гибралтарский пролив и бросил якорь в порту Ливорно.
Был месяц июль; элегантные аристократы и модные красавицы съехались в Ливорно подышать воздухом Средиземного моря и покупаться. Но Бог рассудил по-иному.
Прибытие Григория Орлова, человека, игравшего важную роль в перевороте 1762 года, признанного любовника Екатерины II, воз-
будило естественное любопытство. Само имя носило на себе следы ропшинской крови, хотя это был Алексей Орлов, а не тот, который затеял пьяную ссору с Петром III, плохо кончившуюся для бедного императора. Кроме того, преступление, увенчавшееся успехом, не считается преступлением. Если Бог позволил, то почему людям не простить? Наконец, художники нам скажут, что красное пятно лишь украшает пейзаж. А в пейзаже Григория Орлова было красное пятно, вот и все.
Орлова принимали, лелеяли, ласкали, оказывали ему почести. Он был красив, статен, молод, силен. Он сгибал, как Портос, железные прутья, скручивал, как Август Саксонский, серебряные подносы, разбрасывал пригоршнями золото, как Букингем. У флорентийских дам он пользовался большим успехом.
Но Григорий ухаживал не за флорентийскими дамами, он ухаживал за прекрасной соотечественницей— княжной Таракановой; взоры, знаки внимания, предупредительность, заботы были направлены только на нее.
Вскоре разнесся слух, что фаворит императрицы Екатерины склонен изменить своей царственной любви ради любви, столь же царственной.
В это должна была поверить княжна Тараканова. Орлов попросил свидания, она согласилась, но, вместо того чтобы говорить о любви, стал говорить о политике. Он открыл глаза бедной княжны на вещи, которых она не знала, рассказал тайну ее рождения; хотя оно и было незаконным, но в глазах истинных русских могло значить гораздо больше, чем брак Екатерины с Петром III, к тому же столь насильственно прекращенный. В конце концов кто такая Екатерина? Принцесса Ан-
хальт-Цербстская, немка, у которой в жилах нет и капли крови Романовых.
Был, правда, молодой Павел I, но не знали, как к нему относиться, а что еще хуже, как относиться к его рождению.
Наиболее вероятным было отцовство Салтыкова, но тогда и Павел I, как и княжна, незаконнорожденный .
А сама Елизавета, разве и она не была незаконнорожденной? Поэтому, чтобы возвести княжну на престол, требуется только достаточно сильная рука. А сила Григория Орлова была известна. В его руках прелестная княжна Тараканова — не более чем перышко. А взор Орлова был столь нежен, когда он говорил о политике, что, несомненно, нежность эта относилась не только к политике, но и к самой княжне Таракановой. Впрочем, Орлов не скрывал своих претензий. Он горько жаловался на императрицу Екатерину. Он служил ей достаточно хорошо, чтобы иметь право требовать публичной награды.
По крайней мере она могла бы сделать для него то, что императрица Елизавета сделала для Разумовского. В конце концов капитан гвардии стоит церковного хориста.
Бедная княжна не была честолюбива, но она была кокетлива. Среди вещей Орлова нашлась императорская корона. Как эта корона очутилась у Григория Орлова, когда она должна пребывать в московских хранилищах? На этот вопрос трудно ответить. Но если уж корона у Орлова очутилась, не имело значения, как она к нему попала.
Словно играя, он примерил корону на голову княжны, а корона оказалась ей впору, как будто была сделана для нее. Княжна представила себя в костюме императрицы. Корону
ей обещал князь Радзивилл. Но какие возможности были у него? Сначала его должны выбрать королем Польши, затем он должен победить русских, и победа будет полной лишь тогда, когда перед ним откроются ворота Москвы.
Необходимо тройное чудо, но времена, когда Господь совершал чудеса для Польши, прошли.
Княжна сначала слушала Орлова с улыбкой сомнения, но постепенно сомнение сменилось мечтами, полными надежды.
Соблазнитель Орлов оставил ей императорскую корону, сверкающую действительность при дневном свете и призрачный соблазн ночью.
Все совершалось среди балов, празднеств, сияния солнца, упоений роскоши, чудес природы, шедевров искусства. Орлов стал героем этого великолепия.
Все черные итальянские глаза были устремлены на него, одни — с любопытством, другие—с любовью, третьи — с вожделением.
Но ему были дороги лишь взоры прекрасной княжны.
Вскоре стало известно, что Орлов, благодарный за оказанный прием, собирается устроить блестящее празднество — в ответ на празднества, устроенные в его честь.
Вслух говорили, что праздник состоится в честь дам Ливорно и Флоренции, а шепотом — что царицей его будет прекрасная россиянка. Тем временем на адмиральском фрегате велись серьезные приготовления.
Наконец о празднестве было объявлено официально. Орлов приглашал с такой любезностью, с таким радушием, что никому и в голову не могло прийти отказаться.
Все с нетерпением ожидали назначенного Дня.
В этот вечер фрегат, который по причине большого водоизмещения стоял на якоре за пределами рейда, сиял огнями. Его можно было сравнить с волшебной галерой Клеопатры.
Лодочники Ливорно в праздничных нарядах поджидали приглашенных в порту на лодках, украшенных цветами. В девять часов выстрел из пушки с фрегата возвестил, что Орлов ожидает гостей. Гости не заставили себя ждать.
Целая флотилия вуалей, кружев и бриллиантов отправилась по сигналу и сплошь покрыла море. Во главе флотилии шла под пурпурными парусами шлюпка, принадлежавшая фрегату, а в ней на персидском ковре возлежала красавица княжна.
Случилось так, что по окончании торжеств бедняжка запоздала отправиться обратно вместе со всеми и осталась на борту; внезапно она почувствовала, что волны и ветер привели фрегат в движение.
Фрегат поднял якорь и поплыл на всех парусах. Бедная газель попала в ловушку; несчастная княжна стала пленницей. То, о чем мы расскажем,— ужасно.
Совершенно неожиданно вежливый кавалер, внимательный влюбленный превратился в жестокого исполнителя приказов Екатерины.
Княжна, в одежде, которая была на ней, в бальном платье, цветах и бриллиантах была заперта в одной из кают фрегата.
Вначале Орлов принудил княжну стать его любовницей, затем, когда она ему надоела, она была отдана грубым ласкам матросов, которым позволили делать с пленницей все что угодно.
Для полноты праздника команде в течение
J/У .
Л)
L ж
%
к
8
I
т
{'Ж,
Ö
ж
ш
всего путешествия давали двойную порцию вина и водки.
Путешествие длилось долго, экипаж был многочисленным; необычный Парис надеялся, что княжна не доживет до прибытия в Санкт-Петербург.
Сверх ожидания она перенесла не только удары, но и нежности. Фрегат бросил якорь Кронштадте. И Орлов отправился в Санкт-Петербург за распоряжением императрицы.
Вечером того же дня лодка, закрытая наподобие гондолы, которая служила императрице для ночных прогулок по Неве, была спущена с борта адмиральского фрегата, поднялась вверх по Неве и остановилась напротив крепости.
Женщина, закутанная в длинное покрывало, так что не видно было ни ее лица, ни фигуры, ничего вообще, вышла из лодки и направилась к крепости в сопровождении четырех солдат.
Офицер передал приказ коменданту. Тот, не говоря ни слова, жестом подозвал тюремщика, указал ему пальцем номер, написанный на стене, и пошел вперед.
— Следуйте за комендантом,—сказал тюремщик. Женщина повиновалась.
Пересекли двор, тюремщик отворил потайную дверь; спустились на двенадцать ступенек вниз, открыли дверь камеры номер пять, женщину втолкнули в нечто похожее на могильный склеп, и дверь за нею закрылась.
Дочь Елизаветы, прекрасная княжна Тараканова, чудесное создание, которое, казалось, было соткано из перламутра, кармина, бархата, вуали и атласа, очутилась полуголой в сырой темной камере равелина Святого Андрея.
64
Вам знакомы эти камеры, мы их уже посетили однажды. Они расположены ниже уровня Невы, и речная вода с глухим шумом непрерывно течет вдоль стен. Они освещаются узкой амбразурой, которая позволяет заключенному видеть небо, но не дает возможность небу видеть заключенного. Слезы непрерывно струятся по стенам; холодные, будто текущие из-под замерзших век, они образуют жидкую грязь на полу темницы. На этой грязи разбросана куча соломы; это была постель княжны, той, кото-! рая до сих пор спала на пуховых перинах. Вначале она надеялась, что не проживет в камере и месяца. Но она прожила здесь двенадцать лет!
Сколько раз вопрошала она, стоя на коленях и простерев руки, на нежном итальянском языке, созданном, кажется, лишь для молитв и любви, за что, за какие преступления она так жестоко наказана,—тюремщики не отвечали.
Она перестала говорить, перестала спрашивать, почти перестала жаловаться. Она жила j жизнью тех пресмыкающихся, которых време-' нами чувствовала на своем мокром лице и замерзших руках.
Она стала не только рассеянной, но и нечувствительной к звукам. Вот уже двенадцать лет несчастная слышала то усиливающийся, то затихающий грохот Невы, но в последние несколько дней воды ревели особенно страшно. Наконец донесся пушечный выстрел, узница подняла голову, ей показалось, будто речные волны через амбразуру просачиваются в темницу. Вскоре не оставалось более сомнений, что через два часа камеру затопит. Уровень Невы поднимался.
Бедняжка осознала грозившую опасность. Как ни печальна была ее жизнь, в тридцать два
3 А Дюма, т 2
65
года не хотелось умирать. Скоро вода дошла до колен. Несчастная стала кричать, звать на помощь. Подняла камень, который раньше не могла сдвинуть, и стала стучать им в дверь. Ее услышали, несмотря на грохот пушки, которая все стреляла и стреляла. Тюремщик открыл дверь.
— Что нужно? — спросил он.
— Я хочу выйти отсюда! Выйти отсюда! — кричала бедняжка.— Разве вы не видите, что темница скоро скроется под водой? Ведите меня куда хотите, но, ради Бога, дайте мне выйти отсюда!
— Отсюда можно выйти, лишь имея приказ самой императрицы,— ответил тюремщик.
Княжна хотела вырваться из камеры, но тюремщик с такой силой ее оттолкнул, что бедняжка упала на спину в ледяную воду.
Она поднялась и оперлась о стену, у того места, где пол был повыше. Тюремщик закрыл дверь. Вода в реке поднималась и лилась в амбразуру потоками. К вечеру узница погрузилась в нее до пояса.
Слышались отчаянные крики, потом опять молитва по-итальянски:
— Боже мой! Боже! Боже!
Крики, все более душераздирающие, раздавались почти целые сутки.
Ужаснее всего было то, что крики доносились из-под воды.
Около четырех утра все стихло.
Вода затопила подвалы Андреевского равелина. Когда наводнение кончилось и вода отступила, вошли в камеру княжны и обнаружили ее бездыханной.
Теперь она не нуждалась в повелении императрицы, чтобы выйти из каземата. Ночью вырыли яму у крепостной стены и похоронили
1)
У
ее. Еще и сегодня показывают холмик без камня, без надписи, сидя на котором гарнизонные солдаты беседуют или играют в карты.
Это единственный памятник дочери Елизаветы, единственное, что осталось от нее. Вот вам и вторая легенда крепости. Я мог бы рассказать еще десяток. Вполне возможно, что они ложны, созданы воображением, порождены народным страхом.
Разве Бастилия не была населена привидениями, которые исчезли, стоило только свету проникнуть в темницы?
Но в темницы Петропавловской крепости свет еще не проник. Рассказывают о камерах, имеющих форму яйца: их называют «мешками», в них нельзя ни стоять, ни сидеть, ноги—одна нога — помещается только в согнутом положении, и вес скрюченного тела давит на суставы, которые деформируются. А еще говорят о полуголом узнике, который сидит верхом на балке и видит под собою с высоты в десять футов непрерывно текущие воды Невы.
Слава Богу, все это вымыслы! И мне рассказывали, что император Александр II горько сетовал по поводу слухов, которые в его царствование можно счесть измышлением, даже не подвергая особой проверке. Но если бы я удостоился чести приблизиться к императору, если бы Александр пожаловался мне, я бы ему сказал: «Ваше Величество, есть совсем простое средство заставить умолкнуть эти зловещие слухи. Вы начали правление с оказания милости осужденным в предыдущее царствование, и за три года вашего царствования никого не осудили. Поэтому вам нечего скрывать ни от своего народа, ни от истории. При первом же тезоименитстве я бы на вашем месте открыл
бы все камеры, все «мешки» крепости, я разре-
шил бы любому желающему посетить их; затем я послал бы туда саперов, которые на виду у всех засыпали бы их, каменщиков, которые также при всех замуровали бы двери. И я сказал бы: «Народ мой! В предыдущие царствования и господа и крестьяне были рабами. Моим предшественникам необходимы были тюрьмы. Мне это не нужно. В мое царствование все свободны— и господа и крестьяне». Тогда, Ваше Величество, вы услышали бы возгласы не просто радости, но восторга; они раздались бы на берегах Невы и имели бы отклик во всех четырех странах света».
ЛЕКСАНДРI
ернемся к истории: к несчастью, то, о чем мы расскажем, уже не легенда.
Знаете ли вы, что возвещал пушечный выстрел, сопровождавший рокот Невы во время смертоносного наводнения? Он возвещал рождение царевича Александра. Мягким и благодушным было правление этого доброго завоевателя, который принял сторону Парижа против союзных государей, желавших сделать с нашей столицей то, что Сципион сотворил с Карфагеном1.
Но подобно тому, как семь библейских жирных коров предшествовали семи тощим2, как за изобилием следовал неурожай, так и царство философии и снисходительности сменилось господством суровости и угнетения. Не думайте, однако, что, поставив этого властителя меж Титом и Марком Аврелием3, я буду несправедлив к недавно скончавшемуся непреклонному судии, который в двенадцать лет дал следующую оценку Иоанну Грозному, одному из самых мрачных и загадочных тиранов, когда-либо существовавших на земле:
69
«Царь Иван Васильевич был суров и гневен, за что получил прозвание Грозного. Но при этом он был справедлив, храбр, щедр в наградах и весьма способствовал развитию и процветанию своей страны.
Николай. 17 марта 1808 г.»
Император Николай несомненно являлся крупной исторической фигурой. В нем было нечто от античного Юпитера; он знал, что, нахмурив брови, заставляет трепетать шестьдесят миллионов человек. Зная это, слишком часто хмурил брови, вот и все.
Но сейчас мы займемся отнюдь не им, а его братом Александром.
Он был не бронзовой статуей на гранитном пьедестале, а человеком со всеми слабостями, но также и со всеми человеческими добродетелями. Прошедший философскую школу полковника Лагарпа4, свидетель мрачных безумств своего отца, устрашенный историческими примерами, представшими его глазам, он, как Нерва, предпочел бы не быть рожденным для трона и трепетал, видя приближение момента, когда должно будет на него взойти5.
Вот что писал он 13 мая 1796 года своему другу Виктору Кочубею, русскому послу в Константинополе. Правда, в это время была жива еще Екатерина; правда и то, что отец Александра должен был предшествовать ему на престоле. Но вспомните слухи о том, что он воцарится раньше отца. Вы ведь не забыли о двух завещаниях и о том, как князь Безбородко сделад себе карьеру. Но не в этом дело: перед вами — письмо Александра. Ему было в ту пору всего девятнадцать лет. Письмо писано по-французски.
«Это письмо, дорогой друг, передаст вам господин Жаррек, о котором яг говорил в одном из предыдущих писем: поэтому я могу свободно побеседовать с вами о многом.
Знаете, друг мой, право же, нехорошо, что вы ничего не сообщаете о себе. Так, я недавно узнал, что вы испросили отставки и хотите ехать в Италию, а оттуда на некоторое время — в Англию. Но почему же вы ничего не говорите мне об этом? Я начинаю думать, будто вы сомневаетесь в моих дружеских чувствах, будто у вас нет ко мне полного доверия, которое, осмелюсь сказать, я полностью заслужил той беспредельной дружбой, что к вам питаю. Поэтому заклинаю вас, сообщайте обо всем, что вас касается, и верьте—это доставит мне огромное удовольствие. К тому же, признаюсь, я очень рад, что вы оставляете пост, который приносит вам лишь одни неприятности и ровно никакого удовлетворения.
Господин Жаррек — очень милый молодой человек. Он провел здесь некоторое время и сейчас едет в Крым, а оттуда — в Константинополь. Счастливчик, он сможет повидаться с вами—я завидую ему и его судьбе, тем более что совершенно недоволен своею. Я очень рад, что разговор об этом зашел сам собою, иначе я затруднился бы его начать. Да, друг мой, повторяю, я совершенно недоволен своим положением: оно слишком блестящее для моего характера, коему милее мир и спокойствие. Двор — обитель не для меня. Я каждый раз страдаю, когда должен присутствовать на приеме, и негодую, видя низости, что совершаются ради отличий, за которые я не дал бы и трех су. Я несчастен, потому что обязан находиться в обществе людей, . которых не хотел бы иметь и слугами и которые между тем занимают
здесь первые места, например этот П. С.
этот М. П. . . . ., П. Б. двое К. С. ., М. . .
и толпа других, не заслуживающих даже упомина-
ния; высокомерные с подчиненными, они пресмыка- ются перед теми, кого боятся. В общем, мой милый друг, я совершенно не создан для nocmâ, который занимаю, и еще меньше для того, который мне предназначен в будущем и от которого я поклялся так или иначе отказаться.
Вот, друг мой, великая тайна, которую мне давно хотелось сообщить вам, и мне нет нужды просить вас хранить молчание, ибо вы понимаете, что это может стоить мне головы. Я просил господина Жаррека в том случае, если он не сможет самолично вручить вам письмо, не передавать его через третьи руки, а сжечь.
Я долго обдумывал и взвешивал это дело. Надо вам сказать, что такие мысли посещали меня еще до нашего знакомства, и я не медлил с принятием решения.
Наши дела находятся в невероятном расстройстве, повсюду грабеж, департаменты плохо управляются, порядка нигде нет, а империя все расширяет свои владения. Так как же может один человек править ею, да еще и преследовать злоупотребления? Это абсолютно невозможно не только для меня, человека средних способностей, но даже и для гения. Я всегда придерживался принципа, что лучше совсем не браться за дело, чем выполнить его плохо. Исходя из этого принципа, я и принял решение, о котором сообщил вам выше. Мой план таков: отказавшись от столь трудного поста — сейчас я не могу обозначить срок отречения,—я поселюсь с женою на берегах Рейна, где заживу спокойно, как частное лицо, находя счастье в обществе друзей и в изучении природы.
Вы посмеетесь надо мной, вы скажете, что сей проект—химера; воля ваша, но подождите, пока это не свершится, тогда и судите.
Я знаю, вы будете порицать меня; но как мне поступить иначе, если мое первое правило — спокойная
72
совесть, а она не сможет оставаться таковой, если я примусь за дело, которое превыше моих сил.
Вот, мой друг, о чем мне не терпелось рассказать вам. Теперь, когда это сделано, мне остается лишь заверить вас, что в счастии или несчастий, в благополучии или нужде ваша дружба будет для меня наивысшим утешением, а моя прервется лишь вместе с жизнью.
Прощайте, мой дорогой, истинный друг; самое счастливое, что могло бы ожидать меня в будущем, это встреча с вами.
Жена моя желает вам всего наилучшего; она совершенно одних мыслей со мною.
10 мая 1796 г. АЛЕКСАНДР».
Как он и сам сказал, это письмо исходило не от гения, но от честного сердца; и прежде всего оно написано человеком, целиком проникнутым философскими идеями XVIII века. Характерная особенность той эпохи состояла в том, что философы были честолюбивыми, как императоры, а императоры скромными— не скажу, как философы, но какими следовало бы быть философам.
Если в письме, с которым вы ознакомились, дорогие читатели, Александр действительно поверял свое сердце сердцу князя Кочубея, то нетрудно понять, чего стоило цесаревичу наследовать престол отца, убитого буквально над его головой, отца, чьи крики и последние конвульсии доносились через потолок.
И все же он остался на троне. Было л pi это актом преданности своему народу? Или, возможно, власть так притягательна, что, когда чаша поднесена к устам, надо испить ее до конца, пусть по краям ее горечь, а на дне —осадок?
J)
В письме девятнадцатилетнего цесаревича мы читаем, что жена разделяет стремление к уединенной жизни. Если бы такой проект осуществился, это было бы большим счастьем для бедняжки императрицы, ибо едва свадебный венок увял на ее голове, он превратился в терновый венец. Еще в довольно молодые годы императрица уже поблекла, а император, напротив, долго оставался красивым мужчиной и вечно неверным супругом. Впрочем, как все чувственные люди, Александр был по природе добр и терпеть не мог наказывать. Мы видели, как юный Пушкин бросил ему под ноги свою оду «Вольность» — самое страшное оскорбление, какое можно было нанести одновременно величию трона и скорби сына; и мы видели, что все наказание ограничилось высылкой из Санкт-Петербурга под надзор отца. Правда, царю Александру надо было заслужить прощение всей этой молодежи за то, что он принял трон вопреки письму к князю Кочубею. Мы увидим позже, какие ужасные последствия имело это письмо, вылившееся из-под пера юного философа.
А пока проследим за Александром, но не в политике — история запечатлела, чем была обязана ему Франция в 1814 году,— а в частной жизни.
Несколько анекдотов дадут ясное представление о человеке. Труднее было бы создать столь же точное представление об императоре. Наполеон называл его самым прекрасным и утонченным греком.
В Александре было столько же простоты, сколько в его отце Павле заносчивости. Он часто прогуливался пешком, и вместо того чтобы заставлять женщин при встрече выскакивать из
V
кареты и приседать, ограничивался знаками почтения, приличествовавшими обыкновенному генералу.
Как-то раз во время одной из таких пеших прогулок Александр, видя, что собирается дождь, взял на площади дрожки и приказал ехать ко дворцу.
— Подожди здесь,— сказал он извозчику, выйдя из экипажа,— я сейчас пришлю тебе плату за проезд.
— Ага! — сказал извозчик.— Вот еще один!
— Как это еще один?
— А вот так, мне только вас и считай...
— Да в чем дело?
— Уж я знаю, что говорю.
— Что же это значит? Объясни.
— А то, что стоит подвезти кого к дому с двумя выходами, а седок и выйдет не заплатив, значит, каждый раз прости-прощай мой двугривенный.
— Как? Даже у императорского дворца?
— Да здесь-то эту штуку и проделывают. У знатных господ памяти нету.
— Надо жаловаться,— сказал император, забавляясь разговором,— чтоб арестовали воришек.
— Арестовать воришек? Хорошо, коли вор — из наших. Наших-то знают, за что хватать (и он показал на свою бороду). А вас, господ, за бритый подбородок не ухватишь. Так что, ваша милость, пошарьте получше в карманах или уж скажите сразу, что мне ждать нечего.
— Слушай,— сказал ему император,— вот тебе мой плащ, он стоит твоего двугривенного, хотя не нов и некрасив. Отдашь его тому, кто тебе вручит деньги.
ь.
— Ладно, в добрый час,— сказал извозчик,— вы человек рассудительный.
Через десять минут лакей принес извозчику сто рублей от императора и забрал плащ. Император заплатил за себя и за всех, кто сюда приезжал.
Бедный кучер чуть не умер со страху, вспоминая о том, что наговорил. Но еще большей была его признательность. Сторублевка в золоченой рамке была повешена в угол к образам, а когда происходил обмен ассигнаций на серебряные монеты, извозчик предпочел потерять сто рублей, чем отнести купюру в Казначейство.
И сегодня внук извозчика показывает сторублевку, присланную деду императором Александром. Вероятно, это единственная ассигнация, уцелевшая во всей империи.
Царь Александр не только не высаживал дам из карет и не заставлял их делать реверансы, как его отец Павел, но всегда вел себя с ними по-рыцарски. /
Однажды он обедал у княгини Белосель- ской-Белозерской, которая отвела ему почетное место во главе стола. Но галантный император, подав даме руку и проводив в столовую, не принял оказанной чести и сказал:
— Садитесь, княгиня, это ваше место.
— Оно действительно было бы моим,—отвечала княгиня,— если бы не сожгли книгу о древности дворянства.
— Это правда,— ответил Александр,—только вы — ветвь, а мы — ствол.
Действительно, князья Белосельские-Бело- зерские — ветвь дома Рюрика, княжившая в Бе- лозерске,— на четыреста, а то и на пятьсот лет древнее, чем Романовы.
Однажды Александр, совершавший одну из своих прогулок в духе Генриха IV, повстречал на бульваре Адмиралтейства морского офицера, который, как ему показалось, был вдрызг пьян. Император остановился, чтоб рассмотреть его. Несмотря на то, что офицер был сильно под хмельком, он все же узнал Его Величество, и вдвойне, возбужденный вином и присутствием царственной особы, стал энергично выписывать зигзаги, но никак не мог миновать Александра.
— Что это вы делаете, капитан? — спросил император.
Капитан остановился и почтительно поднес руку к козырьку.
— Государь,—сказал он,—я лавирую, чтобы вас обогнуть.
— Хорошо,— сказал Александр,— но берегитесь подводного камня.
И указал на здание гауптвахты.
Офицеру посчастливилось обогнуть Его Величество и избежать подводного камня.
Но как бы ни был Александр любезен и мил с женщинами, вежлив и внимателен с мужчинами, на его лицо подчас набегали мрачные тучи, а перед глазами мелькали кровавые блики. Это были немые, но страшные воспоминания о ночи убийства, когда он слышал над своей головой предсмертные хрипы отца.
Чем старше становился Александр, тем чаще его обуревали воспоминания, грозя превратиться в настоящую меланхолию, ипохондрическую болезнь; переменой мест он пытался побороть эти воспоминания, часто перераставшие в угрызения совести. Русский царь стал совершать путешествия, которые нам, парижанам, показались бы невозможными. Подсчитано,
что в своих поездках, как внутри империи, так и за ее пределами, Александр проделал что-то около двухсот тысяч верст (пятьдесят тысяч лье), то есть совершил почти шесть кругосветных путешествий. Самое удивительное в этих фантастических странствиях то, что день возвращения назначался в день отъезда. Так, например, император, отправляясь в Малороссию 26 августа, объявлял, что вернется 2 ноября — и точно 2 ноября он неизменно прибывал обратно, проделав восемьсот семьдесят лье.
Но Александр, чьими врагами были его собственные мысли, не мог заставить себя, не скажу — отделаться, но даже окончательно отвлечься от них; и ездил он всегда без эскорта и почти в одиночестве. Единственным его развлечением было неожиданное. Для императора опасность словно не существовала — не по природной храбрости, а из безразличия к утомившей его жизни. А ведь это был тот самый человек, который в юности, в счастливые часы, когда он еще верил в собственное будущее и в будущее своего народа, однажды переплывал озеро в Архангельской губернии на утлом суденышке и попал в сильную бурю. Тогда он обратился к шкиперу:
— Друг мой, примерно восемнадцать столетий назад один великий римский полководец сказал рулевому: «Ничего не бойся, ты везешь Цезаря и его счастливую судьбу»6. Я не так твердо верю в свою звезду, как Цезарь, и скажу просто: забудь, что я император, увидь во мне такого же человека, как и ты сам, и постарайся спасти нас обоих.
Обращение возымело действие. Шкипер, который потерял было голову, думая о лежащей на нем ответственности, приободрился,
и лодка, управляемая твердой рукою, беспрепятственно достигла берега.
Понятно, что строго соблюдавшееся императором во время его вояжей инкогнито время от времени приводило к забавным недоразумениям.
Однажды, приехав в небольшую малороссийскую деревушку, где экипаж остановился для смены лошадей, Александр, одетый в мундир без всяких воинских отличий, вышел из кареты и пешком поднялся на пригорок, где дорога делала развилку. Там, на краю деревни, стоял небольшой дом, на пороге которого сидел, покуривая, мужчина в шинели, сходной по покрою с императорской.
— Приятель*,— обратился к этому челове¬
ку император, употребив форму обращения, принятую меж людей равного звания,— какая из дорог ведет к ?
Мужчина с трубкой смерил незнакомца взглядом, удивившись, как простой проезжий позволяет себе с такой фамильярностью разговаривать с человеком его чина**.
— Вот эта, голубчик***,— ответил он, небрежно махнув рукой.
Император понял, что совершил ошибку, обратившись без особых церемоний к столь высокой персоне, какой, очевидно, был его собеседник.
* Во франц. тексте так и написано «priateb. (Примеч.
перев.)
** Tchine — слово китайского происхождения, обозначающее ранг по официальному табелю. (Примеч. авт.)
*** Голубчик — т. е. маленький голубь — распространенное русское обращение, которое обычно употребляется высшим лицом по отношению к нижестоящему. (Примеч. авт.)
— Простите, сударь,— сказал он, подойдя ближе и поднеся руку к фуражке,—разрешите еще один вопрос.
— Какой же? — высокомерно спросил курильщик.
— Позвольте осведомиться, в каком вы чине?
— Угадайте.
— Быть может, сударь, вы поручик?
— Поднимайте выше.
— Капитан?
— Еще выше.
— Майор?
— Продолжайте.
— Подполковник?
— Наконец-то добрались!
Император поклонился.
— Теперь мой черед,—сказал человек с трубкой.—Кто вы, разрешите спросить?
— Угадайте,—ответил император.
— Поручик?
— Подымайте выше.
— Капитан?
— Еще выше.
— Майор?
— Продолжайте.
— Подполковник?
— Еще выше.
Курильщик встал.
— Полковник?
— Еще не добрались.
Собеседник вынул трубку изо рта и принял почтительную позу.
— Ваше превосходительство — генерал-лейтенант?
— Приближаетесь.
— Быть может, фельдмаршал?
— Еще одно усилие, подполковник, и вы угадаете.
— Ваше Императорское Величество! — вскричал тот, уронив трубку, которая разлетелась на куски.
— Он самый,—ответил Александр, улыбаясь.
— О государь,— воскликнул офицер, падая на колени,— простите меня!
— Но мне нечего прощать вам,— ответил император.— Я спросил у вас дорогу, вы мне ответили, вот и все.
В этот момент подъехала карета, император махнул рукой на прощание бедному подполковнику и сел в свой экипаж.
Этот эпизод рассказывал князь Волконский, сопровождавший тогда императора. Он добавил, что во время путешествия был момент, когда сам Волконский заснул, а упряжка при подъеме по крутому склону не выдержала тяжести императорской кареты, лошади стали пятиться, и карета заскользила назад. Император, не будя своего спутника, тут же открыл дверцу, выскочил и стал толкать карету вместе с ямщиками и слугами. Волконский, растревоженный толчками, проснулся и обнаружил, что остался в карете один. Выглянув, он увидел царя, который трудился в поте лица. Как раз в это время карета осилила подъем.
— Как, государь! — вскричал Волконский.— Вы меня не разбудили?
— Да что там,— сказал император, садясь рядом с ним.— Вы ведь спали. А спать так хорошо!
И добавил совсем тихо:
— Забываешься.
81
Действительно, император Александр испытывал огромное желание забыть. Ему надо было забыть отца; забыть обещание, которое он дал Наполеону в Тильзите и которое не сдержал; надо было забыть свою измену свободе. Обещание, данное Наполеону, он нарушил в 1811 году, отказавшись от континентальной блокады. А потом, в 1821 году, поддержкой Веронского конгресса он изменил обязательствам перед любералами. Посмотрим, каковы последствия этих двух ошибок. Такой поворот сюжета вернет нас к истории крепости. Вы ведь не будете возражать против нескольких довольно серьезных страниц, которые очень скоро станут, я вам это обещаю, драматическими.
РАВАЯ РУКА ЦАРЯ
лавной целью Наполеона, добивавшегося встречи с императором Александром на Немане, было желание воспользоваться своим влиянием на благородную и чувствительную натуру царя, чтобы вместе с ним окончательно разгромить Пруссию и Великобританию и решить вопрос о разделе мира.
Пруссия была бы ослаблена, утратив свои владения к востоку от Эльбы и в Польше; могущество Англии уменьшилось бы из-за потери Индии; Австрия стала бы второстепенной державой, потому что более уже не владела бы ни Италией, ни Венгрией и лишилась бы двадцати трех миллионов подданных. Замысел был грандиозный; Александр охотно согласился с ним.
Мы знаем, какова была конечная цель, посмотрим, какими средствами можно было достигнуть этой цели.
Император России обязался бы покончить с Пруссией, Наполеон — с Австрией; он решил при первом случае объявить войну императору Францу. Все были уверены, что такого случая не придется ждать долго. Наполеон захватил бы Вену и овладел бы Дунаем. Так и случилось в 1809 году. После сражения при Ваграме он легко
83
мог выполнить взятые на себя обязательства, но Александр не сдержал обещания. Вот зачем Наполеону необходимо было установить господство над Дунаем. Император Александр мог послать сорок тысяч солдат к Волге, заставить их пересечь Каспийское море и высадиться в Астерабаде. Наполеон велел бы переправить сорок тысяч солдат по Дунаю с тем, чтобы они пересекли Черное море и поднялись по Дону до селения П... В этом месте Волга от Дона отстоит всего на восемьдесят верст (двадцать лье). Совершив два марша, сорокатысячное войско французов прибыло бы в Царицын.
В Царицыне уже стояли бы суда, на которых русские солдаты были ранее переправлены в Астерабад; французы на этих судах направились бы к месту сосредоточения войск. Там Наполеон, этот новоявленный Александр Македонский, приняв командование, начал бы осуществлять завоевание Индии. Это удалось бы сделать сравнительно легко с помощью восставших племен.
Можно себе представить, что сталось бы с Великобританией, если б к восставшим племенам присоединились сорок тысяч русских и сорок тысяч французов! Представьте себе, что сталось бы с нашей землею, если б Александру и Наполеону удалось бы осуществить проект передела мира1.
Но не такова была воля Божья! Царь не сдержал слово, данное императору. Гигантский план рухнул вместе с Наполеоном. Франция и он сам были погребены под обломками павшей Империи...
Наполеон стал пленником и был увезен умирать на Святую Елену, погруженный в мыс-
r(<
ли о прошлом; Франция обрела хартию, стала свободной и устремила взор в будущее. Бог, несомненно, был прав.
В 1822 году открылся конгресс в Вероне2. То был союз монархов против народовластия.
Из-за принятых на себя обязательств перед либералами Александр отказался присутствовать на этом конгрессе. Он объявил, что отвечает за Россию. Вот что произошло вскоре.
Потемкин командовал Семеновским полком, вторым гусарским полком в России, что был создан Петром I вслед за Преображенским. Потемкин отменил в полку телесные наказания и пользовался в силу этого исключительной любовью.
Знаменитый Аракчеев, о котором мы еще расскажем, сместил полковника, назначив на эту должность Шварца — своего рода немецкого капрала, который восстановил в полку систему наказаний шпицрутенами. Полк восстал. Меттерних узнал о восстании раньше самого императора; как раз в тот день, когда австрийскому дипломату передали эту новость, император Александр повторил свою обычную фразу: «Я отвечаю за Россию!»
— Потому что Ваше Величество не знает, что ^происходит в стране,—ответил австрийский министр.
— Как так, я не знаю, что происходит в моей империи? — воскликнул Александр.
— Не знаете, Ваше Величество, потому что, увлеченный карбонаризмом, второй по значению полк восстал и намеревался расстрелять своего полковника.
Меттерних еще не успел произнести эти слова, как прибыл курьер, вручивший импера-
(5
85
тору депешу, извещавшую о том, что он уже узнал из уст Меттерниха. Слабохарактерный Александр был поражен известием; он присоединился к конгрессу; была объявлена война против кортесов, означавшая войну против свободы. Русские патриоты, считавшие его главой либерального движения, не верили, что император, разделяя их взгляды и в особенности выразив свои убеждения в письме к князю Кочубею, мог так предать их. Но вскоре сомнения рассеялись: Александр запретил масонство
и различного рода союзы. Император стал не только отступником, но и гонителем либеральных идей.
В то время в России официально существовало обширное общество, имевшее своей целью прогресс, воспитание, народное образование. Это общество, открыто проповедовавшее свои взгляды, отныне стало тайным. На основе его образовались две организации, названные Северным обществом и Южным обществом. Умеренные деятели вступили в Северное общество и признали своим руководителем Никиту Муравьева. Южное общество состояло из решительно настроенных людей, они признали своим главой Пестеля. Деятели Северного общества имели целью свергнуть самодержавие, деятели Южного добивались казни монарха.
В то время, когда были основаны эти союзы, другое несчастье постигло императора Александра. В течение пятнадцати лет он имел титулованную любовницу, госпожу Нарышкину. У них была дочь Софья, которую монарх обожал; сама императрица питала к ней глубокое нежное чувство. Поистине то был изумительный цветок, и, как цветок, она погибла от
мороза: простудилась в Швейцарии во время посещения ледника Розенлов и умерла от воспаления легких3. Жуковский, тот самый, что находился подле умирающего Пушкина, написал в честь прелестной девочки наиболе изумительные свои стихи. Вот точный их перевод— хотя известно, что никакой перевод не может сохранить все достоинства оригинала:
Минуту нас она собой пленяла!
Как милый блеск пропала из очес!
Рука творца ее образовала
Не для земли, а для небес.
Впав в меланхолию после смерти несчастной княжны, уже считавшейся невестой графа Шувалова, император перестал заниматься государственными делами и поручил ведение их некоему злому гению по фамилии Аракчеев.
Постоянно вокруг престола монарха рыщут львы, стремящиеся, как сказано в «Греческих писаниях», поглотить жертву. Им обязательно нужно кого-нибудь поглотить, если не народ, то императора.
Граф Аракчеев представлял собою одного из таких львов; он поставил перед собою цель вызвать ненависть к царю и весьма преуспел в этом. Сын мелкого помещика, Аракчеев полностью реорганизовал артиллерию и основал военные поселения; это был светлый ум, но человек необыкновенно жестокий. Все перед ним трепетали. Говорят, что один генерал Ермолов не боялся ему возражать и чуть не поплатился за это своею карьерой. Но ведь досадно было бы из-за какого-то Аракчеева потерять такого человека, как Ермолов.
i ^
à
к
N?
1C
6r\V\
?} m V
IC
II)
\tjp
hc
Ж
€
il
m
87
Ермолов —это генерал, который в пятый раз захватил Большой редут, где погиб генерал Коленкур; он не покинул позиции даже тогда, когда пали в бою все канониры, а орудия были заклинены. В дальнейшем нам представится случай поговорить об этом ветеране империи, который все еще живет в Москве, в небольшом деревянном доме. Однажды, когда Ермолов был артиллерийским офицером, Аракчеев нашел, что его лошади плохо вычищены.
— Слушайте, известно ли вам, что авторитет офицера зависит от того, как выглядят его кони?
— Да, генерал,— ответил Ермолов,— я знаю, что в России репутация людей зависит от животных.
Так же, как герцогу Ришелье, который никому не отдавал предпочтения, обрушиваясь на своих равно, как и на чужих, случалось и Аракчееву третировать собственных фаворитов — будучи фаворитом, он, естественно, имел фаворитов сам, но обращался с ними так же плохо, как и со всеми другими.
Среди фаворитов Аракчеева был сын одного пруссака, лакей, которого хозяин произвел в чин генерала, подобно тому, как Кутайсов получил титул графа от Павла I. Однажды во время торжественного парада-в Новгороде, которым командовал генерал Клейнмихель (так звали фаворита Аракчеева), какой-то маневр прошел неудачно. По окончании парада Аракчеев вызвал к себе Клейнмихеля и при всех офицерах объявил:
— Ты мне жаловался, болван, что тебя не уважают, и я надел тебе на плечи новые эполеты. Ты мне говорил, что тебе не оказывают по-
и
честей, и я прикрепил тебе на грудь орден Святого Владимира...—Тут Аракчеев сорвал с него шляпу и, ткнув в лоб, прокричал: — Сюда я уже ничего не могу вложить. Это уже дело Господа Бога. Кажется, Господь Бог смотрел в другую сторону, когда ты появился на свет! — Затем, отвернувшись и пожав плечами, в последний раз обозвал Клейнмихеля дураком.
Майор Р., желающий отомстить Аракчееву за жестокие выходки, скучая в военном поселении, куда был сослан, придумал себе развлечение: создал армию из гусей и индюков и, проявляя терпение и волю, стал обучать их строевой подготовке. Услышав команду «стройся», птицы выравнивались с такой же точностью, как взвод солдат. На возглас «Здорово, ребята!»—типичное приветствие генерала, когда он принимает парад,—они отвечали «га-га-га» и «кулды-кулды». Этот галдеж на слух весьма походил на общепринятый ответ солдат: «Здравия желаем, ваше сиятельство».
Аракчеев узнал, чем на досуге занимается майор. Он тотчас предпринял поездку к месту военного поселения и внезапно нагрянул к Р. Тот спросил графа, нужно ли построить войско для смотра.
— Не стоит,— сказал Аракчеев,— я прибыл на смотр не солдат, а гусей и индюков.
Майор понял, что погиб, и мужественно проглотил горькую пилюлю. Он вывел своих ополченцев из ограды и строго приказал им строиться. Следует заметить, что смышленые птицы сразу поняли, перед кем они имели, честь повиноваться. Никогда они так четко не становились в ряд и никогда столь браво не от-
вечали на приветствие командира. Аракчеев не скупился на лестные для майора похвалы. А в завершение речи приказал ему направиться со всей «армией» в крепость и обязал коменданта тюрьмы кормить майора поочередно то гусятиной, то индюшатиной до тех пор, пока несчастный не съест всю свою армию.
На двенадцатый день майор почувствовал такое отвращение к мясу своих учеников, что решил лучше умереть голодной смертью, нежели соблюдать установленный режим, и объявил голодовку. На четвертый день голодовки Аракчеев, предупрежденный, что майору грозит смерть, соизволил его простить.
В Новгородской губернии Аракчеев владел великолепным имением Грузино; то был подарок императора Александра, который осыпал фаворита деньгами и оказывал ему всяческие \ почести. Как любой человек ограниченного I ума, Аракчеев обладал величайшим даром уста- ; навливать строгий порядок и никем не наруша- >емую дисциплину. Позади своего дома он приказал разбить сад с клумбами, совершенно одинаковыми и выровненными по линейке. На каждой клумбе была указана фамилия дворового мужика, обязанного ухаживать за цветами и беречь их. Если хоть один цветок был надломлен или на траве виднелись следы, то дворовый, смотря по тому, насколько испорчена клумба, подвергался наказанию двадцатью пятью, пятьюдесятью, стами ударами розги. Экзекуцией руководила Настасья. Настасья не приходилась Аракчееву ни женой, ни любовницей, то была его «баба». Он нашел эту волчицу в одной из своих деревень и соединился с ней.
Слезы и крики наказуемых доставляли наслаждение этой женщине. Аракчеев, который был в курсе всех государственных дел, не принимал никаких решений, не посоветовавшись с ней, она была полновластной хозяйкой и оказывала на него неодолимое влияние.
В народе распространилась молва, что эта женщина — воплощенный дьявол, всецело завладевший Аракчеевым. Однажды кучер и повар графа, в отчаянии от постоянных злодеяний временщицы,— сестра повара была засечена до смерти,—решили во что бы то ни стало избавить землю от этого чудовища. И вот ночью, когда граф был в отъезде, они убили Настасью.
Аракчеев, узнав об этом, пять дней и пять ночей не выходил на улицу, испуская не рыдания, не крики, а душераздирающий рев, слышный в другом конце дома. Когда же он вышел, все его люди разбежались по сторонам. Глаза его налились кровью, лицо было мертвенно-бледным. Так как дворовые не хотели выдавать виновных, сделавших то, о чем каждый из них много раз мечтал, все они были высечены кнутом так, что двое или трое мужиков умерли, не выдержав экзекуции.
По поводу смерти этой женщины император Александр написал графу следующее: «Успокойся, друг мой! Ты нужен России: она оплакивает твоего верного друга, плачу и я, думая о твоем несчастье».
Глубокая нежность Александра к жестокому выскочке казалась тем более странной, что Аракчеев наводил ужас на двух братьев императора— великих князей Николая и Михаила. Он заставлял их являться каждое утро в десять
часов в свой деревянный дом на Литейном проспекте и там принимал после младших офицеров, заставляя ждать приема по два часа. Несомненно, он не знал, что Константин отрекся от престола и что императором станет Николай. Так или иначе, но, заняв трон, Николай I тотчас уволил Аракчеева в отставку4.
И. тот, покидая государственный пост, словно парфянин, выпустил в императора последнюю стрелу. Он оставил ему в наследство своего адъютанта Клейнмихеля. С этой целью Аракчеев, якобы поссорившись с Клейнмихелем, в приказном порядке уволил его в отставку. Быть изгнанным Аракчеевым служило для Николая хорошей рекомендацией. Новый император попал в ловушку и поручил Клейнмихелю ту же должность, которую тот занимал при Аракчееве. Когда временщик узнал об успехе своего замысла, он, несмотря на преклонный возраст, подпрыгнул от радости и сказал, смеясь: «Теперь, даже если царь вышлет меня в Сибирь, я отомщен».
Аракчеев направился в Грузино, свое поместье. Там он пытал крестьян и, подобно средневековым феодалам, грабил путешественников, проезжающих по выстроенному им мосту. За каждый проезд он требовал плату — десять копеек. Как-то один младший лейтенант, отправлявшийся в отпуск, счел этот налог злоупотреблением и, переехав через мост, отказался платить мзду. Когда его привели к Аракчееву, молодой человек сказал, что не признает такие поборы законными; во время отпуска ему платят по двадцать пять копеек в день, и нигде не предусмотрены десять копеек за проезд через мост; поэтому он решительно отказывается
платить, а если он, лейтенант, не прав, то Аракчеев может пожаловаться высшему начальству. При Александре лейтенант поплатился бы за свой ответ, но дело было при Николае.
Аракчееву пришлось удовольствоваться лишь тем, что он пригрозил младшему лейтенанту кулаком, прибавив:
— Вернусь к власти, тогда держись, негодяй!
А младший лейтенант, щелкнув пальцами, возразил ему:
— В воскресении Иисуса Христа я сомневаюсь, но в том, что Аракчеев никогда не воскреснет, твердо убежден.
Тем дело и кончилось. Времена Аракчеева миновали.
Вот какому человеку Александр доверил управлять своей империей. Несомненно, увлечение женщинами, преувеличенный мистицизм, угрызения совести от содеянного зла — хотя не он совершил это зло, но позволил другим его совершить — привели к тому, что Александр перестал заниматься мирскими делами. Ему было известно, что в империи замышляется обширный заговор, но царь не обращал на это внимания. В глубине души он был убежден, что заговорщики правы, что ранее оказанное благоволение дает им повод так действовать.
В стране предрекали неизбежность катастрофы и смутно ее предчувствовали. Правительство было встревожено; так иногда человек ощущает недомогание, а самые верные егс домочадцы говорят:
— Для того, чтобы выздороветь, он должег сначала как следует заболеть.
Эта катастрофа, которую предвидели, оказалась кончиной императора и восстанием четырнадцатого декабря. Во время своего последнего путешествия — по провинции, расположенной подле Дона,— в результате неудачного падения с дрожек император поранил ногу.
Должно быть, у дрожек есть какие-то скрытые качества, известные только уроженцам России, или же русские очень постоянны в своих привязанностях и поэтому упорно пользуются подобным экипажем.
Один англичанин, не по своей воле испытавший езду на дрожках, резко отрицательно отозвался об этой повозке; он предложил премию в тысячу фунтов стерлингов тому, кто укажет на более неудобное средство передвижения. Заплатить эту премию ему так и не пришлось.
Раб дисциплины, которую он сам для себя установил, Александр, желая прибыть в условленный день, продолжал путь; но усталость и дорожная грязь вызвали воспаление раны. Хотя император и был «первым среди равных», здоровье его оставляло желать лучшего. Приступы рожистого воспаления ноги уложили его в постель на несколько недель, а затем он захромал на несколько месяцев. Приступы меланхолии, которые царь и раньше испытывал, участились и значительно усилились из-за этого нового недуга.
Последний приступ случился в середине зимы 1824 года, именно в то время, когда состоялась женитьба великого князя Михаила; тогда же Александр узнал от великого князя Константина о развивавшемся заговоре Союза благоденствия; первоначально он должен был еде-
латься руководителем этого союза, а в конце концов чуть не стал его жертвой.
И действительно, последняя болезнь спасла Александра от смерти. В 1823 году о прибытии царя было сообщено девятому дивизиону, находившемуся невдалеке от Бобруйска, в крепости, стоящей на реке Березине в Минской губернии. Саратовский полк входил в состав этого военного соединения. Командовал полком один из заговорщиков — Швейковский. Мура- вьев-Апостол и Бестужев выработали подробный план заговора. С помощью нескольких офицеров Саратовского полка, переодетых солдатами, они захватят императора, великого князя Николая и начальника генерального штаба Дибича. Это тот Дибич, которого изгнал Павел I, потому что его лицо вызывало у солдат уныние. Но из-за болезни император не смог приехать в Белую Церковь, и план, естественно, не осуществился.
Заговорщики к нему вернулись в 1824 году. Распространился слух, что император будет принимать парад войск третьего армейского корпуса, расквартированного подле городка Белой Церкви, и что он остановится в доме графини Браницкой, расположенном в Александрийском парке.
Вот что предполагалось осуществить.
При смене караула офицеры, переодетые в солдатскую форму, проникнут в спальню царя, чтобы его задушить, как это произошло с Павлом I. Вслед за смертью императора Сергей Муравьев-Апостол и полковники Швейковский и Тизенгаузен, один — командир Саратовского полка, другой — Полтавского, возглавят армию и направятся в Киев и Москву, где
к ним присоединятся их сподвижники. Из Москвы Муравьев предпримет поход на Санкт-Петербург, там объединится с Северным обществом, и они предпримут совместные действия.
Император не поехал в Белую Церковь, и заговор этот провалился, как и предшествующий, и по той же причине.
Провидение решило, что должен наступить перерыв между убийствами царей. Александр умрет в своей постели.
Предпоследний приступ болезни, которая унесет императора в могилу, произошел в Царском Селе в течение зимы 1824—1825 годов.
Как обычно, совершив прогулку по парку в одиночестве, ибо, склонный к меланхолии и не такой себялюбивый, как Людовик XIII, он не желал, чтобы кто-либо скучал подле него, Александр возвратился во дворец и, поскольку сильно продрог, попросил принести обед к себе в комнату. В тот же вечер с императором случился один из сильнейших приступов рожистого воспаления с высокой температурой и спазмами головного мозга. В ту же ночь он был перевезен в Санкт-Петербург в закрытых санях, и там консилиум врачей, опасаясь гангрены, решил произвести ампутацию ноги. Лишь доктор Виллье, хирург императора, выразил протест против такой крайней меры; он произнес слова, вслед за которыми врачи, не согласные с мнением коллеги, всегда удаляются: «Беру на себя ответственность...» И на сей раз благодаря преданности и заботам доктора жизнь государя была спасена.
96
Когда наступило лето, врачи единодушно решили, что для полного выздоровления царю необходимо поехать в Крым — место, наиболее благоприятное для его здоровья. Пораженный меланхолией, Александр не решил, куда поедет в этом году, ему было безразлично то или другое место обширной империи. Императрица просила позволения сопровождать мужа и получила согласие. Предполагаемый отъезд обязывал царя работать значительно больше, чем обычно. Каждый министр торопился встретиться с ним, чтобы покончить с делами, как будто видел Его Величество в последний раз. Поэтому за несколько недель до отъезда царю пришлось рано вставать и поздно отходить ко сну. В июне месяце после церковной службы, благословлявшей его путешествие, на которой присутствовала вся императорская фамилия, Александр покинул горячо любимое Царское Село, куда ему уже никогда не суждено было возвратиться, но где комната его оставалась в том же виде, в каком он ее покинул. Император с императрицей, с кучером Иваном на облучке, со свитой из нескольких адъютантов во главе с генералом Дибичем поехал в Крым. В конце августа 1825 года прибыли в Таганрог, расположенный у Азовского залива, именно там, где, согласно легенде, перед заблудившимся Аттилой появилась лань, указавшая ему путь к Риму и Парижу.
Александр I уже второй раз приезжал в Таганрог — город, расположение которого ему нравилось; он часто говорил, что сюда хотел бы удалиться на покой. Царь остановился в доме губернатора, выстроенном напротив крепости Азов, которая доставила, как вы, наверно, по-
I %
ÿrf Яй
ktif
Ьл
4?
)1 d rCê
щ
iéji
% и
4. А. Дюма, т. 2
97
Ь;
¥
J
мните, столько неприятностей Петру Великому; но Александр почти не бывал в этом доме. Он выходил утром и возвращался только к обеду; все остальное время совершал прогулки по грязной и пыльной дороге, пренебрегая предосторожностями, которые соблюдали даже местные жители, если желали избежать осенней лихорадки, которая особенно свирепствовала в тот год.
Ночью император спал на походной кровати, склонив голову на кожаную подушку. Мы уже упоминали о том, что люди славянской расы постели не придают значения. Именно здесь он узнал о только что раскрытом заговоре в Белой Церкви и о том, что этот заговор преследовал не только свергнуть царя с престола, но и убить его. Воронцов, губернатор Одессы, тот, который возглавлял оккупацию Франции до 1818 года, сообщил эту новость.
Подумайте только, он, горячо любимый ^ Александр, надежда, светоч первых дней своего царствования! И дело дошло до того, что заговорщики, действуя во имя общества, теперь были убеждены в том, что только его смерть обеспечит процветание народа! Опустив голову на руки, он пробормотал:
— Отец мой, отец!..
Ночью он написал письма вице-королю Польши Константину5 и великому князю Николаю. Вслед за тем, пообещав императрице встретиться с нею в Таганроге, отправился в Крым, где, как полагали, тоже могли быть сторонники заговорщиков. Император был так раздражен, и это так не вязалось с его характером, что Виллье хотел заставить его провести в Таганроге еще несколько дней. Александр
М
a
&
%
щ
§
ш
J/д
Jï
Ait
J{
98
же, наоборот, потребовал незамедлительного отъезда. Путешествие усилило душевные муки царя. Хотя лошади скакали во весь опор, он жаловался, что экипаж едва передвигается. Затем обрушился на плохие дороги, повелел их улучшить, в гневе сбросил пальто и подставил покрытый испариной лоб холодному осеннему ветру. Виллье умолял его поберечься, доказывая пагубность подобной неосторожности, но государь словно бросал вызов опасности.
Результата не пришлось долго ждать: Александр начал кашлять, а на следующий день появилась перемежающаяся лихорадка. Именно эта болезнь свирепствовала той осенью в Таганроге и Севастополе. Александр потребовал, чтобы его немедленно везли в Таганрог. И, словно опасаясь, что по дороге смерть опять отступится от него, часть обратного пути проделал верхом; в конце концов, не в силах удержаться в седле, он перешел в карету. Пятого ноября царь прибыл в Таганрог и, войдя в дом губернатора, потерял сознание. Императрица, сама чуть живая — у нее было больное сердце и она пережила супруга всего на шесть месяцев6, нашла в себе силы ухаживать за ним.
Что бы ни предпринимали, лихорадка все усиливалась. Восьмого ноября император был настолько плох, что Виллье распорядился пригласить на помощь врача императрицы. Двенадцатого появились симптомы воспаления мозга. Тринадцатого доктора объявили, что государю необходимо пустить кровь.
Александр решительно отказался — он лишь постоянно требовал для питья холодную воду и отвергал что-нибудь иное. В тот же день в десять часов император попросил, чтобы ему
дали бумагу и чернила, написал письмо, запечатал его и, так как свеча все еще горела, сказал слуге:
— Друг мой, задуй свечу, а то подумают, что я уже мертв.
На следующий день около полудня царь, вновь отказавшись от кровопускания, согласился принять дозу каломеля (хлористой ртути); это было четырнадцатого ноября. В четыре часа дня боли стали столь невыносимы, что появилась мысль о священнике.
— Государь,— обратился к императору Джеймс Виллье,— если вы отвергаете помощь медицины, то вам необходимо принять утешение от религии.
— Что до этого, то пусть делают все что угодно,—последовал ответ.
Пятнадцатого ноября, в пять часов утра духовник вошел в комнату именитого больного.
— Святой отец,—сказал Александр, протягивая ему руку,— обращайтесь со мной как с простым человеком, а не как с императором.
Священник приблизился к постели, выслушал исповедь и причастил умирающего. Виллье вошел в комнату в тот момент, когда духовник произносил отпущение грехов.
— Государь,—сказал врач,—я обеспокоен тем, что Ваше Величество, исповедуясь, не упомянули одно обстоятельство.
— Как так? —спросил император.
— Ваше Величество проявили такое упрямство, отказываясь от помощи, которую предлагали врачи, что Бог может посчитать вашу смерть самоубийством.
Император задрожал.
— Делайте со мной все что хотите,— сказал он,— отныне я в вашем распоряжении.
Виллье в тот же момент приложил к его голове двадцать пиявок, но было уже слишком поздно. Жар настолько усилился, что, несмотря на кровопускание, состояние царя не улучшилось. Тогда умирающий подал знак, чтобы к нему приблизились, давая понять, что он должен что-то сказать потихоньку. Императрица склонилась к его изголовью, но он покачал головой:
— О! Бог повелел, чтоб в момент смерти цари страдали сильнее, нежели обыкновенные люди,— и вслед за тем, опустившись на подушки, пробормотал: — Ах, это ужасное, подлое дело...
Не явилась ли ему в этот момент тень Павла?
Ночью с пятнадцатого на шестнадцатое ноября Александр потерял сознание. В два часа пятьдесят минут он скончался.
Императрица, склонившаяся у изголовья, зарыдала. Она уловила последний вздох, и ей показалось, что в этот момент его душа улетела, чтобы предстать перед Всевышним. Она сразу же опустилась на колени и начала молиться. Затем, через несколько минут, встала, немного успокоившись, закрыла супругу глаза, которые оставались приоткрытыми, обвязала ему голову платком, чтобы не отваливалась челюсть, и поцеловала уже похолодевшие руки; затем, вновь опустившись на колени, горячо молилась, пока врачи не попросили ее перейти в другую комнату. Они должны были приступить к вскрытию трупа.
Как только болезнь приняла угрожающий характер, к великому князю Николаю был послан курьер, оповестивший его о состоянии императора. По мере развития болезни к Николаю постоянно направлялись другие курьеры. Наконец был послан последний от императрицы к императрице-матери.
«Наш ангел на небесах, а я еще томлюсь на земле; питаю надежду вскоре соединиться с ним».
И действительно, императрица Елизавета покинула Таганрог, чтобы поселиться в приобретенном для нее имении в Калужской губернии. В пути она почувствовала потерю сил и остановилась в Белове, небольшом городе Курской губернии. Через неделю она испустила последний вздох.
ЕВЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
асскажем, каковы были последние новости, полученные императором в Таганроге и оказавшие на него столь губительное воздействие.
То лц случайно, то ли по подозрению, командира Саратовского полка полковника Швейковского, который должен был, согласно замыслу, захватить императора, великого князя Николая и Дибича в Бобруйске, внезапно сместили1. Это смещение вызвало тревогу в Южном обществе, более пылком, как мы говорили, чем Северное. Что же произойдет, если в таком же положении окажутся и другие полки, которые втянуты,— или считались втянутыми,— в заговор через своих командиров? Было решено немедленно поднять третий корпус третьей гусарской дивизии и ее артиллерийский состав, двинуться на Киев и послать убийц в Таганрог к Александру. Не было сомнений, что неожиданное известие о смерти Александра вызовет распрю, а быть может, и войну между Константином и Николаем, и этим обстоятельством удастся воспользоваться, чтобы провозгласить республику. Гусарский полковник Артамон Муравьев, как говорится в следственном деле, готов был взять на себя убийство Александра2, но ему
103
7
l
указали, что он будет необходим на своем посту командира полка.
Первого января 1826 года (13 января по нашему стилю) вятский полк должен был быть расквартирован в Тульчине; решено было арестовать там графа Витгенштейна и начальника его штаба Киселева и тем самым подать воинским частям сигнал к восстанию.
Теперь вспомним о двух письмах, посланных из Таганрога императором Александром великому князю Николаю и наместнику Польши Константину. Эти письма прибыли вовремя. Пестель был арестован 14 декабря (26 декабря нашего стиля)3. Арест Пестеля обезглавил Южное общество, другими руководителями которого были: Сергей Муравьев-Апостол, Михаил Бестужев-Рюмин, Швейковский, Артамон Муравьев, Тизенгаузен, Волконский, Сухинов и Михаил Лунин.
Северное общество возглавляли К. Рылеев, князь С. Трубецкой, князь Е. Оболенский, Александр Бестужев, Г. Батеньков и П. Каховский. Они одновременно узнали и о смерти императора Александра, и о назначении им Константина своим преемником, хотя этот последний отрекся от трона при бракосочетании с княгиней Лович; после смерти брата он подтвердил отречение, несмотря на уговоры Николая.
Этот конфликт весьма обнадежил Северное общество, в котором еще не знали об аресте Пестеля. Заговорщики намеревались взбунтовать часть войска и народа, убедив людей, что отречение Константина — ложь и что его брат Николай узурпирует корону. Быть может, с помощью этой уловки удастся в корне подрубить царствование Николая.
Вот что предполагалось предпринять в этом случае:
1. Лишив нынешнюю власть ее прерогатив, образовать временное правительство, которое распорядилось бы создать в провинциях палаты по выбору депутатов.
2. Сформировать две законодательные палаты, причем верхнюю-—из пожизненных представителей.
3. Для исполнения этих решений использовать армейские части, которые откажутся присягать императору Николаю, препятствуя, однако, любым эксцессам с их стороны.
Позже, чтобы дать гарантии конституционной монархии, будут сформированы также губернские палаты депутатов, которые явятся местными законодательными властями; военные поселения станут национальной гвардией; крепость перейдет в руки муниципалитета, этого палладиума русских свобод, как выражался Батеньков; университеты Москвы, Дерпта и Вильно получат независимость.
Двенадцатого декабря, то есть за два дня до восстания, в доме князя Трубецкого состоялось собрание, на котором присутствовали два брата Бестужевы, Оболенский, Каховский, Коновни- цын, Александр Одоевский, Сутгоф, Пущин*, Батеньков, Якубович, Щепин-Ростовский. Среди собравшихся царил энтузиазм. Князь Оболенский,— будучи несомненно дальновиднее других, не строил себе иллюзий относительно результатов,— повторил несколько раз:
— Мы умрем, в этом я уверен; но какой пример для мира! Какая слава для нас!
Тринадцатого — такое же собрание, такое же воодушевление. Становится известным, что завтра появится манифест о восшествии на престол Николая. Присутствующие договариваются, что наутро все выйдут на Сенатскую площадь, приведя как можно больше солдат,
* Не смешивать с поэтом Пушкиным. (Примен. авт.)
ц
V
Li
а в случае если солдаты откажутся — придут хотя бы в одиночку. Заговорщики надеялись, что, увидя такую демонстрацию, император пойдет на переговоры. И тогда они предъявят следующие условия:
1} (Созвать депутатов от всех губерний.
2) Опубликовать манифест, по которому эти депутаты будут присоединены к Сенату для принятия новой конституции.
3) Перед созданием временного правительства созвать депутатов из царства Польского, чтобы они приняли необходимые меры к сохранению единого государства.
Во главе войск, которые откажутся принять присягу, должен был встать князь Труоецкой; командирами под его началом — Якубович и Булатов.
Наступило 14 декабря. Все принялись за дело. Арбузов, Николай Бестужев и многие другие офицеры пошли в гвардейский морской экипаж, отказавшийся присягать. Генерал-майор Шипов, присланный принимать присягу, велел арестовать вожаков. Но когда через десять минут после ареста раздались выстрелы, Николай Бестужев закричал:
— Ребята, слышите? Ваших сотоварищей убивают.
Батальон под водительством Бестужева бросился вон из казарм. Офицеры, до сих пор пребывавшие в нерешительности, присоединились к батальону.
Московский полк восстал почти полностью. Князь Щепин-Ростовский, Михаил и Александр Бестужевы, Брок и Волков проходили по рядам второй, пятой и шестой роты, повторяя солдатам:
— Вас обманывают, требуя от вас присяги. Великий князь Константин не отрекался от престола. Он в плену, как и шеф нашего полка великий князь Михаил.
ш
ш
ЪА
тУ)
106
— Император Константин удвоит вам жалованье!— кричал Михаил Бестужев.— Хватайте, ребята, всех, кто предает императора Константина!
Он и князь Щепин-Ростовский приказали солдатам зарядить ружья боевыми патронами. Затем Щепин-Ростовский отдал приказ захватить полковое знамя. Он бросился на командира полка генерала Фредерикса, ударом сабли по голове свалил его на землю, затем тяжело ранил генерала Шеншина. Наконец, с криком: «Всех вас перебью», сшибает с ног полковника Хвощинского, унтер-офицера, гренадера, добирается до знамени, завладевает им и во главе восставших рот вместе с братьями Бестужевыми направляется с трофеем на Сенатскую площадь4.
Со своей стороны Якубович и Каховский совершают чудеса храбрости. Каховский пробрался к генерал-губернатору Петербурга, знаменитому Милорадовичу, храбрецу, которого называли русским Мюратом, и смертельно ранил его выстрелом из пистолета почти в упор. Повернувшись, он другим выстрелом убил командира Семеновского полка Стюр л ера5.
Кюхельбекер уже направил пистолет на великого князя Михаила, но матросы схватили его за руку. Как легко себе представить, на площади царил полный беспорядок. Обо всех этих событиях новый император узнавал одновременно. Он в известном смысле находился лицом к лицу с повстанцами. И тогда Николай впервые проявил свой характер, от которого не отступал ни разу за время тридцатилетнего царствования. v
Вместо того чтобы вступить в переговоры с восставшими, как они надеялись, царь поручил генерал-майору Нейдгардту передать в гвардейский Семеновский полк приказ немедленно выступить против мятежников,
Гг*
(§>А
ёу
Ьл
а Конногвардейскому полку держаться наготове до дальнейших распоряжений. Затем он спустился в главную кордегардию Зимнего дворца, где нес караул гвардейский Финляндский полк, и приказал зарядить ружья и занять главные подъездные ворота дворца. В этот момент на Адмиралтейской площади возникла страшная сумятица, третья и четвертая роты Московского полка во главе с Щепиным-Ростовским и Бестужевыми подошли сюда с барабанным боем и развевающимся знаменем, крича:
— Да здравствует Константин! Долой Николая!
Они вышли на Адмиралтейскую площадь, но, вместо того чтобы двинуться на Зимний дворец, который еще не приготовился к защите, направились на Сенатскую. К ним присоединились лейб-гренадеры и человек шестьдесят замешавшихся в их ряды штатских во фраках с пистолетами и кинжалами.
В этот момент император появился под одним из сводов дворца и стал смотреть на все это смятение. Он был бледнее обычного, но казался совершенно спокойным. В течение своего долгого тридцатилетнего царствования он часто бывал сердит, гневен, взбешен — но никогда не проявлял слабость.
Тут со стороны Мраморного дворца послышался топот эскадрона кирасиров; это были конногвардейцы графа Алексея Орлова*.
Ворота перед ним распахнулись, он спрыгнул с коня, и полк выстроился перед дворцом. В это же время послышались барабаны Преображенского полка, который подходил побатальонно. Они вступили во двор и увидели императора, императрицу и юного великого князя. Вслед за тем появились кавалергарды, кото-
* Алексей Федорович Орлов — побочный сын четвертого Орлова — Федора Григорьевича. (Примен. авт.)
рые выстроились в каре, оставив один угол, где разместилась артиллерия.
Восставшие видели все эти угрожающие маневры, но не предпринимали враждебных действий, а лишь кричали: «Долой Николая! Да здравствует Константин!» Они ожидали подкреплений. Раздались и возгласы: «Да здравствует конституция!»; но когда солдаты спросили, что значит конституция, им ответили, что это жена Константина, и клич не нашел поддержки.
В это время великий князь Михаил, об аресте которого заговорщики говорили солдатам, обходил казармы, доказывая своим присутствием ложность слуха. В казармы Московского полка он добрался, когда две роты уже ушли, но он воспрепятствовал остальным последовать за ними. Явился великий князь как раз вовремя.
В тот момент, когда весь полк собирался идти вслед за восставшими ротами, прибыл капитан пятой роты граф Ливен и с первого взгляда понял, что здесь происходит. Он немедленно приказал запереть двери, потом, встав перед строем солдат, выхватил шпагу и поклялся, что пронзит ею первого, кто сдвинется с места. Один юный поручик подошел с пистолетом в руке и направил его в грудь Ли- вена, однако граф рукояткой шпаги вышиб пистолет из рук молодого офицера. Тот поднял свое оружие и вновь пошел на Ливена, который, скрестив руки, двинулся на подчиненного, бросая вызов опасности. Отступая перед графом на виду всего полка, который в молчании наблюдал странную дуэль, поручик спустил курок и выстрелил.
Чудом сгорела лишь затравка, в этот момент раздался стук в дверь.
— Кто идет? — крикнуло несколько человек.
— Я, великий князь Михаил,— ответил брат императора.
и
ite
»?
ш
щ
Ж
IfÇki
w
*
ц
л
Щ
éa
ж
Эти слова ошеломили всех. Разве восставшим солдатам не говорили, что великий князь находится под арестом?
Великий князь въехал верхом во двор казармы в сопровождении нескольких офице- ров-адыотантов.
— Что значит ваше бездействие в момент опасности? — спросил великий князь. — Где я нахожусь: среди изменников или верноподданных?
— Ваше Высочество — в самом преданном полку,— ответил граф Ливен,— в этом вы сейчас убедитесь.
И, подняв шпагу вверх, он воскликнул:
— Да здравствует император Николай!
— Да здравствует император Николай!— единогласно повторили солдаты.
Молодой поручик хотел было заговорить, но граф Ливен схватил его за руку.
— Разве вы не видите,— сказал он,— что ваше дело проиграно. Молчите. Я ничего не скажу.
— Ливен,— сказал великий князь.—Я поручаю вам командовать полком.
И он продолжал свой объезд, встречая повсюду если не энтузиазм, то, по крайней мере, повиновение.
Постепенно государь стал получать добрые вести. Отовсюду прибывали новые полки и немедленно занимали позиции. Саперы встали в боевом порядке у Эрмитажа, а с Невского проспекта появилась часть Московского полка под командованием Ливена. Их появление восставшие встретили радостными криками. Они решили, что прибывают ожидаемые подкрепления. Но, вместо того чтобы присоединиться к ним, новоприбывшие выстроились перед зданием Судебной палаты лицом к дворцу и, вместе с кирасирами, артиллерией и кавалергардами, замкнули восставших в железное кольцо.
■V7
ф
1^51
%
'Я
)
В этот момент, перекрывая шум суматохи, послышалось церковное пение, и на площади появился митрополит в сопровождении духовенства. Он шел из Казанского собора с иконами, чтобы во имя неба приказать восставшим вернуться к исполнению своего долга. Но православная церковь погрязла в коррупции и невежестве, что было одной из причин, обусловивших восстание. Поэтому его руководители, выйдя из рядов, закричали священникам:
— Идите прочь! Не мешайтесь в земные дела!
Николай, опасаясь святотатства, приказал им удалиться. Митрополит повиновался.
Тогда император решил самолично предпринять последнее усилие, чтобы образумить восставших. С первого движения угадав его намерения, окружающие хотели остановить его.
— Господа,— сказал Николай тоном, перед которым никто никогда не мог устоять,— сегодня разыгрывается моя игра, и будет справедливо, если я сделаю ставкой собственную жизнь. Отворите ворота!
Ему повиновались. Император шагнул за порог. В этот момент примчался во весь опор великий князь Михаил и, спрыгнув с коня, сказал на ухо императору:
— Часть Преображеского полка, который окружает Ваше Величество, заодно с мятежниками, а князь Трубецкой, чье отсутствие Вы, очевидно, заметили,— глава заговора.
Царь опустил голову и ненадолго задумался. Но вскоре еще более утвердился в своем решении.
— Приведите наследника,— сказал он.
Мальчика привели. Ему было тогда семь
лет.
Император поднял ребенка на руки.
— Солдаты,— сказал он.— Если
меня
4h
jçè
L
щ
\A
»
4f
f
Ш
I
) w m & 3
уд
убьют — вот ваш император. Разомкните ряды. Я доверяю его вашей преданности.
И он передал ребенка в объятия гренаде- ров-преображенцев. Не забудьте, это был полк, охранявший Михайловский дворец, когда душили Павла.
Раздался крик энтузиазма, шедший из глубины сердец: виновные первыми протянули руки, чтобы принять великого князя. Его внесли в гущу рядов и поместили под охрану рядом со знаменем. Тогда император вскочил в седло и поскакал.
У ворот дворца к нему бросились генералы, умоляя не ехать далее: восставшие заявили во всеуслышанье, что хотят его смерти и что оружие заряжено. Но император ответил: «Да свершится то, что будет угодно Богу»,—и запретил кому-либо следовать за ним.
Он пустил лошадь в галоп и остановился прямо перед восставшими на расстоянии пистолетного выстрела от их боевого строя.
— Солдаты,— крикнул он,— говорят, что вы покушаетесь на мою жизнь. Если так — вот она. Стреляйте, и Бог нас рассудит.
Команда «Огонь!» прозвучала дважды, но безрезультатно. На третий раз прогремело около двадцати выстрелов. Пули просвистели вокруг императора, но ни одна его не задела.
За сто шагов далее него этим залпом были ранены полковник Вельо и несколько солдат.
В этот момент к императору подоспел великий князь Михаил, кирасиры выдвинулись и тоже кинулись к нему, артиллеристы поднесли фитили к орудиям.
— Стойте! — приказал император.
Но в одно мгновение граф Орлов и его люди окружили Николая и силой увлекли его во дворец, тогда как великий князь Михаил бросился к артиллеристам, схватил фитиль и поднес его к уже нацеленной пушке.
— Огонь! — крикнул он.— Огонь по этим убийцам!
Одновременно с его выстрелом грохнул залп еще из четырех орудий, заряженных картечью. Затем, когда уже нельзя было расслышать приказаний императора, последовал второй залп.
Результат действий артиллерии, отстоявшей не далее чем на ружейный выстрел, был ужасен: на месте осталось более шестидесяти человек из гренадерского корпуса и Московского полка. Прочие обратились в бегство по Галерной улице, Английской набережной, через Исаакиевский мост и по льду Невы. Кавалергарды бросились преследовать восставших.
Все было кончено: пятилетний заговор, надежды на независимость двух народов, на освобождение восьмидесяти миллионов человек, ибо заговорщики не делали разницы между русскими и поляками. Все это рухнуло в один день — именно в один, поскольку именно 14 декабря Пестеля арестовали на юге России.
Пестель успел крикнуть по-немецки князю Сергею Волконскому: «Будьте спокойны, я ни в чем не сознаюсь, спасайте только «Русскую правду»6.
Сергея и Матвея Муравьевых-Апостол арестовали в то же время, что и Пестеля, но они были освобождены офицерами, принадлежащими к Обществу Соединенных Славян. Сразу же после освобождения Сергей Муравьев-Апо- стол решился поднять на восстание Черниговский полк. Это ему удалось. Тогда он решил идти на Киев и Белую Церковь или на Житомир, чтобы поднять полки, где служили офицеры из Общества Соединенных Славян. Наконец наметили марш на Брусилов, откуда можно было за один дневной переход дойти до Киева или до Житомира, смотря по обстоятельствам.
Перед выходом полковой священник отслужил обедню и прочел солдатам «Катехизис», сочиненный Бестужевым-Рюминым. Но солдаты решительно ничего не поняли из этого «Катехизиса», в котором говорилось, что демократическое правительство наиболее угодно Богу. Пришлось поэтому, как и в Санкт-Петербурге, использовать имя великого князя Константина.
По дороге Муравьева-Апостола известили, что воинские части, которые он рассчитывал поднять, не стоят в Белой Церкви. Пришлось повернуть обратно. Но буквально через несколько верст он столкнулся с гусарами генерала Гейсмара, которые его преследовали: Муравьев подумал, что колебаться нечего, и повел солдат прямо на артиллерию, которую вез с собой Гейсмар. Этот последний приказал немедленно открыть огонь. При первом же залпе Сергей Муравьев-Апостол оыл ранен осколком картечи и упал без сознания. Через десять минут он пришел в себя, но его отряд был уже разбит. Он пытался собрать солдат, но время уже ушло7.
Оба судебных процесса, естественно, были объединены. Император назначил следственную комиссию под председательством старого Лопухина, того самого, кого по просьбе его дочери сделал князем Павел8.
Главные обвинения были предъявлены пятерым. Это были Павел Пестель, Кондратий Рылеев, Сергей Муравьев-Апостол, Михаил Бестужев-Рюмин и Петр Каховский. Все пятеро были людьми замечательными.
Скажем несколько слов о каждом из них.
авлу Пестелю едва исполнилось тридцать лет. Хотя фамилия его немецкая, но он русский по рождению. Его отец, который в 1825 году, то есть ко времени осуждения сына, терпел нужду, занимал пост губернатора сразу после Сперанского, этой жертвы оговора, Сперанского, которого и Александр, и Николай реабилитировали, словно соревнуясь в милости. Став жертвой доноса, сходного с тем, что погубил его предшественника, отец Пестеля был с позором отстранен от должности. Этот позор отозвался в сердце сына, который воспитывался в Дрездене, затем, прибыв в Петербург, вступил в Пажеский корпус, получил звание прапорщика и дослужился до капитана во время французской кампании. Однажды, находясь в Баварии, он увидел, как баварские солдаты избивают французского крестьянина, и лично усмирил их. В Россию Пестель возвратился в должности адъютанта генерала Витгенштейна; получив звание полковника, он стал командиром пехотного полка в Вятке.
Невысокого роста, но необычайно подвижный, сильный, он обладал отличной фигурой. Его считали чело-
115
веком остроумным, лукавым, властолюбивым. Несомненно, это был глубокий ум, оказавший влияние даже на тех его сподвижников, которые не питали к нему симпатии. Среди них был Рылеев, также обладавший поразительным умом, и Александр Бестужев. Именно Пестель мечтал об основании союза, именно он составил проект русской конституции, и, наконец, именно его голос был слышен повсюду, где речь шла о смелых проектах и решительных мерах.
О нем отзывались как о республиканце наподобие Наполеона, но не Вашингтона.
Кто мог бы об этом судить? Он погиб раньше, чем смог исполнить свое дело. Смерть его была ужасной — постарались сделать все возможное, чтобы она стала позорной. Думается, клевета не должна более витать над прахом Пестеля.
Кондратий Рылеев был поэтом. Он только что опубликовал поэму «Войнаровский», посвященную другу Бестужеву, где пророчески предсказывал его и свою судьбу.
Послушайте его самого:
Угрюм, суров и дик мой взор,
Душа без вольности тоскует.
Одна мечта и ночь и день Меня преследует как тень:
Она мне не дает покоя Ни в тишине степей родных,
Ни в таборе, ни в вихре боя,
Ни в час мольбы в церквах святых,
«Пора! —мне шепчет голос тайный:
Пора губить врагов Украйны!»
Известно мне: погибель ждет Того, кто первый восстает На утеснителей народа,—
Судьба меня уж обрекла.
Но где, скажи, когда была Без жертв искуплена свобода?
Погибну я за край родной,—
Я это чувствую, я знаю...
И радостно, отец святой,
Свой жребий я благословляю!
Мы не смогли бы лучше охарактеризовать Рылеева, нежели это делают его стихи.
Сергей Муравьев-Апостол был подполковником Черниговского пехотного полка. Это был замечательный офицер, смелый, великодушный, воспитанный в либеральном духе, вошедший в группу заговорщиков с момента ее основания. Его двойная фамилия указывает, что он принадлежал к той самой семье Муравьевых, которая дала России многих выдающихся людей, и к семье казацкого гетмана Апостола. Его отец Иван Муравьев-Апостол, которого я очень хорошо знал, проживал во Флоренции, куда удалился, не желая оставаться в России, где, по его словам, он оплакивал троих своих сыновей: одного, покончившего жизнь самоубийством, другого — повешенного, третьего — ссыльного. Иван Муравьев-Апостол был сенатором и во времена Империи исполнял обязанности русского посла в ганзейских городах, а затем в Испании. Эти три сына, которых он лишился при роковом стечении обстоятельств, составляли его гордость и славу.
— Ни на одного из своих сыновей я не мог пожаловаться,— говорил мне он, вытирая слезы.
Иван Муравьев-Апостол являлся скорее аристократом, нежели либералом. Это был замечательный филолог, главным образом эллинист. Он перевел на русский язык «Облака» Аристофана и опубликовал в 1823 году «Путешествие в Тавриду», на смерть своего друга
Александра I написал греческую оду, одновременно переведя ее на латинский язык. Его любимым чтением был «Прикованный Прометей» Эсхила.
Сергей также, хотя и не являлся литератором, был образованным человеком. Службу в армии он начал в 1816 году и примкнул к той группе офицеров, которая восстала против своего командира Шварца. После преобразования полка он перешел в Черниговский, что способствовало его сближению с Пестелем.
Надо сказать, что вторая фамилия — Апостол— значила для него больше, чем первая. Эта фамилия напоминала ему о конфедерации вольных стрелков, выборная структура которой способствовала распространению в Малороссии тех идей независимости, которые мы еще и сегодня находим там. Его предок Даниил Апостол был избран казацким гетманом в 1727 году и решительно защищал свою страну от экспансии Петра I — долгое заточение явилось наградой эа этот патриотизм. Память о независимости, столь пленившая Сергея Муравье- ва-Апостола в юности, обернулась мучением его зрелых лет. До самого заговора они с братом Матвеем были неразлучны — смерть разверзла между ними бездну могилы, а ссылка — бездну дали между могилой и оставшимся в живых.
Четвертый обвиняемый — Михаил Бестужев-Рюмин — был дальним родственником знаменитого канцлера императрицы Анны, который, как мы помним, прибыл из Курляндии вместе с Бироном и при Елизавете направлял внешнюю политику России. Михаилу исполнилось двадцать девять лет. Он служил младшим лейтенантом в пехотном полку Полтавы; именно здесь он присоединился к заговору.
ч
3
Что касается Петра Каховского, то напрасно мы будет искать сведения и факты о нем. Заговорщик и солдат, он умел конспирировать, сражаться, героически принять смерть, большего от него нельзя требовать.
Кроме того, в заговоре участвовали семь князей, два графа, три барона, два генерала, тринадцать полковников, десять подполковников.
Сто двадцать один человек находился в курсе заговора.
Императрица Елизавета, отменив смертную казнь за ординарные преступления, сохранила эту меру наказания для лиц, обвиняемых в государственной измене, вернее сказать, она даже не упомянула о них. Во имя клятвы, которую императрица дала самой себе, на протяжении всего ее царствования не было совершено ни одной казни, при которой преступник умирает сразу, но она разрешала применять кнут и розги, и под их ударами люди умирали, хотя слово «смерть» не упоминалось в приговоре; судья, так же, как и палач, отлично знал, что невозможно остаться в живых после ста ударов кнутом или двух тысяч ударов шпицрутенами.
По делу ста двадцати одного обвиняемого верховный суд приговорил пятерых — Пестеля, Рылеева, Сергея Муравьева-Апостола, Михаила Бестужева-Рюмина, Каховского — к четвертованию; тридцать одного —к отсечению головы; семнадцать —к лишению всех прав и пожизненной каторге в Сибири — перед отправкой туда они должны были положить голову на плаху; двоих — просто к пожизненной каторге; тридцать восемь — к разным срокам каторги, а затем к пожизненной ссылке; восемнадцать— к ссылке в Сибирь с лишением чинов и дворянства; одного — к службе в армии сол-
датом с лишением чинов и дворянства, но с возможностью выслуги; и, наконец, восьмерых— к службе в солдатах, без лишения дворянства и с возможностью-выслуги.
Таким образом, из ста двадцати одного подсудимого сто двадцать были осуждены.
Следствие велось в тайне, известны лишь его результаты.
Император пожелал увидеть некоторых обвиняемых и лично допросить их.
Он допросил Рылеева.
— Ваше Величество,— сказал ему поэт, заранее воспевший свою смерть,— я знал, что дело приведет меня к гибели, но семена, посеянные нами, взойдут и впоследствии принесут плоды.
Он допросил Николая Бестужева, брата Михаила.
— Сударь,—-сказал ему император,—мне нравится твердость вашего характера, я мог бы вас помиловать, если бы был убежден, что в будущем вы станете мне верным слугой.
— Ваше Величество,— ответил осужденный,— именно это обстоятельство и вызывает наше недовольство: император может миловать и может казнить, в то время как народ не имеет права возразить императору. Поэтому я прошу Ваше Величество не нарушать закон ради меня, и пусть в будущем судьба ваших подданных не зависит от капризов и впечатлений минуты.
Он допросил Михаила Бестужева-Рюмина.
— Я ни в чем не раскаиваюсь,— ответил Бестужев,—я умираю, исполнив долг, и я убежден, что за меня отомстят.
Долгое время император оставался задумчив; уверенность в собственной непогрешимости, вера в предначертанную миссию, которую
он должен исполнить и о которой мы расскажем несколько позже,— не было ли поколеблено все это?
Конечно же, нет. Ведь когда старый сенатор Лопухин принес ему на подпись приговоры суда, царь вначале стал рассматривать те, в которых Пестель, Рылеев, Муравьев-Апостол, Михаил Бестужев-Рюмин и Каховский были приговорены к четвертованию. Не колеблясь, он начертал «Быть посему» и подписал «Николай». Затем вручил приговор председателю суда.
Старый Лопухин, без содрогания лицезревший безумные выходки Павла I, побледнел, увидев, как молодой император утвердил столь жестокую кару.
— Что с вами, Лопухин? — спросил император у председателя суда, побледневшего и дрожавшего.— Разве мы здесь занимаемся игрой и разве приговор суда несправедлив?
— Отнюдь нет, Ваше Величество,— ответил сенатор,— но, быть может, суд вынес столь суровый приговор для того, чтобы предоставить возможность Вашему Величеству проявить милосердие.
— Я могу только утвердить приговор суда, ибо, утверждая его, не приговариваю, а лишь соглашаюсь. Если же изменить форму казни, то это означало бы, что приговариваю их я. Сообщите суду, что форма исполнения смертной казни может быть изменена по его усмотрению.
При этом царь разорвал приговор, с тем чтобы суд представил ему на подпись новый.
Двадцать третьего июля Верховный суд собрался для изменения приговора, касающегося Пестеля, Кондратия Рылеева, Сергея Муравье- ва-Апостола, Михаила Бестужева-Рюмина, Петра Каховского.
1
Вот его заключительная часть:
«Верховный суд, учитывая то милосердие, которое было проявлено Их Величеством, смягчившим наказание в отношении других преступников и пользуясь предоставленным ему правом, приговаривает:
Вместо смертной казни четвертованием Павлу Пестелю, Кондратию Рылееву, Сергею Муравьеву-Апостолу, Михайле Бестужеву-Рюмину и Петру Каховскому, приговором суда определенной,—сих преступников, за их тяжкие злодеяния, — повесить».
Все милосердие ограничилось заменой жестокой казни казнью позорной.
Несчастные смертники надеялись, что их расстреляют либо обезглавят. __
В России виселиц не существовало со времен Петра, когда казнили стрельцов.
Император Николай подписал приговор суда, дал осужденным двадцать четыре часа, чтобы они, прежде чем предстать перед Господом, могли предаться возвышенным размышлениям, а сам уехал в Царское Село.
Никто не может поведать о впечатлении, которое произвела на приговоренных эта «милость». Все с бесстрастными лицами выслушали приговор, не проронив_ши единого слова.
Все согласились принять церковное благословение. Священник пообещал Рылееву, что лично передаст жене его последнее письмо. В доказательство того, что письмо доставлено по назначению, вдова должна была вручить священнику золотую табакерку. Когда мы в дальнейшем расскажем о русском духовенстве, читатели смогут убедиться, что вознаграждение для священнослужителей не является чем-то
позорным.
Ь]
Все пребывали в безмолвии, но особенно невозмутим был Пестель, который не отверг ни одного из своих убеждений, не раскаялся ни в одном из совершенных им деяний. Он оставался до конца убежденным в том, что принципы, изложенные в «Русской Правде», являются благоразумными и своевременными.
Двадцать пятого июля, около двух часов ночи, хотя казнь должна была состояться лишь в 10 часов, на крепостном валу сооружалась широкая виселица для пятерых осужденных.
Это происходило напротив маленькой деревянной церкви Святой Троицы, воздвигнутой на берегу Невы на Петербургской стороне, там, где прежде всего обосновался Петр Великий.
В эту летнюю пору ночь начинается в 11 часов, а кончается в два, когда уже можно различить окружающие предметы, и вот слабая дробь барабанов, зловещие звуки фанфар стали доноситься из различных кварталов города, так как каждый полк Петербургского гарнизона должен был направить роту солдат к месту казни.
Солдаты, отряженные из различных казарм, соединились в крепости и расположились у подножия ее стен.
Отсюда исходили зловещие звуки барабанной дроби, протяжные и траурные, исполняемые сводным оркестром барабанщиков. Было уже три часа утра — день начинался.
Двести либо триста зрителей расположились кругом и замкнули солдатскую цепь, выстроенную возле крепостной стены, а так как ужасная сцена казни должна была произойти на валу, собравшиеся ясно различали все через головы солдат.
В три часа вновь раздалась барабанная дробь. Тогда все увидели на фоне прозрачной
М
ш
№
ЛЙЭ
«S
№
123
утренней лазури тех осужденных, которым впоследствии даровали жизнь.
Их распределили по группам. Каждый стоял напротив полка, к которому ранее принадлежал, а позади их всех находилась виселица. Вначале они выслушали приговор, потом их поставили на колени, сорвали эполеты, знаки отличия, форменное платье; над их бритыми головами сломали шпаги, нанесли им удар «в лоб», переодели в широкие солдатские плащи, затем провели одного за другим перед эшафотом, в то время как в огромный костер бросали их форму, знаки отличия, ордена. После чего поодиночке они вошли в крепость.
И тогда пятеро смертников появились на помосте.
Толпа, находившаяся на расстоянии ста шагов от приговоренных, не могла разглядеть их черты, к тому же осужденные были одеты в серые плащи с опущенными капюшонами.
Они поодиночке поднялись на помост, потом встали на скамьи, установленные под виселицей, в том порядке, который был определен приговором. Первым на крайнюю левую от зрителей скамью взошел Пестель. Затем Рылеев, Сергей Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин и, наконец, на крайнюю правую — Каховский.
Их шеи обкрутили веревкой, и, то ли по невежеству, то ли из жестокости, петли были накинуты поверх капюшонов, что продлевало муку удушения до того момента, пока не переломится шейный позвонок.
Исполнив это, палач удалился.
Сразу же после его ухода помост провалился у них из-под ног.
И тут произошло нечто ужасное.
Тела двух висевших по краям эшафота— Пестеля и Каховского — остались висеть, медленно лишаясь жизни.
Но трое других выскользнули из петель и упали вниз вместе со своими скамьями.
Хотя русский народ не отличается особой экспансивностью, иные зрители не смогли сдержать крика ужаса или даже сострадания.
Но были ли случайными наблюдателями те, кто проявил свое сочувствие при виде пытки, не предусмотренной приговором, причиненной жестокостью или неумением палачей?
К смертникам направились конвоиры.
Первым из преждевременной могилы был извлечен Муравьев-Апостол (у казнимых были связаны руки, и они не могли сами помочь себе).
— О, Господи,— произнес он, снова увидев свет,— согласитесь, тяжело умирать дважды только за то, что мечтал о свободе для своей страны.
Он спустился с помоста, сделал несколько шагов и остановился в ожидании.
Вторым был Рылеев.
— Взгляните только, чего стоит народ-раб!— произнес он.— И повесить-то не умеют!
И направился к Муравьеву.
Затем появился Бестужев-Рюмин; при падении он сломал ногу. Его перенесли к двум сподвижникам.
— Значит, так определено свыше,—сказал он,—ни в чем нам не повезло, даже в смерти!
И улегся возле них, не будучи в силах стоять на ногах.
Император находился в Царском Селе, куда ему каждые четверть часа направляли рапорты о свершении казни. Но таким пустяком, как
три гнилые веревки, его не сочли нужным обеспокоить. Пусть те, кто так рассудил, терзаются вечными угрызениями — вдруг, узнав об оплошности, невиданной в истории казней, каменное сердце дрогнуло бы и смилостивилось.
Но нет: помост установили вновь, заговорщикам вновь накинули веревки на шею, и вновь, на этот раз прочно, затянулся ужасный шнур.
И души троих казненных, принявших мученическую смерть, последовали за душами их двух товарищей.
Куда? Один Господь знает.
ЗГНАННИКИ
ы далеко не все рассказали о скорбной истории 14 декабря и только воскресили завершающий ее момент. Последуем за другими заключенными в места их ссылки.
Сколько неслыханных страданий каждому из них пришлось пережить, какое необыкновенное самопожертвование проявили они. В России, вероятно, о них узнали бы лет через десять; но император Александр П опередил время: сердце у него было не только справедливое, но сострадательное и нежное. Я могу это сказать, могу писать об этом, имею право так думать, хотя я его не видел и с ним не говорил.
Вы должны знать, что из политических, осужденных в течение долгих тридцати лет царствования, он помиловал всех, кто еще оставался в живых.
Разумеется, тридцать лет — долгий срок, но при жизни императора Николая I великий князь Александр был лишь первым подданным своего отца.
Лишь Бог может судить о правлении царей. Кто может знать, сколько за тридцать лет угнетения было погублено идей свободы на земле и в сердцах?
127
Кто знает, во что превратится Сибирь, орошенная слезами и потом свободолюбивых людей? А вдруг в один прекрасный день Иркутск и Тобольск станут столицами двух республик?
Итак, мы хотели последовать за ссыльными.
Их посадили в телеги, по четыре человека на каждую; ноги заковали в кандалы. Раны, которые эти кандалы причинили ногам Пущина, до сих пор не зажили. И всех выслали в Сибирь.
Они отправились шестого августа; семьи князя Трубецкого и князя Сергея Волконского ожидали на первой остановке, чтобы проститься.
Женам разрешили следовать за мужьями.
Император проявил необъяснимый интерес к судьбе жены Николая Муравьева, урожденной графини Чернышевой, и княгини Трубецкой, урожденной Лаваль. Госпожа Муравьева ответила просто:
— Пропади он пропадом!
Княгиня Трубецкая сказала:
— Передайте ему, что я чувствую себя хорошо и прошу как можно скорее предоставить мне паспорт.
Кроме дам, которых мы назвали, просили и получили разрешение следовать за мужьями Александра Муравьева, Нарышкина и жена князя Сергея Волконского;1 последняя утаила свое решение от семьи, боясь, что ей помешают исполнить его. Для благородных женщин было великой радостью и счастьем стать избранными Богом для облегчения участи своих мужей. Рассказывали, как мать княгини Трубецкой наставляла дочь:
/J)
ß
C\vi
ж
i
b ii\
m
m
f
^)V4
— Если ты разумна, то поедешь в Сибирь.
Самопожертвование было поистине героическим, ведь их предупредили, что по прибытии в Иркутск у них отнимут все вещи и распустят слуг.
Чтобы привыкнуть к невзгодам, эти дамы за несколько недель до отъезда вместо бархата и шелка стали одеваться в грубые ткани, исполнять самую черную работу своими холеными белыми руками, заниматься стряпней на кухне с большим рвением, чем когда-то игрой на фортепиано. Они ели только хлеб и кашу, пили лишь квас, чтобы еще во дворцах привыкнуть к простой еде, как руки их привыкали к черной работе.
Разве Библия не повествует о бедняках, изгнанных из земного рая: «Вы будете есть свой хлеб в поте лица своего»2.
Вровень с этими проявлениями благородства можно поставить трогательную судьбу молодой француженки, мадемуазель Полины Ксавье;* мы уже можем назвать ее имя. Полина Ксавье любила графа Анненкова, одного из ссыльных. Несчастье, ссылка и женитьба в период ссылки освятили их союз. Она продала все, что у нее было, и собрала две тысячи рублей. С этими деньгами она собиралась отправиться в путь, но их у нее украли.
В Санкт-Петербурге жил человек по имени Гризье. Дорогие читатели, вы его знаете; многие из вас были его учениками. Этот человек
* Об этой очаровательной женщине и ее муже графе Анненкове я написал исторический роман «Учитель фехтования». Они оба прожили 30 лет в ссылке и вернулись в Россию. Как знать? Может быть, я их увижу. (Примем, авт.)
V»J
а,'
«ft
%
'($)
$<(
Щ
)ij
у£
ш
к
i *
I
5 Л. Дюмл. т 2
129
был учителем фехтования и у графа Анненкова. Он помчался к своей бедной отчаявшейся соотечественнице, положил на стол перед ней тысячу рублей,— все, что у него было,—оставив себе только рубль на расходы. Все его ученики были богаты, и Гризье надеялся добыть денег. Бог не даст умереть с голоду тем, кто разорился, совершая такие поступки.
Император Николай узнал о преданности Полины Ксавье и о несчастье, которое с ней произошло; узнал, что она колебалась принять деньги от Гризье, боясь его разорить. Император Николай послал Полине Ксавье три тысячи рублей3.
Этим поступком император показал себя непреклонным, но великим. Он не был таким, каким считали его подлецы при жизни, не был таким, каким его после смерти изображала ненависть погубленного им поколения. Он был таким, каким его судят последующие поколения.
! Обвинения Николаю I, с его железным характером, покажутся еще более тяжкими, если роставить его рядом с двумя очень человечными фигурами: братом Александром I и сыном Александром II.
Осужденные, как мы уже говорили, были отправлены на телегах, они лежали на соломе, закованные в кандалы. Нужно самому перенести путешествие в такой ужасной повозке, чтобы понять, что должны были они вытерпеть во время пути в семь тысяч верст по разбитым дорогам, на которых телеги при малейшем дожде увязали по ступицы.
Когда проехали озеро Байкал, похожее скорее на море, их собрали в Чите, в Ингоде. Здесь климат несколько менее суров, чем в других районах Сибири, с 1830 года макси-
№
W
к ж
ш
1*Г&
т
ш
ъ
У/*
ш
А
'i/
i^â)
ж
Z^A
\$U'i
мум холода не опускался ниже двадцати восьми градусов, а самая высокая температура летом 1843 года не превысила тридцать один градус.
Участь их делало более сносной их содружество, содружество интеллигентных людей: они страдали по одной и той же причине и могли общаться, говорить о своих надеждах и мечтать о приходе свободы если не для себя, то для своей страны.
Им, в отличие от других ссыльных, оказывали уважение.
Да будет благословение Неба на тех, кто, пренебрегая своими обязанностями, закрывал глаза на некоторые вольности. Ссыльным не разрешалось получать книги, перья, бумагу, жечь свечи по вечерам, но к нарушению этих правил власти относились снисходительно. Каторжные работы были для них не столь тяжелыми; понимали, что есть разница между простыми ворами и убийцами и политическими' заговорщиками. Им предоставили достаточно свободного времени, чтобы иметь возможность основать школу — память об этом продолжает жить в умах и сердцах местных жителей.
После нескольких месяцев разлуки жены присоединились к мужьям. С этого времени для тех, кто обрел дорогих подруг, ссылка стала менее тяжелой.
Что же касается семейств, то император не допустил, чтобы их привлекли к какой-либо ответственности.
Накануне своей смерти Пестель ответил отцу очень сурово*.
* — Почему ты вступил в заговор, несчастный? — спросил старший Пестель у сына.
— Чтобы в России не было таких чиновников, как вы, отец. (Примеч. авт.)
Император Николай призвал к себе отца Пестеля, который из-за взяток потерял место губернатора Сибири, и пожаловал ему пятьдесят тысяч рублей (двести тысяч франков в наших деньгах), чтобы избавить от затруднений, в которых тот находился. Он снял с Песте- ля-старшего недоимки за дворцовую землю, которой покойный Александр I разрешил ему пользоваться в течение двенадцати лет. Наконец, он взял к себе адъютантом брата Пестеля4.
Почему же непреклонная беспристрастность Николая I никогда не переходила в снисходительность? ^Откуда эта терпимость к брату Пестеля, это великодушие по отношению к его отцу и откуда эта суровость по отношению к другим?
Например, по отношению к Батенькову.
В числе заговорщиков мы назвали Батенько- ва; запомните это имя; он — мученик. Сильвио Пеллико и Адриан в сравнении с ним почивали на розах.
Сначала мы расскажем, кем был Батеньков, откуда он происходит, какая судьба привела его к заговорщикам, какая звезда вовлекла в этот водоворот. Расскажем, почему он страдал и как он страдал.
В России мало законоведов; в этой стране абсолютизма, где защиты обвиняемого не существует, где нет публичных судебных разбирательств, где законом является император, законоведы не только редки, но и почти бесполезны.
В начале века появился один из таких редких, как фруктовое дерево в пустыне, людей. Звали его Сперанский. Он был сыном попа, единственным талантливым человеком, может быть, даже более чем талантливым — гением,
1
который вышел из среды православного духовенства.
Фамилия его значит «Надежда», нетрудно заметить, что фамилия «Сперанский» образована от слова «эсперанс».
Юный Михаил Михайлович — Надежда — в добрый час был отправлен в семинарию, закончил учебу в Санкт-Петербургской духовной академии и показал такие математические способности, что в двадцать один год был назначен преподавателем точных наук и физики в школе при Александро-Невской лавре.
Одновременно он давал уроки в доме князя Алексея Куракина.
Благодаря покровительству этой могущественной семьи Сперанскому удалось сменцть духовную карьеру на государственную.
Он делал большие успехи, скорее благодаря своей работоспособности, светлому уму и умелому использованию законов, чем благодаря покровительству князя.
В 1801 году в возрасте тридцати лет Сперанский получил чин государственного секретаря. В 1803 году князь Кочубей, глава Министерства внутренних дел, поручил ему организацию министерства. В 1808 году он был включен в комиссию по кодификации русских законов, учрежденную еще Екатериной И, а в 1804 году обновленную и переданную в Министерство юстиции, и назначен директором канцелярии этой комиссии.
Наконец, в 1809 году он получил чин тайного советника.
Александр оценил этот выдающийся ум. Он часто встречался со Сперанским, давал ему советы в трудных случаях, охотно вопринимал его идеи и оказывал ему безграничное доверие. Убежденный в необходимости улучшения ад-
министративного аппарата, он начал реформы, которые, к сожалению, пытались проводить одновременно и во множестве; тем не менее их результаты сказались в духовных училищах, в реорганизации Совета империи, душой которого стал Сперанский, в финансах, находившихся в тяжелом положении из-за слишком большой эмиссии бумажных денег, наконец, в системе налогов, которая была изменена.
Сперанский сделал проект гражданского кодекса. Он набросал основы кодексов коммерческого и уголовного, стремился распространить реформу на все законодательство; предложил план реорганизации Сената.
Целью Сперанского было лучшее будущее России. Казалось, такое множество идей не могло родиться в голове одного человека и не могло быть одним человеком осуществлено.
Император наградил это усердие, пожаловал Сперанскому орден Святого Александра Невского на ленте. Это был апогей его славы.
Мы говорили о трудностях изживания зло- I употреблений в России: только тронь одного j из виновных — остальные начинают с негодованием кричать в защиту. В России злоупотребле- : ния —святой ковчег: кто заденет его, тому не- 1 сдобровать.
Сперанского обвинили в подделке подписи императора с целью получения денег из казначейства. Сперанский был поражен как ударом грома. Немилость оказалась внезапной, падение — глубоким.
В марте 1812 года, когда он выходил из Зимнего дворца, где работал с императором, его арестовали, посадили в карету, ожидавшую у входа, и отправили в Нижний Новгород. От- туда после прихода в Москву французов он
был переведен в Пермь; ему даже не дали проститься с дочерью.
Так отомстил за себя многоголовый дракон злоупотреблений.
В 1813 году Сперанский послал императору прошение, где писал, что живет в большой бедности и буквально умирает с голоду.
Это обращение тронуло Александра своей безыскусностью. Человек, подделавший подпись своего императора для получения денег в казначействе, не мог нуждаться и умирать с голоду через год после проступка.
Учредили расследование. Сперанский был нищ, как Иов, и к тому же находился в ссылке. Если Иов спал на гноище, то оно по крайней мере было его собственным. У Сперанского не было даже собственного гноища для спанья.
Александр назначил Сперанскому небольшую пенсию.
Странное это дело — милость повелителей. Император признал, что человек, который был изобличен, изгнан, осужден как вор, как взяточник, потерял положение, должности — был невиновен. И вместо того, чтобы вернуть ему все, что он потерял, чтобы публично оправдать его,—жалует маленькую пенсию.
Только спустя два года после признания его невиновности Сперанский получил возможность вернуться в свое маленькое имение в окрестностях Новгорода.
Вы, быть может, подумали, что он там интриговал, строил козни, заговоры? Как бы не так! У него были другие дела: он переводил «Подражание Христу»5.
В 1816 году император издал указ; ниже следует если не текст, то смысл указа: «Услышав о тяжелом обвинении против Сперанского в момент отъезда в армию, я не имел возмож-
ж
I
т
Ш
Ш
к
ности подвергнуть это обвинение тщательному расследованию. Тем не менее факты были столь весомы, что немедленное удаление обвиняемого от дел казалось мне мерой, диктуемой осторожностью. Впоследствии, после расследования, когда факты преступления не подтвердились, я назначил Сперанского гражданским губернатором Пензы».
Сперанский, очень довольный, вступил во владение своим островом Баратария6.
Император чувствовал вину перед Сперанским и добавил к губернаторству в Пензе еще семь тысяч десятин — четырнадцать тысяч арпа- нов земли.
Наконец, в 1819 году Сперанский поднялся еще выше по служебной лестнице: ему поручили исполнять обязанности губернатора Сибири.
Там умный человек встретил равного себе по интеллекту; он, энергичный труженик, нашел помощника, также способного работать без отдыха, —молодого человека двадцати пяти лет от роду, по имени Батеньков.
Сперанский предложил Батенькову поступить под его начало, тот принял предложение.
Сперанский сделал его своим секретарем. Бедный Батеньков!
В 1821 году, после десятилетнего отсутствия, Сперанский вернулся в Санкт-Петербург.
Император принял его так, словно вовсе на него не сердится, и это уже было много. Деспоты с большим трудом признают свои ошибки. Император возвратил Сперанскому место в императорском совете; его план в отношении Сибири был принят и начал выполняться, а его труды о законах были продолжены.
Александр умер. Произошло восстание декабристов.
ь,
гf*
ш
tb
ш
м
5?
к
i
т
Ш
Ж
VA
Батеньков был осужден и включен во вто рую категорию, то есть в число 38 приговоренных к смертной казни и получивших взамен каторжные работы. Но он не был сослан вместе с другими в Сибирь, а был посажен в одну из темниц равелина Святого Алексея. На каком основании? А дело вот в чем: Батеньков был больше чем секретарь, он был друг Сперанского.
Император Николай подтвердил все, что его брат сделал для знаменитого законоведа, использовал его в своих интересах, но, говоря политическим языком, не доверял Сперанскому. Императору казалось, что тот был в той или иной степени причастен к декабристскому заговору.
Надеялись, что Батеньков, знавший все тайны Сперанского, получит свободу, погубив своего покровителя.
Питавшие такую надежду не знали Батень- кова.
Его поместили в одиночную камеру строгого надзора.
Сколько же лет, думаете вы, наш герой там провел? Двадцать три года.
В течение двадцати трех лет он оставался в сырой камере, расположенной ниже уровня Невы, не имея возможности ни с кем говорить, не видя живой души, за исключением тюремщика или, вернее, тюремщиков, ибо их было трое7.
По прошествии одиннадцати лет ему дают трубку, через тринадцать лет — Евангелие, а по прошествии двадцати трех лет — уже через девять лет после смерти Сперанского — открывают ворота темницы.
Но он так привык к темнице, что не хотел ее покидать.
«
>>)
ш
щ
rjh
№
J/M
)l ta
t
m
Шч
Когда он слупил во двор, то, ослепленный светом, со слезами упал на колени, прося отвести его обратно в тюрьму.
Он с трудом находил слова, чтобы выразить свои мысли.
Он разучился говорить!
Даже теперь, то есть после десяти лет свободы, Батеньков говорит только по необходимости и с большим трудом; даже теперь на столе у него трубка и Евангелие, которые ему пожаловал милосердный монарх — трубку через одиннадцать лет, а Евангелие — через тринадцать.
Самое счастливое для него время — когда он курит трубку или читает Евангелие8.
Спуститесь в бездну, куда Данте поместил осужденных, и прикиньте, сколько должен был страдать Батеньков, чтобы обрести такое счастье.
А теперь поведаем о глубоком уважении, кое либеральная молодежь Санкт-Петербурга и, как уверяют, Москвы и всей России питает к декабристам: так называют заговорщиков 1825 года, и мертвых, и живых.
Отношение к живым — восхищение и симпатия, отношение к мертвым — культ.
Император Александр II сделал все, что сыновняя любовь позволила ему сделать — он возвратил живых.
Когда-нибудь Россия воздвигнет памятник покаяния убиенным.
У нас также были сержанты Ла Рощели и мученики монастыря Сен-Мэри9.
МПЕРАТОР НИКОЛАЙ
ы помните: что я остановился перед крепостью, когда шел обедать на Михайловскую площадь. Но так как по дороге от крепости до Михайловской площади нужно перейти Троицкий мост, у нас будет время немножко поговорить. Побеседуем об императоре Николае и поступим так же, как египтяне, которые, прежде чем хоронить своих покойников, говорили о том, что в них было хорошего и что плохого.
Поколение, которому сейчас от тридцати до сорока и которое испытало гнет долгого царствования, душой и телом вздохнуло свободно только с воцарением императора Александра II. Те люди не смогли бы высказать суждение о Николае I—-личности, во всем противоположной Петру I. Это поколение не судит, а осуждает, оно не оценивает, а проклинает.
Один из тех, кто принадлежал к поколению, заключенному в военную шинель, как Батеньков в Алексеевс- кий равелин, показал мне четыре барельефа Николаевской колонны, из которых один изображает восстание 14 декабря, второй — восстание в Польше, третий — холерный бунт и четвертый — восстание в Венгрии.
139
— Четыре восстания,— сказал он,— так и прошло все царствование императора Николая1.
То, что сказал этот душитель восстаний по поводу бюста Иоанна III, доказывает, что он жестоко раскаивался, что подавил последнее. Это стоило ему власти над молдаво-валахскими провинциями2.
Один из друзей князя Меншикова, который не видел его три или четыре года, встретился с князем после его возвращения из Севастополя и обратился к нему со словами, которые обычно говорят в России после долгой разлуки:
— Много воды утекло с тех пор, что мы не виделись.
— Да,—ответил Меншиков,— а вместе с ней «утек» и Дунай.
Император Николай, по счастью для него, не видел, как утек Дунай. Он умер как нельзя более вовремя. Многие даже говорили, что он сам выбрал и назначил час, когда ему умереть.
Это не верно: император Николай умер естественной смертью. Однако же ужасное разочарование, причиненное ему нашими победами при Альме и Инкермане, в его смерти сыграло большую роль.
Прежде всего скажем, что большинство из того, в чем упрекают императора Николая, происходит из-за чрезмерного значения, которое он придавал своим правам и своему долгу.
Никто больше его не верил в свое право на неограниченную власть, никто, как он, не считал себя обязанным защищать монархизм повсюду в Европе.
Его тридцатилетнее царствование было беспрерывной охраной самодержавия. Блюститель законной власти европейских королей, он, как те часовые, которые наблюдают за возникновением пожаров во всех городах его империи и сразу же подают сигнал, возвещающий о бедствии, не только подавал сигнал о начале революций, но и всегда готов был задушить их, будь то у себя или в другой стране.
Ненависть к политическим возмущениям и к их последствиям заставила его ответить Луи-Филиппу и Наполеону III двумя письмами, которые укрепили наш союз с Англией, всегда готовый развалиться под давлением национальной ненависти.
Император Николай, человек ограниченный, упрямый, жестокосердный, не понимал, что каждый народ, если только он не беспокоит соседа и не угрожает ему, свободен делать у себя все что пожелает. Глядя на карту своей огромной империи, видя, что она одна занимает седьмую часть мира, он решил, что другие народы всего лишь колонии, находящиеся на его территории, и захотел давить на них так, как давил на немецкие колонии, просившие его гостеприимства.
Посредственный дипломат, он не понял, что естественным союзником России была Франция3.
С нашей стороны король Луи-Филипп поддался семейным традициям. Дипломатический прецедент он увидел в четырехстороннем договоре, заключенном кардиналом Дюбуа во время регентства его прадеда. Он забыл, что речь шла о чисто личном, эгоистическом, заключенном в силу обстоятельств договоре. Троны Европы были заняты королями, царствовавшими
по божественному праву. В одной лишь Англии царил узурпатор Вильгельм III, который только что сверг своего тестя Якова И.
А каково же было положение регента? Все законные наследники кородя Людовика XIV умерли, кроме семи- или восьмилетнего короля Людовика XV, который был такого слабого здоровья, что в любой момент мог тоже умереть. Регент, как первый принц крови, был наследником короля.
Но у этой короны было два претендента, которые не позволили бы регенту легко надеть ее на голову.
Одним из претендентов был герцог дю Мэн — его Людовик XIV прочил себе в наследники в случае, если прервется законная линия.
Этого претендента нечего было особенно бояться, потому что парламент не признал завещания Людовика XIV.
Но оставался Филипп V, герцог Анжуйский, которого Франция сделала королем Испании и который, несмотря на то, что отказался от короны деда, не отводил глаз от Версаля.
Это был серьезный претендент. Враги герцога Орлеанского,— как у всех людей умных, прогрессивных и способных на риск, у него их было много,—враги герцога Орлеанского составляли во Франции значительную партию, которая взяла на вооружение слово «законность» и уничтожила герцога словом «узурпация».
Впрочем, у кого бы французский узурпатор мог просить помощи? Только у английского узурпатора. Все другие короли были бы на стороне Филиппа V.
Следовательно, союз с Англией объяснялся обстоятельствами, был личной договоренностью между двумя принцами, из которых один
I
SÄ
ш
ft ш!
уже совершил узурпацию, а второй только еще обдумывал.
Союз этот не имел никакого отношения к европейской политике. Король Луи-Филипп попался на удочку и в течение восемнадцати лет покорно терпел все унижения, каким его подвергала Англия,
Но что больше всего отвращало императора Николая от контактов с нами — это боязнь проникновения революционного духа; ведь он считал себя архангелом, ниспосланным, чтобы искоренить подобное зло.
И он провел тридцать лет, так сказать, во всеоружии, считая себя солдатом, но и на всех русских глядя, как на солдат, и создавая солдатчину в гигантских масштабах.
Его царствование было военным. Все были солдатами в России, и те, кто не носил пого- нов, презираемые императором, были презираемы всеми.
Один из двух сосланных Пущиных, тот, который еще сейчас перевязывает раны, натертые кандалами в 1825 году, состоял на штатской службе. Он был одним из пяти, кого император сам допрашивал во время следствия.
— Впрочем,— сказал ему Николай I,—чего можно ждать от человека, который, будучи дворянином, избрал такую жалкую карьеру?
— Я не думаю,—ответил Пущин,— что карьера может быть жалкой, когда имеешь честь служить Вашему Величеству.
При Николае I, правившем треть века, было всего две серьезные войны — одна в начале, другая в конце царствования. Оно прошло в беспрерывных парадах, которыми император командовал сам. Часто он устраивал учения, выбирал кого-нибудь из своих генералов и на-
DÏ
Ь)
щ
Щ(
Sr\vk
(Гу
W
и
4
до
te) & VJ &
mi
€
w
143
падал на него, а победив, так же гордился своей победой, как если бы одержал верх в настоящей войне.
Однажды, подобно Коммоду, боровшемуся в Колизее с галлом, который вел себя не так рабски, как другие, и, повалив императора на спину, приставил ему острие меча к горлу, Николай I столкнулся с генералом, отнесшимся к делу серьезно. Он победил царя, окружил и взял в плен.
Это был генерал Николай Муравьев.
Николай I осыпал его комплиментами, но два дня спустя Муравьеву пришлось подать в отставку.
Позже император сменил гнев на милость, назначил его командиром отдельного корпуса гренадеров, потом своим наместником на Кавказе. Именно этот генерал взял Карс.
Лермонтов служил в гвардии, когда написал свои первые стихи. Император вызвал его к себе.
— Мне докладывали, сударь, что вы пишете стихи?
— В самом деле, Ваше Величество, иногда случается.
— На это есть особые лица, милостивый государь. Моим офицерам незачем заниматься поэзией. Вы поедете воевать на Кавказ, это будет более достойное для вас занятие.
Лермонтову только того и нужно было. Он поклонился, уехал на Кавказ и там, глядя на величественную горную цепь, где был прикован Прометей, написал свои лучшие стихи.
Другой поэт, который, может быть, пошел бы дальше Лермонтова, дальше самого Пушкина, написал стихи под названием «Машка», то есть Мария.
Но имя Мария по-русски имеет четыре варианта, и у каждого свое значение.
Маша или Машенька имеют положительный смысл. Но когда Мария превращается в Машку, слово совершенно меняет окраску и относится уже не к девственнице, а к проститутке.
Следовательно, Полежаев совершил преступление, написав стихи под названием «Машка».
Император, узнав об этом, вызвал его к себе и приказал прочесть эти стихи.
Полежаев повиновался.
Император слушал, мрачно нахмурив брови, потом, когда поэт кончил читать, вызвал стражу и приказал отдать Полежаева в солдаты.
В России это делается очень быстро.
Полежаева отвели в полицейский участок, посадили на табурет, обрили ему голову, ударили в лоб, надели на него серую шинель, и все было кончено.
Но, прежде чем покинуть кордегардию, где совершалась экзекуция, он нашел возможность написать на стене стихи, перевод которых я привожу:
О ты, который возведен Погибшей вольности на трон Иль, просто говоря,
Особа русского царя
Поймешь ли ты, как мудрено Сказать в душе: все решено! Как тяжело сказать ему: «Прости, мой ум, иди во тьму»; И как легко черкнуть перу: «Царь Николай. Быть посему...»
Полежаева увезли на Кавказ, и он там был убит.
Николай безгранично верил в свое предназначение, это придавало ему удивительную смелость: царь был более чем смел, он был отважен. Лицо у него было прекрасное, рост внушительный, взгляд пламенный, движения величественные, пред ним не возникало преград, они исчезали, стоило ему появиться.
Четырнадцатого декабря, не боясь пуль, он стоял за тридцать шагов от восставшего полка.
Во время холерного бунта 1831 года, когда народ, веря, что воду отравляют немцы и поляки, учинил резню на Сенной площади, царь вскочил в свою коляску и в сопровождении одного только графа Орлова въехал в самую гущу дравшихся, выскочил из экипажа, поднялся на крыльцо церкви и оттуда крикнул громовым голосом:
— На колени, несчастные! На колени и молитесь Богу!
Ни один не остался на ногах, все опустили головы, а убийцы склонились ниже остальных.
Восстание было подавлено, быть может, зачинщики и не раскаялись, но они были укрощены.
Традицией или скорее манией царской семьи была простота военной одежды; ее придерживались и Павел, и Александр, а Николай возвел в культ эту традицию: все знали, что шинель у него в заплатах. Однажды императрица, стыдясь его столь поношенной одежды, подарила мужу роскошную шубу; он надел ее только один раз, чтобы доставить ей удовольствие, потом подарил лакею. В то время, когда он был еще великим князем, императрица, сама бывшая тогда великой княгиней, вышила
ж
I
№
¥
ш
n
ш]
ему домашние туфли; он носил их до самой смерти, тридцать три года.
Когда Николай хотел вознаградить за что-нибудь одного из сыновей, он позволял ему спать вместе со своим псом Гусаром на полу возле своей кровати, подстелив ту самую старую шинель4.
Гусар, любимец императора Николая, был старый и грязный серый спаниель. Он не отходил от императора и пользовался всеми привилегиями избалованной собаки.
За завтраком император всегда выпивал чашку чаю и съедал три сухаря. Однажды, играя с Гусаром, он постепенно скормил ему все три сухаря и позвонил, чтобы принесли другие. В буфете точно знали, что император по утрам съедает только три сухаря, и хотя в годовом бюджете императорского дома эти три сухаря составляли две тысячи рублей, во дворце в тот день оставались только те три сухаря, которые съел Гусар, и пришлось кому-то из людей верхом поехать на другой конец Невского проспекта к булочнику, у которого имели обыкновение эти сухари покупать.
Если ему не возражали, император мог быть чрезвычайно терпеливым, но всякое сопротивление, даже если оно исходило от бездушного предмета или животного, лишало его рассудка.
Одна из его лошадей, которую он очень любил, была страшно упрямая. Однажды, когда император собрался ехать на ней принимать парад, она ни за что не давала оседлать себя. Разгневанный император закричал: «Соломы! Соломы!» Он заставил набить конюшню соломой и поджег ее.
Непослушная лошадь была сожжена живьем.
Николай I ненавидел ложь. Он иногда про- щал виновного, если тот признавался в своей вине, но никогда не прощал того, кто лгал, все отрицая.
Он в высшей степени уважал закон.
Одна из самых знатных дам его окружения, близкая родственница Паниных, была судима Государственным советом за убийство: в приступе гнева она убила двух своих крепостных.
Государственный совет, приняв во внимание преклонный возраст и прославленную фамилию Г., решил послать ее на покаяние в монастырь.
Николай написал под рапортом совета:
«Перед законом нет ни преклонного возраста, ни прославленной фамилии; я ношу прославленную фамилию и все-таки рабски следую закону. Закон требует, чтобы всякое убийство было наказано каторгой. Г. должна быть отправлена на каторгу.
Быть посему. Николай».
Капитан Виоле — по его фамилии видно, что это был француз, служивший в России, отправился выполнять поручение, данное ему самим императором.
У него, как у всех чрезвычайных курьеров, была «подорожная», то есть право брать лошадей на почтовых станциях, если они там имелись, а если их там не было, их должны были искать на других станциях.
Так как Виоле находился в пути и днем и ночью, за поясом у него были заряженные пистолеты.
Он прибыл на станцию, где не было лошадей; их пришлось взять с соседней станции; капитан воспользовался этой невольной задержкой, чтобы спросить себе чашку чаю.
Пока он пил чай, а его кибитку запрягали, прибыл какой-то генерал и потребовал лошадей. Ему ответили, что лошадей нет.
— А те, которых запрягают в эту кибитку, для кого они?
— Для офицера, посланного в качестве курьера, Ваше Превосходительство.
— Какой у него чин?
— Капитан.
— Распрягай лошадей и запрягай в мою коляску, я генерал!
Капитан все слышал. Он вышел в тот момент, когда начальник уже повиновался генералу и распрягал лошадей, чтобы перепрячь их в его коляску.
— Простите, Ваше Превосходительство! Я обращаю ваше внимание, что чин у меня не высокий, но я еду по личному приказанию Его Величества, меня должны обслуживать прежде всех, прежде генерала, маршала или великого герцога. Будьте добры вернуть мне лошадей.
— Вот как! А если я не верну их, что ты мне сделаешь?
— Воспользуюсь своим положением и согласно данным мне инструкциям возьму их силой.
— Силой?
— Да, Ваше Превосходительство, если вы принудите меня пойти на эту крайность.
— Наглец! — воскликнул генерал. И залепил французскому капитану пощечину. Капитан вытащил из-за пояса пистолет и выстрелил в упор.
Генерал упал мертвым.
Капитан Виоле взял лошадей, выполнил данное ему поручение и, вернувшись, предстал перед правосудием.
Дело доложили императору.
— Пистолеты были заряжены? — спросил он.
— Да.
— Они были у него за поясом?
— Да.
— Значит, он не заходил в комнату, чтобы взять их, прежде чем выстрелить?
— Нет.
— Значит, он действовал непреднамеренно. Я его помилую.
И он не только помиловал капитана, но при первом же случае дал ему чин капитан-лейтенанта.
В отношении военной формы требования императора доходили до мелочности.
После удачного дела генерал *** был вызван к императору с Кавказа. Пока он добирался в Санкт-Петербург — около тысячи верст по Волге,— по приказу Николая вся армия надела прусскую каску.
Генерал***, которого забыли предупредить об этом приказе и который о нем ничего не знал, явился к императору в треуголке.
Николай, увидя его в приемной, пошел к нему, намереваясь обнять, но вдруг заметил, что генерал держит в руке треуголку; он пошел к кому-то другому, словно не видел генерала.
Генерал явился назавтра. Та же игра со стороны императора; на следующий день — то же самое.
Он вышел в отчаянии, думая, что попал в немилость, и тут встретил приятеля, которому рассказал про свою неудачу.
— И ты не сделал ничего, что могло бы обидеть государя?
— Нет.
— Ничего не говорил против него?
— Ведь я люблю его всем сердцем.
— Значит, что-то неладно в твоей форме.
Друг осмотрел его с ног до головы
и всплеснул руками.
— Я понимаю, черт побери!
— Что!
— Ты идешь к императору в треуголке, когда армия уже целую неделю носит прусскую каску. Выброси свою треуголку в Неву, друг мой, и купи себе каску.
Генерал последовал совету друга и на следующий день явился на аудиенцию в каске. Император хвалит его, обнимает и награждает звездой Александра Невского.
Только один человек в империи был в этом отношении еще более требовательным, чем император: великий князь Михаил.
Кауфман, сын генерала, командующего Кильской крепостью, офицер, ученик Высшего инженерного училища, переходил улицу, направляясь к товарищу, чтобы вместе с ним заниматься. Воротник у него был расстегнут. К своему несчастью, он встретил великого князя Михаила, и тот на пять лет разжаловал его в солдаты саперных войск.
Двое молодых офицеров направлялись в баню, надев шинель поверх рубашки. Они встретили императора и уже думали, что пропали. Но царь был в хорошем настроении.
— Проходите скорей,— приказал он, когда молодые люди попытались приветствовать его,— следом идет Михаил!
Непреклонная воля, которую Николай проводил в политике, сказывалась во всей его жизни. Он разрешал строить церкви только из-
бранного им стиля. Царь ошибочно полагал, что этот стиль византийский, на самом деле он был барочным. Первый образец ему предложил архитектор Тонн: император нашел проект превосходным и объявил, что отныне все церкви будут строиться только в этом стиле.
В течение тридцати лет так оно и было.
Зодчие надеются, что эта архитектура исчезнет вместе с ним.
Николай как никто имел право считать свое мнение неоспоримым, потому что ни у кого не было столько подлых льстецов. Однажды во время гололеда он упал на углу Малой Морской. Сопровождающий его адъютант нарочно упал на том же месте. Никто не имел права быть более ловким, чем император.
Однажды утром он велел ввести к себе князя Г., начальника почтового ведомства и камергера, как только тот придет. Дежурный офицер, рабски следуя приказу, ввел князя в спальню императора в тот момент, когда он снимал рубашку.
Император в шутку бросил рубашку князю.
Князь Г. упал на колени.
— Ваше Величество,— сказал он,— я прошу у вас великой милости: разрешения быть похороненным в этой рубашке.
Такая милость была ему обещана.
Но император умер, а князь Г. еще жив.
Иные утверждают, что князь даже не знает, куда дел рубашку, которая должна была послужить ему саваном.
Николай I шутил редко, однако же запомнились две или три его остроты.
Когда он велел поставить на Аничковом мосту четыре бронзовых скульптуры лошадей, на
крупе одной из них нашли следующую надпись:
Барон фон Клодт приставлен ко кресту За то, что на Аничковом мосту На удивленье всей Европы Он выставил четыре голых...
Начальник полиции доложил об этом императору, и тот приписал под четверостишием:
Сыскать мне сейчас же пятую...
И расписать на ней Европу.
Быть посему.
Николай.
Однажды в Москве во время посещения театра император увидал в первых рядах партера графа Самойлова, знаменитого своим остроумием, храбростью, беспечностью и силой.
Император не любил Самойлова, который, как Алкивиад, восхищал придворных и горожан своими эксцентричными выходками. Он был настолько обаятелен и мил, что его улыбку ценили как подарок.
Будучи адъютантом Ермолова, Самойлов отличился храбростью во время войны на Кавказе. Император приблизил его, но не взял с собой, когда сам поехал на Кавказ.
Самойлов попросился в отставку и получил ее. Он проводил лето в Москве, а зиму в Санкт-Петербурге.
В тот вечер Самойлов был еще эксцентричнее, держался еще небрежнее и свободнее, чем обычно. Он встал так же, как и все, когда в ложу вошел император, но, как только царь сел, снова развалился в кресле, принялся играть лорнетом и красоваться.
В тот вечер играл Ленский.
Ленский был актер, одаренный восхитительным талантом подражания.
Император вызвал к себе режиссера и приказал, чтобы на следующий день дали пьесу, в которой Ленский сыграл бы комическую роль в костюме Самойлова, подражая его повадкам, его манере говорить и загримировавшись под него.
Режиссер передал Ленскому приказание царя и выбрал подходящий спектакль.
К началу представления император и Самойлов были на своих местах.
Когда Ленский вышел на сцену, все зрители вскрикнули, до того это была точная копия Са^ мойлова, а когда он заговорил и стал двигаться, восхищение еще усилилось, потому что создавалось впечатление, что это говорит и движется Самойлов.
Император дал знак аплодировать, и весь зал разразился аплодисментами. Самойлов кричал «браво» вместе со всеми и, казалось, целый вечер забавлялся вовсю.
После спектакля он направился за кулисы и вошел в уборную Ленского в тот момент, когда актеру передавали от императора тысячу рублей.
— Вы были очаровательны, дорогой Ленский,— сказал граф артисту,— это был я с ног до головы, жесты, интонация, манеры... Однако же чего-то не хватает в вашем костюме: вот этих трех бриллиантовых пуговиц. Может быть, они недостаточно хороши, но, каковы бы они ни были, я дарю их вам.
Он отцепил пуговицы от своей рубашки и отдал Ленскому.
V Пуговицы стоили двадцать тысяч рублей.
Летом, каждое утро, император Николай вставал в четыре часа. Зимой — в пять либо в шесть. Часом позже он совершал прогулку по Адмиралтейскому бульвару. Никто не должен был приближаться к нему под угрозой ареста.
Однажды царь встретил нашего соотечественника, Верне, актера Французского театра в Петербурге. Остановил его, поговорил о новой пьесе, которую должны были играть в театре в тот вечер, спросил, кто автор пьесы, хороша ли роль у Верне.
Как только Верне отошел от царя, его тотчас арестовали полицейские, никогда не терявшие императора из виду.
Вечером император идет в театр, садится в царскую ложу, ждет представления пять минут, а занавес не поднимается. Он посылает адъютанта узнать, что происходит. В ложу приходит режиссер и, весь дрожа, сообщает, что с господином Верне что-то случилось серьезное, он не явился в театр,—ездили к нему домой и узнали, что его с восьми часов утра нет.
— Как! — сказал император.— Я его встретил утром и разговаривал с ним.
— Вы с ним разговаривали? — спросил граф Орлов.
— Да, говорил о сегодняшнем спектакле.
— Ах вот как, тогда я знаю, где он.
— И где же?
— Да, Боже мой, он арестован!
Граф Орлов отдал приказ своему адъютанту; десять минут спустя раздаются три удара, занавес поднимается, и актер Верне появляется на сцене.
В первом антракте император идет к Верне за кулисы, выражает сожаление о том, что
произошло, и спрашивает, чем он может быть полезен.
— Ваше Величество,— отвечает Верне,— будьте так добры, не оказывайте мне чести разговаривать со мной, если когда-нибудь меня встретите.
Мы сказали, что императора всегда сопровождали полицейские.
Однажды зимним утром он заметил, как один из них сходит с изящных дрожек и идет следом, одетый в хорошую шубу, в то время как на Николае, как всегда, старая шинель.
Он делает полицейскому знак подойти, тот повинуется.
— Я уже не в первый раз вижу вас, сударь,— сказал император.
Полицейский поклонился.
— Кто вы такой?
— Квартальный надзиратель Зимнего дворца.
Чин квартального надзирателя соответствует нашему полицейскому комиссару.
— Какое у вас жалованье?
— Двести рублей, Ваше Величество.
— В месяц?
— В год, Ваше Величество.
— Почему же вы так хорошо одеты?
— Потому что я считаю, государь, что человек, приставленный к Вашему Величеству, должен быть достойно одет.
— Значит, вы воруете, как все остальные?
— Простите, Ваше Величество, я предоставляю это моим начальникам.
— А как же вы устраиваетесь?
— Мне дают, Ваше Величество.
— Вам дают?
— Да, я квартальный надзиратель самого лучшего квартала Санкт-Петербурга, а значит, и самого богатого. Я старательно слежу и днем и ночью за спокойствием, за порядком, за удобствами своих подопечных. Я стучу в окна будочникам, которые сидят в своих будках, вместо того чтобы дежурить на улице, подымаю уснувших караульных. Короче говоря, за шесть лет, что я надзиратель этого квартала, здесь не было ни одной жражи, ни одного происшествия. В результате мои подопечные мне благодарны, и они привыкли два раза в год, каждый по своим средствам, делать мне маленькие подарки.
— Так что благодаря этим маленьким подаркам ваше жалованье в двести рублей превращается в три или четыре тысячи?
— Больше, Ваше Величество.
— Так, так!
— Приблизительно вдвое больше.
— Ну, хорошо, идите.
Квартальный надзиратель отдает честь и уходит.
Вернувшись во дворец, император приказывает собрать по всему кварталу Зимнего дворца сведения о квартальном надзирателе. Повсюду его хвалят за сметливость и честность, а что касается вознаграждения, которое получает полицейский, то императора убедили, что все дают добровольно и что, как он и сказал, он принимает, но ничего не требует.
На следующий день, когда квартальный пил чай, к нему пришел фельдъегерь. В России те, кому фельдъегерь оказывает честь своим посещением, всегда пугаются: ведь это фельдъегерь сопровождает ссыльных в Сибирь.
ц
Квартальный надзиратель встает и ждет, что будет дальше.
— Вам от государя,— говорит фельдъегерь, подавая ему пакет.
И уходит.
Квартальный разворачивает пакет, находит там две тысячи рублей, и записку, написанную рукой императора:
«Владелец Зимнего дворца в благодарность за заботы своего квартального надзирателя».
И каждый год, до самой своей смерти, квартальный надзиратель получал от императора такое же вознаграждение.
В другой раз Николай I увидел, что к нему направляется какой-то человек лет шестидесяти, у которого на ленте висит пряжка* безупречной службы с цифрой двадцать пять. Этот человек идет нетвердой походкой, теряя равновесие.
Император подзывает его:
— Вы пьяны, сударь.
— Увы, Ваше Величество, боюсь, что это так.
— Зачем же вы выходите из дому в таком состоянии?
— Я должен быть на службе в девять часов, Ваше Величество.
— На службе? Так знайте же, сударь, если человек имеет честь носить такую пряжку, какую носите вы, он не должен напиваться.
— Ваше Величество, мне не повезло, в первый раз в жизни это случилось со мной, я ничего не пью, кроме воды.
* Чиновники, чья служба безупречна, носят на черно-желтой ленте медную позолоченную пряжку, на которой обозначено, сколько лет они прослужили. (Примен. авт.)
158
Ь;
C\vi
— Вы никогда ничего не пьете, кроме воды?
— Вот почему я опьянел после двух или трех рюмок вина, которые выпил. Злополучная свадьба!
— Вы были на свадьбе?
— Ваше Величество, я был посаженым отцом и не мог отказаться, меня заставили пить против воли.
— Вы правду говорите, сударь?
— Честное слово, Ваше Величество.
— Хорошо! Пусть это останется между нами, возвращайтесь домой и проспитесь.
— А как же служба, Ваше Величество?
— Сообщите мне вашу фамилию, где вы служите и ни о чем не беспокойтесь.
Человек, счастливый, что так дешево отделался, поворачивается и, уже наполовину отрезвевший, направляется к своему дому.
На следующий день начальник полиции приходит к царю с докладом.
— Что нового? — спрашивает Николай I.
— Ничего серьезного, Ваше Величество. Маленькая тайна, раскрыть которую можете только вы, Государь.
— Какая?
— Вчера полупьяный человек подошел к Вашему Величеству на Адмиралтейском бульваре.
— Вчера на Адмиралтейском бульваре я подошел к полупьяному человеку.
— Этот человек был арестован на углу моими людьми, которые хотели свести его в участок, как нарушившего правило, запрещающее приближаться к Вашему Величеству. Но он защищался как дьявол, говоря, что император дал ему строгий приказ, и если мы помешаем
159
V.
i
$
ему исполнить повеление, то будем отвечать за последствия. Он так кричал и шумел, что полицейские наконец решили отвести его ко мне. Я хотел узнать, какой приказ Ваше Величество ему дали, но он твердил одно: «Царь сказал мне: «Пусть это останется между нами». Так как слова этого человека звучали столь искренне, я приказал полицейскому сопроводить его и выяснить, что он станет делать.
— Ну, так что же он стал делать? — спросил Николай.
— Он вернулся к себе домой, снял одежду так быстро, как будто она горела, и сразу же лег в постель, словно ему не терпелось лечь. Десять минут спустя он уже храпел. Сомневаюсь, чтобы Ваше Величество дали такой приказ.
— Вы ошибаетесь. Я сказал: «Иди домой и проспись».
— Но ведь он, кажется, мог бы сообщить мне об этом?
— Нет, не мог. Простив ему, что он напился, я сказал: «Пусть это останется между нами».
— Ну, тогда другое дело,— смеясь, ответил начальник полиции.
— И так как я со своей стороны, — продолжал император,— велел осведомиться о нем в его департаменте и получил отличные сведения, проследите — и пусть это останется между нами,—чтобы его повысили в чине, наградив орденом.
Человек с пряжкой был повышен в чине и награжден орденом.
Однажды утром царь увидел похороны бедного разряда: за гробом шел лишь один человек с непокрытой головой.
ш
%
фл
ф
wS
г/д
Л
ж
160
1. Троицкий мост.
Литография Т. Шумана. 1830—1850-е гг.
2. Домик Петра I. Литография 1826 г.
3. Внутренность домика Петра I в настоящем его виде. Рабочий кабинет государя, называвшийся у современников его «токарною».
Гравюра Л. А. Серякова. По рисунку А. Н. Нисченкова. Вторая половина XIX в.
4. Троицкий собор бургской стороне, 10 июля 1711 года.
Гравюра К. Вейерма ку А. Н. Нисченкова. ловина XIX в.
на Петер- освященный
н. По рисун- . Вторая по-
5. Императрица Елизавета Петровна.
Гравюра на дереве Э. Дам- мюллера. По рисунку К. С. Брожа с гравюры Вагнера. XVIII в.
6. Граф Бурхард Христофор Миних.
Литография П. Иванова. 1840 г.
7. ФЛАВИЦКИЙ К. Д. Княжна Тараканова. Масло, холст. 1864 г.
8. Император Александр I.
Литография 77. Боре- ля. 1860-е гг. С оригина- ш Дог-Райта. 1825 г.
9. Император Николай I.
Гравюра Ф. Крюгера. 1838 г.
10. Император Александр II.
Фото. Конец XIX в.
11. Гуляние на Царицыном лугу в Санкт-Петербурге в день совершеннолетия... цесаревича и Великого князя Николая Александровича 8 сентября 1859 года.
Литография В. Тимма. 1859 г.
12. Приветствие народа за освобождение крестьян 19 февраля 1861 года.
3 о
Jr R
’■Q» .oo
Q 01*^ CV, Q .
C ï 5D
[g § §
^ Ci, k
13. Евгений Петрович Оболенский.
Фото А. Кенига. Начало 1860-х гг.
14. Сергей Петрович Трубецкой.
С акварели Н. А. Бестужева. 1839 г.
15. Александр Александрович Бестужев (Марлинский).
Неизвестная гравюра. 1839 г. С автопортрета А. А. Бестужева. 1833 г.
16. Нанесение смертельной раны графу Милорадовичу 14 декабря 1825 года.
Гравюра по рисунку А. И. Шарле маня. 1862 г.
18. МАНИЗЕР Г. М., ТАБУ- РИН В. А. Декабристы.
Фототипия с гравюры В. Л. Линтона. 1855 г.
17. КОЛЬМАН К. И. 14 декабря 1825 года на Сенатской площади.
Акварель. 1830-е гг.
19. Павел Иванович Пестель.
Фототипия К. Фишера. Конец XIX — начало XX в.
20. МАЗИНЕР Г. М., ТАБУ- РИН В. А. Сергей Иванович Муравьев-Апостол.
Фототипия с литографии А. Скино. Около 1857 г. С акварели Н. И. Уткина. 1815 г.
21. КИПРЕНСКИЙ О. А. Кондратий Федорович Рыле- ев. 1820-е гг.
Бумага, карандаш.
22. Михаил Павлович Бестужев-Рюмин на допросе. Фрагмент.
С рисунка А. А. Ивановского. Бумага, картон. 1826 г.
24. Михаил Михайлович Сперанский.
Литография П. Боре ля. С оригинала Доу-Райта. 1825 г.
23. Петр Григорьевич Каховский.
Неизвестный художник. 1820-е гг.
25. Гавриил Степаноьич Батень- ков.
Фото Е. И. Якушкина. а 850 * гг.
26. Иван Александрович Анненков.
Фототипия с литографии П. Смирнова 1861 г. По портрету О. А. Кипренского. 1923 г.
27. Анненкова П. Е.
Художник Бестужев Н. А. Бумага, акварель. 1840-е гг.
Император обнажил голову и тоже пошел за гробом. По пути он спросил человека, отдававшего покойному последний долг:
— Кого хороните?
— Кассира Управления, Ваше Величество.
— Кассир? А умер бедняком?
— И еще каким. Я, его брат, хороню его на свои деньги, но ведь я тоже бедный и не могу совершить обряд побогаче, как вы сами видите, Ваше Величество.
— Значит, твой брат был честный человек?
— Я не знал никого честнее.
— Он оставил семью?
— Жену и четверых детей.
— Твоя фамилия и адрес?
Служащий сообщил фамилию и адрес. Император записал эти сведения и продолжал идти за гробом.
Но так как многие узнали царя, то, когда они подошли к мосту, за гробом уже шло две тысячи человек.
Император остановился и, повернувшись к тем, кто следовал за ним, сказал:
— Братья, замените меня.
И вернулся в Зимний дворец.
На следующий день семья покойного получила пенсию, а его брат был повышен в чине.
Смерть императора Николая достойно увенчала всю его жизнь.
Как он умер? Отчего? Вот вопросы, которые возникают, когда думаешь о безвременной кончине, которую ничто не предрекало.
На эти вопросы дают два различных ответа.
Вот что говорят открыто.
После подавления восстания в Польше, после сокрушения Венгрии император Николай был убежден, что ничто в Европе не может
J
%
Т$)
ш
ч^)
J
)iï
та
к
{La
ï
к
7 А Дюма, т 2
161
противостоять ему. Он с нетерпением ждал сообщений из Крыма, уверенный, что ему донесут об уничтожении английской и французской армий. Ему доложили: прибыл курьер. Царь позвал его к себе, доверчиво улыбаясь. Курьер, падая от усталости, проехав три тысячи верст на перекладных, вручает царю депешу.
— Что,— спросил император,— их уничтожили?
— Извольте прочесть, Ваше Величество,— сказал курьер.
— Победа неполная?
— Читайте, Ваше Величество.
— Отвечайте мне, сударь, я прочту потом.
— Ваше Величество, вы разбиты.
— Где?
— При Альме.
Император, смертельно побледнев, вскочил с кресла.
— Ты лжешь,— сказал он.
Курьер поклонился.
— Читайте, Ваше Величество.
Николай раскрыл донесение и прочел.
Это был отчет о сражении. Меншиков ничего не скрывал. Французы и англичане победили.
Царь упал в кресло, словно подкошенный.
Через месяц пришло известие о битве при Инкермане.
Человек, который прежде никогда не встречал сопротивления, испытал теперь не только сопротивление с двух сторон, но и двойное поражение.
Он не смог перенести превратностей судьбы. С того часа его здоровье расстроилось, а 18 февраля 1855 года он пал под бременем своего пошатнувшегося величия.
ь.
А вот что говорят на ушко.
Действие этих двух известий и в самом деле было ужасно, но атлетическое здоровье императора выдержало. Тогда он принял последнее, героическое, страшное решение — решение умереть.
Если бы он продолжал жить и сопротивляться, он свел бы на нет величие тридцатилетнего царствования, он втянулся бы глубже в эту войну, он разорил бы Россию.
Но мир, который он сам заключить не мог, мог быть заключен его преемником.
Тогда Николай, путем долгих уговоров, добился от своего врача, который сопротивлялся целых два месяца, чтобы тот дал ему такую дозу яда, после которой он смог бы еще прожить несколько часов. Доктор уехал из Санкт-Петербурга 17 февраля, с письменным заявлением императора, которое полностью охраняло его от наказания.
Восемнадцатого утром император якобы принял яд.
Приняв яд, он позвал великого князя Александра, ныне царствующего, и все рассказал ему. Тот закричал, вскочил, хотел позвать на помощь, но император удержал его таким решительным жестом, что, будучи сыном и подданным, великий князь не посмел ослушаться своего отца и суверена. Тогда император Николай объяснил ему все: и причины, и разумную необходимость своей смерти.
Молодой человек, с разбитым сердцем, со слезами на глазах, слушал все это, стоя на коленях, и повторял:
— Отец! Отец!
Лишь получив от сына согласие не идти наперекор судьбе, царь отпустил его.
à
i
№
il
Ccv
¥
163
Ч)
У
Великий князь между тем собрал всю семью и вызвал трех врачей. Будучи благочестивым и верным сыном, он из сыновней любви изменил обещанию, данному отцу.
Врачи явились слишком поздно.
После довольно легкой агонии император скончался 18 февраля 1855 года в двенадцать часов двадцать минут.
В России сменился не только глава государства, сменилась и политика. Если эта последняя версия правдива, почему открыто не провозгласят ее? Она противоречила бы христианским чувствам, зато величием превзошла бы всю жизнь Николая I.
Теперь те, кто прочел только поведанное мною, могут судить об императоре Николае сами.
Я слышал* как матери и сыновья проклинали его; я видел, как мужчины и женщины его оплакивали.
ОРЫ И ОБВОРОВАННЫЕ
бед на Михайловской площади для меня представлял большой интерес, потому что туда были приглашены мои знакомые и соотечественники, тогда как для вас, дорогие читатели, он совсем неинтересен, поскольку за исключением волжской стерляди за пятнадцать рублей и блюда земляники за двадцать, такое меню охотник до лакомств мог бы заказать у Филиппа или у Вюильмо,— словом, разрешите мне не говорить об этом обеде, лучше расскажу о других, гораздо более интересных вещах: позвольте рассказать вам о воровстве.
Но не о таком, когда у вас из кармана тащат часы или кошелек — в этом отношении русские воры ничуть не ловчее наших; и не о биржевой игре на повышение или понижение, не о кражах, совершаемых коммандитными товариществами или анонимными обществами, не об утайке доходов от железной дороги: ничего такого еще не существует в России, и я думаю, что в этом отношении никто, кроме американцев, не может нас ничему научить. Я буду говорить о кражах спартанского типа, совершаемых на виду у всех, о кражах с патентом, по поручению правительства, с полномочиями, предоставленными импера-
165
I
тором. Александр I говорил о своих подданных:
— Эти молодцы украли бы у меня корабли, если бы знали, куда их девать.
Именно это случилось с императором Николаем; правда, у него не крали кораблей целиком, а лишь разворовывали их по частям.
Восьмого апреля 1820 года, приблизительно через шесть месяцев после восшествия на престол, император Николай, принимая парад в Царском Селе, вдруг увидел четырех мужиков в ворсистых кафтанах, с длинными бородами, которые безуспешно и упрямо пытались приблизиться к нему.
Царь захотел узнать, что нужно этим четверым, которых все, словно сговорившись, не подпускали к нему; он послал своего адъютанта и приказал привести их.
Адъютант исполнил его приказание, и четыре мужика наконец приблизились к императору.
— Говорите, ребята,— сказал Николай.
— Нам только того и надо, батюшка, но мы хотим говорить с тобой одним.
Император подал окружавшей его свите знак удалиться.
— Говорите,— велел он.
— Батюшка, — продолжал мужик, — мы пришли рассказать тебе о неслыханном воровстве, которое творится в Кронштадте на глазах командующего флотом, брата начальника Адмиралтейства.
— Берегитесь,— сказал император,— вы беретесь обвинять.
— Знаем, что рискуем, но мы прежде всего твои верные подданные, и наш долг сказать об
V
этом деле, а если обвинение окажется ложным, ты накажешь нас за клевету.
— Я слушаю,— сказал император.
— Ну так вот: городской Гостиный двор заполнен казенным имуществом, похищенным с верфей, складов, арсеналов твоего флота. Чего там только нет: веревки, паруса, снасти, медные и железные детали, якоря, якорные канаты и даже пушки.
Император засмеялся, он вспомнил слова брата.
— Ты сомневаешься,— сказал мужик, говоривший за всех.—Так вот, только пожелай купить это добро, я устрою так, что тебе продадут его на какую пожелаешь сумму, от рубля до пятисот, от пятисот до десяти тысяч, от десяти тысяч до ста.
— Не сомневаюсь,—ответил император,— я только думаю, где они прячут все это?
— За двойными перегородками, батюшка,— объяснил мужик.
— А почему вы не сообщили об этом правосудию? — спросил император.
— Потому что воры так богаты, что могут купить правосудие. Ты бы ничего не узнал, а нас в один прекрасный день под каким-нибудь предлогом отправили бы в Сибирь.
— Берегитесь! — сказал император.— Вы отвечаете за свои слова.
Мужик поклонился.
— Мы говорим правду и отвечаем головой,— сказал он.
Тогда император позвал одного из своих адъютантов, Михаила Лазарева, которому вполне доверял, и приказал ему, взяв с собой триста солдат, незамедлительно отправиться в Кронш-
5т^
w
Л
щ
4
i
щ
Ж
i'Jk
т
тадт и произвести внезапный обыск в Гостином дворе.
Михаил Лазарев исполнил приказание, убедился в том, что крестьяне говорили правду, опечатал лавки, поставил солдат для охраны и вернулся доложить императору.
Император приказал покарать виновных по всей строгости законов.
Но следующей ночью 21 июня в кронштадтском Гостином дворе случился пожар, и полностью сгорел не только базар, но и казенные склады с веревками, пенькой и смолой.
И очень хорошо: что за идея пришла императору преследовать воров?
Он, конечно, раскаялся, что уступил этой прихоти, ибо «Петербургская газета» даже не упомянула о пожаре, который был виден со всех точек залива.
Желая узнать подробности о разных способах воровства в России, я обратился к одному из своих друзей, который обещал доставить точные сведения об исправниках и интендантах.
— А кто мне даст эти сведения?
— Они сами.
— Они сами скажут мне, каким образом воруют?
— Конечно, если вы сумеете внушить им доверие и дадите слово нигде не называть фамилий.
— А когда это будет?
— Послезавтра ко мне придет исправник, прежде .служивший становым в казенной деревне, граничащей с моим имением. Мы его как следует угостим, вино развяжет ему язык, и я оставлю вас вдвоем под тем предлогом, что
if1
&
i
rf
ÿe
(CT\V\
é'
Ï
О.
jl
era
¥
^Y1
)J
/Ä)
vv.
ж
f
l(
m
168
у меня свидание в клубе. Тут уж ваша забота— заставить его говорить.
Через день я получил приглашение к обеду от своего знакомого. Когда я пришел, исправник был уже там.
Я тщательно рассчитал дозу кюммеля, шато- икема и шампанского, которая должна была развязать язык этому человеку, не внося сумятицы в его мысли.
Я перестал наливать ему как раз вовремя, мой знакомый оставил нас, и я начал расспрашивать своего собеседника; он два-три раза вздохнул и сказал меланхолическим тоном:
— Ах, братец, времена теперь не те, все не так просто, как было прежде. Крестьяне стали хитрее, и тем, кто, к несчастью, должен иметь с ними дело, приходится туго.
— Расскажите мне об этом, голубчик,— сказал я,— верьте, вы можете рассчитывать на мое сочувствие.
— Ну так вот, прежде, мой глубокоуважаемый господин, я служил в уездном городе; получал триста рублей ассигнациями (триста двадцать франков), у меня была семья в пять человек, и жил я не хуже других. Потому что в то время понимали, что честный человек, добросовестно служащий своему правительству, должен пить и есть. Теперь не то, приходится подтягивать кушак. Это называют прогрессом, мой господин, а я называю это мерзкой нуждой.
— Что вы хотите,—сказал я,— эти чертовы философы породили либералов, либералы — республиканцев, а республиканцы — это борьба со злоупотреблениями, экономия, реформы, противные, неблагозвучные слова, ко-
торые я презираю так же, как вы, если не больше.
Мы дружелюбно пожали друг другу руки, как люди, придерживающиеся единого мнения.
Тут я понял, что мой собеседник ничего не будет от меня скрывать.
— Так я сказал вам, что работал в уезде; наш губернатор был очень далеко от центра. Я называю центром Москву, потому что никогда не буду считать Петербург столицей России. Нужно было только раз в год показаться в губернском городе и свезти подарки начальству, и тогда мы могли весь год жить спокойно: нас не судили, не наказывали, никто не совал нос в наши счета, на нас полагались, и все шло чудесно. «Народ теперь меньше страдает» — говорят нам «прогрессисты». Вот еще новое слово, мой уважаемый господин, которое пришлось придумать, потому что его не было в добром старом русском языке. У чиновников теперь больше совести — говорят они; ничего подобного, просто они стали хитрее, вот и все; но чиновники всегда останутся чиновниками. Правда, мы залезаем в карман к крестьянам, но кто не грешен перед Богом и кто не виновен перед царем? Я спрашиваю вас: разве лучше не воровать и ничего не делать? Нет, деньги придают службе интерес. Прежде низшие служащие и начальство жили как настоящие братья, и это ободряло нас. Например, если случалось, что кто-нибудь проигрывал в карты две или три тысячи — это ведь может случиться с каждым, не так ли?
— Разумеется, кроме тех, кто не играет.
— А что делать в отдаленной губернии? Нужно же рассеяться, развлечься чем-нибудь!
Ну так вот, если кому-нибудь из нас случалось проиграть две или три тысячи рублей, ведь их нельзя было заплатить, получая триста пятьдесят рублей в год, не так ли?
— Очевидно.
— Ну что ж, мы шли к исправнику — я тогда не был исправником, а всего лишь простым становым1 — и заявляли ему: «Вот что с нами случилось, господин исправник, помогите нам, пожалуйста».
Тот сердился или делал вид, что сердится, и тогда мы ему говорили: «Вы, конечно, понимаете, господин исправник, что мы просим помочь не даром: всякий труд заслуживает платы, и вы получите пятьсот рублей».
«Канальи,— отвечал он,— вы не знаете, на что потратить деньги, вы проводите жизнь i в кабаках, пьете, играете в карты, лентяи вы этакие».
«Мы не лентяи,— возражали мы,— и в доказательство этого, если соблаговолите приказать нам немедленно собрать налоги, мы найдем способ выгадать для вас тысячу рублей».
«И вы думаете,— возражал исправник,— что за тысячу рублей я позволю обирать бедных крестьян, несчастных, у которых нет ни гроша?»
«Ну, хорошо, господин исправник,—говорили мы,—пусть это будет полторы тысячи рублей, и не станем больше толковать об этом».
Бывали упорные, которые требовали до двух тысяч, но в конце концов уступали: за две тысячи рублей всегда можно было устроить свои дела. Исправник отдавал приказ немедленно взымать налог,— немедленно — за одно это слово стоило заплатить хоть четыре тысячи рублей.
— Каким образом?
— Сейчас увидите.
Мы приезжали в деревню, собирали крестьян и говорили им: «Понимаете, братцы, в чем дело? Нашему царю-батюшке нужны деньги, и он просит собрать не только недоимки, но и текущий налог. Он говорит, что и так долго предоставлял вам, голубчикам, кредит, а теперь пора расплатиться».
Тут начинались жалобы и стенания, от которых смягчилось бы даже каменное сердце, но, слава Богу, нас не проведешь! Мы входили в избы, оценивали жалкое имущество, как бы для распродажи; потом уходили в кабак, предупредив: «Поторопитесь, братцы, император сердится!»
Тогда крестьяне один за другим приходили просить отсрочку: одни — две недели, дру¬
гие—три, третьи — месяц, чтобы собрать требуемую сумму.
«Дорогие земляки,— говорили мы им,—вы что думаете, мы для себя взимаем налог? Императору нужны деньги, мы ответственны перед ним; вы же не хотите, чтобы с нами случилась беда из-за того, что мы вам окажем услугу?»
Крестьяне кланялись в ноги, потом снова уходили, чтобы поговорить между собой. Они совещались час, иногда два часа, и вечером являлся староста. Он приносил по десять, пятнадцать, двадцать, двадцать пять копеек с каждого крестьянина. Деревня в пятьсот дворов приносила нам в среднем сто —сто двадцать пять рублей серебром. Десять деревень приносили тысячу пятьсот, две тысячи, три тысячи. Мы отдавали исправнику требуемые две тысячи ассигнациями, и нам еще оставалось две ты-
сячи, две тысячи пятьсот рублей серебром. Мы возвращали карточный долг, и примерно через месяц император, которому без этого пришлось бы ждать еще год или два, в свою очередь получал деньги. Всем было выгодно — и государству и нам. А что стоило крестьянину отдать на пятнадцать или двадцать копеек больше? Пустяки!
— Ну, а если среди крестьян есть такие,— спросил я,— которые и в самом деле не могут платить налог?
— Коли у них хороший барин, он за них заплатит.
— А если не хороший?
— Тогда, поскольку я жил в Саратовской губернии, я продавал этих мужиков в бурлаки.
— Но неужели это вымогательство... этот промысел,— настаивал я,— совершенно безопасен?
— О какой опасности вы говорите, уважаемый господин?
— Разве те, с кого вы взимаете налог таким образом, не могут пожаловаться?
— Конечно, могут.
— Ну, и что тогда?
— Поскольку им придется жаловаться нам, то вы понимаете, что мы не враги себе, чтобы дать ход этому делу.
— Да, действительно, понимаю. И вы говорите, что теперь это ремесло стало трудным?
— Да, многоуважаемый господин, как бы туп ни был крестьянин, он все-таки кое-чему научился. Один из этих скотов вчера рассказывал мне, что птицы привыкают к виду пугал, которых расставляют на поле, чтобы птицы не клевали зерно, и в конце концов понимают, что пугало не человек.
173
Так и с крестьянами в конце концов произошло то же, что с птицами. Они договариваются между собой: половина деревни или вся деревня объявляет, что не может платить; они обращаются к своему барину; иногда барин в милости у высокого начальства, он действует через голову исправника, обращается прямо к министру, и министр соглашается на отсрочку, в которой мы им отказывали; словом, как я и говорил, приходится изворачиваться, придумывая, чем удовлетворить наши скромные потребности.
— А можете ли вы, дорогой друг, рассказать о каких-нибудь способах, которые подсказывает вам ваша изобретательность? Сдается, вы такой молодец, которому на подобные дела хватает воображения!
— Это правда, мне не приходится жаловаться, и потом, иногда не грех воспользоваться благоприятным случаем.
— Ну, и как же помогает вам благоприятный случай?
— Ну вот, например, однажды, в речке, протекающей возле деревни, в которой я тогда жил, случилось найти новорожденного младенца. Несчастный случай или убийство, но, как бы то ни было, найден труп. Другой, менее опытный, стал бы искать виновную и шантажировать ее, угрожая выдать правосудию. Но, не говоря уже о том, что мать чаще всего бросает ребенка в воду, потому что ей нечем его кормить, даже если баба и богатая, получишь с нее немного.
— А как поступили вы?
— Очень просто. Я отнес ребенка в самую дальнюю часть деревни, поднявшись по течению реки, и это дало мне право обыскивать все
ж
1 !Я>''
^ ж ж
избы. Я точно запомнил место, где нашел ребенка, и объявил, что, дабы найти виновную, буду ходить по всем избам, от первой до последней, и осматривать груди всех женщин. Та, у которой я обнаружу молоко и которая не сможет показать живого ребенка или доказать, что он умер естественной смертью, и будет виновной. Вы знаете или, может быть, не знаете, какое отвращение вызывает у наших женщин подобная процедура; каждая заплатила, чтобы я не смотрел ее, и я на этом деле выручил тысячу рублей серебром. Затем велел похоронить ребенка, и об этом больше не было никаких разговоров. Послушайте, разве это не лучше, чем предать бедную женщину суду, чтобы она умерла под ударами кнута или была сослана на каторгу? Ведь наказание матери не вернуло бы жизнь ребенку, не так ли?
— Разумеется.
— Ну, так, значит, я действовал согласно воле Божьей.
— Я и не сомневаюсь,— сказал я,— что Бог был вам благодарен за это. Но с таким воображением, как ваше, вы, наверное, придумывали что-нибудь еще?
— Да, прошлой зимой, например, мне пришла одна идея.
— Какая?
— При тридцатидвухградусном морозе я собрал крестьян и сказал им: «Братцы, вы знаете, что император пьет только шампанское, которое выписывает из Франции. Известно, что шампанское вкусно только ледяное, поэтому он требует, чтобы ему присылали лед со всех концов империи. Мы поедем ломать лед на Волгу, а потом все, у кого есть телега и лошади, повезут этот лед в Санкт-Петербург. Но так
175
как надо быть справедливым, то одни будут ломать лед, а другие его повезут. Только, братцы, нужно торопиться, скоро лед начнет таять».
Вы понимаете, что никто не хотел ни ломать лед, ни везти его в Петербург. Но я торопил, настаивал, угрожал. Однажды я собрал крестьян и сказал им: «Друзья мои, мне пришла в голову одна мысль, которая всем вам очень понравится».
Воцарилось молчание, оно доказывало, что каждый внимательно меня слушал.
«Император требует льда, но лед — это не то, что вино, которое хорошо в одной области и никуда не годится в другой, лед — это лед, и взят ли он с Волги или в другом месте, его* качество от этого не меняется».
Все единодушно одобрили мои слова. Я продолжал:
«Так вот, вместо того чтобы ломать лед у нас на Волге, я прикажу ломать его на Ладожском озере, это ближе к Санкт-Петербургу, лед будет доставлен раньше, и доставка будет дешевле».
«Правильно! — в один голос закричали крестьяне.—Да здравствует наш становой!»
«Да здравствует наш становой!» Это легко сказать, но, чтобы ломать лед, мне нужно взять работников; чтобы свезти его в Санкт-Петербург, я должен нанять телеги и ломовых извозчиков, все это обойдется мне не меньше, чем в две тысячи рублей».
Крестьяне, которые начали понимать, чего я хочу, испустили крик ужаса.
«Самое малое, в тысячу пятьсот, если как следует поторговаться. Даю вам три дня на размышление. Не забудьте, скоро оттепель!»
Через три дня староста принес мне тысячу пятьсот рублей.
176
— Здорово придумано,— сказал я.
— Иногда, — продолжал исправник, — я оказываю им услуги. Однажды крестьянин из Савкино поджег свою деревню. Вы знаете, мой уважаемый господин, что если загорится один дом, то сгорает вся деревня.
— А почему этот крестьянин поджег свою деревню?
— Ох! Кто знает? Бывает, что какой-нибудь мужик вообразит, будто обижен своим помещиком, потому что тот обесчестил его сестру, или велел высечь жену, или отдал сына в рекруты; тогда, чтобы отомстить, он поджигает деревню, а сам становится бродягой. Так, значит, один крестьянин поджег деревню Савкино; все сгорело,— ну, хорошо. Староста пишет помещику и спрашивает разрешения рубить крестьянам деревья в его лесах. Помещик разрешает, но в лесу, находящемся за восемь верст* тогда как есть другой лес, у самой деревни. Что делают мои чудаки? Вместо того чтобы рубить нужные им сосны в лесу, который указал помещик, они рубят их в том, который ближе... В один прекрасный день, когда дома уже были отстроены — всего около двухсот домов,—прошел слух, что помещик прознал об этом и посылает управляющего проверить, так ли все было на самом деле. Вы понимаете, что лес сильно поредел — на каждый из двухсот домов пошло от шестидесяти до семидесяти сосен. Дело пахло двумястами ударами розог каждому, а для некоторых, может быть, и Сибирью. К кому они обращаются? Ко мне, поскольку знают, что я смогу что-нибудь придумать.
«Сколько у вас времени, голубчики?» — спрашиваю я.
«Месяц»,— отвечают они.
«Месяц? В таком случае вы спасены».
Тут мои негодяи запрыгали от радости.
«Да,—добавил я,— но вы ведь знаете, что хороший совет стоит дорого».
Мои молодцы продолжали слушать, но прыгать перестали.
«Он будет стоить вам по десяти рублей серебром с каждого: это даром».
Они громко запротестовали.
«Черт побери,— сказал я,—не хотите, так не давайте. Только подумайтё: у вас всего месяц. Через три дня будет слишком поздно».
. На следующий день они снова приходят I и предлагают по пяти рублей.
«Десять рублей, и ни копейки меньше».
I Назавтра они возвращаются и предлагают I по восемь рублей.
I «По десять рублей, голубчики! По десять ! рублей!»
! На третий день они приходят с десятью » рублями каждый.
«А вы ручаетесь,— говорят они,— что нам ничего не будет?»
«Ручаюсь, никто даже не заметит, что не хватает хоть одного дерева».
«А вы скажете, что нам делать, прежде чем получите от нас деньги?»
Нужно признать, что русские крестьяне чертовски недоверчивы, это неудивительно, их ведь так часто обворовывают.
«Охотно,— ответил я.—Договоримся: по де- I сять рублей с избы, если я вызволю вас из беды».
«Договорились».
«Так вот: у нас сейчас ноябрь. Слой снега на земле четыре фута. Санный путь установился. Каждая семья должна срубить в дальнем лесу столько сосен, сколько у нее пошло на по-
стройку, привезти их в ближний лес и поставить в снег на месте пней. Они, правда, упадут во время оттепели, но оттепель начнется только в мае, а когда управляющий приедет, сосны будут еще стоять».
«Это хороший совет,— сказал самый старый крестьянин,— ей-богу, хороший».
«Ну, так давайте по десять рублей с избы».
Никто не торопился доставать деньги.
«А скажите,—произнес тот же старик,— может, хватит по пяти рублей?»
«Договорились же по десять. Десять рублей или ничего».
«А теперь, когда мы получили ваш совет, что будет, если мы не дадим вам ничего? Я просто так спрашиваю, из любопытства».
«Если вы мне ничего не дадите, чудаки вы такие, вот что я тогда сделаю: когда приедет управляющий, я подойду с ним к первой же сосне и скажу ему...»
«Я же пошутил,— сказал крестьянин,— вот вам десять рублей, господин становой, и покорно благодарю».
Каждый дал мне по десять рублей. Спустя три недели сосны так же крепко стояли в ближнем лесу, как если бы их никогда не рубили. Управляющий приехал, ему показали сосны, стоявшие на своих местах, показали в дальнем лесу их пни. Он уехал, уверенный в том, что помещику сделали ложный донос, и об этом никогда больше не было речи. Год спустя меня произвели в исправники, и я уехал из Саратовской губернии в Тверскую, где живу теперь.
— А когда вы стали исправником, у вас сохранилось такое же воображение, какое было, когда вы служили становым?
— Ох, вы слишком много хотите узнать в один день! — сказал мой собеседник с улыбкой, характерной для русского чиновника.— Сам будучи исправником, я рассказал вам, что делают становые; обратитесь к становому, и пусть он вам расскажет, что делают исправники. Но все равно,—добавил он,— признайтесь, что все эти крестьяне — настоящие бандиты: если бы я не доказал им, что хитрее их, они бы украли у меня мои две тысячи рублей!
АТОРЖНИКИ
осле станового я обещал вам рассказать об исправнике, но позвольте мне приберечь исправника на потом: у нас еще будет случай с ним встретиться. Не бойтесь подождать немного — вы ничего не потеряете.
Сегодня я сведу вас в одну из петербургских тюрем; завтра партия каторжников отправляется в Сибирь, поэтому поспешим.
Становой рассказал нам о своих подвигах— теперь я попрошу заключенных рассказать об их преступлениях. Быть может, вы найдете связь между плутнями одних и преступлениями других.
Я попросил у начальника полиции позволения посетить тюрьму и побеседовать с несколькими приговоренными к каторге. Он не только разрешил мне это, но предоставил в мое распоряжение проводника, у которого был приказ к начальнику тюрьмы.
Я условился встретиться с этим человеком в десять часов утра в кафе на Невском проспекте. Когда я прибыл туда, он меня уже ожидал.
Мы сели в дрожки и отправились в путь.
181
Тюрьма находилась между Гороховой улицей и Вознесенским проспектом; вскоре мы прибыли туда. Мой проводник представился и показал приказ начальника полиции. Позвали тюремного надзирателя со связкой ключей, и мы пошли за ним по коридору. Он открыл дверь, ведущую на винтовую лестницу. Мы спустились по ней ступеней на двадцать. Надзиратель открыл другую дверь, ведущую во второй коридор. По стенам сочилась вода, было ясно, что мы в подвале. Затем он спросил, какого именно арестанта я хотел бы видеть. Мой проводник, прекрасно знавший французский язык, перевел вопрос.
Я сказал, что не знаю никого из них и хотел бы войти к любому, приговоренному к каторге.
Тогда открыли первую попавшуюся дверь. П( ~
У тюремщика был фонарь, а я и мой про- j водник держали в руках по свече. Поэтому | в небольшой камере, куда мы вошли, стало j совсем светло. j
Тут я увидел на скамье, достаточно широкой, чтобы ночью служить постелью, а днем сиденьем, маленького худого человека с блестящими глазами и длинной бородой. Волосы его были обриты на затылке и коротко обстрижены на висках.
В стену была вделана цепь, она заканчивалась кольцом, охватывавшим ногу узника выше щиколотки.
Когда мы вошли, он поднял голову и, обращаясь к надзирателю, спросил:
— Разве сегодня? Я думал, что завтра.
— Нет, вы отправляетесь завтра,— ответил надзиратель.—Но вот этот господин осматривает тюрьму, он даст тебе две копейки на вод-
182
ку, если ты расскажешь, почему тебя приговорили к каторге.
— За это мне ничего не надо. Я же признался и могу повторить этому барину все, что говорил судье.
— Ну так рассказывай.
— Это совсем не трудно и будет не долго. У меня жена и четверо детей; я как раз только что отдал им последний кусок хлеба, как пришел становой и сказал, что царь-батюшка ведет великую войну и потому пора платить налог. Мне полагалось уплатить рубль семьдесят пять копеек. Я объяснил становому, в какой бедности мы живем, показал ему пустую избу, жену и детей в лохмотьях и попросил отсрочки.
«Царю некогда ждать»,— ответил он.
«Но что же делать, Господи»,—взмолился я, сложив руки.
«Что делать? — откликнулся он.—Я-то знаю, что делать. Прикажу, чтобы тебе на голову лили по капле ледяную воду, пока не заплатишь».
«Вы, конечно, можете замучить меня до смерти, но что из этого выйдет? Я все равно не заплачу, а моя жена и дети помрут».
«Становитесь на колени, дети,— говорит жена,— и попросите господина станового хоть немного повременить. Может, ваш отец найдет работу и тогда заплатит налог государю».
И дети встали на колени вместе с женой.
Чтобы не оставалось сомнения в правдивости рассказа заключенного, я прервал его и обратился к переводчику:
— Я думал, что каждый помещик обязан дать семейному крестьянину шесть десятин пахотной земли и две десятины лугов исполу, то есть с тем, чтобы крестьянин отдавал половину своего урожая помещику.
— Да, если у помещика есть земля, но бывают бедные помещики, у которых и для себя земли не хватает, они не могут раздавать ее, тогда они отдают своих крестьян в батраки. Вот он-то и есть такой батрак.
Затем он сказал арестанту:
— Рассказывай дальше.
— Становой не хотел ничего слушать, — продолжал заключенный,— схватил меня за шиворот и хотел волочить в тюрьму.
«Ну нет,—сказал я,—лучше я продамся в бурлаки, за меня уж всяко дадут пять или шесть рублей. Я отдам вам налог, а остальное поделим между барином и моей семьей».
«Даю тебе неделю, чтобы заплатить рубль семьдесят пять копеек, и если через неделю ты не отдашь царевых денег, то посажу в тюрьму не тебя, а твоих жену и детей».
Мой топор лежал возле печки, я покосился на него и чуть было не схватил, чтобы проломить становому голову. Я бы так и сделал, счастье его, что он ушел. Я обнял жену и детей и, когда проходил по деревне, просил, чтобы соседи не оставили их —ведь до губернии добираться два дня и столько же обратно, а за четыре дня они могли умереть с голоду. Я сказал, что решил продаться в бурлаки, и попрощался со всеми своими соседями на тот случай, если меня не отпустят домой. Все жалели меня, все проклинали станового, но никто не предложил мне денег — рубль семьдесят пять копеек, из-за которых приходилось идти в бурлаки. Горько плача, я отпраййлся в путь. Я шел пешком уже два или три часа, когда встретил мужика из нашей деревни, по имени Онисим. Он ехал на телеге. Мы не очень с ним дружили, и я молча
ь.
прошел мимо него, как вдруг Онисим меня окликнул.
«Куда ты идешь?» — спросил он.
«В губернскую управу,—ответил я.—Хочу продаться в бурлаки».
«А зачем тебе продаваться в бурлаки?»
«Потому что я должен царю рубль семьдесят пять копеек, а их у меня нет».
«Я тоже еду в губернию».
«А ты зачем?»
«Куплю бочонок водки, как раз на рубль семьдесят пять».
И он показал мне бочонок, лежавший в телеге. Я вздохнул.
«Что ты вздыхаешь?»
«Да подумал, что, обойдись ты без водки четыре воскресенья и одолжи мне рубль семьдесят пять, которые хочешь на нее потратить, я уплатил бы становому и мне не пришлось бы продаваться в бурлаки, а моя жена и дети были бы спасены».
«Вот еще! А кто мне поручится, что ты отдашь мне деньги? Ты же бедняк хуже Иова».
«Обещаю, что буду сидеть на хлебе и воде, пока не отдам тебе долг».
«Лучше уж я буду пить свою водку, это дело вернее».
Признаться, барин, нет у нас никакого милосердия, каждый за себя, такое у нас правило, да оно и понятно, ведь мы рабы.
«Все, что я могу сделать,— добавил Онисим,— это подвезти тебя, чтобы ты в управу приехал бодрым и за тебя дали бы подороже».
«Спасибо тебе».
«Так садись же, дурень!»
«Нет».
«Садись!»
%
Я1)
ЛпГ
т
jVi
&сУ)
¥
С
\i'
€
iii
185
И тут, барин, дьявол меня попутал, в голове словно молния блеснула. В глазах потемнело, так что пришлось мне сесть на землю, иначе бы я упал.
«Видишь,— сказал Онисим,— ты не можешь идти дальше. Садись в телегу! А когда я куплю водку, угощу тебя, и ты подбодришься. Ну, садись!»
Я забрался в телегу. Но только, когда я садился на землю, я уперся рукой в камень, и сейчас он оказался у меня в руке... Теперь мы ехали по лесу; темнело. Я посмотрел на дорогу: ни впереди, ни позади никого не было... Знаю, я виновен, но посудите сами, барин, как я подумал, что, впрягшись в лямку, буду тащить баржу, а дети и жена станут кричать: «Хлеба! Хлеба!» Онисим же, словно чтобы поиздеваться надо мной, затянул какую-то песенку. Я так крепко держал камень в руке, что наверняка мои пальцы на нем отпечатались. Изо всей мочи ударил я его по затылку. Удар был такой сильный, что Онисим свалился к ногам своей кобылы.
Я выскочил из телеги и утащил его в лес. У него был кошелек, а в нем не меньше двадцати рублей. Я взял только рубль семьдесят пять и без оглядки побежал в деревню. На заре я был уже там. Разбудил станового, заплатил ему рубль семьдесят пять, взял у него квитанцию. Тут уж полгода я мог быть спокоен. Потом вернулся домой.
«Это ты, Гаврила?» — сказала жена.
«Это ты, батюшка?» — сказали дети.
«Да. Я нашел приятеля, и он одолжил мне рубль семьдесят пять, которые с меня требовал становой. Теперь мне нет нужды идти в бурлаки. Теперь только надо как следует работать,
чтобы отдать долг этому доброму мужику. Все обошлось, не горюйте».
С виду я был веселый, а на самом деле на сердце кошки скребли. Впрочем, недолго: в тот же день меня забрали. Я думал, что убил Онисима, оказалось же, что только оглушил его. Он вернулся в деревню и все рассказал.
Меня посадили в тюрьму. Я просидел там пять лет и наконец оказался перед судьями и рассказал им все. Я ожидал, что меня засекут до смерти, но потому, что я сам признался, меня не казнили, а посылают на каторгу. Нас поведут завтра, правда, сударь? — спросил преступник, обращаясь к надзирателю.
— Да,— ответил тот.
— Тем лучше. Меня посылают на медные рудники, а там, говорят, долго не живут.
Я предложил ему два рубля.
— Ох, если бы раньше вы дали мне их, когда становой надо мной издевался, допрежь того, как я пытался убить Онисима.
Надзиратель открыл нам другую камеру. Она была точно такая же, как та, что мы уже посетили. Заключенный сидел на такой же скамье, таким же образом прикованный к стене такой же цепью, но это был молодой и красивый парень.
Мы расспросили его так же, как и первого, и он так же охотно нам отвечал.
— Меня зовут Григорий,—начал он.— Я сын богатого крестьянина Тульской губернии. Я не пьяница, не лентяй, в карты не играю. Отец и мать у меня — крепостные, но они были самыми работящими крестьянами у помещика, графа Ж., и брали исполу по многу десятин земли, нанимая батраков по соседству у мелкого помещика, у которого не хватало работы
187
для своих крестьян. У нас водились деньжата. Я полюбил дочку одного нашего соседа. Она была самая красивая в деревне.
Я, наверно, сказал, что полюбил ее. Сдается, я всегда ее любил. И когда ей исполнилось девятнадцать лет, а мне — двадцать, родители решили нас поженить.
Говорили, что граф Ж. должен вот-вот приехать к себе в поместье.
Мы долго ждали его: ведь он должен был дать разрешение на брак — без этого поп не соглашался нас обвенчать. Но вместо него явился управляющий.
Как только он приехал, мы с отцом пошли к нему. Граф дал ему все права, так что его разрешения было достаточно для того, чтобы мы могли обвенчаться.
Он принял нас хорошо и обещал нам все, о чем мы его просили.
Неделю спустя, когда он в свою очередь пришел к нам, мы напомнили ему его обещание. На этот раз он ответил уклончиво: «Посмотрим».
Мы с Варварой не очень встревожились, подумали — управляющий хочет, чтобы мы заплатили ему рублей сто.
Мы обратились в третий раз, но он ответил грубо:
«А военная служба? О ней вы не подумали?»
«Так ведь мне уже исполнилось двадцать два года, и уже два года я мог бы служить, но никогда мир не собирался забривать меня в солдаты. В деревне довольно лентяев и бродяг, зачем же посылать на службу хороших работников?»
«Мир может делать что угодно, когда меня нет, но, когда я здесь, я хозяин и могу забрить в рекруты кого захочу».
Я пошел к Варваре и рассказал ей обо всем. Она была грустная и тревожилась еще больше меня. Сколько я ни расспрашивал, она ничего не отвечала, только заливалась слезами. Я не знал, как быть, чуял, что над нами нависла большая беда.
В воскресенье управляющий созвал всю деревню на сходку. Он сказал, что идет война и потому, кроме обычного числа рекрутов, надо назначить еще несколько. Вместо восьми рекрутов на тысячу крестьян царь требует двадцать три, восемь рекрутов и пятнадцать ополченцев, но только ополченцев отпустят домой сразу после войны. И он приказал старосте, чтобы тот пришел к нему составить список рекрутов и ополченцев.
Я побежал к Варваре. Она горько плакала.
«Ох, уж наверняка этот проклятый управляющий забреет тебя».
«Кто тебе сказал?»
«Никто. Заяц перебежал дорогу».
Больше я от нее ничего не добился.
В тот же день староста объявил список назначенных на военную службу. Варвара не ошиблась. Меня не было среди рекрутов, но я был пятым в списке ополченцев.
Я вернулся домой убитый горем. Отец был у управляющего. Предлагал ему выкуп. Тот отказался.
Отъезд был назначен через день.
Накануне мы с Варварой пошли в поле, где в детстве играли, собирали цветы. Чтобы дойти туда, надо было пересечь деревянный мост через глубокую речку. Варвара остановилась по-
среди моста и с грустью смотрела на быстрое течение реки. Там, внизу, был омут. Я видел, как по щекам ее текли слезы и одна за другой падали в бездну.
«Слушай, Варвара,—сказал я,— ты от меня что-то скрываешь».
Она не ответила.
«Признайся»,— повторил я.
«Вот что, Гриша, мы с тобой больше не увидимся».
«Это почему? Я ведь не рекрут, а ополченец. Война кончится, и мы разойдемся по домам. Ведь не всех убивают на войне, многие возвращаются. Вот и я вернусь, Варвара, через год или два. Я тебя люблю, ты меня любишь, потерпи, подожди, и мы еще будем счастливы».
«Мы больше не увидимся, Григорий»,— еще раз повторила она.
«Но почему ты так думаешь?»
«Если ты меня любишь, знаешь, что тебе надо сделать?» — сказала Варвара и кинулась ко мне на грудь.
«Если любишь?» И ты еще спрашиваешь!»
Я обнял Варвару. Она же не сводила глаз с омута.
«Ты должен бросить меня туда,— сказала Варвара,— чтобы я не досталась другому».
«Какому другому! Не понимаю. Почему другому?»
Она молчала.
«Ну говори же!»
«Значит, ты ни о чем не догадываешься?»
«А о чем?»
«Не догадываешься... Нет, лучше молчать, будь что будет!»
«Говори, раз уж начала».
«Ох, Господи, Господи!» —И она разрыдалась.
«Варвара, клянусь тебе: коли ты не скажешь мне всего, я сейчас же на твоих глазах брошусь в омут. Если уж все равно судьба тебя потерять, так уж лучше разом покончить».
«Смерть твоя не избавит меня от позора и не отомстит за него».
Я был вне себя.
«А, ты начинаешь смекать,— сказала она.— Я ему нравлюсь, он хочет взять меня в полюбовницы. Потому тебя и забирают в солдаты, что он на меня зарится: я отказала ему. Если бы я согласилась, тебя бы не забрали».
«Ох, подлец!»
Я озирался, словно что-то искал.
«Чего ты?» —«А вот что!»
Крестьянин, ранее чинивший мост, оставил топор в бревне.
«Григорий, что ты хочешь делать?»
«Клянусь Пресвятой Богородицей, Варвара, он умрет от моей руки».
«Но если ты убьешь его, убьют и тебя!» — «А мне все равно!» — «Григорий!»
«Я поклялся,— вскричал я, размахивая топором,—и сдержу слово, а убьют меня, ну и пусть! Буду ждать тебя там, где рано или поздно мы все встретимся!»
И я бросился к деревне с топором в руках.
«Григорий! — крикнула Варвара. — Ты и
впрямь решился?»
«Решился!»
И я побежал дальше.
«Ну тогда ждать тебя буду я! Прощай, Григорий!»
Я обернулся, и волосы у меня стали дыбом. Я увидел, как что-то мелькнуло во мраке,
191
ь.
if
II
ж
Ш!к
и услышал падение тела в воду... Кто-то крикнул: «Прощай!» Я посмотрел на мост. Там никого не было... А после этого я уже не помню, что происходило, очнулся в тюрьме. Я был весь в крови. Наверное, я убил его. Ох, Варвара, Варвара! Недолго тебе ждать!
И, бросившись лицом на скамью, парень в отчаянии зарыдал.
Надзиратель открыл нам еще одну дверь, и мы вошли в третью камеру.
В ней сидел человек лет сорока, мускулистый, как Геркулес. Глаза и борода у него были верные. Но волосы уже поседели. Видно, он пережил большое горе.
Сначала он не хотел отвечать: говорил, что мы не судьи и что он, слава Богу, уже все рассказал; но ему сообщили, что я иностранец, француз, и, к моему великому изумлению, он заговорил на отличном французском языке.
— Тогда дело другое, месье, тем более что рассказ мой будет коротким.
Я перебил его:
— Но откуда вы знаете французский, да так превосходно?
— А очень просто. Я крепостной владельца завода. Он послал нас троих во Францию учиться в Школе искусств и ремесел в Париже. Когда мы уехали туда, нам было по десять лет. Один из нас там умер, а мы двое проучились восемь лет и вернулись домой. Мой товарищ стал химиком, а я механиком. Те восемь лет, что мы были в Париже, мы жили так же, как другие молодые люди, ничем не отличались от своих товарищей и даже забыли, что мы бедные рабы. Дома об этом быстро напомнили. Моего друга оскорбил управляющий нашего
Я
4
$
gVs
й
di
JM
f/ГсУ)
4
^Yl
)l
/Й)
w
Шё
С
192
барана. Друг ударил управляющего по лицу, а тот приказал его высечь розгами.
Через час, на заводе, мой друг положил голову под механический молот.
У меня характер был мягче, так что я всегда отделывался выговорами. И потом, я очень любил свою бедную мать и ради нее терпел такое, чего не стал бы терпеть, если бы жил один. Пока она была жива, я не женился, но вот уже пять лет, как она умерла. Я взял в жены девушку, с которой дружил уже с давних пор. Через десять месяцев после свадьбы жена родила девочку. Я обожал свою дочь.
Наш хозяин тоже любил кое-кого: свою собаку. Он выписал ее из Англии, и, кажется, она стоила очень дорого. Она родила двух щенков—кобеля и суку. Наш хозяин оставил себе обоих, чтобы развести эту дорогую породу. Но случилось несчастье: возвращаясь домой на дрожках, он не сразу заметил свою собаку, которая встречала хозяина и прыгала, радуясь его приезду. Она попала под колеса и была раздавлена.
К счастью, оставались два щенка. Но только не знали, что делать, как кормить этих дорогих собачонок, которым было только четыре дня.
И тут мой барин придумал такую вещь. Он знал, что моя жена кормит грудью свою дочь, и решил отнять у нее ребенка, отдать его на кухню и заставить мою жену кормить щенят. Жена предлагала кормить и щенят и ребенка, но он ответил, что щенкам не хватит молока.
Я, как обычно, вернулся домой с фабрики и прошел прямо к колыбели моей маленькой Катерины. Колыбель была пуста!
«Где ребенок?» — спросил я.
ш
fi
»y!
ii
J
Рк
/0
ж
fl
8 А. Дюма т. 2
193
! Жена рассказала мне все и показала щенков; они спали, насосавшись молока.
Я пошел на кухню за ребенком, вернул девочку матери и, взяв в каждую руку по щенку, размозжил им головы о стену. Через день я поджег господский дом. К несчастью, огонь перекинулся на деревню, и сгорело двести домов. Меня забрали, посадили в тюрьму и приговорили к каторге на всю жизнь как поджигателя. Вот и все, я говорил вам, что недолго буду рассказывать... А теперь, если вам не противно прикасаться к каторжнику, дайте мне руку. Мне будет приятно. Я был так счастлив во Франции!
Я взял его руку и от души пожал ее, хоть он и поджигатель. Я не подал бы руки его хозяину, хоть он и князь.
Теперь вы прочли это, дорогие читатели. Кто же настоящие преступники? Помещики, управляющие, становые или те, кого отправляют на каторгу?
РОГУЛКА В ПЕТЕРГОФ
осетив тюрьму и возвратившись к графу Кушелеву, я встретил русского писателя, который, наряду с Тургеневым и Толстым, пользуется благосклонным вниманием молодого поколения России.
То был Григорович, автор «Рыбаков». Назовем его, как принято говорить у нас: Бальзак — автор «Кузена Понса», Жорж Санд — «Валентины», Фредерик Сулье — «Мемуаров дьявола».
Кроме «Рыбаков», Григорович создал пять или шесть романов, имевших большой успех у читателей. Он говорит по-французски как настоящий парижанин.
Григорович нанес мне дружеский визит и предложил себя в полное мое распоряжение на время моего пребывания в Санкт-Петербурге.
Само собой разумеется, что я с благодарностью принял это предложение. С графом мы условились, что всякий раз, когда Григорович задержится у него в доме допоздна, он останется ночевать в одной из комнат. Это в порядке вещей: я ведь уже упоминал, что дом Кушеле- ва-Безбородко находится в восьми верстах от Санкт-Петербурга.
195
К тому же следует иметь в виду, что в России, если друг остается в доме на ночь, это не приносит того беспорядка, какой обычно возникает во Франции, где гостю непременно должны предоставить кровать или диван, матрац, простыни, одеяло, подушку. Нет! В России богатый домовладелец, такой как граф Куше- лев-Безбородко, имеющий восемьдесят слуг, любезно обращается к гостю со словами: «Уже поздно, оставайтесь у нас». Приглашенный с благодарностью отвечает: «Прекрасно»,—и все решено.
Хозяин более не занимается своим гостем. Он устроил для него роскошный обед* напоил шампанским, бордо-лаффитом, шато-икемом, вечером предложил ему чай разных сортов. До часа ночи или до двух он слушал изумительную музыку. Далее хозяин уже не уделяет ему внимания, и гость сам решает, как ему провести ночь.
Нужно сказать, что гость заботится об этом не более, чем хозяин.
Когда приходит время_ ложиться спать, он направляется в предназначенную ему комнату, осматривает все кругом, не беспокоясь о кровати,—ему это и в голову не приходит, потому что он знает, что кровати здесь нет; он ищет софу или диван, кресло, скамью; для него не имеет значения, если мебель жесткая. Нет в комнате софы, дивана, скамьи — он вызывает слугу, просит у него пальто, плащ, шубу — что попадет под руку, переворачивает стул, из спинки которого устраивает себе изголовье, ложится на паркет, накрывается одеждой и засыпает. Утром пробуждается таким здоровым, отлично отдохнувшим, как будто спал на лучшем пружинном матраце.
Спартанский образ жизни несколько вредит чистоте тела, но зато два раза в неделю предоставляется баня с паром, где. можно тщательно помыться.
В тот вечер Григорович остался в доме гостеприимного хозяина, обнаружил в своей комнате диван и расположился на нем для ночлега. Перед сном мы немножко поговорили (двери наших комнат были открыты), и мы решили, что утром совершим первую прогулку в окрестности Санкт-Петербурга. Маршрут был намечен, путь туда и обратно тщательно обозначен.
В восемь утра на небольшом катере мы подъедем по Неве к пристани, оттуда в девять часов отправимся в Петергоф на большом судне с водяными колесами. Завтракать будем в ресторане «Самсон» — подобно нашему «Тэт нуар». Мы совершим прогулку по Петергофу и его окрестностям, затем пойдем обедать к Панаеву, другу Григоровича, редактору «Современника», познакомимся там с Некрасовым, одним из известнейших поэтов молодой России, и в завершение посетим исторический Ораниенбаумский дворец, где в июле 1762 года был арестован Петр III. После этого мы возвратимся в Санкт-Петербург по железной дороге, с тем чтобы познакомиться и с сухопутным, и с морским путями.
Программа путешествия исполнялась в точности. В одиннадцать утра пришвартовались к дебаркадеру Петергофа.
Оттуда мы отправились на дрожках, на которых может уместиться только один путешественник с такой фигурой, как моя, те же, кто обладает более стройной фигурой, могут взять одни дрожки на двоих.
i «ж
jߣ
щ
■Jù[
ä
bi
tâj)
se
)jJ
\i£
О
w
fl
tl
(m
Любая женщина в кринолине должна отказаться от поездки на дрожках.
Наш экипаж доставил нас к ресторану, пользующемуся славной репутацией в Петергофе. Я уже говорил, что он называется «Самсон». Это название происходит от установленной перед рестораном небольшой фигуры-копии знаменитой статуи «Самсон», расположенной в парке посреди большого фонтана. Это древнеиудейский Геракл, разрывающий пасть филистимлянского льва.
Пока не увидишь воочию ресторана в окрестностях Санкт-Петербурга, нельзя составить понятия о том, что он собой являет.
Россия гордится своей национальной кухней — блюдами, которые могут приготовить лишь русские и никакой другой народ, потому что только в их огромной империи имеются продукты, которых нет в других странах. В числе этих блюд —уха из стерляди. Стерлядь водится лишь в водах Оки и Волги.
Русские с ума сходят по такой ухе.
Ну, а теперь приступим к рассуждениям на сей важный предмет, которые создадут мне немало противников среди подданных его величества Александра II. Откровенно выразим свое мнение об ухе из стерляди. Я убежден, что затрагиваю больное место, но ничего не поделаешь, истина дороже всего.
Опасаясь, что император не позволит мне возвратиться в Санкт-Петербург, скажу, что величайшее, а вернее, единственное достоинство стерляжьей ухи, по моему мнению, состоит в том, что летом в Петербурге она стоит пятьдесят или шестьдесят франков, а зимой — триста или четыреста. Теперь пересчитаем на рубли. Раз навсегда условимся, что рубль равен четырем франкам по нашему курсу. Эти четыре
франка, то есть рубль, имеет хождение в монетах достоинством в пятьдесят, двадцать пять, десять и пять копеек. Рубль состоит из ста копеек.
Вернемся к стерляжьей ухе, которой мы, французы, предпочитаем простую марсельскую похлебку, и объясним, почему эта уха стоит так дорого.
Дело в том, что стерлядь водится лишь в некоторых реках — я уже упомянул Оку и Волгу; она может жить только в той воде, где родится, и для того, чтобы доставить ее живой в Петербург, ее везут в этой воде.
Если ее привезут не живой, то стерлядь будет стоить столько же, сколько кобыла Роланда1, у которой был один недостаток: она была мертвая; то есть не будет стоить ничего.
Одно дело летом, когда вода, если ее не выставлять на солнце, сохраняет постоянную температуру; к тому же воду можно и освежить, если нужно, водой из тех же рек, набранной в особые резервуары.
Но зимой! Зимой, когда мороз достигает 30-ти градусов, а рыбу надо везти семьсот или восемьсот верст — расстояние мы будем теперь указывать в верстах, также как деньги в рублях; а поэтому, для удобства читателя, скажем, что верста приблизительно равна нашему километру; так вот, очевидно, что в такие морозы доставить рыбу живой — исключительно трудное дело.
В этом случае нужно обогревом поддерживать в резервуарах температуру воды от восьми до десяти градусов тепла.
В былые времена, когда не было железных i дорог, русские вельможи, любители стерляжьей ухи, имели специальные фургоны с обогреваемым садком, чтобы перевозить
'/>
стерлядь с Волги и Оки в Санкт-Петербург; по обычаю, чтобы не обманывать высоких гостей, им показывали живую стерлядь, ухой из которой они вскоре будут наслаждаться.
Так же было у римлян. Вспомните: отряды невольников переносили рыбу из Остии в Рим, сменяясь через каждые три мили; и величайшим наслаждением для настоящих гурманов было видеть, как умирали на их глазах дорады и краснобородки, теряя постепенно радужные оттенки своей чешуи.
У стерляди нет яркой чешуи, какая есть у дорады или краснобородки. Она покрыта бугорчатой шкуркой, подобно акуле. Я убеждал русских, и готов это же доказать французам, что стерлядь есть не что иное, как осетр в младенческом возрасте: accipenser ruthenus.
Мы уже упомянули, что не разделяем фанатическую любовь русских к стерляди и не считаем ее той самой рыбой, которую месье Скриб в пьесе «Немая из Портичи» назвал просто «царем морей». Рыба эта пресная и жирная, и повара не стараются подчеркнуть ее приятный вкус. К ней необходимо придумать соус, и смею предположить, что это смогут сделать только французы.
И пусть читатели не думают, прочтя эти кулинарные рассуждения — всего лишь прелюдию к гастрономической теме, что мы позволили себе попросить владельца ресторана «Самсон» подать нам стерляжью уху; мы боимся ее как чумы. Предпочитаем ей обычные щи.
Этимология слова «щи» показалась мне китайской. Это похлебка с капустой, менее вкусная, чем та, которую наш фермер посылает своим батракам на обед. Щи едят с мясом, с говядиной или бараниной, из которых они сварены. Разумеется, говядина и баранина теряют
всякий вкус. К тому же мясо, плохо вываренное или варившееся на сильном огне, остается жестким, жилистым, словом, несъедобным.
Я постарался изучить щи и могу предложить несколько способов их усовершенствования; это русское национальное блюдо и, должен сказать, единственная пища крестьян и солдат.
Итак, мы заказали щи, бифштексы, жареного рябчика и салат.
Нельзя обижаться на щедрого Бога: он создал все это в превосходном виде; но явился человек и испортил его творение.
Жареное блюдо готовится в России в печи— поэтому в России не знают, что такое жаркое.
Бриа-Саварен, отличный знаток своего дела, оставил нам такие афоризмы из области гастрономии, которые стоят «Максимов» Ларошфуко в области морали. Он сказал: «Поваром можно стать, но изготовителем жаркого надо родиться».
Было бы довольно оскорбительным для такого мастера низвести его до ранга поэтов. В России, как мне показалось, такие мастера не рождаются. Поэтому повар заставляет печь готовить жаркое так же, как природу заставили делать портреты. Ничего хорошего из этого не получилось: портреты, выполненные посредством дагерротипа, уродливы; бифштексы, приготовленные в печи, отвратительны.
Мы сетовали по поводу каждого блюда, которое нам подавали, и Григорович, не понимая наших жалоб, ибо он воспитан на русской кухне и никогда не ел ничего другого, все же передавал их обслуживающему нас официанту.
Слушая эти пререкания, которые начались с первого блюда и закончились десертом, мы
201
w
ЧЧ
смогли уловить дружескую нежность русского диалога.
Русский язык не имеет промежуточных определений. Либо ты «брат», либо «дурак»; если ты не «голубчик», значит, «сукин сын». Перевод этого слова я поручаю кому-нибудь другому.
Григорович был крайне обходителен и любезен с официантом, который нас обслуживал. Эта обходительность представляла забавный контраст в сочетании с упреками, касающимися плохого качества обеда. Он называл официанта «голубчик», «братец», к каждому обращению добавлял «любезнейший», «милейший», «дорогой мой», «добрейший», «мой хороший». Мимо рас прошла какая-то неопрятная женщина, он ! назвал ее «душенькой».
! К окну приблизился нищий, он дал ему две копейки и назвал «дядюшкой».
Робкий и покладистый характер людей низшего сословия также находит выражение в славянской речи. Народ называет императора «батюшкой», императрицу — «матушкой».
По дороге Григорович спросил у старой женщины, как пройти к нужному нам дому, назвав ее «тетушкой».
Когда знатное лицо нуждается в помощи простого человека, ласковые слова всегда наготове, но при случае оно не останавливается перед тем, чтобы его высечь.
Генерал Хрулев, готовясь к атаке, называл своих солдат «благодетелями»2.
В Симферополе в госпитале лежали русский и француз, оба раненные,— один в руку, другой в ногу. Кровати их стояли рядом; в их душах зародилось глубокое чувство дружбы. Русский учил француза своему языку, а тот учил друга французскому.
ij
202
Каждое утро, пробуждаясь, русский обращался к французу:
— Bonjour, mon ami Мишель!
С той же теплотой и братским чувством француз отвечал:
— Здравствуй, друг мой, Иван!
Когда они выздоровели и настал день расставания, оба горько плакали. С большим трудом их развели в разные стороны, и они простились.
Ассортимент ругательств столь же разнообразен, как и обороты речи, выражающие нежную любовь; никакой другой язык так не приспособлен к тому, чтобы поставить человека намного ниже собаки.
Заметьте к тому же, что это нисколько не зависит от воспитания. Благовоспитанный и утонченный аристократ выдаст «сукина сына» и «твою мать» с той же легкостью, как у нас произносят «ваш покорный слуга».
Должен признаться, что готов был наградить хозяина ресторана «Самсон» всеми грубыми словами языка русского — да и французского тоже,— когда, вставая из-за стола, определил по счету, что мы обедали, а по желудку,— что мы остались голодными; вот почему только ради любопытства, а не из гигиенических соображений мы пошли пешком в петергофский парк.
Петергоф по своему облику напоминает и английские, и французские парки, это наполовину Виндзор, наполовину Версаль. Густая тень деревьев, как в Виндзоре, фонтаны, статуи и даже карпы, как в Версале.
Эти карпы, пущенные в пруд еще во времена Екатерины, высовывают из воды свои мордочки, когда слышится колокольчик, в который звонит инвалид. Как вы понимаете, они
делают это за плату: у пруда постоянно дежурит торговка пирожными, что объясняет, с какой целью карпы устраивают подобную овацию.
Для нас это не было откровением.
Фонтенбло в этом отношении перещеголял Петергоф. Если в Петергофе карпы водятся со времен Екатерины, то в Фонтенбло — со времен Франциска I. В Петергофе даже есть свой Марли.
Подражательность — вот главный недостаток Петербурга. Его дома копируют архитектуру Берлина; местные парки похожи на парки Версаля, Фонтенбло, Рамбуйи; Нева напоминает Темзу, за исключением ледохода.
Вот почему Петербург — не Россия. Он, как сказал Пушкин, а может быть, даже сам Петр I, окно, открытое в Европу.
Что касается статуй, коснусь лишь одной — особой ценности она не представляет, но исключительно оригинальна по композиции,— это нагнувшаяся Наяда3, из урны на ее плече льется вода. Спереди все благопристойно, потому что видно, откуда берется вода, но если смотреть со спины, получаешь совсем иное впечатление, не делающее чести благовоспитанности нимфы. Вот почему по приказу администрации нимфа отныне обходится без воды.
Фонтаны в Петергофе включаются, как и в Версале, в дни больших праздников; фонтан «Самсон» соперничает с французским «Нептун», а каскад «Гладиаторы» скопирован с Сен-Клу.
Мы выразили огорчение тем, что приехали в обычный день и не смогли увидеть, как бьют столь знаменитые фонтаны. Григорович обратился к смотрителю парка, вручил ему монету
в пятьдесят копеек, на наши деньги это сорок су, и в течение десяти минут мы наслаждались зрелищем, которое, если верить традиции, в Версале каждый раз обходится в 30000 франков.
Императору Николаю I доставляло огромное наслаждение заставлять своих пажей и кадетов подниматься по лестнице с барабанным боем, преодолевая эти каскады, бьющие в полную силу4.
Мы особенно почтили вниманием удивительное дерево, каждый листок которого представляет собой небольшой фонтан. За десять копеек это дерево явило нам зрелище, в котором отказала Наяда.
Затем мы преодолели крутой склон и оказались у дворца. Это громадное желто-белое здание с зеленой крышей, повергшей в отчаяние Муане.
Мы прошли под сводами дворца и оказались в верхнем парке. Его основное украшение — огромный фонтан, а главная достопримечательность— фигура Нептуна в виде тамбурмажора: трезубец древнего божества остроумно заменяет палочку барабанщика.
Итак, мы познакомились с Петергофом; нам предстояло еще увидеть так называемые острова, расположенные поблизости.
Мы расселись на дрожках и по чудесной дороге, среди водных протоков и зеленой листвы, прибыли к главному острову, Царицыну.
Это остров императрицы-матери.
Она повелела соорудить сицилийскую виллу, как у принцессы Бушера, у которой она гостила в Сицилии; это совершенная копия, здесь все повторено, вплоть до гигантского плюща, который, так же как стерлядь, приходится обогревать зимой, чтобы он не замерз.
Парадный вход великолепен — можно подумать, будто вступаешь в атриум дома поэта в Помпее.
Внутреннее убранство в греческом стиле прелестно и выполнено с большим вкусом.
С Царицына острова мы направились к острову княгини Марии. Его достопримечательность, как сказал хранитель,— спящая Венера, которая накрыта специальным колпаком, похожим на катафалк. Колпак поднимают, и перед вами предстает богиня.
Когда мы ждем чего-то от скрытого доселе шедевра, часто постигает разочарование — так было и со статуей Бонацци5. Она недурна, но не вызывает особого восхищения. Истинный шедевр среди находящихся здесь скульптур — это «Рыболов» Ставассера. Бронзовый юноша лет 15—16 стоит по колено в воде. Он держит удочку, а на крючке бьется рыба. Поразительно, что вы не видите ни удочки, ни крючка, ни рыбы, но по содроганию губ, по взгляду, устремленному в одну точку, по устойчивому положению ног рыбака, его вытянутой руке создается полное впечатление реального поведения рыболова.
Мы вновь уселись в дрожки, закончили осмотр островов и попросили извозчика отвезти нас в Бельведер6.
Бельведер — последнее сооружение императора Николая; своей державной рукой он отливал бронзу и высекал гранит с такой же легкостью, как нынче разводят штукатурку и укладывают кирпич. К сожалению, постройка отличается тяжеловесностью, нежели тонким вкусом.
Бельведер воздвигнут на холме близ деревни Бабигон (пусть, кто может, объяснит этимологию этого названия).
206
Огромные просторы, почти подобные оке- 1 ану, расстилаются перед Бельведером. J
Именно здесь император Николай, одетый простым солдатом, императрица и великие княжны в крестьянских платьях пили чай и любовались равниной, которая тянется почти до моря. Еще одно подражание малому Трианону.
Отсюда царская семья могла созерцать старый Петергоф, деревню голландских рыбаков, а с другой стороны — военные казармы; справа вдали виднелось Пулково и обсерватория, сооруженная архитектором Брюлловым, братом художника. Обсерваторию отделяет от Бельведера равнина протяженностью в десять лье.
Между старым Петергофом и Пулковом, за морским заливом, ширина которого десять лье, на фоне открывающегося горизонта, словно вычерченного по линейке, возникают синеватые очертания Финляндии.
Если вновь обратить взор от залива к Бельведеру, справа можно увидеть купола Санкт-Петербурга, среди которых сверкает золотом Исаакиевский собор; слева расположен большой английский парк, прямо — новый Петергоф и, наконец, поле, усеянное руинами, присланными из Греции королем Оттоном7.
Бедные руины, изгнанные из Аттики, они, кажется, так же грустят, как Овидий, сосланный во Фракию.
Мы поднялись и уселись в дрожки, ничуть не сожалея, что покидаем эти места, и нас доставили прямо к террасе Монплезира.
Видите, опять французское название!
Терраса выходит в сторону залива, она вся облицована мрамором, окружена величественными деревьями; между водой, омывающей ее подножие, и ветвями, как бы служащими ей
куполом, на горизонте можно различить Кронштадт с укреплениями, что ощетинились пушками, и лесом мачт.
Именно сюда в знойные летние вечера, в прозрачные июньские ночи петергофские красавицы выходят подышать свежим воздухом.
Эта же терраса — излюбленное место юных великих князей. Груды камушков «имеют честь» (как сказал бы известный химик Тенар, который еще больше преуспевал в качестве придворного, чем в качестве химика) быть приготовленными для забавы великих князей, что, подобно Сципиону в изгнании, любят бросать плашмя камушки в море.
Местность оказалась восхитительной, и Му- ане сообщил обществу, что задержит нас здесь на некоторое время, так как желает зарисовать пейзаж, даже если из-за этого нам придется на полчаса опоздать к Панаевым.
Желание это было вполне оправданным, и я отнюдь не возражал.
К тому же, после съеденного нами завтрака, мы не торопились обедать. Вдруг обед будет подобен завтраку?
Когда рисунок был готов, мы заняли места в дрожках. Григорович объяснил извозчикам, куда следует ехать, и мы отправились в дом к одному из самых видных журналистов в России.
УРНАЛИСТЫ И ПОЭТЫ
ечего и говорить, что журнальное дело в России находится в зародышевом состоянии. Цензура и поныне неукоснительно стремится подорвать его развитие.
Обратим беглый взгляд на различного рода ежедневные, еженедельные и ежемесячные издания Санкт-Петербурга и Москвы.
В Санкт-Петербурге выходят в свет только четыре журнала, вызывающие сенсацию своим появлением.
Отведем главное место «Современнику», он его заслуживает. Директором и редактором «Современника» являются господа Панаев и Некрасов.
Мы уже говорили, что Панаев — один из известных журналистов Санкт-Петербурга, добавим, что Некрасов — один из первых поэтов России.
Вскоре мы расскажем об этих двух писателях, столь различных по характеру, но вначале поведаем об их журнале. «Современник» — ежемесячное издание, созданное по образцу «Ревю де дё Монд»; это журнал либерального направления, имеет от трех с половиной до четырех тысяч подписчиков, что позволяет редакторам получать солидные гонорары.
209
Кроме «Современника» публикуются «Отечественные Записки» — издатель и редактор господин Краевский, журнал нейтрального направления; его владелец со знанием дела привлекает авторов, что обеспечивает журналу, с его литературными достоинствами, признание читателей, а владельцу значительный доход. «Отечественные Записки» имеют на несколько сотен меньше подписчиков, нежели «Современник».
Большим успехом пользовалась «Библиотека Для Чтения» (так называемая библиотека для техника) до тех пор, пока редактором ее был профессор Сенковский, который прекрасно понимал духовные запросы того времени; не стремясь поучать читателей, он старался только обеспечить журналу их благосклонность. К сожалению, позже читатели разглядели за позолотой обложки почти белые листы бумаги, лишенные внутреннего содержания, и отвернулись от журнала, хотя в нем прослеживаются либеральные тенденции.
Ранее издававшийся журнал «Сын Отечества» в прошлом году появился на новых началах; < *ныне объем его увеличился до полутора-двух листов; материалы в нем очень хорошо изложены, и он пользуется большим уважением у читателей. Журнал выходит в Москве.
«Русский Вестник» основан в 1858 году Катковым. При своем появлении журнал пользовался громадным успехом, и во втором семестре тираж был повторен; имеет от девяти до десяти тысяч подписчиков, печатается в одной из лучших типографий России; направление его либеральное.
Журнал «Беседа» — орган сторонников русского панславизма, партии, выступающей против приобщения России к европейской цивили-
зации, добивающейся, чтобы Россия шла по своему исконному пути, ничего не заимствуя у других стран. Журнал лишен художественного вкуса, хотя в нем печатаются замечательные статьи, в особенности на злобу дня и, в частности, об отмене крепостного права. Основатель издания господин Кушелев.
«Земледельческая Газета» — орган помещиков, газета помещает главным образом статьи по поводу освобождения крестьян от крепостной зависимости, проникнута духом либерализма.
В отношении других печатных изданий мы скажем то, что в трагедии Корнеля Август говорит о друзьях Цинны \ назвав Максима, и последуем-его примеру, то есть оставим свое мнение при себе.
Панаев и Некрасов, верные друзья, исповедуют одни и те же литературные и политические взгляды, часто встречаются, живут в одной квартире: зимой в Санкт-Петербурге, летом на какой-нибудь даче близ города.
В это лето они свили себе гнездышко в местечке между Петергофом и Ораниенбаумом, невдалеке от немецкой колонии*. Наши дрожки повернули направо, проехали по небольшому мосту, переброшенному через овраг, углубились под величественные своды деревьев и остановились перед прелестной дачей на поляне, где семь сотрапезников орудовали вокруг стола с обильной снедью.
Это были Панаев с супругой, Некрасов и четверо их друзей. Все обернулись, услышав шум, и радостно закричали, узнав Григоровича.
Громко объявили мое имя, и Панаев заключил меня в объятия.
В Мартышкине. (Прамеч. перев.)
211
Вам должна быть знакома удивительная реакция: при первой встрече незнакомых людей в сердцах сразу возникает либо симпатия, либо антипатия. Именно чувство симпатии испытали мы, Панаев и я, один к другому. Мы обнялись, как старые друзья, и объятия были искренними.
Вошла мадам Панаева, я поцеловал ей руку, а она, по трогательному обычаю русских, поцеловала меня в лоб.
Мадам Панаева — тридцатидвухлетняя дама, очень красивая, с выразительными чертами лица, автор ряда романов и рассказов, опубликованных под именем «Станицкая».
Некрасов, не столь эмоциональный, ограничился тем, что встал, подал мне руку и поручил Панаеву извиниться передо мной, так как он, не получив достаточного образования, не говорил по-французски.
Другие присутствующие были представлены мне просто, без церемоний.
Я слышал от многих, что Некрасов не только великий поэт, но и поэт, гений которого отвечает на запросы времени.
Я внимательно всмотрелся в него. Мужчина лет тридцати восьми — сорока, с лицом печальным и болезненным, по натуре пессимист, склонный к едкой насмешке. Он страстный охотник, потому, думается мне, что на охоте ощущает уединение и покой; своих собак и ружье он любит больше всего, не считая Панаева и Григоровича.
Последний сборник его стихотворений, запрещенный цензурой к переизданию, ныне дорого ценится.
Накануне я купил его за шестнадцать рублей и в течение ночи, пользуясь подстрочником Григоровича, перевел две вещи. В них до-
статочно раскрывается дарование автора, слышится его печаль, ощущается ирония.
Нет необходимости говорить, что перевод бесконечно убог по сравнению с оригиналом.
Вот первое стихотворение, исключительно русского содержания, поэтому оно не может быть в достаточной степени оценено во Франции:
ЗАБЫТАЯ ДЕРЕВНЯ
I
У бурмистра Власа бабушка Ненила Починить избенку лесу попросила. Отвечал: нет лесу, и не жди —не будет! «Вот приедет барин — барин нас рассудит, Барин сам увидит, что плоха избушка,
И велит дать лесу»,— думает старушка.
II
Кто-то по соседству, лихоимец жадный,
У крестьян землицы косячок изрядный Оттягал, отрезал плутовским манером.
«Вот приедет барин: будет землемерам! — Думают крестьяне.— Скажет барин слово — И землицу нашу отдадут нам снова».
III
Полюбил Наташу хлебопашец вольный,
Да перечит девке немец сердобольный, Главный управитель. «Погодим, Игнашка, Вот приедет барин»,— говорит Наташа. Малые, большие — дело чуть за спором — «Вот приедет барин» — повторяют хором.
IV
Умерла Ненила; на чужой землице У соседа плута — урожай сторицей; Прежние парнишки ходят бородаты, Хлебопашец вольный угодил в солдаты,
И сама Наташа свадьбой уж не бредит... Барина все нету... Барин все не едет.
V
Наконец однажды середи дороги Шестернею цугом показались дроги:
На дрогах высокий гроб стоит дубовый,
А в гробу-то барин; а за гробом — новый,
Старого отпели, новый слезы вытер,
Сел в свою карету —и уехал в Питер.
А вот другое стихотворение того же поэта. Оно не только исполнено печали, оно надрывает душу. Названо оно «Бедная подружка».
Еду ли ночью по улице темной,
Бури заслушаюсь в пасмурный день —
Друг беззащитный, больной и бездомный,
Вдруг промелькнет предо мной твоя тень!
Сердце сожмется мучительной думой.
С детства судьба невзлюбила тебя:
Беден и зол был отец твой угрюмый,
Замуж пошла ты —другого любя.
Муж тебе выпал недобрый на долю:
С бешеным нравом, с тяжелой рукой.
Не покорилась — ушла ты на волю,
Да не на радость сошлась и со мной...
Помнишь ли день, как, больной и голодный,
Я унывал, выбивался из сил?
В комнате нашей, пустой и холодной,
Пар от дыханья волнами ходил.
Помнишь ли труб заунывные звуки,
Брызги дождя, полусвет, полутьму?
Плакал твой сын, и холодные руки Ты согревала дыханьем ему.
Он не смолкал —и пронзительно звонок Был его крик... Становилось темней;
Вдоволь поплакал и умер ребенок...
Бедная! слез безрассудных не лей!
С горя да с голоду завтра мы оба Так же глубоко и сладко заснем;
Купит хозяин с проклятьем два гроба —
Вместе свезут и положат рядком.
В разных углах мы сидели угрюмо.
Помню, была ты бледна и слаба,
Зрела в тебе сокровенная дума,
В сердце твоем совершалась борьба.
Я задремал. Ты ушла молчаливо,
Принарядившись, как будто к венцу,
И через час принесла торопливо Гробик ребенку и ужин отцу.
Голод мучительный не утолили,
В комнате темной зажгли огонек,
Сына одели и в гроб положили... Случай нас выручил? Бог ли помог?
Ты не спешила печальным признаньем, Я ничего не спросил, Только мы оба глядели с рыданьем, Только угрюм и озлоблен я был...
Где ты теперь? С нищетой горемычной Злая тебя сокрушила судьба?
Или пошла ты дорогой обычной,
И роковая свершится судьба?
Кто защитит тебя? Все без изъятья Именем страшным тебя назовут.
Только во мне шевельнутся проклятья И бесполезно замрут!..
Никогда еще горестный вопль, вырвавшийся из глубин общества, не звучал с такой силой в поэзии.
Как видите, этих двух стихотворений довольно, чтобы дать представление о характере дарования Некрасова.
Но мы приведем еще третье, с целью рассеять заблуждение или, скорее, клевету, распространенную в России — мы не желаем знать, каким образом,—и касающуюся одного из наших соотечественников.
Настало, однако, время покончить с клеветой.
Речь идет о княгине Воронцовой-Дашковой2 и ее преждевременной смерти.
Согласно распространенной в России легенде, княгиня Воронцова-Дашкова, будучи во Франции, вышла замуж за некоего авантюриста, который пустил по ветру ее состояние и отправил графиню умирать в больнице.
Эта печальная история побудила Некрасова написать новое «горестное обличение». Такое
215
V.
(ъ
4
м
ж
м
ßrc
Ö
ж
к
название наилучшим образом подходит к стихам угрюмого поэта.
КНЯГИНЯ
Дом — дворец роскошный, длинный, двухэтажный.
С садом и с решеткой; муж — сановник важный. Красота, богатство, знатность и свобода —
Все ей даровали случай и природа.
Только показалась — и над светским миром Солнцем засияла, вознеслась кумиром!
Воин, царедворец, дипломат, посланник —
Красоты волшебной раболепный данник;
Свет ей рукоплещет, свет ей подражает.
Властвует княгиня, цепи налагает,
Но цепей не носит; прихоти послушна,
Ни за что полюбит, бросит равнодушно:
Ей чужое счастье ничего не стоит —
Если и погибнет, торжество удвоит!
Сердце ли в ней билось чересчур спокойно,
Иль кругом все было страсти недостойно,
Только ни однажды в молодые лета Грудь ее любовью не была согрета.
Годы пролетели. В вихре жизни бальной До поры осенней — пышной и печальной —
Дожила княгиня... Тут супруг скончался...
Труден был ей траур,— доктор догадался И нашел, что воды были б ей полезны (Доктора в столицах вообще любезны).
Если только русский едет за границу,
Посылай в Палермо, в Пизу или Ниццу,
Быть ему в Париже — так судьбе угодно!
Год в столице моды шумно и свободно Прожила княгиня; на второй влюбилась В доктора-француза — и сама дивилась!
Не был он красавец, но ей было ново Страстно и свободно льющееся слово,
Смелое, живое... Свергнуть иго страсти Нет и помышленья... да уж нет и власти.
Решено! В Россию тотчас написали;
Немец-управитель без большой печали Продал за бесценок в силу повеленья Английские парки, русские селенья,
Земли, лес и воды, дачу и усадьбу...
Получили деньги —и сыграли свадьбу...
ш
1
(W
J
Ъм
?r?J)
*
ж
№
/О)
т
ш
216
Тут пришла развязка. Круто изменился Доктор-спекулятор: деспотом явился!
Деньги, бриллианты — все пустил в аферы,
А жену тиранил, ревновал без меры,
И когда бедняжка с горя захворала,
Свел ее в больницу... Навещал сначала,
А потом уехал — словно канул в воду!
Скорбная, больная, гасла больше году В нищете княгиня... и тот год тяжелый Был ей долгим годом думы невеселой!
Смерть ее в Париже не была заметна:
Бедно нарядили, схоронили бедно...
А в отчизне дальней словно были рады:
Целый год судили — резко, без пощады,
Наконец устали... И одна осталась Память: что с отличным вкусом одевалась!
Да еще остался дом ее с гербами,
Доверху набитый бедными жильцами,
Да в строфах небрежных русского поэта Вдохновенных ею чудных два куплета,
Да голяк-потомок отрасли старинной,
Светом позабытый — и ни в чем невинный.
Вот что написал великий поэт, разделивший общее заблуждение. А ведь поэт, творящий для потомков, высекает свои стихи на бронзовых скрижалях, и они остаются на века. Так обратимся же к достоверным, вернее, к беспристрастным фактам.
Госпожа Воронцова-Дашкова вышла во Франции замуж за дворянина, занимавшего в обществе по меньшей мере то же положение, что и его супруга; его состояние превышало богатство жены.
В Париже этот дворянин имел среди самых элегантных молодых людей ту же репутацию, что госпожа Воронцова-Дашкова в Санкт-Петербурге среди самых блестящих светских дам.
На протяжении всей своей жизни эта обаятельная и умная женщина, с которой я имел честь быть знакомым, была кумиром своего мужа. Пораженная долгой, мучительной, смер-
тельной болезнью, она умерла среди роскоши, в одном из лучших домов Парижа на площади Святой Магдалины, напротив бульвара. Она скончалась, окруженная неусыпной заботой мужа, который в течение трех месяцев ее болезни не выходил из дома. Его сменяли поочередно герцогиня Фитц-Джеймс, графиня Фитц-Джеймс, госпожа Грандмезон, мадемуазель Жери, старая дева, и две сестры милосердия.
Однако этого мало. Приведем еще другие факты: по брачному контракту значилось, что в случае смерти мужа состояние барона де П.*, в восемьдесят тысяч ливров ренты от поместья Фолембрэ, перейдет в пожизненное пользование графини Дашковой, в случае же смерти графини барон получит пожизненную ренту в шестьдесят тысяч франков и все драгоценности графини, кроме фамильных бриллиантов.
На следующий день после смерти графини Воронцовой-Дашковой, когда барон де П. направлялся в Фолембрэ, чтобы похоронить тело супруги в семейном склепе, княгиня Паскевич, дочь графини от первого брака, получила не только фамильные бриллианты, но и все драгоценности графини, общей стоимостью в пятьсот тысяч франков.
Кроме меня этот факт могут подтвердить самые высокопоставленные представители французского общества. Вот что я должен был сообщить, услыщав о том, что мой соотечественник обвиняется в бесчестном поступке, причем эта клевета распространена в Москве, в Санкт-Петербурге и даже в Тифлисе.
Мы заночевали у Панаевых и ранним утром отправились в Ораниенбаум.
Барон Пуайи.
ри входе в Ораниенбаумский дворец прежде всего меня поразило украшение центрального павильона: на нем возвышалась корона, и сразу было видно, что корона не царская.
Я задал вопрос моему спутнику, но он, мало осведомленный в геральдике, сказал, что это старая русская корона. Появившийся интендант помирил нас, заявив, что это корона князя Александра Меншикова, которому принадлежал этот дворец. После того, как могущественный фаворит впал в немилость, его состояние было конфисковано в пользу царицы, которая оставила его в наследство своим потомкам. Корона эта когда-то принадлежала герцогству Козел в Силезии, которое было подарено Меншикову императором Карлом VI, присвоившим ему звание герцога Священной Римской империи.
Нам известно, где родился и как возвысился Менши- ков. Он пользовался своим положением фаворита, приобретая несметные богатства как в России, где он имел титул князя, был сенатором, фельдмаршалом, кавалером Андреевского креста, так и в других странах; он владел столь обширными землями и поместьями в России,
219
что сложилось мнение: князь может добраться из Риги в Ливонии до Дербента в Персии, проводя каждую ночь в своем поместье. В его обширных владениях проживало сто пятьдесят тысяч крестьянских семей, а следовательно, около пятисот тысяч душ.
Прибавьте к этому богатству золотую и серебряную посуду и драгоценные камни стоимостью более трех миллионов рублей — подарки тех людей, которые, обращаясь к царю, нуждались в помощи Меншикова.
Быть может, сам Петр, отлично осведомленный о злоупотреблениях Меншикова, отправил бы его в ссылку, быть может, он даже придумал бы для него более суровое наказание, если бы не быстрая, внезапная, почти загадочная смерть царя, о которой мы уже поведали читателям.
Итак, после смерти Петра Меншиков оставался в чести, обладая всем своим богатством, если не могуществом. При всем том, являясь фельдмаршалом, он командовал армией. Взяв пятьсот солдат, он окружил здание Сената и, войдя в зал совещаний и усевшись на свое почетное место, потребовал предоставить престол Екатерине, своей бывшей любовнице, надеясь царствовать от ее имени и управлять страной вместо нее.
Однако же возникла оппозиция.
Великий канцлер и другие сенаторы решительно не согласились с Меншиковым и высказались в пользу Петра И, внука царя. Ощущая давление со стороны Меншикова и его солдат, сенаторы предложили посовещаться с народом, открыв одно из окон зала, где заседал Сенат. Меншиков же заявил, что в зале не так тепло, чтобы открывать окна. Затем по его зна-
f
т
f/ГсУ)
Sr«
*
г
d
/0 «5
\i'
éjji
t
№
ку в зал вошел офицер в сопровождении всего лишь двадцати солдат, но было видно, что в коридорах ожидает грозное вооруженное войско.
Екатерина была провозглашена императрицей. Но вскоре покровительство Меншикова стало тяготить ее и она не скрывала своего неудовольствия. Поэтому Меншиков, предвидя близкую смерть императрицы Екатерины, решил заранее избрать наследника престола. Он пообещал трон великому князю Московскому при условии, что тот женится на его дочери. Великий князь дал обещание, но выполнять его не собирался.
Но вот что рассказывают или, вернее, рассказывали в то время.
Екатерина, как предвидел Меншиков, захворала; Меншиков пожелал ухаживать за ней, и именитая больная не отказывалась принимать лекарство из его рук.
Однажды, когда врач прописал какую-то микстуру, Меншиков взял стакан с лекарством у фрейлины-итальянки по имени госпожа Ганна. Екатерине настойка показалась такой горькой, что она выпила лишь несколько глотков и возвратила стакан фрейлине. Фрейлина не могла понять, откуда появился горький вкус в этой микстуре, которую она сама приготовила из самых свежих составных частей; выпив оставшуюся настойку, она действительно ощутила горечь, на которую жаловалась императрица. Екатерина умерла, фрейлина тяжело заболела, но была спасена своим мужем — итальянским аптекарем, который дал ей противоядие.
Меншиков стал полновластным хозяином страны. Он устроил помолвку своей дочери с молодым царем, взял на себя охрану царя, не из уважения к своему императору и любви
к своему зятю, но из страха, как бы узник не сбежал.
Тем не менее Петр II исчез.
Товарищами его игр были его тетка Елизавета (впоследствии царица, которая родила восьмерых внебрачных детей, но не оставила законного наследника; ее называли Милостивой, потому что во время ее царствования не было совершено ни одной смертной казни) и два молодых князя Долгоруких.
Однажды, когда Петр II в сопровождении своего неразлучного опекуна поехал на прогулку в Петергоф, один из двух братьев Долгоруких, Иван, подстрекаемый министром Остер- маном, предложил царю бежать через окно с наступлением ночи. Это легко было сделать, так как у окон не было караульных, солдаты стояли только подле двери. Юный царь, в высшей степени удрученный рабским режимом своей жизни, которому не нравилась дочь Мен- шикова, согласился на это предложение. Наступила ночь, и он бежал со своим лихим компаньоном, добрался до того места, где его поджидала огромная толпа дворян и офицеров — врагов Меншикова. Они направились в дом канцлера Головина, где собрался Сенат, и оттуда с триумфом вернулись в Санкт-Петербург.
Меншиков, узнав о побеге князя, понял, что все пропало. Тем не менее, чтобы ему не в чем было себя упрекнуть, он решил попытать фортуну до конца. Он последовал за молодым царем, но, прибыв во дворец, обнаружил, что прежняя охрана полностью сменена и находящийся здесь гарнизон вооружен. Тогда он удалился в свой дворец, чтобы там принять какое-то решение. Отряд гренадеров, окружавший дом, арестовал его при входе. Тогда он
потребовал, чтобы ему разрешили поговорить | с царем, но в ответ ему сообщили повеление отправиться с семьей в ссылку в Ранненбург.
Ранненбург — поместье, принадлежавшее Меншикову, расположенное между Казанским царством и провинцией Вятка.
Меншиков мог ожидать худшего. В Раннен- бурге находился великолепный укрепленный замок, где Меншиков надеялся зажить, как жили старые русские князья, которым император своей благосклонностью уподобил его, сына простого крестьянина. Ему было разрешено взять с собой слуг столько, сколько ему заблагорассудится, столько денег, сколько он найдет нужным, и наиболее ценное из вещей. К тому же, что редко случается с лицами, впавшими в немилость, с ним разговаривали в исключительно вежливой форме; одним словом, он пал не столь низко, чтобы не иметь возможности снова выплыть на поверхность.
На следующий день Меншиков должен был покинуть Санкт-Петербург. Он выехал около десяти часов утра в роскошных каретах с богатым багажом и столь многочисленной свитой, что его отъезд напоминал не высылку скромного арестанта, а пышный кортеж посла. Проезжая по улицам Санкт-Петербурга, Меншиков приветствовал прохожих направо и налево, как император, принимающий почести от своих подданных; он спокойно, приветливо разговаривал с теми, которых знал. Многие сторонились, не отвечая ему, как будто перед ними находился заразный больной; но другие, более смелые, обменивались с ним несколькими словами, чтобы пожалеть или поддержать его; он не столь еще низко пал, чтобы кто-то осмелился его оскорбить.
Хула придет в свое время, она не за горами.
Через два часа после отъезда из Санкт-Петербурга, на сибирской дороге, по которой после него пройдет еще много несчастных, путь был прегражден. Офицер, командовавший отрядом, именем царя потребовал у него орденские ленты Андреевского креста, Александра Невского, Слона, Белого Орла и Черного Орла.
Меншиков вручил их офицеру, он заранее положил их в шкатулку, чтобы отдать по первому требованию. Затем его, жену и детей заставили выйти из кареты и устроили на телегах, приготовленных, чтобы везти их в Раннен- бург.
Он подчинился со словами:
— Исполняйте свои обязанности, я готов ко всему. Чем больше богатства вы отнимете от меня, тем я буду спокойнее.
Итак, он вышел из кареты, уселся на телегу, полагая, что его жена и дети сядут рядом с ним. Но их заставили сесть в другую телегу; ему оставалось лишь одно утешение — разговаривать с ними; он возблагодарил Бога за такое благодеяние. Вот в таких условиях его везли до Ранненбурга. Но и там не прекратились испытания.
Расстояние между Москвой и Ранненбургом составляло всего сто пятьдесят лье. Меншиков оказался слишком близко от царя. Прибыл приказ ехать в Сибирь, в Якутск. Он посмотрел на своих детей, на жену, заметил грустные улыбки.
— Когда надо ехать? — спросил он царского курьера.
— Сейчас,— ответил курьер.
В тот же день отправились в путь. Меншиков мог взять с собой восемь слуг по своему выбору. Но потрясение было глубоким, усталость смертельной. Княгиня не выдержала пер-
вой, она умерла по дороге между Ранненбур- гом и Казанью.
Труп довезли до Казани. Стража, не позволявшая Меншикову ехать в одной телеге с живой женой, разрешила ему сидеть подле трупа. Во время агонии муж заменил княгине священника, увещевал и утешал ее, словно посланец Бога, и даже, несомненно, с большей убежденностью и искренностью, ибо несчастья, в которых он пытался ее утешить, когда она умирала, он разделял с ней до самой ее смерти, когда же ее не стало, вся тяжесть их упала на него одного.
Он продолжал свой путь до Тобольска.
Там все его ждали, город был предупрежден о приезде Меншикова. Едва он вышел на берег реки, как к нему подошли два дворянина, которых фаворит сам выслал в Сибирь во времена своего могущества, стали один справа, другой слева и начали осыпать его ругательствами, но Меншиков, грустно покачав головой, сказал одному из них:
— Ты не находишь другого способа отомстить врагу, как только обругав его, так доставь себе это удовольствие, несчастный! Что же до меня, я выслушаю без ненависти и злобы. Я пожертвовал тобой, во имя политических целей, зная тебя отлично как достойного и гордого человека; ты препятствовал моим намерениям, и я поверг тебя. Ты так же поступил бы на моем месте, если бы я мешал исполнению твоих планов.
Затем он обратился к другому:
— Я тебя вовсе не знаю, понятия не имею, что ты был сослан. Если ты очутился в изгнании, ты, которого я не должен был ни бояться, ни ненавидеть, значит, кто-то тайно расправился с тобой, воспользовавшись моим именем.
щ %
à я
«
(?VI
)l
\l£
A
{éjl
%
V\j
m
9. А. Дюма T. 2
225
V
Верь мне, это правда. Но если оскорбления облегчают твою душу, продолжай, у меня нет ни сил, ни желания возражать тебе.
Едва завершился этот разговор, как к Мен- шикову, запыхавшись, подбежал третий изгнанник, лоб его был в поту, глаза сверкали, искривленный рот бормотал проклятья, в обе руки он набрал кучу грязи и стал швырять эту грязь в лицо молодого князя Меншикова и его сестер. Юный князь обратил взор на отца, как бы спрашивая позволения отплатить за обиду. Но старик, остановив сына, обратился к оскорбителю:
— Ты поступил глупо и подло. Хочешь мстить — мсти мне, но не этим несчастным детям, я, быть может, грешен перед тобой, но они-то ни в чем не виновны.
Ему разрешили остаться в Тобольске на восемь дней, к тому же возвратили пятьсот рублей, которыми он мог распоряжаться как хотел. Меншиков на эти деньги приобрел топор и другие инструменты для рубки леса й обработки земли; затем купил сеть для рыбной ловли, семена и много соленого мяса и рыбы для себя и своей семьи. Все, что осталось, он роздал беднякам.
Наступил день отъезда из Тобольска, фаворита и троих его детей усадили в . открытую телегу, которую тащила либо лошадь, либо собаки. Вместо одежды, отнятой в Ранненбурге, им всем дали крестьянское платье, то есть тулупы и шапки из овчины. Под тулупами у них не было ничего, кроме ночного белья.
Путешествие длилось пять месяцев, зимой, когда мороз доходит до тридцати — тридцати пяти градусов.
Как-то во время одной из трех ежедневных стоянок, в лачугу, где отдыхал Меншиков, во-
226
шел офицер, прибывший с Камчатки; этот офицер три года тому назад, то есть во время царствования Петра I, был отправлен к датскому капитану Берингу с посланиями, касающимися исследований, которые тому поручено было провести на Северном полюсе и в Амурском море.
Этот офицер когда-то был адъютантом Меншикова, но он ничего не знал о разжаловании своего прежнего генерала. Меншиков его узнал и назвал по имени. Удивленный адъютант откликнулся.
— Откуда тебе известно мое имя, почтенный?— спросил он.
— А ты что, не узнаешь меня? — удивился изгнанник.
— Нет, а кто ты?
— Так ты не узнал Александра?
— Какого Александра?
— Александра Меншикова.
— А где он?
— Перед тобой.
Офицер расхохотался.
— Милый, ты с ума сошел! — сказал он Меншикову.
Меншиков взял его под руку, подвел к окошку, и, встав так, чтобы свет упал на него, промолвил:
— Посмотри на меня и припомни черты твоего прежнего генерала.
— Ох, князь! — воскликнул молодой человек.—Какая катастрофа, Ваша светлость, привела вас в столь плачевное состояние?
На грустном лице Меншикова появилась улыбка.
— Не называй меня князем, не величай светлостью,—сказал он,—рожденный крестья-
нином, я вновь стал крестьянином. Бог вознес меня, Бог и низринул — такова Его воля.
Офицер не мог поверить тому, что он увидел и услышал; осмотревшись вокруг, он заметил в углу молодого крестьянина, который с помощью веревки и тряпки пытался чинить рваные сапоги. Офицер подошел к нему и тихо спросил, указывая жестом на Меншикова:
— Знаете ли вы этого человека?
— Да,— ответил тот,—это Александр Мен- шиков, мой отец. Кажется, и ты не хочешь узнавать нас, когда мы в немилости. Думается мне, мы достаточно сделали для тебя, чтобы ты нас не забыл.
— Замолчи, парень,— строго одернул его отец. Затем вновь обратился к офицеру: — Брат, прости несчастному мальчишке, очень уж ему горько. Это мой сын. Когда он был еще ребенком, ты часто сажал его к себе на колени. А вот мои две дочери,—заметил он, показывая на двух крестьянских девушек, которые, лежа на полу, макали хлеб в миску с молоком.
Затем с грустной улыбкой он добавил:
— Старшая имела честь быть невестой императора Петра Второго.
И он рассказал все, что случилось в России после отъезда офицера из Петербурга, то есть за три прошедших года.
Затем, указав офицеру на своих детей, которые заснули на полу, пока он рассказывал, Мен- шиков с грустью промолвил:
— Вот единственная причина моего горя, источник всей моей скорби. Я был богат, и снова стал бедным, и не жалею потерянного состояния, я был всемогущ, и снова стал ничтожным, и ни о чем не сожалею, даже о свободе. Это несчастие мне дано во искупление моих
грехов, но мои дети, которые здесь лежат, которых я увлек за собой, какое преступление совершили они, эти безвинные души? Почему, Боже мой, они попали в немилость вместе со мной? Но в глубине души я надеялся, что Бог, всегда справедливый, позволит моим детям увидеть родину, и я уверен, что они вернутся туда, умудренные опытом, и будут довольны своей судьбой, в каком бы убогом положении они ни оказались по воле неба. Теперь,— продолжал он,—мы расстанемся с тобой и, конечно, никогда больше не встретимся; ты предстанешь перед императором, будешь им принят. Расскажи ему, каким ты меня нашел, убеди его в том, что я не ропщу на его правосудие, каким бы строгим оно ни было, и скажи еще, что ныне я ощущаю свободу духа, спокойствие совести, о каких не подозревал даже во времена моего былого процветания.
Офицер все еще сомневался, но конвоиры подтвердили то, что рассказал Меншиков, и только тогда он уверился окончательно.
Наконец Меншиков прибыл к месту своей ссылки.
Едва приехав, он принялся за дело, выстроил с помощью слуг избу, более просторную и удобную, нежели те, в которых теперь живут русские крестьяне. В доме было помещение для молитвы, то есть часовня, и четыре комнаты. В одной комнате жил он с сыном. Вторую занимали его дочери, третью — слуги, а в четвертой был устроен склад продовольствия.
Его старшая дочь, помолвленная с Петром И, готовила еду для всей колонии. Младшая дочь, которая впоследствии стала женой сына Бирона, чинила одежду, стирала и белила белье. Молодой Меншиков охотился и ловил рыбу.
те
щ\
щ
229
9
Один неизвестный Меншикову друг, имя которого никогда не узнали ни он сам, ни его дети, отправил ему из Тобольска быка, четырех коров и различную домашнюю птицу, и теперь изгнанники могли завести свой скотный двор. К тому же Меншиков устроил огород, круглый год обеспечивающий их всех овощами.
Каждый день в присутствии семьи и слуг он за всех произносил молитву.
Прошло шесть месяцев; изгнанники жили счастливо, насколько это было возможно в их положении.
Но вдруг в семье появилась оспа. Первой заболела старшая дочь. Отец сутки напролет ухаживал за ней, но и бессонные ночи, и непрестанное внимание — все было впустую, и вскоре стало ясно, что бедное дитя обречено на смерть. Отец, бывший для нее врачом, стал также и священником. Столь же самоотверженно, как ранее пытался сохранить ей жизнь, он готовил ее к смерти. Покорившись своей судьбе, она спокойно умерла на руках отца.
Меншиков несколько минут прижимался щекой к ее щеке, затем встал и, обратившись к оставшимся детям, сказал:
— Учитесь у этой мученицы умирать, не сожалея, что расстаетесь с этим миром.
Затем, по православному обряду, он громко произнес молитву за упокой души, и, когда миновали сутки, унес тело дочери с кровати, где она умерла, и положил его в могилу, которую вырыл сам в домашней часовне.
Увы, едва возвратившись в свои бедные комнаты, молодой Меншиков и младшая дочь князя в свою очередь заболели этой страшной болезнью. Меншиков ухаживал за ними так же усердно, но с большим успехом, чем это было с несчастной дочерью, которую он только что
похоронил. Но едва лишь миновала опасность, грозившая детям, как их отец слег в постель с тем, чтобы уже больше не вставать.
Изнуренный усталостью, подкошенный лихорадкой, чувствуя, что наступает его последний день, он призвал обоих детей и с безмятежностью, не покидавшей его в изгнании, сказал:
— Дорогие дети, приближается последний час моей жизни; смерть будет для меня ничем иным, как утешением; если бы, представ перед Господом, я должен был отдать ему отчет только о днях, проведенных в изгнании, я расстался бы с миром и вами со спокойной совестью, так как здесь я жил по законам добродетели. Если вы когда-нибудь окажетесь при дворе царя, помните только те примеры и наставления, которые вы получили от меня здесь. Прощайте! Силы покидают меня, подойдите и примите мое благословение.
Видя, что дети склонились у его ложа, он хотел протянуть руки, но голос его затих, голова склонилась к плечу, тело содрогнулось.
Он был мертв1.
Когда Меншиков умер, офицер, которому . была поручена охрана семьи, стал проявлять заметное внимание к детям. Он советовал им, как выгоднее распорядиться хозяйством, которое наладил их отец, предоставил им большую свободу, разрешив время от времени посещать церковь в Якутске.
Во время одного из таких визитов княжне Меншиковой случилось проезжать мимо сибирской избушки, по сравнению с которой дом, выстроенный ее отцом, выглядел как дворец. В окошке этой лачуги виднелась голова старика со взъерошенной и косматой бородой. Девушка испугалась и свернула в сторону, что-
9
V
бы не проезжать мимо такого страшного человека. Но она еще больше испугалась, когда старик позвал ее по имени и фамилии. Так как голос его звучал дружелюбно, она приблизилась, внимательно посмотрела на незнакомца, но, так и не узнав его, собралась было продолжать свой путь. Старик вторично остановил ее.
— Княжна,— сказал он,— почему вы избегаете меня? Разве можно продолжать вражду в тех местах, в тех условиях, в каких мы оказались?
— Кто ты,— спросила его молодая девушка,— и почему я должна враждовать с тобой?
— Разве ты меня не узнала? — спросил старик.
— Нет,— ответила она.
— Я князь Долгорукий, лютый враг твоего отца.
Молодая девушка шагнула к старику, внимательно посмотрела на него.
— И правда,— сказала она,— это ты! Когда же и за какие прегрешения перед Богом и царем ты оказался здесь?
— Царь умер,— ответил Долгорукий,— умер через десять дней после того, как был помолвлен с моей дочерью, которая, видишь, спит здесь на скамье; так же, как он был помолвлен с твоей сестрой, которая почиет в могиле. Трон его занят ныне женщиной, вызванной нами из Курляндии, так как мы надеялись жить при ней более счастливо, нежели при ее предшественниках. Мы ошиблись. По прихоти ее фаворита герцога Бирона она сослала нас, приписав нам выдуманные злодеяния. В течение всего пути с нами обращались как с отъявленными преступниками; отказывали в самом необходимом, чуть ли не морили голодом. Моя жена умерла в пути, а дочь при смер-
ти; но несмотря на мою жалкую участь, я надеюсь прожить еще столько времени, чтобы увидеть в этом краю, на этом месте женщину, которая продает Россию своим алчным любовникам.
Женщина эта— Анна Иоанновна, дочь слабоумного Иоанна, некоторое время царствовавшего вместе с Петром I.
Поняв, почему так озлоблен Долгорукий, услыхав его речи, молодая княжна испугалась и удалилась. Дома, в присутствии офицера, она все рассказала брату. Ничего более отрадного не могло быть для молодого человека, нежели 3toT рассказ: он не забыл, как Петр II бежал из Петергофа с одним из сыновей Долгорукого по совету старого князя. Теперь и он разгневался и стал угрожать старику расплатой.
Тогда вмешался офицер.
— Вспомните, каким милосердием полно было сердце вашего умирающего отца. Он неустанно просил вас, до тех пор пока не угас его голос, забыть обиды, нанесенные вам. На его смертном одре вы поклялись прощать ваших врагов, так не нарушайте же вашей клятвы; тем более,— добавил офицер,— что если вы будете упорствовать в гневе, мне придется лишить вас и той ограниченной свободы, которую я вам предоставлял.
Молодой человек выслушал этот добрый совет и отказался от своего намерения.
Казалось, что сам Бог пожелал вознаградить его.
Неделю спустя после того, как его сестра повстречала Долгорукого, прибыл приказ императрицы, призывавшей ко двору двух оставшихся в живых членов несчастной семьи Мен- шиковых. Первой заботой брата и сестры было съездить в церковь в Якутск, чтобы поблагода-
рить Бога. Путь лежал мимо избушки Долгорукого, но они удалились, насколько это было возможно, чтобы избежать встречи со стариком. Однако он стоял у окна, заметил их, позвал к себе.
Молодые люди приблизились.
— Поскольку вам возвращают свободу, которой мы лишены, придите ко мне, мои милые, утешим друг друга рассказами о превратностях нашей судьбы.
Меншиков некоторое время колебался, принять ли это приглашение от своего врага, но у того был такой несчастный вид, что юноша смягчился.
— Признаюсь, что питал к тебе ненависть, но, увидев тебя столь несчастным, могу только пожалеть. Итак, я прощаю тебя, как простил тебя мой отец — быть может, за то, что он отказался от дурных чувств, Бог и наградил нас императорским прощением.
— И какую же милость она вам оказала? — с любопытством осведомился Долгорукий.
— Она призывает нас ко двору.
— Итак, вы возвращаетесь туда,— вздохнул Долгорукий.
— Да, и чтобы нам не вменили в вину общение с тобой, ты не осудишь нас, если мы удалимся.
— Когда уезжаете? — спросил Долгорукий.
— Завтра.
— Стало быть, прощайте,— со вздохом произнес старик.— Поезжайте, но, отправляясь, умоляю вас, забудьте вражду ко мне. Думайте о нас, несчастных, которые остаются здесь, лишенные самого необходимого для жизни: вам этого уже не придется испытать. Я не преувеличиваю наших несчастий: если сомневаетесь,
взгляните на сына, дочь, невестку, что лежат здесь на досках, беспомощные и изнуренные болезнью. Окажите последнюю милость: не побрезгуйте проститься с ними.
Меншиковы, брат и сестра, вошли в избушку и действительно увидели душераздирающее зрелище. Две молодые женщины и юноша, отнюдь не выскочки, как Меншиковы, но потомки старинной русской княжеской фамилии, лежали едва живые, женщины — на деревянных скамьях, юноша — на полу, устланном охапкой соломы.
Меншиков и его сестра посмотрели друг на друга и улыбнулись. Их сердца поняли друг друга.
— Послушайте,— произнес молодой Меншиков,— я не могу обещать, что попрошу за вас при дворе, ибо мы сами не знаем, как там нас примут. Но пока мы вот что можем сделать для облегчения вашей участи: у нас здесь приличный дом, запасы продовольствия, домашний скот и птичий двор. Все это мы получили от неведомых друзей. Теперь и вы примите это, как подарок, ниспосланный Провидением, примите с той же радостью, с какой мы даем; покидая Сибирь, мы с сестрой гордимся, что смогли чем-то помочь людям, которые еще несчастнее нас.
Долгорукий в слезах припал к рукам девушки. Больные приподнялись на постелях и благословили обоих Меншиковых.
— Мы уезжаем завтра,— сказал молодой человек,— и не заставим вас долго ждать; завтра с утра можете занять наш дом.
И все свершилось так, как было сказано.
Утром, на рассвете, Меншиков и его сестра вручили дом Долгорукому и его семейству
и направились в Тобольск, а из Тобольска в Санкт-Петербург.
Императрица Анна встретила их радушно, сделала княжну Меншикову фрейлиной, выдала ее замуж за герцога Бирона.
Что касается Александра, то ему вернули пятидесятую часть отцовского имущества и все деньги, лежавшие в иностранных банках. Однако не возвратили дворец, находившийся в Ораниенбауме, который остался во владении царицы, но гигантская княжеская корона—знак принадлежности дворца былому хозяину — и поныне красуется на главном фасаде.
Я забыл упомянуть, что молодая княжна Меншикова, став герцогиней Бирон, сохранила в одном из сундуков одежду сибирской крестьянки, в которой она появилась в Петербурге; каждую неделю в день своего приезда в Петербург она подходила к сундуку и рассматривала это платье, с тем чтобы, процветая, оставаться смиренной и не забывать, что все преходяще, в особенности при дворе русских императоров.
ПОДДАЮЩАЯСЯ РАССКАЗУ
аправляясь в Ораниенбаумский дворец, я думал, что он вызовет во мне воспоминание об аресте Петра III, однако он напомнил другое событие: падение Мен- шикова.
Трудно объяснить, какое огромное значение имеют для меня предметы, хотя бы даже бесчувственные и неодушевленные, но которые были немыми свидетелями былого. Дело в том, что для исторического поэта нет ничего бесчувственного и неодушевленного. То, что ему подсказывает воображение, отражается на предметах, видевших реальные события, и придает им особую прелесть. Поэт ищет и в конце концов находит вокруг себя следы минувших событий, следы, которые, быть может, и не существуют, но представляются ему зримыми и красноречивыми. Любая историческая картина, созданная рукой художника, как бы даровит он ни был, расскажет ему меньше, нежели едва уловимые тени, предстающие перед его взором, когда сгущаются сумерки и наступает ночь. Тогда эти воображаемые поэтом тени становятся призраками исторических лиц, воссоздающих ежедневно, в час, когда они происхо-
237
дили в действительности, те события, следы которых ищет поэт.
Ораниенбаум был свидетелем, как мы уже упомянули, более страшного.и более глубокого падения, чем падение Меншикова, ä именно: падения Петра III. Именно в Ораниенбауме Петр III был арестован по приказу его супруги Екатерины.
Мы на том самом месте, где разыгралась драма, не столь уж известная даже в России. Расскажем, как все это произошло.
Елизавета, вторая дочь Петра I, взошла на престол в возрасте тридцати трех лет, оттолкнув ногой колыбель малютки Иоанна Антоновича, объявленного царем, когда ему было четыре или пять месяцев; тогда же регентшей стала его мать. Императрица Елизавета, мы уже говорили, была настоящим эпикурейцем, страшно любила наслаждения, и, боясь притеснений со стороны любого супруга, решила не выходить замуж1.
Но, зная, что всякое правление неустойчиво, если на ступенях трона рядом с царствующим монархом люди не видят преемника, Елизавета приказала вызвать к себе своего племянника — герцога Голштейн-Готторпского, которого она назначила наследником престола. Молодой герцог прибыл в Санкт-Петербург 5 февраля 1742 года.
Родился он 21 февраля 1728 года. Ему еще не исполнилось и четырнадцати лет, когда его тетка Елизавета поспешила найти ему жену2.
Выбор пал на принцессу Софию Ан- хальт-Цербстскую. Ее отец — губернатор Штеттина— неохотно выдавал свою дочь замуж за наследника престола — наследство далеко не надежное3.
Мы называем ее именем София Ан- хальт-Цербстская потому, что та, кого Вольтер
называл Северной Семирамидой, приняла имя Екатерины и прославила его лишь после того, как приняла греческую веру.
Она родилась в Штеттине 2 мая 1729 года и была моложе своего будущего супруга на восемь или девять месяцев.
Свадьба состоялась 1 сентября 1745 года. Жене было шестнадцать лет, мужу — семнадцать.
Муж был хил телом, слаб умом. Поручив воспитание сына наемным учителям, родители обращали на него мало внимания; у него был вдавленный лоб, безжизненный взгляд, нижняя губа несколько выдавалась вперед.
Он страдал еще одним недугом, о котором хоть и трудно, но придется говорить: мы расскажем оо этом несколько позже.
Екатерина, в противоположность своему нареченному, обладала прелестным остроумием, аристократическими манерами, пышной красотой, свежестью розы или персика; вместе с тем ей был присущ твердый характер, смелость, решительность, настойчивость, отвага и при всем этом удивительное обаяние, вкрадчивость, любезность, то есть все, что необходимо для того, чтобы не только завоевать расположение мужчин, но и сохранить его. Î
Брак был заключен, но он не состоялся.
Что этому воспротивилось?
Недуг, о котором мы только что упомянули, тот самый, что мешал Людовику XVI в течение семи лет быть в интимных отношениях со своей супругой Марией-Антуанеттой.
Молодой герцог страдал болезнью, которую в медицине принято называть «frein».
Интимные усилия молодого герцога были бесплодны и не имели никаких последствий.
При помощи легкой и непродолжительной операции можно было бы помочь делу. Но мо-
лодой герцог, которого впоследствии предали такой мучительной смерти, страшился боли и не соглашался на операцию.
При этом возникло одно весьма затруднительное обстоятельство.
Среди множества древних русских обычаев, сохранившихся и в современной России, был один, согласно которому молодая жена должна была представить в шкатулке родственницам старшего поколения доказательство своей невинности. Это доказательство Петр, а вернее, Екатерина не могла представить, так как акт брачных отношений не состоялся. Молодая жена заявила, что, дабы ее не подозревали в безнравственности, она сошлется на несостоятельность своего мужа. Петр не желал быть опозоренным, если обнародуют его бессилие, и пытался найти спосоо все уладить.
Одна матрона предложила простой способ: как в давние времена, принести Эскулапу в жертву петуха, и кровь этой птицы выдать за то доказательство, которого не мог предъявить Петр.
Петр согласился: хитрая уловка имела полный успех у Елизаветы: но она привела к тому, что великий князь сразу же попал в зависимость от своей жены.
Она знала его тайну.
Однако же цель, преследуемая императрицей — продлить существование династии, — не была достигнута. Прошло уже девять лет, как ее наследник женился, а сам все еще оставался без наследника.
Отсутствие потомства сильно волновало добрую императрицу Елизавету, у нее были дети, но она не могла достойным образом объявить их наследниками Петра III. Елизавета жаловалась Екатерине, но та убедила императрицу, что все это не по ее вине.
Императрица потребовала объяснений, а так как Екатерина была женщиной глубокого ума, она без особых затруднений доказала свою правоту.
Елизавета приказала позвать врача великого князя, который должен был уговорить своего знатного клиента согласиться на операцию.
Уговоры ни к чему не привели. Петр III, точнее, молодой великий князь, чувствовал себя великолепно и не испытывал никакого желания подвергаться операции, какой бы легкой она ни была.
Тем не менее великий князь во что бы то ни стало должен был иметь потомство.
Вот как распорядилась добродушная императрица, чтобы добиться своего.
У великого князя был фаворит по имени Салтыков. Молодой, хорошо сложенный, смелый, предприимчивый, он нравился женщинам и, казалось, был по уши влюблен в великую княгиню. Частично это решало успех дела.
В высших сферах ему дали понять, что он может выразить свои чувства. Это будет принято благосклонно. В то время, как он получил одобрение из уст самой императрицы, великому канцлеру Бестужеву было поручено осведомить великую княгиню, что ей необходимо иметь ребенка. Как бы невзначай великий канцлер спросил ее, что она думает о графе Салтыкове. Екатерина обладала живым умом: она сразу все сообразила.
— У меня не сложилось еще определенного мнения о нем, но приведите его ко мне сегодня вечером.
Прошло девять месяцев, и 1 октября 1755 года великая княгиня родила сына, который при крещении получил имя Павла Петровича, то есть Павел сын Петра. И в конце концов Петр мог полагать, что Павел был его сыном.
Но каким образом?
Мы попытаемся рассказать вам об этом. Мы говорим «попытаемся» потому, что подобный рассказ, вы это отлично понимаете, дорогие читатели, не пойдет как по маслу.
Великая княгиня беременна, и во избежание супружеской ссоры необходимо, чтоб великий князь признал себя отцом ребенка. И вновь исполнить эту миссию взялся Салтыков.
Петр, держась в стороне от любовных утех, вел веселую жизнь.
Два или три раза в неделю он устраивал вечера, и почти всегда эти вечера превращались в оргии. На один из таких ужинов были приглашены несколько женщин легкого поведения; они не смущались тем, что им говорили и даже как с ними обращались.
И только великий князь, как обычно, должен был довольствоваться ролью наблюдателя. Его молодые друзья, и в особенности Салтыков, так стыдили его за бессилие, что под их давлением он согласился вновь встретиться со своим хирургом. Вслед затем в честь князя было произнесено такое множество тостов, что силы его покинули, он свалился и заснул мертвецки пьяный. Салтыков, сохранивший если не трезвость, то все-таки разум, подбежал к двери, ввел хирурга, и тут же была произведена операция — так, что даже сам князь ее почти не заметил.
Спустя несколько дней он настолько поправился, что сделал вторую попытку вступить с великой княгиней в супружеские отношения. Попытка эта увенчалась полным успехом: она тем более удалась, что теперь уже не было препятствий ни с той, ни с другой стороны.
Но таков был странный характер князя: вместо того чтобы быть довольным, он расер- дился и побежал жаловаться императрице,
— В чем дело? — спросила она.— Разве девять лет тому назад вы не прислали мне шкатулку, содержащую, согласно русскому обычаю, доказательство вашего супружеского триумфа?
Петр замолчал: он попался в собственные сети; полностью отдалившись от великой княгини, он взял в любовницы мадемуазель Воронцову, племянницу великого канцлера.
Беременность великой княгини протекала нормально, несмотря на недовольство великого князя, и, как мы уже сообщили, 1 октября 1755 года великая княгиня родила наследника, который впоследствии стал императором Павлом; о смерти его мы рассказали прежде, чем о его рождении.
Согласно обычаю, новость о благополучных родах великой княгини сообщили в высших сферах других стран.
Графу Салтыкову, который, будучи фаворитом великого князя, казалось, принимал живейшее участие в счастливом происшествии, поручили известить о нем шведского короля.
Салтыков уехал, рассчитывая на быстрое возвращение. Но на обратном пути его задержал курьер: он был назначен посланником в Гамбурге, и ему было запрещено показываться в столице всея Руси. Следовало подчиниться, и Салтыков отбыл к месту назначения.
Великая княгиня просила, плакала, умоляла, но от нее уже получили то, чего добивались,— наследника.
Почему Екатерина возненавидела своего сына Павла? За то ли, что ребенок был уродлив, что непостижимо, ведь родители его были красивые и здоровые люди? Об этом ничего не известно, но каждый знает, что мать с самого его детства стала ненавидеть великого князя.
О рождении Павла существует и другое предание: якобы он был одним из восьми или девяти детей императрицы Елизаветы, усыновить которого она заставила великую княгиню Екатерину. Но это маловероятно, и версия эта не внушает особого доверия.
Однако возвратимся к одиночеству бедняжки великой княгини, разлученной с ее возлюбленным Салтыковым, и расскажем, что за этим последовало.
В то время, когда она была погружена в глубокую печаль, во дворце появился посол Великобритании шевалье Уильям, человек обаятельный и со смелым воображением. Однажды он подошел к Екатерине и сказал:
— Мадам, кротость — черта характера людей, приносимых в жертву: тайные интриги, скрытое злопамятство не достойны ни вашего положения, ни вашего ума. Большинство людей слабы, люди решительные всегда получают, что хотят. Не стесняйте себя, открыто заявите о своих правах, дайте понять, что вы оскорблены теми поступками, которые направлены против вас, и вы сможете жить так, как вам будет угодно.
И он закончил свое наставление, сказав великой княгине, что сегодня вечером представит ей молодого поляка — Понятовского. Этот поляк был близким другом сэра Уильяма, и, так как Понятовский был исключительно красив, а Уильям исключительно развратен, по поводу их связи ходили слухи, не украшавшие ни того, ни другого.
Пока что Станислав (так звали поляка, друга Уильяма) исполнял обязанности секретаря посольства.
В тот же вечер он был представлен. Посол использовал свои привилегии дипломата: ему
не могли отказать в приеме у великой княгини, этим было бы нанесено оскорбление послу.
На следующий день великая княгиня встретилась с очаровательным секретарем посольства у английского консула Ронгтона, куда она явилась переодетой в мужской костюм. Сэр Уильям охранял покой любовников. Можно себе представить, что сэр Уильям был послом широкого кругозора, который старался во что бы то ни стало создать для Англии крут русских друзей если не для настоящего, то хотя бы для будущего времени.
На следующий день Понятовский уехал в Варшаву, и, чтобы по его возвращении с ним не поступили так, как с Салтыковым, он возвратился в звании посланника Польши. С тех пор он стал неуязвимым.
Вернемся к великому князю Петру. Мы столько занимались великой княгиней, что это несколько увлекло нас в сторону от личности Петра, хотя мы и поговорили о его физических особенностях.
Попытаемся заполнить этот пробел и расскажем о его положении в обществе, воспитании, характере.
В ранней молодости он стал герцогом Голштинским, но так как он был в родстве и с Карлом XII, и с Петром I, его избрали королем Швеции, и в то же время русская царица вызвала его к себе и объявила наследником русского престола.
Избрав Россию, он тем самым преподнес корону Швеции своему дяде.
Понадобилось два столетия, чтобы вознести этого человека на такую высоту, но по воле случая или, вернее, по тайной воле Провидения, подготовлявшего для России царствование Екатерины, он оказался недостойным престола.
Что касается его характера, в котором различались две совершенно противоположные стороны, то он сформировался соответственно полученному герцогом Голштинским воспитанию. Оно было поручено двум гувернерам, людям весьма достойным, но, к несчастью, пытавшимся слепить из герцога великого человека. Вот почему, когда пришло время отправить его в Россию, где считалось, что одного великого человека, Петра I, достаточно для всего императорского рода, будущего Петра III вырвали из рук его первых воспитателей и окружили наиболее легкомысленными из придворных Елизаветы. Отсюда — порывы к великим свершениям, порывы, которые, остановившись на полдороге, воплощались в низких, недостойных поступках. Он стремился достигнуть высочайших сфер, но, будучи ничтожным существом, мог подражать только слабостям и ребячествам своих героев.
Петр I прошел через все воинские звания, и Петр III хотел следовать его примеру, но не стал генерал-аншефом, как его дед, а дошел лишь до звания капрала. Он питал страсть к стрревым занятиям, которые проводил на прусский манер. Он был увлечен этим даже в моменты нежных встреч с великой княгиней. Чтобы не вызывать недовольства старых русских полков, сохранивших верность традициям Петра Великого, Петру III, кроме оловянных солдатиков, которыми он развлекался по вечерам, отдали в распоряжение несчастных голштинских солдат, командиром которых он считался. Его нелепая от природы фигура становилась еще более смехотворной, когда он надевал на себя мундир Фридриха II, короля, которому во всем преувеличенно подражал. Его гетры, с которыми, по словам Екатерины, он не расставался даже ночью, затрудняли ходьбу, меша-
9
ли сгибаться коленям и делали Петра похожим на оловянных солдатиков, которые, помимо живых пехотинцев, служили главным его развлечением. Огромная шляпа, странным образом нахлобученная, закрывала маленькое некрасивое личико, довольно, впрочем, оживленное, порой даже хитрое, как у тех обезьян, самые капризные гримасы которых он, казалось, изучал, чтобы потом им подражать.
Добавьте ко всему этому еще и распространившуюся молву о бессилии великого князя, молву, которую не могло рассеять рождение Павла и явная благосклонность Петра III к мадемуазель Воронцовой. Все эти слухи занимали воображение людей, которые ничего не знали о тайном вмешательстве хирурга,
На первый взгляд можно было подумать, что такой человек должен был предоставить жене полную свободу действий: она ведь не препятствовала его увлечениям!
Отнюдь нет: великий князь был ревнив.
Однажды ночью Понятовский попал в ловушку, которую подстроил ему Петр, применив для этого все тактическое искусство, на которое он был способен.
Понятовский, польский посланник, сослался на права человека.
Вместо того чтобы приказать его убить, как это сделал бы любой монарх, или убить его самому, как это сделал бы любой оскорбленный супруг, Петр запер его в кордегардии, как поступил бы капрал, совершающий ночной обход. Потом он послал курьера к официально признанному любовнику императрицы Елизаветы, который тогда правил Россией,, чтобы сообщить ему о том, что происходит. Но пока курьер доставлял послание, великая княгиня со своей стороны пришла к мужу и открыто поставила вопрос о взаимных правах супругов
в хорошо организованной семье: она потребовала оставить ей ее любовника, пообещав со своей стороны не обращать внимания на его отношения с Воронцовой; и так как содержание воинских частей поглощало все доходы великого князя, она предложила особый пенсион для Воронцовой, который согласна была выплачивать из своей личной казны.
Нельзя было придумать более подходящих условий, поэтому предложение Екатерины растрогало великого князя. Он приказал открыть двери караульного помещения. Их открыли даже слишком широко для Понятовского, который привык проникать сквозь приоткрытые двери. Он улизнул, и его побег обозначил первую победу Екатерины над мужем.
Как талантливый полководец, Екатерина умело воспользовалась успехом.
При своем дворе, который уже начал отделяться от двора великого князя, она готовила падение мужа и замену его сыном при своем собственном регентстве.
Но для достижения этой цели было необходимо либо ждать смерти императрицы, либо убедить ее лишить племянника престолонаследия. Ожидание смерти Елизаветы могло затянуться надолго, убедить ее лишить племянника престола было, конечно, трудным делом.
У Елизаветы был робкий и нерешительный характер. Однажды, подписывая договор о дружбе с одной иностранной державой, она вдруг отказалась дописать четыре последние буквы своего имени, потому что на перо села оса, а она это восприняла как плохую примету. Заговор Екатерины погиб бы в зародыше, если бы великий канцлер Бестужев, всецело преданный великой княгине, не поддержал его. Ведь именно он первым заговорил с ней о Салтыкове.
Ql
f)J
Продолжая строить планы, заговорщица родила девочку, которая прожила всего лишь пять месяцев.
К несчастью, дворцовая интрига вызвала падение великого канцлера. Императрица взяла нового любовника, который снисходительно относился к несчастному Иоанну Антоновичу (мы уже о нем упоминали), а следовательно, не одобрял махинаций Екатерины. Императрица написала королю Польши о том, чтобы он отозвал посла Понятовского. Понятовского отозвали. Сэр Уильям перешел в другое посольство, и все планы великой княгини рухнули.
В довершение неудач она публично поссорилась с мужем и оказалась в полном одиночестве. Дело дошло до того, что ее любимую служанку посадили в тюрьму. В какой-то момент она решила, что окончательно погибла, и, сомневаясь в своих способностях, в отчаянии от сложившейся судьбы, бросилась в ноги императрице, испрашивая позволения возвратиться к своей матери. Более того, она разрешала великому князю, своему мужу, взять другую жену. Императрица уклонилась от ответа.
Тогда Екатерина подчинилась обстоятельствам, она замкнулась в полном одиночесте, и так провела последние три года жизни Елизаветы.
Наконец 5 января 1752 года господин Кейт, сменивший Уильяма, писал своему правитель¬
ству:
«Сегодня в два часа дня умерла императрица Елизавета. В прошлое воскресенье у нее началась сильная геморрагия, после чего не осталось надежды на благополучный исход. Однако, хотя и обессиленная, она пребывала в здравом рассудке. Вчера, чувствуя, что умирает, она вызвала великого князя и великую княгиню,
попрощалась с ними с глубокой нежностью, причем говорила в ясном сознании, с покорностью судьбе».
Со своей стороны посол Франции господин де Бретей писал:
«Императрица, чувствуя, что умирает, приказала позвать великого князя и великую княгиню. Она наставляла князя заботиться о своих подданных и заслужить их любовь, потребовала от него клятвы жить неразлучно и в полном согласии с женой и закончила ласковыми словами о юном князе Павле: требовала от отца беречь свое дитя и тем самым доказать свою признательность умирающей императрице. Великий князь обещал исполнить все это.
Когда он унаследовал престол под именем Петра III, шел тридцать четвертый год его жизни. Долго сдерживаемый строгой опекой, князь вовсю стал пользоваться неограниченной властью. Он начал свое царствование обнародованием знаменитого манифеста о вольности дворянской, который предоставлял и поныне предоставляет дворянам России права свободных народов.
Провозглашение его вызвало такой восторг, что представители дворянства предложили соорудить золотую статую императору; насколько я помню, такой статуи в честь какого-либо монарха никогда не существовало4. Правда, предложение это не было проведено в жизнь».
два вступив на престол, новый царь отдал приказ чеканить монеты со своим изображением.
Петр III сделал это не из тщеславия. Художник, которому было поручено выгравировать портрет императора, принес ему свое произведение. То был гравер-идеалист: сохранив некоторое сходство в чертах лица, он попытался решить нелегкую задачу — придать им хоть немного благородства.
Лавровая ветвь, которую должен был сорвать будущий победитель, уже украшала его голову, окружая пышную шевелюру.
Петр III был реалистом, он отказался от заведомой лжи и оттолкнул образец со словами:
— Я здесь похож на короля Франции.
И, чтобы не походить на французского короля, он велел изобразить себя в солдатской фуражке; это было исполнено так забавно, что новые монеты принимали не только с радостью, но и с веселым смехом.
В то же время,— и это уже было не так смешно, хотя значительно более важно, и, может быть, именно поэтому— он вернул всех высланных в Сибирь.
251
Трое из них в свое время играли ведущие роли.
Первым был Бирон, ему исполнилось семьдесят пять лет.
Волосы его поседели, но лицо этого грозного человека осталось суровым и строгим. В течение девяти лет, пока он был у власти, он предал одиннадцать тысяч существ насильственной смерти в муках, которые придумывал сам, подобно Фаларису и Нерону. Когда умерла его царственная любовница, он попытался унаследовать ее престол и, принося жертву всеобщей ненависти, казнил одного из самых главных помощников, заставив его молчать и свалив на него всю подлость своей девятилетней тирании. Колосс на глиняных ногах, он рухнул при первом же натиске, Три недели высшей власти стоили ему двадцати лет высылки, и теперь он вернулся стариком, готовым отчитаться перед Богом за ту кровь, которую он пролил в городе, где царствовал с высоты эшафота и где все, кого бы он ни встретил, имели право упрекнуть его в смерти отца, сына, брата или друга!
Вторым был Миних, тот самый Миних, который сверг Бирона, чтобы посадить на престол бедного крошку, трехмесячного Иоанна. Этот младенец заплатил за свое краткое царствование, такое краткое, что современники его почти не заметили и о нем едва упоминается в истории, двадцатью годами крепости, десятью годами безумия и страшной смертью.
Свергнутый в свою очередь, Миних, как вы помните, спокойно взошел на эшафот, где его должны были четвертовать и где он принял помилование с тем же спокойным лицом, с ка-
ким ожидал смерти. Сосланный в Сибирь, запертый в доме, одиноко стоявшем среди зловонных и непроходимых болот, он пережил отравленные испарения, как прежде пережил эшафот, из глубины своей тюрьмы заставляя дрожать правителей соседних стран.
Когда он вернулся, ему было восемьдесят два года: великолепный старик, с волосами и бородой, к которым со дня его ссылки не прикасались ни бритва, ни ножницы. У ворот Санкт-Петербурга старика встретили тридцать три его потомка. При виде их этот человек, из глаз которого не пролилось ни одной слезы при зрелище самых страшных катастроф, разрыдался.
Императору пришла в голову странная, нелепая мысль — сблизить эти две горы с покрытыми снегом вершинами, эти Чимборасо и Гималаи, которые разделял Атлантический океан переворотов и преступлений. Он захотел помирить этих двух титанов, боровшихся прежде, словно Геркулес и Антей. Он призвал их к себе, пигмей, едва доходивший им до щиколотки, приказал принести три бокала и заставил чокнуться не только с собой, но и друг с другом. Внезапно, когда каждый уже держал бокал в руке, кто-то подошел к императору и тихо сказал ему что-то на ухо. Петр выпил вино, выслушал, что говорили, и вышел ответить.
Оказавшись наедине, старцы встретились глазами, в которых сверкала ненависть, презрительно улыбнулись, поставили полные бокалы на стол и вышли через разные двери, чтобы встретиться только у подножия престола Господня.
Затем, после них, следующий по времени и, главное, по своим достоинствам, вернулся Ле- сток; этому хирургу императрица Елизавета была обязана престолом, на котором просидела двадцать один год.
Мы уже рассказали об этом читателю.
И вот они возвращались, а вернувшись, наполнили двор Петра III, непримиримыми врагами, жадно стремившимися не только вновь оказаться на родине, но и вернуть свои богатства; все они протягивали руку в прошлое, чтобы среди обломков гигантского кораблекрушения выудить хотя бы часть своего былого состояния. Их вели в огромные склады, где, по обычаю этой страны, хранится конфискованное имущество, и каждый искал в пыли исчезнувших царствований то, что когда-то принадлежало ему: усыпанные бриллиантами ордена, императорские табакерки, портреты государей, драгоценную мебель, подарки, за которые когда-то цари покупали их совесть, награды за редкие проявления преданности и, несомненно, за многочисленные подлости.
И, окруженный этими обломками прошлого, Петр III беспрестанно совершал ошибки или поступал неосмотрительно. Он посылал в Сенат один закон за другим; все они были сочинены по образцу прусских законов, и до сих пор их называют «Кодексом Фридриха». Каждый день он оскорблял свой народ, предпочитая его обычаям иностранные, ежедневно изнуряя чрезмерной муштрой гвардейцев, этих хозяев трона, современных преторианцев, заменивших стрельцов, а ведь за время царствования двух женщин, предшественниц Петра III,
гвардейцы привыкли к спокойной и размеренной службе.
Более того, император собирался вести их в Голштинию, вознамерившись с их помощью отомстить за оскорбления, которые его предки в течение двухсот лет терпели от Дании. Но что больше всего прельщало коронованного поклонника прусского императора, — это то, что- по дороге ему предстояло увидеться со своим кумиром, поцеловать руку великого Фридриха, отдать в распоряжение этого умелого тактика стотысячную армию, силами которой основатель Пруссии мог упорядочить свою страну, выровнять ее границы, еще и ныне такие нескладные, что, глядя на карту, просто нельзя понять, как, с географической точки зрения, может существовать эта огромная змея, у которой голова касается Тионвиля, хвост Мемеля, а на животе торчит горб из-за проглоченной Саксонии.
Правда, горб этот недавнего происхождения и существует с 1815 года.
Пока же время проходило в празднествах и оргиях. Этот царь, если не совсем, то почти бессильный, окружал себя женщинами, которых отрывал от мужей и предоставлял своим фаворитам. Он запирал с самыми красивыми дамами прусского посла, который не разделял его ненависти к женщинам, и, чтобы никто не нарушил удовольствий дипломата, сам стоял на страже у дверей его спальни с обнаженной шпагой в руке и отвечал великому канцлеру, который являлся с докладом:
— Вы же видите, сейчас невозможно, я на страже!
Со времени восшествия на престол Петра III прошло уже пять месяцев, и эти пять
месяцев были долгим праздником, в продолжение которого мужчины и женщины, придворные и проститутки,— Петр III считал, что для женщин не существует сословий,— одурманивались английским вином и табаком. Какое бы положение ни занимали дамы, император не позволял им возвращаться домой. И пиры продолжались до тех пор, пока, истомленные долгим бодрствованием и наслаждениями, они не засыпали на диванах, под звон бокалов, разбиваемых вдребезги, и песен, угасающих подобно свечам, что бледнеют при первых лучах зари.
Но самое плохое было то, что Петр III ежеминутно выказывал свое презрение к русским. Оловянные солдатики, деревянные пушки, которыми ему разрешали забавляться, когда он был великим князем, более не удовлетворяли его.
Мы уже говорили о том, как мучил он настоящих солдат из плоти и крови с тех пор, как стал императором. Теперь, располагая медными, настоящими пушками, он хотел, чтобы непрерывные залпы напоминали ему о войне.
Однажды он отдал приказ выстрелить одновременно из ста крупнокалиберных пушек. Чтобы отговорить его от этой затеи, пришлось — и это было нелегко — убедить его в том, что от такого залпа в городе развалятся все дома.
Он был игрушкой в руках своих фаворитов, которые, пользуясь близостью с ним, за деньги оказывали людям протекцию. Двоих он уличил в этом, отобрал полученные деньги, избил их, но в тот же день отобедал с провинившимися, словно его доверие нисколько не пошатнулось.
1
%
NT ^
(5г\ч
256
— Так,— говорил он,— делал мой прадед Петр Великий.
Каждое утро при дворе рассказывали какую-нибудь новость, и, будь то правда или ложь, она всегда бывала неожиданно скандальной.
В числе прочих ходили слухи о том, что император вызвал из Гамбурга графа Салтыкова, первого любовника Екатерины, про которого говорили, что он отец великого князя Павла, и требовал у него, умоляя и грозя, чтобы тот объявил о своем отцовстве. Он добавлял, что, если Салтыков сделает это, он, Петр, откажется от ребенка, который считается его сыном и по закону должен наследовать престол. Тогда фаворитка Петра III, которая уже начинала проявлять чрезмерное тщеславие, возвысится до сана императрицы, а Екатерину отстранят. Заодно и другие молодые придворные дамы, почему-либо недовольные своими мужьями, будут разведены; утверждали, что уже заказали двенадцать кроватей для двенадцати свадеб, которые предполагалось сыграть в ближайшее время.
Со своей стороны императрица, в течение трех лет жившая одиноко и спокойно, смирением заставила окружающих забыть о своей первой скандальной любви. Она проявляла благочестие, чем глубоко трогала русский народ, религиозность которого чисто внешняя^-Она снискала^1юбовь солдат, разговаривая с часовыми, расспрашивая начальников, давая целовать руку. Однажды вечером она пересекала темную галерею. Часовой отдал ей честь.
— Как ты узнал меня в темноте? — спросила она.
Й
р)
IS
щ
J
V
4
^v1
)>!
î
ф
îfcUi!
i
л
I
10. А. Дюма т. 2
257
— Матушка,— ответил солдат в своей восточной манере,— как не узнать тебя? Ведь ты проливаешь свет на те места, где проходишь!
Император плохо обращался с ней всякий раз, как они виделись, все знали, что она в опале и фактически, если не официально, отстранена от престола. Она говорила всем, кто хотел ее слушать, что со стороны мужа может опасаться самого худшего. Когда она появлялась перед публикой, на лице ее была грустная улыбка женщины, покорившейся судьбе, из глаз непроизвольно текли слезы, и жалость, которую она вызывала, превращалась в оружие грядущей борьбы. Ее тайные союзники — а их у нее было много — говорили, что всякий раз удивляются, видя ее все еще живой. Они намекали на попытки отравления, которые до сих пор не удавались благодаря стараниям тех, кто только из преданности остался служить ей, но, повторяясь ежедневно, могли в конце концов увенчаться успехом.
Подобные слухи еще усилились, когда стало известно, что император переводит ближе к Санкт-Петербургу несчастного Иоанна, заключенного в крепость почти от рождения, и когда выяснилось, что Петр III посетил его в тюрьме.
Этот поступок был в самом деле знаменательным: признанный наследником императрицей Анной, своевольно и внезапно изгнанный с престола Елизаветой, Иоанн являлся естественным преемником Петра, если предположить, а это весьма вероятно, что у того не будет законного сына.
Таким образом, подобно тому, как моряк по особому движению воздуха в пространстве,
по характерным скоплениям облаков на небе узнает о приближении бури,— легко было предвидеть, можно сказать, по колебаниям почвы под ногами, что неуклонно приближается одно из тех землетрясений, когда качается трон и исчезает коронованная голова. В разговорах слышались одни лишь жалобы, робкие, отрывистые вопросы задавались только шепотом: чувствуя, что такое положение не может долго продолжаться, каждый старался прощупать соседа, узнать, что тот думает, и высказать ему собственные мысли. Императрица сменила печальное выражение лица на серьезное; постепенно к ней вернулось спокойствие, за которым великие сердца прячут великие планы. Народ содрогался, слыша искусно распространяемые слухи; солдат внезапно будили невидимые барабаны, которые, казалось, приказывали им быть наготове; по ночам таинственные голоса взывали: «К оружию!» — и тогда в кордегардиях, в казармах, даже в палатах дворца солдаты собирались, спрашивая друг друга:
— Что-нибудь случилось с нашей матушкой?
И, качая головой, грустно отвечали:
— Нет у нас вожака! Нет вожака!
Но они ошибались: вожак был, и даже два вожака.
В армии служил дворянин, никому не известный, владевший несколькими крепостными. Его братья были солдатами в гвардейском полку, а сам он был адъютантом начальника артиллерии; при этом был хорош собой, огромного роста и редкостной силы: сворачивал серебряную тарелку, как лист бумаги, ломал стакан, расперев его изнутри пальцами, и остана-
I
Wï
w
Ш
к
вливал несущихся галопом лошадей, запряженных в дрожки, схватившись за заднюю рессору.
Его звали Григорий Орлов, он был потомок молодого стрельца, которого Петр I помиловал в тот страшный день, когда слетели две тысячи голов и на виселицах закачались четыре тысячи трупов.
Его четырех братьев, которые, как мы сказали, служили в гвардейском полку, звали Иван, Алексей, Федор и Владимир.
Екатерина заметила Григория. Уже тогда эта здоровая самка умела разглядеть красивого мужчину тем взглядом знатока, каким перекупщик оценивает хороших лошадей.
Императрице представился случай дать красавцу Орлову доказательство того, что она им интересуется.
Генерал, адъютантом которого служил Орлов, был влюблен в княгиню Куракину, одну из самых прелестных женщин двора.
Орлов же был ее тайным любовником, впрочем, говоря «тайным», мы грешим против истины: все знали об этой связи, кроме самого заинтересованного лица, генерала.
Неосторожность любовников открыла ему все.
Орлов впал в немилость и ждал ссылки в Сибирь, но чья-то невидимая рука отвела наказание, нависшее над его головой.
То была рука великой княгини — Екатерина тогда еще не стала императрицей.
Счастье никогда не приходит в одиночку. Однажды вечером дуэнья, как в испанских комедиях, приложив палец к губам, сделала Орлову знак следовать за ней.
&
1)
V
Эту дуэнью, которая в царствование Екатерины прославилась тем, что незаметно приглашала следовать за собой, причем, призывая к молчанию, таинственно прикладывала палец к губам, звали Екатериной Ивановной.
Когда рассказываешь о подобных драмах, следует называть даже незначительных персонажей, чтобы историка не обвинили в том, что он пишет всего лишь роман.
Орлов последовал за ней и был осчастливлен ; быть может, тайна не усиливает счастья, но, во всяком случае, обостряет любопытство. Орлов так привык к своей прекрасной незнакомке, что любовь не уступила места почтению, когда он узнал ее во время какой-то публичной церемониии.
Быть может, по совету Екатерины или следуя собственным расчетам, молодой офицер не изменил образа жизни, тайна тщательно соблюдалась.
После смерти генерала, который хотел сослать его, Орлов стал казначеем артиллерии, эта должность дала ему звание капитана и, что еще более ценно, возможность завести себе друзей, вернее, завести друзей императрице.
Кроме этого, никому не известного друга, у Екатерины была еще неизвестная подруга.
Это была княгиня Дашкова.
Княгиня Дашкова, самая знаменитая, была младшей из трех знаменитых сестер.
Старшая, княгиня Бутурлина, объездила всю Европу и в путешествиях раздарила свое сердце по крошкам на больших дорогах.
Вторая была та самая Елизавета Воронцова, фаворитка императора, о которой мы уже говорили.
(atî
Все три были племянницами Великого канцлера.
Княгиня Дашкова была странная женщина, при дворе ее считали оригиналкой. В такой стране и в такое время, когда румяна были первой необходимостью в туалете элегантной женщины и где они были настолько распространены, что даже нищенка, просившая милостыню, прислонившись к тумбе, не обходилась без румян, в такой стране, где в число подарков, которые крестьяне по обычаю дарили своей госпоже, обязательно входила банка румян или по крайней мере банка белил, она в пятнадцать лет объявила, что никогда не будет ни белиться, ни румяниться.
Любопытно то, что она сдержала слово.
Как-то один из самых красивых и молодых господ двора осмелился обратиться к ней с несколькими любезными словами.
Девушка тотчас же позвала своего дядю, Великого канцлера.
— Дядюшка,— сказала она ему,— князь Дашков делает мне честь просить моей руки.
Князь не осмелился опровергнуть ее слова, и они поженились.
Правда, брак их был неудачным. Через месяц или два после свадьбы муж отослал ее в Москву.
Но она была известна своим остроумием. При дворе Петра III было не очень-то весело; Елизавета поговорила о Дашковой с великим князем, и он приказал ее вернуть.
К несчастью для великого князя, у молодой княгини был тонкий, деликатный, прелестный ум; пьянство и курение, среди которых жила ее сестра, были ей отвратительны. Образ оди-
ж
i
р)
Ы
%
\iL
(0
й
й
fW
Щ
I
Si
%
i
ж
ш
Ж
ш
нокой и задумчивой императрицы привлек ее. Она стала искать ее дружбы, но скромно, ненавязчиво, неслышно, и кончилось тем, что нежность к Екатерине превратилась в страсть, заставившую ее пожертвовать всем, даже своей семьей.
Вот каковы были два доверенных лица императрицы, два рычага, с помощью которых она готовилась сдвинуть с места окружавший ее неустойчивый мир.
Прежде всего надо было обеспечить себе помощь двух человек.
Во-первых, командира Измайловского полка, две роты которого Орлов уже перетянул на свою сторону благодаря кассе, которой он заведовал.
Во-вторых, наставника великого князя Павла, юного наследника престола.
Полковник был граф Кирилл Разумовский, брат того Разумовского, который из простого певчего превратился в фаворита, а потом и в любовника императрицы Елизаветы. Орлов обратился прямо к нему, и тот обещал исполнить все, что прикажет императрица.
Что касается графа Панина, то здесь переговоры были более сложны: это был тот самый граф Панин, о котором мы уже говорили.
К счастью, он был безумно влюблен в княгиню Дашкову. Но она упорно сопротивлялась ему, и не из благоразумия,— если женщина участвует в заговоре, то ей не до предрассудков,—а потому, что в то время, когда она родилась, Панин был любовником ее матери, и княгиня была убеждена, что граф ее отец.
И все-таки надо было заставить Панина не
л
Ж
I
М
9 IA
т
Ш
Ж
УА
противиться тому, чтобы Екатерина стала не регентшей, а императрицей.
Княгиня Дашкова пожертвовала собой, и эта история, которая могла закончиться как «Мирра» Альфьери, завершилась подобно водевилю Скриба.
Осуществил эту развязку, не очень нравственную, но имевшую большие политические последствия, один пьемонтец, великий философ.
Ему предлагали должности и почести, но он, трезвый материалист, ответил:
— Я хочу денег.
Обычно он говорил: «Я родился бедняком и видел, что на свете уважают только деньги, и я хочу их иметь; чтобы получить их, я поджег бы город с четырех концов и даже поджег бы дворец; когда у меня будут деньги, я вернусь на родину и заживу там, как другие честные люди».
И великий философ, после того как событие совершилось, уехал со своими деньгами на родину и в самом деле зажил там как честный человек.
Устроив все это, заговорщики решили, что пора действовать.
Момент был удобный: император готовился в путь, он шел воевать с датчанами. Видели, как он стал на колени перед портретом великого Фридриха, словно перед иконой, и, простирая руки к портрету, воскликнул:
— Вместе с тобой, мой господин, мы завоюем мир!
Добиться результата, к которому стремилась Екатерина, можно было двумя способами: убийством или отстранением от престола.
у
Убийство было надежным и легким средством, но Екатерина, натура тонкая, впечатлительная, чувственная, испытывала к нему отвращение. Гвардейский капитан по фамилии Пас- сек, прежде всего человек дела, по уши завязший в заговоре, упал на колени перед императрицей, умоляя ее разрешить ему заколоть Петра III кинжалом, причем брался сделать это среди бела дня во главе своих гвардейцев.
Екатерина строго запретила ему это, но он не посчитался с ее запретом, и дважды со своим другом по имени Борщаков едва не исполнил свое намерение во время прогулки Петра III к уединенному и глухому в то время месту в Санкт-Петербурге, где стоит домик, который мы посетили и который царь-плотник построил собственными руками.
Со своей стороны новоявленные инженеры под предводительством графа Панина осмотрели апартаменты императора, его кровать, спальню и самые укромные уголоки.
Первоначальный план состоял в том, чтобы ночью проникнуть к Петру III, как впоследствии проникли к Павлу I, и, если он откажется подписать отречение от престола, заколоть его, если же подпишет добровольно, оставить ему жизнь, по крайней мере на некоторое время.
Император тогда находился в Петергофе, который мы уже попытались описать. Понимая, что, если бы она оставалась в Санкт-Петербурге, это могло бы вызвать подозрения, Екатерина последовала за ним в его разиденцию. Но она остановилась не во дворце, а в парке, в павильоне, соединенном посредством канала с Финским заливом. По этому каналу она в слу-
чае необходимости могла бежать и укрыться в Швеции.
Заговор должны были осуществить, как только Петр III вернется в свой дворец в Санкт-Петербурге, но Пассек, всегда возбужденный, суетливый, нетерпеливый, имел неосторожность упомянуть о тайных замыслах в присутствии солдата; солдат донес на своего командира, и Пассек был арестован.
Предосторожность, принятая пьемонтцем О даром, спасла все в тот момент, когда заговор чуть было не провалился.
За каждым заговорщиком следовал осведомитель, приставленный этим чрезвычайно умным человеком.
Он был сразу же оповещен об аресте Пас- сека.
Пассек был арестован 8 июля 1762 года, в девять часов вечера, а в половине десятого О дар уже знал об этом; без четверти десять оповестили княгиню Дашкову, а в десять часов Панин уже был у нее.
Княгиня, женщина, которая никогда не колебалась, предложила действовать немедленно: поднять гарнизон Санкт-Петербурга и идти на Петергоф.
Но Панин, более робкий, выдвинул два возражения. Первое — что слишком торопливые действия могут погубить все: ведь даже если удастся поднять Санкт-Петербург, это будет только началом гражданской войны,— в распоряжении императора военный порт Кронштадт и три тысячи солдат-голпггинцев, не считая полков, идущих на соединение с армией. Второе —что отсутствие императрицы лишает
заговор его главной силы, ибо, чтобы поднять гарнизон, ее присутствие необходимо.
Поэтому он советовал дождаться следующего дня, а там поступить в зависимости от обстоятельств.
Высказав свое мнение, он пошел спать.
Это происходило в полночь.
Княгиня Дашкова —ей было восемнадцать лет —надев мужское платье, выходит из дома совсем одна и идет туда, где, как она знает, обычно собираются заговорщики. Там находится Орлов с четырьмя братьями. Она объявляет об аресте Пассека и предлагает действовать немедленно. Все с воодушевлением соглашаются. Алексея Орлова, простого солдата, из-за шрама на лице прозванного «меченым», человека невероятной силы, ловкости и решительности, посылают к императрице с запиской, которую он должен проглотить в случае, если его схватят. В записке только эти слова:
«Приезжайте! Время не терпит!»
Другие должны подготовить восстание и обеспечить императрице возможность бегства на случай неудачи.
В пять часов утра Орлов и его друг Бибиков зарядили пистолеты, обменялись ими и поклялись, что даже при крайней опасности не воспользуются этим оружием, а оставят его на случай, если их предприятие не удастся, чтобы убить друг друга.
Княгиня Дашкова ничего не приготовила для себя и, когда ее спросили, какой вид смерти она предпочитает, ответила:
— Мне незачем думать об этом, это дело палача, а не мое.
Императрица, как нам известно, находилась в Петергофе.
Она поселилась в уединенном павильоне, выстроенном на канале.
Канал связывал этот павильон с Балтийским морем. Пришвартованный под окнами ботик лишь ожидал сигнала, чтобы выйти в море.
Что касается императора, то он был в Ораниенбауме.
Уже с давних пор Григорий Орлов, посещая по ночам императрицу, брал с собой своего брата Алексея. Он делал это с двойной целью: во-первых, Алексей охранял брата, а кроме того, изучал все закоулки императорского парка. Алексей прошел к императрице, пользуясь теми же паролями, какими пользовался его брат, и проник в ее спальню.
Екатерина сразу проснулась и увидела его вместо Григория. Она вскрикнула от изумления.
— В чем дело? — спросила она.
Алексей протянул записку, которую ему
поручено было передать. Она взяла записку, развернула и прочла слова:
«Приезжайте! Время не терпит!»
Она подняла глаза, чтобы потребовать объяснения, но Алексей уже исчез.
Императрица оделась, спустилась вниз и отважилась сделать несколько шагов по саду.
Там она в смятении ждала, не зная, что предпринять, как вдруг какой-то всадник галопом подскакал к ней.
Это был Алексей.
— Вот ваш экипаж,—сказал он, указывая на карету, быстро приближавшуюся к ней.
Императрица побежала навстречу карете, держа под руку свою доверенную Екатерину Ивановну.
Два дня по приказу княгини Дашковой эта карета ожидала на соседней ферме; на случай же, если императрице вместо того, чтобы ехать в Санкт-Петербург, придется бежать до самой границы, были приготовлены перекладные.
Каретой, запряженной восемью степными лошадьми, управляли два почтовых ямщика, которые не знали, кого они везут.
— Но в конце концов куда я еду? — спросила Екатерина, садясь в карету.
— В Санкт-Петербург,— ответил Але¬
ксей,— там все готово, чтобы провозгласить вас царицей.
Впрочем, когда мы пишем эти строки, перед глазами у нас письмо Екатерины Понятов- скому. В этом письме она сама рассказывает о том, что произошло.
Предоставим же ей слово. Письмо это любопытное и весьма неординарное. Мы добавим к ее рассказу то, о чем она сочла нужным умолчать.
«Я была почти одна в Петергофе, при мне были только служанки, казалось, все меня забыли. Дни мои проходили в тревоге,— я знала, что делается для меня и что замышляется против меня. 28 июля, в шесть часов утра, ко мне в спальню входит Алексей Орлов, будит меня, подает мне записку и говорит, чтобы я вставала, что все готово. Я спрашиваю его о подробностях, но он исчезает.
Я не колеблюсь. Быстро одеваюсь, не тратя времени на тщательный туалет. Спускаюсь, сажусь в карету, Алексей садится вслед за мной.
У дверцы вместо лакея стоит другой офицер. Третий встречает меня за несколько верст от Санкт-Петербурга.
За пять верст от города встречаю старшего Орлова с князем Барятинским-младшим. Князь уступает мне место в экипаже, так как мои лошади измучены, и мы останавливаемся в казармах Измайловского полка. Там только двенадцать солдат и барабанщик, который начинает бить тревогу. Появляются солдаты, они целуют мне ноги, руки и одежду, называют меня спасительницей. Двое приводят под руки священника и приступают к присяге. Покончив с этим, они просят меня сесть в карету. Священник с крестом идет впереди. Мы едем в Семеновский полк. Весь полк выходит нам навстречу с криками «Виват!». Мы едем в церковь Казанской Божьей Матери. Здесь я выхожу из кареты. Является и Преображенский полк, тоже с криками «Виват!». Солдаты говорят:
— Мы просим у вас прощения за то, что прибыли последними; офицеры не пускали нас, но мы арестовали четверых, чтобы доказать вам нашу преданность — ведь мы хотим того же, чего и наши братья.
Затем прибыли конные гвардейцы. Я никогда еще не видела такой бурной радости. Они кричали, что их родина теперь свободна. Это происходило между садом гетмана и Казанской церковью. Конная гвардия была в строю во главе с офицерами. Так как я знала, что моего дядю, князя Георгия, которому Петр Ш отдал этот полк, ненавидят солдаты и офицеры, я послала пеших гвардейцев к нему домой с поручением просить его не выходить на улицу, что-
*
);]
\)£
é*
/3
f
111
бы с ним чего-нибудь не случилось. Однако ничего не вышло, полк уже послал кого-то с поручением арестовать его. Дом разграбили, его избили. Я поехала в новый Зимний дворец, где собрались Сенат и Синод. Наскоро составили манифест и текст присяги.
Потом я вышла из кареты и пешком обошла войска: всего было четырнадцать тысяч солдат, гвардейцев и пехотинцев. Как только они замечали меня, раздавались крики радости, которые повторяли бесчисленные толпы народа. Я поехала в старый Зимний дворец, чтобы принять необходимые меры и довести дело до конца. Мы посоветовались: было решено, что я поеду во главе войск в Петергоф, где Петр Ш собирался в тот день обедать. На всех дорогах были расставлены посты, нам то и дело приводили пленных. Я послала адмирала Талызина в Кронштадт. Прибыл канцлер Воронцов, стал упрекать меня за то, что я уехала из Петергофа; его привели в церковь, чтобы он присягнул мне,—таков был мой ответ. Потом, тоже из Петергофа, приехали князь Трубецкой и граф Александр Шувалов, чтобы привлечь полки на свою сторону и убить меня; их тоже привели к присяге, и они присягнули без всякого сопротивления.
После того как мы разослали курьеров и приняли все меры предосторожности, около десяти часов вечера я надела гвардейскую форму; с горячими приветствиями меня произвели в полковники, и я поскакала верхом. Мы оставили только по нескольку человек от каждого полка для охраны моего сына, который находился в Петербурге.
Итак, я выехала во главе войска, и всю ночь мы двигались по направлению к Петергофу. Когда добрались до малрго монастыря, вице-канцлер Голицын передал мне очень любезное письмо от Петра III; я забыла сказать, что, когда мы выходили из города, три солдата, присланные из Петергофа, чтобы распространять в народе манифест, отдали мне этот манифест со словами:
— Вот что Петр Третий поручил нам; мы отдаем это тебе и очень рады, что у нас есть случай присоединиться к нашим братьям.
После этого первого письма Петра III пришло еще второе, его принес генерал Михаил Измайлов. Он бросился мне в ноги со словами:
— Считаете ли вы меня честным человеком?
Я ответила:
— Да.
— Ну что ж,— продолжал он,— приятно иметь дело с умными людьми. Император предлагает отречься от престола: я привезу его к вам после его добровольного отречения, тем самым мы избежим гражданской войны у меня на родине.
Я легко согласилась дать ему это поручение, и он поехал исполнять его.
Петр III отрекся от престола в Ораниенбауме совершенно добровольно, в присутствии тысячи пятисот свидетелей, и приехал в Петергоф с Елизаветой Воронцовой, Годовиецем и Михаилом Измайловым. Там я дала ему пять офицеров и несколько солдат для его личной охраны. Это было 29 июня, в день Святого Петра, в полдень. Пока готовили для всех еду,
5
6
р
%
Ч
Я
т
272
солдаты вообразили, что Петра III привез фельдмаршал князь Трубецкой, который хочет помирить меня с ним. Они стали просить всех проходящих во дворец, в том числе гетмана, Орловых и нескольких других передать мне, что они не видели меня уже три часа и умирают от страха, как бы старый жулик Трубецкой не обманул меня, для видимости помирив с мужем, и как бы им не потерять меня и других.
Они кричали:
— Мы разорвем их на куски!
Таковы были их слова. Я сказала Трубецкому:
—- Прошу вас, сядьте в карету, пока я буду обходить войска.
Я рассказала ему обо всем, что происходило, он, очень испуганный, уехал в город, а я была принята с неслыханным энтузиазмом; после чего послала под командованием Алексея Орлова четырех избранных офицеров и отряд спокойных и рассудительных солдат, чтобы они отвезли императора за двадцать семь верст от Петергофа в имение под названием Ропша, уединенное, но очень приятное, пока для него устраивали удобные и приличные комнаты в Шлиссельбурге и готовили ему перекладных лошадей. Но Бог распорядился иначе. От страха у Петра III сделался понос, продолжавшийся три дня и прекратившийся только на четвертый. В тот день он чрезмерно много пил, ведь у него было все, чего он хотел, кроме свободы. Однако он просил меня предоставить ему только его любовницу, его собаку, его негра и его скрипку. Но, боясь скандала и не желая усиливать брожение умов, я исполнила лишь три последние его просьбы. У него опять начались ге-
морроидальные колики, это подействовало на мозг. В таком состоянии он прожил два дня; наступила сильная слабость, и, несмотря на помощь врачей, он отдал Богу душу, причем просил привести лютеранского священника. Все так его ненавидели, что я боялась, не отравили ли его офицеры. Я приказала произвести вскрытие: не было найдено ни малейших следов яда. Желудок у него был совсем здоровым, но кишечник воспален, а погиб он от апоплексического удара. Сердце было чрезвычайно малых размеров и совсем сморщенное».
Вот официальный рассказ, который постаралась написать сама Екатерина Великая для своего любовника и для своей империи — для По- нятовского и для России.
Вот что было дозволено говорить и чему разрешалось верить в ее царствование и даже до конца царствования императора Николая.
А вот что произошло на самом деле. Противопоставим это рассказу великой коронованной актрисы, которым она закрыла глаза ХУШ веку, словно пеленой, которую следующее столетие срывает по частям.
Как и рассказывала Екатерина, восемь лошадей галопом уносили ее. По дороге она встретила лакея-француза, которому всячески покровительствовала и который, по всей вероятности, был ее доверенным лицом, так же как и Екатерина Ивановна. Он шел, чтобы присутствовать при ее туалете. Увидев императрицу, слуга ничего не понял и подумал, что ее похищают по приказу Петра III, но она, выглянув в окошко кареты, крикнула:
— Следуйте за мной, Мишель!
м
У &
Мишель последовал за ней, думая, что сопровождает ее в Сибирь.
Таким образом Екатерина, выехав по приказу солдата в карете, управляемой мужиками, в сопровождении своего любовника, горничной и парикмахера, въехала между семью и восемью часами утра в ворота своей будущей столицы.
До сих пор рассказ императрицы достаточно близок к правде, и нам не нужно было его исправлять.
Переворот произошел, но никто и не подумал уведомить о нем императора. Как утверждает в своем рассказе Екатерина, каждый торопился встать на ее сторону. Только один человек по имени Брессан, парикмахер Петра III, подумал о своем хозяине. Он взял лакея, на которого мог положиться, одел его в крестьянское платье, посадил на телегу с овощами и отправил в Ораниенбаум с запиской, которую лакей должен был передать только в собственные руки императору.
В это время посланный по приказу императрицы офицер с многочисленным эскортом поехал за маленьким великим князем, который спал в другом дворце. Ребенок проснулся, окруженный солдатами, как однажды ночью проснулся маленький Иоанн. На него это произвело глубокое впечатление, и его наставник Панин не мог успокоить дрожь, охватившую ребенка. В ночной рубашонке его отнесли к матери. Она взяла его, она еще нуждалась в покровительстве этого ребенка, законного наследника престола. С Павлом на руках она вышла на балкон. При виде ее люди закричали сура», шапки полетели в воздух, раздались воз-
275
(
I
w
к
гласы: «Да здравствует Павел I!» В тот же миг толпу растолкали, и она пропустила похоронную процессию. Тихо повторялись слова: «Император! Император!» Прошел торжественный и мрачный похоронный кортеж. Он миновал главные улицы Санкт-Петербурга, среди гробового молчания пересек Дворцовую площадь и удалился. Солдаты в траурных мундирах несли факелы по обеим сторонам катафалка. И пока эта процессия, привлекшая к себе всеобщее внимание, удалялась в сторону, противоположную той, откуда она появилась, маленького наследника унесли, и о нем никто больше не вспоминал.
Какого покойника хоронили с такими почестями?
Никто никогда не узнал этого, и на вопрос, заданный княгине Дашковой, она со смехом ответила:
— Признайтесь, что мы все хорошо предусмотрели.
Этот эпизод привел к двум результатам: заставил забыть о юном наследнике и подготовил народ к смерти императора.
В общем, дворец окружала армия, полная энтузиазма. Но к этому энтузиазму примешивался страх, умело поддерживаемый друзьями Екатерины. Тихонько рассказывали друг другу, что из Ораниенбаума выехали двенадцать убийц, поклявшиеся императору покончить с императрицей и ее сыном. Солдаты считали, что их матушка, как они ее называли, подвергается слишком большой опасности в этом огромном дворце, одна сторона которого омывается рекой, а двадцать дверей с другой стороны выходят на площадь; они громко кричали,
чтобы Екатерину перевели в другой дворец, который они могли бы окружить со всех сторон.
Императрица согласилась, пересекла площадь, оглашаемую радостными криками и заверениями в преданности, и удалилась в маленький деревянный дворец, который сразу был окружен тремя рядами штыков.
Солдаты выбросили свои прусские мундиры и надели прежнюю форму.
В рядах то и дело поднимался громкий крик; это происходило тогда, когда являлся какой-нибудь солдат, не успевший снять форму, похожую на прусскую, тогда ее превращали в лохмотья, а из шапки делали мяч, которым перебрасывались.
Около полудня явилось русское духовенство. Известно, что такое русские священники — это воплощение взяточничества, но их внешность великолепна, они внушают почтение роскошной бородой и богатым облачением.
Церковь не отказалась освятить узурпацию власти; вслед затем она освятила и убийство. Она не раз играла такую роль.
За духовенством несли священные символы: корону, императорский скипетр, древние книги; священники медленно и торжественно прошли сквозь окружавшие дворец войска, хранившие почтительное молчание, и вошли к императрице.
Четверть часа спустя народу объявили, что императрица только что коронована под именем Екатерины II.
Среди приветственных криков, которые послужили ответом на это известие, Екатерина выехала верхом, одетая в гвардейскую форму
старого образца. Теперь это был уже не энтузиазм, это было безумие. Она все заранее заказала по своей мерке: и форму, и оружие.
Не хватало только темляка на саблю.
— Кто подарит мне темляк? — спросила она.
Пять офицеров приготовились снять темляк со своих сабель и отдать императрице; один молодой лейтенант оказался проворнее других, бросился вперед и подал Екатерине нужный ей предмет.
Отсалютовав императрице шпагой, он хотел удалиться. Но лошадь не послушалась его: то ли из своенравия, то ли по привычке ходить в строю, она упрямо прижималась к боку лошади императрицы. Екатерина видела бесполезные усилия всадника, она взглянула на него и заметила, что он молод и красив, в его глазах она прочла любовь, энтузиазм, преданность.
— Ваша лошадь умнее вас,— сказала Екатерина,— она обязательно хочет осчастливить своего хозяина. Как вас зовут?
— Потемкин, Ваше Величество.
— Ну что же, Потемкин, оставайтесь подле меня, сегодня вы будете моим адъютантом.
Потемкин отсалютовал и больше не пытался увести своего коня.
Это был тот самый Потемкин, который восемнадцать лет спустя стал всемогущим министром и любовником Екатерины II.
мператрица вернулась во дворец и пообедала у открытого окна, мимо которого проходили войска.
Несколько раз она поднимала бокал, словно пила за здоровье солдат, отвечавших на этот тост приветственными криками.
Закончив обед, она вновь села на коня и двинулась во главе армии.
О Потемкине больше не было речи. Одно слово Орлова устранило его, и молодой лейтенант сам понял: чтобы приблизиться к императрице, от младшего офицера нужны более важные услуги, чем поднесенный и принятый темляк.
Но, будьте спокойны, он еще появится, и на этот раз окажет более важную услугу.
Он поможет задушить Петра III.
Теперь, пока императрица выступает в поход, обратимся к дворцу в Ораниенбауме.
Известно, что император жил в Ораниенбауме. Но наступало 29 июня, день Святого Петра, и он решил отпраздновать свои именины в Петергофе.
Он чувствовал себя в полной безопасности.
279
Ему объявили об аресте .Пассека, на это он ответил только:
— Да ведь он полоумный!
Утром, чтобы осуществить свой план, он выехал из Ораниенбаума в большом открытом экипаже вместе с любовницей, с прусским министром, своим неразлучным спутником, и несколькими самыми красивыми женщинами своего двора.
В то время как они весело следовали в Петергоф, там все были глубоко опечалены.
Днем было замечено отсутствие императрицы.
Ее напрасно искали повсюду, пока один часовой не сообщил, что в четыре часа утра он видел, как из парка вышли две дамы.
Однако те, кто прибыл из Петербурга, выехали оттуда до приезда Екатерины и до восстания полков; они уверяли, что там все совершенно спокойно.
Но известие о бегстве императрицы сочли достаточно важным, чтобы сообщить его Петру III.
Один из камергеров поехал в Ораниенбаум.
В двух или трех верстах от дворца он увидел адъютанта Петра III по имени Гудович, который ехал впереди императора в качестве курьера.
Камергер передал ему новость, предпочитая, чтобы император услышал ее от кого-то другого, а не от него.
Адъютант повернул лошадь и помчался во весь опор.
Он встретил экипаж императора и чуть ли не силой остановил его.
И, так как император приказывал кучерам ехать дальше, адъютант наклонился к его уху и тихо сказал:
— Ваше Величество, сегодня ночью императрица убежала из Петергофа, вероятно, она в Санкт-Петербурге.
—■ О, какие глупости! — сказал император.
Но адъютант добавил несколько слов еще тише, так что никто не слышал.
Император побледнел.
— Дайте мне выйти,— сказал он.
Открыли дверцу, и он вышел.
Заметили, что его колени дрожат.
Он оперся на руку адъютанта и с тревогой расспрашивал его.
Потом, так как они находились у открытых ворот парка, он сказал:
— Выходите, милостивые государыни, идите прямо во дворец, там я присоединюсь к вам, вернее, буду там даже раньше вас.
Дамы в испуге повиновались. Они слышали только несколько несвязных слов и терялись в догадках.
Император вновь сел в коляску, велел Гудо- вичу скакать рядом, а кучеру во весь опор мчаться во дворец.
Прибыв туда, он побежал в спальню императрицы, как если бы то, что ему сказали, нисколько не убедило его, искал ее повсюду, заглядывал под кровать, открывал шкафы, прощупывал тростью потолок и деревянные панели стен.
Когда он занимался этим, прибежала его любовница и молодые женщины, составлявшие нечто вроде его двора.
— Ах, я ведь говорил вам,— вскричал он
с гневом и ужасом,— я ведь говорил, что она способна на все!
Присутствующие хранили глубокое молчание, подозревая, что положение очень серьезное, хотя все было еще неясно и не определилось окончательно.
И со страхом посмотрели друг на друга, когда кто-то объявил, что молодой лакей-француз, прибывший из Санкт-Петербурга, может сообщить новости об императрице.
— Пусть он войдет! — нетерпеливо сказал Петр III.
Ввели этого молодого человека.
— О нет, императрица не потерялась,— сказал он весело, думая, что сообщает приятную новость,— она в Санкт-Петербурге, и день Святого Петра будет там великолепно отпразднован.
— Но каким образом? — спросил император.
— Да ведь Ее Величество заставила всех солдат вооружиться.
Это была ужасная новость, она поразила всех.
В это время вошел крестьянин, усердно крестясь и низко кланяясь.
— Подойди, подойди,— закричал император,— и скажи, зачем пришел.
Крестьянин повиновался; не говоря ни слова, он вытащил из-за пазухи записку и подал императору.
Этот крестьянин был переодетый лакей, который, как мы знаем, выехал из Санкт-Петербурга с приказом отдать записку только в собственные руки царя.
В записке содержались следующие слова:
«Гвардейские полки восстали; во главе их императрица; бьет девять часов, она входит в церковь Казанской Божьей Матери, народ, по-видимому, следует за ней, а верные подданные Вашего Величества не показываются».
— Вы видите, господа,— вскричал император,— видите, я был прав!
Канцлер Воронцов, дядя фаворитки и княгини Дашковой, у которого было по племяннице в каждом из двух лагерей, предложил поехать в Санкт-Петербург в качестве посредника.
Его предложение было принято; он тотчас уехал, но, как мы знаем, сразу же присягнул императрице.
Однако он поставил такое условие: он не последует за ней в военный поход, а, напротив, будет подвергнут домашнему аресту под охраной офицера, который должен неотлучно находиться при нем.
Таким образом канцлер, человек осторожный, с обеих сторон обеспечивал себе безопасность, что бы ни произошло.
Со стороны Екатерины: присягнул ей, значит, был ее другом.
Со стороны Петра III: был арестован ею, значит, не был его врагом.
Когда канцлер уехал в Петербург, Петр III стал раздумывать о том, как противостоять грозе.
В Ораниенбауме у него было три тысячи голштинского войска, на которое он мог положиться.
Перед глазами, на расстоянии пяти или шести верст, у него был Кронштадт, непобедимая
?83
)
I
Император начал с того, что послал приказ своим голштинским войскам спешно явиться вместе с пушками.
По всем дорогам, ведущим из Петербурга, были посланы на разведку гусары, во все деревни направлены курьеры, которые должны бы- ^ли собрать крестьян, и всем войскам, квартировавшим в окрестностях, было приказано быстрее двигаться к Ораниенбауму.
Потом царь назначил генералиссимусом над всеми войсками, которых у него еще не было, камергера, который сообщил о бегстве императрицы.
Приняв эти первоочередные меры, Петр III, словно в голове его не осталось более ни одной разумной мысли, начал отдавать один за другим самые бессмысленные приказы: чтобы поехали в Санкт-Петербург и убили императрицу, чтобы оттуда привели ее полк — отдавая эти приказы, он быстрыми шагами бегал по комнатам, потом вдруг садился и начинал диктовать два манифеста против императрицы, полные самых страшных ругательств, заставлял копировщиков их переписывать и посылал во все стороны гусаров распространять эти копии. Наконец, заметив, что на нем прусская форма и орденская лента, он сбросил эту форму и ленту и надел русский мундир, украсив его русскими орденами.
В это время придворные в страхе бродили по парку.
Вдруг Петр III услышал крики, которые показались ему криками радости, он побежал к дверям: к нему привели старого Миниха. Освобожденный императором из Сибири, старик из чувства признательности, а может быть, из тщеславия, захотел присоединиться к нему.
Эта помощь была столь неожиданной, что император бросился в объятия старого полководца с криком:
— Спасите меня, Миних! Я надеюсь только на вас.
Но Миних был чужд эмоций, он холодно взвесил положение и обрушил на эту надежду императора снег своих седин.
— Ваше Величество,— сказал он,— через несколько часов императрица будет здесь с двадцатью тысячами солдат и мощной артиллерией. Ни Петергоф, ни Ораниенбаум не смогут устоять, и всякое сопротивление при таком энтузиазме ее войск приведет лишь к тому, что вы и ваше окружение будете убиты. Спасение и победа только в Кронштадте.
— Объяснись, мой дорогой Миних,—сказал император.
— В Кронштадте многочисленный гарнизон, внушительный флот. Сброд, окружающий императрицу, рассеется так же быстро, как он собрался, а если и нет, то у вас с вашими тремя тысячами голштинцев, гарнизоном и флотом будут равные с ней силы.
Это предложение вернуло храбрость самым испуганным; в Кронштадт был послан генерал, и он сразу же прислал адъютанта, который объявил, что гарнизон по-прежнему исполняет свой долг и готов умереть за императора, если император решит укрыться в Кронштадте.
Тогда от панического ужаса несчастный коронованный идиот перешел к безграничной уверенности. Голштинцы прибыли, он принял парад и, в восторге от их бравого вида, воскликнул:
— Не следует бежать, не увидев врага!
Миних, стоявший за немедленное отступление, велел двум яхтам приблизиться к берегу, но тщетно старался он посадить на одну из них императора, который терял время на бахвальство, разглагольствуя о том, как можно использовать небольшие холмы, возвышающиеся над дорогой.
Однако эти воинственные намерения ни к чему не привели, когда пробило восемь часов, во весь опор прискакал один из адъютантов и объявил, что императрица во главе двадцати тысяч солдат идет на Петергоф и уже находится в нескольких верстах.
Теперь уже не было речи о том, чтобы увидеть врага: император, сопровождаемый всем двором, понесся к берегу, и все бросились в лодки с криками:
— На яхты! На яхты!
— Вы садитесь? — спросил император одного из придворных, который не торопился спуститься в лодку вместе с другими.
— Простите, Ваше Величество, уже поздно, дует северный ветер, а у меня нет плаща.
И он остался на земле; два часа спустя он уже был возле Екатерины, рассказал ей, как император вышел в море.
Итак, на парусах и на веслах они бежали в Кронштадт.
Но уже с утра вице-адмирал Талызин отправился в Кронштадт один в шлюпке, запретив своим гребцам под страхом смерти говорить кому-либо, откуда они прибыли.
Когда он добрался до Кронштадта, ему пришлось, чтобы высадиться, ждать разрешения коменданта.
Справившись о его чине и узнав, что он один, комендант вышел ему навстречу, пригла-
сил на берег и спросил, какие он привез новости.
— Я ничего не знаю,— ответил генерал,— я был у себя на даче и, когда узнал, что в Санкт-Петербурге неспокойно, поспешил сюда, поскольку мое место на флоте.
Комендант поверил ему и вернулся к себе.
Талызин подождал некоторое время, затем собрал вокруг себя несколько солдат и предложил им арестовать коменданта, сообщив, что император свергнут с престола, императрица коронована, и те, кто перейдет на ее сторону, получат награды.
Если они сдадут императрице Кронштадт, их карьера обеспечена.
Все последовали за ним, коменданта арестовали, собрали гарнизон и морскую пехоту. Талызин произнес перед ними речь и заставил их присягнуть императрице.
В этот момент на горизонте появляются две яхты.
Присутствие императора может все изменить.
Талызин велит бить тревогу. Гарнизон выходит на укрепления; двести артиллеристов с зажженными фитилями стоят подле двухсот пушек.
— Кто идет? — кричат с укреплений.
— Император! — отвечают с яхты.
— Нет больше императора,— кричит Талызин,— и, если яхты хоть на корпус приблизятся к порту, я прикажу открыть огонь.
На борту императорской яхты начался страшный переполох. Капитану казалось, что он уже слышит свист ядер. Он взял рупор и крикнул:
— Мы удаляемся, дайте нам только время отойти.
И в самом деле, яхта, маневрируя, чтобы отойти, повернулась под крики приветствовавших ее бегство: «Да здравствует императрица Екатерина!»
Император заплакал.
— Ох, я вижу, что это общий заговор,— сказал он.
Еле живой, он спустился в каюту вместе с Елизаветой Воронцовой и ее отцом, единственными, кто осмелился последовать за ним.
Выйдя за пределы попадания ядер, яхты остановились, и, так как император был не способен отдать какой-либо приказ, моряки, не зная, что делать, стали плавать между крепостью и берегом.
Так прошла ночь.
Миних ходил по палубе и, спокойно глядя на звезды, шептал:
— Что, черт возьми, мы делаем на этой галере?
В это время императрица с войском двигалась на Петергоф, думая, что там их встретят голштинские полки.
Однако, увидев, что император бежал, эти полки вернулись в Ораниенбаум; в Петергофе остались лишь несчастные, вооруженные косами крестьяне, которых согнали гусары.
Орлов, шедший впереди на разведку, не раздумывая о том, сколько было этих мужиков, налетел на них, плашмя размахивая саблей, и разогнал с криками: «Да здравствует императрица! »
Тем временем подошла армия, и Екатерина вернулась царицей в тот самый дворец, кото-
рый за двадцать четыре часа до этого покинула как беглянка.
Около шести утра император велел позвать Миниха.
— Фельдмаршал! — сказал Петр III. — Мне надо было следовать вашим советам, я раскаиваюсь, что не послушал их. Вы, который принимали столь чрезвычайные решения, скажите, что мне делать?
— Ничего не потеряно, Ваше Величество,— ответил Миних,— если вы только послушаете меня.
— Говорите.
— Так вот, надо, не теряя ни минуты, используя всю силу весел и парусов, уйти от крепости и направиться в Ревель, там есть военный корабль и на нем пойти в Пруссию, где находится ваша армия, затем вернуться в страну во главе восьмидесяти тысяч солдат, и я обещаю, Ваше Величество, что через шесть недель вы будете сильнее, чем когда-либо прежде.
Придворные вошли вслед за Минихом, чтобы узнать, на что им надеяться и чего бояться.
— Но у гребцов не хватит сил довести яхты до Ревеля,— произнес чей-то голос, котрый, казалось, выражал общее мнение.
— Ну что ж,— сказал Миних,— когда они устанут, грести будем мы.
Его предложение не нашло поддержки у изнеженной молодежи. Императора уверяли, что положение далеко не безнадежное, что не подобает такому могущественному монарху бежать из своего государства, что не может быть, чтобы вся Россия поднялась против него и что восстание, видимо, имеет целью только приблизить его к жене.
iÿ
Император ухватился за эту идею, решил добиваться примирения и сошел на берег в Ораниенбауме, как человек, убежденный в том, что от него не требуется ничего другого, как только простить. На берегу, в слезах, толпились дворцовые слуги, их подавленный ^вид вновь разбудил его страхи.
Армия императрицы шла на Ораниенбаум.
Тогда он велел оседлать лошадей, чтобы, переодевшись, одному бежать в Польшу. Но Елизавета Воронцова выступила против этого решения; она убедила его послать кого-нибудь навстречу императрице и просить у нее разрешения для себя и Воронцовой уехать в Голштинию. Напрасно слуги падали перед ним на колени и, сложив руки, кричали: «Батюшка, она убьет тебя!»; он их не слушал, а Елизавета прогнала со словами: «Несчастные, зачем вы пугаете своего государя?»
Петр III пошел даже дальше того, что предлагала его фаворитка: боясь гнева наступавших солдат, он велел разобрать маленькую крепость, служившую для его военных забав, снять пушки и положить на землю оружие солдат. Миних в бешенстве пучками вырывал свои седые волосы.
— Если вы не умеете умереть, как император, во главе своих войск, Ваше Величество,— сказал он,—то берите в руки распятие, и восставшие не посмеют тронуть вас. А я возьму на себя сражение.
Однако на этот раз император настоял на своем решении (потому, разумеется, что оно было неудачным); но, не потеряв еще надежду, что сможет избежать ссылки, он написал Екатерине первое письмо, предлагая примирение и раздел власти. Императрица даже не ответи-
290
ла на это письмо. Тогда он написал ей второе, в котором просил простить его, назначить ему пенсию и разрешить уехать в Голштинию.
Тогда она послала ему с генералом Измайловым следующий текст отречения от престола:
«В течение короткого времени моей неограниченной власти над Россией я понял, что моих сил не хватает, чтобы нести такой груз, что управлять этой империей не только в качестве суверенного монарха, но и любым другим способом выше моих способностей. Я заметил, что империя уже пошатнулась и за этим должно последовать ее полное разорение, которое покрыло бы меня вечным позором. Трезво подумав над этим, я объявляю совершенно добровольно и торжественно Российской империи и всему миру, что отказываюсь на всю жизнь от управления этой страной и не хочу царствовать там ни полновластно, ни в какой-либо иной форме и не стану добиваться этого с чьей-либо помощью. В чем приношу клятву перед Богом и перед всем миром, написав и подписав это отречение собственной рукой».
Принесшему отречение было приказано передать Петру III, что императрица окружена людьми, которые так сильно его ненавидят, что она не отвечает за его жизнь, если он откажется подписать.
Измайлов проник к императору в сопровождении одного лишь преданного слуги и, так как Петр III колебался, заявил:
— Ваше Величество, я арестую вас именем императрицы.
— Но я сейчас подпишу,— поспешно сказал император.
— Нужно не только подписать, но и переписать весь акт вашей рукой.
Император вздохнул, взял перо, переписал акт и подписал его.
Он только добавил на отдельном листе бумаги:
«Я хочу, чтобы мне послали мою собаку Мо- пра, негра Нарцисса, скрипку, несколько романов и немецкую Библию».
Но это было еще не все; бывший император был еще недостаточно унижен. Измайлов снял с него орденскую ленту.
Потом посадил его в свою карету и вместе с его любовницей и фаворитом отвез в Петергоф.
Ему пришлось проехать сквозь ряды солдат, встретивших его криками: «Да здравствует Екатерина!»
Остановились перед большой лестницей. Император вышел первым, за ним Елизавета Воронцова. Но едва лишь она ступила на землю, как ее схватили солдаты, сорвали орденскую ленту Святой Екатерины и разорвали на ней одежду.
Гудович вышел вслед за ней; солдаты освистали его, но он обернулся, обозвал их трусами, предателями, негодяями.
Волна солдат унесла его, как перед этим Елизавету Воронцову.
Император вошел во дворец один, плача от ярости. За ним следовали десять или двенадцать человек.
— Раздевайся,— сказал один из них.
Тогда он сбросил шпагу, которая до тех пор
была при нем, и снял камзол.
— Дальше! Дальше! — кричали бунтовщики.
Ему пришлось снять всю одежду.
В течение десяти минут он оставался босым, в одной рубашке, и солдаты издевались над ним.
Наконец ему бросили старый халат, который он надел, после чего упал в кресло, опустив голову на руки, закрыв глаза и уши, словно не хотел ни видеть, ни слышать того, что происходило вокруг.
В это время императрица принимала в парадной комнате и создавала себе новый двор. Все, кто за три дня до этого окружал Петра, теперь окружали ее.
Вся семья Воронцовых стояла перед ней на коленях.
Княгиня Дашкова встала на колени, как все ее родные.
— Государыня,—сказала она,—вот вся моя семья, которою я пожертвовала вам.
Императрица велела принести орденскую ленту и драгоценности Елизаветы Воронцовой, отдала все это ее сестре, и та взяла без малейших колебаний.
Тут вошел Миних.
— Честное слово, государыня,— сказал он,— я долго не мог догадаться, кто из вас мужчина, вы или Петр Третий, и так как теперь решительно выяснилось, что это вы, я к вам явился.
— Ведь вы хотели сражаться со мной, Миних,— сказала императрица.
— Да, государыня,— ответил он,— искренне признаюсь вам в этом, но теперь мой долг сражаться не против вас, а за вас.
— Почему вы не говорите о советах, которые можете дать мне, пользуясь знаниями,
293
приобретенными за долгие годы сражений, а также в изгнании?
— Поскольку моя жизнь принадлежит вам,— ответил Миних,— то весь опыт, который я мог приобрести в течение этой жизни, также принадлежит вам.
В тот же день Екатерина вернулась в Санкт-Петербург, и ее возвращение было встречено с таким же восторгом, с каким ее провожали накануне.
На следующий день императрица послала императора в Ропшу, доверив это отряду спокойных и рассудительных солдат — это ее собственные слова —под командованием Алексея Орлова и четырех специально подобранных офицеров.
В числе этих избранных офицеров, этих спокойных и рассудительных людей, был и солдат по фамилии Теплов, младший из князей Барятинских, и лейтенант Потемкин, который подал императрице темляк.
Через пять или шесть дней после приезда императора в Ропше, 19 июля, Теплов и Алексей Орлов, оставив в передней Потемкина и Барятинского, вошли в спальню императора, которому только что подали завтрак. Они объявили, что желают позавтракать с ним.
По обычаю, принятому в России, вначале подали соления и водку.
Орлов подал императору стакан с отравленной водкой.
Петр III, ничего не подозревая, выпил; несколько минут спустя у него начались страшнейшие боли.
Тогда Алексей налил ему из той же бутылки второй стакан и хотел заставить его выпить насильно.
щ
ш
от
№
Ik
\т
%
Уг
И
(£f
5Ä
*>/
i
#>
Но император стал отбиваться и звать на помощь.
Алексей Орлов, который, как мы уже сказали, обладал чудовищной силой, бросился на него, опрокинул на кровать, придавил коленом и стал сжимать ему горло, а в это время Теп- лов, как уверяют, сажал его на раскаленный на огне ружейный шомпол.
Слышались крики, которые становились все слабее и наконец совсем затихли.
Петр III, доверенный попечению четырех избранных офицеров и отряду спокойных и рассудительных солдат, умер, как сказала нам Екатерина, от кровяного поноса, который не повредил ему желудок, но причинил воспаление кишечника.
В тот же день, когда императрица приступила к обеду, ей подали письмо; посланец извинился, что ввиду важности этого письма беспокоит ее во время еды.
Письмо и в самом деле, как мы увидим, содержало очень важное известие. Оно было от Алексея Орлова.
Он писал:
«Как сказать тебе, матушка царица, что мы натворили? Это и вправду роковая судьба! Мы поехали навестить твоего супруга и выпили с ним вина. Не знаю, как это случилось, но, опьянев, мы поругались, и он нас так глубоко оскорбил, что пришлось дать волю рукам. Вдруг видим, —он падает мертвый; что делать? Снеси нам, если хочешь, головы или же, добрая матушка, подумай: ведь того, что случилось, не исправить, и прости нам наше злодеяние!
Алексей ОРЛОВ».
295
«Добрая матушка» не только простила это злодеяние, но сделала Алексея Орлова графом империи.
В ночь с воскресенья на понедельник, по приказу императрицы, тело Петра III было перевезено в Санкт-Петербург и выставлено на парадном катафалке в Невском монастыре.
Лицо было черное, шея разорвана.
Но не важно было, что люди гадали, какой смертью умер император; важно было, чтобы никто не сомневался в его смерти.
Боялись Лжедимитрия, предвидели Пугачева.
Вслед за тем император был похоронен в том же монастыре без всяких почестей.
Известно, что после своего вступления на престол Павел I вытащил из могилы тело Петра III, устроил ему роскошные похороны и заставил Алексея Орлова и Барятинского, единственных оставшихся в живых участников этой ужасной драмы, следовать впереди похоронной процессии.
Каждый из них держал угол покрывала, наброшенного на гроб их жертвы.
осле визита в Ораниенбаум, где нам показали оловянных солдатиков и деревянные пушки Петра III, комнату, в которой он подписал свое отречение, остатки малого форта, в ужасе им срытого; после того, как я подал милостыню старому солдату, претендовавшему на мою щедрость на том основании, что был участником кампании 1814 года и брал Париж —■ и как награду в петлице носил серебряную медаль;1 после того, как я поцеловал ручку великой княжны Елены2, очаровательной двухлетней девочки; ее мать — великая княгиня, которой этикет не разрешал меня принять, послала ее ко мне, как Господь Бог посылает одного из своих херувимов, когда не хочет явить себя собственной персоной,—после всего этого мы решили навестить резиденцию в Ропше, где произошла развязка ужасной драмы, которую мы только что описали. Для этого нам нужно было вернуться в Петергоф.
Оказавшись в Петергофе, мы решили сделать сюрприз нашим друзьям — Арно и его жене — и напроситься к ним на завтрак.
297
Итак, мы остались в вагоне и вышли только в имении тетки нашего хозяина, графини Ку- шелевой, по соседству с которым расположилась французская колония, состоявшая главным образом из наших парижских актеров, приглашенных в Санкт-Петербург.
Мы прошли около двух верст пешком в сопровождении старого режиссера Опера Комик господина Жосса, который вышел из поезда вместе с нами. Он мне напомнил, что когда-то поставил в Опера Комик мою драму в стихах «Пикильо». Удивительно было в восьмистах лье от Парижа очутиться среди знакомых, но в России такие чудеса случаются на каждом шагу. Проделать эти две версты пешком, и к тому же самым резвым шагом, нас —Муане, Григоровича и меня — заставил зверский голод, и вот наконец, с надеждой на хороший завтрак, мы постучались в дружескую дверь.
Кажется, я уже говорил, в чью дверь: к милой и красивой мадам Нарталь — Арно, с таким талантом сыгравшей столько ролей в моих пьесах. Я должен был обедать с этими добрыми друзьями в прошлую субботу, как раз восемь дней назад. Мне приготовили прекрасную встречу. Было все, вплоть до фейерверка, состоящего из двух солнц и трех римских свечей. Но человек предполагает, а Бог располагает. Накануне того дня, когда я должен был быть у них, меня увлекли в другое место.
Наконец мы добрались до этой желанной двери; толкнули ее, вошли без доклада, как это водится у настоящих друзей, и застали мадам Арно с грамматикой в руках, диктующей своим двум дочерям. Третья, привезенная в двухмесячном возрасте из Парижа в Санкт-Петербург и защищаемая от тридцатиградусного мороза нежными материнскими объятиями, спокойно
спала в своей колыбели. Что до Арно, то он был на охоте, открывшейся как раз в этот день.
При виде нас мать и дети испустили радостный крик. Потом из уст хозяйки прозвучал робкий вопрос, смешанный с некоторой долей ужаса:
— Может быть, вы хотите позавтракать?
— Мы не просто хотим позавтракать, мы умираем от голода! — ответил я решительно, не оставляя мадам Арно даже проблеска надежды.
Позвали кухарку, и состоялся большой совет. Непростая это вещь — импровизировать завтрак для трех мужчин с могучим аппетитом в загородном доме в тринадцати верстах от Санкт-Петербурга, откуда приходится везти все, вплоть до хлеба. Наконец в кладовой на-1 шлась утка, тайком, до открытия охотничьего сезона убитая месье Арно, и дюжина яиц. Но мадам Арно почувствовала, что омлета и рагу из дичи будет недостаточно для трех пар челюстей, таких внушительных, как наши. Она послала за подкреплением ко всем французам в колонии, и, во славу родины, каждый что-нибудь принес, в итоге у нас получился отличный завтрак. Во время завтрака мы обсуждали, каким способом добраться до Ропши. В Кушеле- ве возможности езды не отличались разнообразием. Нашли и запрягли телегу. Я не знаю, какого рода это средство передвижения - женского или мужского, знаю лишь, что оно жесткое. И вот этот телег (или эта телега) ожидал нас у дверей. Нам предстоял путь в шестьдесят верст (туда и обратно). Мадам Арно снабдила нас тремя одеялами, которые должны были служить плащами в случае, если бы огромная черная туча, надвигавшаяся на нас, вдруг разразилась дождем. Потом она дала нам
299
дружеский совет затянуться потуже. До завтрака подобный совет привел бы нас в ужас; после завтрака мы с Муане храбро спросили:
— Для чего затягивать пояса?
Мадам Арно объяснила, что надо поберечь наши желудки, так как тележная тряска может вызвать известные неудобства. Только желудки аборигенов способны вынести этот способ передвижения. Вообще в России шьют специальные кушаки для путешественников, передвигающихся в телегах. Объясним мимоходом, что же собой представляет телега. (Определенно, я предпочитаю женский род.) Повозка эта главным образом купеческая. Представьте себе маленькую низкую бричку, имеющую форму лодки, четырехколесную, вместо рессор подвешенную прямо на оси, с двумя досками, положенными поперек для сидения. Впрягите в это сооружение, которое вполне могло бы быть старинным орудием пытки времен Иоанна Грозного, трех курляндских лошадей, выносливых, крепких. Из них коренник мчится рысью, а пристяжные скачут во весь опор, не обращая внимания на крики седоков. Правит финский мужик, не понимающий никакого языка, даже русского, и, когда ему кричат «Стой», думает, что ему кричат «Пошел», и вам кажется, что это смерч, вихрь, гроза, буря, гром, несущийся в образе телеги от Кушелева в Ропшу по дороге, с которой не удосужились убрать камни и забыли закидать землей ямы.
Мы прибыли в Ропшу разбитые, сломленные усталостью, изнуренные, что касается лошадей, то они даже не вспотели.
К счастью, утром, на вокзале в Петергофе, мы встретили генерала графа Т. Он подошел ко мне и, к моему великому изумлению, заговорил со мной первым. Это был старый знако-
мый, которого я не узнал. Он напомнил, что лет двадцать пять тому назад мы обедали вместе с герцогом Фитц-Джеймсом, графом д’Орсе и Орасом Верне у прекрасной Олимпии Пелисье — ныне мадам Россини.
Коль скоро он пожелал все это припомнить, я уже не пытался забыть. Он предложил нам свои услуги с той истинно русской любезностью, в которой у нас до сих пор не было недостатка. Мы сказали, что направляемся в Ропщу, конечно, не упомянув, зачем мы туда едем, и что надеемся посетить дворец.
— Есть ли у вас билет во дворец? — спросил он.
У нас не было билета. Я вырвал страничку из моего альбома, и несколько строчек, написанных графом, обеспечили нам прекрасный прием со стороны управляющего.
Дорога в Ропшу идет по равнине, как все дороги севера России, но усажена деревьями. Маленькая речка, извилистая, как Меандр, которую мы пересекли раз тридцать, изобилует прекрасной форелью. Поэтому в Петербурге, когда слуга предлагает вам форель, он не преминет заметить: «Ропшинская форель».
У князя Барятинского был слуга, который никогда не упускал случая произнести это. Восемьсот или девятьсот лье, отделяющих Ропшу от Тифлиса, меркли перед этой прочно укоренившейся привычкой, он счел бы для хозяина бесчестьем, если бы форель, поданная на стол у подножия Казбека, не была обозначена сакраментальной формулой «форель из Ропши».
Обычно выискивают аналогию между колоритом местности и происшедшими там событиями.
Я представлял себе Ропшу старым ц сумрачным замком времен Владимира Мономаха или
и/ ,
\tb
Ш
1
хотя бы Бориса Годунова. Ничуть не бывало: Ропша — это строение во вкусе прошлого века, окруженное прекрасным английским парком, осененное великолепными деревьями, с множеством ручейков, откуда сотнями поставляют форель для императорского стола в Санкт-Петербурге. Что касается замка, то по размеру он был ни больше и ни меньше, чем шале Монморанси, а сейчас там царила страшная неразбериха, и целый полк рабочих оклеивал стены персидской бумагой. Именно в одной из двух комнат, образующих левый угол замка, в ночь с 19 на 20 июля разыгралась ужасная драма, о которой мы пытались рассказать.
Оранжереи ропшинского дворца самые богатые в окрестностях Санкт-Петербурга. Записка графа Т. произвела магический эффект: мне, рискуя нанести чувствительный вред пищеварению, предлагали отведать разные деликатесы: персики, абрикосы, виноград, ананасы, вишни — все это мало напоминало натуральные фрукты, но славные садовники угощали нас с такой настойчивостью и любезностью, что было невозможно отказаться, и мы рисковали несварением желудка, лишь бы доставить им удовольствие.
Кроме того, я унес с собой букет цветов в два раза больше моей головы. Вот уж никак не думал, что приеду в Ропшу за цветами!
Вернувшись на дачу Безбородко, мы узнали удивительную новость. Духи воспользовались нашим отсутствием — моим и Муане,— чтобы обделать свои делишки. Юм вновь обрел силу!
Я приехал в восемь часов утра, переночевав в Санкт-Петербурге; в доме еще никто не вставал. Я направился в свою комнату, вернее, апартаменты, стараясь не шуметь, на цыпочках, как набедокуривший юнец, не ночевавший до-
302
%
(Мл
fi
J}^
\'Г/
:>.!
\ :V
j4.
Aif^s
wfe?
ь V7
!и'Ъ
№ S мл
J
âi
Ä
Of
,Я
li
%
IUA'
&'>
);Х
C-r^
«OU
*?
ма. Но не успел я войти, как передо мной появился Миллелотти, растерянный, бледный и дрожащий.
Он упал в кресло.
— А, мой сер монсу Дума,— сказал он,— а!
мой сер монсу Дума, если бы вы знали, что здесь произошло! ...
— Ну, что же произошло, маэстро? В лю-| V! 1& бом случае, мне кажется, что-то неприятное! Ж для вас.
— Ах, монсу Дума, моя бедная тетушка,
скончавшаяся девять месяцев назад, вселилась этой ночью в мой стол, и стол побежал за 1^' мной; стол обнимал меня так нежно, что у ме- р^( ня до сих пор кровь идет из зуба. /, J)
— Что за чертовщину вы несете? Вы с ума1 ; !
сошли. ;
— Нет, я не сошел, но Юм вновь обрел! свою силу.
Я испустил радостный крик; наконец-то j Д: я увижу кое-что из чудес знаменитого спирита. ; pjY
Вот что на самом деле произошло. j^TY
Имейте в виду, что я перевожу на фран-’ ^ цузский рассказ Миллелотти. Поверьте, доро-/^ ,, гие читатели, я ничего не добавил. 'У
Миллелотти и Юм занимали две комнаты ^ на первом этаже здания, но в другом крыле. Комнаты были разделены тонкой перегород- рр (кой, с двухстворчатой дверью посередине.
Я всегда подозревал, что Юм выбрал эти кому^А; наты, чтобы быть подальше от меня. Юм во всеуслышание объявлял, что я обращаю духов j cffx в бегство. j;!
Итак, прошлой ночью около часа — так и жди ужасов! — ни Миллелотти, ни Юм не* спали, каждый из них читал при зажженной свече. Вдруг послышались три удара в перего-
i
303
родку, потом еще три и еще три. И тот и другой насторожились.
«Вы звали меня, Миллелотти,— спросил Юм,— вам что-нибудь нужно?»
«Ничего, — ответил маэстро, — значит, это не вы стучали?»
«Я? Я лежу в своей постели на другом конце комнаты».
«Что же это такое?» — спросил Миллелотти, уже порядком перепуганный.
«Это духи»,—-ответил Юм.
«Как это духи?» — спросил Миллелотти.
«Да,— продолжал Юм,— моя сила возвращается ко мне».
Не успел он вымолвить эти слова, как Миллелотти соскочил со своей кровати и предстал перед Юмом в дверях как призрак смерти.
«Ну, ну,— сказал он Юму,—ерунда какая!»
Юм лежал в кровати и выглядел совершенно спокойным.
«Не бойтесь ничего,— сказал он, — а если боитесь, сядьте на мою кровать».
Миллелотти подумал, что самое лучшее — последовать этому совету. Видя его в таком добром согласии с заклинателем, что он даже запросто садится на его кровать, духи, по всей вероятности, его не тронут. Итак, он сел рядом с Юмом, который, приподнявшись на подушке и пристально глядя на перегородку, сказал тихо, но внушительно:
«Если вы в самом деле мои верные духи и вы вернулись ко мне, то постучите три раза с равными промежутками».
Духи так и сделали. Потом последовал четвертый удар немного погодя, который, казалось, был концом фразы, но не вопросительным знаком, а как бы знаком, призывающим к вопросам. Юму, понимавшему язык духов,
1
1
как месье Жюльен китайский, не требовалось выяснять, что хотели сказать духи этим четвертым ударом.
«Вы пришли ко мне или к моему сотоварищу?»— спросил Юм.
Духи ответили, что пришли к Миллелотти.
«Как! Ко мне? — вскричал маэстро, замахав руками, словно его осаждали полчища мух.—Ко мне? Какого черта им от меня надо, вашим духам?»
«Не поминайте черта, Миллелотти! Мои духи добрые римские католики, и такое восклицание для них нежелательно».
«Скажите, Юм,— произнес маэстро,— а не могли бы вы отослать ваших духов?»
«Я не обладаю такой властью над ними. Они являются и уходят, когда хотят. К тому же вы слышали, что они пришли не ко мне, а к вам».
«Но я их к себе не звал,— прокричал Миллелотти.— Я с ними не знаюсь. Я не спирит. Пусть катятся ко всем чертям и оставят меня в покое!»
Маэстро еще не закончил этой необдуманной фразы, как не только стена, но и стулья, столы, кресла зазвенели под ударами духов, даже таз для мытья заплясал на умывальнике вместе с кувшином.
«Юм! — вскричал маэстро.—Юм, что это все значит?»
«Я же вас просил не произносить имя дьявола перед духами,— сказал спокойно Юм,— вы видите, это выводит их из себя».
И вправду сказать, духи простучали раз сто. Но, положив руку на молитвенник, на обложке которого был изображен крест, Юм сказал:
«Если вы пришли от Господа Бога, успокойтесь и отвечайте на мои вопросы».
Духи затихли.
«Вы только что сказали, что пришли не ко мне, а к Миллелотти».
«Да»,—ответили духи.
Миллелотти задрожал всем телом.
«Миллелотти, — продолжал Юм, — есть ли среди ваших умерших родственников или друзей человек, который вас особенно любил или которого вы особенно любили?»
«Да,—ответил маэстро,—это моя тетушка».
«Обратитесь к духам, спросите их, может быть душа вашей тетушки здесь?»
«Здесь ли душа моей тетушки?» — спросил маэстро дрожащим голосом.
«Да»,— ответили духи.
Миллелотти затрясся еще сильнее.
«Обратитесь с вопросом к душе вашей тетушки»,— предложил Юм.
«С каким?»
«Я не могу вам подсказывать. Спросите что-нибудь, что лишь она одна может знать».
Миллелотти поколебался, а затем спросил:
«Давно твоя душа покинула тело?»
«Уточните».
«Не понимаю».
«Спросите, сколько прошло дней, месяцев, лет с тех пор».
«Сколько месяцев прошло, как умерла моя тетушка?» — спросил Миллелотти.
Духи постучали девять раз.
Бедняге стало дурно: вот уже девять месяцев день в день, как он похоронил свою тетушку.
«В какую мебель вы хотите, чтобы вселился дух вашей тетушки?» — спросил Юм.
Миллелотти посмотрел вокруг себя и выбрал массивный круглый столик с мраморной доской, с трехлапой ножкой, стоящий в углу.
306
этот столик»,—сказал он.
Столик шевельнулся.
«Я видел, как он сдвинулся»,—вскричал Миллелотти.
«Без сомнения, душа туда вселилась,—сказал Юм.—Спросите столик».
Столик ответил, приподняв три раза одну из лап, и трижды постучал в паркет в знак утверждения. Бедный Миллелотти был ни жив ни мертв.
«Чего же вы боитесь? — спросил Юм.— Если ваша тетушка вас любила, как вы утверждаете, ее душа не может желать вам зла».
«Без сомнения,— сказал маэстро,—тетушка меня любила, по крайней мере я надеюсь на это».
«Любили ли вы своего племянника?» — спросил Юм у столика.
Столик вновь приподнялся три раза и снова трижды постучал. Миллелотти потерял дар речи. Юм продолжал за него.
«Если вы любили своего племянника, как вы говорите, дайте ему доказательство вашей любви».
Столик заскользил как по желобу в сторону Миллелотти. Последний же, увидев движение столика, испустил крик и вскочил с места. Но столик пододвинулся не просто так, а чтобы облобызать маэстро. Он вдруг приподнялся над полом до уровня лица Миллелотти, и мраморная кромка, холодная, как губы покойника, коснулась уст молодого человека.
Миллелотти упал навзничь на кровать Юма, он был в обмороке.
Кто его перенес в другую комнату? Духи? Или Юм? Бесспорно одно — он очнулся в своей постели, лоб его был покрыт испариной, волосы стояли дыбом от ужаса.
307
К счастью, духи ушли: второго сеанса маэстро бы не вынес. Он подумал, что это все ему привиделось. Позвал Юма, но тот подтвердил — все было наяву. Да, действительно: душа тетушки, покинув могилу в Риме, явилась, чтобы его поцеловать.
Вот что заставило его подняться с постели, и, узнав о моем приезде, он прибежал, бледный и дрожащий, весь под вцечатлением ночной сцены. Мы с Муане бросились к Юму: значит, духи вернулись, Юм вновь обрел свою силу; мы будем путешествовать в фантастическом мире, в котором Миллелотти пребывал всю ночь. Ничуть не бывало!
Юм вновь потерял силу: духи вернулись не к нему, а к маэстро; и все, что нам удалось увидеть,— это знаменитый столик, покинувший свой угол и все еще стоявший у кровати, то есть на том месте, где, поднявшись над землей, он подарил мраморный поцелуй бедняге Миллелотти.
Было ли все это правдой? Оба казались вполне искренними: Юм — в своем спокойствии, Миллелотти — в волнении. Пришлось удовольствоваться рассказом Миллелотти, созерцанием столика и обещанием, что если духи вернутся, то мы будем в тот же момент оповещены. Это обещание — не Бог весть что, но за неимением лучшего...
инляндия
коро шесть недель, как мы в Санкт-Петербурге; я как нельзя лучше использовал царское гостеприимство графа Ку- шелева и, посмотрев в граде Петра почти все, что только можно, решил отправиться в Финляндию.
Но Финляндия большая. Ее земли составляют две трети территории Франции, и из трехсот пятидесяти тысяч населения, рассеявшегося по этим землям, на квадратную милю в среднем приходится всего шестьдесят пять человек. Поскольку лютая русская зима, всегда имеющая начало, но бесконечная в своем продолжении, гнала меня из Санкт-Петербурга, и я боялся, что она может задержать нас на Волге, когда та замерзнет, я, естественно, собирался посетить только часть Финляндии. Но выбрать ли старую столицу —Або1, новую —Гельсингфорс2 или город Торнео, который считали самым близким к полюсу, пока не узнали, что Кола, в Архангельской губернии, на три градуса севернее и находится на широте почти 69°.
Об Або и Гельсингфорсе я знал со слов моего друга Мармье; о Торнео слышал от знакомого англичанина, который второй раз собирался увидеть там солнце в пол-
309
ночь; к тому же, обладая способностью смотреть на вещи иначе, чем другие, я, когда путешествую, все-таки предпочитаю посещать места, которых никто не видел,— это служит залогом неповторимости. Итак, я решил отправиться к Ладожскому озеру с заездом в Шлиссельбург, Коневец, на Валаам и в Сердо- боль.
Все знают историю Финляндии и финляндцев или, вернее, финнов; впрочем, ее можно изложить в двух словах, поскольку край этот, затерянный в туманах, имеет неясные очертания.
Финны, по-латыни — «Fenni», это на самом деле сбившиеся с дороги гунны. Они еще и сегодня удивительно похожи по типу на сохранившийся портрет Аттилы, безумного пастыря их дикого стада. Спустившись с громадных плоскогорий северной Азии, они в период образования Римской империи населяли все пространство от Вислы и Карпатских гор до Волги, но, в свою очередь, были частью покорены, частью вытеснены в Северную Сарматию и Скандинавию надвигавшимися на них готами. В конце концов со всех сторон теснимые беспрерывными потоками азиатских варваров, они мало-помалу оказались в той части Европы, которая на юге ограничена Балтийским морем, на западе — Ботническим заливом, на севере — Норвегией, а на востоке — безлюдным пространством от озера Пиаро до Белого моря и которая стала называться Финляндией, получив от них свое имя.
Когда я говорю, что страна получила свое имя от них, это штамп и не соответствует действительности. В словах «фенны» или «финны» Финляндию не так просто обнаружить. Но
310
о ней дает представление слово «Финлянд», имя, которым немцы первые окрестили обширное болото, считающееся,— скорее, по привычке, чем по убеждению,—землей у его обитателей.
В самом деле, если взглянуть на географическую карту, Финляндия предстанет в виде огромной губки; дыры — это вода, а все остальное — грязь.
Теперь поговорим о том, зачем нужна была эта губка императорам России и через какие испытания пришлось пройти Финляндии, столь непривлекательной на взгляд человека, привыкшего иметь твердую почву под ногами, чтобы стать тем, что она есть в настоящее время.
О Финляндии в древности ничего не знали. В XII, XI, X веках там, затерянные во мгле, которая только в XII веке начинает благодаря христианству понемногу рассеиваться, жили племена, именуемые чудью. Триста лет спустя эта земля стала предметом раздора для шведов и русских. По Выборгскому миру 1609 и Стол- бовскому —1617 года, она переходит к Карлу IX и Густаву-Адольфу. По Ништадтскому договору Петр I получает обратно часть Карелии, а Елизавета по Абоскому мирному договору — еще некоторые области Финляндии; наконец, Александр по Фридрихсгамскому мирному договору, подписанному в 1809 году, присоединяет к России всю оставшуюся Финляндию вместе с восточной Ботнией3.
Кстати сказать, боюсь, что потом забуду упомянуть об этом,— на Торнео можно не только наблюдать восход солнца в полночь с 23 на 24 июня, но и видеть, причем в любое время, пирамиду, воздвигнутую в память об измерениях, произведенных в 1736—1737 годах на-
шим соотечественником Мопертюи для определения формы земли.
Впрочем, пирамида несколько напоминает ту, которая сооружена русскими в Бородино на месте расположения большого редута, в честь победы, одержанной над «нами».
Мы собираемся посетить это поле брани, где остались лежать, уснув навеки, пятьдесят три тысячи воинов.
Прошу прощения, чуть не забыл еще об одном памятнике, столь же связанном с историей, но, пожалуй, гораздо более своеобразном. Он, правда, находится не в Финляндии, а в Швеции.
В том месте, где по возвращении из финского похода высадился печально знаменитый Густав III4, стокгольмские буржуа — а буржуа всюду одинаковы! — поставили бронзовую статую монарха. Скульптор создал ее несомненно в предвидении того, что королю, которому посчастливилось стать героем одной из опер-балетов нашего собрата по перу Скриба5, суждено умереть в танцевальной зале. Одна нога статуи поднята вверх и согнута в колене, как если бы король намеревался выполнить па «два шага вперед».
Он демонстрирует своему народу только что завоеванную корону.
Когда гасконец Бернадот торжественно вступил в Стокгольм наследником Карла XIII, при этом, наверное, присутствовали те самые буржуа, что способствовали установке памятника Густаву III; и теперь они кричали: «Да здравствует Карл-Иоанн!»
А памятник стоял на своем месте и ничего не кричал. Поистине, только бронза не меняет
своих убеждений, и то, пока ее не отправят на переплавку.
Еще раз взгляните на карту Финляндии. И теперь обратите внимание не на сушу, а на море. Вы увидите, что островов в нем такое же множество, как озер на суше. И на всем протяжении от Аландских островов до Або не знаешь, чего больше:’воды или земли.
Все крестьяне этого архипелага — рыбаки или лодочники.
Сообщение между Швецией и Финляндией осуществляется через Грисль-Гамм и Або и зимой, и летом.
Вот сюда я попрошу вас взглянуть особенно внимательно.
Пять месяцев в году, кроме тех случаев, когда штормит, движение между портами довольно регулярное; зимой тоже все идет как нельзя лучше, поскольку лед держится шесть месяцев; но осенью, когда он еще тонкий, и весной, когда он уже тает, дело осложняется. Если море свободно ото льда, переправляются на лодках, по льду — ездят на санях.
А во время ледохода: тут уж кто во что горазд. Тогда пользуются лодками типа индейских пирог, только на полозьях: на них скользят по льдинам два-три километра, пока не доходят до чистой воды; потом проплывают некоторое расстояние, помогая себе крюками, затем сани-пирога вновь превращаются в пиро- гу-сани и дальше идут под парусом или на веслах. Порой на полпути поднимается ветер и швыряет суденышко от льдины к льдине, грозя раздавить его. Иногда с неба спускается густой туман, расстилается на волнах, окутывает лодку, и тогда скрытые опасности подстерегают ее со всех сторон. Любые другие море-
плаватели, кроме финнов, которые чувствуют себя в воде, как тюлени, заблудившись в тумане, неминуемо бы погибли. А отважные лодочники ориентируются в море и умеют распознавать опасности, которые их поджидают. Любая мелочь, самая ничтожная, имеет значение. Восход солнца и наступление ночи, облако, птица, пробежавший ветерок показывают кормчему, чего ему следует опасаться и на что он может рассчитывать. В зависимости от этого он укрывается в рифах, сражается с льдинами или пристает к берегу. Летом письма из Стокгольма в Або доходят за три дня, зимой — как попало. О людях, севших на почтовое судно, подчас неделями нет вестей, и обычно все это время жизнь их висит на волоске. Что поделаешь! Такая уж доля выпала краю.
Даже десять копеек в день — немного меньше восьми су — едва можно заработать таким тяжким ремеслом. Но предложите этим храбрым финнам поселиться в другом месте, где солнце сияет и зреют лимоны, как в песне Гете, они откажутся: так нежно любит человек родную землю, что словно цепью прикован к ней, и родина-мать ему дороже всего, как бы сурово она с ним ни обходилась!
И, конечно, народ, картину жизни которого мы набросали, и описали природу края, должен иметь свою мифологию и поэзию. И у него даже две поэзии.
Одна — примитивная, традиционная поэзия аборигенов, если можно так выразиться, живая, непосредственная, полная неистощимой силы, она таится в глубине скал, парит над гладью озер; вся сотканная из обычаев и верований, она пропитывает самый воздух.
U „ ^ “
§
M
<£)
ft. г
№
■rw
!:^
Ц
#4
ev'£v
\ f* :^) i^
; 'Ч
%4
M
■\Oh
m!
/V
ft&
'?\a
v»
^‘i
И другая — чуждая, заимствованная, европейская, парадная поэзия, привнесенная завоевателями, услада острословов, поэзия, говорящая классическим литературным языком, словом, шведская.
В ней нет ничего самобытного, ничего особенного, она типична для любой академической школы европейской поэзии.
Попытаемся сначала дать представление о примитивной поэзии: больше всего подходит для этого первая «руна», которая для финнов значит почти то же самое, что для нас — первая глава книги «Бытия».
Эта «руна», темная по смыслу и внушительная по размерам, как вообще вся примитивная поэзия, является лишь вступлением к большой эпической поэме, состоящей из двадцати двух рун, герой которых — старый или, вернее, древний Вяйнемяйнен. Из текста видно, что слово «старый» — только почтительное обращение: поэт называет его так даже не в день его рождения, а еще во чреве матери. Поэма, автор или авторы которой неизвестны и которая вполне могла бы принадлежать перу целого ряда сказителей, начинается с картины сотворения мира,—правда, возникает вопрос, мог ли косоглазый лапландец существовать до того, как мир был создан,—и кончается рождением ребенка и крещением его; языческое повествование увенчивается появлением христианства.
Желающие прочесть поэму целиком в прекрасном и добротном переводе пусть обратятся к «Калевале» Леузона-Ледюка. Те же, кто готов удовольствоваться просто разбором текста, найдут его в книге «Россия, Финляндия и Польша» моего доброго друга Мармье.
315
Поскольку полный перевод произведения завел бы нас слишком далеко, последуем примеру Мармье и ограничимся анализом вышеупомянутой руны, несущей на себе отпечаток наших священных книг.
Мария —такое же имя и у матери Христа — прелестное невинное дитя, выросла в «горнем жилище». Уклончивость, присущая мудрым финнам, позволяет поэтам никогда ничего не уточнять.
Мария — гордость всего сущего вокруг. Доски порога гордятся тем, что их ласкает подол ее платья. Боковые перекладины двери дрожат от удовольствия всякий раз, когда их касаются развевающиеся локоны ее волос, а ревнивые камни мостовой жмутся поближе друг к другу, чтобы на них ступили ее изящные башмачки.
И вот дитя, прелестное и целомудренное, идет доить своих коров; каждую она ласкает и прилежно берет молоко у всех коров, кроме одной — стельной.
Подоив коров, прелестное дитя, всегда чтившее как святыню драгоценную непорочность, собирается в церковь; но в ее сани запряжен молодой жеребец пурпурной масти.
Мария не хочет садиться в сани, которые везет молодой конь.
Приводят бурую кобылу, кобылу, которая уже стала матерью.
Мария не хочет садиться в сани, которые повезет кобыла, уже ставшая матерью. В конце концов, запрягают молодую кобылицу-девст- венницу.
Только после этого Мария садится в сани.
В руне, как вы могли заметить и как показывает дальнейшее повествование, наблюдается своего рода смешение языческих и христиан-
ских представлений; предположительно время ее написания следует отнести к концу XII — началу XIII века, что соответствует периоду торжества христианства в Финляндии.
Однако вернемся к нашему разбору.
Прелестное дитя, всегда чтившее как святыню драгоценную непорочность, послали пасти скот.
Пасти стадо — страшно, особенно молодой девушке: в траве прячутся змеи, в дерне скрываются ящерицы.
Но не нашлось ни одной змеи, свернувшейся в траве, ни одна ящерица не притаилась в дерне. На пригорке, на зеленой веточке качалась маленькая ягодка, маленькая красная ягодка.
Она заговаривает с Марией.
— Девушка, подойди ко мне! Подойди, сорви меня,— говорит она ей,— сорви меня, девушка с нарядной оловянной пряжкой; сорви, пока червь не изгрыз меня, пока черная змея не одарила своей лаской.
Прелестная Мария приблизилась, собираясь сорвать окликнувшую ее красную ягодку; но для этого нужно подняться на носочки, так ей не достать.
Мария обламывает веточку... Нет, что я говорю! Она и мухи не обидит, не причинит боль деревцу, не сорвет цветка, не помнет травинки. Мария берет горсточку земли, она сбивает красную ягодку, и та скатывается вниз. Увидев на земле красную ягодку, Мария говорит:
— Ягодка, ягодка, взбирайся ко мне на платье.
И ягодка взбирается на складки ее платья.
Мария опять:
— Ягодка, ягодка, взбирайся ко мне на пояс.
И ягодка взбирается на ее пояс.
— Ягодка, взбирайся ко мне на грудь.
И ягодка взбирается к ней на грудь.
— Ягодка, взбирайся к моим губам.
И ягодка взбирается к ее губам, с губ— на язык, затем —в горло, а из горла спускается прямо в ее чрево.
Так прелестная Мария зачала от маленькой ягодки, и за девять месяцев и еще половину десятого она узнала и боль, и тревогу, обычные для времени беременности.
Когда пошел десятый месяц, Мариетта —а в тексте руны она то Мариетта, то Мария-Ма- риетта, когда пошел десятый месяц, почувствовала боль, предвещающую роды и сопровождающую их; и она стала думать, куда пойти ей и кто даст ей ванну.
Позвала она свою маленькую служанку.
— Пилти,— сказала она ей,— беги в Сарио- лу и попроси там ванну для меня, ванна утишит мою боль и поможет справиться с тем, что мне предстоит.
И малютка Пилти бежит в Сариолу.
Она приходит в дом семейства Рюотаксен.
По мнению г-на Леузона-Ледюка, Рюотас не кто иной, как Ирод.
Рюотас в атласной одежде сидит в дальнем конце стола, он ест и пьет. Рядом с ним — его спесивая жена.
Здесь —намек на Иродиаду; только у нас Иродиада — дочь, а не жена Ирода.
Служанка Пилти говорит, обращаясь к ним:
— Я пришла в Сариолу попросить ванну. Ванна облегчит страдания моей хозяйки и поможет справиться с тем, что ей предстоит.
i'V
<cvä
. S'o-Sk,.,
■ ■ — ■ 1 — — I ■! ■ ■■—■ ■ ■ ■ ■ ■" - ^ ■
— Кто это, кому нужна ванна?
— Кто это, кому нужна помощь? — спрашивает, в свою очередь, жена Рюотаса.
— Это моя хозяйка Мария,— отвечает Пилти.
Зная, что Мария не замужем, жена Рюотаса говорит ей:
— Наша ванна занята; но высоко, на вершине горы Кито, в сосновом лесу стоит дом, где девушки, сбившиеся с пути истинного, разрешаются от бремени и где их порождения на плотах ветра являются на свет.
Господин Леузон-Ледюк довольно невнятно трактует выражение «плоты ветра»: по мнению ] переводчика, жена Рюотаса называет так глад-i кие верхушки сосен, которые ветер сбивает! вместе, как плот. \
Пилти, пристыженная, возвращается к бед-1 ной Мариетте и говорит: i
— Нет в деревне никакой ванны, и нет бани в Сариоле.
Она передает свой разговор с Рюотасом и его женой.
Мария опускает голову.
— Мне ничего не остается,— говорит она,— только пройти этот путь так, как проходят его продажные женщины и наложницы!
И она отправляется в дом, построенный посреди плотов ветра.
Там, в горах, она идет к стойлу и, подойдя к кобылице, которая везла ее в церковь, говорит:
— Добрая моя лошадка, вдохни в меня свое дыхание; я так страдаю. Вместо ванны, в которой мне отказывают, дай мне теплый пар, облегчи мои муки и помоги мне пройти мой путь.
319
И доброе животное согревает невинную деву своим дыханием, и живительный пар, выходящий изо рта кобылицы, проникает в грудь Марии, божественной волной нежно омывает ее тело.
Тотчас Мария чувствует, как струится внутри благодатное тепло, и тогда она производит на свет младенца, которого укладывает в конские ясли на сухое сено, заготовленное летом.
Затем она кладет ребенка себе на колени и дает ему грудь.
Прелестный мальчик растет, но происхождение его — неизвестно.
Имя Генори дал ему супруг его матери, что значит «царь небесный». Мать же назвала его Дитя желанное.
Как видите, пока это напоминает одно из тех подложных евангелий, которые из-за своей наивности были отвергнуты церковью, а отлученные от религии, превратились в притчу; там есть конские ясли, есть сено, а вместо быка и осла — кобылица-девственница. Можно подумать, что речь идет о Христе; но дальше мы узнаем, что Христос к этому времени уже родился.
Итак, нужно, чтобы кто-то ввел мальчика в царство Всевышнего; чтобы кто-то, наконец, его окрестил. Приходят священник и крестный отец.
— Но кто предскажет судьбу несчастного ребенка, кто укажет ему путь? — вопрошает священник.
— Пусть отнесут его на болото, пусть переломают ему все кости, пусть молотом размозжат голову,—приближаясь, ответствует Вяйне- мяйнен, непременно появляющийся в каждой руне.
28. Нарышкина Е. П.
Бестужев Н. А.
Бумага, акварель. 1832 г.
29. Фонвизина Н. Д.
Неизвестный художник. Металл, масло. 1840-е гг.
30. Волконская М. И.
Гравер Унгер. Офорт по оригиналу Соколова П. Ф. 1826 г.
31. Михаил Юрьевич Лермонтов.
Гравюра конца XIX в.
32. Александр Иванович Полежаев.
Гравюра конца XIX в. С акварели Е. И. Бибиковой. 1834 г.
33. Большой фонтан в Петергофе.
Литография К. Шульца. По рисунку Ж. Мейера. 1850-е гг.
34. СТАВАССЕР П. А. Мальчик, удящий рыбу. Мрамор. 1839 г.
35. Вид Монплезира в Петергофе.
Литография К. Шульца. По рисунку Ж. Мейера. 1850-е гг.
36. Бельведер.
Литография П. Боре ля. По рисунку Циглера. 1853 г.
37. Николай Алексеевич Некрасов.
Гравюра с фотографии.
38. Дмитрий Васильевич Григорович.
Литография М. Барышева. 1858 г.
39. Иван Иванович Лажечников.
Литография с фото Даутен- de я. Вторая половина XIX в.
40. Иван Иванович Панаев.
Литография 77. Бореля. Вторая половина XIX в.
41. Князь Александр Данилович Меншиков.
Гравюра 1891 г.
42. СУРИКОВ В. И. Меншиков в Березове.
Масло, холст. 1883 г.
43. Императрица Екатерина II. Литография П. Бореля. 1862 г.
44. Князь Григорий Але- 45. Император Петр III.
ксандрович Потемкин
(Таврический). Гелиогравюра по портре¬
ту Ф. С. Рокотова. 1762 г.
Гравюра И. Пожалости- на. 1875 г. По портрету И. Лампы.
46. Княгиня Екатерина Романовна Дашкова.
Гравюра Ю. Шюблера. С гравюры портрета Г. И. Скородумова. 1777 г.
47. Императорский дворец в Ораниенбауме.
Литография К. Шульца. По рисунку Ж. Мейера. 1830—1850-е гг.
48. Шлиссельбургская крепость.
Литография А. Дюрана. Фигуры Раффе. 1848 г.
49. Валаам. Монастырь с южной стороны. Литография П. Балашова. 1862 г.
50. Валаам.
« ' >я
tj g. о
<и Ч а н » §
в « ®
и!§
я § £
к я
USC
2 «
&&
в <и н
н в 5
-1
2
<ЧГ ^
о> а ^
~ s « л
: *
! 2 ~ л O »
о а о
Ö
'«
л ü О «о и О Я
§|.
о; *з 3 *>
*1
2
S J *■
1^*3
^2°
52. Валаам. Ледяные горы у скалы острова Сосновца в 12-ти верстах от монастыря. (Зимний вид.)
Литография П. Балашова. 1862 г.
ж
¥
§
и
Тут сын Марии вступает в разговор, хотя младенцу всего две недели:
— Почтенный чужеземец, Рунайя из Карья- ла, речи твои неразумны, неверно твое толкование закона.
По финским законам внебрачные и незаконнорожденные дети неизменно приговаривались к смерти, точно так же, как у евреев они по закону были бесправны. Отстаивая свое право на жизнь, сын Мариетты одновременно защищает честь своей матери.
И священник, как повествует руна дальше, окрестил мальчика и помазал его на царство, чтобы стал он королем леса и стерег остров сокровищ.
Тогда запел старый Вяйнемяйнен, багровея от ярости и стыда, свою последнюю песню; а потом построил он себе стальной челн, лодочку с железным дном, и уплыл на ней вдаль, в заоблачную высь, в небесную глубь.
Там лодка его стала, там окончился его путь, но оставил он на земле свое кантеле, свои знаменитые песни, которые вечно будут радовать Финляндию...
Отрывка, приведенного нами, вполне достаточно, чтобы дать представление о поэтическом духе финнов — мягких и решительных одновременно,— которым и в густом тумане, окутывающем Финляндию, все еще светит далекий огонек их первой родины, Азии.
Перейдем теперь от поэзии к литературе—не следует смешивать эти два понятия..
Мы дали некоторое представление о древней поэзии, о финноязычном романтическом эпосе, и мы отмечали, что кроме необъятной устной традиции, которая сродни песням Гоме-
?Vl
ciri
f
(g^
й
Чг if
ш
jV>
Г/мУ)
г
№
/та
Ж
т
13 А Дюма, т 2
321
ра и циклу романов о Карле Великом, существовала вторая литература.
Но это была литература завоевателей, то есть шведская литература.
И повторяем еще раз, одна — действительно поэзия, другая — литература. Естественно, что, как почти повсюду, именно литература преобладает над поэзией.
Три современных поэта представляют литературу: Корееус, Францен и Рунеберг. Все трое — финны, но выпускники шведского университета в Або.
Их стихи полны поэтической грусти, но не самобытности.
Корееус — сын бедного священника, в шестнадцать лет остался сиротой. Родился он в Кри- стианштадте в 1774 году, умер в Або в 1806 году. Ему было тогда тридцать два года. Одно из его стихотворений называется «Размышление над моей могилой». Оно написано одновременно с «Листопадом».
Знал ли Корееус французского поэта? Неизвестно. Одно несомненно, что французский поэт финского поэта не знал. Если бы вы прочитали это стихотворение, вы бы убедились, что оно вполне могло принадлежать перу и Гете, и Байрона, и Ламартина.
Что касается Францена, то я опираюсь только на мнение Мармье, которое он высказывает в своих очерках о поэтах Севера. Под рукой у меня ничего больше нет, и я позаимствую у него некоторые суждения. Да не посетует на это читатель. Вот что говорит наш ученый:
«Францен — поэт-философ, по натуре нежный, мечтательный, он носит в себе целый мир мыслей, которыми, как цветами, усыпает свой путь. Стихов, подобных этим, во Франции я не
знаю, разве что некоторые баллады Мильвуа, из самых простых. В Германии их можно было бы поставить в один ряд со стихами Виотти и Матенона. В Англии им в некотором отношении близки иные элегии Бернса. Но Бернс более глубок и разнообразен, а если искать соответствий в Италии, то там на это годится лишь идиллия Метастазио.
Чтобы дать понятие о поэтическом даре поэта, Мармье перевел стихотворение Францена под названием «Единственный поцелуй».
Францен родился в 1772 году, он оставил большую неоконченную поэму о Христофоре Колумбе. Из трех цитируемых нами поэтов единственный ныне здравствующий, если только не умер совсем недавно, Рунеберг — лучший из них. Он родился в Борго в 1800 году и в период моего пребывания в Санкт-Петербурге три года назад преподавал в гимназии своего родного города. Поездка в Або, где он учился, была самым большим событием в его жизни.
Мы сказали, что Рунеберг лучший из трех. И причина, безусловно, кроется в том, что, в отличие от двух первых поэтов, в нем сильно финское начало: одна из его поэм похожа на древнюю руну — жаль, что у нас нет ее под рукой и мы не можем представить ее всю целиком на суд наших читателей; но, находясь вдали от библиотек, мы просто на память приведем ее содержание. Она называется «Могила Пирро».
Знал ли Рунеберг, когда писал свою поэму, о Торквиле из дубровы — герое романа «Пертская красавица»? И знал ли он предание о старце из Монте-Аперто и о шести его детях? Не думаю.
Во всяком случае, вот финская версия, сочиненная или только переложенная на стихи Ру- небергом.
У одного почтенного финна было шестеро сыновей. Пошли они сражаться с разбойниками, опустошавшими округу, но попали в устроенную теми западню и были убиты — все, кроме одного.
Пришел отец на поле боя, стал искать тела свокх сыновей.
Искал он шестерых, а нашел только пять. Хотел он оплакать их, мертвых, но внезапно высохли слезы у него на глазах. Трупов пять, а не шесть! Неужели, правда, одного не хватает?
Не было среди них именно того, на кого возлагал он всегда самые большие надежды; его он влюбил больше всех — своего старшего сына Томаса,
Что с ним случилось? А вдруг он бросил братьев?
Эта мысль терзает старика. Позор, которым, возможно, Томас покрыл себя, доставляет ему большие страдания, чем непреложность смерти, постигшей остальных его сыновей.
Нет, старик напрасно так убивался. Он может оплакивать пятерых своих сыновей и при этом гордиться шестым. Томас не был с братьями, когда они попали в засаду.
Он опоздал и не мог ни спасти их, ни умереть с ними вместе. Но, увидев их окровавленные трупы, он бросился в погоню за убийцами. Убил их всех, одного за другим, и принес отцу голову их предводителя.
Старик не умер от горя при виде трупов своих пяти сыновей, но он умирает от радости, обнимая шестого.
Этот странный народ, сохранивший в неприкосновенности национальную одежду предков, народ, который, подобно грекам, временами поет отрывки из собственной древней «Илиады», должен был импонировать императору Александру, человеку, склонному к меланхолии и самоуглублению. Он полюбил завоеванную им Финляндию. В 1809 году, вскоре после заключения Тильзитского мира, который, сдержи Александр свое слово, предрешил бы падение Англии6, он посетил Або и даровал академии, чей первый камень был заложен тем самым Густавом IV, которого Наполеон хотел отправить царствовать в сумасшедший дом, ежегодную сумму в восемьдесят тысяч рублей на продолжение исследований.
Наконец 21 января 1816 года царь издает указ7 следующего содержания:
«Будучи в полном убеждении, что государственное устройство и законы, которые, находясь в совершенном соответствии с национальным характером^ обычаями и культурой финского народа, долгие годы были фундаментом мира и спокойствия в стране, не могут быть изменены или упразднены без ущерба для мира и спокойствия, мы, с первых шагов нашего владычества в Финляндии, не только торжественно принимаем и поддерживаем прежние государственные устои и законы, как и все вытекающие из них права каждого гражданина, но также учреждаем, после предварительного обсуждения, особый орган управления, который под именем нашего Государственного совета, совета, сформированного из финляндцев, управлял бы в стране от нашего имени делами гражданскими, а в делах правопреступных вершил бы правосудие, в последней ин-
1
1
станции, неподвластный какой-либо другой силе, кроме силы законов, следуя которым и мы, самодержец, осуществляем свое правление: все вышесказанное имело целью возвестить, какова была и вовек будет наша воля в отношении наших финских подданных, и слово, данное им, в том, что касается сохранения их собственного государственного устройства, пребудет неизменным во все времена царствования нашего и наследников наших».
Спешим добавить, что обещание, данное народу Финляндии императором Александром, свято выполнялось.
астало время путешествия в Финляндию. Пароходы отходят от Летнего сада в Шлиссельбург, Коневец, Валаам и Сер- доболь еженедельно.
Мы решили отправиться на одном из этих судов.
Граф Кушелев пожелал нанять пароход, чтобы сопровождать нас от Санкт-Петербурга до Сердоболя, как он провожал нас от Кронштадта до столицы. Эта увеселительная прогулка ему обошлась бы в полторы тысячи рублей. Мы уговорили его отказаться от легкомысленной затеи.
Утром 20 июля мы заняли места на одном из небольших кораблей, идущих вверх по Неве со скоростью шесть километров в час. Меня сопровождали Дандре, Муане, Милле- лотти.
Проезжая дворец Безбородко, мы увидели наших друзей; они с балкона прощались с нами: дамы махали платками, а мужчины шляпами. Те из них, кто плохо видел, смотрели в бинокли и подзорные трубы.
Да и вообще, невооруженным глазом можно было различить лишь силуэты людей, поскольку ширина Невы в этом месте, то есть между дворцом Безбородко
327
и Смольным, составляет более двух километров.
В течение часа мы имели возможность, несмотря на изгиб реки, видеть, как белеет, уменьшаясь за горизонтом, только что покинутый нами великолепный дворец Безбородко, где мы провели незабываемо счастливые дни; наконец, несмотря на гигантский размер излучины Невы, мы потеряли его из виду.
Но еще целый час предместья огромного города, казалось, следовали за нами по берегам реки; затем постепенно линии улиц стали прерываться, дома встречались реже, и начали появляться деревни.
Спустя некоторое время перед нами предстала двойная цепь низких холмов, похожих на бугры,— развалины дворца.
Дворец, расположенный на левом берегу Невы, был построен Екатериной; его службы сохранились и теперь. На противоположном берегу был построен совершенно такой же дворец.
Оба дворца разрушены, но не временем, а руками людей.
Павел I при жизни матери боялся ее и стыдился ее образа жизни; после кончины Екатерины и своего восшествия на престол Павел приказал вывезти имущество и снести дворец.
Всегда существовали наемные грабители и разрушители, и в данном случае они тоже сыскались и охотно принялись все крушить и ломать. Сыновняя месть была жестокой. Шведы, у которых русские в тяжелых боях захватили эти земли, предприняв новую войну, не совершили бы такого опустошения.
Вблизи дворца на правом берегу расположена фабрика шелковых чулок, основанная Потемкиным. Она, как говорят, работала только на него; он надевал чулки только один раз, после чего раздаривал.
Фабрика разрушена, как и дворец, но у нее есть перед дворцом преимущество — легенда; говорят, что там водятся привидения.
Даже упоминание о привидениях привело Миллелотти в ужас.
Императрица и ее фавориты умерли, и память о них развеяна историей, как и память о дворцах, отданных Павлом I на разграбление слугам.
Я уже поведал о смерти Екатерины. Но еще не рассказал, как умер тот ее любовник, которого удалил граф Орлов и который, в свою очередь, удалил графа.
Потемкин не был ревнив. Он прекрасно понимал, что для Екатерины смена любовников объяснялась не распутством, а болезнью, и стал врачевателем этой болезни, взяв на себя миссию доставлять лекарства.
Все совершалось открыто, таковы были нравы того времени.
Вот что писал посол Англии в Санкт-Петербурге сэр Джеймс Харрис 19 марта 1782 года:
«Я не уверен, что вскоре не появится новый фаворит — ставленник князя Потемкина. Единственная трудность заключается в том, чтобы благопристойно освободиться от бывшего любовника, который всегда был и остается столь услужлив, что его трудно в чем-нибудь упрекнуть. Он не ревнив, не переменчив, не дерзок и даже теперь, осознавая надвигающу-
юся немилость, сохраняет невозмутимое спокойствие.
Появление преемника можно отсрочить, но нельзя ему воспрепятствовать. Решение бесповоротно принято, и князь Потемкин слишком заинтересован в этой перемене, ибо ожидает от нее возврата своего влияния; хотя бы в течение первых шести недель он будет всемогущим».
Вот на каких условиях Потемкин уступал свое место; об этом рассказывает тот же сэр Джеймс Харрис:
«Прежний фаворит не получил формальной отставки, его безграничная услужливость несомненно ему на пользу. Он не подает повода к тому, чтобы его сместили. Тем не менее я считаю, что его участь решена. Для него купили дом, ему приготовили великолепные подарки, которые обычно дают отставным фаворитам. Они имеют значительную ценность, а так как повод для награждения подарками находится довольно часто, это неизбежно отражается на бюджете империи. Со времени моего прибытия на эти цели расходуется не менее миллиона рублей в год, не считая огромных пенсий князя Орлова и князя Потемкина».
Тот же самый Джеймс Харрис, посланник торговой державы и, следовательно, прирожденный бухгалтер, уточнил расходы Екатерины по этой статье.
Можно предположить, что цифры сэра Джеймса Харриса верны.
Это цифры его, а не наши. У нас всегда были плохие отношения с математикой.
Поговорим о Потемкине, потому что рас-
сказ касается его, а потом коснемся и некоторых его коллег.
«Потемкин,—говорит сэр Джеймс,—будучи фаворитом, в течение двух лет получил тридцать семь тысяч крестьян в России и почти на девять миллионов драгоценностей, посуды; кроме того, все возможные ордена; он был также назван князем Священной Римской империи в третьем поколении».
Сэр Джеймс писал об этом в 1782 году.
Благосклонность, которую посол считал неустойчивой, напротив, все крепла и длилась вплоть до кончины фаворита в 1791 году, то есть в течение девяти лет. Если Потемкин в начале своей карьеры фаворита за два года получил тридцать семь тысяч крестьян и девять миллионов франков, то ко времени кончины он, по самому минимальному подсчету, должен был получить сто пятьдесят три тысячи крестьян и сорок два миллиона.
А почему бы и нет? Васильчиков, простой гвардейский лейтенант, по подсчетам сэра Джеймса Харриса, этого неутомимого бухгалтера, получил в течение двадцати двух месяцев своего фаворитства четыреста тысяч франков деньгами, двести тысяч франков драгоценностями, меблированный дворец стоимостью в сто тысяч рублей и посуды на пятьдесят тысяч, крестьян в России, пенсию в две тысячи рублей, то есть пятьдесят тысяч франков, орден Св. Александра и ключ камергера.
Продолжим, ибо этот перечень любопытен, не правда ли?
«Украинец Завадовский получил в течение восемнадцати месяцев, пока он был фаворитом, шесть тысяч крестьян на Украине, две ты-
и
W
*
If
№jj
i
us
III
%
сячи в Польше и восемнадцать тысяч в России, кроме того, еще на восемьдесят тысяч рублей драгоценностей, сто сорок тысяч серебром и тридцать тысяч посудой. Кроме того, он был награжден польским Синим орденом и сделан камергером России.
Серб Сори, будучи фаворитом один год, получил земли в Польше стоимостью в пятьдесят тысяч рублей; в Ливонии еще земли, стоящие сто тысяч рублей; деньгами пятьсот тысяч рублей; драгоценностями — на двести тысяч, опеку над тремя тысячами рублей в Польше; из простого гусарского офицера он был сделан генерал-майором; кроме того, он получил от Швеции большой орден Шпаги, а от Польши— орден Белого Орла.
Русский Корсаков, унтер-офицер, будучи фаворитом в течение шестнадцати месяцев, получил подарков на сто шестьдесят тысяч рублей и после отставки четыре тысячи крестьян в Польше, более ста тысяч рублей для уплаты долгов, сто тысяч — для экипировки, две тысячи в месяц на путешествие, дом Васильчикова, польский орден, звание генерал-майора и титул адъютанта и камергера.
Русский Ланской, гвардеец, получил ордена с алмазами ценой в восемьдесят тысяч рублей и тридцать тысяч для уплаты долгов; он все еще в фаворе.
Наконец, князь Орлов и его родственники получили за период с 1762 до 1783 года, то есть за двадцать один год, сорок пять тысяч крестьян и семнадцать миллионов в виде драгоценностей, посуды, дворцов и денег».
Сэр Джеймс Харрис не удосужился подве-
сти итог расходов Екатерины на любовные дела за двадцать один год.
Но благодаря обзору, который он сделал, и добавив расходы за те двенадцать или пятнадцать лет, которые Екатерина еще царствовала, каждый может сосчитать.
Вернемся к Потемкину.
Мы сказали, что благосклонность, которую сэр Джеймс Харрис считал почти угасшей, продолжалась еще девять лет.
В 1783 году Потемкин послал армию в Крым и присоединил этот край к Русской империи, в 1787 году он отправился в поход против турок. В 1788 году штурмом взял Очаков, в 1789-м — Бендеры, наконец, в 1790-м,— Келанову.
В 1791 году он вернулся в Санкт-Петербург. На этот раз его действительно заменил тот самый Платон Зубов, который позднее так деятельно будет участвовать в убийстве Павла I.
Замена бы для него ничего не значила, если бы сохранилось его влияние; но он увидел, что императрица была готова заключить мир, в то время как он хотел продолжения войны. Он отправился в Крым с намерением противиться этому миру. Но в Яссах узнал, что мир уже подписан; тем не менее он не прервал свой путь, надеясь все изменить. Пообедав в городской гостинице, Потемкин поехал далее, но почувствовал себя так плохо, что приказал остановить коляску и расстелить плащ на берегу.
Через четверть часа он скончался на руках своей племянницы, впоследствии графини Бра- ницкой.
Мы проехали мимо развалин двух дворцов и были в двенадцати верстах от Шлиссельбур-
га, когда на левом берегу сквозь деревья заметили колонну в честь битвы, которая отдала шведскую крепость в руки Петра I. Один крестьянин из Дубровки попросил разрешения возвести колонну за собственный счет на том месте, где Петр I находился во время битвы.
Шведская крепость называлась Нотенбург. Победитель после ремонта крепости дал ей знаменательное имя Шлиссельбург, то есть ключ к городу.
В то время Петербург был только «городом Петра».
Меншиков был назначен комендантом Шлиссельбурга.
Справа и слева от реки начали появляться густые леса, образующие мрачное ожерелье Ладоги. В этих лесах летом бывают частые пожары, причину которых некоторые объясняют местью крестьян, что было бы слишком просто.
Говорят, что деревья самовозгораются и так быстро сгорают потому, что они хвойные и пропитаны смолой.
Наиболее вероятная причина этих пожаров следующая.
Во время частых ураганных ветров ели склоняются и трутся одна о другую; в результате— они воспламеняются, подобно тому, как трением кусков дерева добывают огонь дикари Америки.
Какой бы ни была причина, пожары возникают; во время нашего путешествия по Финляндии мы видели их только издали, но по дороге из Санкт-Петербурга в Москву нам пришлось проезжать буквально между двух стен огня; пламя было так близко и так опаляло,
что машинист увеличил скорость, чтобы мы не поджарились с обеих сторон.
Над маленькой деревушкой, расположенной на левом берегу Невы, возвышается церковь Преображения.
Церковь и вся деревня принадлежат секте скопцов — об ужасных тайнах этой секты мы уже рассказывали.
Один из главных пророков скопцов был похоронен на кладбище церкви Преображения. Его могила для скопцов — цель паломничества, такая же священная, как могила Магомета для мусульман.
Здесь с помощью раскаленной латунной проволоки приносятся жертвоприношения, какие когда-то совершали жрецы Изиды в Египте и Кибелы в Риме. В темные ночи иногда можно заметить, как вблизи могилы пророка мелькают огоньки, подобные блуждающим звездам. Воздух полон жалоб, похожих на стоны ветра. Если вы видите огоньки и слышите крики, проходите быстро и не оборачивайтесь. Там приносятся жертвы, противные природе и человечности.
Читатели моего «Путешествия на Кавказ» увидят, что в южной России я встречал целые поселения этих несчастных, которые могут быть мастерами на все руки, но не могут быть отцами семейства. Трое из них перевозили меня на лодке от Маранны до Пота.
В одной или двух верстах от деревни, не припомню названия, можно было разглядеть, как в серебристых водах Ладожского озера отражается крепость Шлиссельбург, прикрывающая вход в озеро.
М
335
Это низкое и мрачное здание с тяжелым каменным замком, ключами к которому служат пушки.
Французская пословица гласит: «Стены имеют уши». Если бы стены Шлиссельбурга, кроме ушей, имели еще язык, какие мрачные истории они могли бы рассказать!
Вместо них заговорим мы и расскажем вам одну из таких историй.
Сюда был заточен и здесь был убит юный Иоанн.
Я не знаю более печальной истерии, чем история жизни этого царственного ребенка. Она печальнее, чем история Друза, что умирал от голода и съел шерсть своего матраса, или история сыновей Клодомира, убитых Клотером, или история маленького Августа Бретонского, которому герцог Жан велел выколоть глаза.
У царицы Анны Иоанновны, дочери Иоанна, брата Петра, с которым они некоторое время царствовали вместе, была сестра, вышедшая замуж за герцога Мекленбургского; по словам Рондо, нашего посла при Санкт-Петербургском дворе, сестра эта умерла «по причине большого количества водки, употребленной ею в последние годы».
От герцога Мекленбургского и дочери Иоанна родилась герцогиня Мекленбургская, племянница Анны; она вышла замуж за герцога Антона-Ульриха Брауншвейгского и родила сына, Иоанна Антоновича, то есть Иоанна, сына Антона, как принято говорить в России.
Это был маленький внучатый племянник Анны Иоанновны, дочери Иоанна.
Умирая, императрица завещала свой трон ему, предпочтя этого ребенка дочери Петра Be-
¥
I
№
ш щ
h
ликого, рожденной в 1709 году Екатериной I. Она считала Елизавету незаконной, поскольку в момент ее рождения Петр I был мужем Евдокии Лопухиной, а Екатерина была замужем за гвардейцем, имени которого никто не знал.
Императрица умерла ночью 17 октября 1740 года.
Наутро великий канцлер Остерман огласил завещание, по которому императором должен стать семимесячный Иоанн, а Бирон, герцог Курляндский,— регентом до достижения императором семнадцати лет.
Это регентство должно было продлиться шестнадцать лет, а длилось лишь двенадцать дней.
Мы уже рассказали, как с помощью фельдмаршала Миниха принцесса Анна, мать маленького Иоанна, озлобленная наглостью Бирона, в одну ночь лишила его могущества, владений, золота, денег и отправила, почти нагого, с вершины власти в ссылку. После этого дворцового переворота Анна была провозглашена великой герцогиней-регентшей, князь Брауншвейгский, ее супруг,— генералиссимусом, Миних — премьер-министром и Остерман — великим адмиралом и министром внутренних дел.
После провозглашения Бирона регентом было двое недовольных; после провозглашения регентшей герцогини Брауншвейгской недовольных стало трое.
Первой из них была принцесса Елизавета, младшая дочь Петра Великого и Екатерины I, которая тешила себя надеждой унаследовать трон после смерти Анны Иоанновны.
И она бы его унаследовала, если бы не при верженность императрицы к своему фавориту.
J
%
'■Г&)
Ü
m
U
шa
л4»
0
№
%
Jl(
MI
337
Назначая малютку Иоанна, Анна Иоанновна полагала, что продлевает власть Бирона на весь период малолетства ребенка, то есть на шестнадцать лет; при назначении Елизаветы, которой было тридцать три года, герцог Курляндский Бирон был бы немедленно отправлен в свое герцогство.
Двумя другими недовольными были сама великая герцогиня и ее муж герцог Брауншвейгский.
Миних арестовал Бирона и вручил власть чете Брауншвейгских; после этого маршал мог бы стать генералиссимусом, но он сам отказался, выразив желание, чтобы армией командовал отец его суверена. Правда, произнося эти слова, он добавил: «Хотя огромные услуги, оказанные мною государству, делают меня достойным этой чести».
Кроме того, назначая герцога Брауншвейгского генералиссимусом, маршал Миних на самом деле давал ему лишь иллюзорный титул: премьер-министр правил полновластно и был единственным главой государства.
Вот что писал 10 февраля 1741 года своему правительству английский резидент Финч: «Князь сказал, что очень многим обязан Мини- ху, но из этого не следует, что фельдмаршал должен играть роль великого визиря».
Затем:
«Если Миних останется верен своему без- I граничному честолюбию и неистовым стра- || стям, то погибнет от собственного безрассудства ».
Сообщив своему правительству о чувствах князя к Миниху, Финч в другом письме от
«
(
Ï
338
У
7 марта рассказал об отношении княгини к маршалу:
«Регентша сказала, что Миних сверг герцога Курляндского скорее из честолюбия, чем из преданности; хотя она и воспользовалась плодами измены, она не может доверять изменнику. Невозможно, говорила она, выносить высокомерие фельдмаршала, который никому не отдает отчета в своих приказах и имеет наглость без конца перечить ее супругу. У него слишком много претензий и очень беспокойный характер. Ему лучше бы поселиться на своих украинских землях и закончить свои дни в мире, если бы это его устроило».
И действительно, менее чем через три месяца после переворота, совершенного им самолично, Миних был лишен поста премьер-министра и всех военных званий.
Теперь все заискивали перед принцессой. 18 декабря 1740 года, в день рождения Елизаветы, великая герцогиня Анна подарила ей великолепный браслет, а младенец Иоанн преподнес золотую табакерку с русским орлом на крышке; в это же время Соляной приказ выплатил ей сорок тысяч рублей.
Может быть, если бы принцесса Елизавета была одна, ничего из того, о чем мы рассказываем, не случилось бы; дочь Петра I и Екатерины I не была честолюбивой и, имея много денег и много любовников, прожила бы свою жизнь, довольствуясь тайными наслаждениями.
Но, хотя у нее самой не было честолюбия, зато у нее был врач, честолюбия которого хватало также и на ее долю.
Мы поведали, как ему удалось вывести
I
Ш
Jß.
принцессу Елизавету из апатии, чтобы она решилась на дворцовый переворот.
Результатом этого переворота было то, что однажды утром кабинет в Сент-Джеймсе получил депешу от 26 ноября 1741 года:
«Вчера, в час ночи, принцесса Елизавета отправилась в казармы Преображенского полка в сопровождении Воронцова, одного из камергеров, Лестока и Шварца: встав во главе трех сотен вооруженных гренадеров, явилась во дворец: где, заняв все подъезды, взяла младен- ца-царя и его маленькую сестру из постели, арестовала великую княгиню и герцога, которые также уже легли, и отправила их вместе с фавориткой Юлией Менгден в свой дом. Принцесса приказала немедленно задержать Миниха и его сына, Остермана, Головкина и многих других.
Все приказы были выполнены с максимальной быстротой, и принцесса вернулась в свой дом, где собрался почти весь город: перед домом выстроился полк гвардейской кавалерии и три полка пехоты. Она была единодушно провозглашена самодержицей России, и ей принесли присягу. В семь часов утра она овладела Зимним дворцом, прогремел пушечный залп».
Как видите, все это произошло с удивительной легкостью, и никто не потрудился изобрести что-либо новое. Так же, как великая герцогиня велела арестовать Бирона, принцесса Елизавета, ничего не меняя в программе, велела арестовать великую герцогиню.
Переворот был закончен пушечными выстрелами в ознаменование радостного события.
Что же стало с бедным маленьким императором? Он так недавно подарил своей кузине золотую табакерку, а она у него жестоко отняла трон, вернее — колыбель.
Первым желанием новой императрицы было выслать герцога Брауншвейгского, его жену и маленького Иоанна за границу. Но вскоре она передумала и отказалась от своего доброго побуждения. Троих пленников не довезли и до Риги.
Все трое были заключены в крепость.
Позднее герцог и герцогиня Брауншвейгские были отправлены на остров на реке Двине, ниже Архангельска. Принцесса Анна умерла там от родов, оставив трех малолетних мальчиков и двух девочек1. Муж пережил ее на двадцать девять лет и умер там же в 1775 году2.
Младенец Иоанн, виновный лишь в том, что царствовал семь месяцев в том возрасте, когда он даже не понимал, что такое трон, был отнят у своей семьи, едва та была выслана из Риги, и поселен в монастыре подле Москвы.
Фредерик, врач Елизаветы, сообщает в книге «История моего времени», что Иоанну дали зелье, от которого он потерял рассудок.
Я в это не верю. Местные сказания говорят, что бедный маленький принц был прекрасным ребенком, а затем стал красивым молодым человеком. Если бы он был идиотом, Елизавета ни минуты не колебалась бы между ним и герцогом Голштинским, которым Бирон угрожал Брауншвейгской принцессе. Если бы он был идиотом, у Петра III не появилась бы идея, отвергая Екатерину и не признавая Павла I, сделать его своим наследником; наконец, если бы
он был идиотом, он, возможно, умер бы в тюрьме своей смертью.
Как бы там ни было, в 1757 году, когда молодой принц ожидал своего семнадцатилетия, вот что сообщил посланник США Суорт посланнику Англии в Берлине:
«В начале последней зимы Иоанн был переведен в Санкт-Петербург, а затем в Шлиссельбург, где был помещен в хорошем доме, принадлежавшем вдове секретаря тайной полиции. Его тщательно охраняли. Императрица повелела привести его в Зимний дворец и видела его, одетого в форму. Гадают о том, взойдут ли на престол великий герцог и великая герцогиня или Иоанн?»
Тем не менее Елизавета остановила свой выбор на племяннике, герцоге Голштинском, и четвертого января, умирая, оставила его наследником трона. Так как добрая императрица в период своего царствования не разрешала ни одной смертной казни, маленький Иоанн, хотя и оставался в тюрьме, не рисковал жизнью.
Елизавета поклялась, что никогда не позволит совершить смертную казнь; не разрешила даже казнить убийцу, спрятавшегося в ее апартаментах: его лишь подвергнули пытке. Ее страх быть убитой был настолько велик, она так любила жизнь и так умела ею наслаждаться, что с этих пор ни разу не ночевала в одной и той же комнате; никто заранее не знал, где она проведет ночь.
Елизавета успокоилась только тогда, когда Разумовский, церковный певчий, ставший ее мужем, нашел ей надежного человека, очень некрасивого, очень верного и очень сильного, который каждую ночь спал в передней.
Вернемся к Иоанну.
После встречи с Елизаветой Иоанн был переведен в Шлиссельбург. Были две встречи Петра III с Иоанном, после которых Петр III приказал привезти его в Санкт-Петербург. О подробностях свиданий ничего не известно: но можно не сомневаться в том, что страх, который эти свидания внушали Екатерине, ускорил свержение и смерть Петра III.
Став императрицей, Екатерина отдала самые строгие распоряжения относительно молодого Иоанна. Для него построили деревянный дом посреди двора крепости; вокруг дома шла галерея, в ней день и ночь сменялись часовые. Кровать стояла в центре комнаты, и, когда вечером молодой принц ложился в постель, потолка опускалась железная клетка, окружавшая ее со всех сторон. В амбразуре стояла заряженная картечью пушка, дуло которой было наведено на постель.
Находящийся в заключении молодой принц волновал умы общества; не было ни одного беспорядка, с которым не связывали бы его имя, грозное для Екатерины.
Послы часто докладывали об этом своим государям.
Вот что писал о принце 25 августа 1751 года лорд Букингем, посол Англии:
«Относительно Иоанна взгляды разделяются: одни говорят, что он настоящий идиот, другие— что ему только недостает воспитания».
Двадцатого апреля 1764 года внезапно стало известно, что молодой принц убит в своей тюрьме в результате попытки лейтенанта Ми- ровича освободить его.
Рассказывали об этом по-разному, но все рассказы кончались бездной.
Эта бездна — смерть.
Вот что говорили приверженцы Екатёрины. Мирович был из казаков, дед его пострадал за то, что пошел под знамена Мазепы. У него был беспокойный характер, его преследовала бедность, он не мог примириться с разорением семьи. Мировичу пришла идея вновь обогатить семью каким-нибудь славным делом, последовать примеру Миниха и Лестока. Но он не учел, что всякий раз, как кто-то создавал регентшу или императрицу, первой их заботой было избавление от благодетеля.
Отсюда — падение Миниха, отсюда — падение Лестока.
Решение созрело в голове молодого человека,—так говорят приверженцы Екатерины,—и он постановил освободить Иоанна, когда придет его черед стоять на страже в Шлиссель- бургской крепости.
Такова первая версия. Теперь перейдем ко второй, более правдоподобной, вполне созвучной той безнравственной политике, которая дала английскому послу Финчу повод сказать: «Я не знаю здесь никого, кто в другой стране слыл бы просто честным человеком».
Вот другая версия.
Екатерина доверилась своему фавориту; им тогда был граф Григорий Орлов, а не Потемкин, как ошибочно утверждает автор, у которо- Л го мы заимствовали эти сведения. Екатерина, до говорим мы, рассказала ему об опасениях, которые ей внушает заключенный, несмотря на тайный приказ тюремщику убить его при первой попытке освобождения.
9
Фаворит, несомненно, знал о губительном приказе и на этом построил свой план.
Он навел справки и убедился в том, что беспокойный и честолюбивый характер Мировича был именно таким, как ему говорили.
Он велел привести молодого человека, рассказал ему об опасениях императрицы и пообещал горы золота, если тот эти опасения рассеет.
Но как рассеять эти опасения?
Очень просто.
Был приказ убить Иоанна при первой попытке освободить его. Если Мирович предпримет такую попытку, Иоанна убьют.
Самого же Мировича не только помилуют, но его судьба и состояние будут обеспечены в результате мнимого заговора.
Молодой человек не сомневался, что предложение исходит не от фаворита, а от самой императрицы.
Он принял предложение и получил за это тысячу рублей.
На эти деньги он нанял двадцать человек, которые согласились ему помочь. Взяв их с собой, он потребовал у коменданта крепости освобождения Иоанна.
Здесь обе версии совпадают.
Комендант отказался.
По приказу Мировича солдаты набросились на коменданта и связали его.
Комендант выбыл из игры и не мог уже помешать замыслу Мировича; Мирович заставил часового у порохового склада выдать боеприпасы солдатам.
Овладев боеприпасами, Мирович направился в помещение принца.
Но все передвижения происходили не без шума; шум услышали капитан и лейтенант, один из них находился в спальне принца, второй— в передней.
Мирович постучал в дверь, назвался комендантом крепости и потребовал, чтобы ему выдали императора.
Капитан и лейтенант отказались. Мирович настаивал и после второго отказа приказал своим людям взломать дверь топором и прикладами ружей.
Капитан и лейтенант объяснили нападающим, что имеют приказ убить арестанта в случае попытки освободить его. Если нападающие тут же не уйдут, охрана будет вынуждена следовать инструкциям.
Мирович продолжал взламывать дверь с еще большим ожесточением.
Внезапно раздался душераздирающий крик, и заговорщики, несмотря на грохот, который они устроили, взламывая дверь, услышали его.
— Императора убивают,— закричал Мирович, и нападающие с еще большей силой навалились на дверь.
Наконец дверь была взломана.
Но поздно. Охранники выполнили приказ. Иоанн спал или казался спящим. Его окружала железная клетка.
Капитан поразил его сквозь решетку ударом шпаги.
Именно крик, последовавший после удара шпагой, и услышали заговорщики.
, Но вслед за тем молодой принц приподнялся, схватился за клинок и стал оказывать сопротивление, какое можно было оказать в подоб-
ном положении. Он выхватил одну из шпаг и сквозь решетку защищался как мог.
Бедный пленник надеялся, что после стольких мучительных дней Провидение сжалится над ним: он не хотел умирать.
Получив семь ран, он еще боролся: восьмая была смертельной.
В это мгновение Мирович ворвался в комнату.
Принц уже прощался с жизнью.
Убийцы раскрыли окровавленную постель, затем подняли клетку к потолку.
— Вот тело,— сказали они,— делайте с ним что хотите.
Мирович взял на руки тело молодого человека, отнес его на гауптвахту и прикрыл знаменем.
Затем он заставил своих солдат преклонить колени перед императором и сам, простершись ниц, поцеловал его руку.
После, сняв с себя шлем, перевязь и саблю, положил их перед телом покойного.
— Вот ваш настоящий император,— сказал он,—я сделал что мог, чтобы возвратить его вам; теперь, когда он мертв, у меня нет желания продолжать жить, ибо только ради него я рисковал собою3.
Мирович был арестован, доставлен в Санкт-Петербург и заключен в крепость.
Суд над ним начался на следующий день; на суде он вел себя достойно и мужественно. Люди, считавшие, что Мирович был агентом Ека терины, рассудили по его поведению, что тот верит, будто фаворит сдержит свое обещание.
На вопрос: «Были ли у вас сообщники?» — он неизменно отвечал отрицательно
347
и объяснял, что его помощники, солдаты и офицеры, не могут быть рассматриваемы как соучастники, а только как подчиненные, выполнявшие приказ.
Наконец, 20 сентября, был вынесен приговор. Мирович был приговорен к четвертованию.
Императрица заменила это наказание отсечением головы.
Казнь происходила внутри крепости. Присутствовали лишь солдаты, судья и палач. Никто не знал, что Мирович сказал в своем последнем слове. Несомненно, было бы слишком опасно повторять его слова4.
После смерти молодого Иоанна, после смерти Мировича раздалось несколько смелых голосов, справедливо советовавших Екатерине разрешить семье Брауншвейгских покинуть Россию.
«Говорят, что в тот момент,— писал Букингем спустя два дня после суда над Мировичем,— надеялись, что семье Брауншвейгских разрешат покинуть Россию и дадут пенсию».
Это было бы лучшим, что могла сделать Екатерина. Говорят, что она это даже обещала; однако ничего не предприняла, и несчастный герцог Брауншвейгский и его дети остались забытыми среди льдов Двины.
У меня имеется рубль, выпущенный во время семимесячного царствования молодого Иоанна; монета стала тем более редкой, что Елизавета, уничтожая всякие следы этого царствования, приказала их все переплавить5.
Возможно, это единственный существующий на свете портрет императора-младенца.
ЛИССЕЛЬБУРГ
удно имело часовую остановку в Шлиссельбурге. Муане смог сделать карандашный набросок крепости с суши, то есть с левого берега Невы.
Само собой разумеется, сделал он это тайно, памятуя о моем предупреждении, что подобный опыт чреват для него неприятностями: русская полиция не шутит с художниками^ выбирающими крепость натурой для своих этюдов.
За нечто подобное чуть не поплатился один юный француз, который учительствовал в Санкт-Петербурге, то есть служил там преподавателем. Этот молодой человек приходился братом моему хорошему другу Ноэлю Парфе.
Следует, правда, заметить, что время тогда было неподходящее — шла Крымская война.
Так вот, пока французские солдаты держали осаду Севастополя, наш соотечественник с двумя приятелями, воспользовавшись не знаю уж там каким праздником, из-за которого у них образовался недельный отпуск, решили обогатить свои познания в области географии западного притока озера.
Дело, не. надо забывать, происходило в начале марта, Ладога — подо льдом, Нева — подо льдом, Балтика — тоже.
349
Прогулку затеяли главным образом ради катания на коньках. Несчастный Иоанн, вернее, память о нем, поскольку ^девятимесячный император уже давно стал просто историческим воспоминанием, был ни при чем. Коньки служили для учителей — не учеников — средством передвижения, которое оез труда давало возможность приблизиться к крепости.
Уточню, что Шлиссельбургская крепость, расположенная посередине Невы в том месте, где река вытекает из озера, со всех сторон окружена водой. К большому смущению часовых, господа эти выписывали вокруг стен старой политической цитадели1 пируэты, причем коньки их едва касались льда — так ласточки едва касаются вод своими крыльями.
И все могло кончиться достаточно благополучно, ограничься только наши французы — а кто говорит «француз», подразумевает «безумец»— изящными телодвижениями и той элегантной непринужденностью, которая приобретается от катания на пруду в Тюильри; так нет же, одному из них вздумалось на восемнадцатиградусном морозе сесть на камушек, извлечь из кармана альбом и приняться за карандашный набросок цитадели.
Часовые позвали капрала, капрал — сержанта, сержант — офицера, офицер — восемь солдат, и в тот момент, когда трое наших французов, раскрасневшиеся от доброго огня в камине сидели за обеденным столом и, за неимением лучшего, поднимали за процветание Франции бокал с квасом, дверь распахнулась, и им было объявлено, что они имеют честь стать узниками Его Императорского Величества самодержца всея Руси.
В результате им даже не дали закончить обед, обыскали, забрали у них документы, приковали одного к другому из боязни, что кто-ни-
будь потеряется, посадили в карету и повезли в Санкт-Петербург.
По приезде в столицу их препроводили в крепость. Они подали жалобу Алексею Орлову, царскому фавориту.
На их счастье, граф Алексей Орлов — человек весьма неглупый, вернее был таковым, поскольку, кажется, умер,— так долго прожил среди заговорщиков, что, в конце концов, перестал в заговоры верить. Он отправился в тюрьму, устроил там суровый, но не оскорбительный допрос каждому по очереди и заявил, что, хотя вина наших соотечественников велика, он не оставляет надежды на великодушие Его Величества и не исключает возможности, что заслуженно полагающееся им наисуровейшее наказание будет заменено трех-четырехлетней ссылкой в Сибирь.
Несчастные учителя были сражены. Одним из главных преступлений, поставленных им в вину, кроме злосчастного карандашного наброска Шлиссельбургской крепости, был тост за процветание Франции, который они запили квасом. Создавалось впечатление, что использование с такой целью национального русского напитка неизмеримо усугубило их вину.
Следующим вечером, часов этак в десять, закрытый возок — не то карета, не то тюремная колымага — остановился у ворот крепости. Узников предупредили, что днем суд вынес приговор и настал час привести его в исполнение. Узники, несмотря на сокрушенное состояние духа, призвали на помощь свою французскую гордость и приготовились мужественно встретить несчастье. Они храбро спустились вниз, заключили друг друга в объятия, найдя утешение в том, что их, по крайней мере, не разлучают, и решительно поднялись в возок. Занавески наглухо задернули, и возок закачался
в такт рысистому бегу четырех крепких лошадок.
Но, к великому изумлению ссыльных, возок, миновав сводчатую арку, через десять минут остановился. Дверцы распахнулись, и в них вместо ожидаемых казаков появились лакеи в парадных ливреях.
Французы подошли к ярко освещенной лестнице, на которую им указали лакеи.
Выбора не было. Они поднялись по ступеням, и их ввели в обеденную залу, обставленную со всей роскошью, присущей русской знати.
В зале их ожидал граф Алексей Орлов.
— Господа,— обратился он к ним,— главным вашим преступлением, как я вам уже говорил, было то, что за процветание Франции вы поднимали бокал с русским напитком. Вы должны искупить свою вину сегодня вечером, выпив за процветание России французское шампанское.
Что и было с величайшим удовольствием проделано нашими французами, несмотря на весь их патриотизм.
Муане повезло больше наших учителей. Он сумел спокойно закончить свой рисунок — более того, как только он его закончил, нам сообщили, что в ответ на прошение, которое я передал коменданту, он разрешает осмотреть крепость изнутри.
Мы тут же спустились в лодку и были доставлены в мрачную башню крепости.
Впечатлительность, свойственная южному темпераменту, не позволила Миллелотти сопровождать нас. Он видел столько римлян, закончивших свою жизнь в замке Святого Ангела, что страх все пересилил: стоит только воротам Шлиссельбургской крепости захлопнуться, думал он, как они уже перед ним не откроют-
ь.
ся. Мы с уважением отнеслись к этому священному ужасу.
Шлиссельбургом крепость изнутри не представляла собой ничего особенного: как и во всех крепостях, здесь есть жилище коменданта, солдатские казармы, камеры узников.
Увидеть можно только помещения, где живут солдаты и комендант. Что же до камер узников, то невозможно догадаться, где они находятся.
Правда, в одном углу крепости есть мрачные железные ворота, они низкие и темные, и подходить к ним близко запрещено даже самым привилегированным посетителям. Я сделал знак Муане, и, пока мы с Дандре отвлекали своими расспросами коменданта, он сумел сделать с этих ворот набросок.
Само собой, что в разговоре с комендантом я никак не коснулся тайн крепости — они мне, впрочем, были хорошо известны, может быть, даже лучше, чем ему самому.
Поскольку нас ожидал пароход, посещение было недолгим — в Шлиссельбурге делается пересадка, так как невские суда не отваживаются плавать по Ладожскому озеру — бури на нем случаются как в океане.
В конце концов судно само пришло за нами, а не мы отправились к нему. Мы видели, как оно идет в нашу сторону, увенчанное султаном дыма, и когда мы уже пришли было к выводу, что капитан, устав дожидаться, решил оставить нас в крепости, не обращая BHHMàH^ на то, что Миллелотти размахивал на палубе руками, пароход остановился, и нам милостиво было дано время доплыть до его борта.
Мы поднялись на палубу, лодка отчалила, а мы вошли в озеро.
Ладожское озеро — самое большое в евро-
14 А.Дюма, т.2
.353
пейской части России, длина его 175 верст и ширина 150.
Оно усеяно островами, и это самая его отличительная черта.
Если не самые большие, то самые знаменитые из них два —Коневец и Валаам.
Известностью своею они обязаны находящимся на них монастырям. Это столь же популярные у финнов места паломничества, как Мекка у мусульман.
Сначала мы отправились к острову Коневец, куда нам и было суждено благополучно прибыть на заре следующего дня.
Наступил час обеда: я все ждал, что, как на рейнских и средиземноморских судах, вот-вот к нам придут и объявят, что, мол, господа пассажиры, стол накрыт. Мы навели справки. Увы! Обед был не только не готов, более того, на борту судна не водилось вообще никакой провизии.
Пароход предназначался для перевозки бедных паломников, а каждый из них имеет с собой ломоть хлеба, чай и селедку.
У Дандре был чай, без которого не может обойтись и более того,— не может жить ни один русский, но ни хлеба, ни селедки не было.
Известно, что, кроме чая и «парочки», то есть двух кусочков сахара, величина которых колеблется от чечевичного зернышка до ореха, русскому больше ничего не надо.
Но Миллелотти был римлянин, а я, я — француз.
Дандре отправился на поиски пропитания. Он раздобыл ломоть черного хлеба и кусок медвежьего окорока. Мы извлекли из дорожного несессера Дандре тарелки, вилки и ножи; каждый взял себе стакан,— в России преимущество пить чай из чашек имеют только дамы,
и приступили к трапезе. Дандре последовал примеру госпожи де Ментенон, когда она еще была просто Франсуазой д’Обиньи, женой Скаррона: вместо жаркого он начал потчевать нас кавказскими историями.
Одна из них так меня рассмешила, что я чуть не подавился, и, должен признаться, никогда бы себе не простил, что мог расстаться с жизнью во время столь скудной трапезы.
И я охотно рассказал бы вам, любезный читатель, эту историю, которая, уверен, рассмешит и вас. Однако, хотя на счету у меня не одна рассказанная история, черт меня подери, если я знаю, как мне за этот рассказ приняться.
Ну что ж — рискну, я вас предупредил. Можете пропустить его, любезный читатель, если вы чересчур добродетельны, можете пропустить его, дорогие читательницы, если вы такие скромницы, а можете и прочесть, но не пересказывать.
У Дандре во Владикавказе был друг, квартирмейстер нижегородских драгун, который был ему как брат. Друг этот делил свою любовь между Дандре и двумя борзыми по кличке Ермак и Арабка.
Однажды приходит к нему Дандре и не застает дома.
— Барина нет,—говорит слуга,—пройдите, однако, к нему в кабинет и подождите.
Дандре в ожидании своего друга направляется в кабинет.
Комната выходила окнами в прекрасный сад; одно из них было открыто, и в кабинет проникали лучи радостного солнца, которое на Кавказе столь же ярко, как и в Индии, и потому тоже имеет тут своих поклонников.
Обе борзые, как сфинксы, спали рядышком под хозяйским бюро; услышав, как отворилась и снова захлопнулась дверь, и та и дру-
гая открыли один глаз, томно зевнули и снова погрузились в сон.
Оказавшись в кабинете, Дандре занялся тем, чем обычно занимаются е ожидании друзей— что-то насвистывал, разглядывал гравюры, развешанные по стенам, наконец скрутил папироску, чиркнул фосфорной спичкой о подошву сапога и закурил.
Пока он курил, у него свело живот.
Дандре огляделся и, видя, что он совершенно один, решил рискнуть: он совершил то же, что совершил дьявол в XXV песне «Ада». Смотри последнюю строфу указанной XXI песни.
При этом неожиданном звуке обе борзые вскочили, перепрыгнули через подоконник и скрылись в глубине сада, как будто их унес с собой дьявол.
Дандре, весьма смущенный столь неожиданным исчезновением, так и застыл с поднятой ногой — он никак не мог взять в толк, почему при столь незначительном шуме на обеих борзых напал такой ужас, ведь они постоянно слышали ружейный треск и грохот пушек. Тем временем вернулся его друг.
Стоило им только обменяться приветствиями, как друг Дандре, принеся первые извинения по поводу своего отсутствия, начал шарить вокруг глазами и недоуменно спросил:
— Да где же мои борзые?
— Ох уж эти твои борзые,—воскликнул Дандре.—Ну и странные же они у тебя!
— Почему это?
— Дорогой мой, я их не тронул, ничего им не сказал, но, представь себе, они вдруг одним прыжком, как сумасшедшие, перемахнули через подоконник, и, честное слово, если они продолжают в том же духе, они, наверное, уже в Тифлисе.
Квартирмейстер взглянул на Дандре.
— Ты, наверное...—проговорил он.
Дандре покраснел до корней волос.
— Клянусь тебе,—промолвил он,— поскольку я полагал, что был один — а собак твоих, признаюсь, я сбросил со счетов,— ведь я не знал, что они такие чувствительные, я подумал, что могу это сделать, и рискнул, в конце концов, произвести в одиночестве тот звук, который согласно декрету императора Клавдия дозволено было производить в его присутствии.
— В этом-то все и дело,— сказал друг, которого, судя по всему, такое объяснение удовлетворило.
— В этом-то все и дело, — повторил Дандре, — прекрасно! Но в чем именно, я не понимаю.
— О, дорогой мой, это очень просто, и тебе все сейчас станет ясно. Я очень люблю своих собак, попали они ко мне совсем маленькими, и я приучил их еще щенками лежать под моим бюро. Ну так вот, время от времени они проделывали то же, что позволил себе ты, и, чтобы отучить их от этого, я брал кнут и задавал хорошую взбучку тому, кто совершил неловкость. Поскольку собаки, как ты сам мог заметить, далеко не глупы, они решили, что их выдает звук. И тогда они стали производить тихо то, что производили громко. Ты понимаешь, что предосторожность эта была недостаточна и обоняние могло заменить слух. Не задирать же мне было им хвосты и искать настоящего виновника, взбучку получали обе. Таким образом, когда ты позволил себе сделать то, что им запрещается, они, боясь наказания за чужой проступок, обе кинулись в окно — друг другу они не доверяют и каждая думает, что провинилась другая... Счастье еще, что окно было открыто, иначе бы они выбили стекла! И пусть теперь это послужит тебе уроком на будущее.
— Я следую совету,— закончил свой рассказ Дандре,— и, когда у меня сводит живот, слежу, чтобы даже собак рядом не было.
По мере того как мы выходили на озерный простор, не только перед нами, но и позади нас открывалось огромное вводное пространство и бесконечная линия берега.
Правый берег относился к Олонецкой губернии, левый — к Финляндии. С обеих сторон тянулись обширные леса.
В двух-трех местах среди лесов и на том и на другом берегу клубился дым. Причиной тому были непроизвольно возникающие пожары, о которых я уже говорил. Я пробовал расспросить об этих явлениях капитана, но с первого слова стало ясно, что многого я не добьюсь.
Капитан был высокий, тощий как жердь и желтолицый, он был затянут в черный редингот, который облегал его от шеи до пят как чехол облегает зонт. Голову его украшала широкополая шляпа с расширяющейся Кверху тульей, так что донышко почти равнялось окружности полей. Между этой шляпой и воротником редингота находился торчащий под острым углом нос — ничего больше на лице Видно не было. Капитан ответил мне, что причиною пожаров является огонь.
И это утверждение показалось мне столь бесспорным, что ответить было нечего.
ОНЕВСКИЕ МОНАХИ
асам к десяти вечера на борту все пришло в движение, что не предвещало ничего утешительного. Зашло солнце, облака начали скапливаться на горизонте, глухие раскаты сотрясали их густую и темную гряду, рассекаемую змеевидными молниями.
Мы пустились в расспросы. Мало того, что надвигалась гроза — это было ясно— у нас, неизвестно почему, испортился компас, и по обезумевшим стрелкам нельзя было определить, где север, где юг.
Я решил, что наш капитан, вероятно, более искушен в бурях, чем в пожарах, и обратился к нему за разъяснениями, но он простодушно признался, что совершенно не знает, где находится. В искренности, по крайней мере, ему нельзя было отказать.
Объяснение капитана меня не слишком обескуражило. В конечном счете, я не думаю, что Бог такой уж плохой штурман; возможно, уверенность эта зиждется на том, что каждый раз, вверяя себя его попечению, до гавани я добирался.
Мы до полуночи беседовали и не уходили с палубы. В полночь выпили чаю, чтобы обед лучше перева-
359
ривался, затем улеглись на койках — товарищи мои по путешествию завернулись в пальто, я же лег как был.
Я приобрел прекрасную привычку оставаться в одном и том же костюме днем и ночью, зимой и летом.
Часа в четыре утра я проснулся: судно, которое, как почтовые лошади, привыкло следовать одним и тем же маршрутом, доставило нас прямехонько в Коневец.
Открыв глаза в бледных северных сумерках, которые походят на прозрачный туман, я был несколько заинтригован какими-то черными точками, усеивающими поверхность озера. Этими черными точками оказались головы монахов — стоя в воде по шею, они тянули громадную сеть. Их было по меньшей мере шестьдесят.
Не в пример обычным русским ночам, в которых всегда остается что-то от зимы, эта ночь была душной и тягостно-жаркой. До берега оставалось сто — двести шагов, но капитан, не знаю уж почему, не спешил швартоваться. Ни слова не говоря, я разделся, сложил в уголке одежду и прыгнул через борт в озеро.
Я как-то купался на одном конце Европы в Гвадалкивире и был совсем не прочь искупаться на другом конце той же самой Европы в Ладожском озере, это давало возможность прочертить премиленький треугольник между указанными точками и заливом Дуарненец, где я тоже плавал, а еще я дал себе зарок: выкупаться в Каспийском море, как только мне предоставится такая возможность,-—тогда треугольник превратился бы в четырехугольник.
360
Коневецкие монахи были весьма заинтригованы, увидев какого-то неизвестного, который прыгнул в воду в костюме Адама, а теперь намеревался выяснить, каков у них улов.
В их сети — огромном неводе — бились тысячу рыбешек, по размеру и форме напоминающих сардины, однако более всего восхищен я был тем, что с одного и другого конца к сети были привязаны лошади, так что монахам оставалось лишь забросить невод и держать его — на долю лошадей приходилось все остальное, то есть самая тяжелая работа.
Представшая передо мною картина показалась мне небезынтересной, и я попытался жестами выразить святым отцам свое восхищение.
Но, к несчастью, объясниться с ними было столь же трудно, как если бы я имел дело с туземцами островов Чатем или мыса Банкс.
Из последних сил попытался я заговорить с ними на латыни, но обратись я к ним на языке ирокезов, результат был бы тот же. Нет более невежественных людей, чем русское духовенство—что черное, что белое.
Священники все либо крестьянские дети, либо дети священников; священники имеют право жениться один раз; овдовев, они не могут вступать в повторный брак, зато могут пойти в монахи и стать епископами — епископом можно сделаться лишь побывав монахом.
Жалованье священника зависит от значимости прихода. Начальное образование он получает в приходском училище, уроки здесь проводят священники, а так как сами они ничего не ; знают, то и научить ничему не могут; редко до- ! водится кому-нибудь из этих учителей уметь \ читать, писать и знать четыре арифметических действия; самые образованные знают Священ-
361
ное писание, которое они пересказывают и комментируют.
Будущий пастырь переходит из этой школы в семинарию, здесь его снова учат тому, что он уже выучил в школе, а затем грамматике и логике.
Ну и, конечно, его учат ругаться.
В этом деле русский поп может потягаться с французским носильщиком, немецким барышником или английским боксером.
Нравы у священников срамные: ска¬
жешь — «семинарист», понимай — дурак или бандит.
Те из семинаристов, что более счастливо одарены природой или лицемерят пуще прочих, переходят в духовные академии; если их познания хоть ненамного превысят общий уровень, они вполне могут стать епископами.
Епископы эти, ученые и неученые, большие похабники.
Митрополит Серафим просит крест для одного из своих секретарей архидиаконов. Ему вместо креста предложили благословение Святейшего Синода.
— На кой ляд мне ваше благословение? — ответил он.— Подтереться им, что ли?
Да будет вам известно, что тот же святой отец, еще будучи епископом, обругал и выгнал из церкви священника, не выказавшего ему должного уважения:
— Вон отсюда, или я разобью тебе морду епископским посохом.
Возможно, я несколько сгустил краски, но тем хуже для тех, кто ими пишет.
В русской церковной иерархии есть пять ступеней:
дьячок — пономарь, который не стал еще священником.
Диакон.
Иерей — священник.
Архиерей — епископ.
Митрополит.
Первые две ступени — диакон и священник— называются белым духовенством. Они обязательно должны жениться, и диакон частенько наследует место какого-нибудь престарелого священника, дочь которого стала ему женой.
Затем идет черное духовенство. Это монахи. Они не женятся, и именно в их среде царит самый постыдный разврат и происходят самые чудовищные совокупления.
Вообще же в православном духовенстве нет ни капуцинов, ни августинцев, ни бенедиктинцев, ни доминиканцев, ни босоногих или обутых кармелитов, нет серых, белых, синих, коричневых или черных облачений, которыми пестрят улицы Неаполя или Палермо.
Есть только черные монахи, и все они носят длинную бороду, на голове что-то вроде шапки без козырька, с ниспадающим сзади куском материи, а в руке — длинный посох.
Является ли посох частью монашеского одеяния? Мне это неизвестно, но я склонен так думать, поскольку никогда не видел монаха без посоха.
Епископы и архиепископы носят женский головной убор, похожий на колпак, только у епископов и архиепископов он белый.
Священники, а в особенности монахи, почти всегда развратны, но разврат их редко доходит до действий, наказуемых по закону.
Все без исключения они пьяницы и обжоры.
Монахини обычно осмотрительны.
Приходские священники, особенно в деревнях, настолько невежественны, что и представить себе невозможно.
Один епископ, инспектируя свои приходы, попадает в какую-то деревню, заходит в церковь во время службы, которая длится, по крайней мере, полтора часа. Он внимательнейшим образом слушает, что говорит священник, который, заметив присутствие начальства, начинает бормотать с удвоенным рвением и елейностью. По окончании службы епископ подходит к попу.
— Что за чертовщину ты тут нес? — спрашивает он его.
— А что? — отвечает приходской священник.— Я старался как мог.
— Так ты старался?
— Да.
— А скажи-ка, знаешь ли ты церковный язык?
Древнеславянский похож на сербский.
— Очень плохо.
— Ну и что за службу ты читал?
— Гм! Это была не то чтобы служба.
— Так что же это тогда было?
— Я читал то «Иже еси...», то «Господи, благослови», то молебны и со всеми этими штуковинами, как видите, добрался до конца.
Император Александр I во время одного из своих путешествий остановился в захудалом приходе у приходского священника. Священника не было дома, на глаза императору попался толстый фолиант, валяющийся в углу и покрытый пылью,— Библия. Император засовывает между страниц три тысячи рублей и кладет фолиант на место.
Возвращается священник. Император начинает с ним вести беседу. -
«
— Часто ли вы читаете Евангелие? — спрашивает император.
— Каждый день.
— Никогда не пропускаете?
— Никогда, ваше величество.
— Рад за вас,— говорит император,— это полезное чтение.
Через два года он снова проезжает через эту же деревню, заходит к тому же священнику; на том же месте видит Библию, открывает ее и находит там свои деньги.
— Ну теперь, скотина, как ты читаешь Евангелие! — восклицает он, подсовывая попу под нос Библию и деньги.
И император на глазах у изумленного священника кладет деньги себе в карман.
Всем в России известно невежество и испорченность православных священников, все их презирают и все оказывают им знаки уважения и целуют руку.
Поглядев, как рыбаки вытаскивают сеть, складывают улов в корзины, а затем вместе с лошадьми переходят на другое место, я снова залез в воду, доплыл до судна и благополучно обнаружил свою одежду в том же уголке, куда я ее спрятал.
Пришло время швартоваться. На выдающийся в озеро мол были положены широкие мостки, и мы сошли на землю.
Из-за более чем скромного обеда, который был у нас накануне, и моего утреннего купания аппетит у меня разыгрался не на шутку.
Мы поспешили к монастырскому заезжему двору — здесь останавливаются паломники и паломницы, и он некоторым образом создает репутацию любому монастырю.
Нам приготовили завтрак, есть в нем мож-
но было только рыбу, лов которой мы недавно наблюдали.
Черный не пропеченный в середине хлеб, который и у князя Кушелева подавался на стол как пирожное, вызывал у меня необоримое отвращение.
Я позавтракал огурцами, мочеными-перемо- чеными в соленой воде —еда ужасающая на французский вкус, но весьма приятная на русский,—горбушкой хлеба, рыбешками и чаем. С чаем все это сошло.
После завтрака мы спросили, что стоило бы осмотреть на острове.
Как главную цель прогулки нам назвали Конь-камень.
Я решил, что это связано с каким-нибудь преданием, и, значит, имеет для меня привлекательную сторону. Мы взяли провожатого и двинулись в путь, пройдя через небольшое монастырское кладбище, где надгробия были почти скрыты травой и полевыми цветами, больше всего там было vaccinium myrtillus, bie- racium auricula solidzqo virquora, achillea millefolium*, а над всем этим возвышались кусты лесной малины. Весной — должна же быть весна в Финляндии — посреди всей этой дикой растительности во множестве цветут фиалки, а где-то в середине июня появляется земляника.
Что до деревьев, из которых состоят леса Коневца и Валаама — двух самых лесистых островов на озере,—то это лесные ели, березы, тополя, осины, платаны, клены и рябины.
Выйдя с кладбища, мы оказались на аллее, которая не лишена была некой величественно-
* Черничник, соколиная трава, кустарник золотистый, тысячелетник (лат.).
сти. При ее входе установлен большой греческий крест, который мы приняли за серебряный, так он блестел на солнце. Подойдя к нему, мы поняли, что он был просто жестяной. Крест этот возвышается над могилой, на которой мы прочли следующую надпись:
Вспомни мя, Господи,
когда будешь в царствии своем!
Князь Николай Иванович Морелов родился в 1780, умер в 1856 3 мая.
На небольшом взгорке, куда ведут очаровательные просеки, виднеется церковь, выкрашенная в белесые и голубоватые тона, которых я больше нигде не видел,—они делают понятной мечтательность, присущую финской поэзии. Слева простиралось хлебное поле с очень бледными васильками. Справа со стороны скошенного луга поднимался тот сладковатый сенной дух, что так дорог тем, кто вырос в деревне и в детстве вдыхал эти терпкие ароматы.
Мы свернули налево и, пройдя через колосящееся поле, снова оказались в лесу. Вдруг, примерно через версту, почва словно стала уходить у нас из-под ног,— местность совершенно переменилась. Ничего подобного в России я не видел. Мне почудилось, словно я очутился в Швейцарии.
Мы начали было искать спуск в лощину, напоенную влажной свежестью и полную прозрачными тенями, как наш провожатый указал нам деревянную лестницу из ста ступеней, мы спустились по ним и оказались на дне очаровательной долины, изобразить которую бессильны и перо и кисть. Деревья, тянувшиеся к солнцу, стояли прямо и крепко, как колонны в храме, сводами которого служила листва. Солнечные лучи, проходя через этот свод, падали вниз золотым дождем, и то там, то сям, на стволах
деревьев и на земле, казалось, было разлито жидкое, струящееся пламя, в то время как в глубине долины голубой воздух казался молочным, как в Лазурном гроте.
Посередине этой долины возвышается гигантская скала, на вершине которой построена часовенка, посвященная святому Арсению.
Из нашего провожатого по поводу Конь-камня и Святого Арсения мы смогли вытянуть следующее: «конем» камень был назван из-за того, что финны приносили здесь в жертву лошадей в древности, до обращения в христианство. Что до святого Арсения, то мы выяснили только одно —он принял мученическую смерть1.
Да будет мне позволено высказать свое мнение, какую именно муку принял святой Арсений: если это произошло там, где стоит часовня, его должны были сожрать комары.
Нигде в мире я не видел таких туч этих ужасных насекомых. Мы и на мгновение не могли остановиться, иначе нас буквально облепляли комары; когда же мы шли, над каждым вилось свое собственное отдельное облако, собственный воздушный купол.
У Муане тем не менее хватило мужества сделать карандашный набросок, в то время как Миллелотти и Дандре стояли над ним с березовыми ветками, как китайцы с опахалами над мандарином, и беспрерывно обмахивали его, отрываясь от этого занятия лишь затем, чтобы отогнать комаров от самих себя.
Я же сразу после первых комариных атак поспешил ретироваться к лестнице и поднялся на более высокое место. С каждой ступенькой комары от меня отставали.
Стоило мне оказаться на солнце, как они оставили меня в покое; через несколько мгно-
368
вений ко мне присоединились товарищи по путешествию, и мы двинулись обратно к монастырю.
Мне всегда ставят в вину, что во время своих путешествий я вижу лишь внешнюю живописную сторону мест, которые посещаю. Годы берут свое, пора исправиться — займемся немного геологией, будем скучны, но зато примем ученый вид.
Почти все острова, лучше сказать, все острова, что тянутся вдоль южного берега Ладоги,
♦ образованы осадочными породами вперемежку с вулканическими, те же, что расположены близ противоположных берегов, то есть западного и северного,— плутонического происхождения.
Остров Коневец, находящийся на полдороге между северным и южным берегом, полностью состоит из отложений и указывает на крайнюю границу осадочных пород. В окружности Коневец имеет четырнадцать верст. Так как судно стояло тут целый день, чтобы паломники смогли посетить святые места, у нас было время не только осмотреть остров, но и, взяв лодку и ружья, попробовать поохотиться.
Не знаю уж, у какого автора я читал, что вокруг острова водится самая мелкая разновидность тюленей, которые настолько безобидны, что их можно убить палкой.
Так как я не всегда доверяю тому, что читаю, вместо палки я взял с собой ружье, которое мне, правда, совсем не пригодилось, как, впрочем, не понадобилась бы и палка. Мы заметили несколько тюленей — толстых, как коты, и черных, как бобры; и стоило им только заметить нас своими глазами, большими и круглыми, как они поспешили скрыться под водой.
ms
о
15 А.Дюма, т.2
369
Ни один не дал к себе приблизиться на ружейный выстрел.
Это к сведению тех, кто захочет поохотиться на ладожских тюленей.
Мы вернулись к пяти часам и пообедали так же, как и позавтракали. Единственное, что было чудесно —я мог позволить себе фантазию снова выкупаться в восемь часов вечера, настолько приятно мне запомнилось утреннее купание.
У князя Кушелева я впервые испробовал русские постели. Я тогда решил, что жестче постелей, чем кушелевские, не бывает; в Ко- невце я понял, что ошибся: постели Коневца переплюнули безбородкинские.
Итак, я заявил, что жестче постелей, чем в Коневце, не бывает, и свято верил в это утверждение.
Эту последнюю иллюзию мне предстояло утратить в киргизских степях.
I ri-
'ЫНУЖДЕННОЕ ПОЛОМНИЧЕСТВО НА ВАЛААМ
ы отчалили в десять часов утра, приняв на борт сотню странников и странниц; поклонившись святыням Коневецкого монастыря, они отправлялись ко святыням Валаамским.
Странники эти и странницы весьма неприглядны с виду; все они из плебеев, если слово это уместно в применении к русским. С первого взгляда не сразу отличишь мужчин от женщин, единственный зримый признак последних — отсутствие бороды. Одежды, вернее сказать, лохмотья, у тех и у других одинаковы. У мужчин и у женщин посох в руке, а за плечами изорванная сума.
Мы не прошли и пяти миль, как все заволоклось таким туманом, что друг друга было не разглядеть.
В гуще тумана загремел гром, и озеро забурлило, словно вода в котле, под которым развели огонь.
Казалось, гроза зародилась не в воздухе, а в глубинах бездонного озера, которое, словно бы нехотя, еще поддерживало нас на поверхности.
Можно вообразить, в каком состоянии оказался наш компас, если накануне он пришел в негодность при лучшей погоде.
371
По сей причине наш капитан и не подумал с ним свериться. При виде разбушевавшихся волн он не стал отдавать распоряжения, долженствующие предотвратить опасность, если таковая существовала, а вместо того забегал по палубе с криком:
— Мы погибли!
Услышав из капитанских уст сей вопль отчаяния, странники и странницы повалились ничком и бухнулись лбами о дощатый настил с криком:
— Господи, смилуйся над нами!
Лишь Дандре, Муане, Миллелотти да я остались на ногах, и то Миллелотти как истый римлянин не прочь был последовать примеру остальных.
Туман все сгущался; раскаты гремели все оглушительнее, угасая в плотных сгустках пара, молнии отсвечивали каким-то мертвенным блеском; воды озера вздымались все выше, и не из-за буйства волн, а от какого-то подспудного клокотания.
Я видел на своем веку бурь пять-шесть; ни одна не походила на эту. Возможно, старец Вайнемяйнен перебрался с океана на Ладогу.
Все это длилось часа два, пока наконец капитану не пришло в голову послать двух матросов в смотровое гнездо, чтобы воспользоваться первым же просветом.
Матросы не пробыли там и десяти минут, как послышался грохот, словно галопом близилась кавалькада. То поднялся ветер.
Одним дуновением он изорвал, развеял, разметал пелену тумана.
Озеро белело от пены, но горизонт был ясно виден со всех сторон. Матросы прокричали сверху:
— Суша!
Все ринулись в носовую часть. Капитан ведать не ведал, где мы; но один старый матрос объявил, что узнает Валаам. Мы взяли курс на остров.
В полутора милях, приблизительно, от большого острова, есть малый островок, и на нем развалины; зовется эта скала островом Монастырок.
Некогда на Валааме была женская обитель, причем находилась в близком соседстве с мужским монастырем, что привело к громкой и скандальной истории, а потому Святейший Синод постановил, что женский монастырь будет переправлен на островок, вздымавшийся в тот миг перед нами; и поскольку новые монахини принимать там постриг не будут, монастырь захиреет сам собой.
И вот на скале построили монастырь; перевезли туда десятка три монахинь, и там, в соответствии с приговором Синода, они угасли одна за другой.
Затем настал черед монастыря: снизу его разрушали воды, сверху бури, и подобно тому, как одна за другою уходили из жизни сестры, один за другим стали выпадать камни, составлявшие строение. От монастыря осталась лишь груда развалин да предание, которое я только что рассказал.
Между тем мы шли довольно быстрым хо-
ш
%
373
ь.
дом, и уже стало видно нечто вроде фарватера, следуя которым проникаешь вглубь острова.
Вскоре на самом отдаленном мысу, который по мере нашего приближения сам, казалось, двигался нам навстречу, мы разглядели церквушку: она была вся словно из золота и серебра и так сияла чистотою, словно ее только что вынули из бархатного футляра. Она вздымалась меж деревьями посреди газона, который посрамил бы газоны Брайтона и Гайд- парка.
Церковь эта, истинное сокровище и как произведение искусства, и по богатству отделки,—творение архитектора, которого я
о7* Л
"ntÉn ■
h i
m
таю первейшим в России; фамилия его Горно-1 >
стаев.
аачк;\Щ
ж
Мы прошли под самой церковью; по мере
ис- :
'У
.[К®
приближения нам открывались детали, свиде- ; тельствовавшие о безупречном вкусе; и, стран- ное дело, золото и серебро, хоть и весьма ще-1 дро потраченные, распределены были так уме- \ ло и к месту, что ничуть не вредили изысканно- [ сти этой малой жемчужины зодческого ‘ кусства.
Со времени моего приезда в Россию то бы-1 ло первое здание, к которому я не мог бы при- j /О) драться.
Русская церковь предместья дю Руль чем-то : напоминает, впрочем, это прелестное стро-' Э ение, но она не так воздушна. sjÿj{
Мы вошли в фарватер, который вначале ! очень узок — настолько, что, кажется, можно j ;j( дотянуться до прибрежных деревьев; но затем & вдруг расширяется и превращается в залив, усе- i ,'^3) янный островками, тенистый и дышащий све-1 Æk жестью. ;
374
Мне подумалось, что эти пышные куртины похожи, должно быть, на острова Океании.
Мы обогнули островки и слева, на горе, увидели огромную Валаамскую обитель — внушительное здание, в архитектурном отношении ничем не примечательное, но все же производящее впечатление своей грандиозностью.
К монастырю вела гигантская лестница, широкая, как лестница версальской Оранжереи, но раза в три выше.
По лестнице этой двигалось вверх и вниз столько народу, что мне показалось, будто я вижу наяву лестницу, которую Иаков узрел во сне.
Как только судно стало на якорь, мы поспешили на берег и присоединились к толпе, поднимавшейся по лестнице.
Мы не раз слышали уверения, что настоятель— человек просвещенный, и по сей причине решились всепочтительнейше нанести ему визит.
Нас принял молоденький послушник, длинноволосый, бледный, с тонкими чертами лица. Мы заметили его издали, он стоял, прислонясь к двери, в позе, исполненной печали и грации. С первого же взгляда он произвел на нашу четверку одинаковое впечатление. На расстоянии двадцати шагов мы могли бы побиться об заклад, что перед нами женщина* Переговорив ^Г|с ним, мы так и не поняли, кто перед нами.
I Он взял на себя труд доложить настоятелю (Шо нашем визите.
Q/Jlj Я назвал послушнику свое имя, не очень-то
" уповая на то, что оно когда-нибудь звучало на
^ и острове, затерявшемся средь ладожских вод.
CîN
375
Пять минут спустя послушник вернулся и предложил нам войти.
К великому моему изумлению, настоятель дал понять, что мое имя ему знакомо. Он говорил со мною о «Трех мушкетерах» и «Графе Монте-Кристо», но не как человек, который прочитал обе книги, а как тот, кто слышал похвальные отзывы от людей, их читавших.
После пятиминутной беседы нам подали угощение, состоявшее из фруктов и чая; затем настоятель пригласил нас осмотреть монастырь, а молодому послушнику велел быть нашим проводником.
О том, когда был заложен Валаамский монастырь, сведений нет, и хоть один из братьев монахов, торгующий греческими крестиками и образками святых, продает также брошюрку о монастыре, написана она так невразумительно, что извлечь оттуда какие-то сведения невозможно. Несомненно лишь то, что в XIV веке монастырь уже существовал.
Согласно одной из легенд, король Швеции Магнус в 1349 году был наголову разбит новгородцами; и пустился он в плавание по Ладожскому озеру, и тут настигла его гроза; близ острова Валаам его корабль стал тонуть, и тут король дал обет, что если выберется на сушу, то посвятит себя служению Господу.
Корабль затонул, но Магнус выбрался на сушу, уцепившись за какую-то доску; обет он исполнил, и так был построен монастырь.
В монастыре нет ничего, представляющего интерес по части искусства или науки: ни живописи, ни библиотеки, ни преданий исторических, письменных либо устных; жизнь здесь те-
чет прозаически в повседневных монашеских занятиях1.
Затем мы вернулись к настоятелю. Поскольку судно наше должно было простоять на якоре весь завтрашний день и отплыть лишь к вечеру, настоятель осведомился, что мы намерены делать.
Мы попросили у него дозволения познакомиться с островом и пострелять кроликов, о коих автор, посуливший мне тюленей, сообщал, что они здесь водятся в изобилии.
Нам не только было разрешено и то и другое, но вдобавок настоятель сказал, что мы можем не затрудняться поисками лодки: он предоставит в наше распоряжение свою собственную.
Я имел нескромность спросить, не соблаговолит ли он разрешить послушнику отправиться вместе с нами и развлечься немного; но на сей раз мы зашли слишком далеко, и, хотя юноша, казалось, ждал ответа с волнением, в этой милости нам отказали.
Детское лицо послушника, на миг оживившееся, приняло обычное меланхолическое выражение, и на этом все кончилось.
В монастырской гостинице мы узнали, что настоятель послал нам рыбы, салату, овощей, черный хлеб и громадную бутыль квасу.
Мы попросили показать присланное; рыба оказалась великолепная: судаки, окуни, сиги и налимы.
Бутыль с квасом была литров на двадцать.
Каравай весил сорок фунтов.
Каравай решено было любой ценой доставить в целости и сохранности графине Кушеле- вой, которая ежедневно съедала за обедом то-
377
Ту.
ненький ломтик черного хлеба, так что этого каравая ей хватило бы, несомненно, до самой глубокой старости!
Имея в своем распоряжении первооснову для превосходного обеда и располагая возможностью добавить к оной цыплят и яйца, я объявил, что не позволю какому-нибудь российскому кухарю, да, вдобавок, монастырскому (отягчающее обстоятельство !) распорядиться подобными сокровищами.
И воистину то были сокровища, при виде которых разомлел бы хоть Лукулл, хоть Камба- серес! Величина рыбины, как известно, пропорциональна величине водоема, в котором она обитает; соответственно, в таком озере, как Ла- I дога, в сто шестьдесят миль по окружности, рыбы достигают гигантских размеров.
Чтобы дать вам представление о них, скажу, что такая известная во Франции рыба, как окунь, была в полтора фута длиною и весом более, чем в восемь фунтов.
Дандре, единственный, кто говорил по-русски, а потому в состоянии посредничать между мной и местными жителями, был возведен в ранг старшего поваренка; он велел ощипать цыплят, не дозволив вымочить их предварительно в воде, и проследил, чтобы монастыр- ский повар* рвавшийся доказать преимущества ^ русск°й кухни, не сыпанул, муки мне в омлет ! в тот миг, когда я отвернусь:.
Дандре, из памяти которого не изгладились ^ благодарственные воспоминания об обедах на улице Рйволи* признался, что с тех пор, как по- кинул Францию, впервые обедает в истинном ! смысле слова.
378
Ща
Улучшить обед я смог, но не властен был сделать постели помягче; чем набивают в России матрацы, я так и не выяснил за все девять месяцев моего пребывания в этой стране. У нас говорят — спать на персиковых косточках; но по-моему, когда речь идет о здешних матрацах, сравнение это слабовато.
Мы попросили подать нам лодку в шесть утра, но при первых же лучах солнца я соскочил со своего диванчика. Простыни здесь неизвестны, и спишь не раздеваясь, а потому на туалет много времени не тратишь.
Не сомневаясь, что спутники мои всегда меня разыщут, я спустился по лестнице Иакова j ÎS$1 и уселся под купой деревьев, чтобы понаблю- i % [ дать, как в голубоватом воздухе под сенью пре-1 красных лесов ночные сумерки неприметно [ сменяются дневным светом.
В противоположность полуденным землям, где ночь наступает внезапно, а день огненной лавой сразу заливает горизонт, в северных стра- нах уход и наступление дня расцвечены гаммой ■ ^ сменяющих друг друга оттенков, удивительно живописных и несказанно гармоничных; при- * .г бавьте к этому чисто островное очарование, неоценимую поэзию дымки, поднимающейся над водами, невидимую пелену, смягчающую слиш
Г’
7/ <■)
■> 'Ъ'
ком яркие тона и придающую природе ту прелесть, которую придает картине искусство. Где только не искал я те мягчайшие оттенки, кото- рые оставили у меня в памяти финские сумерки, но так и нашел.
Иными словами, я целый час промечтал под I моей купой деревьев, утратив всякое представ ление о времени.
379
В шесть часов подошли мои спутники. Я попытался втолковать Муане, как много потерял он, художник; но у Муане был на Россию зуб, мешавший ему непредубежденно восхищаться ее красотами. Еще в июне Муане подцепил простуду под высоченными деревьями парка Безбородко. Простуда перешла в лихорадку, и при малейшем дуновении свежего ветерка его пробирал озноб.
Лодка с четырьмя гребцами уже ожидала нас. Одна из монашеских добродетелей — пунктуальность. В монастырях дисциплина, возможно, еще суровей, чем в армии. Прямое следствие — всегда можно уповать если не на сообразительность монахов, то хотя бы на пунктуальность любого из них.
Мы попытались было расспросить гребцов о преданиях и обычаях острова. Нам слова не удалось из них вытянуть; тогда мы перевели разговор на материальные стороны жизни и узнали почти все, что хотели.
Монахи укладываются спать в девять вечера, поднимаются в пять утра, трапезничают два раза в день, рыбой и овощами; мясо едят редко, только по праздникам; всю физическую работу справляют сами. У каждого свое ремесло: ! один портняжит, другой сапожничает, третий плотничает; и лодка, в которой мы совершали наше плавание, была тоже сработана самими монахами.
Для начала мы прошли заливчиком, вдвинувшимся в центральную часть острова Валаам, в самые таинственные его глуби. Нет ничего пленительней этих крохотных бухточек, в воды которых деревья окунают концы своих могучих ветвей; недолгое, но буйное русское лето
380
дарит здешним деревьям яркую зелень листьев и полнит их соками, ибо корни в изобилии впитывают влагу, а листья освежаются испарениями озерных вод.
Деревья, как известно, живут землею и воздухом. Земля кормит их, а воздух поит.
Во время нашего плавания в одной из бухточек я спугнул утку-мандаринку и подстрелил ее.
Истинной целью нашего плавания были поиски места, откуда Муане смог бы наилучшим образом увидеть прелестную церквушку, которую мы заметили, подплывая к острову. Подобное чудо — такая редкость, что мне думалось, уж не сыграл ли со мною шутку мираж, и я боялся, что церкви не будет на месте. К великому моему удивлению, она там была.
Мы причалили к противоположному берегу и нашли точку, откуда и сама церквушка, и окружавший пейзаж открываются во всей своей прелести.
Оставив там Муане и Миллелотти, которые принялись за работу, мы с Дандре ринулись на поиски кроликов.
С кроликами дело обстояло так же, как и с тюленями, которых якобы можно бить дубинками и которые бросались в воду, завидев нас на расстоянии в пятьсот шагов; ни поблизости, ни вдалеке мы не разглядели ни единого кролика.
Впрочем, в этих великолепных лесах и птиц немного. Можно подумать, они боятся, что не успеют вывести птенцов за недолгое лето, отпущенное им северным климатом. А где нет птиц — нет радости, жизни, веселья. Глушь — вдвойне глушь, когда стоит тишина.
В лодке у нас был превосходный завтрак, состоявший из остатков вчерашнего обеда. К десяти часам мы с Дандре вернулись, чтобы съесть свою долю. Рисунок был закончен и, несмотря на дурное настроение Муане, удался ему на славу.
Наше судно должно было отплыть в пять часов пополудни и на рассвете следующего дня прийти в Сердоболь. Оттуда мы должны были добраться по суше до Санкт-Петербурга. В шесть часов мы, проплывая мимо, помахали платками алой, серебряной и золотой церквушке, которую сотворил Горностаев и с которой мы прощались навсегда.
Странствия на Валаам — не из числа тех, которые совершаешь дважды.
3 СЕРДОБОЛЯ В МАГРУ
а рассвете мы завидели Сердоболь. Некоторое время мы лавировали меж островками; то был целый архипелаг, необитаемый, как нам показалось, или с очень малым числом обитателей; затем нашим взорам открылся Сердоболь, убогий финский городишко, построенный меж двумя горами1.
В восемь часов утра мы сошли на землю и отправились на поиски пропитания.
В России, а тем паче в Финляндии, человеку поневоле приходится жить жизнью дикаря: пищу надобно искать, а чтобы найти, требуется нюх поистине звериный.
В каждом городе, даже и в финском, есть улица, которая зовется главною; туда-то и устремляется чужеземец в чаянии обрести то, что он тщетно искал в других местах.
На этой улице мы наткнулись на ватагу немецких студентов, каковые, подобно нам, а также льву из Священного послания2, искали, кого бы пожрать.
Дандре, который по-немецки изъясняется как Шиллер, предложил студентам присоединиться к нам, каковое предложение, когда узнали они, кто мы такие, было принято с восторгом. С этой минуты обе ватаги сли-
383
лись в одну. Наши поиски увенчались приобретением цыплят, яиц и рыбы. Правда, масла, ни сливочного, ни постного, не нашлось; но мы разжились топленым салом; так вот, пусть не забывают путешественники, которых интересуют такие подробности,—а любого путешественника интересует еда —топленое сало всегда может заменить сливочное масло. Что же до постного, вместо него можно пустить в ход свежие желтки. Излишне добавлять, что и желтки, и свиное сало можно найти всюду, где водятся свиньи и куры.
С высоты птичьего полета Сердоболь ничем наши взоры не пленил. А посему мы жаждали покинуть его как можно скорее. Постранствовав по Ладоге, я выполнил свой долг — очистив, правда, не душу от грехов, а совесть. Я не хотел возвращаться в Санкт-Петербург, не заглянув в Финляндию.
Куда мне и впрямь хотелось, так это в Москву: я знал, что меня там ждут, и с нетерпением, ибо туда уже отбыли мои добрые друзья Нарышкин и Женни Фалькон, так прекрасно принимавшие меня в Санкт-Петербурге.
Но всякий путешественник волей-неволей берет на себя некие обязательства, ибо в противном случае рискует прослыть ленивым путешественником — разновидность, не вошедшая в классификацию Стерна3.
Ленивый путешественник — это тот, кто проходит не глядя мимо банальных достопримечательностей, осмотр которых входит в программу любого и каждого, а вот он, из пренебрежения или из лени, не следует примеру любого и каждого. Вернувшись на родину-мачеху либо напротив того, у всякого путешественника какая-нибудь родина да есть,—только заговорит он о своих путешествиях, непременно сыщется кто-нибудь, кто скажет:
384
'Г/-!
«Ах, стало быть, вы там были?»— «Да».— «Так-так-так. А видели вы то-то и то-то?» — «Право слово, нет».— «Как так?»— «Я слишком устал либо я полагал, что зря потрачу время...»
Либо еще какой-нибудь довод, осмысленный в глазах того, кто его приводит, но совершенно бессмысленный в глазах того, кого долженствует убедить.
И тут сей субъект, жаждущий, чтоб всяк был рабом своих предшественников, рутины, привычки, традиции, принимается сетовать, завершает же свои сетования надменным восклицанием:
— Не стоило и забираться в такую даль, раз вы все равно не увидели главной достопримечательности!
Так вот, любезные читатели, в тридцати верстах от Сердоболя находятся мраморные карьеры Рускьяла, и мне настоятельно советовали посетить это место, и я был приговорен посетить это место, не то все мое путешествие в Финляндию пойдет насмарку.
Я частенько перечислял свои пристрастия и потому должен перечислить честно то, что недолюбливаю; так вот, во время путешествий я не люблю посещать рудники, заводы и каменоломни.
Все это, бесспорно, приносит большую пользу; но моя любознательность довольствуется готовыми изделиями.
Однако же нечего было и спорить: я был, как уже сказано, обречен увидеть карьеры Ру- скьялы, поскольку именно отсюда главным образом добывался камень для Исаакиевского собора.
Соответственно, мы раздобыли телегу — типичное орудие пытки, применяющееся в России в качестве средства передвижения.
Я уже описывал ее и поскольку не собираюсь брать пример с Энея и потакать читателю,
385
à
щ
как он — Дидоне4, то не намерен снова терпеть муки, даже и в воспоминании.
Впрочем, нас заверяли, как всегда заверяют в России, что дорога превосходна.
Ближе к полудню мы распрощались с нашими друзьями-студентами, те проводили нас, как водится, троекратным «ура», и пять крепких лошадок рванули галопом нашу телегу.
Мостовые Сердоболя сразу же вызвали у нас сомнения в достоинствах дороги. Дабы не вылететь из телеги, я вцепился в Дандре, поскольку тот в большей степени, чем я, привык к такого рода экипажам, а потому, надо пола- ^ гать, был более приспособлен сохранять равно- | весие; что же до Муане и Миллелотти, то они | поступили как те наездники, которые, не до-1 вольствуясь уздечкой, хватаются за седло. Оба j ухватились за скамью.
Когда мы выехали из города, дорога стала ■ ровнее. Окрестности были довольно живопис- ! ны, и живописность эту дополнил цыганский табор, который расположился под скалой, от- j брасывавшей длинную тень; цыгане готовили себе обед на вольном воздухе, а ослик, впря-
к л 'j!
7/0
•>2/
женный в повозку, на которой громоздились пожитки всего племени, обедал еще более непритязательно, кормясь нежными мхами, покрывавшими камень и, судя по всему, пришедшимися ему весьма по вкусу. Ослик наверняка пообедал лучше своих хозяев; впрочем, со слу- j гами такое бывает.
За два с половиною часа мы проехали семь }•) миль. Выдержав первые пятьдесят, путешест- ; ^ венник признает, что русская почта — был бы кнут, не для лошадей, а для станционного смо- ? Л трителя — заметно превосходит почтовые службы всех прочих стран.
Мы прибыли на станцию.
Заметим, кстати, что только в России можно найти эти станционные домики — все на
386
один лад,—где держат лишь самое необходимое, но всегда можно найти две сосновые скамьи, крашенные под дуб, и четыре сосновые табурета, тоже крашенные под дуб.
Вдобавок к тому, большие настенные часы в футляре, показывающие время настолько точно, насколько можно требовать от стенных часов; со времен Карла V ими по привычке продолжают пользоваться, но никто в них больше не верит.
Да, забыл про предмет первой необходимости, предмет преимущественно национального обихода: самовар, неизменно кипящий.
Все это предоставляется вам бесплатно — по праву: поскольку вы едете на почтовых,
вы — лицо государственное.
Но не требуйте чего-то другого, а именно: пищи, об этом речи быть не может. Хотите есть — везите с собою еду, хотите спать — берите с собою тюфяк.
В противном случае вам придется спать на одной из сосновых скамей, крашенных под дуб. Они жестковаты, но куда чище монастырских тюфяков.
Однако же станционный смотритель, человек весьма обходительный, взялся раздобыть к нашему возвращению что-то, что могло бы сойти за обед.
Мы поблагодарили его, присовокупив, чтобы ни в коем случае не затруднял себя стряпнею.
Из окон почтовой станции открывался пре^ красный вйдг упоминаю об Этом потому, что такие ландшафты большая" редкость в России* стране удивительно плоской.
Поскольку от станции до карьера не больше километра, мь! единодушием решили пойти пешком.
Некоторое время* мы шагали по большой
,т
U
! I '
ttt:
387
дороге; затем проводник повел нас полями, где местность была ровнее.
Вскоре мы увидели на расстоянии сотни в две шагов от нас конусообразную горку ослепительной белизны; горка эта вся состоит из мраморной крошки; если смотреть издали, можно поклясться, что это большой сугроб.
Мы обогнули слепяще-белый холмик и оказались на просторной площадке, где виднелось множество огромных мраморных глыб кубической формы, приготовленных к погрузке.
Я стал размышлять, какие же средства передвижения могут доставить такой колоссальный груз к берегу озера, ведь очевидно, что в Санкт-Петероург их можно везти только водным путем. Не додумавшись ни до чего путного, я отважился задать вопрос вслух; станционный смотритель, который вызвался быть нашим чичероне \ ответил, что для перевозки дожидаются зимы, когда установится санный путь. Глыбы настолько тяжелы, что поднимать их придется с помощью лебедок и рычагов, потом их грузят на сани и на санях доставляют на большие парусники, каковые отвозят их в Санкт-Петербург. Вдруг я обнаружил, что, покуда разглядывал все вышеописанное — с достаточно умеренным интересом,— остался в полном .одиночестве: во всяком случае, я увидел, что последний из моих спутников (кто именно, я не мог разглядеть со своего места) вот-вот скроется в глубине лаза у подножия горки из мраморной крошки.
Проход этот открывался — чего я не заметил с первого взгляда — вертикальным отверстием и вел внутрь скалы. Я, в свою очередь, последовал за прочими и, прошагав метров пятнадцать по узкому ущелью, оказался в огромном четырехугольном помещении, стены которого были высотою в сорок футов
и в сотню шириною. Помещение было совершенно пусто.
Стены были белее снега.
В трех километрах от карьера, где добывается белый мрамор, находится карьер, где добывается зеленый. Наш станционный смотритель горел желанием отвести нас туда и восхвалял второй карьер как величайшую в мире диковину. Мы сошлись на компромиссном решении. Я предоставил в полное его распоряжение моих спутников, пусть делает с ними что хочет, а я вернусь в Сердоболь и займусь обедом.
Быстроте, с которой я принял решение, способствовало то обстоятельство, что я подслушал разговор меж Дандре и нашим станционным смотрителем, причем речь шла о третьем карьере, где когда-то добывался желтый мрамор, а теперь карьер заброшен и выглядит очень живописно, поскольку зарос мхами и кустами ежевики, сменившими каменотесов.
Миллелотти, не особенно интересовавшийся карьерами, испросил себе как милость право ретироваться вместе со мною. Муане и Дандре продолжили путь. Само собой разумеется, мы благополучно нашли дорогу обратно и час спустя уже ждали наших товарищей возле кухонной печи.
Обед, коего амфитрионом был наш милейший станционный смотритель, затянулся допоздна, так что о возвращении в Сердоболь нечего было и думать. Большую горницу в станционном домике превратили в многоместный дортуар, где мы и переночевали, причем полночи пили чай, а полночи спали.
Во время нашего недолгого путешествия я установил один факт: все русские в Финляндии пьют чай, все финны пьют кофе.
Русские — чаевники; финны — кофепоклон- ники. Нередко финский крестьянин проделывает путь в десять — двенадцать верст лишь для
того, чтобы, добравшись до города, купить там фунт или два кофе. Если столь основательные расходы ему не по карману, он совершит странствие ради полфунта, четверти, осьмушки. При этом он почти всегда берет на себя роль посланца от всей деревни и приносит каждому его долю драгоценного продукта.
Во время моего путешествия в Финляндию мне дважды или трижды доводилось пить кофе на почтовых станциях либо в скверных гостиницах, где мы останавливались; всякий раз кофе был превосходный и особенно лакомый благодаря чудесным сливкам, которым роскошные финские пастбища придают ни с чем не сравнимый вкус.
На следующее утро мы отправились в Сер- доболь; там пробыли мы ровно столько време-1 ни, сколько потребовалось на то, чтобы сме-j^^
го
нить лошадей; из Сердоболя мы выехали по
ä
Ь.
?
длинной насыпи, начинавшейся от первых домов городка; слева от нас было озеро, справа — гранитные утесы, изборожденные продольными полосками; некоторые полоски ^
были совсем узенькие, другие вдавались вглубь, l словно каннелюры в колонне. Я слишком мало j разбираюсь в геологии, а потому не обратил на [ эти желобки того внимания, которого они, возможно, заслуживают.
Проехав пятнадцать верст и не увидев по дороге ничего примечательного за вычетом разве что финских крестьянок, продававших превосходную землянику в корзинках собственного плетения, мы добрались до станции Отсоис; поскольку я позаботился захватить из Сердоболя двух жареных цыплят и у нас были ,^ свежие яйца, да вдобавок земляника, а к ней чай и кофе со сливками, обед получился от-[№^ менный. j 'уф)
По выезде из Отсоиса мы вновь было увиде- j ли Ладожское озеро, но вскоре оно скрылось [ г '
щ
ifà
ь.
из глаз, и дорога углубилась в местность необычайно живописную и гористую; дорога здесь почти на всем своем протяжении пролегает меж гранитными скалами и кое-где так узка, что пройти может лишь одна телега; при встрече с аналогичным средством передвижения разыгралась бы сцена, подобная той, что разыгралась меж Эдипом и его отцом6. Одна из скал была так похожа на разрушенную крепость, что, лишь оказавшись на расстоянии полукилометра от нее, мы убедились в обмане зрения, жертвой которого стали все мы.
Добавим, что горы эти покрыты великолепными лесами, и мы смогли разглядеть вблизи последствия одного из тех пожаров, о которых уже рассказывалось. Огонь под действием ветра двинулся к северу, иными словами, в самую чащу, отчего, по всем вероятиям, мог продержаться довольно долго. Мы заметили престранную вещь, а именно: пламя не перекидывается с дерева на дерево, а стелется по земле; смолистые уголья становятся причиной распространения пожара, огонь ползет подобно лаве, обтекает комль дерева и продолжает путь; и лишь несколько мгновений спустя, когда древесный сок иссохнет, дерево начинает потрескивать, кора занимается пламенем, пламя подбирается к сучьям и сжигает их; иногда оголенный ствол остается стоять сухостоем, но он всего лишь зола да уголь, ткни тростью — и рассыплется в прах.
Ночевали мы, насколько мне помнится, на станций в Мансйльде. От Мансильды до Кроне- борга пейзажи не особенно живописны;, но стоит миновать Кронеборг, как снова появляются гранитные скалы с очертаниями самыми фантастическими* крутые откосы, глубокие овраги — можно подумать, что въезжаешь в самый гористый из. кантонов Швейцарии.
391
Справа промелькнуло два-три озера, они поблескивали, словно стальные зеркала в рамах из зелени.
Миновав станцию Поксуйлалка, мы снова завидели Ладогу и по мосту въехали на островок, на котором стоит город Кексхольм. Тут торговки земляникой стали попадаться еще чаще, и, когда мы появились в городе, можно было подумать, что мы вознамерились вступить в конкуренцию с местными зеленными лавками.
В Кексхольме мы провели полдня, отчасти из-за усталости, отчасти из любознательности; нас, надобно сознаться, пленили опрятные улицы, застроенные по обеим сторонам деревянными домами, почти без исключения одноэтажными.
Подобно Шлиссельбургу, Кексхольм в прошлом был шведской крепостью. Он окружен глубоким рвом, над которым высится крепостная стена с бастионами. Мы миновали две караульни; одна, уже развалившаяся, была кирпичная, построенная еще шведами; другая, деревянная и пустая, датировалась царствованием Александра; обе своей заброшенностью и унылостью придают крайне печальный вид всему строению, весьма примечательному как образец военного зодчества.
Мы проехали по всей крепости из конца в конец, ни разу не остановившись, поскольку никакие исторические предания о ней нам известны, не были, и выехали к огромным воротам с видом на озеро7.
Перед нами на островке высился полуразва- лившийся замок. Когда-то мост соединял его с крепостью; но замок разрушился, и было решено, что нет смысла поддерживать в надлежащем виде мост, ведущий всего лишь в груду камней; в конце концов мост рухнул. Проводник наш, которого я замучил вопросами, повел
было рассказ про какого-то государственного преступника, который после долгого заточения умер якобы на этом острове во времена шведов; но память так подводила честного малого, что я скоро отказался от попытки разобраться в его повествовании.
Он утверждал также, что слышал от своего отца, будто под башней замка находятся обширные подземелья, множество застенков, отец-де их обошел и облазил и сам видел железные кольца, и цепи, и орудия пытки.
Не знаю, какова цена этим сведениям, за что купил, за то и продаю; и за верность истине не ручаюсь.
Мы переночевали в Кексхольме, и должен сказать, что кровати, а точнее, диванчики на постоялом дворе были таковы, что я с сожалением вспоминал о скамьях на почтовой станции.
На другой день, отъехав от города на расстояние ружейного выстрела, мы увидели нечто вроде лагун, образованных озером Пихла- вази; лагуны эти прорезаны проточными водами реки Хаапапавези.
Нас порядком беспокоило, как сможет наша телега одолеть путь по воде в два километра протяженностью, и мы удивлялись, что станционный смотритель не предупредил нас о такой помехе; неожиданным образом этому беспокойству пришел конец, хоть, впрочем, на смену пришло другое. Из какого-то сарая вышли шесть человек; четверо ухватили наших лошадей за холки, двое прыгнули на плот и подогнали его к самому берегу; и не позволив нам даже соскочить с телеги (невзирая на требования наши и даже вопли), нашу телегу столкнули на плот, и мы пустились в плавание.
Вся операция заняла меньше времени, чем потребовалось, чтобы о ней рассказать.
Почти таким же способом Ганнибал переправил своих слонов через Рону8.
На какое-то мгновение сходство стало еще ошеломительнее, потому что, подобно тем же слонам, мы чуть было не опрокинулись в воду.
Но перевозчики наши, разместившись таким образом, чтобы собственной тяжестью восстановить равновесие, принялись баграми отталкиваться от песчаного дна, и, несмотря на течение, мы двинулись вперед с немалой скоростью.
Когда население России настолько приумножится, что в этих краях возникнет новая Венеция, ее гондольеры легко выучатся своему ремеслу, благо начало уже положено.
На некоторых из бесчисленных островков, разбросанных по этому своеобразному озеру, виднеются дома, лавки, церкви. На иных высятся замки с боковыми башнями, которые увенчаны зубцами.
За каких-нибудь пятнадцать — двадцать минут мы доплыли до берега напротив Кексхоль- f ма и там выбрались на сушу, так ни разу не покинув нашей телеги. Обошлось это фантасти- 1 ческое плавание всего лишь в рубль, а в памяти у меня оно осталось подобием сновидения.
) Затем мы поехали лесною дорогой; некоторые участки леса, выжженные пожаром вроде того, который мы видели, вспаханы и засеяны. Насколько могу судить, пшеница там родится отменно; колосья уже налились и начали желтеть.
На подступах к станции Найдерма мы уви.- ' дели финок в национальных нарядах, поразивших нас.
Наряд этот состоит из синей юбки, обши- i той снизу широкой пурпурной каймой, белого ! казакина, плотно облегающего стан, и красного i платка, обрамляющего лицо и завязанного под подбородком. Этот головной убор идет хорошеньким, но дурнушек совеем уродует*.
394
После станции Минивиами мы выехали к реке Вуоксе, которая выше по течению образует знаменитый водопад Иматра, возможно, единственный в России. Была ли пора половодья, или река эта всегда такова? Во всяком случае, она заливает прибрежные долины. Места тут тоже были лесистые и гористые; но появилась одна характерная черточка.
Чем ближе подъезжали мы к Магре, тем чаще попадались нам стада свиней, при коих не было свинопасов. Вначале, увидев таких свиней в лесу, я принял их за диких и решил, что они водятся в этих местах. Приказав кучеру остановиться, я собрался было пристрелить одну, но тут увидел, что голова ее просунута в деревянное треугольное ярмо, надетое для того, вероятно, чтобы животное не могло пролезть под оградой и проникнуть в сад или огород.
Вскоре свиньи стали попадаться так часто, что кучеру приходилось сгонять их с дороги кнутом. Они, видимо, облюбовали эти места, потому что дорожный гравий был прогрет солнцем основательней, чем лесные мхи, хоть мхи, конечно, мягче. Если бы не осторожность нашего кучера, мы могли бы раздавить кого-то из числа сих достойных сибаритов.
После станции Кутяткино, последней перед Санкт-Петербургом, дорога раздваивается.
Ответвление направо ведет в Выборг, налево— в Санкт-Петербург.
Вскоре мы пересекли Большую Невку по монументальному мосту, наведенному в 1811 году нашим соотечественником Бетанкуром9; проехали через Аптекарский остров; затем, миновав речушку Карповку, Петербургским островом въехали во вторую всероссийскую столицу.
В особняке Безбородко мы по прибытии застали великий переполох.
! '7Л
/ V; ",
395
Графиня, будучи превосходнейшей наездницей и отважнейшим кучером, выезжала ежедневно либо верхом, либо в тильбюри. В тот день она правила тильбюри; с нею была приятельница.
Съезжая по довольно крутому склону, графиня увидела корову, возлежавшую посереди дороги и разомлевшую на гравийном ложе ничуть не меньше, чем наши свиньи из Магры. Графиня, разбиравшаяся в обычаях четвероногих не так хорошо, как мы, подумала, что корова встанет при виде экипажа; ничуть не бывало; графиня натянула правую вожжу, дабы обогнуть круп животного, каковой маневр проделала с тем же искусством, с каким участники олимпийских ристалищ огибали терновый куст. Но графиня не заметила, что корова не подогнула хвост, а раскинула оный в истоме поперек дороги.
Колесо тильбюри задело коровий хвост. При сем покушении на столь важную часть тела обладательница оной встала с жутким ревом; лошадь испугалась, понесла и, несмотря на все кучерское искусство графини, вывалила и ее и спутницу в ров.
К счастью, обе дамы отделались несколькими царапинами; так что после десятидневной отлучки мы провели нашу последнюю ночь в Санкт-Петероурге так же, как и предшествовавшие: пели и музицировали до четырех часов утра.
Мне исполнилось пятьдесят пять лет в пути между Валаамом и Сердоболем.
ИСТОРИЧЕСКИЕ
СПРАВКИ
ПЕРЕСЛАВЛЬСКИЙ ОТШЕЛЬНИК
Уточним, что ботик привезли англичане в подарок царю Алексею Михайловичу и в 1688 г. он был найден Петром в подмосковном селе Измайлове. В собственноручной записке царя «О начале судостроения в России» об этом событии, имевшем место в мае 1688 г., сказано следующее: «Случилось нам быть в Измайлове, на льняном дворе и, гуляя по амбарам, где лежали остатки вещей деда Никиты Ивановича Романова, между которыми увидел я судно иностранное, спросил Франца (Тиммермана), что это за судно? Он сказал, что то бот английский. Я спросил, где его употребляют? Он сказал, что при кораблях— для езды и возки. Я паки спросил: какое преимущество имеет пред нашими судами (понеже видел его образом и крепостью лучше наших)? Он мне сказал, что он ходит на парусах не только что по ветру, но и против ветру; которое слово меня в великое удивление привело и якобы неимоверное». Для приведения бота в порядок и починки Петр призвал Карстена Брандта, голландского уроженца, прибывшего в Россию в 1669 г. и бывшего корабельным подмастерьем на корабле «Орел», построенном по повелению царя Алексея Михайловича. Брандт научил Петра управлять ботом и сделался таким образом первым государевым наставником в морском деле. В 1723 г. в ознаменование высоких заслуг Балтийского
397
флота в Северной войне Петр I повелел привести бот из Петербурга, где он хранился с 1722 г. (а до этого находился в Москве), в Кронштадт для торжественного чествования «дедушки русского флота». 23 августа бот был привезен на галиоте в Кронштадт и затем прошел вдоль строя военных кораблей при громе пушек с кораблей и крепости. В том же 1723 г. бот поместили на вечное хранение в Петропавловской крепости, но с тех пор шесть раз вывозили из крепости для участия в разного рода торжествах.
Что касается самой крепости, то, потеряв военное значение после постройки Кроншлота, уже с 1718 г. она начала использоваться в качестве тюрьмы.
ЛЕГЕНДА О ПЕТЕРБУРГСКОЙ КРЕПОСТИ
То, о чем повествуется в очерке, можно отнести к зиме 1799—1800 гг. Оставим в стороне бросающуюся в глаза невероятность, с которой сплетаются события страшной зимней ночи; эти события вряд ли возможно связать с имеющимися представлениями о павловском времени и о самом императоре Павле Петровиче, человеке высоких нравственных качеств, понятий о чести, глубокой порядочности.
1 Лейб-гвардии Павловский полк был сформирован в ноябре 1796 г. из двух батальонов и двух рот запасного батальона Московского гренадерского полка. Сформировали полк в Петербурге в составе двух батальонов пятиротного состава с двумя флигель-ротами. С ноября 1798 г. полк перестал называться Павловским, получив имя своего шефа (как и другие в то время полки): гренадерский генерал-майора Эмме полк. В 1799 г. полк вошел в состав экспедиционного корпуса генерала Германа, отправленное го в Голландию сражаться против французов. По окончании кампании, в начале июля 1800 г. полк возвратился в Россию. Это еще одно временное несоответствие в повествовании. Добавим, что в апреле 1801 г. полку было возвращено прежнёе название.
2 У поминаемый Дюма Красный замок — не что иное, как Михайловский (впоследствии — Инженерный) замок,
398
и Павел I принимает рассказчика именно в нем, однако если это имело место, то уж никак не ранее 1801 г., когда замок был наконец готов. Подземный ход из казарм в замок — не более чем плод воображения или писателя, или того, чьим повествованием он пользуется.
3 Фаворит императора Павла — это, несомненно, граф Иван Павлович Кутайсов (1759—1834), егермейстер. Родом турок из города Кутая, Кутайсов был взят в плен русскими войсками, действовавшими под Бендерами, попал ко двору и был подарен императрицей Екатериной Великому князю Павлу Петровичу, который его крестил и держал при себе для услуг. По повелению Павла Кутайсов отправился в Берлин и Париж, где выучился парикмахерскому и фельдшерскому делу. Заняв при великом князе место камердинера, Кутайсов сумел приобрести устойчивое, за редким исключением, влияние на своего августейшего господина. С 1799 г. Кутайсов — барон Российской империи, кавалер ордена Св. Александра Невского, Иоанна Иерусалимского и других орденов; ему было пожаловано до 50000 десятин земли и 5000 душ крестьян. Фавор Кутайсова, отличенного и другими милостями, был одним из самых непопулярных действий императора Павла I.
РЕГЕНТСТВО БИРОНА
В весьма содержательном очерке о регентстве Иоганна Эрнста Бирона (1690—1772), курляндского дворянина и фаворита императрицы Анны Иоанновны, Дюма приводит множество фактов, важных и в той или иной степени достоверных. Следует, разумеется, быть внимательным и не всегда доверяться суждению путешественника, в распоряжении которого были далеко не во всем основательные источники. Дюма, в целом правильно изложивший основные события этого смутного периода российской истории, допускает ряд неточностей, которые, вероятно, следует отнести на счет некоторой небрежности.
1 Автор прав, когда сообщает, что Елизавета Петровна родилась тогда, когда Петр I еще не был обвенчан с ее матерью Екатериной, но допускает ошибку, когда пишет,
399
что Иоанн VI Антонович правил Россией в течение 8 месяцев; известно, что он был императором с 17 октября 1740 г. по 25 ноября 1741 г. Фактически он провел в Шлиссельбурге 23 года и был убит при попытке освободить его, что упрочило положение только что вступившей на престол Екатерины.
2 К тому, что сообщает Дюма о Бироне и его происхождении, дадим некоторые уточнения. Карл, сын первого конюха герцога Курляндского Якова III, в качестве шталмейстера сопровождал Александра, принца Курляндского, в 1686 г. в Венгрию и, когда принц скончался от ран под Офеном, вернулся в Курляндию и получил место лесничего и начальника егерей. У него было три, а не два сына —Карл, Иоганн Эрнст и Густав —и пять дочерей. Были ли Бироны дворянами до возвышения Иоганна Эрнста, вопрос спорный. Король Август III утверждал, что Бирон не принадлежал ни к курляндскому, ни к польскому дворянству; русские акты 1740—1741 гг. называют род Биронов «мизерным». Вместе с тем доказано, что род Биронов вступил в брачные союзы с дворянскими родами Курляндии еще до женитьбы Иоганна Эрнста, что может быть свидетельством против утверждения о «подлом» происхождении Бирона.
3 Бирон далеко не сразу по воцарении Анны получил герцогский титул. Сначала он обрел графское Священной Римской империи достоинство и другие пожалования от императора. Затем в декабре 1732 г. прусский король Фридрих-Вильгельм предлагал Бирону крупную сумму за содействие в возведении на курляндский престол прусского принца. Были и другие предложения от Империи и Пруссии, двух государств, которые едва ли не в равной степени стремились решить курляндские дела с помощью графа. Однако все это отнюдь не интересовало царедворца, который втайне сам вынашивал планы занять курляндский престол. Только в июне 1733 г. обер-камергер Бирон был избран в Митаве герцогом Курляндским, что стало возможным в связи с угасанием прежней владетельной герцогской династии в Курляндии, а торжественная инвеститута, за которой последовало вручение Бирону диплома об этом акте, состоялась в марте 1739 г.
400
Регентом малолетнего Иоанна Антоновича Бирон стал 17 октября 1740 г. согласно завещанию императрицы Анны Иоанновны. В результате борьбы за власть, вылившейся в дворцовый переворот 9 ноября 1741 г., герцог был арестован фельдмаршалом Минихом, и правительницей России стала Анна Леопольдовна. Бирон по обвинению в «захвате регентства» был приговорен к смертной казни, замененной ссылкой. Возвращенный из ссылки Петром III, Бирон был восстановлен на курляндском престоле, но уже при Екатерине.
4 С автором следует согласиться, когда речь заходит о фактической отмене смертной казни в эпоху Елизаветы.
ЕЛИЗАВЕТА И ЛЕСТОК
*Дюма правильно указывает, что Елизавета и Разумовский были ровесниками, разница составляла несколько месяцев, но родились оба в 1709 г. Будущему канцлеру Михаилу Илларионовичу Воронцову к моменту переворота исполнилось 27 лет. Четырнадцати лет он был определен камер-юнкером к двору великой княжны, которой служил и пером, и деньгами богатой свояченицы (жены его брата Романа). Вместе с А. И. Шуваловым Воронцов стоял позади саней, на которых цесаревна ехала в казармы Преображенского полка в ночь переворота. Воронцов вместе с Лестоком арестовывал правительницу Анну Леопольдовну и ее семейство. За участие в перевороте М. И. Воронцов был пожалован чином действительного камергера, поручиком лейб-компании и богатыми поместьями.
2 Полное название оперы Эжена Скриба: «Lestocq, ou l’intrigue et l’amour» (P., 1834). Перу Скриба принадлежат также «Chut! ou un Polonais à la cour de Catherine» (P., 1842) — комедия-водевиль, и драма «La Czarine» о Екатерине I (Р., 1855).
3 Жак-Иоахим Тротти, маркиз де ла Шетарди (1705—1758), был послом России с 1739 г., интриговал сначала против Бирона, затем против свергнувшего его Миниха и Брауншвейгского семейства. Шетарди прио-
16 А.Дюма, т.2
401
брел расположение Елизаветы Петровны и, кроме того, влиял на нее через Лестока, подстрекая к активным действиям по свержению Анны Леопольдовны, что было в интересах французской политики. Переворот 1741 г. совершился без существенного участия Шетарди, но из благодарности за поддержку в трудное время императрица пожаловала маркизу ордена и подарки, которые при последующем аресте и высылке посла из России в большинстве своем были отобраны.
4 Дюма допускает ошибку: крест Св. Екатерины крепился на левой стороне груди на банте с девизом «За любовь и Отечество». Большой крест носился на красной ленте с серебряной каймой через правое плечо.
5 Действительно, со дня вступления Елизаветы Петровны на престол начинается время наибольшего благополучия для Лестока. 18 декабря 1741 г. был дан высочайший указ о пожаловании доктора Германа Лестока в первые придворные лейб-медики в ранге действительного тайного советника с назначением его главным директором медицинской канцелярии и всего медицинского факультета с жалованьем 7000 (Дюма прав) рублей в год. Титул графа Священной Римской империи Лестоку выхлопотал Фридрих II за участие в деле сватовства великого князя Петра Феодоровича к Цербтской принцессе, будущей Екатерине Алексеевне (высочайший указ о разрешении принять титул последовал 24 июля 1744 г.). Елизавета подарила Лестоку ради этого случая 15 000 рублей.
6 Разумовский при короновании Елизаветы Петровны 25 апреля 1742 г. был пожалован чином обер-егермейсте- ра и награжден орденом Св. Андрея Первозванного, а в 1744 г. по ходатайству русского посланника в Дрездене, графа Кейзерлинга, ему был дарован титул графа Священной Римской империи (через два месяца Алексей Григорьевич и его брат Кирилл стали графами Российской империи).
7 Брат Алексея, Григорий Кириллович Разумовский, действительно был избран Малороссийским гетманом 22-х лет от роду (18 февраля 1750 г.). 5 июня 1750 г. в Коллегию иностранных дел поступил указ, которым утверждалось избрание гетмана.
402
8 Дюма ошибается: казнь арестованных во время переворота 25 ноября 1741 г. имела место 18 января 1742 г. Действительный тайный советник и вице-канцлер А. И. Остерман умер в Березове 20 мая 1747 г., но не через семь лет после суда, как сообщает автор.
9 Дюма упоминает об Алексее Яковлевиче Шубине (1707—1766). А. Я. Шубин — сын владимирского помещика, прапорщик Семеновского полка, который по повелению императрицы Анны был сослан «в Камчатку» и там насильно обвенчан. По вступлении на престол Елизавета Петровна, вспомнив о своем любимце, вернула его в 1743 г. в Петербург и за «невинное претерпение» произвела из прапорщиков в генерал-майоры Семеновского полка, наградила орденом Св. Александра Невского и поместьями. В следующем году Шубин получил увольнение от службы в чине генерал-поручика и удалился в свои поместья.
10 По преданию, венчание Елизаветы Петровны и Разумовского происходило в 1742 г. в подмосковном селе Перове, а самый обряд венчания совершал отец Дубян- ский, духовник императрицы. Возвращаясь после этого в Кремль, царица дорогой, на Покровке, против церкви Воскресения вспомнила, что после венчания не было обычного молебна. Приказав остановиться, Елизавета Петровна вошла в церковь и отстояла молебствие.
11К тому, что сообщает Дюма о канцлере А. П. Бестужеве-Рюмине, добавим, что в 1712 г. Петр Великий, прибыв в Берлин, повелел определить Бестужева на службу «дворянином при посольстве» к русскому полномочному министру в Голландии Б. И. Куракину. Проездом через Ганновер Бестужев-Рюмин познакомился с курфюрстом Георгом-Людвигом и получил предложение поступить к нему на службу. С разрешения Петра I в 1713 г. Бестужев действительно поступил на службу к курфюрсту Ганноверскому. В 1714 г. Георг, вступив на английский престол, взял Бестужева с собой в Лондон и немедленно отправил его к Петру в качестве английского министра (посла) с сообщением о своем восшествии на престол. Получив приличествующий случаю подарок, Бестужев-Рюмин отбыл обратно в Лондон, где и пробыл четы¬
403
ре года, а в 1717 г. получил увольнение с английской службы и уехал в Россию.
12 По имеющимся данным, Лесток был пытан на дыбе один раз, однако он во всем отпирался, даже в ответ на личные обращения императрицы с предложением не упорствовать и сознаться в том, что служил интересам Пруссии. По приговору лейб-медика надлежало казнить, но казнь заменили битьем кнутом и ссылкой в Сибирь (в Охотск) «до конца живота». Приговор привели в исполнение лишь отчасти (конфискация имущества): в 1750 г. граф был привезен с женой в Углич, а в апреле 1753 г.— в Великий Устюг, где он и оставался до кончины Елизаветы.
ДРУГАЯ ЛЕГЕНДА МОСКОВСКОЙ БАСТИЛИИ
х]Амя княжны Таракановой всегда волновало воображение как еще одна тайна в сложных переплетениях династической и придворной истории России. Предание о гибели несчастной княжны в Алексеевском равелине Петропавловской крепости во время наводнения в 1775 г. послужило сюжетом для наделавшей много шума картины Константина Флавицкого, которая была выставлена на академической выставке в 1865 г. Жаль, что Дюма не довелось увидеть эту картину, но и того, что сказал писатель в своем очерке, достаточно, чтобы понять, как сильно он был увлечен одной из тайн русской истории.
Это загадочное лицо так и осталось неизвестным ни по фамилии, ни по имени. И не совсем верно замечание Екатерины II, что Тараканова «вклепала на себя имя» действительной княжны Таракановой, об ее существовании авантюристка, вероятно, даже не знала; не имя «вклепала» она, а только происхождение княжны, имя же той, за кого она себя хотела выдать — дочери Елизаветы Петровны,—впоследствии ей дано историками и народной молвой, последней — серьезно, первыми — только формально. Если следовать обычаю, принятому для именования самозванцев, то Тараканову следовало бы называть Лже-Таракановой с тем большим основанием, что ее настоящее имя осталось невыясненным и, веро¬
404
ятно, никогда не выяснится. Загадочным является и происхождение княжны. В материалах, которыми пользовался Дюма, на основании слухов рассказывается о том, что она была дочерью пражского булочника или нюрнбергского трактирщика, что вряд ли достоверно ввиду ее хорошего воспитания, изысканных манер, такта, знания многих языков. Другие сомнительные источники говорят о том, что она была дочерью турецкого султана, или указывают на ее знатное польское происхождение.
Жизнь Таракановой — это сплошная сказка из «Тысячи и одной ночи», что не могло не увлечь Дюма. Отличаясь необыкновенной красотой, гибким и живым умом, веселым нравом, она очаровывала людей всякого круга, ранга и состояния, кружила им головы, доводила часто до разорения и тюрьмы. Не отличаясь строгостью нравов, Тараканова любила хорошо пожить, любила роскошь, тратя на нее огромные деньги, свои и чужие. Преследуемая кредиторами, она переезжала из города в город, из страны в страну: из Киля, где впервые объявилась в 1770 г., переехала в Берлин, затем в Гент, в Лондон, в Париж, именуясь то девицей Франк, то Шель, то госпожой де Тремуй, то Алиной, то княгиней Владимирской. В Европе эта попытка выдать себя за русскую сошла удачно, т. к. в то время о России можно было складывать какие угодно небылицы. После целого ряда бурных приключений, в том числе и с графом Рошфором де Вилькуром, а также с владетельным князем Голштейн-Лимбургским, Тараканова увлеклась новым замыслом, отодвинувшим на второй план трон княжества Голштейн-Лимбург.
В начале 1774 г. под влиянием бывшего палатина Виленского Карла Радзивилла она объявила себя дочерью Елизаветы Петровны, сестрой Пугачева, ставшего в то время во главе крестьянской войны в России, и претенденткой на российский престол. Чтобы быть ближе к Рад- зивиллу и его приверженцам, Тараканова в марте 1774 г. прибыла в Венецию под именем графини Пиннеберг. Из Венеции Тараканова и Радзивилл поехали в Константинополь, чтобы оттуда взбунтовать русскую армию и связать ее присягой «законной наследнице престола». Из Рагузы, где оба они оказались из-за шторма, Тараканова посылала
405
в Европу и к влиятельным русским деятелям «манифести- ки» и письма, где говорила о своем происхождении и подлинном духовном завещании императрицы, о намерении при помощи Пугачева занять престол. Легенду Тараканова дополняла устными рассказами, которые стремилась широко распространять.
По словам Таракановой, она родилась в 1753 г., до девяти лет жила при матери, согласно завещанию которой должна была унаследовать российский престол, а до совершеннолетия ее опекуном должен был быть Петр III. Екатерина, свергнув супруга, сослала Тараканову в Сибирь, откуда та была похищена каким-то священником и привезена к гетману Разумовскому, который, опасаясь за судьбу дочери, отослал ее к своему родственнику, шаху персидскому. В Персии, когда Таракановой исполнилось семнадцать лет, шах открыл ей тайну ее рождения и предложил ей руку и сердце, но она, будучи воспитанной в религии предков, отказалась и была отпущена в Европу. Пугачев, по словам Таракановой, приходился ей единокровным братом — сыном Разумовского от первого брака.
В связи со слухами о происхождении Таракановой ра- гузский представитель в С.-Петербурге обратился к графу Никите Ивановичу Панину с запросом о том, как ко всему этому следует относиться. Заведовавший иностранными делами, Панин, по поручению Екатерины II, ответил, что нет никакой надобности обращать внимание на «эту побродяжку», императрица же поручила Алексею Орлову без шума и огласки захватить княжну Тараканову, что тот и исполнил. Граф Алексей Григорьевич — а не Григорий, как пишет Дюма,—притворился влюбленным, предложил самозванке руку, обещал добыть ей российский престол. Для пользы дела он убедил Тараканову совершить непродолжительную поездку в Ливорно, и, когда та взошла на флагман российского флота «Три иерарха», Орлов отдал приказ адмиралу Самуилу Карловичу Грейгу арестовать гостью и везти в Россию. Великий герцог Тосканский и тосканский двор протестовали дипломатическим путем против насилия, совершенного на их территории, но для Екатерины это было уже не столь существенно.
406
Неоднократно, но безуспешно Тараканова обращалась к Екатерине — через допрашивавшего ее князя Александра Михайловича Голицына. В письме к Голицыну императрица писала: «Распутная лгунья осмелилась просить у меня аудиенции. Объявите этой развратнице, что я никогда не приму ее, ибо мне вполне известны и крайняя ее безнравственность, и преступные замыслы, и попытки присваивать чужие имена и титулы...» Больная чахоткой, измученная тюрьмой и частыми допросами, Тараканова в декабре 1775 г. скончалась, незадолго до смерти разрешившись от бремени сыном, отцом которого, несомненно, был А. Орлов. Тайну своего рождения она скрыла даже на исповеди.
АЛЕКСАНДР I
*Дюма допускает известное преувеличение, когда говорит, что Александр I «принял сторону Парижа против союзников». Действительно, 31 марта 1814 г. русский император принял чиновников муниципального совета и обещал им полную неприкосновенность личности и имущества населения, заявив, что берет Париж под свое покровительство. Далее, давно уже решив, что царствовать ему с Наполеоном вместе в Европе невозможно, он на словах предоставил французам полную свободу выбрать форму правления, какую они пожелали бы. Это было сделано, чтобы успокоить парижан и не препятствовать конечной реставрации королевской власти. В то же время союзники Александра отнюдь не обнаруживали стремлений к безусловному разрушению Парижа ни тогда, в 1814 г., ни в 1815 г., после Ватерлоо. Другое дело, что они вероломно нарушили свои обещания, подавляя всякое инакомыслие й участвуя в проскрипциях лиц, известных своей преданностью прежнему режиму.
2 Семь жирных коров — одно из сновидений египетского фараона, за толкованием которого фараон обратился к Иосифу. См. об этом в Библии: Бытие, 41: 2—32.
3 Смысл приводимого автором сближения заключается в том, что императоры Тит Флавий Веспасиан (41—81 н. э.) и Марк Аврелий (121—180) по своим государствен¬
407
ным и человеческим качествам были людьми совершенно противоположными. Первый вполне оправдал то, что ему предсказывали, и стал если не «вторым Нероном», то, во всяком случае, не останавливался перед беспощадным уничтожением тех, кто казался ему подозрительным, второй отличался замечательным человеколюбием и просвещенностью (автор записок «К самому себе»), находя время для многих благотворных мер в области внутреннего управления.
4 Фредерик-Сезар Лагарп (1754—1838), наставник великих князей Александра и Константина Павловичей, при отставке в 1794 г. действительно получил от Екатерины II пожизненную пенсию и чин полковника, а также орден Св. Владимира.
5 Речь идет об императоре Марке Кокцее Нерве (30 или 35—98), императоре с 96 г. Его политика была рядом уступок противоположным партиям. При нем были прекращены процессы по делам об оскорблении величества, а Сенат был допущен к более широкому участию в управлении государством.
6 В заключение отметим, что в остальном у Дюма не встречается особых противоречий с тем, что известно из оригинальных источников. Уточним только, что фраза «Ничего не бойся...» почерпнута из Плутарха.
ПРАВАЯ РУКА ЦАРЯ
1В начале очерка упоминается русско-французский поход в Индию.
Известно, что переход казаков под командованием атамана Войска Донского В. П. Орлова в Индию был предпринят по повелению императора Павла I в январе 1801 г. Сразу по кончине императора экспедиция была отменена. 31 марта (12 апреля) 1801 г. атаман Орлов доносил в С.-Петербург, что, получив рескрипт от 12(24) марта «при вершинах реки Иргиза», он проследовал обратно на Дон с находившимся при нем войском, общая численность которого составляла 22 172 человека.
408
В кратковременный период русско-французского союза, точнее в 1807—1808 гг., проект похода в Индию вновь «проскальзывает» в русско-французских союзных отношениях. Едва ли эта идея всерьез рассматривалась в то время Наполеоном. Об этом можно судить по тому, как легко император французов расстался с ней, когда стало ясно, что в Петербурге к идее относятся сдержанно. В письме к министру иностранных дел Шампаиьи французский посол А. де Коленкур, излагая содержание своей беседы с Александром I в январе 1808 г., писал: «Я воспользовался случаем, чтобы обратить его внимание на поход в Индию, как на одну из самых уязвимых сторон Англии. Я старался задеть самолюбие воина и государя, любящего славу. Император довольно долго беседовал об этом, но все твердил, что уже вдавался в подробности об этом предмете с нашим Августейшим государем, который, как и он, смотрит на это дело как на вещь почти невозможную. Его размышления обнаружили скорее сомнение в успехе, чем формальное несогласие с этим планом, так как все сводилось к расстояниям, к пустыням, по которым нужно проходить, к трудностям добывания жизненных припасов». Согласие император все же дал, причем избрал для этой экспедиции знакомый павловский маршрут Астрабат —Герат, но трезвый политический расчет вовремя остановил этот проект, и союзники занялись другими делами Европы, требующими внимания.
2 Автор пишет о конгрессе в Вероне, в котором Александр I, вопреки мнению Дюма, все же участвовал. Перед отъездом царь повелел в особом рескрипте управляющему Министерством внутренних дел графу В. П. Кочубею (1(13) августа 1822 г.) закрыть все тайные общества, под каким бы наименованием они ни существовали, и учреждения их впредь не дозволять; всех членов этих обществ обязать, что они не будут составлять никаких масонских и иных тайных организаций, а с военных и гражданских чинов взять о том подписку (в противном случае этим лицам угрожала отставка). Кроме того, ввиду предполагаемого продолжительного пребывания государя
409
за границей, главнокомандующему армией графу Ф. В. фон дер Остен-Сакену повелено было оставаться в Петербурге. Последнее обстоятельство было вызвано воспоминанием о «Семеновской истории» 1820 г., которую Дюма ошибочно относит к 1822 г. Семеновский полк числился как один из полков лейб-гвардии, но не являлся гусарским: телесных наказаний там просто быть не могло как в полку исключительно дворянском.
3 Приведем некоторые дополнения к тому, что Дюма сообщает о Нарышкиной, которую «титулованной» назвать никак нельзя, поскольку титула у Нарышкиных не было. Речь идет о Марии Антоновне Нарышкиной, урожденной княжне Четвертинской (1779—1854), жене обер-егермейстера Д. Л. Нарышкина, и ее младшей дочери Софьи (р. 1808). Однако посещали они Швейцарию ради лечения между 1813 и 1818 гг. и вернулись в Петербург именно в 1818 г.; умерла Софья Нарышкина в 1825 г., действительно будучи невестой графа А. П. Шувалова.
4 Алексей Андреевич Аракчеев (1769—1834) был сыном А. А. Аракчеева, поручика лейб-гвардии Преображенского полка, помещиком над двадцатью душами крестьян. В отношении отставки любимца Александра I Дюма не совсем прав, ибо милостивым рескриптом от 18 декабря 1825 г. Аракчеев был оставлен главным начальником военных поселений, но с освобождением от занятий в собственной Его Императорского Величества канцелярии и в канцелярии Комитета министров. Но уже 30 апреля 1826 г. граф получил разрешение ехать на воды в Карлсбад, а по возвращении получил отставку.
5 Естественно, что цесаревич и великий князь Константин Павлович при кончине императора Александра I находился в Варшаве, но он был главнокомандующим польской армии (с 1814 г.) и фактическим наместником Царства Польского.
6 Небольшая неточность есть в указании о смерти царя: он скончался в четверг 19 ноября (1 декабря) 1825 г. в 10 часов 50 минут. Далее точно приводятся слова императрицы: «Наш ангел на небесах...» Елизавета Алексеевна действительно не надолго пережила Александра I.
410
СЕВЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
1 Дюма не вполне точен. По делу декабристов действительно привлекался некто Швейковский, польский помещик, но следствием было установлено, что никакого отношения к движению Швейковский не имел. Другое дело И. С. Повало-Швейковский, член Южного общества, согласившийся с мнением о цареубийстве и вооруженном выступлении, но отказавшийся принять участие в восстании Черниговского полка.
2 Командир Ахтырского пехотного полка А. 3. Муравьев действительно высказывал намерение убить императора Александра I.
3 П. Пестель, член Союза спасения, Союза благоденствия, организатор и глава Южного общества, был арестован 13 (25) декабря 1825 г. и в тот же день был отрешен от командования полком.
4 То, что происходило в лейб-гвардии Московском полку, как о том повествует Дюма, соответствует действительности ; добавим, что в попытках помешать выступлению полка из казарм было ранено еще пять человек, в том числе и полковник Хвощинский.
5 Дюма упоминает далее о менее известном, нежели убийство М. А. Милорадовича, факте: Каховский смертельно ранил командира лейб-гвардии Гренадерского полка полковника Н. К. Стюрлера.
6 Сказанное Пестелем С. Волконскому почти слово в слово передают и другие источники.
7 Добавим, что, встретившись с отрядом генерала Гейс- мара, высланным правительством для усмирения восстания, С. Муравьев был уверен, что отряд перейдет на сторону восставших; уверенность передалась солдатам, но первые залпы картечи и ранение Муравьева рассеяли эти иллюзии.
’Председателем следственной комиссии по делу декабристов был не «старый Лопухин», а военный министр А. И. Татищев; П. В. Лопухин же возглавлял Верховный уголовный суд.
411
ИЗГНАННИКИ
'Получили разрешение ехать еще и невеста декабриста Ивашева Камилла Ле Дантю (1803—1839), жены декабристов А. И. Давыдова, А. В. Ентальцева (ум. 1858). Нарышкину, о которой пишет Дюма, звали Елизавета Петровна (1801—1867). Далее получили разрешение
A. В. Розен (ум. 1884), Н. К. Фонвизина (1805—1869), М. К. Юшневская (р. 1790).
2 Библейское изречение «В поте лица твоего будешь есть хлеб...». См. Бытие, 3: 19.
3 Относительно Прасковьи Егоровны Анненковой (1800—1876), урожденной Полины Гебль, уточним, что осенью 1827 г., во время маневров в Вязьме, Полина лично подала императору Николаю прошение с просьбой разрешить ехать в Читу к своему возлюбленному; тронутый просьбой молодой француженки, государь не только разрешил ей ехать в Сибирь, но повелел выдать на дорогу 3000 рублей.
4 Дадим некоторые уточнения об отце Пестеля и брате декабриста. И. Б. Пестель (1765—1843) был членом Государственного совета, тайным советником, генерал-губернатором Иркутским, Тобольским и Томским. Оставив службу для устройства личных дел, Пестель с июня 1823 г. поселился в своем имении в Смоленской губернии. Ввиду его стесненных обстоятельств, в 1826 и 1827 гг. Пестелю выплачивали аренду, о продолжении которой он просил еще Александра I, из Государственного казначейства. Брат Пестеля, полковник В. И. Пестель (1789—1865), находившийся 14 декабря 1825 г. в войсках Гвардейского корпуса, собранных на Дворцовой площади, «удостоился в числе прочих получить монаршую признательность» в приказе 15 декабря. В январе 1826 г. Пестель получил орден Св. Анны 2-й степени, а 14 июня, незадолго до казни брата, был назначен флигель-адъютантом. В марте 1827 г. «в воздаяние отличного усердия к службе»
B. И. Пестель был награжден алмазными знаками ордена Св. Анны 2-й степени.
5 Излагая биографию М. М. Сперанского, Дюма допускает некоторые неточности. Сперанский (1772—1839) за¬
412
кончил Владимирскую семинарию, а затем Алек- сандро-Невскую семинарию, а не духовную академию; в 19, а не в 21 год стал преподавателем математики, физики и красноречия в семинарии. По рекомендации Куракина Сперанский был определен в канцелярию генерал-прокурора в 1797 г. Дюма правильно отмечает, что Сперанский был назначен государственным секретарем в 1801 г., но в 1803 г. он занимается составлением плана устройства судебных и правительственных мест империи; с 1808 г. работает в комиссии по составлению законов. В ссылке Сперанский в самом деле занимался между прочим переводом. Он перевел сочинение Фомы Кемпийского (1379—1471) «О подражании Христу». Перевод был издан в Петербурге в 1821 г.
Следует отметить, что, не оправдав надежд императора как государственный деятель, Сперанский восстановил против себя общественное мнение и стал предметом общей ненависти. Но к этому неудовольствию присоединялось и разочарование Сперанским в личном плане: Сперанский не всегда соблюдал такт и не щадил самолюбие императора, в отзывах о котором позволял себе то, чего не должен был бы себе позволять. Разумеется, в событиях вокруг отставки Сперанского нашлось место и интриге: оказывали свое влияние и внешние события.
6 Остров Баратария — это владение, которое получил Санчо Панса в романе Сервантеса «Дон-Кихот».
7 Гавриилу Степановичу Батенькову, когда в Сибирь приехал с ревизией Сперанский, было 26 лет. Оценив опытного и трудолюбивого инженера, Сперанский приблизил его к себе, предложив участие в работах по преобразованию всех существовавших в Сибири учреждений. Батеньков составил для Сперанского несколько записок, в основе которых были собранные Батеньковым статистические сведения. В 1820 г. Сперанский взял Батенькова с собой, доставил ему место секретаря и поселил в своем доме в Петербурге. Одно время Батеньков служил у Аракчеева на службе по военным поселениям, но из-за интриг должен был уйти. По приговору Верховного уголовного суда Батеньков был зачислен в 3-й разряд государственных преступников, который должен был идти в пожизненные
413
каторжные работы. Это решение было сначала заменено на 20 лет каторги, а затем на 20 лет одиночного заключения в тюрьме. Тюремное заключение Батеньков начал отбывать в форте Свартгольм (Аландские острова), затем был помещен в Алексеевский равелин, который был заложен императрицей Анной в честь своего деда —царя Алексея Михайловича.
8 Вопреки тому, что говорит Дюма, Батенькову было разрешено читать и писать, выдавались книги духовно-нравственного содержания для его занятий по сличению различных переводов Библии. Книги доставлялись по ходатайству коменданта из Императорской Публичной библиотеки. Выпущен из тюрьмы Батеньков был через 7 лет после смерти Сперанского, в 1846 г.
9...сержанты Ла Рошели.—В 1822 г. четыре сержанта гарнизона крепости Ла Рошель — Бориес, Губен, Помье и Рауль, члены республиканского общества карбонариев, были обвинены в заговоре против королевской власти и приговорены к смертной казни.
...мученики монастыря Сен-Мэри —т. е. участники республиканского восстания в Париже в 1832 г.
ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ
Очерк об императоре Николае I был написан, как и основная часть «Путевых впечатлений» Дюма, в 1859 г., когда воспоминания о прошлом царствовании были еще весьма свежими. Это обстоятельство объясняет общую сдержанность и отдельные критические авторские высказывания; тем более что тех, кто сопровождал Дюма, едва ли что-нибудь сдерживало в проявлении собственных суждений и чувств. Но, как и в прочих случаях, он порою излишне доверчив, порою несвободен от некоторых рискованных сближений и иногда хочет видеть желаемое в действительном. Иногда (особенно, если автор дописывает свои впечатления позднее) память ему изменяет, что, конечно, вполне естественно при таком обилии встреч городских и сельских лиц, наблюдаемых обычаев и конечно же памятников.
414
'Здесь Дюма говорит о декабристе Г. С. Батенькове, который около 20 лет провел в Алексеевском равелине Петропавловской крепости, но где он увидел в Петербурге Николаевскую колонну и барельефы с изображением четырех восстаний? Если и встретились какие-нибудь барельефы, то на конном памятнике императору, сооружение которого как раз и было закончено в 1859 г. Два из них Дюма называет: «Восстание 14 декабря 1825 г.» и «Николай I на Сенной площади в 1831 г.»; два остальных — не иначе как плод фантазии или аберрация памяти.
2 Многое из области внешней политики эпохи Николая I в очерке описано правильно или в некотором приближении с тем, что известно из исторических сочинений, написанных по-французски, с которыми Дюма был знаком. Разумеется, необходимо знать, что мы имеем дело с впечатлениями француза, которому едва ли по нутру была внешняя политика российского императора. Например, то, что русские войска после переговоров Николая I с императором Францем-Иосифом в Варшаве в мае 1849 г. приняли участие в боевых действиях в Венгрии, что во многом явилось мерой спасительной для Габсбургской монархии. Именно это и имел в виду император Николай, когда позволил себе сближение между Яном Собе- ским и собственной персоной. Известно, что и Ян Собе- ский (у Дюма Иоанн III) воевал в союзе с Габсбургами против турок, одержав над ними блестящую победу в битве под Веной 12 сентября 1683 г. Русский император полагал, что мог рассчитывать на благодарность с австрийской стороны, но в преддверии разрыва между Россией, с одной стороны, и Францией и Англией, с другой, Австрия склонялась к поддержке союзных держав, а затем в августе 1854 г. решительно присоединилась к требованию держав отменить русский протекторат над дунайскими княжествами, ограничить русское присутствие на Черном море и установить полную свободу плавания по Дунаю. После этого Австрия ввела войска в дунайские княжества.
3 Критически отзывается А. Дюма и о личном отношении Николая I к французскому королю Луи-Филиппу и к императору Наполеону III. Едва ли следовало так уж
415
категорично называть Николая I «посредственным дипломатом», который «не понимал», что Франция — естественный союзник России. Когда речь шла о принципах легитимизма, т. е. о точном следовании установленному порядку престолонаследия, о поддержании законности, Николай I становился непреклонным. Известно, например, что новая империя во Франции была быстро признана державами, что несомненно льстило самолюбию Наполеона III, и только Николай I отказывался называть Наполеона III как это было принято, т. е. «братом», и довольствовался «другом», как обращались, например, к президенту Соединенных Штатов, на что сильно досадовали в Тюильри.
4 Что же касается различных курьезных случаев с участием императора Николая Павловича, о которых часто повествует Дюма, то большинство из них, вероятно, имеет под собой реальную основу. О Николае I существовало множество подобного рода анекдотов, которые в разных модификациях публиковались затем в различных исторических журналах, таких как «Русский Архив» и «Русская Старина». Единственно, что вызывает сомнение,— это эпизод с Николаем Николаевичем Муравьевым-Карским (1794—1866), якобы боровшимся с Николаем I. В других сюжетах встречается ряд неточностей.
ВОРЫ И ОБВОРОВАННЫЕ
1 Исправник, о котором пишет Дюма, был высшей полицейской властью в уезде, и его власть распространялась на весь уезд за исключением крупных городов. Эта должность была учреждена при Екатерине II и в 1859 г. еще пребывала в силе. Должность была выборной от дворянства и обязывала исправника наблюдать за «охранением общественной безопасности». Что же касается станового, то эта полицейская должность была учреждена в 1837 г. Каждый уезд был разделен на станы, отданные в полное ведение становым приставам. Приставы действовали согласно приказам, передаваемым из земского суда, причем исправник обращался к приставу не лично, а через земский суд. На становом приставе лежали дела исполнительные, следственные и судебно-полицейские.
416
ПРОГУЛКА В ПЕТЕРГОФ
1 Роланд — франкский маркграф — участник похода Карла Великого в Испанию в 778 г., погиб в сражении в ущелье Ронсеваль. Отсылаем любопытствующих к эпосу «Песнь о Роланде».
2 Речь идет об известном боевом генерале Степане Александровиче Хрулеве (1807—1870), особо отличившемся при отражении турецкого десанта из крепости Си- листрия на левый берег Дуная (1854), в сражении под Журжей и др. В декабре 1854 г. Хрулев состоял в распоряжении главнокомандующего сухопутными и морскими силами в Крыму, а в начале 1855 г. был переведен в состав севастопольского гарнизона; при обороне Севастополя проявил незаурядную отвагу и распорядительность, за что получил орден Св. Георгия 3-й степени.
3Речь идет о фонтане «Данаида, держащая кувшин». Данаида — одна из дочерей ливийского царя, обреченных богами Олимпа за убийство мужей вечно наполнять бездонную бочку. Копия И. Витали с работы немецкого скульптора XIX в. X. Рауха (Р а с к и н А. Г. Петродворец. Л., 1988, с. 98).
4 Что касается случая с пажами и кадетами, то это утверждение, вероятно, имело под собой основание; об этом «действе» упоминают разные бытописатели николаевского времени, в том числе и знаменитый Астольф де Кюстин, с книгой которого «Россия в 1839 году» Дюма был знаком.
5 Автор «Спящей Венеры« — скульптор Цезарь Баруцци (?). (См.: Декоративная садово-парковая скульптура Ленинграда. Л., 1977, с. 140.)
6 Бельведер — по-итальянски belvedere — прекрасный вид. Дворец построен Штакеншнейдером А. И. (1802—1866) на холме Бабигон. В XIII в. холм назывался Поповой горой. Через два столетия в писцовых книгах эта местность именовалась Popigondo, т. е. Поповский приход. После освобождения этой земли от шведов появилось новое название — Бабий гон, впоследствии Бабигон.
7...поле, усеянное руинами, присланными из Греции королем Оттоном.— В 1852 г. напротив Бельведера в Лу¬
417
говом парке на острове одного из прудов была воздвигнута декоративная руина из колонн тивдийского мрамора, которые остались от постройки Инженерного замка (Раскин А. Г. Петродворец. Л., 1984, с. 182).
ЖУРНАЛИСТЫ И ПОЭТЫ
1 Имеется в виду трагедия Корнеля «Цинна». См. действие 2, явление 1.
2 Речь наверняка идет о графине Александре Кирилловне Воронцовой-Дашковой (урожд. Нарышкиной) (1818—1856), супруге графа И. И. Воронцова-Дашкова, после смерти мужа вышедшей замуж за графа де Пуайи. А. О. Смирнова-Россет в своих воспоминаниях писала о Воронцовой-Дашковой: «После смерти графа она вышла за француза графа РоШу, была несчастлива; в Париже жестоко проболела целый год. Ее смущали, чтобы она перешла в римскую церковь, но она осталась верна своей православной и скончалась на руках священника Васильева в полной памяти, получив утешение в исповеди и причащении святых тайн».
МЕНШИКОВ
1 Судьба Александра Меншикова — этого баловня судьбы и столь характерного персонажа петровского времени— не могла не вызвать живой интерес французского романиста. Чувствуется, что он был знаком с многими сочинениями, в том числе и мемуарами иностранцев, побывавших в России в эпоху, когда князь Александр Данилович был, что называется, в фаворе и силе. Дюма старается быть точным; что ж, это стремление достойно всяческой похвалы, но не всегда это ему удается. Разумеется, состояние князя Меншикова было конфисковано, но также разумеется, что в пользу императора Петра II, который к моменту высылки Меншикова из Петербурга был еще в добром здравии. По происхождению Меншиков был не из простых крестьян, как пишет Дюма, а из придворных конюхов, что отнюдь не все равно. Княгиня Дарья Михайловна действительно, не доехав до места ссылки, умерла
418
в мае 1728 г. недалеко от Казани, но ее муж вместе с сыном, двумя дочерьми и несколькими слугами был привезен не в Якутск, как говорит Дюма, а в Березов — в 1066 верстах от Тобольска, на берегу реки Сосьвы, где ссыльные были помещены в острог, в низком деревянном здании, состоящем из четырех комнат. Не со всем можно согласиться, когда писатель рассказывает о действиях Меншикова, направленных на то, чтобы расчистить своей бывшей любовнице дорогу к трону, и едва ли Дюма прав, когда говорит об оппозиции канцлера и сенаторов, высказавшихся в пользу воцарения Петра II, внука усопшего императора. И уж совсем не следует принимать на веру рассказ об имевшем якобы место отравлении Екатерины I, принявшей роковой бокал из рук своего фаворита.
В остальном то, о чем повествует в своем очерке Дюма, не только вполне правдоподобно, но соответствует бытовавшим в середине прошлого века представлениям об этой странице российской истории, и не вина автора, если он идет вслед за имевшимися в его распоряжении источниками и сочинениями.
БЫЛЬ, С ТРУДОМ ПОДДАЮЩАЯСЯ РАССКАЗУ
Очерк «Быль...» почти целиком посвящен историческим событиям российского XVIII в. В основном события излагаются правильно, так, как к тому времени их привыкли себе представлять в Европе. С этой поправкой и следует оценивать изложение Дюма.
Отдельные неточности, разумеется, наличествуют.
1 Автор пишет, что Елизавета вступила на престол 33 лет. На самом деле, родившись 18 декабря 1709 г., дочь Петра Великого взошла на трон 32 лет. «Философ-эпикуреец» в отношении Елизаветы Петровны слишком сильно сказано: философ —едва ли, эпикуреец — скорее всего.
2 Дюма пишет, что Петр III родился 21 февраля; это не точно —10 февраля 1728 г.
3Дюма не точен, когда говорит об отце Екатерины II. Принц Анхальт-Цербстский был генерал-майором прусской службы и стоял со своим полком в Штеттине. После рождения дочери — а родилась она 21 апреля 1729 г.—
419
принц-отец стал комендантом крепости и губернатором, Штеттина. Немаловажную роль в выборе Софии-Фреде- рики-Августы принцессы Анхальт-Цербстской в невесты Петру Феодоровичу играло то обстоятельство, что мать будущей императрицы, Иоганна-Элизабет, находилась в родстве с Голштейн-Готторпским домом.
4 Нет смысла останавливаться на разного рода домыслах относительно, например, того, что Петр III якобы страдал половым бессилием, или того, что великий князь Павел Петрович обязан своим появлением на свет Салтыкову. Дополним Дюма в том, что он говорит о законодательной деятельности Петра III. Манифест о даровании вольности и свободы всему российскому дворянству был подписан и обнародован 18 февраля 1762 г. По этому акту дворяне освобождались от обязательной гражданской и военной службы, могли выходить в отставку. Им дозволялось выезжать за границу и служить у иноземных государей, но по первому зову следовало возвратиться в Россию и в случае войны служить в армии. По этому манифесту дворяне получили больше возможности заниматься хозяйством и крестьянами, что по тем временам было весьма немаловажно. При Екатерине II этот манифест был специально подтвержден особым указом. Факт предложения об изваянии золотой статуи императору Петру III, о чем упоминает Дюма, не может вызывать никаких сомнений, т. к. отразился в документах того времени. Известно, что император ответил на это отказом, заявив, что Сенат и дворянство могут найти золоту лучшее употребление, и выразив желание далее трудиться на благо подданных.
ПЕТР III
Дюма посвятил целый очерк времени императора Петра III и перевороту 1762 г. В целом картина верна, но только, разумеется, как отражение бесед с просвещенными русскими друзьями, а также тех впечатлений, которые Дюма мог сохранить после прочтения знаменитых записок Екатерины II и книг П. Ш. Левека, Ф. Массона и других французских авторов XVIII и начала XIX вв. За¬
420
писки Екатерины долгое время были единственным источником по истории царствования Петра III; причем ему безусловно верили историки, находившиеся под сильным впечатлением обаятельного образа императрицы, уверенно заслонившего собою талантливо созданный ею карикатурный портрет насильственно свергнутого императора и мужа. Император Петр Феодорович вышел из-под пера Екатерины наделенным всеми возможными и невозможными отрицательными качествами, включая пруссофиль- ство и безусловное презрение к русским. Таким образом, человеку непосвященному становится совершенно непонятно, как этот вечно пьяный и обойденный умом император смог за свое полугодовое царствование проявить себя весьма выдающимся образом в самых различных сферах управления страной, а в начатых преобразованиях во всем следовать гению своего венценосного деда.
Есть в этом очерке и отдельные неточности, но они, если автор во всем следует тому, о чем повествует в своих записках Екатерина II, кажутся уже не столь существенными. Например, изображение Петра III на монете (рубле.— С. И.) с пышной шевелюрой и в лавровом венке, которое Петру Феодоровичу не понравилось, и он приказал заменить его изображением в фуражке (? — С. К). На самом же деле известно изображение императора Петра Феодоровича на лицевой стороне серебряного рубля, отчеканенного на Санкт-Петербургском монетном дворе. Император предстает в прическе с косой на прусский манер, в латах и ленте через плечо. Есть и другие отступления от исторической действительности и сближения отдельных событий, но они, по сравнению с общей направленностью умонастроения автора, не столь уж существенны.
Сомнение вызывает утверждение Дюма о том, что Григорий Григорьевич Орлов — потомок стрельца, помилованного Петром I. Григорий Иванович Орлов, действительный статский советник, новгородский губернатор, отец знаменитых братьев Орловых, родился в 1685 г., в Тверской губернии; его отец носил придворное звание стряпчего и умер в 1693 г. Поскольку Орлов-отец родился в 1685 г., он не мог участвовать в стрелецких бунтах 1682 г. и позднее. Ему рано пришлось оставить ро¬
421
дительский дом и поступить на военную службу. Походная жизнь началась тотчас же и тянулась почти без перерыва все царствование Петра I. Орлов принял участие в турецкой и шведской войнах, отличившись во многих сражениях. Лично известный императору, он получил от него в подарок портрет для ношения на золотой цепи. В 1792 г. Г. И. Орлов был уже полковником Ингерман- ландского полка.
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ
Очерк о Екатерине II во всех отношениях характерен для многих иностранных сочинений о России, поэтому А. Дюма едва ли виноват, если он доверчиво принимает то, что, переходя из сочинения в сочинение, постепенно превратилось в известный стереотип восприятия российской истории. Мемуарная основа здесь также отчетливо ощущается; это «Записки» самой императрицы, а возможно, записки Е. Р. Дашковой, одной из деятельных фигур переворота 1762 г., которой действительно в то время было 18 лет. Кстати сказать, то, что говорит Дашкова о Петре III и перевороте, почти дословно передано Дени Дидро, который в 1770 г., тотчас же после пребывания Дашковой в Париже, записал свои впечатления о знакомстве с нею.
Отступления от известных источников незначительны, но все же присутствуют. Например, отравленный бокал с водкой, якобы поданный Алексеем Орловым императору Петру III, и насильственная попытка влить Петру еще такой же бокал. Скорее всего здесь Дюма позволяет себе пойти дальше имевшихся в его распоряжении источников.
В целом же последовательность событий, а также настроение подавленности и растерянности, охватившее Петра III перед лицом открытого насилия над его законными правами государя, хладнокровие фельдмаршала Мини- ха и его верность императору — все это передано в известной степени достоверно, хотя и с присущим Дюма вниманием к отдельным подробностям.
422
РОПША
1 Поясним, что старый солдат, встретившийся с Дюма, был, возможно, одним из сторожей дворца императора Петра III —за преклонными летами его пристроили на необременительную службу.
2 Что касается принцессы Елены, то тут мы в некотором недоумении, ибо если это княжна из российского императорского дома, то Дюма явно ослышался при представлении или оговорился в момент приведения в порядок своих впечатлений. Но ее мать —великая княгиня— вполне могла бы быть и великой герцогиней, что по-французски пишется одинаково, а значит, мать принцессы Елены могла быть иностранного происхождения, и скорее всего она могла происходить из какого-нибудь германского великого герцогства, проживая в гостях по приглашению императорской фамилии.
ФИНЛЯНДИЯ
1 Або (Обо) — шведское официальное название города Турку в Финляндии с момента основания (ок. XII в.). В 1809—1812 гг., фактически до 1819 г.—столица Великого княжества Финляндского.
2 Хельсинки (Гельсингфорс) — столица Великого княжества Финляндского с 1812 г.
3Под Выборгским миром Дюма имеет в виду переговоры шведских и русских полномочных представителей в Выборге в феврале 1609 г. о военной помощи со стороны Швеции, в результате которых, а также активных шведских военных действий, был захвачен ряд областей России, в том числе Новгород и вся Новгородская земля. Уточним далее, что по Столбовскому миру (февраля 1617 г.) Швеция возвратила России Новгород, Старую Руссу и другие области, включая Гдов и Сумерскую область, сохранив за собой Ижорскую землю и г. Корелу с уездом. По Ништадтскому же миру (август 1721 г.) Россия получила завоеванные ею Лифляндию, Эстляндию и Нарву, часть Карелии и Ингерманландию, но возвратила Швеции большую часть Финляндии. Абоский мирный
423
трактат 1743 г. подтвердил территориальные приобретения России по Ништадтскому миру; Швеция уступила России Кюменегорскую провинцию с Фридрихсгамом и Вильманстрандом, но Россия должна была вывести войска из других провинций Финляндии. Наконец, по Фрид- рихсгамскому миру (сентябрь 1809 г.) вся Финляндия вошла в состав России на правах Великого княжества Финляндского, сохранившего прежнюю конституцию и сейм.
4 Дюма потому называет Густава III «печально знаменитым», что война с Россией, которую он предпринял в 1788 г. без согласия сейма, была для Швеции не так успешна, как того хотелось королю. Воспользовавшись поражением российского флота летом 1790 г., Густав начал переговоры о мире, по которому границы обоих государств остались неизменны; Швеция отказалась от вмешательства в русско-турецкие отношения, а Россия отказалась от вмешательства во внутренние дела Швеции.
5 Густав III действительно был героем оперы на либретто Скриба «Северная звезда» (1854).
6 Тильзитский мир между Францией и Россией (1807) одним из важнейших условий ставил присоединение России к так называемой континентальной системе Франции, твердое и последовательное исполнение которой, т. е. отказ от торговых отношений с Англией, привел бы эту морскую державу к экономическому краху, которого, однако, не произошло из-за противодействия политике Франции со стороны России.
7 Говоря об указе Александра I от 21 января 1816 г., Дюма имеет в виду манифест о переименовании финляндского правительственного совета в Императорский Сенат.
ВВЕРХ ПО НЕВЕ
*AHHa Леопольдовна (1718—1746)—дочь герцога Ме- кленбург-Шверинского и Екатерины Иоанновны, дочери Иоанна V Алексеевича (брата Петра I). С 1722 г. она, первоначально под именем Елизаветы-Екатерины-Христины, жила в России. В 1739 г. ее выдали замуж за принца Антона-Ульриха Брауншвейгского. После переворота Елиза¬
424
вета предполагала отправить брауншвейгское семейство за границу, о чем и шла речь в манифесте о восшествии ее на престол. Однако после попытки камер-лакея Турчанинова убить императрицу и герцога Голштинского, после раскрытия интриг в пользу Иоанна VI Антоновича Елизавета изменила свое решение, и арестованные в Риге Антон-Ульрих и Анна Леопольдовна с семейством были переведены в Динамюнде, затем в Ранненбург (Рязанск. губ.); после этого вышел указ о высылке семейства в Архангельск и далее в Соловецкий монастырь, куда Анна Леопольдовна и отправилась осенью 1744 г. Однако дорожные тяготы и печальное положение брауншвейгского семейства (Анна была в то время беременна) остановили их путешествие в Холмогорах.
2 Антону-Ульриху, второму сыну герцога Фердинанда-Альбрехта Брауншвейг-Вольфенбюттельского, вслед за восшествием на престол Екатерины II было предложено удалиться из России, оставив детей в Холмогорах, но принц предпочел остаться с детьми. Совсем ослепнув, Антон-Ульрих умер там же в мае 1774 г., причем в отличие от своей жены был похоронен тайно ночью в присутствии одних только караульных солдат.
5 Различные версии, которые приводит Дюма в завершение своего рассказа о Мировиче, можно дополнить и уточнить. Поручика Смоленского пехотного полка Василия Яковлевича Мировича, виновника «Шлиссельбург- ской нелепы», Екатерина II назвала «сыном и внуком бунтовщиков». Его дед, переславльский полковник Федор Мирович, изменил Петру I и после поражения Карла XII бежал в Польшу. Отец же поручика Смоленского полка Яков Мирович, вынашивая тайные замыслы, ездил в Польшу, за что и был сослан в Сибирь, где Миро- вич-младший и родился. Обедневший потомок знатных дворян, Мирович, находясь однажды на карауле в Шлис- сельбургской крепости, узнал тайну царственного узника и решился его освободить, провозгласив затем императором. В ночь с 16 на 17 июля 1764 г. Мирович приступил к исполнению своего замысла и, склонив с помощью подложных манифестов на свою сторону гарнизонных солдат, арестовал коменданта крепости и потребовал выдачи
425
Иоанна Антоновича. Поначалу стража сопротивлялась, но, когда Мирович навел на крепость пушку, сдалась, предварительно убив узника, что было сделано в точности согласно инструкции, данной Н. И. Паниным по восшествии на престол Екатерины II.
4 Мирович был казнен по приговору Сената в конце сентября 1764 г. В числе обстоятельств, побудивших Ми- ровича выступить за освобождение несчастного Иоанна Антоновича, следует усматривать и его недовольство отказом в положительном решении дела о возвращении ему потомственных имений.
5 Дюма безусловно прав, когда говорит об уничтожении, по повелению Елизаветы, самой памяти о несчастном императоре: не только уничтожались монеты,, переделывались печати, но и все деловые бумаги с именем Иоанна Антоновича предписано было собрать и передать в Сенат; манифесты, присяжные листы, паспорты и проч., что носило имя императора, велено было сжечь; только в августе 1762 г. было остановлено истребление дел с «известным титулом».
ШЛИССЕЛЬБУРГ
*Дюма посетил Шлиссельбург в то время, когда крепость уже потеряла свое прежнее значение, но еще не вполне приобрела новое. Только с 1882 г. Шлиссельбург становится настоящей тюрьмой, куда без особого на то разрешения никого не пускали. Разумеется, при знакомстве читателей со Шлиссельбургом автору следовало бы, вероятно, сказать несколько слов об истории этой крепости, заложенной русскими в начале XIV в., многократно осаждаемой шведами и игравшей в годы Северной войны важную роль опорного пункта русских сил.
КОНЕВЕЦКИЕ МОНАХИ
Русское духовенство, в особенности духовенство сельское, жило заботами и нуждами сельских тружеников и, будучи зачастую единственным очагом просвещения и духовности, поддерживало крестьян и наставляло их в обы¬
426
денной жизни. Поэтому те обобщения, которые делает Дюма, говоря о русском духовенстве вообще, стоит принимать с известной долей осторожности и недоверия, как суждения иностранца, которому русская жизнь была глубоко чужда.
1 Стоит дополнить Дюма, сказав несколько слов о Ко- невском (Коневецком) Рождественском мужском 3 класса монастыре, который находился в Выборгской губернии на острове Коневце. Основателем монастыря был новгородец инок Арсений, принесший сюда с Афона икону Божией Матери в 1393 г. Арсений поселился на Святой горе, в западной части острова; в 1421 г. им была выстроена церковь Рождества Богородицы. По смерти Арсения в 1444 г. монастырь существовал еще 125 лет. В 1573 г. его разорили шведы, и монахи перешли в Воскресен- ско-Деревяницкий монастырь. В 1594 г. монастырь был возобновлен. В 1610 г. нашествие повторилось. В 1718 г. весь край и монастырь перешли к России. Остров Коне- вец был приписан к Деревяницкому монастырю. В 1825 г. монастырь был возведен на степень 3 класса с 21 монахом, но ко времени появления на Коневце Дюма монахов в монастыре было уже гораздо больше прежнего.
ВЫНУЖДЕННОЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО НА ВАЛААМ
1 Валаамский Преображенский мужской монастырь 1 класса находился в Выборгской губернии, в Сердоболь- ском уезде, от Сердоболя —40 верст, от Петербурга— 200. Остров Валаам был назван по финскому слову Валамо (высота). Основателями монастыря считаются преподобные Сергий и Герман, мощи которых покоятся в соборном храме (в 1611—1721 гг.— в Староладожском монастыре). Когда был основан монастырь, неизвестно, приблизительно к X в., когда в нем принял иночество преподобный Авраамий, ростовский чудотворец. По другим сведениям — в XII в., когда в монастыре находился Корнилий, основатель Полюстровского Рождественского монастыря. Монастырь часто осаждался и сжигался шведами; последний раз в 1611 г. До 1715 г. находившийся в запустении, монастырь на острове был возобновлен по
427
повелению Петра I. В 1822 г. Валаамский монастырь стал первоклассным. К монастырю было приписано 7 скитов, куда уходили монахи, не удовлетворенные недостаточно суровым, по их мнению, уставом монастыря. Наиболее знаменитым из скитов был Александро-Свирский Свято- островский в семи верстах от Валаама, где принял иночество и спасался в пещере преподобный Александр Свир- ский (XV в.). К тому времени, как посетил монастырь Дюма, монастырю принадлежало 40 островов (3100 десятин земли); удобной земли для пахотных работ на Валааме было около 130 десятин, но тем не менее монахи содержали прекрасно поставленное молочное хозяйство и даже разводили фруктовые сады. Слава Валаамского монастыря и святость его основателей привлекали на остров многочисленных богомольцев, особенно в Петровский и Успенский посты.
1 Дополним, что Сердоболь, город в Выборгской губернии, был основан в 1617 г. на берегу Ладожского озера.
2 Лев из Священного писания —это, конечно, лев, которого в единоборстве победил Самсон (Книга Судей, 14: 5-6).
3 Говоря о Лоуренсе Стерне, Дюма имеет в виду роман «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» (1768), во многом знаменовавший собой сентиментальное направление в литературе.
*Если далее Дюма имеет в виду известный сюжет, развитый Виргилием в «Энеиде», то не вполне ясно, что он имеет в виду, ибо измена Энея становится причиной гибели Дидоны.
5 Автор упоминает известный эпизод из Фиванского цикла мифов («Царь Эдип» Софокла), когда по дороге из Дельф в Фивы Эдип случайно и по неведению убивает своего отца в ссоре, возникшей после того, как глашатай, шедший перед колесницей отца Эдипа, грубо велел Эдипу сойти с дороги.
6Кексгольм возник с незапамятных времен под названием Карельский городок, или Корела. В 1293 г. крепость действительно была взята шведами, но была утрачена ими в 1295 г. и до 1580 г. находилась в руках у русских, затем опять у шведов и в 1710 г. была взята генерал-майором
428
Я. В. Брюсом после приступа и бомбардировки, на капитуляцию.
7 Дюма упоминает об эпизоде войны между Карфагеном и Римом, объявленной в 218 г. до н. э., когда Ганнибал перешел Пиренеи с 60 тысячами воинов и переправился через Рону; особенно трудно было переправить боевых слонов, для которых были сооружены особые плоты.
“Упоминаемый Дюма выдающийся инженер-механик и строитель, возведший множество сооружений в Москве, Петербурге и других городах, Августин Августинович Бетанкур (1758—1824) — испанец по происхождению, а не француз, как пишет Дюма; но автор едва ли виноват, поскольку фамилия Бетанкура и в самом деле звучит очень по-французски.
СОДЕРЖАНИЕ
Переславльский отшельник. Пер. 3. Потаповой ... 7
Легенда о Петербургской крепости. Пер. М. Треску-
нова 15
Регентство Бирона. Пер. М. Трескунова 29
Елизавета и Лесток. Пер. 3. Потаповой 43
Другая легенда московской Бастилии. Пер. М. Трескунова 57
Александр I. Пер. 3. Потаповой 69
Правая рука царя. Пер. М. Трескунова 83
Северное общество. Пер. 3. Потаповой 103
Мученики. Пер. М. Трескунова 115
Изгнанники. Пер. М. Трескунова 127
Император Николай. Пер. М. Трескунова 139
Воры и обворованные. Пер. А. Тетеревниковой . . . 165
Каторжники. Пер. М. Трескунова 181
Прогулка в Петергоф. Пер. М. Трескунова .... 195
Журналисты и поэты. Пер. М. Трескунова .... 209
Меншиков. Пер. М. Трескунова 219
Быль, с трудом поддающаяся рассказу. Пер. М. Трескунова 237
Петр III. Пер. М. Трескунова 251
Екатерина Великая. Пер. М. Трескунова 279
Ропша. Пер. И. Кузнецовой 297
Финляндия. Пер. Е. Куцубиной 309
Вверх по Неве. Пер. М. Трескунова 327
Шлиссельбург. Пер. О. Давтян 349
Коневецкие монахи. Пер. О. Давтян 359
Вынужденное паломничество на Валаам. Пер.
А. Косс 371
Из Сердоболя в Магру. Пер. А. Косс 383
Исторические справки. Составитель С. Искюлъ . . 397
А. ДЮМА
Д 96 Путевые впечатления. В России. В 3 т. Т. 2: Пер. с фр. / Ист. справки С. Исюоля.—М.: Ладо- мир, 1993—432 с., ил.
ISBN 5-86218-039-7 (т. 2)
В томе публикуется вторая треть впервые полностью переведенных на русский язык знаменитых «Путевых впечатлений» Александра Дюма (отца), посетившего Россию в 1858—1859 гг. Издание богато иллюстрировано. Часть иллюстраций публикуется впервые.
д
4703000000-013 593(03)-93
Без объяв л.
ББК 84. 4
АЛЕКСАНДР ДЮМА
ПУТЕВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ. В РОССИИ В 3-Х ТОМАХ
Том 2
Технический редактор Суровцева С. И.
Корректор Наренкова О. Г.
ЛР N5 063160 14 декабря 1993 г. Сдано в набор 28.12.92. Подписано в печать 15.03.93- Формат 84х108Уз2. Бумага типогр. N° 1. Печать офсетная. Печ. л. 13,5. Тираж 30000 экз. Заказ № 4493.
Научно-издательский центр «Ладомир» при содействии «ВРС», 103617, Москва К-617, кор. 1435.
Отпечатано с готовых диапозитивов в полиграфической фирме «Красный пролетарий» 103473, Москва, Краснопролетарская, 16.